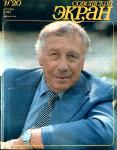/
Text
ениэдат
Александр МАЛЫШКИН
Всеволод ИВАНОВ
Лидия СЕЙФУЛЛИНА
Михаил ШОЛОХОВ
Исаак БАБЕЛЬ
Александр ФАДЕЕВ
Дмитрий ФУРМАНОВ
Александр НЕВЕРОВ
Борис ЛАВРЕНЕВ
Алексей ТОЛСТОЙ
Максим ГОРЬКИЙ
РАННЯЯ СОВЕТСКАЯ ПРОЗА
Повести. Рассказы
(20-е годы)
Лениздат*1972
7-3-2
240-1972
Составитель,
автор вступительной статьи и примечаний
Е. И. НАУМОВ
РАННЯЯ СОВЕТСКАЯ ПРОЗА
(20-е годы)
Октябрьская революция явилась великим рубежом новой исто-
рии нашего народа. И уже в первые годы советской власти, в годы
гражданской войны, появились замечательные литературные произ-
ведения, отражавшие жизнь и борьбу трудового народа за свое
будущее. Это была по преимуществу поэзия, которая всегда первой
откликается на великие события своего времени. В 1917—1920 го-
дах наиболее известными были имена А. Блока, В. Брюсова, Д. Бед-
ного, В. Маяковского, С. Есенина, многих пролетарских поэтов,
в творчестве которых ярко запечатлены героические страницы
революционной эпохи. В эти годы было создано немало и прозаи-
ческих произведений, главным образом — рассказов и очерков.
Среди них выделялись широко известные очерки А. Серафимовича,
собранные им позже в книгу «Революция. Фронт и тыл» (1921 г.).
Были попытки создания и первых драматургических произве-
дений («Мистерия-буфф» В. Маяковского. 1918 г.). И все же в
литературе первых лет революции главное место принадлежало
поэзии.
Полнокровное развитие советской прозы относится к 20-м го-
дам, когда прозаиками созданы такие выдающиеся романы, вошед-
шие. в золотой фонд советской литературы, как «Дело Артамоно-
вых» М. Горького (1925 г.), «Чапаев» Д. Фурманова (1923 г.), «Же-
лезный поток» А. Серафимовича (1924 г.), «Города и годы» К. Фе-
дина (1924 г.), «Разгром» А. Фадеева (1926 г.). В эти годы начали
публиковаться такие эпические произведения, как «Тихий Дон»
М. Шолохова, «Хождение по мукам» А. Толстого, «Жизнь Клима
Самгина» М. Горького.
Картина советской прозы 20-х годов была бы неполной и недо-
статочной, если бы мы не отметили многочисленные повести и
5
рассказы, созданные в эту пору. Именно с рассказов и повестей
начиналась большая советская проза: первоначальный литературный
опыт советских прозаиков сыграл большую роль в последующем
появлении произведений широкого исторического охвата.
Повести и рассказы 20-х годов — явление чрезвычайно разнооб-
разное и художественно многоцветное. Собранные вместе, они могли
бы составить несколько объемистых томов.
В настоящей книге представлены лишь некоторые имена совет-
ских писателей, наиболее интересные и значительные повести и рас-
сказы 20-х годов, которые сразу же были высоко оценены нашей
литературной общественностью и сыграли заметную роль в развитии
советской прозы.
Когда создавались эти произведения, советская страна уже пе-
решла к мирному строительству. Но вполне естественно, что основ-
ной темой литературы этих лет оказалась тема революции и граж-
данской войны. Произведений о созидательном труде советского
народа тогда было написано очень мало. Наиболее значительное из
них — роман Ф. Гладкова «Цемент» (1925 г.).
Великий исторический перелом в многовековой истории нашего
народа оплодотворил творчество русских писателей великими идея-
ми, вызвал к жизни новую, советскую литературу.
Революция привела в активное движение различные классы
и социальные прослойки; политическая борьба в стране, столкнове-
ние непримиримых социальных сил приняли небывало острые фор-
мы. Это было время сложного переплетения человеческих судеб и
не менее сложного внутреннего состояния людей, переходящих из
одной исторической эпохи в другую. Борьба нового со старым
сплошь -да рядом сопровождалась самыми трагическими обстоя-
тельствами. Ведущей приметой времени была неуклонная победа
нового в сознании людей, хотя этот процесс часто оказывался
весьма сложным и болезненным. Беззаветная преданность револю-
ционным идеям, героизм, самопожертвование, бесстрашие и отвага
становятся основными чертами участников общенародной борьбы.
Весь этот огромный жизненный материал, наполненный героикой и
небывалым драматизмом, лег в основу литературы 20-х годов, стал
главным содержанием советской прозы того времени. Историческая
весомость событий революционной эпохи определила значительность
содержания первых же прозаических произведений советских пи-
сателей.
Но перед писателями, естественно, сразу же возник вопрос: ка-
кими художественными средствами можно запечатлеть необыкно-
венные картины революции и гражданской войны? Многие из них
ощутили невозможность изображения жизни новой эпохи в рамках
уже известных литературных форм. «Новый общественный порядок
6
требует и новейшей манеры выражения его в искусстве»1, — писал
Всеволод Иванов — один из зачинателей советской прозы. Не все
новаторские попытки оказались одинаково удачными, но некоторые
из них приносили положительные результаты.
Одним из таких произведений была повесть Александра Ма-
лышкина «Падение Дайра» (1921 г.).
Сюжетной основой повести является замечательный эпизод
гражданской войны — взятие Перекопа Красной Армией. Теснимые
революционным народом, белогвардейские полчища все дальше и
дальше отступали на юг. Уже были биты царские генералы —
Краснов, Каледин, Юденич, Колчак, Деникин и десятки других.
Собрав остатки их уничтоженных и потрепанных армий, барон
Врангель — последняя надежда белогвардейщины — превратил
Крымский полуостров в неприступную крепость. Позже сам Вран-
гель писал в своих мемуарах, что это была «гальванизация трупа
белой армии». Но остатки белогвардейских полчищ, собранные в
один кулак и занявшие выгодные стратегические позиции, представ-
ляли тогда довольно серьезную угрозу революции. Поздней осенью
1920 года ценой неимоверных усилий части Красной Армии под
командованием М. В. Фрунзе ворвались в Крым, разбили послед-
ний оплот белогвардейщины и сбросили врага в море.
Взятие узкого крымского перешейка — Перекопа — вошло в со-
знание нашего народа как легендарное событие. Н. Асеев посвятил
ему поэму «Семен Проскаков», В. Маяковский в честь этого знаме-
нательного события написал стихотворение «Последняя страничка
гражданской войны».
Автор «Падения Дайра» работал в оперативном отделе штаба
армии, наступавшей на Крым, и знал об этой хорошо продуманной
операции все до мельчайших подробностей. И тем более может’по-
казаться странным, что в его повести мы не находим конкретных
примет и деталей описываемого сражения. Но дело заключается
в том, что такова была сознательная позиция писателя: отказаться
от изображения конкретных обстоятельств этой битвы, с тем чтобы
придать произведению более глубокое, эпическое, обобщающее зву-
чание.
В повести А. Малышкина завершающий эпизод гражданской
войны выглядит как последний и решительный бой, как смертель-
ное столкновение двух миров, один из которых должен погибнуть:
напряженная тишина перед боем «поднялась в высь, в мировое
пространство»; бой идет «на рубеже времен»; вокруг — «зарева,
висящие в безднах». «Как это? Русь, уже за шеломянем еси?.<
1 Всеволод Иванов. Встречи с М. Горьким. М., изд-во
«Правда», 1950, стр. 24.
7
В бескрайном курганы уплывали, как черные — на заре — шеломы:
назад, в сумерки, в историю...» Подчеркивая эпическое содержание
совершающегося события, автор воскрешает в нашей памяти мотивы
«Слова о полку Игореве».
На смену эпосу прошлого приходит величественный эпос реве-
люции: с кровавыми боями дойдя до моря, победители стоят на бе-
регу как на границе нового мира и уверенно глядят «в невидан-
ную тысячелетнюю даль».
Художественное изображение такого рода исключало присутст-
вие каких-либо конкретных бытовых деталей, — они неизбежно во-
шли бы в противоречие с приподнято романтическим звучанием
этого произведения. Здесь более оказалась на месте аллегория, со-
циальная символика, к которой прибегает автор.
Даирская скала, пересекающая перешеек, разделяет два раз-
ных мира. Один из них — старый, обреченный на гибель, но не же-
лающий сдаваться паразитический мир, веками наживавшийся на
горе обездоленных. Аксельбанты, плюмажи, цилиндры, орхидеи,
бриллианты — вся эта внешняя мишура не в состоянии скрыть внут-
реннюю гнилость «последних», чьи дни уже сочтены. На этих «по-
следних» владык идут неисчислимые «множества», «красная лава»,
«ощетиненный поток» голодных, разутых, готовых к решающей
схватке, «идущих завоевывать прекрасные века».
За очень редким исключением мы не видим в повести отдель-
ных участников борьбы, и не они в центре внимания писателя.
В ней действуют «множества», безымянная масса, которая охвачена
единым порывом разрушения старого и созидания нового, свет-
лого мира. Создавая обобщенный образ воюющего народа, А. Ма-
лышкин пишет о нем: «Это было становье орд, идущих завоевы-
вать прекрасные века». В бой идут беспощадные «знаменитые
полки, овеянные ужасом и красотою невероятных легенд». «Тысячи
ног били по песку мерно и четко», слышится безостановочный «сто-
тысячный топот в степи».
В «Падении Дайра» нет психологических характеристик, при-
вычных в художественных произведениях, автор ограничивается
лишь чисто внешними приметами героев: «гололобый матрос», «кос-
матый», «чернобородый», «чумазый», «черноусый в бурке» и т. п.
Основой сюжета является не развитие характеров, а развитие во-
енных действий. В этом видна попытка писателя освободиться от
привычных литературных канонов, найти новую форму художест-
венного выражения. Писатель стремился к созданию монументаль-
ной прозы, в которой события предстали бы в своей главной сути
и в которой бы была видна сила обобщения. С этой своей
основной задачей художника А. Малышкин справился вполне
успешно.
8
«Только тогда революция становится революцией, когда десятки
миллионов людей в единодушном порыве поднялись как один»1,—
говорил В. И. Ленин. Как на верный признак общенародного ха-
рактера Октябрьской революции В. И. Ленин указывал на «бур-
ный, бьющий весенним половодьем, выходящий из всех берегов,
митинговый демократизм трудящихся масс» (т. 36, стр. 203). Эти
ленинские характеристики революционной борьбы народа помогают
нам полнее и лучше понять замысел и художественное воплоще-
ние повести А. Малышкина «Падение Дайра» — одного из первых
крупных произведений советской прозы о гражданской войне.
В ходе революции общенародная борьба порою принимала сти-
хийный характер. Это особенно было заметно в тех случаях, когда
в борьбу вступали крестьянские массы, политически недостаточно
подготовленные, не привыкшие к железной дисциплине и револю-
ционной законности. Отражая эту сторону революции, советские
писатели ничем не грешили против исторической правды. И как
же могло быть иначе в такой аграрной стране, как Россия, в ко-
торой фабричных труб было гораздо меньше, чем деревенских ко-
локолен. Другое дело, что в ходе революционной борьбы эта по-
литически аморфная масса обретала качества, необходимые под-
линно революционной армии, о чем, например, талантливо расска-
зал А. Серафимович в своем романе «Железный поток». Но сама
стихийность революционного народного движения не являлась ка-
ким-либо политическим пороком, наоборот, в силу своей массо-
вости она указывала на непобедимость революции. В статье «Рус-
ская революция и гражданская война» В. И. Ленин счел необхо-
димым дать следующее разъяснение по этому поводу: «Что сти-
хийность движения есть признак его глубины в массах, прочности
его корней, его неустранимости, это несомненно. Почвенность про-
летарской революции, беспочвенность буржуазной контрреволюции,
вот что с точки зрения стихийности движения показывают факты»
(т. 34, стр. 217).
Стихийность как почвенное и органическое явление русской ре-
волюции ярко выступает в повести Всеволода Иванова «Броне-
поезд 14-69» (1921 г.).
Вс. Иванов вспоминал, как он познакомился на страницах фрон-
товой газеты с необыкновенным эпизодом, который лег в основу
его повести: «Судите сами. Отряд сибирских партизан, вооружен-
ный только берданками и винтовками, захватил блиндированный
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 494. В дальнейшем
ссылки на это издание даются в тексте с указанием в скобках
тома и страницы.
9
бронепоезд белых вместе с его орудиями, гранатами и опытной
командой! Для того, чтобы хоть на мгновение остановить мчащийся
бронепоезд, партизан Син Бин-у, один из тех кули, которых цар-
ское правительство во множестве наняло и увезло на фронт для
окопных работ, китаец, лег на рельсы и был раздавлен бронепоез-
дом. Машинист на секунду высунулся из паровоза, чтобы взглянуть
на рельсы, на которых лежал китаец, и тотчас был застрелен пар-
тизанами! Бронепоезд один в тайге. Партизаны разобрали вокруг
него рельсы и дымом «выкурили» команду» L
Положив в основу повести отдельный эпизод гражданской войны,
Вс. Иванов сумел придать своему произведению широкий обобщаю-
щий характер: перед нами возникает картина партизанской борьбы
как борьбы общенародной.
«Среди великого множества людей, — писал Вс. Иванов, — меня
привлекали самые маленькие — не по росту, а по общественному
положению» 2. Такие «маленькие» люди и являются героями «Бро-
непоезда 14-69». Это — крестьяне глухих сибирских мест, имеющие
лишь отдаленное и смутное представление о политических целях
совершающейся пролетарской революции. Больше классовым чув-
ством, чем революционным сознанием, они тянутся к борьбе, ко-
торая призвала освободить их от социального гнета, от вооружен-
ного нашествия иноземцев. Они еще полны крестьянских патриар-
хальных представлений, новое с трудом входит в их сознание.
Среди партизан немало верующих: перед боем они подходят к ста-
рушке, которая кропит их «святой водой» («мужики крестились, за-
ряжали винтовки»); некоторые из них думают, что у японцев по-
тому желтый цвет кожи, что они пьют воду «из горячего моря»;
другие уверены, что бронепоезд может двигаться не только по
рельсам, но и по земле. Они не только не знают содержание слова
«интернационал», но и не умеют его правильно выговорить, счи-
тают это слово «мудреным» в отличие от понятного и близкого
слова «пашня». Вожак партизан — «обстоятельный мужик» Вер-
шинин — мало чем отличается от рядовых бойцов, разве что си-
лой, природным умом да большей военной сообразительностью. Он
не столько впереди партизан, сколько в их массе: «Вершинин —
туча, куда ветер — там и он с дождем. Куда мужики — значит, и
Вершинин». Характерно, что в решающий момент Вершинин прибе-
гает к общему голосованию. Так, партизаны единодушно голосуют
за предложение «идти на броневик». Все эти черты партизанской
массы, особенно выделенные Вс. Ивановым при первой публика-
1 «Советские писатели. Автобиографии в двух томах», т. 1.
М., Гослитиздат, 1959, стр. 441—442.
2 «Наш современник», 1958, № 1, стр. 158.
10
ции повести, правдиво рисовали крестьянскую бедноту в годы граж-
данской войны. Но, не отступая от жизненной правды, Вс. Ива-
нов сумел лередать и другое, самое главное — ненависть крестьян-
ской массы к поработителям, ее отвагу, героизм и готовность к са-
мопожертвованию в революционной борьбе. Взятие белогвардей-
ского бронепоезда обошлось дорогой ценой, но никто из партизан
не дрогнул в этой неравной и, казалось бы, безнадежной схватке.
Партизанами руководят/не столько до конца осознанные цели ре-
волюционной борьбы, сколько их коммунистические эмоции. Но
именно эти коммунистические эмоции, которыми охвачена парти-
занская масса и которыми она отныне только и живет, с большой
убедительностью подтверждают правоту слов В. И. Ленина о сти-
хийности революционного движения, безошибочно указывающей на
глубокую почвенность революции, на ее общенародный характер.
Белогвардейский лагерь не мог знать и не знал ничего подобного.
Отражение этого мы и находим в повести Вс. Иванова. Командир
бронепоезда — белогвардейский капитан Незеласов и его помощ-
ник — прапорщик Обаб глухой стеной отделены от команды броне-
поезда — простых солдат, тех же крестьян, они не уверены в них,
все время испытывают чувство истерической тревоги, ожидая удара
в спину, измены, подозревают их в сочувствии партизанам. Так,
избрав сюжетом повести очень частное и даже не совсем обычное
событие, Вс. Иванов сумел передать общие, весьма существенные
черты гражданской войны. Именно в силу этого его повесть
является одним из классических произведений советской литера-
туры.
Кроме того, в повести есть важная особенность, заметно отли-
чающая ее от других произведений о гражданской войне: одним
из первых в советской прозе Вс. Иванов сумел сказать о мирных
целях ожесточенной вооруженной борьбы, развернувшейся в пер-
вые годы революции. Его партизаны — люди мирного крестьянского
труда, вынужденные силой обстоятельств временно взяться за ору-
жие. Даже в минуты самой кровавой схватки они не забывают
о своем трудовом призвании, мечтают о крестьянском труде. К это-
му прикованы все их помыслы. Они воюют за то, чтобы люди
жили «по-справедливому». «Народ робить хочет» — эта фраза, ска-
занная одним из партизан, хорошо передает настроение всей пар-
тизанской массы.
Есть в повести и еще одна существенная примета — ее интер-
национальная тема, с которой связан центральный эпизод произве-
дения. Бедняк китаец Син Бин-у, примкнувший к партизанам из
чувства классовой солидарности, ради победы без раздумий жерт-
вует своей жизнью — ложится на рельсы, чтобы остановить вра-
жеский «бронепоезд. К этому эпизоду примыкает и другой: парти-
11
заны пощадили американца, попавшего к ним в плен, как могли,
распропагандировали его в пользу революции и обрели в нем то-
варища по классу. Как видим, и здесь коммунистические эмоции
дали свои результаты.
Изображая буйную, неудержимую стихию народного возмуще-
ния, Вс. Иванов стремился передать ее и самим художественным
стилем повести. В ней слышны как бы разрозненные гневные вы-
крики партизан, возгласы возмущения, короткие энергичные фразы.
В этом отношении особенно показательна сцена овладения броне-
поездом. Крики радости и ликования, отдельно брошенные фразы,
горячие восклицания и возгласы сливаются в единую музыку побед-
ного торжества:
«На паровозе уцепились мужики, ерзают по стали горячими
хмельными телами.
Один, в красной рубахе, кулаком грозит:
— Мы тебе покажем!
Кому? Кто?
Неизвестно.
А грозить всегда надо! Надо!
Красная рубаха, красный бант на серой шинели.
Бант!
— О-о-о-о!
— Тяни, Гаврила-а!..
А-а-а!..
Бант.
Бронепоезд «Полярный» за № 14-69 под красным флагом.
Бант!..»
Казалось бы, партизанская вольница действует бессознательно
только по велению минутного чувства. Но это не так, партизаны
знают: поезд нужно захватить во что бы то ни стало, так как он
направляется на подавление восстания рабочих в близлежащем го-
роде. Сливаясь с борьбой революционно сознательных рабочих,
партизанская борьба крестьянского отряда служит общепролетар-
скому делу.
В повести постоянно ощущается наблюдательный и зоркий
взгляд художника. Об этом свидетельствуют многие верно увиден-
ные автором и оригинально выраженные детали. Вот идет «по-
хожий на новое стальное перо чистенький учитель»; прапорщик
мчится, колыхая своими галифе, «как гусь неотросшими крыль-
ями»; в минуту смертельной опасности взору партизан открывается
«желтая насыпь железной дороги, похожая на одну бесконечную
,могилу без крестов».
Вс. Иванов — один из первых бытописателей революции. Если
в повести А. Малышкина «Падение Дайра» преимущественное по-
12
ложение занимала символика, аллегория, то повесть Вс. Иванова
насыщена реалистическим изображением, бытовыми деталями, жиз-
ненными подробностями, психологическими мотивировками поступ-
ков героев. «Бронепоезд 14-69» — первая удачная попытка полно-
кровного реалистического изображения народа в революции. Эта
повесть была не только художественным достижением писателя, но
и важнейшим явлением молодой советской литературы. Как это
произведение, так и другая повесть Вс. Иванова — «Партизаны» —
служили примером для многих молодых писателей, только вступав-
ших в литературу, вселяли в них веру в собственные силы.
Уже значительно позже А. Фадеев писал Вс. Иванову: «Ты при-
надлежишь к тому поколению писателей, на долю которого выпала
честь — счастье сказать первые слова о том, что принесла людям
Октябрьская революция. Никому не было известно, какими словами
можно выразить в искусстве этот невиданный переворот в жизни,
в быту, в сознании людей. Да и, казалось, возможно ли выразить
это вот так, сразу на другой день, еще почти в огне схватки.
И ты сказал эти первые слова, сказал о том, что было тобой
пережито, сказал по-своему, так, как сказалось. И «Партизаны» и
«Бронепоезд 14-69» стали, классическими явлениями советской
прозы...
Мы еще только собирались тогда написать о пережитом и со-
мневались в своих силах. И вот, оказалось, что это возможно,
да еще как возможно — со свободой почти головокружитель-
ной» Ч
Та же свобода в овладении материалом и в его художествен-
ном воплощении была характерна и для Лидии Сейфуллиной, вы-
ступившей в 1922 году с повестью «Перегной». В этом произведе-
нии дана правдивая, ничем не приукрашенная картина классовой
борьбы в деревне в первые годы революции.
Жизнь деревни, повседневный крестьянский быт издавна при-
влекали внимание русских писателей. Это и неудивительно, —
вспомним, что до революции крестьянство составляло восемьдесят
процентов населения нашей страны. Всем памятны классические про-
изведения Н. Некрасова и Г. Успенского. Эти писатели рисовали
тяжелый подневольный труд русского крестьянина, изображали его
забитость и в то же время видели в нем здоровое духовное на-
чало. Широко известны слова В. И. Ленина о том, что Л. Тол-
стой в своем творчестве отразил и слабость, и силу русского
крестьянства, проявившиеся в период первой русской революции
1905 года.
1 А. Фадеев. За тридцать лет. М., «Советский писатель»,
1957, стр. 801.
13
Октябрьская революция с новой, невиданной силой всколых-
нула море крестьянской жизни, подняла деревенскую бедноту на
последнюю схватку с мироедами. Но то, что веками жило в созна-
нии крестьянской массы, естественно, не могло сразу исчезнуть как
по мановению волшебной палочки. И после Октября все еще да-
вали о себе знать слабые стороны русской деревни: политическая
неграмотность, патриархальная темнота, анархический произвол,
дикие нравы. Вместе с тем деревня все больше обретала черты
советской жизни, о чем говорило решительное подавление бедно-
той кулачества, жажда свободы, тяга к знанию, к свету, бесстра-
шие и самоотверженность в борьбе за новую жизнь. Старое и но-
вое еще причудливо переплетались, иногда уживались рядом, вре-
менами старое еще наносило тяжкие удары новому, но уже была
видна несокрушимость этого нового, невозможность движения
вспять.
В повести «Перегной» Л. Сейфуллина талантливо запечатлела
этот сложный и противоречивый исторический момент в жизни рус-
ской деревни в первые годы революции. Она сумела изобразить
значительные, глубинные процессы, происходившие в народном со-
знании в период великого социального переворота.
Писательница не скрывает теневых сторон жизни крестьянской
массы. Деревня Небесновка, в которой разворачиваются собы-
тия, — беспросветно глухое место. На каждом шагу здесь сталки-
ваешься с темнотой и дикостью. В деревне слышится «дикая му-
зыка стихийно взметнувшегося рева», «дикий гомон» — это беднота
поднялась на кулаков и богатеев. Нет границ ее возмущению и не-
нависти, она зорко следит, чтобы не быть обманутой, так как ее
всю жизнь только и обманывали. Даже обыкновенный громоотвод
на здании больницы вызывает подозрение: может быть, доктор пе-
реговаривается по нему с врагами — белоказаками? И наступает
жестокая расправа...
И все же ростки нового неудержимо пробиваются к жизни. Они
еще слабы, едва заметны, но именно они обещают победу в буду-
щем. И хотя «еще несмело и нестройно вмешали новое в старое»,
но уже переименовали Небесновку в Интернационаловку и ста-
раются вникнуть в незнакомое, но обладающее большой притяга-
тельной силой слово «интернационал». «Это слово большевицкое, —
говорит один из крестьян. — Большевицкий язык трудный, но ежели
в корень дела взглянуть, обстоятельный». И вот уже работает биб-
лиотека, и народ сгрудился у портрета Ленина, впервые видя чер-
ты его лица. Появляется и новое отношение к труду, который из
подневольного стал свободным и радостным, — ранее разрозненная
беднота впервые коммуной выходит на сенокос, не скрывая своей
человеческой гордости и воодушевления.
14
С большим мастерством Л. Сейфуллина нарисовала портрет во-
жака крестьянской бедноты — Софрона. В нем тоже еще немало
дикости и темноты. Но главное, что владеет им, — это «чувство
торжества и тревоги»; он, как праздник, переживает классовую
битву. Его мужество и бесстрашие не знают границ, ничто не мо-
жет остановить его в беспощадной классовой борьбе. Он ведет
борьбу, руководствуясь больше инстинктом, чем сознанием, но
это — социальный инстинкт, всегда верно и точно указывающий
главное направление борьбы. Софрон обладает безошибочным чув-
ством социальной правды. И он не жалеет врагов, так же как они
не жалеют его.
Картины народной жизни, изображенные Л. Сейфуллиной, тре-
бовали и определенных художественных средств выражения, кото-
рые отвечали бы духу произведения. Такие средства блестяще были
найдены талантливым автором.
Нужно учесть, что Л. Сейфуллина одна из первых писала на
тему, которая позже неоднократно разрабатывалась в советской ли-
тературе. У нее перед глазами не было готовых примеров и обра-
зов, по которым она могла бы сверять свое художественное письмо.
Она сама была первооткрывательницей.
Несомненное достоинство ее повести — тот социальный психо-
логизм, которым она пронизана от начала до конца. Герои этого
произведения во всех даже, казалось бы, незначительных своих по-
ступках неизбежно и постоянно обнаруживают свое социальное лицо.
По отдельным репликам, поступкам, даже жестам мы безошибочно
можем судить о том, к какому лагерю относится тот или иной че-
ловек, каковы его конечные цели, какое место он займет в надви-
гающейся развязке. Умение передать социальную психологию кре-
стьянской массы — сильнейшая сторона литературного дарования
писательницы.
Это дарование хорошо видно еще в одной существенной при-
мете «Перегноя» — повесть написана в так называемой сказовой
манере. Сказ как определенная художественная форма был изве-
стен русской литературе, но порою им пользовались в целях лите-
ратурной стилизации (например, А. Ремизов). Сказовая манера
Л. Сейфуллиной органически связана с жизненным материалом по-
вести. Ее сказ — это повествование очевидца и участника событий;
рассказчик — человек той крестьянской среды, которая изображает-
ся в повести; он сам из бедноты и всеми силами души сочувствует
ее борьбе. Этим Л. Сейфуллина достигает изображения народной
жизни не со стороны, а изнутри, что придает изображаемому осо-
бую силу убедительности. Повесть насыщена народной речью и об-
разностью, специфическими оборотами и выражениями: «На трех
китах стоит земля, говорили старики. Одного, видно, вытащили
15
из-под нее. Зыбкая стала». В повести есть неизбежная грубость
лексики, но в этом нет никакой нарочитости, эта лексика — сущест-
венная примета того неповторимого времени, когда новое и ста-
рое оказались перемешанными: «Баба, она действительно корова!
А промежду прочим — человек».
Сказовая манера повествования позволила писательнице с осо-
бой силой правдиво передать суровый драматизм беспощадной клас-
совой борьбы в деревне. Недооценив ту опасность, которая исхо-
дила от белоказачьих войск, борцы за советскую власть оказы-
ваются в руках врагов. Над ними вершат изуверскую расправу —
избитых, их живыми закапывают в землю. «Земля нынче хорошо
родит. Большевиками унавозили», — слышится скорбный голос од-
ного из оставшихся в живых. Ради молодых всходов новой жизни
перегноем легли эти люди в родную землю.
К повести Л. Сейфуллиной вполне приложимо определение,
найденное позже Вс. Вишневским, — «оптимистическая трагедия»:
в смертельной классовой схватке погибают лучшие из борцов за
новую жизнь, однако их гибель не только не останавливает борьбу,
но служит залогом победы. «Для внуков хотел еще на земле по-
маяться, а не довелось, дак ладно», — говорит перед страшной
казнью «о внуках радеющий большевик Артамон Пегих». И его
думы о внуках не напрасны. В деревне растет молодое поколение,
которое будет продолжать борьбу дедов и отцов. Эта тема отчет-
ливо звучит в повести. С опаской смотрят на молодых деревенских
ребят старики из кулацкого сброда: на сходке поют «Интернацио-
нал», громче всех поют ребятишки, «и самой большой угрозой ста-
рикам было их неверное, ломкое, но всегда радостное пение». «За-
мечательный молодняк у России», — говорит инструктор Политпро-
света о сыне Софрона Иване, которым владеет «смятенная, ищущая
мысль». И не случайно последняя строка этой трагической повести
звучит надеждой на будущее: погиб Софрон, «а Ваньку Софронова
судьба укрыла. В город перед ильиным днем уехал».
Повесть «Перегной» — выдающееся произведение ранней совет-
ской прозы, за его автором вполне справедливо утвердилось по-
четное звание одного из зачинателей советской литературы.
М. Горький писал Л. Сейфуллиной: «Мною давно уже было заме-
чено, что Вы не только весьма даровитый литератор, но человечица,
влюбленная в литературу, смело честная, искренняя... Вы человек
талантливо чувствующий, и Вы имеете все данные для того, чтоб
талантливо знать, талантливо различать нужное от ненужного, на-
ходить в навозе жизни ее жемчужное зерно» *.
1 «Горький и советские писатели. Неизданная переписка». — Ли-
тературное наследство, т. 70. М., Изд-во АН СССР, 1963, стр. 370.
16
К повести Л. Сейфуллиной близки по своему духу рассказы
Михаила Шолохова, создававшиеся в первой половине 20-х годов.
Они печатались в различных газетах .и журналах, а в 1926 году
были изданы в одном сборнике под названием «Донские рассказы».
В том же году вышел и второй сборник М. Шолохова «Лазоревая
степь», включавший эти рассказы. Сборнику автор предпослал
вступление, по которому довольно полно можно было судить о жиз-
ненной и литературной позиции молодого прозаика (Шолохову
тогда был всего 21 год):
«Ка1<ой-нибудь не нюхавший пороха писатель очень трога-
тельно рассказывает о гражданской войне, красноармейцах, непре-
менно— «братишках», о пахучем седом ковыле, а потрясенная ауди-
тория, преимущественно милые девушки из школ второй ступени,
щедро вознаграждает читающего восторженными аплодисментами....
Помимо этого, можно услышать о том, как в степях донских и ку-
банских умирали, захлебываясь напыщенными словами, красные
бойцы» *.
В противоположность подобной литературщине, «Донские рас-
сказы» М. Шолохова отличаются бесстрашной правдой о неслы-
ханно жестокой классовой борьбе на донских хуторах в первые
годы революции.
Писатель знал об этой борьбе не понаслышке: еще юношей он
принимал в ней активное участие, неоднократно подвергаясь смер-
тельной опасности.
События, изображаемые М. Шолоховым, относятся к послед-
нему периоду гражданской войны, когда на Дону уже действовала,
но еще не успела окончательно утвердиться советская власть. Ку-
лаки, бандиты, скрытые и явные враги советской власти еще не*
сложили оружия и продолжают на что-то надеяться. В орбиту их
контрреволюционной деятельности порою оказываются втянутыми
и честные труженики, запутавшиеся в сложной обстановке. К этому
примешиваются сословная спесивость казачества, недостаточная
политическая грамотность, идеи верности «святой старине». Все это
переплетается в один тугой узел, который уже невозможно развя-
зать, а можно только разрубить.
Изображая два классово враждебных лагеря, М. Шолохов
в своих рассказах как бы варьирует одну и ту же тему — классо-
вое расслоение внутри одной семьи: брат идет на брата, братья
против отца, отец против сыновей. И здесь писатель не просто по-
вторяет самого себя; настойчивостью этих сюжетов он хочет пока-
зать, что революция проникла во все уголки народной жизни, что
1 М. Шолохов. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 1. М., «Молодая
гвардия», 1956, стр. 348.
2 Зак. № 426
17
в наступившей борьбе никто и ничто не может оказаться в стороне,
что революция и гражданская война носят поистине общенародный
характер.
В «Донских рассказах» перед нами разворачиваются яркие кар-
тины тех незабываемых лет. Когда-то отец — кулак, ненавидящий
советскую власть, изгнал из семьи сына, сын возвращается на хутор
продкомиссаром и расстреливает отца за антисоветские действия
(«Продкомиссар»), Атаман банды, напавшей на хутор, убивает ком-
сомольца— командира эскадрона красных — и вдруг, узнав в уби-
том родного сына, кончает жизнь самоубийством («Родинка»). Быв-
ший буденовец, дважды награжденный орденом Красного Знамени,
становится председателем хуторского Совета, попадает в руки
к бандитам, терпит мучения, но не отрекается от советской власти.
«Через хутор словно кто-борозду пропахал и разделил людей на
две враждебные стороны», — говорится в рассказе «Смертный враг».
Герой рассказа — бывший красноармеец — бедняк Ефим ведет смер-
тельную борьбу с кулачьем, которое темной ночью зверски распра-
вляется с ним: «Ефим не чувствовал, как в рот ему, ломая зубы,
выворачивая десны, глубоко всадили кол; не чувствовал, как вилы
пронзили ему грудь и выгнулись, воткнувшись в позвоночник». Да,
эта жестокая правда о классовых схватках была далека от сусаль-
ных легенд о «седом ковыле».
Знание писателем народной жизни, его правдивость, отказ от
литературных штампов наложили своеобразную печать на образ-
ную систему и язык «Донских рассказов». Речь автора и его ге-
роев — это образная народная речь с ее многоцветными красками.
В нее постоянно вплетены ассоциации с будничным крестьянским
обиходом: «День растянулся, как длинная глухая дорога в степи»;
«Борода — как новый просяной веник».
Особенно выразительна прямая речь героев, хорошо услышан-
ная и точно переданная автором. Вот, например, речь активиста,
рассказывающего о своем выступлении на сходке. В ней перепле-
лись и бытовые речения, и газетный язык, и специфическая лексика
первых лет революции, и все это сливается в один речевой поток,
который служит яркой характеристикой говорящего: «Давайте, то-
варищи, подсобим советской нашей власти и вступим с бандой
в сражение до последней капли крови, потому что она есть гидра
и в корне, подлюка, подгрызает всеобщую социализму!.. Старики,
находясь позади людей, сначала супротивничали, но .я матерно их
агитировал, и все со мной согласились, что советская власть — наша
кормилица и за ейный подол должны мы все категорически
держаться». Разве возможно писателю «выдумать» такой язык?
Он мог быть услышан только в живом народном говоре того
времени.
18
Сборник «Донские рассказы» вышел с предисловием старейшего
советского писателя А. Серафимовича, который высоко оценил та-
лант своего младшего собрата по перу. А. Серафимович отмечал,
что рассказы М. Шолохова полны «напряжения и правды», что его
отличает «умение выбрать из многих признаков наихарактерней-
шие», что у него «цветной язык», что «рассказываемое чувствуешь».
А. Серафимович подчеркнул изобразительную силу писателя, уме-
ющего рисовать выразительные портреты своих героев: «У каж-
дого свой нос, свои морщины, свои глаза с лучиками в углах, свой
говор». «Тов. Шолохов развертывается в ценного писателя» — таков
был общий вывод А. Серафимовича.
Взятые в целом, «Донские рассказы» дают развернутую пано-
раму народной жизни, изображают разные стороны сложного исто-
рического процесса в период революционной ломки. Об этом вполне
можно судить и по тем рассказам из сборника М. Шолохова, кото-
рые включены в настоящую книгу.
В рассказе «Бахчевник» мы встречаемся с типичной и характер-
ной для «Донских рассказов» ситуацией. Революция провела резкую
разъединяющую черту не только по всему хутору, но и в казачьей
семье: отец оказался с белогвардейцами, а сыновья в красном ла-
гере. Один из сыновей, защищая родного брата от кровавой рас-
правы, наносит отцу смертельный удар топором. В этом произве-
дении есть одна характерная примета, общая для всех рассказов
М. Шолохова: нравственный облик человека определяется его со-
циальной позицией, местом, которое он занимает в общенародной
борьбе. Поэтому таким отвратительным зверьем выглядит в рас-
сказе старый казак — отец, а в его сыновьях чувствуется внутреннее
благородство и нравственная чистота.
Большая нравственно-психологическая проблема поставлена
в рассказе «Чужая кровь». Старые казак и казачка потеряли сына,
который погиб в борьбе с красными. Но в них не перестает жить
человеческое: они спасают красноармейца от верной гибели, считают
его своим сыном, и он платит им искренней любовью. В народе
живет не только святая классовая ненависть, но и сострадание, гу-
манные чувства, простое человеческое тепло. Даже самая кровавая
борьба не уничтожает в духовном облике народа светлых сторон
его жизни.
В разгар боевых действий в красном эскадроне вдруг народился
жеребенок, он мешает боевому порядку, и здесь появляется самое
простое решение — пристрелить его (рассказ «Жеребенок»). Но
у красноармейца-конника не поднимается рука: он жалеет это тро-
гательное и красивое существо, а кроме того, в нем живет мысль
о будущей мирной жизни («Кончится война — на нем еще того... па-
хать»). Спасая жеребенка, попавшего в водоворот, красноармеец
19
оказывается под огнем противника и погибает. В этом суровом че-
ловеке, не знавшем пощады в бою, до самой смерти не угасала лю-
бовь ко всему, что олицетворяло радость жизни, сулило се продол-
жение. Поэтому так драматична и светла последняя минута жизни
героя: «Жесткие посиневшие губы, пять лет не целовавшие детей,
улыбались и пенились кровью».
Ради жизни свободной и радостной ведет ожесточенную борьбу
революционный народ. В рассказах М. Шолохова отчетливо звучит
вера в эту будущую жизнь. Какой бы кровавой ни была борьба, но
в ходе ее рождается новое поколение — будущее Советской страны.
Исключительным драматизмом наполнен рассказ «Шибалково семя»:
рождается ребенок, мать которого коварно предала интересы рево-
люции и погибла* от руки отца своего сына. Казак Шибалок, заня-
тый боями, на время отдает ребенка в детский дом, ни капли не
сомневаясь в его будущем: «Сын будет власть советскую оборо-
нять... Думаете — он кричать будет? Не-е-ет! Он у нас трошки из
большевиков, кусаться — кусается, нечего греха таить, а слезу из
него не вышибешь!..»’
А вот герой рассказа — постарше возрастом — пятилетний сын
большевика Мишка (рассказ «Нахаленок»). Еще самые первые его
жизненные шаги уже прочно связаны с революционной борьбой. На
языке, доступном пониманию Мишки, отец рассказывает ему о ре-
волюции и о Ленине. Мишка с честью выдерживает первое испыта-
ние в революционной борьбе. Его отец погибает, и у нас ни на ми-
нуту не возникает сомнений в том, что в будущем Мишка займет
его место в строю.
«Донские рассказы» послужили М. Шолохову серьезной подго-
товительной работой для создания романа «Тихий Дон». Граждан-
ская война на Дону, расслоение казачества в годы революции по-
лучили в романе характер развернутого эпического повествования.
Здесь можно назвать и более конкретные примеры: героиня расска-
за «Двумужняя» — это как бы первоначальный набросок портрета
Аксиньи; вожак бандитов Фомин будет действовать и в романе;
командир эскадрона Кошевой — прототип Мишки Кошевого и т. п.
«Тихий Дон» явился синтетическим произведением, вобравшим весь
жизненный и литературный опыт писателя.
Несколько особняком стоят в ранней советской прозе рассказы
о гражданской войне Исаака Бабеля, объединенные им в книгу
«Конармия» (1926 г.). Особняком потому, что мы не находим в
рассказах И. Бабеля тех картин общенародной жизни, которые
видим в произведениях Вс. Иванова, Л. Сейфуллиной, М. Шо-
лохова.
20
Изображая Первую Конную армию С. М. Буденного, И. Бабель
не дал общей картины беспримерных героических подвигов прослав-
ленных советских конников. Его рассказы — это отдельные, во мно-
гом случайные эпизоды, попавшие в поле зрения писателя, находив-
шегося некоторое время среди буденовцев. Центральное место
в этих эпизодах занимают яркие, необыкновенные, из ряда вон вы-
ходящие фигуры конармейцев. Сосредоточив свое внимание только
на таких фигурах, И. Бабель не замечал, что его рассказы оказались
перенаселенными какими-то сомнительными личностями — внешне
яркими, а внутренне имеющими весьма отдаленное отношение к про-
летарской революции. То это случайно попавший в Конармию юро-
дивый («Сашка Христос»), то садист, безжалостно проливающий
кровь («Жизнеописание Павличенки, Матвея Родиопыча»), то «не-
утомимый хам, вычищенный коммунист, будущий барахольщик, бес-
печный сифилитик, неторопливый враль» («Прищепа»). Подобные
фигуры заслоняли в рассказах И. Бабеля подлинных героев рево-
люции.
Такой характер изображения Конармии тогда же вызвал ре-
шительные возражения С. М. Буденного. Дорожа литературным да-
рованием И. Бабеля, М. Горький возражал С. М. Буденному, при-
водя тот довод, что у И. Бабеля не было цели, «охаять» Конармию,
что он стремился романтизировать ее бойцов. Однако и сам И. Ба-
бель самокритично соглашался с теми упреками, которые были вы-
сказаны в его адрес. «Вижу, что не дал я там вовсе политработ-
ника, не дал вообще многого о Краской Армии, — дам, если су-
мею» 1, — признавался он в беседе с Д. Фурмановым. Позже он го-
ворил: «Мне жаль, что С. М. Буденный не догадался обратиться
ко мне в свое время за союзом против моей „Конармии" ибо „Кон-
армия" мне не нравится» 1 2.
Но, несмотря на серьезные писательские просчеты, И. Бабель
сумел в ряде рассказов выразительно запечатлеть отдельные эпи-
зоды гражданской войны, передать дух того неповторимого времени.
Писателя главным образом интересуют не сами события, а люди,
попавшие в водоворот этих событий. Среди таких людей вдруг про-
мелькнет образ • простого, малоприметного человека, целиком от-
давшего себя делу революции: «Эскадроном командовал слесарь
Брянского завода Баулин, по годам мальчик... В двадцать два свои
года Баулин не знал никакой суеты. Это качество, свойственное ты-
сячам Баулиных, вошло важным слагаемым в победу революции.
Баулин был тверд, немногословен, упрям. Путь его жизни был ре-
шен. Сомнений в правильности этого пути он не знал. Ждать себе
1 Д. Ф у рманов. Из дневника писателя. М., «Молодая гвар-
дия», 1934. стр. 86.
2 «Вопросы литературы», 1964, № 4, стр. 133.
21
пощады под командой Баулина нельзя было» («Аргамак»). И. Ба-
бель хорошо владел искусством давать подобные сжатые и вырази-
тельные характеристики.
Иногда эти характеристики даются как бы без авторского вме-
шательства — писатель целиком предоставляет слово самим героям.
И здесь также заметно высокое мастерство И. Бабеля. Он умело
конструирует речь своих персонажей, и эта речь является необыкно-
венно выразительной их характеристикой. Об этом хорошо можно
«удить по рассказу «Измена», который целиком состоит из письма
раненого красноармейца. Группа бойцов, попавшая в госпиталь, не
хочет расстаться с оружием даже на больничной койке, всякую по-
пытку врачей отобрать это оружие они рассматривают как измену
революции. Мёдсестры «снова начали тереть волынку про сдачу
оружия, как будто мы уже были побеждены». Сколько наивности и
сколько сердечной чистоты в этих словах рядовых бойцов револю-
ции! Неистребим дух их боевого товарищества: «У кого разорвана
нога, тот держит товарища за руку, а у кого недостает руки, тот
опирается на товарищево плечо». Даже теряя от ран сознание, они
держатся сплоченной группой, как в боевом строю. Люди, предан-
ные революции, не терпят никакой фальши. Они могут быть добры-
ми и участливыми, прийти на помощь человеку, 'но они способны и
на самую жестокую расправу с этим человеком, если окажутся об-
манутыми в своих искренних и благородных чувствах. На эту тему
написан один из лучших рассказов «Конармии» — «Соль». Пожалев
бабу с ребенком, они берут ее в свою теплушку^ Но они обмануты:
у бабы-спекулянтки не ребенок, а мешок соли. Бойцы потрясены
этим внезапным открытием, на смену их ласке и нежности приходит
неистовая ярость. Они с гневом обличают наглую обманщицу, «гнус-
ную гражданку», «контрреволюционерку»: «Но оборотись к казакам,
женщина, которые тебя возвысили, как трудящуюся мать в рес-
публике... Оборотись на Расею, задавленную болью...» Бойцы вы-
брасывают ее на ходу поезда и стреляют ей вслед, чтобы смыть
«этот позор с лица трудовой земли и республики».
Не знающие колебаний в борьбе, конармейцы И. Бабеля с пре-
зрением отвергают всякую половинчатость, интеллигентскую мягко-
телость и расслабленность. Они утверждают новое понимание гумаи
низма, не имеющего ничего общего с расплывчатым человеколюбием,
истерической чувствительностью и безотчетной жалостью. С большой
силой И. Бабель повествует об этом в рассказе «Смерть Долгу-
шова».
Как и в некоторых других рассказах И. Бабеля, в этом произ-
ведении есть образ рассказчика — интеллигента в очках, честного,
но нерешительного и беспомощного человека, суетливо снующего
между бойцами. Мужественную просьбу смертельно раненного бойца
22
Долгушова пристрелить его, так как нет надежды на спасение, этот
рассказчик выполнить не в силах и удаляется от него в страхе и
смятении. «Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мыш-
ку», — говорит ему командир эскадрона, совершивший вынужденный
акт милосердия. Жалкие оправдания рассказчика приводят его в бе-
шенство: «Уйди, убью!..»
В другом рассказе («Аргамак») мы вновь встречаемся с этим
рассказчиком, которому говорит командир Баулин: «Я тебя
вижу, я тебя всего вижу... Ты без врагов жить норовишь... Ты к
этому все ладишь — без врагов... Пошел от нас к трепаной
матери».
Фамилия рассказчика в «Конармии» — Лютов. Под таким псев-
донимом И. Бабель печатал свои очерки в армейской газете. Это
наводит на мысль об автобиографической основе образа Лютова.
Вероятно, не стоит ставить простого знака равенства между Люто-
вым и И. Бабелем, но то, что в облике Лютова есть автобиографи-
ческие черты, несомненно. В записных книжках И. Бабеля, которые
он вел, находясь в Конармии, есть такая короткая, но выразитель-
ная запись: «Буденовцы несут коммунизм, бабка плачет...» В свое
время критика не без основания упрекала И. Бабеля в том, что
в его «Конармии» идеи пролетарского гуманизма часто подменяются
отвлеченным понятием «гуманизма вообще». Это в известной мере
относится и к лучшим рассказам И. Бабеля. Между героями рас-
сказов И. Бабеля и их создателем как бы стоит некая невидимая
перегородка. Именно в этом содержится известная противоречи-
вость писателя, глубоко сочувствующего своим лучшим героям, но
не находящего в себе силы безраздельно и окончательно слиться
с ними.
Как мы видим, в первой половине 20-х годов гражданская
война изображалась писателями преимущественно как война пар-
тизанская. И как уже говорилось, в этом была своя закономерностью
Великая Октябрьская социалистическая революция была пролетар-
ской по своему содержанию, но совершалась в аграрной стране.
И не случайно в центре внимания писателей оказались революцион-
ные выступления крестьянской массы, выступления часто разроз-
ненные, не руководимые единой сознательной силой. Порою это при-
водило к слабости партизанского движения, а иногда создавало и
определенную угрозу революции. В 1919 году в «Письме к рабочим
и крестьянам по поводу победы над Колчаком» В. И. Ленин писал:
«Как огня надо бояться партизанщины, своеволия отдельных отря-
дов, непослушания центральной власти, ибо это ведет к гибели: и
Урал, и Сибирь, и Украина доказали это» (т. 39, стр. 152).
23
Уже ранняя советская проза отразила самоотверженную и стой-
кую работу большевиков против анархии и неповиновения рево-
люционной дисциплине отдельных партизанских соединений и их
вожаков.
Одно из таких произведений было создано активным уча-
стником гражданской ’войны, коммунистом Александром Фадеевым.
Это его рассказ «Рождение Амгуньского полка» (1923 г.). Такой
заголовок своему рассказу А. Фадеев дал позже, первоначально он
назывался «Против течения». ,
В глухих сопках Дальнего Востока, вдалеке от центральной
революционной власти, обретается 22-й полк Народно-революцион-
ной армии (так на Дальнем Востоке именовалась Красная Армия).
Но этот полк ничем не напоминает крепкое и надежное воинское
подразделение: основанный на базе партизанского отряда, он про-
являет как раз то непослушание и своеволие, от которых предосте-
регал В. И. Ленин. «Мы — партизаны, амурцы. Мы мерзли в сопках
за наши хлеба и земли. Пора уж и домой!» — рассуждают усталые
бойцы, совершенно не. считаясь с опасной военной обстановкой,
вызванной вторжением японских интервентов. Этим настроениям
потакает и партизанский командир, поставленный во главе полка, —
«ему надоело воевать». Партизанский отряд, ставший регулярной
воинской частью, продолжает оставаться анархической массой, он
«привык к безвластью и к безнаказанности и боялся порядка и дис-
циплины». Результат этого самый плачевный: батальон японских
захватчиков разгоняет тысячные партизанские толпы; среди парти-
зан «звериная паника», «дикий страх», «паническое бегство»; весь
край стоит перед опасностью завоевания иноземными пришельцами.
Лишь единицами вкраплены в эту массу большевики, комиссары,
перед которыми стоит неимоверно трудная задача — побороть анар-
хию, сохранить боевые порядки, двинуть их против опасного врага.
«Я все время иду против течения и тащу за собой всех», — говорит
комиссар фронта Соболь. Так же ведут себя и другие коммунисты.
Не случайно А. Фадеев посвятил свой рассказ выдающемуся ра-
ботнику большевистского подполья на Дальнем Востоке, полити-
ческому организатору и руководителю, коммунисту Игорю Си-
бирцеву.
В небольшом рассказе А. Фадеев сумел отразить весьма су-
щественную сторону революции и гражданской войны — авангард-
ную роль рабочего класса, его умение повести за собой крестьян-
ство. Главной опорой партии в борьбе с разнузданной партизан-
щиной стали рабочие местной консервной фабрики, они «шли, стис-
нув зубы, надвинув шапки на брови, снова вверх и вверх против
течения».
Бесстрашие и настойчивость большевиков, цементирующая
24
сила рабочего класса приводят к победе сознательного начала в ре-
волюционной борьбе. «Растерянные и обманутые люди», сбитые
с толку анархическими лозунгами, становятся под знамена проле-
тарской революции.. Из бесшабашной партизанской массы рождает-
ся верный революционному долгу Амгуньский полк.
Этот рассказ А. Фадеева был лишь начальной пробой его пера.
Сам писатель не преувеличивал литературного значения этого рас-
сказа. Позже, в романе «Разгром», А. Фадеев достигнет блестящего
художественного результата в выражении той же темы — «против
течения». Но уже и «Рождение Амгуньского полка» было связано
по своей основной идее с магистральными произведениями совет-
ской литературы 20-х годов. Здесь приходят на память такие произ-
ведения, как «Железный поток» А. Серафимовича, «Чапаев» Д. Фур-
манова, поэма В. Маяковского «Хорошо!», в которой он в яркой
афористической форме говорил о великом умении Коммунистиче-
ской партии вести за собой разбушевавшуюся стихию крестьянской
России:
Этот вихрь,
4 от мысли до курка,
и постройку,
и пожара дым
прибирала
партия
к рукам,
направляла,
строила в ряды.
Если в рассказе А. Фадеева изображается процесс формирова-
ния аморфной партизанской массы в сознательную революционную
силу, то в повести Дмитрия Фурманова «Красный десант» (1921 г.)
мы видим эту силу в действии. Красные десантники, брошенные
в опасную операцию против хорошо вооруженных врангелевских
войск, спаяны железной революционной дисциплиной, отчетливым
пониманием политической и боевой задачи, стоящей перед ними.
И уже одно это заведомо решает исход боя. А. Фадеев показал,
как тысячи анархически настроенных партизан не могли справиться
с одним батальоном противника. В повёсти Д. Фурманова мы видим
обратное: сравнительно небольшой красный десант наголову разби-
вает врага, имеющего огромное количественное преимущество —
несколько тысяч отлично вооруженных солдат и офицеров.
Убежденный большевик, прославленный комиссар годов граж-
данской войны, Д. Фурманов как в этом, так и в других своих
произведениях изображал события, непосредственным участником
25
которых он был. Изо дня в день Д. Фурманов вел дневниковые
записи, ставшие основой его произведений. Из этих же дневников мы
узнаем о тех принципах литературного труда, которыми руководство-
вался писатель. Главный из них выражен такими словами: «Вос-
поминаниями следует активно овладеть. Из всего воспоминаемого
отобрать самое ценное и важное, отбросить второстепенное...» 1 Та-
кой творческий принцип позволил Д. Фурманову изобразить главное
и основное в ходе гражданской войны, то, что в конечном счете
позволило сломить врага и добиться победы революции. В «Красном
десанте» Д. Фурманов первым в советской прозе показал, как со-
циальные эмоции и классовое чутье сочетаются в бойцах революции
с - беспрекословным повиновением революционной дисциплине, с тон-
ко разработанным тактическим планом операции, с твердым воен-
ным и политическим руководством красноармейской массой. Поэто-
му так слаженно и стремительно действуют красные десантники.
Д. Фурманов дает реалистическую картину боя, последовательно
изображая весь ход событий. Писатель излагает события, как бы
глядя на военную карту. Но это не иссушает повествования, не де-
лает его простым военным донесением, так как сами эти события
полны неприкрытой правды и драматизма. Д. Фурманов так гово-
рил о своей работе над повестью: «Взявшись описать его (собы-
тие.— Е. Н.) в художественной форме, я оставляю в то же время
самую канву событий, их последовательное развитие, даже их де-
тали нетронутыми, передаю настоящую действительность. Да и
нужды нет что-либо добавлять й придумывать: в истории граждан-
ской войны были такие «чудеса», что, кроме участников, их все при-
нимают за сказку. Одним из таких чудес я считаю и->нашу удач-
ную прогулку по неприятельскому тылу» 1 2.
Д. Фурманов умело оттеняет «чудесный», или, как он еще гово-
рил, «полуфантастический», характер этого события самим стилем
повествования: «Словно огромные чудовища, длинною лентою вытя-
нулись суда по реке. Было в этом зрелище что-то одновременно и
торжественное и жуткое: отряд уплывал в неприятельский тыл».
Подобный романтический аккомпанемент повести не только не от-
влекает от реальной картины происходящего, но придает ей поэти-
ческую окраску. Она ощутима и тогда, когда писатель рисует пор-
трет того или иного участника десанта. Вот эскадронный командир
Чобот, прошедший сквозь страшные испытания и неимоверные лише-
ния, которые все же не убили в нем «какого-то ясного, торжествен-
ного отношения к жизни». Десантники плывут по Кубани, легендой
1 Д. Фурманов. Собр. соч. в 4-х томах, т. 4. М., Гослитиз-
дат, 1961, стр. 9.
2 «Ткач», 1923, № 1, стр. 90.
26
входя в летопись революции. «Эти берега сплошь политы кровью?
здесь,каждую п*ядь земли отбивали с горячим боем у царских ге-
нералов наши красные полки».
«Книжка Фурманова яркая, как подвиг, раскаленная, как ствол
пулемета в бою»1, — говорилось в одной из рецензий на эту по-
весть. Выразительную и яркую характеристику дал этому произве-
дению А. Серафимович, высоко ценивший талант Д. Фурманова:!
«Когда я прочитал написанный им... „Красный десант", передо мной
вдруг блеснула черная южная ночь, шелест камыша и таинствен-
ность смерти, которая невидимо плыла с этими потонувшими в чер-
ноте баржами, — люди плыли на заведомую гибель в самую глубь,
в самый тыл врагов, — пощады не будет. И мне вдруг стало трудно
дышать. „Да ведь это ж художник!"»1 2: Талант Д. Фурманова
с огромной силой развернулся в его романе «Чапаев», опублико-
ванном через два года после «Красного десанта». Повесть Д. Фур-
манова прокладывала верные пути в изображении гражданской
войны в советской прозе 20-х годов. И может быть, лучшим под-
тверждением этого являются признания тех, кто вместе с Д. Фурма-
новым начинал свой творческий путь и позже смог полностью оце-
нить его вклад в советскую литературу. Так, на литературном вечере
в честь десятилетия со дня смерти Д. Фурманова И. Бабель говорил
в связи с экранизацией «Чапаева»: «На наших глазах два года
тому назад совершилось событие небывалое в истории литературы
и искусства: страницы книги Фурманова распахнулись, и из них
вышли живые люди, настоящие герои нашей страны, настоящие дети
нашей страны» 3.
*
Вполне понятно, что в годы революции и гражданской войны
люди не только находились на фронтах с винтовкой в руке, но и
продолжали мирную жизнь, вернее — жизнь, которую лишь условно
можно было назвать мирной. Страна лежала в разрухе, кругом
свирепствовали холод и голод, эпидемии и стихийные бедствия, бо-
роться о которыми уже не было сил. Одним из таких общенародных
несчастий явилась невиданная засуха в Поволжье в 1921 году.
Огромная территория России стала зоной смерти, 20 миллионов че-
ловек были обречены на голодное умирание. Этот трагический эпи-
зод в жизни нашего народа лег в основу известной повести Але-
ксандра Неверова «Ташкент — город хлебный» (1923 г.).
1 «Правда», 11 июля 1923 г.
2 А. Серафимович. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 10. М.,
Гослитиздат, 1948, стр. 336.
3 «Москва», 1963, № 4, стр. 219.
27
Еще до этого А. Неверов создал немало произведений, в кото-
рых народная жизнь изображалась им во всей суровой правде.
И уже тогда была видна одна примечательная черта его творче-
ства: рисуя самые неприглядные картины народного быта, А. Неве-
ров всегда подчеркивал духовное здоровье народа, светлые стороны
его внутреннего облика. Об этом можно было судить по его рас-
сказам периода гражданской войны: «Черное и белое», «В глухих
местах», «По-новому», «Красноармеец Терехин», по его пьесе
«Марья-большевичка» (1921 г.). Эти качества Неверовского творче-
ства особенно заметны в повести «Ташкент — город хлебный».
Голодные, измученные люди почти одичали в борьбе за простой
кусок хлеба. «Босые, рваные, дождями промытые, ветром проду-
тые», они движутся голодной ордой в поисках пропитания; оторван-
ные от родного дома, они «отупели, завшивели»; «лежали стадами,
плакали, молились»; «метались в бреду по ночам»; «матери выли
над голодными ребятами».
Казалось бы, в них уже не осталось ничего человеческого. Но
это не так. Под внешним страшным покровом дикого существования
теплится, живет и не угасает подлинно человеческое, достойное и
благородное.
Герою повести — Мишке—12 лет. Силою всех окружающих
его обстоятельств он должен погибнуть. Но он выживает и побеж-
дает не только потому, что в нем с детских лет живет природная
смекалка, крепкая хватка, выносливость, но главным образом по-
тому, что «есть ещё хорошие люди на земле».
Последняя надежда Мишки пробиться к Ташкенту — уговорить
машиниста взять его на паровоз.
«МишКа встал на колени, протянул вперед руки и голосом
отчаяния, голосом тоски и горя своего мучительно закричал:
— Дяденька, товарищ, Христа ради, посади, пропаду я здесь!..»
Машинист Кондратьев и его помощник сажают Мишку на па-
ровоз, дают ему кусочек хлеба. «Но не хлеб согрел его радостью,
а добрая ласка, хорошая улыбка на лице у товарища Кондратьева...
Спокойно и радостно думал: „Какие хорошие люди!“». Хорошими
людьми оказываются и председатель железнодорожного чека, и се-
стра милосердия в больнице, и «товарищ красноармеец», у которого
Мишка «корочку выпросил». «Есть на свете хорошие люди, только
сразу не нападешь», — думает Мишка. И самое драгоценное, что
выносит Мишка из всех своих испытаний, это, может быть, не ме-
шок с мукой, привезенный домой из далекого Ташкента, а его вера
в человека, в добро, в жизнь, в собственные силы. В этом гумани-
стическая сущность повести А. Неверова.
Уже говорилось, что в ранних произведениях о гражданской
войне важное место занимает тема детства, юности, молодости,
28
выступающая как верный залог будущего Советской Россия. Она —
основная в повести А. Неверова. Все свои надежды на настоящее
и будущее Мишка связывает с советской властью, с большевиками.
Он беседует со своим сверстником — товарищем по несчастью —
Трофимом:
«— В партию надо переходить! — вздохнул Трофим.
— В какую?
— К большевикам».
Еще М. Горький в повести «Детство» рассказал о том, как
мальчик Алеша выстоял перед «свинцовыми мерзостями жизни»,
вышел победителем из жизненных обстоятельств, угрожавших ему
духовной гибелью. А. Неверов — писатель горьковской школы. Его
Мишка — такой же сын народа, как и Алеша, жцвущий и борю-
щийся в новых исторических условиях.
Горьковская вера в человека отчетливо звучит в повести А. Не-
верова. Есть в ней и еще один* горьковский мотив — отсутствие
слезливой жалости к своему герою, человеческое уважение к нему.
А. Неверов, как и М. Горький, не делает своего героя маленьким
страдальцем, наоборот, он подчеркивает в нем активное начало,
этот герой сам способен понять страдание людей и прийти к ним
на помощь. Видя, в каком подавленном и угнетенном состоянии на-
ходятся его случайные спутники, Мишка рассказывает им о том
хорошем, что он видел на пути, он «стоял среди мужиков, как ма-
ленький проповедник, укрепляющий верой и бодростью на далекий
неоконченный путь»?
Повесть А. Неверова насыщена народной образностью и народ-
ными оборотами речи. Герои этого произведения — крестьяне, поки-
нувшие насиженные места и впервые увидавшие железную дорогу,
станции, поезда. • Отсюда и стиль повествования: о событиях рас-
сказывается так, как они увидены крестьянской массой. Об изно-
шенном и расхлябанном поезде, который идет с перебоями, гово-
рится: «Выскочит на бугорок, словно заяц испуганный, и опять по-
старичьи с натугой тащит длинный примороженный хвост». Многие
картины даются в детском восприятии Мишки. Вот он увидел поезд-
ной состав: «Стоят на колесах избы целой улицей, из каждой избы
народ глядит». А когда поезд тронулся, «никак нельзя было по-
нять: земля бежит или машина бежит».
Живой, образный язык, почерпнутый в народной речи, органиче-
ски сличается с картинами народной жизни, изображенными в
повести.
Великая Октябрьская революция призвала к новой жизни все
классы и социальные слои России. Рабоче-крестьянская советская
власть делала все возможное для того, чтобы привлечь на сторону
29
революции лучшие силы народа. Особенно остро стоял вопрос об
интеллигенции, которая далеко не всегда верно разбиралась в со-
бытиях, чуждалась революционной современности, а порою открыто
выступала против революции. Партия и Советское правительство
проявляли большое внимание к этой социальной прослойке. По за-
данию В. И. Ленина М. Горький вел неутомимую работу по привле-
чению ученых, писателей, деятелей искусства, военных специалистов
на сторону восставшего народа. Вспоминая о своих встречах
с В. И. Лениным в первые годы революции, М. Горький так пере-
давал его слова: «Разве я спорю против того, что интеллигенция
необходима нам? Но вы же видите, как враждебно она настроена,
как плохо понимает требования момента? И не видит, что без нас
она бессильна, не дойдет к массам... скажите интеллигенции, пусть
она идет к нам» !.
В. И. Ленин неоднократно говорил, что, несмотря на ошибки
и заблуждения русской интеллигенции, лучшая ее часть останется
с революцией. Так оно и было в действительности. Что касается
писателей, то об этом можно было судить по позиции, занятой
двумя крупнейшими поэтами-символистами — Валерием Брюсовым
и Александром Блоком. В. Брюсов вступил в Коммунистическую
партию. А. Блок в своей страстной статье «Интеллигенция и рево-
люция» (1918 г.) обращался с призывом к русским интеллигентам:
«Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте музыку ре-
волюции!»
А. Блок открыл в советской литературе большую и значительную
тему — интеллигенция и революция. В 20-е годы советские писатели'
неоднократно отзывались на эту тему. К. Федин посвятил ей два
своих романа — «Города и годы» (1924 г.) и «Братья» (1928 г.).
Весьма своеобразное решение она получила в повести Ю. Олеши
«Зависть». В 20-е годы начало публиковаться широкое обобщающее
произведение на эту тему — трилогия А. Толстого «Хождение по
мукам».
В ряду этих произведений заметное место занимает повесть
Бориса Лавренева «Седьмой спутник» (1927 г.).
Герой повести Адамов — бывший царский генерал — рассуж-
дает: «Когда огромное тело пролетает в мировом пространстве,
в его орбиту втягиваются мелкие тела, даже против их воли. Так
появляется какой-нибудь седьмой спутник». Адамов является таким
спутником, испытавшим притяжение революции. »
Еще до Октября он зарекомендовал себя честным и благород-
ным человеком: будучи военным ^прокурором, он отказался обвинять
*
1 М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 17. М., Гослит-
издат, Ь952, стр. 31.
30
политических заключенных. После Октября он сам оказывается за-
ключенным, но в отличие от других *арестованных генералов, злоб-
ствующих против советской власти, он пытается объективно разо-
браться в происходящем, определить свое место в новой действи-
тельности. Не упрощая сложного внутреннего состояния своего ге-
роя, В. Лавренев убедительно показывает его постепенное движение
к принятию революционной действительности. «Ум говорит: „Нельзя0#
а вот тут шепчется: „А ты вникни“». Все глубже вникая в действи-
тельность, Адамов приходит к мысли, что он, как и другие предста-
вители его сословия, вел жизнь, чуждую интересам и стремлениям
народа.
Но не так-то просто перейти из одного лагеря в другой:
«Сказать, что признаю вот так, как старое признавал, — не могу, но
и против не пойду». Постепенно он приходит к мысли, что «Россия
вылечится», что революция победит, несмотря на бешеное сопротив-
ление ее врагов; он говорит по поводу покушения на Ленина: «Рад,
что не удалось».
Шаг за шагом идет этот «правильный* старичок» к признанию
социальной правоты трудового народа. В этом его убеждают и
встречи с людьми, безраздельно отдавшими себя революции, —
только с их стороны он встречает подлинно человеческое, гуманное
отношение к себе.
Адамов добровольно вступает в Красную Армию. Попадая
в плен к белым, он еще имеет возможность спасти свою жизнь —
заявить, что его насильно мобилизовали. Но в его сознании произо-
шел уже необратимый процесс.
Он с презрением отвергает предложение служить в белой армии
и погибает: Адамова расстреливают рядом с его новым товарищем —
простым красноармейцем. .
В повести «Седьмой спутник» отразились наиболее сильные
стороны Лавренева-прозаика. Писатель превосходно владеет по-
строением острого, оригинального сюжета — читатель с неослабе-
вающим вниманием следит за развитием событий. Но мастерство
Б. Лавренева заключается еще и в том, что отдельному, исключи-
тельному событию он умеет придать типический, обобщающий ха-
рактер: работа мысли генерала Адамова — это размышления мно-
гих представителей старой русской интеллигенции, озабоченных ду-
мами об исторических судьбах родины, о правоте социального
возмездия народа, о своем собственном месте в новой истории
России.
Еще одна примета писательского мастерства Б. Лавренева —
его умение изображать сложное психологическое состояние героев.
Мы внимательно следим не только за внешними поступками Ада-
мова, но главным образом за теми побудительными причинами,
31
которые заставляют его совершать эти поступки. Благодаря этому
повесть Б. Лавренева обретает характер убедительной реалистиче-
ской достоверности — читатель чувствует себя как бы непосредст-
венным свидетелем изображаемых событий.
Как уже было сказано, в прозе 20-х годов преимущественное
положение занимала тема гражданской войны. Но тогда же начали
появляться произведения и . о новой современности — послевоенном
мирном строительстве, о восстановлении народного хозяйства, о ге-
роическом труде советских людей. Правда, таких произведений было
мало. Весьма заметное место среди них занимал роман Ф. Глад-
кова «Цемент» (1925 г.)—первое крупное произведение советской
прозы о рабочем классе.
Созидательная работа советских людей протекала с большим
воодушевлением. Это были созидатели нового мира — мира социа-
лизма. Но старый мир еще не был побежден окончательно, он со-
противлялся новому, пытаясь задержать его естественное развитие.
Вопрос «кто кого?» только еще решался, и это имело прямое отно-
шение не только к материальной стороне жизни, но и к духовной.
Борьба эта осложнялась введением нэпа — новой экономической по-
литики, без которой невозможно было вывести страну из состояния
экономического упадка. Но, дав. свои положительные результаты
в области материального строительства, нэп наносил известный урон
духовной жизни народа: вновь появилась частная торговля, спеку-
ляция, некоторым начало казаться, что это вынужденное временное
отступление является забвением высоких идеалов революции. Нэп
вызвал оживление мещанской, обывательской психологии, как писал
тогда В. Маяковский в стихотворении «О дряни», «вылезло мурло
мещанина», «опутали революцию обывательские нити. Страшнее
Врангеля обывательский быт». В. Маяковский клеймил мещанство,
его духовное уродство; Э. Багрицкий противопоставлял жадному,
собственническому миру революционную романтику; М. Зощенко
ядовито издевался над обывательской психологией; Л. Леонов в по-
вести «Конец мелкого человека», драматург Б. Ромашов в пьесе
«Конец Криворыльска» изображали обреченность мещанской
России.
Когда-то М. Горький назвал такую Россию «окуровщиной»,
способной погубить самое лучшее в человеке. Развивая горьковскую
традицию, советские писатели добивали эту «окуровщину» с ее убо-
жеством, примитивизмом, отсутствием духовных интересов и боль-
ших человеческих задач.
На этом фоне понятен замысел и пафос повести Алексея^ Тол-
стого «Голубые, города» (1925 г.).
32
Мещанская накипь не убила творческого начала революции,
ее высокой романтики, мечты о будущем. Герой повести Бужени-
нов — участник гражданской войны — одержим идеей создания го-
родов будущего, в которых бы люди жили новой, полнокровной
жизнью. Он думает об этом, как о логическом продолжении борьбы,
в которой только что принимал участие.
Буженинов рисует контуры будущих городов, они — голубые,
как и его мечта , о будущем. И как каждая мечта, далеко забежав-
шая вперед, она сталкивается с непониманием, насмешкой и издева-
тельством со стороны самых ограниченных и ничтожных людей. Это
люди, которых все еще цепко держит в душных объятиях доживаю-
щая свой век «окуровщина». Это люди того «здравого смысла»,
который не выходит за рамки поисков своего собственного благо-
получия. Поэтому им и кажется, что Буженинов, думающий не
о себе, а о будущем человечества, — чудаковатый, ненормальный,
«тронутый». Они дико шарахаются от его мыслей, потому что чув-
ствуют в них угрозу своему облюбованному существованию. «Много
придется затратить сил, чтобы на этом убожестве вырос голубой го-
род,— думает Буженинов. — ...Взрыв нужен сокрушающий... Огнен-
ной метлой весь мир вымести».
Эта, по словам автора, «страстная повесть мучительной, нетер-
пимой и горячечной фантазии» — повесть об одном из таких людей,
без которых мир был бы неподвижным и мертвенным, остановился
бы в своем развитии.
Повествование о необычном человеке требовало .от художника
и необычных сюжетных положений. Входя в непримиримое противо-
речие с косным и самодовольным обывательским миром, герой по-
вести убивает человека, в облике которого сосредоточен этот нена-
вистный ему мир, поджигает уездный городишко, олицетворяющий
то, что подлежит уничтожению. Эти, казалось бы, не имеющие
оправдания поступки не столько служат прямой характеристикой
героя, сколько призваны предельно заострить основную мысль пи-
сателя — идею романтического устремления в будущее. Начало
этого устремления заложено в Великой Октябрьской революции. Оно
неистребимо, ему можно сопротивляться, но его невозможно побо-
роть, как невозможно остановить наше движение к коммунистиче-
скому обществу, символически выраженному в повести голубыми
городами светлого будущего.
И уже в 20-е годы были видны ростки этого будущего. Страна
жила еще тяжело, ощутимо давали о себе знать последствия двух
войн — империалистической и гражданской. Нужно было в кратчай-
ший срок восстановить разрушенное народное хозяйство, наладить
мирную трудовую жизнь. Если в годы гражданской войны главной
задачей была военная победа над врагом, теперь на первый план
33
выдвигалось созидательное начало революции. В неимоверно труд-
ных условиях советский народ приступил к решению грандиозной
задачи строительства социализма. И уже во второй половине ‘20-х
годов были ощутимо заметны первые результаты свободного твор-
ческого труда советских людей. Эти знаменательные события нашли
яркое отражение в очерках-рассказах М. Горького «По Союзу Со-
ветов» (1928 г.).
Как известно, еще. до революции М. Горький исходил Россию
вдоль и поперек. С тем большим интересом он совершил в 1928 году
путешествие по местам, которые ему были давно знакомы. В своих
очерковых рассказах, которые составили цикл «По Союзу Советов»,
он поведал об удивительных изменениях, происшедших в стране
всего за несколько лет.
«Когда оглядываешься назад — видишь, как поразительно да-
леко ушла жизнь от прошлого и как она все быстрей идет в буду-
щее» — таков общий вывод писателя, сделанный из своих наблю-
дений.
Описывая сегодняшний день Советского Союза, М. Горький
постоянно оглядывается назад, вспоминает прошлое, сопоставляет
его с настоящим. Такой принцип изображения действительности по-
зволяет писателю очень контрастно, ярко и выразительно писать
о том новом, что появилось в жизни страны, в духовном облике
советских людей. Подобный метод художественного изображения
связан у М. Горького с его стремлением показать жизнь в посту-
пательном движении, в ее развитии. Это одна из основных примет
метода социалистического реализма. При этом писатель ставил
перед собой задачу и воспитательного воздействия на читателя,
в особенности на молодежь: «Я свидетель тяжбы старого с но-
вым. Я даю показания на суде истории перед лицом трудовой мо-
лодежи, которая мало знает о проклятом прошлом и поэтому не-
редко слишком плохо ценит настоящее, да и недостаточно знакома
с ним».
Две части из цикла «По Союзу Советов», включенные в настоя-
щий сборник, дают достаточно ясное представление обо всем этом
цикле.
Глядя на современные нефтяные промыслы в Баку, Горький
вспоминает старый, дореволюционный Баку, который рисуется ему
«гениально сделанной картиной мрачного ада». Теперь ничего не
осталось от этого прошлого. Нефтяные промыслы выглядят совсем
по-иному, как рационально продуманная техническая система, в ко-
торой человек не подневольный работник, а творец и созидатель.
Но самое главное в том, что это человек другого мироощущения*
другого духовного склада; в первую очередь это видно в его новом
отношении к труду, который из подневольного превратился в тру-
34
довую доблесть и славу. М. Горький сопоставляет две картины по-
жара: на старых, дореволюционных, и на теперешних промыслах
Азнефти. В центре его внимания — поведение людей в том и в дру-
гом случае. Он радостно поражен картиной того, как советские ра-
бочие стойко, мужественно, организованно и самоотверженно бо-
рются с огненной стихией и уверенно побеждают ее. «Рабочий класс
трудится, утверждая свое могущество... Создается впечатление стро-
ительства монументального, спокойной и уверенной работы на-
долго» — таковы общие выводы писателя. Сегодняшние рабочие —
это вчерашние участники гражданской войны. Совсем недавно они
с оружием в руках отстаивали Советское государство, теперь они
отстраивают его. Не случайно они так часто вспоминают имя
В. И. Ленина — основателя Страны Советов.
Вслед за Баку М. Горький посещает Грузию, Армению, где ви-
дит такое же обновление жизни. «Люди заново живут, по-новому
начинают думать и чувствовать». Писатель не скрывает и теневых
сторон жизни. Так, он с огорчением пишет, что Сормовский завод
выглядит так же неприглядно, как и до революции, хотя есть все
условия для его технического обновления. Но, верный принципу
изображения того нового, что появляется в жизни, М. Горький
вслед за этой удручающей картиной дает изображение Балахнин-
ской бумажной фабрики, построенной по последнему слову техники.
Именно ее он считает главной и основной приметой побеждающего
нового: «Я вышел с этой фабрики в настроении человека, заглянув-
шего в светлое будущее, которое готовит для себя рабочий класс».
Таково же настроение М. Горького и при созерцании величествен-
ной панорамы Днепростроя. Эта панорама дается на фоне воспоми-
наний писателя об уличном митинге в 1917 году, о словах, сказан-
ных тогда солдатом, в которых звучала непоколебимая вера в то,
что под руководством большевиков трудовой народ переделает
Землю: «Да, он говорил верно — на Днепрострое воля и разум тру-
дового народа изменяют фигуру и лицо Земли». «Потрясен до глу-
бины души зрелищем энтузиазма людей, разбуженных к новой
жизни... Повеял ветер той свободы, которую могут создать только
люди труда, и кошмар прошлого рассеялся, как будто его не бы-
ло»,— писал М. Горький.
* * *
Советская литература зарождалась на рубеже двух эпох —
старой и новой. И вполне понятно, что в ней отразились лучшие
традиции русской литературы прошлого и поиски новых средств ху-
дожественного выражения.
Усваивая богатейшее наследие русской классической литера-
туры, советские писатели поставили в центре своего внимания
35
народные массы, ярко запечатлели бушующее народное море в годы
гражданской войны. Народ как творец истории стал основной те-
мой советской прозы уже на первых этапах ее развития. Советские
писатели овладевали и трудным мастерством глубокого реалисти-
ческого изображения жизни. В то же время в повестях и рассказах
20-х годов заметны те элементы, из которых складывался и фор-
мировался основной метод нашей литературы — метод социалисти-
ческого реализма. Он еще не представал в них как окончательно
сложившийся, но уже отчетливо проступали его важные приметы:'
народность, идейная устремленность писателей, их движение к прин-
ципу партийности искусства, умение изображать действительность
в ее поступательном революционном развитии, дух революционной
романтики, новые герои — творцы новой истории человечества. Опыт
ранней советской прозы помог советским писателям в овладении
ими ведущим методом советской литературы, в создании монумен-
тальных эпических произведений.
Е. И. НАУМОВ
Александр Малышкин
ПАДЕНИЕ ДАИРА
।
Керосиновые лампы пылали в полночь. Наверху на
штабном телеграфе несмолкаемо стучали аппараты: бес-
конечно ползли ленты, крича короткие тревожные слова.
На много верст кругом—в ноябрьской ночи — армия,
занесенная для удара ста тысячами тел; армия сторо-
жила, шла в ветры по мерзлым большакам, валялась по
избам, жгла костры в перелесках, скакала.в степные кур-
ганы. За курганами гудело море. За курганами, горбясь
черной скалой, лег перешеек в море — в синие блажен-
ные островные туманы. И армия лежала за курганами,
перед черной горбатой скалой, сторожа ее зоркими пол-
зучими постами.
Лампы, пылающие в полночь, безумеющая бессон-
ница штабов, Республика, кричащая в аппараты, стоты-
сячный топот в степи; этот развернутый, но не обрушен-
ный еще удар по скале, по последним армиям против-
ника, сброшенного с материка на полуостров.
В штабе армии, где сходились нити стотысячного, за
керосиновыми лампами работали ночами, готовя удар.
Стотысячное двигалось там отраженной тенью по вееро-
образным маршрутам— на стенах, закругляя щупальца
в цепкий смертельный сдав. Молодые люди в галифе
ползали животами по стенам — по картам, похожим на
гигантские цветники, отмечая тайные движения, что за
курганами, скалами, перешейками: они знали все. В аб-
страктной выпуклости линий, цветов и значков было:
37
громадный ромб полуострова в горизонталях синего
южного моря. Ромб связан с материком узким двадцати-
пятиверстным в длину перешейком;
в ста верстах западнее перешейка еще одна тонкая
нить суши от ромба к материку, прерванная проливом
посередине;
на материке перед перешейком цветная толпа крас-
ных флажков; N-я армия и красные флажки против тон-
кой прерванной нити — соседняя Заволжская армия; и
против той и другой — с полуострова — цветники голу-
бых флажков: белые армии Дайра.
Путь красным армиям преграждался: на перешей-
ке Даирской скалой, пересекавшей всю его восьмивер-
стную ширину, от залива до залива, с сетью проволоч-
ных заграждений, пулеметных гнезд и бетонных пози-
ций тяжелых батарей, воздвигнутых французскими ин-
женерами,— это делало недоступной обрывающуюся на
север, к красным, террасу; перед Заволжской армией —
проливом; пролив был усилен орудиями противополож-
ного берега и баррикадирован кошмарной громадой
взорванного железнодорожного моста. За укреплени-
ями были последние. Страна требовала уничтожить по-
следних.
Керосиновые лампы пылали за полночь. В половине
второго зазвонили телефоны. Звонили из аппаратной:
фронт давал боевую директиву. Галифе торопливо сле-
зали со стен, бежали докладывать начальнику штаба и
командарму. У аппаратов, ожидая, стояла страна.
И минуту спустя прошел командарм: близоруко щу-
рясь, выпрямленный, как скелет, стриженный ежиком,
каменный, торжественный командарм N, взявший на ма-
терике восемь танков и уничтоживший корпус против-
ника. В ветхих скрипучих переходах штаба, ведущих на
телеграф, отголосками — через стены выл ветер, переми-
нались и шатались деревья, черным хаосом скакала
ночь! И казалось, с облаками бурь, с гулом двигаю-
щихся где-то масс затихли и стали времена в вещем
напряжении...
ОТ КОМАНДУЮЩЕГО ФРОНТОМ
Секретная. Вне всякой очереди. Командармам N-й, Заволжской,
Конно-Партизанской. Дополнение директиве приказываю: Перейти
наступление рассвете 7 ноября.
38
Александр Малышкин. 20-е годы.
Заволжской армии произвести демонстративные атаки перехо-
димый вброд Антарский пролив дабы привлечь себе внимание и
силы противника.
N-й армии усиление коей переданы две конно-партизанских ди-
визии прорвать укрепление Даирской террасы ворваться плечах
противника Дайр и сбросить море.
Конно-Партизанской армии двигаться фронтовом резерве; N-й
армией стремительно выдвинуться полуостров и отрезать отход про-
тивнику к кораблям Антанты.
4 Вести борьбу до полного уничтожения живой силы противника.
Из кабинета командарма отрывистый звонок летел
в оперативное.
— Ветер? '
Галифе, звякая шпорами, почтительно наклонялись
к телефону.
— Северо-западный, девять баллов.
Каменная черта на лбу таяла — в жесткую, ирони-
ческую улыбку над теми, дальними, что за террасой.
Счастливый, роковой ветер дул, ветер побед.
И начальник штаба бежал с приказом из кабинета
на телеграф. В приказе было: начать концентрацию
множеств к морю, к перешейку; нависнуть молотом над
скалой... Аппараты простучали в пространства, в ночь —
коротко и властно.
А в ночи были поля и поля: земля черная молча ле-
жала. Дули ветры по межам, по невидимому кустар-
нику балок, по щебнистым пустырям, там, где раньше
были хутора, скошенные снарядами, по дорогам, истоп-
танным тысячами тысяч —теперь уже умерших и утих-
ших— по дорогам, до тишайшей одной черты, где ле-
жали, зарывшись в землю, живые и сторожкие;, и впере-
ди в кустарнике на животах лежали еще: секрет. Туда
дули ветры.
И все-таки в черной ночи, впереди, видели — не гла-
за, а что-то еще другое — темный, от века поднятый мас-
сив, лютый и колючий, и за ним чудесный Дайр — си-
ние туманы долин, цветущие города, звездное море...
Так казалось только: за террасой никаких чудес не
было, а те же лежали поля. За террасой в пещерах и
землянках сидели и курили люди в английских шинелях
с медными пуговицами и в погонах; смеялись и разго-
варивали, кое-кто дежурил у телефонов. Но этим людям
виделось иное. Безглазое и страшное, страшное молча-
нием нависало из-за террасы с черных полей, где кто-то
присутствовал и выжидал, может быть, уже полз в тем-
40
ноте. И нависло так: вот еще миг и вдруг погаснут смех,
и разговоры, и коптилками освещенные стены; и вот
«а-а-а-а!..» кричать, зажать голову, лицо руками, бежать
прямо туда — в ужас, в безглазое и поджидающее, под-
ставляя под удары, под топоры мозг, тело,..
И дальше по дорогам на юг — за деревушки, еще не
спящие, за пылающие огнями станции, со скрипящими
составами поездов, полными солдат в английских шине-
лях, за платформы станций, где лихорадочно ждут поез-
дов люди и с поездами угромыхивают в темь — все
дальше шло это: безвестьем, ползучей тоской.
И вот, гудя в туннелях — с поездами, — катилось
еще дальше на юг, где глухо и веще стучало море в об-
рыв й тысячами пожаров стояли пространства, пронизав
ночь. И там...
...гудящая циркуляция площадей — в пылании Све-
тов; шелесты шин щегольских авто, и грудные гудки, и
звон скрещивающихся в голубых иглах трамваев, и лязг
рысачьих копыт, и во всем пронизывающие токи толп,
вперед — назад, выбрасывающие под светы низких солнц
плосковатые, припудренные светом лица, ищущие глаза,
сонные, прогуливающие скуку глаза, безумные глаза
и еще — с пролетки — очерченные карандашом, увядаю-
щие и прекрасные. И все неслось—в фасады — в аллеи
каменных архитектур — в кипящие ночным полднем про-
странства — в сонмы бирюзовых искр и взошедших
солнц.
Дайр.
Распахивались зеркальные вестибюли громад, пылаю-
щих изнутри, сбегали, сходили и снова восходили, рож-
даясь и тая в кипучем движении панелей: красивая из
кафе, с румяной ярью губ, гордо несущая страусовое
перо на отлете, и этот — бритый, заветренный ротмистр
с выпуклыми, изнуренными и жесткими глазами, воло-
чащий зеркальный палаш, и вон тот — пожилой, тучный,
в моднейшем сером пальто и цилиндре, с выпяченной че-
люстью сластника, обвисший сзади багровым затылком,
и еще, и еще. Охваченные водоворотом, грохотами ноч-
ного полдня, где сквозь слепую от светов высоту кри-
чали со стены небоскреба огненным «Роскошный
выбор мсье Нивуа... поставщик импера-
торской фамилии... Спешите убедиться...»,
шли мимо ослепительных витрин, где изысканно-скудно
разложено матовое серебро, утонченные овалы вещей,
41
которых будут касаться пресыщенные, ничего не хотящие
руки владык; и вот мимо этих, неживых обольстительных
восковых, с чересчур сказочными ресницами и щека-
ми— с этих дышит шелк, как дыхание, как Восток; и
мимо окон озер, разливающихся ввысь стройно — до
ноябрьских южных звезд — «Г астрономичес-
кое»— под налетом влажной пыльцы тускнеет вино-
град, пахнут коричневые круто сбитые груши, и корзины
оранжевой земляники и алого, прохладного, горьковато-
весеннего... и все мимо шли — к перекрестку: там оплес-
нутая огнями светилась над зыбью многоголового кари-
катура знаменитого «Триумф а».
На ней — с круглым обритым черепом, приплюснутым
до бровей, с исподлобным сверканием маленьких звери-
ных глазок, шел некто в скомканном картузе со звез-
дой, в рваной шинели и чугунно-тяжких ботах.
Из ночи, из улиц приливала глазеющая зыбь. Сты-
ли раскрытые рты, разверстые неподвижные зрачки,
восковые от голубых светов лица. Сзади, обходя толпу,
заглядывали, привстав на цыпочки, еще — мимоидущие.
На цыпочках безглазое ползло в свет, в улицы, в улыб-
ки — щемью, дикой тоской...
— Не придут, где там.
— Союзные инженеры работали. Теперь — миллио-
ны положи, не возьмешь!
— Пускай эти Ваньки попробуют, хе-хе!
— А слыхали? Говорят, будто...
— Что вы, что вы!..
— Тише, это ни-ко-му... Ужас... ужас!..
А на улицах шли и бежали люди, словно торопясь
за счастьем, по двое таяли в бульвары, где просвечивал
звездный ход волн. Высоко на мутной стене небоскреба
огненным прожектором кричало:
СВОДКА ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Атаки красных на твердыни Даирской террасы легко отра-
жаются артиллерийским огнем.
На всех фронтах спокойно.
II
В селе Тагинка штабы двух дивизий: Железной, чис-
ленностью и обилием вооружения равняющейся почти
армии (неделю назад дивизия, выполняя директивы
42
Александр Малышкип. «Падение Дайра». Первое издание.
1926 г.
командарма N, разбила белый корпус и захватила во-
семь танков), и Пензенской — эта дивизия, окровавлен-
ная и полууничтоженная, зарывшись в землю, принима-
ла на себя тяжелые удары врага, пока Железная слож-
ным обходом выполняла маневр.
В школьной избе, в штадиве Железной, в присутст-
вии начальников дивизий и штабов командарм излагал
план операции.
Противник имел численно меньшую армию, но эта
армия была сильна испытанным офицерским составом и
мощью усовершенствованной военной техники. У крас-
ных были множества; множествами надлежало разда-
вить и мстительное упорство последних и хитрость
культур.
Армия противника стояла за неприступными укрепле-
ниями террасы, пересекающей все пути на полуостров.
Надо было преодолеть террасу. Бросить массы за тер-
расу— уже значило победить.
Армия, атакующая в ярости террасу — под ураган-
ным огнем артиллерии и пулеметов противника, — об-
ратилась бы в груду тел. Исход был или в длительной
инженерной атаке, или в молниеносном маневре. Но
страна требовала уничтожить последних сейчас. Оста-
вался маневр.
Дули северо-западные ветры. По донесениям аген-
туры, ветры угнали в море воду из залива, обнажив
ложе на много верст. Ринуть множества в обход тер-
расы— по осушенным глубинам — прямо на восточный
низменный берег перешейка, проволочить туда же ар-
тиллерию, обрушиться паникой, огнем, ста тысячами
топчущих ног на тылы хитрых, запрятавшихся в железо
и камни.
— Надо спешить, пока ветер не переменился и вода
не залила пространств,— сказал командарм,—Общее на-
ступление назначаю в ночь на седьмое ноября. Осталь-
ные части армии одновременно атакуют террасу с фрон-
та. Если так — мы прорвем преграду с малой кровью.
Собрание молча обдумывало. Начдив Пензенской, то-
щий, впалогрудый, похожий на захолустного дьякона (он
и был дьяконом до войны), заволновался и замигал.
— План верный, товарищ командующий, что и го-
ворить, а мои ребята хоть и через воду — все равно пе-
репрут. Только я ведь докладывал: разутые, раздетые
все, как один. Железная после операции вся оделась—•
44
они, изволите видеть, первые склады захватили! А за
что мои страдали? Как?
— Относительно обмундирования мне известно,—
сказал командарм, — но нет нарядов из центра. И во-
обще... У Республики едва ли есть. За террасой все
оденутся!
Он встал каменный, чужой мирным сумеркам избы.
— Оперативных поправок нет?
Очевидно, не было: все молчали. План был принят —
он висел над глухой сосредоточенностью полей. В них
снилась невозможная горящая ночь.
В пасмури слышались, близились идущие шумы.
Как в бреду, где-то в далеком кричали лошади и
люди.
Командарм вышел на улицу.
В сумерках, жидко дрожавших от множества ко-
стров, шли горбатые от сумок, там и сям попыхивая
огоньками цигарок. Земля гудела от шагов, от гнета
обозов; роптал и мычал невидимый скот. В избах наби-
лись вповалку, до смрада: в колеблющейся тусклости
коптилок видно было, как валялись по избам, по полу,
едва прикрытому соломой, стояли, сбиваясь головами
у коптилок, выворачивая белье и ища щасекомых. Ме-
жду изб пылали костры; и там сидели и лежали, ва-
рили хлебово в котелках, ели и тут же, в потемках, при-
саживались испражниться; и вдоль улйц еще и еще
горели костры, галдели распертые живьем избы, и смрад-
ный чад сапог, пота ног, желудочных газов полз из две-
рей. Это было становье орд, идущих завоевывать пре-
красные века.
Командарм подошел к костру. На колодах кругом
сидели несколько; кое-кто, сутулясь, мешал ложкой в
котелке; обветренный и толстомордый парень, оголив-
шийся до пояса, несмотря на мороз, озабоченно искал
в лохмотьях вшей и бросал их в костер; у костра лежал
пожилой, в австрийской шинели и кепи, глядя на огонь
из-под скорбных полузакрытых век; и лежали еще без-
ликие. Сколько бездомных костров видели они в далеких
затерянных скитаньях... Из тьмы подошел командарм,
на него взглянули мельком: велик мир, бесконечны др-
роги, много людей подходит к бездомным кострам... По-
луголый рассказывал:
л— Есть там железная стена, поперек в море упер-
лась, называется терраса. Сторона за ней ярь-пески,
45
туманны горы. Разведчики наши там были, так сказы-
вают, лето круглый год, по два раза яровое сеют! И жи-
вут за ней эти самые елементы в енотовых шубах, ко-
торые бородки конусами: со всей России туда набежа-
лись. А богачества-а-а! Что было при старом режиме,
так теперь все в одну кучу сволокли!
— И опять оки'хозяева, — сказал лежачий от костра.
Полуголый обозлился и хлестнул об землю лохмоть-
ями:
— Хозяева, в душу их мать!..
— Подожди, домой придешь, и ты хозяином бу-
дешь!
— До-мой-ой!.. А ежели вот у этого, — парень ткнул
пальцем в пожилого в кепи, — и дома-то нет, кругом
один тернаценал остался? Што?
Лежавший поднял на него мутные добрые глаза:
— У бедних дому нема. Една семья, една хата —
интернационал.
— Эх, друг! — хлопнул его по спине парень и за-
ржал.— Все книжки читаешь, умна-ай!
Сутулый от котелка хихикнул:
—- А ты, Микешин, все больше насчет жратвы? Им-
настерка-то где? Ох и жрать здоровый, чисто бык!
— Верно, что бык, — отозвались лежавшие.
— У нас в деревне у дяде бык был, такой же на
жратву ядовитый, так уби-или!
— Ха-ха-ха!..
Микешин тоже смеялся, открыв широкий крепкозу-
бый рот.
— Вот когда в Цаплеве стояли, — сказал он, — так
кормили: иошенишный хлеб, аль сала, аль свинина,
прямо задарма. Вот кормили! А теперь народу нагнали,
братва все начисто пожрала. Вот мы этих енотовых по-
щупам, погоди, погуля-ам!..
Кто-то из лежавших изумленно и смутно грезил, кор-
чась в нагретой стуже:
— Боже ж, какая есть сторона!..
— А может, брешут,— хмуро сказал другой; оба
легли на локтях, стали глядеть на огонь задумчиво и
неотрывно.
Сутулый исподлобья взглянул на командарма, гре-
ющего руки над костром, и спросил:
— Вот вы, може, ученый человек будете, скажете:
правда ли, если мы этих последних достанем, так там
46
столько добра напасено, что, скажем, на весь бедный
класс хватит? Или как?
Командарм улыбнулся каменной своей улыбкой и
ничего не ответил.
Что сказать? Он знал, что над этой ночью будет
еще, горящая и невозможная; в огненной слепоте рож-
дается мир из смрадных кочевий, из построенных на
крови эпох...
Из потемок оглянулся: у костра сели в кружок около
полуголого, хлебали из котелка, говорили что-то, пока-
зывая в темь, наверно, о той же чудесной стране Дайр.
В избах хлопали двери, кто-то, оберегая смрадное
тепло, кричал: «Лазишь тут, а затворять за тобой царь
будет?..» За околицей, в темном, цвела чудесная бирю-
зовая полоса от зари; в улицах топало, гудело желе-
зом, людями, телегами, скотом, как в далеком столетии.
И так было надо: гул становий,'двинутых по дикой зем-
ле, брезжущий в потемках рай—в этом было мировое,
правда.
ill
Целый день шли войска...
С рассвета двинулись конно-партизанские дивизии.
Запружая дороги, лавой катились телеги с пулемета-
ми, мотоциклетки, автомобили со штабами и канцеля-
риями, подтрясывались конные с пиками, винтовками и
палицами, высматривая зорким озорным глазом, нет ли
дымка за перевалом. И если показывался дымок, де-
ревня— сваливалось все в кучу, задние с лету шараха-
лись на передних: начиналась дикая скачка на дымок,
на околицу — с пиками наперевес, с криками
«дае-о-ошь!». В улицах, сразу пустеющих, сползали на
скаку, брюхами с лощадей, жгли наскоро костры, ша-
рили по погребам, варили баранов, ели, рыскали за
самогонкой, гоняли девок — и снова, вскочив на
коней, относились, как ветром, в версты, в мерзлую
пыль.
Впереди скакал слух: конные идут.
У мостов еще с ночи стояли мужики с подводами:
через мосты было не проехать, надо было ждать, когда
схлынет волна... Мужики обжились, распрягли лошадей,
варйли в ведерках снедево, спали, а то прохажива-
лись, переругиваясь от тоски. Сзади подъезжали еще,
47
останавливались; гомоном, ярмарками кишело в полях
у мостов.
От Тагинки примчались и тут же круто застопорили
армейские автомобили. С .машин гудели в упор в еду-
щих сиплыми пугающими гудками; адъютант бегал по
мосту, едва не попадая под ноги лошадям, кричал, по-
трясая револьвером, но безуспешно: глухая сила хлеста-
ла через мост, спершись стеной и не пропуская никого.
Черноусый в бурке нагнулся с седла к командарму и,
дерзко подмигнув, крикнул:
— Посидишь, браток! Закуривай! Га!
С трудом рванулись из клокочущих летящих лав на-
зад—к Тагинкё, чтобы взять в объезд. И сразу обе ма-
шины ринулись, словно спасаясь, — и сразу рухнуло ги-
ком, засвистело сзади и заревело тысячами горл; от-
ставшие неслись, нахлестывая лошадей, на автомобили,
на близкий дымок. Командарм оглянулся: оторвавшись
от толп, падали в зияние дорог автомобили, за ними,
словно предводимое вождями, неслось облако грив, пик
и развевающихся в ветер отрепий. Ревели, дико и
пугливо машины вождей; мчалась ножовщина, сши-
баясь друг с другом осями, сворачивая плетни и вет-
хие палисаднички, улицы тонули в звякающем же-
лезе, вопле бубнов, визге лошадей. Командарм силился
подняться, его сбивало ветром — в ветер, в гик злобно
кричал:
— Молодцы! Блестящая кавалерийская атака!..
Селом зачертили машины — в пустые пролеты — в
степь. Из штаба дивизии глядели недоуменно, в штабе
бросили работу, липли к окнам: все хотели увидеть зна-
менитые полки, овеянные ужасом и красотою невероят-
ных легенд. Пылью и гомоном крутило улицы. За пылью
и гомоном в полдень разграбили дивизионный склад
с фуражом; гикая, метались по задворкам, высматривая
у мужиков и по штабным командам лошадей; которых
посытее брали себе, а взамен оставляли своих, мокрых
и затерзанных скачкой. То и дело запыхавшиеся прибе-
гали в кабинет к начдиву — доложить; в кабинете то-
пали ногами, материли в душу и в революцию, — улицы
крутили пылью, гоготом, стоном; дьяволы мчались, ска-
лясь на штаб.
В переулке остановили вестового Петухова, подавав-
шего лошадей комиссару: в лакированную пролетку пе-
реложили молча. пишущую машинку и пулемет, поверх
48
всего посадили рябую девицу в шинели и велели ехагь
за собой.
Петухов было фыркнул:
— Ну-ну, шути, да не больно!.. Я тебе не собачья
нога! Я от комиссара штаба, за меня ответишь, брат!..
В это утро выряжен был Петухов в новый френч и
галифе, нарочно без шинели — на зависть тагинским
девкам, и ехал с фасоном, держа локти на отлет. Кон-
ные оглядели его озорными, смеющимися глазами и
фыркнули:
— Вот фронтовик, а!..
Черноусый в бурке подскакал, танцуя на коне, по-
кошачьи изловчился и переел лошадей нагайкой.
— Га!..
Лошади встали на дыбы, упали и понесли. И сзади
тотчас же загикало, засвистало, рушилось и понеслось
стеной. Вот-вот налетит, затопчет, развеет в пыль. В гла-
зах помутилось. «Несут, ей-богу, несут»,— подумал Пе-
тухов, закрыл глаза, сжал зубы и вдруг — не то от
злобы, не то от шалой радости — встал и навернул еще
раз арапником по обеим лошадям...
— Держись! — завопил он в улюлюканье и свист.—
Разнесу! Расшибу, рябая бандура!..
Так и унесло всех в степь.
Пели рожки над чадными становьями пеших. В мо-
розных улицах, грудясь у котлов, наедались на дорогу;
котлы и рты дышали паром; костры стлали мглу в
поля. А небо под тучами гасло, день стал дикий, без-
донный, незаконченный; тело отяжелело от сытости,
а еще надо было ломить и ломить в ветреные версты,
в серую бескрайнюю безвестень. Где еще они, ярь-пески,
туманны горы?
Микешин от скуки покусал сала, потом подошел к
впалоглазому в кепи, лежавшему у завалины с книжкой,
и сказал тоскливо:
— Юзеф, што ты все к земле да к земле прилажи-
ваешься? Вечор тоже лежал... Тянет тебя, што ли? Не-
хороший это знак, кабы не убили.
Юзеф слабо улыбнулся из-под полузакрытых век.
— А что же, у мене никого нема. Ни таты, ни
мамы. За бедных умереть хорошо, бо я сам быв
бедний.
3 Зак. № 426 49
За околицей налегло сзади ветром, забираясь под
шарф и под дырявый пиджак. Микешин глядел на ша-
гающего рядом Юзефа: и о чем он думает, опустив в зем-
лю чудные свои глаза? И дума эта вилась будто по миру
кругом в незаконченном дне, в бездонных насупленных
полях — о чем?.. В дали, в горизонты падали столбы,
ползли обозы, серая зернь батальонов, орудия. По доро-
гам, по балкам, по косогорам тьмы тем шли, шли, шли...
И еще севернее — на сотню верст, где в поля, ис-
топтанные и сожженные войной, железными колеями об-
рывалась Россия—ветер стлал серой поземкой по ме-
жам, по перелескам, по льдам рек, голым еще и серым,
где в степных мутях свистками и гудками жила узловая
станция — кишел народ, мятый, сонный, немытый, ва-
лялся на полях и на асфальте; на путях стояли эше-
лоны, грузные от серого кишащего живья, и платформы
с орудиями, кухнями, фуражом, понтонами — шли тылы
и резервы N-й армии на юг, к террасе.
И еще с севера, скрипя и лязгая, шли загруженные
эшелоны, перекошенные от тяжести, вдавливающие
рельсы в грунт, с галдежом, скандалами, песнями. С ва-
гонов кричало написанное мелом: «Даешь Дайр!» Эше-
лоны шли с севера, из России, из городов: в городах
были голод и стужа, топили заборами, лабазы с былым
обилием стояли наглухо забитые, стекла выбиты и за-
паутинены, базары пусты и безлюдны. Но в голодных и
холодных городах все-такй било ключом, кипело, живело
и вот изрыгало на юг громадные эшелоны — за хлебом,
за теплом, за будущим. С севера великим походом шли
города на юг — телами пробить гранитную скалу, за ко-
торой страна Дайр.
Из грязных теплушек валил дым: топили по-черному,
разжигая костры на кирпичах, прямо на полу и, когда
холодно, ложась животом на угли. Но чем южнее, тем
неузнаваемей и чудесней становилось все для север-
ных— обилием былого, уже затерянного в снах; а на уз-
ловой станции, преддверии юга, продавали давно неви-
данное — белый хлеб, сало, колбасу. Распоясанные, за-
сиженные копотью, сбегав куда-то, возвращались и, за-
дыхаясь, кричали в вагоны своим: «Братва, айда, здёсь
вольная торговля, ий-богу!» — «А де ж базар?» — «А там
за водокачкой...» За водокачкой стояли телеги с мясом
и тушами, бабы с горшками и тарелками, в которых
было теплое — жирный борщ с мясом”, стояли с салом,
50
коржами, молоком, буханками пшеничного... И из эше-
лонов бежали туда косяками с бельем, с барахлом, на-
вив его на руку для показа; и тут же сбывали за водо-
качкой и проедали, садясь на корточки и хлебая теплый
борщ, таща в вагоны сало, мясо, буханки. В ваго-
нах уборных не полагалось, и, расслабленные, распер-
тые от обильной пищи, лезли тут же под тормоза и в
канавы.
Поезда шли только на юг: на север не давали паро-
возов силой. Едущие на север жили на станции неде-
лями, обносились, проелись, обовшивели, очумели от дол-
гого лежания по перронам и полям, но надежды уехать
все-таки не было. Напрасно представитель Военных Со-
общений, черненький, ретивый, в пенсне и кожаном, бе-
гал по станции, звонил в телефон, висел над аппаратом
в телеграфной, писал, высунув язык от гонки: на узловой
пробка, на узловой катастрофическое положение и са-
ботаж, самовольная прицепка паровозов, угрозы ору-
жием — «прошу виновных привлечь к суду Ревтрибу-
нала, единственная мера — расстрел»... напрасно с пе-
ной на губах кричал озлобленной, понурой и голодной
толпе, ловившей его на перронах, что первый же паро-
воз, тот, который подчинивается сейчас в депо, пойдет
на север, — все шло своим чередом, как хотелось молоту
множеств, падающему в неукоснительном и чудовищном
ударе на юг. И на паровозе, предназначенном на’север
и чистящемся в депо, кричало уже на <Тугуннои груди ме-
лом: «Даешь Дайр!» — у депо дежурили суровые и гру-
бые с винтовками наперевес: ждали. И па перронах
ждали, глядя в провалы путей жадными, впалыми и по-
лубезумными глазами — видели только муть, тоску, без-
надежье...
А в отяжелевших от сытости эшелонах ухало и то-
пало. Из дверей черный ядовитый дым полз на пути,
в дыму кричали:
— Ох-ох-ох! Безгубный шинель загнал! Полпуда
сала, три четверти самогону! Гуля-ам!
Чумазый плясал над дымным костром распоясанный,
с расстегнутым воротом гимнастерки. В теплушке словно
медведями ходило.
— Крой, Безгубный! Ах, ярь-пески, туманны горы!
Зажаривай! Не бойсь, там те и без шинели жарко бу-
дет!..
— На теплы дачи едем!..
51
Из депо выкатывался паровоз, тяжело пыхтя; маши-
нист, перегнувшись над сходней, курил и хмуро ждал.
Платформу запрудили едущие на север с мешками, с уз-
лами, зверели, толкались кулаками и плечами, проби-
ваясь к путям, чтобы не опоздать и не умереть. Ждав-
шие с винтовками вывели паровоз на круг, схватились
за рычаги и повернули чугунную грудь к югу. Началь-
ник эшелона вынул наган из-за пояса и сказал маши-
нисту: «Веди к эшелону на одиннадцатый путь». Маши-
нист хотел протестовать, но подумал, бросил с сердцем
окурок и повел. Помощник успел сбежать.
По эшелону обходом кричали:
— Эй, кто за кочегара поедет? Товари-шши!
— Вали Безгубнова, он летось у барина на моло-
тилке ездил, всю механизму знает! Погреется заодно без
шинели-то!
— Без-губ-на-а-а-ай!
Паровоз стал под эшелон. На платформах завыло:
обманутые материли, махали кулаками, выбегали на
рельсы, дребезжали по стеклам станции, грозя убить.
Черненький бегал вдоль вагонов, терял пенсне и ис-
ступленно кричал:
— Это бандитизм! Разбой! Вы все графики спутали,
вы подводите под катастрофу всю дорогу! Помните —
это даром не пройдет!.. Я по проводу в Особый отдел!
— К черту! — отмахивался начальник эшелона. —
У меня боевой приказ в двадцать четыре ,часа быть на
месте — плевал я на ваши графики. Дежурный, отправ-
ление!
— Расстрел!.. — вопил черненький.
В эшелонах зазвякало, задребезжало, рявкнуло ты-
сячеротым «ура» и пошло всей улицей.
— Дае-о-о-о-ошь!..
На подъезде за станцией паровоз забуксовал: пере-
груженный эшелон был не под силу. Распоясанные вы-
скакивали из дыма и галдежа на насыпь, рвали ног-
тями мерзлый песок, подбрасывали его на рельсы, чтобы
не скользило; ухали, подталкивали, подпирая плечом, и
в то же время откусывали от пшеничной буханки и про-
пихивали за отторбученную щеку.
— Таврило, крути! Таш-ши, миленок!
— Безгубна-а-ай, поддава-а-ай!..
— Го-го-го!.. Гаврюша, крути!..
— Таш-ши!..
52
В перелески, в мутную поземку волокли красную гро-
мадину плечами, а впереди черный, с налитыми огнем
глазами натужно пыхтел, крича хриплыми гулами
в степь: «Дае-о-о-ошь!..»
IV
И за террасой готовились. В Дайре провожали на
фронт эскадрон, свою надежду, самых храбрых и бле-
стящих, чьи фамилии говорили о веках владычества и
славы.
Наутро они уходили в степи — к конному корпусу
«мертвецов» генерала Оборовича, — того, который
сказал:
— Идя в бой, мы должны себя считать уже убитыми
за Россию.
Был незабываемый вечер в Дайре. Он вставал брил-
лиантово-павлиньим заревом празднеств, он хотел про-
сиять в героические пути всеми радугами безумий и нег.
Музыка оркестров опевала вечер; бежали токи толп;
женские нежные глаза покоренно раскрывались юным.—
в светах мчавшихся улиц, в качаниях бульварных аллей.
В прощальных кликах приветствий, любопытств, ласк
юные проходили по асфальтам, надменно волоча зер-
кальные палаши за собой; в вечере, в юных была кра-
сота славы и убийств. И шла речь; во мраке гудело
море неотвратимым^ и глухим роком; и шла ночь упо-
ений и тоски.
Был круговорот любвей; встречались у витрин,
у блистающих зеркал Пассажа, в зеленоватых гостиных
улиц, у сумеречных памятников площадей. Девушки на
ходу протягивали из мехов тонкие свои драгоценные
руки; звездные глаза смеялись нежно и жалобно: их
увлекали, сжимая, в качающуюся темь бульваров, голос
мужественных, тоскующих шептал:
— Последняя ночь. Как больно...
Горя хрустальными глазами, метеорами мчались ма-
шины— через гирлянды пылающих перспектив — во
влажные ветры полуостровов, с повторенными в море
огнями ресторанов (там скрипка звенит откликом цы-
ганского разгула...), в свистящий плеск ветвей и парков.
Сходили в муть, в обрывы, там металось довременное
мраком, нося отраженные звезды, шуршали колеблемые
над ветром покрывала. Прижимались друг к другу
53
холодноватыми от ветра губами, полными улыбок и
тоски, и волны были сокровенны и глухи, волны бросали
порывом это хрупкое, драгоценное в мехах к нему, ухо-
дящему, и девушка, приникая, шептала:
— Мне сегодня страшно моря... Я вижу глубину, она
скользкая и холодная.
И он, может быть, этот, ушедший с любимой к морю,
может быть, другой — там, в городе, у сумеречного па-
мятника, может быть, еще третий и сотый — в ослепи-
тельных зеркалах ресторанов — повторял, торопясь и
задыхаясь:
— Любимая моя, эта ночь — навсегда. В эту ночь —
жить. Мы выпьем жизнь ярко! Ведь любить — это кра-
сиво гореть, забыть все...
И снова в туманы, теплые и влажные, кричала си-
рена, летели, валясь назад, загородные кварталы, тру-
щобы бедноты и керосиновых фонарей. А влажные ту-
маны просвечивались и утончались; раздвигались; рос
и ширился в золотистом зареве ночной полдень улиц;
раздвигались перспективы, и туда, ринувшись, потеряв
волю, мчались машины — в арки громадных молочно-
голубых сияющих шаров.
Это Доре.
Замедлен лет плавных крыльев; еще толчок — и ста-
ли, качнув бриллиантовую эгретку. И еще и еще, обе-
гая полукруги, стекались авто; убегали; спархивали,
стопывали на асфальт. засидевшиеся телеса, ловко
оталиенные, цилиндры, плюмажи миссий, драгоценные
манто, аксельбанты сиятельных: туда — в кружащиеся
монументально зеркальные зевы.
Уютный подъем лестниц, сотворенных из ковров, ра-
стений и мягких сияний; утонченно почтительные по-
клоны "лакеев, перехвативших на лету крошечное паль-
то бритого, тучного, с обвислой сзади оливковой ше-
ей; у зеркал на повороте краткая остановка блистаю-
щей подруги, и за ней причмокивающийся, щурящийся
через монокль взгляд того, с выпяченной челюстью,—
в атласный вырез, в розовую роковую теплоту.
Спутник сжал рукой палаш. «Наглец!» — хотел крик-
нуть он, но девушка умоляюще, нежно сжала локоть.
— Это же известный... парижский... Z... — Офицер
почти приостановился, подавленный: это качались на
лакированных носках, шаловливо посмеиваясь, сумас-
шедшие алмазные россыпи, мировая -нефть... Надо было
54
улыбнуться, хотя бы дерзко, но любезно — в прищурен-
ный испытующий монокль, в бриллиантовую запонку
пластрона — мы не варвары, мсье!
И за портьерой открылась сияющая вселенная: про-
боры, орхидеи, белые снега грудей, бриллианты, го-
лые плечи, летящие в блаженную беспечность, выдохи
сигар, смех и говор беспечных. Пьянели залы, опевае-
мые смычками. Был вечер у Доре, был час, когда —
жить...
Рты, раскрываясь, давили горячим небом нежную
сочащуюся плоть плодов; распаленные рты втягивали
тонкое, жгучее, на свету драгоценно-мерцающее вино;
челюсти, сведенные судорогой похоти, всасывали, при-
чмокивая, податливое, жирное, пряное.
Смычки окутывали мир.
Вставали — откуда? — преисполненные спокойствия и
обилия вечера, любовь на закате, у тихого дома. Кача-
лись задумчиво головы опьяненных; грустили ушедшие
куда-то пустые глаза, смычки терзались в идиотическом
качании, мир исходил блаженной слюной. Шептали,
безумея:
— Любимая, мы будем потом навсегда, навсегда...
Будет ваш парк в Таврии, пруды, солнце... Мы будем
одни! Парк, звезды твоих глаз... Как хочется забыть,
жизнь моя!..
— А завтра?
И вдруг тревогой колыхнуло из недр, смычки крича-
ли режуще и тоскливо: дуновением катастрофы пронес-
лось через зальные, бездушно сияющие пространства.
И тучный, с выпяченной челюстью, задрожав, встал в
ужасе из-за дальнего столика, выкатывая мутнеющие
глаза...
...А на много верст севернее — за дебрями ночи —-
из дебрей ночи прибежали двое в английских шинелях
с винтовками и, показывая окоченевшими, дрожащими
пальцами назад, крикнули заглушенно: «Там... идут...
колоннами... наступление...» Зазвонили тревожно теле-
фоны из блиндажных кают в штаб командующего,
ночью проскакали фельдъегеря в деревни — будить ре-
зервы; зевы тяжелых орудий, вращаясь, настороженно
зияли в мрак: три дивизии красных густыми лавами
ползли на террасу. Из штаба командующего, поднятого
на ноги в полночь, звонили: немедленно открыть ура-
ганный огонь по наступающим, взорвать фугасы во
55
рвах. И в ночь из-за террасы ринули ураганное: пели
все сотни пулеметов, винтовки; и еще громче стучали
зубы в смертной лихорадке. Прожекторы огненными
щупальцами вонзились ввысь — и вот опустились, лег-
ли в зеадлю, в страшное, в оскалы ползущих... но не бы-
ло ничего, пустые кусты трепыхались в ноябрьском вет-
ре, мглой синела безлюдная ночь, огненный ураган бе-
зумел и вихрился в пустых полях...
— Ложная тревога! — кричали бледные в телефон —
в штаб командующего; и те двое, прибежавшие из ночи,
тут же легли у каюты начальника дивизии, пригтрелеи-
ные из нагана в затылок...
А из стен, с высот, нависло, росло... и вдруг под
рукой надменного метрдотеля погасли огни, где-то визг-
нул гонг; подтолкнутый ужасом, тучный рванулся, при-
жимая вилку к груди, коротенькими безумными шаж-
ками добежал до прохода и упал, хрипя. Взвыл гонг,
погасли залы, эстрада вспыхнула малиновым неземным
сиянием сквозь вязь волшебных растений — и знамени-
тая баядера выплыла из сказок, из томных лун, зало-
мив голые руки в алом... Бесшумные лакеи бежали к ле-
жавшему, бережно и почтительно будили за плечо, но
поздно: на губах трупа густела и склеивалась кровь.
И когда в темноте — в пьяное, и жадное, и тоскливое
дыхание притянули девушку, она сказала изнеможен-
ными и влажными глазами: да, можно все.
Глыбы черных этажей, пылающие изнутри. Камен-
ные аллеи улиц, пустые, чуткие после полуночи.
Остановиться у фонаря, глядеть в тихое насильствен-
ное сияние его в безглубом. Не кажется ли, что делается
потайное, страшное за зловещей безмолвью? И им,
в этот час и им, несущимся на бесшумных крыльях
авто, сжимала сердце тревога, плывущая с пиров.
Раскрывались зеркальные зевы гостиниц, распахи-
вались портьеры комнат — принять тех, кто возвращался
спать, усталый, со ртом, раскрытым от наслаждений.
И тени бесшумных любовников скользили в зеркальные
двери: цилиндры, ярь губ, заглушенный стук палаша,
черный шелк Коломбины, опущенный на бровь. И в каби-
нетах— в полузакрытых, упоенных глазах, в объятиях
последней ночи — были закаты гаснущих, уходящих
веков...
56
А па площади, оцепленной гигантским канделябром
голубых фонарей, — и где еще скрещивались фонари,
кварталов, где звонко и безлюдно процокали последние
рысаки, летя в кварталы, — безглубая тишина поднялась
ввысь, в мировое пространство. Никла вселенская ночь.
В мутной обреченности площадей, на фонарях висе-
ли трое, с покорными понурыми головами, глядя себе
в грудь черными впадинами глазниц...
К зеркальным дверям поднесли рысаки. Двое подни-
мались в темно-красные, отуманенные мерцанием сла-
бых светов бесконечные ковры. За портьерой, полной
мрака и невнятного благоухания чужих, любивших и
ушедших, повторилось вдруг: площадь, опрокинутая в
безглубое, трое висящих — и где-то в черных пропастях
та полночь, жуткая ужасом и позором... Девушка при-
жала ладони к бьющимся вискам; вдруг в близящиеся
к ней с мукой и обожанием глаза тихо засмеялась,
слабея...
И шла или стояла ночь. В сказках щемящим разгу-
лом выл бубен баядеры. Или звенели неисходным про-
странства гаснущего рая, в зеленоватом тумане заката,
последнего на земле...
...Пели гудки в тусклом брезжущем окне. Рождался
день; он был, может быть, в навсегда. Распахнули
окно — в зелень высот, в холодное играние рассвета. Пе-
ли гудки; по асфальтам — из переулков, из кварталов,
из турщоб шли, тихо перекликаясь, безликие, утренние;
шли в гудки.
В непогасших лампах комнаты тени вчерашнего, не-
проснувшегося, жили еще. В постели клубочком спала
подруга, и был округл в усталой синеве драгоценный
очерк ресниц, ушедших в себя.
В жестокой ясности восхода свет. Утренние шли в су-
мерках асфальтов, за ними четкость будней, жизнь. Кто-
то, бережно цёлуя руку спящей, глядел, тускнея, в окно;-
день оттуда восходил, как смерть.
На побережье готовились к смотру красных войск.
С севера пришли армейские и дивизионные автомо-
били со штабами. С курганов открывался плац, в
57
песках, под полуобгорелой ржавой крепостью, остав’
шейся от древних степных царств; там знамена и серые
квадраты батальонов зыбились под ветром, как поле; от
опушки изб кольцом теснился глазеющий народ. Был
день перед боем, день, нахмуренный в безвестье...
На плаху среди поля вбежал без шапки косматый,
чернобородый, . яростный. Шинель, сбитая ветром,
сползла с плеч. Волосатые голые руки выкинулись из
гимнастерки, кричали в поле, в толпы, в бескрайний вет-
реный день:
— То-ва-ри-шши!
О последних черных силах, о солнечных рубежах, за
которыми счастье, хлеб и вечера, как золотеющая рожь.
Хмурые батальоны молчали; бесшумно знамена плеска-
лись под плахой в желтом свечении горизонтов. А в го-
ризонтах лежали поля, рыжие, пустые, холодные; и
бесконечная тусклая свинцовость вод, уходящих в
муть: там была жуткая лютая грань, оплаканная ма-
терями.
Гигантское полотно колыхалось за плахой. И как
призраки — в серых ветрах дня Красный и Черный
всадники сшиблись в вышине грудями огненноглазых,
бешено вздыбленных коней. Кто кого раздавит в сумер-
ках полей, в смертельной схватке... А за ними уходит
ночь, и брезжут рассветы красной золотеющей рожью.
Это есть наш последний и решительный бой...
Оркестры играли. Просторы мощно и задумчиво раз-
верзались, грустью наплывали замедленные певучие
ветры — колыхались знамена застывших батальонов. Пе-
ретянутые ремнями накрест ротные семенили перед
фронтом. Около командарма, в центре круга, собрались
начдивы, начальники штабов. Начальник Пензенской
дивизии, мигая озябшими веками, нагибаясь, обидчиво
говорил:
— Вы на моих-то картинок обратите внимание, то-
варищ командующий. Не солдаты, а босая команда! Где
же справедливость, а?
С рядов летела придушенная команда:
i — Ра-вня-й-айсь!
И вдруг, после паузы застывших движений, ревом
барабанов и труб ударили два оркестра. Колоннами по-
взводно шли батальоны. Тысячи ног били по песку мер-
68
но и четко. И в степи от медных и певучих стенало от-
кликом — гортанно и грустно; пело о бурях и прекрас-
ных веках.
Был на рубеже времен желтый день в полях, и в нем
торжественный церемониал толп на пепелище пышного
когда-то степного царства, командарм и штабы, вытя-
нувшиеся, пронизанные трепетом идущего, и ветры, и
безвестье неизжитых, неизволноватых дней...
И под пенье гортанных торжественных фанфар ви-
дел командарм — шли, наступая, ряды, кося глаза ему
в грудь. И впереди всех двое — их встречал он где-то:
они запомнились навсегда, как рыжий день, как мерз-
лые пустые поля. Крайний с фланга рослый парень
с красным, обветренным лицом, в черном заплатанном
пиджаке, в опорках, укутавший щею в красный дыря-
вый шарф; и рядом с ним в австрийской аккуратной
шинели и кепи, усатый, пожилой, с крупными прозрач-
ными глазами.
Пели трубы, тысячи ног били в песок, и желто про-
свечивали поля — безгранные; и эти двое шли (за ними
еще тысячи и тысячи); в пенье фанфар шли упоенные —
на крыльях сказок о прекрасных веках — парень в ды-
рявом шарфе, закинув голову и орлом глядя вперед;
другой, опустив веки (крупные и впалые), утонув в да-
лекие брызжущие сны...
Проходили ветераны Пензенской дивизий. Коман-
дарм знал эти израненные, окровавленные остатки.
— Спасибо, товарищи!
— Служ... ба... ре-во-лю-ции!
Железные птицы гудели в зените. Закат из-за дале-
ких рубежей дрожал в облаках и на крыльях птиц чер-
вонной дрожью. Как ветры, бесконечные, безликие про-
влекались ряды, в безвестье, в забвенные волны. И
вдруг прекрасным стал вечер или чудесным переход
фанфар: будто уже нет тех, кому надо завтра уме-
реть, будто прошли века, прошумели все бури, и
стерлись все письмена, и в успокоительных прекрасных
временах поют чудесные песни о них, полузабытых
тенях...
Проходили части Железной дивизии, с причудливым
разнообразием обмундированные: в гусарских венгерках,
в офицерских шинелях стального цвета. В командарма
впивались огрубевшие от боев и походов глаза — и в
них было то же оторванное, чуждое уюту, бездомное,
59
как у него самого. Шли тупомордые броневики, безгла-
зые и безлюдные, слепо поводя щупальцами пулеметов.
Рыча гигантскими гусеницами, ползли глыбастые сустав-
чатые танки, те самые, о взятии которых насмешливо
кричали советские радио в Париж; еще не смыта была
внутри кровь перерезанных белых танкистов. И белые
танкисты, оставшиеся в живых, вели танки церемониаль-
ным маршем; дойдя до командарма, они заставили вер-
теться волчком их чудовищные, потрясающие землю
тела: танки отдавали честь командарму. И шла суета
сует. Газетные корреспонденты бегали в соседние избы,
лезли в погреба заряжать фотографические камеры, на-
род глазел и ахал. Сумерки падали, омрачая пески.
Вечерея, уходили ряды вдаль, в темно-кровавую
пыль, в навсегда. Суровей и настойчивей дул ветер на
залив. В волны, в муть гортанно грустили трубы, уходя
в бесконечное.
VI
И еще день прошел.
Вечером — в Дайре — восходило огненным:
СВОДКА ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Красные перешли к позиционной войне.
Наши части завершают перегруппировку, готовясь к очередному
разгрому большевистских армий.
На всех фронтах спокойно.
И еще через минуту:
— ДОРЕ —
Несравненнейшая
А н ж е л и ка Асти
Балет! Открытая сцена до утра!
Элегантные кабинеты!
Но кто-то уже проведал о красных лавах на побе-
режье. На тайной неуловимой бирже платили безум-
ное— бриллиантами и золотом, чтобы попасть в секрет-
ный план эвакуации, лежавший в несгораемом шкафу
в кабинете главкома. Панический шепот шелестел в
улицах. На рейде дредноуты дымили загадочно и
угрюмо.
60
Ночью в степном городке горели факелы и строился
корпус генерала Оборовича. Под звездами, сняв шап-
ку, генерал сказал:
— Прощайте, братцы. Помните: идя в бой, мы долж-
ны себя считать уже убитыми за Россию.
Корпус шел в боевой резерв: его берегли для реша-
ющего момента. Первым скакал в степь офицерский
эскадрон. Просмеявшись беспечной лихостью, гинул он
в пустыню, где замкнулась за ним ночь навсегда...
И еще позже в селе Перво-Николаевка, что на север-
ном берегу залива, было так:
Красноармеец Микешин, сидя перед пылающей печ-
кой в волостном исполкоме, где разместился взвод, доел
последнее сало, аккуратно подрезая его ножичком,. обтер
тряпичкой рот и, посасывая зубом, сказал товарищу,
что лежал животом на полу:
— Кончил, Юзефка. Ну и сала же попалась вкус-
ная, лихо ее забери...
И лег рядом.
В избу вошел секретарь исполкома, кривой инвалид,
которого заели в боковушке солдатские вши. От бес-
сонницы решил кое-что поделать для завтрашнего празд-
ника— годовщины, полез по лавкам протирать портре-
ты вождей, потом из канцелярского шкафа достал два
красных свертка. Солдатам крикнул:
— Помогите,, што ль, лозунга-то развесить, эй!
Никто не встал: все спали, а то нежились, жмурясь
и затягиваясь из цигарок. Кривой протянул один пла-
кат над окном, но для другого не хватило места, да и
работать одному разонравилось. Микешин поднял го-
лову и от безделья разбирал:
МЫ — МИРУ — ПУТЬ — УКАЖЕМ — НОВЫЙ...
Секретарь сел к печке, к теплу, и прикорнул. В пол-
ночь велели собираться. Взводу назначено было идти
в головной колонне, роздали ножницы для резки про-
волоки и гранаты. Микешин подтянул ремешок, погля-
дел на спящего секретаря и взял, подмигнув, оставший-
ся красный сверток.
Ночь стояла без дна, без края; после тепла сонно
и дрожно зяблось. Ротный обходил, считая людей.
— Первое дело, братва, не шуметь, ни гугу... Мы его
на печке живьем сцапаем! Слушать команду...
61
В бездонно-черном белые пожары далеко-далеко иг-
рали, трепетали, качались, вспыхивали огоньками: это
вправо нервничали за террасой, щупая ночь прожекто-
рами и ракетами. На заливе и впереди стоял глухой
морок, шуршала и тревожно гудела только где-то земля.
То шли к берегу тьмы тем с прибрежных деревень, во-
лоча за собой артиллерию.
— Взвод... ар-рш...
Прошли мимо, темных ометов за околицу, полезли
под откосы. За откосами начиналось высушенное вет-
рами морское ложе. Микешин отошел в сторону, снял
опорки и быстро, на ходу, перекрутил ноги плакатом:
старые обмотки истлели, а братва говорила, что при-
дется лезть через море. Впереди колыхались по земле
багровые тени — это на берегу, сзади, жгли костры,
чтобы не сбиться идущим.
И справа далеко-далеко шли и качались белые по-
жары. Они светили в пустые поля, где не шел никто...
А в сухое море сползали из мрака тьмы тем, уже же-
лезом орудия загромыхали по откосам, под мягкое
глухое ржанье, скатываясь в неезженый морок. Голов-
ные ушли далеко. Понемногу скрылись костры, толь-
ко зарева их тлели обманно, призрачно. Микешин
сказал Юзефу: «Друг за дружку давай держатца, бра-
тишка...» И вот стало все глухо, черно и мертво, как
на дне.
Через час взводный учуял что-то впереди и проши-
пел: «Ложись!» Тогда пригнулись к земле и полезли
дальше, сжав зубы...
Так начался знаменитый удар командарма N.
Всю ночь молчали аппараты.
И с рассвета тусклые облака пошли от моря на стра-
ну. В пространства ползли полчища облаков — неслыш-
но, могуче, бездонно. На рассвете тревожные звонили
в кабинет к командарму: «Дуют ветры южных румбов,
восемь баллов...» Из бессонного кабинета верные и чет-
кие шаги отзвучали в сумерках коридоров к аппаратам.
Свинцовый рассвет глядел в окна: рассвет ли, день ли,
годы ли? И опять:
— С частями за заливом связи нет. Слышна кано-
нада на побережье...
Перед террасой с севера лежали полки: ждали.
Вот-вот должно было: вспыхнуть зовами, заревами в да-
леком— за террасой, загудеть из моря позади смятен-
62
ного, не верящего еще противника, и тогда, с севера,
ощетиненным потоком взреветь на террасу — в крик, в
крошево, в навстречу.
Но в облаках, тяжких, лизавших угрюмые, лютые
массивы, уже шел рассвет; за массивами продолжал
лежать враг, хитрый, настороженный, и сзади его все
молчало... На рассвете, не дождавшись, потоком разъ-
яренных, опасливо пригибающихся ,к .земле,' хлестнуло
на террасу и — разбилось о камни: отхлынув, легло че-
ловечьими грудами во рвах, в мглистых плоскостях
плацдарма...
С моря дул ветер.
И с моря бежало ручейками, серо-грязными озера-
ми — бежало хлябями тусклых высот; затопляло дно за-
лива, взрыхленное ступнями тысяч. В слякоти, в. озерах,
глубиневших каждую минуту, хлюпали резервы, бро-
шенные вдогонку ушедшим. Свинцовым поясом стояли
воды у берегов, в водах тонули дороги. Не было дорог.
И опять:
в т- Немедленно, по приказанию командарма...
— Все меры исчерпаны. Связи нет...
На рассвете грозой пробило из-за моря. Это они,
прижатые к берегу множества — прижатые к морю,
в туманы били грозой. В море шли резервы, изнемогая,
по колена в воде; с материка выгоняли деревни в во-
ду— мостить плотины, задержать море. Деревни хлю-
пали базарами в воде, путались ленивыми, вязнущими
телегами, плотины росли — осклизлые, зыбкие, седые —
и таяли тотчас: ветер и воды пожирали их.
Командарм стоял у аппаратов — серый, как тень, от
железной бессонной ночи, может' быть, единственной
в жизни и — в истории. Аппараты молчали... и вдруг —
из дальнего, из прорвавшихся ослепительных снов —
крикнуло грозой:
— Есть. В двенадцать часов без выстрела форсиро-
вана терраса. Противник бежал, угрожаемый красны-
ми дивизиями с тыла. Соединившиеся части атакуют
первую линию Эншуньских укреплений.
Армия была за террасой. Рубеж был перейден.
Полки лежали на солончаковом плато перешейка — пе-
ред последней тройной линией заграждений, опутавших
узкие дефиле озер. Сквозь шестидесятиверстную даль —
через шипы железных проволок, через гарь боя — и
командарм видел уже счастливую синь долин...
63
Армейские автомобили мчали к террасе. Конно-пар-
тизанским дивизиям, еще замешкавшимся у залива, бы-
ло приказано: стянуться на перешеек через террасу. Но
через террасу был переход в двенадцать верст, а с пе-
решейка уже дышало гулом, дрожанием недр — там на-
чиналось... И, хрипя от нетерпения и злобы, конные сва-
лились под берег, ордой забурлили — в воды, в кипя-
щую муть.
VII
Был день — из жизни, из снов ли? — во мгле его
остались седые плескания волн, кому-то понятные пере-
движения в тумане прибрежий — вперед — назад, обре-
ченность переступивших через черту, стоны, матерщина
озверелых, немолчное татаканье, бледные в рассвете за-
рева зажженных хуторов—в избе, на минутку, хлоп-
нулся Микешин бедрами на пол, отвел в сторону потные
волосы и пил, тяжело дыша, из котелка.
— Ну и вода же здесь, Юзефка! Соленая-рассоле-
ная, аж с нее пить хоцца! И железой отдает... Вот ты
какая местность, а!..
И пбтом Юзеф лежал рядом, за бугром, в вечерении
синих озер, и в этот беглый огневой треск отдавал свою
долю, ложась ухом на приклад, едва открывая веки,
усталые, запавшие, — какая мечта, какая боль задними?..
А впереди выло и ахало железом из-за озер, рвалось,
ураганилось сзади, в безводных солончаках, заревами
вздыбливалась пыль, и в пологах пыли, в ночах пыли и
дыма тупо и лениво ползли суставчатые серые громады
в синь озер.
— Садуны-то! — всхлипнул Микешин. — От зажва-
рят теперь! Крепись, Юзефка!..
Танки шли прорвать- первую линию дефиле. На
хуторе, в пяти верстах сзади, сидел командарм с начди-
вами и штабами дивизий: танки были его воля. За тан-
ками бросить в прорыв всю армию — в последнее, в Да-
ирскую степь. И на минуту вдалеке смолкло татаканье
сотен пулеметов, только ухало и дышало железным гу-
лом в земле — это тапки подошли к окопам, и, не пере-
ставая, били мортиры из-за озер. И вдруг слева застро-
чило, запело, визгнуло медными нитями ввысь — и в
степи, в озера бежали поднимающиеся из-за бугров, бе-
жали пригнутыми, разреженными токами в крик и гро-
64
хот, где танки плющили кости, дерево и железо; из-за
бугров подходили еще, пригибаясь, и тоже бежали, и
за ними еще зыбилось нескончаемое поле масс — до
краев степей, до мутных вечереющих заливов. Это был
вечер, исторический вечер 7 ноября — первый прорыв
левого сектора Эншуньских дефиле.
На карте одноверстного масштаба командарм зачер-
чивал математически рассчитанные параболы движе-
ний. Он думал: эта уже завершение, конец.
Но это было не все. За озерами стоял свежий, не-
растраченный корпус генерала Оборовича: его берегли
к концу. И теперь час настал. Когда левый сектор бе-
лых, окровавленный и разбитый, сползался за вторую
колючую сеть и пешие настигали его железом, сбычен-
ными лбами, глыбами танков — он рванулся с правого,
растекаясь в просторы тучами конных фаланг. Это
с убийственным вращением лезвий, с тусклым холодом
глаз — в бреши живых, теплых, раздавливаемых тел
мчались те, которые уже были убиты.
Была мгновенно прорвана тонкая завеса пеших про-
тив правого сектора. Конные растекались уже сзади —
во взбесившиеся обозы, в марширующие резервы, в ла-
вы опрокинутых, зажимающих головы руками. Корпус
обходил фланг армии. И еще дальше — заходя правым
плечом, корпус выходил в тыл армии. Над армией был
занесен отчаянный удар.
На дорогах, в тылу наступающей армии нависло тре-
вожное. В долах метались спины масс, крики и гиканье
плыли из-за холмов. У хутора, где стоял штаб, рвались
с привязи фельдъегерские лошади, вставали па дыбы,
били копытами по лакированным крыльям автомобилей.
Командарм вышел и глядел в степи: там творилась
смута.
Корпус выходил в тыл армии, загоняя ее в мешок
между дефиле и заливом. Впереди корпуса офицерский
эскадрон лихих, беспечных, смеясь, мчался в СхМерть.
Жадно раздувались ноздри — и в близкой гибели, и в ве-
чере, и в зверинам шатании масс была острая жизнь,
было пьяное, жгуче-одуряющее вино. Им, за которыми
твердели века владычества, верилось в гениальность ма-
невра, в легкость победы над диким, орущим и мечу-
щимся безголовьем.
Командарм был спокоен, может быть потому, что
знал закон масс. От командарма скакали фельдъегеря
65
к конно-партизанским дивизиям с приказанием немед*
ленно выступить на поддержку частям. Но не успели до*
скакать: дивизии уже шли сами, дивизии, мокрые от
усталости и воды, проволочившие свои телеги и пуле*
меты через море, — шли прорвать дорогу в кочевья, где
молоко, мясо и мед. И еще — они хотели пить.
Черной пилой колеблясь в горизонтах — от залива
до залива, тяжко неслась лава коней, бурок, телег, пря-
дающих грив — в вечереющее. Это шел конец. Против
прорыва, зияющего между заливом и скопищами ар-
мии, развертывались гигантским полукругом телеги,
подставляя себя под бешеное падение мчащихся
фаланг.
На левый сектор только еще дошла тревога из ты-
лов. Пешие не знали, куда идти; глыбастые громады,
огрызаясь пулеметами, отползали назад, их били в упор
подкатившиеся почти вплотную орудия. В водовороте
стоял Микешин, большой, с кроваво-красными обмот-
ками на упорно расставленных ногах, кричал в ле-
зущее:
— Юзеф, Юзеф, где же ты? Давай друг за дружку
держатца! Уходют, слышь, Юзеф!..
Из-за второй линии озверелые лезли догонять отхо-
дящих, били гулы, выпыхивали молнии из стальных зе-
вов, расстреливавших почти в упор, на картечь... Во все-
ленском бреду, на земле, под ботами тысяч, лежал
Юзеф — боком, поджавшись, земляной и убаюканный...
или не он, может быть, а еще сотни других. Над ними
кричал Микешин, охрипнув, разевая в гуле будто без-
молвный рот:
— Братишка, аль же в тебя попало, а? Дружок!
Слышь, Юзеф! Эх, друг-то ведь какой бы-ыл...
И, обернувшись к озерам, махал винтовкой4.
— Жлобы!.. Вы! Напоследок и его, а-а-а!..
Рядом, из сумерек, упирался в бегущих ротный, го-
лолобый матрос, тряся маузером, визжал:
— Бежать? Шкурники! Трусы!.. А революция, бога
вашу мать? Первого на месте... сам!.. Назад!..
В этот миг заездил вперед и назад полукруг телег-
на них обрушились, хрипя лошадьми, эскадроны.
И брызнул огонь — с телег, страшных, двигающихся,
разбегающихся, косящих невидимыми лезвиями пулеме-
тов. В конных тучах скрещивались пулевые струи телег,
секли, подрезали, подламывали на скаку, клали колон*
66
нами наземь; опустевшие лошади, визжа, крутя голова-
ми, уносились дико в муть. Распадались перебитые ко-
сти, чернели рты, исцелованные вчера любовницами,
в кровавое месиво, истоптанные ногами, сваливались
улицы, фонтаны светов, изящество культур, торжествен-
ные, гимны владычеств... А телеги мчались по лежачим
взад и вперед на ржавых скрипящих осях; мчался Пе-
тухов на пролетке, в одном френче, с цигаркой в зубах,
держа локти наотлет, сзади рябая, сжав зубы, стро-
чила железом; грохотала и пела смерть гнусавыми виз-
гами..
И с флангов из-за телег сорвались и ринулись кон-
ные, крича «дае-о-ошь!» невидимой в ночи массой подъя-
тых кулаков, пик, бурок, прядающих грив. Обратно в
правый сектор уходил, истекая кровью, корпус. А в ле-
вый, в пролом, бежали опять матрос и Микешин и за
ними груды потных, хрипящих, злобных от жажды —
«дае-о-ошь!» — и вот: на второй линии полег матрос, по-
виснув через проволоку затылком почти оземь, и на пра-
вом— мчась в табуне визжащих взбешенных копей,
рухнул тот, в бурке, черноусый, рухнул вместе с конем,
завязив размозженную голову ему под шею. И через
них и за ними в сеть оскаленных проволок, ям, блинда-
жей неслись телеги, бежали пешие, скакали конные;
далеко за озерами, прильнув к гриве лбом, уходили
остатки последних, глядя назад тусклыми выпуклыми
глазами.
Конец.
К ночи пришли укрепления, под откосом, в степной
речушке, пили пресную воду. Микешин лег на живот,
пробил прикладом ледешек и пил, а потом камнем уснул
тут же на берегу. И легли еще множества и спали.
И в снах — сквозь зарево, жуть и кровь — успокоением
сияли в мглах светы.
Ночью в ста верстах восточнее, у Антарского мыса,
двинулись еще множества й в полночь форсировали про-
лив. Шли по пояс в воде, на берегах толпами пылали
костры, в пролетах вздыбленного моста пылали факела-
ми керосиновые бочки, пронзая дугою зарев ночь. Про-
тивник ушел. В заревах армия форсировала пролив, и
множества пили пресную воду на том берегу и, упав
камнем, спали на теплой еще от вражеских ног земле.
67
И командарм в далекой избе, на попоне, завернув-
шись с головой в шинель, спал не спал — видел зарева,
висящие в безднах, и идущих из черных снов в века.
VIII
В ночь противник оторвался от передовых нагоняю-
щих частей и сгинул в степях. Вперед были брошены
конно-партизанские дивизии — настичь отходящего и не
дать ему сесть на корабли. Из-за террасы — с севера
шли резервы, вразвалку, в накинутых на плечи шине-
лях, за ними волочились бесконечные обозы в солонча-
ках; резервы шли на смену усталым от трехдневных пе-
реходов и боев частям. Но боевые части встретили при-
шедших матерщиной и насмешками и сменяться не по-
желали,— впереди уже светились млечно-синие долы
Дайра. Резервные бригады тоже не хотели оставаться
в тылу; полки их втиснулись кое-как между полками
Пензенской и Железной, и на рассвете, скрипя и гудя
тысячеголосым, армия повалила по большакам на юг.
И правофланговая Заволжская армия, проделав за-
ход правым плечом, выходила на магистральный тракт
к Дайру. Запоздавшая благодаря маневру, она наткну-
лась там же на обозы далеко ушедшей N-й армии. Но
армия не хотела прийти последней; она свернула на
проселки, там понеслась вскачь на подводах и повозках,
задыхалась пешком, волочила рысью артиллерию, бро-
сая застрявшие орудия у зыбких рухающих мостков на
степных речонках; и с тылов двинулась конно-партизан-
ская— прямо в неезженное, сбритое осенью и утрамбо-
ванное копытами белых — три армии бежали наперегон
в островную даль. Ближе и ближе чудились брошенные
богатства городов; золотом крыш горело из сказок...
С пересохшими ртами бежали кочевья потных, истру-
женных, ведомых снами...
Далеко впереди катились, расползаясь по радиусам
степей, армии врага — к кораблям. С презрительной
усмешкой, свертывая с дорог, отделялись от них послед-
ние из мертвецов Оборовича. Эти не хотели уходить:
скрываясь в горах, поджидали идущих с севера, чтобы
напасть, убить, еще раз умереть...
И дальше — в бушующей мути крутились корабли
бежавших. Еще грузились у берегов: толпы бежали по
68
дамбам, топча брошенные узлы и тюки, под бегущими
зыбкой обвисали и трещали сходни, с берега кричали и
проклинал*и оставленные, гудки кричали угрюмо с бе-
рега в нависающую жуткую расправу и смерть. Черный
дым с судов, не оседая на зыбь, куревом ночи полз
у прибрежий; дикая смятенная ночь шла.
В ночи гул дальних. Все ближе на города надвига-
лись раскаленной тенью костров.
Командарм выехал в рассвет—в степь.
Были пустые поля, теплеющий иней на развалинах
разбитых хуторов, за курганами невнятная, огромно вос-
ходящая заря, как грань времен. Ночь грезилась за
спиной, будто черные дремотные ворота, вставшие до
высот. Заглушенно гудел мотор, главными крыльями
пожирая пространство; мерцающая дорога, обложенная
лошадиными трупами, кружителыю пробегала назад.
Трупы... трупы со вздутыми боками, с оскалом челю-
стей, за горизонтами опять трупы, недвижные, как ве-
щи... Тысячи, коридоры из тысяч... И, заслышав шум,
стаи трупных собак, пригибаясь брюхами к земле, от-
ползали в поля, облизываясь, глядели на дорогу фиоле-
товыми кровяными глазами, мутными от страсти...
В сумерках истории, в полуснах лежали пустые поля,
бескрайные, вогнутые, как чаша, подставленная из бездн
заре...
Как это? Русь, уже за шеломянем еси?.. В бескрай-
ном курганы уплывали, как черные — на' заре — шеломы:
назад, в сумерки, в историю... Где-то сзади раскинулось
в рассвете поле битв, еще бредящее кровью, криками,
гарью; пустынно брошенные, не раскраденные еще
деревнями на топливо, стоят рогатки с сетями колючек,
разметано железо убийц, кости, помет животных, ямы,
зияющие сумраком. Ветер треплет лохмотья бурки, по-
висшей на железных шипах в безумно-наклонном полете
вперед... И тишина плывет над полем битв —дневная
тишина запустенья; плывут, осыпаясь неуловимыми пла-
стами забвенья, времена.
Перед сумерками авангард ворвался в Дайр. По пло-
щади копыта отзвонили пустынно и гулко. Авангард
подскочил к углу трех улиц, где над каменной рябью
мостовых свисали со степ небоскреба алые флаги
непоколебимо, как металл: Ревком. Под балконом,
69
потрясая пиками, авангард прокричал свой дикий и
радостный вызов. И с высоты из-за решетки, ликуя, на-
клонялись маленькие, безумно юркие, в пиджаках и без
шапок, махали руками и кричали в приливающие, още-
тиненные низины:
— ...приветствуем...
— ...пусть услышат угнетенные массы мира!.. *
— ...да здравствует!..
Из далей, перспектив, как прибой, мчались конные,
рассыпая в улицах крик телег и дробь копыт. С низов
махали шапками, из опрокинутых лиц тысячи горящих
глаз глядели ввысь — на ниспадание алого, на гасну-
щие алебастровые химеры небоскребов, на каменные
арки культур. Там оркестры веяли волнами слов — из
раскрытых пересохших глоток, из спертых зыком грудей
выло:
— ...а-а-а-а!..
С окраин, из доков, из трущоб бедноты шли встав-
шие из земли, давя улицы множеством, зыбля алые лох-
мотья над зыбким океаном тысячеголовья, и от них,
еще невидимых, из сумеречных недр стенало:
— ...а-а-а-а!..
В порту глыбями и насыпями громоздилось изобилие
вспоротых пакгаузов и складов — тюки, ящики, остовы
машин, брошенные задыхающимися на бегу. Цепи кон-
ных отеснили берега и порт, сторожили, покуривая,
глядя в невиданную тысячелетнюю даль; зыбь шла
туда зеленоватым свечением, словно из-за горизонтов
заря.
Улицы вспыхнули от синих, бесконечно убегающих
огней. В светы изумленные смеющиеся глаза тысяч
глядели, как в утро. Из этажей, из стеклянных подъез-
дов выходили нерешительные, спускались на асфальт,
кривясь ласковой и боязливой улыбкой, помахивали тро-
сточками: «И мы рады, и мы тут!..» — выходили, осме-
лев, женщины, напудренные, со сладкой горячкой глаз,
шепчась, улыбались обветренным и хищно скалящимся
галифе. Мутным, радужно-болотным оком вчерашнее
глядело, догасая...
• В особняке черного переулка, оцепленного конными,
угрюмыми и молчаливыми, осудили последних, захва-
ченных у взорванного туннеля в горах. За безлюдьем
переулка ширился гул и крик, вещающий о рассветах;
резко и жутко прогрохотал грузовик в мраке у ворот.
70
А ночью пришли полки. Массы расступились под же-
лезным упором рядов. На правом фланге впереди шел
рослый, с обветренным красным лицом, в новой англий-
ской шинели, с ногами, красными, как кровь; глаза, не
мигая, упоенно глядели перед собой в крики толп, в
пение труб, в светы культур. Из глоток мощным выдо-
хом ревело:
Не надо нам монархии,
Не надо нам царя,
Бей буржуазию!
Товарищи, ура!
Промчавшийся из степей автомобиль, замедленный
полками, стал на перекрестке. На шествии бесконечных,
на сиянии пространств — недвижим был в остром ши-
шаке профиль каменного, думающего о суровом. По-
лураскрытый рот хотел крикнуть призывно и властно.
Армия, командарм вступали в Дайр.
Всеволод Иванов
БРОНЕПОЕЗД 14-69
ПАРТИЗАНЫ У РЕЛЬС!
I
Цифры блестели перед глазами: 85, 64 и еще 0000...
как снежные четки... На дверях купе, на рамах окна, на
ремне, на кобуре револьвера. Везде. Точно огромная мя-
систая цифра 8, на койке, упадая коротко стриженной
головой в огромные, как степные дороги, плечи,— пра-
порщик Обаб, помощник капитана Незеласова.
Даже на сигаретах, которые одну за другой испепе-
лял капитан и пепел которых мягко таял в животе рас-
колотого чугунного китайского божка, тоже цифры и
английские поджарые, словно галеты, буквы.
— Что ж?.. Стекаем, как гной из раны... на окраины...
Мы!.. Все — и беженцы, и утонувшие в снегу правитель-
ства... Но-о! Я ж говорю вам, прапорщик. Потом куда?..
В море?
Обаб наискось оглядел искривившиеся лицевые мус-
кулы капитана. Узловато ответил:
— Вам лечиться. Надо. Да!
Был прапорщик Обаб из выслужившихся доброволь-
цев колчаковской армии. О всех кадровых офицерах го-
ворил: «Сплошь болезня».
Капитана Незеласова уважал, потому повторил:
— Без леченья плохо. Вам.
Незеласов торопливо выдернул сигаретку:
— Заклепаны вы наглухо, Обаб... ничего до вас не
дойдет!..
И, быстро отряхивая пепел, визгливо заговорил:
— Как нам стронуться хоть немного... Ведь тоска,
Обаб, тоска! Родина нас... вышвырнула! Думали всё —
72
нужны, очень нужны, до зарезу нужны, а вдруг ра-а-с-
чет получайте... И не расчет даже, а в шею... в шею!., в
шею!!
И капитан, кашляя, брызгая слюной и дымом, возвы-
шал голос:
— О, рабы нерадивые и глупые!
Обаб протянул длинную руку навстречу сгибающе-
муся капитану. Точно поддерживая валящееся дерево,
сказал с усилием:
— Сволочь бунтует. А ее стрелять надо. А которая
глупее — пороть.
— Нельзя так, Обаб, нельзя...
— Болезнь. У нас. Вот атаман Семенов. Не мозгует.
Бьет.
— Внутри высохло... водка не катится, не идет... От
табаку — слякоть, вонь... В голове, как наседка, да
у ней триста яиц... Высиживает. Э-эх!.. Теплынь, пар!..
Копошится теплое, склизкое, того гляди... вылезет. Пре-
одолеть что-то надо, а что — не знаю и не могу...
— Женщину вам надо. Давно женщину имели?
Обаб тупо посмотрел на капитана.
— Непременно женщину. В такой работе — каждый
месяц. Я здоровый, — каждые две недели. Лучше хины.
— Может быть, может быть... попробую. Почему мне
не попробовать...
— Можно быстро, здесь беженок много... Цветки!
Незеласов поднял окно.
Запахло каменным углем и горячей землей. Как бан-
ка с червями, потела плотно набитая людьми станция.
Мокро блестели ее стены и близ дверей маленький ко-
локол.
На людях клеймо бегства.
Шел похожий на новое стальное перо чистенький
учитель, и на плече у него трепалась грязная тряпица.
Барышни нечесаные, и одна щека измятая, розовато-
серая: должно быть, жестки подушки, а может быть, и
нет подушек—мешок под головой.
«Портятся люди», — подумал Обаб. Ему захотелось
жениться. «В семью бы хорошо...»
Он сплюнул в платок и сказал:
— Ерунда!
Незеласов теребил серую рыхлую бумагу телеграммы.
Как везде, на телеграмме — цифры. Как всегда, мутнеют
зрачки Обаба. Слюняв хлопающий голос:
73
— Опять?
v— Что опять?.. В чем дело?
Обаб и Незеласов взглянули в окно.
Беженцы смущенно рассматривали стальную броню
вагонов/На платформах орудия, казалось, рассматри-
вают его, голого. Голый Незеласов костляв, похож на
смятую жестянку из-под консервов: углы и серая глад-
кая кожа.
Он едко сказал в плечо Обабу:
— За спасителей нас считают... Ерусланы! В теле-
грамме пишут: у рельс вершининский отряд показался...
в городе...
Обаб грузно отодвинулся от окна:
— Жиды, капитан. И в городе жиды, и у Вершинина
жиды. Дайте сигарету.
— Придут японцы... Прикажите воду набирать... не-
пременно... сейчас.
— В появлении? Опять! Неймется.
Обаб ударил себя по ляжкам длинными и ровными,
как веревка, руками.
— Люблю.
Заметив на себе рыхлый зрачок Незеласова, прапор-
щик сказал:
— Не насчет смерти. А чтоб двигалось. Спокойно
когда, — мясо ржавеет...
Обаб степенно вздохнул. Вздохнули плотные острые
скулы, похожие на обломки ржаного сухаря, вздохом
медленным, крестьянским.
— У нас сейчас, в Барнаульском... уезде, уборка.
Рука по вожже зудится...
Незеласов, вскакивая, торопливо спросил:
— Прапорщик... Кто йаше начальство?.. Кто непо-
средственное начальство?
— Генерал Смирнов.
— Ага? А где он?..
— Партизаны повесили.
— Ага?.. Так. Значит, следующий. Кто?
— Следующий?
— Вас спрашивают...
— Генерал-лейтенант Сахаров.
— Ага?.. Он где, где?..
— Не могу знать.
— А... где командующий армией?
— Не могу знать.
74
Всеволод Иванов. 1925 а,
Капитан затянул ремень и хотел резко прокричать:
«Ну и не рассуждать — исполняйте приказания», а
вместо этого отвернулся и, скучно царапая пальцем
краску рамы, спросил тихонько:
— Кого нам, прапорщик, слушаться?.. Ага? Кого мы
с вами по телеграмме... Постойте.
Обаб шлепнул по животу чугунного кумирчика, по-
пытался поймать в мозг^какую-то мысль, но сосколь-
знул.
— Не знаю... Воду так воду... Стрелять, будем стре-
лять — очень просто.
И, как гусь неотросшими крыльями, колыхая галифе,
Обаб шел по коридору вагона и бормотал:
— Не моя обязанность... думать... я что... лента,
обойма... Очень нужно... Где?
и
Торопливо отдал честь тщедушный солдатик в голу-
бых французских обмотках и больших бутсах.
Незеласову не хотелось толкаться по перрону, и, обо-
гнув обшитые стальными щитами вагоны бронепоезда,
он брел среди теплушек с эвакуируемыми бежен-
цами.
«Ненужная Россия, — подумал он со стыдом и по-
краснел, вспомн'ив: — и ты в этой России».
Нарумяненная женщина с толстым задом всколыхну-
ла в теле предложение Обаба. Капитан сказал громко:
— Дурак!
Женщина оглянулась: печальные, потускневшие гла-
за и маленький лоб в-глубоких морщинах.
Незеласов отвернулся.
Теплушки обиты побуревшим тесом. В пазах торчал
выцветший мох. Хлопали двери с ремнями, заменявшими
ручки. На гвоздях у дверей в плетеных мешках — мясо,
битая птица, рыба. Над некоторыми дверьми — пихто-
вые ветки, и в таких вагонах слышался молодой жен-
ский голос. А в одном вагоне играли на рряле.
Пахло из теплушек потом, пеленками, и подле рельс
пахли аммиаком растоптанные испражнения. Еще у од-
ной теплушки на корточках дрожал солдат и сквозь
желтые зубы выл:
’— О-6-о-е-е-е.
76
«Дизентерия,— подумал, закуривая, капитан. — Зна-
чит, капут».
Ощущение стыда и далекой, где-то в ногах таящейся
злости не остывало.
Плоскоспинный старик, утомленно подымая тяжелый
колун, рубил полусгнившую шпалу.
— Издалека? — спросил Незеласов.
Старик ответил:
— А из Сызрани.
— Куда едешь?
Он опустил колун и, шаркая босой ногою с серыми
потрескавшимися ногтями, уныло ответил:
— Куда повезут.
Кадык у него, покрытый дряблыми морщинами, боль-
шой, с детский кулак, и при разговоре расправлялись и
видны были чистые, белые полоски кожи.
«Редко, видно... говорить-то приходится», — подумал
Незеласов.
— У меня в Сызрани-то земля, — любовно прогово-
рил старик, — отличнейший чернозем. Прямо золото,
а не земля, — чекань монету... А вот, поди ж ты,
бросил.
— Жалко?
— Известно, жалко. А бросил. Придется обратно.
— Обратно идти далеко... очень.;.
Старик, не опуская колуна, чуть-чуть покачал голо-
вой. Как-то плечами остро и со свистом вздохнул:
— Далеко... Говорят, на путях-то, вашблаго, Верши-
нин явился.
— Неправда. Никого нет.
— Ну? Значит, врут! — Старик оживленно взмахнул
колуном. — А говорят, идет и режет. Беспощадно, даже
скот. Одна, говорят, надежда на бронипоезду. Только.
Ишь ты... Значит, нету?
— Никого нет...
— Совсем, вашблаго, прекрасно. Може, и до Влади-
востоку доберешься... Проживем. Куды я обрать по-
прусь, скажи-ка ты мне?
— Не выдержишь... Ты не беспокойся... Да.
— И то говорю — умрешь еще дорогой.
— Не нравится здесь?
— Народ не наш. У нас народ все ласковый, а здесь
и говорить не умеют. Китаец — так тот совсем языка
русского не понимает. И как живет, бог его знает!
77
Фальшиво живет. Зачервиветь тут. А коли лучше об-
ратно пойти? Бросить все и пойти? Чать, и большевики
люди, а?
*— Не знаю, — ответил капитан.
in
Вечером на станцию нанесло дым.
Горел лес.
Дым .был легкий, теплый, и кругом запахло смолой.
Кирпичные домики станции, похожая на глиняную
кружку водокачка, китайские фанзы и желтые поля гао-
ляна закурились голубоватой пеной, и люди сразу по-
бледнели.
Прапорщик Обаб хохотал:
— Чревовещатели-и!.. Не трусь!..
И, точно ловя смех, жадно прыгали в воздухе его
длинные руки.
Чахоточная беженка с землистым лицом, в каштано-
вом манто, подпоясанном бечевкой, которой перевязы-
вают сахарные головы, мелкими шажками бегала по
станции й шепотом говорила:
— Партизаны... партизаны... тайгу подожгли... и рас-
стреливают... Вершинин подходит...
Ее видели сразу во всех двенадцати эшелонах. Бар-
хатное манто покрылось пеплом, вдавленные виски вспо-
тели. Все чувствовали тоскливое томление, похожее на
голод.
Комендант станции — солдаты звали его «четырех-
этажным» — большеголовый, с седыми, прозрачными,
как ледяные сосульки, усами, успокаивал:
— А вы целомудрие наблюдайте душевное. Не вол-
нуйтесь.
— Чита взята!.. Во Владивостоке большевики!
— Ничего подобного. Уши у вас чрезмернейшие. Со-
общение с Читой имеем. Сейчас по телеграфу няньку
генерала Нокса разыскивали.
•И, втыкая в глотку непочтительный смешок, четко
говорил:
— Няньку английский генерал Нокс потерял. Ищет.
Награду обещали. Дипломатическая нянька, черт поде-
ри, и вдруг какой-нибудь партизан изнасилует.
Белокурый курчавый парень, похожий на цветущую
78
черемуху, расклеил по теплушкам плакаты и оператив-
ные сводки штабверха. И хотя никто не знал, где этот
штабверх и кто бьется с большевиками, но все ободри-
лись.
Теплые струи воды торопливо потекли на землю.
Ударил гром. Зашумела тайга.
Дым ушел. Но когда ливень кончился и поднялась
радуга, снова нахлынули клубы голубоватого дыма, и
снова стало жарко и тяжело дышать. Липкая грязь при-
клеивала ноги к земле.
Пахло сырыми пашнями, и за фанзами с тихим зво-
ном шумели мокрые гаоляны.
Вдруг на платформу двое казаков принесли из-за во-
докачки труп фельдфебеля. Лоб был разбит, и на носу
и на рыжеватых усах со свернувшимися темно-красными
сгустками крови тряслось, похожее на густой студень,
серое вещество мозга.
— Партизаны его... — зашептала беженка в манто,
подпоясанная бечевкой. — Вершинин... Они...
В коричневых теплушках эшелонов зашевелились и
зашептали:
— Партизаны... Партизаны...
Капитан Незеласов прошел по своему поезду.
У площадки одного вагона стояла беженка в кашта-
новом манто и поспешно спрашивала у солдат:
— Ваш поезд нас не бросит?
— Не мешайте, — сказал ей Незеласов, вдруг возне-
навидев эту тонконосую женщину. — Нельзя разговари-
вать!
— Они нас вырежут, капитан!.. Вы же знаете!..
Капитан Незеласов, хлопнув дверью, закричал:
— Убирайтесь вы к черту!
Опять принесли телеграмму. Кто-то неразборчиво, и
непременно припутывая цифры, приказывал разогнать
банды Вершинина, собирающиеся по линии железной
дороги. И в конце говорилось о каких-то японцах,
итальянцах...
— Телеграмма № 12541, видите!.. Приказ, прапор-
щик, приказ, говорю... А кто там, кто смеет приказы-
вать? Кто есть?
Добродушный толстый паровоз, облегченно вздыхая,
подтащил к перрону шесть вагонов японских солдат. За
ним другой. Маленькие чистенькие люди, похожие на
желтоголовых птичек, порхали по перрону.
79
Капитана Незеласова нашел японский офицер в па-
ровозе бронепоезда. Поглаживая кобуру револьвера и
чуть шевеля локтями, японец мягко говорил по-русски,
стараясь ясно выговаривать букву «р»:
— Я... есть пол-рр-лючик Танако Муццо... Тя. Я есть
коман-н-тил-л-рр-лован вместе.
И, внезапно повышая голос, выкрикнул, очевидно,
твердо заученное:
— Уничтожит!.. Уничтожит!..
Рядом с ним стоял американский корреспондент —
во френче с блестящими зелеными пуговицами и в поло-
сатых чулках. Он быстро, тоже заученно, оглядывал
станцию и, торопливо чиркая карандашом, спрашивал:
— А этта?.. А этта?.. Ш-ш-то?..
Обаб и еще какой-то офицер, потея и кашляя, объяс-
няли.
— Хорошо, — сказал Незеласов. — Прикажите, Обаб,
прицепить вагоны... с японцами.
Он захлопнул тяжелую стальную дверь.
— Пошел, пошел!.. — визгливо кричал, матерной ру-
ганью обвертывая приказания. И где-то внутри росло
желание увидеть, ощупать руками тоску, переходящую
с эшелонов беженцев на бронепоезд № 14-69.
Капитан Незеласов бегал внутри поезда, грозил ре-
вольвером, и ему хотелось закричать громче, чтобы крик
прорвал обитые кошмой и сталью стенки вагонов... Даль-
ше он не понимал, для чего понадобился бы ему тогда
его крик.
Грязные солдаты вытягивались, морозили в лед че-
тырехугольные лица. Ненужные тряпки одежд стесняли
движения. Около стальных орудий хотелось их видеть
голыми и не хотелось чувствовать тлеющих в страхе
душ.
Прапорщик Обаб быстро и молчаливо шагал вслед
за капитаном.
Лязгнули буфера. Коротко свистнул кондуктор, за-
грохотало с лавки железное ведро, и, пригибая рельсы
к земле, разбрасывая позади себя станции, избушки
стрелочников, прикрытый дымом лес и граниты сопок,
облитые теплым и влажным ветром, падали и не могли
упасть, летели в тьму тяжелые стальные коробки ваго-
нов, несущих в себе сотни человеческих тел, наполнен-
ных тоской и злобой.
80
IV
А в это время китаец Син Бин-у лежал в траве в тени
пробкового дерева и, закрыв раскосые глаза, пел о том,
как красный Дракон напал на девушку Чен Хуа.
Лицо у девушки было цвета корня женьшеня, и пища
ее была у-вей-цзы, петушьи гребешки, ма-жу, грибы ве-
личиною со зрачок, чжен-цзай-цай. Весьма было много
всего этого, и весьма все это было вкусно.
Но красный Дракон взял у девушки Чен Хуа ворота
жизни, и тогда родился бунтующий русский.
Партизаны сидели поодаль, и Пентефлий Знобов,
радостно прорывая чрез подпрыгивающие зубы налитые
незыблемою верою слова, кричал:
— Бегут, братцы мои, бегут. В недуг души уда-
рило, оземь бьются, трепыхаются. А наше дело — не
уснуть, а город-то, он у-ух!.. силен. Все возьмет!
Пахло камнем, морем.
ЧЕЛОВЕК ЧУЖИХ ЗЕМЕЛЬ
«Объединенным русско-японским отрядом, при поддержке бро-
непоезда № 14-69, партизанские шайки Вершинина рассеяны.
С нашей стороны убитых 42, раненых 115. Боевая выдержка
союзников выше всяких похвал. Преследование противника в соп,-
ках продолжается.
Начбронепоезда № 14-69 капитан Незеласов. № 8701-7-19».
VI
И вот.
Шестой день тело ощущало жаркий камень, изны-
вающие в духоте деревья, хрустящие спелые травы и
вялый ветер.
И тело у них было как граниты сопок, как деревья,
как травы; катилось горячее, сухое по узко выкопанным
горным тропам.
От ружей, давивших плечи, туго болели поясницы.
Ноги ныли, словно опущенные в студеную воду, а в
голове, как в мертвом тростнике, — пустота, бессочье.
Шестой день партизаны уходили в сопки.
4 Зак. № 426 81
Казачьи разъезды изредка нападали на дозоры. Слы-
шались тогда выстрелы, похожие на треск лопающихся
бобовых стручьев.
А позади — по линии железной дороги — и глубже:
в полях и лесах — атамановцы, чехи, японцы и еще
люди незнаемых земель жгли мужицкие деревни и топ-
тали пашни.
Шестой день с короткими отдыхами, похожими на
молитву, две сотни партизан, прикрывая уходящие впе-
ред обозы с семействами и утварью, устало шли чер-
ными тропами. Им надоел путь, и они, часто сворачивая
с троп, среди камня, ломая кустарник, шли напрямик
к сопкам, напоминавшим огромные муравьиные гнезда.
VII
Китаец Син Бин-у, прижимаясь к скале, пропускал
мимо себя отряд и каждому мужику со злостью гово-
рил:
— Японса била надо... у-у-ух, как била!
И, широко разводя руками, показывал, как надо
бить японца.
Вершинин остановился и сказал Ваське Окороку:
— Японец для нас хуже барсу !. Барс-от, допрежь
чем манзу1 2 жрать, Лопатину3 с него сдерет. Дескать,
пусть проветрится, а японец-то разбираться не будет —
вместе с усями4 слопает.
Китаец обрадовался разговору о себе и пошел с ними
рядом.
Никита Вершинин, председатель партизанского рево-
люционного штаба, шел с казначеем Васькой Окороком
позади отряда. Широкие — с мучной куль — синие пли-
совые шаровары плотно обтягивали большие, как кон-
ское копыто, колени, а лицо его, в пятнах морского об-
ветрия, хмурилось.
Васька Окорок, устало и мечтательно глядя Вер-
шинину в бороду, протянул, словно говоря об от-
дыхе:
1 Тигр.
2 Китаец (обл.).
8 Одежда.
4 Род китайской обуви.
82
— В Расеи-то, Никита Егорыч, беспременно вавилон-
скую башню строить будут. И разгонют нас, как ястреб
цыплят, беспременно! Чтоб друг друга не узнавали.
Я тебе это скажу: Никита Егорыч, самогонки хоть? А
ты, талабала, по-японски мне выкусишь! А Син Бин-у-то,
разъязви его в нос, на русском языке запоет. А?
Работал раньше Васька на приисках и говорит всегда
так, будто самородок нашел и не верит ни себе, ни дру-
гим. Голова у него рыжая, кудрявая, лениво мотает он
ею. Она словно плавится в теплом усталом ветре, дую-
щем с моря, в жарких, наполненных тоской запахах
земли и деревьев.
Вершинин перебросил винтовку, на правое плечо и
ответил: 1
— Охота тебе, Васька. И так мало рази страдали?
Окорок вдруг торопливо, пересиливая усталость, за-
хохотал:
. — Не нравится!
— Свое добро рушишь. Пашню там, хлеба, дома.
А это дарма не пройдет. За это непременно пострадать
придется.
— Японца, Никита Егорыч, тронуть здорово надо.
Набил им брюхо землей — и в море.
— Японец — народ маленький, а с маленького спрос
какой? Дешевый народ. Так, вроде папироски — будто и
курево, и дым идет, а так — баловство. Трубка, скажем,
дело другое.
В леса и сопки, клокоча, с тихими усталыми храпа-
ми вливались в русла троп ручьи людей, скота, телег и
железа. Наверху, в скалах, сумрачно темнели кедры.
Сердца, как надломленные сучья, сушила жара, а ноги
не могли найти места, словно на пожаре.
Опять позади раздались выстрелы.
Несколько партизан отстали от отряда и приготови-
лись отстреливаться.
Окорок разливчато улыбнулся:
— Нонче в обоз ездил. Потеха-а!..
- Ну?
— Петух орет. Птицу, лешаки, в сопки везут. Я им
баю — жрите, мол, а то все равно бросите.
— Нельзя. Без животины человеку никак нельзя.
Всю тяжесть он потеряет без животины. С души-то, тя-
жесть...
Син Бин-у сказал громко:
83
— Казаки цхау-жа! Нипонса куна, мадама бери
мала-мала. Нехао! Казаки нехао! 1 Кырасна руска...
Он, скосив губы, швыркнул слюной сквозь зубы, и
лицо его, цвета песка золотых россыпей, с узенькими,
как семечки дыни, разрезами глаз, радостно заулыба-
лось...
— Шапго!..1 2
Син Бин-у в знак одобрения поднял кверху большой
палец руки.
Но не слыша, как всегда, хохота партизан, китаец
уныло сказал:
— Пылыоха-о 3.
И тоскливо оглянулся.
Партизаны, как стадо кабанов от лесного пожара,
кинув логовище, в смятенье и злобе рвались в горы.
А родная земля сладостно прижимала своих сынов —
идти было тяжело. В обозах лошади оглядывались на-
зад и тонко, с плачем, ржали. Молчаливо бежали со-
баки, отучившиеся лаять. От колес телег отлетала по-
следняя пыль и последний деготь родных мест.
Направо в падях темнел дуб, белел ясень.
Налево — от него никак не могли уйти — спокойное,
темно-зеленое, пахнущее песками и водорослями, море.
Лес был как море, и море — как лес, только лес чуть
темнее, почти синий.
Партизаны упорно глядели на запад, а на западе от-
свечивали золотом розоватые граниты сопок, и мужики
через просветы деревьев плыли глазами туда, а потом
вздыхали, и от этих вздохов лошади обозов поводили
ушами и. передергивались телом, точно чуя волка.
А китайцу Син Бин-у казалось, что мужики за розо-
выми гранитами на западе желают увидеть иное, ожи-
даемое.
Китайцу хотелось петь.
Никита Вершинин был рыбак больших поколений.
Тосковал он без моря, и жизнь для него была вода,
а пять пальцев — мелкие ячейки сети: все что-нибудь да
и попадет.
Баба попалась жирная и мягкая, как налим. Детей
она принесла пятерых — из года в год, пять осеней,
1 Казаки плохи! Японец — подлец, женщин берет... Нехорошо!
Казаки плохи!
2 Хорошо!
3 Плохо.
84
когда шла сельдь, и не потому ли ребятишки росли
светловолосые среброчешуйники.
В рыбалках ему везло, на весь округ шел послух про
его «вершининское» счастье, и, когда волость решила
идти на японцев и атамановцев, председателем рев-
штаба выбрали Никиту Егорыча.
От волости уцелели телеги, увозящие в сопки ребяти-
шек и баб. Жизнь нужно было тесать, как избы, — неиз-
вестно, удастся ли, — заново, как тесали прадеды, при-
ехавшие сюда из пермских земель на дикую землю.
Многое было непонятно — и жена, как в молодости,
желала иметь ребенка.
Думать было тяжело, хотелось повернуть назад и
стрелять в японцев, атамановцев, в это сытое море, при-
сылающее со своих островов людей, умеющих только
убивать.
У пришиби1 яра бомы1 2 прервали дорогу, и к утесу
был приделан висячий, балконом, плетеный мост. Мате-
ра 3 рвалась на бом, а ниже в камнях билась, как в па-
дучей, белая пена стрежи 4 потока.
Перейдя подвесный мост, Вершинин спросил:
— Привал, что ли?
Мужики остановились, закурили.
Привала решили не делать. Пройти Давыо деревню,
а там — в сопки, и ночью можно отдыхать в сопках.
У поскотины5 Давьей деревни босоногий мужик
с головой, перевязанной тряпицей, подогнал игренюю
лошадь и сказал:
— Битва у нас тут была, Никита Егорыч.
— С кем битва-то?
— В поселке. Японец с нашими дрался. Дивно на-
роду положено. Японец-то ушел — отбили, а чаем, при-
дет завтра. Ну вот, мы барахлишко-то свое складываем
да в сопки с вами думаем.
— Кто наши-то?
— Не знаю, парень. Не вашей волости, должно. Хри-
стьяне тоже. Пулеметы у них, хорошие пулеметы. Так и
строчат. Из сопок тоже.
— Увидимся!
1 Подножие яра — крутой скалистый берег.
2 Камни, преграждающие течение потока.
3 Главная сила струи потока.
4 Сильнейшие струи матеры.
6 Ограда вокруг деревни, где пасется скот.
85
На широкой поселковой улице валялись телеги, тру-
пы людей и скота.
Японец, проткнутый штыком в горло, лежал на рус-
ском. У русского вытек на щеку длинный синий глаз.
На гимнастерке, залитой кровью, ползали мухи.
Четыре японца лежали у заплота ниц лицом, точно
стыдясь. Затылки у них были раздроблены. Куски кожи
с жесткими черными волосами прилипли на спины оп-
рятных мундирчиков, и желтые гетры были тщательно
начищены, точно японцы собирались гулять по владиво-
стокским улицам.
— Зарыть бы их, — сказал Окорок, — срамота.
Жители складывали пожитки в телеги. Мальчишки
выгоняли скот. Лица у всех были такие же, как и всег-
да, — спокойно-деловитые.
Только от двора ко двору среди трупов кольцами
кружилась сошедшая с ума беленькая собачонка.
Подошел к партизанам старик с лицом, похожим на
вытершуюся серую овчину. Где выпали клоки шерсти,
там краснела кожа щек и лба.
— Воюете? — спросил он плаксивым голосом у Вер-
шинина.
— Приходится, дедушка.
— И то смотрю — тошнота с народом. Николды та-
кой никудышной войны не было. Се царь скликал, а те-
перь— на, чемер тебя дери, сами промеж себя дерутся.
— Все равно что ехали-ехали, дедушка, а телега-
то — трах! Оказывается, сгнила давно, нову приходится
делать.
— А?
Старик наклонил голову к земле и, словно прислу-
шиваясь к шуму под ногами, повторил:
— Не пойму я... А?
— Телега, мол, изломалась!
Старик, будто стряхивая с рук воду, отошел, бор-
моча:
— Ну, ну... какие нонче телеги. Антихрист родился,
хороших телег не жди.
Вершинин потер ноющую поясницу и оглянулся.
Собачонка не переставала визжать.
Один партизан снял карабин и выстрелил. Собачонка
свернулась клубком, потом вытянулась всем телом, точ-
но просыпаясь и потягиваясь. Издохла,
Старик беспокойно поцарапался:
86
— Ишь, и собака с тоски сдохла, Никита Егорыч.
А человек терпит. Терпит, Егорыч. Брандепояс-то в соп-
ки пойдет, бают, Изничтожит все и опять-таки пожгет.
— Народу не говори зря. Надо в горы рельсы.
Старик злобно сплюнул:
— Без рельсы пойдет. Раз они с японцами связались.
Японец да американка все может. Погибель наша яви-
лась, Егорыч. Прямо погибель. Народ-то, как урожай
под дождем, гниет... А капитан-то этот с брандепояса из
царских родов будет?..
— Будет тебе зря-то...
— Зол уж, и росту, бают, выше сажени, а борода...
VIII
Мужик с перевязанной головой бешено выгнал об-
ратно из переулка свою игренюю лошадь.
Тело его влипало в плоскую лошадиную спину, лицо
танцевало, тряслись кулаки, и радостно орала глотка:
— Мериканца пымали, братцы-ы!..
Окорок закричал:
— Ого-го-го!..
Трое мужиков с винтовками показались в переулке.
Посреди них шел, слегка прихрамывая, одетый в лет-
нюю фланелевую форму американский солдат.
Лицо у него было бритое, молодое. Испуганно дро-
жали его открытые зубы, и на правой щеке, у скулы,
прыгал мускул.
Длинноногий седой мужик, сопровождавший амери-
канца, спросил:
— Кто у вас старшой?
— По какому делу? — отозвался Вершинин.
— Он старшой-то, он! — закричал Окорок. Никита
Егорыч Вершинин! А ты рассказывай, как пымали-то?
Мужик сплюнул и, похлопывая американского сол-
дата по плечу так, точно тот сам явился, со стариков-
ской охотливостью стал рассказывать:
— Привел его к тебе, Никита Егорыч. Вознесенской
мы волости. Отряд-то наш за японцем пошел далеко-о!
— А деревень-то каких?
— Селом мы воюем. Пенино-село слышал, может?
— Пожгли его, бают?
— Сволочь народ! Как есть все село, паря-батюшка,
попалили, вот и ушли мы в сопки!
87
Партизаны собрались вокруг, заговорили:
— Одну муку принимаем! Понятно!
Седой мужик продолжал:
— Ехали они двое, мериканцев-то! На трашпанке
в жестянках молоко везли! Дурной народ: воевать при-
ехали, а молоко жрут с щиколадом. Одного-то мы сня-
ли, а этот руки задрал. Ну и повели. Хотели старосте
отдать, а тут ишь — целая компанйя!
Американец стоял, выпрямившись по-солдатски, и,
как с судьи, не спускал глаз с Вершинина.
Мужики сгрудились.
На американца запахло табаком и крепким мужиц-
ким хлебом.
От плотно сбившихся тел шла мутившая голову теп-
лота и поднималась с ног до головы сухая, знобящая
злость.
Мужики загалдели:
— Чего-то!
— Пристрелить его, стерву!
— Крой его!
— Кончать!..
— И никаких!
Американский солдат слегка сгорбился и боязливо
втянул голову в плечи, и от этого движения еще сильнее
захлестнула тело злоба.
— Жгут, сволочи!
— Распоряжаются!
— Будто у себя!
— Ишь, забрались!
— Просили их!
Кто-то пронзительно завизжал:
— Бе-ей!..
В это время Пентефлий Знобов, работавший раньше
на владивостокских доках, залез на телегу и, точно ука-
зывая на потерянное, закричал:
— Обо-ждь!..
И добавил:
— Товарищи! г
Партизаны посмотрели на его лохматые, как лисий
хвост, усы, на расстегнувшуюся прореху штанов, через
которую виднелось темное тело, и замолчали.
— Убить завсегда можно! Очень просто. Дешевое
дело — убить. Вон их сколь на улице-то наваляли. А по-
моему, товарищи, распропагандировать его и пустить.
88
Пущай большевицкую правду понюхат. Во-о как я пола-
гаю!..
Вдруг мужики густо, как пшено из мешка, высыпали
хохот:
— Хо-хо-хо!..
— Хе-кче!..
— Хо-о!..
— Прореху-то застегни, черт!
— Валяй, Пентя, запузыривай!..
— Втемяшь ему!
— Чать, тоже человек...
— На камне и то выдолбить можно.
— Лупи!..
Крепкотелая -Авдотья Стещенкова, подобрав палевые
юбки, наклонилась и толкнула американца плечом:
— Ты вникай, дурень, тебе же добра хочут.
Американский солдат оглядывал волосатые красно-
бронзовые лица мужиков, расстегнутую прореху штанов
Знобова, слушал непонятный говор и вежливо мял
в улыбке бритое лицо.
Мужики возбужденно ходили вокруг него, передвигая
его в толпе, как лист по воде; громко, как глухому, кри-
чали.
Американец, часто мигая, точно от дыма, глазами,
поднимая кверху голову, улыбался и ничего не понимал.
Окорок закричал американцу во весь голос:
— Ты им там разъясни. Подробно. Нехорошо, мод.
— Зачем нам мешать!
— Против своего брата заставляют идти!
Вершинин степенно сказал:
— Люди вы хорошие, должны понять. Такие же кре-
стьяне, как и мы, скажем, пашете и все такое. Японец,
он што, рис жрет, для него по-другому говорить надо!
Знобов тяжело затоптался перед американцем и, при-
глаживая усы, сказал:
— Мы разбоем не занимаемся, мы порядок наводим.
У вас поди этого не знают за морем-то, далеко, да и
опять и душа-то у тебя чужой земли...
Голоса повышались, густели.
Американец беспомощно оглянулся и проговорил:
— I don’t understand l.
Мужики враз смолкли.
1 Я не понимаю.
89
Васька Окорок сказал:
— Не вникат. По-русски-то не знат, бедность!
Мужики отошли от американца.
Вершинин почувствовал смущение.
— Отправить его в обоз, что тут с ним чертоме-
литься, — сказал он Зиобову.
Зиобов не соглашался, упорно твердя:
— Он поймет!.. Тут только надо!.. Он поймет!..
Американец, все припадая на ногу, слегка покачи-
ваясь, стоял. Чуть заметно, как ветерок стога сена, воро-
шила его лицо тоска.
Син Бин-у лег на землю подле американца, за-
крыв ладонью глаза, тянул пронзительную китайскую
песню.
— Мука мученическая, — сказал тоскливо Верши-
нин.
Васька Окорок нехотя предложил:
— Рази книжку каку?
Найденные книжки были все русские.
— Только на раскурку и годны, — сказал Зиобов,—
кабы с картинками.
Авдотья пошла вперед, к возам, стоявшим у поско-
тины, долго рылась в сундуках, наконец принесла истре-
панный, с оборванными углами, учебник закона божия
для сельских школ.
— Може, по закону? — спросила она.
Зиобов открыл книжку и сказал недоумевающе:
— Картинки-то божественны! Нам его не перекре-
щивать. Не попы..
— А ты попробуй, — предложил Васька.
— Как его. Не поймет, поди!
— Может, поймет. Валяй!
З.нобов подозвал американца:
— Эй, товарищ, иди-ка сюда.
Американец подошел.
Мужики опять собрались, опять задышали хлебом,
табаком.
— Ленин, — сказал твердо и громко Зиобов и как-то
нечаянно, словно оступясь, улыбнулся.
Американец вздрогнул всем телом, блеснул глазами
и радостно ответил:
— There’s a chap!1
1 Вот это парень!
90
Всеволод Иванов. «Бронепоезд 14-69». Первое изда-
ние. 1922 г.
Знобов стукнул себя кулаком в грудь и, похлопывая
ладонью мужиков по плечам и спинам, прокричал:
— Советская республика!
Американец протянул руки к мужикам, щеки
у него запрыгали, и он возбужденно закричал:
— What is pretty indeed ’.
Мужики радостно захохотали:
— Понимает, стерва.
— Вот сволочь, а!
— А Пентя-то, Пентя-то по-американски кроет!
— Ты ихних-то буржуев по матушке, Пентя!
Знобов торопливо раскинул учебник закона божия и,
тыча пальцами в картинку, где Авраам приносил в жерт-
ву Исаака, а вверху на облаках висел бог, стал разъяс-
нять:
— Этот с ножом-то — буржуй. Ишь, брюхо-то вы-
пустил, часы с цепочкой только. А здесь, на бревнах-то,
пролетариат лежит, понял! Про-ле-та-ри-ат.
Американец указал себе рукой на грудь и, протяжно
и радостно заикаясь, гордо проговорил:
— Про-ле-та-ри-ат!.. We!1 2 ?
Мужики обнимали американца, щупали его одежду
и изо всей силы жали его руки, плечи.
Васька Окорок схватил его за голову и, заглядывая
в глаза, восторженно орал:
— Парень, ты скажи та-ам. За морями-то...
— Будет тебе, ветрень, — говорил любовно Верши-
нин.
Знобов продолжал:
— Лежит он, пролетариат, на бревнах, а буржуй
его режет. А на облаках-то японец, американка, ан-
гличанка — вся эта сволочь империализма самая
сидит.
Американец сорвал с головы фуражку и завопил:
— Империализм! Долой!..
Знобов с ожесточением швырнул фуражку оземь:
— Империализм с буржуями — к чертям!
Син Бин-у подскочил к американцу и, подтягивая
спадающие штаны, торопливо проговорил:
— Русики ресыпубылика-а. Китайси ресыпубылика-а.
Мерикансы ресыпубылика-а — пухао. Нипонсы, пухао,
1 Вот что действительно прекрасно.
2 Мы!
92
нада, нада ресыпублика-а. Крыа-а-сна ресыпубылика
нада, нада...
И, оглядевшись кругом, встал на цыпочки и, медлен-
но подымая большой палец кверху, проговорил;
— Шанго.
Вершинин приказал:
— Накормить его надо. А потом вывести на дорогу
и пустить.
Старик конвоир спросил:
— Глаза-то завязать, как поведем? Не приведет
сюда?
Мужики решили:
— Не надо. Не выдаст.
IX
Партизаны с хохотом, свистом вскинули ружья на
плечи.
Окорок закрутил курчавой рыжей головой, вдруг тон-
ким, как паутина, голоском затянул:
Я рассею грусть-тоску по зеленому лужку,
Уродись, моя тоска, мелкой травкой-муравкой.
Ты не сохни, ты не блекни, цветами расцвети...
И какой-то быстрый и веселый голос ударил вслед
за Васькой:
Я рассеявши пошел, во зеленый сад вошел —
Много в саду вишенья, винограду, грушенья.
И тут сотня хриплых, порывистых, похожих на мор-
ской ветер мужицких голосов подняла и понесла в тропы,
в лес, в горы:
Я рассеявши пошел,
Во зеленый сад вошел.
— Э-э-эх...
— Сью-ю-ю...
Партизаны, как на свадьбе, шли с ревом, гиканьем,
свистом в сопки.
Шестой день увядал.
Томительно и радостно пахли вечерние деревья.
93
В ГОРОДЕ
X
На широких плетенных из гаоляна циновках лежали
кучи камбалы, угрей, похожих на мокрые веревки, толс-
тые пласты наваги, сазана и зубатки. В чешую рыб ны-
ряло небо, камни домов. Плавники хранили еще нежные
цвета моря — сапфирно-золотистые, ярко-желтые и гус-
то-оранжевые.
Китайцы безучастно, как на землю, глядели на груды
мяса и пронзительно, точно рожая, кричали:
— Тле-епанга-а!.. Капитана Луска! Кла-аба!.. Тле-
панга-а! Покупайло еси?.. А-а?
Пентефлий Знобов, избрызганный желтой грязью,
пахнущий илом, сидел в лодке у ступенек набережной и
говорил с неудовольствием:
— Орет китай, а всего только рыбу предлагает.
— Предлагай, парень, ты!
— Наше дело рушить все! Рушь да рушь, надоело.
Когда строить-то будем? Эх, кабы японца грамотного
найти!
Матрос спустил ноги к воде, играя подошвами у бо-
роды волны, спросил:
— На што тебе японца?
У матроса была круглая, гладкая, как яйцо, голова
и торчащие грязные уши. Весь он плескался, как море
у лодки, — рубаха, широчайшие штаны, гибкие рукава.
Плескалась и плыла набережная, город...
«Веселый человек», — подумал Знобов.
— Японца я могу. Найду. Японца здесь много!
Знобов вышел из лодки, наклонился к матросу и, гля-
дя поверх плеча на пеструю, как одеяло из лоскутьев,
толпу, звенящие вагоны трамваев и бесстрастные голу-
бовато-желтые короткие кофты — курмы китайцев, про-
говорил шепотом:
— Японца надо особенного, не здешнего. Проклама-
цию пустись чтоб. Напечатать и расклеить по городу.
Получай! Можно по войскам ихним.
Он представил себе желтый листик бумаги, упечатан-
ный непонятными знаками, и ласково улыбнулся:
— Они поймут! Мы, парень, одного американца до
слезы проняли. Прямо чисто бак лопнул... плачет...
— Может, и со страху плакал?
94
— Не сикельди. Главное, разъяснить жизнь надо
человеку. Без разъяснения что с него спросишь,
олово?
— Трудно такого японца найти.
— Я и то говорю. Не иначе, как только наткнешься.
Матрос привстал на цыпочки. Глянул в толпу:
— Ишь сколь народу! Может, и есть здесь хороший
японец, а как его найдешь!
Знобов вздохнул:
— Найти трудно. Особенно мне. Совсем людей не
вижу. У меня в голове-то сейчас совсем как в церкви
клирос! Свои войдут, поют, а остальная публика только
слушай. Пелена в глазах.
— Таких теперь много.
— Иначе нельзя. По тропке идешь, в одну точку смо-
три, а то закружится голова, ухнешь в пядь! Суши там
кости. Кайся.
Опрятно одетые канадцы проходили с громким сме-
хом. Молчаливо шли японцы, похожие на вырезанные из
брюквы фигурки. Пели шпорами сереброгалунные ата-
мановцы.
В гранит устало упиралось море. Влажный, как пена,
ветер, пахнущий рыбой, трепал волосы. В бухте, как цве-
ты, тканные на ситце, пестрели серо-лиловые корабли,
белоголовые китайские шхуны, лодки рыбаков.
— Кабак, а не Расея!*
Матрос подпрыгнул упруго. Рассмеялся:
— Подожди, мы им холку натрем.
— Пошли? — спросил Знобов.
— Айда, посуда!
Они подымались в гору Пекинской улицей.
Из дверей домов пахло жареным мясом, чесноком,
маслом. Два китайца-разносчика, поправляя на плечах
кипы материй, туго перетянутых ремнем, глядя на рус-
ских, нагло хохотали.
Знобов сказал:
— Хохочут, черти! А у меня в брюхе-то как новый
дом строют. Да и ухни он! Дал бы нормально по носу,
суки!..
Матрос повел телом под скорлупой рубахи и кашля-
нул.
— Кому как!
Похоже было — огромный приморский город жил
своей привычной жизнью.
95
Но уже томительная тоска поражений наложила
язвы на лица людей, па животных, на дома. Даже на
море.
Видно было, как за блестящими стеклами кафе затя-
нутые во френчи офицеры за маленькими столиками
пили торопливо, точно укалывая себя рюмками, коньяк.
Плечи у них были устало искривлены. Часто опускались
на глаза тощие, точно задыхающиеся веки.
Худые, как осиновый хворост, изморенные отступле-
нием лошади, расслабленно хромая, тащили наполнен-
ные грязным бельем телеги. Его эвакуировали из Ом-
ска по ошибке, вместо снарядов и орудий. И всем ка-
залось, что белье это с трупов.
Ели глаза, как раствор мыла, пятна домов, полураз-
рушенных во время восстания.
И другое, инаколикое, чем всегда, плескалось море.
И по-иному, из-за далекой овиди 1 — тонкой и звеня-
щей, как стальная проволока, — задевал крылом по го-
роду зеленый океанский ветер.
Матрос неторопливо и немного франтовато ко-
зырял.
— Не боишься шпиков-то? — спросил он Знобова.
Знобов думал о японцах и, вычесывая западающие
глубоко мысли, ответил немного торопливо:
— А нет. У меня другое на сердце. Сначала боялся,
а потом привык. Теперь большевиков ждут, мести боятся,
знакомые-то потому и не выдают. — Он ухмыльнулся. —
Сколь мы страху человекам нагнали. В десять лет не из-
живут.
— И сами тоже хватили!
— Да-а!.. У вас арестов нету?!
— Троих взяли.
— Да-а... Иди к нам в сопки.
— Камень, лес. Не люблю... скучно.
— Это верно. Домов из такого камню хороших
можно набухать. Прямо — Америка. Валяется без толку,
ни жрать, ни под голову. Мужичку ничего, а мне тоже
скучно. Придется нам, однако, в город наступать.
— Валяйте. Вершинин как мыслит?
— Вершинин — туча, куда ветер—там и он с дож-
дем. Куда мужики — значит, и Вершинин...
1 Горизонт.
9G
XI
Председатель подпольного революционного комитета
товарищ Пеклеванов, маленький веснушчатый человек,
в черепаховых очках, очинял ножичком карандаш.
На стеклах очков остро, как лезвие ножичка, играло
солнце и будто очиняло глаза, и они блестели по-новому.
— Вы часто приходите, товарищ Знобов, — сказал
Пеклеванов.
Знобов положил потрескавшиеся от ветра и воды
пальцы на стол и туго проговорил:
— Народ робить хочет.
— Ну?
— А робить не дают. Объяростели. Гонют. Мне и то
неловко, будто невесту богатую уговариваю.
— Мы вас известим.
— Ждать надоело. Хуже рвоты. Стреляй по поездам,
жги, казаков бей... Бронепоезд тут. Японец чисто огонь—
не разбират.
— Пройдет.
— Знаем. Кабы не прошло, за что умирать? Мост
взорвать хочут.
— Прекрасно. Инициативу нужно, нужно. Чудесно.
— Снаряду надо и человека со снарядами тоже. Ди-
намитного человека надо.
— Пошлем. И человека и динамит. Действуйте.
Помолчали. Пеклеванов жарко, истощенно дышал:.
— Дисциплины в вас нет.
— Промеж себя?
— Нет, внутри.
— Ну-у, такой дисциплины теперь ни у кого нету...
Председатель ревкома поцарапал зачесавшийся ост-
рый локоть. Кожа у него на щеках нездоровая, как будто
не спал всю жизнь, но глубоко где-то хлещет радость, и
толчки ее, как ребенок в чреве роженицы, пятнами ру-
мянят щеки.
Матрос протянул руку, пожал будто сок выжимая.
Вышел.
Знобов придвинулся поближе и тихо спросил:
— Мужики все насчет восстанья, ка-ак?.. Случай
чего, тыщи три из деревни дадим сюда. Германского
бою, стары солдаты. План-то имеется?
Он раздвинул руки, точно охватывая стол, и устало
зашептал:
97
— А вы на японца-то прокламацию пустцте. Чтоб ему
сердце-то насквозь прожечь... Мы тут американца одного
до слезы...
У Пеклеванова впалая грудь, говорит слабым голо-
сом, глаз тихий — в очках.
— Как же, думаем... Меры принимаем.
Знобову вдруг стало его жалко.
«Хороший ты человек, а начальник... того...» — поду-
мал он, и ему захотелось увидеть начальника — здоро-
вого бритого человека и почему-то с лысиной во всю
голову.
На столе валялась большая газета, а на ней хмурый
черный хлеб, мелко нарезанные ломтики колбасы, а по-
одаль, на синем блюдечке, две картошки и подле блю-
дечка кусочек сахару.
«Птичья еда», — подумал с неудовольствием Знобов.
Пеклеванов, потирая плечом небритую щеку снизу
вверх, говорил:
— В назначенный час восстанья на трамваях со всех
концов города появляются рабочие и присоединившиеся
к ним солдаты. Перерезают телеграфные провода и за-
хватывают учреждения.
Пеклеванов говорил, точно читая телеграмму, и Зно-
бову было радостно. Он потряс усами и заторопил:
— Ну-у!.. А не сорвется опять! Вы верите уже...
— Все остальное сделает ревком. В дальнейшем он
будет руководить операциями.
Знобов опустил на стол томящиеся силой руки и
спросил:
— Все?
— Пока да.
— А мало этого, товарищ... Ей-богу, мало... Ну,
возьми...
Пальцы Пеклеванова побежали среди пуговиц пид-
жака, веснушчатое лицо покрылось пятнами. Он словно
обиделся.
Знобов бормотал:
— Мужиков-то тоже так бросить нельзя. Надо по-
звать. Выходит, мы в сопках-то зря сидели, как куры на
испорченных яйцах. Нас, товарищ, много... тысячи...
— Японцев сорок. Сорок тысяч.
— Это верно — как вшей, могут сдавить. А только
пойдет.
— Кто?
98
— Мир. Мужик хочет.
— Эсеровщины в вас много, товарищ Знобов. Зем-
лей от вас несет.
— А от вас колбасой.
Пеклеванов захохотал каким-то пестрым смехом.
— Водкой попотчую, хотите?—предложил он.— Толь-
ко долго не сидите и правительство не ругайте. Следят.
— Мы втихомолку.
Выпив стакан водки, Знобов вспотел и, вытирая лицо
полотенцем, сказал, хмельно икая:
— Ты, парень, не сердись — прохлаждайся. А сна-
чалу не понравился ты мне, что хошь.
— Прошло?
— Теперь ничего. Мы, брат, мост взорвем, а потом
броневик там такой есть.
— Где?
Знобов распустил руки:
— По линии... ходит. Четырнадцать там, и еще
цифры. Зовут. Народу много погубил. Может, мильон
народу срезал. Так мы ево... того...
— В воду?
— Зачем в воду? Мы по справедливости. Добро ка-
зенное, мы так возьмем.
— Орудия па нем.
— Опять ничего не значит. Постольку поскольку вы-
ходит, и никакого черта...
Знобов вяло качнул головой:
— Водка у тебя крепкая. Тело у меня, как земля, —
не слухат человечьего говору. Свое прет.
Он поднял ногу на порог и сказал:
— Прощай. Предыдущий ты человек, ей-богу.
Пеклеванов отрезал кусочек колбасы, выпил водки и,
глядя на засуженную мухами стену, сказал:
— Да-а... предыдущий.
Он, весело ухмыльнувшись, достал лист бумаги и,
скрипя пером, стал писать инструкцию восставшим воен-
ным частям.
XII
На улице Знобов увидал у палисадника японского
солдата.
Солдат в фуражке с красным околышем и в желтых
крагах нес длинную эмалированную миску. У японца был
99
жесткий маленький рот и редкие, как стрекозьи кры-
лышки, усики.
— Обожди-ка! — сказал Знобов, взяв его за рукав.
Японец резко отдернул руку и строго крикнул:
— Ню! Сиво лезишь?
Знобов скривил лицо и передразнил:
— Хрю! Чушка ты. К тебе с добром, а ты с хрю-ю!
В бога веруешь?
Японец призакрыл глаза и из-под загнутых, как углы
крыш пагоды, ресниц оглядел поперек Знобова — от
плеча к плечу, потом оглядел сапоги и, заметив на них
засохшую желтую грязь, сморщил рот и хрипло сказал:
— Лусика сюполочь. Ню?..
И, прижимая к ребрам миску, неторопливо отошел.
Знобов поглядел вслед на задорно блестевшие
бляшки пояса. Сказал с сожалением:
— Дурак ты, я тебе скажу!..
КИТАЕЦ СИН БИН-У'
XIII
Через три дня в отряд Вершинина, разламывая телом
плетенную из тростника тележку, примчался матрос
Анисимов.
Лоб у него горел волдырями, одна щека тонула в сса-
дине, а на груди болтался красный бант.
Матрос кричал с трашпанки:
— В городе, товарищ-щи, восстанье!.. Крой... Броне-
вик капитану Незеласову приказано туда в два счета
пригнать... Чтоб немедленно. Рабочие бастуют, одним
словом — крой, и никаких гвоздей!.. А броневик вам,
значит, вручаем... А я милицию организую.
И ускакал в сопки — веселый матрос.
Облако над сопками — словно красная лента...
XIV
Эта история длинная, как Син Бин-у возненавидел
японцев. У Син Бин-у была жена из фамилии Е, креп-
кая манза \ в манзе крашеный теплый кан 1 2 и за манзой
желтые поля гаоляна и чумизы3.
1 Хижина.
2 Деревянные нары, заменяющие кровать.
3 Род китайского проса.
100
А в один день, когда гуси улетели на юг, все исчезло.
Только щека оказалась проколота штыком.
Син Бин-у читал Ши-цзинь \ плел циновки в город,
по бросил Ши-цзинь в колодец, забыл циновки и ушел
с русскими по дороге Хун-ци-цзе1 2.
Син Бин-у отдыхал на песке, у моря. Снизу тепло,
сверху тепло, словно сквозь тело прожигает и калит пе-
сок солнце.
Ноги плещутся в море, и, когда теплая, как парное
молоко, волна лезет под рубаху и штаны, Син Бин-у за-
дирает ноги и ругается:
— Цхау-неа!..
Син Бин-у не слышал, что говорит густоусый и высо-
коносый русский. Син Бин-у убил трех японцев, и, пока
китайцу ничего не надо, он доволен.
От солнца, от влажного ветра бороды мужиков жел-
товато-зеленые, спутанные, как болотная тина, и пахнут
мужики скотом и травами.
У телег пулеметы со щитами, похожими на зеленые
тарелки, пулеметные ленты, винтовки.
На телеге с низким передком, прикрытой рваным
брезентом, метался раненый. Авдотья Стещенкова поила
его из деревянной чашки и уговаривала:
— А ты пе стони, пройдет!
Потная толпа плотно набилась между телег. И те-
леги, казалось, тоже вспотели, стиснутые бушующим че-
ловечьим мясом. Выросшие из бород мутно-красными
полосками губы блестели на солнце слюной.
— О-о-о-у-у-у!..
Вершинин с болью во всем теле, точно его подкиды-
вал на штыки этот бессловный рев, оглушая себя нут-
ряным криком, орал:
— Не давай землю японсу-у!.. Все отымем! Не да-
вай!
И никак не мог закрыть глотку. Все ему казалось
мало. Иные слова не приходили.
— Не да-ва-й!..
Толпа тянула за ним:
— А-а-а!..
И вот на мгновение стихла. Вздохнула.
1 Книга стихов, чтение которой указывает на хорошую грамот-
ность.
2 Дорога Красного знамени, восстаний.
101
Ветер нес запах пота.
Партизаны митинговали.
Лицо Васьки Окорока, рыжее, как подсолнечник, буй-
но металось в толпе, и потрескавшиеся от жары губы
шептали:
— На-ароду-то... Народу-то мильёны, товарищи!..
Высокий, мясистый, похожий на вздыбленную ло-
шадь, Никита Вершинин орал с пня:
— Главна: не давай-й!.. Придет суда скора армия...
советска, а ты не давай... старик!..
Как рыба, попавшая в невод, туго бросается в мот-
ню, так кинулись все на одно слово:
— Не-е да-а-авай!!
И казалось, вот-вот обрушится слово, переломится, и
появится что-то непонятное, злобное, как тайфун.
В это время корявый мужичонка в шелковой малино-
вой рубахе, прижимая руки к животу, пронзительным
голосом подтвердил:
— А {верю, ведь верна!..
— Потому за нас Питер... ници... пал!., и все чужие
земли! Бояться нечего... Японец — что, японец — легок...
Кисея!..
— Верна, парень, верна! — визжал мужичонка.
Густая потная тысячная толпа топтала его визг.
— Верна-а...
— Не да-а-ай!..
— На-а!..
— О-о-оу-у-у!!
— О-о!!!
XV
После митинга Никита Вершинин выпил ковш само-
гонки и пошел к морю. Он сел на камень подле китай-
ца, сказал:
— Подбери ноги, штаны измочишь. Пошто на митин-
гу не шел, Сенька?
— Нисиво, — проговорил китаец,— мне ни нада...
Мне так зыиаю — зынаю псе., шанго.
— Ноги-то подбери!
— Нисиво. Солнышко тепыло еси. Нисиво — а!..
Вершинин насупился и строго, глядя куда-то подле
китайца, с расстановкой сказал:
102
— Беспорядку много. Народу сколь тратится, а все
в туман... У меня, Сенька, душа пищит, как котенка на
морозе бросили... да-а.. Мост вот взорвем, строить при-
дется.
Вершинин подобрал живот, так что ребра натяну-
лись под рубахой, как ивняк под засохшим илом, и, на-
клонившись к китайцу, с потемневшим лицом выпыты-
вающе спросил:
— А ты... как думаешь... А? Пошто эта, а?..
Син Бин-у, торопливо натягивая петли на деревян-
ные пуговицы кофты, оробело отполз.
Вершинин, склонившись над отползающим китайцем,
глубоко оседая в песке тяжелыми сапогами, как у идола,
тоскливо и не надеясь на ответ, спрашивал:
— Зря, что-ль, молчишь-то?.. Ну?..
Китайцу показалось, что вставать никак нельзя, он
залепетал:
— Нисиво!.. нисиво ни зынаю!..
Вершинин почувствовал ослабление тела, сел на ка-
мень.
— Ну вас к черту!.. Никто не знат, не понимат...
Разбудили, побежали, а дале что?..
И, осев плотно на камне, как леший, устало сказал
подходившему Окороку:
— Не то народ умом оскудел, не то я...
— Чего? — спросил тот.
— На смерть лезет народ.
— Куда?
— Броневик-то брать. Миру побьют много. И то в
смерть, как снег в полынью, песет людей.
Окорок, свистнув, оттопырил нижнюю губу.
— Жалко тебе?
Подошел Знобов, под мышкой у него была прижата
папка с бумагами.
— Подписать приказы!
Вершинин густо начеркал на бумаге букву В, а под-
ле нее длинную жирную черту.
— Ране-то пыхтел-потел, еле-еле фамилию напи-
шешь, спасибо, догадь взяла, поставил одну букву с
палкой — и ладно... знают.
Окорок повторил:
— Жалко тебе?
— Чего? — спросил Знобов.
ЮЗ
— Люди мрут.
Знобов сунул бумажку в папку и сказал:
— Пустяковину все мелешь. Чего народу жалеть?
Новой вырастет.
Вершинин сипло ответил:
— Кабы настоящи ключи были. А вдруг, паре, не
теми ключьми двери-то открыть надо.
— Зачем идешь?
— Землю жалко. Японец отымет.
Окорок беспутно захохотал:
— Эх вы, землехранители, ядрена-зелена! И-их!..
— Чего ржешь? — с тугой злостью проговорил Вер-
шинин.— Кому море, а кому земля. Земля-то, парень,
тверже. Я сам рыбацкого роду...
— Ну, пророк?
— Рыбалку брошу теперь.
— Пошто?
— Зря я мучился, чтоб в море идти опять. Пахотой
займусь. Город-то омманыват, пузырь мыльнай, в кар-
ман не сунешь.
Знобов вспомнил город, председателя ревкома, яр-
кие пятна па пристани — людей, трамвай, дома — и ска-
зал с неудовольствием:
— Земли твоей нам не надо. Мы, тюря< по всем пла-
нетам землю отымем и трудящимся массам — расписы-
вайся!..
Окорок растянулся па песке рядом с китайцем и,
взрывая ногами песок, сказал:
— Японскова микадо колды расстреливать будут, вот
завизжит, курва. Патеха-а!.. Не ждет, поди, а, Сенька?
Как ты думаешь, Егорыч?
— Им виднее, — нехотя ответил Вершинин.
Над песками — берега-скалы, дальше горы. Дуб.
Лиственница. Высоко на скале человек, в желтом — как
кусочек смолы на стволе сосны — часовой.
Вершинин, грузно ступая, пошел между телегами.
Син Бин-у сказал:
— Серысе похудел-похудел немынога... а?
— Пройдет, — успокоил Окорок, закуривая папи-
роску.
Син Бин-у согласился:
— Нисиво,
104
XVI
Корявый мужичонка в малиновой рубахе поймал
Вершинина за полу пиджака и, отходя в сторону, таин-
ственно зашептал:
— Я тебя понимаю. Ты полагаешь, я балда балдой.
Ты им вбей в голову, поверют и пойдут!.. Само главно —
в человека поверить... А интернасынал-то?
Он подмигнул и еще тихо сказал:
— Я ведь знаю — там ничего нету. За таким мудре-
ным словом никогда доброго не найдешь. Слово должно
быть простое, скажем — пашня... Хорошее слово.
— Надоели мне хорошие слова.
— Брешешь. Только говорил и говорить будешь. Ты
вбей им в голову. А потом лишнее спрятать можно... Это
завсегда так делается. Ведь которому человеку агромад-
нейшая мера надобна, такое племя... Он тебе вершком,
стерва, мерить не хочет, а верста. И пусь, пусь мерят...
Ты-то свою меру знашь... Хе-хе-хе!..
Мужичонка по-свойски хлопнул Вершинина в плечо.
Тело у Вершинина сжималось и горело. Лег под те-
легу, пробовал уснуть и не мог.
Вскочил, туго перетянул живот ремнем, умылся из
чугунного рукомойника согревшейся водой и пошел сби-
рать молодых парней.
— На ученье, айда. Жива-а!..
Парни с зыбкими и неясными, как студень, лицами
собирались послушно.
Вершинин выстроил их в линию и скомандовал:
— Смирйа-а!..
И от крика этого почувствовал себя солдатом:
— Равнение на-право-о!..
Вершинин до позднего вечера учил парней.
Парни потели, злобно проделывая упражнения, по-
сматривая на солнце.
— Полуоборот на-алева-а!.. Смотри. К японцу пойдем!
Один из парней жалостно улыбнулся.
— Чего ты?
Парень, моргая выцветшими от морской соли ресни-
цами, сказал робко:
— Где к японсу? Свово б не упустить. У японса-то,
бают, мо-оря... А вода их горячая, хрисьянину пить
нельзя.
— Таки же люди, колдобоина!
105
— А пошто они желты? С воды горячей, бают.
Парни захохотали.
Вершинин прошел по строю и строго скомандовал:
— Рота-а, пли-и!..
Парни щелкнули затворами.
Лежавший под телегой мужик поднял голову и ска-
зал:
— Учит. Обстоятельный мужик, Вершинин-то...
Другой ответил ему полусонно:
— Камень, скаля... Большим комиссаром будет.
— Он-то? Обязательна.
ПРАПОРЩИК ОБАБ
XVII
Казак изнеможенно ответил:
~ Так точно... с документами...
Мужик стоял, откинув туловище, и похожая на ры-
жий платок борода плотно прижималась к груди.
Казак, подавая конверт, сказал:
— За голяшками нашли!
Молодой крупноглазый комендант станции, обессилен-
но опираясь на низкий столик, стал допрашивать парти-
зана:
— Ты... какой банды... вершининской?..
Капитан Незеласов, вдавливая раздражение, гладил
ладонями грязно пахнущую, как солдатская портянка,
скамью комендантской и зябко вздрагивал. Ему хоте-
лось уйти, но постукивавший в соседней комнате аппа-
рат телеграфа не пускал:
«Может... приказ... может...»
Комендант, передвигая тускло блестевшие четырех-
угольники бумажек, изнуренным голосом спросил:
— Какое количество?.. Что?.. Где?..
Со стен, когда стучали входной дверью, откалыва-
лась штукатурка. Незеласову казалось, что комендант
притворяется спокойным.
«Угодить хочет... бронепоезд... дескать, наши...»
А у самого внутри такая боль, какая бывает, когда
медведь проглатывает ледяшку с вмороженной спиралью
китового уса. Ледяшка тает, пружина распрямляется,
106
рвет внутренности —сначала одну кишку, потом
другую...
Мужик говорил закоснелым, смертным говором и
только при словах: «Город-то, бают, узяли наши» —
строго огляделся, но опять спрятал глаза.
Румяное женское лицо показалось в окошечке:
— Господин комендант, из города не отвечают.
Комендант сказал:
— Говорят, не.расстреливают—палками...
— Что? — спросило румяное лицо.
— Работайте, вам-то что! Вы слышали, капитан?
— Может... все может... Но ведь, я думаю...
— Как?
— Партизаны перерезали провода. Да, перерезали,
только...
— Нет, не думаю. Хотя!..
Когда капитан вышел на платформу, комендант, из-
нуренно кладя на подоконник свое тело, сказал громкоз
— Капитан, арестованного прихватите.
Рыжебородый мужик сидел в бронепоезде неподвиж-
но. Кровь ушла внутрь, лицо и руки ослизли, как мо-
края серая глина.
Когда в него стреляли, солдатам казалось, что они
стреляют в труп. Поэтому, наверное, один солдат прика-
зал до расстрела:
— А ты сапоги-то сейчас сними, а то потом возись.
Обыклым движением мужик сдернул сапоги.
Противно было видеть потом, как из раны туго уда-
рила кровь.
Обаб принес в купе щенка — маленький сверточек
слабого тела. Сверточек неуверенно переполз с широкой
ладони прапорщика на кровать и заскулил.
— Зачем вам? — спросил Незеласов.
Обаб как-то по-своему ухмыльнулся:
— Живность. В деревне у нас — скотина. Я уезда
Барнаульского.
— Зря... да, напрасно, прапорщик.
— Чего?
— Кому здесь нужен ваш уезд?.. Вы... вот... прапор-
щик Обаб, да золотопогонник и... враг революции. Ника-
ких.
— Ну? — жестко проговорил Обаб.
И, отплескивая чуть заметное наслаждение, капитан
проговорил:
107
— Как таковой... враг революции.,, выходит, подле-
жит уничтожению. Уничтожению!
Обаб мутно посмотрел на свои колени, широкие и уз-
ловатые пальцы рук, напоминавшие сухие корни, и мут-
ным, тягучим голосом проговорил:
— Ерунда. Мы их в лапшу искрошим!
На ходу в бронепоезде было изнурительно душно.
Тело исходило потом, руки липли к стенам, скамейкам.
Только когда выводили и расстреливали мужика
с рыжей бородой, в вагон слабо вошел хилый, больной
ветер и слегка освежил лица. Мелькнул кусок сталь-
ного неба, клочья изорванных немощных листьев с кле-
нов.
Тоскливо пищал щенок.
Капитан Незеласов ходил торопливо по вагонам и
визгливо, по-женски ругался. У солдат были вялые
длинные лица, и капитан брызгал словами:
— Молчать, гниды. Не разговаривать, молчать!..
Солдаты еще более выпячивали скулы и пугались
своих воспаленных мыслей. Им при окриках капитана
казалось, что кто-то, не признававший дисциплины, тихо
скулит у пулеметов, у орудий.
Они торопливо оглядывались.
Стальные листы, покрывавшие хрупкие деревянные
доски, несло по ровным, как спички, рельсам — к восто-
ку, к городу, к морю.
XVIII
Син Бин-у направили разведчиком.
В плетенную из ивовых прутьев корзинку он насыпал
жареных семечек, на дно положил револьвер и, прода-
вая семечки, хитро и радостно улыбался.
Офицер в черных галифе с серебряными двуполо-
сыми галунами, заметив радостно изнемогающее
лицо китайца, наклонился к его глазам и торопливо
спросил:
— Кокаин есть?
Син Бин-у плотно сжал колпачки тонких, как щели,
век и, точно сожалея, ответил:
— Нетю!
Офицер строго выпрямился.
— А что есть?
108
Семечки еси.
— Жидам продались, — сказал офицер, отходя.—
Вешать вас!
Тонкогрудый солдатик в голубых обмотках и в ши-
нели, похожей на грязный больничный халат, сидел ря-
дом с китайцем и рассказывал:
— У нас в Семипалатинской губернии, брат китаеза,
арбуз совсем особенный — китайскому арбузу далеко.
— Шанго, — согласился китаец.
— Домой охота, а меня к морю везут, видишь.
— Сытупай.
— Куда?
— Домой.
— Устал я. Повезут — поеду, а самому идти — сил
нету.
— Семичика мынога.
— Чево?
Китаец встряхнул корзинку. Семечки сухо зашур-
шали, запахло золой от них.
— Семичики мынога у русика башку. У-ух... Шибир-
шиты...
— Что шебуршит?
— Семичика, зелена-а...
— А тебе что же, камень надо, чтоб в голове-то ле-
жал?
Китаец одобрительно повел губами и, указывая на
серый френч проходившего плоского офицера, спросил:
— Кто?
— Капитан Незеласов, это, китаеза, начальник бро-
непоезда. В город требуют поезд, уходит. Перережут тут
пас партизаны-то, а?
— Шанго... Пу шанго...
— Для тебя все шанго, а мы кумекай тут!
Русоглазый парень с мешком, из которого торчал
жидкий птичий пух, остановился против китайца и ве-
село крикнул:
— Наторговал?
Китаец вскочил торопливо и пошел за парнем.
Бронепоезд вышел на первый путь. Беженцы с пер-
рона жадно и тоскливо посмотрели на него, зашепта-
лись испуганно. Изнеможенно прошли казаки. Седой
длиннобородый старик рыдал возле кипяточного крана,
и, когда он вытирал слезы, видно было — руки у него
маленькие и чистенькие.
109
Солдатик прошел мимо, с любопытством и скрытой
радостью оглядываясь, посмотрел в бочку, наполненную
гнило пахнущей, похожей на ржавую медь водой.
— Житьишко, — сказал он любовно.
Китаец в гаолянах говорил что-то шепотом русогла-
зому парню.
XIX
Ночью стало совсем душно. Духота густыми непрео-
долимыми волнами рвалась с мрачных чугунно-темных
полей, с лесов — и, как теплую воду, ее ощущали губы,
и с каждым вздохом грудь наполнялась тяжелой, как
мокрая глина, тоской.
Сумерки здесь коротки, как мысль помешанного.
Сразу — тьма. Небо в искрах. Искры бегут за парово-
зом, паровоз рвет рельсы, тьму и беспомощно, жалко
ревет.
А сзади наскакивают горы, лес. Наскочат и разда-
вят, как овца жука.
Прапорщик Обаб всегда в такие минуты ел. Тороп-
ливо хватал из холщового мешка яйца, срывал скор-
лупу, втискивал в рот хлеб, масло, мясо. Мясо любил
полусырое и жевал его передними зубами, роняя лип-
кую, как мед, слюну на одеяло. Но внутри по-прежнему
был жар и голод.
Солдат-денщик разводил чаем спирт, па остановках
приносил корзины провизии, недоумело докладывая:
— С городом, господин прапорщик, сообщения нет.
Обаб молчал, хватая корзинку, и узловатыми паль-
цами вырывал хлеб и, если не мог больше его съесть,
сладострастно тискал и мял, отшвыривая затем прочь.
Спустив щенка на пол и следя за ним мутным мед-
ленным взглядом, Обаб лежал неподвижно. Выступала
на теле испарина. Особенно неприятно было, когда по-
тели волосы.
Щенок, тоже потный, визжал. Визжали буксы. Гро-
хотала сталь — точно заклепывали...
У себя в купе, жалко и быстро вспыхивая, как спич-
ка на ветру, бормотал Незеласов:
— Прорвемся... к черту!.. Нам никаких командова-
ний... Нам плевать!..
Но так же, как и вчера, версту за верстой, как Обаб
110
пищу, торопливо и жадно хватал бронепоезд — и не на-
сыщался. Так же мелькали будки стрелочников, и так
же, забитый полями, ветром и морем, жил на том конце
рельс непонятный и страшный в молчании город.
— Прорвемся, — выхаркивал капитан и бежал к ма-
шинисту.
Машинист, лицом чернявый, порывистый, махая всем
своим телом, кричал Незеласову:
— Уходите!.. Уходите!..
Капитан, незаметно гримасничая, обволакивал маши-
ниста словами:
— Вы не беспокойтесь... партизан здесь нет... А мы
прорвемся, да, обязательно... А вы скорей... А... Мы все-
таки...
Машинист был доброволец из Уфы, и ему было
стыдно своей трусости.
Кочегар, тыча пальцем в тьму, говорил:
— У красной черты... Видите?
Капитан глядел на закоптелый глаз машиниста и во-
спаленно думал о «красной черте». За ней паровоз взо-
рвется, сойдет с ума.
— Все мы... да... в паровоз...
Нехорошо пахло углем и маслом.
Вспоминались бунтующие рабочие.
Незеласов внезапно выскакивал из паровоза и бежал
по вагонам, крича:
— Стреляй!..
Для чего-то подтянув ремни, солдаты становились
у пулеметов и выпускали в тьму пули. От знакомой ра-
боты аппаратов тошнило.
Явился Обаб. Губы жирные, лоб потно блестел. Он
спрашивал одно и то же:
— Обстреливают? Обстреливают?
Капитан приказывал:
— Отставь!
— Усните, капитан!
Все в поезде бегало и кричало — вещи и люди. И се-
рый щенок в купе прапорщика Обаба тоже пищал.
Капитан торопился закурить сигаретку:
— Уйдите... к черту!.. Жрите... все, что хотите... Без
вас обойдемся. — И визгливо тянул: — Пра-а-порщик!..
— Слушаю, — сказал прапорщик, — вы что ищете?
— Прорвемся... я говорю — прорвемся!..
— Ясно. Всего хватает.
111
Капитан снизил голос:
— Ничего. Потеряли!.. Коромысло есть... Нет ни ча-
шек... ни гирь... Кого и чем мы вешать будем!..
— Да я их...
Капитан пошел в свое купе, бормоча на ходу:
— А... Земля здесь вот... за окнами... Как вы... вот
пока... она вас... проклинает, а?..
— Что вы глисту тянете? Не люблю. Короче.
— Мы, прапорщик, трупы... завтрашнего дня. И я, и
вы, и все в поезде — прах... Сегодня мы закопали чело-
века, а завтра... для нас лопата... да.
— Лечиться надо.
Капитан подошел к Обабу и, быстро впивая в себя
воздух, прошептал:
— Сталь не лечат, переливать надо... Это ту... дви-
жется если... работает... А если заржавела... Я всю
жизнь, на всю жизнь убежден был в чем-то, а...-Ошибся,
оказывается... Ошибку хорошо при смерти... А мне три-
дцать ле-ет, Обаб. Тридцать, и у меня ребеночек —
Ва-а-алька... И ногти у него розовые, Обаб...
Тупые, как носок американского сапога, мысли Оба-
ба разошлись в стороны. Он отстал, вернулся к себе,
взял папироску и тут, не куря еще, начал плевать —
сначала на пол, потом в закрытое окно, в стены и на
одеяло, и когда во рту пересохло, сел на кровать и
мутно воззрился на мокрый живой сверточек, пищавший
на полу.
— Глиста!..
XX
На рассвете капитан вбежал в купе Обаба.
Обаб лежал вниз лицом, подняв плечи, словно при-
крывая ими голову.
—• Послушайте, — нерешительно сказал капитан, по-
тянув Обаба за рукав.
Обаб повернулся, поспешно убирая спину, как уби-
рают рваную подкладку платья.
— Стреляют? Партизаны?
— Да нет... Послушайте!..
Веки у Обаба были вздутые и влажные от духоты, и
мутно и обтрепанно глядели глаза, похожие на прорехи
в платье.
112
— Но нет мне разве места... в людях, Обаб?.. Пой-
мите... я письмо хочу... получить. Из дома, ну!..
Обаб сипло сказал:
— Спать надо, отстаньте!
— Я хочу... получить из дома... А мне не пишут!..
Я ничего не знаю. Напишите хоть вы мне его, прапор-
щик!..— Капитан стыдливо хихикнул: — А... незаметно
этак, бывает... а...
Обаб вскочил, натянул дрожащими руками большие
сапоги, а затем хрипло закричал:
— Вы мне по службе, да! А так мне говорить не
смей! У меня у самого... в Барнаульском уезде...
Прапорщик вытянулся, как на параде.
— Орудия, может, не чищены? Может, приказать?
Солдаты пьяны, а тут ты... Не имеешь права...
Он замахал руками и, подбирая живот, говорил:
— Какое до тебя мне дело? Не желаю я жалеть
тебя, не желаю!
— Тоска, прапорщик... А вы... все-таки... человек!
— Жизненна твоя паршивая. Сам паршивый... Она-
низмом в детстве-то, а... Ишь, ласки захотел...
— Вы поймите... Обаб.
— Не по службе то.
— Я прошу...
Прапорщик закричал:
— Не хо-очу-у!..
И он повторил несколько раз это слово, и с каждым
повторением оно теряло свою окраску; из горла выры-
валось что-то огромное, хриплое и страшное, похожее
па бегущую армию:
— О-о-а-е-ггты!..
Они, не слушая друг друга, исступленно кричали, до
хрипоты, до того, пока не высох голос.
Капитан устало сел на койку и, взяв щенка на ко-
лени, сказал с горечью:
— Я думал... камень. Про вас-то... А тут — леденец...
в жару распустился!
Обаб распахнул окно и, подскочив к капитану, резко
схватил щенка за гривку.
Капитан повис у него на руке и закричал:
— Не сметь!.. Не сметь бросать!
Щенок завизжал.
— Ну-у!.. — густо и жалобно протянул Обаб. — Пу-у-
сти-и.м
5 Зак. № 426
113
— Не пущу, я тебе говорю!..
— Пу-усти-и!
— Бро-ось!.. Я!..
Обаб убрал руку и, словно намеренно тяжело сту-
пая, вышел.
Щенок тихо взвизгивал, неуверенно перебирал се-
рыми лапками по полу, по серому одеялу. Похож на мо-
крое, ползущее пятно.
— Вот, бедный, — проговорил Незеласов, и вдруг
в горле у него заклокотало, в носу ощутилась вязкая
сырость. Он заплакал.
XXI
В купе звенел звонок — машинист бронепоезда тре-
бовал к себе.
Незеласов устало позвал:
— Обаб!
Обаб шел позади и был недоволен мелкими шажка-
ми капитана.
Обаб сказал:
— Мостов здесь порванных нету. Что у них? Шпалы
разобрали... Партизаны... А из города ничего. Ерунда!
Незеласов виновато сказал:
— Чудесно... мы живем, да-а?.. А до сего момента...
не знаю, как имя... отчество ваше, а... Обаб и Обаб?.. Из-
вините, прямо... как собачья кличка...
— Имя мое — Семен Авдеич. Хозяйственное имя.
Машинист, как всегда, стоял у рычагов. Сухой, жи-
листый, с медными усами и словно закоптелыми гла-
зами.
Указывая вперед, он проговорил:
— Человек лежит.
Незеласов не понял. Машинист повторил:
, — Человек на пути!
Обаб высунулся. Машинист быстро передвинул ка-
кие-то рычаги. Ветер рванул волосы Обаба.
— На рельсах, господин капитан, человек!
Незеласова раздражал спокойный голос прапорщика,
и он резко сказал:
— Остановите поезд!
— Не могу, — сказал машинист.
114
— Я приказываю! Я...
— Нельзя, — повторил машинист. — Поздно вы при-
шли. Перережем, тогда остановимся.
— Человек ведь! Что?
— По инструкции не могу остановить. Крушение
иначе будет.
Обаб расхохотался:
— Совсем останавливаться ни к чему. Мало мы лю-
дей перебили. Если из-за каждого стоять, мы бы даль-
ше Ново-Николаевска не ушли.
Капитан раздраженно сказал:
— Прошу не указывать! Остановить после перереза!
Прошу!..
— Слушаюсь, господин капитан, — ответил Обаб.
Ответ этот, грубый и торопливый, еще больше озлил
капитана, и он сказал:
— А вы, прапорщик Обаб, идите немедленно, и что-
бы мне рапорт, что за труп на пути.
— Слушаю, — ответил Обаб.
Машинист еще увеличил ход.
Вагоны напряженно вздрогнули. Пронзительно за-
лился гудок.
Человек на рельсах лежал неподвижно. Виднелось
на желтых шпалах синее пятно его рубахи.
Вагоны передернуло железными лопатками площа-
док.
— Кончено, — сказал машинист. — Сейчас останов-
лю, и посмотрим.
Обаб, расстегивая ворот рубахи, чтобы потное тело
опахнуло ветром, соскочил с верхней площадки прямо
на землю. Машинист спрыгнул за ним.
Солдаты показались в дверях. Незеласов надел фу-
ражку и тоже пошел к выходу.
Но в это время толкнул бронепоезд лес гулким ру-
жейным залпом. И немного спустя еще один заблудив-
шийся выстрел.
Прапорщик Обаб вытянул вперед руки, как будто
приготовляясь к нырянию в воду, и вдруг тяжело пока-
тился по откосу насыпи.
Машинист запнулся и, как мешок с воза, грузно упал
у колес вагона. На шее выступила кровь, и его медные
усы точно сразу побелели.
— Назад!.. Назад!.. — пронзительно закричал Незе-
ласов.
115
Дверцы вагонов хлопнули, заглушая выстрелы. Мимо
вагонов пробежал забытый в суматохе солдат. У четвер-
того вагона его убило.
Застучали пулеметы.
РЕЛЬСЫ
XXII
Похоже, не мог найти сапог по ноге и потому бегал
босиком. Ступни у лисолицего были огромные, как лы-
жи, а тело, как у овцы,— маленькое и слабое.
Бегал лисолицый торопливо и кричал, глядя себе
под ноги, словно сгоняя цыплят:
— Шавялись. Шавялись. Ждут...
И, для чего-то зажмурившись, спрашивал проходив-
шие отряды:
— Сколько народу?
Открывая глаза, залихватски выкрикивал стоявшему
на холме Вершинину:
— Гришатински, Никита Егорыч!
У подола горы редел лес, и на россыпях цвел голый
камень. За камнем, на восток, на полверсты — реденький
кустарник, за кустарником — желтая насыпь железной
дороги, похожая на одну бесконечную могилу без кре-
стов.
— Мутьевка, Никита Егорыч! — кричал лисолицый.
Темный, в желтеющих измятых травах стоял Верши-
нин. Было у него лохмоволосое, звериное лицо, иссушен-
ный долгими переходами взгляд, изнуренные руки. При-
выкшему к машинам Пентефлию Знобову было спокой-
но и весело стоять близ него. Знобов сказал:
— Народу идет много.
И протянул вперед руку, словно хватаясь за рычаг
исправной и готовой к ходу машины.
— Анисимовски, сосновски!
Васька Окорок, рыжеголовый, на золотошерстом ко-
ротконогом иноходце подскакал к холму и, щекоча сапо-
гами шею у лошади, заорал:
— Иду-ут! Тыщ поди пять будет!
— Боле, — отозвался уверенно лисолицый с россы-
пи.— Кабы я грамотный, я бы тебе усю риестру разло-
жил. Мильён!
116
Он яростно закричал проходившим:
— А ты каких волостей?!
У низкорослых монгольских лошадок и людей были
приторочены длинные крестьянские мешки с сухарями.
В гривах лошадей и людей торчали спелые осенние
травы, и голоса были протяжные, но жесткие, как у пе-
релетных осенних птиц.
— Открывать, что ли? — закричал лисолицый.—
Ждут... ,
И хотя знали все: в городе восстание, на помощь бе-
лым идет бронепоезд № 14-69, если не задержать, вос-
стание подавят японцы, — все же нужно было собраться,
и чтоб один сказал и все подтвердили:
— Идти... Сказать — всем, всем — слышать.
— Японец больше воевать не хочет, — добавил Вер-
шинин, слезая с ходка.
Син Бин-у влез на ходок и долго, будто выпуская изо
рта цветную и непонятно шебуршащую бумажную лен-
ту, говорил, почему нужно сегодня задержать броне-
поезд.
Между выкрашенных под золото и красную медь
осенних деревьев натянулось, грязное, пахнущее землей,
полотно из мужицких тел. Полотно гудело. И было не-
понятно— не то сердито, не то радостно гудит оно от
слов человечков, говорящих с телеги.
— Голосовать, что ли? — спросил толстый секретарь
штаба.
Вершинин ответил:
— Обожди. Не орали еще.
Зеленобородый старик с выцветшими, распаренными
глазами, расправляя рубаху на животе, словно к его жи-
воту хотели прикладываться, шипел исступленно Верши-
нину:
— А ты от бога куда идешь, а?
— Окстись ты, дед!
— Бога ведь рушишь. Я знаю! Никола-угодник яв-
лялся — больше, грит, рыбы в море не будет. Не даст.
А ты пошто народ бунтуешь?.. Мне избу надо ладить, а
ты у меня всех работников забрал.
— Сожгет японец избу-то!
— Японца я знаю, — торопливо, обливая слюной бо-
роду, бормотал старик, — японец хочет, чтоб в его веру
перешли. Ну а народ-то — пень: не понимат. А нам от
ит
греха дальше, взять да согласиться, черт с ним — втишь*
то можно... свому богу... Никола-то свому не простит,
а японца завсегда надуть можна...
Старик тряс головой, будто пробивая какую-то тем-
ную стену, и слова, которые он говорил, видно было,
тяжело рождены им, а Вершинину они были не
нужны.
И он, выливая через слабые губы, как через
проржавленное ведро влагу, опять начал бормотать
свое.
— Уйди! — сказал грубо Вершинин. — Чего лезешь
в ноздрю с богами своими? Подумаешь... Абы жизнь
была —богов выдумают...
— Ты не хулись, ирод, не хулись!..
Окорок сказал со злобою:
— Дай ему, Егорыч, стерве, в зубы! Провокатёры ти-
ковые!
Вскочив на ходок, Окорок закричал, разглаживая
слова:
— Ну, так вы как, товарищи?.. Галисовать, что ли?
— Голосуй! — отвечал кто-то робко из толпы.
. Мужики загудели:
— Валяй!..
— Чаво мыслить-то!..
— Жарь, Васька!
Когда проголосовали уже, решив идти на броневик,
влево, далеко над лесом послышался неровный гул, похо-
жий на срыв в падь скалы. Мохнатым громадным вени-
ком выбросило в небо дым.
Толстый секретарь снял шапку и по-протокольному
сказал мужикам:
— Это штаб постановил — через Мукленку мост
наши взорвали. Поезд, значит, все равно не выскочит
к городу. Наши-то сгибли, поди, пятеро...
Мужики сняли шапки, перекрестились за упокой.
Пошли через лес к железнодорожной насыпи окапы-
ваться.
Вершинин пошел по кустарнику к насыпи, поднялся
кверху и, крепко поставив, будто пришив, ноги между
шпал на землю, долго глядел в даль блестящих сталь-
ных полос на запад.
— Чего ты? — спросил Знобов.
Вершинин отвернулся и, спускаясь с насыпи,
сказал:
118
— Будут же после нас люди хорошо жить?
- Ну?
— Вот и все.
Знобов развел пальцами усы и сказал с удовольст-
вием:
— Это их дело. Я думаю, обязаны, стервы!
XXIII
Бритый коротконогий человек лег грудью на стол,—
похоже, что ноги его не держат, — и хрипло говорил:
— Нельзя так, товарищ Пеклеванов: ваш ревком со-
вершенно не считается с мнением Совета союзов. Высту-
пление преждевременно.
Один из сидевших в углу на стуле рабочих сказал
желчно:
— Японцы объявили о сохранении ими нейтралите-
та. Не будем же мы ждать, когда они на острова убе-
рутся.
Власть должна быть в наших руках, тогда они ско-
рее уйдут.
Коротконогий человек доказывал:
— Совет союзов, товарищи, зла не желает, можно бы
обождать...
— Когда японцы выдвинут еще кого-нибудь.
— Пойдут опять усмирять мужиков?
— Ждали достаточно!
Собрание волновалось. Пеклеванов, отхлебывая чай,
успокаивал:
— А вы тише, товарищи.
Коротконогий представитель Совета союзов проте-
стовал:
— Вы не считаетесь с моментом. Правда, крестьяне
настроены фанатично, но... Вы уже послали агитаторов
по уезду, крестьяне идут на город, японцы иейтралитет-
ствуют... Правда!.. Вершинин пусть даже бронепоезд за-
держит, и все же восстания у нас не будет.
— Покажите ему!
— Это демагогия!..
— Прошу слова!
— Товарищи!
Пеклеванов поднялся, вытащил из портфеля бумажку
и, краснея, прочитал:
119
— Разрешите огласить следующее: «По постановле-
нию Совета Народных Комиссаров Сибири — восстание
назначено на двенадцать часов дня шестнадцатого сен-
тября тысяча девятьсот девятнадцатого года. Начальный
пункт восстания казармы артиллерийского дивизиона...
По сигналу... Совет Народных...»
Уходя, коротконогий человек сказал Пеклеванову:
— За нами следят! Вы осторожнее... И матроса на-
прасно в уезд командировали.
— А что?
— Взболтанный человек: бог знает чего может
наговорить! Надо людей сейчас осмотрительно выби-
рать.
— Мужиков он знает хорошо, — сказал Пекле-
ванов.
— Мужиков никто не знает. Человек он воздушный,
а воздушность на них, правда, действует. Все же... На
митинг поедете?
— Куда?
— Судостроительный завод. Рабочие хотят вас ви-
деть.
Пеклеванов покраснел.
Коротконогий подошел к нему вплотную и тихо
в лицо сказал:
— Мне вас жалко. А без вас они выступать не хотят.
Не верят они словам, а человека увидеть хотят. Следят...
контрразведка... Расстреляют при поимке, — а видеть хо-
тят. Дескать, с нами ли? Напрасно затеваете.
Пеклеванов вытер потный веснушчатый лоб, сунул
маленькие руки, в карманы короткополого пиджака и
прошелся по комнате. Коротконогий следил за ним из-
под выпуклых очков.
— Сенти ментальность, — сказал Пеклеванов, — ниче-
го не будет!
Коротконогий вздохнул:
— Как хотите. Значит, заехать за вами?
— Когда?
Пеклеванов покраснел сильнее и подумал: «А он за
себя трусит».
И от этой мысли совсем растерялся, даже руки за-
дрожали.
— А хотя мне все равно. Когда хотите!
Вечером коротконогий подъехал к палисаднику и
ждал. Через кустарник видна была его соломенная
120
шляпа и усы, желтоватые, подстриженные, похожие на
зубную щеточку. Фыркала лошадь.
Жена Пеклеванова плакала. У нее были острые зубы
и очень румяное лицо. Слезы на нем были не нужны,
неприятно их было видеть на розовых щеках и мягком
подбородке.
— Измотал ты меня. Каждый день жду — арестуют...
Бог знает потом... Хоть бы одно!.. Не ходи!..
Она бегала по комнате, потом подскочила к двери и
ухватилась за ручку, просила:
— Не пущу... Кто мне потом тебя возвратит, когда
расстреляют? Ревком? Наплевать мне на них всех,
идиотов.
— Маня! Ждет же Семенов.
— Мерзавец он — и больше никто. Не пущу, тебе
говорят, не хочу! Ну-у?..
Пеклеванов оглянулся, подошел к двери. Жена
изогнулась туловищем, как теснина под ветром; на
согнутой руке, под мокрой кожей, натянулись сухо-
жилия.
Пеклеванов смущенно отошел к окну.
— Не понимаю я вас!..
— Не любишь ты никого. Ни меня, ни себя, Ва-
сенька! Не ходи!..
Коротконогий хрипло проговорил с пролетки:
— Василий Максимыч, скоро? А то стемнеет, мага-
зины запрут.
Пеклеванов тихо сказал:
— Позор, Маня. Что мне, как Подколесину, в окош-
ко выпрыгнуть? Не могу же я отказаться: струсил, ска-
жут.
— На смерть ведь. Не пущу.
Пеклеванов пригладил низенькие жидкие волосенки.
— Придется.
Пошарив в карманах короткополого пиджака и кри-
во улыбаясь, стал залезать на подоконник.
— Ерунда какая... Нельзя же так...
Жена закрыла лицо руками и, громко, будто наро-
чито, плача, выбежала из комнаты.
— Поехали? — спросил коротконогий. Вздохнул.
Пеклеванов подумал, что он слышал плач в домиш-
ке. Неловко сунулся в карман, но портсигара не оказа-
лось. Возвращаться же было стыдно.
-^ Папирос у вас нету? — спросил он.
121
XXIV
Никита Вершинин верхом на брюхастой, мохнато-
шерстой, как меделянская собака, лошади объезжал ку-
старники у железнодорожной насыпи.
Мужики лежали в кустах, курили, приготовлялись
ждать долго. Пестрые пятна десятками, сотнями росли
с обеих сторон насыпи, между разъездами — почти на
десять верст.
Лошадь — ленивая, вместо седла — мешок. Ноги Вер-
шинина болтались, и через плохо обернутую портянку
сапог больно тер пятку.
— Баб чтоб не было, — говорил он.
Начальники отрядов вытягивались и бойко, точно
успокаивая себя военной выправкой, спрашивали:
— Из городу, Никита Егорыч, ничего не слышно?
— Восстание там.
— А успехи-то как? Военны?
Вершинин бил каблуком лошадь в живот и, чувствуя
в теле сонную усталость, отъезжал.
— Успехи, парень, хорошие. Главно — нам не подга-
дить!
Мужики, как на покосе, выстроились вдоль насыпи.
Ждали.
Непонятно-незнакомо пустела насыпь. Последние дни
один за другим уходили на восток эшелоны с беженца-
ми, солдатами — японскими, американскими и русскими.
Где-то перервалась нить, и людей отбросило в другую
сторону. Говорили, что беженцев грабят приехавшие из
сопок мужики, и было завидно. Бронепоезд № 14-69
носился один между станциями и не давал солдатам
бросить все и бежать.
Партизанский штаб заседал в будке стрелочника.
Стрелочник тоскливо стоял у трубки телефона и спра-
шивал станцию:
— Бронепоезд скоро?
Около него сидел со спокойным лицом партизан с ре-
вольвером и глядед в рот стрелочнику.
Васька Окорок подсмеивался над стрелочником:
— Мы тебя кашеваром сделаем. Ты не трусь!
И, указывая на телефон, сказал:
— С луной, бают, в Питере-то большевики учтены пе-
реговаривают?
— Ничо не поделаешь, коли правда.
122
Мужики вздохнули, поглядели на насыпь.
— Правда-то, она и на звезды влезет.
Штаб ждал бронепоезда. Направили к мосту пятьсот
мужиков, к насыпи на длинных российских телегах при-
везли бревна, чтоб бронепоезд не ушел обратно. У шпал
валялись ломы — разобрать рельсы.
Зиобов сказал недовольно:
— Все правда да правда! А к чему — и сами не
знаем. Тебе с луною-то, Васька, для чего говорить?
— А все-таки чудно! Может, захочем на луне-то му-
жика построить.
Мужики захохотали.
— Ботало.
— Окурок!
— Надо, чтоб народу лишнего не расходовать, а он
тут про луну. Как бронепоезд возьмем, дьявол?
— Возьмем!
— Это тебе не белка — с сосны снять!
В это время приехал Вершинин. Вошел, тяжело ды-
ша, грузно положил фуражку на стол и сказал Знобову:
— Скоро ль?
Стрелочник сказал у телефона:
— Не отвечают.
Мужики сидели молча. Один начал рассказывать
про охоту. Знобов вспомнил про председателя ревкома
в городе.
— Этот, белобрысый-то? — спросил мужик, расска-
зывавший про охоту, и тут же начал врать про Пеклева-
нова, что у него лицо белее крупчатки, и что бабы за
ним, как лягушки за болотом, и что американский ми-
нистр предлагал семьсот миллиардов за то, чтоб Пекле-
ванов перешел в американскую веру, а Пеклеванов гор-
до ответил: «Мы вас в свою даром не возьмем».
— Вот стерва! — восторгались мужики.
Знобову было почему-то приятно слушать это вранье
и хотелось рассказать самому. Вершинин снял сапоги и
начал переобуваться. Стрелочник вдруг робко спро-
сил — в трубку:
— Во сколько? Пять двадцать?
Обернувшись к мужикам, сказал:
— Идет!
И словно поезд был уже подле будки, — все выбе*
жали и, вскинув ружья, залезли на телеги и поехали на
восток к взорванному мосту.
123
— Успеем! — говорил Окорок.
Вперед послали нарочного.
Глядели на рельсы, тускло блестевшие среди де-
ревьев.
— Разобрать бы — и только.
С соседней телеги отвечали:
— Нельзя. А кто собирать будет?
— Мы, брат, прямо на поезде!
— В город вкатим!
— А тут собирай.
Окорок крикнул:
— Братцы, а ведь у них люди-то есть!
- Где?
— У незеласовых-то? Которые рельсы ремонтиру-
ют — есть-то люди?
— Дурной, Васька, а как мы их перебьем? Всех?
И,- разохотившись на работу, согласились:
— Эта можна... Перебьем!..
— Нет, шпалы некому собирать.
Все время оглядывались назад — не идет ли броне-
поезд. Прятались в лес, потому — люди теперь по линии
необычны, — бронепоезд несется и обстреливает.
Стучали боязливо сердца, били по лошадям, гнали,
точно у моста их ждало прикрытие.
Верстах в двух от домика стрелочника, на насыпи,
увидали верхового человека.
— Свой! — закричал Знобов.
Васька взял на прицел.
— Снять его. Свой?
— Какой черт свой, кабы свой — не целился б!
Син Бин-у, сидевший рядом с Васькой, удержал:
— Пасытой, Васика-а!..
— Обождь! — закричал Знобов.
Человек на лошади подогнал ближе. Это был мужик
с перевязанной щекой, приведший американца.
— Никита Егорыч здеся?
- Ну?
Мужик, радуясь, закричал:
— Пришли мы туда, а там — казаки. Около мосту-
то! Постреляли мы их, да и обратно.
— Откуда?
Вершинин подъехал к мужику и, оглядывая его,
спросил:
— Всех убили?
124
— Усех, Никита Егорыч. Пятеро — царство небесное!
— А казаки откуда?
Мужик хлопнул лошадь по гриве.
— Да ведь мост-от, Никита Егорыч, не подняли.
Целой.
Мужики заорали:
— Чего там?
— Провокатор!
— Дай ему в харю!
Мужичонка торопливо закрестился:
— Вот те крест — не подняли. У камня, саженях
в триста, сами себя взорвали. Должно, динамит пробо-
вать удумали. Только штанину одну с мясом нашли,
а все остальное... Пропали...
Мужики молчали. Поехали вперед. Но вдруг остано-
вились. Васька с перекосившимся лицом закричал:
— Братцы, а ведь уйдет броневик-то! В город!
Братцы!
Из лесу ввалилась посланная вперед толпа мужиков.
Один из них сказал:
— Там бревна, Никита Егорыч, у моста навалены,
на насыпь-то. Отстреливаются от казаков. Ну, их
немного.
— Туда, к мосту, идти? — спросил Знобов.
Здесь все разом почему-то оглянулись. Над лесом
тонко стлался дымок.
— Идет! — сказал Окорок.
Знобов повторил, ударив яростно лошадь кнутом!
— Идет!
Мужики повторили:
— Идет!
— Товарищи! — звенел Окорок. — Остановить
надо!..
Сорвались с телеги. Схватив винтовки, кинулись на
насыпь. Лошади ушли в травы и, помахивая уздечками,
щипали.
Мужики добежали до насыпи. Легли на шпалы.
Вставили обоймы. Приготовились.
Тихо стонали рельсы — шел бронепоезд.
Знобов тихо сказал:
— Перережет — и все. Стрелять не будет даже
зря!
И вдруг, почувствовав это, тихо сползли все в ку-
старники, опять обнажив насыпь.
125
Дым густел, его рвал ветер, но он упорно полз над
лесом.
— Идет!.. Идет!.. — с криком бежали к Вершинину
мужики.
Вершинин и весь штаб, мокрые, стыдливо лежали в
кустарниках. Васька Окорок злобно бил кулаком по
земле. Китаец сидел на корточках и срывал траву.
Знобов торопливо, испуганно сказал:
— Кабы мертвой!
— Для чего?
— А, вишь, по закону—как мертвого перережут,
поезд-то останавливается. Чтоб протокол составить...
свидетельство и все там!..
- Ну?
— Вот кабы труп. Положили бы его. Перережут и
остановятся, а тут машиниста, когда он выйдет, — при-
стрелить. Можно взять тогды.
Дым густел. Раздался гудок.
Вершинин вскочил и закричал:
— Кто хочет, товарищи... на рельсы чтоб и перере-
жет!.. Все равно подыхать-то. Ну?.. А мы тут машини-
ста с поезда снимем! А только вернее, что остановится,
не дойдет до человека.
Мужики подняли головы, взглянули на насыпь, по-
хожую на могильный холм.
— Товарищи! — закричал Вершинин.
Мужики молчали.
Васька отбросил ружье и полез на насыпь.
— Куда? — крикнул Знобов.
Васька злобно огрызнулся:
1 — А ну вас к...! Стервы...
И, вытянув руки вдоль тела, лег поперек рельс.
Уже дышали, гукая, деревья, и, как пена, над ними
оторвался и прыгал по верхушкам желто-багровый дым.
Васька повернулся вниз животом. Смолисто пахли
шпалы. Васька насыпал на шпалу горсть песка и лег на
него щекой. Песок был теплый и крупный.
Неразборчиво, как ветер по листве, говорили в ку-
стах мужики. Гудели в лесу рельсы...
Васька поднял голову и тихо бросил в кусты:
— Самогонки нету?.. Горит!..
Палевобородый мужик на четвереньках приполз
с ковшом самогонки. Васька выпил и положил ковш
рядом.
126
Потом поднял голову и, стряхивая рукой со щек пе-
сок, посмотрел: голубые гудели деревья, голубые зве-
нели рельсы.
Приподнялся на локтях. Лицо стянулось в одну жел-
тую морщину, глаза как две алые слезы...
— Не могу-у!.. Душа-а!..
Мужики молчали.
Китаец откинул винтовку и пополз вверх по насыпи.
— Куда? — спросил Знобов.
Син Бин-у, не оборачиваясь, сказал;
— Сыкуучна-а!.. Васика!
И лег с Васькой рядом.
Морщилось, темнело, как осенний лист, желтое лицо.
Рельс плакал. Человек ли отползал вниз по откосу,
кусты ли кого принимали, — не знал, не видел Син
Бин-у...
— Не могу-у!.. Братани-и!.. — выл Васька, отползая
вниз.
Слюнявилась трава, слюнявилось небо...
Сии Бин-у был один.
Плоская изумрудноглазая, как у кобры, голова его
пощупала шпалы, оторвалась от них и, качаясь, подня-
лась над рельсами... Оглянулась.
Подняли кусты молчаливые мужицкие головы со
ждущими голодными глазами.
Син Бин-у лег.
И еще потянулась изумрудноглазая кобра — вверху и
еще несколько сот голов зашевелили кустами и взгля-
нули на него.
Китаец опять лег.
Корявый палевобородый мужичонка крикнул ему:
— Ковш тот брось суды, манза!.. Да и ливорвер-то
бы оставил. Куда тебе ево?.. Ей!.. А мне сгодится!..
Син Бин-у вынул револьвер, не поднимая головы,
махнул рукой, будто желая кинуть в кусты, и вдруг вы-
стрелил себе в затылок.
Тело китайца тесно прижалось к рельсам.
Сосны выкинули бронепоезд. Был он серый, квадрат-
ный, и злобно-багрово блестели зрачки паровоза. Серой
плесенью подернулось небо; как голубое сукно были
деревья...
И труп китайца Син Бин-у, плотно прижавшийся
к земле, слушал гулкий перезвон рельс...
127
СМЕРТЬ КАПИТАНА НЕЗЕЛАСОВА
XXV
Прапорщик Обаб остался лежать у насыпи, в травах.
Капитан Незеласов был в купе, в паровозе, по ваго-
нам. И всем казалось, что он не торопится, хоть и гово-
рил, проглатывая слова:
— Пошел!.. Пошел!..
На смену прибежал помощник машиниста. Мешаясь
в рычагах, обтирая о замасленную куртку руки, сказал:
— Сичас... нельзя так... смотреть!..
Закипели водопроводные краны.
Разыскивая в паровозном инструменте зубило, узко-
горлый зашиб голову и вдруг от боли закричал.
Незеласов, пригибаясь, побежал прочь.
— Ну вас к черту... к черту...
Поезд торопился к мосту, но там на рельсах за три
версты лежали бревна, огромная лиственница. И мост
почему-то казался взорванным.
Бронепоезд, лязгая буферами, отпрыгнул обратно и
с визгом понесся к станции. Но на повороте в лес, где
убили Обаба, были разобраны шпалы...
И на прямом пути стремительно взад и вперед —
от моста до будки стрелочника было шесть верст, — как
огромный маятник, метался взад и вперед капитан Незе-
ласов.
Били пулеметы, били вагоны пулеметами, пулеметы
были горячие, как кровь...
Видно было, как из кустарника подпрыгивали кверху
тяжело раненные партизаны. Они теперь не боялись по-
казаться лицом.
Но тех, кто был жив, не было видно, так же гнулся
золотисто-серый кустарник, и в глубине темнел кедр.
Временами казалось, что бьет только один броне-
поезд.
Незеласов не мог отличить лиц солдат в поезде.
Угасали лампы, и лица казались светлее желтых фи-
тилей.
Тело Незеласова покорно слушалось, звонко, немного
резко кричала глотка, и левая рука тискала что-то в воз-
духе.
Он хотел прокричать солдатам какие-то утешения, но
подумал: «Сами знают!»
128
И опять почувствовал злость на прапорщика Обаба.
Ночью партизаны зажгли костры. Они горели огром-
ным молочно-желтым пламенем, и так как подходить и
подбрасывать дрова в костер было опасно, то кидали
издали, и будто костры были широкие, величиной с кре-
стьянские избы. Бронепоезд бежал среди этих костров и
на пламя усиливал огонь пулеметов и орудий. Так, по
обеим сторонам дороги горели костры, и не видно было
людей, а выстрелы из тайги походили на треск горев-
ших сырых поленьев. Капитану казалось, что его тело,
тяжелое, перетягивает один конец поезда, а он бежал
на середину и думал, что машинист уйдет к партизанам,
а в будке машиниста, что позади, отцепляют солдаты
вагоны на ходу.
Капитан, стараясь казаться строгим, говорил:
— Патронов... того... не жалеть!..
И, утешая самого себя, кричал машинисту:
— Я говорю... не слышите, вам говорят!.. Не ж&леть
патронов!
И, отвернувшись, тихо смеялся за дверями и тряс
левой рукой:
— Главное, капитан... стереотипные фразы... «патро-
нов не жалеть».
Капитан схватил винтовку и попробовал сам стрелять
в темноту, но вспомнил, что начальник нужен как распо-
рядитель, а не как боевая единица. Пощупал бритый
подбородок и подумал торопливо: «А на что я нужен?»
Но тут: «Хорошо бы капитану влюбиться... бороду
завести в пол-аршина!.. Генеральская дочь... карьера...
Не смей!..»
Капитан побежал на середину поезда.
— Не смей без приказания!
Бронепоезд без приказаний капитана метался от мо-
ста — маленького деревянного мостика через речонку,
которого почему-то не могли взорвать партизаны, и за
будку стрелочника, но уже все ближе навстречу, как
плоскости двух винтов, ползли бревна по рельсам, а за
бревнами мужики.
В бревна били пули, навстречу им стреляли мужики.
Бронепоезд, слепой, боясь оступиться, шел грудью
на пули, а за стенками из стали уже перебегали из ва-
гона в вагон солдаты, менялись местами, работая не
у своих аппаратов, вытирая потные груди, и говорили:
— Прости ты, господи!
129
Незеласову было страшно показаться к машинисту.
И, как за стальными стенками, перебегали с места на
место мысли, и, когда нужно было говорить что-нибудь
нужное, капитан кричал:
— Сволочи!..
И долго билось нужное слово в ногах, в локтях рук,
покрытых гусиной кожей.
Капитан прибежал в свое купе. Коричневый щенок
спал клубком на кровати.
Капитан замахал рукой:
— Говорил... ни снарядов... ни жалости!.. А тут сво-
лочи... сволочи!..
Он потоптался на одном месте, хлопнул ладонью по
подушке, щенок отскочил, раскрыл рот и запищал тихо.
Капитан наклонился к нему и послушал.
— И-и-и!..— пикал щенок.
Капитан схватил его, сунул под мышку и с ним по-
бежал по вагонам.
Солдаты не оглядывались на капитана. Его знакомая
широкая, но плоская фигура, бывшая сейчас какой-то
прозрачной, как плохая курительная бумага, пробегала
с тихим визгом. И солдатам казалось, что визжит не
щенок, а капитан. И не удивляло то, что визжит капи-
тан.
Но визжал щенок, слабо царапая мягкими лапами
френч капитана.
Так же, не утихая, седьмой час подряд били пуле-
меты в траву, в деревья, в темноту, в отражавшиеся
у костров камни, и непонятно было, почему партизаны
стреляют в стальную броню вагонов, зная, что не
пробьет ее пулей.
Капитан чувствовал усталость, когда дотрагивался
до головы. Тесно жали ноги сухие и жесткие, точно из
дерева, сапоги.
Крутился потолок, гнулись стены, пахло горелым мя-
сом — откуда, почему? И гудел, не переставая, паровоз;
— А-а-о-е-е-е-и.
xyvi
Мужики прибывали и прибывали. Они оставляли
в лесу телеги с женами и по тропам выходили с ружья-
ми нй плечах на опушку. Отсюда ползли к насыпи и
окапывались.
130
Бабы, причитая, встречали раненых и увозили их до-
мой. Раненые, которые посильнее, ругали баб матерной
бранью, а тяжелораненые подпрыгивали на корнях,
раскрывали воздуху и опадавшему листу свои полые
куски мяса. Листы присыхали к крови выпачканных
телег.
Рябая маленькая старуха с ковшом святой воды хо-
дила по опушке и с уголька обрызгивала идущих. Они
ползли, сворачивали к ней и проползали тихо, похожие
на стадо сытых, возвращающихся с поля овец.
Вершинин на телеге за будкой стрелочника слушал
донесения, которые читал ему толстый секретарь.
Васька Окорок шепнул боязливо:
— Страшно, Никита Егорыч?
— Чего? — хрипло спросил Вершинин.
— Народу-то темень!
— Тебе что, — ты не конокрад. Известно—мир!..
Васька после смерти китайца ходил съежившись и
глядел всем в лицо с вялой, виноватой улыбочкой.
— Тихо идут-то, Никита Егорыч; у меня внутри не-
ладно.
— А ты молчи — и пройдет!
Знобов сказал:
— Кою ночь не спим, а ты, Васька, рыжий, а рыжая-
то, парень, с перьями.
Васька тихо вздохнул:
— В какой-то стране, бают, рыжих в солдаты не бе-
рут. А я царю-то почесть семь лет служил: четыре года
на действительной да три на германской.
— Хорошо мост-то не подняли... — сказал Знобов.
— Чего? — спросил Васька.
— Как бы повели на город бронепоезд-то? Даже
шпал не хотели разбирать, а тут тебе мост. Омраченье!..
Васька уткнул курчавую голову в плечи и поднял
воротник.
— Жалко мне, Знобов, китайца-то! А думаю, в рай
он уйдет — за крестьянскую веру пострадал.
— А дурак ты, Васька.
-— Чего?
' — В бога веруешь.
— А ты пет?
— Никаких!..
— Стерва ты, Знобов. А впрочем, дела твои, братан.
Ноне свобода, кого хошь, того и лижи. Только мне без
131
веры нельзя — у меня вся семья из веку кержацкая,
раскольной веры.
— Вери-ители!..
Знобов рассмеялся. Васька тоскливо вздохнул:
— Пусти ты меня, Никита Егорыч,— постреляю хоть!
— Нельзя. Раз ты штаб, значит, и сиди в штабной
квартире.
— Телеги-то!
Задребезжало и с мягким звоном упало стекло
в стрелочной. Снаряд упал рядом.
Вершинин вдруг озлился и стукнул секретаря:
— Сиди тут. А ночь как придет — пушшай костер
палят. А не то слезут с поезда-то и в лес удерут, либо
черт их знат, што им в голову придет.
Вершинин погнал лошадь вдоль линии железной до-
роги вслед убегающему бронепоезду:
— Не уйдешь.
Лохматая, как собака, лошаденка трясла большим,
как бочка, животом. Телега подпрыгивала. Вершинин
встал на ноги, натянул вожжи:
— Ну-у!..
Лошаденка натянула ноги, закрутила хвостом и по-
несла. Знобов, подскакивая грузным телом, крепко дер-
жался за грядку телеги, уговаривая Вершинина:
— А ты не гони — не догонишь! А убить-то тебя за
дешеву монету убьют.
— Никуда он не убежит. Но-о, пошел!
Он хлестнул лошадь кнутом по потной спине.
Васька закричал:
— Гони! Весь штаб делат смотр войскам! А на капи-
тана етова с поездом его плевать. Гони, Егорыч!.. По-
шел!
Телега бежала мимо окопавшихся мужиков. Мужики
подымались на колени и молча провожали глазами стоя-
щего на телеге, потом клали винтовки на руки и ждали
проносящийся мимо поезд, чтобы стрелять.
Бронепоезд с грохотом, выстрелами несся навстречу.
Васька зажмурился.
— Высоко берет, — сказал Знобов, — вишь, не хва-
тат. Они там, должно, очумели, ни черта не видят!
— Ни лешева, — яростно заорал Васька и, схватив
прут, начал стегать лошадь.
Вершинин — огромный, брови рвались по мокрому
лицу.
132
— Не выдавай, товарищи!
— Крой! — орал Васька.
Телега дребезжала, о колеса билась лагушка, из-под
сиденья валилось на землю выбрасываемое толчками
сено. Мужики в кустарниках не по-солдатски отвечали:
— Ничего!..
И это казалось крепким и своим, и даже Знобов
вскочил на колени и, махая винтовкой, закричал:
— А дуй, паря, пропадать так пропадать!
Опять навстречу мчался уже не страшный броне-
поезд, и Васька грозил кулаком:
— Доберемся!
Среди огней молчаливых костров стремительно в тем-
ноте серые коробки вагонов с грохотом носились взад и
вперед.
А волосатый человек на телеге приказывал. Мужики
подтаскивали бревна на насыпи и, медленно подталкивая
их впереди себя, ползли. Бронепоезд подходил и бил
в упор.
Бревна были как трупы, и трупы как бревна — хру-
стели ветки и руки, и молодое и здоровое тело было
у деревьев и людей.
Небо было темное и тяжелое, выкованное из чугуна,
и ревело сверху гулким паровозным ревом.
Мужики крестились, заряжали винтовки и подталки-
вали бревна. Пахло от бревен смолой, а от мужиков
потом.
Пихты были как пики и хрупко ломались о броню
подходившего поезда.
Васька, изгибаясь по телеге, хохотал:
— Не пьешь, стерва. Мы, брат, до тебя доберемся.
Не ускочишь. Задарма мы тебе китайца отдали!
Знобов высчитывал:
— Завтра у них вода выдет. Возьмем. Это обяза-
тельно.
Вершинин сказал:
— Надо в город-то на подмогу идти.
Как спелые плоды от ветра, падали люди и целовали
смертельным последним поцелуем землю.
Руки уже не упирались, а мягко падало все тело и
не ушибалось больше — земля жалела. Сначала падали
десятки. Тихо плакали за опушкою, на просеке бабы.
Потом сотни — и выше и выше подымался вой. Носить
их стало некому, и трупы мешали подтаскивать бревна.
133
Мужики все лезли и лезли.
Броневик продолжал жевать, не уставая, и точно те-
ряя путь от дыма пустующих костров, все меньше и
меньше делал свои шаги от будки стрелочника до дере-
вянного мостика через речонку. Потом остановился.
Тогда-то, далеко еще до крика Вершинина: «Пашел!..
Та-ва-ри-щи!..» — мужики повели наступление.
Падали, отрываясь от стальных стенок, кусочки
свинца и меди в тела, рвали грудь, пробивая насквозь,
застегивая ее навсегда со смертью в одну петлю.
Мужики ревели:
— О-а-а-а-о!!
Травы ползли по груди, животу. О сучья кустарников
цеплялись лица, путались и рвались бороды, из их пот-
ного мокрого волоса лезли наружу губы:
— О-а-а-а-о-о!!
Костры остались за спиной, а тут недалеко стояли
темные, похожие на амбары вагоны, а не было пути к
людям, боязливо спрятавшимся за стальными стенками.
Партизан бросил бомбу к колесам. Она разорвалась,
отдаваясь у каждого в груди.
Мужики отступили.
Светало.
Когда при свете увидели трупы, заорали, точно им
сразу сцарапнули со спины кожу, и опять полезли па
вагоны.
Вершинин снял сапоги и шел босиком. Знобов, часто
приседая, почти на четвереньках, осторожно и почему-то
обходя кусты, полз. Васька Окорок восторженно глядел
на Вершинина и кричал:
— А ты, Никита Егорыч, Еруслан!
Лицо у Васьки было веселое, и только на глазах бле-
стели слезы.
Броневик гудел.
— Заткни ему глотку-то! — закричал пронзительно
Окорок и вдруг поднялся с колен и, схватившись за
грудь, проговорил тоненьким голоском, каким говорят
обиженные дети: — Господи... и меня!..
Упал.
Партизаны, не глядя на Ваську, лезли к насыпи, вы-
сокой, желтой, похожей на огромную могилу.
Васька судорожно дрыгал всем телом, как всегда то-
ропясь куда-то. Умер.
Партизаны отступили.
134
На рассвете приехал Пеклеванов. В портфеле у него
лежали прокламации, и одно стекло очков было сломано
наполовину.
XXVII
Мокрые от пота солдаты, громыхая бидонами, охлаж-
дали у бойниц пулеметы. Были у них робко торопливые
и словно стыдливые движения исцарапанных рук.
Поезд трясся сыпучей дрожью и был весь горячий,
как больной в тифозном бреду.
Темно-багровыйуМрак трепещущими сгустками запол-
нял голову капитана Незеласова. От висков колючим
треугольником — тупым концом вниз — шла и оседала
у сердца коробящая тело жаркая, зябкая дрожь.
— Мерзавцы! —г кричал капитан.
В руках у него был неизвестно как попавший кавале-
рийский карабин, и затвор его был удивительно тепел и
мягок. Незеласов, задевая прикладом за двери, бегал
по вагонам.
— Мерзавцы! — кричал он визгливо. — Мерзавцы!
Было обидно, что не мог подыскать такого слова, ко-
торое было бы похоже на приказание, и ругань ему каза-
лась наиболее подходящей и наиболее легко вспоми-
наемой.
Мужики вели наступление на поезд.
Через просветы бойниц, среди далеких кустарников,
похожих на свалявшуюся желтую шерсть, видно былд,
как перебегали горбатые спины и сбоку их мелькали
винтовки, похожие на дощечки. За кустарниками леса и
всегда неожиданно толстые темно-зеленые сопки, похо-
жие на груди. Но страшнее огромных сопок торопливо
перебегающие по кустарникам спины, похожие на куски
коры. И солдаты чувствовали этот страх и, чтобы не
слышно было хриплого рева из кустарников, заглушали
его пулеметами. Неустанно, не сравнимо ни с чем, пи
с кем, бил по кустарникам пулемет. Капитан Незеласов
несколько раз пробежал мимо своего купе. Зайти туда
было почему-то страшно, через дверки виден был лито-
графированный портрет Колчака, план театра европей-
ской войны и чугунный божок, заменявший пепельницу.
Капитан чувствовал, что, попав в купе, он заплачет и не
выйдет, забившись куда-нибудь в угол, как этот где-то
визжавший щенок.
135
Мужики наступали.
Стыдно было сознаться, но он не знал, сколько было
наступлений, а спросить было нельзя у солдат, — такой
злобой были наполнены их глаза. Их не подымали с за-
творов винтовок и пулеметных лент, и нельзя было эти
глаза оторвать безнаказанно — убьют. Капитан бегал
среди них, и карабин, бивший его по голенищу сапога,
был легок, как камышовая трость. Уже уходил броне-
поезд в ночь, и тьма неохотно пускала тяжелые стальные
коробки. Обрывками капитану думалось, что он слышит
шум ветра в лесу... Солдаты угрюмо били из ружей и
пулеметов в тьму. Пулеметы словно резали огромное,
яростно кричащее тело. Какой-то бледноволосый солдат
наливал керосин в лампу. Керосин давно уже тек у него
по коленям, и капитан, остановившись подле, ощутил
легкий запах яблок.
— Щенка надо... напоить!.. — сказал Незеласов то-
ропливо.
Бледноволосый послушно вытянул губы и позвал:
— Н’ах... нах... н’ах...
Другой, с тонкими, но страшно короткими руками,
переобувал сапоги и, подымая портянку, долго нюхал и
сказал очень спокойно капитану:
— Керосин, ваше благородие. У нас в поселке керо-
син по керенке фунт...
...Их было много, много... И всем почему-то нужно
было умирать и лежать вблизи бронепоезда в кустарни-
ках, похожих на желтую свалявшуюся шерсть.
Зажгли костры. Они горели, как свечи, ровно, чуть
вздрагивая, и не видно было, кто подбрасывал дрова.
Горели сопки.
— Камень не горит!
— Горит!..
— Горит!..
Опять наступление.
Кто-то бежит к поезду и падает. Отбегает обратно и
опять бежит.
— Это наступление?
Ерунда.
Они полежат — эти в кустарниках, встанут, отбегут и
опять.
— ...Побежали!..
136
Через пулеметы, мимо звонких маленьких жерл, про-
несся и пал в вагоны каменный густой рев:
— О-о-у-о-о!..
И тонко-тонко:
— Ой... Ой!..
Солдат со впавшими щеками сказал:
— Причитают... там, в тайге, бабы по ним!..
И осел на скамью.
Пуля попала ему в ухо и на другой стороне головы
прорвала дыру с кулак.
— Почему видно все во тьме? — сказал Незеласов. —
Там костры, а тут, должно быть, темно. И дым: они вы-
куривают нас дымом, чувствуете?
Костры во тьме, за ним рев баб. А может быть, сопки
ревут?
— Ерунда!.. Сопки горят!...
— Нет, тоже ерунда, это горят костры!..
Пулеметчик обжег бок и заплакал по-мальчишески.
Старый, бородатый, как поп, доброволец пристрелил
его из нагана.
Капитан хотел закричать, но почему-то смолчал и
только потрогал свои сухие, как бумага, и тонкие веки.
А у капитана в городе есть невеста... она теперь...
Карабин становился тяжелей, но надо для чего-то
таскать его с собой.
У капитана Незеласова белая мягкая кожа, и на ней,
как цветок на шелку, — глаза.
Уже проходит ночь. Скоро взойдет солнце. Невеста
читает книгу. Невеста заснула над книгой. Веки жен-
щины влажны от сна...
Бледноволосый солдатик спал у пулемета, а тот стре-
лял сонный. Хотя, быть может, стрелял и не его пуле-
мет, а соседа. Или у соседа спал пулемет, а сосед
кричал:
— Туды!.. Туды!..
И какую книгу можно читать в эту ночь?
От горла к подбородку тянулась боль, словно гвоз-
дем сцарапывали кожу. И тут увидал Незеласов около
своего лица: трясутся худые руки с грязными длинными
ногтями. Потом забыл об этом. Многое забыл в эту
ночь... Что-то нужно забывать, а то тяжело все нести...
тяжело...
И вдруг тишина...
Там, за порогами вагонов, в кустарниках.
137
Нужно уснуть. Кажется, утро, а может быть, вечер.
Не нужно помнить все дни...
Не стреляют там, в сопках. У насыпи лежат спокой-
ные, выпачканные в крови мужики. Лежать им, конечно,
неудобно.
А здесь на глаза — тьма. Ослеп капитан.
— Это от тишины...
И глазами и душой ослеп. Показалось даже весело.
Но тут все почувствовали, сначала слегка, а потом
точно обжигаясь, — тишину терпеть нельзя.
Бледноволосый солдат, поднимая руки, побежал к две-
рям.
Тьма! В тьме не видно его поднятых рук.
И капитан сразу почувствовал: сейчас из всех семи
вагонов бросились к дверям люди. На песке легче дер-
жаться. И можно куда-то убежать... Люди задыхались от
дыма в стальных коробках... Им душно!
На мгновение стошнило. Тошнота не только в животе,
но и в ногах, в руках и в плече. Но плечо вдруг осла-
бело, а под ногами капитан почувствовал траву, и колени
скосились.
Впереди себя увидел капитан бородатую рубаху, на
штыке погон и кусок мяса...
' ...Его, капитана Незеласова, мясо...
«Котлеты из свиного мяса... Ресторан «Олимпия»...
Мексиканский негр дирижирует румынским... Осина...
Осень...
Благодарю тебя, Россия... мир... все славянство... за
тишину... Тишина по всей земле...»
— Кро-ой, бей, круши...
Крутится, кружится, крошится крушина...
Поезда на насыпи пет. Значит — ночь. Пощупал под
рукой — волос человеческий в поту. Половина оторван-
ного уха, как суконка, прореха, гвоздем разорвало...
...Кустарник — в руке. Кустарник можно отломить
спокойно и даже сунуть в рот. Это не ухо.
Через плечо карабин! Значит, с поезда ушел?
Незеласов обрадовался. Не мог вспомнить, откуда
очутился пояс с патронами поверх френча.
Чему-то поверил.
Рассмеялся и, может быть, захохотал.
Вязко пах кустарник теплой кровью. Из сопок дул
138
черный, колючий ветер, дул ветвями длинными и мок-
рыми. Может быть, мокрые в крови...
Дальше прополз Обаб со щенком под мышкой. Его
галифе были похожи на колеса телеги.
Вытянулся бледноволосый, доложил тихо:
— Прикажете выезжать?
— Пошел к черту!
Беженка в коричневом манто зашептала на ухоз
— Идут! Идут!..
Капитан Незеласов и сам знал, что идут. Ему нужно
занять удобную позицию. Он пополз на холм, поднял
карабин и выстрелил.
Но одной руки, оказывается, не хватает. Одной рукой
неудобно. Но можно на колено. С колена мушки не ви-
дать... Почему не стрелял в поезде, а здесь...
Здесь один, а ползет... ишь их сколько, бородатые,
сволочь, в землю попадают, а то бы...
Так стрелял торопливо капитан Незеласов в тьму до
тех пор, пока не расстрелял все патроны.
Потом отложил карабин, сполз с холма в куст и,
уткнув лицо в траву, умер.
ПЕНА
XXVIII
В жирных темных полях сытно шумят гаоляны.
Медный китайский дракон желтыми звенящими коль-
цами бьется в лесу. А в кольцах перекатываются, зве-
нят, грохочут квадратные серые коробки...
На желтой чешуе дракона — дым, пепел, искры...
Сталь по стали звенит, кует!..
Дым. Искры. Гаоляны. Тучные поля.
Может быть, дракон китайский из сопок, может быть,
леса.
Желтые листья, желтое небо, желтая насыпь.
Гаоляны!.. Поля!
У дверцы купе лисолицый старикашка, примеряя ши-
рочайшие синие галифе прапорщика Обаба, мальчише-
ски задорным голосом кричит:
— Вот халипа!.. Чисто юбка, а коленко-то голым-
голо: огурец!..
139
Пепел на столике. В окна врывается дым.
Окна настежь. Двери настежь. Сундуки настежь.
‘ Китайский чугунный божок на полу, заплеван, ухмы-
ляется жалобно. Смешной чудачок.
За насыпью другой бог ползет из сопок, желтый, ли-
тыми кольцами звенит...
Жирные гаоляны, черные!
Взгляд жирный у человека, сытый и довольный.
— О-хо-хо!..
— Конец чертям!..
— Буде-е!..
На паровозе уцепились мужики, ерзают по стали го-
рячими хмельными телами.
Один, в красной рубахе, кулаком грозит:
— Мы тебе покажем!
Кому? Кто?
Неизвестно!
А грозить всегда надо! Надо!
Красная рубаха, красный бант на серой шинели.
Бант!
— О-о-о-о!..
— Тяни, Гаврила-а!..
— А-а-а!..
Бант.
Бронепоезд «Полярный» за № 14-69 под красным
флагом. Бант!..
На рыжем драконе из сопок — на рыжем — бант!..
На рыжем!
Здесь было колесо — через минуту за две версты, за
две. Молчат рельсы, не гудят, напуганы... Молчат.
Ага!..
Тщедушный солдатик в голубых французских обмот-
ках, с бебутом.
— Дыня на Иртыше плохо родится... больше под-
солнух и арбуз. А народ ни злой, ни ласковый... Не
знаю — какой народ.
— Про народ кто знат?
— Сам бог рукой махнул...
— О-о!..
— Ну вас, грит!..
— О-о!..
Литографированный Колчак, в клозете, на полу. При-
казы на полу, газеты на полу...
Люди пола не замечают, ходят — не чувствуют...
140
— А-а-а!..
«Полярный» под красным флагом...
Ага!
Огромный, важный — по ветру плывет поезд — лоскут
красной материи. Кровяной, живой, орущий: о-о-о!..
У Пеклеванова очки на нос пытаются прыгнуть, не
удается, куда-то сам пытается прыгнуть и телом и сло-
вами.
— В Америке—со дня на день!
Орет Знобов:
— Знаю... Сам с американским буржуем пропаганду
вел!..
— Изучили!..
— В Англии, товарищи!
Вставай, проклятьем заклейменный...
— О-о-о!..
Очки на нос вспрыгнули. Увидели глаза: дым, табак,
пулеметы на полу, винтовки, патроны — как зерна, му-
жицкий волос, глаза жирные, хмельные.
— Ревком, товарищи, имея задачей!..
— Знаем!..
— Буде... Сам орать хочу!..
Салавей, салавей, пташечка,
Канареючка!..
На кровати — Вершинин, дышит глубоко и мерно,
лишь внутри горит — от дыхания его тяжело в купе, хоть
двери и настежь. Земляной воздух, тяжелый, мужицкий.
Рядом — баба. Откуда пришла — подалась грудями впе-
ред вся, трепыхает. Настасьюшка. Жена!
Орет Знобов:
— Нашла? Он парень добрай!..
Эх, шарабан мой, американка...
табак скурилея,
правитель скрылся...
За дверями кто-то плачет пьяно:
— Ваську-то... сволочи, Ваську — убили... Я им за
Ваську пятерым брюхо испорю — за Ваську и за ки-
тайца... Сволочи...
— Ну их к... Собаки...
— Я их.,, за Ваську-то!..
141
XXIX
Ночью опять пришла жена, задышала-запыхалась, за-
мерла. Видны были при месяце ее белые зубы — холод-
ные и охлаждающие тело — и то же тело, как зубы, но
теплое и вздрагивающее.
Говорила слова прежние, детские, и было в ней дет-
ское, а в руках сила не своя, чужая — земляная.
И в ногах — тоже...
«А та-та-та!.. Ах!.. Ах!..»
Это бронепоезд — к городу, к морю.
Люди тоже идут.
Может быть, туда же, может быть, еще" дальше...
Им надо идти дальше, на то они и люди...
Я говорю, я:
— Зверем мы рождаемся ночью, зверем!!
Знаю — и радуюсь... Верю...
Пахнет земля —из-за стали слышно, хоть и двери на-
стежь, души настежь. Пахнет она травами осенними,
тонко, радостно и благословляюще.
Леса нежные, ночные идут к человеку, дрожат и ра-
дуются— он господин.
Знаю!
Верю!
Человек дрожит — он тоже лист на дереве огромном
и прекрасном. Его небо и его земля, и он — небо и
земля.
Тьма густая и синяя, душа густая и синяя, земля ра-
достная и опьяненная.
Хорошо, хорошо — всем верить, все знать и любить.
Все так надо и так будет — всегда и в каждом
сердце!
— О-о-о!
— Сенька, Степка!.. Кикимора-а!..
- Ну!..
Рев жирный у этих людей — они в стальных одеждах,
радуются им, что ли, гнутся стальные листья; содро-
гается огромный паровоз, и тьма масленым гулом рас-
ползается:
«У-о-у-а... у-у-у!..»
Бронепоезд «Полярный»...
Вся линия знает, город знает, вся Россия... На Бай-
кале, небось, и на Оби...
Ага!..
142
Станция.
Японский офицер вышел из тьмы и ровной, чужой по-
ходкой подошел к бронепоезду. Чувствовалась за ним
чужая, спрятавшаяся в темноте сила, и потому, должно
быть, было весело, холодновато и страшновато.
Навстречу пошел Знобов. Сначала была толпа знобо-
вых — лохматых, густоволосых, а потом отделился один.
Быстро и ловко протянул офицер руку и сказал по-
русски, нарочно коверкая слова:
— Мий — нитралитеты!..
И, повышая голос, заговорил звонко и повелительно
по-японски. Было у него в голосе презрение и какая-то
непонятная скука. И сказал Знобов:
— Нитралитет — это ладно, а только много вас?..
— Двасать тысись.. — сказал японец и, повернув-
шись по-военному, какой-то ненужный и опять весь чу-
жой, ушел.
Постоял Знобов, тоже повернулся и сказал про себя
шепотом:
— А нас — мильён, сволочь ты!..
А партизанам объяснил:
— Трусют. Нитралитеты, грит, и желаем на острова
ехать—рис разводить... Нам черт с тобой, поезжай!
И в ладонь свою зло плюнул:
— Еще руку трясет, стерва!
— Одно — вешать их! — решили партизаны.
Плачущего, с девичьим розовым личиком, вели офице-
ра. Плакал он тоже по-девичьи — глазами и губами.
Хромой, с пустым грязным мешком, перекинутым че-
рез руку, мужик подошел к офицеру и свободной рукой
ударил его в переносицу.
— Не ной!..
Тогда конвойный, точно вспомнив что-то, размахнулся
и, подскочив, как на ученье, всадил штык офицеру между
лопаток.
Станция.
Желтый фонарь, желтые лица и черная земля.
Ночь.
На койке в купе женщина. Жена. Подле черные
одежды.
Поднялся Вершинин и пошел в канцелярию.
Толстому писарю объяснил;
143
— Запиши!..
Был пьян писарь и не понял:
— Чего?
Да и сам Вершинин не знал, что нужно записать.
Постоял, подумал. Нужно что-то сделать, кому-то
как-то...
— Запиши...
И пьяный писарь толстым, как он сам, почерком на-
писал: «Приказ. По постановлению...»
— Не надо, — сказал Вершинин. — Не надо, парень.
Согласился писарь и уснул, положив толстую голову
на тоненький столик.
Тщедушный солдатик в голубых обмотках рассказы-
вал:
— Земли я прошел много и народу всякого видел
много...
У Знобова золотые усы и глаза золотые — жадные и
ласковые. Говорят:
— Откуда ты?
Повел веселый рассказ солдатик, и не верили ему, и
он сам не верил, но было всем хорошо.
Пулеметные ленты на полу. Патроны — как зерна, и
на пулеметах сушатся партизанские штаны. На дулах
засохшая кровь, похожая на истлевший бордовый шелк.
— А то раз по туркестанским землям персидский
шах путешествовал, и встречается ему английская ко-
ролева...
XXX
Город встретил их спокойно.
Еще на разъезде сторож говорил испуганно:
— Никаких восстаний не слышно. А мобыть, и есть—
наше дело железнодорожное. Жалованье маленькое,
ну и...
Борода у него была седоватая, как истлевший навоз,
и пахло от него курятником.
На вокзале испуганно метались в комендантской офи-
церы, срывая погоны. У перрона радостно кричали с гру-
зовиков шоферы. Из депо шли рабочие.
Около Вершинина суетился Пеклеванов.
— Нам придется начинать, Никита Егорыч.
144
Из вагонов выскакивали с пулеметами, с винтовками
партизаны. Были они почти все без шапок и с пьяными
узкими глазами.
— Нича нету?..
— Ставь пулемету...
— Машину* давай, чернай!
Подходили грузовики. В комендантской звенели
стекла и револьверные выстрелы. Какие-то бледные ба-
рышни ставили в буфет первого класса разорванное
красное знамя.
Рабочие кричали «ура». Знобов что-то неразборчиво
кричал. Пеклеванов сидел в грузовике и неясно сквозь
очки улыбался.
На телеге привезли убитых.
Какая-то старуха в розовом платке плакала. Провели
арестованного попа. Поп что-то весело рассказывал, кон-
войные хохотали.
На кучу шпал вскочил бритоусый американец и
щелкнул подряд несколько раз «кодаком».
> В штабе генерала Спасского ничего не знали.
, Пышноволосые девушки стучали на машинках.
Офицеры с желтыми лампасами бегали по лестницам
и по звонким, как скрипка, коридорам. В прихожей пела
в клетке канарейка и на деревянном диване спал дне-
вальный.
Сразу из-за угла выскочили грузовики. Глухо ухнула
толпа, кидаясь в ворота. Зазвенели трамваи, загудели
гудки автомобилей, и по лестницам кверху побежали
партизаны.
На полу — опять бумаги, машинки испорченные, мо-
жет быть, убитые люди.
По лестнице провели седенького, с розовыми ушками
генерала. Убили его на последней ступеньке и оттащили
к дивану, где дремал дневальный.
Бежал по лестнице партизан, поддерживая рукой жи-
вот. Лицо у него было серое, и, не пробежав половины
лестницы, он закричал пронзительно и вдруг сморщился.
Завизжала женщина.
Канарейка в клетке все раскатисто насвистывала.
Провели толпу офицеров в подвал. Ни один из них не
заметил лежащего у лестницы трупа генерала. Солдатик
6 голубых обмотках и бутсах подумал сентиментально,
6 Зак. № 426
145
что хорошо б красной подкладкой шинели прикрыть
труп героя.
Но герои закопаны в гаолянах....
Солдатик в голубых обмотках стоял на часах у входа
в подвал, где были заперты арестованные офицеры.
В руках у него была английская бомба — было
приказано: «В случае чего, крой туда бомбу — черт с
ними».
В дверях подвала синело четырехугольное окошечко
и ниже — угловатая, покрытая черным волосом челюсть
моргающим мокрым глазом. За дверью часто, неразбор-
чиво бормотали, словно молились...
Солдатик устало думал: «А ведь когда бомбу бро-
сить, отскочит от окна или не отскочит?..»
Не звенели трамваи. Не звенела на панели толпа.
Желтая и густая, как дыхание тайфуна, томила город
жара. И как камни сопок, неподвижно и хмуро стояли
вокруг бухты дома.
А в бухте, легко и свободно покачиваясь на зелено-
вато-синей воде, молчал японский миноносец.
В прихожей штаба тонко и разливчато пела кана-
рейка, и где-то, как всегда, плакали.
Полный секретарь ревкома, улыбаясь одной щекой,
писал на скамейке, хотя столы были все свободны.
Тихо, возбужденно переговариваясь, пробежали чет-
веро партизан. Запахло мокрой кожей, дегтем...
Секретарь ревштаба отыскивал печать, но с печатью
уехал Вершинин; секретарь поднял чернильницу и хотел
позвать кого-то...
...Далеко с окраины выстрелили. Выстрел был гул-
кий и точно не из винтовки — огромный и тяжелый, по-
трясающий все тело...
Потом глубже к главным улицам, разрезая радостью
сердце, ударили улицы пулеметами, винтовками, трам-
ваями... заревела верфь...
Началось восстание.
И еще—через два часа подул с моря теплый и влаж-
ный темно-зеленый ветер.
...Проходили в широких плисовых шароварах и синих
рубахах — приисковые. Были у них костлявые лица с се-
рым, похожим на мох, волосом. Блестели у них округ-
ленные, привыкшие к камню глаза...
146
Проходили длиннорукие, ниже колен — до икр, ры-
баки с Зейских озер. Были на них штаны из налимьих
шкур и длинные, густые, как весенние травы, пахнущие
рыбами волосы...
И еще — шли закаленным каменным шагом пастухи
с хребта Сихотэ-Алинь с китаеподобными узкоглазыми
лицами и с длинностволыми прадедовскими винтовками.
Еще — тонкогубые с реки Хора, грудастые, привык-
шие к морским ветрам, задыхающиеся в тростниках ма-
терика рыбаки с залива Св. Ольги...
И еще, и еще — равнинные темнолицые крестьяне
с одинаковым, ровным, как у усталого стада, шагом...
На автомобиле впереди ехал Вершинин с женой. Го-
рело у жены сильное и большое тело, завернутое в яркие
ткани. Кровенились потрескавшиеся губы, и выпячивался
сквозь платье крепкий живот. Сидели они неподвижно, не
оглядываясь по сторонам, и только шевелил платье та-
кой же, как и в сопках, тугой, пахнущий морем, камнями
и морскими травами ветер...
На тумбе, прислонившись к фонарному столбу и водя
карандашом в маленькой записной книжке, стоял амери-
канский корреспондент. Был он чистый и гладкий, быстро
по-мышиному оглядывающий манифестацию.
А напротив, через улицу, стоял тщедушный солдатик
в шинели, похожей на больничный халат, голубых об-
мотках и английских бутсах. Смотрел он на американца
поверх проходивших людей (он устал и привык к мани-
фестациям) и пытался удержать американца в памяти.
Но был тот гадок, скользок и неуловим, как рыба в воде.
Лидия Сейфуллина
ПЕРЕГНОЙ
ПОВЕСТВОВАНИЕ
I
Про Ленина слухи разные ходили. Из немцев. Из
русских, только немцами нанятый и в запечатанном
вагоне в Россию доставленный. Для смуты. Бывший
старшина волостной Жиганов очень этим человеком
интересовался. Всегда из города новый слух привозил.
Вчерашний день за полночь вернулся. А не утерпел:
в земскую библиотеку в окно постучал. Испуганно
к окошку от стола щуплый, низкорослый библиотекарь
Сергей Петрович метнулся. С газетами все засиживался.
— Кто там? Что такое?
Жиганов вплотную к стеклу черную бороду свою
придавил и сквозь двойную раму зычно крикнул:
— Сбежал. Не пужайтесь. Благополучно вам вечеро-
вать! Из городу сейчас. Сбежал!
— Здравствуйте, Алексей Иваныч! Кто сбежал?
— Ленин. Из банков все забрал. Вчистую. И скрыл-
ся. Погоня послана. Завтра все расскажу!
— Зайдите, Алексей Иванович. Сейчас открою.
— Неколи. Дома ждут. Завтра все расскажу!
— Газеты привезли?
— Привез. Только старые, в них еще не пропеча-
тано. По телеграмме... Ну ты, большевицка холера,
т-пр-у!
И в сенях уж сам с собой проговорил:
— Не стоится! До дому охота, жрать охота! Ска-
зано — скотина!
А назавтра радость сникла. Обманули в городе:
утром какой-то с бельмом на глазу, с «мандатой» при-
148
ехал и непонятные слова на сходке читал: «Совнар-
ком— исполкомам всех совдепов». Не сбежал Ленин.
Он на этаком языке разговаривает.
Про Ленина разговор больше в Небесновке. Народ
книжный в ней живет. Сектанты. Как из России сюда
пришли, хвалили. На небеса, говорят, попали. Так и
прозвали: Небесновка. Все сектанты для чтения Писа-
ния священного грамоте обучены. От Тамбовки, хоть
одно село Тамбовско-Небесновское, столбом с доской
отгородились. И доска для грамотных. Белым по чер-
ному прописано: «Небесновка — мужеского пола 495 че-
ловек, женского 581». Под самой доской почти крайний
дом Тамбовский, а народ разный. В Небесновке почище.
В Тамбовке тоже кто пообразованней и помоложе о Ле-
нине осведомлен, а бабы да старики про большевиков
слыхали одно: войну кончают. Откуда большевики —
в точку не смотрели. Короткий народ. Не дох атывают.
Старшина Жиганов из Небесновки был. Солдатье там-
бовское отменило его от должности. А сейчас не раз-
бери-бери какое правленье. Солдат Софрон верховодит.
На сходке к Жиганову прицепился:
— Эй ты, ботало молоканско! Каки слухи про нову
власть распускашь?
Немалого роста Софрон и плечистый, а жигаиовские
глаза на него сверху черным блеском дразнятся. На го-
лову выше Жиганов. И неробкий, но сметливый. Зря
в драку с дураком не полезет.
— Чего, как петух на куру, наскакиваешь? Что в го-
роде слыхал, то и рассказал. Мне брехали, и я брехал.
По чем купил, по том и продаю.
Мужики уж дышат на них, сгрудились. Приезжий
с мандатом чай пить ушел. Сход не расходился. Со-
брать из домов трудно, а как соберутся деревенские —
не разгонишь.
Туго мозги поворачиваются. Пока все выспросят,
много часов пройдет. За Жиганова наставник сектант-
ский Кочеров вступился:
— Гражданин Софрон Артамонович, нехорошо этак
на морду налезать! Алексей Иваныч — человек с инте-
ресом. Узнал в городу — сообщение предоставил. А еже-
ли заблуждение вышло...
Софрон человек без резона. От тихой вразумитель-
ной речи Кочерова взбеленился, заорал зычно на весь
большой класс. В школе все сходы собирались.
149
— Товарищи! Граждане! Небесновка вся — кулаки!
Сладко поют, им не верьте. Сейчас я вам слово скажу!
Как я сам председатель этого митингу, слово скажу!
И сразу за стол, откуда речи говорились. Солдаты
отпускные к нему подались. Солдатки и рванье из-за
оврага, где бедность осела, тоже за ними. Небесновские
за купцом из Тамбовки Сычуговым было к дверям, да
шепот жигановский им быстро передан был:
— Не расходитесь! Кочеров Софрону отчитку делать
будет!
Кудрявый рыжий волос Софронов всегда торчком
над головой, как сиянье. Борода тоже рыжая, и нет
в ней степенности. Клочковатая, во все стороны. И в
глазах строгости нет. Одна синь, в гневе темнеющая, но
без свинца. От того нестрашная.
— Товарищи! Богатеи небесновски нас сомущают.
Мы на фронту кровь проливали, они — которы за богом
прятались! Вера, дескать, не дозволят на войну идти!
А сейчас им опять нашу кровь подавай! Котора власть
за войну, энту им надо! Нашу не надо.
Гулом сход отозвался:
.— Правильно! За богом-то сидючи, брюхо нагуляли!
— И наши на войне были! Одни добротолюбовцы от-
казывались!
— Мы каторги не боялись, на войну не шли!
— Теплоухов только-только с каторги вернулся...
— Дело говори! Это все слыхали!
— Теплоухов у них в каторге! А у наших руки-ноги
оторваты! Это тебе как?
— Ни за што почиташь?
— Не шли бы и вы!
— Ах ты пузо наливное! Земли-то в веч ну награба-
стали! На семьи хватит, и на каторгу можно...
— Чего разговаривать! Бей их, толстомордых!
— Тише! Слова дайте сказать!
— Слабода слова...
— Говори, Софрон!
— Нечего говорить! Все сдыхали!
— Пролетарии, которы пролетают! Старались бы,
так и у вас в вечну...
Шум разрастался. Голоса свирепели.
Во всю грудь Софрон, чтоб перекричать:
— Товарищи! Апосля посчитамся! Этак не слыхать!
По череду все скажем.
150
Лидия Сейфуллина. 1926 г.
Жиганов своих успокаивал:
— Помолчить! Помолчить! Кочеров ему завертку
сдслат!
Стихли. В глухом, рассерженном, но затихающем
ворчании ясный густой голос Софрона заиграл:
— Товарищи! Вон энти ободранные, заовражные...
Энти нам теперь товарищи! Мы то есть вам товарищи!
А небесновски мужики богатые. Им все равно, чья
земля. Им все равно, коли нас опять в окопы. Дарда-
неллов им надо! Вот каки они! Они вас сомущают —
все от бога. От Писания. Им ладно на бога-то уповать!
Богатому легче войти в царство небесное. На земле жи-
ром наливаются, а помрут...
Жиганов не выдержал. Зычным окриком из толпы:
— Клеплешь на Священное писание! Там сказано:
бедному легче в рай...
Софрон затряс кудлатой головой. Распалился. Ярост-
но, громче прежнего, будто лбы разбить хотел, в толпу
кричал:
— Недосмотр в Писанье вышел! Богатый человек
богу угоден! Богатый мужик чистый, обходительный.
С чего я псом кидаться стану, когда кажный передо
мной шапку ломает? А бедному всяк по загривку. От
этого в ем завсегда злость. Обязательно! Богатый с гос-
подами за ручку, всему обучен. А бедный-то и молитвы
но-матерному вывернет, потому ничего не понимат!
В Писанье сказано: не укради. Обязательно украдешь,
как трескать нечего! В Писанье опять же: не убий. Обя-
зательно убьешь!..
Взревели небесновцы:
— Эт-та хорошо! Значит, крадь, убивай!
— Вот оно, ново-то ученье!
— По словам человека узнают!
— Слыхали, каки большевики-те!
— Истинно, острожники у них коноводы!
Заовражные свое:
— Заткни хайло, толстопузый!
— Кого убили? Кого нашински убили?
— А следоват! Бей их, чертей вальяжных!
Старуха Митрофанова поняла: спор на веру пере-
шел. Дребезжащим выкриком из толпы заовражинских:
— В православной церкви святы дары, а в ихнем
молоканском чо?
В шуме потонули слова. Задвигались руки, загудели,
152
засипели, зазвенели разные голоса, все слилось в дикую
музыку стихийно взметнувшегося рева.
Софрон сначала кулаком по столу стучал, потом та*
бурет поднял. Сиденьем его по столу стал колотить. За-
тихли было, по прорвался надрывный выкрик Редькина:
— Наша власть! Будя! Они себя пообихаживали!
И опять стон, рычанье толпы, не привыкшей гово-
рить, знавшей только вой и дикий гомон. Не стояли на
месте. Надвигались друг на друга, грозили кулаками,
толкали, теснили, давили. Близилось побоище.
Кочеров протискался к столу, отвел чей-то увесистый
кулак сильной рукой и, выхватив у Софрона табурет, за*
стучал им сильно и часто по столу. Небесновцы стихли.
Софрон своих унимал. Опять глухое, стихающее рыча-
ние. Выделился мягкий, ласковый, приятный басок Коче-
рова:
— Братья! Злобствие для зверя оставлено, человеку
надо миром и любовью.
Была в мягком голосе привычная властность, уве-
ренность начетчика. Укротила. Один Редькин плюнул и
нехорошо выругался в ответ. Остальные замолчали.
— В гневе у человека глаза не видят, уши не слы-
шат. Зачем так-то? Зачем брат Софрон злобе дал себя
оседлать? За веру свою от старого правительства боль-
шое наказание мы принимали. Из России сюда спасать
свою веру унесли. В чужую холодную сторону пешком
с семействами шли. В вечно владенье землю купили.
А как? Этого вы, братья, не видали? Миром купили,
всем миром! Не только что потом, кровью наша землица
полита. Да, да! Как старо правительство наших на ка-
торгу гнало, вы тогда нас жалели. На войну у нас доб-
ротолюбовцы только не шли. А много ли их у нас? Мы,
евангелические христиане, шли. У меня сын на военной
службе. Мы с вами тяготу несем.
Правду говорил Кочеров. Голос, будто священным
елеем смазанный, был ласков, проникновенен, умиротво-
рял. Толпа сникла и сжалась. Только Софрон крякнул
да Редькин больным звенящим выкриком запротестовал:
— Книжники! На Писаньи насобачились... '
На него прицыкнули, и он смолк.
Ровно и убедительно говорил Кочеров. Будто капли
успокоительные больному подносил.
— Насчет большевицкого ученья мы не против. Вой-
ны мы не хотим, как в Писании сказано — не убий. Бед-
153
кого человека, по Писанию, мы также подымать должны.
Но ученье человеческое — не божье. Оно всегда с собой
муть грехов наших несет. Отобрать да отдать —обида
и зло. Нашу, к слову, землю как отбирать? Мы не по-
дарком ее взяли. Все это надо обсудить в мире, в тиши-
не, в спокойствии. Я поинтересовался насчет большевиц-
кого ученья, в город съездил. Разузнал, что главный их
учитель был Карла Марксов. Ха-а-ра-шо. Был он чело-
век нерусский, записал по-иностранному свое ученье.
Вот узнагьбы досконально подлинность Карлом Марксо-
вым прописанного. Русский народ, он у нас скоро уве-
ряющий. Как нам подали, так мы и глотаем. Разбору
нету у нас в привычке. Насчет образованья, касательно
иностранных языков, слаб. Если к иностранному несу-
мнительно допустить — Ленин чего приписал, как узнать?
Надо иностранные языки уразуметь и Карло Марксово
писание с русскими сверить. Вот тогда можно: пролета-
рии всех стран! В таком деле, как политика, без доско-
нальности невозможно. На уразумленье время надо, вер-
ных людей надо, тишину и мир надо. А так, очертя
голову, в новый хомут лезть...
Болью подлинной вытолкнуло из тишины свистящий
выкрик Редькина:
— Заливат! Товарищи, глаза вам молоканский на-
четчик отводит.
Сразу Кочерова оборвал. Запнулся на слове от не-
ожиданности.
Софрон крепко, зло и властно крикнул:
— Будя! Напустил туману! Мы едак не умеем! То-
варищи, за землю держится! В ее вцепился, нас обха-
живат! Будя!
Опять многоголосый крик:
— Верно! Правильно! Обхаживат! Заткни глотку!
•— Охальники! От слову доброго отвыкли!
— Пущай говорит Ефим Кочеров!
•— Правильно изъяснял!
— Дербалызни его по затылку-то, забудет, как
изъяснять!
— Софрон, твое слово! Ты по-нашински!
Но на стол Редькин забрался.
Худой, нескладный, с воспаленным взглядом злых
черных глаз, с яркими пятнами на скулах, он бил себя
кулаком по впалой груди и хрипел со свистом:
— У мене девять ртов! Мои ребята, хучь малые.
154
своими бы зубами землю выборонили. И игде она? Игде
у мене земля? Ну, игде? Мово брата на войне убили.
А игде у его семейства земля? А этот брат Андрей, вам
известно, в сектанты передался. Кочеров его накормил?
Землю дал? Как не так! В работниках гнулся. Сын у
Кочерова взят! Знам! В портных сидит, в спокое! Ему,
Кочерову-то Ефиму, сколь добра привез, как на побывке
был. А он нам заливат! Кабы у мене достаток!
Выкрикнул, закашлялся, большой плевок крови
в руку выхаркнул, махнул рукой и слез с трудом со
стола.
Софрон мигом на его месте вырос. Лицо у него побе-
лело, глаза будто чернью подернулись, и в первый раз
строгим взгляд стал.
— Товарищи! Нечо долго разговаривать! Мы не на-
четчики, не умем. Айда, вот что сделам: записывайся
всем миром в большевицку партию. Больше нам делать
нечо! Эй, Митроха, писарь, айда, записывай.
Заколыхались, встрепенулись, закричали вразброд.
— Вот дак командер!
— Припечатай еще! Антихрист завсегда с печатью!
— Каин тоже меченый!
— Записываться! Правильно!
— Записываться! Записываться!
Софрон старался перекричать всех:
— Скопом, миром за себя постоим! Они нас одурить
хочут! Эй, беднота, заовражнински, двигайся! Которы
не запишутся, нет им земли!
— Правильно! Не хотят с народом, как дурну траву
из поля вон!
— Айда, вываливай, которы не наши!
— Митроха, записывай!
Семнадцатилетний смешливый белобрысый Митроха,,
закрывая рот рукой, пробрался к столу. Мигом перед
ним — лист серой бумаги.
Но крикнул библиотекарь:
— Товарищи граждане! Слова прошу.
Все время бурного схода он простоял в кучке у окна-
Там были учительницы, священник и он. Все они давно
шептались, но в передрягу не ввязывались. Шум в глу-
бине класса не стих, но у стола замолчали.
— Так, граждане, нельзя! В политическую партию
так не вступают!
Софрон вцепился ему в узкое плечо:
155
— Ты с нами ие запишешься? Говори, ты не согла-
Библиотекарь голову в плечи втянул, еще меньше
стал, но ответил твердо:
— Нет! Вы сами не понимаете, куда лезете!
— А, так. Ладно. Не понимам? А эндаких,, понимаю-
щих, нам не надо! Пшел вон к своим богачам!
Неожиданным взмахом руки Софрон схватил его
сзади за воротник и пинком ноги толкнул в толпу. Биб-
лиотекарь не упал только потому, что ткнулся головой
в грудь рослого старика. Повернув к Софрону бледное,
перекошенное обидой лицо, он взвизгнул по-детски:
— Насильники! Тупая сволочь!
Заовражинские на него кинулись, но стеной плотной
закрыли его небесновцы. И Софрон новым криком оста-
новил:
— Опосля сосчитамся! Подходи записываться! Хто
не запишется, сосчитамся. Узнам, которы наши!
Небесновцы завопили. Но Митроха уже записывал:
— Крученых Павел с семейством...
У стола теснились желавшие записаться.
Кочеров рукой махнул и пошел к выходу. Небеснов-
цы почти все за ним вышли.
Осталось только пятеро.
У стола гулом стояло:
— Софрон, а Софрон, бабу отдельно записывать ай
с собой?
— Бабов, для счету, отдельно. Теперь для их права
вышли! Ребятишек не записывай.
— Ой! А как на их земли не дадут?
Солдатка Ульяна к Софрону кинулась:
— Каки права для баб вышли?
В толпе засмеялись. Митроха из-за стола звонко
крикнул:
— На мужиках сверху лежать. Айда, записывайся!
Взъерошенный, как нахохлившийся воробей, низень-
кий Артамон Пегих солдатку оттолкнул:
— Записали, и не таранти! Сказано, для счету!
Оживший Софрон будто вырос. Глазами опять ра-
достно сиял и, поворачиваясь во все стороны, объясне-
ния давал:
— Баба, она, дивствителыю, корова! А промежду
прочим — человек. Теперь так полагается, ее голос
приматы
156
Через два часа Софрон передавал па въезжей квар-
тире оратору из города лист.
— Вот тут сто пятьдесят восемь человек записались.
В большевики. Передайте список, а нам документ
пущай вышлют, что есть мы теперь большевицка
партия.
У того от радости даже бельмо на глазу будто за-
сияло.
— Да как это так? Вот так успех! Поразительно!
Что значит вовремя приехать. Спасибо, товарищ! С ра-
достью передам! Скоро еще приеду. Вы, товарищ, фрон-
товик?
Софрон охотно и радостно рассказал о своей солдат-
чине, о ранении, об отпуске домой, о том, как в армии
о большевиках узнал. Ему хотелось говорить о себе
подробно и долго, но приезжий оратор засуетился, соби-
раться стал, и Софрон вышел.
Хрустящий снег под. ногой, далекое, молчаливое,
будто застывшее осужденьем беспокойной земле, небо,
отголоски разговоров еще не заснувшей улицы, обрывки
частушки — все будоражило Софрона, поднимало новое
чувство торжества и тревоги. Будто на войне отряд
вывел.
По сделанному им распоряжению в этот час подъ-
ехал Артамон Пегих к библиотеке, разбудил библиоте-
каря и объяснил:
— Укладайся! В город тебя сейчас повезу.
— Как в город? Зачем?
— Сход приказал. Нам эндакого не надо! Айда,
укладайся.
— Да я не хочу ехать! Это насилье!
— Не поедешь, Софрона разбужу. Приказано.
Отплевываясь и ругаясь, библиотекарь начал связы-
вать свои вещи. Обида жгла лицо румянцем. Софрон,
пьянчужка, всеми презираемый в былые дни! Он один
с ним возился. Отмечал, ценил его тягу к книге, а те-
перь вернулся с фронта командиром! Вынырнул новый,
темный, злой. Другим хмелем хмельной. Д-да! Пожалуй,
правда, пропала Россия.
Когда в последний раз вошел в библиотеку, чтобы
посмотреть, не забыл ли чего, вспомнил:
— А ключи кому?
•— Софрон сказал, ему завезти.
’— Ну, ладно. Ему, так ему! Поедем.
157
А Софрон стоял уже у подводы, около библиотеки.
Когда подошел библиотекарь, он протянул ему зажатую
в кулак руку:
— На-кась.
— Что это такое? А?
— Трешница! Тебе от меня. Так что много довольны.
Никогда не обижал. Возьми-кось, там в городу приго-
дится!
Из-под нахохленных рыжих бровей застенчиво блес-
нувший свет и мягкую пугливую улыбку вместе с треш-
ницей принял, с екнувшим сердцем, библиотекарь. Не
сумел отказаться.
и
«На трех китах стоит земля, говорили старики.
Одного, видно, вытащили из-под нее. Зыбкая стала.
С июля года тысяча девятьсот четырнадцатого. Не
стало твердости и нерушимости ни в чем. У земли учи-
лись жить. Она закон поставила человеку: все живое
должно принести плод. А у девок румянец желтизной
отдавать стал. Твердели, теряли молодую хрупкость,
дожидаясь мужа. Жены солдатские ходили без плода,
нагульных ребят вытравляли у них равнодушно жесто-
кие бабки-повитухи. Оттого чаще маялись скрытыми
бабьими своими болями. Оттого в работе сдавали. Рых-
лели. Оттого от тоскующего в бесплодии чрева рожда-
лись похоть и грех. Деревенские бабы и девки, как го-
родские, от закона земли оторванные стали. Грех для
греха, не для деторождения, приманивать начал. Боль-
ше покупали наряды. Приучились к мылу духовому,
возили из городу пудру, дешевые духи и безобразные
медяшки-брошки. Пошили, вместо шуб широких, корот-
кие «маринетки», из-под платка пухового клок волос
взбитых выставляли.
Денег у деревни много стало. Продала сыновей. От-
куп получала. Пособия семьям солдатским на уплату
за приманки на грех шли. Семейные мужики на блуд
с чужими бабами, с девками льстились. Оттого свой род
хилел. Слабей оплодотворялась и земля. Не хватало
рук. По, накатанной за годы войны дороге из города
катились в деревню его пороки, дурная хворь и беспо-
койные, будоражливые мысли. А с году девятьсот сем-
158
падцатого город деревню вертуном завертел. Новое,
новое, новое. Слова незнакомые гвоздили вялую, годами
жившую своим обиходным мысль. Порядки, новизной
пугавшие, налетали неустанно в приказах. Все старое
на слом обрекали. И обо всем этом надо было думать.
Удар за ударом, и все в башку, в башку, в башку! Тря-
си мозгами, деревня! Ошарашилась она, шалая, ходуном
заходила, за поводырей хваталась сослепу. Не стало
в ней крепкой приверженности к своему исконному, де-
ревенскому. Была жизнь подневольная, трудная, но
истовая и мерная, многими поколениями позади утвер-
жденная. Когда разрывалось тихое течение дней дра-
ками, боями на улицах, в пьяном угаре, пожарами,
смертями, то и самые тревоги эти были старыми, понят-
ными. Хмель и драка на праздниках во всем буйстве и
дикости их были привычны и не страшны. Играет ведь
река в половодье, грозит и крушит, а потом уляжется,
спокойная, мирная поилица. Теперь не то. Самую страш-
ную стихию — кровь человеческую—разбудили, чем и
когда ее утихомиришь?»
Все это передумал не раз и не два, много раз, умный
широколобый Кочеров. И только в этих думах узнал,
что бывает и разумному в жизни препона. Не осилишь!
А познав бессилие, познал и сам непреоборимую злобу,
бешеной хваткой терзающую человека. Глядеть не мОг
на Софрона: на другую сторону улицы переходил, когда
встречался. Один раз Софрон приметил, что избегает
его Кочеров. Оскалил белые здоровые зубы и заорал на
всю улицу:
— Эй, молоканский поп! Чо в землю буркалы-то
упирашь? С небом, видно, разлучку сделал? Правильно!
Под ногами-то говно, а бывает и золото.
Нехорошо, мутно Кочеров на Софрона взглянул, от-
ветил без крику, с достоинством. Только голос не был
по-всегдашнему ровен. Осекался.
— Остановите ваши неприличия, гражданин Софрон
Артамонович! Вы теперь на виду, не подобает по-преж-
нему озоровать. Как бывалыча в пьяном виде.
Весь яд затаенный в намеке на прошлое Софроново
выцедил и, взбодрив голову, прошел, плотный, степен-
ный и видом благожелательным всякому приятный.
Только подоплека рубашки горячей стала. Сердце
в гневе сразу всего разогрело. Заходили гневные мысли
в голове:
159
«Неразумные слова как лай бестолковый, собачий.
Прошел „спокойно и не слыхал! Кабы только слова! Нет,
ведь власть таким вот теперь дана, горлопанам. Самая
что ни на есть дурнота наверху, куражится. Пьянчуга
Софрон. Земли у него не хватало! Какой есть клок, и
тот ребятишки старшие да бабы на срам всему селу за-
севали. А он, пьяный, по дворам куражился или спал
под забором. Никогда старанья крестьянского не имел.
Чужаком был. Савоська-кузнец — конокрад меченый.
Башка боком приросла. Шею повредили, когда всем се-
лом за чужих коней били. И живому-то не быть бы,
кабы вот не я да другие небесновцы. От греха отвели,
добить и не дали. А теперь он небесиовцам за это от-
платил! В молитвенный дом евангелических христиан
пришел, всех изматерил, самое стыдное показал и про
бога, в мыслях нельзя повторить, как выразился! Редь-
кин, у которого внутри все сгнило, потому что всю си-
лищу растаскал по новым местам: все искал, где лучше.
Митроха-писаренок, с речью всегда похабной, — срам-
ник. И другие-то: батрачье, измотанное по чужим дво-
рам. Все корявые, хилые, дурашные, самая шваль. Зате-
рялись среди них трое богатых солдат небесновских. Не
слыхать. Софроновы оборванцы над здоровым, хозяй-
ственным, правильным за начальство поставлены. И там-
то, в столицах, тоже, по газетам видать, в управителях
половины русских нет. Евреев насоприглашали, оттого
что крику в них, цепкости больше. Э-эх, мать-Россия!
Как испоганили тебя татары, так устою в русской крови
и не стало. Все под чужаков прешь, на бунт нары-
ваешься!»
Не видел, как и домой в думах дошел. А дома опять
новость. Красивая, рослая жена, в сорок лет молодым
румянцем приманчивая, в слезах его на дворе встре-
тила:
— Приказ тебе из волости от Софрону... Ты, Жига-
нов, Глебов да еще каки-то, уж не дослушала, в десят-
ски наряжены. Айдате по дворам народ на сходку сзы-
вать.
Сразу понял: для насмешки. Всегда в десятских са-
мая рвань ходила. Мальчишек'из школы тоже наря-
жали. А теперь Софрон измывается: самых уважаемых,
богатых из Небесновки выбрал.
— Кто приказ передал?
— Артамон Пегих. Да в избе он. Поди спроси сам.
160
Оттого, что на стуле и не в кухне, а в горнице сидел
и дымил вонючей махоркой взъерошенный, будто год
нечесаный, Артамон Пегих, горница хуже стала. Золо-
тые буквы изречений евангельских и наставлений учите-
лей, что на стенах в рамках под стеклами висели вместо
икон, казалось, потускнели. На крашеном, лоснящемся
полу от огромных заплатанных валенок лепешки талого
снега и грязь. Занавески городские и вязаные скатерти
на столах в дыму потонули. Сурово сдвинул Кочеров
брови, снимая шапку.
— Брат Артамон, табачное зелие почитаю для чело-
века вредным и богу неугодным. Пристав, когда за-
езжал, тут не куривал. Упреждаю вас обстоятельно:
прекратите табакокурение!
Артамон шмыгнул носом, плюнул на папироску и
кинул на пол.
— Что же, кады вера ваша молоканска така! Брошу.
1\ вот как вы полагаете, иконов не надо, а эти вот, в рам-
ках, этта почему? Опять же табаку не надо, а с бабой
спишь? В ей греху-то боле. Староверы, энти которы...
— Не время, брат Артамон, нам сейчас об вере раз-
говоры рассуждать! Свою-то забыли вы. Како дело до
чужой? За делом за каким ко мне, ай как?
— Ы-ы-х ты, какой спесивай! Не вашего, дескать,
уму дело!
Вдруг взъерошился и громким, звенящим голосом на
всю комнату:
— Врешь, нашего! Под задницей-то у вас сидели,
свету не видали. Теперь обвязан ты все рассказать. Об-
вязан! И я желаю знать, чо к чему. Рассказывай про
свою веру!
— Не кричи, брат Артамон. Господу злоба неугодна,
и я в грех с любой входить не стану. Зачем прислан?
Сам прозеленел весь и пальцы в кулак, а держится,
не кидается. Только в глазах уже сладости нет. Кровью
налились.
Артамон сплюнул:
— Нужон ты мне с разговорами! Так я, поучить. За
брюхом за твоим прислан, вот зачем. Иди-ка, потряси
его! С бадожком под окнами походи: на митингу, мол,
товарищи. Вот зачем!
— Софронова выдумка?
Дух с хрипом перевел. Артамон удивленно-востор-
женно головой затряс:
161
— Вон чо, аж вздохом подавился. Ну, ну... Во каки!
Срамотно мир извещать, под окошками ходить. А мы
ходим, ничо. Много спеси, много у богатого! Пойдешь
ли, чо ли? Жиганов не пошел. В исполком уволокли.
В холодной сидит за ослушание. Тебе как понимать?
Тоже в холодну?
Все забыл Кочеров. Хватил стулом об пол так, что
разлетелся на части:
— Пшел вон, пакость!
Артамон от неожиданности мигом в дверь, согнув-
шись, выкатился. Но оповещать о сходке Кочеров
пошел. Степенной обычной своей походкой шел по
улице, только на лице смирение и страдание изобра-
зил. Медлительно, кротко батожком в окна посту-
кивал:
— Граждане! Братья! На сход пожалуйте.
За ним по всей улице шепот смущенный и возмущен-
ный:
— Кочеров под окнами ходит!
— Ну, Софрон! Экого растряс!
— Ат, халиганы! Измываются!
,— Христос терпел и нам велел.
Опостылели сходы, но шли. Опасались дома оста-
ваться. Ждали решенья насчет земли, хозяйства. Но
приходили уже к распре готовые. Каждый своим еще
дома возбуждался. И до начала схода стоял гул- спора,
препирательств. Нередко были драки. Сегодня взволно-
вало сообщенье об аресте Жиганова. Толпились в сенях
около запертой на замок клетушки с оконцем. Под зам-
ком сидел Жиганов. Около двери молодой парень с вин-
товкой стоял. Небесновцы старались словом переки-
нуться. В дыру оконца кричали:
— Алексей Иваныч, потерпи!
— Одежу-то баба прислала ли?
Парень-караульный отгонял:
— Не подходь к арестованному! Нельзя! Подале!
Подале!
Редькин мимо прошел, лицо улыбкой непривычной
перекосил:
— Других долго саживал. Сам, старшина, посиди!
Сход начался по новому порядку, который Софрон
с солдатами установил. Чисто молебен сходки начинали.
Пеньем... Запели «Вставай, проклятьем заклейменный».
Шапки все поснимали, но пели только Софрон, солдаты
162
отпускные да ребятишки, везде поспевающие. Несмотря
на увесистые подзатыльники и цыканья, всегда на сход-
ках терлись. И самой большой угрозой старикам было
их неверное, ломкое, но всегда радостное пенье... Му-
жики постарше, даже из буйных заовражинских, пенья
этого стыдились. Головы в тулупы прятали. Нехорошо.
На селе зубоскалы дразнятся:
— Как есть чертова обедня! «Проклятому» молитву
поют!
Небесновцы все светские песни бесовским игрищем
считали. Пели только свои псалмы на голос песенный.
Оттого их хмурое молчание было привычным.
Нынче Софрон праздничный, радостный. Изнутри
в глаза бьют свет и ласка. Оттого зорок и чуток. Как
спели, без ругани, по-доброму сказал:
— Пошто стеснились, старики? Голосу в песню не
даете?
Отозвался смущенно Артамон Пегих:
— Ладно уж! Свое отпели. Молодых послухам!
Софрон весь в его сторону подался, трепетный и ра-
достный:
— Товарищ Артамон Петрович, как мы партейные,
понимать должны. Песня эта для пролетарию складена.
Интернационал значит: всякий, который неимущий, жид
ли, крестьянин — все вместях. Понимать? И как раньше
нас проклятым обзывали, мы им для ответу! Покажем,
дескать, каки мы прокляты! Понимать?
Прямо в рот Артамонову лез, старался. А тот по-
дальше подался и совсем сникшим голосом сказал:
— Сумнительно. Слово черное, а промежду прочим
дозволям! Все одно уж...
Фронтовик Семен Головин вступился:
— А что касательно слову «интернационал»... Это
слово большевицкое. Большевицкий язык трудный, но
ежели в корень дела взглянуть, обстоятельный. Хлест-
кий!
Артамон Пегих деловито, без улыбки, подтвердил:
— Куды хлеще.
Небесновцы засмеялись. Но Кочеров, мучась нетер-
пением, не выдержал, крикнул из толпы:
— Довольно бы, братья, обученья-то этого! Дела
разобрать надо. Зачем скликали народ?
Толпа задвигалась, загудела:
— Дело... Дело изъясняй.
163
Всегда мучимый болью и злостью, Редькин надрывно
прокричал:
— А это не дело? Слова городски надо знать! Штоб
не омманули.
И крик его был близок и понятен многим из софро-
новской партии. Приняли гнет новизны. Отшиблись от
своих учителей-стариков. Городу передались, а искон-
ного недоверья к нему еще не изжили.
Вдруг толпа закачалась, раздвинулась в удив-
лении.
Пятнадцать человек фронтовиков и молодых безусых
парней с винтовками за плечами пробирались к столу.
Сразу тихо стало., И четко, торжественно прозвучали
слова Софрона:
— Революционна охрана!
Минутное жуткое молчание толпы подчеркнуло для
всех: наступает новый час. Борьба здесь вот, в своей
деревне. Оттого твердый, спокойный голос Софронов
отозвался, как бранный клич:
— Вся земля в волости общая. Мир — хозяин. От-
дельных хозяв нету. Разобьем на участки. Всех людей
в нашей Тамбовско-Небесновской, по-теперешнему Ин-
тернациональной, волости тоже разобьем на коммуны.
Каждой коммуне по участку. Миром сеять и убирать.
Кто в коммуны не желат, пущай на печи лежит. Ни
хлебу, ни сена не дадим!
Вздох или стон в толпе, и опять миг молчания, по-
том дрогнувший голос Артамона:
— А машины как?
В годы войны по всем деревням затосковали по ма-
шине. Увидали, как справлялись легко богатые с ее по-
мощью. Наслушались от военнопленных о царствах, где
машины кормят и спине передышку дают. Но купить их
могли только многоземельные, сильные. Разом подхва-
тили Артамонов вопрос:
— Машины... Машины как? Машины?
— Из городу дадут?
Софрон опять твердо и победно:
— Приказ есь. Все машины у хозяв реквизированы!
Мало ль у нас богатеев? По коммунам разделим.
Радостное, тревожное, протестующее в гуле. Непо-
движные, хмурые мужики с винтовками у стола. Волной
толпа к столу, но через миг сникла, от стола подалась.
Будто спрятаться хотели. Только Кочеров, забыв всякую
164
осторожность, не своим, резким, крикливым, голосом
прямо с места заговорил:
— Это грабежу подобно! Небесновцы миром землю
покупали. Последню лапотину за ее отдавали! У господ
отбирать ладно. А мы как трудящие? Над трудящими
изгиляетесь? Свово брата-мужика зорите? Небесновцы
допрежь вас коммуной жили! Сообча землю покупали.
Всей Небесновской обчиной. Грабители вы, а не устрои-
тели! Свово брата-мужика!
Закричал многоголосый зверь:
— Верно говорит!
•=- Не дадим!
— Потом, кровью наживали!
Разобрать слов уже нельзя стало. Все слилось водно
грозное: а-а-а-а! Но торжествующий крик Софронов все
услышали:
— Силой отберем!
Если б не «революционна охрана», разорвали бы
Софрона. Двинулись небесновцы к столу, а парни ружья
наизготовку, сзади заовражинские и тамбовские мужики
с грозным ревом. Кочеров зубами заскрипел, но понял:
да, сегодня сила Софронова. Гурьбой, будто сговорив-
шись, многоземельные повалили к выходу. Оставшимся
в школе Софрон горячо объяснял:
— Брешут небесновцы, что их неправильно. «И у нас
тоже коммуна».; Брешут. Что ни дом, то разна секста.
Бога-то свово на клочки разорвали. Добротолюбовцы,
субботники, баптисты, евангельски крестьяне. Грызутся,
как собаки. Теперь заодно, как за свой кус испугались.
«Землю всем обчеством покупали!» А разделили как?
Кто сколь денег дал! Маломочны, так и есь маломочны!
А у Жиганова четыреста десятин. У Кочерова триста
пятьдесят. «Трудящие». Пузо-то не больно натрудили!
Все работниками! Кочеров-то за попа галдит да портня-
жит— и не нюхат землю-то! Жиганов на нас
сидел! Пертрясем! Всех пертрясем! Нашего дню дожда-
лись!
Среди оставшихся была половина Небесновки. В пер-
вый раз властное требование земли и хлеба слило вме-
сте «православных» и «молокан».
Расходились опять за полночь. Софрон дольше ют
в школе топтался. Охрану отпустил. Большебородый
фронтовик остерегал:
— Изобьют на улице!
165
Но Софрон успокоил:
— Седни не тронут! Напужались!
А сам в нетерпении крутился по классу, ждал, когда
уйдут. Как надеялся, так и вышло. Ушли все, и откры-
лась дверь в коридоре. Выглянуло тонкое белое личико.
— Разошлись?
— Ушли, Антонида Николаевна! А вы чо не спите?
И в дрогнувшем голосе Софроновом большая благо-
говейная радость. Непрошено-нежданно вошла в душу
чистенькая барышня из города. Учительница. Как
в исполкоме главным заделался, захаживать по делам
стала. Разговор о деле, а улыбка такая домашняя, грею-
щая. И потянулся на нее. Сгасал только на миг, когда
мысль приходила: как все бабы. На почет льстится. Бе-
гали раньше учительницы к старшине и станового при-
вечали. Эта к новому начальству под крыло. Знал, а со-
владать с собой не мог. Каждому человеку праздника
хочется. Бабы деревенские, с жирными тягучими голо-
сами, с красными загрубелыми руками и грубыми тяже-
лыми словами — будни. Привычные, постоянные, надоев-
шие будни. И жена Дарья, рожающая, кормящая, на
своей широкой спине выносящая всю работу по кресть-
янскому'хозяйству, не нужна сейчас, в эти новые, тор-
жественные дни. Раньше, когда читал книги, очень
любил Софрон писателя Дюма. Так непохоже было все
в его книгах на Софронову жизнь. Оттого прекрасно и
недосягаемо. А рассказы о крестьянах и рабочих читал
только для того, чтобы уважить библиотекаря, Сергея
Петровича. Ни к чему, казалось, пальцами в своем гное
ковырять. И признавал эти книги необходимыми только
для богатых. «Им черного хлебушка охота, белый на-
доел. А нам беленького хоть кусочек. Заместо пряника
к празднику!» Таким пряником праздничным, никогда
не пробованным, была Антонина Николаевна. Раньше
водку пил, чтобы в пьяных мечтах не видеть настоящего.
Теперь буйным хмелем допьяна напоила революция.
Водки не надо стало. Но мечта во хмелю одолевала:
все праздничное, неизведанное теперь будет. Был Соф-
рон от плоти и кости деревни, но не старой, кряжистой,
а повой, встряхнутой, ищущей. Оттого над ним мечта
большую силу возымела. Жиганову, Кочерову и на них
похожим нужна была здоровая, широкозадая баба для
продолжения рода, иногда для блуда. Софрон от книги
заразу любви воспринял. Антонина Николаевна для него
166
дурманным, расслабляющим соблазном пришла. Не мог
с собой совладать. Тянулся к ней.
— Ну что же, посидим здесь. Поговорим немного.
Сторожа уж спят?
— Не видать что-то. Стало, спят.
Легкая, вспрыгнула на стол и ножками тоненькими,
но крепкими, в тугих черных чулках, заболтала.
Думал, до боли в сердце, нежно:
«Пташечка... Касатушка...»
Сказать не мог бы вслух. Мял в руках папаху. Стоял
среди класса смешной, взъерошенный, с растерянной
улыбкой, сразу глуповатым сделавшей лицо. И то, что
к себе в комнату не пускала, остерегалась, и то, что
близко не подходила, только глазами ласку посылала,
не сердило, а умиляло.
«Беляночка... Голубушка...»
А она скрыла легкой гримаской позевоту и спросила:
— Ну, как приняли новость? Кричали очень. А я за
вас боялась.
Ведь все понимает, хоть женского полу! Слова такие
легкие, к месту всегда. Так охота говорить с ней. Все бы
рассказал, а язык .во рту — как бревно. Слова неудач-
ные вылезают, нескладные. И еще комкает их огромная
нежность.
А она одобряла:
— Вы совершенно правильно рассуждали, земля
не может быть чьей-нибудь собственностью.
Поднимала для внушительности круглые тонкие
бровки. Говорила залетевшие в уши чужие слова, но так
уверенно и свободно. Будто свое, передуманное.
А дома толстая, неповоротливая Дарья будет лениво
почесывать поясницу, скрести пальцами в свалявшихся
косах и сонно тянуть:
— Светет, никак... К стенке лягешь ли, чо ли?
Антонину Николаевну занимала и услаждала власть
над новым волостным воеводой. Искушенная город-
скими, пакостными, без обладания, шалостями с гимна-
зистами и офицерами, она видела, как мает и корежит
мужика взбунтовавшаяся кровь. Понимала, что в узде
держит только благоговейная вера в особую чистоту ее.
Это было ново, смешно и радостно. Ножками играла,
возбуждала, а кротким, чистым голосом и взглядом не-
винным предостерегала. Жутко было при мысли — чем
кончится? Поцеловать бы не могла! В интимности,
167
наверное, отталкивающе груб. Нескладный рассказ Соф-
ронов оборвался. Почуяла: опасно затягивать частые
паузы в их разговорах наедине. Спрыгнула со стола:
— Поздно уж. Вы утомились сегодня.
Под окном на улице заскрипел под ногами снег. Кто-
то осторожно карабкался на подоконник. Насторожи-
лась и лицо сделала строгое, а сама пугливо поежилась:
— Подглядывают. Нехорошо говорить будут! Захо-
дите завтра днем чай пить. Сама вам песочники состря-
паю!
И ручку издали протянула. Э-эх! Какая сила в бабе
бывает!
Зацеловал бы, а боится. Глядит, как на солнышко.
Только взглядом всю выпил и руку до боли сжал. Каж-
дый день видятся. И всегда вот так: в сторонке держит.
Когда вышел, видел: от крыльца метнулись к амбару
две черные фигуры... Насторожился, вынул из кармана
револьвер и выстрелил вверх. Испугало только тревож-
ное «ах» за дверью. Крикнул туда молодо, радостно:
— Не сумлевайтесь!
И пошел по мертвой белой улице, которую будили,
но не оживляли шалые взвизги собачьего лая. Два ряда
темных, живое дыхание затаивших домов были печаль-
ны и предостерегали, как угроза. А душа не боялась,
ликовала.
Оттого, что рука была настороже у револьвера, от-
того, что в своей деревне в первый раз шел с опаской,
росла и ширилась горделивая смелость. Оттого, что ду-
мал о желанной беленькой, по-весеннему шумело в го-
лове.
А дома скверно стало. Вонь какая! Почиститься надо.
Прибраться. Жирное тело Дарьино, рядом на кровати,
будило тошнотную тоску, но притянул его резко к себе,
охваченный нечистым, злым, отраженным желанием.
ill
Совсем мало спать стал Софрон. Такая радостная
бурливая полоса пришла, что страшно спать. Неохота
спать. Жизнь расцветилась, заиграла перед тридцати-
летним. Стал как парень молодой. Все хватай, лови,
тормошись! В городе забирал дерзкие приказы. Узнавал
короткие, тревожные и смятенные, как набат, слова.
168
В селе кричал: наша власть! Смотрел, упоенный,тор-
жествующий, как учатся сгибаться перед низко в жклпи
поставленными непривычные к поклону спины. Любо-
вался, как заходила бестолковая, рваная рать «маломоч-
ных» в грозном беспокойстве. Но в торжестве, для са-
мого незаметно, впивал яд командирства. Не замечал,
как в словах, в распоряжениях, в снисходительных шут-
ках со своими маломощными похож становился на стар-
шину Жиганова.
Для Антонины Николаевны мужицкую одежду на
городскую сменил.
Словца городские обходительные усвоил. В городе
Софрона уж выделяли. Одну его речь даже в газете,
подправив и сгладив, напечатали. Газету Антонине Ни-
колаевне трепетно подсунул. Думал, обрадуется. Но она
только ласково протянула:
— Ах, ваша речь здесь. Очень интересно! Вечером
почитаю.
И больше о газете ни слова. Неужели забыла? Ведь
для Софрона эта газета — как грамота жалованная. По
ночам просыпался, огрнь зажигал, ее перечитывал. И ка-
зались напечатанные слова большими, крепкими. Читал
их вслух внушительным шепотом. Вырастал будто, в них
вслушиваясь. Неужели забыла?
Из именья господина Покровского уездный Совет
передал Интернациональной волости большую библио-
теку и часть обстановки барского дома, которую не
успели разворовать, растащить.
Софрон сам сопровождал от завода до села воза
с книгами и мебелью. Всю обстановку в библиотеку
приказал доставить. Новый дом для библиотеки опреде-
лил. Верх в доме Жиганова. Дом большой, двухэтажный
был. Жиганова в нижний этаж выселил. Жиганов не
сопротивлялся, но в неделю одежда на нем обвисла и
взгляд волчий стал. Обида прожгла. Сам Софрон уста-
новкой шкафов и мебели руководил. Надеялся Антонину
Николаевну в библиотекарши определить. Смотреть
сбежались со всего села. Даже хмурые небесновцы
пожаловали. Потное лицо Софрона сияло, глаза
искрились, когда помогал по лестнице пианино втас-
кивать.
— Заиграм теперь на городской музыке! А тя-желсн-
ная, почеши ее черт! Товарищ Кочеров, подпоешь под
музыку?
169
У Кочерова в лице давно уж румянцу не стало.
А тут скраснел и сердито пробурчал:
Не по нам плясы, гармони да матани городски.
Это вы уж для всей волости, Софрон Артамоныч, пер-
вый гармонист. Забавляйтесь.
Софрон намек понял, но только сплюнул. Не огрыз-
нулся. Когда пианино втащили, Митроха-писаренок
сразу пальцем попробовал.
Потом ладное что-то подобрал. Кочеров вздохнул.
— Все бесовски утехи! Гвоздей бы лучше на деревню
дали.
Когда стали разбирать картины, Софрон сам сму-
тился. Голых баб много.
Артамон Пегих пальцем в одну ткнул:
— Все как есть! Соблазн. Это для господского рас-
палу, а нам ни к чему. У своей бабы видали.
Небесновцы плевались. Софрон распорядился:
— Сожечь!
Митроха-писаренок спохабничал:
— Знамо дело — куды нарисовану-то...
Кочеров вздохнул:
— Сжигай не сжигай, все одно разблудился народ!
Книжки были в дорогих красивых переплетах. Долго
гладили и щупали их тугими, негнущимися пальцами.
Такие в руках держали первый раз.
Артамон Пегих опять головой покачал:
— Не для мужицких рук. Засусолим! А чтение-то
како в их?
Кочеров открыл том Пушкина на «Русалке». В глаза
бросилась картина — опять голые. Сердито бросил на
стол книжку:
— Непристойность одна!
Но Митроха-писаренок живо со стола подхватил:
— Э... Лександр Сергеич Пушкин! В школе слы-
хали.— Н уткнулся в книжку. Потом вдруг закричал: —
А занятно про самозванца тут!
Зачитал вслух. Скоро могучий хохот бородатых, по-
жилых мужиков покрыл чтение Митрохи. Очень понра-
вилась сцена в корчме. Небесновцы ворчали, но подви-
гались поближе, будто ненароком. Хотелось слушать.
Кочеров возмутился:
— Братья, светско чтенье для греха, для пустой за-
бавы! Одна для нас книга — Библия. Можно когда и
170
Лидия Сейфуллина. «Перегной». Первое издание. 1923 г,
для пользительных сведений что почитать. А эту забаву
прекратить бы. Не по нам!
Софрон торопливо стал перебирать книги:
— Всякие есть, всякие. Вот тут и по землепашеству
есть. А энту тоже сожечь!
Артамон Пегих спросил:
— А про божественно есть што? Про божественно
люблю.
Кочеров зло и презрительно хихикнул:
— В большевицку партию записался, а про боже-
ственно запросил. Они про бога-то как сказывают?
Неожиданно от стола лохматую седую голову поднял
Иван Лутохин, небесновский сектант. Пророком звали.
Всегда по Священному писанию предсказания делал.
Глухо и торжественно его голос зазвучал:
— По Библии, по священной книге нашей, больше-
вики поступают. В руках бога все поступки их и по бога
велению. Написано у пророка Исаии: «Горе вам, при-
бавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю,
так что другим не остается места, как будто вы одни
поселены на земле.. В уши мои сказал господь Саваоф:
многочисленные дома эти будут пусты, большие и кра-
сивые— без жителей... И будут пастись овцы по своей
воле, чужие будут питаться оставленными жирными
пажитями богатых».
Как все сектанты, целые страницы Библии знал на-
изусть.
Кочеров, как громом оглушенный, выкатил глаза и
руками в стороны развел, будто увидал свои руки пус-
тыми, а свое оружие в руках врага. Потом опомнился
и яростно рявкнул:
— Ложь! Суесловие! Осуждат Священно писанье
поступки, дела и слова ваши. Осуждат! Гибель им пред-
решат. Сказано про конец, про ваш, у того пророка
Исаии: «Не увидишь более народа свирепого, народа
с глухою, невнятною речью, с языком странным, непо-
нятным». Это про вас сказано! Про слова большевицки.
Разнесет вас господь...
Но была ярость Кочерова больше от гордыни, чем
от боли. Потому горели одни слова Ивана Лутохина,
а кочеровские сказались и сгасли.
Артамон Пегих тоже с дрожью в голосе в спор
вступил: '
— Большевики по-божески хочут!
172
И многие из софроновской партии сбились у стола,
торжествуя. Рушить старое хотели, но привычно обо-
грело небесное покровительство. Вековым пластом тем-
ная вера насела. И как от стены глухой, Софроновы
слова, в городу заученные, отлетали.
— Попы на нашей темноте наживались! Правильно
поем: «Никто не даст нам избавленья — ни бог, ни царь
и не герой».
Артамон Пегих головой затряс:
— Про бога выхерить из песни! Не желам без богу!
Фронтовики загалдели. Семен Головин махал рука-
ми, буйно кричал:
— А нам твово богу не надо! Кому помогал? Бого-
родица в девках родила.
Увесистым, сильным ударом отшиб его к стене пле-
чистый, сумрачный сектант. Головин с наскоку на нею
и начал душить. Софрон разнимать кинулся. Вороча-
лись на полу трое пыхтящим клубком. Ревом нестрой-
ным, бестолковым гудела над ними толпа. Визжала за<
бежавшая на шум снизу баба:
— Задушили! Стриганова задушили!
Митроха-писаренок тоже разнимать кинулся. Его
сзади Жиганов за шиворот схватил. Вцепились и в Жи-
ганова. Скоро мужицкая рукопашная крушила вовсю.
Стекла от шума звенели. Ломали стулья. Топтали тяже-
лыми сапогами дорогие переплеты упавших книг.' И в
драке кричали дико и зычно про веру, про бога. Прибе-
жали бабы за своими мужиками, царапались, ловили за
ноги, пронзительно визжали. Только когда избитому,
в разорванной одежде, Софрону удалось выбраться
к двери, он послал верхового за охраной.
Сцепившихся в драке разливали водой, били прикла-
дами и выгоняли из библиотеки. Семену Головину от-
шибли что-то внутри. Остался лежать на полу большой,
замолкший. По серому усу из поблекших губ текла топ-
кой струйкой кровь. А на лице ни страха, ни боли. Удив-
ленье застыло.
Тонко, с причитаньем бабьим, проголосным, у ног
его плакала жена.
Жиганов, уходя, зловеще и хрипло бросил Соф-
роиу: .
— Вот эдак и тебя разутюжат.
Кочеров печально покачал головой:
— Темнота!
173
И тоже ушел. Софрон с оторванной полой по-город-
скому сшитого френча, с налитыми кровью глазами
дико, похабно ругался, размахивал руками. Зол был на
себя, что револьвера не взял.
— Не приучился еще ходить с ним. Тоже, солдат!
Наутро приехал из другого села фельдшер, написал
удостоверение о смерти Семена Головина. В тот же день
хоронили. Богатые, почетные жители галдели:
— Хоронить без погребения! Богохульник!
Но старик Головин в ногах валялся:
— Мир честной, сымите грех с души! Пустите сына
до бога!
Смилостивились. Послали за попом. Старенький, со-
всем в селе неслышный иеромонах, вместо сбежав-
шего попа, был дня за два только до побоища в село
прислан.
Он отпел богохульника. Когда гроб несли на клад-
бище, Артамон Пегих и Степан Гладких с дровами на-
встречу ехали.
Лошадь остановил Артамон, шапку снял и, кивнув
на покойника, спокойно и ласково сказал:
— Домой поехал.
И в мудром взгляде его, проводившем гроб, не было
ни жалости, ни страха.
Впитал за долгие годы единой с природой жизни:
«Земля еси и в землю отыдеши».
Жена Семена Головина на кладбище дико, заунывно
причитала. А вернувшись домой, вытерла слезы, надела
старую одежду и сказала свекру:
— Айда ли, -чо ли, в хлеву убирать.
И ни одной самой мелкой работы насущной в этот
день не забыла, не перепутала. А вечером пришла
к Софрону спрашивать:
— За мужика выдадут како способие, аль как?
Была за Семена из небесновских отбившихся взята.
Грамоте сектантами обучена, считать хорошо могла и
хлопотать за себя сама умела. Долго и упорно с Соф-
роном торговалась. Только ночью, все управив, в глу-
хой и темной тоске залила едкими слезами грязную,
засаленную подушку. Молодой мужик-то был и желан-
ный. Опять же дети остались.
От Небесновки выборные к Софрону приходили:
— Нельзя ли дело об убийстве Семена Головина за-
таить. Для богу старались! Ненароком до смерти-то!
174
Но Софрон распалился из-за того, что его всего си-
няками украсили.
Дело требует на людях быть, а куды с такой мордой
выйдешь? И френчу новехоньку раздерюжили.
Распорядился, и увезли сумрачного сектанта, начав-
шего драку, и еще трех мужиков небесновских в город
в тюрьму.
Когда сошли с лица синяки, Софрон снова за. устрой-
ство библиотеки принялся. Починили мебель, повесили
на стенку портреты, печатную надпись «Курить воспре-
щается».
Внизу под этими словами Софрон рукописью подпи-
сал: «так же и плювать на пол». Прямо против выхода
повесили большой плакат: великан солдат разинул рот
и кричит. А надпись на плакате: «Подписывайтесь все
на военный заем». Нагнали баб. Те вымыли полы и окна
и долго не хотели уходить. Пялили глаза на невиданные
мягкие кресла, большие столы, шкафы с дверцами стек-
лянными. Ульяна-солдатка деловито щупала обивку на
мебели:
— Рубли по три, поди, за аршин при царе плочено.
Дарья Софронова тоже убирать в библиотеке при-
шла.
Повяла баба, как муж начальником стал. Все мол-
чит больше.
Бабы распаляли, про учительницу говорили. Губы
подожмет и молчит. Строгая. А видать, мается. Глаза в
черных кругах, и старанья в одежде нет. Долго книги
смотрела. От шкафа к шкафу ходила. Будто пересчиты-
вала. Потом вдруг сказала:
— Попалить бы их.
— Кого?
— А книжки. Грех в них один. Народ из-за них бес-
покоится.
И ушла, хлопнув дверью. Когда шла по улице сто-
ронкой с морщинкой скорбной у рта, по дороге новень-
кие городские сани проехали. В санях Софрон сбочку
на сиденье, а рядом учительница Антонина Николаевна,
лебедкой, свободно, по-господски расселась.
Белый платочек пуховой и нежный румянец на лице
в глаза Дарьи ударили. Слезы выступили. Останови-
лась, кинуться хотела, закричать режущим бабьим виз-
гом, исцарапать, заплевать. Но будто что-то вспомнила.
Круто повернула и почти до дому добежала.
175
Дома гнев на младшего сынишку излила. До синя-
ков избила. Потом прижимала к себе вздрагивающее от
всхлипываний пятилетнее тельце и жалобно тонко голо-
сила:
— О... о... о... и... и... и... Смертынька-а моя... О... и...
м-а-а-м-ы-ы-нь-ка-а...
А в библиотеке Софрон перед барышней старался:
заглавия книг в шкафах читал, указывал, что все по-го-
родскому.
— Здеся читальня и завроде клуба. Здеся вот книж-
ки получать, а там дале для библиотекарши комнатка.
Полюбопытствуйте посмотреть!
И торжественно дверь распахнул. Туалетный стол
под белой кисеей, дорогие флаконы с духами. Кровать
с блестящими шариками под атласным господским одея-
лом с двумя подушками, обшитыми кружевом. Дорогой,
маленький, как игрушка, письменный стол на отлет от
стены поставлен. В углу диванчик, мягкие пуфы и стол
круглый, с белой скатертью. Все из дома господина По-
кровского.
Сияя радостной голубизной глаз, Софрон пояснял:
— Нарочно в городу у барышни одной досмотрел,
как расставляют и что для барышнев полагается.*
— Очень милая, очень милая комнатка. У вас вкус
есть, Софрон Артамоныч.
Эх, теперь бы облапил! Сейчас бы посмел, глядит
так задорливо. Да бабы мешают. В дверь гурьбой, как
овцы бестолковые, суются.
И Антонина Николаевна застеснялась, опять в биб-
лиотеку прошла. Там мужиков уже много набилось.
Артамон Пегих допрашивал: (
— Этта самый Ленин и есть?
Софрон гордо, как своего знакомого, представил:
— Владимир Ильич Ульянов-Ленин.
Артамон голову набок, губами пожевал:
— Ничо, башка уемиста, мозговита. И глазом хитер.
Волосьев только на голове мало.
Софрон заступился:
— Ты столь подумай, сколь он, и у тебя волос вы*
лезет!
— Знами, их дело — не нашинско. Волосья ни к чему.
Таскать за их некому. А форму-то для его не установили
еще?
— Каку форму?
176
_ — Ну, обнаковенно, царску. С пуговицами там, с
медалями, с аполетами. Эдак-то, в пинжаку не личи г.
Для Россеи срамота: не одела, мол, свово-то!
Софрон засмеялся и к Антонине Николаевне повер-
нулся:
— Необразованность наша! Все на старо воротит.
Антонина Николаевна по-умному брови собрала и
наставительно сказала:
— Новое правительство — от рабочих и крестьян, по-
тому и в одежде не хочет роскоши.
Артамон Пегих, приподняв клочковатые седые брови,
зорко осмотрел ее с ног до головы, губами пожевал, по
ничего не сказал. К портрету Троцкого повернулся:
— Этот ничо из себе, бравый! И шапка господска.
Случаем не из жидов?
Софрон грозно прицыкнул:
— Ну, ты! Теперича жидам отмена вышла. Есь ев-
рей, такой же человек, как мы. Почитай вон у Максима
Горького, как над ими при царе-то измывались.
Артамон Пегих губами пожевал:
— Горького-то всем хватило тады. Все испили, зато
теперь и в большевики записались. Сладкого-то мало
ели. А я не для укору, у нас в Небесновке свои суббот-
ники есть. Парень бравый!
На столе, в рамке красного дерева, стояла кабинет-
ного размера карточка Луначарского. Но подписи на
ней не было. Антонина Николаевна и то не знала. Спро-
сила:
— А это кто?
Софрон смутился:
— Кажется, по земельному делу комиссар. Чтой-то
я запамятовал.
Артамон Пегих успокоил:
— Должно, сродственник Ленину какой.
Небесновцы на портреты мало смотрели. Больше чи-
тали через стекло названия книг. Кочеров пустой перед-
ний угол заметил и одобрил:
— Икону не навесили, это правильно! Всякому
вхоже. Мы вот, к слову, икон не соблюдаем, башкирин
тоже в нашей волости водится. Эдак-то для всех равно.
Артамон Пегих вздохнул:
— Да уж чо весить-то? И православны-то отбились!
Тады за веру поругались да человека укомплектовали.
Не примат нас теперь икона-то. Ы-хы-хы!
7 Зак. № 426 177
Бабы у плаката сгрудились. Ульяна-солдатка со-
чувственно сказала:
— Милай, в роте-то все прочернело, как орет. Чо это
он?
Но никто ей не ответил. Софрон властно объявил:
— Ну, буде покамесь глазеть, граждане. Завтра
часы установим, когда за книжками ходить, тогда по-
жалуйте. А сейчас закрыть пока надо.
Артамон Пегих затылок почесал:
— Ладно. А по часам-то уж небесновски пущай хо-
дют. У их есь. А мы по брюху: до обеда да опосля до
ужину. Прощенья просим. Занимайтесь!
За Артамоном пошли и остальные. Кочеров на Ан-
тонину Николаевну, уходя, искоса взглянул.
На крепкие крючки Софрон дверь закинул и к Анто-
нине Николаевне взбудораженный, радостный вернулся.
А она опять тихонькая, строгая за столом стала. Как
подойти?
— Дак вот, Антонида Николаевна, для вас расста-
рался! Получайте, хозяйствуйте!
Она тревожнр в окно выглянула и улыбнулась Соф-
рону. Но бегло, испуганно.
— Это вы про что?
— В библиотекарши вас определим! Для вас старал-
ся! Седни и переехать... А?
Голос мужским горячим нетерпением дрогнул. К ней
за стол пошел. А она боялась, ежилась... Но комнатка
уж очень хороша! Протянула ему руки. Как перышко
на руки поднял.
— Софрон Артамоныч, Софрон Артамоныч... Куда?..
Девушка я...
— Баба будешь!.. Лапушка!..
Нес и давил лицо губами раскаленными. Будто отпе-
чатать поцелуи мужицкие хотел. Но в дверь выходную
забили настойчиво, часто. Антонина Николаевна с силой
упералась руками в грудь:
— Пустите... Ради бога!
Даже губы побелели! Какого черта принесло? Рвется
Антонина Николаевна, ногами бьет, и в дверь стук все
сильней и тревожней. Не донес, выпустил. И, злой, баг-
ровый, взлохмаченный, к двери кинулся:
— Кто там?
За дверью голос Дарьи, властный и дерзкий:
— Открой!
178
Антонина Николаевна тоненько, по-заячьи, взвизг-
нула сзади и в дальнюю комнату кинулась. Софрон сра-
зу опамятовался: внизу стук услышат. Торопливо отки-
нул крючки. Дарья вошла бесстрашно, лицом и грудью
вперед. Софрон отступил. Не то испугался, не то расте-
рялся. Дарья сама оба крюка опять накинула.
— Всей волости начальник, а ум-то, видно, в ж..,
ушел! Средь бела дня эко дело завел. Где б... то?
Голос у Дарьи оборвался, лицо пятнами пошло, а в
плечах дрожь, в глазах — мука.
— Дарья! Убью!
— Не маши кулаками-то! Неколи. Небесновцы сго-
ворились тебя за блудом поймать. Солдатка кочеровска
выболтала... Страм, страм какой! Прибегла я...
И голос оборвался.
— Придут, дак жена тут! Лучче сама топором за-
рублю! <
Диким выкриком последние слова сорвались.
Софрон в разум пришел. Отвела баба беду. Не про-
стили бы битому за блуд! Главный в волости — и за та-
кое дело битый. А то и убили бы сами. Сразу стихшим
голосом сказал:
— Жена, как же теперь?
У той лицо злоба скосила.
— Пакостить умеешь, а концы хоронить учить надо?
И властно к дальней комнате пошла.
— Барышня, госпожа! Айда суда. Бить не буду.
Опосля рассчитаюсь. Иди суда, сволочь!
И за руку Антонину Николаевну вытащила. У той
от испуга слезы высохли. А волосы и юбку с кофтой уж
поправить успела.
— Придут, виду не кажи, Софрон...
А в дверь застучали. Дарья кивнула на дверь:
— Открой.
Софрон откинул крючки. Первым вошел Артамон
Пегих. За ним Кочеров и еще четверо. Три мужика не-
бесновс'ких, три тамбовских, а на лестнице бабий бес-
толковый гомон. Учительница городская — штучка тон-
кая. Сразу подбодрилась. Как ни в чем не бывало на
вошедших глянула, Дарья глаза в землю, а тоже спо-
койная. Разом увидал Кочеров, что сорвалось.
— Прощенья просим, Софрон Артамоныч. Слыхали,
что вы здесь еще, насчет газеты зашли. Спор у нас вы-
шел.
179
Артамон Пегих простодушно заявил:
— Кака газета! Сказали, с учительшей в новом по-
мещенье грехом заниматься. Старики обиделись. По-
учить хотели: блуди, да место и время знай. А, проме-
жду прочим, и нехорошо.
Антонина Николаевна тоненько охнула и руками
всплеснула. Дарья грубо и спокойно заявила:
— Брешут все из ненависти небесновски. Софрон
мне приказал прийтить, как все уйдут. С учительшей,
говорит, чайком побалуешься на новоселье.
Артамон сердито в ответ буркнул:
— Како новоселье! Не дозволям здесь учительнишу!
Мужчину надо, из городу. Эдака чо разъяснит?
Софрон поспешно подтвердил:
— Знамо, попросим из города.
Антонина' Николаевна все порывалась сказать что-
нибудь и слов не могла найти. Вся пунцовая у шкафа
стояла.
Кочеров задумчиво бороду погладил и сказал:
— Ну, нам здесь делать нечего. Мир прислал, не
своей волей пришли. Айдате, граждане!
У Софрона все кипело внутри, но Дарья смущала.
Сдержанно и спокойно ответил:
— Не след старикам бабью брехню слушать. Необ-
разованность одна!
Мужики вышли. Задержался только Артамон.
— Ты, Софрон, башковитый.. А, промежду прочим,
остерегайся. Дыму без огня не бывает.
Потом ясно, умно на Дарью взглянул и улыб-
нулся:
— Баба-то у тебя разумная. Не в пример прочим!
И ушел.
Как остались одни, Дарья опять властно сказала:
— Айда, барышня, одевайся да уходи. А то кипит,
сгребу! Спарились ай не успели?
Антонина Николаевна опять заплакала:
— Господи, как вам не стыдно! Где моя шубка?
Софрон угрюмо сказал:
— Помолчи, Дарья, ничо не было...
Его. тянуло к плачущей Антонине Николаевне, но
боялся дикости Дарьиной. Потому тяжело дышал и
смотрел, будто безучастно, как надевала шубку учитель-
ница. Только, когда к двери пошла, сказал проситель-
но, робко:
180
— Антонида Николаевна, лошадь на дворе. Маль-
чонка жигановский отвезет.
Учительница поняла, что так лучше будет, кивнула
в ответ головой и вышла. Дарья проводила ее загорев-
шимся, злобным взглядом.
— Ну., айда домой, Софрон. Только вот тебе мое
слово: зарублю, если еще! Ты думаешь, я кого пожа-
лела? Детей своих пожалела! Как был ты пкянчуга рас-
последняя, под забором тебе подымала, сколь раз моли-
лась: умер бы, господи... Жалеть бы не стала. Люди бы
не надсмехались. И на детях покор: пьянчужкины, Соф-
роновы. А как выправился ты, детей никто не шпынят.
А кто кольнет, так из зависти. Из-за детей себя скру-
тила! Помни, Софрон, еще не стерплю. Зарублю.
Встретились глазами, и не Дарья, Софрон свои
в сторону отвел. Отвердела баба: зубы стиснула и в гла-
зах черных — упорства.
Всегда так размышлял Софрон: «Баба — народ под-
леющий: потому в ей дух на острастке только живет».
А сейчас острастки не находил, сам оробел и пове-
рил: «И весьма просто, эдака зарубит». .
Ночью, когда помирились и обмякла баба от ласки
мужниной, обнимая, все-таки подтвердила:
— А разговору нашего не забывай.
IV
Баба в жизни всегда препона. Одолела Софрона
Антонина Николаевна. Лезет в душу ежечасно и мешает
в делах. От разлуки еще больше распалился. В школе
видались часто. Только все на людях. Старался кни-
гами заняться. Напрасно бился. И к библиотеке охла-
дел. Из города ответили: прислать в библиотекари не-
кого. Образованный народ к большевикам на работу
идти не хочет. Советовали из своих кого-нибудь приспо-
собить. Из мужиков некого. Всех позанимал новый по-
рядок. Председателей и секретарей много потребовал.
Артамон Пегих недаром жаловался:
— Куда ни плюнь, на председателя попадешь!
И все на грамотных спрос. А в селе они наперечет.
В сельской школе почти все обучались, да позабывали
учение. Один раз пришла к Софрону жена Семена Голо-
вина, прошение принесла о пособии, которое Софрон за
181
мужа обещал, да выдать позабыл. Все слова в проше-
нии к месту были подобраны, и буквы читать можно,
вполне разберешь.
— Кто писал прошение тебе?
— А кто будет? Я сама. Начетчики-те нашински,
спасибо, с малолетства обучили. Все письма мужу на
службу сама писала.
— Ну ладно, будешь у нас по книжной части. Жа-
лованье получишь, вот тебе и способье.
И назначил Головиху библиотекаршей. Комнату, для
Антонины Николаевны приготовленную, заперли. Откры-
вали только на случай приезда городских, а Головиха
приходила с утра, свекра и ребятишек двух малолетних
накормив. Сидела до полудня, потом опять домой шла,
кончала с обедом, и до вечера опять в библиотеке.
Обязанности свои она выполняла старательно. Ска-
зал ей Софрон, что надо в тетрадку выданные на дом
книги записывать. Так и делала. И неровным, но раз-
борчивым почерком записывала в тетради:
«Качиров молоканский поп узял откуда появились
люди на земле».
«Дед Евстроп узял без заглавию».
Книги давать на дом очень не любила, выбирала
только старенькие и без картинок:
— Наляпате еще что на книжку! Не трогай — пущай
стоит! Вот эту можно.
Два раза в неделю<мыла в библиотеке полы и в эти
дни посетителей не пускала.
— Пущай обсохнет! Завтре придете.
Сама очень любила смотреть картинки в иллюстри-
рованных журналах. Читала мало — некогда. Больше,
сидя в библиотеке, занималась починкой и вязаньем
крючком кружев на продажу и узорчатых чулок, кото-
рые в моду в деревне вошли. Очень боялась ребятишек
и парней. Орлицей кидалась за ними к книжному
шкафу.
— Упрут чо, и не опомнишься!
Но отучить их от библиотеки не могла. Они были
самыми частыми посетителями. Барабанили на пианино,
смотрели картинки и читали книжки. Мужики занима-
лись больше газетами. Заовражинские приходили слу-
шать. Кто-нибудь из небесновцев читал обычно газету
вслух. Головиху скоро одобрять начали. Баба разумная,
со всеми соглашается. Начнет Кочеров говорить, что
182
рттого неустройство у нас, что бога забыли и божьего
слова не знают. Головиха вздохнет и поддакнет:
— Совсем народ спустился! А без богу как?
Говорит Софрон, что попы обман делали, народ оби-
рали, тоже головой кивнет:
— Сказано, у попа глаза завидущи, руки загребущи.
Когда «Интернационал» пели, она подпевала. В цер-
ковь ходила по праздникам нередко. Уважительностью
своей всем угождала. Платье и при муже носила по
городскому образцу, только кофточку навыпуск. Теперь
голову стала держать и в комнате непокрытой, а волос
не взбивала. Добро библиотечное зорко хранила. Это
тоже ценили мужики:
— Домовитая баба попалась!
В городе как-то вспомнили про библиотеку. Софрона
запросили: много ли книг из имения господина Покров-
ского доставлено? Софрон сообщил: три тысячи. Ахнули
и написали, что пришлют из города знающего человека
книги просмотреть и порядок в библиотеке устроить.
Бурливые, беспокойные дни череду свою вели. Поте-
плело дыхание ветра. Осели, побурели снега. Из-под них
пахнуло на людей волнующей истомой земли, ее весен-
ним желанием и предчувствием оплодотворения. Чаще
беспокоилась в стойлах скотина. Изводились похотли-
вым мяуканьем на крышах коты. Румянцем жарким
чаще приливала кровь к щекам девок. Податливей
стали на ласку, разомлели и льнули к мужьям бабы.
В сумерки вместе с густеющей темнотой надвигалась на
молодых сладостная тоска, от которой беспокойным ста-
новилось тело. Старики мудрыми, знающими глазами
определяли, когда на дборе и в семье будет приплод.
Хватками мучить стало Софрона любовное томление
по Антонине Николаевне. Часто, грубо и жадно ласкал
жену, но только сумрачней и злей становился после этих
ласк. А Дарья стихла. Двигалась плавнее и мягче, блед-
ней лицо стало. Взгляд внутренним, теплым и мягким,
светом засветился. Ребенка понесла. Ее бояться Софрон
перестал. Но Антонина Николаевна сама ловко встреч
наедине избегала. Пожелтевший и хмурый, он каждый
вечер метался в школе и уходил домой замученный.
Всегда у Антонины Николаевны другие учительницы
или солдатки.
По-городскому развязные, дерзкие, они больше всего
мешали Софрону. В хитром смехе, в скользнувшем
183
намеке они давали понять, что видят тоску Софрона.
Он настораживался и уходил.
В один вечер, по-весеннему истомный, Софрон, жел-
тый и усталый, разговаривал с мужиками. Стоял в клас-
се бестолковый, мутящий голову галдеж. Шли перекоры
о земле, о весеннем надвигающемся посеве, о том, как
распределять засевы озимых, о сделанном учете сель-
скохозяйственных машин. В школу вошел приезжий
в городском меховом пальто нараспашку, в штанах га-
лифе и френче, с красной звездой на черной кожаной
фуражке, с пузатым черным кожаным портфелем под
мышкой.
В споре его не приметили сразу. Растолкал народ и
прямо к Софрону. Спросил скороговоркой:
— Где здесь исполком? Это какое собрание? Ячейка
в селе имеется?
Софрон ни на один вопрос ответить не успел, а он
уж опять скоро-скоро сыпал словами:
— Здравствуйте, товарищ! Я вас в городе видел,
сразу же узнал. Вы, кажется, здесь предволисполкома?
Ага, отлично! Поедемте в библиотеку сейчас. Вот мой
мандат. Это собрание ячейки? Слышал, слышал, вам
удалось сразу многочисленную организовать. Здрав-
ствуйте, товарищи, готовитесь к выборам в Советы? Какие
планы у вас земельного распределения? Да, да, знаю,
разбились на коммуны! А где здесь меня чаем напоят?
Артамон Пегих даже головой покачал и внимательно
в рот приезжего посмотрел. Подумалось ему: «Чисто
машинка кака внутре слова выгонят. Так и сыплет!
Рвач ай пустобрех?»
Пока приезжий стрелял без отдыха вопросами и сам
отвечал на них, Софрон прочитал мандат и, уловив ми-
нуту, объявил собранию:
— Инструктор по просветительной части. Вам жела-
тельно библиотеку посмотреть?
— И библиотеку, и в ячейке вашей позаняться. Про-
грамму проштудировали? Обратите внимание на вопрос
о нашей земельной программе. Я вам сейчас объясню...
Передохнул, потому что Антонина Николаевна во-
шла. Улыбнулся ей широко и радостно, отчего сразу
милым стало курносое, скуластое лицо.
— Здравствуйте, здравствуйте, а я ведь забыл, что
вы здесь обретаетесь! Право! Совершенно забыл! Вы
ведь помните меня? Ну да, да! В партию еще не реиш-
1В4
лись записаться? Надо, надо! Интеллигенция саботи-
рует, но у вас здравые суждения. Чаем напоете? Я сей-
час вот.
К мужикам повернулся и сразу умным и острым,
странно противоречащим беспорядочной говорливости
взглядом в лицо Жиганову уперся.
— Вы из крупных хозяев? Сельскохозяйственные
машины есть? Это неизбежно, вспять ничего не повер-
нете! Пролетариат сумеет заставить признать его волю.
В полчаса метко, верно выделил из толпы взглядом
и вопросами представителей разных толков расколов-
шейся, смятенной деревни, наговорил много слов, но уже
приучил понимать его скороговорку.
Артамон Пегих утвердил:
— Рвач.
Софрон засмотрелся на его подвижное, будто брыз-
жущее мыслью, движением, словами лицо. Даже об
Антонине Николаевне забыл. Вспомнил, и заныло при-
вычным, нудным ставшее томление, только когда ин-
структор сказал:
— Поедемте с нами, товарищ, в библиотеку. Вот мы
с предволисполкома... товарищ Конышев, да? Я помню.
Фамилии сразу запоминаю. Ну, поехали! Втроем не
тесно в санях? До завтра, товарищи! С* сектантами мне
очень интересно побеседовать. Небесновка у вас где?
В санях дорогой вдруг притих. И было непонятно
Софрону, слышит он его или потонул в своих думах.
Лицо в сторону отвернул — не слушает, видно. Но Сбф-
рон, путаясь, продолжал рассказ о волостных делах.
Кровь жгла, потому что тесно втроем в санях. Плечо и
нога Антонины Николаевны через полушубок слышны.
Говорить все-таки легче, чем молчать и слушать буйный
трепет желания. Но слова неровные, негладкие выходят.
А инструктор, оказывается, слышал. Выходя у биб*
лиотеки из саней, сказал Софрону:
— Вы правы: трудней всего с сектантами. Книжники,
каждую букву учтут, а декреты у нас того... Не всегда
ясные. Что? Не хватает людей? Город поможет, только
и там мало. Товарищ Хлебникова, прыгайте! Приехали!;
Головиха закрывать библиотеку собиралась. Препи-
ралась с молодежью, не желавшей уходить. Увидав во-
шедших, сразу поняла: из города начальство.
Поправила кофточку и, приветливо улыбаясь, покло-
нилась чуть не поясным поклоном.
185
Инструктор сразу уперся взглядом в плакат, изобра-
жавший солдата с разинутым ртом. Заливисто и громко
засмеялся:
— Это вы что же, все на заем свободы подписывае-
тесь? Товарищ Конышев, как же это вы проспали? Това-
рищ Хлебникова, а? Снять, снять! Запоздали. Ах, чу-
даки! И книжки у вас, верно, также: на стенах — рядом
с Лениным — заем свободы, а в шкафах — вместе
с Марксом — Иоанн Кронштадтский. А? Товарищ биб-
лиотекарша. А? Не читали кпижек-то? Иоанн Крон-
штадтский есть? Убрать, убрать вместе с плакатами.
Головиха сконфузилась:
— Где их тут все-то углядишь каки! Да новы-те тре-
пать не даю. Стоят, и не видать каки. Так, тряпочкой
обмахну...
—- Тряпочкой! Большевики, товарищ, народ такой:
хотят, чтобы все скоро и первый сорт. Мы срочно сде-
лаем всех грамотными и умелыми. Библиотеки сразу
все поставим по последнему слову библиотечной тех-
ники. Вы не слыхали про десятичную систему Дыои?
Таблицы Кеттера здесь есть, товарищ Хлебникова?
Головиха вдумчиво повторила:
— Ке-кеттера.
И по привычке согласилась:
— Да, да... Кетера.
Инструктор взглянул в ее карие ласковые, со всем
соглашающиеся, но умные глаза и засмеялся снова:
— Откуда вас товарищ Конышев откопал?
И броским шагом пошел ходить от шкафа к шкафу.
Головиха вдруг испугалась и растерянно-беспомощно
всех осмотрела.
Инструктор вытащил из пузатого кожаного портфеля,
который все время не выпускал из рук, две беленькие
книжечки и стал объяснять всем, как ими пользоваться
при приведении в порядок библиотеки.
Головиха, округлив глаза, внимательно смотрела ему
в рот. Подростки и два шестнадцатилетних парня сгру-
дились у пианино. Двенадцатилетний сын Софрона
Ванька, случайно взглянув на Головиху, громко фырк-
нул.
Инструктор оборвал речь и повернулся к нему. Но
в этот момент Головиха подошла к инструктору и лас-
ково тронула его за плечо:
— Слышьте, господин... Товарищ то ись. Больно
186
трудна этака грамота. Понять можно... Отчего не По-
нять? Но так што, детная я.
Инструктор смолк и в первый раз не понял:
— Что, что?
— Детная, мол, я... Уж смилуйтесь! Куды тут Ке-
етер. Одному подотри, другого покорми, третьему рот
заткни. Трое их у меня, детей-то... Уберешь да суды
айда. А тута тоже, полы два раза в неделю мою. Уж
сделайте такую милость, попроще как изъясните.
И в карих глазах такая оторопь и тоска, что у ин-
структора смех ласковой нотой оборвался.
— Детная, говорите? Ну ничего, подмогу вам дадим.
Все-таки грамотная, а? Нет, товарищ > Конышев, ведь
это трогательно: «детная»!.. А мы в планах намечали:
библиотекарь должен быть универсально образован. Но
«детная» — это хорошо. Мобилизуйте учительниц, това-
рищ Конышев. Библиотеку обязательно привести в по-
рядок! А вы не беспокойтесь, товарищ библиотекарша,
очень понятно все изъясним. Привыкнете! Для полов
подмогу найдем.
Инструктор долго и ласково с Головихой говорил.
На свои вопросы отвечал сам, но она расцвела улыокой
и кивками головы все ответы утверждала. Потом с мо-
лодежью занялся. Ванька Софронов поразил его и отца.
Требовательно, с дерзкой усмешкой в серых глазах он
задавал инструктору вопросы о новых порядках, о рас-
пределении земли, об отношении города к деревне.
— Дать-то еще ничего не дали, а шерсть собрали!
На ново войско то и дело: полушубки, валенки, хлеб!
У хозяйства дело делать не дают. Все мужики в пред-
седателях да делегатах. Как мужицко хозяйство будет?
Войну, сказали, копчам, а еще друг с дружкой схвати-
лись.
В дерзости слов, которые бросал срывающимся на-
пряженным голосом, в вызывающей усмешке глаз —
смятенная ищущая мысль.
Хотел инструктор отделаться фразой «лес рубят —
щепки летят», но, неожиданно для себя, обнял за плечи
Ваньку, стал ходить с ним по комнате и посыпал мел-
кий, но четкий горох слов, зазвучавший глубокой полно-
той человеческой искренности.
Говорил о том, что пластом тяжелым земля прида-
вила деревню. Была сытее, но темнее, глуше. Миллионы
народа жили, как кроты, с тяжелыми мыслями, с упор-
187
ством мертвых, отживших верований, с тупой покор-
ностью всякой палке. Все условия быта обрекали на
продолжение такого существования. Кто приобретал
знание, в деревню больше не возвращался. Огромная
могила при жизни для миллионов людей: только труд,
пьянство, дикие суеверья.
Пока царил прежний порядок, ни школы, ни туман-
ные картины, ни разговоры изменить порядка не могли.
Они только толкали к тому, что совершилось. Надо
было разрушить систему этого порядка.
— Я не буду тебе рассказывать, что надо для города,
а для деревни надо: облегчить труд, освободить челове-
ческие силы для того, чтобы ум работал. Для облегчения
труда нужны машины. Везде, где можно освободить
тело человека от натуги. Машины делают в городах.
Чтобы их сделать так много, как надо, необходимо осво-
бодить рабочих от хозяев, устроить хорошо их жизнь.
Освободили. А чем кормить? Деревня для своего осво-
бождения должна тянуться.
Он говорил долго и, в общем, несвязно. Когда за-
молк, Ванька Софронов сразу простым детским голосом
вывод сделал:
— Стало, деревню отменят? Привезут суда всяки
машины, все по-городскому устроют. Вот чо!
Видно было, что еще не решил, хорошо ли это —
отмена деревни. Но глаза его засветились мягким блес-
ком. Он застенчиво улыбнулся, бережно снял руку ин-
структора со своего плеча и выбежал из библиотеки.
Софрон не верил своим глазам и ушам. Старшего
сына своего он два раза бил тяжким мужицким боем,
потом старался не замечать. Сквернослов, курильщик,
забияка, он не был изувечен мужиками только потому,
что отец в силу вошел. Кроме похабной частушки и
дерзких ответов, дома от него ничего не слыхали. А сей-
час он так глубоко, хозяйственно язвил инструктора,
что, видно, много узнал за это время и передумал. Знал
все мужицкие тревоги.
Инструктор взволнованно сказал:
— Д-да. Умный мальчишка! Замечательный молод-
няк у России.
И Софрон раздумчиво, как будто размышляя, отве-
тил:
— Да, пожалуй, эдаких никто задницей не придавит!
Вырвутся!
188
Неожиданно волной колыхнулось отцовское удовле-
творенное чувство.
— Мой халиган-то. Сын.
— Замечательный мальчишка.
Узнав о приезжем человеке, набрался в библиотеку
народ. Антонина Николаевна на пианино играла, а все
старательно, долго, на церковный медлительный лад,
сближая «Интернационал» с национальной заунывной
песней, тянули:
Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь и не герой...
Инструктор уехал к Антонине Николаевне чай пить.
Ночлег ему был приготовлен в библиотеке. Когда он
вернулся, из библиотеки еще не разошлись. Заговори-
лись, и беседа была необычно мирной.
У Софрона екнуло сердце, когда инструктор вышел
с Антониной Николаевной. Но рассеял и отвлек раз-
говор с народом. Говорить ему хотелось. Ожили, двига-
лись и беспокоили мысли. Когда вернулся инструктор,
на душе стало совсем легко. Шел домой и гудел:
Кто был ничем, тот станет всем...
Дома прежде всего спросил Дарью:
— Ванька дома?
— Спит.
Ванька спал на полу, у печки, с братьями. Кровать
была только одна, супружеская. Софрон посмотрел на
разметавшегося во сне сына, усмехнулся и неловко, но
бережно поправил азям, которым сын одевался.
Инструктор прожил три дня. На второй вечером Соф-
рон опять., был угрюм и лицом темен. Щемила ревнивая
тревога.
Целый день Антонина Николаевна и другие учитель-
ницы работали в библиотеке с инструктором. И Софрон
в этот день видел, как шли они рядышком по улице.
Инструктор под локоток Антонину Николаевну поддер-
живал. А она заливчато смеялась и сияла глазами.
Софрон, мучась своей болью, избил ночью Дарью.
Проснулся Ванька и кинулся на отца. И кричал отчаян-
но и звонко:
— Я знаю, с чего тебя корежит! Уходи от пас, а мам-
ку не трогай!
189
Дарья так была поражена его заступничеством, что
плакать перестала. Ванька всегда нехотя, с издеватель-
ством с ней разговаривал. Обидой глубокой терзал ее
материнское сердце. Софрон махнул рукой и, хлопнув
дверью, вышел на двор. Потом, в одном летнем пид-
жаке, без шапки, как был, почти бегом двинулся к шко-
ле. Тяжелый от револьвера карман бил его по боку.
Теперь он его никогда не забывал. В школе было тихо
и темно. Софрон стоял долго, продрог и, опустив голову,
пошел домой. От ворот круто повернул к библиотеке.
Там еще горел свет, и в освещенное окно Софрон уви-
дел инструктора. Он размахивал руками и что-то гово-
рил. Сердце застыло в вопросе: с кем? Но в этот мо-
мент хлопнула наверху дверь, и донесся голос Митрохи-
писаренка:
— Ладно. Заночую. Сичас до ветру только схожу!
Легким стало тело. Сразу почувствовал Софрон, как
продрог и как хочется спать.
Ночью, накануне отъезда инструктора, Софрон опять
дежурил у школы. Закутавшись в черный тулуп, при-
лип к черному сарайчику во дворе школы. В окнах ком-
наты Антонины Николаевны был огонь, но занавески,
пропуская свет, разглядеть, что делается в комнате,
мешали. Час или год стоял? Так велика была мука, что
о времени забыл. Когда застучали засовом выходной
двери, вздрогнул, как от удара.
— Ну, спи!
— Завтра провожать приду!
— Не стоит, рано уеду. А? Да, да, в городе уви-
димся!
Рванулся было за ним, но одним прыжком очутился
на крыльце, у не запертой еще двери. Стояла, стерва,
вслед смотрела, хоть и скрылся любезный уж за углом!
— Кто это? А-а!..
Стиснул ей рукой щеки и рот и, подхватив под мыш-
ку другой рукой, втащил в ее, недоступную для него
в такой час, комнату. Для него недоступную, а для
этого, городского... Зубами скрипнул, а глаза и уши,
как на охоте, ловили все... Никто в сторожке не зашеве-
лился. Крепко спят. Повалил ее на пол у двери и, при-
жав коленом рот, запер дверь на крючок.
— Только закричи, сволочь, башку разможжу!
Выхватил револьвер, махнул перед остановивши-
мися, будто окаменевшими от ужаса и удушья глазами
190
и освободил рот. Она с трудом и болью передохнула и
встала.
— Только заори, попробуй!
— Не буду, Софрон Артамоныч!..
— «Артамоныч»... Заигрывала, а давалась другому.
Показывай! Не обсохла еще? Ах ты, шкура, б...
Бурный, прерывистый поток ругательств, самых безо-
бразных, ошеломил ее. Попятилась от него к окну. Но
он рванул ее грубо к себе, уронил опять на пол и, раз-
рывая платье, навалился, закрыл собой и широко по
полу разметавшимся тулупом.
В скверности и жестокости этого обладания самой
едкой обидой, ранящей человеческое, было ощущение:
ее тело привычно отвечает: «А-ы-ы-х!»
Встал, плюнул ей прямо в лицо, толкнул ногой и
повернулся к двери. Тонкие, белые руки вцепились
в него. Вскочила, прижалась телом, сегодня еще так
страстно и свято желанным. А сейчас стало противно.
Рванулся и заорал, не думая ни о какой осторожности:
— Ну-у!
— Софрон Артамоныч... Софрон... Не говорите ни-
кому... Я вас люблю... Я буду вашей... долго... всегда.
Не говорите никому... Не сра-а-мите меня...
«И ведь лезет после всего! Только бы людям чистень-
кой казаться...»
В глазах мука и отвращение, ноги ноют от грубого
мужицкого обладания, а губы шепчут:
— Я буду вашей... Не говорите...
— Ах шкура! П-а-кось!
Рванулся, выбежал, не помня себя от злобы и отвра-
щения. Деревенская девка морду бы искусала, а эта
барышня... Он-то на них снизу, на беленьких, из своей-
то грязи, как на бога. Ах, стерва, стерва!.. Притворялась
недотрогой, мужика одуряла. А-а!..
Антонина Николаевна утром рано с инструктором
в город уехала. Софрон весь день в кровати пролежал.
Голову мутило, думать не давала обида. Перед кем
с прахом себя мешал? Все они, городские, такие! Видом
обманные, а сами подлые. Учителя! Спасители!
Дарья подходить к нему боялась, детей отгоняла и
на них цыкала. Только раз спросила:
— Может, квашеной капусты на голову-то? Помо-
жет.
— Не надо...
191
Мужикй приходили, притворялся спящим. А Дарья
с непритворной тревогой говорила:
— Трясучка ай сыпняк.
Ночью, когда Дарья осторожно улеглась рядом, ста-
раясь не толкнуть мужа, он вдруг бережно, любовно
притянул ее к себе и прижал губы к белой, набухающей
в беременности груди.
Не мыслью, звериным чутьем, никогда не обманы-
вающим, почуяла всю глубину его нежности и тихонько
заплакала.
— Софрон... Желанный, соколик...
— Помолчи, Дарья... Помолчи, мать. Дура моя дере-
венска...
(
V
Слова, как набат, короткие, звонкие, звуком чуждым
пугающие, все чаще и чаще доносятся. Еще заставами
неснятыми мешают им сто пятьдесят верст до уездного
города, сто десять до ближайшей станции. Еще дыхание
великой тревоги только колыхнет и сгаснет в проме-
жутке между бурей и глухой, мужицкой, застарелой
тишиной. Но уже нет старого, унылого, в безнадежности
страшного покоя. Еще живут за печью бабкины поверья,
но уже пугаются и прячутся от криков новых деревен-
ских коноводов.
Вернулся в Интернационаловку, Тамбовско-Небес-
новку тож, Редькин. Он долго пропадал в городах. Был
не только в своем уездном, айв губернском, порядки
проверял. В селе дивились, что вернулся живой. Гово-
рили:
— И чем жив человек? Костяк один остался, и тот
некрепкий. Гнутый. Спина дугой. А все ерепенится! Еще
лютей стал.
Только Артамон Пегих, на улице Редькина повстре-
чав, зорко в лицо его посмотрел и деловито сказал:
— А недолго тебе, Филимон, гомозиться-то! С ручья-
ми смоет тебя.
Редькин взъерошился, обругаться хотел, но только
сплюнул и отозвался глухо:
— Гляди, не твой ли черед? Отбатрачил до пределу
старик. А я еще потяну. Худо дерево два века скрыпит!
И в жарких глазах беспокойная мольба к жизни:
дай эти два века!
192
Артамон губами пожевал и раздумчиво отозвался:
— Все может быть. Упористы вы, нонешпие-то. Жад-
ности до белого света в вас много.
И пошел к своему двору, старый, сгорбленный, до
света белого нежданный, спокойно взглянувший в близ-
кий свой предел, но на ноги еще крепкий, о внуках ра-
деющий, большевик Артамон Пегих.
А Редькин Софрона по всему селу искал: допросить,
долго ли будет слюни распускать, с молоканами мане-
житься. И не нашел его в селе.
Софрон на соседний хутор Хворостянекий уехал, где
переселенцы горемычные на каменистом, малоплодном,
будто для них среди окрестных угодий плодородных
вынырнувшем участке осели. Теперь волисполкому заяв-
ление подали:
«Мы нижеподписавшие крестьяне деревни Хворо-
стянекой в шестьдесят четырех дворов собравшись на
сходе в числе сто три человек постановили дать нам
землю Небесновских молокан как на камне ничего не
растет а к тому как земля ничья как тому пункту есть
декрет большевицкого правительства, которому едино-
гласно придерживамся как есть буржуи которых бить
есть наше согласье к сему руку приложили».
Заявление написано лихим почерком Макарки, по
прозвищу «Пройди-свет», присяжного хворостянского
писальщика жалоб и челобитных. А под заявлением ко-
рявые буквы подписей и унылые кривые кресты негра-
мотных..
Обидой, барышней нанесенной, взбодрило Софрона.
Горьким дымом разочарования, как лекарством едким,
прочистило глаза. Появился в сини их свинец, которого
раньше не было. Отошел туман мечты, и увидал Софрон:
тянулся в плен к чистеньким господам, а в них правды
нет. Защиты от них не будет. Издали только приман-
чивы. Сверху улыбку шлют, а рядом стать не дозво-
ляют. Рылом, дескать, не вышли! А, не вышли? Наша
власть! И как всегда бывает, когда ожжет кнутом обида,
ожили старые боли, казалось изжитые и забытые. Бе-
жал с фронта одичавший, жестокий от дурмана бойни.
Тогда не боялся, не жалел никого. А в своей деревне
отошел, разнежился никогда раньше не испробованным
почетом и доверием. Бей их всех, сволочей! Всех, кто
слово поперек! Наша власть! Сразу увидал, что ничего
еще не делал, только мечтал и сам «маломочных»
193
одурял. Скуп и резок на слова стал, на книжки, на биб-
лиотеку господскую плюнул. На другой же день, как
встал, за небесновцев принялся. Большой гурт скота
отобрал, в город на прокормление Красной гвардии по-
слал. Когда узнал, что в молитвенном доме евангеличе-
ских христиан на собрании в слове своем Кочеров посту-
пок его осуждал, Кочерова самолично нагайкой исхле-
стал и в город в тюрьму отправил. Молитвенный дом
печатями запечатал:
— Будя! Попели псалмы, на работе брюхи потря-
сите!
К хворостянцам поехал распаленный и готовый вы-
полнить просьбу их.
Там, вместе с криками «Будет, попили нашей кро-
вушки!», «Нечо валандаться, прикрутить богатеев!» пе-,
редали ему жалобы на то, что товаров никаких в де-
ревне нет, деготь дорог стал, что доктор в Романовке
старого правительства «придорживается»: лекарств ни-
каких не дает, от дурной хвори солдат не вылечивает.
В гомоне крепкой мужицкой брани, несвязных слов и
крика раззадорился сам и распорядился:
— Лавошников перетрясти всех. Где запрятали то-
вары? Нещадным боем бить, пущай скажут! Дохтура
тоже поучить и в город отправить, а для округи в боль-
ницу за дохтура Пантелея-санитара поставим. Он всяки
порошки знат. Выдавать будет. А сам я завтре в город,
нащет требованию: каке есть наши права?
И уехал. А следом за ним на дровнях три подводы
с хворостянскими. На перекрестке расстались. Софрон
в волость к себе, а хворостянцы в Романовку: доктора
учить и Пантелея-санитара на место его поставить.
Бурый снег под ногами проваливался. И в сумерках
вечерних лежал по краям дороги, потемневший, пасмур-
ный. А в степи тишина была переполнена ожиданием
весенних бурь. В этой затаившей в себе крик нетерпе-
ния тишине дышалось тревожно. Софрон понукал куче-
ренка Саньку и ерзал беспокойно в санях.
В Интернационаловке уже зажгли светцы и кое
у кого керосиновые лампы, когда Софрон приехал. Мель-
кали в окнах и огоньками своими сгущали мрак в углах
улиц, у ворот. Оттого не разглядел Софрон, что у его
ворот стоит Редькин, и вздрогнул, когда тот отделился
от забора черной длинной фигурой.
— Ктой-то?
194
— Я, Редькин. Куды раскатывал?
— В Хворостинку. Айда в избу! Дело есть.
Редькин рассказал мало. Похожий на сурового угод-
ника с иконы старого письма, худой, с бороздинкой глу-
бокой и сумрачной меж бровей, он низко опустил голову,
смотрел строго исподлобья и только кашлем да отрыви-
стыми редкими словами прерывал рассказ Софрона. Оба
решили па свету выехать в город. На огонек заглянул
Артамон Пегих и тоже с ними выпросился. Ванька сидел
у стола за книжкой. С отцом и матерью разговаривал
по-прежнему скупо, неохотно, но реже стал убегать вече-
рами на улицу. Услышав о сборах в город, вдруг поднял
голову. Будто нехотя, лениво процедил:
— Меня до городу не подвезете?
Софрон усмехнулся одним углом рта. Лицо светлее
стало.
— Это куда же ты собрался, товарищ?
Глядя в угол, Ванька ответил:
— Там видать будет — куда!
Софрон рассердился:
— От, сопляк, разговаривать еще не хочет! Поучу
вожжами, так заговоришь.
И, хлопнув сердито дверью, вышел с Редькиным.
Но на заре, когда подъехал на хорошей паре, в ков-
ровой большой кошеве, захваченной в имении Покров-
ского, Артамон Пегих, Софрон разбудил Ваньку:
— Одевайся, в город поедем.
Артамон Пегих одобрил:
— Тоже возжелал на город поахать? Ладно! Вы там
к господам, как начальство, а мы на улках на городских
поглазем. Я тебя везти вызвался. Нуждишка до город-
ского базару есть. Внучка наказывала.
Раньше город чистенький был. Теперь, когда взмет-
нулись на домах присутственных красные флаги, появи-
лись вывески с непонятными названиями, взъерошился,
засерел солдатскими шинелями, потускнел и сразу при-
беднился. Господа в одежде приубожились. В магазинах
полки и прилавки уныло просторны и пусты стали. На
базаре только то, что для еды, осталось. Редко-редко ла-
рек с городскими приманками, и тот с запасами скуд-
ными.
На улицах, людных, шелухой семечек и орехов засы-
панных, грязных, занавоженных, и народ все больше
серый. В домах присутственных красногвардейцы с вип-
195
товками, начальники в одежде из кожи с револьверами,
мутящий туман махорки, стриженые женщины с муЖг»
скими повадками, с папиросами и козьими ножкамй
в зубах, бестолковый гул несмолкающих разговоров,
окурки на полу и кучи сору в углах. Похоже, что из до*
мов этих хозяева выехали, а эти новые — квартиранты.
Останутся ли жить, еще не знают и не хотят домов оби-
хаживать. И народ служащий непоседливый стал. За
столами не сидят, все кучками собираются, руками ма-
шут и галдят.
Нет, не глянется этот новый город Артамону Пегих.
Размышлял:
— Главное дело, не разберешь, который начальник
над котором выше! Все руками машут, все приказывают,
все речи говорят, и все с револьверами. У женского полу
приману женского нету. Ну, к чему подобно: дымят,
шапки мужицки понадевали, кричат без острастки и вез-
де, как мужики, налезают, не ужимаются. Тьфу!
Недовольный и сумрачный вернулся на двор, где
лошади стояли, и в сенях спать под тулуп завалился.
В дом куда пойдешь? Номер в гостинице Софрону, как
начальнику, предоставили. Хоть и грязно в нем, а все не
иа постоялом. Непривычно. Разбудил его Ванька толч-
ком в бок:
— Деда Артамон, деда! Вставай! Купцов по городу
водют!
Еще не развеялась сонная истома, но уже уловил
в Ванькином голосе необычайное дрожание не то от ра-
дости, не то от испуга.
— Чтой-та? Это ты, Ванька?
— Айда на улицу скорее! Купцов с мешками водют!
Побежали на главную улицу. Дорогой Ванька рас-
сказал: муки в городе мало, из деревни скуп подвоз.
Очень вздорожала мука. Рабочие в исполком: почему?
Исполком запретил вывозить из города муку на продажу
в губернию и цену на нее установил. Сегодня на заре
крупные мучные торговцы пытались вывезти. Их пой-
мали красногвардейцы. Возы отбили. А рабочие торгов-
цев из домов вытащили в чем застали, наложили мешки
камнями, дали нести и водят по улицам, а на углах бьют.
— Наши все, деревенски, бьют-то! Виддал, с базару
хворостянски, романовски, тамбовски побегли и из Де-
мократической волости. Сейчас на главну улицу вывели.
Я тятьку искал, да не нашел, тебя разбудил.
196
Со всех сторон на главную улицу бежали любопыт-
ные, Колыхалась сотнями голов главная улица. Стоял
над ней то вздымающийся, то опадающий смутный гул
разговоров, восклицаний, криков. Одинаково жадно нале-
зали друг на друга, толкались, орали и те, кто хотел
бить купцов, и те, кто жалел их и возмущался распра-
вой. Искренними были у всех только глаза: нетерпели-
вые, жадные. Хорошенько бы разглядеть, как бьют!
Орала в толпе толстая Максимовна, торговавшая щами
на базаре:
— Православны! Выпустите! Бока сдавили: задохну!
А сама пролезала, толкаясь локтями в обе стороны,
к середине, туда, где шли с мешками купцы. Впереди,
смешно семеня ногами, сгибался под тяжестью мешка
бывший городской голова Зеленков. Он был в одном
белье и ночных туфлях. Толстый живот тоже обвис, как
мешок, над короткими ногами. Благообразное лицо,
с размазанной кровью из рассеченного виска, исказилось
болью, натугой и обидой. Бурые густые волосы смокли,
прилипли ко лбу и вискам. Он таращил из-под бровей
налитые испугом, покрасневшие глаза и молил робко,
задавленно, как мяукал:
— Братцы!.. Товарищи!
За ним спотыкались связанные вместе чьей-то опояс-
кой два прасола Жериховы, отец и сын. Седой старик
с черными живописными бровями и молодой, похожий
на поросенка, безбровый, с белесыми заплывшими гла-
зами и носом пятачком. Даже в испуге лицо его не
осмыслилось, не очеловечилось тревогой. Он и вскрики-
вал, как хрюкал. Старик матерился и тряс головой. Оба
успели одеться, но у старика суконная бекеша и то, что
было под ней, располосовано пополам. В разрез высту-
пила желтая старая спина. За ними трое гуськом: призе-
мистый, черный, как жук, широкоплечий хлебный торго-
вец Ишматов, в брюках, нижней изорванной сорочке и
подтяжках. Он был сильнее других и под мешком сги-
бался меньше всех, но скрипел зубами и выл не от боли —-
от ярости. Чернозубый, с низким лбом, высокий, длинно-
рукий владелец паровой мельницы Мякишев лязгал
в страхе зубами и часто спотыкался, наступая на ото-
рванную штанину. Сзади всех молча волочил больные
ревматические ноги в меховых сапогах старик с кротким
иконописным лицом и серебряными кудрями — первый
в городе богач Миляев, продавший в рассрочку с жесто-
197
кими процентами сельскохозяйственные машины кресть-
янству всего уезда. На нем от одежды остались одни
лохмотья да сапоги. За купцами, подгоняя их, размахи-
вая тяжелым засовом от ворот, — высокий желтолицый
мужик в грязной белой шапке с одним ухом, в рваном
полушубке. Он зычно орал нараспев:
— Граждане! Глядите! Эт-ти вот муку вывозили!
Глядите! Эт-ти наши буржуазы, грабители!
Сбоку, рядом с купцами, размахивая руками, солдат
в грязной шинели, с походной сумкой за плечами. Выта-
ращив глаза — они одни жили на сером землистом ис-
томленном лице, — он дико орал:
— Имперялистов поймали! Вот они идут! Бей импе-
рялистов!
В толпе разноголосые выкрики:
— Бей толстомордых! Га-а-а!
— Выпустить им кишки!
— Мукой живот набить!
— Теперь слабода, а они муку вывозют!
— Все перва гильдия!
— Бей их по первой гильдии!
— Какая дикость! Какая жестокость! Где же
власть?.. Это Зеленков впереди?
— Звери! Изверги! Убьют! Да не налегай ты, парши-
вец! Спину всю протолкал!
— Господи, что же это? Господи, что же это? А их
уже били?
— Сенька-а, пролазь суды! Тута всех шестерых ви-
дать!
— Гра-а-жда-а-не! Эт-ти вот муку вывезли!
Семь солдаток визжали около са,мых купцов, наска-
кивая на них с двух сторон, стараясь ударить на ходу,
подскакивая и подпрыгивая, как в диком танце. Пра-
сковья Семенчихина всех визгом покрывала:
— У мине муки на квашню нету! На квашню не
хватат!
Худой, косенький, однорукий курьер торопливо, ши-
роко шагал за солдатками, чтоб не отстать от купцов, не
потерять их из виду, и громко, радостным, захлебываю-
щимся тенорком рассуждал:
— Действительно, им там всяко прованско масло,
а нам на муку нету! Де взять, когда ка-а-жный божий
день надбавка! Кажный божий день! Бить их следует!
Я согласен.
198
Густым диким ревом орали крестьяне, сбежавшиеся
с постоялых дворов:
— С энтого вон шкуру содрать! За цабан иссушил
мене. Всем потрохом заплатил.
— Мы каждый пуд слезой поливали, а нам кака
цепа?
— Нутре надорвали над хлебушком. А они на ем на-
живаются!
Играла в мужицкой крови обида вечного податника,
боль натруженного, для чужой утробы, горба.
Играла стихийно мужицкая ненависть к белоручкам.
— Пузо наливали! На нашем хлебушке наживались.
— Бей их, сволочей!
На углу, у высокого крыльца большой аптеки, высо-
кий, в шапке с одним ухом, остановил купцов. Разом на-
села- на них толпа. Деревенские всех отшвырнули и били
истово, сильно, деловито. Будто цепами хлеб молотили.
Солдатки пронзительно визжали, совались бестолково
к лежащим на земле купцам и в толпу. Ругались длин-
ными похабными фразами и причитали о своей скверной
жизни.
Прискакал конный отряд милиции. Начальник мили-
ции был впереди. Расталкивая конем толпу, он кричал:
— Эй вы, прекратите! Эй вы, слу...
Докончить он не успел. Прасковья Семецчихина вце-
пилась ему в правую ногу и потащила с лошади. Дюжая,
плечистая солдатка обняла его с другой стороны, ру-
ками у пояса. Он только успел подумать: «Зачем она
руки мне в карманы?» — и полетел с лошади вниз го-
ловой.
— Вот тебе, командер! Постой на голове.
Ткнули бабы его головой в снег, а у пояса держат.
Задрягал ногами в воздухе начальник. Толпа орет, гого-
чет:
— Вот так бабы! Выучили на голове стоять.
Прасковья приговаривала:
— Гладкий жеребец! Ляшки-те как у борова.
— А ты его еще пощупай. Хорошепь!
— Га-а-га... Го-го-го...
— Бей Зеленкова! Он на нас поездил!
— Подымай купцов! Еще водить!
Начальник милиции еле вырвался из бабьих рук.
В разорванных штанах, избитый. Рад был, что каким-то
чудом револьвер со шнура не оторвали. Но стрелять не
199
решился. Побежал в исполком. Там члену военно-полё*
вого штаба обо всем доложил. Оправдывался:
— Какое стрелять? Разорвали бы на куски, только
выстрели. Весь в синяках. Исщипали, подлюги!
Член военно-полевого штаба, высокий большеносый
человек в очках, смеялся:
— Ну, как вас бабы учили? А?
В исполком прибежал трясущийся, с отвислой ниж-
ней губой, бывший председатель уездной земской упра-
вы, купец Титов. Пропустили к большеносому.
— Что надо?
— Спасите... спрячьте... Самосуд... меня ищут тоже.
Высокий презрительно и спокойно сказал:
— Спрятать могу только в тюрьму. Сейчас напишу
ордер. Идите, там примут.
— Благодарю вас... век не забуду... Спасибо... Орде-
рочек-то скорее.
Высокий засмеялся, написал ордер, отдал Титову и,
поправив на голове кожаную фуражку, пошел на глав-
ную улицу, где ревела толпа. Когда пробирался сквозь
нее, видел: на крыльцо аптеки вскочил высокий, тонкий
юноша с бледным до синевы лицом и горящими глазами.
Юношеский голос вырвался резким, отчаянным вы-
криком:
— Товарищи!.. Товарищи!..
Желтолицый в папахе оглянулся и заревел:
— Племянник будет Зеленкову.
— А-а-а. Во-о-о..’. Ага-а...
Сгребли «племянника» опять первые бабы. Насели
мужики. Он скоро замолк и вытянулся. Член военно-
полевого штаба "видел в толпе красногвардейцев. Они не
только не мешали расправе, а сочувствовали ей. Это
было видно по оживленным их фразам, по яркому блес-
ку ненавидящих глаз. Им была понятна ярость толпы,
потому что кровное родство связывало их с мужиками,
которые били, как цепами молотили. Но толпа уже era-
сала. Почти насытились местью. Высокий член военно-
полевого штаба поднялся на крыльцо аптеки, откуда ста-
щили уже пятерых. Мужественным, зычным голосом он
спросил:
— Что вы, товарищи, делаете?
И в простоте, холодной ясности этого вопроса была
странная спокойная убедительность.
Затихать стали, от жертв своих оторвались.
200
Неуверенно прозвучал одинокий мужской голос:
— Стащить и этого надо!
Высокий на крыльце услышал. Спокойно отозвался:
— Стащите. Я без охраны и отбиваться не буду.
Как бы в доказательство, руки вверх поднял, потом
опустил и, будто продолжая спокойный разговор, опять
спросил:
— На кой черт с этими связались? Управу на них
найдем. А вы убили их на улице, вас злодеями величать
будут. А их за мучеников. Отведите живых в тюрьму!
Там примут. Сейчас десяток еще арестовали. Проучим,
будьте покойны. Умеем! А этих, мертвых и изувеченных,
стащите в больницу.
Холодно поблескивая очками, спокойно, будто ничего
не случилось, уверенный в себе, как хороший укротитель,
он спустился с крыльца и пошел к избитым. В задних
рядах еще слышались крики:
— А этому чего надо?
— За кого застаиват? За кого застаиват?
— Бей!
Но в середине, около высокого, стихли. Расступились
и дорогу ему дали. Он спокойно взглянул на избитых,
будто пересчитал их, повернулся и пошел к исполкому.
Из толпы вынырнули оправившиеся милиционеры.
Мертвых, Зеленкова и реалиста, и троих, избитых
до невозможности встать, утащили в больницу. Двух, ко-
торые встали и могли брести спотыкаясь, повели в тюрь-
му красногвардейцы.
Артамон Пегих, яростно бивший купцов вместе с дру-
гими крестьянами, перевел дух, как после утомительной
работы, вытер рукавом пот и оглянулся. Увидав Софро-
на, пошел к нему через улицу по расцветившемуся пят-
нами рыхлому снегу степенной мужицкой походкой.
— Слышь-ка, Софрон! Это кто же сурьезный-то,
в очках?
— Из военно-полевого штаба.
— Сурьезный, и того... Без опаски человек!
— На фронту всю войну был, чего ему опасаться?
Кабы из тыловиков, так давно бы ногами задрягал!
А человек без опаски шел и думал: «Могли сгрести!
Устали уж, насытились. Деревенское зверье работало
старательно. Д-да... стихия! С этими еще придется и нам
хлебнуть... Да!..»
И привычным движением руки пощупал револьвер.
201
Софрон расправу одобрил:
— Когда дождешься на их, городских, по закону-то
управу? Сбыли со счету которых, и ладно!
В городе тревоги было больше, чем в Интернациона-
ловке. Там, в деревне, под сектантским началом, еще
несмело и нестройно вмешивали новое в старое. Больше
галдели, мало рушили. А в городе уже гулял хмель ме-
сти и разливного гнева. Ночами вытаскивали людей из
насиженных гнезд, отводили в тюрьму, отбирали добро.
Эта тревога усиливала ненависть Софрона к господам.
К чистеньким, образованным. Об Антонине Николаевне
не думал. Слышал, что в город с инструктором уехала,
и пожалел инструктора:
— Зряшна баба!
На заседании исполкома один раз присутствовал и
одного члена исполкома изругал за то, что тот против
контрибуции был.
— Эдаких белсньких-то нечо спрашивать! Им штоб
и горячий блин, да штоб не обжигал. Под задницу их
надо! Колготят, а от делу под закрышку.
Всякая слабость и нежность вызывала в нем взрыв
гнева. Не выносил машинисток в учреждениях.
Все барышни нежненькие в машинистки опреде-
лились.
В исполкоме одну с кудряшками,- ласковую, изругал
матерно. Когда она заплакала, сплюнул около стола
с машинкой и спокойно отошел.
В городе опять в военную одежду оделся. И когда
шел по улице, в шинели, с револьвером и бомбой на
поясе, высокий и резкий, с суровым, свинцом отливаю-
щим взглядом, Редькин и Артамон рядом с ним казались
арестантами, боязливо съеженными. Но вместе обычно
они доходили только до исполкома.
Артамон не любил учреждений, махал рукой и пово-
рачивал к постоялым дворам. Там разыскивал деревен-
ских и проводил с ними день. Редькин заходил нена-
долго, хмуро осматривал служащих и оставался только,
если назначалось собрание. Собрания были часты.
Редькин внимательно слушал всех ораторов. Но возвра-
щался обычно в гостиницу злой:
— Нащет деревни никакого* решенью!
Ходил в читальню, слушал газеты. Сходил даже один
раз на любительский спектакль и долго после этою
хрипло матерился.
202
Ванька целыми днями в типографии пропадал. Один
раз послал его из исполкома Софрон за газетами, каж-
дый день стал туда бегать. Свел дружбу с наборщиками.
Они ему газеты и книжки давали читать. Читал он
жадно, без разбору. Все будто что-то искал в книгах и
газетах. Оттого что он ясно видел, как ловко и легко
все обсуждают городские и как туго и тупо пони-
мают все новое деревенские, загорелось его сердце
обидой.
— Ладно, их в школу посылали! А меня одну зиму.
Больше мать не пустила. Ничо! Сам дойду!
И оттого, что сам захотел, оттого, что не преподно-
сили ему разжеванного, питательного, тратил много вре-
мени на непонятное, утомительное в чтенье. Делал от-
крытия уже открытого, но не растерял своего и креп
дерзкий, в себе уверенный и упорный.
В городе Софрона задержали. Воздух заулыбался
по-весеннему. В полдень радостно прыгала с крыш ка-
пель. Город оглашался допоздна звонкими детскими го-
лосами. Артамон беспокоился:
— Угрузнем где в логу. Снег-то пади уж не доржит!
Скоро ли, что ли, поедем, Софрон? Все шалтай-болтай,
а в деревне-то телеги налаживать надо. Небушко-то уж
звенить!
Софрон угрюмо отозвался:
— Успешь еще, наладишь. Та и беда, приросли мы
к земле и об себе не понимам, чтоб и земля полегче да-
валась. Дела еще есть в городу.
А в городе событие случилось. Получил исполком
сообщение, что в восьми верстах от города остановился
казачий полк или отряд, но много казаков. С фронта
в степные станицы возвращаются. На конях, в полном
вооружении и даже одно легкое полевое орудие с собой
волокут. Люди и лошади заморенные. Будто бы на пе-
редышку встали. Военно-полевой штаб забеспокоился.
Казаки — народ старой закваски.
Зачем им пушку в свою станицу? Постановил испол-
ком послать делегатов для мирных переговоров: зачем и
куда? И предложить сдать оружие. Делегаты вернулись
благополучно. Казаки оружие сдать отказались, но гово-
рят, что мирные. Идем, дескать, мимо города. Советскую
власть признаем. Пропустили отряд. Но пришло распоря-
жение из губернского города задержать казаков. Ре-
шили, спешно отправить Красную гвардию. Это было
203
первое ее выступление. До сих пор Красная гвардия
в городе занималась только охраной самого города да
сбором контрибуций в селах.
В назначенный час со всех улиц потянулось к испол-
кому свободное, наемное войско. Бурливая, дерзкая,
разная по одежде толпа. Шли с винтовками. Одни в ши-
нелях по-солдатски, другие в крестьянских азямах и
тяжелых пимах, третьи в городской рвани и опорках на
йогах, четвертые — чужаки в своей одежде, военноплен-
ные. После всех отдельно прибыла киргизская часть.
Впереди несли красное знамя и на пике металлический
полумесяц с бубенчиками. Низкорослые, кривоногие,
скуластые шли нестройными рядами и пели гортанными
голосами киргизскую песню. Будто играли на какой-то
полузабытой, но в давнем родной всем и волнующей
дудке. И в ответ этой дикарской песне с подъезда
исполкома раздались взывающие дерзостью и новизной
слова приветствия:
— ...Красная гвардия, первое в России свободное
войско трудящихся, охрана революции...
Это соединение киргизской песни, бестолкового го-
мона разношерстной, по виду убогой, разноголосой,
разноязычной толпы, собравшейся на улице мещанского
захолустья, и слов огромного масштаба, истинно торже-
ственных, бьющих отвагой вызова всем, всем, всем, было
дико, страшно и бодрило душу величием, непонятным
рваной кучке — рати смельчаков, появившихся во всех
городишках взъерошенной РСФСР, чтобы лечь пере-
гноем ее полей.
Эти большие слова были для них только звоном сво-
его села. Чтобы была своя пашня, чтоб проткнуть пузо
своему кулаку /Николай Степанычу, чтобы разогнуть
свою спину, из своей глотки услышать крик вольный,
непривычный: «Наша власть!» Но чутьем, всему живому,
а им, простым и цельным, сугубо свойственным, ощутили
они широкую радость дерзости.
Оттого и трезвые в этой толпе казались пьяными.
Охмелели буйным хмелем задора. Стреляли в воздух
из винтовок, орали, не сердито, а задорливо ругались.
Шестнадцатилетний белобрысый паренек, путаясь в
длинной, будто тятькиной шинели, удивленно-весело
кричал:
— Эй, товарищи, затвор я потерял! Эй, эй, затвору
никто не видал?
204
Бородатый фронтовик добродушно-снисходительно
выругался:
— Сучий сын, сопля. Теперь орудуй без затвору!
— Затвор потерял, вояка! Титьку мамкину возьми
вместо затвора!
— Зеленый еще! Доспет, солдатом будет.
— Ничо, я без затвору... Я и так... его мать, казака
растворожу. Ничо!
И лихо, с выкриком, песню поддержал:
...к ружьям привинтим штыки.
Другой такой же зеленый и радостный кричал
в кучку смешавших свои ряды киргизов:
— Эй, вот ты, крайний, как тебя?.., Малмалай-Дал-
малай, скажи: «пролетарии всех стран». Не знашь? Не
умешь?
— Се умем! Мал-мал казак стрелю!
Смешанный гомон, бестолковая брань разношерст-
ных, таких непохожих на старую армию, пьяных задо-
ром, присутствием в рядах и от водки пьяных, были
противны многим в прихлынувшей посмотреть толпе.
Люди, видящие только то, что можно пощупать, окру-
жали толпу красногвардейцев враждебным гулом:
— Да, армия! От первого выстрела убежит.
— Затворы растеряли! Штаны-то на ногах аль тоже
потерял?
— Сыно-о-чек, и чо ты с ими связался! Вернись,
убьют!
— Фронтовиков-то и не видать. Эти навоюют.
— Начальники все пьяные! Армия!
— Они начальникам-то своим в харю плюют! Дыс-
цыплипа!
— Како войско, за деньги ежели!
— Пленных с собой понабирали! Со своеми воюют,
а чужаков к себе!
4— Эх, Россия, Россия, пропала! Совсем пропала!
Но и в этот гул вплетались крики своих красногвар-
дейцам.
Артамон Пегих, не думая о том, услышат ли его,
отзовутся ли, вопил:
— Которы нашенски сельчане... Митроха Понтяев,
ай хто! Доржись! Нашинска волость в большевиках со-
стоит... Доржись, робята!
205
— Голубчики! И одежонки-то военной не на всех!
— Ничо, не баре, выдюжат!
— Чо шипишь, чо шипишь, пузата? Охвицериков
твоих не видать? Змеюга!
— А ты сам-то игде видал армию? В кабинетах
своих? «Не стара армия». Игде ты от военной службы
прятался? Каку армию видал? Ну!..
На подъезде появился высокий очкастый член воен-
но-полевого штаба.
Опять загремели, колотя захолустный покой, боль-
шие слова:
— Нигде в мире нет Республики Советов. В Европе
гнет капитала...
«Белобрысый» понял, что Красная гвардия должна
пригрозить Европе, и радостным ребячьим выкриком из
рядов отозвался:
— Застрамим Европу, товарищи!
Ванька, румяный, радостный, тоже будто хмельной,
Софрона в толпе за рукав поймал:
— Тятька, определи меня с ими! Чтобы взяли!..
Голос просительный ребячьим стал, а то всегда гово-
рил как большой, грубовато и степенно. Не побоялся бы
и без позволения отца удрать, но резче взрослых, силь-
нее ощутил великость больших слов, в маленьком го-
родке взметнувшихся, и увидал себя таким, каким был:
мальчишкой, которому еще доверья нет.
— Определи, тятька!
— Ах ты, шибздик! Рано. Определю еще...
Шершавой рукой смазал Софрон Ваньку по лицу.
Засмеялся радостно.
А сбоку от,них, у забора, господин в черном пальто
с барашковым воротником злобно и громко крикнул:
— Не красная гвардия, а красная сволочь!
Софрон быстро повернулся, но господин еще быстрей
в толпе растаял. Софрон погрозил в толпу кулаком.
Сразу потемнел и почуял: в углах враги.
Смело, товарищи, в ногу!
— Стройся! Эй ты, чертова перешница, в ряды!
•— Стройся!
— А-а-а...а... ри...
Гудела толпа. Крепчал ветер. Русский весенний ме-
сяц будто обозлился на этих новых русских солдат,
вспомнил, что он еще хмурый, зимний...
206
Начал падать снег.
— Мамонька, никак мятель будет!
•— Ничо и в мятель! Русский — привычный.
Vi
Софрону доктор не понравился. Тонкогубый и глаза
прячет.
— Прислали, дак живите.
— Без вашего разрешения не мог распорядиться дом
открыть.
— Чо распоряжаться-то? Прошло будто то время,
когда господа распоряжались! Отдерите доски да жи-
вите.
Стоит у стола так, будто остерегается к нему при-
коснуться. Одежда военная, а чистая. Левая рука в чер-
ной перчатке Софрону в глаза лезет. А доктор ее все-
гда носил. Изуродованный палец скрывал.
— Благодарю вас. Завтра же устроюсь. Разрешите
откланяться? — И к двери.
— Слышьте! Как вас?.. Господин доктор! Вы как,
из военных будете?
— С начала войны на фронте. Недавно вернулся
в город.
— Ишь ты! А я думал, тыловничали. Глядеть, вша
не кусала! Солдаты-те не били?
— Что?
Даже взглянул прямо. Нехороший глаз, нутра не по-
казывает. •
— Не били, спрашиваю? После, как царя отменили?
— Я всегда честно выполнял свой служебный долг.
— Ыгым. Видать, старательный! Ну, айда!
Доктор плюнул только на улице. И то первый раз
не сдержался умный протопопов сын. Хоть и утешал
себя:
— Все-таки здесь спокойнее, чем в городе. Спасибо
фельдшеру. Пригодился большевик.
Выпросился вместо отпуска в больницу сюда пора-
ботать недели на две, ну а там половодье. Не выбраться
в город. Можно и дольше пожить. Больницу из Рома-
новки в имение Покровского перевели: здание для нее
было в имении приспособлено. Проснулись молчаливые
дома разгромленного и брошенного завода. Глухой, как
207
гроб, только господский дом заколоченный стоял. О нем
и просил доктор. Открыть для жилья себе.
Софрон из города вернулся беспокойней и злей. Втя-
нул ноздрями тревогу и привез ее в село. Колготили
раньше бедняки, но часто сдавали. Но чем больше сла-
бела зима, тем властнее становился призыв земли. Тем
упрямее стояли за свои участки многоземельные, беспо-
койней и смелей тянули к ним руки батрачье и малозе-
мельные. Оттого привезенную Софроиом тревогу
приняли и сразу на нее откликнулись. Парни и
молодые мужики пошли служить в Красную гвардию.
Грозили:
— Со штыками на пашню придем! Держись, толсто-
пузые!
Мужики пожилые и старики тоже хмелю хватили:
— Будя! Наша земля, как мы есть трудящие!
Посредине села, на база’ре, длинный шест поставили
и на нем большой красный флаг. Когда проторенной
тропкой шли старухи и старики в церковь, длинный
красный язык будто дразнился с шеста.
Молитвенный дом евангелических христиан все еще
стоял заколоченным. Собирались у евангелиста Глебова.
Пели на голос песенный державинскую оду «Бог» и
стихи о жизни, которая отцветает, как трава. Но о по-
рядках государственных говорить остерегались. Только
в тайном разговоре с богом, в думах просили: порази
нечестивцев. Купцов будто не стало. Ходили в мужиц-
ких азямах. Без работников, сами па дворе своем упра-
влялись. От тоски сердце у богатых беспокоилось, будто
недужили. Часто в новую больницу к доктору ездили.
Человек ученый и серьезный, им по нраву пришелся.
Возили ему муку, яйца и масло. Пока зря не пропало.
Отбирают одежду, скот и за продукты, гляди, примутся.
Бедные бывали редко. Некогда и непривычно лечиться.
Софрон, через неделю после разговора с доктором,
в больницу приехал. Редькина привез. Из города Редь-
кин приехал в солдатской шинели. Висела она на нем,
как на шесте. Но от военного вида ее еще страшней
стал.
Доктор встретил их в белом халате.
Софрон зорко оглядел белый стол, баночки и скля-
ночки в шкафу:
— Много ль вылечил? Аль на погосте посчитать?
Доктор сдержанно ответил:
205
— Есть и на погосте, а некоторым помог. Деревен-
ских лечить трудно. В грязи живут. Вот сектанты по-
чище. Оттого что грамотные...
— Было время учиться. А ты с ними компанию во-
дить-то води, да оглядывайся! А то самого полечим,—
прохрипел Редькин.
Доктор глаза веками прикрыл.
— Лекарств вот нет.
Редькин сверкнул подозрительным сверлящим взгля-
дом:
— А куды делись? Найди! Ай богатый класс все вы-
пил? Давай мне каких порошков. Нутре горит.
— Выслушать, выстукать вас надо.
— Нечо стукать! Настукали уж. Траву давай, чтоб
дыхать полегче! Под леву лопатку все шилом колет.
И закашлялся бьющим тело кашлем. Глаза выпучил.
— Легкие у вас больные. Надо питаться хорошенько,
не утомляться.
— Ладно, сичас к себе в кибинет приеду и на мягку
перину. Кибинет-то только у меня на подпорках, да пе-
рина тонка. Давай питья какого! Неколи растабарывать!
Доктор плечами пожал, велел фельдшеру в пузырек
что-то наболтать. Все торопил. Очень мешал ему Соф-
рон тяжелым неотрывным взглядом. А в это время в ко-
ридоре шум послышался. Без предупреждения распах-
нулись большие белые Двери. Трое красногвардейцев
внесли четвертого, бледного, с перекошенным лицом и
стиснутыми зубами. Софрон навстречу метнулся:
— /Эткудова? Где ранили?
Правая рука у раненого была привязана, кушаком
к поясу, и на плече шинель заскорузла от крови. Когда
положили на кожаную кушетку, старший, в лохматой
шапке, ответил:
— Тута стычка вышла, с казачишками. Посылали.
Рубанул его один. Не насовсем, а ровно крепко!
Раненый открыл помутневшие глаза и сказал сла-
бым, но внятным голосом:
— Кровища льет. Заткни чем ни то, пожалуйста!
Мычал от боли, когда раздевали. Но, услышав голос
доктора: «Скверно», сказал опять внятно:
— Ничо, у мине жила крепкая...
Софрон доктору твердо сказал:
— Этого — чтобы вызволить!
Пошел и красногвардейцев рукой поманил за собой.
8 Зак. № 426
209
В тайном разговоре все выспросил. Неспокойно
в уезде. Не зря тревога с отрядом казачьим была. Раз-
били их, а на станицу два набега другие сделали. Бога-
тые села бунтовать начали.
— Про Небесновку в городе тоже говорили. Ну, на
тебя полагаются, — сказал старший, знакомый Софрону.
Когда Софрон с Редькиным из больницы выходили,
Редькин спросил:
— В господском-то дому доктор теперь?
— Он.
— Ыгым. А кака это пика на доме?
И показал на громоотвод на господском доме. Четко
вырезывался в легком, весну почуявшем воздухе.
— Говорили, чтоб гром отвести. Грозой чтоб не раз-
било. Господа — народ дошлый. На небо молятся, а про-
между прочим, от него обороняются.
— А разговаривать через него нельзя?
— Через пику-то? А как? С кем? С богом, што ли?
— А може, проловка кака под землей. Теперь всяки
телехвоны да грамофоны...
— Не знаю. Ваньку надо спросить.
Вечером Ванька по книжке из библиотеки читал Соф-
рону и РеДькину про громоотвод.
Редькин слушал внимательно. Потом спросил:
— А книжка-то как, полная али нет?
Ванька понял вопрос. Ведь бывает на книжках: пол-
ный курс географии, сокращенный курс. Потер лоб и
прочитал на крышке книги:
— Издание для народа.
— А, для народа! Не все здесь прописано. Господам
больше известно. Слышь-ка, Софрон, слово сказать
надо. Айда-ка!
И пошли из избы. Дарья недовольно отозвалась:
— Каки от своей крови тайности!
Но Софрон строго оборвал:
— Свое бабье дело знай!
С Дарьей жили хорошо после примирения, но разго-
варивать с ней о деле Софрон по-прежнему не любил.
Какой у деревенской бабы «смысел»? Ванька — другое
дело. «Умственный» растет. Но раз Редькин не хочет...
На дворе, у хлева, в котором беспокойно завозилась
корова, Редькин сказал:
— Зачем и к чёМу дохтур к нам приехал? Раньше
фершала чуть выпросили. И я тебе скажу: за им купе*
210
ческая дочь — Панкратовска девка. С им, дознал. Я этту
лекарству-то вылил.
- Ну?
— А казаки?
- Ну?
— С ими по отводу этому разговариват! Вести об
деревне дает! И об нашинских солдатах.
Сказал с глубокой уверенностью. В самом сомнения
не было. Софрон задумался. Заныло в сердце: ученый,
одурить может. 4
— Ладно, сымем громоотвод, а там увидим.
В этот тихий час вечерний в господском доме сидели
доктор с женой. В большой, хорошо вытопленной, но
пустой комнате не чувствовали себя дома. Будто на пе-
ресадочной станции удалось укрыться. Передохнуть от
шума и сутолоки. Но придет поезд, и радостно будет
уголок этот покинуть. С собой привезли только дорож-
ный сундук да постель. Поставили в квартиру две поход-
ные койки и длинный стол. Докторша лампу с собой за-
хватила. Большая, горит на столе, а в углах от пустоты
все будто мрак. Доктор смотрел в книгу. Но оттого что
на лбу беспокойно менялись продольные и поперечные
морщинки, Клера знала: не читает, о своем думает.
— Саша!
— Что, детка?
— Здесь тоже страшно! И как там мама с папой...
Потянулась к нему, хрупкая. Привлекательная боль-
ной прелестью. Такой иногда отмечает вырожденье.
Единственная дочка у пожившего бурно папаши. С дет-
ства страдала пляской святого Витта. Лечил с двена-
дцати лет этот доктор. Будто вылечил. Когда стало
шестнадцать, женился. Взял приданое большое и любовь
нераздельную, фанатичную, какая бывает только у боль-
ных, грезой живущих.
Приласкал снисходительно, как всегда. Но в синих
больших глазах тревога не растаяла.
— Ничего, недолго, переждем. У мужиков это сверху
только бродит. Сектанты со мной откровенны. Сегодня
узнал, в уезде много недовольных. Голова не болит?
Что печальная?
— Нет. Томительно как-то. Предчувствия...
— Пустяки. Нервы.
С силой ударил в окна ветер, плачем нежданным
пропел в трубе. Клера затряслась, заплакала. Умело
2U
успокоил. Дал лекарство. Когда улеглись в постель,
рассчитал, раскинул в уме срок, в какой соберутся и
окрепнут казаки.
А Софрон ворочался на деревянной скрипучей кро-
вати и размышлял: как громоотвод убрать? Не причи-
нит ли вреда, как за него возьмешься? И решил: «Са-
мого заставлю».
Утром Жиганов долго у доктора пробыл. Приехал
насчет грыжи посоветоваться, а потом долго с доктором
опасливо и чутко, стены слушая, шептался. Доктор про-
водил его веселый. На сиделок и бестолковых больных
в этот день по-хозяйски покрикивал.
А к Софрону курносый подросток в огромной папахе
верхом на старой сивой кобыле прискакал. Привез за-
масленный серый конверт. В нем: усилить в волости
охрану.
В полдень в больницу явился Редькин. Нелепым ка-
зался у смертью меченного револьвер. Как-то уныло
торчал из кармана. И шинель на нем тоже чужая
обряда. Доктора в коридоре встретил. Он собирался
сектанту опухоль гнойную и опасную разрезать. Распо-
ряжения приготовить все нужное давал. ^Редькин его
остановил:
— Срочный приказ от Интернационаловского испол-
кома сообщить должон.
- Ну?
— Не ну, а веди куда поговорить! Дело обстоятель-
ное!
— У меня операция. Больной готов и ждет. Я сей-
час занят.
— Ну ладно. Доканчивай. Чтоб к обеду был в испол-
коме! А то солдаты придут, приволокут. .
Доктор сегодня нетерпеливый. Вспылил:
— Я ведь не хлеб из печки вынимать собираюсь!
Человеческое тело резать! Что значит «доканчивай»?
Не знаю, когда освобожусь!
— Я тебе русским языком сказал: к обеду штоб был
в исполкоме.
Перекосило лицо, по бьющий злобой взгляд Редь-
кина страшен. Укротился доктор. Глухо крикнул
в дверь:
— Операции сегодня не будет! Скажите больному!
Пройдемте в эту комнату!
Дверь перед Редькиным открыл. Через полчаса вы-
212
шел бледный, с крепко сжатым ртом. У двери еще раз
сказал:
— Передайте исполкому: громоотвод устроен не
мной. Убрать его просто не смогу! Еще раз заверяю вас,
что только темнота, незнание...
— Ладно! Опосля поговоришь!
В дверях еще раз остановился Редькин. Горящим
волчьим взглядом своим еще раз доктора ожег. Над
чем-то будто подумал, револьвер пощупал. Потом круто
повернулся и хлопнул дверью.
За обедом жене доктор ничего не сказал. Но она
следила за ним неотступным верным собачьим взглядом
и ничего не ела.
Первый услышал ночью слабое хрустенье талого
снега дворовый пес. Залился надрывным бешеным лаем,
И почти одновременно с ним — Клера.
Взметнулась с постели, в длинной ночной рубашке,
так быстро, будто лая этого ждала.
— Саша, Саша!
Нежность непередаваемая, мука неизбывная в го*
лосе, а он спит! Только когда застучали сильными
мужицкими ударами в дверь — проснулся.
А Софрон приказывал:
— Мы с Редькиным здесь дождемся. Волоките.
В комнате нечо пакостить. Суды живого.
— Кто там?
— Отворяй!
— Я не могу так... Кто?
— Отворяй! Дверь-то высадить долго ли, чо ли?
Завозились в до*ме прислуга и больничный служа-
щий Егор. Появлением своим будто ободрили доктора.
Наган в руке крепче почуял. А сзади Клера. Вцепилась
в плечи тонкими руками. Будто в одно с мужем хотела
слиться.
— Подожди, Клера... Не открою! Кто?
Голоса за дверью тише. Будто совещаются. Издалека
ветром донесло:
— Эй, ктой-та тут?
Застыли в доме у двери в ожидании. А Егор ворота
и со двора дверь открыл. Почуял: не впустишь в дом,
всем отвечать придется. Доктор слышал шаги, уходят.
Перевел дух и в комнату из коридора пошел, придержи-
вая левой рукой Клеру. И лицом к лицу, в солдатских
шинелях, с револьверами. Не крикнул, не вздрогнул,
213
только посерел. Рукой неверной хотел наган спрятать.
Но увидали. Передний курносый увидал:
— С левольвером, сволочь! Айда! Этаких на фронте
много покончили. Нечо дипломатию разводить! Айда!
Взметнулась докторова левая рука в черной пер-
чатке. Солдат за правую тряхнул:
— Айда.
— А-а-а-а-а, не пущу! Не пущу!
Крик у Клеры такой, что, казалось, все стены пробил.
Но скуластый и курносый парень с круглыми глазами,
стоявший впереди, не поморщился.
— Не верещи; пигола! Про тебе разговору нет. Дох-
тур, поворачивайся!
— Не пущу! Насильники! Палачи! Подлецы!
Плевала, кусалась, царапалась. Ощетинившейся ди-
кой кошкой кидалась.
Мешала доктора взять. В хрупких руках неестествен-
ная сила. Курносый восхищенно удивился:
— Ат, сволочь! Глядеть, дохлятина, а цепкая! Во-
локи с им вместе.
Скрутил сзади руки парень, потащил Клеру по полу.
Будто барана свежевать. Она кричала и билась. Двое
доктора вытащили. Прислуга вся попряталась.
Черными тенями на площади за домом Софрон и
Редькин. Резкий звенящий Клерин крик разнесся рас-
катом. Но за глухими дверями новые люди. Их крик ни-
кому в уши не бил, и они чужого не слушают. Плачем
отозвался только Петька сторожев в больничной кухне.
Софрон приказал:
— Заткни бабе глотку. На кой приволок?
— Цеплятся.
Подол длинной рубашки Клериной комком в рот ей
заткнул курносый, а руки скрутил и держит. Другой
собаку пришиб.
— Эй ты, барин! Сичас конец тебе. Говори, чо по
громоотводу казакам передавал.
Грозен и четок голос Софронов. С хрипом голос док-
торов:
— Нельзя по громоотводу разговаривать.
— А, нельзя! Р-р-раз]
Доктор упал. Курносый загляделся, ослабил кулаки,
Клера вырвалась:
— Палачи! Насильники! Все равно конец вам скоро!
Саша! Саша!
• *
214
Заворошился доктор. Будто баба криком жутким,
криком силы последней, предельной, его оживила.
— А, вместе хочешь? Отойди, дура.
— Вместе хочу! Вам конец скоро-о. Вместе!
Мужа телом закрыла.
Софрон и Редькин оба:
Р-р-раз! P-раз! Р-раз!
Сапогом Софрон попробовал. Мертвые.
— Ничо, баба старательная была. Слышьте, волочи
за ноги в яму! Помойка тут глубокая.
Когда возвращались, Софрон на крыльце барашка
маленького увидал. Из открытой двери кухни выбежал
и жалобно блеял. Вчера только новорожденного в кухню
Егор принес. Блеял, как плакал. Софрон подошел, под-
нял шершавой рукой нежное трепещущее существо и
прижал к шинели:
— Бяшка, бяшка. Тварь дурашная! Напужался?
Казаков в уезде утихомирили. Помогла весна. Лога
помешали объединиться недовольным новыми поряд-
ками.
VII
День за днем, как костяшки на счетах, отбрасывает
жизнь в расход взятое у нее, изжитое время. С законо-
мерностью неумолимой приводит смену весен и зим, ни-
когда не сбиваясь и не путая сроков, определяя каж<-
дому дню пребывания в жизни его тревогу и ускорение,
скорбь и радость. И чем ближе живое к началу бытия,
тем непреложнее для него установ этой смены.
Там, за гранью, где город погнал соки жизни в голо-
ву, заставил шириться ум человека и сделал его дерз-
ким и творящим всегда, — нет времени, твердо положен-
ного, приказывающего: не раньше, не после, твори свое
сейчас. А здесь, в деревне, где земля, выставляя свое
плодоносное, готовое для зачатья или приносящее уже
плоды чрево, устанавливает сроки, в какие ей нужны
силы крепкого, выдубленного для работы над ней му-
жицкого тела, — властен закон установа жизни. И в не-
насытимости поглощения этих сил жесток.
Здесь у людей крепок хребет, густ в жилах настой
звериной крови, плодовито, как у земли, чрево. Но
жадна и скупа душа, всегда мучимая собиранием, жаж-
дой накопления плодов земных для огромной утробы
215
всех, кто живет, рождает или мыслит, кто сцепляет
звенья для продления жизни. Здесь у людей темным и
старым, как земля, задавлена творящая сила человече-
ского ума, и обречен человек под гнетом тяжелой хозяй-
ки-земли быть слепым и безжалостным даже к себе1/
Оттого туго открываются двери его души, и звериной
хитростью оберегает он их от широкого взмыва боли и
восторга, и только во хмелю распахивается темный,
большой, о духе, запертом в сильном теле, тоскующий.
А хмель радостный сходит на него, когда земля властно
позовет: твори, пришел час.
Приказала земля мужикам Интернационаловки,
Тамбовско-Небесновки тож, готовиться к сенокосу. За-
гудели, заворошились, высыпали на улицу из домов
своих, приспособленных, как у зверя, только для зимней
спячки, не для наслаждения уютом и домашним покоем.
Мужики в будничных портках и рубахах, но живой, го-
ворливой, как в праздник, толпой шли, собирались у
большой артельной кузницы на выезде из Небесновки.
Пряный густой аромат распаренной солнцем земли, при-
носимый ветром с полей, и здоровый звериный запах
навоза с дворов, как вино, тревожили кровь, радостным,
пьянящим ударяли в голову, омолаживали глухие го-
лоса стариков, крепили, нутряным, грудным звуком звон-
кие выкрики молодых, серебром переливали детские
слова-колокольчики. Во хмелю нынешней радости было
новое. Заовражинские, которым в прошлые годы было
положено только отраженный от хозяев свет радости при-
нимать и супиться от мысли: чего косами начиркаешь,—
гудели нынче густо, как сильные. Оттого что длинной
ратью выстроились у кузницы машины и для их покоса.
Солнце и радость сделали морщины на лице уАртамона
Пегих лучами, грязно-серые волосы серебристыми. Ма-
ленький и сухонький, сегодня он будто распрямил бат-
рацкой работой согнутую спину и повыше, казалось,
стал. Как хозяин заботливый кричал:
— Софрон, а Софрон! Слышь ты, Артамоныч, сколь
кузнецов-то у нас?
ч — Деся-ать!
— Хватит ли по машинам-те?
И тревожным перекатом по заовражинским:
— А и то, хватит ли?
Втянув черную лохматую голову в плечи, Редькин
острые скулы свои и ямы худых щек к солнышку под-
216
нял. Будто тепла просил. И блики радостные лицо ожи-
вили, оттого и голос с меньшей натугой, чем всегда,
прохрипел:
, Савоська... это нашинский... Постаратся. Его для
надзору поставим. А надо, так все мы закузнечим.
Было б нам чем!..
Сектант Глебов — с него солнышко хмару сегодня
не сгоняло — угрюмо отозвался:
— Кузнецы!.. Над машиной-то сноровку надо. Энда-
ки, как Пегих да Редькин, накузнечат... Каки целы
зубья-то, и те переломают.
Софрон насмешливо оборвал:
— Ничо, не сокрушайся об нас, не труди печенку.
Переломам, новы наварим. Сами не сумеМ, тебя при-
способим. Потрудись, мол, товарищ Глебов, для
черноты крестьянской! Э-э-х, табачком побалуюсь.
Весело!
И непривычными пальцами начал свертывать папи-
роску. Живя бок о бок с сектантами, мало курили ин-
тернационаловские мужики.
Кривошей Савоська от дверей кузницы крикнул:
— А ты, Софрон, махры-то из городу для кузнецов
расстарайся. Уважим! А энти, псы-то, гавкают, знамо,
со зла. Мы свое справим, вы поспевайте. Вот, к слову
сказано, лобогрейка. А почему? А потому — лоб греет.
За ей поспевай в ногу. Как под музыку, паря!
— Махорка запасена. Айда, музыку только готовь,
поспеем. Мужицки раскоряки подладливы, только поучи.’
На войне не под эдаку музыку поспевали! Штой-та Жи-
ганов Алексей Иваныч нонче смирен. Мир радуется,
а он рота не раскрыват. Ай матюком подавился?
— Ха-ха-ха-ха!
— Го-го-го!
— Подавишься! Прятал, прятал машины для себя,
а теперь айда-ка к Софрону наймайся.
— Наймем ли, чо ли, братцы, Жиганова-то в работ-
ники? А?
Жиганов сплюнул, белками синими сверкнул, но от-
ветил спокойно:
— Не было б нас, и машины-то взять негде было бы.
А от работы мы не отлыним. Как, Софрон, нас в ком-
муны-то примате?
А, реготали, а теперь учуяли?
217
Редькин Завопил:
-Эдаки коммунщики только за машинами за сво-
ими тянутся. Чтоб не выпустить! По шеям их!..
— Знамо, без их!.. Пущай сено у нас покупают.
— Не примать!
— А чо не примать? Пущай идут в долю. С лоша-
дями они.
Софро|рспор прекратил:
— Пущай в ровнях с нами побатрачат. Примам.
Главно дело, лошадны.
— Правильно-of..
Артамон Пегих справился:
— Сено-то как, на душу делить? А на душу, дак
примай, каки охотятся.
— Айда в школу, в коммуны записывать!
— Чо и во сне не метилось, увидать привелось.
Ко-ом-му-ны! Ну, ну!.. Ну, поглядим. Либо волосья кло-
ками, либо сено стогами.
Повалили к школе. В кузнице началась жаркая му-
зыка работы. Редькин около машин остался. Все ему
казалось, что отнимут их. Надо сторожить верным гла-
зом. Деревня жила переливами возбужденных человече-
ских голосов. На дворах звонко и горячо переругива-
лись бабы:
— Таку недопеку ничем в коммуну примать, лучче
нашу чушку! Скоре повернется. Я смехом, а ты и...
— Смя-яхом! «Айдате с нами»... Ды, мамынька, сты-
добушка сказать людям: с Касатенковой Марькой свя-
зались. В девках-те люди обегали, до двадцатого году
просидела. И мужика-то по себе нашла...
За кузницей на лужайке дети звенели:
— Которы машины жигановски, теперь нашински!
— Как раз! Вашински! А нашински?
— И вашински!
— А жигановски?
— «Вставай, проклятьем заключенный, своею соб-
ственной рукой...»
— Ах ты, холера тебе задави! Семой год, а туды же
«вставай, проклятый». Иди в избу, пока не взгрела!
— А ты, тетка, не лайся на его. Старый прижим-то
отошел!
Весь день, хлопотливый, горячий, ароматом с поля
обвеянный, был суматошно радостен. В одно утро вы-
борные от коммун выехали луга делить. Шумной, говор-
218
ливой толпой провожали их мужики и бабы. Выстрои-
лись верховые с деревянными саженями р руках.
— Ну, анжинеры, не подгадьте мерялкой-то своей.
— Чо остерегать? Сажени-то, знать, стары, меряны.
Гикнул передний верховой, отозвались остальные:
мужики, выборные от коммун, и ребятишки-доброволь-
цы. Из-за радости буйной степной с мужиками выпро-
сившиеся. Взбрыкнули ногами сивки, каурки, бурки и
понеслись шумным отрядом в степь.
А степь разнотравая ластится. Белым ковылем кла-
няется. Мигает несчетными белыми, красными, голубыми
глазами — цветами. Богатство свое показывает. И жуж-
жит и звенит в воздухе голос ее: в птичьих трелях, в
трескотне кузнечиков, в шуршании букашек. Будто и не
умирала зимой. И все в ней пахнет сладостно. Цветы
ароматны, травы ароматны, и русское небо бледноватое,
кажется, пахнет солнцем. Ветер дымок донесет, и он в
степи горяч, прян и ароматен. Полынь, трава горькая,
и та на расцвете острый, до боли сладостный запах да-
рит. Степь вся гулкая и отзывная. О-го-го-го! А-а-а-а! Гу-
лом далеко-далеко. Слуш-а-ай! Степь голос человечес-
кий передает. Слушай, зверушка, птица, букашка, слу-
шай голос человеческий! А-а-а!.. Грудь сама для крика
ширится.
Спешились с коней. Зашагали с деревянными саже-
нями своими.
— Стой, стой!.. Ты как шагашь? Стой!
— «Шагашь»! Каке ноги есть, тоими и шагаю!
— Ге-ге-ге! Нет, браток, надувательско время ото-
шло! Начинай отседова!
А степь отзывается: «а-а-а!..»
Ребятишки перепелок шарили по кустам. Орали, буд-
то подряд на крик взяли. Ванька Софронов всю ученость
свою в траве растерял. Прыгал на одной ножке и пел
звонко, заливисто:
Этта сама-д-перепелка,
Этта сама-д-перепелка,
Перепе-е-елка-а!
— Дедушка Артамон, перепелку не пымал?
Артамон похвалиться захотел: увидал в траве и схва-
тил... вместо перепелки змею. Кинул с размаху.
— Ах ты, тварюга проклята! И очень просто, вот
така обжалит.
219
Глебов густо захохотал. И он в степи попростел и по-
веселел.
— Вот оно, дед Артамон, как чужу-то землю разме-
рять! Заместо птицы — змея в руку!
Ванька за Артамона задорно Глебову ответ прокри-
чал:
— Ничо, змеев-то мы назад вам вернем. Пользуй-
тесь, вы с ими родня.
Глебов звонко, увесисто, по-матерному выругался, но
больше не язвил. Хоть и не смолкал в разговоре. Целый
день луга оглашались меткими мужицкими, словами.
Для того, что знали, видели понимали, был у них язык
ярок и хваток, переливался образами, как степь цве-
тами.
Косить обычно начинали после петрова дня. В этот
год порядок нарушили. Выехали на целую неделю рань-
ше. Старики ругались:
— Обычай рушите! Не зря установ: сыра земля.
— Ничо, мы горячие, высушим!
Первыми двинулись машины. За ними уемистые рыд-
ваны с бабами, детскими зыбками, бочками, палатками,
ведрами, одеждой, котелками и чашками. Когда при-
ехали, закачалась степь от разноголосья. Замелькали по
степи бабьи головы, повязанные платками с красным
по черному, с белым по красному, разноцветными.
Участок артамоновской коммуны у леска начинался.
Лесок кудрявый, маленький. Издали был в степи как
букет небольшой на столе. А подъехали — увидели: те-
нистый и приютный, с родником студеным.
Завозились на стану бабы, заплакали ребятишки.
Двинули мужики машины на луг. Демьян Колосов, заов-
ражинский, с Артамоном на лобогрейке выехал. И вид у
него был встревоженно-радостный, такой же, как в дет-
стве, когда в первый раз на поезд попал.
Скоро на стану одна Дарья Софронова кашеварить
осталась. Далеко-далеко, куда хватал глаз, все двига-
лись по степи люди. Ванька Софронов пересчитывал:
— Нашинска коммуна — восемь семей. Мужиков с
мальчишками — тринадцать, баб — семнадцать. Паите-
леевска коммуна — девять семей... Ничо, на луга силу
двинули...
— Ва-а-пька! Вань! Чо растопырился, иди! z
— А-а-а!
— Но-но-но! Но-о! Пантелей, поспе-в-ашь? *
220
— Поспем!.. Уля-а, ровне греби!..
У Аксиньи-солдатки голос из груди сам вырвался:
И э-эх да травушка под косы-ыньку лягла.
Прилипли к телу потные рубахи, красным цветом
прожгла кровь лицо, устали ноздри втягивать запах аро-
матной смерти травы, налились тяжестью натуги спины,
а передышку ни одна коммуна не объявляла. Не хотели
сдавать, вытягивая свое тягло. Наконец прокричал своим
Артамон, что шабашить пора. Стали замолкать машины
и на других участках.
— Мамк-а-а! Пошевелив-ай! Обедать идем!
— Айда-те-е! Три раза кликала!
Пить! Прежде всего1 пить студеную, оживляющую
влагу. Холодом нежит пересмякшие губы. У родника
долго мылись, плескались, ухали от холодной воды, по-
том так же долго, деловито, старательно, как работали,
ели из общего котла Дарьино варево, запивали с гус-
тым кряканьем кислым деревенским квасом. После обеда
затихла степь. Вповалку в коммунах полегли отдыхать
люди и спали, не тревожимые бьющими в голову лучами
жаркого солнца. Когда надо телу спать, спит, ничего не
боится. Но недолго разливался в траве густой перелив-
чатый храп мужиков и подхрапывание баб. Поднялась
коммуна, и снова шум, и треск, и гомон работы. В рабо-
чей старой одежде ловко и согласно двигался на общей
работе Глебов. В пылу ее забыл, что не один хозяин над
полем. Вспомнил только ночью и долго заснуть не мог,
хоть и устал от работы. Ворочался и кряхтел.
Из леска доносился зовущий смех девичий, переливы
гармошки и удалая частушка парней. Когда спустился
на землю ласковый полог ночи, молодежь от станов по-
дальше. ушла. Переливами будоражливых голосов своих
полог этот колыхала. В кустах пары жарко обнимались,
больно целовались, любились. Но когда обвевал холо-
док зари и прогонял со станов истому сна и вставали
старшие, молодые не запаздывали. Шли на тягло и хме-
лем криков и песни, молодостью согретую ушедшую ночь
славили. Ссоры в коммунах во время работы были ред-
ки. Слишком ценил выгоду свою каждый, чтоб отстать,
потерять лишнюю копну сена. Один раз Софрон поскан-
далил. Он на покос только наезжал, и как раз в его
приезд в их коммуне лобогрейка сломалась. Поехал
верхом к Савоське-кузнецу:
221
— Айда, парень, в кузницу!
— Ишь ты, ласковый! Поди-ка, в коммуне раздел на
душу. Не сработашь, не прогневайся.
— Дак нашей-то коммуне как без машины?
— Ну, косами косите!
? — Я те покажу «косами»!
Разъярился, а потом смекнул: прав Савоська. Как
работу пропускать? И вышел приказ от исполкома куз-
нецов с косьбы снять, положив сено на их долю. Каж-
дый день новый случай учил, направлял порядок, и все
уверенней становились Софрон и с ним согласные. День
за днем, к концу косьба. Праздников не справляли,
хоть иногда и тосковали по ним. Но отказывались: на
себя работали.
Передряги начались только, когда стали сено возить.
Глебов на своих лошадях воз за возом, а Артамоновская
лошаденка притомилась. Он чесал затылок, поглядывал
на затуманившееся небо и ахал:
— Што ты станешь делать? Подкузьмила лошаденка!
Везде бедному закавыка!
Ванька Софрону сказал:
— Мы чо же, сено-то сгребали, сгребали, а теперь
облизываться станем? Дожди пойдут, сгниёт. На своей
спине не вывезешь.
— Тебя не спросили! Знам, сделам.
Новый приказ прорвал затаенный гнев богатых. Дол-
го галдели у волости, когда объявили, что лошади в ком-
мунах тоже общие, сено возить по всем дворам коммуны
по очереди.
Софрон на крыльцо вышел:
— Ну, а вы хочете по-старому? Наработали, да все
па вас? Нет, ушло времечко. Палка-то в наших руках!
И лицом двинул на красногвардейцев приезжих.
Сдались. Только Панкратов, мужик богатый из Тамбов-
ки, двух лошадей своих испортил. Захворали. Аксинья-
солдатка доглядела. Коновала к лошадям привели, а
Панкратове семейство сена лишили. Старались и другие:
ночью копны к себе в коммуну с поля других перетаски-
вали. Но хорошо следили подростки. Уличали. Ванька
Софронов, загоревший и радостный, в своей коммуне за
чередом смотрел:
— Эй, эй, Глебов гражданин, не мухлюй! Нынче нам
лошади. Куды заворачивашь?
— Без тебя знаю, мозгляк!
222
— На мозги теперича спрос. А вот по брюху только
революционный трибунал плачет! Как кто выпятит, сей-
час сгребет!
— Ты, сволочь, гляди нарвешься когда... Не охнешь!
Больно ловкий да шустрый стал!
— Нам нельзя нешустрым-то быть. Сказано. Россий-
ски Федеративна Социалистическа Республика. Вот и
понимай!
У Глебова кулак зачесался, но только сплюнул. А в
голове подивился: язык у молодых острый. Как перец в
их смачной русской речи иностранные слова.
С утра до вечера скрипят полные сеном рыдваны по
дороге. Мотают головами лошади, мерным шагом таща
их к дворам заовражинских. Будто удивляются, что гум-
на, годами по стогам тоскующие, теперь полны. Богатые
сено заработанное встречают не радостью. Новая мера
обиды за покос на душу налегла. Зато радостно треплет
коровенку жена Редькина:
— С сейцом, рыжуха, нынче! Н-но, стой! С сенцом...
Редькин на кровати с половины покоса лежал, маял-
ся. В коммуне мало наработал: жарким летом в поле все
дрожал, тепла просил. Ио на его семью покос засчитали.
Артамон Пегих один раз навестить его пришел, поглядел
и раздумчиво сказал:
— Може, опять не помрешь. Должен бы, дак упорис-
тый! По всему, весной бы еще помереть надо, а ты все
супротивишься. Не знай, не знай! Должен бы, а, про-
между прочим, не знаю!
Жена тоже два раза уже начинала причитать, а по-
том заводила последний хозяйственный разговор:
— В городу сундучок-от забыл. Беспременно Ан-
тошку спосылать надо. Детям лопатина-то сгодится.
А Редькин все не умирал. Хрипел, а смерть гнал.
Один раз Ванька привел к нему бывшего библиотекаря,
Сергея Петровича. В продовольственном комитете теперь
служил, приехал для сбора сведений с эмиссаром. Сер-
гей Петрович очень Редькина жалел, а не вытерпел —
попрекнул:
— Вот мучаешься, и помочь некому! Доктора-то за
что прикончили? Время бесправное, а то за такое бы
зверство!..
Редькин только глазами повел и прохрипел:
— Уморил бы...
А Ванька резко, не по-детски, сказал:
223
— Для кого бесправно, а кого на права выволокет.
Было бы по-старому дольше, много бы еще эдаких по-
губили! Как жили, в эдакой жизни не обучишь. А тем-
нота, она злая.
Сергей Петрович пристально на него взглянул и
смолк.
И дома вечером отцу Ванька вдруг сказал:
— Помнишь, городской-то приезжал зимой? А правду
ведь он сказал: отменить деревню надо. Чтобы как город
была, с машинами. Покос-от машины какой всему селу
собрали.
Уборка сена коммунами Софроновой партии в селе
силу дала. Два мужика богатых из Небесновки, Пере-
гудов Антон и Лотошихин Павел, прошение подали:
В большевицкую партию на селе Интернационалове по старым
документам Тамбовско- Небесновском.
Граждан села Интернационалова
той же волости Антона Михайлова Перегудова
и Павла Максимова Лотошихина
ПРОШЕНИЕ
Мы нижеподписавшие Антон Михайлов Перегудов и Павел
Максимов Лотошихин к сему сообщенье докладываем, что есть
у нас земля. У Антона Перегудова полтораста десятин, у Павла
Лотошихина сто десять десятин. Но как мы поняли, что теперь
большевицкая партия самая правильная, то желаем в ее записаться
и с малоземельными заодно в линию состоять от того, что старого
монархизма не хочем. Сие собственноручным подписом скрепили:
Антон Перегудов.
Лотошихин Павел.
Софрон на своем собрании доложил, и постановили
в партию обоих принять, а так как они богатые, то откуп
с них взять. Антой Перегудов должен сдать больше-
вистской партии села Интернационалова двести пудов
пшеницы, а Павел Лотошихин сто. Оба согласились и
пшеницу через неделю доставили. В большевиках утвер-
дились.
А смута в уезде только замерла. Тайными путями
узнали небесновцы, что казаки готовы двинуться на боль-
шевиков опять, и теперь упористей. Дали знать богатым
тамбовским жителям, Глебов в станицу казачью на яр-
марку съездил.
224
В престольный праздник, на Илью-пророка, все село
во хмелю спать полегло. Десять вооруженных людей
в темноте сторожко Софронову избу окружили. Соф-
рон на дворе случайно был. Шорох услышал.
— Кто там?
Но крикнуть не успел. Рот заткнули и связали. Весь
исполком в ночь захватили. Шум бабы все-таки под-
няли. Но, с помощью казаков, тамбовские и небесновские
богатые мужики с местной охраной, ослабленной в по-
следние спокойные месяцы, справились. Главарей
большевистских переловили, а остальные хлеб-соль вы-
несли.
Еще рассвет чуть брезжил, когда связанных за село
на расправу вытащили. Пробуждающийся день встретил
гомон людей ласковым предутренним ветерком. Шевелил
волосы на головах связанных. Будто ласкал в послед-
ний день. Худой и желтый Жиганов расправу начал.
— Что, Софрон Артамоныч, коммунами? Машины от-
бирать? Вот тебе за лобогрейку!
Плюнул в лицо и связанного Софрона — под правый
глаз жестким сильным кулаком. По глазу угодил. За-
лилась кровью синь его. Софрон рванулся, заревел. Гул-
ко отозвалось поле на крик. А Жиганов повалил Соф-
рона и сапогами тяжелыми на животе его заплясал.
— Вот тебе за сгребалку! За дом мой! Вот тебе за
хозяйство мое! Принимай уплату!
Сомлел Софрон. Водой отливали. Потом опять били.
Избитых, измученных поставили на ноги и приказали:
— Пойте свой «Интернационал»!
Из двадцати девяти человек девять запели дико, как
похоронную свою.
— Вставай, проклятьем...
Но осеклись. Софрон, еще живой, катался по земле и
выл:
— Сволочи! Замолчите!..
Антону Перегудову двести отметин на спине шилом
сделали. Жиганов хрипло ордл:
— Вот тебе для счету: сколь пудов отдал!
Павлу Лотошихину сто. Редькина полумертвого вы-
волокли из толпы. Растоптали сапогами.
Уж взошло жаркое солнце, когда двадцать девять
человек в поганую отвальную яму кинули. Восемь
живых еще ворошились под трупами. Всех завалили
землей.
225
Артамона Пегих только в полдень рыжий казак на-
шел в стогу сена на гумне. Вытащил. Он тряхнул се-
дыми волосами, будто выбивая из них сено, и спокойно
спросил:
— Редькину-то, сказывают, дохрипеть не дали?
— Об себе думай! Сейчас тебя предоставлю, старый
охальник!
— Ну-к что! Для внуков хотел еще на земле помаять-
ся, а не довелось, дак ладно.
И покрестился истовым крестом на восток:
— Господи батюшка, прими дух большевика Арта-
мона.
Его били долго, но еще живого на яму отвальную,
доверху набитую, притащили. Осевшим, прерывистым
голосом он протянул:
— Тута, значит, кро-вушкой полили... косточками
сдобрили-и...
Прикладом казак прикончил его. Дарье Софроновой
брюхо выпотрошили. Младенца свиньям кинули. Семьи
большевистские вырезали. Только пятнадцать человек
в погреб жигановский засадили. Глянуло страшное лицо
деревни... Иван Лутохин, пророк небесновский, уцелел.
На поле был... Когда вернулся, только нагайками по-
учили. Застегивая порты, он глухо сказал:
— Земля нынче хорошо родит. Большевиками уна-
возили.
А Ваньку Софронова судьба укрыла. В город перед
ильиным днем уехал.
Михаил Шолохов
Из книги
«ДОНСКИЕ РАССКАЗЫ»
БАХЧЕВНИК
I
Отец пришел от станичного атамана веселый, чем-то
обрадованный. Смех застрял у него под густыми бро-
вями, губы морщились от сдерживаемой улыбки: таким,
как нынче, давно не видал Митька отца. С тех пор, как
пришел он с фронта, постоянно был суров, нахмурен,
щедро отсыпал четырнадцатилетнему Митьке затрещи-
ны и долго и задумчиво турсучил свою рыжую бороду.
А нынче, как солнышко сквозь тучи глянуло, даже Мить-
ку, подвернувшегося под руку, сунул с крыльца шутливо
и засмеялся:
— Ну ты, висляй!.. Беги на огород, кличь матерю
обедать!
За обедом сидели всей семьей: отец под образами,
мать прижалась на краешке лавки, к печке поближе,
а Митька рядом с Федором — старшим братом. Под ко-
нец, когда отхлебали реденькие постные щи, отец бороду
разложил на две щетинистые половины и снова улыб-
нулся, морща синеватые губы:
— Должон семью с радостью поздравить: нынче
меня назначили комендантом при военно-полевом суде
у нас в станице... — Помолчал и добавил: — В герман-
скую войну лычки тоже недаром заслуживал, офицер-
ство и мои храбрые отличия не забыты по начальству.
И, багровея, густо наливаясь кровью, сверкнул на
Федора глазами:
— Ты что же, сволочь, голову опустил? Не рад от-
цовской радости? А? Ты у меня, Федька, гляди!..
227
Думаешь, я не вижу, как ты нюхаешься с мужиками?
Через тебя, подлеца, мне атаман в глаза стрянет. «Вы,—
говорит, — Анисим Петрович, действительно блюдете ка-
зачью честь, а Федор, сынок ваш, с большевиками як-
шается, двадцать годов парню, жалко, может постра-
дать...» Говори, сукин сын: ходишь к мужикам?
— Хожу.
Дрогнуло у Митьки сердце, думал — ударит отец Фе-
дора, но тот только перегнулся через стол, кулаки сжи-
мая, рявкнул:
— А знаешь ты, красноармейская утроба, что зав-
тра мы твоих друзей арестуем? Знаешь ты, что портного
Егорку и кузнеца Громова завтра же расстреляют?
И опять услыхал Митька от побледневшего брата
твердое:
— Нет, не знаю, но теперь буду знать.
Не успела мать загородить собою Федора, не успел
Митька вскрикнуть, как отец, размахнувшись, кинул тя-
желую медную кружку. Обломанная ручка острым кра-
ем воткнулась Федору повыше глаза. Тоненькой цевкой
далеко брызнула кровь. Молча Федор закрыл рукой
кровью залитый глаз. Мать, стоная, обняла его голову,
а отец с грохотом опрокинул скамью и вышел из хаты,
хлопнув дверью.
До вечера суетилась мать. Из сундука достала связ-
ку сушеной рыбы, насыпала в сумку сухарей, потом при-
села у окна, латая Федорово белье. Проходя "мимо,
видел Митька, как мать, голову уткнувши в ворох белья,
сидит неподвижно, лишь плечи у нее под рваной ситце-
вой кофтенкой судорожно сходятся и расходятся.
Затемно пришел из станичного правления отец и, не
ужиная, не раздеваясь, лег на кровать. Федор, стараясь
не скрипеть половицами, на цыпочках прошел в кладо-
вую, достал седло, уздечку и вышел на двор.
— Митя, поди сюда!
Митька загонял телят, хворостину бросил, подошел
к брату. Смутно догадывался он, что Федор хочет уехать
за Дон к большевикам, туда, откуда каждую зорю плы-
вет и волнами плещется над станицей глухой орудийный
гул. Спросил Федор, отводя глаза в сторону:
— Ты не знаешь, Митяй, конюшня заперта?
— Запертая... А на что тебе?
— Надо, значит. — Помолчал Федор, посвистал
сквозь зубы и неожиданно зашептал: — Ключи от
228
Мп.хаил Шолохов 20-е годы.
конюшни у отца под подушкой... в головах... выкрадь
их... я хочу ехать.
— Куда?
— В Красную гвардию служить... Мал ты еще, после
поймешь, на чьей стороне правда живет... Ну, так вот,
еду я воевать за землю, за бедный народ и за то, чтоб
все равные были, чтоб не было ни богатых, ни бедных,
а все равные.
Выпустил Федор Митькину голову, спросил строго:
— Возьмешь ключи?
Ответил Митька не колеблясь:
— Возьму. — Повернулся к Федору спиной и, не
оглядываясь, пошел в хату.
В горнице полутемно, тягучее жужжание засыпаю-
щих на потолке мух. У дверей скинул Митька башма-
чишки, приподымая за ручку (чтобы не скрипнула),
отворил дверь и мягко зашлепал босыми ногами к кро-
вати.
Головой к окну навзничь лежит отец, одна рука в кар-
мане, другая свесилась с кровати, ноготь, большой, об-
куренный, в половицу упирается. Затаив дыхание, подо-
шел Митька к кровати, остановился, прислушиваясь
к булькающему храпу отца. Тишина, густая и недвиж-
ная... У отца на рыжей бороде хлебные крошки и яичная
скорлупа, из раззявленного рта стервятно разит спир-
том, а где-то на донышке горла хрипит и рвется наружу
застрявший кашель.
Протянул Митька руку к подушке, а у самого сердце
не останавливаясь: тук-тук-тук-тук...
И кровь, приливая к голове, звенит в ушах колючим
трезвоном. Сначала один палец просунул под засален-
ную подушку, потом другой. Нащупал скользкий ре-
мешок и холодную связку ключей, потянул к себе
потихоньку, а отец вдруг черк рукой Митьку за ши-
ворот:
— Ты зачем крадешься, стервец? Я тебе чупрыну
в два счета оболтаю!
— Батя! Родненький! Я за ключами от конюшни...
Будить не хотел...
Скосил отец на Митьку припухшие, желтизною нали-
тые глаза.
— А зачем понадобились ключи?
— Кони что-то нудятся...
— Так и говори... — Отец кинул на пол связку клю*
230
чей и, обернувшись к стене лицом, вздохнул и минуту
спустя захрапел снова.
Опрометью из хаты на двор, к Федору, прижавше-
муся под навесом сарая. Сунул ему в руки ключи, спро-
сил:
— А какого коня возьмешь?
— Жеребчика.
Вздохнул Митька, следом за Федором шагай, сказал
вполголоса:
— Федя, а ить меня батька-то запорет?..
Промолчал Федор, молча вывел из конюшни жереб-
чика, оседлал, долго ловил ногою непослушное стремя и,
уже выезжая из ворот, прошептал, свесившись с седла:
— Терпи, Митяй! Горе мыкать не век будем, а отцу,
Анисиму Петровичу, перекажи моим словом, коли тронет
он тебя или мамашу хоть пальцем—лютую расправу на
него наведу...
И выехал из ворот, торопя жеребчика в дальнюю пу-
тину, а Митька за плетнем присел на корточки, хотел по-
глядеть было вслед Федору, но глаза застлала соленая
пелена, и удушье перехватило горло.
II
Отец захлебывается в горнице клокочущим храпом.
Встал Митька раньше раннего, обротал Гнедого, к Дону
поехал напоить и искупать коня-работягу. Под копытами
Гнедого шуршит, осыпаясь, присохший мел, съехал под
яр к воде, разнуздал, сбросил одежду, ежась от мглистой
утренней сырости, и услышал, как над водой где-то да-
леко-далеко растаял охнувший гул и, перекатываясь, по-
полз по Дону. С головой окунаясь в воду, пронизанную
колючим утренним холодком, улыбнулся Митька, поду-
мал: «Теперь Федор, поди, у большевиков уже... В Крас-
ногвардии службу ломает...»
Перекинулись мысли на дом, на отца, и разом, как
искра на ветру, потухла радость. Ехал обратно домой
сгорбившись, померкли Митькины глаза.
Уже подъезжая к дому, подумал: «Задать бы стре-
кача туда... к большевикам... правда у них живет, гово-
рил Федор... С ним бы увязаться. А отец мне нынче сде-
рет шкуру... юшку красную пустит из носу...»
231
У крыльца снял узду и медленно вошел в хату.. Отец
из горницы сипло:
— По какой причине жеребчика не водил купать?
Глянул Митька мельком на мать, пристывшую
возле печки, почувствовал, как кровь торопливо уходит
к сердцу.
— Жеребчика нету в конюшие!..
— Где же он?
— Не знаю.
— А Федор где?
— Не видал.
В горнице, обуваясь, шаркает сапогами отец. Через
кухню прошел в кладовую, ^веркая припухшими от сна
глазами.
— Где седло?.. — загремел из сенцев.
Стал Митька поближе к матери и, как бывало давно,
в детстве, уцепился за материну руку. Вошел отец в кух-
ню, в руках комкает кожаный ремень.
— Ты кому ключи отдал?
Мать собой заслонила Митьку:
— Не тронь его, Анисим Петрович. Ради Христа, не
бей!.. Аль не жалко сына?
— Пусти, чертова сволочь!.. Тебе говорю аль нет?..—
Оттолкнул мать в сторону, Митьку повалил на пол, бил
ногами деловито, долго, жестоко, до тех пор, пока пере-
стали из Митькиного горла рваться глухие, стонущие
крики.
Ill
Все слышнее и слышнее становился орудийный гул.
По утрам, когда прогоняли табун на попас, долго сидел
Митька под старым ветряком на прогоне. От ветра на
крыше ветряка повизгивала и скрежетала жесть, крылья
скрипели тягуче и нудно, и, покрывая все робкие звуки,
где-то за бугром басовито ухало: бу-у-ух!..
Рокочущий густыми переливами гул долго таял за
станицей в ярах, задернутых предрассветной голубизной»
Через станицу утрами тянулись к Дону обозы со снаря-
дами, патронами, колючей проволокой. Обратно везли
израненных, завшивевших казаков, сваливали их на
площади, возле станичного правления. Любопытные
куры заботливо загребали папиросные окурки, закровд-;
232
пенные бинты, вату с комками запекшейся крови и вни-
мательно прислушивались к стонам, плачу, хриплым
матюканьям раненых.
Митька старался не попадаться отцу на глаза.
Позавтракавши, уходил с удочками к Дону, сидя на
берегу, смотрел, как по мосту двигалась конница, громы-
хали тачанки, гребла морозную пыль пехота. Возвра-
щался домой в сумерках. Вечером в станицу пригнали
толпу пленных красногвардейцев. Шли они тесно, ску-
чившись, босые, в изорванных шинелишках. Казачки вы-
бегали на улицу, плевали в серые, запыленные лица, по-
хабно ругались под грохочущий хохот казаков и конвой-
ных. Шел Митька следом, глотал едкую пыль, взлохма-
ченную ногами пленных; сердце, тоскою зажатое в
кулак, трепыхалось неровными бросками... Глядел в каж-
дые глаза, обведенные иссиня-черными кругами, перево-
дил взгляд с одного безусого лица на другое и ждал,
что вот-вот в одном из этих серошинельных узнает бра-
та Феддра.
На площади, около общественного сарая, где раньше
ссыпался станичный хлеб, пленных остановили. Увидал
Митька, как на'крыльцо правления вышел отец, левой
рукою теребя темляк на шашке, гаркнул:
— Шапки долой!..
, Медленно-медленно сияли красногвардейцы шапки,
стали, свесив лохматые головы, изредка перешепты-
вались. Опять знакомый грозный голос:
— В ряды стройся!.. Да живо, красная сволочь!
Шуршат, переступая, босые ноги. Серая шеренга из-
мученных лиц до крыльца правления протянулась.
— По порядку рассчитайсь!..
Осипшие голоса. Заученный поворот голов. А у Мить-
ки в горле судороги, жалость к этим, как будто чужим
людям, жалость до жгучей боли, до тошного,удушья, и
в первый раз за всю жизнь ненависть едкая к отцу, к
его самодовольной улыбке, к рыжей щетинистой бороде.
— В сарай — шагом арш!.. v
Пошли по одному в раззявленное черное хайло две-
рей. Последнего, низкорослого, шатающегося, ударил
Митькин отец ножнами шашки по голове, обвязанной
кровавой тряпкой; пробежал тот, спотыкаясь и раскачи-
ваясь, шагов пять и тяжело упал вниз лицом на жест-
кую, утоптанную ногами землю. На площади хохот, гул
голосов, глаза, сузившиеся от смеха, бабьи рты захлеб-
233
нувшиеся слюнявым смешком, а Митька вскрикнул на-
дорванной глухо, лицо закрыл похолодевшими ладонями
и, натыкаясь на людей, побежал по улице.
IV
Мать возится у печки, кончает стряпаться. Подошел
Митька боком, сказал, глядя в сторону:
— Маманька... испеки пышек... я бы отнес энтим, ка-
кие в сарае сидят... пленным.
У матери на глазах мокрая пленка.
— Отнеси, сынок, может, и наш Федя страдает где...
И у пленных матери есть, тоже небось ночами подушки
не высыхают.
— А как батя узнает?
— Не приведи бог! Ты, Митенька, вечером отнеси.
Какие казаки стерегут, отдай им и скажи, чтоб пере-
дали...
Солнце, как нарочно, замедляет шаг и ползет под
станицей, равнодушное к Митькиному нетерпению и не-
возмутимое. Насилу дождался, пока спустится темнота,
прошел на площадь, ящерицей скользнул между прово-
лочной огорожей и к дверям, а сам рукой придерживает
за пазухой узелок с харчами.
— Кто идет? Стой! Стрелять буду!..
— Это я... харчи пленным принес.
— Кто такой? Проваливай, пока приклада не пробо-
вал! Черт тебя носит по ночам! Дня тебе мало харч но-
сить?
— Погоди, Прохорыч, никак это комендантов пар-
нишка?
— Ты Анисима Петровича сынок?
- Да...
— Тебя кто же с харчами прислал? Отец?
— Не-е-ет... Я сам.
К Митьке подошли двое казаков. Старший, борода-
тый, ухватил Митьку за ухо:
— Тебя кто, пащенок, научил харчи, пленным та-
скать? Ты того не могешь понять, что они нам есть са-
мые вредные враги? А ежели я про эти дела батяньке
твоему доложу? Он как за это тебя примолвит?
— Брось, Прохорыч! Жалко тебе чужого хлеба?
В два горла жрать все равно не будешь, возьми харчиш-
ки, передадим!
234
— А ежели Анисим Петрович про то узнает? Тебе
рассусоливать хорошо, ты один, а у меня семейство. За
подобные дела на фронт пошлют, да к тому же и розог
всыплют...
— Да ну тебя к черту, расплакался!.. Эй, парнишо-
нок, ты куда же удираешь? Тащи свои харчи, передам,
что ли.
Передал Митька молодому в руки узелок; нагнув-
шись, шепнул тот ему:
— По средам и пятницам я дежурю... Приноси.
Каждую среду и пятницу вечерами приходил Митька
па площадь; стараясь не зацепиться за колючую прово-
локу, лез через огорожу, передавал часовому узелок и
возвращался домой, пригибаясь у плетней и огляды-
ваясь.
V
Каждый день, как только над станицей золотисто-
рябым пологом растопыривалась ночь, из сарая выво-
дили кучки пленных красногвардейцев и под конвоем
гнали в степь — к ярам, закутанным белесым туманом.
До станицы ветром доносило отзвук трескучего залпа и
реденькие винтовочные выстрелы. Когда пленных уво-
дили больше двадцати человек, следом, поскрипывая ко-
лесами, шуршала пулеметная тачанка. Номера дремали
на широких козлах, кучер блестел цигаркой и лениво
шевелил вожжами, лошади переступали неохотно и раз-
нобоисто, а оголенный пулемет, без чехла, тускло бле-
стел дырявой пастью, словно зевал спросонок. Спустя
полчаса где-то в ярах пулемет сухо и отрывисто татакал,
кучер полосовал кнутом взмыленных, храпящих лоша-
дей, номера тряслись, подпрыгивая на козлах, и тройка
лихо останавливалась возле комендантской, глазевшей
на сонную улицу тремя освещенными окнами.
В среду вечером отец сказал Митьке:
— Ты все лодырничаешь? Веди-ка нынче в ночное
Гнедого, да смотри — в хлеба не пущай! Только потрави
у меня чей-нибудь хлеб, я тебе всыплю чертей!..
Обротал Митька Гнедого, матери успел шепнуть:
— Отнесй, маменька, харчи сама... Отдашь часо-
вому.
Уехал вместе со станичными ребятами на отвод, за
атаманскую землю. Вернулся на другой день утром до
235
восхода солнца. Отворил калитку, скинул с Гнедого
уздечку, хлопнул его по пузу, припухшему от зеленки, и
пошел в хату. В кухню вошел — на полу и на стенах
кровь. Угол печки в чем-то кровянисто-белом. Из гор-
ницы клокочущий хрип, мычание... Переступил Митька
порог, а на полу мать лежит, вся кровью подплыла, лицо
багрово-пухлое, волосы на глаза свисают кровянистыми
сосульками. Увидала Митьку, замычала, задергалась,
а сама слова не скажет. Мечется в распухшем рту поси-
нелый язык, глаза смеются дико и бессмысленно, из пе-
рекошенного рта розоватые пупырчатые слюни...
, — Ми... ми... тя... тя... тя... тя...
И смех глухой, стонущий...
Упал на колени Митька, руки материны целовал, гла-
за, залитые черной кровью. Обнял голову, а на пальцах
кровь и комочки белые слизистые... На полу около ва-
ляется отцовский наган, рукоятка в крови...
Не помнит, как выбежал. Упал возле плетня, а со-
седка из своего двора кричит:
— Он, убегай, сердешный, куда глазыньки твои гля-
дят! Узнал отец, что мать носила пленным харч, убил ее
до смерти и на тебя грозился!
VI
Месяц прошел с тех пор, как нанялся Митька в бах-
чевники. Жил в шалаше на макушке горы. Видно оттуда
молочно-белую ленту Дона, станицу, пристывшую под
горою, и кладбище с бурыми пятнышками могил. Когда
нанимался, шумели казаки:
— Это Анисимов сын! Не надо нам таких-то! У него
брат в Красногвардии и мать, сука, пленных кормила.
На осину его, а не в бахчевники!
— Он, господа старики, платы не просит. Говорит, за
Христа ради буду стеречь бахчи. Будет ваша милость —
дадите кусок хлеба, а нет — и так издохнет...
— Не дадим, нехай издыхает!..
Но атамана все же послушались. Наняли. Да и как.
же не нанять обществу мирского батрака: никакой пла-
ты не просит и будет стеречь станичные бахчи круглое
лето за Христа ради. Прямая выгода...
Поспевали, пухли под солнцем желтые дыни и пят-
нистые полосатые арбузы. Понуро ходил Митька по бах-
236
чам, пугал грачей криком и звонкоголосой трещоткой.
По утрам вылезал из шалаша, ложился около стенки на
перепревший бурьян, вслушивался, как за Доном бухали
орудия, и долго затуманившимися глазами глядел в ту
сторону.
На гору, мимо бахчей, мимо обрывистых меловых
яров гадючьим хвостом извивается кочковатый летник.
По нему сено возят летом станичные казаки, по нему го-
няют к ярам расстреливать пленных красногвардейцев.
Ночами часто просыпается Митька от хриплых криков и
выстрелов, внизу, за левадами, за густою стеною верб,
после выстрелов воют собаки, и по летнику громыхают
шаги, иногда стрекочет тачанка, тлеют огоньки папирос,
говор сдержанный доносится. Как-то ходил Митька туда,
где путаным узлом вяжутся извилистые яры, видал под
откосом засохшую кровь, а внизу, на каменистом днище,
где вода размыла неглубокую могилу, чья-то босая нога
торчала; подошва сухая, сморщенная, и ветер степной,
шарящий по ярам, вонь трупную ворошит. С тех пор не
ходил...
В этот день из станицы по летнику шли толпою рань-
ше обыкновенного: по бокам казаки из конвойной
команды, в средине они — красногвардейцы в шинелях,
накинутых внапашку. Солнце окуналось в сверкающую
белизну Дона медлительно, словно хотело поглядеть на
то, что не делалось при дневном свете. В левадах на
верхушки верб черной тучей спускались грачи. Тишина
паутиной расплелась над бахчами. Из шалаша прово-
жал Митька глазами до поворота тех, что шли по
летнику, и внезапно услышал крик, выстрелы, еще
и еще...
Выскочил Митька из шалаша на пригорок, увидел:
по летнику к ярам бегут красногвардейцы, а казаки, при-
пав на колено, суетливо стреляют, двое, махая шашками,
бегут следом.
Выстрелы звоном будоражат застывшую тишину.
Тук-так, так-так... Та-та-тах!
Вот один споткнулся, упал на руки, вскочил, опять
бежит... Казак ближе, ближе...
Вот, вот... Полукружьем блеснула шашка, упала на
голову... рубит лежачего...
У Митьки в глазах темнеет и зноем наливается
рот.
» '(
237
VII
В полночь к шалашу подскакали трое конных.
— Эй, бахчевник! Выдь на минутку!
Вышел Митька.
— Ты не видал вечером, куда побегли трое в солдат-
ских шинелях?
— Не видал.
— Смотри, не бреши. Строго ответишь за это!
— Не видал... не знаю...
— Ну, делать тут нечего. Надо по ярам до Филинов-
ского леса ехать. Лес оцепим, там их, гадов, и сцапаем...
— Трогай, Богачев...
До белой зари не спал Митька. На востоке погромы-
хивал гром, небо густо залохматело свинцовыми тучами,
молния слепила глаза. Находил дождь.
Перед рассветом услыхал Митька возле шалаша шо-
рох и стон.
Прислушался, стараясь не ворохнуться. Ужас пара-
личом сковал тело. Снова шорох и протяжный стон.
— Кто тут?
— Человек добрый, выйди, ради бога!..
Вышел Митька, нетвердо ступая дрожащими ногами,
и у задней стены шалаша увидел запрокинувшегося на-
взничь человека.
— Кто такое?
— Не выдай... не дай пропасть... Я вчера из-под рас-
стрела убег... казаки ищут... У меня нога... прострелена...
Хочет Митька слово сказать, а горло душат судороги,
опустился на колени, подполз на четвереньках и ноги в
солдатских обмотках обнял.
— Федя.,. Братунюшка! Родненький... f
Нарубил и перетаскал в шалаш ворох засохших под-
солнечных будыльев, уложил Федора в углу, навалил
бурьяну и подсолнухов, а сам пошел по бахчам.
До полудня гонял с зеленых курчавых полос настыр-
ных грачей, самого тянуло пойти в шалаш, смотреть
в родные братнины глаза, слушать еще и еще рассказ
о пережитых страданиях и радостях. Твердо было реше-
но между ними: как только смеркнется — завязать Фе-
дору покрепче раненую ногу и знакомыми стежками лес-
ными кружно пройти до Дона, переплыть на ту сторону,
к тем, у кого правда живет, кто бьется с казаками за
землю и бедный народ. С утра до полудня по летнику
238
скакали из станицы казаки, раза два заворачивали к
Митьке напиться воды в шалаше. Уже перед вечером
увидал Митька, как с песчаного кургана, блестевшего
белой лысиной, съехали человек восемь конных и шагом
пустили под гору усталых, спотыкающихся лошадей. Сел
Митька возле шалаша, провожал глазами сутулые фи-
гуры верховых, — не поворачивая головы, сказал Федору
вполголоса:
— Лежи, не ворочайся, Федя! Один конный бегит по
бахчам к шалашу.
Из-под вороха бурьяна глухо загудел голос Федора:
— А остальные ждут его или поскакали в станиЦу?
— Энти тронули рысью, скрываются под горою!.. Ну,
лежи.
Привстав на стременах, покачивается казак, плетью
помахивает, лошадь от пота мокрая.
Шепнул Митька, бледнея:
— Федя... отец скачет!..
Рыжая отцовская борода потом взмокла, обгоревшее
на солнце лицо — иссиня-багрово. Осадил лошадь у са-
мого шалаша, слез, к Митьке подошел вплотную:
— Говори: где Федор?
Вонзил в побелевшее Митькино лицо кровью налитые
глаза. От синего казачьего мундира потом воняет и наф-
талином.
— Был он у тебя ночью?»
— Нет.
— А это что за кровь возле шалаша?
Нагнулся отец к земле, пунцовая шея вывалилась
из-под воротника жирными складками.
— А ну, веди в шалаш!
Вошли — отец впереди, почерневший Митька сзади.
— Смотри, змееныш... Ежели укрываешь ты Федьку,
то и его и тебя на распыл пущу!..
— Нету... не знаю...
— Это что у тебя за бурьян в углу?
— Сплю на нем.
— Посмотрим. — Шагнул отец в угол, присел на кор-
точки, медленно расковырял чахлый шуршавый бурья-
нок и подсолнечные будылья.
Митька сзади. Перед глазами синий обтянутый на
спине мундир колыхается плавными кругами.
Через минуту изо рта отца хриплое:
т— Ага-а-а-а... Это что?
239
Босая Федорова нога торчит промеж коричневых
стеблей. Отец правой рукой лапает на боку кобуру на-
гана. Качаясь, прыгнул Митька, цепко ухватил стоящий
у стенки топор, ухнул от внезапно нахлынувшего тош-
ного удушья и, с силой взмахнув топором, ударил отца
в затылок...'
* * *
Прикрыли похолодевшее тело бурьяном и ушли.
Ярами, буреломом, густым терновником шли, ползли,
продирались. Верстах в восьми от станицы, там, где Дон,
круто заворачивая, упирается в седую гору, спустились
к воде. Плыли на косу; быстро сносило нахолодавшей
за ночь водой. Федор, стоная, цеплялся за Митькино
плечо. ‘
Доплыли. Долго лежали на влажном зернистом пе-
ске.
— Ну, пора, Федя! Эта половина, должно быть, не-
широкая.
Спустились к воде. Дон снова облизывает лица и шеи,
отдохнувшие руки уверенней кромсают воду.
Под ногами земля. Застывшая в темноте гущина
леса. Торопливо зашагали...
Светало, где-то совсем близко ахнуло орудие. На во-
стоке чахло румяную каемку протянул рассвет.
ЧУЖЛЯ КРОВЬ
В Филипповку, после заговенья, выпал первый снег.
Ночью из-за Дона подул ветер, зашуршал в степи
обыневшим краснобылом, лохматым сугробам заплел
косы и догола вылизал кочковатые хребтины дорог.
Ночь спеленала станицу зеленоватой сумеречной ти-
шиной. За дворами дремала степь, непаханая, забурья-
невшая.
В полночь в ярах глухо завыл волк, в станице от-
кликнулись собаки, и дед Гаврила проснулся. Свесив
с печки ноги, держась за комель, долго кашлял, потом
сплюнул и нащупал кисет.
Каждую ночь после первых кочетов просыпается дед,
сидит, курит, кашляет, с хрипом отрывая, от легких мо-
кроту, а в промежутках между приступами удушья дум-
240
ки идут в голове привычной, хоженой стежкой. Об одном
думает дед — о сыне, пропавшем в войну без вести.
Был один — первый и последний. На него работал не
покладая рук. Время приспело провожать на фронт про-
тив красных — две пары быков отвел на рынок, на вы-
ручку купил у калмыка коня строевого, не конь — буря
степная летучая. Достал из сундука седло и уздечку де-
довскую с серебряным набором. На проводах сказал:
— Ну, Петро, справил я тебя, не стыдно и офицеру с
такой справой идтить... Служи, как отец твой служил,
войско казацкое и тихий Дон не страми! Деды и пра-
деды твои службу царям несли, должон и ты!..
Глядит дед в окно, обрызганное зелеными отсветами
лунного света, к ветру, — какой по двору шарит, не по-
ложенного ищет, — прислушивается, вспоминает те дни,
что назад не придут и не вернутся...
На проводах служивого гремели казаки под камы-
шовой крышей Гаврилиного дома старинной казачьей
песней:
А мы бьем, не портим боевой порядок.
Слу-ша-ем один да приказ.
И что нам прикажут отцы-командиры,
Мы туда идем — рубим, колем, бьем!..
За столом сидел Петро, хмельной, иссиня-бледный,
последнюю рюмку, «стременную», выпил, устало Зажму-
рив глаза, но на коня твердо сел. Шашку поправил и,
с седла перегнувшись, горсть земли с родимого база
взял. Где-то теперь лежит он, и чья земля на чужбинкё
греет ему грудь?
Кашляет дед тягуче и сухо, мехи в груди па разные
лады хрипят-вызванивают, а в промежутках, когда, от-
кашлявшись, прислонится сгорбленной спиной к комелю,
думки идут в голове знакомой, хоженой стежкой.
* * *
Проводил сына, а через месяц пришли красные.
Вторглись в казачий исконный быт врагами, жизнь де-
дову, обычную, вывернули наизнанку, как порожний
карман. Был Петро по ту сторону фронта, возле Донца
усердием в боях заслуживал урядницкие погоны, а в
станице дед Гаврила на москалей на красных вынаши-
вал, кохал, нянчил — как Петра, белоголового сынишку,
когда-то — ненависть стариковскую глухую.
9 Зак. № 426
241
Назло им носил шаровары с лампасами, с красной
казачьей волей, черными нитками простроченной вдоль
суконных с напуском шаровар. Чекмень надевал с гвар-
дейским оранжевым позументом, со следами ношенных
когда-то вахмистерских погон. Вешал на грудь медали
и кресты, полученные за то, что служил монарху верой
и правдой; шел по воскресеньям в церковь, распахнув
полы полушубка, чтоб все видали.
Председатель Совета станицы при встрече как-то ска-
зал:
— Сыми, дед, висюльки! Теперь не полагается.
Порохом пыхнул дед:
•— А ты мне их вешал, что сымать-то велишь?
— Кто вешал, давно небось в земле червей продо-
вольствует.
— И пущай!.. А я вот не сыму! Рази с мертвого сде-
решь?
— Сказанул тоже... Тебя же жалеючи, советую, по
мне, хоть спи с ними, да ить собаки... собайи-то штаны
тебе облатают! Они, сердешные, отвыкли от такого виду,
не признают свово...
Была обида горькая, как полынь выцвету. Ордена
снял, но обида росла в душе, лопушилась, со злобой
родниться начала.
Пропал сын — некому стало наживать. Рушились са-
раи, ломала скотина базы, гнили стропила раскрытого
бурей катуха. В конюшне, в пустых станках, по-своему
захозяйствовали мыши, под навесом ржавела косилка.
Лошадей брали перед уходом казаки, остатки доби-
рали красные, а последнюю, лохмоногую и ушастую,
брошенную красноармейцами в обмен, осенью за один
огляд купили махнойцы. Взамен оставили деду пару анг-
лийских обмоток.
— Пущай уж наше переходит! — подмигивал махнов-
ский пулеметчик. — Богатей, дед, нашим добром!..
Прахом дымилось все нажитое десятками лет. Руки
падали в работе; но весною, когда холостеющая степь
ложилась под ногами покорная и истомная, манила деда
земля, звала по ночам властным неслышным зовом. Не
мог противиться, запрягал быков в плуг, ехал, полосовал
степь сталью, обсеменял ненасытную черноземную утро-
бу ядреной пшеницей-гиркой.
Приходили казаки от моря и из-за моря, ио никто из
них не видал Петра. В разных полках с ним служили,
242
в разных краях бывали — мала ли Россия? — а однопол-
чане станичники Петра полком легли в бою со Жлобин-
ским отрядом на Кубани где-то.
Со старухой о сыне почти не говорил Гаврила.
Ночами слышал, как в подушку точила она слезы,
носом чмыкала.
— Ты чего, старая? — спросит, кряхтя.
Помолчит та немного, откликнется:
— Должно, угар у нас... голова что-то прибаливает.
Не показывал виду, что догадывается, советовал:
— А ты бы рассольцу из-под огурцов. Сем-ка я сла-
зю в погреб, достану?
— Спи уж. Пройдет и так!..
И снова тишина расплеталась в хате незримой кру-
жевной паутиной. В оконце месяц нагло засматривал,
на чужое горе, на материнскую тоску любуясь.
Но все же ждали и надеялись, что придет сын. Овчи-
ны отдал Гаврила выделать, старухе говорит:
— Мы с тобой перебьемся и так, а Петро придет, что
будет носить? Зима заходит, надо ему полушубок шить.
Сшили полушубок на Петров рост и положили в сун-
дук. Сапоги расхожие — скотину убирать — ему сгото-
вили. Мундир свой синего сукна берег дед, табаком пе-
ресыпал, чтобы моль не посекла, а зарезали ягнока —
из овчинки папаху сшил сыну дед и повесил на гвоздь.
Войдет с надворья, глянет, и кажется, будто выйдет сей-
час Петро из горницы, улыбнется, спросит: «Ну как,
батя, холодно на базу?»
Дня через два после этого перед сумерками пошел
скотину убирать. Сена в ясли наметал, хотел воды из
колодца почерпнуть — вспомнил, что забыл варежки в
хате. Вернулся, отворил дверь и видит: старуха на коле-
нях возле лавки стоит, папаху Петрову неношеную к
груди прижала, качает, как дитя баюкает...
В глазах потемнело, зверем кинулся к ней, повалил
на пол, прохрипел, пену глотая с губ:
— Брось, подлюка!.. Брось!.. Что ты делаешь?!.
Вырвал из рук папаху, в сундук кинул и замок наве-
сил. Только стал примечать, что с той поры левый глаз
у старухи стал дергаться и рот покривило.
Текли дни и недели, текла вода в Дону, под осень
прозрачно-зеленая, всегда торопливая.
В этот день замерзли на Дону окраинцы. Через ста-
ницу пролетела припозднившаяся ватага диких гусей.
243
Вечером прибежал к Гавриле соседский парень, на обра-
за второпях перекрестился.
— Здорово дневали!
— Слава богу.
— Слыхал, дедушка? Прохор Лиховидов из Турции
пришел. Он ить с вашим Петром в одном полку слу-
жил!..
Спешил Гаврила по проулку, задыхаясь от кашля и
быстрой ходьбы. Прохора не застал дома: уехал на ху-
тор к брату, обещал вернуться к завтрему.
Ночь не спал Гаврила. Томился на печке бессонни-
цей.
Перед светом зажег жирник, сел подшивать валенки.
Утро — бледная немочь — точит с сизого восхода чах-
лый рассвет. Месяц зазоревал посреди неба, сил не хва-
тило дошагать до тучки, на день прихорониться.
* * *
Перед завтраком глянул Гаврила в окно, сказал по-
чему-то шепотом:
— Прохор идет!
Вошел он, на казака не похожий, чужой обличьем.
Скрипели на ногах у него кованые английские ботинки,
и мешковато сидело пальто чудного покроя, с чужого
плеча, как видно.
— Здорово живешь, Гаврила Василич!..
— Слава богу, служивый!.. Проходи, садись.
Прохор снял шапку, поздоровался со старухой и сел
на лавку, в передний угол.
— Ну и погодка пришла, снегу надуло — не прой-
дешь!..
— Да, снега нынче рано упали... В старину в эту
пору скотина на подножном корму ходила.
На минутку тягостно замолчали. Гаврила, с виду рав-
нодушный и твердый, сказал:
— Постарел ты, парень, в чужих краях!
— Молодеть-то не с чего было, Гаврила Василич! —
улыбнулся Прохор.
Заикнулась было старуха:
— Петра нашего...
— Замолчи-ка, баба!.. — строго прикрикнул Гаври-
ла.— Дай человеку опомниться с морозу, успеешь...
узнать!..
244
Михаил Шолохов .< Донские рассказы» Первое издание.
1925 г.
Поворачиваясь к гостю, спросил:
— Ну как, Прохор Игнатич, протекала ваша жизня?
— Хвалиться нечем. Дотянул до дому, как кобель с
отбитым задом, и то — слава богу.
— Та-а-ак... Плохо у турка жилось, значится?
— Концы с концами насилу связывали. — Прохор
побарабанил по столу пальцами. — Однако и ты, Га-
врила Василич, дюже постарел, седина вон как обры-
згала тебе голову... Как вы тут живете при советской
власти?
— Сына вот жду... стариков нас докармливать...—•
криво улыбнулся Гаврила.
Прохор торопливо отвел глаза в сторону. Гаврила
приметил это, спросил резко и прямо:
— Говори: где Петро?
— А вы разве не слыхали?
— nQ-разному слыхали, — отрубил Гаврила.
Прохор свил в пальцах грязную бахромку скатерти,
заговорил не сразу:
— В январе, кажись... Ну да, в январе, стояли мы
сотней возле Новороссийского города... Город такой у
моря есть... Ну, обнакновенно стояли...
— Убит, что ли?.. — нагибаясь, низким шепотом спро-
сил Гаврила.
Прохор, не поднимая глаз, промолчал, словно и не
слышал вопроса.
— Стояли, а красные прорывались к горам: к зеле-
ным на соединенье. Назначает его, Петра вашего, коман-
дир сотни в разъезд... Командиром у нас был подъесаул
Сенин... Вот тут и случись... понимаете...
Возле печки звонко стукнул упавший чугун, старуха,
вытягивая руки, шла к кровати, крик распирал ей
горло.
— Не вой!..— грозно рявкнул Гаврила и, облокотись
о стол, глядя на Прохора в упор, медленно и устало
проговорил: — Ну, кончай!
— Срубили!.. — бледнея, выкрикнул Прохор и встал,
нащупывая на лавке шапку. — Срубили Петра... на-
смерть... Остановились они возле леса, коням передышку
давали, он подпругу на седле отпустил, а красные из
лесу... — Прохор, захлебываясь словами, дрожащими ру-
ками мял шапку. — Петро черк за луку, а седло коню
под пузо... Конь горячий... не сдержал, остался... Вот и
все!..
246
— А ежели я не верю?.. — раздельно сказал Гаврила.
Прохор, не оглядываясь, торопливо пошел к двери.
— Как хотите, Гаврила Василич, а я истинно...
Я правду говорю... Гольную правду... Своими глазами
видал...
— А ежели я не хочу этому верить?!. — багровея, за-
хрипел Гаврила.-Глаза его налились кровью и слезами.
Разодрав у ворота рубаху, он голой волосатой грудью
шел на оробевшего Прохора, стонал, запрокидывая пот-
ную голову: — Одного сына убить?!. Кормильца?!. Петь-
ку мово?!. Брешешь, сукин сын!.. Слышишь ты?!. Бре-
шешь! Не верю!..
А ночью, накинув полушубок, вышел во двор, поскри-
пывая по снегу валенками, прошел на гумно и стал у
скирда.
Из степи дул ветер, порошил снегом; темень, черная
и строгая, громоздилась в голых вишневых кустах.
— Сынок! — позвал Гаврила вполголоса. Подождал
немного и, не двигаясь, не поворачивая головы, снова по-
звал:— Петро!.. Сыночек!..
Потом лег плашмя на притоптанный возле скирда
снег и тяжело закрыл глаза.
* * *
В станице поговаривали о продразверстке, о бандах,
что шли с низовьев Дона. В исполкоме на станичных
сходах шепотом сообщались новости, но дед Гаврила ни
разу не ступнул на расшатанное исполкомское крыльцо,
надобности не было, потому о многом не слышал, многое
не знал. Диковинно показалось ему, когда в воскресенье
после обедни заявился председатель, с ним трое в жел-
тых куценьких дубленках, с винтовками.
Председатель поручкался с Гаврилой и сразу, как
обухом по затылку:
— Ну, признавайся, дед: хлеб есть?
— А ты думал как, духом святым кормимся?
— Ты не язви, говори толком: где хлеб?
— В амбаре, само собой.
— Веди.
— Дозволь узнать, какое вы имеете касательство к
мому хлебу?
Рослый, белокурый, по виду начальник, постукивая
на морозе каблуками, сказал:
247
— Излишки забираем в пользу государства. Прод-
разверстка. Слыхал, отец?
— А ежели я не дам? — прохрипел Гаврила, набухая
злобой.
— Не дашь? Сами возьмем!..
Пошептались с председателем, полезли по закромам,
в очищенную, смугло-золотую пшеницу накидали с
сапог снежных ошлепков. Белокурый, закуривая,
решил:
— Оставить на семена, на прокорм, остальное за-
брать.— Оценивающим хозяйским взглядом прикинул
количество хлеба и повернулся к Гавриле: — Сколько де-
сятин будешь сеять?
— Чертову лысину засею!.. — засипел Гаврила, каш-
ляя и судорожно кривляясь. — Берите, проклятые!..
Грабьте!.. Все ваше!..
— Что ты, осатанел, что ли, остепенись, дед Гаври-
ла!..— упрашивал председатель, махая на Гаврилу ва-
режкой.
— Давитесь чужим добром!.. Лопайте!..
Белокурый содрал с усины оттаявшую сосульку, ис-
коса умным, насмешливым глазом кольнул Гаврилу,
сказал со спокойной улыбкой:
— Ты, отец, не прыгай! Криком не поможешь. Что
ты визжишь, аль на хвост тебе наступили?.. — И, хмуря
брови, резко переломил голос: — Языком не трепи!..
Коли длинный он у тебя — привяжи к зубам!.. За агита-
цию...— Не договорив, хлопнул ладонью по желтой ко-
буре, перекосившей пояс, и уже мягче сказал: — Сегодня
же свези на ссыппункт!
Не то чтобы испугался старик, а от голоса уверен-
ного и четкого обмяк, понял, что в самом деле криком
тут не пособишь. Махнул рукой и пошел к крыльцу. До
половины двора не дошел — дрогнул от крика дико-
хриплого:
— Где продотрядники?!.
Повернулся Гаврила — за плетнем, вздыбив припля-
сывающую лошадь, кружится конный. Предчувствие че-
го-то необычайного дрожью подкатилось под колени. Не
успел рта раскрыть, как конный, увидев стоявших возле
амбара, круто осадил лошадь и, неуловимо поведя ру-
кой, рванул с плеча винтовку.
Сочно треснул выстрел, и в тишине, вслед за выстре-
лом па короткое мгновение облапившей двор, четко
248
сдвоил затвор, патронная гильза вылетела с коротким
жужжанием.
Оцепенение прошло: белокурый, влипая в притолоку,
прыгающей рукой долго до жути тянул из кобуры ре-
вольвер, председатель, приседая по-заячьи, рванулся че-
рез двор к гумну, один из продотрядников упал на ко-
лено, выпуская из карабина обойму в черную папаху,
качавшуюся за плетнем. Двор захлестнуло стукотнею
выстрелов. Гаврила с трудом оторвал от снега словно
прилипшие ноги и тяжело затрусил к крыльцу. Оглянув-
шись, увидал, как трое в дубленках недружно, врассып-
ную, застревая в сугробах, бежали к гумну, а в радуш-
но распахнутые ворота хлынули конные.
Передний, в кубанке, на рыжем жеребце, горбатясь,
приник к луке и закружил над головой шашку. Перед
Гаврилой лебедиными крыльями мелькнули концы его
белого башлыка, в лицо кинуло снегом, брызнувшим из-
под лошадиных копыт.
Обессиленно прислонясь к резному крыльцу, Гаврила
видел, как рыжий жеребец, подобравшись, взлетел через
плетень и закружился на дыбках возле початого скирда
ячменной соломы, а кубанец, свисая с седла, крест-на-
крест рубил ползавшего в корчах продотрядника...
На гумне обрывчатый, неясный шум, возня, чей-то
протяжный, рыдающий крик. Через минуту гулко стук-
нул одинокий выстрел. Голуби, вспугнутые было стрель-
бой и вновь попадавшие на крышу амбара, сорвались
в небо фиолетовой дробью. Конные на гумне спе^
шились.
По станице неумолчно плескался малиновый трезвон.
Паша — станичный дурачок — взобрался на колокольню
и по глупому своему разуму хватил во все колокола,
вместо набата вызванивая пасхальную плясовую.
К Гавриле подошел кубанец в наброшенном на плечи
белом башлыке. Лицо его, горячее и потное, подергива-
лось, углы губ слюняво свисали.
— Овес есть?
Гаврила трудно двинулся от крыльца, подавленный
виденным, не мог совладать с онемевшим языком.
— Оглох ты, черт?!. Овес есть? — спрашиваю. Неси
мешок!
Не успели подвести лошадей к корыту с кормом —
в ворота вскочил еще один:
— По коням!.. С горы пехота...
249
Кубанец с проклятием взнуздал облитого дымящимся
потом жеребца и долго тер снегом обшлаг своего пра-
вого рукава, густо измазанного чем-то багрово-красным.
Со двора их выехало пятеро, в тороках последнего
угадал Гаврила желтую, в кровяных узорах дубленку
белокурого.
* * *
До вечера за бугром в терновой балке погромыхи-
вали выстрелы. В станице побитой собакой, приниженно
лежала тишина. Уже заголубели сумерки, когда Гаврила
решился пойти на гумно. Вошел в настежь открытую ка-
литку, увидел: на гуменном прясле, уронив голову, повис
настигнутый пулей председатель. Руки его, свисая, слов-
но тянулись за шапкой, валявшейся по ту сторону
прясла.
Неподалеку от скирда на снегу, притрушенном объ-
едьями и половой, лежали раздетые до белья продотряд-
ники, все трое в ряд. И глядя на них, уже не ощутил
Гаврила в дрогнувшем от ужаса сердце той злобы, что
гнездилась там с утра. Казалось небывальщиной, сном,
чтобы на гумне, где постоянно разбойничали соседские
козы, обдергивая прикладок соломы, теперь лежали из-
рубленные люди; и от них, от талых круговин примерз-
шей пузырчатой крови, уже струился-тек запах мертве-
чины...
Белокурый лежал, неестественно отвернув голову, и
если б не голова, плотно прижатая к снегу, можно было
бы подумать, что лежит он отдыхая — так беспечно были
закинуты его ноги одна за одну.
Второй, щербатый и черноусый, выгнулся, вобрав го-
лову в плечи, оскалясь непримиримо и злобно. Третий,
зарывшись головою в солому, недвижно плыл по снегу:
столько силы и напряжения было в мертвом размахе
его рук.
Нагнулся Гаврила над белокурым, вглядываясь в по-
черневшее лицо, и дрогнул от жалости: лежал перед ним
мальчишка лет девятнадцати, а не сердитый, с колючими
глазами продкомиссар. Под желтеньким пушком усов
возле губ стыл иней и скорбная складка, лишь поперек
лба темнела морщинка, глубокая и строгая.
Бесцельно тронул рукою голую грудь и качнулся от
неожиданности: сквозь леденящий холодок ладонь про-
щупала потухающее тепло...
250
Старуха ахнула и, крестясь, шарахнулась к печке,
когда Гаврила, кряхтя и стоная, приволок на спине оде-
ревеневшее, кровью почерненное тело.
Положил на лавку, обмыл холодной водой, до устали,
до пота тер колючим шерстяным чулком ноги, руки,
грудь. Прислонился ухом к гадливо-холодной груди и
насилу услышал глухой, с долгими промежутками стук
сердца.
* * *
Четвертые сутки лежал он в горнице шафранно-блед-
ный, похожий на покойника. Пересекая лоб и щеку, баг-
ровел запекшийся кровью шрам, туго перевязанная
грудь качала одеяло, с хрипом и клокотаньем вбирая
воздух.
Каждый день Гаврила вставлял ему в рот свой по-
трескавшийся, зачерствелый палец, концом ножа осто-
рожно разжимал стиснутые зубы, а старуха через камы-
шинку лила подогретое молоко и навар из бараньих ко-
стей.
На четвертый день с утра на щеках белокурого заро-
зовел румянец, к полудню лицо его полыхало, как куст
боярышника, зажженный морозом, дрожь сотрясала все
тело, и под рубахой проступил холодный и клейкий пот.
С этой поры стал он несвязно и тихо бредить, поры-
вался вскакивать с кровати. Днем и ночью дежурили
около него Гаврила поочередно со старухой.
В длинные зимние ночи, когда восточный ветер, нале-
тая с Обдонья, мутил почерневшее небо и низко над
станицей стлал холодные тучи, сиживал Гаврила возле
раненого, уронив голову на руки, вслушиваясь, как бре-
дил тот, незнакомым, окающим говорком несвязно о чем-
то рассказывая; подолгу вглядывался в смуглый тре-
угольник загара на груди, в голубые веки закрытых
глаз, обведенных сизыми подковами. И когда с выцвет-
ших губ текли тягучие стоны, хриплая команда, безоб-
разные ругательства и лицо искажалось гневом и
болью — слезы закипали у Гаврилы в груди. В такие
минуты жалость приходила непрошеная.
Видел Гаврила, как с каждым днем, с каждой бес-
сонной ночью бледнеет и сохнет возле кровати старуха,
примечал и слезы на щеках ее, вспаханных морщинами,
и понял, вернее — почуял сердцем, что невыплаканная
любовь ее к Петру, покойному сыну, пожаром перекину-
251
лась вот на этого недвижного, смертью зацелованного,
чьего-то чужого сына...
Заезжал как-то командир проходившего через стани-
цу полка. Лошадь у ворот оставил с ординарцем, сам
взбежал па крыльцо, гремя шашкой и шпорами. В гор-
нице шапку снял и долго молча стоял у кровати. По
лицу раненого бродили бледные тени, из губ, сожжен-
ных жаром, точилась кровица. Качнул командир прежде-
временно поседевшей головой, затуманясь и глядя куда-
то мимо Гаврилиных глаз, сказал:
— Побереги товарища, старик!
— Поберегем! — твердо ответил Гаврила.
Текли дни и недели. Минули святки. На шестнадца-
тый день в первый раз открыл белокурый глаза, и услы-
шал Гаврила голос, паутинно-скрипучий:
— Это ты, старик?
- Я.
— Здорово меня обработали?
— Не приведи Христос!
Во взгляде, прозрачном и неуловимом, почудилась
Гавриле усмешка, беззлобно-простая.
— А ребята?
— Энти того... закопали их на плацу.
Молча пошевелил по одеялу пальцами и перевел
взгляд на некрашеные доски потолка.
— Звать-то тебя как будем? — спросил Гаврила.
Голубые с прожилками веки устало опустились.
— Николай.
— Ну а мы Петром кликать будем... Сын у нас был...
Петро... — пояснил Гаврила.
Подумав, хотел еще о чем-то спросить, но услышал
ровное, в нос дыхание и, удерживая руками равновесие,
на цыпочках отошел от кровати:
* * *
Жизнь возвращалась к нему медленно, словно нехотя.
На другой месяц с трудом поднимал от подушки голову,
на спине появились пролежни.
С каждым днем с ужасом чувствовал Гаврила, что
кровно привязывается к новому Петру, а образ первого,
родного, меркнет, тускнеет, как отблеск заходящего солн-
ца на слюдовом оконце хаты. Силился вернуть прежнюю
тоску и боль, но прежнее уходило все дальше, и ощущал
252
I
Гаврила от этого стыд и неловкость... Уходил на баз,
возился там часами, но, вспомнив, что с Петром у кро-
вати сидит неотступно старуха, испытывал ревнивое чув-
ство. Шел в хату, молча топтался у изголовья кровати,
негнущимися пальцами неловко поправлял наволочку
подушки и, перехватив сердитый взгляд старухи, смирно
садился на скамью и притихал.
Старуха поила Петра сурчиным жиром, настоем це-
лебных трав, снятых весною, в майском цвету. От этого
ли, или от того, что молодость брала верх над немощью,
но раны зарубцевались, кровь красила пополневшие ще-
ки, лишь правая рука, с изуродованной у предплечья ко-
стью, срасталась плохо: как видно, отработала свое.
Но все же на второй неделе поста в первый раз при-
сел Петро на кровати сам, без посторонней помощи, и,
удивленный собственной силой, долго и недоверчиво улы-
бался.
Ночью в кухне, покашливая на печке, шепотом:
— Ты спишь, старая?
— А что тебе?
— На ноги подымается наш... Ты завтра из сундука
Петровы шаровары достань... Приготовь всю амуницию...
Ему ить надеть нечего.
— Сама знаю! Я ить надысь достала.
— Ишь ты, проворная!.. Полушубок-то достала?
— Ну, а то телешом, что ли, парню ходить!
Гаврила повозился на печке, чуть было задремал, но
вспомнил и, торжествуя, поднял голову:
— А папах? Папах небось забыла, старая гусыня?
— Отвяжись! Мимо сорок разов прошел и не спо-
тыкнулся, вон на гвозде другой день висит!..
Гаврила досадливо кашлянул и примолк.
Расторопная весна уже турсучила Дон. Лед почернел,
будто источенный червями, и ноздревато припух. Гора
облысела. Снег ушел из степи в яры и балки. Обдонье
млело, затопленное солнечным половодьем. Из степи ве-
тер щедро кидал запахи воскресающей полынной го-
речи.
Был на исходе март.
* * *
-— Сегодня встану, отец!
Несмотря на то что все красноармейцы, переступав-
шие порог Гаврилиного дома, глянув на его волосы,
253
опрятно выбеленные сединой, называли его отцом, на
этот раз Гаврила почувствовав в тоне голоса теплую
потку. Казалось ли ему так, или действительно Петро
вложил в это слово сыновью ласку, но Гаврила густо
побагровел, закашлялся и, скрывая смущенную радость,
пробормотал:
— Третий месяц лежишь... Пора уж, Петя!
Вышел Петро на крыльцо, ходульно переставляя
ноги, и чуть было не задохнулся от избытка воздуха,
втолкнутого в легкие ветром. Гаврила поддерживал его
сзади, а старуха томашилась возле крыльца, утирая за-
веской привычные слезы.
Подвигаясь мимо нахохленной крыши амбара, спро-
сил названный сын — Петро:
— Хлеб отвез тогда?
•— Отвез... — нехотя буркнул Гаврила.
— Ну и хорошо сделал, отец!
И опять от слова «отец» потеплело у Гаврилы в гру-
ди. Каждый день ползал Петро по двору, прихрамывая
и опираясь на костыль. И отовсюду — с гумна, из-под
навеса сарая, где бы ни был, — провожал Гаврила но-
вого сына беспокойным, ищущим взглядом. Как бы не
оступился да не упал!
Говорили между собою мало, но отношения увяза-
лись простые и любовные.
Как-то, дня два спустя после того, как в первый раз
вышел Петро на двор, перед сном, умащиваясь на печке,
спросил Гаврила:
— Откель же ты родом, сынок?
— С Урала.
— Из мужицкого сословия?
— Нет, из рабочих.
— Это как же? Рукомесло имел какое, навроде чебо-
тарь али бондарь?
— Нет, отец, я на заводе работал. На чугунолитей-
ном заводе. С мальства там.
— А хлеб забирать это как же пристроился?
— Из армии послали.
— Ты что же, у них за командира был?
— Да, им был.
Было трудно спрашивать, но к этому вел;
— Значится, ты партейный?
— Коммунист, — ответил Петро, ясно улыбаясь.
254
И от улыбки этой бесхитростной уже нестрашным по-
казалось Гавриле чуждое слово.
Старуха, выждав время, спросила с живостью:
— А семья-то есть у тебя, Петюшка?
— Ни синь пороха!.. Один, как месяц в небе!
— Родители, должно, помёрли?
— Еще махоньким был, лет семи... Отца при пьянке
убили, а мать где-то таскается...
— Эка сучка-то! Тебя, жалкенького, стало быть, ки-
нула?
— Ушла с одним подрядчиком, а я при заводе
вырос.
Гаврила свесил с печки ноги, долго молчал, потом
заговорил, раздельно, медленно:
— Что ж, сынок, коли нету у тебя родни, оставайся
при нас... Был у нас сын, по нем и тебя Петром кличем...
Был, да быльем порос, а теперь вот двое с старухой ку-
люкаем... За это время сколько горя с тобой натерпе-
лись; должно, от этого и полюбился ты нам. Хучь и чу-
жая в тебе кровь, а душой за тебя болишь, как за род-
ного... Оставайся! Будем с тобой возле земли кормиться,
она у нас на Дону плодовитая, щедрая... Справим тебя,
женим... Я свое отжил, правь хозяйством ты. По мне,
лишь бы уважал нашу старость да перед смертью в ку-
ске не отказывал... Не бросай нас, стариков, Петро...
За печкой верещал сверчок, трескуче и нудно.
Под ветром тосковали ставни.
— А мы со старухой тебе уже невесту начали
приглядывать!. — Гаврила с деланной веселостью под-
мигнул, но дрогнувшие губы покривились жалкой улыб-
кой.
Петро упорно глядел под ноги в выщербленный пол,
левой рукой сухо выстукивал по лавке. Звук получился
волнующий и редкий: тук-тик-так! тук-тик-так!.. тук-тик-
так!..
Как видно, обдумывал ответ. И, решившись, оборвал
стук, тряхнул головой:
— Я, отец, останусь у вас с радостью, только работ-
ник из меня, сам видишь, плоховатый... Рука моя, кор-
милица, не срастается, стерва! Однако работать буду,
насколько силов хватит. Лето поживу, а там видно
будет.
— А там, может, навовсе останешься! — закончил
Гаврила.
255
Прялка под ногою старухи радостно зажужжала,
замурлыкала, наматывая на скало волокнистую
шерсть.
Баюкала ли, житье ли привольное сулила размерен-
ным, усыпляющим стуком — не знаю.
* * *
Вслед за весной пришли дни, опаленные солнцем,
курчавые и седые от жирной степной пыли. Надолго
стало вёдро. Дон, буйный, как смолоду, бугрился вихра-
стыми валами. Полая вода поила крайние дворы стани-
цы. Обдонье, зеленовато-белесое, насыщало ветер медвя-
ным запахом цветущих тополей, в лугу зарею розо-
вело озеро, покрытое опавшим цветом диких яблонь.
Ночами по-девичьи перемигивались зарницы, и ночи
были короткие, как зарничный огневый всплеск. От
длинного рабочего дня не успевали отдыхать быки. На
выгоне пасся скот, вылинявший и ребристый.
Гаврила с Петром жили в степи неделю. Пахали, во-
лочили, сеяли, ночевали под арбой, одеваясь одним ту-
лупом, но никогда не говорил Гаврила о том, как креп-
ко, незримой путой, привязал к себе его новый сын.
Белокурый, веселый, работящий, заслонил собою образ
покойного Петра. О нем вспоминал Гаврила все реже.
За работой некогда стало вспоминать.
Дни шли воровской, неприметной поступью. Подошел
покос.
Как-то с утра провозился Петро с косилкой. На диво
Гавриле оправил в кузне ножи и сделал новые, взамен
поломанных; крылья. Хлопотал над косилкой с утра, а
смерилось — ушел в исполком: позвали на какое-то сове-
щание. В это время старуха, ходившая по воду, принес-
ла с почты письмо. Конверт был замусоленный и старый,
адрес на имя Гаврилы: с передачей товарищу Косых,
Николаю.
Томимый неясной тревогой, Гаврила долго вертел
в руках конверт с расплывчатыми буквами, размашисто
набросанными чернильным карандашом.
Поднимал и глядел на свет, но конверт ревниво хра-
нил чью-то тайну, и Гаврила невольно чувствовал нара-
стающую злобу к этому письму, изломавшему привыч-
ный покой.
256
На мгновение пришла мысль — изорвать его, но,
подумав, решил отдать. Петра встретил у ворог
новостью:
— Тебе, сынок, письмо откель-то.
— Мне? — удивился тот.
— Тебе. Иди читай!
Засветив в хате огонь, Гаврила острым, нащупываю-
щим взглядом следил за обрадованным лицом Петра,
читавшего письмо. Не вытерпел, спросил:
— Откель оно пришло?
— С Урала.
— От кого прописано? — полюбопытствовала ста-
руха.
— От товарищей с завода.
Гаврила насторожился:
— Всчет чего же пишут?
У Петра, темнея, померкли глаза, ответил нехотя:
— Зовут на завод... Собираются его пускать. С сем-
надцатого года стоял.
— Как же?.. Стало быть, поедешь? — глухо спросил
Гаврила.
— Не знаю...
* * *
Угловато осунулся и пожелтел Петро. По ночам слы-
шал Гаврила, как вздыхал он и ворочался на кровати.
Понял, после долгого раздумья, что не жить Петру в
станице, не лохматить плугом степную целинную черно-
зёмь. Завод, вскормивший Петра, рано или поздно, а оты-
мет его, и снова черной чередой заковыляют безрадост-
ные, одичалые дни. По кирпичику разметал бы Гаврила
ненавистный завод и место с землею сравнял бы, чтобы
росла на нем крапива да лопушился бурьян!..
На третий день на покосе, когда сошлись у стана на-
питься, заговорил Петро:
— Не могу, отец, оставаться! Поеду на завод... Тя-
нет, душу мутит...
— Аль плохо живется?..
— Не то... Завод свой, когда шел Колчак, мы защи-
щали полторы недели, девятерых колчаковцы повесили,
как только заняли поселок, а теперь рабочие, какие при-
шли из армии, снова поднимают завод на ноги... Смерт-
но голодают сами и семьи ихние, а работают... Как же я
могу жить тут? А совесть?..
257
— Чем пособишь-то? Рукой ить неправ.
Чудно говоришь, отец! Там каждой рукой доро-
жат!
— Не держу. Поезжай!.. — бодрясь, ответил Гаври-
ла.— Старуху обмани... скажи, что возвернешься... По-
живу, мол, и вернусь... а то затоскует, пропадет... один
ить ты у нас был...
И, цепляясь за последнюю надежду, шепотом, дыша
порывисто и хрипло:
— А может, в самом деле возвернешься? А? Неужли
не пожалеешь нашу старость, а?..
*
' * * *
Скрипела арба, разнобоисто шагали быки, из-под ко-
лес, шурша, осыпался рыхлый мел. Дорога, излучисто
скользившая вдоль Дона, возле часовенки заворачивала
влево. От поворота видны церкви окружной станицы я
зеленое затейливое кружево садов.
Гаврила всю дорогу говорил без умолку. Пытался
улыбаться.
— На этом месте года три назад девки в Дону по-
топли. Оттого и часовенка. — Он указал кнутовищем на
унылую верхушку часовни. — Тут мы с тобой и про-
стимся. Дальше дороги нету, гора обвалилась. Отсель
до станицы с версту, помаленечку дойдешь.
Петро поправил па ремне сумку с харчами и слез
с арбы. С усилием задушив рыдание, Гаврила кинул на
землю кнут и протянул трясущиеся руки:
— Прощай, родимый!.. Солнышко ясное смеркнется
без тебя у нас... — И, кривя изуродованное болью, мок-
рое от слез лицо, резко, до крика повысил голос: — По-
дорожники не забыл, сынок?.. Старуха пекла тебе... Не
забыл?.. Ну, прощай!.. Прощай, сынушка!..
Петро, прихрамывая, пошел, почти побежал по узень-
кой каемке дороги.
— .Ворочайся!.. — цепляясь за арбу, кричал Гаврила.
«Не вернется!..» — рыдало в груди невыплаканное
слово.
В последний раз мелькнула за поворотом родная бе-
локурая голова, в последний раз махнул Петро карту-
зом, и на том месте, где ступила его нога, ветер ду-
рашливо взвихрил и закружил белесую дымчатую
пыль.
258
ЖЕРЕБЕНОК
Среди белого дня возле навозной кучи, густо облеп-
ленной изумрудными мухами, головой вперед, с вытяну-
тыми передними ножонками, выбрался он из мамашиной
утробы и прямо над собою увидел нежный, сизый, таю-
щий комочек шрапнельного разрыва, воющий гул кинул
его мокренькое тельце под ноги матери. Ужас был пер-
вым чувством, изведанным тут, на земле. Вонючий град
картечи с цоканьем застучал по черепичной крыше ко-
нюшни и, слегка окропив землю, заставил мать жере-
бенка— рыжую Трофимову кобылицу — вскочить на
ноги и снова с коротким ржанием привалиться вспотев-
шим боком к спасительной куче.
В последовавшей’ затем знойной тишине отчетливей
зажужжали мухи, петух, по причине орудийного обстре-
ла не рискуя вскочить на плетень, где-то под сенью ло-
пухов разок-другой хлопнул крыльями и непринужденно,
но глухо пропел. Из хаты слышалось плачущее крях-
тенье раненого пулеметчика. Изредка он вскрикивал рез-
ким осипшим голосом, перемежая крики неистовыми ру-
гательствами. В палисаднике на шелковистом багрянце
мака звенели пчелы. За станицей в лугу пулемет докан-
чивал ленту, и под его жизнерадостный строчащий стук,
в промежутке между первым и вторым орудийными вы-
стрелами, рыжая кобыла любовно облизала первенца,
а тот, припадая к набухшему вымени матери, впервые
ощутил полноту жизни и неизбывную сладость материн-
ской ласки.
Когда второй снаряд жмякнулся где-то за гумном, из
хаты, хлопнув дверью, вышел Трофим и направился к
конюшне. Обходя навозную кучу, он ладонью прикрыл
от солнца глаза и, увидев, как жеребенок, подрагивая
от напряжения, сосет его, Трофимову, рыжую кобылу,
растерянно пошарил в карманах, дрогнувшими пальца-
ми нащупал кисет и, слюнявя цигарку, обрел дар речи:
— Та-а-ак... Значит, отелилась? Нашла время, не-
чего сказать. — В последней фразе сквозила горькая
обида.
К шершавым от высохшего пота бокам кобылы при-
липли бурьянные былки, сухой помет. Выглядела она
неприлично худой и жидковатой, но глаза лучили горде-
ливую радость, приправленную усталостью, а атласная
верхняя губа ежилась улыбкой. Так, по крайней мере,
259
казалось Трофиму. После того как поставленная в ко-
нюшню кобыла зафыркала, мотая торбой с зерном, Тро-
фим прислонился к косяку и, неприязненно косясь на
жеребенка, сухо спросил:
— Догулялась?
Не дождавшись ответа, заговорил снова:
— Хоть бы в Игнатова жеребца привела, а то черт
его знает в кого... Ну, куда я с ним денусь?
В темноватой тишине конюшни хрустит зерно, в двер-
ную щель точит золотистую россыпь солнечный кривой
луч. Свет падает на левую щеку Трофима, рыжий ус его
и щетина бороды отливают красниною, складки вокруг
рта темнеют изогнутыми бороздами. Жеребенок на тон-
ких пушистых ножках стоит, как игрушечный деревян-
ный конек.
— Убить его? — Большой, пропитанный табачной зе-
ленью палец Трофима кривится в сторону жеребенка.
Кобыла выворачивает кровянистое глазное яблоко,
моргает и насмешливо косится на хозяина.
* * *
В горнице, где помещался4 командир эскадрона, в
этот вечер происходил следующий разговор:
— Примечаю я, что бережется моя кобыла, рысью
не перебежит, намётом — не моги, опышка ее душит. До-
глядел, а она, оказывается, сжеребанная... Так уж берег-
лась, так береглась... Жеребчик-то масти гнедоватой...
Вот... — рассказывает Трофим.
Эскадронный сжимает в кулаке медную кружку с
чаем, сжимает так, как эфес палаша перед атакой, и
сонными глазами глядит на лампу. Над желтеньким
светлячком огня беснуются пушистые бабочки, в окно
налетают, жгутся о стекло, на смену одним — другие.
— ...безразлично. Гнедой или вороной — все равно.
Пристрелить. С жеребенком мы навродь цыганев будем.
— Что? Вот и я говорю, как цыгане. А ежели коман-
дующий, что тогда? Приедет осмотреть полк, а он будет
перед фронтом солонцевать и хвостом этак... А? На всю
Красную Армию стыд и позор. Я даже не понимаю,
Трофим, как ты мог допустить? В разгар гражданской
войны и вдруг подобное распутство... Это даже совестно.
Коноводам строгий приказ: жеребцов соблюдать от-
дельно.
260
Утром Трофим вышел из хаты с винтовкой. Солнце
еще не всходило. На траве розовела роса. Луг, истоптан-
ный сапогами пехоты, изрытый окопами, напоминал за-
плаканное, измятое горем лицо девушки. Около полевой
кухни возились кашевары. На крыльце сидел эскадрон-
ный в сопревшей от давнишнего пота исподней рубахе.
Пальцы, привыкшие к бодрящему холодку револьверной
рукоятки, неуклюже вспоминали забытое, родное — пле-
ли фасонистый половник для вареников. Трофим, прохо-
дя мимо, поинтересовался:
— Половничек плетете?
Эскадронный увязал ручку тоненькой хворостинкой,
процедил сквозь зубы:
— А вот баба — хозяйка — просит... Сплети да спле-
ти. Когда-то мастер был, а теперь не того... не удался.
— Нет, подходяще, — похвалил Трофим.
Эскадронный смел с колен обрезки хвороста,
спросил:
— Идешь жеребенка ликвидировать?
Трофим молча махнул рукой и прошел в конюшню.
Эскадронный, склонив голову, ждал выстрела. Про-
шла минута, другая — выстрела не было. Трофим вы-
вернулся из-за угла конюшни, как видно чем-то сму-
щенный.
— Ну, что?
— Должно, боек спортился... Пистон не пробивает.
— А ну, дай винтовку.
Трофим нехотя подал. Двинув затвором, эскадронный
прищурился.
— Да тут патрон нету!..
— Не могет быть!.. — с жаром воскликнул Трофим.
— Я тебе говорю, нет.
— Так я ж их кинул там... за конюшней...
Эскадронный положил рядом винтовку и долго вер-
тел в руках новенький половник. Свежий хворост был
медвяно пахуч и липок, в нос ширяло запахом цвету-
щего краснотала, землей попахивало, трудом, позабы-
тым в неуемном пожаре войны...
— Слушай!.. Черт с ним! Пущай при матке живет.
Временно и так далее. Кончится война — на нем еще
того... пахать. А командующий на случай чего войдет
в его положение, потому что молокан и должен сосать...
И командующий титьку сосал, и мы сосали, раз обычай
такой, ну и шабаш! А боек у твово винта справный.
261
* * *
Как-то, через месяц, под станицей Усть-Хоперской
эскадрон Трофима ввязался в бой с казачьей сотней.
Перестрелка началась перед сумерками. Смеркалось,
когда пошли в атаку. На полпути Трофим безнадежно
отстал от своего взвода. Ни плеть, ни удила, до крови
раздиравшие губы; не могли понудить кобылу идти на-
мётом. Высоко задирая голову, хрипло ржала она и топ-
талась на одном месте до тех пор, пока жеребенок, раз-
лопушив хвост, не догнал ее. Трофим прыгнул с седла,
пихнул в ножны шашку и с перекошенным злобой лицом
рванул с плеча винтовку. Правый фланг смешался с бе-
лыми. Возле яра из стороны в сторону, как под ветром,
колыхалась куча людей. Рубились молча. Под копытами
коней глухо гудела земля. Трофим на секунду глянул
туда и схватил на мушку выточенную голову жеребенка.
Рука ли дрогнула сгоряча, или виною промаха была еще
какая-нибудь причина, но после выстрела жеребенок
дурашливо взбрыкнул ногами, тоненько заржал и, вы-
брасывая из-под копыт седые комочки пыли, описал круг
и стал поодаль. Обойму не простых патронов, а броне-
бойных— с красно-медными носами — выпустил Трофим
в рыжего чертенка и, убедившись в том, что. бронебой-
ные пули (случайно попавшие из подсумка под руку) не
причинили ни вреда, ни смерти потомку рыжей кобылы,
вскочил на нее и, чудовищно ругаясь, трюпком поехал
туда, где бородатые краснорожие староверы теснили
эскадронного с тремя красноармейцами, прижимая их
к яру.
В эту ночь эскадрон ночевал в степи возле неглубо-
кого буерака. Курили мало. Лошадей не расседлывали.
Разъезд, вернувшийся от Дона, сообщил, что к переправе
стянуты крупные силы противника.
Трофим, укутав босые ноги в полы резинового плаща,
лежал, вспоминая сквозь дрему события минувшего дня.
Плыли перед глазами: эскадронный, прыгающий в яр,
щербатый старовер, крестящий шашкой политкома, в
прах изрубленный москлявенький казачок, чье-то седло,
облитое черной кровью, жеребенок...
Перед светом подошел к.Трофиму эскадронный, в по-
темках присел рядом.
— Спишь, Трофим?
— Дремаю.
262
Эскадронный, поглядывая на меркнувшие звезды,
сказал:
— Жеребца свово сничтожь! Наводит панику в бою...
Гляну на него, и рука дрожит... рубить не могу. А все
через то, что вид у него домашний, а на войне подобное
не полагается... Сердце из камня обращается в мочал-
ку... И, между прочим, не стоптали поганца в атаке, про-
меж ног крутился... — Помолчав, он мечтательно улыб-
нулся, но Трофим не видел этой улыбки. — Понимаешь,
Трофим, хвост у него, ну, то есть... положит на спину,
взбрыкивает, а хвост, каку лисы... Замечательный хвост!..
Трофим промолчал. Накрыл шинелью голову и, по-
драгивая от росной сырости, уснул с диковинной быст-
ротой.
* * *
Против старого монастыря Дон, притиснутый к горе,
мчится с бесшабашной стремительностью. На повороте
вода кучерявится завитушками, и зеленые гривастые
волны с наскока поталкивают меловые глыбы, рассыпан-
ные у воды вешним обвалом.
Если б казаки не заняли колена, где течение слабее,
а Дон шире и миролюбивей, и не начали оттуда обстрела
предгорья, эскадронный никогда не решился бы пере-
правлять эскадрон вплавь против монастыря. -
В полдень переправа началась. Небольшая комяга
подняла одну пулеметную тачанку с прислугой и тройку
лошадей. Левая пристяжная, не видавшая воды, испуга-
лась, когда на середине Дона комяга круто повернула
против течения и слегка накренилась набок. Под горой,
где спешенный эскадрон расседлывал лошадей, отчет-
ливо слышно было, как тревожно она храпела и стучала
подковами по деревянному настилу комяги.
— Загубит лодку! — хмурясь, буркнул Трофим и не
донес руку до потной спины кобылы: на комяге пристяж-
ная дико всхрапнула, пятясь к дышлу тачанки, стала
в ^ыбки.
— Стреляй!.. — заревел эскадронный, комкая плеть.
Трофим увидел, как наводчик повис на шее пристяж-
ной, сунул ей в ухо наган. Детской хлопушкой стукнул
выстрел, коренник и правая пристяжная плотней прижа-
лись друг к дружке. Пулеметчики, опасаясь за комягу,
придавили убитую лошадь к задку тачанки. Передние
ноги ее медленно согнулись, голова повисла...
263
Минут через десять эскадронный заехал с косы и пер-
вый пустил своего буланого в воду, за ним следом с гро-
хочущим плеском ввалился эскадрон — сто восемь полу-
голых всадников, столько же разномастных лошадей.
Седла перевозили на трех каюках. Одним из них правил
Трофим, поручив кобылу взводному Нечепуренко. С се-
редины Дона видел Трофим, как передние лошади, за-
бредая по колено, нехотя глотали воду. Всадники пону-
кали их вполголоса. Через минуту в двадцати саженях
от берега густо зачернели в воде лошадиные головы, по-
слышалось многоголосое фырканье. Рядом с лошадьми,
держась за гривы, подвязав к винтовкам одежду и под-
сумки, плыли красноармейцы.
Кинув в лодку весло, Трофим поднялся во весь рост
и, жмурясь от солнца, жадно искал глазами в куче плы-
вущих рыжую голову своей кобылы. Эскадрон похож
был на ватагу диких гусей, рассыпанную по небу вы-
стрелами охотников: впереди, высоко поднимая глянце-
витую спину, плыл буланый эскадронного, у самого хво-
ста его белыми пятнышками серебрились уши коня, при-
надлежавшего когда-то политкому, сзади плыли темной
кучей, а дальше всех, с каждой секундой отставая все
больше и больше, виднелись чубатая голова взводного
Нечепуренко и по левую руку от него острые уши Тро-
фимовой кобылы. Напрягая зрение, Трофим увидал
и жеребенка. Плыл он толчками, то высоко выбрасы-
ваясь из воды, то окунаясь так, что едва виднелись
ноздри.
И вот тут-то ветер, плеснувшийся над Доном, донес
до Трофима тонкое, как нитка паутины, призывное ржа-
ние: и-и-и-го-го-го!..
Крик над водой был звонок и отточен, как жало
шашки. Полоснул он Трофима по сердцу, и чудное сде-
лалось с человеком: пять лет войны сломал, сколько раз
смерть по-девичьи засматривала ему в глаза, и хоть бы
что, а тут побелел под красной щетиной бороды, побелел
до пепельной синевы — и, ухватив весло, направил лодку
против течения, туда, где в коловерти кружился обесси-
левший жеребенок, а саженях в десяти от него Нечепу-
ренко силился и не мог повернуть матку, плывшую к ко-
ловерти с хриплым ржанием. Друг Трофима, Стешка
Ефремов, сидевший в лодке на куче седел, крикнул
строго:
264
— Не дури! Правь к берегу! Видишь, вон они, ка-
заки!'..
— Убью! — выдохнул Трофим и потянул за ремень
винтовку.
Жеребенка течением снесло далеко от места, где пе-
реправлялся эскадрон. Небольшая коловерть плавно
кружила его, облизывая зелеными гребенчатыми вол-
нами. Трофим судорожно махал веслом, лодка двига-
лась скачками. На правом берегу из яра выскочили ка-
заки. Забарабанила басовитая дробь «максима». Чмо-
каясь в воду, шипели пули. Офицер в изорванной пару-
синовой рубахе что-то кричал, размахивая наганом.
Жеребенок ржал все реже, глуше и тоньше был ко-
роткий режущий крик. И крик этот до холодного ужаса
был похож на крик ребенка. Нечепуренко, бросив кобы-
лу, легко поплыл к левому берегу. Подрагивая, Трофим
схватил винтовку, выстрелил, целясь ниже головки, за-
сосанной коловертью, рванул с ног сапоги и с глухим
мычанием, вытягивая руки, плюхнулся в воду.
На правом берегу офицер в парусиновой рубахе гарк-
нул:
— Пре-кра-тить стрельбу!..
Через пять минут Трофим был возле жеребенка, ле-
вой рукой подхватил его под нахолодавший живот, за-
хлебываясь, судорожно икая, двинулся к левому берегу...
С правого берега не стукнул ни один выстрел.
Небо, лес, песок — все ярко-зеленое, призрачное... По-
следнее чудовищное усилие — и ноги Трофима скребут
землю. Волоком вытянул на песок ослизлое тельце жере-
бенка, всхлипывая, блевал зеленой водой, шарил по пе-
ску руками... В лесу гудели голоса переплывших эскад-
ронцев, где-то за косою дребезжали орудийные выстре-
лы. Рыжая кобыла стояла возле Трофима, отряхаясь и
облизывая жеребенка. С обвислого хвоста ее падала,
втыкаясь в песок, радужная струйка...
Качаясь, встал Трофим на ноги, прошел два шага по
песку и, подпрыгнув, упал на бок. Словно горячий укол
пронизал грудь; падая, услышал выстрел. Одинокий вы-
стрел в спину — с правого берега. На правом берегу
офицер в изорванной парусиновой рубахе равнодушно
двинул затвором карабина, выбрасывая дымящуюся
гильзу, а на песке, в двух шагах от жеребенка, кор-
чился Трофим, и жесткие посиневшие губы, пять лет не
целовавшие детей, улыбались и пенились кровью.
265
ШИБАЛКОВО СЕМЯ
— Образованная ты женщина, очки носишь, а того
не возьмешь в понятие... Куда я с ним денусь?..
Отряд наш стоит верстов сорок отсель, шел я пеши и
его на руках нес. Видишь, кожа на ногах порепалась?
Как ты есть заведывающая этого детского дома, то при-
ми дитя! Местов, говоришь, нету? А мне куда его? В до-
статочности я с ним страданьев перенес. Горюшка хлеб-
нул выше горла... Ну да, мой это сынишка, мое семя...
Ему другой год, а матери не имеет. С маманькой его во-
все особенная история была. Что ж, я могу и расска-
зать. Позапрошлый год находился я в сотне особого на-
значения. В ту пору гоняли мы по верховым станицам
Дона за бандой Игнатьева. Я в аккурат пулеметчиком
был. Выступаем как-то из хутора, степь голая кругом,
как плешина, и жарынь неподобная. Бугор перевалили,
под гору в лесок зачали спущаться, я на тачанке пере-
дом. Глядь, а на пригорке в близости навроде как баба
лежит. Тронул я коней, к ней правлюсь. Обыкновен-
но— баба, а лежит кверху мордой, и подол юбки выше
головы задратый. Слез, вижу — живая, двошит... Во-
ткнул ей в зубы шашку, разжал, воды из фляги плеснул,
баба оживела навовсе. Тут подскакали казаки из сотни,
допрашиваются у нее:
— Что ты собою за человек и почему в бессовестной
видимости лежишь вблизу шляха?..
Она как заголосит по-мертвому — насилу дознались,
что банда из-под Астрахани взяла ее в подводы, а тут
снасильничали и, как водится, кинули посередь путя...
Говорю я станишникам:
— Братцы, дозвольте мне ее на тачанку взять, как
она пострадавши от банды.
Тут зашумела вся сотня:
— Бери ее, Шибалок, на тачанку! Бабы, они живущй,
стервы, нехай трошки подправится, а там видно будет!
Что ж ты думаешь? Хоть и не обожаю я нюхать ба-
бьи подолы, а жалость к ней поимел и взял ее на свой
грех. Пожила, освоилась — то лохуны казакам высти-
рает, глядишь, латку на шаровары кому посодит, по
бабьей части за сотней надглядала. А нам уж как будто
и страмотно бабу при сотне содержать. Сотенный матю-
кается:
— За хвост ее, курву, да под ветер спиной!
266
А я жалкую по ней до высшего и до большего степе-
ни. Зачал ей говорить:
— Метись отсель, Дарья, подобру-поздорову, а то
присватается к тебе дурная пуля, после плакаться бу-
дешь...
Она в слезы, в крик ударилась:
— Расстрелы^ меня на месте, любезные казачки, а
не пойду от вас!
Вскорости убили у меня кучера, она и задает мне
такую заковырину: *
— Возьми меня в кучера? Я, дескать, с коньми могу
не хуже иного прочего обходиться...
Даю ей вожжи.
— Ежели, — говорю, — в бою не вспопашишься в два
счета тачанку задом обернуть — ложись посередь шляха
и помирай, все одно запорю!
Всем служилым казакам на диво кучеровала. Даром
что бабьего пола, а по конскому делу разбиралась хле-
ще иного казака. Бывало, на позиции так тачанку крут-
нет, ажник кони в дыбки становятся. Дальше—больше...
Начали мы с ней путаться. Ну, как полагается, забрюха-
тела она. Мало ли от нашего брата бабья страдает.
Этак месяцев восемь гоняли мы за бандой. Казаки в
сотне ржут:
— Мотри, Шибалок, кучер твой с харча казенного
какой гладкий стал, на козлах не умещается!
И вот выпала нам такая линия — патроны прикончи-
лись, а подвозу нет. Банда расположилась в одном кон-
це хутора, мы в другом. В очень секретной тайне содер-
жим от жителей, что патрон не имеем. Тут-то и получи-
лась измена. Посередь ночи — я в заставе был — слышу:
стоном гудет земля. Лавой идут по-за хутором и оцепить
пас имеют в виду. Прут в наступ, явственно без всяких
опасениев, даже позволяют себе шуметь нам:
— Сдавайтесь, красные казачки, беспатронники! А то,
братушки, нагоним вас на склизкое!..
Ну и нагнали... Так накрутили нам хвосты, что дове-
лось-таки мерять по бугру, чья коняка добрее. Поутру
собрались верстах в пятнадцати от хутора, в лесу, и
доброй половины своих недосчитались. Какие ушли,
а остатних порубали. Ущемила меня тоска — житья нету,
а тут Дарью хворь обротала. Верхи поскакалась ночью
и вся собой сменилась, почернела. Гляжу, покрутилась
с нами и пошла от становища в лес, в гущину. Я такое
267
дело смекнул и за ней по следу. Забилась она в яры, в
бурелом, вымоину Нашла и, как волчиха, листьев-пада-
лицы нагребла и легла спервоначалу вниз мордой, а пос-
ля на спину обернулась. Квохчет, счинается родить, я
за кустом не ворохнусь сижу, на нее скрозь ветки погля-
дываю... И вот она кряхтит-кряхтит, потом зачинает по-
крикивать, слезы у ней по щекам, а сама вся зеленью
подернулась, глаза выпучила, тужится, ажник судорога
ее выгинает. Не казачье это дело, а гляжу и вижу — не
разродится баба, помрет... Выскочил я из-за куста, под-
бег к ней, смекаю, что надо мне ей помочь оказать. На-
гнулся, рукава засучил, и такая меня оторопь взяла, по-
том весь взмок. Людей доводилось убивать — не робел,
а тут поди вот! Вожусь около нее, она перестала выть
и такую мне запаливает хреновину:
— Знаешь, Яша, кто банде сообчил, что у нас патро-
нов нет? — и глядит на меня сурьезно так.
— Кто? — спрашиваю у ней.
- Я.
— Что ты, дурная, собачьей бесилы обтрескалась?
Не тот час, чтоб гутарить, молчи лежи!..
Она опять свое:
— Смертынька в головах у меня стоит, повинюсь
перед тобой я, Яша... Не знаешь ты, какую змею под ру-
бахой грел...
— Ну, винись, — говорю, — ляд с тобой!
Тут она и выложила. Рассказывает, а сама головою
оземь бьется.
— Я,— говорит, — в банде своей охотой была и тя-
галась с ихним главачом Игнатьевым... Год назад по-
слали они меня в вашу сотню, чтоб всякие сведения я
им сообчала, а для видимости я и представилась снасп-
лованной... Помираю, а то в дальнеющем я бы всю сот-
ню перевела...
Сердце у меня тут прикипело в грудях, и не мог я
стерпеть — вдарил ее сапогом и рот ей раскровянил. Но
тут у ней схватки заново начались, и вижу я — промеж
ног у нее образовалось дите... Мокрое лежит и верещит,
как зайчонок на зубах у лисы... А Дарья уж и плачет и
смеется, в ногах у меня полозит и все колени мои норо-
вит обнять... Повернулся я и пошел от нее до сотни.
Прихожу и говорю казакам —так и так...
Поднялась промеж них киповень. Спервоначалу хо-
тели меня порубать, а посля и говорят мне:
268
— Ты примолвил ее, Шибалок, ты должен ее и при-
кончить, совсем с,новорожденным отродьем, а нет — тебя
на капусту посекем...
Стал я на колени и говорю:
— Братцы! Убью я ее не из страху, а по совести, за
тех братов-товарищев, какие головы поклали через ее
изменшество, но поимейте вы сердце к дитю. В нем мы
с ней половинные участники, мое это семя, и пущай жи-
вым оно остается. У вас жены и дети есть, а у меня,
окромя его, никого не оказывается...
Просил сотню и землю целовал. Тут они поимели ко
мне жалость и сказали:
— Ну, добре! Нехай твое семя растет, и нехай из
него выходит такой же лихой пулеметчик, как и ты, Ши-
балок. А бабу прикончь!
Кинулся я к Дарье. Она сидит, оправилась и дитя на
руках держит.
Я ей и говорю:
— Не дам я тебе дитя к грудям припущать. Коли
родился он в горькую годину —пущай не знает матери-
ного молока, а тебя, Дарья, должен я убить за то, что ты
есть контра нашей советской власти. Становись к яру
спиной!..
— Яша, а дите? Твоя плоть. Убьешь меня, и оно по-
мрет без молока. Дозволь мне его выкормить, тогда уби-
вай, я согласна...
— Нет, — говорю я ей, — сотня мне строгий наказ,
дала. Не могу я тебя в живых оставить, а за дитя не
сумлевайся. Молоком кобыльим выкормлю, к смерти не
допущу.
Отступил я два шага назад, винтовку снял, а она
ноги мне обхватила и сапоги целует...
После этого иду обратно, не оглядываюсь, в руках
дрожание, ноги подгибаются, и дите, склизкое, голое, из
рук падает...
Дён через пять тем местом назад ехали. В лощине
над лесом воронья туча... Хлебнул я горюшка с этим ди-
тем.
— За ноги его да об колесо!.. Что ты с ним стра-
даешь, Шибалок? — говорили, бывало, казаки.
А мне жалко постреленка до крайности. Думаю: «Не-
хай растет, батьке вязы свернут — сын будет власть со-
ветскую оборонять. Все память по Якову Шибалку бу-
дет, не бурьяном помру, потомство оставлю...» Попервам,
269
веришь, добрая гражданка, слезьми плакал с ним, да-
ром что извеку допрежь слез не видал. В сотне кобыла
ожеребилась, жеребенка мы пристрелили, ну вот и поль-
зовали его молоком. Не берет, бывало, соску, тоскует,
потом свыкся, соску дудолил не хуже, чем материну
титьку иное дите.
Рубаху ему из своих исподников сшил. Сейчас он ма-
ленечко из ней вырос, ну да ничего, обойдется...
Вот теперича ты и войди в понятие: куда мне с ним
деваться? Мал дюже, говоришь? Он смышленый и жевки
потребляет... Возьми его от лиха! Берешь?.. Вот спасибо,
гражданка!.. А я, как толечко разобьем фоминовскую
банду, надбегу его проведать.
Прощай, сынок, семя Шибалково!.. Расти... Ах, сукин
сын! Ты за что же отца за бороду трепаешь? Я ли тебя
не пестал? Я ли с тобой не нянчился, а ты драку заво-
дишь под конец? Ну, давай на расставанье в маковку
тебя поцелую...
Не беспокойтеся, добрая гражданка, думаете — он
кричать будет? Не-е-ет!.. Он у нас трошки из большеви-
ков, кусаться—кусается, нечего греха таить, а слезу из
него не вышибешь!..
НАХАЛЕНОК
Снится Мишке, будто дед срезал в саду здоровенную
вишневую хворостину, идет к нему, хворостиной машет,
а сам строго так говорит:
— А ну, иди сюда, Михайло Фомич, я те полохану по
тем местам, откель ноги растут!..
— За что, дедуня? — спрашивает Мишка.
— А за то, что ты в курятнике из гнезда чубатой ку-
рицы все яйца покрал и на каруселю отнес, прокатал!..
— Дедуня, я нонешний год не катался на карусе-
лях!— в страхе кричит Мишка.
Но дед степенно разгладил бороду да как топнет но-
гой:
— Ложись, постреленыш, и спущай портки!..
Вскрикнул Мишка и проснулся. Сердце бьется, слов-
но в самом деле хворостины отпробовал. Чуточку открыл
левый глаз — в хате светло. Утренняя зорька теплится
за окошком. Приподнял Мишка голову, слышит в сен-
цах голоса: мамка визжит, лопочет что-то, смехом за-
270
хлебывается, дед кашляет, а чей-то чужой голос: «Бу-
бу-бу...»
Протер Мишка глаза и видит: дверь открылась, хлоп-
нула, дед в горницу бежит, подпрыгивает, очки на носу
у него болтаются. Мишка сначала подумал, что поп с
певчими пришел (на пасху когда приходил он, дед так
же суетился), да следом за дедом прет в горницу чужой
большущий солдат в черной шинели и в шапке с лен-
тами, но без козырька, а мамка на шее у него висит,
воет.
Посреди хаты стряхнул чужой человек мамку с шеи
да как гаркнет:
— А где мое потомство?
Мишка струхнул, под одеяло забрался.
— Мйнюшка, сыночек, что же ты спишь? Батянька
твой со службы пришел! — кричит мамка.
Не успел Мишка глазом моргнуть, как солдат сграба-
стал его, подкинул под потолок, а потом прижал к груди
и ну рыжими усами, не на шутку, колоть губы, щеки,
глаза. Усы в чем-то мокром, соленом. Мишка выры-
ваться, да не тут-то было.
— Вон у меня какой большевик вырос!.. Скоро бать-
ку перерастет!.. Го-го-го!.. — кричит батянька и знай себе
пестает Мишку — то на ладонь посадит, вертит, то опять
до самой потолочной перекладины подкидывает.
Терпел, терпел Мишка, а потом брови сдвинул по-де-
довски, строгость на себя напустил и за отцовы усы ухва-
тился.
— Пусти, батянька!
— Ан вот не пущу!
— Пусти! Я уже большой, а ты меня, как детенка,
нянчишь!..
Посадил отец Мишку к себе на колено, спрашивает
улыбаясь:
— Сколько ж тебе лет, пистолет?
— Восьмой идет, — поглядывая исподлобья, буркнул
Мишка.
— А помнишь, сынушка, как в позапрошлом годе я
тебе пароходы делал? Помнишь, как мы в пруду их пу-
щали?
— Помню!.. — крикнул Мишка и несмело обхватил
руками батянькину шею.
Тут и вовсе пошло развеселье: посадил отец Мишку
верхом к себе на шею, за ноги держит и по горнице
27!
кругом, кругом, а потом как взбрыкнет, как заржет по-
лошадиному, у Мишки от восторга аж дух занялся. Мать
за рукав его тянет, орет:
— Иди на двор, играйся!.. Иди, говорят тебе, вар-
нак этакий! — И отца просит: — Пусти его, Фома Аки-
мыч! Пусти, пожалуйста!.. Не даст он и поглядеть на
тебя, сокола ясного. Два года не видались, а ты с ним
займаешься!
Ссадил Мишку отец на пол и говорит:
— Беги, с ребятами играйся, опосля придешь, я тебе
гостинцев дам.
Притворил Мишка за собой дверь, сначала думал по-
слушать в сенцах, о чем будет разговор в хате, но потом
вспомнил: никто еще из ребят не знает, что пришел ба-
тянька, — и через двор, по огороду, топча картофельные
лунки, пыхнул к пруду.
Выкупался Мишка в вонючей, застоявшейся воде, об-
валялся в песке, нырнул в последний раз и, чикиляя на
одной ноге, натянул штанишки. Совсем было собрался
идти домой, но тут подошел к нему Витька — попов сы-
нок.
— Не уходи, Мишка! Давай искупаемся и пойдем к
нам играть. Тебе мамочка разрешила приходить к нам.
Мишка левой рукой поддернул сползающие штаниш-
ки, поправил на плече помочь и нехотя сказал:
— Я с тобой не хочу играть. У тебя из ушей воняет
дюже!..
Витька ехидно прищурил левый глаз, сказал, стаски-
вая с костлявых плеч вязаную рубашечку:
— Это от золотухи, а ты — мужик, и тебя мать под
забором родила!..
— А ты видал?
— Я слыхал, как наша кухарка рассказывала ма-
мочке.
Мишка разгреб ногой песок и глянул на Витьку
сверху вниз:
— Брешет твоя мамочка! Зато мой батянька на
войне воевал, а твой — кровожад и чужие пироги тре-
скает!..
— Нахаленок!.. — кривя губы, крикнул попович.
Мишка схватил Обточенный водой камешек-голыш,
по попович сдержал слезы и очень ласково улыбнулся:
— Ты не дерись, Миша, не сердись! Хочешь, я тебе
отдам свой кинжал, какой из железа сделал?
272
Мишкины глаза блеснули радостью, отшвырнул в
сторону голыш, но, вспомнив про отца, сказал гордо:
— Мне батянька получшей твоего с войны принес!
— Вре-ошь? — недоверчиво протянул Витька.
— Сам врешь!.. Раз говорю — принес, значится —
принес! — И заправское ружье...
— Подумаешь, какой ты стал богатый! — завистливо
усмехнулся Витька.
— И ишо у него есть шапка, а па шапке висят мах-
ры и золотые слова прописаны, как у тебя в книжках.
Витька долго думал, чем бы удивить Мишку, мор-
щил лоб и почесывал бледный живот.
— А мой папочка скоро будет архиреем, а твой был
пастухом. Ага, что?..
Мишке надоело стоять, повернулся и пошел к огоро-
ду. Попович его окликнул:
— Миша, Миша, я что-то скажу тебе!
— Говори.
— Подойди ко мне!..
Мишка подошел и подозрительно скосился:
— Ну, говори!
Попович заплясал по песку на тоненьких кривых
ножках, улыбаясь, злорадно крикнул:
— Твой отец — коммуняка! Вот как только помрешь
ты и душа твоя прилетит на небо, а бог и скажет: «За
то, что твой отец был коммунистом, — отправляйся в
ад!..» И начнут тебя там черти на сковородках поджа*
ривать!..
— А тебя, думаешь, не зачнут поджаривать?
— Мой папочка — священник!.. Ты ведь дурак необ-
разованный и ничего не понимаешь...
Мишке стало страшно. Повернулся и молча побежал
домой.
У огородного плетня остановился, крикнул, грозя по-
повичу кулакомг
— Вот спрошу у дедушки. Коли брешешь — не ходи
мимо нашего двора!
Перелез через плетень, к дому бежит, а перед гла-
зами сковородка, и на ней его, Мишку, жарят... Горячо
сидеть, а кругом сметана кипит и пенится пузырями.
По спине мурашки, скорее бы до деда добежать, рас-
спросить...
Как на грех, в калитке свинья застряла. Голова с
той стороны, а сама с этой, ногами в землю упирается,
10 Зак. № 4'jo 973
хвостом крутит и пронзительно визжит. Мишка — выру-
чать: попробовал калитку открыть — свинья хрипеть на-
чинает. Сел на нее верхом, свинья поднатужилась, вы-
вернула калитку, ухнула и по двору к гумну вскачь.
Мишка пятками в бока ее толкает, мчится так, что вет-
ром волосы назад закидывает. У гумна соскочил —
глядь, а дед на крыльце стоит и пальцем манит:
— Подойди ко мне, голубь мой!
Не догадался Мишка, зачем дед кличет, а тут опять
про адскую сковородку вспомнил и — рысью к деду.
— Дедуня, дедуня, а на небе черти бывают?
— Я тебе зараз всыплю чертей!.. Поплюю в кой-ка-
кие места да хворостиной высушу!.. Ах ты, лихоманец
вредный, ты на что же это свинью объезжаешь?..
Сцапал дед Мишку за вихор, зовет из горницы
мать:
— Поди на своего умника полюбуйся!
Выскочила мать:
— За что ты его?
— Как же за что? Гляжу, а он по двору на свинье
скачет, аж ветер пыльцу схватывает!..
— Это он на супоросой свинье катался? — ахнула
мать.
Не успел Мишка рта раскрыть в свое оправдание,
как дед снял ремешок, левой рукой портки держит,
чтобы не упали, а правой Мишкину голову промеж ко-
лен просовывает. Выпорол и при этом очень строго го-
ворил:
— Не езди на свинье!.. Не езди!..
Мишка вздумал было крик поднять, а дед и говорит:
— Значит, ты, сукин кот, не жалеешь батяньку? Он
с дороги уморился, прилег уснуть, а ты крик поды-
маешь?
Пришлось замолчать. Попробовал брыкнуть деда но-
гой— не достал. Подхватила мать Мишку—в хату
толкнула:
— Сиди тут, сто чертов твоей матери!.. Я до тебя до-
берусь— не по-дедовски шкуру спущу!..
Дед в кухне на лавке сидит, изредка на Мишкину
спину поглядывает.
Повернулся Мишка к деду, размазал кулаком по-
следнюю слезу, сказал, упираясь в дверь задом:
— Ну, дедунюшка... попомни!
— Ты что ж это, поганец, деду грозишь?.
274
'Мишка видит, как дед снова расстегивает ремень, и
заблаговременно чуточку приоткрывает дверь.
— Значит, ты мне грозишь? — переспрашивает дед.
Мишка вовсе исчезает за дверью. Выглядывая в
щелку, пытливо караулит каждое движение деда, потом
заявляет:
— Погоди, погоди, дедунюшка!.. Вот выпадут у тебя
зубы, а я жевать тебе не буду!.. Хоть не проси тогда!
Дед выходит на крыльцо и видит, как по огороду, по
зеленым лохматым коноплям ныряет Мишкина голова,
мелькают синие штанишки. Долго грозит ему дед ко-
стылем, а у самого в бороде хоронится улыбка.
* * *
Для отца он — Минька. Для матери — Мйнюшка.
Для деда — в ласковую минуту — постреленыш, в
остальное время, когда дедовские брови седыми лох-
мотьями свисают на глаза, — «эй, Михайло Фомич, иди,
я тебе уши оболтаю!».
А для всех остальных: для соседок-пересудок, для
ребятишек, для всей станицы — Мишка и «нахаленок».
Девкой родила его мать. Хотя через месяц и обвен-
чалась с пастухом Фомою, от которого прижила дитя,
но прозвище «нахаленок» язвой прилипло к Мишке,
осталось на всю жизнь за ним.
Мишка собой щуплый, волосы у него с весны были
как лепестки цветущего подсолнечника, в июне солнце
обожгло их жаром, взлохматило пегими вихрами; щеки,
точно воробьиное яйцо, исконопатило веснушками, а нос
от солнышка и постоянного купанья в пруду облупился,
потрескался шелухой. Одним хорош колченогенький
Мишка — глазами. Из узеньких прорезей высматривают
они, голубые и плутовские, похожие на нерастаявшие
крупинки речного льда.
Вот за глаза-то да за буйную непоседливость и лю-
бит Мишку отец. Со службы принес он сыну в подарок
старый-престарый, зачерствевший от времени вяземский
пряник и немножко приношенные сапожки. Сапоги мать
завернула в полотенце и прибрала в сундук, а пряник
Мишка в тот же вечер раскрошил на пороге молотком
и съел до последней крошки.
На другой день проснулся Мишка с восходом солн-
ца. Набрал из чугуна пригоршню степлившейся воды,
275
размазал по щекам вчерашнюю грязь, просыхать выбе-
жал на двор.
Мамка возится возле коровы, дед на завалинке по-
сиживает. Подозвал Мишку:
— Скачи, постреленыш, под амбар! Курица там ку-
дахтала, должно яйцо обронила.
Мишка деду всегда готов услужить: на четвереньках
юркнул под амбар, с другой стороны вылез и был таков!
По огороду взбрыкивает, бежит к пруду, оглядывает-
ся — не смотрит ли дед? Пока добежал до плетня, ноги
крапивой обстрекал. А дед ждет, покряхтывает. Не до-
ждался и пополз под амбар. Вымазался куриным поме-
том, жмурясь от парной темноты и больно стукаясь го-
ловой о перекладины, дополз до конца.
— Экий ты дуралей, Мишка, право слово!.. Ищешь,
ищешь и не найдешь!.. Разве курица, она будет тут
несться? Вот тут, под камешком, и должно быть яйцо.
Где ты тут полозишь, постреленыш?
Деду в ответ тишина. Отряхнул с портов прилипшие
комочки навоза, вылез из-под амбара. Щурясь, долго
глядел на пруд, увидал Мишку и рукой махнул...
Ребята возле пруда окружили Мишку, спрашивают:
— Твой батянька на войне был?
— Был.
— А что он там делал?
— Известно что — воевал!..
— Брешешь!.. Он вшей там убивал и при кухне
мослы грыз!..
Захохотали ребята, пальцами в Мишку тычут, пры-
гают вокруг. От горькой обиды слезы навернулись у
Мишки на глазах, а тут еще Витька-попович больно за-
дел его.
— А твой отец коммунист?.. — спрашивает.
— Не знаю...
— Я знаю, что коммунист. Папочка сегодня. утром
говорил, что он продал душу чертям. И еще говорил, что
всех коммунистов будут скоро вешать!..
Ребята примолкли, а у Мишки сжалось сердце. Ба-
тяньку его будут вешать — за что? Крепко сжал зубы и
сказал:
— У батяньки большущее ружье, и он всех бур-
жуев поубивает!
Витька, выставив вперед ногу, сказал торжествующе:
— Руки у него коротки! Папочка не даст ему свя-
276
того благословения, а без святости он ничего не сде-
лает!..
Прошка, сын лавочника, раздувая ноздри, толкнул
Мишку в грудь и крикнул:
— А ты не дюже со своим батянькой!.. Он у моего
отца товары забирал, как поднялась революция, и отец
сказал: «Ну, нешто не перевернется власть, а то Фомку-
пастуха первого убью!..»
Наташка, Прошкина сестра, топнула ногой:
— Бейте его, ребята, что смотреть?!
— Бей коммунячьего сына!..
— Нахаленок!..
— Звездани его, Прошка!
Прошка взмахнул прутом и ударил Мишку по плечу,
Витька-попович подставил ногу, и Мишка навзничь,
грузно шлепнулся на песок.
Ребята заорали, кинулись на него. Наташка тонень-
ко визжала и ногтями царапала Мишкину шею. Кто-то
ногою больно ударил его в живот.
Мишка, стряхнув с себя Прошку, вскочил и, виляя
по песку, как заяц от гончих, пустился домой. Вслед
ему засвистали, бросили камень, по догонять не побе-
жали.
Только тогда перевел Мишка дух, когда с головой
окунулся в зеленую колючую заросль конопли. Присел
на влажную пахучую землю, вытер с расцарапанной
шеи кровь и заплакал; сверху, пробираясь сквозь ли-
стья, солнце старалось заглянуть Мишке в глаза, су-
шило на щеках слезы и ласково, как маманька, цело-
вало его в рыжую вихрастую маковку.
Сидел долго, пока не высохли глаза; потом встал и
тихонько побрел во двор.
Под навесом отец смазывает дегтем колеса повозки.
Шапка у него съехала на затылок, ленты висят, а синяя
рубаха на груди в белых полосах. Подошел Мишка бо-
ком и стал возле повозки. Долго молчал. Осмелившись,
тронул батянькину руку, спросил шепотом:
— Батя, ты на войне что делал?
Отец улыбнулся в рыжие усы, сказал:
— Воевал, сыночек!
— А ребята... ребята гутарят, что ты там только
вшей убивал!..
Слезы вновь перехватили Мишкино горло. Отец за-
смеялся и подхватил Мишку на руки.
277
— Брешут они, мой родный! Я на пароходе плавал.
Большой пароход по морю ходит, вот на нем-то я и
плавал, а потом пошел воевать.
— С кем ты воевал?
— С господами воевал, мой любонький. Ты еще мал,
вот и пришлось мне на войну идти за тебя. Про это и
песня поется.
Отец улыбнулся и, глядя на Мишку, притопывая но-
гой, запел потихоньку:
Ой, Михаил, Михаля, Михалятко ты мое!
Не ходи ты на войну, нехай батько иде.
Батько — старенький, на свити нажився...
А ты — молоденький, тай те не женцвся...
Мишка забыл про обиду, нанесенную ему ребятами,
и засмеялся — оттого, что у отца рыжие усы затопорщи-
лись над губой, как сибирьки, из каких маманька ве-
ники вяжет, а под усами смешно шлепают губы и рот
раскрыт круглой черной дыркой.
— Ты мне сейчас не мешай, Минька;—сказал
отец, — я повозку буду чинить, а вечером спать ляжешь,
и я тебе про войну все расскажу!
* * *
День растянулся, как длинная глухая дорога в сте-
пи. Солнце село, по станице прошел табун, улеглась
пыль, и с почерневшего неба застенчиво глянула первая
звездочка.
Мишку одолевает нетерпение, а мать, как нарочно,
долго провозилась у коровы, долго цедила молоко, в по-
греб полезла и там прокопалась битый час. Мишка вью-
ном около нее крутится.
— Скоро вечерять будем?
— Успеешь, непоседа, оголодал!..
Но Мишка ни на шаг не отстает от нее: мать в по-
греб— и он за ней, мать на кухню — и он следом. Пияв-
кой присосался, за подол уцепился, волочится:
— Ма-а-амка!.. Ско-реича вечерять!..
— Да отвяжись ты, короста липучая!.. Жрать захо-
тел— взял кусок и лопай!
А Мишка не унимается. Даже подзатыльник, схва-
ченный от матери, и тот не помог.
За ужином кое-как наспех поглотал хлёбова и —
278
опрометью в горницу. Далеко за сундук швырнул шта-
нишки, с разбегу нырнул в постель под материно одея-
ло, сшитое из разноцветных лоскутьев. Притаился и
ждет, когда придет батянька про войну рассказывать.
Дед на коленях стоит перед образами, шепчет молит-
вы, поклоны отстукивает. Приподнял Мишка голову:
дед, трудно сгибая спину, пальцами левой руки в поло-
вицу упирается и лбом в пол — стук!.. А Мишка локтем
в стену — бух!..
Дед опять пошепчет, пошепчет и поклон стукает.
Мишка себе в стену бухает. Рассердился дед, повер-
нулся к Мишке:
— Я тебе, окаянный, прости, господи!.. Постучи у
меня, я те стукну!
Ьыть бы драке, но в горницу вошел отец.
— Ты зачем же, Минька, тут лег? — спрашивает.
— Яс маманькой сплю.
Отец сел на кровать и молча начал крутить усы. По-
том, подумав, сказал:
— А я тебе в горнице с дедом постелил...
— Яс дедом не ляжу!..
— Это почему ж?..
~ У него от усов табаком дюже воняет!
Отец опять покрутил усы и вздохнул:
— Нет, сынок, ты уж ложись с дедом...
Мишка натянул на голову одеяло и, выглядывая од-
ним глазом, обиженно сказал:
•— Вчерась ты, батянька, лег на моем месте и нын-
че... Ложись ты с дедом!
Сел на кровати и, обхватив руками отцову голову,
прошептал:
— Ты ложись с дедом, а то маманька с тобой, дол-
жно быть, не будет спать! От тебя тоже табаком воняет!
— Ну ладно, ляжу с дедом, а про войну рассказы-
вать не буду.
Отец поднялся и пошел в кухню.
— Батянька!
- Ну?
— Ложись уж тут... — вздыхая, сказал Мишка и
встал. — А про войну расскажешь?
— Расскажу.
Дед лег к стенке, а Мишку положил с краю. Немно-
го погодя пришел отец. Придвинул к кровати скамейку,
сел и закурил вонючую цигарку.
279
— Видишь, оно какое дело было... Помнишь, зг
шим гумном когда-то был посев лавочника?..
Мишке припомнилось, как раньше бегал он по души-
стой высокой пшенице. Перелёзет через каменную ого-
рожу гумна и — в хлеба. Пшеница с головой его хоро-
нит, тяжелые черноусые колосья щекочут лицо. Пахнет
пылью, ромашкой и степным ветром. Маманька говори-
ла, бывало, Мишке:
— Не ходи, Мипюшка, далеко в хлеба, а то заблу-
дишься!..
Батянька помолчал и сказал, гладя Мишку по го-
лове:
— А помнишь, как ты со мной ездил за Песчаный
курган? Хлеб наш там был...
И опять припомнилось Мишке: за Песчаным курга-
ном вдоль дороги узенькая, кривая полоска хлеба. При-
ехал Мишка с отцом туда, а полоса вся скотом потрав-
лена. Лежат грязными ворохами втолоченные в землю
колосья, под ветром качаются пустые стебли. Помнит
Мишка, как батянька, такой большой и сильный, страш-
но кривил лицо и по запыленным щекам его скупо текли
слезы. Мишка тоже плакал тогда, глядя на него...
Обратной дорогой спросил отец у бахчевника:
— Скажи, Федот, кто потравил мой хлеб?
Бахчевник сплюнул под ноги и ответил:
— Лавочник гнал скотину на рынок и нарочно запу-
стил на твою полосу...
...Отец придвинул скамью ближе, заговорил:
— Лавочник и остальные богатеи позаняли всю зем-
лю, а бедным сеять было не на чем. Вот так везде было,
не в одной нашей станице. Шибко обижали они нас
тогда... Жить стало туго, нанялся я в пастухи, а потом
забрали меня на службу. На службе мне было плохо,
офицеры за всякую малость в морду били... А потом
объявились большевики, и старшой у них —по прозви-
щу Ленин. Сам-то собой он вроде немудрящий, но ума
дюже ученого, даром что наших, мужицких, кровей.
Задали большевики нам такую заковырину, что мы и
рты пораззявили. «Что вы, — говорят, — мужики и рабо-
чие, раззяву-то ловите?.. Гоните господ и начальство в
три шеи да поганой метлой! Все — ваше!..»
Вот этими словами и придавили они нас. Пораски-
нули мы умишками — верно. Отобрали у господ землю
и имения, но их затошнило от поганого житья, нащети-
280
вились и прут на нас, на мужиков и рабочих, войной...
Понял, сынок?
А тот самый Ленин — старшой у большевиков — на-
род поднял, ровно пахарь полосу плугом. Собрал сол-
дат и рабочих и ну наколупывать господ! Аж пух и
перья с них летят! Стали солдаты и рабочие прозывать-
ся Красной гвардией. Вот и я был в Красной гвардии.
Жили мы в большущем доме, звался он Смольным.
Сенцы там, сынок, длиннющие и горниц так много, что
заплутаться можно.
Стою я раз ночью, караулю вход. Холодно на дворе,
а у меня одна шинель. Ветер так и нижет... Только вы-
шли из этого дома два человека и идут мимо меня. Под-
ходят они ближе, и угадываю я в одном из них Ленина.
Подошел ко мне, спрашивает ласково:
— Не холодно вам, товарищ?
А я ему и говорю:
— Нет, товарищ Ленин, не то что холод, но и ника-
кие враги не сломят нас! Не для того мы забрали
власть в свои руки, чтобы отдать ее буржуазам!..
Он засмеялся и руку мне жмет крепко. А потом по-
шел потихоньку к воротам.
Отец помолчал, достал из кармана кисет, зашелестел
бумагой, закуривая, чиркнул спичкой, и на рыжем ще-
тинистом усе увидал Мишка светлую и блестящую сле-
зинку, похожую на каплю росы, какие по утрам висят
на кончиках крапивных листьев.
— Вот какой он был. Обо всех заботу нес. Об каж-
дом солдате сердцем хворал... После этого часто я его
видал. Идет мимо меня, увидит еще вон откель, улыб-
нется и спрашивает:
— Так не сломят нас буржуи?
— В носе у них не кругло, товарищ Ленин! — быва-
ло, скажу ему.
По его слову и вышло, сынок! Землю и фабрики мы
забрали, а богатеев — кровососов наших-г по боку!..
Вырастешь—не забывай, что твой батянька матросом
был и за коммунию четыре года кровь проливал. К тем
годам и я помру и Ленин помрет, а дело наше до веку
живо будет!.. Когда вырастешь — будешь воевать за со-
ветскую власть, как твой батька воевал?
— Буду! — крикнул Мишка, вскочил на кровати, хо-
тел с размаху повиснуть на батянькиной шее, да забыл,
что рядом дед лежит, ногой на живот ему наступил.
281
Дед как крякнет, руку протянул, хотел сцапать Миш-
ку за вихор, но батянька схватил Мишку на руки и по-
нес 6 горницу.
На руках у него Мишка и уснул. Сначала долго ду-
мал о диковинном человеке — Ленине, о большевиках,
о войне, о пароходах. Сначала сквозь дрему слышал
сдержанные голоса, ощущал сладкий запах пота и ма-
хорки, потом глаза слиплись, веки словно кто ладонями
придавил.
Не успел уснуть, увидал во сне город: улицы широ-
кие, куры в просыпанной золе купаются; на что в ста-
нице их многое множество, а в городе куда больше.
Дома точь-в-точь, как отец рассказывал: большущая
хата, крытая свежим камышом, на трубе у нее стоит
ещё одна хата, у той на трубе еще одна, а труба самой
верхней хаты в небо воткнулась.
Идет Мишка по улице, голову кверху задирает, рас-
сматривает, и вдруг откуда ни возьмись шасть ему на-
встречу высоченный человек в красной рубахе.
— Ты, Мишка, почему без делов шляешься? — спра-
шивает он очень ласково.
*— Меня дедуня пустил поиграть, — отвечает Мишка.
А ты знаешь, кто я такой?
Нет, не знаю...
— Я — товарищ Ленин!..
У Мишки со страху колени подогнулись. Хотел тягу
задать, но человек в красной рубахе взял его, Мишку,
за рукав и говорит:
— Совести у тебя, Мишка, и на ломаный грош нету!
Хорошо ты знаешь, что я за бедный народ воюю, а по-
чему-то в мое войско не поступаешь?..
— Меня дедуня не пущает!.. — оправдывается
Мишка.
•— Ну как хочешь, — говорит товарищ Ленин,—
а без тебя у меня — неуправка! Должон ты ко мне в
войско вступить, и шабаш!..
Мишка взял его за руку и сказал очень твердо:
— Ну ладно, я без спросу поступлю в твою войску
и буду воевать за бедный народ. Но ежели дедуня меня
за это зачнет хворостиной драть, тогда ты за меня за-
ступись!..
— Обязательно заступлюсь! — сказал товарищ Ле-
нин и с тем пошел по улице, а Мишка почувствовал,
282
как от радости у него захватило дух, нечем дыхнуть;
хочет он что-то крикнуть — язык присох...
Дрогнул Мишка на постели, брыкнул деда ногами и
проснулся.
Дед во сне мычит, жует губами, а в оконце видно,
как за прудом нежно бледнеет небо и розовой кровяни-
стой пеной клубятся плывущие с востока облака.
* * *
С тех пор каждый вечер рассказывал отец Мищке
про войну, про Ленина, про то, в каких краях бывал.
В субботу вечером сторож из исполкома привел во
двор низенького человека в шинели и с кожаным голе-
нищем под мышкой. Подозвал деда, сказал:
— Вот привел к вам на хватеру товарища советского
сотрудника. Он прибывши из городу и будет у вас ноче*
вать. Дадите ему повечерять, дедушка.
— Оно, конечно, мы не прочь, — сказал дед.—*
А мандаты у вас имеются, господин товарищ?
Мишка удивился дедовой учености и, засунув па-
лец в рот, остановился послушать.
— Есть, дедушка, все есть! — улыбнулся человек
с кожаным голенищем и пошел в горницу.
Дед за ним, а Мишка за дедом.
— Вы по каким же делам к нам прибыли? — доро-
гой спросил дед.
— Я приехал перевыборы проводить. Будем выби-
рать председателя и членов Совета.
Немного погодя пришел с гумна отец. Поздоровался
с чужим человеком и велел маманьке собирать ужинать.
После ужина отец и чужак сели на лавке рядом, чужак
расстегнул кожаное голенище, достал оттуда пачку бу-
маг и начал отцу показывать. Мишке не терпится, вьет-
ся около, хочет взглянуть. Взял отец одну бумажку,
Мишке показывает:
— Гляди, Минька, вот это самый и есть Ленин!
Мишка вырвал у отца из рук карточку, впился в нее
глазами и рот от удивления раскрыл: на бумаге стоит
во весь рост небольшой человек, вовсе даже не в крас-
ной рубахе, а в пиджаке. Одна рука в штанах, в кар-
ман засунута, а другой вперед себя показывает. Уперся
Мишка в него глазами, в один миг всего ощупал; креп-
ко, навовсе, навсегда вобрал в память изогнутые брови,
283
улыбку, притаившуюся во взгляде и в углах губ, каж-
дую черточку лица запомнил.
Чужак взял из рук у Мишки карточку, защелкнул
на замок голенище и пошел спать. Уже разделся, лег
и закрылся шинелью, начал засыпать, когда услышал
скрип двери. Приподнял голову:
— Кто это?
По полу шлепают чьи-то босые ноги.
— Кто там? — спросил он снова и около кровати
неожиданно увидел Мишку.
— Тебе чего, малыш?
Мишка, минуту постоял молча, потом, набравшись
смелости, шепотом сказал:
— Ты, дяденька, вот чего... ты... отдай мне Ленина!..
Чужак молчит, голову свесил с кровати и смотрит
на него.
Страх охв'атил Мишку: ну как заскупится и не даст?
Стараясь одолеть дрожь в голосе, торопясь и захлебы-
ваясь, зашептал:
— Ты мне отдай его навовсе, а я тебе... я тебе по-
дарю жестяную коробку хорошую и ишо отдам все как
есть бабки, и... — Мишка с отчаянием махнул рукой
и сказал:—И сапоги, какие мне батянька принес,
отдам!
— А зачем тебе Ленин? — улыбаясь, спросил чужак.
«Не даст!..» — мелькнула у Мишки мысль. Нагнул
голову, чтобы не видно было слез, сказал глухо:
— Значит, надо!
Чужак засмеялся, достал из-под подушки голенище
и подал Мишке карточку. Мишка ее под рубаху, к гру-
ди прижал, к сердцу крепко-накрепко, и — рысью из
горницы. Дед проснулся, спрашивает:
— Ты чего бродишь, полуношник? Говорил тебе, не
пей па ночь молока, а теперь вот приспичило!.. Помо-
чись в помойное ведро, мне тебя на двор водить вовсе
без надобности!
Мишка молчком лег, карточку обеими руками ти-
скает, повернуться страшно: как бы не измять. Так и
уснул.
Проснулся ни свет ни заря. Маманька только корову
выдоила и прогнала в табун. Увидала Мишку, руками
всплеснула:
— Что тебя лихоманец мучает! Это зачем такую
рань поднялся?
284
Мишка карточку под рубахой жмет, мимо матери на
гумно, под амбар юркнул.
Вокруг амбара растут лопухи и зеленой непролаз-
ной стеной щетинится крапива. Заполз Мишка под ам-
бар, пыль и куриный помет разгреб ладонью, сорвал
пожелтевший от старости лист лопуха, завернул в него
карточку и камешком привалил, чтобы ветер не унес.
С утра до вечера шел дождь. Небо закрылось сизым
пологом, во дворе пенились лужи, по улице бежали на-
пер его и ку ручьи.
Пришлось Мишке сидеть дома. Уже смеркалось, ко-
гда дед и отец собрались и пошли в исполком на собра-
ние. Мишка натянул дедов картуз и пошел следом. Ис-
полком помещается в церковной сторожке. По кривым,
грязным ступенькам влез, кряхтя, Мишка на крыльцо
и прошел в комнату. Под потолком ползает табачный
дым, народу полным-полно. У окна за столом сидит чу-
жак, что-то рассказывает собравшимся казакам.
Мишка потихоньку пробрался на самый зад и сел на
скамью.
— Кто за то, товарищи, чтобы Фома Коршунов был
председателем? Прошу поднять руки!
Сидевший впереди Мишки Прохор Лысенков, зять
лавочника, крикнул:
— Гражданы!.. Прошу снять его кандидатуру. Он
нечестного поведения. Ишо когда пастухом табун наш
стерег, замечен был!..
Мишка увидал, как Федот-сапожник встал с под-
оконника, закричал, махая руками:
— Товарищи, богатеям нежелательно в председа-
тели пастуха Фому, но как он есть пролетарьят и за со-
ветскую власть...
Зажиточные казаки, стоявшие кучей около двери, за-
топотали ногами, засвистали. Шум поднялся в испол-
коме.
— Не нужен пастух!
— Пришел со службы — нехай к миру в пастухи на-
нимается!..
— К черту Фому Коршунова!
Мишка глянул на бледное лицо отца, стоявшего воз-
ле скамьи, и сам побелел от страха за него.
— Тише, товарищи!.. С собранья буду удалять! —
орал чужак, грохая по столу кулаком.
— Своего человека из казаков выберем!..
285
— Не нужен!..
- He хо-о-тим... мать-перемать!.. — шумели казаки,
и пуще всех Прохор, зять лавочника.
Здоровый рыжебородый казак с серьгой в ухе и в
рваном, заплатанном пиджаке вскочил на скамью:
•— Братцы!.. Вон оно куда дело заворачивает!.. На-
храпом желают богатеи посадить в председатели своего
человека!.. А там опять...
Сквозь стонущий рев Мишка слышал только отдель-
ные слова, которые выкрикивал казак с серьгой:
— Землю... переделы... бедноте суглинок... чернозем
заберут себе...
— Прохора в председатели!.. — гудели около дверей.
Про-о-хо-ра!.. Го-го-го!.. Га-га-га!..
Насилу угомонились. Чужак, хмуря брови и брыз-
гаясь слюной, долго что-то выкрикивал.
«Должно, ругается», — подумал Мишка.
; Чужак громко спросил:
’ Кто за Фому Коршунова?
Над скамьями поднялось много рук. Мишка тоже
поднял руку. Кто-то, перепрыгивая со скамьи на ска-
мью, громко считал:
•— Шестьдесят три... шестьдесят четыре, — не глядя
на Мишку, указал пальцем на его поднятую руку, вы-
крикнул:— шестьдесят пять!
Чужак что-то записал на бумажке, крикнул:
•— Кто за Прохора Лысенкова, прошу поднять!
Двадцать семь казаков-богатеев и Егор-мельник
дружно подняли руки. Мишка поглядел вокруг и тоже
поднял руку. Человек, считавший голоса, поравнялся с
ним, глянул сверху вниз и больно ухватил его за ухо:
— Ах ты, шпаненок!.. Метись отсель, а то я тебе
всыплю! Тоже голосует!..
Кругом засмеялись, а человек подвел Мишку к вы-
ходу, толкнул в спину. Мишка вспомнил, как говорил
отец, ругаясь с дедом, и, сползая по скользким, грязным
ступенькам, крикнул:
— Таких правов не имеешь!
— Я тебе покажу права!..
Обида была, как и все обиды, очень горькая.
Придя домой/ Мишка всплакнул малость, пожало-
вался матери, но та сердито сказала:
•— А ты не ходи, куда не след! Во всякую дыру нос
суешь!.. Наказание мне с тобой, да и только!
286
На другой день утром сели за стол завтракать, не
успели кончить, услышали далекую, глухую от расстоя-
ния музыку. Отец положил ложку, сказал, вытирая усьп
— А ведь это военный оркестр!
Мишку как ветром сдуло с лавки. Хлопнула дверь
в сенцах, за окошком слышно частое: туп-туп-туп-туп...
Вышли во двор и отец с дедом, маманька до поло-
вины высунулась из окна.
В конец улицы зеленой колыхающейся волной влива-
лись ряды красноармейцев. Впереди музыканты дуют в
большущие трубы, грохает барабан, звон стоит над ста-
ницей.
У Мишки глаза разбежались. Растерянно закружил-
ся на одном месте, потом рванулся и подбежал к музы-
кантам. В груди что-то сладко защемило, подкатилось
к горлу... Глянул Мишка на запыленные веселые лица
красноармейцев, на музыкантов, важно надувших щеки,
и сразу, как отрубил, решил: «Пойду воевать с ними!..»
Вспомнил сон, и откуда только смелость взялась.
Уцепился за подсумок крайнего:
— Вы куда идете? Воевать?
— А то как же? Ну да, воевать!
— А за кого вы воюете?
— За советскую власть, дурашка! Ну, иди сюда, в
середку.
Толкнул Мишку в середину рядов, кто-то, смеясь,
щелкнул его по вихрастому затылку, другой на ходу
достал из кармана измазанный кусок сахара, сунул ему
в рот. На площади откуда-то из передних рядов крик-
нули:
— Сто-о-ой!..
Красноармейцы остановились, рассыпались по пло-
щади, густо легли в холодке, под тенью школьного за-
бора. К Мишке подошел высокий бритый красноармеец
с шашкой на боку. Спросил, морща губы в улыбке:
— Ты откуда к нам приблудился?
Мишка напустил на себя важность, поддернул спол-
зающие штанишки.
— Я иду с вами воевать!
— Товарищ комбат, возьми его в помощники! —
крикнул один из красноармейцев.
Кругом захохотали. Мишка часто заморгал, но че-
ловек с чудным прозвищем «комбат» нахмурил брови,
крикнул строго:
287
— Ну, чего ржете, дурачье? Разумеется, мы возьмем
его, но с условием... — Комбат повернулся к Мишке и
сказал: — На тебе штаны с одной помочью, так нельзя,
ты нас осрамишь своим видом!.. Вот, погляди: на мне
две помочи, и на всех по две. Беги, пусть тебе матка
пришьет другую, а мы тебя подождем тут... — Потом он
повернулся к забору, крикнул подмигивая: — Терещен-
ко, пойди принеси новому красноармейцу ружье и ши-
нель!
Один из лежавших под забором встал, приложил
руку к козырьку, ответил:
— Слушаюсь!.. — и быстро пошел вдоль забора.
— Ну, живо беги! Пусть матка поскорее пришьет
другую помочь!..
Мишка строго взглянул на комбата:
— Ты, гляди, не обмани меня!
•— Ну что ты? Как можно!..
От площади до дома далеко. Пока добежал Мишка
до ворот — запыхался. Дух не переведет. Возле ворот
на бегу скинул штанишки и, мелькая босыми ногами,
вихрем ворвался в хату:
— Маманька!.. Штаны!.. Помочь пришей!..
В хате тишина. Над печью черным роем гудят мухи.
Обежал Мишка двор, гумно, огород — ни отца, ни мате-
ри, ни деда нет. Вскочил в горницу — на глаза попался
мешок. Отрезал ножом длинную ленту, пришивать неко-
гда, да и не умеет Мишка. Наскоро привязал ее к шта-
нам, перекинул через плечо, еще раз привязал спереди
и опрометью под амбар.
Отвалил камень, глянул мельком на ленинскую
руку, указывающую на него, Мишку, шепнул, переводя
дух:
— Ну вот видишь?.. И я поступил в твою войску!..
Бережно завернул карточку в лопух, сунул за па-
зуху и по улице вскачь. Одной рукой карточку к груди
жмет, другой штанишки поддергивает. Мимо соседского
плетня бежал, крикнул соседке:
— Анисимовна!
- Ну?
— Перекажи нашим, чтоб обедали без меня!..
— Ты куда летишь, сорванец?
Мишка махнул рукой:
— На службу ухожу!..
Добежал до площади и стал как вкопанный. На пло-
288
щади — ни души. Под забором папиросные окурки, ко-
робки от консервов, чьи-то изорванные обмотки, а в са-
мом конце станицы глухо гремит музыка, слышно, как
по утрамбованной дороге гоцают шаги уходящих.
Из Мишкиного горла вырвалось рыдание, вскрикнул
и что есть мочи побежал догонять. И догнал бы, обяза-
тельно догнал, но против двора кожевника лежит по-
перек дороги желтый хвостатый кобель, зубы скалит.
Пока перебежал Мишка на другую улицу — не слышно
ни музыки, ни топота йог.
* * *
Дня через два в станицу пришел отряд человек в со-
рок. Солдаты были в седых валенках и замасленпцх
рабочих пиджаках. Отец пришел из исполкома обедать,
сказал деду:
— Приготовь, папаша, хлеб в амбаре. Продотряд
пришел. Разверстка начинается.
Солдаты ходили по дворам: щупали штыками землю
в сараях, доставали зарытый хлеб и свозили на подво-
дах в общественный амбар.
Пришли к председателю. Передний, посасывая труб-
ку, спросил у деда:
— Зарывал хлеб, дедушка? Признавайся!..
Дед разгладил бородку и с гордостью сказал:
— Ведь у меня сын-то коммунист!
Прошли в амбар. Солдат с трубкой обмерил взгля-
дом закрома и улыбнулся:
— Отвези, дедушка, вот из этого закрома, а осталь-
ное тебе на прокорм и на семена.
Дед запряг в повозку старого Савраску, покряхтел,
постонал, насыпал восемь мешков, сокрушенно махнул
рукой и повез к общественному амбару. Маманька, хлеб
жалеючи, немного поплакала, а Мишка помог деду на-
сыпать зерно в мешки и пошел к попову Витьке играть.
Только что сели в кухне, разложили на полу выре-
занных из бумаги лошадей — в кухню вошли те же сол-
даты. Батюшка, путаясь в подряснике, выбежал на-
встречу им, засуетился, попросил пройти в комнаты, но
Солдат с трубкой строго сказал:
— Пойдемте в амбар! Где у вас хлеб хранится?
Из горницы выскочила растрепанная попадья, улыб-
нулась воровато:
289
— Представьте, господа, у нас хлеба ничуть нету!..
Муж еще не ездил по приходу...
— А подпол у вас есть?
— Нет, не имеется... Мы хлеб раньше держали в ам-
баре...
Мишка вспомнил, как вместе с Витькой лазил он из
кухни в просторный подпол, сказал, поворачивая голову
к попадье:
— А из кухни мы с Витькой лазили в подпол, за-
была?..
Попадья, бледнея, рассмеялась:
— Это ты спутал, деточка!.. Витя, вы бы пошли в
сад поиграли!..
Солдат с трубкой прищурил глаза, улыбнулся
Мишке:
— Как же туда спуститься, малец?
Попадья хрустнула пальцами, сказала:
— Неужели вы верите глупому мальчишке? Я вас
уверяю, господа, что подпола у нас нет!
Батюшка, махнув полами подрясника, сказал:
— Не угодно ли, товарищи, закусить? Пройдемте в
комнаты!
Попадья, проходя мимо Мишки, больно щипнула его
за руку и ласково улыбнулась:
— Идите, детки, в сад, не мешайте здесь!
Солдаты перемигнулись и пошли по кухне, постуки-
вая по полу прикладами винтовок. У стены отодвинули
стол, сковырнули дерюгу. Солдат с трубкой приподнял
половицу, заглянул в подпол и покачал головой:
— Как же вам не стыдно? Говорили — хлеба нет, а
подпол доверху засыпан пшеницей!..
Попадья взглянула на Мишку такими глазами, что
ему стало страшно и захотелось поскорее домой. Встал
и пошел на двор. Следом за ним в сенцы выскочила по-
падья, всхлипнула и, вцепившись Мишке в волосы, на-
чала его возить по полу.
Насилу вырвался, пустился без огляду домой. Захле-
бываясь слезами, рассказал все матери; та только за
голову ухватилась:
— И что я с тобой буду делать?.. Иди с моих глаз
долой, пока я тебя не отбуздала!..
С тех пор всегда, после каждой обиды, заползал
Мишка под амбар, отваливал камешек, разворачивал
290
лопух и, смачивая бумагу слезами, рассказывал Ленину
о своем горе и жаловался на обидчика.
Прошла неделя. Мишка скучал. Играть не с кем.
Соседские ребятишки не водились с ним, к прозвищу
«пахаленок» прибавилось еще одно, заимствованное от
старших. Вслед Мишке кричали:
— Эй ты, коммуненок! Коммунячев недоносок, огля-
нись!..
Как-то пришел Мишка с пруда домой перед вечером;
не успел в хату войти, услышал, как отец говорит рез-
ким голосом, а маманька голосит и причитает, ровно по
мертвому. Проскользнул Мишка в дверь и видит: отец
шинель свою скатал и сапоги надевает.
— Ты куда идешь, батянька?
Отец засмеялся, ответил:
— Уйми ты, сынок, мать!.. Душу она мне вынает
своим ревом. Я на войну иду, а она не пущает!..
— И я с тобой, батянька!
Отец подпоясался ремнем и надел шапку с лентами.
— Чудак ты, право! Нельзя нам обоим уходить сра-
зу!.. Вот я вернусь, потом ты пойдешь, а то хлеб по-
спеет, кто же его будет убирать? Мать по хозяйству,
а дед старый...
Мишка, прощаясь с отцом, сдержал слезы, даже
улыбнулся. Маманька, как и в первый раз, повисла у
отца на шее, насилу он ее стряхнул, а дед только кряк-
нул, целуя служивого, шепнул ему на ухо:
— Фомушка... сынок!.. Может, не ходил бы? Может,
без тебя как-нибудь?.. Неровен час, убьют, пропадем мы
тогда!..
— Брось, батя... Негоже так. Кто же будет оборо-
нять пашу власть, коли каждый к бабе под подол хоро-
ниться полезет?
— Ну что ж, иди, ежели твое дело правое.
Отвернулся дед и незаметно смахнул слезу. Прово-
жать отца пошли до исполкома. Во дворе исполкомском
толпятся человек двадцать с винтовками. Отец тоже
взял винтовку и, поцеловав Мишку в последний раз,
вместе с остальными зашагал по улице на край ста-
ницы.
Обратно домой шел Мишка вместе с дедом. Мамань-
ка, покачиваясь, тянулась сзади. По станице реденький
собачий лай, реденькие огни. Станица покрылась ночной
темнотой, словно старуха черным полушалком. Накра-
291
пывал дождик, где-то за станицей, над степью, резви-
лась молния и глухими рассыпчатыми ударами бухал
гром.
Подошли к дому. Мишка, молчавший всю дорогу,
спросил у деда:
Дедуня, а на кого батяня пошел воевать?
— Отвяжись!..
— Дедуня!
- Ну?
— С кем батянька будет воевать?
Дед заложил ворота засовом, ответил:
— Злые люди объявились по суседству с нашей ста-
ницей. Народ их кличет бандой, а по-моему — просто
разбойники... Вот отец твой и пошел с ними отражаться.
— А много их, дедушка? -
— Болтают, что около двухсот... Ну, иди, постреле-
ныш, спать, будет тебе околачиваться!
Ночью Мишку разбудили голоса. Проснулся, пола-
пал по кровати — деда нет.
— Дедуня, где ты?
— Молчи!.. Спи, неугомонный!
Мишка встал и ощупью в потемках добрался до
окна. Дед в одних исподниках сидит на лавке, голову
высунул в раскрытое окно, слушает. Прислушался Миш-
ка и в немой тишине ясно услышал, как за станицей
часто затарахтели выстрелы, потом размеренно захло-
пали залпы.
Трах!., тра-тра-рах!.. та-трах!
Будто гвозди вбивают.
Мишку охватил страх. Прижался к деду, спросил:
— Это батянька стреляет?
Дед промолчал, я мать снова заплакала и запричи-
тала.
До рассвета слышались за станицей выстрелы, по-
том все смолкло. Мишка калачиком свернулся на лавке
и уснул тяжелым, нерадостным сном. На заре по улице
к исполкому проскакала куча всадников. Дед разбудил
Мишку, а сам выбежал во двор.
Во дворе исполкома черным столбом вытянулся дым,
огонь перекинулся на постройки. По улицам засновали
конные. Один подскакал к двору, крикнул деду:
— Лошадь есть, старик?
— Есть...
— Запрягай и езжай за станицу! В хворосте ваши
292
коммунисты лежат?.. Навали и вези, нехай родственники
зароют их!..
Дед быстро запряг Савраску, взял в дрожащие руки
вожжи и рысью выехал со двора.
Над станицей поднялся крик, спешившиеся бандиты
тащили с гумен сено, резали овец. Один соскочил с ло-
шади возле двора Анисимовны, вбежал в хату. Мишка
услышал, как Анисимовна завыла толстым голосом.
А бандит, брякая шашкой, выбежал на крыльцо, сел,
разулся, разорвал пополам цветастую праздничную
шаль Анисимовны, сбросил свои грязные портянки и
обернул ноги половинками шали.
Мишка вошел в горницу, лег на кровать, придавил
голову подушкой, встал только тогда, когда скрипнули
ворота. Выбежал на крыльцо, увидал, как дед с боро-
дой, мокрой от слез, вводит во двор лошадь.
Сзади на повозке лежит босой человек, широко раз-
бросав руки, голова его, подпрыгивая, стукается об за-
док, течет на доски густая, черная кровь...
Мишка, качаясь, подошел к повозке, заглянул в
лицо, искромсанное сабельными ударами: видны оска-
ленные зубы, щека висит, отрубленная вместе с костью,
а на заплывшем кровью выпученном глазе, покачиваясь,
сидит большая зеленая муха.
Мишка, не догадываясь, мелко подрагивая от ужаса,
перевел взгляд и, увидев на груди, на матросской ру-
бахе, синие и белые полосы, залитые кровью, вздрогнул,
словно кто-то сзади ударил его по ногам, — широко рас-
крытыми глазами взглянул еще раз в недвижное черное
лицо и прыгнул на повозку.
— Батянюшка, встань! Батянюшка миленький!..—
Упал с повозки, хотел бежать, но ноги подвернулись, на
четвереньках прополз до крыльца и ткнулся головой
в песок.
* * *
У деда глаза глубоко провалились внутрь, голова
трясется и прыгает, губы шепчут что-то беззвучно.
Долго молча гладил Мишку по голове, потом, погля-
дывая на мать, лежавшую плашмя на кровати, шепнул:
— Пойдем, внучек, во двор...
Взял Мишку за руку и повел на крыльцо. Мишка,
шагая мимо дверей горницы, зажмурил глаза, вздрог-
нул: в горнице на столе лежит батянька, молчаливый и
293
важный. Кровь с него обмыли, но у Мишки перед гла-
зами встает батянькин остекленевший кровянистый глаз
и большая зеленая муха на нем.
Дед долго отвязывал у колодца веревку; пошел в ко-
нюшню, вывел Савраску, зачем-то вытер ему пенистые
губы рукавом, потом надел на него узду, прислушался:
по станице крики, хохот Мимо двора едут верхами
двое, в темноте посверкивают цигарки, слышны голоса:
— Вот мы им и сделали разверстку!.. На том свете
будут помнить, как у людей хлеб забирать!..
Переборы лошадиных копыт умолкли, дед нагнулся
к Мишкиному уху, зашептал:
— Стар я... не влезу на коня... Посажу я тебя, вну-
чек, верхом, и езжай ты с богом на хутор Пронин... До-
рогу я тебе укажу... Там должен быть энтот отряд, ка-
кой с музыкой шел через нашу станицу... Скажи им, не-
хай идут в станицу: тут, мол, банда!.. Понял?..
Мишка молча кивнул головой. Посадил его дед вер-
хом, ноги привязал к седлу веревкой, чтобы не упал, и
через гумно, мимо пруда, мимо бандитской заставы про-
вел Савраску в степь.
— Вот в бугор пошла балка, над ней езжай, никуда
не свиливай!.. Прямо в хутор приедешь. Ну, трогай, мой
родный!..
Поцеловал дед Мишку и тихонько ударил Савраску
ладонью.
Ночь месячная, видная. Савраска трюхает мелкой
рысцой, пофыркивает и, чуя на спине легонькую ношу,
убавляет шаг. Мишка трогает его поводьями, хлопает
рукой по шее, трясется, подпрыгивая.
Перепела бодро посвистывают где-то в зеленой гу-
щине зреющих хлебов. На дне балки звенит роднико-
вая вода, ветер тянет прохладой.
Мишке страшно одному в степи, обнимает руками
теплую Савраскину шею, жмется к нему маленьким зяб-
ким комочком.
Балка ползет в гору, спускается, опять ползет в гору.
Мишке страшно оглянуться назад, шепчет, стараясь не
думать ни о чем. В ушах у него застывает тишина, глаза
закрыты.
Савраска мотнул головой, фыркнул, прибавил шагу.
Чуточку приоткрыл Мишка глаза — увидел внизу, под
горой, бледно-желтые огоньки. Ветром донесло собачий
лай.
294
Теплой радостью на минуту согрелась Мишкина
грудь. Толкнул Савраску ногами, крикнула
— Но-о-б-о!..
Собачий лай ближе, видны на пригорке смутные
очертания ветряка.
— Кто едет? — окрик от ветряка.
Мишка молча понукает Савраску. Над сонным хуто-
ром заголосили петухи.
— Стой! Кто едет?.. Стрелять буду!..
Мишка испуганно натянул поводья, но Савраска, по-
чуявший близость лошадей, заржал и рванулся, не слу-
шаясь поводьев.
— Сто-о-ой!..
Около ветряка ахнули выстрелы. Мишкин крик пото-
нул в топоте конских ног. Савраска захрипел, стал в
дыбки и грузно повалился на правый бок.
Мишка на мгновение ощутил страшную, непереноси-
мую боль в ноге, крик присох у него на губах. Савраска
наваливался на ногу все тяжелее и тяжелее.
Лошадиный топот ближе. Подскакали двое, звякая
шашками, прыгнули с лошадей, нагнулись над Мишкой!
— Мать родная, да ведь это парнишка!..
— Неужто ухлопали?!
Кто-то сунул Мишке за пазуху руку, близко в лицо
дохнул табаком. Чей-то обрадованный голос сказал:
— Он целенький!.. Никак ногу ему конь раздавил?..
Теряя сознание, прошептал Мишка:
— Банда в станице... Батяньку убили... Сполком со-
жгли, а дедуня велел вам скорейче ехать туда!
Перед тускнеющим Мишкиным взором поплыли цвет-
ные круги...
Прошел мимо батянька, усы рыжие крутит, смеется,
а на глазу у него сидит, покачиваясь, большая зеленая
муха. Дед прошагал, укоризненно качая головой, ма-
манька, потом маленький лобастый человек с протяну-
той рукой, и рука указывает прямо на него, на Мишку.
— Товарищ Ленин!.. — вскрикнул Мишка глохнущим
голоском, силясь, приподнял голову — и улыбнулся^ про-
тягивая вперед руки.
Исаак Бабель
Из книги
«КОНАРМИЯ»
АРГАМАК
Я решил перейти в строй. Начдив поморщился, услы-
шав об этом.
— Куда ты прешься?.. Развесишь губы — тебя враз
уконтрапупят...
Я настоял на своем. Этого мало. Выбор мой пал на
самую боевую дивизию — шестую. Меня определили в
4-й эскадрон 23-го кавполка. Эскадроном командовал
слесарь Брянского завода Баулин, по годам мальчик.
Для острастки он запустил себе бороду. Пепельные кло-
ки закручивались у него на подбородке. В двадцать два
свои года Баулин не знал никакой суеты. Это качество,
свойственное тысячам Баулиных, вошло важным слагае-
мым в победу революции. Баулин был тверд, немного-
словен, упрям. Путь его жизни был решен. Сомнений
в правильности этого пути он не знал. Лишения были
ему легки. Он умел спать сидя. Спал он, сжимая одну
руку другой, и просыпался так, что незаметен был пере-
ход от забытья к бодрствованию.
Ждать себе пощады под командой Баулина нельзя
было. Служба моя началась редким предзнаменованием
удачи — мне дали лошадь. Лошадей не было ни в кон;
ском запасе, ни у крестьян. Помог случай. Казак Тихо-
молов убил без спросу двух пленных офицеров. Ему по-
ручили сопровождать их до штаба бригады, офицеры
могли сообщить важные сведения. Тихомолов не довел
их до места. Казака решили судить в ревтрибунале,
296
потом раздумали. Эскадронный Баулин наложил кару
страшнее трибунала — он забрал у Тихомолова жеребца
по прозвищу Аргамак, а самого заслал в обоз.
Мука, которую я вынес с Аргамаком, едва ли не пре-
восходила меру человеческих сил. Тихомолов вел ло-
шадь с Терека, из дому. Она была обучена на казацкую
рысь, на особый казацкий карьер — сухой, бешеный, вне-
запный. Шаг Аргамака был длинен, растянут, упрям.
Этим дьявольским шагом он выносил меня из рядов, я
отбивался от эскадрона и, лишенный чувства ориенти-
ровки, блуждал потом по суткам в поисках своей части,
попадал в расположение неприятеля, ночевал в оврагах,
прибивался к чужим полкам и бывал гоним ими. Кава-
лерийское мое умение ограничивалось тем, что в гер-
манскую войну я служил в артдивизионе при пятнадца-
той пехотной дивизии. Больше всего приходилось вос-
седать на зарядном ящике, изредка мы ездили в ору-
дийной запряжке. Мне негде было привыкнуть к жесто-
кой, враскачку, рыси Аргамака. Тихомолов оставил в
наследство коню всех дьяволов своего падения. Я тряс-
ся, как мешок, на длинной сухой спине жеребца. Я сбил
ему спину. По ней пошли язвы. Металлические мухи
разъедали эти язвы. Обручи запекшейся черной крови
опоясали брюхо лошади. От неумелой ковки Аргамак
начал засекаться, задние ноги его распухли в путовом
суставе и стали слоновыми. Аргамак отощал. Глаза его
налились особым огнем мучимой лошади, огнем истерии
и упорства. Он не давался седлать.
— Аннулировал ты коня, четырехглазый, — сказал
взводный.
При мне казаки молчали, за моей спиной они гото-
вились, как готовятся хищники, в сонливой и веролом-
ной неподвижности. Даже писем не просили меня
писать...
Конная армия овладела Новоград-Волынском. В сут-
ки нам приходилось делать по шестьдесят, по восемьде-
сят километров. Мы приближались к Ровно. Дневки
были ничтожны. Из ночи в ночь мне снился тот же сон.
Я рысью мчусь на Аргамаке. У дороги горят костры. Ка-
заки варят себе пищу. Я еду мимо них, они не подни-
мают на меня глаз. Одни здороваются, другие не смот-
рят, им не до меня. Что это значит? Равнодушие их обо-
значает, что ничего особенного нет в моей посадке, я
езжу, как все, нечего на меня смотреть. Я скачу своей
24)7
дорогой и счастлив. Жажда покоя и счастья не утоля-
лась-наяву, от этого снились мне сны.
Тихомолова не было видно. Он сторожил меня где-то
на краях похода, в неповоротливых хвостах телег, заби-
тых тряпьем.
Взводный как-то сказал мне:
— Пашка все домогается, каков ты есть.,,
— А зачем я ему нужен?
•— Видно, нужен...
Он небось думает, что я его обидел?
— А неужели ж нет, не обидел...
Пашкина ненависть шла ко мне через леса и реки.
Я чувствовал ее кожей и ежился. Глаза, налитые кро-
вью, привязаны были к моему пути.
Зачем ты меня врагом наделил? — спросил я Бау-
лица.
Эскадронный проехал мимо и зевнул.
— Это не моя печаль, — ответил он, не оборачи-
ваясь,— это твоя печаль...
Спина Аргамака подсыхала, потом открывалась сно-
ва, Я подкладывал под седло по три потника, но езды
правильной не было, рубцы не затягивались. От созна-
ния, что я сижу на открытой ране, меня всего зудило.
Один казак из нашего взвода, Бизюков по фамилии,
был земляк Тихомолову, он знал Пашкиного отца там,
на Тереке.
— Евоный отец, Пашкин, — сказал мне однажды Би-
зюков,— коней по охоте разводит... Боевитый ездок, де-
белый... В табун приедет — ему сейчас коня выбирать...
Приводят. Он станет против коня, ноги расставит, смот-
рит... Чего тебе надо?.. А ему вот чего надо: махнет ку-
лачищем, даст раз промежду глаз — коня нету. Ты за-
чем, Калистрат, животную решил?.. По моей, говорит,
страшенной охоте мне на этом коне не ездить... Меня
этот конь не заохотил... У меня, говорит, охота смертель-
ная... Боевитый ездок, это нечего сказать.
И вот Аргамак, оставленный в живых Пашкиным от-
цом, выбранный им, достался мне. Как быть дальше?
Я прикидывал в уме множество планов. Война избавила
меня от забот.
Конная армия атаковала Ровно. Город был взят.
Мы пробыли в нем двое суток. На следующую ночь
поляки оттеснили нас. Они дали бой для того, чтобы
провести отступающие свои части. Маневр удался.
298
Исаак Бабель. 20-е годы.
Прикрытием для поляков послужили ураган, секущий
дождь, летняя тяжелая гроза, опрокинувшаяся на мир
в потоках черной воды. Мы очистили город на сутки.
В ночном этом бою пал серб Дундич, храбрейший из
людей. В этом бою дрался и Пашка Тихомолов. Поляки
налетели на его обоз. Место было равнинное, без при-
крытия. Пашка построил свои телеги боевым порядком,
ему одному ведомым. Так, верно, строили римляне свои
колесницы. У Пашки оказался пулемет. Надо думать, он
украл его и спрятал на случай. Этим пулеметом Тихомо-
лов отбился от нападения, спас имущество и вывел весь
обоз, за исключением двух подвод, у которых застре-
лены были лошади.
— Ты что бойцов маринуешь, — сказали Баулину в
штабе бригады через несколько дней после этого боя.
— Верно, надо, если мариную...
— Смотри, нарвешься...
Амнистии Пашке объявлено не было, но мы знали,
что он придет. Он пришел в калошах на босу ногу.
Пальцы его были обрублены, с них свисали ленты чер-
ной марли. Ленты волочились за ним, как мантия. Паш-
ка пришел в село Будятичи на площадь перед костелом,
где у коновязи поставлены были наши кони. Баулин
сидел на ступеньках костела и парил себе в лохани ноги.
Пальцы ног у него подгнили. Они были розоватые, как
бывает розовым железо в начале закалки. Клочья юно-
шеских соломенных волос налипли Баулину на лоб.
Солнце горело на кирпичах и черепице костела. Бизю-
ков, стоявший рядом с эскадронным, сунул ему в рот
папиросу и зажег. Тихомолов, волоча рваную свою ман-
тию, прошел к коновязи. Калоши его шлепали. Аргамак
вытянул длинную шею и заржал навстречу хозяину, за-
ржал негромко и визгливо, как конь в пустыне. На его
спине сукровица загибалась кружевом между полосами
рваного мяса. Пашка стал рядом с конем. Грязные лен-
ты лежали на земле неподвижно.
— Знатьця так, — произнес казак едва слышно.
Я выступил вперед:
— Помиримся, Пашка. Я рад, что конь идет к тебе.
Мне с ним не сладить... Помиримся, что ли?..
— Еще пасхи нет, чтобы мириться. — Взводный за-
кручивал папиросу за моей спиной. Шаровары его были
распущены, рубаха расстегнута на медной груди, он от-
дыхал на ступеньках костела.
300
— Похристосуйся с ним, Пашка, — пробормотал Би-
зюков, тихомоловский земляк, знавший Калистрата,
Пашкиного отца, — ему желательно с тобой христосо-
ваться...
Я был один среди этих людей, дружбы которых мне
не удалось добиться.
Пашка как вкопанный стоял перед лошадью. Арга-
мак, сильно и свободно дыша, протягивал ему морду.
— Знатьця так, — повторил казак, резко ко мне по-
вернулся и сказал в упор: — Я не стану с тобой ми-
риться.
.Шаркая калошами, он стал уходить по известковой,
выжженной зноем дороге, заметая бинтами пыль дере-
венской площади. Аргамак пошел за ним, как собака.
Повод покачивался под его мордой, длинная шея ле-
жала низко. Баулин все тер в лохани железную красно-
ватую гниль своих ног.
— Ты меня врагом наделил, — сказал я ему, — а чем
я тут виноват?
Эскадронный поднял голову.
— Я тебя вижу, — сказал он, — я тебя всего вижу...
Ты без 'врагов жить норовишь... Ты к этому все ла-
дишь— без врагов...
— Похристосуйся с ним, — пробормотал Бизюков,
отворачиваясь.
На лбу у Баулина отпечаталось огненное пятно. Он
задергал щекой.
— Ты знаешь, что это получается? — сказал он, не
управляясь со своим дыханием. — Это скука получает-
ся... Пошел от нас к трепаной матери...
Мне пришлось уйти. Я перевелся в 6-й эскадрон. Там
дела пошли лучше. Как бы то ни было, Аргамак научил
меня тихомоловской посадке. Прошли месяцы. Сон мой
исполнился. Казаки перестали провожать глазами меня
и мою лошадь.
ИЗМЕНА
«Товарищ следователь Бурденко. На вопрос ваш от-
вечаю, что партийность имею номер двадцать четыре два
нуля, выданную Никите Балмашеву Краснодарским ко-
митетом партии. Жизнеописание мое до 1914 года объ-
ясняю как домашнее, где занимался при родителях хле-
301
бопашеством и перешел от хлебопашества в ряды импе-
риалистов защищать гражданина Пуанкаре и палача
германской революции Эберта-Носке, которые, надо ду-
мать, спали и во сне видели, как бы дать подмогу урож-
денной моей станице Иван Святой Кубанской области.
И так вилась веревочка до тех пор, пока товарищ Ле-
нин не отворотил озверелый мой штык и не указал ему
предназначенную кишку и новый сальник поудобнее.
С того времени я ношу номер двадцать четыре два нуля
на конце зрячего моего штыка, и довольно оно стыдно и
слишком мне смешно слыхать теперь от вас, товарищ
следователь Бурденко, неподобную эту липу про неиз-
вестный N-..ский госпиталь. В госпиталь этот я не стре-
лял и не нападал, чего и не могло быть. Будучи ранены,
мы все трое, а именно: боец Головицын, боец Кустов и
я, имели жар в костях и не нападали, а только плакали,
стоя в больничных халатах на площади посреди воль-
ного населения по национальности евреев. А коснувшись
повреждения трех стекол, которые мы повредили из офи-
церского нагана, то скажу от всей души, что стекла не
соответствовали своему назначению, как будучи в кла-
довке, которой они без надобности. И доктор Явейн,
видя горькую эту нашу стрельбу, только надсмехался
разными улыбками, стоя в окошке своего госпиталя, что
также могут подтвердить вышеизложенные вольные ев-
реи местечка Козин. На доктора Явейна даю еще, това-
рищ следователь, тот материал, что он надсмехался,
когда мы, трое раненых, а именно: боец Головицын,
боец Кустов и я, первоначально поступали на излечение,
и с первых слов он заявил нам слишком грубо: вы, бой-
цы, искупайтесь каждый в ванной, ваше оружие и вашу
одежду скидайте этой же минутой, я опасаюсь от них
заразы, они пойдут у меня обязательно в цейхгауз...
И тогда, видя перед собой зверя, а не человека, боец
Кустов выступил вперед своею перебитой ногой и выра-
зился, что какая в ней может быть зараза, в кубанской
вострой шашке, кроме как для врагов нашей револю-
ции, и также поинтересовался узнать о цейхгаузе, дей-
ствительно ли там при вещах находится партийный боец
или же, напротив, один из беспартийной массы. И тут
доктор Явейн, видно, заметил, что мы можем хорошо
понимать измену. Он оборотился спиной и без другого
слова отослал нас в палату, и опять с разными улыбка-
ми, куда мы и пошли, ковыляя разбитыми ногамИ]
302
Исаак Бабель. «Конармия». Первое издание. 1926 г.
махая калечеными руками и держась друг за друга, так
как мы трое есть земляки из станицы Иван Святой,
а именно: товарищ Головицын, товарищ Кустов и я, мы
есть земляки с одной судьбой, и у кого разорвана нога,
тот держит товарища за руку, а у кого недостает руки,
тот опирается на товарищево плечо. Согласно отданного
приказания пошли мы в палату, где ожидали увидеть
культработу и преданность делу, но интересно узнать,
что же мы увидели, взойдя в палату? Мы увидели крас-
ноармейцев, исключительно пехоту, сидящих на устлан-
ных постелях, играющих в шашки и при них сестер вы-
сокого росту, гладких, стоящих у окошек и разводящих
симпатию. Увидев это, мы остановились как громом
пораженные.
— Отвоевались, ребята? — восклицаю я раненым.
— Отвоевались, — отвечают раненые и двигают шаш-
ками, поделанными из хлеба.
— Рано, — говорю я раненым, — рано ты отвоева-
лась, пехота, когда враг на мягких лапах ходит в пятна-
дцати верстах от местечка и когда в газете «Красный
кавалерист» можно читать про наше международное
положение, что это одна ужасть и на горизонте полно
туч. — Но слова мои отскочили от геройской пехоты, как
овечий помет от полкового барабана, и заместо всего
разговор получился у нас, что милосердные сестры под-
вели нас к лежанкам и снова начали тереть волынку
про сдачу оружия, как будто мы уже были побеждены.
Они растревожили этим Кустова нельзя сказать как, и
тот стал обрывать свою рану, помещавшуюся у него на
левом плече, над кровавым сердцем бойца и пролета-
рия. Видя эту натугу, сиделки поутихли, но только по-
утихли они на самое малое время, а потом опять завели
свое издевательство беспартийной массы и стали подсы-
лать охотников повытаскивать из-под нас, сонных, одеж-
ду или заставляли для культработы играть театральную
ролю в женском платье, что не подобает.
Немилосердные сиделки... Не однажды примерялись
они к нам ради одежи сонным порошком, так что отды-
хать мы стали в очередь, имея один глаз раскрывши, и
в отхожее даже по малой нужде ходили в полной фор-
ме, с наганами. И отстрадавши так неделю с одним
днем, мы стали заговариваться, получили видения и,
наконец, проснувшись в обвиняемое утро, 4 августа, за-
метили в себе ту перемену, что лежим в халатах под
304
номерами, как каторжники, без оружия и без одежи,
вытканной матерями нашими, слабосильными старуш-
ками с Кубани... И солнышко, видим’, великолепно све-
тит, а окопная пехота, среди которой страдало три крас-
ных конника, фулиганит над нами и с ней немилосерд-
ные сиделки, которые всыпавши нам накануне сонного
порошку, трясут теперь молодыми грудьями и несут нам
на блюдах какаву, а молока в этом какаве хоть залейся!
От развеселой этой карусели пехота стучит костылями
громко до ужасти и щиплет нам бока, как купленным
девкам, дескать, отвоевалась и она, Первая Конная
Буденная армия. Но нет, раскудрявые товарищи, кото-
рые наели очень чудные пуза, что ночью играют, как на
пулеметах: не отвоевалась она, а только отпросившись
вроде как по надобности, сошли мы трое во двор и со
двора пустились мы в жару, в синих язвах к гражда-
нину Бойдерману, к предуревкома, без которого, това-
рищ следователь Бурденко, этого недоразумения со
стрельбой, возможная вещь, и не существовало бы, то
есть без того предуревкома, от которого совершенно мы
потерялись. И хотя мы не можем дать твердого мате-
риала на гражданина Бойдермана, но только, зайдя к
предуревкома, мы обратили внимание на гражданина
пожилых лет, в тулупе, по национальности еврея, кото-
рый сидит за столом, стол его набит бумагами, что это
некрасота смотреть... Гражданин Бойдерман кидает гла-
зами то туда, то сюда, и видно, что он ничего не может
понимать в этих бумагах, ему горе с этими бумагами,
тем более сказать, что неизвестные, но заслуженные
бойцы грозно подступают к гражданину Бойдерману за
продовольствием, вперебивку с ними местные работники
указывают на контру в окрестных селах, и тут же яв-
ляются рядовые работники центра, которые желают вен-
чаться в уревкоме в самой скорости и без волокиты...
Так же и мы возвышенным голосом изложили случай
с изменой в госпитале, но гражданин Бойдерман только
пучил на нас глаза и опять кидал их то туда, то сюда,
и ласкал нам плечи, что уже не есть власть и недостой-
но власти, резолюции никак не давал, а только заявлял:
товарищи бойцы, если вы жалеете Советскую власть, то
оставьте это помещение, на что мы не могли согла-
ситься, то есть оставить помещение, а потребовали пого-
довное удостоверение личности, не получив какового,
потеряли сознание. И, находясь без сознания, мы вышли
11 Зак. № 426
305
на площадь, перед госпиталем, где обезоружили мили-
цию в составе одного человека кавалерии и нарушили со
слезами три незавидных стекла в вышеописанной кла-
довке. Доктор Явейн при этом недопустимом факте де-
лал фигуры и смешки, и это в такой момент, когда това-
рищ Кустов должен был через четыре дня скончаться от
своей болезни!
В короткой красной своей жизни товарищ Кустов
без края тревожился об измене, которая вот она мигает
нам из окошка, вот она насмешничает над грубым про-
летариатом, но пролетариат, товарищи, сам знает, что
он грубый, нам больно от этого, душа горит и рвет ог-
нем тюрьму тела...
Измена, говорю я вам, товарищ следователь Бурден*
ко, смеется нам из окошка, измена ходит, разувшись, в
нашем дому, измена закинула за спину штиблеты, чтобы
не скрипели половицы в обворовываемом дому...»
соль
«Дорогой товарищ редактор. Хочу описать вам за
несознательность женщин, которые нам вредные. На-
деются на вас, что вы, объезжая гражданские фронты,
которые брали под заметку, не миновали закоренелую
станцию Фастов, находящуюся за тридевять земель,
в некотором государстве, на неведомом пространстве, я
там, конешно, был, самогон-пиво пил, усы обмочил, в
рот не заскочило. Про эту вышеизложенную станцию
есть много кой-чего писать, но, как говорится в нашем
простом быту, — господнего дерьма не перетаскать. По-
этому опишу вам только за то, что мои глаза собствен-
норучно видели.
Была тихая, славная ночка семь ден тому назад, ко-
гда наш заслуженный поезд Конармии остановился там,
груженный бойцами. Все мы горели способствовать об-
щему делу и имели направление на Бердичев. Но только
замечаем, что поезд наш никак не отваливает, Гаврилка
наш не крутит, в чем тут остановка? И действительно,
остановка для общего дела вышла громадная по слу-
чаю того, что мешочники, эти злые враги, среди кото-
рых находилась также несметная сила женского полу,
нахальным образом поступали с железнодорожной вла-
306
стыо. Безбоязненно ухватились они за поручни, эти
злые враги, на рысях пробегали по железным крышам,
коловоротили, мутили, и в каждых руках фигурировала
небезызвестная соль, доходя до пяти пудов в мешке. Но
недолго длилось торжество капитала мешочников. Ини-
циатива бойцов, повылазивших из вагона, дала пору-
ганной власти железнодорожников вздохнуть грудью.
Один только женский пол со своими торбами остался
в окрестностях. Имея сожаление, бойцы которых жен-
щин посадили по теплушкам, а которых не посадили.
Так же и в нашем вагоне второго взвода оказались на-
лицо две девицы, а пробивши первый звонок, подходит
к нам представительная женщина с дитем, говоря:
— Пустите меня, любезные казачки, всю войну я
страдаю по вокзалам с грудным дитем на руках и те-
перь хочу иметь свидание с мужем, но по причине же-
лезной дороги ехать никак невозможно, неужели я у
вас, казачки, не заслужила?
— Между прочим, женщина, — говорю я ей, — какое
будет согласие у взвода, такая получится ваша судь-
ба. — И, обратившись к взводу, я им доказываю, что
представительная женщина просится ехать к мужу на
место назначения и дите действительно при ней нахо-
дится и какое будет ваше согласие — пускать ее или
нет?
— Пускай ее, — кричат ребята, — опосле нас она и
мужа не захочет...
— Нет, — говорю я ребятам довольно вежливо,—
кланяюсь вам, взвод, но только удивляет меня слышать
от вас такую жеребятину. Вспомните, взвод, вашу жизнь
и как вы сами были детями при ваших матерях, и полу-
чается вроде того, что не годится так говорить...
И казаки, проговоривши между собой, какой он, ста-
ло быть, Балмашов, убедительный, начали пускать жен-
щину в вагон, и она с благодарностью лезет. И каж-
дый, раскипятившись моей правдой, подсаживает ее,
говоря наперебой:
— Садитесь, женщина, в куток, ласкайте ваше дите,
как водится с матерями, никто вас в кутке не тронет,
и приедете вы, нетронутая, к вашему мужу, как это вам
желательно, и надеемся на вашу совесть, что вы вырас-
тите нам смену, потому что старое старится, а молод-
няка, видать, мало. Горя мы видели, женщина, и на дей-
ствительной и на сверхсрочной, голодом нас давнуло,:
307
холодом обожгло. А вы сидите здесь, женщина, без со-
мнения...
И, пробивши третий звонок, поезд двинулся. И слав-
ная ночка раскинулась шатром. И в том шатре были
звезды-каганцы. И бойцы вспоминали кубанскую ночь
и зеленую кубанскую звезду. И думка пролетела, как
птица. А колеса тарахтят, тарахтят...
По прошествии времени, когда ночь сменилась со
своего поста и красные барабанщики заиграли зорю на
своих красных барабанах, тогда подступили ко мне ка-
заки, видя, что я сижу без сна и скучаю до последнего.
— Балмашов, — говорят мне казаки, — отчего ты
ужасно скучный и сидишь без сна?
— Низко кланяюсь вам, бойцы, и прошу маленького
прощения, но только дозвольте мне переговорить с этой
гражданкой пару слов...
И, задрожав всем корпусом, я поднимаюсь со своей
лежанки, от которой сон бежал, как волк от своры зло-
дейских псов, и подхожу до нее, и беру у нее с рук дите,
и рву с него пеленки, и вижу по-за пеленками добрый
пудовик соли.
— Вот антиресное дите, товарищи, которое титек не
просит, на подол не мочится и людей со сна не беспо-
коит...
— Простите, любезные казачки, — встревает женщи-
на-в наш разговор очень хладнокровно, — не я обману-
ла, лихо мое обмануло...
— Балмашов простит твоему лиху, — отвечаю я жен-
щине,— Балмашову оно немногого стоит, Балмашов за
что купил, за то и продает. Но оборотись к казакам,
женщина, которые тебя возвысили как трудящуюся мать
в республике. Оборотись на этих двух девиц, которые
плачут в настоящее время, как пострадавшие этой но-
чью. Оборотись на жен наших на пшеничной Кубани,
которые исходят женской силой без мужей, и те, то же
самое одинокие, по злой неволе насильничают проходя-
щих в их жизни девушек... А тебя не трогали, хотя тебя,
неподобную, только и трогать. Оборотись на Расею, за-
давленную болью...
А она мне:
— Я соли своей решилась, я правды не боюсь. Вы за
Расею не думаете, вы жидов спасаете...
— За жидов сейчас разговора нет, вредная граж-
данка. Жиды сюда не касаются. А вы, гнусная граж-
308
данка, есть более контрреволюционерка, чем тот белый
генерал, который с вострой шашкой грозится нам на
своем тысячном коне... Его видать, того генерала, со
всех дорог, и трудящийся имеет свою думку-мечту его
порезать, а вас, несчетная гражданка, с вашими анти-
ресными детками, которые хлеба не просят и до ветра
не бегают, — вас не видать, как блоху, и вы точите,
точите, точите...
И я действительно признаю, что выбросил эту граж-
данку на ходу под откос, но она, как очень грубая, по-
сидела, махнула юбками и пошла своей подлой дорож-
кой. И, увидев эту невредимую женщину, и несказанную
Расею вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и
поруганных девиц, и товарищей, которые много ездют
на фронт, но мало возвращаются, я захотел спрыгнуть
с вагона и себе кончить или ее кончить. Но казаки име-
ли ко мне сожаление и сказали:
— Ударь ее из винта.
И, сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор
с лица трудовой земли и республики.
И мы, бойцы второго взвода, клянемся перед вами,
дорогой товарищ редактор, и перед вами, дорогие това-
рищи из редакции, беспощадно поступать со всеми из-
менниками, которые тащат нас в яму и хотят повернуть
речку обратно и выстелить Расею трупами и мертвой
травой.
За всех бойцов второго взвода — Никита Балмашов,
солдат революции».
СМЕРТЬ ДОЛГУШОВА
Завесы боя продвигались к городу. В полдень про-
летел мимо нас Корочаев в черной бурке — опальный
начдив четыре, сражающийся в одиночку и ищущий
смерти. Он крикнул мне на бегу:
— Коммуникации наши прорваны, Радзивиллов и
Броды в огне!..
И ускакал — развевающийся, весь черный, с уголь-
ными зрачками.
На равнине, гладкой, как доска, перестраивались
бригады. Солнце катилось в багровой пыли. Раненые за-
кусывали в канавах. Сестры милосердия лежали на
309
траве и вполголоса пели. Афонькины разведчики рыска-
ли по полю, выискивая мертвецов и обмундирование.
Афонька проехал в двух шагах от меня и сказал, не по-
ворачивая головы:
— Набили нам ряшку. Дважды два. Есть думка за
начдива, смещают. Сомневаются бойцы...
Поляки подошли к лесу, верстах в трех дт нас, и
поставили пулеметы где-то близко. Пули скулят и взвиз-
гивают. Жалоба их нарастает невыносимо. Пули под-
стреливают землю и роются в ней, дрожа от нетерпе-
ния. Вытягайченко, командир полка, храпевший на
солнцепеке, закричал во сне и проснулся. Он сел на
коня и поехал к головному эскадрону. Лицо его было
мятое, в красных полосах от неудобного сна, а карманы
полны слив.
— Сукиного сына, — сказал он сердито и выплюнул
изо рта косточку, — вот гадкая канитель. Тимошка, вы-
кидай флаг!
— Пойдем, што ль? — спросил Тимошка, вынимая
древко из стремян, и размотал знамя, на котором была
нарисована звезда и написано про Третий Интерна-
ционал.
— Там видать будет, — сказал Вытягайченко и вдруг
закричал дико: — Девки, сидай на коников! Скликай
людей, эскадронные!..
Трубачи проиграли тревогу. Эскадроны построились
в колонну. Из канавы вылез раненый и, прикрываясь
ладонью, сказал Вытягайченке:
— Тарас Григорьевич, я есть делегат. Видать, вроде
того, что останемся мы...
— Отобьетесь... — пробормотал Вытягайченко и под-
нял коня на дыбы.
— Есть такая надея у нас, Тарас Григорьевич, что
не отобьемся, — сказал раненый ему вслед.
— Не канючь, — обернулся Вытягайченко, — небось
не оставлю, — и скомандовал повод.
И тотчас же зазвенел плачущий бабий голос Афонь-
ки Виды, моего друга:
— Не переводи ты с места на рыся, Тарас Григорье-
вич, до его пять верст бежать. Как будешь рубать, когда
у нас лошади заморенные... Хапать нечего — поспеешь
к богородице груши околачивать...
— Шагом! — скомандовал Вытягайченко, не подни-
мая глаз.
310
Полк ушел.
— Если думка за начдива правильная, — прошептал
Афонька, задерживаясь, — если смещают, тогда мыли
холку и выбивай подпорки. Точка.
Слезы потекли у него из глаз. Я уставился на
Афоньку в изумлении. Он закрутился волчком, схва-
тился за шапку, захрипел и умчался.
Грищук со своей глупой тачанкой да я — мы оста-
лись одни и до вечера мотались между огневых стен.
Штаб дивизии исчез. Чужие части не принимали нас.
Полки вошли в Броды и были выбиты контратакой. Мы
подъехали к городскому кладбищу. Из-за могил выско-
чил польский разъезд и, вскинув винтовки, стал бить
по нас. Грищук повернул. Тачанка его вопила всеми
четырьмя своими колесами.
— Грищук! — крикнул я сквозь свист и ветер.
— Баловство, — ответил он печально.
— Пропадаем, — воскликнул я, охваченный гибель-
ным восторгом, — пропадаем, отец!
— Зачем бабы трудаются? — ответил он еще печаль-
нее.— Зачем сватания, венчания, зачем кумы на свадь-
бах гуляют...
В небе засиял розовый хвост и погас. Млечный Путь
проступил между звездами.
— Смеха мне, — сказал Грищук горестно и показал
кнутом на человека, сидевшего при дороге, — смеха мне,
зачем бабы трудаются...
Человек, сидевший при дороге, был Долгушов, теле-
фонист. Разбросав ноги, он смотрел на нас в упор.
— Я вот что, — сказал Долгушов, когда мы подъ-
ехали,— кончусь... Понятно?
— Понятно, — ответил Грищук, останавливая лоша-
дей.
— Патрон на меня надо стратить, — сказал Долгу-
шов.
Он сидел, прислонившись к дереву. Сапоги его тор-
чали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвер-
нул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли
на колени и удары сердца были видны.
— Наскочит шляхта — насмешку сделает. Вот доку-
мент, матери отпишешь, как и что...
— Нет, — ответил я и дал коню шпоры.
Долгушов разложил по земле синие ладони и осмот-
рел их недоверчиво...
311
— Бежишь? — пробормотал он, сползая. — Беги,
гад...
Испарина ползла по моему телу. Пулеметы отсту-
кивали все быстрее, с истерическим упрямством. Обве-
денный нимбом заката, к нам скакал Афонька Вида.
— По малости чешем, — закричал он весело. — Что
у вас тут за ярмарка?
Я показал ему на Долгушова и отъехал.
Они говорили коротко, — я не слышал слов. Долгу-
шов протянул взводному свою книжку. Афонька спря-
тал ее в сапог и выстрелил Долгушову в рот.
— Афоня, — сказал я с жалкой улыбкой и подъ-
ехал к казаку, — а я вот не смог.
— Уйди, — ответил он, бледнея, — убью! Жалеете
вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку...
И взвел курок.
Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной
холод и смерть.
— Вона, — закричал сзади Грищук, — ан дури! —
и схватил Афоньку за руку.
— Холуйская кровь! — крикнул Афонька. — Он от
моей руки не уйдет...
Грищук нагнал меня у поворота. Афоньки не было.
Он уехал в другую сторону.
— Вот видишь, Грищук, — сказал я, — сегодня я по-
терял Афоньку, первого моего друга...
Грищук вынул из сиденья сморщенное яблоко.
— Кушай, — сказал он мне, — кушай, пожалуйста...
( Александр Фадеев
РОЖДЕНИЕ
АМГУНЬСКОГО ПОЛКА
Памяти Игоря Сибирцеза
1
Настоящее название полка было 22-й Амгуньский
стрелковый, а его рядовые бойцы во всех официальных
приказах именовались народоармейцами L Но человек,
около года не вылезавший из сопок, вскормивший не-
счетное количество вшей, исходивший все таежные тро-
пы от зейских истоков до устья Амура, привык к без-
властью и безнаказанности и боялся порядка и дисцип-
лины. В новых наименованиях и, главное, в цифрах ему
чудилось кощунственное посягательство на его свободу.
И бойцы 22-го Амгуньского полка продолжали назы-
вать себя партизанами, а полк свой по имени старого
командира — просто Семенчуковским отрядом.
Это была упорная и жестокая борьба между старым
названием и новым. За старое боролся весь полк во
главе с командиром Семенчуком, за новое — комиссар
полка Челноков.
Силы противостояли неравные. Не только потому,
что Челноков был одинок, но и потому, что это проис-
ходило в местности, где так короток день, а ночь длин-
на, где густ и мрачен лес, где воздух сыр и ядовит ог
болотных испарений, где зверь в лесах силен и непуг-
лив и человек — как зверь.
Семенчуковский отряд оказался сильнее Амгуньского
полка. Это произошло после разгрома под Кедровой
1 На Дальнем Востоке наша армия называлась в 1920 году не
Красной, а Народно-революционной.
313
речкой, хмарным и слизким утром, на левом фланге
красного фронта.
Сгрудившись у гнилого, поросшего мхом и плесенью
охотничьего зимовья, Семенчуковский отряд митин-
говал.
— Куда нас завели? — кричал, взгромоздившись на
пень, лохматый детина.
Весь — костлявая злость, от головы до пят обвешан-
ный грязными шматками полгода не сменявшейся оде-
жды, он походил на загнанного таежного волка.
— Нас завели на верную гибель... Нас продали...
Владивосток занят, Спасск-Приморск занят, Хабаровск
занят, не сегодня-завтра займут Иман, — куда мы пой-
дем? Мы — партизаны, амурцы. Мы мерзли в сопках за
наши хлеба и семьи. Пора уж и домой! Довольно по-
кормили вшей, пойдем за Амур! Там тоже советская
власть — мы ее поставили. Пущай приморцы сами свои
края защищают... Пущай Челноков сам повоюет... с ры-
бой со своей, с тухлой...
И из человеческого месива, где озлобленные лица,
обдрипанные шинели, штыки, патронташи, подсумки и
мокрые ветви загаженного людьми ельника сливались
в одно оскаленное щетинистое лицо, неслось:
— За Амур! За Амур!
— Довольно!
— Ну, как вы попадете за Амур? — стараясь быть
спокойным, говорил Челноков. — Через фронт нам не
пройти — раз. Через Хорские болота и подавно не прой-
ти. Остается Уссури. Как вы через нее переправитесь?
Пароходов ведь нет...
— Bpe-otiib! — кричали из толпы. — Омманываешь...
Есть пароходы... А грузы на чем эвакулируют? Сво-
лочь!
— Этот пароход вас не возьмет..,
Мы сами его возьмем...
Он всегда и так перегружен...
•— Разгру-узим... Вот невидаль, подумаешь!
Так ведь не в этом суть, — не сдавался Челно-
ков.— Ведь мы оголяем фронт. Из-за нашего ухода вся
область пропадает...
— А что мы — сторожа? — надсаживался лохматый
детина. — Чего вы приморцев не держали? Небась в
тылу сидят, одеты и обуты... Одних штабов, как собак,
расплодилось...
814
Александр Фадеев. 1924 ё.
— Верно, Кирюха... В тылу... галифеи шириной в
Амур распустили.
Масса не слушалась комиссара. Вчера, ругаясь с
ним из-за продуктов, она еще чувствовала в нем силу
и нехотя подчинялась ей. Это не было, как в прежние
дни, сознательное уважение к старшему товарищу, а
просто последние остатки робости перед начальством.
Они проявлялись тем сильней, чем независимей, храб-
рей и строже держался начальник. Но сегодня это уже
не помогало. Сегодня масса не боялась и ненавидела
комиссара. Он являлся единственным препятствием на
ее пути. Вопрос ясен. К чему этот разговор?
— Дово-ольно! — кричала толпа.
— Долой комиссара! Отзвонил свое. Даешь в от-
ставку!
На заросшей завалинке зимовья сидел Семенчук и
ждал. В волнующейся толпе странно было видеть его
притаившуюся, безучастную фигуру. И несколько раз,
ловя на себе его хитрый, выжидающий взгляд, Челно-
ков думал, что это единственный человек, который мог
бы еще удержать полк. Но Семенчук молчал. Он сам
был амурец, ему надоело воевать, а симпатии толпы
так изменчивы, что не стоит рисковать своим авторите-
том за чужое дело.
— За Амур! — рвался через тайгу в золотистые
амурские пади стихийный тысячеголосый рев.
— Слушай, Семенчук, — сказал Челноков, накло-
нясь к командиру, — если они уйдут, — ты будешь отве-
чать.
Семенчук насмешливо улыбнулся:
f — При чем тутчя? Мое дело маленькое.
— Врешь! — не выдержал Челноков. — Ты продаешь
весь фронт за свой командирский значок...
— Что-о?!
Семенчук вскочил как ужаленный. В его напряжен-
ной позе скользнуло что-то кошачье. Даже желтая
шерсть его тигровой тужурки, казалось, вздыбилась,
как живая.
— Товарищи!.. Вы слышали, что сказал комиссар?
Вы слышали, что он сказал? — Голос Семенчука дро-
жал от деланного гнева. — Мы, что целый год страдали
в сопках, падали под пулями, топли в болотах, кормили
мошкару, мы, оказывается, предатели революции! А они,
что пришли на готовенькое, надели френчи и сели на
%
316
наши шеи, они — спасители... Убирайся вон! — рявкнул
он злобно.
Его толстая шея вздулась багровыми жилами, и ши-
рокое скуластое лицо налилось кровью.
Челноков схватился за револьвер и шагнул к коман-
диру.
— Если ты думаешь на этом сыграть... — сказал он
со зловещей сдержанностью, но грозный рев заставил
его повернуться к массе. Отовсюду, где только видне-
лись люди, смотрела на комиссара стальная щетина
неумолимых ружейных дул.
— Уйди-и!
Челноков принял руку с кобуры и несколько мгно-
вений изучал толпу. Из-за каждого дула впивались в
него горящие угрозой и ненавистью глаза.
Челноков опустил голову и медленно сошел с зава-
линки.
— Красные! — крикнул Семенчук. — Я всегда был
с вами, а вы со мной... Слушай мою команду! По-
строиться!
Винтовки опустились одна за другой. В толпе за-
шныряли ротные командиры.
— Первая рота, собира-айсь!
— Вторая рота!
Резкие выкрики команд казались неуместными под
мохнатыми елями в распущенной массе голодных лю-
дей и тотчас же глохли где-то в заржавленном мхе кар-
чей. Роты строились наспех, как-нибудь, и уползали
в чащу по грязной дороге. Оседланная лошадь комис-
сара неистово ржала и металась на привязи. Под сот-
нями ног трещал низкорослый ельник.
— Винтовки хоть бы на плечо взяли... — неуверенно
предложил кто-то.
— Во-от еще, на плечо! — гудели недовольные
голоса. — Мы и на ремне донесем. Старый режим,
што ли?
— Покомандовали ужо над нами, будя!
Оставшийся у зимовья комиссар слышал в удаляю-
щихся голосах нотки радостного возбуждения й наив-
ной, почти детской уверенности в окончании всех бед
и страданий на этом свете.
Его лошадь запуталась в поводу и, вспенив губы,
жалобно фыркала.
— Тише ты-ы! — сердито закричал Челноков.
317
Он несколько раз ударил ее хлыстом по крутому
заду и выругался самыми скверными словами, какие
только знал. Неизбежный вопрос — что делать? — свер-
лил уставшую голову. Он сел на завалинку и стал раз-
мышлять. Это было не очень приятное и не легкое заня-
тие. Комиссар не спал уже около двух суток! В висках
стучало. Он сжимал голову большими шершавыми ла-
донями, и его сухие и ломкие, как старая оленья
шерсть, волосы топорщились на голове. Фуражка за-
щитного цвета лежала у ног, и в ней хозяйничали ры-
жие болотные муравьи. Шум шагов и людские голоса
давно уже замолкли вдали. Только в ольховнике у клю-
ча робко посвистывали мелкоглазые рябчики. На левом
фланге красного фронта комиссар Амгуньского полка
был совершенно одинок.
Он медленно расстегнул кобуру и вытащил наган.
Долго с интересом наблюдал, как ленточкой отливает
смазанная вороненая сталь, и так же серьезно и вдум-
чиво взвел холодный курок. Однако он не выстрелил
сразу, а решил еще подождать и подумать. Он привык
отрезать только один раз, но зато после семикратной
примерки.
И действительно, мысли его приняли другой оборот.
— Так нельзя, — сказал он, строго глядя на ло-
шадь. Слова эти относились, однако, не к ней, а к са-
мому комиссару. — Так нельзя, — снова повторил он
вслух. — Тебя все равно расстреляют, но предупредить
о случившемся ты обязан.
Придерживая курок нагана большим пальцем, Чел-
ноков опустил его на место и спрятал револьвер в ко-
буру. В его движениях не чувствовалось волнения или
Страха. Он поднял с земли фуражку и стал чистить ее
мокрой еловой веткой. Ему не хотелось, чтобы даже
в его одежде был намек на панику. Правда, он не
сумел удержать полк, хотя и должен был сделать это.
Но это еще не означает, что все остальное может идти
спустя рукава.
Челноков отвязал лошадь и, вскочив в седло, выехал
на дорогу. Лошадь рвалась в ту сторону, куда ушел
полк, а он заставлял ее идти в другую. Несколько се-
кунд они вертелись на одном месте, пока ей не стало
ясно, что обстоятельства переменились.
Тогда она повиновалась человеку и, закусив удила,
понеслась к штабу фронта, на станцию Бейцухе.
did
2
В очередной оперативной сводке иманская «Рабоче-
крестьянская газета» писала:
«2 мая наши части, под давлением превосходных рил
противника, оставив разъезд Кедровая речка, отошли
на линию ст. Бейцухе. Дальнейшее продвижение про-
тивника приостановлено».
Прочитав сводку, командующий северным фронтом
невольно улыбнулся. Это была горькая, спрятанная в
усы улыбка. Он лучше всяких газет знал, что пораже-
ние под Кедровой речкой являлось на самом деле раз-
громом красного фронта. «Превосходные силы против-
ника» заключались в одном батальоне, разогнавшем
десятитысячную армию. «Движение противника» от-
нюдь не было приостановлено, но он сам не пошел даль-
ше, боясь распылить немногочисленные силы по мелким
станциям и разъездам.
Перед мысленным взором командующего все время
лежал громадный кусок Амурской долины, по которому
уверенно перестраивались цепочки, квадратики, линии
маленьких косоглазых людей, внушавших ужас защит-
никам кедровореченских позиций. И потом.., эта неудер-
жимая звериная паника, с оставлением орудий, винто-
вок и амуниции, с беспощадными драками между свои-
ми из-за каждого паровоза, вагона или двуколки, с бес-
смысленными, полными дикого страха, потными, изму-
ченными, уже нечеловеческими лицами. А когда штаб-
ной вагон попал наконец на станцию Бейцухе, он уви-
дел на платформе сухого, сморщенного, с мочальной
бородкой старика, грозившего скрюченным пальцем и
кричавшего с пеной у рта:
— Дезертиры... Мы дали вам одежду, мы дали вам
хлеб, а вы нас японцу продаете? Будьте вы прокляты!..
Вы и ваши дети!
Теперь — не только в Приморье, но и за Амуром, и
в Прибайкалье, и за Байкалом — Кедровая речка стала
нарицательным именем, символом панического бегства,
трусости и позора.
Командующий фронтом посмотрел на карту. В этом
злополучном краю даже военные карты были состав-
лены неверно. Справа от ветки тянулись непролазные
Хорские болота. Верховья реки Хор и ее притоков были
помечены пунктиром. Там не ступала еще человеческая
319
нога. Плохонькие позиции перед Бейцухе занимал не-
давно сформированный коммунистический отряд. Поло-
вина его бойцов была набрана из ставших ненужными,
за развалом частей и учреждений, военных и граждан-
ских комиссаров. Все они привыкли командовать, не лю-
били подчиняться и искали путей, как бы попасть в Со-
ветскую Россию.
На левом фланге на нескольких пунктах значился
по штабной карте 22-й Амгуньский полк. Связь с ним
была еще плохо налажена. Полк считался ненадеж-
ным. Во всяком случае, это был единственный неразва-
лившийся полк, в порядке отступивший из-под Кедровой
речки.
Командующий снова взял газету, но чтение не шло
на ум. Он выглянул в окно. Везде было так пустынно,
так неприглядно, что не верилось, будто на этой забро-
шенной станции находится главный мозг фронта. Да
был ли у такого фронта хоть какой-нибудь мозг?
Из станционного здания подпрыгивающей походкой
шел к вагону комиссар Соболь. Он был очень малень-
кого роста и, шагая через прогнившие дыры платфор-
мы, в своем черном обмундировании напоминал безза-
ботного вишневого жучка. Но командующему он ка-
зался скорее неутомимым муравьем, несущим на себе
непосильную ношу.
— Хорошие вести, — сказал комиссар, заходя в ва-
гон.— Из Владивостока пришел тайгою на Иман ма-
тросский отряд, вот телеграммы... — Он бросил на стол
пачку розовых бумажек. — На Имане восстановлен по-
рядок, ловят дезертиров. Ревштаб извещает, что кое-ка-
кие полки удастся привести в боевой вид... Ей-богу, мы
сможем выправиться на этом деле!..
— Боюсь, что нам уже ничто не поможет, — сказал
командующий, прочитав последнюю телеграмму и пере-
давая ее комиссару. — Вы читали это?
Телеграмма извещала, что пароход, эвакуировавший
военные и железнодорожные грузы по реке Уссури за
Амур, вышел в третий рейс. Телеграфный язык*не знал
правил правописания — ни больших, ни малых букв, ни
запятых, ни кавычек. Подпись: «комендант пролетарий
Селезнев» — нужно было читать: «Комендант парохода
«Пролетарий» Селезнев».
— Что ж, молодчага! — воскликнул комиссар. — Это-
го парня я знаю только по телеграммам, но он чертов-
320
ски исполнительный человек. Можно было бы жить,
если б все были такие.
Командующий смотрел на комиссара и, как всегда,
удивлялся, откуда набирается бодрости эта маленькая,
невзрачная фигурка. Сам он давно работал механиче-
ски. Он был совсем одинокий человек, и с развалом
фронта ему некуда было идти. Бывший офицер старой,
царской армии, он провоевал большую часть своей жиз-
ни, из которой почти три года пришлись на борьбу за
Советскую Россию. Теперь она маячила перед ним как
последнее и единственное убежище.
— Дело не в исполнительном человеке, — сказал он
сухо, — дело в эвакуации. Когда этот пароход пошел
в первый рейс, я сразу понял, что дело пахнет ликвида-
цией. Ревштаб вывозит все, что можно. Приморье спело
свою песенку. Нам тоже пора кончать. Я так думаю.
— Ну и плохо, что вы так думаете! — вспылил ко-
миссар. Ему надоели вечные толки о ликвидации, за ко-
торыми шел неизбежный разговор о Советской Рос-
сии.— Наша беда и заключается в том, что так думают
почти все, начиная от командующего и кончая дезер-
тиром. Но ведь нам, черт возьми, предписано держаться,
а не ликвидироваться!.. Вы думаете, мне не хочется в
Советскую Россию? Вы думаете, я не устал от всей этой
чертовщины? — Лицо комиссара невольно сморщилось
в жалкой гримасе. — Но вы помните, я говорил, что нам
надо идти против течения? Какой я, к черту, комиссар
фронта? Я вам говорил, что я просто токарь военного
порта. Но раз я поставлен комиссаром, я должен им
быть: не спать ночей, стрелять дезертиров, ругаться с
полками, реквизировать хлеб, бороться до тех пор, пока
меня самого не сволокут в придорожную канаву... Я на-
чинаю и кончаю свой день с этой мыслью. Я подвинчи-
ваю себя каждый день невидимыми гайками до послед-
ней степени, до отказа... Я все время иду против тече-
ния и тащу за собой всех, кого только можно тащить
при помощи слова или нагана... Черт возьми!.. Я буду
идти и тащить, покуда хватит моих сил. Я уж вам не
раз говорил об этом.
Командующему хотелось сказать: «Я тоже старый
солдат и исполняю свой долг», но эта фраза показалась
ему слишком напыщенной при Соболе.
— Я привык к организованным войсковым едини-
цам,— сказал он извиняющимся тоном.
321
Соболь ничего не ответил.
Неловкую тишину одиноко прорезал отдаленный гу-
док паровоза. Оба ощутили легкое, едва заметное дро-
жание штабного вагона. Судя по гудку, паровоз шел
с тыла.
— Это наш броневик, — сказал командующий.
— Наконец-то!
Соболь швырнул телеграмму и, жуя на ходу выта-
щенный из кармана хлеб, вышел на линию.
Из темного провала сопок, раскидывая по откосам
клочья тяжелого дыма, несся к штабу новенький броне-
поезд.
Из бронированного паровоза, смеясь, выглядывал
седенький машинист. Соболь заметил у его пояса пару
английских гранат.
Поезд остановился за станцией, у стрелки. Из ваго-
нов одна за другой выскакивали серые фигуры. Впе-
реди шел начальник штаба фронта и его помощник. За
ним виднелись еще знакомые и незнакомые лица.
— Черт возьми!.. Шептало! — воскликнул комиссар,
узнав среди штабных начальника бронепоезда.
Черные, закоптелые лица обступили комиссара со
всех сторон. Они радостно трясли ему руки и что-то
кричали наперерыв. Двое из вновь прибывших, в одина-
ковых чистеньких френчах и кожаных галифе, остано-
вились поодаль и улыбались.
— Не все сразу, — с нарочитой строгостью сказал
комиссар. — Сначала о деле. Идите все на свои места,
потом поболтаем. Шептало и вы, — он посмотрел на
отдельно стоящую пару, — пойдемте со мной.
— Рассказывай, — обратился он к Шептало, когда
они зашли в купе. — А ты все такой же, — перебил он
себя, невольно переходя с официального тона на дру-
жеский.— Ну, ну, рассказывай...
Шептало сообщил, с каким трудом удалось ему
сформировать бронепоезд. Он постоянно сбивался с то-
на и, брызгая слюной, возбужденно передавал не отно-
сящиеся к делу подробности.
— Понимаешь, все уже было сделано! — кричал он
на весь вагон. — Уж и орудия поставили, а ни один ма-
шинист не соглашается... Кстати, насчет орудий: эта
трусливая Никольская артиллерия никак не хотела от-
давать. Рабочие из мастерских даже депутацию к ним
посылали. «Мы, говорят, маялись, делали, а вы удрали
322
с фронта, да еще орудий не даете». Ни черта не помо-
гает... Тогда уж и я разъярился. «Не дадите, говорю,
начну садить по лагерям из пулеметов...» Все-таки от-
дали...
Он весело засмеялся, и, глядя на боевые искорки
в его зеленовато-серых глазах, так же весело завторил
ему Соболь. Двое в кожаных брюках скептически пере-
глянулись.
— Так вот, машиниста, — продолжал Шептало.—
Я уж, брат, все службы — тяги, пути, движения и еще,
черт его знает, какие службы облазил. Никто!.. Нако-
нец этот старичок. «Мне, говорит, все равно умирать...»
И поехал. Ей-богу...
Соболь смотрел на исхудавшее белобрысое лицо на-
чальника бронепоезда и думал, что из этого парня бу-
дет толк. «Ничего, что немного звонит. Зато делает
дело...»
.— Ребята у тебя надежные? — спросил он вслух.
— Ребята — что надо! — восторженно воскликнул
Шептало. — Большинство со Свиягинской лесопилки.
Есть трое батраков из Зеньковки. Тут, брат, комедия...
Один из них рассказывал, что после Кедровой речки он
дезертировал домой. Так, понимаешь ли, собственная
баба в избу не пустила. «Иди ты, говорит, ко псу,
сметанник». Ей-богу, так и сказала: «Иди ты ко псу».
Сам рассказывал. «Стало, говорит, мне соромно, я
и вернулся...»
— А вы как к нему попали? — обратился Соболь'к
парням в кожаных брюках.
— Они не ко мне, — сказал Шептало. Его потре-
скавшиеся губы скривились в насмешливую улыбку.—
с)то так... случайные...
— У нас разрешение в Советскую Россию, — сказал
один из них. Это был молодой белокурый парень с тон-
кими и правильными чертами лица.
— Так, — сказал комиссар. — Ну, мы еще погово-
рим. Шептало, можешь идти.
Он долго и пристально разглядывал оставшихся в
купе. Его маленькие черные усики странно топорщи-
лись. Все трое молчали.
Соболь хорошо знал обоих по совместной работе во
Владивостоке. Белокурый был матросом из музыкант-
ской команды Сибирского флотского экипажа. Его то-
варищ, горячий, неутомимый латышу слесарил во
323
временных мастерских. В те времена это были на ред-
кость хорошие ребята.
— Как же вас выпустили из Владивостока? — спро-
сил комиссар пытливо.
Белокурый звучно рассмеялся:
— Там сейчас такая неразбериха, что кого хочешь
выпустят. Везде хозяйничают японцы. Наши прячутся
по слободкам. Старик Крайзельман совсем потерял го-
лову. Когда мы ему подсунули бумажку, он сразу под-
писал. Я еще сказал Артуру, что, подсунь ему его соб-
ственный смертный приговор, он бы так же подписал.
Факт!
При его словах латыш нервно дернулся на койке.
— Разве у нас вожди?! — резко закричал он. — У нас
сапожники! Все потерьяли голову, мечутся, как угоре-
леватые. Мы думали, шьто хоть на фронте порьядок,
а тут у вас тоже... Скорей бы уйти к черту из этого
краю...
Он выразительно махнул рукой, и вся его мускули-
стая, чуть сгорбленная фигура, казалось, говорила
о том, что он не желает больше об этом разговаривать.
— Так, — снова сказал комиссар. — И что же вы ду-
маете делать в Советской России?
Его голос чуть заметно дрожал.
— Я проберусь в Латвию, — буркнул латыш.
— А я пойду по культурно-просветительной части.
До японского выступления я уж ударял по этому делу.
Хоть я и матрос, но ты знаешь, что из меня плохой воя-
ка. А каковы твои планы на будущее?
— Я думаю всю свою дальнейшую жизнь посвятить
военному делу, — насмешливо процедил Соболь. — Ну,
покажите, какую вам дали бумагу...
— Ерунда, обыкновенный мандат. — Белокурый по-
лез в бумажник. — А ты зря идешь по военной, — ска-
зал он с сожалением. — Приморье погибло уж для Со-
ветской России, а в центре нужны люди для мирного
строительства. Вот она...
Соболь взял протянутую бумажку и сунул, не читая,
в карман.
— Теперь послушайте меня, — сказал он, неожидан-
но меняя тон. — Вы обманным путем ушли из Влади-
востока, забыв свой долг и бросив массы в самую тя-
желую минуту. Я отдал бы вас под суд, ежели бы они
у нас не развалились. Я застрелил бы вас сам, ежели
324
бы у нас хватало толковых людей. Я жалею, что не
могу сделать ни того, ни другого... Но я предлагаю...
— Это плохие шутки, Соболь, — недоуменно перебил
латыш.
— Молчать!.. — не выдержал комиссар. Он выхва-
тил наган, и голос его звякнул, как лопнувший станци-
онный колокол. — Сидеть смирно и слушать! Я пред-
лагаю вам вот что: или вы пойдете в коммунистиче-
ский отряд, дав мне слово, что не убежите, или я вас
посажу под арест и не буду кормить до тех пор, пока
вы не дадите мне этого слова и не пойдете в отряд.
— Соболь, что с тобой? Ты с ума спятил? — удив-
ленно забормотал матрос.
— Одна минута на размышление, — сказал комис-
сар, выкладывая часы.
— Не пойму... — В глазах белокурого померк мяг-
кий и теплый свет, и вся его фигура выразила удивле-
ние, беспомощность и вместе с тем сознание своей пра-
воты.
— Я буду жалеться в областком! — вскипел ла-
тыш. — Это свинство!
— Когда будешь в Советской России, можешь по-
жаловаться в ЦК — там разберемся.
— Л...ладно, — сказал матрос после непродолжи-
тельного раздумья. — Мы можем, конечно, пойти и в
коммунистический отряд. Но с твоей стороны это пре-
вышение власти. Ты определенно закомиссарился, ты. за
это ответишь. Я тебе говорю...
— Двадцать секунд осталось, — холодно обрезал
комиссар.
— Да я же сказал, что мы пойдем!
— Товарищ Сикорский!—крикнул Соболь, откры-
вая дверь. — Выдайте этим двум удостоверения в ком-
отряд... рядовыми бойцами, — добавил он после некото-
рой паузы.
— Эх, Соболь, Соболь... — с грустью протянул бело-
курый.
— Канцелярия направо, — сухо сказал комиссар.—
Я вас не задерживаю.
— Гас-тро-леры, — промычал он с непередаваемым
презрением, когда оба спутника возмущенно выскочили
из купе. Ему казалось всего обиднее то, что один был
слесарем временных мастерских, а другой — матросом
революционного экипажа.
325
3
Соболь беседовал у бронепоезда с народоармейцами,
когда всадник на взмыленной густогривой лошади вы-
скочил из кустов и, быстро осмотревшись по сторонам,
поскакал к штабному вагону.
«Это еще что за личность?» — подумал Соболь. Но
когда всадник соскочил с седла, он сразу узнал в нем
Челнокова. До этого ему не приходилось видеть его на
лошади.
Приезд Челнокова был слишком необычен. Соболь
оборвал свою речь на полуслове и не пошел, а побежал
к штабу. Комиссар Амгуньского полка угрюмо поджи-
дал его, прислонившись к вагону. Видно было, что он
страшно устал. Его лошадь тоже понурила голову и
застыла.
Соболь с силой сжал протянутую ему руку и не-
сколько секунд не мог выговорить ни слова.
— Ну?! — прохрипел он наконец.
— Амгуньский полк ушел с позиции, — тихо прого-
ворил Челноков.
— Тсс!.. — прошипел Соболь, до боли • стиснув
зубы. — Никому ни единого слова об этом. Здесь воз-
дух полон паники. Идем в вагон.
Но когда они вошли в купе, комиссар фронта не мог
больше сдерживаться. Он яростно вцепился в грязный
челноковский френч и, дрожа от переполнявших его су-
щество бешеных противоречивых чувств, закричал тон-
ким, надорванным фальцетом:
— Как же ты допустил?.. Надо было держать з-зу-
бами!.. Да что же у вас там... Челноков?!
— Я сделал все, что мог, — угрюмо пробормотал
тот. — Но я не сумел убедить...
— Убедить?! — яростно повторил Соболь. — Комис-
сар! Надо было не только убеждать, надо было стре-
лять!
— Дело так сложилось, что я не мог даже вытащить
револьвера... Они направили на меня винтовки...
— Какое мне до этого дело?.. Ты должен был удер-
жать, понимаешь? До-олжен. Меня не интересует, уби-
ли бы тебя или нет!..
Соболь выпустил френч и возбужденно забегал по
купе. Его маленькая растрепанная фигурка, мечущаяся
326
в тесной и пыльной кабинке, как-то не вязалась с рос-
лой, окаменевшей на месте фигурой Челнокова.
— Ты знаешь, что нужно сделать с тобой? — спро-
сил вдруг Соболь, круто остановившись перед полко-
вым комиссаром.
— Знаю, — сказал Челноков.
Соболь опустился на койку и сидел молча несколько
минут. Слышно было, как в канцелярии кто-то неумело
стукал на машинке.
В этой тишине слова комиссара прозвучали совсем
по-иному.
— Федор, — тихо позвал он Челнокова, — ты не за-
был, как мы пять лет работали у соседних станков?
Челноков вздрогнул, и странный мягкий звук со-
рвался с его уст. Соболь нервно хрустнул пальцами и
так же тихо продолжал:
— И ты... не сумел удержать полк?
Комиссар северного фронта не смотрел на своего
подчиненного, но в его словах слышался такой же ти-
хий, как его голос, укор.
— Я не сделаю тебе ничего, — продолжал Соболь,—
потому что у нас мало таких людей, как ты, а мы ми-
луем кой-кого и похуже. Но мы должны исправить по-
ложение. Ты понимаешь, Челноков?
Комиссар Амгуньского полка медленно поднял го-
лову. Его смущенный взгляд встретился с серьезным и
решительным взглядом Соболя, и в обоих мелькнуло
нечто большее, чем простое взаимное понимание. Это
была дружеская симпатия, может быть даже нежность.
Но она показалась только на одно мгновение.
— Пойдем к командующему, — сказал Соболь.
Им требовался быстрый и правильный рецепт. Но
что мог дать человек в старом полковничьем мундире,
Привыкший к организованным войсковым единицам? Он
уныло посмотрел на обоих сквозь потные очки в черной,
Почти траурной оправе и не сказал ни слова.
— Если бы у меня было тогда с пяток надежных
ребят, я бы удержал весь полк, — пояснил Челноков.—
Но теперь его не возьмешь и с пятью десятками. Он
выйдет к реке и укрепится. Семенчук — старая лисица!
Он вопросительно взглянул на командующего, но
тот по-прежнему молчал. Когда-то точная и исполни-
тельная машина теперь отказывалась работать. Соболь
схватил телеграфный бланк и, вырвав из рук команду-
327
ющего карандаш, стал быстро писать, нагнувшись над
столом.
— Подпишите! — сказал он, подсовывая исписанный
бланк. — Челноков, я сообщаю о происшедшем в рев-
штаб и прошу прислать один из матросских батальонов
в твое распоряжение. Ты сейчас же сядешь на дрезину
и поедешь на Вяземскую. Там встретишь эшелон и вме-
сте с отрядом пройдешь трактом к Аргунской. Я думаю,
к завтрашнему вечеру ты уже будешь там. Семенчуку
больше некуда деться. Я даю тебе все права и полно-
мочия, какие только потребуются.
— А если он успеет погрузиться на пароход?
Соболь схватил другой бланк.
«Станица Орехово. Коменданту «Пролетарий» Се-
лезневу.
Никаких частей без моего ведома не грузить.
Военком фронта СОБОЛЬ».
— Орехово выше Аргунской, — пояснил он, — там
тоже есть телеграф. Селезнев зайдет в Орехово за ди-
намитом. Ну... иди, брат... ждать некогда.
Они вместе вышли на линию. На привязи у вагона
все в том же положении стояла лошадь Челнокова. Из
ее грустных полуоткрытых глаз сочились мутные слезы
усталости и голода. Челноков ласково потрепал ее по
шее.
— Ты позаботься о моей лошадке, — сказал он Со-
болю.—А потом... —он на мгновение замялся и стран-
но дрогнувшим голосом докончил: — может, у тебя най-
дется кусок хлеба... для меня?
Только теперь Соболь заметрл, что Челноков бле-
ден, как песок. Кожа стянулась на его лице, резко обо-
значив скулы и челюсти. Под глазами выступили рас-
плывчатые синие круги, и веки чуть заметно дрожали.
Соболь убежал в вагон и через минуту вернулся
с ковригой гречишного хлеба и с большим куском ну-
тряного сала.
— Есть сумка, куда положить? Нет? Ну, возьми
мою!
Он снова сбегал в вагон и принес походную сумку
японского образца.
— Носи за мое здоровье! — сказал он шутливо.
328
Пароход «Пролетарий» имел свою историю. Когда
Иманский ревштаб пришел к необходимости эвакуиро-
вать за Амур все, что поддается эвакуации, он столк-
нулся с рядом непредвиденных затруднений.
Прежде всего требовалось судно, на котором можно
было провозить эвакуированный грузы. Нужен был
твердый и исполнительный человек, способный взять на
себя такое опасное и ответственное дело. И, наконец,
необходим был новый путь для эвакуации, так как Ус-
сури впадала в Амур возле Хабаровска, а в последнем
сидели японцы.
В течение нескольких дней штабная канцелярия за-
нималась отыскиванием нового пути. Были извлечены
из старых переселенческих архивов изъеденные мыша-
ми, пожелтевшие от времени географические карты, из
которых ни одна не походила на другую, хотя все изо-
бражали одну и ту же местность.
Комендантская команда ловила на побережье заго-
релых рыбаков и хитрых, предприимчивых скупщиков
меха, могущих дать хоть какие-нибудь сведения по ука-
занному вопросу.
И путь был наконец найден.
Это была Центральная протока, вытекавшая из
Амура в пятидесяти верстах выше Хабаровска и впа-
давшая в Уссури верст на сорок выше того же города.
Пароход должен был спускаться по Уссури до устья
протоки и, свернув в нее, идти против течения до тех
пор, пока не попадет в Амур. Таким образом, Хаба-
ровск оставался в стороне. По свидетельству рыбаков,
то была глубокая протока, хотя по ней не плавало еще
ни одно паровое судно.
С пароходом дела обстояли хуже. В Иманском за-
тоне находились старая баржа в сто тонн водоизмеще-
ния и маленький поломанный пароходик, насчитывав-
ший пятьдесят восемь лет производственного стажа.
Когда-то он назывался «Казаком уссурийским», а бар-
жа— «Казачкой», но после Февральской революции его
переименовали в «Гражданина», а баржу — в «Граж-
данку». При Колчаке на нем вылавливали в тростнико-
вых зарослях Сунгача беглых большевиков и красно-
гвардейцев. Пароход был заново перекрашен и пере-
крещен в «Хорунжего Былкова», а баржа — в «Свобод-
329
ную Россию». По мнению знающих людей, он теперь
ни к чему не годился. Но председатель ревштаба осмот-
рел его самолично и нашел, что «можно починить».
Нужен был только человек, способный взяться за это
дело.
Стали искать человека. Он должен был, во-первых,
хоть немного понимать в пароходном деле, во-вторых,
отличаться поистине дьявольской настойчивостью, и,
в-третьих, его глаза не смели косить в сторону Совет-
ской России. Иначе он мог исчезнуть в первом же рейсе,
как только попадет за Амур.
Надо сознаться, таких людей на Уссурийской ветке
было очень мало. И все-таки его нашли. Он командовал
комендантской ротой города Имана и, по имевшимся
сведениям, плавал раньше на торговых и военных
судах.
Председатель ревштаба занимался у себя в каби-
нете, когда дверь отворилась без доклада и в комнату
вошел плотный чернявый человек среднего роста, в ко-
роткой гимнастерке полузащитного цвета и простых
кожаных брюках, заправленных в грубые сапоги.
— Что вам угодно? — спросил председатель сухо.
В эти дни у него бывало излишне много посетите-
лей, и вошедшего он видел в первый раз.
— Я Никита Селезнев,— просто сказал вошедший.—
Меня вызвали по делу эвакуации.
— Садитесь, — сказал председатель, указывая на
стул. — Это очень серьезное и ответственное дело. Мы
предлагаегл вам отремонтировать пароход в две недели.
Ни в коем случае не позже — в порядке боевого при-
каза.
Излагая Селезневу, в чем состояла задача, он при-
стально изучал его внимательное, спокойное лицо и
плотную, резко очерченную фигуру. У Селезнева были
сильные челюсти, прямой и крепкий нос, темные, почти
черные волосы на голове и такие же подстриженные
по-английски усы. Одна из его бровей поднялась чуть
выше другой, и из-под обеих смотрели острые, прони-
цательные глаза цвета полированной яшмы. На вид ему
можно было дать около двадцати семи лет.
•— Нам требуется строгая точность и исполнитель-
ность в этом деле, — говорил председатель. — Вы сами
знаете, что теперь творится. Можно сказать заранее,
что вас толпой будут осаждать дезертиры с просьбой
330
Фадеев. «Против течения». Первое издание.
1924 г.
перевезти за Амур. Они будут угрожать вам оружием
и, очень возможно, отправят вас на тот свет. Но мы все
ходим под этой угрозой... Что вы предполагаете сде-
лать на первый случай?
Селезнев несколько секунд молча теребил фуражку
и, внезапно надев ее на голову быстрым, решительным
движением, сказал:
— Ежели готов мандат, я приду к тебе через неделю
и скажу, что я уже сделал.
Он сказал председателю «ты», как говорил всем
людям, с которыми встречался хотя бы и в первый раз.
В его тоне чувствовалась врожденная незлобивая гру-
боватость.
— Мандат сейчас заготовят, — сказал председатель.
И, тоже переходя на «ты», спросил: — Ты коммунист?
- Да.
— Можно надеяться, что ты сам не сбежишь за
Амур?
Он ожидал, что Селезнев обидится на этот вопрос
и скажет какую-нибудь резкость. Но Селезнев просто
ответил:
— Можно.
Вопрос был исчерпан. Через полчаса Селезнев ушел
из штаба с длинной инструкцией, ни один пункт кото-
рой не понадобился из-за ее нежизненности, и с таким
же мандатом. Последний тоже не нашел себе примене-
ния, так как оборудование парохода нужно было про-
водить отнюдь не мандатом, а либо умением убеждать,
либо силой кулака и нагана.
Прежде всего Селезнев взял себе помощника —
взводного командира Назарова, из комендантской
роты.
Это был необычайно рослый, волосатый человек,
угрюмый и несуразный, как выкорчеванный пень. Ко-
гда-то он работал на Сучанских угольных копях и вы-
нес с той поры редкие качества: никуда не смотреть,
все видеть и в течение нескольких дней не произносить
ни слова. Несмотря на это, а может быть благодаря
этому, он имел верный глаз нелюдей и умел их оты-
скивать.
— Вот что, Назарыч, — сказал Селезнев, — ты до-
стань мне одного писучего, другого хозяйственного че-
ловека! А потом натаскай ребятишек для пароходной
комендантской команды! Работаем — куда ни шло...
332
Сам он пошел в типографию «Рабоче-крестьянской
газеты», и на следующий день были расклеены по горо-
ду приказ и воззвание: «Всем, служившим когда-либо
на пароходе «Хорунжий Былков» и барже «Свободная
Россия», явиться к коменданту указанного парохода
т, Селезневу, в контору на берегу, 22 апреля, к 8 часам
утра».
Первым явился на зов маленький кривоногий стари-
чок во главе небольшой кучки веселых загорелых пар-
ней в засаленных блузах и широких брезентовых шта-
нах навыпуск. Он оказался судовым машинистом, а со-
провождавшие его ребята — матросами с парохода.
Они произвели на Селезнева самое хорошее впечат-
ление. У старичка были длинные, опущенные книзу хох-
лацкие усы и густые седоватые брови. Он, видимо, лю-
бил поговорить и после каждой фразы как-то особенно
щурился. Морщины на его маленьком шершавом лице,
черные от въевшейся копоти и машинного масла, дела-
лись при этом еще чернее и глубже.
— Ты видел ево... пароход-от, голова? — говорил он
с добрым затаенным смехом в глазах. — Дрянь посу-
динка-то, ну? Ничево-о, голова! Нала-адим. Там в ма-
шине малость частей не хватает, дак в депе можно раз-
добыть— пойдет...
— Как же тебя записать? — спросил Селезнев.—
Машинистом?
— Люди механиком звали, а хошь — пиши машини-
стом... Нам все едино... Мы народ не гордый...
Он засмеялся мягким, беззвучным смехом, похожим
на шорох дыма в пароходной трубе.
— Механиком и запишем, — серьезно сказал Селез-
нев.— А матросы тут все?
— Пятерых нет, — сказал «механик», — удрали.
— Босотва! — презрительно добавил нескладный чу-
батый парнишка. — Трусят...
— 'Перело-овим! — уверенно загудели остальные.
Селезнев отвел ребятам место в конторе и выписал
нм паек.
Работа пошла веселее.
В тот же день пришел капитан парохода — костля-
вый мужчина лет сорока, одетый, несмотря на стояв-
шую теплынь, в теплую казачью шинель и такую же
папаху. Он относился к своей судьбе со странным без-
различием, и Селезнев долго не мог отгадать, каково
333
его действительное настроение. Они вместе прошли на
пароход, где уже возились маленький механик и раздо-
бытые им неизвестно откуда слесаря и плотники. Уви-
дев, что работа кипит, капитан несколько оживился.
— Пятьдесят восемь лет посудинке! — сказал он с
неожиданными ласковыми нотками в голосе. — Отец
мой сорок лет на ней плавал. На Ханку и к Николаев-
ску ходил. Тогда тут еще маленький поселочек был,
а теперь — город..
Последнее слово капитан произнес с легким оттен-
ком неодобрения и даже досады.
— Тебя как звать? — спросил Селезнев.
•— Усов, Никита Егорыч.
— Тезка, значит? Ладно. Так вот, Никита Егорыч,
назначаю тебя старшим по ремонту. Понял? Все, что
требуется, докладывай мне. Срок — неделя.
— Недели мало, — сказал капитан, снова переходя
на безразличный тон.
— Неделя! — решительно отрезал Селезнев.
Капитан помялся, потеребил выцветшие казачьи усы
и, как-то сбоку глядя на Селезнева, сказал тем же без-
различным тоном:
— Попробуем. Я хочу вам сказать, что я, конечно,
не интересуюсь политикой. Но японцы тоже не по мне.
Я не стану тормозить дело.
<— Еще бы ты стал тормозить! — с обычной грубо-
ватой и вместе с тем незлобивой насмешкой воскликнул
Селезнев.
Но он понял капитана очень хорошо. Старый речной
судак действительно боялся политики и предпочел бы
сидеть дома. Но раз его сволокли с нагретого места, он
решил работать не за страх, а за совесть, как работал
на «Хорунжем Былкове», когда тот вылавливал боль-
шевиков.
На другой день Назаров привел «хозяйственного че-
ловека».
Более странного и подозрительного типа Селезнев
не видел никогда в жизни.
Его лицо, волосы, шея, кисти рук с неимоверно
длинными пальцами были ярко-рыжего, огненно-
го цвета.
Веснушчатый нос чуть вздернулся кверху и совсем
не вязался с горестной и немного ядовитой складкой
тонких обветренных губ. При всем том «хозяйственный
334
человек» имел очень жуликоватый вид, усиливавшийся
потрепанным клетчатым пиджаком с воротником, за-
гнутым кверху, указывавшим на знакомство с послед*
ней модой амурских «налетчиков».
Неприятно поразили Селезнева уставившиеся в него
немигающие белужьи глаза с длинными, почти белыми
ресницами.
Фамилия «хозяйственного человека» оказалась Кныш.
Он должен был добыть весь необходимый материал
по оборудованию парохода и заготовить продовольст-
венные запасы для матросов и комендантской команды.
Однако он не выразил никакого испуга или проте-
ста, узнав про трудности своей будущей работы.
Селезнев не решился сразу ввести его в курс и ве-
лел ему прийти на следующее утро.
— Назарыч! — недоуменно воскликнул он, когда
Кныш вышел из конторы. — Ты промахнулся на этот
раз, старый братишка. Ну скажи мне: ну что это за
фигура?
Назаров вытащил из кармана голубенький кисет и,
распустив завязку, достал из него кусок газетной бума-
ги и щепотку крупного коренчатого табаку. Свернув па-
пироску, он протянул кисет Селезневу и, по обыкнове-
нию, не глядя ни на кисет, ни на Селезнева, сказал спо-
койным и ровным тоном:
— Это жулик. За ним придется присмотреть. Толь-
ко для нас... — Тут Назаров сделал маленькую паузу и'
тем же спокойным тоном докончил: — Это самый годя-
щий человек.
Чувствуя, однако, что для Селезнева его слов недо-
статочно, он продолжал:
— Нас он не надует — факт. А других — сколько
угодно. Он тебе самую последнюю гайку, хоть из-под
земли, а доставит моментом. В живом виде.
Селезнев решил не спорить, а посмотреть. Но он не
оставил Кныша без контроля и, дав ему на другой день
задачу добыть в Иманском депо необходимые для ма-
шины части, написал бумажку от себя, в которой точно
указал, какие именно части были нужны.
— Сходи в ревштаб, пущай председатель наложит
резолюцию — «выдать».
Кныш оказался талантливее, чем предполагалось.
В первый раз он действительно сходил в ревштаб и по-
лучил требуемую резолюцию. Однако он сразу увидел,
335
что это очень длинная, волокитная история, а главное —
никому не нужная. Развалившиеся части и учреждения
не обращали никакого внимания ни на бумагу, ни на
резолюцию ревштаба, а всюду приходилось действовать
самому. Тогда он засел за работу и в пять минут разу-
чил подпись председателя как нельзя лучше. На всех
следующих бумажках, выдаваемых Селезневым, он на-
кладывал резолюцию собственноручно и, раздобыв тре-
буемую вещь всякими правдами и неправдами, возвра-
щал бумажку с надписью: «Исполнено».
Если ему не удавалось перехитрить тех, от кого за-
висела выдача необходимого продукта или материала,
он старался его украсть. У него было неисчислимое ко-
личество «друзей», способных за незначительное возна-
граждение выкрасть с неба апрельскую луну.
Неизвестно, какое количество различных ценностей
Кныш употребил в свою пользу, но к указанному Се-
лезневым сроку он не только достал все, что требова-
лось для парохода, но и нагрузил его более чем доста-
точным количеством муки, сала, печеного хлеба, соло-
нины, гнилой копченой рыбы и даже липового меда.
Приведенный Назаровым «писучий человек» ока-
зался вихрастым синеглазым мальчуганом лет пятна-
дцати, служившим до этого поваренком в одном из
полков. Он совсем недавно бежал из родительского
дома и жаждал более авантюристических похож-
дений.
— Переезжай ко мне со всем имуществом, — сказал
ему Селезнев. — Будем друзьями.
Имущество синеглазого парнишки выразилось в ма-
леньком вещевом мешке, в котором кроме смены белья
хранилось «Руководство для кор аб леводител ей», изда-
ния 1848 года, сломанный детский компас и старый за-
ржавленный пугач без единого патрона.
Как бы то ни было, но работа в затоне закипела
с лихорадочной быстротой. И каждый новый человек,
каждый фунт краденого сала, каждая маленькая ржа-
вая гайка, попадая на пароход, чувствовали на себе
острый, распорядительный глаз Селезнева и его твер-
дую, в железных мозолях, руку.
Через девять дней после начала работы Селезнев
явился к председателю ревштаба и доложил ему, что
«все готово». Пароход и баржа были заново отремон-
тированы,. покрашены и в четвертый раз в своей жизни
336
переименованы. Теперь пароход назывался «Пролета-
рий», а баржа — «Крестьянка».
К этому времени сформировалась комендантская
команда. Это была разноликая, разношерстная «брат-
ва». Тут были рослые крепкоскулые пастухи с заимок
Конрада и Янковского — задумчивые ребята в широко-
полых соломенных шляпах, с неизменными трубками
в зубах. Были замасленные и обветренные машинисты
уссурийских паровозов, с черными, глубоко запавшими
глазами, похожими на дыры, прожженные углем. Были
тут и разбитные парни с консервной фабрики, с остры-
ми, ядовитыми язычками и жесткими ладонями, поре-
занными кислой жестью.
Они безропотно грузили все, что им прикажут, и в
жгучий полдень и в слизкие, дождливые ночи, зады-
хаясь под тяжестью массивных станков и несчетного
количества орудийных снарядов. Они несли бессменную
вахту у пулеметов, с минуты на минуту ожидая выхода
японских канонерок, чтобы перерезать им путь, и дра-
лись смертным боем с бесчисленными толпами дезерти-
ров, грозивших либо овладеть пароходом, либо «разне-
сти в дресву паршивую посудину». Днем обстреливали
их китайские посты, как только пароход приближался
к китайскому берегу, а ночью леденил холодный туман,
и сумрачный стлался вдоль границы Китай, суливший
нежданные хунхузские налеты.
За Амуром у каждого оказались друзья, предлагав-
шие не ехать назад, в «чертово пекло», обещая
«устроить» ла более спокойные места без всякого риска.
Но, справив дела, они неизменно возвращались обрат-
но, шли, стиснув зубы, надвинув шапки на брови, снова
вверх и вверх против течения — для новых вахт и драк,
за новым драгоценным грузом.
И не знавший правил правописания, бесстрастный
телеграф слал по линии одну за другой деловые теле-
граммы со странной, непонятной подписью: «комендант
пролетарии Селезнев».
5
Этот день был несчастлив с самого начала.
Около трех часов ночи пароход «Пролетарий» сел
па мель верстах в двенадцати выше станицы Орехово.
12 Зак. № 426
337
Чувствовалась несомненная халатность, так как реч-
ной фарватер был изучен до тонкостей в прошлые
рейсы.
Кривоногий машинист свел Селезнева в трюм и, при-
подняв половицу, показал ему, чем угрожает подобный
опыт в следующий раз.
— Глянь, голова, — сказал он, добродушно щурясь
в темноте, — днище-то на ладан дышит, насквозь про-
ржавело. Еще разок сядем и — каюк.
По счастью, мель оказалась неширокой, и баржа,
шедшая с пароходом «под ручку», остановилась на глу-
бине. Вся пароходная команда, за исключением капи-
тана и машиниста, перебралась на баржу. Нагружен-
ная до отказа, подталкиваемая течением, она сволокла
пароходик собственной тяжестью.
Селезнев вызвал капитана в каюту и, глядя в упор
в его водянистые глаза, сурово сказал:
— Мы больше никогда не сядем, на мель. Понял?
Разумеется, капитан был очень понятливым челове-
ком. Но все-таки вместо четырех часов ночи они при-
шли в Орехово к девяти часам утра.
Измученный бессоньем, Селезнев едва стоял рядом
с Усовым на капитанском мостике. Боясь уснуть, он за-
ставлял себя изучать то неясные очертания далеких
сопок, то прибрежные зеленеющие холмы, то притулив-
шиеся к ним разбросанные избы станицы. Они все то-
нули в молодых вербовых зарослях. Весенний клейкий
лист играл на солнце, как олово. Из кустов возле теле-
графа вился кверху белесоватый, смешанный с паром
дымок. Казалось, что вместе с ним тянется оттуда жир-
ный запах сомовьей ухи. В ту весну по Уссури то и дело
сплывали книзу безвестные трупы, и от них сомы жи-
рели, как никогда.
Наконец пароход причалил, и Селезнев пошел на те-
леграф. За ним на почтительном расстоянии шагал «пи-
сучий человек» с тощей порыжевшей папкой под мыш-
кой. Кстати сказать, в ней не имелось ни одной бумаж-
ки, и вряд ли она вообще была для чего-нибудь нужна.
«Писучий человек» переоделся в ватные шаровары и
просторную солдатскую гимнастерку. Ему пришлось
подвернуть рукава, а похожая на блин фуражка покои-
лась не столько на его голове, сколько на ушах. Тем
не менее он чувствовал всю важность и ответственность
своего положения.
338
В конторе Селезневу передали телеграмму Соболя.
Она удивила его и заставила насторожиться.
— Чудасия, — сказал он «писучему человеку», — ка-
жись, мы ничего не делаем без приказу. Что-нибудь тут
неспроста.
Около кустов, из которых тянулся заманчивый ку-
хонный дымок, их остановил полный человек в корич-
невом пиджаке и жесткой соломенной шляпе.
— Товарищ Селезнев, здравствуйте! — сказал он с
виноватой, несколько заискивающей улыбкой.
Селезнев узнал председателя партийного района, в
котором он состоял во Владивостоке.
— Здорово. Ты как сюда попал?
— Да вот... попал... — неопределенно пробормотал
тот.
— Что делаешь?
— Да ничего. Так вот — туда, сюда. Неразбериха.
— Будет врать-то, — раздался из кустов хриплый
насмешливый голос. — Скажи: младший гарнизонный
повар. Потому, мол, ни к чему другому способностей
не оказал.
Селезнев посмотрел на руки председателя района и
заметил, что его пальцы порезаны и желты от карто-
феля.
— Что ж, и это дело, — сказал он, зевая.
Председатель покраснел и спрятал руки в карман.
— Товарищ Селезнев, — начал он, нервно мигая гла-
зами,— не перевезете ли вы меня... за Амур?
— Разрешение есть?
— Разрешения нет, но... что ж я тут... верчусь — так,
зря?..
«А ведь казался хорошим партийцем...» — в недоуме-
нии подумал Селезнев.
— Без разрешения не перевезу, — сказал он сухо.
— Товарищ Селезнев... — В дрожащем голосе пред-
седателя послышались умоляющие нотки. — Я вас про-
шу... в память нашей совместной работы... Я... изму-
чился, я не могу больше работать здесь.
— Слушай, брось ныть, — устало перебил Селез-
нев.— Я не возьму без приказу. Прощай.
Он круто повернулся и пошел к пароходу. «Писучий
человек» с любопытством наблюдал за обоими.
— Не берет, — сказал председатель со смущенной
улыбкой.
339
Губы «писучего человека» задрожали мелкой смеш-
ливой дрожью, ио он удержался от смеха. Кинув на
председателя истинно комиссарский взгляд, он небреж-
но, произнес:
— Подайте заявление и анкету в двух экземплярах.
А впрочем, я вам не советую ехать. На нашем пароходе
оч-чень опасно.
Комендантская команда грузила динамит. Из про-
долговатых ящиков тянулся легкий дурманящий запах,
от которого кружилась голова. Несмотря на усталость,
Селезнев присоединился к работе. Глядя на него, при-
мкнули и матросы, хотя погрузка не входила в их обя-
занности.
Потом, лежа в каюте, Селезнев думал о странной
телеграмме с фронта, и, даже когда совсем засыпал,
ему казалось, что неугомонная пароходная машина вы-
стукивает те же слова: «никаких... частей... не гру-
зите...»
6
Он проснулся оттого, что кто-то настойчиво тормо-
шил его за Плечо:
— Товарищ комендант! Товарищ комендант!
Он вскочил на ноги и протер глаза. .
Перед ним стоял «писучий человек» с беспокойным,
несколько растерянным выражением лица.
— В Аргунской стоит какая-то часть...
Селезнев надел фуражку и стремительно побежал
наверх.
Извиваясь меж холмов, стлалась вниз сверкающей
лентой река. Впереди, на голом безлесном мысике, ле-
пилась маленькая станичка, необычно кишевшая наро-
дом. Вся комендантская команда высыпала на палубу.
Многие, чтоб лучше видеть, забрались на снарядные
ящики, не уместившиеся в баржевом трюме и аккурат-
но уложенные наверху.
Селезнев посмотрел в бинокль и без труда различил
на людях вооружение и походную амуницию. Он сразу
почувствовал какую-то связь между ней и полученной
им вчера телеграммой.
— Товарищ Усов, — сказал он, быстро оборачиваясь
к капитану, — на этот раз мы не зайдем в Аргунскую.
— Нельзя не зайти: дрова на исходе.
340
Селезнев послал Назарова проверить. Дров действи-
тельно оказалось мало. Он знал, что на всем остальном
пути их негде будет достать, а следовательно, вопрос
решался сам собою.
— Команда... в ружье! — крикнул он жестким,
отвердевшим голосом. — Пулеметчики, на места! Живо!
Не глядя на побледневшее лицо капитана, он пере-
шел на баржу и, отозвав Назарова в сторону, велел за-
нять ему место у сходен.
— Как сходни перебросим, ухо держи востро. Ни-
кого не пущай. Полезут силом — стреляй.
— Кныш, иди-ка сюда, — позвал он «хозяйственного
человека». — Сегодня тебе будет большая работа. Ты,
говорят, мастер заговаривать зубы. Как только прича-
лим, слезай на берег и начинай тереться промеж брат-
вы, Разговор заводи посурьезней: что-де, мол, парохо-
дишка-то чуть жив, того и гляди на дно пойдет, в про-
токе, мол, обстреливают каждый раз из орудий, про-
шлый раз, мол, сорок человек из строя выбыло... Да что
тебя учить — сам грамотный! Одним словом, прикинься
хорошим дружком, а сам пугай.
Кныш тотчас же выразил свое согласие, как согла-
шался и раньше на все, что ему предлагали.
— Только смотри, — предупредил Селезнев, — если
какая дурь взбредет в голову... *
Тут он выразительно хлопнул по карману с револь-
вером, и его лицо приняло черствое, почти жестокое вы-
ражение.
— Не взбре-дет, — засмеялся Кныш, — дело зна-
комое.
Пароход подходил все ближе и ближе, но на берегу
не чувствовалось никакого волнения. Теперь простым
глазом можно было различить в толпе не только ору-
жие, но даже выражение лиц. Они смотрели с любопыт-
ством и ожиданием, но без всякой враждебности.
Пароход медленно повернулся против течения почти
у самого берега.
— Отдай якорь! — хриплым, не своим голосом
скомандовал Усов.
— Здорово, ребя-аты! С приездом! — кричали на бе-
регу.
Селезнев снял фуражку, помахал ею в виде привет-
ствия. Выражение его лица было приветливо и безза-
ботно.
341
Покачиваясь на собственных волнах, пароход подо-
шел к пристаньке. Тотчас же двое ребят соскочили на
берег и закрепили концы. Чьи-то сильные загорелые
руки перебросили сходни, и по ним врезалась в толпу
частая матросская цепь. Двое с винтовками впереди
расчищали дорогу к дровяным штабелям, а за ними не-
сколько смущенно и неуверенно тянулись осталь-
ные. Впрочем, никто не оказал им никакого сопротив-
ления.
Стоявший наготове Кныш незаметно- юркнул в
толпу.
— Что за часть? — спросил Селезнев, спускаясь на
берег.
— Мы семенчуковцы... — раздалось несколько голо-
сов.
— Слыхал, слыхал... Молодцы, — похвалил Селез-
нев,— боевых сразу видно...
Широкоплечий скуластый мужчина в тигровой ту-
журке выдвинулся из толпы и подошел к нему.
— Я командир отряда, — сказал он, протягивая
РУКУ-
— А я комендант парохода, — отрекомендовался Се-
лезнев.
«Ну и ряшка», — беспокойно подумал он, изучая на-
клонившееся к нему лицо.
— Мне тебя и надобно, — продолжал Семенчук,—
насчет нашей погрузки.
— Идем на пароход.
Когда они проходили мимо окаменевшего у сходен
Назарова, Селезнев пропустил Семенчука вперед и, не-
заметно тронув взводного за рукав, шепнул:
— Пошли одного парня к моей каюте. Пущай ста-
нет у дверей и ждет, пока позову.
Он с удовлетворением отметил, что погрузка дров
идет полным ходом, и, подхватив Семенчука под руку,
вместе с ним спустился в каюту. «Главный выигрыш —
время», — думал он, шагая по шатким ступенькам.
На берегу мирно дымились бивачные костры. Кныш
быстро втерся в одну из компаний, отыскивая зем-
ляков.
— Так, так, — говорил он, хитро прищуривая гла-
за.— Амурцы, значит? Стало быть, землячки?.. Так,
так... Каких уездов?
Оказалось, что тут имеются люди со всех концов
342
Амурской области. Кныш знал ее вдоль и поперек и,
таким образом, с первых же слов обнаружил себя
вполне своим человеком.
— И давно вас сюда передвинули?
— Сами пришли. Нешто кто передвинет? Ка-акже!..
Держи карман шире... Тута все продано до последнего
человека... Ежели командующий золотопогонник, какая
тут война?..
— Это верно,—согласился Кныш. — Нашего брата
везде надуют... Это уж как было, так и останется. Зем-
лю пашем мы, а хлеб кушает дядя... Куда же вы те-
перь?
— Домой.
— Та-ак...
Кныш подбросил в огонь несколько щепок и с видом
человека, который говорит истинную правду, но в об-
щем не заинтересован в том, как ее примут, спокойно
произнес:
— Только домой вам не попасть, вот.
— Чего так?
— А за Амуром, братишка, такой порядок: приез-
жает человек — к нему сейчас же начальство: «Ваш
пропуск?» Пропуска нет — чик... и готово... в Могилев-
скую губернию. Это, брат, там моментом.
— Расска-азывай! — недоверчиво протянул кто-то.—•
Нас целый отряд, а не то што какой один...
— Что ж, что отряд?.. Вот прошлым рельсом тоже
перевезли один батальон. Нам, натурально, все едино,
а у его приказу не было. Так за Амуром сейчас же ору-
дия, пулеметы... Наставили: чик-чик-чик... — Кныш вы-
разительно повращал белками и, безнадежно сплюнув
в сторону, добавил: — Под чистую.
Его слова действовали самым убийственным обра-
зом, но он и привык работать наверняка. Умение прово-
цировать входило составной частью в его многообраз-
ную профессию. Он обходил кучку за кучкой, то выпра-
шивал табачку, то отыскивал двоюродного брата и всю-
ду рассказывал о том, как «прошлым рельсом» они
отбивались от японцев в протоке ручными гранатами,
или о том, что стоять в Аргунской тоже далеко не безо-
пасно.
— Вот дня четыре тому назад... японская канонерка
версты на три досюда не дошла. А мы от их всякий раз
бегаем: служба такая...
343
В каюте Селезнев потребовал от Семенчука приказ
о погрузке.
— Видишь, какое дело, — ответил Семенчук, — от-
правили нас срочно и писанного приказа не дали.
Командующий на словах передал. «Идите, — говорит,—
там погрузят».
Он хитро мигал глазами и крякал после каждого
слова.
— Как же мне быть? — нерешительно мямлил Се-
лезнев.— Ну ты сам командир, — понимаешь, в чем тут
загвоздка?.. Ну как бы ты сам поступил?
— Да ясное дело как! — воскликнул Семенчук.—
Омманывать я, чай, не стану. Тут дело верное.
— Давай лучше вызовем к прямому проводу
штаб, — предложил Селезнев.
— Телеграф не работает, я уже пробовал, — соврал
Семенчук. — Да ты что, не веришь, что ли?
Теперь Селезнев не сомневался, о ком говорила по-
лученная им телеграмма. Ждать дальше не имело ника-
кого смысла. Как бы в раздумье, он прошелся по каюте
и, поравнявшись с дверью, выхватил из кармана брау-
нинг.
— Не шематись! — крикнул тугим и звонким, как
натянутый трос, голосом. — Руки на стол! Ну-у! Пого-
ворим по-настоящему.
— Ты что? — прохрипел Семенчук, бледнея. — Ты
что!.. Ах ты, с...
— Цыть! — оборвал Селезнев с мрачной угрозой.—
Только пикни! Дыр наделаю — не сосчитаешь! Эй, кто
там? Сюда иди!
Стоявший у дверей народоармеец ворвался в каюту.
— Обезоружить!
В несколько секунд Семенчук лишился всех знаков
своего командирского звания.
— Вот теперь погрузился и сиди, — мрачно пошутил
Селезнев. — Все равно, где расстреляют: здесь или за
Амуром.
Он вышел из каюты и запер Семенчука на ключ.
— Иди на берег, — сказал народоармейцу, — и позо<
ви Кныша. Скажи, мол, комендант и Семенчук зовут
узнать насчет продуктов. Да пошли ко мне На-
зарова!
Он еще не знал точно, что ему делать в дальнейшем,
но первая позиция была занята почти без боя.
344
— Назарыч! — сказал он, когда взводный спустился
вниз. — Всю команду незаметно разложи по борту. Усо-
ву скажи, пущай приготовится. Как кончат грузить дро-
ва, скажешь мне, а кого другого пошли отдать концы.
Если спросят на берегу, зачем отвязывает, пущай ска-
жет, что грузить, мол, вас будем у второго причала,
выше...
«Может, выйдет, а может, и нет»,—> подумал он,
провожая взводного глазами. Во всяком случае, ему
самому не следовало вылезать наверх без Семен-
чука.
Минут через пятнадцать пришел Кныш.
— Ну как там? Что говорят?
— Да что, товарищ комендант, народ серый... —
Кныш презрительно почесал за ухом. — Я им наговорил
страстей— до будущего года хватит. Придет, говорят,
Семенчук, будем митинговать. Только злы они — это
верно.
— Ладно. Больше на берег не ходи. Ступай.
Когда Селезневу сообщили, что погрузка окончена,
он не пришел еще к ясному решению. Туго перетянув
пояс и надвинув фуражку на лоб, взбежал на палубу
и, пригибаясь к доскам, почти ползком перебрался на
баржу. Нудно скрипела ржавая цепь, и где-то внутри
медленно стучала машина, подталкивая судно навстре-
чу якорю.
Весь Семенчуковский отряд сгрудился у второго
причала. Бесформенная, обезглавленная масса зловеще
чернела на светло-зеленом фоне берега, но Селезнев
чувствовал всем своим нутром, что она сплошь состоит
из усталых, растерянных и обманутых людей.
Лежа между снарядными ящиками, он слышал, как
пароходные лопасти со звоном раскалывали воду, и ду-
мал, как поступить. Он мог бы просто миновать второй
причал, дав судну полный ход. Но тогда люди на бе-
регу почуют измену и откроют стрельбу. Он не имел
права идти на такой риск,, чувствуя под ногами семьде-
сят пудов динамита. Одной пули в трюм было бы до-
статочно, чтобы от гнилой посудины не осталось и сле-
да. Значит...
Лицо Селезнева стало коричневым и жестким, как
ржавое железо. Он медленно повернул голову и тихим,
оледеневшим голосом бросил припавшим к борту лю-
дям слова, простые и безжалостные, как камни:
345
— Взвод, слушай... мою команду... Пулеметчики, при-
готовься... По Се-мен-чу-ковскому... отря-аду... постоян-
ный прицел... Взво-оод!
С берега доносился разноголосый человеческий го-
мон, и густо и ровно стучала машина, как насторожен-
ное сердце зверя.
— Пли!
В первое мгновение никто на берегу не понял, что
это смерть. Но залп следовал за залпом. Тогда, бросая
винтовки, скатки, патронташи, сумки — все, что мешало
бежать, — сгибаясь к земле, люди ринулись прочь от
берега. Они падали в траву безжизненными куля-
ми мяса, не издав предсмертного стона, а раненые
впивались в землю костенеющими от страха паль-
цами.
— Вверх стрелять! — кричал Селезнев. — Довольно
по людям! Усов, давай полный!
Пароходик рванулся книзу и, кутаясь клубами
дыма, разбрасывая в стороны белые пласты кипучей
холодной пены, помчался прочь от Аргунской.
7
Челноков прибыл на станцию Вяземская поздней
ночью. Матросский батальон ждал его на перроне в
полном боевом снаряжении. Батальоном командовал
рослый сивоусый матрос с миноносца «Гроза». От него
Челноков узнал историю похода матросских батальонов
из Владивостока на Иман.
Когда японцы врасплох напали на владивостокский
гарнизон, доблестные моряки под перекрестным пуле-
метным огнем высадились с миноносцев на берег и,
преодолев восемь рядов проволочных заграждений, вы-
рвались в тайгу. Окольными тропами, продираясь
сквозь валежник и чащу, они в двенадцать суток сде-
лали около пятисот километров и утром вошли в город
Иман, усталые и загоревшие, с песней:
По морям, морям, морям,
Нынче — здесь, а завтра — там...
На рассвете батальон под командованием Челнокова
выступил в направлении станицы Аргунской. Две ночи
346
батальон провел в тайге. На третьи сутки высланная
Челноковым разведка сообщила, что Аргунская близко
и что Амгуньский полк еще находится в станице.
— Что-то, товарищ комиссар, неладно у них, — ска-
зал разведчик, отирая рукавом пот и улыбаясь. — Баба
в крайней избе говорит, будто приходил пароход и
командира увез у них... Большая, говорит, стрельба
была, есть убитые и раненые...
— А часовые у них расставлены? — удивленно при-
подняв брови, спросил Челноков.
— С этого краю часовых нет...
Оставив батальон в лесу, Челноков с двумя развед-
чиками взобрался на сопку. Станица Аргунская лежала
внизу в вербовых зарослях. Далеко видна была извива-
ющаяся лента реки, отливавшая серебром и весенней
синью.
Посреди станицы, у церкви, виднелась большая тол-
па вооруженных людей. Семенчуковский отряд ми-
тинговал.
Люди, лиц которых нельзя было разобрать, сменяя
один другого, взбегали на паперть, игрушечно размахи-
вали руками. Иногда до Челнокова докатывался гул
голосов.
Коренастый человек, сильно прихрамывая, взошел по
ступенькам. По его фигуре и хромоте Челноков узнал
в нем командира первой роты Буланова, бывшего па-
стуха. Буланов постоял на паперти, потом поднял руку,
и тотчас же лес рук вырос над толпой. До Челнокова
чуть долетел голос команды. Толпа закипела и распа-
лась—Семенчуковский отряд начал строиться.
— Ну вот что, ребята, — дрогнувшим голосом сказал
Челноков, — бегите к командиру, скажите, чтобы строил
батальон в колонны и шел к церкви, а я сейчас к своим
пойду...
И, к величайшему удивлению разведчиков, он побе-
жал с сопки в станицу.
Пробежав переулком, у выхода на площадь Челно-
ков замедлил шаг и спокойной, твердой походкой напра-
вился к шеренге.
В тот момент, когда, он вышел на площадь, шеренга
рассчитывалась на двое:
— Первый... Второй... Первый... Второй...
Но в этот же момент вся шеренга увидела Челноко-
ва,— счет перепутался, шеренга дрогнула и замерла.
347
Командир первой роты Буланов удивленно обернул-
ся и застыл.
Челноков медленно подошел к нему.
— Товарищ комиссар! — неожиданно взвизгнул Бу-
ланов. — Мы...
Вдруг рябое лицо его исказилось, он схватился ру-
ками за голову и заплакал.
Челноков некоторое время сурово смотрел на него.
Было так тихо, что слышна стала возня голубей на ко-
локольне.
— Товарищи! — обернувшись к шеренге, спокойно
сказал Челноков. — На ком остановился счет? Продол-
жайте...
Несколько секунд еще стояла тишина, потом кто-то
сказал почти шепотом:
— Первый...
— Второй... — хрипло отозвался сосед.
— Первый... — смущенно откликнулся третий.
— Второй... — уже более уверенно подхватил четвер-
тый.
— Первый.. Второй.. Первый... Второй...
По главной улице, вздымая клубы пыли, мерно ша-
гал матросский батальон на соединение с Амгуньским
полком.
Дмитрий Фурманов
КРАСНЫЙ ДЕСАНТ
Осенью, в августе 1920 года, Врангель из Крыма пе-
ребросил на Кубань несколько тысяч своих лучших
войск. Этими войсками командовал Улагай — один из
ближайших сподвижников Врангеля. Цель переброски
заключалась в том, чтобы поднять на восстание против
советской власти кубанское казачество, свергнуть ее и
начать морем переправку хлеба в Крым. Белый десант
высадился в трех пунктах Азовского побережья и сразу
пошел вперед свободно, быстро, почти не встречая пре-
пятствий, занимая один поселок за другим, все ближе
и ближе подвигаясь к сердцу области — Краснодару.
Взволновалась, встревожилась Кубань. Ощетинилась
полками.9-й армии, наспех сколоченными отрядами доб-
ровольцев: один только Краснодар в эти неспокойные
дни выставил шесть тысяч рабочих-добровольцев! Ула-
гаевский десант шел победоносным маршем и ждал со
дня на день, что восстанет казачество и тысячами, де-
сятками тысяч, создавая партизанские отряды, станет
к нему примыкать, помогать ему наскакивать на тылы
Красной Армии, громя их и уничтожая. Но ничего по-
добного нё случилось. Измученное долгими испытаниями
гражданской войны, убедившееся в подлинной силе
Красной Армии, в могуществе советской власти — каза-
чество кубанское не верило в успех улагаевской затеи,
держалось спокойно и на помощь к нему не подыма-
лось. Правда, не по душе была зажиточным казакам
продовольственная разверстка, не по душе было запре-
349
щение вольной торговли, запрещение бессовестной экс-
плуатации работников-батраков, но даже при всем этом
недовольстве богачи казаки не осмеливались выступать
против советской власти, как выступали они против нее
в 1918 году. И все же опасность от белого десанта была
велика. Надо было торопиться его остановить, задер-
жать, а потом ударить и отогнать...
«Не прогнать, а уничтожить!» И Кубань готовилась
лихорадочно к этой новой трудной задаче.
В двадцатых числах августа неприятель стоял всего
в сорока или пятидесяти верстах от областного центра,
Краснодара. Был принят целый ряд срочных мер. В чи-
сле этих мер — посылка красного десанта по рекам Ку-
бани и Протоке к неприятелю в тыл, верст на сто пять-
десят от Краснодара, к станице Ново-Нижестеблиевской:
там находился тогда штаб генерала Улагая, командо-
вавшего белым десантом. Начальником красного де-
санта был назначен тов. . Ковтюх, комиссаром назна-
чили меня.
Нашей задачей было — нанести неприятелю внезап-
ный стремительный удар в тылу, вырвать у него ини-
циативу наступления, произвести панику, разрушить все
планы...
Операция удалась.
На Кубани, у пристани, стояли три парохода: «Илья
Пророк», «Благодетель» и «Гайдамак». Пароходишки
дрянные, старые, на ходу тяжелые: через силу протаски-
вались по семь, восемь верст в час. На этих пароходах
и на четырех баржах должен был отправиться в неприя-
тельский тыл наш красный десант.
Целый день до вечера на берегу царило необыкновен-
ное оживление: за несколько часов надо было собрать
живую силу, вооружиться, запастись продовольствием,
что можно — починить... Подъезжали автомобили, ска-
кали кавалеристы, подвозили артиллерию и отчаянно
галдели, возясь с нею на песчаном скате; гремя и дре-
безжа, врывались в говорливую сутолоку военные по-
возки с хлебом, фуражом, со снарядами; по чьей-то
неслышной команде подбегали кучки красноармейцев,
живо взваливали на спины тугие мешки и, согнувшись
350
Дмитрий Фурманов. 1919 г.
дугою, качались на речных подмостках, пропадали в
зияющих темных дырах пароходов... Ящики со снаря-
дами брали по двое, а те, что потяжелее, — и по четверо,
тихо снимали, тихо несли, тихо опускали на землю,—
такова была команда: «Снарядов не бросать!» Ну зато
уж над хлебными караваями потешились вволю: их,
словно мячики, перебрасывали из рук в руки, старались
друг дружку загнать, опередить в ловкости и быстроте.
А иной раз эти мячики давали здоровенного тумака за-
зевавшемуся ротозею и через его голову проскальзы-
вали в руки дальнего соседа, ждавшего с лукавой
усмешкой.
Одному такому ротозею, стоявшему на подмостках,
над водой, сбили фуражку прямо в реку, дружно хохо-
тали, острили.
— Эка буря поднялась, одежду рвет... — кричит один.
— Плыви скорей, что смотришь! — горланит другой.
А третий, показывая на лодку, смеется:
— Эй, ударь веслами, попытай счастья...
После этого случая ребята поснимали шапки: те, что
были на берегу, бросили их на землю, а стоявшие на
подмостках и близко к воде — пихали за пазуху, за
пояса.
Погрузка продолжалась. Подходили новые команды
оживленными стройными рядами, а потом расплывались,
пропадали в толпе, и эти новые также начинали бегать,
таскать, браниться, хохотать. С инструментами в руках
и на плечах, готовая к работе, подошла рабочая артель
и, пошучивая, пересмеиваясь с красноармейцами, исчез-
ла в прожорливой пасти парохода. Вездесущие торговки
продавали на берегу спелые сочные арбузы; мальчишки,
юркие и горластые, шныряли повсюду и предлагали на-
распев папиросы. Шпалерами стояла в отдалении без-
дельничающая публика, недоуменно смотрела на все
эти приготовления, выспрашивала, высматривала, выню-
хивала. Потом каждый разносил по городу вздорные
слухи, уверяя, что видел все «своими собственными гла-
зами». Были тут, как это водится, шпионы, но даже и
они не могли проникнуть в тайну таких по виду шум-
ных, открытых и в то же время совершенно секретных
приготовлений: что за суда, кого, зачем и куда они ве-
зут— этого не знал никто. Тайну мы не раскрывали це-
ликом даже командному составу, даже ответственным
работникам.
352
Тайна в нашем деле была крайне необходима. Тайну
надо было хранить крепко, ибо, выпорхнув в Краснода-
ре, она через несколько часов опустилась бы в улагаев-
ском штабе.
За время гражданской войны белое казачество от-
лично приучилось поддерживать свой казачий «узунку-
лак» (так называется у киргизов Семиречья обычай —
всякое важное событие немедленно передавать от киш-
лака к кишлаку1. Получил киргиз весть — вскакивает
на коня, мчится по равнинам, пробирается по горным
тропкам — и в результате за короткое сравнительно
время вся пустынная и дикая округа оповещена). Если
бы Улагай заранее знал про красный десант — всей опе-
рации нашей была бы грош цена: приготовиться к встре-
че и обезвредить нас не стоило бы ему ровным счетом
никаких трудов. Речные мины, десятка полтора пулеме-
тов в камыши да два-три орудия, взявшие на картечь,—
вот и могила десанту: в узкой реке трудно было бы
спастись.
Тайна -была соблюдена.
Вопросы любопытных разбивались о мычание не-
знающих. А бойцы — эти даже и не любопытствовали;
разве только какой-нибудь курносый и веснушчатый
пулеметчик Коцюбенко толкнет локтем соседа и
молвит.
— На подмогу? А?
— Известно, не против своих, — оборвет его недо-
вольный сосед.
На этом разговор и кончается.
Красноармейцы были набраны молодец к молодцу:
добровольцы, члены профессиональных союзов, рабочие,
комсомольцы, партийно-мобилизованные, — словом, та-
кие ребята, с которыми можно было начинать любое
трудное дело. Всего набралось восемьсот штыков, девя-
носто сабель, десяток пулеметов да артиллеристы около
макленовского взвода и двух легких полевых орудий.
Отряд небольшой, но ядреный.
После обеда, часам к четырем, все уже было готово
к отплытию: втащили последние ящикй снарядов, загна-
ли автомобили, завели усталых, взмыленных коней.
Дождались — не подойдут ли медикаменты, но
с этим добром в подобных случаях уж, видимо, конец
1 Селение.
353
всегда один: не подошли. И ехать пришлось, можно ска-
зать, с совершенно пустяковыми запасами.
На баржи, на пароходы втащили подмостки, побро-
сали грязные мокрые канаты... Бабы закатывали в меш-
ки непроданные арбузы, взваливали на плечи, уходили.
Берег пустел, зеваки расходились... На баржах, где на-
валены были седла, мешки, канаты, сено, арбузы, сол-
датские сумки, в самых разнообразных позах располо-
жились бойцы: трудно, шумно, весело.
На одной барже, у самого борта, свесив ноги, сидел
Ганька из комсомола, по профессии наборщик. Ему во-
семнадцать лет. Лицо у Ганьки хорошее, чистое, а глаза
светлые и умные. Он хорошо умеет играть на гитаре,
легок на ноги, отлично пляшет и поет звучно, широко
и свободно. Ганьку из комсомола хотели направить в
студию — развивать свои таланты, да тут вот приплыл
Улагай, — не до ученья, надо идти воевать. Он даже и
не раздумывал над тем, идти ему или остаться. Когда в
комсомоле объявили набор добровольцев, он записался
одним из первых и ни на секунду не знал колебания,—
наоборот, всеми чувствами, мыслями и волей вдруг
напрягся в ожидании чрезвычайных, удивительных
событий. Он на фронте еще не бывал никогда и
представлял себе этот фронт совершенно фантасти-
чески.
Ганька молчал, плевал на воду и любовался, как
крошечные рыбки подскакивали и глотали его белую,
творожную слюну.
Позади Ганьки на корточках сидел матрос Леонтий
Щеткин. Глаза, как у совы, круглые, водянистые, когда
надо — добрые, а когда и жестокие. Острижен наголо;
широкая открытая грудь загорела, как медный таз.
Щеткин молча озирался кругом, пускал залпами махо-
рочный дым и долбил себя кулаком по колену...
Около самых его ног на куче сена покоилась черная
кудрявая голова Танчука, лихого наездника, красивого
бледнолицего белоруса. Самым дорогим существом
на этой барже был для Танчука его пегий конь, име-
нем Юсь.
Отчего он назвал его Юсь — и сам объяснить не мог,
но уж, верно, потому, что когда Танчук произносил ча-
сто: «Юс-юсь-юсь» — получался свист, и это ему нрави-
лось, он начинал прихлопывать, притопывать и высви-
стывать плясовую. Дважды раненный, Юсь неод но крат-
354
но спасал жизнь своему бледнолицему седоку и уносил
его даже от быстроногих казацких коней.
Танчук лежал с открытыми глазами, глодал арбуз-
ную корку, сопел и отплевывал в сторону.
Рядом стоял эскадронный, по фамилии Чобот, — вы-
сокий, мускулистый, могучий. Полуголодное бродяжни-
чество из города в город, из конца в конец по широкой
Руси, нескладная семейная жизнь — ничто не убило в
нем бодрого духа, какого-то ясного, торжественного от-
ношения к жизни. Казалось, будто у этого человека ни-
когда не было и нет ни несчастий, ни горя, будто у него
одна сплошная радость, которая так вот открыто льется
на волю и сквозит во всем: в его словах, в его движе-
ниях, в его манере обращаться с людьми и в том, как
легко и весело берется он за всякое дело.
Чобот стоял, чему-то улыбался — верно, своим мыс-
лям— и смотрел вверх по Кубани...
Тут же был веснушчатый желторотый Коцюбенко.
Жиденький, маленький — он словно врастал в землю и
становился еще меньше, когда начинал что-нибудь гово-
рить своим глухим, могильным голосом. Бедняга был
болен чахоткой. Лечился, но мало, плохо, неисправно.
Страшная болезнь подбирала его под себя, готовилась
удушить. Коцюбенко это знал и, когда был один, стано-
вился мрачен, тосклив и задумчив. А на людях все торо-
пился во всем и всех перекричать, но как-то невинно,
как-то незлобно — и на это никто не обижался. Когда
он силился «громыхнуть», как острил про него огромный
Чобот, все невольно притихали, и на лицах появлялась
терпеливая, снисходительная улыбка.
— Ишь, черт, не балуй! — крикнул Танчук, увидев,
как Юсь прицеливался укусить соседа мерина.
Юсь остановился, словно вдумываясь в то, что услы-
шал, дернул два-три раза теплыми шелковистыми уша-
ми и отвернулся от мерина.
— То-то, — объявил торжественно Танчук.
— А што — «то-то»? — спросил усмешливо Чобот.
— Не видишь? Слово понимает...
— Ну, вижу: стоит как стоял, — поддразнивал Чобот.
— Грызть хотел, ерыга...
— Все чего-нибудь хотят, — философически брякнул
Щеткин.
На минутку все замолчали.
355
— Товарищи, — обернулся к ним Ганька, — а верно,
что лошадь привыкает к хозяину и понимает, што он ей
говорит, — правда? А?
— Так вон, хоть бы сичас... — начал было Танчук.
— Ясно, — прогремел Чобот, перебивая его. — Иной
скажешь — дескать, посторонись-ка, а она и жмякнет
тебе копытом на ногу... все понимает, да еще как...
— Нет, товарищи, понимает, — вмешался Коцюбеп-
ко, — только кормить надо. Ты кормишь, тебя и пони-
мает. И слушает одного тебя. У отца вороной жере-
бец — одного его подпускал, а соседу, Антипу, руку
прогрыз, мясо вырвал... Один отец ходил — с ним, как
ягненок...
— Кто кормит, тот любит, — поддержал его Гань-
ка.— А любовь все понимают. Поди-ка пни лошадь ни
за што, думаешь, не обидится? Как же... Сразу поймет...
А холку потрепли — замрет, ждет, что станут еще тре-
пать... Все, братец, понимает.
— Непременно так, — поддержал и Танчук.
По берегу шла девушка в розовом платке; она смот-
рела на баржи и кого-то, видимо, искала.
— Ай, Дуня-Груня, — крикнул Чобот, — не видишь,
что ли?
Девушка улыбнулась и шла дальше.
— Хоть платочек на дорогу подари, — смеялся он.
— И глядеть-то не хочет, — ввернул Щеткин.
— Тебя видит, пугается... — бросил Чобот.
— Сам-то хорош, кобыла березовая...
Все рассмеялись.
— Ганька, — сказал Коцюбенко, — хочешь, гармош-
ку принесу, петь будешь?
— Чего же не петь, буду, — согласился Ганька.
Коцюбенко пропал среди мешков и коней и скоро
воротился с гармонью. Сел на бревно и, как полагается,
минуту или две пробовал голоса, тянул ноты, мурлыкал
что-то про себя, брал всевозможные аккорды.
— Ну, што? — вытянулся он вопросом к Ганьке.
— Што хочешь...
— Давай — «За острова на стержень»...
— На стрежень, — поправил Ганька. — Только по-
могать— один не стану...
— Начинай! — согласились разом Чобот и Танчук.
Ганька запел. Сначала тихо, будто пробуя и прино-
равливаясь, потом громче, громче, громче...
356
Оп уже поднялся на ноги, лицом обернулся к реке
и пел не людям — волнам Кубани.
Гармошка подыгрывала плохо; Коцюбенко почти со-
всем не умел на ней играть, но это дела не портило.
Пока Ганька запевал — Коцюбенко притихал, вслушива-
ясь в серебряный Ганькин голос, а когда он хотел дать
гармошке ход — было уже поздно: ребята подхваты-
вали громовыми голосами вторую половину куплета и
не давали Коцюбенке проявить себя как следует... Уж
вся баржа пригрудила к певцам и слилась с ними в об-
щей песне... Ганька заканчивал и повторял первый
куплет:
Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны...
Бурею вырвались грудные, сильные голоса:
Выплывают расписные
Стеньки Разина челны...
В эту ^инуту певцов качнуло в сторону. Пароходы —
незаметно, бесшумно, без свистков — снялись с места,
отчалили от берега, потянули за собой баржи...
Словно огромные чудовища, длинной лентою вытяну-
лись суда по реке. Было в этом зрелище что-то одновре-
менно и торжественное и жуткое: отряд уплывал
в неприятельский тыл.
Этого никто не знал, но уже чувствовали и нонималд
все по характеру стремительных сборов, что предстоит
что-то значительное и очень важное. Беззаботная весе-
лость, царившая на баржйх и пароходах, пока они
стояли у берега, уступала теперь свое место какому-то
трезво-напряженному и сосредоточенному состоянию.
Это была не трусость, не растерянность, не малоду-
шие—это была непроизвольная психологическая подго-
товка к грядущему серьезному делу. Во взглядах, корот-
ких и полных мысли, в движениях, быстрых и нервных,
в речах, обрывистых и сжатых, — во всем уже чувство-
валось нечто новое, чего совершенно не было, пока стояли
у берега; это состояние нарастало прогрессивно по мере
продвижения и принимало все более и более определен-
ные формы мучительного ожидания.
На пароходах, где в общем и целом про операцию
знали больше, чем на баржах, все повысыпали на верх-
ние палубы и, показывая в разные стороны, определяли,
357
где находится теперь неприятель, где расположено то
или иное болото, где проходят дороги и тропы...
Кубань кружилась и вилась между зелеными бере-
гами. Вот уже миновали корниловскую могилу — кро-
шечный холмик на самом берегу. Всё знакомые, такие
памятные, исторические места! Эти берега сплошь по-
литы кровью: здесь каждую пядь земли отбивали с
горячим боем у царских генералов наши красные
полки.
Дальше, все дальше плывет отряд...
Широкими темными пятнами раскинулись в отдале-
ниш станицы. Лесу нет — кругом идут просторные, те-
перь уже пустые, сжатые поля.
Кое-где трава особенно сочна и зелена — это болота;
порою встречаются камышовые заросли, но здесь их
еще немного — они будут дальше, в завтрашнюю ночь;
изредка блеснет свинцовое лоно лимана — вокруг него
ютятся, как пасынки, мелкие корявые, уродливые ку-
старники...
Все ниже и ниже опускается темная августовская
ночь. Вот уже и берега пропали; вместо них остались по
краям какие-то однообразные смутные полосы: ни трав,
ни камышей, ни кустарника — не видно ничего. Медлен-
но движется караван судов. Передом, как собачонка пе-
ред сердитым хозяином, юлит и кружится во все сто-
роны моторная лодка: ей дана задача все видеть, все
слышать, знать все, что ожидает впереди, а главным
образом высматривать — нет ли попрятанных мин.
Эта первая ночь еще не грозила большими опасно-
стями: надо было к утру добраться до станицы Славян-
ской, что верстах в семидесяти — восьмидесяти от Крас-
нодара, если считать по воде. В Славянской — наши;
берега, следовательно, до самой станицы должны быть
тоже наши. Впрочем, это последнее предположение мо-
жет быть и ошибочным: неприятель, отлично зная места,
все потаенные дорожки и камышовые тропы, часто за-
скакивал в наш тыл и оказывался там, где его совсем
не ожидали. Так мог он и теперь заскочить на эти бе-
рега, мимо которых мы проплывали. Но тихо: ни
стрельбы, ни шума. Только слышны всплески воды под
колесами пароходов, да изредка конь заржет, обижен-
ный беспокойным соседом.
Опустели палубы пароходов — люди спустились в
каюты. Сидели молча, говорить не располагало. Иные
358
дремали, просыпаясь при каждом толчке; иные сидели,
упершись взорами в темные стекла, и курили одну ци-
гарку за другой. На баржах тоже тихо: притулившись
к седлам, к мешкам, к повозкам или прижавшись друг
к другу, спят красные бойцы. Сопят и храпят впере-
гонки, закрыв глаза, чрезвычайно странно послушать
этот своеобразный концерт. Что-то фыркает и хрипит
внутри пароходов, но так сдержанно, так тихо, что едва
ли слышно на берегу.
Все дальше и дальше плывет наш красный караван.
Когда густая мгла стала подниматься от земли, а на
востоке чуть забрезжила заря — мы подплывали к Сла-
вянской.
У самой станицы, над рекою, — огромный железнодо-
рожный мост. Его взорвали белые, когда увидели, что
положение их безнадежно. Чудовище рухнуло в воду9
но крайние пролеты устояли и под углом накренили
средний пролет, лежавший на дне. Под этими крайними
пролетами и надо было провести наши суда. Задача
нелегкая, ибо река здесь сильно обмелела. Работы хва-
тило до самого вечера: вымеривали, выщупывали, про-
веряли каждый шаг. Наконец все готово к отплытию.
Разместились новые бойцы, которых забрали из Сла-
вянской. Теперь уже всех набиралось около полуторы
тысячи человек. Погрузили кое-что из припасов — и
снова в путь. Десант разбили на три эшелона. Во главе
каждого поставили на время пути своего начальника;
разъяснили, что предстоит за путь, че^го можно ночью
ожидать.
Лишь только смерилось, так же тихо и бесшумно,
как вчера, отчалили от берега тяжелые пароходы. В ста-
нице никто не заметил отхода: весь день она была
оцеплена войсками — ни в станицу, ни из нее никого
никуда не пускали. Тайна и здесь была сохранена.
Тайна спасла жизнь красному десанту.
От Славянской до Ново-Нижестеблиевской, где
стоял улагаевский штаб, по Протоке считается верст
семьдесят. Ехать надо целую ночь. Время было рассчи-
тано таким образом, чтобы к месту высадки попасть на
рассвете, в тумане, когда все еще погружено в глубо-
кий сон. Врага застать надо было врасплох, появиться
совершенно неожиданно.
Эту последнюю мучительную ночь никогда не забыть
участникам похода. Пока ехали до Славянской — здесь
359
все-таки были свои места, и неприятелю проникнуть
сюда было трудно. А вот теперь, за Славянской — среди
лиманов и плавней, по зарослям и камышам, которыми
укутаны мокрые низкие берега, — там всюду кишат
вражьи дозоры и разъезды. Положение крайне опасное.
В таком положении и меры принимать надо было осо-
бенные.
Перед тем как отплыть пароходам, на берегу собра-
лись в кучу руководители отряда и совещались о необ-
ходимых мерах предосторожности. Тут был начальник
Ковтюх, имя которого так неразрывно связано с Таман-
ской армией. Эту многострадальную армию по горам и
ущельям он выводил в 1918—1919 году из неприятель-
ского кольца. Кубань, а особенно Тамань, отлично
знают и помнят командира Епифана Ковтюха. Сын
небогатого крестьянина из станицы Полтавской — он за
время гражданской войны потерял и все то немногое,
что имел: хату белые сожгли дотла, а имущество раз-
грабили начисто. Всю революцию Ковтюх — под ружьем.
Немало заслуг у него позади. Да вот и теперь: Кубань
в опасности, надо кому-то кинуться в самое пекло, про-
браться во вражий тыл, надо проделать не только сме-
лую— почти безумную операцию. Кого же выбрать?
Епифана Ковтюха. У него атлетическая, коренастая фи-
гура, широкая грудь. Большие рыжие усы словно для
того лишь и созданы, чтобы он их щипал и крутил,
когда обдумывает дело. А в тревожной обстановке он
все время полон мыслями. И в эти минуты уже не гово-
рит— командует. Зорки серые светлые глаза; чуток слу-
хом, крепок, силен и ловок Ковтюх. Он из тех, которым
суждено остаться в памяти народной полулегендарными
героями. Вокруг его имени уже складываются были pi
небылицы, его имя присоединяют красные таманцы ко
всяким большим событиям. Стоит Ковтюх па берегу и
машинально, сам того не замечая, все дергает и дергает
широкий рыжий ус.,
С ним рядом стоит первый, ближайший, лучший по-
мощник— Ковалев. Ему перекосило от контузии лицо,
на сторону своротило скулу, оттянуло верхнюю губу. Не
запомнить Ковалеву, сколько раз побывал он в боях,
сколько раз ходил в атаку. Даже не подсчитает точно и
того, сколько раз был поранен: не то двенадцать, не то
пятнадцать. Я не знаю, есть ли у него живое место, куда
не шлепнулась бы пуля, не ударился бы осколок сна-
360
ряда или взметнувшаяся земля. И как только вйжил че-
ловек— не понять. Худой, нездоровый, с бледным, изму-
ченным лицом, обрамленным мягкой шелковистой боро-
дой, он представляет собою образец истинного' воина:
по своей постоянной готовности к любому, самому рис-
кованному делу, по своей дисциплинированности, по
личному мужеству и благородству. Числясь в полной
отставке, он никак не мог оставаться вне боевой обста-
новки и теперь направлялся с нами совершенно добро-
вольно на опасное дело.
Я видел его потом в бою — такой же веселый, ров-
ный, как всегда. Самое большое дело он совершал с не-
изменным хладнокровием и докладывал об этом деле,
как о пустяке, не стоящем внимания. Таких Ковалевых,
чуть заметных, но подлинных героев, — много в Крас-
ной Армии. Но они всегда скромны, о себе молчат, на
глаза начальству не лезут — и остаются в тени.
Против Ковалева — командир артиллерии Кульберг.
Я ближе узнал его лишь потом, в горячем бою, когда
у нас все было поставлено на карту; такой твердости,
такой настойчивости можно позавидовать: кремень —
не человек. А посмотреть — словно козел в шипели, да
и голос как козлиный: дрожит, дребезжит, рассыпается
горохом.
Были еще два-три командира. Совещались недолго:
почти все было решено и придумано еще днем.
— Позовите Кондру, — приказал Ковтюх.
— Кондра... Кондра... Кондра... — покатилось из уст
в уста.
Быстрой твердой поступью подходит Кондра.
— Явился, что прикажете?
Любо посмотреть на бравого молодца: глаза горят
отвагой, а рука то и дело опускается на эфес кривой
чеченской шашки. На самом затылке мохнатая белая
шапка — открылся чистый высокий лоб, еще яснее ста-
ли ясные быстрые глаза.
— Слушай, Кондра, — сказал Ковтюх. — Ты должен
знать, что дело, на которое идем, — опасное дело. По
плавням белые. Куда ни глянь — в камышах, по лугови-
нам, над лиманами — у них везде стоят, разъезжают до-
зоры... Знаешь ты эти места?
— Ну кто же их знает, как не я? — осклабился Кон-
дра.— До самого Ачуева, до моря — тут все болота, все
дорожки знакомые... Ходил, знаю...
361
— А знаешь, так вот что, — молвил Ковтюх, — нам
некогда медлить... Суда готовы плыть. Надо взять тебе
десятка три-четыре лучших из ребят, самых смелых, да
и места знающих, — взять их с собой — фью... — Ков-
тюх свистнул и пальцем указал куда-то неопределенно
вперед.
— Понимаю...
— А понимаешь — и толковать больше не будем.
Возьмешь погоны офицерские, кокарды, светлые пугови-
цы: у меня все заготовлено... А ну! — обратился он к од-
ному из стоявших.
Тот мигом к пароходу и скоро вернулся с небольшим
узелком.
— Бери, — подал Ковтюх Кондре узелок. — Только
живо: разукрашиваться будете не здесь — когда отъе-
дете. Выдели надежного — он поедет по левому берегу,
дашь ему человек десяток —тут не так опасно. А сам
направо. Оглядывайся, не проморгай. Коли что нелад-
но— знаешь наши сигналы? Держись ближе самого
берега.
— Понимаю...
— Так запомни: ежели не очистишь берегов — нам
назад не возвращаться...
— Так точно... Можно идти?
— Иди... Да живо...
Кондра так же быстро, как и появился, исчез на бар-
же. Скоро стали сводить коней. Потом сбились в кучу.
Потолковали с минуту, разбились на две партии...
И видно было, как быстрою рысью поехал Кондра, а за
ним человек двадцать пять бойцов.
В другую сторону отделилась группа человек в пят-
надцать, и во главе ее узнал я Чобота: могучий, широ-
кий— как богатырь сидел он на рослом вороном коне.
А рядом с ним Ганька — худенький, гибкий, как тополе-
вый сучок. Со всех судов смотрели молча красноармей-
цы вслед удалявшимся товарищам; не спрашивали, не
допытывались — все было понятно и так; не было ни
шуток, ни смеха.
Отъехал Кондра версты полторы, спешился со своими
ребятами и говорит:
— Вот тут разбирайте, кому что придется, только с
чинами не спорить, — и подал им узелок.
362
Дмитрий Фурманов. «Красный десант». Первое издание
1923 г.
Ребята развязали его, извлекли оттуда белогвардей-
ские наряды — погоны, кокарды, пуговки, ленты, — а че-
рез пять минут отряда было не узнать.
Сам Кондра оборотился полковником и, когда наду-
вал губы, делался смешон и неловок, словно ворона
в павлиньих перьях.
Тьма еще не проглотила вечерние сумерки, но до-
рожку различать можно было лишь с трудом. Сели сно-
ва на коней, тронулись.
— Хлопцы, — внушал Кондра, — не курить, не каш-
лять громко — будто нас вовсе нет...
Ехали в тишине. Чуть слышно хлюпали по влажной
и топкой земле привычные кони. Лишь только они начи-
нали вязнуть — и вправо и влево отъезжали всадники,
выискивали, где крепче, где настоящая дорога... Так еха-
ли час, два, три... Никто не попадался навстречу; в ка-
мышах и по плавням — никаких признаков жизни. Чер-
ным, густым мраком закутались равнины; над болота-
ми— тяжелый седой туман. Вот навстречу донеслись
какие-то странные звуки, которых не было до сих пор —
так гудит иной раз телефонная проволока, а может
быть, это где-нибудь вдалеке падает ручей...
Кондра остановился, остановились и все. Он повер-
нул ухо в ту сторону, откуда доносились звуки, и разли-
чил теперь ясно гомон человеческой речи...
— Приготовиться! — отдана была тихая команда.
Руки упали на шашки. Продолжали медленно дви-
гаться вперед... Были уже отчетливо видны силуэты ше-
сти всадников — они ехали прямо на Кондру.
— Кто едет? — раздалось оттуда.
— Стой! — скомандовал Кондра. — Какой части?
— Алексеевцы... А вы какой?
— Комендантская команда от Казановича...
Всадники подъехали. Увидели погоны Кондры и по-
чтительно дернулись под козырек.
— Разъезд? — спросил Кондра.
— Так точно, разъезд... Только — кто же тут, ночью
пойдет?
— Никого нет, сами проехали добрых пятнадцать
верст.
В это время наши всадники сомкнулись кольцом во-
круг неприятельского разъезда...
Еще несколько вопросов-ответов; узнали, что дальше
едет новый дозор. Примолкли. Тишина была на одно
364
мгновение... Кондра гикнул — и вдруг сверкнули таш-
ки... Через пять минут все было окончено.
Ехали дальше, и с новым дозором был тот же
конец...
Так за ночь изрубил мужественный Кондра шесть
неприятельских дозоров и не дал уйти ни одному че-
ловеку.
Чоботу тоже встретились два дозора — судьба их
была одинакова; только со вторым дозором чуть не при-
ключилась беда: под раненым белым всадником
рванулся конь и едва не унес • его; Пришлось вдо-
гонку послать ему пулю — она сияла беглеца на
землю.
Этот выстрел Чобота мы слышали с парохода и на-
сторожились: предполагали, что завязывается пере-
стрелка, что дозору удалось уйти, что враг примет живо
какие-то новые меры.
Мы все стоим на верхней палубе и ждем... Вот-вот
послышатся сигналы Кондры или Чобота. Но нет, ни-
чего не слышно, на берегах могильное спокойствие.
Всю ночь до утра мы дежурили на верхних палубах.
Все чудилось, что в камышах кто-то передвигается, что
лязгает оружие, слышен даже глухой и сдержанный
шепот-разговор. Здесь близко берега — и можно рас-
смотреть мутное колыхающееся поле прибрежных ка-
мышей.
— Как будто что-то... — начинал один, присматрива-
ясь во мглу на берег и указывая соседу.
— А нет, — отвечал тот, — пустое...
Но потом, всмотревшись пристальнее, продолжал:
— А впрочем... Да, да... Как будто и в самом деле...
— Ты вот про то, что колышется, как штыки?
— Да, про них... Всмотрись... Только что это? И
здесь, смотри, и здесь, и дальше всё те же штыки...
— Э, да ведь это всё камыши волнуются...
И отводили взоры от берега, но только на мгновение,
а потом — опять, опять штыки, глухой и тихий разговор,
стальное лязганье... Ночь полна страшных шорохов и
звуков... Каждый силится остаться спокойным, но спо-
койствия нет. Можно сохранить спокойное лицо, и голос,
и движения, но мысль бьется лихорадочна чувствитель-
ность обострена до крайности. Рассуждали о том, что
надо делать, если вдруг из камышей откроется пулемет-
ный огонь. А можно ведь ожидать и большего: там
365
сумеют подкатить орудия и возьмут нас на картечь...
Что делать тогда?
Предполагали разное. Только ясно было каждому,
что тогда уж надежды на спасение мало: в узкой реке
не повернуться неуклюжим судам, а идти вперед — зна-
чит еще дальше просовывать голову в мертвую петлю.
Но что же делать?
Соглашались па том, что надо быстро причалить
к берегу, сбросить подмостки и вступить в бой...
Легко сказать — «вступить в бой». Пока подплывали
бы к берегу — неприятель всех мог перекосить пуле-
метным огнем: ему из камышей прекрасно видно,
как на баржах вплотную, кучно расположились наши
бойцы.
Они тоже не спали: теперь, когда отъехали от Сла-
вянской, уже в пути, командиры объяснили им предстоя-
щую операцию со всеми ее трудностями и опасностями,
которые только можно было предвидеть. Где уж тут
было спать, — в такие ночи не до сна; глаза сами ши-
рятся, и взоры вперяются в безответную тьму.
Прижавшись друг к другу, они во всех концах вели
тихую, прерывистую беседу:
— Холодно...
— Дуй в кулак — жарко будет.
— Дуй сам... Вот он как дунет — пожалуй, и впрямь
отогреешься. — И красноармеец кивнул головою на бе-
рег, в сторону неприятеля.
— Близко он тут?
— Кто его знает... Говорят, везде по берегу ходит...
Да вот тут, в камыше, лежит... Наши уехали искать...
— Кондра уехал?
— Он. Кому же? Все дыры тут знает...
— Парень — голова...
— Ну, куда ты... Мы с ним еще на ерманском бы-
ли— три Георгия и тогда приплодил.
— Надо быть, нет никого — тихо что-то...
— Али тебе орать будут? Вот чикнут с берега — и
баста.
— Нет, говорю — от Кондры ничего не слышно.
— Как же ты услышишь? Ироплан, што ли, приле-
тит?
— А што это иропланов, братцы, нет нигде?
— Как нет! Летают... Они за городом лежат,
366
а летают, когда солнце чуть восходит — оттого и не
видишь.
— Вот что... А отчего это они летают?
— Кто их знает: пару, надо быть, подпускают.
— У тебя табачок-то с собой?
— Да курить нельзя; тебе же ротный говорил.
— И верно... А в кулак, — я думаю, — пройдет, не
видно.
Запротестовали сразу три-четыре голоса. Курить не
дали.
— Скоро подъедем?
— Куда?
— А где вылезать надо.
— Как станет — значит, и подъехали.
Такие короткие, сдержанные разговоры шли на всех
баржах.
Один вопрос цеплялся за другой — часто совершенно
случайно, от слова к слову...
Всё так же тихо, почти бесшумно плыли во тьме ка-
раваны судов. На заре, когда еще густым облаком стоял
тяжелый речной туман, первый пароход причалил к бе-
регу... Одно за другим подходили суда и врезались
в прибрежные камыши и высокую траву.
До станицы оставалось всего две версты. Зарослей
на берегу не было, и открывалась широкая поляна, где
удобно было разгрузиться и строить войска. Знатоки
этих мест говорили, что более удобной пристани для
разгрузки не найти, что эта поляна — единственная на
всем протяжении от самой Славянской.
Живо побросали подмостки — и с удивительной бы-
стротой все очутились на берегу. Лишь только вступили
на твердую почву — вздохнули свободно и радостно: те-
перь— не на воде, теперь стрелки и всадники сумеют
постоять за себя и даром жизнь не отдадут! Скатили
орудия, свели коней. Комадиры построили части. Во все
концы поскакали разведчики. Нервность пропала и усту-
пила место холодной серьезной сосредоточенности. Все
делалось быстро, так быстро, что приходилось только
изумляться. Бойцы понимали, как это было необходимо
в такой обстановке.
Командиры верхами окружили нас с Ковтюхом. Два-
три напутственных совета, и — марш по местам! Уж все
готово. Отдана команда идти в наступление. Впереди
рысью пошла кавалерия. Заколыхались цепи.
367
На долю Ганьки выпала задача промчаться метео-
ром по улицам станицы, все рассмотреть и доложить.
Он несся, словно птица, мимо густых садов, мимо до-
мов с закрытыми ставнями, пронесся по главной пло-
щади, у храма, и исколесив станицу, возвратился и до-
ложил, что «всё в порядке». Когда стали расшифровы-
вать это замечательное «всё в порядке», оказалось, что
обреченная станица спит мертвым сном. Она ничего не
ждет, ничего не знает. Кое-где по углам дремали часо-
вые, они сонными глазами смотрели вслед скакавшему
Ганьке и считали его, верно, за гонца с позиции.:. Жи-
тели тоже спали, только изредка попадалась какая-ни-
будь сгорбленная старуха казачка, тащившаяся с вед-
ром к колодцу. Видел Ганька и аэроплан — он был на
площади, у церкви. Видел за изгородью одного боль-
шого дома мотоциклетку и два автомобиля.
Когда он, запыхавшись и торопясь, все это переска-
зал, было совершенно ясно, что мы движемся не заме-
ченные врагом.
Удар был рассчитан на внезапность. Подойти надо
было совершенно неожиданно, атаковать оглушительно.
В то же время необходимо было создать впечатление
навалившихся крупных частей, хорошо вооруженных,
с богатой артиллерией. С другой стороны, нужно было
организовать засады, неожиданные встречи, картину
полного окружения и вселить в неприятеля убеждение
в полной безнадежности положения. Эффект неожидан-
ного удара должен был сыграть здесь исключитель-
ную роль.
В конце поляны, под самой станицей, остались еще
Целые полосы невыжженных камышей. Здесь пробраться
было невозможно, и пришлось загибать, идти окружным
путем. Разгрузка, сборы, приготовления, самое движение
до станицы заняло около двух часов. Станица все еще не
пробуждалась. Туман рассеивался, но медленно, и над
рекой продолжал держаться таким же густым белесова-
тым облаком, как прежде. Протока у самого селения за-
гибалась в западном направлении и вела на Ачуев,
к морю. По берегу, до станицы и за станицей, шла езжая
дорога. По этой дороге и направилась часть наших
войск. Сюда же, глубже, во главе с Чоботом, отправлен
был в засаду эскадрон кавалерии, которому дана была
задача рубить неприятеля, если он в случае паники бро-
сится бежать, спасаться па Ачуев.
368
Части десанта были расположены в своем движении
таким образом и с таким расчетом, чтобы одновременно
могли дойти до станицы с разных сторон и одновременно
же открыть огонь.
Тогда же должна была загромыхать артиллерия.
Неприятельские силы, расположенные в станице, мог-
ли нам оказать стойкое сопротивление ввиду своей до-
статочно высокой боевой доброкачественности (малона-
дежными были только пленные красноармейцы). Там
стояли части корпуса генерала Казановича: Алексеев-
ский пехотный полк, запасный батальон того же полка,
Алексеевское и Константиновское военные училища и
Кубанский стрелковый полк. Кроме того, в станице был
расположен главный штаб улагаевского десанта со всеми
своими разветвлениями и другие, более мелкие штабы и
тыловые учреждения. При всем том следовало ожи-
дать враждебных действий со стороны станичного насе-
ления. Ново-Нижестеблиевская была у нас на худом
счету.
Около семи часов утра, когда части вплотную подо-
шли к станице, раздался первый орудийный выстрел. За-
тем открылась оглушительная канонада: орудийные гро-
мы слились с пулеметным и ружейным огнем. Части шли
вперед. Неприятель, не понимая в чем дело, совершенно
растерялся и никак не мог организовать защиту. Откры-
тый по нашему десанту беспорядочный огонь не прино-
сил почти никакого вреда. Красная пехота напирала и
одну за другою занимала улицы станицы.' В центре при-
шлось столкнуться с неприятелем, готовым к обороне.
Наши батальоны в этом месте вел Ковалев. Он от-
лично понимал, как опасно теперь промедление. Он знал,
что паника в неприятельских рядах может миновать, и
тогда с неприятелем справиться будет нелегко. В такие
минуты бывает достаточно одного находчивого коман-
дира, который властно остановил бы бегущих, который
понял бы мигом, в чем корень дела, и уяснил бы себе
отчетливо, как и с чего следует начинать сию же минуту.
Паника усиливается обычно множеством случайных и
противоречивых приказов, которые отдаются сплеча и
сгоряча: один приказ опровергает другой, запутывает,
затуманивает дело. Именно в такой стадии беспланного
метания находился теперь неприятель. Но уже были пер-
вые признаки его начинающейся организации. Надо было
ловить момент.
13 Зак. № Г!6 369
Ковалев отдает команду идти в атаку. Сам с винтов-
кою в руке остается на левом фланге. На правом идет
Щеткин. У него так же широко открыты глаза, как и
там, на барже, во время песни. Только теперь в них го-
рят огни жестокого, беспощадного хищника. Весь лоб,
до переносицы, перерезала глубокая складка. У Щет-
кина тяжелая поступь — он словно и не идет, а по заказу
трамбует землю. Около него идти спокойно, — родится
какая-то твердая уверенность, что с ним не пропадешь,
что Щеткина невозможно свалить с ног. Он отдает
команду коротко, четко, сердито...
Неприятель сгрудился возле садов. Было видно, что
он еще не выстроился как следует, что не нашлась еще
могучая, организующая рука, которая смогла бы толпу
превратить в стройные упругие цепи.
Скорее, скорее... К этой толпе отовсюду — из сараев,
из халуп, из садов и огородов, по улицам и закоулкам—
сбегались солдаты. Толпа растет у нас на глазах. Она
уже развертывается, принимает форму. Еще минута — и
мы встретим стену стальных штыков, море огня — мет-
кого, уничтожающего...
— Ура! — проносится по нашим рядам.
Винтовки наперевес, бойцы мчатся на толпу... Там
замешательство. Многие кинулись бежать кто куда. Иные
все еще продолжали стрелять... Почти все побросали
винтовки и стояли, ждали с поднятыми вверх руками.
Звенели кругом пули, то здесь, то там вырывая жертвы.
Одним из первых, прямо в лоб, был убит Леонтий Щет-
кин.
Вдруг от плетня отделилось человек пятьдесят и ки-
нулось нам навстречу... Это заставило отпрянуть назад
передовую нашу цепь. На минуту произошло замеша-
тельство, но Ковалев уже отдал новую громкую команду:
— Вперед, ребята, вперед, ура!..
И рванулись, как бешеные, красноармейцы... Опроки-
нули бегущих им навстречу белых солдат, смяли их под
себя,—дальше ничего не было видно...
Когда эта полсотня кинулась от плетня, те, что по-
бросали винтовки, остались недвижимы и за ними не
побежали — они стояли и ждали пощады с высоко
вздернутыми кверху руками. Красные бойцы окружили
пленников. Живо отогнали их на другое место, стояли, не
трогали... Брошенное оружие собрали, сложили в груду,
а через несколько минут пригнали подвода, погрузили и
370
увезли к берегу. Всюду, куда ни глянь, валялись ране-
ные— стонали, хрипели, иные кричали от боли... Оказа-
лось, что эти пятьдесят — шестьдесят белых солдат были
частью офицерами, частью — алексеевцами. Пощады им
не было ни одному.
Остальных пленных погнали к баржам.
Чобот, пробравшийся со своим эскадроном за ста-
ницу, проехал до самых камышей, спешил всадников и
ждал. От него человек десять разведчиков протянулось,
залегло цепью ближе к станице, и один другому переда-
вал, как идут там дела, что видно, что слышно.
Пока бежали отдельные белые солдаты, Чобот не по-
дымал своих ребят и не тратил зарядов, не обнаруживал
своего местонахождения. Правда, отдельные беглецы
сами запарывались сюда же, к камышам; их без криков
задерживали, оставляли у себя... Но лишь только Кова-
левская атака решила дело — остатки гарнизона кину-
лись вон из станицы и прямо на дорогу, к реке, надеясь
переплыть ее на лодках и спрятаться на том берегу. В эту
минуту эскадрон вскочил на коней и кинулся из-за ка-
мышей на бегущих... Произошло что-то невероятное. Бе-
лые совершенно не ожидали нападения с этого края. Они
шарахнулись в сторону, рассыпались по берегу и в боль-
шинстве побежали на то место, где прежде стояли лодки.
Лодок не было. Чоботовы ребята увели их на другое
место. Бежать было некуда. А всадники метались всюду
среди беглецов и безжалостно их сокрушали, не встречая
почти никакого сопротивления. Многие бросились в воду,
надеясь вплавь добраться до того берега, но мало кому
удалось доплыть: наш пулемет шарил по воде и нащу-
пывал беглецов — большинство ушло ко дну Протоки.
Возбужденный Чобот носился по берегу, он сам не ру-
бил и не преследовал —только указывал бойцам, куда
скрывался, куда бежал кучками ошалелый неприятель.
Чобот все видел и разом замечал во все стороны, как
метался враг и где он искал спасения.
Словно дикий степной наездник, скакал из конца
в конец с обнаженной шашкой Танчук. Он уже давно
потерял шапку, и черные кудрявые волосы разметались
по ветру.
Он не знал и не слышал никакой команды, сам выби-
рал себе жертву и бросался на нее, как коршун, мял и
рубил без пощады. И когда уже все было сделано —
шальная пуля своего же стрелка перебила Танчуку
371
левую руку. Он не крикнул, не застонал — только выру-
гался крепче крепкого и соскочил с верного Юся. Сеча
кончилась...
Сколько побито здесь было народу, сколько сгибло
его на дне Протоки — останется навсегда неизвестным.
Только отдельные беглецы успели добраться до камы-
шей и спрятались в них — большинство же погибло во
время бегства. Были случаи, когда белогвардейские офи-
церы переодевались в женское платье, пытаясь таким
образом скрыться в камыши, но кавалеристы не пропус-
кали никого, задерживали маскированных и «оставляли»
их здесь же на месте. Через два часа станица была в ру-
ках красного десанта.
В начале боя с церковной площади поднялся неприя-
тельский аэроплан и полетел в направлении на Ново-
Николаевскую 1, где были расположены белые части.
И во время боя и после него из станичных садов и ого-
родов, с чердаков крыш, из-за копен сена и из высокой
травы то и дело летели шальные пули — так недруже-
любно встречала станица красных гостей.
В этом утреннем бою захвачено было около тысячи
пленных, человек сорок офицеров, бронированный грузо-
вой автомобиль, пулеметы, винтовки, снаряды, обозы
с медикаментами, печати, канцелярии, личные офицер-
ские документы и т. д.
В это время пароходы и баржи подошли к самой ста-
нице. Были погружены пленные и трофеи; тут же тол-
пились с носилками раненых красноармейцев, пострадав-
ших большей частью в штыковой атаке.
Дальше было совершенно ясно, что неприятель, полу-
чив известие от летчика о катастрофе в тылу, поста-
рается или сняться совершенно, или послать в станицу
сильную часть, которая могла бы управиться с красным
десантом.
Неприятель выбрал первое: снял с позиции свои части
и от Ново-Николаевской (а затем и других пунктов) тро-
нулся на Ново-Нижестеблиевскую, опасаясь быть окон-
чательно отрезанным от моря. Здесь у него была един-
ственная дорога на Ачуев, и он торопился по ней пройти,
пока красный десант не закрепился здесь по-настоящему
и еще не пополнен новыми, может быть плывущими
сзади, частями.
1 Верст 25 — 30 на восток.
372
Фронт неприятельский в это время находился но
линии станиц: Чертолоза, Старо-Джирелеевская,
Ново-Николаевская, Пискуново, Башты, Степная и
Чурово.
Уже дрогнула неприятельская позиция, снялась она
и быстро покатилась к морю. Неприятель попятился на-
зад, а тем временем главные наши силы, стоявшие про-
тив неприятельских позиций, стали подгонять и колотить
отступающего к морю врага. В станице, занятой красным
десантом, бой не возобновлялся до тех пор, пока из Но-
во-Николаевской не подошли новые белые части.
Первыми из них пришли: Сводный Кубанский кавале-
рийский полк, Полтавский пехотный и Запорожский
полки, неизвестная часть генерала Науменко и части ка-
валерийского корпуса генерала Бабиева, среди которых
был и волчий дивизион Шкуро. Красному десанту было
чрезвычайно трудно сдержать напор таких крупных сил;
его задачей было теперь во что бы то ни стало продер-
жаться до подхода главных своих сил, все время трево-
жить неприятеля, расстраивать его движение, беспо-
коить его частичными боевыми столкновениями и дер-
жать в напряжении. В полдень, под напором превосход-
ных сил, нам пришлось очистить две крайние улицы,
идущие с востока на запад: по этим улицам пошли глав-
ные силы неприятеля. Снова завязался бой.
Неприятель ввел в работу два бронированных авто-
мобиля. Но положение его было в общем весьма слож-
ное: напирая на красный десант, он в то же время не
мог сосредоточить на нем свое исключительное внимание
и дать в станице основательный бой; этого не мог он сде-
лать потому, что по пятам гнали и наседали на него
главные наши силы, снявшиеся вслед за ним со своих
позиций. Уже слышалась в отдалении, со стороны Ново-
Николаевской, артиллерийская стрельба: это били бата-
реи красной бригады, торопившейся объединить свои
действия с действиями красного десанта. Около четырех
часов у станицы скопилось много вражеских сил. Ви-
димо, там решено было покончить с красным десантом
и сбросить его в Протоку. Неприятель открыл ураганный
артиллерийский огонь и цепями пошел в наступление.
Это активное и стремительное движение заставило нас
попятиться к реке.
373
Вот красные бойцы оставили поляну, отошли за
речку, а неприятель все идет и идет.
Было ясно, что .при дальнейшем отступлении десант
может погубить себя целиком.
Командир артиллерии товарищ Кульберг уже целых
три часа не слезал с дуба. Он примостился там, подобно
филину, на верхний сучок, приник потным лбом к сы-
рому холодному стволу и все смотрел в бинокль,
как падают наши снаряды. Батарея стояла тут же, в не-
скольких шагах, и Кульберг с дуба корректировал
стрельбу, отдавая команду:
— Трубка сто, прицел девяносто пять... Трубка сто,
прицел девяносто семь!..
И когда чудовище ухало, а снаряд с визгом и стоном
вырывался из жерлах Кульберг покрякивал и рукой дер-
гался в ту сторону, куда он скрылся.
— Отлично, отлично, — кричал он сверху, — в самую
глотку засмолило... А ну, еще такого же... Да живее, ре-
бята, живее... Ишь побежали! — И он взглядом, через
бинокль, впился в окраину поляны, где взметнулись
столбы пыли, а от них шарахнулись в разные стороны и
побежали люди.
— Еще стаканчик!—продолжал он покрикивать
сверху, когда артиллеристы спешно заряжали орудие:
один подавал снаряд, другой его загонял в дуло, третий
давал удар. Так в лихорадочной пальбе Кульберг забы-
вал о времени, об усталости, забывал обо всем... И те-
перь, когда неприятель шел в наступление и подходил
ближе и ближе к тому месту, где стояла наша батарея,
Кульберг и не подумал тронуться, не шелохнулся, словно
прирос к дубовому сучку.
Все резче, все порывистей его приказания, все чаще
меняет он прицел, громче отдает команду... А возле
орудий — запыхавшиеся, усталые артиллеристы; еще
живее, чаще падают снаряды, бьют по идущему
врагу...
На лугу, у выхода к Протоке, там, где сходятся две
дороги, неподалеку от камышей были выстроены пуле-
меты, и пулеметчикам была дана задача — или погиб-
нуть, или удержать наступающие цепи врага.
Пулеметные кони повернуты мордами к реке. На та-
чанках, за щитами, согнулись пулеметчики. Мы сзади их
верхами удерживаем отступающие цепи. Вижу Коцю-
бенкО’п-он словно припаян к пулемету, уцепился за него
374
обеими руками, шарит, проверяет дрожащими пальцами,
все ли в порядке.
Неприятель на виду, он так же неудержимо продол-
жает двигаться вперед.
Ну, молодцы-пулеметчики, теперь на вас вся надеж-
да: переживете — удержимся, а не сумеете остановить
врага — первые сгибнете под вражьими штыками!
Как уже близко неприятельские цепи! Вот они про-
рвутся на луговину...
В это время, в незабвенные трагические минуты,
когда десант держался на волоске, пулеметчики открыли
невероятный, уничтожающий огонь.
Минута... две...
Еще движутся по инерции вражьи цепи, но уже дрог-
нули они, потом остановились, залегли... И лишь только
подымались — их встречал тот же невероятный огонь...
Это были переломные минуты, — не минуты, а мгно-
вения. Красные цепи остановились, подбодрились и сами
пошли в наступление. Неожиданный оборот дела сбил
неприятеля с толку, и белые цепи начали отступать. По-
ложение бы)ю восстановлено.
В это время над местом, где находились неприятель-
ские войска, показались барашки разрывающейся шрап-
нели. Нельзя описать той радости, которая охватила бой-
цов и командиров, увидевших эти белые барашки от огня
своей красной бригады: это свои шли на подмогу, они
уже совсем недалеко, они не дадут погибнуть нашему
десанту...
Ободренные и радостные, красноармейцы снова
начали тревожить проходящие неприятельские войска.
Так продолжалось до самой ночи, до темноты. Пы-
тались было связаться с подходившей красной бригадой,
но попытки оказались неудачными: между десантом и
подходившими красными частями были густые неприя-
тельские массы. Плавни и лиманы не позволяли соеди-
ниться обходным путем.
Неприятель на ночь решил задержаться в станице,
дабы дать возможность дальше к морю отойти своим
бесконечным обозам.
Красный десант решил произвести ночную атаку.
За церковью, неподалеку от станичной площади, в гу-
стом саду Чобот спрятал в засаду свой эскадрон. Ему
375
опять предстояло лихое дело в новой обстановке, вглу-
хую полночь. Бойцы расположились в траве, лежали
молча.
Кони были привязаны посредине сада к стволам че-
ремушника и яблонь. На крайних деревьях, у изгоро-
дей — всюду попрятались в ветвях наблюдатели. Чобот
ходил по саду из конца в конец, молча посматривал на
лежащих бойцов, на коней; проверял сидевших на сучьях
дозорных.
Над ручейками и дальше по аллее залегли наши ба-
тальоны. Все были уже оповещены о готовящейся ночной
атаке. Мы с Ковтюхом лежали под стогом сена, позвали
к себе командиров, устроили маленькое совещание. В это
время с парохода притащили большой чугун с похлеб-
кой— поднялись, уселись кружком, как голодные волки,
накинулись на еду: с самого утра во рту не было «мако-
вой росинки». Бойцы, стоявшие возле стога, подвигались
ближе и ближе; похлебка брала свое и притягивала,
словно магнит. Только вот беда — ложек нет, двух пар-
шивеньких, обглоданных на всех не хватало. Но и тут
умудрялись: кто ножом, кто деревянной, только что
остроганной лопаткой заплескивал из котла прямо в рот.
Скоро весь котелок опорожнили начистую. Закурили. По-
веселели. Приободрились.
Ровно в полночь решено было произвести атаку,
а эскадрону, спрятанному в саду, поручалось в нужную
минуту выскочить из засады и довершить налетом па-
нику в неприятельских рядах.
Отрядили храбрецов, поручили им проползти в глубь
станицы и в двенадцать часов поджечь пяток халуп,
а для большего эффекта, лишь займется пожар — кидать
бомбы.
С первыми же огнями должны разом ударить все
орудия, заработать все пулеметы, а стрелки, дав по не-
скольку залпов, должны громко кричать «ура», но в бой
не вступать, пока не выяснится состояние противника.
Наступили мертвые минуты ожидания. Кругом ти-
шина— и у нас тишина, и у неприятеля. В такую -тем-
ную ночь трудно было ожидать атаку. Люди, казалось,
ходили на цыпочках.
Разговаривали шепотом. Все ждали.
Вот задрожали первые огни, взвились из станицы
красные вестники, разом занялось несколько халуп...
В то же время до слуха красных бойцов донеслись
376
глухие разрывы — это наши поджигатели метали бомбы.
Что получилось через мгновение — не запечатлеть сло-
вами. Ухнули разом батареи, пулеметы заговорили, за-
торопились, залпы срывались один за другим.
Какое-то ледяное безумное «ура» вонзилось в черную
ночь и сверлило ее безжалостно. «Ура... ура...» — кати-
лась на станицу страшная угроза. Неприятель не выдер-
жал, побросал насиженные места и кинулся бежать.
В эту минуту из засады вылетел спрятанный там кава-
лерийский эскадрон и довершил картину. При зареве го-
рящих халуп эти скачущие всадники с обнаженными
шашками, эти очумелые, заметавшиеся люди казались
привидениями. Неприятель сопротивлялся беспорядочно,
неорганизованно: открывал пальбу, но не видел своего
врага, пытался задержаться, но не знал, где свои силы,
как и куда их собрать. Недолго продолжалась уличная
схватка. Станица снова была полностью очищена. Не-
приятель за окраиной распылился по плавням и камы-
шам; только наутро собрался с оставшимися силами, но
к станице больше уже не подступал, а направился
к морю.
Еще ночью, тотчас после боя, в станицу вошли наши
заставы, но весь десант вошел туда лишь на заре. Снова
была пальба из огородов и садов, снова недружелюбно
встречали станичники красных пришельцев...
Когда рассвело, стали собирать и отправлять на бар-
жи новые трофеи: бронированный автомобиль, легковые
генеральские машины, пулеметы, траншейные орудия,
снаряды, винтовки, патроны...
К этому времени со стороны Николаевской вошла
в станицу красная бригада, ей и была передана задача
дальнейшего преследования убегающего противника.
Десант свою задачу окончил.
Весело, с песнями грузились красноармейцы на
баржи, чтобы плыть обратно.
Каждый понимал, какое сделано большое и нужное
дело. Каждый все еще жил остатками глубоко драмати-
ческих переживаний...
Суда отчалили от берега... Громкие песни разбудили
тишину лиманов и камышей. Мимо этих вот мест только
вчера, на заре, в глубоком сивом тумане, в гробовом
молчании, плыли суда с красными бойцами... Еще никто
не знал тогда, как обернется рискованная операция, ни-
кто не знал, что ждет его на берегу...
377
Теперь, плывя обратно, бойцы недосчитывалась
в своих рядах нескольких десятков лучших товарищей.
Не верхней палубе «Благодетеля», на койке, лежит
с раздробленной рукой бледнолицый Танчук и тихо-тихо
стонет. В просторной братской могиле, у самых камы-
шей, покоится вечным сном железный командир Леон-
тий Щеткин.
Когда вспоминали наших товарищей, умолкали все,
словно тяжелая дума убивала живое слово. А потом, ко-
гда миновало и молчание, — снова смех, пение, снова
веселая радость, будто и не было ничего в эти минувшие
дни и ночи.
Александр Неверов
ТАШКЕНТ — ГОРОД ХЛЕБНЫЙ
Федору Васильевичу Гладкову
1
Дед умер, бабка умерла, потом — отец. Остался
Мишка только с матерью да с двоими братишками.
Младшему четыре года, среднему — восемь. Самому
Мишке — двенадцать. Маленький народ, никудышный.
Один каши просит, другой мельницу-ветрянку ножом вы-
резает на конек — вместо игрушки. Мать с голодухи при-
хварывает. Пойдет за водой на реку, насилу вернется.
Нынче плачет, завтра плачет, а голод нисколько не. жа-
леет. То мужика на кладбище несут, то сразу двоих.
Умер дядя Михайло, умерла тетка Марина. В каждом
дому к покойнику готовятся. Были лошади с коровами,
и их поели, начали собак с кошками ловить.
Крепко задумался Мишка.
Семья большая, работники маленькие. Он самый на-
дежный. Отец так и сказал перед смертью:
— Ты, Мишка, за хозяина будешь.
Вышел на улицу Мишка, мужики Ташкент поминают.
Хлеб очень дешевый там, только добраться трудно. Туда
две тысячи верст, оттуда две тысячи верст. Без денег
нельзя: за билет надо дать и за пропуск надо дать.
Долго слушал Мишка, спросил:
— А маленьким можно туда?
— Или ехать хочешь?
— А что будет? Залезу в трещину— меня не увидят.
Смеются мужики:
— Нет, Мишка, тебе придется дома сидеть. Не такие
головы назад вертаются. Порасти еще годков пяток,
тогда поедешь.
379
А Мишка не верит мужикам. Знает, Ташкент—город
хлебный, ничего не боится. Станет пугаться немножко,
тут же успокаивает себя: «Попробуй, чай ты не девчонка.
Подавать не станут — на работу наймешься. Целое лето
плугом пахал заместо отца, лошадей умеешь запрячь.
Это только годов тебе немного, на делах тебя большой
не догонит».
Крепко задумался Мишка.
Не выходит из головы Ташкент — город хлебный.
Станет на глаз прикидывать: две тысячи верст — совсем
недалеко. Пешком если—далеко. Сесть на чугунку —
в три дня долетишь. А пропуск совсем не нужен. Уви-
дят— мальчишка маленький едет, скажут: «Не троньте,
товарищи, это Мишка голодающий». Какая в нем тяга.
Полпуда не будет со всеми потрохами. Выгонят из ва-
гона — на крыше два дня продержаться можно. Лазал
он на деревья за грачиными гнездами, это похуже, чем
крыша, все-таки не падал...
Увидал дружка своего Сережку Карпухина, годом
помоложе, обрадовался:
— Айда двое с тобой!
— Куда?
— За хлебом в Ташкент. Двоим веселее. С тобой
чего случится — я помогу. Со мной случится—ты помо-
жешь. Все равно не прокормимся мы здесь.
Сережка не сразу поверил.
— А если дожжик пойдет?
— Дожжик летом теплый.
— А если солдаты прогонят?
— Мы тихонько от них.
Сережка нерешительный. Ковырнул в носу два раза,
говорит:
— Нет, Мишка» не доедем. г
Мишка побожился:
— Ей-богу, доедем, только не бойся. Теперь красно-
армейцы везде, они не прогонят. Узнают, что мы голо-
дающие, хлебца дадут.
— Маленькие мы, забоимся.
Мишка начал доказывать: совсем и не маленькие. Это
не беда, что Сережа моложе, хлопотать будет сам
Мишка: место разыскивать на чугунке, людей упраши-
вать. Чай, не девчонки они. Плохо придется — потерпят.
С чугунки прогонят — все равно двоим не страшно.
380
Александр Неверов. 20-е годы.
Переночуют до утра, маленько пешком пойдут. Потом
опять залезут, как только начальники заглядятся.
— А назад когда вернемся? — спросил Сережка.
— Назад мы живо вернемся. Туда, самое много, че-
тыре дня, оттуда, самое много, четыре дня. Соберем по
двадцать фунтов, и ладно, чтобы тяжело не было.
У Сережки глаза загорелись от радости.
— Я пуд донесу!
— Пуд не надо. Отнимают, у кого много. Лучше еще
съездим два раза, когда дорогу узнаем.
— Давай, Мишка, никому не сказывать.
— Давай!
— Ты знаешь да я, больше никто. Пристанут Коська
с Ванькой, а сами шишиги1 боятся. Куда с ними доедешь!
— А ты не боишься?
— Чего мне бояться! Я на мазерки1 2 в полночь пойду.
2
Мать на кровати охала. Младший, Федька, дергал за
подол, клал палец в рот, просил хлеба. Средний, Яшка,
делал деревянное ружье — воробьев стрелять для пищи,
думал: «Убью троих—наемся. Маленько Федьке с мам-
кой дам. Эх, вот бы голубку подшибить!»
Вошел Мишка в пустую голодную избу, шапку на-
хлобучил, брови нахмурил. Сразу стал похожим на
большого настоящего мужика и ноги по-мужичьи ра-
стопырил.
— Ты что, мама, лежишь?
— Нездоровится мне нынче, сынок.
— А я хочу в Ташкент за хлебом съездить.
— В какой Ташкент?
— Город есть такой — две тысячи верст отсюда, и
хлеб там больно дешевый...
Говорил Милка спокойно, по-хозяйски, как большой,
настоящий мужик.
Мать смотрела удивленными глазами:
— Болтаешь, что ли, — не пойму я тебя!
Начал Мишка рассказывать по порядку. Ягод много
там, и хлеба каждому по горло. За раз можно привести
тридцать фунтов. (Нарочно прибавил десяток, чтобы
1 Народное выражение: бес, сатана.
2 Кладбище.
382
мать лучше поверила.) Рассказывал складно, словно по
книжке. И что от мужиков слышал, и что сам приду*
мал — все выложил. Туда, самое много, четыре дня, от-
туда, самое много, четыре дня.
— Ты, мама, не бойся.
— А если домой не вернешься?
— Вернусь.
— Смотри, сынок, заставишь меня по всем ночам не
спать, только и буду думать о тебе. Мужики большие —
и то не едут.
— Мужикам, мама, хуже. Билет им с пропуском
надо, а мы с Сережкой на глазах у всех скроемся. Все
равно, кроме меня, некому хлопотать. Куда Федьку
с Яшкой пошлешь? А я не испугаюсь.
— Ну, смотри, Миша. Христа ради, прошу, не за-
лезай на крышу. Помилуй бог, сорвешься ночным де-
лом — пропадешь. Лучше в ноги кому поклонись, чтобы
посадили в спокойное место. Что я буду делать, когда
одна останусь?
— Не бойся, мама, не упаду.
Осмотрел Мишка лапти, разбитые в пятках, нахму-
рился: «Худые, черти!»
Но тут же успокоился: «Теперь не холодно, босиком
можно».
Ножик складной отточил на кирпиче, шилом ды-
рочку просверлил в рукоятке, повесил на ременный по-
ясок, чтобы не потерялся. Отсыпал соли в тряпичку,
крепко затянул узелок, чтобы не рассыпалась. Свил ве-
ревочку кудельную про запас: мало ли что может слу-
читься в дороге! Отец покойный всегда так делал: едет
на базар, ось запасную берет, колесо, оглоблю. Колеса
Мишке не нужно, а веревочка пригодится.
Мать достала мешочек-пудовичок, наложила заплаты
с обеих сторон.
Одного-то хватит, Мишка?
— Давай два, из двух не вывалится. Може, разные
куски будут давать.
Поверила мать.
— И правда, Миша. Все бери, чего придется. Можа,
зерном маленько принесешь — посеем.
Сняла с себя в чулане рубаху мать, отрезала ста-
нину красную на мешок.
Бросил Яшка ружье деревянное делась, с удивле-
нием взглянул на брательника:
383
— Мишк!
- Ну?
— И Сережка едет с тобой?
Не ответил Мишка. Вышел на двор, огляделся.
Вот так голод!
Колесо валяется, дуга валяется, а лошади нет и ко-
ровы нет. Раньше куры клохтали, петух во все горло
кричал, теперь только столбы да крыша худая. Ну ни-
чего. Удастся в Ташкент хорошо съездить — дело попра-
вится. Самое главное — бояться не надо. Едут другие,
и Мишка попробует. Он только годами маленький, на
делах его большой не догонит.
3
Опять мужики на улице говорили про Ташкент* Кру-
жились в мыслях около невиданного, слушали про сады
виноградные, дразнили себя пшеницей двух сортов: по-
ливной и богарной Цены невысокие. Рай! А попасть
трудно: билет нужен, пропуск нужен:
Мишка не боялся.
Как в сказке, стоял перед ним Ташкент—город хлеб-
ный. Сады виноградные — во! Шутя можно урюку кар-
ман нарвать. Все равно, если ползком, никто не увидит.
Говорили мужики — воздух очень горячий там, за-
дохнуться можно, — и этого не боялся Мишка. Навер-
ное, речки есть, как у нас. А раз речки — можно ку-
паться.
Когда Сережка упомянул про киргизов, мимо кото-
рых придется ехать, Мищка и тут не сробел:
— Если киргизы —люди, чего их бояться?
— А можа, они не люди?
— Там увидим. Сейчас наскажут всякой всячины.
4
На полях стояла тишина. В голубом небе пели жа-
воронки. Ниже гудела проволока на телеграфных стол-
бах, уходящих вперед длинной вереницей. За столбами—
станция. На станции — чугунка. Мишка два раза видел
ее, когда с отцом в Самару ездил. Интересная! Ползет
1 Пшеница, посеянная на не орошаемых искусственно землях в
Средней Азии.
384
сажен на пятьдесят, из трубы — дым, как печка топится,
и гудок свистит.
Шел Мишка в отцовском пиджаке, подпоясанный
солдатским ремнем, широко размахивая палкой. За
плечами мешочек-пудовичок. В нем другой мешочек, сши-
тый из материной станины красной. В красном мешоч-
ке — кружка жестяная, тряпочка с солью, кусок тра-
вяного хлеба и старая бабушкина юбка, которую надо
продать городским.
Сережка шагал босиком с левой стороны. Большие
мужичьи лапти с длинными бабьими чулками висели че-
рез плечо. К лаптям привязаны два мешка, скатанные
трубкой.
Шли и уговаривались — друг друга не бросать. За-
хворает один — другой должен ухаживать. И кому по-
дадут вперед, чтобы пополам делить.
Когда показалась маленькая станция, Сережка ска-
зал:
— Гляди, Мишка, я дымок вижу. Это не наша чу-
гунка?
Мишка растопырил ладонь около глаз.
— Теперь вся чугунка наша. На которую поспеем
прежде, так и поедем.
— А много их?
— Штук двадцать.
— Ты передом пойдешь?
— Угу.
Сережка улыбался:
— Я все равно не боюсь. Сколько верст ушли, а ноги
не устали. Давай сажени мерить!
— У меня шаги шире твоих.
— Я тоже буду широко шагать.
Мишка советовал:
— Не надо торопиться — хуже устанешь.
На бугорке присели отдохнуть. Вытащили тряпички
с солью, расстелили на траве. Сережка сказал:
— У меня соли больше, чем у тебя.
— А хлеб у тебя есть?
— Положила мама четыре картошки.
— Картошкой не наешься, хлеба надо.
— Где я возьму?
Мишка нахмурился.
В мешке у него лежал кусок травяного хлеба. Хо-
рошо, если бы и у Сережки лежал кусок травяного
385
хлеба. Тогда у обоих поровну, а теперь невыгодно. Кус-
нут раза по три — останется половина.
— Почему ты хлеба не взял маленько?^
Сережка лежал на* животе, обсасывая травку. Глаза
у него стали скучными, верхняя губа плаксиво топыри-
лась. Поглядел он в ту сторону, где деревня осталась, —•
даже колокольни не видать. Поле кругом да столбы те-
леграфные. Если назад вернуться — до вечера не дой-
дешь.
Жалко стало товарища Мишке. Вспомнил уговор —
помогать друг другу, отломил кусочек хлебца:
— На! Придем на станцию — отдашь. Ты думаешь,
хлеба мне жалко?
Сережка молчал.
Съесть он мог больше фунта, а Мишка дал малень-
кую крошку. Не станут давать на станции — жди до
утра. Не станут утром давать — жди до вечера. Посмот-
рел еще раз в ту сторону, где деревня осталась, вздох-
нул.
— Ты что вздыхаешь?
— Это я нарошно.
— Испугался?
— Ну, испугался! Чего мне бояться?
— Теперь все равно домой не дойдешь до вечера.
Вечером волки нападут...
Оглянулся Сережка во все стороны, а Мишка рас-
сказами страшными мучает:
— Дойдешь до Ефимова оврага — там жулики по
ночам сидят. Недавно лошадь отняли у мужика и самого
чуть-чуть не убили.
Поднялся Сережка, сел — ноги калачиком, со стра-
хом поглядел на товарища.
— Ты сколько Дней можешь не емши протерпеть? —•
спросил Мишка.
— А ты?
— Три дня могу.
Сережка вздохнул:
— Я больше двух не вытерплю.
— А сколько без воды проживешь?
— День.
— Мало. Я день проживу да еще полдня.
Когда отошли от бугорка, Сережка сказал неожи-
данно:
— Я тоже проживу день да еще маленько.
386
5
Вот и чугунка невиданная. Стоят на колесах избы
целой улицей, из каждой избы народ глядит. Тесно в из-
бах, мужики с бабами на крышу лезут, друг друга под-
саживают, снизу подталкивают. Сверху вниз мешки ле-
тят, чайники, холщовые сумки. По крыше солдат
с ружьем ходит, громко на баб с мужиками покрики-
вает:
— Нельзя сюда!
Сгонит с одной крыши, они на другую забираются.
Опять сверху вниз мешки летят, опять солдат с ружьем
кричит:
— Нельзя сюда!
Мишка тоже на крышу забраться хотел, поближе
к народу, но раз нельзя — не полезет, надо правило
знать. Сережке совсем непонятно. Глядит во все глаза,
с места не оторвешь.
— Зачем их толкают оттуда?
— Нельзя тут—казенный. Видишь — солдат с ру-
жьем.
И мужику с двумя мешками совсем непонятно. Сдви-
нул шапку на затылок, крепко задумался: «Куда вско-
чить?»
На трех крышах был — везде нельзя. Бросился за
водокачку в дальний вагон, там, наверное, можно.
Мишка ударился за мужиком, Сережку торопит:
— Айда скорее, не отставай!
А Сережка понять ничего не может.
Направо — невиданные вещи, налево — невиданные
вещи. У них в селе на столбах по три проволоки — здесь
по восемь в два ряда. Шары стеклянные висят. На рож-
ках играют. Двое мужиков с фонарями прошли. Везде
железные полосы гайками привинчены. Споткнулся Се-
режка об одну полосу, а спереди прямо на него изба без
окошек двигается, колесами хрустит.
— Задавит, мальчишка, уйди!
Лезет мужик с двумя мешками на вагонную крышу,
и Мишка за ним, словно кошка, вверх.
— Ты куда?
— В Ташкент мы с Сережкой.
— Слезайте скорее, это не в Ташкент!
— А куда же, дяденька?
— В Сибирь, в Сибирь! Прыгай!
387
Стукнуло Мишкино сердце, волосы на голове так и
поднялись. Где Сибирь? Какая Сибирь? Сам на крыше
сидит, Сережка около колеса бегает.
— Лезь, Сережка, лезь!
Хотел ухватиться Сережка за приступок вагонный,
а вагон пошел.
— Батюшки!
Бежит Сережка вдоль колеса, не отстает. Дух за-
хватило, голова треплется, глаза помутились.
— Не догонишь!
Сильно разболелось Мишкино сердце, жалко това-
рища: пропадет. И домой идти забоится. Если на ходу
спрыгнуть—расшибешься. Очень шибко вагон пошел:
крыша покачивается, колеса постукивают.
Спутался ногами Сережка, полетел вниз головой.
— Пропал теперь!
Смотрит Мишка на станцию, на упавшего Сережку,
вспомнил уговор не бросать друг друга. Чего делать?
Придется ворочаться с другой станции. А вагон вдруг
тише пошел, остановился: наверно, забыл чего-нибудь.
Дернул раз вперед, попятился по другой дороге. Еще
дернул раз вперед, опять пошел по другой дороге. Раз
пять обернулся туда и сюда. Вылез в самое поле позади
станции — встал. Выпустила дух машина, в сторону по-
шла от него.
Мужик с двумя мешками ругается:
— Ах, нечистая сила! Я думал — настоящий он,
в Сибирь повезет...
Мишка рад до смерти.
Прибежал на станцию, а Сережки нет. Побежал на
то место, где Сережка упал, и места того нет. Вот будто
тут, и будто тут. Метался-метался, насилу разыскал то-
варища около стрелочниковой будки. Уткнулся Сережка
головой в колени, плачет.
Мишке это не понравилось.
— Зачем плачешь?
— Потерял ты меня.
— Держаться будем друг за дружку, расспросим хо-
рошенько дорогу, которая на Ташкент, зря больше не
сядем. Жди, пока я на станцию сбегаю, послушаю, что
мужики говорят. Никуда не ходи, на этом месте будь.
Нельзя перечить: Мишка — вожак’.
Прижался Сережка около будки и глаза закрыл.
«Эх, дурак! Зачем поехал?»
388
Есть хочется, плакать хочется. Забудет Мишка про
него, сядет один и уедет, а он и дороги не знает, как домой
дойти. Если бы и знал — нельзя: дойдешь до оврага —
там жулики. Мужиков больших убивают, мальчишку
маленького ничего не стоит, сразу — смерть.
А дома, наверное, думают: когда Сережка приедет?
Ходит мать по шабрам, рассказывает: «Сережка наш за
хлебом в Ташкент поехал». Бабушка, пожалуй, не дож-
дется— умрет. Хорошая бабушка. Сроду не била Се-
режку. И мать тоже хорошая. А речка какая! Все лето
можно купаться, если бы не голод.
Лезет вечер на станцию, одевает деревья черным
платком. Шары на столбах загорелись, в будке за стен-
кой кто-то постукивает: «Дррр! Дррр!»
А Мишка нейдет. Сядет один и уедет.
Опять за стенкой кто-то постукивает: «Дррр! Дррр!»
Хотел в окно поглядеть Сережка, а мимо будки —
чудовище с огненными глазами: пыхтит, гремит, фу-
кает. Сверху искры летят. Вдруг как фыркнет около са-
мой будки, сбоку дым пошел — прямо на Сережку. Бро-
сился Сережка от будки и сумочку с лаптями позабыл.
6
Мишка сразу два дела сделал: дорогу на Ташкент
узнал и корочку выпросил у товарища красноармейца.
Обо всем приходится самому думать. Хлеба нет, денег
нет, Сережка неопытный. Надо будет покормить его ма-
ленько, чтобы не обессилел. Сунул Мишка корочку в
карман — укусил два раза, подумал: «Дам ему чуть-
чуть, наплевать. После заплатит».
Хотел сейчас же к будке бежать, да попался на гла-
за ему аппарат телеграфный в окошке. Интересный!
Лента из него белая лезет, и человек пальцем постуки-
вает. Другой человек с трубкой около уха по проволоке
разговаривает. Загляделся Мишка и не помнит, как ко-
рочку в рот положил. Вспомнил про Сережку голодного,
совесть мучить начала: «Зачем съел?»
Прибежал на то место, где Сережка остался, а Се-
режки нет. Вот и будка эта самая с одним окошком...
или другая, похожая на эту. Что такое? Маленько запу-
тался. Повернул в другую сторону — на поле вышел.
Куча соломы белеет, месяц стоит над самым бугорком,
смотрит на Мишку. Людей не видно. Только молотком
389
стучат за станцией да плачет кто-то тихонько в канаве.
Подошел поближе, а в канаве баба с ребятами сидит.
В середине жарничок потухает. Волосы у бабы растре-
панные. Качает она головой, приговаривает:
— Милые мои детушки, куда мы с вами пойдем
теперь?
И Мишка подумал: «А я куда пойду?»
Вернулся на станцию, крикнул.
В поселке собака залаяла.
«Вот так штука! Где искать? И бросить нельзя: вме-
сте уговаривались, клятву дали. Дурак! Одному бы
ехать — лучше».
Сел на станции около дверей Мишка, задумался.
Посидел, посидел, глаза слипаться начали. Открыл, они
опять закрылись. Вспомнил про Сережку, вздохнул:
«Куда денется? Утром найдется».
Упала Мишкина голова на колени, тело кверху по-
плыло. Плывет, как на крыльях, все выше и выше под-
нимается.
Мать снизу кричит:
— Упадешь, Мишка, куда забрался?
А Яшка, брат, голубей стреляет из деревянного
ружья. Пукнет раз — голубь. Еще пукнет раз — еще го-
лубь. Штук десять напукал. Повесил на веревочку и да-
вай этими голубями Мишку по голове бить.
Рассердился Мишка, хотел было Яшку ударить,
а перед ним — солдат с ружьем!
— Нельзя здесь лежать!
Собачонка мимо прошла, обнюхала воздух. Погля-
дела в дверь, пошла на цыпочках дальше. Вышел мужик
без шапки:
— Ты чего, мальчишка, зябнешь?
— Спать, дяденька, больно хочется.
— Куда едешь?
— В Ташкент мы с Сережкой, а он потерялся.
— Иди в третий класс — уснешь.
Зашел Мишка в третий класс, а народу в третьем
классе—наступить негде, кучей так и лежат. Пар над
ними, словно в бане, а в пару этом слышно: плачут,
плюют, сморкаются. Старик ползет, будто рак — задом
наперед. Его ругают, а он ползет.
— Куда тебя черти несут?
Задел Мишка ногами за чью-то голову, напугался.
Поднялась голова, как крикнет:
390
— Чего ходишь тут?
— Сережку я ищу.
— Жулик, наверное, ты.
Кто-то еще закричал:
— Выгоньте его — украдет.
Поползал Мишка в одной стороне, а Сережки нет.
И в другой стороне — Сережки нет. Будто в воду канул!
Не искать нельзя: вместе уговаривались. Сунулся
Мишка в последний уголок, а Сережка съежился там, да
и спит.
— Эй ты, пропадущий!
Открыл глаза Сережка — не поймет. Будто Мишкин
голос, будто не Мишкин. Лицо будто Мишкино, а голова
будто не Мишкина. Опять Мишка за руку дернул:
— Проснись! Я, это, насилу разыскал. Ты зачем
убег с того места?
— Боязно там!
— Эх, боязно! Чай, не в лесу. И меня не послушал.
Хорошо, я не бросил искать. Остался бы один — не боль-
но гожа. Разве можно так делать? Дурак! Уговорились
вместе ехать, надо держаться.
Шмыгнул Сережка носом от обиды, глаза кулаком
потер.
— Ну ладно, не плачь, я не сержусь. Вперед только
так не делай. Ты маленько спал?
— Есть я хочу.
Мишка тоже есть хочет. Облизал губы языком, поду-
мал: «На моей шее будет сидеть».
Вслух сказал:
— Какой ты чудной, Сережка, терпеть не умеешь!
Где я возьму хлеба теперь? Приедем в Ташкент, на-
едимся. Мало будет тебе, свою долю отдам. Разве мне
жалко.
А у самого в мешке кусочек травяного хлеба из
дому: утаить хотел. Товарища жалко, и себя не хочется
обижать. Он ведь, Мишка, хлопочет везде, ему и пищи
больше надо.
Припомнил уговор — пополам делить, — рассердился.
Связал уговор по рукам и ногам — лучше бы не уго-
вариваться. Вытащил кусочек, нехотя отломил не-
много:
— На, после отдашь. Теперь на тебе два куска
моих. А где у тебя сумка с лаптями?
— На том месте осталась.
391
— Дурак! Во что теперь хлеб положишь?
Сережка отвернулся,
— Я не поеду в Ташкент.
— Зачем?
— Далеко больно.
— А домой как пойдешь?
— Дойду потихоньку.
— Иди, если не боишься. А таких товарищей я не
люблю, которые пятятся. То ехать, то не ехать...
Долго молчали.
Кто-то кричал во сне, окутанный паром:
— Пошел, пошел! Наш поезд пошел!
Рядом мужик поднялся с огромной всклокоченной
головой и тоже кому-то сказал:
— Все умрем! Ноги пухнуть начали у меня.
Представился Мишке Ташкент невиданный и два
мешка с кусками. В одном мешке — белый хлеб, а в
другом мешке — черный хлеб. В третьем мешочке —
пшеница, фунтов десять. Это на семена. А пшеница не
как наша. Крупная! Глядит Мишкина мать в два
мешка, от радости плачет:
— Ах, Миша, Миша! Какой ты хороший сынок, забо-
тишься об нас. Ляг маленько, усни... А вы, ребята, не
шумите.
Открыл Мишка глаза невидящие, опять закрыл.
Не знай, по крыше кто ходит, не знай, дождик шу-
мит. Ладно, наплевать, спать больно хочется. Утром
завтра можно узнать хорошенько. А вверху под самым
потолком дерево качается сучками вниз. Запрокинулась
назад Мишкина голова, а дерево яблоками увешано.
Большие яблоки, по два кулака. Упало одно прямо на
Мишкину голову, а Мишке повернуться даже лень, руку
за яблоком протянуть не хочется...
— Ладно, наплевать, спать больно хочется...
У Сережки во рту нехорошо.
Съел он кусочек, еще больше раздразнился. Выли-
зал десны языком, начал ногти грызть. Кишки так и во-
рочаются, инда саднит все брюхо. Увидал, спит Мишка,
стал Мишкину сумку ощупывать.
Нащупал кружку, подумал: «Хлеб!»
Обрадовался и напугался: «Эх, проснется Мишка!
Либо побьет, либо скажет: „Как тебе не стыдно? Взял
я тебя за хорошего, а ты жуликом заделался"».
Держит Сережка Мишкину кружку в мешке, думает:
392
«А если я не весь съем? Все равно грех. Чай, я не на-
рошно: есть хочется. Бери, если не боишься».
Запутались Сережкины мысли: и взять и не взять.
И есть ему хочется, и перед товарищем стыдно.
Подошел тяжелый сон, начал Сережкину голову
нагибать, Сережкино тело укачивать: «Спи!»
Долго боролся Сережка с тяжелым сном. Глаза от-
крывал, головой встряхивал, руками судорожно ощупы-
вал кружку в мешке.
Есть больно хочется...
Спи! Завтра наешься.
Но положил все-таки тяжелый сон Сережкину го-
лову около Мишкиных, ног, во рту стало тепло и по-
койно. Ласковый голос сказал: «Не надо воровать,
терпи маленько».
7
К утру подали поезд ташкентский.
Поднялись мужики с сундуками, поднялись бабы
с ребятами. Вскинулись мешки на плечи, загремели вед-
ра, чайники, самовары. Выгнулись спины мужицкие,
растрепались головы бабьи; мокро под рубашками.
Повалили...
— Стой!
— Чей мешок у тебя?
— Милиция!
Воет баба над пропавшим мешком, машет кулаками
мужик.
— Стой!
Оторвался с кожаной лямки сундук — грох!
Полетели два мужика через сундук — грох!
Повалили...
Не река сорвалась в половодье — народушко прет
со всех сторон, со всех концов. Из канав вылезли, из-за
стен выползли — босые, рваные, дождями промытые,
ветрами продутые.
— Не мешай!.
Захрупали крыши вагонные под сотнями ног. Заре-
вела темнота предутренняя сотнями голосов. Тяжело
дышат мужики, отдуваются. Руки дрожат, ноги дрожат,
глаза от страха выворачиваются.
— Не мещай!
393
Баб подсаживают, сундуки кидают, мешки кидают,
ребят на руки бабам кидают. Храпят, задыхаются.
— Не поспеешь!
— Товарищ, товарищ, это баба моя!
— К черту!
— Какое полное право?
— Гони!
— Ива-а-ан!
— Ах, сукины дети!
Тащит Мишка Сережку перепуганного, ныряет под
вагонами, стукается головой о колеса.
— Скорей!
А двери вагонные высоко. Мишка с Сережкой никак
не достанут до них* никак не залезут. И ухватиться не
за что.
— Дяденька, подсади!
У вагона вертятся мужики с бабами, топчут, мнут,
к дверям не подпускают.
— Лезь на крышу!
— Чайник где?
— Товарищи, чайник наш!
Раз! — по зубам.
Раз! — по зубам.
— Жулик!
— Бей до смерти!
Обежал Мишка вокруг поезда два раза — никто не
подсаживает. Что делать? А мужики верхом садятся на
буфера, и бабы верхом садятся. Девки лезут, ноги по-
мужичьи раскорячивают. Значит, можно тут. Вскочил
Мишка верхом на буфер, кричит:
— Лезь сюда!
А Сережка не влезет.
— Давай подсажу.
— Упаду я тут.
Здорово рассердился Мишка, даже зубы стиснул.
— Крепче держись!
Ухватился Сережка обеими руками за железную
шляпку, глаза ничего не видят.
— Раздавит меня тут.
А рядом за стенкой солдат мужиков ругает:
— Марш отсюда!
Задрожал Сережка — ни живой ни мертвый.
— Батюшки!
Мишка шепчет ему:
394
— Молчи, молчи, он не видит нас. Не кашляй!
— Руки не держатся.
— Брось говорить!
— /Мишенька, миленький, упаду.
Тут Мишка совсем рассердился.
Плюнул под буфер, сказал:
— Падай, я один поеду...
Замолчал Сережка, а солдат Сережкину голову
увидал.
— Кто тут?
Влопались.
— Слезай!
Ничего не поделаешь.
Или слезай, или говорить начинай. Мишка вступил
в переговоры.
— Это, товарищ красноармеец, мальчишка из нашей
деревни со мной едет.
— А ты кто?
— Лопатинский я, Бузулукского уезда. Еду за хле-
бом в Ташкент.
— Показывай документы!
— Пашпорт?
— Я тебе дам пашпорт!
А другой солдат кричит позади:
— Тащи к ортчеку!1
Екнуло Мишкино сердце: «Достукались!»
Сережка — ни живой ни мертвый.
Схватил солдат его за руку — инда в плече дернуло.
— Сопливые мальчишки! Транспорт только уничто-
жаете...
Вот тебе раз! Поехали за хлебом в Ташкент, попали
в ортчеку. А ортчека, не изначе, судить будет. Слыхал
Мишка такое слово от мужиков — не больно хвалили.
Если солдату сунуть маленько — денег нет. Плакать на-
рочно — не поверит. И поезд уйдет. Вертится Мишкина
голова с разными мыслями, — ничего не придумаешь.
Увидал — Сережка хнычет, на хитрость пустился.
— Чего же ты нюни распустил? Чай, нас не в тюрьму
повели. Разберут, откуда мы такие, — отпустят.
Потом солдату ласково сказал:
1 Особая районная транспортная чрезвычайная комиссия, орга-
низация, которая ведала охраной революционного порядка на
транспорте.
395
— С нашим братом нельзя иначе. Все мы лезем
куда не надо...
Молчит солдат.
— Товарищ красноармеец, нельзя ли нас двоих про*
пустить? Мы голодающие.
— Шагай, шагай, завтра поедешь.
Мишка подумал: «Как его обмануть?»
Схватил его за руку, шепчет:
— Товарищ красноармеец, мужик полез.
— Где?
— Вон там, за вагонами сел.
Глядит солдат, а на вагоне две бабы торчат, словно
на счастье.
— Стойте тут!
Мишка радостно подхватил:
— Стой, Сережка, стой! Подождем товарища крас-
ноармейца — некогда ему с нами возиться...
Побежал солдат баб прогонять, а народу кругом —
ни души. В самый раз. Поправил Мишка мешок на спи-
не, шепчет Сережке:
— Не кричи! Давай руку!
Сначала позади станции бежали, мимо коровьих хле-
вушек, в темноте натыкались на навозные кучи. Напу-
гали собаку сонную. Залаяла собака, напугала Сережку.
Выбежали около водокачки, нырнули под вагоны в са-
мый хвост. Посидели, дальше поползли. Обнюхал Миш-
ка руки себе, плюнул.
— Кто-то навалил тут, бесова морда! Ты не выпач-
кался?
— Выпачкался.
— Не хватай меня.
Выглянули наружу — ни одного человека не видно.
Что такое? Народ больно далеко шумит.
— Сережка, мы не здесь ползем.
Бросились в другую сторону — тут и паровоз под са-
мым носом.
— Вот он где!
А на паровоз мужики с бабами тихонько лезут. «Не
кричите!»
Подсадил Мишка товарища, в спину толкнул:
— Лезь!
— А ты?
— Лезь, не говори со мной.
396
Нельзя перечить: Мишка — вожак.
Залез Сережка — наступить не знает где. Дотро-
нулся до одного места — горячо.
— Мишка, тут печка!
— Молчи!
Вдруг как свистнет над самой головой, как дернет,
а внизу под ногами: ф-фу! ф-фу! — у Сережки и волосы
поднялись.
— Батюшки!
Сначала тихонько ехали, потом все шибче да шибче.
Ревет кто-то над самой головой, гремит, дергает, а искры
так и сыплются сверху. А ветер так и свищет в лицо,
голову треплет. Эх, если опрокинется машина, вдребезги
убьет, ни одного человека не останется.
Поглядел Сережка маленько вперед, в ужасе отшат-
нулся: навстречу — чудовище с огненными глазами, сей-
час расшибет!
А чудовище мимо машины — жж-ж!
Все-таки не расшибло.
8
Ехали долго.
И никак нельзя было понять: земля бежит или ма-
шина бежит. И куда бежит — никак понять нельзя: впе-
ред или назад. То будто вперед, то будто назад. Вся
земля вертится на одном месте, а машина со всем наро-
дом по воздуху несется. На мосточках через овраги
страшно гремело под колесами, и самые овраги на се-
кунду бросались в глаза черными разинутыми ртами.
Утром легче стало.
Развернулись поля, пробежали мимо будки, мужики
на лошадях, бабы, ребята, деревни.
Мишка, утомленный за ночь, крепко спал около паро-
возной трубы. Баба кормила ребенка грудью. Мужик
с расстегнутым воротом выбрасывал вшей из-под ру-
бахи. Другая баба кричала мужику:
— Не кидай на меня!
— Вошь я уронил!
- Где?
— Вот тут.
— Вшивый бес!
397
— Не ругайся, rt найду ее: она у меня меченая —
левое ухо разрезано, на лбу белое пятнышко...
На подъеме машина убавила ходу. Запыхтела, зафу-
кала, остановилась.
«Приехали!».— подумал Сережка.
А мужик сказал другому мужику:
— Паровоз не работает.
— Значит, не пойдет?
— Винты расстроились.
Вылез человек в черной засаленной рубашке, начал
стучать молотком по колесам. Вылез еще человек. Дер-
нула машина раза два, опять остановилась. Попрыгали
мужики из вагонов, бабы, и теплым ясным утром то-
ропливо, в полукруг, начали садиться «на двор» неда-
леко o'? чугунки.
Сережка подумал: «Видно, всем можно тут».
Ему тоже хотелось «на двор», но боялся прыгать,
чтобы не отстать, терпел свое горе сквозь слезы.
— Мишка, айда с тобой!
— Я не хочу.
— Я больно хочу...
— Прыгай скорее!
Только хотел Сережка спрыгнуть, а народ закричал:
— Садись, садись, пошла!
Фыркнула машина, заревел гудок — потащились.
Сережка заплакал:
— «На двор» я хочу!
— Погоди маленько, не надо.
Через минуту Сережка судорожно схватился за шта-
нишки.
— Не вытерплю я!
— Постой маленько, постой! Скоро на станцию
приедем.
Не хотелось Мишке конфузиться из-за товарища,
а глаза у Сережки испуганно выворотились, лицо по-
белело.
— Ты что?
— Ушло из меня.
— Молчи, не сказывай! Сядь вот тут!
Сел около бабы Сережка, а баба говорит:
— Где у нас пахнет как?
И мужик тоже оглядывается.
— Кто-то маленько напустил!
— Какое маленько — живым несет.
398
Легче стало в брюхе у Сережки, сидит — не шелох-
нется.
Мишка в бок толкает его:
— Молчи.
9
Когда въехали в вагонную гущу на станцию, быстро
замелькали головы, руки, ноги, лошади, телеги на ва-
гонных площадках. Остановилась машина далеко от
станции. Мужики с бабами тут же попрыгали, прыгнул
и Мишка с Сережкой. Мишка маленько прихрамывал
на левую ногу, а Сережка совсем разучился ходить по
земле. Голова кружилась, ноги спотыкались, и опять,
как на машине, плавали вагоны в глазах, перевертыва-
лось небо. Мишка тащил его за собой:
— Айда, айда!
— Куда?
— Нельзя здесь — увидят...
Ушли из опасного места, очутились на пустыре около
высокого забора. Поднял Сережка гайку в траве, очень
обрадовался. В голове мелькнула хозяйская мысль:
«Дома годится!» — но Мишка сказал:
— Ты чего в карман положил?
— Гайку.
— Брось!
— Зачем?
— Обыскивать будут...
Сережка нахмурился. Жалко гайку бросить, и на
Мишку сердце берет. Что за начальник такой — везде
суется! Взять да не слушаться никогда. Встали сразу
все Мишкины обиды перед Сережкой — даже в носу за-
щекотало. Стиснул гайку, думает: «Пусть ударит!»
Мишка еще больше рассердился:
— Брось!
— А тебе чего, жалко?
Мишке было не жалко. Просто досадно, что Сережка
поднял хорошую гайку, а он, Мишка, не поднял, потому
что все время о хлебе думал и глаза под ногами не
распускал.
— Мы как уговорились?
— Как?
— Все пополам делить.
— Это мы про хлеб говорили.
399
Лег Мишка на спину, долго смотрел па голубое куд-
рявое облако, плывущее по чужому далекому небу.
В кишках начало булавками покалывать, во рту появи-
лась слизь, вяжущая губы. Плюнул. Стиснул голову
обеими руками, стал обуваться в лапти. Обувался рас-
сеянно. Пересматривал оборины, худые пятки у лдптей,
неторопливо вытряхивал пыль из чулок. Украдкой взгля-
нул на Сережкин карман, где лежала соблазнительная
гайка. Почесал в голове. Кому не надо — счастье. Он вот
хлопочет, бегает, на вагоны подсаживает, а гайку нашел
другой. Ударил Мишка чулком по кирпичу, сказал:
— Ладно, держи свою гайку, мне не надо...
Губы у Сережки оттопырились, глаза заморгали.
Подпотела гайка в кулаке, словно приросла к шер-
шавой ладони. Драка будет, если начнет Мишка на-
сильно отнимать. Что за начальник такой — каждый раз
нельзя ничего сделать!
Мишка взглянул исподлобья:
— С такими товарищами только и ездить по разным
дорогам. Если хлеб мой жрать —ты первый, а за гайку
готов удавиться. Кто тебя вытащил из ортчеки? И опять
попадешь, если я не заступлюсь. И хлеба не дам больше,
и уеду один от тебя. Оставайся со своей гайкой.
Губы у Сережки вздрагивали, глаза от обиды тем-
нели. Слабо разжимался кулак на минуточку и снова
зажимался еще крепче. Не гайку жалко — досадно. За-
чем такой начальник Мишка? Зачем нельзя каждый раз
ничего сделать?
Пошли.
Хотел Сережка рядом идти, Мишка, отсунул:
— Иди вот там, не надо мне.
Шмыгнул Сережка носом, пошел позади. Поглядел
на гайку в кулаке, вытер о колено. Жалко! И не давать
нельзя. Завез Мишка на чужую сторону, возьмет да и
бросит на дороге около киргизов.
Взгрустнулось.
Лизнул гайку языком два раза, неожиданно сказал:
— Мишка, давай кому достанется!
— Не надо мне.
— Ты думаешь, жалко?
Мишка вздохнул облегченно:
— Сознался, чертенок! Все равно без меня никуда
не уедешь.
Решили трясти два жеребья в Мишкином картузе:
490
большую палочку и маленькую палочку. Сережка спо-
хватился:
— Обманешь ты меня, давай по-другому.
— Давай.
Поднял Мишка камешек, загадал:
— Я сожму два кулака. Возьмешь кулак с камеш-
ком— твоя гайка. Возьмешь кулак без камешка — моя
гайка.
Долго раздумывал Сережка, который взять. Щурил
глаза, отвертывался, даже помолился тихонько:
— Дай бог, мне досталась!
•_— Скорее бери!
— Левый.
Мишка причмокнул.
— Дурачок ты маленько приходишься! Я всегда
в правой держу.
Вытащил Сережка гайку проигранную, еще больше
захотелось есть. С ней сытнее было, а теперь все брюхо
опорожнилось и во рту нехорошо.
Мишка хвалился:
— Какой я счастливый! Приеду домой, чего-нибудь
сделаю из этой гайки или кузнецу продам за сто рублей.
Сережка настороженно поднял голову:
— Ну, за сто — много больно!
— А что? Она железная, куда хочешь годится.
— Сто не дадут.
— Давай спорить на два куска!
Грустно стало Сережке. Прошли шагов двадцать,
сказал он, чтобы утешиться:
— Продавай, я еще найду чугунную...
ю
За станцией дымились жарники. Пахло кипяченой
водой, луком, картошкой, жженым навозом.
Тут варили, тут и «на двор» ходили.
Голые бабы со спущенными на брюхо рубахами,
косматые и немытые, вытаскивали вшей из рубашеч-
ных рубцов. Давили ногтями, клали на горячие кирпичи,
смотрели, как дуются они, обожженные. Мужики в рас-
стегнутых штанах, наклонив головы над вывороченными
ширинками, часто плевали на грязные окровавленные
ногти.
14 Зак. № 426
401
Укрыться было негде.
Из-под вагонов гнали.
Около уборной с двумя сиденьями стояла огромная
очередь — больше, чем у кипятильника. Вся луговина за
станицей, все канавки с долинками залиты всплошную,
измазаны, загажены, и люди в этой грязи отупели,
завшивели.
Махнули рукой.
Приходили поезда, уходили.
Счастливые уезжали на буферах, на крышах.
Несчастливые бродили по станции целыми неделями,
метались в бреду по ночам. Матери выли над голодными
ребятами, голодные ребята грызли матерям тощие, без-
молочные груди.
Постояли Мишка с Сережкой около чужого жарника,
ц^чал Мишка золу разгребать тоненьким прутиком.
Баба косматая пронзительно закричала:
— Уходите к черту. Жулик на жулике шатается —
силушки нет.
Мужик в наглухо застегнутом полушубке покосился
на Мишку:
— Чего надо?
— Ничего не надо, своих ищем.
— Близко не подходи!
На вокзале, в углу под скамейкой, лежал мальчуган
с облезлой головой, громко выкрикивал в каменной сы-
рой тишине:
— Ой, алла! Ой, алла!
В другом углу, раскинув руки, валялся мужик вверх
лицом с рыжей нечесаной бородой. В бороде на грязных
волосках ползали крупные серые вши, будто муравьи в
муравейнике. Глаза у мужика то открывались, то опять
закрывались. Дергалась нога в распущенной портянке,
другая торчала неподвижно. На усах около мокрых
ноздрей сидела большая зеленая муха с сизой го-
ловой.
Сережка спросил:
— Зачем он лежит?
Мишка не ответил.
Кусочек выпачканного хлеба около мужика прико-
вал к себе неотразимой силой. Понял Мишка, что мужик
умирает, подумал: «Хорошо, если бы этот кусочек ста-
щить! Народу нет, никто не видит. Татарчонок вниз ли-
цом лежит. И увидит — не догонит. Себе можно, по-
402
больше, Сережке поменьше, потому что он и сам по-
меньше».
Прошелся Мишка от стены к стене, мельком в окно
заглянул. Ноги вдруг ослабели от сладкого ощущения
первого воровства, лицо и уши стали горячими. Ощупал
Сережку невидящими глазами, торопливо шепнул:
— Погляди вон там!
- Где?
— Там, за дверью.
Раз, два — готово!
Сережка из дверей спросил:
— Мишка, чего глядеть-то?
— Не гляди больше, не надо...
По платформе побежали мужики за начальником
станции, Христом-богом просили пустить их вперед.
— Товарищ начальник, сделайте для нас такое ува-
женье настолько!
— Ждите, ждите, товарищи, не могу!
Побежал и Мишка вместе с мужиками.
Остановились мужики, и Мишка остановился, держа
за руку непонимающего Сережку.
Мужики сняли шапки, снял и Мишка старый отцов-
ский картуз. Дернул Сережку:
— Сними!
Не выгорело дело, мужики начали ругаться. Мишка
тоже сказал, как большой:
-т- Взятки ждут...
После барыню увидели — голова с разными гребен-
ками.
Такие попадались в Самаре, отец покойный называл
финтиклюшками. Стояла барыня на крылечке в зеленом
вагоне, на пальцах — два кольца золотых. В одном ухе
сережка блестит, и зубы не как у нас: тоже золотые.
Рядом ребятишки смотрят ей в рот. Бросит мосолок
барыня — ребятишки в драку. Упадут всей кучей и во-
зятся, как лягушки склещенные. Потом опять выстроятся
в ряд. Перекидала мосолки барыня, бросила хлебную
корочку.
Так и пришибла Мишку этакая досада: «Хлеб кидает,
дура!»
Поправил мешок, пошли в наступление с Сережкой.
— Ты лови, и я буду ловить.
Росту Мишка невысокого, но здорово укряжистый.
Весь в дядю Никанора, который на кулачки дрался
403
лучше всех. Ударит, бывало, по уху — сразу музыка
в голове.
Увидала барыня мальчишку в широких лаптях,
нарочно кинула кусочек побольше. Инда ноздри разду-
лись у Мишки. Двинул правым плечом — за раз двоих
опрокинул, на третьего верхом сел. Придавил головой
к земле, уцепился за шею, словно клещами.
Маленький расплющенный кусочек, вымазанный
пылью, достался ему.
Не успел отдышаться, барыня еще кусочек кинула.
Так и подбросило Мишку невидимой силой.
— Сережка, хватай!
Но тут кривоногий мальчишка с большим брюхом
ухитрился лучше всех. Сбил Сережку под ногу — прямо
носом в землю. Вскочил Сережка, не видит ничего.
Взмахнул обеими руками ударить — мимо. А кривоногий
девчонку отшвырнул в длинной рубахе, хорьком ощети-
нился на подскочившего Мишку. Двое других закри-
чали:
— Дай ему, Ванька!
Поправил Мишка мешок за плечами, приподнял ко-
зырек, упавший на глаза.
— Дай!
— А, чай, боюсь тебя?
— Давай, давай, попробуй.
Тут барыня опять кусочек кинула.
И в это же время из окошка вагонного кто-то бу-
мажку выкинул, свернутую пакетом.
Эх, черт возьми!
Так бы и разорвался Мишка на две половинки, да
никак этого сделать нельзя. Бросился за бумажкой.
— Чего-нибудь есть в ней!
Развернул дрожащими пальцами, а в бумажке —
окурки папиросные.
— Тьфу, ведьмы, чтобы чирей сел!
Игра продолжалась долго.
То Мишка сшибал сразу двоих, то Мишку сшибали
сразу двое.
Нахватал он больше всех, и стало ему не страшно.
Можа, еще найдется финтиклюшка. Пусть кидает,
если не жалко. Только бы до Ташкента доехать, да
зерна привезти на посев фунтов пятнадцать, да хлеба
кусками побольше.
Строгие хозяйские мысли укладывались складно, ра-
404
довали сердце, а свой посев на будущую весну обвола-
кивал Мишкины мысли ласковым, играющим теплом.
Тощее, голодное тело ныло сладкой мужицкой истомой.
Сережка ничего не нахватал.
Схватил одну корочку, да и ту вырвал Ванька кри-
воногий с большим брюхом и щеку оцарапал ему боль-
шими собачьими ногтями.
Сели за станцией.
Пересчитал Мишка собранные корочки, сказал:
— Пять! Три мне, две тебе.
Проглотил Сережка корочки, во рту еще хуже стало,
— Мишка, дай маленько, я не наелся.
— Будет пока. Напьемся воды, ляжем спать.
— Вон эту крйшечку дай.
— Которую?
— Вон на коленке у тебя.
Мишка тоже не наелся. Пощупал кусок, украденный
у мужика, и губы выпятил.
— Все дай да дай! А ты когда будешь давать?
— Я тебе гайку дал.
— Она мне досталась.
Сережка примолк.
Вытащил Мишка из кармана выигранную гайку,
бросил под ноги:
— Ешь ее, если не хочешь дружиться.
Оба долго молчали.
— Сколько кусков за тобой?
— Три.
— Как бы не так!
— А сколько же?
— Пересчитай — узнаешь. На дороге отдыхали, я да-
вал тебе —раз. На той станции, где садились — два. Сей-
час две корки отдал — стало четыре. Я не такой, как ты,
лишнего не насчитаю.
Сережка заплакал:
— В кишках у меня мутит.
и
Ночью выпал дождь.
Завозился пустырь с мужиками да бабами, заши-
пели угли в жаровнях, расплескалась сердитая ругань.
Кто-то кричал в темноте:
405
— Бери чапан! 1
— Где чапан?
Целым стадом потащились на станцию, побежали
под вагоны. Только баба, оставленная на пустыре, сер-
дито ругалась:
— Миколай, да куда тебя черти утащили!
Долго шлепали А1ишка с Сережкой по лужам, спо-
тыкались в ямках. Опоздали на вокзал, сесть было
негде. Прижались к стене в коридоре, опустились на кор-
точки. У Сережки живот разболелся.
— Мишка, я «на двор» хочу.
- — Опять «на двор»! Беги скорее за стенку!
— Айда с тобой.
Плюнул Мишка от стыда, рассердился:
— Какой ты чудной, Сережка! Сам хочешь и меня
зовешь. Чай, не волки здесь — ноги не откусят.
Раз десять сбегал Сережка, жилился, плакал и снова
говорил упавшим, встревоженным голосом:
— Миша, тянет из меня...
— А ты не жилься!
— Не жилюсь я — течет...
— Глотай слюну в себя!
— Кишки выворачивает.
Мишке надоело возиться, лениво сказал:
— Пройдет, только не думай об этом. Это понос
у тебя от плохой воды.
Сережка не думал.
Вздрагивал, прижимался к товарищу, чтобы со-
греться маленько, закрывал глаза.
— Холодно мне!
В тусклом свете фонарей летели крупные дождевые
капли, дымились в лужах, барабанили по вокзаль-
ной крыше. Побежал человек в кожаном картузе,
стукнул каблуками в коридоре, наступил Сережке на
ногу.
Сережка заплакал.
Мишка, нахлобучив до ушей старый отцовский кар-
туз, смотрел утомленно.
— Зачем ты стонешь, Сережка?
— Холодно мне... Голова горит...
Вот не было горя. Протискался Мишка в народ,
закричал:
1 Верхняя одежда.
406
— Товарищи, дайте погреться мальчишке хворому!
Никто не ответил.
Тогда Мишка пустился на хитрость, взял Сережку
за руку, еще громче крикнул:
— Пустите!
— Кто тут?
— К маме мы идем.
Протискались в угол на бабий мешок, баба закри-
чала:
— Куда забрались? Ждала я вас?
Хитрить так хитрить, без хитрости не обойдешься.
Никогда не было у Мишки такого голоса — очень
уж ласковый.
— Ты, тетенька, бузулуцкая?
— Слезь с мешка!
— Мы не тронем.
Мужик рядом сказал, не поднимая головы:
— Дерни за волосы, и будет знать.
— Мать мы потеряли, а отец от голоду помер.
Опять мужик рядом сказал, не поднимая головы:
— Я тоже сирота — без отца еду.
Согрелся Мишка около мешков, чуть-чуть задремал.
Только хотел совсем забыться, Сережка как закричит
без памяти:
— Киргиз!
Заплакал ребенок у бабы. Баба сердито сказала:
— Не кричи: ребенка у меня напугаешь...
А Сережка опять закричал:
— Горит!
Опамятовался, «на двор» запросился. Потом тихонько
заскулил, падая головой на колени.
Мишка в отчаянии закрыл глаза.
Думал он о Ташкенте невиданном, в голове неот-
вязно кружилась пшеница, фунтов пятнадцать, и ку-
сков два мешка. Мысленно висел на буферах, забирался
на вагонную крышу, прятался на паровозах, и ни один
солдат, ни один начальник не могли поймать его. Они —
на крышу, он — с крыши. Они — на паровоз, он — с па-
ровоза; Так везде и говорили про него:
— Вот разбойник появился!
— Кто?
— Да мальчишка бузулуцкий из Лопатинской воло-
сти. Без билета едет и без пропуска. Никак не пой-
маешь в ортчеку...
407
А рядом Сережка вздрагивал, скулил по-щенячьи
е бреду.
Смотрел Мишка на него хмурыми, недобрыми гла-
зами, думал: «Зачем я связался с таким? Лучше, если
бы не связываться, а теперь нельзя, уговор. Одного бро-
сить— пропадет. Возиться с ним — в Ташкент долго не
попадешь. Эх дурак! Тошно было одному ехать. Набрал
бы шесть кусков, и ешь все шесть один».
Душно стало от тяжелых навалившихся дум, голову
колесом распирало. Протискался из вокзала Мишка,
вышел на платформу.
Под вагонами увидел Ваньку с кривыми ногами,
у которого корочки отнимал, и другого мальчишку —
Петькой звать. Сидели они около колеса на сухом ме-
стечке— не то спали, не то думали.
Узнал и Ванька недавнего соперника, миролюбиво
сказал:
— Лезь к нам!
— А чего у вас?
— Погреешься маленько.
- Присел Мишка около колеса, рассказал про Се-
режку, про Сережкин понос и как они уговаривались
не бросать друг друга. Сам Сережка плохой, хлопотать
не умеет, и Мишке приходится одному добывать за
двоих. Давеча он пять кусков нахватал, а если бы захо-
тел, все отнял.
Ванька взглянул исподлобья:
— На силу надеешься?
— А чего мне надеяться? Накорми меня досыта,
я сразу на двоих пойду.
— Эка чем хвалится! Накорми меня, я тоже пойду!
Петька спросил, разглядывая Мишку вспыхнувшими
глазами:
— На Яшку нашего пойдешь?
— Который ему год?
— Тринадцатый.
— Какой человек. Можно и на большого пойти.
Досадно стало Петьке: один двоих не боится.
Сунул он локтем невзначай — прямо Мишке в щеку.
Мишка поправил мешок.
— Ты чего дерешься?
— А ты?
— Смотри, дюдюкну раз — опрокинешься.
Ванька ногой отшвырнул его.
408
— Не лезь!
Петька кулаки приготовил.
— Дай ему, Ванька, за давешние кусочки.
Сцепились три р§пья под вагоном, долго мяли друг
друга в тяжелой загоревшейся злобе. Ногти больно
у Ваньки нехорошие — весь нос исцарапал Мишке! Ну и
Мишка тоже здорово голову прищемил ему, как мышь
запищал...
12
В полдень поезд пришел не мужицкий, с хорошими
вагонами.
Мужики не попали.
Вытряхнули Ваньку с Петькой, увели трех девок
в ортчеку.
— Безбилетные!
Мишке посчастливилось.
Вертелся-вертелся он около паровоза с красными вы-
сокими колесами, забрался на ступеньку. Наверно бы
уехал, да мысли разные в голове закружились: «Бросил,
бросил, товарища бросил. Больного товарища».
Повернулись колеса у паровоза, мысли в голове еще
больше закружились: «Бросил, бросил!»
Спрыгнул со ступеньки Мишка, чуть не заплакал от
обиды: «Зачем я связался с ним?»
Ушел паровоз на красных колесах, осталась тоска
по нему.
Лежал Сережка на солнышке за вокзальной будкой,
тупо облизывал губы воспаленным языком. Лицо осуну-
лось у него, нос заострился. Сел Мишка около товарища,
головой покачал. Вытащил тряпичку из мешка, соли
щепотку положил на язык. Поморщился, выплюнул.
Молча пошел вдоль вагонов. Снял картуз, постоял под
окошком около вагона, двинулся дальше. Подобрав ко-
журу картофельную, выброшенную в грязь, тяжело за-
двигал голодными челюстями.
Густо щами бараньими запахло из другого вагона.
Опять снял Мишка старый отцовский картуз.
— Тетенька, дай хворому мальчишке маленько.
— Кому?
— Хворому.
— Иди, пока я тебе в глаза не плеснула. Доняли
каждую минуту, черти!
409
Охнул Мишка, ничего не сказал. Прошел самый по-
следний вагон, сел на тонкую светлую рельсу.
Отец покойный всегда говорил: «С нашего брата —
давай, нашему брату — нет».
Стиснул Мишка голову обеими руками, окаменел:
«Умирай наш брат: никому не жалко».
Тут и попалась ему городская, в беленьком пла-
точке,— сестра милосердия. В руке целый кусок черного
хлеба. Или сама догадалась, что у Мишки большое горе,
или глаза Мишкины выдали это горе.
— Куда едешь, мальчик?
Так и обдал Мишку ласковый голос, словно из кув-
шина теплой водой. Посмотрел в лицо — не смеется, гла-
зами жалостливая. Недолго думал Мишка: выложил все,
как на исповеди. С товарищем они уговорились в Таш-
кент ехать вместе, дорогой не бросать друг друга. А то-
варищ захворал маленько, и хлеба никто не дает им.
Ему бы, Мишке, дальше ехать скорее — товарища бро-
сить нельзя: пропадет, если один останется, — больно
неопытный. Сроду не был нигде, паровозов боится.
— Чем он захворал?
-— Понос с ним от плохой воды, вроде лихорадки.
— Покажи мне его.
Пришли за будку, где Сережка валялся. Мишка
сказал:
— Вот, гляди!
Поглядела городская Сережкино брюхо, говорит;
— Не лихорадка с ним — тиф, и он, наверно, не вы-
держит у тебя.
— Куда же его теперь?
Подумала городская, сказала:
— Полон вагон больных у нас, а все-таки и его при-
дется положить. Доедем до другой станции, в больницу
положим. Согласен?
Не тому Мишка рад, что в больницу Сережку поло-
жат. Нет, и этому рад. А еще больше вот чему рад: есть
на свете хорошие люди, только сразу не нападешь.
И сердцу веселее, и голоду меньше в кишках. Отломила
городская хлеба кусочек, Мишка чуть не заплакал от
радости:
— Благодарим покорно, тетенька!
Сам думает: «Эх, кабы и меня посадила!»
А городская — колдунья, что ли? Сразу угадала
Мишкины мысли:
410
Куда пойдешь теперь?
Поглядел Мишка в глаза жалостливые, сознался:
— Тетенька, посади в уголок, я никому не скажу*
Есть на свете хорошие люди!
И сердцу веселее, и голоду меньше в кишках.
Сидит Мишка в санитарном вагоне — и не верится!
сон такой видит или наяву происходит?
Стучит вагон, покачивается. Стучат колеса, наигры-
вают, а Мишка в уголке улыбается сквозь голубую
дрему, путающую мысли: «Где теперь Ванька кривоно-
гий? А где жарники?»
Потухли сразу все жарники, только колеса внизу
выговаривают: «Ту-ту-ту! Ту-ту-ту!»
Потом и колеса перестали выговаривать.
Сон.
13
Больница Мишке понравилась: крашеная, и окошек
много. Полежит Сережка в ней, поправится. Лекарства
пустят ему, порошков дадут — живой рукой поднимется-
А поедет Мишка назад из Ташкента — и его захватит.
Будет удача большая — и хлебом поделится, чтобы не
завидно было. Всякий может захворать, он не виноват.
Носилки с Сережкой поставили на крыльцо. Ушли
носильщики, долго никто не выходил. Крикнула ворона
в деревьях.
Не к добру орет, кабы не случилось чего.
Опамятовался Сережка, заплакал:
— Куда меня хотят?
— Больница здесь, не бойся.
— А ты где?
— Здесь, с тобой.
Сел Мишка на крылечко около носилок, начал рас-
сказывать. Женщина больно хорошая попалась, жалеет
обоих, хлеба давала. Я, говорит, Сережку обязательно
вылечу. У меня, говорит, лекарство такое есть. А один
Мишка все равно не поедет, будет по базару ходить.
Базар есть за станцией, как в Бузулуке, и купить можно
чего хочешь. Пусть только Сережка не сердится, что они
ругались, — без этого не обойдешься в дороге.
Вспомнил про гайку выигранную:
— Ты думаешь, я взаправду гайку взял? На кой она
мне, чужая! Я нарочно дразнил!..
411
Вытащил гайку из теплого глубокого кармана, поло-
жил Сережке на руку:
— На, спрячь ее.
А когда отворились больничные двери и вошел в них
Сережка на веки вечные, Мишка почувствовал нестер-
пимую боль и горькое свое одиночество. Встал у стола,
где записывала женщина в белом халате, утомленно
рассказывал:
— Крестьяне мы Лопатииской области, Михайла
Додонов я, а он — Сергей Иваныч.
— Фамилия как?
Тут и забыл Мишка Сережкину фамилию. Сейчас
в голове вертелась! Хотел уличную сказать, женщина
настоящую требует.
— Пишите прямо на меня: Михайла Додонов, Лопа-
тинской волости.
— Грамотный?
— А как же!
— Распишись.
Налег Мишка грудью на стол и губы оттопырил
с натуги.
Давно не писал: рука не берет.
Расписался, и сразу скучно стало.
Вышел из больницы, а гайка на крыльце валяется.
— Эх, позабыл Сережка.
Заглянул в окно — никого не видать. Полез в дру-
гое окно — кто-то пальцем погрозил оттуда. Повертелся
щенком беспризорным вокруг больницы Мишка, опять
у крыльца остановился.
— Как бы гайку передать?
Вынесли человека на носилках. Думал — Сережка
это, а на носилках — баба мертвая, и ноги у бабы голые.
Грустно стало — силы нет. Есть хочется, и товарища
жалко: «Гайку-то позабыл зачем?»
14
Целый день шатался Мишка по базару между про-
давцами, слушал, сколько просят за юбки, сколько за
кофты, почем стоит хлеб, если на деньги купить. Уж и
сам хотел вытащить из мешка бабушкину юбку, мужики
кругом разговаривают:
— Киргизы за Оренбургом дорого берут разные
вещи. Туда надо везти.
412
Мишка подумал: «Потерплю еще маленько».
Попробовал милостыньку просить, но бабы здесь че-
ресчур сердитые.
Скажешь им:
— Тетенька! — Они не глядят.
Донимать начнешь:
— Христа ради! — Они замахиваются.
А одна хотела по голове ударить Мишку. Узнала,
видно, что кусок он украл у мужика, на весь базар за-
кричала:
— Ты смотри у меня, воришка окаянный! Давно
я заприметила — кружишься тут.
Нахлобучил Мишка старый отцовский картуз — ушел
от скандала. Донесут в ортчеку — и просидишь недели
две, не много станут разговаривать с нашим братом.
Потребуют паспорт — нет. Пропуск потребуют, и про-
пуска нет. Лучше подальше от этого...
Вспомнил про Сережку только к вечеру. Будто
кольнул кто в самое сердце: «Что не сходишь? Обе-
щался?»
Хотел сбегать, мужики напугали:
— Поезд готовится на Ташкент. Скоро пойдет.
Сразу раскололась Мишкина голова на две поло-
винки. Одна половинка велит к Сережке сбегать, другая
половинка пугает: «Не бегай, опоздаешь».
А первая половинка опять в уши шепчет: «Как не
стыдно тебе товарища бросать на чужой стороне? Сам
уговаривался, и сам не хочешь. Долго ли добежать!
Простишься в последний раз и поедешь. И ему легче
будет, когда узнает: ждать не станет...»
Другая половинка успокаивает: «Ты не в этот раз
уговорился. Проходишь зря — на поезд не попадешь...
Останешься сидеть день да ночь, а в это время сто верст
уедешь. Если бы нарочно не жалко тебе... Ты не на-
рочно...»
Долго мучился Мишка.
Вышел на станцию. Раз на больницу посмотрит, раз
на вагоны: двигаются или нет?
Пересилила Мишкина совесть Мишкину нерешитель-
ность— толкнула вперед. Добежал он что есть духу до
больничного крыльца, остановился как вкопанный.
В трех окошках-совсем темно, в одном — огонек горит.
Торкнулся в дверь — заперто. Полез головой в окно, где
огонек горит, кто-то за рубашку дернул:
413
— лезешь? Окошко хочешь разбить?
Обернулся Мишка — мужик перед ним с метлой в
руке.
— Сережку я гляжу.
— Какого Сережку?
— Наш, лопатинский.
— Никакого Сережки здесь нет, уходи!
Вот тебе раз! Нынче положили, и нынче же нет!
А тут паровоз на станции свистнул. «Поезд!»
Бросился от больницы Мишка, земли не чует под
ногами. Прибежал на станцию — не поймет ничего. Туда
бегут, сюда бегут, которые чай хлебают. Спросил му-
жика, мужик и руками развел:
— Я, браток, ничего не знаю, сам четвертый день
сижу... Ты куда едешь?
— В Ташкент мне надо.
— В Ташкент давно ушел.
— Ушел?
— Не иначе — ушел.
Так и прострелило Мишку в руки-ноги.
Бросился в другую сторону, на бабу в темноте на-
скочил— кипяток в ведре несла она... Закачалось ведро,
кипятком ей пальцы обожгло. Бросила баба ведро под
ноги и давай кричать:
— Держите его!
Не олень бежит, рогами кусты раздвигает — Мишка
скачет с мешком за плечами. Сзади шум поднялся, по
ушам хлещет:
— Украл, украл, держи!
Пересекли мужики дорогу Мишке:
— Ах ты сукин сын!
— Не нужно, не бейте!
— Позовите милицию!
— Вот, товарищ милицейский, этот самый...
— Мешок украл у женщины.
— Разойдитесь!
Или земля вертится колесом, или люди прыгают друг
через друга.
Нет.
Не земля вертится, и не люди прыгают: в глазах
у Мишки помутилось, голова Мишкина вертится во все
стороны. Стоит он в страшном кругу, и язык не может
слова выговорить. Хочет сказать, а язык не выговари-
вает. Упала слеза на Мишкину щеку, — кто увидит слезу
414
в такой суматохе? Мишкин мешок на глазах у всех.
Мишкино горе разжигает мужиков, отупевших от дол-
гого сидения на станциях.
— Бить надо таких щенков!
Ухватил за руку милицейский:
— Идем!
«Пропал, — только это и подумал Мишка, — замо-
тают теперь».
15
Идет он на страшный суд—все поджилочки пры-
гают. Вспомнил отца покойного, дядю Никанора, кото-
рый лучше всех на кулачки дрался, — вскипело сердце
обидой великой на Сережку: «Из-за него приходится
терпеть».
А в ортчека и не страшно даже — как в исполкоме
у них.
Стол большой, за столом самый главный в кожаном
пиджаке. Сбоку револьвер прицепленный, на фуражке
звезда большевистская. Чешет самый главный усы
одним пальцем, смотрит на Мишку прищуренными гла-
зами.
— В чем дело?
— Мальчишку поймали, товарищ Дунаев, — объяс-
няет милицейский.
— Безбилетный?
— А шут его знает! Мешок, что ли, утащил.
— Иди ко мне ближе.
Здорово оробел Мишка —руки по швам опустил.
Левая вздрагивает от испуга, и ноги чуть-чуть в коленях
трясутся. Потолок над головой будто книзу опускается,
и вся ортчека на волнах покачивается.
А товарищ Дунаев нарочно молчит, не торопится.
Только глазами прищуренными — ширк по бумаге! и
опять — ширк на Мишку!
— Как зовут?
А у Мишки каждый волосок на голове поднимается,
и в носу делается жарко: шмыгать не успевает им.
— Который год?
— Одиннадцать — двенадцатый.
— Молодец! Табак куришь?
— Никак нет.
— Не скрывай, Михайла Додонов, нам все известно..<
415
Увидал улыбку Мишка на губах у главного, подумал:
«Врет ои, ничего не знает, если смеется..,»
А главный опять улыбается:
— Зачем мешок украл?
Отлегло на сердце у Мишки, снова подумал: «Давай
я обману маленько, можа, поверит».
Начал рассказывать: давно они собирались в Таш-
кент с отцом, купили билет, пропуск, а отец дорогой
помер. Надо бы взять у него билет с пропуском,
а Мишка не догадался, две станции без билета проехал.
Тут еще мальчишка навязался к нему из их деревни:
возьми да возьми — один боится ехать. И тоже захворал.
Кого хочешь спроси — в больнице он лежит. Побежал
Мишка повидаться с ним, а в это время свисток на чу-
гунке подали. Ну, Мишка напугался, бежал-бежал, на
бабу наткнулся. Не видать ничего. Задел ногой за
ведро — баба кричать начала. Услыхали мужики, поду-
мали — жулик он. А это его мешок, собственный. В этом
мешке еще мешок, а в том мешке кружка завернута,
соли на дорогу щепотки две и бабушкина юбка. Он
никогда не воровал.
Развязали мешок — верно: кружка, соль и юбка.
Поглядел товарищ Дунаев на Мишку, опять усы по-
чесал одним пальцем.
— А ты знаешь, без билета не полагается ездить
по железным дорогам?
— Конечно, знаю, куда же деваться? Голодно
больно...
— Ав Ташкенте чего думаешь делать?
— Поработаю маленько.
— Чего умеешь работать?
— Чего придется. Можа, навоз кому почистить или
за плугом ходить...
Покрутил головой Дунаев, самый главный, улы-
бается:
— Вот что, Михаил Додонов: мальчишка ты ловкий.
По-правильному я должен наказать тебя за это, чтобы
ты еще ловчее был. Завтра будешь дрова таскать вместе
с бабами безбилетными. Поработаешь — дальше по-
едешь. А бесплатно у нас не полагается ездить. Понял?
Мишка ждал хуже.
Вышел из ортчека с милицейским, сказал облегченно:
— Работы я не боюсь. Чего хочешь заставь — сде-
лаю...
416
16
Длинный день! Тянется, и конца ему нет. Сначала
солнышко на гору все поднималось, потом все под гору
спускалось, а до вечера далеко. И дров казенных целые
горы — когда перетаскаешь по одному полену? Напру-
жинивал Мишка крепкую мужицкую спину — сразу по
три тащил. Выворачивались глаза от натуги, вздраги-
вали, мотались короткие ноги в широких лаптях. Думал,
похвалит кто за усердную работу, а бабы ругаются:
— Ты, мальчишка, не больно надсаживайся: здесь—•
не дома.
— А что?
— Силу береги.
Первой свалилась кудрявская девка с голыми оца-
рапанными ногами. Голова закружилась, и во рту за-
тошнило у нее. Поглядела она вокруг помутившимися
глазами, белая сделалась вся. Схватила себя за голые
оцарапанные ноги — не поймет ничего. Будто бабы и
будто не бабы около нее. Ткнулась носом в землю и да-
вай палец сосать.
— Что, Настенька, смерть твоя?
— Силушки нет.
Положила смерть Настёнкину голову на березовое
полено и ноги согнула ей около самого подбородка. По-
кормить бы умирающую в складчину — легче будет! —
хлеба негде взять. Своим поделиться — жалко: и себя
обидишь, и ее не накормишь.
— Ладно, жизнь такая.
Встревожились бабы и снова умолкли.
Каждой думалось о себе: «Доеду ли?»
Стояли полукругом нахохленные, злые, голодные,
а Настёнка в этом полукруге лежала покорная, тихая,
с голыми оцарапанными ногами. Когда вечером повели
на станцию ее, Мишка позади шел тяжелой походкой.
Низко сидел старый отцовский картуз, закрывая глаза
козырьком, болели надерганные руки.
Теперь он — не маленький, видит, какие дела. При-
дется и ему захворать нечаянно — кто поможет? Надо
будет самому держаться, что-нибудь выдумать. Иначе —
смерть.
Но как ни думал Мишка — выходило плохо.
Пробовал он по вагонам пройти — не дают.
Такими глазами смотрят, словно заразный он.
417
Таким голосом гонят, будто всю жизнь ненавидели
Мишку.
Кто-то даже из горшка плеснул прямо на голову.
Здорово рассердился Мишка:
— Ишь, буржуи, .черти! Красных на вас пустить
хорошенько...
Отошел немного, опять вернулся.
; «Можа, корочку выкинули вместе с водой».
Присел на корточки в темноте, начал пальцами ша-
рить под ногами. Нащупал чего-то, а это — камешек.
Нащупал еще чего-то, а это —дерьмо ребячье. Вытер
Мишка пальцы о коленку и глаза закрыл от обиды:
«Как смеются над нашим братом!»
Подумал, подумал, опять шарить начал. Нащупал
рыбью косточку, губами обдул, о рубашку потер: «Кабы
не захворать с нее: под ногами валялась...»
А рот уже сам разевался, и щеки голодные двига-
лись от нетерпенья.
«Ешь, с рыбы не захвораешь».
Захрустела косточка на зубах, потекли по губам го-
лодные слюни. «Ладно. Куда же деваться?»
17
На вокзале Настёнка лежала под лавкой.
И мужик вот так валялся на той станции, и татар-
чонок с облезлой головой — много народу, помочь не-
кому. Плачут, плюют, ругаются, стонут. Свое горе у
каждого, своя печаль мучает.
И вошла тут в Мишкино сердце такая тоска, хоть
рядом с Настёнкой ложись от тоски. Но Мишке нельзя
этого делать.
В Ташкент поехал, должен доехать. Лучше дальше
умереть, чем на этом месте. Неужели не вытерпит? Вы-
терпит. Ночью нынче обязательно вытерпит. А утром
завтра юбку бабушкину продаст. Дадут фунтов на пять
печеного хлеба — и больно гожа. Сразу не станет есть.
Отломит полфунта, остальное спрячет. Пять фунтов —
десять полуфунтов — на десять дней. В десять дней
можно туда и оттуда приехать, если поезда не станут
стоять.
Хорошо легли Мишкины мысли, по-хозяйски.
Маленько полегче стало.
418
Александр Неверов. «Ташкент — город хлебный». Первое
издание. 1923 г.
Мужики в углу про Ташкент говорили, упоминали
Самаркан. Тоже город, только еще за Ташкентом четы-
реста верст. Наставил уши Мишка, прислушался. Хлеб
очень дешевый в Самаркане, дешевле, чем в Ташкенте.
А в самом Ташкенте цены поднимаются, и вывозу нет —
отбирают. Если к сартам1 удариться, в сторону от Са-
маркана, — там совсем чуть не даром. На старые сапоги
дают четыре пуда зерном, па новые — шесть. Какая,
прости господи, юбка бабья — и на нее полтора-два
пуда. Потому что Азия там, фабриков нет, а народ из-
балованный на разные вещи. Живет, к примеру, сарт,
у него четыре жены. По юбке — четыре юбки, а чай
пьют из котлов. Увидят самовар хороший — двенадцать
пудов.
Потревожили разговоры хлебные Мишкину голову —
защемило, заныло хозяйское сердце. Тут же подумал
про юбку: «Не продам, можа? Вытерплю?»
Полтора-два пуда — не шутка. Сразу можно все хо-
зяйство поправить. Уродится к хорошему году —три-
дцать пудов. Сколько мешков можно насыпать! И себе
хватит, и на лошадь останется, если купить.
Закачалась перед глазами спелая пшеница, изогну-
лась волной под теплым лопатинским ветерком. Стоит
Мишка в мыслях хозяином на загоне, разговаривает
с мужиками лопатинскими.
«Ну как, Минька, жать пора?»
«Завтра начну».
А вот и мать с серпом, и Яшка-брат с серпом. Федька
без серпа ползет—маленький...
Обязательно надо терпеть.
Юбку здесь нельзя продавать.
Пойдет если поезд не рано, можно по вагонам похо-
дить. Всякие люди есть: кто прогонит, кто подаст.
Долго ходил по платформе Мишка — утомили хо-
зяйские мысли, ноги не двигались. Устал. Сел около ва-
гона отдохнуть маленько, да так и уснул, прислонившись
головой к колесу. Крепко укачал голодный рабочий день,
убаюкала радость мужицкая, ничего не увидел во сне.
Утром вскочил непонимающий: за спиной больно
легко.
Вскинул руки назад, а мешка там нет.
1 Шовинистическое, презрительное наименование населения
Средней Азии.
420
— Батюшки!
Бросился под вагон — нет.
Метнулся вперед — нет.
Обежал кругом четыре вагона — нет и нет,
«Господи!»
Пот выступил на лбу, под рубашкой мокро, и сердце
закаменело — не бьется.
Украли!
Подогнулись ноги, размякли.
Сел Мишка на ржавую рельсу, горько заплакал.
Легло большое человеческое горе на маленького
Мишку, придавило, притиснуло. Упал лицом он между
шпалами, вывернул лапти с разбитыми пятками и за-
бился ягненком под острым ножом.
Не мешки украли с юбкой — последнюю радость.
Надежду последнюю утащили.
18
Плакал Мишка час, плакал два часа — чего-нибудь
делать надо. Выплакал горе на одну половину, зашагал
по рельсам за станцию — уйти надо с этого места. Ушел
сажен двести, про Сережку вспомнил: проститься бы
с ним. Можа, не увидишься. Найдется хороший чело-
век— пожалеет, не найдется — конец. Еще маленько он,
пожалуй, потерпит, а если до вечера не дадут — не знай,
что будет с ним: наверное, свалится... Ляжет с горя и
не встанет никогда. Людям не больно нужно, и увидит
кто, нарочно отвернется. Много, скажет, ихнего брата
валяется, пускай умирает...
Ты, солнышко, не свети — этим не обрадуешь.
И ты, колокол, напрасно на церкви звонишь...
Тяжелая печаль — тоска человеческая.
Хлебца бы!..
В больнице Мишку неласково встретили:
— Чего надо?
— Сережка здесь лежит.
— Завтра приходи, нынче нельзя.
— Мне ненадолго.
— Умер он, нет его.
— Как умер?
— Иди, иди. Не знаешь, как умирают? Зарыли. Вот
тебе и Сережка!
421
Какой несчастливый день! Посидел Мишка на боль-
ничном крылечке, под дерево лег.
Плохо обернулось: юбки нет, и хлеба никто не дает.
А зачем это грачи кричат? Вот и этот ползет, как его...
жук. Поймать надо и съесть. Ели собак с кошками ло-
патинские, а жук этот, как его...
А вон воробей прыгает. Все-таки есть и воробьи
пока. Угу!.. Яшку бы с ружьем на него...
Встала над Мишкой сухая, голодная смерть, дышит
в лицо ржаным соленым хлебом. Откуда хлеб?.. Подни-
мает щепочку, и щепочка хлебом пахнет. Понюхает —
бросит... Выдернет травку — пожует. И опять глаза
тоской закроются.
Смерть.
А все-таки есть хорошие люди..
Стояла над Мишкой сухаф голодная смерть, пересчи-
тывала последние часы и минуты 'Мишкиной жизни.
Уже по губам провела холодными пальцами, на спину
положила: гляди в последний раз на чужое далекое
небо — наглядывайся. Бегай мыслями в отчаянье между
Ташкентом и Лопатином, отрывай от сердца думы му-
жицкие. Стучала смерть, словно сапогом тяжелым, по
Мишкиным вискам, в уши нашептывала: «Зачем пла-
чешь? Все равно никто не пожалеет».
А в это время товарищ Дунаев из ортчека проходил,
увидал мальчишку знакомого, остановился:
— Ба! Михайла Додонов. Ты что здесь валяешься?
— Мочи нет.
— Что с тобой?
— Обессилел я.
— A-а, это нехорошо!
Глядит Мишка на товарища Дунаева — человек буд-
то хороший и голосом ласковый. Не рассказать ли ему
свое горе, можа пожалеет... Вот и звезда красноармей-
ская у него, наверное, как Иван их, — коммунист.
— Товарищ Дунаев, нет ли у вас кусочка малень-
кого?
— Зачем тебе?
— Есть больно хочется, боюсь захворать...
А Дунаев веселый.
— Зачем боишься?
— Мать у меня дома осталась: не вернусь — и она
пропадет с ребятишками. Поддержите в таком поло-
жении!..
422
Чешет Дунаев усы одним пальцем, улыбается:
— Ну что же! Поддержать надо, если такой ты от-
чаянный. Шагай за мной потихоньку.
Сон снится или наяву происходит?
Пришли в ортчеку. Дунаев говорит своему подчи-
ненному:
— Товарищ Симаков, этого мальчишку накормить
надо и на поезд сунуть. Пускай проедет станции четыре.
Нет, это не сон.
Дали Мишке четыре куска и супу котелок поставили,
сами смеются.
— Ешь, Михайла Додонов, не робь! Будешь отчаян-
ным— не пропадешь. Ты беспартийный?
А у Мишки от радости ложка не держится.
— Ячейка у нас есть.
— Ходишь в нее?
— Ну, есть когда. Иван у нас из коммунистов, он
ходит.
Чешет усы товарищ Дунаев одним пальцем, Мишку
разглядывает.
— Хороший, ты мужик, Михайла Додонов. Вылизы-
вай все...
Навалился Мишка с голодухи на горячую пищу —
инда потом ударило по всему телу, дышать тяжело:
лишнего переложил. На носу и около ушей каплюшки
повисли.
— Ну, как теперь? Доедешь?
— Доеду.
— Посади его, товарищ Симаков, от моего имени.
Скоро поезд пойдет на Ташкент.
Чудные люди. То сами арестовывают, то сами на
поезд сажают. Или горе Мишкино помогло тут, или на
самом деле народ такой есть...
Растворил товарищ Симаков двери вагонные, му-
жики к нему — сразу десять человек. Начальник — чего
хочешь может сделать.
— Посадите вот этого мальчишку к себе.
— Некуда, товарищ! С полным удовольствием...
А Симаков и сам нарочно притворился:
— Нельзя, товарищи, мне приказано посадить —
начальник велит.
Мужики расступились.
Глядят на Мишку со всех сторон, глазами щупают.
Что за человека к ним сажают — почет такой!
423
19
Тронулись ночью.
Громко орал паровоз на подъемах, скоблился,
пыхтел, а под гору падал стремительно, точно в про-
пасть огромную. Страшно качался вагон, готовый со-
рваться колесами с рельс, летели мешки со стенок, гро-
хались сундучки, хлопали железные ставни в двух окнах,
торопливо хватающих теплые звезды на черном убе-
гающем небе. Как лошади, возились мужики в темноте,
били по головам друг друга вытянутыми ногами, ша-
рили мешки, перекидывали сумки.
— Чей сундук?
— Чья кружка подо мной?
— Это кто?
— А это кто?
— Куда тычешь в рыло?
Чиркали спички, выедая неровные пятна, лезли на
глаза короткие обезображенные туловища с двигаю-
щимися бородами, взвизгивали бабы.
Мишка лежал облегченный.
Успокоила его горячая пища и хлеба за пазухой че-
тыре куска.
Жалко бабушкину юбку, но мешки не такие, чтобы
из-за них не дышать: малы и с заплатками. Если по-
счастливится в Ташкенте на работу поступить, мешки
можно новые достать. Теперь он не маленький. А о юбке
лучше не думать. Такая наука нашему брату — рот не
разевай. Разве можно класть в одно место все вещи?
Вот и ножик потому целый остался—на поясе был. По-
ложи в мешок — тоже бы пропал.
Потрогал Мишка ножик складной, спрятал за па-
зуху. Брюхо ремнем стянул покрепче, потом передумал.
Лучше на ремне, только бы веревочка не порвалась.
Таких ножей теперь не найдешь: «Бритва! Любую палку
перережет».
Можно и пиджак на базар отнести. Берут бабьи
юбки, возьмут и пиджак кому надо. Унывать не стоит.
Пиджак, ножик, ремень солдатский. Если нет там
фабриков настоящих, и на картуз охотники будут. За
пиджак, к примеру, два пуда, за картуз с ножом —
полпуда.
Прошло мимо Лопатино-село, встала перед глазами
изба голодная, а в избе голодной мать хворая лежит,
424
Мишку с хлебом дожидается. Яшка воробьев на ого-
роде разыскивает. Ни за что не догадается дугу под
сараем поднять. Забыл Мишка положить ее на место,
а Яшка не догадается... Любит до смерти палочки те-
сать— плотник самодельный. Учить бы хорошенько на
мастерового, да где к такому году: еле-еле без ученья
продержаться. Навалилась беда на мужиков — не стрях-
нешь. Если вернется Мишка из Ташкента — первым де-
лом о посеве подумать надо. Можа, способья дадут
к этому времени. Без своего загона опять придется по
Ташкентам ездить, мученья сколько принимать.
Разложился Мишка мыслями хозяйскими в темном
набитом вагоне, накидал в уме пудов с фунтами, про
Сережку вспомнил: «Плохой он был, слабосильный.—
А ты? — Я маленько потверже».
В это время мужик какой-то дернул за ногу:
— Ты, мальчишка, куда едешь?..
Мишка не откликнулся.
Опять мужик за ногу дернул:
— Спишь, что ли?
Мишка притворился: пускай думают, что он спит.
Можа, про него станут говорить: это интересно.
А мужик ругается другому мужику:
— Зачем мы посадили этого парнишку? Выкинуть
надо к черту...
Другой мужик говорит:
— Выкинуть его нельзя: ортчека посадила.
— А зачем нам ортчека? Мы заняли вагон, мы
должны и думать о нем. Хорошо настоящего человека
посадить, тот заплатит, а с этого чего возьмешь?
Устроил Мишка ладонь трубкой, приставил к уху,
слушает.
«Неужто такое право имеют — из вагона выкинуть?»
Опять сказал другой мужик первому мужику:
— Лучше не связывайся с этим мальчишкой. Шут
его знает, кто он такой! Можа, родственником прихо-
дится ортчека? Выкинь — попробуй, и не развяжешься
потом.
Слушает Мишка в темноте, улыбается: «Ага, боитесь
маленько!»
Спорят мужики, что им с Мишкой делать, а Мишка
нарочно похрапывает, будто не слышит.
«Ругайтесь! Я теперь все ваши мысли знаю...»
Опять другой мужик говорит первому мужику:
425
— Гнать мы его не будем. Выползет он «на двор»
завтра утром — больше не пустим.
Мишка похрапывает.
«Думайте! Ни за что не слезу, два дня буду тер-
петь...»
Через час и мужики потыкались головами друг на
друга, угомонились.
Легла темнота непроницаемая в закупоренный вагон,
перепутала руки-ноги. Перестали и бабы возиться, стис-
нутые мужиками.
Ползет по изволокам паровоз, на подъемах громко
вскрикивает. То разбежится на несколько верст, то мед-
ленно-медленно покачивается, колесами постукивает,
а под мирный стук колес вяжутся и рвутся засыпающие
мысли у притворившегося Мишки:
«Еду, еду — раз!
Ловко, ловко — два!
Так-так-так! Так-так-так!
Молодец, молодец!
Ты приедешь, ты приедешь!
Раз, раз, раз!
Не робей, не робей, не робей!
Ремень-ножик! Ремень-ножик!
Пуд-пуд-пуд!»
20
Оренбург.
Пасмурное утро.
Прохватывает ветерок.
Сидит Мишка в уголке, из вагона не выходит. Надо
бы в город сбегать, «на двор» маленько сбегать — раз-
говор ночной не пускает. Ладно, потерпеть можно.
Мужики разложились с жарниками около вагонов,
ведра повесили. Кто жарит, кто парит — так и бьет ка-
пустой в нос. Бабы картошку чистят, мясо режут, огонь
губами раздувают. Денежный народ собрался в Мишки-
ном вагоне.
Принес мужик четыре дыни, начал сдачу пересчиты-
вать. Увидел Мишку в углу — отвернулся. Другой мужик
табаку мешок притащил: табак здорово по дороге идет.
За каждую чашку — пятьсот, а киргизы ни черта не по-
нимают. Шутя можно сорок тысяч нажить, и сам будешь
бесплатно покуривать.
426
Еще двое самовар притащили, машинку для керо-
сину— обед готовить, сапоги с наделанными головками,
три топора.
Все утро бегали по оренбургским базарам, набили
вагон сверху донизу: табаком листовым, табаком рас-
сыпным, самоварами, ведрами, чугунами, топорами,
пиджаками, ботинками, юбками — повернуться негде.
Еропка, мужик маленький, тоже из Бузулукского
уезда, подцепил часы «американского золота». Сказал
кто-то — часы хорошо в Ташкенте берут, — он и купил
за двенадцать тысяч. Глядел-глядел на них — головку
свернул. Стали часы — нейдут. И к правому уху и к ле-
вому уху прикладывал их Еропка — нейдут. Пропали
двенадцать тысяч — кобелю под хвост выбросил.
Или оттого, что часы нейдут, или еще какое горе
ущемило Еропкино сердце, — увидел он Мишку в вагоне,
рассердился:
— Чей это мальчишка едет здесь?
И мужики словно только сейчас увидели Мишку:
— Кто его посадил к нам?
— Ты куда едешь, товарищ?
Поглядел Мишка на мужиков, поправил старый от-
цовский картуз, говорит, как большой, настоящий
мужик:
— Еду в Ташкент, дядя у меня комиссаром там.
— А сам откуда?
— Я сам дальний: Бузулукского уезда.
— Какой волости?.
— Волость у нас Лопатинская.
— А как фамилия твоему дяде?
Мишка глазом не моргнул:
— Фамилия ему не наша: мне — Додонов, ему —
Митрофанов. Брат он приходится моей матери, ком-
мунист.
Еропка, мужик маленький, сказал:
— Я сам Бузулукского уезда, двадцать верст от ва-
шего села, а такой фамилии не слыхал: ты, наверно,
врешь!
Мишка глазом не моргнул:
— Что мне врать! Справься в ортчеке, там знают.
— Кого?
— Дядю Василья.
Еропка головой покачал:
— Что-то не верится мне. Который тебе год?
427
— Четырнадцатый.
Переглянулись мужики, обшарили Мишку глазами
со всех сторон:
— Обманывает, сукин сын!
Подошел Семен, красная борода, строго спросил:
— Деньги есть?
Мишка глазом не сморгнул:
— Есть.
— Сколько?
— А у тебя сколько?
Все засмеялись от такой неожиданности.
— Ай да мальчишка! Не сказывай ему — в карман
залезет.
Прохор косматый больше всех поверил в Мишкину
силу. Подсел поближе, разговор хозяйский завел:
— Давно твой дядя в Ташкенте служит?
— Третий год.
— Там останешься или домой вернешься?
Мишка лениво плюнул мимо Прохоровой бороды.
— Увижу. Понравится — останусь, не поправит-
ся— домой поеду. Даст хлеба бесплатного дядя пудов
двадцать, и хватит до нового нам.
— А семья большая у вас?
Поправилось Мишке мужиков обманывать — неопыт-
ные, каждому слову верят. Поправил старый отцовский
картуз, начал рассказывать теплым, играющим голосом.
Семья у них небольшая: мать и два брата. Отец в орт-
чека служил полтора года — из коммунистов он. Ну,
убили его белогвардейские буржуй, теперь им пенсию
высылают за это. А который сажал Мишку на той стан-
ции, то товарищ отцу приходится, самый главный на-
чальник. И письмо от него везет Мишка тому самому
дяде, который в Ташкенте комиссаром служит. А этот
самый дядя тоже письмо прислал Мишкиной матери,
пускай, говорит, приедет мальчишка ко мне, я его по-
ставлю на хорошую должность и хлеба могу выслать
без задержки. Два раза лопатинские мужики ездили
к нему. Даст им дядя бумагу казенную — никто не тро-
гает. Которых остановят, у которых совсем отнимут,
а они покажут бумагу с дядиной печатью — пальцем не
имеют права тронуть.
Наслушался Прохор Мишкиных сказок, позавидовал:
— Ты, видать, здоровый человек! Надо с тобой по-
дружиться маленько.
428
Мишка глазом не моргнул:
— Чего со мной дружиться? Увидимся в Ташкенте —
помогу.
— Как?
— Через дядю...
Сразу обогрела Прохора такая надежда. Заерзал,
завозился он около Мишки, и голос ласковый сделался
у пего:
— Это бы хорошо, мальчишка... Сам знаешь, какие
наши дела... Отнимают!
— Со мной не отнимут...
Тут и еще мужик подсел в хорошую компанию, слу-
шать больно приятно.
— Ты что, паренек, не слезешь ни разу?
— Зачем?
— Маленько бы ноги размял.
Мишка улыбается:
— А чего их разминать-то, чай, они пе желез-
ные!..
Наелись мужики горячей пищи, веселее стали. Трое
к бабам легли на_ колени, трое кисеты развязали —
деньги проверять. Один мужик целую кучку наклал бу-
мажек николаевских, другой — серебро высыпал в по-
дол. Которые на коленях лежали у баб, песню затянули.
Еропка убежал часы продавать.
Целый день ходили нищие по вагонам: бабы с ребя-
тами, мужики босоногие. Подбирали мосолки выброшен-
ные, глядели в вагонные двери страшными, провалив-
шимися глазами. Плакали, скулили, протягивали руки.
Боязно стало глядеть Мишке на чужое голодное горе —
скорее бы тронуться с этого места. Хорошо, если
поверили мужики, а выкинут из вагона — не больно
гожа.
К вечеру захотелось «на двор», но выходить нельзя.
Стиснул зубы Мишка, начал в себя надувать, инда
пузырь в кишках готов лопнуть. Воды много выпил,
дурак, на той станции, а больше терпеть — испортиться
можно.
Долго крутился Мишка, поджимая живот: и в себя
надувал, и дышать переставал, зубы стискивал — никак
нельзя больше терпеть. Огляделся кругом—народу
немного. Только две бабы спиной к нему сидят да му-
жик в углу поет «Иже херувимы».
429
Прислонился плечом в дверях Мишка, будто на стан-
цию глядит, и давай потихоньку пускать, чтобы не
шумело.
«Слава богу, все!»
21
Зашумели ночью мужики, закрутились, тревогой
охваченные. Первым прибежал Еропка, словно сума-
сшедший.
— Машинист не хочет ехать! Задние деньги соби-
рают. Если здесь сидеть — дороже встанет.
— Сколько надо?
— По ста рублей с человека.
— Ах, мошенники!
— Тише, дядя Иван, йе надо ругаться. Здесь си-
деть— дороже встанет.
Сели кольцом мужики в темном, переполненном
вагоне, вытянули бороды трясучие, словно колдуны
лохматые. Расстегнули нехотя пуговицы у верхних шта-
нов, вытащили дрожащими руками глубоко запрятанные
десятки из нижних штанов. Дорого стоит копеечка му-
жицкая! Шумят в темноте бумажки, двигаются бороды
вздернутые, одна на другую натыкаются.
— Все дали?
— Все.
— А мальчишка как?
— Ну-ка, разбуди его!
— Эй ты, племянник! Деньги давай.
Хотел Мишка голову спрятать в мешках — ноги тор-
чат. Ноги сунет в мешок — голова наружи. А мужики,
как галки, теребят с двух сторон:
— Слышь, что ли?
— Деньги давай.
Долго думать тоже нельзя — догадаются, и не ду-
мать нельзя. Поднял голову Мишка, нехотя в карман
полез.
— У кого ножницы есть?
— Зачем тебе?
— Деньги расшить в подоплеке.
— Марья, дай ему ножик!
Нашарил Мишка бумажку в кармане, поднятую на
той станции, громко сказал, протягивая дрогнувшую
руку:
430
— Кто собирает деньги? Держи.
— Сколько?
— Сто.
Спас темный вагон.
Сунул Еропка бумажку Мишкину в потный кулак,
побежал машиниста искать. А у Мишки голова закру-
жилась от сильного волнения и сердце затокало ра-
достью. х
.Ну и народ! Про дядю насказал — верят. Бумажку
сунул вместо денег — верят. Или счастье такое Мишке,
иль мужики больно неопытные. Чудно!
А все-таки страшно.
Вернется Еропка, скажет: «Выкиньте этого жулика
отсюда: он мне бумажку простую сунул...»
Зажал Мишка голову обеими руками от страха, ду-
мает. И смешно ему над Еропкой, мужиком бузулук-
ским, и страх под рубашкой ходит острыми колюч-
ками.
Вернулся Еропка, шепчет мужикам:
— Сделал! Триста верст поедем с этим паровозом —
без передышки. Машинист больно попался хороший.
Я, говорит, товарищи, моментом перекину вас, потому
что сам понимаю, в каком вы положении.
— Значит, в точку попал?
— В самый раз.
— Это хорошо!
И Мишка в темноте улыбается: «Это больно хо-
рошо».
22
Охватили степи киргизские тишиной и простором,
крепко стиснули старый, расхлябанный паровоз, не пу-
скают вперед. Вертит стальными локтями он, будто на
одном месте крутится, голосом охрипшим помощи про-
сит. Задыхается, пар густой пускает, как белое облако.
Тает белый пар, черным дымом из трубы заволаки-
вается. Тукают колеса, дрожат вагоны.
Не пускают вперед степи киргизские, тишиной и про-
стором держат изогнутый хвост. Только под гору бешено
срывается паровоз, крутит головой на поворотах, надвое
переламывается, змеей тонкой поезд извивается. Давит
мосточки играющими колесами, фырчит, задорится, лок-
тями светлыми проворно работает. Выскочит на
431
бугорок, словно заяц испуганный, и опять по-старичьи
с натугой тащит длинный примороженный хвост.
Весело Мишке смотреть на широкие степи киргиз-
ские, на дальний дымок из долины, на огромного вер-
блюда, высоко поднявшего маленькую головку. Погля-
дит верблюд на Мишкин поезд, поведет во все стороны
маленькой головой на выгнутой шее —снова спрячет
черные губы в колючей траве.
Ни одной деревни вокруг.
Бугры плешивые, да коршуны степные сидят на бу-
грах.
А небо как в Лопатине, и солнышко как в Лопатине,
Ветерок подувает в раскрытую дверь.
Лежат мужики — развалились, покоем охваченные,
сытыми мечтами окутанные. Мирно торчат бороденки
поднятые, громыхают чайники с ведрами. Кто гниду
убьет в расстегнутом вороту, кто ногтем поковыряет то
место, где блоха посидела. Вытащит вошь из рубца, раз-
давит «несчастную» на крышке сундучной, посмеется:
— Вошь больно хорошая — жалко убивать.
— Зачем же убил?
— Без пропуска едет. Залезла под рубашку ко мне
и сидит, чтобы ортчека не нашла. Проехали две стан-
ции, кусать начала! Я везу ее, и она же меня кусает.
Хитрая, черт!
Ржет вагон, покатывается от смеху.
Только Еропка, мужик маленький, с горем большим
на часы посматривает. Долго искал дураков на базарах
оренбургских, чтобы продать им сломанные часы за-
место новых, — не нашел. Торговцы над ним же сме-
ялись:
— Дураки, дядя, все вывелись: ты самый последний
остался.
Грустно Еропке, мужику маленькому.
Раскроет крышки у часов и сидит, как над болячкой,
брови нахмурив. Под одной крышкой стрелки стоят
неподвижно, под другой — колеса не работают. Пропали
двенадцать тысяч — кобелю под хвост выбросил. А на
двенадцать тысяч можно пшеницы купить фунтов
пятьдесят. Налетел, черт-дурак, сроду теперь не за-
будет.
Если о камень разбить окаянные часы — жалко:
сосут двенадцать тысяч, как двенадцать пиявок, Ероп-
кино сердце, голову угаром мутят.
432
Мужики нарочно поддразнивают;
— Сколько время, Еропа, на твоих часах?
— Что, Еропа, не чикают?
— Голову свернул он нечаянно им...
— Продаст! Эта вещь цены не упустит. Только пока-
зывать не надо, когда будешь продавать...
Ржет вагон, потешается над Еропкиным горем.
Семен, рыжая борода, четыре юбки зацепил в Орен-
бурге. Сначала радовался, барыши считал. Проехал две
станции, тужить начал. Слух нехороший пошел по ваго-
нам: киргизские бабы и сартовские бабы юбок не носят,
а в штанах ходят, как мужики.
Кряхтит Семен, рыжая борода, тискает дьявольские
юбки. Упадет головой в мешки, полежит вниз рылом,
опять встанет с мутными, непонимающими глазами. Вы-
ругает большевиков с комиссарами (как будто они во
всем виноваты!), плюнет, зажмет горе в зубах, снова
ткнется головой в мешки.
Иван Барала примеряет сапоги на левую ногу. Три
пары купил он, радуется малым ребенком. За старые
дают три пуда зерном, а у него совсем не старые. Сту-
чит Иван Барала ногтем в подметку, громко рассказы-
вает:
— Два года проносятся, истинный господь! Как же-
лезные подметки — ножом не перережешь...
Мишке легче.
Если бабы киргизские ходят в штанах, значит и жа-
леть не стоит бабушкину юбку. Все равно дорого не да-
дут за нее — старенькая она. Пощупал ножик складной,
улыбнулся:
— Бритва! Любую палку перережет.
Прохор около Мишки голубком кружит, заговари-
вает, носом пошмыгивает, ласково чвокает. Это не
плохо, если дядя у мальчишки комиссаром. Всякий на-
род нонче. Который большой — ничего не стоит, кото-
рый маленький — пить даст. Надо пристроиться к нему:
можа, на самом деле помогу окажет.
Ходит маятником Прохорова борода возле Мишки-
ного носа, а голос у Прохора ласковый, так и укрывает
с головы до ног.
Вытащил кошель с хлебом, подал и Мишке малень-
кий кусочек:
— Хочешь, Михайла?
— А сам что не ешь?
15 Зак. № 426
433
— Кушай, не стесняйся: будет у тебя — и мне дашь.
Надо по-божьи делать...
Притворился Мишка, спокойно сказал, обдувая пыль-
ный кусочек:
— Урюку дядя полпуда хотел дать.
•— Тебе?
— Матери моей.
— Урюк — штука хорошая, только, наверное, до-
рогой?
— Ну, что ему, он богатый!
Говорит Мишка большим, настоящим мужиком, сам
удивляется: «Вот дураки, каждому слову верят!..»
23
А киргизы совсем не страшные, чудные только. Жара
смертная, дышать нечем от раскаленных вагонов на
Станции — они в шубах преют, и шапки у каждого мехо-
вые, с длинными ушами. Лопочут не по-нашему: тара-
бара, тара-бара — ничего не поймешь! Ходят с кнутами,
сидят на карачках. Щупают пиджаки у мужиков, раз-
глядывают самовары, трясут бабьи юбки.
Еропка, мужик маленький, сразу троих привел, ка-
жет часы на ладони, стоит подбоченившись. Сейчас
надует киргизов, потому что Азия — бестолковая.
Светят зубами киргизы, перебрасывают часы с рук
на руки, пальцами крышки ковыряют. Еропка кричит
в ухо старому сморщенному киргизу:
— Часы больно хорошие — немецкой фабрики!
Киргиз кивает головой.
— «Мериканского» золота! — еще громче кричит
Еропка.
Семен, рыжая борода, вытаскивает юбки из пыль-
ного голубого мешка, расправляет их парусом, тоже кри-
чит киргизу в самое ухо:
— Бик якша! 1 Барыни носили.
Лопочут киргизы: тара-бара, тара-бара! — ничего не
поймешь.
Семен чуть не пляшет около них.
— Госпддскай юбка, господскай. Москва делал,
большой город...
1 Очень хорошо!
434
Иван Барала ножом ковыряет подметку у сапог.
— Бабай1, щупай верхи, щупай! Да ты не бойся,
их не изорвешь. По воде можно ходить — не промо-
чишь. Из телячьей кожи они. Сам бы носил — тебя
жалко.
Кивают киргизы меховыми шапками, неожиданно
отходят.
Еропка за ними бежит:
— Шайтан-майтан, жалеть будешь мои часы! Стой,
мурло! Давай три пуда.
Киргиз машет руками.
Много товару из вагонов вывалилось, еще больше —
крику. Серебро на бумажки меняют, золото на бумажки
не меняют. Черпают табак из мешков, машут пиджа-
ками, юбками, постукивают сапогами.
Хочется Мишке по станции побегать — боязно: не
поспеешь на поезд прыгнуть — останешься. Увидал —
киргиз мимо идет — не вытерпел: вытащил ножик
складной — кажет. Киргиз остановился. Взял ножик
у Мишки, разложил, зубами светит, пальцами лезвие
пробует. Мишка кричит что есть духу, высовываясь из
вагона:
— Продаю!
Киргиз лопочет по-своему, вертит головой.
Еще громче Мишка кричит:
— Пуд!
Еще пуще киргиз вертит головой.
Мишка беспомощно оглядывается. Морщит брови,
чтобы найти понятное слово, нарочно ломает слова рус-
ские — скорее поймет:
— Пшенич, пшенич! Пуд!
Русский из другого вагона говорит киргизу по-
киргизски:
— Пуд!
Киргиз сердито плюется:
— Э-э, урус!
Мишка тихонько спрашивает русского:
— Сколько дает?
— Ничего не дает, ругается.
А когда киргиз уходит, Мишка кричит ему вслед:
— Киргиз, киргиз! Шурлюм-мурлюм-курлям! Купи
картуз.
1 Старик, дедушка.
435
Смеются мужики над Мишкой, и сам Мишка смеется,
как он по-киргизски ловко научился говорить. Не тер-
пится ему, не сидится, через минуту прыгает из вагона.
По носу бьет горячими щами из больших чугунов. Тор-
говки над чугунами громко выкрикивают:
— Щей горячих, щей!
На листах железных печенки жареные лежат, головы
верблюжьи, потроха бараньи, вареная рыба. Манят чет-
верти топленым молоком, за сердце хватают хлебные
запахи.
Треплет Мишка старый отцовский картуз, показывает
ножик с ремнем:
— Купи, купи!
Заглядится на печенки с бараньими потрохами,
остановится:
— Тетенька, дай голодающему!
Замахнется половником торговка, опять нырнет
Мишка в толчею людскую, бегает вокруг киргизов.
Оцепят киргизы со всех сторон, такой крик поднимут —
и сам Мишка не рад. Кто ножик тащит, кто — картуз.
Один, самый старший, с черными зубами, даже за пид-
жак ухватил. Лопочет, раздевает, чтобы пиджак приме-
рить. Мишка кричит киргизам:
— Дешево я не отдам!
Напялил пиджак киргиз, а вагоны у поезда дерну-
лись.
Вырвал пиджак у киргиза Мишка — ножа нет.
Отыскался ножик — ремень киргизы рвут друг у
друга.
Чуть не заплакал Мишка от такой досады: .
— Давайте скорее, некогда мне!
А вагоны двигаются.
Прямо на глазах двигаются.
Вертятся колеса, и вся земля вертится, вся станция
с киргизами вертится. Бежит Мишка с правой стороны,
а двери у вагонов отворены с левой стороны. Если под
вагоны нырнуть — колесами задавит. Бежит Мишка же-
ребенком маленьким за большой чугунной лошадью —
лапти носами задевают, пиджак на плечах кирпичом
висит. Не бегут ноги, подкашиваются. Тяжело дышит ра-
зинутый рот — воздуху не хватает.
Увидал подножку на тормозной площадке, ухватился
на ходу за железную ручку обеими руками — так и дер-
нуло Мишку вперед. Не то голова оторвалась, не то ноги
436
позади остались, а голова с руками па железной ручке
висят. Тянет туловище Мишку вниз, под самые колеса,
словно омут засасывает в глубокое место. Хрупают ко-
леса, пополам разрезать хотят, на мелкие кусочки исте-
реть. Болтает Мишка ногами отяжелевшими, а вагоны
все шибче расходятся, а ноги в широких лаптях, будто
гири тяжелые, тянут вниз, и нет никакой возможности
поднять их на приступок. Руки разжать — головой
о камни грохнешься, о железные рельсы.
«Прощай, Ташкент!
Прощай, Лопатино-село!
Смерть!»
Оторвутся Мишкины руки — вдребезги расшибется
Мишкина голова.
Но бывает по-другому, когда умирать не хочется.
Не хотелось Мишке умирать.
Собрал он последние силы, натянул проволокой каж-
дую жилу, ногами подножку нащупал. Изогнулся, опро-
кинулся спиной вниз — легче стало держать каменный
отяжелевший зад.
«Теперь не упаду».
Обрадовался маленько, а с площадки человек смо-
трит сердитыми глазами. Что-то сказал, но колеса ва-
гонные поглотили голос, смяли торопливыми стуками.
Не понял Мишка, только поглядел жалобно на человека
сердитого:
— Дяденька, поддержи!
Смяли и Мишкин голос колеса вагонные, проглотили
стуком, откинули в сторону мимо ушей. Долго глядел
человек на повисшего Мишку, вспомнил инструкцию —
не возить безбилетных.
«Пускай расшибется!»
А потом (это уже совсем неожиданно) ухватил
Мишку за руку около плеча, выволок на площад-
ку. Поставил около сундучка с фонарем, сердито
сказал:
— Убиться хочешь?
Мишка молчал.
— Чей?
— Лопатинский.
— С кем едешь?
— С отцом.
— А отец где?
— В том вагоне.
437
Оглядел человек суровыми глазами Мишку, отвер-
нулся:
— Надоели вы мне!
Мишка молчал.
Сидел он около сундучка, вытянув ноги в больших
лаптях, не мог отдышаться с перепугу. Ломило вы-
вернутые руки, кружилась голова, чуть-чуть позывало
на рвоту. Хотелось лечь и лежать, чтобы никто не
трогал.
Опять прошло Лопатино в мыслях.
Выглянула мать голодающая, два брата и Яшкино
ружье на полу. Тряхнул головой Мишка, чтобы не
лезли расстраивающие мысли, равнодушно отвернулся
от давнишней печали. Никак не уедешь от нее. Мишка
в Ташкент — и она за ним тянется, как котенок за кош-
кой. Хорошо, характер у него крепкий, плакать -не
любит, а то бы давно пора зареветь громким голо-
сом. Выпало счастье от товарища Дунаева, опять
потерял.
Лезут мысли нехорошие в голову, расстраивают
Мишкино сердце, выжимают слезы из глаз.
Колеса вагонные дразнят:
Не доедешь,
Не доедешь,
Смерть!
Не доедешь,
Не доедешь,
Смерть!
Вынимает человек из сундука хлебную корку, бе-
режно обкусывает маленькими крошками, косится на
Мишку. Мишка отвертывается.
— Куда едет твой отец?
— В Ташкент.
— Разве слаще умирать в Ташкенте?
— Чего?
— Так, ничего. Хлеба вам там припасли, растопырьте
карманы.
Стучат колеса.
Бегут от поезда степи киргизские — пустые, без-
водные.
Мелькают столбы телеграфные.
Не сидит воробей на них.
Не треплется мочалка на проволоке телеграфной.
438
Ни один мужик не проедет мимо насыпи по узенькой
дорожке.
Степь огромная без деревень.
Пустырь без собачьего лая...
Только бугры высокие с синими головами, да воздух
над буграми рекой переливается. Проскочит мимо будка
разоренная, с выбитыми окошками. Бросится в глаза
сорванная крыша, напомнит Лопатино, где стоят пустые,
голодные избы. Схватит тоска непонятная Мишкино
сердце, сожмет в кулак, ниже опустится голова разбо-
левшаяся.
— Много денег везет твой отец?
Это все человек мучает разными допросами.
Не хочется Мишке языком ворочать, надоело и хва-
стать каждый раз. Но как же ему доехать без этого?
Все допытываются, перед всеми надо увертываться. Не
увернешься — ссунут. Бросят котенком на самой дороге,
выкинут в степь без людей и жилья, скажут:
— Жулик он! Нет у него ни отца, ни матери. Без
билета едет и без пропуска.
Смотрит Мишка усталыми покрасневшими глазами,
говорит спокойно, как большой, настоящий мужик:
— Денег было много — утащили половину.
— Где?
— Карман на станции срезали.
Человеку становится весело.
— Значит, дурак, если свой карман проворонил!
— Неопытный! — вздыхает Мишка.
— А ты как отстал?
— Брюхо у меня заболело. Сел «на двор» маленько,
а вагоны пошли. Отец кричит: садись скорее! Я спот-
кнулся, ухватился вот тут, насилу удержался. Спасибо,
ты мне руку подал...
— А если бы не подал?
— Тогда бы убился.
— Хлюст ты, видать!
— А ты, дяденька, кто?
24
Ночью пришлось слезать, ч
На станции горели фонари бледным светом.
В темноте копошились люди.
439
Двигались огромными толпами, толкая друг друга,
тонули в криках, в тонких голосах плачущих ребятишек.
Лежали стадами, плакали, молились, ругались го-
лодные мужики.
Точно совы безглазые, тыкались бабы
с закутанными головами,
с растрепанными головами.
Тащили ребят на руках,
тащили ребят, привязанных к спине,
тащили ребят, уцепившихся за подол.
Словно овцы изморенные, падали бабы около колес
вагонных, кидали ребятишек на тонкие застывшие
рельсы.
Щенками брошенными валялись ребята:
и голые,
и завернутые в тряпки,
и охрипшие, тихо пикающие,
и громкоголосые, отгоняющие смерть неистовым
криком.
Еще одним горем прибавилось в гуще голодных и
злых, переполнивших маленькую киргизскую станцию.
Еще одна капля человеческого страдания влилась, ни-
кому не нужная, никем не замеченная.
Вытряхнул кондуктор Мишку, весело сказал:
— Довез тебя до этого места, говори — слава богу.
Теперь иди отца ищи.
Далеко Мишкин отец.
Далеко Мишкина мать.
Походил он в чужом голодном стаде, согнанном из
разных сел и деревень, тяжко вздохнул. Начал вагон
искать, в который посадил его товарищ Дунаев, а ночью
все вагоны одинаковые, все вагоны заперты, словно ам-
бары, насыпанные пшеницей.
Заперлось, загородилось горе вшивое, никого не
пускает.
Поторкался Мишка в один вагон, кто-то крикнул
в маленькую щелочку:
— Чего тебе надо?
— Наши едут здесь.
— Шагай дальше! Ваши уехали, остались только
йаши...
Поторкался в другой вагон — не ответили.
Из третьего закричали:
— Чего людей беспокоишь?
440
— Не пускай всякий сброд!
Обошел Мишка два раза длинный, растянутый
поезд, поежился, поморгал глазами, сел.
— Черти безжалостные! Съем я, что ли, ваши ва-
гоны?
Пошел.
А идти некуда.
Стоят вагоны темные в три ряда. И ночь будешь
ходить — не отворятся, и день будешь ходить—не отво-
рятся. Везде ползают люди:
под вагонами,
за вагонами,
на станции,
за станцией.
А прижаться, а горе свое рассказать некому.
Лезет горе Мишкино из глаз опечаленных, ио пла-
кать Мишке нельзя, это он хорошо знает. Никто не
услышит голос жалобный, никто не поднимет слезу
упавшую.
Надо терпеть.
И отец покойный всегда говорил:
— Слезами беде не поможешь.
Все равно Мишка должен доехать, если поехал.
Теперь уж, наверно, немного осталось, а назад не вер-
нешься... Попадется на дороге город большой, можно
будет ножик с ремнем продать. Начал Мишка высчиты-
вать, который день, как он из дому ушел, перепутал:
если нынче среда, то десять дней, а если пятница —
двенадцать дней.
За станцией в ящике навозном рылся мальчишка,
залезая головой по самые плечи. Остановился Мишка
около него, поглядел с любопытством:
— Ты чего тут делаешь?
Не ответил мальчишка.
Взглянул равнодушно, опять залез по самые плечи.
Вытащил мосол, сунул за пазуху. Подошел и Мишка
к ящику-с другой стороны, тоже стал торопливо рыться.
Оба рылись молча, хватая друг друга за руки. Через
минуту Мишка залез в ящик с ногами, мальчишка в
озлоблении дернул его за рукав:
— Я тебя звал сюда?
— Сам пришел!
Мишка в ящике казался маленьким — торчала одна
голова. Хотел мальчишка или ударить его по высунутой
441
голове, или картуз закинуть в сторону. В это время про-
бежала собака с огромной горбушкой в зубах. Увидал
мальчишка хлеб в собачьих зубах, стремительно бро-
сился за собакой, размахивая руками. Выскочил и
Мишка из ящика.
— Кидай кирпичом!
Кирпича под руками не было.
Схватил Мишка обрубок рельсы, но поднять немог.
Бежали двое голодных с двух сторон, а собака, под-
брасывая задом, убегала за станцию, в поле. Легко пе-
рескочила канавку за станционными огородами, оста-
новилась на бугорке, держа в зубах украденную гор-
бушку.
Остановились и ребята.
С темных сырых огородов бежали еще собаки.
— Укусят! — сказал Мишка.
Мальчишка мрачно ответил:
-— На одну бы я пошел с хорошей палкой.
— Тебя как зовут?
-— Трофим.
— Айда назад.
— Погоди, сейчас они драться будут.
— Зачем?
Трофим не ответил.
Стоял он в одной рубашке с разорванной грудью,
босиком и без шапки. На плечах, вместо пиджака, ви-
сел обрывок рогожки, стянутый веревочкой под горлом,
и маленький неразговорчивый Трофим в таком наряде
похож был на маленького смешного попа в коротень-
кой ризе.
Собаки обнюхались молча.
Потом зарычали, оскалились, налетели на ту, что
держала горбушку в зубах, свились клубком, кувырк-
нулись, выпрямились, снова наскочили.
Долго смотрел Трофим на них молча, немигающими
глазами, потом сказал глухим, загробным голосом:
— Хорошо с собачьими зубами быть.
Мишка на минуточку оробел, разглядывая Трофима.
Кто он такой, в коротенькой поповской ризе.
Схватит Мишку по-собачьи за самое горло, повалит
вот тут и отнимет пиджак с картузом. Теперь богатых
везде убивают, а Мишка богаче Трофима.
От страха Мишкиного Трофим еще больше вырос,
освещенный месяцем на пустынном, мертвом поле, на-
442
полненном голодными, грызущимися собаками. Было
собак не более пяти, а Мишке казалось — тысячи их
с оскаленными ртами, и когда перегрызут друг друга,
станут они людей на станции грызть...
Трофим неожиданно сказал:
— Ты боишься собак?
— А ты?
— Я ничего не боюсь.
— Который тебе год?
— Четырнадцатый.
Поглядел Мишка на Трофима сбоку и тоже сказал,
как будто ничего не боится:
— Ровесники мы с тобой: мне тоже четырнадцатый
пошел.
— Врешь!
Чтобы сделать себя большим, Мишка чуть-чуть под-
нялся на носках.
— Скоро пятнадцатый пойдет. Я только ростом ма-
ленький, а годами старый. Два пуда поднимаю.
— Чего?
— Чего хочешь, гирю или мешок.
На станцию вернулись «дружными».
Узнал Мишка, что Трофим из Казанской губернии,
был в четырех городах, ушел из дому шестой месяц,
пробирается в Ташкент. Если доедет туда, назад не вер-
нется. Очень плохо у них в Казанской губернии, жрать
нечего, поэтому и отец у Трофима помер раньше вре-
мени— тридцати восьми лет от роду. Два раза н*а
войне был — не умер, а с голоду повалился.
Мишка сказал:
— Теперь всем мужикам плохо. С нашего брата бе-
рут, нашему брату не дают...
— В партию надо переходить! — вздохнул Трофим.
— В какую?
— К большевикам.
— Разве примут?
— Кого примут, кого нет.
— Большевиков не хвалят, — сказал Мишка.
— Всякие есть большевики! — опять вздохнул Трофим.
На станции горел один фонарь.
Было поздно.
В голове у Мишки грудились невеселые мысли.
В вагонах,
под вагонами,
443
за вагонами
люди не ворочались, не кричали, будто нарочно при-
таились, крепко стиснули зубы, зажали голодные рты.
В темной пугающей тишине, прорезанной одиноким
фонарем, заунывно и горестно плакала баба с ребенком
в два голоса. Один голос глухой, из наболевшего нутра,
другой — отчаянными выкриками. То хлестнет, взовьется,
то пиликает чуть слышно дребезжащей струной.
И сплетаются,
рвутся,
хрипят,
обгоняют друг друга два голоса,
как два ручья.
И течет по двум ручьям горе-горькое, брошенное
в широкую киргизскую степь, на маленькую станцию.
Ни вперед, ни назад не продвинешь его.
Трофим сказал Мишке, показывая на бабу:
— Заехала из чужой стороны, выехать не может.
— Разве ты знаешь ее?
— Я всех знаю, четыре дня хожу по этой станции.
С мужем ехала она, а муж у нее умер. Вон там и за-
рыли его...
В голову Мишке лезли невеселые мысли.
Сидели они с Трофимом рядом в тесном вокзальном
проходе, около самых дверей, рассказывали пра свои
деревни, которые теперь неизвестно в какой стороне
остались. Мишка рассказывал вяло, слушал неохотно.
Надоело думать ему об этом, надоело и повторять каж-
дый день. Перед глазами зажмуренными —
лентой развернутой—
проходил Ташкент, город невиданный:
сытый,
хлебный,
улыбающийся.
Глядят оттуда буграми высокими:
черные куски,
белые куски,
пшеница богарная,
пшеница поливная.
А зерно не как у нас — крупное...
Перебивая Мишкины мысли, Трофим громко шепнул
незасыпающим голосом:
— Ты сколько фунтов съешь?
- Где?
444
— В Ташкент когда приедем.
Подумал Мишка, поднимая отяжелевшие веки, тихо
сказал:
«— Много!
Долго плакала баба с ребенком.
Кашляли мужики в темноте.
Лаяли собаки за станцией.
Трофим с Мишкой подбадривали друг друга хоро-
шими надеждами. Ехать уговорились вместе. Прислуши-
ваясь к собачьему лаю, видел Мишка огромную степь
без людей и жилья, а по этой степи тысячами бегут
голодные собаки с оскаленными ртами, гонят большую
лохматую собаку с горбушкой в зубах, вьются огром-
ным клубком. Летит собачья шерсть под застывшим ме-
сяцем степью пустынной. Горят собачьи глаза, щелкают
зубы... Перегрызли собаки друг друга, откуда-то новые
явились, ринулись на станцию диким стадом, махнули
через Мишкину голову, подмяли под себя. Приподняли,
бросили, ухватились за пиджак с картузом. Вырвался
Мишка, в ужасе смертельном открыл глаза заснувшие,
не поймет ничего. Крик, шум, ругань, визг, а Трофима
рядом нет.
— Паровоз подают!
Стон. Крик. Плач.
— Пустите!
— Посадите!
— Задавили!
— Батюшки!
— Сунь по зубам!
Нельзя оставаться на маленькой станции в безлюд-
ной киргизской степи:
голод съест,
вошь съест,
тоска съест,
отчаяние...
За крыши хватаются, за колеса, за буфера, за под-
ножки.
На крышах, на колесах, на буферах, на подножках —
только бы уехать из страшного, пустого места. На ру-
ках висеть, волочиться по шпалам, уцепившись за ва-
гонный хвост, — только бы уйти, убежать от голодной
настигающей смерти.
Летит степью под застывшим месяцем собачья
шерсть.
445
Горят глаза собачьи.
Щелкают зубы.
— В бога мать, пусти!
— В крест — царя!
— Товарищи!..
Завертелся Мишка, закружился.
Не пробить ему огромную людскую стену около
вагонов.
Колыхнет живая стена, двинет локтями, попятится
задом, отбросит в сторону, потащит на другой конец.
Нет силы перескочить живую лязгающую стену, нет
силы и оторваться от нее. Тянет, всасывает она, крутит
в котле, душит, мнет.
Бросился Мишка к маленькому застывшему паро-
возу, навстречу Трофим под рогожкой несется, малень-
ким смешным попом в коротенькой ризе.
— Попал?
— Куда?
— Айда со мной!
До смерти обрадовался Мишка: двое — не один.
Ухватил Трофима за рогожку — поскакали мимо му-
жиков с бабами, мимо вагонов. Прибежали в самый
хвост—солдат стоит. Поглядели на солдата издали,
вперед ударились.
— Стой! — сказал Трофим. — Надо на крышу лезть.
Ляжем на брюхо — нас не увидят...
Встал Мишка на плечи Трофиму — до крыши высоко.
Потянулся маленько, чтобы за крючок ухватиться,—
сорвался, грохнулся, ударил Трофима ногами по голове.
Рассердился Трофим, крикнул:
— Баба! Становись под меня.
Больно ушибся Мишка, но плакать некогда.
Встал под Трофима — и Трофим сорвался, ударил
Мишку ногами по голове.
— Айда в другое место — не залезешь тут.
— Руку я зацарапал.
— Кровь?
— Течет маленько.
— Посыпь песком!..
Когда свистнул паровоз, покрывая людские голоса,
Мишка с Трофимом лежали на крыше вагонной, вниз
брюхом. Трофим облегченно шептал, нюхая пыльную
крышу:
— Живой маленько? Сейчас поедем...
446
25
Шибко рвал киргизский ветер Мишку с Трофимом,
все хотел сбросить в безлюдную степь. И когда глядели
они на согнутых баб с мужиками, залепивших вагонные
крыши, думалось им: плывут они по воздуху, над землей,
над степью, и никто никогда не достанет их, никто не
потревожит. Только один раз больно сжалось Мишкино
сердце —мужик напротив крикнул:
— Умерла!
Головой около Мишкиных ног лежала косматая баба
кверху лицом и мертвыми незакрытыми глазами смо-
трела в чужое далекое небо. Тонкий посиневший нос,
неподвижно разинутый рот с желтыми оскаленными зу-
бами тревогой охватившей перепутали Мишкины мысли,
больно ударило затокавшее сердце.
Трофим поглядел равнодушно.
Так же равнодушно и мужики повесили бороды, ду-
мая о своем. Один из них сказал:
— Бросить надо, чтобы греха не вышло!
— Куда?
— С крыши.
Мишка напружинился.
Закрыв глаза, думал он о Лопатине, об оставленной
дома матери, перебегал мыслями в Ташкент, но мертвая
баба с оскаленными зубами закрывала и мать, и Лопа-
тино, и далекий измучивший Ташкент, до которога
никогда не доедешь. Тревожно оглядывая мертвую,
шепнул Мишка украдкой Трофиму:
— Кто она?
— Голодная.
— Кинут ее?
— Нельзя днем кидать — увидят...
Навернулась огромная туча, залепила солнце, чер-
ным пологом упала над поездом. Лезет поезд с наро-
дом в эту тучу, режет ее свистками, кричит, орет, никак
не может уйти. Или туча придавила, или косогор на
пути: колеса перестали плясать, вагоны перестали рас-
качиваться. Медленно вытягивая хвост, поезд пошел ти-
хим ходом, готовый остановиться совсем. Разом плеснул
тяжелый, крупный дождь из огромного ковша, застучал
по грязной, обтертой крыше. Мужики сомкнулись кучей.
Неподвижно сидел и Мишка с Трофимом под Трофимо-
вой рогожей. Только мертвая баба по-прежнему лежала
447
вверх лицом, с мертвыми незакрытыми глазами, нали-
тыми дождевой водой. А когда огромная туча разорва-
лась на мелкие клочья и клочья поползли над степью,
роняя последние капли, — подступил сырой, холодный
вечер.
Крошечным пятном обозначилась впереди маленькая
станция.
Ближней долиной прошли верблюды.
Над бугром закурился дымок.
Трофим сказал Мишке, вздрагивая голым телом:
— Озяб?
— А ты?
— Я маленько озяб. Есть хочется! — опять сказал
Трофим.
— Мне тоже хочется, — сознался Мишка.
— Терпеть умеешь?
— А ты?
— Я по два дня терпел.
Не хотелось Мишке разниться от товарища — уве-
ренно мотнул головой:
— Потерпим!..
На станции мужики торопливо попрыгали. Остались
па крыше вагонной только Мишка с Трофимом да мерт-
вая баба с желтыми оскаленными зубами. Полный
месяц, высоко поднявшийся над станцией, мягким
светом обнял мертвое тело, заглянул в разинутый рот.
Мишке сделалось страшно, но Трофим спокойно
сказал:
— Мы не будем прыгать. Прыгнешь если, на другую
крышу не скоро сядешь. Останешься на этом месте,
хуже будет. Ты боишься мертвых?
— А ты?
— Чего их бояться, они не подымутся...
Поезд стоял недолго.
В темноте взмахнули фонарем около паровоза, разом
стукнули буфера и —
в ночь, /
в холодную сырость
грузно двинулись вагоны, лениво играя колесами.
Проскочила последняя будка.
Глазом тусклым глянул последний фонарь.
Над вагонами повис негреющий месяц желтой лы-
сой головой.
— Холодно! — сказал Трофим. — Давай обоймемся.
448
Мишка расстегнул мокрый пиджак, и Трофим под ро-
гожкой крепко обнял его вздрагивающими руками, при-
жимая живот с животом, грудь с грудью.
Так же крепко обнял и Мишка товарища, стягивая
полы пиджака на Трофимовой спине: и, холодной, мгли-
стой ночью, дыша друг другу в лицо, спасая друг друга
от смерти, ехали они на вагонной крыше маленьким
двухголовым комочком, слитые в одну непреклонную
волю, в одно стремление — сберечь себя во что бы то ни
стало.
— Мне теплее! — говорил Трофим.
— Мне тоже теплее, — согласился Мишка.
— Подыши маленько в эту щеку!
— А ты мне подышишь?..
— Угу...
Был короткий миг, когда в сердце у обоих родилась
неиспытанная радость от согревшей дружбы. Не выска-
зывалась она словами, ехали молча, но оба чувствовали
ее в том, как хорошо, не страшно двоим.
И мертвая баба, теперь не пугающая, будто гово-
рила им: «Так, ребята, так!»
26
Утром продавали Мишкин пиджак на большой кир-
гизской станции.
Трофим сказал последний раз тоном опытного чело-
века:
— Четыре тысячи проси.
— Дадут?
— Не дадут — убавить можно. Первым покупать
буду я. Ты хвали хорошенько свой товар и меня нароч-
но ругай, если я стану дешево давать. Приял? Заходи
в народ.
Вошел Мишка в пеструю базарную гущу, держа на
руке отцовский пиджак, сбоку к нему придвинулся Тро-
фим:
— Громче кричи!
Мишка взмахнул пиджаком:
— Эй, купи, продаю!
Дал Трофим ему отойти немного, опять придвинулся,
громко спросил:
— Стой! Сколько просишь?
449
— Ты не купишь! — обернулся Мишка.
— А ты откуда знаешь?
— Денег у тебя нет.
— А ты мои деньги считал?
— Чай, так видать...
Трофим рассердился:
— Эй, шантрапистый осколок! Говори оконча*
тельно — сколько?
— Четыре тысячи.
— Уступка будет?
— Набалвашь тебя, чай, он не больно старый...
Стояли Мишка с Трофимом в пестрой базарной гуще
друг против друга, громко спорили, чтобы обратить вни-
мание на пиджак, но никто, ни один человек не хотел
остановиться около них. Поглядят издали — отвернутся.
Трофим сказал, повертывая головой:
— Хитрые, черти, не обманешь!
Уже падало веселое настроение, пиджак казался
плохим, ненадежным, и в минуту отчаяния думалось: ни-
когда не продашь его ни за тыщу, ни за полтыщу. В это
время подошел молодой парень чуть-чуть повыше Тро-
фима, уставился на ребят черными блестящими глазами.
Мишка взмахнул пиджаком:
— Купи!
Подвернулся киргиз с узенькой бородкой, выпятил
губы, разглядывая пиджак снутри и снаружи, по-русски
спросил:
— Сколько?
— Дешево отдаю, за четыре тыщи.
— Тыща!
Трофим из-за спины у киргиза крикнул:
— А кто здесь хозяин этому пиджаку?
— Я! — повернулся Мишка.
— Сколько просишь за него?
— Четыре тыщи.
— Продать хочешь или болтаться пришел?—строго
спросил Трофим.
— А тебе чего надо тут? — так же строго ответил
Мишка.
— Если хочешь продать, бери три тысячи с меня — и
больше никаких. Хочешь?
Посмотрел киргиз на нового покупателя, ч сплюнул,
разгорячился, начал подкладку пальцем ковырять.
Мишка по-купечески говорил:
450
— Не ковыряй, товарищ, матерья хорошая, два года
будешь носить.
Подступили еще киргизы, загалдели, зацыкали:
— Две тыща!
— Нельзя, товарищ, дешевле не отдам.
— Три тыща. Ну!
Трофим осторожно шепнул:
— Убавь одну!
Хлопнул Мишка киргиза по руке, как большой, на-
стоящий мужик, громко сказал:
— Прощай, пиджачок! Матерья больно хорошая.
С хлебом стало не страшно.
Нес его Мишка около сердца, крепко прижимая.
Глаза блестели радостью, губы от нетерпения подерги-
вались. Хотелось тут же, возле торговок, прямо на ба-
заре, вцепиться голодным ртом в большой каравай, гло-
тать непрожеванными кусками, но есть на базаре было
неудобно: рядом кружились голодные беженцы, смотрели
на хлеб голодными, провалившимися глазами, могли от-
нять, и Мишка с Трофимом, самые богатые люди теперь,
ушли обедать за станцию, в степь.
Хорошо светило солнце с высокого неба.
Вокруг блестели киргизские юрты.
Беззлобно лаяли собаки.
А главное — хлеб.
Мягкий, еще теплый каравай лежал на коленях
у Мишки, и от этого степь широкая, и небо над степью,
и дымок, и белые киргизские юрты тоже казались мяг-
кими, теплыми, успокаивающими.
— Ну, давай! — решительно сказал Мишка, запуская
острый ножик в хлебный мякиш. — Держи за мое здо-
ровье!
Сам он радостно перекрестился, принимаясь за еду,
удивленный взглянул на товарища:
— Ты что не молишься?
— Бросил.
— Зачем?
— Так, не хочется... Дай мне еще кусочек! Много,
убавь. Сразу не будем есть, оставим вперед.
Ели долго и все по маленькому кусочку. В животах
у обоих становилось тяжело после голодухи, тело нали-
валось покоем, сладкой, сытой ленью. Хотелось уснуть
под солнышком, забыться, ни о чем не думать. Мишка
протягивал ноги в широких лаптях, подолгу лежал с рас-
451
кинутыми руками. Потом опять садился, сонно глядя на
убывающий каравай, резал от него по маленькому ку-
сочку.
Трофим успокаивал:
— Пиджак не жалей! Только бы живым остаться —
лучше будет...
На станции после обеда долго пили холодную воду
у водокачки; широко подставляя под кран сытые отдох-
нувшие рты, начали умываться.
— Надо прифорснуться маленько!—говорил Тро-
фим, разглядывая грязное брюхо. — Давай руки песком
тереть!
— Голова больно чешется, — поежился Мишка.—
И вот тут все время ползает.
— Вошки?
— Угу!
— Ты не дразни их, они хуже будут кусаться...
Поиграли, побрызгались холодной водой, стало сов-
сем лещ<о. Наигравшись, Мишка лукаво прищурился:
— Ну, теперь ты сам хлопочи!
— О чем?
— Как на поезд нам попасть.
— А ты чего будешь делать?
«— Я тебя хлебом кормил...
27
Станция не сажала.
По вагонам, по вагонным крышам ходили солдаты
с ружьями, сбрасывали мешки, гнали мужиков с ба-
бами, требовали документы. Мужики бегали за солда-
тами, покорно трясли головами без шапок. Охваченные
тупым отчаянием, снова лезли на буфера, с буферов на
крыши, опять сбрасывались вниз и опять по-бычьи, с
молчаливым упрямством заходили с хвоста, с головы
поездных вагонов.
Мишку с Трофимом сгоняли четыре раза.
Четыре раза солдаты замахивались прикладами,
грозно кричали:
— Марш отсюда!
В тупике, около разоренного вагона, сидели трое му-
жиков, две бабы, девчонка, старик и угрюмый солдат
с деревянной ногой. Глядя на составленный поезд, ду-
452
мали мужики, что удастся, может быть, и им как-ни-
будь вскочить, уцепиться, выехать из страшного места,
но когда подали паровоз и вагоны с голыми, опорожнен-
ными крышами медленно пошли мимо депо в голубую
степь, один из мужиков в отчаянии сказал:
— Смерть теперь нам! Вперед не двинешься и назад
не вернешься. Куда идти?
— Пойдем на разъезд, — ответил другой. — Там
сядем.
— А посадят нас?'
— А на черта мы будем спрашивать!
— Не дойдем! — сказал солдат. — Силы не хватит...
Неожиданно поднялся третий мужик:
— Все равно, сидеть нельзя!
— Идти хочешь?
— Пойду один.
Старик, прилепившийся к мужикам, точно курица ла-
пами, разгребал песок дрожащими пальцами, осторожно
нащупывал камешки, клал на ладонь их, долго обнюхи-
вал грязным нечувствующим носом. Петра, высокий,
сгорбленный мужик, поглядел на старика с удивлением,
будто сейчас только заметил:
— Ты, дедушка, чей?
— Я, милок, и сам не знаю, чей, — губерню свою по-
терял...
— Едешь куда?
— Куда мне ехать? Сижу вот на этом месте пятый
денек, а тронуться не могу. С сыном ехали, ну, он помер
у меня, хочу с вами пристроиться.
— Мы пешком пойдем, здесь не сажают.
— Ну так что же! Я ходьбы не боюсь ребятушки,
только бы здоровье в ногах держалось маленько.
Я, бывало, по семьдесят верст отбачивал без пере-
дышки.
Бабы с девчонкой тревожно глянули в широкую пу-
гающую степь. Идти им страшно было и от своих от-
рываться страшно. Стояли они, покорные, вялые, пере-
хлестнутые лямками от холщовых сумок. Сидор, босой
мужик, мягко почвокал губами:
— Пойдем или нет?
— Пойдем! — откликнулся Ермолай. — А ты, де-
душка, как?
— Пойду и я потихоньку. Куда же деваться?
— Дойдешь?
453
— Можа, дойду, бог даст...
Сгрудились маленьким покинутым стадом.
Трофим решительно поглядел на Мишку...
’— Они идти хотят. Ты не боишься?
— А ты?
— Я пойду.
— Я тоже пойду...
— Дойдешь сорок верст?
Мишка поправил живот.
— Теперь я больше уйду..»
Высокий, сгорбленный Петра в распоротой шапке
шагнул передом, на минуточку остановился. Поглядел
в раздумье на станционную колокольню с желтым заго-
ревшимся крестом и, размахивая поднятой палкой, повел
остальных вдоль светлых, играющих рельсов в голубую
зовущую степь с синими верхушками гор — под тонкое
пение телеграфных проволок, под дряблый, нерадушный
звон вечерних колоколов.
Мишка с Трофимом шли ягнятами позади.
Они не спрашивали, возьмут ли их мужики, даже
с собой хорошенько не уговорились... Нужно было идти
ближе к Ташкенту, в сытый, хлебный край, скрываю-
щийся за далекими курганами, а станция не посадила,
сбросила с вагонной крыши, и пошли они без раздумья,
мелкими, веселыми шагами, не чувствуя страха. Все ка-
залось им, что мужики обернутся и скажут:
— Куда?
И тогда они ответят мужикам:
•— В Ташкент!
Мужики обертывались, но никто не спрашивал, куда
идут ребятишки, никому не было дела до них. Солдат,
переваливаясь на один бок, широко загребая деревянной
ногой, громко рассказывал:
— Вода, понимаешь, в Ташкенте больно холодная, и
видно все в ней, будто в зеркале... Ягода разная, как бы
не соврать, растет целыми десятинами. Идешь, к при-
меру, день — и все сады, сады, сады... Избы у каждого
без крыши, и канавки нарыты для пропуска воды.
— А хлеб почем?
— Хлеб дешевый. Если поработать сдртам недели
две, пудов двадцать можно загнать на готовых
харчах...
Старик, девчонка, бабы, три мужика и Мишка с Тро-
фимом, ободренные веселым голосом хромого солдата,
454
доверчиво смотрели на синие верхушки гор и шли впе-
ред неровным растянутым треугольником на холодную
прозрачную воду, на дешевый, волнующий хлеб с зеле-
ными бесконечными садами.
23
Широко легла далекая, утонувшая в мареве степь
с редкими курганами. Одиноко кружат степные орлы
над мертвыми, побуревшими солончаками, опять са-
дятся на древние могилы степных князей и сидят, как
верные часовые, с черными неподвижными головами.
Крупные нетронутые репейники цепью растянутой ухо-
дят в овражки, выбегают на бугры, тревожат мертвым
своим одиночеством, вековым ненарушенным покоем.
Поднялось, опять опустилось солнце, короче стали полу-
денные тени.
Солдат с деревянной ногой уже не рассказывал о хо-
лодной прозрачной воде, а красными, воспаленными гла-
зами злобно оглядывал мертвые степные просторы, без-
надежно говорил:
— Не дойдем мы до станции — силы не хватит!
Бабы, девчонка криво разевали сухие изморенные
рты, брали друг друга за руки, молча плакали от гне-
тущего страха. Только Сидор, босой мужик, и Ермолай
с жесткими нечесаными волосами шли упорно, выгнув
черные, обветренные шеи, широко двигали избитыми но-
гами. Петра, шагавший впереди, высоко поднимал до-
рожную палку, вглядывался из-под ладони вдоль свет-
лых убегающих рельсов, успокаивающе говорил:
— Вот там чернеет чего-то.
А когда доходили до черного пятнышка, радующего
глаз, опять тоска сжимала сердце: это было брошенное
киргизами становище, куски размытой глины — тяжелый,
грустный труд беглецов. Опять Петра вглядывался из-
под ладони, опять отыскивал пропавшую станцию.
Станция не показывалась.
Только проволока телеграфная гудела, да изредка
попадались опрокинутые вагоны, брошенные под откос,
и сломанные колеса от пушечных передков — последний
след минувшей гражданской войны, прошедшей степью
от Туркестана до Самары.
Мишке с Трофимом было легче других.
455
Они уже поели, напились, отдохнули и в карманах
несли по большому куску оставшегося хлеба.
Иногда украдкой Мишка бросал в рот маленькую
крошку, шепотом говорил Трофиму:
— Нам с тобой гожа, а?
— Дойдем! — успокаивал Трофим. — Только бояться
не надо.
Старик шел левым боком вперед, с трудом волоча
одеревеневшие ноги. Сделал он на бугорке последний вы-
дох из мыльных ноздрей, слабо улыбнулся добрыми лу-
чистыми глазами, покрестился на степное плывущее ма-
рево.
— Стойте, ребятушки, туго мне!..
Поплыла, закачалась степь в изумленных глазах, по-
плыли, закачались репейники, завертелись столбы теле-
графные, звонче запела в ушах телеграфная прово-
лока.
— Стойте, ребятушки, я не дойду!
Растопырился старик, молча сел на сухую, горячую
землю.
Солдат присел около старика, крепко стиснул ру-
ками деревянную ногу.
— Постойте, братцы, я тоже не дойду!
Сели и Сидор с Ермолаем. Петра неожиданно бро-
сил палку:
— Ой, дорога наша, дороженька, далекий путь!..
Он нашарил в кармане остаток табаку, закурил, на-
рочно начал глотать едкий, режущий дым, чтобы успо-
коить пустые, голодные кишки. После трех затяжек
у него закружилась голова, и он, раскинув руки, опро-
кинулся на спину. Сидор с Ермолаем сидели, уткнувшись
подбородками в поднятые колени, бабы с девчонкой ле-
жали врастяжку. Старик свернулся комочком, положив
кулак под голову, а солдат, разглядывая деревянную
ногу, глухо сказал равнодушным мертвым голосом:
— Пропадем!
Мишка со страхом смотрел на мужиков, упавших
в дороге, вглядывался в степь без жилья и людей —
сердце у него замирало. Хорошо, если станция близко,
а если до нее еще сорок верст? Оторвал он маленькую
крошку в кармане, бросил в рот, чтобы хлебом успо-
коить налетевшую тревогу. Солдат посмотрел на Миш-
кин карман голодными глазами:
— Хлеб у тебя?
456
Мишка взглянул на Трофима.
Трофим лениво сказал, не теряя спокойствия:
— Какой там хлеб — глину жует!
Зашевелился старик, подняли головы Сидор с Ермо-
лаем, а бабы с девчонкой взглянули тоскующими гла-
зами, и голодная поднятая кучка несколько секунд си-
дела встревоженным полукругом, выставив уши. Или
ветерок принес обрадовавшее слово, или земля шепнула
его измученному телу.
— Где хлеб? — спросил Петра.
Солдат показал на Мишку:
— Вот у этого человека.
Мишка испуганно поднялся, готовый на смертную
битву за последнюю радость, загорелся глазами, будто
хорек, вытащенный из норы. Неожиданно поднялся
Трофим, взял товарища за руку:
— Айда, дорогу мы знаем!..
Мишка с Трофимом попятились в сторону, потом
остановились, не спуская с мужиков встревоженных
глаз. Мужики тоже смотрели на них в глубоком раз-
думье, точно готовились к нападению.
Позади показался дымок.
На закатном солнце обозначился остов вытянутого
поезда, коротко блеснули рычаги паровоза.
— Идет! — крикнул Петра. — Сюда идет!
В новой тревоге от дальнего поезда мужики приго-
товились встретить его на небольшом косогоре. Решили
уцепиться за подножки, повиснуть на задних буферах,—
только бы не остаться на ночь в страшной степной ти-
шине.
Солдат в тоске своей пощупал деревянную ногу:
— Я не прыгну, товарищи!
Баба обрадовалась, что солдат не прыгнет, робко ска-
зала:
— Не прыгайте, мужики, убиться можно.
Ей не ответили.
А она, пораженная мыслью остаться в степи, в отчая-
нии просила бога, чтобы солдат не прыгнул и мужики
остались бы вот такой артелькой.
Поезд работал все ближе из-за крутого поворота.
Проворно работал паровоз стальными локтями, фукала
паровозная труба черным разинутым ртом, нежно таял
белый паровой дымок.
Петра наклонился к старику:
457
— Дедушка, машина идет! Ты встанешь?
— Чай, встану как-нибудь.
— Прыгайте на разное место! Кучей не стойте!
Трофим наказывал Мишке:
— Когда будешь хвататься, становись головой к па-
ровозу, чтобы воздухом не сшибло.
<— А ты вместе сядешь?
— Где придется, я половчее тебя.
Поезд шел почтовый и чуть-чуть замедлил разма-
шистый ход на косогоре. Фыркнул паровоз— крутоло-
бый чугунный мерин, — глянул на собравшихся свет-
лыми стеклами передних фонарей. Зашипел горячий пар,
пущенный машинистом, откинул в сторону бабу с дев-
чонкой, уронил старика под откос. Мишка, как во сне,
услыхал голос Трофима:
— Прыгай!
И опять, как во сне, увидел бегущую навстречу под-
ножку у зеленого вагона, протянул вперед руки, громко
без памяти закричал:
— Дяденька!
Впереди мелькнула Трофимова голова, заболта-
лись в воздухе Трофимовы ноги. Когда Мишка почув-
ствовал, что Трофим попал на поезд, скрытая мужицкая
сила, глубоко запрятанная в маленьком теле, распря-
милась огромной пружиной, подбросила его вперед. Про-
скочила еще одна и еще одна подножка. Из окошек ва-
гонных высунулись люди и все глядели на бегущего
вдоль поезда мальчишку в широких лаптях, что-то кри-
чали ему, а он, тяжело раздувая горячими ноздрями, хо-
тел было ухватиться за последнюю подножку, но сила
невидимая оторвала его от земли, опрокинула, смяла,
бросила в черную глубокую яму...
29
Медленно тянулись друг за другом не попавшие на
поезд: Ермолай, Петра, солдат с деревянной ногой, бабы,
девчонка. Отстают, перекликаются, разорванные темной
пугающей ночью, упорно шагают вперед. Нащупы-
вают травку, растирают на зубах. Отдохнувши, опять
ползут настойчиво, непреклонно. Опять солдат рассказы-
вает о холодной прозрачной воде и зеленых садах, а ста-
рик, убаюканный пройденными верстами, покорно ле-
458
жит в высокой сухой траве под откосом*. В последний
раз окидывает мыслями потухающие родные поля, чув-
ствует запах родной земли и в порыве последней любви
целует степную киргизскую землю, как свою, люби-
мую— старческими умирающими губами.
— Уроди, кормилица, на старых, на малых, на ра-
дость крестьянскую!..
Подошло, опахнуло мужицкое и страшное горе, рас-
цвело невиданной радостью: со всех сторон, со всех до-
рог идут-ползут трудящиеся из больших и малых сел, из
больших и малых деревень. Каждый несет по зернышку,
кладет свое зернышко в родную голодную землю. Цве-
тет голодная земля колосьями хлебными, радуется, изму-
ченная, радостью измученных. Широко расходятся моло-
дые весенние всходы, наряжается земля в зеленое
платье. Улыбается старик зеленому полю — замирает
улыбка на вытянутых посиневших губах.
— Кормилица, уроди!
Проходят поезда, проходят пешеходы, сброшенные
с поездов, никто не видит радость человеческую на мерт-
вых губах старика, упавшего в дальнем пути.
— Слава тебе, безыменная!
30
Увидел Мишка небо черное, украшенное крупными
звездами, степь черную, без единого звука, понял не
сразу. Посидел, будто после крепкого сна, почесал ушиб-
ленную голову, и вдруг охвативший ужас сковал ему ра-
зум и сердце: ушли, бросили его, никому он больше не
нужен, и никто не выведет его из страшного места.
Волосы у Мишки поднялись вместе с кожей, мысли
помутились, глаза застыли. Прямо на него двигалась
огромная тень. Тряхнул он головой, тень раскололась
на две половинки, и у каждой половинки выросли руки,
ноги и большие киргизские головы в страшных качаю-
щихся шапках. Шли киргизы в страшных шапках, под-
прыгивали, вытягивались, шуршали травой, скалили
зубы, махая руками.
Дикий крик одиноко прорезал черную ночную ти-
шину:
— Мамынька!
Бежал Мишка недолго.
459
Сзади его хватали киргизские руки, в уши кричали
страшные киргизские голоса:
— Смерть!
Перед глазами обезумевшими вырос огромный репей
огромным великаном — бежать больше некуда. Упал
Мишка на колени перед великаном и лежал в покорном
молчании до самого утра.
Это была не смерть.
Смерть ходила по вагонам, по вагонным крышам, по
грязным канавкам, где валялись голодные. Смерть на-
стигала солдата с девчонкой, ушедших вперед, разы-
скала их на маленькой станции, куда они торопились,
а у Мишки в кармане лежал кусок припрятанного хлеба
и тысяча рублей, оставшаяся от проданного пиджака.
Когда обогрело утреннее солнце, страх ночной про-
шел, остались только стариковская слабость да сильная
головная боль. Глаза смотрели безжизненно, ни о чем не
думалось. Вспомнилась мать, но мысль о ней тут же по-
тухла. Все проходило в тяжелом неразгаданном сне.
Тупо, равнодушно вытащил Мишка из кармана хлеб,
тупо, равнодушно съел его. Хотел было лечь, тихонько
поплакать на чужой, нелюдимой земле, а тело опять на-
лилось крепостью, брови нахмурились, вспыхнула упря-
мая воля:
— Пойду!
Четко обозначились дальные горы, телеграфные
столбы и две дорожки светлых, играющих рельс. По-
смотрел Мишка в обе стороны, сердце забило тревогу:
«Куда идти? Где Ташкент?»
Если в ту сторону— можа, не там...
И если в эту сторону — можа, не там...
Горят, играют рельсы на утреннем солнце, идет по ним
тяжелый страх от широкого, безграничного простора, от
далеких синих гор.
Кто увидит Мишкины слезы, если нет кругом ни
одного человека?
Кто поможет Мишке, если стоять на одном месте це-
лый день?
Прошел он шагов двадцать в одну сторону — остано-
вился.
«Заплутаешься!»
Прошел шагов двадцать в другую сторону — опять
остановился.
«Не выберешься».
460
Мать, наверное, думает: едет сынок или умер давно?
Может быть, и сама умерла, и Яшки с Федькой нет
давно. Стоял Мишка в глубоком раздумье, плотно сжав
побледневшие губы, сразу припомнилась вся жизнь и
первый день, когда из дому вышел. Неужто погибать
придется? Глянул на светлые рельсы, в изумлении за-
мер: вчера поезд шел на этот косогор, значит, и идти
нужно на этот косогор, в эту сторону.
Стянул Мишка покрепче солдатский ремень, нахло-
бучил старый отцовский картуз, пощупал ножик в кар-
мане, смелее двинулся на синие дальние горы.
Широкие степные просторы.
Страшно в них человеку, плывущему маленькой точ-
кой, тоскливо и орлам степным сидеть на древних моги-
лах князей... Нет в степях человека, нет и голоса челове-
ческого. Репьи, кустарники, голые солончаки, изрезан-
ные глубокими трещинами, да редкий верблюжий
помет. Попадется бумажка, выброшенная из вагонного
окошка, — забелеет сиротливо покинутой гостьей, при-
жавшись у корней сухой травы; глянет радостью вол-
нующей брошенный мужицкий лапоть, занесенный из
далекой, неведомой деревнщ из далекого, неведомого
села. Вздохнет Мишка, вспомнит Сережку с Трофимом,
Яшку с Федькой, мать, лопатинских мужиков, лопатин-
скую речку и опять упорно двигает ногами, крепче стис-
кивает в тревоге побледневшие губы. Если нападут
сейчас киргизы на него, скажет он им: «Зачем вам уби-
вать меня? Возьмите мой ножик, ремень с картузом,
штаны, рубашку и тысячу рублей, только не уби-
вайте».
Течет по степным просторам воздух, пронизанный
солнцем. То морем, то речкой огромной течет, то ма-
леньким ручейком. Ухватит зоркий, настороженный глаз
далекие призраки, похожие на дерево или на человека,
на плывущую деревню с соломенными крышами, как
в Лопатине, а через минуту ни дерева, ни человека нет,
ни обманувшей, растаявшей деревни.
Напрягает Мишка последние силы, пересчитывает
столбы телеграфные, упрямо, настойчиво думает: «Не
бойся, чай, ты не больно богатый какой!»
Уже двести столбов отсчитал, перевалил на третью
сотню. Упрямая воля к жизни, ведущая по шпалам ма-
леньким встревоженным червяком, укрепляла Мишкины
ноги, и он даже подпрыгивал, пробовал легонько
461
бежать. Когда вспомнил про Трофима, попавшего на
поезд, горькое чувство обиды подхлестывало еще силь-
нее. Теперь он один, бросили его, не пожалели, и на-
деяться ему надо только на себя. Пускай думают, что
он умер, пускай едут в вагонах, если такие люди нахо-
дятся, которые товарищей бросают, а он все равно идет,
и никто его не тронет, потому что он бедный, и это, на-
верное, сразу все видят. Прошел он двести столбов и еще
двести пройдет; до тех пор будет идти, пока не умрет.
А умрет, куда же деваться? Значит, такая судьба у на-
шего брата: терпеть надо...
С косогора из широкой долины глянула маленькая
станция. Со станции навстречу двинулся поезд, чер-
ным столбом вылетел паровозный дым. Мишка от ра-
дости крикнул:
— Вот она где!
А когда поравнялся с поездом, помахал мужикам
старым отцовским картузом, стоя под откосом, проводил
заблестевшими глазами последнюю площадку, нагружен-
ную хлебом, вспомнил про мешки, которые у него украли,
и опять маленьким шариком покатился вдоль светлых,
играющих рельс.
— Теперь я не боюсь!
Навстречу шли три лохматые собаки. Людей кругом
не было. Остановился Мишка, и собаки остановились,
одна легла между рельсами. Мишка оробел и от страха,
что собаки могут разорвать его, начал молиться богу,
припоминал молитвы, но все молитвы перепутались, а со-
баки не уходили. Тогда Мишка с замиранием сердца
пошел в обход, согнулся, стараясь сделаться еще меньше
ростом, чтобы собаки не заметили его, а одна собака
тоже пошла в ту сторону. Остановился Мишка, и собака
остановилась. Вспомнил он про медведя и двоих ребя-
тишек в лесу: если притвориться мертвым, медведь не
тронет. Может быть, и собаки не тронут, если умереть
нарочно? Присел Мишка на голые солончаки, осторожно
вытянул ноги, чуть-чуть приподнял голову и зорко на-
стороженными глазами стал наблюдать за собаками. От
Мишкиного страха собаки выросли, стали огромными,
с длинной черной шерстью, с длинными оскаленными
зубами, и вдруг растаяли. Потом поднялись на воздух
тремя черными тучами, пробежали над Мишкиной го-
ловой и залаяли далеко-далеко. Наклонилась ближе
к земле Мишкина голова, легла будто в мягкую по-
462
душку, глаза закрылись. Спал он крепко, долго, видел
во сне трех собак, но это были совсем не киргизские
собаки, а свои, лопатинские, и сам Мишка лежал не на
голых солончаках в далекой степи, а дома, в Лопатине,
на берегу лопатинской речки. Собаки лизали ему руки,
ложились на спину, вертели хвостами. Одна из них
спросила человеческим голосом:
— Ты уже вернулся из Ташкента?
Поглядел он хорошенько на собаку, а это лошадь
около него. Встала она на колени перед ним и тоже
говорит человеческим голосом:
— Садись — довезу!
Сел Мишка верхом, поехал. Лошадь вдруг взвилась
на дыбы, вскинула задние ноги, сбросила Мишку под
себя, ударила копытом прямо в лоб.
Кто-то сказал, трогая Мишкины ноги:
— Вставай, мальчишка! Или умер?
Не было кругом ни собак, ни людей, только слабо
глянул в лицо станционный огонек. Очнулся Мишка,
нащупал ножик в кармане, тысячу рублей, вскочил,
встряхнулся, побежал. Станция была маленькая, без-
людная; между рельсов валялись арбузные корки, втоп-
танные в пыль, выброшенные мосолки. Кто-то ехал тут,
кто-то дальше проехал, остались только развороченные
жарнички из натасканных кирпичей, мусор, навоз и тем-
ная безголосая тишина. Мимо прошли два киргиза, по-
глядели на Мишку. Поглядел ц Мишка на них, поднял
два мосолка. Третий киргиз пошел прямо на Мишку,
растопыривая руки. Попятился Мишка к станционным
дверям, и киргиз пошел за ним. Ноги у Мишки задро-
жали, в голове помутилось. Стиснул он в кармане но-
жик, тысячу рублей — последнюю радость свою, нырнул
в станционную дверь. Увидел вторую дверь в задней
стене, толкнул тихонько, выскочил на заднее крылечко,
шагнул вдоль палисадника... Сердце билось, ноги пута-
лись, а там, на станции, кто-то кричал громким голосом,
и нельзя было разобрать ни одного слова. Никогда
раньше не боялся Мишка, теперь вдруг оробел и голову
повесил, не зная, что делать. Помилуй бог, если убьют
его или рубашку последнюю снимут? Заступиться не-
кому, и закричит — никто не услышит...
Отдышался немного, пополз. Прошел станционные
постройки, вышел за станцию, остановился около ма-
ленькой будки.
463
Будка была без жильцов и окон, с ободранной
жестью на крыше, с развороченной печкой, с выдран-
ными половицами. Из окошка разбитого вылетела ноч-
ная птица — ноги у Мишки подкосились. Когда успо-
коился немного, робко вошел в нежилую, пугающую
будку.
Ночь проходила медленно.
Разыгрался ветер, рвал остатки жести на крыше, шу-
мел, колотил в стены, подвывал собачьими голосами.
Потом ударил гром. Вспыхнула будка, словно загоре-
лась вся. Метнулась по углам ломаная молния острыми
растопыренными ножницами, и опять в выбитые стекла
полезла черная ревущая ночь.
Полил дождь.
Мишка сидел в уголке, всовывая руки в рукава ру-
башки, вздрагивая, ежился, и вся его прежняя жизнь,
простая, нестрашная, казалась теперь оторванной, поте-
рянной навсегда. Где он сидит сейчас? Ближе к Ло-
патину или ближе к Ташкенту? И понять не мог,
куда попадет скорее. Может быть, никуда не попадет,
потеряет дорогу, обессилит, останется вот в этой
степи.
Резкий паровозный свисток оборвал встревоженные
мысли, поднял Мишку на ноги, вытолкнул из будки
в мокрую шуршащую траву, под дождь и ветер, под
удары грома и, слепнущего от вспыхивающей молнии,
повел на маленькую станцию; там, прорезывая темноту,
горели два паровозных фонаря.
Падая, разъезжаясь лаптями по осклизлой земле,
спотыкаясь о шпалы, не думая о дожде и ветре, тол-
кающем из стороны в сторону, бежал Мишка к поезду,
идущему в Ташкент. А поезд этот обязательно на
Ташкент, потому что фонари глядят в эту сторону.
И если Мишка не уедет сейчас, то пропадет в этих
местах, и уйти ему от своей смерти будет некуда...
Около паровоза копошились люди, стучали молот-
ками.
Повертелся Мишка за спиной у них, побежал вдоль
вагонов, царапая руками запертые двери. Еще больше
испугался, что его не посадят, и опять очутился около
паровоза.
Кто-то крикнул из темноты:
) — Не стой под ногами!
Отошел шага два, снял картуз.
464
Лил дождь, шумел ветер, а Мишка стоял, будто
нищий, около паровозной подножки, держа в руке ста-
рый отцовский картуз. Когда подошел машинист с за-
жженной паклей и багровый свет, потрескивая на дожде,
упал на Мишкино лицо, вырывая его из темноты,
Мишка громко сказал:
— Дяденька, миленький, пожалей меня Христа ради!
Машинист не ответил.
И опять Мишка стоял.
Лил дождь, шумел ветер, стучали молотками по ко-
лесам, а он с непокрытой головой, дрогнущий от холода
и отчаяния, жался около паровозной подножки. Опять
показался машинист с зажженной паклей, и опять
Мишка схватил его за руку:
— Дяденька, пропадаю я здесь!
Машинист остановился:
— Ты кто?
А Мишка и сам не знает, кто он теперь: мальчишка
голодающий из Бузулукского уезда. За хлебом поехал
в Ташкент, а товарищи бросили его, и в вагон гЩкто
не сажает. Нельзя ли с Ними пристроиться как-нибудь?
Он заплатит маленько, есля чего надо: ножик есть
у него и деньгами тысяча рублей.
— Подожди! — сказал машинист. — Кондуктор сей-
час придет, его проси хорошенько.
Мишка встал на колени, протянул вперед руки и
голосом отчаяния, голосом тоски и горя своего мучи-,
тельно закричал:
— Дяденька, товарищ, Христа ради, посади, пропаду
я здесь!
Машинист не ответил.
Долго ползал под колесами, стукал молотками, по-
том ушел на станцию.
Лил дождь, шумел ветер, Мишка стоял около паро-
возного колеса, мучая себя нерешительностью, и. вдруг,
никого не спрашивая, полез на паровоз. Согрел
немножко спину о паровозную «трубу», повернулся
грудью. Согрел немножко грудь, опять повернулся
спиной.
К утру дождь перестал.
Стало тихо, туманно, мертво.
В бледном рассвете выступала станция, киргизские
юрты за станцией.
Пришел машинист.
16 Зак. № 426
4П5
Увидя Мишку с посиневшим лицом, мутные Миш-
кины глаза, налитые страданием, спросил несердитым
голосом:
— Едешь, товарищ?
Мишка жалобно ответил:
— Дяденька, не гони' меня отсюда! Замерз я всю
ночь...
— Куда же ты едешь, голова с мозгами? Ведь ты
пропадешь!..
Легче бывает, когда люди разговаривают, и смелости
больше. Рассказал Мишка, куда и откуда он едет,
немножко прихвастал: ему бы только до Ташкента
доехать, там у него родственники есть. Два раза писали
они Мишкиной матери и очень просили, чтобы он
приехал. Если, говорит, понравится ему у нас, совсем
может остаться, а есЛи не понравится — домой вернется
с билетом.
Слушал машинист, улыбался, разглядывал посинев-
шие Мишкины губы, неожиданно сказал:
— Идем со мной!
Не сразу поверил Мишка, а когда очутился около
паровозной топки и увидел невиданные рычаги с коле-
сами, гайки, ключи, ручки и огненное паровозное жерло,
полыхающее жаром, в голодной голове вспыхнули тре-
вожные мысли: куда он попал?
Потянул машинист одну ручку — наверху, над
крышей, гудок засвистел. Повернул другую ручку —
паровоз вдруг тронулся, поплыл: сначала легко, осто-
рожно, потом разошелся вовсю и летел вперед с такой
быстротой, что у Мишки сердце заходилось и мысли
в голове кувыркались. Какая сила несет их и кто все это
устроил?
На подъемах паровоз шел тише, потом опять пу-
скался во весь дух, а машинист в черной рубашке
смотрел из окна, покуривая трубочку. Другой человек
подкидывал дров в огненную глотку и, нарочно под-
хватывая Мишку, кричал машинисту:
— Товарищ Кондратьев, бросим его вместо полена?
•— Кидай! — смеялся Кондратьев. — Жарче будет...
Смотрел Мишка на новых людей с большим уваже-
нием, видел, что они шутят с ним, и от этих шуток, от
паровозного тепла становилось легче, веселее. А когда
товарищ Кондратьев отвернул маленький краник, наце-
дил из него кипятку в чайник, напился сам и подал
466
Мишке жестяную кружку, Мишка, тронутый любовью,
задушевно сказал:
— Давно я не пил горячей воды!
Кондратьев отломил корочку хлебца:
— Хочешь?
Нет, тут не корочка виновата.
Не наелся Мишка, мало было ему черствой корочки,
но не хлеб согрел его радостью, а добрая ласка, хоро-
шая улыбка на лице у товарища Кондратьева. Сидел он
будто дома, на горячей печке, часто дремал, забывался,
сонно нащупывал ножик в кармане, спокойно и ра-
достно думал: «Какие хорошие люди!»
. Когда стали подъезжать к большой станции, Кон-
дратьев сказал:
— Ты, Михайла, сейчас прыгнешь отсюда: паровоз
в депо пойдет, на починку. Починим хорошенько его,
чтобы он не дурачился у нас, опять поедем в Ташкент...
Теперь уже недалеко осталось-
Мишка поник головой.
— Ты что напугался?
— Люди больно не всякие! Который посадит, кото-
рый нарочно гонит.
Кондратьев похлопал по плечу:
— Не бойся, Михайла, со мной поедешь, только со
станции далеко не бегай. Как пойдет паровоз из депо,
свистну я тебе два раза в этот свисток, ты и беги ко
мне. Понял? Не увидишь меня около паровоза — жди...
— Ну ладно, дяденька, я так и сделаю.
— Угу!..
— А пока мужиков наших на станции погляжу,
можа, кто попадется. Вы папиросы курите?
— Зачем?
— Можа, я вам папирос куплю?
Кондратьев улыбнулся:
— Если купишь мне папирос, я тебя не посажу...
На станции Мишка ласково поглядел в лицо ему,
нехотя прыгнул с паровоза, присел за вагонами, ра-
зулся, вытащил оборины из лаптей, лапти растрепанные
бросил, а чулки, связанные обориной, перекинул через
плечо и босиком, в глубоко посаженном картузе, пошел
на базар. Сразу не хотелось давать большую цену за
хлеб, и Мишка все приценивался у разных торговок,
словно мужик, покупающий лошадь. Цены были везде
одинаковые, страшно хотелось есть, особенно при виде
467
караваев, и, поглядев в последний раз на припрятанную
тысячу, купил он большой кусок ситного. Съел половину,
отяжелел, раздулся, утомленно подумал: «Будет, завтра
доем!»
Мимо пронесли мужика на носилках. ,
Поглядел Мишка на русую бороду, на синие штаны,
па голые почерневшие пятки, вобрал в себя чужую пе-
чаль, погрустил над умершим: «Все-таки я счастливый
человек: он вот умер, а я еду потихоньку...»
За станцией сидели мужики, бабы, девчонки — це-
лое голодное стадо. Мишка спросил двоих мужиков:
— Вы откуда едете?
Мужики не ответили.
Мишка рассердился:
— Что же вы не скажете?
Тогда один мужик сказал:
— Ты, мальчишка, не лезь, без тебя тошно...
А другой добавил:
— Четыре дня токуем на этом месте — не до раз-
говоров тут...
И Мишка сказал, как большой, настоящий мужик:
— Я тоже сидел не хуже вашего, в степях один ноче-
вал, пешком шел.
— Как же ты шел?
— Шел вот; нужда заставила.
— Болтаешь не знай чего! — покосились мужики.
Мишка поправил старый отцовский картуз, начал
рассказывать, как его бросили товарищи, как он ноче-
вал одну ночь прямо в степи, а другую — в будке, и
никого с ним не было. Потом попался машинист^то-
варищ Кондратьев, посадил его на паровоз, поил чаем
из своего чайника и хлебца немножко давал. Будь та-
ких людей побольше, давно бы все доехали.
Рассказывал Мишка спокойно, голосом уверенным,
твердым и сам от этого казался ростом выше. Мужики
слушали внимательно, задние подвинулись ближе, смо-
трели в лицо рассказчику, а он, довольный и сытый от
съеденного хлеба, помахивал парой чулок, стоял среди
мужиков, как маленький проповедник, укрепляющий
верой и бодростью на далекий и неоконченный путь.
Увлеченный вниманием, начал хвалиться:
— Пойду сейчас на паровоз сяду!
— На какой паровоз?
— К товарищу Кондратьеву.
468
И пошел.
Обернулся к мужикам, подумал: «Завидно им ма-
ленько!»
Бегали два паровоза маневровых, резко гудели
свистки, отцеплялись вагоны, лязгали буфера, парово-
зам подсвистывали стрелочники в тоненькие рожки.
Увидя кондуктора с двумя флажками за поясом, Мишка
спросил:
— Это, товарищ, куда паровозы пойдут?
— К матери в штаны! — сказал кондуктор.
- Ну?
— Вот тебе и ну!
Оба засмеялись.
Кондуктор пошел дальше, а Мишка стоял на горячем
рельсе босыми ногами. Мимо прошел красноармеец
с винтовкой, Мишке и с ним захотелось поговорить:
— Товарищ, сколько сейчас часов?
— А тебе сколько надо?
— Два есть после обеда?
— Есть! — сказал красноармеец. — Два больших и
третий маленький.
Мишка не сердился: шутят с ним, и сам он шутит.
Вчера маленько напугался, нынче после пищи веселее
стало. Хорошо, если бы каждый день съедать по такому
куску...
Около будки стоял стрелочник с медным рожком
в руке. Рожок был начищенный, светлый, а стрелоч-
ник— с большой бородой и глазами — не сердитый.
Подошел Мишка поближе к нему, от нечего делать
сказал:
— Товарищ, ножик не купишь у меня?
— Зачем мне его?
— Можа, годится куда.
— Ну-ка, покажи!
Прежде чем отдать ножик, Мишка поднял с земли
толстую щепку:
— Порежь, попробуй, как бритва берет!..
Попробовал стрелочник — ножик острый.
— А ты его не украл?
Мишка обиделся: это же его собственный ножик,
отец покойный привез из солдатов, и если бы не нужда,
он бы его ни за что не продал, потому что таких ножей
не найдешь, особенно здесь. Даже в Бузулуке у них,
наверное, нет таких...
469
— В каком Бузулуке?
— Город такой, меньше Самары!
Разговаривали долго.
Ножик Мишка не продал, но не было пока и нужды
большой. Кое-где он протягивал руку за милостыней,
снимал старый отцовский картуз и спокойно, совсем
не жалобно, говорил:
— Дайте кусочек хлебца!
Ему кричали:
— А ну тебя к чертям, мальчишка, надоели вы, как
собаки!
Раньше бы Мишка рассердился, но теперь просил
он не от голода, не от пустых, голодных кишок — ма-
ленько озорничал: в кармане у него лежал маленький
кусочек, и ходить с ним было не страшно. Только в од-
ном вагоне сразу два человека раздобрились: один, чи-
тавший -книжку, бросил яблочную сердцевину с боль-
шим червяком, а другой, в синих очках, насыпал подол
арбузных корок. Мишка обрадовался, ел арбузные
корки прямо с кожурой, раздулся и, лениво шатаясь
с отяжелевшим брюхом, совсем не заметил, как день
наклонился к вечеру: легли вечерние . тени, зажглись
фонари.
Около агитпункта играла гармонь.
Из толпы собравшихся выскочил молодой мужик,
ловко раздвинул круг, ударил шапкой о землю, топнул
ногой, обутой в мордовский лапоть, весело крикнул
гармонисту:
— Поддавай паров!
Потом и собравшимся крикнул:
— Сторонись, товарищи-ребята, сейчас буду нужду
давить! Николай, тряхнем перед смертью, все равно
скоро умирать будем...
Гармонь перешла на камаринского.
Хлопнул мужик в ладони, изогнулся, присел, выбро-
сил ноги, двинулся задом на пятках, завертелся на
носках, ухнул, ахнул, неожиданно сел, *кувырнулся через
голову, пошел растопыркой.
— Э-эх, рассукин сын камаринский мужик, ты за-
чем, зачем головушкой поник?
Играла гармонь, плясал веселый мужик, а с путей
несли раздавленную бабу, залитую кровью. Или не-
чаянно попала она под колеса маневрового поезда, или
470
сама бросилась с тоски и голода — никто этого не знал,
никто об этом не спрашивал. Увидел Мишка только
голову с длинными распущенными волосами, висели они,
как у зарезанной овцы, и тяжелый страх, горькая
недетская жалость сдавила Мишкино сердце. В слабом
свете ночных фонарей ходил он, удрученный, смятый
новыми мыслями, и везде видел надоевшее черное горе:
плдкали бабы, скулили ребята, злобно ругались мужики,
а паровоз из депо не приходил.
Устал Мишка, клонило ко сну, но спать не ложил-
ся: уснешь —опять останешься на этом месте.
И ночь прошла, и утро глянуло мутными глазами,
а паровоз не приходил. Не видно и товарища Кон-
дратьева.
«Неужто обманул? Неужто один уехал?»
Длинной вереницей стояли вчерашние вагоны, в ва-
гонах еще спали, спросить некого, а сам Мишка не мог
догадаться: эти вагоны или другие пришли? Стало до-
садно и страшно. Ехал-ехал он, шел-шел—опять
несчастье. Наверное, никогда не доедет и где-нибудь
обязательно пропадет, потому что ошибки во всем
выходят у него. Надо бы ему на этом месте дожидаться,
а он ушел — гармонь прослушал.
Эх, дурак, дурак.
31
Широко разрумянилось небо за станицей, и тоска
Мишкина, как перед смертью, ущемила ему разболев-
шееся сердце. Хотел он заплакать от досады, дернуть
себя за волосы, но из депо, попыхивая трубой, весело
вышел отдохнувший паровоз, громко вскрикнул в ут-
ренней тишине, и сердце Мишкино запрыгало воробьем:
«Идет, миленький, идет!»
Отбежал в сторону Мишка, чтобы колесами не за-
давило, а в окошечко из паровозной будки товарищ
Кондратьев глядит, и в зубах у него вчерашняя тру-
бочка. Увидал он Мишку, крикнул чего-то, но Мишка
не расслышал, йобежал по шпалам за паровозом. Обер-
нулся паровоз назад, стал пятиться к вагонам, стукнул
их, остановился. Опять товарищ Кондратьев крикнул
Мишке, шмыгающему носом:
— Ну, Михайла, едем!
471
Сразу зачесалось все тело у Мишки, а слова какие
сказать — не найдет. Поправил картуз, поскоблил шею,
громко ответил:
— Я всю ночь не спал!
Засмеялся товарищ Кондратьев:
— Ты молодец, я знаю. Лезь скорее, а то один уеду.
В это время Мишка был самый счастливый человек
па всем свете.
Опять, как на прежних станциях, бегали мужики,
бабы, кричали, плакали, просили посадить, а он спо-
койно сидел в уголке на полу, да не где-нибудь, а на
паровозе, и не просто сидел, а все время улыбался.
Вспомнил Сережку с Трофимом, подумал: «Вот бы
когда показаться им!»
Повернул товарищ Кондратьев рычажок—медленно
пошли назад станционные постройки. Не вытерпел
Мишка, вылез из уголка и, довольный, веселый и гор-
дый, выглянул в узенькую дверь: увидел двоих мужи-
ков, бегущих вдоль паровоза, бабу с ребенком, красно-
армейца с ружьем, услыхал плач...
Еще быстрее побежали наЗад фонари, деревья, ста-
рые вагоны без колес, пеленки на вагонах, дрова, те-
леги, доски — в лицо глянула веселая, голубая степь.
Протянулись озера в зеленых камышах, светлые реки
(арыки), опять широкая степь, опять зеленые камыши,
горы, камни, песок. Глядел Мишка жадными забле-
стевшими глазами и в мыслях своих горячо благодарил
товарища Кондратьева, который везет его, будто сына.
А товарищ Кондратьев, чувствуя /Мишкину радость по
блестевшим глазам, спрашивал нарочно:
— Ну, Михайла, как наши дела?
— Помаленьку.
— Скоро в Ташкент приедем!
— Сколько дней еще?
— Не будь остановок больших — день да ночь, а ут-
ром там...
Хотел сказать Мишка хорошее слово, чтобы понял
товарищ Кондратьев, как Мишка благодарен ему, но
слова такого не было на Мишкином языке, только
глаза блестели, полные любви и преданности. Съел он
оставшийся кусочек, не наелся, но тут же подумал:
«Ладно, терпеть буду...»
К вечеру товарищ Кондратьев спросил:
— Шибко хочешь есть, Михайла?
472
Стыдно было лезть Мишке в глаза хорошему чело-
веку, и он твердо сказал:
— Вы сами ешьте, разве мне напасешься?
А товарищ Кондратьев опять:
— Ничего, Михайла, сделаемся! На вот корочку,
поломай об нее зубы, они у тебя молодые. Зубами
не возьмешь — в воде размочи.
Не видел Кондратьев Мишкиных глаз, любящих и
преданных, только голос дрогнувший услыхал:
— Благодарим покорно, дяденька!
Размякла корочка сухая в горячей воде, размякло и
Мишкино сердце от большого, взволновавшего чувства.
Съел он корочку, выпил горячую воду и, протягивая
Кондратьеву складной непроданный ножик, дрогнувшим
голосом сказал:
— Возьмите мой подарочек, за ваше снисхожденье!
И у Кондратьева голос дрогнул:
— Зачем мне?
— Везете вы меня, жалеете.
— Спасибо, Миша, положи в карман.
Но так горячо упрашивал Мишка, так ласково бле-
стели у пего глаза— отказаться было нельзя. Взял Кон-
дратьев большой деревянный ножик с дырочкой в руко-
ятке, повесил за веревочку на один палец, помотал,
улыбнулся и, высунувшись головой в окно, долго смо-
трел в лиловую вечернюю степь добрыми, смеющимися
глазами.
Спал Мишка в эту ночь хорошо и спокойно. Во Сне
видел мать, Яшку с Федькой, лопатинских мужиков
с бабами. Мать ему истопила баню, подошла будто
к кровати, тихонько сказала: «Спишь или нет, Миша?
Сходи, сынок, помойся после дороги, вот я и рубашку
припасла тебе...»
Вымылся Мишка, даже попарился веничком — очень
уж натомилось тело за долгий путь, — пришел из бани
большим, неузнаваемым. Сел за стол на переднюю лав-
ку, начал рассказывать про товарища Кондратьева.
«А Сережка наш как? — спросила Сережкина мать.—
Ты где его бросил?»
Мишка спокойно ответил: «Сережка не выдержал:
положил я в больницу его, он и помер там».
Стала Сережкина мать плакать, стала жаловаться
на Мишку, а мужики лопатинские говорили: «Михайла
тут не виноват, умереть может всякий человек...»
473
Хотел Мишка на двор пойти, поглядеть хозяйство
оставленное, а в избу вошел сам товарищ Кондратьев,
крикнул в самое ухо: «Вставай, вставай!»
Вскочил Мишка, непонимающий, увидел Кондрать-
ева, услыхал веселый, ободряющий голос:
— Ну, Мишка, видишь?
— А чего это?
— Сейчас в Ташкенте будем.
Стукнуло Мишкино сердце, оборвалось, будто упало
куда, глаза заслепило. Сначала ничего не видел, только
пятно зеленое бежало вдоль паровоза, а когда паровоз
пошел тише, глянули сады ташкентские, глиняные
стенки, тонкие, высокие деревья.
•— Эх, Ташкеитик!
Мимо садов ехали чудные, невиданные — двухколес-
ные телеги (арбы)'. Сытые лошади с лентами в хвостах
и гривах играли погремушками. На лошадях верхом
сидели чудные, невиданные люди с обвязанными голо-
вами, а от огромных колес поднималась белая густая
пыль, закрывала сады, деревья, и нельзя было ничего
увидеть сквозь нее.
Потом верхом на маленьких жеребятах (ишаках)
ехали толстые чернобородые мужики, тоже с обвязан-
ными головами. Сидят мужики на маленьких жеребятах,
стукают жеребят по шее тоненькими палочками, а жере-
бята, мотая длинными ушами, идут без узды, и хвосты
у них ровно телячьи.
Паровоз сделал маленькую остановку.
Высунулся Мишка, увидел торговцев с корзинками
на головах, услыхал нерусские голоса. Из корзинок,
из деревянных корыточек глянули яблоки разные и еще
что-то, какие-то ягоды с черными и зелеными кистями,
широкие белые лепешки.
«Вот так живут!» — подумал Мишка, облизывая язы-
ком сухие, голодные губы.
Кондратьев спросил:
— Ну, Михайла, рад теперь?
А он и сам не знает хорошенько: будто рад, и будто
сердце сжалось — очень уж много всего.
Кондратьев успокаивал:
— Ничего, Михайла, теперь не пропадешь.
-— А русские есть здесь?
— Всякие есть. Пойдешь в город, увидишь. Ты
знаешь, где живут твои родственники?
474
Застыдился Мишка, покраснел, отвернулся в сторону:
— Знаю.
— А как они приходятся тебе?
— Родня маленько.
Мучил Кондратьев вопросами, а Мишка тоскливо
Думал: «Вру я тебе! Неужто не видишь ты?»
В городе, на станции, взглянул он в последний раз
на товарища Кондратьева, низко поклонился, заморгал
вдруг глазами, из которых неожиданно покатились
слезы, душевно сказал:
— Ну, дяденька, благодарим покорно.
— Ничего, Миша, ничего, не кланяйся. Устраивайся
хорошенько!
— А вы опять приедете сюда?
> — Я всегда тут езжу...
— Ну, прощайте пока, можа, не увидимся.
— Прощай, Миша, счастливый путь тебе.
Выпрыгнул Мишка из паровоза, перекинул чулки
через плечо, оглянулся, еще раз поклонился товарищу
Кондратьеву и, озираясь на каменные здания, горячие от
солнца, на высокие деревья, покрытые пылью, малень-
кой каплей влился в людскую гущу. Сунул руку в кар-
ман, а ножик... вот он...
— Что такое?
Сначала Мишка удивился, хотел бежать к паровозу,
потом облегченно подумал: «Разве возьмет такой че-
ловек!»
На станции лежали мужики, бабы: голые., полуго-
лодные, черные от ташкентского солнца, больные, уми-
рающие. Поглядел Мишка издали, подошел ближе, по-
стоял, подумал: «Неужто и здесь хлебом нуждаются?»
Вышел.
Робко направился в зеленую улицу с высокими
деревьями, остановился.
Запрокинув голову, разглядывая сучкастое дерево,
засмотрелся на чернобородого мужика, едущего вер-
хом на маленьком жеребце, и вдруг испугался: на-
встречу шел какой-то человек или не человек: руки, ноги
видно, голову, а спереди вместо лица — черная зана-
веска. Отошел Мишка в сторону от невиданной дико-
вины, поморщился, выпячивая губу, и снова медленно
двинулся по узенькой зеленой улице в пыльный, сухой,
горячий город. Долго чернела голова в большом отцов-
ском картузе, долго белелись чулки, перекинутые через
475
плечо. Вот остановился, поглядел в грязный, пропылен-
ный арык, опять пошел, повернул за угол и скрылся...
32
Поздней осенью, в ясный теплый денек, на малень-
кой станции, между Бузулуком и Самарой, остановился
ташкентский поезд. Из вагонов, с вагонных площадок
попрыгали мужики. Поезд стоял недолго. Когда вагоны
двинулись дальше, деловито постукивая колесами, на
твердом подмороженном песочке, рядом с рельсами,
горкой лежали сложенные мешки привезенного хлеба,
помеченные крестиками, палочками, кривыми, неров-
ными буквами.
На двух мешках, весом пуда по три, было написано
химическим карандашом: Мих. Дадон.
К мешкам подошел плотный загоревший мальчишка
в большом разорванном картузе, внимательно оглядел
завязки на мешках, потыкал мешки пальцем, самодо-
вольно раздул черные, немытые щеки.
По высокому ясному небу побежала синяя тучка,
зацепила- солнышко одним боком, бросила легкую тень.
Плотный загоревший мальчишка широко, по-му-
жицки расставил ноги, обернутые тряпками, спокойно
и важно поглядел на два мешка, крепко завязанные
двумя узлами, хватил шмыгающим носом крепкого
осеннего воздуха, кашлянул, тряхнул головой.
— Холодно как у вас! Наверно, морозы по ночам
пошли...
Это был Мишка.
В Ташкенте он долго ходил по базарам, ночевал под
заборами, валялся около грязных арыков, думал, совсем
умрет — брюшная болезнь пристала к нему: целыми
днями понос мучил, и кишки выворачивало наружу от
гнилых подобранных яблок с персиками. Но все-таки не
пропал он в тяжелые дни, вытерпел, перенес: и вошь, и
грязь, и брюшную болезнь... Проел ножик с ремнем,
подбирал гнилые яблоки, протягивал руку за милосты-
ней, и все это ему надоело, опротивело, — такими де-
лами зерна не привезешь, а Мишке нужно зерно, чтобы
самому посеять, хозяйство спасти...
Встал он на работу в садах у богатого сарта, встре-
тил бузулукских мужиков и ушел с ними работать
476
в степь. Молотил пшеницу, резал камыш, джугару ’, за-
работал два мешка, пуда по четыре, два пуда отдал за
провоз, проел дорогой, не желая милостыньку клянчить,
и вместе с мужиками вернулся в родные края.
Лопатинских на станции не было.
Когда к мешкам подъехали две телеги из соседнего
села и мужики погрузили свой хлеб, Мишка сказал
возчикам:
— Кладите и мои мешки, я маленько заплачу за это,
— Тяжеленько будет! — заупрямились возчики.
Мишка развел руками:
— Чего тут тяжелого! Пудов шесть — не больше.
Доедем потихоньку, торопиться некуда, а вам все равно
мимо нашего села проезжать.
Круто выгнулись лошади костлявыми спинами, зна-
комым скрипом запели колеса, крякнули лубочные те-
леги, и мешки, нагруженные тяжелым желтым зерном,
тихо поплыли по узенькой полевой дороге в прозрачную
тишину опустевших полей.
Мишка шел рядом с мужиками позади телег, жадно
оглядывал бугорки, долинки, суслиные норы, думая
о матери: «Жива или нет?»
Окинул он взволнованными глазами голые умершие
поля, подержал на ладони твердый комышек земли, под-
нятый с незасеянной десятины, вздохнул:
— Почем у нас лошади теперь, если купить?
Дома его встретила пустая, притихшая изба с зеле-
ными стеклами в маленьких окнах. Со двора, из отво-
ренных ворот, глянула мелкая кудрявая травка, высокая
лебеда у плетней и брошенная почерневшая дуга колеч-
ком вверх.
Мать не выходила встречать.
Не выбежали и Яшка с Федькой.
Мужики-возчики снесли на руках во двор Мишкины
мешки с пшеницей, положили на завалинку под окошком.
И опять никто не выходил встречать приехавшего.
Дрогнуло сердце у него, в глазах потемнело.
Вылез дедушка Игнатий из своей калиточки, при-
ставил ладонь к глазам, разглядывая телеги с мешками,
слабым голосом крикнул:
— Пособье, что ли, кому?
Кто-то поглядел из окошка напротив.
1 Кормовое растение.
477
Отсыпал Мишка возчикам зерна за подводу, подбе-
жал к сухонькому мотающемуся старику:
— Дедушка, а наши где?
Уставился дедушка Игнатий тусклыми непонимаю-
щими глазами, обнял бороду дрожащими пальцами.
— Постой, постой, откуда ты?
Подошли две бабы, пощупали мешки на завалинке,
подобрали два упавших зернышка, протяжно сказали:
— Батюшки, чего он привез!
В пустой почерневшей избе, на голой кровати, под
мертвыми глазами двух икон из переднего угла лежала
хворая мать.
Яшка с Федькой умерли.
Наклонился Мишка к хворой матери, тихонько сказал:
— Мама, встань, приехал я.
Испугалась и обрадовалась мать, слабо пошевелила
губами:
— О господи, Мишенька!
— Хлеба привез я, мама, тебе!
Вынул он из кармана зачерствевший кусок белого
хлеба, горсть насушенных яблок, сунул матери в хо-
лодную руку:
— Держи, мама, ешь!
— Живой, что ли, ты, сынок?
— Живой, мама, не бойся!
Стоял Мишка около матери, черный, большой, неузна-
ваемый, а она сухими пальцами гладила его по щеке:
— Ах ты, милый!
•Потом он долго ходил по опустевшему двору, за-
росшему кудрявой травкой. Увидел сухой лошадиный
помет, вспомнил про лошадь: покупать придется. Увидел
гнездо куриное с двумя перышками на почерневшей со-
ломке, грустно вздохнул: заново придется налаживать
ему все хозяйство. Лошади нет, и курицы нет...
В худую крышу сарая залетел воробей уцелевший,
попрыгал на перекладине, нахохлился, задумался, по-
глядел прищуренными глазами на Мишку.
Задумался и Мишка, глядя на воробья. Поднял Дугу
почерневшую, поставил в угол, встал около мешков
с пшеницей, твердо сказал:
— Ладно, тужить теперь нечего, буду заново за-
водиться...
Борис Лавренев
СЕДЬМОЙ СПУТНИК
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Из окна было видно, как, потрясая разбитые торцы,
мимо дома прйгрохал зеленый грузовик, волоча за со-
бой синюю пленку бензинной вони.
Грузовик был похож на ежа. Как еж, он бежал,
щупая дорогу тупым рыльцем радиатора, красногвар-
дейские штыки торчали из него во все стороны, как
вставшие иглы.
В минуту, когда он сравнялся с окном, с него трес-
нули два выстрела. Невзначай или для острастки —
было не разобрать. Грузовик скрылся из поля зрения.
.Евгений Павлович, качнув головой, сказал вслух:
— Поразительная страна. Три года воевали, а муж-
чин и патронов по-прежнему не жалеют. Только пере-
менили объект приложения.
Сказал и зашагал по кабинету. Шагая, заметил, что
на стене покосился портрет покойной жены в тяжелой
дубовой раме. Подошел и машинально поправил, а сам
подумал тотчас же: «Зачем? Все кривое стало».
Портьера на двери в столовую заколебалась, из-под
нее высунулось востроносое старушечье обличье.
— Пелинька, ты что? — спросил генерал.
Пелинька, Пелагея, — последний верный человек.
За ней тридцать лет жизни в одних стенах с Евгением
Павловичем и безрассудная старческая привязанность
няньки к одинокому, всеми покинутому барину.
Пелагея, прищурившись, прошепелявила:
479
— Ходишь вшё, батюшка?.. Какая жизнь наштала!..
Вшё ходят, ходят, покою не знают.
Евгений Павлович остановился, подразнил:
— А ты вшё шидишь, старая? Штулья просижи-
ваешь?
Старушка махнула сухонькой ладошкой, нагнулась
и смела фартуком пепел с паркета. Евгений Павлович
скригил губы в смешок.
— Прибираешь? Привычка. Эх, старая, когда в рай
входить будешь, небось по привычке сперва порог об-
метешь?— И добавил: — Я, Пелинька, сейчас на базар
схожу. Подкуплю продуктов.
Пелагея, тряся подбородком, проводила в переднюю,
помогла надеть шинель. Закрыв дверь, долго звякала
цепочкой, не попадая в прорез, и звяканье провожало
Евгения Павловича по лестнице.
На нижней площадке попался навстречу сосед, ин-
женер Арандаренко. Встреча была неприятной. Евгению
Павловичу такие разговорчивые люди, как Арандаренко,
всегда казались ненастоящими, а вроде заводных игру-
шек или ученых дроздов; теперь же они особенно раз-
дражали.
Поклонившись, хотел проскользнуть, но Арандаренко
перегородил дорогу шестью пудами мяса, и пуговица
генеральской шинели завертелась в арандаренковских
огурчиках-пальцах.
— Ваше превосходительство... Здравствуйте, здрав-
ствуйте! Ну, що вы скажете? А? Голова на спину завора-
чивается. Вы чуяли: никакой интеллигенции им не нуж-
но. А? Они говорят: «Каждая кухарка может управлять
государством». Кухарка! А? Кухарка — министр! А мы
с вами на кухню в поваренные мальчики. «Оце дило», як
кажут наши хохлы. Инженер-электрик и профессор
Военно-юридической академии в поваренных мальчиках.
Скаженный будыиок. А?
Пуговица закручивалась все туже, и казалось, что
Арандаренко вырвет ее с мясом. От этого и еще от
чего-то неосознанного генерал почувствовал едкую нена-
висть к инженеру и суховато сказал:
— Не судим, да не осудят и нас.
Арандаренко выпустил пуговицу, чмокнул языком:
— Уныние? Апатия? Нельзя, дорогой Евгений Павло-
вич. Нужно бороться до последней капли. Мы, интелли-
генция...
480
Борис Лавренев. 1927 г.
Стало ясно, что инженер завелся надолго. Чтобы
спасти положение и выиграть бой, генерал сказал с под-
черкнутой любезностью:
— Милости прошу вечерком, поговорить... На базар
спешу, извините, а то опоздаю.
Поднеся руку к козырьку, скользнул обходным дви-
жением вдоль стены и, миновав инженера, вышел на
улицу. Выйдя, огляделся. Смотреть на улицу было обидно
и любопытно.
Она шелушилась. С ее каменного тела с шипом и
шуршайием лупилась и неслась по мостовой и тротуа-
рам, подхлестываемая мокрыми порывами рвавшегося
с моря сырого ветра, заразная сухая шелуха. Она от-
слаивалась отовсюду. С вялых губ рассеянно бредущих
прохожих спадала подсолнуховой лузгой, со стен —
цветными комками извести и штукатурки, с мертвооб-
висших вывесок — ровными квадратиками лопнувшей
краски и тончайшими слоинками золотой сусали.
Улица оголялась день ото дня с вялым и бездушным
цинизмом.
И даже люди были похожи на блеклую шелуху, вы-
брошенную в сырой ветер переболевшими квартирами.
И самому себе Евгений Павлович казался таким
же высохшим струпом, отпавшим от разбитого, перенес-
шего уже роковые минуты кризиса тела, гонимым вет-
ром по призрачному миру оголенной улицы.
Ветер то взбрасывал полы шинели, выворачивая
красные внутренности подкладки, то подергивал за
оторванный с одной стороны хлястик, то путался в су-
хих ногах, обтянутых диагоналевыми трубками с двой-
ными лампасами.
Ветер побратался с временем. Ему было решительно
плевать на возраст и звание профессора юридической
академии. Он хлестал генерала по лицу, разбойно сви-
стел в уши Евгению Павловичу, шатал его и гнал су-
хонькую фигуру по тротуару, пользуясь шинелью, как
парусом.
Шинель остро горбилась на спине. У плеч уныло
висели концы ниток от срезанных погон. Выщипывать
их было лень и не поднималась рука.
Плывя по улице, приходилось рассматривать обе
стороны ее с равнодушным любопытством капитана,
в сотый раз проводящего корабль между давно знако-
мыми и надоевшими берегами. Самих берегов капитан
482
уже не замечает: кидаются в глаза только изменения их
очертаний, происшедшие в промежутке двух рейсов.
Так было и с улицей. Евгений Павлович отметил, что
за ночь время и ветер обгрызли золотой крендель зако-
лоченной булочной. Позолота и гипс осыпались, и из
пышной формы кренделя насмешливо топырилась ржа-
вая проволока основы.
Евгений Павлович, противясь ветру, лег в дрейф и
поднял к кренделю остренькую бородку. Подумал вдруг,
как будто и ни к чему: «Котя любил с малиновым
вареньем».
И, словно живой, припомнился убитый в начале
войны под Гумбиненом сын-кирасир. Припомнился не
звенящим и блестящим корнетом в сверкучей скорлупе
кирасы и голубоватом снеге колета, а пятилетним ка-
рапузом. Ходил тогда в коротких бархатных штаниш-
ках, с румяной мордашкой, в руке крендель с малино-
вым вареньем, а вокруг рта и на кончике носа-пуговки
липла сладкая красная масса,,
Евгений Павлович вздохнул, сгорбил плечи и, пре-
давшись ветру, поплыл дальше.
На углу Литейного он наскочил на риф.
Собственно, это был только обычный матрос. Ши-
рокоплечий, сероглазый, озорной, он стоял на тротуаре
в бушлате, с коротким карабином за плечом и огляды-
вал прохожих зорким глазом. Прохожие обходили его.
Он был среди людской пены как прочная, разрезаю-
щая волнение скала.
Ветер играл серебряной серьгой, качавшейся в моч-
ке его левого уха.
Матрос смешливо скользнул по красной подкладке
шинели, по ниткам на плечах. Подмигнул:
— Линяешь, птичка божия, в генеральском чине?
Ответ пришел как-то сам по себе, без долгого раз-
думья:
— Учусь у благодетельной природы. Для обновления
требуется линяние. Так делают мудрые змйи.
Матрос подвинул плечом сползающий карабин и об-
ронил с явным доброжелательством:
— Линяй, линяй, мудрый змий, да только торопись,
а то скоро, братишки генералы, будем мы вас стрелять
гуртами. По-ротно.
Захотелось съязвить, и Евгений Павлович, укалывая
матроса бородкой, спросил:
483
— Это, значит, и есть социалистическое потребление
продукта? Продукт-то плохой, друзья.
Сказал и понял, что не вышла язвительность. Мат-
рос потускнел, сжал губы и молча указал на противную
сторону проспекта, где на стене виднелся свежий печат-
ный лист.
— Глазей, птичка божия, поймешь, — кинул уже
вдогонку уходящему Евгению Павловичу.
Евгений Павлович подошел к листу. От него пахло>
дурной кислотой скверного клейстера, и был он серый и
весь в заусеницах древесины. Расплывшимися дегтярно-
го цвета буквами копошились на нем жирные строки.
По близорукости Евгений Павлович пригнулся к са-
мому тексту, царапая лист серебряной щеточкой бо-
родки. В глаза ввинтилось:
«...на убийство товарища Урицкого, на покушение
на вождя мировой революции товарища Ленина про-
летариат ответит смертельным ударом по прогнившей
буржуазии. Не око за око, а тысячу глаз за один. Ты-
сячу жизней буржуазии за жизнь вождя. Да здрав-
ствует красный террор!»
Бородка перестала царапать лист. Генерал отошел
от стены, постоял, прищуривая веки. Пожевал губами
и, встряхнувшись, пошел к базару. В кармане нащу-
пал приготовленную для продажи на этот день бархат-
ную коробочку с золотыми запонками.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Собор белый, приземистый, круглоголовый, с глав-
ками, расписанными бирюзой и золотом, превратился
как бы в шатер карусели, вокруг которого кружилось
все, хотя сам он оставался неподвижным, нахохлив-
шимся и мрачно взирающим на суматошную толчею.
Сходство с каруселью довершала пискливая музыка.
У самой ограды собора, под старой турецкой пуш-
кой, врытой в землю как столб, человек в поддевке,
с глазом, повязанным черным платком, вертел ручку,
комнатного органа. Расстроенные трубы пронзительно
и тоскливо взывали в прозрачное небо последнего дня
августа.
Человек смотрел в землю. От его щек торчали в обе
стороны густейшие и пушистые белые усы с подусни-
484
ками. Они были похожи на сяжки большого мохнатого
жука и так же шевелились и вздрагивали. Между се-
дыми сяжками прятался тонкий, с хорошей горбинкой,
нос.
На крышке органа лежала фуражка с красным
околышем и дырочкой на месте бывшей кокарды. До
половины она пузырилась брошенными бумажками,
военными марками, полтинниками, рублевками; сбоку
к кожаной подкладке околыша сиротливо прижалась
даже зеленая керенка.
Некоторые вскидывали на игравшего любопытные
и быстрые взгляды. Совсем недавно он вертел государ-
ством, как ручкой органа, и лицо его было знакомо всей
стране, сотни раз, повторенное на страницах журналов
и газет.
И теперь в складке его губ, в породистой горбинке
носа таилось через века дошедшее достоинство римских
сенаторов, завернувшихся в свои тоги и безоружно,
в молчании ожидающих смертельных ударов от врыва-
ющихся уже в стены форума варварских орд.
А вокруг него и вдоль всей ограды, прижимаясь
спинами к ее чугунным пикам и пушкам, стояли и сидели
такие же сенаторы Древнего Рима.
Внутренности особняков, дворцов, министерских квар-
тир, потрясенные клокочущими спазмами эпохи, изрыг-
нули под ограду собора сказочное разнообразие.
Фрейлины двора, юные и пережившие уже себя,
худые и полные, прекрасные и уродливые, но преиспол-
ненные величия и отменных манер, помавали ручками,
на которых раскачивалось все великолепие вынесенных
напоказ победившим варварам товаров.
Бантики, рюшики, прошивочки, кружевца, душная
торжественность лионского бархата, тяжелый глянец
родовых шелков, сверкающие павлиньи пятна бабушки-
ных и прабабушкиных шалей, крепдешин изумительного
белья, тончайший батист, годами заготовлявшийся впрок
для свадеб и брачных ночей, брабант и алансон, ришелье
и ручные паутины, над которыми слепли обессилен-
ные глаза кружевниц рязанских, курских и подмосков-
ных поместий, сумочки, зеркальца, золотые и серебряные
пудреницы, кошельки, наперстки, игольники, несессеры
поражали и будоражили простодушного покупателя.
Фрейлины помавали ручками; фрейлины —губами,
привыкшими к музыкальным тональностям француз-
485
ского языка, к головокружительным титулам: Votre
Majeste, Votre Altesse imperiale, mon prince, monsieur
le comte \ —этими губами выкрикивали страшные слова:
— Налетай, налетай! Кружева, шелка, панталоны,
зефир!
О, как сжимаются рты при слове «панталоны»! Как
возмущается все существо!
Это слово год назад произносилось только шепотом
в интимных беседах лучших подруг, в глубинах ти-
хих будуаров, и вызывало дрожь тайного испуга. А те-
перь нужно кричать его как можно звонче, как можно
яснее, чтобы покупающий налетал безошибочно.
А за фрейлинами — ряды статских, действительных
и тайных, флигель- и генерал-адъютантов; и тут тончай-
шие сукна английских рединготов, ласточкины хвосты
фраков, округлости жакетов, брюки в полоску, брюки
в клеточку, брюки камергерские оттенков сладчайшего
крема с золотыми тесьмами, цветные жилеты, галстуки,
воротнички, портсигары, трости, фетры Борсалино,
шелковистая соломка панам, плетенка канотье, туск-
лое сукно котелков и блистающий плюш шапокля-
ков, эмалевые финифти орденских звезд, тугие галуны
штал-, гоф-, егер- и церемониймейстерских мундиров.
Варвары, ослепшие от восторга, кидаются на дразня-
щую пышность.
Ах, звезду Анны или Станислава так хорошо при-
лепить на деревенский нарядный повойник; тростью
со слоновым набалдашником работы Фальгьера так
удобно лупить по рылам лезущих в сенцы телят и сви-
ней; золотыми тесьмами с камергерских невыразимых
и церемониймейстерских грудей прекрасно можно, обши-
вать края праздничных девичьих шубеек; из серебря-
ных пудрениц Лялика выходят чудесные -экономные
коптилки, заменяющие старушку-лучину.
И мало ли на что вообще может пригодиться в пре-
ображенной стране наследие отыгравшего свои роли
класса?...
И если доволен купивший, щупая ослепительный
шанжан оборчатой, складчатой, хрустящей нижней
юбки, из которой, выйдет, на завидки всем, сногсшиба-
тельный туалет для молодухи на сельской танцульке.,
то доволен и продающий.
1 Ваше величество, ваша светлость, принц, граф.
486
Ибо базар универсален.
Что такое десятиэтажные Тицы и Вертхеймы, Ли
Bon Marche и другие вавилонные универсалы, в зер-
кальных витринах и мраморных лестницах, по сравне-
нию с базаром республики в восемнадцатом году, если
в них нельзя купить сорного пшена, из которого ва-
рится такая подкрепительная каша, свежего шпика,
гречки, сметаны, булочек, наконец, самого демократи-
ческого, но пленительного ржаного хлеба, обаятельно
пахнущего отрубями, с хрусткой золотисто-коричневой
корочкой.
К чему мраморные лестницы и зеркальные витрины,
когда в них не найдешь и тени сказочной романтики,
отголосков упрямой и прескверной борьбы за жизнь?..
Вертится суматошная горластая базарная карусель
вокруг приземистого собора; шуршат шелка и бати-
сты, постукивают под твердыми пальцами покупателей
котелки и канотье, щекотно шелестят керенки и рома-
новки, и тонкокостная рука человека, с усами, трепещу-
щими, как сяжки большого мохнатого жука, вертит
ручку комнатного органа.
Евгений Павлович, вдавленный в толпу, протискался
к пикам соборной ограды и отдышался.
Теперь нужно принять достойный вид равнодушного
человека, не замечать никого из знакомых — таков
кодекс чести базара, ибо тяжело смотреть в глаза друг
другу, потому что в глазах знакомого, как отражение
убийцы на сетчатке убитого, всегда можно увидеть не-
нужное воспоминание.
Нужно прижать руку локтем к боку, выставить па
отлет повернутую вверх подушечкой ладонь, положив
на нее бархатную коробочку с запонками, и, приняв вид
незаинтересованного человека, ожидать последствий.
Ожидать пришлось недолго.
Рыжий в романовском полушубке на мерлушках
(хотя, несмотря на ветер, день был теплый и погожий)
выбросился из проползающего мимо теста толпы и стал
перед Евгением Павловичем.
Со лба его из-под папахи темными ручейками сбе-
гал пот на худой, искривленный к левой щеке нос. С ми-
нуту рыжий смотрел на запонки, потом прошелся про-
зрачно-желтыми зрачками по генеральской шинели,
острой бородке и фуражке Евгения Павловича.
Обтерев тылом кисти.пот со лба, сказал:
487
— Тьфу ты, мать родная! Прямо сдохнуть возможно
от этой меховины. Просто, будто тебя в паровой котел
заперли и до атмосфер доводят!..
— А зачем же вы в полушубке ходите? — осведо-
мился Евгений Павлович.
Рыжий хлопнул себя по ляжкам:
— Чудак-человек, мать родная! А куда ж мне девать
его, посуди, коли только купил? На руках таскать и
того тяжче. Вот и мучаюсь, — и, переходя прямо к делу,
ткнул пальцем в запонки: — Продаешь, что ли, товарищ
превосходительство?
Бородка Евгения Павловича кивнула сверху вниз.
Покупатель взял коробочку, повертел. Бледное солнце
вспыхнуло нежным отблеском на золотых ободках запо-
нок. Рыжий склонил кривой нос к самой коробочке:
— Золотые?
— Проба есть на обратной стороне.
— Гм... А что тут баба налеплена с весами? Торго-
вая видимость, что ли?
Пришлось на секунду замедлить ответ, пока удержи-
вал ненужный смех. Спокойно объяснил:
— Это богиня правосудия — Фемида. А на весах —
дела человеческие.
И вспомнил день, когда слушатели академии под-
несли запонки в поздравление с производством в гене-
рал-майоры. Но воспоминание было бледное, затянутое
дымкой и мгновенно погасло.
— Хамида, — протянул рыжий с недоверием,—
ерунда это, товарищ превосходительство. Неестествен-
ные сказки. Невозможно дела человеческие перевешать.
Людей перевешать возможно — не осмелюсь спорить.
Лишь бы веревки было вдосталь. А дела наши не пере-
вешаешь, весы не выдержат пакости. Сколько просишь?
Евгений Павлович искоса взглянул на покупателя.
Искривленный нос его все еще шарил по запонкам.
Выговорилось легко, с уверенностью:
— Пятьсот.
А сам подумал: «До двухсот спустить можно».
Но покупатель неожиданно положил коробочку
в карман полушубка и, отвернув полу, отсчитал из раз-
дутого, с прорванным краем, бумажника двенадцать
зеленых и одну охряную керенку.
— Бери, растак твою фортуну. Деньги у меня беше-
ные, оставить некому. Детей пока родить не собрался.
488
Романовский полушубок завертела толпа. Евгений
Павлович размял онемевшие ноги и пробрался в съедоб-
ный уезд базара.
Купил мешок пшена, сала, гречки, буханку ржаного
и пяток белых пышек. Решив раскутиться, прихватил
еще пакетик германского сахарина, осьмушку суррогат-
ного кофе и направился домой.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Матроса на углу Литейного уже не было. Словно и
он не выдержал упругих рывков ветра, который, безу-
мен, разрастался и гудел над городом.
Печатный лист на стене проспекта оторвался с края;
ветер подлез под него и, вздувая бумагу, тужился со-
всем отодрать ее от стены и закружить над домами.
Евгений Павлович сначала равнодушно прошел
мимо листа, но, не пройдя и десяти шагов, остановился.
Странное чувство помешало ему идти дальше: показа-
лось, что не сделано что-то очень нужное и спешное.
И когда генерал прислушался к смутному бормотанию
этого чувства, стало понятным, что оно толкает назад,
к оборванному листу.
На лице Евгения Павловича появилось осторожное
недоумение, а ноги уже поднесли тело к листу, рука
взялась за оборванный край и придавила его к стене.
Лист вырвался и заколотился еще яростней о штука-
турку.
Евгений Павлович усмехнулся, поймал бумагу вто-
рично и, не отдавая себе отчета зачем, поплевал па
угол листа и прочно прижал еще сыроватый клейстер.
Лист прилип.
Евгений Павлович с тихим удовлетворением оглядел
его и отошел.
Над облинявшими шелушащимися домами, над гуде-
нием ветра, над горбинкой Литейного моста в конце
проспекта стояло, зеленея ледяным ковшом, высокое
хрупкое осеннее небо, тронутое уже понизу ядовитой
желтизной заката. Его струящуюся зелень полосовала
трескучим карканьем тревожная воронья стая. В не-
скольких саженях от Евгения Павловича, посреди
мостовой, согнув передние ноги и вытянув задние, как
палки, лежала выпряженная издыхающая ломовая ло-
шадь.
489
Вокруг собралась кучка безразличных зевак; они
стояли тесно, понурившись, словно им было страшно
в этом умирающем ледяном городе, и последние вздохи
лошади, натягивавшие над ее круглыми ребрами
взлохмаченную, пропитанную холодным потом шерсть,
как будто пророчествовали им о том часе, когда
смерть придет и к ним, пока еще глядящим и слы-
шащим.
Возчик-финн топтался у морды лошади, все еще
держа в кулаке концы уже ненужных вожжей. Проходя
мимо, Евгений Павлович заметил, что у возчика глаза
такие же холодно-зеленые, как небо, и в них холодеют
скупые мужицкие слезы.
Евгений Павлович прибавил шагу и, добравшись до
своего подъезда, облегченно вздохнул. Позвонив, услы-
шал за дверью осторожно шаркающие меховые туфли
Пелагеи. Не открывая двери, она несколько раз спро-
сила Евгения Павловича, он ли звонит.
Задержка усилила накипавшее безотчетное раздра-
жение.
— Что ты, старая, оглохла? — спросил, сбрасывая
шинель и фуражку, и удивился, заметив куриный пере-
полох в старческих глазках, за набрякшими красными
веками.
Пелагея заморгала, зашамкала:
— Не гневайся, батюшка. Штрах меня вжял. Пока
ты ходил, у наш барина Рогачевшкого убили мажу-
рики. ,
— Как?! — вскрикнул Евгений Павлович.
Коленки даже дрогнули, словно в них развалились
шарниры, и пришлось для равновесия опереться на
вешалку.
— Как убили?
Старуха вдруг рассердилась:
— Как убили?.. Так убили, батюшка. Пришли в чет-
вертый этаж, пожвонили, шпрошили Шергея Петровича;
он только вышедши, а мажурики денег прошить. Он
кричать, а они иж пиштолетов, а шами по лешнице
вниж — и поминай как жвали. Прибежали жильцы,
а он — вешь в крови; только головку поднял, шкажал
«убили» и кончилшя.
Генерал справился с внезапной слабостью; только
во рту остался тошнотворный металлический привкус,
будто пожевал пулю.
490
Вынул покупки и, передавая Пелагее, вполголоса
пробурчал:
— Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся
живущий.
— Што, батюшка?
— Это я, Пелинька, про себя. Ищу оправдания соб-
ственному существованию. А свари вот лучше кашку,
есть все-таки еще нужно, хотя и бесполезно.
Придя в кабинет, отодвинул резное, в старославян-
ском стиле, кресло перед письменным столом, сел и по-
пытался представить себе живым убитого Рогачевского.
Не выходило. Почему-то вспоминался только футляр
виолончели покойника (Рогачевский играл в оркестре
оперы) до мельчайших царапин, до завитушек серебря-
ной монограммы «С. Р.»,. а сам Сергей Петрович как
будто был покрыт мутным серым лаком, и из-под лака
виднелось ясно только его левое ухо, изгрызенное в дет-
стве собакой.
•Зажмурясь, помотал головой, чтобы освободиться от
залакированного облика убитого.
Из передней рассыпался стрекот звонка, прошаркала
Пелагея. Генерал вскочил, иноходью прошелся в угол
кабинета, выковырял паркетную плитку, стиснул добы-
тый из-под паркета револьвер, подошел к двери, при-
слушался.
Из передней протрубил голос Арандаренко. Евгений
Павлович поморщился, сунул револьвер на место, зало-
жил плитку и притоптал ногой.
Инженер вломился слоновыми шагами, отдуваясь.
— Чуяли? Про Сергея Петровича? Это ж невоз-
можно.— Он облепил руку Евгения Павловича тестом
своей неестественно огромной ладони и повалился
в кресло. — До чего ж мы дойдемо? А? Середь города,
середь бела дня чоловика вбылы.
Евгений Павлович молчал, рассматривая со внима-
нием носки Хсвоих ботинок.
— И розумиете, — повернулся Арандаренко, скрип-
нув креслом, — вызвали ихнюю милицию. Пришли три
осла, очами хлопают. Я их спрашиваю: «Это что ж,
называется рабоче-крестьянская власть, коли в два часа
дня убивают?» А они в ответ: «Людей мало». — «Так
не надо было за власть цапаться, коли у вас людей
нема», — говорю. Так один на меня очами як зиркне:
«Не вашего ума дело, товарищ». А? Тю, сволочь!
491
— Трудно им, — нехотя ответил генерал, переводя
взгляд с ботинок на лицо инженера.
— То есть, не розумию я вас, Евгений Павлович.
Какой-то вы такой стали, добродию, простите, пуганый.
Не то всепрощение, не то всеприятие.
Глаза инженера, выпученные начинающейся базедо-
вой болезнью, были похожи на глаза пучеглазой зеле-
ной кваквы, и он сам сидел в кресле, как кваква,—
растерянной раскорякой. На секунду подскочила шалая
дума: «А вдруг квакнет и прыгнет?»
От этого, прежде чем ответить, улыбнулся и, подав-
ляя улыбку, заговорил:
— Всеприятие? Пожалуй, верно вы сказали. Не все-
приятие, а вот приятие, если хотите, вот тут где-то,—
генерал дотронулся до левого бока серой тужурки,—
в самом деле сидит. Ум говорит: «Нельзя», а вот тут
шепчется: «А ты вникни». В первые дни хотел за гра-
ницу уехать. Остановило. И знаете, что остановило?
Подумал: «Вот уеду и никогда больше не увижу этого
покосившегося русского заборчика, хилой избенки, бере-
зок, разбитого проселка, а будут кругом чистенькие
холощеные оградки и на них' таблички: „тут можно",
„тут нельзя"». И не мог уехать. Лучше грязное, кровя-
ное, да свое, нелепое, косолапое, причиняющее муки
другим и само страдающее...
— Что ж, вы, значит, их признаете? — перебил Аран-
даренко.
Евгений Павлович щипнул несколько раз бородку.
Ответил на вопрос не прямо:
— Я вот этого сам себе не могу объяснить точно.
Казалось, кому, как не мне, придумывать точные фор-
мулировки. Юридический профессор, приказная крыса,
а вот, подите, — формулировки найти не могу. Сказать,
что признаю вот так, как старое признавал, — не могу,
но и против не пойду. И врагом не стану. Я мимоиду-
щий... наблюдающий. А порой даже кажется... Да вот
вам странный случай. На Литейном плакат. Красный
террор. Смерть буржуазии. Значит, мне смерть, вам
смерть. Кажется, должен бы возмутиться. А возмуще-
ния нет. И они ведь имеют право защищаться.
— Это про покушение на Ленина? Не удалось,—
сказал инженер, обуянный своими мыслями.
— Рад, что не удалось, — гневно сказал Евгений
Павлович, — мерзость этот терроризм, свинство человс-
492
ческое. И террористы в девяноста случаях негодяи, а в
десяти психопаты. Умом взять не могут, берутся за
бомбу или пистолет, а того не понимают, что хода исто-
рии пулей не остановить. И получается голая подлость
или дурачество. Я в молодости еще, когда в Севасто-
поле помощником прокурора был, с двумя сопляками
столкнулся. Бомбу в командира экипажа бросили.
Обоим по шестнадцати лет — мозги еще жидкие. Я по-
смотрел на них и обвинять отказался. Что с недоросля
спрашивать, да еще коли недорослю голову свернули
взрослые проходимцы и за их спины спрятались! Стре-
лять в Ленина! Нет силенки у эсеров чужую мысль
одолеть. Нашли истерическую сволочь, сунули в
руки револьвер, а сами хвост набок и до лясу. Про-
хвосты!
Арандаренко опять заскрипел креслом.
— Да вы прямо больны, добродию. А? По-вашему,
так нужно поклониться да расшаркаться. Приходите
володети и княжити, а мы вам ковриком под сапожки.
То, мабуть, з того, Що вы кацап, Евгений Павлович.
Ваши деды татаровьям ясак платили триста лет, а наши
хохлы татаровьев на колья сажали.
Самоуверенный голос инженера разбудил где-то глу-
боко запрятанную гордость. Показалось нужным одер-
нуть расплывшуюся на кресле тушу.
— Вы моих дедов не трогайте, — вздернулся бород;
кой генерал, — может, они и к татаровьям на поклон
ходили, а под конец ваши деды к моим под полы по-
лезли защиты искать. То-то. А про эту власть сказал и
повторю — приемлю. А если трудно принять сразу, то
для меня и это понятно-с. На то и юрист я. Всякая рево-
люция-с, — Евгений Павлович начал сердиться и пустил
в ход язвительные «ерсы», — всякая революция-с по
отношению к предыдущим устоям есть юридическая
новелла-с. Французская была юридической новеллой по
отношению к феодализму-с, эта — по отношению к капи-
тализму-с. А такие, как мы с вами-с, туполобые масто-
донты, рабы традиций-с. И вот не приемлем. И в дура-
ках сядем-с.
Сказал и отошел к окошку. За окном по-прежнему
гудел ветер, и садилась на крыши блеклая чахоточная
мгла. С непонятным самому себе злорадством слышал
за спиной сопение инженера, выкарабкавшегося из
кресла.
493
— Говорю вам — больны вы, добродию. Треба вам
эскулапа. Бувайте здоровы. Вижу, что с вами не сго-
воришь.
Молча проводил инженера до парадной двери, запер
цепочку и прошел в столовую. На столе в кастрюльке
дымилась пшенная каша. Пелагея стояла у стены, скре-
стив руки на высохшей груди.
— Садись, старая, — сказал Евгений Павлович, при-
двигая стул, — поужинаем вместе. Так сказать, содруже-
ство пролетариата с буржуазией. Внеклассовое заня-
тие— насыщение утробы.
Рассыпчатая каша горячо обжигала язык. Пелагея
облизывала кашу с ложки, старчески жадно шлепая
губами, ц, поглядев на нее, Евгений Павлович горестно
усмехнулся:
— Все хочет жить, даже самое старое, ненужное,
И живет для любопытства...
Окончив ужинать, отодвинул тарелку на середину
стола и возвратился в кабинет. Из среднего ящика до-
стал квадратную тетрадку в зеленом сафьяне, густо
исписанную, и неторопливо долистал до чистой стра-
ницы.
Взял перо, окунул в чернильницу, ногтями осторож-
но снял соринку и, задумавшись немного, вывел в углу
число. Под числом бисерной вязью, наклонной и острой,
настрочил:
«Сегодня ходил на базар продавать запонки с Феми-
дой. Продал удачно. Не могу сердиться на жизнь, ибо
обида заглушается любознательностью: а что же будет
дальше? С Арандаренко не могу говорить. Не прини-
мать нужно умно, — он этого не умеет: у него гнев
базарной торговки, которую обсчитали. Смотрел на
город. Он страшен, но мне показалось, что он не уми-
рает, а, наоборот, поправляется после смертельной бо-
лезни, потому что люди, которым он принадлежит
теперь, здоровы. И Россия тоже вылечится, когда ото-
мрет и отпадет шелуха».
Поднял кисть с зажатым между пальцами пером,
сосредоточенно сдвинул брови и быстро, словно боясь,
приписал: «Верую, господи, помоги моему неверию».
Закрыл тетрадку и, когда клал в стол, услышал за
окнами стрекот автомобильного мотора, оборвавшийся
у подъезда. Не умом — догадкой сказалось, что авто-
мобиль неспроста, и, встав из-за стола, генерал застег-
494
яул на все пуговицы серую двубортную тужурку. В пе-
редней прозвонили коротко и звучно. Генерал остановил
шаркающую к выходу Пелагею:
— Не ходи, Пелинька. Я сам открою.
Равнодушно с виду,— а сердце, усталое и расшатан-
ное годами, заплясало гулко, стремительно, — взялся
за дверную ручку и спросил:
— Вам кого?
Из-за двери торопливый голос спешащего человека:
— Генерала Адамова.
Цепочка, визгнув, повисла и закачалась. В переднюю
вошли, один за другим, трое. Один в черном пальто,
два в кожаных куртках. На поясах у них висели мятые
засаленные кобуры.
В черном пальто сказал деловито и скучно:
— По мандату чека. Подлежите...
— Пожалуйста, — вежливо и даже с улыбкой пе-
ребил Евгений Павлович.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Люди на новом месте — что тараканы.
Если взять двух тараканов из разных мест и поса-
дить в застекленную сигарную коробку, тараканы сперва
придут в горячечное беспокойство.
Заелозят, замечутся, ровно их кипятком ошпарили,
закружат по всей коробке, без смысла и цели. А устав-*
ши от дурного бега, начнут, встречаясь параболами,
принюхиваться друг к другу, усиками пощекотывать,
будто сказать хотят:
— А дай-кась я тебя пощупаю, какой ты есть тара-
кан и какой породы?
Принюхавшись, расползутся по углам коробки, вы-
берут себе каждый уютное местечко, засядут там в ти-
хой меланхолии и так беспечно и неторопливо ходят
друг к другу в гости. Прижились.
Так и люди.
Сперва показалось Евгению Павловичу, что попал
он в актовый зал кадетского корпуса в тот день, когда
привезла его. взволнованная мать определять в учение.
В двусветном корпусном зале толкалась сотня маль-
чишек,. еще в коротких штанишках и цветных руба-
шечках.
495
Мальчишки озирались, косились; робкие жались под
крылья матерей, а которые похрабрее подходили один
к другому, обнюхивались, спрашивали:
— Как тебя зовут?
~ Кто твой папа?
— А мой полковник.
— А у тебя перышки есть?
— Ав пуговицы играть умеешь?
Опросив так новых знакомцев, брались за руки и
уже весело и задорно бегали по залу, пока не вошел,
пританцовывая, звеня малиной шпор, дежурный офицер,
провел ладонью по усам и зыкнул:
— Кадеты, по классам!
Все казалось, как в корпусе. Белый двусветный зал
опустелого особняка, куда, за неимением приспособлен-
ного помещения, сбили разномастную толпу заложни-
ков, был — две капли воды — похож на корпусный.
Толкущиеся в нем люди — на мальчишек, пришедших
держать страшный экзамен.
Разница была лишь в том, что мальчишки повы-
росли, облысели, поседели, а в глазах у них трепетал
не мальчишеский текучий, а тяжелый, нетаимый и не-
движный смертный страх.
Но так же, как в корпусе, подходили друг к другу и
таинственно-пониженно спрашивали:
— Вас. когда забрали?
— А меня прямо с постели.
— Сергей Сергеич было уперся. Княжеская гордость
взыграла. «Я, — говорит, — только приказы его величе-
ства исполняю». Так его, понимаете, прикладами по-
гнали.
— Нет, что же это будет? Что с нами сделают?
— А я, знаете, все же успел драгоценности припря-
тать.
Старые мальчики сходились и расходились — сумрач-
ные, встрепанные, выбитые из колеи. Ждали последнего
экзамена.
В зеркальные окна двусветного зала, топорща ветки
деревьев, как жесткую щетину солдатских усов, загля-
дывала с ледяной ухмылкой синяя морда осенней
ночи.
И вместо дежурного офицера в распахнувшуюся
дверь, за пролетом которой в тусклом дыму коридора
блеснули штыки часовых, ворвался худой, остроскулый
496
верзила в измызганной солдатской шинели. Лицо у него
было бледное и светилось изнутри мертвой стеариновой
прозрачностью, а немигающие зеленые глаза таяли
в темно-коричневых нимбах набрякших бессонни-
цей век.
Он развернул бумагу и вскочил сапогами на белый
шелк золоченого кресла, стоявшего у двери.
— Ставай до стенки в два ряда! — закричал он.—
Перекличку робим. Как кликну чию фамилию, обзы-
вайсь: «Я». Ну, живо!
И от его хрипловатого фальцета сгрудившаяся на
середине зала толпа особ, не ниже пятого класса табели
о рангах, всполошенно затопотав, как деревенские ново-
бранцы, впервые попавшие в казармы, откатилась плот-
ным комом к стене, растянулась резиновой жамкой и
прилипла вдоль окон.
На двух рядах помертвелых лиц тревожными плош-
ками замерцали глаза, прикованные к стеариновым
щекам человека на кресле.
Человек сплюнул на пол, сказал вразумительно:
— Смирно! Я ваш комендант. Как кому за нуждой,
обертайтесь до меня. А теперь отвечай на вызов.
От людского частокола, вбитого вдоль окон, про-
ползли подавленные вздохи, и голос, деланно-спокой-
ный, тая невысказываемое подозрение, коротко, словно
пугаясь сам себя, спросил:
— А зачем перекличка?
Стеариновое лицо вдруг широко улыбнулось.
— Для порядка. Ровно не знаете? Надо ж на вас
жратво выписывать аль нет?
И, предупреждая дальнейший разговор, горласто
крикнул:
— Адамов!
Было неожиданно странно услыхать свою раздетую,
освобожденную от звания, имени и отчества фамилию.
Даже не понял сразу Евгений Павлович, что это он,
превосходительство, генерал-майор, профессор Военно-
юридической академии, может быть голым Адамовым.
Оттого не ответил и с недоумением скользнул гла-
зами по рядам, ища другого, спрятавшегося Адамова.
Но из рядов смотрели такие же вопрошающие и недо-
умевающие взгляды. *
— Что ж, нет Адамова, что ли? — спросил комен-
дант и повторил: —Адамо-о-ов!
17 Зак. № 426
497
Руки упали по швам, грудь выпрямилась и, как
в мальчишестве, на корпусной перекличке, Евгений Пав-
лович звонко бросил:
— Я-аа!
Комендант скосился:
— Что ж это вы, старичок? Ежели я каждому по
два раза кричать буду, надолго моей горлянки хватит?
Ежели б вы штатский генерал — так ничего, а раз воен-
ный, должны понятие иметь.
Устало-презрительный голос коменданта воскресил
в Евгении Павловиче давно забытое смущение от на-
чальнического нагоняя. Он опустил голову и покраснел.
Оправился, только услышав следующую фамилию:
— Архангельский!
К концу переклички комендант осип и с явным удо-
вольствием выкрикнул последнего:
— Якунчико-о-ов!
Мумифицированный профиль фараона сухо шамк-
нул:
— Я.
Комендант спрыгнул с кресла:
— Точка в точку. Все налицо. Сто восемьдесят
два, — и обтер рукавом шинели вспотевшую верхнюю
губу. — А теперь — гайда, братва, мешки соломой наби-
вать на матрацы. Двадцать человек надо.
Частокол у окна сломался, задышал, рассыпался
в зале.
Нервический, заплывший желчью голос ударился
в стеариновое лицо коменданта:
— А кровати где?
Комендант отступил и удивленно охнул:
— Кровати? Не напасли на вашего брата кроватев.
И на полу хороши будете. Сам пятые сутки в шкафу
сплю. И на что вам кровати, когда, може, вашего житья
на кровати лечь не осталось. Лягайте на пол без бузы.
Толпа особ не ниже пятого класса зашевелилась.
На коменданта накатился огромный мяч для кавале-
рийского поло. Под мячом были ноги в серых штани-
нах Бульбовой ширины. Сверху мяч увенчивался апо-
плексически-бурой головой с выпяченными губами. Мяч
был в чине тайного советника и звании сенатора.
Взмахивая короткими руками, — было похоже, что
взлетают привязанные к мячу сардельки, — тайный за-
кричал странным детским дискантом:
498
— На полу? На полу «лягать»? Кому? Мне? Тай-
ному советнику?! Стреляй меня, сволочь, хам неумы-
тый! Чтоб я, сенатор, кавалер Александра Невского, на
полу валялся? Я в жизни на полу не спал, понимаешь
ты, олух!
Глаза коменданта, утопающие в коричневых нимбах,
зло округлились, и жилки на белках налились кровью. -
— Не лягешь? — спросил он уверенно. — Лягешь,
матери твоей черт! В дермо лягешь, навозом на-
кроешься. Не спал? А я спал? Я, может, тоже в дерев-
не на печи привык, а ноне, как цуцик, маюсь. И ты по-
маешься, матери твоей черт.
— Не смей тыкать, мерзавец! — визгнул тайный.
Комендант упер руки в бока и исподлобья, с усме-
шечкой, смотрел на тайного. Человечье стадо расколо-
лось на две отары. Одна, побольше, отхлынула в угол;
другая, поменьше, окружила коменданта и тайного,
ворча и щетинясь.
— Чтоб была кровать!..
Тайный вздулся от багрового апоплексического при-
лива, схватил кресло, на котором стоял комендант во
время переклички, и, повернув его размахом, бахнул
об пол. Ножки взвились в воздух, одна ударила комен-
данта по колену. Комендант вскрикнул и запустил руку
в карман.
Ворчащая отара рассыпалась горохом. Тайный и ко-
мендант стояли наедине один против другого. С одутло-
ватых щек тайного медленно сплывал бурачный жом,
и на губах проступила мутная лазурь. Комендант непо-
слушными пальцами дергал карман, пока не замерцала
тускло и холодно вороненая сталь нагана. Наган под-
нялся в уровень с лицом тайного.
Кто-то вскрикнул в углу, взглянув на закушенные
губы коменданта и на его зрачки, опустевшие и глубо-
кие, как дуло револьвера.
Серый рукав протянулся в воздухе, и на вздраги-
вающую кисть коменданта, сжимавшую наган, легла
маленькая сухая рука. Тихий голос сказал:
— Не нужно...
Комендант повернул голову, встретил горячий взгляд
человека в серой генеральской тужурке. Глаза комен-
данта погасли.
— Вы чего цапаетесь, старичок? — спросил комен-
дант туго, но уже успокоеннее.
499
И Евгений Павлович повторил:
— Не нужно.
Комендант опустил револьвер и выругался. Но, не
слушая его, Евгений Павлович повернулся к сбившимся
у стены:
— Господа, не будем раздражать друг друга. Комен-
дант кроватей из пальца не может высосать. Если мы
хотим чего-нибудь требовать, нужно делать это органи-
зованно и корректно. А пока нужно набить матрацы.
Кто пойдет?
— Во! — сказал комендант, засовывая наган в шта-
ны.— Это правильный старичок. Добром все можно сде-
лать, а кричать, господа хорошие, забудьте. Собирай
партию мешки наваливать.
У двери собралась толпа. Комендант сам отсчитал
партию.
— Хватит! А вы, старичок, мозговитый, так вот,
будьте пока старостой по камере. Блюдите за порядком,
4fo6 бузы ни-ни, — сказал он, потрепав Евгения Павло-
вича по плечу.
Отсчитанные выходили в двери. Тайный советник,
отдышавшийся, пренебрежительно свел одутловатые
губы и вбок кинул Евгению Павловичу:
— Выслуживаетесь, милостивый государь! В крас-
ные командиры хотите? Дослужитесь до виселицы.
Евгений Павлович взглянул на не успокоенные еще
щеки тайного. Стало жалко его. Подумалось беззлобно
и мягко: «Эхма! На груди у тебя Александр Невский, а
в голове и Анны четвертой степени не хватает».
Но вслух ничего не сказал.
Комендант торопил выходить.
— Топай, братишка, — сказал он генералу, устало
усмехаясь.
Через час на мягкой и хрусткой соломе устроились
по углам, как тараканы. Тайные с тайными, действитель-
ные с действительными, военные с военными, и, как та-
раканы, ползали друг к другу в гости.
Встревоженному телу сладко протянуться на хрустя-
щем меп/ке. Подбивая солому, чтобы было поудобней,
Евгений Павлович обронил вбок соседу:
— Интересные события!..
Сосед, хмурый, малярийного цвета полковник, молча
расстилал одеяло. Ответил нехотя:
500
— Может быть, и интересные, но думаю, что для нас
ненадолго.
— Пустяки, — ответил Евгений Павлович, — смерти
я нисколько не боюсь. Досадно только, что мы не уви-
дим будущего. Очень досадно!
— Не стоит смотреть. Паршивое будущее, ваше
превосходительство.
— Не скажите, — ответил Евгений Павлович, поправ-
ляя подушку, — будущее всегда прекрасно, к кому бы
оно ни оборачивалось лицом.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Из ночей, проведенных в двусветном зале, запомни-
лась навсегда пятая. Запомнилась жестко, до мелочей,
проморозив память о ней пронзительным и острым
инеем.
В десять вечера, сдав коменданту списки на паек,
Евгений Павлович лег на свой мешок. Одолевала вяз-
кая усталь. В сумятице и тревоге этих дней генералу
не удавалось выспаться, и веки подушечками нависали
на глаза. Евгений Павлович докурил козью ножку, свер-
нутую соседом-полковником, и, подложив под голову су-
хую ладошку, заснул, открыв рот и присвистывая носом,
как грудной ребенок.
Бородка, тускло серебрясь, вздернулась к потолку.
В смутном и душном сне привиделось: будто лежит
он, Евгений Павлович, в столовой своей квартиры, и ле-
жит в хорошенькой колыбельке, обшитой голубыми шел-
ковыми бантами. Лежит крошечным двухмесячным ре-
бенком, но лицо старое, такое, как сейчас, и шевелится
над конвертиком .бородка. И вместо стеганого детского
одеяльца накрыт Евгений Павлович кавалергардским
вальтрапом с шитыми андреевскими звездами, а на са-
мом не распашонка, а полная генеральская форма с ор-
денами. У колыбельки сидит старая Пелинька в кожа-
ной лоснящейся куртке, морщинистой рукой покачивает
цолыбельку, а другой рукой осторожно снимает, один за
другим, ордена и сбрасывает их, как сбрасывают насе-
комых, короткими и брезгливыми щелчками. И говорит
Евгению Павловичу:
— Какой шелухой-то порос, болезный мой. И с чего
к тебе это прикинулось?..
501
Хочется Евгению Павловичу ответить няне, что прой-
дет это, что очистится шелуха, но из открытого рта вы-
летают не слова, а звенящий крик:
— Уа-ааааа.
Вздернув головой, Евгений Павлович проснулся и
приподнялся на локте.
Крик еще звенел в воздухе, и Евгений Павлович по-
нял происходящее, лишь когда комендант вторично крик-
нул, стоя в дверях:
— Встава-ааай!
И опять, как в первый вечер, растянулась, прилипла
к стенам резиновая жамка, и похоронными факелами
запылали глаза на лицах, нарисованных над рядами
мрачным фантастом-художником, страдающим смерт-
ными кошмарами.
В распахнутых в коридор дверях мутными оранже-
выми огоньками мелькали кончики штыков и ерошились
примятые папахи красногвардейцев.
Комендант оглядел ряды своими немигающими тра-
вяными зрачками, устало мотнул челюстью и сказал:
— Адамов!
Евгений Павлович поднял опущенную голову и по-
смотрел в лицо коменданта цепким, все замечающим
взглядом, а пальцы рук мгновено похолодели и одереве-
нели.
Но комендант не задержался на Евгении Павловиче
и с хмурой гримасой ткнул ему в руку листок бумаги»
— Выкликай, — приказал он. — Кого выкликнешь —
пущай отходят к дверям.
Евгений Павлович заглянул в лист. Буквы набухали
и колебались. Слабым голосом, срываясь, он выкрикнул
первую фамилию, и от стены, словно отклеившись, отпал
и сразу утерял живую связь с оставшимися тайный со-
ветник, похожий на огромный мяч для кавалерийского
поло. Словно разваливаясь на ходу по суставам, он тя-
жело проволочил ноги к двери, и эти пятнадцать шагов
стоили ему большего труда, чем все пространство, прой-
денное за некороткую жизнь. Это было видно по тому,
как ставились ноги на грязный паркет, носками внутрь,
грузно и неуклюже. Широкие серые брюки обволакивали
ноги, словно пытаясь удержать их, и ноги под брюками
уже не гнулись, как мертвые.
За тайным пошли другие, такие же потерянные, так
же мгновенно и страшно отрывающиеся от жизни, уви-
502
девшие за мутным туманом коридора, за оранжевыми
искорками красногвардейских штыков неотвратимую и
последнюю пустоту.
В списке было двадцать семь фамилий, у двадцати
семи фамилий было двадцать семь сердец, стрекочущих
всполошенным боем, сжимающих сумчатые мускулы,
словно их уже касалось остренькое и горячее рыльце
пули.
Шатаясь и смотря в потолок, чтобы не видеть этих
лиц и глаз, Евгений Павлович опустил дочитанный спи-
сок; листок вырвался из его пальцев и, перевернувшись
два раза на лету, лег на пол.
Комендант, оправляя ремень на шинели, глухо про-
изнес, убегая глазами в угол:
— Выходи в коридор! Вещей не брать. Не нужно.
Молчали.
Стояли неподвижно, не отрывались взглядами от ос-
тающихся.
— Да выходи же! — вскрикнул комендант, и Евгению
Павловичу показалось, что голос его сейчас вот порвет-
ся, лопнет от нестерпимой для самого коменданта боли.
И тогда, тяжко отлипая от пола, затопали свинцовые
ноги, и кто-то из уходящих закричал тонко и высоко:
— Прощайте, господа! Не поминайте лихом!..
И, словно крик был лучом прожектора, впившимся
В'Смятенную душу ярким сигналом, позвавшим в жизнь,
п^сть ненужную и странную здесь, в двусветном зале,
на соломенных мешках, с протухлым пайком, но незаб-
венно прекрасную жизнь, — тайный советник высоко
вскинул руки, перебежал зал к тем, к остающимся, и,
выкатив белки, вцепился пальцами — как пожарник
крюком в железную крышу — в борт чьего-то пиджака.
Евгений Павлович зажмурился. В уши ему хлест-
нуло воплем.
Кричал тайный советник. Кричал хрипло и надрывно,
задыхаясь и выплевывая слюну:
— Не хочу!.. Не хочу!.. Я домой хочу!.. Домой!.. Не
держите меня... Я не хочу умирать!.. Я двадцать семь
лет государю служил... слу-у-ужил...
Евгений Павлович с усилием разлепил ресницы и
встретился взглядом с комендантом. Зеленые зрачки
коменданта плавали в мути, и его стеариновые щеки
натянулись на скулах туго и плоско, как материя на
мебели.
503
Евгений Павлович поднял руку, открыл рот, но ко-
мендант внезапно отвернулся к двери, где топтались
сбившиеся люди.
— Марш в коридор, матери вашей черт! — заорал
он дурным, истошным голосом и, когда шарахнувшаяся
кучка выдавилась из дверей, позвал: — Тимощук! Се-
редин! Ванька! Берите его, берите, черт вас дери!
Трое красногвардейцев ухватились за тайного.
Страшна человечья сила, когда тянется к жизни.
Выкручивая руки, ломая вцепившиеся в лацкан паль-
цы, пыхтя и сопя, отдирали красногвардейцы тайного
от его соседа. И сосед, побелевший, подергивая челю-
стью, сам помогал им вырвать лацкан у тайного, стра-
шась, чтобы их вместе не выволокли за роковую
дверь.
Тайный визжал, плевался, кусал красногвардейцев
за пальцы, лицо его вздулось, стало похожим на багро-
вый нарыв, готовый прорваться и залить все гнилой
черной кровью.
Тайного свалили с ног и протащили к двери под
мышки. Один из красногвардейцев придерживал его
вскидывающиеся и бьющие в пол каблуками ноги.
Дверь захлопнулась.
И сразу, как по команде, все стихли и примерзли
к местам, жадно прислушиваясь к удаляющейся по
коридору возне и затихающим крикам.
Осела томительная, остро визжащая в ушах, после
крика и топота, чугунная тишина. От нее стало еще
страшней. Во рту у Евгения Павловича высохла слюна,
и губы прилипли к зубам.
Он отошел к своему месту на нарах и тут только
сообразил, что его сосед, малярийный полковник, тоже
был в числе вызванных. На его сером одеяле осталась
лежать обгорелая спичка и недоеденный сухарь. Возле
сухаря по ворсу одеяла рассыпались мелкие желтова-
тые крошки.
Евгений Павлович машинально собрал крошки в ла-
донь, размял их пальцами и ссыпал на пол. Взял спич-
ку, соскреб с нее сгоревшую головку, сломал и тоже
бросил. И, бросив, понял с мгновенным режущим холод-
ком, что больше полковник никогда уже не съест сухаря
и не зажжет спички.
От этого во всем теле, словно тонкие червячки, заше-
велились нервы,
504
Евгений Павлович закусил губы. Пронеслась бы-
страя, как вспышка спички, мысль: «Убийцы!..»
Но на лицо всползла тут же болезненная и неловкая
улыбка, и генерал сказал сам себе, натягивая на голову
одеяло, чтобы не видеть камеры и придавленных дыха-
нием смерти людей: «Непоследовательно, Евгений Пав-
лович! Вы сами говорили о юридической новелле, ува-
жаемый профессор истории права. Так вот: это одна из
новелл этой самой истории».
С улицы напористо рвался в зал особняка иззябший
осенний ветер, равномерно постукивая в стекло оборван-
ным наружным термометром. Этот стук звучал, как
треск взводимых курков.
Евгений Павлович слушал его до утра, кусая губы,
неловко усмехаясь и прислушиваясь к сплошному ше-
поту неспящих людей.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Как всегда, Евгений Павлович отмечал огрызкохм
карандаша откликающихся на вызовы во время утрен-
ней переклички. Это утро было началом четвертой не-
дели ареста. К концу переклички перед глазами Евгения
Павловича замелькали дрожащие серые точки, медлен-
но таявшие в зрачках, как клочки дымчатой вуали.
Задрожали колени, и ослабли связки, ноги у гене-
рала 'подогнулись. Как во сне, с трудом различая лица
стоящих в шеренгах, он довел перекличку до конца.
За три недели сумрачные осенние ночи вырвали из
списка заложников шестьдесят девять человек, не вер-
нувшихся обратно, и список значительно укоротился.
Отметив последнюю фамилию, Евгений Павлович сло-
жил список и присел на нары, сдавив ладонями виски.
Эта вялая слабость, валившая с ног, мутившая зре-
ние и подтачивавшая генерала, как вода подтачивает
грунт под запрудой, началась еще со второй недели, и
причина ее была ясна Евгению Павловичу: он недо-
едал.
Стариковское здоровье не могло противостоять голо-
довке. Казенного пайка было мало, чтобы с достаточ-
ной силой разогреть разжиженную годами кровь и
погнать ее тугим напором по кровеносным сосудам.
Осенние ночные холода тоже давали себя знать в про-
505
сторной кубатуре двусветного зала, и часто по ночам
Евгений Павловну просыпался от едкого озноба и на-
прасно подворачивал со всех сторон одеяло.
Другие заключенные уже с первых дней стали полу-
чать передачу продуктами из дому. Ежедневно карауль-
ные передавали в камеру кульки, пакетики и корзинки
со снедыо. Некоторые счастливцы получали даже слиш-
ком много и от избытков угощали соседей.
Евгений Павлович ни разу не получал передачи. Да
и неоткуда было ждать. Родных в городе не было,
знакомым впору заботиться о себе, и они, вероятно, и
не знали о судьбе генерала. Старая Пелинька была
слаба, несообразительна и безграмотна и даже при же-
лании не могла бы докопаться до исчезнувшего барина.
Изредка Евгений Павлович разделял трапезу сосе-
дей, но делал это неохотно. Казалось неудобным лишать
людей их доли, и предлагаемые куски как-то застревали
в горле, а кроме того, большинство заключенных тайно,
а некоторые совершенно открыто относились к генералу
с нескрываемой враждой и ненавистью.
Ненавидели за то, что Евгений Павлович — староста
камеры, что он «прислуживается к палачам», что он —
«изменник присяге и родине», и часто вслед проходя-
щему по камере генералу ползло заглушенное, но
явственное шипение врагов:
— Красная подлиза шествует.
— Большевистский лакей. '
— Сволочь!..
Однажды ночью к Евгению Павловичу подсел бело-
бородый член Государственного совета, чье имя часто
встречалось в недавнем прошлом на столбцах газет
с эпитетами «маститый», «наш уважаемый», «почтенный
государственный деятель», «столп государственности».
Столп государственности склонил к Евгению Павло-
вичу лысый череп, и желтый блик лампочки скользил
по розовой пустоши, как по полированному бильярд-
ному шару.
— Вы простите меня, ваше превосходительство,—
произнес он,..слегка пришепетывая, — но мне кажется,
что вы не вполне уясняете себе, в какое неловкое поло-
жение вы сами себя изволите ставить вашим поведе-
нием.
Евгений Павлович смотрел на блестящее пятно,
скользившее по лысине. Ему внезапно стало смешно, не-
506
удержимо смешно, и он с трудом сдерживал дергаю-
щую щеки судорогу.
Собеседник заметил это, и лицо его стало замкну-
тым и осуждающим.
— Вы, кажется, изволите находить мои слова смеш-
ными?..— спросил он язвительно.
Евгений Павлович, не отвечая, смотрел ему в пере-
носицу. Член Государственного совета покраснел.
— Как угодно, ваше превосходительство. Мое дело
предупредить вас. Вы сами понимаете, какую ответ-
ственность вы понесете в первую голову, когда восста-
новится законная власть.
Слова «законная власть» он произнес трагическим
шепотом и поднял плоскую кисть руки вверх, как для
присяги. ч
Евгений Павлович сузил глаза в две щелочки.
— А у вас есть уверенность, ваше превосходитель-
ство,— в тон разговора ответил он собеседнику, — что
эта власть незаконная?
Собеседник несколько секунд смотрел в лицо гене-
ралу округлившимися желтыми старческими белками,
затем резко встал, с отталкивающим жестом, и по-
спешно отошел к своему месту.
Генерал тихо усмехнулся ему вслед.
Этот разговор отчетливо вспомнился сейчас, после
переклички, когда перед глазами плавали обрывки дым-
ной вуали.
Евгений Павлович посидел еще некоторое время на
нарах, тщетно стараясь задавить терпкое сосание
в горле и подступающую тошноту. Но с каждой секун-
дой становилось все тяжелее. Он встал. Камера пока-
залась плавающей в молочной пелене.
«Вероятно, накурили очень», — подумал Евгений
Павлович и решил выйти в коридор.
Прогулки по глухому коридору заключенным, разре*
шались.
В коридоре на табуретке у двери сидел красногвар-
деец, зажав винтовку между коленями, и, оттопырив
вздутые мальчишеские губы, старательно читал газету.
Евгений Павлович мельком взглянул на него.
Подумалось: «В наше время показали бы часовому,
как газету читать. А этот, как муха к меду, прилип.
Хорошо или плохо? Политически просвещенный солдат.
Нужно ли? Верно, нужно, раз читает...»
507
Мысли скользили, разметывались.
Генерал облокотился на выступ стены, поднял руку
ко лбу. Ладонь прилипла к холодной, взмокшей про-
тивной испариной коже. Он удивился и испугался. Но
прежде чем успел подумать об этом, дымная вуаль снова
упала откуда-то сверху. Он скользнул ладонью по
обоям, пытаясь задержаться.
Красногвардеец отбросил газету и вскочил, увидя,
как бесшумно и неторопливо ссунулось вдоль стены на
пол сухонькое тело в двубортной тужурке с красными
отворотами.
Евгений Павлович очнулся в сводчатой комнате, по-
хожей на готическую капеллу. Стены ее были отделаны
резным темным дубом. Здесь, в бывшем кабинете вла-
дельца особняка, комендант устроил свое обиталище.
Зеленые зрачки коменданта, не мигая, смотрели
сверху на генерала, положенного красногвардейцами на
широкий кожаный диван. В зрачках было простое чело-
веческое беспокойство.
Евгений Павлович пошевелился и не то вздохнул, не
то простонал. Комендант прикоснулся к плечу лежа-
щего:
— Не дергайтесь, старичок, не дергайтесь. Лежите
себе, пока доктора не приволокут. Что это с вами?
Евгений Павлович пошевелил бородкой.
— Не знаю, право, — как бы извиняясь, пролепетал
он хрипло, — упал, сам не знаю как. Страшная сла-
бость...
— Чего же это вы так ослабли? — спросил комен-
дант, разминая пальцем щеку. — Со страху, что ли?
Евгений Павлович нашел силы отрицательно мотнуть
головой.
— Нет... Я не боюсь. Думаю, что я просто ослабел
от недоедания. Я уже стар, здоровье ушло, — прошеп-
тал он грустно, и ему стало жаль самого себя, и того
невозвратного времени, когда мускулы были молоды и
крепки, а желудок презирал голод.
— Вот что-о!.. — протянул комендант. — Да, на но-
нешней пище и который помоложе пояс стягивает.
Дверь в комендантскую заскрипела. Сопровождае-
мый красногвардейцем, вошел молодой врач. Он, ви-
димо, был вытащен из дому и до полусмерти перепуган.
508
У него тряслись не только руки, но даже вздрагивали
тонкие, закрученные кверху, белокурые усики.
— Товарищ доктор, — сказал комендант, указывая
на Евгения Павловича, — уж простите за беспокойство,
но только требуется посвидетельствовать старичка, как
он у нас слимонился.
Доктор, беспокойно смотревший на коменданта, про-
светлел. Он понял, что ему ничто не угрожает, и уже
привычным жестом распахнул пальто и достал из кар-
мана пиджака блестящую костяную трубочку стето-
скопа.
— Снимите куртку, — приказал он Евгению Павло-
вичу.
Генерал послушно поднялся, разделся. В белесова-
том свете осеннего утра, скупо капавшем в переплет
окна, собственное тело показалось ему жалким и ни-
кому не нужным. Оно сквозило больной желтизной, и
под собравшейся пупырышками кожей проступали, взду-
ваясь жесткими дугами, выпирающие ребра. Доктор
наклонился и приставил к ключице Евгения Павловича
стетоскоп.
Тихо разговаривавшие красногвардейцы-конвоиры
смолкли, и несколько минут генерал слышал только свое
слабое и хриплое дыхание.
— Сколько вам лет? — спросил врач, складывая сте-
тоскоп.
— Шестьдесят три.
— Ну, ничего особенного, — сказал доктор, повора-
чиваясь к коменданту, чувствуя в нем официальное
лицо, — малокровие, катаральное состояние верхушек,
очень пониженное питание. Обморок произошел от сла-
бости, вызванной недоеданием и отсутствием свежего
воздуха. В возрасте больного...
— Понятно, — перебил комендант. — Валите домой.
Мы уж тут сами что-нибудь придумаем. Лекарства ни-
какого не пропишете?
— Нет. Лекарства больному не нужны. Воздух и
усиленное питание. Больше ничего.
Доктор ушел. Евгений Павлович напяливал тужурку.
От холода он дрожал все дробнее и не попадал в ру-
кава. Комендант машинально помог ему, думая о чем-то
другом, и, когда Евгений Павлович застегнулся, комен-
дант, словно разбуженный, остановил на нем травяные
искорки.
509
— Что ж это, старичок? Другим вот из дому носят
же корм, а вам нет. Что ж, ваши сродственнички за-
были или боятся до нас носа показать?
— У меня никого нет в городе, — вяло ответил ге-
нерал.
— А где ж ваши?
— Жена умерла, сын убит еще во время войны, две
дочери замужем на юге. Здесь со мной жила только
старушка няня. Но она стара, слаба, неграмотна — и
ничего не может сделать. Она даже, наверно, не знает,
где я, а известить ее я никак не могу. Я совершенно
одинок, — сказал Евгений Павлович с острым отчаянием
и взглянул на коменданта.
И опять увидел в его глазах обычную человеческую
жалость. Комендант стоял и, хмуря брови, думал.
— А где ваше жительство, старичок? —спросил он
наконец.
— Я жил на Захарьевской, — ответил Евгений Пав-
лович, — дом двадцать семь.
Комендант положил руку на плечо генерала и прого-
ворил намеренно бодро и весело:
— Вы идите теперь, старичок, до себя в камеру и
ложитесь. Я завтра, как освобожусь на момент, дойду
до вашей старушки, перемолвлюсь с ней, чтобы она вам
прислала съестного.
— Спасибо, — сказал Евгений Павлович, краснея.—
Мне, право, неловко вас затруднять. Я напишу Пелинь-
ке, чтобы она продала вещи и купила продуктов.
— Нет, насчет писания — это запрещается. Вы мне
сами скажите, а я ей передам.
Евгений Павлович подумал.
— Тогда скажите ей, чтобы она продала серебряные
ложки из левого ящика буфета, потом золотой портси-
гар, она знает где, этого хватит мне, пока жив.
— А зачем вам помирать, старичок? — спросил ко-
мендант.
Евгений Павлович не ответил и с изумлением взгля-
нул на коменданта. Комендант понял невысказанное,
пробежавшее хмурой тенью по лицу генерала, и криво
усмехнулся.
— Д-да, конечно, — сказал он с расстановкой,—
а моя бы воля, пустил бы я вас на все четыре стороны.
От вас, старичок, опасности для пролетариата, как от
козла молока, простите.
510
Евгений Павлович молчал. Стало неловко обоим, и
комендант начальнически закончил разговор:
— Ну, старичок, вертайтесь в камеру. Скоро обед
раздавать.
Евгений Павлович вышел в коридор и тихо поплелся
в камеру, придерживаясь стены.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Кто не помнит этого мыла? Оно было изумительно.
Его густой горячий коричневый цвет так приятно лас-
кал наши глаза в восемнадцатом году и в последующие,
до тысяча девятьсот двадцать второго, когда республика
сменила меч на орало и герои начали мыть руки нежно-
ароматным и пенистым «ронд».
И никакие буржуазные исхищрения не заставят нас
вытравить из сердца благостное воспоминание о мыле
тысяча девятьсот восемнадцатого.
Оно давалось по продкарточкам коммуны, за ним
нужно было выстаивать часами в сумрачных очередях,
на пустынных улицах, засыпанных сугробами. Получая
из рук отпускающего этот с виду невзрачный комок,
каждый из нас испытывал такое ощущение, словно он
добрался до Северного полюса или разрешил ответ-
ственную проблему удлинения человеческой жизни. Мы
уходили в наши нетопленные дома, спотыкаясь о суг-
робы, падая и бережно прижимая к боку заветное мыло.
Часто оно отпускалось из распределителей вместо
хлеба, в те дни, когда теплушки не привозили муки.
И в этой получке была своя прелесть и своя мудрость.
А запах! О, вспомните его запах. Это небывалая и
непревзойденная смесь. Qho пахло рыбой, смазными
сапогами, отстоем сивухи, нафталином, карболкой,
гнилью, и все эти запахи, совмещаясь и нагромождаясь
один на другой, создавали единый, торжественный и
всепобеждающий.
В тех местах, где скоплялось больше десяти кило
этого мыла, умирали все другие запахи на радиусе до
двадцати метров. И вы помните, когда, приходя домой
и тщетно пытаясь разжечь чугунную печурку мокрыми
волокнами сосновой древесины, вы вдруг ощущали из
угла, где складывалось штабелями это мыло, как крае-
угольные камни некоего строительства, бодрящий,
511
крепкий, призывающий к спокойствию и выдержке, про-
низывающий запах...
Евгений Павлович, нагнувшись над раковиной убор-
ной, терпеливо тер мылом левую штанину кальсон. Из
крана тонкой струйкой, перевитой, как кофе, вытекаю-
щее из кофейника, бежала ледяная, серебрящаяся
вода.
Руки генерала, оголенные до локтей, налились
кровью, и от них подымался прозрачный пар.
Стирать было трудно. Мыло оставляло на кальсонах
едва заветные коричневые штрихи. От ледяной воды
эти штрихи не только не размыливались, но, казалось,
закреплялись на материи навеки.
Евгении Павлович выпрямился и растерянно потер
лоб мокрым тылом ладони. Отложив мыло, он поднял
тяжело намокшие кальсоны и, держа их под струей
воды, стал мять и тискать. В движениях его рук заме-
чалась неторопливая и спорая уверенность, как будто
тайны стирки были не чужды генералу.
Так было и в самом деле. Когда Евгений Павлович
обнаружил, что две смены белья, захваченные с собой
при аресте, приняли сумеречный оттенок, он вспомнил
о шалости детских лет, за которую часто получал гонку
от матери. Когда в доме Адамовых шла стирка, маль-
чик тайком забирался в кухню и присоединялся к прач-
кам. Забавлял самый процесс стирки, облака пара, пле-
щущаяся в лохани ласково-горячая вода, горы пузырча-
той шипучей пены, нежно и бережно обволакивающие
погруженные в нее руки.
Прачки сердились и гнали маленького кадета из
кухни, но он совал в их красные ладони утащенные из
столовой сладости и гривенники, и прачки, смеясь, по-
зволяли мальчику болтаться в лохани, пока мать не
находила его за этим занятием и не извлекала упираю-
щегося и капризничающего сына. Так, шутя, Евгений
Павлович постиг искусство стирки.
Он вздохнул и положил кальсоны в раковину. На-
гнувшись, поднял с полу медный чайник, налитый при
раздаче кипятка, и, заткнув скатанным из газеты шаром
дыру раковины, вылил горячую воду.
Коричневые полосы, оставленные мылом на полотне,
медленно растаяли и сплыли. Евгений Павлович погру-
зил руки в горячую воду, морщась и шевеля бородкой,
и снова стал усиленно тереть.
512
Довольная ребячья улыбка раздвинула его стара-
тельно поджатые губы. Материя белела, принимала пер-
воначальный цвет, а остывающая вода замутилась и
посерела. Протерев кальсоны от одной штанины до дру-
гой, генерал спустил воду, прополоскал выстиранное
в новой порции холодной воды и начал выкручивать. Но
руки дрожали от усталости, и вода слабо капала со
скрученного полотна.
За спиной хлопнула дверь.
— Адамов! Ты здесь, что ли?
Евгений Павлович обернулся и увидел на пороге кон-
войного красногвардейца Прошку. Прошка, широко
распялясь в улыбку, смотрел на генерала и на скручен-
ное белье в его руках.
— Чистая прачка Матрена! А тебя комендант
ищет. — И, высунувшись в коридор, Прошка крикнул: —
Товарищ комендант! Здеся Адамов!
Обещание, данное комендантом Евгению Павловичу
сходить на квартиру генерала и поговорить с Пелинь-
кой, ему не удалось выполнить в ближайшие дни. Нале-
тело суматошное и горячечное время. В городе провели
большую облаву на налетчиков, воров, спекулянтов.
В течение последних трех суток приводили мелкими
партиями уголовную шпану. Часть ее'разместили в двух,
соседних с залом, комнатах особняка; часть загнали
в зал на освободившиеся места расстрелянных. Дей-
ствительные и тайные, камергеры и фабриканты, гене-
ралы и помещики перемешались с домушниками и
карманниками, бандитами и торговцами наркотиками.
Уголовные принесли с собой в зал развязные манеры,
густой каторжный мат и в то же время уверенность и
беззаботное веселье отчаянных, поставивших себя на
кон людей.
В зале стало спокойнее и бодрее. Незначительная
группка политических аристократов предложила осталь-
ным протестовать против смешения их с уголовниками,
но ее никто не поддержал. Большинство было радо
вторжению бесшабашных соседей. С ними словно во-
рвалась в камеру и вновь заплескалась — буйно и мо-
лодо— жизнь, с которой многие уже простились.
Комендант измотался, размещая новых жильцов, и
не мог покинуть особняка в эти дни.
Евгений Павлович взглянул на хмурый облик вошед-
шего в уборную коменданта. Сразу явственно почуялось,
513
что комендант собирается сказать что-то неприятное, и
не ошибочно.
Комендант мельком скользнул глазами по кальсо-
нам, висящим на левом локте генерала, и нахмурился
еще сильнее.
— Я до вас, Адамов, — сказал он нехотя и вяло,—
плохое ваше дело.
— Как? — спросил генерал, прижав кальсоны к
груди.
— Да так, значит. Утром сегодня сходил я до вашей
старушки, а ее там и след простыл.
— Умерла? — почти беззвучно произнес Евгений
Павлович, и показалось ему, что где-то внутри, у самого
сердца, жестокая рука вырвала железными ногтями,
с болью и кровью, кусок мяса.
— Не, не умерла. Уехала ваша старушка в деревню,
бо податься ей было некуда и кормить ее никто не хо-
тел. А на квартире вашей другие живут. Домкомбед
народу поселил бедного, значит.
Евгений Павлович беспомощно взмахнул руками.
Кальсоны взлетели вверх и упали бы на пол, если бы
комендант не перехватил их. Поймав мокрое белье, он
с любопытством распялил его на ладони.
— Чисто стирано. Ровно настоящая прачка стира-
ла,— сказал он раздумчиво.
Евгений Павлович опомнился:
— Но позвольте... Как же это так?.. Ведь у меня там
в квартире вещи мои... Документы. Письма... Мебель...
Все, что мне дорого. Разве это можно?
Комендант машинально скрутил кальсоны сильно и
напористо. На пол зашлепала вода.
— А выкручивать вот не дюже можете, — сказал он
и, только выжав всю воду, ответил на взволнованный
вопрос Евгения Павловича: — Видать, недоразумение
получилось. Дело такое. Они там, в доме, думали, зна-
чит, что вы в нетях уже. Полагали, что давно землю
носом роете. А людей девать некуда с подвалов. Ну и
переселили... Да вы не бойтесь, — добавил комендант
успокаивающе. — Скажу вам по секрету: послезавтра
комиссия приедет из чека. Кого выпустить, кого дальше
держать. Так можно полагать, что вас отпустят насо-
всем... Ну, пойду дела делать. Счастливо!
Он сунул в руки генерала кальсоны и ушел.
514
Евгений Павлович стоял ошеломленный. Кальсоны
безжизненно висели на его локте.
Ум никак не мог осмыслить происшедшего. Больше
всего мучило, что в ящиках письменного стола, тща-
тельно связанные, лежали письма покойной жены и де-
тей. Теперь чьи-то чужие, равнодушные руки разрывают
тесемочки, ворошат шуршащие листки; чужие глаза
бегают по строчкам, которые дороги памяти, и, может
быть, ненужные этим чужим людям письма сброшены
в груду мусора, растоптаны, сожжены. Остального иму-
щества было.не жаль, — мучили только эти сувениры
прожитого.
Евгений Павлович тихо пискнул, как ушибленная
крыса, и, пошатываясь, побрел в камеру. Дойдя до сво-
его места, бросил кальсоны на одеяло, сгорбившись, сел
и закрыл лицо руками. Сквозь пальцы просочились мед-
ленно набухающие ожоги слез.
Лежавший рядом и безмятежно куривший козью
ножку человек приподнялся и с внимательным удивле-
нием скосился на Евгения Павловича. Тихонько при-
свистнул и тронул ладонью вздрагивавшие лопатки гене-
рала.
— Папаша, вы о чем? — спросил он тоненьким, пти-
чьим голосом.
Евгений Павлович испуганно отнял руку и оглянул-
ся на спрашивающего. На него глянуло опухшее усатое
лицо. Из-под угреватого и вислого носа усы торчали
в обе стороны ровными блестящими колбасками, словно
к верхней губе были приклеены два вороненых револь-
верных дула.
Заметив всполошенный вопрос в глазах генерала,
человек шевельнул усами.
— Не робейте, папаша! Налетчик я, Никита Шуров,
а по кличке «Турка». По мокрому зашился. Налево
поплыву — и то, извините, не плачу. Жизнь наша раста-
кая, папаша. Живешь — в ящик сыграешь, и не жи-
вешь— в ящик сыграешь.
Прыгающие карие свечечки над усами теплились за-
бубенно и отчаянно.
Евгений Павлович усмехнулся.
— Я не о смерти, — ответил он Турке, — я о другом.
Нежданно-негаданно высыпались, как зерно из за-
крома^ слова о своей, о стариковской беде.
515
Турка подумал и хлопнул генерала ладошкой по
колену.
— Оно самое, — пискнул он своим птичьим голоском,
нелепым и странным для его широкоскулого гранитного
лица и огромных усов, — всегда это, извините, у образо-
ванных бывает. Должно быть, от большого ума или от
чего еще. Барахло самое существенное, извините, от-
даст— не пикнет, а за душевную какую-нибудь чепуху
страдает до надрыва кишок, извините. Что такое, по-
звольте узнать, письма разные, фотографии, скажем,
ленточки? Ерунда в сравнении с видимым имуществом,
извините. А вам вот барахла не жаль, а за письмами
изволите сокрушаться. Я вот тоже такой случай имел на
днях. Расхомутывали мы, извините, хазу у одной зна-
менитой артистки. На/Вознесенском живет, по фамилии
Тамарова, — может, изволили слыхать? Ну, набрали три
мешка добра, отборного, извините. Посудите сами: одна
хаза на двенадцать комнат. Собрались, извините, хрять,
а тут конпаньон мой заметил на столике кошечку. Се-
ребряная кошечка в наперсток ростом, и цена ей, изви-
ните, полтинник без рубля. Конпаньон и сунь ее в кар-
ман. А артистка, извините, пока мы добро собирали,
сидела на диванчике и только усмешку делала. А как
увидела, что кошечку взяли, вскочила совершенно, изви-
ните, как бешеная сука, и конпаньону ногтями в рожу.
Кричит: «Отдай, негодяй!» Словом, чистый хай. Я ей
тут, извините, ботаю: «Даже странно, пардон, мадам,
что вы нам всю хазу с надсмешкой отдали, а из-за пол-
тинничной кошечки бузите». А она заплакала горест-
ными ручьями и с душой отвечает: «Лучше убейте,
а кошечки вам не отдам: с ней моя дочка мертвенькая
игралась». Ну конечно, хоть мы и налетчики, а душа у
нас тоже не из рядна. Отдали ей кошечку и ушли с доб-
ром. Так она нас проводила до двери и еще спасибо
сказала. За что спасибо? Довольно чудно, извините.
Налетчик глубоко всосал махорочный дым и раз за
разом выпустил к потолку десять плотных, проскочив-
ших одно сквозь другое колец.
Евгений Павлович смахнул слезы с ресниц и, про-
следив волшебные кольца, улыбнулся растерянной дет-
ской улыбкой кольцам и налетчику.
Турка подмигнул:
— А вы, папаша, по какому делу? За контру?
Евгений Павлович пожал плечами. Вопрос Турки
516
озадачил. Никогда, собственно, не приходил в голову
вопрос, за что он сидит. Была какая-то тупая и легкая
примиренность со случившимся. Но Турке нужно было
ответить, и профессор истории права растерянно поже-
вал губами.
— Не знаю, — ответил он наконец, — определить мое
поведение как контрреволюцию я, право, затруднился
бы. Я ничего не делал. Если это контрреволюция... Впро-
чем, знаете, каменная глыба, которая лежит посреди
улицы, вероятно, думает тоже о себе, что она безвредна,
а люди видят в ней помеху движению... Если разо-
браться...
Турка иронически прищурил левое веко.
— Мудрено изволите выражаться, папаша. Будто,
извините, не генерал, а научный профессор.
— Я и есть профессор, только военный, — усмех-
нулся Евгений Павлович.
Турка вскинулся и опять выпустил волшебные
кольца.
— Вот как, извините, — сказал он. — Тогда имею
до вас разговор, папаша, существенного значения.
Очень, извините, интересуюсь. Вы не глядите, извините,
что я налетчик. Жизнь моя по неправильным рельсам
поехала и под габарит не подошла, а то, может быть,
извините, в настоящее время был бы я вождем по же-
лезнодорожной части, как бывший стрелочник. Вся беда
в старом режиме, водке и, извините, отсутствии харак-
тера. Так вот я про нашу жизнь желаю вам задать по-
лезный вопрос. Вот думал этот лишенный удовольствия
незначительный народ, который, извините, проживал в
подвалах, что если дохряют до революции, то жизнь
пойдет по обоюдному удовольствию и совершенно спра-
ведливо. И что которые, извините, вроде вас, профессора
и умственные, которые в етажах жили, побратаются
с подвальными и вместе, извините, построят настоящую
хазу, чтоб всем тепло жилось. У подвалов, извините,
кулаки, у етажей—мозги. Отменно построить можно.
А вы, извините, сразу от подвалов морду отворотили.
Хвостом в бок и не желаете об рвань пачкаться. И те-
перь ваша судьба — просто мокрая и сплошная контра.
Почему, извините?
Генерал изумленно взглянул на Турку и тихо, будто
в раздумье, сказал:
— Нас не позвали.
517
Турка всплеснул руками и захихикал:
— Извините, неученые ваши слова, папаша. Даже
дикие слова. Как, значит, не позвали?.. А сами, изви-
ните, прийти не могли? Не желали, значит. Очень это
липовая, извините, линия. Сами догадки не имели, что
младшему брату помочь надобно?
— Я не знал, а за других отвечать не могу, — рас-
терявшись, ответил генерал.
— Не знали? Извините, — вспыхнул вдруг Турка,
зашевелив усами и направив их на генерала, — изви-
ните, даже глупо слышать такое возражение. Вы не
знали, а я, может, от вашего незнания должен теперь
к стенке идти, потому некому мне было настоящую путь
показать. Эх вы, извините, моченые репы! Об небе умст-
вуете, а на земле притыкнуться не можете.
Он свирепо швырнул об пол козью ножку, сверкнул
глазами на Евгения Павловича, и улегся к нему
спиной.
Евгений Павлович, как нашаливший щенок, стараясь
не заскрипеть досками, тоже залез на свое место и по-
старался заснуть. Но дремота не шла. Неожиданная ко-
рявая, как полено, мысль налетчика будоражила, и гене-
рал ушибался о жесткие углы ее внезапной и ужасаю-
щей правды. Евгений Павлович беспокойно вертелся на
нарах, пока караульный, просунувшись в дверь, не
крикнул:
— Тащи бак, обед получать.
Евгений Павлович вскочил. Приподнялся и налетчик,
протирая глаза. Он опять скосился на генерала и ух-
мыльнулся:
— Ну, папаша, не поминайте лихом, коли хреном
накормил. Валим за жратвой. Теперь мы, извините, оди-
накие. Вы профессор, я налетчик, а вместе, в одной
клеточке, вшу кормим. Не извольте гневаться.
— Я не сержусь, — спокойно ответил Евгений Павло-
вич и пожал протянутую жесткую лапу Турки.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Ночью увели Турку и еще семерых уголовников.
Выводили их тихо, без переклички, стараясь не будить
остальных. Комендант с караульным подходил к на-
меченным и расталкивал. Растолкав, отводил к двери и
518
будил следующих. Когда будили Турку, Евгений Павло-
вич проснулся, взглянул на стеариновые щеки комен-
данта и понял.
Ощутил небывалую еще дрожь и болезненную жа-
лость, словно пришли отнять у него только что найден-
ного после долгой разлуки брата.
Турка спал крепко и от толчков только всхрапывал.
Евгений Павлович шепотом спросил коменданта:
— Неужели расстреливать?
Комендант нервно дернул щекой и метнул в сторону
генерала обозленными глазами.
— Нет, кофий со сливками пить, — сердито отрезал
он и буркнул: — Спите уж, старичок. Ваше дело, здесь
маленькое.
Очевидно, во всей фигуре Евгения Павловича про-
ступило беспомощное томление, потому что комендант
добавил:
— Есть чего жалеть! Душ двадцать зарезал, сукин
сын. Таких и стрелять в первую голову, чтоб землю не
заблевывали.
Турка проснулся. Один ус его по-прежнему торчал,
как револьверное дуло; другой рассыпался по щеке
веером. Он ничего не спрашивал, быстро навернул пор-
тянки и надел лаковые с гармошкой сапоги. Лицо его
.чуть-чуть посерело, а глаза забегали мышами.
— Налево, что ли? — спросил он коменданта.
Комендант неторопливо отозвался:
— Там у пули спросишь.
Турка закрутил ус, встал и засмеялся;
— Она, братишка, только свистит без толку: у ней
ответа не добьешься.
Покрутил еще усы, затуманился:
— Эх, усов жалко. Десять лет растил-холил,—
и повернулся к Евгению Павловичу.
По всему облику генерала почувствовал его мучи-
тельную тоску и ободрительно потрепал по плечу:
— Не горюйте, попаша: все там будем. А вот при-
мите от меня, извините, на память, от чистого сердца.
Так, в кармане завалялось.. Нам ни к чему.
Он вынул и сунул в руку Евгению Павловичу ма-
ленький, тускло блеснувший желтым, тяжелый предмет
и, наклонившись к генералу, внезапно поцеловал его
в губы. От усов Турки почему-то пахло ванилью.
•— Простите, папаша, ежели словом обидел.
519
Евгений Павлович не мог поглядеть в глаза налет-
чику и стоял понурившись, сжимая в левой ладони
подарок.
Турку увели. Евгений Павлович разжал ладонь и
увидел в ней маленькое ' резное изображение Будды,
монгольский бурханчик. Будда сидел, поджав тоненькие
ножки, держа в руке змею, и бессмысленно-мудро улы-
бался. По весу и мягкому блеску металла генерал по-
нял, что бурхан золотой.
Евгений Павлович вздохнул, положил бурханчик
в боковой карман тужурки и залез под одеяло. В тиши-
не камеры ему по временам чудились отдаленные вы-
стрелы, и он вздрагивал сквозь дрему.
Рано утром приехала комиссия из чека. В комендант-
скую принесли списки арестованных и поодиночке на-
чали вызывать. В двенадцатом часу в комнату комиссии
попал Евгений Павлович.
За комендантским столом сидели трое: один — се-
деющий грузин. В его орбитах шало метались, синея
белками, горячие южные глаза. Он поднял голову от
бумаг, уставился на Евгения Павловича.
— Фамилия? — спросил он коротко, словно рванул
холст.
— Адамов.
— Чын в старой армии?
— Генерал-майор, профессор Военно-юридической
академии.
— Прокурором в военном суде были?
— Был два года.
Сидевший справа щупленький блондинчик, по лицу
которого нельзя было никак определить его возраста
(можно было с равным успехом дать ему и девятна-
дцать лет и сорок), сощурился и вмешался в допрос:
— Ваша фамилия Адамов?
— Так точно, — по-солдатски ответил Евгений Пав-
лович.
— Скажите, если мне не изменяет память, в тысяча’
девятьсот пятом в' Севастополе был военный прокурор
Адамов. Какое отношение к нему вы имеете?
— Это я, — ответил генерал.
Блондинчик перегнулся к грузину и что-то зашептал.
520
Грузин повел синевой белков, сердито махнул рукой и
сказал:
— Пачыму сразу пэ заявили?
— О чем? — удивился Евгений Павлович.
— Что значит — о чем? О том, что Адамов.
Евгений Павлович улыбнулся:
— Зачем бы я стал заявлять, что я Адамов, если
моя фамилия есть в списках.
Улыбнулся вдруг и грузин:
— Я нэ про то гавару, товарыш. Я про то гавару:
зачым нэ сказал, что тот Адамов, который судить нэ
хотэл?
— Я не придавал этому никакого значения, — отве-
тил генерал.
. — Нэ придавал? — опять сердито вскинулся гру-
зин.— Нэ придавал? А когда бы прыдал? Когда бы
в ямэ лэжал? Да? Ыды, пожалуйста!..
Блондинчик весело расхохотался в спину уходящему
Евгению Павловичу.
Около двух комендант вошел в камеру и позвал:
— Адамов! Собирай вещи! На выписку.
Сердце у Евгения Павловича заклокотало, как на-
седка над выводком. Он процвел сизой бледностью и
шатнулся.
— Ну-ну, — сказал комендант, — не падай. Говорил
я: тебе помирать рано. Гуляй! Оказывается, ты нашему
брату вроде свояка приходишься. А молчал...
Евгений Павлович торопливо связывал вещи. Слова'
коменданта звучали пусто и зыбко, как дальний свист
ночной птицы. Он вскинул увязанный тючок на плечо и
оглядел камеру. Со всех сторон за него цеплялись мер-
цающие свечи внимательных глаз.
Неловко и нелепо генерал сделал общий поклон и
сказал:
— До свиданья, господа!
Несколько голосов уголовников вразброд ответили:
— Счастливо!
— Бывайте здоровеньки!
Политические молчали, и только чей-то голос бросил
шипящее:
— Выслужился... хамский маршал!..
У Евгения Павловича дернулся мускул на скуле.'
Он ничего не ответил и быстро пошел за комендантом.
У выхода комендант сказал часовому:
521
— Пропусти. — И протянул руку генералу: — Ну,
желаю всех этих... Славный ты старичок был, Адамов.
Просто даже жаль отпускать. Кого я теперь старостой
сделаю? Мелкота народ...
Евгений Павлович козырнул коменданту и вышел
на улицу.
Свежий и мокрый октябрьский ветер бросился ему
на грудь, обнял, защекотал, одурманил. Генерал снял
фуражку и подставил лоб влажным шлепкам. Постоял,
оглядывая пустую улицу, и мелкими, спешащими ша-
гами заскользил по тротуару.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
На первый короткий звонок из квартиры никто не
отозвался. Евгений Павлович подождал и позвонил про-
должительнее. Минуту спустя за дверьми застучали
мелкие, но быстрые и крепкие шаги, совсем непохожие
на унылое шарканье Пелиньки.
Дверь открылась. Загораживая ее, на пороге стала
краснощекая, сбитая молодая женщина в вязаной вер-
блюжьей кофточке.
— Вам кого нужно? — спросила она не враждебно,
но настороженно.
Евгений Павлович нерешительно поднес пальцы к ко-
зырьку фуражки.
— Мне — никого... Я домой пришел, то есть к
себе, — сказал он, путаясь в словах, не сводя глаз
с овальной родинки у левой скулы женщины.
Глаза женщины раскрылись шире. Видимо, она рас-
терялась. Стоящий перед ней малорослый человек в
генеральской шинели, с нахлобученной на уши фураж-
кой и остренькой щеточкой-бородкой не походил на пре-
ступника или авантюриста, но то, что он говорил, каза-
лось женщине странным и пугающим. Она тревожно
оглянулась назад, в темноту квартирного коридора.
— Как к себе? Вы, верно, этажом ошиблись? Тут
мы живем.
— Нет, я не ошибся, — возразил Евгений. Павлович
и показал на привинченную к двери медную дощечку.
Ее еще не сняли, и на ее позеленелой поверхности чер-
нела надпись: «Евгений Павлович Адамов».
522
— Я и есть Адамов, — сказал генерал, — так что
ошибки не может быть.
— Ничего не понимаю, — сказала женщина и вдруг,
догадавшись, всплеснула крепкими и пухлыми руками.—
Ах, так это вы!..
Она вылилась в сконфуженную и потерянную улыбку.
— Вы, значит, и есть тот самый генерал, кото-
рый...— Она не договорила и каким-то смятым голосом
сказала: — Так вам нужно будет поговорить с председа-
телем домкомбеда. Ведь вашу квартиру заняли.
— Да, я слышал об этом, — ответил Евгений Пав-
лович, вертя пуговицу шинели. — Но как же это?.. Я не
понимаю... Ведь я же должен где-нибудь жить?
— Так видите ли... в домкомбеде, собственно, ду-
мали, что вы... — Женщина запнулась и тревожно по-
краснела.— Впрочем, правда, я не сумею вам объяс-
нить всего. Вы в самом деле лучше поговорите с пред-
седателем.
— Хорошо, я пойду к нему, — ответил генерал и
повернулся, чтобы спуститься вниз: квартира предсе-
дателя домкомбеда находилась в прежнее время на вто-
ром дворе.
— Так куда же вы идете? — спросила женщина.—
Домкомбед живет теперь тут же, в этой квартире. Он
переехал вместе с нами. Вы заходите, он как раз сей-
час дома, — сказала она, отступая вглубь и пропуская
Евгения Павловича в переднюю.
— Идите прямо. Расположение знаете? Домкомбед
в бывшем кабинете и столовой поместился, — обронила
женщина и покачала головой с соболезнующим лукав-
ством.
«Вот так штука!» — говорила вся ее фигура.
Евгений Павлович неуверенно и на цыпочках про-
шел по тому самому коридору, по которому много лет
ходил полным хозяином, и постучал в филенку своего
кабинета.
— Ну, входите, — донесся до пего голос.
Евгений Павлович вошел.
Первое, что бросилось ему в глаза, были подошвы
сапог, задранных на обочину дивана. На середине ка-
ждой подошвы была круглая дырка. Подошвы медленно
шевелились, шлепая одна о другую краями. К сапогам
были прикреплены ноги, к ногам туловище, к туловищу
голова. Во рту головы дымилась папироса. Сквозь дым
523
лежащий на диване не видел вошедшего,, и, не меняя
позы, лениво спросил:
— Ну, кто? Что надо?
— Это я, — робко сказал генерал, — я, Евгений
Павлович.
Подошвы вскинулись в воздух. Лежавший вскочил
и несколько секунд молча и в полном остолбенении
смотрел на генерала.
— Вы?.. Вы?.. Вы?.. — наконец троекратно повторил
он таким, тоном, словно хотел сказать: «Сгинь, сгинь,
рассыпься!»
— Да... Меня выпустили, — несмело промямлил
Евгений Павлович так, будто он совершил какой-то
непристойный поступок и извинялся за него.
Председатель домкомбеда искоса посмотрел на гене-
рала и подметил его странную растерянность и удру-
ченный вид. Это придало председателю домкомбеда
смелости; он выпрямился и стал официально ледяным.
— Вижу, — сказал он сурово, как имеющий
власть. — Имеете до меня какое-нибудь дело?
Евгений Павлович подался вперед. Бородка его
вздрогнула.
— Какое же дело? Я просто домой пришел. Вы
меня извините, — продолжал он нервно и взмахнул
руками, — я не могу понять. Как же это так? Моя
квартира и... наконец...
Генерал путался в словах, и по мере этой путаницы
лицо председателя домкомбеда принимало все более
ледяной оттенок.
— Простите, гражданин Адамов, — перебил он,—
тут и понимать нечего. Вашей квартиры больше нет.
Существует комнатная коммуна номер семь. Вас счи-
тали умершим, и квартира ваша занята под трудящееся
население. Утверждено протоколом домкомбеда и пере-
решено быть не может. То, что вы живы, — это недора-
зумение.
— То есть как же? Это же юридический нон-
сенс, — ослабев, выдохнул с натугой Евгений Пав-
лович.
Собеседник дрыгнул ногой и нахмурился.
— Прошу не употреблять старорежимных слов...
Даже если вы живы, нам это ни к чему. Все равно
квартиру вашу заняли бы, потому что вы — нетрудо-
вой элемент и ваше имущество подлежит отобранию
524
для справедливого разделения между беднейшим на-
селением.
Председатель домкомбеда с каждым словом наби-
рался апломба и с особым наслаждением произносил
заученные слова. В прошлом он был конторщиком
у нотариуса и славился в доме как существо сварливое
и нечистое на руку. Он, мгновенно оправившись от пер-
вого смущения, учел подавленную психику генерала и
решил действовать напролом отчаянной наглостью.
— Но, позвольте... — возразил Евгений Павлович,
теряя последнюю почву под ногами, — допустим, квар-
тира и имущество подлежит конфискации. Но ведь я ос-
вобожден,— следовательно, тем самым оправдан и
имею право жить где-нибудь. И потом здесь находятся
вещи, которые у меня никто не имеет права отобрать...
Мои документы... Письма... Бумаги...
— Частная собственность отменена, — твердо возра-
зил председатель домкомбеда.
— Извините, я сам юрист, — вспыхнув, сказал Евге-
ний Павлович, — я тоже понимаю толк в законах.
Можно конфисковать материальные ценности, но не
предметы, имеющие ценность только для владельца и
ценность не реальную, не денежную, а моральную. Ни-
кто не смеет отнять у меня воспоминания.
Собеседник отвернулся к окну. Он чувствовал, что
положение начинает становиться опасным и неловким.
— Видите, гражданин генерал, — сказал он, не-
сколько мягче, — ничего этого не осталось. Вы тоже
войдите в наше положение. Ведь вас же, говорю, в доме
покойником считали. Ну, значит, когда заняли вашу
квартиру, я приказал все бумаги пожечь, чтоб попусту
не валялись...
Он оглянулся на странный звук и, оглянувшись,,
увидел, что генерал широко открытым ртом, захлебы-
ваясь, хватает воздух. Вслед за тем он, сломавшись,
ссунулся в кресло и заплакал.
Домкомбедовец шагнул к генералу, остановился,
беспомощно поглядел по сторонам и бросился в сто-
ловую. Минуту спустя он выскочил со стаканом воды
и, приподняв голову Евгения Павловича, стал поить
его, как ребенка. Евгений Павлович захлебнулся, за-
кашлялся и затих.
Домкомбедовец опять вышел в столовую. Дверь за
ним осталась притворенной неплотно. Евгений Павло-
525
вич услышал за ней тихий разговор. Говорили два го-
лоса: мужской и женский. Очевидно, домкомбедовец
разговаривал с женой.
— Жалко, — сказал голос женщины, — он ведь
старый.
— Тебе всех жалко, — ответил мужской, — что ж,
ворочаться в старую квартиру, а ему эту отдать? Надо
его сплавить как-нибудь. Сама знаешь, вещи-то рас-
продали. Тут в такую историю влетишь, если он жало-
ваться...
Голос понизился, и больше ничего Евгений Павло-
вич не слыхал. Он вытер рукой веки и поднялся. Дом-
комбедовец вышел из столовой; глаза его прыгали, из-
бегая генерала.
— А вы не убивайтесь. Можно еще поправить
как-нибудь, — произнес он, принимая прежний офи-
циальный тон, — вы подайте сейчас заявление в дом-
комбед— мы вам какую-нибудь комнатку приспосо-
бим...
— Не нужно, — перебил Евгений Павлович, — и не
бойтесь: я жаловаться не буду. Все равно. Я уйду к
кому-нибудь из знакомых. Арандаренко живет еще в
доме?
Домкомбедовец сделал отрицательный жест.
— Он три недели как на Украину уехал.
— Все равно, — опять сказал Евгений Павлович, —
это не важно.
Он обвел глазами кабинет, как бы прощаясь навсегда
со знакомыми вещами, в которых незримо таилась час-
тица его жизни, и вдруг увидел над диваном портрет
жены. Он висел нетронутый, в той же тяжелой дубовой
раме, слегка покосившись. Евгений Павлович подошел
к дивану:
— Я возьму это.
— Конечно, конечно. Я понимаю... по человечеству, —
заторопился обрадованный председатель домкомбеда и
поспешно влез на диван, чтобы снять портрет. — Ежели
хотите, возьмите еще что. Хоть теперь все домовое и
в опись записано, но я ж вхожу в положение.
Но, встретив взгляд Евгения Павловича, он умолк и
торопливо сунул ему снятый портрет; Евгений Павлович
с трудом забрал его под мышку и надел фуражку.
— До свидания. Живите счастливо... если сможете,—
тихо сказал он.
526
— Не взыщите, гражданин Адамов. Разве я что, —
я бы с удовольствием, да ведь время такое. Не я поста-
новил... весь дом... собрание...
Генерал, не слушая, бежал по коридору к выходу,
таща тяжелый портрет. Ему было душно. Казалось, что,
если сейчас же не выбежит на воздух, задохнется и упа-
дет на пороге мертвым.
Евгений Павлович спустился на одну площадку вниз,
прислонил портрет жены к батарее парового отопления
и сел на подоконник. Сердце у него почти не билось, и
по всему телу проступил холодный и обессиливаю-
щий пот.
Он долго просидел на подоконнике, бессмысленно и
устало смотря перед собой. Наконец шевельнул губами
и сказал полушепотом, но слова гулко упали в пустые
пролеты лестницы:
— Юридическая новелла, профессор! Спокойствие!
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Встав с подоконника, Евгений Павлович опять взял
под мышку портрет и спустился к выходу. На улице
остановился в раздумье, размышляя, куда идти. Вспо-
мнилось, что неподалеку, кварталах в трех, жил корпус-
ный еще товарищ — Приклонский. Приклонский рано
вышел в отставку и перешел на службу по министерству
иностранных дел, но дружеские отношения остались.
Встречались часто, до последнего времени, и встречались
сердечно.
Евгений Павлович вздернул бородку и, склонясь на
левую сторону под тяжестью портрета и мешка с ве-
щами, зашагал по тротуару.
У Приклонских долго и подробно опрашивали через
закрытую дверь: кто, зачем, по какому делу, к кому.
Евгений Павлович еле мог отвечать. Прогулка по улицам
окончательно обессилила его, и, когда наконец дверь
открыли, он почти повалился в переднюю.
Приклонский встретил генерала в крошечной комна-
тушке. Она вся была занята неестественно огромной тах-
той, крытой персидским ковром, и письменным столом.
— Здравствуй, здравствуй, — приветствовал он Евге-
ния Павловича. — Давно тебя не было видно. Ты прости,
что я тебя принимаю в таком закуте, но, видишь ли, нас
527
совсем стеснили. У нас только две комнаты на пятерых
остались да вот мой хлевушок.
Приклонский говорил каким-то спешащим, пляшущим
голосом, все время беспокойно оглядывался по сторонам
и вздрагивал.
— Трудно мне было бы побывать у тебя, — ответил,
присаживаясь на кончик дивана, генерал, — ведь я толь-
ко сегодня вышел на свободу. Я два месяца просидел
заложником.
Глаза Приклонского смятенно округлились и впились
в генерала.
— Как? Ты был арестован? Где?
— Я сидел в отдельном арестном доме чрезвычайной
комиссии Литейного района, — точно рапортуя, ответил
Евгений Павлович.
Приклонский заметался по комнатке, споткнулся
о диван, схватил к чему-то со стола вытиралку для
перьев, повертел ее, бросил и испытующе посмотрел на
Евгения Павловича.
— Значит, ты бежал, — сказал он с уверенностью, —
ты бежал... бежал...
— Что с тобой?—Генерал удивленно вскинул бо-
родку. — Почему тебе взбрело в голову, что я бежал?
Почему ты так нервничаешь?.. Меня просто выпустили.
Приклонский предостерегающе поднял указательный
палец и, нагнувшись к самому лицу Евгения Павловича,
покачал пальцем перед его носом.
— Ти-та-ти-та, — сказал он, — расскажи кому-ни-
будь другому. Я же не мальчик: я знаю, что оттуда не
выпускают. Ты можешь меня не бояться: я тебя не вы-
дам.
— Да ты с ума сошел! — вспылил генерал. — Я по-
вторяю тебе: меня выпустили. Я пришел к тебе с прось-
бой временно приютить меня.
Приклонский отшатнулся: щеки его отвисли, как по-
дол у пьяной бабы.
— А почему ты не пошел к себе на квартиру? —
спросил он, хитро подмигнув.
— Но ведь мою квартиру отняли у меня. Меня счи-
тали уже умершим. Мне некуда деваться. Я хочу пере-
ночевать у тебя и посоветоваться, что делать дальше.
Приклонский рассматривал Евгения Павловича с не-
доверчивой усмешкой и, едва он договорил, забормотал:
— Ну, ну, конечно. Но почему ты не хочешь сказать,
528
а придумываешь всякие небылицы о своей квартире?..
И потом... Потом, — Приклоиский понизил голос до met
пота, — я прошу тебя не оставаться у меня. Не пойми это
ложно... Я не забываю старой дружбы... но понимаешь...
на меня донос за доносом, я сам каждую минуту жду
ареста: наконец, у меня дети... Если тебя обнаружат —
нам всем крышка. Пойми мое состояние...
— Но мне же некуда идти... У меня нет крова на эту
ночь. Как хочешь, но я не могу уже уйти. Ведь поздно. Я
пересплю на этом диване и утром уйду, если уж ты не ве-
ришь мне и так боишься, — горько сказал Евгений Пав-
лович.
Приклоиский заметался по комнате, сжимая голову.
— Женя, послушай... Ну, что хочешь. Ну, тебе денег
надо — я дам... но только уходи... Ей-богу... Ну, я на ко-
лени пред тобой стану. Пожалей моих детей, — залепе-
тал он, потеряв последние крохи мужества и по-собачьи
заглядывая в лицо Евгению Павловичу.
Евгений Павлович охнул. Мутная струя холода мед-
ленно подползла к гортани, и было смертельно противно
и страшно, что этот испугавшийся человек действительно
станет на колени. Он поднялся с дивана, задергал бо-
родкой, обронил с тихим и оттого ужасным презре-
нием:
— Успокойся... уйду...
Приклоиский мгновенно просиял.
— Ну, я же знал, что ты — старый хороший друг и
не захочешь подвести меня. Может, тебе в самом деле
денег надо? Или вот что, я напишу тебе записку к од-
ному верному человеку. Он приютит тебя, — засуетился
он, кидаясь к столу и схватывая блокнот, но сейчас же
отбросил его и обнял Евгения Павловича.
Генерал сухо отстранился.
— Не тронь меня! — вскрикнул он и брезгливо по-
вел побледневшими губами.
Подняв с полу портрет, он, не глядя на Приклон-
ского, не прощаясь, молча прошел один к выходу, отпер
дверь и спустился на улицу.
Дождь, уже начинавший накрапывать, когда Евгений
Павлович подходил к квартире Приклонских, теперь хле-
стал со всей неистовой осенней разнузданностью. Каза-
лось, что в темноте вечера, на черной глянцевитой от
воды улице торопливо и споро работает огромный ткац-
кий станок, выпрядывая серые, звонкие и мокрые нити.
18 Зак. № 426 529
У первого же крыльца Евгения Павловича обдало
потоком воды с подъезда. Леденящие струи обожгли го-
лову, поползли за воротник шинели, покрыли новеньким
лаком стекло портрета. Генерал отскочил и с испугом
прижался к выступу дома. Что-то лежащее во внутрен-
нем кармане больно вдавилось ему в ребро. Бессозна-
тельным движением Евгений Павлович вынул мешав-
ший предмет и в секущейся темноте дождя’ различил
тусклый блеск золотого бурханчика, подаренного рас-
стрелянным Туркой. Он подержал фетиш в руке, осто-
рожно положил его обратно и, словно решившись, по-
спешно, вприпрыжку зашлепал по дождевым лужам.
После часового ковыляния по мертвым улицам вда-
леке замерцала тусклая электрическая лампочка над
крыльцом. Дойдя до нее, Евгений Павлович перевел дух
и, сняв с головы мокрую фуражку, стряхнул с нее воду.
После этого он решительно толкнул дверь.
Поперек ступенек вытянулась винтовка, и часовой
в тяжелых бутсах преградил дорогу.
— Кто такой? Нельзя! Пропуск! — сурово крик-
нул он.
Евгений Павлович умоляюще взглянул на часового.
— Комендант дома? — спросил он, цепляясь за по-
следнюю надежду.
— Какой комендант?
— Да наш же, арестного дома, Кухтин...
Часовой недоуменно выпялил раскосые щелки на
фантастическую фигуру в мокрой шинели, держащую под
мышкой портрет женщины, и, пожав плечами, крикнул
наверх гулко и отрывисто:
— Разводящий! Покличь коменданта. Пришли до
его тут... Посядь, товарищ, здеся, — показал он Евгению
Павловичу концом штыка на розово-мраморный выступ
лестницы.
Евгений Павлович присел на выступ. Часовой продол-
жал разглядывать его и спросил наконец:
— Промок, дедушка?
Евгений Павлович бессловесно кивнул и знобко стук-
нул зубами.
Часовой жалобно скосился.
— Чайку бы тебе сейчас хлебнуть, дед, да на печку
залезть, — сказал он ласково-насмешливо. — А за ка-
ким ты делом до коменданта? Сидит тут у тебя кто из
сродственников?
530
Но Евгений Павлович не ответил. Загрохотали бы-
стрые шаги, хлопнула дверь, и разгневанный голос ко-
менданта, появившегося на верху лестницы, бросил вниз,
в полумрак:
— Какого хрена там приперло? Спокою от чертей
пет. Сказано вам — прием до шести.
Евгений Павлович встал и вытянулся из последних
сил по-военному.
— Это я! Адамов...
Комендант через две ступеньки обрушился вниз и
схватил генерала за плечи:
— Адамов? Зачем?
Евгений Павлович отчаянным движением взбросил
руки и вцепился в гимнастерку коменданта.
— Возьмите меня обратно, — простонал он преры-
вающимся голосом, — возьмите меня. Расстреляйте
меня лучше. Мне больше некуда. У меня нет дома, нет
ничего, меня отовсюду выгнали. Я не хочу умирать на
улице.
Часовой, оторопев, с вопросом смотрел на комен-
данта, комендант тоже растерялся. Выкрикнув, Евгений
Павлович уронил лицо в измызганную гимнастерку ко-
менданта и затих.
— Да ты пей, поболе пей, Адамов, — говорил комен-
дант, наливая из зачерненного медного чайника четвер-
тую кружку коричневого, пахнущего дегтем и валерьян-
кой суррогатного чая. — Пей, брат, до отвалу, а то сов-
сем скапутишься. А как чаю нахлещешь полное пузо, я
тебе еще рюмашку самогону дам—глотку продернуть.
Авось не захвораешь.
Евгений Павлович сидел на комендантском диване
голый, закутанный в комендантскую шинель. Ноги были
завернуты в рваное одеяло. Он медленно, обжигаясь, от-
хлебывал чай, и усталая пустота его глазных впадин от-
ражалась в зыбком зеркале кружки.
Комендант бросил в чай кусок рафинада:
— Вот мы тебе и подсластим. А этого твоего домком-
беда я в два счета устосаю завтра, и получай комнату
обратно.
Евгений Павлович отрицательно повел головой.
Мысль о возвращении в мир, где ему не нашлось места,
показалась ужасной и пугающей. Он робко воззрился
531
на коменданта. Сквозь стеариновые щеки коменданта
проступило простое, жалостливое, человеческое.
— Нет. Я не хочу опять туда. Мне тяжело вернуться
к прошлому, — с натугой сказал генерал. — Разрешите
мне остаться здесь. Я недолго проживу.
Комендант всклокочил волосы на голове.
— Старик ты, конечно, хороший, что надо, — сказал
он раздумчиво, — не схож с буржуазиатной,сволотой, и
душа в тебе человечья, хоть шинель и овечья. А только
на каких правах тебя можно оставить? Арестовать тебя
заново я не справен. На каких таких основаниях, без
мандата? А так оставить — тоже не погладят по головке.
Обамолчали.
— Может быть, можно мне найти какое-нибудь дело
маленькое? Переписку в канцелярии... или возьмите меня
солдатом, — неожиданно сказал генерал.
Комендант откинулся на стуле, вытаращился и за-
ливисто захохотал:
— Нет, это, брат, нельзя. У нас'на переписке пар-
тийные сидят, переписка секретная. А в красногвардей-
цы куда ж тебе при твоем возрасте. Да и не дело,—
вдруг нахмурясь, пониженно отрезал комендант, — у нас
работа тяжелая. Стрелять приходится. Даже если осо-
бую злобу на буржуев иметь, и то подолгу не выно-
сят— сворачиваются. А тебе и совсем негоже. .
Евгений Павлович закрыл глаза и вздрогнул.
— А вот что, — продолжал комендант, веселея,—
погодь! Ты ведь стирать маракуешь?
Евгений Павлович кивнул.
— Ну вот. Жалуются арестанты, что грязь, бельишка
многие сменить не могут. Постирушку взять нельзя, —
баба, а у меня тут такие кобели подобрались. Одно по-
хабство пойдет, хоть молодая, хоть столетняя. Вот
ежели желаешь, дадим тебе двойной паек, и работай.
Бак тебе приспособим и все. Которым недостаточным
арестантам даром стирай, а с буржуев драть можешь,
почем захочешь. Ладится?
Генерал пожевал губами и отхлебнул чай. После
первой секунды ошеломляющего изумления сделалось
смешно и почему-то небывало радостно, как в детстве,
когда задумывалась необыкновенная и задорная ша-
лость. Так с этой просветленной и открытой улыбкой и
сказал коменданту короткое:
— Спасибо, товарищ.
532
И с теплым удивлением почуял, как для самого себя
странно легко и значительно прозвенело до сих пор вяз-
кое, застревавшее в зубах слово «товарищ».
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Время носилось над городом вперегонки с морским
ветром и для забавы занималось разрушением. Огромной
рукой-невидимкой оно выбивало стекла в окнах, ло-
мало рамы и двери, слизывало углы домов, задирало по-
долы штукатурки, обнажая распухшие язвы кирпичей.
Оно коробило и растрескивало асфальты провалив-
шихся тротуаров, выламывало из мостовых диабаз и
торцы, валялось в разрытых провалах ям.
Оно выгрызало зубами куски гранитного рафинада
набережных, срывало флагштоки с дворцов, драло и за-
ворачивало в трубочки ржавое железо прогнивших крыш;
оно раздувало вместе с ветром золотоволосые пожары от
накаленных буржуек.
Иногда, устав от неистовой работы, время распла-
стывалось над городом на низких серых тучах, брюхом
вверх, и, посапывая, само удивлялось стойкости жизни.
Жизнь нельзя было угасить. Она глядела тысячами
упрямых, насмешливых глаз на изнемогающее время
из всех щелей разрушенных домов. Она научилась пры-
гать на тяжелых ревущих грузовиках и бешеных мото-
циклетах через провалы мостовых.
Жизнь смеялась над временем и, не обращая внима-
ния на разрушение старого, строила новое, зажав в за-
каменелых руках ломаный молоток и выщербленные
клещи.
И время приходило в отчаяние перед этой муравьиной
работой, перед этими негнущимися людьми, видящими
впереди то, что было скрыто даже от времени.
Оттаяли снега, прошумели весенние грозы, короткое
лето обдало граниты фальшивым теплом и едучей пылью.
Пыль смыли осенние дожди, и опять по утрам сереб-
рился на ветках и на кромках зданий остроигольчатый
иней.
Евгений Павлович не покидал арестного дома. Он
сжился и растворился в нем, он привык считать себя не-
отделимой частью этих стен, и прошлое — прошлое
533
генерал-майора, профессора Военно-юридической акаде-
мии— умерло для него, кто-то отчеркнул его простым и
решительным росчерком красного карандаша.
Кушетка в углу комендантской комнаты стала для
него домом, изразцовые стены бывшей ванной особняка,
где установили постирочный бак, — миром.
В ванной всегда было тепло. В то время, • когда
в громадных высоких комнатах особняка стоял мозглый
протабаченный холод, здесь пощипывали и брызгали
искрами в печи старые заборы, откуда-то сорванные во-
рота и двери, обрезки балок из распадающихся домов.
В теплых облаках пара суетилась худощавая фигурка,
перебегающая от бака к корыту, и красногвардейцы лю-
били зайти погреться у «генеральши», как называли они
Евгения Павловича.
Они садились ца подоконник, на края мраморной
ванны и, раскуривая махорку, судачили о своих домаш-
них делах, о родных и близких, о революции, а по но-
чам вполголоса рассказывали сказки.
Евгений Павлович, в казенных бутсах, в которых то-
нули сухие ножки, перевязанные обмотками, в рваных
солдатских штанах и расстегнутой рубашке, мылил и
стирал. Пена вскипала пузырями, нежно обволакивала
красные, в мелких трещинках, кисти. Булькала и сви-
стела вода, шлепалось белье.
Казалось, все как в детстве, на кухне, и монотонный
голос сказочника, звучавший из опалового пара, похож
был на голос кухарки Авдотьи.
Завалив в бак груду белья и оставив ее отстаиваться
на ночь, генерал уходил в комендантскую и, напившись
кирпичной жидкости с ломтем пайковой ржани, закаты-
вался спать.
Когда очередная партия белья бывала выстирана,
Евгений Павлович долго и старательно мылся сам, при-
чесывал ежик, надевал парадные штаны с генеральским
лампасом и серую тужурку с красными отворотами и,
сгибаясь под тяжестью корзины, растаскивал белье по
камерам.
Понемногу, сам не замечая, он приобрел все манеры
заправской прачки.
Он критически рассматривал принимаемое белье на
свет, щупал материю и уже заранее определял, какое
трудное для стирки, какое легкое. С заказчиками он тор-
говался настоящим визгливым голосом бабы-пости-
534
рушки, и было странно видеть, как у этой бабы дерга-
ется и прыгает узкая серебристая бородка.
Когда его упрекали за желтизну или оставшиеся на
белье пятна, генерал надувался, багровел и сердито швы-
рял белье в заказчика, крича яростным тенорком:
— Пятна? Сами стирайте. За керенку вам, может,
с крахмалом подавать? Больше вам стирать — слуга по-
корный. Тоже барин!
И решительно поворачивал спину ошарашенному за-
казчику.
Генерал даже стал замечать за собою какую-то бабью
скупость и скопидомство, и оно не только не огорчало
его, но, наоборот, радовало. Пользуясь по приказанию
коменданта за прачечную работу двойным пайком, гене-
рал ничего не прикупал к нему на бродячих рынках, как
это делали заключенные и красногвардейцы.
Он только приобрел расписной, обитый жестью сун-
дучок с замысловато звенящим замком, куда складывал
свое парадное генеральское одеяние, и туда же, в уго-
лок, откладывал заработанные стиркой цветные бу-
мажки. В сундучке же бережно хранился и подарок
Турки — золотой бурханчик Будды.
По вечерам часто Евгений Павлович пил чай вместе
с комендантом. За чаем разговаривали разговоры. Обо
всем понемногу..
Чаще всего комендант говорил о любви.
Коменданту хотелось найти женщину себе по сердцу.
Новгородский мужик, ушедший в столицу на заработки,
призванный и прослуживший войну старшим унтер-офи-
цером, комендант Кухтин имел тонкий вкус и чувстви-
тельное сердце. За чаем иногда генерал и комендант
пропускали по чарочке автомобильного спирта, и раз-
мякший комендант с порозовевшими стеариновыми
щеками мечтательно говорил через стол Евгению Пав-
ловичу:
— Ты, брат Адамов, войди в рассуждение. Конечно,
некогда теперь с бабами канитель водить, а только том-
ление у меня без серьезной бабы. Ты вот сам посуди, —
скажешь, веселое мое занятие? Стереги недорезанных да
справляй в могильную волость! Я перечить не перечу —
где нам рассуждать об этом. Коли, значит, революции
надобно, чтобы Кухтин руки марал об стервецов, Кухтин
слова не скажет напротив. А только иной раз невтер-
пежку. Я ж в возрасте, тридцатый год лупит. У нас в
535
деревне по восемнадцатому году женят для хозяйства, а я,
кроме как со стервами путаясь, настоящей своей, теплой
бабы не успел заиметь. А сердце у меня мужичье. Плод
свой любит. И только желаю я жениться на образован-
ной и высшего сословия. Теперь можно доискаться. А то
наши бабы — серость кобылья. А мне какую дворяночку
или графиню заиметь. Чтоб была чистеха, с обращением,
ласочка, чтоб детенкам носы вытирала и обучала по
музыке на пианине и по-французскому. Ищу вот такую,
Адамов. На ручках ее буду носить, на других баб и ко-
сым 6qkom не гляну. А? Выйдет у меня такое, Адамов?
Ты — проникновенный старичок, раскумекай.
Генерал вскидывал на коменданта сузившиеся раз-
веселенные щелочки.
— Не знаю, — говорил он. — А зачем вам непре-
менно графиня?
Комендант взмахивал руками с протестом и обидой:
— Эх, как же ты в толк взять не можешь, а еще
профессор! Кроме высшего звания, кто деток по-пра-
вильному обучить может? Не выходит вот у меня из го-
ловы. Тятька мой, покойник, за кучера служил у графа
Курдкина, в Новгородской. Навиделся я там графских
детей. Ходят чистенькие; знают, как ножку поставить,
как ручкой помахать; по-французски, как канарейки, чи-
рикали. А тут рядом — погляжу я на себя. Вихры тор-
чат, морда немытая, почеревок с пуза спадает, и портки
валятся. А как начнешь говорить, так все больше по-ма-
терному. И была там графинечка маленькая. Волосья
точь-в-точь ржаное поле, глазки синенькие. Вот бы та-
кую. Все ночи напролет бы баюкал.
— Фантазия у вас больная, Кухтйн, — говорил гене-
рал,— неорганизованный вы человек. Большевик, враг
буржуев, а хотите на графине жениться. Вырастут ваши
дети, станут ножкой шаркать, по-французски чирикать,
а сами будут врагами революции и вашими врагами. Тут
и получится классовое противоречие, и вам в нем ноги
сломать. Вы будете буржуев стрелять, а графиня с де-
тишками будет «боже, царя храни» разучивать.
Комендант секунду-другую озадаченно хлопал рес-
ницами и ударял по столу.
— Ну, это маком! — выкрикивал он. — Маком! Глу-
пости болтаешь, Адамов. Какие там «боже, царя», еже-
ли я ей скажу, что мне из детенков нужно большевиков
робить. Только чтобы не серые были, не в кулак смор-
536
кались» а все бы науки прошли, ума бы набрались по-
настоящему.
— А вы думаете—она послушается? — еще лукавей
спрашивал генерал.
Комендант бледнел:
— Не послухает, поучить можно. Ремешком или ру-
кои.
Генерал смеялся:
— Графиню ремешком? Ничего из этого не выйдет.
Бросьте чепушить, Кухтин. Надо вам найти тихую,
хорошую сельскую бабу, а с графиней вы только грыжу
наживете.
Комендант вставал и зло опрокидывал в горло по-
следнюю чарку самогона.
— Найду, — говорил он, — сколько ты ни скули на-
против.
Гасла лампочка. Двое ложились спать. Один с меч-
той о беленькой, синеглазой партийной графине, дру-
гой — без всяких мечтаний.
Осень отошла. Гуще ложился иней, выпадал и таял
пуховый беспомощный первый снег, бинтуя гнилые раны
города.
Время кувыркалось на низких тучах и ржало ноч-
ными посвистами ветра. Оно смеялось, смотря на запад.
На западе на стены городских и сельских построек tq-
ропливые люди развешивали цветные плакаты и бегучие
строчки воззваний. На плакатах, во всю ширину, дыби-
лось мясистое лицо со вспученными очами, с обвисшими
рогульками расчесанных усов. Воротник мундира под-
пирал тугую складчатую шею. Очи грозили, густые эпо-
леты курчавились на плечах.
Под бульдожьими щеками стояла подпись на трех-
цветной ленте: «Генерал Юденич».
Воззвания кричали о позоре златоглавой столицы
Москвы. Воззвания звали верных сынов родины уни-
чтожить нечисть, стакнувшуюся со слугами антихриста
и главным кагалом.
И по разбитым дорогам, скапливаясь и стекаясь код-
ному месту, как полая вода струится со скатов в глубо-
кую ложбинку, войска, в шапках-кубанках, папахах, гер-
манских стальных шлемах и английских фуражках, текли
к Петрограду.
537
И в один из зимних днец в арестный дом приехал че-
ловек в сибирской охотничьей шапке с заячьими ушами.
У него была окладистая иконная борода и выпуклые
толстостеклые очки. Одно ушко очков было сломано и
держалось на желтой шелковой ниточке.
Человек приехал набирать добровольцев в полки про-
тив генерала с бульдожьими щеками. Правительство
обещало добровольцам забвение всех вин и полное про-
щение. На вопрос человека, кто хочет идти в бой за рес-
публику, вышла вперед половина арестованных.
Другая половина криво и злорадно усмехалась,
смотря в нервные взблески очковых стекол на носу у че-
ловека в сибирской шапке.
— Хорошо, — сказал человек, обдав коменданта
брызгами белого огня стекол. — Переписать и к вечеру
доставить под конвоем в казармы гвардейского эки-
пажа.
Распорядившись, человек в очках прошел по всему
помещению арестного дома, приглядываясь к мелочам
с мимолетным, но острым вниманием.
Открыв дверь в ванную, он увидел облака опалового
тумана, и стекла очков завуалились тончайшей
росой.
— Прачечная? — вскинул человек потускнелый
взблеск на коменданта. — Это прекрасно. Благодарю за
инициативу, товарищ. У вас первого вижу.
Комендант приложил руку к козырьку и нетерпеливо,
стараясь еще больше поразить начальника, скороговор-
кой доложил:
— Разрешите доложить, товарищ комиссар. Прачеч-
ная не чудно, а прачка у нас чудная. В штанах и бывший
генерал. Бывший генерал. Бывший профессор даже.
И такой старик старательный и хороший, ровно и не
буржуй.
Комиссар, сощурив один глаз, со странным выраже-
нием оглядел коменданта и, ничего не ответив, резко
рванул дверь в ванную. Евгений Павлович обернулся
и смахнул с рук пену.
Человек в очках подошел вплотную.
— Простите, вы бывший генерал? — спросил он веж-
ливо.
Евгений Павлович, словно сомневаясь в ответе, отве-
тил не сразу. Он обтер ладони о штаны и вздернул бо-
родкой:
538
— Да.
— Какой пост вы занимали в старой армии?
— Я нестроевой. Я профессор истории права в Воен*
но-юридической академии, — стесняясь и потупясь, вы*
молвил Евгений Павлович.
Человек в очках повернулся к коменданту и молча
опалил его очками. Несмотря на росу на стеклах, они
блеснули страшно, и комендант попятился. Но человек
не сказал коменданту ни слова. Он взял Евгения Павло*
вича под локоть:
— Вас не затруднит, генерал, если я попрошу вас
проехать со мной на машине в штаб обороны?
— Зачем? — спросил осторожно Евгений Павлович.
— Я объясню вам подробно на месте. А пока задам
вам короткий вопрос. Наша республика, — он подчерк-
нул коротко и отрывисто слово «наша», — отбивается от
белых орд. Сейчас не время для принципиальных спо-
ров, счетов и обид. Сейчас все, в ком живая душа,
должны быть с нами. У вас есть знания. Хотите помочь
нам?
Генерал молчал. Комендант незаметно подтолкнул
его сзади и сделал сердитый знак глазами. Евгений Пав-
лович тихо засмеялся и сказал:
— Если я могу быть полезен...
Спустя короткое время генерал погрузил свой сун-
дучок в автомобиль комиссара. Он остался в прачечной
гимнастерке, но сверху надел генеральскую шинель*
Другой у него не было.
Человек в стеклах улыбнулся.
— Дорогой генерал, — обронил он, — закройте ваши
«революционные» отвороты. Время тревожное, и мою
машину могут обстрелять на улице с таким пассажиром*
Мы постараемся одеть вас по-современному.
Человек в очках нахлобучил шапку и молчал, закры-
вая рот от ветра. На повороте какой-то улицы он приот-
крыл рот и спросил:
— Вы сколько времени пробыли... прачкой?
— Около года.
— Почему же вы не пытались найти себе какое-ни-
будь более подходящее занятие, никому не жаловались,
не заявляли?
Генерал смотрел на мелькание ощетиненной улицы*
Мимо застопорившей машины, лихо распуская волны
539
клешей и пену кудрей из-под бескозырок, шел отряд
матросов. Они топали бутсами и пели:
Эх, яблочко, да от Юденича,
На матроса попадешь — куда денешься?
Мотив завивался вместе со снегом над улицей упря-
мым вихрем. Генерал проводил матросов взглядом и
уже тогда ответил комиссару:
— Вы, может быть, не поверите, но я первый раз
в жизни чувствовал себя по-настоящему нужным.
V ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Петроград бросал в бой отряды, полки и дивизии, как
радиостанция бросает волны в эфир. Отряды, полки и
дивизии обрушивались на противника частыми, но сла-
быми толчками. Радиостанция войны работала на ко-
роткой волне, наспех собирая атомы человеческой
энергии.
Ударив противника, части откатывались назад, исте-
кая кровью и глуша город слухами о поражениях и раз-
громах.
Притекали новые части и также, нанеся короткий и
слабый удар, отваливались, обессиленные голодом, от-
сутствием снаряжения и патронов, шипящей вражеской
пропагандой, свивавшейся на всех углах, как клубки се-
рых змей.
По растрепанным, промоченным лошадиной мочой
и навозом, взбухшим большакам и заснеженным про-
селкам валялись дохлые лошади, брошенные, разломан-
ные повозки, перевернутые вверх колесами пушки.
На взлете горы за Гатчиной уже три дня как уныло
висел, завалясь набок, облупленный броневик. Возле
Пего беспрестанно возились механики с изломанными мо-
лотками и выщербленными клещами, посылая проклятия
насмехающемуся распухшему времени, катящемуся над
полями и городами.
Жизнь нельзя было угасить ничем. Она клокотала и
бурлила по дорогам под разнузданные грохоты пушек.
Она смеялась над лопающимися от свинцовых плевков
пулеметами, хотевшими выбить эту жизнь кровью и хру-
стом костей.
И не на плакате, а на широких плечах, далеко за
540
огненной страдой фронта, хмурилось бульдожье лицо
генерала Юденича. Генерал хлестал нагайкой крутые
бока белого коня и яростно колол его шпорами.
Генерал был похож на время. Он был так же тучен
и злобен. Он хотел раздавить жизнь, воплотившуюся пе-
ред ним в армии противника. В этой странной армии все
было непонятно генералу Юденичу.
Вместо шелковых и парчовых полотнищ, расписанных
радужными крестами и сдобренных густой сусалью тяже-
лого блеска империи, знаменами этой армии служили
красные ситцевые платочки выборгских и Василеостров-
ских работниц, которые стояли наравне с мужьями,
братьями и любовниками в рядах накатывающихся на
генерала Юденича отрядов.
Эта армия не устраивала парадов, торжественных
шествий в завоеванных городах, не служила молебнов и
благодарственных литий на еще окровавленных боем
площадях, — но молчаливо, судорожно сжав челюсти и
винтовки, лезла вперед, и в глазах падающих бойцов
этой армии и после смерти можно было прочесть упря-
мое сожаление о том, что свинцовый кусок, пущенный
белым солдатом, не дал возможности бойцу свидеться
с Юденичем.
И, смотря в такие глаза, генерал вздрагивал всей
спиной и бульдожьими щеками при мысли об этом сви-
дании.
И часто, въезжая в город на белом откормленном
коне, он думал, разочарованный и недовольный, о му-
равьином упорстве и стоицизме этой жизни, стремя-
щейся победить самое время.
Он думал о неблагодарности этой страны, которой
вместо голода и муки рождения неизвестных благ в бу-
дущем он везет в своих крепко кованных обозах настоя-
щую пышную белую муку и жирные ломти канадского
прессованного масла. Вздымающиеся навстречу гене-
ральскому шествию сотни тысяч рук не брали его муки,
а отталкивали со злобой и презрением.
Этого генерал не в силах был осмыслить.
И вечером, читая штабные сводки, бегущие лиловыми
взводиками по бумаге английского производства, глад-
кой и хрусткой, генерал Юденич зверел и пучил щеки.
Короткие узловатые пальцы бешено сминали британский
пергамент. Генерал Юденич знал начальников штабов и
хриплым фельдфебельским басом требовал усилить
541
напор, чтобы сломить непонятное упорство защитников
Петрограда.
Звенели в эфире радиограммы, и наутро полки с про-
славленными двухвековой историей российской победо-
носной армии именами кидались в отчаянные атаки,
затягивая петлю вокруг леденеющего города, и уже шрап-
нели визжали над царскосельскими и гатчинскими пар-
ками, и прицелы пушек щупали кирпичные трубы окре-
стных заводов.
Штаб дивизии разбросался по избам одной из Ека-
терииовок. Русские императоры и императрицы понаты-
кали по всей питерской округе эти бесчисленные тезо-
именитые царственным особам поселки, словно незакон-
норожденных детей.
Шрапнели накатывались все ближе и ближе на Ека-
териновку, звенели низко и пронзительно, вспарывали
снег свистящими пульками.
По шоссе, мимо сваленной, словно карточный домик,
будки шоссейного сторожа, нахлестывая лошадей, уле-
петывали выбивающиеся из сил обозы продчасти диви-
зии. Продуктов в них не было и следа. Вожатые обоза
навалили телеги доверху никому не нужным барахлом:
горшочками со сломанной и замерзшей геранью, раско-
ряченными деревенскими стульями и диванами, пери-
нами, кроватями.
На одной из повозок тряслась увязанная стоймя мра-
морная нимфа, очевидно взятая из какого-нибудь двор-
цового сада.
Ее вытянутая тонкая рука, с пухленькими пальчи-
ками куртуазной бездельницы восемнадцатого века,
вскидывалась в небо при каждом ухабе дороги, и со сто-
роны казалось, что нимфа летит над телегой, благо-
словляя это рачительное и хозяйственное бегство.
Шрапнели ложились все ниже и гуще, и вот на шоссе
между скачущими телегами взметнулся огневой фонтан
гранаты. Скакавшая телега перевернулась. Колеса ее
пусто и ухмылочно завертелись в воздухе. Она грохну-
лась на спины лошадей, давя и круша их. Задняя телега
с нимфой налетела на опрокинутую.
Дым взрыва медленно растаял. Нимфа все качалась
над телегами, но уже без руки. Грудь ее и лицо были
542
густо залиты алой струей, а вокруг шеи, как боа, завер-
нулась лошадиная нога.
Из далекого перелеска поползли задом по снегу се-
рые раскоряки. Отходила под обстрелом белых послед-
няя цепь прикрытия штаба дивизии.
На крыльцо штаба вышел начдив и поднял к глазам
бинокль. Его обеспокоил обстрел, но он ничего не знал
о действительном положении. Связь тёлефонила, что все
благополучно и белые сдерживаются резервами.
Бинокль не успел подняться и упал, закачавшись на
ремне.
Начдив сорвал с головы шапку, шарахнул ее
о крыльцо и выругался короткой, стреляющей бранью.
Он рванул дверь избы и крикнул:
— Все наружу! Живо! Кидай писарскую муру ко
всем собакам. Тащи пулеметы на улицу. Прикрытие от-
резали.
Из сутулой двери, гудя и топоча, роем выгнанных
дымом пчел выкарабкивались сотрудники штаба с
винтовками. В дверях сбился человеческий клубок.
Тогда те, которые внутри были заняты пулеметом, не
захотели ждать, пока умнется людская давка в дверях.
Они подкатили пулемет к окну, приподняли оскален-
ную машинку рылом вперед и, раскачав, саданули ею
в переплет рамы. Рама с треском, звоном и ржавым
скрипением петель вывалилась, и пулемет мягко съехал
в сухие кусты черемухи под окном.
Начдив размахивал наганом у крыльца.
— В цепь! В цепь, боженята! Сыпь к лесу на под-
могу прикрытию! Пулеметчики, пристраивай мопса на
околицу! Вертись, расторопные. Живо!
Он побежал за развертывающейся ровной линеечкой
поперек улицы цепью и на бегу заорал, сложив ладони
рупором, обертываясь назад:
— Гре-е-бенков!.. Пошли па край сказать трибу-
налу, чтоб катились к божьим родичам. Некогда судить.
Арестованных пусть кончают, а сами драпают во
весь дух.
Начальник штаба ткнул в спину красноармейца в
желтых, расписанных анилиновыми цветами валенках
и показал на край деревни. Красноармеец побежал по
мелкому снежку, переваливаясь и подкидывая на бегу
винтовку.
543
Он подбежал к избушке с кирпичной стеной. На
крыльце сидел карликовый, весь в узоре ласковых
рябинок, красноармеец и, потыкивая штыком в
стороны, сдерживал толпившуюся кучу финских му-
жиков.
— Не лезь!.. Засудят зараз вашего кулака и кашей
накормят... Горошком свинцовым.
Мужики молчали и следили за красноармейцем при-
таенными, зверьими, тупыми и страшными глазами.
— Кимка! — крикнул, подбегая, красноармеец в
желтых валенках. — Вы тут очумели? Кончай базар!
Начдив приказал. Обходят кадеты.
Рябой Кимка равнодушно показал штыком на
финнов.
— Погляди. Ежели лезть будут — пори брюхо,—
сказал он флегматично и ушел в избу.
Финны прислушивались. В избе глухо, словно в по-
душку, лопнул выстрел. Финны залопотали, и. красно-
армейцу стало жутко. Вслед за выстрелом вышел, за-
стегивая кобуру, председатель трибунала, долговязый,
сутулый человек. Губы у него дергались.
— Пошли вон! — закричал он на финнов. — Вон, а
то всех перешибу, кровоглоты!
Мужики метнулись от избы: хвостики их шапок
замелькали за заборами и деревьями. Красноармеец
в крашеных валенках, выскочивший следом за пред-
седателем трибунала, заправил пояс с новенькими
подсумками потуже на животе и побежал догонять
цепь начдива.
— Передай начдиву, что пойдем на Антропшино,—
крикнул вдогонку председатель трибунала.
Трибунальщики столпились у крыльца. Сухонький
старичок в мятой, но аккуратно пригнанной шинели,
в налезающем на уши шлеме вышел из избы последним
и из-за спин других глядел на перебегающую огородами
цепь начдива, подергивая колючей серебряной щеточкой
бородки.
— Ну, товарищи, айда, — сказал председатель три-
бунала и тронулся по улице.
За ним нестройной гурьбой поплелись трибуналь-
щики.
Они приближались уже к последним избам села.
От них широкая аллея входила прямо в лесок. И вдруг
из леска, как выбегают на межу за колосьями зайцы,
544
высыпалось полсотпи всадников в стальных немецких
Шлемах.
Это были кавалеристы полковника Бермонта-Ава-
лова, полковника, продававшего свою шпагу, честь и
подданство и за немецкие марки, и за русские рубли, и
за английские фунты.
Кавалеристы скакали вразброд. Обнаженные шаш-
ки бледно серебрились в заснеженном воздухе.
Председатель трибунала остановился и нервно вы-
рвал револьвер из кобуры:
— Рассыпайся! Беги кто куда, задворками, по ого-
родам. Кто уйдет, пробирайся поодиночке на Антрон-
шино.
Кучка людей растаяла и рассыпалась.
Председатель стал за ствол столетней липы и, упи-
рая револьвер в корявый нарост коры, неторопливо
подцепил на мушку скакавшего впереди кавалериста.
Он успел выстрелить пять раз, пока налетевшая ло-
шадь не придавила его боком к дереву и опустившаяся
шашка, раздвоив шлем, оставила на лбу председателя
трибунала глубокую щель.
По огородам, прыгая и перелезая через заборы, бе-
жали трибунальцы, отстреливаясь. За ними гонялись
всадники.
Красноармеец в ласковых оспенных рябинках и
сухонький старичок в налезающем на уши шлеме под-
бегали уже к опушке 'леса. Сзади, тяжело хрипя и
отбивая чечетку подковами, настигала шестивершковая
пегая лошадь. Красноармеец остановился и вскинул
винтовку. Плеснул грохочущий желтый язычок, и
всадник кулем ссунулся на землю. Лошадь набежала
на красноармейца и остановилась. Он схватил ее за по-
вод и обернулся к старику:
— Товарищ следователь, лезайте, а я позади вас
На коне способней.
Он посадил старика и вскарабкался сам. Лоша-
диный круп мелькнул между лесной порослью и
скрылся.
Всадники, окончив гонку за трибунальцами, скакали
уже в тыл цепям.
И когда они выскакали в поле, к трупу председа-
теля, раскинутому под липой, медленно, поодиночке,
как волки к падали, стали собираться разогнанные
545
мужики-финны. Они постояли несколько секунд молча и
вдруг, словно сговорясь, стали топтать труп доброт*
нь/.ми, подбитыми кожей валенками.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
— Не иначе как заплутались. Ишь какая мгла! Ни
черта не видать. Придется до утра перемаяться под
кустиками.
Евгений Павлович из-под руки вгляделся поверх
лохматого кустарника, прикрывающего опушку. За ку-
старником, шагах в двадцати, блеклая полоса снега чер-
нела и обрывалась в непроглядную пустоту, от которой
веяло холодом и одиночеством. В этой вороненой пропа-
сти по временам искрилась какая-то блесткая точка,
— Как будто огонек вон там, Рыбкин, — сказал Ев-
гений Павлович голосом, потеплевшим от надежды.
Красноармеец вгрызся взглядом в тьму и покачал
головой:
— Не. Мережится это. С устатку да с голоду.
А коли б и на самом деле — все едино, товарищ Ада-
мов, не след до утра соваться. Напоремся на белугу.
Н-но!.. Балуй, черт офицерский! — крикнул он на пегую
лошадь, дернувшую повод.
— Что же делать? — спросил уныло Евгений Пав-
лович.
— Да одно осталось — податься в чащу. Коняку
положим, сами к ней к пузу примостимся, чтоб не
простыть, — так и заночуем.
Евгений Павлович пошел следом за Рыбкиным и
лошадью, трудно поднимая с земли коченеющие ноги.
Рыбкин выбрал место, где кусты сошлись в кружок,
протащил лошадь внутрь, ломая ветки, и, похлопав ее
по коленям, заставил лечь. Уложив лошадь, окликнул:
— Идите, товарищ Адамов. Лягайте под самое
брюхо, приваливайтесь, а ноги кладите ей на шуля-
тики. Буде тепло, что на печке.
— А ты? — спросил генерал.
— А я тоже сбочку привалюсь. Нам привычно.
Евгений Павлович улегся. От лошадиного мерно
вздымающегося живота сквозь шинель дошло мягкое,
разнеживающее тепло.
Над головой сухо звенели промерзшие веточки.
546
Облака в небе бежали, торопясь и разрываясь; про-
между них выскакивали и гасли мерцающие лиловатые
звезды.
Рыбкин зашевелился и приподнял голову.
— Ясняет, — сказал он тихо, — звездочки видать.—
И, помолчав, добавил: — Вот берет меня интерес узнать,
чи есть бог, чи на самом деле один воздух? Вы вот,
товарищ Адамов, науки знаете — объясните.
— Ты же большевик? — ответил генерал с ласковым
удивлением.
Рыбкин засмеялся:
— А как же. Билет имею по форме.
— Значит, ты не можешь верить в бога.
— Оно конечно, — ответил красноармеец. — А толь-
ко все одно: смутно нам как-то без бога. Крестьяне мы.
Неужто так нельзя, чтоб божецкую правду и больше-
вицкую правду вместе собрать?..
Дремота ослепляла веки Евгения Павловича. С ше-
потом Рыбкина сливался промерзший звон веточек.
Сквозь дремоту ответил:
— Правда всегда одна, Рыбкин. Всегда одна. Толь-
ко нужно каждому уметь познать правду. Об этом
трудно рассказать. И совместить можно. Нужно только
верить, что правда, за которую стоишь, — настоящая и
единственная.
Рыбкин зашевелился, прикрывая рваными полами
шинели ноги, и похлопал с мужицкой лаской по брюху
завозившуюся лошадь.
Она стихла. Рыбкин сказал:
— И, по-моему, очень даже можно. Мы, конечно,
мало чему учены. За медную полушку писарь по скла-
дам читать обучил. А вот, коли почитать, скажем,
Евангелие и, допустим, партейную программу, то ви-
дать— что по писанию, что по программе — одинаковая
правда. И Христос для бедных трудящихся старался,
и большевики об том же страдают. А что церква за
богатых заступой стала, так в том попы повинны. Попы
тоже человеки, греху подвержены.
— Да,— односложно ответил Евгений Павлович.
— Видать, сон вас долит, товарищ Адамов. Спите.
Авось завтра выберемся. А не выберемся, так вам
с полбеды, зато мне беда...
— А почему мне полбеды? — оживился Евгений
Павлович, приоткрывая глаза.
547
-— В рассуждении кадетов. Вас-то простят, как вы
генеральского чина; а Рыбкина, мужика, — пожалуйте
под машинку.
— Глупости говоришь, Рыбкин. Одинаково скверно
будет и тебе и мне. Ну, давай спать!..
— Спокойной ночи, товарищ Адамов, — вздохнул
красноармеец.
Евгений Павлович прижался плотнее к лошадиному
брюху. Сквозь пленку дремы подумалось о словах Рыб-
кина, и генерал представил себе встречу с белыми.
И неожиданно почувствовал испуг и томительное от-
вращение. Чтобы отделаться от этой мысли, надви-
нул шлем на глаза и уткнулся носом в лошадиную
шерсть.
— Вставайте, товарищ Адамов. Идтить пора. Све-
тает.
Сквозь сон генерал почувствовал осторожные по-
дергивания за плечо и раскрыл глаза. Оспенные ря-
бинки со щек Рыбкина ласково усмехались ему.
— Заспались. Мне и то жаль вас будить было, да
надо.
Евгений Павлович наскоро вытер лицо снегом и
вскарабкался на лошадь.
Рыбкин потянул за повод.
— А ты что не садишься?
— Лошадь ослабла. Двоих не свезет. Да идти-то
уж недалеко.
И красноармеец зашагал по снегу, ведя лошадь.
За опушкой, где вчера видели только черный про-
вал, лежала ровная белая полянка. Она опять замыка-
лась редким березняком. Пройдя березняк, Рыбкин
остановился.
— Глядите, деревня, — сказал он смешливо, вытя-
гивая туда палец.— Знать бы, так не пришлось бы
в лесу мерзнуть. Только вот чия? Наша иль ихняя?
Он пролез в кусты, присел на корточки, долго
вглядывался из-под руки и с радостным лицом повер-
нулся к генералу:
— Наша. Красный флаг над избой. Повезло-таки.
Ходим скорей!..
Он опять ухватился за повод лошади и вприпрыжку
побежал по снегу, волоча винтовку. Уже у самых стро-
ений, навстречу из-за избы, высыпала куча солдат, несу-
щих длинное бревно.
548
— Товарищи! — заголосил Рыбкин. — Ребяточки!
Подмогите!
Солдаты услышали крик, бросили бревно, выпря-
мились и обернулись. Рыбкин громко охнул и осел.
На плечах солдат он различил красные лоскутки погон.
Рыбкин метнулся к Евгению Павловичу.
— Белуга!.. Гоните в лес, а мне все одно пропадать.
Я их попридержу! — крикнул он, припадая на одно ко-
лено и вскидывая винтовку.
Генерал повернул лошадь и тронул ее шенкелями.
Но усталое и голодное животное, почуявшее запах
еды и стойла, заупрямилось. Генерал оглянулся. Сол-
даты бежали от изб. Рыбкин яростно дергал затвор и,
завыв, отшвырнул винтовку в сторону.
— Примерз затвор! — крикнул он. — Один конец,
монумент ихней матери в глотку!
Солдаты набежали. Генерал увидел, как трое нава-
лились на Рыбкина. Двое подбежали, ухватили за по-
вод и грубо сдернули Евгения Павловича на землю.
Скрученного поясом Рыбкина подняли с земли. По губе
у него стекала струйка крови. Он молчал. Его подвели
к Евгению Павловичу и поставили рядом. Рослый сол-
дат с нерусским лицом подошел к Евгению Павловичу
и, заглянув в лицо, сильно рванул за бородку.
— Штарый шволичь, — сказал он, сплюнув, — пе-
шок шыпет, а балшивик.
Другой солдат, засмеявшись, ударил Евгения Пав-
ловича в бок прикладом рыбкинской винтовки. Евге-
ний Павлович шатнулся и жалко, по-детски, ойкнул.
И тогда от жалости или от растерянности, но вы-
рвалось у Рыбкина от сердца негаданное слово:
— Не трожьте, гадюки, старичка. Ваший он. Из
генералов.
Солдаты переглянулись. Рослый, с нерусским лицом,
насупясь, покраснел и, скрывая смущение, прикрикнул:
— Форвертс! Марш на штаб!
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Евгений Павлович стоял у стола в избе и смотрел,
не поднимая глаз, на детские, в заусеницах у ногтей,
розовые пальцы поручика.
— Вы можете подтвердить документально показа-
ние взятого с вами вместе в плен красноармейца,
549
заявившего, что вы бывший генерал русской армии? —
услыхал он молодой, хрусткий, как наливное яблоко,
голос офицера.
— Конечно. У меня есть личная книжка. В ней
отмечен мой послужной список, — ответил генерал. —
Только зачем это вам?
— Как зачем? — удивился поручик. — Это совершен-
но меняет дело. Где ваша книжка?
Евгений Павлович расстегнул шинель и, достав из
внутреннего кармана книжку, подал офицеру. Поручик
брезгливо взял ее и развернул, скользя глазами по тек-
сту. Лицо его порозовело, прояснело, стало гладким.
— Ну, — сказал он, складывая книжку, — считаю
долгом извиниться перед вашим превосходительством
за несдержанность нижних чинов. Они будут подверг-
нуты дисциплинарному взысканию. Вы свободны, ваше
превосходительство. Я сейчас доложу полковнику.
У нас большая нужда в высшем командном составе,
ваше превосходительство.
Генерал устало закрыл глаза. Перед ним встал на
мгновение умерший уже в сознании мир генералов,
погон, орденов, каменной субординации, тяжелая мерт-
венная машина развалившейся империи, олицетворен-
ная в эту минуту сидевшим перед ним оловянным сол-
датиком, преисполненным аффектации, дисциплины и
исполнительности. И сразу стало ясным, что эта маши-
на навсегда уже чужда и враждебна ему, как он сам
чужд и враждебен ей. Он сморщился, словно от зубной
боли, покачал головой и сказал офицеру, медленно и
раздельно роняя слова:
— Вы думаете, я смогу служить в вашей армии?
Поручик улыбнулся.
— Отчего же нет, ваше превосходительство? — от-
ветил он, не поняв, не сомневаясь, что иначе понять
слова генерала невозможно. — Ведь вы же не какой-
нибудь прапорщик военного времени из студентов.
Никто не заподозрит вас в добровольном большевизме,
ваше превосходительство.
Генерал усмехнулся.
— Вы меня неправильно поняли, господин пору-
чик,— возразил он, — я именно хотел сказать, что
служба в вашей армии этически неприемлема для
меня.
Поручик выронил на стол деревянную карельскую
550
папиросницу и впился в изрезанное морщинками ссох-
шееся лицо.
•— Вы с ума сошли? •— вскрикнул он.
Генерал с внезапной и поднявшейся из самой глу-
бины ненавистью почувствовал, что румяное, беспечное
лицо офицера, с черными подстриженными усиками над
пухлой губой, до омерзения противно ему.
— Потрудитесь держать себя прилично, — дрогнув
челюстью, кинул он офицеру, — я старше вас вдвое.
Я ведь не говорю вам, что вы с ума сошли, служа
в вашей армии.
Офицер поднял со стола папиросницу, открыл ее,
бросил в рот папироску и нервно закурил. Глаза его со-
щурились и стали хитро-хищными и пронзительными.
Он опустился на табуретку, закинул ногу за ногу,
сложил руки на колени и, затянувшись, нарочито нагло
пустил дым в лицо Евгению Павловичу.
— Вы что же, большевик? — спросил он с презри-
тельной иронией твердолобого молокососа и захохо-
тал.— Вот так анекдотик!
— Нет, не большевик! — ответил Евгений Павлович.
— Тогда почему же вы не хотите служить в нашей
армии? Кто же вы?
Генерал пожал плечами.
— Вы этого не поймете, — сказал он с тем же
тихим презрением, с каким говорил когда-то с При-
клонским, — не сможете понять... Когда огромное тело
пролетает в мировом пространстве, в его орбиту втя-
гиваются малые тела, даже против их воли. Так появ-
ляется какой-нибудь седьмой спутник... Но все равно —
вы ничего не поймете, и разговаривать с вами я почи-
таю излишним, — закончил он, чувствуя, как вся кровь
прихлынула к лицу от внезапной бешеной ненависти
к этому оловянному солдатику, щурящему бессмыслен-
ные глазки заводной куклы.
Поручик встал со стула и присвистнул:
— Слыхали мы эти песни. Притворяетесь поме-
шанным.
Он прошел к двери, открыл ее и крикнул в сени:
— Захарченко! Сбегай к господину полковнику,
скажи, что я прошу его срочно прийти.
Закрыв дверь, он опять сел на стул и стал разгля-
дывать генерала с задорным нахальством самоуверен-
ной юности.
551
Евгений Павлович отвернулся.
Он не оглянулся на четкий стук шагов и звук от-
крывающейся двери. Он с живым волнением разгля-
дывал задний двор избы. У хлевушка терлась боком
о подставку пятнистая, черная с белым, свинка. Куд-
ластый щенок задорно ловил ее молодыми зубами за
вертящееся колечко хвоста. Старый важный петух,
подняв одну ногу, меланхолически следил за спортив-
ным увлечением щенка, склонив гребень и полузакрыв
желтый стеклянный глаз, словно хотел сказать: «А ну,
поглядим, как это вы, молодежь, сумеете?»
Евгений Павлович обернулся только на жесткий
окрик поручика:
— Пленный!.. Стать смирно!
Евгений Павлович взглянул и увидел перед собой
бритого, гладкого, затянутого в английскую офицер-
скую форму полковника с немецкими погонами на
плечах. Он слушал торопливый доклад поручика, об-
лизывая тугие, как накачанные велосипедные камеры,
губы. Дослушав, шагнул к генералу:
— Вы отказываетесь переходить в ряды доблестной
северной армии?
Генерал молчал. Губы сами собой кривились
в усмешечку — тихую, ползучую, нестерпимую.
— Я вас спрашиваю! — повысил голос полковник.
И пришла негаданная мысль — съязвить напосле-
док, взорвать оскорблением это отполированное брит-
вой «жиллет» ремесленное лицо. И генерал сказал,
прищурив глаз:
— В северную? А у вас армии как — по всем ча-
стям света имеются?
Полковник отшатнулся. Велосипедные камеры прыг-
нули, прошипели:
. — Вы понимаете последствия?
Еще ползучее и нестерпимее сделалась усмешка.
Вспомнился белобородый член Государственного со-
вета, который предупреждал там, в двусветном зале,
о последствиях.
И ненужно сказал вслух:
— Последствия понимаю, а вот вы причин не изво-
лите понимать.
Полковник метнул зрачками. Крикнул:
— В последний раз спрашиваю: отказываетесь слу-
жить России?
552
Полковник Бермонт-Авалов волновался. Он, затя-
нутый в английскую офицерскую форму с немецкими
погонами и русскими орденами, не мог понять этого
старика, как генерал Юденич не мог понять Петро-
града, отказывающегося от его канадского, масла.
Но генерал спокойно откачнулся в знак отрицания.
— Обыскать мерзавца! — каменея всем лицом, при-
казал полковник.
Руки солдат распахнули полы шинели, полезли
в карманы, жестоко и больно жали на ребра. Одна
рука нащупала какой-то предмет в грудном кармашке
гимнастерки и выволокла его. Предмет тускло блеснул.
— Тютелька какая-то, ваше высокоблагородие,—
сказал солдат, протягивая предмет полковнику.
Тот подставил ладонь. Золотой бурханчик Будды,
бережно хранимый подарок удалого налетчика и бан-
дита Турки, уютно лег на широкую ладонь, как в ко-
лыбельку. Полковник нагнулся, разглядывая. В мудро-
бессмысленной улыбке Будды ему почудилось стран-
ное сходство с улыбкой старика в красноармейском
шлеме. Он нахмурился и взвесил на руке божка.
— Золото,— и ухмыльнулся. — Ай да генерал, до-
большевичился. Воровать даже выучился. — И вдруг,
зверея, крикнул: — Кого ограбил, сволочь старая? Кого?!
Бледно дернулись старческие губы. Но генерал не
сказал ни слова. Показалось смешно и ненужно.
Полковник бросил Будду на стол.
— Что прикажете, господин полковник? — спросил',
вытягиваясь, поручик, подметив в глазах полковника
решение.
— Списать! — отрезал полковник и поправил лаки-
рованный пояс.
— Обоих?
— Обоих.
. — Захарченко, выводи! — крикнул поручик во весь
голос, хотя солдат стоял рядом.
У стены сарая стали вполоборота друг к другу. Руки
были связаны ремнем: старческие худые руки генерала
и мужицкие шерстистые руки трибунальского вестового
Кимки Рыбкина.
С желто-серого неба сеялся снежок. Поодаль глухо
и непрерывно перекатывался круглый орудийный гул.
Казалось, что в небе вертятся тяжелые жернова и
из-под постава сыплется пушистой крупчаткой снежок.
553
Кимка так и сказал, переступая с ноги на ногу:
— Снежок-то, как мучица, сеется.
Напротив выстроились солдаты в стальных шлемах.
Полковник, опираясь на трость, стоял поодаль.
Евгений Павлович обвел глазами низкий болоти-
стый горизонт. Он вдруг раздвинулся, расширился,
в лицо пахнуло теплым бодрящим воздухом, и от этого
веяния все окружающее стало сразу отплывать в пу-
стоту, словно за плечами, шумя, распускались поды-
мающие тело ввысь крылья. Генерал повернулся, сколь-
ко позволили связанные руки, к соседу и ласково ска-
зал:
— Прощай, товарищ Рыбкин.
И так же ласково, мягко ответил Кимка:
— Спасибо на добром слове, товарищ Ада...
Недоговоренный слог слизнули желтые язычки
залпа.
Алексей Толстой
ГОЛУБЫЕ ГОРОДА
ДВА СЛОВА ВСТУПЛЕНИЯ
Один из свидетелей, студент инженерного училища
Семенов, дал неожиданные показания по наиболее ту-
манному, но, как это выяснилось в дальнейшем, основ-
ному вопросу во всем следствии. То, что при первом
знакомстве с обстоятельствами трагической ночи (с тре-
тьего на четвертое июля) казалось следователю непо-
нятной, безумной выходкой или, быть может, хитро
задуманной симуляцией сумасшествия, теперь стало
ключом ко всем разгадкам.
Ход следствия пришлось перестроить и вести его от
финала трагедии — от этого куска полотнища (три ар-
шина на полтора), приколоченного на рассвете четвер-
того июля на площади уездного города к телеграфному
столбу.
Преступление было совершено не сумасшедшим —
это установили допрос и экспертиза. Вернее всего, пре-
ступник находился в состоянии крайнего умоисступле-
ния. Приколачивая на столб полотнище, он спрыгнул
неловко, вывихнул ногу и лишился чувств. Это спасло
ему жизнь, — толпа растерзала бы его. На допросе
предварительного следствия он был чрезвычайно воз-
бужден, но уже следователь губсуда застал его
успокоившимся и отдающим себе отчет в совершен-
ном.
Все же из его ответов нельзя было составить ясной
картины преступления, — она распадалась на куски.
555
И только рассказ Семенова слепил все куски в одно це-
лое. Перед следователем развернулась страстная по-
весть мучительной, нетерпеливой и горячечной фан-
тазии.
ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ
О ВАСИЛИИ АЛЕКСЕЕВИЧЕ БУЖЕНИНОВЕ
В стороне от станции Безенчук, Пугачевского ныне
уезда, тянулся по широкой грязище красноармейский
обоз. Кругом бурая степь, мокрые тучи над ней, вда-
ли — тусклая, как трехсотлетняя тоска земли россий-
ской, щель просвета над краем степи да телеграфные
столбы с подпорками в стороне от дороги. Было это
осенью 1919 года.
Головная конная часть, сопровождавшая обоз, на-
ткнулась в этой ветреной пустыне на следы недавнею
боя: несколько дохлых лошадей, опрокинутая телега,
десяток человеческих трупов без шинелей и сапог. Го-
ловной отряд, покосившись, проехал было мимо, но
командир вдруг повернулся в седле и указал мокрой
варежкой на телеграфный столб. Отряд остановился.
У столба, привалившись, сидел человек с пунцово-
красным лицом, и, не шевелясь, глядел на подъехавших.
С обритого черепа его свисала окровавленная тряпка.
Запекшиеся губы шевелились, будто он шептал про се-
бя. Видимо, он делал страшные усилия, чтобы поднять-
ся, но сидел, как свинцовый. На рукаве у него была
нашита красная звезда.
Когда двое всадников тяжело соскочили с коней и
пошли к нему, разъезжаясь по грязи, он быстро-быст-
ро задвигал губами, безусое лицо сморщилось, глаза
расширились, белые от ужаса, от гнева.
— Не хочу, не хочу — едва слышно, поспешно бор-
мотал этот человек, — отойдите, не застилайте... Мешае-
те смотреть... Ну вас к черту... Мы же вас давно уни-
чтожили... Не топчитесь перед глазами, не мешайте...
Вот опять... С того холма через реку. Глядите же вы,
собаки белогвардейские, обернитесь... Видите — мост
над полгородом, арка, пролет — три километра... Из
воздуха? Нет, нет, — это алюминий. И фонари по дуге
на тончайших столбах, как иглы...
Человек бредил в жестоком сыпняке и, видимо, при-
нимал своих за врагов. От него так и не добились, что
556
Алексей Толстой. 20-е годы.
это был за отряд, десять человек из которого валялось
у дороги. Сам он остался жить только оттого, что во
время боя лежал раненый в телеге, валяющейся сейчас
кверху колесами.
Его положили на воз с овсом. Вечером на станции
Безенчук сделали перевязку и с ближайшим санитар-
ным эшелоном отправили в Москву. Документы его
были на имя Василия Алексеевича Буженинова, уро-
женца Смоленской губернии, двадцати одного года.
Человек этот остался жить. К весне он встал на
ноги, а летом его снова бросили на фронт. С сотнями
других, таких же как он, Буженинов входил и уходил
из разоренных городов Украины; хоронился по орешни-
кам и вишенникам, отстреливаясь от белых и зеленых;
сиживал в звездные ночи у костра над Доном; месил
грязь в степях под осенним ветром, воющим уныло
между ушами коня да по телеграфным проводам;
бился в лихорадке в палящих песках Туркестана; хо-
дил под Перекоп и в Польшу.
Все это впоследствии вспоминалось ему как снови-
дение: стычки, песни голодного брюха, перетянутого
красноармейским кушаком, полуразбитые теплушки,
мчавшиеся по равнинам, пылающие на горизонте кры-
ши деревень, товарищи — то горластые и беззаботные,
то бешено злые в бою, то присмиревшие с усталости и
голода. Товарищи, как бегущие мимо вагона столбы и
деревья, уходили из памяти, из зрения, уходили «до-
мой», в землю. Разного человека в те годы не было,—
были братишки. Вот он, братишка, обмотавший куска-
ми ковра ноги — вместо сапог, таскает ложкой из котла
кашу так, что желваки катаются на скулах, а к вечеру,
гляди, лежит, уткнувшись, запустив окоченевшие паль-
цы в землю.
Вот отчего те годы вспоминались как сон.
Сведения о жизни Василия Алексеевича расплыва-
ются в тумане этих лет. Болен и ранен не был, в отпу-
ску не бывал. Однажды Семенов встретил его в погра-
ничном городке, в корчме, и за самогоном провел не-
сколько часов в горячей беседе. Впоследствии Семенов
рассказывал так об этой встрече:
— С Василием Бужениновым мы окончили одно
училище, он был классом старше. Затем он поступил
на архитектурные курсы в шестнадцатом году, а я в
семнадцатом — в инженерное.
558
В корчме мы стали вспоминать прошлое. Вдруг Бу-
женинов вскочил, перекривился: «Чего старье перевора-
чивать, давай о другом. Сто лет прошло с тех пор. Я вот
помню, как бабушка у нас в доме, в провинции, спички
колола вместе с головкой на четыре части для эконо-
мии— из одной коробки четыре коробки выгоняла. Вот
так сэкономили! Две с половиной тысячи паровозов ва-
ляются под откосами. Я спрашиваю: война кончена,
значит, опять теперь спички на четыре части колоть?
Возврата нет, старое под откос! Либо нам погибнуть к
дьяволу, либо мы построим на местах, где по всей зем-
ле наши братишки догнивают, — построим роскошные
города, могучие фабрики, посадим пышные сады... Для
себя теперь строим... А для себя — великолепно, по-
грандиозному...»
После демобилизации Василий Алексеевич поступил
снова на архитектурные курсы и пробыл в Москве до
весны 1924 года. Семенов рассказывает, что все это вре-
мя Буженинов работал с каким-то даже исступлением.
Питался впроголодь. Одно время, говорил, он ночевал
в склепе на Донском кладбище. Женщин, разумеется,
дичился. И носил на костлявых, сутулых плечах все ту
же красноармейскую шинелишку, простреленную, в бу-
рых пятнах, в которой его когда-то нашли в степях Пу-
гачевского уезда.
В начале апреля Буженинов заболел нервным пере-
утомлением. Семенов приютил его у себя на диване.
Тогда же Буженинов получил из уездного города, со
своей родины, какое-то письмо и часто перечитывал его,
будто оно было написано на малопонятном ему языке.
Письмо страшно его волновало. Несколько раз он гово-
рил, что должен побывать на родине, иначе во всю
жизнь не простит себе. Очевидно, воображение его бы-
ло также не в порядке.
Семенов собрал деньги между товарищами и купил
Буженинову железнодорожный билет. Дня за два до
его отъезда по случаю весенних дней была вечеринка,
на которой Буженинов, захмелев, в крайнем возбужде-
нии рассказал товарищам удивительную историю.
Рассказ его приводится здесь в том именно виде,
каким был воспринят товарищами, плотно набившимися
в комнату Семенова, когда за открытым окном над
московскими крышами, над полосатыми от рекламных
лент узкими улицами, над древними башнями, над про-
559
зрачными ветвями бульварных лип разлился синеватый
свет вечера и пренебреженный поэтами всего Союза ве-
сенний месяц узким ледяным серпом стоял в вечерней
пустыне.
ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ
«Четырнадцатого апреля 2024 года мне стукнуло сто
двадцать шесть лет... Подождите скалиться, товарищи,
я говорю серьезно... Я был ни стар, ни молод: седой, что
считалось весьма красивым, — волосы отлива слоновой
кости; угловатое свежее лицо; сильное тело, уверенное
в движениях; легкая одежда, без швов, из шерсти и
шелка; упругая обувь из кожи искусственных организ-
мов— так называемой «сапожной культуры», разводи-
мой в. питомниках Центральной Африки.
Все утро я работал в мастерской, затем принимал
друзей, и сейчас, в сумерки, вышел на террасу уступча-
того дома, облокотился и глядел на Москву.
Полстолетия тому назад, когда я уже умирал глу-
боким стариком, правительство включило меня в «спи-
сок молодости». Попасть туда можно было только за
чрезвычайные услуги, оказанные народу. Мне было сде-
лано «полное омоложение» по новейшей системе: меня
заморозили в камере, наполненной азотом, и подвергли
действию сильных магнитных токов, изменяющих самое
молекулярное строение тела. Затем вся внутренняя сек-
реция была освежена пересадкой обезьяньих желез.
Действительно, заслуги мои были значительны.
С террасы, где я стоял, открывалась в синеватой мгле
вечера часть города, некогда пересеченная грязными пе-
реулками Тверской. Сейчас, уходя вниз, к пышным са-
дам Москвы-реки, стояли в отдалении друг от друга
уступчатые, в двенадцать этажей, дома из голубоватого
цемента и стекла. Их окружали пересеченные дорож-
ками цветники — роскошные ковры из цветов. Над этой
живописью трудились знаменитые художники. С апре-
ля до октября ковры цветников меняли окраску и ри-
сунок.
Растениями и цветами были покрыты уступчатые,
с зеркальными окнами, террасы домов. Ни труб, ни
проволок над крышами, ни трамвайных столбов, ни
афишных будок, ни экипажей на широких улицах, по-
крытых поверх мостовой плотным сизым газоном. Вся
560
нервная система города перенесена под землю. Дурной
воздух из домов уносился вентиляторами в подземные
камеры-очистители. Под землею с сумасшедшей скоро-
стью летели электрические поезда, перебрасывая в уроч-
ные часы население города в отдаленные районы
фабрик, заводов, деловых учреждений, школ, универси-
тетов... В городе стояли только театры, цирки, залы зим-
него спорта, обиходные магазины и клубы — огромные
здания под стеклянными куполами.
Такова была построенная по моим планам Москва
двадцать первого века. Весенняя влажность вилась в
перспективах раскрытых улиц, между уходящими к
звездам уступчатыми домами, и их очертания станови-
лись все более синими, все более легкими. Кое-где
с неба падал узкий луч, и на крышу садился аэроплан.
Сумерки были насыщены музыкой радио — это в Тихом
океане на острове играл оркестр вечернюю зорю.
Всего одно столетие отделяло нас от первых выстре-
лов гражданской войны. На земле шел сто седьмой год
нового летосчисления. Демобилизованные химические
заводы изменили суровые и дикие пространства. Там,
где расстилались тундры и таежные болота, — на тыся-
чи верст шумели хлебные поля. Залежи тяжелых метал-
лов на севере, уран и торий, были наконец подвергнуты
молекулярному распадению и освобождали гигант-
ские запасы радиоактивной энергии. От северного к юж-
ному полюсу по тридцатому земному меридиану была
проложена электромагнитная спираль. Она обошлась в
четверть стоимости мировой войны четырнадцатого
года. Электрическая энергия этой полярной спирали
питала станции всего мира. Границ между поселениями
народов больше не существовало. В небе плыли кара-
ваны товарных кораблей. Труд стал легким. Бесконеч-
ные круги прошлых веков борьбы за кусок хлеба — эта
унылая толчея истории — изучались школьниками вто-
рой ступени. Мы свалили с себя груз, который тащили
на кривых спинах. Мы выпрямились. Людям прошлого
не понять этих новых ощущений свободы, силы и моло-
дости.
Да, уверяю вас, жить стало большим счастьем, и
земля стала желанным местом жизни. Так думал я,
глядя с террасы на построенный мною город. В воздухе
возник тонкий звук, как бы от лопнувшей струны. Си-
гнал. И весь город залился светом электрических огней:
19 Зак. № 426
561
убегающие к Москве-реке ряды круглых фонарей, фона-
ри на террасах и — потоки света с плоских крыш в ли-
ловое небо. Мерцающим светлым яйцом возвышался на
площади Революции стеклянный купол клуба. Низко и
бесшумно ночной птицей нырнул сверху вниз мимо тер-
расы аэроплан, и женский голос оттуда крикнул...»
Буженинов оборвал рассказ и, смущенно, почти
жалко улыбаясь, оглядел товарищей. В руке у него дро-
жал стакан с пивом...
— А что?.. Разве не за это мы пошли в восемнадца-
том году умирать, товарищи? — проговорил он глухо-
ватым голосом. — Помню, этим городом я в сыпняке
бредил... В какой-то степи сижу у столба... Дождь...
Мертвяки валяются... А за дождиком, из мокрых бурья-
нов просвечивают купола, дивные арки, вырастают до-
ма уступами... Сейчас — закрою глаза и вижу... Эх!
А мы время теряем, пиво пьем...
Не отхлебнув из стакана, он прилег на кровать, за-
крыл глаза. Землистое лицо его подергивалось. Начал-
ся спор. Буженинову говорили:
— Горячишься, Вася... С такой горячкой дела не
сделаешь... Новую жизнь строить—не стихи писать.
Тут железные законы экономики работают. Тут надо
поколения перевоспитывать. А с утопсоциализмом, по-
куда рот разинул, тебя живо колесами переедут... Дер-
жи курс на мировую революцию, а дни пока — все поне-
дельники. С понедельником справиться потруднее, чем
твой город построить...
На все эти разумные слова Буженинов, не открывая
глаз, отвечал сквозь зубы:
— Знаю... Знаю.
Товарищи пошумели и разошлись на рассвете. Шест-
надцатого утром Буженинов уехал на родину. Весь ба-
гаж его состоял из папки с чертежами и ящика с чер-
тежными принадлежностями.
НАДЕЖДА ИВАНОВНА
Письмо, взволновавшее Буженинова, было от воспи-
танницы его матери, Надюши — Надежды Ивановны.
Сидя у окна в вагоне, он еще раз перечел его.
562
«Дорогой Вася, мы недавно узнали, что ты жив и
даже учишься в Архитектурной академии. Мы очень
обрадовались, главное тому, что ты жив. А ведь три
года от тебя не было никаких вестей. Мне уже двадцать
два года, я служу в Древтресте. Домик нам вернули в
прошлом году, но пришлось сделать ремонт. Теперь у
нас — корова, куры и даже индейки. Непременно при-
шли по почте семян для огорода. Мама очень плоха,
оглохла и ничего не видит. С ней очень трудно — все
сердится, всё не так. На днях простудилась и теперь
лежит. Ты бы приехал, а то боюсь, что больше не уви-
дишь ее. Ко мне на масленицу сватался Утевкин, наш
конторщик, но я отказала, потому что он ненадежный
элемент. Мечтаю пойти на сцену, но, пока мама жива,
это невозможно. Хотя Утевкин все повторяет, что
у меня талант, но я считаю, что это одни подходы с его
стороны. Так хочется жизни. Весна у нас в полном раз-
гаре. Любящая тебя Надя».
Странное было письмо. Вроде сырой айвы: и как
будто бы вкусное, и скулы вяжет. Буженинов глядел,
как за окном, за опускающимися и поднимающимися
проволоками, лежали плоские озера вешней воды. Утро
было мглистое, солнце висело оранжевым шаром над
разливами. Приминая прошлогоднюю траву, 4текли
ручьи из озера в озеро. Вдали из вод росли деревья,
стога. На островках бродил скот, вертелись обтрепан-
ные ветрами крылья мельницы...
Буженинов вышел на площадку вагона и глубоко,
зажмурясь от острого наслаждения, вдохнул запах ве-
сенней земли и половодья. Подувал свежий ветерок.
Проезжали станции, где в голых еще, высоких тополях
кричали грачи, кружась над гнездами. Грачи кричали
так тревожно, что больно стало сердцу. Он опять за-
жмурился, улыбаясь: казалось ужасно смешно, что
Наде двадцать два года. А была подросток — милое
лицо, голубые глазки, каштановые, как шелк, волосы,
заплетенные в косу с бантом. Когда разговаривает —
подходит близко, доверчиво, опустив худые руки, гля-
дит прямо в глаза.
Поезд, замедляя ход, проходил железнодорожным
мостом. Глубоко внизу, через вздувшуюся, мутную реку
двигалось на шестах древнее судно, полное скота, телег
и баб. По всей видимости, корабль достался мужикам
563
от варягов и плавал .скоро уже две тысячи лет, развозя
жителей в разлив по деревенькам.
Буженинов глядел в окно на рюриковы корабли,
на озеро, на грачиные гнезда, на табунки овец, на тон-
кие черные дороги — и мир представлялся ему пре-
красным.
Как человек с повышенной чувствительностью, он
видел в окружающем лишь то, что страстно хотел уви-
деть. Это была почти галлюцинация наяву.
УЕЗДНЫЙ ГОРОДОК
Нам здесь нет надобности подробно рассказывать
о немощеных уличках, о гнилых заборах и воротах с ла-
вочками для грызения подсолнухов, о заплатанных до-
сками домишках, где на подоконниках цветут герани
в знак того, что, «мол, как хотите, граждане, а насчет
герани в конституции ничего прямо не сказано...»
Все знают, что такое уездный городок на берегу
реки: базарная площадь, хлюпающая навозом, сенные
весы, балаганы, вывеска кооператива над кирпичной
лавкой; поп в глубоких калошах, пробирающийся, подо-
брав рясу, в проулок; милиционер, или, как выражаются
на базаре сердитые бабы, «снегирь», стоит, поглядывает
непонятно; старый сад бывшего предводителя дворян-
ства,— теперь городской сад, — с гнездами на липах и
тучей грачей, волнующих весенними криками некоторых
девиц; ну, да еще пожарная каланча... И над тишиной,
над этой бедностью — издалека долетающий свист
поезда.
Идя пешком со станции, Василий Алексеевич на ми-
нуту— быть может, черт его знает, каким-то завитком —
подумал: «Вот житье слухое!»— но продолжал быть
все в том"же восторженном настроении.
Деревянный домик матери, в четыре окна на улицу,
врос за эти годы в землю, покривился, облупился. Но
за пузырчатыми стеклами в горшочках стояли герань и
кактусы. Василий Алексеевич отворил калитку. Дворик
был чистенький. На солнцепеке лежали рябенькие куры,
и глядел на солнце голенастый петух, видимо очень
глупый. У сарайчика старая женщина в солдатской ши-
нели вешала кухонные полотенца. Она молча поклони-
лась Буженинову. Он взбежал по изгнившим ступеням
564
на крыльцо, в темные сени, пропахшие плесенью и ка-
пустой, открыл знакомую дверь, — рогожа на ней висела
клочьями, — отворил ее и в освещенном пролете двери,
ведущей из крошечной, с половичком, прихожей в ни-
зенькую столовую, где мещанским голосом щелкала
ручная птица, — увидел Надю.
На ней была нагольная овчинная куртка, короткая
юбка, белая косынка.
— Что вам нужно, гражданин? — спросила она, на-
хмуривая бровки.
Он назвал ее по имени, — от волнения ничего боль-
ше не проговорил. У нее задрожали выпущенные из-
под косынки локончики. Брови разъехались. Всплеснув
руками, она подошла к Буженинову, и сейчас же не то
изумление, не то жалость скользнули по ее хорошень-
кому личику.
— Вася, неужели ты? — спросила она тихо.
Он поцеловал ее в холодноватую щеку. Прислонил
к степе папки и ящик, размотал шарф, расстегнул
крючки шинели, — пальцы его дрожали.
— А мама здорова?
— Мама сейчас спит.
— Ты собиралась куда-то уходить?
— На службу. Тебя чаем надо напоить. Я скажу
Матрене.
Блеснув синими глазами, она убежала. Буженинов
услышал ее голос на дворе, затем она прошла наиско-
сок через улицу, выбирая, где ступить посуше, обер-
нулась, морща нос от солнца, и юбка ее махнула за
углом.
Василий Алексеевич перевел дух и сел у окна под
клеткой, где шуршала семенем птица и снова, снова
принималась от скуки нащелкивать все одну и ту же
песенку про то, какая теперь Надя стала красивая, не
подросток, а женщина, про то, какие у Нади 'Тревож-
ные глаза, кудрявые височки, как она махнула сейчас
юбкой за углом. Птичий язык темен, всякий может тол-
ковать его по-своему. Буженинов глядел на пустырь,
заборы, домишки, курил и вздыхал, как человек, осу-
жденный на скверном полустанке ждать курьерского
поезда... Он оглядывал комнату. Вот под этой висячей
лампой он учился когда-то читать и писать. Вот
пожелтевшая фотография: он — семи лет, Надя — де-
вочка, и мать — в шляпке, с необыкновенно сердитым
20 Зак. № 426
565
лицом. Вот, в шали и в тальме, сморщенная бабушка—-
та, что колола спички. От окна до облезлого комода, где
Надины зеркальце, пудреница и баночка с кремом «ме-
таморфоза»,— шагов пять. Смешно. А казалось — го-
раздо просторнее было дома. Под окном — бутылки,
в которые стекает с подоконника вода по шерстяной
нитке. Да, механика устарелая. Много придется за-
тратить сил, чтобы на этом убожестве вырос голубой
город.
За стеной похрапывала мать. Затем вошла баба в
шинели, поклонилась, сказала смирно: «С приездом,
батюшка-красавец». Накрыла стол, внесла знакомый,
помятый, но страшно бойкий самовар. Василий Але-
ксеевич пил чай, курил папиросы. Весь этот мещан-
ский мирок был окутан волшебной песенкой птицы. За
облаками самоварного пара она пела Буженинову о
несказанном будущем.
ПОДОШВЫ КАСАЮТСЯ ЗЕМЛИ
Василий Алексеевич был ужасно молод. Ну что же:
семнадцати лет влез в броневик, мчавший вниз по
Тверской к площади Революции. Воевал три года. По-
том — академия, чертежные столы, склеп на Донском
кладбище, сны наяву о голубых городах. Житейского
опыта не было ни на грош.
И вдруг фантастический бег времени остановился.
Подошвы царапнули и стали на землю. Заскрипела ка-
литка, заговорили будничные голоса, запахло навозцем.
Столетняя лохматая ворона прилетела из неподвижного
неба, села против окна на забор: «Карр, здравствуйте,
Василий Алексеевич, что думаете прредпрринять?»
Что же тут можно было предпринять? Вставать
к одиннадцати часам, напиться чаю с топлеными слив-
ками. Посидеть около глухой и слепой матери, которая
все добивалась, не большевик ли он, Вася. Потом — по-
гулять до обеда, посидеть над рекой. К пяти — вер-
нуться, скрипнув калиткой... вытереть ноги о рогожку
на крыльце... и у окна поджидать Надю, стараясь и виду
не подать, что весь день он думал об этой радости: вот
она прошла мимо окна, пошаркала ботиночками о ро-
гожку, звонко крикнула: «Матрена, собирай обедать».
Вошла с неизменной фразой: «Фу, как устала». Пове-
566
сила на гвоздь в прихожей полушубочек, оправила
платье, подставила прохладную щеку для поцелуя.
— Как ты себя чувствуешь? Лучше?
Матрена вносит чугун со щами. Надя говорит:
— Ты ешь, не стесняйся, тебе надо поправляться.
После обеда Надя исчезала либо к подруге, либо в
кинематограф, приглашенная «так, одним, ты его не
знаешь»: Василий Алексеевич садился в сумерках на
диван под заклеванные мухами фотографии и грыз ног-
ти, другим чем-нибудь трудно было заняться: Надя
очень экономила керосин и просила возможно дольше
не зажигать лампы. Курить пришлось бросить по двум
причинам: для здоровья (Надя в первый же день ска-
зала, что табак вреден) и за полным отсутствием денег.
Дом содержался на скудное Надино жалованье. Она
говорила: «Просто в отчаяние можно прийти, если ты,
Вася, не начнешь скоро зарабатывать, посылать нам
с мамой». Василий Алексеевич никак не мог забыть
у Нади гримаски удивления и разочарования при пер-
вой встрече.
«Вид у меня паршивый, конечно, больной, зубы не
в порядке, — раздумывал он в сумерках — но разве это
именно важно?.. Приятнее, если бы этакий молодчина
ввалился в крепких сапогах, веселый, полон карман
червонцев... Не было бы сразу разочарования... Ах, глу-
пости, мелочи... К маю отъемся, зубы вылечу — вот вам,
Надежда Ивановна, и вид. Зато ваши молодчики из ки-
нематографа городов строить не будут — лобики узки».
Василий Алексеевич несколько раз пытался загово-
рить с Надей о своих работах, о перестройке Москвы
по новому плану, о величии задач, брошенных в челове-
чество русской революцией. Не было сомнения — Надя
поймет, оценит его, и весь житейский вздор, безденежье
покажутся ничтожными.
Надя не уклонялась от разговоров, но едва он зане-
сется— у нее личико сделается озабоченное: «Ах, про-
сти, Вася, совсем забыла... скоро приду...» И — нет ее,
убежала со двора. И Буженинов опять сидит в темноте,
старается привести мысли в порядок.
Однажды выручил дождь — хлынул потоком. Надя
поахала у окна, вздула лампу, села штопать чулки. Осо-
бенно хороши были у нее глаза: голубые, покойные, с
мягкими ресницами — темной каймой. Василий Алексе-
евич глядел в них, покуда не закружилась голова.
567
— Вот ты архитектор, Вася, скажи, — заговорила
Надя, откусывая нитку на чулке, надетом на деревян-
ную ложку, — неужели, правда, за границей в каждом
доме ванна? Вчера в кинематографе видела — чудная
фильма! Аста Нильсон каждый день берет ванну, моет-
ся. Правда ли это? Ведь соскучишься. — Она покачала
головой, усмехнулась. — Со мной был один, — ты его не
знаешь, бывший военнопленный, — так он рассказывал,
будто в частных квартирах за границей все кровати под
балдахинами. Вот выстрой такой дом в Москве. Про-
славишься. Хотя я что-то не верю. Я жизнь знаю по ки-
нематографу. Конечно, артисты в кинематографе ста-
раются показать себя в лучшем свете, а на самом деле
все такие же, как у нас.
— Надя, — спросил Буженинов из темноты, с ди-
вана,— скажи мне открыто, — это очень важно... пони-
маешь... ты любишь кого-нибудь?..
Надя подняла брови. Штопальная игла останови-
лась. Надя вздохнула, и снова потянулась нитка.
— Вот что я тебе скажу, Вася... Какое там — лю-
бовь. Прожить бы!.. Ох-хо-хо!.. Думаешь, выходят за-
муж оттого, что влюбились? Это только в кинемато-
графе. Какая уж там любовь! Встретишь человека слу-
чайно, посмотришь: если чем-нибудь может улучшить
твое положение — выбираешь его... Ко мне сватался
один из Минска. Так мне захотелось в Минске побы-
вать—все-таки столица. Там, говорят, магазины, трех-
этажные дома на главной улице... Едва не согласилась.
Ну а выяснилось, что он просто проходимец, ни из ка-
кого не из Минска.
— Нет, Надя, нет, ты — комик, чудачка. Я тебя луч-
ше знаю... Ты не можешь так говорить. У тебя это на-
веянное... Жизнь на самом деле прекрасна, увлекатель-
на... Нужно строить, бороться, любить...
Буженинов проговорил до позднего часа, покуда
хватило керосину в лампе. Надя слушала, откусывала
нитки, опускала низко голову, улыбаясь. Прелесть мо-
лодой девушки, как весенний воздух, пьянила Василия
Алексеевича. Заснул он, не раздеваясь, на диване, кам-
нем провалился в сладкую темноту. А наутро выглянул
в окно: сидит ворона, нахохлилась; все тот же забор;
серое небо; на дороге ржавое ведро валяется. Ничего не
изменилось за эту ночь. И от вчерашних разговоров
остались досада и недоумение.
568
БЫТ, НРАВЫ И ПРОЧЕЕ
Мелочи жизни, сами по себе не стоящие внимания,
стали принимать болезненные размеры в сознании Ва-
силия Алексеевича. Вот почему мы предлагаем пробе-
жать эти строки. Они уясняют многое.
В городе заинтересовались буженииихиным сыном.
Пошли разные предположения. Конторщик Утевкин, го-
ворят, даже побледнел, узнав о его приезде, и сказал
более чем многозначительно:
— Ах, так... Ну, теперь мне многое понятно.
Когда сутулая фигура Василия Алексеевича появля-
лась в дневные часы на улице Карла Маркса, упирав-
шейся в торговую площадь, прохожие с ужасным любо-
пытством оглядывали «академика». Даже милиционер
благосклонно улыбался ему.
Однажды лавочник Пикус сиял у дверей лавки за-
щитного цвета картузик, попросил зайти и спросил
контрреволюционным щ е пот о м:
— Ну, скажите, что в Москве? Как нэп? Говорят —
безнадежно? Ужасное время. Мы катимся в пропасть.
Я дошел до такого нервного расстройства, что по ночам
кричу благим матом. Ну, очень рад познакомиться.
А Надежда Ивановна вас таки заждалась.
Пикус намекнул на то, о чем говорили по городу.
В провинции не любят непонятного, причиняющего бес-
покойство фантазии. Действительно, за каким дьяволом
было Буженинову тащиться в это захолустье? Ясное
дело — приехал жениться. Но тут оказывались разные
«ямки-канавки»: Буженинов разлетелся на не совсем
свободное место — так по крайней мере посмеи-
вались.
В магазине у Пикуса с ним познакомился Сашок —
румяный молодой человек в поддевке и плюшевом кар-
тузе, сын хлебного оптовика Жигалева. Стал расспра-
шивать о столице, о лекциях и кабаре, о женщинах с
Кузнецкого и завел Василия Алексеевича в пивную
«Ренессанс», во втором этаже, на площади.
Угощая папиросами, Сашок щурил смехом карие
глаза — плотный, смелый, со сросшимися бровями:
— Между прочим, Надежда Ивановна— девушка
что надо. Заносится только зря. В наше время чересчур
о себе много думать не приходится. Так-то, Василий
Алексеевич. Новый быт идет, как говорится. Конечно,
569
с ее внешностью — в Москву, на сцену или машинист-
кой в крупный трест, — карьеру сделать можно. Но
здесь...
Шевельнув бровями, Сашок бросил в рот моченую
горошину, ухватил ее крепкими зубами, посмеялся.
— Да, здесь интересной девушке делать нечего —
гроб... Самое благоприятное — выйдет замуж: у мужа
червонцев восемь жалованья, у самой червонца три с
половиной... Бесцветно... Или уж тогда, знаете, шла бы
в комсомол. Что ж...
Сквозь густые ресницы он хитровато блеснул зрач-
ками на Буженинова.
— ...Это я пойму. А то ни два ни полтора. Я вот в
Англию собираюсь, между прочим, по папкиным делам.
Предложил в виде шутки Надежде Ивановне попутчи-
цей, вроде секретаря. Робеет: что скажут? Это у нас-то
испугаться общественного мнения! Смехотища!
Василий Алексеевич дико глядел на собеседника:
что такое он несет? За такие слова в сущности бить
сейчас надо. Но Сашок, не задумываясь, перескочил на
другую мысль, сыпал витиеватыми фразами:
— Одно скажу, как интеллигентному человеку: осте-
регайтесь Утевкина. Этот подлец на все способен. После
того как Надежда Ивановна сделала ему поворот, он в
экономотдел бегал, в ГПУ. Ну что ж, знаете, глупо.
Не произвел полового впечатления, и он бежит на де-
вушку с доносом. Хорошо, что там его послали к сучке.
Знаете, что он про вас сказал, только что вы приеха-
ли? «Буженинова, — говорит, — к нам выслали в адми-
нистративном порядке, за некрасивые дела; но вопрос —
долго ли он будет у нас на шее сидеть паразитом...»
Фельетон, а не человек этот Утевкин... Кроме шуток,
без политики, — долго думаете погостить?
— Не знаю. Должен лечиться. Нужен отдых.
— Венерическое заболевание какое-нибудь, конечно?
— Нервное переутомление, — сердито ответил Буже-
нинов и застучал ногтями о жестяной подносик.
— Так вот оно что, хи-хи, — сказал Сашок и бойко
пошел в уборную.
Буженинов хотел тоже уйти, но пиво отяжелило его,
и он остался сидеть, угрюмо повесив голову. Дверь пив-
ной поминутно теперь отворялась. День был базарный.
Входили крестьяне, перекупщики, лавочники, мещане,
заключавшие мелкую сделку. За столиками журчали де-
570
ловые разговоры, негромкие и бедные, как это серень-
кое небо над площадью, над рогожными палатками, над
выпряженными возами, над грачиными гнездами на
липах. Дым крепкой махорки колебался слоями по
длинному помещению «Ренессанса». На дощатый пол
натащили сапогами навозу с площади. Василию Але-
ксеевичу представилось, что сидит он на дне глубочай-
шего колодца, и только пестрые плакаты Добролета,
Доброхима, красный силуэт рабочего между красных
труб на штукатуренной стене над головами чаепийц и
курителей махорки напоминают о далекой-далекой
Москве, где гремит жизнь.
Вернулся Сашок из уборной и сказал, кивнув на
стойку:
— Из-за этой вон дамочки тоже у нас ноги кое-кому
перешибли, дел двадцать в народном суде из-за нее раз-
биралось. Знаменитость.
Действительно, за стойкой лениво стояла полногру-
дая «дамочка» в ситцевом полосатом платье, широко-
лицая, напудренная, с маленьким носиком, с гребенками
в туго завитых волосах.
С ней разговаривал, навалясь локтем на стойку, низ-
корослый человек в черных брюках и в штатском френ-
че. Длинный нос его только что заехал в блюдо с жаре-
ной печенкой, нюхал из горшка с селедками.
— Пожалуй, съем, — сказал этот человек и поволоко
поглядел на дамочку за стойкой. — Положите мне пече-
ночки и положите мне половину селедочки. Какую по-
ловину? А какую сами захотите — хоть с хвоста, хоть
с головы.
Он сел за столик, положил ногу на ногу, закусил
зубом папироску, прищурил глаз от дыма.
Дамочка небрежно поставила перед ним тарелки
с печенкой и селедкой, отвернулась равнодушно. Но он
пригласил:
— Садитесь, Раиса Павловна, за стол. Вы мне не
помешаете, а даже наоборот.
Вместо ответа она выпятила нижнюю губу, стала
поправлять гребенки.
— А я вчера в кинематографе три сеанса высидел
на «Молчи, грусть, молчи», — вы не изволили явиться,
вопрос — почему?
Роковая дамочка дернула плечиком, ушла за стойку.
Он оборотил к ней длинный свой волнистый нос и,
571
вытаскивая из зубов селедочную косточку, сказал на-
смешливо:
— Ну-ка, сознайтесь, а ведь я вас вчера-таки сму-
тил немножко.
— Чем это вы меня смутили? Оставьте ваши под-
ходы.
— Своими песнями, гражданочка. — И, очень до-
вольный, он изо всей силы принялся резать печенку.
Сашок сказал Буженинову:
— Это Утевкин. Ухажер, первый фокстротист.
У него расчет, что вы сестре про его фигли-мигли рас-
скажете. А Надежда Ивановна с этой Раисой лютейшие
враги: одного летчика в прошлом году не поделили.
К Сашке подошли двое неизвестных в романовских
полушубках, забрызганных дорожной грязью, и они
втроем отсели за соседний столик, совещаясь по хлеб-
ному делу. Буженинов вышел из пивной.
Ветер на площади покачивал баранки и связки вяле-
ной рыбы в рогожных палатках, задирал ухо собачонке,
сидевшей на возу с сеном. Визжал поросенок, которого
мужик тащил за ногу из мешка. Крепко пахло соленым
салом, дегтем, навозом. На сухом тротуаре, около кучи
банных веников, сидела здоровенная баба в ватной юбке
и, повернувшись к площади голой спиной, искала вшей
в рубашке. Седой человек в старом офицерском пальто
с костяными пуговицами остановился, посмотрел бабе
на спину и спросил уныло:
— Почем веники?
— Два миллиарда, — сердито ответила баба.
Вот старый еврей, тряся головой, молча тащил за
шею гусенка из-под мышки у худого страшноглазого
мужика. Гусенок был жалкий, со сломанным носом. Ев-
рей скорбно осматривал лапки и крылья, дул ему в нос,
давал цену. Мужик запрашивал:
— Это — гусь, его раскорми — кругом сало.
И тащил гусенка за шею к себе.
— Он и кушать не может, у него нос отломан. Зачем
мне больной гусь? — говорил еврей и опять тащил гу-
сенка.
— У тебя нос отломан! — кричал мужик нутряным
голосом.— Ты гляди, как он жрет. — И он совал корку,
и гусенок жадно давился хлебом.
У телеги с глиняными горшками закричали две бабы,
поссорясь. Милиционер с каменным лицом шел к ним
572
Алексей Толстой. «Голубые города». Первое издание. 1925 г.
не спеша, и бабы замолчали, уставились на крас-
ноголового, как крысы.
— В чем дело, гражданки? Пожалуйте в отделение.
Вот почтенный старичок в очках, продавец львов из
бумажного теста с зелеными рылами и расписных сви-
стулек, не обращая внимания на суету и шум, читал
книжицу. Перед его лотком стоял пьяный человек, пере-
кинувший через плечо грязные валенки, видимо прине-
сенные на продажу, и повторял зловеще:
— Предметы роскоши — не дозволяется. Это мы со-
общим кому следует.
Василий Алексеевич обогнул по тротуару базарную
площадь, миновал сад, где от рассвета до ночи неуго-
монно кричали грачи над гнездами да на зазеленевшем
лугу играла в мяч стайка мальчиков, и вышел на обрыв
к реке.
Здесь он сел на скамейку и глядел на разлив, на
полоски лесов вдали. Оттуда в вечереющем небе летели
птицы. Мгла поднималась на широкой равнине над озе-
рами, над полузатопленными деревнями.
Засунув руки между колен, сжав рот, Василий Але-
ксеевич думал:
«Вековая тоска, бедность, житье-бытье... Пивная с
дамочкой, Утевкин, Сашка... Дрянные разговоры...
Пристроились, приспособились... Утевкин фокстрот пля-
шет... Живут, живут... Зачем?.. Здесь, что ли, вырастет
великое, прекрасное, новое племя...»
В это время какой-то человек сел рядом с Василием
Алексеевичем. Снял очки, протер их, высморкался.
— А мы с вами были знакомы, товарищ Бужени-
нов, — сказал он дружески.
ПОКАЗАНИЯ ТОВ. ХОТЯИНЦЕВА
Во время производства следствия товарищ Хотяин-
цев рассказал о своей встрече с Бужениновым в сумер-
ках на обрыве. (Хотяинцев находился в городе проез-
дом по служебному делу.)
Показания его были таковы:
Следователь. Когда вы знали Буженинова?
Хотяинцев. В двадцать первом году. Я был по-
литруком в дивизии.
Следователь. Вы замечали за ним какие-нибудь
!б74
странности, вспышки гнева — словом, что-либо выходя-
щее из нормы?
Хотяинцев. Нет. Он был на хорошем счету. Одно
время работал в клубе в полку. О нем тепло отзывались
товарищи.
Следователь. Тогда, при встрече на обрыве, вы
также не заметили ничего особенного?
Хотяинцев. Мне показалось, что он был мрачен и
возбужден. Мы поспорили.
Следователь. Его настроение носило личный
характер или причина его возбуждения была более
общая — например, социальная неудовлетворенность?
Хотяинцев. Я думаю — и то и другое. Он был
удручен своим нездоровьем, невозможностью в бли-
жайшее время продолжать учение, работу. Кроме того,
причины общего характера. Я был изумлен, когда услы-
шал от него резкое и непримиримое отношение к той об-
становке, куда он попал. Он начал разговор так прибли-
зительно: «Помните, товарищ Хотяинцев, работу в клубе,
доклады, спектакли, концерты? Какие были ребята! Как
все горели! Незабываемое, счастливое время».
Мы стали вспоминать товарищей, походную жизнь.
Горячо вспоминали. Он отвернулся и, как мне показа-»
лось, вытер глаза рукавом. «Упал я с коня в грязь, в ко-
лею, полк ушел, а я сижу в грязище — вот мне так пред-
ставляется,— сказал он с большой горечью. — За один
день сегодня такой гадости нахлебался — жить неохота;
Мещанство. Житьишко. Семечки грызут за воротами.
Да, да, товарищ Хотяинцев, отстучали копыта наших
коней. Улетели великие годы. Счастливы те, кто в земле
догнивает...»
' Я, помню, посмеялся тогда над ним. «Вы,— говорю,—»
товарищ Буженинов, стихи, что ли, пишете? Уж очень
у вас жалобно выходит». Он мне тогда с еще большим
напором: «Взрыв нужен сокрушающий... Огненной мет-
лой весь мусор вымести. Тогда было против капитали-
стов да помещиков, а теперь против Утевкина... Я, — го-
ворит,— вам расскажу, как Утевкин сегодня печенку ел».
И стал в лицах представлять какого-то своего знако-
мого.
Я вижу — действительно у него пошло на серьез.
«Ваши, — говорю ему, — настроения, товарищ Бужени-
нов, у нас под категорию Подведены, это не ново, так
рассуждать не годится. Пока вы в седле, в руках вин-
575
товка, за холмом зарево пылает, — этот час революции
весь на нервах, на эмоциях, на восторге. Скачи, руби,
кричи во весь голос — романтика! Взвился рыжий конь
и понес. А вот впряги коня, скакуна, в плуг — трудно:
полета нет — будни, труд, пот. А между тем это и есть
плоть революции, ее тело. А взрыв — только голова.
Революция — это целое бытие. От взятия Зимнего дворца
до тридцати двух копеек за аршин ситца. Вы представ-
ляете, какой это чудовищный размах, какой пафос дол-
жен быть, чтобы заставить боевого товарища с четырьмя
орденами Красного Знамени торговать баранками на
базаре, где ваш Утевкин печенку ел? Больше мужества
нужно в конце концов эти баранки продавать, чем
с клинком наголо пролететь в атаку. Мещанство мет-
лой не выметешь—ни железной, ни огненной. Оно
въедливо. Его ситцем, и книгой, и клубом, и театром, и
трактиром нужно обрабатывать. Перевоспитать поко-
ления. И пройдут мучительные года, покуда у вашего
Утевкина в голове не просветлеет. Для вас, поэтов,—
если хотите, соглашусь, — наше время трагическое...»
Я старался говорить с ним на его же языке. Он мол-
чал, вздыхал, и мне показалось, что я убедил его. Во
всяком случае, прощаясь, он сказал: «Спасибо. Если
у меня хватит здоровья, мужества, силы — постараюсь
повоевать на мирном фронте. Вы правы, это — трагедия:
войти в будни, раствориться в них не могу, и быть лич-
ностью, торчать одиноко тоже не могу».
ЗА РЕКОЙ
Слякоть кончилась. Настали майские лучезарные
дни; по влажно-синему небу поплыли снежные горы
с синеватыми днищами. В городе уже пылило из пере-
улков, от заборов пованивало. Зато за рекой стало очень
хорошо — зелено. /
Василий Алексеевич за эти недели отъелся, окреп, не
сутулился больше. Чувствовал себя много спокойнее, не
то что раньше, когда кончики нервов раскалялись и тре-
петали при малейшем пустяке. Казалось, еще немного —
и прежнее здоровье вернется.
Тяжело было только безденежье. Хотя Надя и не на-
мекала даже, но чувствовалось, что в доме сидит дар-
моед. Подавай ему и щи каждый день, и хлеб, и молоко,
Ь76
и сахар. Про дармоеда кричала однажды Матрена со-
седской стряпухе через забор.
Надя могла бы купить себе’ ситчику к |весне на коф-
точку, а вот — не купила. Кофту съел Василий Алексе-
евич. Работы в городе достать было нельзя —все учреж-
дения набиты, все говорили о сокращениях. Единствен-
ное разумное оказывалось не терять времени и готовить
к осени зачеты.'Василий Алексеевич с некоторым стра-
хом начал работать. Надя похвалила:
— Я уже сказала на службе, что ты начал чертить,
а то все смеются.
Поднимался Василий Алексеевич теперь на заре.
Матрена во дворе давала ему умыться из ковшика: «Ты
уж молочка-то выпей парного, я не скажу». Он садился
за стол — за чертежи, почесывая босой ногой ногу, кото-
рую щекотали мухи. Он весь вдруг настораживался,
когда за стеной просыпалась Надя. Обернув голову, рас-
крыв рот, стиснув карандаш, глядел на стену. И ловил
себя на этом: «Фу, как глупо, неуместно». Когда* в сто-
ловую входила Надя, умытая, свежая, с локончиками,—
кровь у него начинала биться и прыгать, как розовая
жидкость в стеклянной трубочке с шариком, что про-
дают на вербах.
Он показывал ей проект вокзала, Надя кивала го-
ловой:
— Хорошо, мне нравится, Вася. Но уж очень как-то
малопрактично. Я люблю маленькие домики, с "палисад-
ником. Качели, на лужке — шар. Резеда, душистый го-
рошек... Вот моя мечта...
Василий Алексеевич не спорил — улыбался. Он ре-
шил «открыть наконец ей глаза». Она должна увидеть
голубой город. Глупо было о нем рассказывать. Нужно
показать. Она поймет. Дармоеда не зря кормили четыре
недели.
Василий Алексеевич достал у матери из сундука
холст, загрунтовал его и осторожно, не спеша, начал
работать в часы, когда Надя на службе. Он закрывал
глаза, и в воображении развертывалась перспектива
уступчатых домов, цветочные ковры улиц, стеклянные
купола, мосты — точно радуги над городом счастливого
человечества.
Когда слишком уж горела голова от работы и дро-
жали руки, он прятал холст под диван, брал картуз и
шел за реку, не замечая ни пыли, ни гнилых заборов,
577
ни приветливо кланяющегося Пикуса в дверях лавки.
На той стороне реки шагал некоторое время по низине
в мокрой траве и ложился на зеленый пригорок—на
спину, скрещенные руки под голову.
Голубой свет неба лился в глаза, солнцем припекало
щеку, на медовой метелке возилась пчела. Налетал ве-
тер, шумя осинами, собирая с земли островатый запах
трав, меда, влаги. Все это было очень хорошо. Глаза
слипались, мягкий толчок блаженно потрясал тело —
и вот он спал...
...Сверху вниз, как ночная птица, скользнул аэро-
план, и женский голос оттуда крикнул: «Жду, приходи...»
Прозвенел: «Жду!..» Наконец-то... И он идет по широ-
ким блестящим лестницам уступчатого дома — вверх,
вниз, мимо зеркальных окон. За ними — ночь, прорезан-
ная синеватыми мечами прожекторов. Мерцают светом
изнутри круглые крыши... Огни, огни... Снова — лестница
вниз. Он бежит—захватывает дыхание. И вот необъят-
ная зала, посреди — бассейн. Тысячи юношей и девушек
плавают, ныряют... Сверкают зубы, глаза, розовые
плечи... Он скользит по мраморному краю, ищет, всмат-
ривается: где она, та, кто позвала?.. Милое, милое лицо...
И он чувствует — синие глаза вот, где-то сзади, где-то
сбоку...
Василий Алексеевич приподнимался, садился на при-
горке, дико оглядывая луга, разлив, осины, играющие
с Ветром, серенький городок за рекой. И лицо его, дол-
жно быть, в эти минуты пробуждения овеяно было све-
том фантастических огней.
МЕЛКИЕ СОБЫТИЯ
В сумерки Василий Алексеевич проходил по пере-
улку имени Марата. Через забор в щель кто-то крикнул
ему страшным голосом:
— Мы тебя разнавозим!
И затопали ноги, убегая по пустырю.
Когда он пришел домой, Надя сидела у стола и смор-
калась в свернутый шариком платочек, вытирала глаза.
Она сердито отвернулась от Василия Алексеевича. Он
пришипился на диване. Она заговорила:
678
— Как не понять, что ты меня компрометируешь..
Бог знает что говорят по городу. Сегодня утром эта
дрянь Раиса заявляет—нагло глядит на меня: «Вы, ду-
шечка, пополнели». Утевкин — тот просто хамски стал
держаться, едва здоровается. Хоть не живи... Очень тебе
благодарна...
У нее припухли губы, волосы висели перед глазами.
Василий Алексеевич, потрясенный, сказал тихо:
— Надя, я не понимаю.
Она обернулась и так поглядела покрасневшими гла-
зами, что он сейчас же опустил голову.
— Я заранее знала, что ты так ответишь: «Не пони-
маю...» А чего ты понимаешь?.. Ходишь по городу, как
лунатик... На базаре уж все знают: «Вон жених пошел...»
Со смеху прямо катаются... Жених!
— Надя, мне казалось, что это само собой должно
выйти...
— Что?.. Замуж, за тебя?.. В самом деле не мешало
бы тебе серьезно полечиться...
Надя оттолкнула тарелку с недоеденным, ушла
к себе, легла. У Василия Алексеевича в голове началась
такая толкучка, что пришлось посидеть на крыльце. Го-
лову стискивало свинцовым обручем, он прирастал к сту-
пенькам, не решаясь кинуться к Наде, разбудить и сон-
ной сказать: «Надя, люблю, Надя, страдаю, Надя,
сжалься, хочу тебя... Гибну...» В темноте подходила со-
бака Шарик, нюхала Василию Алексеевичу коленку и'
вдруг, царапая по земле лапами, завивалась и щелкала
старыми зубами блох в задней ляжке. За низенькими
крышами, за скворечнями разливался еще мертвенный
оранжевый свет зари. Небо было непроглядное. В хо-
лодке за плетнем у соседа шелестели листья. Разу-
меется, Василий Алексеевич ничего не решил и не понял
в эту ночь.
Назавтра он ждал продолжения разговоров. Но день
прошел обычно — жаркий, с мухами. Ветер гнал пыль
по переулку. Надя появилась к обеду мимолетом; что-то
укусила, в глаза не взглянула ни разу, убежала.
Томиться, ждать ее было невыносимо. И в первый
раз Василия Алексеевича укололо сомнение — здорово,
как иголкой, запустило под мозговые извилины: а куда,
собственно говоря, Надя уходит каждый вечер?
Он выскочил на двор, нагнув лоб, пошел на Матрену;
она колола лучинки.
579
— Куда Надя ушла?
— Милый, не знаю. Чай, к Масловым, все к ним.
— Кто такие?
— Масловы-то? Лавошники. Раньше богатеи были и
теперь, слава богу, с достатком. Слетай, они недалеко.
Прежние сады Масловых тянулись версты на три
вдоль реки. Теперь остался трудовой участок, огорожен-
ный новым забором, а где — колючей проволокой, запу-
танной по зарослям акации. Около этих акаций Васи-
лий Алексеевич и остановился. Взялся руками за пояс,
глядел в пыль.
...Он очутился здесь, как во сне: после слов Матрены
уже стоял около этих акаций. Промежуточного ничего
не было. «Войду и, если она там, скажу, что...» В это
время за акациями засмеялись. Он нагнулся и между
стволами увидел Надю и какую-то полную краснощекую
девушку. Они лежали на лужку, на одеяле, на ситцевых
подушках. Перед ними стояла пожилая, на низком ходу
женщина, на руке держала платье, — видимо, портниха.
Большие губы ее вытянулись, улыбались добродушно,
глуповато. Краснощекая девушка проговорила, мотаясь
по подушке:
— Ох, умереть! Так отчего же вы, Евдокия Ивановна,
замуж не вышли?
— Порфирий Семеныч ужасно сколько раз умолял,
плакался: «Евдокия Ивановна, измените ваше решение».
Но я: «Порфирий Семеныч, как я пойду замуж, когда я
щекотки боюсь, не переношу».
— Ох, не могу... Ну, а он что же?
— Да что ж тут поделаешь, я — непреклонно. Ну,
он с горя и присватался к Чуркиной, Настасье. Нас-
тасья — рада-радешенька, — приданое справила, подве-
нечное платье сшила. Вот — свадьба, а вечером Пор-
фирий Семеныч является к невесте пьяный, конечно, и
все платье ей облювал подвенечное. «Я, — говорит, —
первую любовь не могу забыть...»
Портниха насмешила и ушла. Девушки кисли от
смеха и жары на подушках. Порыв предвечернего горя-
чего ветра пронес над садом облако пыли. Красноще-
кая Зоя Маслова приподнялась и, оправляя голыми до
плеч руками рассыпавшиеся волосы, сказала:
— Что же он не идет в самом деле, дурак несчаст-
ный.— И опять легла, обняла Надю за талию. — Цы-
почка моя, котинька, не обращай внимания, наплюй —
580
пусть языки чешут, кому не лень. Живи, заинька, как
тебе подсказывает молодое сердце. Валяй вовсю, по-
куда валяется. — Она засмеялась и куснула Надю за
шею. — Старая будешь — так не заваляется, кукушечка.
Помолчав, повертев травинку, Надя ответила:
— Тебе хорошо, с деньгами. А мне своим горбом
старуху корми да этого блаженного. Надеялась, выпи-
сала— поможет, облегчит... Ужасное разочарование,
Зоечка. И при этом влюбился в меня, можешь себе пред-
ставить.
Зоя всплеснула руками. Надя продолжала сдер-
жанно:
— Я решила: если отдамся человеку, то по закон-
ному браку, пусть обеспечит мне материальное сущест-
вование. Тогда, может быть, в Москву поеду, в театраль-
ную школу.
— Вот и верно говорят, — с горячностью крикнула
Зоя, — у тебя в голове зонтиком помешали. Найди сей-
час богатого дурака — законным браком... Сто раз тебе
повторяла: Санька не может жениться, ему отеЦ не ве-
лит, нельзя. Так ты весь век и просидишь вороной в пе-
реулке...
Зоя вдруг обернулась и толкнула Надю. К ним под-
ходил Сашок в палевой вышитой рубашке, в полосатых
брюках, в желтых полуботинках. Под мышкой он дер-
жал гитару. Снял клетчатую кепку — московской моды
«комсомолка», — опустился перед девушками и поздо-
ровался за руку:
— Томитесь, гражданочки?
— Во всяком случае, по вас меньше всего томимся,—
бойко ответила Зоя, смехом прищурила глаза.
Надя оправила юбку на ногах, слегка выпятила ниж-
ние зубки. Сашок поглядел на небо, где снова пронес-
лось пыльное горячее облако.
— Жарковато, гражданочки. И до чего эта темпера-
тура может довести молодого мальчишку — сума сойти...
— А до чего довести, примерно? — спросила Зоя.
Сашок кивнул на Надю, мигнул, тронул струны ги-
тары и запел вполголоса, хриповато:
Люблю измятого батиста
С ума сводящий аромат...
Между куплетами на мотив «Алла верды» Сашок
острил, говорил приговорочки, остро поглядывал на
581
Надю. Когда музыка прискучила, все трое захватили
одеяло и подушки и пошли пить чай.
Василий Алексеевич как присел тогда у акации, так
одним глотком и проглотил эти ядовитые разговоры.
Внутри у него все дрожало: он побрел к реке и там сел
на глинистом обрыве.
Что случилось? Ничего не случилось. Как и в первые
дни приезда, с ужасной остротой увидел, услышал ме-
лочи жизни. Сегодня — ничего нового. Хотя нет: эти вы-
пяченные зубки, головка набок, голое плечико, будто
нечаянно вылезающее из ситчика... Это — новое... И про
«блаженного» — новое... Хотяинцев говорил: «Больше
мужества баранки продавать, Чем с клинком наголо
пролететь в атаку...» Мужество нужно, спокойствие, воля.
А впечатлительным — смерть. Вздор, две девчонки и бал-
бес с гитарой наплели вздору с три короба, так уж и
мрак опустился на душу и свинцовый обруч на голове...
Хорош строитель. Вздор, вздор! С завтрашнего дня по
двадцати часов работать, через две недели — в Москву...
Все же, если бы случайный прохожий со стороны по-
смотрел на Василия Алексеевича, ему бы представился
сутулый, в выцветшей рубашке, с нечесаными отросшими
волосами несчастный человек... Впавшие щеки, заострив-
шийся длинный нос, лицо такое отчаянное, что вот еще
одно какое-то умозаключение сделает этот молодой че-
ловек— и, полон противоречий, махнет с обрыва
в речку...
Но этого не случилось. Когда за потускневшими лу-
гами погасла заря и зажглись кое-где костры на покосе,
Василий Алексеевич пошел домой. В переулке имени
Марата со свистом мимо его носа пролетел камень, и
опять чьи-то шаги, убегая, воровски затопали по пу-
стырю.
ЖАРКИЕ ДНИ
«Всего хотеть — хотелок не хватит», —говорила
Надя. Она была очень благоразумна. Но дни станови-
лись все жарче, по ночам жгла даже простыня. И поне-
воле каждый день Надя попадала в сад к Масловым,
на подушки под яблоню. Благоразумие было само по
себе, а жаркий вечер, сухие пилочки кузнечиков в ско-
шенной траве, зацветшие липы да пчелы, истома под
582
батистовым капотом (подарок Зои) и нахальный Саш-
ка— все это было само по себе.
Лукаво шептала Зоя про свою «даже неестественно
страстную любовь с молодым женатым доктором».
Надя крепилась, хотя подумает: «А ведь засасыва-
ют меня в омут июньские дни», — и отчего-то — не
страшно.
Давно не помнили горожане такого пекла в конце
июня. Деревья начали вянуть. На лугах за рекой стояла
мгла. Говорят — горел хлеб. От сухости по ночам тре-
щали стены. В учреждениях служащие пили воду, вя-
лые, как вываренное мясо.
Буженинов заканчивал зачетные работы. От зари до
сумерек в раскаленной комнате под жужжание мух он»
мерил, чертил, рисовал, красил. Поддерживало его неи-
моверное напряжение. Полотно с планом голубого го-
рода он приколотил на стену и работал над ним в ми-
нуты отдыха. С каждым днем город казался ему совер-
шеннее и прекраснее.
На будущей неделе он решил ехать в Москву. У ма-
тери оказались припрятанными три золотых десятируб-
левика ему на дорогу. («Возьми, Вася; берегла себе на
похороны, да уж люди как-нибудь похоронят... Не го-
вори Надьке-то».) И он действительно уехал бы, исху-
давший, восторженный, в лихорадке фантазии и рабо-
ты, если бы не толчок со стороны. Напряжение неожи-
данно вырвалось по другбму направлению.
Жизнь, по всей вероятности, не прощает уходящих
от нее фантастов, мечтателей, восторженных. И цеп-
ляется за них и грубо толкает под бока: «Будя дремать,
продери глаза, высоко занесся...»
Назвать это мудростью жизни — страшно. Зако-
ном— скорее. Физиологией. Жизнь, как злая, .сырая
баба, не любит верхоглядства. Мудрость в том, чтобы
овладеть ею, посадить бабу в красный угол в порядке,
в законе, — так по крайней мере объяснял в сумерки на
обрыве товарищ Хотяинцев.
Случилось вот что. Надя, как всегда, в половине де-
вятого, с портфелем, в белом платочке, заглянула перед
службой в столовую, где лежал животом на столе Бу-
женинов, равнодушно скользнула глазами по голубому
городу, занимавшему половину стены, и молча вышла.
Скрипнула калитка, и сейчас же послышался болезнен-
ный негромкий крик Нади. Она побежала по сеням,
583
рванула дверь и упала среди книг на диванчик, схватив-
шись за голову.
— Негодяй, негодяй! — закричала она, топая нога-
ми, и заплакала на голос.
На дворе шумела Матрена, ругалась:
— Ах, паршивцы, ах, разбойники!
— Уезжай, слышишь — уезжай сию минуту от
пас! — повторяла Надя сквозь брызгающие слезы.
Оказалось, ворота в трех местах были измазаны дег-
тем, и написано дегтем же, аршинными буквами, матер-
ное слово. Матрена уже отвела во двор обе половинки
ворот и смывала деготь щелоком. Надя на службу не
пошла, заперлась у себя. У Василия Алексеевича так
тряслись руки, что он швырнул карандаш и попытался
постучаться к Наде.
— Убирайся, ты один виноват в моем позоре! — еще
злее крикнула Надя — Уезжай в Москву, дармоед бла-
женный!..
Руки дрожали все сильнее. Дрожало, било тревож-
ным пульсом в середине груди. Василий Алексеевич не-
которое время стоял в комнате, мухи ползали по его
лицу. Затем — как-то так вышло — он очутился на пло-
щади. (Опять из сознания выпал кусок.) Над ним в го-
рячей мгле жгло белое солнце. На площади завился
пыльный столб и шел кругом по сухому навозу. Васи-
лий Алексеевич глядел на окна «Ренессанса». Кое-ка-
кие посетители уже пили пиво. И вот в окне из-за стены
выдвинулся длинный волнистый нос. За Бужениновым
наблюдали.
Он стиснул зубы и взбежал по лестнице в трактир.
Но волнистый нос исчез. Из-за стойки с ужасным лю-
бопытством глядела пышная, напудренная Раиса, и ро-
тик ее, как ниточка, усмехался многозначительно. Бу-
женинов схватился за стойку и спросил (на следствии
Раиса показывала: «Заревел на меня, вращая гла-
зами») :
— Был здесь Утевкин?
Раиса ответила, что «почем она знает, посетителей
много».
— Врете! Это он, я знаю...
— Вы, гражданин, полегче кричите.
Но Буженинов уже опять стоял на площади под
мглистым раскаленным солнцем. Оглядывался. По го-
рячей пыли бродили только сонные куры. Раиса видела,
584
как он поднял кулаки к вискам и так, сжимая голову,
зашагал к речке.
К вечеру его видели в лугах, сидящим на кургане.
Там он и остался на ночь.
ИЗ ОПРОСА НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ
ч
Следователь. Почему Буженинов был убежден,
что ворота вымазал Утевкин и что им же брошен ка-
мень в переулке Марата?
Надя. Не знаю.
Следователь. А вы уверены, что это сделал
Утевкин?
Надя. Кому же еще? Конечно, он.
Следователь. Какая была цель? Утевкин рев-
новал вас, что ли?
Надя. И это отчасти. Да, ревновал.
Следователь. Какие же у него были основания
ревновать вас к Буженинову?
Надя. Над ним шутили... Александр Иванович
(Жигалев) говорил мне как-то, что встретил Утевкина
и смеялся над ним, будто Утевкин остался с носом...
Я тогда рассердилась, но Жигалев успокоил, что все
это только шутки...
Следователь. Жигалев, говоря Утевкину «с но-
сом», имел в виду Буженинова, не себя, конечно?
Надя. Да.
Следователь. Стало быть, Утевкин был убеж-
ден, что вы живете с Бужениновым?
Надя. Я ни с кем не жила.
Следователь. Прошлое ваше показание было
несколько иное.
Надя. Я ничего не знаю... Не помню... У меня все
смешалось...
Следователь. Буженинов имел обыкновение
носить при себе спички?
Надя. Нет, он не курил.
Следователь. Вы не можете указать, каким
образом у Буженинова третьего июля оказались спички?
Надя. Когда он побежал — он схватил их с буфета.
585
Следователь. Вы это видели и помните, как
он схватил спички? Это очень важный пункт в пока-
заниях.
Надя. Да, да, вспоминаю... Дело в том, что, когда
у нас испачкали ворота, на другой день,— мне было
очень тяжело, — я пошла к Масловым. По дороге встре-
чаю его... Глаза белые, ну весь — ужасный. Подошел ко
мне: «Ты куда?» — «Тебе какое дело, иду к подруге».
Он: «Я им отомщу, я этот городишко сожгу...» И кула-
ком погрозил. Так что, когда он схватил спички, я вспо-
мнила угрозу...
Следователь. Куда он пошел после этого?
Надя. Домой, Матрена подала ему щей. Расска-
зывала: он съел две ложки и не то задумался, не то за-
снул у стола. Потом пошел ко мне в комнату и рассмат-
ривал мою фотографию, лег даже на постель, но сейчас
же вскочил и ушел.
Следователь. Это было в вечер убийства?
Надя. Да.
Следователь. Затем вы его видели, когда он
вбежал, показывая окровавленные руки, и тогда же
схватил спички?
Надя. Нет, не сейчас же... Я забыла...
УБИЙСТВО УТЕВКИНА
Повышенное настроение, напряженная работа, сбо-
ры в Москву — оказались чистым обманом.
Все его тощее тело, все помыслы жаждали Надю.
Буженинов просыпался на заре с оглушающей затаен-
ной радостью. Весь день за работой радость пенилась
в нем и была так велика, так опьяняюща, что даже раз-
говор, подслушанный в саду у Масловых, утонул в ней
пылинкой. Какие мелочи! Ну не любит — полюбит...
Надя — еще не жившая, не раскрытая, ей еще не время.
По всей этой фантастике мазнули дегтем матерное
слово. Он не сразу понял весь чудовищный смысл дегтя
на воротах. Ночью в лугах, на скошенном кургане, охва-
тив голову, опущенную в колени, он глядел закрытыми
глазами на вереницы дней своей жизни. В нем подни-
малась обида, злая горечь, мщение.
Утром, возвращаясь из лугов, он увидел Надю у са-
да Масловых. Она показалась ему маленькой, пронзи-
586
тельно жалкой, — припухшие синие глазки! Он сильно
взял ее за руку и зарычал, что отомстит. Она не поняла,
испугалась.
Дома, перед тарелкой со щами, он думал о мщении.
Мысли обрывались — было слишком много передумано
за ночь. Он пошел к матери, но она скучно похрапы-
вала в духоте с завешенным окошком. Тогда, как вор,
он прокрался в Надину комнату, схватил ее фотогра-
фию с комода, и в нем все сотряслось. Он даже прилег
на минуту, но сейчас же вскочил и вышел из дома. Во-
енным движением подтянул пояс. Теперь он был спо-
коен. Оперативное задание дано, мысли работали по
рельсам: точно, ясно.
В переулке Марата он перелез через забор и пошел
,цо пустырю, заросшему между ямами и кучами щебня
высокой лебедой. Он пересек едва заметную в бурьяне
тропинку, сказал: «Ага» — и свернул по ней к разва-
линам кирпичного сарая.
Было уже темно. Лунная ночь еще не начиналась.
Буженинов обогнул развалины и шагах в пятидесяти
увидел два освещенных окошка деревянного домика,
выходившего задом на пустырь. Свет падал на кучу
щебня, ржавого мусора, битой посуды. Буженинов обо-
гнул ее и в окне увидел Утевкина, набивавшего папи-
росы, — видимо, он куда-то спешил. Он был в фуражке
с чиновничьим околышем, без кокарды и с парусиновым
верхом. Губы его, помогавшие набиванию папирос,
улыбались под волнистым большим носом, с угла на
угол ходила самодовольная усмешка.
Утевкин ловко заворачивал кончики набитых папи-
рос, укладывая их в портсигар, последнюю закурил от
лампы, поправил фуражку, взял тросточку со стола,
взмахнул ею и дунул в пузырь лампы.
Буженинов отскочил от погасших окон, кинулся
за угол дома — забор был выше роста... Кинулся на-
право— забор... За ним бойко простучали шаги Утев-
кина.
Впоследствии, на допросе, Буженинов с чрезвычай-
ным старанием припоминал все подробности этой ночи.
Он оборвал показания, изумился, пришел в крайнее
волнение от простого вопроса следователя: какие ре-
альные данные были у него, Буженинова, чтобы пред-
полагать, что именно Утевкин вымазал ворота? Уверен-
ность — только.
587
— Если бы вы сами видели, как он набивал папи-
росы, усмехался... Ну конечно он... Нет, вы меня не со-
бьете, товарищ следователь... Три года воевать, чтобы
увидеть, как Утевкин в фуражечке стоит... Нет, нет...
Какие там реальные данные... Он во все время граж-
данской войны у себя на пустыре отсиживался и теперь
мажет ворота, папиросы набивает... Не только я уверил-
ся, что это он, но просто увидел, как он тогда подхихи-
кивал, когда мазал... Я побежал вдоль забора, перелез
на ту сторону улицы. Утевкина не видно. Я был в «Ре-
нессансе», на бульваре, в городском саду — нигде его
нет... Товарищ следователь, преступление мое заранее
обдумано... Там, где начали мостить площадь, я выбрал
из кучи булыжник и с этим оружием искал Утевкина...
Буженинов появлялся в разных частях города. К не-
которым обывателям, носившим белые фуражки, он
подходил с таким странным видом, что они в ужасе от-
шатывались и долго ворчали, глядя на сутулую, с при-
липавшей рубашкой спину убегавшего «академика».
Ночь посветлела: за лугами из июльской мглы взо-
шла половинка луны, в городе легли невеселыё тени от
крыш. Наконец Буженинов нашел Утевкина. Тот стоял
у сада Масловых — фуражка на затылке, задом упи-
рался на трость... Рот у него был раскрыт, будто он по-
давился...
— Ну и чепуха, — в величайшем удивлении прого-
ворил Утевкин не то самому себе, не то Буженинову,
подходившему (в лунной тени от акации) со стиснутыми
зубами, с отведенной за спину рукой, — ну и стерва эта
Надька... А я-то дурак, ах, трах-тарарах... А с ней Саш-
ка, оказывается, очень просто голяшки заворачивает...
Буженинов резко кинулся вперед и со всей силой
ударил Утевкина камнем в висок...
КОРОБКА СПИЧЕК
В этот день Сашок ездил по отцовским делам в уезд
и появился в саду у Масловых поздно. Весь он был еще
горячий от полевого солнца, обгоревший и веселый.
Карманы у него были набиты стручками, горохом, уво-
рованным по дороге.
588
В саду под яблоней на подушках лежала одна Надя.
От огорчений этого дня, истомленная духотой, вся влаж-
ная, растревоженная, она заснула, подсунув ладонь под
щеку. Такою ее нашел Сашок, — очень мила, конфеточ-
ка... Он подкрался, отвел у Нади локон от лица и поце-
ловал ее в губы.
Надя ничего сначала не разобрала, раскрыла глаза
и ахнула. Но куда уж там благоразумие. Руки не со-
гнуть— такая истома. От Сашки пахло дорожной по-
лынью, колосьями, свежим горохом. Он прилег рядом
и зашептал в ухо про сладкие вещи.
Надя покачивала головой — только и было ее со-
противления. Да и к чему — все равно уж опозорена на
весь город... А Сашка шептал что-то насчет Гамбурга,
модных платьев... Про шелковые чулки бормотал
в ухо, проклятый. Он уж и руку положил Наде на
бочок.
В это как раз время голос Утевкина из-под акаций
проговорил:
— Ах, трах-тарарах!
Надя взвизгнула, побежала. Сашок догнал ее, стал
божиться, что женится. Она дрожала как мышь. И они
не слышали ни короткого разговора Утевкина с Буже-
ниновым, ни удара, ни вскрика, ни возни.
Надя повторяла:
— Пустите, да пустите же, мне нужно домой. -
Сашок сказал многозначительно:
— Домой? Ну хорошо, — и отпустил ее вспотевшие
руки. Надя ушла, но не переулками, как обычно, а обхо-
дом через выгон, где под луной чернели тени холмиков
давно заброшенного кладбища. Сашок следовал за ней
издали.
Дома Василия Алексеевича не было. Матрена спала
на погребице. Надя заперлась у себя на крючок, разде-
лась и сидела на кровати, кулачками подперев подбо-
родок. Странный свет от половинки луны падал через
окно. Надя смотрела на крючок, и легкая дрожь не пе-
реставая пробегала по спине. Не напрасно смеялись по
городу, что у нее «в голове помешали зонтиком».
Через небольшое время скрипнула калитка. Потро-
гали дверь в сенях, вошли. Надя проворчала:
— Не пущу.
В ее дверь поскребли ногтем.
— Нельзя же, — прошептала Надя.
589
Сашкин палец просунулся в щель, нащупал крючок
и поднял его. Надя только пошевелила губами. Вошел
Сашок; лунный свет упал ему на белые большие зубы.
Он молча живо присел рядом на кровать, и Надя ртом
почувствовала костяной холодок этих зубов.
Сашок был ловок обращаться с девушками. Вдруг
руки его быстро разжались, он откачнулся в сторону;
Надя раскрыла глаза и задохнулась от испуга: в дверях
стоял Буженинов... глаза без зрачков, руками схватился
за косяки, руки — в темных пятнах, в пятнах рубаха.
Сашок, головой вперед, молча кинулся на Буженинова,
сбил его с ног и выскочил на двор — бухнул калиткой.
Все это в несколько секунд. Надя нырнула под одеяло,
сжалась в комочек. Что-то кричали, топали, — она под
одеялом, под подушкой зажмурилась, заткнула уши.
Вопрос, которому следователь придавал важное зна-
чение: когда и при каких обстоятельствах у некурив-
шего Буженинова появилась в кармане коробка спи-
чек,— оставался темным. Сам Буженинов отвечал и так
и этак, — из памяти выпала мелочь. Хотя он хорошо
помнил половинку луны — низко в окошке — в Надиной
комнате, Надю и Жигалева в густой тени на постели.
(Он даже не сразу и сообразил, кто на постели). По-
мнил, как крикнул: «Я убил Утевкина». (Ни Надя, ни Са-
шок этого не слыхали.) Он не мог оторвать рук от кося-
ков двери и затем опрокинулся навзничь, сбитый Саш-
киной головой в живот. Он помнил даже, как пронес-
лось в мозгу слово «осквернитель», и оно-то и кинуло
его к дальнейшим неистовствам.
Видимо, он не сразу выбрался из темного, застав-
ленного скарбом коридорчика. Он что-то ломал и швы-
рял, покуда не выскочил в кухню. В темноте зажужжали
разбуженные мухи. Он ударился коленом об угол плиты
и ощупью схватил небольшой утюжок. Когда почувст-
вовал в руке тяжесть — выругался матерно и выбежал
на улицу. Когда бежал — помнит отчетливо, — в карма-
не были спички: постукивали в коробке.
Следователь. Вы утверждаете, что до того мо-
мента, когда вы с утюгом преследовали Жигалева, у
вас не было мысли о пожаре?
590
Буженинов. Может быть, я и говорил раньшез
«Хорошо бы этот городишко сжечь», — наверно, гово-
рил...
Следователь. Значит, и раньше ваши мысли
вертелись около пожара?
Буженинов. Я очень страдал от внутреннего раз-
лада, то есть разлада между собой и обстановкой, куда
попал. Мои навыки были только одни — война. Я мыс-
лил, как боец: негодное — смести. Но после разговора
с товарищем Хотяинцевым я успокоился. Начал рабо-
тать, стремился подавить себя. Это мне удалось. Если
бы тогда сказали: «Перестань существовать, так нужно
обществу, революции, будущему», — я бы не дрогнул...
Но меня поймали на удочку,
Следователь. Яснее.
Буженинов. Можно подавить в себе страх смер-
ти, честолюбие, жажду жить... Животное благополучие...
Все, что хотите... Воля верховодит надо всем... Я дока-
зал это моею жизнью, товарищ следователь. Но сколько
бы я ни хотел — сердце мое будет биться так, как само
хочет... Жизнь моего тела, вся до последних тайн, не
подвластна мне... Когда мне вырывают сердце с жила-
ми — все летит к черту... Вы спрашиваете: на какой я
попался крючок?.. Любовь... На то, что мне не подвла-
стно. Взбунтовались во мне соки жизни. Не знаю уж,
какие там железы, какие токсины отравили мой мозг...
Может быть, и так... Не знаю, я не физиолог... От меня
отдирали с кровью, с мясом женщину, которую я любил;
я даже не сознавал, как хотел ее. Начался бунт, я уже
не управлял собой. Я ударил камнем Утевкина и почув-
ствовал облегчение. Не знаю, правду ли пишут поэты
про любовь, — того я не испытывал. Я горел три года в
гражданской войне... Я горел и мучился два года в ин-
ституте — видел во сне голубые города... Может быть,
это была тоже любовь... не знаю... Но когда камень во-
нзился Утевкину в висок — мне на минуту стало легко...
Если это — любовь, это — от любви, тогда будь она про-
клята. Простите, товарищ следователь, вы все хотите до-
пытаться, откуда у меня в кармане очутились спички...
Так вот, когда я увидел то, что происходило в комнате у
Надежды Ивановны, — не знаю, как вам рассказать: в
глазах у меня все заплясало, в глазах стало красно... И
когда я с утюгом бежал за Сашкой, за осквернителем,
и услышал, как дребезжат спички, этот красный свет
591
превратился в мысль — сжечь все, сию минуту... Ах да,
вы все про спички... Черт их знает, откуда они заве-
лись... Должно быть, на дороге поднял... Когда Утевкин
упал, рука отлетела, и в руке была коробка спичек. Я
схватил. Зачем? Зажег спичку и смотрел ему в лицо,
долго смотрел, пока не обгорели пальцы...
Следователь. Итак, вы утверждаете, что под-
няли спички на дороге с целью осветить лицо убитого
вами Утевкина, — показание весьма существенное, — и
что заранее обдуманного намерения поджечь город у
вас не было? Так?
Буженинов. Видите ли, товарищ следователь,
все это частности. Теперь я думаю, что так или иначе —
катастрофы было не избежать. Не Утевкин — так дру-
гой... Не пожар — так что-нибудь другое... Судите по
существу, судите меня, а не какие-то там случайные
поступки.
Следователь. Это вы будете говорить на суде.
Теперь я прошу рассказать, что произошло с того мо-
мента, как вы выбежали из дома, держа в руке вот этот
утюжок...
НОЧЬ С ТРЕТЬЕГО НА ЧЕТВЕРТОЕ ИЮЛЯ
Рассказ Буженинова запутан и противоречив. Бес-
помощны его попытки обосновать свое поведение. Здесь
все нелогично. Он выбегает из ворот, размахивая утюж-
ком, и уже через тридцать шагов не думает больше об
осквернителе. Он во власти нового, огромного желания.
Страсть в нем набегает волнами, покрывающими одна
другую, все плотины прорваны, — теперь все возможно.
Это начинается от мысли о спичках.
Буженинов останавливается с разбегу. Он даже
завертелся в пыли на дороге, и, насколько можно было
разглядеть при неясном освещении, широко оскалился.
Луна в это время закатывалась в конце переулка.
Желтоватый, над самой землей, свет ее падал на Сашку
Жигалева, стоявшего на перекрестке, шагах в тридцати
от дома. Тогда мысли Буженинова снова вернулись к
осквернителю, и он стал подходить к нему, но уже не
с гневом, а скорее с каким-то диким любопытством.
Сашка был очень зол и, когда увидел у Буженинова
утюжок, решил расправиться без пощады. Он первый
592
кинулся на Буженинова, свернул ему руку, вырвав и
швырнув в сторону утюжок, и так плотно въехал Ва-
силию Алексеевичу кулаком в глаз, что тот зашатался.
— Не лезь не в свою кашу, сопляк проклятый, вы-
кидыш, здесь все равно тебе не жить, — сказал Сашка
и вторым ударом сбил Буженинова с ног. После чего по-
шел по переулку не оглядываясь.
Василий Алексеевич на секунду потерял сознание от
чугунного кулака. Но сейчас же приподнялся на руках
и глядел, как в узком переулке, между двумя глянцеви-
тыми заборами, по длинным теням от репейников ухо-
дила черная Сашкина фигура, застилая луну. Подни-
мался ветер порывами, душный, как из печки, бросил
Буженинову в лицо пыль и мусор. За рекой в непрогляд-
ной тьме мигнуло белое око молнии. Сашка обернулся
и погрозил кулаком. Тогда Василий Алексеевич, при-
крыв ладонью разбитый глаз, пошел за Сашкой по на-
правлению к площади.
Это было опять-таки совершенно бессмысленно.
(Следователю он объяснил так: «Если бы у меня обе
ноги были переломаны — и тогда бы пополз за Саш-
кой».)
Ветер усилился. Зловеще, по-грозовому, в темноте
зашумели деревья. Облако пыли закутало переулок...
Сашка скрылся по направлению к площади.
Назавтра предстоял большой базарный день. Мно-
жество палаток с вечера уже было разбито вдоль город-
ского сада, где махали ветвями, грачиными гнездами,
гнулись вековые липы. Ближе к реке стояли воза с се-
ном. Пыль, сено и листья крутились над площадью.
Буженинов опять увидел Сашку на тротуаре под
освещенными окнами «Ренессанса». Несколько человек,
в том числе два милиционера, о чем-то с ним возбу-
жденно разговаривали. «Это он Утевкина убил, — до-
летел Сашкин голос, — я его сейчас видел, у него вся
рубашка в крови». Люди зашумели. Из окошек трак-
тира высовывались головы любопытных, прикрываясь
от пыли. Снова облако закрыло и людей и трактир.
Несколько секунд Буженинов стоял за углом. Быст-
ро соображал, оценивал обстановку. История с Сашкой
снова покрылась волной неистового желания. Он стучал
зубами от нетерпения. Сквозь пыль багровая молния
упала за речкой. Раскололось небо от грохота. Бужени-
нов, нагнувшись, побежал через площадь к возам с
593
сеном. В спину ему затрещали свистки. Ветер кинул
обрывки голосов. «Вот он... Лови!.. Лови!..» Пронеслось
над головой, должно быть, грачиное гнездо. «Ну и бу-
ря, гнезда летят», — мелькнуло в сознании. Он нырнул
между возами, продираясь, рвал руками сено, лез под
телегами. Присел, слушал, придерживая сердце... Спра-
ва, слева верещали свистки. Голосов было все больше...
«Здесь он... не уйдет... шарь под телегой... сюда, ребя-
та... забегай...» Должно быть, весь трактир кинулся в
погоню, рыскал, порскал, шарил между возами.
Тогда Буженинов чиркнул спичку и сунул в сено.
Загорелось несколько невинных стебельков и сухой ли-
сточек. Буженинов коротко вздохнул, протиснулся не-
сколько дальше и справа и слева от себя поджег сено.
Подполз под телегами до наветренной стороны, где кон-
чались воза, и там сунул в сено последний пучок спичек.
Между возами повалил белый дым. Буженинов от-
бежал, обернулся. Вырвалось пламя. Завыли голоса
преследующих. В трех местах сразу поднялись огнен-
ные шапки. Ветер примял их, разнес, и огромным стол-
бом красного огня занялись десятки возов. Огонь бро-
сался в тьму бешено летящего ветра и развеивался.
Искры, пучки горящего сена полетели над городом.
Забил набат. Осветились размахивающие вершинами
деревья и туча грачей над ними.
Буженинов стоял на скамейке, на бульваре над об-
рывом, и глядел на то, что сделал. По городу уже в
нескольких местах выбросилось пламя. Деревянные
крыши, заборы, одинокие деревья, скворечни выступали
все яснее из темноты, заливались диким светом. По всей
торговой площади плясало пламя. Как живые, шевели-
лись, пылая, лотки и палатки, свертывались, падали.
Сквозь крышу «Ренессанса» просвечивали раскален-
ными угольями стропила. Густой дым валил от пожар-
ной каланчи.
По бульвару бежали женщины с узлами, плачущие
дети. На Буженинова не обращали внимания. Дурным
голосом кричала женщина, плача упала на землю. Про-
бежал, подняв руки, бородатый человек в подштанни-
ках. Кого-то пронесли, положили под деревом. Все это
происходило перед глазами Василия Алексеевича будто
не настоящее, будто его фантазия, будто цветные кар-
тинки на полотне кинематографа. Несомненно, ум его
в эти минуты помутился.
594
Город пылал теперь целыми кварталами. Бульвар
опустел — здесь от жара нельзя было оставаться. Но
Буженинов стоял на скамье и глядел.
Во всех показаниях Буженинова в этом месте —
провал, пустота. Он ничего не может вспомнить, кроме
мучительного чувства какой-то боли в мозгу при виде
телеграфного столба, с висящими по обеим сторонам
проволоками, на площади среди догорающих балаганов.
Им овладевает настойчивая идея. Трудно понять,
как он мог пробраться через пылающие кварталы к
своему дому. Здесь он помнит, как влез через окно
в столовую и сорвал со стены план голубого города.
Крыша дома уже пылала.
Через выгон и старое кладбище он вернулся на буль-
вар. Это было уже под утро. Вместо базарной площа-
ди— широко кругом дымилось черное пожарище, тор-
чали обгоревшие трубы, валялись листы железа, и оди-
ноко над пеплом стоял телеграфный столб с повисшими
проволоками.
— Товарищ следователь, уверяю вас, в эту минуту
меня охватило чувство восторга и острой печали: я был
один среди пустыни. Страшное ощущение себя, личного
своего Я — этой буквы, стоящей лапками на горячих
угольках и круглым завитком — в тучах, в утренней
заре. Иногда теперь мне жутко сознавать: всегда каза-
лось, что себя утверждаешь в творчестве, в созидании...
Я же — вы видите, в чем... Или я чего-то не понимаю?..
Винта у меня какого-то нет?.. Или живу я в иное
время — неизведанное, незнакомое, дикое?.. Или прав
товарищ Хотяинцев?.. Не знаю... Но я честно вам все
рассказал... А план голубого города я должен был
утвердить на пожарище — поставить точку...
Держа полотнище в зубах, Буженинов полез на
столб, но сорвался и потерял сознание. Дальнейшее из-
вестно. Следствие по этому беспримерному делу закон-
чено.
Буженинов Василий Алексеевич предстает перед
народным судом.
Максим Горький
Из цикла
«ПО СОЮЗУ СОВЕТОВ»
।
В Баку я был дважды: в 1892 и в 1897 годах. Нефтя-
ные промысла остались в памяти моей гениально сделан-
ной картиной мрачного ада. Эта картина подавляла все
знакомые мне фантастические выдумки устрашенного
разума, все попытки проповедников терпения и кротости
ужаснуть человека жизнью с чертями, в котлах кипящей
смолы, в неугасимом пламени адовом. Я не шучу. Впе-
чатление было ошеломляющее.
За несколько дней перед тем, как я впервые очутился
в Баку, на промыслах был пожар, и над вышками, под
синим небом, еще стояла туча дыма, такая странно плот-
ная, тяжелая, как будто в воздух поднялось несколько
десятин чернозема. Когда я и товарищ мой Федор Афа-
насьев, шагая по песчаной дороге, жирно пропитанной
нефтью, подходили к Черному городу и я увидел вер-
шины вышек, воткнувшиеся в дым, мне именно так и по-
казалось: над землей образована другая земля, как бы
второй этаж той, на которой живут люди, и эта вторая
земля, расширяясь, скоро покроет небо вечной тьмой.
Нелепое представление усилилось, окрепло при виде
того, как из одной вышки бьет в тучу дыма фонтан чер-
ной грязи, точно землю стошнило и она, извергая внут-
реннее свое, расширяет дымномасляную крышу над
землей.
В стороне от дороги увязла в глубоком песке сани-
тарная повозка, измазанная черным и. красным; у нее
сломалась ось; в повозке лежал человек, одна нога —
596
босая, неестественно синяя, на другой — раздавленный и
мокрый сапог, из него на песок падали тяжелые, темные
капли; рыжеволосый возница в кожаном переднике ле-
жал на песке, связывая ось ремнем с грязной доской;
на измятой железной бочке сидел санитар, присыпая пес-
ком влажные пятна на халате. Афанасьев спросил его:
— Убитый?
— Ша гай мимо, дело не твое.
Нас обгоняли и шли встречу нам облитые нефтью ра-
бочие, блестя на солнце, точно муравьи. Обогнала ко-
ляска. запряженная парой серых, очень тощих лошадей,
в коляске полулежал, закрыв глаза, человек в белом
костюме, рядом с ним покачивался другой, остроборо-
дый, в темных очках, с кокардой на фуражке, с желтой
палкой на коленях. Коляску остановила группа рабочих,
десятка два; сняв шапки, размахивая руками, они заго-
ворили все сразу:
— Помилуйте! Как же это? Мы — не можем! Поми-
луйте!
Человек с кокардой привстал и крикнул:
— Назад! Кто вам позволил? Марш назад!
Кучер тронул лошадей, коляска покатилась, врезая
колеса в песок, точно в тесто, рабочие отскочили и по-
шли вслед за нею, молча покрывая головы, не глядя
друг на друга. Все они как будто выкупались в нефти,
даже лица их были измазаны темным жиром ее. На про-
мысел они нас не пустили, угрожая побить.
Часа два-три мы ходили, посматривая издали на хаос
грязных вышек, там что-то бухало влажным звуком,
точно камни падали в воду, в тяжелом, горячем воздухе
плавал глуховатый, шипящий звук. Человек десять по-
луголых рабочих, дергая веревку, тащили по земле тол-
стую броневую плиту, связанную железной цепью, и
угрюмо кричали:
— Аа-а! Аа-аа!
На них падали крупные капли черного дождя. Вышка
извергала толстый черный столб, вершина его, упираясь
в густой, масляный воздух, принимала форму шляпки
гриба, и хотя с этой шляпки текли ручьи, она как будто
таяла, не уменьшаясь. Странно и обидно маленькими
казались рабочие, суетившиеся среди вышек. Во всем
этом было нечто жуткое, нереальное или уже слишком
реальное, обезмысливающее. Федя Афанасьев, плюнув,
сказал:
597
— Трижды с голода подохну, а работать сюда — не
пойду!
...На промысла я попал через пять лет с одним из
сотрудников газеты «Каспий»; он обещал рассказать мне
подробно обо всем, но когда мы приехали в Сур&ханы,
познакомил меня с каким-то очень длинным человеком,
а сам исчез.
— Смотрите,— угрюмо сказал мне длинный человек
и прибавил еще более угрюмо: — Ничего интересного
здесь нет.
Весь день, с утра до ночи, я ходил по промыслу в со-
стоянии умопомрачения. Было неестественно душно,
одолевал кашель, я чувствовал себя отравленным. Плу-
тая в лесу вышек, облитых нефтью, видел между ними
масляные пруды зеленовато-черной жидкости, пруды
казались бездонными. И земля, и все на ней, и люди —
обрызганы, пропитаны темным жиром, всюду зеленова-
тые лужи напоминали о гниении, песок под ногами не
скрипел, а чмокал. И такой же чмокающий, сосущий звук
«тартанья», истекая из нутра вышек, наполняет пьяный
воздух чавкающим шумом. Скрипит буровая машина,
гремит железо под ударами молота. Всюду суетятся ра-
бочие: тюрки, русские, персы роют лопатами карьеры,
канавы во влажном песке, перетаскивают с места на
место длинные трубы, шланги, тяжелые плиты стали.
Всюду валялась масса изломанного, изогнутого железа,
извивались по земле размотанные, раздерганные прово-
лочные тросы, торчали из песка куски разбитых труб
и — железо, железо, точно ураган наломал его.
Рабочие вызывали впечатление полупьяных; раздра-
женно, бесцельно кричали друг на друга, и мне каза-
лось, что движения их неверны. Какой-то, очень толстый,
чумазый, бросился на меня и хрипло заорал:
— Что же ты, дьявол, желонку...
Но увидав, что я — не тот человек, побежал дальше,
ругаясь и оставив в памяти моей незнакомое слово —
желонка.
Среди хаоса вышек прижимались к земле наскоро
сложенные из рыжеватых и серых неотесанных камней
длинные, низенькие казармы рабочих, очень похожие на
жилища доисторических людей. Я никогда не видел так
много всякой грязи и отбросов вокруг человеческого
жилья, так много выбитых стекол в окнах и такой убо-
гой бедности в комнатках, подобных пещерам. Ни
598
Максим Горький. 1928
одного цветка на подоконниках, а вокруг ни кусочка зем-
ли, покрытой травой, ни дерева, ни кустарника. Жутко
было смотреть на полуголых детей, они месили ногами
зеленоватую, жирную слизь в лужах, группами по трое,
по пяти уныло сидели в дверях жилищ, прижавшись друг
к другу, играли на плоских крышах обломками железа,
щепками. Как все вокруг, дети тоже были испачканы
нефтью, их чумазые рожицы, мелькая повсюду, напоми-
нали мрачную сказку о детях в плену братьев-людоедов
и рассказ древнего географа Страбона о том, как Але-
сандр Македонский пробовал горючесть нефти: он при-
казал облить ею мальчика и зажечь его.
Плотники тесали бревно, поблескивая щекастыми
топорами, строилась еще одна буровая вышка, по ске-
лету ее влезал чернобородый мужик, босой, без рубахи.
Он держал в зубах конец веревки, а руками хватался за
ребра вышки и тяжело, неловко лез все выше; на земле,
в луже грязи оливкового цвета, стоял старичок со связ-
кой веревки в руках, разматывая ее,— похоже было, что
он запускает бумажного змея.
— На небо не залезь,— крикнул он чернобородому,
а тот, сверху, густо, громко и серьезно ответил:
— Не бойсь.
Эти слова тоже остались в памяти, должно быть, по-
тому, что все вокруг кипело мрачным раздражением, все
люди казались неестественно возбужденными, хотя, мо-
жет быть, это впечатление внушила мне книга,— я где-то
прочитал, что нефть обладает наркотическими свой-
ствами.
На одном участке, в стороне от наиболее тесной
группы вышек, сотни две людей работали особенно бе-
шено, командовал ими широкоплечий детина в белом
халате, в тюбетейке, обрызганный нефдъю, точно маляр
краской. Размахивая длинными руками и ни на минуту
не закрывая волосатый рот, он истерически орал матер-
щину, сопровождая ею каждое слово, руками толкая
рабочих в спину, в шею, раздавал пинки ногами,
одного схватил за плечо и бросил на землю, точно
кошку.
— Нагибай! — взвизгивал он и ругался трехэтаж-
но. — Клади! — и снова ругался. — Двигай!
Не видно было, что делает воющий клубок людей,
мне казалось, что большинство их ничего не делает, под-
прыгивая, толкая друг друга, заглядывая через плечи
600
стоявших впереди в центре толпы, где «нагибали», «дви-
гали» что-то и тоже ругались. Казалось, что все эти
люди испуганы возможностью катастрофы и бьются над
тем, чтоб предупредить ее. А издали картина промысла
и работы на нем создавала странное впечатление: на де-
ревянный город напали враги, племя черных людей, и
разрушают, грабят его. Я ушел в поле очумевшим, ис-
пытывая анархическое желание поджечь эти деревянные
пирамиды, пропитанные черным жиром земли, поджечь,
чтоб сгорели не только пруды темно-оливковой масля-
ной грязи в карьерах, но воспламенился весь жир в нед-
рах земли и взорвал, уничтожил Сураханы, Балаханы,
Романы, всю эту грязную сковороду, на которой кипели,
поджаривались тысячи измученных рабочих людей.
Утром, стоя на корме шхуны, я с таким же чувством
ненависти смотрел на город, гораздо более похожий на
развалины города, на снимки разрушенной, мертвой Пом-
пеи,— на город, где среди серых груд камня возвыша-
лась черная, необыкновенной формы, башня древней кре-
пости, но где не видно было ни одного пятна зелени, ни
одного дерева, а песок немощеных улиц, политый неф-
тью, приобрел цвет железной ржавчины. В этом городе
не было воды,— для богатых ее привозили за сто верст
в цистернах, бедняки пили опресненную воду моря. Дул
сильнейший ветер, яркое солнце освещало этот необык-
новенно унылый город, пыль кружилась над ним. Каза-
лось, что нагромождение домов с плоскими крышами
высушено солнцем и рассыпается в прах. Маленькие фй-
гурки людей на берегу, становясь все меньше, сохнут,
сгорают и тоже скоро обратятся в пыль.
На промысла Азнефти я поехал рано утром, прямо
с вокзала, вместе с товарищем Румянцевым, помощни-
ком заведующего промыслами. Он — один из тех рабо-
чих, которые воспитывались подпольем, затем — на
фронтах, в битвах с белыми, работали в тылу врагов и
побывали в «гуманных» руках защитников «культуры и
свободы». Эти гуманные руки, обвязав череп товарища
Румянцева пеньковой веревкой, закручивали ее ключом
так, что лопнул черепной шов. Сколько слышал я таких
рассказов о пытках! Сотни...
Едем не быстро. Товарищ Румянцев эпически спокой-
ным тоном повествует о прошлом5
21 Зак. № 426
601
— В Ельце Мамонтов приказал собрать наиболее
красивых девиц города; сначала их изнасиловали офи-
цера, потом отдали казакам, а казаки, использовав де-
виц, привязали их за косы к хвостам коней и, стащив
в реку Сосну, утопили.
В Кизляре белые, выкинув из окон второго этажа
тяжело раненных краноармейцев, заставили легко ра-
ненных, раздев их догола, отвозить убитых товарищей
за город, в овраг. А — была зима. Оставшихся в живых
перебили.
Рассказы звучат так просто и спокойно, точно все это
было не десять лет тому назад, а — сто. Слушая, я вспо-
минаю рассказ другого товарища,— рчень мудрый рас-
сказ:
— К белым я попадал трижды. Май-Маевский рас-
порядился повесить меня — не вышло, убежал я, хотя
был здорово избит. У генерала Покровского тоже побы-
вал— вот это зверь! Тут меня так избили, что сочли
мертвым, так и спасся. Под Самарой провалился, тоже
здорово попало, тогда я ушел к своим с конвоем — слав-
ные ребята! Четверо.
Вздохнув, он сказал:
— Зверье — люди! Конечно, если и наши ребята раз-
вернутся, так уж... держись за свою шкуру крепче!
Но мы все-таки люди классовой ненависти, а личная
у нас...
Он подумал и нашел слово:
— Не живуча. Потому — нам не за что мстить, ну
а мы у них «горшки перебили», как сказал Ильич, так
они за это мстят, за горшки. Нам вот случается работать
под началом бывших врагов, а — ничего!
Он снова помолчал и, улыбаясь, толкнул меня
локтем.
— Вы, товарищ, хотя и не рабочий, а правильно по-
нимаете, что такое труд,— это к чести вашей. Замеча-
тельно объединяет людей работа — честных, конечно, ве-
рующих в наше дело и в победу. Я говорю про работу
на будущее, на наше государство. Она захватывает и
большую силу придает. Главное — объединяет изнутри,
вот что...
Он вдруг оживился и очень связно, с хорошей усмеш-
кой, рассказал:
— Я работаю с личным врагом, он меня в девятна-
дцатом году ручкой револьвера по голове колотил, на его
602
глазах с меня шомполами кожу драли. А теперь он—*
мое начальство, работаем мы с ним, как два коня в од-
ной упряжи, и — друзья! Даже не верится, что врагами
были, да и вспоминать об этом неловко. Мне — за него
тяжело, а ему — предо мной. Ну, все же иной раз вспо-
минаем,— для молодежи поучительно. Крепко он при-
снастился к нам. Умник, образованный, а главное—энер-
гии у него, черта, — на хороший десяток людей. Атоже
и рублен, и строган, и пулей сверлен. Замечательный
парень.
Выслушав этот необыкновенный рассказ, я подумал!
«Вот прекрасная тема для молодых писателей: труд «н^
будущее», уничтожающий личную ненависть коренных
врагов,— труд, который объединяет их в процессе соз-
дания новой культуры».
Едем уже по территории промыслов. Я оглядываюсь
и, разумеется, ничего не узнаю,— сильно разрослись про-
мысла, изумительно широко! Но еще более изумляет ти-
шина вокруг. Там, где я ожидал снова увидеть сотни вы-
пачканных нефтью, ненормально возбужденных людей,—
люди встречаются редко, и это, чаще всего, строительные
рабочие—каменщики, плотники, слесаря. Там и тут они
возводят здания, похожие на бастионы крепостей, ставят
железные колонны, строят леса, месят цемент. По нео-
бозримой площади промыслов ползают, позвякивая сце-
плениями, железные тяжи; вышек стало значительно
меньше, но повсюду качаются неуклюжие «богомолки»,
почти бесшумно высасывая нефть из глубин земли. В де-
ревянном сарайчике кружится на плоскости групповой
привод, протягивая во все стороны, точно паук, длинные,
железные лапы. У двери сарая лежит на скамье и дрем-
лет смазчик, старенький тюрк в синей куртке и таких же
шароварах. Рабочих, облитых черным жиром, не видно
нигде. И нет нигде доисторического вида — этих призе-
мистых, грязных казарм, с выбитыми стеклами в окнах,
нет полуголых детей, сердитых женщин, не слышно исте-
рических криков и воя начальства, только лязгает, по-
скрипывает . железо тяжей и кланяются земле «бого-
молки». Эта работа без людей сразу создает настроение
уверенности, что в близком будущем люди научатся ра-
ционализировать свой труд во всех областях.
И совершенно ясно, что Румянцев, да и все тут, ста-
раются скрыть свою законную гордость достигнутыми
успехами, что все искренно заинтересованы независимо-
603
стью впечатлений гостя и ничего не хотят подсказывать
ему. Они не забывают сказать: '
— Это было до нас. Это тоже было, здесь мы только
увеличили количество котлов. Это — старый завод, тут
нами поставлены новые холодильники.
Возможно, что не холодильники, а что-то другое.
Я никогда не записываю того, что слышу и вижу, наде-
ясь на мою зрительную память и вообще на умение
помнить.
Чем больше ходил я по промыслам, тем более удив-
ляло меня незначительное, в сравнении с прошлым, ко-
личество рабочих на этой огромной площади, где железо,
камень и бетон вытеснили деревянные вышки. Куда ни
взглянешь — всюду цистерны, железные колонны, свя-
занные дугообразными трубами, всюду растут каменные
стены. И нигде нет этой нервной, бешеной суеты, кото-
рую я, ожидал увидеть, нет пропитанных нефтью людей,
замученных и крикливых, нет скоплений железного лома.
Создается впечатление строительства монументального,
спокойной и уверенной работы надолго; сказать: «на
века» — уже нельзя в наше время фантастически бы-
строго роста промышленной техники.
Под открытым небом свирепо гудит ряд котлов, на-
гревая железную коробку объема двух или трех вагонов,
коробка опоясана трубами и над нею — гребень изогну-
тых труб.
— В коробке греется нефть,— объясняют мне.—
С другой стороны вы увидите, что мы получаем из этого.
С другой стороны я вижу масляные цветные ручьи от
золотисто-рыжего до почти бесцветного.
За истечением этих ручьев наблюдает один человек,
такой спокойный, домашний, в халате, точно доктор. За
котлами следили трое рабочих. Странный завод.
На языке моем вертелся вопрос, давно и глубоко вол-
новавший меня: «Чувствует ли себя рабочий — и в какой
мере чувствует — хозяином?»
Не веря моим впечатлениям, вопрос этот я ставил и
перед рабочими и пред людьми, которые идут во главе
рабочей массы, идут в ногу с нею, в хвосте ее. Соответ-
ственно физической позиции каждого ответы получались
утвердительные, неопределенные, отрицательные, и в ка-
ждом из них, разумеется, была своя субъективная прав-
да. Но я знаю, что среди нас мало мастеров, которые
не верили бы, что они работают хорошо; не очень много
604
людей, которые, делая свое небольшое дело, ясно со-
знают значение своей работы в общем потоке труда,
обновляющего жизнь, и, наконец^ немало людей, утом-
ленных работой, сделанной ими, немало разочарован-
ных. Последние как будто ожидали, что тотчас, вслед за
понедельником, снова наступит воскресенье, а пять тру-
довых дней уже навсегда вычеркнуты из жизни. Так что
разнообразные ответы на мой вопрос ничего не приба-
вили к моим личным впечатлениям до Баку и ничего не
отняли у них. Естественно, что я хотел поставить этот
вопрос, но не успел, не нашел времени сделать это' и
дождался, что мне ответил случай, ответил, на мой
взгляд, очень объективно.
Когда мы осматривали новый масляный завод, тяже-
лый, горячий воздух над нами вдруг негромко, но глу-
боко вздохнул, в нем как бы лопнуло что-то, и чрез
дорогу от завода над группой труб, железных колонн,
цистерн взлетело курчавое, черно-серое облако.
— Эх, бензин, — вскричал кто-то сзади меня.
Через минуту мы, человек пять, стояли в двух десят-
ках шагов от картины, которую я никогда не забуду:
в тупике, между каменной стеной, железной колонной,
отбензинивающей трубчатки, и белой цистерной, прини-
мавшей бензин, бушевал поток странно белого, почти
бесцветного огня, а в огонь совались, наклоняясь над
ним, накрывая его чем-то, рабочие, человек пятнадцать,
тюрки и русские; седобородый тюрк командовал:
— Давай кошма, давай! Скор-ро!
Я никогда не видел, чтоб огонь гасили так яростно,
с такой бесстрашной дерзостью, с таким пренебрежёнием
к боли ожогов, — в этой дружной, ловкой работе было
что-то непонятное мне. Поток огня стремился к цистерне,
а в ней, — как мне потом сказали, — было несколько
тысяч пудов бензина.
Рабочие гасили огонь так, как будто это была хо-
рошо знакомая, привычная работа. Не заметно было
испуга на озабоченных лицах, не было и бестолковой
суеты, обычной на пожарах. Синеволосый тюрк смачи-
вал кошмы в рыжей воде канавы, их выхватывали
у него ловкие, сильные руки, кошма быстро подвигалась
в сторону огня и покрывала его.
— Довольно кошем, хватит, — крикнул кто-то, хотя
огонь не иссякал, тогда тюрк сам подбежал к огню и
накрыл его кошмой, точно птицу сетью.
605
— Знаим, знаим,— покрикивал он, прижимая кошму
ногами, а из-под нее его хватали за ноги языки белого
пламени. Кто-то из рабочих говорил:
— Переломилась, упала... перебила отводящую труб-
ку, дала искру...
Ворвался автомобиль, огромная красная бочка, и
тотчас из брандспойта, развернутого с поразительной
быстротой, в огонь потекла рыжая пена. Щеголевато
одетые, медноголовые люди пожарной команды дело-
вито закричали:
— Отходи прочь, не мешай, ребята!
Я наблюдал внимательно. На своем веку много ви-
дел я пожаров, и всегда они вызывали бестолковую,
бессмысленную суету. Повторяю, что быстрота, с кото-
рой рабочие бросились на огонь, ловкость, с которой
они тушили его, и то, что они делали это без лишнего
шума и крика, не мешая друг другу, с какой-то немец-
кой выдержкой, — все это было ново для меня и очень
удивительно. Огонь тоже был бесшумен, он шипел лишь
тогда, когда встречался с рыжей пеной лакричного
корня, когда она душила его густотой ее кружева. С ог-
нем покончили в 12 минут.
...Мы — на Биби-Эйбате, где люди отнимают у моря
часть его площади для того, чтобы освободить из-под
воды нефтеносную землю. Каменная плотина отрезала
у Каспия большой кусок, образовался тихийг пруд, среди
него дерзко возвышаются клетки буровых вышек,
в клетках возится, поскрипывает железо, просверливая
морское дно, мощные насосы выкачивают мутно-зелено-
ватую воду пруда в море, взволнованное дерзостью лю-
дей. В него непрерывно льются две сердито кипящие
струи, каждая толщиною в десятивершковое бревно. Под
шум этих не очень «поэтических» струй мне рассказы-
вают нечто легендарное об инженере, кажется, Потоц-
ком, который совершенно ослеп, но так хорошо знает
Биби-Эйбат, что безошибочно указывает по карте места
работ и точки, откуда следует начать новые работы.
Стучит мотор, покрикивают рабочие, шипит вода.
Вдали, за бухтой, на серой горе, тоже стоят новенькие
буровые, от одной из них к морю, вниз, тянется черная
бархатная полоса ценнейшего жира земли.
Фантастики я видел уже немало на Днепрострое,
в Москве, здесь, — как всюду, — ее воплощают в железо,
она превращается в мощную реальность, говорит о ве-
606
личии разума и о том, что недалеко время, когда рабо-
чий класс Европы тоже почувствует себя единственным
законным владельцем всех сокровищ земли и начнет
вот так же работать на себя, как начали эту работу
в Союзе Советов...
В огромном складе . различных материалов увидал
человека, который шел прихрамывая, опираясь на
палку.
— Кто это? — спросил я.
— Наш инженер. Хороший парень. У него нога бо-
лит, ему лежать надо, а он...
Эта заботливость о здоровье ценного работника на-
помнила мне Владимира Ильича. Его образ часто встает
в памяти на богатой этой земле, где рабочий класс тру-
дится, утверждая свое могущество. О нем говорят и
спрашивают так, как будто он был здесь и еще придет.
Из Тыринской сопки на Джульфа-Бакинской железной
дороге хотят сделать голову В. Ленина, «основателя
государства». Особенно часто думалось о нем в рабочих
поселках Азнефти. Если б он видел это, какую радость
испытал бы он... Вспомнилось, как я пришел к нему
через несколько дней после разгрома Юденича, а он,
крепко стиснув руку мою, весело блестя глазами,
смеялся:
— Вздули рабочие генерала? А я, признаться, ду-
мал: не сладим!
Здесь он увидал бы, что рабочие «сладили» с делом
гораздо более трудным и сложным, чем генеральский
набег на столицу рабочих-металлистов.
...Из всех опытов строительства жилищ для рабочих
в Союзе Советов наиболее удачным мне кажется опыт
Азнефти. Бакинские поселки рабочих построены пре-
красно. Их, вероятно, уже не одна сотня: только в по-
селке имени Разина я насчитал свыше пятидесяти, не
менее того — в Сурахаиах, Балахаиах, Романах. «Эти
маленькие города построены умными людьми» — вот что
прежде всего думаешь о них. Издали поселок Разина
похож на военный лагерь: одноэтажные домики на се-
рой земле, точно палатки солдат, но, когда побываешь
в поселке, убеждаешься, что каждый дом — «молодец
на свой образец», а все вместе они — начало оригиналь-
ного и красивого города. Почти каждый дом имеет
свою архитектурную физиономию, и это разнообразие
типов делает поселки удивительно веселыми. Каждый
607
дом имеет террасу, выходящую в палисадник, где уже
посажены деревья, цветут цветы. Широкие бетонирован-
ные улицы, водопровод, канализация, площадки для игр
детей — сделано все для того, чтобы поставить рабочих
в культурные условия. В светлых, уютных комнатах га-
зовые печи, экономно отапливающие и плиту кухни. Все
очень умело и очень умно. На промыслах сохранены
две-три старые казармы для того, чтоб дети видели,
в каких грязных пещерах держали их отцов хозяева-
капиталйсты. Дома поселков построены одноэтажными,
очевидно, для того, чтоб люди наименьше страдали от
свирепых ветров, которыми издревле славится район
Баку. В каждом поселке семьи тюрков живут обок
с русскими семьями, дети воспитываются вместе, и это
возбуждает надежду, что через два десятка лет не будет
ни тюрков, ни русских, а только люди, крепко объеди-
ненные идеей всемирного братства рабочих.
Да, что бы ни говорили враги Союза Советов, а его
рабочий класс смело начал и хорошо продолжает «необ-
ходимейшее дело нашего века», как назвал Ромэн
Роллан идею В. И. Ленина, воплощаемую в жизнь его
учениками. Баку—неоспоримое и великолепное доказа-
тельство успешности процесса строения государства ра-
бочих, создания новой культуры, — таково мое впечатле-
ние. Недели через две в Сормове это отлично формули-
ровал один из старых рабочих, — очевидно, хороший
ученик Ильича:
— На производстве наш брат обязан показать себя
во всей своей силе хозяином разумнее буржуя, талант-
ливее. Покажем это — значит: дело сделано.
В 1892 году в Тифлисе, у В. В. Флеровского-Берви,
автора книги «Положение рабочего класса в России»,
первой у нас книги по рабочему вопросу, автора ори-
гинального опыта истории общечеловеческой культуры,
озаглавленного «Азбука социальных наук», автора еще
многих книг, а также рассказов «Философия Стеши»,
«Галахов», — у человека, который подавлял нас, моло-
дежь, обширностью своих знаний и резкой нетерпимо-
стью к чужим мнениям, — так вот у этого замечатель-
ного человека я был свидетелем такой сцены: тюрк-
публицйст, фамилию которого я забыл, рассказывал
нам, молодежи, интересно и красиво историю города
608-
Баку. «Бакуиэ», — называл он его и, помню, объяснял:
«Бад» — по-персидски —город, «ку» — ветер, Баку —
город ветров.
Флеровский не любил, когда при нем слушали не его,
а кого-то другого. И он, автор своеобразной истории
прошлого, ворчливо сказал тюрку:
— Все это — басни! Надо учиться и учить забывать
прошлое.
— Я не могу забыть того, что вы сейчас сказали,
а это уже прошлое, — вежливо ответил ему тюрк и спро-
сил:— Как я узнаю себя сегодня, забыв о том, чем был
вчера и кто был мой отец?
Они заспорили. Флеровский, как всегда, нетерпимо,
грубовато; противник отвечал ему отлично закруглен-
ными фразами и как будто читая стихи. Эта сцена,
а особенно слова тюрка, очень хорошо памятна, я точно
вчера видел и слышал ее.
Может быть, молодым читателям не нравится, что
я так часто возвращаюсь к прошлому? Но я делаю это
сознательно. Мне кажется, что молодежь недостаточно
хорошо знает прошлое, неясно представляет себе мучи-
тельную и героическую жизнь своих отцов, не знает тех
условий, в которых работали отцы до дней, когда их
организованная воля опрокинула и разрушила старый
строй.
Я знаю, что память моя перегружена «старьем», но
не могу забыть ничего и не считаю нужным забывать.
Совершенно ясно вижу перед собой ужасающую грязь
промыслов, зеленовато-черные лужи нефти, тысячи ра-
бочих, обрызганных и отравленных ею, грязных детей
на крышах казарм; согнутых под тяжестью груза, «в
три погибели», персов-«амбалов», грузчиков на набе-
режной Баку; нищих на улицах города и ребятишек, ко-
торые, разинув рты, провожают взглядами восхищения
богатые экипажи, на редкость красивых людей, мужчин
и женщин, одетых в белое; расплывшись на сиденьях
колясок, они едут куда-то против ветра, закрыв или при-
щурив глаза. Был «царский день», на всех домах глав-
ной улицы трепались флаги,-хлопая, точно плети пасту-
хов, где-то гудела и гремела военная музыка. Ветер
изумительной силы прижимал пешеходов к стенам до-
мов, заставлял их бежать в ту сторону, куда он дует,
идущих навстречу ему останавливал, сгибал пополам,
под его ударами гривы лошадей вставали дыбом, а у
609
тех, которые пытались обогнать его, ветер зачесывал
гривы вперед, и это делало морды животных чудовищ-
ными. На скрещеньях улиц покачивались монументаль-
ные фигуры полицейских в белых перчатках, помогая
ветру разгонять воробьиные стаи оборванных, полуго-
лых мальчишек. Свиреп и непримирим был ветер, и так
же непримиримо было все вокруг: богатые здания набе-
режной и полуразрушенные дома в кривых, узких ули-
цах тюркской части города; множество нищих в лох-
мотьях и тяжелые люди, плотно зашитые в дорогие
ткани; женщины без лиц, с головы до ног окутанные
в темное, и женщины в ярких костюмах или в белом,
большие и сытые, как лошади. И бесчисленные стаи
чумазых, худосочных детей с воспаленными глазами.
Трудно узнать Баку, мало осталось в нем от хаотиче-
ской массы унылых домов «татарской» части, которая
была так похожа на кучу развалин после землетрясе-
ния. Проложены новые широкие улицы, выросли де-
ревья, и зелень их оживила серый камень зданий; ве-
село разрослись насаждения Приморского бульвара,
шумно катаются вагоны трамвая, некоторые из них
ярко, в восточном вкусе, расписаны цветами. Нет на
улицах мрачных фигур женщин, завязанных с головами
в темные мешки, нет нищих, и нигде не видишь позор-
ной непримиримости, бесстыдной роскоши и грязной
нищеты. Всюду много здоровых, веселых детей, и я не
мог различить, кто из них тюрк, кто русский. Даже
древняя черная башня Кыз-Каляски кажется помолодев-
шей и не давит город, как давила раньше, а украшает
его своей оригинальной формой й затейливой кладкой,
отшлифованной до блеска ветрами и масляной копотью
промыслов. Каждый вечер на эстраде какого-то общест-
венного здания играет отличный симфонический оркестр,
на Приморском бульваре тоже музыка, и часто слы-
шишь прекрасные песни тюрков. Культурной работой
в Баку ревностно и увлеченно руководит человек
необыкновенной энергии, кажется, уже заработавший
себе туберкулез. Горят люди и, сгорая все ярче, разжи-
гают путеводные огни к новой жизни.
Ночью я смотрел на Баку с горы, где предположено
устроить ботанический сад, и был поражен изумитель-
ным обилием и красотой огней в городе, на Биби-Эй-
бате, где идут ночные работы, на промыслах. До этой
ночи я не представлял себе картины более красивой,
610
•ЙИИ^ВЙ^^^Ж
Й|Ж^ЙЙЖ^ЖЖ^:Ж^:
£ W$ ЖК|ЖИ^
<>?ШЖ
&Ж . ^шй:.
<з& ЙЖЖ
к
;й<:«<:ЙУЙЙЛ^> ': :
::
g|$£. |Ой?ЖНв^И
;: .....................
:Й^ЙЙЙ^Йв^Ж^ЖЯЙЖЖ®^^
Максим Горький. «По Союзу Советов». Страница
журнала «Наши достижения». (1921 г., № 1).
чем Неаполь ночью с горы Вомеро, — богатейшая рос-
сыпь отраженных водами залива крупных самоцветов,
густо рассеянных по древнему городу, по его порту. Но
Баку освещено богаче, более густо, и так же, как
в Неаполитанском заливе, в черном зеркале Каспия от-
ражаются тысячи береговых огней.
Дважды я был потрясен до глубины души зрелищем
энтузиазма людей, разбуженных к новой жизни, зре-
лищем их пламенного восторга: первый раз — на мо-
сковских батрацких курсах, где сто сорок батраков,
кончив общеобразовательные курсы и разъезжаясь по
деревням, пропели «Интернационал» с такой изумитель-
ной силой, какой я не чувствовал никогда еще, хотя и
слышал, как «Интернационал» пели тысячи, — пре-
красно пели, но это было пение верующих давно и
крепко, а сто сорок батраков спели символ веры борцов,
как люди, только что и всем сердцем принявшие новую
веру, и поразительной мощью-звучал гимн ста сорока
сердец, впервые объединенных в одно.
Но еще более, неизмеримо более глубокое впечатле-
ние пережил я на культурном празднике тюрков
в Баку.
Смотрел я на этих людей, слушал их речи и не ве-
рил, что не так давно русские чиновники, пытаясь укре-
пить власть царя, могли вызвать кровавую вражду
тюрков и армян. Не верилось, что я, в свое время, писал
об этом преступлении самодержавия, которое, провоци-
руя вражду племен, не брезговало гнусной работой
подстрекателя к массовым убийствам. И вот вижу:
повеял ветер той свободы, которую могут создать только
люди труда, и кошмар прошлого рассеялся, как будто
его не было; теперь нередко в тюркских школах препо-
дают армянки, крестьяне Азербайджана пасут свой скот
на склонах красивых гор Армении, и трудовой народ
Союза Советов организуется в единую, творческую
силу.
На многолюдном собрании рабкоров и начинающих
писателей... Как всюду на таких собраниях, и в Баку
я убеждался в широте и разнообразии интересов моло-
дежи, в силе ее пытливости, в жажде знания. Когда
я прочитал поданную мне записку с вопросом: «Должен
ли писатель знать всю историю человечества пли только
своего народа?» — многие в толпе усмехнулись, а крас-
ноармеец, кажется тюрк, громко сказал:
612
— Пустой вопрос. Писатель обязан знать все.
Из наиболее характерных записок я сохранил десят-
ка два, они спрашивают: «Как вы смотрите на наши
газеты, многим из нас они кажутся тяжелыми, непонят-
ными?», «Правда ли, что газеты портят язык?», «Почему
так мало печатается популярно-научных книг?», «Был
ли Ломоносов действительно великим ученым и в какой
из наук?», «Верно ли, что экономист и философ Богда-
нов— доктор и лечил переливанием крови?», «Почему
у нас нет книг по истории европейской литературы, все
старые?», «Переведен ли по-русски Рабле?», «В чьих
руках наробраз Италии?», «Почему вам нравится
Анатоль Франс?».
Но, разумеется, есть и такие наивные вопросы: «Кто
первый начал утверждать, что есть бог?», «Знал ли поэт
Кольцов грамматику?», «Правда ли, что наши эмигранты
признают дуэль?», «Правда ли, что царь Николай Пер-
вый сын солдата?», «Можно ли чему-нибудь научиться
по словарю Брокгауз и Эфон?». Таких курьезных во-
просов— немало. Записки летят на стол, как ночные
бабочки — на огонь.
Уехал я из Баку под впечатлением пожара на про-
мысле, под впечатлением спокойной и успешной борьбы
рабочих против стихийной силы, уехал с отрадным со-
знанием, что я видел настоящий город рабочих, где
они — хозяева, как это и должно быть во всех городах,
на всей земле Союза Советов, во всем мире.
По дороге в «Тифлис многобалконный» почти все
станции отстроены заново, а на месте старых зданий —
груды взорванного, раздробленного камня. Эта упрямая
последовательность работы разрушения заставляет во-
образить чудовище —огромного буйвола, который ослеп,
содрогаясь от ужаса тьмы, идет прямо и, встречая по
пути своему вокзалы, водопроводные башни, разрушает
их, подбрасывая вверх, расковыривая рогами, растапты-
вая копытами.
Тифлис мало изменился с той поры, как я был в нем,
но окраины его — Навтлуг, Дидубэ — сильно разрослись.
Просторнее, чище стало на Авлабаре, который в мое
время именовался «азиатской» частью города. Расширен
и превосходно обстроен знаменитый сад Муштаид. Рас-
ширяют музей Кавказа, увеличивая его втрое. Я видел
613
только отдел зоологии и должен сказать, что его орга-
низуют образцово по наглядности, по красоте. Залы
разделены огромными стеклами, задние стены каждого
отделения расписаны пейзажами неплохим художником,
на фоне пейзажа умело размещены флора и фауна, и
все вместе дает вполне точную картину условий, в кото-
рых живет разнообразное и обильное кавказское зверье.
В музее — чучело того тигра, который года три или че-
тыре тому назад пришел откуда-то на Кавказ, вызвал
немало страха и был убит, кажется, где-то под Тифли-
сом. Зверь весьма крупный, у него такие солидные лапы
и клыки, но в стеклянных глазах есть что-то недоуме-
вающее и даже смешное, как будто он, в минуту смерти,
подумал: «Вот влопался!»
Как везде в Союзе Советов, в Тифлисе много строят.
Оживленно шумит милый грузинский народ-романтик,
влюбленный в красоту своей страны, в ее солнечное
вино и чудесные песни. Очень заметно — и странно —
что женщин на общественных собраниях маловато.
В Музее революции меня удивило отсутствие мате-
риалов по участию грузин в народническом и народо-
вольческом движении, по участию грузинских дружин в
персидской революции, а также материалов о жизни
грузин в сибирской ссылке. Во Мцхете, в грандиозном
соборе, построенном в IV веке, исчезла стенопись в ал-
таре, могучие, в два человеческих роста, фигуры двена-
дцати апостолов; в алтаре мне сказали, что эту древней-
шую и величавую живопись замазали известью попы.
Замазаны и наивные фрески, которые изображали исто-
рию римского воина-грузина, который при дележе одежд
Христа получил часть их, пошел домой, в свою Иберию,
и все мертвое, к чему прикасалась одежда Христа, ожи-
вало. В. М. Васнецов в 1903 году до слез восторга лю-
бовался живописью алтаря и этими фресками. Но для
восторгов художника наша действительность дает много
нового материала, а старину следует охранять от разру-
шения для того, чтобы дети видели: в цепях каких
суеверий, под гнетом какого варварства жили их
отцы.
Очень красиво построена мощная силовая станция
Загэс с ее монументом В. И. Ленину на скале среди
Куры. Впервые человек в пиджаке, отлитый из бронзы,
действительно монументален и заставляет забыть
о классической традиции скульптуры. Художник очень
614
удачно, на мой взгляд, воспроизвел знакомый властный
жест руки Ильича, —жест, которым он, Ленин, указы-
вает на бешеную силу течения Куры.
В Коджорах, на дачах тифлисских богачей — лагеря
пионеров, дома отдыха, детские дома. Детей там,
вероятно, более тысячи. Коджоры цвели и сверкали зна-
менами, медью оркестров. Там был, кажется, съезд учи-
тельниц, и часа три мы слушали великолепное исполне-
ние ими народных песен Грузии. Особенно мастерски
пели две девицы, одна — блондинка с огромными весе-
лыми глазами и прекрасным, неистощимым голосом, че-
ловек исключительно талантливый, так же как ее по-
друга, тоже искусная и неутомимая певица. Трогательно
было задушевное гостеприимство учительниц, их про-
стота и милая гордость волнующей красотой песен
своего народа. Группы дёвушек и детей в саду, на при-
горке, под ветвями старых деревьев, в сети солнечных
лент напомнили мне лирическую красоту персидских
миниатюр.
После этого — интереснейшая беседа с рабкорами в
каком-то саду; здесь, в Тифлисе, беседа приняла харак-
тер горячего спора по вопросу о «самокритике». Убеж-
денным сторонником беспощадного обличения ошибок
власти, недостатков ее аппарата выступил рабкор—•
кажется, железнодорожник, человек средних лет, с ли-
цом вояки, смелой речью, — человек, который хорошо
видит сложную путаницу старого и нового. Он, должно
быть, много претерпел на своем веку, немало подумал
и знает людей — это чувствовалось в каждом его слове.
Он говорил:
— Надо, главное, чтобы молодежь все видела, все
знала, видела бы, что мы друг с другом не миндальни-
чаем, не гуманничаем.
Ему возразили из толпы:
— Ты меня сначала научи, как мне себя держать,
а когда научишь, то^да и ругай.
— Вас — десять лет учат, а — какой вы пример мо-
лодежи? Как живете?
Он произнес небольшую, очень горячую речь о раз-
личных уродствах быта.
— Где тут новое-то, где? — обличительно покрики-
вал он.
615
В мою очередь, я, между.прочим, сказал:
— Подумайте, сколько ума, сколько энергии мы тра-
тим на то, чтоб рассказать и доказать людям, как они
плохи, и представьте, что вся эта энергия тратится па
то, чтобы объяснить людям, чем они хороши.
— Как? — спросил он. — Нуте-ка, повторите про
энергию!
И, когда я повторил, он, тряхнув головой, усмехаясь,
заговорил:
— Это, конечно, верно, дурное мы друг в друге
охоче подмечаем, даже и с радостью. Это, конечно, глу-
пость! Однако, товарищ, и это вопроса не решает: на
,чем полезнее учиться — па плохом или на хорошем?
^Письма ваши рабкорам читал я, ну, неубедительно все-
таки, уж как хотите! Нет, мы должны без пощады...
А за спиной у меня кто-то вполголоса торопливо и
оживленно рассказывал:
— Ругал он ее, ругал, а она все молчит и вдруг
спрашивает: «Неужто за четыре года жизни ничего- хо-
рошего не нашел ты во мне и ничего доброго не видел
от меня?» Так он мне потом говорит: «Прямо с ног
сбила она меня этими словами, черт! Замолчал я, а по-
том и смешно и даже совестно стало...»
Из толпы кричат:
— Вы, товарищ Горький, напишите нам книгу о хо-
рошем и плохом...
Природа не наградила меня способностями оратора,
и каждый раз, читая стенограммы публичных моих ре-
чей, я со стыдом убеждаюсь в их бессвязности. А вот
такие беседы, когда каждый спрашивает о чем хочет и
говорит мне все, что ему угодно, — эти беседы — дело
новое для меня, — много дали мне, многому научили.
Огромное и глубокое наслаждение — наблюдать за иг-
рою сотен разнообразных лиц, сотен пар разноречивых
глаз, следить, как вспыхивает в них сочувствие или
недоверие, дружеская улыбка или блеск насмешки,
а иногда разгорается и огонек вражды. Большая ра-
дость воочию убедиться в том, что люди заново живут,
по-новому начинают думать и чувствовать. Убеждаешь-
ся в этом каждый раз, когда от живого искреннего
слова вспыхивает яркий интерес и дает тебе знать, что
ты нужен, полезен. Много нового накопилось в людях,
но нет еще у них времени воплотить свои чувства и мы-
сли в свои слова с достаточной ясностью и точностью.
616
Из беседы в великолепном доме грузинских литера-
торов по вопросу об издании журнала «Наши достиже-
ния» и альманахов, посвященных национальным литера-
турам, я не вынес определенного впечатления. Ярким
моментом ее была опасливая речь одного из молодых
писателей, он ее начал словами: «Горький хочет переве-
сти пас на смертельный ток».
Я хочу думать, что этот отзвук недоверия, а может
быть, и вражды, всемерно и вполне объясняется гру-
бейшим давлением старой, царской власти на культуру
«нацменьшинств». Но все же странно было слышать за-
поздалое эхо старины в те дни, когда так свободно и
быстро развиваются национальные культуры даже ма-
леньких поволжских племен, которые лишь несколько
лет тому назад получили письменность, а сегодня уже
издают газеты и книги на своих родных языках, орга-
низуют нацмузеи, консерватории. Вот предо мной сбор-
ник «Тысяча казахских-киргизских песен»; они поло-
жены на ноты, оригинальнейшие их мелодии — богатый
материал для.Моцартов, Бетховенов, Шопенов, Мусорг-
ских и Григов будущего. Отовсюду — от зырян, бурят,
чуваш, марийцев и так далее — для гениальных музы-
кантов будущего льются ручьи поразительно красивых
мелодий. Я слышал, как эти песни нацменьшинств ис-
полняет А. И. Загорская, концерты которой в Берлине
имели громадный успех. И, когда слушаешь пение этой
исключительно талантливой женщины, думаешь, конеч-
но, не только о музыке будущего, а о будущем страны,
где все разноязычные люди труда научатся уважать
друг друга и воплотят в жизнь всю красоту, издревле
накопленную ими. Это — должно быть, и это будет, или
все мы снова вернемся на старые пути звериной вражды
и кровавых преступлений друг против друга...
«
...В долине Делижана кто-то из товарищей сказал
вполголоса:
— Много здесь турки перебили армян.
— Ну что же вспоминать об этом в такой красоте,—
ответили ему.
Да, удивительно красиво. Кажется, что горы обняли
и охраняют долину с любовью и нежностью живых
существ. На высоте 1500 метров воздух необыкновенно
прозрачен и как будто окрашен в голубой, мягко сияю-
617
щий тон. Мягкость — преобладающее впечатление доли-
ны. Глубокое русло ее наполнено пышной зеленью са-
дов, и дома как бы тихо плывут в зеленых волнах по
направлению к озеру Гокче. Южное Закавказье оше-
ломляет разнообразием и богатством своих красот, эта
долина — одна из красивейших в нем. Но на красоту ее
неустранимо падает мрачная тень воспоминаний о
недавнем прошлом. Мне показывают:
— Вот в это ущелье турки согнали и зарезали до
шести тысяч армян. Много детей, женщин было
среди них...
Меньше всего лирически прекрасная долина Дели-
жана должна бы служить рамой для воспоминаний
о картинах кошмарных, кровавых преступлений. Но уже
помимо воли память воскрешает трагическую историю
Армении конца XIX — начала XX века, резню в Кон-
стантинополе, Сасунскую резню, «Великого убийцу»,
гнусное равнодушие христиан «культурной» Европы,
с которым они относились к истреблению их «братьев
во Христе», позорнейший акт грабежа самодержавным
правительством церковных имуществ Армении, ужасы
турецкого нашествия последних лет, — трудно вспомнить
все трагедии, пережитые этим энергичным народом.
Удивительно быстро и ловко забывают факты такого
рода господа «гуманисты», идеалисты, защитники «куль-
туры», основанной на жадности, зависти, на рабстве и
на циническом истреблении народных масс. Ложь и ли-
цемерие защитников этой «культуры по уши в крови и
грязи» восходят до явного безумия, до преступления,
которому нет достойной кары.
...Едем мимо армянских деревень, и, глядя на них,
забываешь о том, что живешь во второй четверти
XX века, в царствование миллиардеров, миллионеров,
в эпоху безумнейшей роскоши и поразительного разви-
тия техники. К суровой земле беспорядочно и почти
неотличимо от нее прижались низенькие, сложенные из
неотесанных камней постройки без труб, без окон; они
еще менее, чем старые казармы рабочих на промыслах
Азнефти, напоминают жилища людей, даже загоны для
овец в степи Моздока построены солидней. На плохих
местах, на голой земле прилепились эти жуткие, унылые
деревни армян. Видеть их как-то стыдно, неловко. Кое-
где около них торчат метелки кукурузы, сизые пятна
посевов ячменя. Изредка мелькают полуголые Дети,
618
женщины в темном, истощенные непосильным трудом.
Холодно и одиноко, должно быть, в этих доисторических
жилищах суровой зимой среди лысых гор, где прячутся
погасшие вулканы. Зима на этой высоте стоит долго,
бывают сильные морозы. Когда вот такие деревни
мысленно поставишь рядом с Нью-Йорком, Лондоном,
Парижем, Берлином— особенно хорошо видна преступ-
ная ложь современной культуры, и особенно понятна
ненависть защитников ее к Союзу Советов, — ненависть,
которая пожрет всех, кто ненавидит людей труда.
...Развертывается грандиозное синее зеркало озера
Гокча — точно кусок неба, который опустился на землю
между гор. Необыкновенен густо-синий цвет воды этого
озера, отнявшего у земли площадь почти в 1395 квадрат-
ных километров. Озеро богато рыбой, больше других —
лососью, и мне сказали, что скоро эту рыбу, заморажи-
вая ее, будут отправлять в Париж.
На берегу озера большая русская деревня, в ней
живут крупные, дородные бабы, большие, бородатые му-
жики, хорошо упитанные русоволосые дети. Очень здо-
ровый народ, но глаза большинства — странно прозрач-
ные и сонные, такие глаза я замечал у пастухов в горах
Швейцарии, и мне подумалось, что это — глаза людей,
живущих вне времени, вне действительности.
Один из туземцев с берега Гокчи, широкоплечий,
стройный, с густейшей сивой бородой, стоял, спрятав
руки за спину, и смотрел на автомобиль, точно вспоми-
ная: видел он уже такую телегу или нет?
— В Эривань едете? — спросил он басом.
- Да.
— Эривань — далеко, — сообщил он и не торопясь
отошел прочь.
Дома в деревне солидные, деревянные, хотя земля
вокруг безлесна, а горы почти сплошь из вулканических
пород, и среди них — сказали мне — есть достаточно
мягкие, удобные для строительства. В одном из домов —
ихтиологическая станция, где изучают жизнь населения
озера. Производится интересный опыт: в синюю воду
Гокчи пустили 15 миллионов мальков сига из Ладож-
ского озера и уверенно ожидают, что сиги приспособятся
к жизни в этом огромном бассейне на высоте почти
2000 метров. Да, всюду, на всех точках земли Союза
619
Советов, делаются смелые, великого значения опыты,
строится новая жизнь. Эта стройка — первое, что бро-
сается в глаза, когда подъезжаешь к Эривани.
Серый каменный город на фоне хмурой массы
среброглавого Арарата, в шапке красноватых обла-
ков,— этот город издали вызвал у меня впечатление
заключенного в клетку строительных лесов, на которых
муравьиные фигурки рабочих лепят новые здания как
будто непосредственно из каменной массы библейской
горы. Такое впечатление явилось потому, что стройка
идет на окрйине города и его видишь сквозь леса.
Внутри города строят не так много, как это показалось
издали, — бедна Армения, многократно растоптанная
копытами врагов, разоренная той звериной ненавистью
и жаждой крови, которые так умело разжигают жрецы
золотого бога, имя которому капитализм — Желтый
Дьявол.
Да, Армения бедна, но уже отличная силовая стан-
ция украшает Эривань, силою ее работает завод, очи-
щающий хлопок, масляный и мыльный заводы, богато
освещен город. Энегрично идет стройка жилищ для рабо-
чих, два больших корпуса уже заселены, всюду чувст-
вуется смелая рука умного хозяина, и движение в го-
роде носит характер движения накануне большого
праздника.
Прекрасно организован музей, намечено множество
работ, которые должны будут быстро преобразовать го-
род, идут геологические исследования по всей стране.
И уже сделано открытие, которое, несомненно, даст ар-
мянам значительные средства для развития промышлен-
ности и культуры страны: около Арарата найдены бо-
гатейшие залежи вулканического туфа. Из этого мате-
риала построен Неаполь и все города по берегам
Неаполитанского залива, но туф Арарата плотнее везу-
вианского, — вбитый в него гвоздь не колет массу, и
в то же время она режется легко, почти как мыло. Из
туфа можно, на месте разработки, резать колонны, на-
личники окон и дверей, консоли, карнизы, его можно
резать по заданию архитектора на кубы любого объема.
Залежи его исчисляются сотнями миллионов тонн. Раз-
работка этого богатства уже начата, прокладывается
подъездной путь к Закавказской железной дороге.
Думают, что туф этот будет дешевле кирпича и хорошо
пойдет в Северо-Кавказский край и на Украину, бедную
620
строительным материалом. Вероятно, вулканическая
почва Армении подарит народу своему и другие богат-
ства. На обратном пути из Эривани в Тифлис мы ви-
дели выходы на поверхность земли черного обсидиана —
вулканического стекла/
Вечером, после митинга, в городском саду эриван-
ская молодежь показывала танцы сасунских армян,
нечто совершенно исключительное по оригинальности и
красоте. Я — не знаток искусства танцев, равнодушен
к балету, на характерные пляски смотрю как на легкую
и веселую акробатику, на фокстроты — без отвращения,
но нахожу, что одежды в этом «танце» излишни и,
должно быть, стесняют свободу танцоров, которых
можно назвать также и бесстыдниками, хотя, конечно,
в природе есть существа еще более бесстыдные, напри-
мер: мухи, петухи и куры, козлы, собачки.
Танцы сасунских армян не поражают затейливостью
и разнообразием фигур и не стремятся к этому, в них
есть нечто другое, более значительное и глубокое. На
эстраду выходят двое музыкантов в ярких националь-
ных костюмах, двое — большой барабан и пронзительно
крикливая дудка, — а за ними выплывает ослепительно
блестящее, разноцветное тело — двадцать человек муж-
чин. Они идут плечо с плечом, держа за спинами руки
друг друга, они — единое тело, движимое единой, изу-
мительно ритмически действующей силой. Это тело
свертывается в круг, в спираль, развертывается в пря-
мую линию, строит разнообразные кривые; идеальность
ритма, легкость и плавность построения фигур все бо-
лее укрепляют чарующую иллюзию единства, слитцости.
Отдельных танцоров трудно различить, видишь, как
пред тобой колеблется ряд красивых лиц, видишь их
улыбки, блеск глаз, кажется, что вот их стало бодьше,
а в следующую минуту—меньше; индивидуальные чер-
ты каждого отдельного лица почти неуловимы, и все
время с вами говорит, улыбается вам как будто одно
лицо, — лицо фантастического существа, внутренняя
жизнь которого невыразимо богата. Возбуждающе
поет дудка, но ее высокий голос уже не кажется прон-
зительным; громко, но мягко отбивает такт барабан, и
за этой музыкой видишь другую — музыку изумительно
красивых движений гибкого человеческого тела, его сво-
бодную игру в разноцветной волне ярких одежд. Мину-
тами, когда стремительность движений многоглавого
621
тела, возрастая, превращалась в золотой и радужный
вихрь, я ждал, что цепь танцоров разорвется на отдель-
ные звенья, но и в этом вихре они сохранили единодуш-
ную плавность движений, увеличивая, углубляя впечат-
ление силы и единства. Никогда я не видел и не мог
представить себе картину такой совершенной слитности,
спаянности многих в едином действии. Несомненно, в
этом, должно быть, очень древнем танце скрыто нечто
символическое, но мне не удалось узнать — что это: ре-
лигиозная пляска жрецов или танец воинов? Мне ка-
жется, что есть в нем что-то общее с воинственным
танцем гурийцев, — не помню, как называется он —
«перхули» или «хорули». Но в нем не было ничего, что
хоть немного напоминало бы бешеное «радение» хлы-
стов или истерические судороги «вертящихся дервишей»,
от которых — как говорят — заразились истерией и наши
сектанты — «кавказские прыгуны». Вероятно, танец
сасунских армян — победный танец воинов.
Не менее оригинально и так же обаятельно красиво
танцевали женщины, одетые тоже по-восточному njpKo и
цветисто. Танцуя, они показывали, как причесывают во-
лосы, красят лицо, кормят птицу, прядут,—и снова все
мы были очарованы изумительной ритмичностью их дви-
жений, красотой жестов. Женщины танцевали каждая
отдельно от другой, и жесты каждой были индивидуаль-
ны, тем труднее было сохранить их ритмичность, един-
ство во времени, а она сохранялась идеально. Затем они
исполнили .комический танец хромых, — танцевали так,
точно у каждой из них перебито бедро, и, хотя смешные
движения их были на границе уродливого, они пора-
жали гармоничностью и грацией.
«Сколько талантов вызвала к жизни наша эпоха,
сколько красоты воскресила живительная буря револю-
ции!»— думал я по пути из Эривани.
Возвращались мы другой дорогой, по долине более
богатой, плодородной, через деревни сектантов-«прыгу-
нов». Странное впечатление вызывают эти большие за-
житочные селения без церквей и эти крупные бородатые
люди с такими же пустыми и сонными глазами, как и
у поселенцев на берегу Гокчи. Мне сообщили, что ту-
рецкое нашествие перешагнуло через «прыгунов», не
причинив им вреда, и что защитой этим сектантам слу-
жит их пассивное безразличие ко всему, кроме интере-
сов своей общины и личного хозяйства.
622
Разумеется, они считают себя единственными на
земле людьми, которые исповедуют «истинную веру».
В 1903 году один из них, Захарий, — кажется, Нищен-
ков или Никонов, — снисходительно внушал В. М. Вас-
нецову, доктору Алексину и мне:
— Наша вера — древнейша, она еще от царя Да-
вида, помните, как он «скакаше играя» пред ковчегом-то
завета? Во-он она откуда...
Его товарищ, сухой, длинный старик, с глазами из
темно-зеленого стекла, гладил острое свое колено, пока-
чивался и говорил глухим голосом:
— Ты перестань, Захарий, господам московским это
без интереса.
Но Захарий не унимался, его раздражали насмешки
доктора, и ему, видимо, льстил горячий интерес худож-
ника, который выспрашивал его, как, вероятно, выспра-
шивают дикарей католики-миссионеры. Но Захарий
держал себя не как дикарь, а как вероучитель.
— Отчего — скакаше? — поучал он Васнецова. — От-
того, что пророк был, знал, что из его колена Христос
изыдет, — вот оно! Священны пляски и греки знали, не
теперешние, а — еллены, царства Елены Прекрасной,
они тут жили по берегу Черного моря, у них там, на
мысу Пицунде, остатки церкви есть. Так они тоже ска-
кали, радовались возглашая: «Иван, двое...»
— «Эван, эвое»1, — поправил Васнецов, но Захарий
продолжал, горячась:
— Грек не может по-русски правильно сказать, он
сюсюкает, я греков знаю. Иван — это Предтеча, а
двое—значит за ним другой придет, ну а кто другой —
сам пойми...
Доктор Алексин неприлично хохотал, Васнецов тоже
горячился, как и Захарий, это обидело старика, он вы-
тянулся во весь рост и решительно приказал:
— Идем! Нечего тут... зубы чесать.
Люди эти приехали к наместнику Кавказа с жало-
бой на какие-то притеснения, они жили в одной гости-
нице с нами, и старик вообразил, что солидный док-
тор— важный чиновник из Петербурга, а Васнецов —
духовное лицо, путешествующее в «штатском» платье.
Он и научил Захария поговорить с ними. А. П. Чехов,
наш спутник, не присутствовал при этой беседе, чувст-
1 Крики древних греков во время религиозных танцев.
623
вуя себя уставшим. Вечером, за чайным столом, когда
Васнецов с досадой рассказывал ему о «прыгунах», он
сначала беззвучно посмеивался, а затем вдруг и в раз-
рез настроению художника, сердито сказал:
— Сектантство у нас — от скуки. Сектанты — сытые
мужики, им скучно жить и хочется играть в деревне
роль попов, — попы живут весело. Это только один Пру-
гавин думает, что секты — культурное явление. Вы Пру-
гавина знаете?
— Нет, — ответил Васнецов.
-— Он — с бородой, но похож на кормилицу.
Где-то, вспоминая об А. С. Пругавине, я воспользо-
вался этим сравнением, удивительно метким, несмотря
на его необычность. А сцену беседы с «прыгунами»
написал для «Нижегородского листка», но цензор, за-
черкнув гранки, тоже написал: «Скрытая проповедь цер-
ковной ереси. Не разрешаю. Самойлович».
...Четвертый раз я на Военно-Грузинской дороге. Все
знакомо — кроме базы экскурсантов на станции Каз-
бек. Экскурсии тянутся бесконечными вереницами;, идут
сотни здорового, веселого народа, юноши и девицы, ком-
сомол, студенчество. Это — люди, которые хотят знать
геологию, петрографию, историю, этнографию, — все хо-
тят знать и как будто слишком торопятся приобрести
знания. Когда много спрашивают—мало думают и
плохо помнят. Людям, которых отцы поставили в пози-
цию полных хозяев своей страны, необходимо помнить,
что каждый камень ее требует серьезного внимания
к себе.
Никогда еще пред молодежью не открывался так
широко и свободно путь к всестороннему познанию ее
страны. Она может спускаться в шахты под жесткую
кожу земли, подниматься на вершины гор, в область
вечных снегов, пред нею открыты все заводы и фабрики,
где создается все необходимое для жизни, — учись,
вооружайся! Нет университета более универсального,
чем природа, все еще богатая не использованной нами
энергией, и действительность, создаваемая волею и ра-
зумом человека.
...Дорога от Владикавказа до Сталинграда по беско-
нечной равнине. Пустынность ее обидна и раздражает.
Не должно быть земли, которую^ всепобеждающий труд
624
человека не мог бы оплодотворить, не должно! Камни и
болота Финляндии, пески Бранденбурга убедительно го-
ворят нам, что, когда человек хочет заставить даже бес-
плодную землю работать на него, — он ее заставляет
работать.
Об этой чудотворящей силе воли, силе труда необхо-
димо как можно чаще напоминать людям в наши дни,
когда пред людьми широко развернута возможность ра-
ботать для себя, на самих себя, для создания трудового
государства, совершенно исключающего безвольных,
лентяев, хищников и паразитов.
На мой взгляд — одним из крупных недостатков лю-
дей труда является тот факт, что они не знают, сколько
хорошего сделано ими на земле, какие великие победы
одержаны ими в борьбе за свою жизнь, и оттого, что это
не известно им, они — в массе — работают все еще
плохо, неохотно, безрадостно. Разумеется — не они ви-
новаты в этом, а те, кто держал их во тьме и так по-
стыдно низко ценил их чудесный труд, преображающий
землю. В школы следовало бы ввести еще один и са-
мый важный учебник —«Историю труда» — прекрасную
и трагическую историю борьбы человека с природой,
историю его открытий, изобретений — его побед и тор-
жества его над слепыми силами природы.
...Пустыню перерезала широкая полоса Волги. С дет-
ства знакомая река не так оживлена, как была раньше,
и, может быть, поэтому она кажется мне более широ-
кой, мощной. Вода в ней стала как будто чище, не
видно радужных пятен нефти. Нет буксирных парохо-
дов, которые вели за собой «караваны» в четыре, пять
и даже шесть деревянных барж-«нефтянок», теперь бук-
сиры, один за другим, тащат по одной железной барже,
вместимостью до девяти тысяч тонн и больше. Нет и
плотов «самоплавов», теперь их тоже ведут буксирные
суда, и плоты не в четыре яруса, как бывало раньше,
а в семь-восемь. Это для меня ново. Но так же, как
раньше, белыми лебедями плывут вверх и вниз огром-
ные теплоходы и так же чисто, уютно на них, только
все стало проще, и, хотя пассажиры, по-старому, де-
лятся па три класса, — «господ» среди них нет. На при-
станях грузчики в прозодежде и в шляпах голландских
моряков.
625
— Грузчики теперь — народ пестрый, — рассказы-
вает человек в очках, пассажир третьего класса. — У нас
двое монахов работали, а потом один — часовщик, а
другой — из цирка.
— Бывает, — подтвердила женщина, пожилая, с
красной косынкой на шее, с газетой в руках. — В Сама-
ре учитель наш два лета на пристанях работал, тоже
из духовных. Летом — работает, а зимой —учит. Заме-
чательный человек, скотину лечит, пчеловодство знает,
садовое дело. Мужики долго уговаривали его: брось,
живи в деревне весь год, не жадничай!
— Согласился?
— Согласился.
— А кад— заработок грузчиков?
•— Жалуются.
Старичок, стоя у трапа, говорит:
— Кабы люди не жаловались, так их бы не мило-
вали.
Но тотчас вступается другой матрос, постарше:
— А — на кого жаловаться? Мы — сами хозяева,
свое работаем. Чего там...
На корме пристани,'в тесной группе людей, ожидаю-
щих парохода «вниз», ораторствует широкоплечий ста-
ричище, бритый, с разрубленным подбородком, в пальто
из парусины и в полотняном колпаке.
— А я говорю: не от засухи голод был, а от страха!
Ужаснула людей война, и опустились руки — вот при-
чина...
— Да — засуха-то была? — кричат на него.
— Ну — была! А того хуже чехи были...
— Толкуй с ним!
— Вот и потолкуй! Ты живи смирно, и все будет.
У тебя не родит, я тебе помогу. Тебя чему учат?
— Ты по-оможешь, — иронически тянет какой-то ры-
жеватый человек в истертой кожаной, куртке.
Схватив котомку, старик растолкал собеседников и
ушел за угол конторки. z
— Вы, граждане, не смейтесь над ним, он немножко
чудовой. Он в голодное время большим деятелем был,
его и американцы уважали. Настоящий, народный че-
ловек, хотя — из господ, из бедных, земелька была де-
сятин с полсотни, что ли-то. Сам работал с младшим
сыном, старший — на войне остался. А младшего — чехи
повесили, домишко сожгли, — старуха в нем нездоровая
626
лежала — со старухой. Сам он тоже бит был. Ну, не-
множко и — того, заговаривается.
Рассказывает это широколицый, бородатый человек
в синем, новеньком пиджаке, он сидит на мешках, за
поясом у него топор, лезвие топора — в кожаном чехле.
У ног его ящик с инструментами столяра. Никогда не
видал у русского мастерового инструментов, уложенных
в порядке, и топора в чехле. Не видал и матроса, кото-
рый, умываясь, чистит зубы щеткой. И капитана, кото-
рый, проплавав по Волге тридцать шесть лет, сидит на
своем пароходе в «красном уголке» и, вместе с верхней
и нижней командой, интересуется вопросами политичес-
кой и культурной жизни Запада. «Кубатура» «уголка»
едва ли больше кубатуры обыкновенной одноместной
каюты, люди сидят на коленях друг друга, большинство
стоит, и эта сплошная масса крепких ребят наперебой
ставит десятки разнообразных вопросов: о росте народо-
населения в Англии, о ее положении в Египте, о том, чем
отличается фашизм Италии от фашизма Венгрии,
а с палубы в дверь «уголка» кричат:
— Сколько женщин на тысячу мужчин в Европе?
А у нас? Почему к нам, на Волгу, мало иностранцев
приезжает?
Очень хорошо помню, что в годы моей юности во-
просы этого порядка не интересовали кочегаров, матро-
сов и палубных пассажиров на волжских пароходах.
Даже неизбежные курьезы русской жизни как-то
обновились, — впрочем, это не сделало их менее уродли-
выми. В третьем классе женщина лет пятидесяти, рых-
лая, с лицом, точно присыпанным мукой, в черном
платье, повязанная платком, обратилась ко мне с
просьбой:
— Помогите, милостивец, возвратиться к нам ба-
тюшке Илиодору!
Перегруженный впечатлениями совершенно иного
рода, я не сразу догадался, кто этот «батюшка».
— Ну как же, милостивец, забыли вы невинного
страдальца за нас иеромонаха Илиодора. Нам же изве-
стно, что вы помогли ему бежать за границу от злобы
царя и распутинских архиреев...
Она говорила нараспев «причитающим» голоском
с той привычной «жалостью» и привычкой жаловаться,
которая вырабатывается десятилетиями непрерывной
практики; тон, можно сказать/«древнерусский» и усво-
627
енный не только старыми бабами, — таким топом в де-
вяностых годах в провинции русской либералы читали
жалобные лекции, коими доказывалась обывателям не-
обходимость конституции.
Пассажиры, с любопытством разглядывая поклон-
ницу Илиодора, добродушно и снисходительно усмеха-
лись; пожилая женщина, только что проснувшись и рас-
чесывая седоватые волосы, удивленно спросила:
— Это зачем же вам, гражданка, Илиодор пона-
добился?
Я действительно, по просьбе А. С. Пругавина и при
помощи товарища Линде, устраивал иеромонаху пере-
ход через границу Финляндии в Стокгольм, куда ок
бежал писать о Распутине книгу «Святой черт». Но,
прежде чем я успел рассказать то, что знал о нем, меня
опередил в этом какой-то человек.
— Брось^ бабка, — сказал он.— Это — дело дохлое.
Илиодор твой швейцаром при гостинице служит и свод-
ничеством занимается.
Сказал, плюнул на пол и пошел прочь, а вслед ему—•
молодой, протестующий голосок:
— На палубу плевать вас не просят, а — наоборот!
— Извиняюсь.
Женщина в черном «причитала»:
— Не верю я в это, клевещут на него попы да ин-
теллигенты, скучно душеньке его без нас, и без духов-
ного вождя, без пастыря трудно жить.
Я отметил, что никто, ни один из двух десятков сви-
детелей этой сцены, не посмеялся над этой женщиной
грубо, обидно, смеялись добродушно. Только кто-то
с верхней койки проворчал:
— Пастырь, — пастырь, эх...
...Хорошие, «ликующие» дни, солнце как будто даже
хвастливо освещает красоту берегов Волги. Заметно
разрослись села и деревни, везде видишь новые избы,
крытые тесом, иногда их стоит целый порядок; деревня,
должно быть, горела. Впрочем, на богатых берегах мо-
гучей реки и прежде соломенные избы встречались так
же редко, как мужики в поскони, сермяге и лаптях. На
пристанях, так же как на станциях железных дорог Дон-
ского края и Северного Кавказа, нередко видишь группу
женщин в платьях одноцветного ситца и одинакового
рисунка — это, очевидно, значит, что в деревню попал
целый «кусок». Почти на каждой пристани мелькают
623
красные повязки комсомолок, галстуки пионеров, груп-
пы экскурсантов с котомками за спиной — это застав-
ляет вспоминать «Перелетных птиц» Германии, обшир-
ную организацию молодежи, изучающей свою страну.
...Казань, Нижний Новгород. Но в этих городах
ожило так много воспоминаний, что я-сейчас не буду
говорить о них.
Сормово. В детстве, когда мой вотчим служил на
Сормовском заводе и скупал — вероятно, за полцены —
у рабочих записки в фабричную лавку, — записки, кото-
рыми администрация платила вместо денег за труд и
этим уменьшала заработок, — в детстве я был уверен,
что Сормовский завод выделывает сахар, колбасу, изюм,
чай, сухари, муку и вообще все, что можно съесть. За-
тем я побывал в Сормове лет пятнадцати, надеясь по-
лучить работу, — на завод, разумеется, не пустили меня,
видел его только издали. Не понравилось мне покрытое
облаками дыма скопище грязных корпусов, и эти гряз-
ные каменные пальцы труб, и грохот, скрежет, лязг,
визг, скрип железа. Визит мой кончился дракой с фаб-
ричными подростками и бегством от них. Кажется,
в 90-м году мой приятель Аким Чекин, пропагандист-
пародник, и Егор Барамзин, тоже народник, но уже
склонный к марксизму, попробовали устроить меня на
завод табельщиком, но не удалось. В 96-м году я ходил
по цехам завода с группой иностранных корреспондентов',
которые приехали на Всероссийскую выставку. Но меня
интересовала не работа завода и не рабочие, а то, что
рассказывал иностранцам представитель администрации
«Сормова». Говорил он по-французски, очень громко, но
в адовом шуме голос его был не слышен мне, да и
языка я не знал. Но по тому, какими резкими жестами
этот человек стирал пот с лица и шеи, я был уверен,
что он рассказывает интересно. Я спросил «собрата по
перу», кажется, сотрудника «Степного края»:
— Что он говорит?
— Жалуется на рабочих.
Шли дальше сквозь грохот, среди невиданных мною
машин и черных людей; все вокруг дрожало, вертелось,
двигалось, как будто весь завод и земля под ним — все
уплывало вниз по Волге.
— А теперь что он говорит?
629
— Жалуется на рабочих.
Дождь хлестал по крышам. В прокатном, где по
земле бегали, извиваясь, жгучие красные змеи, а дождь,
врываясь в разбитые окна, шипел на полу, я третий раз
спросил все о том же и получил ответ:
— Хвалит французских рабочих.
В корпусах было нестерпимо жарко, хотя жару про-
нзали сквозняки, заплескивая в окна брызги холодного
осеннего ливня; между корпусами текли черные ручьи,
бегали, оскалив зубы, черные люди; дождь, словно мет-
лою, снова заметал их в двери корпусов, в жару и дым.
Иностранцы, подняв воротники пальто, шагали молча,
с таким унынием на лицах, что их было почти жалко.
Затем они и представитель «Нового времени» пошли
обедать к администратору, а мы, четверо провинциа-
лов,— в трактир.
Хорошо помню, что мне было неловко гулять по це-
хам с группой чужих, равнодушных людей, я не умею
быть «зрителем». Ощущение этой неловкости тяготило
и стесняло меня и теперь на всех заводах, которые так
обильно и мощно разрослись под Нижним, на огромном
треугольнике от Балахны на Волге до Растяпина на
Оке, — на «Двигателе революции», «Красной Этне»,
«Суперзаводе», фосфорном и на изумительной бумаж-
ной фабрике за Балахной. Среди тысяч людей, погло-
щенных нелегким и требующим напряженного внимания
трудом, морально неудобно «гулять», хотя бы и с той
целью, чтоб описать эту прогулку. Гулять — не значит
ознакомиться с производством. Поэтому я не считаю
себя вправе говорить о новых заводах, на которых я
был. Прекрасные, огромные заводы и, вероятно, рабо-
чим удобно работать в их просторных цехах.
А что видел я в несколько часов прогулки по Сор-
мовскому заводу? Мне показалось, что на нем, в цехах,
стало еще теснее, чем было в 96-м году. Станки стоят
вплоть один к другому, рабочие почти трутся друг
о друга. В горячих цехах, на мой взгляд неопытного
человека, не хватает каких-то механических приспособ-
лений, которые облегчали бы адски тяжелый труд рабо-
чих. Когда я смотрел, как раскаленный едва не добела
коленчатый вал, весом, наверное, в несколько тонн,—
вал для морских шкун, вместимостью в десять тысяч
тонн, — когда я видел, как этот вал подводили из горна
под паровой молот, пред моими глазами встала картина
630
работы на заводе Балдвина в Филадельфии, на судо-
строительном под Нью-Йорком. Грустно и обидно было
сравнить условия работы сормовских рабочих с карти-
ной работы американцев, которую я видел двадцать
два года тому назад.
Возможно, что я чего-то не понимаю, ошибаюсь и
что лучше бы мне не говорить об этих делах. И, разу-
меется, я не забыл, что русские рабочие получили от
бывших хозяев наследство технически плохонькое.
Знаю я, что Сормовский завод—«ветеран труда», что
горячие цеха уже выносят на новое место, что на заводе
скоро будет просторней и удобней для восемнадцати
тысяч носителей творческой силы, — все это так. Но у
меня есть свое отношение к труду, к рабочим, и, если я
ошибаюсь, мне на это укажут, а все-таки я должен
сказать то, что думаю. Я видел, вероятно, не один деся-
ток дворцов культуры, дворцов труда, огромных, от-
лично построенных зданий, которыми рабочий класс
имеет законнейшее право гордиться как одним из своих
культурных достижений. Превосходнейшие дворцы эти
стоят, конечно, много миллионов. Мне кажется, что
было бы социально разумнее затратить эти миллионы
на расширение своих заводов и фабрик, на улучшение
условий труда, на охрану своего здоровья. Недавно
товарищ Н. А. Семашко, призывая на «борьбу с изно-
шенностью» человеческого организма, совершенно пра-
вильно сказал:
«Нужно работать так, чтобы принести больше поль-
зы, больше сделать для социалистического строитель-
ства. А для этого нужно прежде всего организовать
свой труд. Уменье правильно, то есть с максимальной
пользой, работать — это один из основных признаков
культурности, особенно в нашей трудовой стране. До-
стижения по правильной организации труда должны
считаться основными достижениями на пути культурной
революции».
Это — неоспоримо. И это должно понять особенно
старое поколение квалифицированных рабочих, которые
являются для молодежи учителями труда.
Повторяю: дворцы труда и культуры — великолепны,
и я не объявляю «войну дворцам» этого типа, это двор-
цы— крепости рабочих. Но рабочий класс—сила, ко-
торая должна беречь себя, сила, на которую историей
631
возложена обязанность построить «новый мир» и кото-
рая страшной ценой крови своей завоевала право свое
создавать этот мир.
Количественно — эта сила еще не велика, а против
нее — весь «старый мир» собственников. Чтоб устоять
против натиска этой враждебной массы, рабочий дол-
жен быть и физически стоек, должен заботиться о том,
чтоб прежде всего облегчить свой каторжный и герои-
ческий труд на фабриках, заводах, шахтах. Каждый
сознательный рабочий-революционер обязан понимать,
что чем длиннее срок его жизни, тем более это полезно
для его класса, тем продуктивнее должна быть его ра-
бота строителя «нового мира» и воспитателя молодежи.
Не надо забывать, что индивидуализм собственников
проникает всюду, как дым, как угар, и что наша
крестьянская страна дымит, к сожалению, все более
густо.
Я назвал труд рабочих героическим. Он — везде та-
ков, но наиболее хорошо я видел это в Сормове, где
теснота и примитивные условия труда не мешают работ-
никам строить морские шкуны почти голыми руками,
где пет для этой работы даже подъемного крана и
огромные тяжести рабочие «самосильно» передвигают
с места на место под пение «Дубинушки». Дворцы куль-
туры и «Дубинушка» — в этом, товарищи, есть что-то и
смешное и грустное.
Именно это чувствовал я, когда ходил по железным
палубам морских шкун, изумляясь терпению и талант-
ливости рабочих людей Сормова. Ходил, похваливал и
думал: «А надолго ли вас хватит при такой работе,
товарищи?»
И тут же рядом, в двух десятках верст, бумажная
фабрика Балахны, о которой хочется говорить торже*
ственными стихами как об одном из прекрасных созда-
ний человеческого разума.
Там человек образцово показал, как разум, расчет и
воображение могут заставить работать иные силы, оста-
вляя человеческую силу свободной и только наблюдаю-
щей, руководящей машинами. Это как раз то, к чему й
должен стремиться рабочий класс, — превращать сле-
пые и буйные силы природы в своих разумных слуг,
освобождать свою физическую энергию для того, чтоб
шире и глубже развить свой разум властелина земли и
сокровищ ее.
632
На бумажной фабрике Балахны бревна с берега
Волги из воды сами идут под пилу, распиленные без
помощи человека, ползут в барабан, где вода моет их,
снимает кору, ползут дальше по желобу на высоту
сотни футов, падают оттуда вниз, образуя пирамиды, из
этих пирамид также сами отправляются в машину, она
растирает их в кашу, каша течет на сукна другой ма-
шины, а из нее спускается огромными рулонами бумаги
прямо на платформы товарного поезда.
Все это так удивительно просто и мудро, что, повто-
ряю, о таких фабриках следует писать стихами как о тор-
жестве человеческого разума. Зал, где стоит огромная,
кажется, в семьдесят метров длиною машина, выпу-
скающая готовую бумагу, просторен, светел и похож на
танцевальный зал, да и все отделы фабрики удивитель-
ны по обилию света, простору, чистоте, гигиеничности.
Было ясно, что рабочие уже гордятся этим новым своим
хозяйством и понимают его глубоко воспитательное зна-
чение. Я вышел с этой фабрики в настроении человека,
заглянувшего в светлое будущее, которое готовит для
себя рабочий класс.
Всюду на треугольнике Сормово — Растяпино—Ба-
лахна широко развивается строительство новых рабочих
поселков. А вместе с этим строятся индивидуальные
гнезда, красивенькие домики в три-четыре окна по фа-
саду, с наличниками резной работы, с точеными колон-
ками и со всякой иной «красивостью», соблазнявшей
еще дедов и прадедов. Болотистая почва «старого мира»
дает себя знать. Люди все еще не верят, что частная
собственность — источник всех несчастий жизни, всех
ее уродств, преступлений и всего, что веками угнетало
и сейчас угнетает человека.
А я не верю, что эта зараза надолго, не верю, что
рабочий класс позволит снова надеть ярмо на шею себе.
Слушал я на дворе одного из заводов речь молодого
товарища-рабочего, кажется Зиновьева, — слушал и ду-
мал: «Этот — не соблазнится, не станет строить для
себя индивидуальное гнездо! Этот — действительно
строитель „нового мира“».
А таких, как он, я видел и слышал сотни, знаю, что
их — десятки тысяч.
Сердечно приветствую товарищей строителей нового
мира!
22 Зак. № 426
633
Ill
В 17-м году в Петрограде, около цирка «Модерн»,
после митинга собралась на улице толпа разношерст-
ных людей и тоже устроила митинг. Преобладал в толпе
мелкий обыватель, оглушенный и расстроенный речами
ораторов, было много женщин — «домашней прислуги».
Человек полтораста тесно сгрудились в неуклюжее тело,
а в центре его — десяток солдат, они сердито покрики-
вали на одного из своих товарищей, рослого, борода-
того, в железном котелке на голове, с винтовкой за
острым плечом. Лицо у него простое, очень плоское, нос
широко расплылся по щекам, синеватые глаза выпуклы.
Железный котелок, приплюснув это лицо, сделал его
немножко смешным. Правая рука — на загрязненной и
скрученной перевязи, но ладонь ее свободна, и пальцы
непрерывно шевелятся на груди, почесывая дряхлую,
вытертую шинель.
Когда на него кричало несколько голосов сразу, он
молчал, прижимая левую ладонь к бороде, закрывая
рот, а когда вокруг становилось потише, он, поглаживая
ладонью приклад винтовки, говорил внятно, деловито и
не волнуясь:
— Что же, я сам — крестьянин, только вижу, что
рабочие понимают свой интерес лучше мужиков. И жа-
лости к себе у рабочего меньше...
Растолкав солдат, к нему продвинулась большая,
краснощекая женщина и сказала:
— Де-зер-тир ты! И все вы — дезер-тиры!..
Он отмахнулся от нее, точно от мухи, и продолжал
тоном размышляющего:
— Мужик побунтует — на коленки становится, про-
щенья просит, а рабочий в тюрьму идет, в Сибирь. В пя-
том году здесь тыщи рабочих перестреляли, а — сколько
по всей Россеи, в Сибири — счету нет.
Снова прикрыв рот, как бы затыкая его бородою, он
подождал, когда озлобленные люди выкричались.
— Я это не в обиду сказал, а потому что рабочие-
то, которые поумнее, идут за ними, за большеви-
ками...
На него снова закричали десятком голосов, он снова
помолчал, затем, возвысив голос, упрямо продолжал:
— Это все вранье. Германец — тоже солдат, а сол-
дату солдата купить нечем...
634
Тут кто-то согласился с ним:
— Верно...
— И насчет большевиков — вранье. Это потому врут,
что трудно понять, как это люди, против своего инте-
реса, советуют рабочим и крестьянству брать власть
в свои руки. Не бывало этого, оттого и непонятно, не
верится, на ихнее горе...
— И — врешь. Горе не ихнее, а — наше! — крикнул
какой-то собственник горя.
— Они говорят правильно, действительно так выхо-
дит, что мы сами себе враги, — говорил солдат, похло-
пывая ладонью по прикладу винтовки. — Вот эту вещь,
оружие, может быть, зять мой сделал, он в Туле, на ру-
жейном заводе. А дядя мой, может, железо для нее до-
был. Вот какое дело. Теперь глядите: может, нам из
этих винтовок приказано будет по народу стрелять, как
в пятом году. А для чего?
Он выпрямился, передвинул котелок на затылок, вы-
тер ладонью потный лоб.
— Для защиты глупости нашей, нищеты, вот для
чего. Из какого интереса три года с германцами воюем?
Понимаете вы это?
Люди — одни ругаясь, другие молча — отходили
прочь, но он, как бы не замечая этого, глядя прямо пе-
ред собой, говорил все более густо и крепко:
— И выходит, что большевики-то правильно сове-
туют: пакость эту надо искоренить — безвинное проли-
тие крови и разор жизни. Никто, кроме их, этого не со-
ветует, хоть все начали говорить с нами ласково.
А искоренить можем одни мы, рабочий народ. Шабаш,
и — больше ничего. Надо понять, что мы господам не
прислуга, а кормильцы,4и довольно натравливать нас на
свою же кровь-плоть.
Тут солдат этот начал говорить, понизив, голос до
рычания, надвигаясь грудью на людей, размахивая
рукою. Вокруг него стало просторнее, и я спросил: от-
куда он?
— А тебе на что знать? — грубо ответил он и, тяже-
ло топнув ногою, сказал: — Я — вот с этой самой земли,
ну? Солдат, как видишь. Был на японской войне, вот и
теперь тоже воевал, а — больше не желаю. Разбудили,
проснулся. И я тебе, господин в шляпе, прямо скажу:
землю мы обязательно в свои руки возьмем, — обяза*
тельно! И все на ней перестроим...
635
— Круглая будет, как арбуз, — насмешливо вставил
другой господин, в кепке.
— Будет! — утвердил солдат.
— Горы-то сроете?
— А — что? Помешают, и горы сроем.
— Реки-то вспять потекут?
— И потекут, куда укажем. Что смеешься, барин?
Насмехался плотненький, круглолицый человек с чер-
ными усами.
Солдат схватил его за плечо, встряхнул и сказал
в лицо ему:
— Дай срок, образумится народ, он тебе, дураку, та-
кое покажет, что в пояс поклонишься.
И, оттолкнув господина в кепке, солдат твердым ша-
гом вышел из поредевшей толпы.
Дома я записал эту сцену так, как воспроизвожу ее
теперь здесь. Я берег ее, надеясь использовать в конце
книги, давно задуманной мною. Мне для конца книги
очень дорог и важен этот солдат, в котором проснулся
человек — творец новой жизни, новой истории. В моей
панихиде прошлому он должен был петь басом. Если он
жив, не погиб на фронтах гражданской войны, он, ве-
роятно, занят каким-нибудь простеньким делом наших
великих дней.
Вспомнил я о нем на Днепрострое, и три дня, про-
житые мною там, образ его неотступно сопутствовал
мне, как бы спрашивая: «Ну — что? Верно я говорил?»
Да, он говорил верно. На Днепрострое воля и разум
трудового парода изменяют фигуру и лицо земли. Де-
сятки и сотни рабочих, просверливая камень берегов
Днепра электрическими сверлами, взрывают древнюю
породу жидкйм воздухом, другие десятки переносят, пе-
ревозят с места на место сотни тысяч кубометров земли,
землю выкусывают железные челюсти экскаваторов,
она кажется легким прахом под руками коллективного
человека, который строит для себя новую жизнь. Когда
видишь, как смело и просто обращается с нею обыкно-
венный рабочий, маленький человечек, как покорно
подчиняется она его разумной силе, — детски наивной
кажется древняя сказка о Святогоре-бОгатыре, который
не мог одолеть «тяги земной». Эта сказка весьма устра-
шала безнадежной своей мистикой любителей пофило-
софствовать о таинственных силах природы и слабости
человека перед ними. Устрашались, чтоб успокоиться.
636
Стиснутый с обоих берегов железными плотинами,
бушует Днепр, но сердитый плеск его волн о железо и
камень не слышен в скрежете сверл, в ударах молотов
по гулкому железу, в криках рабочих, в этом мощном
звуковом «сырье». Мне кажется, что люди скоро уже
разложат это разнозвучное сырье на ноты, гармонизи-
руют его, создадут героические симфонии.
Стальные жала сверл впиваются в камень, наполняя
воздух странно сухим шумом, издали этот шум звучит,
точно одновременное пение множества басовых струн
виолончели. Гулко и строго ритмически падают удары
американского крана, забивая «шпунт». Невольно вспо-
минаешь слова Александра Блока: «Культура есть му-
зыкальный ритм». «Дух музыки соединился отныне
с новым движением, идущим на смену старого».
Здесь, любуясь дерзкой работой людей, все время
вспоминаешь прошлое, и это очень помогает правильной
оценке настоящего.
Среди скал, разодранных взрывами, коренастый па-
рень, густо напудренный пылью, сверлит камень, дей-
ствуя силою, от которой руки и плечи его непрерывно
дрожат крупной дрожью. Когда я взялся за ручки
сверла, меня встряхнуло, как маленького ребенка,
встряхнуло не только потому, что я коснулся молние-
носной силы, но и потому, что силою этой владеет де-
вятнадцатилетний крестьянин Смоленской губернии —
человек, пред которым, вероятно, полстолетия интерес-
нейшей жизни и работы. Я, конечно, завидую ему, но
и рад за него. Эта радость естественна: измеряя время
не только годами моей личной жизни, я не могу забыть,
что жизнь моя началась при огне лучины и сальной
свечи. А также я хорошо помню, что в 96-м году, когда
по улицам Нижнего Новгорода пошел первый вагон
трамвая, такие парни, как этот, — тоже смоленские зем-
лекопы,— стремглав разбежались прочь от «чертовой
кареты».
Дать общую картину всей работы на Днепрострое я
не в силах. Я прожил там трое суток — слишком мало
для того, чтоб достаточно ярко нарисовать картину
грандиозного труда. Там очень много такого, что я ви-
дел впервые за мою жизнь, и уже слишком много стерто,
уничтожейо того, что я видел сорок лет тому назад.
Тогда я ночевал тут на берегу Днепра против острова
Хортицы, на теплых камнях. Вечером долго беседовал
637
с меннонитом, на которого мне указали как на человека
великой мудрости.
—> Много вас таких шляется по земле, — сказал мне
этот мудрец, и это было самое верное из всего, что гово-
рил он, маленький, сухонький, заласканный людьми до
усталости и даже как будто до презрения к ним.
Думаю, что в то время ещё не был изобретен умный
и послушный американский кран, которым теперь заби-
вают железные «шпунты» в каменное дно бешеного
Днепра. Тогда в порту Феодосии били сваи «вручную»,
с копра. Тогда не существовал экскаватор, железные
пригоршни которого черпают землю и мелкий камень
легко, точно воду. Машина эта роет шлюз; ею удиви-
тельно ловко управляет черный масленый человек, вот
этот — действительно мудр. Из глубокого котлована
огромные насосы выкачивают воду, круглые пасти труб
переливают ее в Днепр. Когда смотришь на толстые
струи воды, кажется, что не из реки, а из земли вытя-
гивают ее жилы. Сотни людей сдирают с земли толстую
каменную кожу, и видишь эту бесплодную землю по-
истине в руках людей.
День на Днепрострое начинается взрывами, они же
и заканчивают день. У меня недурная зрительная па-
мять, и мне странно видеть, как значительно, за несколь-
ко часов работы, изменились контуры берегов. И стран-
но знать, что камень взрывают жидким воздухом, это
не только странно, а и очень весело.
В 87-м году меня в Казани судил — по «14 правилу
святого Тимофея, епископа александрийского», — цер-
ковный— «духовный» — суд, какой-то иеромонах, свя-
щенник и соборный протоиерей Маслов.
Присудили меня к «эпитимье», не- помню, в какой
форме, кажется, на сорок ночей молитвы в Феодоров-
ском монастыре. Я отказался подчиниться постановле-
нию суда. Тогда иеромонах, старичок с зелеными гла-
зами, упорно и грозно начал доказывать мне, что я —
вор, пытался украсть жизнь, принадлежащую царю, хо-
зяину моему земному, а душу, принадлежащую богу,
отцу моему небесному, хотел предать врагу его —
сатане. Я сказал, что считаю себя единственным
законным хозяином жизни и души моей. Иеромонах
крикнул:
— Молчи, безумец! Что — дерзкие слова твои? Воз-
дух! Закон же церкви — камень,
638
Видя, как воздух, сжатый до состояния жидкости,
холодный, но жгучий, точно расплавленный металл,
легко взрывает могучую, древнюю породу, я не мог не
вспомнить слова иеромонаха.
На моих глазах была взорвана огромная скала —
Богатырь, если не ошибаюсь. Мы стояли в двух сотнях
шагов от нее, когда она несколько раз глухо охнула,
вздрогнула, окуталась белыми облаками; странно бы-
стро растаяли эти облака, а скала показалась мне шире,
ниже, но общая форма не очень заметно изменилась,
только трещины стали обильнее, глубже. Я был удивлен,
не заметив ни одного, даже маленького, камешка, взбро-
шенного на воздух.
— Это и не требуется, — объяснил мне один из
строителей, инженер. — Зачем терять энергию бесплод-
но? Мы нагружаем заряд до максимума его силы, и вся
она тратится на внутреннее разрушение породы, а на
бризантное разметывающее действие взрыва не остается
ничего.
Мне очень понравился такой экономный метод раз-
рушения. Было бы чудесно, если б можно было перене-
сти его из области техники в область социологии. .А то
вот мещанство, взорванное экономически, широко раз-
бросано «бризантным» действием взрыва и снова весьма
заметно врастает в нашу действительность.
Ночью, над рекой и далеко по берегам вспыхивают
голубые огни электрических фонарей. Днепр заплески-
вает их шелковые отражения, но они светятся на темных
волнах, точно куски неба в тучах, гонимых ветром.
Я стою на балконе во втором этаже, любуясь игрою
огня на воде и странными тенями в каменных рытвинах
изуродованного берега. Тени разбросаны удивительно
затейливо, похожи на клинопись и вызывают желание
прочитать их.
— Весною над крышей этого дома будет одинна-
дцать метров воды, — спокойно рассказывает инженер.
Молчу, соображая: дом стоит метров на десять выше
уровня реки.
— Образуется озеро до тех двух фонарей, — видите?
Вижу. Фонари очень далеко, среди сероватых, бес-
плодных холмов.
— А вверх по течению — за мост.
Мост висит над рекою на высоте не меньше двадцати
метров, но мне говорят, что он тоже окажется глубоко
639
под водою. Очень трудно вообразить озеро такого объе-
ма и такой глубины, поднятое на эти холмы.
Вспоминаются слова одного из библейских проро-
ков, который, должно быть, предвидел развитие тру-
довой техники в XX веке: «На горах станут воды».
— В древности такие грандиозные фокусы, говорят,
делал бог, — замечаю я. — Неважный был строитель,
нам приходится переделывать все по-своему, по-новому.
Затем инженер рассказывает, что этот кружевной и
точно взвешенный в воздухе мост был взорван банди-
том Махно.
— Взорвали неумело, посредине, а надо было рвать
в пятке, с берега, тогда бы весь мост рухнул в Днепр.
Дикий «батько», наверное, был бы крайне оскорблен
убийственным пренебрежением, с которым говорят
о его неумении разрушать мосты.
— Мы хотели отправить этот мост на Турксиб, но
отказались от этой мысли: разобрать и перевезти его
туда стоило бы дороже, чем построить новый там, на
месте.
Теплый бархат ночи богато расшит, украшен голу-
бым серебром огней, в сумраке стремительно катятся
волны Днепра, река точно хочет излиться в море рань-
ше, чем люди возьмут ее в плен и заставят работать на
себя. Все вокруг сказочно. Сказочен голубой огонь, рож-
денный силою падения воды. И сказочен этот крепкий
человек рядом со мною, человек, который изменяет лицо
земли, такой внешне спокойный, но крепко уверенный
в непобедимой силе знания и труда.
Он уходит отдохнуть, я тоже спускаюсь вниз с песча-
ного холма, на котором стоит дом, иду по размятой до-
роге к реке. Около штабеля бревен, пригнанных пло-
тами с верховьев Днепра, кучка людей, человек пять.
Сквозь сумрак тихим ручейком течет мутная речь:
— Днепр — это, как говорится, стихия, свободная
сила, значит, железными перегородками ее, на пути
к морю, не удержат, нет. Вот поглядим, что скажет
весна, половодье.
Я знаю, что это говорит бездействующий, сытенький
старичок, очень аккуратно одетый и похожий на дьячка.
Утром он подходил ко мне и с почтительностью излиш-
ней, фальшиво улыбаясь, спрашивал, не помню ли я ка-
занского крендельщика Кувшинова. Затем в течение дня
я несколько раз видел в разных местах его фигуру,
640
похожую на тень. Он йз тех старичков, которым все,
чего они не понимают, кажется глупым и вредным. Мед-
ленно шагая, слышу его поучающий голосок:
— Всякой реке положено протекать в пространство,
и жизнь человеческая тоже в пространство будущего
влечется тихонько, да-а...
Сильно постарел, но все еще жив тот сказочный, но
не очень остроумный парень, который на свадьбе пел за
упокой.
Странно, что и в наше время поистине великих задач
есть молодые люди, поющие в голос таким старичкам.
При первом, общем взгляде на работу Днепростроя
видишь, что все усилия людей направлены на укроще-
ние строптивой реки. Но уже скоро забывается о том,
что Днепр не укрощен, и кажется, что с ним — покон-
чено. Уже выстроен целый городок каменных домов, дей-
ствует фабрика-кухня, школа, театр, расклеены афиши
о гастролях артиста Александрийского театра Юрьева.
По широким улицам новенького, веселого города бегают
здоровые ребята, мелькают красные повязки комсомо-
лок, галстуки пионеров.
В просторной, светлой столовой фабрики-кухни, в
углу, за столом, накрытым чистой белой скатертью,
украшенным какими-то растениями в цветочных горшках,
сидит человек, обедает и, одновременно, читает газету.
Он весь, с головы до ног, покрыт пылью, рыжеватые во-
лосы его тоже обильно напудрены. Расстегнутый ворот
рубахи обнажает очень белую шею и такую же грудь.
Ест он поспешно, и хотя смотрит не в тарелку, а в сто-
рону, в газету, однако весьма метко попадает вилкой
в куски мяса. Читая, он улыбается, кивает головой, но
вдруг, нахмурясь, наклонился ближе к листу газеты.
Две рослые уборщицы в белых платках перешепты-
ваются, любуясь им, — человек красивый.
Вот он сердито и машинально ткнул вилкой в тарел-
ку—кусок мяса соскочил на скатерть, парень вонзил
в него вилку, а на скатерти осталось пятно. Тогда парень
покраснел, оглянулся и, видя, что уборщицы улыбаются,
покраснел еще более густо, уже до плеч и, тоже улы-
баясь, виновато развел руками.
— Сплоховал, — сказал он уборщицам.
Это, конечно, мелочь. Но мне она понравилась. Мне
кажется, что за нею скрыто новое и правильное отноше-
ние к общественному добру.
641
Я слишком часто говорю о себе? Да, это — верно. Но
как же иначе? Я — свидетель тяжбы старого с новым. Я
даю показания на суде истории перед лицом трудовой
молодежи, которая мало знает о проклятом прошлом и
поэтому нередко слишком плохо ценит настоящее, да и
недостаточно знакома с ним.
Мне, разумеётся, известно, что Днепрострсй посе-
щают многочисленные экскурсии молодежи, но я видел
людей, которые живут в десятках верст от этой гранди-
озной стройки, а не только не посетили ее, даже не
имеют представления о том, для чего затеяна эта работа
и какое значение будет она иметь для Украины.
Поэзия трудовых процессов все еще недостаточно
глубоко чувствуется молодежью, а пора бы уже чувство-
вать ее. В Союзе Социалистических Советов трудятся
уже не рабы, покорно исполняющие приказания хозяев,
в Союзе работают на себя свободные люди. Если рань-
ше смысл труда был неясен рабочему, если раньше
меньшинство богатело, а трудовой народ оставался ни-
щим, то ведь теперь это отношение в корне изменилось,
и все, что делается рабочим, делается им для себя, на
завтрашний день. Но и раньше, при условиях подневоль-
ного и нередко бессмысленного труда, рабочий все-таки
мог и умел работать с тем пламенным наслаждением, ко-
торое называется «пафосом творчества» и может быть
выражено во всем, что делает человек: делает ли он по-
суду, мебель, одежду, машины, картины, книги. Именно
в труде, и только в труде, велик человек, и чем горячей его
любовь к труду, тем более величествен сам он, тем
продуктивнее, красивее его работа.
Есть поэзия «слияния с природой», погружения в ее
краски и линии, это — поэзия пассивного подчинения
данному зрением и умозрением. Она приятна, умиротво-
ряет, и только в этом ее сомнительная ценность. Она —
для покорных зрителей жизни, которые живут в стороне
от нее, где-то на берегах потока истории.
Но есть поэзия преодоления сил природы силою воли
человека, поэзия обогащения жизни разумом и вообра-
жением, она величественна и трагична, она возбуждает
волю к деянию, это — поэзия борцов против мертвой,
окаменевшей действительности для создателей новых
форм социальной жизни, новых идей.
ПРИМЕЧАНИЯ
В примечаниях содержатся краткие сведения о жизни и твор*
честве писателей, произведения которых вошли в эту книгу, и ука-
зываются наиболее полные литературно-критические работы об этих
писателях. Все даты приводятся по новому стилю.
МАЛЫШКИН
Александр Георгиевич
(21 марта 1892 г. — 3 августа 1938 г.)
Родился в селе Богородском (Пензенская губерния) в кресть-
янской семье. Детство провел в уездном городе Мокшанске. Окон-
чил Пензенскую гимназию, а затем, в 1916 году, филологический
факультет Петроградского университета.
Еще до революции появились первые рассказы Малышкиназ
«Сутуловские святки» (1914 г.), «Полевой праздник» (1914 rj,
«Уездная любовь» (1915 г.) и др. Их основная тема — захолустная
уездная жизнь России, ее духовная ограниченность и пошлость,
безудержный разгул купцов, чиновников и офицеров, драмы и стра-
дания «маленьких людей».
В 1916 году Малышкин был призван в армию, служил на Чер-
номорском флоте, где его застала Октябрьская революция.
С 1919 года Малышкин в Красной Армии. Принимал участие
в гражданской войне на Восточном, Туркестанском и Южноу фрон-
тах, работал в штабе М. В. Фрунзе.
Впечатления гражданской войны легли в основу его первого
крупного произведения — повести «Падение Дайра», которую он
писал в 1921 году, когда еще не отгремели военные события. Позже
он вспоминал: «Это было в 1921 году в Таврии. В те дни, во время
писания, приходилось еще иногда, по ночам, стрелять в форточку
из нагана, чтобы отпугнуть бандитскую шпану» («Советские писа-
тели. Автобиографии в 2-х томах», т. 2. М., Гослитиздат, 1959*
стр. 26).
С 1923 года Малышкин живет писательским трудом.
Видное место в советской прозе занимает повесть Малышкина
«Севастополь», законченная в 1931 году. По словам писателя, это
произведение «о некоторых путях и распутьях русской интеллйген-
643
ции». Повесть в известной мере автобиографична. Ее герой — мнч-
май Шелехов — становится на путь разрыва с мелкобуржуазной
средой, которая оказывала на него влияние. В нем происходит про-
цесс духовного выпрямления. Выходец из демократической интелли-
генции, он закономерно приходит к принятию революции, становится
активным участником общенародной освободительной борьбы.
В 30-е годы Малышкин, как и многие другие советские писа-
тели, ездит по стране, пристально всматривается в те великие пе-
ремены, которые происходят в годы первых пятилеток. Он посе-
щает такие новостройки, как Магнитогорск, Челябинский трактор-
ный завод, Днепрогэс. Его интересуют не только эти индустриаль-
ные гиганты, небывалые в России, но и, в первую очередь, люди,
чьими руками они создаются. «Меня интересовала главным образом
психология бывших «уездных людей», у которых у станка исчезает
мелкособственнический и шкурный подход к работе» (там же).
В 1938 году Малышкин закончил самое значительное свое про-
изведение— роман «Люди из захолустья». Писатель ярко рассказал
о том, как бывшие «маленькие люди» становятся людьми творче-
ского труда, созидающего социализм.
М. И. Калинин, говоря о методе социалистического реализма
как об основном методе советской литературы, ссылался на роман
Малышкина: «Примером такой работы в известной степени может
служить роман Малышкина «Люди из захолустья». Здесь удиви-
тельно конкретно, в соответствии с жизненной правдой, показан
рост людей из маленьких городов захолустья на больших стройках.
У нас этот рост идет повсюду и во всех сферах человеческой дея-
тельности» (М. И. Калинин. О литературе. Сборник статей и вы-
сказываний. Лениздат, 1949, стр. 90).
Повесть «Падение Дайра» печатается по изданию: А. Ма-
лышкин. Сочинения в 2-х томах, т. 1. М., изд-во «Правда», 1965.
ИВАНОВ
Всеволод Вячеславович
(24 февраля 1895 г. — 15 августа 1963 г.)
Родился в поселке Лебяжье Семипалатинской области, в семье
сельского учителя. После окончания поселковой школы учился
в Павлодарской сельскохозяйственной школе.
В поисках заработка переменил много профессий, часто менял
место жительства. Был приказчиком, матросом, наборщиком, сочи-
нял комические сценки для балагана, выступал борцом, фокусни-
ком, куплетистом. Жил в Омске, Кургане, Екатеринбурге, Ташкенте,
Бухаре. Усиленно занимался самообразованием, пробовал писать
рассказы, некоторые из них при содействии Горького были на-
печатаны.
Гражданская война застает Вс. Иванова в Сибири (Омск). Он
принимает участие в борьбе с колчаковщиной.
М. Горький .хорошо помнил Вс. Иванова. Получив от него
письмо, он отвечал ему в декабре 1920 года: «Все эти годы я думал
о Вас и почти каждого, приезжавшего из Сибири, спрашивал: не
встречал ли он Вас... И порою я думал: «Должно. быть, погиб
Иванов. Жаль». А вот Вы живы, да еще хотите ехать в Питер.
Это — превосходно» (М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах,
644
т. 29. М., Гослитиздат, 1955, стр. 396; в дальнейшем в ссылках ука-
зывается лишь том и страница).
При помощи М. Горького в 1921 году Вс. Иванов приезжает
в Петроград. Здесь он сходится с молодыми писателями, также
начинающими 'свой литературный путь, — К. Фединым, Н. Тихоно-
вым, В. Кавериным, М. Зощенко и др.
В 1921 году была опубликована повесть Вс. Иванова «Парти-
заны» — о гражданской войне в Сибири, о выступлении трудового
крестьянства против колчаковщины.
В том же 1921 году Вс. Иванов опубликовал повесть «Броне-
поезд 14-69», посвященную партизанской борьбе на Дальнем Во-
стоке. По мотивам этого произведения Вс. Иванов создал пьесу,
которая была поставлена во МХАТе к десятилетию Октябрьской
революции. Руководил спектаклем К. С. Станиславский, главную
роль (Вершинина) играл В. И. Качалов. В 20-е годы Вс. Ивано-
вым было написано немало других произведений: повесть «Хабу»
(1925 г.), «Гибель железной» (1928 г.) и др.
В 30-е годы Вс. Иванов пишет во многом автобиографический
роман «Похождения факира» (1935 г.); вновь возвращается к теме
гражданской войны в романе «Пархоменко» (1939 г.).
М. Горький высоко ценил творчество Вс. Иванова. «Слежу за
Вашей работой с восхищением, — талантливый Вы человек», — пи-
сал он ему, но в то же время указывал на его недостатки: на то-
ропливость, а иногда и небрежность, на злоупотребление диалек-
тизмами, на то, что писатель порою недостаточно тщательно отби-
рает факты, смешивая значительное с второстепенным. Вс. Иванов
внимательно прислушивался к советам Горького, дорабатывал и со-
вершенствовал свои произведения.
В годы Великой Отечественной войны Вс. Иванов пишет' публи-
цистические статьи и рассказы на патриотические темы. В 1946 году
вышел его роман «При взятии Берлина».
Интересны воспоминания Вс. Иванова «Встречи с Максимом
Горьким» (1947 г.). В них приводится много интересных фактов,
воссоздается яркий образ Горького — доброжелательного, и строгого
наставника молодых советских писателей.
В послевоенные годы Вс. Иванов выступал с публицистическими
статьями в защиту мира, с очерками и рассказами, написал пьесу
«Ломоносов» (1953 г.).
В 1960 году вышла его книга «Мы идем в Индию». Написан-
ная на автобиографическом материале, она содержит интересные
и яркие картины предреволюционной жизни России.
Повесть «Бронепоезд 14-69» печатается по изданию: Вс. Ива-
нов. Избранные произведения в 2-х томах, т. 2. М., Гослитиздат,
1968.
, СЕЙФУЛЛИНА
Лидия Николаевна
(3 апреля 1889 г. — 25 апреля 1954 г.)
Родилась в станице Варламово (Оренбургская губерния).
Отец Сейфуллиной — татарин по национальности — крестился и
был сельским священником. Семья часто переезжала с места на
место. Окончив Омскую женскую гимназию, Сейфуллина с семна-
645
дцати лет вела трудовую жизнь: была учительницей, драматической
актрисой, конторской служащей, библиотекаршей. Немалое время
она работала в сельских местностях, хорошо знала жизнь русского
крестьянства, что позже отразилось в ее произведениях.
В автобиографии Сейфуллина писала: «Я — человек, рожден-
ный и выросший в старом укладе, с иной моралью, с другими цен-
ностями. Мне было двадцать восемь лет, когда пришел Октябрь.
Я выбирала сознательно и добровольно, уйти ли мне с ушедшими
или остаться гражданкой новой России.
Я не только выбрала Советскую Россию. В возрасте еще более
сознательном, в тридцать два года, я начала печататься в совет-
ских журналах, среди которых аполитичных нет. Этим самым я для
себя навсегда определила идеологическую основу моих произведе-
ний» («Советские писатели. Автобиографии в 2-х томах», т. 2. М.<
Гослитиздат, 1959, стр. 324).
Первые произведения Сейфуллиной о деревне революционных
лет — «Перегной» (1922 г.) и «Виринея» (1924 г.)—сразу же по-
ставили ее в первые ряды советских писателей.
В «Перегное» Сейфуллина нарисовала яркие картины классо-
вой борьбы в деревне в первые годы Советской власти.
В повести «Виринея» писательница впервые показала в совет-
ской литературе русскую крестьянку, которая порьгвает с бытовыми
и социальными унижениями и становится участницей революцион-
ной борьбы.
Повесть Сейфуллиной «Правонарушители» (1923 г.)—первое
произведение советской литературы на тему перевоспитания мало-
летних правонарушителей. Тема эта была особенно актуальной
в начале 20-х годов, когда десятки тысяч детей лишились родите-
лей, погибших на фронтах гражданской войны, умерших от голода
и болезней. А. Макаренко, автор «Педагогической поэмы», весьма
высоко ценил это произведение, видя в нем горьковскую веру
в человека.
В начале 20-х годов, находясь в Новосибирске, Сейфуллина
приняла участие в организации одного из наших первых литера-
турно-художественных журналов — «Сибирские огни», работала его
секретарем. Здесь публиковались ее первые произведения.
В 20-е годы Сейфуллиной созданы рассказы: «Ноев ковчег»,
«Александр Македонский», «Старуха», «Инструктор „Красного мо-
лодежа“». Их основная тема — духовное выпрямление людей под
влиянием революции. Эти люди далеко не совершенные, но они
«могут понимать революцию».
С 1923 года Сейфуллина живет в Москве. Она быстро входит
в литературную жизнь столицы, её гостеприимную квартиру охотно
посещают писатели: С. Есенин, А. Новиков-Прибой, М. Шолохов,
М. Пришвин, И. Бабель и др.
Она продолжает активную творческую жизнь, печатает серию
новых рассказов, среди которых выделяется «Мужицкий сказ
о Ленине». «Только о том мужик рассказывает сказы, что вошло
в его сердце и память в живых образах, чему он поверил», — пи-
шет Сейфуллина, сумев передать в форме бесхитростного крестьян-
ского рассказа глубокую общенародную любовь к В. И. Ленину.
Сейфуллина совершает заграничную поездку (Турция, Польша,
Германия, Чехословакия, Франция), публикует свои путевые очерки.
В 30-е годы Сейфуллина писала сравнительно мало. Среди се
произведений этого времени выделяются рассказы «Собственность»
646
и «Таня» — о необходимости борьбы с пережитками прошлого в со-
знании людей. «Мы все друг за друга отвечаем» — таков основной
мотив этих произведений.
За литературные заслуги Сейфуллина в 1939 году была награж-
дена орденом Трудового Красного Знамени.
В годы Великой Отечественной войны писательница выступает
с публицистическими статьями, призывающими к разгрому фашист-
ских захватчиков, работает в армейской газете, выезжает на фронт.
В одном из подразделений она была награждена значком «Гвар-
дия», и бойцы ласково называли ее «Гвардии мамаша». На основе
военного материала ею была написана повесть «На своей земле».
Творческое наследие Сейфуллиной не очень велико, но весьма
значительно. А. Фадеев писал: «Одна из зачинателей, она оставила
глубокий след в развитии советской литературы. Мне лично она
всегда была дорога как человек кристальной чистоты и прямоты,
как чудесный товарищ, как учитель, поддержавший мои первые
шаги в литературе» («Литературная газета», 4 апреля 1959 г.).
Повесть «Перегной» печатается по изданию: Л. Сейфулли-
на. Собр. соч. в 4-х томах, т. 1. М., Гослитиздат, 1968.
ШОЛОХОВ
Михаил Александрович
(Род. 25 мая 1905 г.)
Родился на хуторе Кружилином, станицы Вешенской, бывшей
области Войска Донского (ныне — Ростовская область), в семье
разночинца.
Закончил четыре класса гимназии, занятия прервались в 1918
году. Работал учителем в начальной школе, каменщиком, канцеляр-
ским работником. Усиленно занимался самообразованием. «С 1920
года служил и мыкался по донской земле. Долго был продработ-
ником. Гонялся за бандами, властвовавшими на Дону до 1922 бэда,
и банды гонялись за нами. Все шло как положено» («Советские
писатели. Автобиографии в 2-х томах», т. 2. М., Гослитиздат, 1959,
стр. 693). В одном из боев Шолохов был схвачен махновцами, ему
угрожал расстрел, он был отпущен лишь по малолетиости.
В 1922 году Шолохов приезжает в Москву, чтобы продолжить
образование. Он хочет учиться на рабфаке, но возникают бытовые
трудности, заставляющие его искать заработка. «В Москве я очу-
тился в положении одного из героев Артема Веселого, который
пришел после окончания гражданской войны регистрироваться на
биржу труда. «Какая у вас профессия?» — спросили его. «Пулемет-
чик», — ответил он. Но профессия пулеметчика тогда уже не так
была нужна, как во время гражданской войны» («Правда»,
31 июля 1934 г.). Шолохов работает грузчиком, каменщиком, сче-
товодом...
Испытывая тягу к литературному труду, Шолохов сближается
с молодыми, начинающими писателями, занимается в литератур-
ном кружке. Он пишет свои первые рассказы, изображая картины
гражданской войны на Дону. Журналы «Огонек», «Прожектор»,
«Смена» охотно печатают колоритные рассказы молодого талант-
ливого писателя, некоторые из них выходят отдельными изданиями.
647
Эти произведения составили сборник «Донские рассказы», который
вышел в 1926 году с предисловием А. Серафимовича.
Вспоминая свои первые шаги в литературе, Шолохов писал?
«Лично я по-настоящему обязан Серафимовичу, ибо он первый под-
держал меня в самом начале моей писательской деятельности, он
первый сказал мне слово одобрения, слово признания... Никогда
я не забуду 1925 год, когда Серафимович, ознакомившись с пер-
вым сборником моих рассказов, не только написал к нему теплое
предисловие, но и захотел повидаться со мною. Наша -первая встре-
ча состоялась в 1-м Доме Советов. Серафимович заверил меня, что
я должен продолжать писать, учиться. Советовал работать серьезно
над каждой вещью, не торопиться» («Известия», 18 января
1938 г.).
В 1925 году Шолохов возвращается на родину и приступает
к большому произведению о гражданской войне на Дону. В 1928 го-
ду был опубликован первый том всемирно известного романа-
эпопеи «Тихий Дон» (роман был закончен писателем в 1939 году).
Уже первый том этого произведения позволил А. В. Луначарскому
сделать следующий вывод: «Еще не законченный роман Шолохова
«Тихий Дон» — произведение исключительной силы по широте кар-
тин, знанию жизни и людей, по горечи своей фабулы. Это произ-
ведение напоминает лучшие явления русской литературы всех вре-
мен» («Красная панорама», 1929, № 1, стр. 5). М. Горький с высо-
кой похвалой отозвался о третьей части «Тихого Дона», указав, что
это — «произведение высокого достоинства».
В начале 30-х годов Шолохов по свежим следам событий соз-
дает первую книгу своего знаменитого романа «Поднятая целина»
((1932 г.). Писатель, живя на родине, принимает активное участие
в общественно-политической жизни своего края. В 1932 году Шо-
лохов вступает в партию. В 1937 году он избирается депутатом
Верховного Совета Союза ССР, в 1939-м — действительным членом
'Академии наук СССР. В эти годы Шолохов совершает заграничные
поездки, выступает как активный борец против фашизма, принимает
деятельное участие в общественно-литературной жизни страны.
В 1939 году он награждается орденом Ленина «За выдающиеся
успехи и достижения в развитии советской литературы». В 1941 го-
ду Шолохову присуждена Государственная премия за роман «Тихий
Дон». Позже за это произведение ему была присуждена Нобелев-
ская премия.
С началом Великой Отечественной войны Шолохов — военный
корреспондент «Правды» и «Красной звезды». Он публикует статьи,
очерки и рассказы, призывающие к разгрому врага, среди которых
выделяется рассказ «Наука ненависти». В 1943 году «Правда» на-
чинает печатать главы из романа Шолохова «Они сражались за
родину».
В послевоенные годы Шолохов продолжает работать над ро-
маном, принимает активное участие в общественно-политической
жизни страны как депутат Верховного Совета, член Комитета За-
щиты Мира, член Правления Союза писателей, участник междуна-
родных конгрессов. Писатель постоянно выступает с публицистиче-
скими статьями. В день своего пятидесятилетия он награждается
вторым орденом Ленина.
В 1957 году опубликован рассказ Шолохова «Судьба чело-
века»— выдающееся произведение советской литературы. В 1958 го-
ду писатель закончил вторую книгу'«Поднятой целины» — крупней-
648
шего произведения о великом переломном этапе в жизни нашего
парода.
Творчество Шолохова пользуется общенародным признанием
и любовью. Его произведения издаются многотысячными тиражами,
многие из них экранизированы.
«Шолохов — глубоко партийный художник. Коммунистическая
идейность в сочетании с высоким мастерством писателя-реалиста де-
лает его книги действенным средством воспитания нового человека,
способного преодолевать любые трудности, беззаветно верящего
в победу дела народа» («Правда», 24 мая 1955 г.).
Рассказы, вошедшие в эту книгу, печатаются по изданию?
М. Шолохов. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1. М., Гослитиздат,
1956.
БАБЕЛЬ
Исаак Эммануилович
(13 августа 1894 г.— 17 марта 1941 г.)
Родился в Одессе, в семье торговца* Обучался в коммерческом
училище. Очень упорно занимался по учебной программе и самооб-
разованием. Отлично знал французский язык, с пятнадцати лет на
этом языке писал рассказы.
Жил в Киеве, в 1915 году приехал в Петербург, где встретился
с М. Горьким. В автобиографии Бабель писал: «Он научил меня не-
обыкновенно важным вещам, и потом, когда выяснилось, что два-
три сносных моих юношеских опыта были всего только случайной
удачей и что с литературой у меня ничего не выходит и что я пишу
удивительно плохо, — Алексей Максимович отправил меня в люди»
(«Советские писатели. Автобиографии в 2-х томах», т. 1. М., Гос-
литиздат, 1959, стр. 101).
С 1917 по 1924 год Бабель был солдатом на румынском фронте,
работал в чека, в Наркомпросе, находился , в Первой Конной армии,
сотрудничал в газетах и журналах.
Наиболее яркое впечатление оставило у Бабеля пребывание
среди конников армии С. М. Буденного. Бабель находился в Кон-
армии как корреспондент РОСТА (Российское телеграфное агент-
ство), работал в газете «Красный кавалерист», издававшейся полит-
отделом Конармии. Яркие события и впечатления этого времени
легли в основу многих его рассказов, которые начали появляться
в газетах и журналах с 1923 года. Они были объединены в книгу
«Конармия» (1926 г.), включавшую 26 рассказов.
Вторым значительным циклом произведений Бабеля являются
«Одесские рассказы», относящиеся к дореволюционному быту
России.
Бабель никогда не забывал советов и напутствий М. Горь-
кого. Он писал ему в 1925 году? «В людях я прожил шесть лет и
в. 1923 вновь принялся за литературную работу. Меня мучила
мысль о том, что я обманул Ваши ожидания. Но теперь Вы зна-
ете, что я не обленился, не забросил писания, не забыл слов, ска-
занных Вами мне в первый раз в кабинете «Летописи», на Мо-
нетной улице. Я не забыл их, Алексей Максимович. Они помогают
мне в минуты неверия. Изо всех сил я буду стараться писать
проще, душевнее, искреннее, чем писал до сих пор. И если я буду
649
ошибаться, то прошу Вас — не теряйте веры в меня» («Горький и
советские писатели. Неизданная переписка». — «Литературное на-
следство», т. 70. М., «Наука», 1963, стр. 38—39).
М. Горький высоко ценил талант Бабеля и в то же время
не переставал предъявлять к писателю все большие требования.
Так, он писал ему: «У всех, кто искренне любит литературу, в том
числе и у меня, есть к Вам особое, исключительное отношение: от
Вас, очей?? талантливого и мудрого человека, ждут каких-то осо-
бенно четких и больших работ» (там же, стр. 43).
Бабель отличался упорной и настойчивой работой над своими
произведениями. Так, он писал одному из редакторов, который то-
ропил его с представлением рукописи: «В третий раз принялся пе-
реписывать сочиненные мной рассказы и с ужасом увидел, что по-
требуется еще одна переделка — четвертая, на этот раз явно по-
следняя. Ничего не поделаешь. О том, как мне солоно приходится,
не хочу и говорить». (И. Бабель. Избранное. М., «Художествен-
ная литература», 1966, стр. 442).
Помимо прозы Бабель пробовал свои силы и в драматургии.
Его пьеса «Закат» (1935 г.) связана с мотивами «Одесских расска-
зов». В пьесе «Мария» (1935 г.) писатель хотел запечатлеть ге-
роиню гражданской войны, но на переднем плане оказались обы-
ватели, жулики и спекулянты. Горький считал эту пьесу неудач-
ной, упрекал Бабеля за натурализм.
Бабель задумал пьесу о коллективизации, но не успел осу-
ществить свой замысел.
Он был полон веры в социалистическое строительство, с. на-
деждой смотрел на будущее. В своем выступлении на Первом съез-
де писателей Бабель говорил: «В истории человечества не было
такого времени, когда за ведущим классом (а в нашей стране за
рабочим классом и его партией) шли бы миллионы и десятки мил-
лионов трудящихся людей, спаянных одной мыслью, одной идеей и
стремлением... Со здания социализма снимаются первые леса. Са-
мым близоруким видны уже очертания этого здания, красота его.
й мы все — свидетели того, как нашу страну охватило могучее
чувство просто физической радости» («Первый всесоюзный съезд
советских писателей». М., Гослитиздат, 1934, стр. 278—279) .
Рассказы из книги «Конармия» печатаются по изданию: И. Ба-
бель. Избранное. М., Гослитиздат, 1966.
ФАДЕЕВ
Александр Александрович
(24 декабря 1901 г.— 13 мая 1956 г.)
Родился в городе Кимры Тверской губернии (ныне — Калинин-
ская область) в семье сельского фельдшера. Детство и юность
провел на Дальнем Востоке (Южно-Уссурийский край). Жил во
Владивостоке, учился в коммерческом училище.
Еще юношей Фадеев вступает на путь революционной борьбы.
В 1918 году он был принят в Коммунистическую партию. Он уча-
ствует в партизанском движении против Колчака и интервентов,
затем сражается в рядах Красной Армии, ведущей борьбу в При-
морье против японских захватчиков и в Забайкалье против банд
атамана Семенова.
650
Позже Фадеев говорил: «Как писатель, своим рождением я обя-
зан этому времени. Я познал лучшие стороны народа, из которого
вышел. В течение трех лет вместе с ним я прошел тысячи кило-
метров дорог, спал под одной шинелью и ел из одного солдатского
котелка» (А. Фадеев. За тридцать лет. М., «Советский писа-
тель», 1957, стр. 459).
В 1921 году Фадеев был делегатом X съезда партии, в числе
других участников съезда он принимал участие в подавлении
контрреволюционного кронштадтского мятежа, был тяжело ранен
в бою. После выздоровления находился на руководящей партийной
работе в Москве и на Северном Кавказе.
В 1923 году было опубликовано первое произведение Фаде-
ева— повесть «Разлив», по которой уже можно судить о главной
теме будущего творчества писателя: Фадеев выносит на первый
план решающее значение в революционной борьбе твердого орга-
низующего начала, направленного против слепой стихии и анар-
хии. Еще более отчетливо эта тема была поставлена в рассказе
«Против течения» (более позднее название — «Рождение Амгунь-
ского полка»).
В 1926 году Фадеев завершил работу над романом «Разгром».
С этого момента он прочно вошел в советскую литературу. Глав-
ная тема романа — «огромнейшая переделка людей» — была вы-
полнена Фадеевым в лучших традициях русской реалистической
литературы. В работе над романом Фадеев учился у Л. Толстого
высокому умению изображать «диалектику души» — сложные пси-
хологические состояния людей. «Разгром» был единодушно признан
значительной вехой в развитии советской прозы, выдающимся про-
изведением социалистического реализма. М. Горький неоднократно
отзывался об этом романе с очень высокой похвалой: «Фадеев —
определенно серьезный и грамотный писатель, увидите» (т. 30,
стр. 33), — писал он в 1927 году.
В конце 20-х годов Фадеев начинает писать роман «Последний
из удэге» — о гражданской войне на Дальнем Востоке. Он про-
должал работать над ним и в 30-е годы, но роман остался неза-
конченным.
В 30-е годы Фадеев работает в Союзе писателей, выступает
с докладами и статьями^ посвященными советской литературе.
В годы Великой Отечественной войны писатель принимает ак-
тивное участие во фронтовой печати. В 1944 году вышла его
книга «Ленинград в дни блокады (из дневника)». В 1945 году он
публикует свой широко известный роман «Молодая гвардия»
(в 1951 году им была создана вторая редакция этого произ-
ведения) .
К. Федин писал о Фадееве: «Его книги представляют собой
единство, своего рода одну тему, многосложную внутренне, но
монолитную по выражению, как героическая былина. От рассказа
«Против течения» к роману «Разгром», от романа «Последний из
удэге» к роману «Молодая гвардия» звучит основной, все время
ярко слышимый лейтмотив, несущий композицию произведения:- че-
ловек в борьбе за коммунизм» (К. Федин. Сочинения в 6-ти то-
мах, т. 6. М., Гослитиздат, 1954, стр. 526).
В послевоенные годы Фадеев задумывает роман о рабочем
классе «Черная металлургия», который он не успел завершить.
Фадеев играл весьма большую роль в общественно-литератур-
ной жизни нашей страны: он постоянно выступал как теоретик
65Г
литературы, критик и публицист, был видным общественным де-
ятелем и борцом за мир, неоднократно избирался в руководящие
советские и партийные органы, был председателем Комитета ио при-
суждению Государственных премий.
Фадеев пользовался большой любовью и уважением советских
писателей, многим из них он оказал существенную помощь в твор-
ческой работе.
Вся жизнь и творчество Фадеева неразрывно связаны с герои-
ческой борьбой советского народа в деле построения коммунисти-
ческого общества.
Отвечая на приветствия в честь своего пятидесятилетия, Фа-
деев говорил: «Все лучшее, что я сделал, — на все это вдохновила
меня наша партия. И я горжусь тем, что состою в нашей великой
Коммунистической партии, и считаю это огромной честью для себя»
(А. Фадеев. За тридцать лет. М., «Советский писатель», 1957,
стр. 952).
Рассказ «Рождение Амгуньского полка» печатается по изданию:
А. Фадеев. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1959.
ФУРМАНОВ
Дмитрий Андреевич
(7 ноября 1891 г. — 15 марта 1926 г.)
Родился в селе Середа бывшей Костромской губернии (ныне —
г. Фурманов Ивановской области).
Детство провел в Иваново-Вознесенске. В 1908 году окончил
здесь торговую школу. Учился в реальном училище (г. Кинешма),
после окончания которого поступил в 1912 году в Московский
университет, сперва на юридический, а затем на историко-филоло-
гический факультет.
В ноябре 1914 года добровольцем ушел в армию, работает в
военно-санитарных поездах «братом милосердия», публикует в га-
зетах фронтовые очерки.
В конце 1916 года возвращается в Иваново-Вознесенск, ве-
дет активную просветительскую и общественно-политическую работу
среди рабочих.
После Октябрьской революции Фурманов принимает активное
участие в работе Иваново-Вознесенского Совета, где встречается
с М. В. Фрунзе. Эта встреча имела для него большое значение: по
рекомендации М. В. Фрунзе Фурманов в июле 1918 года вступает
в партию большевиков. В связи с этим он писал в дневнике:1
«Я — коммунист-большевик, если иметь в виду всю ту работу, что
несу и веду за время революции. Всю революцию я рос полити-
чески и наконец дорос до более или менее ясного сознания своей
кровной близости с научным коммунизмом... Теперь... прибило
к мраморному, могучему берегу. На нем построю я свою твер-
дыню — убеждения. Только теперь начинается моя сознательная
работа, определенно, классовая, твердая, уверенная, нещадная
борьба с классовым врагом. До сих пор это было плодом настрое-
ний и темперамента; отселе это будет еще, — и главным образом, —
плодом научно обоснованной смелой теории» (Дм. Ф у р м а н о в.
Собр. соч, в 4-х томах, т. 4. М., Гослитиздат, 1961, стр. 147, 153).
652
Фурманов с увлечением отдается советской и партийной ра-
боте, а в январе 1919 года отправляется во главе Иваново-Возне-
сенского рабочего отряда на Восточный фронт. Он назначается ко-
миссаром 25-й (чапаевской) дивизии, ведущей борьбу с колчаков-
цами и белоказаками.
В августе 1919 года М. В. Фрунзе назначает Фурманова ра-
ботником политотдела Туркестанского фронта. В марте 1920 года
во главе группы партийных работников Фурманов направлен в го-
род Верный (ныне — Алма-Ата) на ликвидацию контрреволюцион-
ного мятежа. В августе этого же года участвует в разгроме вран-
гелевского отряда на Кубани, за что награжден орденом боевого
Красного Знамени.
Позже Фурманов работает в армейских политотделах, редакти-
рует газету «Красный воин». В то же время он продолжает лите-
ратурную работу: публикует статьи и очерки о гражданской
войне.
Весной 1921 годах Фурманов демобилизуется и переезжает
в Москву. В том же году он заканчивает свое первое значитель-
ное произведение о гражданской войне — повесть «Красный десант»
и усиленно работает над романом «Чапаев».
«Чапаев» был опубликован в 1923 году и сразу же принес его
автору литературную известность. Это было первое произведение
советской литературы, в котором ярко и глубоко была показана
руководящая роль Коммунистической партии в революционной
борьбе.
Следующим крупным произведением Фурманова был его роман
«Мятеж» (1925 г.). Изображая ликвидацию контрреволюционного
мятежа, писатель сумел передать неотразимую силу большевист-
ских идей, умение коммунистов влиять словами убеждения. Мятеж
ликвидирован большевиками без единого выстрела!
М. Горький с одобрением отнесся к романам Фурманова.
«И «Чапаев» и «Мятеж» — интереснейшие и глубоко поучительные
книги», — писал он ему. В то же время Горький указывал и на
писательские просчеты автора: «Обе ваши книги написаны не эко-
номно и многословно, изобилуют повторениями и разъяснениями»
(М. Горький. Письма о литературе. М., «Советский писатель»,
1957, стр. 307—308).
Романы Фурманова сыграли весьма большую роль в зарож-
дении и развитии советской прозы. Оглядываясь на путь, пройден-
ный советской литературой, К. Федин писал в 1951 году: «Фурма-
нов дал критике первую твердую опору в ее требованиях к писа-
телям показать героя нового времени, — опору искомого и долж-
ного в советской литературе... Такого решения задачи, как герои
Фурманова, кроме этого писателя, тогда еще никто не дал» (К. Ф е-
д и н. Сочинения в 6-ти томах, т. 6. М., Гослитиздат, 1954, стр. 533,
534).
Помимо названных произведений у Фурманова есть немало
очерков, рассказов, повестей, посвященных революционной борьбе
иваново-вознесенских рабочих, значению Октябрьской революции
в духовной жизни нашего народа («Талка», «Как убили отца»,
«В восемнадцатом году» и др.). В 1925 году им был закончен цикл
путевых очерков «Морские берега», в которых он с радостью писал
о переходе народа к мирному созидательному труду.
Лаконично и выразительно писал о Фурманове А. Серафимо-
вич в статье «Умер художник революции»:
653
«Что нужно в большевике? Чтоб он во всякой работе, во
всякой деятельности был одним и тем же — революционным ра-
ботником, революционным борцом.
Таков был т. Фурманов. Он был одним и тем же и в партий-
ной работе, и в бою, и с пером в руке за писательским столом.
Один и тот же: революционный боец, революционный строитель,
одинаково не поддающийся и одинаково гибкий» («Правда», 17 мар-
та 1926 г.).
Повесть «Красный десант» печатается по изданию: Дм. Фур-
манов. Собр. соч. в 4-х томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1961.
НЕВЕРОВ (СКОБЕЛЕВ)
Александр Сергеевич
(1 января 1887 г. — 24 декабря 1923 г.)
Родился в селе Новиковка (бывшая Самарская губерния,
ныне — Ульяновская область), в крестьянской семье. Рано начал
трудовую жизнь: работал «мальчиком» в самарской типографии,
в галантерейной и мануфактурной лавках. Уже будучи взрослым,
учился в сельской школе. Работал сельским учителем,
С 1906 года публикует рассказы и очерки, в которых изобра-
жает тяжелую жизнь крестьянства, его тягу к знаниям («Авдотьи-
на жизнь», «Серые дни», «Баба-Иван» и др.).
В 1915 году был мобилизован в армию.
После Октябрьской революции сблизился с эсерами, но впослед-
ствии отошел от них. Об этом времени Неверов писал: «Мы слы-
шим только топот ног революции, но не знаем ее сердца... Я — не
коммунист. Часто брюзжу, как обыватель, слюни развожу, но
когда сажусь писать о коммунистах, я понимаю их, художник во
мне побеждает обывателя» («Советские писатели. Автобиографии
в 2-х томах», т. 2. М., Гослитиздат, 1959, стр. 119).
В начале 20-х годов, откликаясь на революционную современ-
ность, Неверов пишет рассказы («Красноармеец Терехин», «Поль-
ка-мазурка», «Шкрабы») и пьесы («Гражданская война», «Бабы»,
«Захарова смерть»). Ознакомившись с пьесами, присланными на
специальный конкурс, А. Блок охарактеризовал «Захарову смерть»
как «бытовую драму, написанную прекрасным русским языком,
правдиво изображающую некоторые стороны современной деревен-
ской жизни» (А. Б л о к. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 6. М. — Л., Гос-
литиздат, 1962, стр. 328).
В 1923 году Неверов публикует свои наиболее известные по-
вести: «Андрон Непутевый», «Гуси-лебеди», «Ташкент — город
хлебный».
Андрон Непутевый — бедняк, решительно вступающий в рево-
люционную борьбу. «Не жалеть нельзя и жалеть нельзя», — гово-
рит Андрон, по-своему выражая сущность гуманизма трудового на-
рода. Борьба идет трудная, кровавая, но иной дороги к новой
жизни не существует.
Так же думает и герой неоконченного произведения «Гуси-ле-
беди»— большевик Трофим Федякин. «Не хочу я крови челове-
ческой, — а другой дороги нет», — говорит он. В этих словах глу-
боко выражена сложность и трудность революционной борьбы, в
которой переплетаются любовь к человеку и сознание необходи-
654
мости вооруженного сопротивления социальному гнету. Произведе-
ния Неверова без прикрас рисуют суровую классовую борьбу в де-
ревне в первые годы революции.
Среди других произведений Неверова выделяются его рассказы
для детей («Санька храбрый», «Борькин рассказ», «Ленин»); он один
из зачинателей советской детской литературы.
Повесть «Ташкент — город хлебный» печатается по изданию:
А. Неверов. Ташкент — город хлебный. Л. — М., Гослитиз-
дат, 1965.
ЛАВРЕНЕВ
Борис Андреевич
(17 июля 1891 г. — 7 января 1959 г.)
Родился в Херсоне, в семье педагога-словесника. Учился в гим-
назии, поступил на юридический факультет Московского универси-
тета. С увлечением писал стихи, подражая Лермонтову, символи-
стам.
В год окончания университета (1915) был призван на воен-
ную службу.
После Октябрьской революции Лавренев добровольно идет
в Красную Армию. Служит в артиллерийских частях, командует
бронепоездом. После ранения работает в редакции фронтовой га-
зеты «Красная звезда» (Ташкент).
С 1923 года Лавренев живет в Ленинграде, занимается лите-
ратурным трудом, становится профессиональным писателем. Впе-
чатления гражданской войны легли в основу многих его рассказов
и повестей, которые сразу же принесли ему литературную из-
вестность.
В повести «Ветер» (1924 г.) писатель нарисовал романтическую
картину гражданской войны; герой повести — матрос Василий Гу-
лявин, беззаветно преданный делу революции, погибает во имя ее
славы. Глубоко романтична и широко известная повесть Лавренеба
«Сорок первый» (1924 г.). В повести «Седьмой спутник» (1927 г.)
писатель показал себя как глубокий и тонкий художник-реалист.
В 1927 году им была написана пьеса «Разлом» — одно из лучших
произведений советской драматургии, на долгие годы вошедшее в
репертуар не только наших, но и многих зарубежных театров.
Среди произведений Лавренева 20-х годов выделяется его ро-
ман «Республика Итль» (1925 г.), в котором он подверг сатириче-
скому осмеянию буржуазное общество. М. Горький писал Лавре-
невуз «Познакомился с Вашей книгой «Крушение республики
Итль». Книга показала мне Вас человеком одаренным, остроумным
и своеобразным, — последнее качество для меня особенно ценно.
Обрадовался, захотелось узнать: кто Вы?» (т. 29, стр. 471).
Лавренев немало думал о задачах советского искусства, о ме-
сте художника в жизни. Он посвятил этому рассказ «Гравюра на
дереве» (1929 г.).
Выступая на Первом съезде советских писателей, Лавренев го-
ворила «Здесь смотрит нам в лицо глазами друга, любящими и яс-
ными глазами, вся наша изумительная родина в лице миллионов
ее требовательных и жадных читателей, и перед ними мы должны
почувствовать большую ответственность за наше творчество...»
655
(«Первый всесоюзный съезд советских писателей». М., Гослитиз-
дат, 1934, стр. 431—432).
В 30-е годы Лавренев продолжает работать весьма интенсивно.
Пишет очерки о жизни советского флота, повести «Стратегическая
ошибка» (1934 г.), «Большая земля» (1935 г.), «Чертеж Архимеда»
(1937 г.), продолжает работать и как драматург.
В годы Великой Отечественной войны Лавреневым написаны
пьесы о героических советских моряках: «Песнь о черноморцах»
(1943 г.), «За тех, кто в море» (1945 г.). В 1950 году им написан^1
пьеса «Голос Америки», разоблачающая нравы и политику буржу-
азного общества.
Коммунистическая партия и Советское правительство высоко
оценили вклад Лавренева в советскую литературу: писателю дваж-
ды была присуждена Государственная премия — в 1946 и 1950 годах.
В 1958 году Лавренев писал в своей автобиографии: «Я со-
ветский писатель. Всем, что мог сделать в литературе и что, мо-
жет быть, еще успею сделать, борясь с возрастом и болезнью,—
всем я обязан народу моей родины, ее простым людям, тружени-
кам, бойцам и созидателям. Они учили меня жить и мыслить вме-
сте с ними, они указывали мне дорогу, бережно поддерживали на
ухабах, жестко, но дружелюбно наказывали за ошибки» («Совет,
ские писатели. Автобиографии в 2-х томах», т. 1. М., Гослитиздат,
1959, стр. 622).
Повесть «Седьмой спутник» печатается по изданию: Б. Л а в-
р е н'е в. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 6. М., Гослитиздат, 1963.
ТОЛСТОЙ
Алексей Николаевич
(10 декабря 1883 г. — 23 февраля 1945 г.)
Родился в Николаевске (ныне — Пугачев) Саратовской области,
в семье помещика. Толстой принадлежал к знаменитому граф-
скому роду, который ко времени его рождения уже не обладал
былым состоянием.
В 1901 году заканчивает Самарское реальное училище и
осенью этого же года поступает в Петербургский технологический
институт. Участвует в студенческих сходках и забастовках, прохо-
дит практику на различных предприятиях.
Будучи студентом, он пробует свои литературные силы — пишет
рассказы и стихотворения в символистском духе, но в то же время
в них заметен его интерес к народному творчеству, к националь-
ным особенностям искусства. Литературные занятия целиком по-
глощают Толстого. Не защитив диплома, он оставляет Технологи-
ческий институт, совершает заграничные поездки (Германия, Фран-
ция), активно печатается в журналах. Сам Толстой считал нача-
лом своей литературной деятельности 1908—1910 годы, когда он,
по его словам, «напал на собственную тему». Это была тема выми-
рающих дворянских гнезд, именно она оказалась главной в его
сборнике повестей и рассказов «Заволжье» (1910 г.). Ознакомив-
шись с книгой, Горький писал, что Толстой «обещает стать боль-
шим, первостатейным писателем», что на него нужно обратить вни?
мание как на «писателя несомненно крупного, сильного и с жесто-
кой правдивостью изображающего психическое и экономическое
656
разложение современного дворянства» («Звезда», 1938, . № 3,
стр. 1G7). С этими мотивами были связаны и романы Толстого
«Чудаки» и «Хромой барин».
В годы первой мировой войны Толстой работает военным кор-
респондентом газеты «Русские ведомости», пишет рассказы и очер-
ки на военные темы.
Великая Октябрьская революция напугала Толстого, он сразу
не понял ее исторического содержания. Весной 1919 года он эмиг-
рирует за границу, живет в Париже, затем — в Берлине. Здесь
Толстой вплотную сталкивается с русскими белоэмигрантами, люто
ненавидящими Советскую Россию. Довольно скоро он убеждается,
что историческая правда на стороне большевиков. Здесь он пишет
повесть «Детство Никиты», полную поэтических воспоминаний о
своем детстве, приступает к роману «Хождение по мукам». Бело-
эмигранты косятся на Толстого, чувствуя, что он чужой в их
среде. Толстой и сам не скрывает этого, он публикует в берлин-
ской газете «Накануне» (14 апреля 1922 г.) открытое письмо, в ко-
тором заявляет о своем разрыве с эмиграцией и желании вер-
нуться на родину: «Я представляю из себя натуральный тип рус-
ского эмигранта, то есть человека, проделавшего весь скорбный путь
хождения по мукам. В эпоху великой борьбы белых и красных
я был на стороне белых... Россия не вся вымерла и не пропала.
150 миллионов живет на ее равнинах, живет, конечно, плохо, го-
лодно, вшиво, но, несмотря на тяжкую жизнь и голод, — не же-
лает все же ни нашествия иностранцев, ни отдачи Смоленска, ни
собственной смерти и гибели... Совесть зовет меня... ехать в Рос-
сию и хоть гвоздик свой собственный, но вколотить в истрепанный
бурями русский корабль».
В мае 1923 года Толстой возвращается на родину.
В рассказе «Рукопись, найденная под кроватью», в романе
«Ибикус, или похождения Невзорова», в повести «Эмигранты»
(«Черное золото») Толстой окончательно заклеймил русскую эми-
грацию. В то же время писатель все глубже входит в советскую
жизнь, пристально всматриваясь в новую действительность. Он
очень много и плодотворно работает: собирает материал для про-
должения романа «Хождение по мукам», заканчивает фантастиче-
ский роман «Аэлита», начатый еще в эмиграции, пишет новый ро-
ман в этом жанре — «Гиперболоид инженера Гарина», работает
как драматург («Заговор императрицы», «Азеф»). Особое место
в его творчестве 20-х годов занимают повести «Гадюка» и «Голу-
бые города», в которых он с ненавистью пишет о мещанах и обы-
вателях, воспрянувших в годы нэпа, и с большой любовью и со-
чувствием изображает людей, охваченных революционной роман-
тикой.
В 30-е годы Толстой заканчивает исторический роман «Петр
Первый», рисующий поворотный момент в истории России. По сло-
вам писателя, его интересовала в русской истории «родословная
нашей революции». В 1941 году он заканчивает свою знамени-
тую трилогию «Хождение по мукам» — широкую историческую
эпопею о приходе лучшей части русской интеллигенции к рево-
люции.
«...Вы знаете, что я очень люблю и высоко ценю Ваш большой,
умный, веселый талант, — писал Толстому М. Горький. — Талант
Ваш — просто большой, настоящий русский и — по-русски — ум-
ный...» (т. 30, стр. 279—280).
657
В 30-е годы Толстой ведет активную общественно-литератур-
ную работу: много ездит по стране, принимает участие в литера-
турных диспутах, в международных конгрессах, посвященных борь-
бе за мир, пишет публицистические статьи, обличающие фашизм.
Толстого избирают депутатом Верховного Совета СССР, действи-
тельным членом Академии наук СССР, ему присуждают Государ-
ственную премию за выдающиеся литературные достижения.
В годы Великой Отечественной войны Толстой выступает как
писатель-патриот, призывающий к разгрому фашистских захватчи-
ков. Этому посвящены его многочисленные публицистические статьи,
рассказы и очерки военных лет. В эту пору он написал драмати-
ческую повесть «Иван Грозный».
Вскоре после Октября В. И. Ленин говорил, что лучшая часть
русской интеллигенции тем или иным путем в конце концов при-
дет к революции, к признанию ее великой исторической правоты.
Жизненная и творческая судьба Толстого — убедительное подтверж-
дение этому. Сам Толстой писал: «Если бы не было революции,
в лучшем случае меня бы ожидала участь Потапенко: серая, бес-
цветная деятельность дореволюционного среднего писателя. Октя-
брьская революция мне как художнику дала все... До 1917 года
я не знал, для кого я пишу... Сейчас я чувствую живого читателя,
который мне нужен, который обогащает меня и которому нужен
я... Сейчас я ясно вижу в литературе мощное оружие борьбы про-
летариата за мировую культуру, и, поскольку я могу, я отдаю свои
силы этой борьбе» (А. Н. Толстой. Поли. собр. соч. в 15-ти то-
мах, т. 13. М., Гослитиздат, 1949, стр. 494).
Повесть «Голубые города» печатается по изданию: А. Н. Тол-
стой. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 4. М., Гослитиздат, 1958.
ГОРЬКИЙ (ПЕШКОВ)
Алексей Максимович
(28 марта 1868 г.— 18 июня 1936 г.)
Родился в Нижнем Новгороде, в мещанской семье. После крат-
кого обучения в приходской школе, которую «по бедности не окон-
чил», начинает трудовую жизнь: работает «мальчиком» у различ-
ных хозяев, судомойкой на пароходе.
Горький очень рано пристрастился к чтению, усиленно зани-
мался самообразованием и впоследствии стал одним из самых обра-
зованных людей России. Книжные знания сочетались у него с глу-
боким знанием народной жизни, чему способствовали его длитель-
ные странствия по России (Казань, Царицын, Тамбов, Тула, Моск-
ва, Донская область, Украина, Бессарабия, Черноморье, Тифлис,
Баку и др.). Впоследствии Горький в целом ряде рассказов описал
свои впечатления и встречи во время этих странствий («Челкаш»,
«Проходимец», «На соли», «Вывод», «Мой спутник», «Женщина»,
«В ущелье», «Емельян Пиляй», «Два босяка», «Чужие люди» и др.).
Во время этого «хождения» по Руси Горький работал грузчиком,
сторожем, весовщиком, булочником, садовником и т. п., тесно об-
щался с самыми демократическими слоями России, жил их стрем-
лениями и думами. В то же время у Горького были духовные связи
и с другой средой — с революционно настроенной интеллигенцией,
которая оказывала существенное влияние на его внутреннее раз-
658
витие. Довольно рано познакомился он с трудами русских марк-
систов.
Началом своей литературной работы Горький считал 1892 год,
когда был опубликован его рассказ «Макар Чудра». Вслед за этим
он систематически публикует свои произведения, в чем ему оказы-
вает помощь В. Короленко. Среди ранних произведений Горького
выделяются его романтические рассказы, созданные на основе на-
родных легенд («Старуха Изёргиль», «Девушка и смерть» и др.).
В 1898 году произведения Горького впервые выходят отдельным
книжным изданием — два томика по десять рассказов в каждом.
Они приносят ему широкую популярность. В 1898 году публикуется
первое крупное произведение Горького — повесть «Фома Гордеев».
К этому времени Горький оказывается тесно связанным с ре-
волюционной средой, за что неоднократно подвергается арестам,
С усилением революционного движения в России творчество писа-
теля приобретает все более острую политическую направленность.
В 1901 году он пишет пьесу «Мещане» и «Песню о Буревестнике»;
эти два произведения хорошо передают общий пафос горьковского
творчества — его ненависть к миру стяжательства, ничтожного про-
зябания и страстный порыв к революционной борьбе. В 1902 году
на сцене Московского Художественного театра ставится всемирно
известная пьеса Горького «На дне» (1902 г.), основным мотивом ко-
торой являются крылатые слова: «Человек — это звучит гордо!»
Кроме того, Горьким были написаны пьесы «Дачники» (1904 г.),
«Дети солнца» (1905 г.), «Враги» (1906 г.), призывавшие к револю-
ционным преобразованиям в России.
В 1906 году Горький совершает поездку в Америку с целью
сбора средств в партийную кассу большевиков. Здесь он пишет по-
весть «Мать», героем которой впервые в русской литературе стал
рабочий человек, борющийся за освобождение своего класса. По-
весть вызвала одобрение В. И. Ленина.
Выступления против царского правительства делают невозмож-
ным возвращение Горького в Россию, и он до 1913 года живет
в Италии, на Капри, поддерживая постоянную связь с большевист-
ской партией и лично с В. И. Лениным.
Продолжая литературную работу, Горький создает такие свои
известные произведения, как «Городок Окуров» (1909 г.), «Жизнь
Матвея Кожемякина» (1911 г.), «Детство» (1913 г.), «В людях»
(1914 г.).
Первая мировая война и Февральская революция активизиро-
вали общественно-политическую деятельность Горького, хотя он
иногда и допускал в ней отдельные ошибки, на что ему указывал
В. И. Ленин. Некоторые ошибочные суждения мы можем встретить
у Горького и в первые годы Октябрьской революции, когда он ока-
зался на общедемократических позициях вместо позиции пролетар-
ской. В. И. Ленин резко критиковал писателя и помог ему освобо-
диться от заблуждений.
В годы гражданской войны Горький много труда отдает работе
по привлечению интеллигенции на сторону советской власти, орга-
низует издательство «Всемирная литература», выпускающее произ-
ведения классиков для народного чтения. Велика роль Горь-
кого в сохранении культурных ценностей России. В конце 1921 года,
в связи с резким ухудшением здоровья, Горький по настоянию
В. И. Ленина едет лечиться за границу (Германия, Чехословакия)<
а после лечения по совету врачей поселяется в Италии. Находясь
659
за рубежом, он не порывает духовной связи с Родиной: активно
переписывается с рабочими, колхозниками, советскими писателями;
выступает со статьями, рассказывающими об успехах социалисти-
ческого строительства. В эту пору он пишет заключительную часть
автобиографической трилогии — повесть «Мои университеты»
(1923 г.), роман «Дело Артамоновых» (1925 г.) и приступает к на-
писанию эпопеи «Жизнь Клима Самгина», над которой он работал
до конца жизни.
В 1924 году, откликаясь на смерть В. И. Ленина, Горький соз-
дает свой знаменитый очерк «Владимир Ильич Ленин» (в 1930 году
он дорабатывал этот очерк). В этом произведении Горький сумел
донести до читателей образ Ленина — вождя и человека, рассказал
об огромном значении Владимира Ильича в своей собственной
жизни.
В 1928 году Горький возвратился в Советский Союз и совер-
шил длительную поездку по стране, в результате которой им был
создан цикл очерков-рассказов «По Союзу Советов». «Мне так ка-
жется, что я в России не был не шесть лет, а двадцать» — так го-
ворил Горький, восхищаясь успехами строительства социализма.
В конце 20-х — начале 30-х годов Горький развивает активную
общественно-литературную деятельность. Он является организато-
ром и редактором журналов «Наши достижения», «Колхозник»,
«За рубежом», «Литературная учеба», создает «Библиотеку поэта»,
выступает как страстный публицист, разоблачающий фашизм, при-
зывающий к борьбе за мир. Большое значение для развития совет-
ской литературы имели его статьи, развивавшие теорию социали-
стического реализма («О точке и о ,,кочке“», «О социалистическом
реализме», «О прозе» и др.). В 1934 году Горький выступил с до-
кладом на Первом съезде писателей, он был первым председателем
учрежденного на съезде Союза советских писателей. В то же время
Горький не прекращает творческую работу: продолжает писать
«Жизнь Клима Самгина» (последние главы романа остались неза-
вершенными), создает пьесы «Егор Булычев и другие», «Достигаев
и другие», «Сомов и другие».
Зачинатель и основоположник советской литературы Максим
Горький своим творчеством и своей общественно-литературной дея-
тельностью оказал огромное влияние на ее развитие. Современные
советские писатели наследуют и успешно развивают горьковские
традиции.
Первая и третья части цикла «По Союзу Советов» печатаются
по изданию: М. Горький. Собр, соч. в 30-ти томах, т. 17. М.»
Гослитиздат, 1952.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
А. Хватов. Александр Малышкин. Критико-биографический
очерк. М. — Л.^ Гослитиздат, 1959.
М. Ми нокин. Путь Всеволода Иванова к роману (20-егоды).
Орел, 1966.
Н. Яновский. Лидия Сейфуллина. Критико-биографический
очерк. М., «Советский писатель», 1959.
Ю. Лукин. Михаил Шолохов. Критико-биографический очерк.
Изд. 2. М., «Советский писатель», 1962.
П. Куприяновский. Художник революции. О Дмитрии
Фурманове. М., «Советский писатель», 1967.
К. Зелинский. А. А. Фадеев. Критико-биографический
очерк. М., «Советский писатель», 1956.
В. Скобелев. Александр Неверов. Критико-биографический
очерк. М., «Советский писатель», 1964.
И. Вишнев с к а я. Борис Лавренев. М., Гослитиздат, 1962.
В. Щербина. А. Н. Толстой. Творческий путь. М., «Совет-
ский писатель», 1956.
И. Груздев. Горький. М., «Молодая гвардия», 1960 (серия
«Жизнь замечательных людей»).
Е. Тагер. Творчество Горького советской эпохи. М., «На-
ука», 1964.
СОДЕРЖАНИЕ
Е. И. Наумов. Ранняя советская проза (20-е годы).... 5
Александр Малышкин. Падение Дайра...................37
Всеволод Иванов. Бронепоезд 14-69..................72
Лидия Сейфуллина. Перегной........................148
Михаил Шолохов. Из книги «Донские рассказы»
Бахчевник................................... 227
Чужая кровь.................................240
Жеребенок...................................259
Шибалково семя........................... 2G6
Нахаленок...................................270
Исаак Бабель. Из книги «Конармия»
Аргамак . ....................................296
Измена......................................301
Соль........................................306
Смерть Долгушова............................... 309
Александр Фадеев. Рождение Амгуньского полка . . ♦ 313
Дмитрий Фурманов. Красный десант ....... 349
Александр Неверов. Ташкент — город хлебный .... 379
Борис Лавренев. Седьмой спутник................479
Алексей Толстой. Голубые города................555
Максим Горький. Из цикла «По Союзу Советов» . . , 596
Примечания . 643
Рекомендуемая литература.......................661
РАННЯЯ СОВЕТСКАЯ ПРОЗА
Повести. Рассказы.
Редактор Б. Г. Друян
Художник И. 3. Семенцов
Художник-редактор О. И. Маслаков
Технические редакторы 3. М. Колесова, Т. А. Шермуиленко
Корректор Л, В. Берендюкова
Сдано в набор 1/XI 1971 г. Подписано к печати 22/II 1972 г.
Формат бумаги 84хЮ81/за’ Бумага тип. № 3.
Усл. печ. л. 34,86. Уч.-изд. л. 37,08. Тираж 100 000 вкз.
Заказ № 426.
Лениздат, Ленинград, Фонтанка, 59.
Ордена Трудового Красного Знамени
типография им. Володарского Лениздата,
Фонтанка, 57.
Цена 1 р. 21 к.