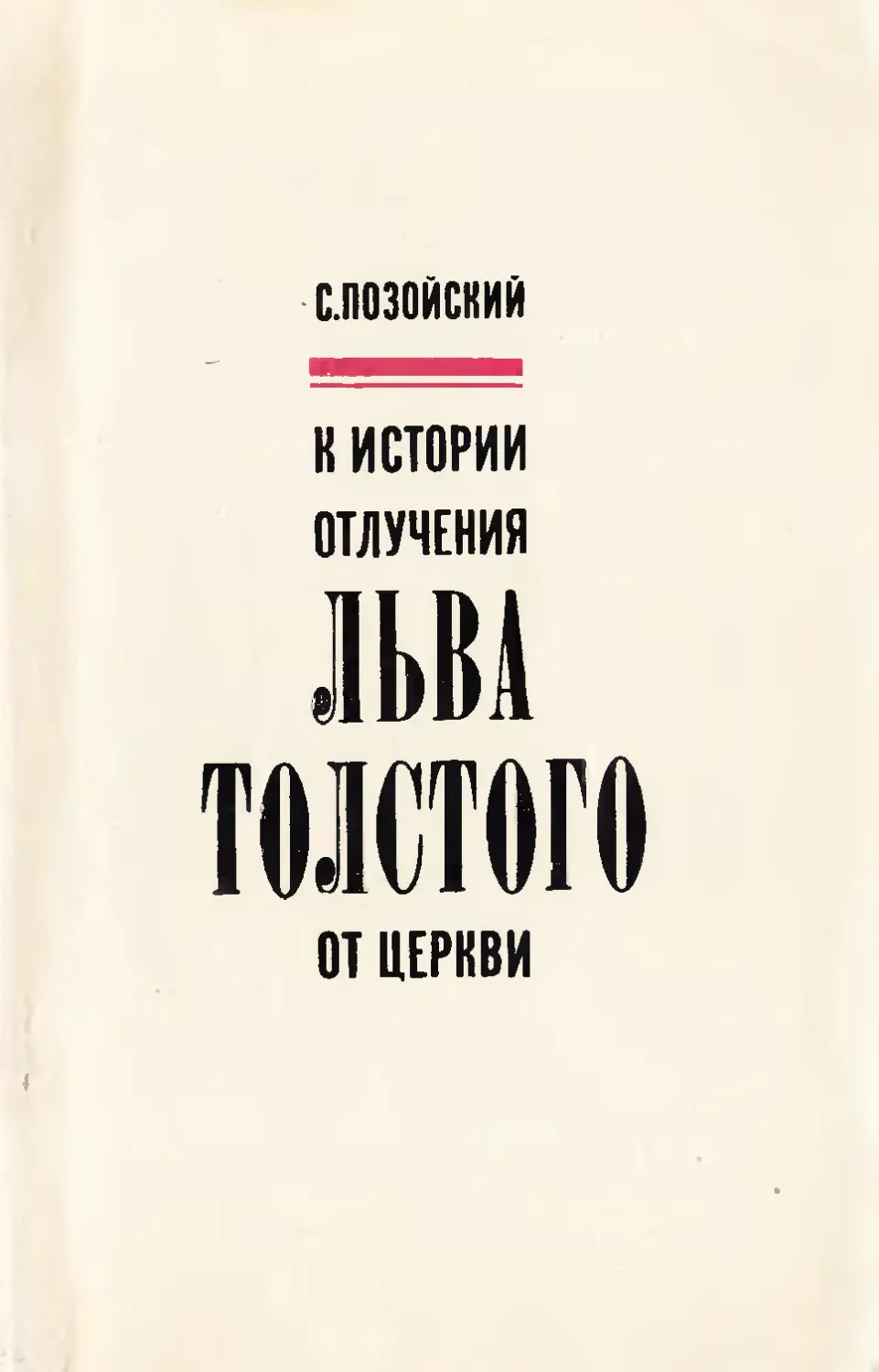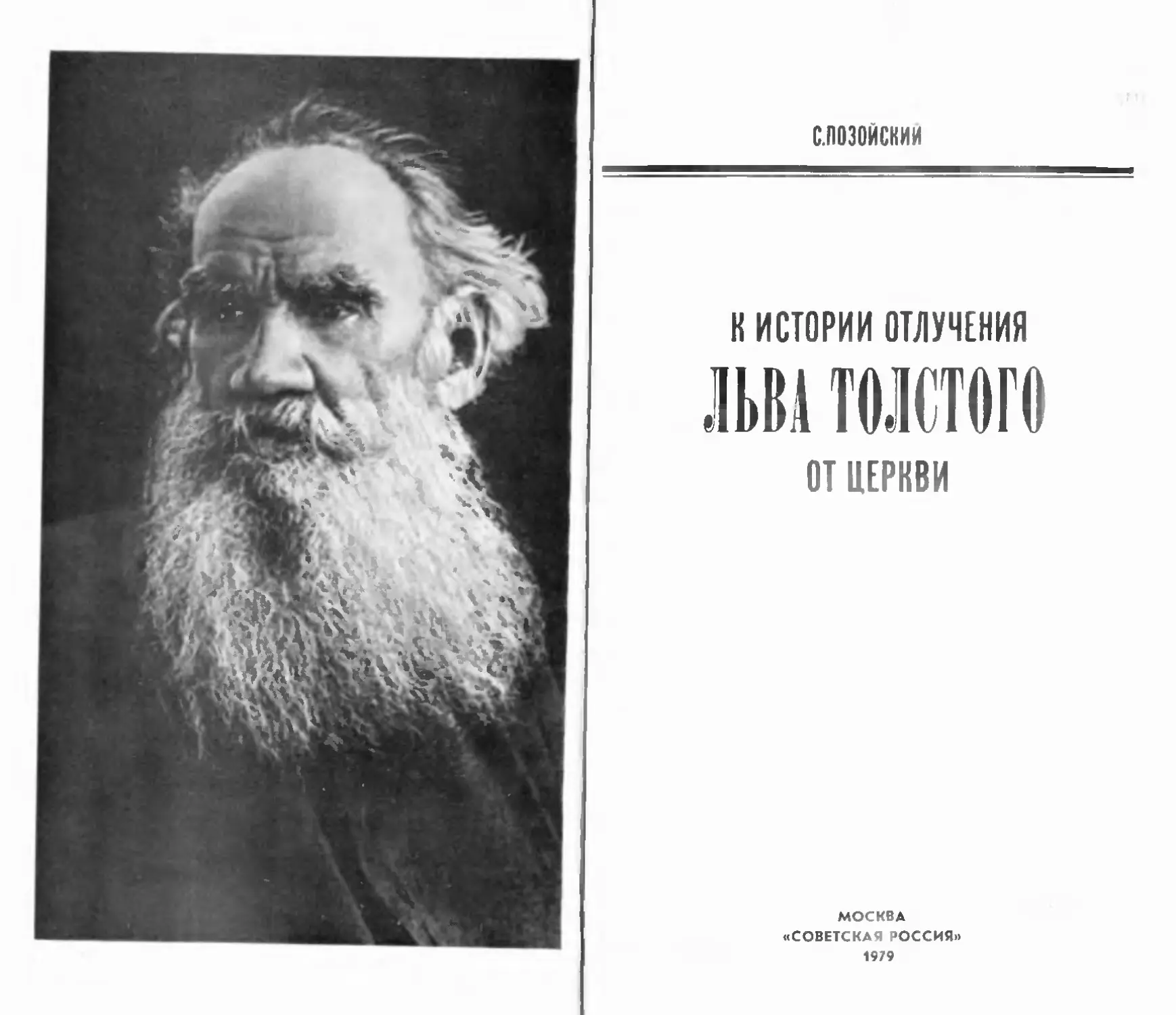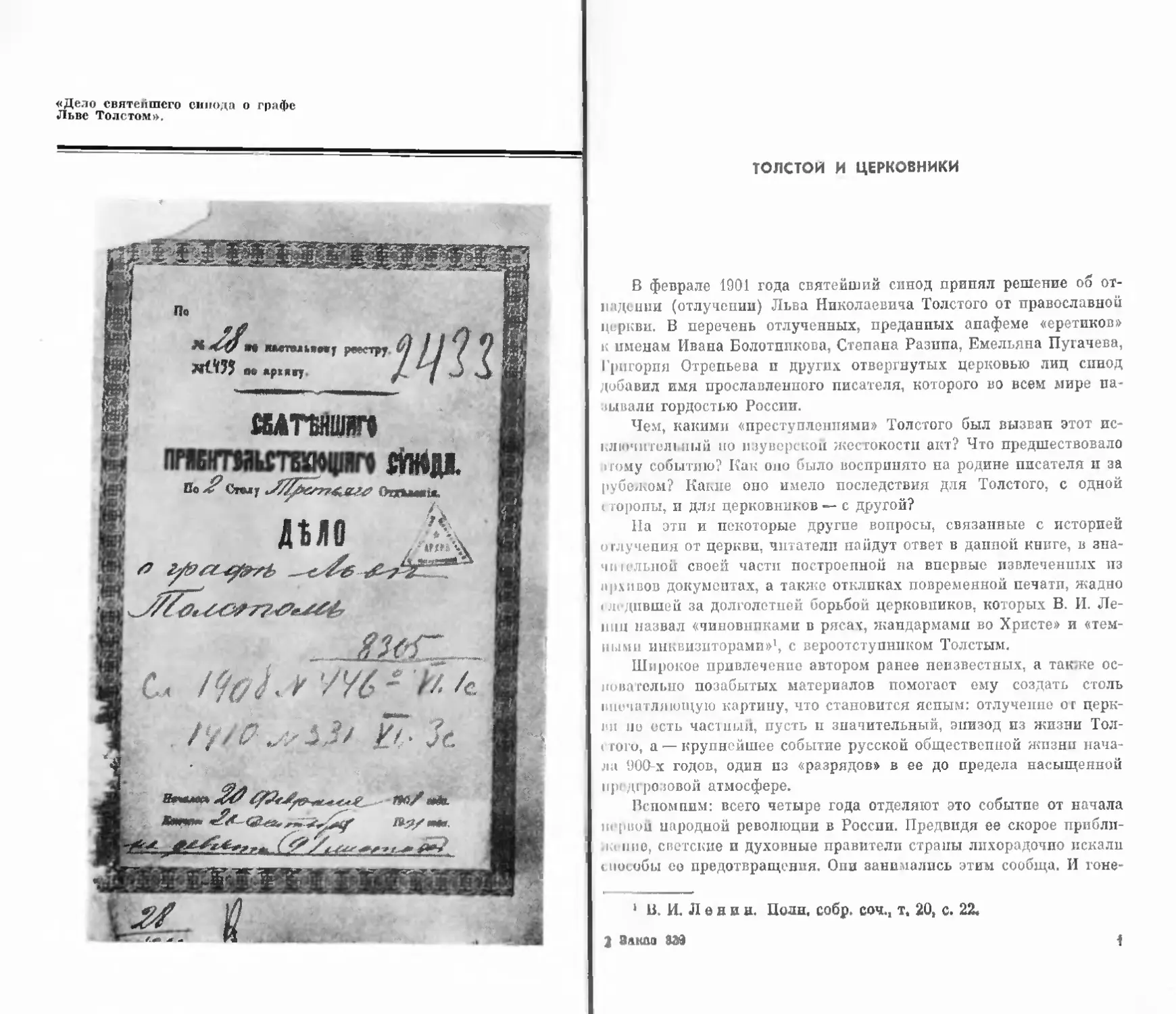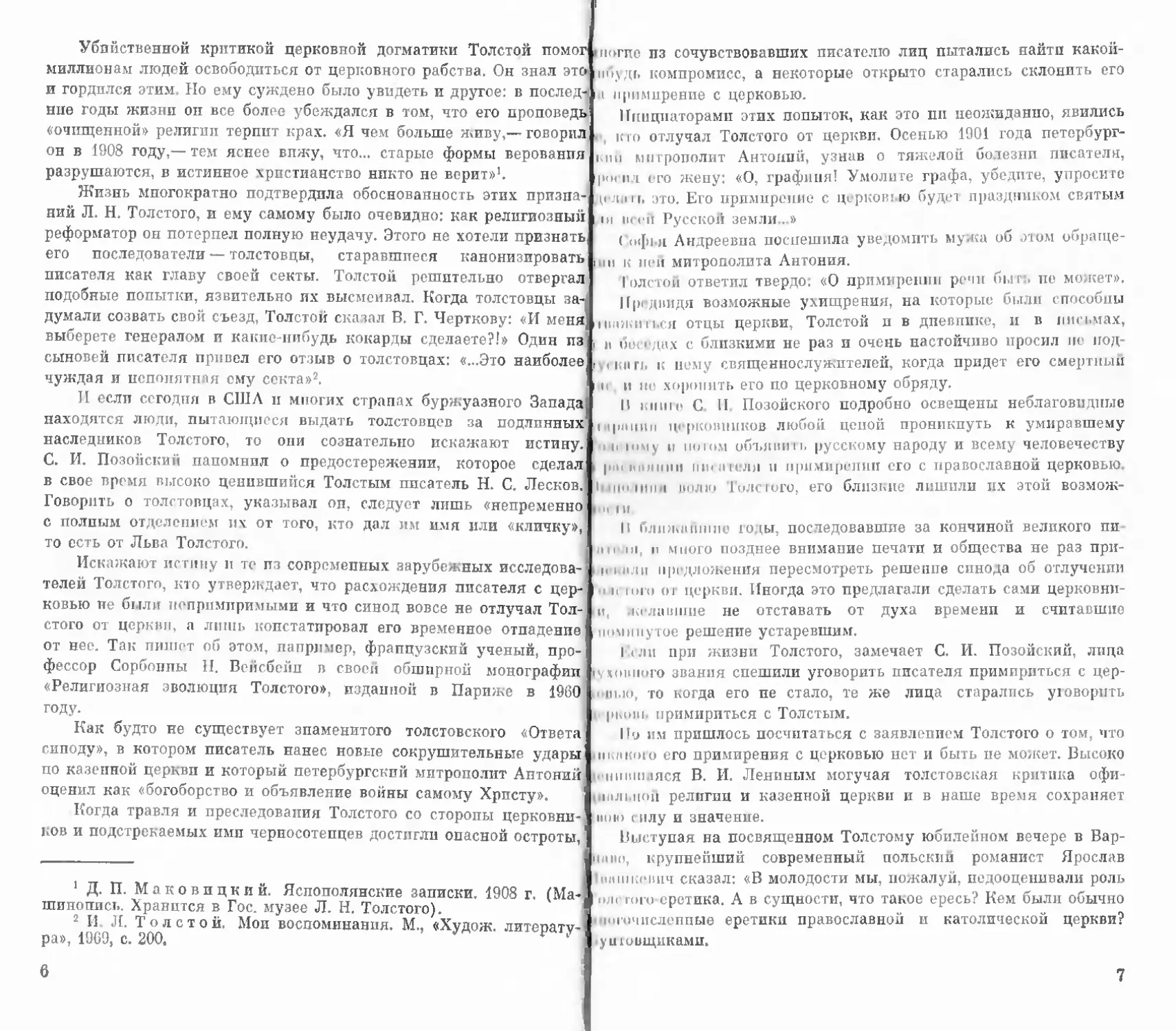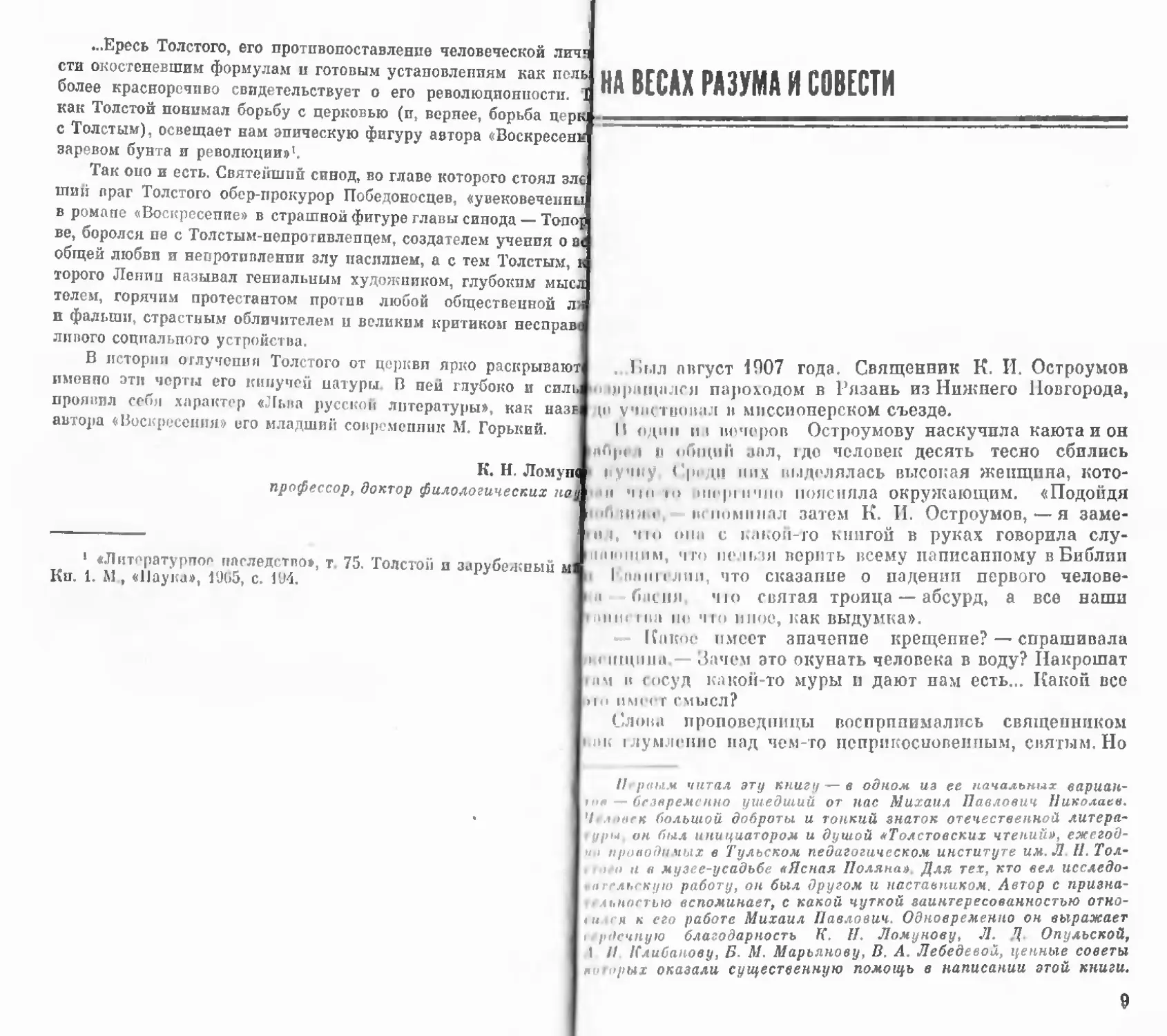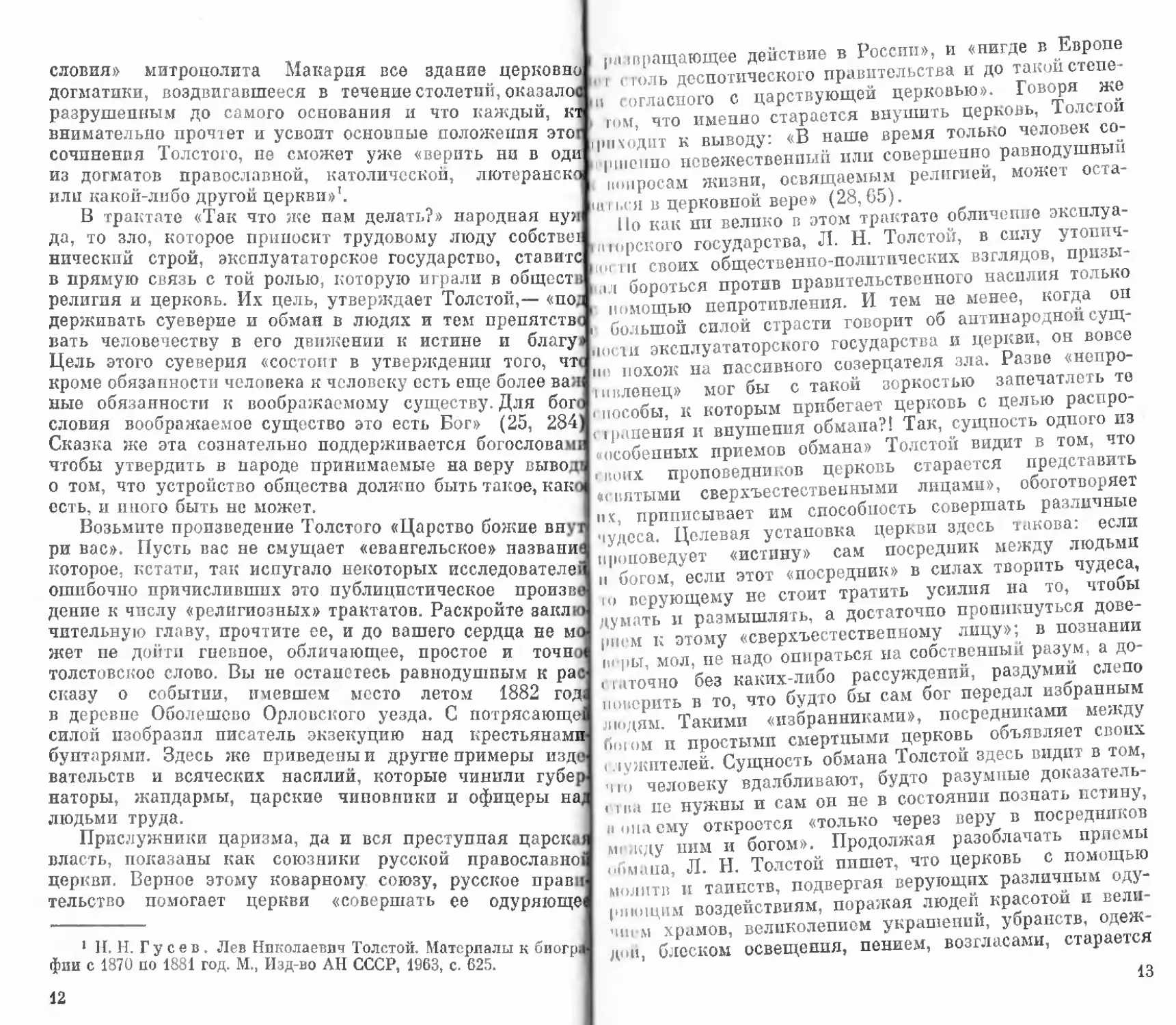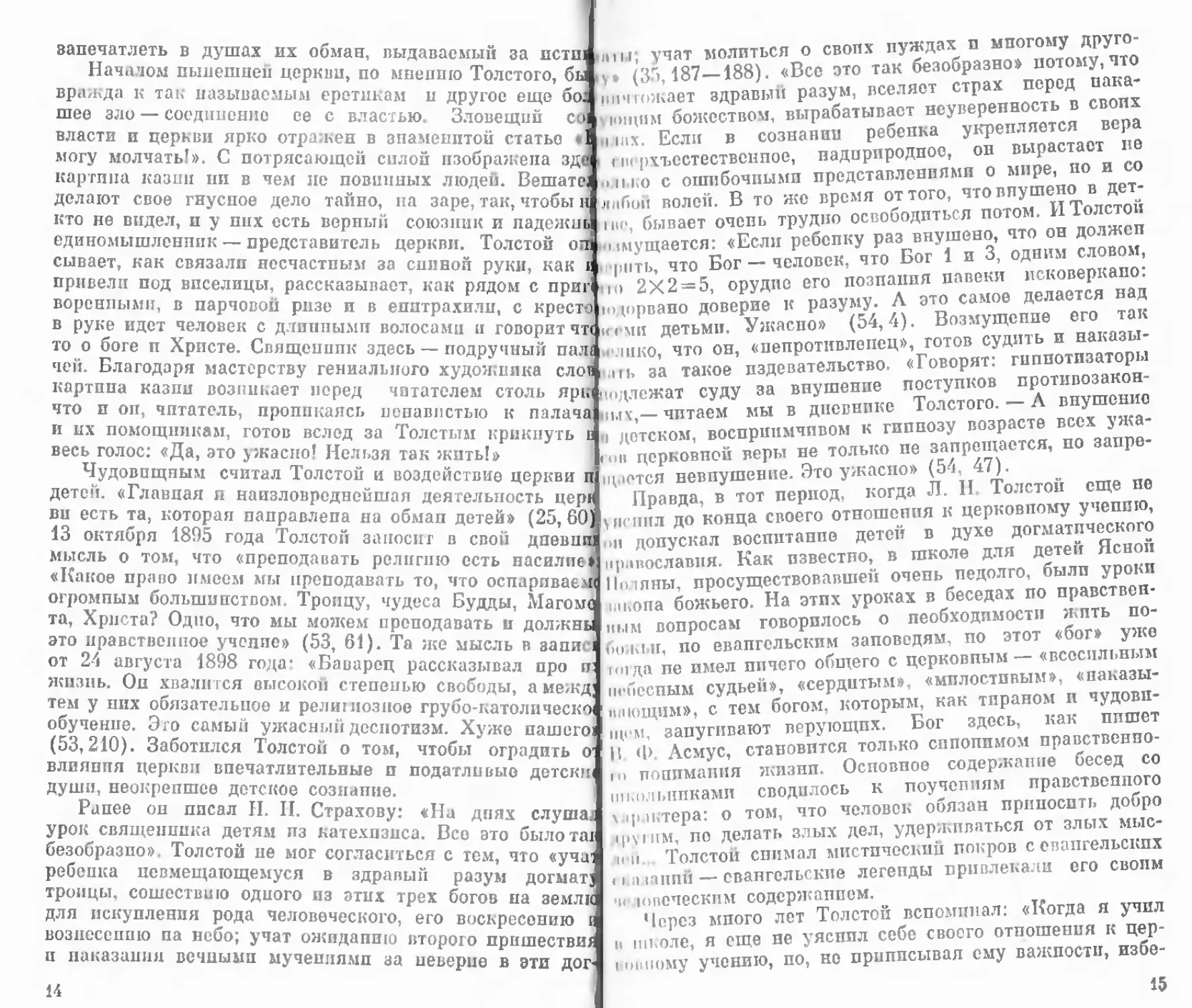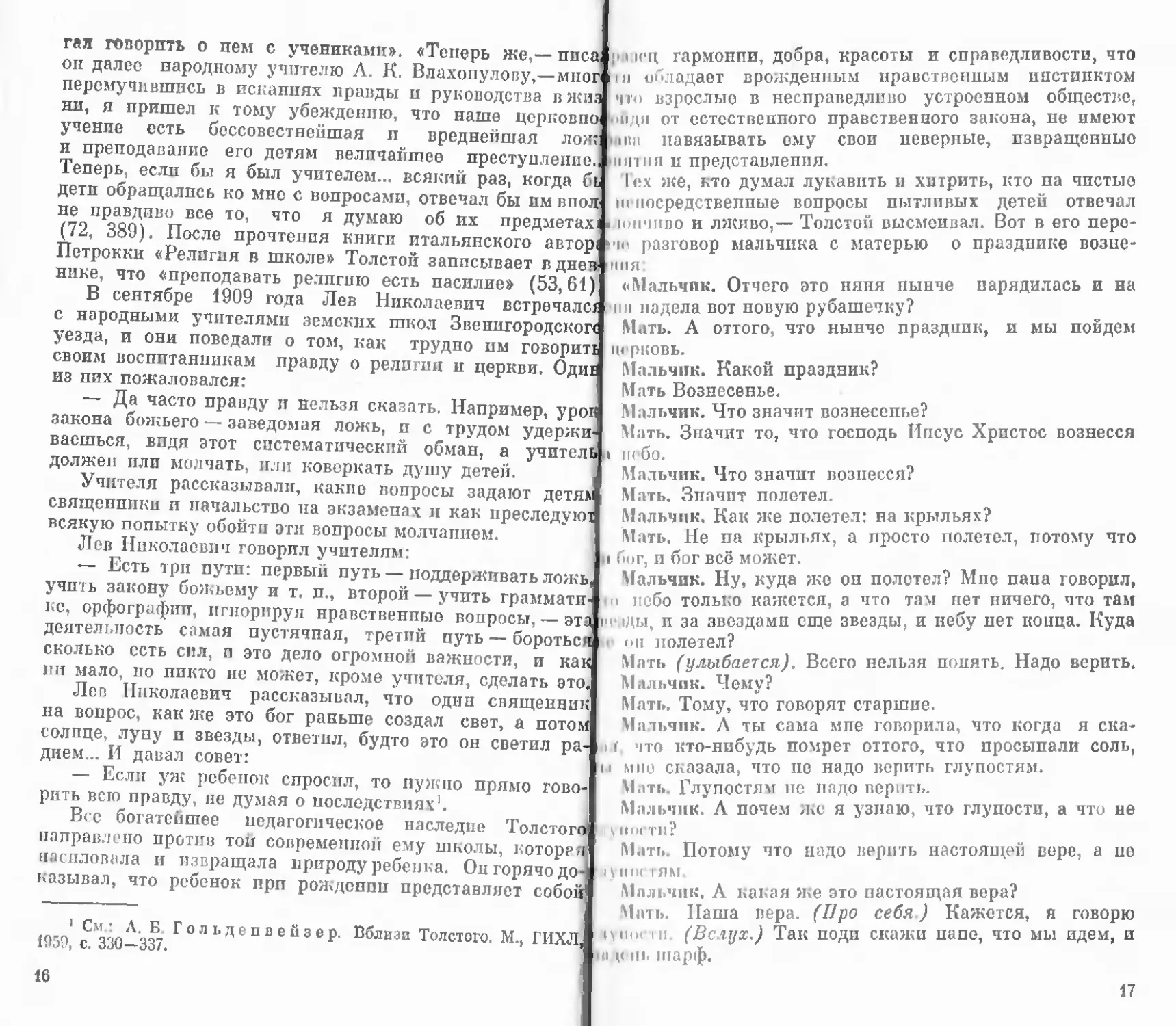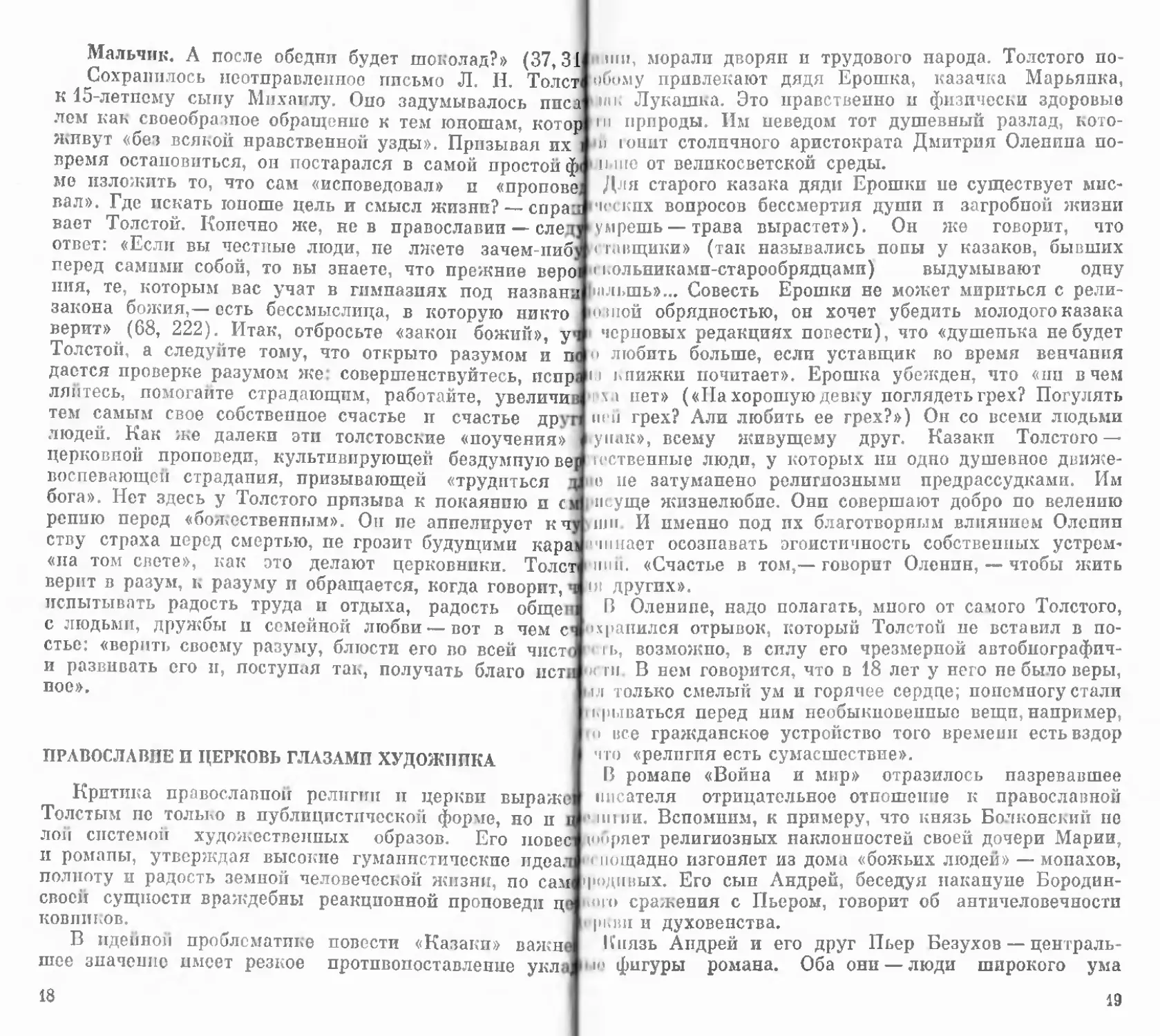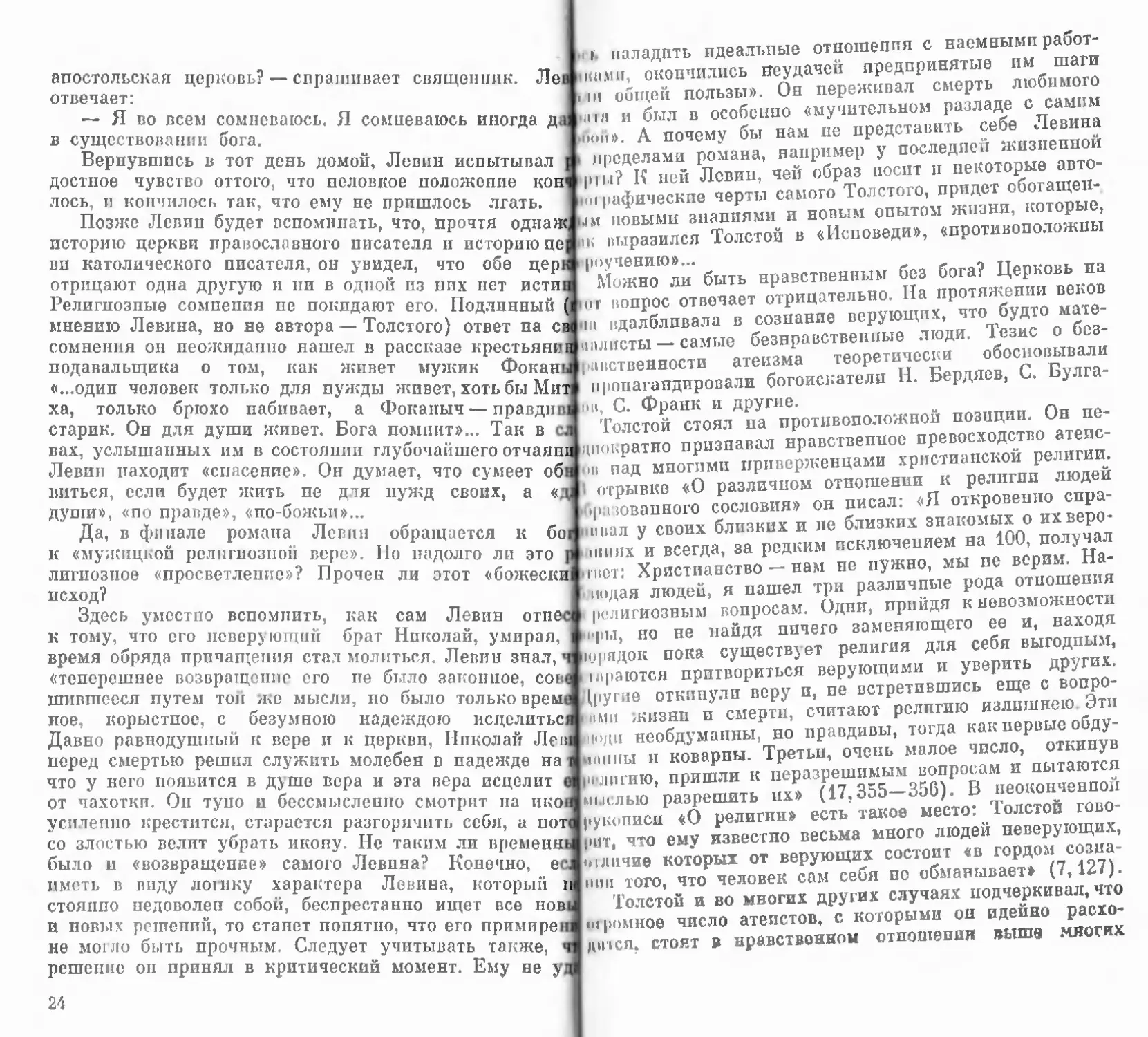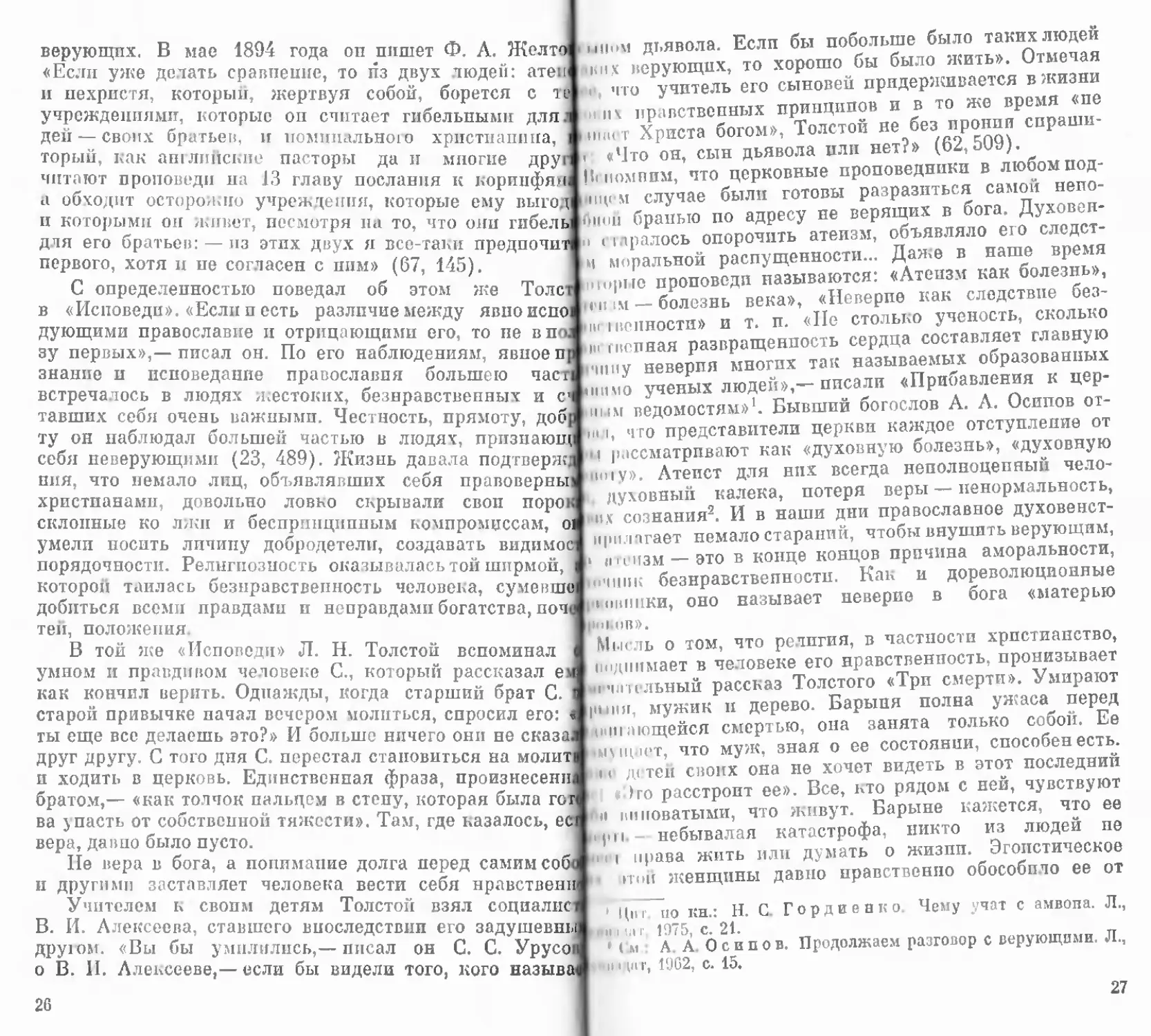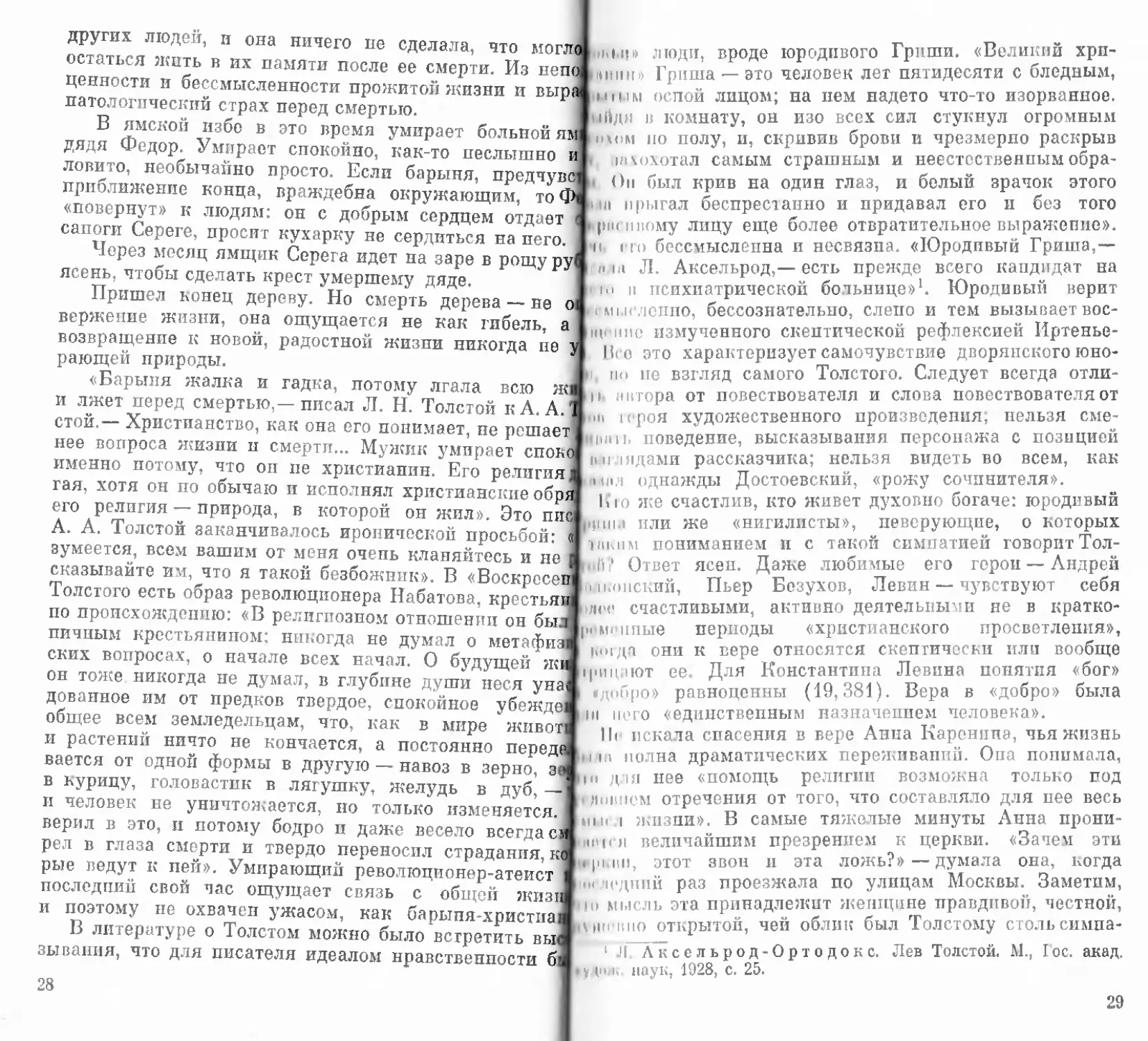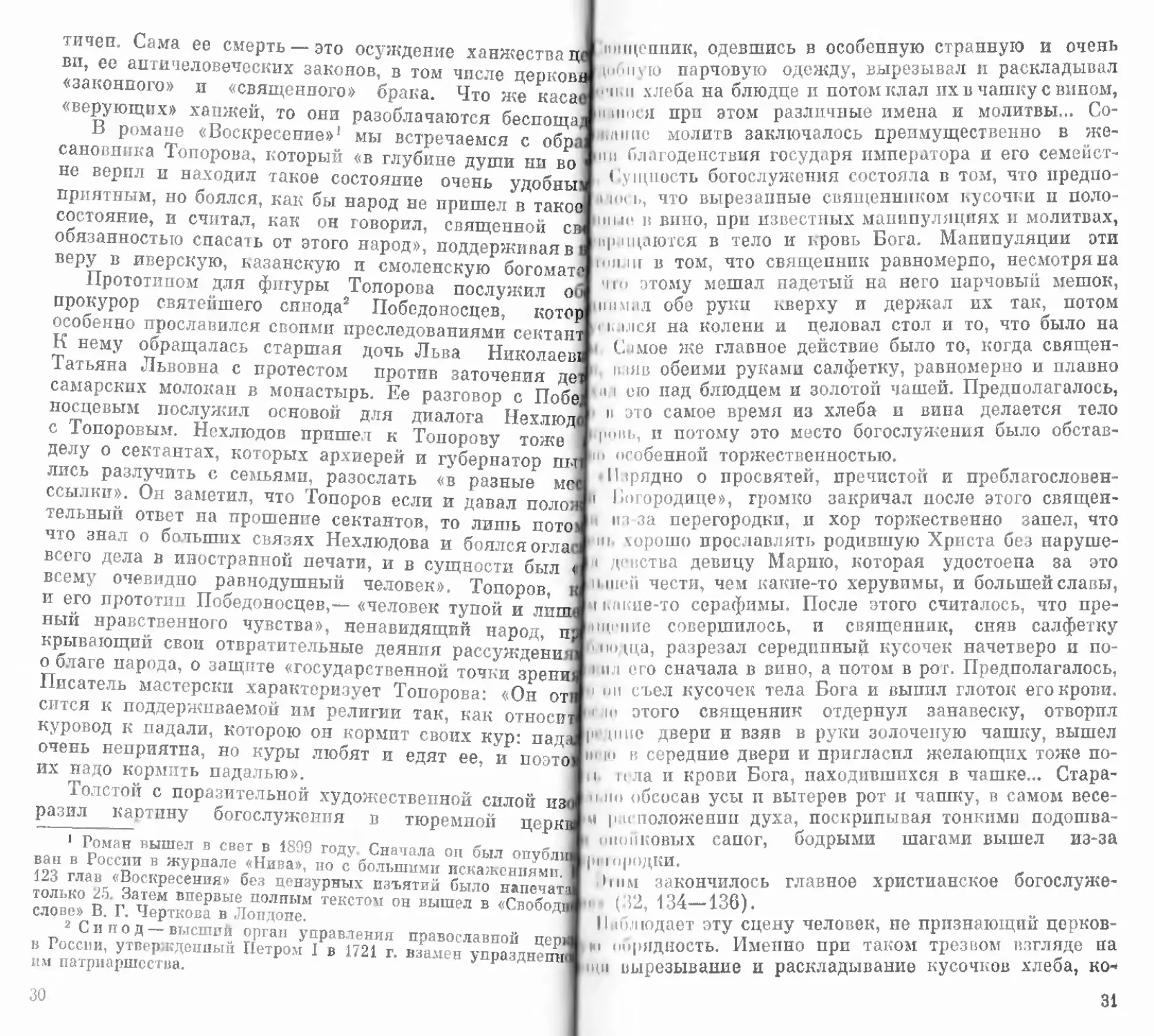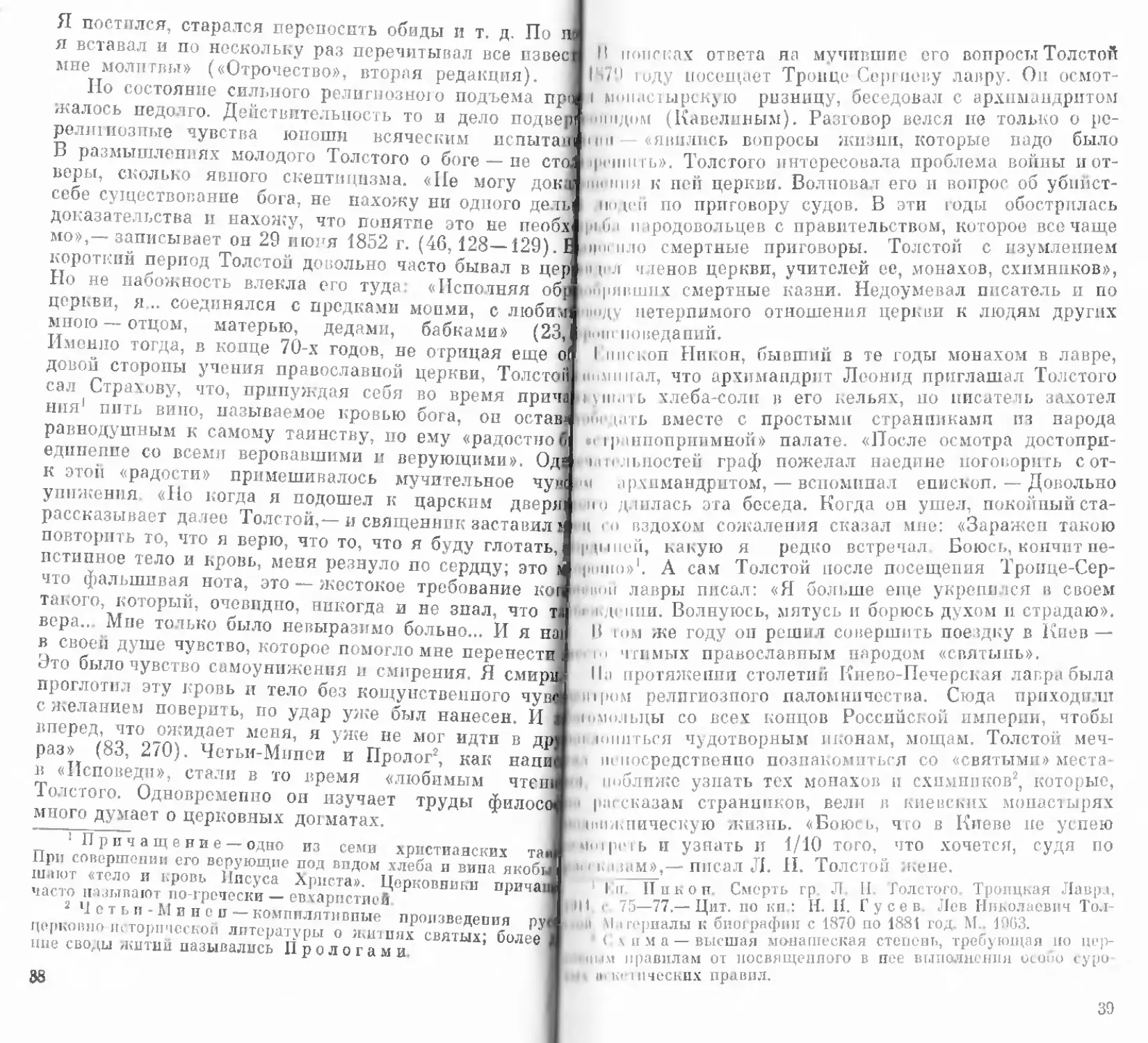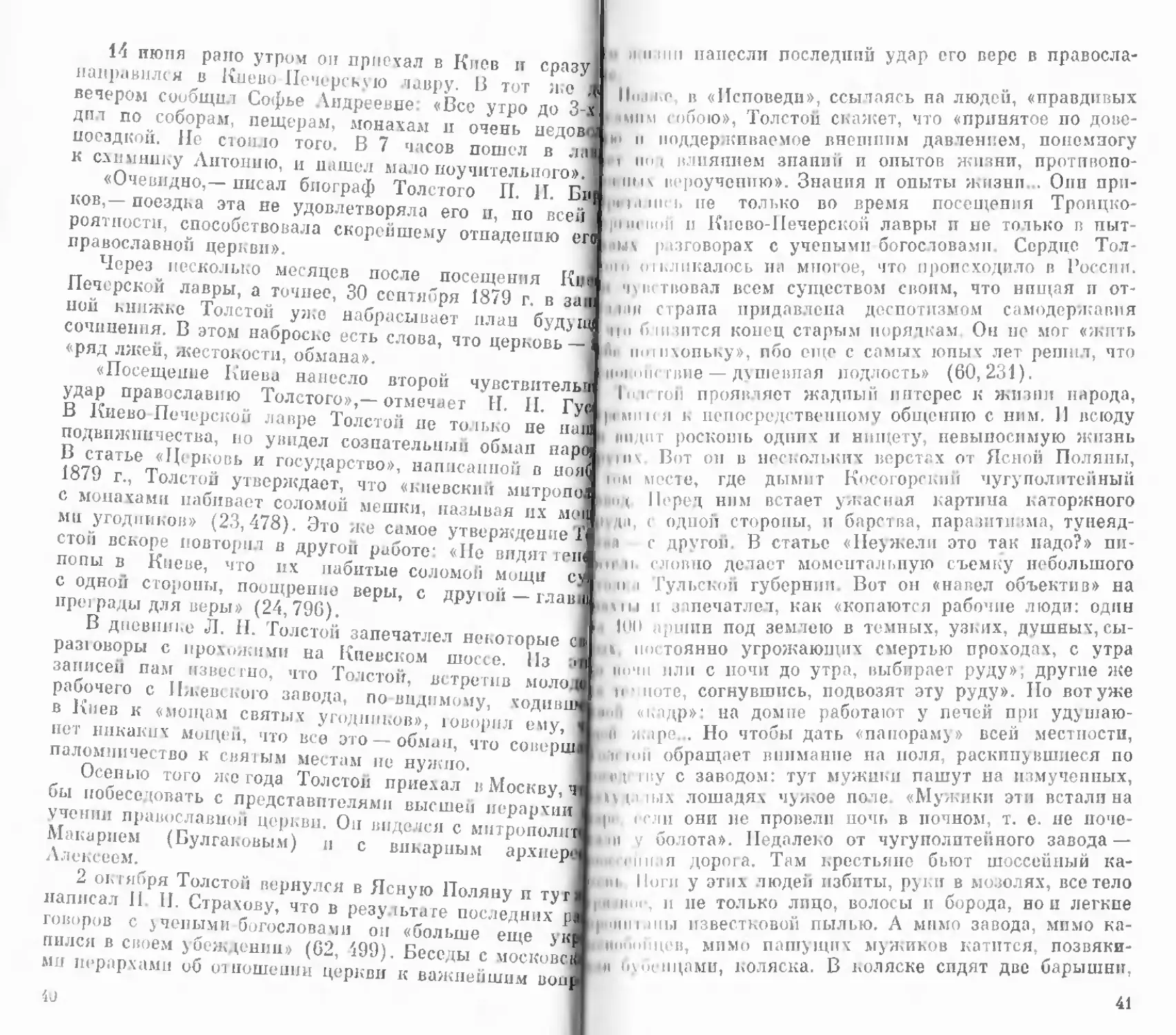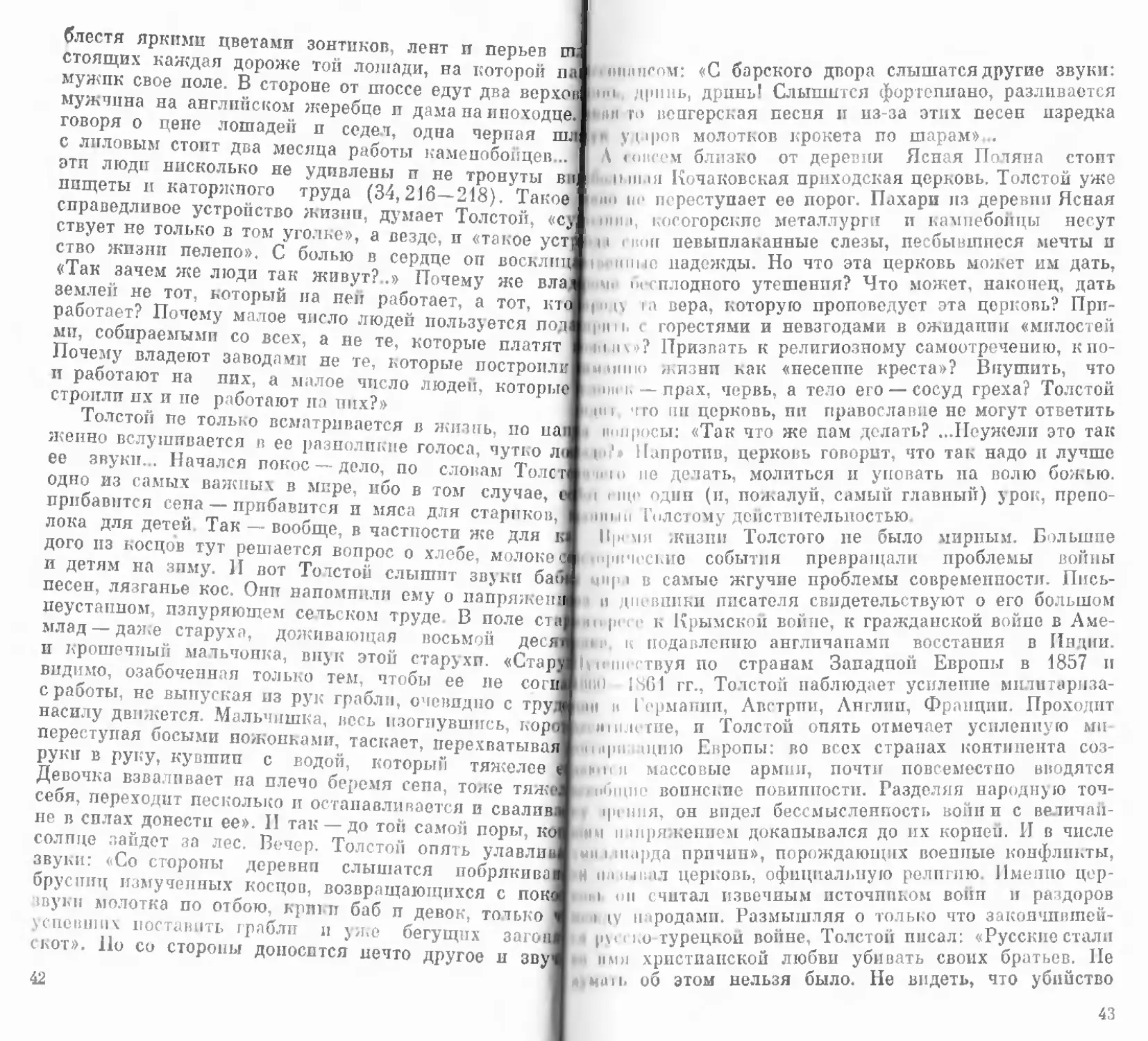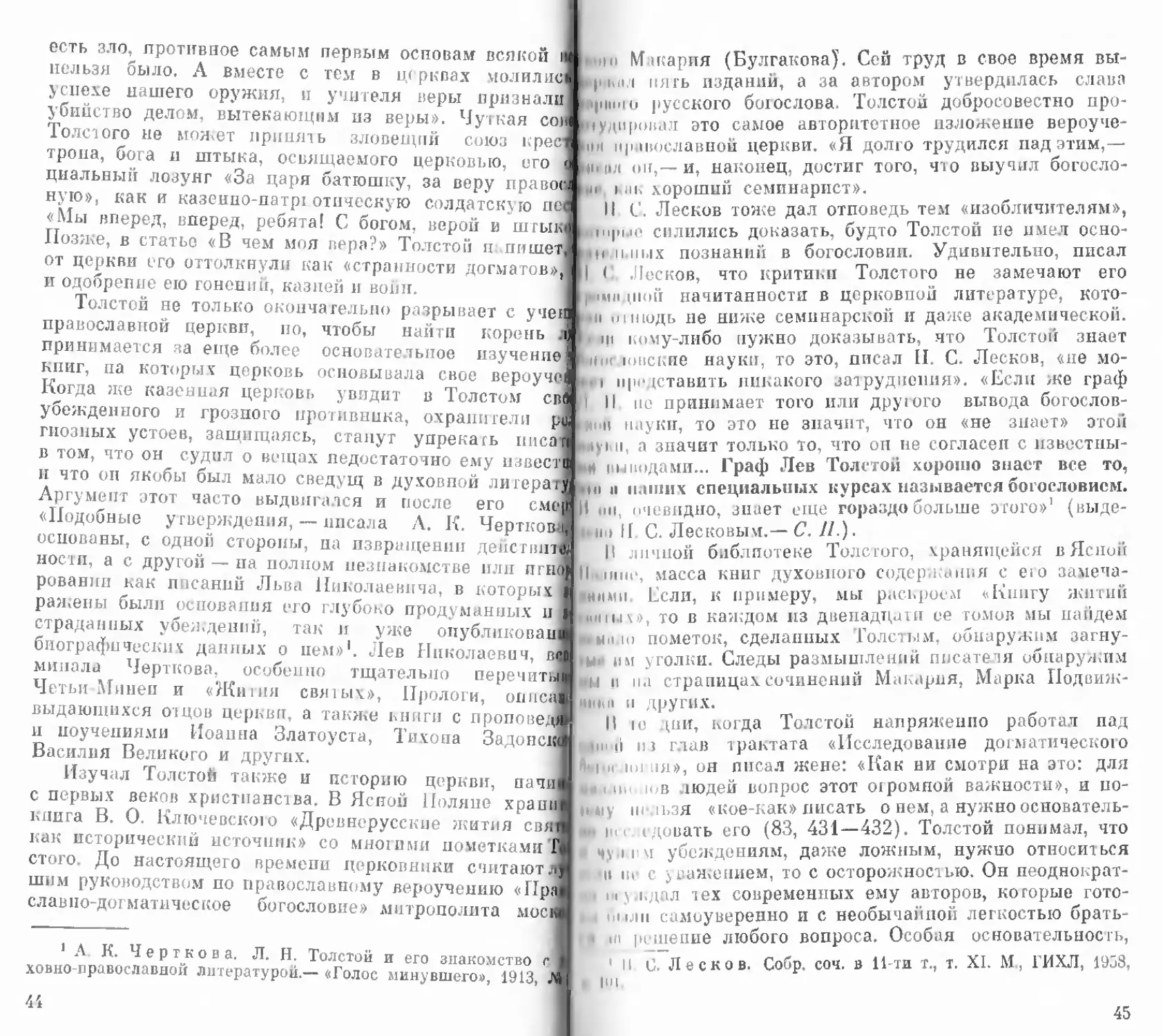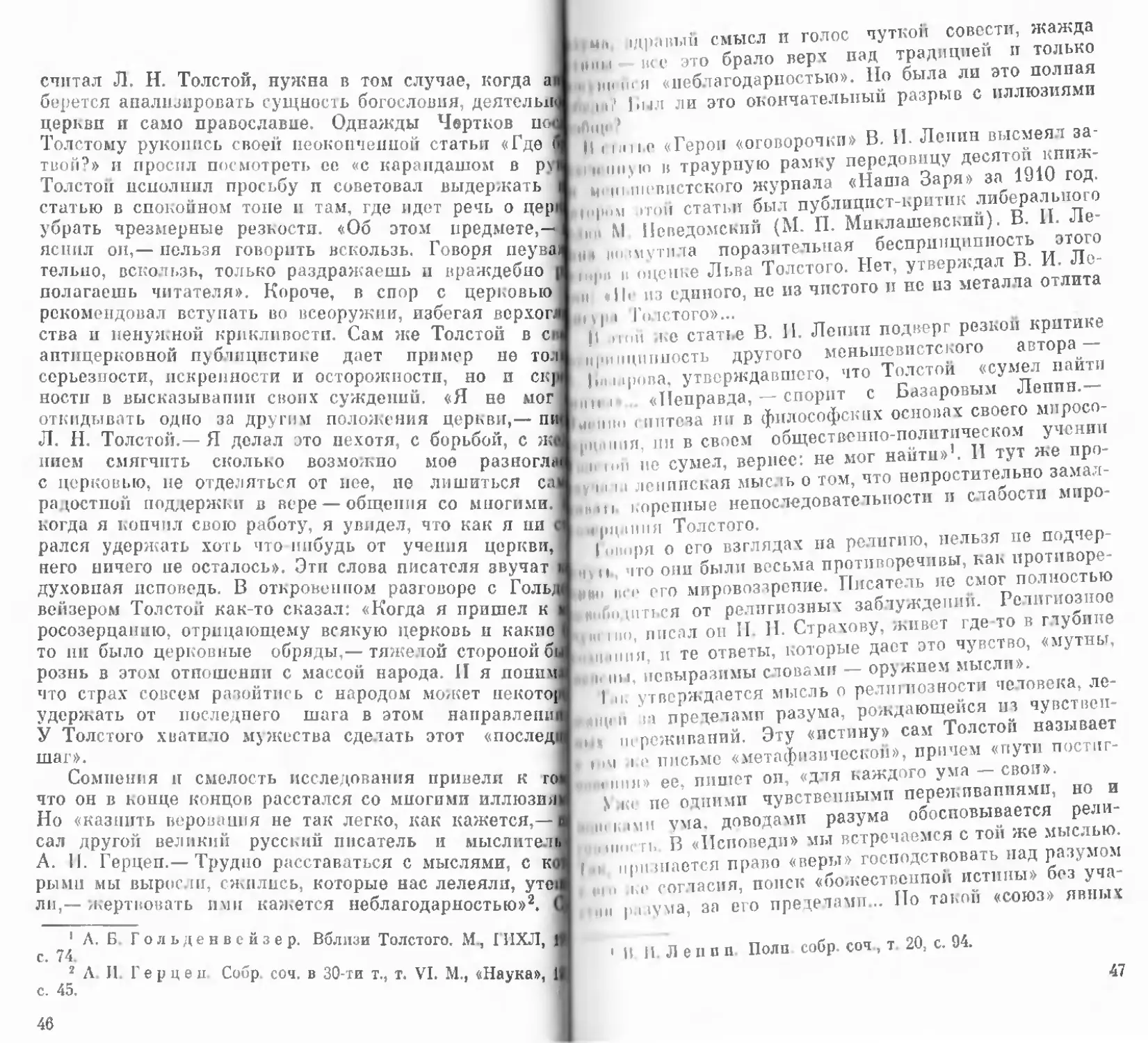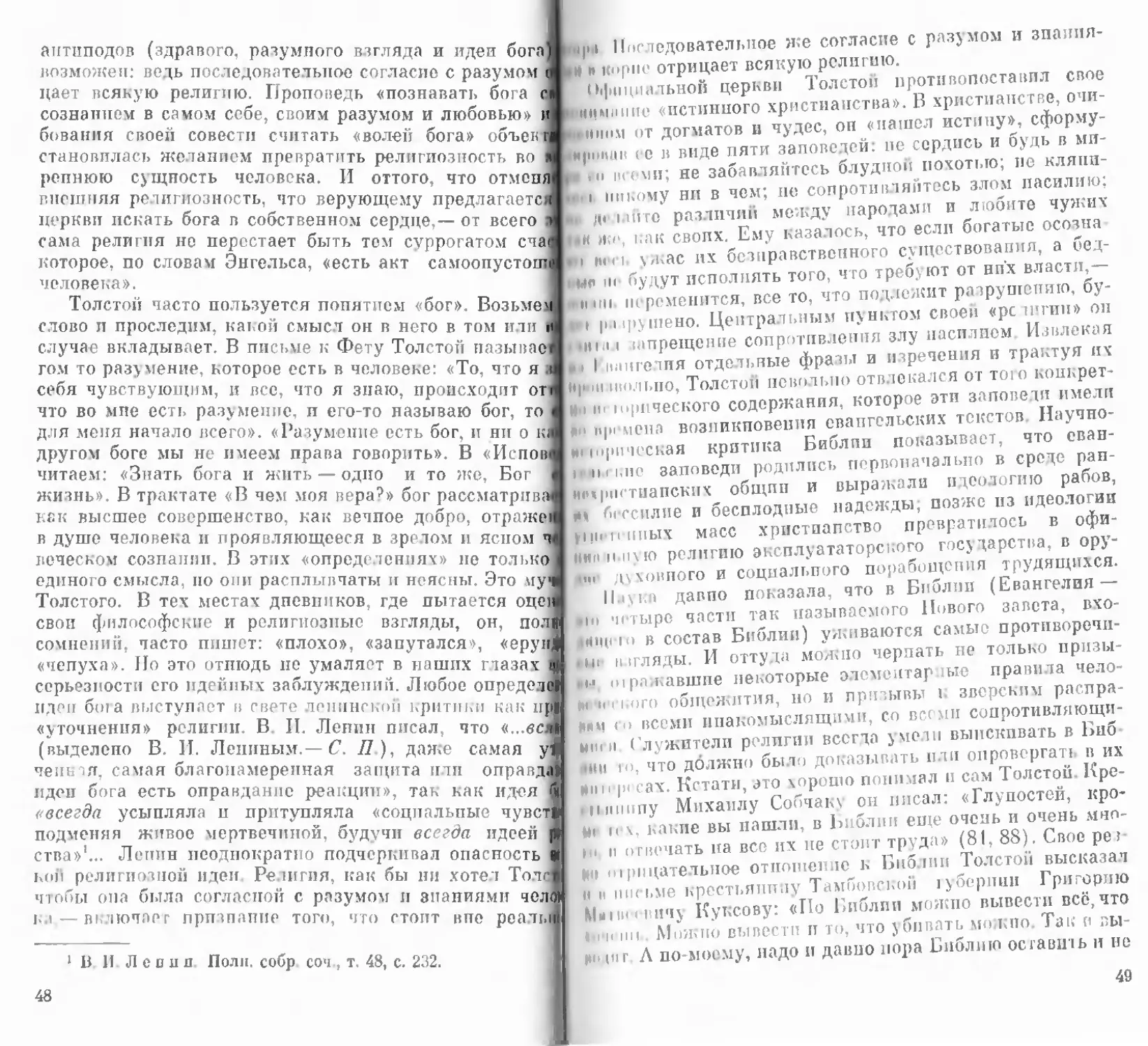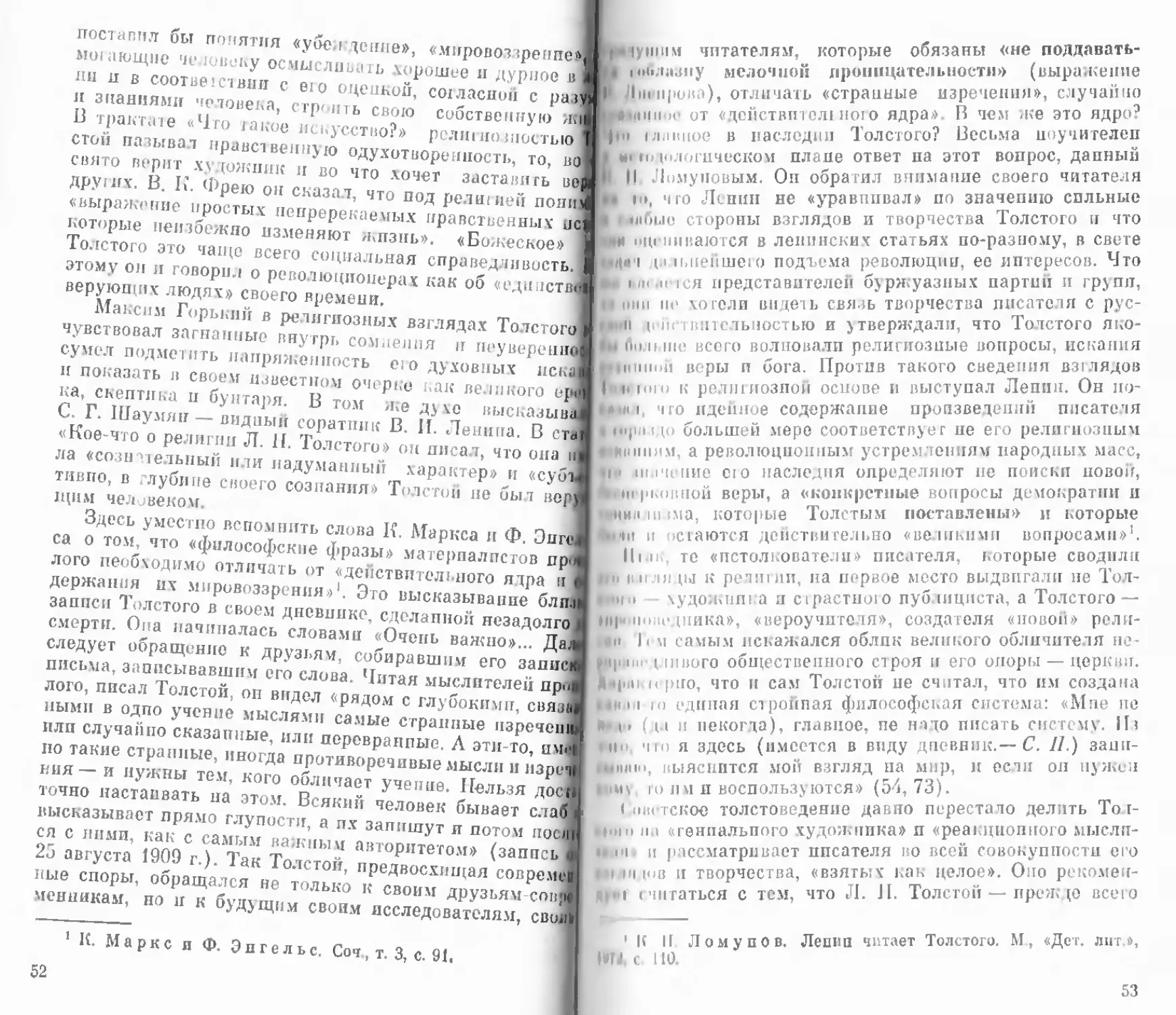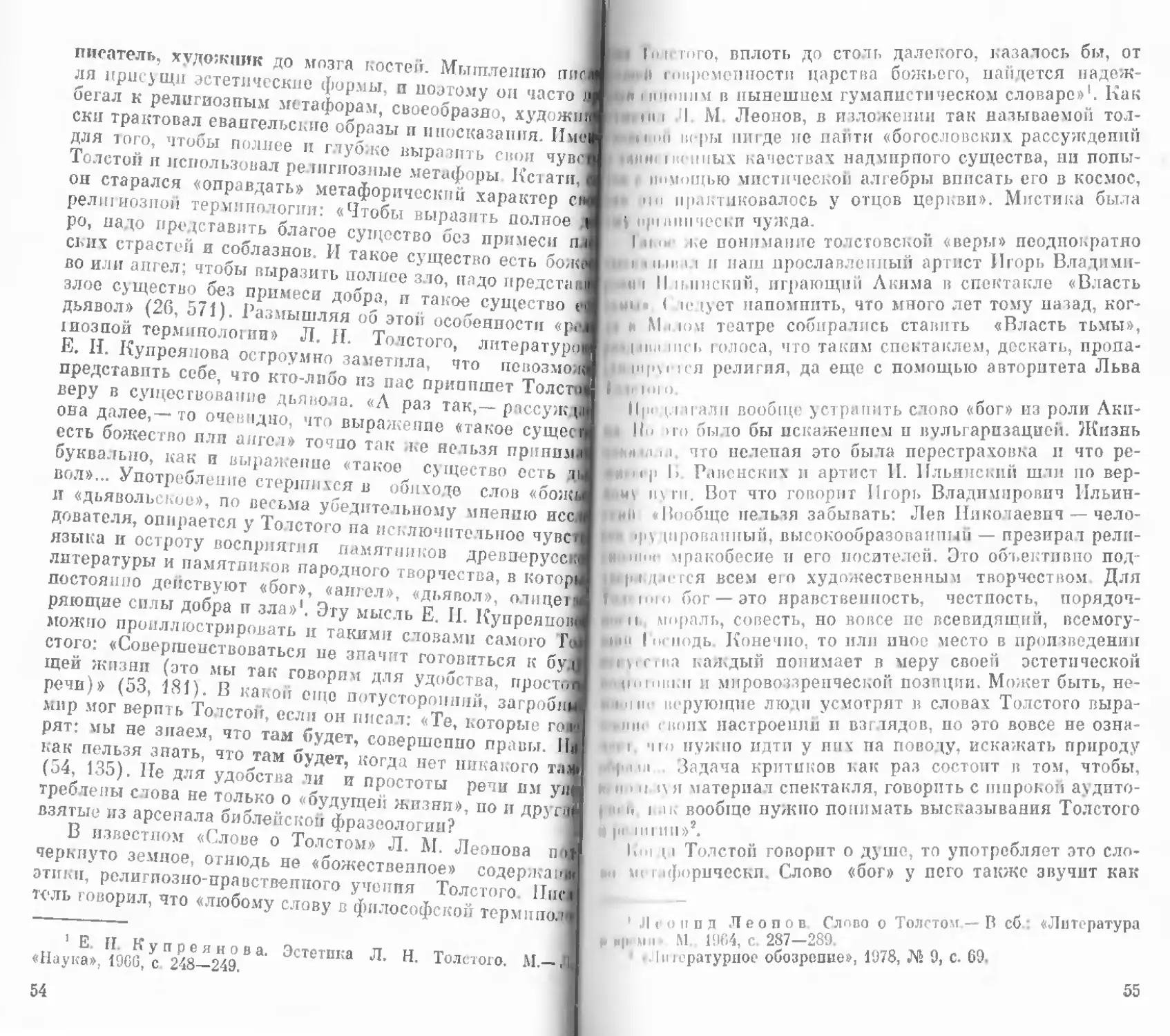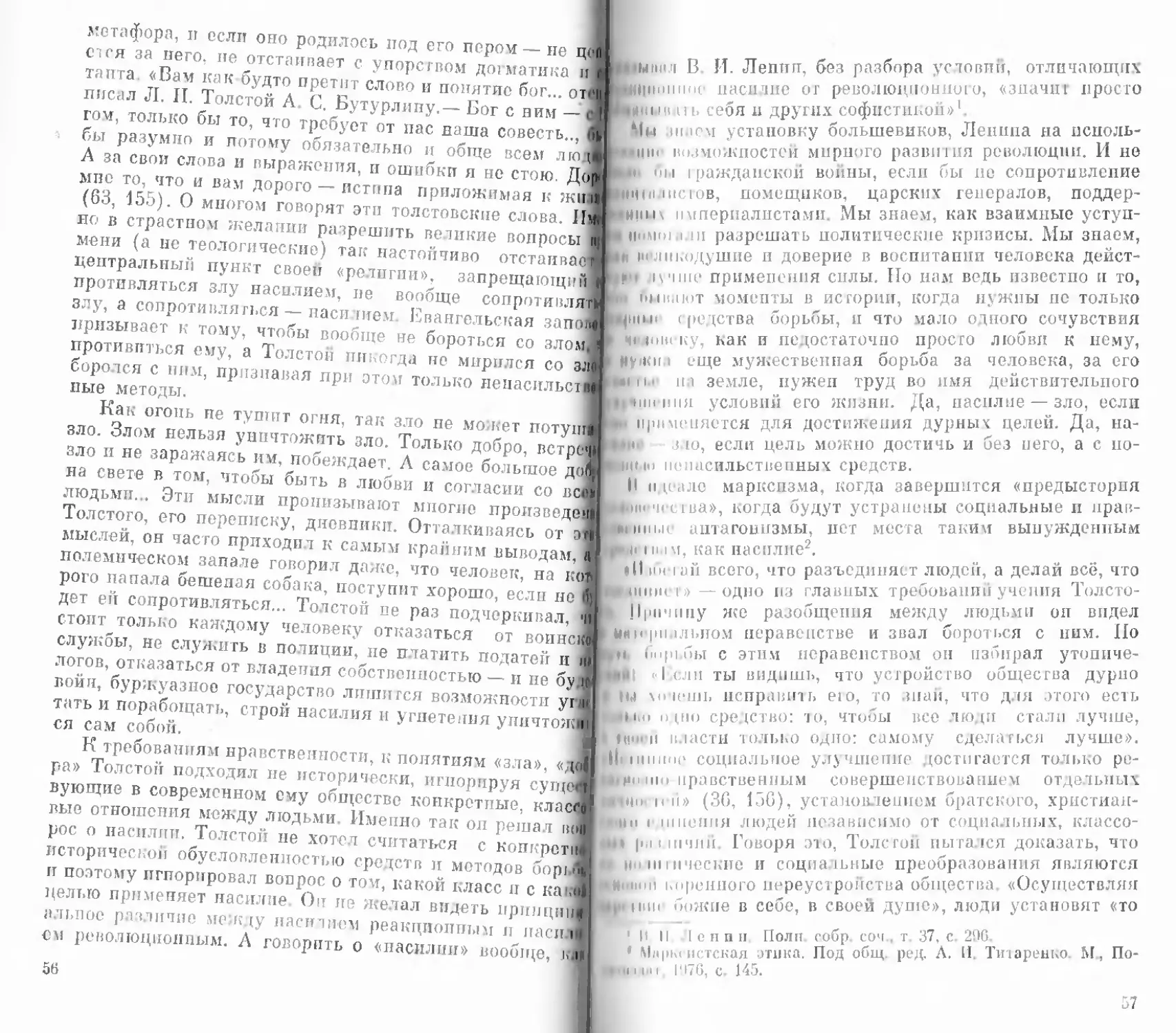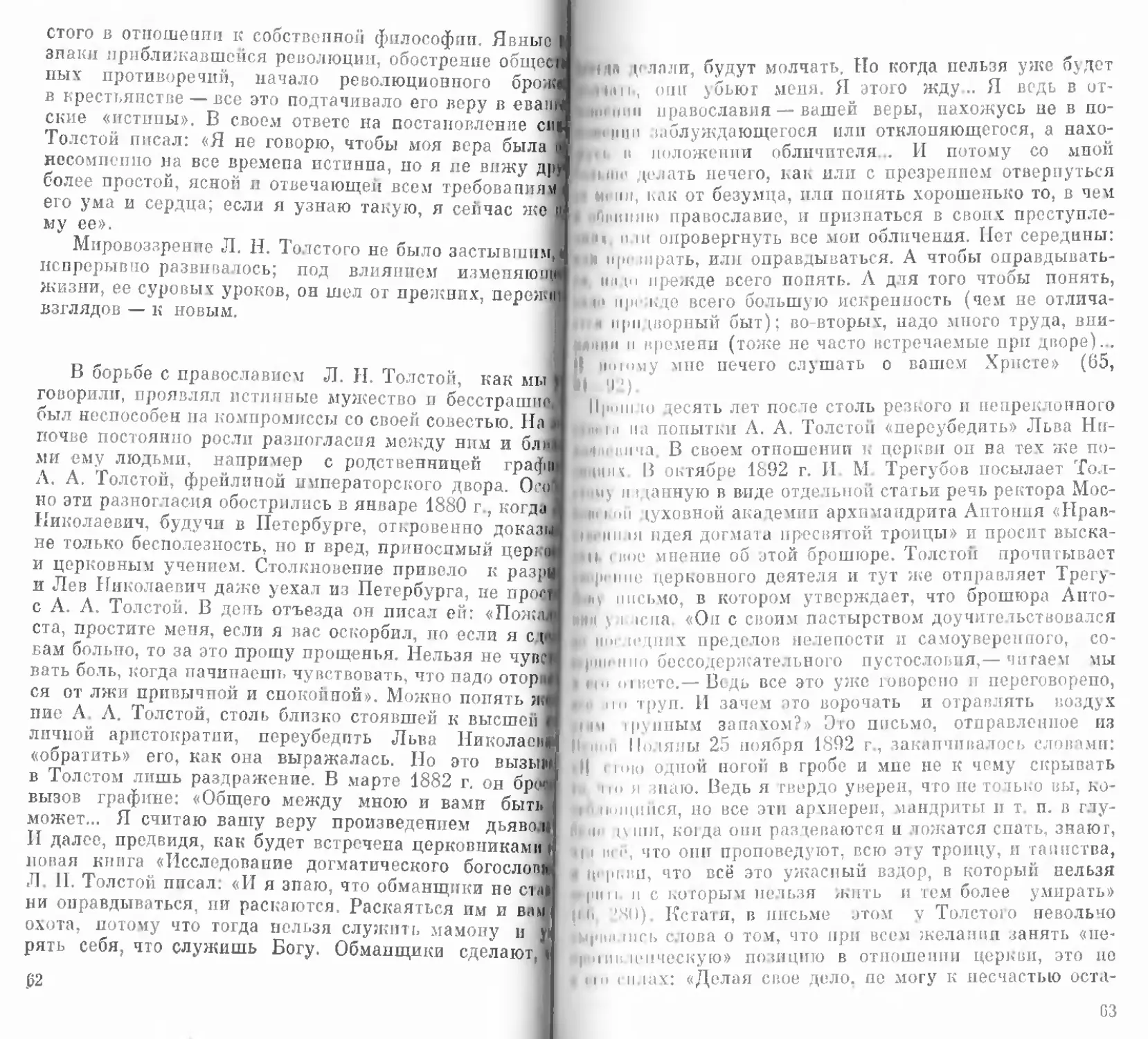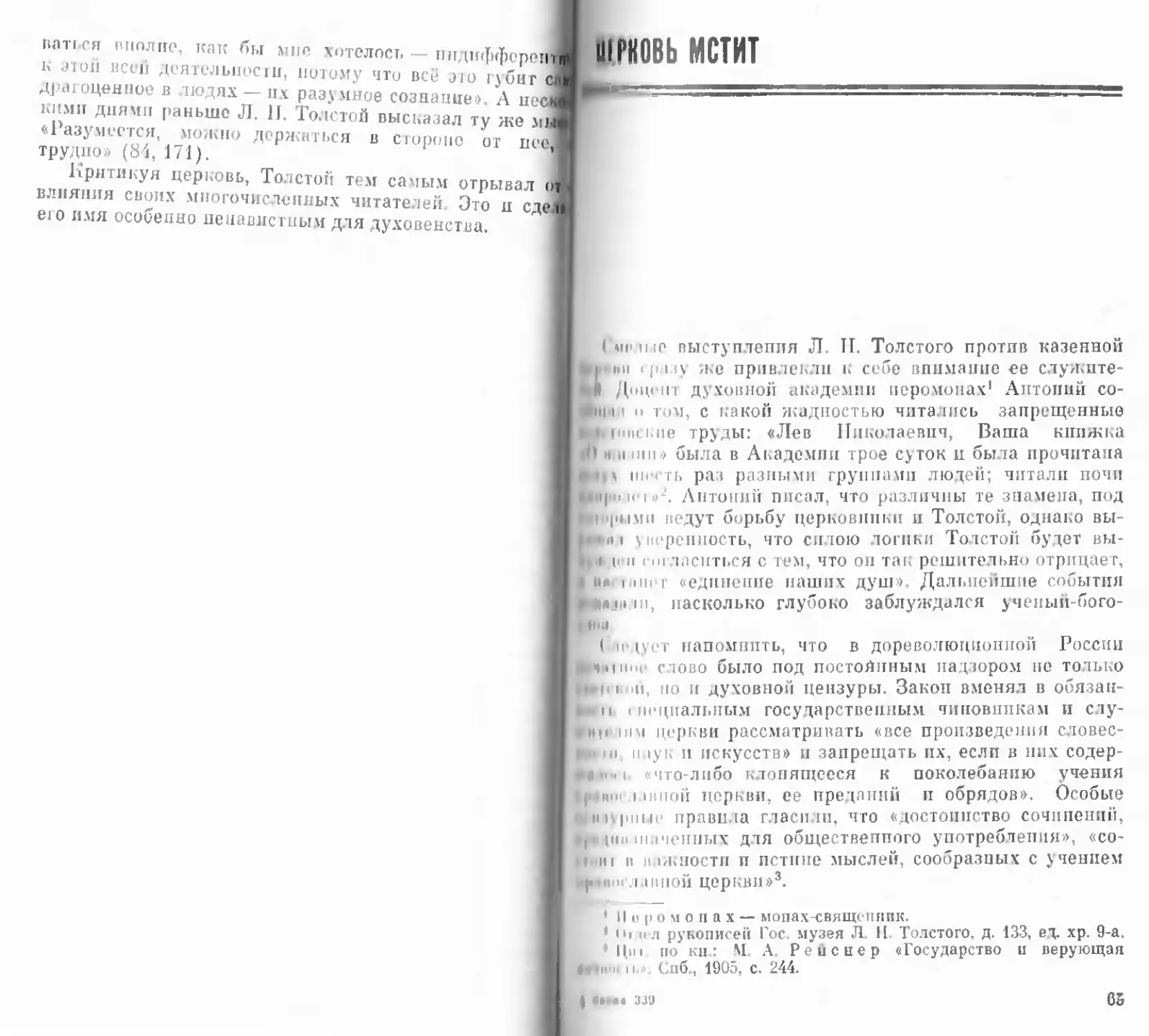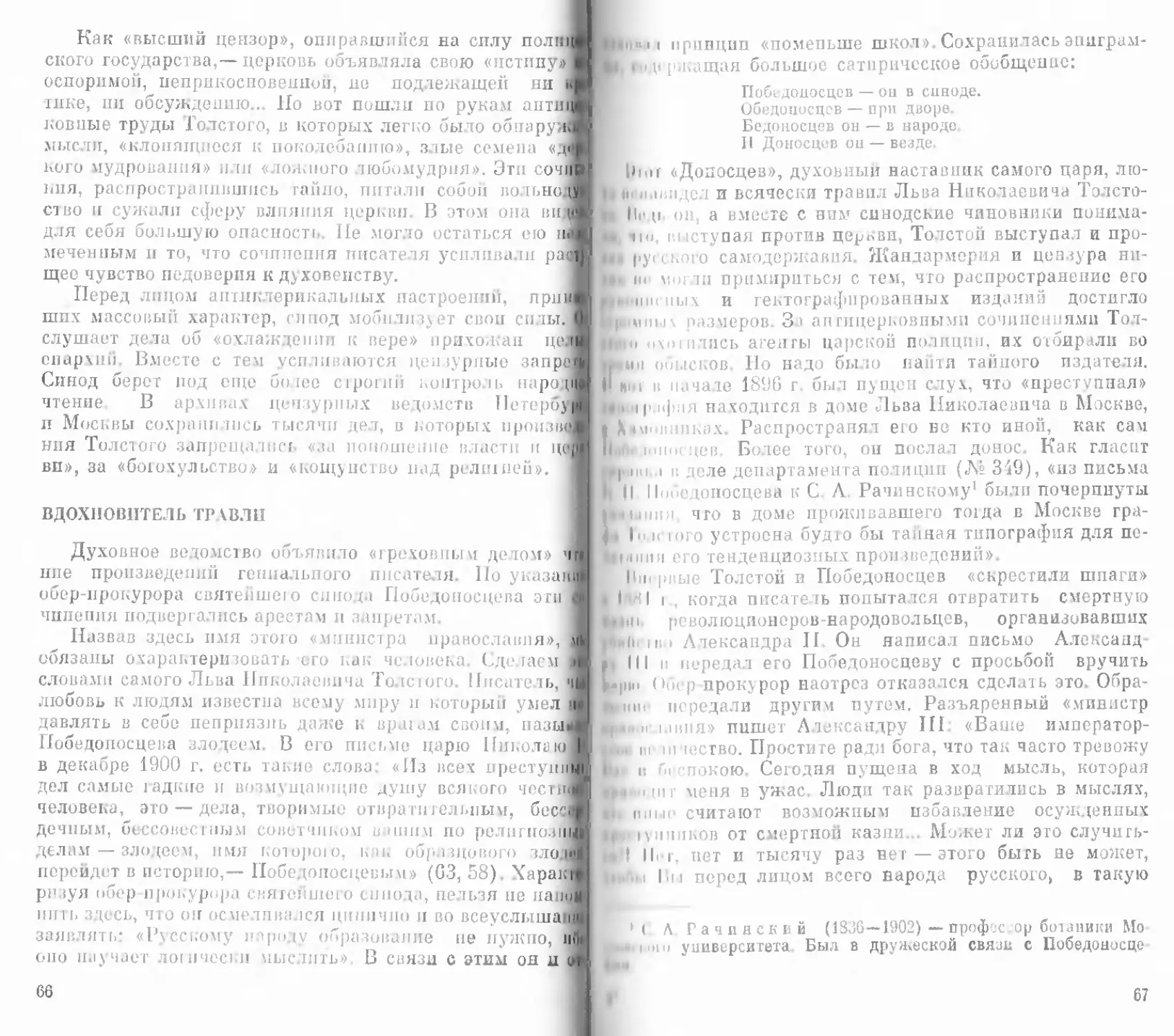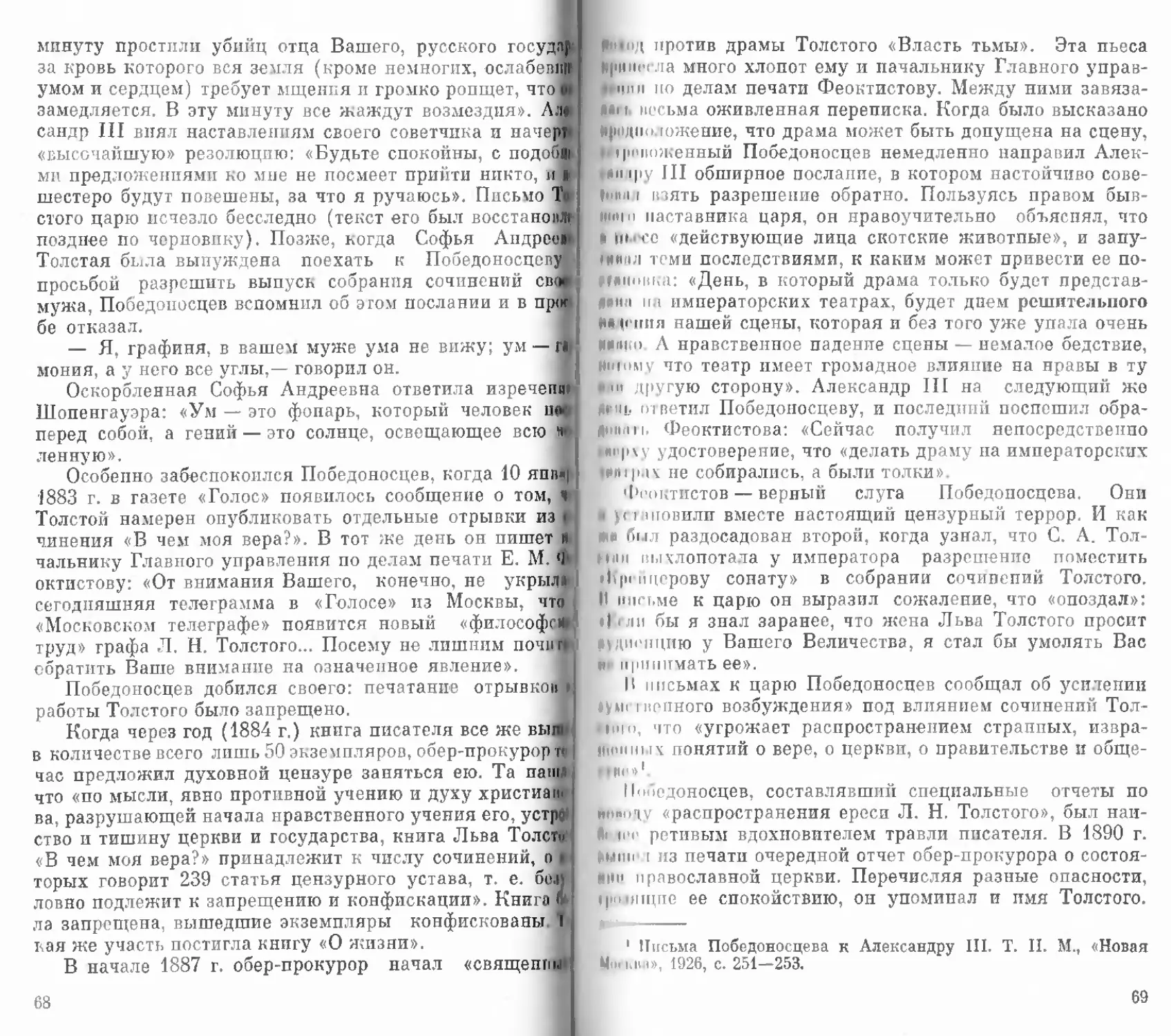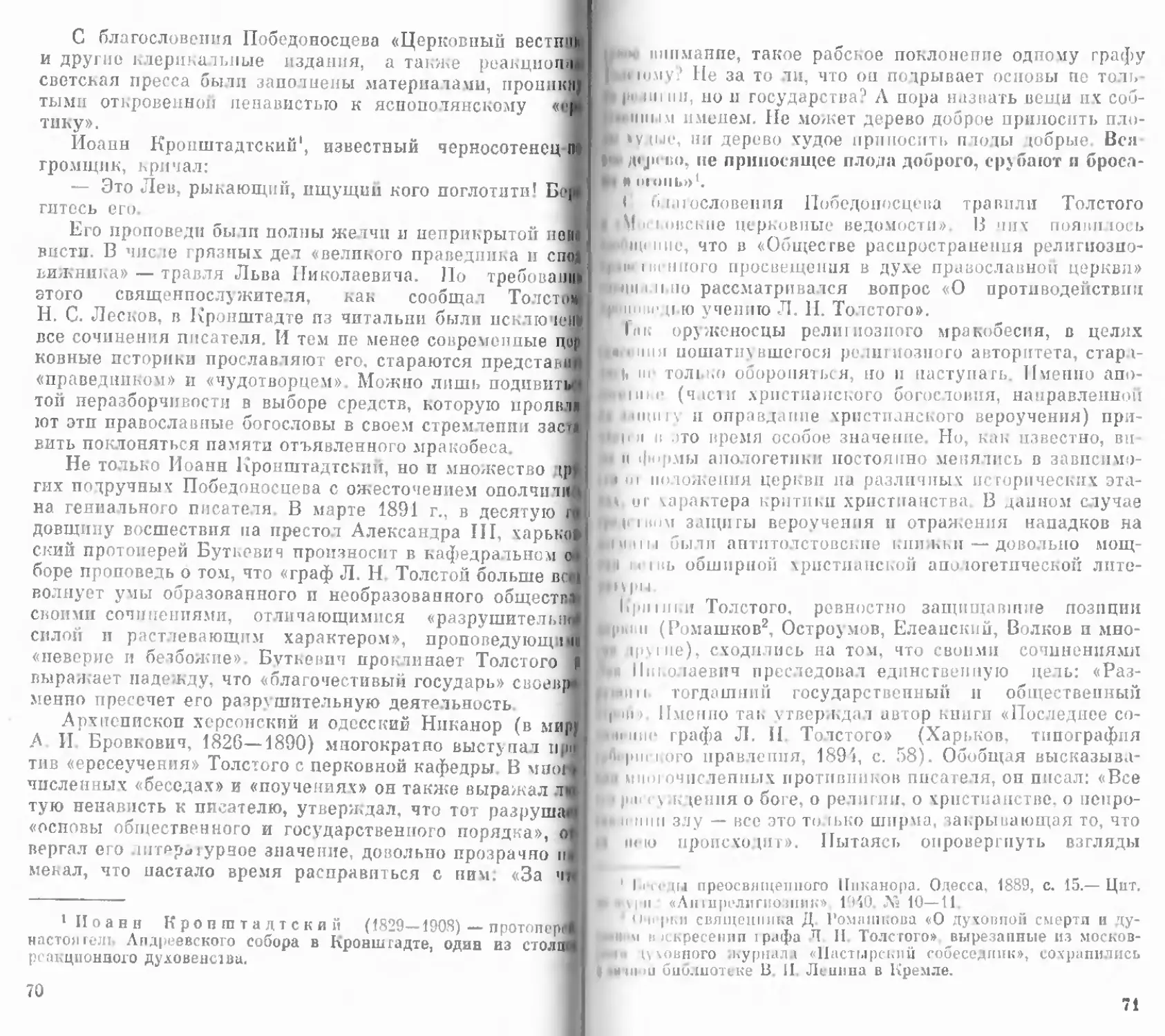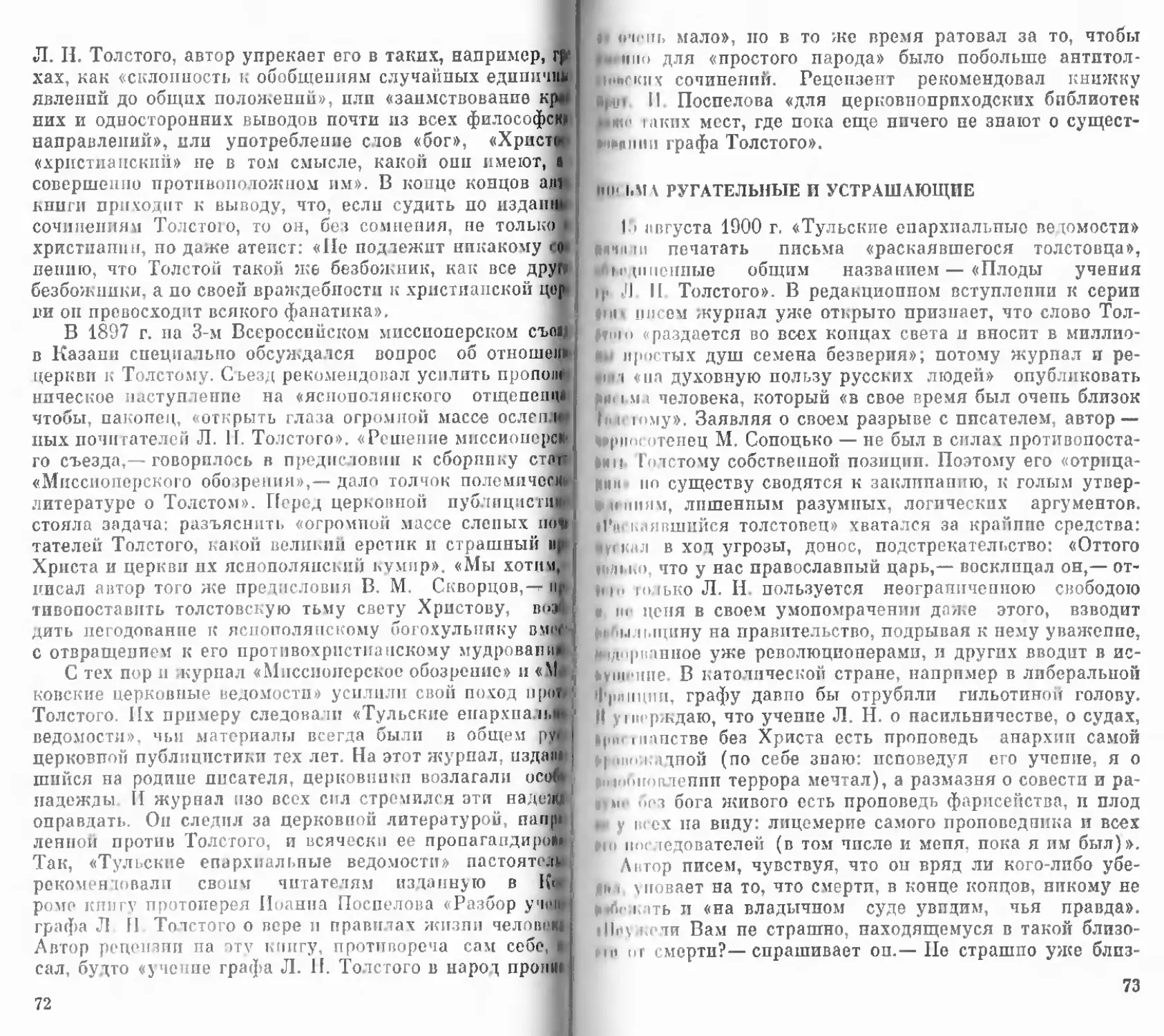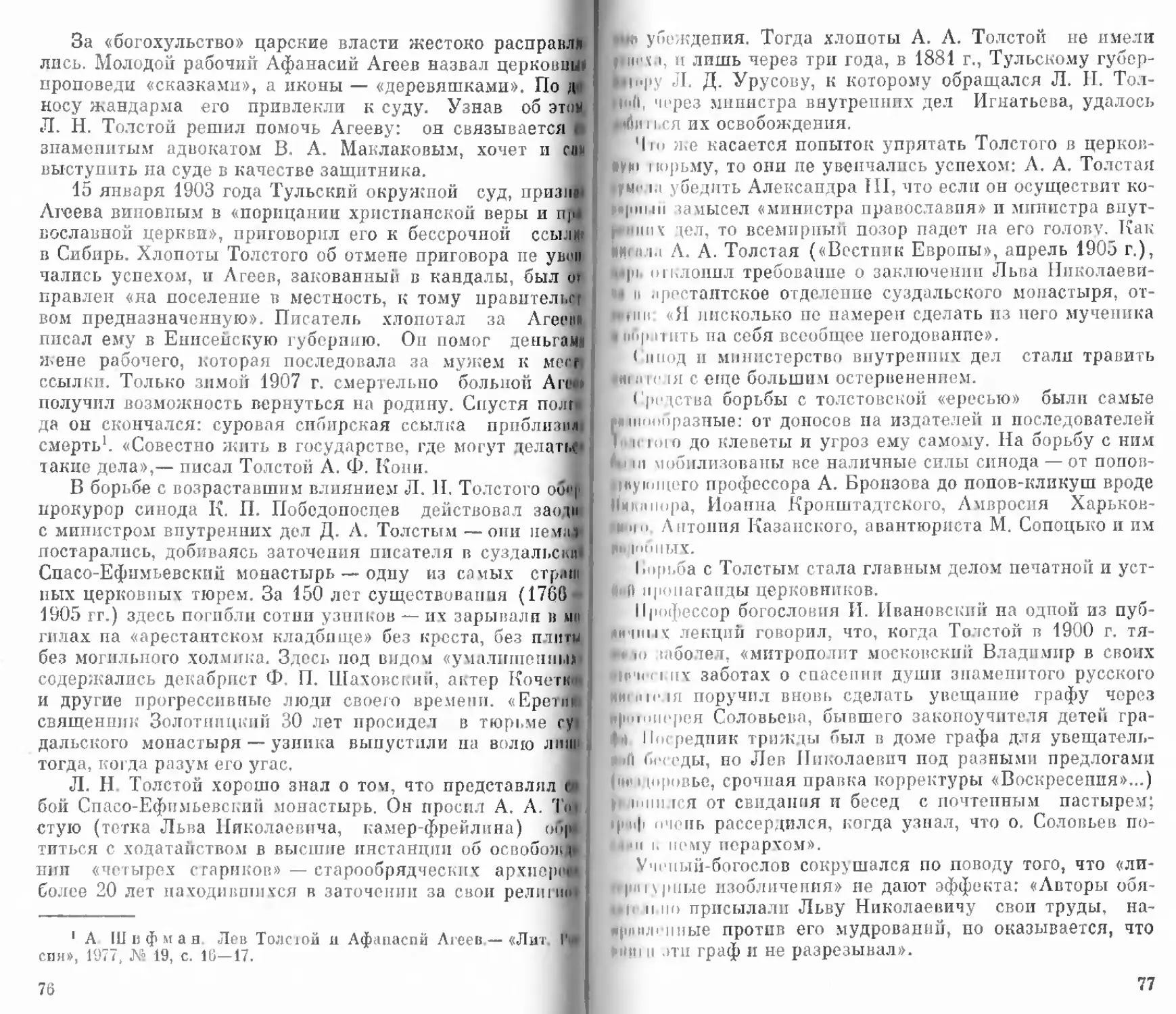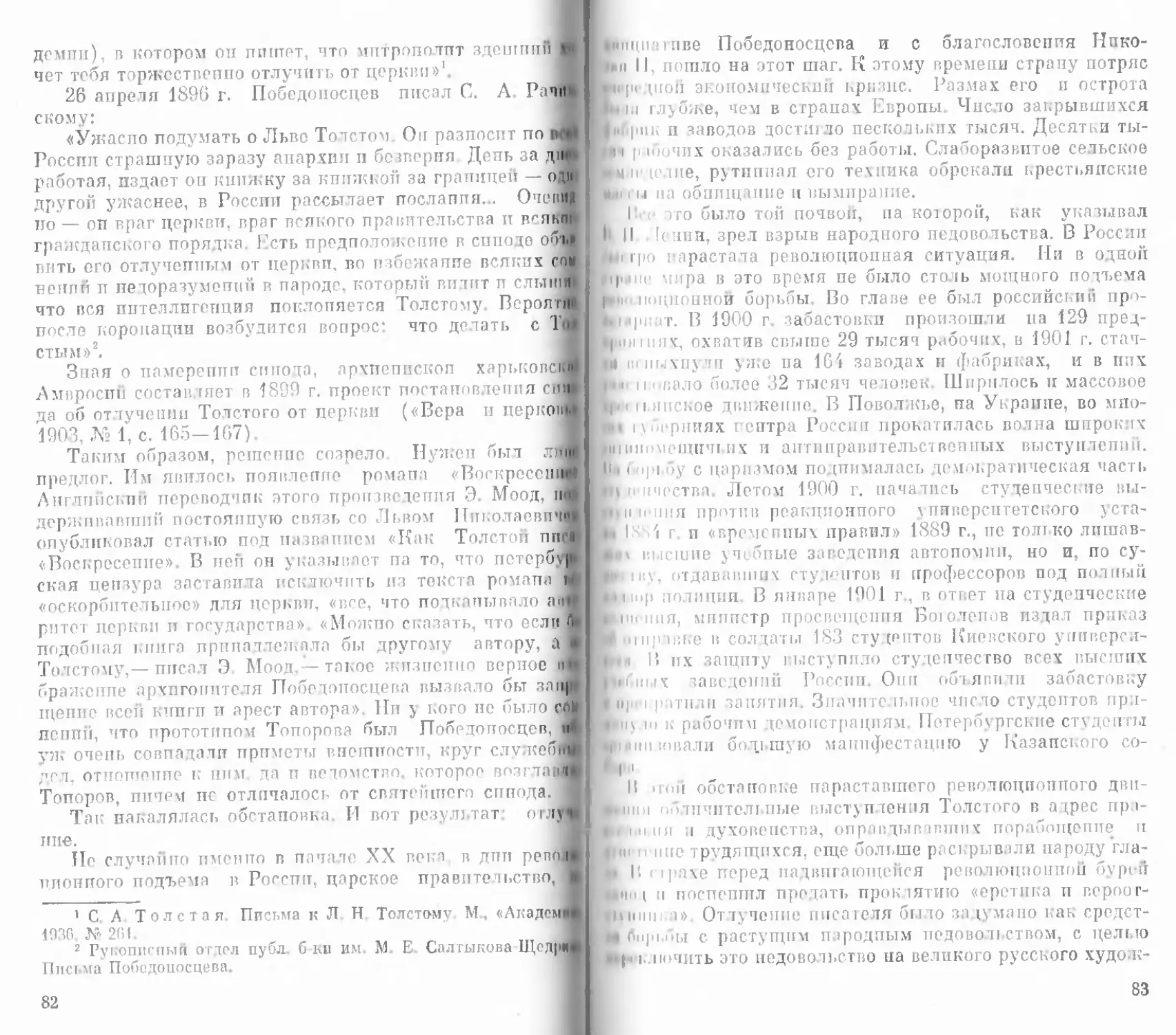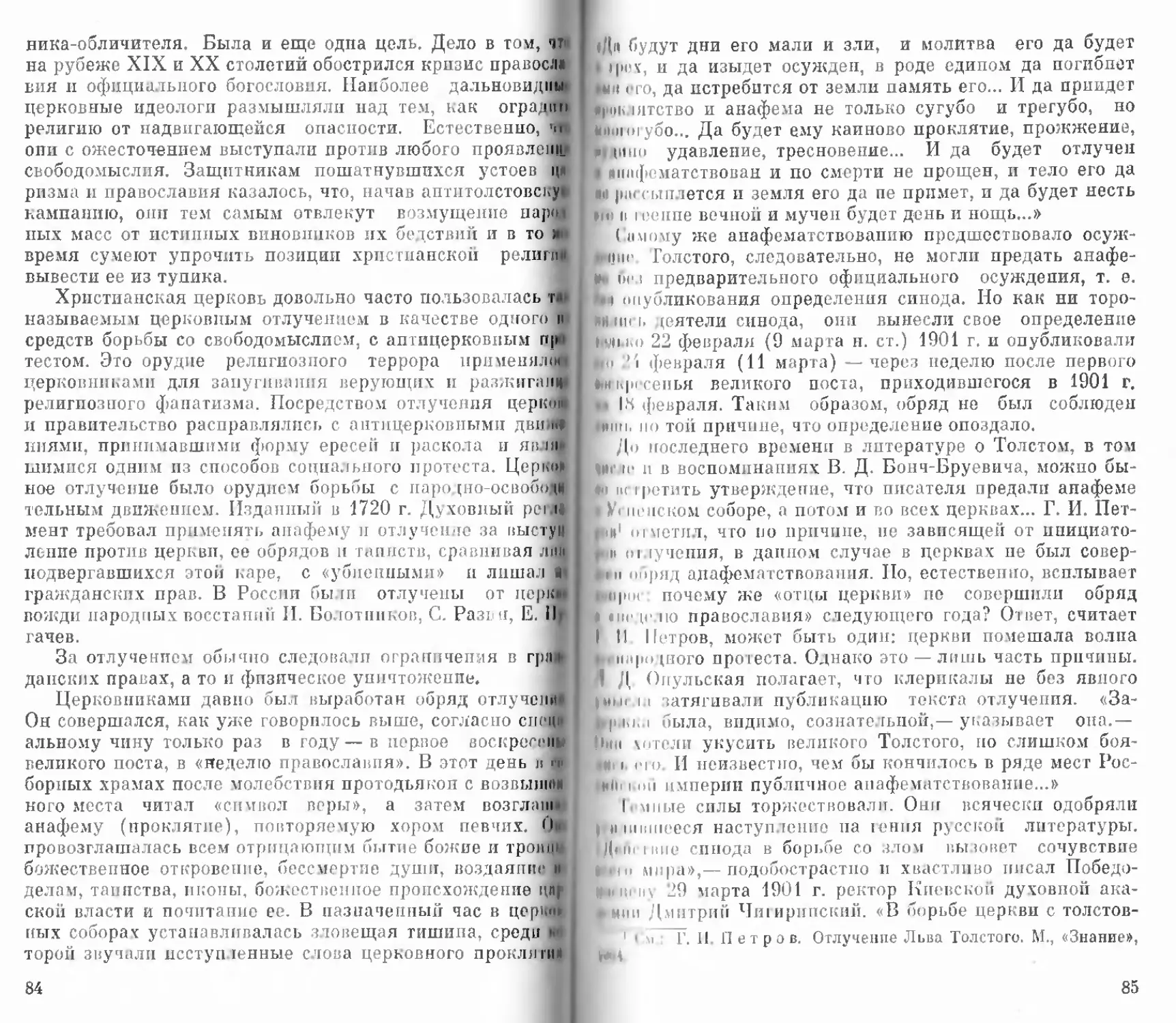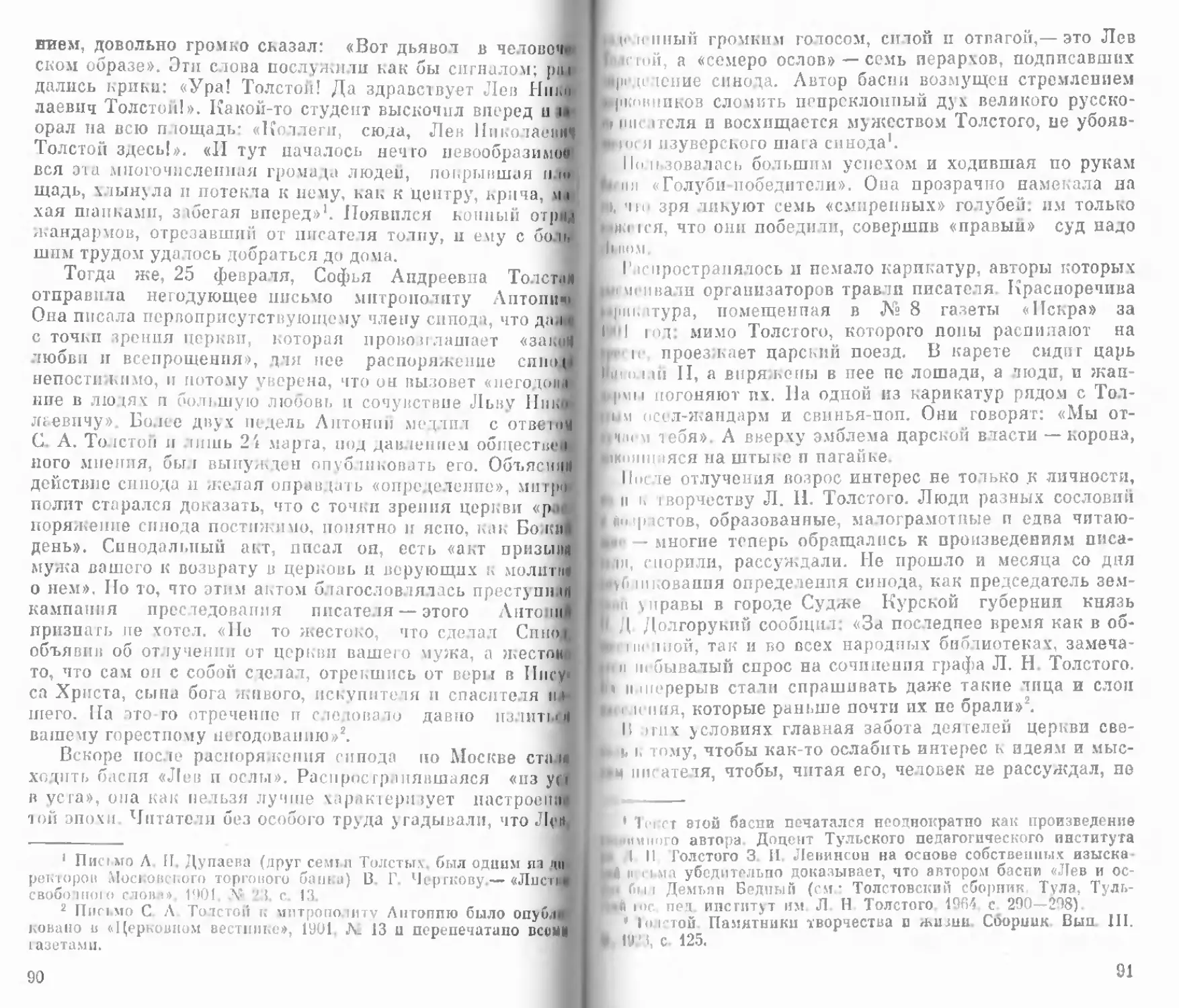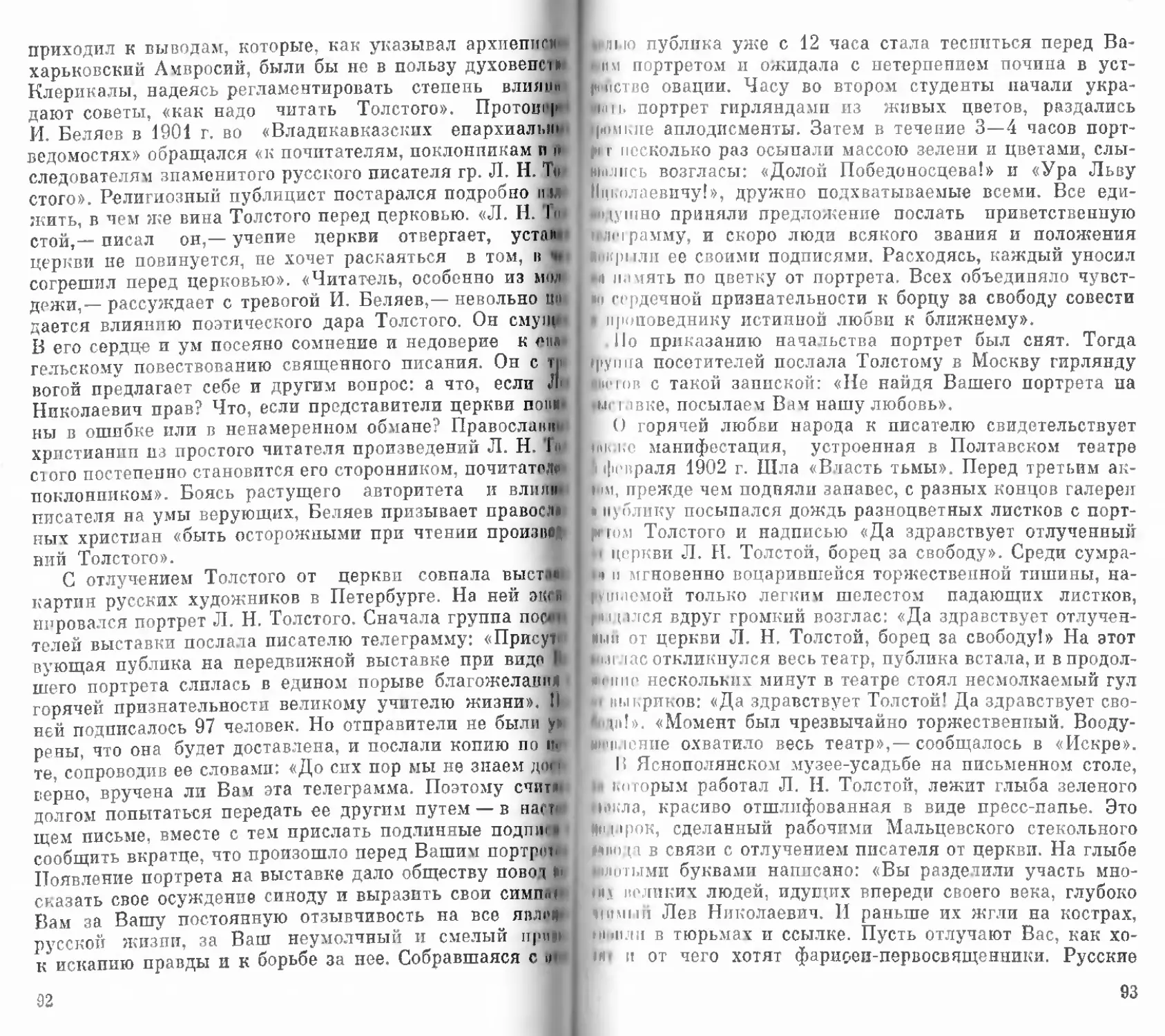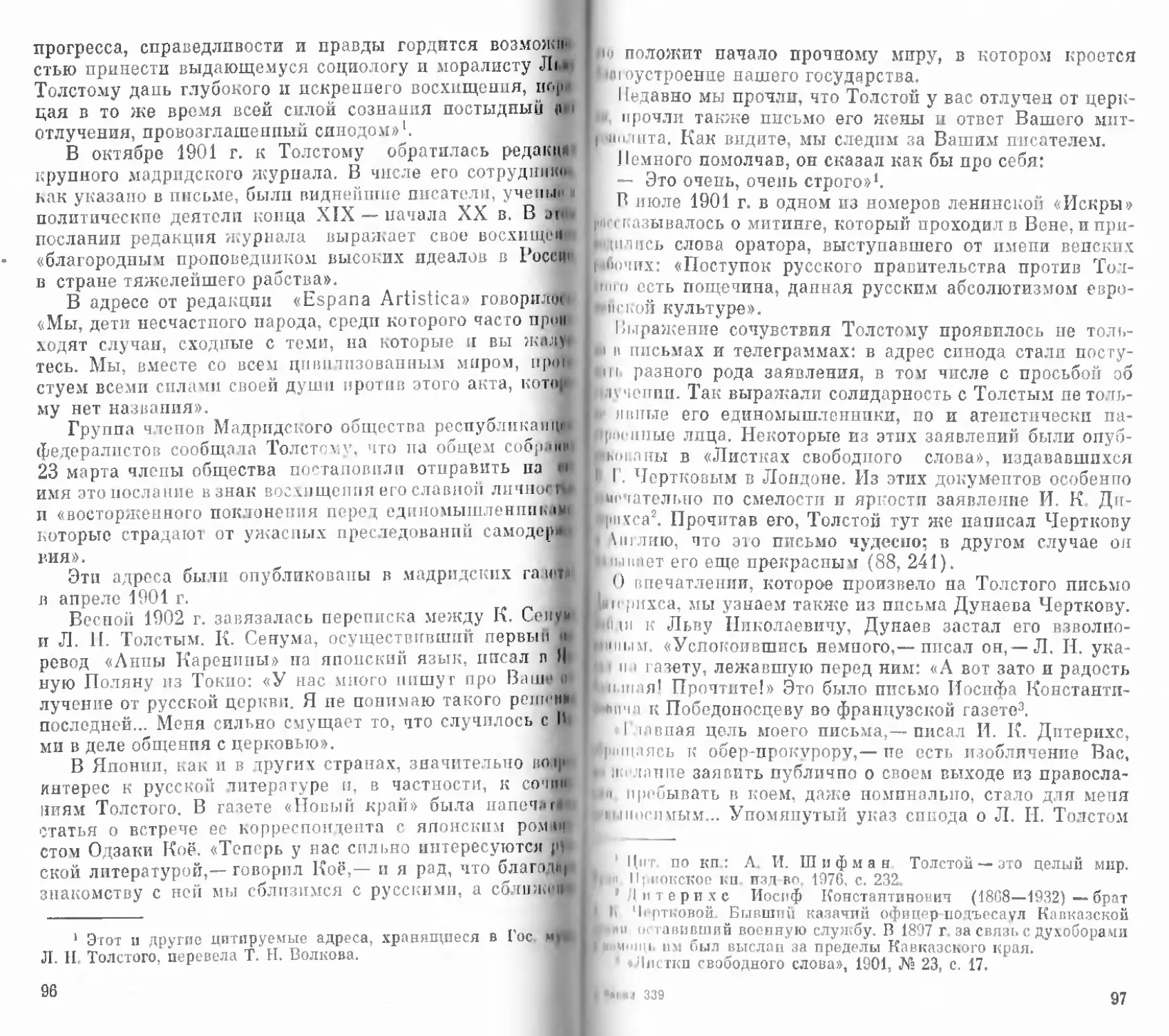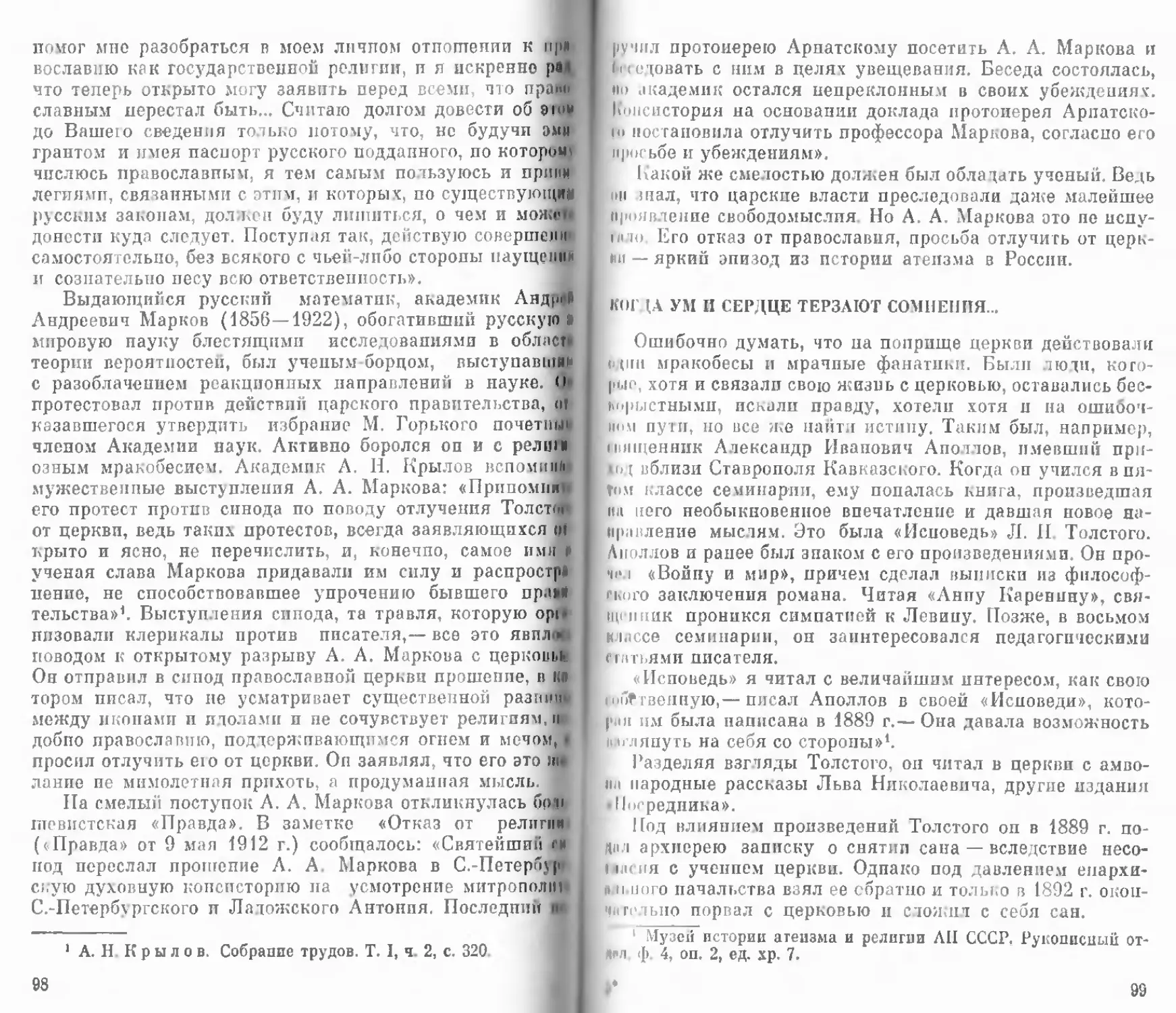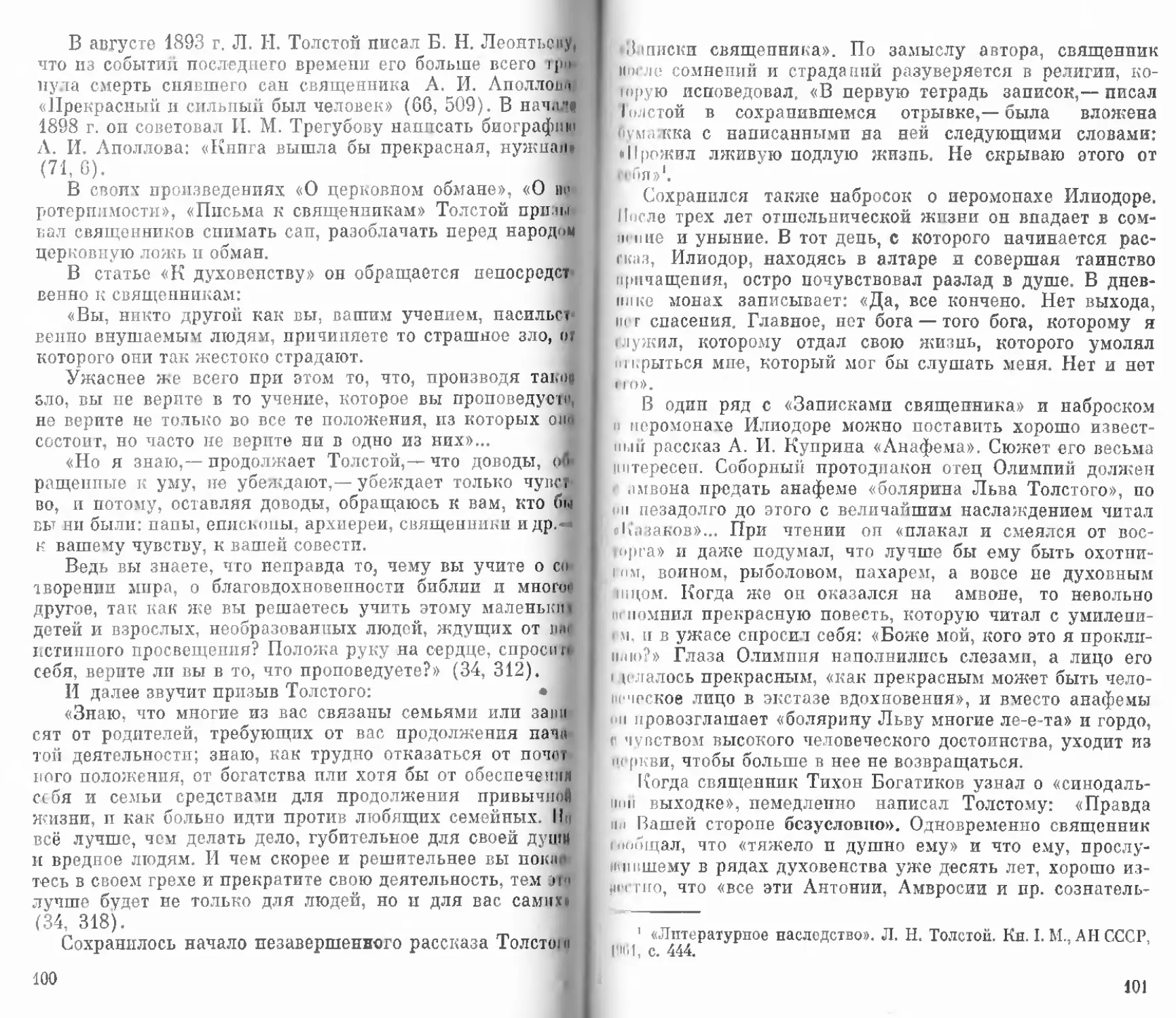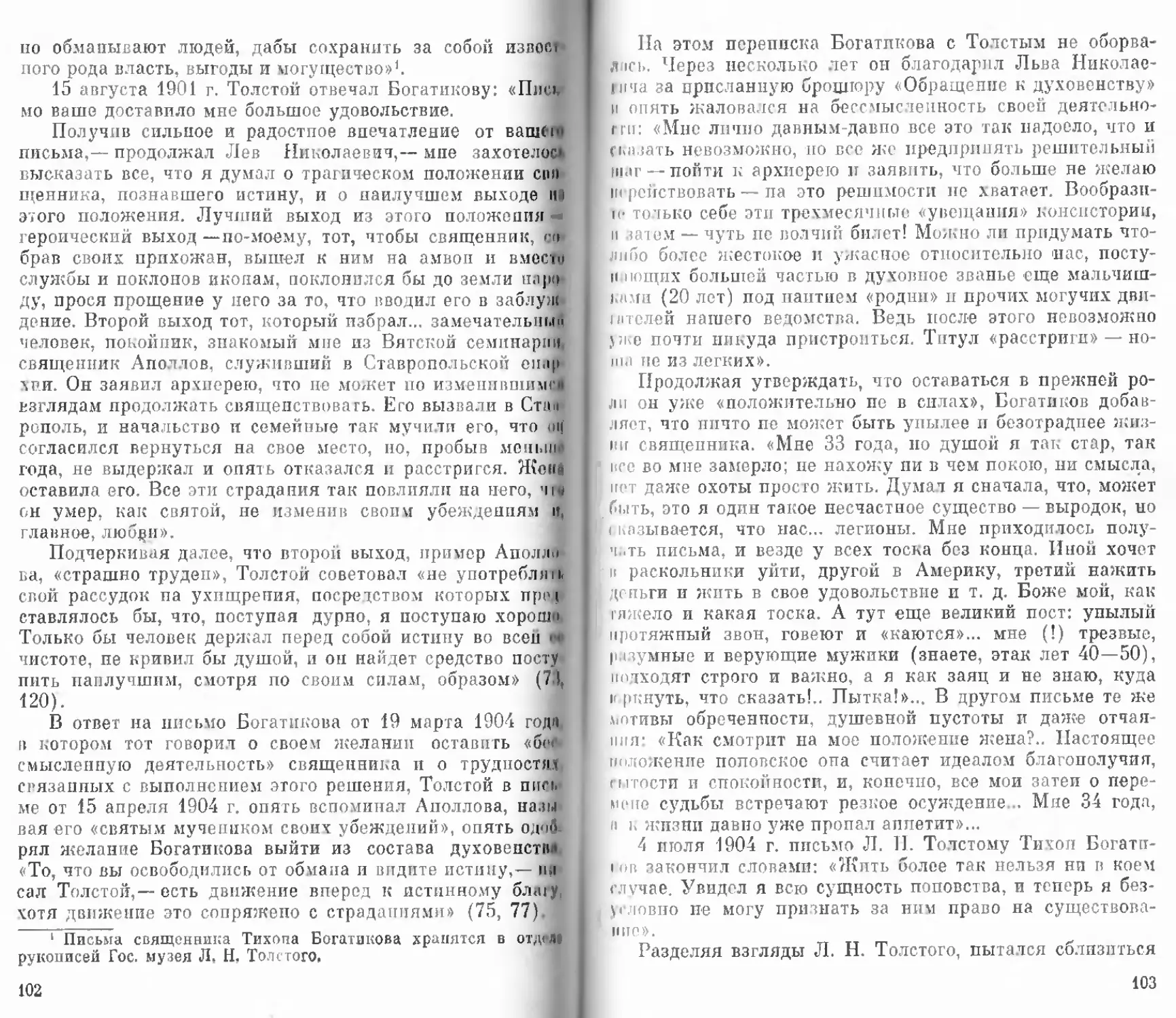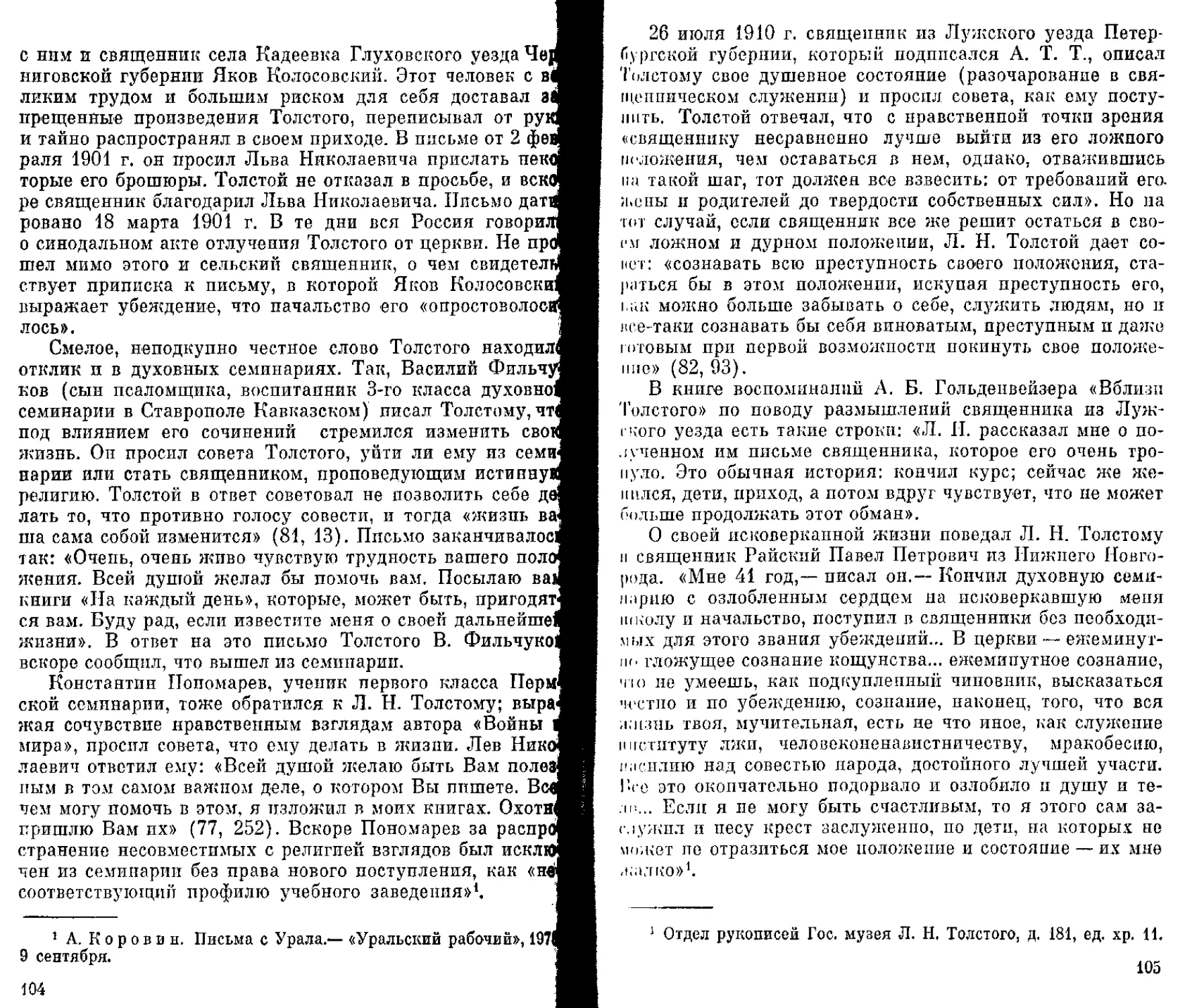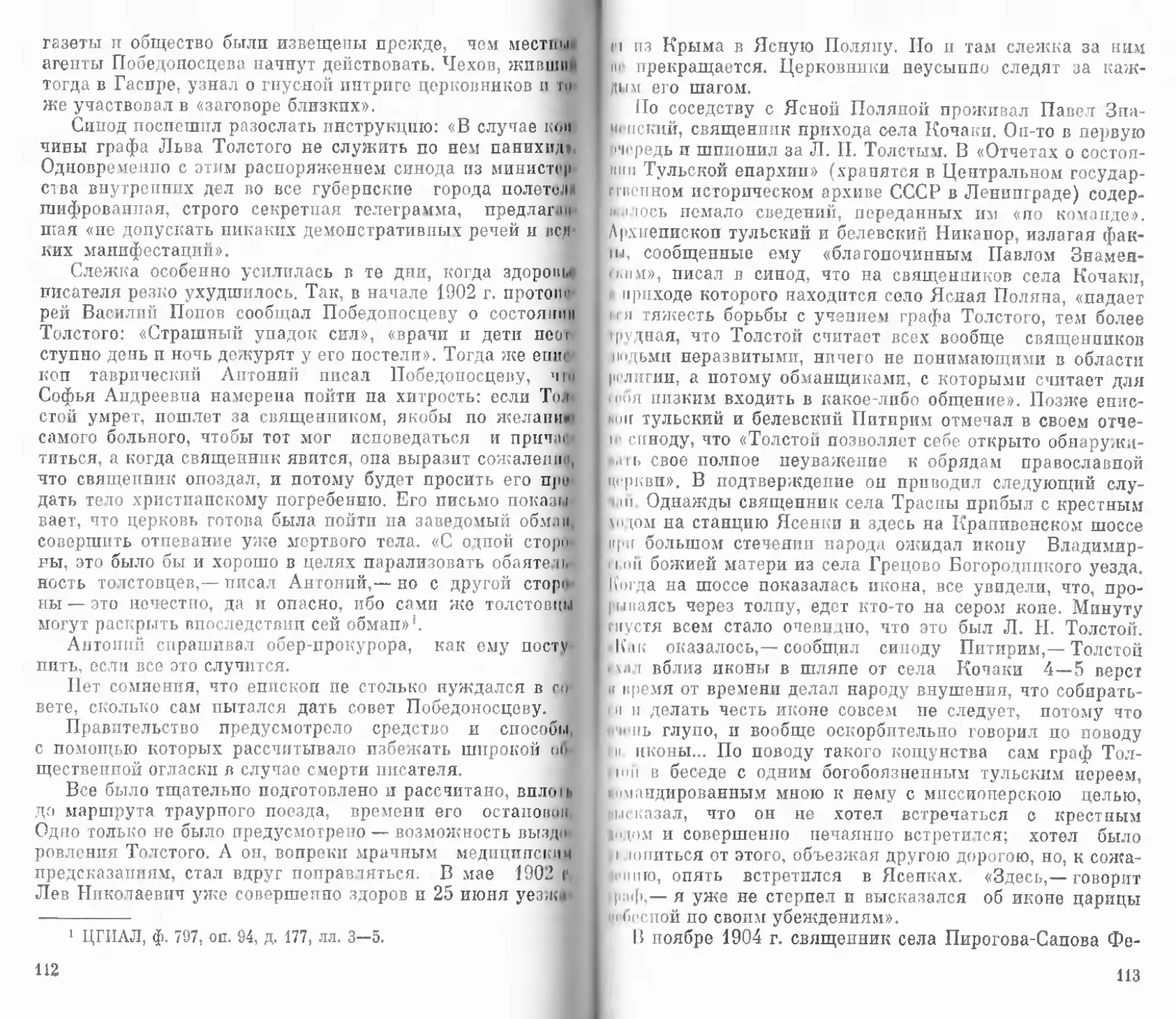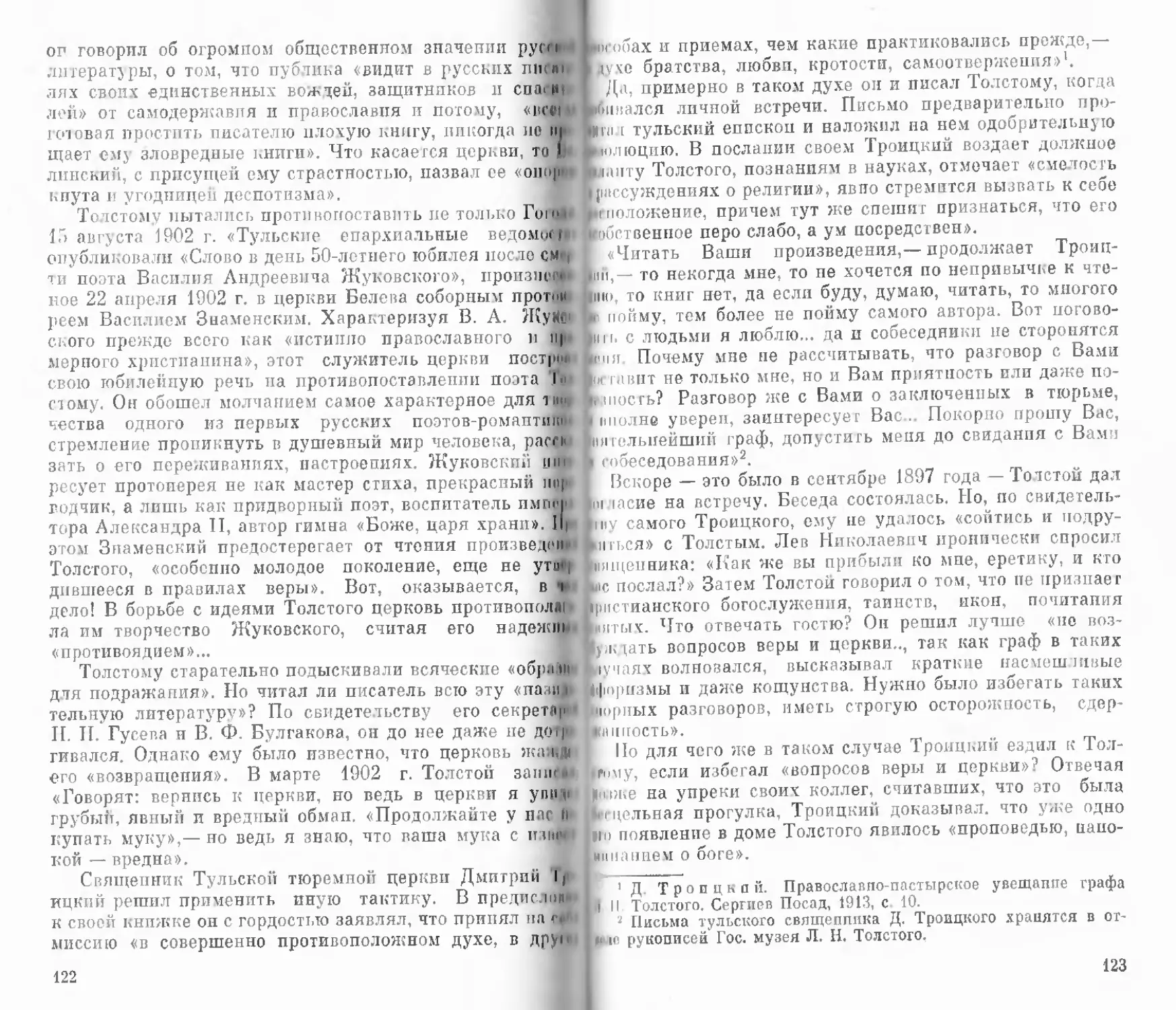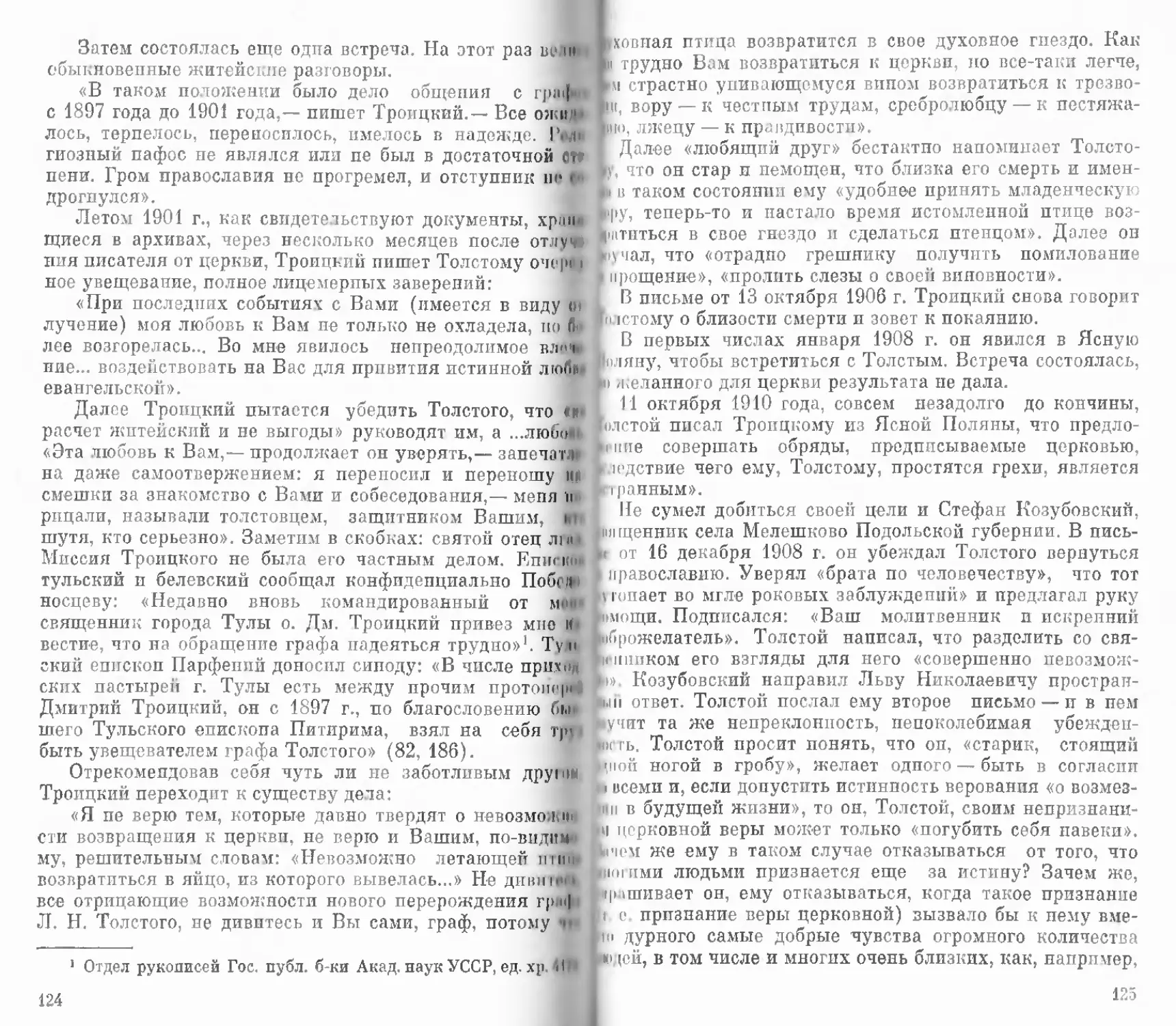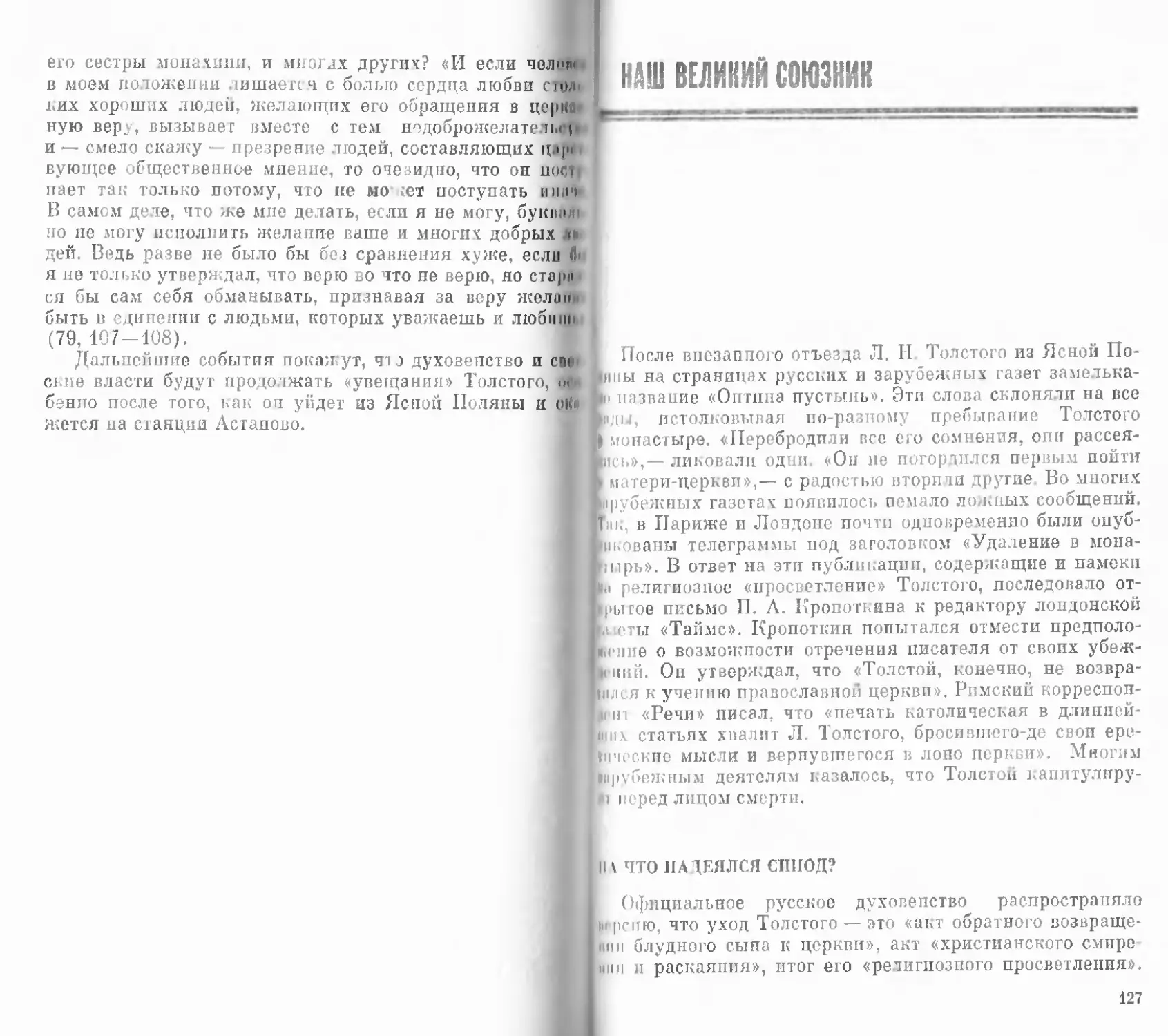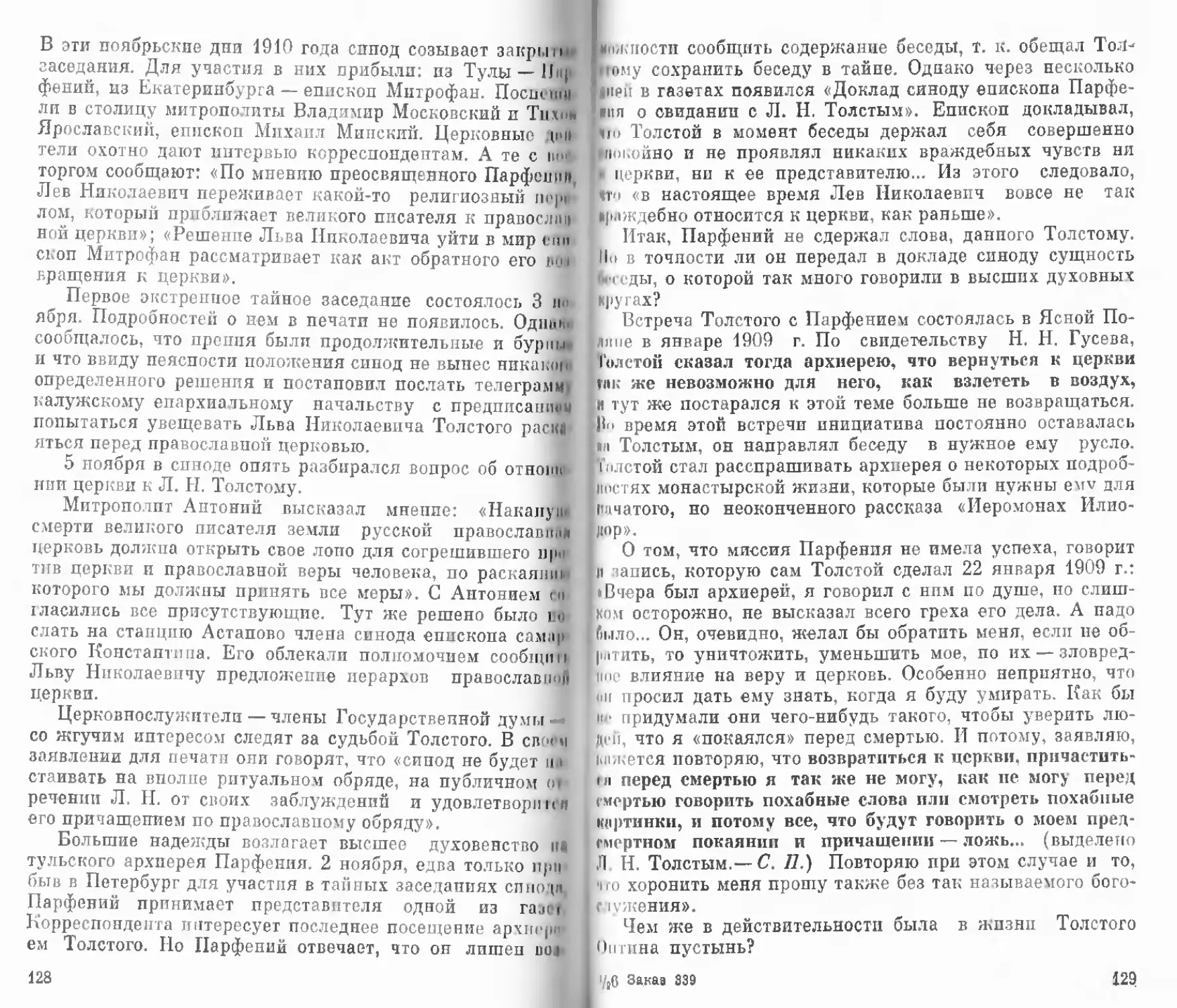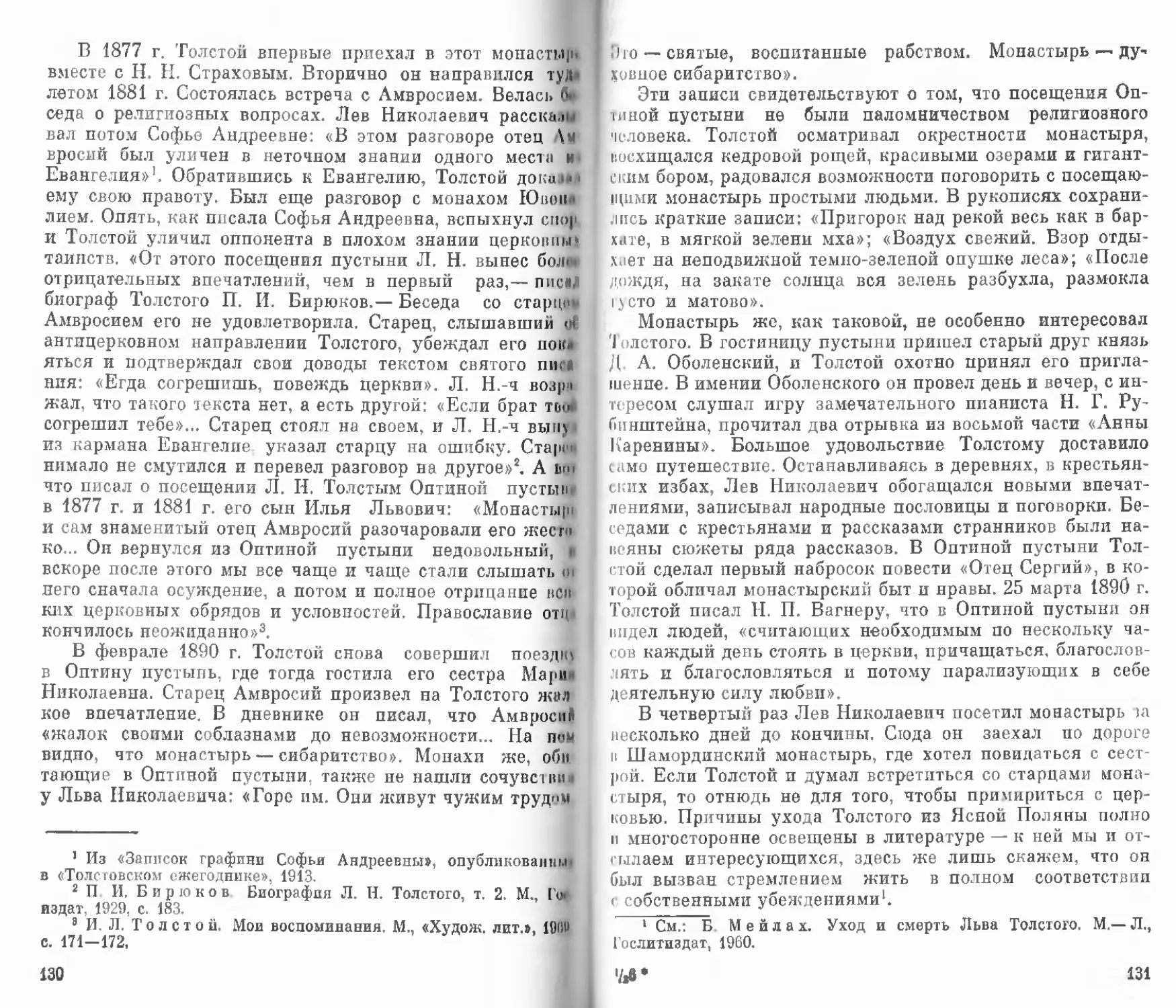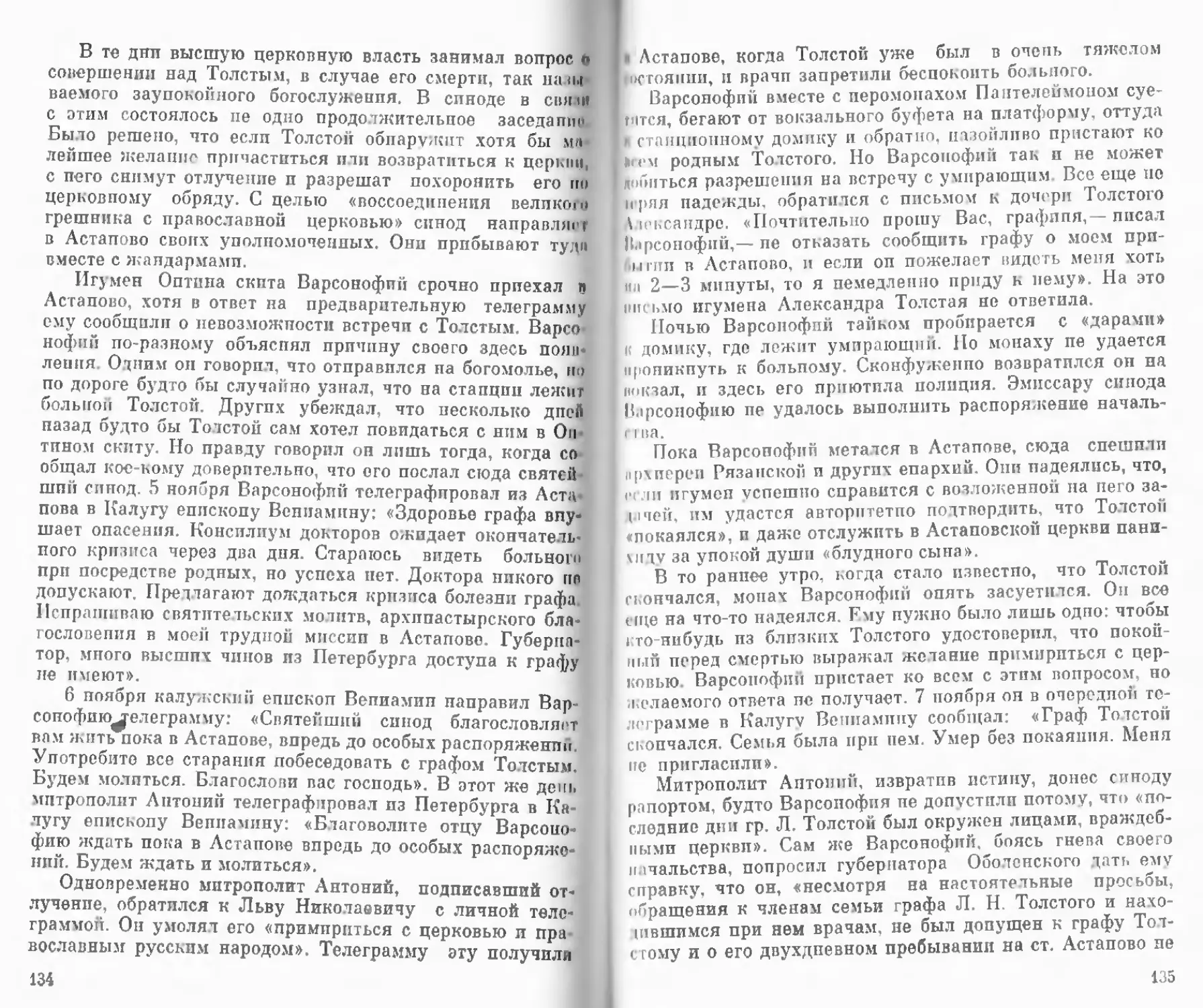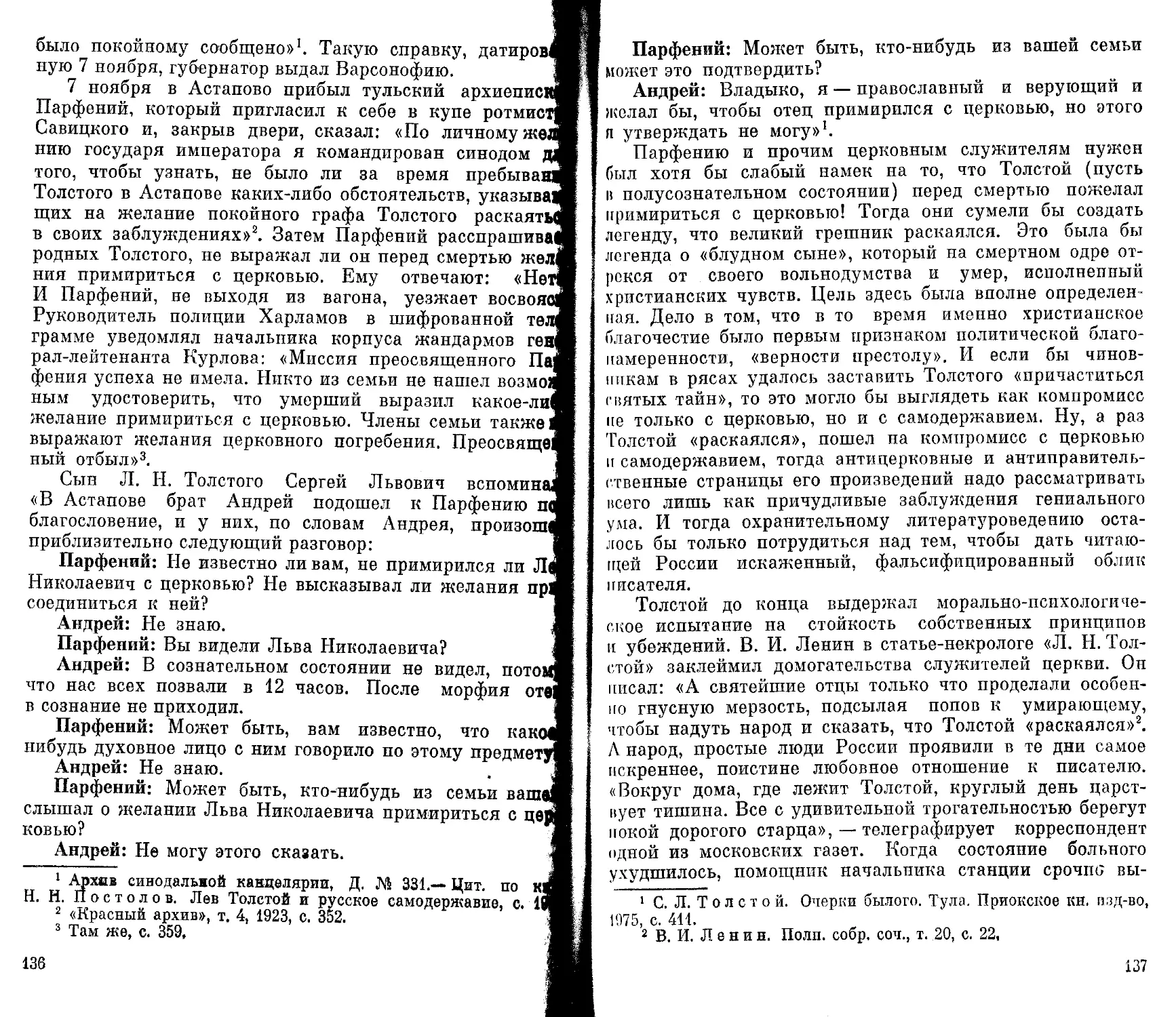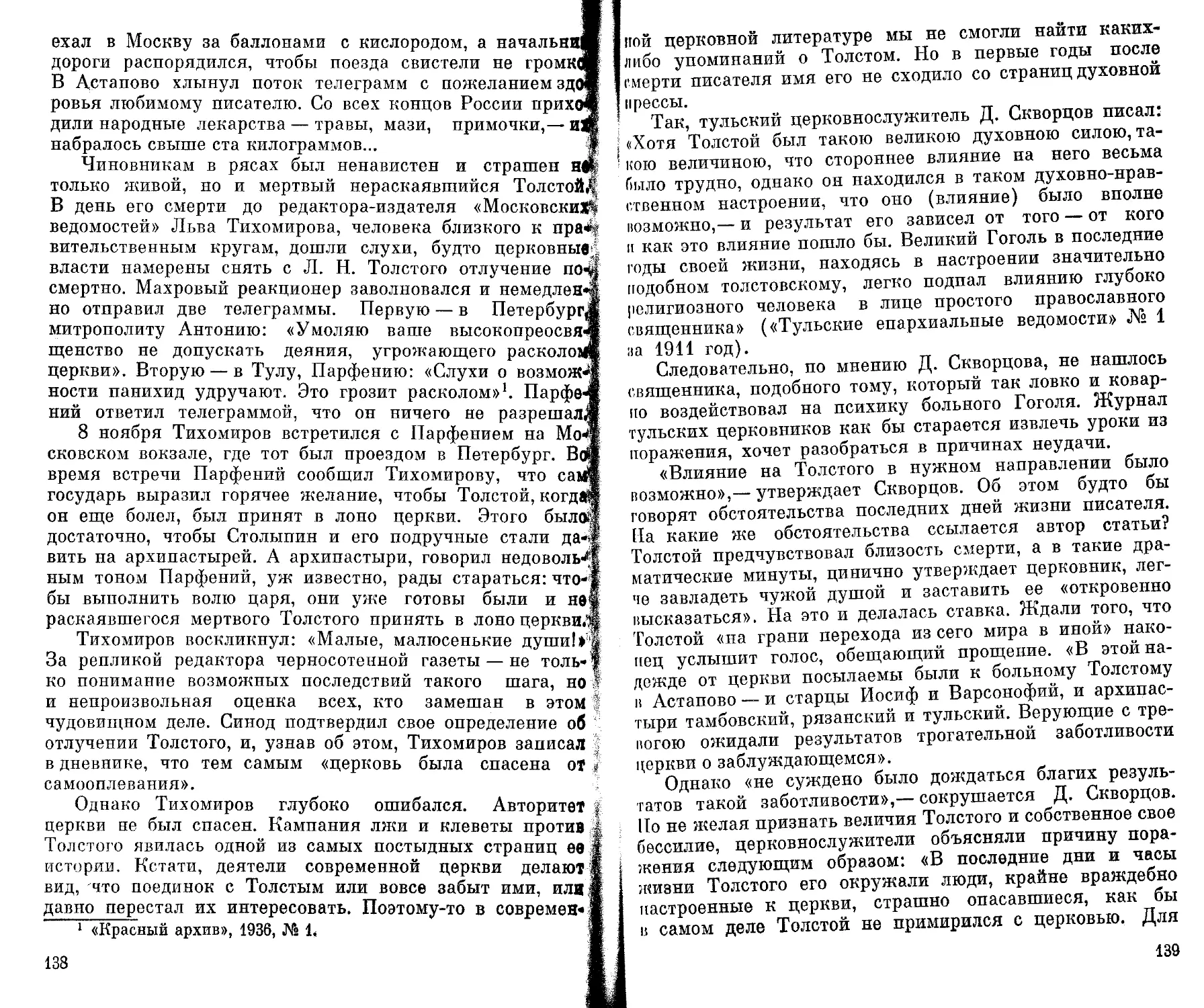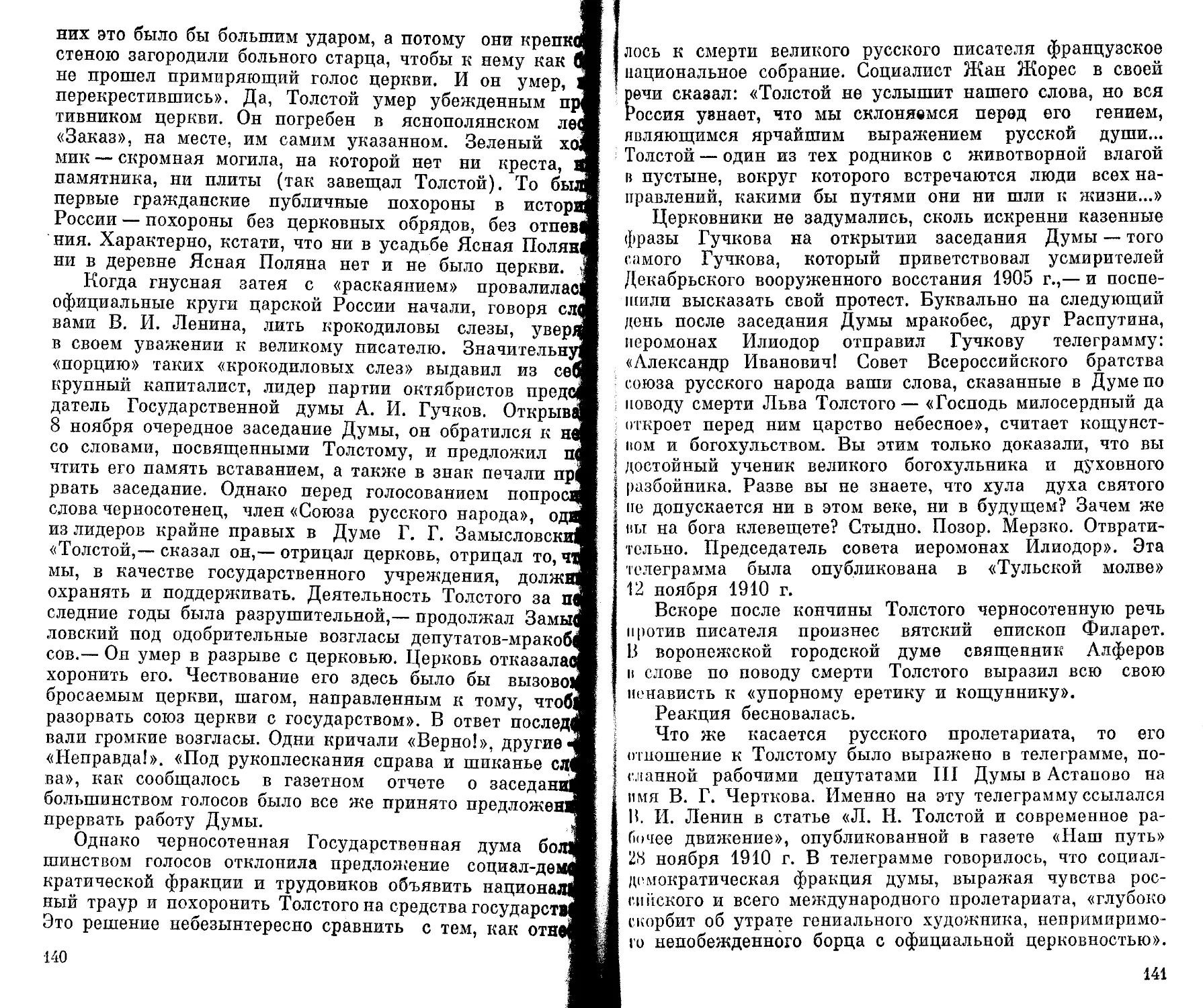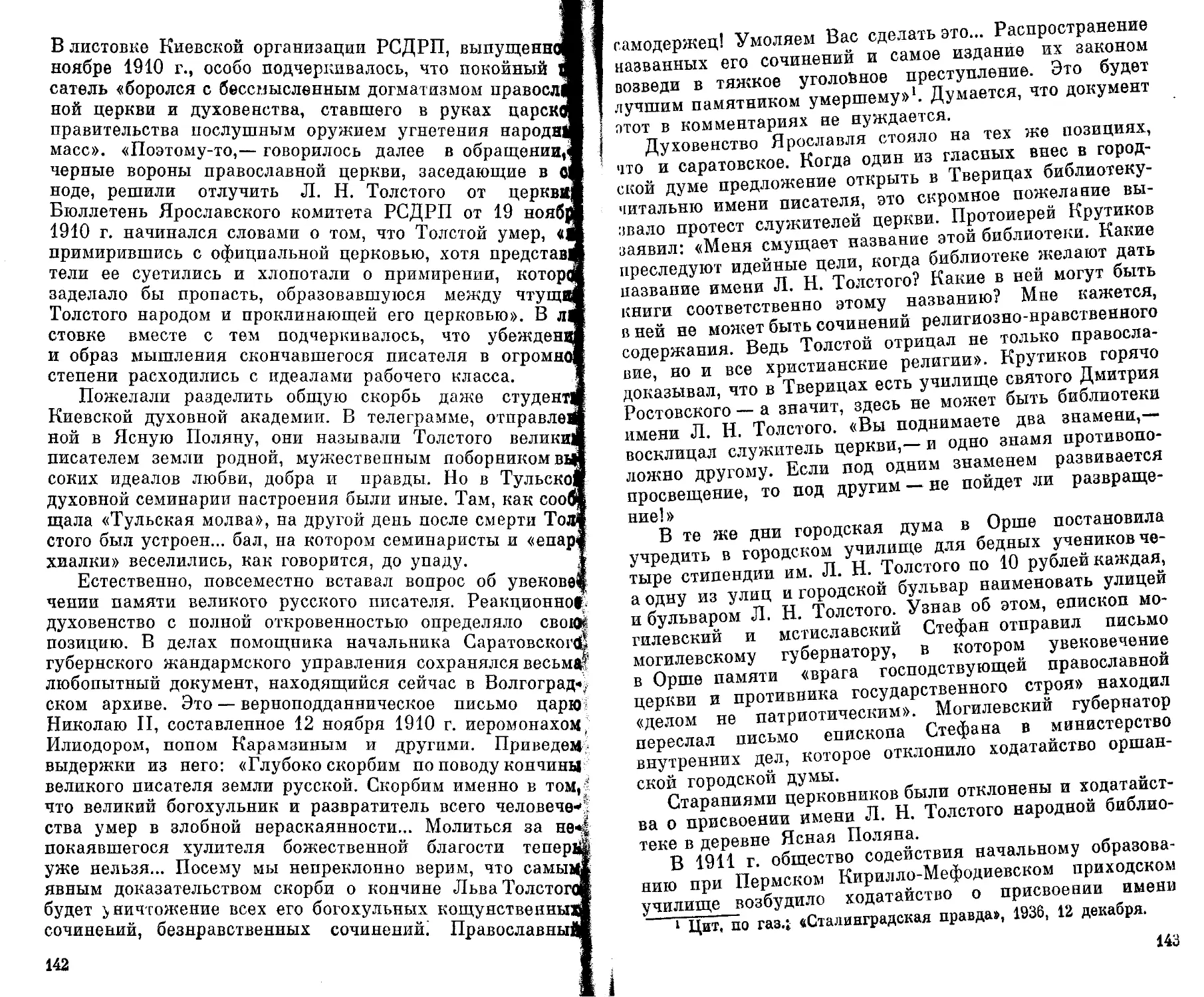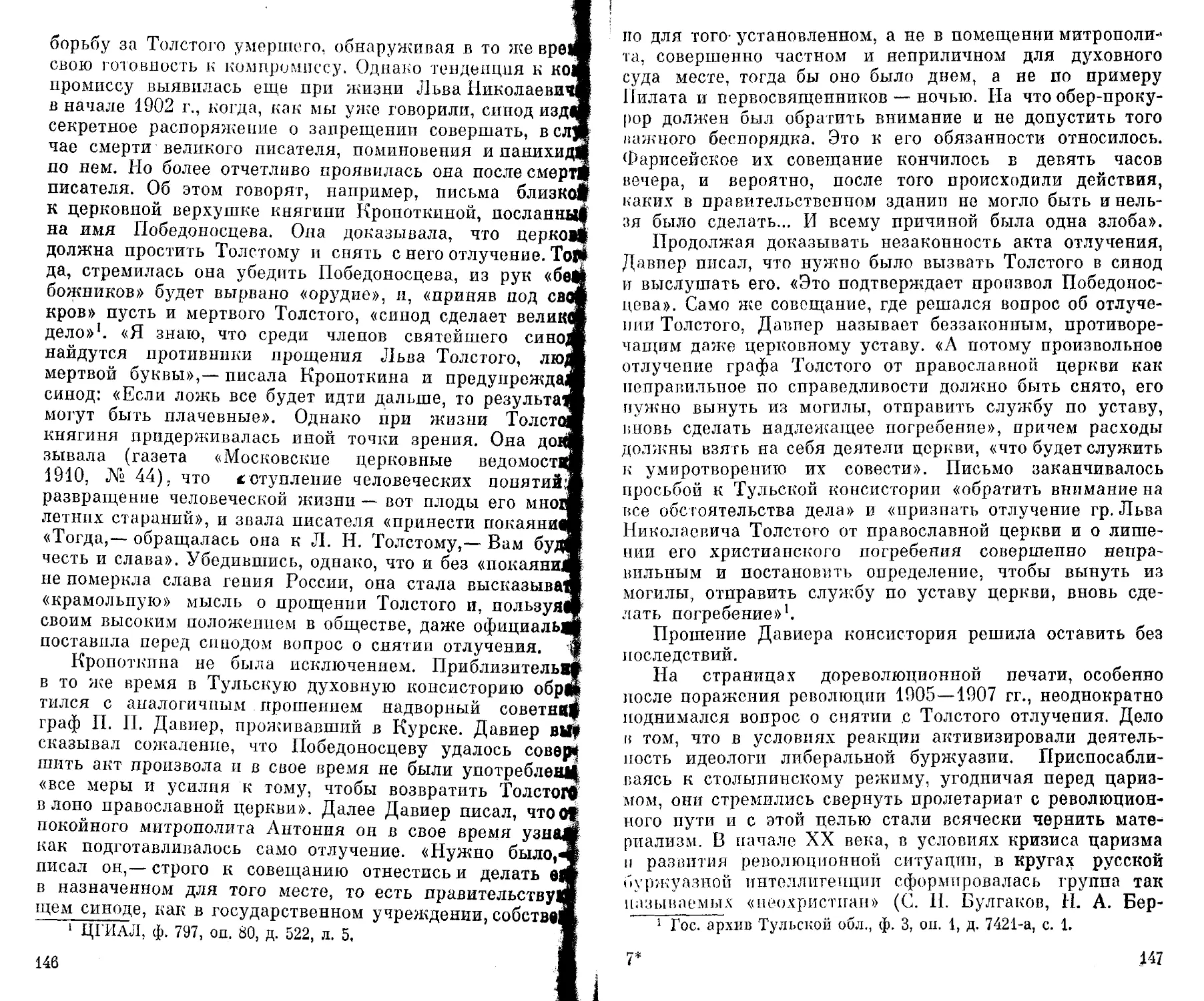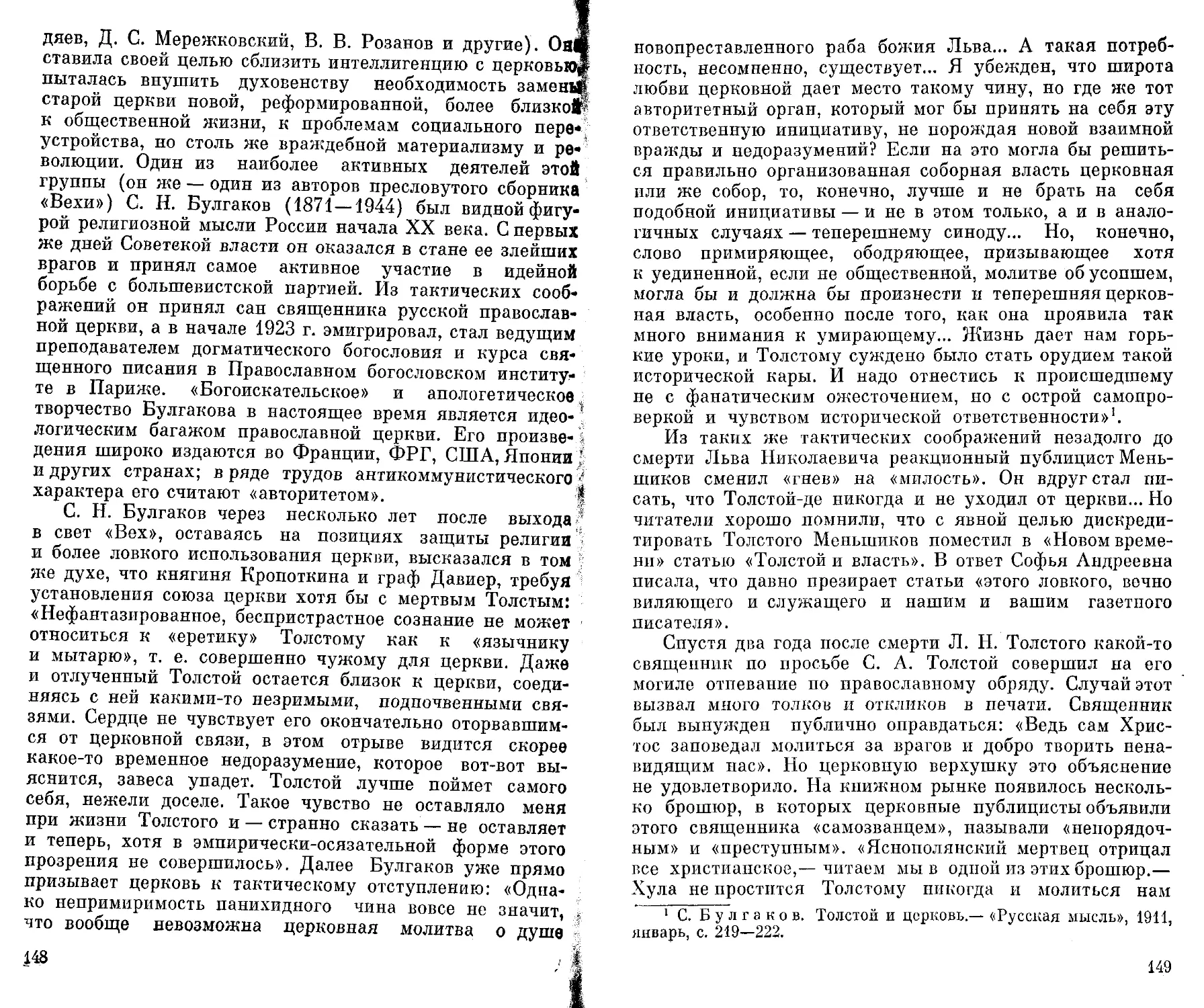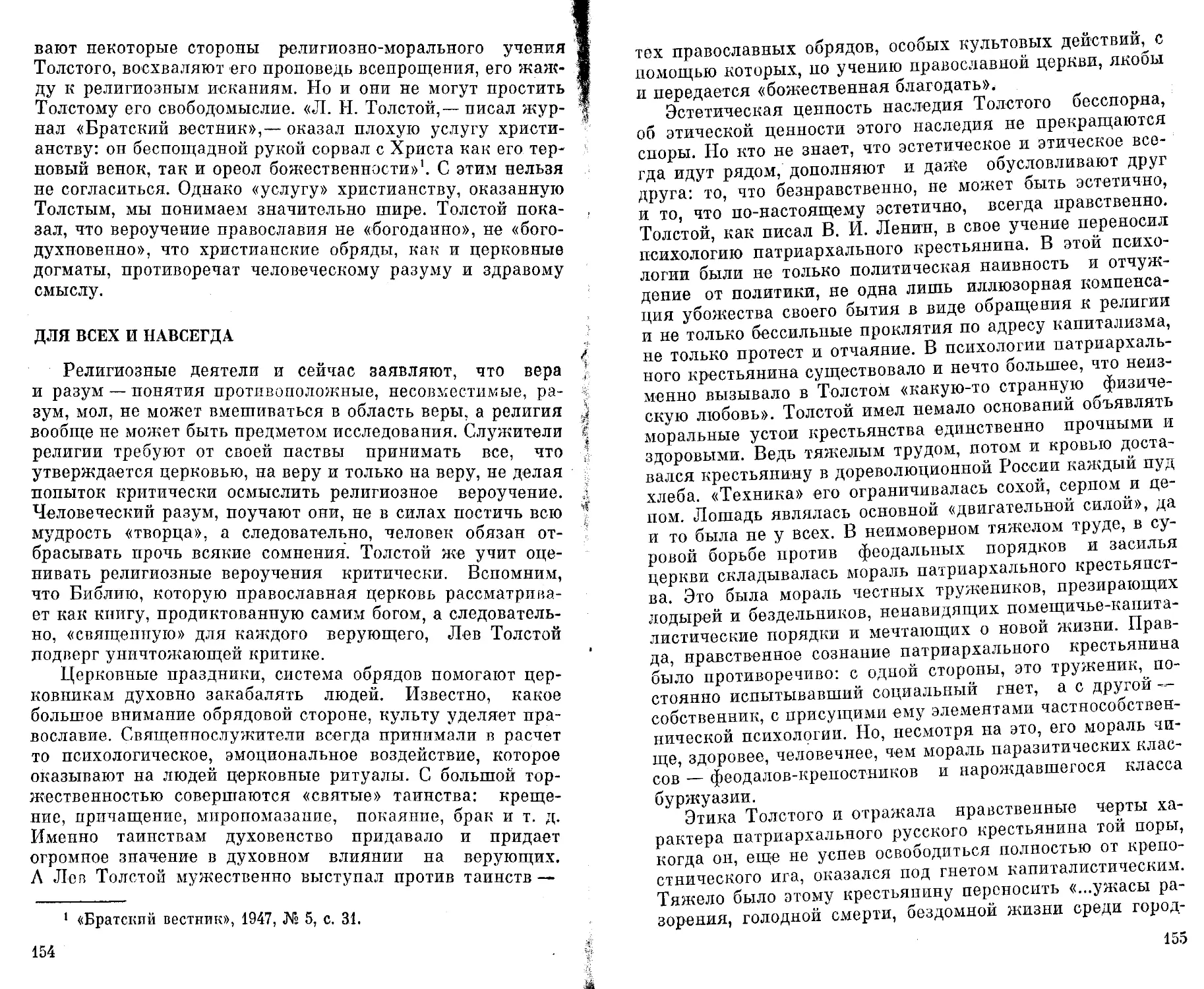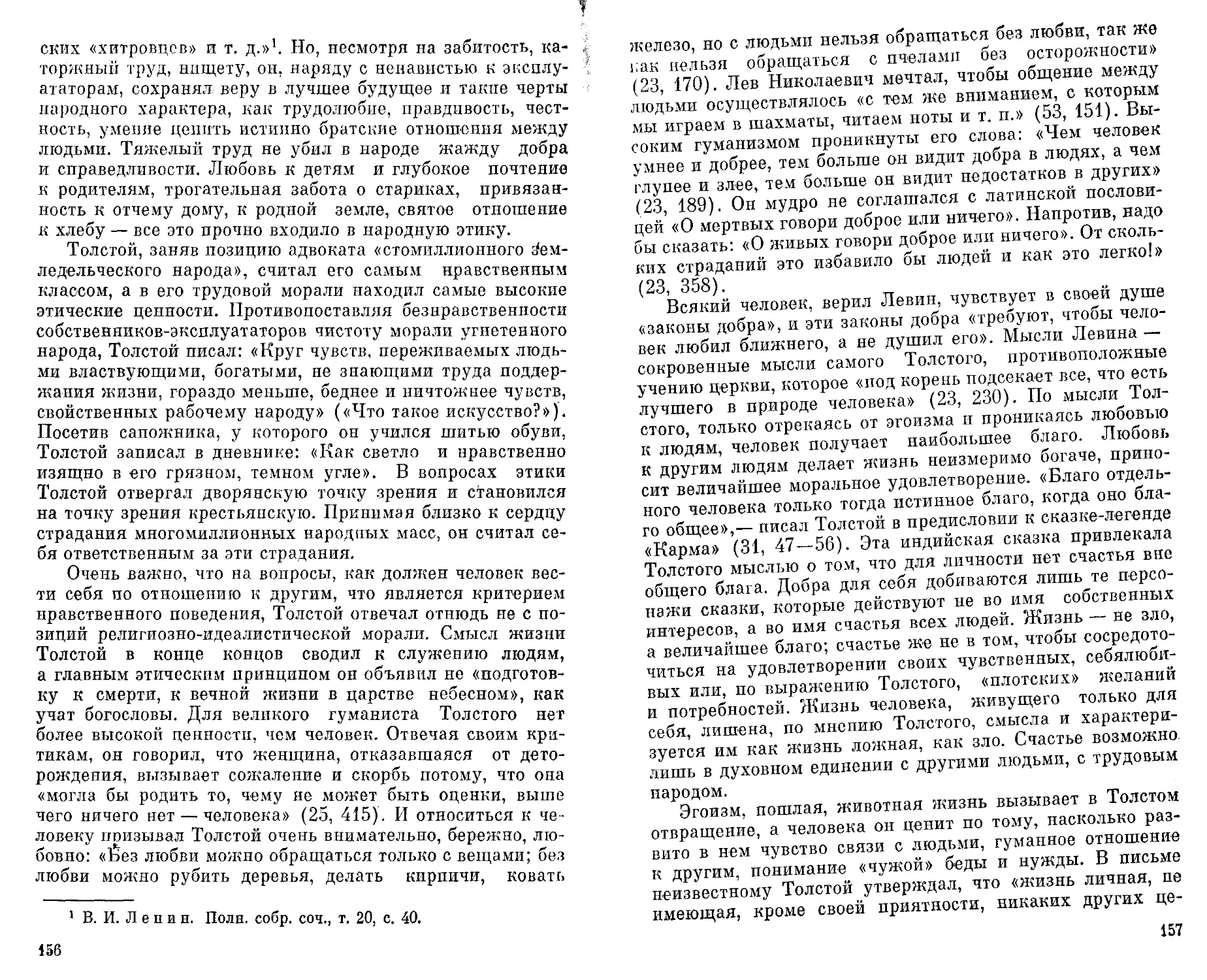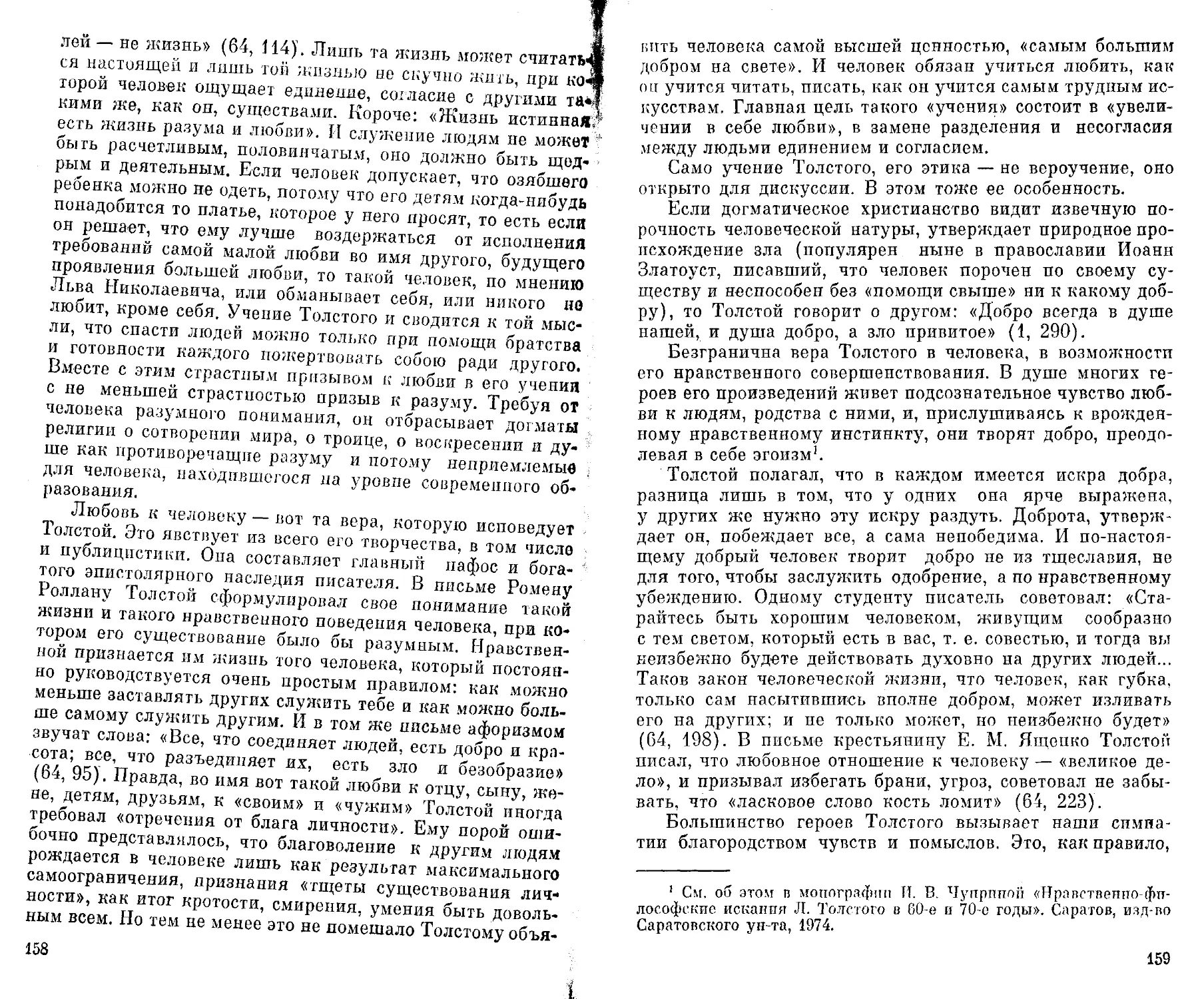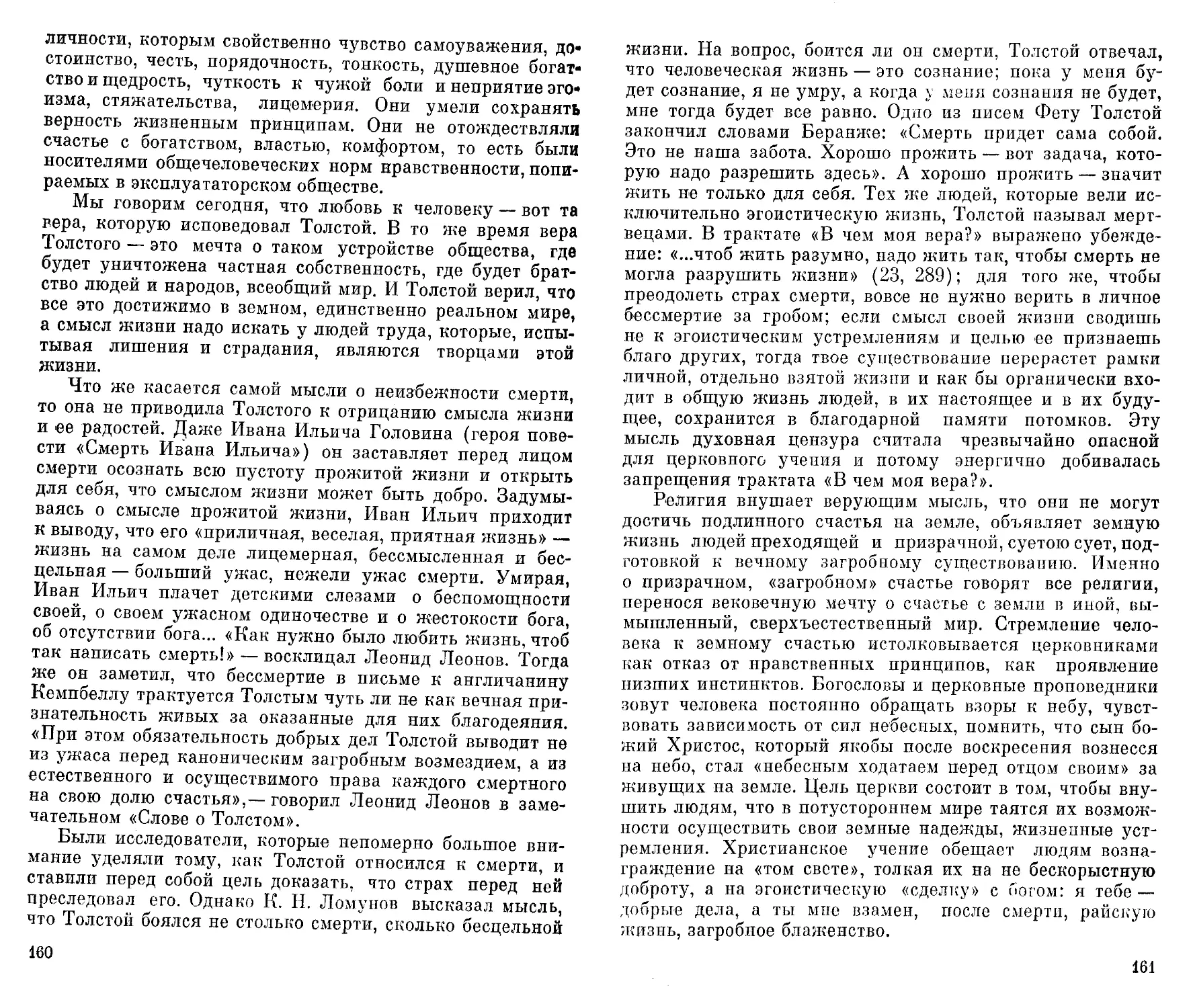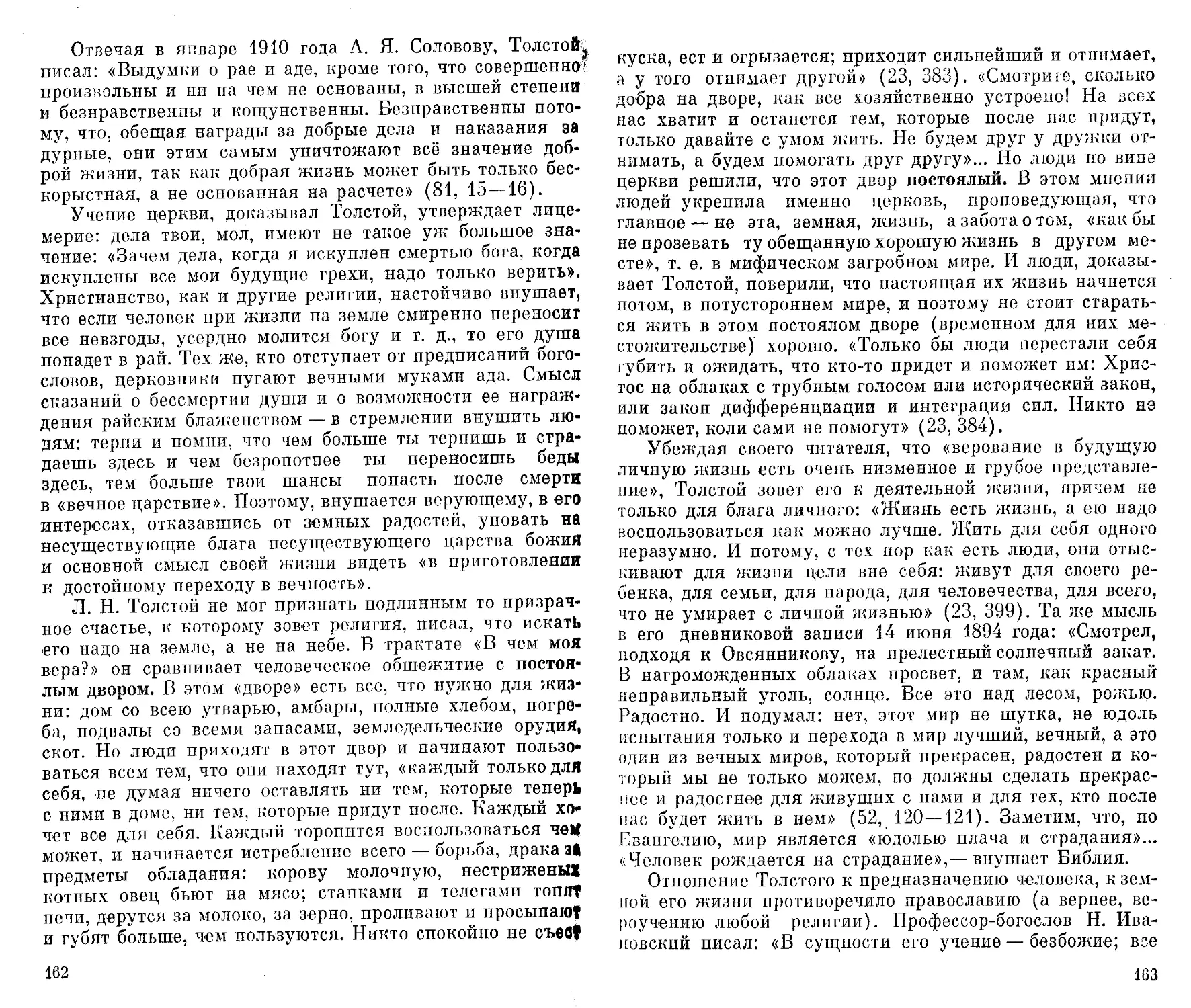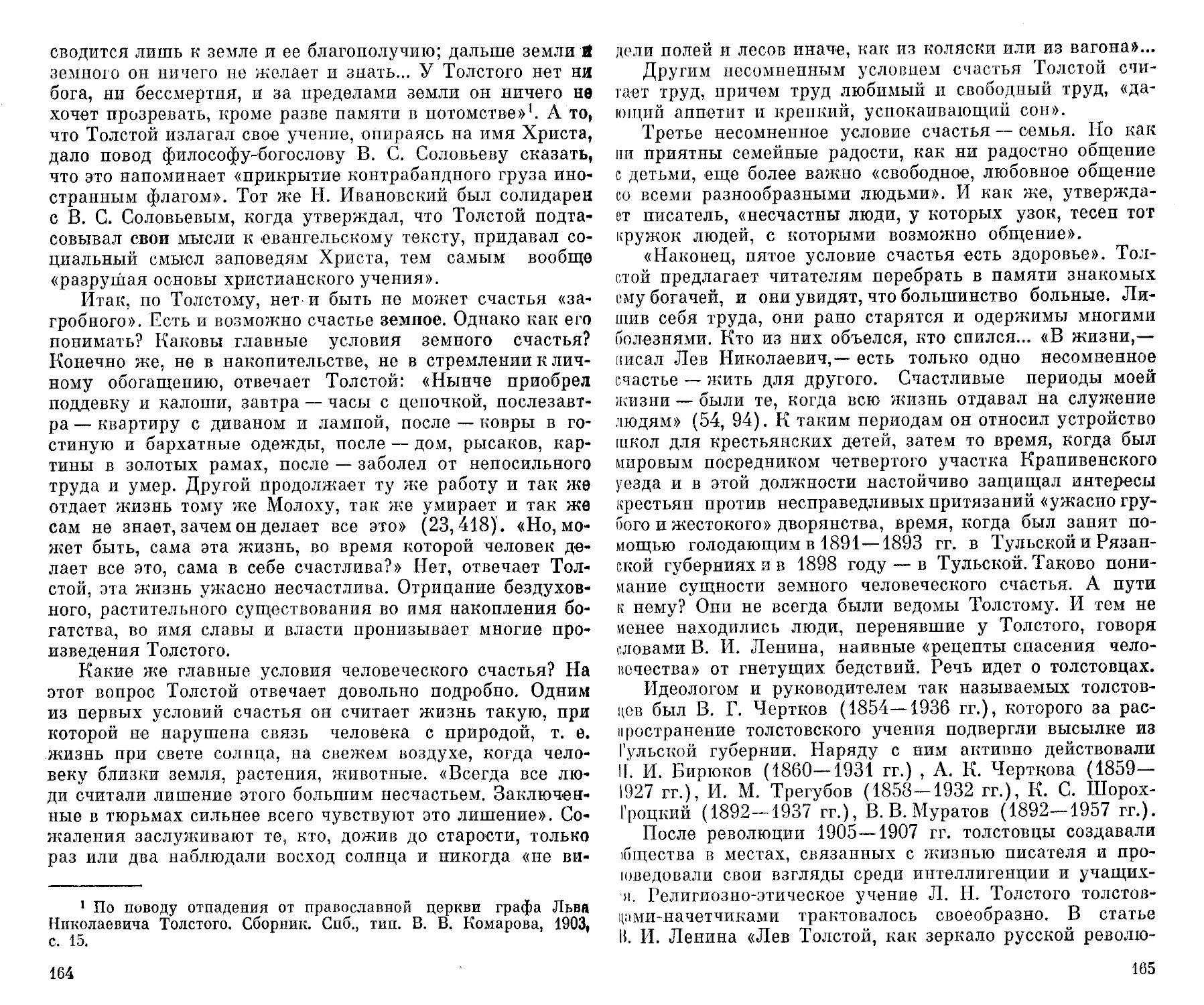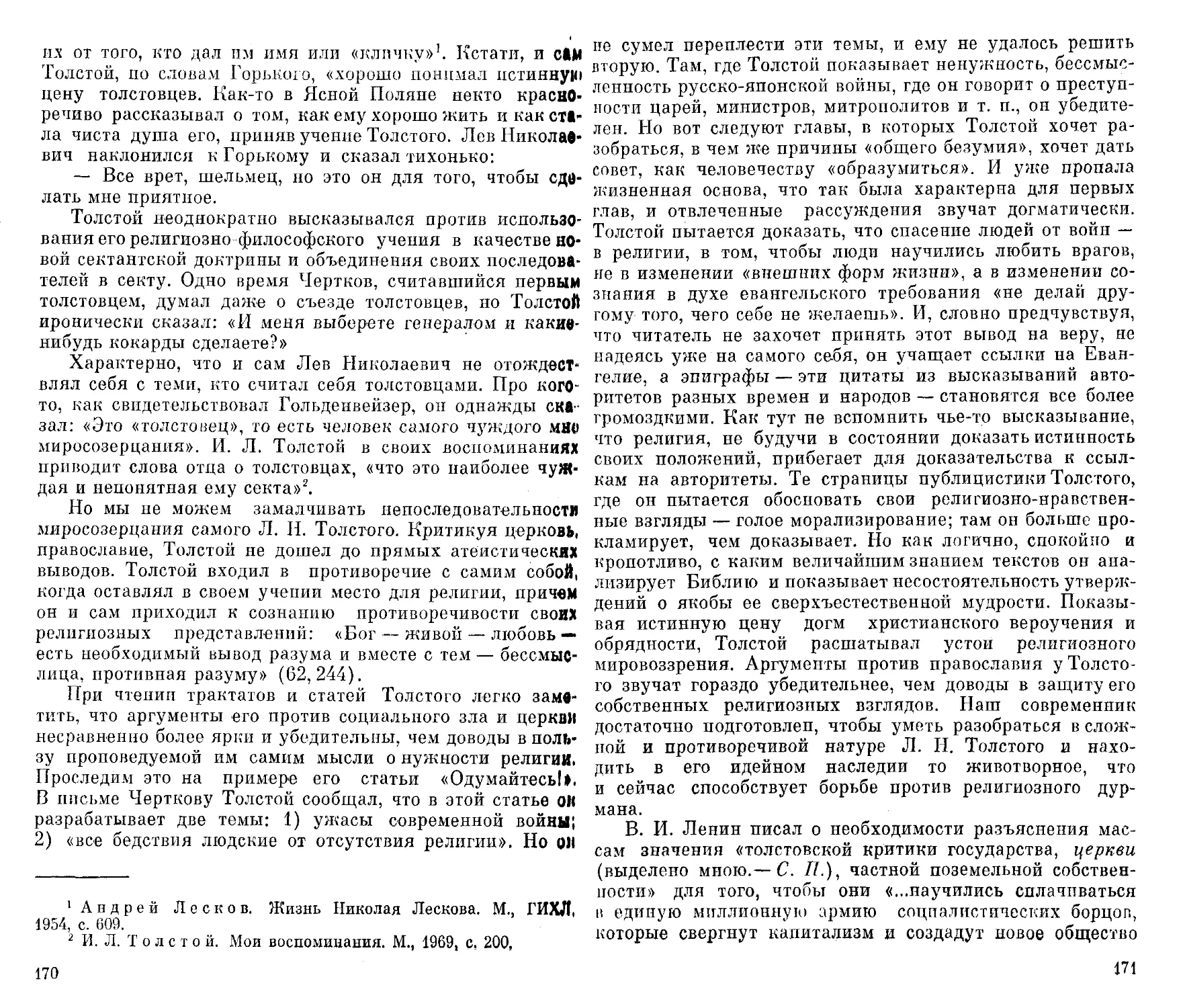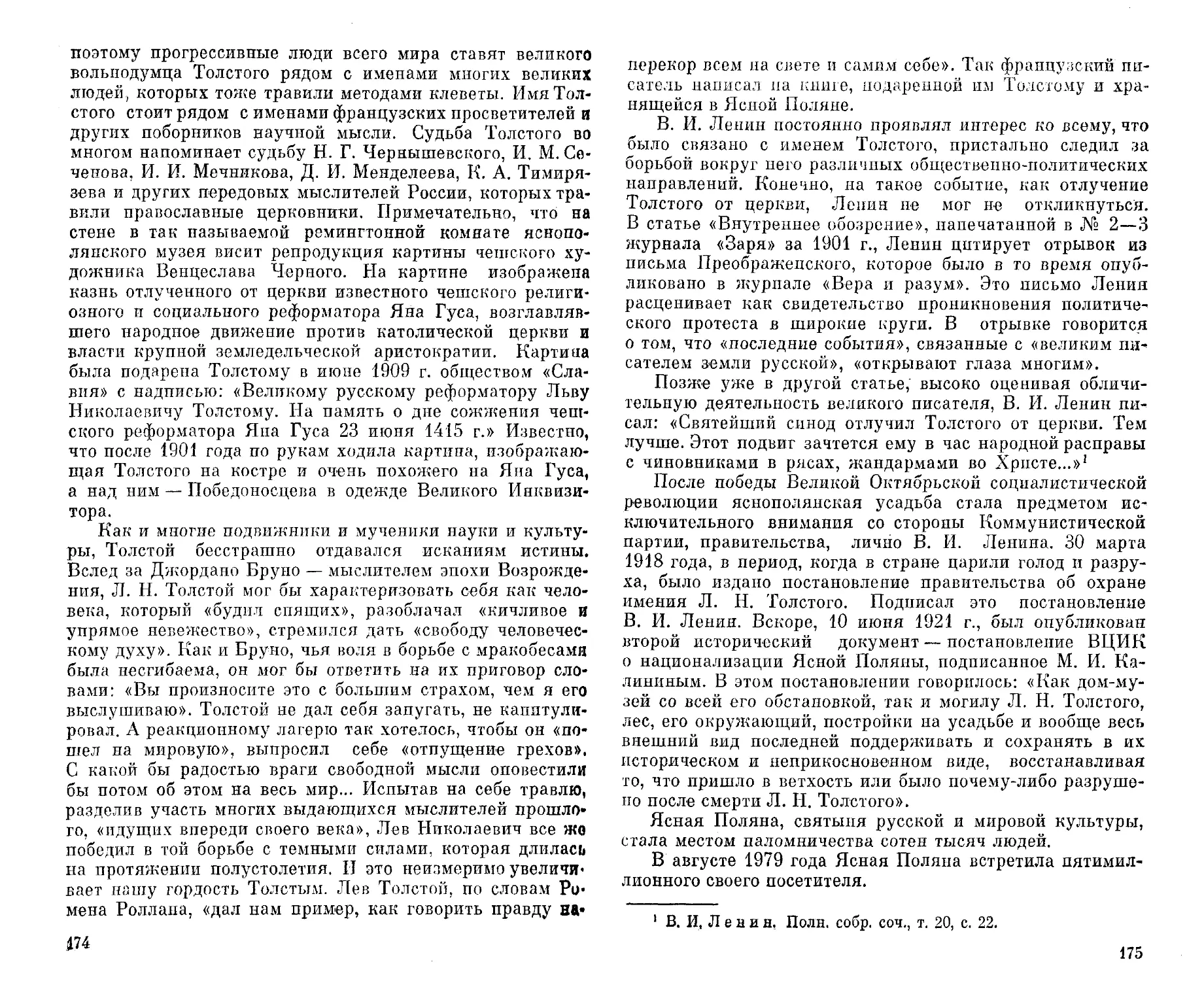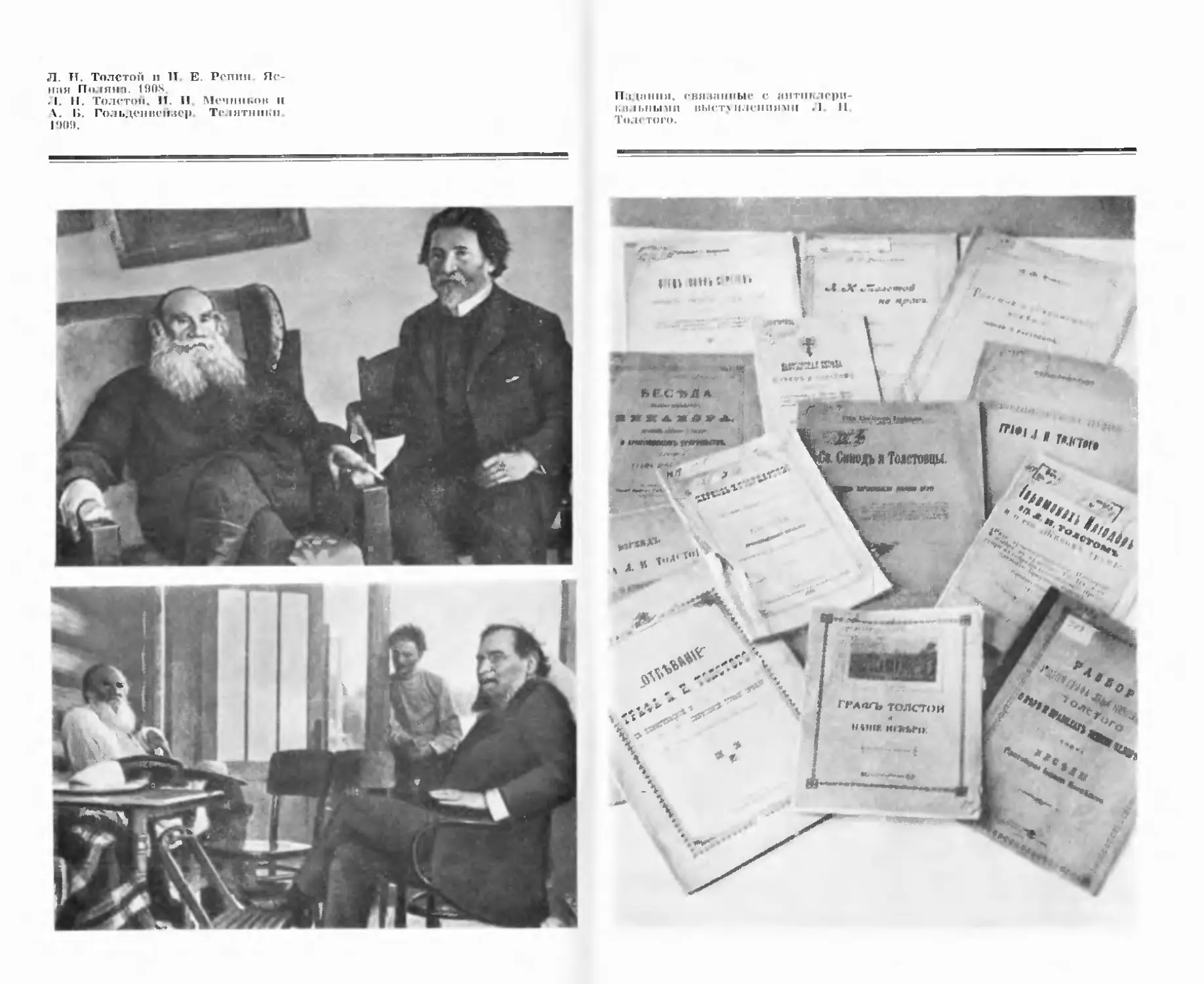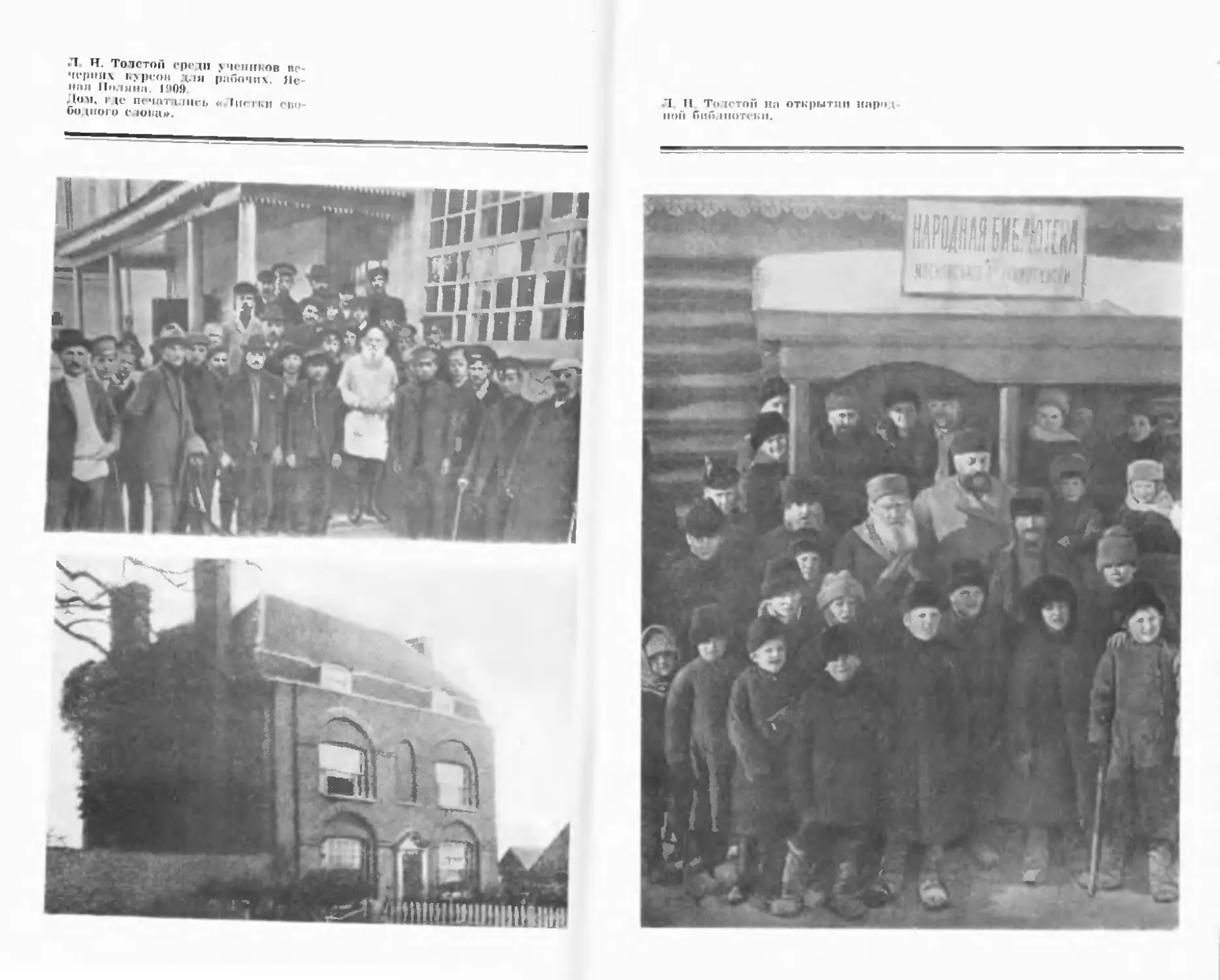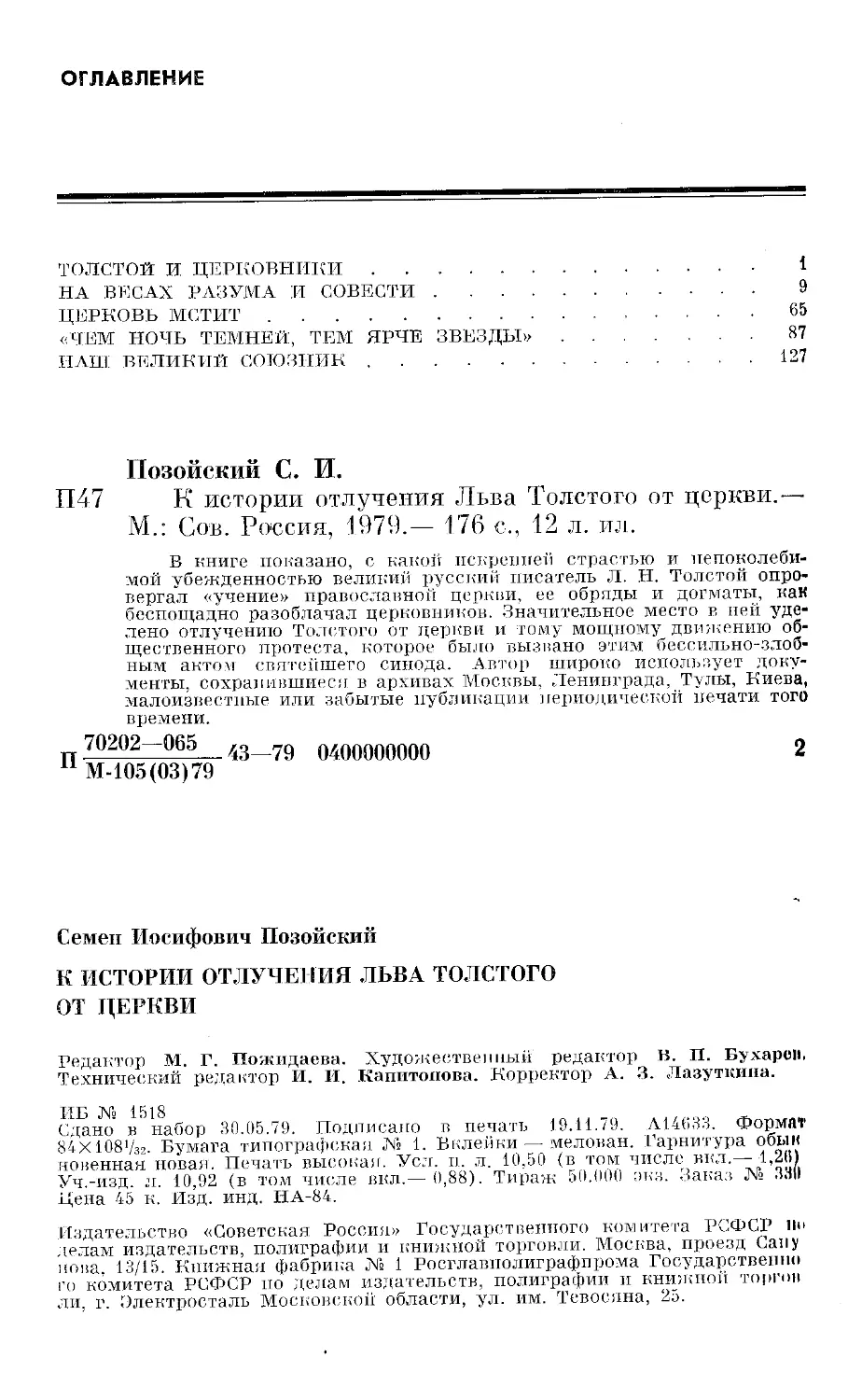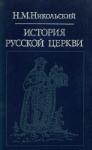Text
С.П030ЙСКИЙ
К ИСТОРИИ
ОТЛУЧЕНИЯ
ЛЬВА
ТОЛСТОГО
ОТ ЦЕРКВИ
4
С.П030ЙСКИИ
К ИСТОРИИ ОТЛУЧЕНИЯ
MlТОЛСТОГО
ОТ ЦЕРКВИ
МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»»
1979
2
П47
Художник В. Б. Иереберин
° й-тьяХ» 43-,э
(©Издательство «Советская Россия», 1979 г.
Дело департамента полиции
за № .349-
Полоса журнал:! «Лива», в кото-
ром Пыла начата нуГишкацня ро
мана «Вос крессине».
"ОТКРЫТА ПОДПИСКА на „НИВУ ^вЭЭ г
г2.*н50.й*з~^(>> ^.>«2Л~Н*~ (>>»>О.-а.‘Л(нд<ка'ег < >ан»
Риекресеню.
Романъ
I
|м*» ы л^жж» яви. • .-**«» ж «Л «да»
да» «fell* ШЪЖШЫК- .к Ikt. »НЖ. »:’p-VK»lk О »<U»k
м i «<^»4 мм км» к дам. нн .чймл». мши миж
гпАн imv»« да рода-- а» да* ш» «я *ажж*л вам»*
фхШММУМ» ‘W*- *<»»* •» iU»W МлдааИЛЛ
। r*Ml * дафиш Ш на -«ркшлв» jcjhmim и «я ан
дама »иж жвдаиипъ » даачж. >-«j» да »-*ч
- аг н » t-ммда rjtt рмла. «мкндаа :»- ла
। «иыдаяк tii шмм* да • «}*»•># да да - w
л дажмма 4$4мй|».*кч да a »*д» млоаан жжжда*.
, дарим, тдама. ♦ р»'«и* [данх- кмм в« кмвм- и
А<да жты. дамы дан дама -suxim-i» дачде ним
мХмжа « лм«да » да дадада ptteitw» - • виа >да*
ша » sjm Ж’длалм > • rUu, «шадаак
Шаа Мм н рдадада» • «ш н аг. и«мык в :Uu
fe 4мв йммда' кфилда •• - да- •»?«*
ими- а дамп. »• - и .• v -р» . |-ч* Щ'хы н
ыадашда а •**» да да да «н» » j» да'- чм t>p«w
iya Вмял имиин ин йи»» да иъ ц>* <*.
ТОЛСТОГО
pa* UAiai «мни ь’а ММ сллдаида -< эдЗдац » <«<я^»м-
Н вдамн I Ч?« f«e и» маичдаж ННЙМ
tp.o «лл ,ф}лл
Так». •!> к-Hlol к р\|>»ч 1 сда Ъ-ЖЫ «’Тя.м-лт. -ЛЯ!
щиивт и млада1»' да • нм дам* аиимкяим-
и*к :-»Ы VW<W и » *« » ча
вдааъмда» а имкын» «<< *ai>v'<
М дач- [»М1к. Ск ш-чап* « А|.-л»к •->*• »)»!>*
чъ«>ы ». «чн и «М*- up* -'киш 4?<г*»дач<м г-- нда
пиим » .wk, ,'K.j. aaj>Mx, н* •vi-чмшда» -I ада галдам-
ШсМн дададме «Н '««'* А®^ жждааала • им* »•*
ши. Мида* дал -мм а.-.-надяк к»«а «чма* в»*и.?и»
и)»т.уйаш1л >,..-дана йы.м «дан» М»ладам-да» ч-Г^да И
да«гк, *адада-м»'и »ew (цжчьилш -да = «айК» *»
!•-•«»>> «мадам* m-jhuV1, * дажли» -«М-чда*. »в ч.>
<м>» up* toHWak lajHiu* ада. -э1’’* Р«-п • ',* *> *>
да-ихд »! р«и?»к л»т!в»жх • . и «•ягашт а
даммч» Мм» дамша-Ш. -иТ.м м к фп « р<
»л»»на «Ъиндон «да1}НМе» а дач -жлаваа Жамш.' -л
- aeajfk т-«а- •* шаа Мкдшркадажва^
IUh> Цдахда» .-«jmijsm s-ал, imuah еж ждалv-
аданк aa:«|M4v4H»k к-к >хдмМ азда жлжрЖ, «чда>-
доанпм »ж м»гс^ж.
Иа.4-'}хв«ла. .р.'»а «мкмаж. <o*e|»* аажж» * Т»»-
«»>|ии»ж лда-ра жмк^м. даж к »4«>р>* ммвухж w< - ли
даш-Ш. ч1лж аж •ejHAk'ft. дамдукх жн«м»яда,
и« в-»». аж. »л>ь' и одна а;чшн>|жлк ц»чда *с
жалым'ь.
Uxr да и.р-чдаак 1да»$Л бып caUti*, *»«ei- ним*
дашик да*-МЖ. нрвдал^акы* нкцмжж на t-фма. И аж
I II. То.тстой it M, Горький, Яс-
ii in Ifo.iaitti.
I П Толстой и С А. Толстая
< В В Стасовым и скульптором
И Я Гипцбургом Ясная Поляна
I '.1011
«Дело святейшего синода о графе
Льве Толстом».
ТОЛСТОЙ И ЦЕРКОВНИКИ
В феврале 1901 года святейший синод принял решение об от-
падении (отлучении) Льва Николаевича Толстого от православной
церкви. В перечень отлученных, преданных анафеме «еретиков»
к именам Ивана Болотникова, Степана Разина, Емельяна Пугачева,
Григория Отрепьева и других отвергнутых церковью лиц синод
добавил имя прославленного писателя, которого во всем мире на-
зывали гордостью России.
Чем, какими «преступлениями» Толстого был вызван этот ис-
ключительный по изуверской жестокости акт? Что предшествовало
.пому событию? Как оно было воспринято на родине писателя и за
рубежом? Какие оно имело последствия для Толстого, с одной
11 оропы, и для церковников — с другой?
На эти и некоторые другие вопросы, связанные с историей
отлучения от церкви, читатели найдут ответ в данной книге, в зпа-
чпгелыюй своей части построенной на впервые извлеченных из
архивов документах, а также откликах повременной печати, жадно
< .цедившей за долголетней борьбой церковников, которых В. И. Ле-
нни назвал «чиновниками в рясах, жандармами во Христе» и «тем-
ными инквизиторами»1, с вероотступником Толстым.
Широкое привлечение автором ранее неизвестных, а таюке ос-
новательно позабытых материалов помогает ему создать столь
впечатляющую картину, что становится ясным: отлучение о г церк-
ви ио есть частный, пусть и значительный, эпизод из жизни Тол-
< тоги, а — крупнейшее событие русской общественной жизни нача-
ла 900-х годов, один из «разрядов» в ее до предела насыщенной
нредгро ювой атмосфере.
Вспомним: всего четыре года отделяют это событие от начала
первой народной революции в России. Предвидя ее скорое прибли-
жение, светские и духовные правители страны лихорадочно искали
способы ее предотвращения. Они занимались этим сообща. И гоне-
1 В. И. Л е н и н. Подн, собр. соч., т. 20, с. 22*
2 Заказ ааа
1
пия, направленные против Толстого, велись по строго согласован^
ному ими плацу. Из документов, сохранившихся в архивах, видн'<
что высшие духовные чипы долго и настойчиво требовали от высГ
шей светской власти ускорить расправу с Толстым.
J’ справедливо! — что толчком, побудившим еппод отлучить пи-
•атсля от церкви, явился его роман «Воскресение», увидевший свет
1899 году.
Однако еще за десять лет до того, как начать работу над
Сегодня мало кому известно, что по настоянию ряда высоки; воскресением», Толстой написал «Исследование догматического
’ югословия». В этом произведении убедительной критике подверг-
' ij ил основные догматы православной церкви и сурово обличаются
и (Л у жители.
У трактата «Исследование догматического богословия» есть
ру гос, более точно выражающее его дух заглавие: «Критика дог-
ин море отличает такие религиозно-философские трактаты Тол-
гоп», как «В чем моя вера?» (1884) и «Царство божие внутри вас»
1894). В .них произведениях Толстой соединяет критику основных
и, как опоры социально-классового, национального, колониального
uno) о 1 пета.
II книге «В чем моя вера?» Толстой стремился показать реак-
н pi, мир Iоцпалпнм п коммунизм, политико-экономические
рпп у Iили।при ни, < побода и равенство людей и сословий и жен-
ин, in о пран гпг'нныо понятия людей, святость труда, святость
(пума, науки, искусства,..».
II । всех видов рабства, прежде существовавших и пьше сущо-
пую|цих на земле, самым ужасным Толстой считал рабство цер-
iiiiHioi', религиозное, видя в нем «корень всякого другого рабства».
... умело камуфлирует себя, свою подлинную сущность. «Самая
щпя ложь,—говорит Толстой,— это ложь хитрая, сложная п об-
h к’нпая в торжественность и великолепие, как проявляется обык-
I ик ппо ложь религиозная».
В аптпцерковных статьях и трактатах Толстого глубоко рас-
священнослужптелей вопрос об отлучении Толстого от церкви об
суждался синодом еще в 80-е годы, затем в начале и в конце 90-х
II если принятие си иодом решения откладывалось, то потому толь
ко, что, страшась взрыва народного негодования, он не хотел пре<
вратпть Толстого в мученика.
Изучая шаг за шагом историю взаимоотношений великоп ,,,,,,,,т7 '"х'~...-
F in । плоского богословия». Критическая направленность еще в боль-
писателя с церковниками, исследователи и вместе с ними чптател» , г
не могут не восхищаться величайшей честностью, искренностью
смелостью Толстого в открытом отстаивании своих взглядов и и
возмущаться непорядочностью, лживостью и жестокостью его про п,гл *
следователей •нмпкш церковного учения с обличением роли официальной церк-
Дальняя родствепница писателя, фрейлина императорского дво!
ра А. А. Толстая была встревожена слухами о готовящейся пал
ним расправе Она узнала, что одни из сановников предлагают о!........... , ‘ «—
r J > г у lonni.uj ш>|| < рпптпзм Церкви, ставшей враждебной всему чем
править «бунтовщика» и «еретика» Толстого на каторгу, другие-Ж , , ......... , . 1 * чем
тт 1 11 11,0 ! ” враждебно «вес то, чем истинно живет
заточить в Петропавловскую крепость, третьи — упрятать в тюреу ’ av nuwtu
ные казематы Суздальского монастыря. Четвертые напоминали (I
уже испытанном па других неугодных литераторах способе 4
объявить его потерявшим рассудок и препроводить в сумасшедшнг
дом.
А. А. Толстая боялась, что се гениальный родственник, талая
том которого она гордилась, даст повыс поводы для расправЛ
с ним. Будучи верующим человеком, она не скрывала отрицЛ
тельного отношения к его антицерковным сочинениям и выражД
ла надежду на то, что рано или поздно он вернется в лоно пра
вославия. 1
Отвечая ей, Толстой писал: «Я ведь в отношении правоелл
вия —вашей веры, нахожусь не в положении заблуждающегося л ’„ рас-
г < о 3 рыга классовая природа религиозного рабства Пеиковь vrnon-т-
или отклоняющегося, я нахожусь в положении обличителя. Я оо ----------- _ F утвер/к-
личаю православие в отклонении, во лжи сознательной и бессозна
тельпой, и потому со мной больше делать нечего, как или с пре
зрением отвернуться от меня, как от безумца, или понять хоро
шепько то, в чем я обвиняю православие и признаться в свош
преступлениях, пли опровергнуть все мои обличения. Нет середя
пы: или презирать, или оправдываться».
Казенная церковь давно увидела в Толстом убежденной
п грозного противника. И церковники не ошибались, считая писаге
ля своим непримиримым и непреклонным врагом. Г
Многие исследователи жизни и творчества Толстого пишут -I
,1сг писатель,— это «название обмана, посредством которого одни
io щ хогят властвовать над другими».
Церковь всегда была верной служанкой господствующих клас-
III Обращаясь к ее ревнителям и защитникам, Толстой писал:
Пиши церкви глухи к страданиям человека и стонам угнетенных,
hili слепы к оковам, сковывающим их. Вместо того чтобы взывать
<>| вобождепию, они учат тому, что угнетение п оковы — законные
11 п по грех перед богом и человечеством... Пред алтарями их
I nine место угнетателям и эксплуататорам... Церкви благослов-
им тех, кто готовит терновые венцы мученикам за идею, и отлу-
пит тех, кто восстановляет в мире попранную Истину. Но часы их
3
дела пробиты. Человечество неудержимо стремится к той Истин)
которая уничтожит его страдания.,.»
Величайший из художпиков-гумаппстов, Толстой не мог при
мириться с тем унижением человека, его сущности, его предназш
чения, которое лежит в основе учения церкви, утверждающей
что уже по самой природе своей он порочен и грешен. Это учеши
говорит Толстой, «под корень подсекает все, что есть лучшег
в природе человека».
Многие страницы книги С. И. Позойского отданы Толстому-
критику официальной религии и казенной церкви, великому npi
тестанту и бунтарю. Это очень дорогая для нас часть больше!
и сложного наследия Толстого, о которой забывать нельзя. И сеп
дня в странах буржуазного Запада есть немало «толстоведов
сознательно замалчивающих то художественные и публицистиш
ские произведения писателя, в которых содержится разрушите®
пая критика догматической религии и казенной церкви. Зато с оо
бым вниманием в этих странах относятся ссгодпя к тем религия
но-философским произведениям Толстого, в которых содержите
проповедь очищенной религии, теории личного самоусовершенств<
вапия, учения о всеобщей любви и непротивлении злу насилие
Все, что относится к «толстовщине» и составляет слабую сторо!
взглядов и творчества великого мыслителя п писателя, имело сво
историческую и социальную почву. Как было показано В И. .1
пипым, противоречия во взглядах и творчестве Толстого пе бьц
порождены капризами его личной мысли, а являли собой «...отр
женпе тех в высшей степени сложных, противоречивых условп
социальных влиянии, исторических традиций, которые определи;
психологию ра 1личных классов п различных слоев русского оби|
ства в пореформенную, по дореволюционную эпоху»1.
Однако пз этого вовсе по следует, что слабости и ошибки та
стовской мысли могут быть как-то оправданы. Напротив, В. II. Л
шит подчеркивал, что «Толстому пи «пассивпзма», пи анархизм
ин народничества, ни религии спускать нельзя»2.
К этому необходимо добавить, что и для самого Толстого t
оставались незамеченными непоследовательность, нелогичное)
и неясность выводов, к которым приводили его религиозно-фил
софскпе искания. При жизни писателя мало кому было извести
как он мучился, терзался, колебался, сомневался, обдумывая св<
«новые рецепты спасения человечества»3. Только дневнику да н
многим письмам к единомь шлонпикам доверял он такие, напрпме
«Как трудно действительно жить только для Бога! Думаешь,
что живешь для Бога, а как только встряхнет жизнь, откажет та
жизненная подпорка, на которой держался, чувствуешь, что нет
державы в Боге, и падаешь» (запись в дневнике 17 июля 1896 г.).
«Страшно сказать, но что же делать, если это так, а именно,
что со всем желанием жить только для души, для Бога, перед
мпот ими и многими вопросами остаешься в сомнении, нерешитель-
ное ги» (запись в дневнике 15 июня 1910 г.).
Долгие годы Толстой потратил на то, чтобы найти определение
бою сущности религиозного верования и не мог его найти, не мог
вырваться из лабиринта противоречий. 20 октября 1906 года он
пни ш ал в дневнике: «Очень много в нашем, в моем понимании
смысла жизпп (религии) условного, произвольного, неясного, пно-
гдн прямо неправдивого. Хотелось бы выразить смысл жизни как
можно яснее; и если нет, то ничего пе вносить в это определение
ноне hoi о — Неясно, для мепя, понятие Бога».
Споим единомышленникам Толстой уже давно предлагал от-
)Н1 lain о or понятия «бог». В феврале 1884 г. он писал А. С. Бутур-
лину «Вам как будто претит слово и понятие Бог.. Отец. Бог
пни > • Гтюм, только бы то, что требует от пас паша совесть
(i нк lopii'ii । кий ими! разив — слишком уж неясный и неточный
прмип). было бы p.iiyMiio и потому обязательно и обще всем лю-
дны II ном ж и задача...»
Н том же письме Толстой говорит, что эта задача может быть
pa hi mi к ( помощью учения, называемого Христовым, и указывает,
•но, по его мнению, ценно в нем: «Не я буду отстаивать метафизи-
•|О( kjio сторону учения. Я знаю, что каждый видит его метафизиче-
। кую сторону через свою призму Важно только то, чтобы в этиче-
ском уж пип все неизбежно сходились. А за своп слова и выраже-
нии я нс стою. Дорого мне то, что п вам дорого — истина,
приложимая к жизни».
Создавая свое религиозное учение, Толстой освобождал
христианство от церковного догматизма. «Религия Толстого,—
t принодливо говорит В. Ф. Асмус,— по сутп — религия без бога,
пли религия, в которой, по мысли Толстого, бог, как бог, становит-
(и только синонимом нравственного понимания жизни»1. Религию
пн стремился свести к этике, видя в пей науку о том, как правиль-
но людям жить, как им общаться друг с другом, как построить
цар< ню божие на земле — помня о том, что никакой, обещанной
ip рковью, загробной жизни пет и быть не может.
признания:
1 В. И. Лепи п. Поли. собр. соч., т. 20, с. 22.
2 Т а м ж е, т. 48, с. 12.
2 Там ж е, т. 17, с. 210.
1 В. Ф. Асмус. Религиозно философские трактаты Л. Н. Тол-
< кио,— В кн.: Л. И. Толстой. Поли. собр. соч., т. 23. М., ГИХЛ,
I!i.i7, с. XXV.
5
4
Убийственной критикой церковной догматики Толстой помог! иогпе пз сочувствовавших писателю лиц пытались найти какой-
миллионам людей освободиться от церковного рабства. Он знал это
и гордился этим. Но ему суждено было увидеть и другое: в послед-»
нпе годы жизни он все более убеждался в том, что его проповедь
«очищенной» религии терпит крах. «Я чем больше живу,— говорил
он в 1908 году,— тем яснее вижу, что... старые формы верованпя
разрушаются, в истинное христианство никто не верит»1.
Жизнь многократно подтвердила обоснованность этих призна-
ний Л. Н. Толстого, и ему самому было очевидно: как религиозный
реформатор он потерпел полную неудачу. Этого не хотели признать
его последователи — толстовцы, старавшиеся канонизировать
писателя как главу своей секты. Толстой решительно отвергал
подобные попытки, язвительно их высмеивал. Когда толстовцы за-i
думали созвать свой съезд, Толстой сказал В. Г. Черткову: «И меня
выберете генералом и какие-нибудь кокарды сделаете?!» Один пз
сыновей писателя привел его отзыв о толстовцах: «...Это наиболее
чуждая и непонятная ому секта»2.
II еслп сегодня в США и многих странах буржуазного Запада!
находятся люди, пытающиеся выдать толстовцев за подлинных'
наследников Толстого, то они сознательно искажают истину.
С. И. Позойский напомнил о предостережении, которое сделал
в свое время высоко ценившийся Толстым писатель Н. С. Лесков.
Говорить о толстовцах, указывал он, следует лишь «непременно
с полным отделением их от того, кто дал им имя или «кличку»,
то есть от Льва Толстого.
Искажают истину и те пз современных зарубежных исследова-
телей Толстого, кто утверждает, что расхождения писателя с цер-
ковью пе были непримиримыми и что синод вовсе не отлучал Тол-
стого от церкви, а лишь констатировал его временное отпадение
от нее. Так пишет об этом, например, французский ученый, про-
фессор Сорбоппы И. Вейсбейп в своей обширной монографии
«Религиозная эволюция Толстого», изданной в Париже в I960
году.
Как будто не существует знаменитого толстовского «Ответа
синоду», в котором писатель нанес новые сокрушительные удары
по казенной церкви и который петербургский митрополит Антоний
оценил как «богоборство и объявление войны самому Христу». 1
Когда травля и преследования Толстого со стороны церковни-
ков и подстрекаемых имп черносотенцев достигли опасной остроты,
1 Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. 1908 г. (Ма-
шинопись. Хранится в Гос. музее Л. Н. Толстого).
2 И. Л. Толстой. Мои воспоминания. М., «Худож. литерату-1
ра», 1969, с. 200, ' J
"будь компромисс, а некоторые открыто старались склонить его
л примирение с церковью.
Инициаторами этих попыток, как это пи неожиданно, явились
г, кто отлучал Толстого от церкви. Осенью 1901 года петербург-
мш митрополит Антоний, узнав о тяжелой болезни писателя,
росил его жену: «О, графиня! Умолите графа, убедите, упросите
О'Л.иг, это. Его примирение с церковью будет праздником святым
in всей Русской земли...»
( офьи Андреевна поспешила уведомить мужа об этом обратце-
П11 к пей митрополита Антония.
I олстои ответил твердо; «О примирении речи бы г:, не может».
Предвидя возможные ухищрения, на которые были способны
ншжип.ся отцы церкви, Толстой п в дпевппко, и в письмах,
и беседах с близкими не раз и очень настойчиво просил пе под-
< кп п. к нему священнослужителей, когда придет его смертный
и и по хоронить его по церковному обряду.
В книге С П Позойского подробно освещены неблаговидные
। ipiuiiin церковников любой ценой проникнуть к умиравшему
>и шму и пшом объяви и. русскому народу и всему человечеству
рю IHMIIIHI1 ниппеля и примирении его с православной церковью,
h uni ниш долю Голсгого, его близкие лишили их этой возмож-
<11 nt
II ближашппс годы, последовавшие за кончиной великого пи
ин in, п много позднее внимание печати и общества не раз при-
!1 шиш предложения пересмотреть решение синода об отлучении
п нпо oj церкви. Иногда это предлагали сделать сами церковни-
и, желавшие не отставать от духа времени и считавшие
помянутое решение устаревшим.
I < ли при жизни Толстого, замечает С. И. Позойский, лица
lYxoiuioro звания спешили уговорить писателя примириться с цер-
он.ю, то когда его пе стало, те же лица старались уговорить
рьош. примириться с Толстым.
По им пришлось посчитаться с заявлением Толстого о том, что
iiikhkoio его примирения с церковью нет и быть не может. Высоко
। 1Ш11Ш.1ЯСЯ В. И. Лениным могучая толстовская критика офи-
। пин.пои религии и казенной церкви и в наше время сохраняет
ною силу и значение.
Выступая на посвященном Толстому юбилейном вечере в Вар-
на по, крупнейший современный польским романист Ярослав
Впнпконич сказал: «В молодости мы, пожалуй, недооценивали роль
пл< того еретика. А в сущности, что такое ересь? Кем были обычно
нщгичисленпые еретики православной и католической церкви?
у ц 1 о ящиками.
6
...Ересь Толстого, его противопоставление человеческой личи
сти окостеневшим формулам п готовым установлениям как ноль
более красноречиво свидетельствует о его революционности. 1
как Толстой понимал борьбу с церковью (и, вернее, борьба церк
с Толстым), освещает нам эпическую фигуру автора «Воскресени
заревом бунта и революции»1 II.
Так оно и есть. Святейший синод, во главе которого стоял зле
шип враг Толстого обер-прокурор Победоносцев, «увековечении
в романе «Воскресение» в страшной фигуре главы синода — Tonoj
ве, боролся пе с Толстым-пепрогивлепцем, создателем учения о в<
общей любви и непротивлении злу насилием, а с тем Толстым, к
торого Ленин называл гениальным художником, глубоким мысл
телем, горячим протестантом против любой общественной л>
и фальши, страстным обличителем и великим критиком несправ!
ливого социального устройства.
В истории о гл учения Толстого от церкви ярко раскрывают
именно эти черты его кипучей натуры. В пей глубоко и силы
проявил себя характер «Льна русской литературы», как назг|
автора «Воскресения» его младший современник М. Горький.
К. Н. Ломуп<
профессор, доктор филологических наи 'ин
1 «Литературпое наследство», т. 75. Толстой и зарубе/кпый
Кн. 1. М, «Наука», 1905* с. 194.
НА ВЕСАХ РАЗУМА И СОВЕСТИ
. Был август 1907 года. Священник К. И. Остроумов
•опнрппцьтся пароходом в Рязань из Нижнего Новгорода,
in учисгновал в миссионерском съезде.
В один и» вечеров Остроумову наскучила каюта и он
। л общий вал, 1до человек десять тесно сбились
[<| вучиу, <’р"АИ выделялась высокая женщина, кото-
.................ши поясняла окружающим. «Подойдя
в< номинал затем К. II. Остроумов, — я заме-
|нт, bio опа с какой-го книгой в руках говорила слу-
Lhihiihiim, что нельзя верить всему написанному в Библии
I I наш глин, что сказание о падении первого челове-
(|| басил то святая троица — абсурд, а все наши
। пн in uia пе 'но иное, как выдумка».
Какое имеет значение крещепие? — спрашивала
| | ищпла.— Зачем это окунать человека в воду? Накрошат
him в сосуд какой-то муры в дают пам есть... Какой всо
>|п имев г смысл?
Слова проповедницы воспринимались священником
вк глумление над чем-то неприкосновенным, святым. Но
II рвым читал эту книгу — в одном из ее начальных вариан-
ftta — безвременно ушедший от нас Михаил Павлович Николаев.
Ч ловек большой доброты и тонкий знаток отечественной литера-'
уры он был инициатором и душой «Толстовских чтений», ежегод-
но приводимых в Тульском педагогическом институте им. Л Н. Тол-
>/о и в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Для тех, кто вел иссяедо-
агелъекую работу, он был другом и наставником. Автор с призна-
• линостыо вспоминает, с какой чуткой заинтересованностью отно-
нигя к его работе Михаил Павлович. Одновременно он выражает
। < рдечпую благодарность К. П. Ломунову, Л. Д Опулъской,
1 // Клибанову, Б. М. Марьянову, В. А. Лебедевой, ценные советы
которых оказали существенную помощь в написании этой книги.
9
еще больше возмущало К. И. Остроумова, что ей не во
ражали, слушали внимательно, более того — одобрител
но. Да, растет безбожие, с горечью думал он. А каш
религиозная холодность, особенно среди молодежи
Остроумов сам попытался обличить молодую женщин
но та не сдавалась.
В разгаре спора он обратил внимание на книги, кот<
рые держала в руках собеседница. То были пекоторь
произведения Л. Н. Толстого. «Это для меня, може
сказать, уяснило весьма многое, если не все,— вспомина
Остроумов.— Я понял, что эта женщина-незнакомка, н;
читавшись сочинений Толстого, пользуется удобны
случаем, чтобы пропагандировать неверие яснополя!
ского писателя».
Церковник долго не мог забыть ту встречу на Оке, и |
конце концов решил свести счеты с писателем. Спуст!
два года он издал в Рязани брошюру «Толстой и совре,
менное неверие».
К. И. Остроумов был не первым и не последним, у коп
толстовские труды вырывали почву из-под ног. Клерикала^
было за что негодовать на великого русского писателя
Они не без оснований считали его своим непримиримым
и непреклонным врагом.
КРИТИКА ДОГМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ
В России аптицерковпые сочинения Толстоп
(«Исследование догматического богословия», «В чем moi
вера?», «Царство божие внутри вас» и другие) распро
странялись в рукописных и литографированных копиях.
В этих сочинениях Толстой утверждал, что если бы erg
вера основывалась па богословских книгах, то, прочтя их
он, безусловно, сделался бы безбожником, злейшим вра!
гом всякой веры, потому что нашел в лих пе только бес<
смыслпцу, по и сознательную ложь людей, избравших веру
в бога средством для осуществления личных целей. Бон
жествештость Христа, говорит Толстой, выдумана теолога-
ми, чтобы оправдать существование церкви, а легенду
о воскрешешш духовенство провозглашает действительны*
событием, чтобы дурачить наивных людей. Учение ж<
о существовании личности после смерти и наказании за
грехи он считает средством запугивания людей, чтобы
сделать из них покорных рабов. По словам Толстого
до1мат о троичности божества—«гадкая, преступная
10
кощунственная ложь». Богословское повествование о том,
। лк бог сотворил мпр, Толстой называет глупой выдумкой,
а таинства, по его убеждению, «придуманы церковными
иерархами для личных выгод и суть чисто внешние дей-
<чиня, как заговор от зубов». С едким сарказмом пишет
Л. Н. Толстой о таких обрядах, как исповедь, отпущение
। рохов, резко замечая, что установленный церковью по-
рядок гарантирует вечное райское блаженство разбойни-
ку, если ему за определенную сумму своевременно
отпустят грехи и, с другой стороны, обрекает па вечные
муки честного труженика, не успевшего вовремя обра-
। иться за их отпущением. Сопоставив христианские
ыинства с обрядами нехристианских религий, оп пришел
к выводу, что «все эти обряды не что иное, как различ-
ные приемы колдовства, приспособленные ко всем воз-
можным случаям жизни». «В чем разница,—спрашивает
Л. II. Толстой,— между чувашем, мажущим сметаной
< воего бога, и православным, съедающим кусочек своего
бога?» Что же касается ученпя церкви о «мире духовном
и его иерархии» (ангелах и злых духах), то таковое, по
мнению писателя, измышлено церковью, по-видимому,
для оправдания существующего неравенства между
людьми и доказательства необходимости повиновения зем-
ным властям. Именно в православной церкви и ее духо-
венстве оп видел идеологическую опору господствующих
классов: «Церковь, всё это слово, есть название обмана,
посредством которого одни люди хотят властвовать над
другими» (23,301)’.
В деле департамента полиции о Л. II. Толстом
(июль 1896 г.) содержится весьма характерный обзор ря-
щ произведений Л. II. Толстого, распространявшихся в
России тайно в списках и заграничных изданиях. В этом
документе за подписью вице-директора С. Э. Зволянского1 2
полицейские чиновники охарактеризовали «Исследова-
ние догматического богословия» как сочинение, в
котором автор «пришел к полному отрицанию всего
учения православной церкви». И. Н. Гусев, оценивая этот
же трактат, писал, что благодаря произведенному Тол-
< гым критическому разбору церковного учения и «бого-
1 Здесь и в дальнейшем цитаты приводятся по изданию:
I II. Толстой. Поля. собр. соч. (юбилейное издание). М., Гос-
яитиздат, 1928—1958. В скобках указывается том и страница.
2 Хранится в рукописном отделе Гос. публ. б кп им. М. Е. Сал-
। ыкова-Щедрина в Ленинграде,
11
г,
развращающее действие в России», и «нигде в Европе
• । с голь деспотического правительства и до такой степе-
ни согласного с царствующей церковью». Говоря же
' гом, что именно старается внушить церковь, Толстой
||И1\одпт к выводу: «В наше время только человек со-
piiienno невежественный или совершенно равнодушный
вопросам жизни, освящаемым религией, может оста-
1'ци.ся в церковной вере» (28,65).
Но как нп велико в этом трактате обличение эксплуа-
|ц юрского государства, Л. Н. Толстой, в силу утопич-
I int i и своих общественно-политических взглядов, призы-
। ал бороться против правительственного насилия только
। помощью непротивления. И тем не менее, когда оп
। большой силой страсти говорит об антинародной сущ-
ности эксплуататорского государства и церкви, он вовсе
но похож на пассивного созерцателя зла. Разве «непро-
|ивленец» мог бы с такой зоркостью запечатлеть те
< пособы, к которым прибегает церковь с целью распро-
< ।ранения и внушения обмана?! Так, сущность одного из
«особенных приемов обмана» Толстой видит в том, что
। коих проповедников церковь старается представить
«(пятыми сверхъестественными лицами», обоготворяет
их, приписывает им способность совершать различные
чудеса. Целевая устаповка церкви здесь такова: если
проповедует «истину» сам посредник между людьми
и богом, если этот «посредник» в силах творить чудеса,
ю верующему не стоит тратить усилия на то, чтобы
думать и размышлять, а достаточно проникнуться дове-
рием к этому «сверхъестественному лицу»; в познании
веры, мол, пе надо опираться на собственный разум, а до-
( । .(точно без каких-либо рассуждений, раздумий слепо
поверить в то, что будто бы сам бог передал избранным
людям. Такими «избранниками», посредниками между
богом и простыми смертными церковь объявляет своих
(лужнтелей. Сущность обмана Толстой здесь видит в том,
’но человеку вдалбливают, будто разумные доказатель-
< 1 па пе нужны и сам он не в состоянии познать истину,
и опа ему откроется «только через веру в посредников
между ним и богом». Продолжая разоблачать приемы
обмана, Л. Н. Толстой пишет, что церковь с помощью
молитв и таинств, подвергая верующих различным оду-
ряющим воздействиям, поражая людей красотой и вели-
чием храмов, великолепием украшений, убранств, одеж-
дой, блеском освещения, пением, возгласами, старается
13
словия» митрополита Макария все здание церковно
догматики, воздвигавшееся в течение столетий, оказалос
разрушенным до самого основания и что каждый, ki
внимательно прочтет и усвоит основные положения этог
сочинения Толстого, пе сможет уже «верить ни в оди
из догматов православной, католической, лютераыскс
или какой-либо другой церкви»’.
В трактате «Так что же нам делать?» народная нул
да, то зло, которое приносит трудовому люду собствш
нический строй, эксплуататорское государство, ставите
в прямую связь с той ролью, которую играли в обществ
религия и церковь. Их цель, утверждает Толстой,— «по;
держивать суеверие и обман в людях и тем препятствс
вать человечеству в его движении к истине и благу»
Цель этого суеверия «состоит в утверждении того, чт(
кроме обязанности человека к человеку есть еще более ван
ные обязанности к воображаемому существу. Для боге
словия воображаемое существо это есть Бог» (25, 284'
Сказка же эта сознательно поддерживается богословам!
чтобы утвердить в народе принимаемые на веру вывод!
о том, что устройство общества должно быть такое, како
есть, и иного быть не может.
Возьмите произведение Толстого «Царство божие вну1
ри вас». Пусть вас не смущает «евангельское» название
которое, кстати, так испугало некоторых исследователе»
ошибочно причисливших это публицистическое пропзве
денпе к числу «религиозных» трактатов. Раскройте заклю
чительную главу, прочтите ее, и до вашего сердца не ма
жет пе дойти гневное, обличающее, простое и точно
толстовское слово. Вы не останетесь равнодушным к рас
сказу о событии, имевшем место летом 1882 год
в деревпе Оболешсво Орловского уезда. С потрясающе!
силой изобразил писатель экзекуцию над крестьянами
бунтарями. Здесь же приведены и другие примеры издо
вательств и всяческих насилий, которые чинили губер
наторы, жандармы, царские чиновники и офицеры на;
людьми труда.
Прислужники царизма, да и вся преступная царска!
власть, показаны как союзники русской православно!
церкви. Верное этому коварному союзу, русское правя
тельство помогает церкви «совершать ее одуряюще»
1 1Г. И. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биогри
фпи с 1870 по 1881 год. М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 625.
12
__ ' w — ----— — j QU UblHB
началом нынешней церкви, по мнению Толстого, бД
•_ I? ГТ О V гг Нм г. Л ~ . _ ’ - ЛГ
ты; учат молиться о своих нуждах п многому друго-
V» (35,187—188). «Все это так безобразно» потому, что
нпчтожает здравый разум, вселяет страх перед пака-
------
запечатлеть в душах их обман, выдаваемый за пстпи
PftTIOTfZ\»« ТТГ -----
вражда к так называемым еретикам н другое еще бо! — * —г—- * «ятыпает неуверенность в своих
шее зло — соединение ее с властью. Зловещий со» ,ц»цйм божеством, выраост> ------DOna
власти и церкви ярко отражен в знаменитой статье «К
I--- * " _д______
картина казни ни в чем ие повинных людей. Вешате!
делают свое гнуспое дело тайно, на заре, так, чтобы н|
кто не видел, и у них есть верный союзник и падежи» ___________
единомышленник — представитель церкви. Толстой oni «ымущается: «ьсли реишшу одним словом,
сывает, как связалп несчастным за спиной руки, как к i-рпть, что Бог — человек, чт_ навеки исковеркано:
привели под виселицы, рассказывает, как рядом с приг пи 2X2 = 5, орудие его поз эт0 саМое делается над
воренпыми, в парчовой ризе и в епитрахили, с кресте ю щрвапо доверие к разуму. Возмущение его так
в руке идет человек с длинными волосами и говорит чт( к < ми детьми. Ужасно» ' ’ J’ готов судить и наказы-
то о боге п Христе. Священник здесь — подручный пал; и>лико, что он, «пепротивле! ец> ___________ „„
гттТГ\'Г'Т1П ПТАП1Л
чей. Благодаря мастерству гениального художника слои
картина казни возникает перед читателем столь яркз
что и оп, читатель, проникаясь ненавистью к палача
и их помощникам, готов вслед за Толстым крикнуть в
весь голос: «Да, это ужасно? Нельзя так жить!» <
Чудовищным считал Толстой и воздействие церкви п
детей. «Главная я наизловреднейшая деятельность церя
ви есть та, которая направлена на обман детей» (25, 60]
13 октября 1895 года Толстой заносит в своп дпевпц
мысль о том, что «преподавать религию есть насилие»
«Какое право имеем мы преподавать то, что оспариваем!
огромным большинством. Троицу, чудеса Будды, Магомс
та, Христа? Одно, что мы можем преподавать и должны
это нравственное учение» (53, 61). Та же мысль в запис)
от 24 августа 1898 года- «Баварец рассказывал про и:
жизнь. Он хвалится высокой степенью свободы, амежд;
тем у них обязательное и религиозное грубо-католическо!1
обучение. Эго самый ужасный деспотизм. Хуже нашего!
(53,210). Заботился Толстой о том, чтобы оградить О’
влияния церкви впечатлительные п податливые детскш
души, неокрепшее детское сознание.
Ранее он писал II. П. Страхову: «На днях слушав
урок священника детям из катехизиса. Все это было та!
безобразно». Толстой не мог согласиться с тем, что «уча:
ребенка певмещающемуся в здравый разум догмат;
троицы, сошествию одпого из этих трех богов на земли
для искупления рода человеческого, его воскресению е
вознесению па небо; учат ожиданию второго пришествий
п наказания вечными мучениями за неверие в эти дог-
14
могу молчать?». С потрясающей ей- -------г---------я" <ах. Если в сознании ребенка укрепляется вера
каптина калим пи n изображена зд<?| < m (^естественное, надпрпродпое, он вырастает ие
|()(о с ошибочпымп представлениями о мире, но и со
лабой волей. В то же время оттого, что внушено в дет-
ню, бывает очень трудно освободиться потом. И Толстой
••пущается: «Если ребепку раз внушено, что он должен
Г ---Г’-~ Л „ "i лттгт>т»« лттпптг,
ио 2X2 = 5, орудие его позпапия навеки исковеркано:
----— ТУОЦ
(54,4). Возмущение его так
кнь за такое издевательство. «Говорят: гиппотпзаторы
(подлежат суду за внушение поступков противозакон-
ных,—читаем мы в дневнике Толстого. — А внушение
и детском, восприимчивом к гипнозу возрасте всех ужа-
ми» церковной веры не только пе запрещается, но запре-
щается невпушение. Это ужасно» (54, 47).
Правда, в тот период, когда Л. И. Толстой еще пе
ш лепил до конца своего отношения к церковному учеппю,
пн допускал воспитание детей в духе догматического
православия. Как известно, в школе для детей Ясной
Поляны, просуществовавшей очень недолго, были уроки
иниона божьего. На этих уроках в беседах по нравствен-
ным вопросам говорилось о необходимости жпть по-
божьп, по евангельским заповедям, по этот «бог» уже
ко да пе имел ничего общего с церковным — «всесильным
небесным судьей», «сердитым», «милостивым», «наказы-
вающим», с тем богом, которым, как тираном и чудови-
щем. запугивают верующих. Бог здесь, как пишет
В Ф. Асмус, становится только еппоппмом правственпо-
II» понимания жизни. Осповпое содержание бесед со
in колышками сводилось к поучениям нравственного
\ ipiKTepa: о том, что человек обязан приносить добро
ip\niM, по делать злых дел, удерживаться от злых мыс-
к и Толстой снимал мистический покров с евангельских
< । а пипй — евангельские легенды привлекали его своим
•и |(>воческим содержанием.
Через много лет Толстой вспоминал: «Когда я учил
и школе, я еще не уяснил себе своего отношения к цер-
i пииому учению, по, но приписывая ему важности, избе-
15
1,'к и'ц гармонии, добра, красоты и справедливости, что
~________________________ ж -------—~*1
что взрослые в несправедливо устроенном обществе,
рпдя от естественного нравственного закона, не имеют
(нт навязывать ему своп неверные, извращенные
пития и представления.
Гох же, кто думал лукавить и хитрить, кто па чистые
шпосредственные вопросы пытливых детей отвечал
кигшво и лживо,— Толстой высмеивал. Вот в его перс-
•ir разговор мальчика с матерью о празднике возне-
гая говорить о нем с учениками». «Теперь же,—ппса .s —-----------» -«----------- ‘ „ ««тптипктом
оп далее народному учителю А. К. Влахопулову,—мног m обладает врожденным нравствен____________ _____*
перемучившись в искапиях правды и руководства в жиг
ни, я пришел к тому убеждению, что наше церковно
учение есть бессовестнейшая п вреднейшая лож
и преподавание его детям величайшее преступление.?
Теперь, если бы я был учителем... всякий раз, когда бы
детп обращались ко мне с вопросами, отвечал бы им впол|
не правдиво все то, что я думаю об их предметах»,
(72, 389). После прочтения книги итальянского автори .. j
Петрокки «Религия в школе» Толстой записывает вднев|нпя
нике, что «преподавать религию есть насилие» (53,61) .................. — _
В сентябре 1909 года Лев Николаевич встречало и я надела вот новую рубашечкуг
с народными учителями земских школ Звенигородской
уезда, и они поведали о том, как трудно им говорит! i
своим воспитанникам правду о религии и церкви. Одш
из них пожаловался:
— Да часто правду и нельзя сказать. Например, урок
закона божьего — заведомая ложь, и с трудом удержи-
ваешься, впдя этот систематический обман, а учитель и
должен пли молчать, или коверкать душу детей. .
Учителя рассказывали, какие вопросы задают детям
священники и начальство на экзаменах и как преследуют
всякую попытку обойти эти вопросы молчанием.
Лев Николаевич говорил учителям:
— Есть три пути: первый путь — поддерживать ложь,
учить закону божьему и т. п., второй — учить граммати-
ке, орфографии, игнорируя нравственные вопросы, — эта
деятельность самая пустячная, третий путь — бороться
сколько есть сил, и это дело огромной важности, и как
пи мало, по никто не может, кроме учителя, сделать это.
Лев Николаевич рассказывал, что один священник
на вопрос, как же это бог раньше создал свет, а потом
солнце, лупу п звезды, ответил, будто это он светил ра-
дием... И давал совет:
— Если уж ребенок спросил, то нужно прямо гово-
рить всю правду, пе думая о последствиях1.
Все богатейшее педагогическое наследие Толстого
направлено против топ современной ему школы, которая
насиловала и извращала природу ребенка. Оп горячо до-
казывал, что ребенок прп рождении представляет собой
« Мальчик. Отчего это няня нынче нарядилась и на
1 См.: Л. Б Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., ГИХЛ,
1959, с. 330-337.
16
Мать. А оттого, что нынче праздник, и мы пойдем
церковь.
Мальчик. Какой праздник?
Мать Вознесенье.
Мальчик. Что значит вознесенье?
Мать. Значит то, что господь Иисус Христос вознесся
। небо.
Мальчик. Что значит вознесся?
Мать. Значит полетел.
Мальчик. Как же полетел: на крыльях?
Мать. Не па крыльях, а просто полетел, потому что
। бог, и бог всё может.
Мальчик. Ну, куда же оп полетел? Мне папа говорил,
о пебо только кажется, а что там нет ничего, что там
1Н11ДЫ, и за звездами еще звезды, и небу пет конца. Куда
। он полетел?
Мать (улыбается). Всего нельзя попять. Надо верить.
Мальчик. Чему?
Мать. Тому, что говорят старшие.
Мальчик. А ты сама мпе говорила, что когда я ска-
11 что кто-нибудь помрет оттого, что просыпали соль,
|и мне сказала, что не надо верить глупостям.
Мать. Глупостям пе падо верить.
Мальчик. А почем же я узнаю, что глупости, а что не
। । \ногти?
Мить. Потому что надо верить настоящей вере, а пе
f I V НОС I ям.
Мальчик. А какая же это настоящая вера?
Мать. Паша вера. (Про себя) Кажется, я
иное иг (Вслух.) Так подп скажи папе, что мы
hi v ль шарф.
говорю
идем, и
17
Мальчик. А после обедни будет шоколад?» (37,31
С х _ ____________ - ____
к 15-летпсму сыну Михаилу. Опо задумывалось ппса
Мальчик. А после обедни будет шоколад?» (37,31 мни, морали дворян и трудового народа. Толстого по-
Сохрапилось неотправленное письмо Л. Н. Толст Юбому привлекают дядя Брошка, казачка Марьянка,
к 15-летпсму сыну Михаилу. Опо задумывалось ппса ’лк Лукашка. Это нравственно н физически здоровые
лем как своеобразное обращение к тем юношам, котор природы. Им неведом тот душевный разлад, кото-
। и юнит столичного аристократа Дмитрия Оленина по-
n.ine от великосветской среды.
___________________________________________________ Для старого казака дяди Брошки пе существует мис-
вал». Где искать юноше цель и смысл жизни? — спрац'нгскпх вопросов бессмертия души и загробной жизни
вает Толстой. Конечно ясе, пев православии — след; умрешь —трава вырастет»). Он же говорит, что
ответ: «Если вы честные люди, пе лжете зачем-пиб’ 1 гавщики» (так назывались попы у казаков, бывших
перед самими собой, то вы знаете, что прежние веро 1 кольникамп-старообрядцами) выдумывают одну
пия, те, которым вас учат в гимназиях под названа Ь«льшь»... Совесть Ерошки не может мириться с рели-
закона божия,—есть бессмыслица, в которую никто юшой обрядностью, он хочет убедить молодого казака
верит» (68, 222). Итак, отбросьте «закон божий», уч черновых редакциях повести), что «душенька не будет
о любить больше, если уставщик во время венчания
h i книжки почитает». Брошка убежден, что «нп в чем
• I\л пет» («Па хорошую девку поглядеть грех? Погулять
пей грех? Али любить ее грех?») Он со всеми людьми
I унак», всему живущему друг. Казакп Толстого —
живут «без всякой нравственной узды». Призывая их i
время остановиться, он постарался в самой простой ф<
ме изложить то, что сам «исповедовал» п «пропове]
вает Толстой. Конечно ясе, не в православии — след;
перед самими собой, то вы знаете, что прежние веро!
закона божия,— есть бессмыслица, в которую никто
Толстой, а следуйте тому, что открыто разумом и п<
дается проверке разумом же: совершенствуйтесь, ncnpi
ляйтесь, помогайте страдающим, работайте, увеличив
тем самым свое собственное счастье п счастье друг
людей. Как же далеки этп толстовские «поучения»
церковной проповеди, культивирующей бездумную ве( гественные люди, у которых ни одно душевное движе-
воспевающсй страдания, призывающей «трудиться л но не затуманено религиозными предрассудками. Им
бога». Нет здесь у Толстого призыва к покаянию и с.м
репию перед «божественным». Он пе аппелпрует к чу ши Й именно под пх благотворным влиянием Олепип
ству страха перед смертью, пе грозит будущими кара» 1
«на том свете», как это делают церковники. Толст > пип.
верит в разум, к разуму и обращается, когда говорит, ч
испытывать радость труда и отдыха, радость общей
с людьми, дружбы и семейной любви — вот в чем с< ’хранился отрывок, который Толстой не вставил в по-
стье: «верить своему разуму, блюсти его во всей чистс гь, возможно, в силу его чрезмерной автобнографич-
и развивать его и, поступая так, получать благо нети
вое».
। псуще яспзнелюбле. Онп совершают добро по велению
питает осознавать эгоистичность собственных устрем’
«Счастье в том,— говорит Оленин, — чтобы жить
in других».
В Оленине, надо полагать, много от самого Толстого,
и ги В нем говорится, что в 18 лет у него пе было веры,
мл только смелый ум и горячее сердце; понемногу стали
'врываться перед ним необыкновенные вещи,например,
mi все гражданское устройство того времени есть вздор
что «религия есть сумасшествие».
В романе «Война и мир» отразилось назревавшее
_ ____ писателя отрицательное отношение к православной
Толстым по только в публицистической форме, но и i •мигни. Вспомним, к примеру, что князь Болконский пе
лз;. c::c727.;.-.n художественных образов. Его повес добряет религиозных наклонностей своей дочери Марии,
< пощадно изгоняет из дома «божьих людей» — монахов,
ПРАВОСЛАВИЕ И ЦЕРКОВЬ ГЛАЗАМП ХУДОЖНИКА
Критика православной религии и церкви выраже
лой системой художественных образов.
и ромапы, утверждая высокие гуманистические идеал
полноту и радость земной человеческой жизни, по сам 'родивых. Его сып^ Андрей, беседуя накануне Бородин-
ское» сущности враждебны реакционной проповеди це h
ков ников. |
В идейной проблематике повести «Казакп» важне
шее значение имеет резкое противопоставление укла 1
18
who сражения с Пьером, говорит об античеловечности
। piuni и духовенства.
IСвязь Андрей и его друг Пьер Безухов — цен траль-
> фигуры романа. Оба они — люди широкого ума
49
и сложной духовной жизни, их мысль — в постоянной
напряженной работе.
Воззрения Андрея Болконского, как и воззрения i
отца-вольнодумца,— атеистичны по своей сущности. Пр
да, накануне Аустерлицкого сражения князь Анд манников»,
(черновой вариант романа) размышляет о боге, г upi пшзовать орден, и он усомнился в нужности масон-
вспомпил детскую молитву, которую он, поклона ||()| иообще. Понял, что есть среди масонов люди, «пи
Руссо и Вольтера, давно пе читал». Однако пе в мы< , (|fo ие верующие, ничего не желающие и поступавшие
Л бпгР АтТТТПдГг ТТЛ1ГТЛТТ и/тлг'/.лт.тгл ------
провалился еще больше, завяз и уже невольно ходил
вол(*но в болоте».
Ближе узнав религиозную секту, Пьер Безухов окон-
irjiifio разочаровался в этом «братстве вольных
Безуспешными оказались его попытки
•• ------ -гч----- — -
о боге Андреи нашел успокоение. Заранее «перемуч!
шпсь», «перестрадав», он находит в себе волю поборе
чувство страха и подготовить себя к подвигу. Когда
па поле боя под Аустерлицем взору раненого Андрея
крывается «высокое и вечное небо», его мироощущв!
лишено каких-либо мистических чувств. Он пе прип
к богу, как мечтала сестра, княжна Марья, надевая!
него образок в момент прощания... Ч
для пего толчком к перевороту в 'го сознании, стЖ
символом перемен на жизненном пути. Правда, на nopq
смерти Андрей Болконским обращается к евангели
Но и предсмертные мысли о боге, как писал Толстой, ltvlrtU 111гор .________ тг----->
запись ему «односторонне личными», в них «чего-то neMllfKByi ег0 как и других русских, заподозренных в под-
ставало» л поэтому «было то же беспокойство и ’rrnwi’nnnnwwawvr к пясстпелу. По насстнеляли пяте-
[лщсопство только для сближения с молодыми, богатыми
ильными по связям и знатности братьями, которых
•ими много было в ложе». Сомнения, мучительные
и< кп истины не прекращаются. Пьер думает: испанцы
•ля гея богу за то, что они победили французов, а францу-
। молятся тому же богу по случаю победы падиспанца-
Где правда, где истина? «Мы воздвигли в Москве
I io человека, и служитель того же самого закона любви
I прощения, священник, давал целовать солдату крест
Вред казнью» (10,296).
1 Когда Пьер попадает в плен к французам, занявшим
] нах, приюваривают к расстрелу. По расстреляли пяте-
i.i остальных же, в том числе и Пьера, помиловали.
’ той минуты, как Пьер увидел это страшное убийство,
нк рнгенпое людьми, но хотевшими этого делать, в душе
з 1 ’ ] де правда, где истинаг rsiviui ииддошли
высокое небо явило ~ а. .
“ Tl,llK сороков церквей, а вчера засекли кнутом бежав-
* кг человека, и служитель того же самого закона любви
ясность». И все же нетрудно представить себе: если
Андрею Болконскому удалось перенести ранение.
_ ____ — —
в силу особенностей своего ума и характера, продол* ( «« ...-------------, - —
нравственный поиск, не нашел бы душевного успокоеЕ (| как будто вдруг выдернута была та пружина, пако-
в христианской мудрости — подобно самому Толстому.
Пьер Безухов, как и Андрей Болконский, в посто!
пом поиске смысла жизни, нравственного идеала,
к религии он остается равнодушным. В душе Пьера п
исходит «сложная и трудная работа внутреннего раз
тия», приведшая ого «ко многим духовным радос!
и сомнениям». Лишь в состоянии душевного смятения
। рои все держалось и представлялось живым, и все
Iпылилось в кучу бессмысленного сора. В нем, хотя он
пе отдавал себе отчета, уничтожилась вера и в благо-
< ipoiicTBO мира, и в человеческую, и в свою душу, и в
ога Это состояние было испытываемо Пьером прежде,
ц> никогда с такой силой, как теперь».
Поворот, происшедший в душе Пьера, назревал давно,
| ра в бога «завалилась в кучу бессмысленного сора»,
1 1обы Пьер окончательно пересмотрел свои полумисти-
11 ( кие верования. Жизнь продолжается... А опа, как по-
I а 1ал Толстой не только на примере Пьера, дает свои
|ю| и, неумолимо и непрестанно меняет человека и об-
к пил нет. И если одних трагические моменты жизни спо-
, напротив, — она
в конечном счете от того,
HUliUpui, , — Г- - г-> >
мог примкнуть к масонским ложам. Наивно доверпвш! (| ( [Ш было лишь пережить глуоокое потрясение, чтооы
наставникам, Пьер думал, что, следуя их учению,
избавится от прежних сомнений и сможет облегчить 1
ложение своих крестьян. По в масонство Пьер пе наш
говоря словами Толстого, прямого и попятного ему пу
Оно пе переродило и пе обновило его, не дало вых(
внутренним метаниям. Когда Пьер «приступал к мао
ству, он испытывал чувство человека, доверчиво стано*,, .„бпосить к вере то в других,
1ПОГО Horv Т1Я OOPlTVTH TTCVR ОЛ VTJAP ггт« „Л "hllbl оторосить к вере, дру ,
щего ногу на ровную поверхность болота. Поставив но
он провалился. Чтобы вполне увериться в твердое
почвы, на которой он стоял, оп поставил другую ш
20
иичюжается — все зависит
икни сам человек...
Пз блестящей галереи женских образов романа
21
що согласиться и с тем, что в описании богослужения,
мин церкви и священника пет еще непримиримых
। hi клерикальных мотивов — они станут характерными
л торчества Л. Н. Толстого позже.
Однако такую ли исключительную роль сыграла ре-
наиболее близки самому Толстому Наташа Рос
и княжна Марья Болконская.
Бесцветно и безрадостно прошла молодость Ма
Религиозность обусловила такие черты ее характера,
смирение и пассивность. Живя в постоянной тре; ,,----------- п R __ ТЯЖлЛНР
и страхе, она ищет опору н утешение в религии. Неу ^пя в «возрождении» Наташи Рост в i . «чувство
летворенпая жизнью, опа окружает себя странниц! ш жизнь ее, кроме религии, наполняло щ *
слушает их рассказы о всевозможных чудесах. В р< им мнения против Наполеона, осмелившегося р “,РПЛЯ
гиозном экстазе старается подавить в себе все лич песню и дерзавшего завоевать ее». В критичеши д
смиренно страдает. Но после несчастья, случившег < ни момент Наташа Ростова хочет быть ближе к св
с отцом, она, вопреки своей религиозности, открывал
навстречу радостям жизни. «И что было еще ужаснее
княжны Марьи,— говорит Толстой,— это было то, чт<
времени болезни ее отца (даже едва ли пе раньше,
тогда ли, когда она, ожидая чего-то, осталась с
в ней проснулись все заснувшие в ней, забытые лич1
желания и надежды. То, что годами пе приходило
в голову — мысль о свободной жизни без страха о1
даже мысли о возможности любви и семейного счасти
беспрестанно носились в ее воображении. Как пи отст
няла она от себя, беспрестанно ей приходили в гол '
вопросы о том, как она теперь, после того устроит ci
жизнь» (11, 136). Кпяжпа Марья пе может даже ।
литься. А ведь молитва раньше была ео лучшим уте!
пием. Теперь же ее охватил «другой мир жптейси ° х- «л
трудной и свободной деятельности, совершенно протп ,"||,гве>>‘” ^на хотела Так молитва
положпой тому нравственному миру, в который она б« |Н<,лось, что Бот слыпт it . „ ’
заключена прежде» (11, 136). ] "',о посещение церкви в ее сознании связываются пе с че. -
Когда кпяжпа Марья нашла лпчпое счастье, ее ш ' мистическим, а с тем земным что глубоко волновало
стали занимать «божьи люди», «христианские добре и< <жпй парод и ее, частицу этого н рд.
__________ м ||^„ТТ¥„ Рпптпотт ттпттгтлпт-гттмлтгп И ПЧИПТЙЛО САМО ГПОЗ-
пием. Теперь же ее охватил
Ьипю и дерзавшего завоевать ее». В критический для
| народу, и ей кажется, что эту близость она особенно
цущает во время церковной службы. Когда она слушает
I'oii.) молитвы «Миром господу помолимся», ей представ-
>1 тся, что вот здесь соединяет себя в одно «с миром куче-
‘ н4 и и прачек»... Это уже пе религиозное, а патриотическое
। |убоко человечное чувство. «Миром господу помолим-
|'» «Миром, все вместе без различия сословий, без
1'пжды, а соединенные братскою любовью», — думает
и нпа Ростова. И тут же мысль ее обращается к русско-
у воинству. Опа вспоминает брата, Денисова, князя
. и 1]*ея. Как мы видим, ее мысли о земном — и прежде
Ь’|<1 о спасении Россип от вражеского нашествия.
(остоянии «раскрытой душевности» она и сама «не
пи мала хорошенько, о чем она просила Бога в этой
Наташу Ростову приподнимало и очищало само гроз-
1И’ время, чьи тревоги и чей зов она чутко, всем своим
ц<’ 1рым сердцем, воспринимала.
Путем постоянных нравственных исканий идет Кон-
иниип Левин — один из центральных героев романа
\ ни » Каренина». Он из той же породы правдоискателей,
инн Андрей Болконский, Пьер Безухов. Перед свадьбой
1г пи и вынужден, по существующему ритуалу, псповедо-
МИ.ГЯ и причаститься. Но для Левина «участие во всяких
> рыншых обрядах было очень тяжело». Он не мог ине
ин । притворяться. Исповедь для него — неизбежная
...шипеть, выполняя которую он старается пе обидеть
iiipiiiui священника.
Веруете лп вы во все то, чему учит нас святая
23
тели», требующие самоотречения и страдания. Сам<
речение, по мысли Толстого, противоречит челе "
ческой патуре — человек должен быть счастлив
земле.
Центральный женский образ романа — образ Ната
Ростовой — по праву считается самым любимым детин
писателя. Сколько теплоты он отдал этой живой, естс
веппой и жизнерадостной натуре! Читателю по душе
сердечная чуткость и отзывчивость.
В литературе о Толстом можно встретить высказывая
что после разрыва с князем Андреем Наташа Рост<
нашла в себе силы вернуться к жизни благодаря религ
Да, в романс говорится о том, что вскоре после nocel
ния церкви Наташа почувствовала себя возрожденн
22
(иг наладить идеальные отношения с наемными работ-
V..UU, ___ .х “*i шаги
(i ж общей пользы». Он переживал смерть любимого
►бои». А почему бы нам пе представить себе Левина
пределами романа, например у последней жизненной
апостольская церковь? — спрашивает священник. Лев нами, окончились неудачей предпринятые и ^
Отвечает’ I i лг'----\ -___ “ 4
— Я во всем сомневаюсь. Я сомневаюсь иногда да мни и был в особенно <<мУчит5л?ВЮ?.1„?.а CnJow«a
в существовании бога. 1
Вернувшись в тот день домой, Левин испытывал 1
ТПЛА ГТ1ГП Л иПГ. --* — -
ж выразился Толстой в «Исповеди», «противоположны
..J ...
Можно ли быть нравственным без бога? Церковь на
in г вопрос отвечает отрицательно. На протяжении веков
в сознание верующих, что будто мате-
самые безнравственные люди. Тезис о без-
атеизма теоретически обосновывали
Толстой стоял на противоположной позиции. Он пе-
..____он над многими приверженцами христианской религии,
а «д11 отрывке «О различном отношении к религии людей
iJ 'ipa ювапного сословия» он писал: «Я откровенно спра-
.. *>IV:t..TTT;. - *. -''v—л—д боя пвал у своих близких и пе близких знакомых о их веро-
паД°лго ли это |>| шпях и всегда, за редким исключением на 100, получал
’гнет: Христианство — нам не нужно, мы пе верим. На-
достное чувство оттого, что неловкое положение кош р<ы? К не*1 Левин, чей о Р ппппет обогащен-
лось, и кончилось так, что ему не пришлось лгать. 1 кнрафическпе черты самого о. i, которые,
Позже Левин будет вспоминать, что, прочтя одна» ым новыми знаниями и новь и_________ ________
историю церкви православного писателя и историю це 1
вп католического писателя, он увидел, что обе цер! роучению»...
отрицают одна другую и пи в одной из них пет истин Г"
Религиозные сомнения пе покидают его. Подлинный (i <н —
мнению Левина, но не автора — Толстого) ответ па ей чн вдалбливала
сомнения он неожиданно нашел в рассказе крестьян»! я илисты — самы
подавальщика о том, как живет мужик Фоканы 1| И. Бердяев, С. Булга-
«...один человек только для нужды живет, хоть бы Мит I пропагандировали богоиш Р
ха, только брюхо набивает, а Фокапыч — правдив! low, С. Франк и другие. плоппни Он пе-
старик. Он для души живет. Бога помнит»... Так в а Толстой стоял на противопол / ппрппгхплсТр0 атеис-
вах, услышанных им в состоянии глубочайшего отчаяш дпократно признавал нравствен ° Р * пелигии.
Левин находит «спасение». Он думает, что сумеет обн "" над многими приверженцами .р <____________ _____„
виться, если будет жить пе для нужд своих, ;
души», «по правде», «по-божьи»...
Да, в финале романа Левин обращается к
Г ° ". ” ... ________
лигиозпое «просветление»? Прочен ли этот «божески!
исход?
Здесь уместно вспомнить, j
к тому, что его неверующий брат Николай, умирая,
время обряда причащения стал молиться. Левин знал, я
«теперешнее возвращение его 1.^ e«.<uUUW, w» i.>raiviv« —......"ртпр Р в on по-
нтившееся путем тон же мысли, по было только время Другие откинули веру и, пе ССТР т________ ___,„.„ЛгЛ п™
ное, корыстное, с безумною надеждою исцелиться! । ими '
Давно равнодушный к вере и к церкви, Николай Левк ... число
перед смертью решил служить молебен в надежде на^ манны и коварны. Хретьп, очень ____»
что у него появится в душе вера и эта вера исцелит е
от чахотки. Он тупо н бессмысленно смотрит на икод i-------- г------------ * место* Толстой гово-
усилепно крестится, старается разгорячить себя, а поте рукописи «О религии» есть такое _____;„ ______
со злостью велит убрать икону. Нс таким ли временна
было и «возвращение» самого Левина? Конечно, ее,
иметь в виду лотку характера Левина, который и
стояппо недоволен собой, беспрестанно ищет все новь
и новых решений, то станет понятно, что его примирен!
не могло быть прочным. Следует учитывать также, ч
решение он принял в критический момент. Ему не уд
24
I иодая людей, я нашел три различные рода отношения
как сам Левин отпесА религиозным вопросам. Одни, прпйдя к невозможности
, A ’pin, но не найдя ничего заменяющего ее и, находя
- __________________, фюрядок пока существует религия для себя выгодным,
пе было законное, conef шраются притвориться верующими и уверить других.
--
;;.;а жизни и смерти, считают религию излишнею Эти
|ф1|оди необдуманны, но правдивы, тогда как первые обду-
” , откинув
религию, пришли к неразрешимым вопросам и пытаются
(мыслью разрешить их» (17.355—356). В неоконченной
put, что ему известно весьма много людей неверующих,
шличие которых от верующих состоит «в гордом созна-
нии того, что человек сам себя не обманывает» (7,127).
Толстой и во многих других случаях подчеркивал, что
огромное число атеистов, с которыми он идейно расхо-
дуйся, стоят в нравственном отношении выше мяогих
• ином дьявола. Еслп бы побольше было таких людей
шик верующих, то хорошо бы было жить». Отмечая
• с, что учитель его сыновей придерживается в жизни
ип\ нравственных принципов и в то же время «пе
> иии г Христа богом», Толстой не без прении спраши-
। «Что он, сын дьявола пли нет?» (62,509).
Н< помним, что церковные проповедники в любом под-
। пц( м случае были готовы разразиться самой непо-
iftiHiu бранью по адресу пе верящих в бога. Духовен-
ч моральной распущенности... Даже в наше время
Ь порно проповеди называются: «Атеизм как болезнь»,
сн iM — болезнь века», «Неверие как следствие без-
ним ведомостям»1. Бывший богослов А. Л. Осипов от-
м11, что представители церкви каждое отступление от
pioiy». Атеист для них всегда неполноценный чело-
| духовный калека, потеря веры — ненормальность,
| прилагает немало стараний, чтобы внушить верующим,
। <псизм —это в конце концов причина аморальности,
in’HiiiK безнравственности. Как и дореволюционные
к । шишки, оно называет неверие в бога «матерью
рц|шв».
Мысль о том, что религия, в частности христианство,
। поднимает в человеке его нравственность, пронизывает
T’liiильный рассказ Толстого «Три смерти». Умирают
верующпх. В мае 1894 года оп пишет Ф. А. Желто
«Еслп уже делать сравнение, то пз двух людей: атеп
и нехрпстя, который, жертвуя собой, борется с ти
учреждениями, которые оп считает гибельными дляJ
дей —своих братьев, и номинальною христианина,
торый, как английские пасторы да и многие друг
читают проповеди на 1,3 главу послания к коринфян
а обходит осторожно учреждения, которые ему выгод
и которыми он живет, несмотря па то, что они гибель ...- -г---- - глоттст-
для его братьев: — пз этих двух я все-таки предпочит " < iоралось опорочить атеизм, ~
первого, хотя и не согласен с ним» (67, 145).
С определенностью поведал об этом же Толсп
в «Исповеди». «Еслп п сеть различие между явпоиспо! „ _ в . п «Цо столько ученость, сколько
дующими православие и отрицающими его, то пе вшй »' «епност • составляет главную
зу первых»,—писал он. По его наблюдениям, явное щ ' "™ная р р щ называемых образованных
знание и исповедание православия большею част ' У “вер™ . _ ппсалн «Прибавления к цер-
встречалось в людях жестоких, безнравственных и с’ ______о_ ______ д А
тавших себя очень важными. Честность, прямоту, доб(
ту он наблюдал большей частью в людях, признающ • - в «духовную болезнь», «духовную
себя неверующими (23, 489). Жизнь давала подтвержу ’ 1 сс ___„„„ чтЛгтЛттт™«оттаглй
пня, что немало лиц, объявлявших себя правоверны!
христианами, ДОВОЛЬНО ЛОВКО скрывали СВОП порок • • „ т< - TTVYCIRPHCT-
склопнгтр ко лжи и беспппппппшш кпмппомигсам о, »х сознания2. И в наши дни православное духовенст
tlUlUHUblu Jl/Hil И UtClip .-.ill ЦП ИНЫМ Ни МНриМЦvvdM« Ul _______ __„.м._.хлпхттпттгпк
умели поснть личину добродетели, создавать видимое
порядочности. Религиозность оказывалась той ширмой,
которой таилась безнравственность человека, сумевше
добиться всеми правдами п неправдами богатства, поче
тей, положения.
В той же «Исповеди» Л. Н. Толстой вспоминал i
умном и правдивом человеке С., который рассказал ем
как кончил нерить. Однажды, когда старший брат С. I L - Барыня полна ужаса перед
старен привычке начал вечером молиться, спросил его: < ’‘*PbI0, она занята только собой. Ее
ты еще все делаешь это?» И оольше ничего они не сказа! шиыющенси _ _________«е-г
друг другу. С того дня С. перестал становиться на молита
п ходить в церковь. Единственная фраза, произнесет! naccTDOnT ее» Все, кто рядом с ней, чувствуют
братом,— «как толчок пальцем в степу, которая была гсг<| ,го ________
Гл^тттЛ ПТЛ аа
ва упасть от собственной тяжести». Там, где казалось, ест
вера, давно было пусто. I . .
Не вера в бога, а понимание долга перед самим собс 1
и другими заставляет человека вести себя нравствен»
Учителем к своим детям Толстой взял социалист
В. И. Алексеева, ставшего впоследствии его задушевны
другом. «Вы бы умилились,—писал он С. С. Урусог
о В. II. Алексееве,— если бы видели того, кого называ
26
Нммцнет, что муж, зная о ее состоянии, способен есть.
। < д< тем своих она не хочет видеть в этот последний
виноватыми, что живут. Барыне кажется, что ее
। — небывалая катастрофа, никто из людей пе
нрава жить или думать о жизпп. Эгоистическое
нои женщины давно нравственно обособило ее от
1 Цпг. по кн.: Н. С. Гордиенко. Чему учат с амвона. Л.,
и । «л г 1975, с. 21.
•См А. А. О с и п о в. Продолжаем разговор с верующими. Л.,
-и11нг, 1962, с. 15.
27
других людей, и она ничего пе сделала, что могло!
остаться жить в их памяти после ее смерти. Из непо|
ценности и бессмысленности прожитой жизни и вира! Мцлм оспой липом; на нем надето что-то изорванное.
ТТЙ ТО ТТАТ’ТТТГГ» Г» Т1“тттг ___ 7
не 01
ощущается не как гибель, а
патологический страх перед смертью.
В ямской избе в это время умирает больной ям1
дядя Федор. Умирает спокойно, как-то неслышно и
ловито, необычайно просто. Если барыня, предчувс!
приближение конца, враждебна окружающим, то Ф<
«повернут» к людям: он с добрым сердцем отдает (
сапоги Сереге, просит кухарку не сердиться на пего. I
JT------ -
ясень, чтобы сделать крест умершему дяде.
Пришел конец дереву. Но смерть дерева —
вержепие жизни, она ,
возвращение к новой, радостной жизни никогда пе у|
рающей природы. I
«Барыня жалка и гадка, потому лгала всю же
и лжет перед смертью,—писал Л. Н. Толстой кА. A.'ll
стой.— Христианство, как она его понимает, пе решает!
нее вопроса жизни н смерти... Мужик умирает споко!
именно потому, что он пе христианин. Его религия!
гая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обря
его религия — природа, в которой он жил». Это пис
А. А. Толстой заканчивалось иронической просьбой: «
зумеется, всем вашим от меня очень кланяйтесь и не j
сказывайте им, что я такой безбожник». В «Воскресеш
Толстого есть образ революционера Набатова, крестьян
по происхождению: «В религиозном отношении он был|
1тлг>лп * л„ * л-------------------н ( П) оессмыслвпна i
1орез месяц ямщик Серега идет на заре в рощуру, (11а л Аксельрод,—
tTL. тппт.т ГТТ/.гтотт Т.-ПОЛ-г ____ г г'7
личным крестьянином: никогда не думал о метафиз! q они к вере относятся скептически или вообще
ских вопросах, о начале всех начал. О будущей жи Hll1|UlI0T ее Для Константина Левина понятия «бог»
он тоже никогда не думал, в глубине души неся уна ( 1 г > равноценны (19,381). Вера в «добро» была
довэнное им от предков твердое, спокойное убежде!
общее всем земледельцам, что, как в мире ' живот,
7 JT ||( искало, ипшипнл n DUMV iiituu *****
и растении ничто не кончается, а постоянно переде к полна драматических переживаний. Она понимала,
вается от одной формы в другую - навоз в зерно, з« '„" / “нее Помощь религии
в курицу, головастик в лягушку, желудь в дуб, —1 " 1
и человек не уничтожается, но только изменяется.
„т: “ т “ я =^“^=3 —
рел в глаза смерти и твердо переносил страдания, ко(
рые ведут к пей». Умирающий революционер-атеист Г
последний свой час ощущает связь с общей жизн
и поэтому не охвачен ужасом, как барыпя-христиа!
В литературе о Толстом можно было встретить вы<
зываппя, что для писателя идеалом нравственности 61
28
•нои») люди, вроде юродивого Гриши. «Великий хрп-
nut и я» Гриша — это человек лет пятидесяти с бледным,
I Н1ди в комнату, он изо всех сил стукнул огромным
Ь«»ч<>м ио полу, и, скривив брови и чрезмерно раскрыв
» плхохотал самым страшным и неестественнымобра-
Он был крив на один глаз, и белый зрачок этого
hin прыгал беспрестанно и придавал его и без того
। рш иному лицу еще более отвратительное выражение»,
hi । го бессмысленна и несвязна. «Юродивый Гриша,—
... .. . ж -есть прежде всего кандидат на
। о» и психиатрической больнице»1. Юродивый верит
|н mi к’лспно, бессознательно, слепо и тем вызывает вос-
iiV'inie измученного скептической рефлексией Иртенье-
I Ню это характеризует самочувствие дворянского юно-
In. по пе взгляд самого Толстого. Следует всегда отли-
11 >. автора от повествователя и слова повествователя от
ion кроя художественного произведения, нельзя сме-
|нп111ь поведение, высказывания персонажа с позицией
ни ।ядами рассказчика; нельзя видеть во всем, как
Li in,ч однажды Достоевский, «рожу сочинителя».
I Ью же счастлив, кто живет духовно богаче: юродивый
pinna или же «нигилисты», неверующие, о которых
hiihiiM пониманием и с такой симпатией говоритТол-
L»tt? Ответ ясен. Даже любимые его герои — Андрей
L i конский, Пьер Безухов, Левин — чувствуют себя
i л<'с счастливыми, активно деятельными не в кратко-
li» минные периоды «христианского просветления»,
,, _,г_ .. -------------------------------------
— ~~ Для Константина Левина понятия «бог»
hi него «единственным назначением человека».
Ih искала спасения в вере Анна Каренина, чья жизнь
возможна только под
И-Юншсм отречения от того, что составляло для пее весь
mi к । жизни». В самые тяжелые минуты Анна прони-
.... __ . «Зачем эти
|||и.вп, этот звон и эта ложь?»—думала она, когда
J ih ледппй раз проезжала по улицам Москвы. Заметим,
Го мысль эта принадлежит женщине правдивой, честной,
\ iiii'inio открытой, чей облик был Толстому стольсимпа-
1 .11. Аксельрод-Ортодокс. Лев Толстой. М., Гос. акад,
уции. наук, 1928, с. 25.
29
тичеп. Сама ее смерть — это осуждение ханжества цЛ
пнщеппик, одевшись в особенную странную и очень
|ибпую парчовую одежду, вырезывал и раскладывал
•чьи хлеба на блюдце и потом клал их в чашку с вином,
• Со-
J шише молитв заключалось преимущественно в же-
«Bonvm ~ Что же касаа| -------- -
верующих» ханжей, то они разоблачаются беспощаж" и,ося ПРП этом различные имена и молитвы...
В романе «Воскресение»1 мы встречаемся с обрД '“‘"110 молитв заключалось преимущественно в ....
т йа!1111 благоденствия государя императора и его семей ст-
< Сущность богослужения состояла в том, что предпо-
|| нм ь, что вырезанные священником кусочки п поло-
Imi.ie в вино, при известных манипуляциях и молитвах,
вращаются в тело и кровь Бога. Манипуляции эти
|<ш иг в том, что священник равномерно, несмотря на
'но этому мешал надетый на него парчовый мешок,
hi п мал обе руки кверху и держал их так, потом
। < гллся на колени и целовал стол и то, что было на
I* Самое же главное действие было то, когда священ-
паяв обеими руками салфетку, равномерно и плавно
11 ею над блюдцем и золотой чашей. Предполагалось,
и это самое время из хлеба и вина делается тело
' |ншь, и потому это место богослужения было обстав-
ши особенной торжественностью.
Изрядно о просвятей, пречистой и преблагословен-
h Богородице», громко закричал после этого священ-
из за перегородки, и хор торжественно запел, что
in хорошо прославлять родившую Христа без наруше-
। девства девицу Марию, которая удостоена за это
I писи чести, чем какие-то херувимы, и большей славы,
и священник, сняв салфетку
нподца, разрезал серединный кусочек начетверо и по-
। ил его сначала в вино, а потом в рог. Предполагалось,
и mi съел кусочек тела Бога и выпил глоток его крови.
। ш этого священник отдернул занавеску, отворил
♦ л
вп, ее античеловеческих законов, в том числе церковя|
«законного» и «священного» брака.
* , . — ---------------------------------, я
В романе «Воскресение»1 мы встречаемся с
сановника Топорова, который «в глубине души ни во
не верил и находил такое состояние очень удобны!
приятным, но боялся, как бы народ не пришел в такое
состояние, и считал, как он говорил, священной св
обязанностью спасать от этого народ», поддерживая в t
веру в иверскую, казанскую и смоленскую богоматс
Прототипом для фигуры Топорова послужил об
прокурор святейшего синода2 Победоносцев, котор
особенно прославился своими преследованиями сектант
К нему обращалась старшая дочь Льва Николаев!
Татьяна Львовна с протестом против заточения де1
самарских молокан в монастырь. Ее разговор с Побе,
посцевым послужил основой для диалога Нехлюд(
с Топоровым. Нехлюдов пришел к Топорову тоже I
делу о сектантах, которых архиерей и губернатор пьт11
лись разлучить с семьями, разослать «в разные мсЯ
ссылки». Он заметил, что Топоров если и давал полой!
тельный ответ на прошение сектантов, то лишь norow
что знал о больших связях Нехлюдова и боялся огласи
всего дела в иностранной печати, и в сущности был <|
всему очевидно равнодушный человек». Тодоров, н севайимы. После этого считалось, что пре-
и его прототпн Пооедовосцев,- «человек тупой и лшш ‘ совевшилось и священник,
ный нравственного чувства», ненавидящий народ, п; ь
врывающий свои отвратительные деяния рассуждения
о благе народа, о защите «государственной точки зревш
Писатель мастерски характеризует Топорова: «Он от!
сится к поддерживаемой им религии так, как относит
куровод к падали, которою он кормит своих куп* папЛн‘'*"ис ДвеРи 0 взяв в РУКИ золоченую чашку, вышел
_______________________ __ ___ - ________т т, пппгтголптт UfOTraWlTTTTTV ТЛЖА TTG-
ппо в середине двери и пригласил желающих тоже по-
। к ла и крови Бога, находившихся в чашке... Стара-
и по обсосав усы и вытерев рот и чашку, в самом весе-
очень неприятна, но куры любят и едят ее, и поэтои
их надо кормить падалью».
Толстой с поразительной художественной силой изч|
разил картину богослужения в тюремной
1 Роман вышел в свет в 1899 году. Сначала он был опублы
ван в России в журнале «Нива», но с большими искажениями. 1
123 глав «Воскресения» без цензурных изъятий было напечата
только 25. Затем впервые полным текстом он вышел в «Свобода
слове» В. Г. Черткова в Лондоне.
2 Синод — высший орган управления православной цер»
в России, утвержденный Петром I в 1721 г. взамен упразднена!
им патриаршества.
30
й церктЗ и I1 к положении духа, поскрипывая тонкими подошва-
01 шишковых сапог, бодрыми шагами вышел из-за
|и । ородки.
Ним закончилось главное христианское богослуже-
о (52,134-136).
Наблюдает эту сцену человек, пе признающий церков-
HI обрядность. Именно при таком трезвом взгляде па
щи вырезывание и раскладывание кусочков хлеба, ко-
31
торые будто бы при известных манипуляциях и м|
вах должны превратиться «в тело и кровь бога», воя • i"ii.— опа перестала верить в добро. Опа прежде
нимается как простой обман. Дальше Толстой roiM ......рила в добро п в то, что люди верят в нею, но
что доп пе верит в то, что делает: «В это нельзя верп! i"h ночи убедилась, что никто не верит в это и что
а верил в то, что надо верить в эту веру. Главное чк» творят про Бога п добро, всё это делают только
утверждало его в этой вере то, что за исполнение тши, чтобы обманывать людей» (32, 1.>2). По)ря-
этой веры он 18 лет уже получал доходы... Так ян: щую < цену, когда она обезумевшая бежит за поездом,
рил и дьячок» (32, 138). I нищим Нехлюдова, Толстой закончил многозпачитель-
. фразой: «С тех пор она уже никогда не верила
с присягой свяще г11'1».
1шгд-1 тетки Нехлюдова, богомольные старушки, уви-
HL, -ио Маслова уже пе могла служить им, как прежде,
рпнили ее, Катюша опять пришла к мысли, что «все
боге и добре были обман». С утраты веры настает
ha ноши отрезвление, в ней просыпается чувство
iii”ircKoro достоинства. Неожиданная и по меньшей
( । ранная мысль Нехлюдова жениться на ней во имя
। пня своей души перед богом вызывает в ней пего-
Писатель показал лицемерие священника, прис]
вовавшего на суде. В эпизоде
выступает как ловкий фигляр. Сцена пропитана я!
той насмешкой над совершаемым обрядом: «Когда I
сяжные все взошли по ступенькам на возвышение, .
щенник, нагнув на бок лысую и седую голову, прол< “
в насаленную дыру епатрахили и, оправив жидкие i
сы, обратился к присяжным: «Правую руку подищ
а персты сложите так вот,— сказал он медленно ст!
ским голосом, поднимая пухлую руку с ямочками
каждым пальцем и складывая эти пальцы в щепо' ю'ие.
Теперь повторяйте за мной,— сказал он и начал: «
щаюсь и клянусь всемогущим богом, перед святым
евангелием и животворящим крестом господним, чт "“,'1 л „птгтрпргтт
делу, по которому...,— говорил он, делая перерыв ж • определенностью заплш __________ ____ ____
каждой фразы.— Ие опускайте руки, держите так,-
ратился он к молодому человеку...» I
Вся процедура присяги обрисована как жалкая щ
дня. Очень выразительно место романа, где беспечв«
присяжных противостоит мнимо < ______
священника. Присяжные «только шептали, отставали]
священника и потом, как бы испугавшись, догоняли 1
«В окружном суде он служил со времени открытия с!
и очень гордился тем, что од привел к присяге неско!
десятков тысяч человек и что в своих преклонных го|
он продолжал трудиться на благо церкви, отеч<
и себя». _
Другой священник (сцена суда лад Катюшей Мл
вой) — такой же лицемер. Он 46 лет приводит лю
к присяге и на этом «святом» доле умудрился заи|
тать «дом и не менее 30 тысяч в процентных бумая • _ _ л , ...,1ЧП|Т п котопой
Но были и заблуждавшиеся., Отрезвление у ™ДРобно ^ассказьшае^о его жизни, в которой
lb v подов, в образе которого отразились искания ca-
ll Толстого, после многих душевных испытании про-
Папример. после аудиенции у Топорова он со
серьезпьш манйг I'111 Для борьбы с общественным
о которых лицемерно заявляет этот сановник,
г по дороги, а дороги только его собственные классо-
•I интересы. Но все же это «прозрение» лишь частич-
। Hi хлюдов (как и сам Л. Н. Толстой) ие видит
, .. Г t ' I злом и обращается
। нниюльским заповедям. Но переродился, обновился ли
и подои благодаря Евангелию? Не считать же ответом
пи вопрос обращение к тексту Евангелия. Роман
। hiчниается строками, обещающими продолжение:
- м । ончится этот новый период его жизни — покажет
\щ"‘». По что дало Нехлюдову чтение Евангелия —
I ним Толстой пе сказал, хотя и собирался писать
» и ш’ишей его судьбе: жизнь пе дала и не могла дать
..... правильности этого пути.
Пр< мшй приятель Нехлюдова, товарищобер-прокуро-
I । ||спин, постоянно испытывает чувство неловкости.
Толстого наступало по разному. К безверию каждый |
своим путем. Катюша Маслова, обманутая в своих л
ших чувствах, пришла к безверию после пережи|
• in1 io» (часть II, глава XXIII).
1<ы.1 в молодости Селении необыкновенно правдивым
и иным, «целью своей молодой жизни ставил служе-
душевного потрясения, «С этой страшной ночи, иу| нодям». Но, поступив на государственную службу,
32 1 ^B’Hinii' концов понял, что он делает не то, что должно.
I... зги зз
мчн)1> рукописей Л. Н. Толстого лптературовсд-исследо-
н Владимир Александрович Жданов. Очень инте-
Ьи но (чо сопоставление рукописных вариантов романа.
II одном из рукописных вариантов Толстой писал, что
priy.n гате всего пережитого Катюша «поняла, что нет
нпюно бога»1. В другом же варианте Маслова прокли-
। । лее, что погубило ее: «Какого еще бога там нашли?
Еще более «пе то» — его отношение к религии и к п1
вп. Во время первой молодости, студенчества он
малейшего усилия разорвал своим умственным ростр
путы религиозных суеверий, в которых оп был в<1
тан», причем, «как человек серьезный и честный, oi
скрывал этой своей свободы от суеверий официал"
религии». Но повышения его по службе, требовапш—
ыашних, «общественное мнение» сыграли свою [
Сознавая ложь и фальшь, он все же присутствует
молебнах, освящениях, благодарственных и тому по
ных службах. «Надо было, присутствуя при этих служ
одно из двух: или притворяться (чего он со своим л
дивым характером никогда не мог), что он верит
во что не верит, или, признав все эти внешние фо
ложью, устроить свою жизнь так, чтобы пе быть в fl
ходимости участвовать в том, что оп считает ложью
для того, чтобы сделать это кажущееся столь неваж
дело, надо было очень много: надо было, кроме того
стать в постоянную борьбу со всеми близкими люд
надо было еще изменить все свое положение, бро<
службу и пожертвовать всей той пользой людям, коте
оп думал, что приносит на этой службе ужо те
и надеялся еще больше приносить в будущем. II
того, чтобы сделать это, надо было быть твердо уве
ным в своей правоте. Он и был твердо уверен в с
правоте, как не может не быть уверен в правоте;
вого смысла всякий образованный человек нашего
менп, который знает немного историю, знает проис.
дение религии вообще и о происхождении и распад
церковпохрис! капской религии. Оп пе мог по знать
он был прав, не признавая истинности церковною
пня». (32, 282).
По «под давлением жизненных условий» Сел1
капитулировал: и с тех пор уже мог спокойно,!
сознания совершаемой лжи, присутствовать при ма
нах, панихидах, обеднях, мог говеть и креститься
образа, п мог продолжать служебную деятельность,
вавшую ему сознание приносимой пользы и утепг
в нерадостной семейной жизни. «Он думал, что он в(
ио между тем больше, чем в чем-либо другом, он
существом
«не то». И о г этого у него всегда были грустные гла;
Весьма любопытна творческая история романа <
кресение». ”
34
г iii.i не то говорите. Бога? Какого бога?»... Эта реплика
я ( 6пн. (_^----------------------------------- „-----------
* I Mill ЛИВОЙ)
1 А w '
бин (вместе со сценой второй встречп Нехлюдова
) пе удержалась в романе, по мнению
А Жданова, вероятно, потому, что Толстой изменял
сокращал отдельные эпизоды, которые хотя и были
ши но себе выразительны, но тормозили действие, не
। in < вязаны непосредственно с основной линией по-
< шонапия. Надо печатать, что пз тех же творческих
p.i копий в окончательную редакцию романа вошли
пн ращенном виде и некоторые другие эпизоды.
Hoi пресный прием в тюрьме посетителей дал повод
ныли.: «Во всех церквах еще шла обедня, и надМо-
Ни>п стоял тот неприятный, напоминающий о суеверии,
i ini'.ioH-гве и фарисействе звон различных жертвованных
ни оде i елями колоколов, гул которых заглушает людскую
'цы и.». Когда Нехлюдов шел внутри тюрьмы по сеням
। < подами, он там совершенно неожиданно «увидел
шине большое изображение распятия, точно люди,
।роившие эту тюрьму и стерегущие и мучающие в ней
hi и нов, поставили это изображение для того, чтобы
•нирнн себя напоминанием о том, что не они одни му-
н hi невинных,— подумал он». Толстой постарался
hi инь сопоставление иконы и тюрьмы. В корректуре
। к. сказано: «Контора состояла из двух комнат. В пер-
i|i комнате... стояла в одном углу черная мерка для из-
р< пня роста арестантов, в другом углу висел большой
рп! Христа». Исправляя корректуру, Толстой добавил:
и другом углу висел — обычная принадлежность мест
11 чп । ельства — большой образ Христа».
Проникая в творческую лабораторию Л. Н. Толстого,
\ Жданов показывает, как гениальному^ художнику
шин удается снять со «священных» вещей их символи-
mii.hh ореол и как от одного варианта к другому он
piiiiiH.icT удар. Правда, пе все вошло в завершенный
сознавал, что эта вера его была что-то cd
'> Жданов. Творческая история романа Толстого «Воскро-
М , «Сов. писатель», 1960, с. 85.
35
Для ее воссоздания многое сделал бол!
вариапт романа. Дело тут не в цензуре (для правослаЕж
цензуры вся глава о богослужении была неприемлем!
а в чисто творческих мотивах. Писатель сопоставил gj|
обедпю с впечатлением от нее мальчика, оказавшего
в церкви, чем вносился сатирический элемент. И
уже созданная сцена эта до печати не дошла. Почему
Вот мнение В. А. Жданова: «Толстой чувствовал,
одной сатиры здесь мало, что без анализа, всесторон]
вскрывающею пагубность церковного культа, не оба
тпсь. Для композиционного равновесия между этими!
нами пришлось удалить несколько ярких текста
и получилось идеальное равновесие двух глав — глА
XXXIX (богослужение) и главы XL (рассуждение о б >||
служении). В первой паве сверкает яркими краска!
сатирическая картина, во второй гремит голос облп!
теля».
Страницы романа «Воскресение» --------------- л
облачению нелепой обрядности, раскрытию подлив^
социальной природы официального православия, посв<
обличительной силе — одни из лучших в мировой лите
туре. Не случайно он воспринимался правительством!
«антицерковный роман», колебавший основы религии.
I |ны«'нная работа мысли. Уже в юности пробуждав-
I <<» шаппе, еще во окрепшее и порой беззащитное,
" ни ю в поединок с вековыми традициями, предрас-
и ми с привычным укладом жизни всего патриархаль-
|ц|<пшратического и ре.лш лозного окружения.
I'ii. в детские годы Толстой начал задумываться над
• ими вопросами бытия, в том числе и религии. «Пом-
ин, когда мне было лет одиннадцать, один мальчик,
•и умершим, Володинька М., учившийся в гимназии,
hi к нам в воскресенье, как последнюю новинку,
• мнил и ям открытие, сделанное в гимназии. Открытие
inn io в гом, что бога пет и что все, чему пас учат,
• - ныдумки (это было в 1838 г.) Помню, как старшие
иинтерссовались этою новостью, позвали и меня
• oiiri Мы все, помню, очень оживились и припили его
•они как что-то очень занимательное и весьма воз-
», посвященные pi ( (23,1).
। «Ребенком я верил горячо, сентиментально и пеобду-
• ш», потом, лет 14, стал думать о жизни вообще и на-
kniH на религию, которая не подходила под мои
рпи и, разумеется, счел за заслугу разрушить ее. Без
L мир было очень покойно жить лет 10. Всё открылось
]>> с мной ясно, логично, подразделялось, и религии не
| tn mi ( та» (60, 293).
(имнгнпе исподволь, словно червь, подтачивало корпи
игры Этому способствовало и чтение книг. Среди
• пивших на пего авторов Толстой называет Вольте-
«Помню еще, что я очень молодым читал Вольтера,
НЕ ИЗ ЕДИНОГО МЕТАЛЛА
Итак, Толстой был открытым и непримиримым пр
тивником официальной церкви, полностью отрицал пра|
славие. По сразу ли он занял такую позицию? В «Исй< ............___
веди» есть признание, что еще в юности, как болыпипсп М( |1!Ь|, ег0 ве только не возмущали, но очень весе-
людей его круга, он сделался неверующим. Позже, у»
в зрелые годы, был момент, когда, задумываясь ш
смыслом жизни, < " _ж__,____
ствс». По перед судом разума п совести вера, котору
утверждает церковь, окончательно разрушилась. 31
веру, говорил он, «я не могу принять, пока я не сопи
с ума». «Но мне говорят, что люди охотно сами приш
мают это православное учение. И лошадь можно npi
учить к тому, что она ест кислое, вредное и не ест де
рого. Нельзя пе жалеть об этом и по негодовать на пд
кто приучает j этому» (53,50).
Процесс крушения сложившихся взглядов был тр;
пым и мучительным Конфликт с богом и церковьюстс
ему многих душевных сил и нравственных мук. В ei
дневниках и письмах,
J6
• и меня» (23,2) «Размышляя об религии,—рассказыва-
Imkioii в черновой редакции «Отрочества»,—я прос-
он ютов был «снова поверить, как в дь лИ»и.о приступал к предмету, без малейшего страха
CVTiriM ПЙ-JlZlll ГТ ЛЛПЛ/.ТП плпл *’ I * 1 ______
щипал его и говорил: «Пет смысла в тех вещах, за
•|ч.н‘ миллионы людей отдали жизнь». Эта дерзость
млн исключительным признаком размышлений того
|т< м» (2,280). То была пора духовного созревания.
Ч«рсi некоторое время атеистическое настроение
нн ки । усиленной религиозностью. Началось с того,
. I о к того заинтересовала такая мысль Паскаля:
I in Гн г даже все то, чему нас учит религия, была не-
'•йдл мы ничего не юряем, следуя ей, а не следуя,
I им м вместо вечного блаженства получить вечные му-
в его «Исповеди» рас'коываеЛ ’ '""Л "лп,,||Неи этоГ' рассказывав .Толе гой,-
к pwBueiw...... ц противоположную краипосгь,— стал набожен ..
37
Я постился, старался переносить обиды и т. д. По nJ
я вставал и по нескольку раз перечитывал все извес!
мне молитвы» («Отрочество», вторая редакция).
По состояние сильного религиозною подъема rrpt
жалось педолго. Действительность то и дело подверг
релитиозпые чувства юноши всяческим испытан!
В размышлениях молодого Толстого о боге — пе сто
веры, сколько явного скептицизма. «Пе могу дока
себе существование бога, не нахожу ни одного дель
I! поисках ответа на мучившие его вопросы Толстой
1479 юду посещает Троице Серытог-у лавру. Он осмот-
I монастырскую ризницу, беседовал с архимандритом
• 'Индом (Кавелиным). Разтовор велся пе только о ре-
нт — «явились вопросы жизни, которые надо было
ipeiini гь». Толстого интересовала проблема воины и от-
пив пя к пей церкви. Волновал его и вопрос об убийст-
11(1 теп по приговору судов, В эти годы обострилась
доказательства и нахожу, что понятие это не пеобх
мо»,— записывает он 29 июня 1852 г. (46,128—129). Е
короткий период Толстой довольно часто бывал в цер
Но не набожность влекла его туда: «Исполняя обр
церкви, я... соединялся с предками моими, с любим
мною — отцом, матерью, дедами, бабками» (23,
Именно тогда, в конце 70-х годов, не отрицая еще о(
довой стороны учения православной церкви, Толстой ---
сал Страхову, что, принуждая себя во время прич! h \ ныть хлеба-соли в его кельях >
ния1 пить вино, называемое кровью бога, оп остав? • щть вместе с простыми странниками из ар
равнодушным к самому таинству, по ему «радостно б
ДТТТПППТТП <.<! ПЛЛКТТ Iinnzinn,,.,....... -------
довои стороны учения православной церкви, Толстой
piO.i народовольцев с правительством, которое все чаще
1ни пло смертные приговоры. Толстой с изумлением
hi (юг членов церкви, учителей ее, монахов, схимников»,
(прявших смертные казни. Недоумевал писатель и по
поду нетерпимого отношения церкви к людям других
|кни поведапий.
I и некой Никон, бывший в те годы монахом в лавре,
ними нал, что архимандрит Леонид приглашал Толстого
ио писатель захотел
t< । рлнпопрпимной» палате. «После осмотра достопри-
। архимандритом, — вспоминал епископ. — Довольно
ио длилась эта беседа. Когда он ушел, покойный ста-
едппеппе со всеми веровавшими и верующими». Ода| нпельпостей граф пожелал наедине шим рл______________
к этой «радости» примешивалось мучительное чувИ «м <
унижения «Но когда я подошел к царским дверяД „--------------- ...... - Q тчкою
рассказывает далее Толстой,— и священник заставил 4 и ' <» вздохом сожаления сказал мне. а|
повторить то, что я верю, что то, что я буду глотать,
истинное тело и кровь, меня резнуло по сердцу; это Д-ршно»1
что фальшивая нота, это — жестокое требование коЛ
такого, который, очевидно, никогда и не знал, что т!
вера... Мне только было невыразимо больно... И я на]
в своей душе чувство, которое помогло мне перенести.
Это было чувство самоунижения и смирения. Я смири,
проглотил эту кровь и тело без кощунственного чувс|
с желанием поверить, по удар уже был нанесен. И
вперед, что ожидает меня, я уже не мог идти в дрД<
раз» (83, 270). Четьм-Мипеи и Пролог2, как наци
в «Исповеди», стали в то время «любимым чтеп]
Толстого. Одновременно он изучает труды филоа
много думает о церковных догматах.
1 Причащение — одно из семи христианских Tai
При совершении его верующие под видом хлеба и вина hko6j
шпют «тело и ьровь Иисуса Христа». Церковники прича!
часто называют по-гречески — евхаристией
2 Ч е т ь и - М и н е п — компилятивные произведения ру<
церковно исторической литературы о житиях святых; более
иве своды житий назывались Прологами.
38
I'Uinen, какую я редко встречал. Боюсь, кончит пе-
. А сам Толстой после посещения Тропце-Сер-
'(KUU лавры писал: «Я больше еще укрепился в своем
кд» нпи. Волнуюсь, мятусь и борюсь духом и страдаю».
II том же году оп решил совершить поездку в Киев—
• io чтимых православным пародом «святынь».
На протяжении столетий Кпево-Печерская лавра была
in ром религиозного паломничества. Сюда приходили
I шмольцы со всех концов Российской империи, чтобы
। кшиться чудотворным иконам, мощам. Толстой меч-
II непосредственно познакомиться со «святыми» места-
11 поближе узнать тех монахов и схимников2, которые,
। рассказам странников, вели в киевских монастырях
• ьникпическую жизнь. «Боюсь, что в Киеве пе успею
мт ре ib и узнать и 1/10 того, что хочется, судя по
jJJ и* ишм»,— писал Л. II. Толстой жене.
41 Hit IT икон. Смерть гр. Л. II Толстого. Троицкая Лавра,
|)1|1 < 75—77.—Цит. по кп.: Н. II. Гусев. Лев Николаевич Тол-
ин Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. М.. 1963.
‘ < \ и м а — высшая монашеская степень, требующая по цер-
инам правилам от иосвящеппого в нее выполнения особо суро
н inшческпх правил.
39
14 июня рано утром он приехал в Киев и сразу||
направился в Киеве Печерскую лавру. В тот же ,ы
вечером сообщил Софье Андреевне: «Все утро до 3 .x 1
поездкой. Пе стоило того. В 7 часов пошел в л;ф
к схимнику Антонию, и нашел мало поучительного».]
«Очевидно,— писал биограф Толстого II. II. Бп|
ков,— поездка эта не удовлетворяла его и, по всей 1
роят пости, способствовала скорейшему отпадению его
православной церкви». I
Через несколько месяцев
Печерской лавры, а точнее, 30 сентября 1879 г. с саг"
ной книжке Толстой уже набрасывает план будуцЯ
сочинения. В этом наброске есть слова, что церковь—1
«ряд лжей, жестокости, обмана».
«Посещение Киева нанесло второй чувствительгя
удар православию Толстого»,— отмечает II. II. Гу<з|
В Киево Печерской лавре Толстой не только
г™'.... . . ------------
В статье «Церковь и государство», написанной в ноя(
1879 г., Толстой утверждает, что «киевский митропо!
и шип нанесли последний удар его перс в правосла-
вье ,ы
дпп по соборам, пещерам, монахам и очень ыедовсл
linn, п Нп —___ П -7 _
IIiij.kp в «Исповеди», ссытаясь на людей, «правдивых
» мим собою», Толстой скажет, что «принятое по довс-
)♦»> и поддерживаемое внешним давлением, понемногу
п ни { влиянием знании и опытов жизни, противопо-
1Ш1\ вероучению». Знания и опыты жизни... Опп прп-
Mi.iiiKh не только во время посещения Тронцко-
|(|»ц|к>и и Киево-Иечерской лавры и не только в пыт-
|Ь>И4\ разговорах с учеными богословами Сердце Тол-
I in ci кликалось на многое, что происходило в России.
нии.'ю посещения Ни1
______ ,оЛп чувствовал всем существом своим, что нищая п от-
’ B,_3a.J 1страна придавлена деспотизмом
. ____ _.r r, । самодержавия
ни близится конец старым порядкам Он не мог «жить
к шипхопьку», ибо еще с самых юпых лет решил, что
цы (incгвие — дугневная подлость» (60,231).
hue гон проявляет жадный интерес к жизни народа,
|1М1ися к непосредственному общению с ним. И всюду
—------------------------------ --- и •»
1 --- — — % v г . ’
п н1\ Вот оп в нескольких верстах от Ясной Поляны,
шм месте, где дымит Косогорскпй чугунолитейный
1вп( Перед ним встает ужасная картина каторжного
I' ~-7 ” ’ V > ж _
с другой. В статье «Неужели это так надо?» пи-
словно делает моментальную съемку небольшого
____. Гульскои губерния Вот он «навел объектив» на
r-j запечатлел, как «копаются рабочие люди: один
пе наЦ „цдпт' роскошь1 однпх и нищету, невыносимую жизнь
подвижничества, но увидел сознательный обман napoj
В статье «IL пкпм. и rn/«trnar1^w„«.v ------у. ~ - -1
мн угодников» (23, 478). Это же самое утверждение Т
Ий
с монахами набивает соломой мешки, называя их мой 1а ( одной стороны, и барства, пара kithзмщ ту __________
ми угодников» (23,478). Это же самое утверждение Т|
стой вскоре повторил в другой работе: «Не видят гепЖ
попы в Киеве, что их набитые соломой мощи су|
с одной стороны, поощрение веры,
npeiрады для веры» (24,790).
В дневнике JI. II. Толстой запечатлел некоторые ей
разюворы с прохожими на Киевском шоссе. Пз
записей пам известно, что Толстой, встретив моло.1
рабочего с Ижевского завода, по видимому, ходивши
в Киев к «мощам святых угодников», говорил ему, I
нет никаких мощей, что все это—обман, что соверш!
паломничество к святым местам не нужно.
Осенью того ясе года Толстой приехал в Москву, ч:
бы побеседовать с представителями высшей иерархии
учении п1>1)нпгллпип|'| цертПт ....... -
Макарием (Булгаковым) и с викарным apxnepq
Алексеем. IL
2 октября Толстой вернулся в Ясную Поляну и туг^
написал II. II. Страхову, что в результате последних ра
говоров с учеными богословами оп «больше еще укр
пился в своем убеждении» (G2, 499). Беседы с московсй
ми иерархами об от ношении церкви к важнейшим воид
* . • ------- A.-.V4 UVyup
хченип православной церкви. Он виделся с митрополит
4 I0U аршин под землею в темных, узких, душных, сы-
ы» постоянно угрожающих смертью проходах, с утра
.... или с ночи до утра, выбирает руду»; другие же
• к ' ноте, согнувшись, подвозят эту руду». По вот уже
ВМ «кадр»; на домне работают у печей при удушаю-
в и жарен. Но чтобы дать «панораму» всей местности,
|и‘и нм обращает внимание на поля, раскинувшиеся по
Ь*rt гву с заводом: тут мужики пашут на измученных,
1»и г> 1ьк\ лошадях чужое поле. «Мужики эти встали на
•| । ели они не провели ночь в ночном, т. е. не поче-
ni у болота». Недалеко от чугунолитейного завода —
»•» Г11П.1Я дорога. Там крестьяне бьют шоссейный ка-
ин Ноги у этих людей избиты, руки в мозолях, все тело
||*| mu и пе только лицо, волосы и борода, вон легкие
h ши ।ты известковой пылью. А мимо завода, мимо ка-
|ЙИ1ню11Щ'в, мимо пашущих мужиков катится, позвяки-
I и \оспцами, коляска. В коляске сидят две барышни,
41
блестя яркими цветами зонтиков, лент и перьев гид
стоящих каждая дороже той лошади, на которой пш
мужик свое поле. В стороне от шоссе едут два верхов
мужчина на английском жеребце п дама па иноходце,
говоря о цене лошадей п седел, одна черпая шл
с лиловым стопт два месяца работы каменобойцев...
эти люди нисколько не удивлены и не тронуты вп,
нищеты и каторжного труда (34,216—218). Такое!
справедливое устройство жизни, думает Толстой, «су
ствует не только в том уголке», а везде, и «такое уст
ство жизни пелепо». С болью в сердце он восклнц
«Так зачем же люди так живут?..» Почему же влaJ
землей не тот, который па пей работает, а тот, кювр»
работает? Почему малое число людей пользуется под^ |«ц
ннишсом: «С барского двора слышатся другие звуки:
ни дринк, дрцыь! Слышится фортепиано, разливается
ин го венгерская песня и из-за этих песен изредка
ус'ров молотков крокета по шарам»,,.
А (овсом близко от деревни Ясная Поляна стоит
"Hiii.iH Кочаковская приходская церковь. Толстой уже
«о не переступает ее порог. Пахари пз деревни Ясная
Hul l, косогорскпе металлурги и кампебопцы несут
11 (коп невыплаканные слезы, песбывшпеся мечты и
I -tiiii.io надежды. Но что эта церковь может им дать,
бесплодного утешения? Что может, наконец, дать
в га вера, которую проповедует эта церковь? При-
। к ( горестями и невзгодами в ожидании «милостей
и\»? Призвать к религиозному самоотречению, кпо-
мннпо жизни как «песеппе креста»? Внушить, что
"окж — прах, червь, а тело его — сосуд греха? Толстой
пн чго пи церковь, пи православие не могут ответить
|шпросы: «Так что же пам делать? ...Неужели это так
и»?» Напротив, церковь говорит, что так надо п лучше
"io ле делать, молиться и уповать па волю божью,
и \ ____
ми, собираемыми со всех, а не те, которые платят
Почему владеют заводами не те, которые построили
и работают на пих, а малое число люден, которые
строили их и не работают на них?»
Толстой пе только всматривается в жизнь, по пап
жеино вслушивается в ее разноликие голоса, чутко ли
ее звуки... Начался покос — дело, по словам Толст. ......- „------ -• _ - „ ппепо-
одно из самых важных в мире, ибо в том случае, еВ >i » щ<* один (и, пожалуй, самый главны ) ур
прибавится сена — прибавится и мяса для стариков, Г
лока для детей Так — вообще, в частности же для id
дого из косцов тут решается вопрос о хлебе, молоко J
и детям на зиму. П вот Толстой слышит звуки бай!
песен, лязганье кос. Они напомнили ему о напряжен’
неустанном, изнуряющем сельском труде В поле сти!
млад — даже старуха, доживающая восьмой десяш
п крошечный мальчонка, внук этой старухп. «СтарВ
видимо, озабоченная только тем, чтобы ее не corJ
с работы, нс выпуская из рук грабли, очевидно с труя
насилу движется. Мальчишка, весь изогнувшись, коре!
переступая босыми ножонками, таскает, перехватывая
руки в руку, кувшин с водой, который тяжелее d
Девочка взваливает на плечо беремя сена, тоже тяже!
себя, переходит несколько и останавливается н сваливя
пе в сплах донести ее». II так — до той самой поры, ки|
солпце зайдет за лес. Вечер. Толстой опять улавлии!
звуки: «Со стороны деревнп слышатся побрякивай
бруспнц измученных косцов, возвращающихся с пока!
звуки молотка по отбою, Крит и баб и девок, только 1
успевших поставить грабли и уже бегущих загони
скот». Но со стороны доносится печто другое и зву^
kiiniiiii Толстому действительностью
П|н мп жизни Толстого пе было мирным. Большие
miq'it'ieciuio события превращали проблемы войны
I uiip i в самые жгучие проблемы современности. Пись-
м и дневники писателя свидетельствуют о его большом
кнресе к Крымской войне, к гражданской войне в Аме-
й*к подавлению англичанами восстания в Индии.
Кнпнетвуя по странам Западной Европы в 1857 и
Ihiiii 1861 гг., Толстой наблюдает усиление милитариза-
I ан к Германии, Австрии, Англии, Франции. Проходит
> шплстпе, и Толстой опять отмечает усиленную мп
«mini ацпю Европы: во всех странах континента соз-
••г и в массовые армии, почти повсеместно вводятся
и общие воинские повинности. Разделяя народную точ-
I ||1гння, он видел бессмысленность войн и с величаи-
IUM и ।пряжением докапывался до их корней. И в числе
ми । шарда причин», порождающих военные конфликты,
Н шиыиал церковь, официальную религию. Именно цер-
II ап считал извечным источником войн и раздоров
• <i iv народами. Размышляя о только что закончившей'
< |ц< ( ко турецкой войне, Толстой писал: «Русские стали
> имя христианской любви убивать своих братьев. Пе
(Мал. об этом нельзя было. Не видеть, что убийство
43
есть зло, противное самым первым основам всякой м
нельзя было. А вместе с тем в цс рквах молилпся
успехе нашего оружия, и учителя веры признали
убийство делом, вытекающим из веры». Чуткая сои
Толстого ие может принять зловещий союз upeci
трона, бога и штыка, освящаемого церковью, его
циальный лозунг «За царя батюшку, за веру правое
нуго», как и казенио-патрг отпческую солдатскую пе(
«Мы вперед, вперед, ребята! С богом, верой и штыь<|
Позже, в статье «В чем моя вера?» Толстой п пишет!
от церкви его оттолкнули как «странности догматов»,!
и одобрение ею гонений, казней и войн.
Толстой не только окончательно разрывает с учеи
православной церкви, но, чтобы найти корень л
принимается за еще более основательное изучениеI
книг, на которых церковь основывала свое вероучс!
Когда же казенная церковь увидит в Толстом св«
убежденного и грозного противника, охрани гели pj
гиозных устоев, защищаясь, станут упрекать писа^
в том, что он судил о вещах недостаточно ему извес1Л ни подами... Граф Лев Толстой хорошо знает все т ,
н что оп якобы был мало сведущ в духовной литералу И11 |( наших специальных курсах называется оогословисм.
Аргумент этот часто выдвигался и после его смей || мц очевидно» знает еще гораздо больше эюю > (выде
«Подобные утверждения, — писала А. К. Чертков^ ш> If С. Лесковым.— С. 11.)
йшп Макария (Булгакова). Сей труд в свое время вы?
И'1'iji.i пять изданий, а за автором утвердилась слава
। ||1||ин> русского 6oiоснова. Толстой добросовестно про-
аудировал это самое авторитетное изложение вероуче-
им1 православной церкви. «Я долго трудился над этим,—
ни вл он,—и, наконец, достиг того, что выучил богисло-
•н кик хороший семинарист».
II С. Лесков тоже дал отповедь тем «изобличителям»,
ирис силились доказать, будто Толстой не имел осно-
мн и пых познаний в богословии. Удивительно, писал
II < Лесков, что критики Толстого не замечают его
I, 1МПДПОЙ начитанности в церковной литературе, кото-
ми ннподь не ниже семинарской и даже академической.
• hi кому-либо нужно доказывать, что Толстой знает
l»iiu< кжскпе науки, то это, писал II. С. Лесков, «не мо-
М । про {ставить никакого затруднения». «Если же граф
I II не принимает того или другого вывода богослов-
I >н науки, то это не значит, что он «не знает» этой
• иукп, а значит только то, что оп ие согласен с известны-
основаны, с одной стороны, на извращении действшЯ
ностп, а с другой — на полном незнакомстве или пп«|
рованип как писанин Льва Николаевича, в которых Я
ражены были основания его глубоко продуманных и
страданных убеждений, так и уже опубликован^
биографическич данных о нем»’. Лев Николаевич, вер
мипала Черткова, особенно тщательно г...........
Четьи Минеи и «Жигия свяиах», Прологи, (---------ж
выдающихся отцов церкви, а также книги с проповеА
и поучениями Иоанна Златоуста, Тихона Задов скот
Василия Великого и других.
Изучал Толстой также и историю церкви, пачи!
с первых веков христианства. В Ясной Поляне храним
книга В. О. Ключевскою «Древнерусские жития свяя
как исторический источник» со многими пометками Г1
стою. До настоящего времени церковники считают л|
шнм руководством по православному вероучению «Пря!
славно-догматическое богословие» митрополита моем
1 А К. Черткова. Л. Н. Толстой и его знакомство с I
ховно-вравославыой литературой.— «Голос минувшего», 1913, М
но II С. Лесковым,—С. 11.).
II личной библиотеке Толстого, хранящейся в Ясной
II nine, масса книг духовного содержания с ею замеча-
вшими Если, к примеру, мы раскроем «Книгу житий
«ниш, то в каждом из двенадцати се томов мы найдем
ыыило пометок, сделанных Толстым, обнаружим загну-
|iM> им уголки. Следы размышлений писателя обнаружим
перечиты|| (1 |1а страницах сочинений Макария, Марка Подвиж-
, опнсаш ||(|(|| (| других.
II io щи, когда Толстой напряженно работал пад
in глав трактата «Исследование догматическою
‘ ни ин ня», он писал жене: «Как ни смотри на это: для
• ми job людей вопрос этот о!ромной важности», и по-
s. му ж 1ьзя «кое-как» писать о нем, а нужно основатель-
in ( сдовать его (83, 431—432). Толстой понимал, что
• му зим убеждениям, даже ложным, нужно относиться
и ш с уважением, то с осторожностью. Он пеоднократ-
<ч ci у ждал тех современных ему авторов, которые гото-
Н hi.uin самоуверенно и с необычайной легкостью брать-
н hi решение любого вопроса. Особая основательность,
'll С. Лесков. Собр. соч. в 11-ти т., т. XI. М, ГИХЛ, 1958,
45
считал Л. Н. Толстой, нужна в том случае, когда al
берется анализировать сущность богословия, деятель^
церкви и само православие. Однажды Чертков но<
Толстому рукопись своей неоконченной статьи «Где (
твой?» и просил посмотреть ее «с карандашом в ру
Толстой исполнил просьбу п советовал выдержать
статью в спокойном топе и там, где идет речь о цер|
убрать чрезмерные резкости. «Об этом предмете,—
пенил он,— нельзя говорить вскользь. Говоря neyaai
тельпо, вскользь, только раздражаешь и враждебно
полагаешь читателя». Короче, в спор с церковью
рекомендовал вступать во всеоружии, избегая ворхоп
ства и ненужной крикливости. Сам же Толстой в сн
аптпцерковной публицистике дает пример пе тол
серьезности, искренности и осторожности, но и ск]
ностп в высказывании своих суждений. «Я не мог
откидывать одно за другим положения церкви,— пи
Л. Н. Толстой.— Я делал это нехотя, с борьбой, с ж
ином смягчить сколько возможно мое разногла
с церковью, не отделяться от нее, не лишиться cal
радостной поддержки в вере — общения со многими,
когда я кончил свою работу, я увидел, что как я пи с
рался удержать хоть что ипбудь от учения церкви,
него ничего не осталось». Эти слова писателя звучат I
духовная исповедь. В откровенном разговоре с Гольд
вейзером Толстой как-то сказал: «Когда я пришел к i
росозерцанию, отрицающему всякую церковь и какие
то ни было церковные обряды,— тяжелой стороной бь
рознь в этом отношении с массой народа. II я ионпм
что страх совсем разойтись с народом может некотор
удержать от последнего шага в этом направлены!
У Толстого хватило мужества сделать этот «послед
шаг».
Сомнения п смелость исследования привели к го
что он в конце концов расстался со многими иллюзия
Но «казнить верования не так легко, как кажется,— !
сал другой великий русский писатель и мыслителе
А. II. Герцен.—Трудно расставаться с мыслями, с ко
рымп мы выросли, сжились, которые нас лелеяли, уте»
ли,— жертвовать ими кажется неблагодарностью»1 2. I
1 Л. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., ГИХЛ, 1
с. 74.
2 Л. Л. Герцен Coup соч. в 30-ти т., т. VI. М., «Наука», 1
с. 45.
46
и Mi |дравый смысл п голос чуткой совести, жажда
iihii все это брало верх вад традицией и только
niiniii-я «неблагодарностью». Но была ли это полная
i> он' Был ли это окончательный разрыв с иллюзиями
> ifliip •?
II । nine «Герои «оговорочки» В. И. Лопин высмеял за-
в траурную рамку передовицу десятой книж-
ки in пк'вистского журнала «Наша Заря» за 1910 год.
|м|и)М iroi'f статьи был публицист-критик либерального
ин М Вепедомскпп (М. П. Миклашевский). В. II. Ле-
ны нпамутпла поразительная беспринципность этого
рп н оценке Льва Толстого. Нет, утверждал В. И. Ле-
и «Hi пз единого, не из чистого и не нз металла отлита
ин pi Голстого»...
Il unit же статье В. И. Лепин подверг резкой критике
ирннципность другого меньшевистского автора —
Бн.шрова, утверждавшего, что Толстой «сумел найти
«Неправда, — спорит с Базаровым Лепин.—
Ю'пно синтеза пи в философских основах своего мпросо-
pHiiiiiin, пн в своем общественно-политическом учении
hi toil не сумел, вернее: не мог найти»’. II тут же про-
11 i.i ленинская мысль о том, что непростительно замал-
iiirtti коренные непоследовательности и слабости миро*
м рц.ишя Толстого.
I оворя о его взглядах па религию, нельзя пе подчер-
ки что они были весьма противоречивы, как нротпворе-
Нйи пег его мировоззрение. Писатель не смог полностью
। Kiifiii цггься от религиозных заблуждений. Религиозное
in ню, писал он II II. Страхову, живет где то в глубине
• ниши, и те ответы, которые дает это чувство, «мутны,
•к им, невыразимы словами — оружием мысли».
I-н. утверждается мысль о религиозности человека, ле-
«1Ц| и за пределами разума, рождающейся пз чувствеп-
in реживапий. Эту «истину» сам Толстой называет
। >м i.e письме «метафизической», причем «пути постиг-
1ПИЯ» ее, пишет оп, «для каждого ума — свои».
кс пе одними чувственными переживаниями, но и
in । 1мн ума. доводами разума обосновывается рели-
«мнить. В «Исповеди» мы встречаемся с той же мыслью.
I признается право «веры» господствовать над разумом
(। । ы» согласия, поиск «божественной истины» без уча-
ин разума, за его пределами... По такой «союз» явных
' II II. Л е п п п. Поли собр. соч., т. 20, с. 94.
47
возможен: ведь последовательное согласие с разумом о|
сознанием в самом себе, своим разумом и любовью»
бования своей совести считать «волей бога» < .
становилась желанием превратить религиозность во я
репнюю сущность человека. II оттого, что отменяв
внешняя религиозность, что верующему предлагается^ - - ‘,1ЙПтями и любите чужих
церкви искать бога в собственном сердце,-от всего »' Ю ипте различии мелкд. < Р богатые осозна
сама религия не перестает быть тем суррогатом сча<1 «к же, как своих, ьму казл , ----- _
которое, по словам Энгельса, «есть акт самоопустопт^
человека».
Толстой часто пользуется понятием «бог». Возьмем!
слово п проследим, какой смысл он в него в том или id
случае вкладывает. В письме к Фету Толстой называс! . - „ .„п^риия и тпактуя их
гом то разумение, которое есть в человеке: «То, что я « I нангечия_отдельные фра ил и _____________
себя чувствующим, и все, что я знаю, происходит от
что во мпе есть разумение, и его-то называю бог, то
для меня начало всего». «Разумение есть бог, и ни о кЛ ’Ч" мена
другом боге мы не имеем права говорить». В «Исповв
читаем: «Знать бога и жить — одно и то же, Бог
жизнь». В трактате «В чем моя вера?» бог рассматривав
кек высшее совершенство, как вечпое добро, отраже»
в душе человека и проявляющееся в зрелом и ясном ч«
веческом сознании. В этих «определениях» не только!
единого смысла, по они расплывчаты и неясны. Это иуи
Толстого. В тех местах дневников, где пытается оцец<
свои философские и религиозные взгляды, он, пол»
сомнений, часто пишет: «плохо», «запутался», «ерун!
«чепуха». Но это отнюдь не умаляет в наших глазах
серьезности его идейных заблуждении. Любое определе!
идеи бша выступает в свете ленинской критики как пр|
«уточнения» религии. В. II. Лепин писал, что «...велк
(выделено В. И. Лепиным.—С. 27 ), даже самая у1
чепьтя. самая благонамеренная защита пли оправд.ц
идеи бога есть оправдание реакции», так как идея
«всегда усыпляла и притупляла «социальные чувстЦ
подменяя живое мертвечиной, будучи всегда идеей рг
ства»1... Лепин неоднократно подчеркивал опасность *
кой религиозной идеи Религия, как бы ни хотел Толе!
чтобы опа была согласной с разумом и знаниями чело»
к.1 — включает прпзпапие того, что стоит вне реалы»
кн w корне отрицает всякую религию.
I Официальной церкви Толстой противопоставил свое
1Н1МПИИС «истинного христианства». В христианстве, очи-
(правого, разумного взгляда и идеи бога')! "Ч'“ Последовательное же согласие с разумом и знания-
возможен. ведь последовательное согласие с разумом 1 -------
en,L УЮ ₽елип"°- Проповедь «познавать бога с!
ГЛЯНЛТТТГПМ- Q oour.u ооХо ___________ 1 "1
UUIU? I, v v-жх** —_— __
объекта шипи от догматов и чудес, оп «нашел истину», сформу-
njiiHiUK се в виде пяти заповедей: не сердись и будь в ми-
ihu всеми; не забавляйтесь блудной похотью; пе кляпп-
• । никому ни в чем; пе сопротивляйтесь злом насилию;
...... г______“ ~ ......-х
е, как своих. Ему казалось, что если богатые осозна
♦•I iii'i i \/ьас их безнравственного существования, а бед-
имл in будут исполнять того, что требуют от них власти,—
и нпн переменится, все то, что подлежит разрушению, бу-
। piipyineHo. Центральным пунктом своей «рс шгип» оп
ни) । ыпрещевие сопротивления злу насилием Извлекая
V ------ — . /л. <-» ТТ1 гт IT m rx Оь Г* Т1Г СТ <<
111*111 июльпо, Толстой невольно отвлекался от того копкрет-
I । in ищпческого содержания, которое эти заповеди имели
возникновения евангельских текстов. Иаучно-
И1 (иричсская критика Библпи показывает, что еван-
м н<вне заповеди родились первоначально в среде рап-
♦нирпстиапскпх общин и выражали идеологию рабов,
m бессилие в бесплодные надежды, позже пз идеологии
НН1ПТ1ПЫХ масс христианство превратилось в офи-
нип и ну ю религию эксплуататорского государства, в ору-
HII духовного и социального порабощения трудящихся.
II.i.vko давпо показала, что в Библии (Евангелия —
ин четыре части так называемого Нового завета, вхо-
1И1Ц1 io в состав Библии) уживаются самые протпворечи-
мг взгляды. И оттуда можно черпать не только призы-
м in рожавшие некоторые элементарные правила чело-
ш 'и । г ого общежития, но и призывы к зверским распря-
ми со всеми инакомыслящими, со всеми сопротивляющи-
ыш и Служители религии всегда умели выискивать в Биб
нт ю, что должно было доказывать или опровергать в их
Hiiirpi сах. Кстати, это хорошо понимал и сам Толстой. Кре-
п ппппу Михаилу Собчаку он писал: «Глупостей, кро-
III к \, какие вы нашли, в Библпи еще очень и очень мнп-
11 отвечать на все их не стоит труда» (81, 88), Свое реи
ири нательное отношение к Библии Толстой высказал
,. письме крестьянину Тамбовской ]уберпин Григорию
Mniui i кичу Куксову: «По Библии можно вывести всё,что
in'ii ни . Можно вывести и то, что убивать мо.кпо. Таге и вы-
«ог А по-моему, надо и давно нора Библию оставить и не
49
Ио
Н II
1 В II Лепил Поли, собр соч , т. 48, с. 232.
48
верить в то, что Библия слово бо.кие, Библия писана л!
ми, и людьми часто очень грубыми п заблудшм
(81, 63). Письмо Куксону заканчивалось советом «нм
рпть в то, что Библия это слово божие, а понимать,]
Библия дело человеческое, и брать из нее, из Еванге!
ы Посланий, а также из всяких других книг, что разе
и сходится с вашей совестью». Единственное, что, по]
.мнению, «опровергать никак нельзя», это сказанное
Евангелии о любви к ближнему... 1
Чехов, который благоговел перед гением Л. И. Тол
го, никак не мог принять его ссылки на заповеди Хро
Высказав в письме М О. Меньшикову свое восхппц
«ухватистым пером Толстого», оп писал: «Решать все 1
стом из Евангелия это так ;ке произвольно, как дол
арестантов на пять разрядов Почему ла пять, ие па
сять? Почему текст из Евангелия а ие из Корана? IL
сначала заставить уверовать в Евангелие. в то, что имя
оно истина, а потом уж роптать все текстом»1. Это Гн
критика требовательная и вместе с тем чуткая. Чехов
дел всю искусственность и неубедительность ссылок
евангельский текст и ошибочность самой попытки вь
дпть мораль из религии. Религия не создаст яравстн м
сти, она только освящает се правила, вырастающие 1
почве данного общественного строя Историческая iuia
давно доказала, что нравственность, ее нормы п при прим
моральные понятия коренятся по в религиозных усике
леппях. а в условиях материальном общественной и я
ховноп жизни люден. И Толстой целиком стоит на п>м
днях христианского богословия, когда утверждает, что в
религии никогда не жи ю и пе могло жить пи одно ч<я
леческое общество Уже в то время, когда Толстой ним
это. трудами Л. Моргана. Д. Леббока, Э Тейлора, Ч Дм
вина и других ученых было убедительно доказано, ы
утверждение богословов об извечности религии onponoJ
елся многими фактическими данными археологии, этшкм
фин, исторического языкознания.
Выше говорилось о том что Чехов видел искусств
яость я неубедительность ссылок ня евангельский тем
н ошибочность самой попытки выводить мораль из рсЛ
гпп В В. Стасов, который как и Чехов, благоговел и им
клопялся перед Л II. Толстым, тоже часто спорит с
В 1891 г Стасов писал «Выслушайте тонко меня, к!
'Л П Чехов Поли, собр соч., т 18. М ГИХЛ, 1949. с il
50
L rtBuil 1ПСПЫ Вы со мной тут пи были. Почти постоянно
К •пирыюсь па мысль о Христе, о боге Па что это? Па
I • н-и и гог и другой, когда так легко п разу мио — вовсе
НМ**" । бе) них. По крайней мере, я лпчпо сам де чув-
I । ин малейшей надобности пи в том, ни в другом пред-
Н» омни <ля того, чтоб быть хорошим и настоящим че-
Ьым (чего себе от всей души все более желаю). На что
I*. -ни го изречения, чьи то приказы, чьи-то требова-
I, иш и я и сам способен поставить самому себе все эти
L»uin,i и цели... Я желаю и чувствую себя способным быть
Ьж пш и льным и идти к добру н правде без «высших»,
Ь»1П( (пческих, выдуманных существ»5. Стасов понимал,
Ьи rtin, ван бы оп ни истолковывался, не перестанет быть
Вшчоющего необъяснимой и тайной силой, иротивостоя-
м А человеку и непонятной ему, а потому вселяющей в его
•пинг неуверенность п пассивность, Понять же источ-
им* ыблуждений Толстого он не мог.
ILiiii.i вооруженность ленинской методологией помоги-
•> ним в заблуждениях гениального ума видеть выра.ке-
|и < .иг.mi кризиса религиозного сознания, слабость того
►«пни (патриархального крестьянства), на позиции кото-
I io н« рсшел Толстой. По даже в самой ошибочности его
Ьы1рс1шй — великий утопический поиск в области морали,
•инюный дух ересиарха, стремление ответить па «воп
Б* вопросов» бы гпя. Толстой постоянно сам себя спраши-
|»|, верпы ли его убеждения. Оп неоднократно признавал,
|«|'1">Л1.ко непрочна его опора на мысль о Христе, о боге.
II ж отмечал в своем дневнике, что под натиском реалъ-
АиВ кизли, под напором ее мудрых уроков иллюзорная
Ш>ч11'<рка рушилась. Вот одно из таких искренних призпа-
»пй «Думаешь, что живешь для Бога, а как только встрях-
и» । 1.ПЗПЫ отка.кет та жизненная подпорка, на i оторой
иды..1 юн, чувствуешь, что пет державы в Боге» (53, 204).
В шевппках писателя мы паи гем немало таких откро-
мншых слов, в которых он подвер1ал сомнению свою рели-
Н Шесть
Поскольку его релтиозно-праветвенное учение сво-
й»цю от церковной обрядности отрицает мистику, чуде-
011 I «лстой, как считали некоторые исследователи его
цирчсства, поступил бы последовательно, если бы вообще
• пылился от терминов «религия» и «вера» и на пх место
1 Лев Телегой л В В Стасов. Переидска 1878—1906 гг. Л, 1929,
Ь 1Я
51
lyinnw читателям, которые обязаны «не поддавать-
у-. ._ * - " ------- '' »«-Ч’к!1МГЫ1И|4>
1‘ 'Ini прока), отличать «странные изречения», случайно
U«hiiiii'H' от «действптел!иого ядра». В че.м же это ядро?
Jiu iдивное в наследии Толстого? Весьма поучителен
fTjw го дологическом плане ответ на этот вопрос, данный
• II, Ломуповым. Он обратил внимание своего читателя
М in, чго Лепин не «уравнивал» по значению спльные
В » uifiue стороны взглядов и творчества Толстого и что
•ми пцгииваются в ленинских статьях по-разному, в свете
( I н.непшею подъема революции, ее интересов. Что
• ШК.И1СЯ представителей буржуазных партии и групп,
М lain не хотели видеть связь творчества писателя с рус-
♦ и |( П( твитсльиостью и утверждали, что Толстого яко-
1||Ы Аплине всего волновали религиозные вопросы, искания
•минной веры и бога. Против такого сведения взъчядов
I» н 1<но к релитиозпой основе и выступал Лепин. Он по-
1|«Н11, чго идейное содержание произведений писателя
I П1|И1.1до большей мере соответствует пе его религиозным
фипипям, а революционным устремлениям народных масс,
•i<i iii i'H iuie ею наследия определяют не поиски новой,
hi рковпой веры, а «конкретные вопросы демократии и
••♦|и»| in пма, которые Толстым поставлены» и которые
I *>«'»it и остаются действительно «великими вопросами»’.
Huh, те «истолкователи» писателя, которые сводили
Mb вн.чя 1ы к религии, на первое место выдвпга in не Тол-
•vt( » худой* nnt а и cipacTiioio публициста, а Толстого —
nil поведника», «вероучителя», создателя «новой» рели-
Мп 1< м самым искажался облик великого обличителя не-
J»i| щивого общественного строя и его опоры — церкви.
5 •pin. icpiro, что и сам Толстой не считал, что им создана
Ми in го единая стройная философская система: «Мне пе
( к и некогда), главное, пе надо писать систему. Hi
чн) я здесь (имеется в виду дне вник.—С. //.) занп-
*, выяснится мой взгляд на мнр, и если он нужен
io и и и воспользуются» (54, 73).
I ши тское толстоведение давно перестало делить Тот-
tuiо и.। «гениального художника» п «реакционного мыелп-
|« hi и рассматривает писателя во всей совокупности его
I’lii (ов и творчества, «взятых как целое». Ойо рекомеи-
I । (читаться с тем, что Л. 11. Толстой — прежде всего
поставил бы понятия «убеждение», «мировоззреипе»! 1 ’ ^'^елочной проницательности» (выражение
мигающие человеку осмысливать .хорошее и дурное el м ......
ян и в соотвелствип с ею оценкой, сшласноп с paiv>
и знаниями человека, стр< ить свою собственную жи
В трактате «Что lauoe искусство?» религиозностью 1
стой называл нравственную одухотворенность, то, во!
свято верит х\ (ожник и во что хочет заставить uepi
других. В. К. Фрею он сказал, что под религией попив
«выражение простых непререкаемых нравственных ней
которые неизбежно изменяют жпзнь». «Божеское»
Толстого это чаще всего социальная справедливость. I
этому он и говорил о революционерах как об «единств®
верующих людях» своего времени.
Максим Горький в религиозных взглядах Толстого |
чувствовал загнанные внутрь сомнения и неуверенно!
сумел подметить напряженность ею духовных иска!
и показать в своем известном очерке как великого epci
ка, скептика и бунтаря. В том же ду хе высказыва!
С. Г. Шаумян — видный соратник В. И. Ленина. В стаг
«Кое-что о религии Л. 11. Толстого» он писал, что она и!
ла «сознательный или надуманный .характер» и «субтЛ
тивпо, в глубине своего сознания» Толстой не быт верм
1цпм человеком.
Здесь уместно вспомнить слова К. Маркса и Ф. ЭнгеД
са о том, что «философские фразы» материалистов пр>*
лого необходимо отличать от «действительного ядра и «
держания их мировоззрения»1. Это высказывание блп.п
записи Толстого в своем дневнике, сделанной незадолго |
смерти. Опа начиналась словами «Очень важно»... Дал
следует обращение к друзьям, собиравшим его записи!
письма, записывавшим его слова. Читая мыслителей прнв
лого, писал Толстой, оп видел «рядом с глубокими, связщ
иымп в одно учение мыслями самые странные изречен»(
илп случайно сказанные, или перевранные. Л эти-то, пм<<|
по такие странные, иногда противоречивые мысли и изреМ
ния—и нужны тем, кого обличает учение. Нельзя досп
точно настаивать на этом. Всякий человек бывает слаб i
высказывает прямо глупости, а их запишут и потом пост
ся с ними, как с самым важным авторитетом» (заппсь 4
25 августа 1909 г.). Так Толстой, предвосхищая совремсв
иые споры, обращался не только к своим друзьям сов®
менникам, по и к будущим своим исследователям, свояк
• ио
*44)111IO,
>ОМ\ I
1 К. Маркс п Ф. Энгельс. Сот., т. 3, с. 91,
52
'К Н Л ом у по в. Лепип читает Толстого. М, «Дет. лиг.»,
fbU с 110.
53
писатель, художник до мозга костей. Мышлению писЛ
ля присущи эстетические формы, и ноатому оп часто Л
бегал к религиозным метафорам, своеобразно, художпЯ
ски трактовал евангельские образы п иносказания. Имей
для того, чтобы полнее и глубже выразить свои чувсв
Толстой и использовал религиозные метафоры Кстати, Л
оп старался «оправдать» метафорический характер сил
религиозной терминологии: «Чтобы выразить полное Д
ро, надо представить благое существо без примеси nil
сьпх страстей и соблазнов. И такое существо есть божЛ
во или ангел; чтобы выразить полисе зло, надо предетаm
злое существо без примеси добра, и такое существо efl
дьявол» (26, 571). Размышляя об этой особенности «рД
1иозной терминологии» Л. II. Толстого, литературой
Е. II. Купреянова остроумно заметила, что певозмоя||
представить себе, что кто-либо пз пас припишет ТолстД
веру в существование дьявола. «Л раз так,— рассужди»!
она далее,—то очевидно, что выражение «такое сущеся
есть божество пли ангел» точно так же нельзя npnnnsi.ii
буквально, как и выражение «такое существо есть д|
вол»... Употребление стершихся в обиходе слов «божы
л «дьявольское», по весьма убедительному мнению исс.|
дователя, опирается у Толстого па исключительное чувст|
языка и остроту восприятия памятников древперусск!
литературы и памятников народного творчества, в i--™
постоянно действуют «бог», «ангел», «дьявол», оищ.
рягощие силы добра п зла»1. Эту мысль Е. II. Купреянов!
можно проиллюстрировать и такими словами самого Г<м
стого: «Совершенствоваться пе значит готовиться к бул)
щей жизни (это мы так говорим для удобства, прост®
речи)» (53, 181). В какой еще потусторонний, загреби^
мир мог верить Толстом, если он писал: «Те, которые roi"
рят: мы не знаем, что там будет, совершенно правы. Пн
как пельзя знать, что там будет, когда нет никакого там*
(54, 135). Пе для удобства ли и простоты речи нм уп^|
треблепы слова не только о «будущей жизни», по и друга!
взятые пз арсенала библейской фразеологии?
В известном «Слове о Толстом» Л. М. Леонова под-
черкнуто земное, отнюдь не «божествеппое» содержали*
этики, религиозно-нравственного учения Толстого. Iluct
толь говорил, что «любому слову в философской терминол'!
KOTopd
inijei м
1 Е. П. Купреянова. Эстетика Л. Н. Толстого, М,— JI,
«Наука», 19GG, с. 248—249.
54
I I итого, вплоть до столь далекого, казалось бы, от
Ки и । овррмеиностп царства божьего, найдется падеж-
। iMimuiM в нынешнем гуманистическом словаре»1. Как
li>« in г I М. Леонов, в изложении так называемой тол-
II» ...... нигде не найти «богословских рассуждений
i «Hinn । ценных качествах надмирпого существа, ни попы-
1м । немощью мистической алгебры вписать его в космос,
n«> ни практиковалось у отцов церкви». Мистика была
п|папнчески чужда.
||»1нн ке понимание толстовской «веры» неоднократно
Н« । hi nt.। i и наш прославленный артист Игорь Владими-
•►•«I II п инский, играющий Акима в спектакле «Власть
Mui'» < io (уст напомнить, что много лет тому назад, ког-
и M i юм театре собирались ставить «Власть тьмы»,
I»iiiii.i шсь голоса, что таким спектаклем, дескать, пропа-
|Kinp\iгея религия, да еще с помощью авторитета Льва
I И |11| о.
Н|и щ пали вообще устранить слово «бог» из роли Акп-
н Но »го было бы искажением п вульгаризацией. Жизнь
•« «на 1.1. что нелепая это быта перестраховка и что ре-
1( н р 1> Равонскпх и артист II. Ильинский шли по вер-
п\гп. Вот что говорит Игорь Владимирович Нльин-
инП «Вообще нельзя забывать: Лев Николаевич — чело-
|р\ щровапиый, высокообразованный — презирал релп-
.....с мракобесие и его носителей. Это объективно под-
in Р ьдинтся всем ею художественным творчеством Для
hound бог — это нравственность, честность, порядоч-
| и мораль, совесть, но вовсе по всевидящий, всемогу-
> |Щ| Господь. Конечно, то или иное место в произведении
• « \ > с । на каждый понимает в меру своей эстетической
и I'lioroiiKir и мировоззренческой позиции. Может быть, не-
....... верующие люди усмотрят в словах Толстого выра-
с Ilin ( коих настроении и взглядов, по это вовсе не озна-
vt । ч|о нужно идти у пнх па поводу, искажать природу
pbf । in Задача критиков как раз состоит в том, чтобы,
• и игця материал спектакля, говорить с широкой аудито-
• hi 1 ж вообще нужно понимать высказывания Толстого
И pi пи ни»2.
1он и Толстой говорит о душе, то употребляет это ело-
пн щ 1.|форическп. Слово «бог» у пего также звучит как
' .111 о п п д Леонов Слово о Толстом —В сб.: «Литература
Н «i|w'.mii М 1964, с. 287—289.
Ьпературиое обозрение», 1978, № 9, с. 69.
55
метафора, it если оно родилось под его пером — не цеп.
стен за пего, пе отстаивает с упорством догматика и г
такта. «Вам как будто претит слово и понятие бог... отец
писал Л. II. Толстой А. С, Бутурлину,— Бог с ним — с!
гом, только бы то, что требует от пас наша совесть.., 14
бы разумно и потому обязательно и обще всем л год#
А за свои слова и выражения, и ошибки я не стою. До!
мне то, что и вам дорого — истина приложимая к жи«
(63, 155). О многом говорят эти толстовские слова. Па
но в страстном желании разрешить великие вопросы и
мели (а не теологические) так настойчиво отстаивася
центральный пункт своей «религии», запрещающий »
проявляться злу насилием, не вообще сопротивлят!
злу, а сопротивляться — насилием. Евангельская запАтИ
призывает к тому, чтобы вообще не бороться со злом.!
противиться ему, а Толстой никогда пе мирился со зло
боролся с ним, признавая при этом только непасильстм
пые методы.
Как огонь пе тушит огня, так зло пе может потуши
зло. Злом нельзя уничтожить зло. Только добро, ветром»
зло и не заражаясь им, побеждает. А самое большое д(Н
на свете в том, чтобы быть в любви и согласии со вс4ч
людьми... Эти мысли пронизывают многие произведем!
Толстого, его переписку, дневники. Отталкиваясь от эт|
мыслей, он часто приходил к самым крайним выводам, н
полемическом запале говорил даже, что человек, на коя
рого напала бешеная собака, поступит хорошо, если не1
дет ей сопротивляться... Толстой не раз подчеркивал, !<
стоит только каждому человеку отказаться от bohhcjI
службы, не служить в полиции, не платить податей и ш
логов, отказаться от владения собственностью — и пе бу. к
войн, буржуазное государство лиши гея возможности угг
тать и порабощать, строй насилия и угнетения упичтож i
ся сам собой.
К требованиям нравственности, к понятиям «зла», «дав
ра» Толстой подходил ие исторически, игнорируя сущее
вующие в современном ему обществе конкретные, классу
вые отношения между людьми. Именно так оп решал вИ
рос о насилии. Толстой не хотел считаться с копкрстИ
исторической обусловленностью средств и методов борь-’л
и поэтому игнорировал вопрос о том, какой класс п с каы»1
целью применяет насилие. Оп пе желал видеть прпнциЯ
альпос различие меж iy иасизпем реакционным п пасили
см революционным. А говорить о «насилии» вообще, г i
56
мы пил В. И. Ленин, без разбора условии, отличающих
Мцнппши насилие от революционного, «значит просто
Виню in. себя и других софистикой»1.
Мн энае.м установку большевиков, Ленина на псиоль-
ншн возможностей мирного развития революции. И ие
ж он гражданской войны, если бы пе сопротивление
. пн Спя иегов, помещиков, царских генералов, поддер-
шпи империалистами. Мы знаем, как взаимные уступ-
ав iiumoi и.ш разрешать политические кризисы. Мы знаем,
м> in лпкодушпе и доверие в воспитании человека деист-
I . i.viine применения силы. По нам ведь известно и то,
и пинают моменты в истории, когда нужны по только
Bpiiwt средства борьбы, и что мало одного сочувствия
ч initi ку, как и недостаточно просто любви к нему,
HVikii । еще мужественная борьба за человека, за его
Min* пл земле, нужен труд во имя действительного
Ьопнпия условий его жизни. Да, насилие — зло, если
применяется для достижения дурных целей. Да, на-
зло, если цель можно достичь и без него, а с но-
фьнш ненасильственных средств.
II и р але марксизма, когда завершится «предыстория
M*hi'"H'c 1ва», когда будут устранены социальные и ирав-
MHIIII.H' антагонизмы, пет места таким вынужденным
Г-н ним, как насилие2.
• 11 пн гай всего, что разъединяет людей, а делай все, что
nr ними г» -одно пз главных требований учения Толсто-
Причину иге разобщения между людьми он видел
Инициальном неравенстве и звал бороться с ним. По
пи борьбы с этим неравенством он избирал утопиче-
MI <1.сли ты видишь, что устройство общества дурно
ф Ц«1 мнешь исправить ею, то знай, что для этого есть
«Hui одно средство: то, чтобы все люди стали лучше,
• «*»• п власти только одно: самому сделаться лучше».
II пинте социальное улучшение достигается только ре-
hpnuio нравственным совершенствованием отдельных
к и» (36, 156), установлением братского, христиан-
кип ........ людей независимо от социальных, классо-
во piitiiiBJii'i. Говоря это, Толстой пытался доказать, что
* ini in । ическпе и социальные преобразования являются
Ио пи и коренного переустройства общества. «Осуществляя
МИ инн божие в себе, в своей душе», люди установят «то
1 И II 1енпп Поли. собр. соч., т. 37. с. 2.06.
• Миры истекая этика. Под общ. ред. Л. П. Титаренко. Ы, По-
• ч 1 о 11 1'176, с. 145.
57
ши ион! пирс ню божие которого желает всякая душа чщ
•..ла • (Hi, |,Г|) Голыш таким нутом, казалось А
• 1и.му, п МП.1.ЦО у< । iiroBiJib в мире единение л у ни чтим
ирзжду lon.ho н щ по этому пути, объявлял ппсатсл^
шоще ьопции удастся переделать мир, «обновить людей
’о жизнь пл юмле. Гак возможность социального in
। pet i n ( HiBii kick в зависимость только от одного — от!
мну (щвершопствовашгя отдельной личности. Именно в!
пом «самоусовершенствовании» оп видел путь к noJ
высшим формам жизни, причем игнорировал реалы|
исюрическпо условия жизни общества, наличие классе!
им и их борьбу. Ошибочность взгляда здесь в том,!
люди будто бы могут морально измениться вне их бори
за улучшение внешних условий: изменение социаль#
среды необходимым образом приводит к изменению cdm
ния человека. Обстоятельства, говорили К. Маркс и Ф. 1
гельс, в такой же мере творят людей, в какой мере лк|
творят обстоятельства. Преобразуя мир, люди преобр
зуются сами, в процессе деятельности личность пе толи
проявляется, но и формируется.
Идея личного самоусовершенствования не чужда Hi
Наша педагогика утверждает: то, что пе постигнуто в)ц
рейне, не выношено самой личностью — не может Пи
прочным. Если в человеке пробуждается потреб|н|1
в нравственном самовоспитании, появляется стремле!
к самоусовершенствованию, он старается целенапралйо
но формировать свои чувства и привычки. Такой чел»!
в силах дать самооценку своему характеру, своим де'|Я
вням, избавляется от собственных пороков, огбрасыв|
эюистические мотивы поступков, ведет внутреннюю бп|
бу против недостойных намерений и помыслов.
Лесков, с любовью отзывавшийся о почитаемом им 1
сателе, так понимал идею самоусовершенствования: «(Л
совсем переделать, может быть, и нельзя, но несомые^
что намерения производят решимость, а от решимЛ
усилия, а от усилия привычка, и так образуется то, Я
называется «поведением» «Припомните,— писал Леской!
каков был Л. П-ч, и сравните — каков оп нынче!.. Все 1
сделано усилиями лад собою»1.
Сам Толстой уже в юности выработал для себя При!
ла, которым старался следовать. В их числе были пране
--------- 1
1 11. С. Лесков Соор соч в 11 тп т, т. XI. М, 1 IIXJI, ll
с. 161.
58
> pii.nut гня воли, деятельности, обдуманности и «Прави-
1'и< развития чувств высоких и уничтожения чувств
»н>1 их». В его самоощущении близко соседствовали сомпе-
п раскаяния, доходившие порой до приступов само-
biHiuiiiiH, и неистребимая потребность сообразовывать
k>io жизнь с тем, что он считал голосом своей совести.
•ff* ih’u-цчшость его внутреннего мира ярко отражена в его
А п цинк i\ И что важно: как в юные годы, так и на закате
(ннш v Толстого не прекращается колоссальная внутрен-
ним риГюга над собой, не останавливается «ход морального
Нининя». «Меня мучит мелочность моей жизни». Эта
•«lint । с цмана в 24 года Л через много лет, незадолго до
......и Ясной Поляны: «Опять мучительно чувствую тя-
| и роскоши и праздности барской жизни. Все работа-
>. io.ii.Ko не я. Мучительно, мучительно» (запись от
♦ и in I!) 10 г.).
k i t в тех юношеских Правилах, о которых речь шла
•мяк было и такое: «Ищи в людях всегда хорошую сторо-
|, н не дурную», «Избегай каждого движения или выра-
выши могущего оскорбить другого». Этою требует от ca-
ll in (сбя двадцатншестилетний Толстой. И тут же раз-
|i ни «11евольно, как только я остаюсь один и обдумываю
Hiiuio себя, я возвращаюсь к прежней мысли — мысли об
кНнн’р1пенствовании; ио главная моя ошибка — причина,
и. ьоюрой я не мог спокойно идти по этой дороге — та,
• io я усовершенствование смешивал с совершенством.
Hi» ж прежде понять хорошенько себя и свои недостатки
• пирагься исправлять их... Главный мой недостаток
। нни в недостатке терпимости к себе и другим» (записа-
к и июле 1854 г.). Далее вопрос за вопросом самому себе:
l4iii п такое?.. Посмотрим, что такое моя личность... А что
iwnur вообще человек? Достоин ли человек любви? П как
Яи>6п 11. ’»
(•Человек течет, как река... И человек между 15 и 16
I (имя, н другой между 25, 30, и третий между 40, 50,
чс пи ртый между 4 и 5-м часом на последнем году своей
(Пи нт н т. д. все несоизмеримые величины. И нельзя
puiiiir этот лучше или хуже» (запись от 16 июня
I 'НО । ) «Человек течет и в нем есть все возможности:
Ли i мул, стал умен, был зол, стал добр и наоборот.
О i"\i величие человека» (53, 179). «Всякий человек
ня (I находится в процессе роста, п потому нельзя отвер-
ни. но» (запись от 5 августа 1910 г.). Он и о себе точно
f nt не думает, видя собственную текучесть, направляя
59
мил людям собираться и устраивать «высказыванье
В fluin их в глаза их недостатков», а также «высказы-
Ь» ими, кто испытали это на себе, приемов нравствеи-
К «чип ршенствования — исправления — рецепты нрав-
Ьнннн) совершенствования и разбор их» (54, 95)
Юйи pi и iM хочется попять жизнь великой личи ти, мы
м* ин иметь в виду не только многообразие ее свойств,
К И*| и пюминает Б. Бурсов литературоведам, учиты-
Ь< *цн мп свойства, нередко взаимоисключающие, тем
L шип! посходят к некоему общему корню Этим «кор-
ни in г гея время, та эпоха, которой гений порожден.
... ------ Z , анализируя жизнь и
I i'ihibo таких великих личностей, как Л. И Толстой,
Ь иг имеем права писать о них так, б^дго они были ка-
Ьа io in (орослями и не разбирались в самых элементар-
S! иещн, а мы, оказавшись на их месте, могли бы до-
)И1‘> п । ко преодолеть те трудности, с которыми они, ге-
I । нс и не могли справиться. «Вообще гений безбрежно
»»6р । к л, уличить его в непоследовательности дело
минном ici'Koe, только яс нужное и вредное, если цель
•IBM) именно сводится»1.
)1|||>||нюрочпя великой личности должны быть поняты
*i конкретной связи со временем. Те искания ума и со-
)>1И которые были присущи Л. II. Толстому, возникли в
>»v но потовкп революции и отразили «...протест мил-
Э*цц|| крестьян и их отчаяние»2, их наивность, отчуждеп-
in по пинки, «желание уйтн от мира». Именно в осо-
h nix этой эпохи надо искать «секрет» того, что Тот-
М| «и ।а гея между верой и неверием. П пет у пего,
iK'iiiiHd ищущего и сомневающегося, «итога», «послед-
«> г чип.I» Он — в нспрекращагощейся полемике, в споре
< ( (мим собой. Вера и неверие, до словам самого
кно в письме к А А. Толстой, жили в его д>ше, как
М••и» и собака в одном чхлаве. В минуту горьких
ь Ч1Н-1Х колебаний, сомневаясь в истинности своего рели-
|ни । нравственного учения, Толстой заносит в дневник:
i ptiiiiiro сказать, во что же делать, если это так, а именно,
пн о* леем желанием жить только для души, для Бога, пе-
Ь Minn ими и многими вопросами остаешься в сомнении,
Pi.iiiiih'ji iiocth» (58, G5). С i одами рос скептицизм у Тол-
всю энергию, по его собственному признанию, «па увв
чеппе любвп к людям»: чтобы получить радость, «пД
одно: отучить себя от ненависти, презрения, пеуважЯ
равнодушия ко всякому человеку»... «Да, работать цв
над собой — теперь, в 80 лет, делать то самое, что я дг>1
с особенной энергией, когда мне было 14, 15 лет: соверпц
ствоваться» (запись от 3 декабря 1908 г.).
Нам понятна эта работа незаурядной личности над <
бой. И опа не может не вызвать нашего восхищения. IWl
мы понимаем, что это духовное, сознательно предприпм!
нравственное совершенствование требовало от Толс|к |4щ)кивает Б. Бурсов,
внутренней борьбы, напряжения воли, преодоления тр| ппОплг-
ностей. Немалые душевные силы приходилось ему i|
тить, чтобы противостоять различного рода искушениям
влиянию враждебной его взглядам среды.
Марксистская этика оптимистически утверждает, i
человек может стать выше того, что он есть, достигну!
большего совершенства, стать лучше. Но это зависит при|
де всего от него самого. «Ответственность за правствеин
развитие личности не только па обществе — опа и
самом человеке, ибо это развитие немыслимо без его твб|
ческих усилии, без его искапий, без его социальной и м<
ральнон активности»1. Религия, церковь рассматривав
процесс самоусовершенствования в ином плане: сопи
шепствовать себя — значит приближаться к богу, ущмч
лять веру в пего
В нашем понимании «совершенствование» это то Я
самовоспитание, включающее самооценку, самоапали!
самокритику Оно возможно только в процессе общеши
с другими людьми, дополняет общественное коммунист!!*!»
ское воспитание и показывает, что нравственный рост ч|
ловека зависит пе только от уровня общества, но и от еп
собственных усилий. Пришв же Толстого к самоусопер
шепствоваппю часто звучал как призыв к уходу в сей
к отказу от социальной активности и тем самым нацеливя
пе на участие в очистительной борьбе и творческое сой
дапие. Падо, однако, заметить, что, по мнению ТолстогИ
самоусовершенствование для отдельной личности не mi
жет быть эффективным в условиях пустынного уедигм
ния, вдали от людей. 22 апреля 1901 г. Толстой завис ill
в дневнике, что было бы хорошо в дни отдыха вроде вос|
рем) ни
1 Марксистская этика, с. 51.
60
I Курсов Личяост! Достоевского Роман исследование.
И ин iiiK iгель», 1074, С. 61
• Н I) Ленни Поли собр соч., т. 20, с. 40.
6!
стого в отношении к собственной философии. Явные |
знаки приближавшейся революции, обострение общесп
пых противоречий, начало революционного брожц
в крестьянстве — все это подтачивало его веру в еваш<
ские «истины». В своем ответе на постановление сщ
Толстой писал: «Я ие говорю, чтобы моя вера была I
несомненно на все времена пстинпа, но я де вижу дру1
более простой, ясной и отвечающей всем требованиям*
его ума и сердца; если я узнаю такую, я сейчас же И;
му ее».
Мировоззрение Л. Н. Толстого не было застывшим,»
непрерывно развивалось; под влиянием измепяюпН
жизни, ее суровых уроков, он шел от прежних, пережни
взглядов — к новым.
>’»!« у ляли, будут молчать. Но когда нельзя уже будет
Lunn., они убьют меня. Я этого жду.. Я ведь в от-
ftiriiuii православия — вашей веры, нахожусь не в по-
BHiijii заблуждающегося или отклоняющегося, а нахо-
К|<| в "
; кипи* делать нечего, как или с прозрением отвернуться
Не ни, как от безумца, или понять хорошенько то, в чем
В нЛквпяю православие, и признаться в своих прсступле-
и in опровергнуть все мои обличения. Пет середины:
<<1 ирешрать, или оправдываться. А чтобы оиравдывать-
• ин о* прежде всего попять. А для того чтобы понять,
• и нр* кде всего большую искренность (чем не отлича-
• н при шорный быт); во-вторых, надо много труда, вни-
Miniii и времени (тоже не часто встречаемые при дворе)...
му мне нечего слушать о вашем Христе» (65,
положении обличителя... И потому со
миом
В борьбе с православием Л. II. Толстой, как мы!
говорили, проявлял истинные мужество и бесстрашие!I
был неспособен на компромиссы со своей совестью. Hal
почве постоянно росли разногласия между ним и блп!
ми ему людьми, например с родственницей графи
А. А. Толстой, фрейлиной императорского двора. Ocol
но эти разногласия обострились в январе 1880 г., когда I
Николаевич, будучи в Петербурге, откровенно доказв
не только бесполезность, но и вред, приносимый церки
и церковным учением. Столкновение привело к разри
и Лев Николаевич даже уехал из Петербурга, не npoci»
с А. А. Толстой. В день отъезда он писал ей: «Пож.ш
ста, простите меня, если я вас оскорбил, по если я еде
вам больно, то за это прошу прощенья. Нельзя не чувс|
вать боль, когда начинаешь чувствовать, что надо оторн!
ся от лжи привычной и спокойной». Можно попять ж*ж
пие А. А. Толстой, столь близко стоявшей к высшей I ( .
личной аристократии, переубедить Льва Николаев
«обратить» его, как она выражалась. Но это вызыи»
в Толстом лишь раздражение. В марте 1882 г. он брея»
вызов графине: «Общего между мною и вами быть
может... Я считаю вашу веру произведением дьявол!
II далее, предвидя, как будет встречена церковниками ।
новая книга «Исследование догматического богоелшп
Л. 11. Толстой писал: «И я зпаго, что обманщики не ciai
ни оправдываться, пи раскаются. Раскаяться им и вам :
охота, потому что тогда нельзя служить мамону и р
рять себя, что служишь Богу. Обманщики сделают,!
.62
|1|">ш ю десять лет посте столь резкого и непреклонного
I ‘i.i на попытки Л. А. Толстой «переубедить» Льва Ни-
i.H'ia. В своем отношении к церкви он на тех же по-
I Пнин к В октябре 1892 г. II М Трегубов посылает Тол-
I м .му п i щнную в виде отдельной статьи речь ректора Мос-
| о* । oil 1уховной академии архимандрита Аптонпя «Нрав-
I н* Н11.1Я идея догмата пресвятой троицы» и просит выска-
IH * вое мнение об атой брошюре. Толстой прочитывает
|Ь<|н ине церковного деятеля и тут же отправляет Трегу-
<♦0 письмо, в котором утверждает, что брошюра Анто-
ни । icna. «Оп с своим пастырством доучитетьствовался
I ф> hoi [едилх пределов нелепости и самоуверенного, со-
|||п|||'||||о бессодержательного пустословия,— читаем мы
I • in)* < цвете.— В(дь все это уже говорено и переговорено,
, I и** труп. II зачем ото ворочать и отравлять воздух
I »1<|м 1|>.\ш1ым запахом?» Эго письмо, отправленное из
пн Поляны 25 ноября 1892 г., заканчивалось словами:
II * н>ю одной ногой в гробе и мне не к чему скрывать
|и и*» я знаю. Ведь я твердо уверен, что пе только вы, ко-
• । *1*)|цийся, но все эти архиереи, мандриты и т. п. в глу-
I* i\inn, когда они раздеваются и ложатся спать, знаюг,
ti i in *‘, что опп проповедуют, всю эту троицу, и таинства,
ivpmm, что всё это ужасный вздор, в который нельзя
«•Inin л с которым нельзя жить и тем более умирать»
UI* 280). Кстати, в письме этом у Толстого невольно
। М|*1*п шсь слова о том, что при всем желании занять «пе-
||»1"*1ив.ц‘11ческую» позицию в отношении церкви, это не
« in* < плах: «Делая свое дело, ле могу к несчастью ости-
63
ваться вполне, как бы мне хотелось — пндифферентИи
к этой всей деятельности, потому что всё ио губит сЛ
драгоценное в людях — их разумное сознание». А пескв|
кимп днями раньше Л. II. Толстой высказал ту же ммЛ
«Разумеется, можно держаться в стороне от псе, J
трудно» (84, 171). BI
Критикуя церковь, Толстой тем самым отрывал от]
влияния своих многочисленных читателей. Это и еде и
его имя особенно ненавистным для духовенства.
UIPKOBb мстит
i, Че и io выступления Л. II. Толстого против казенной
сразу же привлекли к себе внимание ее служите-
I Й Доцент духовной академии иеромонах1 Антоний со-
Вшы о том, с какой жадностью читались запрещенные
Ь» Г'икжпе труды: «Лев Николаевич, Ваша книжка
Г hi и uni» была в Академии трое суток и была прочитана
х пнтть раз разными группами людей; читали почи
|вч|"> ic । »>2. Антоний писал, что различны те знамена, под
bi H'Iimii ведут борьбу церковники и Толстой, однако вы-
(•'«1 уверенность, что силою логики Тотстоп будет вы-
। Ын < шласиться с тем, что он так решительно отрицает,
I Ki инн г «единение наших душ». Дальнейшие события
На м in, насколько глубоко заблуждался ученый-бого-
| вы
< и1 (ует напомнить, что в дореволюционной России
Нншн' слово было под постоянным надзором не только
ни । ш, по и духовной цензуры. Закон вменял в обязан-
рм п специальным государственным чиновникам и слу-
H|i him церкви рассматривать «все произведения словес-
ф»ц| наук и искусств» и запрещать их, если в них содер-
• о.. «что-либо клонящееся к поколебанию учения
пни ।шпон церкви, ее преданий и обрядов». Особые
вон1 |niLie правила гласили, что «достоинство сочинений,
।«(ни hi.(чеиных для общественного употребления», «co-
in и важности п истине мыслей, сообразных с учением
•f •»«<>< л липой церкви»3.
* II о |i о м о п а х — монах-священник.
’ io кл рукописен Гос. музея Л. II Толстого, д. 133, ед. хр. 9-а.
Цм по кн.: М А. Реисиер «Государство и верующая
I hi'ii и». Спб., 1905, с. 244.
| !•>«« 3JU
Как «высший цензор», опиравшийся на силу полти
скоро государства,— церковь объявляла свою «истину Л I
оспоримой, неприкосновенной, не подлежащей ни ьр»
тике, ни обсуждению... Но вот пошли по рукалМ антп«
ковпые труды Толстого, в которых легко было обнаружив
мысли, «клонящиеся к поколебаштю», злые семена «д<‘^
кого мудрования» пли «ложного любомудрия». Эти соч^И
нпя, распространившись гайло, питали собой вольном»
ство и сужали сферу влияния церкви. В этом она видЖ
для себя большую опасность. Не могло остаться ею наш
меченным и то, что сочинения писателя усиливали расщ
щее чувство недоверия к духовенству.
Перед лицом антиклерикальных настроении, лрпнЖ
шпх массовый характер, синод мобилизует свои силы. И
слушает дела об «охлаждении к вере» прихожан цели
епархий. Вместе с тем .усиливаются цензурные запрей
Синод берет под еще бо tee ciponm контрой, нароЛ
чтение. В архивах цензурных ведомств ПетербуИ
и Москвы сохранились тысячи дел, в которых произвЛ
нпя Толстого запрещались «за поношение власти и цЛ
вп», за «богохульствог> и «кощунство над рслшпей», ]
ВДОХНОВИТЕЛЬ ТР УВЛП
Духовное ведомство объявило «греховным делом» чг»
пне произведений гениального писателя. По указали»
обор прокурора святейшею синода Победоносцева эти J
чппепия подвергались арестам и запретам. |
Назвав здесь имя этого «министра православия», ми
обязаны охарактеризовать его как человека. Сделаем ни*
словами самого Льва Николаевича Толсюго. Писатель, 1ч(|
любовь к людям известна всему миру и который умел чи
давлять в себе неприязнь даже к вршам своим, па.<ы#М
Победоносцева злодеем. В его письме царю Николаюп
в декабре 1900 г. есть такие слова: «Из всех преступниц
дел самые гадкие и возмхщающие душу всякого честп<Я
человека, это — дела, творимые отвратительным, бесс-р
дечпьш, бессовестным советчиком виним по релнгпозцц|
делам — злодеем, имя которою, как образцового зло;»*Л
перейдет в историю,— Победоносцевым» (63, 58). Харащф
рнзуя обер прокурора святейшею синода, нельзя не iianfll
нгыь здесь, что он осмеливался цинично и во всеуслышанм»
заявлять: «Русскому пароду образование не нужно, нФ
оно научает лшичесьп мыслить» В связи с этим он и о\
•и» и принцип «поменьше школ». Сохранилась эпиграм-
К iдружащая большие сатирическое обобщенно:
Победоносцев — он в синоде.
Обедоносцсв — при дворе.
Бедоносцев он — в народе.
II Доносцсв он — везде.
Ihiir «Доносцев», духовный наставник самого царя, лю-
h uni.1ИПДСЛ и всячески травил Льва Николаевича Толсто-
• Не ц он, а вместе с ним синодские чиновники понима-
Ж ЧП», выступая против церкви, Толстой выступал и про-
м« русского самодержавия. Жандармерия и цензура нп-
ив могли примириться с тем, что распространение его
*1 II нс пы х и гектографированных изданий достигло
L ниш размеров. 31 апгпцерковпымп сочинениями Тол-
Ино о\оы1.тись агенты царской полиции, их отбирали во
обысков. Но надо было найти тайного издателя.
|l uni в начале 1896 г. был пущен слух, что «преступная»
Ma ip |фяя находится в доме Льва Николаевича в Москве,
IX ип'шшках. Распространял его не кто иной, как саи
jpfti 11носцев- Более того, он послал донос. Как гласит
•тс ни । в деле департамента полиции (As 319), «из письма
I II Победоносцева к С А. Рачинскому1 были почерпнуты
|**iuiin)i, чго в доме проживавшего тотда в Москве гра-
I* Гн к юго устроена будто бы тайная типография для no-
il ниш и ого тенденциозных произведений».
Ilin рвые Толстой и Победоносцев «скрестили шпаги»
I I К| । , когда писатель попытался отвратить смертную
революционеров-народовольцев, организовавших
Huh ию Александра II Он написал письмо Александ-
• I III и передал его Победоносцеву с просьбой вручить
Upiii Ооср прокурор наотрез отказался сделать это. Обра-
friiin передали другим путем. Разъяренный «министр
>•< и-1.ШПЯ» пишет Александру III «Ваше император-
• иг шчество. Простите ради бога, что так часто тревожу
it беспокою. Сегодня пущена в ход мысль, которая
|*<| шт меня в ужас. Люди так развратились в мыслях,
иные считают возможным избавление осужденных
в циников от смертной казни... Может ли эго случигь-
I IL г, пет и тысячу раз нет — этого быть не может,
aiii Еы перед лицом всего народа русского, в такую
'( Л Рачинский (1336—1902) — профос ор ботаники Мо
•<нно университета Был в дружеской связи с Победоносце
66
67
минуту простили убийц отца Вашего, русского госудлр
за кровь которого вся земля (кроме немногих, ослабевпй
умом и сердцем) требует мщения и громко ропщет, что И '
замедляется. В эту минуту все жаждут возмездия». Ал»
сандр III внял наставлениям своего советчика и начррт
«высочайшую» резолюцию: «Будьте спокойны, с подобш
мп предложениями ко мне не посмеет прийти никто, и я
шестеро будут повешены, за что я ручаюсь». Письмо То
стого царю исчезло бесследно (текст его был восстанови
позднее по черновику). Позже, когда Софья Андрее#'
Толстая была вынуждена поехать к Победоносцеву
просьбой разрешить выпуск собрания сочинений сво»
мужа, Победоносцев вспомнил об этом послании и в прог
бе отказал.
— Я, графиня, в вашем муже ума не вижу; ум — г#
мония, а у него все углы,— говорил он.
Оскорбленная Софья Андреевна ответила изречепл
Шопенгауэра: «Ум — это фонарь, который человек ил-
перед собой, а гений — это солнце, освещающее всю *
ленную».
Особенно забеспокоился Победоносцев, когда 10 япв«|
1883 г. в газете «Голос» появилось сообщение о том, ч
Толстой намерен опубликовать отдельные отрывки из <
чинения «В чем моя вера?». В тот же день он пишет и
пальнику Главного управления по делам печати Е. М. ‘1
октистову: «От внимания Вашего, конечно, не укрыла
сегодняшняя телеграмма в «Голосе» из Москвы, что
«Московском телеграфе» появится новый «философе»
труд» графа Л. Н. Толстого... Посему не лишним почв г»
обратить Ваше внимание на означенное явление».
Победоносцев добился своего: печатание отрывков ►
работы Толстого было запрещено.
Когда через год (1884 г.) книга писателя все же выш
в количестве всего лишь 50 экземпляров, обер-прокурор т«
час предложил духовной цензуре заняться ею. Та наш
что «по мысли, явно противной учению и духу христиап,
ва, разрушающей начала нравственного учения его, устрд
ство и тишину церкви и государства, книга Льва Толст,)
«В чем моя вера?» принадлежит к числу сочинений, о •
торых говорит 239 статья цензурного устава, т. е. боа)
ловно подлежит к запрещению и конфискации». Книга 1»
ла запрещена, вышедшие экземпляры конфискованы I
кая же участь постигла книгу «О жизни».
В начале 1887 г. обер-прокурор начал «священны
68
Р”|цд против драмы Толстого «Власть тьмы». Эта пьеса
Й|'И1Н’сла много хлопот ему и начальнику Главного управ-
Hhihi по делам печати Феоктистову. Между ними завяза-
ны. весьма оживленная переписка. Когда было высказано
Нрпдпо. гожепие, что драма может быть допущена на сцену,
»• цичюженный Победоносцев немедленно направил Алек-
Hiiipy III обширное послание, в котором настойчиво сове-
Ми । взять разрешение обратно. Пользуясь правом быв-
Hirtin наставника царя, он нравоучительно объяснял, что
I Ш со «действующие лица скотские животные», и запу-
• тл теми последствиями, к каким может привести ее по-
М»1швка: «День, в который драма только будет представ-
и. i императорских театрах, будет днем решительного
М рчшя нашей сцены, которая и без того уже упала очень
Нонк') А нравственное падение сцены — немалое бедствие,
Минину что театр имеет громадное влияние на нравы в ту
nt другую сторону». Александр III на следующий же
#ги|. ответил Победоносцеву, и последний поспешил обра-
flnntiii, Феоктистова: «Сейчас получил непосредственно
»«i’p\y удостоверение, что «делать драму на императорских
пнирд\ не собирались, а были толки».
Феоктистов — верный слуга Победоносцева. Они
• 1 шовилп вместе настоящий цензурный террор. И как
»•> был раздосадован второй, когда узнал, что С. А. Тол-
нпи выхлопотала у императора разрешение поместить
• hpi пцерову сонату» в собрании сочинений Толстого.
II письме к царю он выразил сожаление, что «опоздал»:
• I гли бы я знал заранее, что жена Льва Толстого просит
НДиенцию у Вашего Величества, я стал бы умолять Вас
w принимать ее».
В письмах к царю Победоносцев сообщал об усилении
«Уш । венного возбуждения» под влиянием сочинении Тол-
»П1|о, что «угрожает распространением странных, извра-
щенных понятий о вере, о церкви, о правительстве и обще-
» 'И"»1.
Победоносцев, составлявший специальные отчеты по
wttnoTV «распространения ереси Л. Н. Толстого», был наи-
। нч< ретивым вдохновителем травли писателя. В 1890 г.
, мин [ из печати очередной отчет обер-прокурора о состоя-
нии православной церкви. Перечисляя разные опасности,
1|ю<шцпе ее спокойствию, он упоминал и имя Толстого.
1 Письма Победоносцева к Александру III. Т. II. М., «Новая
М'и ыи<», 1926, с. 251—253.
69
С благословения Победоносцева «Церковный вестп’П
и другие клерикальные издания, а также реакциоив
светская пресса были зано шены материалами, проник»,
ты мп откровенной ненавистью к яснополянскому ««?(1
тику».
Иоанн Кронштадтский1, известный черносотенец п
громщик, кричал:
— Это Лев, рыкающий, ищущий кого поглотити! БеЦ
гдтесь его.
Его проповеди бытп полны желчи и неприкрытой поил
внеш. В чис ie грязных дел «великого праведника и cnofl
ьижника» — травля Льва Николаевича. По требоваииь
этого священнослужителя, как сообщал Толстом
И. С. Лесков, в Кронштадте пз читальни были исключен»,
все сочинения писателя. И тем пе менее современные пир
ковные историки прославляют его, стараются представив
«праведником» и «чудотворцем». Можно лишь подивити
той неразборчивости в выборе средств, которую проявли
ют зтп православные богословы в своем стремлении засЦ
вить поклоняться памяти отъявленного мракобеса.
Не только Иоанн Кронштадтский, но и множество др»
гих подручных Победоносцева с ожесточением ополчит»#
на гениатьного писателя. В марте 1891 г., в десятую го
довщипу восшествия па престол Александра III, харько>
ский протоиерей Буткевич произносит в кафедральном о»
боре проповедь о том, что «граф Л. Н. Толстой больше вс»|
волнует умы образованного п необразованного обществ!'
своими сочинениями, отличающимися «разрушительна
силой и растлевающим характером», проповедующини
«неверие и безбожие». Буткевич проклинает Толстого р
выражает надежду, что «благочестивый государь» своевр*
менпо пресечет его разрушительную деятельность.
Архиепископ херсонский и одесский Никанор (в мир|
А II Бровкович, 1826—1890) многократно выступал при
тив «ересеученпя» Толстого с церковной кафедры. В мном
численных «беседах» и «поучениях» он также выражал ли
тую ненависть к писателю, утверждал, что тот разрушай
«основы общественного и государственного порядка», о»
вергал его литера 1урное значение, довольно прозрачно и«
мекал, что настало время расправиться с ним: «За щ»
’Иоанн Кронштадтский (1829—1908) — протоперМ
настоя гель Андреевского собора в Кронштадте, одна из столе
реакционного духовенсмш.
70
1) - пппмаппе, такое рабское поклонеппе одному графу
М« Юму? Не за то ли, что оп подрывает основы пе толь-
[0 |н пп ни, но и государства? Л нора назвать вещи их сои-
••1П11 гм именем. Ие может дерево доброе приносить пло-
Ь куцые, ни дерево худое приносить плоды юбрые. Вся
Н» /vjiciio. не приносящее плода доброго, срубают и броса-
м и «>«опь»*.
I благословения Победоносцева травили Толстого
I • М'н I овсьие церковные ведомости». В них появилось
к1 пне, что в «Обществе распространения религиозно-
i-н мп иного просвещения в духе православной церкви»
1нш । и по рассматривался вопрос «О противодействии
Минни* ц.ю учению Л. II. Толстого».
hue оруженосцы релшнозпого мракобесия, в целях
to • нпя пошатнувшегося религиозного авторитета, старл-
k h in только обороняться, ио и наступать. Именно апо-
Bvnihe (части христианского богословия, направленной
• тики 1\ и оправдание христианского вероучения) при-
НИ1>1 в гго время особое значение. Но, как известно, вп-
к формы апологетики постоянно менялись в завпеимо-
• ми положения церкви на различных исторических эта-
иг характера критики христианства. В данном случае
Mi К i ним защиты вероучения и отражения нападков на
ф| мн । ы были аптитолстовские книжки— довольно мощ-
Ин ишь обширном христианской апо югетпческой лпте-
[ Крпил.'и Толстого, ревностно защищавшие позиции
»|ihiiii (Ромашков2, Остроумов, Елеапский, Волков и мно-
(руте), сходились на том, что своими сочинениями
«я Николаевич преследовал единственную цель: «Раз-
Ьннн1 тогдашний государственный и общественный
|ип >. Именно так утверждал автор книги «Последнее со-
Hviiiic графа Л. II. Толстого» (Харьков, типография
Ith. pin i.ого правления, 1891, с. 58). Обобщая высказыва-
!' мши счисленных противников писателя, он писал: «Все
В pin ( у.кденпя о боге, о религии, о христианстве, о пепро-
• »► и пни злу — все это только ширма, закрывающая то, что
I iK io происходит». Пытаясь опровергнуть взгляды
1 I . и п.1 преосвященного Никанора. Одесса. 1889, с. 15.— Цит,
V I и «Ли шрелмгиошик» 1г40. № 10—11.
' Ни ркн священника Д. Ромашкова «О духовной смерти и ду-
>н м в icKpeceiinn графа Ч И- Толстого» вырезанные из москов-
цховного журнала «Пастырский собеседник», сохранились
|«wiiihj библиотеке В. И Ленина в Кремле.
71
Л. Н. Толстого, автор упрекает его в таких, например, 1>
хах, как «склонность к обобщениям случайных единична
явлений до общих положений», пли «заимствование кр»
иих и односторонних выводов почти из всех философски
направлений», или употребление стов «бог», «Христе»
«христианский» не в том смысле, какой они имеют, и
совершенно противоположном им». В конце концов ал)
книги при кодит к выводу, что, если судить по издашь
сочинениям Толстою, то он, без сомнения, не только>
христианин, по даже атеист: «Не подтежит никакому го-
нению, что Толстой такой же безбожник, как все друг»
безбожники, а до своей враждебности к христианской цор
ви оп превосходит всякого фанатика».
В 1897 г. па 3-м Всероссийском миссионерском съсмц
в Казани специально обсуждался вопрос об отношен»
церкви к Толстому. Съезд рекомендовал усилить пропои»
ническое наступление на «яснополянского отщепевц*
чтобы, наконец, «открыть глаза огромной массе ослепЛЯ
ных почитателей Л. II. Толстого». «Решение миссионерск-
го съезда,— говорилось в предисловии к сборнику стат"
«Миссионерского обозрения»,— дало толчок полемичосш
литературе о Толстом». Перед церковной публицисти»
стояла задача: разъяснить «огромной массе слепых not
тателей Толстого, какой великий еретик и страшный нр
Христа и церкви их яснополянский кумир». «Мы хотим,
писал автор того же предисловия В. М. Скворцов,— пр
тивопоставить толстовскую тьму свету Христову, воэ»
дить негодование к яснополянскому богохульнику вм«ч"
с отвращением к его противохристианекому мудрование
С тех пор и журнал «Миссионерское обозрение» и «Ац
конские церковные ведомости» усилили своп поход нрот
Толстого. Их примеру следовали «Тульские епархиалки»'
ведомости», чьи материалы всегда были в общем руб» |
церковной публицистики тех лет. На этот журнал, издан» ।
шийся па родине писателя, церковники возлагали осоЛ
надежды И журнал изо всех сил стремился эти надели
оправдать. Оп следил за церковной литературой, папр»
лепной против Толстого, и всячески ее пропагандируй
Так, «Тульские епархиальные ведомости» пастояте.ц
рекомендовали своим читателям изданную в 1й
роме книгу протоиерея Иоанна Поспелова «Разбор учен»1
графа Л II Толстого о вере и правилах жизни человек» |
Автор рецензии на эту книгу, противореча сам себе, ll
сал, будто «учение графа Л. II. Толстого в народ проиш
I
72
н очень мало», по в то же время ратовал за то, чтооы
Imhiiio для «простого парода» было побольше антптол-
liohficnx сочинений. Рецензент рекомендовал книжку
j|lh И. Поспелова «для церковноприходских библиотек
ажг писях мест, где пока еще ничего не знают о сущест-
ищшни графа Толстого».
|'Н< |,М \ РУГАТЕЛЬНЫЕ П УСТРАШАЮЩИЕ
I > августа 1900 г. «Тульские епархиальные ведомости»
цичп ш печатать письма «раскаявшегося толстовца»,
чг пшенные общим названием — «Плоды учения
i|< Л II Толстого». В редакционном вступлении к серии
fill* инеем журнал уже открыто признает, что слово Тол-
«раздается во всех концах света и вносит в миллио-
I». простых душ семена безверия»; потому журнал и ре-
• >11 «па духовную пользу русских людей» опубликовать
। м i человека, который «в свое время был очень близок
|п । юму». Заявляя о своем разрыве с писателем, автор —
Мрпоеотенец М. Сопоцько — не был в силах противопоста-
|ин Толстому собственной позиции. Поэтому его «отрица-
нии по существу сводятся к заклинанию, к голым утвер-
u пням, лишенным разумных, логических аргументов.
||’н каявшийся толстовец» хватался за крайние средства:
«угкал в ход угрозы, донос, подстрекательство: «Оттого
th/н ко, что у нас православный царь,— восклицал он,— от-
»i)ti [олько Л. Н. пользуется неограниченною свободою
« иг ценя в своем умопомрачении даже этого, взводит
ы '>млыцину на правительство, подрывая к нему уважение,
им/юрнэнное уже революционерами, и других вводит в ис-
Ннкчше. В католической стране, напрпмер в либеральной
Фрикции, графу давно бы отрубили гильотинок голову.
II ушерждаю, что учение Л. Н. о пасильничестве, о судах,
||пн । папстве без Христа есть проповедь анархии самой
>1 trio жадной (по себе знаю: исповедуя его учение, я о
икн»ногтеппп террора мечтал), а размазня о совести и ра-
iui> без бога живого есть проповедь фарисейства, п плод
Р у всех на виду: лицемерие самого проповедника п всех
Но последователей (в том числе и меня, пока я им был)».
Автор писем, чувствуя, что он вряд ли кого-либо убе-
I» । \ повает на то, что смерти, в конце концов, никому не
И«Лс.ьать и «на владычном суде увидим, чья правда».
|Ци\ ьсли Вам пе страшно, находящемуся в такой блпзо-
ш от смерти?—спрашивает он.— Пе страшно уже блпз-
73
кого суда божьего?..» М. Сопоцько напоминает о «карл»
щеп деснице господа», о том, что «пе дремлет его око н с)
его не спит», предупреждает о возможном возмездии.
«И пе думайте,— восклицает «раскаявшийся гра
пик», обращаясь к Толстому,— что вы останетесь без ваг
заиия, еслп, конечно, не раскаетесь».
Характерно, что в одном пз писем Сопоцько выболти
что пе кто иной, как сам обер-прокурор вдохновил его I
создание пасквильной книжонки. «Брошюра «Плоды у<
нпя гр. Л. II. Толстого»,— писал М Сопоцько,— своим п4|
вым появлением в свет обязана всецело духовному и гра
да некому мужеству, человеколюбию и благости г. оЦ
прокурора св. синода К. П. Победоносцева».
«Знайте, что это письмо и предыдущее пе мною поел»
но, а как от лица божия слова содержат»,— намекает С
поцько на свою связь с синодом.
«Исповедь раскаявшегося толстовца» преследои#
цель не только «разоблачить» Толстого, но и повлиять f
него, вернуть писателя в «лоно православной церкпя
Письма Сопоцько имеют два адреса: самого Толстого и i
тателей его произведений, прежде всего из сословия д
ховного, которое по мысли «Тульских епархиальных вся
мостеп», обязано противостоять толстовской «ереси». I
Письмо Сопоцько, опубликованное в № 21 «Тульски
епархиальных ведомостей» за тот же год, спова содержи
весьма прозрачный намек. «Некто,—рассказывает «6i.fi
пшй толстовец»,— в минуту смертельной опасности (ког|
болел тифом), дал обет идти в монашество, если бог co.xpi
пит ему жизнь. II вот 20 лет прошло в борьбе, пока 1
1898 г. па моих глазах оп мужественно, наконец, пори»
с миром и ушел в один пз лучших русских монастыре
сохранять душу свою от мыслей и желаний порочных-
Нельзя было без утешения и умиления видеть духовны»
подвиг этого доблестного воистину сына церкви, прерп г
шего все давние и самые сердечные привязанности, отш-
шенпя, встречающие при том и взаимность».
Таким образом журнал иносказательно зваз гепиальи
го русского писателя к добровольному заточению. 3ait|
«Тульские епархиальные ведомости» перешли от памеН
к прямо!] угрозе: «Еслп бы вовремя были заграждены ih
чистивые уста, как это бывало с проповедниками паром
количества в 70-х годах, то Толстого могла бы образумил
скорбь тюремного уединения, как она образумила ми*
гп.х, например, пз декабристов».
74
Пег сомнения, что призывы тульского журнала церков-
Ьннов пилировать Толстого, совершить над ним такую же
Ирпр.тву, как над декабристами, выражали позиции свя-
bi'iuioio синода, который боялся растущею влияния
I Hi ппиолянского еретика» и с тревогой следил за каждым
I «|и IH.1I ОМ.
Именно в это время полетели ругательные и устра-
шц'нцло письма па имя Толстого. Например, игумен Арсе-
нкП сообщал, что во сне видел страшное видение: челове-
Н ' который был весь окован огненными цепями, а по це-
ним ползали змеевидные черви. Человек этот в муках не-
И пин) кричал. То был... «лжеписатель Толстой». Игумен
В|>< 1|« вал ему жалкую загробную участь и советовал «по-
• II. ши и, к покаянию»1.
Сохранилась статья Толстого «О ругательных
Hl i.Mox», которая осталась непослапноп и впервые была
*<нп.ована в Полном (юбилейном) собрании его сочи-
►•iiiiii. В ней он цитировал полученные нм письма,
ill |до\1гешь ты, враг церкви, и погибнет твоя память,
и 11'оп ожидает смерть лютая»... «Пустит ты пз уст твоих
('iiiiiMcp.M.HX учение на святую церковь, по все это возвра-
та я на твою седую голову». «Письма эти, выражающие
л |"Г1р|.1е чувства, производят на меня,— писал Толстой,—
ин hi । ягостное впечатление» (38,332).
I! (о революционной России действовало закоподатель-
t'1'о но которому строго накалывались япца, отвлекавшие
ю. ими бы то ни было средствам if от церкви православ-
я и На этот случай в уложении о наказаниях были пре-
Вн ширены всевозможные взыскания, начиная от выгово-
и ионная каторгой. Закон гласил, что подлежит паказа-
Nitio всякий, кто «в проповеди или сочинении будет усилп-
• 'Поя привлекать и совращать православных в иное, хотя
• * put । панское исповедание». Но господствующем церкви
I«1.ОН предоставлял право «в пределах государства убеж-
। и принадлежавших к ней подданных к приятию ее учо-
.......юры». Так па деле выглядел лини, формально про-
Ьи |а1иаемып законодательством принцип равного «ува-
•г1П1Я’>. «равной терпимости» ко всем «свободной империи
<•• пинг i\емы.м верам». На полицию была возложена осо-
• । об гишность «оказывать православным миссионерам
•а ир< мя проповеди всякое вспомоществование».
1 (И 1,е.ч рукописей Гос. музея Л. II. Толстого, д. 133, ед. хр. 63.
75
За «богохульство» царские власти жестоко расправли
лись. Молодой рабочий Афанасий Агеев назвал церковищ
проповеди «сказками», а иконы — «деревяшка^ии». По Д"
носу жандарма его привлекли к суду. Узнав об этом
Л. Н. Толстой решил помочь Агееву: он связывается ь
знаменитым адвокатом В. А. Маклаковым, хочет и са»
выстудить на суде в качестве защитника.
15 января 1903 года Тульский окружной суд, призиа
Агеева виновным в «порицании христианской веры и щй
вославной церкви», приговорил его к бессрочной ссыли»
в Сибирь. Хлопоты Толстого об отмене приговора пе увсн
чались успехом, и Агеев, закованный в кандалы, был о»
правлен «на поселение в местность, к тому правителыг
вом предназначенную». Писатель хлопотал за Агеени
писал ему в Енисейскую губернию. Он помог деньгам*
жене рабочего, которая последовала за мужем к ме«с
ссылки. Только зимой 1907 г. смертельно больной А гм»
получил возможность вернуться на родину. Спустя полги
да он скончался: суровая сибирская ссылка приблизил
смерть1. «Совестно жить в государстве, где могут делать*,
такие дела»,— писал Толстой А. Ф. Кони.
В борьбе с возраставшим влиянием Л. II. Толстого об"р
прокурор синода К. П. Победоносцев действовал заол»
с министром внутренних дел Д. А. Толстым — они немал-
постарались, добиваясь заточения писателя в суздальски»
Спасо-Ефимьевский монастырь — одну из самых стриги
пых церковных тюрем. За 150 лет существования (1760-
1905 гг.) здесь погибли сотни узников — их зарывали в мо
гилах па «арестантском кладбище» без креста, без плиты
без могильного холмика. Здесь под видом «умалишеиньц
содержались декабрист Ф. П. Шахове кин, актер Кочетка»
и другие прогрессивные люди своего времени. «Еретш
священник Золотницкий 30 лет просидел в тюрьме су»
дальского монастыря — узника выпустили па волю лили
тогда, когда разум его угас.
Л. Н. Толстой хорошо знал о том, что представлял со
бой Спасо-Ефимьевский монастырь. Он просил А. А. То»
стую (тетка Льва Николаевича, камер-фрейлина) обр»
титься с ходатайством в высшие инстанции об освобожу
лип «четырех стариков» — старообрядческих архиерее
более 20 лет находившихся в заточении за свои релш ио!
1 А III вфман. Лев Толстой л Афанасий Агеев.— «Лит. Г*
сия», 1977, № 19, с. 16—17.
76
•м убеждения. Тогда хлопоты А. Л. Толстой не имели
iirvi, и лишь через три года, в 1881 г., Тульскому губор-
•«ii-1'У Л. Д. Урусову, к которому обращался Л. II. Тол-
м<4|. через министра внутренних дел Игнатьева, удалось
Ьбтвся их освобождения.
'ho же касается попыток упрятать Толстого в церков-
но । юрьму, то они пе увенчались успехом: А. А. Толстая
нмг i.i убедить Александра III, что если он осуществит ко-
qiiinii замысел «министра православия» и министра впут-
W4HH1X дел, то всемирный позор падет па его голову. Как
Нины А. А. Толстая («Вестник Европы», апрель 1903 г.),
огклоппл требование о заключении Льва Пиколаеви-
М и арестантское отделение суздальского монастыря, от-
поив «Я нисколько не намерен сделать из пего мученика
|« ибр пить па себя всеобщее негодование».
< инод и министерство внутренних дел стали травить
•mure in с еще большим остервенением.
Сродства борьбы с толстовской «ересью» были самые
। нюобразные: от доносов па издателей и последователей
1 к кио до клеветы и угроз ему самому. На борьбу с ним
ьни мобилизованы все наличные силы синода — от попов-
Мующего профессора А. Бронзова до попов-кликуш вроде
Ним пора, Иоанна Кронштадтского, Амвросия Харьков-
ii >и> Литония Казанского, авантюриста М. Сопоцыю и им
m юбпых.
1>орьба с Толстым стала главным делом печатной и уст-
41 пропаганды церковников.
Профессор богословия И. Ивановский па одной из пуб-
•iriin.ix лекций говорил, что, когда Толстой в 1900 г. тя-
< । ю габолел, «митрополит московский Владимир в своих
[llo'ioi । их заботах о спасении души знаменитого русского
Niiniiein поручил вновь сделать увещание графу через
н|нниш‘рея Соловьева, бывшего законоучителя детей гра-
I Посредник трижды был в доме графа для увещатель-
41 беседы, но Лев Николаевич под разными предлогами
||Н'цпровье, срочная правка корректуры «Воскресения»...)
I пнш.тся от свидания и бесед с почтенным пастырем;
очень рассердился, когда узнал, что о. Соловьев по-
к нему иерархом».
Учепый-богослов сокрушался по поводу того, что «ли-
l|t|in । vриые изобличения» пе дают эффекта: «Авторы обя-
•-I и по присылали Льву Николаевичу свои труды, на-
ll..лепные против его мудрований, по оказывается, что
' inti и лти граф и не разрезывал».
77
КОВАРНЫЕ ЦЕЛИ
Во время болезни Толстого многие священники запри
шпвали епископов и синод, служить ли поминальные слу*
бы в случае смерти писателя. Один из московских священ-
пиков писал в редакцию «Миссионерского обозрения!
«Могу ли я, пе лицемеря, голосом петь «со святыми ynonvi
Христе, душу раба Твоего Льва» и в то же время про саГц
думать: «Льва, которым тебя, Христосе, оскорблял, оцл»
вывал, пе признавал, как Бога». Пет, я этого по совеф|
по могу сделать, а между тем от меня будут почитатЦц
требовать служения панихид, пе как молитвы, а как деко-
рум, как профанацию святейшего для верующих обряда»
В ответ па запросы синод разослал секретное циркулярно»
распоряжение по духовным консисториям1, в котором i ••
верилось, что если перед смертью Толстой «пе восстапомп
общения с церковью через таинства исповеди», т е. умрге
«без покаяния», то его нельзя будет хоронить по праве
славному обычаю, о нем нельзя будет «совершать иомпиф
вопия, панихиды, заупокойные литургии».
Так синод совершил первое явное нападение па То»
стого. Об этом довольно остроумно писал 18 толя 1900 г
некий G. Сычугов пз Вятской губернии своему дру» у
В. Ф. Томасу в Москву: «Синод, чувствуя свое боссплч»
напакостить Толстому, пока оп кив, пе придумал пичош
лучшего, как излить свою бессильную злобу па Лыи
Мертвого. С этой целью он предписал ле совершать по
просьбе публики пи литии, пи панихид по Толстому, копи
оп умрет... Сам Лев пз за будущих панихид по пом, nonei
но, пе возьмет пера в руки, это недостойно его. Но я поли-
гаю, оп вдоволь п весело похохочет над усилиями ina»«ni
папу гать слона. Почитатели же его, а пх имя легион, of
души пожелают ему пережить всех членов синода, сотн •
рпвшпх позорное для России дело»1 2.
5 февраля 1901 г. В. М. Скворцову, человеку, стоявшМ
му очень близко к церковной верхушке, было передано
совершенно секретное поручение немедленно составим»
доклад с изложением взглядов Толстого. Тут же, как вспо-
минал затем Скворцов, В. К. Саблер — товарищ, т. е. i
меститель, обер прокурора сказал ому, что синод предио
лагает издать послание в «ограждение верных чад цериЯ
1 Консистория — учреждение по церковным делам при
епархпал» пом архиерее.
2 Газ. «Колокол», 1915, 10 ноября,
78
"I увлечения толстовской ересью». Ревностный церковпо-
11\ । итель в тот же вечер составил доклад, который затем
nun ! шея на столе Победоносцева.
Вскоре проект синодального послания в его первой ре-
шщпн, паппсаппый Победоносцевым, был в руках инт-
риги шта Антония и других членов синода Все они уссрд-
м • принялись исправлять написанное, подыскивая такие
। «фи;». чтобы по прямо сказать об отлучении Толстого,
И щлько «засвидетельствовать отпадение его от церкви»,
и । н ке призвать к покаянию Как сообщал В. М Сквор-
IM1 «для окончательного установления редакции потребо-
..осн» целых два заседания»1.
II февраля 1901 г. митрополит Литонии писал Победо-
носцеву: «Теперь все в синоде пришли к мысли о необхо-
димости обнародования в «Церковных ведомостях» сипо-
IV и него суждения о графе Толстом. Надо бы поскорее
• |ц < (слать. Хорошо бы напечатать в хорошо составленной
С (гн.цптт синодальное суждение о Толстом в номере
• Церковных ведомостей» будущей субботы, 17 февраля,
ши. пгупе педели православия. Это пе будет у ке суд над
игргным, как говорят о секретном распоряжения, п не об-
нинские без выслушяппя, а «предостережение живому»2.
О щи иезуит торопил другого. Ведь Литонии понимал,
ню разосланное синодом секретное циркулярное распоря-
। пир о запрещения в случае смерти Толстого совершать
»>мпповеппя л панихиды по нем — это обвинение без воз-
ни । пости для оправдания. Кроме того, митрополит торо-
III 1 обор прокурора потому, что знал об ухудшении здоро-
н и и дикого писателя и хотел пе «суда над мертвым»,—
m । но было нанести чувствительный удар Толстому еще
яри .!.изпп. Ведь в его представлении отлученный от церк-
|и готовился отщепенцем, пе мог общаться с близкими,
ini существу. терял связь с пародом. Кстати, Антонин
( низу А. П Храповицкий) прославился как один пз си-
них тгтх черносотенцев клерикалов (во время граждан-
•| hi ыштьт он оказался в станр деникинцев, потом бежал
«| ipnniny. где возглавил церковную контрреволюционную
мт рлцпю).
Мнения объяснялась п отце одним обстоятельством.
/1< ю г том, что приближалась «педеля православия» —
' Газ. «Колокол», 1915. 10 ноября.
9 Нейтральный государственный исторический архив в Лепин-
Нин (ЦИ1АЛ) Архив канцелярии обер прокурора синода, ф. 797,
он '.Г|, д. 133, л. 2.
79
первое великопостное воскресенье, в которое, по многом
ковоп церковной традиции, в кафедральных православии'
соборах проклинали, предавали анафеме «врагов веры при
вославной».
Победоносцев воспользовался советом и постарался i
опубликования отредактировать «синодальное суждешь
о Толстом». В архиве канцелярии обер-прокурора хранит^
проект послания синода об отлучении писателя от церкй
с поправками Победоносцева, сделанными на полях проси
та. Смысл их сводится к тому, чтобы сгустить краски, усу
губить «вину» Толстого. Так, после слов о том, что Толст!
проповедует ниспровержение всех догматов православна
церкви, Победоносцев паппсал: «и самой сущности христи
анской веры». В другом месте документа, где речь игл-
о том, что Толстой свои аптпцерковные мысли проповеду,"
«непрерывно словом и писанием», он добавил: «мпог*
лет»1.
Наконец синодальные деятели решили опубликовал
определение синода от 20—22 февраля (старого стиля
1901 г. об отлучении Л. II. Толстого от церкви, подписи!
ное семью «смиренными» членами синода: Антонием J
митрополитом с.-петербургским и ладожским, Владими
ром — митрополитом московским и коломенским, Иеропм
мом — архиепископом холмским и варшавским, Паки
вом — епископом кишиневским и хотпнским, а также еппс
копами Маркеллом и Борисом.
Этот документ был впервые опубликован в официаль
ном издании — «Церковных ведомостях», издаваемых пр|
святейшем правительствующем синоде», а на другой дет
25 февраля 1901 г., его перепечатали почти все русски
газеты.
Определение синода начинается вступлением, наппслп
ным в приподнятом духе. Синод объяснял, почему он ра
шил обнародовать это свое «послание». Он, оказываете!!
озабочен тем, чтобы оградить «заблуждающихся» от «губи
тельного противохрпстианекого и противоцерковного лао-
учения» и хочет «предупредить нарушение мира церкой
пого».
После торжественного «зачина» следует своеобразны»
«историческая справка» о том, что церковь изначала тор
пела «хулы и нападения от многочисленных еретиков •
лжеучитетей», которые все же пе могли одолеть ее. Затеи
1 ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 182, д. 28/2433, л. 5.
80
hropi.T «послания» переходят к изложению существа дела:
♦II в паши дпп, Божиим попущением, явился новый лже-
рппсль, граф Лев Толстой. Известный миру писатель, рус-
ОЧ1Н по рождению, православный по крещению и воспита-
ktnf) своему, граф Толстой в прельщении гордого ума
мимо дерзко восстал па Господа и па Христа его и на
пнпоо его достояние, явно перед всеми отрекся от вскор-
>• шей и воспитавшей его Матери, Церкви Православной,
...к вятил свою литературную деятельность и данный
му or бога талант на распространение в народе учений,
lijioiявных Христу и Церкви, на истребление в умах и
Р щах людей веры отеческой, веры православной». Далее
кипи обвинял Толстого в том, что он в своих сочипепиях
И письмах, во множестве рассееваемых по всему свету,
восстал на Господа и на Христа его», проповедует «ни-
q твержение всех догматов православной церкви и самой
дпиюсти веры христианской», не признает загробной
глинт, отвергает все таинства церкви, в том числе «свя-
Ию < вхаристию»...
\ щактерно, что, боясь прямо сказать об отлучении,
1нпод только «свидетельствовал» об отпадении Толстого
• t православной церкви и заявлял, что «церковь не счита-
н in о своим членом и не может считать, доколе он не рас-
fciii’icji и не восстановит своего общения с нею». Он был
iiipo йен в выборе слов. Авторитет Толстого слишком ве-
иь, чтобы прямо заявить о его проклятии. Последние
|нн;п документа, как и его вступление, опять отдают
пгм «...вместе и молимся, да подаст ему Господь покая-
и разум истины. Молимтися, милосердный Господи, не
i o ли смерти грешных, услышп и помилуй и обрати его
п г пятой Твоей церкви. Аминь».
Мысль об отлучении Толстого возникала в церковных
• |i. । i\ неоднократно еще в 80-х годах. Указание на это
я в письме близкого к синоду херсонского архиепис-
|>1пл Никанора, адресованном II. Я. Гроту': «Мы (синод.—
• II ) без шуток собираемся провозгласить торжественную
Ийф|'му... Толстому» (1888 г.).
II лпреле 1892 г., когда Л. И. Толстой поселился в Бегл-
। и чтобы наладить помощь голодающим, С. А. Толстая
й Гчц ьта ему из Москвы: «Вчера Грот принес письмо An-
nul (Храповицкого, ректора московской духовной ака-
'II Я. Грот (1852—1899) — философ идеалист, профессор
V' ।омского университета.
81
ДСМНи), В котором ОП П1Т1ПРТ, ЧТО митрополит ЗДОШНИП V'
чет тебя торжественно отлучить от церкви»1.
26 апреля 1896 г. Победоносцев писал С. А Рапп
скому:
«Ужасно подумать о Льве Толстом. Он разносит по вгй
России страшную заразу анархии п безверия День за дни
работая, издает он книжку за книжкой за границей — opi
другой ужаснее, в России рассылает послаппя... Очеш
но — оп враг церкви, враг всякого правительства и вспын
гражданского порядка. Есть предполо копие в синоде объи
вить ого отлученным от церкви, во избежание всяких сом
нений и недоразумений в пароде, который видит и слышй»
что вся интеллигенция поклоняется Толстому. Верояти'
после коронации возбудится вопрос: что делать с lol
стьш»1 2.
Зная о намерении синода, архиепископ харьковски
Амвросий составляет в 1899 г. проект постановления сши
да об отлучении Толстого от церкви («Вера и церкоы*
1903, № 1, с. 165—167).
Таким образом, решение созрело. Нужен быт лшо
предлог. Им явилось появление романа «ВоскроссшнО
Английский переводчик этого произведения Э. Моод, вы-
держивавший постоянную связь со Львом Николаевич''»
опубликовал статью под названием «Как Толстой ппс!
«Воскресение». В ней он указывает па то, что пстсрб\|»»
скал цензура заставила исключить из текста романа и
«оскорбительное» для церкви, «все, что подкапывало ая4
рнтет церкви и государства». «Молено сказать, что если 4»
подобная книга принадлежала бы другому автору, а
Толстому,— писал Э Моод.—такое жизненно верное п<1
бражеппе архпгонптсля Победоносцева вызвало бы заир
щепие всей книги и арест автора». Ни j кого не было сои
лопни, что прототипом Топорова был Победоносцев, id
уж очень совпади ди приметы внешности, круг слу:кебм<
дел, отношение к ним да п ведомство, которое возглавь»
Топоров, ничем нс отличалось от святейшего синода. I
Так накалялась обстановка. П вот результат: огл|И
пне.
По случайно именно в начале XX века в дни ревоЛ»
ционпого подъема в России, царское правительство,
1 С. А Толстая. Письма к Л Н Толстому М., «Академий
1936. № 261.
2 Рукописный отдел публ. б ни им М Е. Салтыкова ЩсДрии
Письма Побсдоиосцева.
82
енпцшипве Победоносцева и с благословения Нпко-
«п II, пошло на этот шаг. К этому времени страну потряс
Ь'||'[ид1юп экономический кризис. Размах его и острота
I in глубже, чем в странах Европы. Число закрывшихся
М« рпк п заводов достигло нескольких тысяч. Десятки ты-
»»|'| рабочих оказались без работы. Слаборазвитое сельское
мм и толпе, рутинная ого техника обрекали крестьянские
Мш 111 па обнищание и вымирание.
I <• это было той почвой, па которой, как указывал
I II к пин, зрел взрыв народного недовольства. В России
Мл гро нарастала революционная ситуация. Ни в одной
• цы не мира в это время пе было сталь мощного подъема
Ьи поцпонпой борьбы. Во главе ее был российский про-
liiipii.'iT. В 1900 г. забастовки произошли на 129 пред-
НЦШ1ЯХ, охватив свыше 29 тысяч рабочих, в 1901 г. стач-
•U вгныхпулп уже па 164 заводах и фабриках, и в них
)• । н укало более 32 тысяч человек. Ширилось и массовое
< пинское движение. В Повод кье, па Украине, во мпо-
« иберниях пептра России прокатилась волна широких
инппомещичт их и антиправительственных выступлении.
Км Г.ЩН бу с царизмом поднималась демократическая часть
•ц (гнчества. Летом 1900 г. начались студенческие вы-
Biniciinn против реакционного университетского уста-
> I \ г. п «временных правил» 1889 г., пе только лишав-
ши высшие учебные заведения автономии, но и, по су-
Br'iity, отдававших сту.юнтов и профессоров под полный
1и мир полиции. В январе 1901 г., в ответ на студенческие
пи пня, министр просвещения Боютепов издал приказ
В пицивке в солдаты 183 сту (ептов Киевского уппверси-
В их защиту выступило студенчество всех высших
ЬиГных заведений России. Они объявили забастовку
I пр । рятплп занятия. Значите и.пое чисто студентов прл-
Вгп\ io к рабочим демонстрациям. Петербургские студенты
ниш швали боддшую манифестацию у Казанского со-
• I 1
Н iron обстановке нараставшего революционного двп-
Ьппп обличительные выступления Толстого в адрес пр i-
। и ня п духовенства, оправдывавших порабощение п
Inn и пне трудящихся, еще больше раскрывали пароду гла-
♦ • В { ipaxe перед надвигающейся революционной бурей
|цнч ч поспешил предать проклятию «еретика и вероог-
Ihiiiiin л» Отлучение писателя было задумано как средст-
Лпр|.бы с растущим народным недовольством, с целью
•»||'ключить это недовольство па великого русского худо;к-
83
ника-обличителя. Была и еще одна цель. Дело в том, чт
на рубеже XIX и XX столетий обострился кризис правослв
вия и официального богословия. Наиболее дальновидны
церковные идеологи размышляли над тем, как оградно
религию от надвигающейся опасности. Естественно, ю
они с ожесточением выступали против любого проявлеиц
свободомыслия. Защитникам пошатнувшихся устоев ц*
ризма и православия казалось, что, начав аптитолстовсьу*
кампанию, они тем самым отвлекут возмущение нар<и
пых масс от истинных виновников их бедствий и в то »
время сумеют упрочить позиции христианской религии
вывести ее из тупика.
Христианская церковь довольно часто пользовалась те
называемым церковным отлучением в качестве одного и
средств борьбы со свободомыслием, с аптицерковпым про
тестом. Это орудие религиозного террора применяло^
церковниками для запугивания верующих и разжигали-
религиозного фанатизма. Посредством отлучения церкон
и правительство расправлялись с антнцерковпымп двиь»»
пнями, принимавшими форму ересей и раскола и яв п»
шимпся одним пз способов социального протеста. Церкой
ыое отлучение было орудием борьбы с пародио-освобо.цн
тельным движением. Изданный в 1720 г. Духовный peril
мент требовал применять анафему и отлучение за выступ
леппе против церкви, се обрядов и таинств, сравнивая лип
подвергавшихся этой каре, с «убиенными» и лишал и
гражданских прав. В России бы in отлучены от церке
вожди народных восстании II. Болотников, С. Разг я, Е. II
гачев.
За отлучением обычно следовали ограничения в грп*
данских правах, а то и физическое уничтожение.
Церковниками давно был выработан обряд отлучение
Он совершался, как уже говорилось выше, согласно спец,
альному чину только раз в году — в первое воскресет
великого поста, в «неделю православия». В этот день в
борных храмах после молебствия протодьякон с возвыпиш
кого места читал «символ воры», а затем возглаш-
анафему (проклятие), повторяемую хором певчих. 0и
провозглашалась всем отрицающим бытие божие и тропим
божественное откровение, бессмертие души, воздаяние и
делам, таинства, иконы, божественное происхождение ц«|
ской власти и почитание ее. В назначенный час в цернш
пых соборах устанавливалась зловещая тишина, среди М
торой звучали пестун генные слова церковного прокляни
♦Д'* будут дни его мали и зли, и молитва его да будет
I и да изыдет осужден, в роде едином да погибнет
Ьмн «го, да истребится от земли память его... И да приидег
«ров штство и анафема не только сугубо и трегубо, по
Miuiioi убо... Да будет ему каиново проклятие, прожжение,
г Ынп удавление, тресновение... И да будет отлучен
• Анафематствован и по смерти не прощен, и тело его да
io рассыплется и земля его да пе примет, и да будет несть
ни и гееппе вечной и мучен будет день и нощь...»
Самому же анафематствовапию предшествовало осуж-
► ннг Толстого, следовательно, не могли предать анафе-
* ос! предварительного официального осуждения, т. е.
»* । опубликования определения синода. Но как ни repo-
rt пи i, деятели синода, они вынесли свое определение
iivn ко 22 февраля (9 марта н. ст.) 1901 г. и опубликовали
<* ”i февраля (И марта) —через педелю после первого
кн крссепья великого поста, приходившегося в 1901 г.
IH февраля. Таким образом, обряд не был соблюден
Нпгь по той причине, что определение опоздало.
До последнего времени в литературе о Толстом, в том
иг п> и в воспоминаниях В. Д. Бонч-Бруевича, можно бы-
«п нмретить утверждение, что писателя предали апафеме
Б поиском соборе, а потом и во всех церквах... Г. И. Пет-
tuH1 in метил, что ио причине, не зависящей от ипициато-
Ьн «и [учения, в данном случае в церквах пе был совер-
• II обряд алафематствовапия. По, естественно, всплывает
1*><1|нн почему же «отцы церкви» пе совершили обряд
I tin* (г по православия» следующего года? Ответ, считает
I II Петров, может быть один: церкви помешала волна
♦ народного протеста. Однако это — лишь часть причины.
1 Д Опульская полагает, что клерикалы не без явного
|нн< । I затягивали публикацию текста отлучения. «За-
Kp.ish.i была, видимо, сознательной,— указывает она.—
Инн хотели укусить великого Толстого, но слишком боя-
• ' । inn. И неизвестно, чем бы кончилось в ряде мест Рое-
шь । он империи публичное анафематствование...»
I иные силы торжествовали. Они всячески одобряли
i и iHiiiiieecn наступление па гения русской литературы.
। Д« tn । кие синода в борьбе со злом вызовет сочувствие
мира»,— подобострастно и хвастливо писал Победо-
t*Hiun\ 29 марта 1901 г. ректор Киевском духовной ака-
• мии Дмитрий Чигиринский. «В борьбе церкви с толстов-
1 1 м Г. II Петров. Отлучение Льва Толстого. М., «Знание»,
НН
84
85
сейм злом наступает новый, будем надеяться, целик )•
ный момент.—радовался оп.— Вскрыть искусной руке*
болезненный нарыв, незначительный вначале, но pacnfl
стравивший свою воспалительную силу потому, что г г
долго не то маскировали, пе то игнорировали, значит, шяи
да почти излечить, а всегда — ослабить воспаление. T(rt
стовскпп нарыв па здоровом организме православной Ру<11»
зачался давно. И многим казалось: пе слишком лп дол?
давали ему назревать, и в то же время воспалительном,
процессу предоставляли захватывать все больше широкий
круг! ...Благодарения Богу! Благовременное послаии-
св. Синода полагает начало прекращению губительной
соблазна, врачеванию тяжкой, многих затронувшей <5и
лезли»1.
Письмо епископа Чигиринского закапчивалось слепи
мп «радостного бтатословопия протпвотолстовского aiifl
св. Сппо <а, так жданного и столь благопотребпого».
Дальнейший ход событии показал, что по было у
ковников основании торжествовать и радоваться.
1 Отдел рукописей Гос. публ. б ки Акад наук УССР, ед. xf
4168.
“ЧЕМ НОЧЬ ТЕМНЕЙ, ТЕМ ЯРЧЕ ЗВЕЗДЫ»
Синодальный акт явится для «жандармов во Христо»
пн налом к новой, отце более ожесточенной травле великого
lint гтеля. Толстой стал получать многочисленные письма
черносотенного характера. О содержании этих писем он
I м поведал в «Ответе синоду». «Одип пишет: «Теперь ты
!'|)| (.нт анафеме, и пойдешь по смерти в вечное мучение
ц издохнешь как собака... Анафема ты, старый черт, будь
Проклят!» ...Другой делает упреки правительству за то,что
и нс заключен еще в монастырь, и наполняет письмо руга-
it иствами. Третий пишет: «Еслп правительство пе уберет
и пл мы сами заставим тебя замолчать». Письмо закан-
чивается проклятием. «Чтобы уничтожить прохвоста те-
ftu,— пишет четвертый,— у меня найдутся средства»...
глсчуют неприличные ругательства Признаки такого же
tn ню тения я, после постановления синода, замечаю и при
• I । ре iax с некоторыми людьми».
»й I 1П1ЮМ ПОРЫВЕ ВЛАГОЖЕЛАНПЯ»
Акт синода, создавший в стране атмосферу громадного
ijinrcTBennoro возбуждения, по только не подорвал авто-
ринга Толстого, ла что была сделана ставка, а, напротив,
тинысил его в глазах прогрессивно настроенных люден.
Имя писателя стало еще более популярным.
Газета «Искра», руководимая В. И. Лепиным, печатала
fl ipeca, выражавшие сочувствие Толстому со стороны рабо-
чих а также корреспонденции, в которых рассказывалось
1< мопстративпых выступлениях, связанных с «отлучени-
ем» Толстого. «Искра» писала: «Вслед за опереточно-тор-
птвепиым отлучением Толстого последовал бесшабаш-
87
ный разгул церковного кликушества в печати и в пропой
дях. Православное мракобесие готовится, по-видимом)
дать генеральное сражение своим врагам. И г.г. Побед"
носцевы искусно подготовляют «политическую обстановку
своим будущим мерам «истребления несогласно мысли
щих». В майском номере газеты за 1901 г. было опублиш
вано письмо Л. И. Толстому рабочих Прохоровской ману
фактуры, в котором говорится об их глубоком сочувстви
великому писателю п о ненависти к его врагам. Это письм
московских текстильщиков перекликается с адресом, при
сланным почти в то же самое время членами женевской
политической группы (6 марта 1901 г.).
После отлучения Лев Николаевич получил тысячи ш
сем с выражением сочувствия, осуждением правящей лрр
хушки. Коллективное письмо за 39 подписями, с выражу
нием глубочайшего уважения, прислали Толстому полтлп
ские железнодорожники. В нем были такие строки: «()
правды Вас не отлучить. Мы надеемся, что наше сочувс!
вие будет Вам в радость»1.
Чтобы определить отношение различных слоев насоли
пия к синодальному акту, департамент полиции пропзн*
перлюстрацию, т. е. тайное вскрытие и прочтение ряд
писем. Опубликованная в 1923 г. департаментская сводки
весьма красноречиво показывает, каким возмущением би
встречен гнусный акт церковников. Начальница Казак
ского Родионовского женского института Л. М. Казембси
писала митрополиту Антонию: «Как жаль, что отлученн
Толстого свершилось. Зачем прибегать к мерам, которъ"
приводят к обратным результатам и вместо того, чтоб!/
укреплять церковь, расшатывают ее». О том же писЦ
жене в киевское имение генерал-адъютант Н. П. Игнаты'*
Великим и бесстрашным писателем «в чине отставное
поручика» называл Толстого один из его корреспондент”’
и далее утверждал, что писатель оказался «иеимовсри
сильнее царя, правительства и священного синода». Учи
тель Рогожского четырехклассного училища Сергей Дмш
риев уверял Толстого, что от нелепых обвинений, клелетй
п инсинуаций «шайки дурных людей» его величайший ц
светлый образ не только пе потускнеет, но станет еще
личавее, еще прекраснее: «чем ночь темней, тем ярче зп«’и
1 Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого, д. 180, ед. хр. II
2 См.: Толстой, Памятники творчества и жизни. Сбориш
Вып. Ш. М., 1923. I
м» «Однако мне невольно припоминается тот слу-
• 6,— писал Дмитриев,— когда в Москве, у Владимирских
•ори г, кто-то из стоявших у часовни Пантелеймона людей
*||ц|{цул, что какая-то старуха колдунья, и как ее начали
Сии. и чуть не убили до смерти. При одной мысли, что в
М кве найдутся фанатики, которые под влиянием этого
Hiyinoro синодального постановления причинят Вам ка-
н.ч| либо зло, меня бросает в холод, а сердце болезненно
। inn мается»1. С еще большей страстностью выражал свое
п1 шипение к отлучению эмигрант публицист Петр Алисов.
Он писал, что церковная верхушка, обрушившись на Тол-
чею, отлучила себя от всего цивилизованного, умного
пира и о себе сказала правду, которая оказалась хуже
о икон лжи. «Синод,— выражал свою тревогу Петр Али-
lim,— прибег к отлучению как средству отдать Вас на рас-
tijiMiine мракобесной толпе, он заранее освятил нояси.
' which иотая, лицемерная затея, кроткие пастыри в мо-
мгнг, когда толпа рвала бы Вас на части, умывала бы
я с пятой воде руки»1 2. Та же тревога в письме И. Е Ре-
пина, адресованном дочери: «По Руси отвратительным
Hip.i (ом подымают свое вонючее курево русские попы За-
йул (ыгамп «черной сотни» они готовят погром русскому
ишпо». В. Г. Короленко в телеграмме пз Полтавы от име-
ни многочисленных почитателей Льва Николаевича выра-
Иыл ему чувство глубокого уважения и посылал пожела-
нии здоровья. Телеграмма заканчивалась словами: «Если
любовь очень многих может доставить облегчение, то Льву
Пико шевичу надо быть здоровым».
В феврале 1901 г., как говорилось выше, по Москве и
другим университетским городам прокатилась волна так
нмываемых «студенческих беспорядков». К студентам
присоединялись рабочие. Отлучение Толстого и вызванная
нм полна общественного протеста придали происходившим
и Москве событиям еще более бурный характер. На пло-
щадях и улицах собирался народ, проходили сходки, на
ипгпрых выражались сочувствие Толстому, протест против
д-nt гвий православного духовенства, самодержавия.
Днем 25 февраля Толстой направился в центр города —
л Мплютипский переулок, и, когда оп появился на Лубян-
Uни площади (ныне площадь Дзержинского), толпа его
^iin ia. Кго-то, иронизируя над синодальным постановле-
1 Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого, д 147, ед. хр. 72.
2 Гам же, д. 132, ед хр. 1а.
89
88
вием, довольно громко сказал: «Вот дьявол в человсч-
сном образе». Эти слова послужили как бы сигналом; pni
дались крики: «Ура! Толстой! Да здравствует Лев Hinjn
лаевич Толстой!». Какой-то студент выскочил вперед и к
орал на всю п ющадь: «Коллеги, сюда, Лев Николаевич
Толстой здесь!». «II тут началось нечто невообразимой
вся 3ia многочисленная громада люден, покрывшая и к»
щадь, хлынула и потекла к нему, как к центру, крича, \н
хая танками, з юегая вперед»1. Появился конный огрид
жандармов, отрезавший от писателя толпу, и ему с боль
шпм трудом удалось добраться до дома.
Тогда же, 25 февраля, Софья Андреевна Толстая
отправила негодующее письмо митрополиту Антони*’
Она писала первоприсутствующему члену синода, что д;ы-
с точки зрения церкви, которая провозглашает «закпЦ
любви и всепрощения», для нее распоряжение синод'
непостижимо, и потому уверена, что он вызовет «негоденi
пне в людях п большую любовь и сочувствие Льву IIiiKfl
лаевпчу». Более двух педель Антонин медлил с отвеюМ
С. А. Толстой и тишь 24 марта, иод давлением обществе i
ного мнения, был вынужден опубликовать его. Объяснил
действие синода и желая оправдать «определение», мигро!
полит старался доказать, что с точки зрения церкви «р.нЧ
поряжепие синода постижимо, понятно и ясно, как Божий
день». Синодальный акт, писал оп, есть «акт призыв!
мужа вашего к возврату в церковь и верующих к молитв#
о нем». По то, что этим актом благословлялась преступниц
кампания преследования писателя — этого Антоний
признать пе хотел. «Не то жестоко, что сделал Спшн,
объявив об отлучении от церкви вашею мужа, а жестом
то, что сам он с собой сделал, отрекшись от веры в Иису-
са Христа, сына бога живого, искупителя и спасителя и.»
шего. На это го отречение и следовало давно излитый
вашему горестному негодованию»1 2.
Вскоре после распоря кепия синода по Москве стал*
ходить басня «Лев и ослы». Распространявшаяся «из уи
в усга», опа как нельзя лучше характеризует настроение
той эпохи Читатели без особого труда угадывали, что Лег»,
1 Письмо Л И. Дунаева (друг семья Толстых, был одинм ят ди
ректоров Московского торгового баша) 13 Г. Чсргкову.— «Лист)*
свободной» слова», 1401. .V 23. с. 13.
2 Письмо С Л Толстой к митрополиту Антоппю было опубди
ковано в «Церковном вестнике», 1901 Л. 13 а перепечатано dcomm
1азетами.
90
М n ппып громким голосом, силой и отвагой,— это Лев
Ьсгой, а «семеро ослов» — семь иерархов, подписавших
Ьр< Д| юные синода. Автор басни возмущен стремлением
|||(овников сломить непреклонный дух великого русско-
ине 1тсля и восхищается мужеством Толстого, не убояв-
гикя изуверского шага синода'.
Но пазовалась большим успехом и ходившая по рукам
к пл «Голуби-победители». Она прозрачно намекала на
hi. 'пн зря ликуют семь «смиренных» голубей: им только
жг1ся, что они победили, совершпв «правый» суд надо
ill пом,
Распространялось и немало карикатур, авторы которых
мн мгивалн организаторов травли писателя. Красноречива
рикатура, помещенная в № 8 газеты «Искра» за
ИН год: мимо Толстого, которого попы распинают на
1»г' к проезжает царский поезд. В карете сиди г царь
Pui.-o.i.iii II, а впряжены в пее пе лошади, а люди, и жап-
Ьрми погоняют их. На одной из карикатур рядом с Тол-
ll* ом осел-жандарм и свинья-поп. Они говорят: «Мы от-
Ь'пн-м тебя». А вверху эмблема царской власти — корона,
....... )яся на штыке п нагайке.
После отлучения возрос интерес не только к личности,
и к 1ворчеству Л. 11. Толстого. Люди разных сословий
йн!растов, образованные, малограмотные п едва читаю-
<* — многие теперь обращались к произведениям писа-
|.,i)i, спорили, рассуждали. Не прошло и месяца со дня
Ьбн1коваипя определения синода, как председатель зем-
мй \ нравы в городе Судже Курской губернии князь
I Д Долгорукий сообщил: «За последнее время как в об-
►' ни той, так и во всех народных библиотеках, замеча-
h it in бывалый спрос на сочинения графа Л. Н. Толстого.
» и ।перерыв стали спрашивать даже такие лица и слои
!• г к ния, которые раньше почти их пе брали»2.
В них условиях главная забота деятелей церкви све-
Ь>'ъ к тому, чтобы как-то ослабить интерес к идеям и мыс-
• М писателя, чтобы, читая его, человек не рассу/кдал, но
* Текст 8Юй басни печатался неоднократно как произведение
ммиого автора. Доцент Тульского педагогического института
I I II Толстого 3. И. Левинсон на основе собственных изыска-
I и I ьма убедительно доказывает, что автором басни «Лев и ос-
1< Гни Демьян Бедный (см - Толстовский сборник Тула, Туль-
ей юс пед институт нм Л Н Толстого 1964 с 290—298)
’ Ioictou Памятники творчества п жизни. Сборник. Вьш. III.
IV Ц с. 125.
91
приходил к выводам, которые, как указывал архиеписк
харьковский Амвросий, были бы ие в пользу духовепсо
Клерикалы, надеясь регламентировать степень влияй»
дают советы, «как надо читать Толстого». Прото1ПЦ»
И. Беляев в 1901 г. во «Владикавказских епархиалыо
ведомостях» обращался «к почитателям, поклонникам в в
следователям знаменитого русского писателя гр. Л. Н. То
стого». Религиозный публицист постарался подробно ii.ii
жить, в чем же вина Толстого перед церковью. «Л. Н. Тп
стой,— писал он,— учение церкви отвергает, устаи
церкви не повинуется, пе хочет раскаяться в том, в '•>
согрешил перед церковью». «Читатель, особенно из мол
дежи,— рассуждает с тревогой И. Беляев,— невольно цп
дается влиянию поэтического дара Толстого. Он смуш
В его сердце и ум посеяно сомнение и недоверие к епл
гельскому повествованию священного писания. Он с и
вогой предлагает себе и другим вопрос: а что, если '
Николаевич прав? Что, если представители церкви пепи-
ны в ошибке или в ненамеренном обмане? Правослашг
христианин из простого читателя произведений Л. Н. Тн
стого постепенно становится его сторонником, почитателе
поклонником». Боясь растущего авторитета и влили
писателя на умы верующих, Беляев призывает правосл»
пых христиан «быть осторожными при чтении произивД
ний Толстого».
С отлучением Толстого от церкви совпала выст-н
картин русских художников в Петербурге. На ней эксп
инровался портрет Л. Н. Толстого. Сначала группа посжн
телей выставки послала писателю телеграмму: «Присущ
вующая публика на передвижной выставке при виде I
шего портрета слилась в едином порыве благожеланпА
горячей признательности великому учителю жизни». II
ней подписалось 97 человек. Но отправители не были ум
рены, что она будет доставлена, и послали копию по п«
те, сопроводив ее словами: «До сих пор мы не знаем доп
верно, вручена ли Вам эта телеграмма. Поэтому счит»
долгом попытаться передать ее другим путем — в наст*
щем письме, вместе с тем прислать подлинные подию и
сообщить вкратце, что произошло перед Вашим портрет
Появление портрета на выставке дало обществу повод г
сказать свое осуждение синоду и выразить свои симпю
Вам за Вашу постоянную отзывчивость на все явлои
русской жизни, за Ваш неумолчный и смелый прим
к искаппю правды и к борьбе за нее. Собравшаяся с и
II
l»< 11 ю публика уже с 12 часа стала тесниться перед Ва-
рим портретом и ожидала с нетерпением почина в уст-
IjhIctbg овации. Часу во втором студенты начали укра-
м|<ц|. портрет гирляндами из живых цветов, раздались
рнмкпе аплодисменты. Затем в течение 3—4 часов порт-
/и г несколько раз осыпали массою зелени и цветами, слы-
| шились возгласы: «Долой Победоносцева!» и «Ура Льву
Николаевичу!», дружно подхватываемые всеми. Все еди-
„душно приняли предложение послать приветственную
нчюграмму, и скоро люди всякого звания и положения
крили ее своими подписями. Расходясь, каждый уносил
•и намять по цветку от портрета. Всех объединяло чувст-
сердечной признательности к борцу за свободу совести
I проповеднику истинной любви к ближнему».
По приказанию начальства портрет был снят. Тогда
ipyuna посетителей послала Толстому в Москву гирлянду
йогов с такой запиской: «Не найдя Вашего портрета на
•mi । 1вке, посылаем Вам нашу любовь».
О горячей любви народа к писателю свидетельствует
«пи ке манифестация, устроенная в Полтавском театре
февраля 1902 г. Шла «Власть тьмы». Перед третьим ак-
юм, прежде чем подняли занавес, с разных концов галереи
* публику посыпался дождь разноцветных листков с порт-
|*гом Толстого и надписью «Да здравствует отлученный
церкви Л. И. Толстой, борец за свободу». Среди сумра-
и мгновенно воцарившейся торжественной тишины, на-
чинаемой только легким шелестом падающих листков,
«дался вдруг громкий возглас: «Да здравствует отлучен-
ный от церкви Л. Н. Толстой, борец за свободу!» На этот
нилас откликнулся весь театр, публика встала, и в продол-
жение нескольких минут в театре стоял несмолкаемый гул
выкриков: «Да здравствует Толстой! Да здравствует сво-
• цИ». «Момент был чрезвычайно торжественный. Вооду-
Ш"н.1сние охватило весь театр»,—сообщалось в «Искре».
В Яснополянском музее-усадьбе на письменном столе,
I Которым работал Л. Н. Толстой, лежит глыба зеленого
никла, красиво отшлифованная в виде пресс-папье. Это
Ии прок, сделанный рабочими Мальцевского стекольного
Мин щ в связи с отлучением писателя от церкви. На глыбе
Ю1ПТЫМИ буквами написано: «Вы разделили участь мно-
m великих людей, идущих впереди своего века, глубоко
ни ив и Лев Николаевич. II раньше их жгли на кострах,
ышли в тюрьмах и ссылке. Пусть отлучают Вас, как хо-
не и от чего хотят фариоеи-первосвпщенники. Русские
93
люди всегда будут гордиться, спитая Вас своим вели ни*
дорогим, любимым». Далее следует 12 подписей. Авгори
текста был врач К. Г. Славский. Оп рассказал, что, когД|
надпись обсуждалась, одно выражение не повравшие»
В черновике было сказано «неразумные наши первое!»
шенникп», но все зашумели и сказали, чти это слитков
мягко. Пришлось вписать слона «фарисеи-первосвящепип
кв». Голстон бережно хранил это стекло в числе други-
самых дорогих ему предметов. А. М Эидаурову, по ши
штативе которою оно было послано, писатель отвей-
«Я получил ваш прекрасный подарок, в котором особом
дорога мне надпись, и прошу вас передать мою живей1||М
благодарность всем подписавшимся» (73, 113).
В течение нескольких месяцев после отлучения Гй
стой получал сочувственные письма и адреса. Писали р
бочие, крестьяне, политические эмигранты, иностраин-
студенты, даже священники и аббаты. Были адреса и rei
граммы, под которыми стоя ш сотни фамилий, а телеграф
ма из Киева от студентов Киевского техникума была шн
писана более чем тысячей студентов.
Пз адресов, полученных Толстым обращали на c<’lU
внимание приветствия от группы политических ссытыш-
из Архангельска, от фабричных рабочих из города Ковре
ва. В адресе, датированном 25 марта 1901 г., жители Хар*
кова выразили волновавшие их чувства. Отлучение люп.!
мою писателя прозвучало для них «диким отголосков
средневековья». Сама же высоконравственная личное!
Толстого, никогда не останавливавшегося ни перед каким!
опасностями, вызвала в массе благородных почитателе
еще большее восхищение. «Когда видишь перед собой ii
кую силу убеждения, тогда и в самые тяжелые мипун
жизни становится светлее на душе и возникает падеж»
на лучшее будущее России. Если в ней рождаются и см<«*
действуют люди, способные так бесстрашно, как Вы, пр-
являть свою личность, значит, не все еще погибло»,— П
верилось в этом адресе.
Желание, по примеру Толстого, тоже «сурово осу он
бесправие, людскую трусость и молочность духа» было fiM
ражево в адресе студентов Константиновского межевч!
института.
В адресах па имя Толстого отражалось гордое созпнМ'
сограждапства с ним.
Пример Толстого борца был упреком для тех ингодп>
гейтов, которые с горечью понимали, что не имеют док»
94
к’ню сил, чтобы порвать кандалы, надетые на их мысль,
I In i.ii.i и убеждения...
[ Пище ственносгь зарубежных стран тоже живо отклик-
па выпад синода. Событие это как бы оттеснило
И< ш (пий план все иные.
I! В Стасов писал Л. II. Толстому: «Я видел в эти дни
IM11'* 1.НПХ из за границы, и они мне рассказали, что, где
г |учись, в каком хочешь городе, только собеседник ус-
Вкшп случайно, что с ним говорит русский, тотчас бро-
Вн-1 всякий разговор п только об этом начинает расспра-
Bbih.ih: о графе Льве Толстом, где он и что он и здоров
М* Потом идут расспросы о «проклятии» н отлучении от
Bipkiui».
Находившийся в то время во Франции писатель и дра-
vnpi Гиедич писал:
-В улице Ришелье, в небольшом книжном магазине,
Мр(но горювали произведениями Толстого. Там я купил
Нкншп экземпляр «Воскресения», за которое в сущности
Н бы । Толстой отлучен от церкви, не столько за оскорб-
1ч|иг нигнетва евхаристии, сколько за описание визита
Ви ни (ова к Победоносцеву. Этого не мог переварить гла-
и иода — и граф оказался отлученным.
I Ви французских карикатурных журналах Толстой был
Л|(|||.|.кея с нимбом вокруг головы, в позе святою. «Де-
IBii(>iiii шипя» обращена в шутку — и от декаионизирован-
Ко Г одетою шли лучи. Я вырезал карикатуру и послал
I II — не знаю, получил ли он.
I Не знаю также, получен ли им рисунок из немецкою
lyiiid». Гам изображен Толстой, извлекаемый из храма.
П)р) громадная. Приходится распилить пополам зда-
IB- чк>бы извлечь ею...»1
Г Hi hope в Париже вышел сборник «La Plume» («Перо»)
Вфгньямп и очерками французских и бельгийских ниса-
В-М'П гыражающпх свои симпатии отлученному Толсто-
I II - борнике участвовали свыше сорока писателей, в том
’юля, Метерлинк.
Ц|и|.\нило огромное коигчество писем из-за границы.
I й ши । м >х к В. Г. Черткову Толстой отметил «очень хоро-
и ipeca оз испанских журналистов».
[ -Bi (акция еженедельной газеты «Латинский мир»,—
|Ьи"м мы в одном пз адресов,— во имя цивилизации и
’ II 11 Гиедич. Книга жизни (Воспоминания). М.—Л, 1929,
•J 203.
95
прогресса, справедливости и правды гордится возможп*
стью принести выдающемуся социологу и моралисту Лi •
Толстому даиь глубокого и искреннего восхищения,
цая в то же время всей силой сознания постыдный
отлучения, провозглашенный синодом»1.
В октябре 1901 г. к Толстому обратилась редакця
крупного мадридского журнала. В числе его сотрудники
как указано в письме, были виднейшие писатели, ученые
политические деятели конца XIX — начала XX в. В аг<
послании редакция журнала выражает свое восхищен
«благородным проповедником высоких идеалов в Pocciii
в стране тяжелейшего рабства».
В адресе от редакции «Espana Artistic а» говорили!
«Мы, дети несчастного парода, среди которого часто прок
ходят случаи, сходные с теми, на которые и вы жалу
тесь. Мы, вместе со всем цивилизованным миром, прог
стуем всеми силами своей души против этого акта, кот»|>
му нет названия».
Группа членов Мадридского общества республикапц!
федералистов сообщала Толстому, что па общем соор >ин
23 марта члопы общества постановили отправить па и
имя это послание в знак восхищения его славной личное!'
п «восторженного поклонения перед ед и помышлении ь иь
которые страдают от ужасных преследований самодорЯ
вия».
Эти адреса были опубликованы в мадридских га шт j
в апреле 1901 г. ]
Веспой 1902 г. завязалась переписка между К. Сенум
и Л. II. Толстым. К. Сенума, осуществивший первый
рсвод «Анны Каренины» па японский язык, писал п Н
ную Поляну пз Токио: «У нас много пишут про Ваш" «
лучение от русской церкви. Я не понимаю такого решени
последней... Меня сильно смущает то, что случилось с И»
ми в деле общения с церковью».
В Японии, как и в других странах, значительно волр
интерес к русской литературе и, в частности, к сочим
ниям Толстого. В газете «Новый край» была напечхг!
статья о встрече ее корреспондента с японским ром ш
стом Одзаки Коб. «Теперь у нас сильно интересуются р,
ской литературой,— говорил Коё,— и я рад, что благэдл|
знакомству с ней мы сблизимся с русскими, а сближои
1 Этот и другие цитируемые адреса, хранящиеся в Гос м»»
Л. И. Толстого, перевела Т. Н. Волкова.
рп> положит начало прочному миру, в котором кроется
lniroyстроение нашего государства.
Недавно мы прочли, что Толстой у вас отлучен от церк-
•" прочли также письмо его жены н ответ Вашего мит-
ll •!<" |ита. Как видите, мы следим за Вашим писателем.
Немного помолчав, он сказал как бы про себя:
— Это очень, очень строго»1.
В июле 1901 г. в одном из номеров ленинской «Искры»
Мп называлось о митинге, который проходил в Вене, и при-
учились слова оратора, выступавшего от имени венских
рЛочих: «Поступок русского правительства против Тол-
I tin о ость пощечина, данная русским абсолютизмом евро-
► некой культуре».
Выражение сочувствия Толстому проявилось не толь-
bi н письмах и телеграммах: в адрес синода стали посту-
пи разного рода заявления, в том числе с просьбой об
«учении. Так выражали солидарность с Толстым пе толь-
b явные его единомышленники, по и атеистически па-
Ь|нм‘1шые лица. Некоторые из этих заявлении были опуб-
•"hin аиы в «Листках свободного слова», издававшихся
I Г. Чертковым в Лондоне. Из этих документов особенно
1*дп’гателыго по смелости и яркости заявление И. К Дн-
bpiixca2. Прочитав его, Толстой тут же написал Черткову
I \ и глию, что это письмо чудесно; в другом случае он
я.)влет его еще прекрасным (88, 241).
О впечатлении, которое произвело па Толстого письмо
ютрихса, мы узнаем также из письма Дунаева Черткову.
B»ii ш к Льву Николаевичу, Дунаев застал его взволно-
Ьнпым. «Успокоившись немного,—писал он,—Л. Н. ука-
h in газету, лежавшую перед ним: «А вот зато и радость
Ьпппя1 Прочтите!» Это было письмо Иосифа Константи-
«ичд к Победоносцеву во французской газете3.
I ювпая цель моего письма,— писал И. К. Дптерихс,
Вращаясь к обер-прокурору,— пе есть изобличение Вас,
b Желание заявить публично о своем выходе из правосла-
мп пребывать в коем, даже номинально, стало для меня
* ...жпмым... Упомянутый указ синода о Л. Н. Толстом
Цнт. по кп.: Л. И. Шифман Толстой — это целый мир.
В и Приокское ки пзд во. 1976, с. 232.
Литер и х с Иосиф Константинович (18G8—1932) — брат
1 h Чертковой. Бывший казачий офицер подъесаул Кавказской
В»йи оставивший военную службу. В 1897 г. за связь с духоборами
й>мшц|. им был выслан за пределы Кавказского края.
' ♦Листки свободного слова», 1901, № 23, с. 17.
11»| •» J 339 Q7
помог мне разобраться в моем личном отношении к при
вославпю как государственной религии, и я искренно ра*
что теперь открыто могу заявить перед всеми, что право
славным перестал быть... Считаю долгом довести об а юн
до Вашею сведения только потому, что, нс будучи ома
грантом и имея паспорт русского подданного, по котором»
числюсь православным, я тем самым пользуюсь и прими
легиямп, связанными с этим, и которых, по существующий
русским заколам, должен буду лишиться, о чем и мояш»
донести куда следует. Поступая так, действую совершен и
самостоятельно, без всякого с чьей-либо стороны наущении
и сознательно несу всю ответственность».
Выдающийся русский математик, академик Андри»
Андреевич Марков (1856—1922), обогативший русскую!
мировую науку блестящими исследованиями в облает*
теории вероятностей, был ученым-борцом, выступавший
с разоблачением реакционных направлений в науке, о
протестовал против действии царского правительства, о»
казавшегося утвердить избрание М. Горького почетиы»
членом Академии наук. Активно боролся оп и с релит
озным мракобесием. Академик А. Н. Крылов вспомни!
мужественные выступления А. А. Маркова: «Припомни»
его протест против синода по поводу отлучения Толсты»
от церкви, ведь таких протестов, всегда заявляющихся от
крыто и ясно, не перечислить, и, конечно, самое ими i
ученая слава Маркова придавали им силу и распростр»
пение, не способствовавшее упрочению бывшего пран
тельства»1. Выступления еппода, та травля, которую opi*
нпзовали клерикалы против писателя,— все это явпл-<»
поводом к открытому разрыву А. А. Маркова с церковь!.
Он отправил в синод православной церкви прошение, в ко
тором писал, что не усматривает существенной разиши
между иконами п идолами п пе сочувствует религиям, и
добпо православию, поддерживающимся огнем и мечом, •
просил отлучить ею от церкви. Он заявлял, что его это ли
лание не мимолетная прихоть, а продуманная мысль.
На смелый поступок А. А. Маркова откликнулась бон
птевистская «Правда». В заметке «Отказ от религии
(«Правда» от 9 мая 1912 г.) сообщалось: «Святейший ей
под переслал прошение А. А. Маркова в С.-Петербур
сную духовную консисторию на усмотрение митрополии
С.-Петербургского и Ладожского Антония. Последний яй
1 А. Н. К р ы л о в. Собрание трудов. Т. I, ч. 2, с. 320.
98
рупгл протоиерею Арпатскому посетить А. А. Маркова и
кседовать с ним в целях увещевания. Беседа состоялась,
«о академик остался непреклонным в своих убеждениях.
Консистория на основании доклада протоиерея Арпатско-
||| постановила отлучить профессора Маркова, согласно его
просьбе и убеждениям».
Какой же смелостью должен был обладать ученый. Ведь
он шал, что царские власти преследовали даже малейшее
проявление свободомыслия Но А. А. Маркова ото пе испу-
nrio Его отказ от православия, просьба отлучить от церк-
ки — яркий эпизод из пстории атеизма в России.
КОГ 1А УМ И СЕРДЦЕ ТЕРЗАЮТ СОМНЕНИЯ...
Ошибочно думать, что па поприще церкви действовали
<цни мракобесы и мрачные фанатики. Были люди, кого-
pup, хотя и связали свою жизиь с церковью, оставались бес-
ьорыстнымп, искали правду, хотели хотя л на ошибоч-
ном пути, по все же найти истину. Таким был, например,
(пшценнпк Александр Иванович Аполлон, имевший при-
нц вблизи Ставрополя Кавказского. Когда оп учился в пя-
том классе семинарии, ему попалась книга, произведшая
на него необыкновенное впечатление и давшая повое на-
правление мыслям. Это была «Исповедь» Л. И. Толстого.
Аполлов и ранее был знаком с его произведениями. Он про-
। «Войну и мир», причем сделал выписки из философ-
гкого заключения романа. Читая «Анну Каренину», свя-
щенник проникся симпатией к Левину. Позже, в восьмом
классе семинарии, он заинтересовался педагогическими
сгитьями писателя.
«Исповедь» я читал с величайшим интересом, как свою
ioi)frвеяную,—писал Аполлов в своей «Исповеди», кото-
рая им была написана в 1889 г.— Она давала возможность
нолянуть на себя со стороны»1.
Разделяя взгляды Толстого, он читал в церкви с амво-
на народные рассказы Льва Николаевича, другие издания
• Посредника».
Нод влиянием произведений Толстого оп в 1889 г. по-
днл архиерею записку о снятии сана — вследствие несо-
। ин ия с учением церкви. Одпако под давлением еиархи-
II.и него начальства взял ее обратно и только в 1892 г. окон-
чи гглыю порвал с церковью п сложил с себя сан.
1 Музей истории атеизма и религии ЛИ СССР. Рукописный от-
«гл ф 4, оп. 2, ед. хр. 7.
♦*
99
В августе 1893 г. Л. Н. Толстой писал Б. Н. Леонтьеву
что из событий последнего времени его больше всего ци»
пула смерть снявшего сан священника А. И. Аполлопя
«Прекрасный и сильный был человек» (66, 509). В началу
1898 г. оп советовал И. М. Трегубову написать биографию
А. И. Аполлова: «Книга вышла бы прекрасная, нужная
(71,6). 1
В своих произведениях «О церковном обмане», «О по
ротерпимости», «Письма к священникам» Толстой npnu.i
вал священников снимать сап, разоблачать перед народом
церковную ложь и обман.
В статье «К духовенству» он обращается непосредст
венно к священникам:
«Вы, никто другой как вы, вашим учением, насильем
веяно внушаемым людям, причиняете то страшное зло, or
которого они так жестоко страдают.
Ужаснее же всего при этом то, что, производя такие
зло, вы не верите в то учение, которое вы проповедусп’,
не верите не только во все те положения, из которых он»
состоит, но часто не верите ни в одно из них»...
«Но я знаю,—продолжает Толстой,— что доводы, об*
ращенные к уму, пе убеждают,— убеждает только чувст-
во, и потому, оставляя доводы, обращаюсь к вам, кто бы
вы ни были: папы, епископы, архиереи, священники и др,—
к вашему чувству, к вашей совести.
Ведь вы знаете, что неправда то, чему вы учите о со
творении мира, о благовдохновенности библии и много#
другое, так как же вы решаетесь учить этому маленькие
детей и взрослых, необразованных людей, ждущих от ваг
истинного просвещения? Положа руку на сердце, спросил
себя, верите ли вы в то, что проповедуете?» (34, 312).
И далее звучит призыв Толстого: • |
«Знаю, что многие из вас связаны семьями или за и и
сят от родителей, требующих от вас продолжения нала
той деятельности; знаю, как трудно отказаться от почв г
него положения, от богатства пли хотя бы от обеспечения
себя и семьи средствами для продолжения привычной
жизни, и как больно идти против любящих семейных. 1Ь
всё лучше, чем делать дело, губительное для своей души
и вредное людям. И чем скорее и решительнее вы покш»
тесь в своем грехе и прекратите свою деятельность, тем эр»
лучше будет ие только для людей, но и для вас самих»
(34, 318).
Сохранилось начало незавершенного рассказа Толсто! и
100
.Описки священника». По замыслу автора, священник
после сомнений и страданий разуверяется в религии, ко-
юрую исповедовал, «В первую тетрадь записок,— писал
Галетой в сохранившемся отрывке,—была вложена
бумажка с написанными на ней следующими словами:
♦ Прожил лживую подлую жизнь. Не скрываю этого от
I I он»1.
Сохранился также набросок о иеромонахе Илиодоре,
После трех лет отшельнической жизни он впадает в сом-
нение и уныние. В тот день, с которого начинается рас-
сказ, Илиодор, находясь в алтаре и совершая таинство
причащения, остро почувствовал разлад в душе. В днев-
нике монах записывает: «Да, все кончено. Нет выхода,
ш г спасения. Главное, нет бога — того бога, которому я
служил, которому отдал свою жизнь, которого умолял
in крыться мне, который мог бы слушать меня. Нет и нет
1'1 о».
В одип ряд с «Записками священника» и наброском
и иеромонахе Илиодоре можно поставить хорошо извест-
ный рассказ А. И. Куприна «Анафема». Сюжет его весьма
интересен. Соборпый протодиакон отец Олимпий должен
амвона предать анафеме «болярина Льва Толстого», по
пн незадолго до этого с величайшим наслаждением читал
Казаков»... При чтении оп «плакал и смеялся от вое-
прга» и даже подумал, что лучше бы ему быть охотни-
ка, воином, рыболовом, пахарем, а вовсе не духовным
пщом. Когда же он оказался на амвоне, то невольно
in помнил прекрасную повесть, которую читал с умилепи-
। м, п в ужасе спросил себя: «Боже мой, кого это я прокли-
наю?» Глаза Олимпия наполнились слезами, а лицо его
( (слалось прекрасным, «как прекрасным может быть чело-
веческое лицо в экстазе вдохновения», и вместо анафемы
пн провозглашает «болярину Льву многие ле-е-та» и гордо,
с чувством высокого человеческого достоинства, уходит из
церкви, чтобы больше в нее не возвращаться.
Когда священник Тихон Богатиков узнал о «синодаль-
iiiiii выходке», немедленно написал Толстому: «Правда
ин Вашей стороне безусловно». Одновременно священник
кюбщал, что «тяжело и душно ему» и что ему, прослу-
жившему в рядах духовенства уже десять лет, хорошо из-
IIK тио, что «все эти Антонии, Амвросии и пр. сознатель-
1 «Литературное наследство». Л. Н. Толстой. Кн. I. М., АН СССР,
ГНИ, с. 444.
101
но обманывают людей, дабы сохранить за собой извосл
по го рода власть, выгоды и могущество»1.
15 августа 1901 г. Толстой отвечал Богатикову: «Пись
мо ваше доставило мне большое удовольствие.
Получив сильное и радостное впечатление от ваше»"
письма,— продолжал Лев Николаевич,— мне захотело»
высказать все, что я думал о трагическом положении спи
щенника, познавшего истину, и о иаилучшем выходе hi
этого положения. Лучший выход из этого положения
героический выход -по-моему, тот, чтобы священник, со
брав своих прихожан, вышел к ним на амвон и вмесю
службы и поклонов иконам, поклонился бы до земли парс»
ду, прося прощение у него за то, что вводил его в заблуж
дение. Второй выход тот, который избрал... замечательный
человек, покойник, знакомый мне из Вятской семинарии
священник Аполлов. служивший в Ставропольской опар
хпи. Он заявил архиерею, что не может но изменившим»'*
взглядам продолжать священствовать. Его вызвали в Стин
рсполь, и начальство и семейные так мучили его, что <»и
согласился вернуться на свое место, ио, пробыв мешан*
года, не выдержал и опять отказался и расстригся. Женя
оставила его. Все эти страдания так повлияли на него, ’ни
он умер, как святой, не изменив своим убеждениям и,
главное, люб^и».
Подчеркивая далее, что второй выход, пример Аполло
г>а, «страшно труден», Толстой советовал «не употребляв
свой рассудок па ухищрения, посредством которых пре»
ставлялось бы, что, поступая дурно, я поступаю хорошо
Только бы человек держал перед собой истину во всен
чистоте, пе кривил бы душой, и оп найдет средство посту
пить паплучшим, смотря по своим силам, образом» (71,
120).
В ответ на письмо Богатикова от 19 марта 1904 годи
в котором тот говорил о своем желании оставить «б»*
смыслеппую деятельность» священника и о трудностях
срязаппых с выполнением этого решения, Толстой в пин.
ме от 15 апреля 1904 г. опять вспоминал Аполлона, налы
вая его «святым мучеником своих убеждений», опять одоб-
рял желание Богатикова выйти из состава духовенства
«То, что вы освободились от обмана и видите истину,— n.i
сал Толстой,—есть движение вперед к истинному блшу,
хотя движение это сопряжено с страданиями» (75, 77)
1 Письма священника Тихона Богатикова хранятся в отд1Л|
рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого,
102
Па этом переписка Богатикова с Толстым не оборва-
лись. Через несколько лет он благодарил Льва Николае-
ва за присланную брошюру «Обращение к духовенству»
и опять жаловался на бессмысленность своей деятельно-
сти: «Мне лично давным-давпо все это так надоело, что и
сказать невозможно, но все же предпринять решительный
шаг— пойти к архиерею и заявить, что больше не желаю
in рсйствовать — па это решимости не хватает. Вообразп-
ю только себе эти трех.месячньтс «увещания» консистории,
и затем — чуть по волчий билет! Можно ли придумать что-
либо более жестокое и ужасное относительно нас, посту-
п нощих большей частью в духовное званье еще мальчиш-
ками (20 лет) под наитием «родни» п прочих могучих дви-
ппслей нашего ведомства. Ведь после этого невозможно
уже почти никуда пристроиться. Титул «расстриги» — но-
ша пе из легких».
Продолжая утверждать, что оставаться в прежней ро-
ли он уже «положительно пе в силах», Богатиков добав-
ляет, что ничто по может быть унылее и безотраднее жиз-
ни священника. «Мне 33 года, но душой я так стар, так
все во мне замерло; не нахожу пи в чем покою, ни смысла,
пот даже охоты просто жить. Думал я сначала, что, может
быть, это я один такое несчастное существо — выродок, по
< называется, что нас... легионы. Мне приходилось полу-
чать письма, и везде у всех тоска без конца. Иной хочет
и раскольники уйти, другой в Америку, третий нажить
деньги и жить в свое удовольствие и т. д. Боже мой, как
тяжело и какая тоска. А тут еще великий пост: унылый
протяжный звон, говеют и «каются»... мне (!) трезвые,
р.шумные и верующие мужики (знаете, этак лет 40—50),
подходят строго и важно, а я как заяц и не знаю, куда
юркнуть, что сказать!.. Пытка!»... В другом письме те же
.мотивы обреченности, душевной пустоты и даже отчая-
ния: «Как смотрит на мое положение жена?.. Настоящее
положение поповское опа считает идеалом благополучия,
сытости и спокойности, и, конечно, все мои затеи о пере-
мене судьбы встречают резкое осуждение... Мне 34 года,
и к жизни давно уже пропал аппетит»...
4 июля 1904 г. письмо Л. П. Толстому Тихон Богатп-
1ов закончил словами: «Жить более так нельзя ни в коем
случае. Увидел я всю сущность поповства, и теперь я без-
условно пе могу признать за ним право на существова-
ние».
Разделяя взгляды Л. Н. Толстого, пытался сблизиться
103
с нпм и священник села Кадеевка Глуховского уезда Че
ниговской губернии Яков Колосове кий. Этот человек с в
ликим трудом и большим риском для себя доставал 3
пр еще иные произведения Толстого, переписывал от pyi
и тайно распространял в своем приходе. В письме от 2 фе
раля 1901 г. он просил Льва Николаевича прислать пек
торые его брошюры. Толстой не отказал в просьбе, и век
ре священник благодарил Льва Николаевича. Письмо дат
ровано 18 марта 1901 г. В те дни вся Россия говорю
о синодальном акте отлучения Толстого от церкви. Не пр
шел мимо этого и сельский священник, о чем свидетел!
ствует приписка к письму, в которой
Яков
Ко
лосовски
выражает убеждение, что начальство его «опростоволос!
лось».
Смелое, неподкупно честное слово Толстого находил
отклик и в духовных семинариях. Так, Василий Фпльчу
ков (сын псаломщика, воспитанник 3-го класса духовно!
семинарии в Ставрополе Кавказском) писал Толстому, чт
под влиянием его сочинений стремился изменить свот
жизнь. Оп просил совета Толстого, уйти ли ему из семи
нарии или стать священником, проповедующим истиннув
религию. Толстой в ответ советовал не позволить себе де
лать то, что противно голосу совести, и тогда «жизнь ва
ша сама собой изменится» (81, 13). Письмо заканчивалос!
так: «Очень, очень живо чувствую трудность вашего поло
жения. Всей душой желал бы помочь вам. Посылаю ва1
книги «Па каждый день», которые, может быть, приводят
ся вам. Буду рад, если известите меня о своей дальнейше!
жизни», В ответ на это письмо Толстого В. Фильчуко!
вскоре сообщил, что вышел из семинарии.
Константин Пономарев, ученик первого класса Перм
ской семинарии, тоже обратился к Л. Н. Толстому; выра
жая сочувствие нравственным взглядам автора «Войны
мира», просил совета, что ему делать в жизни. Лев Никс
лаевич ответил ему: «Всей душой желаю быть Вам полез
пым в том самом важном деле, о котором Вы пишете. Вс<
чем могу помочь в этом, я изложил в моих книгах. Охоти
пришлю Вам их» (77, 252). Вскоре Пономарев за pacnpi
странение несовместимых с религией взглядов был исклв
чен из семинарии без права нового поступления, как «н<
соответствующий профилю учебного заведения»1.
1 А. Коровин. Письма с Урала.— «Уральский рабочий», 197
9 сентября.
104
26 июля 1910 г. священник из Лужского уезда Петер-
бургской губернии, который подписался А. Т. Т., описал
Толстому свое душевное состояние (разочарование в свя-
щенническом служении) п просил совета, как ему посту-
пить. Толстой отвечал, что с нравственной точки зрения
«священнику несравненно лучше выйти из его ложного
положения, чем оставаться в нем, однако, отважившись
на такой шаг, тот должен все взвесить: от требований его.
жены и родителей до твердости собственных сил». Но па
гот случай, если священник все же решит остаться в сво-
ем ложном и дурном положении, Л. Н. Толстой дает со-
нет: «сознавать всю преступность своего положения, ста-
раться бы в этом положении, искупая преступность его,
|.ак можно больше забывать о себе, служить людям, но и
все-таки сознавать бы себя виноватым, преступным и даже
ютовым при первой возможности покинуть свое положе-
ние» (82, 93).
В книге воспоминаний А. Б. Гольденвейзера «Вблизи
Толстого» по поводу размышлений священника из Луж-
ского уезда есть такие строки: «Л. II. рассказал мне о по-
jученном им письме священника, которое его очень тро-
нуло, Это обычная история: кончил курс; сейчас же же-
нился, дети, приход, а потом вдруг чувствует, что пе может
больше продолжать этот обман».
О своей исковерканной жизни поведал Л. Н. Толстому
п священник Райский Павел Петрович из Нижнего Новго-
рода. «Мне 41 год,— писал он,— Кончил духовную семи-
нарию с озлобленным сердцем па исковеркавшую меня
школу и начальство, поступил в священники без необходи-
мых для этого звания убеждений... В церкви — ежеминут-
но гложущее сознание кощунства... ежеминутное сознание,
'по не умеешь, как подкупленный чиновник, высказаться
честно и по убеждению, сознание, наконец, того, что вся
а.изнь твоя, мучительная, есть не что иное, как служение
институту лжи, человеконенавистничеству, мракобесию,
Ш1СИЛИЮ над совестью парода, достойного лучшей участи.
Исе это окончательно подорвало и озлобило и душу и те-
кс.. Если яле могу быть счастливым, то я этого сам за-
служил и несу крест заслуженно, по дети, на которых не
может пе отразиться мое положение и состояние — их мне
жалко»1.
1 Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого, д. 181, ед. хр. 11.
105
Исковерканная, несчастная жизнь...
Такова
судьоа
те
кто в религии, «в служении богу», в церкви ищет смысл
цель своего существования. Об этом — повесть «Отец Се
ГИЙ».
Князь Степан Касатский, преуспевающий
придво
ный офицер, порывает со своим кругом, с его фальшь:
уходит в монастырь и в монашестве принимает имя отч
Сергия. За монастырскими стенами хотел
свое разочарование и уязвленное самолюбие,
он спрята
там надея
ся жить «для бога», поглощенный мыслью о самосове
шенствовании. Но в монастыре — тот
же сомнительны
кодекс нравов: ложь и корысть. Герой повести сталкивав
ся с показной парадностью, чисто внешней обрядность:
Его угнетает атмосфера чинопочитания, холопства, «м
нашеского честолюбия». И Касатский, человек волево
страстный
правдоискатель,
охваченный
напряженной
ренней борьбой, уходит в скит. Но даже тогда,
«святому» старцу, поклоняются трепетно, но
вну
с безотчетной верой,
ния в правильности
когда ем
бездумн
его душу продолжают терзать
сомн
избранного им пути. «Зачем весь ми
вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от н
го?» — вот вопрос, на который он не находит ответа. И в
мучительнее делается чувство неудовлетворенности собо
все чаще приходит тревожащая мысль: «Не величестве
ный я человек, а жалкий, смешной». И он опять реша
переменить свою жизнь, возвращается в мир, к людя
Так Толстой отвечает на вопрос «для чего жить?». Це;
существования — в служении людям.
Толстой был очень внимателен к тем, кто окончателы
порывал с церковью, с православием и буквально прекл
нялся перед их готовностью
терпеть
лишения во имя иде
и принципа.
НОВАЯ ИСПОВЕДЬ ТОЛСТОГО
...Сохранились воспоминания С. А. Толстой о том, Kt
встретил Лев Николаевич известие об отлучении: «То.
стой, разорвав бандероль, в первой же газете прочел о п
становлении синода, отлучившем его от церкви. Наде
прочитав, шапку — и пошел на прогулку. Впечатления Я
какого не было».
После 22 февраля Толстой записал в дневнике: «J
это время было странное отлучение от церкви»...
— Как подействовало на вас отлучение от церкви? •
106
спросил Толстого американский журналист и писатель
Джеймс Крилмен.
— Да никак. Я не придаю этому значения, — последо-
пал ответ1.
Но в связи с тем что после отлучения по его адресу,
1.ак мы уже говорили, шло немало «увещевательных» и ру-
гательных писем, Толстой был вынужден всенародно от-
ветить на «определение» синода. В те дни он писал
В. Г. Черткову: «Письма ко мне увещевательные от лиц,
считавших меня безбожником, вызвали меня к тому, что-
бы написать ответ на постановление синода...» (88, 230).
Итак, на самого Толстого акт отлучения не произвел
того впечатления, на которое рассчитывал синод. Ответ он
написал через полтора месяца после обнародования сино-
дального постановления1 2. И назвал его: «Ответ на опре-
деление синода от 20—22 февраля и полученные мною по
атому случаю письма».
В публичной лекции «Граф Л. Н. Толстой и его отлу-
чение» профессор-богослов Н. Ивановский назвал это пись-
мо «протестом» против отлучения. В действительности же
Толстой написал статью не для того, чтобы выразить лич-
ный протест против гнусной комедии. Он признается, что
сначала вовсе не хотел реагировать на постановление си-
нода, но то обстоятельство, что оно вызвало много писем
разных неизвестных ему корреспондентов, заставило его
взяться за перо.
Само собой разумеется, что, поскольку письма, полу-
ченные Толстым, были вызваны определением синода от
20—22 февраля, то он должен был касаться и этого доку-
мента. Для кого же Толстой дает развернутую характери-
стику определения? Для синода? Думается, что не для не-
го и, конечно, не для того, чтобы оправдаться перед ним.
Нет, он это делал для своих многочисленных корреспон-
дентов и читателей. Именно к ним, к широкому общест-
ве иному мнению он прежде всего и обращается в этом
открытом письме.
Толстой пользовался случаем, чтобы еще раз нанести
удар по церкви, по синоду в первую голову. И если уж го-
ворить о том, кто кого обвиняет, то, конечно, прежде всего
обвиняет Толстой. Прокурор он, а не Победоносцев. Даже
1 См.: «Иностранная литература», 1978, № 8, с. 235.
2 Полный текст «Ответа синоду» впервые был напечатан в Анг-
лии в «Листках свободного слова» (№ 22 за 1901); в церковных
изданиях он был опубликован со значительными пропусками.
107
язык здесь — суровый и логичный, словно обвинительниц
речь в судебном заседании. Писатель доказывает, что
становление синода не выдерживает критики не только
с точки зрения простой человеческой логики, по и с поли
ций той законности, которая Толстому была нопавпстнп
Как и следовало ожидать, продолжает Л. Н. Толстов,
постановление вызвало «в людях непросвещенных и ни
рассуждающих озлобление и ненависть ко мне, доходящий
до угрозы убийства и высказываемые в получаемых мшии
письмах» (34, 246). Он не хочет быть голословным и ци
тирует эти письма. Служителям церкви оп бросает: «То, что
я отрекся от церкви, называющей себя православной, а го
совершенно справедливо». И тут же добавляет, что он «пи
святил несколько лет па то, чтобы исследовать теоретике
ски и практически учение церкви: теоретически я перо
читал все, что мог, об учении церкви, изучил и критиче-
ски разобрал догматическое богостовпе; практически же —
строго следовал, в продолжение более года, всем предин
санлям церкви, соблюдая все посты и посещая все цор
ковпые службы. II я убедился, что учение церкви есть тео
ретическп коварная п вредная ложь, практически же соб
ранне самых грубых суеверий и колдовства...» И споим,
превращая свой ответ в страстный обличительный памф
лет, Толстой еще раз показывает, что крещение, причаща
ние п другие христианские таинства ничем не отличаются
от любого колдовства п противоречат человеческому разу-
му и здравому смыслу. Далее оп решительно подтвердп-i
что отвергает непонятную троицу и баспю о падении пер
вого человека и что он отрекся от церкви, перестал выпол
пять все обряды и написал в завещании своим близким,
чтобы они, когда оп будет умирать, не допускали к нему
церковных служителей.
Далее Толстой говорит, что Христос для пего просто ча
ловек. Человек, «которого понимать богом и которому мп
литься,—заявляет он,—считаю величайшим кощуисг*
вом», показывая тем самым абсурдность догмы о богоче
ловеке и подрывая веру в божественное происхождение
«священного писания». Позиция Толстого здесь близки
позиции Э. Ренана, книга которого «Жизнь Иисуса» визы
вала у пего большой интерес. Он, безусловно, раздели!
мнение этого французского историка религии п писатели
о том, что в личпости п деле Иисуса пе было ни'кчп
сверхъестественного, ничего, что требовало бы слепой по
ры. Э. Ренан описывал биографию человека, пришедшоЯ
108
N людям в момент осознания ими необходимости повой
И и ши и решительно преобразующего эту жизнь на нача-
лах добра п справедливости. Еще ранее, в других своих
публицистических работах, Толстой говорил, что божест-
венность Христа выдумала теологами, чтобы оправдать
ц Шествование церкви. Распятие обставляется духовенст-
вом тайной, а легенда о воскресении провозглашается им
и иствительным событием, чтобы дурачить наивных лю-
,ii и Этот догмат, как и чудеса вообще, Толстой клеймит
как самую бессовестную ложь.
Итак, признание Христа у Толстого пе связано с при-
щипнем бога. Отсюда логически вытекает вывод: если
Пигус Христос историческая личность, создатель опреде-
I лги пых моральных заповедей, дошедших до пас в записях
по апостолов, то что жо могло быть божественного в его
I учении? Так разрушается образ Христа — бога, который
|Hi щ спасения погрязшего в грехах человечества принес
< спя в жертву...
В конце ответа синоду, коротко излагая суть собствен-
iioii веры, Толстой утверждает, что изменить своп мысли он
способен, если ему представят другое, более истинное по-
нимание жизни, но возвратиться к церкви оп пе может,
как не может летающая птица войти в скорлупу того
лица, из которого она вышла». Бога Толстой определяет
। к «любовь» и «начало всего»... Но это не мешает ему
I р< шительно отвергать веру в потусторонний мир и в чуде-
са и тем самым расшатывать догматические устои рели-
iiiii. Ответ синоду церковники называли «новой исповедью
Гилстого». С этим, пожалуй, можно согласиться. Здесь от-
рицание церкви, ее догматов и таинств высказано, как са-
мое сокровенное, глубоко личное, выстраданное1.
Пе случайно «Тульские епархиальные ведомости» бы-
|и вынуждены признать, что в ответе па постановление си-
нода Толстой опять выразил нетерпимое отношение к
I ip рквп «открыто, дерзко, саркастично», а митрополит
(’ Петербургский Антоний заявлял, что это «бигоборство и
(иъявлепие войны самому Христу».
«Толстовское дело», писал журнал «Миссионерское обо-
||н пне», пе могло остаться «домашним спором». В прес-
" западноевропейских стран оно трактовалось па все
1 В своем рабочем кабинете в Кремле В И. Лепив храппл бро-
Ш1"ру Л. Н. Толстого «Ответ синоду», которая была напечатала
» 1905 г.
109
лады. Было немало статей и сообщений, опубликованных
в поддержку русских церковников. Но раздавались и трет
вые голоса. Газета, издававшаяся в Чикаго, назвала ответ
на определение синода «прощальным словом Толстого ду-
ховенству», «маленьким памфлетом», а самого Толстого
«великим отступником XX века». Одна из английских га-
зет в мае 1903 г. писала: «Своим ответом синоду Толстой
зовет отказаться от доктрин, которым каждый мыслящий
и честный человек давно перестал верить».
В Лейпциге состоялся суд над переводчиком Р. Левей
фельдом и издателем Э. Дидрихсом, которые обвинялись
в опубликовании па немецком языке статьи Толстого «От-
вет сштоду».
В середипе марта, откликаясь на поток сочувственных
пгсем, Толстой написал в редакции газет: «Не имея воз-
можности лично поблагодарить всех тех лиц, от саповнп
ков до простых рабочих, выразивших мне, как лично, так
и по почте и по телеграфу свое сочувствие по поводу по
становления св. Синода от 20—22 февраля, покорпейш"
прошу Вашу уважаемую газету поблагодарить всех этих
лиц, причем сочувствие, высказанное мне, я приписываю
не столько значению своей деятельности, сколько остро
умшо и бла современности постановления св. Сипота. Лои
Толстой» (73, 50). Письмо это едкое и саркастичное,
разумеется, не было напечатано в русской легальной прес-
се. Толстой переслал его В. Г. Черткову в Англию и тог
опубликовал послание в «Листках свободного слова»
(№ 23 за 1901 г., с. 24).
В ДНП ТЯЖЕЛОЙ БОЛЕЗНИ
Поняв, какой заряд критической силы содержал в со
бе ответ Л. II. Толстого па определение синода от 20 —
22 февраля, царский министр Сппягин запретил светской
печати «трактовать по поводу этого документа».
Но это не значило, писал издатель-церковник В. Сквор
цов, что церковь может молчать, «прятать свою голову,
подобно страусу, и пе видеть толстовской опасности для со
бя и своей паствы».
И церковь действовала. Прежде всего синод стал с еще
большей тщательностью следить за каждым шагом писл*
зеля.
Осенью 1901 г. тяжело больпой Л. II. Толстой по совету
врачей уехал в Крым, в Гаспру. Опасались за его жизнь
НО
0Г> этом узнали в столице. Из Петербурга летели секретные
поюграммы — губернаторам курскому, орловскому, туль-
скому и прочим: «Благоволите Припять зависящие меры к
|юспрепятствованпю каких либо демонстраций по пути во
время перевезенпя тела Льва Толстого». Рассылались рас-
поряжения, предписывающие, каким тайным маршрутом
слетовать «траурному вагопу» и как без липшего шума
препроводить тело великого писателя земли русской в по-
Mt дний путь. Одновременно с жандармской слежкой,
установленной за пристанищем Толстых, шла охота и на
самую душу больного. «О, графиня! — кликушествовал из
Петербурга митрополит Антоний, обращаясь к жене
Толстого.— Умолите графа, убедите, упросите сделать это.
I ю примирение с церковью будет праздником святым
для всей Русской земли, всего парода русского, православ-
ною»...
Но «праздника» пе состоялось: Толстой преодолел
свою болезнь и отверг притязания непрошеных душе-
приказчиков.
Софья Апдреевпа сказала мужу: «Если бог пошлет
мерть, то надо умирать, примирившись со всем земным
и с церковью тоже». На это Лев Николаевич ответил:
— О примпренпп речи быть не может. Я умираю без
i-сякой вражды и зла. А что такое церковь? Какое может
быть примирение с таким неопределенным предметом?
[ев Николаевич настоял, чтобы Софья Андреевна пе
отвечала Антонию.
Потом церковники задумали иезуитскую провокацию.
1’пбедоносцев отдал гаспринекому священнику тайный
приказ попытаться прорваться к умирающему Толстому,
и затем объявить собравшимся у ворот людям, что Толстой
in ред смертью покаялся и вернулся в лоно православной
церкви— даже если этого пе произойдет. Распоряжение
Победоносцева стало известно и вызвало чувство возмуще-
ния. «Эта чудовищная ложь,—пишет П. А. Буланже,—
цмгжпа была облететь всю Россию п весь мир и сделать
го дело, которого не могла сделать за десятки лет пн рус-
। кая цензура, пи гонения на сочинения Льва Николаеви-
ча»* 1. Остановились на следующем: в случае кончины Тол-
( кн о скрыть это и как можно быстрее дать условные теле-
|раммы в Петербург, в Москву и за границу с тем, чтобы
1 «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», г. II. М.,
I оиштиздат, 1960, с. 170.
Ш
газеты и общество были извещены прежде, чем местпъп
агенты Победоносцева начнут действовать. Чехов, живши!
тогда в Гаспре, узнал о гнусной интриге церковников и го
же участвовал в «заговоре близких».
Синод поспешил разослать инструкцию: «В случае коп
чины графа Льва Толстого не служить по нем панихид»,
Одновременно с этим распоряжением синода из министер
ства внутренних дел во все губернские города полетели
шифрованная, строго секретная телеграмма, предлагай
тая «не допускать никаких демонстративных речей и вся
ких манифестаций».
Слежка особенно усилилась в те дни, когда здоровья
писателя резко ухудшилось. Так, в начале 1902 г. протон>'
рей Василий Попов сообщал Победопосцеву о состоянии
Толстого: «Страшный упадок сил», «врачи и дети исог
ступно день и ночь дежурят у его постели». Тогда же еппс
коп таврический Антоний писал Победопосцеву, чш
Софья Андреевна намерена пойти па хитрость: если Тол
стой умрет, пошлет за священником, якобы по желали*
самого больного, чтобы тот мог исповедаться и причш
титься, а когда священник явится, опа выразит сожалении,
что священник опоздал, и потому будет просить его при
дать тело христианскому погребению. Его письмо показы
вает, что церковь готова была пойти па заведомый обман
совершить отпевание уже мертвого тела. «С одной стори
пы, это было бы и хорошо в целях парализовать обаяте.'Пс
ность толстовцев,— писал Антоний,— но с другой сторо
ны— это нечестно, да и опасно, ибо сами же толстовцы
могут раскрыть впоследствии сей обман»1.
Антоний спрашивал обер-прокурора, как ему посту
пить, если все это случится.
Пет сомнения, что епископ пе столько нуждался в со
вете, сколько сам пытался дать совет Победоносцеву.
Правительство предусмотрело средство и способы,
с помощью которых рассчитывало избежать широкой oft
щественпой огласки в случае смерти писателя.
Все было тщательно подготовлено и рассчитано, вплоПь
до маршрута траурного поезда, времени его остановок
Одно только не было предусмотрено — возможность выздо-
ровления Толстого. А он, вопреки мрачным медицинским
предсказаниям, стал вдруг поправляться. В мае 1902 г
Лев Николаевич уже совершенно здоров и 25 июня уезяы*
1 ЦГГ1АЛ, ф. 797, оп. 94, д. 177, лл. 3-5.
112
и из Крыма в Ясную Поляну. По и там слежка за ним
ш прекращается. Церковники неусыпно следят за каж-
дим его шагом.
По соседству с Ясной Поляной проживал Павел Зна-
менский, священник прихода села Кочаки. Он-то в первую
•'Н'редь и шпионил за Л. II. Толстым. В «Отчетах о состоя-
нии Тульской епархии» (хранятся в Центральном государ-
ственном историческом архиве СССР в Ленинграде) содер-
ii.irocb немало сведений, переданных им «по команде».
Архиепископ тульский и белевский Никанор, излагая фак-
Ц.1, сообщенные ему «благопочинным Павлом Знамен*
<впм», писал в синод, что на священников села Кочаки,
приходе которого находится село Ясная Поляна, «падает
ня тяжесть борьбы с учением графа Толстого, тем более
। рудная, что Толстой считает всех вообще священников
подыми неразвитыми, ничего не понимающими в области
религии, а потому обманщиками, с которыми считает для
<пбя низким входить в какое-либо общение». Позже епис-
миг тульский и белевский Питирим отмечал в своем отче-
।' синоду, что «Толстой позволяет себе открыто обнаружи-
ли ь свое полпое неуважение к обрядам православной
церкви». В подтверждение он приводил следующий слу-
чаи. Однажды священник села Трасны прибыл с крестным
\ii (ом на станцию Ясенки и здесь на Крапивенском шоссе
при большом стечении народа ожидал икону Владимир-
11.oil божией матери из села Грецово Богородицкого уезда.
Когда на шоссе показалась икона, все увидели, что, про-
I ываясь через толпу, едет кто-то на сером коне. Минуту
спустя всем стало очевидно, что это был Л. Н. Толстой.
Как оказалось,— сообщил синоду Питирим,— Толстой
• чал вблиз иконы в шляпе от села Кочаки 4—5 верст
и время от времени делал народу внушения, что собирать-
< и и делать честь иконе совсем не следует, потому что
|»Ч1‘пь глупо, и вообще оскорбительно говорил по поводу
tn иконы... По поводу такого кощунства сам граф Тол-
инн в беседе с одним богобоязненным тульским иереем,
командированным мною к нему с миссионерскою целью,
iii.k казал, что он не хотел встречаться с крестным
1<цом и совершенно нечаянно встретился; хотел было
и чтиться от этого, объезжая другою дорогою, но, к сожа-
...по, опять встретился в Ясепках. «Здесь,— говорит
1||цф,— я уже не стерпел и высказался об иконе царицы
•Лесной по своим убеждениям».
В ноябре 1904 г. священник села Пнрогова-Сапова Фе-
113
дор Глаголев доносил протоиерею Ивановскому, a tih ] Процитированные выше документы показывают, что
епископу тульскому и беловскому об обстоятельств»'» Ви кка за Толстым не прекращалась пи на один день,
раскаяния перед смертью брата Толстого Сергея Никол* В созданной вокруг Толстого разветвленной системе шпио-
евича Толстого и о самом Льве Николаевиче. В их доклад шика не последнюю роль играли духовные лица, действо-
пых записках Сергей Николаевич характеризовался кин
человек, «известный особенною резкою к церкви холщ
ностыо, доходившей едва ли не до презрения к ней, обу
словленной, несомненно, сильным на него влиянием б|Ы
та». «Тридцать лет оп не был у исповеди и св. причастии
столько же, вероятно, никто не видел его в храме»,— до
кладывал Федор Глаголев. Но вот перед смертью Сергея
Николаевич вызывает священника и заявляет о своН
покаянии. «Христиански скончавшийся и погребен бы
с подобающею торжественностью».
Но Глаголев хорошо понимал, что епархиальное ил
чальство интересовала кончина Сергея Николаевича лшю
постольку, поскольку опа имела отношение к личное и
великого русского писателя, «Не лишено, думаю, интер
са,— писал он,— и то обстоятельство, что брат покойно!
Лев Николаевич самолично участвовал в похоронной пр-
цессии, неся прах покойного до церкви, откуда удалился
поставив гроб на приготовленное место»1. В здание сами!
церкви Толстой так и не вошел.
Для неусыпного ока церковников не осталось незам»
ченным и массовое посещение детьми Ясной Поляны.
Было это в жаркий день 26 июня 1907 г. К Толстом*
в гости приехали около тысячи детей тульских рабочм»
Лев Николаевич вышел пз дома, поздоровался с детьми и
завязал с ними непринужденную беседу. Потом органил
вали прогулку к реке Воронке. По дороге автор «Детстьй
шутил с детьми, собирал с ними букеты. И вот, накопай
Воронка. Дети попрыгали в воду. Лев Николаевич врем
от времени заглядывал в купальню, беспокоясь, как бы ш
не утонул. На зеленом лугу у березовой рощи организовал»
игры А потом па площадке перед домом Толстого ycipoi
ли чаепитие.
5 июля викарий Георгий доносил об этом епископ
тульскому и белевскому, высказывая одновременно и
мущеппе тем, что «самый факт хождения детей к гриф
и устроения ому оваций есть факт развращающий и лир
лизирующий христианское воспитание детей».
наитие заодно с полицейскими чинами.
вокруг юбилея
I! августе 1908 года должен был отмечаться 80 летний
♦Пилей великого писателя. Опасаясь дальнейшего распро-
||ыпения антиклерикальных идеи Толстого, церковники
»|'|ыывали царские власти запретить чествование его.
В пюле 1908 г. в Киеве состоялся IV Всероссийский
Ьиссионерский съезд. Он заслушал доклад московского
Ьор.хиальпою миссионера Айвазова по поводу готовяще-
•ш я чествовапия Л. II. Толстого. Съезд постановил «хода-
•листвовать перед святейшим синодом об издании в первых
юслах августа увещевательного послания к чадам право-
пшпой церкви о том, чтобы православные пе принимали
такого участия в чествовании графа Л. Н. Толстого,
[огому что он пребывает в отлучении от церкви п кощун-
li пенном похуленпи и отрицании се святых, с разъясне-
нием, что всякое чествование графа Л. Толстого прпобща-
•f чествователей к делам и воззрениям чествуемого».
В те дни стали распространят! ся слухи, что возможна
«церковная реабллитаппя» Толстого, что синод «готов пс-
•||||пить ошибку» и намерен снять отлучение. Корреспон-
• иты газет кинулись к церковным авторитета*! за разъяс-
ичшямп. Управляющий канцелярией синода С. П. Грпго-
Ькский сказал в своем интервью, что для снятия отлуче-
ны необходимо желание самого отлученного- «А то ведь
• - кет случиться, что Толстой, когда снимут с него отлу-
winip без его желания, вполне основательно спросит: «Кто
Нс просил обо мне беспокоиться?»
I — Значит?..
Отлучение может быть снято только по личному же-
Ьлию Толстого, Для этого достаточно одного его слова1.
По синод не добился этого «слова», и 20 августа, за
й дней до юбилея, последовало его определение «По воп-
иу о готовящемся дне чествования графа Л. II Толсто-
» В определении предлагалось церковнослужителям об-
Ьгпться к «чадам православной церкви» с разъяснением
1 Гос. архив Тульской области, ф. 3, оп. 5/8, д. 582 (а).
1 «Петербургская газета», 1903, 28 февраля.
114
115
причин отлученпя Толстого от церкви. Уже на треп в юбилейных торжествах п наименовать некоторые
день после этого определения синод опубликовал oopjim
пне к верующим с призывом «воздержаться от ynuciii
в чествовании гр. Л. Н. Толстого», как «упорного прели
пика православной церкви». В черносотенной газете If
локол» от 24 августа архиепископ финляндский Серио*
предрекал, будто никто «не пойдет на праздник в част
Толстого и не пустит туда своих детей». А Иоанн
штадтский дошел до того, что сочинил молитву о скоры*
шей смерти юбиляра и заодно против революции: «Гоги
ди, умиротвори Россию ради нищих людей твоих, проври
ти мятеж и революцию, возьми с земли хулышка твощ
злейшего и пе распаянного Льва Толстого и всех его горя
чих закоснелых последователей»1.
Весьма характерно, что в числе возмущенных »т< в
«молитвой» были орловские крестьяне. К своему письм
па имя Толстого от 15 июля 1908 г. они приложили им
резку из газеты «Новости дня» с «молитвой» и призывЯ
писателя «дать отпор сему пастору через посредство бол(
справедливой газеты». Подобные письма, безусловно, рн
довали Толстого, поддерживали, убеждали, говоря ел
вами Пушкина, в том что пе пропадет его «скорбим
труд и дум высокое стремленье».
В связи с 80-летием Толстого во многих городах
в Петербурге, Новочеркасске, Нахичевани, Камыши по -
других — делались попытки назвать именем писателя н<
которые учебные заведения. В ряде губерний земские Я
бранил, городские думы выносили соответствующие х<»
тайства. Но всякий раз против этого восставали продет
вптели духовенства. В министерство народного просвет
пня одновременно с ходатайствами светских учреждено!
и лиц шел поток категорических протестов власгй
церковных.
Когда Царицынская городская дума постановила от
крыть в память 80-летнего юбилея Л. Н. Толстого гор.»
скую читальню его имени и назвать его имепем две поим
городские школы, епископ саратовский Гермоген помол
ленно сообщил министру просвещения, что царицынскы 1,11 • телеграмм, а к вечеру число их возросло до двух тысяч,
духовенство на своем собрании высказалось против этой
решения.
30 сентября 1908 г. в Нижегородской губернии Горин
товское уездное земское собрание постановило принт
1 «Петербургская газета», 1908, 15 июля, № 192.— Цит. а
журн.: «Наука п религия», 1960, Кг И, с. 74.
116
ионы уезда «толстовскими». Однако епископ нижегород-
Bnri выступил с протестом.
I В Туле на собрании черносотенного «Союза русского
• дца» произнес речь, направленную против Толстого,
шрпщ председателя отделения «Союза» Николай Тро-
шш. который, кстати сказать, был редактором «Тульских
«рхиальных ведомостей». «Оказывается,— злобно вос-
1»пцал черносотенный оратор,—с памп по соседству обн-
№<т «величайший писатель земли русской»... «Величай-
ни!» — вот так именно, отнюдь ие иначе, ничуть не ме-
— И вот этому «величайшему» нужно праздновать
шлей, да не какой-нибудь, а прямо-таки вселенский».
ышчил он свое выступление призывом: «Но, добрые рус-
Впе люди, будем ли мы на празднике изменника церкви
«истовой? Будем ли мы па этом торжестве человека, ко-
|||рын изменил Хрпсгу, православному царю и родному
роду? О, пет! Нет, православные!»1
В Нижнем Новгороде дума решила было открыть школу
Lt Толстого. Это вызвало сопротивление тех же черносо-
Ь и до в. В Горьковском областном музее выставлен протест
«юза русского народа», адресованный городскому голове,
ицнтники самодержавия выступали против постановле-
ния думы от имени «истинно русских людей». Под этим
«г.умснтом, полным злобы и ненависти к великому писа-
Ь.'по, первой стоит подпись священника Николая Орлов-
Виого.
Боясь обострения политической борьбы, страшась
«родных масс и памятуя о событиях революции
1*105—1907 гг., царское правительство запретило праздно-
»<и> 80-летний юбилей Л. II. Толстого.
Но несмотря па противодействие правительственных
Lu.шов, выступления черносотенной печати п особенно
|-рвовииков, юбилей великого русского писателя сорвать
удалось.
В Ясную Поляну со всех концов мира шли приветствия,
день юбилея тульский почтовый чиновник ирпвез
'|и'Щ приветствий был адрес, подписанный 700 аиглий-
• имп литераторами, артистами, живописцами, скульпто-
kiMtr, политическими деятелями. Пришли многочисленные
•леграммы от рабочих.
1 «Тульские спаркпалыше ведомости», 1908, с. 304.
117
Эти потоки поздравлений вызывали у Л. Н. Толетт
отнюдь не тщеславное чувство. По свидетельству Гольдои
всйзера, он говорил: «Одно только мне радостно: во нс»
почти письмах, приветствиях, адресах — все одно и то ж<
это просто стало трюизмом, что я разрушил религиозны
обман и открыл путь к исканию пстины. Если это правд
то это как раз то, что я и хотел и старался всю жизнь
лать, и это мпе очень дорого»1.
14 апреля 1909 года в III Государственной думе обсуй
далась смета синода. По поручению социал-демократии
спой фракции в прениях выступил рабочий денут?
П. ГТ Сурков. С думской трибуны прозвучали страстшд
слова, разоблачавшие антинародную деятельность прюг
славной церкви. Чиновники в рясах, говорил оратор, с;(*
лались такими же кровавыми врагами парода, как и чипии
ники в мундирах. Доказательства? Аргументы? Их немал
в этой речи, в том числе и возмущение человеконепаюк ।
пической проповедью против Л. II. Толстого. Эта речь бы
одобрена В. И. Лениным, Владимир Ильич писал: «При
ставптель рабочей партии и рабочего класса, с.-д. Сурю>»
один из всей Думы поднял прения на действителен
принципиальную высоту и сказал без обиняков, как оси
сится к церкви л религии пролетариат»1 2...
ОТ УГРОЗ И КЛЕВЕТЫ ДО ЛЕСТИ
В июле 1909 г. «Церковные ведомости» предостюш •
свои страницы тамбовскому епископу Иннокентию, лр
лагавшему возбудить против Толстого судебное прсслел»
га нис. «Святой законник» подобрал и статью у го лови»!
уложения — 73-ю: «за богохульство, глумление, издею
тельство и кощунство над божественной личностью гО‘*и
да Иисуса Христа».
Чтобы очернить Толстого и подорвать великую любой
к нему народных масс, использовали также церкоигф
живопись. Так, появились иконы, на которых Толстой «ы
бражался грешником, мучающимся «в геенне огнен пои
В Государственном музее истории религии и атеизма в 'I
пинграде экспонируется картина, полученная из села I*
зово Курской области. На пей изображен Л. Н. ТолМ"4
терпящий муки ада.
1 А Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., ГИХЛ, h
с. 245.
2 Б. И Лепин. Поли. собр. соя,, т. 17, с. 438.
Толстого травят пе только в изданиях синода. В тече-
1908 г. лишь в одном Саратове были изданы брошю-
Ь «Граф Л. II. Толстой, как один из самых ярких выра-
birieii духа грядущего антихриста», «Истинный облик
linn Толстого», «Отец Иоанн Сергиев (Кронштадтский)
11 рлф Лев Толстой». Много лет глумились над творчест-
•♦м и личностью Толстого «Тульские епархиальные ведо-
мств». Журнал заявлял, что не может не учитывать, что
пределах Тульской епархии находится логово рыкаю-
щего на святую церковь льва (графа Л. Н. Толстого)». Его
t гивнейшпм сотрудником стал упоминавшийся выше Со-
Мр.ко, автор книжонки «Плоды учения гр. Л. II. Толсто-
м, написанной по заданию Победоносцева. Представля-
ть читателям, Сопоцько писал, что у него «старческое,
1о'гги идиотское лицо анемического неврастеника-интелли-
Ьига», проточенное до мозга костей «измами» «от социа-
кнма и анархизма». Уже одна автохарактеристика этого
Ьл с каявшегося толстовца» вызывает отвращение. Цель
кого самоунижения ясна: показать, будто антиправи-
Li ветвенные и антицерковные мысли Толстого настолько
к'творны, что они, видите ли, губят и душу и тело чело-
Ька.
О (иако церковный журнал ставил перед собой цель не
и ко поколебать авторитет Толстого, но и «обратить
Мучителя на истинный путь покаяния». Так, протопе-
ri \. Иванов, выступивший на его страницах, настоя-
Ln.no рекомендовал писателю встретиться с Иоанном
втнштадтским* «Может быть, его сильное благородное
Lino благотворно подействовало бы на вас,— писал прого-
к|кчь—Скажите, я написал бы ему, и он, может быть,
Lt к вам приехал бы». Со своей же стороны протоиерей
талея уверить Толстого, что действительным величием
^крылось бы его имя «за одно раскаяние, за публичное
Ьуи. (ение богоборпых противоправительственных сочпне-
Hft». Пугая Толстого «ужасами замогильной будущно-
М», автор письма приводил отрывок из басни И. А. Кры-
►•з «Сочинитель и разбойник». «Крылов,—увещевал
Н конечно, пе мог иметь в виду графа Л. Н. Толстого.
11 что за дело? Кто бы ни был этот «славою покрытый
гшиптель», Руссо, Вольтер или другой кто, басня, как
• th ia пуля, всегда «виноватого найдет». Жаль, если
। Голстой не признает себя виноватым»...
Го [стой не посчитал нужным ответить протоиерею
I Иванову.,.
118
119
Разнообразя жанры антптолстовских выступлеии
журнал тульских церковников использует и стихотворп
форму. В одном из номеров было опубликовано стихом
реппе священника Павла Покровского «Плач м«и
о сыне». «Мать» — это церковь, «сын» — Толстой. Эти|
фом к этому стихотворению взяты слова из послан*
синода: «Милосердный господи, услыши, и помилуй, и '
рати его ко святой твоей церкви». Обращаясь к Толстм
от лица церкви, сей новоиспеченный пиит восклицает;
Приди ко мне, вернись домой!
Приди ж ко мне, желанный мой!
Я дам тебе сокровищ много,
Каких нигде ты не найдешь!
Я все отдам, что есть у бога,—
Ты это все себе возьмешь!
Уверяя, что «мать-церковь» не только щедра, но п
злопамятна, поэт в рясе продолжает от имени сей «добр ।
матушки»:
Я позабуду расточенье
Тобой сокровищ всех моих,
Я дам тебе во всем прощенье,
Оставь страну людей чужих!
Стихотворение заканчивалось призывом:
Иди ж ко мне, о, сын мой, смело!
Но что ж? Зову, а ты нейдешь!
Толстой оставался глух к фарисейским рыдаю
церкви.
Добиваясь возвращения писателя в лоно церкви, «Ту|Ц1
ские епархиальные ведомости» мечтали о том, чтобы и
к концу жизни отрекся от реалистического искусству ♦
имя морально-религиозной проповеди, закончил жиф
самоосуждением. В статье «Слово в день памяти И. В I
голя» довольно отчетливо звучит противопоставление I •
ля Толстому. Автор статьи — ректор духовной семгпыр»
архимандрит Феодосий намеренно подчеркивает в Гпп
все то, что ему бы так хотелось видеть в Толстом. Он»
ляя в стороне обличительную сторону творчества Гони
автор с восторгом говорит, что читателей трогают «ре im
сзные порывы Гоголя». «Жизнь в союзе с церковью,
убеждал духовный ментор,— удерживала писатели ।
опасного при его гениальных дарованиях искушен па in
достп».
120
I ели вспомнить, что в других статьях журнал проклп-
И’Г Толстого именно за то, что тот «поддался искушениям
’р (ости» и столь решительно отверг какой-либо «союз с
(рковью», то станет ясно, чего добивался архимандрит
►идосий. Не удержался ректор и от того, чтобы не исполь-
Иить такой «выигрышный» для самодержавия и религии
►мент из биографии Гоголя, как сожжение им незадолго
> смерти своих обличительных произведений. Так день
нити Гоголя оказался для церковников удобным пово-
•м, чтобы еще раз призвать Толстого возлюбить право-
Мтпую церковь. Для них словно и не было Гоголя —
‘•должателя традиций Радищева и Пушкина, страстно
облачавшего язвы полицейско бюрократического аппа-
Иа николаевской империи. Они пе хотели слышать го-
Невский смех, обличавший Чичиковых, собакевичей. Для
К пе существовало писателя-патриота, который в поры-
I горячей любви к пароду и отчизне заявлял: «Мысли
•и, мое имя, мои труды принадлежат России». Нет, не
ого Гоголя, великого сына своего народа, ставили они
пример Толстому. Церковники подавали в тенденциозно-
^увеличенном гиде все то, что было порождено заблуж-
'пиями писателя в последпие годы его жизни.
Гак же сам Толстой относился к тому, что Н. В. Гоголь
’ ыкате жизни обратился к церкви?
15 заметке о Гоголе (март 1909 г.) Л. Н. Толстой, отда-
||| должное огромному художественному таланту Гоголя,
г же называл ум его несмелым, робким. Главное иесча-
П' всей деятельности Гоголя, отмечает он, это его
Ькорпость установившемуся лжерелигиозпому церковпо-
I учению и тогдашнему русскому государственному
тройству. От этого та странная путаница понятий в по-
•дпих сочинениях Гоголя» (38, 280).
В марте 1909 г. он перечитывал «Выбранные места из
hii'iincKii с друзьями» Н. В. Гоголя. На нолях книги
in шсь следы ого активного чтения, различные пометки
(щенки по пятибалльной системе. Если некоторые пз
inn книги Н. В Гоголя были оценены 5, 4, 1, 3, 2 баллами,
нытье «Несколько слов о нашей церкви и духовенстве»
В Толстой дал самый пизкий балл — нуль (38, 52).
b не мог согласиться с утверждением Гоголя, что церковь
порочна, «как целомудренная дева», и что якобы лишь
в состоянии разрешить противоречия жизни, «дать
у России»... В этой связи необходимо вспомнить зна-
..... письмо В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю, в котором
121
оп говорил об огромном общественном значении русы
литературы, о том, что публика «видит в русских шит
лях своих единственных вождей, защитников н спа* и
лей» от самодержавия и православия и потому, «всей
готовая простить писателю плохую книгу, никогда ио nj
щает cmj зловредные книги». Что касается церкви, то I
линский, с присущей ему страстностью, назвал ее «опор'
кнута и угодницей деспотизма».
Толстому пытались противопоставить пе только Гони
15 августа 1902 г. «Тульские епархиальные ведомое г
опубликовали «Слово в день 50-летнего юбилея поело см>
ти поэта Василия Андреевича Жуковского», произнес»*
ное 22 апреля 1902 г. в церкви Белева соборным прото»*
реем Василием Знаменским. Характеризуя В. А. Жу№
ского прежде всего как «истинно православного п п|
мерного христианина», этот служитель церкви постро»
свою юбилейную речь па противопоставлении поэта I
стому. Он обошел молчанием самое характерное для ни
чества одного из первых русских поэтов-ромаптит
стремление проникнуть в душевный мир человека, pacri-
зать о его переживаниях, настроениях. Жуковский иш
ресует протоиерея пе как мастер стиха, прекрасный шц
годчик, а лишь как придворный поэт, воспитатель им пн*
тора Александра II, автор гимна «Боже, царя храни». Il,
этом Знаменский предостерегает от чтения произведен
Толстого, «особенно молодое поколение, еще не ути-
дпвшееся в правилах веры». Вот, оказывается, в ч
дело! В борьбе с идеями Толстого церковь противополи
ла им творчество Жуковского, считая его надежт
«противоя д и ем »...
Толстому старательно подыскивали всяческие «обри »н
для подражания». Но читал ли писатель всю эту «паэн|
тельную литературу»? По свидетельству его секрета^
И. II. Гусева и В. Ф. Булгакова, он до нее даже пе дотр
гивался. Однако ому было известно, что церковь жажд
его «возвращения». В марте 1902 г. Толстой запиг
«Говорят: вернись к церкви, но ведь в церкви я улно
грубый, явный и вредный обман. «Продолжайте у пас и
купать муку»,—но ведь я знаю, что ваша мука с п.мнч
кой — вредна».
Священник Тульской тюремной церкви Дмитрий 1(
ицкпй решил применить иную тактику. В предислои
к своей книжке он с гордостью заявлял, что принял на
миссию «в совершенно противоположном духе, в дру*
*ih-обах и приемах, чем какие практиковались прежде,—
ivхе братства, любви, кротости, самоотвержения»1.
I Да, примерно в таком духе он и писал Толстому, когда
впивался личной встречи. Письмо предварительно про-
ИП1 t тульский епископ и наложил на нем одобрительную
Ьюлюциго. В послании своем Троицкий воздает должное
манту Толстого, познанпям в науках, отмечает «смелость
• рассуждениях о религии», явно стремится вызвать к себе
pt положение, причем тут же спешит признаться, что его
тбетвенпое перо слабо, а ум посредствен».
Г «Читать Ваши произведения,—продолжает Троиц-
.1!и,— то некогда мне, то пе хочется по непривычке к чте-
нию, то книг нет, да если буду, думаю, читать, то многого
L пойму, тем более не пойму самого автора. Вот погово-
• И1 г. с людьми я люблю... да п собеседники не сторонятся
itniH. Почему мне не рассчитывать, что разговор с Вами
к<и га вит не только мне, но и Вам приятность пли даже по-
Ьшосгь? Разговор же с Вами о заключенных в тюрьме,
Ь иполно уверен, заинтересует Вас... Покорно прошу Вас,
||пг[елыгейший граф, допустить меня до свидания с Вами
в собеседования»2.
Вскоре — это было в сентябре 1897 года — Толстой дал
Li 1асие на встречу. Беседа состоялась. Но, по свидетель-
liiiy самого Троицкого, ему не удалось «сойтись и подру-
житься» с Толстым. Лев Николаевич иронически спросил
1йящепника: «Как же вы прибыли ко мпе, еретику, и кто
Lie послал?» Затем Толстой говорил о том, что пе признает
|[шстианского богослужения, таинств, икон, почитания
пятых. Что отвечать гостю? Он решил лучше «но воз-
1ркдать вопросов веры и церкви.., так как граф в таких
|учаях волновался, высказывал краткие насмешливые
Афоризмы и даже кощунства. Нужно было избегать таких
Ьюриых разговоров, иметь строгую осторожность, сдер-
CiiinrocTb».
По для чего же в таком случае Троицкий ездил к Тол-
• гиму, если избегал «вопросов веры и церкви»? Отвечая
кпже на упреки своих коллег, считавших, что это была
щельная прогулка, Троицкий доказывал, что уже одно
||П) появление в доме Толстого явилось «проповедью, напо-
минанием о боге».
1 Д. Троицкий. Православпо-пастырское увещаште графа
Li II Толстого. Сергиев Посад, 1913, с 10.
2 Письма тульского свящеппика Д. Троицкого хранятся в от-
ft ю рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
122
123
). ховпая птица возвратится в свое духовное гнездо. Как
и трудно Вам возвратиться к церкви, но все-таки легче,
wm страстно упивающемуся вином возвратиться к трезво-
i.Ht, вору — к честным трудам, сребролюбцу — к пестяжа-
ию, лжецу — к правдивости».
I Далее «любящий друг» бестактно напоминает Толсто-
|у, что он стар и немощен, что близка его смерть и имен-
ии в таком состоянии ему «удобнее принять младенческую
•мру, теперь-то и настало время истомленной птице воз-
^штиться в свое гнездо и сделаться птенцом». Далее он
».\чал, что «отрадно грешнику получить помилование
• прощение», «пролить слезы о своей виновности».
В письме от 13 октября 1906 г. Троицкий снова говорит
Толстому о близости смерти п зовет к покаянию.
В первых числах января 1908 г. он явился в Ясную
Впляну, чтобы встретиться с Толстым. Встреча состоялась,
о желанного для церкви результата не дала.
11 октября 1910 года, совсем незадолго до кончины,
Толстой писал Троицкому из Ясной Поляны, что предло-
, предписываемые церковью,
следствие чего ему, Толстому, простятся грехи, является
। ранным».
Не сумел добиться своей цели и Стефан Козубовский,
|||цщенник села Мелешково Подольской губернии. В пись-
|и от 16 декабря 1908 г. он убеждал Толстого вернуться
I православию. Уверял «брата по человечеству», что тот
L гопает во мгле роковых заблуждений» и предлагал руку
Помощи. Подписался: «Ваш молитвенник и искренний
Вчброжелатель». Толстой написал, что разделить со свя-
Внчшиком его взгляды для него «совершенно певозмож-
1н» Козубовский направил Льву Николаевичу простран-
•ы и ответ. Толстой послал ему второе письмо —и в пем
учит та же непреклонность, непоколебимая убеждеп-
Ь)с гь. Толстой просит понять, что оп, «старик, стоящий
мВрюй ногой в гробу», желает одного — быть в согласии
и всеми и, если допустить истинность верования «о возмез-
пи в будущей жизни», то он, Толстой, своим непризнани-
U церковной веры может только «погубить себя навеки»,
‘ичем же ему в таком случае отказываться от того, что
•ишими людьми признается еще за истину? Зачем же,
фкшивает он, ему отказываться, когда такое признание
। е признание веры церковной) вызвало бы к нему вме-
111 дурного самые добрые чувства огромного количества
юдои, в том числе и многих очень близких, как, например,
Затем состоялась еще одна встреча. На этот раз вели
обыкновенные житейские разговоры.
«В таком положении было дело общения с грш|
с 1897 года до 1901 года,— пишет Троицкий.— Все ожи»
лось, терпелось, переносилось, имелось в надежде. 1‘<м»
гиозный пафос не являлся или пе был в достаточной от»
пени. Гром православия не прогремел, и отступник ш* •
дрогпулся».
Летом 1901 г., как свидетельствуют документы, хрип
щиеся в архивах, через несколько месяцев после отлуч
ния писателя от церкви, Троицкий пишет Толстому очер» i
ное увещевание, полное лицемерных заверений:
«При последних событиях с Вами (имеется в виду <н
лучение) моя любовь к Вам пе только не охладела, по Л
лее возгорелась... Во мне явилось непреодолимое влпч
ние... воздействовать на Вас для привития истинной люби»
евангельской».
Далее Троицкий пытается убедить Толстого, что «»•
расчет житейский и не выгоды» руководят им, а ...люби»' - А
«Эта любовь к Вам,— продолжает он уверять,— запечата’ *'11(16 совершать ооряды,
на даже самоотвержением: я переносил и переношу ш
смешки за знакомство с Вами и собеседования,— меня и
рицали, называли толстовцем, защитником Вашим, ю
шутя, кто серьезно». Заметим в скобках: святой отец лш
Миссия Троицкого не была его частным делом. Епипя
тульский и белевский сообщал конфиденциально Побп»
носцеву: «Недавно вновь командированный от мни
священник города Тулы о. Дм. Троицкий привез мио К
вестие, что на обращение графа надеяться трудно»1. Туи
ский епископ Парфенпй доносил синоду: «В числе приход
ских пастырей г. Тулы есть между прочим протомер»
Дмитрий Троицкий, он с 1897 г., по благословению бы
шего Тульского епископа Питирима, взял на себя tjm
быть увещевателем графа Толстого» (82, 186).
Отрекомендовав себя чуть ли не заботливым други»
Троицкий переходит к существу дела:
«Я пе верю тем, которые давно твердят о невозмо/шь
сти возвращения к церкви, не верю и Вашим, по-види*
му, решительным словам: «Невозможно летающей пип
возвратиться в яйцо, из которого вывелась...» Не дивии*
все отрицающие возможности нового перерождения грш|
Л. Н. Толстого, не дивитесь и Вы сами, граф, потому ч»
1 Отдел рукописей Гос. публ. б-ки Акад, наук УССР, ед. хр. W
124
125
его сестры монахини, и многих других? «И если челпл! । щ п^липим FftlAQPMP
в моем положении лишается с болью сердца любви сщл “ Ш КЛИниИ ииЦюПпП
них хороших людей, желающих его обращения в пор——————
ную веру, вызывает вместе с тем нодоброжелателыч
и — смело скажу — презрение людей, составляющих цЩн
вующее общественное мнение, то очевидно, что он пост»
пает так только потому, что пе мо <ет поступать и лич
В самом деле, что же мне делать, если я не могу, букпюо
но не могу исполнить желание ваше и многих добрых h*
дей. Ведь разве не было бы без сравнения хуже, если
я не только утверждал, что верю во что не верю, но стари
ся бы сам себя обманывать, признавая за веру желай»
быть в единении с людьми, которых уважаешь и любипп
(79,107-108). fl
Дальнейшие события покажут, что духовенство и ст После внезапного отъезда Л, II. Толстого пз Ясной Но-
ские власти будут продолжать «увещания» Толстого, 1,||1Ы на страницах русских и зарубежных газет замелька-
бенио после того, как он уйдет из Ясной Поляны и olb г" название «Оптина пустынь». Эти слова склоняли на все
жется на станции Астапово. истолковывая по-разному преоывание Толсто! о
Ь монастыре. «Перебродили все его сомнения, опи рассея-
I «icb»,— ликовали одни. «Он не погордился первым пойти
|К матери-церкви»,— с радостью вторили другие. Во многих
Ии рубежных газетах появилось немало ложных сообщений.
Пик, в Париже и Лондоне почти одновременно были опуб-
и кованы телеграммы под заголовком «Удаление в мона-
®)ирь». В ответ на эти публикации, содержащие и намеки
in религиозное «просветление» Толстого, последовало от-
11рытое письмо П. А. Кропоткина к редактору лондонской
I Шпеты «Таймс». Кропоткин попытался отмести предполо-
1|ми*1ше о возможности отречения писателя от свопх убеж-
I I н пин. Он утверждал, что «Толстой, конечно, не возвра-
1М1лся к учению православной! церкви». Римский корреспон-
|гн1 «Речи» писал, что «печать католическая в длинной-
H.HIX статьях хвалит Л. Толстого, бросившего-де свои ере-
тические мысли и вернувшегося в лопо церкви». Многим
in рубежным деятелям казалось, что Толстой капитулпру-
I I) перед лицом смерти.
II \ ЧТО НАДЕЯЛСЯ СПИОД?
Официальное русское духовенство распространяло
(и рсию, что уход Толстого — это «акт обратного возвраще-
нии блудного сына к церкви», акт «христианского смире
пни и раскаяния», итог его «религиозного просветления».
127
В эти ноябрьские дни 1910 года синод созывает закрыл»
заседания. Для участия в них прибыли: из Тулы — Ibq
фений, из Екатеринбурга — епископ Митрофан. Постит
ли в столицу митрополиты Владимир Московский и Тпхт.
Ярославский, епископ Михаил Минский. Церковные ю»
тели охотно дают интервью корреспондентам. А те с шн
торгом сообщают: «По мнению преосвященного Парфсшт
Лев Николаевич переживает какой-то религиозным по|н
лом, который приближает великого писателя к правослпц
ной церкви»; «Решение Льва Николаевича уйти в мир cun
скоп Митрофан рассматривает как акт обратного его w
вращения к церкви». f
Первое экстренное тайное заседание состоялось 3 и<>
ября. Подробностей о нем в печати не появилось. Одпюч
сообщалось, что прения были продолжительные и бурим
и что ввиду неясности положения синод не вынес никаши
определенного решения и постановил послать телеграмм,
калужскому епархиальному начальству с предписанием
попытаться увещевать Льва Николаевича Толстого раски
яться перед православной церковью.
5 ноября в синоде опять разбирался вопрос об отнонв
пип церкви к Л. Н. Толстому.
Митрополит Антоний высказал мнение: «Накапун1
смерти великого писателя земли русской православии)!
церковь должна открыть свое лопо для согрешившего щ>»
тпв церкви и православной веры человека, по раскали и i
которого мы должны принять все меры». С Антонием <<»
гласились все присутствующие. Тут же решено было и*>
слать на станцию Астапово члена синода епископа самар
ского Константина. Его облекали полномочием сообщи и
Льву Николаевичу предложение иерархов православной
церкви.
Церковнослужители — члены Государственной думы -
со жгучим интересом следят за судьбой Толстого. В спеем
заявлении для печати они говорят, что «синод не будет на
стаивать на вполне ритуальном обряде, на публичном о»
речении Л. П. от своих заблуждений и удовлетвори н и
его причащением по православному обряду».
Большие надежды возлагает высшее духовенство ив
тульского архиерея Парфепия. 2 ноября, едва только при
быв в Петербург для участия в тайных заседаниях спиодл
Парфений принимает представителя одной из галч
Корреспондента интересует последнее посещение архперл
ем Толстого. Но Парфений отвечает, что он лишен вон
|миж пости сообщить содержание беседы, т. к. обещал Точ-
ному сохранить беседу в тайпе. Однако через несколько
heir в газетах появился «Доклад синоду епископа Парфе-
iitn о свидании с Л. Н. Толстым». Епископ докладывал,
Hid Толстой в момент беседы держал себя совершенно
покойно и не проявлял никаких враждебных чувств ни
церкви, ни к ее представителю... Из этого следовало,
1то «в настоящее время Лев Николаевич вовсе не так
враждебно относится к церкви, как раньше».
Итак, Парфений не сдержал слова, данного Толстому.
По в точности ли он передал в докладе синоду сущность
'-•седы, о которой так много говорили в высших духовных
кругах?
Встреча Толстого с Парфением состоялась в Ясной По-
лное в январе 1909 г. По свидетельству Н. Н. Гусева,
Толстой сказал тогда архиерею, что вернуться к церкви
гик же невозможно для него, как взлететь в воздух,
к тут же постарался к этой теме больше не возвращаться.
|Ь время этой встречи инициатива постоянно оставалась
in Толстым, он направлял беседу в нужное ему русло.
Толстой стал расспрашивать архиерея о некоторых подроб-
ностях монастырской жизни, которые были нужны ew для
пячатого, но неоконченного рассказа «Иеромонах Илио-
дор».
О том, что миссия Парфенпя не имела успеха, говорит
и запись, которую сам Толстой сделал 22 января 1909 г.:
। Вчера был архиерей, я говорил с ним по душе, но слиш-
ком осторожно, не высказал всего греха его дела. А надо
было... Он, очевидно, желал бы обратить меня, если не об-
ратить, то уничтожить, уменьшить мое, по их — зловред-
ное влияние на веру и церковь. Особенно неприятно, что
пи просил дать ему знать, когда я буду умирать. Как бы
н > придумали они чего-нибудь такого, чтобы уверить лю-
дей, что я «покаялся» перед смертью. И потому, заявляю,
кажется повторяю, что возвратиться к церкви, причастить-
1л перед смертью я так же не могу, как пе могу перед
смертью говорить похабные слова пли смотреть похабные
киртинки, и потому все, что будут говорить о моем пред-
смертном покаянип и причащении — ложь.., (выделено
Л Н. Толстым.—С. П.) Повторяю при этом случае и то,
fro хоронить меня прошу также без так называемого бого-
с |ужения».
Чем же в действительности была в жизни Толстого
Оптина пустынь?
128
i/j6 Заказ 339
129
В 1877 г. Толстой впервые приехал в этот монастыр»
вместе с Н. Н. Страховым. Вторично он направился туа-
летом 1881 г. Состоялась встреча с Амвросием. Велась б*
седа о религиозных вопросах. Лев Николаевич рассказ
вал потом Софье Андреевне: «В этом разговоре отец \м
вросий был уличен в неточном знании одного места и
Евангелия»’. Обратившись к Евангелию, Толстой доки»•« <
ему свою правоту. Был еще разговор с монахом Ювон"
лием. Опять, как писала Софья Андреевна, вспыхнул спор
и Толстой уличил оппонента в плохом знании церковные
таинств. «От этого посещения пустыни Л. Н. вынес бож*
отрицательных впечатлений, чем в первый раз,— пис«|
биограф Толстого П. И. Бирюков.— Беседа со старт*»-
Амвросием его не удовлетворила. Старец, слышавший d
антицерковном направлении Толстого, убеждал его пои*
яться и подтверждал свои доводы текстом святого писе
ния: «Егда согрешишь, повеждь церкви». Л. Н.-ч возр*1
жал, что такого текста нет, а есть другой: «Если брат ты*
согрешил тебе»... Старец стоял на своем, и Л. Н.-ч вын(\
из кармана Евангелие указал старцу на ошибку. Стары-
нимало не смутился и перевел разговор на другое»2. А Ын
что писал о посещении Л. Н. Толстым Оптиной пустыш
в 1877 г. и 1881 г. его сын Илья Львович: «Монастыр!
и сам знаменитый отец Амвросий разочаровали его жести
ко... Он вернулся из Оптиной пустыни недовольный, и
вскоре после этого мы все чаще и чаще стали слышать <и
него сначала осуждение, а потом и полное отрицание вен
кпх церковных обрядов и условностей. Православие отц*
кончилось неожиданно»3.
В феврале 1890 г. Толстой снова совершил поездку
в Оптину пустынь, где тогда гостила его сестра Мари»
Николаевна. Старец Амвросий произвел на Толстого жал
кое впечатление. В дневнике он писал, что Амвросий
«жалок своими соблазнами до невозможности... На пом
видно, что монастырь — сибаритство». Монахи же, обн
тающие в Оптиной пустыни, также не нашли сочувствии
у Льва Николаевича: «Горе им. Они живут чужим трудам
1 Из «Записок графини Софьи Андреевны», опубликовалим-
в «Толстовском ежегоднике», 1913.
2 П И. Б и р ю к о в Биография Л. Н. Толстого, т. 2. М., Го
издат, 1929, с. 183.
8 И. Л. Толстой. Мои воспоминания. М., «Худож. лит.», 1961*
с. 171-172. I
130
9 го — святые, воспитанные рабством. Монастырь — ду-
ховное сибаритство».
Эти записи свидетельствуют о том, что посещения Оп-
ишой пустыни не были паломничеством религиозного
человека. Толстой осматривал окрестности монастыря,
г.оехпщался кедровой рощей, красивыми озерами и гигант-
ским бором, радовался возможности поговорить с посещаю-
щими монастырь простыми людьми. В рукописях сохрани-
лись краткие записи: «Пригорок над рекой весь как в бар-
хате, в мягкой зелени мха»; «Воздух свежий. Взор отды-
хает на неподвижной темно-зеленой опушке леса»; «После
дождя, на закате солнца вся зелень разбухла, размокла
щето и матово».
Монастырь же, как таковой, не особенно интересовал
Толстого. В гостиницу пустыни пришел старый друг князь
Д А. Оболенский, и Толстой охотно принял его пригла-
шение. В имении Оболенского он провел день и вечер, с ин-
тересом слушал игру замечательного пианиста Н. Г. Ру-
бинштейна, прочитал два отрывка из восьмой части «Анны
Каренины». Большое удовольствие Толстому доставило
само путешествие. Останавливаясь в деревнях, в крестьян-
ских избах, Лев Николаевич обогащался новыми впечат-
лениями, записывал народные пословицы и поговорки. Бе-
седами с крестьянами и рассказами странников были на-
веяны сюжеты ряда рассказов. В Оптиной пустыни Тол-
стой сделал первый набросок повести «Отец Сергий», в ко-
торой обличал монастырский быт и нравы. 25 марта 1890 г.
Толстой писал II. П. Вагнеру, что в Оптиной пустыни он
видел людей, «считающих необходимым по нескольку ча-
сов каждый день стоять в церкви, причащаться, благослов-
лять и благословляться и потому парализующих в себе
деятельную силу любви».
В четвертый раз Лев Николаевич посетил монастырь за
несколько дней до кончины. Сюда он заехал по дороге
в Шамординский монастырь, где хотел повидаться с сест-
рой. Если Толстой и думал встретиться со старцами мона-
стыря, то отнюдь не для того, чтобы примириться с цер-
ковью. Причины ухода Толстого из Ясной Поляны полно
н многосторонне освещены в литературе — к ней мы и от-
сылаем интересующихся, здесь же лишь скажем, что он
был вызван стремлением жить в полном соответствии
с собственными убеждениями1 2 1.
1 См.: Б. Мейлах. Уход и смерть Льва Толстого. М.— Л.,
Гослитиздат, 1960.
131
Многое опровергает легенду о том, что приезд в Оптину
пустынь выражал желание «раскаяться». Так, 7 ноября
1910 г. сразу же после известия о кончине Толстого и о
том, что он умер без покаяния, митрополит Антоний теле-
графировал епископу Вениамину в Калугу: «Благоволите
владыко, ответить спешно, был ли Толстой за последние
время в Оптиной пустыни и с какими намерениями». Во
нпамин сообщал: «По донесению настоятеля Толстой про-
был в гостинице Оптиной пустыни сутки, внутри монасты
ря не был, ни с кем из старшей братии не беседовал, по
этому мне совершенно неизвестны намерения его и цель
приезда. Затем он выехал в Шамордину пустынь для сви
дания с сестрой монахиней». Несколькими днями раньш<
настоятельница Шамордипского монастыря сообщала Ве-
ниамину, что Толстой в Шамордине «кроме сестры ни у
кого не был». Находившийся в те дни с Толстым Д. П. Ма-
ковпцкпй писал: «По-моему, Лев Николаевич желал видетн
отшельников-старцев не как священников, а как отшель-
ников, поговорить с ними о боге, о душе, об отшельниче-
стве, видеть их жизнь и узнать условия, на каких можно
жить при монастыре. О каком-нибудь искании выхода па
своего положения отлученпостл от церкви, как предполага-
ли церковники, не могло быть и речи»1.
Безусловно авторитетным является свидетельство сест
ры Толстого Марии Николаевны. В ответ на письмо Шарли
Саломона из Парижа она писала 16 января 1911 года1
«Вы хотели бы знать, что мой брат искал в Оптиной нус*
тыни? Старца-духовника или мудрого человека, живущего
в уединении с богом и своей совестью, который понял ом
его и мог бы несколько облегчить его большое горе? Я ду
маю, что он не искал ни того, ни другого. Горе его было
слишком сложно: он просто хотел успокоиться и пожить
в тихой духовной обстановке... Бедный Лев, как он рад
был меня видеть? Как он желал устроиться в Шамордпш»,
«если твои монашки меня не прогонят», или в Оптиной
Я не думаю, что он хотел бы вернуться к православию»1 2.
В тот драматический момент, когда в Астапове у посо-
ли больного Льва Николаевича бессменно дежурили врачи
правительство задумало провести инсценировку «раская
1 Д П. Маковицкий. Уход Льва Николаевича Толстою
Л. Н Толстой в воспоминаниях современников, т. 2. М., ГЛ XI
1955, с. 331.
2 С. Л. Т о л с т о и, Очерки былого. Тула, Приокское кн. изд ри,
1965, с. 316.
132
иия» писателя и примирения его с церковью. Но отлуче-
ние от церкви явно мешало представить врага официаль-
ной религии примирившимся. Правительство начало ока-
зывать давление на церковную власть, чтобы добиться его
отмены. Газеты сообщали о переговорах П. А. Столыпина
с синодом. Но церковным сановникам не хватало хотя бы
слабого намека умирающего Толстого на раскаяние. И в
синоде тайно обсуждали способы возвращения писателя
к лоно церкви. Светские и духовные власти действовали
заодно. Немалые надежды возлагало правительство на ря-
занского губернатора Оболенского. Прибыв в Астапово,
ют немедленно сделал распоряжение удалить со станции
всех, кто там остановился: ему мешали свидетели. Но
распоряжению этому никто не подчинился. К тому же
ir губернатор растерялся: с одной стороны, он хотел уго-
щть правительству, а с другой, испугался силы общест-
венного мнения. II Оболенскому долго не могли простить
гу непоследовательность и «слабость», которая была им
проявлена. Так, последний французский посол в царской
России Морис Палеолог, характеризуя российского премь-
ер-министра Штюрмера как человека, который личиной
добродушия и приторной вежливостью прикрывал низость,
интригантство и вероломство, вспоминал такой эпизод,
‘то было на каком-то официальном приеме 16 мая 1916 го-
53. Оставшись в узком кругу, председатель совета минист-
ров Штюрмер указал пальцем на сидящего в отдалении
кпязя Александра Николаевича Оболенского и в раздра
женин сказал: «Я его очень люблю. Но одного поступка не
чогу простить ему. Он был рязанским губернатором в
1910 г., когда Толстой так странно умер на станции Аста-
не во. Вы помните, как вся его семья следила за тем, чтобы
нс допустить к нему священника. Будь я на месте Обо-
ленского, я не колебался бы ни минуты: я удалил бы
- иной семью и насильно ввел бы к нему священника. Обо-
ленский возражает, что он не получил распоряжений и что
семья Толстого имела право так поступить и т. д. Но раз-
но можно говорить о праве и нужны ли распоряжения, ког-
да дело идет о возвращении души Толстого в лоно святой
церкви»’. Сановные круги царской России были готовы
почти даже на прямое насилие, лишь бы вернуть Толстого
h лоно церкви. Сама же церковь надежды не теряла.
1 Морпс П а л g о л о г. Царская Россия накануне революцип.
М.-П., 1923, с. 127,
133
В те дни высшую церковную власть занимал вопрос о
совершении над Толстым, в случае его смерти, так пазы
ваемого заупокойного богослужения. В синоде в свя ш
с этим состоялось пе одно продолжительное заседание
Было решено, что еслп Толстой обнаружит хотя бы мп
лейшее желание причаститься или возвратиться к церкви,
с пего снимут отлучение п разрешат похоронить его по
церковному обряду. С целью «воссоединения великою
грешника с православной церковью» синод направляв г
в Астапово своих уполномоченных. Они прибывают туда
вместе с жандармами.
Игумен Оптина скита Варсонофпй срочно приехал п
Астапово, хотя в ответ па предварительную телеграмму
ему сообщили о невозможности встречи с Толстым. Варсо-
нофпй по-разному объяснял причину своего здесь пони*
ления. Одним оп говорил, что отправился па богомолье, но
по дороге будто бы случайно узнал, что на станции лежит
больной Толстой. Других убеждал, что несколько дпей
назад будто бы Толстой сам хотел повидаться с ним в Он
тином скиту. Но правду говорил он лишь тогда, когда со
общал кое-кому доверительно, что ого послал сюда святей
шип синод. 5 ноября Варсонофпй телеграфпровал из Аста-
пова в Калугу епископу Вениамину: «Здоровье графа впу-
шает опасения. Консилиум докторов ожидает окончатель-
ного кризиса через два дня. Стараюсь видеть больною
при посредстве родных, но успеха пет. Доктора никого пп
допускают. Предлагают дождаться кризиса болезни графа
Испрашиваю святительских молитв, архипастырского бла-
гословения в моей трудной миссии в Астапове. Губерна-
тор, много высших чинов пз Петербурга доступа к графу
не имеют».
6 ноября калужский еппскоп Вепиамип направил Вар-
сонофию^елеграмму: «Святейший синод благословляет
вам жить пока в Астапове, впредь до особых распоряжении.
Употребите все старания побеседовать с графом Толстым.
Будем молиться. Благослови вас господь». В этот же день
митрополит Антонии телеграфпровал из Петербурга в Ка-
лугу епископу Вениамину: «Благоволите отцу Варсоно-
фию ждать пока в Астапове впредь до особых распоряже-
нии. Будем ждать и молиться».
Одновременно митрополит Антоний, подписавший от-
лучение, обратился к Льву Николаевичу с личной теле-
граммой. Он умолят его «примириться с церковью л пра-
вославным русским народом». Телеграмму эту получили
134
I Астапове, когда Толстой уже был в олень тяжелом
осгоянии, и врачп запретили беспокоить больного.
Варсонофпй вместе с иеромонахом Пантелеймоном суе-
гптся, бегают от вокзального буфета на платформу, оттуда
1 станционному домику и обратно, назойливо пристают ко
*гем родным Толстого. Но Варсонофпй так п не может
добиться разрешения на встречу с умирающим Все еще не
н ряя надежды. обратился с письмом к дочери Толстого
Александре. «Почтительно прошу Вас, графппя,—писал
Варсопофпп,— ле отказать сообщить графу о моем при-
мгпп в Астапово, и если оп пожелает видеть меня хоть
на 2—3 минуты, то я немедленно приду к нему». На это
письмо игумена Александра Толстая не ответила.
Ночью Варсонофпй тайком пробирается с «дарами»
к домику, где лежит умирающий. Но монаху пе удается
проникнуть к больному. Сконфуженно возвратился он па
вокзал, и здесь его приютила полиция. Эмиссару синода
Варсонофию пе удалось выполнить распоряжение началь-
г । ва.
Пока Варсонофпй метался в Астапове, сюда спешили
ирхиереи Рязанской и других епархий. Опп надеялись, что,
если пгумеп успешно справится с возложенной па пего за-
ичей, им удастся авторитетно подтвердить, что Толстой
«покаялся», и даже отслужить в Астаповской церкви пани-
хиду за упокой души «блудного сына».
В то раннее утро, когда стало известно, что Толстой
скончался, монах Варсонофпй опять засуетился. Оп все
еще на что-то надеялся. Ему нужно было лишь одно: чтобы
кто-нибудь пз близких Толстого удостоверил, что покой-
ный перед смертью выражал желание примириться с цер-
ковью. Варсонофпй пристает ко всем с этим вопросом, но
желаемого ответа пе получает. 7 ноября оп в очередной тс-
грамме
Калугу Вениамину сообщал:
«Граф Толстой
скончался. Семья была при нем. Умер без покаяния. Меня
в
не пригласили».
Митрополит Антоний, извратив истину, донес синоду
рапортом, будто Варсопофия пе допустили потому, что «по-
следние дни гр. Л. Толстом был окружен лицами, враждеб-
ными церкви». Сам же Варсонофпй, боясь гнева своего
начальства, попросил губернатора Оболенского дать ему
справку, что он, «несмотря на настоятельные просьбы,
обращения к членам семьи графа Л. Н. Толстого и нахо-
швшимся при нем врачам, не был допущен к графу Тол-
стому и о его двухдневном пребывании на ст. Астапово пе
135
было покойному сообщено»1. Такую справку, датиров;
ную 7 ноября, губернатор выдал Варсонофию.
7 ноября в Астапово прибыл тульский архиепис!
Парфений, который пригласил к себе в купе ротмим
Савицкого и, закрыв двери, сказал: «По личному же:
нию государя императора я командирован синодом j
того, чтобы узнать, не было ли за время пребывав
Толстого в Астапове каких-либо обстоятельств, указыва
щих на желание покойного графа Толстого раскаят!
в своих заблуждениях»1 2. Затем Парфений расспрашива
родных Толстого, не выражал ли он перед смертью жел
ния примириться с церковью. Ему отвечают: «Не
И Парфений, не выходя из вагона, уезжает восвоя
Руководитель полиции Харламов в шифрованной те;
грамме уведомлял начальника корпуса жандармов гев
рал-лейтенанта Курлова: «Миссия преосвященного П|
фения успеха не имела. Никто из семьи не нашел возмо
ным удостоверить, что умерший выразил какое-ли
желание примириться с церковью. Члены семьи также
выражают желания церковного погребения. Преосвяще
ный отбыл»3.
Сын Л. Н. Толстого Сергей Львович вспомиш
«В Астапове брат Андрей подошел к Парфению п
благословение, и у них, по словам Андрея, произош
приблизительно следующий разговор:
Парфений: Не известно ливам, не примирился ли Л
Николаевич с церковью? Не высказывал ли желания пр
соединиться к ней?
Андрей: Не знаю.
Парфений: Вы видели Льва Николаевича?
Андрей: В сознательном состоянии не видел, пото:
что нас всех позвали в 12 часов. После морфия отв
в сознание не приходил.
Парфений: Может
нибудь духовное лицо с ним говорило по этому предмет
Андрей: Не знаю.
Парфений: Может быть, кто-нибудь из семьи ваш;
слышал о желании Льва Николаевича примириться с це
ковью?
Андрей: Не могу этого сказать.
1 Архив синодальной канцелярии, Д. № 331.— Цит. по к
Н. Н. Постолов. Лев Толстой и русское самодержавие, с. 11
2 «Красный архив», т. 4, 1923, с. 352.
3 Там же, с. 359,
быть,
вам известно, что как:
136
Парфений: Может быть, кто-нибудь из вашей семьи
может это подтвердить?
Андрей: Владыко, я — православный и верующий и
желал бы, чтобы отец примирился с церковью, но этого
п утверждать не могу»1.
Парфению и прочим церковным служителям нужен
был хотя бы слабый намек на то, что Толстой (пусть
н полусознательном состоянии) перед смертью пожелал
примириться с церковью! Тогда они сумели бы создать
легенду, что великий грешник раскаялся. Это была бы
легенда о «блудном сыне», который на смертном одре от-
рекся от своего вольнодумства и умер, исполненный
христианских чувств. Цель здесь была вполне определен-
ная. Дело в том, что в то время именно христианское
благочестие было первым признаком политической благо-
намеренности, «верности престолу». И если бы чинов-
никам в рясах удалось заставить Толстого «причаститься
святых тайн», то это могло бы выглядеть как компромисс
не только с церковью, но и с самодержавием. Ну, а раз
Толстой «раскаялся», пошел на компромисс с церковью
и самодержавием, тогда антицерковные и антиправитель-
ственные страницы его произведений надо рассматривать
всего лишь как причудливые заблуждения гениального
ума. И тогда охранительному литературоведению оста-
лось бы только потрудиться над тем, чтобы дать читаю-
щей России искаженный, фальсифицированный облик
писателя.
Толстой до конца выдержал морально-психологиче-
ское испытание на стойкость собственных принципов
и убеждений. В. И. Ленин в статье-некрологе «Л. Н. Тол-
стой» заклеймил домогательства служителей церкви. Он
писал: «А святейшие отцы только что проделали особен-
но гнусную мерзость, подсылая попов к умирающему,
чтобы надуть народ и сказать, что Толстой «раскаялся»1 2.
Л народ, простые люди России проявили в те дни самое
искреннее, поистине любовное отношение к писателю.
«Вокруг дома, где лежит Толстой, круглый день царст-
вует тишина. Все с удивительной трогательностью берегут
покой дорогого старца», — телеграфирует корреспондент
одной из московских газет. Когда состояние больного
ухудшилось, помощник начальника станции срочно вы-
1 С. Л. Т о л с т о й. Очерки былого. Тула. Приокское кн. изд-во,
1975, с. 411.
2 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 20, с. 22,
137
ехал в Москву за баллонами с кислородом, а начальная
дороги распорядился, чтобы поезда свистели не громкое
В Астапово хлынул поток телеграмм с пожеланием здо®
ровья любимому писателю. Со всех концов России прихов
дили народные лекарства — травы, мази, примочки,— нж
набралось свыше ста килограммов... 1
Чиновникам в рясах был ненавистен и страшен nfk
только живой, но и мертвый нераскаявшийся ТолстойД
В день его смерти до редактора-издателя «Московски^
ведомостей» Льва Тихомирова, человека близкого к пра*|
вительственным кругам, дошли слухи, будто церковные
власти намерены снять с Л. Н. Толстого отлучение по*
смертно. Махровый реакционер заволновался и немедлен*®
но отправил две телеграммы. Первую — в Петербург
митрополиту Антонию: «Умоляю ваше высокопреосвя*
щенство не допускать деяния, угрожающего расколом
церкви». Вторую — в Тулу, Парфению: «Слухи о возмож^
ности панихид удручают. Это грозит расколом»1. Парфе-
ний ответил телеграммой, что он ничего не разрешал)
8 ноября Тихомиров встретился с Парфением на Мо*
сковском вокзале, где тот был проездом в Петербург. Во
время встречи Парфений сообщил Тихомирову, что сам)
государь выразил горячее желание, чтобы Толстой, когда?
он еще болел, был принят в лоно церкви. Этого былое
достаточно, чтобы Столыпин и его подручные стали да*«
вить на архипастырей. А архипастыри, говорил недоволь^В
ным тоном Парфений, уж известно, рады стараться: что-1
бы выполнить волю царя, они уже готовы были и не»
раскаявшегося мертвого Толстого принять в лоно церкви.»
Тихомиров воскликнул: «Малые, малюсенькие души!»'^
За репликой редактора черносотенной газеты — не толь«|
ко понимание возможных последствий такого шага, НО’
и непроизвольная оценка всех, кто замешан в этом
чудовищном деле. Синод подтвердил свое определение об
отлучении Толстого, и, узнав об этом, Тихомиров записал
в дневнике, что тем самым «церковь была спасена от «
самооплевания».
Однако Тихомиров глубоко ошибался. Авторитет #
церкви не был спасен. Кампания лжи и клеветы против i
Толстого явилась одной из самых постыдных страниц ее I
истории. Кстати, деятели современной церкви делают®
вид, что поединок с Толстым или вовсе забыт ими, ила»
давно перестал их интересовать. Поэтому-то в совремея*»
1 «Красный архив», 1936, № 1,
ной церковной литературе мы не смогли найти каких-
либо упоминаний о Толстом. Но в первые годы после
смерти писателя имя его не сходило со страниц духовной
прессы.
Так, тульский церковнослужитель Д. Скворцов писал:
, «Хотя Толстой был такою великою духовною силою, та-
! кою величиною, что стороннее влияние на него весьма
было трудно, однако он находился в таком духовно-нрав-
ственном настроении, что оно (влияние) было вполне
возможно,— и результат его зависел от того — от кого
и как это влияние пошло бы. Великий Гоголь в последние
годы своей жизни, находясь в настроении значительно
подобном толстовскому, легко подпал влиянию глубоко
религиозного человека в лице простого православного
священника» («Тульские епархиальные ведомости» № 1
за 1911 год).
Следовательно, по мнению Д. Скворцова, не нашлось
священника, подобного тому, который так ловко и ковар-
но воздействовал на психику больного Гоголя. Журнал
тульских церковников как бы старается извлечь уроки из
поражения, хочет разобраться в причинах неудачи.
«Влияние на Толстого в нужном направлении было
возможно»,— утверждает Скворцов. Об этом будто бы
говорят обстоятельства последних дней жизни писателя.
На какие же обстоятельства ссылается автор статьи?
Толстой предчувствовал близость смерти, а в такие дра-
матические минуты, цинично утверждает церковник, лег-
че завладеть чужой душой и заставить ее «откровенно
высказаться». На это и делалась ставка. Ждали того, что
Толстой «на грани перехода из сего мира в иной» нако-
нец услышит голос, обещающий прощение. «В этой на-
дежде от церкви посылаемы были к больному Толстому
в Астапово — и старцы Иосиф и Варсонофий, и архипас-
тыри тамбовский, рязанский и тульский. Верующие с тре-
вогою ожидали результатов трогательной заботливости
церкви о заблуждающемся».
Однако «не суждено было дождаться благих резуль-
татов такой заботливости»,— сокрушается Д. Скворцов.
По не желая признать величия Толстого и собственное свое
бессилие, церковнослужители объясняли причину пора-
жения следующим образом: «В последние дни и часы
жизни Толстого его окружали люди, крайне враждебно
настроенные к церкви, страшно опасавшиеся, как бы
в самом деле Толстой не примирился с церковью. Для
138
139
них это было бы большим ударом, а потому они кретин
стеною загородили больного старца, чтобы к нему как I
не прошел примиряющий голос церкви. И он умер,
перекрестившись». Да, Толстой умер убежденным п]
тивником церкви. Он погребен в яснополянском ле
«Заказ», на месте, им самим указанном. Зеленый х(
мик — скромная могила, на которой нет ни креста,
памятника, ни плиты (так завещал Толстой). То бы
первые гражданские публичные похороны в истор
России — похороны без церковных обрядов, без отпев
ния. Характерно, кстати, что ни в усадьбе Ясная Полян
ни в деревне Ясная Поляна нет и не было церкви.
Когда гнусная затея с «раскаянием» провалилас
официальные круги царской России начали, говоря сл
вами В. И. Ленина, лить крокодиловы слезы, увер
в своем уважении к великому писателю. Значительна
«порцию» таких «крокодиловых слез» выдавил из се
крупный капиталист, лидер партии октябристов пред<
датель Государственной думы А. И. Гучков. Открыв
8 ноября очередное заседание Думы, он обратился к н
со словами, посвященными Толстому, и предложил п
чтить его память вставанием, а также в знак печали пр
рвать заседание. Однако перед голосованием попрос
слова черносотенец, член «Союза русского народа», од:
из лидеров крайне правых в Думе Г. Г. Замысловскт
«Толстой,— сказал он,— отрицал церковь, отрицал то, ч
мы, в качестве государственного учреждения, долж1
охранять и поддерживать. Деятельность Толстого за п
следние годы была разрушительной,— продолжал Замы
ловский под одобрительные возгласы депутатов-мрако(
сов.— Он умер в разрыве с церковью. Церковь отказала
хоронить его. Чествование его здесь было бы вызово
бросаемым церкви, шагом, направленным к тому, чтоб
разорвать союз церкви с государством». В ответ послед
вали громкие возгласы. Одни кричали «Верно!», другие
«Неправда!». «Под рукоплескания справа и шиканье сл
ва», как сообщалось в газетном отчете о заседани
большинством голосов было все же принято предложен:
прервать работу Думы.
Однако черносотенная Государственная дума бол
шинством голосов отклонила предложение социал-ден
кратической фракции и трудовиков объявить национал
ный траур и похоронить Толстого на средства государст!
Это решение небезынтересно сравнить с тем, как отне
140
лось к смерти великого русского писателя французское
национальное собрание. Социалист Жан Жорес в своей
речи сказал: «Толстой не услышит нашего слова, но вся
Россия увнает, что мы склоняемся перед его гением,
являющимся ярчайшим выражением русской души...
Толстой — один из тех родников с животворной влагой
в пустыне, вокруг которого встречаются люди всех на-
правлений, какими бы путями они ни шли к жизни...»
Церковники не задумались, сколь искренни казенные
фразы Гучкова на открытии заседания Думы — того
самого Гучкова, который приветствовал усмирителей
Декабрьского вооруженного восстания 1905 г.,— и поспе-
шили высказать свой протест. Буквально на следующий
день после заседания Думы мракобес, друг Распутина,
иеромонах Илиодор отправил Гучкову телеграмму:
«Александр Иванович! Совет Всероссийского братства
союза русского народа ваши слова, сказанные в Думе по
поводу смерти Льва Толстого— «Господь милосердный да
откроет перед ним царство небесное», считает кощунст-
вом и богохульством. Вы этим только доказали, что вы
достойный ученик великого богохульника и духовного
разбойника. Разве вы не знаете, что хула духа святого
пе допускается ни в этом веке, ни в будущем? Зачем же
вы на бога клевещете? Стыдно. Позор. Мерзко. Отврати-
тельно. Председатель совета иеромонах Илиодор». Эта
телеграмма была опубликована в «Тульской молве»
12 ноября 1910 г.
Вскоре после кончины Толстого черносотенную речь
против писателя произнес вятский епископ Филарет.
В воронежской городской думе священник Алферов
в слове по поводу смерти Толстого выразил всю свою
ненависть к «упорному еретику и кощуннику».
Реакция бесновалась.
Что же касается русского пролетариата, то его
отношение к Толстому было выражено в телеграмме, по-
сланной рабочими депутатами III Думы в Астапово на
имя В. Г. Черткова. Именно на эту телеграмму ссылался
В. И. Ленин в статье «Л. И. Толстой и современное ра-
бочее движение», опубликованной в газете «Наш путь»
28 ноября 1910 г. В телеграмме говорилось, что социал-
демократическая фракция думы, выражая чувства рос-
сийского и всего международного пролетариата, «глубоко
скорбит об утрате гениального художника, непримиримо-
го непобежденного борца с официальной церковностью».
141
В листовке Киевской организации РСДРП, выпущенное
ноябре 1910 г., особо подчеркивалось, что покойный Я
сатель «боролся с бессмысленным догматизмом правослЯ
ной церкви и духовенства, ставшего в руках царскЯ
правительства послушным оружием угнетения пародии
масс». «Поэтому-то,— говорилось далее в обращении,Ж
черные вороны православной церкви, заседающие в СВ
иоде, решили отлучить Л. Н. Толстого от церкви
Бюллетень Ярославского комитета РСДРП от 19 нояби
1910 г. начинался словами о том, что Толстой умер, «
примирившись с официальной церковью, хотя представв
тели ее суетились и хлопотали о примирении, которД
заделало бы пропасть, образовавшуюся между чтущие
Толстого народом и проклинающей его церковью». В лв
стовке вместе с тем подчеркивалось, что убежден™
и образ мышления скончавшегося писателя в огромной
степени расходились с идеалами рабочего класса. I
Пожелали разделить общую скорбь даже студенте
Киевской духовной академии. В телеграмме, отправлеш
ной в Ясную Поляну, они называли Толстого великие
писателем земли родной, мужественным поборником вьм
соких идеалов любви, добра и правды. Но в Тульское
духовной семинарии настроения были иные. Там, как соой
щала «Тульская молва», на другой день после смерти Том
стого был устроен... бал, на котором семинаристы и «епар!
хиалки» веселились, как говорится, до упаду. |
Естественно, повсеместно вставал вопрос об увекове»
чении памяти великого русского писателя. Реакционно^*
духовенство с полной откровенностью определяло свокй
позицию. В делах помощника начальника Саратовской^
губернского жандармского управления сохранялся весьма!
любопытный документ, находящийся сейчас в Волгоград»,
ском архиве. Это — верноподданническое письмо царю
Николаю II, составленное 12 ноября 1910 г. иеромонахом,
Илиодором, попом Карамзиным и другими. Приведем,
выдержки из него: «Глубоко скорбим по поводу кончины
великого писателя земли русской. Скорбим именно в том,?
что великий богохульник и развратитель всего человече***
ства умер в злобной нераскаянности... Молиться за не<|
покаявшегося хулителя божественной благости теперж
уже нельзя... Посему мы непреклонно верим, что самым*
явным доказательством скорби о кончине Льва Толстого®
будет уничтожение всех его богохульных кощунственным
сочинений, безнравственных сочинений' Православный
142 •
самодержец! Умоляем Вас сделать это... Распространение
названных его сочинений и самое издание их законом
возведи в тяжкое уголовное преступление. Это будет
лучшим памятником умершему»1. Думается, что документ
этот в комментариях не нуждается.
Духовенство Ярославля стояло на тех же позициях,
что и саратовское. Когда один из гласных внес в город-
ской думе предложение открыть в Тверицах библиотеку-
читальню имени писателя, это скромное пожелание вы-
звало протест служителей церкви. Протоиерей Крутиков
заявил: «Меня смущает название этой библиотеки. Какие
преследуют идейные цели, когда библиотеке желают дать
название имени Л. Н. Толстого? Какие в ней могут быть
книги соответственно этому названию? Мне кажется,
в ней не может быть сочинений религиозно-нравственного
содержания. Ведь Толстой отрицал не только правосла-
вие, но и все христианские религии». Крутиков горячо
доказывал, что в Тверицах есть училище святого Дмитрия
Ростовского — а значит, здесь не может быть библиотеки
имени Л. Н. Толстого. «Вы поднимаете два знамени,—
восклицал служитель церкви,— и одно знамя противопо-
ложно другому. Если под одним знаменем развивается
просвещение, то под другим — не пойдет ли развраще-
ние!»
В те же дни городская дума в Орше постановила
учредить в городском училище для бедных учеников че-
тыре стипендии им. Л. Н. Толстого по 10 рублей каждая,
а одну из улиц и городской бульвар наименовать улицей
и бульваром Л. Н. Толстого. Узнав об этом, епископ мо-
гилевский и Мстиславский Стефан отправил письмо
могилевскому губернатору, в котором увековечение
в Орше памяти «врага господствующей православной
церкви и противника государственного строя» находил
«делом не патриотическим». Могилевский губернатор
переслал письмо епископа Стефана в министерство
внутренних дел, которое отклонило ходатайство оршан-
ской городской думы.
Стараниями церковников были отклонены и ходатайст-
ва о присвоении имени Л. Н. Толстого народной библио-
теке в деревне Ясная Поляна.
В 1911 г. общество содействия начальному образова-
нию при Пермском Кирилло-Мефодиевском приходском
училище возбудило ходатайство о присвоении имени
1 Цит, по газ.; «Сталинградская правда», 1936, 12 декабря.
143
Л. Н. Толстого детской библиотеке в Перми. Против этом
ходатайства выступил пермский епископ Палладий. Efl
протест рассматривался в синоде, который постанове
«присвоение библиотеке имени гр. Л. Н. Толстого, раЛ
пространявшего противохристианское и противоцеркоЛ
ное лжеучение, считать совершенно недопустимым».
В ноябре 1911 г. царское правительство обсуждал®
законодательные предположения об увековечении памяти
Толстого, внесенные различными фракциями Государств
венной думы. Депутаты предлагали все произведении
Толстого выкупить от наследников за счет казны и обра<
тить во всенародное достояние, а усадьбу «Ясная Поляна®
превратить в национальную собственность, на средств®
государства открыть ряд народных университетов имени
Л. Н. Толстого, учредить постоянный фонд имен®
Л. Н. Толстого на нужды библиотек и читален. КаЛ
и следовало ожидать, первыми стали протестовать
церковники. Так, 9 ноября 1911 г. иеромонах ИлиодоЛ
священники Шибаев, Жуков и другие отправили q®
Царицына в столицу на имя министра финансов тел^И
грамму: «Православные люди города Царицына глубоки
скорбят о том, что правительство православного самсе
державного государя занято вопросом приобрести в казни
Ясную Поляну. Полагаясь на вас, твердо надеемся, чти
не только не будет покупки, но об этом не будет и речи»Л
С иеромонахом Илиодором был полностью согласен обери
прокурор синода Саблер. Он утверждал, что Толстой
причинил России «неисчислимое зло» своими выступлеи
ниями против церкви. Православным людям, говорил»
Саблер, «было бы горько быть свидетелями прославлений!
правительством человека, в слепой гордыни посягнувшего.;
на самое дорогое достояние бедных и обездоленных^
людей, находящих в православной церкви живой источ- '
ник утешения и радости»* 2. И Саблер своего добился! ?
Несмотря на то что большинство министров высказалось
за приобретение правительством Ясной Поляны, Нико*
лай II поддержал мнение синода и его единомышленни* t
ков и наложил резолюцию: «Нахожу покупку имения -
гр. Толстого правительством недопустимою...» s
Церковников беспокоит слава Толстого, притягатель* й‘
ная сила его творчества. 5 июня 1912 г. секретарь Яро*,|
славской духовной консистории Рыбин доносил СаблерУд
1 Газ. «Северный рабочий», Ярославль, 1940, 20 ноября. '
2 ЦГИАЛ, ф. 1926, оп. 6, д. 637, л. 55, л. 16—17.
144 Я
|’1то в приходе села Дмитриевка Мышкинского уезда один
‘из прихожан привез из Петербурга множество брошюр.
Тут же полиция изъяла «еретические» книги, в том числе
и книги Л. Н. Толстого. Случай этот заставил Ярослав-
скую консисторию провести съезд духовенства округа.
Съезд просил высшие духовные власти «прислать книг
и листков даже для бесплатной раздачи прихожанам
и обличение толстовства»1. В адрес синода, сообщала
газета «Голос Москвы», «поступил ряд донесений епар-
хиальных архиереев, которые указывают на необходи-
мость разъяснения для народа учения и всех обстоя-
тельств смерти гр. Толстого именно со стороны священ-
ников... Епископы считают крайне необходимым для
на щиты православных от заблуждения и сохранения в
приходах религиозно-нравственного порядка, чтобы свя-
|ценники выступили с разъяснением личности и учения
Толстого не только в церковных беседах и пропове-
дях, но и во время богослужения с церковных амвонов»2.
На книжный рынок хлынул новый поток низкопроб-
ной церковной литературы, направленной против Толсто-
го. Некто Б. И. Гладков попытался в своей книге создать
легенду о Толстом, который будто бы раскаялся перед
смертью. Обыгрывая тот факт, что Толстой незадолго до
смерти, по дороге в Шамордино, где находилась сестра
писателя, сделал ввиду позднего времени остановку
и монастыре Оптина пустынь, сей автор делал вывод,
будто под влиянием страха надвигающейся смерти Лев
Николаевич решил «раскрыть душу свою не перед подоб-
ными ему мыслителями, а перед старцем Иосифом». В за-
щиту той же легенды в день первой годовщины со дня смер-
ен Толстого выступил протоиерей С. Ильменский. «Толстой
бежал внезапно из родного дома в Оптину пустынь, ища
примирения с церковью»,— утверждал он в проповеди,
ннно подтасовывая факты.
ОНИ ЗВАЛИ К КОМПРОМИССУ
Авторы, стоявшие близко к церкви, еще долго пыта-
лись создавать фальсифицированный образ писателя. Не
сумев вернуть в ее лоно живого Толстого, они развернули
> ЦГИАЛ, ф. 797, оп. 82, д. 375, л. 3.
2 Цит. по кн.: Крайние в. Отпевание графа Л. Н. Толстого
г евангельской и церковной точки зрения. Рязань, тип. Братство
jin. Василия, 1913, с. 5.
|1 Заказ 339 145
борьбу за Толстого умершего, обнаруживая в то же врем
свою готовность к компромиссу. Однако тенденция к КОМ
промиссу выявилась еще при жизни Льва Николаевич®
в начале 1902 г., когда, как мы уже говорили, синод изд®
секретное распоряжение о запрещении совершать, всл®
чае смерти великого писателя, поминовения и панихиде
по нем. Но более отчетливо проявилась она после смертф
писателя. Об этом говорят, например, письма близко^
к церковной верхушке княгини Кропоткиной, посланны|
на имя Победоносцева. Она доказывала, что церкой
должна простить Толстому и снять с него отлучение. Tow
да, стремилась она убедить Победоносцева, из рук «бем
божников» будет вырвано «орудие», и, «приняв под свой
кров» пусть и мертвого Толстого, «синод сделает велик(
дело»1. «Я знаю, что среди членов святейшего chhoj
найдутся противники прощения Льва Толстого, лю/
мертвой буквы»,— писала Кропоткина и предупреждаа
синод: «Если ложь все будет идти дальше, то результат
могут быть плачевные». Однако при жизни Толста
княгиня придерживалась иной точки зрения. Она дон
зывала (газета «Московские церковные ведомост!
1910, № 44), что «отупление человеческих понятий;
развращение человеческой жизни — вот плоды его мнов
летних стараний», и звала писателя «принести покаяние
«Тогда,— обращалась она к Л. Н. Толстому,— Вам буд
честь и слава». Убедившись, однако, что и без «покаяяШ
не померкла слава гения России, она стала высказывай
«крамольную» мысль о прощении Толстого и, пользуя®
своим высоким положением в обществе, даже офипияльД
поставила перед синодом вопрос о снятии отлучения.
Кропоткина не была исключением. Приблизительна
в то же время в Тульскую духовную консисторию обрам
тился с аналогичным прошением надворный советнЯд
граф П. П. Давиер, проживавший в Курске. Давиер BUf
сказывал сожаление, что Победоносцеву удалось совер*
шить акт произвола и в свое время не были употреблеШ^
«все меры и усилия к тому, чтобы возвратить Толстог©
в лоно православной церкви». Далее Давиер писал, что 01
покойного митрополита Антония он в свое время узнав
как подготавливалось само отлучение. «Нужно было^З
писал он,— строго к совещанию отнестись и делать в®
в назначенном для того месте, то есть правительству®
Щем синоде, как в государственном учреждении, собстве®
1 ЦГИАЛ, ф. 797, од. 80, д. 522, л. 5, Я
146
по для того- установленном, а не в помещении митрополи-
та. совершенно частном и неприличном для духовного
суда месте, тогда бы оно было днем, а не по примеру
Пилата и первосвященников — ночью. На что обер-проку-
рор должен был обратить внимание и не допустить того
важного беспорядка. Это к его обязанности относилось.
Фарисейское их совещание кончилось в девять часов
вечера, и вероятно, после того происходили действия,
каких в правительственном здании не могло быть и нель-
зя было сделать... И всему причиной была одна злоба».
Продолжая доказывать незаконность акта отлучения,
Давиер писал, что нужно было вызвать Толстого в синод
и выслушать его. «Это подтверждает произвол Победонос-
цева». Само же совещание, где решался вопрос об отлуче-
нии Толстого, Давиер называет беззаконным, противоре-
чащим даже церковному уставу. «А потому произвольное
отлучение графа Толстого от православной церкви как
неправильное по справедливости должно быть снято, его
нужно вынуть из могилы, отправить службу по уставу,
вновь сделать надлежащее погребение», причем расходы
должны взять на себя деятели церкви, «что будет служить
к умиротворению их совести». Письмо заканчивалось
просьбой к Тульской консистории «обратить внимание на
все обстоятельства дела» и «признать отлучение гр. Льва
Николаевича Толстого от православной церкви и о лише-
нии его христианского погребения совершенно непра-
вильным и постановить определение, чтобы вынуть из
могилы, отправить службу по уставу церкви, вновь сде-
лать погребение»1.
Прошение Давиера консистория решила оставить без
последствий.
На страницах дореволюционной печати, особенно
после поражения революции 1905—1907 гг., неоднократно
поднимался вопрос о снятии с Толстого отлучения. Дело
в том, что в условиях реакции активизировали деятель-
ность идеологи либеральной буржуазии. Приспосабли-
ваясь к столыпинскому режиму, угодничая перед цариз-
мом, они стремились свернуть пролетариат с революцион-
ного пути и с этой целью стали всячески чернить мате-
риализм. В начале XX века, в условиях кризиса царизма
и развития революционной ситуации, в кругах русской
буржуазной интеллигенции сформировалась группа так
называемых «пеохристпан» (С. II. Булгаков, II. А. Бер-
' 1 Гос. архив Тульской обл., ф. 3, он. 1, д. 7421-а, с. 1.
7* 147
дяев, Д. С. Мережковский, В. В. Розанов и другие). Ояв
ставила своей целью сблизить интеллигенцию с церковью»
пыталась внушить духовенству необходимость замень»
старой церкви новой, реформированной, более близкой?
к общественной жизни, к проблемам социального пере*,
устройства, но столь же враждебной материализму и ре*
волюции. Один из наиболее активных деятелей этой
группы (он же — один из авторов пресловутого сборника
«Вехи») С. Н. Булгаков (1871—1944) был видной фигу-
рой религиозной мысли России начала XX века. С первых
же дней Советской власти он оказался в стане ее злейших
врагов и принял самое активное участие в идейной
борьбе с большевистской партией. Из тактических сооб-
ражений он принял сан священника русской православ-
ной церкви, а в начале 1923 г. эмигрировал, стал ведущим
преподавателем догматического богословия и курса свя-
щенного писания в Православном богословском институ-
те в Париже. «Богоискательское» и апологетическое4
творчество Булгакова в настоящее время является идео- ’
логическим багажом православной церкви. Его произве-
дения широко издаются во Франции, ФРГ, США, Японии ’
и других странах; в ряде трудов антикоммунистического
характера его считают «авторитетом». *
С. Н. Булгаков через несколько лет после выхода
в свет «Вех», оставаясь на позициях защиты религии
и более ловкого использования церкви, высказался в том
же духе, что княгиня Кропоткина и граф Давиер, требуя
установления союза церкви хотя бы с мертвым Толстым:
«Нефантазированное, беспристрастное сознание не может
относиться к «еретику» Толстому как к «язычнику
и мытарю», т. е. совершенно чужому для церкви. Даже
и отлученный Толстой остается близок к церкви, соеди-
няясь с ней какими-то незримыми, подпочвенными свя-
зями. Сердце не чувствует его окончательно оторвавшим-
ся от церковной связи, в этом отрыве видится скорее
какое-то временное недоразумение, которое вот-вот вы-
яснится, завеса упадет. Толстой лучше поймет самого
себя, нежели доселе. Такое чувство не оставляло меня
при жизни Толстого и — странно сказать — не оставляет
и теперь, хотя в эмпирически-осязательной форме этого
прозрения не совершилось». Далее Булгаков уже прямо
призывает церковь к тактическому отступлению: «Одна-
ко непримиримость панихидного чина вовсе не значит, .
что вообще невозможна церковная молитва о душе
148 ,
новопреставленного раба божия Льва... А такая потреб-
ность, несомненно, существует... Я убежден, что широта
любви церковной дает место такому чину, но где же тот
авторитетный орган, который мог бы принять на себя эту
ответственную инициативу, не порождая новой взаимной
вражды и недоразумений? Если на это могла бы решить-
ся правильно организованная соборная власть церковная
или же собор, то, конечно, лучше и не брать на себя
подобной инициативы — и не в этом только, айв анало-
гичных случаях — теперешнему синоду... Но, конечно,
слово примиряющее, ободряющее, призывающее хотя
к уединенной, если не общественной, молитве об усопшем,
могла бы и должна бы произнести и теперешняя церков-
ная власть, особенно после того, как она проявила так
много внимания к умирающему... Жизнь дает нам горь-
кие уроки, и Толстому суждено было стать орудием такой
исторической кары. И надо отнестись к происшедшему
не с фанатическим ожесточением, но с острой самопро-
веркой и чувством исторической ответственности»1.
Из таких же тактических соображений незадолго до
смерти Льва Николаевича реакционный публицист Мень-
шиков сменил «гнев» на «милость». Он вдруг стал пи-
сать, что Толстой-де никогда и не уходил от церкви... Но
читатели хорошо помнили, что с явной целью дискреди-
тировать Толстого Меньшиков поместил в «Новом време-
ни» статью «Толстой и власть». В ответ Софья Андреевна
писала, что давно презирает статьи «этого ловкого, вечно
виляющего и служащего и нашим и вашим газетного
писателя».
Спустя два года после смерти Л. Н. Толстого какой-то
священник по просьбе С. А. Толстой совершил на его
могиле отпевание по православному обряду. Случай этот
вызвал много толков и откликов в печати. Священник
был вынужден публично оправдаться: «Ведь сам Хрис-
тос заповедал молиться за врагов и добро творить нена-
видящим нас». Но церковную верхушку это объяснение
не удовлетворило. На книжном рынке появилось несколь-
ко брошюр, в которых церковные публицисты объявили
этого священника «самозванцем», называли «непорядоч-
ным» и «преступным». «Яснополянский мертвец отрицал
все христианское,— читаем мы в одной из этих брошюр.—
Хула не простится Толстому никогда и молиться нам
1 С. Булгаков. Толстой и церковь,—«Русская мысль», 1911,
январь, с. 219—222.
149
о хулителе Духа святого значит не уважать Христа и ней
быть христианином»1. «Нельзя молиться за сегопокойни-И
ка,— вторил Бронзову епископ Никон.— Такие богомоль-Ж
цы только желают обратить обряды молитвы в демонстра-<
цию против самой же церкви»1 2. «Не надо гнать Льва |
Толстого в рай теми средствами, которые он считал при ‘
жизни бессмысленными и нелепыми»,— читаем мы в
третьей брошюре3. Следует отметить, что С. А. Толстая, ‘
с ведома которой было совершено отпевание, этим актом
подчеркнула свое отношение к постановлению си-
нода.
Среди церковников были и согласные с тем священ-
ником, который проявил «самоуправство», и полагавшие,
что церковь для своей же собственной выгоды должна
«простить» Толстого и снять с него отлучение. В их числе
оказался и архиепископ волынский Антоний, который, i
как сообщала в начале января 1913 г. «Русская молва», ’•
не осуждал молитву за Л. Н. Толстого. Это уже было Я
явное отступление. Группа духовных лиц во главе с|
архиепископом Антонием даже представила в синод офи- |
циальное ходатайство с просьбой разрешить отпевание i
Толстого. Это ходатайство синод оставил без удовлетво- $
рения. Однако оно вызвало резкое осуждение в духовной
литературе4. Архиепископа Антония и его единомышлен- *
ников обвинили в подрыве авторитета высшей духовной
власти России и в том, что своим прошением они выра- |
зили несогласие с актом синода. г
Так настойчивые попытки примирить Толстого с цер-
ковью сменились попытками примирить церковь с Тол-
стым.
В первые годы Советской власти русская православ-
ная церковь оказалась на стороне антисоветских сил.
Однако некоторые представители духовенства скоро уви-
дели, что Советскую власть поддерживают народные
массы. Они поняли, что открытое враждебное отношение
1 Профессор С.-Петербургской духовной академии А. А. Б р о н-
з о в.— «Отпевание гр. Л. Н. Толстого». Спб, 1913, с. 13.
2 Ей. Никон. Смерть гр. Л. Н. Толстого. Троицкая Лавра,.
1911, с. 21.
3 П. В. Левитов. Православная церковь и Л. Н. Толстой.
Екатерипослав, тип. Барановского, с. 7.
4 См.: Н. Кузнецов. Вопрос о молитве за гр. Л. Н. Толстого.
Спб., тпп. Алекс. Невск. об-ва трезвости, 1913; Крайнев. Отпе- ?
вапие гр. Л. И. Толстого с евангельской и церковной точки зрения.
Рязань, 1913.
150 2
церковных кругов к новой власти резко ослабляет пози-
ции православия в стране и ускоряет отход верующих от
церкви. Эти представители русского духовенства объеди-
нились в группу «Живая церковь», куда вошли не только
священнослужители, но и миряне. Состоявшееся 16 мая
1922 года в Москве учредительное собрание этой группы
приняло программу, которая предусматривала «пере-
смотр и изменение всех сторон жизни церковной, какие
повелительно требуются современной жизнью». «Живая
церковь» выступила за радикальную реформу русского
православия. На своем учредительном собрании в Москве
она потребовала пересмотра догматики, этики, литургии,
каноники, т. е. всех сторон церковной жизни. Перемена
политической ориентации православной церкви и послу-
жила причиной того, что епископ Виталий, протоиерей
Алексей Дьяконов и Петр Сергеев обратились к съезду
«Живой церкви» с документом, в котором предлагали
«принять во внимание те религиозные переживания, ко-
торые несомненно наполняли душу Л. Н. Толстого в по-
следние дни его жизни и которые привели его в Оптину
пустынь, но которые он не мог разрешить по независя-
щим от него обстоятельствам»1.
Делегаты съезда протоиерей Е. Белков и священник
А. Нименский тоже обратились к съезду с письменным
заявлением. Они предлагали, «откинув ортодоксализм
прежней бюрократической церкви», обратиться в Высшее
церковное управление с просьбой снять с гордости
России и русской литературы всемирной известности
Льва Николаевича Толстого отлучение, разрешив всем
верующим публичную о нем церковную молитву»1 2.
На пленарном заседании обсуждался вопрос о снятии
церковного отлучения с Л. Н. Толстого. Было выслушано
мнение «Особой комиссии», которая высказалась в том
смысле, что, «принимая во внимание религиозные иска-
ния Л. Н. Толстого в последние дни его жизни, которые
привели его к Оптиной пустыни, но которые удовлетво-
рить он не мог по независящим от него причинам», во-
прос этот должен быть разрешен в положительном
смысле, однако «санкция по нему должна быть отнесена
к компетенции предстоящего поместного собора». Съезд
согласился с «Особой комиссией»3.
1 Музей истории атеизма л религии АН СССР. Рукописный
отдел, ф. 13, оп. 2, ед. хр. 509.
2 Там же, ед. хр. 509, с. 2.
3 Газ. «Живая церковь», 1922, № 8—9.
151
Вскоре толстовец И. Трегубов опубликовал статью
«Воззвание всероссийского съезда «Живой церкви» («Из-
вестия ВЦИК», 18 августа 1922 г.). Статья заканчивалась
просьбой к читателям «откровенно поделиться своими мыс-
лями и чувствами». Статья Трегубова вызвала много откли-
ков. Читатели писали, что деятели из «Живой церкви» хо-
тят «подладиться под дух времени», «показаться людьми,
проникнутыми идеями русской революции». Относитель-
но намерения снять отлучение с Л. Н. Толстого мнение чи-
тателей было единодушно. «Шаг приспособленцев»... «Кого
просил он? Или был огорчен, что его от церкви отделили?
Ничего подобного!»... «Для кого же проделывается эта
комедия? Толстой писал, что он сам не признает никаких
обрядов, ни постов, ни бессмертия души, т. е. всего того,
что составляет сущность всякой религии. А его на аркане
тащат в церковь»... «Неужели снятие отлучения может
помирить Л. Н. Толстого с церковью? Конечно, нет. И если
он не помирился с церковью живой, как же помирится он
мертвый? И если съезд нашел нужным снять отлучение
с мертвого, то, конечно, только в политических расчетах.
От этого авторитет съезда не возрастет»... «Вы хотите ку-
пить себе умы и сердца верующих моральной подачкой
в виде снятия отлучения с Л. Н. Толстого»1. Таковы лишь
некоторые выписки, сделанные нами из писем читателей
газеты «Известия ВЦИК».
В. Бонч-Бруевич, говоря о деятельности «новоявленных
реформаторов» из «Живой церкви», желании внести неко-
торые изменения в догматы веры и обряды, причину «но-
ваторства» видел в одном: по-старому лгать и обманывать
уже было невозможно. «Одним из примеров классического
лукавства может служить их отношение к Л. И. Толсто-
му,— писал Бонч-Бруевич,— На своем съезде, недавно
бывшем в Москве, эти бунтующие пастыри православной
церкви захотели проявить себя особо любвеобильными,
терпимыми и высокогуманными. Предметом излияния всех
этих чувств они избрали, как вы думаете кого? — не кого
иного, как покойного Л. Н. Толстого, отлученного от
церкви... Видите ли: религиозные искания Толстого при-
вели его к Оптиной пустыни, т. е. православному монасты-
рю! Л. Н. Толстой, который треть жизни своей ухлопал на
борьбу со всемирным клерикализмом, Толстой, который до-
1 Музей истории атеизма и религии АН СССР. Рукописный от-
дел, ф. 13, on. 1, ед. хр. 108.
152
нага разоблачил лицемерие, глупость и наглость всякой
церковности и православной церкви в частности и в осо-
бенности, вдруг, видите ли, перед смертью повернул оглоб-
ли к православию. Этот маневр очень ловкий для новых
«обновленцев». Этим способом они хотели привлечь на
свою сторону много простецов»1.
И. Скворцов-Степанов считал, что решение съезда вой-
ти в ближайший всероссийский церковный собор с предло-
жением снять отлучение от церкви с покойного Л. Н. Тол-
стого имеет политический характер. «Для покойного Тол-
стого,— писал он,— снятие отлучения совершенно не нуж-
но. Оно требуется и полезно только для самой «Живой
церкви», на которую должен будет пасть отблеск лучей,
окружающих память о Толстом. Смотрите, скажет она,
какова я: если Л. II. Толстой находится в моих рядах»1 2.
Книга И. Скворцова-Степанова о «Живой церкви» за-
канчивалась словами: «Никакая церковь не может быть
живою, никакое духовенство — прогрессивным, никакая
религия — современной».
Не успела «Живая церковь» образоваться, как тут же
распалась на несколько групп. В числе прочих причиной
раскола было отношение к Л. Н. Толстому. Митрополит
Сергей Владимирский подал заявление в высшее церковное
управление, в котором писал: «Я решительно протестую
против тех постановлений съезда «Живой церкви», кото-
рые приняты в отмену основных требований церковной
дисциплины, а тем более вероучения. Некоторые из этих
постановлений являются для меня недоступными безуслов-
но, некоторые — превышающими компетенцию нашего
поместного собора, а некоторые неприемлемыми до этого
собора. К первому разряду я отношу снятие отлучения
с гр. Толстого3.
В современной церковной публицистике не было статей
об отношении православной церкви к Л. Н. Толстому. Опа
делает вид, что этот вопрос ее не интересует. Но совре-
менные сектанты-баптисты пытаются превратить религи-
озно-нравственное учение Толстого в один из источников
своей идеологии. Евангельские христиане-баптисты разви-
1 В. Бонч-Бруевич. Живая церковь и пролетариат. М.,
1923, с. 56-69.
2 И. Степанов. О «Живой церкви». М., «Моск, рабочий».
1922, с. 14.
3 Цпт. по кн.: И. Б у л а т о в. К расколу русской православной
церкви. Вологда, тип. Северосоюза, 1922, с. 65.
153
вают некоторые стороны религиозно-морального учения
Толстого, восхваляют его проповедь всепрощения, его жаж-
ду к религиозным исканиям. Но и они не могут простить
Толстому его свободомыслие. «Л. Н. Толстой,— писал жур-
нал «Братский вестник»,— оказал плохую услугу христи-
анству: он беспощадной рукой сорвал с Христа как его тер-
новый венок, так и ореол божественности»1. С этим нельзя
не согласиться. Однако «услугу» христианству, оказанную
Толстым, мы понимаем значительно шире. Толстой пока-
зал, что вероучение православия не «богоданно», не «бого-
духновенно», что христианские обряды, как и церковные
догматы, противоречат человеческому разуму и здравому
смыслу.
ДЛЯ ВСЕХ И НАВСЕГДА
Религиозные деятели и сейчас заявляют, что вера
и разум — понятия противоположные, несовместимые, ра-
зум, мол, не может вмешиваться в область веры, а религия
вообще не может быть предметом исследования. Служители
религии требуют от своей паствы принимать все, что
утверждается церковью, на веру и только на веру, не делая
попыток критически осмыслить религиозное вероучение.
Человеческий разум, поучают они, не в силах постичь всю
мудрость «творца», а следовательно, человек обязан от-
брасывать прочь всякие сомнения. Толстой же учит оце-
нивать религиозные вероучения критически. Вспомним,
что Библию, которую православная церковь рассматрива-
ет как книгу, продиктованную самим богом, а следователь-
но, «священную» для каждого верующего, Лев Толстой
подверг уничтожающей критике.
Церковные праздники, система обрядов помогают цер-
ковникам духовно закабалять людей. Известно, какое
большое внимание обрядовой стороне, культу уделяет пра-
вославие. Священнослужители всегда принимали в расчет
то психологическое, эмоциональное воздействие, которое
оказывают на людей церковные ритуалы. С большой тор-
жественностью совершаются «святые» таинства: креще-
ние, причащение, миропомазание, покаяние, брак и т. д.
Именно таинствам духовенство придавало и придает
огромное значение в духовном влиянии на верующих.
А Лев Толстой мужественно выступал против таинств —
1 «Братский вестник», 1947, № 5, с. 31.
154
тех православных обрядов, особых культовых действий, с
помощью которых, по учению православной церкви, якобы
и передается «божественная благодать».
Эстетическая ценность наследия Толстого бесспорна,
об этической ценности этого наследия не прекращаются
споры. Но кто не знает, что эстетическое и этическое все-
гда идут рядом, дополняют и даже обусловливают друг
друга: то, что безнравственно, не может быть эстетично,
и то, что по-настоящему эстетично, всегда нравственно.
Толстой, как писал В. И. Ленин, в свое учение переносил
психологию патриархального крестьянина. В этой психо-
логии были не только политическая наивность и отчуж-
дение от политики, не одна лишь иллюзорная компенса-
ция убожества своего бытия в виде обращения к религии
и не только бессильные проклятия по адресу капитализма,
не только протест и отчаяние. В психологии патриархаль-
ного крестьянина существовало и нечто большее, что неиз-
менно вызывало в Толстом «какую-то странную физиче-
скую любовь». Толстой имел немало оснований объявлять
моральные устои крестьянства единственно прочными и
здоровыми. Ведь тяжелым трудом, потом и кровью доста-
вался крестьянину в дореволюционной России каждый пуд
хлеба. «Техника» его ограничивалась сохой, серпом и це-
пом. Лошадь являлась основной «двигательной силой», да
и то была не у всех. В неимоверном тяжелом труде, в су-
ровой борьбе против феодальных порядков и засилья
церкви складывалась мораль патриархального крестьянст-
ва. Это была мораль честных тружеников, презирающих
лодырей и бездельников, ненавидящих помещичье-капита-
листические порядки и мечтающих о новой жизни. Прав-
да, нравственное сознание патриархального крестьянина
было противоречиво: с одной стороны, это труженик, по-
стоянно испытывавший социальный гнет, а с другой —
собственник, с присущими ему элементами частнособствен-
нической психологии. Но, несмотря на это, его мораль чи-
ще, здоровее, человечнее, чем мораль паразитических клас-
сов — феодалов-крепостников и нарождавшегося класса
буржуазии.
Этика Толстого и отражала нравственные черты ха-
рактера патриархального русского крестьянина той поры,
когда он, еще не успев освободиться полностью от крепо-
стнического ига, оказался под гнетом капиталистическим.
Тяжело было этому крестьянину переносить «...ужасы ра-
зорения, голодной смерти, бездомной жизни среди город-
155
ских «хитровцов» и т. д.»1. Но, несмотря на забитость, ка-
торжный труд, нищету, он, наряду с ненавистью к эксплу-
ататорам, сохранял веру в лучшее будущее и такие черты
народного характера, как трудолюбие, правдивость, чест-
ность, умение ценить истинно братские отношения между
людьми. Тяжелый труд не убил в народе жажду добра
и справедливости. Любовь к детям и глубокое почтение
к родителям, трогательная забота о стариках, привязан-
ность к отчему дому, к родной земле, святое отношение
к хлебу — все это прочно входило в народную этику.
Толстой, заняв позицию адвоката «стомиллионного Зем-
ледельческого народа», считал его самым нравственным
классом, а в его трудовой морали находил самые высокие
этические ценности. Противопоставляя безнравственности
собственников-эксплуататоров чистоту морали угнетенного
народа, Толстой писал: «Круг чувств, переживаемых людь-
ми властвующими, богатыми, не знающими труда поддер-
жания жизни, гораздо меньше, беднее и ничтожнее чувств,
свойственных рабочему народу» («Что такое искусство?»).
Посетив сапожника, у которого он учился шитью обуви,
Толстой записал в дневнике: «Как светло и нравственно
изящно в его грязном, темном угле». В вопросах этики
Толстой отвергал дворянскую точку зрения и становился
на точку зрения крестьянскую. Принимая близко к сердцу
страдания многомиллионных народных масс, он считал се-
бя ответственным за эти страдания.
Очень важно, что на вопросы, как должен человек вес-
ти себя по отношению к другим, что является критерием
нравственного поведения, Толстой отвечал отнюдь не с по-
зиций религиозно-идеалистической морали. Смысл жизни
Толстой в конце концов сводил к служению людям,
а главным этическим принципом он объявил не «подготов-
ку к смерти, к вечной жизни в царстве небесном», как
учат богословы. Для великого гуманиста Толстого нет
более высокой ценности, чем человек. Отвечая своим кри-
тикам, он говорил, что женщина, отказавшаяся от дето-
рождения, вызывает сожаление и скорбь потому, что она
«могла бы родить то, чему не может быть оценки, выше
чего ничего нет — человека» (25, 415). И относиться к че-
ловеку призывал Толстой очень внимательно, бережно, лю-
бовно: «Без любви можно обращаться только с вещами; без
любви можно рубить деревья, делать кирпичи, ковать
1 В. И. Л е п и н. Поля. собр. соч., т. 20, с. 40.
156
железо, но с людьми нельзя обращаться без любви, так же
как нельзя обращаться с пчелами без осторожности»
(23, 170). Лев Николаевич мечтал, чтобы общение между
людьми осуществлялось «с тем же вниманием, с которым
мы играем в шахматы, читаем ноты и т. и.» (53, 151). Вы-
соким гуманизмом проникнуты его слова: «Чем человек
умнее и добрее, тем больше он видит добра в людях, а чем
глупее и злее, тем больше он видит недостатков в других»
(23, 189). Он мудро не соглашался с латинской послови-
цей «О мертвых говори доброе или ничего». Напротив, надо
бы сказать: «О живых говори доброе или ничего». От сколь-
ких страданий это избавило бы людей и как это легко!»
(23, 358).
Всякий человек, верил Левин, чувствует в своей душе
«законы добра», и эти законы добра «требуют, чтобы чело-
век любил ближнего, а не душил его». Мысли Левина —
сокровенные мысли самого Толстого, противоположные
учению церкви, которое «под корень подсекает все, что есть
лучшего в природе человека» (23, 230). По мысли Тол-
стого, только отрекаясь от эгоизма и проникаясь любовью
к людям, человек получает наибольшее благо. Любовь
к другим людям делает жизнь неизмеримо богаче, прино-
сит величайшее моральное удовлетворение. «Благо отдель-
ного человека только тогда истинное благо, когда оно бла-
го общее»,— писал Толстой в предисловии к сказке-легенде
«Карма» (31, 47—56). Эта индийская сказка привлекала
Толстого мыслью о том, что для личности нет счастья вне
общего блага. Добра для себя добиваются лишь те персо-
нажи сказки, которые действуют не во имя собственных
интересов, а во имя счастья всех людей. Жизнь — не зло,
а величайшее благо; счастье же не в том, чтобы сосредото-
читься на удовлетворении своих чувственных, себялюби-
вых или, по выражению Толстого, «плотских» желаний
и потребностей. Жизнь человека, живущего только для
себя, лишена, по мнению Толстого, смысла и характери-
зуется им как жизнь ложная, как зло. Счастье возможно
лишь в духовном единении с другими людьми, с трудовым
народом.
Эгоизм, пошлая, животная жизнь вызывает в Толстом
отвращение, а человека он ценит по тому, насколько раз-
вито в нем чувство связи с людьми, гуманное отношение
к другим, понимание «чужой» беды и нужды. В письме
неизвестному Толстой утверждал, что «жизнь личная, пе
имеющая, кроме своей приятности, никаких других це-
157
лей — не жизнь» (64, 114)’. Лишь та жизнь может считать®
ся настоящей и лишь той жизнью не скучно жить, при ко®
торой человек ощущает единение, согласие с другими та»?
ними же, как оп, существами. Короче: «Жизнь истинная?'
есть жизнь разума и любви». И служение людям не может
быть расчетливым, половинчатым, оно должно быть щоД'
рым и деятельным. Если человек допускает, что озябшего
ребенка можно не одеть, потому что его детям когда-нибудь
понадобится то платье, которое у него просят, то есть если
он решает, что ему лучше воздержаться от исполнения
требований самой малой любви во имя другого, будущего
проявления большей любви, то такой человек, по мнению
Льва Николаевича, или обманывает себя, или никого но
любит, кроме себя. Учение Толстого и сводится к той мыс-
ли, что спасти людей можно только при помощи братства
и готовности каждого пожертвовать собою ради другого.
Вместе с этим страстным призывом к любви в его учении
с не меньшей страстностью призыв к разуму. Требуя от
человека разумного понимания, он отбрасывает догматы
религии о сотворении мира, о троице, о воскресении и ду-
ше как противоречащие разуму и потому неприемлемые ,
для человека, находившегося на уровне современного об-
разования.
Любовь к человеку — вот та вера, которую исповедует -
Толстой. Это явствует из всего его творчества, в том число
и публицистики. Она составляет главный пафос и бога- ‘
того эпистолярного наследия писателя. В письме Ромену
Роллану Толстой сформулировал свое понимание такой
жизни и такого нравственного поведения человека, при ко-
тором его существование было бы разумным. Нравствен-
ной признается им жизнь того человека, который постоян-
но руководствуется очень простым правилом: как можно
меньше заставлять других служить тебе и как можно боль-
ше самому служить другим. И в том же письме афоризмом
звучат слова: «Все, что соединяет людей, есть добро и кра-
сота; все, что разъединяет их, есть зло и безобразие»
(64, 95). Правда, во имя вот такой любви к отцу, сыну, же-
не, детям, друзьям, к «своим» и «чужим» Толстой иногда
требовал «отречения от блага личности». Ему порой оши-
бочно представлялось, что благоволение к другим людям
рождается в человеке лишь как результат максимального
самоограничения, признания «тщеты существования лич-
ности», как итог кротости, смирения, умения быть доволь-
ным всем. Но тем не менее это не помешало Толстому объя-
158
вить человека самой высшей ценностью, «самым большим
добром на свете». И человек обязан учиться любить, как
он учится читать, писать, как он учится самым трудным ис-
кусствам. Главная цель такого «учения» состоит в «увели-
чении в себе любви», в замене разделения и несогласия
между людьми единением и согласием.
Само учение Толстого, его этика — не вероучение, оно
открыто для дискуссии. В этом тоже ее особенность.
Если догматическое христианство видит извечную по-
рочность человеческой натуры, утверждает природное про-
исхождение зла (популярен ныне в православии Иоанн
Златоуст, писавший, что человек порочен по своему су-
ществу и неспособен без «помощи свыше» ни к какому доб-
ру), то Толстой говорит о другом: «Добро всегда в душе
нашей, и душа добро, а зло привитое» (1, 290).
Безгранична вера Толстого в человека, в возможности
его нравственного совершенствования. В душе многих ге-
роев его произведений живет подсознательное чувство люб-
ви к людям, родства с ними, и, прислушиваясь к врожден-
ному нравственному инстинкту, они творят добро, преодо-
левая в себе эгоизм1.
Толстой полагал, что в каждом имеется искра добра,
разница лишь в том, что у одних она ярче выражена,
у других же нужно эту искру раздуть. Доброта, утверж-
дает он, побеждает все, а сама непобедима. И по-настоя-
щему добрый человек творит добро пе из тщеславия, не
для того, чтобы заслужить одобрение, а по нравственному
убеждению. Одному студенту писатель советовал: «Ста-
райтесь быть хорошим человеком, живущим сообразно
с тем светом, который есть в вас, т. е. совестью, и тогда вы
неизбежно будете действовать духовно на других людей...
Таков закон человеческой жизни, что человек, как губка,
только сам насытившись вполне добром, может изливать
его на других; и не только может, но неизбежно будет»
(64, 198). В письме крестьянину Е. М. Ященко Толстой
писал, что любовное отношение к человеку — «великое де-
ло», и призывал избегать брани, угроз, советовал не забы-
вать, что «ласковое слово кость ломит» (64, 223).
Большинство героев Толстого вызывает наши симпа-
тии благородством чувств и помыслов. Это, как правило,
1 См. об этом в монографии И. В. Чупрппой «Нравственпо-фп-
лософекио искания Л. Толстого в 60-е и 70-е годы». Саратов, изд-во
Саратовского ун-та, 1974.
159
личности, которым свойственно чувство самоуважения, до*
стоинство, честь, порядочность, тонкость, душевное богат*
ство и щедрость, чуткость к чужой боли и неприятие эго*
изма, стяжательства, лицемерия. Они умели сохранять
верность жизненным принципам. Они не отождествляли
счастье с богатством, властью, комфортом, то есть были
носителями общечеловеческих норм нравственности, попи-
раемых в эксплуататорском обществе.
Мы говорим сегодня, что любовь к человеку — вот та
вера, которую исповедовал Толстой. В то же время вера
Толстого — это мечта о таком устройстве общества, где
будет уничтожена частная собственность, где будет брат-
ство людей и народов, всеобщий мир. И Толстой верил, что
все это достижимо в земном, единственно реальном мире,
а смысл жизни надо искать у людей труда, которые, испы-
тывая лишения и страдания, являются творцами этой
жизни.
Что же касается самой мысли о неизбежности смерти,
то она не приводила Толстого к отрицанию смысла жизни
и ее радостей. Даже Ивана Ильича Головина (героя пове-
сти «Смерть Ивана Ильича») он заставляет перед лицом
смерти осознать всю пустоту прожитой жизни и открыть
для себя, что смыслом жизни может быть добро. Задумы-
ваясь о смысле прожитой жизни, Иван Ильич приходит
к выводу, что его «приличная, веселая, приятная жизнь» —
жизнь на самом деле лицемерная, бессмысленная и бес-
цельная — больший ужас, нежели ужас смерти. Умирая,
Иван Ильич плачет детскими слезами о беспомощности
своей, о своем ужасном одиночестве и о жестокости бога,
об отсутствии бога... «Как нужно было любить жизнь, чтоб
так написать смерть!» — восклицал Леонид Леонов. Тогда
же он заметил, что бессмертие в письме к англичанину
Кемпбеллу трактуется Толстым чуть ли не как вечная при-
знательность живых за оказанные для них благодеяния.
«При этом обязательность добрых дел Толстой выводит не
из ужаса перед каноническим загробным возмездием, а из
естественного и осуществимого права каждого смертного
на свою долю счастья»,— говорил Леонид Леонов в заме-
чательном «Слове о Толстом».
Были исследователи, которые непомерно большое вни-
мание уделяли тому, как Толстой относился к смерти, и
ставили перед собой цель доказать, что страх перед ней
преследовал его. Однако К. П. Ломунов высказал мысль,
что Толстой боялся не столько смерти, сколько бесцельной
жизни. На вопрос, боится ли он смерти, Толстой отвечал,
что человеческая жизнь — это сознание; пока у меня бу-
дет сознание, я не умру, а когда у меня сознания не будет,
мне тогда будет все равно. Одно из писем Фету Толстой
закончил словами Беранже: «Смерть придет сама собой.
Это не наша забота. Хорошо прожить — вот задача, кото-
рую надо разрешить здесь». А хорошо прожить — значит
жить не только для себя. Тех же людей, которые вели ис-
ключительно эгоистическую жизнь, Толстой называл мерт-
вецами. В трактате «В чем моя вера?» выражено убежде-
ние: «...чтоб жить разумно, надо жить так, чтобы смерть не
могла разрушить жизни» (23, 289); для того же, чтобы
преодолеть страх смерти, вовсе не нужно верить в личное
бессмертие за гробом; если смысл своей жизни сводишь
не к эгоистическим устремлениям и целью ее признаешь
благо других, тогда твое существование перерастет рамки
личной, отдельно взятой жизни и как бы органически вхо-
дит в общую жизнь людей, в их настоящее и в их буду-
щее, сохранится в благодарной памяти потомков. Эту
мысль духовная цензура считала чрезвычайно опасной
для церковного учения и потому энергично добивалась
запрещения трактата «В чем моя вера?».
Религия внушает верующим мысль, что они не могут
достичь подлинного счастья на земле, объявляет земную
жизнь людей преходящей и призрачной, суетою сует, под-
готовкой к вечному загробному существованию. Именно
о призрачном, «загробном» счастье говорят все религии,
перенося вековечную мечту о счастье с земли в иной, вы-
мышленный, сверхъестественный мир. Стремление чело-
века к земному счастью истолковывается церковниками
как отказ от нравственных принципов, как проявление
низших инстинктов. Богословы и церковные проповедники
зовут человека постоянно обращать взоры к небу, чувст-
вовать зависимость от сил небесных, помнить, что сын бо-
жий Христос, который якобы после воскресения вознесся
на небо, стал «небесным ходатаем перед отцом своим» за
живущих на земле. Цель церкви состоит в том, чтобы вну-
шить людям, что в потустороннем мире таятся их возмож-
ности осуществить свои земные надежды, жизненные уст-
ремления. Христианское учение обещает людям возна-
граждение на «том свете», толкая их на не бескорыстную
доброту, а на эгоистическую «сделку» с богом: я тебе —
добрые дела, а ты мне взамен, после смерти, райскую
жизнь, загробное блаженство.
160
161
Отвечая в январе 1910 года А. Я. Соловову, Толстой^
писал: «Выдумки о рае и аде, кроме того, что совершенно
произвольны и ни на чем не основаны, в высшей степени
и безнравственны и кощунственны. Безнравственны пото-
му, что, обещая награды за добрые дела и наказания за
дурные, они этим самым уничтожают всё значение доб-
рой жизни, так как добрая жизнь может быть только бес-
корыстная, а не основанная на расчете» (81, 15—16).
Учение церкви, доказывал Толстой, утверждает лице-
мерие: дела твои, мол, имеют не такое уж большое зна-
чение: «Зачем дела, когда я искуплен смертью бога, когда
искуплены все мои будущие грехи, надо только верить».
Христианство, как и другие религии, настойчиво внушает,
что если человек при жизни на земле смиренно переносит
все невзгоды, усердно молится богу и т. д., то его душа
попадет в рай. Тех же, кто отступает от предписаний бого-
словов, церковники пугают вечными муками ада. Смысл
сказаний о бессмертии души и о возможности ее награж-
дения райским блаженством — в стремлении внушить лю-
дям: терпи и помни, что чем больше ты терпишь и стра-
даешь здесь и чем безропотнее ты переносишь беды
здесь, тем больше твои шансы попасть после смерти
в «вечное царствие». Поэтому, внушается верующему, в его
интересах, отказавшись от земных радостей, уповать на
несуществующие блага несуществующего царства божия
и основной смысл своей жизни видеть «в приготовлении
к достойному переходу в вечность».
Л. Н. Толстой не мог признать подлинным то призрач-
ное счастье, к которому зовет религия, писал, что искать
его надо на земле, а не на небе. В трактате «В чем моя
вера?» он сравнивает человеческое общежитие с постоя-
лым двором. В этом «дворе» есть все, что нужно для жиз-
ни: дом со всею утварью, амбары, полные хлебом, погре-
ба, подвалы со всеми запасами, земледельческие орудия,
скот. Но люди приходят в этот двор и начинают пользо-
ваться всем тем, что они находят тут, «каждый только для
себя, не думая ничего оставлять ни тем, которые теперь
с ними в доме, ни тем, которые придут после. Каждый хо-
чет все для себя. Каждый торопится воспользоваться чем
может, и начинается истребление всего — борьба, драка з|
предметы обладания: корову молочную, нестриженых
котных овец бьют на мясо; станками и телегами топят
печи, дерутся за молоко, за зерно, проливают и просыпают
и губят больше, чем пользуются. Никто спокойно не съев#
куска, ест и огрызается; приходит сильнейший и отнимает,
а у того отнимает другой» (23, 383). «Смотрите, сколько
добра на дворе, как все хозяйственно устроено! На всех
нас хватит и останется тем, которые после нас придут,
только давайте с умом жить. Не будем друг у дружки от-
нимать, а будем помогать друг другу»... Но люди по вине
церкви решили, что этот двор постоялый. В этом мнении
людей укрепила именно церковь, проповедующая, что
главное — не эта, земная, жизнь, а забота о том, «как бы
не прозевать ту обещанную хорошую жизнь в другом ме-
сте», т. е. в мифическом загробном мире. И люди, доказы-
вает Толстой, поверили, что настоящая их жизнь начнется
потом, в потустороннем мире, и поэтому не стоит старать-
ся жить в этом постоялом дворе (временном для них ме-
стожительстве) хорошо. «Только бы люди перестали себя
губить и ожидать, что кто-то придет и поможет им: Хрис-
тос на облаках с трубным голосом или исторический закон,
или закон дифференциации и интеграции сил. Никто не
поможет, коли сами не помогут» (23, 384).
Убеждая своего читателя, что «верование в будущую
личную жизнь есть очень низменное и грубое представле-
ние», Толстой зовет его к деятельной жизни, причем не
только для блага личного: «Жизнь есть жизнь, а ею надо
воспользоваться как можно лучше. Жить для себя одного
неразумно. И потому, с тех пор как есть люди, они отыс-
кивают для жизни цели вне себя: живут для своего ре-
бенка, для семьи, для народа, для человечества, для всего,
что не умирает с личной жизнью» (23, 399). Та же мысль
в его дневниковой записи 14 июня 1894 года: «Смотрел,
подходя к Овсянникову, на прелестный солнечный закат.
В нагроможденных облаках просвет, и там, как красный
неправильный уголь, солнце. Все это над лесом, рожью.
Радостно. И подумал: нет, этот мир не шутка, не юдоль
испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это
один из вечных миров, который прекрасен, радостен и ко-
торый мы не только можем, но должны сделать прекрас-
нее и радостнее для живущих с нами и для тех, кто после
нас будет жить в нем» (52, 120—121). Заметим, что, по
Евангелию, мир является «юдолью плача и страдания»...
«Человек рождается на страдание»,— внушает Библия.
Отношение Толстого к предназначению человека, к зем-
ной его жизни противоречило православию (а вернее, ве-
роучению любой религии). Профессор-богослов Н. Ива-
новский писал: «В сущности его учение — безбожие; все
162
163
сводится лишь к земле и ее благополучию; дальше земли й
земного он ничего не желает и знать... У Толстого нет ни
бога, ни бессмертия, и за пределами земли он ничего не
хочет прозревать, кроме разве памяти в потомстве»1. А то,
что Толстой излагал свое учение, опираясь на имя Христа,
дало повод философу-богослову В. С. Соловьеву сказать,
что это напоминает «прикрытие контрабандного груза ино-
странным флагом». Тот же Н. Ивановский был солидарен
с В. С. Соловьевым, когда утверждал, что Толстой подта-
совывал свои мысли к евангельскому тексту, придавал со-
циальный смысл заповедям Христа, тем самым вообще
«разрушая основы христианского учения».
Итак, по Толстому, нет и быть не может счастья «за-
гробного». Есть и возможно счастье земное. Однако как его
понимать? Каковы главные условия земного счастья?
Конечно же, не в накопительстве, не в стремлении к лич-
ному обогащению, отвечает Толстой: «Нынче приобрел
поддевку и калоши, завтра — часы с цепочкой, послезавт-
ра — квартиру с диваном и лампой, после — ковры в го-
стиную и бархатные одежды, после — дом, рысаков, кар-
тины в золотых рамах, после — заболел от непосильного
труда и умер. Другой продолжает ту же работу и так же
отдает жизнь тому же Молоху, так же умирает и так же
сам не знает, зачем он делает все это» (23,418)’. «Но, мо-
жет быть, сама эта жизнь, во время которой человек де-
лает все это, сама в себе счастлива?» Нет, отвечает Тол-
стой, эта жизнь ужасно несчастлива. Отрицание бездухов-
ного, растительного существования во имя накопления бо-
гатства, во имя славы и власти пронизывает многие про-
изведения Толстого.
Какие же главные условия человеческого счастья? На
этот вопрос Толстой отвечает довольно подробно. Одним
из первых условий счастья он считает жизнь такую, при
которой не нарушена связь человека с природой, т. е.
жизнь при свете солнца, на свежем воздухе, когда чело-
веку близки земля, растения, животные. «Всегда все лю-
ди считали лишение этого большим несчастьем. Заключен-
ные в тюрьмах сильнее всего чувствуют это лишение». Со-
жаления заслуживают те, кто, дожив до старости, только
раз или два наблюдали восход солнца и никогда «не ви-
1 По поводу отпадения от православной церкви графа Льва
Николаевича Толстого. Сборник. Спб., тип. В. В. Комарова, 1903,
с. 15.
дели полей и лесов иначе, как из коляски или из вагона»...
Другим несомненным условием счастья Толстой счи-
тает труд, причем труд любимый и свободный труд, «да-
ющий аппетит и крепкий, успокаивающий сон».
Третье несомненное условие счастья — семья. Но как
пи приятны семейные радости, как ни радостно общение
с детьми, еще более важно «свободное, любовное общение
со всеми разнообразными людьми». И как же, утвержда-
ет писатель, «несчастны люди, у которых узок, тесен тот
пружок людей, с которыми возможно общение».
«Наконец, пятое условие счастья есть здоровье». Тол-
стой предлагает читателям перебрать в памяти знакомых
ему богачей, и они увидят, что большинство больные. Ли-
шив себя труда, они рано старятся и одержимы многими
болезнями. Кто из них объелся, кто спился... «В жизни,—
писал Лев Николаевич,— есть только одно несомненное
счастье — жить для другого. Счастливые периоды моей
жизни — были те, когда всю жизнь отдавал на служение
людям» (54, 94). К таким периодам он относил устройство
школ для крестьянских детей, затем то время, когда был
мировым посредником четвертого участка Крапивенского
уезда и в этой должности настойчиво защищал интересы
крестьян против несправедливых притязаний «ужасно гру-
бого и жестокого» дворянства, время, когда был занят по-
мощью голодающим в 1891—1893 гг. в Тульской и Рязан-
ской губерниях и в 1898 году — в Тульской. Таково пони-
мание сущности земного человеческого счастья. А пути
к нему? Они не всегда были ведомы Толстому. И тем не
менее находились люди, перенявшие у Толстого, говоря
словами В. И. Ленина, наивные «рецепты спасения чело-
вечества» от гнетущих бедствий. Речь идет о толстовцах.
Идеологом и руководителем так называемых толстов-
цев был В. Г. Чертков (1854—1936 гг.), которого за рас-
пространение толстовского учения подвергли высылке из
Тульской губернии. Наряду с ним активно действовали
II. И. Бирюков (1860—1931 гг.) , А. К. Черткова (1859—
1927 гг.), И. М. Трегубов (1858-1932 гг.), К. С. Шорох-
Троцкий (1892—1937 гг.), В. В. Муратов (1892—1957 гг.).
После революции 1905—1907 гг. толстовцы создавали
ющества в местах, связанных с жизнью писателя и про-
юведовали свои взгляды среди интеллигенции и учащих-
я. Религиозно-этическое учение Л. Н. Толстого толстов-
цами-начетчиками трактовалось своеобразно. В статье
Н. И. Ленина «Лев Толстой, как зеркало русской револю-
164
165
ции» (1908 г.) содержится характеристика толстовцЙ1
«Толстой смешон, как пророк, открывший новые рецепт
спасения человечества,— и поэтому совсем мизерны загр!«
ничные и русские «толстовцы», пожелавшие превратив
в догму как раз самую слабую сторону его учения»1 1.
Чтобы дать хотя бы общее представление об идейней
позиции и настроениях толстовцев, приведем некоторЫ!
документальные свидетельства.
Шел 1918 год. То было очень тяжелое для Советской
России время. Белополяки вторглись в Белоруссию. Бело»
финны начали наступление на севере. Серьезная yrpoai
нависла над Петроградом. Враги революции в различны!
районах республики совершали диверсии. Колчак, Денм*
кин, Врангель — эти прямые ставленники Антанты пыт!»
лись восстановить буржуазно-помещичий строй. В эти!
условиях революция требовала колоссальных усилий, бор!»
бы и жертв на многочисленных фронтах и в тылу. Бол!»
шевики-ленинцы, трезво оценившие обстановку, созни»
тельно шли на самую отчаянную борьбу, чтобы вырвать В!
только Россию из всемирной бойни, но и вообще покончит!
со всякими войнами. Насилие, гражданская война были
неизбежны. В это напряженнейшее время толстовец Тро»
губов заносит в свой дневник: «Ничто не может сейчас
спасти народ, кроме проповеди евангельского учения».
24 июня того же года Трегубов записывает: «Когда в Сим-
бирске недалеко от меня белые расстреляли какого-то
красноармейца, а затем мертвого прокололи штыком (эту
сцену я сам видел и никогда не забуду), в эту минуту,
и особенно когда подошел ближе и увидел хрипящего
мертвеца, я понял, что никогда, нигде не может совер»
шаться убийство человеком человека. Убийство всегда
убийство. И нет ему оправдания, какими бы целями и бла-
гами его ни прикрывали... И потому ты не должен ни на»
падать, ни защищаться. Защищать себя и других — обма!
и ложь». 28 июля: «Я почувствовал сегодня одиночество,
И ужас, ужас от своей интеллигентности. Зачем я привык
рассуждать? К чему философия? Зачем я грамотен? О, еО»
ли бы все забыть, все отбросить и быть как ребенок».
31 августа: «Завтра по поводу моего отказа участвовать
в охране улиц по ночам и в гражданском ополчении мн*
надлежит явиться для объяснений (проще — на допрос)
в штаб Симбирской народной армии. Ну что же? Я пойду,
1 В. И. Л е н и н. Поля. собр. соч., т. 17, с. 210.
И скажу все, что думаю. Что из этого выйдет? Или меня
нпустят как ненормального, или засадят, чтобы и другие
не узнали, что бог запретил какое бы то ни было насилие,
«о имя каких бы целей оно ни производилось». 17 февраля
1920 года: «Все не то, не то... Пусто. Одиноко». 18 апреля
того же года: «Один, один я в своей любви и мудрости»1.
Эти откровенные записи наглядно показывают, до ка-
ши степени толстовец изолировал себя от народа, от его
действительных нужд. Он не может понять смысла и со-
держания героической борьбы революционеров, испыты-
вает отрешенность от жизни, тягостное сознание собствен-
ного бессилия, слабости и растерянности. В его сердце за-
глохло чувство сострадания к ближнему — то чувство, о ко-
тором он любил так много говорить. Не было у него со-
шания сопричастности великим событиям, великой борьбе
твоего народа, он терял в себе нравственную опору. На
деле такая пассивность, уход от революции, прикрытые
«интеллигентским» самоанализом были на руку врагам
революции.
Другой активный толстовец — М. С. Дудченко обраща-
ется в это время к «братьям-коммунистам» с открытыми
письмами, в которых призывает «прекратить всякую борь-
бу против помещиков и буржуев», не брать у кулаков
глеб2.
Дудченко распространял свои «открытые письма»
и пределах Украины. А в Москве в это время "выходит жур-
нал толстовцев «Голос Толстого и единение». В нем печа-
таются аналогичные призывы к «братьям-рабочим». Тол-
стовцы самым настойчивым образом отвергают борьбу
«с кем бы то ни было и с какой бы то ни было целью
предпринятую, хотя бы с так называемой «освободитель-
ной целью»3. Уйти подальше от зла, не участвовать в на-
силии, даже если оно оправдано,— эта нравственная уста-
новка вела к отчужденности, к себялюбивой замкнутости,
а самоустранение — к молчаливому соучастию в зле. Тол-
стовство было тем щитом, под которым часто прятались
обычная растерянность и непонимание сути событий.
1 Музей истории атеизма и религии АН СССР. Рукописный от-
цол, ф. 13, on. 1, ед. хр. 101.
2 Там же, ф. 7, оп. 2, ед. хр. 1.
3 В. Ф. Булгаков. Лев Толстой и наша современность М.,
1919, с. 6.
166
167
Толстовство в превратном виде отражало реальные черты 1уемую ими заповедь любви к ближнему, сознательно от-
психологии определенных патриархально-крестьянски,.Гранялись от peajIbHOg жизни. Что же касается их пропа-
интеллигентских, деклассированных и мещанских слови андЬ1) т0 она ТОлько дезориентировала массы, порождала
населения России конца XIX и начала XX века. Не |уТанИцу в понимании подлинных и мнимых ценно-
удовлетворенность своим положением в классовом, анте тей
гонистическом обществе, понимание, что существующий т0ЛСТ0вцы ПрИЗывали отрешиться от «суетности мира»,
строи нужно изменить, и неверие в революционный пуп йти в себя позабОтиться о своей душе; революционеры-
преобразования российской действительности — все это „
поворачивало толстовцев спиной к реальной жизни. Ни
первый план они выдвигали отнюдь не деятельность, ко
торая вела бы к изменению общественных отношений,
а лозунг нравственного самоусовершенствования индиви-
дов на основе «всеобщей любви». Что же касается самого
их призыва ко «всеобщей любви», то он выражал осуж
дение революционных преобразований.
Толстовцы отвергали путь революционной борьбы
с царским самодержавием, проповедовали классовый мир,
«Но революция все разгоралась,— писал В. Д. Бонч-Бруо
вич,— вовлекая все большие массы рабочего и крестьян-
ского населения... неповиновение и противление проявля
лись повсюду... революция шла, сметая на своем пути все
препятствия, и толстовщина и ее адепты в первую голову
были сброшены в мусорный ящик»1.
В послеоктябрьский период толстовцы не прекратили
своей деятельности. Они создали «Общество истинной сво
боды в память Л. Н. Толстого», просуществовавшее до на-
чала 1920 года, они распространяли свои печатные и руко-
писные издания, в которых излагали свои философские, со-
циальные и религиозные взгляды. В 20-х — начале 30-х
годов деятельность толстовцев была либо прямо реакцион-
ной, либо косвенно оппозиционной мероприятиям Совет-
ской власти. Сектанты пытались препятствовать строи-
тельству вооруженных сил республики, осуществлению
экономической политики Советской власти, в частности
коллективизации. «Настоящих интересов народа толстов-
цы никогда не понимали. Они были далеки от народа, и на-
род был им чужд»2.
Занятые в критический момент истории «спасением
своей собственной души», «поисками «внутренней духов-
ной свободы», они сами же нарушали столь пропаганди-
1 В. Д. Бонч-Бруевич. Избранные атеистические проИ1-
ведения. М., «Мысль», 1973, с. 170.
2 А. И. К л и б а п о в. Религиозное сектантство и современ-
ность. М., «Наука», 1969, с. 186.
168
блыпевики, напротив, звали к жизненной активности,
: практической деятельности по коммунистическому пре-
образованию мира. Только последнее, участие в практиче-
кой работе, направленной на общее благо, и создавало
ювого человека, свободного от «родимых пятен» капита-
изма, подводило к высшей — коммунистической — нрав-
твенности.
Отгородившись крепостной стеной от большого мира, от
штересов и забот своих сограждан, замкнувшись в узком
воекорыстном мирке, толстовцы, сами не ведая того, об-
крадывали себя. В конце концов даже в собственном кру-
у они оставались одинокими, теряли единомышленников и
традали от «непонимания», борьбы мелочного самолюбия,
юстоянных ссор и недоразумений.
Справедливости ради следует сказать, что толстовцы
ie были однородными. Среди тех, кто именовал себя ис-
инными последователями Толстого, известны и толстовцы,
оторые, несмотря на идейные заблуждения, оставались
иодьми, как писал В. Ф. Булгаков, «безукоризненно по-
1ЯДОЧНЫМИ и последовательными в разных областях дея-
ельности». Нельзя не вспомнить, с каким мужеством, не
оясь лишений и преследований, некоторые толстовцы,
। том числе и В. Ф. Булгаков, протестовали в годы первой
игровой войны против милитаризма. Сам В. Ф. Булгаков,
1 силу суровых уроков жизни, многое пересмотрел в своем
кизнепонимании и сумел внести свой вклад в развитие
оветской культуры.
В наши дни встречаются такие «почитатели» Толстого,
оторые, фальсифицируя наследие великого писателя, ис-
ользуют его авторитет для пропаганды религии. За ру-
ежом пропаганда толстовцами идей «классового мира»
аполитичности объективно направлена против революци-
онного движения.
Однако нельзя ставить знак равенства между толстов-
твом, толстовцами и Толстым. Еще в 1894 году Н. Лесков
розорливо предупреждал Веселитскую, что если зани-
(аться толстовцами, то «непременно с полным отделением
169
их от того, кто дал им имя или «кличку»1. Кстати, и с!М
Толстой, по словам Горького, «хорошо понимал истинную
цену толстовцев. Как-то в Ясной Поляне некто красно-
речиво рассказывал о том, как ему хорошо жить и как ста-
ла чиста душа его, приняв учение Толстого. Лев Николае-
вич наклонился к Горькому и сказал тихонько:
— Все врет, шельмец, но это он для того, чтобы сде-
лать мне приятное.
Толстой неоднократно высказывался против использо-
вания его религиозно философского учения в качестве но-
вой сектантской доктрины и объединения своих последова-
телей в секту. Одно время Чертков, считавшийся первым
толстовцем, думал даже о съезде толстовцев, по Толстой
иронически сказал: «И меня выберете генералом и какие-
нибудь кокарды сделаете?»
Характерно, что и сам Лев Николаевич не отождест-
влял себя с теми, кто считал себя толстовцами. Про когО-
то, как свидетельствовал Гольденвейзер, он однажды ска-
зал: «Это «толстовец», то есть человек самого чуждого мне
миросозерцания». И. Л. Толстой в своих воспоминаниях
приводит слова отца о толстовцах, «что это наиболее чуж-
дая и непонятная ему секта»* 2.
Но мы не можем замалчивать непоследовательности
миросозерцания самого Л. Н. Толстого. Критикуя церковь,
православие, Толстой не дошел до прямых атеистических
выводов. Толстой входил в противоречие с самим собой,
когда оставлял в своем учении место для религии, причем
он и сам приходил к сознанию противоречивости своих
религиозных представлений: «Бог — живой — любовь —
есть необходимый вывод разума и вместе с тем — бессмыс-
лица, противная разуму» (62,244).
При чтении трактатов и статей Толстого легко заме-
тить, что аргументы его против социального зла и церкви
несравненно более ярки и убедительны, чем доводы в поль-
зу проповедуемой им самим мысли о нужности религии,
Проследим это на примере его статьи «Одумайтесь!».
В письме Черткову Толстой сообщал, что в этой статье ОН
разрабатывает две темы: 1) ужасы современной войны;
2) «все бедствия людские от отсутствия религии». Но ОН
'Андрей Лесков. Жизнь Николая Лескова. М., ГИХЛ,
1954, с. 609.
2 И. Л. Толе т о й. Мои воспоминания. М., 1969, с. 200,
пе сумел переплести эти темы, и ему не удалось решить
вторую. Там, где Толстой показывает ненужность, бессмыс-
ленность русско-японской войны, где он говорит о преступ-
ности царей, министров, митрополитов и т. п., он убедите-
лен. Но вот следуют главы, в которых Толстой хочет ра-
зобраться, в чем же причины «общего безумия», хочет дать
совет, как человечеству «образумиться». И уже пропала
жизненная основа, что так была характерна для первых
глав, и отвлеченные рассуждения звучат догматически.
Толстой пытается доказать, что спасение людей от войн —
в религии, в том, чтобы люди научились любить врагов,
не в изменении «внешних форм жизни», а в изменении со-
знания в духе евангельского требования «не делай дру-
гому того, чего себе не желаешь». И, словно предчувствуя,
что читатель не захочет принять этот вывод на веру, не
надеясь уже на самого себя, он учащает ссылки на Еван-
гелие, а эпиграфы — эти цитаты из высказываний авто-
ритетов разных времен и народов — становятся все более
громоздкими. Как тут не вспомнить чье-то высказывание,
что религия, не будучи в состоянии доказать истинность
своих положений, прибегает для доказательства к ссыл-
кам на авторитеты. Те страницы публицистики Толстого,
где он пытается обосновать свои религиозно-нравствен-
ные взгляды — голое морализирование; там он больше про-
кламирует, чем доказывает. Но как логично, спокойно и
кропотливо, с каким величайшим знанием текстов он ана-
лизирует Библию и показывает несостоятельность утверж-
дений о якобы ее сверхъестественной мудрости. Показы-
вая истинную цену догм христианского вероучения и
обрядности, Толстой расшатывал устои религиозного
мировоззрения. Аргументы против православия у Толсто-
го звучат гораздо убедительнее, чем доводы в защиту его
собственных религиозных взглядов. Наш современник
достаточно подготовлен, чтобы уметь разобраться в слож-
ной и противоречивой натуре Л. Н. Толстого и нахо-
дить в его идейном наследии то животворное, что
и сейчас способствует борьбе против религиозного дур-
мана.
В. И. Ленин писал о необходимости разъяснения мас-
сам значения «толстовской критики государства, церкви
(выделено мною.—С. II.), частной поземельной собствен-
ности» для того, чтобы они «...научились сплачиваться
в единую миллионную армию социалистических борцов,
которые свергнут капитализм и создадут новое общество
170
171
без нищеты народа, без эксплуатации человека челове-
ком»1.
В нашей стране давно свергнут капитализм, успешно
строится коммунизм. Однако пережитки прошлого живучи,
поэтому и сегодня сохраняет свою злободневность ленин-
ское указание о необходимости разъяснять массам значе-
ние толстовской критики церкви1 2 3. То, что учение Толстого,
по определению Ленина, «безусловно утопично и, по свое-
му содержанию, реакционно», вовсе не значит, что мы
должны игнорировать это учение. Ведь утопичность и ре-
акционность этого учения не помешали В. И. Ленину уви-
деть в нем критические элементы, «...способные доставлять
ценный материал для просвещения передовых классов»’,
В поисках блага для человека и путей преобразования ми-
ра Толстой, как уже было сказано выше, становился на
ошибочный путь. В мечтах о всечеловеческом братстве он
обратился к Евангелию. Однако будем помнить, что он
прежде всего художник, писатель и сама «проповедь» его
часто принимала художественную, образную форму. Иисус
же для него был носителем братства и любви к людям,
страдающим за идею человеком.
Когда Ге привез в Петербург свою картину «Распя-
тие», написанную отнюдь не в традиционной манере, цар-
ские прислужники ее запретили. Толстой, хорошо пони-
мавший смысл этого «религиозного» полотна, писал худож-
1 В. И. Л е в и н. Поли. собр. соч., т. 20, с. 23—24.
2 Уже после того, как были написаны эти строки, вышла в свет
книга К. Ломунова «Толстой в современном мире». Безусловно
прав К. Н Ломупов, когда пишет, что нельзя допустить, чтобы
антицерковная критика Толстого, обладающая могучей разруши-
тельной силой, «это острое оружие, не находилось на вооружении
тех, кто и сегодня в разных концах земли ведет борьбу против цер-
ковного рабства» (К. Л о м у н о в. Лев Толстой в современном ми-
ре. М., «Современник», 1975, с. 134). Д. Стариков в статье «Настоя-
щее нужное людям» («Дружба народов», 1978, № 7) высказывает
сожаление по поводу того, что наше литературоведение недостаточ-
но внимательно к истории борьбы Толстого с официальной рели-
гией и церковью. Он пишет: «Интересы антирелигиозной пропаган-
ды едины здесь с интересами подлинно научного толстоведения,
призванного вслед за Лениным раскрыть все действительное,
объективное содержание толстовского наследия». Д. Стариков го-
ворит о важности современного нашего стремления раскрыть
конкретно жизненное наполнение тех или иных отвлеченных сен-
тенций в устах Толстого, постичь и освоить в том или ином «изре-
чении» великого писателя «всю силу присущего ему содержания»,
понять, какое конкретное содержание он вкладывал в евангельские
цитаты и перифразы.
3 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т, 20, с. 103.
нику: «Снятие с выставки — ваше торжество». Одновре-
менно Толстой сказал, что «бьет по сильным мира сего
обличительные «религиозные» картины Ге «Тайная ве-
черя», «Что есть истина?», «Суд синедриона». В живописи
Ге он ценил прежде всего ее нравственный пафос. Ему
было дорого то, что Ге показал, как «Христа водили, мучи-
ли, били, таскали из одной кутузки в другую, от одного
начальника к другому», т. е. то, что в картине есть образ
человека, который готов на любые жертвы во имя своих
убеждений. Толстому было близко, что Ге осмыслял по-
своему тысячелетние евангельские сюжеты и передавал
в них нечто современное, свое и что в полотнах этого
художника нет «божественности», «иконности». Творения
Ге, близкого по взглядам к Толстому, противоречили духу
и смыслу Евангелия. Образ Христа — центральный образ
христианского вероучения — трактовался им не как образ
всемогущего бога, возвышающегося над людьми, а как об-
раз земного человека, упрямого проповедника человече-
ской нравственности. Как и на картинах Ге, у Толстого
Христос — человек, который не творит чудеса. И Толстой,
и Ге снимали божественный нимб с канонического образа
«спасителя» и «искупителя», в течение веков служившего
целям духовного угнетения. В этом есть немалый антире-
лигиозный смысл. Кстати, в романе «Анна Каренина»
Толстой с симпатией рассказывает о художнике Михайло-
ве и его реалистической манере письма, особенно сказав-
шейся в изображении Христа перед Пилатом. Весьма оче-
ловеченный образ Христа (не традиционный, не иконопис-
ный) , созданный художником Михайловым, близок образу,
созданному Н. Н. Ге.
Л. Н. Толстой, хотя и не освободился до конца от рели-
гиозных заблуждений, в страстных поисках истины нанес
сокрушительный удар по официальной церкви и религии
в целом, обнаружил всю лживость догматов православия.
С огромной силой негодования он громил церковь прежде
всего за то, что она оправдывала строй, основанный на экс-
плуатации трудящихся. Слово «церковь», объявлял он,—
это «название обмана, посредством которого одни люди хо-
тят властвовать над другими» (23, 301).
В ленинских статьях о Толстом мы находим высокую
оценку той силы и искренности, с которой великий рус-
ский писатель критиковал церковь. В этой критике, как и
но всем его творчестве, В. И. Ленин видел «самый трез-
вый реализм», «срыванье всех и всяческих масок». Именно
172
173
поэтому прогрессивные люди всего мира ставят великого
вольнодумца Толстого рядом с именами многих великих
людей, которых тоже травили методами клеветы. Имя Тол-
стого стоит рядом с именами французских просветителей и
других поборников научной мысли. Судьба Толстого во
многом напоминает судьбу Н. Г. Чернышевского, И. М. Се-
ченова, И. И. Мечникова, Д. И. Менделеева, К. А. Тимиря-
зева и других передовых мыслителей России, которых тра-
вили православные церковники. Примечательно, что на
стене в так называемой ремингтонной комнате яснопо-
лянского музея висит репродукция картины чешского ху-
дожника Венцеслава Черного. На картине изображена
казнь отлученного от церкви известного чешского религи-
озного и социального реформатора Яна Гуса, возглавляв-
шего народное движение против католической церкви и
власти крупной земледельческой аристократии. Картина
была подарена Толстому в июне 1909 г. обществом «Сла-
вия» с надписью: «Великому русскому реформатору Льву
Николаевичу Толстому. На память о дне сожжения чеш-
ского реформатора Яна Гуса 23 июня 1415 г.» Известно,
что после 1901 года по рукам ходила картина, изображаю-
щая Толстого на костре и очень похожего на Яна Гуса,
а над ним — Победоносцева в одежде Великого Инквизи-
тора.
Как и многие подвижники и мученики науки и культу-
ры, Толстой бесстрашно отдавался исканиям истины.
Вслед за Джордано Бруно — мыслителем эпохи Возрожде-
ния, Л. Н. Толстой мог бы характеризовать себя как чело-
века, который «будил спящих», разоблачал «кичливое и
упрямое невежество», стремился дать «свободу человечес-
кому духу». Как и Бруно, чья воля в борьбе с мракобесами
была несгибаема, он мог бы ответить на их приговор сло-
вами: «Вы произносите это с большим страхом, чем я его
выслушиваю». Толстой не дал себя запугать, не капитули-
ровал. А реакционному лагерю так хотелось, чтобы он «по-
шел на мировую», выпросил себе «отпущение грехов».
С какой бы радостью враги свободной мысли оповестили
бы потом об этом на весь мир... Испытав на себе травлю,
разделив участь многих выдающихся мыслителей прошло-
го, «идущих впереди своего века», Лев Николаевич все же
победил в той борьбе с темными силами, которая длилась
на протяжении полустолетия. II это неизмеримо увеличи-
вает нашу гордость Толстым. Лев Толстой, по словам Ро-
мена Роллана, «дал нам пример, как говорить правду на-
перекор всем на свете и самим себе». Так французский пи-
сатель написал на книге, подаренной им Толстому и хра-
нящейся в Ясной Поляне.
В. И. Ленин постоянно проявлял интерес ко всему, что
было связано с именем Толстого, пристально следил за
борьбой вокруг него различных общественно-политических
направлений. Конечно, на такое событие, как отлучение
Толстого от церкви, Ленин не мог не откликнуться.
В статье «Внутреннее обозрение», напечатанной в № 2—3
журнала «Заря» за 1901 г., Ленин цитирует отрывок из
письма Преображенского, которое было в то время опуб-
ликовано в журнале «Вера и разум». Это письмо Ленин
расценивает как свидетельство проникновения политиче-
ского протеста в широкие круги. В отрывке говорится
о том, что «последние события», связанные с «великим пи-
сателем земли русской», «открывают глаза многим».
Позже уже в другой статье, высоко оценивая обличи-
тельную деятельность великого писателя, В. И. Ленин пи-
сал: «Святейший синод отлучил Толстого от церкви. Тем
лучше. Этот подвиг зачтется ему в час народной расправы
с чиновниками в рясах, жандармами во Христе...»*
После победы Великой Октябрьской социалистической
революции яснополянская усадьба стала предметом ис-
ключительного внимания со стороны Коммунистической
партии, правительства, лично В. И. Ленина. 30 марта
1918 года, в период, когда в стране царили голод и разру-
ха, было издано постановление правительства об охране
имения Л. Н. Толстого. Подписал это постановление
В. И. Ленин. Вскоре, 10 июня 1921 г., был опубликован
второй исторический документ — постановление ВЦИК
о национализации Ясной Поляны, подписанное М. И. Ка-
лининым. В этом постановлении говорилось: «Как дом-му-
зей со всей его обстановкой, так и могилу Л. Н. Толстого,
лес, его окружающий, постройки на усадьбе и вообще весь
внешний вид последней поддерживать и сохранять в их
историческом и неприкосновенном виде, восстанавливая
то, что пришло в ветхость или было почему-либо разруше-
но после смерти Л. И. Толстого».
Ясная Поляна, святыня русской и мировой культуры,
стала местом паломничества сотен тысяч людей.
В августе 1979 года Ясная Поляна встретила пятимил-
лионного своего посетителя.
1 В. И, Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 20, с. 22.
174
175
Ежегодно 9 сентября, в день рождения Л. Ы. Толстого,
здесь проводятся массовые митинги, затем открываются
традиционные Толстовские чтения — «толстовская неде-
ля». В пей участвуют люди разных возрастов и профессии,
посланцы многих городов и сел нашей страны. В 145-лет-
ний юбилей со дня рождения Л. И. Толстого ему в центре
Тулы был торжественно открыт памятник, созданный
скульптором В. И. Булкиным и архитектором А. И. Колчи-
ным. Великий сын России изображен путником, шагаю-
щим по родной земле. Он не на пьедестале, над людьми,
а рядом с нами — своими соотечественниками.
Художественное наследие великого писателя ныне ста-
ло неотъемлемой частью духовной жизни нашего народа,
всего человечества. По данным ЮНЕСКО, Толстой зани-
мает среди писателей одно из первых мест по числу пере-
водов его произведений на разные языки и по тиражу из-
даний. И прежде всего это, конечно, издания писателя на
его родине. До Великой Октябрьской социалистической
революции произведения Толстого были переведены на
10 языков народов России; сейчас же они переведены на
98 языков народов СССР. Тираж изданий произведений
писателя к 1917 году составлял около десяти миллионов
экземпляров, а к 1977 году он превысил двести миллионов
экземпляров.
Советским людям дорог пафос гуманизма, пронизываю-
щий творения Л. IT. Толстого. Страстные страницы его
произведений, разоблачающие церковь и церковное бого-
словие, помогают нам и сегодня бороться с религиозными
пережитками.
С годами отдаляется все дальше толстовская эпоха со
своеобразием ее непримиримых противоречий и мучитель-
ных исканий, с ее неизбежными поражениями и взлетами
человеческого духа. По сам Лев Николаевич Толстой нам
все ближе. И все более прочное место занимает он в на-
шей жизни, в узнавании и совершенствовании самих себя.
Его гений, как неоднократно повторено,— для всех и на-
всегда. Он с нами.
Адрес от «харьковцев».
л
! ' ?•
$ -?>ОРД^
У
ЗА
жеи
ГРАФУ
Л. Н. ТОЛСТОМУ
sm'b xapwceaimi
25 марта 1901г. J
Чдрееп Л. II. То к том> в сняли
i отличением от церкни.
ЛТалстолу
vpMnn» i until HoSc/raio
/SAi11 iwo lb mi у ел
о Г k. I'loj^un h
II (ЧЦг ОДНО «,Ц-.1<>» — о юмонгт-
роцпп о.» Перс (uiokuoii ныстапм'
пере i портретом • I И Толстого
«Ответ Синод}» 1 IT. Толстого,
онхб.шкованный за границе)!.
„FFUILLEb IH LA CAROLE (JURE’, X 22
„RtPONSE At SYNODL* per Leon Te|*«y
Fr>i w« i • ** k ы
' лети СВОБОДНАГО СЛОВА
ПОВРЕМЕННОЕ ИЗДАН(Е
Порт. редаяц|ей В. Чертжвя"
№ 22.
Ответь Синоду
Лиа Нпашвача Тисни
ЦП ШТ «Л
• Л РИП
И>дам<« .СюОоди»го Слове*
)
I X 69.
Л Tehertkott.
< kri-ubu .k, lUate. Tngtjnd.
GCNERALVERTRETUNG
< VfULSe EUOfN DIEDERICH$,tl£U>Zi<i
«Политическая комедия 1401 го-
1а» — так iia.ii.ma.ia прогрессив-
ная пресса решение синода
Л. И. Толстой и IT Е. Репин Яс-
ная Поляна. 100S
. I. П. Толстой. Н. II Мечников к
I». Гольденвейзер. Телятники
ГИИ».
Пз lainix, связанные с антнклсрп-
ГЛ.1Ы1ЫМ11 Ilt.lCTN H.iciitiinin .1 Il
Толстого.
Л Н. Толстой среди учеников ве-
черник курсов для рабочих. Яс-
ная Поляна. 1 !>09
Дом, । ie печптч.тись «. hfrn.n ско-
би цюго слова».
Л II Толстой на открытии пара i
иoii библиотеки.
Фрагмент стенной росписи в
церкви села Талона К)рекой обла-
сти. па которой 71, П. Толстой
изображен м> Ч1ИНЦ1ПН Я в ад>.
Хктограф Л. Л. Толстого-
V07W 'W.
Станция Лстапово. Последний
путь.
Могила I II. Толстого Ясная Пл-
л я на.
I
Памятник /1 Н Толстому в Туле
(ску.'и.итор В f.y 11I.IIU).
ь>
/
*
ОГЛАВЛЕНИЕ
ТОЛСТОЙ И ЦЕРКОВНИКИ.............................. 1
НА ВЕСАХ РАЗУМА И СОВЕСТИ......................... 9
ЦЕРКОВЬ МСТИТ.....................................65
«ЧЕМ НОЧЬ ТЕМНЕЙ, ТЕМ ЯРЧЕ ЗВЕЗДЫ»................87
ПАШ ВЕЛИКИЙ СОЮЗНИК..............................127
Позойский С. И.
П47 К истории отлучения Льва Толстого от церкви.—
М.: Сов. Россия, 1979.— 176 с., 12 л. ил.
В книге показано, с канон искренней страстью и непоколеби-
мой убежденностью великий русский писатель Л. Н. Толстой опро-
вергал «учение» православной церкви, ее обряды и догматы, как
беспощадно разоблачал церковников. Значительное место в ней уде-
лено отлучению Толстого от церкви н тому мощному движению об-
щественного протеста, которое было вызвано этим бессильно-злоб-
ным актом святейшего синода. Автор широко использует доку-
менты, сохранившиеся в архивах Москвы, Ленинграда, Тулы, Киева,
малоизвестные или забытые публикации периодической печати того
времени.
70202 065 43 _79 0400000000
11 М-105(03)79
Семен Иосифович Позойский
К ИСТОРИИ ОТЛУЧЕНИЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО
ОТ ЦЕРКВИ
Редактор М. Г. Пожидаева. Художественный редактор В. П. Бухаре».
Технический редактор И. И. Капитонова. Корректор А. 3. Лазуткина.
ИБ № 1518
Сдано в набор 30.05.79. Подписано в печать 19.11.79. А14633. Формат
84Х108'/з2. Бумага типографская № 1. Вклейки — мелован. Гарнитура обын
новенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 10,50 (в том числе вкл.— 1,26)
Уч.-изд. л. 10,92 (в том числе вкл.— 0,88). Тираж 50.000 экз. Заказ № 3311
Цена 45 к. Изд. инд. НА-84.
Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР По
делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, проезд Сапу
нова. 13/15. Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственно
го комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торгов
ли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.
45 к.
СОВЕТСКАЯ РОССИЯ