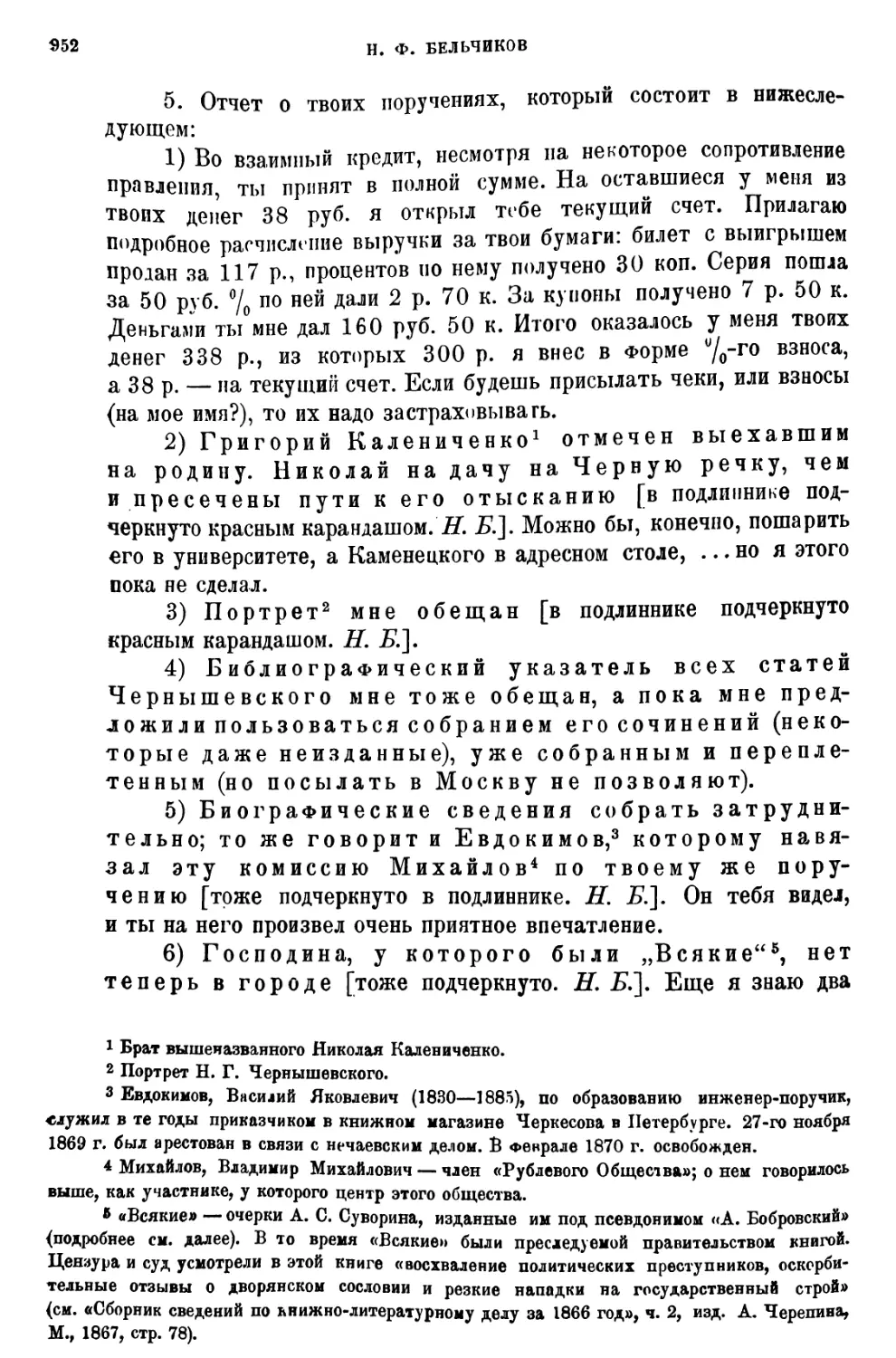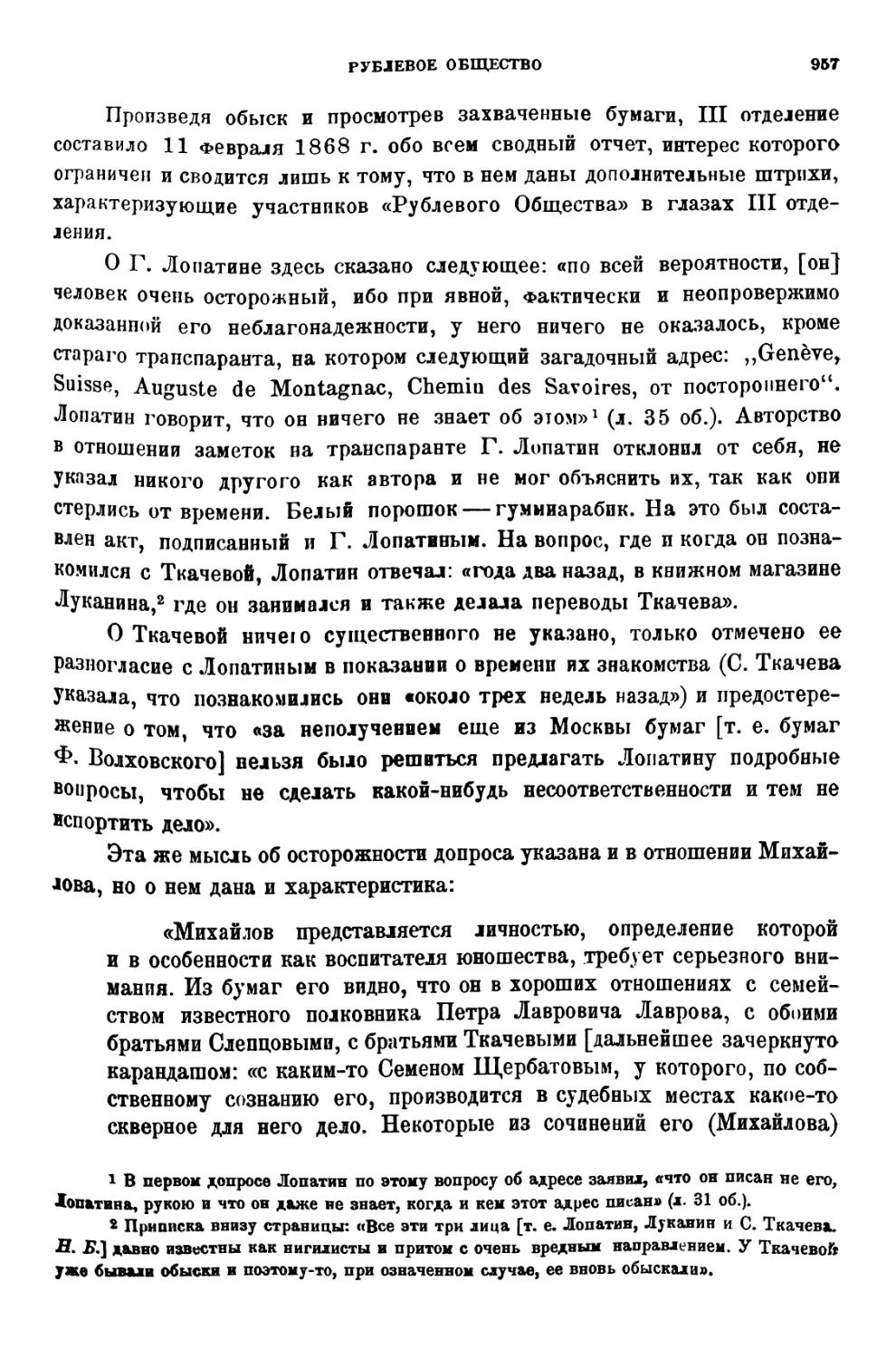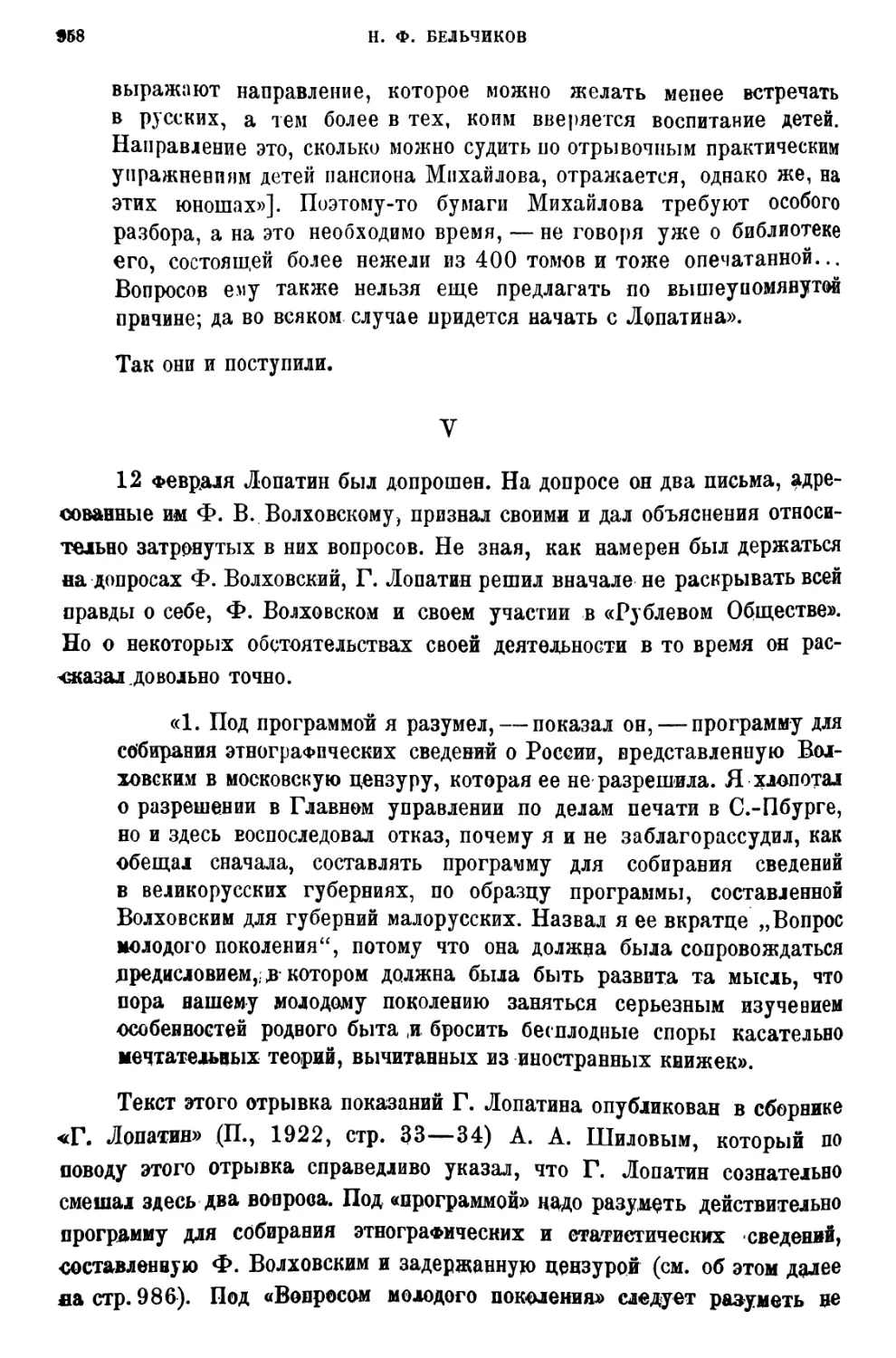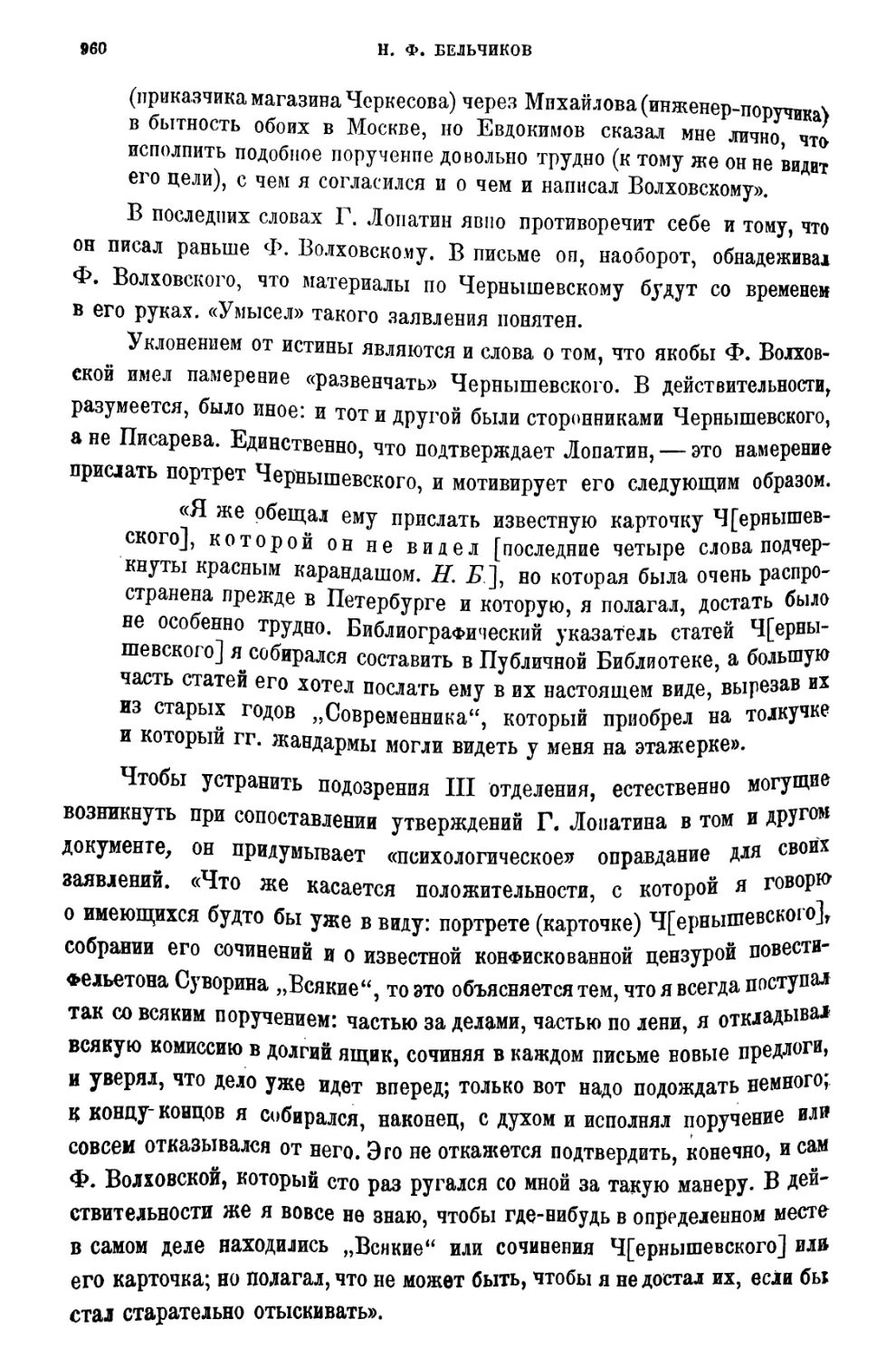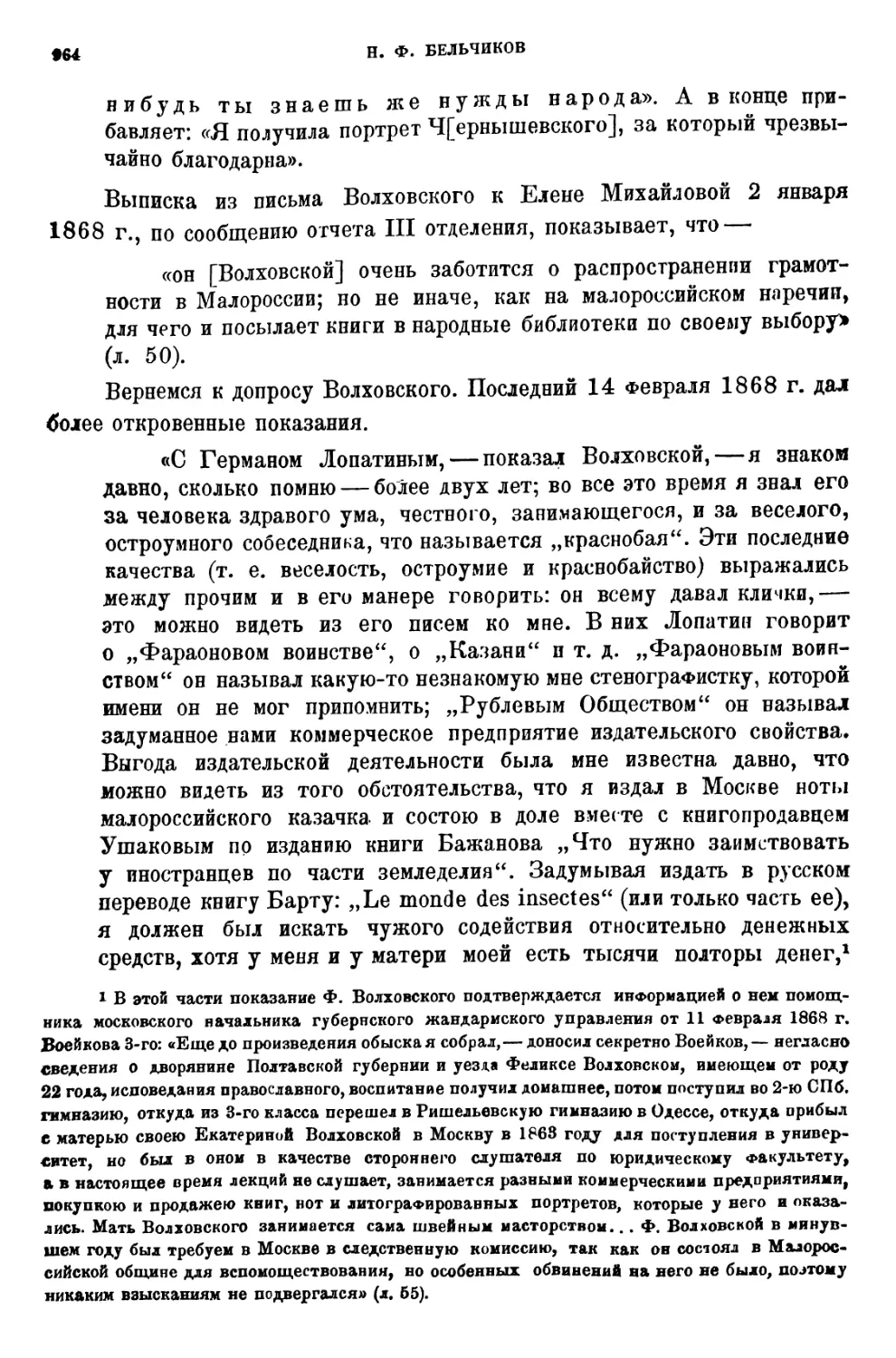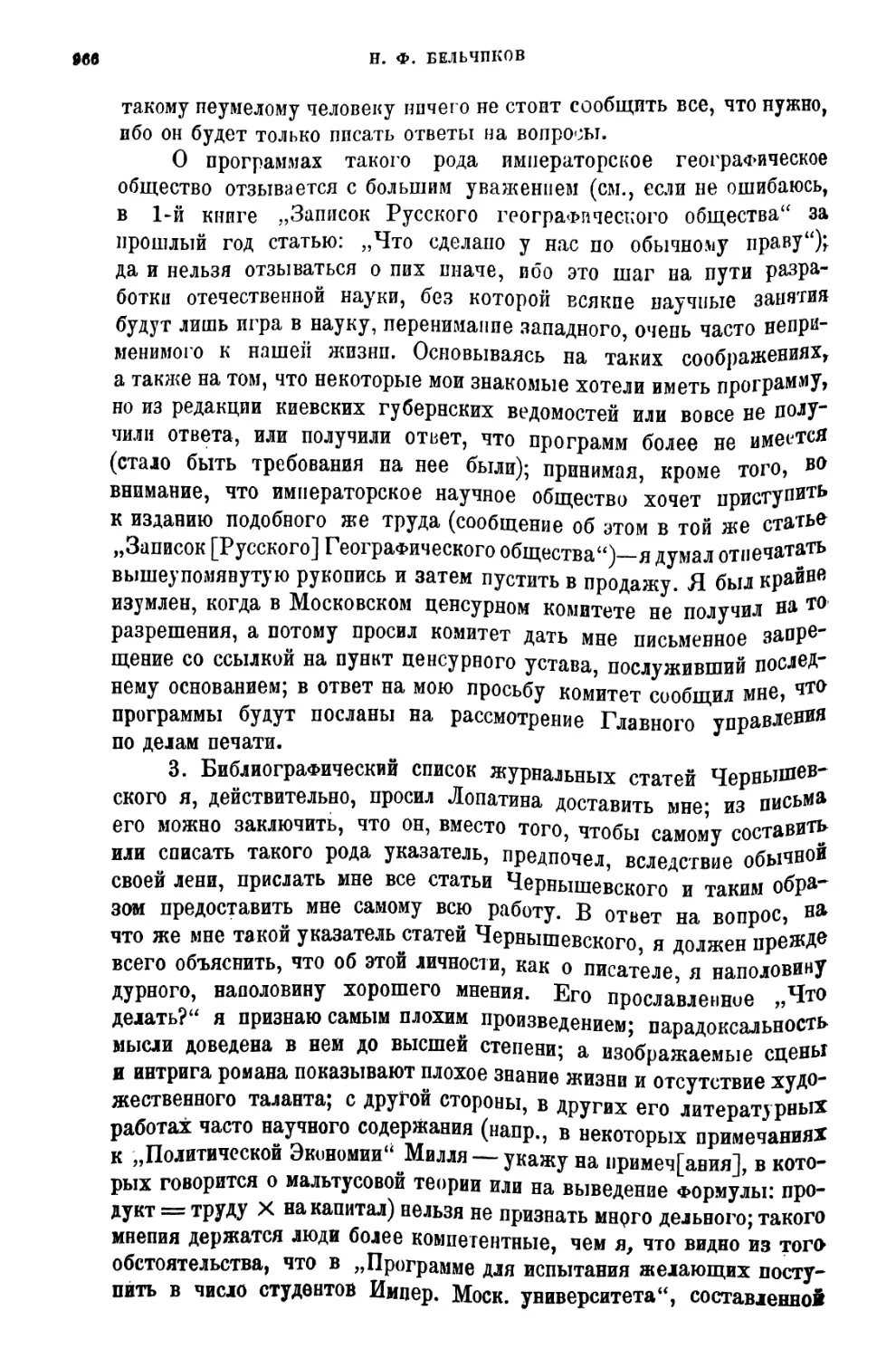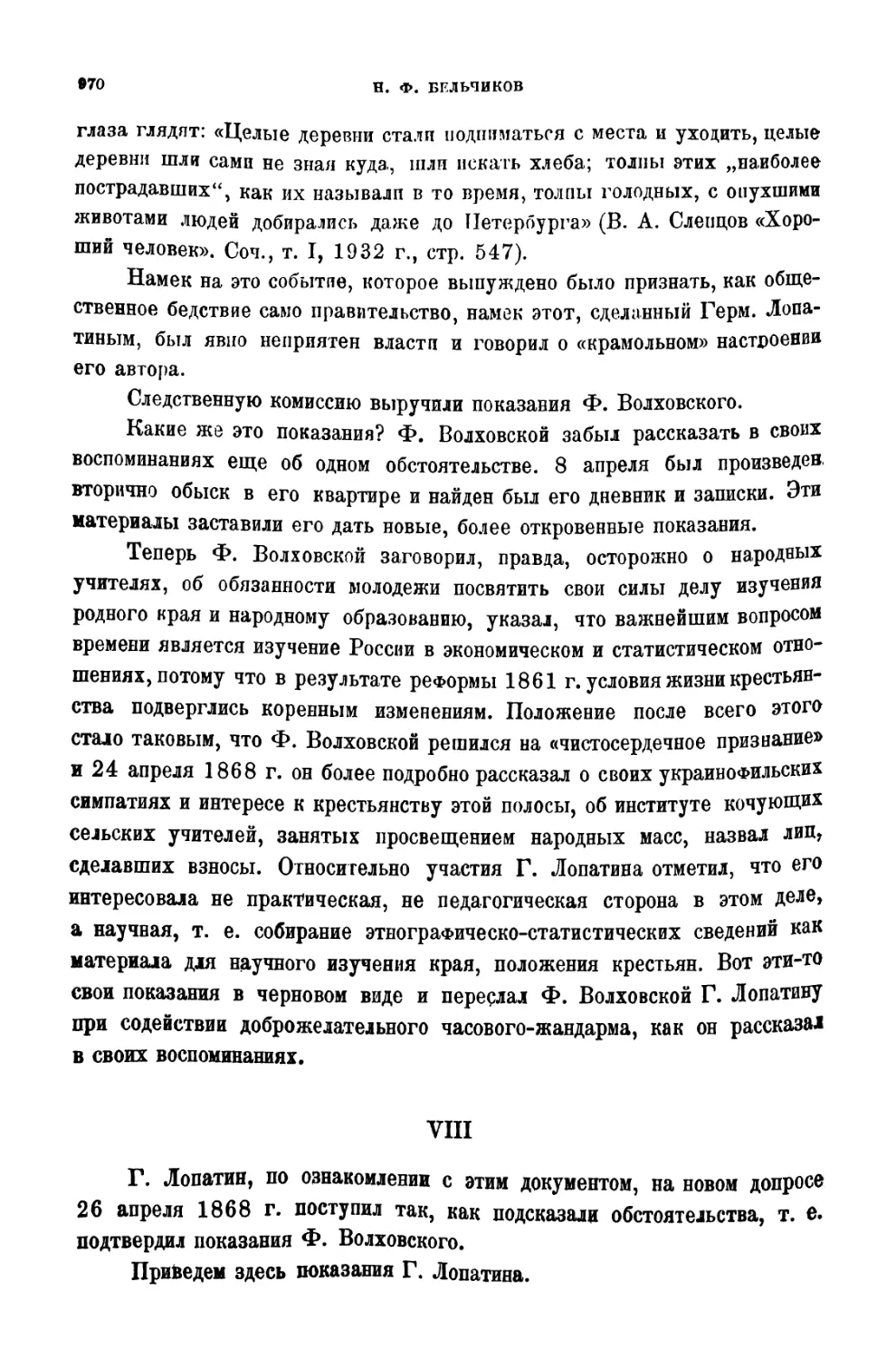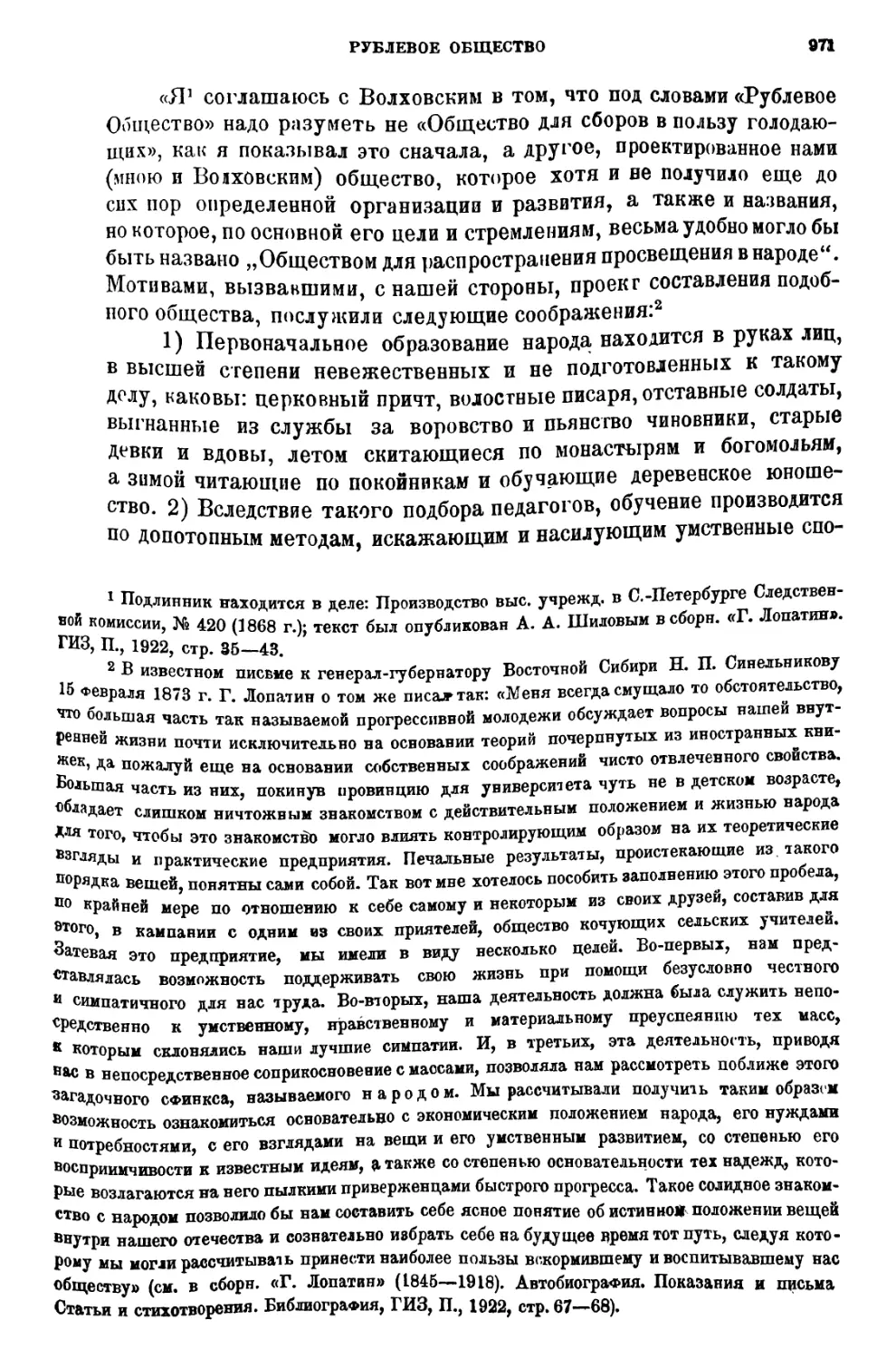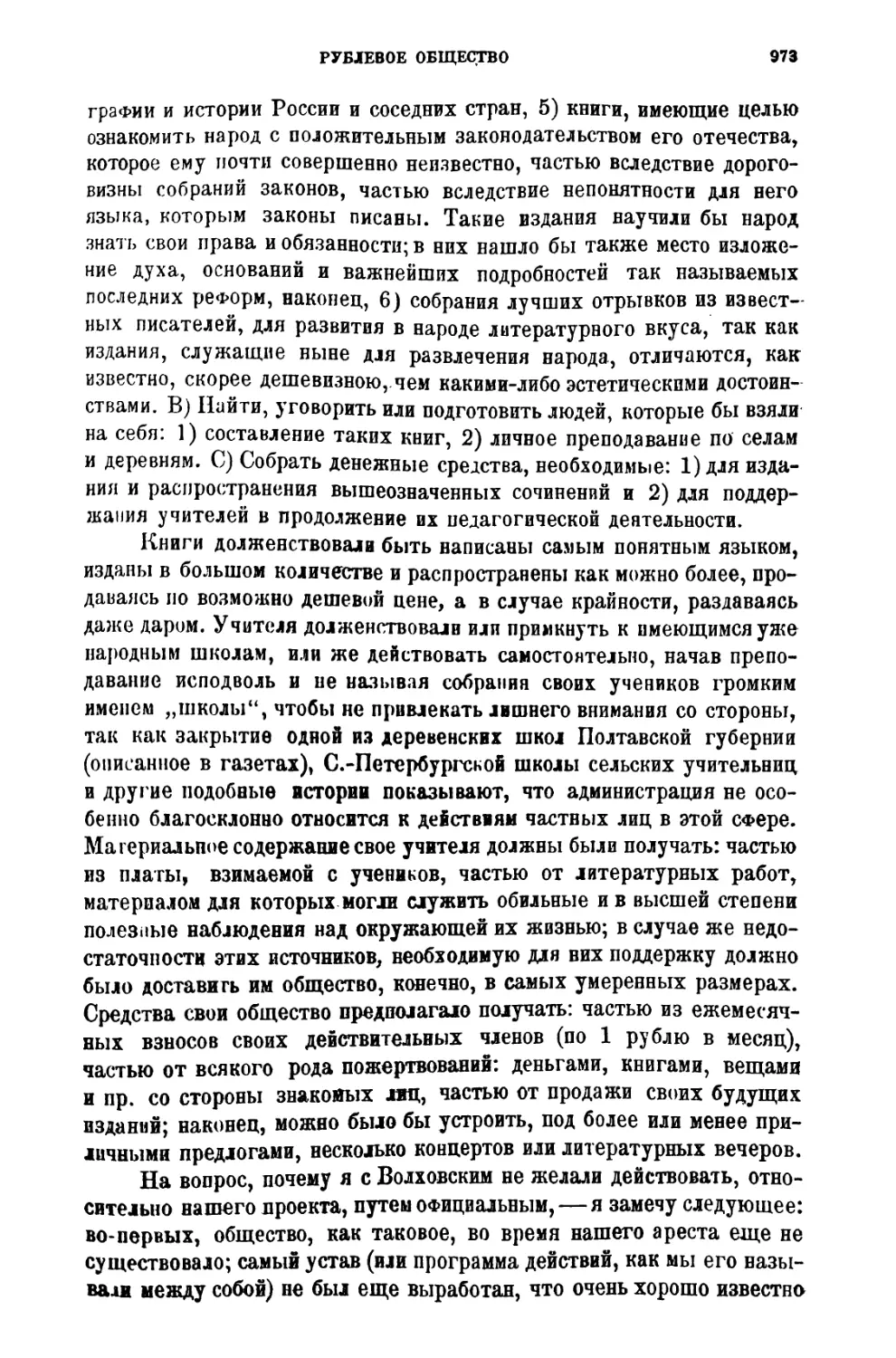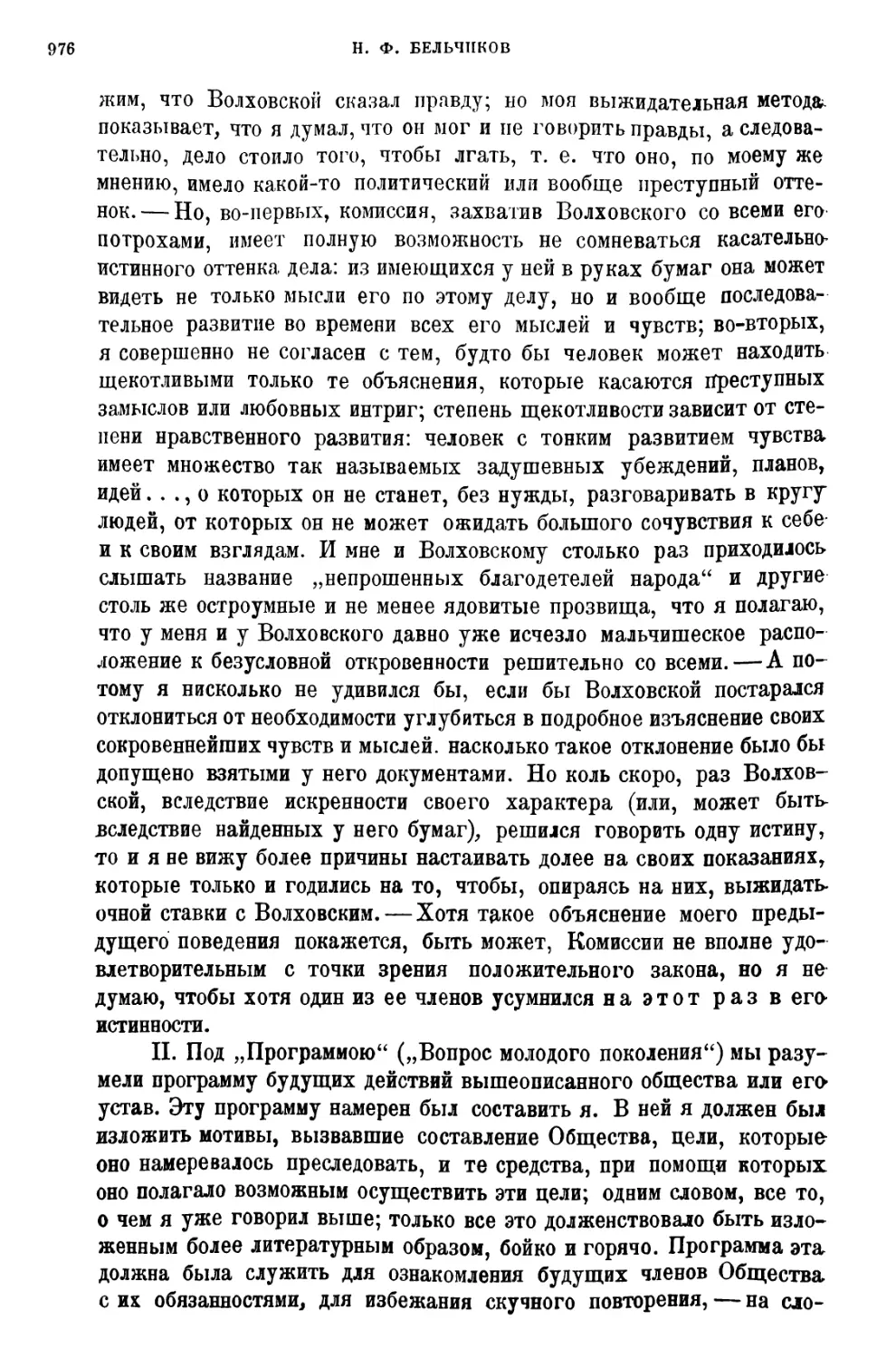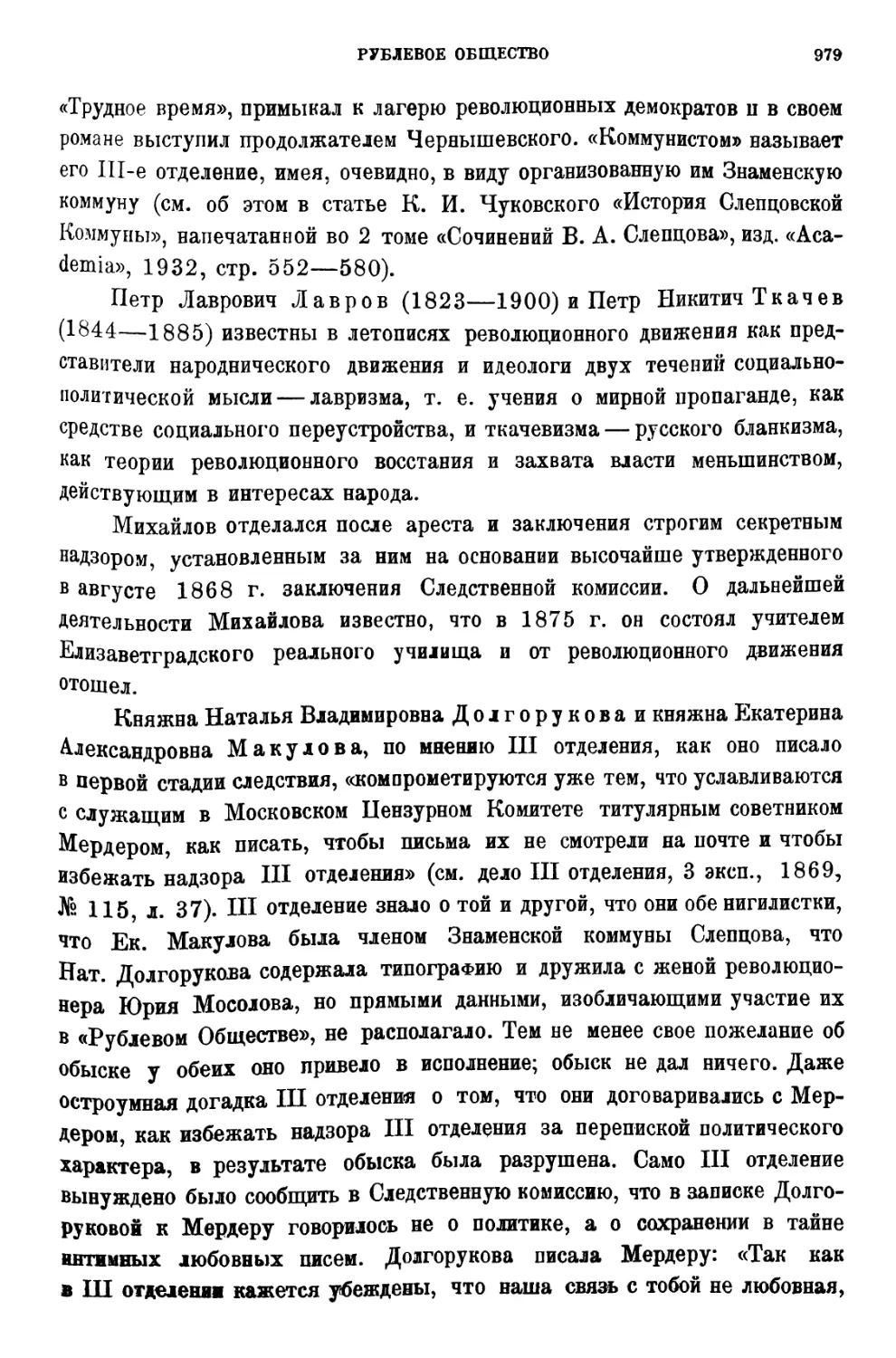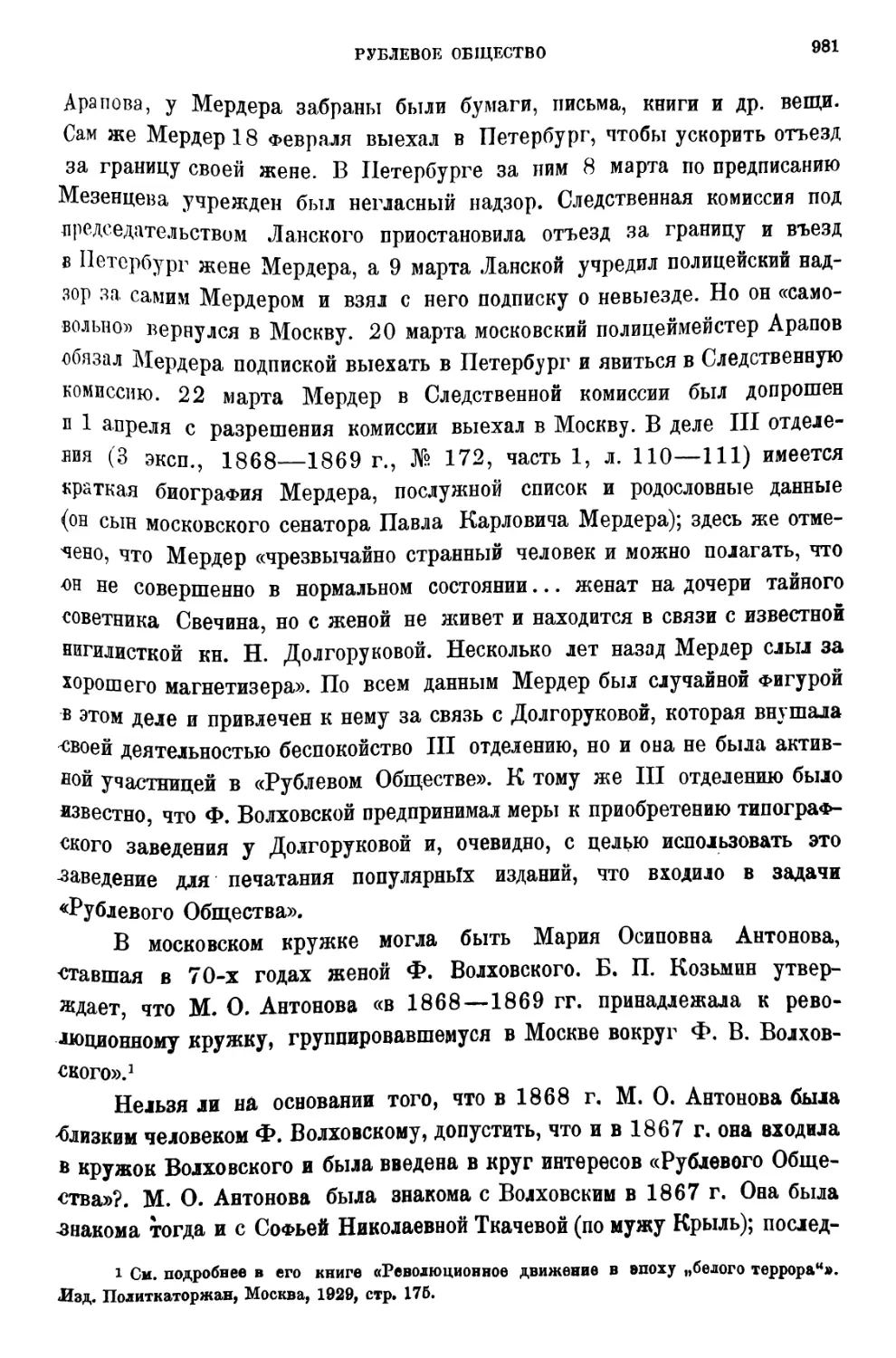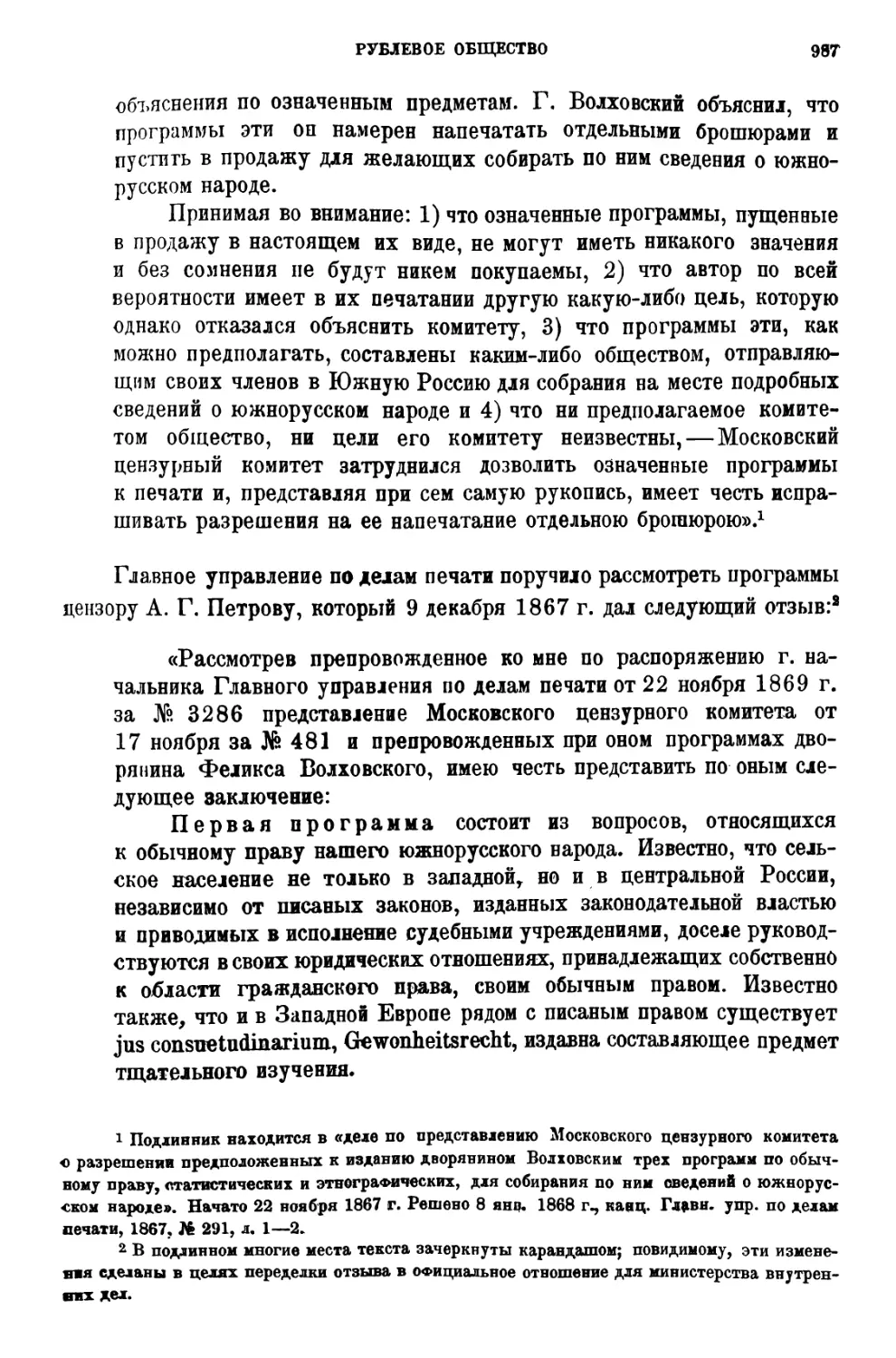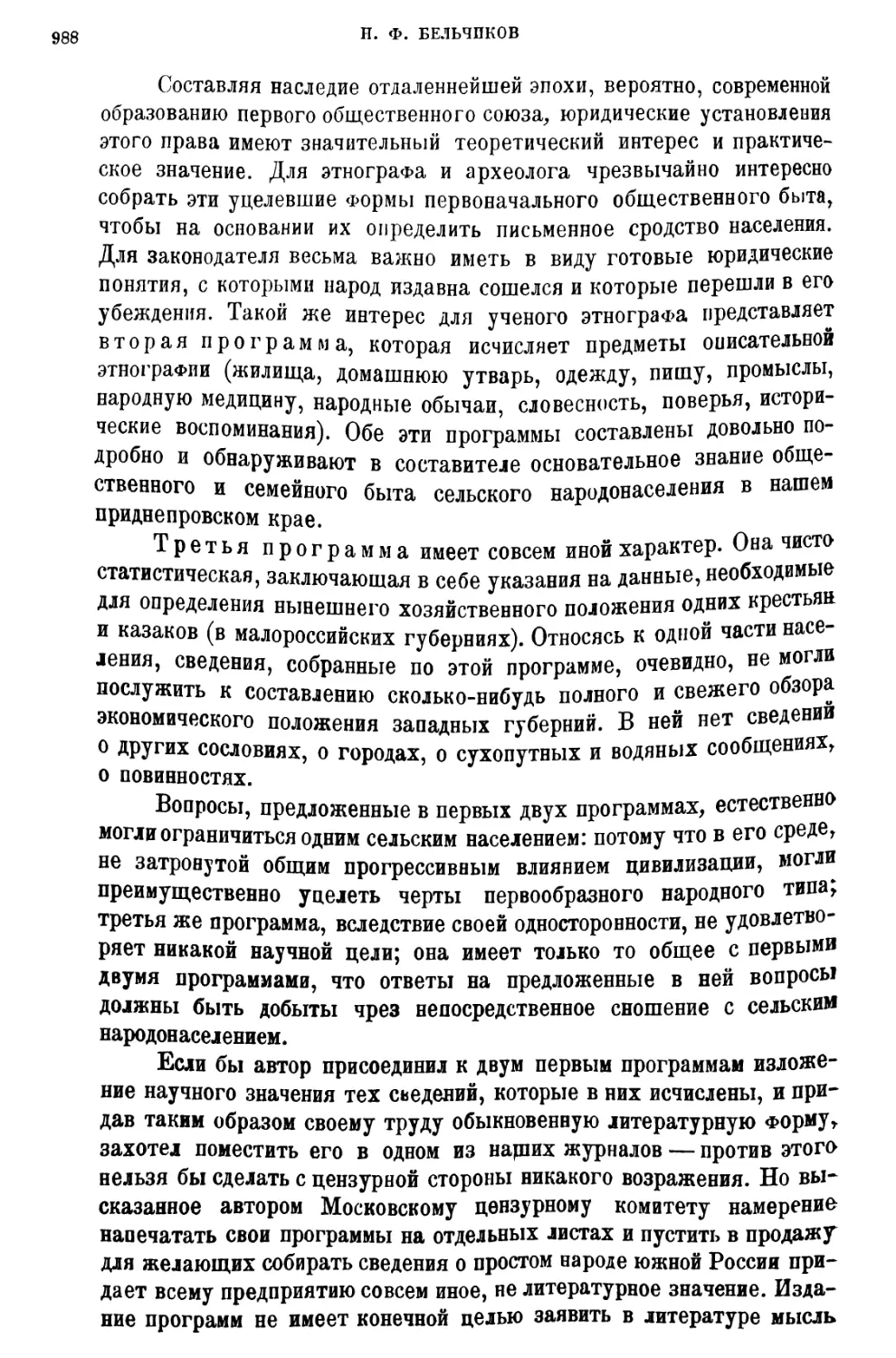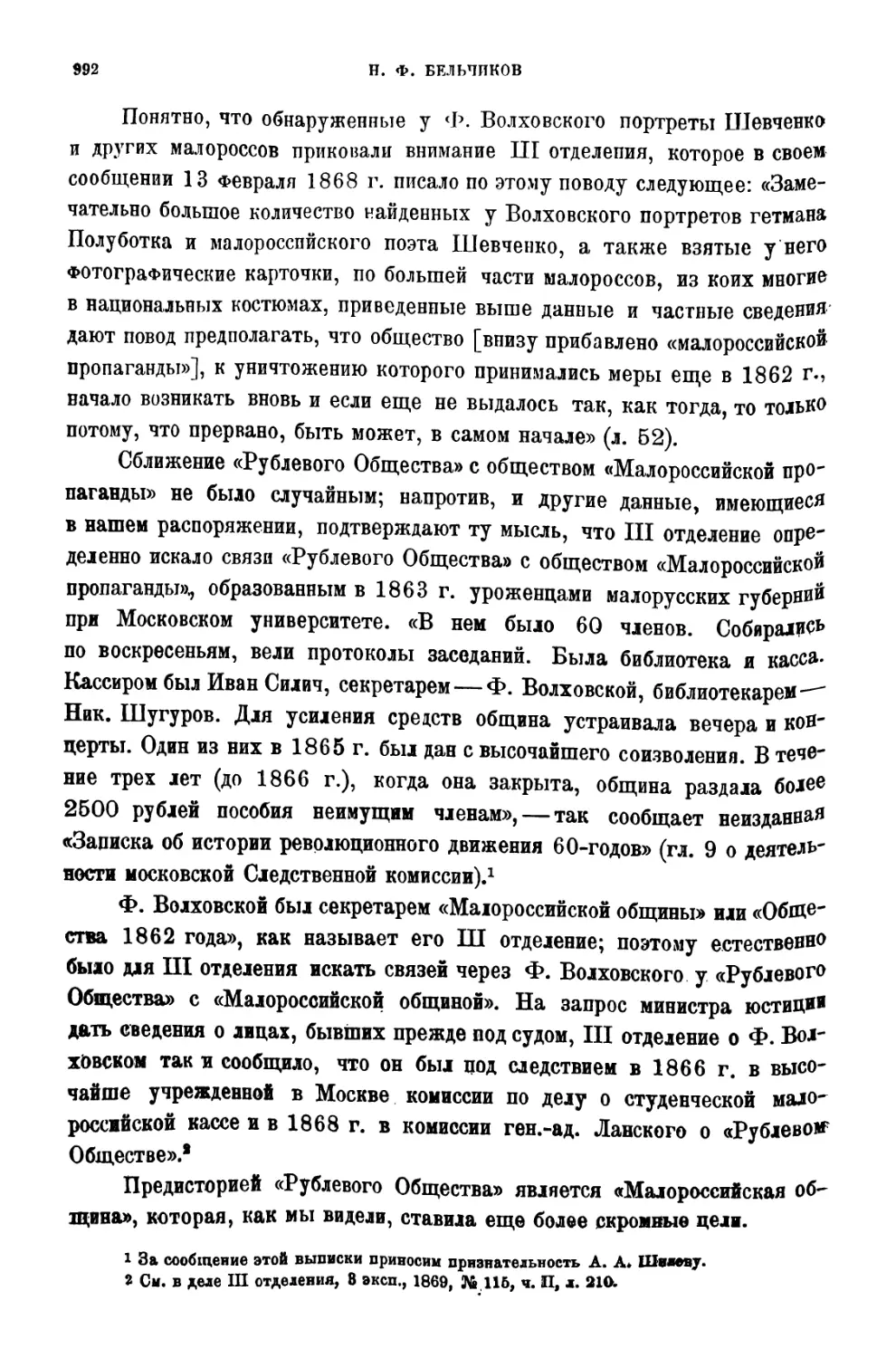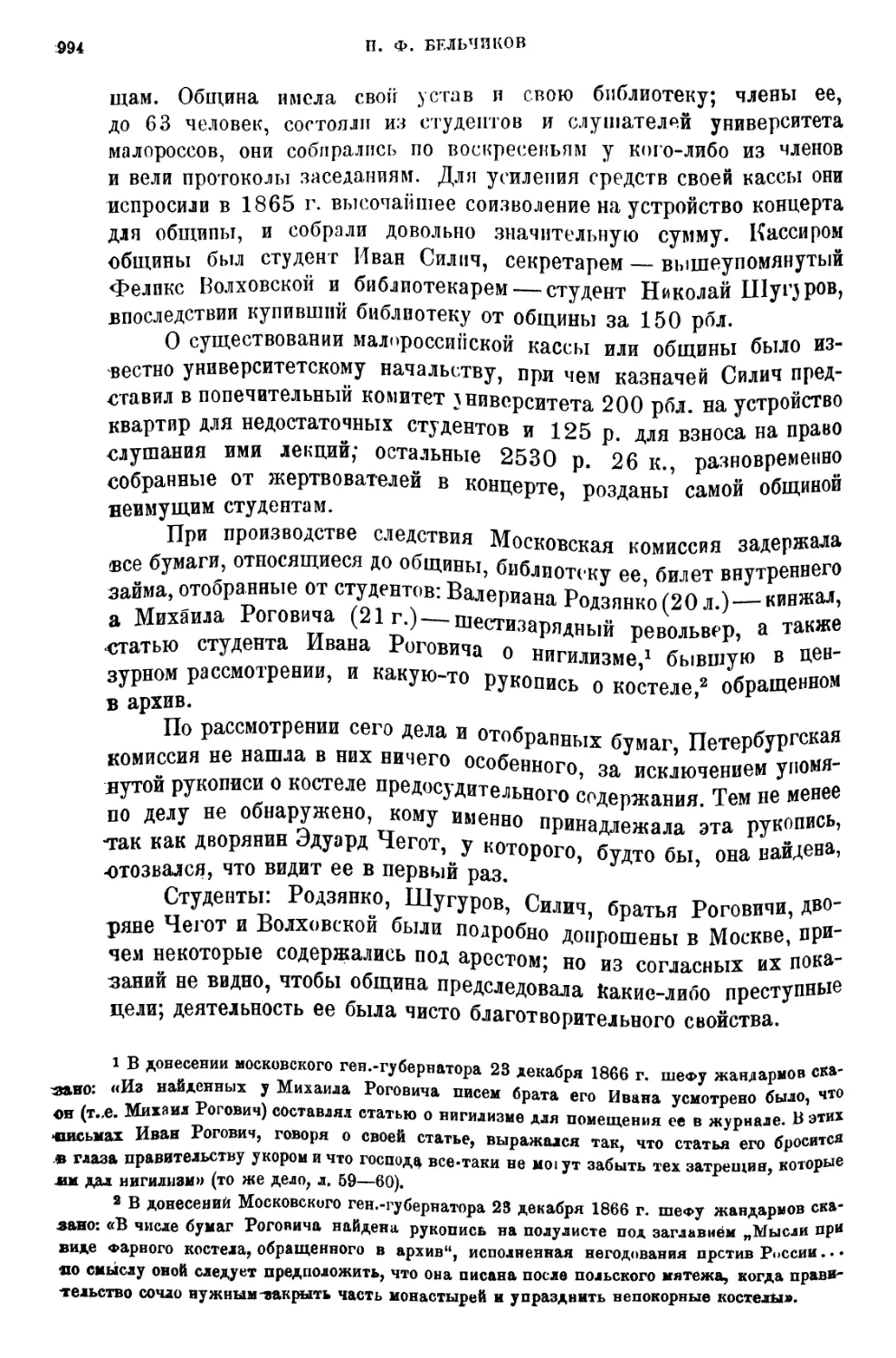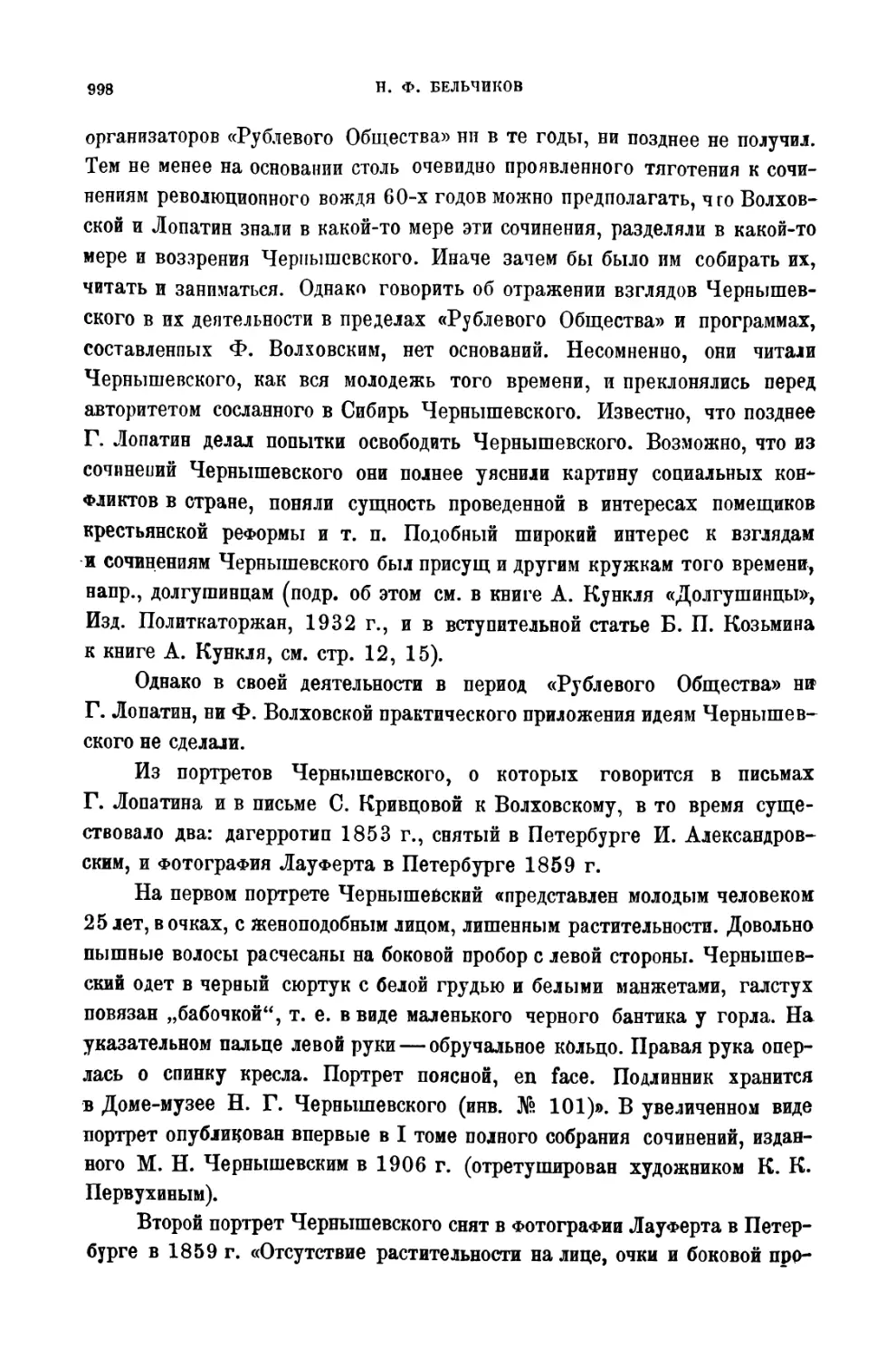Text
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР. 1935
BULLETIN DE L’ACADEMIE DES SCIENCES DE L’UKSS
Classe Отделение
des sciences socialee обшеотвептат наук.
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
(Эпизод ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ 60-х годов)
И. Ф. БЕЛЬЧИКОВА
(Представлено Институтом русской литературы
I
«Рублевое Общество» и его деятельность — неосвещенная страница в истории революционного движения 60-х годов.1
«Рублевое Общество» — кружок молодежи, возникший на переломе революционного движения, когда в нем стали появляться попытки перейти от узких замкнутых кружков к сближению с народом. «Рублевое Общество»—одна из первых попыток нащупывания легальных путей к сближению с массами.
История общества не длинна. Один из его организаторов, Феликс Волховской, в своих воспоминаниях назвал годы 1867 и 1868 временем существования и деятельности «Рублевого Общества». Действительно, эти годы были временем усиленной работы кружка, о котором главный его участник так рассказывает: «Кружок, о котором я говорю, не представлял собою чего-либо Формального: у него не было ни устава, ни определенного числа членов; это просто было несколько лиц, связанных общим образованием, общим стремлением к добру и сознанием нравственного долга перед русским народом. Но Лопатин (Герман Александрович), любивший всему давать клички (и дававший их всегда метко и остроумно), прозвал все предприятие «Рублевым Обществом». Так он назвал его и в переписке со мною по делам кружка.2
1 Эта нелегальная организация так мало известна была даже современникам, что С- Чудновский, долголетний товарищ Ф. Волховского, называет «Рублевое Общество» просветительным обществом «Копейка». См. «Отрывки из воспоминаний 1872—1873 гг.» в сборн. «Наша страна», 1907, № 1, стр. 332.
2 Ф. Волховской. Друзья среди врагов. (Из воспоминаний старого революционера.) СПб., 1906, стр. 4.
— 941 —
942
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
В делах III отделения с. е. и. в. канцелярии имеются более подробные сведения о начальной поре общества.
По запросу сенатора А. Я. Чемадурова, ведшего следствие в 1869 — 1870 гг. «по делу об обнаруженных в разных местах империи признаках злоумышления, направленного против установленного порядка правления», обращенному к шефу жандармов от 6 мая 1870 г.1 относительно лиц, прикосновенных к делу Нечаева и «состоявших под судом и следствием в прежнее время», был назван и Ф. Волховский. Именно, под цифрой 2 в отношении этом читаем: «Дворянин Феликс Волховской был под следствием: в 1866 году — в высочайше учрежденной в г. Москве комиссии по делу о студенческой малороссийской кассе и в 1868 году — в высочайше утвержденной под председательством генерал-адъютанта Ланского комиссии». Против этого карандашом сделана помета: «Эти сведения есть по делам 1-й экспедиции и следует сообщить в скорейшем времени 7 мая».2 В том же деле, из которого мы привели сейчас выписку, на лл. 216—219 даны в черновой сводке «сведения о дворянине Феликсе Волховском». Сведения ценны. Они приоткрывают завесу над первоначальной порой общества, существовавшего в виде малороссийской кассы, и освещают достаточно подробно, хотя и в общих чертах, характер кружка, -его цели, и даже называют следы этой деятельности.
Приведем «сведения» в полном виде, как они даны в деле.
«В Москве в 1863—1866 гг. устроилась негласно „Малороссийская община“ студентами тамошнего университета, уроженцами южных губерний [далее зачеркнуто: „с целью вспомоществования бедным товарищам. Община имела свой устав и свою библиотеку. Устраивались заседания, составлялись протоколы и собрана была довольно значительная сумма. Кассиром общины был студент Силич“]. Секретарем общины был Феликс Волховской. О существовании •общины было известно университетскому начальству.
Московская следственная комиссия, произведя следствие по этому делу, переданное в С.-Петербургскую следственную комиссию, которая ло рассмотрении бумаг общины, не нашла (далее зачеркнуто: „в них ничего особенного, кроме одной рукописи’ о костеле, предосудительного содержания, из согласных объяснений (первоначально: показаний) участников в общине не оказалось*'], чтобы община эта преследовала какие-либо преступные цели.
1 См. отношение А. Я. Чемадурова от 6 мая 1870 г., № 409 в деле Ш отделения, Ш экспедиции, 1869 г., Mi 116, «Об организации общества с целью низвержения в империи существующего порядка правления», л. 210.
2 Другой рукой внизу карандашом точно обозначены и дела: № 100, часть 147 —1866 г.
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
943
В 1868 году, вследствие полученных сведений об устраиваемом (будто бы) кандидатом С.-Петербургского университета Германом Лопатиным и дворянином Феликсом Волховским каком-то „Рублевом Обществе “, о составлении ими программы „Вопрос молодого поко-ления“ и собирании подробных сведений о личности и сочинениях государственного преступника Чернышевского,—дело об этом передано было III отделением в высочайше учрежденную Следственную комиссию.
На допросах в комиссии Лопатин ни в чем не сознался.
Волховской же, после некоторого запирательства, показал, что, стремясь к скорейшему распространению образования в народе, он намерен был составить общество странствующих сельских учителей, которые, переходя из одного места в другое, могли бы обучать детей, не заводя особых школ, что представляет много затруднений [зачеркнуто далее: „Учителям этим, сверх платы от учеников, имелось в виду назначить постоянное жалованье из сборов пожертвований желаю-щих“]. Независимо от преподавания, эти (сельские) учптеля обязаны были заниматься собиранием местных этнографических, статистических и других сведений [далее опять зачеркнуто: „Сельских учителей предполагалось набирать из молодежи. Для возбуждения же в ней участия к этому предприятию, он, Волховской, написал статью «Вопрос молодого поколения»11].
Далее Волховской объяснил, что проект свой о странствующих учителях он сообщал Лопатину и профессору Николаю Костомарову. Последний не одобрил проекта, а Лопатин нашел его весьма полезным, составил для него особую программу под названием „Вопрос молодого поколения*, и предложил сделать постоянные ежемесячные рублевые взносы, и назвал предприятие „Рублевым Обществом*.
Затем Лопатин подтвердил справедливость показаний Волховского, а также обнаружено, что общество их существовало только еще в предположении, Что же касается сведений о Чернышевском, то они собирались для приложения их к роману сего последнего „Что делать*, предназначавшемуся в подарок одной знакомой.
Следственная комиссия по обсуждении в совокупности обстоятельств как вышепомянутого дела о „Малороссийской общине*, так и дела о „Рублевом Обществе* постановила, между прочим: „Кандидата Германа Лопатина выслать к родителям в Тифлис, под непосредственный надзор отца и строгое наблюдение местных властей, с предоставлением ему поступить там в государственную службу*, дворянина (же) Волховского, во внимание к его молодости, чистосердечному сознанию и почти шестимесячному заключению, от ареста и дальнейшего преследования освободить, и посделании ему строгого внушения в неблаговидности его пцетулков, отдать на поруки его матери, с учреждением за ним наблюдения.
ИОН, № 10 6$
944
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
Постановление это высочайше утверждено и приведено было своевременно в исполнение.
Впоследствии же, в начале 1869 года, Феликс Волховской оказался причастным к студенческим беспорядками, а затем и привлечен к делу Томиловой, Орлова, Нечаева и других.
Что же касается Германа Лопатина, то вследствие письма его, преступного содержания, найденного в бумагах Негрескула, привлеченного к делу Нечаева, Лопатин был арестован в Ставрополе, но бежал из-под ареста и скрылся за границу, о чем производится ныне на месте особое дело».
Документ датирован 8 мая 1870 г., и представляет собой итог всей «уммы сведений III отделения в результате его наблюдений за кружком и решения вопроса о нем в Специальной комиссии.
В приведенном документе назван ряд Фактов, подлежащих проверке и обследованию. Факты эти разных порядков; одни касаются организации общества, другие — идеологии кружка, закрепленной якобы в литературных произведениях («Вопрос молодого поколения»), третьи — свидетельствуют о деятельности общества.
II
Туманное выражение документа, что «общество существовало в предположении», не говорит ясно: то ли общество только затевалось этими двумя лицами (Волховским и Лопатиным), то ли оно идеологически и организационно было оформлено, но только Фактически не проявило себя, потому что было захвачено до начала действий или выжидало сознательно известного момента и не успело начать деятельность. На самом деле, как свидетельствует один из участников, Волховской, общество действовало, оно было организовано в известной мере и оформлялось медленнее в идеологическом отношении.
Кружок имел своих членов и в Петербурге и в Москве. Это создавало свои удобства, позволяло расширить круг членов и увеличило район действия. «Долг перед русским народом» кружок решил оправдать пропагандой, для каковой цели наметил к изданию ряд книг. На это нужны были деньги, вот тут-то и пригодилось территориальное расселение кружка. «Дело в том, — пишет Ф. Волховской,—что на издательство нужны были деньги, и их предполагалось собирать помесячно, по рублю с человека. Я взялся собирать их в Москве». Издано «Рублевым Обществом» было немного: всего одна лишь книга И. А. Худякова «Древняя Русь».
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
945
III отделение продолжало свою работу вокруг этой группы. В начале января 1868 г. оно подыскало человека, который, познакомившись случайно с Г. Лопатиным, настолько вошел к нему в доверие, что Г. Лопатин послал с этим новым другом как с верной оказией в Москву конспиративное письмо Ф. Волховскому. В этом письме, на ряду с конкретными практическими делами, связанными также с революционными задачами, Г. Лопатин пишет и прямо о революционных делах.
Вог текст письма Г. Лопатина1 из С.-Петербурга от 7 января (1868) к Феликсу Волховскому в Москве (на Арбате, в Кривом переулке, дом Вадбольской), которое встревожило III отделение «темным смыслом и многими условными выражениями».
«Письмо твое, Феликс, в котором я нпкак не мог добраться до смысла (а именно не мог уразумев связи между княжною Макуловою и княгинею Долгоруковою2) и за которое я заплатил, однако, целый рубль, — получил я третьего дня вечером и сейчас же отправил (по городской почте) приложенное к нему послание по адресу. Отвечу на те пункты твоего письма, смысл которых мне более или менее понятен.
Первый приемный комитет будет 15-го числа. Я толковал с делопроизводителем и почти уверен, что мы с тобой пройдем в полной сумме. Взаимный кредит роздал за этот год 26°/0!!! Впрочем, в нынешний год прибыль едва ли будет так велика, так как поступает туда непомерное количество новых членов.
Предложение твое насчет „дутых" векселей показывает малое знакомство тное с делом для обсуждения и приема векселей существует особый учетный комитет, который никогда не допустит к учету заведомо пе-коммерческий вексель. Б. слишком хорошо известен всяким банковским комитетам, равно как и его средства. Достать 400 р. — более никак не могу. Дело, которое ты излагаешь с таким волнением, я отказываюсь даже понять.3
У Смирнова4 был. Этот не то стыдлив, не то нерешительный... Я не узнал от него более того, что знал и до него.
1 Текст его был опубликован в сокращенном виде А. А. Шиловым в изд. «Г. А. Лопатин». Ист.-револ. б-ка, ГИЗ, П, 1922, стр. 30—32.
2 О Ек. Макуловой и Нат. Вл. Долгоруковой подробнее далее на стр. 979.
з Против этого пункта карандашом помечено: «Верно, Чернышевского». По мнению А. А Шилова, речь идет о деньгах, которые Лопатин должен был достать для Волховского в Обществе взаимного кредита, пользуясь своими служебными связями. Цель вступления Ф. Волховского в общество, по указанию Г. Лопатина, состояла в том, чтобы открыть текущий счет для взносов членов «Рублевого Общества».
* Этого абзаца в публикации А. А. Шилова нет. Смирнов, это — возможно — Валериан Николаевич (1648—1900), привлекался к дознанию по нечаевскому делу. См. «Письма П. А. Кропоткина П. Витязеву», П., 1921, стр. 18 и 19.
948
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
Относительно прежних твоих поручений могу доложить:
1) Фараоново воинство1 5 раз не застал дома;
2) в цензуре не был;2
3) у Калениченков3 idem;
4) библиографии, биографии и портрета пока еще не раздобыл;4 5) рублевое общество подвигается вперед и
6) относительно Казани5 пока ничего.
Adieu, будь здоров! Отвечай поскорее, посылай свои письма п® почте, так как рубль будет для них цена немного дорогая. Особенно пиши о „Рублевом Обществе"».
Письмо сопровождено текстом телеграммы III отделения, посланной в Москву, такого содержания:
«Из С.-Петербурга. Смысл письма темный и заключает в себе много условных выражений. Что же касается до последних строк выписки, то они относятся до беззаконного способа пересылки писем через кондукторов Николаевской железной дороги, за рублевое вознаграждение, о чем и была уже переписка с Министром путей сообщения».
На этом тексте телеграммы есть две пометы карандашом: 1) «Желательно разъяснить изложенное в письме. Эго не легко. Но может быть исполнено последовательными действиями III отделения» и 2) «Переговорить 11-го января» (1868 г.).
1 Шуточное прозвище, данное Г. Лопатиным одной знакомой стенографистке (см. в сб. «Г. Лопатин», стр. 31).
2 В цензуру, т. е. в главное управление по делам печати, в это время были присланы из Московского цензурного комитета программы, составленные Ф. Волховским и не разрешенные комитетом (подробнее см. далее).
3 Калениченко, Николай Иванович, студент Петербургского университета, обещал Ф. Волховскому устроить покупку малороссийских книг у некоего Каменецкого.
4 Все это связано с Чернышевским. В показаниях Ф. Волховского даны разные ответы на запрос об интересе к сочинениям Чернышевского. В одном показании он заявил, что хотел сам. познакомиться со всеми произведениями Чернышевского, так как в программе для студентов Московского университета рекомендованы были «Очерки гоголевского периода русской литературы». В другом показании он говорил о намерении написать критическую статью о Чернышевском. А. А. Шилов вполне справедливо предполагает, что или некоторые сочинения И. Чернышевского, или библиографический указатель их могли входить в плат? предполагаемых изданий «Рублевого Общества» (см. наэв. сборн. «Г. Лопатин», П., 1922 стр. 31, примечание 5).
3 Г. Лопатин, по словам А. А. Шилова, разумел здесь новые правила для приема студентов Казанского университета, которые он хоте л выписать.для Волховского в Публичной библиотеке. Но можно предположить и другое. Известно, что студенческие волнения в Казани 1861 г., возникшие в связи с борьбой из-за новых матрикул, давали редидивы и позднее. Возможно, что в глазах Ф. Волховского казанское студенчество рисовалось как более доступное пропаганде. Среди него хотел Волховской повести пропаганду в пользу «Рублевого Общества».
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВ 1
947
В следующем документе находим разъяснение тех путей, какими получено письмо Ф. Волховского к Г. Лопатину. Путь простой, но на него как-то легко и неожиданно быстро вступил Г. Лопатин. Попутно в этом сообщении изложены и другие не лишенные интереса подробности: здесь уже названы члены этого кружка, определены их взаимоотношения, указана топография кружка (у Михайлова) и даже даны характеристики этих лиц, главным образом женщин.
Вот что читаем в этом новом документе:
«Секретными розысками, проводимыми по содержанию представленных при сем бумаг, до сих пор удалось обнаружить следующее:
Г. Лопатин... — бывший студент здешнего университета Герман Александрович Лопатин, занимающийся в Обществе взаимного кредита и проживающий на Владимирской улице, в д. Лихачева.
Наш агент, которому поручено было разыскание Лопатина, под благовидным предлогом познакомился лично с Лопатиным (конечно, приняв на себя вымышленную Фамилию) и настолько успел возбудить в нем доверия к себе, что Лопатин просит его отвезти в Москву (агент называется приехавшим из Москвы) и доставить там Волховскому письмо и много книг. Агенту разрешено принять это предложение и, в случае необходимости, взять даже билет до Москвы и выехать до Колпино; а оттуда вернуться и все доставить в Отделение для просмотра. С Лопатиным была заведена речь и по содержанию письма к Волховскому; но он сказал, что не все еще узнал и потому будет уж сам отвечать Волховскому. Только насчет «Рублевого Общества" прибавил, что оно „идет". Впрочем мы уже напали на след и узнали, что эго общество основывается здесь в частном пансионе губ. секретаря J Владимира Васильевича Михайлова (о чем уже было доложено). Разъяснение сего, как и других пунктов письма, кроме „взаимного кредита", о чем значится ниже, — продолжается. Что же касается до „взаимного кредита", то это Общество взаимного кредита, в которое Лопатин и Волховской баллотировались 15-го сего января. Первому отказано, а второй принят в полной сумме.—При этом обществе действительно существует особый комитет для учета векселей; обмануть его очень трудно и поэтому Лопатин прав, не рискуя насчет „дутых" векселей.
Феликс Волковской (а не Волховской) по словам Лопатина слушает лекции в Московском университете.
Княжна Макулова (Екатерина Александровна), дочь коллежского регистратора, известная давно нигилистка, состоявшая в Коммуне Слепцова и жившая одно время у Слепцова.
Княжна Долгорукова (Наталья)—тоже нам известная нигилистка; она содержала здесь типографию и, как частным образом
948
П. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
доходили слухи, была дружна с женою политического преступника Юрия Мосолова.
Эти первоначальные сведения представляются теперь на случай, если бы сделанные в отношении данного нашему агенту Лопатиным поручения о книгах распоряжения приказано было изменить. Дальнейшие разыскания по настоящему делу продолжаются.
[Карандашом:] Герасимов [?]
31-го января 1868 г.».
Помета: «Одобряю — буду ожидать последующего 1-го Февраля». (1868 г.).
Успех с «подставным» другом у Лопатина окрылил надеждами деятелей III отделения, а послушное воображение охогно рисует заманчивую картину организации нового тайною общества с революционными целями. В таком смысле немедленно составляется III отделением конфиденциальное донесение, опережающее всякую действительность и в горячем вост< pre строящее планы на заговор и толкающее правительство к принятию решительных мер для ликвидации. Для усиления впечатления «Рублевое Общество» ставится в преемственную связь с «Молодой Россией» — революционным кружком Зайчневского и др., только что ликвидированным незадолго перед тем в Москве.
В конфиденциальной записке, датированной 6 Февраля и названной «Особые соображения к докладу по делу Лопатина и Волховского», отражена эта стадия отношений III отделения к «Рублевому Обществу».
«Сведения по делу Лопатина и Волховского, изложенные в особом докладе, — читаем здесь, — положительно убеждают в возникновении общества, тождественного прежнему под названием „Молодая Россия66. Факт представляется несомненным, и от дальнейших разведываний под рукою трудно ожидать пользы, даже равносильной тому вреду, который может быть принесен в это время обществом. Письма и посылки Лопатина к Волховскому попали к нам таким образом, которого они, конечно, не узнают, но который тем не менее может возбудить в них сомнения и следовательно заставить их быть осторожными и принять меры к уничтожению всего подозрительного. Подозрения в Лопатине и Волховском могут родиться, когда последний получит письмо первого, в котором говорится о посланном, которого со стороны Волховского не было.
В виду этого казалось бы можно было сделать следующее:
1. Письмо и посылку Лопатина отправить в Москву с доверенным лицом, которое обязано прежде всего явиться к полковнику Воейкову и условиться на счет времени, когда все должно быть
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
949
доставлено Волховскому. Вслед за тем у Волховского произвести строжайший обыск и самого его арестовать.
2. На другой день по выезде означенного лица одновременно произвести обыски как у Лопатина, так и у Михайлова с арестованием обоих.
Бумаги и все, что взято будет у сих лиц, вытребовать в высо-чайше-учрежденную следственную комиссию, смотря по тому, куда приказано будет направить дело.
3. Равным образом не бесполезно было бы произвести обыски у Макуловой и Долгоруковой, и у Калениченковых. На счет собственно этих лиц можно было бы сообщить г. обер-полицеймейстеру, предоставляя ему право ареста их, если у них окажется что-либо предосудительное.
Лопатина и Михайлова удобнее бы было содержать при III отделении.
[Карандашом:] Горемыкин.
6-го Февраля 1868 г.».
По поводу «Особых соображений» есть резолюция, выражающая оценку предприимчивости III отделения:
«Дело ведено очень ловко. Желал бы впоследствии наградить то лицо, которое так умно с ними сблизилось.
Одобряю эти предположения, это требует одновременных и скорых действий. Прошу его п-во Николая Владимировича сделать распоряжение для приведения всего в исполнение. О последующем буду ожидать сообщения. 7-го Февраля».
Резолюция эта, сделанная, повидимому, шефом жандармов Петром Андреевичем Шуваловым, подстрекнула III отделение к решительным шагам.
Вслед за этим составляется доклад царю, где дана полная воля воображению на счет тайного общества, которое сближается с «Молодой Россией» П. Зайчневского. В действительности, как увидим дальше, на деле было другое: «Рублевое Общество» совсем не ставило тех задач, которые ставил П. Зайчневский и «Молодая Россия».
Кроме того, чтобы подготовить и оправдать предполагаемый план действий (аресты, обыски и т. п.), повторены те же характеристики, что и в докладе, членов предполагаемой организации Г. А. Лопатина, Ф. В. Волховского, кн. Е. А. Макуловой, кн. Н. В. Долгоруковой и рисуется «Рублевое Общество» как определенно сформированная организация, локализованная, действующая.
«„Рублевое Общество", — читаем здесь,— за которым учреждено уже было наблюдение, .. .как узнано было, образуется (?)
950
И. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
в частном пансионе губ. секретаря Владимира Васильевича Михайлова, бывшего прежде несколько лет гувернером в доме артиллерии ген.-лейт. кн. Алексея Васильевича Оболенского идавшего ложное направление детям князя».1
Дальше определяется задача «Рублевого Общества»:
«По первоначальным сведениям о «Рублевом Обществе», оно основывается с целью распространения идей „Молодой России , а название „Рублевое" принято по количеству взносимой за право вступления в него платы».2
Далее описывается «маневр», как выразился автор доклада, получения письма от Г. Лопатина. Об этом маневре уже известно из предыдущего. Только одна подробность прибавлена здесь:
«По уходе Лопатина [с перрона], посланный вышел из вагона другим ходом и тотчас же доставил все ему порученное в III отделение».
Наконец, узнаем и содержание посылки и самое письмо Лопатина к Ф. Волховскому, дополнительные сведения о членах1 в Москве, о программе общества, которая составляется:
«По вскрытии здесь [т. е. в III отделении] осторожным образом письма Лопатина к Волховскому, некоторые обстоятельства первого письма объяснились. Таким образом оказывается, что библиографические и биографические сведения касаются сочинений Чернышевского и лично сего последнего; портрет, о котором там же говорится, — тоже, вероятно, его.
Точно так же это последнее письмо подтверждает наши сведения об упоминаемом выше обществе, для которого, как видно, составляют даже программы.
Члены общества оказываются и В Москве, что и доказывает, что общество организуется успешно и, следовательно, вызывает необходимость принятия в отношении его мер безотлагательно.
Посылка заключается из 3-х разных химий, 18 экземпляров книги „Древняя Русь" и других книжек „Общества взаимного кредита", чеков и взносов. Книга „Древняя Русь" не представляет ничего особенного, кроме того, что это произведение И. А. Худякова и печатана в типографии Куколь Яснопольского».
Дата на документе 6 Февраля 1868 г.
1 Последние пять слов подчеркнуты карандашом и против них сбоку пометка рукоб Д. А. Шувалова карандашом: «откуда это видно?».
2 Весь этот абзац отчеркнут карандашом и против него запись: «Откуда взяты этж сведения?» Запись карандашбм руксУй, невидимому, того же П. А* Шувалова.
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
ИИ
III отделение довело дело до желательного ему Финала, •— последовали аресты всех названных лиц.
III
Встает естественный вопрос, на какой стадии организации застаем «Рублевое Общество» накануне его ликвидации III отделением? Организо вано оно или нет?
Определенно можно сказать одно: попытки к оформлению общества сделаны, но до организации еще было далёко. Сами вожди общества еще во задаются вопросами об этом.
Лучшим доказательством является то второе письмо Лопатина к Ф. Волховскому, которое было перехвачено III отделением и которое так напугало III отделение, что решено было немедленно арестовать обоих корреспондентов.
«Сердись, не еёрдись, Феликс, —‘Писал Г. Лопатин в этом втором письме, — а мне все-таки было некогда до сегодня написать те е письмо, так чтобы ты послал на разведки, касательно существования Моего, какого-то полячка, который, войдя ко мне и представляя мне бумажку, на коей были написаны непонятные для него речения, вроде. „Фараоново войско„Рублевое достоинство“ и пр., произнес тоном торжественной укоризны: „Извините, г. Лопатив! Вы православный, й йотЬму гарантированы более, чем я! Я римско-католик, и для меня эТо немного неудобно!“ и проч. Я улыбнулся и попросил католика успокоиться. Пожалуйста, друг Феликсу выбирай в следующий раз потщательнее исполнителей твоих поручений.
Посылаю тебе с выШеречейнЫм католиком следующие предметы:
1. 18 экземпляров „Древней-Руси “ для употребления по соображению.
2. Книжку чеков и книжку для взносов на текущий счет Общества взаимного кредита, за каковые книжки ты и будешь мне должен 25 коп. серебром российскою государственною монетою, которые деньги ты и повинен представить мне по первому моему востребованию, под опасением продажи имущества и помещения тебя в долговое отделение.
3. Три химии различных авторов для передачи Parviis’y, со взятием у него расписки установленной законом Формы»
4. Корзинку, бумагу и верейки, которые ты обязан возвратить лицу, снабженному от меня для таковой цели законною доверенностью.
952
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
5. Отчет о твоих поручениях, который состоит в нижеследующем:
1) Во взаимный кредит, несмотря па некоторое сопротивление правления, ты принят в полной сумме. На оставшиеся у меня из твоих денег 38 руб. я открыл тебе текущий счет. Прилагаю подробное расчислите выручки за твои бумаги: билет с выигрышем продан за 117 р., процентов но нему получено 30 коп. Серия пошла за 50 руб. °/о1,0 ней дали 2 р. 70 к. За купоны получено 7 р. 50 к. Деньгами ты мне дал 160 руб. 50 к. Итого оказалось у меня твоих денег 338 р., из которых 300 р. я внес в Форме и/о-го взноса> а 38 р. — на текущий счет. Если будешь присылать чеки, или взносы (на мое имя?), то их надо застраховывать.
2) Григорий Калениченко1 отмечен выехавшим на родину. Николай на дачу на Черную речку, чем и пресечены пути к его отысканию [в подлиннике подчеркнуто красным карандашом. Н. 27.]. Можно бы, конечно, пошарить его в университете, а Каменецкого в адресном столе, ... но я этого пока не сделал.
3) Портрет2 мне обещан [в подлиннике подчеркнуто красным карандашом. Н. 27.].
4) Библиографический указатель всех статей Чернышевского мне тоже обещан, а пока мне предложили пользоваться собранием его сочинений (некоторые даже неизданные), уже собранным и переплетенным (но посылать в Москву не позволяют).
5) Биографические сведения собрать затруднительно; то же говорит и Евдокимов,3 которому навязал эту комиссию Михайлов4 по твоему же поручению [тоже подчеркнуто в подлиннике. Н. Б.]. Он тебя видел, и ты на него произвел очень приятное впечатление.
6) Господина, у которого были „Всякие"5, нет теперь в городе [тоже подчеркнуто. Н. К]. Еще я знаю два
1 Брат вышеназванного Николая Калениченко.
2 Портрет Н. Г. Чернышевского.
3 Евдокимов, Василий Яковлевич (1830—1885), по образованию инженер-поручик, служил в те годы приказчиком в книжном магазине Черкесова в Петербурге. 27-го ноября 1869 г. был арестован в связи с нечаевским делом. В Феврале 1870 г. освобожден.
4 Михайлов, Владимир Михайлович — член «Рублевого Общества»; о нем говорилось выше, как участнике, у которого центр этого общества.
® «Всякие» очерки А. С. Суворина, изданные им под псевдонимом «А. Бобровский» (подробнее см. далее). В то время «Всякие» были преследуемой правительством книгой. Цензура и суд усмотрели в этой книге «восхваление политических преступников, оскорбительные отзывы о дворянском сословии и резкие нападки на государственный строй» (см. «Сборник сведений по книжно-литературному делу за 1866 год», ч. 2, изд. А. Черепина, М., 1867, стр. 78).
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
968
места: но в одном я мало знаком, так что прийти без предлога неловко; а в другом вовсе не знаком.
7) Программы твои запрещены.1 Объяснения предлагают получить в Москве. Анекдот о Бессомыкине производил веселый смех, но и только.
8) Стенография преподается по двум методам: Ольхина и Пауль-сона2 Паульсона много лучше. Было сравнительное испытание в присутствии экспертов от правительства. Паульсоновские ученики оказались на недосягаемой высоте по сравнению с Ольхиным. Об Артоболевском и еще о каком-то шуте стенографисте3 даже не говорят. Женщин допускают всюду. Получено много предложений из разных судов. Первое время надеются получать рублей по 100 в месяц. Ковалевский4 (скотина он за это) диктует стенографисткам листа по три перевода в день, давая за это лишь по 5 р. за лист (и с перепиской). Достигнуть совершенства можно года в два, занимаясь ежедневно часа по три. Передай Гидальго5 приложенную записку (неизвестного мне содержания) и не говори ему ничего более по крайней мере сутки: пусть немного посердится: ему здорово!
9) Программы (Вопрос молодого поколения), конечно, не составил [подчеркнуто в подлиннике. Н. К]. Был занят между прочим большим письмом к родителям (о карьере), величиною в три писчих листа, когда кончу пришлю к тебе на рассмотрение.
10) О Казани не писал ничего.
11)Макулова уже поссорилась с Долгоруковой и деньги ей следовательно не нужны. (Известно ли тебе, между прочим, что сия Макулова и есть Бертольди в романе „Некуда")” [подчеркнуто в подлиннике. Н. К].
1 Программы были составлены Ф. Волховским; история их цензурных мытарств изложена далее. Текст пунктов 2—7 подчеркнут красным карандашом внизу строк и отчеркнут слева по полю страницы.
2 Ольхин, П. М. и Паульсон — организаторы первых курсов стенографии в Петербурге; имели и свои системы обучения. Павел Матв. Ольхин написал учебник «Руководство к русской стенографии по системе Габельсберга». На курсах Ольхина обучалась стенографии жена Ф. М. Достоевского — А. Г. Сниткина; по воспоминаниям ее Ольхин был знаком с Ф. М. Достоевским (подробнее см. по указателю имен в «Воспоминаниях А. Г. Достоевской», под ред. Л. П. Гроссмана, ГИЗ, 1926, стр. 25, 26, 27, 29, 34, 38, 41—44 и др.).
з Сведений об этих лицах мы не имеем.
4 Ковалевский, надо думать, Владимир ОнуФриевич (1842—1883) известный геолог; в 60-е годы он вращался в революционных кружках Петербурга, занимался переводами с иностранных языков и изданиями (см. об этом у С. Я. П1трайха «Сестры Корвин-Круков-скне», 2-е изд., 1933). Был известен и другой Ковалевский, Владимир Иванович (1848—1904), участник революционного движения 60-х годов, арестован был do нечаевскому делу, но ничего не известно о его переводческой деятельности.
* Гидальго — прозвище некоего Прокопенко (см. далее на стр. 961).
6 Роман «Некуда» — Н. С. Лескова.
964
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
12) Шаликовой Макулова не знает, говорит, что похлопотала бы» если бы был здесь исполнительный лист.
13) Рублевое общество идет помаленьку [тоже подчеркнуто. Н. К], ибо мне все некогда было взяться за него с должной энергией, что сделаю, впрочем, вскоре. Один мой приятель собрал взносчиков рублей на 30 и получил с них за 2 месяца: я имею в виду, по крайней мере, на 50 или 60 р., хотя не ходил еще за получкою. По это верно.
Напиши, как идет дело у тебя: сколько взносчиков и на какую сумму вообще и отдельно?1 Тороплюсь до смерти, а потому пишу не связно.
Пиши ради бога.
Герман Лопатин.
Добродетельной московской матроне, г-же Жен-Жен,2 свидетельствую наше глубочайшее, и умоляю ее спросить для меня у Вучко-вича3 следующее: где лучше механическое отделение — в Цюрихе или в Карлсруэ? Где жизнь, по слухам, дешевле? Правда ли, что в Цюрихе большая часть студентов люди почти богатые и жизнь дорога? Что стоит там жизнь для маленькой семьи (муж, жена, ребенок или двое)? Будьте мой ангел милосердый
к вашему поклоннику
Герману Лопатину».
Дальше идет приписка брату Веев. Ал. Лопатину:
«Всеволод! Искал, искал я твоего неверного должника, и до сих пор не мог найти! Кажется, он не имеет определенного местожительства, можете судить по этому [о] вероятности удовлетворения твоей претензии. Я оставил ему кучу моих адресов. Обратился также с просьбою на этот счет к Бек-Бучарову4 и другим кавказским туземцам? Писать пока, ей богу, некогда, что не мешает однако тебе черкнуть иногда мне слово, другое! Вскоре увидим, какое послание настрочил я к виновникам нашего бытия5
Герман.
Катерине Матвеевне и другим членам Скита, а также всем знающим меня поклоны!!»
1 В пунктах 9 и 13 отдельные Фразы подчеркнуты красным карандашом, — здесь они набраны разрядкой. А по левому полю страницы эти пункты 9—13 все отчеркнуты прямой линиеи—также красным карандаш ом. В 11 пункте слова подчеркнуты синим карандашом.
2 Жен-Жен—как показал Г. Лопатин (см. далее на стр. 961) — Марья Ос. Антонова (подробнее о ней далее на стр. 981).
3 Byчкович — студент-технолог, как показал Г. Лопатин (подр. см. далее на стр. 961).
4 Это лицо нам не известно. Н. Б.
6 Автор так называет свое письмо к родителям <— о> карьере, —о чем он и выше говорил в этом же письме.
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
956
В этом письме привлекают наше внимание и должны были естественно обратить на себя внимание III отделения слова Г. Лопатина о суммах сборов и числе «взносчиков» в Петербурге и в Москве. В Петербурге таковых, судя по количеству взносов за два месяца, оказалось человек 12—15. Кто же это?
На эти частности письма, равно как и на слова о том, что «„Рублевое общество" идет по-маленьку», что «Макулова изображена Н. Лесковым в романе „Некуда"», на сообщения о программах и пунктах 7 и 9 — обратило внимание и III отделение.
Отметим, что III отделение заинтересовалось и другими вопросами,— а именно, о Григории Калениченко, вопросами о портрете, о библиографическом указателе статей Чернышевского и др. На все эти вопросы и вынужден был прежде всего ответить Г. Лопатин в своем показании на первом же допросе после ареста.
IV
Свое намерение об аресте вновь открытой организации III отделение привело в исполнение: немедленно. 8 Февраля 1868 г. Мезенцов дал предписание об аресте и обыске «в Москве у вольнослушателя Моск, университета Ф. В. Волховского, живущего на Арбате в Косом переулке у Николы, что в Плотниках, в доме Вадбольской, а найденное при обыске представить в III отделение. Самого Волховского до особого распоряжения передать полицеймейстеру». Петербургскому полицеймейстеру поручено было 8 Февраля произвести самый строгий и внезапный обыск у «известных по принадлежности к обществу нигилистов»: у кн. Натальи Долгоруковой, кн. Екатерины Макуловой, Григория и Николая Калениченковых, хотя местожительство последних III отделению и оставалось неизвестным. Предполагало III отделение, что это студенты Петербургского университета. Предписывалось их арестовать в зависимости от результатов обыска; в лучшем случае отдать на поруки и взять подписку о невыезде. Напротив, четвертого из этого кружка—Владимира Васильевича Михайлова (губернского. секретаря, живущего на Мойке, в д. Х?. 8 Соболева, близ Певческого моста) арестовать, и все найденное при внезапном обыске представить в ITT отделение предписано было корпуса жандармов майору Чулкову. Такого же характера предписание было дано корпуса , жандармов майору Блау относительно ареста и обыска у Г. А. Лопатина, проживавшего тогда на Владимирской улице, против Стремянной, в доме Лихачева.
956
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
Лопатина в момент ареста дома не оказалось. Не пришел он на квартиру и утром 10 Февраля. Обыск, произведенный при хозяине квартиры, не дал ничего: была найдена только какая-то рукопись, белый порошок в бумажке (гуммиарабик), карта Итальянского королевства, немецкая брошюра д-ра Уле «Избранные краткие письма по естественной истории» и транспарант с заметками карандашом. А. А. Шилов предполагает, что Г. Лопатин, узнав в таинственном посланце от Волховского неловкого агента III отделения, приготовился к обыску, и доклад (т. е. III отделение) с сожалением должен был констатировать Факт, что «Лопатин, по всей вероятности, человек очень осторожный, ибо при явной Фактически и неопровержимо доказанной его неблагонадежности, у него ничего не оказалось»1 кроме вышеперечисленных вещей. При самом уходе чинов III отделения в квартиру Лопатина пришла дочь надворного советника Софья Ткачева, которая и была задержана. 10 же Февраля С. Ткачева была освобождена. Но прежде, чем ее освободить, были просмотрены ее бумаги, очевидно бывшие у ней в руках; в числе их оказались записанные ею лекции по стенографии и несколько Фотографических карточек: поручика Павла Васильевича Михайлова, брата ее Петра Ткачева и присяжного поверенного Ильи Фомича Байдаковского и его жены, — все это было возвращено ей тут же. Задержаны только листки, исписанные стенографически, для определения их содержания специалистом. Об этом также сохранился особый акт, подписанный С. Ткачевой.
При обыске у Михайлова были взяты разные бумаги, сложенные в большой кожаный черный чемодан и саквояж. Но после разборки это оказались счета, билеты на заложенные вещи и переписка по займу денег,— все они также были возвращены, за исключением 8 бумажек. После просмотра доставленных в III отделение бумаг Г. Лопатина было констатировано, что в них «ничего заслуживающего внимания не оказалось» (п. 30). В частности, рукопись оказалась окончанием перевода взятой при обыске немецкой брошюры доктора Уле «Избранные краткие письма по естественной истории», карта лейпцигского издания была куплена в магазине Вольфи, чтобы следить по ней за движением в Италии при чтении газет. В итоге арестованные в ночь с 9 на 10 Февраля 1868 г. Г. Лопатин и В. Михайлов были задержаны, а остальные — Долгорукова, Макулова, Николай Калениченко и Софья Ткачева — отданы на поручительство.
1 См. в сборнике «Г. Лопатин», ГИЗ, IL, 1922, стр. 82.
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
9Б7
Произведя обыск и просмотрев захваченные бумаги, III отделение составило 11 Февраля 1868 г. обо всем сводный отчет, интерес которого ограничен и сводится лишь к тому, что в нем даны дополнительные штрихи, характеризующие участников «Рублевого Общества» в глазах III отделения.
О Г. Лопатине здесь сказано следующее: «по всей вероятности, [он} человек очень осторожный, ибо при явной, Фактически и неопровержимо доказанной его неблагонадежности, у него ничего не оказалось, кроме стараго транспаранта, на котором следующий загадочный адрес: ,,Geneve, Suisse, Auguste de Montagnac, Chemin des Savoires, от постороннего”. Лопатин говорит, что он ничего не знает об этом»1 (л. 35 об.). Авторство в отношении заметок на транспаранте Г. Лопатин отклонил от себя, не указал никого другого как автора и не мог объяснить их, так как они стерлись от времени. Белый порошок — гуммиарабик. На это был составлен акт, подписанный и Г. Лопатиным. На вопрос, где и когда он познакомился с Ткачевой, Лопатин отвечал: «года два назад, в книжном магазине Луканина,2 где он занимался и также делала переводы Ткачева».
О Ткачевой ничего существенного не указано, только отмечено ее разногласие с Лопатиным в показании о времени их знакомства (С. Ткачева указала, что познакомились они «около трех недель назад») и предостережение о том, что «за неполучением еще из Москвы бумаг [т. е. бумаг Ф. Волховского] нельзя было решиться предлагать Лопатину подробные вопросы, чтобы не сделать какой-нибудь несоответственности и тем не испортить дело».
Эта же мысль об осторожности допроса указана и в отношении Михайлова, но о нем дана и характеристика:
«Михайлов представляется личностью, определение которой и в особенности как воспитателя юношества, требует серьезного вни-мания. Из бумаг его видно, что он в хороших отношениях с семейством известного полковника Петра Лавровича Лаврова, с обоими братьями Слепцовыми, с братьями Ткачевыми [дальнейшее зачеркнуто карандашом: «с каким-то Семеном Щербатовым, у которого, по собственному сознанию его, производится в судебных местах какое-то скверное для него дело. Некоторые из сочинений его (Михайлова)
1 В первом допросе Лопатин по этому вопросу об адресе заявил, «что он писан не его, Лопатина, рукою и что он даже не знает, когда и кем этот адрес писан» (л- 31 об.).
2 Приписка внизу страницы: «Все эти три лица [т. е. Лопатин, Луканин и С. Ткачева. Я. К] давно известны как нигилисты и притом с очень вредным направлением. У Ткачевой уже бывали обыски и поэтому-то, при означенном случае, ее вновь обыскали».
«68
Н. ф. БЕЛЬЧИКОВ
выражают направление, которое можно желать менее встречать в русских, а тем более в тех, коим вверяется воспитание детей. Направление это, сколько можно судить по отрывочным практическим упражнениям детей пансиона Михайлова, отражается, однако же, на этих юношах»]. Поэтому-то бумаги Михайлова требуют особого разбора, а на это необходимо время, — не говоря уже о библиотеке его, состоят,ей более нежели из 400 томов и тоже опечатанной... Вопросов ему также нельзя еще предлагать по вышеупомянутой причине; да во всяком случае придется начать с Лопатина».
Так они и поступили.
V
12 Февраля Лопатин был допрошен. На допросе он два письма, адресованные им Ф. В. Волховскому, признал своими и дал объяснения относительно затронутых в них вопросов. Не зная, как намерен был держаться на допросах Ф. Волховский, Г. Лопатин решил вначале не раскрывать всей правды о себе, Ф. Волховском и своем участии в «Рублевом Обществе». Но о некоторых обстоятельствах своей деятельности в то время он рас-сказал довольно точно.
«1. Под программой я разумел, — показал он, — программу для собирания этнографических сведений о России, представленную Волховским в московскую цензуру, которая ее не разрешила. Я хлопотал о разрешении в Главном управлении по делам печати в С.-Пбурге, но и здесь воспоследовал отказ, почему я и не заблагорассудил, как обещал сначала, составлять программу для собирания сведений в великорусских губерниях, по образцу программы, составленной Волховским для губерний малорусских. Назвал я ее вкратце „Вопрос молодого поколения потому что она должна была сопровождаться предисловием,; в котором должна была быть развита та мысль, что пора нашему молодому поколению заняться серьезным изучением особенностей родного быта ,и бросить бесплодные споры касательно мечтательных теорий, вычитанных из иностранных книжек».
Текст этого отрывка показаний Г. Лопатина опубликован в сборнике «Г. Лопатин» (П., 1922, стр. 33—34) А. А. Шиловым, который по поводу этого отрывка справедливо указал, что Г. Лопатин сознательно смешал здесь два вопроса. Под «программой» надо разуметь действительно программу для собирания этнографических и статистических сведений, составленную Ф. Волховским и задержанную цензурой (см. об этом далее ма стр. 986). Под «Вопросом молодого поколения» следует разуметь не
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
959
про! рам.му для собирания сведений о великорусских губерниях, как говорит здесь . Лопатин, а особое обращение к молодежи — будущим членам opi апизации —- принять участие в «Рублевом Обществе» в качестве сельских учителей, с разъяснением, что собирание материалов и научная их разработка прямая задача молодого поколения (см. в назв. сборн. стр. 33, примечание 1-е).
«2. Под „Рублевым Обществом1' разумел я, — показал далее опатин, изложенный мною в предыдущем письме проект сборов в университетах на голодающих; причем сборы долженствовали иметь Форму правильных периодических взносов (ежемесячных); сумма долженс!вовала быть или одинаковая для всех (minimum рубль для отвращения дробных счетов) или должна была представлять известный процент с проживаемого рубля. О существующих уже или о имеющихся уже в виду взносах я говорил не потому, чтобы они действительно уже были налицо, но потому что я был и сам уверен, что никогда не встретил бы отказа в пожертвовании на такое дело, если бы мои занятия позволили мне улучить время — заняться хорошенько этим делом. Говорил же так, чтобы ободрить Ф. Волховского, который сомневался в успехе, и заставить его начать.1
3. „Казань". Я хотел отыскать в Публичной библиотеке новые правила Казанского университета и, выписав все существенное, переслать Волховскому, который так же, как и я, интересовался этим предметом».
Последний (3) пункт является верным и точным пояснением смысла соответствующего места в письме. То же показал о «Казани» и Ф. Волховской (см. далее). В дальнейшем Лопатин освещает наиболее серьезные пункты своей переписки. И тут Г. Лопатин решительно говорит не то, ш в действительности могло бы быть.
«4. „Библиография, БиографияФ. Волховской желал составить статейку относительно деятельности Чернышевского, как публициста, в которой думал показать, что значение этого последнего, как самостоятельного мыслителя, сильно преувеличено его поклонниками, что идеи его могут быть отлично прослежены до их первоначальных источников, т. е. до Французских экономистов. Биографические сведения касательно воспитания и литературной деятельности Чернышевского интересовали его, как данные, бросающие свет на общий склад его идей. Он просил об этих сведениях меня и Евдокимова
1 По поводу этого отрывка показания А. А. Шилов справедливо замечает, что оно «от начала до конца является выдумкой Г. Лопатина» (см. сборн. «Г. Лопатин», ГИЗ, П., 1922, стр. 34, примечание 1-е).
ион, № ю 66
960
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
«ь „одаб1|„е „„рутей„едиолм(, о' ; »>» ™«, ™
“°,еди)-с эд"" »«. zj в °хх:е ида
.. ™
Г№^“М“”у ,Т° ‘'a'lep’a™ “° Червышеккощсда сотрет в его руках. .Умысел. такого амменм ]юютен ’ ™ ВР» «о, ™ ~е:::ххютеячи мова ° ™’ ™ *• разумеется, было иное- и тотиХ ?.РНЬ'ШеВСК0Г0- В Действительности, а не Писарева. Единств™™ W бШИ сторонниками Чернышевского, прислать портрет Чепныт₽ ’ П°АТверждает Лопатин, — это намерение
«Я р тевского, и мотивирует его следующим образом, ского], KOTopTgV^ Прислать известную карточку Ч[ернышев-киуты красным карандашом Т J-][последние че™ре слова подчер' странена прежде в пД * Н' но которая бь,ла очень РаспР°' не особенно Х™ г ? УРГв И К0Т0рую’ я полагал’ достаТЬ бш0 шевского] я собирал™ иблиогРаФическии указатель статей Ч[ериы-часть статей его^ С0Ставить в Публичной Библиотеке, а большую из старых гоХТ Послать емУ в их настоящем виде, вырезав их и который гг. жа±°ВРеМеННИКа“’ К0Т0рь1Й приобрел на Т°ЛКуЧКе дармы могли видеть у меня на этажерке».
Мэпп У транить подозрения III отделения, естественно могущие лпк™оУТЬ При сопоставлении утверждений Г. Лопатина в том и другом У гт П₽илУМЬ1Вает «психологическое» оправдание для своих заявлении. «Что жр
касается положительности, с которой я говори/
- ХСЯ ^То бЬ1 Уже в виду: портрете (карточке) Ч[ернышевского]г собрании его сочиирппй и л / /Lt
и и о известной конфискованной цензурой повести-
5 ВОрина ”Вся«ие и, то это объясняется тем, что я всегда поступал речением, частью за делами, частью по лени, я откладывал и уверял °чтоСИЮ В А0ЛГИ4 ЯЩИК’ сочиняя в кажД°м письме новые предлоги, У > что дело уже идет вперед; только вот надо подождать немного;
У Ц я Собирался, наконец, с духом и исполнял поручение или совсем отказывался от него. Эго не откажется подтвердить, конечно, и сам Ф. Волховской, который сто раз ругался со мной за такую манеру. В действительности же я вовсе не знаю, чтобы где-нибудь в определенном месте в самом деле находились „Всякие" или сочинения Чернышевского] или его карточка; но полагал, что не может быть, чтобы я не достал их, если бы стал старательно отыскивать».
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
963
Как известно, роман Суворина «Всякие» незадолго перед тем подвергался суду и был изъят из обращения. Признаться, что есть экземпляры зтой запрещенной и сожженной книги значило обнаружить тот капал, по которому снабжалась молодежь того времени запрещенной литературой.
В дополнение Г. Лопатин уточняет сведения о Калениченках и о своих взаимоотношениях: «Калениченки суть: один (Григорий) технолог, другой (Николай) университетский студент; должен был я их найти, чтобь у у них адрес Каменецкого, у которого Ф. Волховской хотел купить некоторые из его сочинений, которые уже вышли из продажи». .
Дальше Г. Лопатин дает прямые указания, кого он и о __ называли условными и сокращенными названиями. Так, в 6 пункте расшифровал, кто скрывался под «Фараоновым воинством».
«Некто Прокопенко (Гидальго) просил меня барышни, касательно стенографии. Я обещал узнать это от -а10СЬ Палим-К0Т0РУк> видел мельком, и Фамилия которой (если не , чт0
псестова) мне никак не приходила на память. после чего
фамилия ее звучит подобно словам Ф.
J потребляем это шутливое прозвище в с и Ф. В[ол-
Жен“ — это Марья Осиповна Антонова, работав у ховского]> которая шьет на продажу»- ,
Смирнов — это приказчик в «Русской книжной торговле МОсков-» тутку называли брата Германа Лопатина Всеволода_Лопа ’
СКОг° студента-медика, «должник» его-Сорокин, СПб. горный студен «Вучкович» — студент-технолог в Цюрихе, знакомый Антоне
_ __справиться о ноне
«просил я,—заявляет Герман Допа , решительНо захо-студенческой жизни в Цюрихе, на случаи, ес *не| неприменяе-тел бросить чистые естественные науки, ра £адные .. напр., за мости у нас в настоящее время, и взят был забРошен мною на технологию. Вопрос на счет жены забавных догадок
смех. Причем я полагал получить иi письма мои изобилуют
и предположений на этот счет. увеличений, потому что я не множеством шуток и Умы®ле° читатЬся еще кем-нибудь, кроме мог знать наверное, что они оуду тех, к кому они были писаны». ~
Пос.ед»»м (11) ™”е”Ве г°. “„да]’ ораться,
кается, «Ф. Волховской дыжвые ею его знакомой
в состояв,, л» эта ба^яя у р см. уви.
в Орле. Я отвечал не знаю», д ЛРкпаля 1868 г.
верснтета; в III отделена» его доказав,я датированы 12 Феврам
•63
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
В целом эти показания производят впечатление того, что Г. Лопатин решил отнюдь не раскрывать всего, а водить за нос III отделение.
Придавая своим показаниям характер искреннего и простого сообщения, порой даже как-будто бы говоря о мельчайших подробностях, мелочах, пустяках (но только таких, какие безопасны и для автора и для тех, кого они касаются), Г. Лопатин хотел представить все дело в виде наивных разговоров, в виде юношеской затеи, далекой от реальных расчетов.
Эта цель Г. Лопатина не укрылась от III отделения. Составляя отчет для царя, оно отметило это наблюдение:
«Для выиграния по возможности времени, предложено было Лопатину дать общее по содержанию писем его к Волховскому объяснение, но он представил такое показание, которое, не объясняя положительно дело, дает повод noxaraib, что он не намерен высказываться или по крайней мере, не скоро. Так, напр., Лопатин, но его уверению, под „Рублевым Обществом" разумел проект сборов в университетах на голодающих. Библиографические и биографические [подчеркнуто в подлиннике. Н. Б1.] материалы о Чернышевском он взялся доставить Волховскому для составления будто бы статейки, в которой Волховской думал показать, что значение Чернышевского, как мыслителя самостоятельного, сильно преувеличено его поклонниками. Карточку же Чернышевского он обещал послать потому, что будто бы Волховской не видал ее».
III отделение тут же комментирует эту часть показаний Г. Лопатина, расшифровывая их характер.
«Несостоятельность подобных объяснений более чем очевидна: что „Рублевое Общество" имеет другую цель, доказывается тем, что ответное письмо о нем послано Лопатиным в Москву 7-го января этого года, а как Лопатин в том же своем показании говорит, что он вообще ленив писать, долго не отвечает на письма и потому на делаемые ему поручения старается отвечать какими-нибудь Фразами, то надо полагать, что вопрос Волховского к Лопатину об означенном обществе был по крайней мере в начале декабря 1867 г., т. е. в то время, когда еще о нуждающихся в хлебе не было еще никаких сведений в публике, которые вызвали общую благотворительность. Что же касается до показаний относительно сведений о Чернышевском, то они в виду приведенного выше письма Кривцовой, могут считаться совершенно ложными. Хотя в письме Кривцовой и не прописана вся Фамилия Чернышевского, но нет сомнения, что речь идет о нем, так как Кривцова пишет вообще откровенно и по своей
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
9в8
дружбе с Волховским не стесняется поименовывать другие Фамилии» (л. 51—52). (Содержание письма Кривцовой будет ясно из дальнейшего.)
Но Лопатин в своей тактике не был поддержан другими и прежде всего Ф. Волховским.
VI
Ф. Волховской пошел другим путем: он дал показания, по иному освещающие задачи «Рублевого Общества». Арест и обыск его произведен был в Москве одновременно с арестом и обыском Г. Лопатина в Петербурге. Бумаги его немедленно были пересланы в Петербург. В секретном донесении от 11 Февраля 1868 г. указано, что найденные при обыске У Волховского и живущего вместе с нпм купеческого сына Прокопенко бумаги, в числе их последнее ппсьмо Лопатина к Волховскому, посланы в Петербург; при обыске у Волховского были взяты сочинения Герцена «Былое и Думы», изд. 1867 г., и высказано пожелание о вытребовании Волховского в Петербург через московского обер-полицеймейстера, при управлении которого Волховской содержался. Пока ехал Волховской из Москвы, был переведен арестованный по тому же делу Михайлов в старое здание, а па его место Лопатин в новое здание. И произведен был разбор бумаг Ф. Волховского.
В них, кроме известных двух писем Г. Лопатина к нему, оказалась переписка самого Волховского, несколько разрозненных рукописных журналов под заглавиями: «В нашем кружке», «Складчина» и «Журнал без названия», четвертый том сочинений Герцена «Былое и Думы», женевского издания, 1867 г., сорок пять Фотографических карточек, почти все малороссов, и многих в национальных костюмах, в том числе и самого Волховского, и, наконец, 499 экзампляров гетмана Полуботки и 500 экземпляров Малороссийского поэта Шевченки. (Сведения берем из сообщения III отделения царю, составленного 13 Февраля 1868 г.) Из переписки особенно интересны выписки из письма к Ф. Волховскому Кривцовой и его самого Елене Михайловой.
Знакомая Кривцова из Екатеринодара 15 декабря 1867 г. писала ему:
«Милый Волховской, я знаю давно, что ты хочешь ехать в Малороссию для изучения родного края, но я не знаю, что ты будешь делать, познакомившись с средой, и какими средствами действовать, вероятно, у тебя уже есть планы, ведь хоть сколько-
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
•64
в и будь ты знаешь же нужды народа». А в конце прибавляет: «Я получила портрет Ч[ернышевского], за который чрезвычайно благодарна».
Выписка из письма Волховского к Елене Михайловой 2 января 1868 г., по сообщению отчета III отделения, показывает, что —
«он [Волховской] очень заботится о распространении грамотности в Малороссии; но не иначе, как на малороссийском наречии, для чего и посылает книги в народные библиотеки по своему выбору* (л. 50).
Вернемся к допросу Волховского. Последний 14 Февраля 1868 г. дал более откровенные показания.
«С Германом Лопатиным, — показал Волховской,—я знаком давно, сколько помню — более двух лет; во все это время я знал его за человека здравого ума, честного, занимающегося, и за веселого, остроумного собеседника, что называется „краснобая“. Эти последние качества (т. е. веселость, остроумие и краснобайство) выражались между прочим и в его манере говорить: он всему давал клички,— это можно видеть из его писем ко мне. В них Лопатин говорит о „Фараоновом воинстве“, о „Казани" и т. д. „Фараоновым воинством" он называл какую-то незнакомую мне стенографистку, которой имени он не мог припомнить; „Рублевым Обществом" он называл задуманное нами коммерческое предприятие издательского свойства. Выгода издательской деятельности была мне известна давно, что можно видеть из того обстоятельства, что я издал в Москве ноты малороссийского казачка и состою в доле вместе с книгопродавцем Ушаковым по изданию книги Бажанова „Что нужно заимствовать у иностранцев по части земледелия". Задумывая издать в русском переводе книгу Барту: ,,Le monde des insectes" (или только часть ее), я должен был искать чужого содействия относительно денежных средств, хотя у меня и у матери моей есть тысячи полторы денег,1
1 В этой части показание Ф. Волховского подтверждается информацией о нем помощника московского начальника губернского жандармского управления от 11 Февраля 1868 г. Воейкова 3-го: «Еще до произведения обыскал собрал,— доносил секретно Воейков,— негласно сведения о дворянине Полтавской губернии и уезда Феликсе Волховском, имеющем от роду 22 года, исповедания православного, воспитание получил домашнее, потом поступил во 2-ю СПб. гимназию, откуда из 3-го класса перешел в Ришельевскую гимназию в Одессе, откуда прибыл е матерью своею Екатериной Волховской в Москву в 1863 году для поступления в университет, но был в оном в качестве стороннего слушателя по юридическому Факультету, а в настоящее время лекций не слушает, занимается разными коммерческими предприятиями, покупкою и продажею книг, нот и литографированных портретов, которые у него и оказались. Мать Волховского занимается сама швейным масторством... Ф. Волховской в минувшем году был требуем в Москве в следственную комиссию, так как он состоял в Малороссийской общине для вспомоществования, но особенных обвинений на него не было, поэтому никаким взысканиям не подвергался» (л. 65).
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
965
но все они розданы по рукам и большую часть их нет даже надежды получить обратно; в виду таких обстоятельств я решился пригласить несколько лиц составить нечто вроде торгового товарищества для издательской деятельности; о прочной организации и о прочных отношениях каждого из пайщиков к другим пи с моей стороны, ни, сколько мне известно, со стороны Лопатина ничего определенного говорено не было; я рассчитывал, что на издание ,,Le Monde des insectes“ согласится каждый, а о дальнейшем не заботился; захотели бы издать еще что-нибудь, согласились бы—хорошо, а нет — покончили бы. О том, 410 это совершенная правда, можно справиться у московского же книгопродавца Матросова, которого я приглашал вступить в компанию и который хотел внести рублей 15—25».
Определив характер общества, Ф. Волховской дальше осветил и частные вопросы.
«Относительно „Казани“ должен объяснить, что выражение это относится к новым правилам Казанского университета, которые интересовали меня потому, что я думал в мае месяце держать вступительный экзамен.
О других пунктах писем Г. Лопатина скажу следующее:
1. Два брата Каленпчепко были: один технолог, а другой — здешний студент или сторонний слушатель. Первого из них я никогда но видал, со вторым же познакомился в Москве около двух лет или полутора года тому назад, где именно и при каких обстоятельствах — не помню. В одну из моих поездок в Петербург я случайно встретился с ним на Васильевском острову на улице, причем в разговоре он мне сообщил, что видел в бывшей квартире Каменецкого много малорусских книг его же, Каменецкого, издания, которых никто не покупает и которые только сгниют в этом складе. Имея в виду все ЭТО, я просил Лопатина узнать у Калениченко адрес квартиры Каменецкого, а также — сколько там книг, какого они рода и сколько делают с них скидки при гуртовой покупке.
2. Второе мое поручение Лопатину, о котором говорится в письме, состояло в том, чтобы он сходил в Главное управление по делам печати и спросил бы там, скоро ли разрешат к печатанию поданные мною в Московский цензурный комитет три программы (в одной рукописи) для собирания и группировки сведений а) по обычному праву населения Южного края; б) сврдепий статистических и в) этнографических. Весь смысл такого сорта программ состоит в том, что они дают возможность доставить науке необходимый материал тем людям, которые желали бы заняться этим, но, по причине малой теоретической подготовки, не знают, какие именно сведения важны для науки; имея же перед глазами программу, т. е. ряд вопросов и рубрик,
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
Мв такому неумелому человеку ничего не стоит сообщить все, что нужно, ибо он будет только писать ответы на вопросы.
О программах такого рода императорское географическое общество отзывается с большим уважением (см., если не ошибаюсь, в 1-й книге „Записок Русского географического общества" за прошлый год статью: „Что сделано у нас по обычному праву"); да и нельзя отзываться о пих иначе, ибо это шаг на пути разработки отечественной науки, без которой всякие научные занятия будут лишь игра в науку, перенимание западного, очень часто неприменимо! о к нашей жизни. Основываясь на таких соображениях^ а также на том, что некоторые мои знакомые хотели иметь программу, но из редакции киевских губернских ведомостей или вовсе не получили ответа, или получили ответ, что программ более не имеется (стало быть требования на нее были); принимая, кроме того, в» внимание, что императорское научное общество хочет приступить к изданию подобного же труда (сообщение об этом в той же статье „Записок [Русского] Географического общества")—я думал отпечатать вышеупомянутую рукопись и затем пустить в продажу. Я был крайне изумлен, когда в Московском ценсурном комитете не получил на то разрешения, а потому просил комитет дать мне письменное запрещение со ссылкой на пункт ценсурного устава, послуживший последнему основанием; в ответ на мою просьбу комитет сообщил мне, что программы будут посланы на рассмотрение Главного управления по делам печати.
3. Библиографический список журнальных статей Чернышевского я, действительно, просил Лопатина доставить мне; из письма его можно заключить, что он, вместо того, чтобы самому составить или списать такого рода указатель, предпочел, вследствие обычной своей лени, прислать мне все статьи Чернышевского и таким образом предоставить мне самому всю работу. В ответ на вопрос, на что же мне такой указатель статей Чернышевского, я должен прежде всего объяснить, что об этой личности, как о писателе я наполовину дурного, наполовину хорошего мнения. Его прославленное „Что делать?" я признаю самым плохим произведением; парадоксальность мысли доведена в нем до высшей степени; а изображаемые сцены я интрига романа показывают плохое знание жизни и отсутствие художественного таланта; с другой стороны, в других его литературных работах часто научного содержания (напр., в некоторых примечаниях к „Политической Экономии" Милля —укажу на примечания], в которых говорится о мальтусовой теории или на выведение Формулы: продукт = труду X на капитал) нельзя не признать много дельного; такого мнепия держатся люди более компетентные, чем я, что видно из того обстоятельства, что в „Программе для испытания желающих поступить в число студентов Импер. Моск, университета", составленной
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
967
в 1865 году и изданной по поручению господина попечителя моек, учебного округа, в отделе истории русской литературы в числе „источников и пособий" для ее изучения указаны между прочим статьи Чернышевского „Очерки Гоголевского периода русской литературы".
После всего сказанного, мне кажется, будет вполне понятно, если я замечу, что меня интересовал вопрос, какие еще статьи чисто научного содержания написаны Чернышевским по предмету история русской литературы по преимуществу; последний вопрос нельзя было разрешить иначе, как только имея полный список всех его журнальных статей, ибо некоторые из них, как кажется, без подписи.
го же касается портрета Чернышевского, то, насколько помню, я об нем Лопатина не просил; читая же его письмо, я думал, уж не идет ли тут речь о портрете одной из тех хорошеньких дам, которых он говорил мне, что мне бы, конечно, следовало поглядеть них, иначе я не буду знать, что такое красота.
4. Относительно княжен: Макуловой и Долгоруковой скажу следующее: будучи однажды у Матросова, я увидел там госпожу в ак7Л0вУ’ которая тут же рассказала, что она приехала достать займы денег для какой-то своей знакомой княжны или княгини Долго-уковои. Эта Долгорукова, по словам Макуловой, имеет литографской едение и должна была в своей мастерской привести в действие ое изобретение, привилегированное правительством, которое (изо-чтоТеНИе вещало огромные барыши участникам предприятия; думая, себ, И3 ЭТ0Г0 из-бретения действительно выйдет толк, я предложил г тут же в компаньоны; а Лопатину написал, прося его хорошенько-Р зу знать о деле и сделать в мою пользу все, что можно. Между тем акулова успела поссориться с Долгоруковой и из всей истории никакого толку не вышло.
Касательно Кривцовой могу сообщить, что это давнишняя моя знакомая по Москве и это я ей действительно послал портрет Чернышевского».
III отделение по ознакомлении с показаниями Ф. Волховского имело суждение, которое занесено в особую заметку для доклада:
«Первоначальные объяснения доставленного сюда из Москвы Дворянина Волховского совершенно подтверждают доложенные во вчерашней записке соображения, т. е. что Лопатин показывает иеправду и что действительно настоящим случаем открывается возникновение вновь известного общества под ииенем: „Малороссийская пропаганда". Волховскому предложено сперва написать общее объяс некие, которое он еще не кончил. Затем им обоим можно будет ппед-ложить несколько вопросных пунктов, если дело еще не будет пепе дано в коввссю. Ответы ва вовросвыв луакты иогут разъяснить понятие о деле». J и ыхельно-
968
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
На записке дата: 14 Февраля 1868 г. и подписано: «Доложено 17 Февраля». Последнее несомненно рукой Долгорукова, управляющего III отделением.
1аким образом, ясно, что III отделение проводило определенно тот взгляд, что в «Рублевом обществе» скрыта новая революционная организация. Однако данных для этого почти не оказывалось в распоряжении II отделения и оно решило это дело сдать в высочайше учрежденную Следственную комиссию. Намерение свое оно обосновало в особой записке, где, изобразив план своих действий, оно предлагало передать все дело в комиссию, мотивируя это долгосрочностью допросов и разысканий по делу. В записке читаем:
«Лопатин и Волховской, которым по положению дела необходимо ыло предложить сначала общие вопросы и только лишь по содержанию известных писем, дали такие объяснения, которые вызывают необходимость более строгого ведения дела, особенно в виду того, что олховской уже находился под следствием по подобному же делу, ъяснения эти, во многом противоречащие одно другому, еще более у еждают на счет возникновения вновь общества, которое так строго преследовалось правительством, и потому дело должно подлежать подро ному обследованию. Но в виду ареста многих лиц, в виду большою количества бумаг, взятых при обысках, —и все это потребует не мало времени, то, казалось бы, что все это дело удобнее было бы передать... в Следственную комиссию»,
заканчивает автор записку, датированную 15 Февраля 1868 г. Наверху есть резолюция, видимо, шеФа жандармов П. А. Шувалова: «Можно — я уже испросил на это высочайшее повеление 16 Февраля».
VII
На дальнейших показаниях в Следственной комиссии Г. Лопатин и Ф. Волховской продолжали попрежнему показывать разноречиво. Г. Лопатин отказывался признать, что он слышал об издательских планах «Рублевого Общества». Ф. Волховской, напротив, отклонял показание Лопатина о сборах на голодающих. Разногласие только убеждало Следственную комиссию, что допрашиваемые скрывают подлинные цели «Рублевого Общества». Не предъявляя определенных обвинений им, комиссия выжидала момента, когда заключеннные дадут достаточно материала для их обвине-«ия. Очной ставки им тоже не давали, так как комиссия, с самого начала убедившись в «упорном запирательстве и дерзком нахальстве Лопатина»,
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
969
боялась, что Лопатин сумеет сговориться с Волховским. Дело затягивалось. Положение заключенных становилось тяжелым. Об этом так рассказал сам Ф. Волховской в своих воспоминаниях: «Нас держали уже шесть или семь месяцев. От времени до времени возили для допросов в „высочайше учрежденную Следственную по политическим делам комиссию**, состоявшую из восьми генералов, штатских и военных всех родов оружия, под председательством С. Ланского; затем на несколько недель, даже месяцев, забывали; затем снова задавали те же вопросы и снова забывали. И этому не предвиделось конца, ибо, как потом оказалось, в показаниях единственных двух арестантов, состоявших под следствием, вышло разногласие. Оба мы согласно утверждали, что цели наши были вообще законны; но затем показания наши расходились: один уверял, что деньги собирались на голодающих; другой — что мы имели в виду распространение общеполезных цензурованных книг. Каждый из нас, конечно, догадывался, что другой врет; но в чем именно состояло разногласие, — ни Лопатину, ни мне не было известно. С другой стороны, комиссии было ясно, что мы что-то скрываем — иначе пам незачем было бы разногласить. Сама комиссия не имела против нас никакого определенного обвинения, но, по чудовищному застеночному чиновничьему обычаю, ожидала, чтобы мы сами себя обвинили. Это делало наше положение безвыходным; нас могли держать бесконечно— „впредь до выяснения дела**, на что и намекал нам делопроизводитель комиссии Ратко». («Друзья среди врагов», СПб., 1906, стр. 4—5.) Благодаря помощи доброжелательного «солдатика», дежурившего в Ш отделении, Ф. Волховской переслал Лопатину черновик своих показаний. «Получив мой черновик, Герман [Лопатин] переменил свои показания согласно моим, и дело было копчено» (там же, стр. 10).
Ссылка на голод в показаниях Г. Лопатина не могла казаться убедительной в глазах комиссии, знавшей о систематических из года в год недородах, неурожаях и голоде, посещавших ту или другую губернию бывшей царской империи. Стоит только просмотреть отчеты III отделения за ряд лет, начиная с 1827 г., чтобы легко убедиться в том, что голод, пожары, неурожаи из года в год терзали наше забитое и нищее крестьянство.1
Правда, голод 1867—1868 гг. был особенно значительным. По рассказу современника, известного беллетриста В. А. Слепцова, измученная и голодная масса людей поднялась с насиженных мест и двинулась куда
1 Подробнее о гоходе в 1865—1868 гг. см. в издании «Крестьянское движение 1827— 1869 гг.», вып. П, Соцэкгиз, 1931, стр. 115—140.
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
•70
глаза глядят: «Целые деревни стали подниматься с места и уходить, целые деревни шли сами не зная куда, шли искать хлеба; толпы этих „наиболее пострадавших и, как их называли в то время, толпы голодных, с опухшими животами людей добирались даже до Петербурга» (В. А. Слепцов «Хороший человек». Соч., т. I, 1932 г., стр. 547).
Намек на это событие, которое вынуждено было признать, как общественное бедствие само правительство, намек этот, сделанный Герм. Лопатиным, был явно неприятен власти и говорил о «крамольном» настроении его автора.
Следственную комиссию выручили показания Ф. Волховского.
Какие же это показания? Ф. Волховской забыл рассказать в своих воспоминаниях еще об одном обстоятельстве. 8 апреля был произведен вторично обыск в его квартире и найден был его дневник и записки. Эти материалы заставили его дать новые, более откровенные показания.
Теперь Ф. Волховской заговорил, правда, осторожно о народных учителях, об обязанности молодежи посвятить свои силы делу изучения родного края и народному образованию, указал, что важнейшим вопросом времени является изучение России в экономическом и статистическом отношениях, потому что в результате реформы 1861 г. условия жизни крестьянства подверглись коренным изменениям. Положение после всего этого
ало таковым, что Ф. Волховской решился на «чистосердечное признание» апреля 1868 г. он более подробно рассказал о своих украинофильских мпатиях и интересе к крестьянству этой полосы, об институте кочующих сельских учителей, занятых просвещением народных масс, назвал лип, делавших взносы. Огносигельно участия Г. Лопатина отметил, что его интересовала не практическая, не педагогическая сторона в этом деле, а научная, т. е. собирание этнографическо-статистических сведений как материала для научного изучения края, положения крестьян. Вот эти-то свои показания в черновом виде и переслал Ф. Волховской Г. Лопатину при содействии доброжелательного часового-жандарма, как он рассказал в своих воспоминаниях.
VIII
Г. Лопатин, по ознакомлении с этим документом, на новом допросе 26 апреля 1868 г. поступил так, как подсказали обстоятельства, т. е. подтвердил показания Ф. Волховского.
Приведем здесь показания Г. Лопатина.
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
971
«Я1 соглашаюсь с Волховским в том, что под словами «Рублевое Общество» надо разуметь не «Общество для сборов в пользу голодающих», как я показывал это сначала, а другое, проектированное нами (мною и Волховским) общество, которое хотя и ве получило еще до сих пор определенной организации и развития, а также и названия, но которое, по основной его цели и стремлениям, весьма удобно могло бы быть названо „Обществом для распространения просвещения в народе Мотивами, вызвавшими, с нашей стороны, проект составления подобного общества, послужили следующие соображения:2
1) Первоначальное образование народа находится в руках лиц, в высшей степени невежественных и не подготовленных к такому делу, каковы: церковный причт, волостные писаря, отставные солдаты, выгнанные из службы за воровство и пьянство чиновники, старые девки и вдовы, летом скитающиеся по монастырям и богомольям, а зимой читающие по покойникам и обучающие деревенское юношество. 2) Вследствие такого подбора педагогов, обучение производится по допотопным методам, искажающим и насилующим умственные спо-
1 Подлинник находится в деле: Производство выс. учрежд. в С.-Петербурге Следствен ной комиссии, № 420 (1868 г.); текст был опубликован А. А. Шиловым в сборн. «Г. Лопатин». ГИЗ, П., 1922, стр. 35—43.
2 В известном писвме к генерал-губернатору Восточной Сибири Н. П. Синельникову 15 Февраля 1873 г. Г. Лопатин о том же писа^так: «Меня всегда смущало то обстоятельство, что большая часть так называемой прогрессивной молодежи обсуждает вопросы нашей внут ренней жизни почти исключительно на основании теорий почерпнутых из иностранных кни жек, да пожалуй еще на основании собственных соображении чисто отвлеченного свойства. Большая часть из них, покинув провинцию для университета чуть не в детском возрасте, обладает слишком ничтожным знакомством с действительным положением и жизнью народа Для того, чтобы это знакомство могло влиять контролирующим образом на их теоретические взгляды и практические предприятия. Печальные результаты, проистекающие из. такого порядка вещей, понятны сами собой. Так вот мне хотелось пособить заполнению этого пробела, по крайней мере по отношению к себе самому и некоторым из своих друзей, составив для втого, в кампании с одним из своих приятелей, общество кочующих сельских учителей. Затевая это предприятие, мы имели в виду несколько целей. Во-первых, нам пред отавлялась возможность поддерживать свою жизнь при помощи езусловно честного и симпатичного для нас труда. Во-вторых, наша деятельность должна была служить непосредственно к умственному, нравственному и материальному преуспеянию тех масс, « которым склонялись наши лучшие симпатии. И, в третьих, эта деятельность, приводя вас в непосредственное соприкосновение с массами, позволяла нам рассмотреть поближе этого загадочного сФинкса, называемого народом. Мы рассчитывали получить таким образен возможность ознакомиться основательно с экономическим положением народа, его нуждами и потребностями, с его взглядами на вещи и его умственным развитием, со степенью его восприимчивости к известным идеям, ь также со степенью основательности тех надежд, которые возлагаются на него пылкими приверженцами быстрого прогресса. Такое солидное знакомство с народом позволило бы нам составить себе ясное понятие об истинном положении вещей внутри нашего отечества и сознательно избрать себе на будущее время тот путь, следуя которому мы могли рассчитывать принести наиболее пользы вскормившему и воспитывавшему нас обществу» (см. в сборн. «Г. Лопатин» (1845—1918). Автобиография. Показания и письма Статьи и стихотворения. Библиография, ГИЗ, П., 1922, стр. 67—68).
S72
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
собности детей, требующим для получения успеха слишком продолжительного по времени курса, делающим учение для детей трудным, изнурительным и внушающим непреодолимое отвращение; самые результаты учения по таким методам весьма часто бывают очень печальны: они состоят иногда в достижении искусства читать только те книги, по которым ученик учился. 3) Такая бесплодность результатов, по сравнению с затраченными издержками, временем и здоровьем, — поддерживает, и без того весьма распространенное в народе, предубеждение против грамотности и просвещения. 4) Всякого рода учебники и пособия, изданные до сих пор для сельских школ, представляют самое прискорбное зрелище: это суть или произведения самого жалкого тупоумия и невежества, или плоды самой бесстыдной и наглой спекуляции; они не содержат в себе ничего, что было бы сколько-нибудь полезна или хотя отчасти применимо к жизни тех, для кого они предназначены. Сверх того, они написаны самым варварским и неудобопонятным языком. 5) Серьезного улучшения в системе народного образования никак нельзя ожидать при усилиях со стороны одного только правительства: правительство покупает услуги частных лиц за деньги; а да тех пор, пока лица, служащие правительству, будут служить ему только за деньги, как мы это видим почти повсюду, до тех пор на места сельских учителей будет поступать только отброс, никуда более не годный, так как люди со способностями и знаниями всегда будут пробиваться на места более выгодные и более видные. Правительство же не в состоянии назначить сельским учителям жалованья, достаточного для того, чтобы привлечь к себе внимание людей с высоким умственным развитием. Поэтому сделать почин в таком деле (т. е. в деле улучшения системы народного образования) и принести здесь истинную пользу могут только частные лица, добровольно, по внутреннему влечению, посвятившие себя этому труду, служащие отвлеченной идее, руководимые чувством гражданского долга, делающие дела из теплой любви к самому делу, а не из-за денег или из-за почестей, или из-за каких-либо других материальных выгод. — Приняв во внимание все, изложенное здесь, я и Волховской полагали в высшей степени полезным: А) Составить и издать следующие книги: 1) буквари и вообще рациональные руководства для обучения грамоте, 2) учебники па предметам, наиболее важным в народной жизни: по арифметике и счетоводству, по сельскому хозяйству, по домашней гигиене и медицине, по ветеринарному искусству, по сельской технологии, по практической геометрии и межеванию и пр., и пр., 3) книги, служащие для ознакомления человека с внешним миром, с явлениями окружающей его природы, т. е. так называемая Физика земного шара и Физическая география, а также основные понятия по астрономии, Физике, метеорологии, химии и описательным естественным наукам, е их применениями к обыденной жизни, 4) основные понятия по гео-
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
973
графин и истории России и соседних стран, 5) книги, имеющие целью ознакомить народ с положительным законодательством его отечества, которое ему почти совершенно неизвестно, частью вследствие дороговизны собраний законов, частью вследствие непонятности для него языка, которым законы писаны. Такие издания научили бы народ знать свои права и обязанности; в них нашло бы также место изложение духа, оснований и важнейших подробностей так называемых последних реформ, наконец, 6) собрания лучших отрывков из известных писателей, для развития в народе литературного вкуса, так как издания, служащие ныне для развлечения народа, отличаются, как известно, скорее дешевизною,.чем какими-либо эстетическими достоинствами. В) Найти, уговорить или подготовить людей, которые бы взяли на себя: 1) составление таких книг, 2) личное преподавание по селам и деревням. С) Собрать денежные средства, необходимые: 1) для издания и распространения вышеозначенных сочинений и 2) для поддержания учителей в продолжение их педагогической деятельности.
Книги долженствовали быть написаны самым понятным языком, изданы в большом количестве и распространены как можно более, продаваясь по возможно дешевой цене, а в случае крайности, раздаваясь даже даром. Учителя долженствовали или примкнуть к имеющимся уже народным школам, или же действовать самостоятельно, начав преподавание исподволь и не называя собрания своих учеников громким именем „школы**, чтобы не привлекать лишнего внимания со стороны, так как закрытие одной из деревенских школ Полтавской губернии (описанное в газетах), С.-Петербургской школы сельских учительниц и другие подобные истории показывают, что администрация не особенно благосклонно относится к действиям частных лиц в этой сфере. Материальное содержание свое учителя должны были получать: частью из платы, взимаемой с учеников, частью от литературных работ, материалом для которых могли служить обильные и в высшей степени полезные наблюдения над окружающей их жизнью; в случае же недостаточности этих источников, необходимую для них поддержку должно было доставить им общество, конечно, в самых умеренных размерах. Средства свои общество предполагало получать: частью из ежемесячных взносов своих действительных членов (по 1 рублю в месяц), частью от всякого рода пожертвований: деньгами, книгами, вещами и пр. со стороны знакомых лиц, частью от продажи своих будущих изданий; наконец, можно было бы устроить, под более или менее приличными предлогами, несколько концертов или литературных вечеров.
На вопрос, почему я с Волховским не желали действовать, относительно нашего проекта, путем официальным,—я замечу следующее: во-первых, общество, как таковое, во время нашего ареста еще не существовало; самый устав (или программа действий, как мы его называли между собой) не был еще выработан, что очень хорошо известно
974
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
комиссии; во-вторых, ни я, ни Волховской не принадлежим к числу людей, мнение которых особенно занимало бы министерство народного просвещения, и наконец, в третьих, ни я, ни Волховской не желали обращаться в официальные СФеры с проектом, который, подобно многим другим Фантастическим проектам, не имел за себя ничего, кроме нашего личного убеждения в его осуществимости. Дело другое, когда бы мы туда обратились после нескольких лет труда, когда бы мы могли указать на практические результаты, добытые нами, и на те выводы, которые сделаны нами из нашей деятельности, относительно того пути, по которому должно было пойти дальнейшее развитие нашего проекта. Тогда было бы можно рассчитывать и на официальное разрешение, и на поддержку нашего плана. А такая официальная обстановка дела необходима для придания делу нужной широты и гласности, без которых предприятия такого рода просто немыслимы. Я и Волховской понимали все это очень хорошо, но откладывали дело до более удобного времени.
Теперь я постараюсь объяснить, почему я, в предыдущих своих показаниях, несколько уклонялся от истины. Я делал это вследствие того, что, во-первых, я считал своим долгом предоставить Волховскому полную свободу в показаниях, так как я чувствую себя безусловно виновным перед ним в нашем аресте: непосредственною причиною этого ареста, по моему убеждению, послужило мое последнее письмо к Волховскому, посланное мною из глупой шутки с человеком, относительно истинных качеств которого я почти нисколько не сомневался;1 конечно, я не воображал, чтобы собственно письму было придано когда-нибудь какое-либо значение; я забавлялся только мыслью о разочаровании моего „нового друга“ после разобрания им стенографической записки; но, во всяком случае, мне следовало предупредить Волховского в том, что мне вздумалось шутить, чтобы он все-таки принял, на всякий случай, какие-нибудь меры предосторожности; я этого не сделал, и в настоящее время считал себя обязанным, по крайней мере, предоставить ему те выгоды, которые заключаются в полной свободе показаний. Во-вторых, я думал, что инициатива в показаниях, по праву, принадлежит Волховскому уже потому, что все бумаги, служащие путеводною нитью комиссии, принадлежат ему, а не мне, а потому — только он один может верно определить ту ширину, тот объем и ту степень обстоятельности, которые должны представлять наши показания; я же, по самому положению своему, обязан петь второй голос. Я знаю, что по закону я обязан отвечать в комиссии всей обо всем, но я знаю также, что сама комиссия внутренно совершенно убеждена в том, что нет такого человека, которому доставляло бы удовольствие, без крайней необходимости, разоблачать свой внутренний мир перед людьми, совершенно чуждыми ему как по их общественному положению, так, вероятно, и по их образу мыслей. Выну
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
075
жденный говорить, он все-таки будет говорить только то, что необходимо, не сказать чего решительно невозможно, и для него всегда будет в высшей степени важно — определить для себя границы этой необходимой откровенности. Мы живем не в Америке и не в Англии, где подсудимый имеет право отказаться отвечать на вопросы, кажущиеся ему щекотливыми, и предоставить судить себя на основании совокупности свидетельских показаний и писаных документов; у нас Следственная комиссия располагает целым арсеналом средств заставить человека говорить, — поэтому нечего удивляться, если у нас арестант для того, чтобы снасти от проФанации хотя часть своей интимной жизни, принужден прибегать к сдержанности, уклончивости, уловкам, отступлениям от истины и другим неблаговидным средствам, роняющим достоинство и уважение к себе в порядочном человеке; такие отступления от правил повседневной морали могут быть оправданы только исключительным положением, подобно тем отступлениям, которые допускаются в стране, находящейся на военном положении, от законов, действующих там в мирное время. Быть может, высказываемое здесь мнение покажется несколько странным, но не потому, чтобы оно не было известно комиссии давным-давно или чтобы она находила его неестественным; не потому, чтобы каждый арестант не соглашался с этим взглядом или не следовал ему, молча, во всех решительно случаях, но только потому, что не каждый находит нужным высказывать его в такой ясной и положительной Форме.
Мне возражали в комиссии, что мой образ действий приносит Волховскому более вреда, чем пользы, потому что: 1) Он затягивает дело, подрывая противоречивыми показаниями кредит показаний Волховского; но что касается до этого, то я убежден в том, что мои показания были таковы, что комиссия ни минуты не могла колебаться между ними и показаниями Волховского. 2) Согласившись с показаниями Волховского только после того, как я получил о них уже некоторое понятие, я подаю повод думать, что, может быть, Волховской и теперь лжет, а я соглашаюсь с ним только по дружбе. — Но, во-первых, я осмелюсь уверить комиссию, что, если бы Волховской лгал, я никогда не рискнул бы изменить свои показания прежде, чем услышал бы его показания от него лично; во-вторых, мне не позволили прочесть показаний Волховского и не сообщали их словесно, но в самой постановке вопросов мне в комиссии для меня заключались намеки на то, что ей уже известна истина, а потому я и изменил свои показания; мне очень хорошо известно, что комиссия может узнать правду только от меня или от Волховского и ни откуда «больше; следовательно, если она знает истину, то ей сообщил ее Волховской, следовательно, и я могу делать то же; в третьих, поло-
1 Агент Ш отдеюния. S. Б.
вон, м io 67
976
И. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
жим, что Волховской сказал правду; ио моя выжидательная метода, показывает, что я думал, что он мог и пе говорить правды, а следовательно, дело стоило того, чтобы лгать, т. е. что оно, по моему же мнению, имело какой-то политический или вообще преступный оттенок. — Но, во-первых, комиссия, захватив Волховского со всеми его потрохами, имеет полную возможность не сомневаться касательноистинного оттенка дела: из имеющихся у ней в руках бумаг она может видеть не только мысли его по этому делу, но и вообще последовательное развитие во времени всех его мыслей и чувств; во-вторых, я совершенно не согласен с тем, будто бы человек может находить щекотливыми только те объяснения, которые касаются преступных замыслов или любовных интриг; степень щекотливости зависит от степени нравственного развития: человек с тонким развитием чувства имеет множество так называемых задушевных убеждений, планов, идей.. ., о которых он не станет, без нужды, разговаривать в кругу людей, от которых он не может ожидать большого сочувствия к себе и к своим взглядам. И мне и Волховскому столько раз приходилось слышать название „непрошенных благодетелей народа" и другие столь же остроумные и не менее ядовитые прозвища, что я полагаю, что у меня и у Волховского давно уже исчезло мальчишеское расположение к безусловной откровенности решительно со всеми.—А потому я нисколько не удивился бы, если бы Волховской постарался отклониться от необходимости углубиться в подробное изъяснение своих сокровеннейших чувств и мыслей, насколько такое отклонение было бы допущено взятыми у него документами. Но коль скоро, раз Волховской, вследствие искренности своего характера (или, может быть-вследствие найденных у него бумаг), решился говорить одну истину, то и я не вижу более причины настаивать долее на своих показаниях, которые только и годились на то, чтобы, опираясь на них, выжидать-очной ставки с Волховским. — Хотя такое объяснение моего предыдущего поведения покажется, быть может, Комиссии не вполне удовлетворительным с точки зрения положительного закона, но я не думаю, чтобы хотя один из ее членов усумнился на этот раз в его истинности.
II. Под „Программою" („Вопрос молодого поколения") мы разумели программу будущих действий вышеописанного общества или его устав. Эту программу намерен был составить я. В ней я должен был изложить мотивы, вызвавшие составление Общества, цели, которые оно намеревалось преследовать, и те средства, при помощи которых оно полагало возможным осуществить эти цели; одним словом, все то, о чем я уже говорил выше; только все это долженствовало быть изложенным более литературным образом, бойко и горячо. Программа эта должна была служить для ознакомления будущих членов Общества с их обязанностями, для избежания скучного повторения, — на ело-
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
977
вах> постоянно одного и того же. Если бы Общество достаточно разрослось, ее предполагалось отлитографировать, а если бы Общество получило, — со временем, — официальное утверждение, то ее можно было бы тогд напечатать и распространить более широким образом. Называли мы эту программу, в нашей переписке, для краткости и для отличия от этностатистических программ, „Вопросом молодого поколения", потому что мы полагали, что наши планы могут встретить деятельное сочувствие исключительно в кругу молодежи, которая всегда более расположена к экзальтации, к самопожертвованию, к служению отвлеченной идее в прямой ущерб своим личным интересам, чем зрелый возраст. В предыдущих своих указаниях я отступил несколько от истины при объяснении смысла этой программы. Я сделал это потому, что, уклоняясь до поры до времени от правильного истолкования „Рублевого Общества", я, по весьма понятным причинам, не находил нужным упоминать и об его уставе. Связывал же я эту программу с этностатистическими программами оттого, что они действительно имеют между собой очень много общего. По напечатании этих последних программ, их предполагалось раздать сельским учителям и другим лицам, находящимся в подобном же положении (например, сельскому духовенству), для того, чтобы они, в досужное время, собирали означенные там сведения, из которых впоследствии мог бы составиться весьма ценный материал для всестороннего познания России. Запрещение, наложенное на эти программы главным управлением по делам печати, совершенно затормозило эту часть нашего плана. Программа („Вопрос молодого поколения".) мною еще не была составлена, что видно из моего письма; не сделал же я этого за недосугом.
ПТ. Что касается до личного состава общества и до его денежных средств, то ни то, ни другое, до нашего ареста, не получило еще никакого развития, по крайней мере, в Петербурге. С лицами, годными для вербовки в сельские учителя, я еще не разговаривал об этом предмете за недосугом, как это видно и из моих писем к Волховскому. Что же относится до денег, то их тоже еще совсем не было, хотя я и писал ему, что собрал уже несколько для того, чтобы ободрить его для трудов на этом поприще. Были ли привлечены в это Общество какие-нибудь лица и были ли собраны какие-нибудь деньги в Москве, я не знаю: Волховской мне не писал еще об этом. Названные мне в комиссии Фамилии Клименки, Шугурова и Лавриновича1 мне хотя известны, но с этими лицами я не знаком лично; как о членах же нашего Общества, — слышу о них впервые.
1 Доктор Иван Степ. Клименко, Николай Вас. Шугуров, Иван Ив. Лавринович, ра*вно как Семен Григ. Гирчич, Павел Вас. Прокопенко, Михаил Иван. Максимович, Петр АФан. Быков, Кондратий Яковл. Белый—были лица, привлеченные Волховским к участию в «Рублевом Обществе» и внесшие деньги.
67*
978
П. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
IV. В заключение, считаю необходимым особенно настаивать на том обстоятельстве, что, хотя я и употребляю повсюду для удобства слово „общество", по это есть чисто произвольное злоупотребление словом; было бы гораздо правильнее говорить, вместо этого, — „наши Фантазии", так как никакого „общества", как такового, не существовало, и даже в будущем осуществление его было более чем сомнительно».
После этого дело быстро пошло к развязке. 17 августа 1868 г. Следственная комиссия постановила: Ф. Волховского, приняв во внимание его молодость и откровенные показания, освободить от ареста и дальнейшего преследования, подчинив негласному полицейскому надзору; Г. Лопатина за его упорное запирательство выслать из Петербурга в Тифлис (а Фактически в Ставрополь, так как в Ставрополь был переведен тогда его отец) под надзор отца и строгое наблюдение властей, разрешив ему поступить на государственную службу.
IX
К следствию, помимо Г. Лопатина и Ф. Волховского, привлечено было еще несколько лиц, о которых уже упоминалось в вышеприведенных документах.
Михайлов Владимир Васильевич, губернский секретарь, содержатель частного пансиона для детей (на Мойке, у Певческого моста, в доме Собачева). «Из отобранных у Михайлова бумаг оказалось, что он либерального направления и находится в хороших отношениях с семейством известного полковника Лаврова и Ткачевым (ныне эмигрантом)» (см. дело III отделения, 3 эксп., 1868, № 172, часть 3, л. 9). III отделение убедилось, на основании взятых при обыске Михайлова работ его воспитанников, в том, что «в пансионе Михайлова нравственное направление имело особый характер в смысле материализма, эгоизма и менее всего соответствующий той цели, которой правительство стремится достигнуть в воспитании» (см. дело III отделения, 3 эксп., 1868, № 172, часть 1, л. 71). В числе воспитанников Михайлова был сын П. Л. Лаврова, и у Михайлова обнаружены были записки сосланного в Вологодскую губернию П. Лаврова. Кроме того, Михайлову инкриминировалась переписка с «известным коммунистом кол. регистратором Василием Слепцовым, брат которого Александр был учителем в пансионе» Михайлова Василий Алексеевич Слепцов— известный шестидесятник, автор социально-политического романа
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
979
«Трудное время», примыкал к лагерю революционных демократов ц в своем романе выступил продолжателем Чернышевского. «Коммунистом» называет его Ш-e отделение, имея, очевидно, в виду организованную им Знаменскую коммуну (см. об этом в статье К. И. Чуковского «История Слепцовской Коммуны», напечатанной во 2 томе «Сочинений В. А. Слепцова», изд. «Academia», 1932, стр. 552—580).
Петр Лаврович Лавров (1823—1900) и Петр Никитич Ткачев (1844—1885) известны в летописях революционного движения как представители народнического движения и идеологи двух течений социально-политической мысли — лавризма, т. е. учения о мирной пропаганде, как средстве социального переустройства, и ткачевизма — русского бланкизма, как теории революционного восстания и захвата власти меньшинством, действующим в интересах народа.
Михайлов отделался после ареста и заключения строгим секретным надзором, установленным за ним на основании высочайше утвержденного в августе 1868 г. заключения Следственной комиссии. О дальнейшей Деятельности Михайлова известно, что в 1875 г. он состоял учителем Елизаветградского реального училища и от революционного движения отошел.
Княжна Наталья Владимировна Долгорукова и княжна Екатерина Александровна Макулова, по мнению III отделения, как оно писало в первой стадии следствия, «компрометируются уже тем, что уславливаются с служащим в Московском Цензурном Комитете титулярным советником Мердером, как писать, чтобы письма их не смотрели на почте и чтобы избежать надзора III отделения» (см. дело III отделения, 3 эксп., 1869, № 115, л. 37). III отделение знало о той и другой, что они обе нигилистки, ЧТО Ек. Макулова была членом Знаменской коммуны Слепцова, что Пат. Долгорукова содержала типографию и дружила с женой революционера Юрия Мосолова, но прямыми данными, изобличающими участие их в «Рублевом Обществе», не располагало. Тем не менее свое пожелание об обыске у обеих оно привело в исполнение; обыск не дал ничего. Даже остроумная догадка Ш отделения о том, что они договаривались с Мердером, как избежать надзора III отделения за перепиской политического характера, в результате обыска была разрушена. Само III отделение вынуждено было сообщить в Следственную комиссию, что в записке Долгоруковой к Мердеру говорилось не о политике, а о сохранении в тайне интимных любовных писем. Долгорукова писала Мердеру: «Так как в III отделении кажется убеждены, что наша связь с тобой не любовная,
980
II. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
а политическая, то если будешь писать, то адресуй в мою квартиру на имя хоть Степановой».
Долгорукова имела одновременно какие-то дружеские отношения с III отделением. Так, в одном пз дел сохранилось письмо Н. Долгоруковой на имя ген.-ад. и начальника штаба корпуса жандармов Н. В. Мезенцева о выдаче ей денежного вспомоществования, и прошение о том же на имя шеФа жандармов Петра Андреевича Шувалова. Вот текст первого письма: «Ваше превосходительство Николай Владимирович. Основываясь на вашем обещании о выдаче вспоможения в несколько десятков рублей, прошу вас ускорить эту выдачу, так как далеко не Фиктивная пужда вынуждает меня прибегнуть к этой неприятной для меня необходимости, а самая настоятельная насущная потребность». После подписи она указала свой адрес: «Вас. Остров, 15 линия, дом кн. Вяземского». На этом письме имеется резолюция карандашом: «Оставить без последствий».
К Шувалову Долгорукова обратилась с официальным прошением: «Находясь по распоряжениям III отделения под надзором дворников, которым отдан приказ, что в случае, если мое отсутствие продолжится более 2-х часов, то давать знать о том в участок, и обязанная подпиской о невыезде из С.-Петербурга, кроме того доведенная всеми этими мерами и полнейшей неизвестностью тяготеющего надо мной обвинения до болезни и окончательной невозможности найти занятие, дающее возможность существовать, прошу ваше сиятельство выдать мне в вспоможение 40 или 50 рублей».
26 апреля 1868 г. Долгоруковой выданы были все бумаги, взятые у нее при обыске, и этим закончилось для нее все это дело.
О Екатерине Александровне Макуловой известно, что она жила в коммуне у Слепцова, зарабатывая себе средства чтением корректур и т. п. В коммуне она примыкала к лагерю «пролетариев». Имела ребенка и содержала его на свой счет. Ей посвятил В. А. Слепцов свой художественный интересный очерк «Питомка», затрагивавший актуальный вопрос о праве матери иметь «незаконнорожденных» детей. Его очерк трогал до слез Л. Толстого, читавшего не раз его своим друзьям; об этом очерке высокого мнения держится М. Горький. В одном из писем Ф. Волховскому Г. Лопатин сообщал, что княжна Макулова изображена Н. Лесковым в его романе «Некуда» под именем Бертольди.
Мердер, Константин Николаевич, помощник цензора по иностранной цензуре в Москве, также поплатился обыском, который был произведен у него 12 Февраля. По сообщению московского обер-полицеймейстера
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
981
Арапова, у Мердера забраны были бумаги, письма, книги и др. вещи. Сам же Мердер 18 Февраля выехал в Петербург, чтобы ускорить отъезд за границу своей жене. В Петербурге за ним 8 марта по предписанию Мезенцева учрежден был негласный надзор. Следственная комиссия под председательством Ланского приостановила отъезд за границу и въезд в Петербург жене Мердера, а 9 марта Ланской учредил полицейский надзор за. самим Мердером и взял с него подписку о невыезде. Но он «самовольно» вернулся в Москву. 20 марта московский полицеймейстер Арапов обязал Мердера подпиской выехать в Петербург и явиться в Следственную комиссию. 22 марта Мердер в Следственной комиссии был допрошен п 1 апреля с разрешения комиссии выехал в Москву. В деле III отделения (3 эксп., 1868—1869 г., № 172, часть 1, л. 110—111) имеется краткая биография Мердера, послужной список и родословные данные (он сын московского сенатора Павла Карловича Мердера); здесь же отмечено, что Мердер «чрезвычайно странный человек и можно полагать, что 'Он не совершенно в нормальном состоянии... женат на дочери тайного советника Свечина, но с женой не живет и находится в связи с известной нигилисткой кн. Н. Долгоруковой. Несколько лет назад Мердер слыл за хорошего магнетизера». По всем данным Мердер был случайной Фигурой в этом деле и привлечен к нему за связь с Долгоруковой, которая внушала 'Своей деятельностью беспокойство III отделению, но и она не была актив-яой участницей в «Рублевом Обществе». К тому же III отделению было известно, что Ф. Волховской предпринимал меры к приобретению типографского заведения у Долгоруковой и, очевидно, с целью использовать это заведение для печатания популярных изданий, что входило в задачи «Рублевого Общества».
В московском кружке могла быть Мария Осиповна Антонова, ставшая в 70-х годах женой Ф. Волховского. Б. П. Козьмин утверждает, что М. О. Антонова «в 1868—1869 гг. принадлежала к революционному кружку, группировавшемуся в Москве вокруг Ф. В. Волховского».1
Нельзя ли на основании того, что в 1868 г. М. О. Антонова была 'близким человеком Ф. Волховскому, допустить, что и в 1867 г. она входила в кружок Волховского и была введена в круг интересов «Рублевого Общества»?. М. О. Антонова была знакома с Волховским в 1867 г. Она была Знакома тогда и с Софьсй Николаевной Ткачевой (по мужу Крыль); послед-
1 См. подробнее в его книге «Революционное движение в эпоху „белого террора"». Изд. Политкаторжан, Москва, 1929, стр. 176.
982
II. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
няя устроила ей знакомство весной 1868 г. с братом своим Петром Никитичем Ткачевым, когда М. О. Антонова приехала в Петербург. Может быть, и поездка М. О. Антоновой в Петербург весной 1868 г. была вызвана арестом и переводом в Петербург Ф. Волховского. Известно, что до 13 июля 1868 г. Ф. Волховской вместе с Г. Лопатиным содержался при III отделении и только после 13 июля они были заключены в отдельные казематы Екатерининской куртины. У М. О. Антоновой могла быть надежда на свидание с Волховским, когда он содержался при III отделении,—и она поехала ради этого в Петербург. Правда, это только лишь предположение, но вполне возможное.
Жена Петра Гавриловича Успенского А. Успенская подтверждает наше предположение и рассказывает о бытовых условиях жизни этих людей в те годы. В номерах Романова, на углу Тверской и Садовой, по словам А. Успенской, жили совместно она, Петр Г. Успенский, его сестра Надежда Г. Успенская, с которой занималась жившая в тех же номерах М.О.Антонова. «Почти каждый вечер,—рассказывает А.Успенская в своих воспоминаниях,1 — у нас собирались знакомые мужа, чаще всех бывали: Ф. Волохонский и Всеволод Лопатин», брат Германа Ал. Лопатина.
М. О. Антонова была близка с Надеждой Гавриловной Успенской, сестрой известного нечаевца П. Г. Успенского. Н. Г. Успенская привлекалась позднее по нечаевскому делу; сейчас же она осталась вне внимания III отделения. Об отношении к «Рублевому Обществу» самого Петра Гавриловича Успенского ничего не известно, хотя Успенский вместе с Ф. Волховским работали в книжном магазине Черкесова (см. об этом показание крестьянина Василия Николаева, служившего в том же магазине, данное им 23 ноября 1869 г.—дело III отделения, 3 эксп., 1869, № 115, часть II, л. 112, 113).
А. А. Шилов называет еще следующих лиц, привлеченных Волховским к участию в «Рублевом Обществе» и внесших деньги: доктора Ивана Степ. Клименко, Николая Вас. Шугурова, Ивана Ив. Лавриновича, Семена Григ. Гирчича, Павла Вас. Прокопенко, Михаила Ив. Максимовича, Петра Аф. Быкова, Кондратия Як. Белого (см. сб. „Г. Лопатин1'", 1922, стр. 42). В своем показании Г. Лопатин первых трех из перечисленных здесь лиц называет известными, но лично не знакомыми (см. там же, стр. 42).
1 См. «Былое», 1922, № 18, стр. 27.
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
983
X
Из «петербуржцев» по делу «Рублевого Общества» оказался привлеченным, как видно из дела III отделении (3 эксп., 1868, X?. 172, часть 3) Николай Николаевич Любавин. Этот «потомственный почетный гражданин», как называет его III отделение, был посредником между Н. Ф. Даниэльсоном и К. Марксом по вопросу о переводе на русский язык «Капитала»,1 и близким другом Г. Лопатина. Посредничество Н. Н. Любавина подала мысль редактору переписки К. Маркса и Николая-Она (т. е. Даниэльсона), «думать, что мы имеем дело с петербургским кружком, в котором принимали участие лица, связанные с так называемым „Рублевым Обществом организованным в конце 1867 года в Москве по инициативе Волховского и Лопатина. Среди членов петербургского кружка мы находим М. Негре-скУла, который был женат на дочери П. Лаврова, Н. Любавина, Н. Ф. Даниэльсона, И. Билибина... Почти все они были членами и служащими Общества взаимного кредита, открывшего свои действия в 1864 году».2
За исключением Н. Любавина и самого Г. Лопатина все эти лица в Делах III отделения и, тем самым, Следственной комиссии вовсе не упоминаются. Вся эта группа в большинстве своем не попала в СФеру наблюдения и следствия. Данных, говорящих об участии всей группы в «Рублевом Обществе», нет; но возможно, что эта группа могла сочувствовать задачам «Рублевого Общества». По своим идейным взглядам вся эта группа представляла единство и отличалась от бакунистов-нечаевцев. Эта группа стояла за культурную пропаганду и, естественно, просветительские задачи «Рублевого Общества» находили у нее сочувствие и поддержку. Вскоре Ф. Волховской, Г. Лопатин, М. Негрескул и др. выступили решительными противниками Нечаева и его программы.3
Подвергался обыску еще один из братьев Калениченко, Николай, бывший студент Петербургского университета. По сообщению III отделения после обыска у Калениченко оказались «бумаги пустые».4 В виду этого Калениченко был освобожден без последствий.
Таким рисуется состав «Рублевого Общества», которое условно можно поделить на две группы — московскую во главе с Ф. Волховским и ленинградскую во главе с Г. Лопатиным.
1 См. «Летопись марксизма», 1930, кн. 2 (ХП), стр. 26.
2 См. там же, стр. 26.
з Подробнее см. в статье Б. П. Козьмина «С. Г. Нечаев и его противники в 1868—1869 гг.» в сборн. «Революционное движение 1860 годов», Изд. Политкаторжан, М., 1932, стр. 168—226.
4 См. дело П1 отделения, 8 эксп., 1869, № 116, л. 87.
984
П. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
Надо указать еще на то, что некоторое количество лиц, сочувствовавших «Рублевому Обществу» и его задачам, остались не привлеченными к следствию и потому сведений о них и их отношении к «Рублевому Обществу» не сохранилось. Некоторые из них сочувствовали, вносили деньги, но непосредственно в деятельности «Рублевого Общества» участия не принимали. Об одном из таковых известно, наир., из официальной переписки председателя высочайше учрежденной Следственной комиссии Ланского. Последний 7 мая 1868 г. писал управляющему III отделением, что при производстве дела о так называемом «Рублевом Обществе» и программе «Вопрос молодого поколения» Ф. Волховской показал, что «будто бы цель этого общества заключалась в сборе денег для устройства корпорации странствующих сельских учителей и что для этой надобности проживающий в Москве доктор Клименков (?) по просьбе Волховского обещал*ежегодно жертвовать по 200 р. и за один год уже выдал Волховскому эту сумму. Из отобранного же от Волховского при обыске дневника его видно, что 20 августа 1867 года Клименков обещал, если средства позволят, жертвовать для означенной цели по 400, даже по 600 рублей в год».1
На основании имеющихся данных едва ли можно говорить о «Рублевом Обществе» как о вполне организованном, строго сплоченном. Напротив, неоформленность бросается в глаза при изучении взаимоотношений членов «Рублевого Общества». Это отмечал и Г. Лопатин, в своем показании указавший, что «никакого „Общества4' как такового не существовало» (см. сборн. «Герман Лопатин», 1922, стр. 43). И эта черта была характерной для многих революционных кружков 60-х годов. «Элемент неоформленности был весьма присущ ишутинскому кружку, — пишет М. М. Клевенский, — и в частности об „Аде" можно сказать, что он, действительно, оставался только в области разговоров, еще никак не перешедших в реальность. „Организация" была близка к оформлению».2 3
В еще меньшей степени была проведена организация и оформлен состав «Рублевого Общества». В «отчете Следственной комиссии 1862— 1871 г.» сказано: «Вследствие благовременно принятых мер общество это не успело сформироваться»? Члены его не были сплочены и объединены
1 См. дело III отделения, 3 эксп., 1Я6В, № 172, часть I, л. 149.
2 См. в его статье «Европейский революционный комитет в деле Каракозова» в сборн. «Револ. движение 60-х гг.», изд. Политкаторжан, М., 1982, стр. 187.
3 Цитируем текст «Отчета» по статье В. Богучарского «Общественное движение 60-х гг. под пером казенных исследователей», «Голос Минувшего», 1916, апрель, кн. IV,
стр. 218.
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
985
в организацию, хотя и знали друг друга. Тесно связаны были немногие. На основании документов можно говорить в этом смысле только о Г. Лопатине и Ф. Волховском. Но естественно предполагать, что могла создаться теспая же связь между Г. Лопатиным и М. Негрескулом, и затем, между ними п В. Михайловым. Но прямых указаний в исторических источниках этом нет. Можно говорить, что в 1867—1868 гг., когда создавалось «Рублевое Общество», Г. Лопатин мог идейно сблизиться с М. Негрескулом, т^к как в последующие годы мы видим их союзниками в борьбе против Нечаева.
В известном письме к ген.-губ. Восточной Сибири Н. П. Синельникову от 15 Февраля 1873 г. Г. А. Лопатин заявил о своем отношении к Нечаеву: «я не принимал ни малейшего участия в так называемом нечаевском деле или лучше сказать, что участие мое в нем было только отрицательное, т. е. что мне принадлежала самая резкая критика присланных мне произведений нечаевского кружка».1
Имелись и условия для идейного сближения В. В. Михайлова с М. Негрескулом: у него находят записки П. Лаврова, сын Лаврова воспитывается у него в пансионе. М. Негрескул поэтому должен был лично знать Михайлова. О «Рублевом Обществе» в целом можно утвер-®дать следующее: 1) число участников, попавших под наблюдение III отделения, было невелико; 2) объединенной организации «Рублевое Общество» в момент его разгрома еще не представляло; 3) возможно, что «Рублевое Общество» было близко к оформлению, но все планы деятельности еще не перешли в практику.
Следует признать в основном близкими к истине слова Ф. Волховского о том, что «кружок... не представлял собою чего-либо Формального: У него не было ни устава, ни определенного числа членов; это просто было несколько лиц, связанных общим образованием, общим стремлением к добру и сознанием своего нравственного долга перед русским народом». Однако те, кто играл ведущую роль в этом деле (Ф. Волховской, Г. Лопатин), объединяя людей, должны были обращаться и обращались к ним с определенными планами работы.
У инициаторов «Рублевого Общества» были продуманы задачи общества; они их знали; больше того, в своих письмах и показаниях они высказали в основном свои идейные убеждения и политические взгляды.
1 См. в сборн. «Г. Лопатин». П., 1922, стр. 70.
986
Я. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
XI
Что же могло так настроить правительство в отношении «Рублевого Общества»? Стремление распространять дешевые книги среди народа, без сомнения, казалось запретным, враждебным и антиправительственным действием. Просвещение народа никак не входило в план царского правительства. Просвещать народ значило давать в руки народа оружие против действий правительства. Таким образом демократизм кружка, даже и в столь осторожной Форме, как его понимали члены «Рублевого Общества», подлежал уже осуждению со стороны царских сатрапов.
Но в замысле вести просвещение среди масс, если посмотреть глубже, скрыты были и еще более опасные тенденции. Разумеем — малороссийский уклон просветительской программы «Рублевого Общества». УкраиноФиль-ство ярче всего сказалось в трех программах «для собирания сведений о южнорусском народе», написанных Ф. Волховским. К сожалению этот литературный документ научного творчества Ф. Волховского не сохранился. Но о нем мы располагаем двумя отзывами цензурных учреждений (Московского цензурного комитета и Главного управления по делам печати), по которым можно составить достаточно полное представление о характере и содержании программ Ф. Волховского.1 По ознакомлении с представленными автором программами Московский цензурный комитет послал 17 ноября 1867 г. (за № 481) в Главное управление по делам печати следующее отношение:
«Дворянин Феликс Волховской доставил в Московский цензурный комитет для дозволения к печати три программы для собрания по ним сведений о южнорусском народе. Первая программа указывает, какие сведения должны быть собираемы по обычному праву южнорусского народа,—напр., о союзе семейственном, наследстве, договорах и проч. Вторая объясняет, как следует группировать этнографические сведения, напр. о жилищах, одеждах, домашней утвари, обычаях, народной словесности, поверьях и проч. Наконец, третья программа говорит о сборе по селам статистических сведений, касающихся числа ревизских душ, числа скота, земли у крестьян, количества посевов, степени урожаев и проч.
Означенные программы не сопровождены предисловием, которое бы разъяснило, с какою целью и для кого они составлены, и потому Цензурный комитет приглашал г. Волховского для личного
1 Мы обязаны получением этих материалов Ю. Г. Оксману, за что выражаем ему свою признательность. Н. Б.
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
987
объяснения по означенным предметам. Г. Волховский объяснил, что программы эти он намерен напечатать отдельными брошюрами и пустить в продажу для желающих собирать по ним сведения о южно-русском народе.
Принимая во внимание: 1) что означенные программы, пущенные в продажу в настоящем их виде, не могут иметь никакого значения и без сомнения пе будут никем покупаемы, 2) что автор по всей вероятности имеет в их печатании другую какую-либо цель, которую однако отказался объяснить комитету, 3) что программы эти, как можно предполагать, составлены каким-либо обществом, отправляющим своих членов в Южную Россию для собрания на месте подробных сведений о южнорусском народе и 4) что ни предполагаемое комитетом общество, ни цели его комитету неизвестны,—Московский цензурный комитет затруднился дозволить означенные программы к печати и, представляя при сем самую рукопись, имеет честь испрашивать разрешения на ее напечатание отдельною брошюрою».1
Главное управление по делам печати поручило рассмотреть программы цензору А. Г. Петрову, который 9 декабря 1867 г. дал следующий отзыв:’
«Рассмотрев препровожденное ко мне по распоряжению г. начальника Главного управления по делам печати от 22 ноября 1869 г. за № 3286 представление Московского цензурного комитета от 17 ноября за № 481 и препровожденных при оном программах дворянина Феликса Волховского, имею честь представить по оным следующее заключение:
Первая программа состоит из вопросов, относящихся к обычному праву нашего южнорусского народа. Известно, что сельское население не только в западной, но и в центральной России, независимо от писаных законов, изданных законодательной властью и приводимых в исполнение судебными учреждениями, доселе руководствуются в своих юридических отношениях, принадлежащих собственно к области гражданского нрава, своим обычным правом. Известно также, что и в Западной Европе рядом с писаным правом существует jus consuetudinarium, Gewonheitsrecht, издавна составляющее предмет тщательного изучения.
1 Подлинник находится в «деле по представлению Московского цензурного комитета о разрешении предположенных к изданию дворянином Волховским трех программ по обычному праву, статистических и этнографических, для собирания по ним сведение о южнорусском народе». Начато 22 ноября 1867 г. Решено 8 яиц. 1868 г., канц. Главы, упр. по делам печати, 1867, № 291, л. 1—2.
2 В подлинном многие места текста зачеркнуты карандашом; повидимому, эти изменения сделаны в целях переделки отзыва в официальное отношение для министерства внутренних дел.
988
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
Составляя наследие отдаленнейшей эпохи, вероятно, современной образованию первого общественного союза, юридические установления этого права имеют значительный теоретический интерес и практическое значение. Для этнографа и археолога чрезвычайно интересно собрать эти уцелевшие Формы первоначального общественного быта, чтобы на основании их определить письменное сродство населения. Для законодателя весьма важно иметь в виду готовые юридические понятия, с которыми народ издавна сошелся и которые перешли в его убеждения. Такой же интерес для ученого этнографа представляет вторая программа, которая исчисляет предметы описательной этнографии (жилища, домашнюю утварь, одежду, пишу, промыслы, народную медицину, народные обычаи, словесность, поверья, исторические воспоминания). Обе эти программы составлены довольно подробно и обнаруживают в составителе основательное знание о ще ственного и семейного быта сельского народонаселения в наше приднепровском крае. п
Третья программа имеет совсем иной характер. на ’мые статистическая, заключающая в себе указания на данные, нео хо для определения нынешнего хозяйственного положения одних кРес^се_ и казаков (в малороссийских губерниях). Относясь к одной части ления, сведения, собранные по этой программе, очевидно, не и послужить к составлению сколько-нибудь полного и свежего ° экономического положения западных губерний. В ней нет све о других сословиях, о городах, о сухопутных и водяных соо ще > о повинностях. .
Вопросы, предложенные в первых двух программах, естестве могли ограничиться одним сельским населением: потому что в его ср > не затронутой общим прогрессивным влиянием цивилизации, преимущественно уцелеть черты первообразного народного т > третья же программа, вследствие своей односторонности, не удовлетво ряет никакой научной цели; она имеет только то общее с первым двумя программами, что ответы на предложенные в ней вопросы должны быть добыты чрез непосредственное сношение с сельски народонаселением.
Если бы автор присоединил к двум первым программам изложи ние научного значения тех сведений, которые в них исчислены, и при дав таким образом своему труду обыкновенную литературную Форму, захотел поместить его в одном из нащих журналов против этого нельзя бы сделать с цензурной стороны никакого возражения. Но высказанное автором Московскому цензурному комитету намерение напечатать свои программы на отдельных листах и пустить в продажу для желающих собирать сведения о простом народе южной России придает всему предприятию совсем иное, не литературное значение. Издание программ не имеет конечной целью заявить в литературе мысль
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
989
«втора о том, какие стороны народного быта представляют интерес для науки, напротив, программы предназначают служить средством для другого дела и цензурное ведомство обязано рассматривать их не иначе, как в связи с этим делом. Лица, снабженные этими программами, должны будут войти в среду сельского населения и собрать там сведения. Кто будут эти лица? для какой конечной цели будут они собирать эти сведения? не будет ли собирание означенных в программах сведений прикрытием другой, скрытой цели?
Московский цензурный комитет остановился на предположении (конечно гадательном), что программы составлены каким-либо обществом, отправляющим своих членов в южную Россию для собрания па месте сведений о южнорусском народе.
Неизвестность и двусмысленность намерений издателя программ дает обширное поле предположениям. Приняв во внимание польское имя автора, припомнивши, что незнакомство с народным бытом, грубое презрение, оказываемое бывшим польским правительством к его социальным условиям и историческим преданиям, признаны лучшими политическими людьми Польши, еще с 1791 года, роковыми ошибками, повлекшими за собой падение Польши, можно легко допустить, что сведения, исчисленные в программах, должны послужить для составления какого-нибудь социального проекта, примененного к обычаям и действительному положению южных русских поселян.
Во воя ком случае я полагаю, что нет никакого основания снабжать Фирмою цензурного дозволения листы программ, которые в руках неизвестных собирателей сведений могут служить им проводниками в среду населения, и имею честь представить на благоусмотрение Совета Главного управления мое заключение, что программы дворянина Феликса Волховского, по неопределенности цели их издания, не следует допустить к печати, совпавшее с мнением Московского цензурного комитета».1
8 января 1868 г. Московский цензурный комитет был поставлен в известность о согласии с его мнением Совета Главного управления по делам печати, который «полагал: по неопределенности той цели, для которой составлены означенные программы, не дозволять оные к напечатанию»,2 каковое решение было утверждено министром внутренних дел и предложено к исполнению Московскому цензурному комитету.
И то и другое цензурное учреждение в своих мнениях о программах сошлись, и при этом одинаково усмотрели скрытую цель («программы составлены каким-либо обществом, отправляющих своих членов в южную Россию»). Недавние события политической жизни, и, в первую очередь, вос-
1 Подлинник в том же деде, занимает л. 8—9.
а Там же, л. 10.
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
«90
стапие в Польше 1863 года, — подсказали цензору Петрову мысль о том, что сведения, собранные по этим программам, могли послужить материалом для какого-либо социального проекта о жизни южной окраины царской империи. Не менее опасным казался и самый способ собирания сведений, — это прямой путь для пропаганды и агитации среди крестьянства.
Однако, не «хождение в народ», ставшее массовым явлением с 1872 г. и привлекшее тогда бдительное внимание власти к себе, а украинофильство и демократизм, интерес к «одним крестьянам и казакам в малороссийских губерниях», интерес «односторонний» к одному сословию, как писал бдительный цензор, показались наиболее враждебными и запретными с точки зрения цензора. Напомним, что цензуре было хорошо известно высочайше одобренное 20 января 1863 г. распоряжение министра внутренних дел о приостановке печатания книг религиозных, популярно-научных и учебных на малороссийском языке. Головину, либеральному тогдашнему министру народного просвещения, протестовавшему против этого запрещения, П. А. Валуев, министр внутренних дел, в июле 1863 г. писал, что «замыслы малороссов не только совпадают с намерениями поляков, но и чуть ли не вызваны польской интригой». В июле же 1863 г. последовало запрещение преподавания на малороссийском языке в народных школах. Офипцозно-полицейскую точку зрения и высказал цензор Петров в своем отзыве по вопросу об украиноФильстве в программах Ф. Волховского. Естественно, что под воздействием таких репрессий украиноФильское движение уходит в подполье, прячется. Скрытно выражает его и Ф. Волховской.
XI
Не будем здесь ни вскрывать корней украиноФильства, столь тревожившего покой III отделения, ни прослеживать литературные выражения его, внушавшие тревогу цензурным аргусам, что также имело долголетнюю и поучительную историю, — отметим только ближайшие проявления этой в те годы несомненно прогрессивной теории буржуазно-общественной мысли. От представителей художественной литературы и публицистики 30— 40-х годов (Котляревского, Квитки, Гоголя) через Кулиша, Шевченко и Н. Костомарова, организовавших политическое Кирилло-меФодиевское общество, тянутся нити к организации в 60-х годах журнала «Основа» (выходившего в свет с января 1861 г. по сентябрь 1862 г.). Но если Кирилло-мефодиевское общество в своей программе ставило завоевание политических
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
991
и -экономических свобод, если оно стремилось к освобождению славянских народностей от чуждых ему правительств и организации их в самостоятельные политические общества, если оно отстаивало свободу мысли, слова ит. п., то задачи «Основы» ограниченнее. Под влиянием реакции и строгих репрессий «Основа» отказалась от общих Федералистических задач и ограничилась лишь защитой культурно-просветительной работы на малороссийской почве. Эти задачи сближения с народом и изучения его через пять лет после закрытия «Основы» взяло на себя «Рублевое Общество».
Ill отделению была известна персональная связь Ф. Волховского с вождями тогдашнего украиноФильства. Так, начальник Московского жандармского управления Ю. Слезкин писал Следственной комиссии 13 мая 1868 г., что Ф. Волховской вел переписку с учителем г. Варшавы Пантелеймоном Александровичем Кулиш, с профессором истории Николаем Ив. Костомаровым, с чиновником в Петербурге Стороженко и «благонадежность его сомнительна» (л. 154 об.).
Поскольку реальная возможность осуществления и такой узкой задачи грубо парализовалась и пресекалась в корне центральным правительством, перед инициаторами «Рублевого Общества» выросла необходимость придать легальный характер своей работе, доказать право законности такой Формы культурного украиноФильства. «Оба мы согласно утверждали, что цели наши были вообще законны»,—говорит Ф. Волховской в своих воспоминаниях.1
Но и в этом пункте ни он, ни Г. Лопатин не были новаторами, они продолжали отстаивать традицию, — выдвинутую раньше (в 1862 г.) и развитую в публицистике украинофилом профессором историком Н. И. Костомаровым теорию «благонадежности культурного украиноФильства».2 Однако есть разница между «Рублевым Обществом» и требованиями прогрессивной общественности того времени. Последняя подхватила, как основной лозунг, издание евангелия на южнорусском языке и вообще религиозных книг (об этом писал и Н. И. Костомаров.)3 Напротив, «Рублевое Общество» отнюдь не ставило своей задачей религиозное просвещение народа, а стремилось изучать культуру, быт и язык угнетаемой царским самодержавием народности и, по словам Г. Лопатина, в целях революционной, антиправительственной пропаганды.4
1 См. «Друзья среди врагов» (из воспоминаний старого революционера), СПб., 1906, стр. б.
2 См. Н. И. Костомаров, Украинский сепаратизм. Введение, редакция н примечание лроФ. Ю. Г. Оксмана, Одесса, 1921, стр. 8—9.
3 Там же, стр. 16.
* См. сборн. «Г. Лопатин», 1922, стр. 9.
ион, м ю 68
992
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
Понятно, что обнаруженные у Ф. Волховского портреты Шевченко и других малороссов прикопали внимание Ш отделения, которое в своем сообщении 13 Февраля 1868 г. писало по этому поводу следующее: «Замечательно большое количество найденных у Волховского портретов гетмана Полуботка и малороссийского поэта Шевченко, а также взятые у него Фотографические карточки, по большей части малороссов, из коих многие в национальных костюмах, приведенные выше данные и частные сведения дают повод предполагать, что общество [внизу прибавлено «малороссийской пропаганды»], к уничтожению которого принимались меры еще в 1862 г., начало возникать вновь и если еще не выдалось так, как тогда, то только потому, что прервано, быть может, в самом начале» (л. 62).
Сближение «Рублевого Общества» с обществом «Малороссийской пропаганды» не было случайным; напротив, и другие данные, имеющиеся в нашем распоряжении, подтверждают ту мысль, что III отделение определенно искало связи «Рублевого Общества» с обществом «Малороссийской пропаганды», образованным в 1863 г. уроженцами малорусских губерний при Московском университете. «В нем было 60 членов. Собирались по воскресеньям, вели протоколы заседаний. Была библиотека и касса-Кассиром был Иван Силич, секретарем—Ф. Волховской, библиотекарем-— Ник. Шугуров. Для усиления средств община устраивала вечера и концерты. Один из них в 1865 г. был дан с высочайшего соизволения. В течение трех лет (до 1866 г.), когда она закрыта, община раздала более 2500 рублей пособия неимущим членам»,—так сообщает неизданная «Записка об истории революционного движения 60-годов» (гл. 9 о деятельности московской Следственной комиссии).1
Ф. Волховской был секретарем «Малороссийской общины» или «Общества 1862 года», как называет его Ш отделение; поэтому естественно было для III отделения искать связей через Ф. Волховского у «Рублевого Общества» с «Малороссийской общиной». На запрос министра юстиция дать сведения о лицах, бывших прежде под судом, III отделение о Ф. Волховском так и сообщило, что он был под следствием в 1866 г. в высочайше учрежденной в Москве комиссии по делу о студенческой малороссийской кассе ив 1868 г. в комиссии ген.-ад. Ланского о «Рублевом1 Обществе».*
Предисторией «Рублевого Общества» является «Малороссийская община», которая, как мы видели, ставила еще более скромные цели.
1 За сообщение этой выписки приносим признательность А. А» Шилову*
2 См. в деле Ш отделения, 8 эксп., 1869, №115, ч. П, л. 210.
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
999
В донесении московского ген.-губернатора 23 декабря 1866 г. шефу жандармов о малороссийской общине указано:
«Состав общины был из жертвователей студентов и вольных слушателей южных русских губерний; из них один был кассиром—Силич, один секретарем — Волховской и один библиотекарем — Шугуров. Всех членов по именному списку значится 63, но число их, по показанию студента Волховского, от прибыли и убыли было различно* и в последнее время насчитывалось их до 52 человек.
Собрания членов были на квартирах у четверых студентов, еженедельно по воскресеньям в 12 часов дня. Рассуждения (на совещаниях) были об увеличений кассы общины, о правилах ссуды и об определении, кому преимущественно из бедняков нужно дать пособие.. О последствиях заседаний составлялись протоколы, которые в первое-время существования общины, после прочтения их на сходке, оставались у распорядителей, а потом, когда оказалась надобность в сохранении некоторых из них, поручено было это студенту Волховскому, которым таковые и представлены в председательствуемую мною-комиссию. Устав общины проектирован был им же, Волховским, из; правил поставленных в разное время протоколами членов, и одобрен на собрании общины, но на утверждение никуда не представлялся, каковой устав находится при деле».1
Все участники «Малороссийской общины» московским ген.-губерна-тором в том же донесении признаны политически неблагонадежными; это Мих. Рогович, Вал. Родзянко, Ф. Волховской, Ник. Шугуров, Иван Си-и др.
Возможность преемственности и связи деятелей «Рублевого Общества» с «Малороссийской общиной» имела значение не только в глазах III отделения но и была внушена III отделением Следственной комиссии Ланского, ведавшей дело «Рублевого Общества». Последняя специально уведомляла-HI отделение, что она не оставила без своего внимания и дело о «Мало-российской общине».
«В совокупности с делом о „Рублевом Обществе “ Комиссия рассмотрела,___писал Ланской управляющему III отделением, — пре-
провожденное вашим превосходительством, при отношении от 3 января 1867 г. за № 1236, дело Московской Следственной комиссии о существовании в Москве с 1863 по 1866 г. „Малороссийской общины**, составленной студентами тамошнего университета, уроженцами южных губерний, с целью вспомоществования бедным товара-
1 См. дело Ш отделения, 1 эксп., 1866, № 10Q, часть 147. «О покушении на жизнь государя».
68*
994
П. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
щам. Община имела свой устав и свою библиотеку; члены ее, до 63 человек, состояли из студентов и слушателей университета малороссов, они собирались по воскресеньям у кого-либо из членов и вели протоколы заседаниям. Для усиления средств своей кассы они испросили в 1865 г. высочайшее соизволение на устройство концерта для общипы, и собрали довольно значительную сумму. Кассиром общины был студент Иван Силич, секретарем — вышеупомянутый Феликс Волховской и библиотекарем —студент Николай Шуаров, впоследствии купивший библиотеку от общины за 150 рол
О существовании им,.российское кассы или общппы было и-вестно университетскому начальству, ори чем казначей Силич предстаем в попечительный комитет лнпверситета 200 рбл. на устройство квартир для недостаточных студентов и 125 р. „я взноса на пра.о слушания ими лекции; остальные 2530 р. 26 к., разновременно собранные от жертвователей в коивдрте, р„здань,’ са110й неимущим студентам. ’ F А v
При производстве следствия Московская «миссия задержала ясе бумаги относящиеся до общпны, б„6 „ °""СС * ' зг»
займа, отооранные от студентов- Валепп<>и г» У ее’ Оилет внутр а Михаила Роговича (21 r.)L
статью студента Ивана Роговина о X АНЬ'И револьвер’ а та зурном рассмотрении, и какую-то пткоп гилизме’ бь|вшую в ц -Лп™/ У Рукопись о костеле,2 обращенном
По рассмотрении секо дела в отобранных бумаг Петербургская комиссия не нашла в них ничего у ’ иетероур
вутой рукописи о костеле предосудительна °’ За исключениеи У110 по делу не обнаружено к™хДА ельного содержания. Тем не менее так как дворянин Эдуард* Чегот у Тотоп^^Т6®3^ ЭТа РуЮ.’ПИС*’ ’ у которого, будто бы она найдена, -отозвался, что видит ее в первый раз. JA ’
Студенты: Родзянко, Шугупов ги„и„ к ,пл
тт т) « ’ ьилич, братья Роговичи, дво-
ряне Чегот и Волховской были пол побил „ р ,1 „г.™
нодрооно допрошены в Москве, причем некоторые содержались под апестлм-
/ ’ 4 трестом, но из согласных их пока-
заяви не видно, чтобы община преследовала «ак«-., ‘й преступные целя; деятельность ее была „сто благотворительного свойства.
1 В донесении московского ген.-губеонатопй 94
„И. «Л,™. ХГб„“ Р, Т"
т (г..«. Ми.яяя Роге.т) cocr.ua, о ““ Т“°ТР'“ б“”' ”
ы=,= Рппл„„„ статью о нигилизме для помещения ее в журнале. В этих
<шсысах Иван Рогович, говоря о своей статей "
« атье, выражался так, что статья его бросится
® глаза правительству укором и что господа ига F
дц все-таки не мо1ут забыть тех затрещин, которые -им дал нигилизм» (то же дело, л. 59—60). трещин, «и г
амп АВ Аонес;ний Московского ген.-губернатора 23 декабря 1866 г. шеФУ жандармов сказано: «В числе бумаг Рогоиича найдена рукопись на полулисте под заглавием „Мысли при виде Фарного костела, обращенного в архив», исполненная негодования претив России-яо смыслу оной следует предположить, что она писана после польского мятежа, когда правительство сочло нужным-закрыть часть монастырей и упразднить непокорные костелы».
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
996
По обсуждении в совокупности обстоятельств рассмотренных дел, комиссия полагала:
5 лиц (пять), принимавших участие в благотворительной кассе или общине студентов из малороссов, существовавшей, как видно ло делу, с ведома университетского начальства и не преследовавшей никаких противозаконных целей, — освободить от всякой ответственности. Затем, согласно с мнением Московского генерал-губернатора, отобранные у них книги и оружие возвратить по принадлежности, а 5°/0 билет внутреннего займа передать в распоряжение попечительного комитета, учрежденного при Московском университете».1
Программы Ф. Волховского выражали несомненный интерес к Украине, к культуре и быту угнетаемой царским правительством народности. С этой стороны они были несомненно прогрессивным явлением; поскольку собирание сведений о современном состоянии украинского народа преследовало цели актуально-политические, постольку приходится интерес «Рублевого Общества» к У крайне сблизить с интересами к ней со стороны революционного кружка нечаевцев и самого Нечаева.
В обвинительном акте но делу о «заговоре, составленном с целью ниспровержения существующего порядка управления в России» (оглашенном 1 июля 1871 г. в заседании С.-Петербургской судебной палаты и опубликованном в «Правительственном Вестнике» в 1871 г.) при Формулировке вины «задержанного 27 XI 1869 г.» Ивана Гавр. Прыжова, отмечено, что последний признал, что в сентябре 1869 г. он, по просьбе С. Г. Нечаева «набросал на клочках бумаги несколько прокламаций к вольным женщинам, чиновникам и к Малороссии». Одна или, лучше сказать, некоторые мысли одной прокламации вошли в напечатанную затем в Женеве и присланную Нечаевым в Россию в числе многих других прокламацию иод названием «До громады».2
И. Г. Прыжов занимался, кроме того, историческим изучением украинской литературы. Последним его трудом, предпринятым в 1866 г., была «История малорусской словесности с XI века до настоящего дня».3 Но этот
1 См. «Выписка из отношения высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии от 17 августа I860 г., за № 199, к г. управляющему Ш отделением собственной его императорского величества канцелярии» в деле’П! отделения, 1 эксп, 1866, № 1UO, часть 147, л. 140—141. «О покушении на жизнь государя инпераюра».
2 Государственные преступления в России в XIX веке, сб. извлек- из офиц. изд. прав, сообщений. Сост. под ред. Б. Базилевского (В. Богучарский), т.,1, СПб., 1906, cip. 167.
3 Название, под которым напечатана эта работа И. Прыжова, такое.* «Малороссия (Южная Русь) в истории литературы с XI ио XVIII век» в журн. «Филологические записки», 1869, кн. I—Л; в брлее полной виде на украинском языке «Малороссия (Южная Русь) история ii литератури, почавши вид XI до ХУШ вшу», Prawda (Львов) №№ 36—44; подр.
H. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
труд в целом Прыжов не выполнил и напечатал «сухой конспект» первых глав, по и этот сухой конспект был почти наполовину урезан цензурой.1 Кроме того, в своем «Исследовании русской культуры сравнительно с культурой греко-римлян, кельтов и германцев» И. Г. Прыжов предполагал отвести целый (6-й) том Малороссии,2 и для этого тома был собран обильный материал.
XII.
В переписке Г. Лопатина и Ф. Волховского заметное место уделено Чернышевскому и его сочинениям. Встает естественный вопрос о том, в какой мере Г. Лопатин и Ф. Волховской были последователями Чернышевского. В показаниях Г. Лопатин явно сбивал с пути III отделение, когда утверждал, что он собирал сведения о Чернышевском и его сочинения йо просьбе Волховского; а последний будто бы «предполагал составить статейку, в которой он намерен был показать, что значение Чернышевского, как самостоятельного мыслителя, сильно преувеличено его поклонниками». Недавно опубликована «Записка» Ф. Волховского о гражданской казни Н. Г. Чернышевского. «Записка» позволяет с достоверностью установить модлинйый интерес как раз Ф. Волховского к Чернышевскому.
Ф. Волховской через два года после совершения гражданской казни над Чернышевским записал рассказ об этом событии со слов кого-то из очевидцев. Сам Волховской в те годы был студентом Московского университета (до этого он учился во 2-й Петербургской гимназии). Но в записи дневника отразилась не только явная симпатия к революционеру Чернышевскому, но и резкое осуждение действий правительства в деле суда над Чернышевским. «Волховской, несомненно, не знал о подлогах [правительства],— как справедливо замечает В. А. Сушицкий,3 — но неувязки в поведении следственного аппарата, стремление выполнить директиву правительства всеми средствами Ф. Волховскому были ясны... Рассуждения Волховского, конечно, не имевшего таких высоких источников осведомления как Никитенко (от сенатора Любощинского узнал о предписаний III отде-см. об этом в работе М. Альтмана «Иван Гаврилович Прыжов», Изд. Политкаторжан, К., 1932, стр. 65 и сл.
1 См. его «Исповедь», «Минувшие годы», 1908, № 2, сТр. 62.
2 См. там же, стр. 55.
3 В сборн. «Литературные Беседы», вып. П, ийд. О-Ва Литературоведения “при (ЗарЛ-Тд'вскок гос. университете, Саратов, 1930. См. В. А. Сушицкмй, «Записка Ф. В. ВаЛДОв-cKoto 0 грй^кдЫской казни Н. Г. ЧёрнЫшеВсКогО», стр. 105.
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
997
ления по делу Чернышевского), еще раз показывают, что и в слоях, ниже стоящих на социальной лестнице, чем профессор Никитенко, также понимали, что правительство не считалось с обычными юридическими нормами».1
Вот оценка личности Чернышевского: Чернышевский — «прекрасный, превосходный человек! т.-е. как только может быть хорош человек». «Положительно мог влиять своею личностью...» Затем, дана оценка приговора суда над Чернышевским. По выслушании приговора «всех стоявших тут порядочных людей поразила пустота и бездоказательность обвинений. Все, знавшие ход следствия, никак не предполагали, чтобы на такого рода данных можно было основать какое-либо обвинение, а потому ждали, что будут сочинены доказательства более сильные». Разобрав бездоказательность обвинения в сношении с Герценом, юридическую несостоятельность показаний Костомарова, разжалованного в солдаты, следовательно, по русским законам «опороченного», «бывшего под судом» и состоявшего под. судом мещанина Яковлева, поддельность записки Чернышевского к Костомарову, спорность обвинения в пропаганде между бурлаками, Волховской сделал вывод:
«Что же остается из всех этих обвинений? Обвинение в распространении вредных мыслей в цензурованных статьях? Да разве по каким бы то ни было законам в мире может человек подвергаться преследованию правительственной власти за те сочинения, которые одобрены тем же правительством!
Из всего этого ясно только одно, что правительству нужно было упечь Чернышевского, как такого человека, который с замечательной энергией и талантом развивал в русской прессе мысли, вынуждавшие у него реформы, которые шли вразрез с частными узкими интересами аристократии, во главе которой стоит аристократия правительственная и двор. Чернышевский — мученик за стремление к достижению общественного блага. И мы должны с любовью чтить эту светлую личность и чтить не бессильным хныканьем, а делом».2
В этих словах сказался несомненно демократ, готовый продолжать дело Чернышевского. Поэтому, вероятнее думать, что не для кризики, а для ознакомления и изучения Н. Г. Чернышевского просил собирать ф. Волковской статьи и отдельные издания последнего. Пусть литературного выражения интерес к сочинениям и взглядам Чернышевского со стороны
1 См. там же, стр. 105—ЛОб.
2 Там же, стр. 108. Любопытно Отметить, что «Записки» Ф. Волховского были отобраны ири аресте его в 1868 г. в связи с «Рублевым Обществом» и хранились в деле в числе вещественных доказательств. Однако нам ие удалось разыскать в делах о «Рублевом Обществе» ни этой записки, ни веек других вещественных доказательств.
998
И. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
организаторов «Рублевого Общества» ни в те годы, ни позднее не получил. Тем не менее на основании столь очевидно проявленного тяготения к сочинениям революционного вождя 60-х годов можно предполагать, чго Волховской и Лопатин знали в какой-то мере эти сочинения, разделяли в какой-то мере и воззрения Чернышевского. Иначе зачем бы было им собирать их, читать и заниматься. Однако говорить об отражении взглядов Чернышевского в их деятельности в пределах «Рублевого Общества» и программах, составленных Ф. Волховским, нет оснований. Несомненно, они читали Чернышевского, как вся молодежь того времени, и преклонялись перед авторитетом сосланного в Сибирь Чернышевского. Известно, что позднее Г. Лопатин делал попытки освободить Чернышевского. Возможно, что из сочинений Чернышевского они полнее уяснили картину социальных конфликтов в стране, поняли сущность проведенной в интересах помещиков крестьянской реформы и т. п. Подобный широкий интерес к взглядам и сочинениям Чернышевского был присущ и другим кружкам того времени, напр., долгушинцам (подр. об этом см. в книге А. Кункля «Долгушинцы», Изд. Политкаторжан, 1932 г., и в вступительной статье Б. П. Козьмина к книге А. Кункля, см. стр. 12, 15).
Однако в своей деятельности в период «Рублевого Общества» ни Г. Лопатин, ни Ф. Волховской практического приложения идеям Чернышевского не сделали.
Из портретов Чернышевского, о которых говорится в письмах Г. Лопатина и в письме С. Кривцовой к Волховскому, в то время существовало два: дагерротип 1853 г., снятый в Петербурге И. Александров-ским, и Фотография ЛауФерта в Петербурге 1859 г.
На первом портрете Чернышейский «представлен молодым человеком 25 лет, в очках, с женоподобным лицом, лишенным растительности. Довольно пышные волосы расчесаны на боковой пробор с левой стороны. Чернышевский одет в черный сюртук с белой грудью и белыми манжетами, галстух повязан „бабочкой", т. е. в виде маленького черного бантика у горла. На указательном пальце левой руки — обручальное кольцо. Правая рука оперлась о спинку кресла. Портрет поясной, en face. Подлинник хранится в Доме-музее Н. Г. Чернышевского (инв. У?. 101)». В увеличенном виде портрет опубликован впервые в I томе полного собрания сочинений, изданного М. Н. Чернышевским в 1906 г. (отретуширован художником К. К. Первухиным).
Второй портрет Чернышевского снят в Фотографии ЛауФерта в Петербурге в 1859 г. «Отсутствие растительности на лице, очки и боковой про
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
99»
бор — те же, что и на предыдущем портрете. В костюме также нет существенных перемен. Но руки скрещены на груди, и во взгляде нет спокойной задумчивости 1853 года: в нем видна работа мысли сосредоточенной и невеселой. Портрет коленный, en trois quarts; лицо обращено вправо. Подлинник хранится в Пушкинском Доме (инв. № 1508)». В увеличенном виде поясной портрет опубликован в VIII томе полного собрания сочинений (фототипия, исполненная в Праге, в ателье чешского графического товарищества «Уния»). Первоначально был приложен к книге К. М. Федорова «Жизнь русских великих людей. Н. Г. Чернышевский». Изд. ред. «Закаспийского Обозрения», Асхабад, 1904, с подписью: «Н. Г. Чернышевский, С Фотографии 1864 года».1
По словам Н. М. Чернышевской-Быстровой в среде русских революционеров в 60-е годы были распространены копии с портрета 1859 г., рисованные пером или карандашом, и фотоснимки с этих копий. Что именно было у Волховского и Г. Лопатина, неизвестно.
Ф. Волховскому был известен и Герцен; IV том его «Былого и Дум» в издании 1867 г. был взят у него при аресте. 1П отделение было взволновано этим обстоятельством и в сообщении Следственной комиссии писало: «„Былое и Думы" особенно обращают на себя внимание, во-первых, потому, что это издание 1867 года [т. е. свидетельствует о быстром проникновении зарубежных изданий в Россию. Н. Б.) а во-вторых потому, что книга эта очень разорвана и вообще в таком виде, который показывает, что она читалась многими» (л. 50 об.). Ф. Волховской вынужден был дать показание, что IV том «Былое и Думы» он «купил на Лубянской площади за 2 р. у неизвестной личности». Ш отделение, по поручению Следственной комиссии, после этого павело через начальника московского жандармского управления полицеймейстера Слезкина справки и установило, что такой продажи в Москве не было.
«Господин, у которого были „Всякие"»—это известный А. Суворин, издавший йод йсевдонимом «А. Бобровский»,2 под названием «Всякие», книгу своих «Очерков современной жизни», уничтоженную постановлением СПб. судебной палаты 20 декабря 1866 г. Из-за этой книги происходил «первый процесс печати в С.-Петербургском окружном суде», как писали «С.-Петербургские Ведомости» в№ 226, за 19 августа 1866 г. Защищал
1 См. статью Н. М. Чернышевской-Быстровой «Портреты Чернышевского» в сборн. «Литературные Беседы», изд. «Литературоведение» при Саратовском гос. университете, Саратов, 1929, стр. 167.
2 О смысле этого псевдонима А. Суворина см. в «Дневнике А. Суворина», М., 1924г стр. 129.
1000
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ
книгу известный впоследствии либеральный публицист и критик «Вестника Европы» К. К. Арсеньев. Суд нашел, что книга «Всякие» заключает в себе «оскорбительные и направленные к поколебанию общественного доверия отзывы о постановлениях и распоряжениях правительственных установлений, одобрение и оправдание воспрещенных законами действий, с целью возбудить к ним неуважение, и оскорбительные отзывы о дворянском сословии» и решил автора заключить на два месяца в тюрьму, а книгу— уничтожить (подробности см. в сб. «Материалы для пересмотра действующих постановлений о цензуре и печати», часть 3, отдел первый, СПб., 1870, стр. 70 и др.; здесь напечатан стенографический отчет дела в палате и статьи из СПб. Ведомостей из №№ 226 и 227 за 19 и 20 августа 1866 г.).
Под впечатлением приговора судебной палаты об этой книге Н. Некрасов написал последнюю свою «Песню о свободном слове» под названием «Пропала книга» (датировано 1866 годом и напечатано в журн. «Отечественные записки», 1868, № 4). Некрасов был на суде, о чем написал 20 декабря 1866 г. В. Л. Гаевскому.
Х1П
«Рублевое Общество» было для его участников только этапом, промежуточным звеном к дальнейшему. Для одних, как В. В. Михайлов, участие в «Рублевом Обществе» оказалось оселком, на котором сразу же определилась их преданность и связь с революцией. Пережив расплату за это участие, они ушли в лагерь реакции. Совсем случайные люди, которые не шли дальше денежной поддержки, под влиянием репрессий быстро отрезвились и порвали всякую связь с революцией и ее опасностями. Лишь для таких людей, как Ф. Волховской и Г. Лопатин, оно было преддверием, открывшим путь к бесповоротному вхождению в революционное движение страны, начавшее тогда же втягивать в себя все больше и больше участников. И тот и другой за участие в «Рублевом Обществе» поплатились больше других. После 6—7-месячного заключения в крепости они были высланы из Петербурга. Свободное проживание развязывало энергию того и другого. Ф. Волховской немедленно же сблизился с революционной студенческой средой в Москве— кружком Вс. Лопатина, брата Германа Лопатина; Г. Лопатин, пробыв год «исправляющим должность младшего чиновника особых поручений при губернаторе», в конце 1869 г. бежал из Ставрополя, вывез из ссылки П. Лаврова, отправил его за границу и затем сам бежал туда же.
РУБЛЕВОЕ ОБЩЕСТВО
1001
Попытка создать «Рублевое Общество» как революционную организацию им не удалась. Реакция, напуганная выстрелом Каракозова, зорко следила за проявлением революции в те годы. «Рублевое Общество», ставя на первый взгляд скромные задачи — распространение книг в народе и интеллигенции, с одной стороны, и изучение экономического, бытового и правового положения крестьянства^ другой,—не чуждалось революционнополитических целей. Избрание местом деятельностии «Рублевого Общества» Украины также свидетельствовало об оппозиционности намерений организаторов «Рублевого Общества». Вот почему Следственная комиссия в своем отчете за 1871 г., ссылаясь на замысел Волховского и Лопатина «составить корпорацию странствующих сельских учителей для развития в народе образования» и на политическую неблагонадежность того и другого, решительно доказывала, что «цель их предприятия была противоправительственной».1
В понимании же задач своей деятельности «Рублевое Общество» оказалось посредником между ранними революционными кружками 60-х годов Аргиропуло и Зайчневского и чайковцами (1871). Б. П. Козьмин удачно сформулировал мысль об этой преемственности: в кружке Аргиропуло и П. Зайчневского вначале 1861 года, говорит он, «носились мысли, предвосхищавшие до известной степени планы позднейших революционных организаций: „Рублевого Общества" (Ф. Волховской и Г. Лопатин), отчасти кружка чайковцев и др.»2 Б. П. Козьмин конкретно указывает, что проект распростанения книг в народе, найденный при обыске у Аргиропуло, получил практическое применение в программах «Рублевого Общества» и его изданиях («Рублевое Общество» успело издать всего лишь одну книгу И. А. Худякова «Древняя Русь»).3 Важно отметить при этом, что в программе кружка Зайчневского распространение книг было только одним из средств деятельности и притом не основным, не главным. Теперь, когда волна революционного движения спала и наступила жестокая реакция, в программе «Рублевого Общества» это мирное средство стало единственной и основной задачей работы. Полное осуществление этот принцип получил в деятельности чайковцев. Ф. Волховской примкнул непосредственно к кружку последних ив 1872 г. в Одессе организовал кружок, бывший Филиалом Петербургского кружка чайковцев.
1 Цитирую по статье В. Богучарского «Общественное движение 60-х годов под перок казенных исследователей», «Голос минувшего», 1915, апрель, кв. IV, стр. 214.
2 См. в его статье «Кружок Зайчневского и Аргиропуло» в журн. «Каторга и Ссылка», 1980, № 4 (68), стр. 84.
2 Подробнее си. Ф. Волховской, «Друзья среди врагов», СПб., 1908, стр. 4.