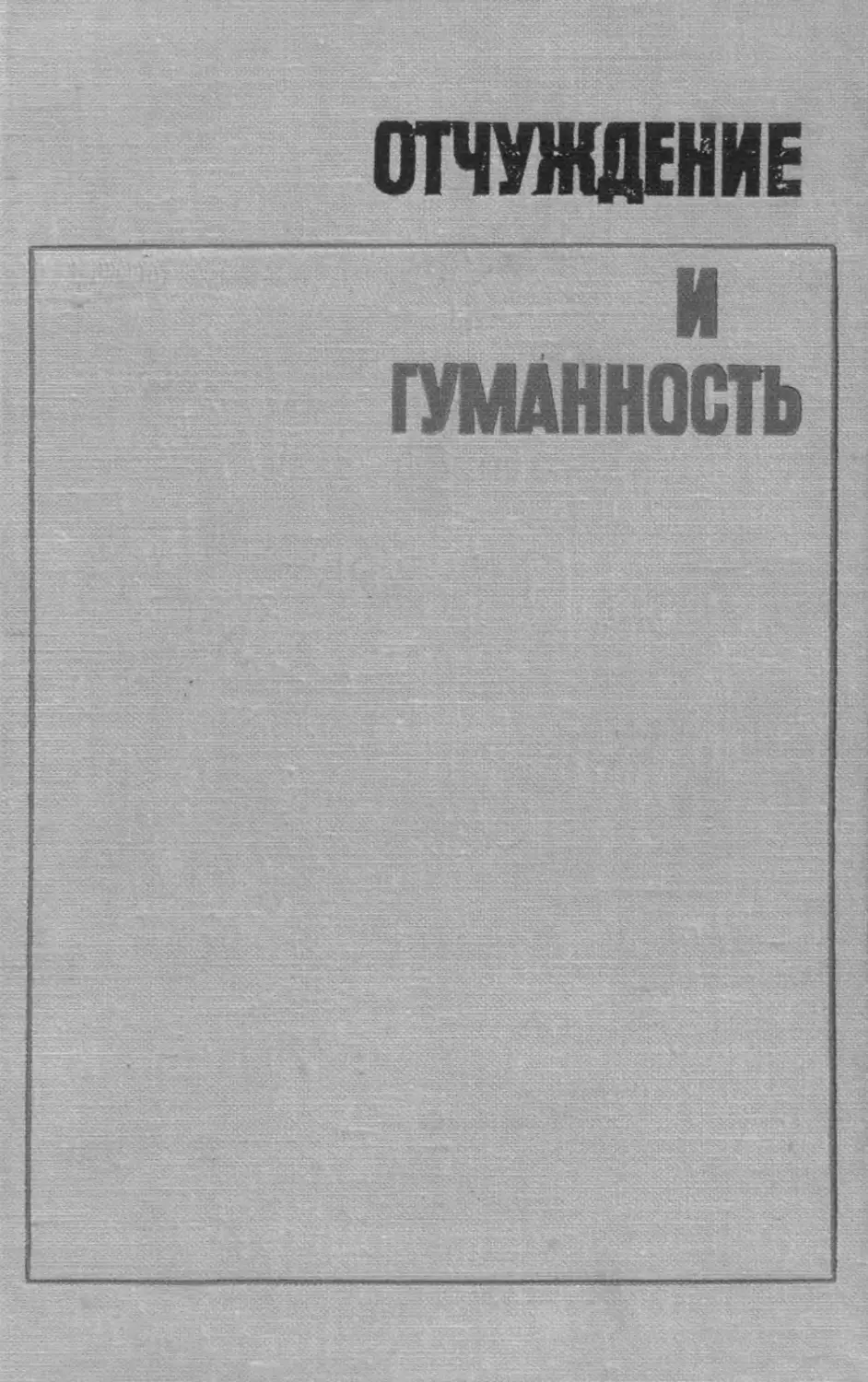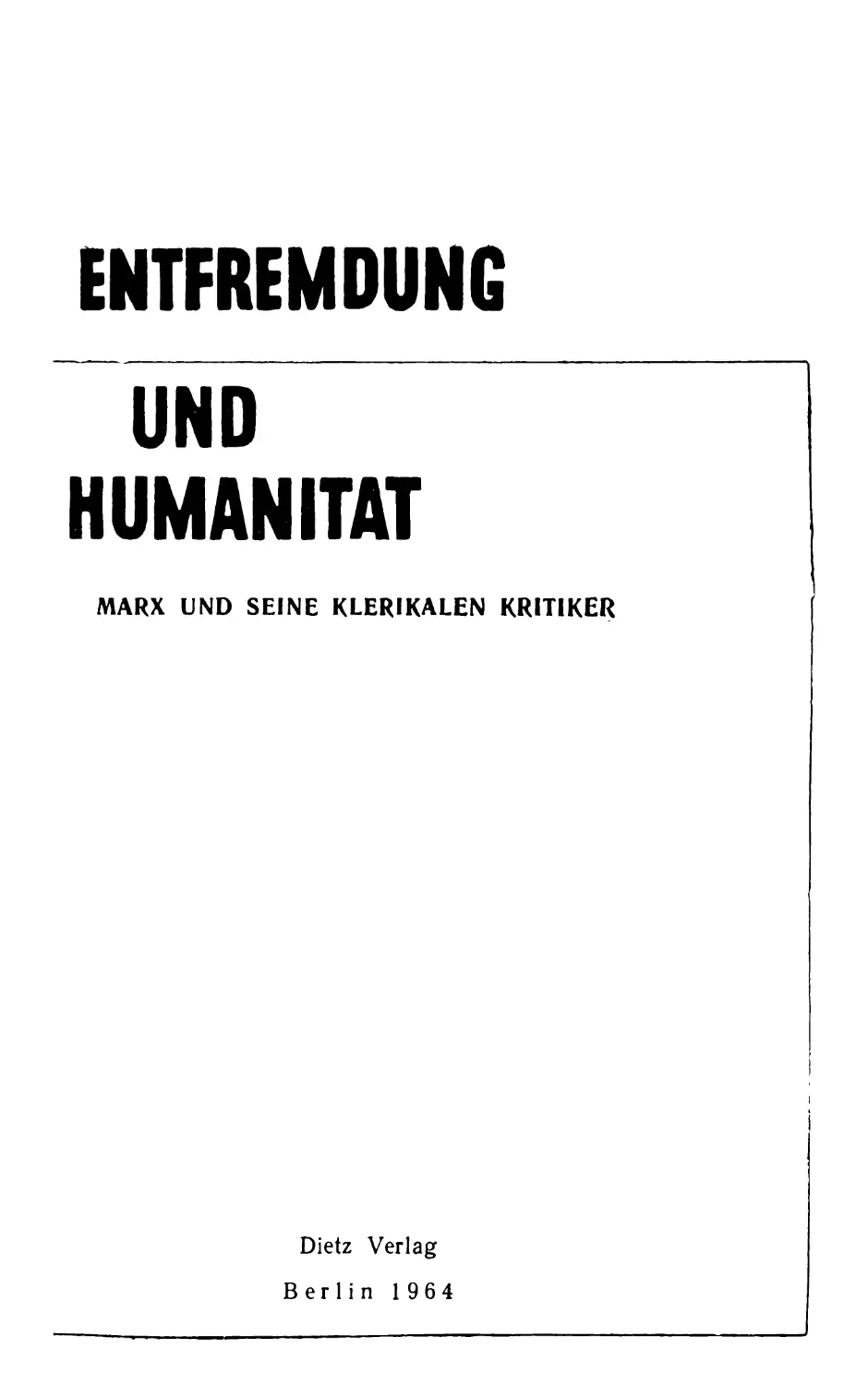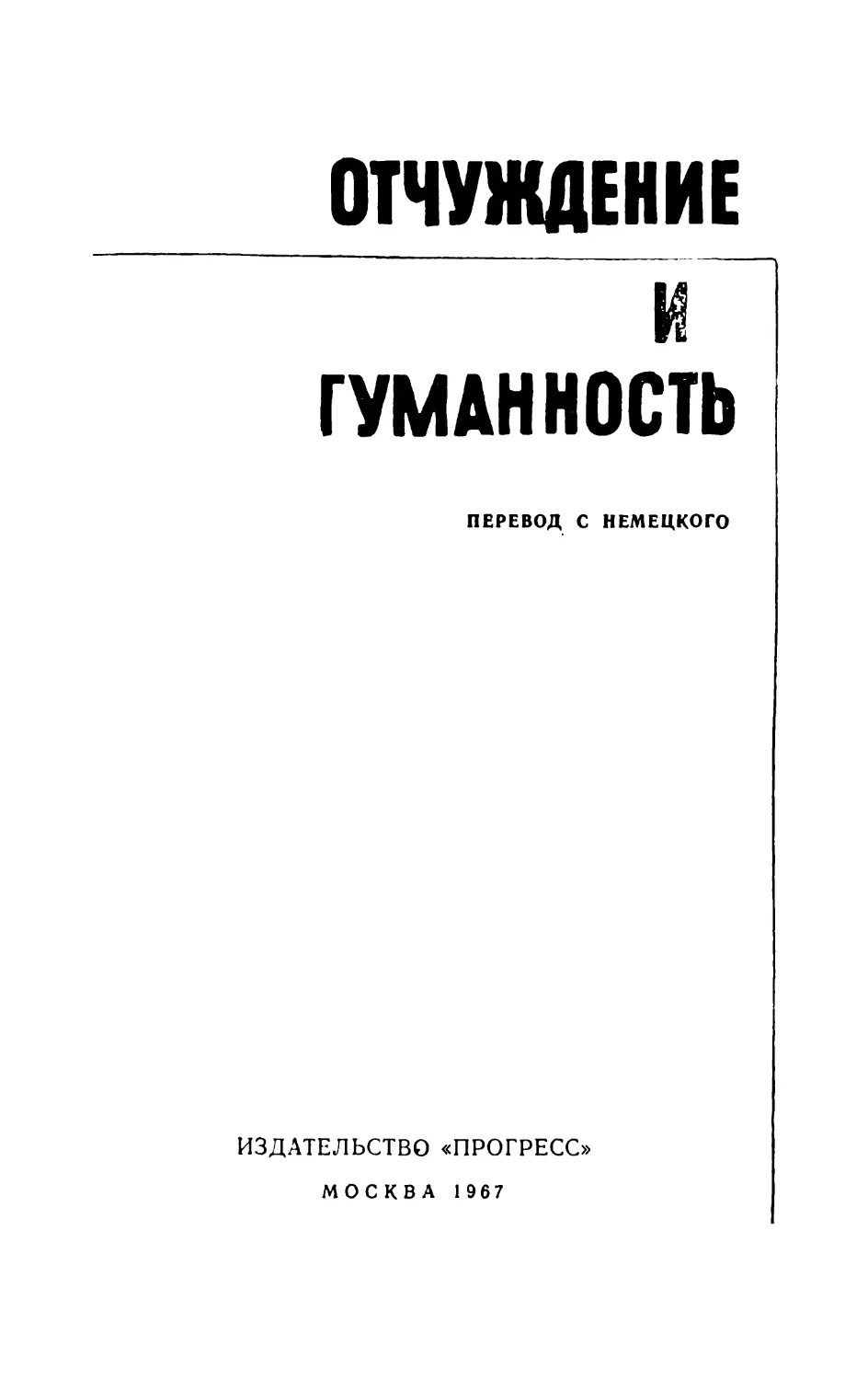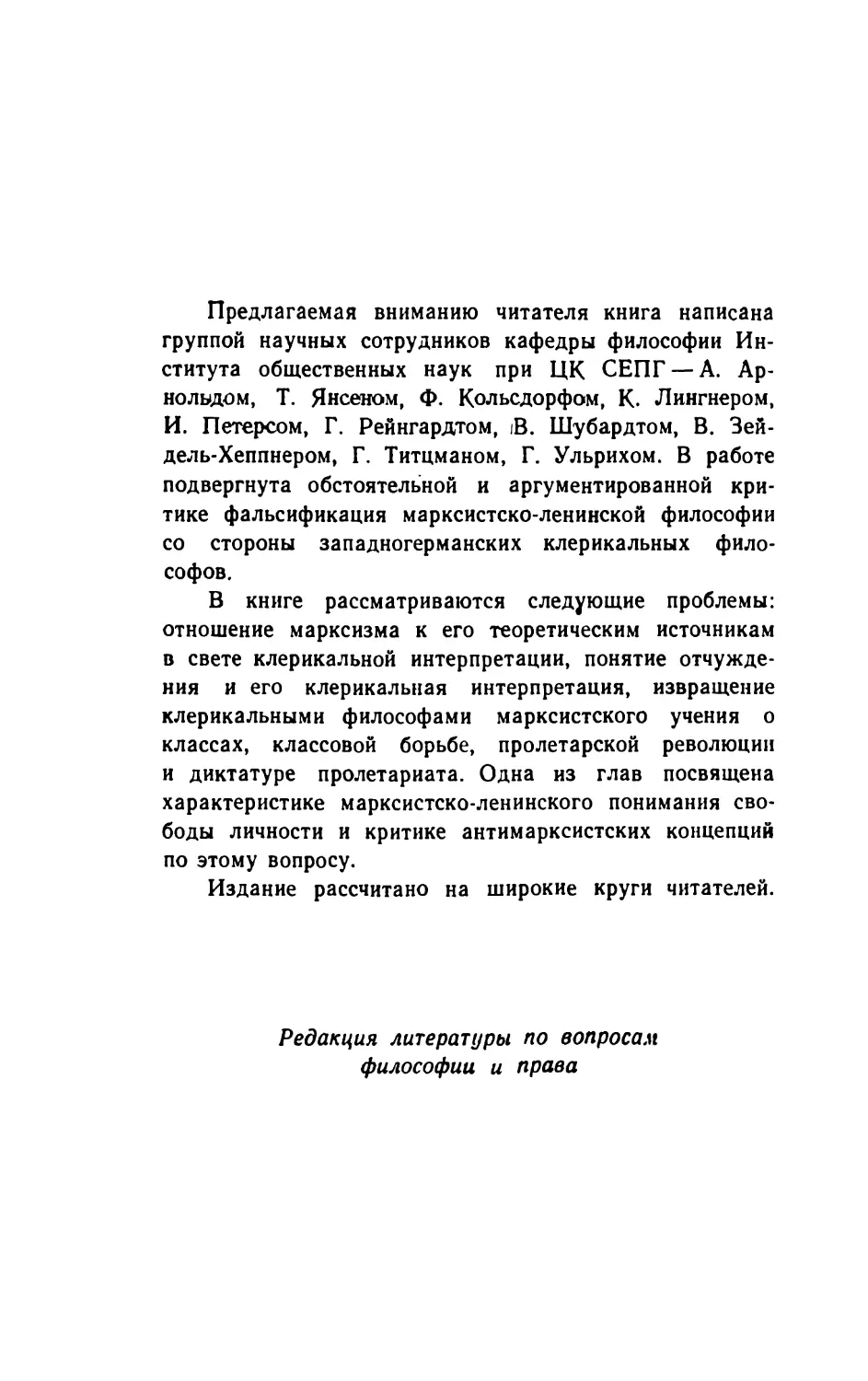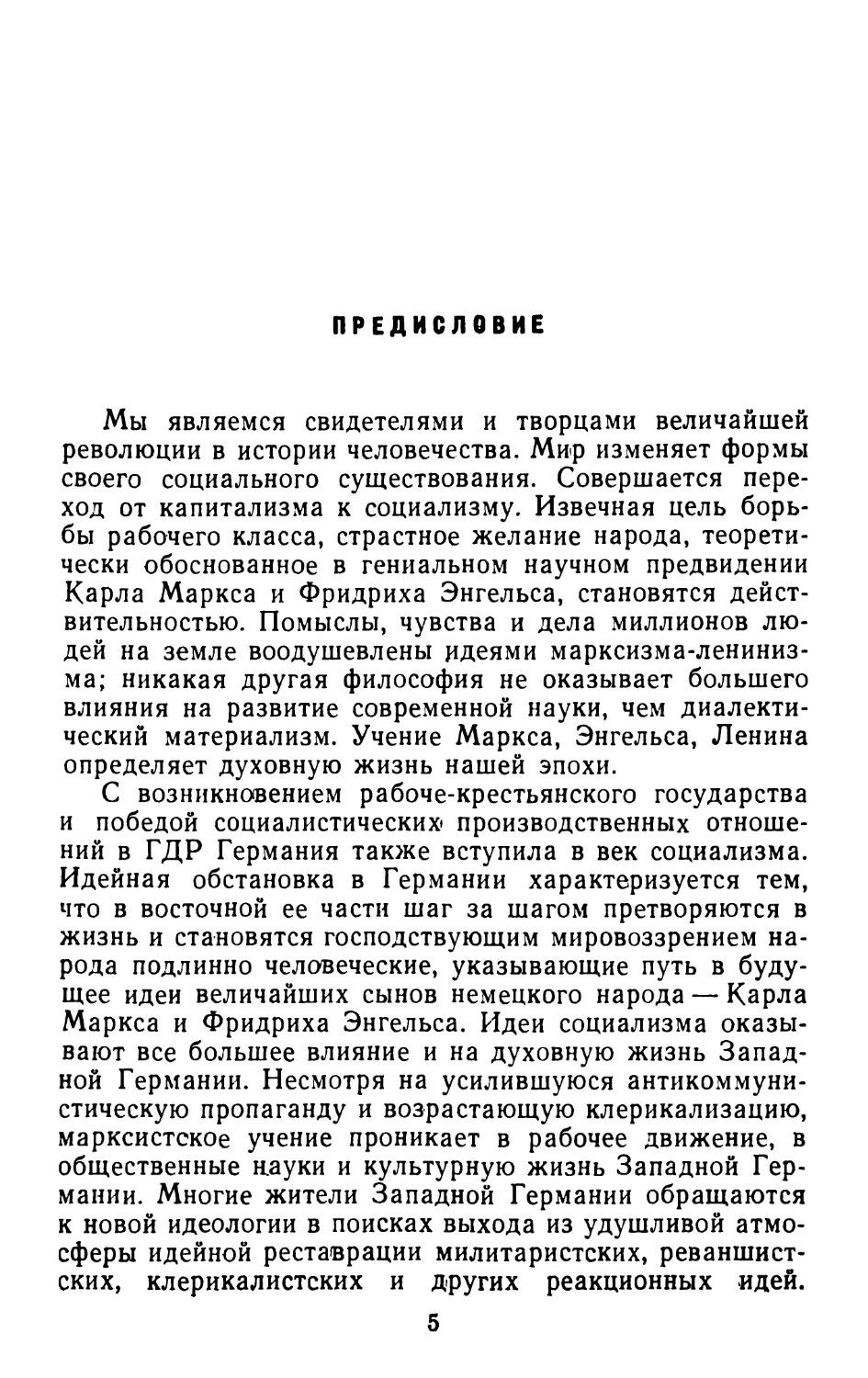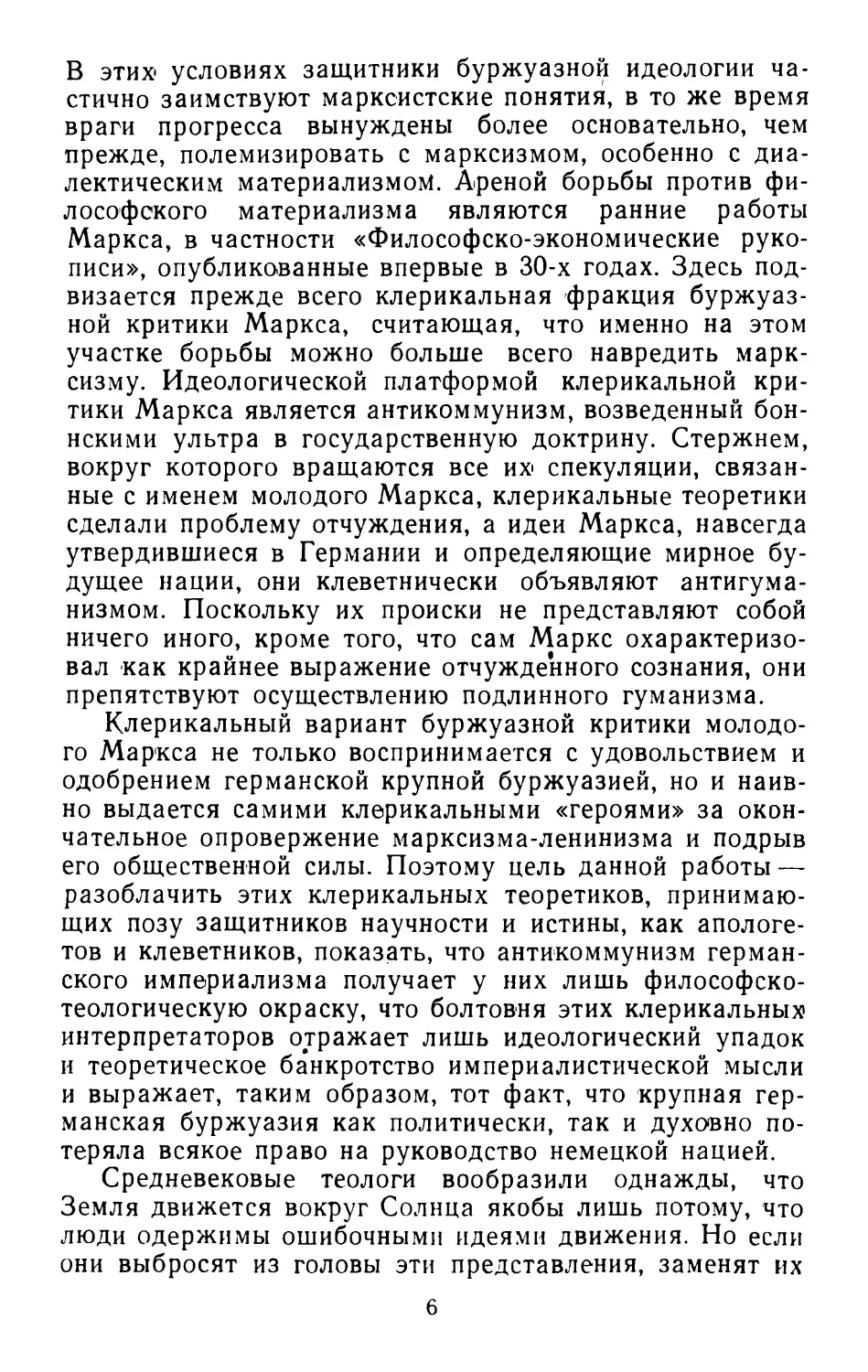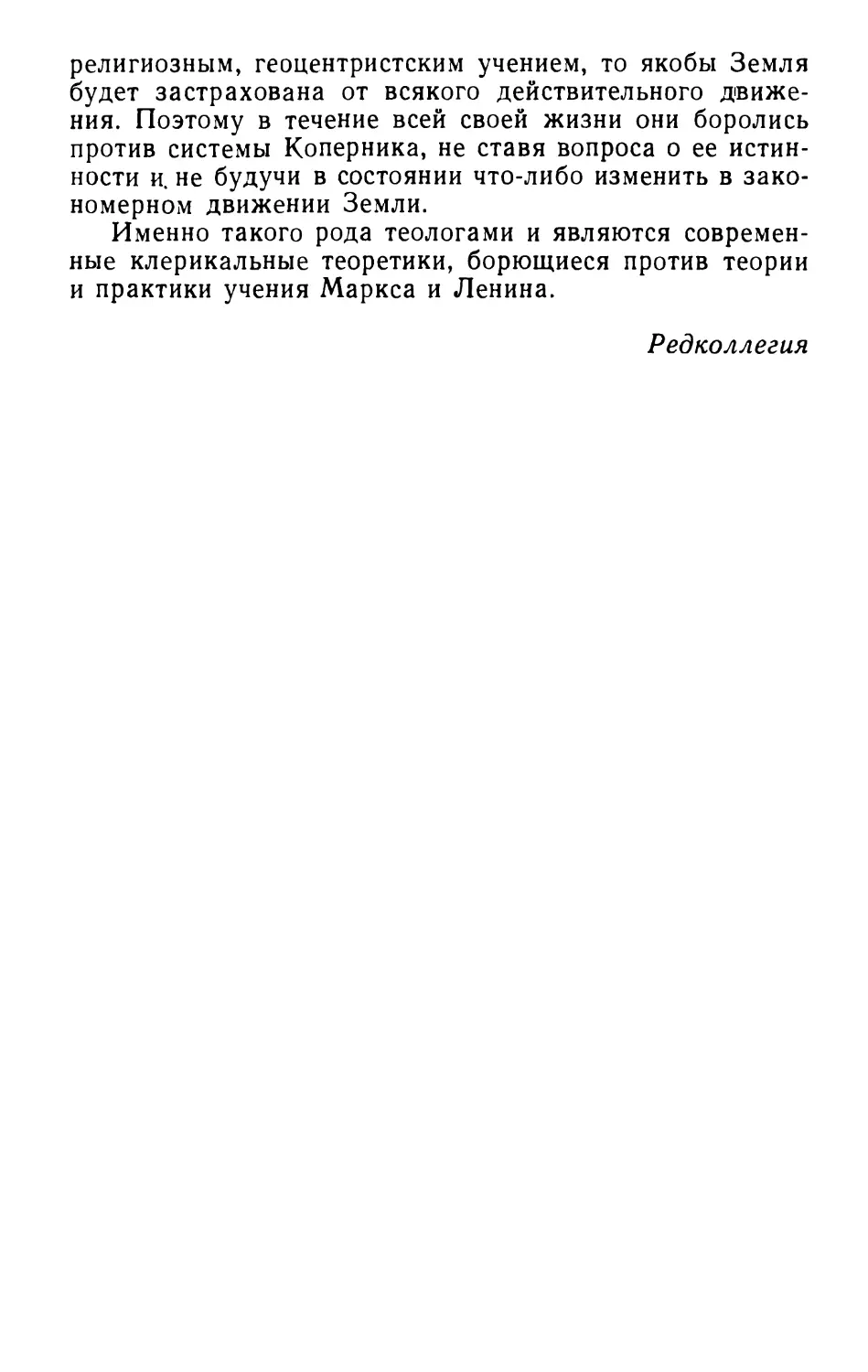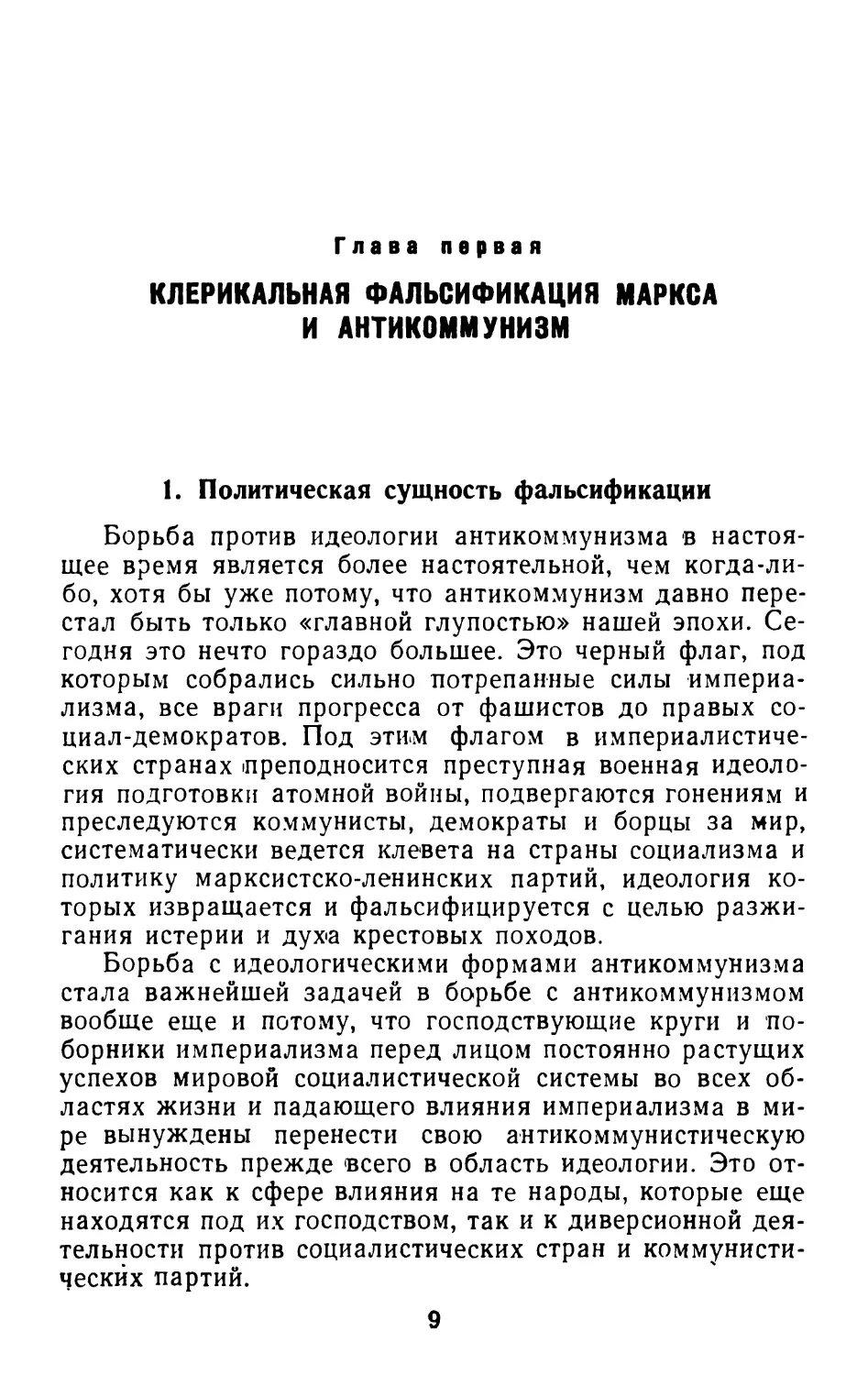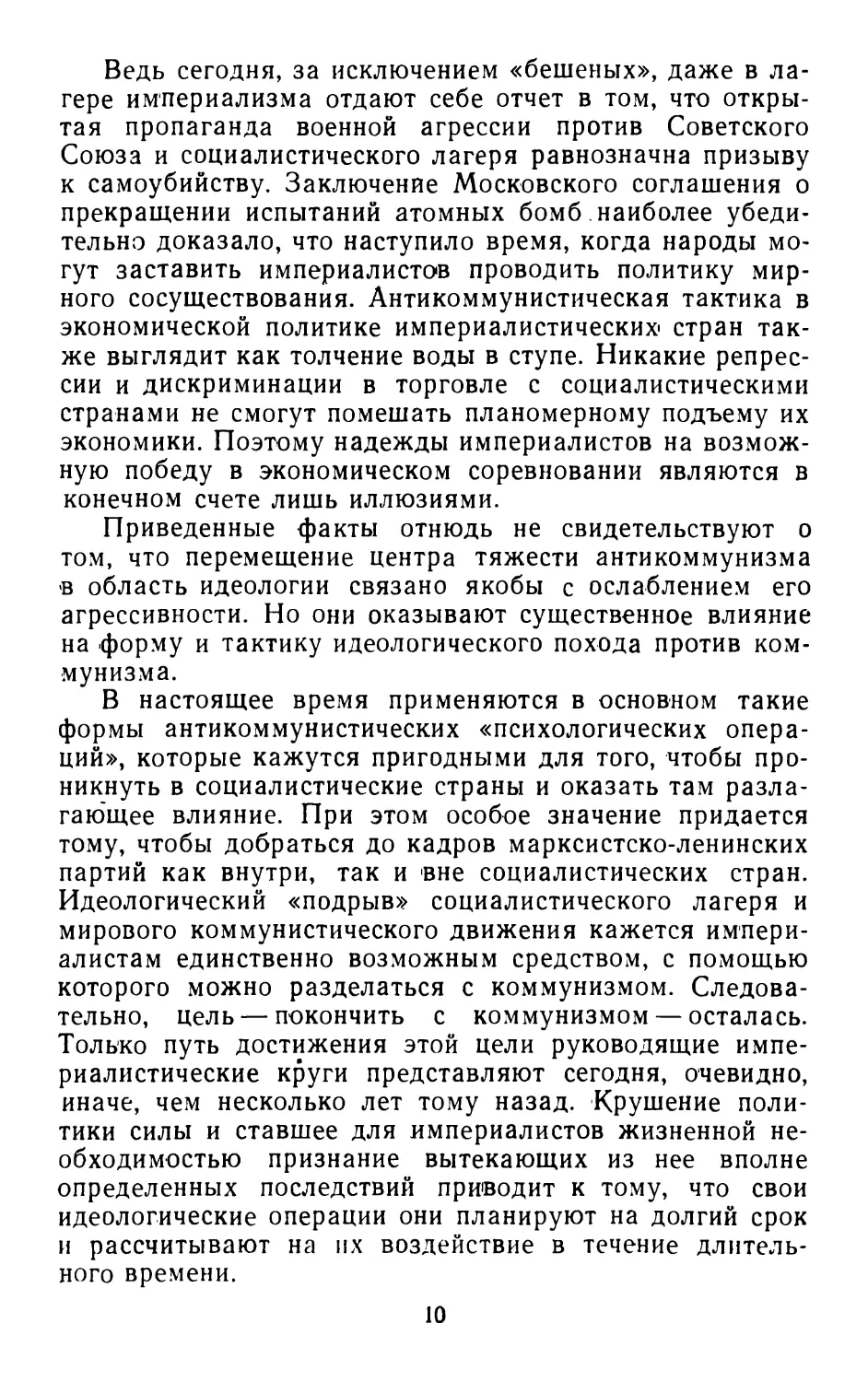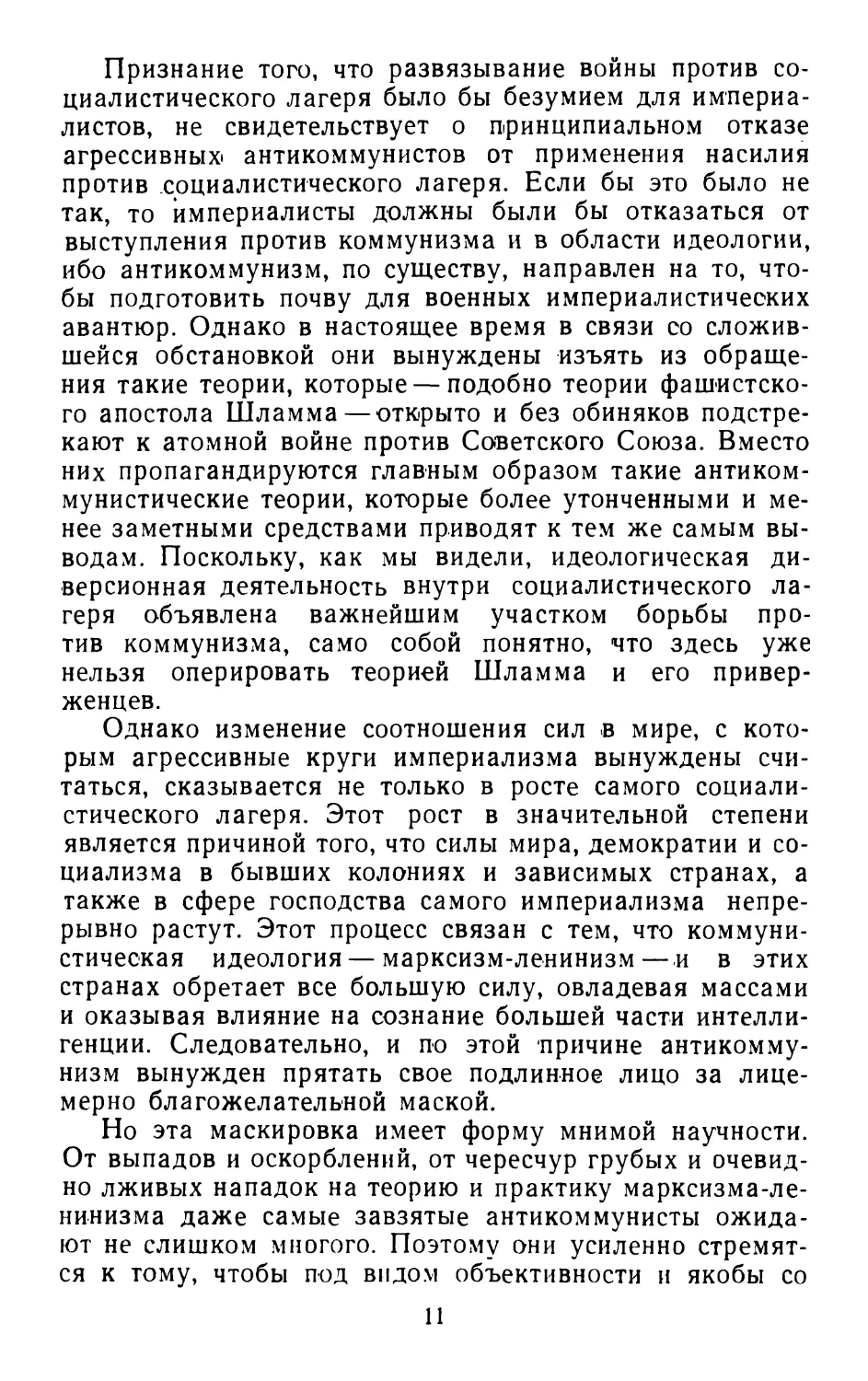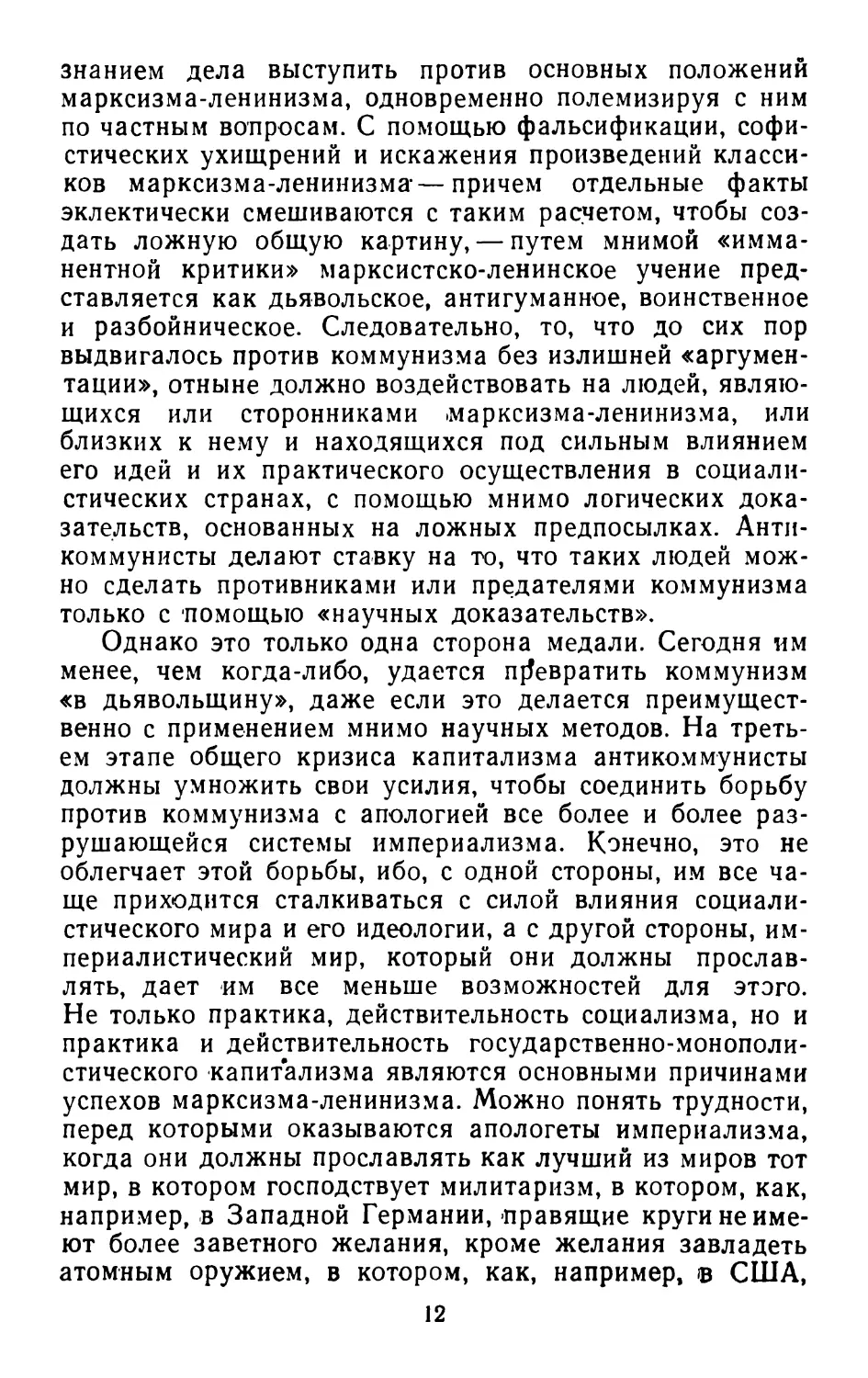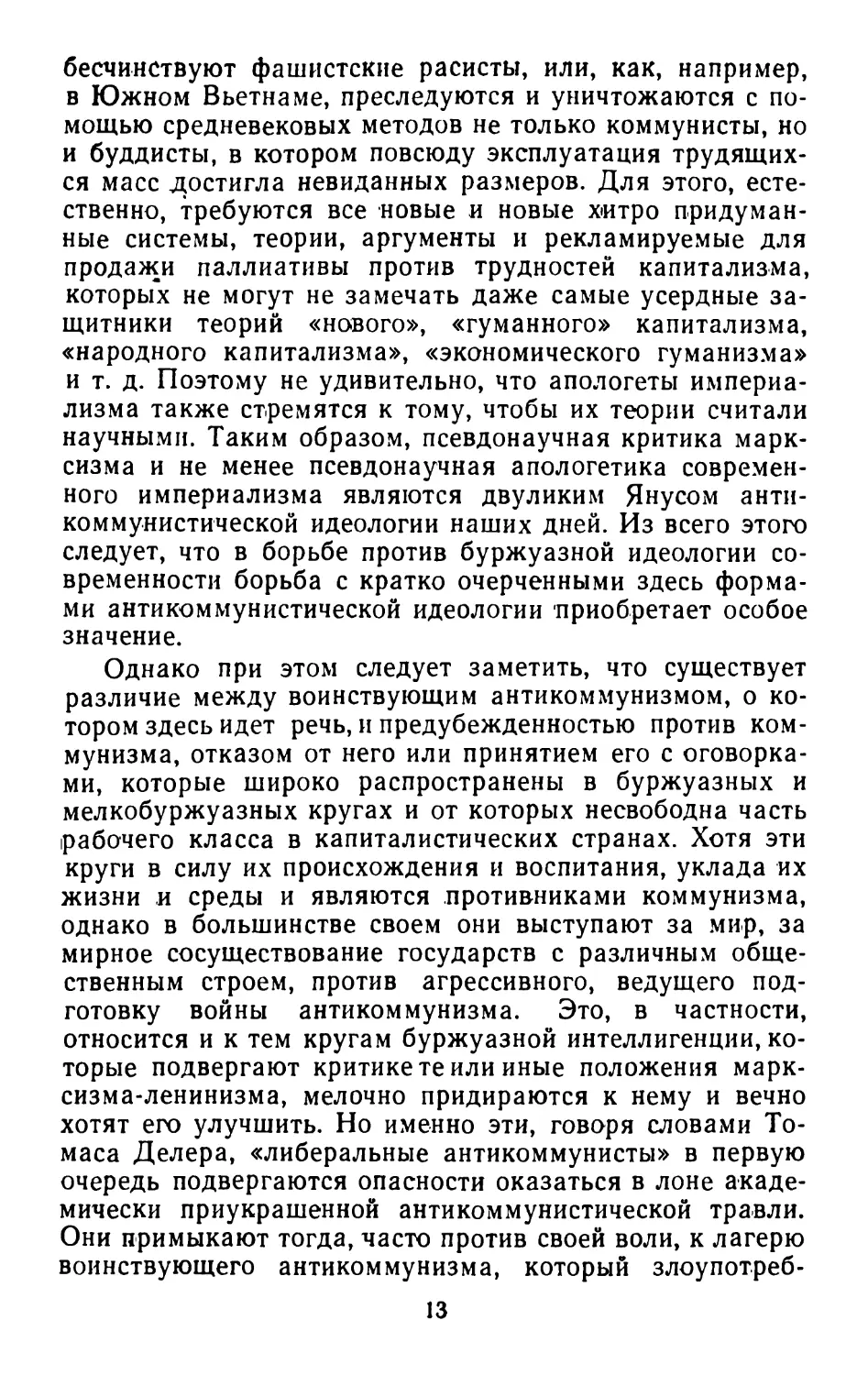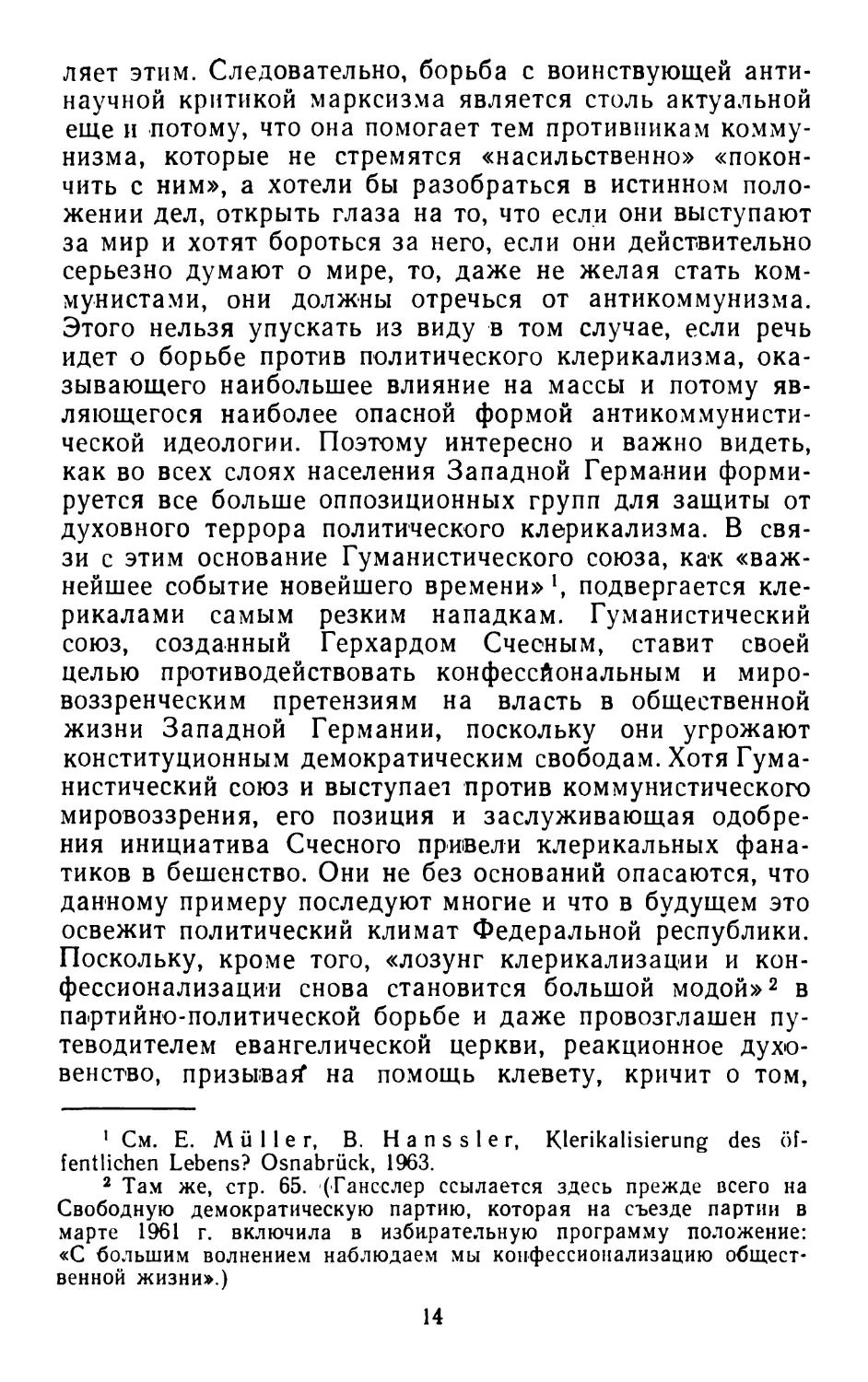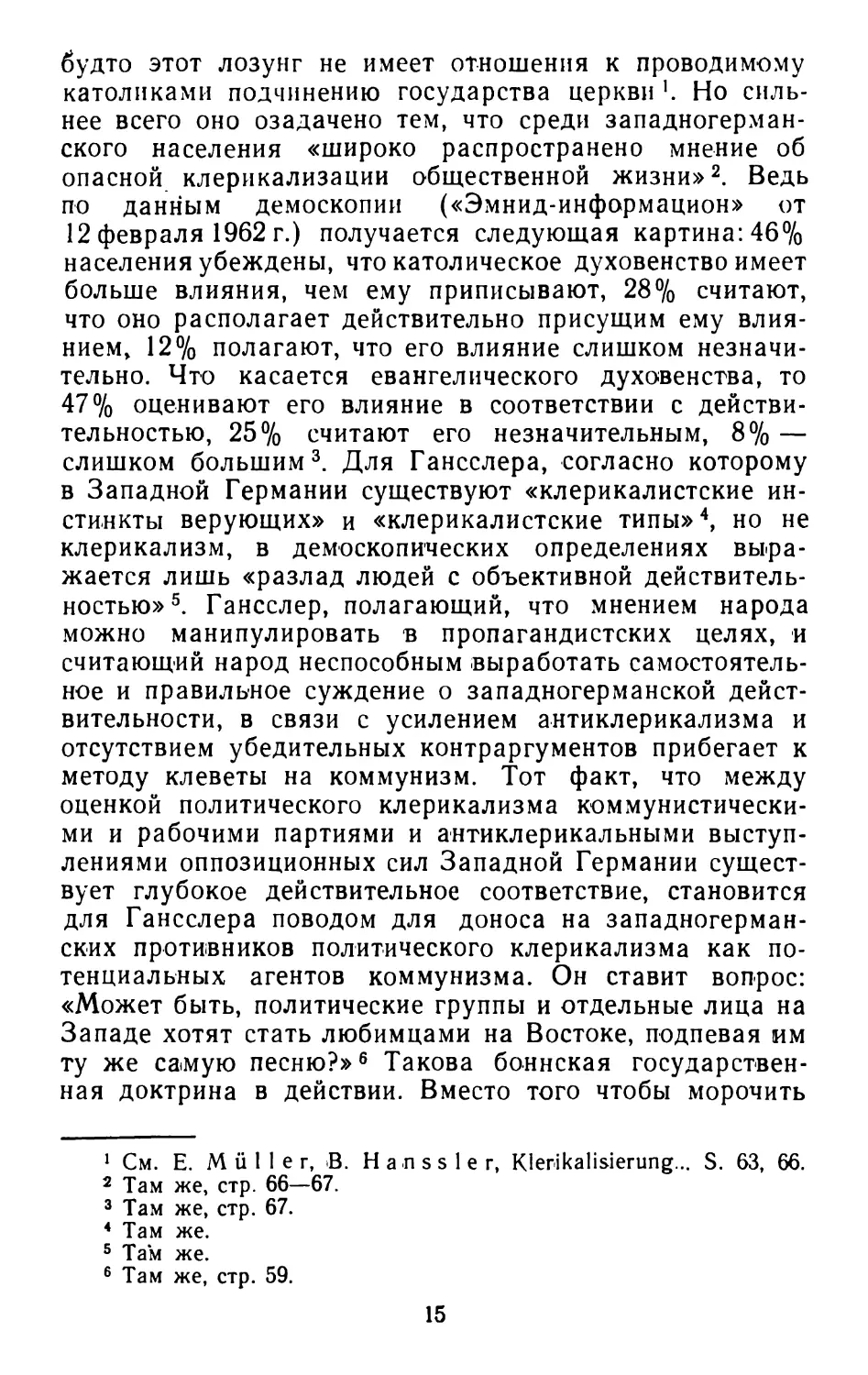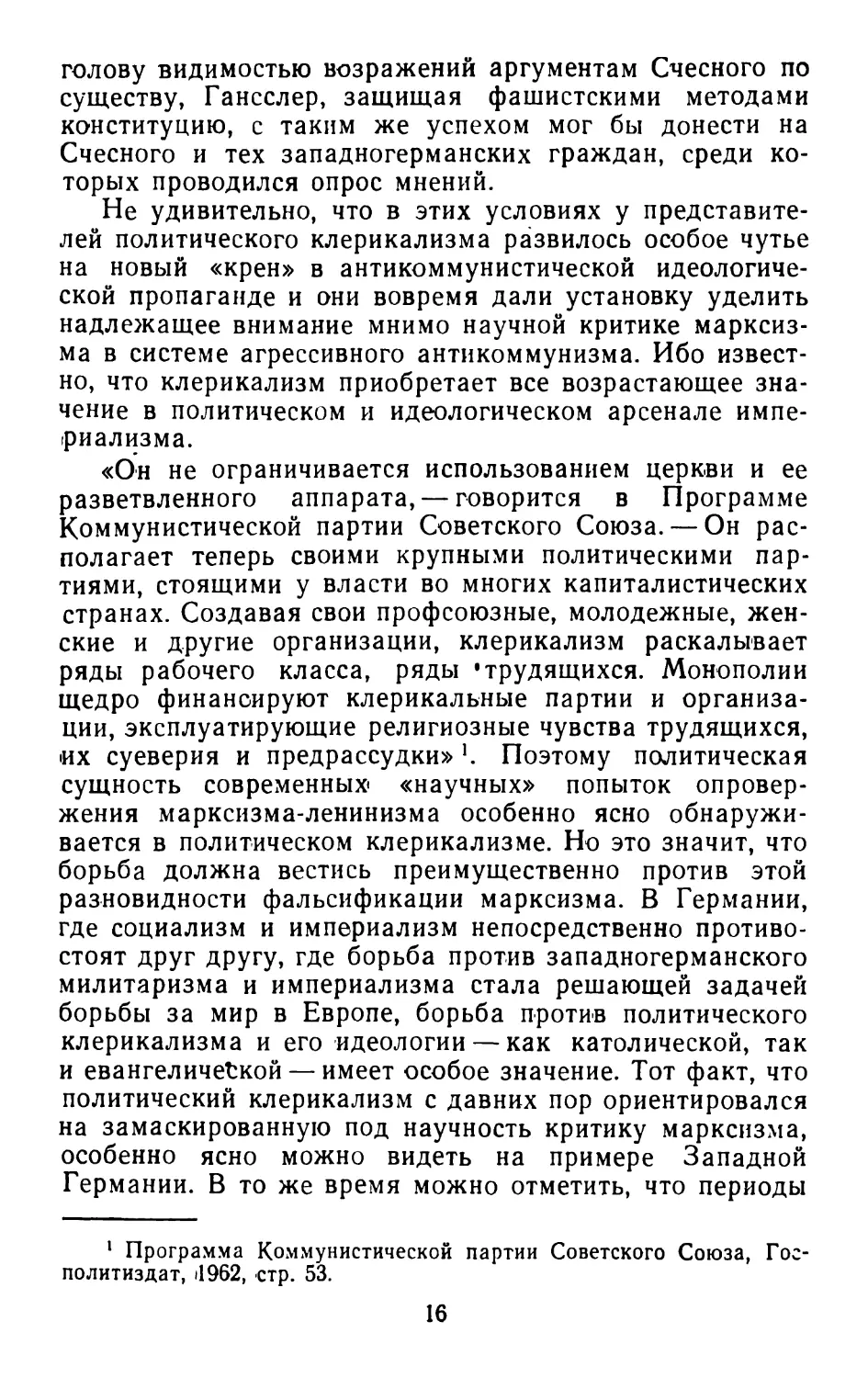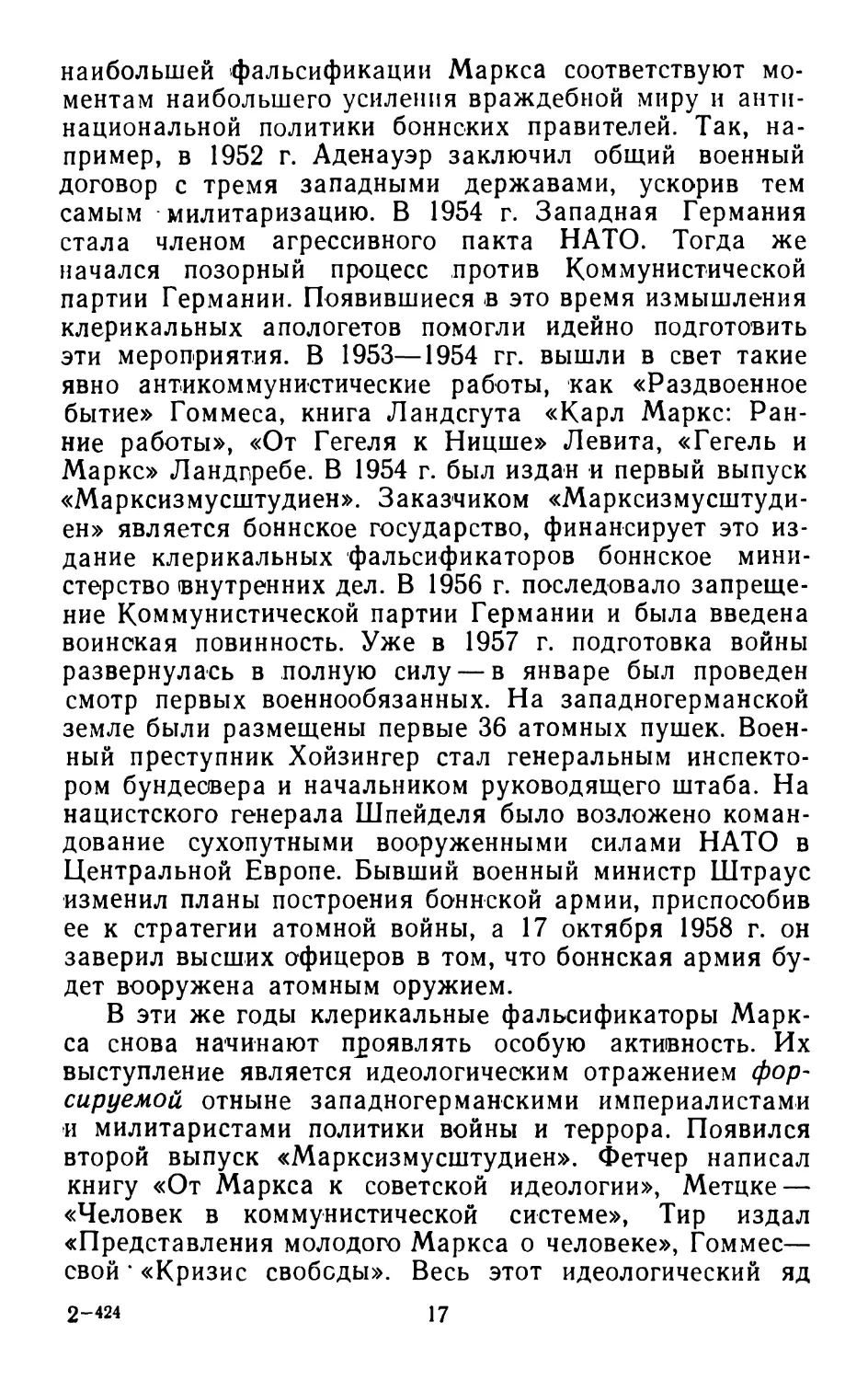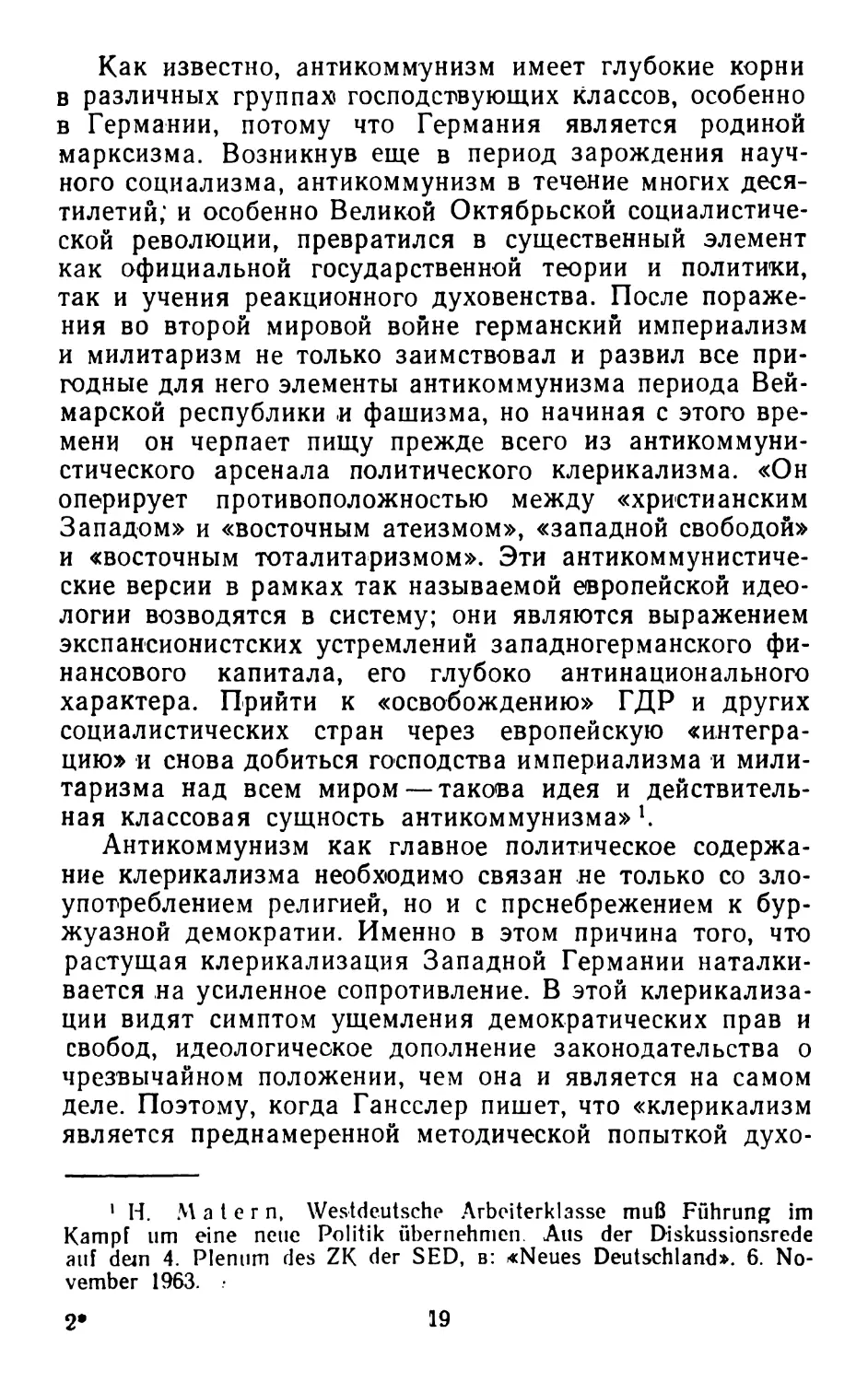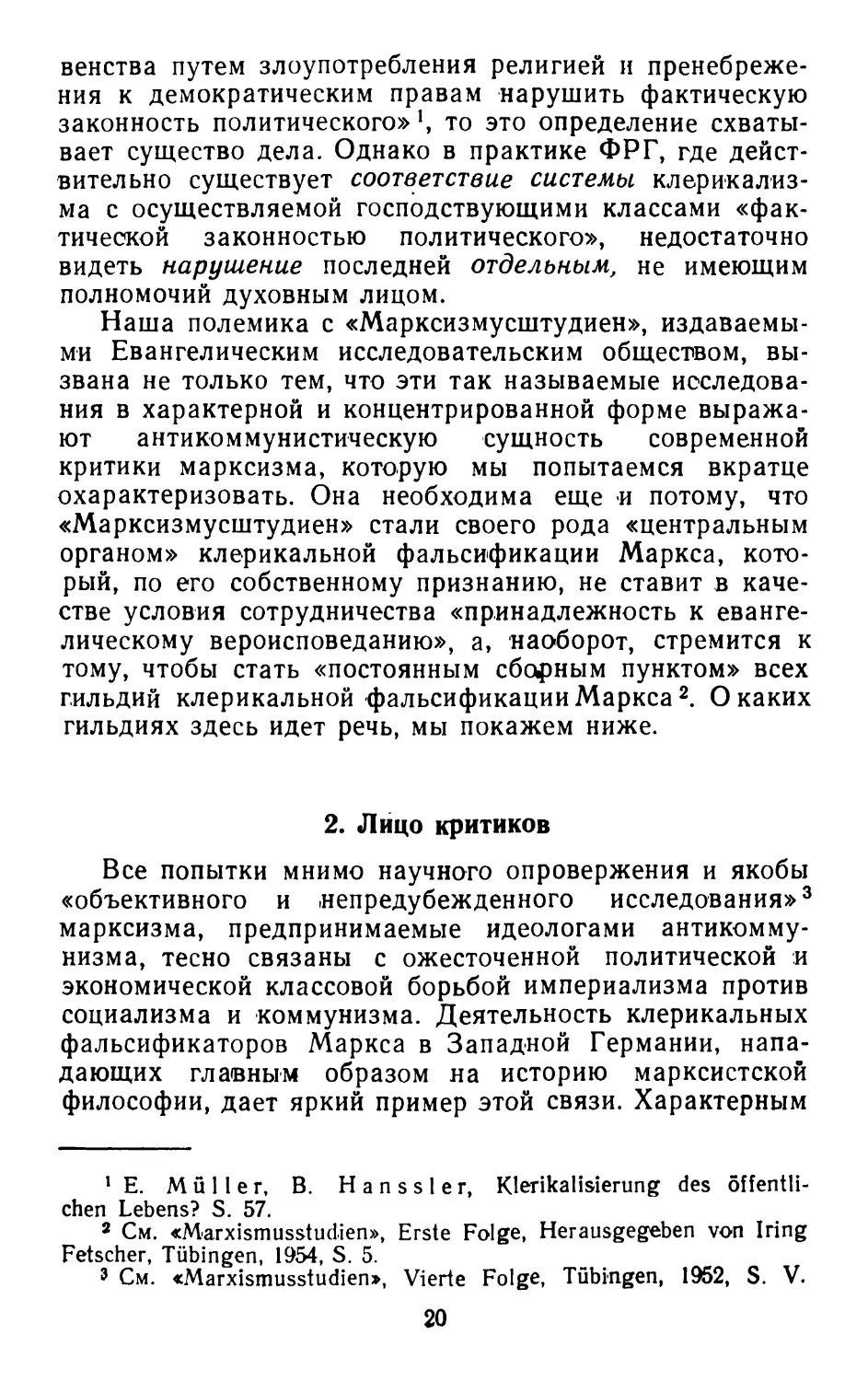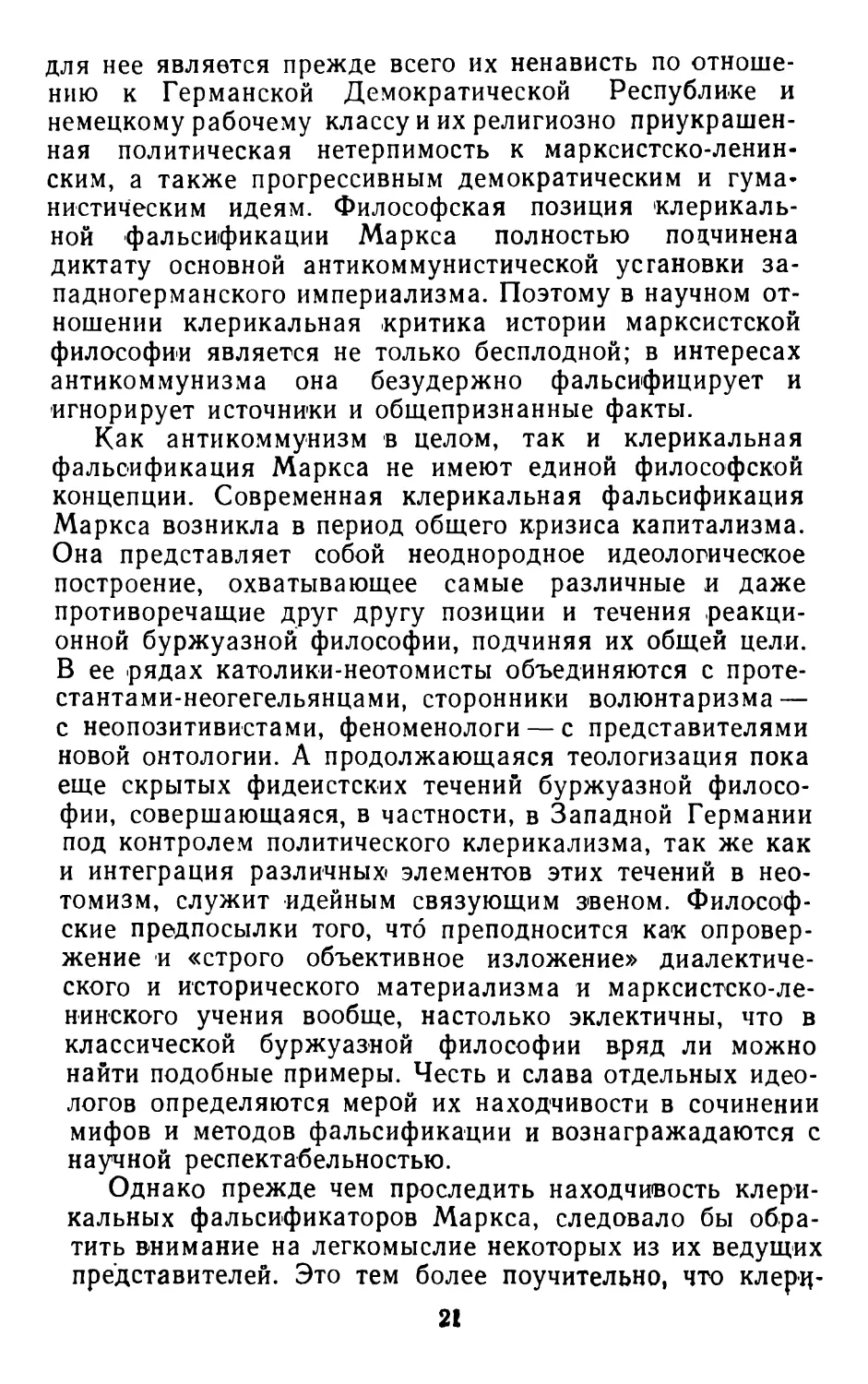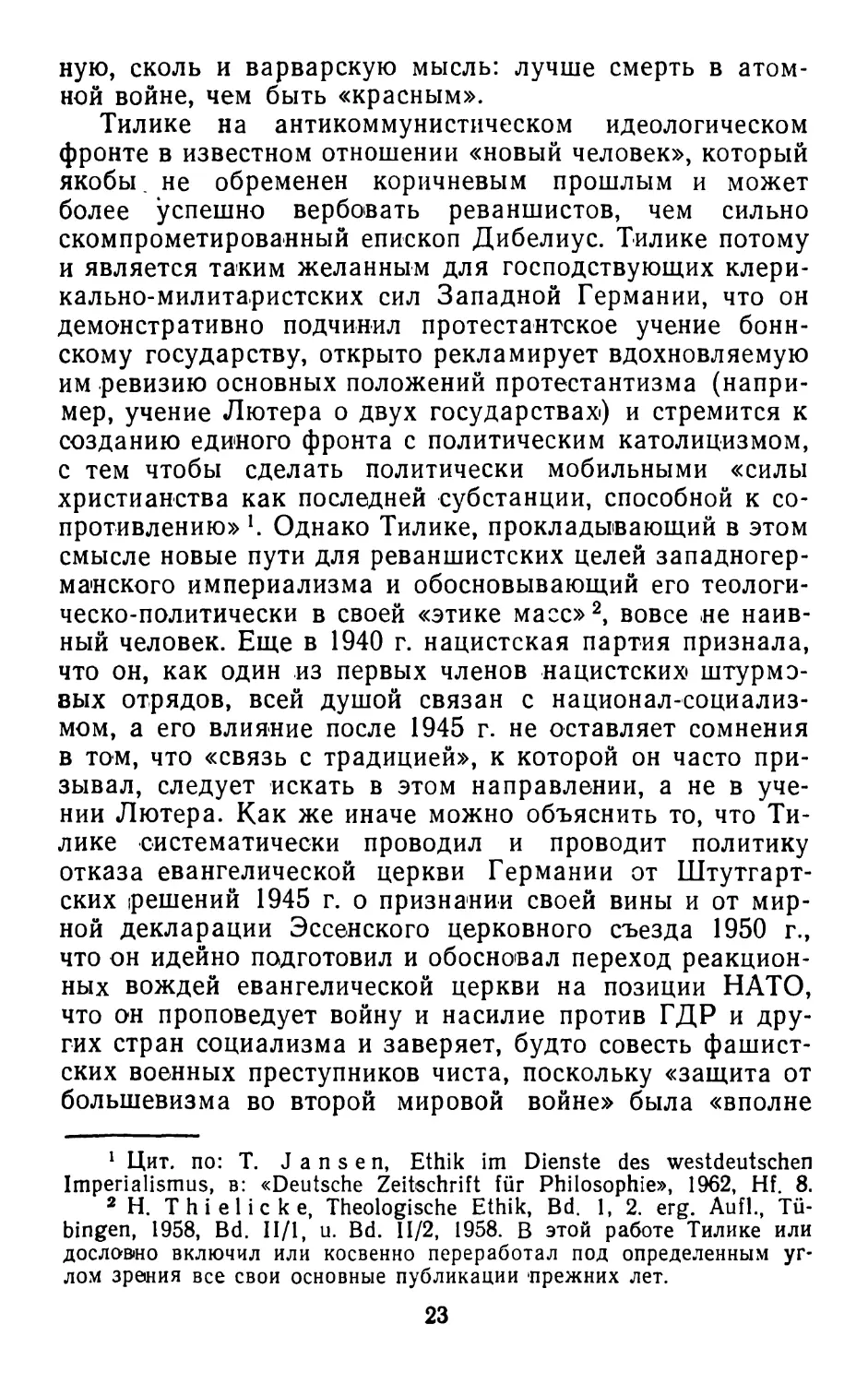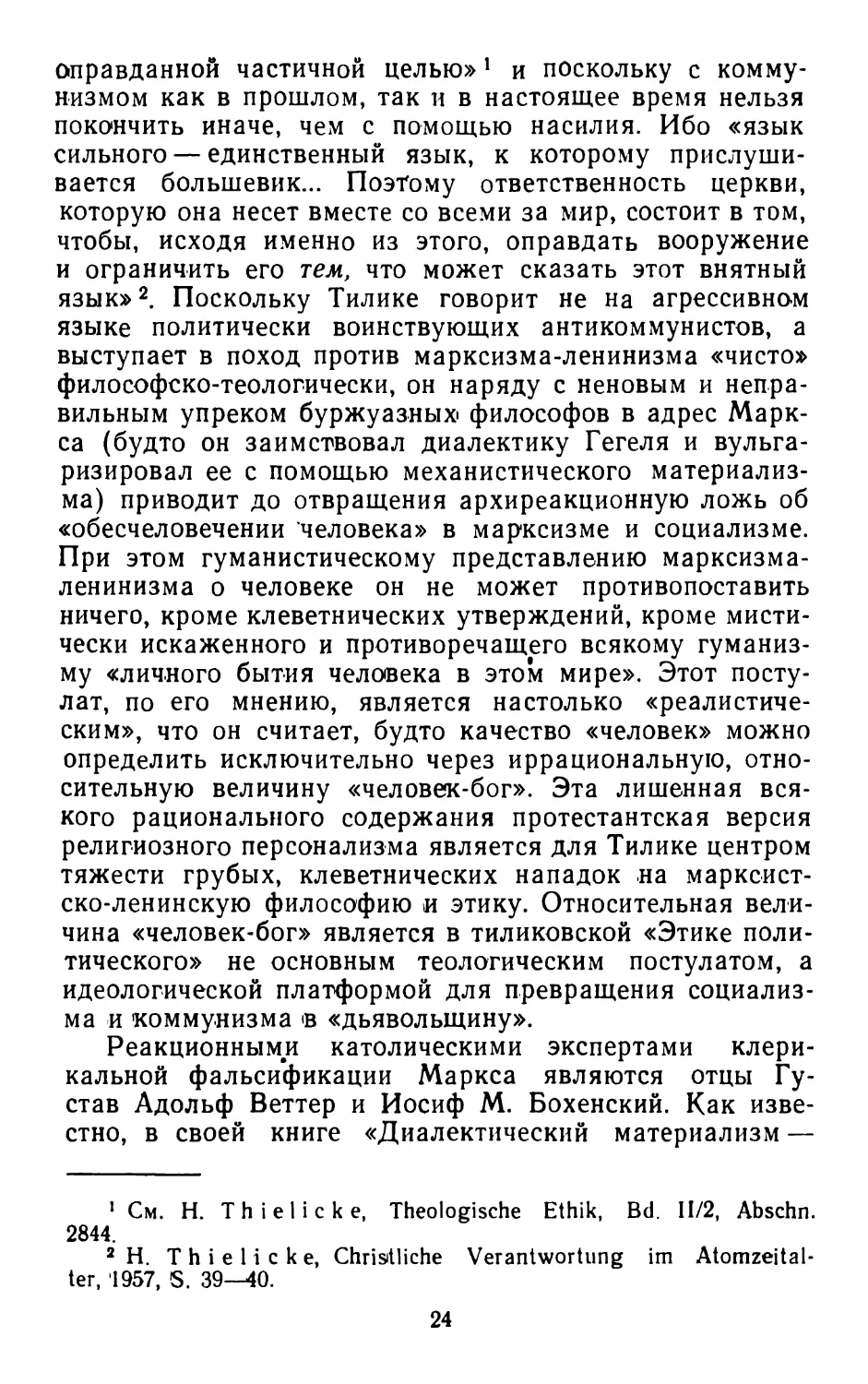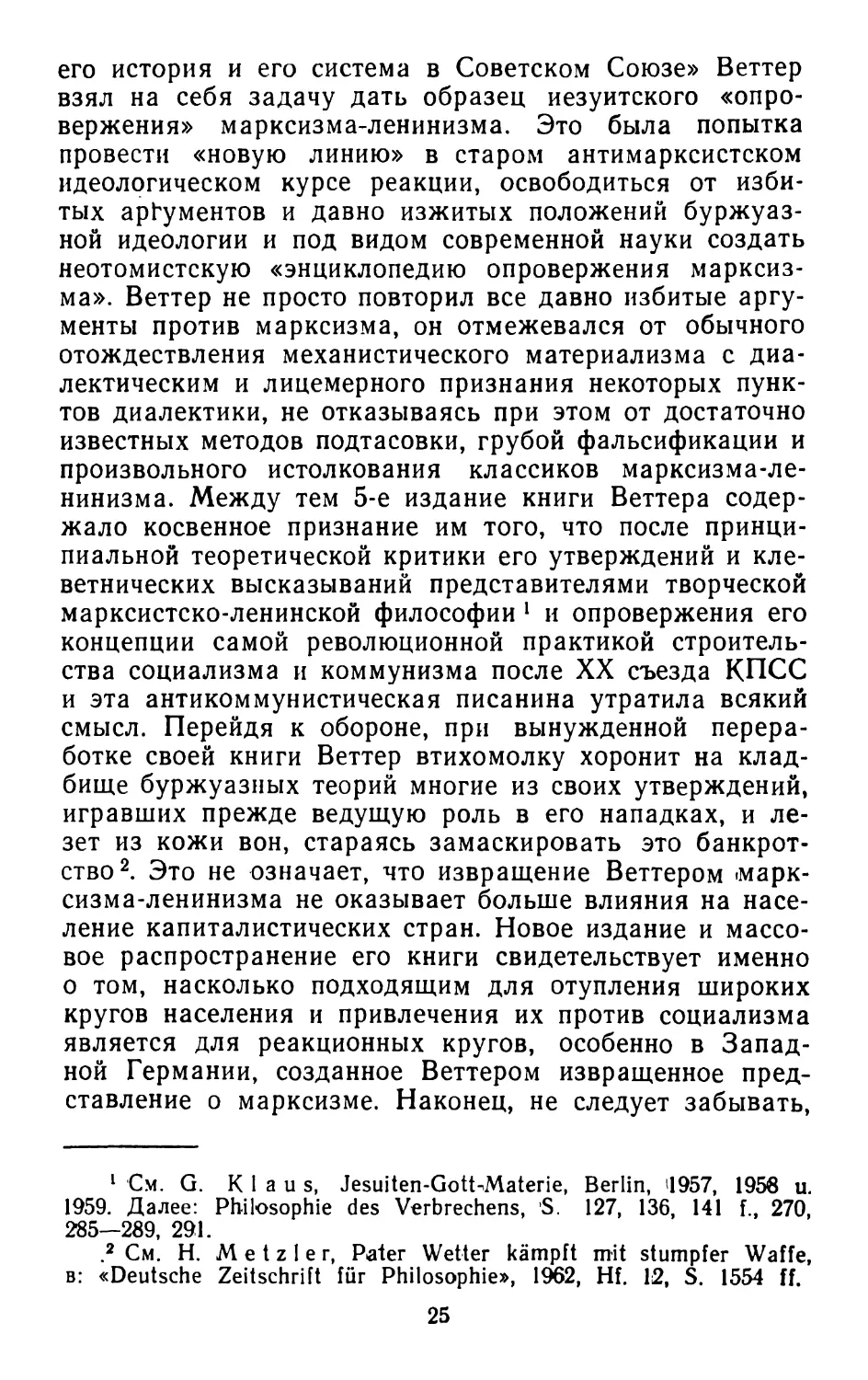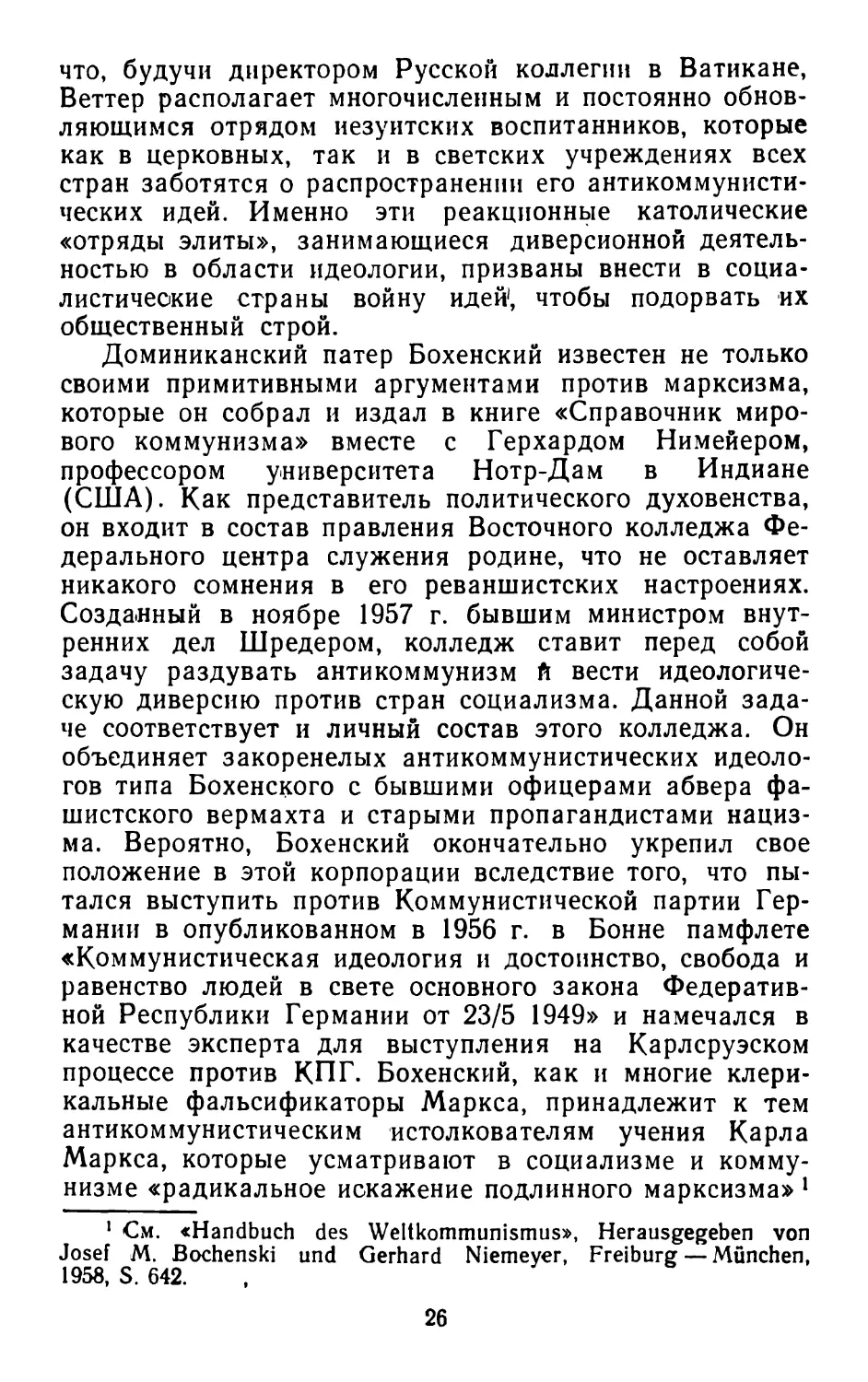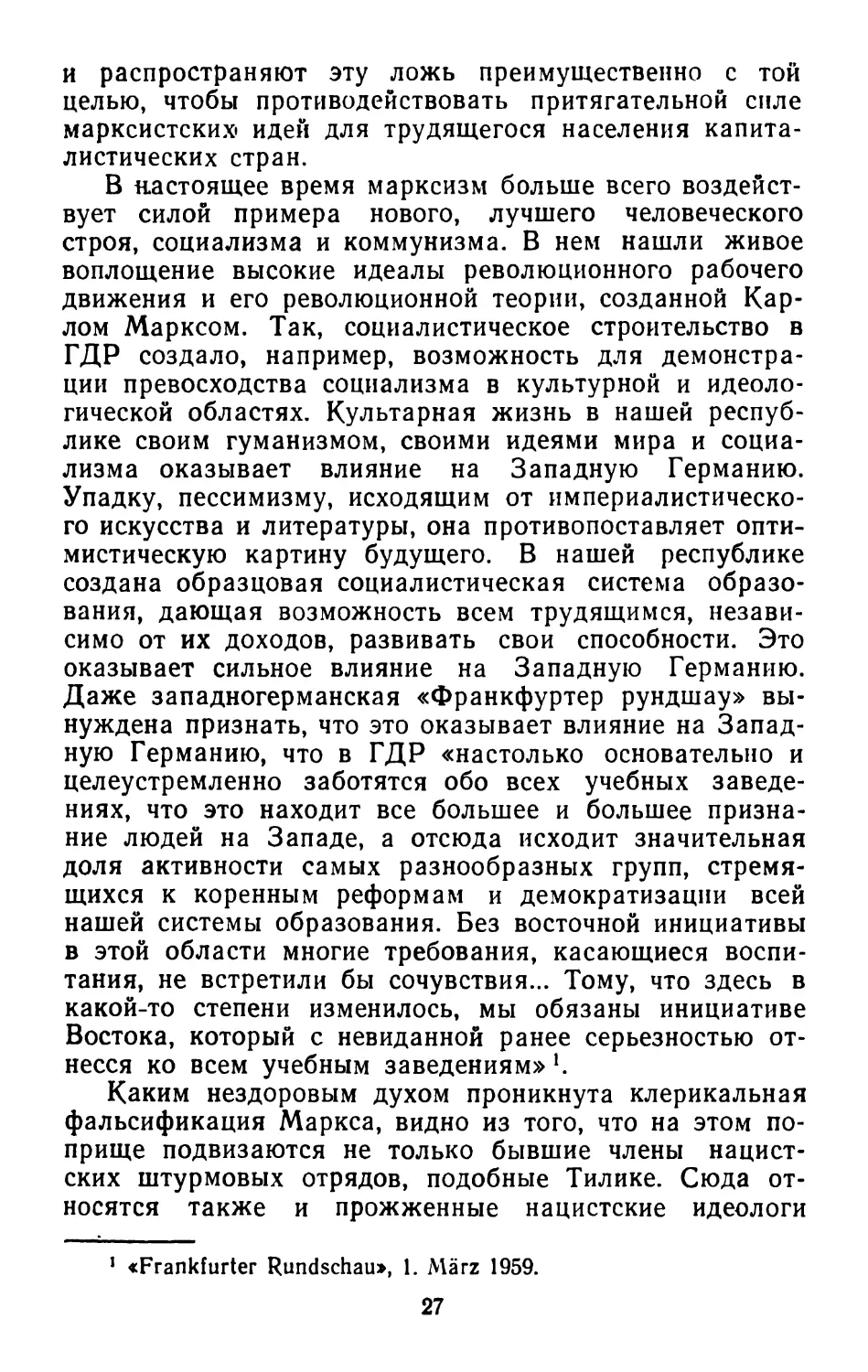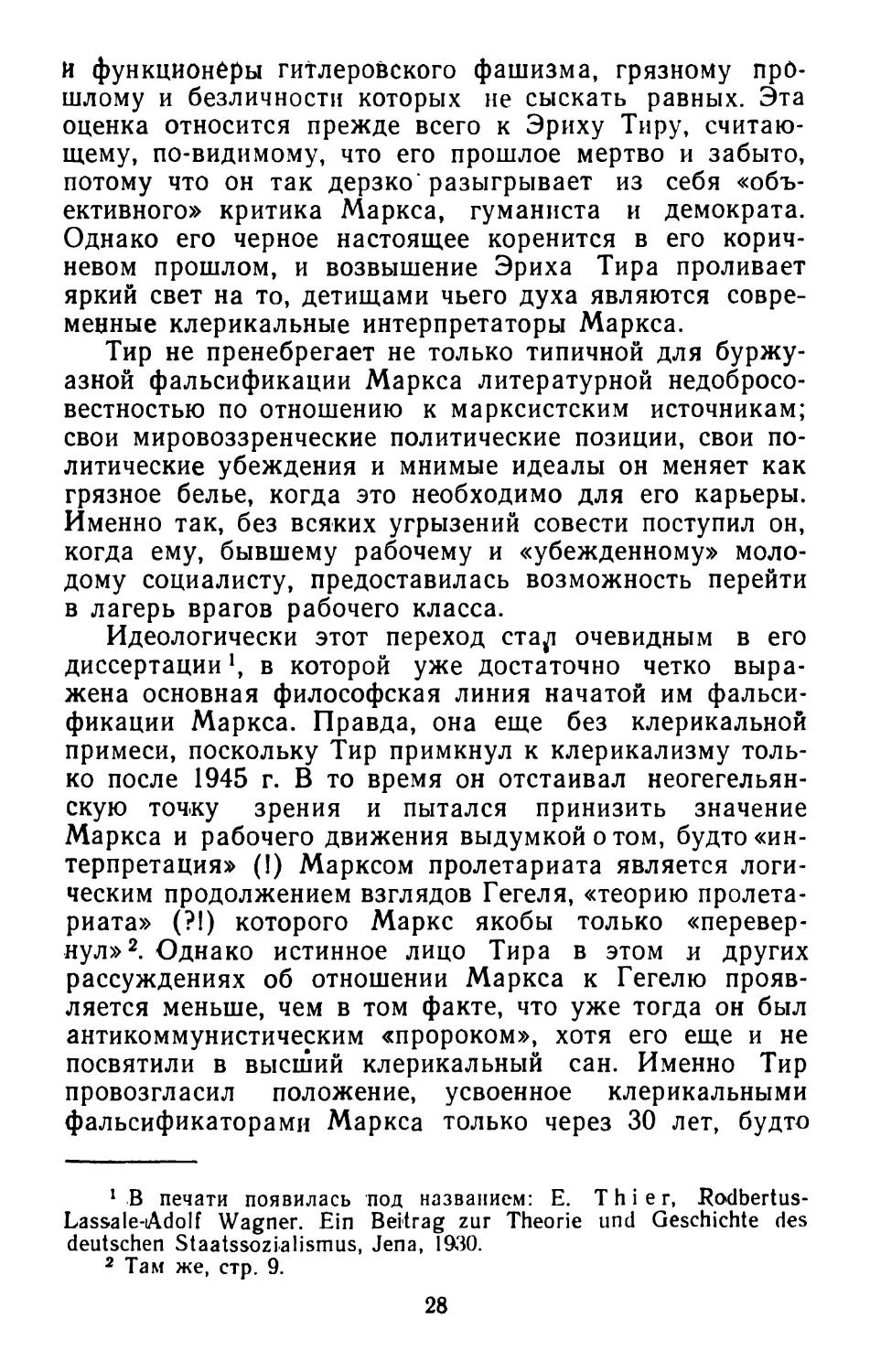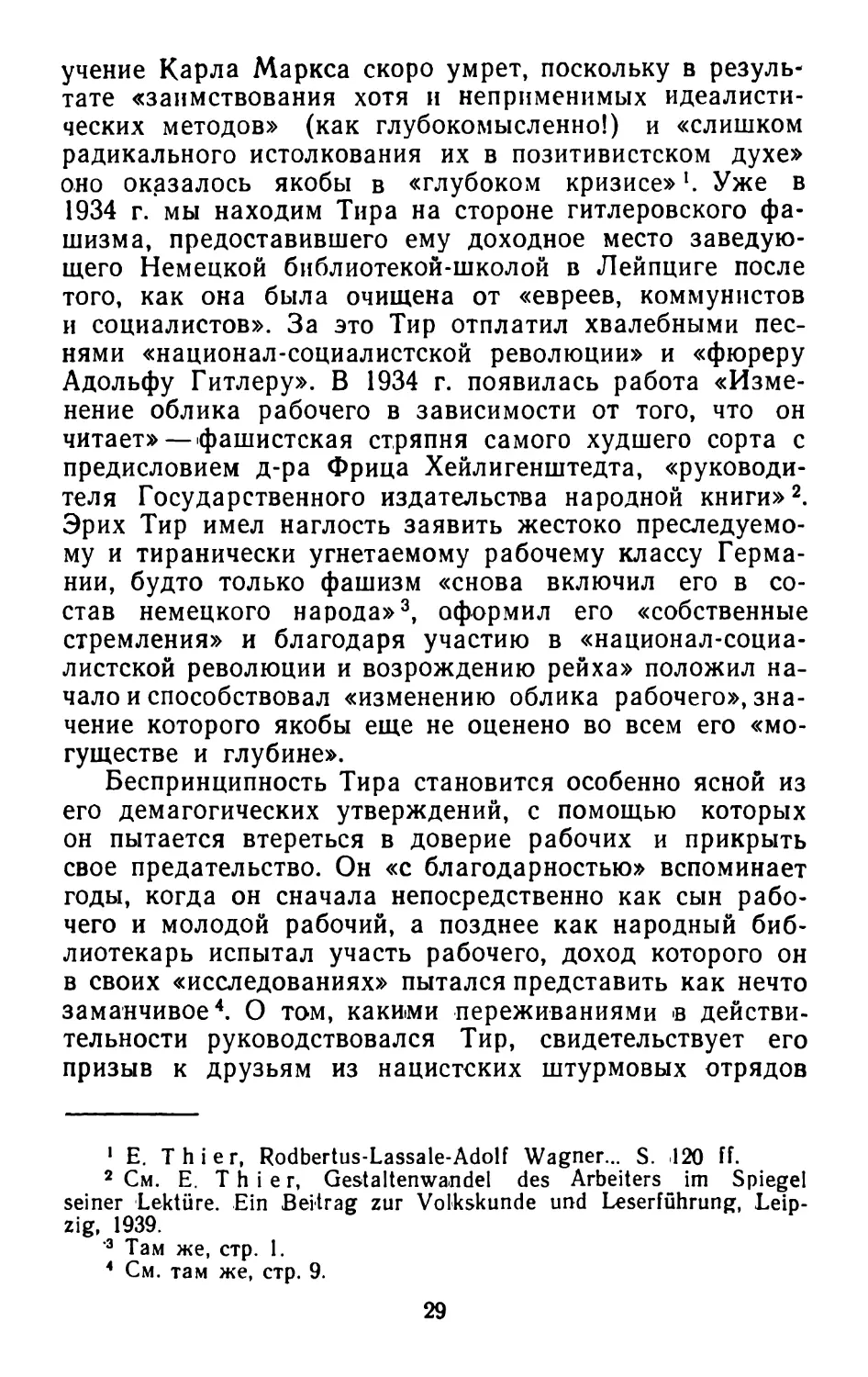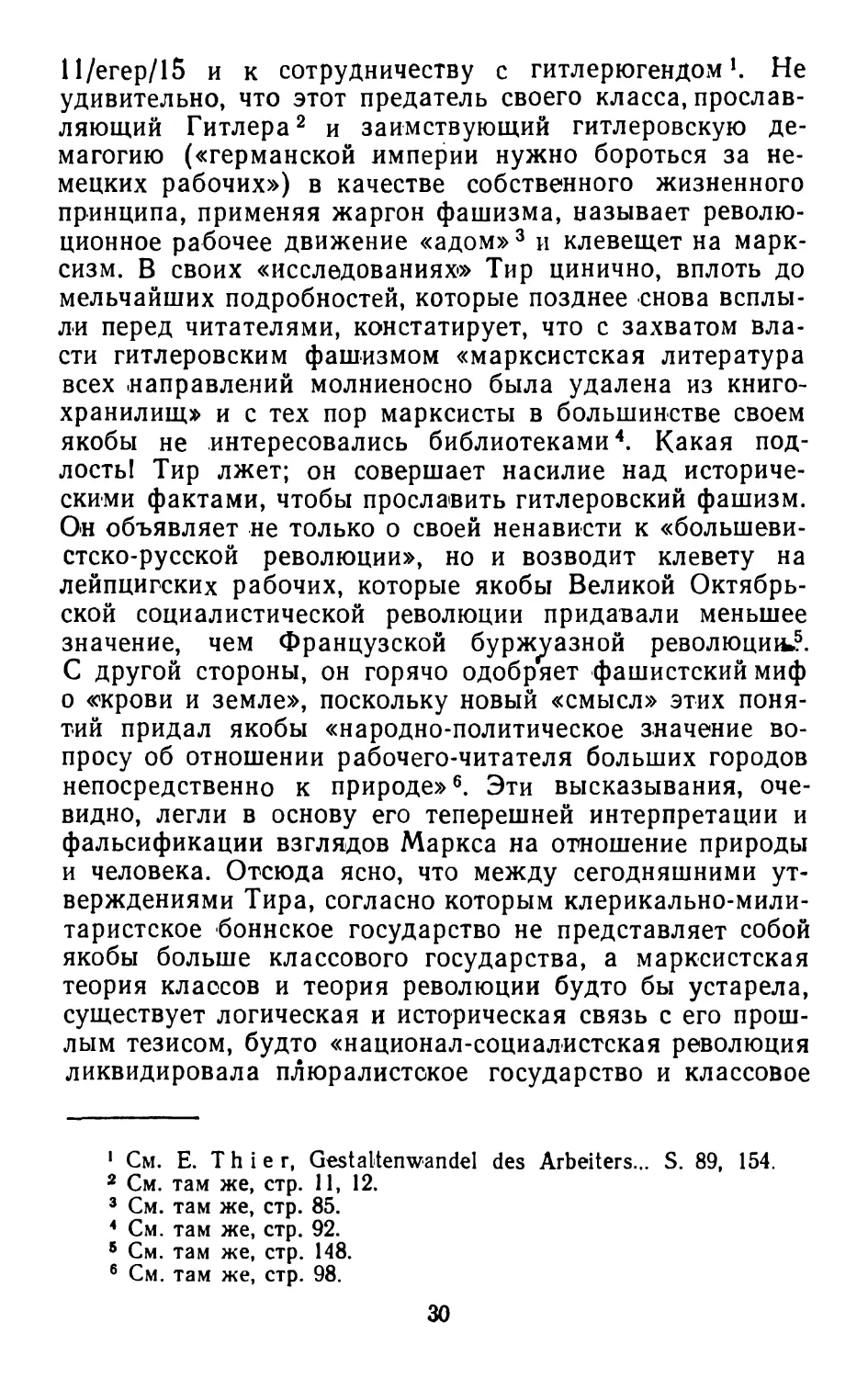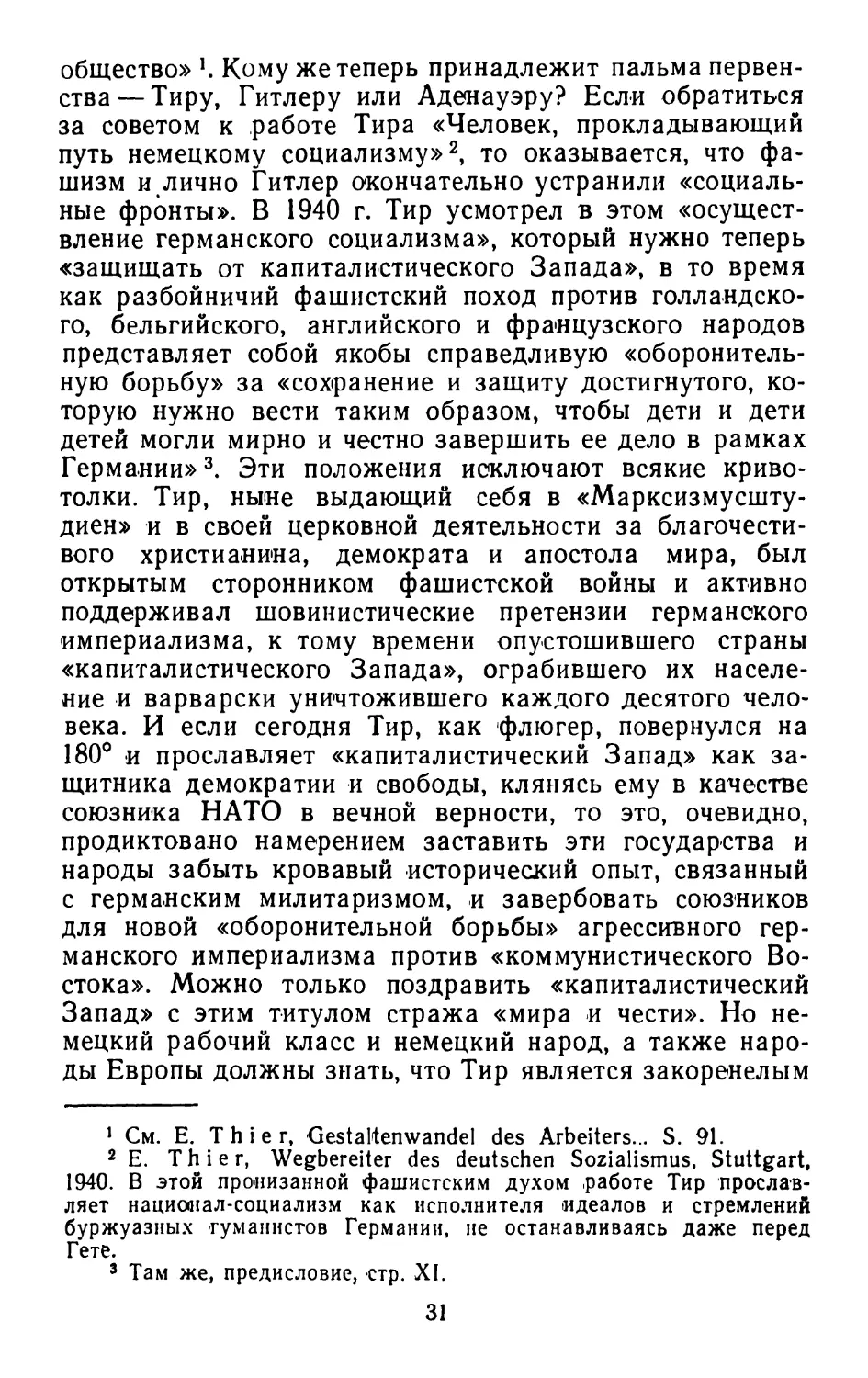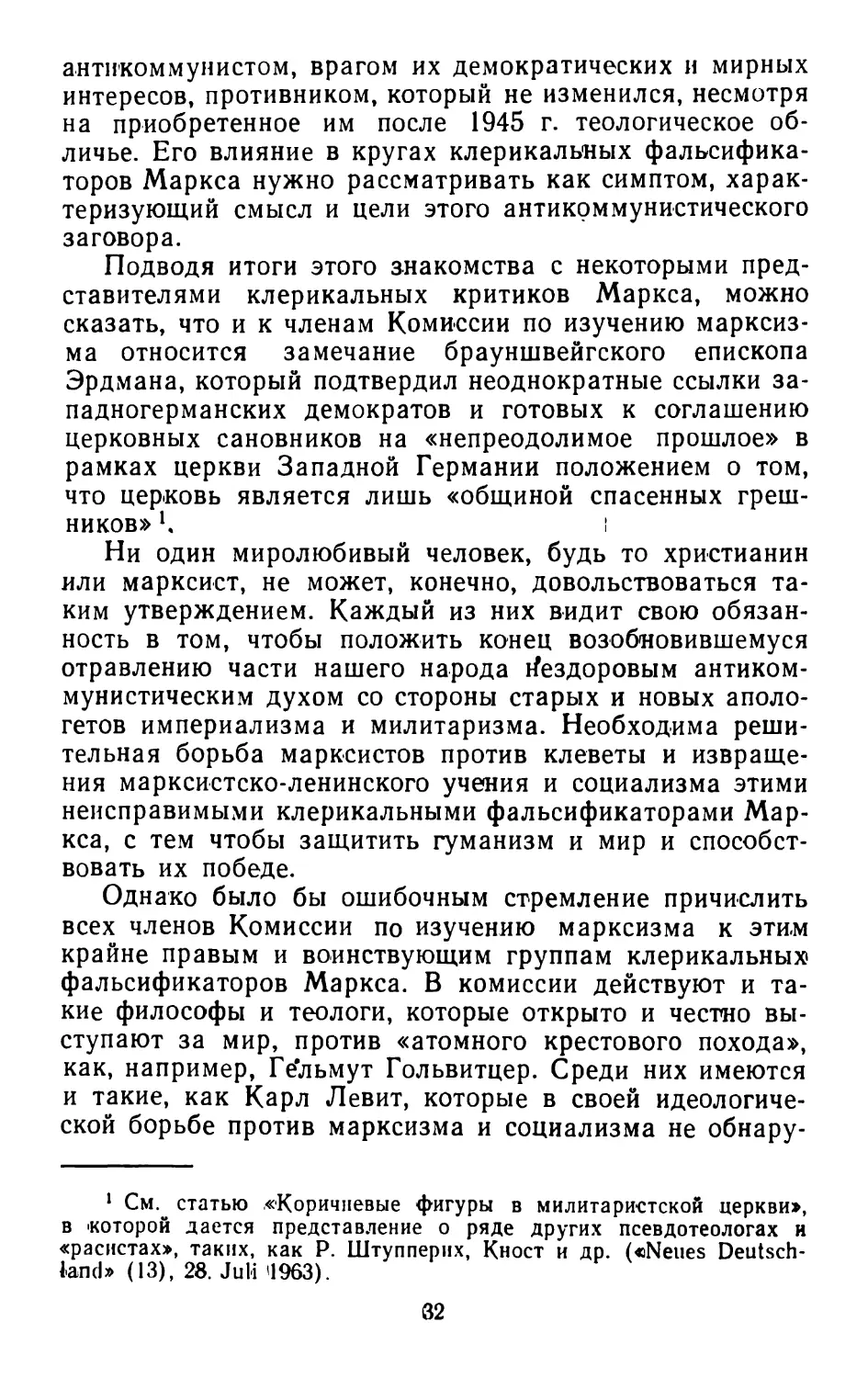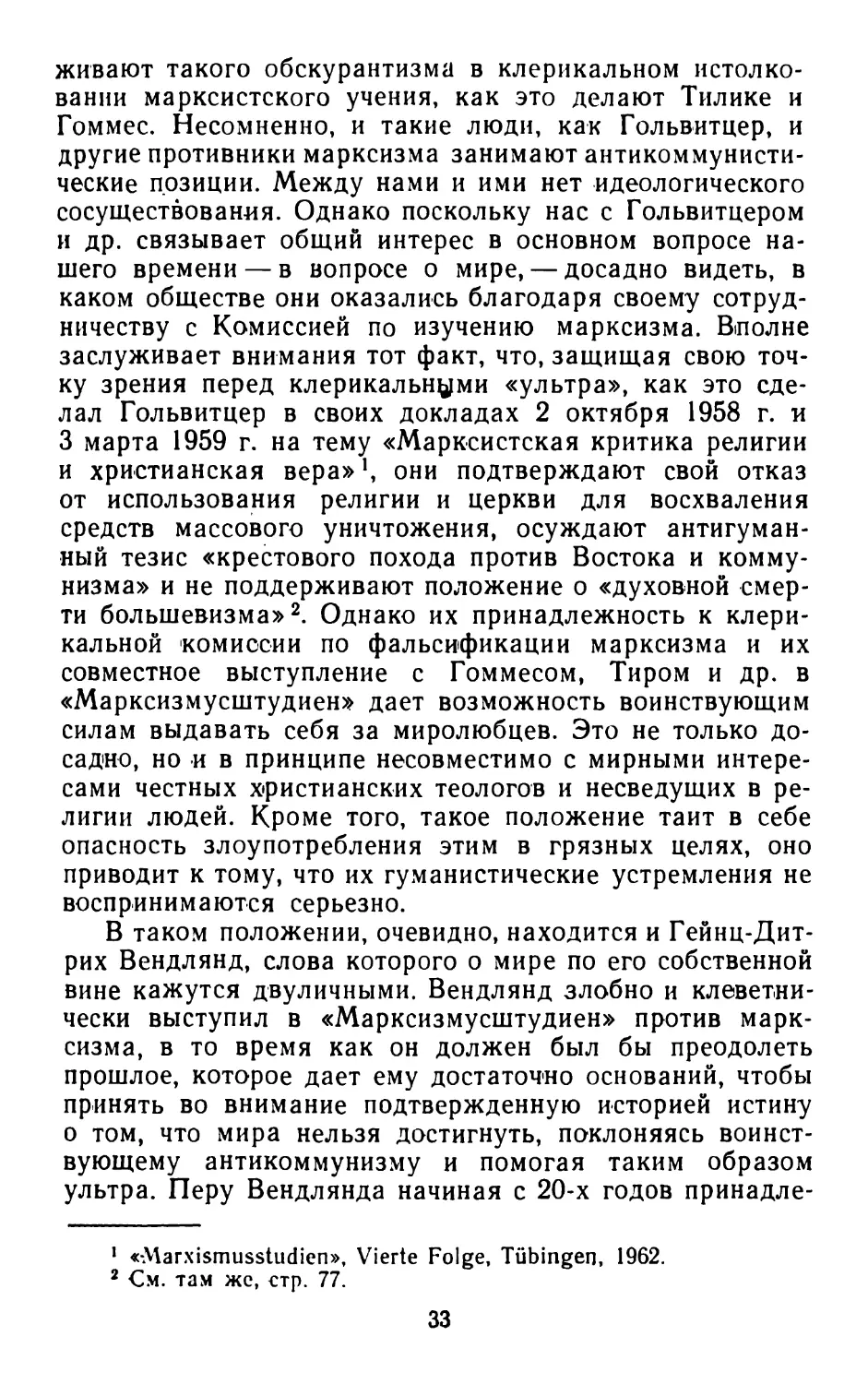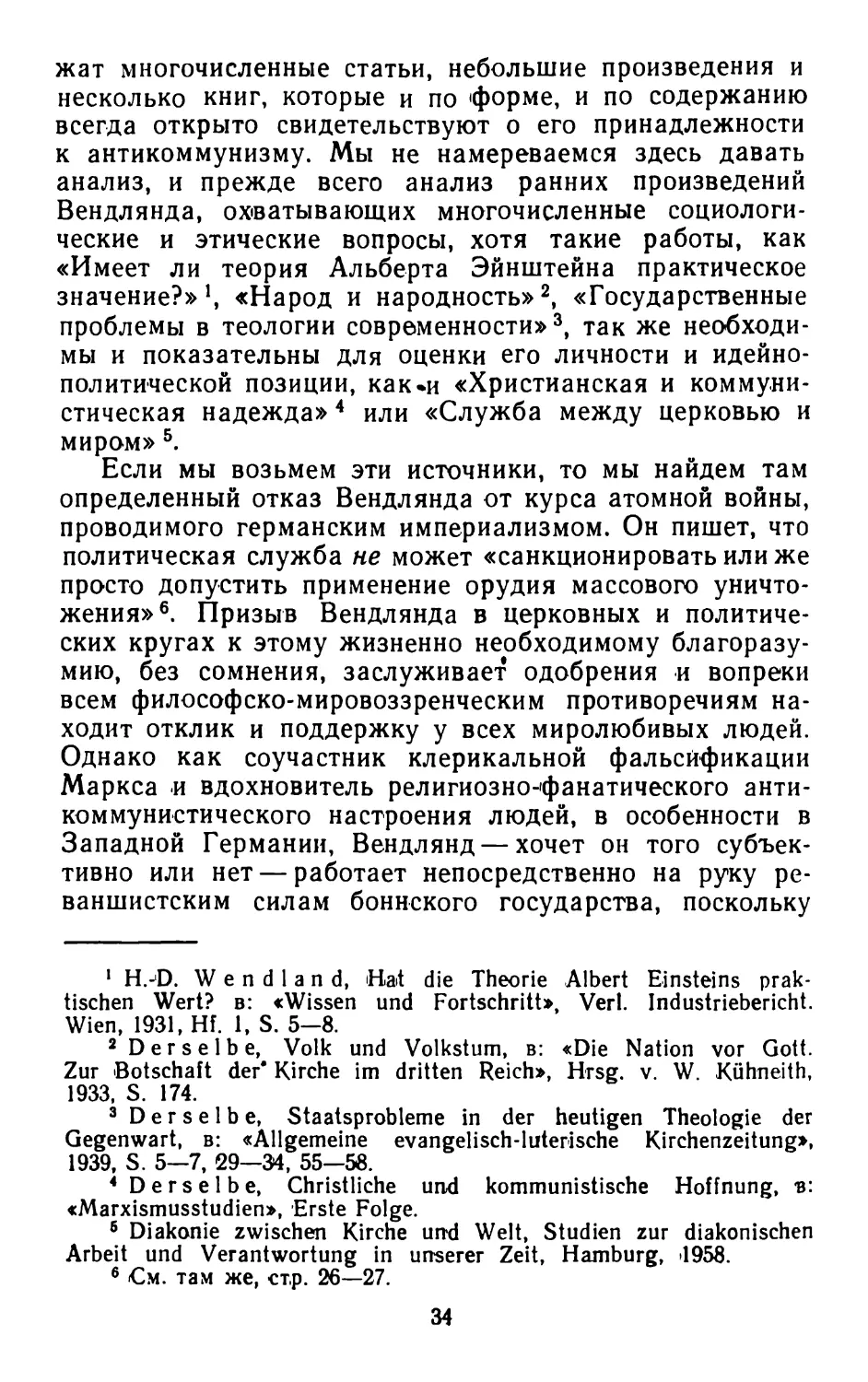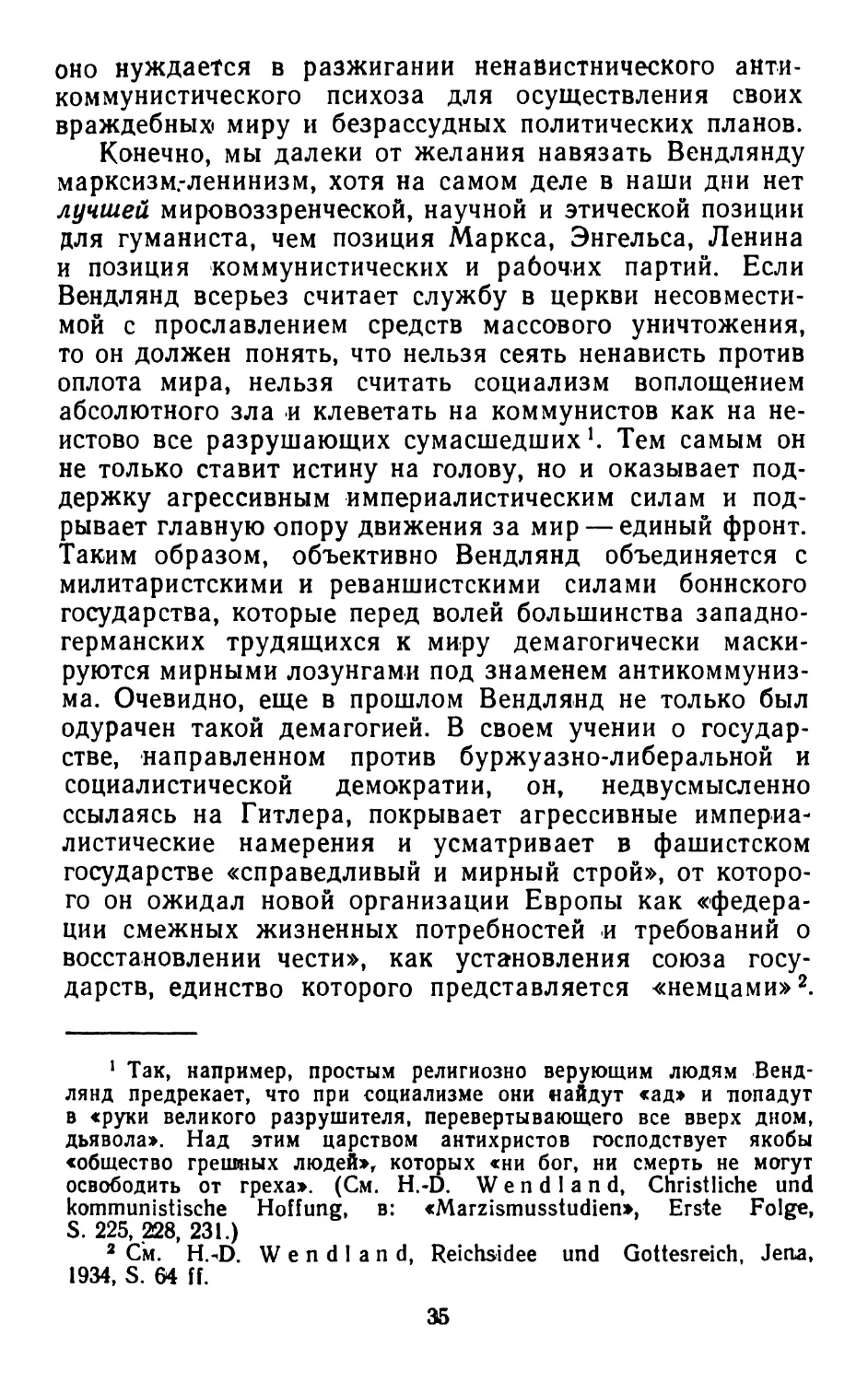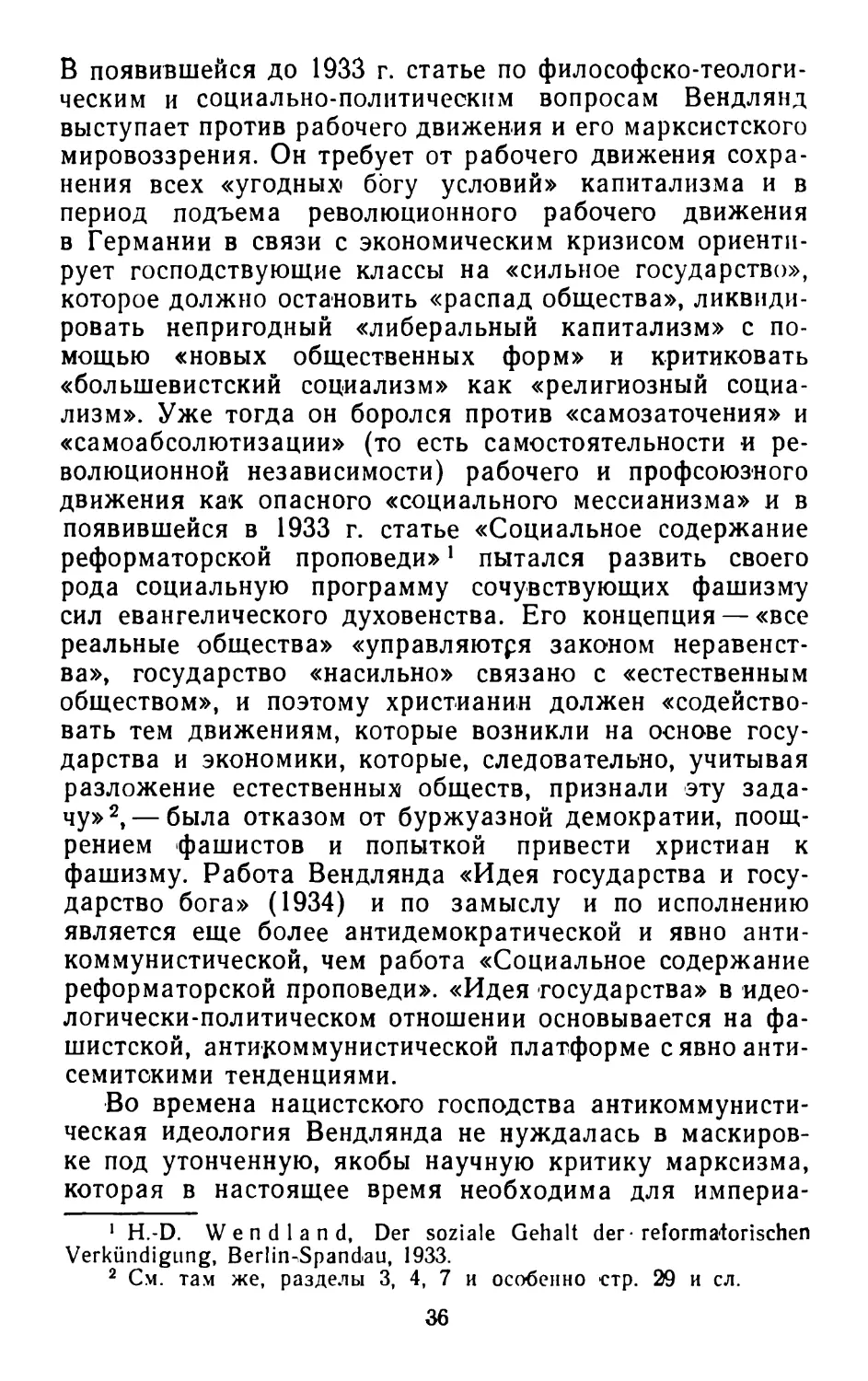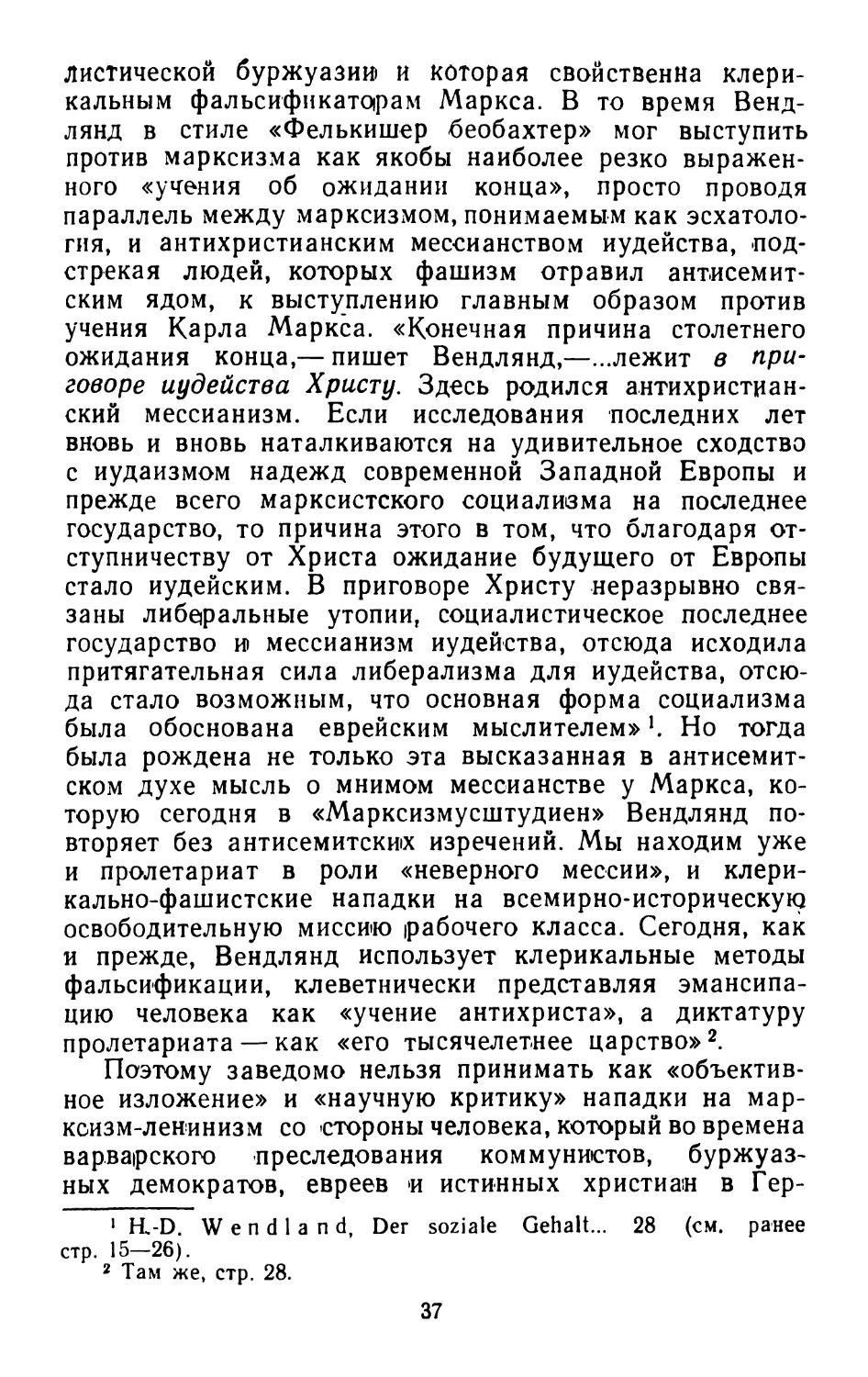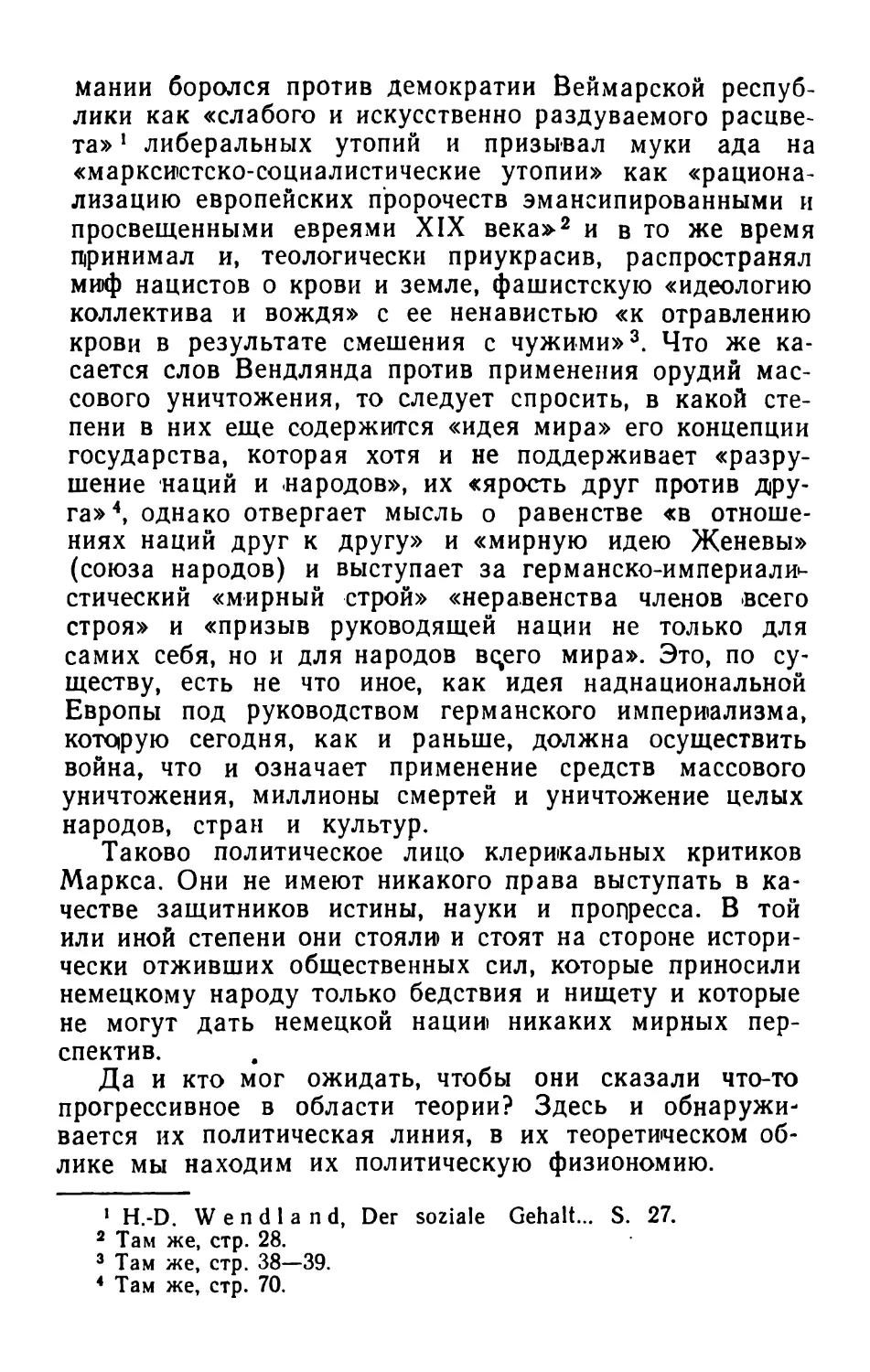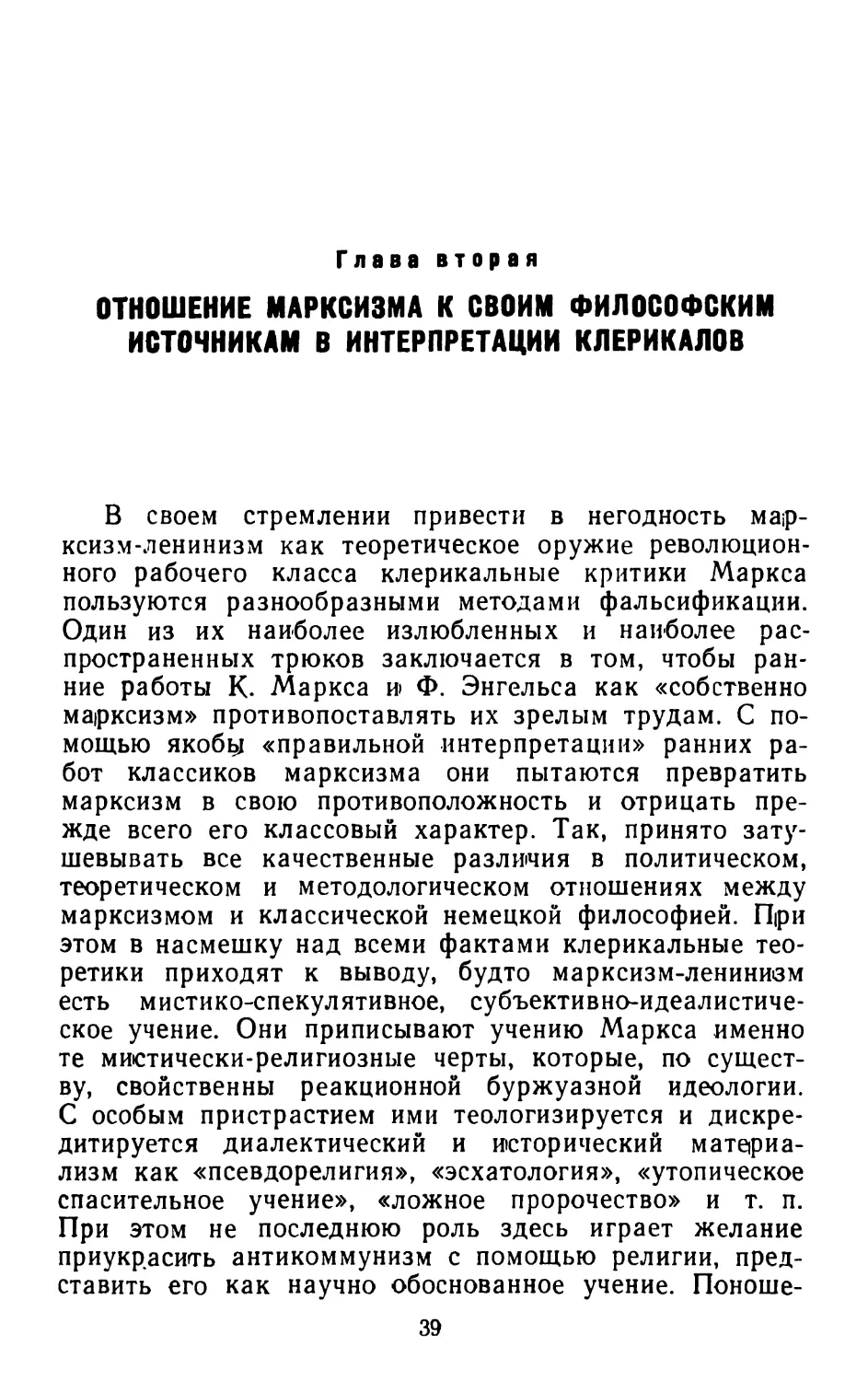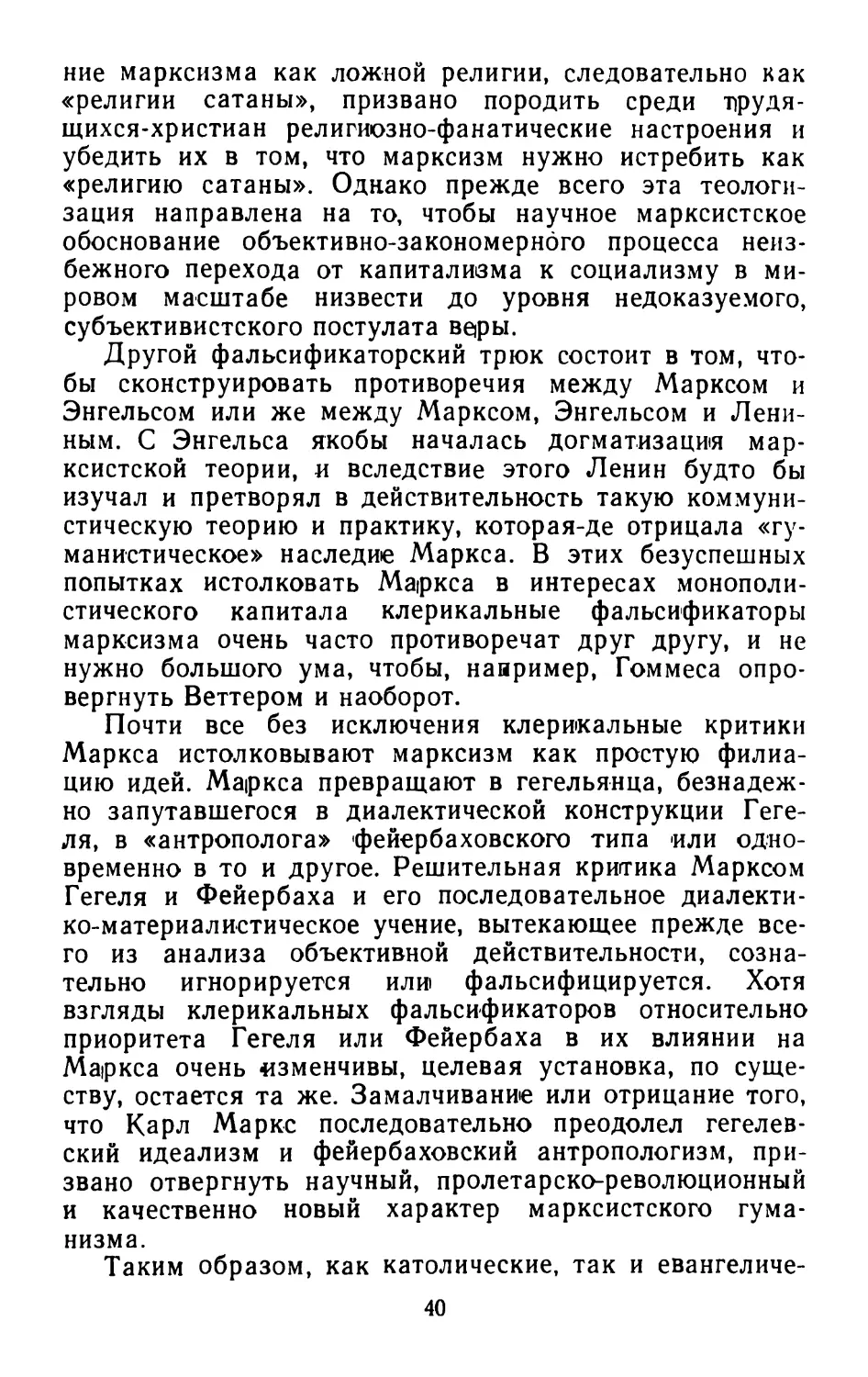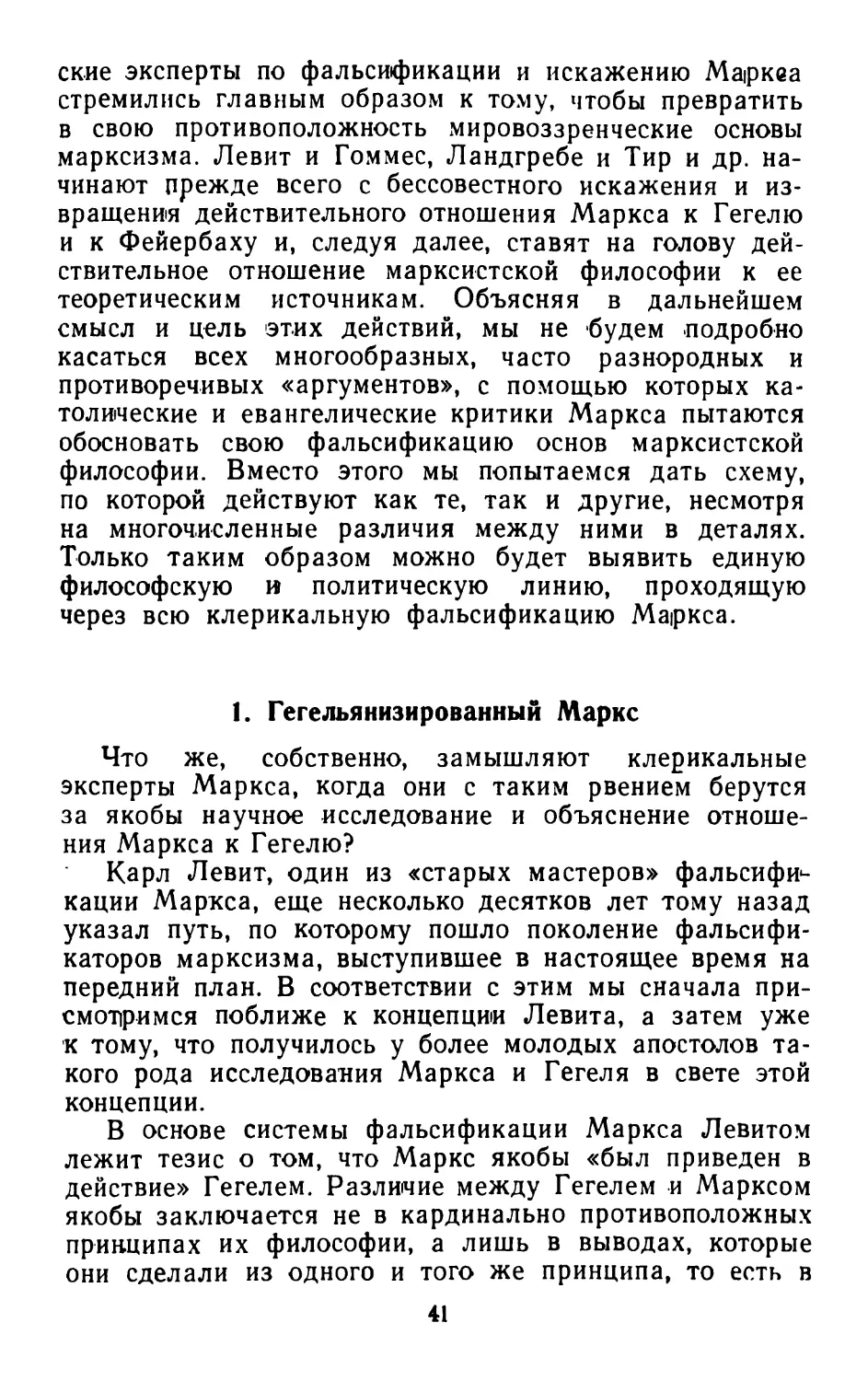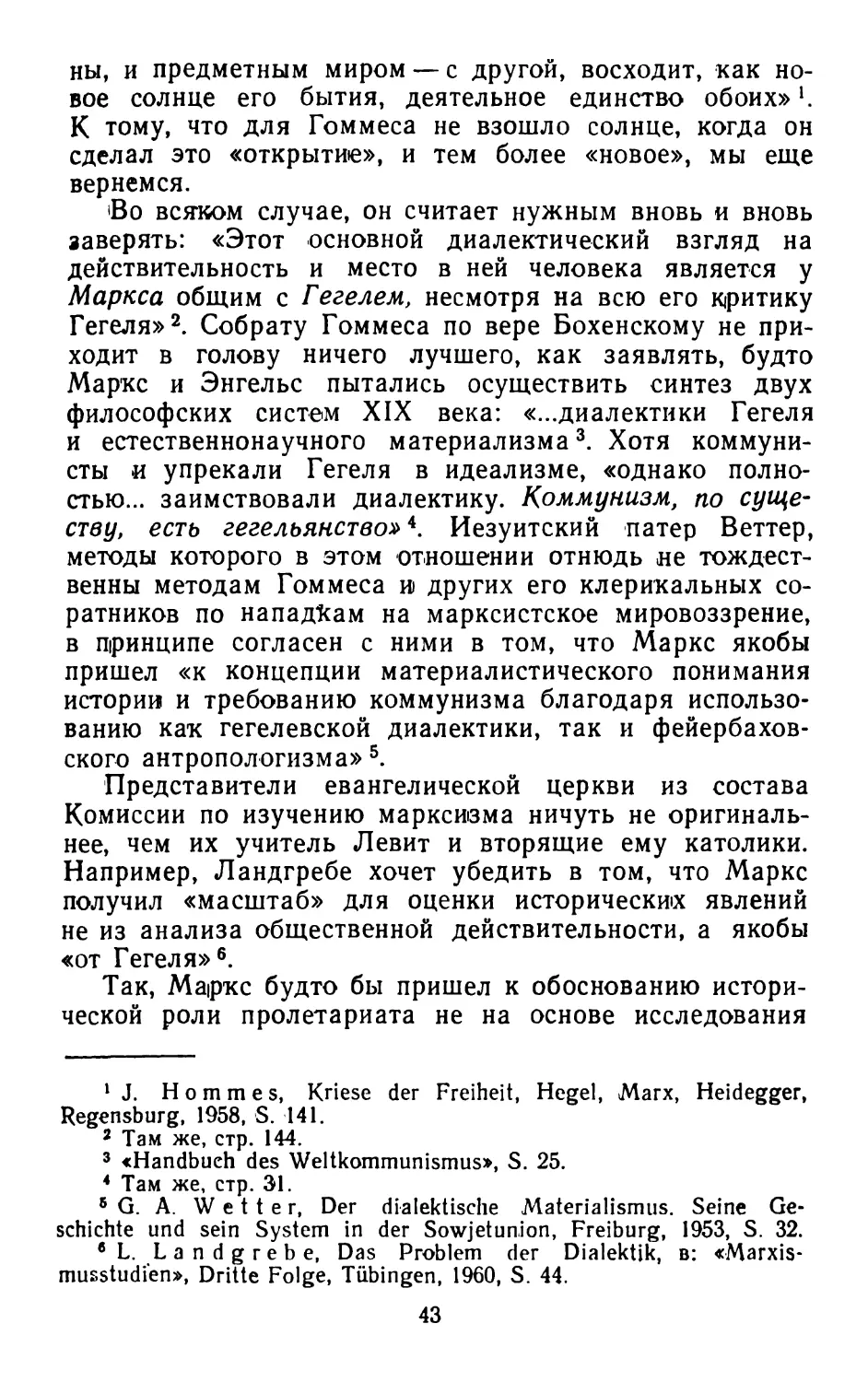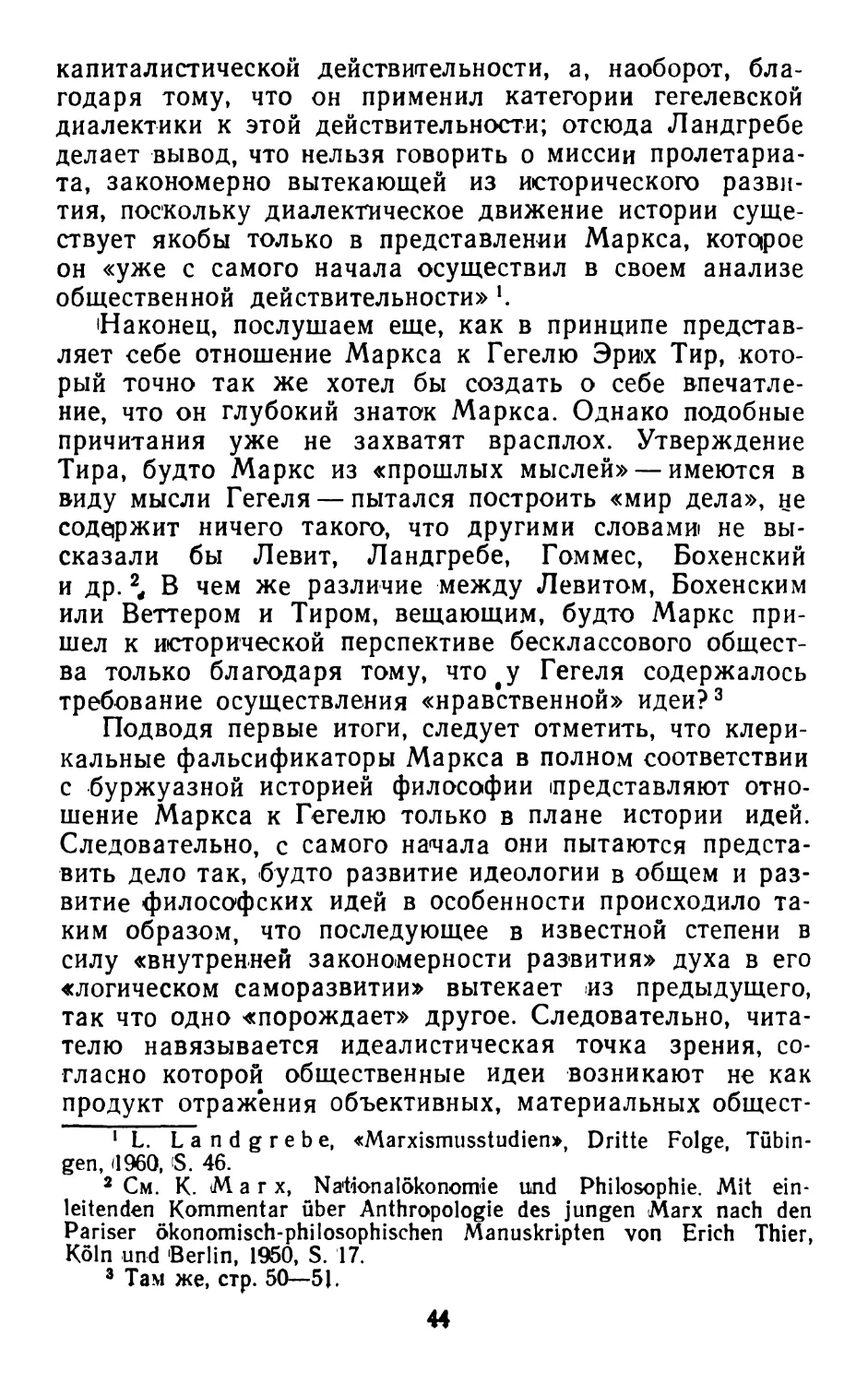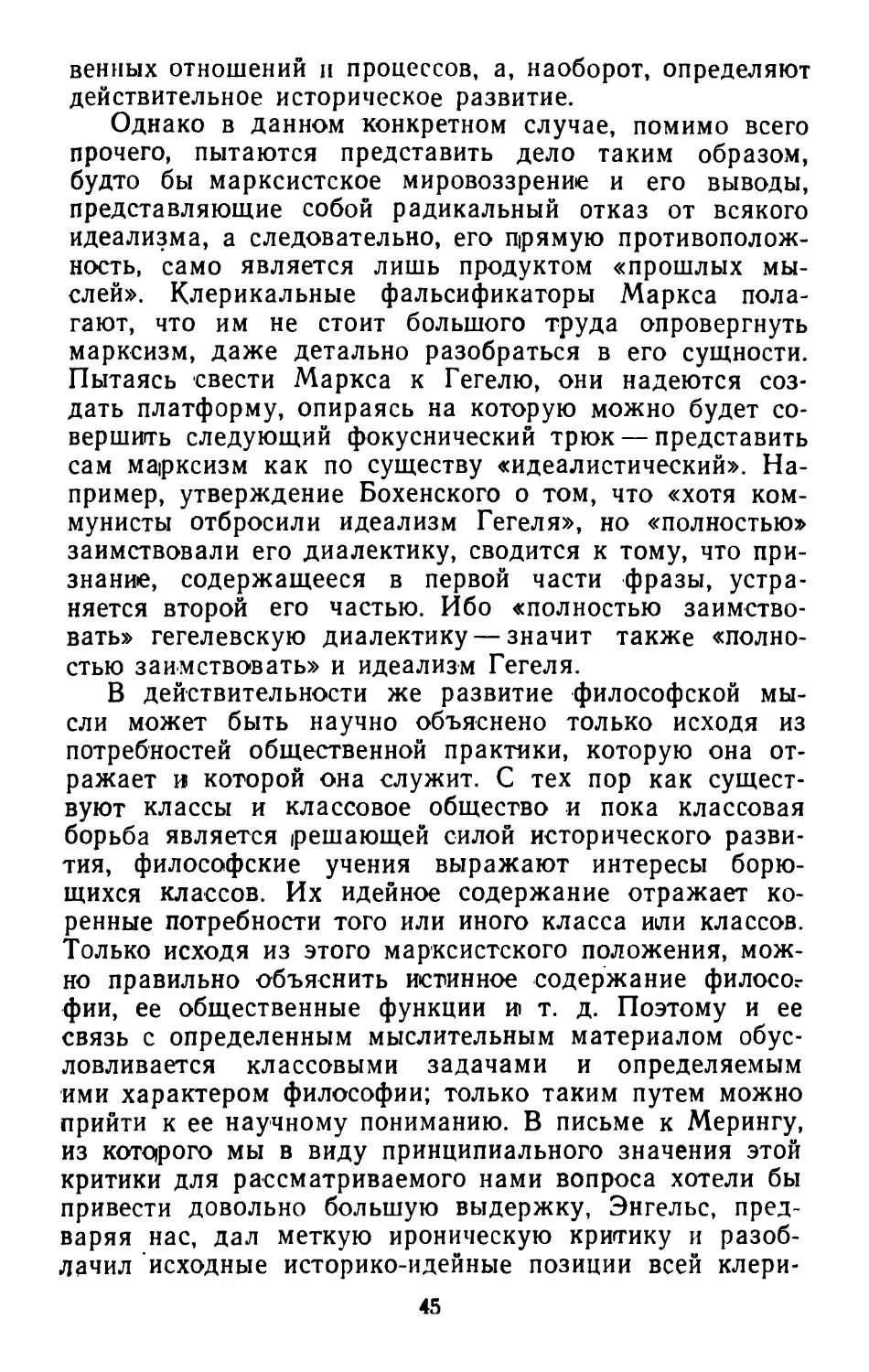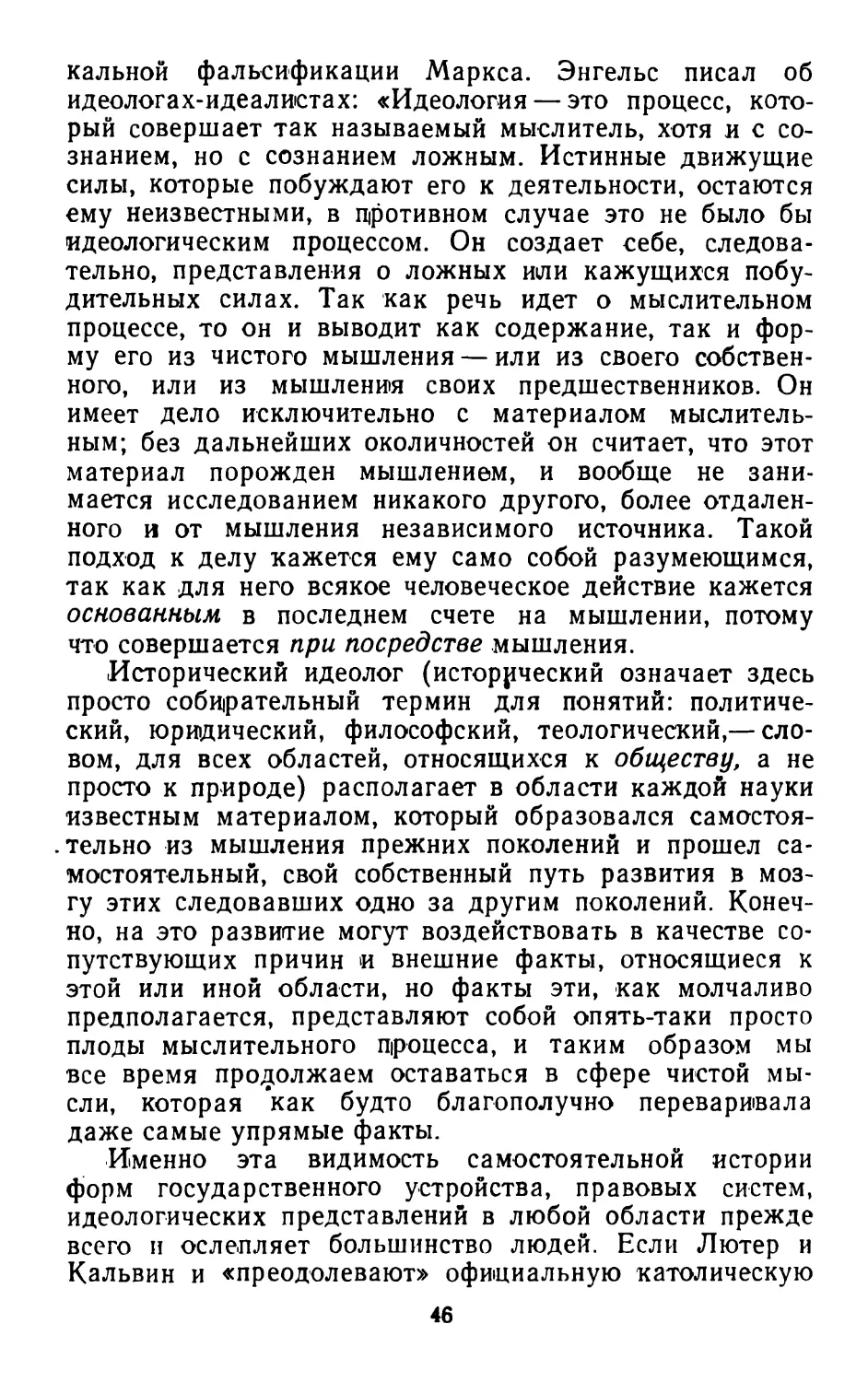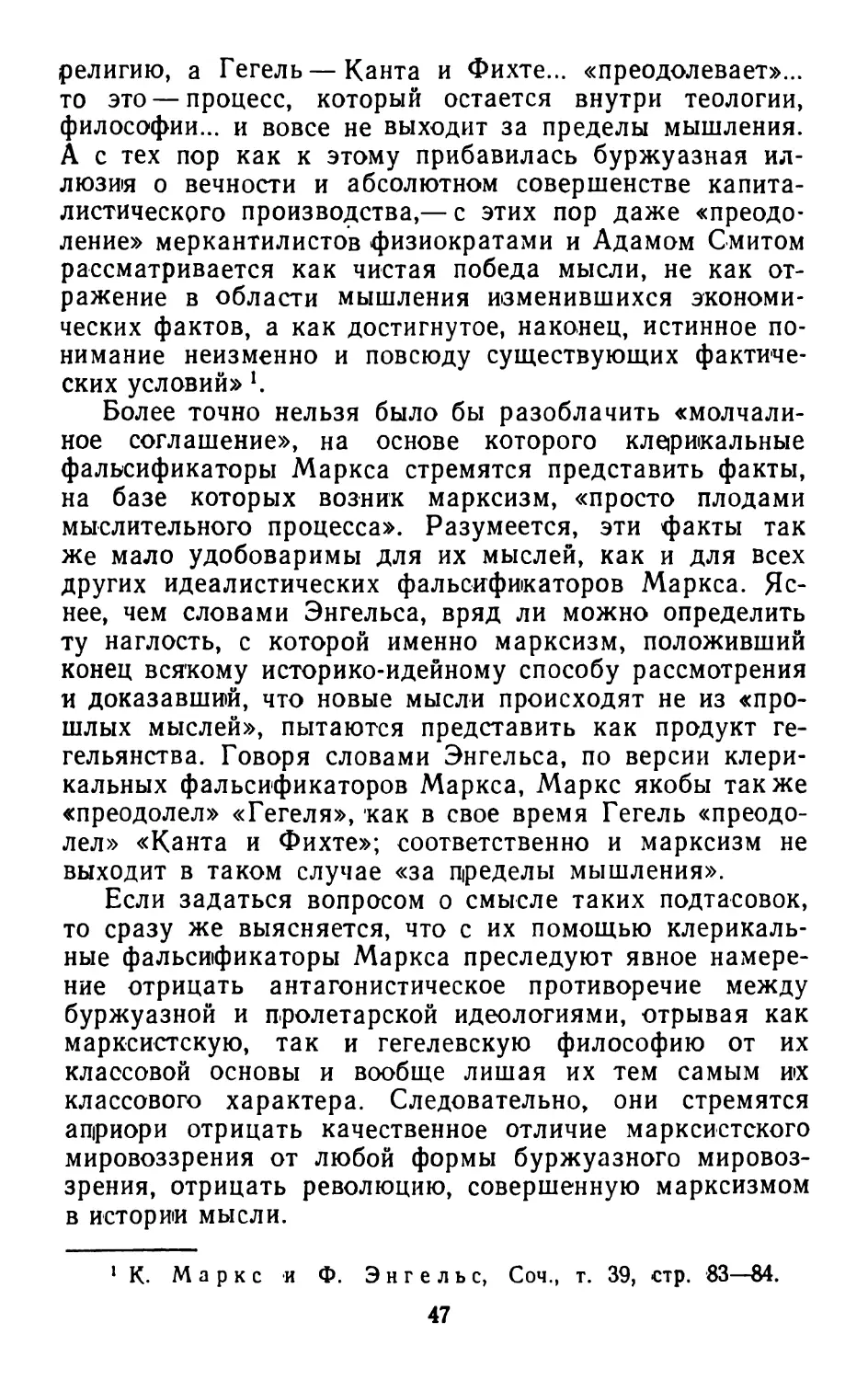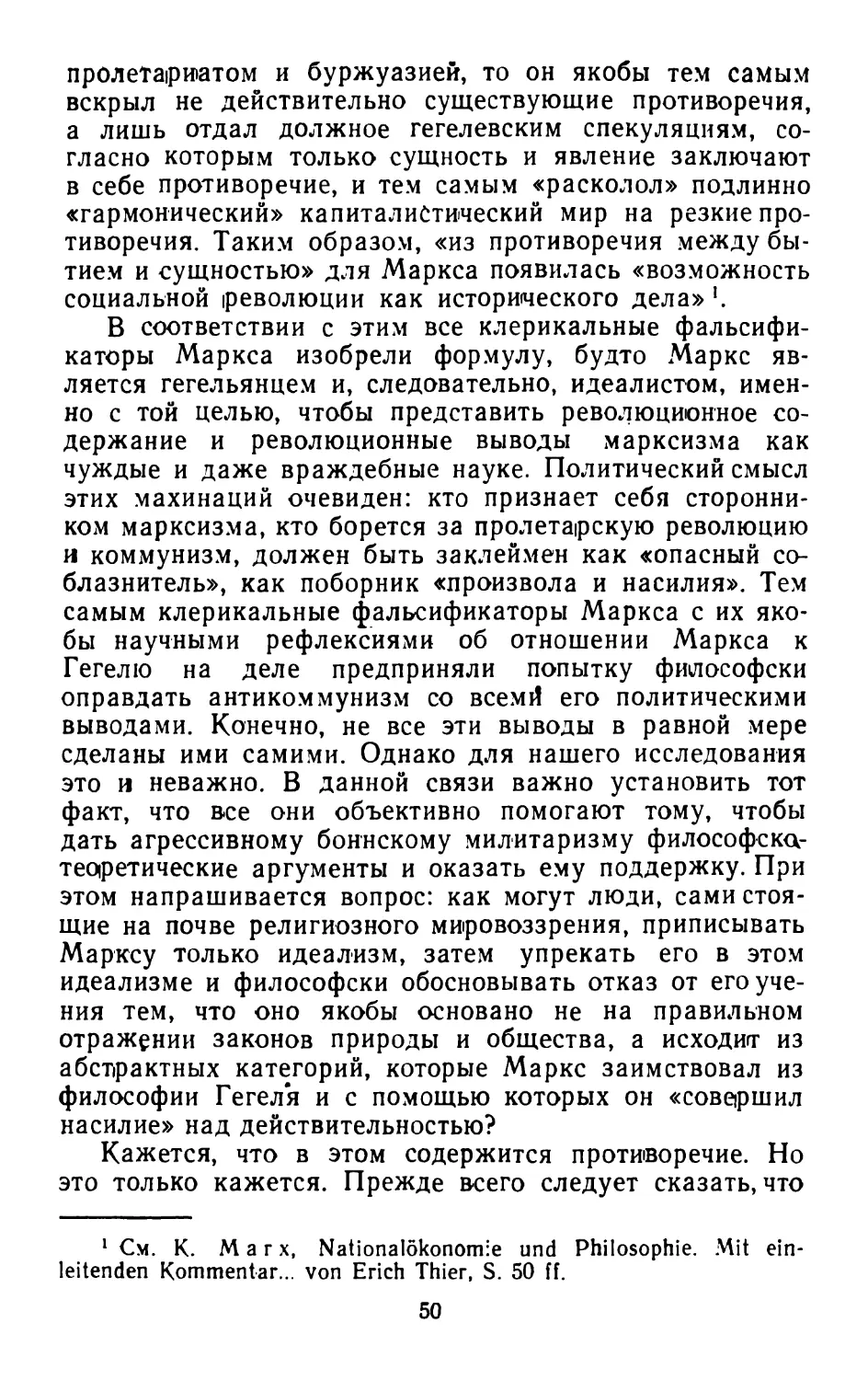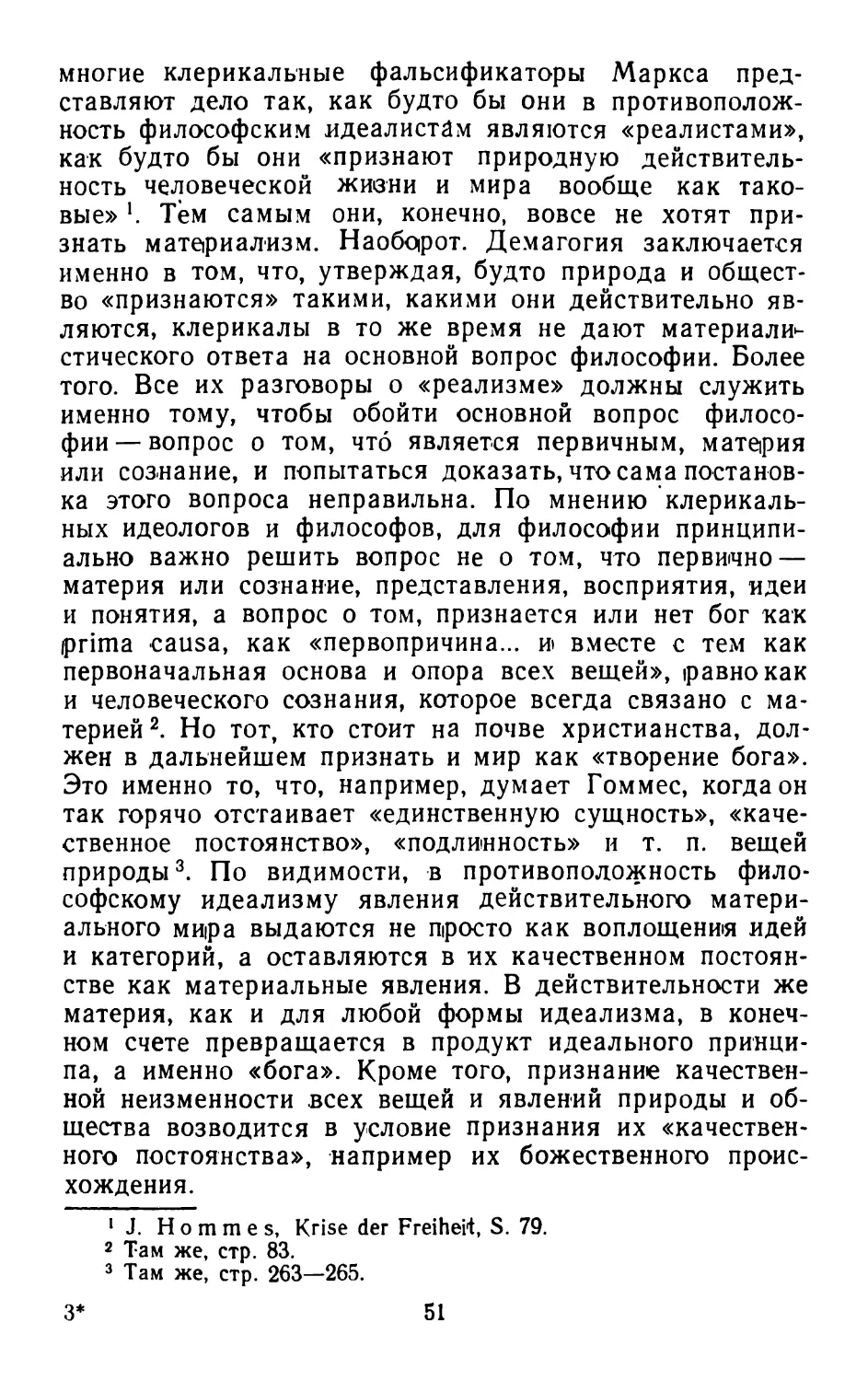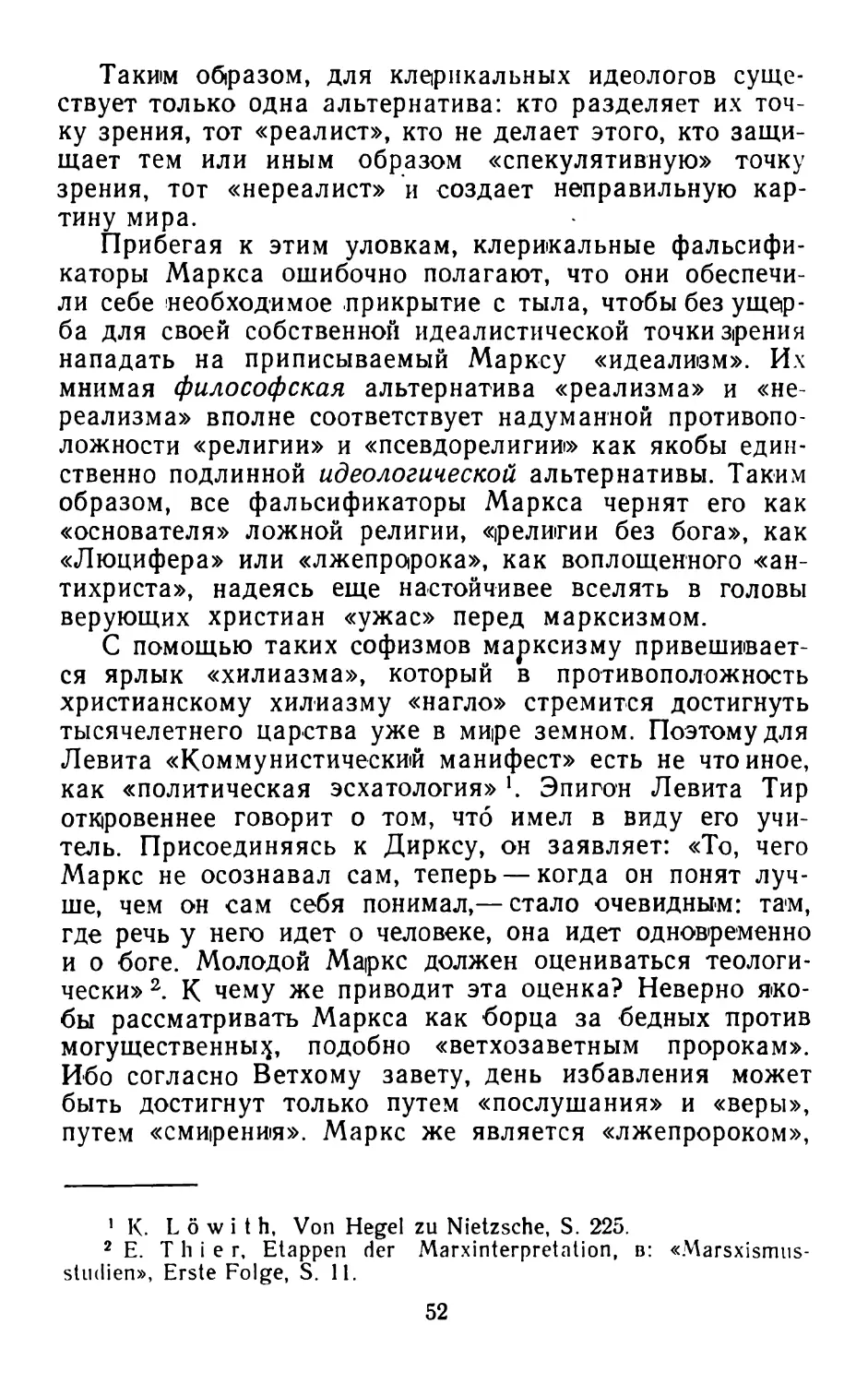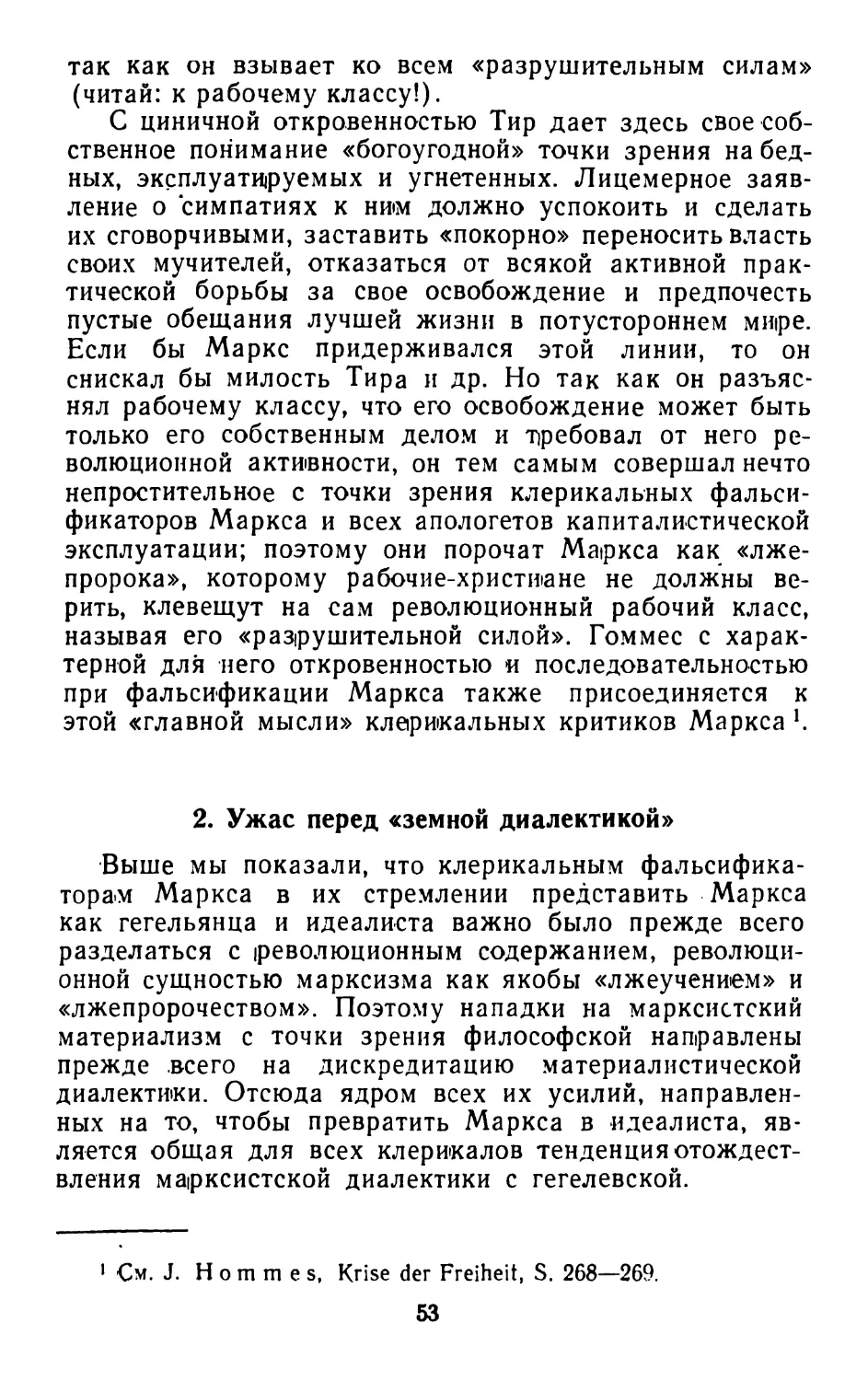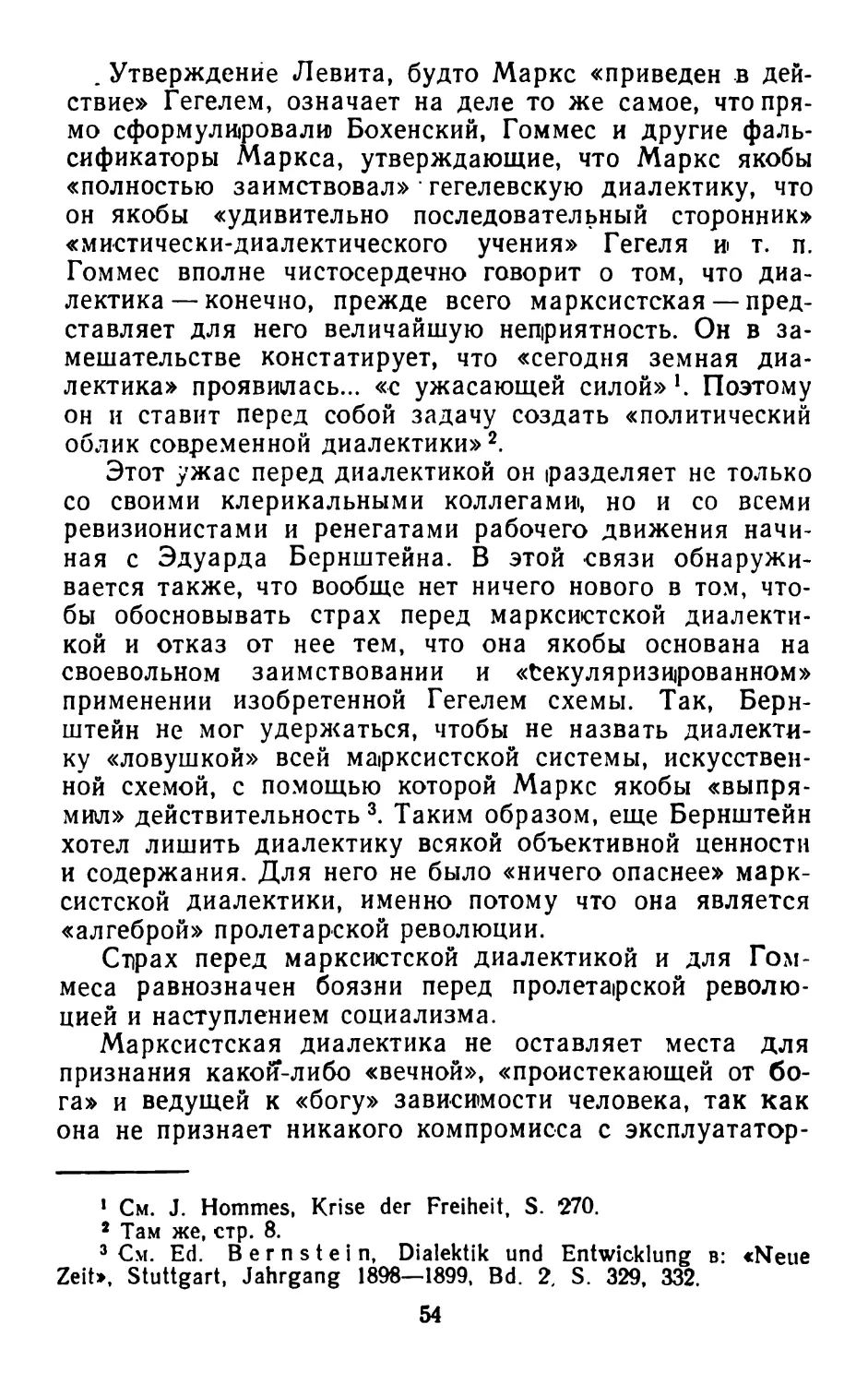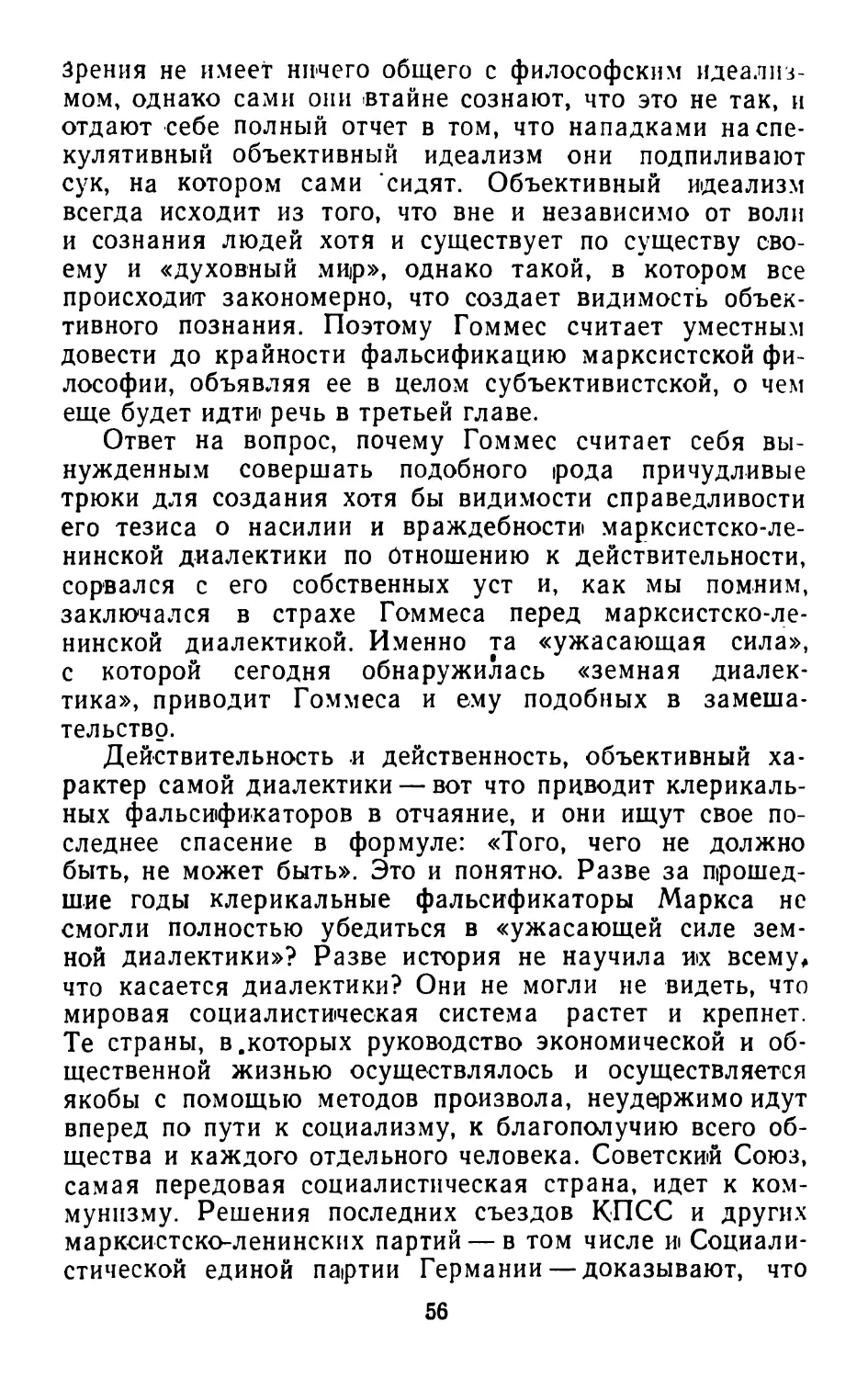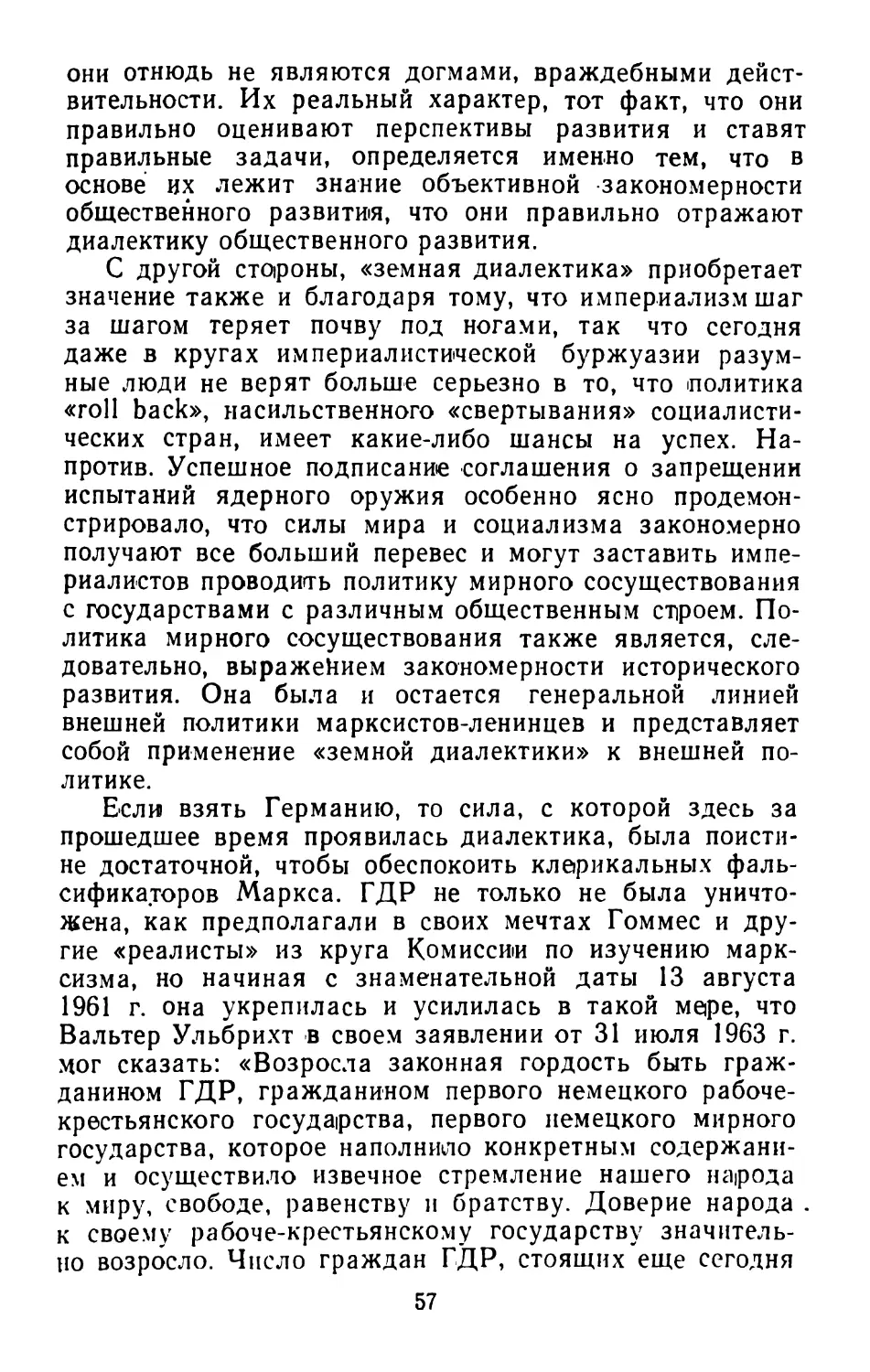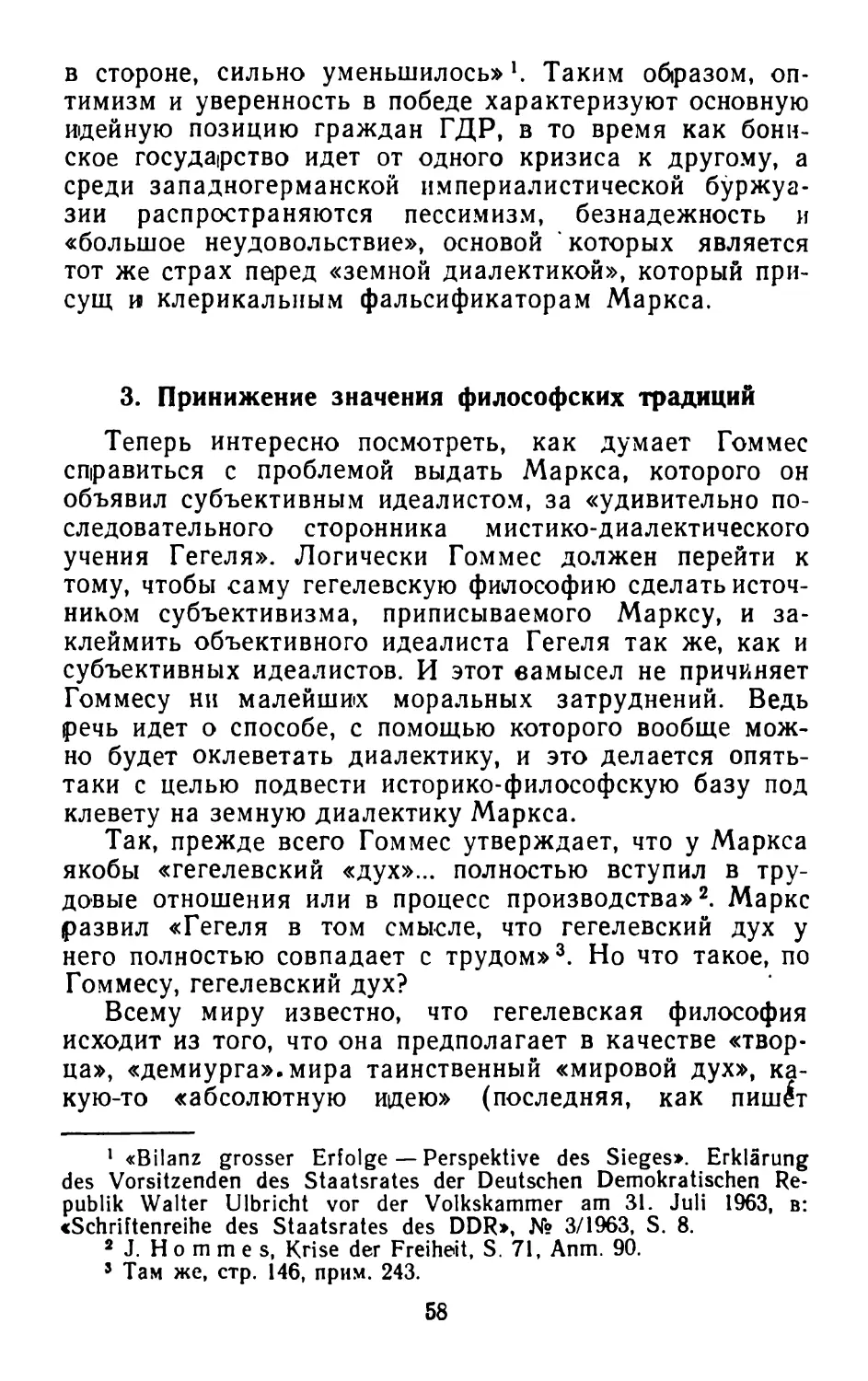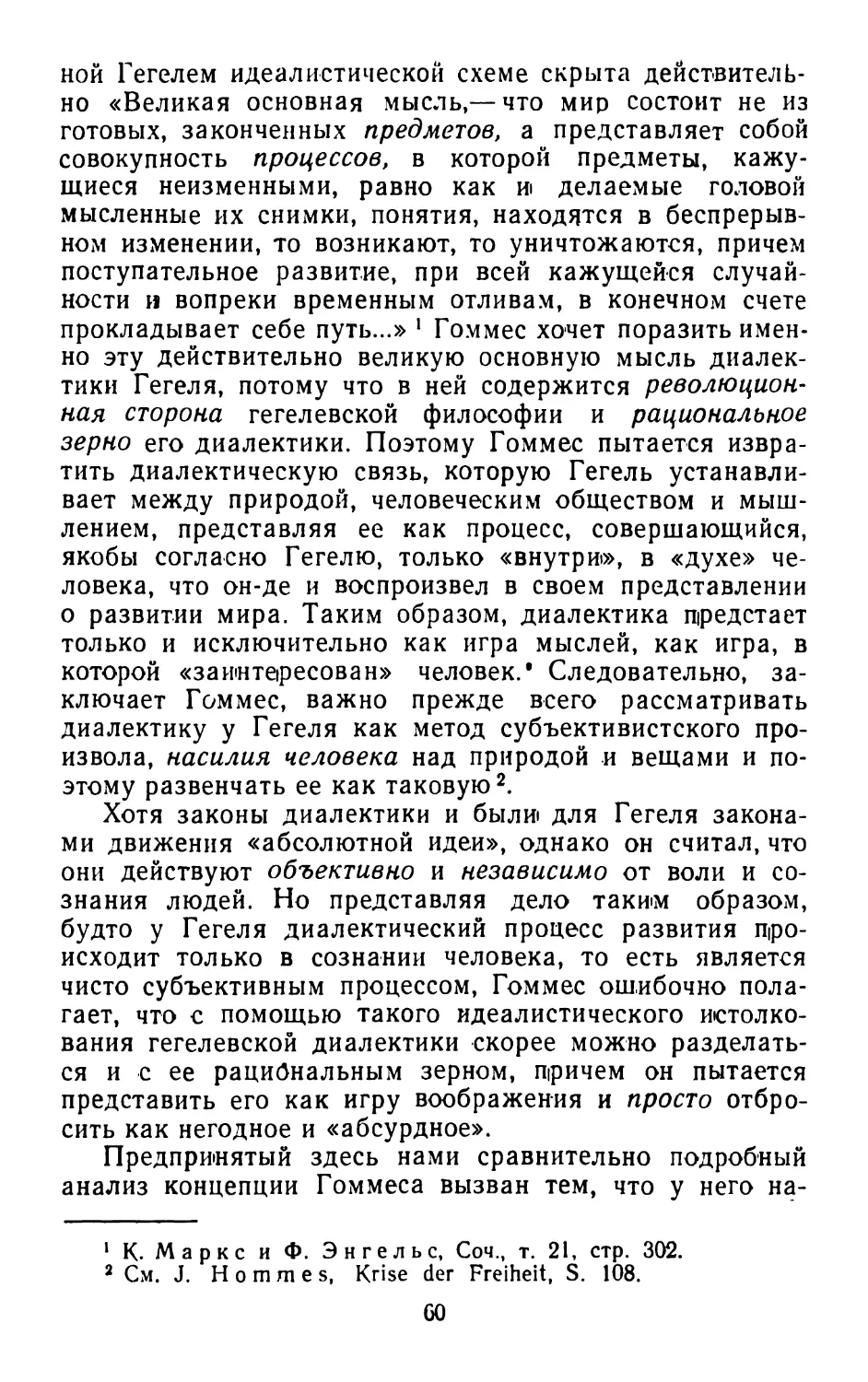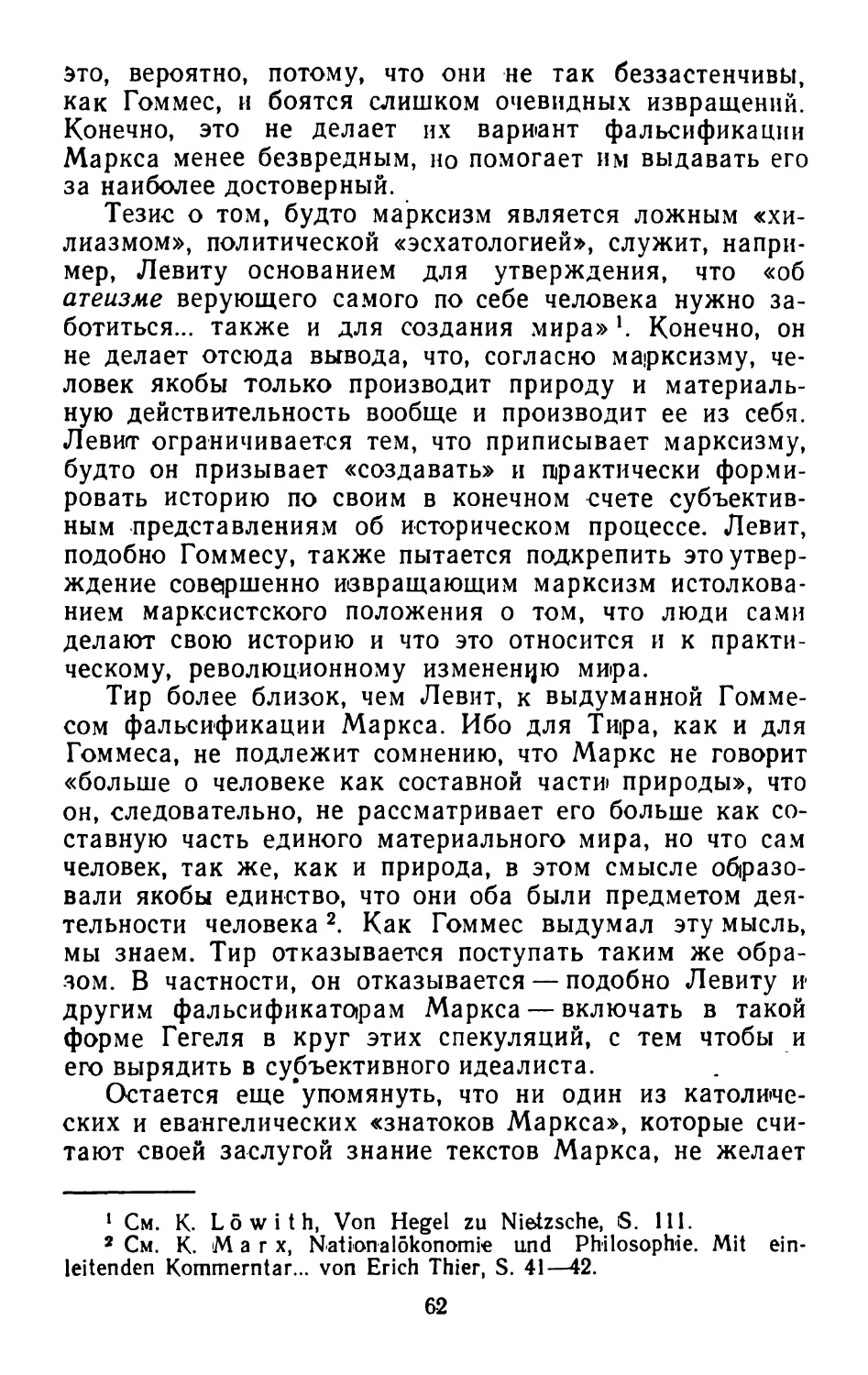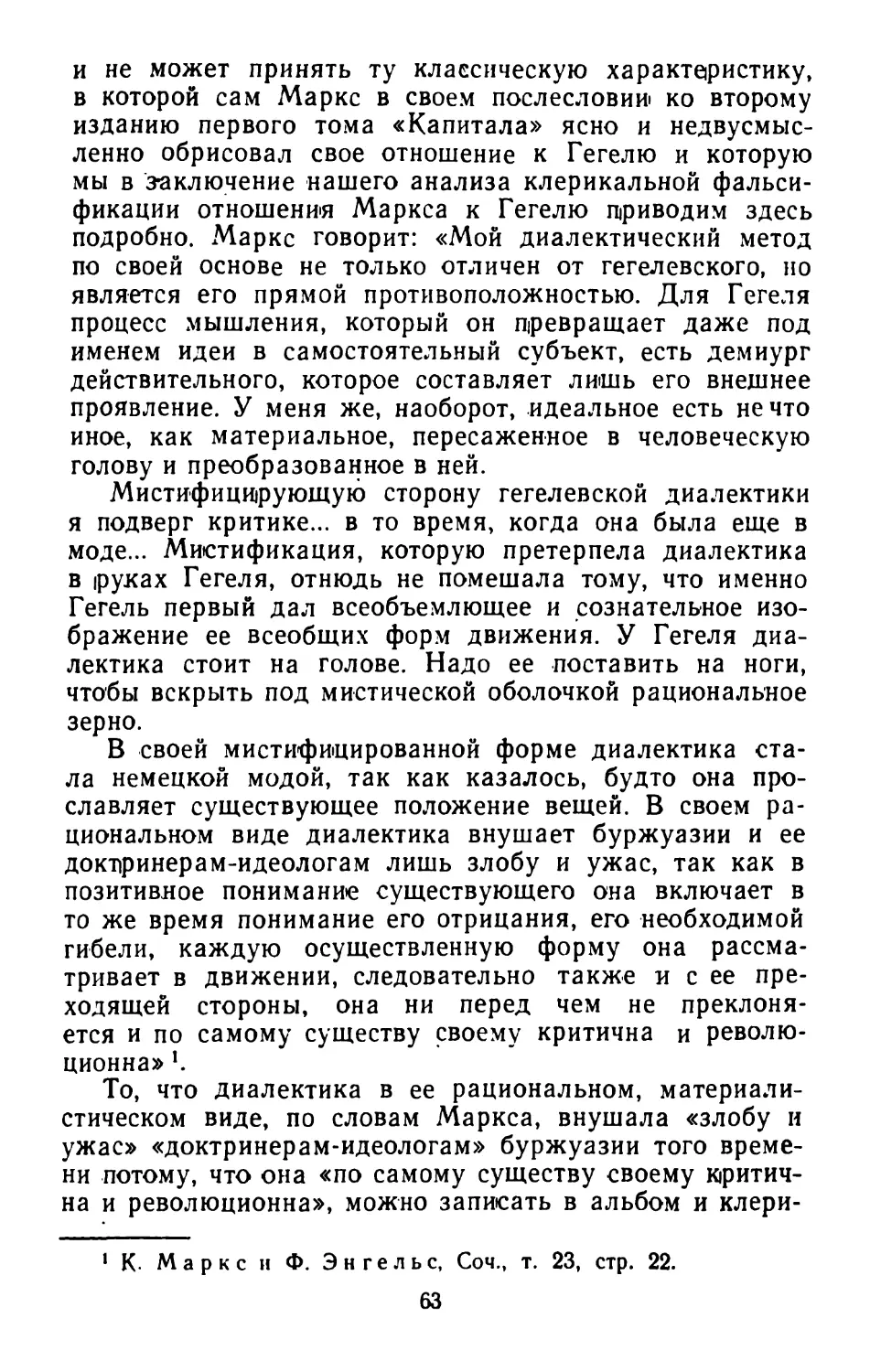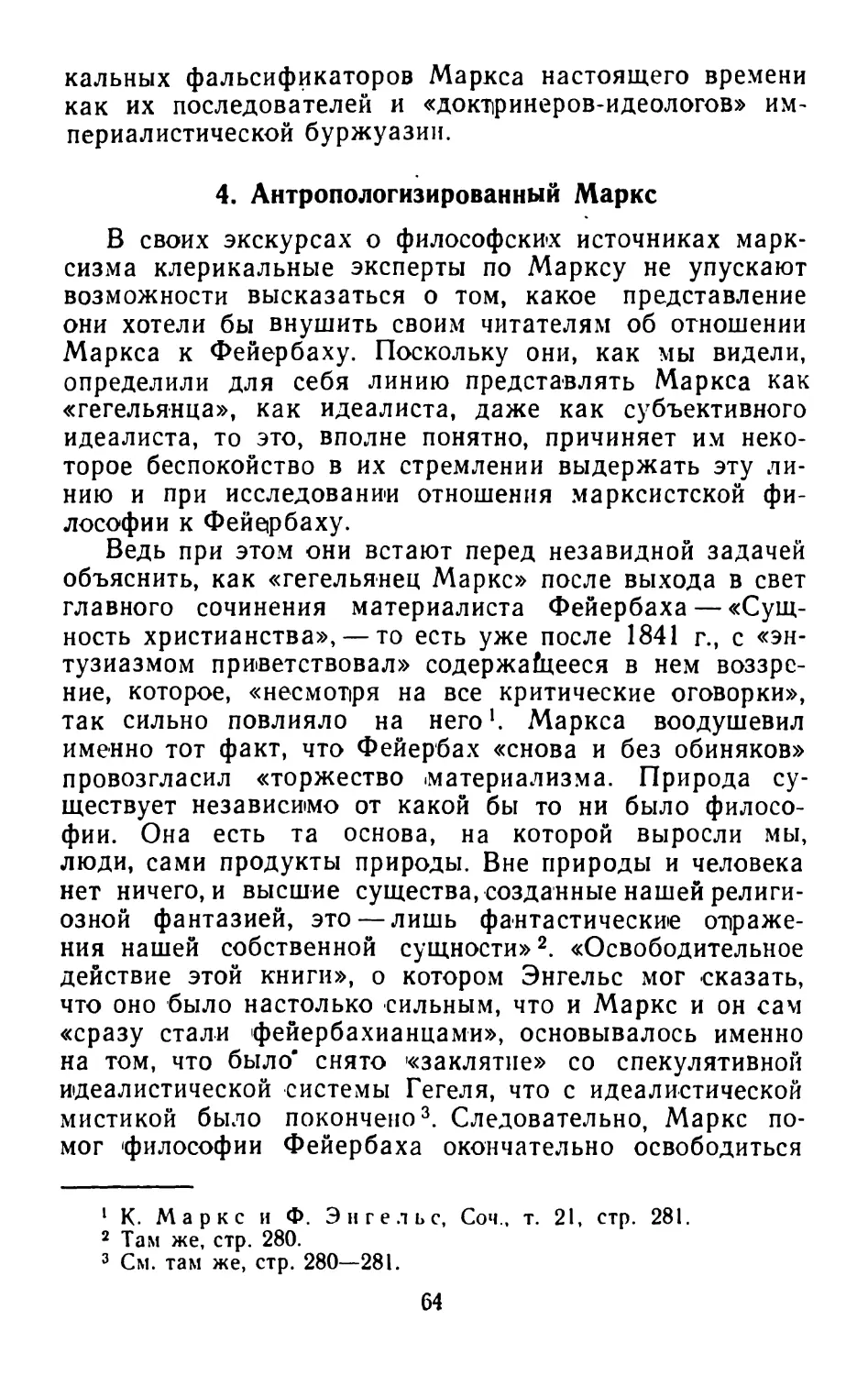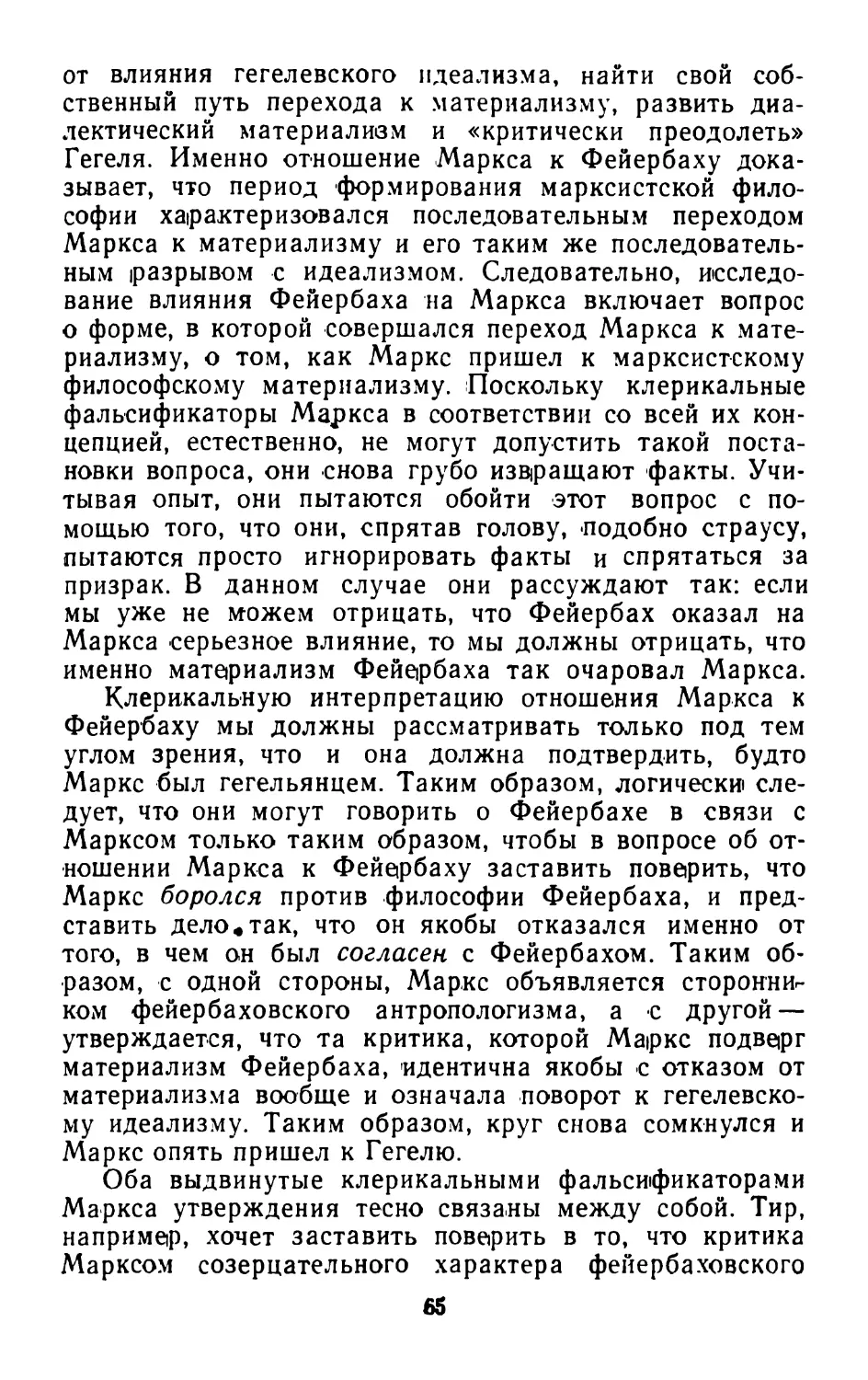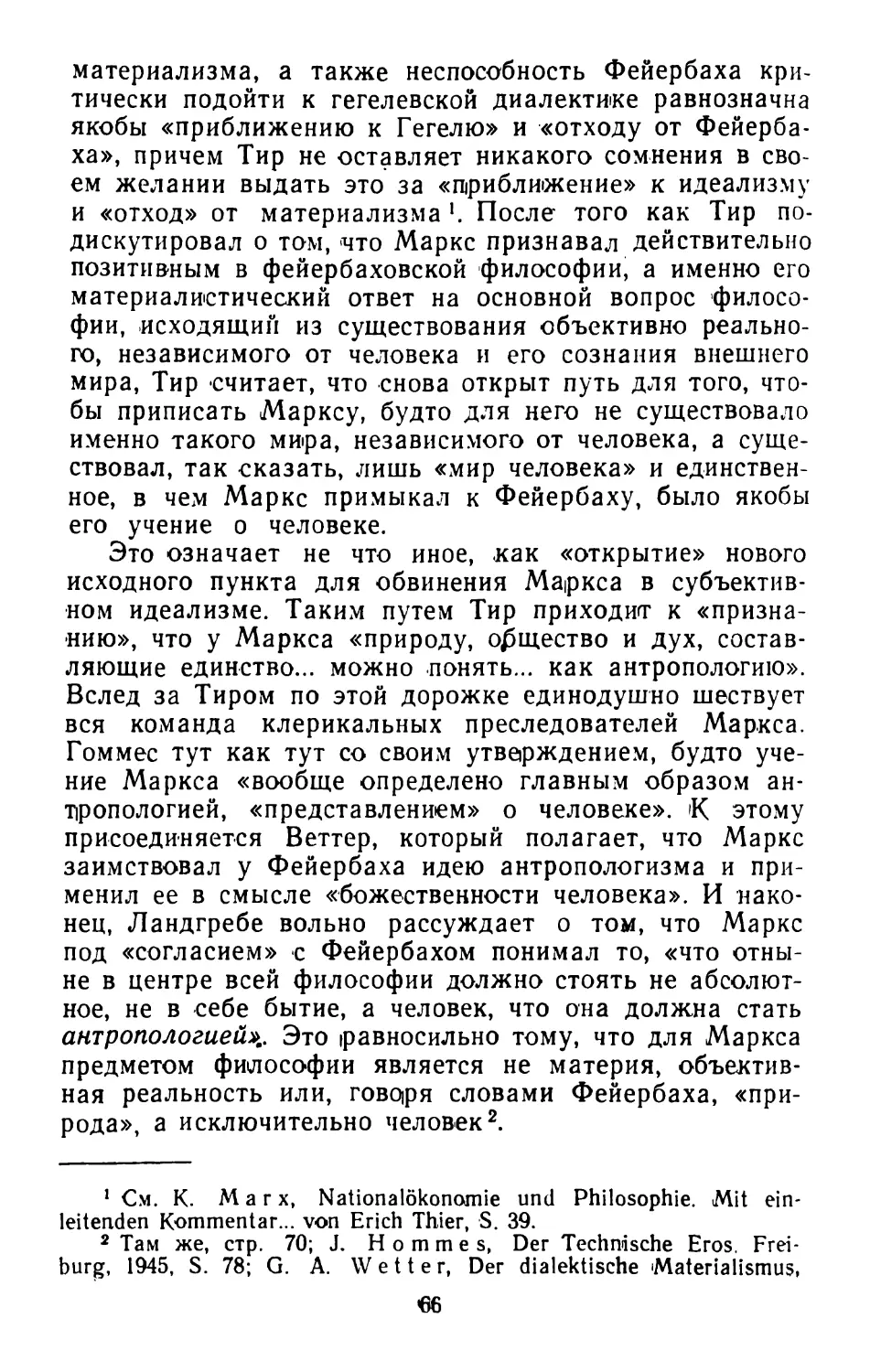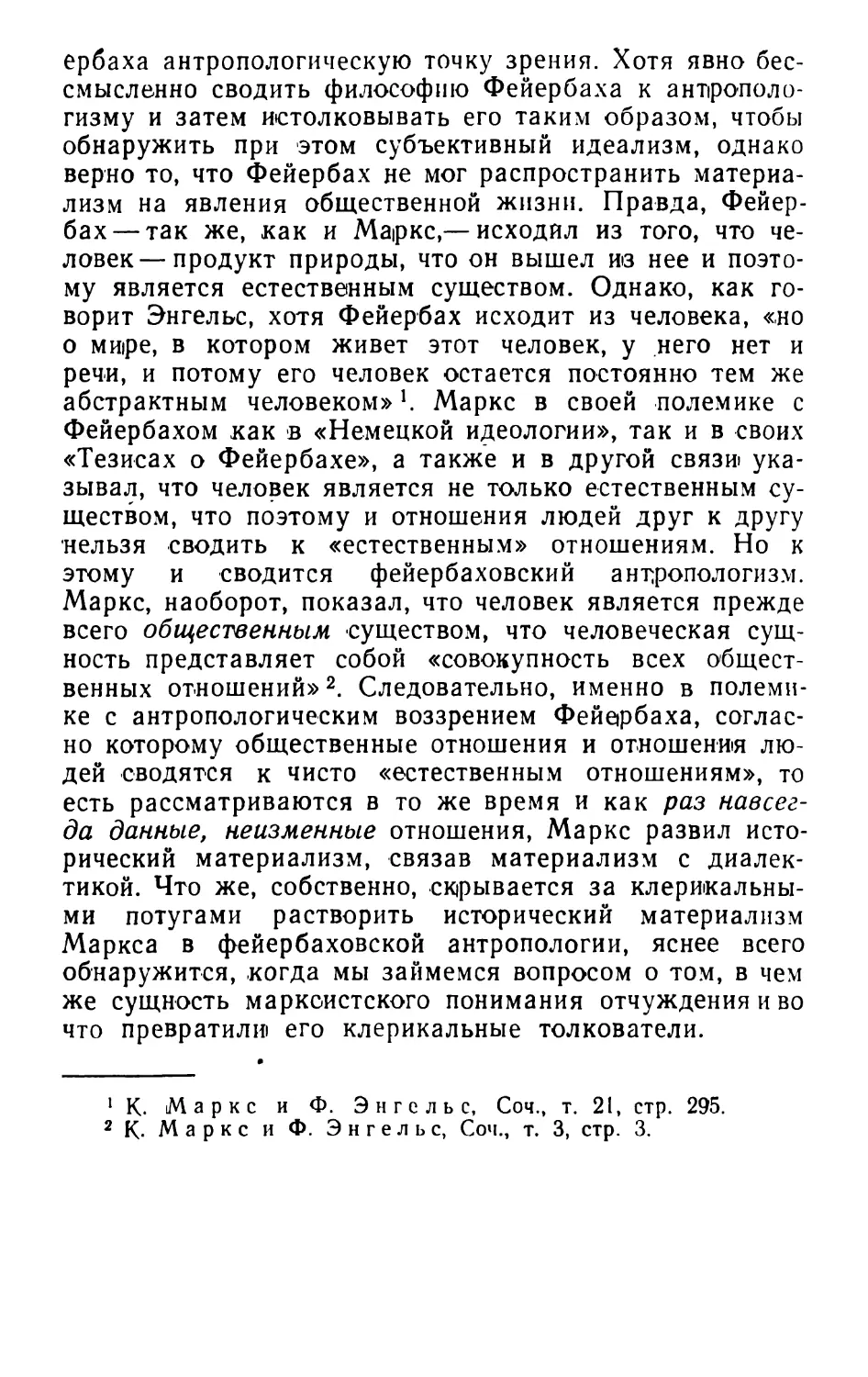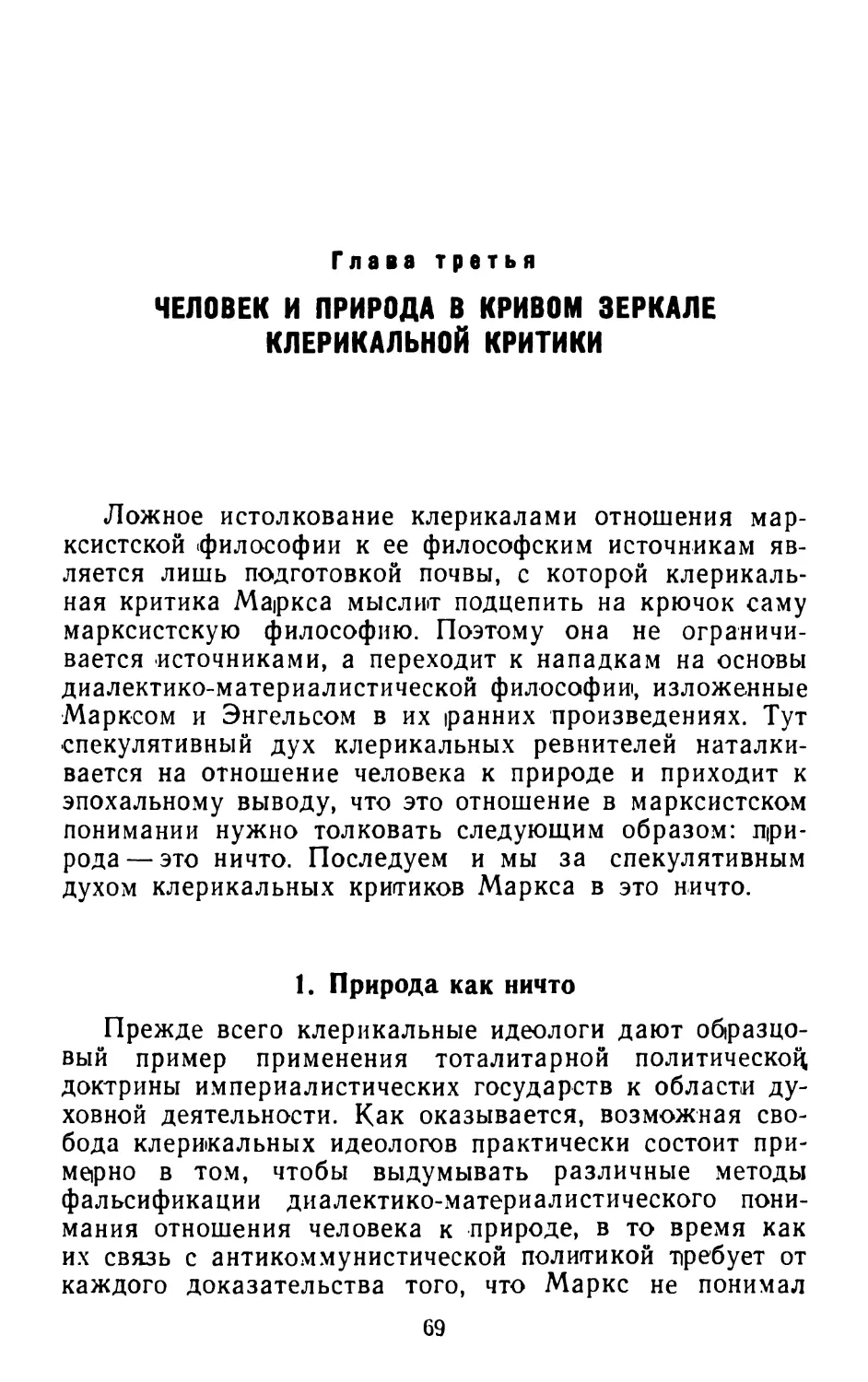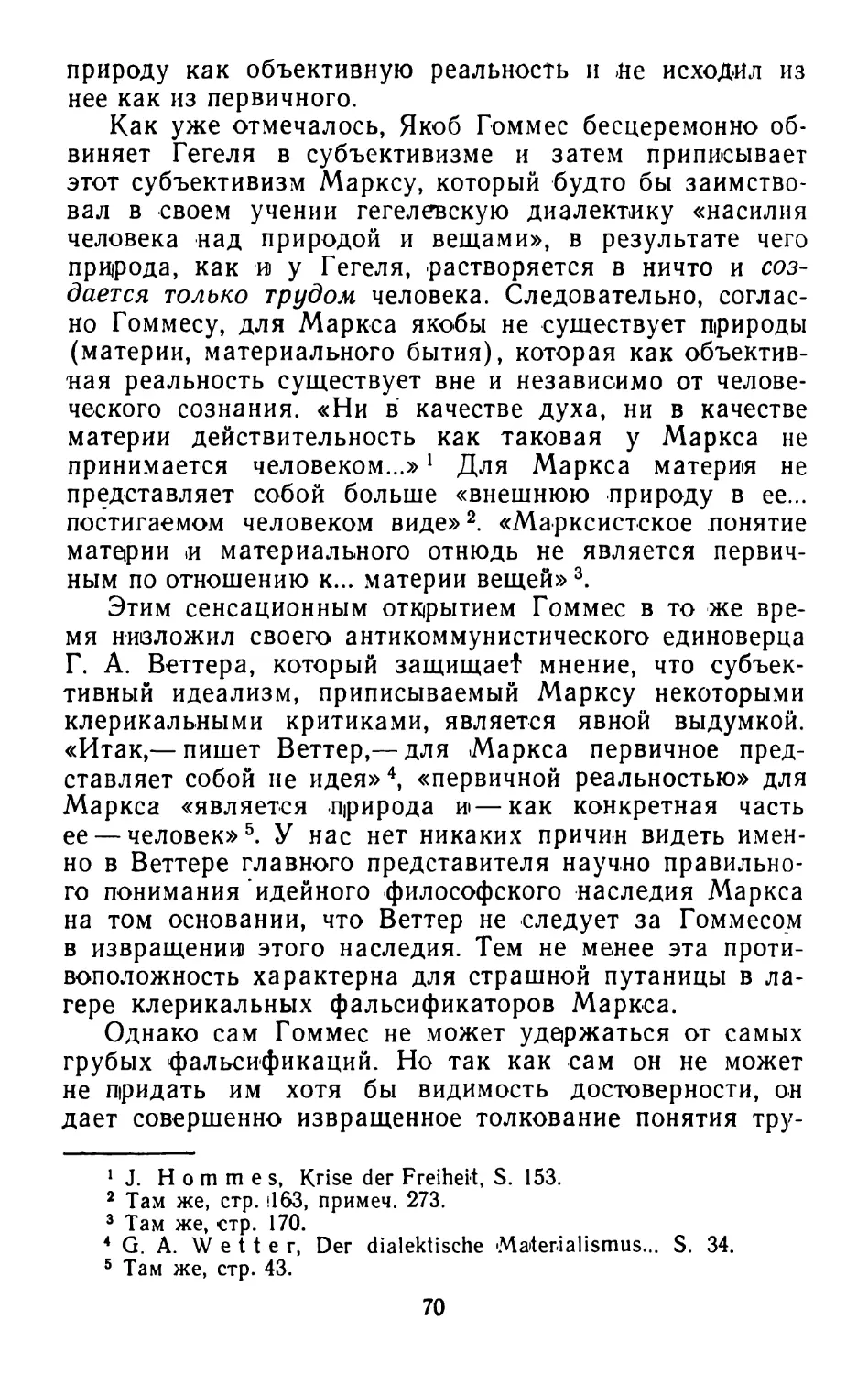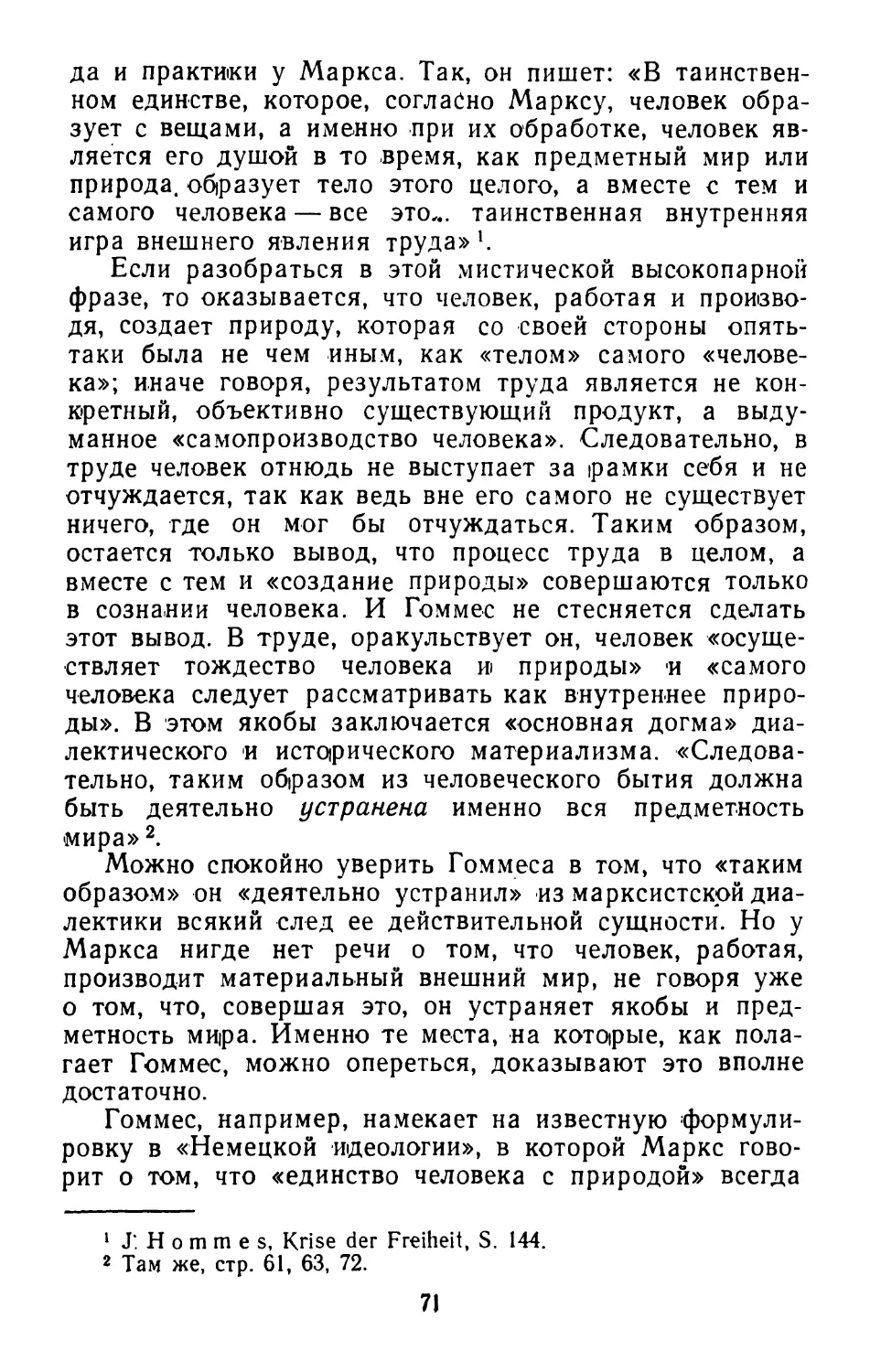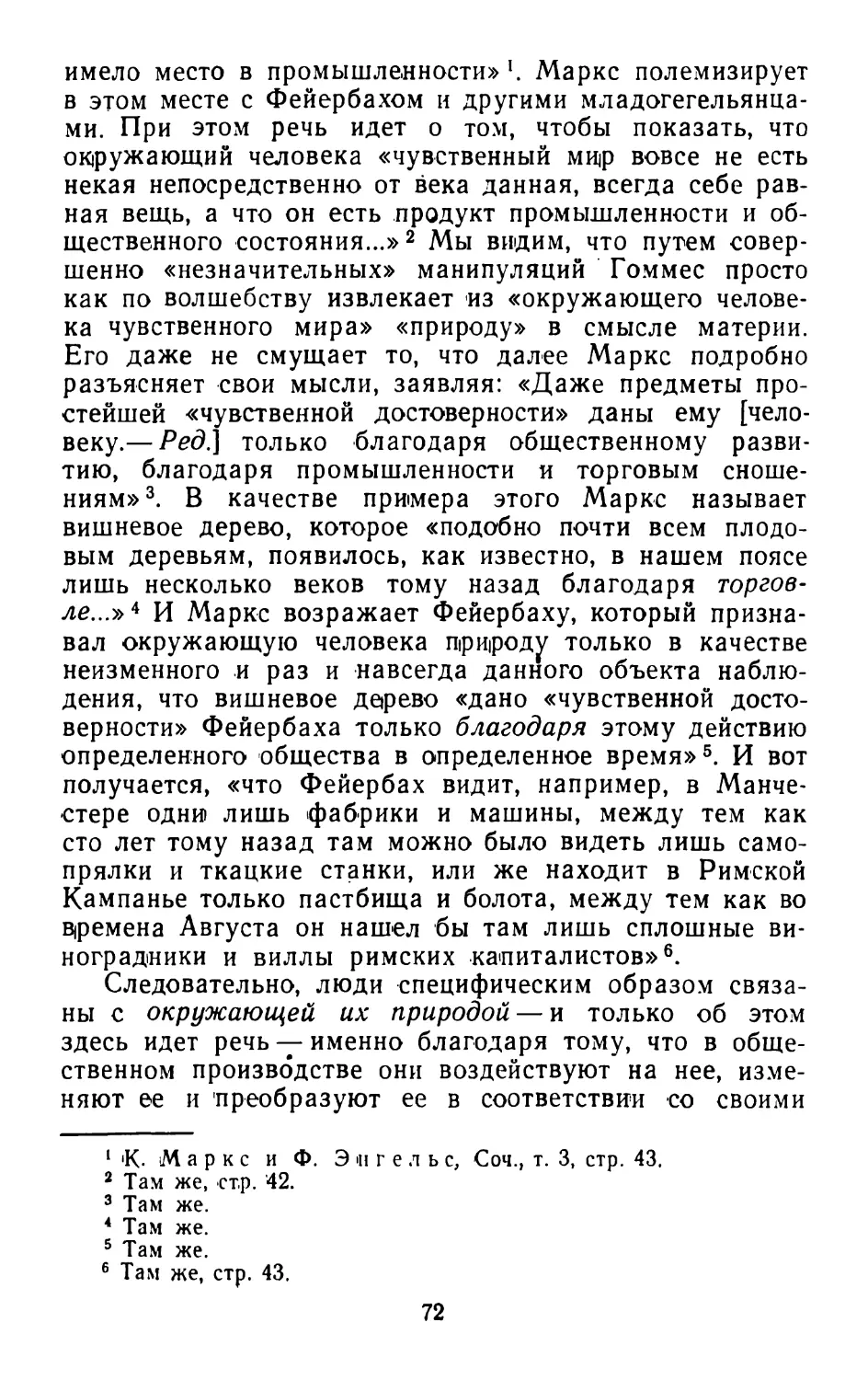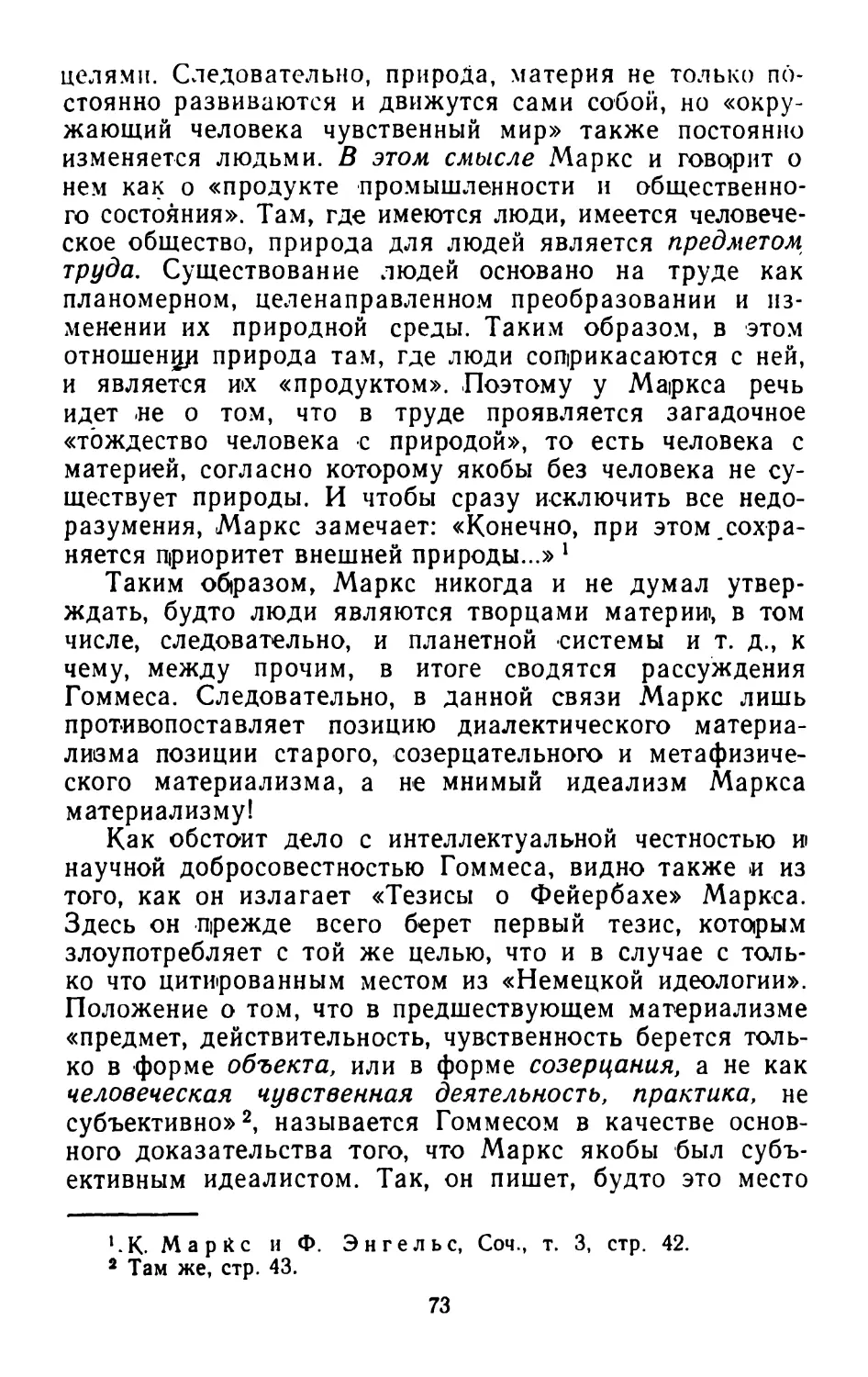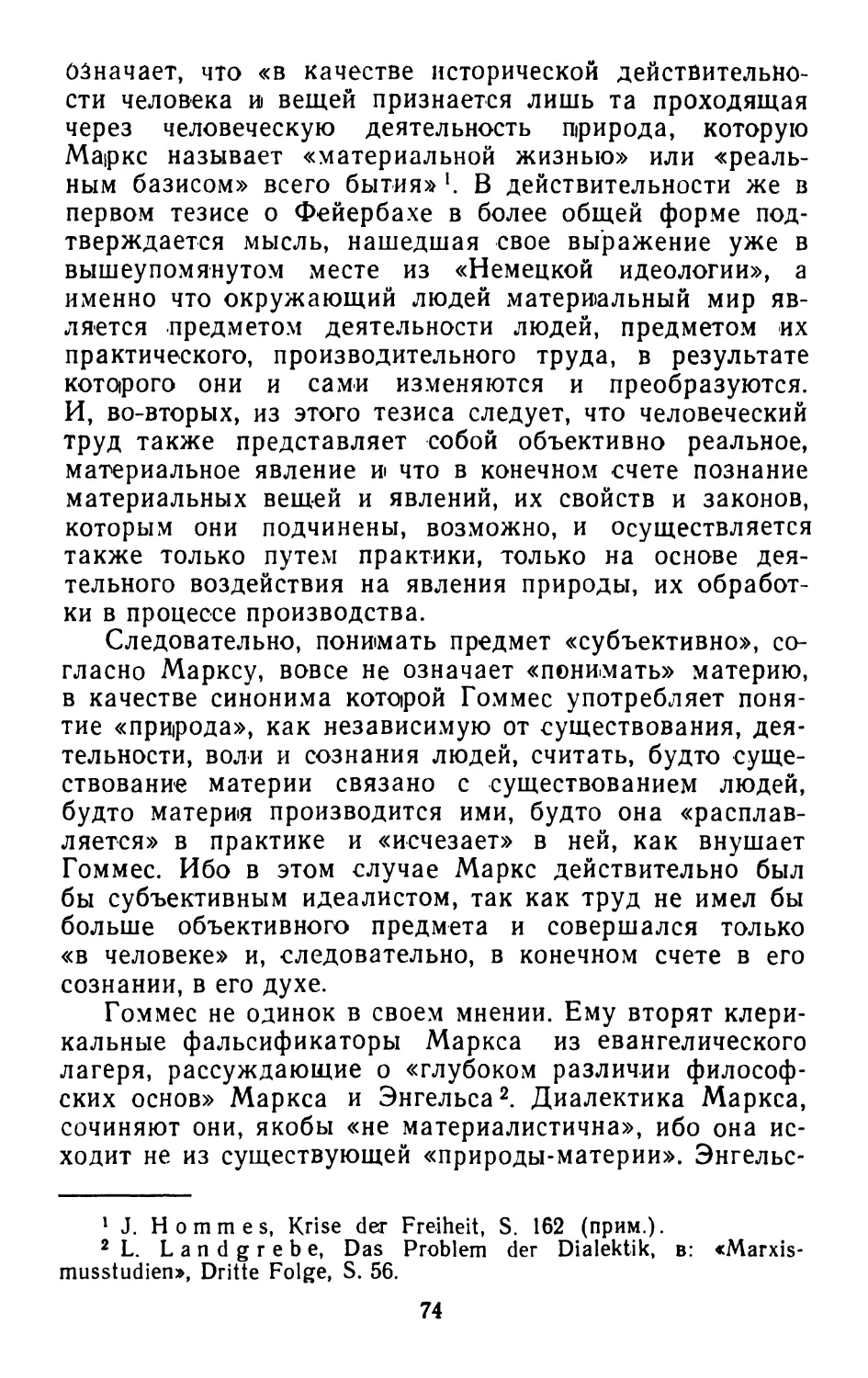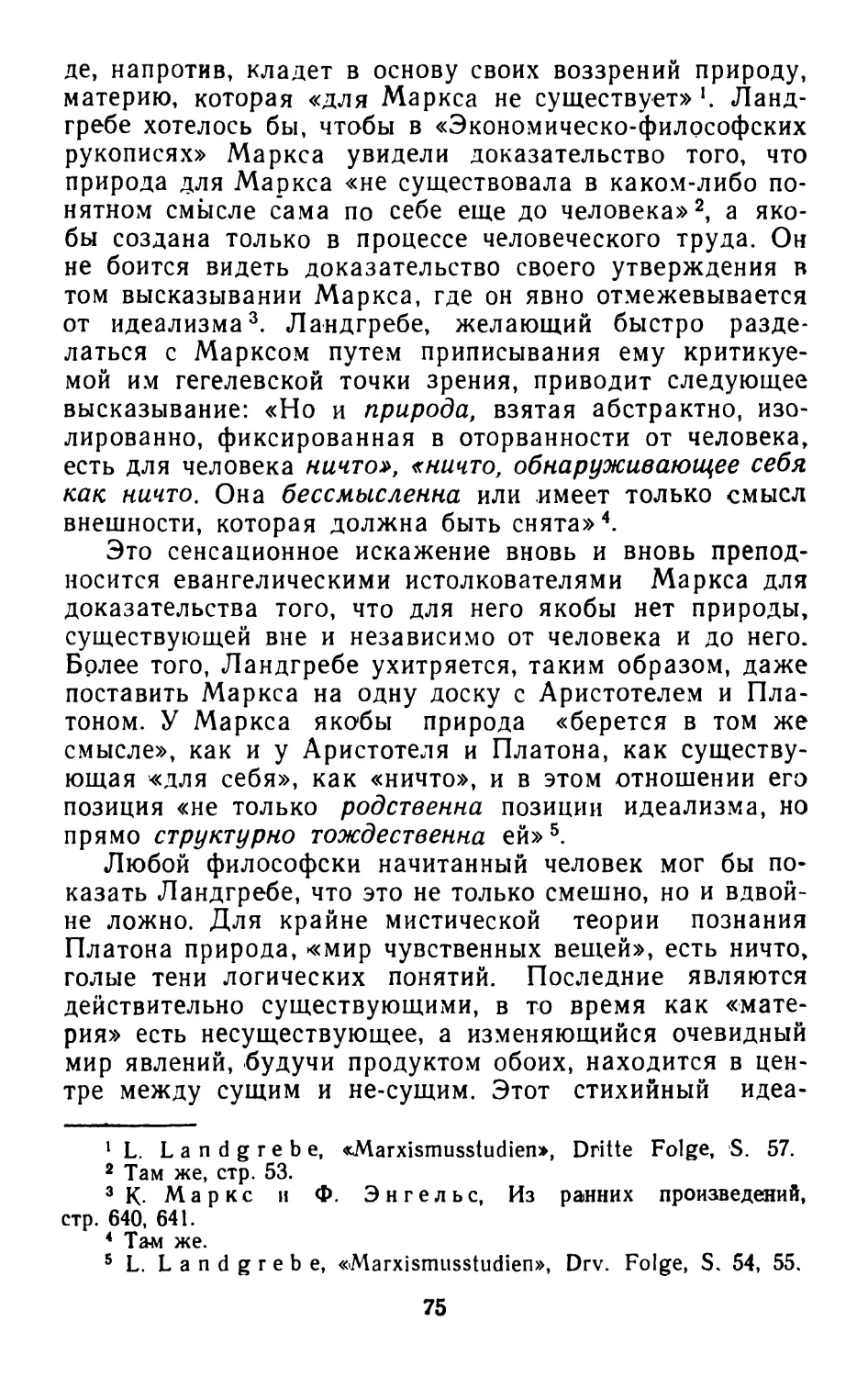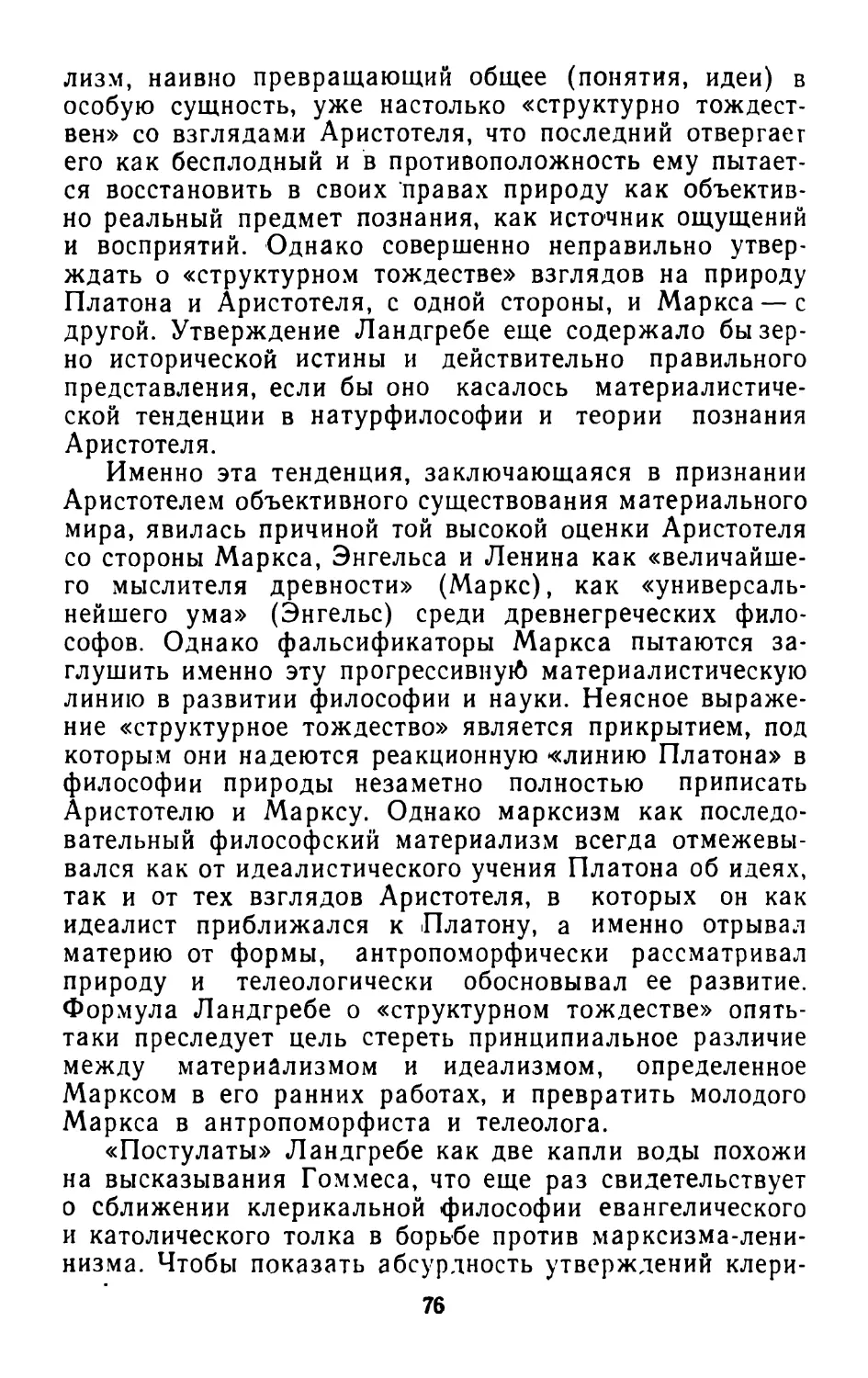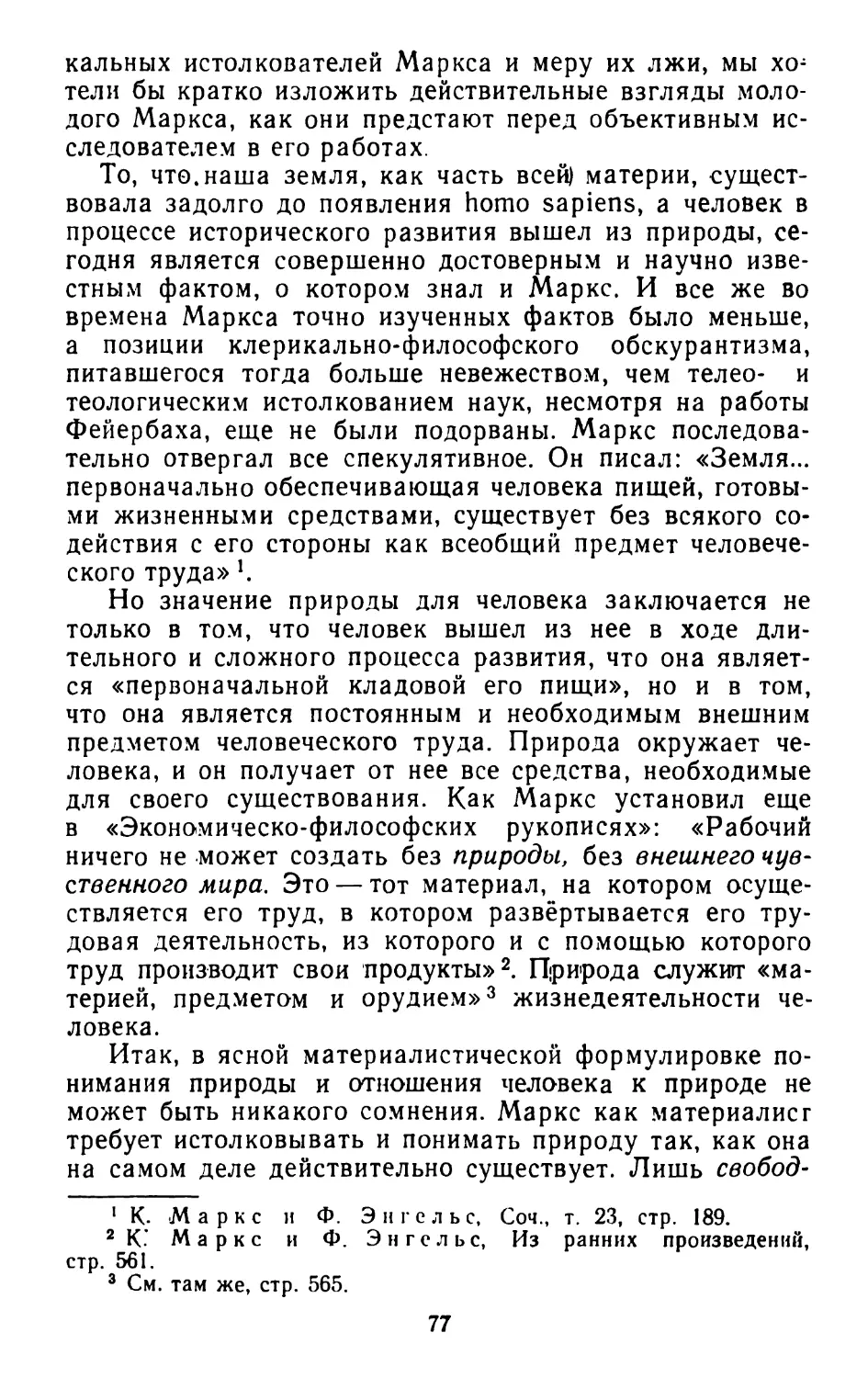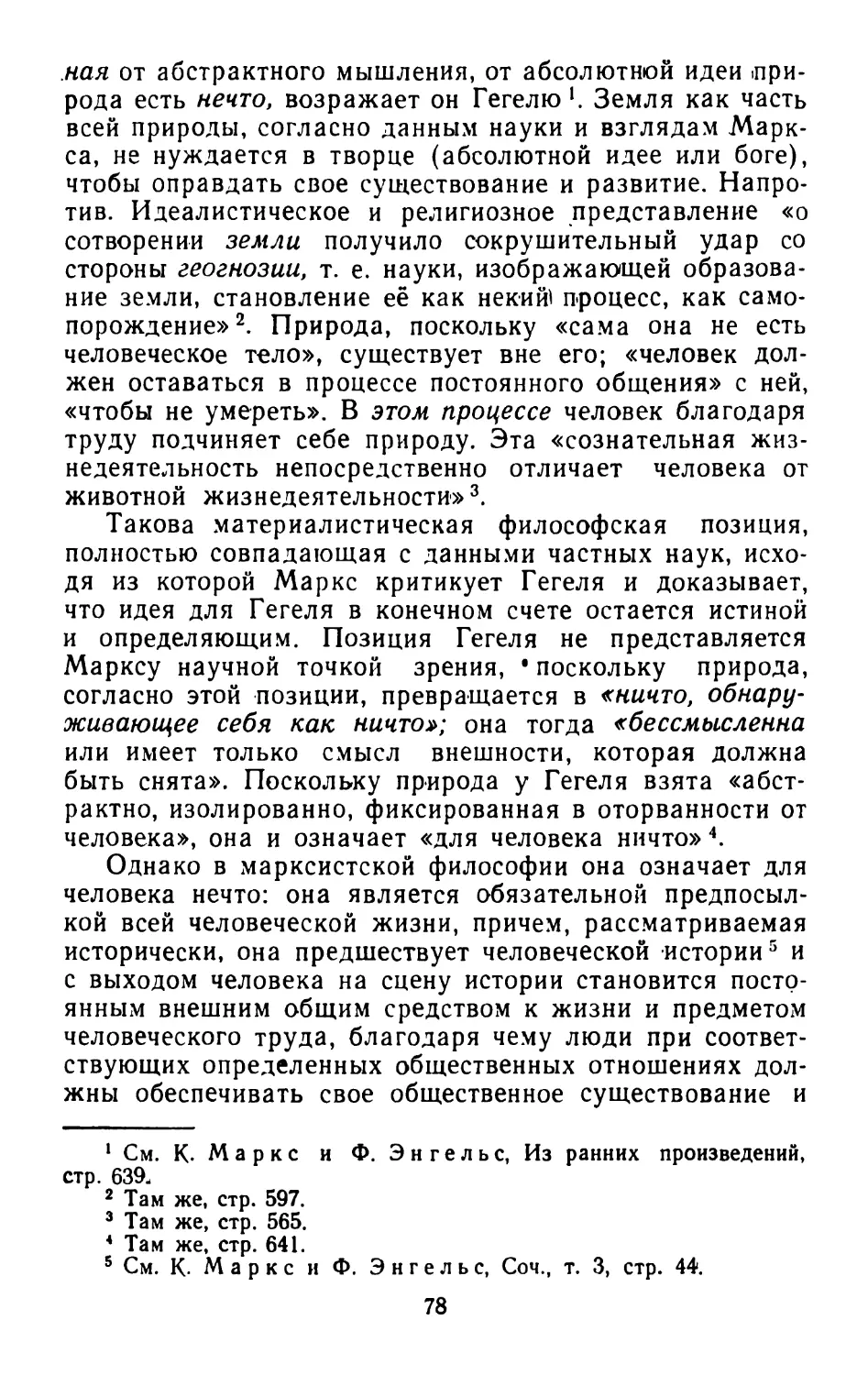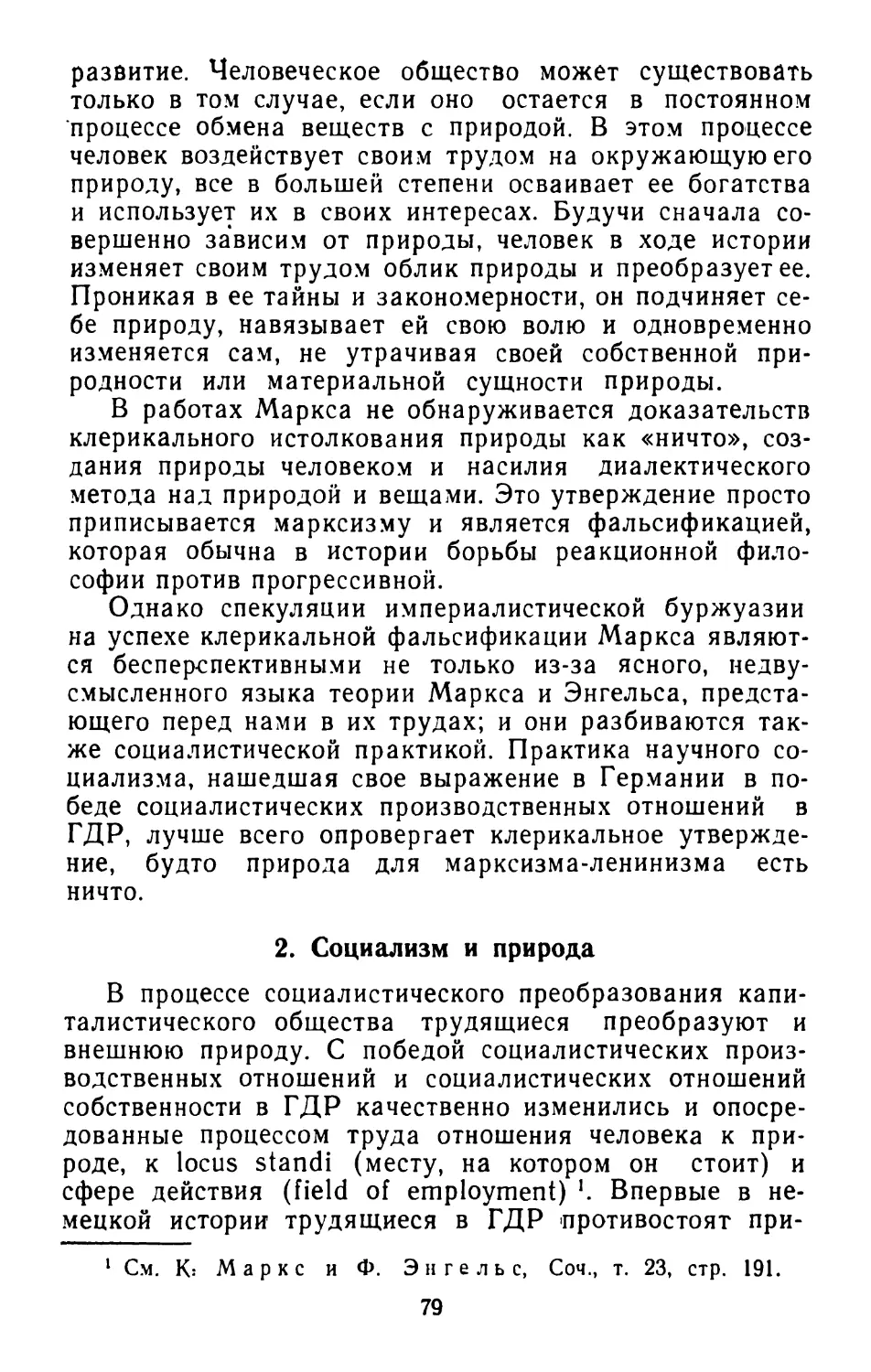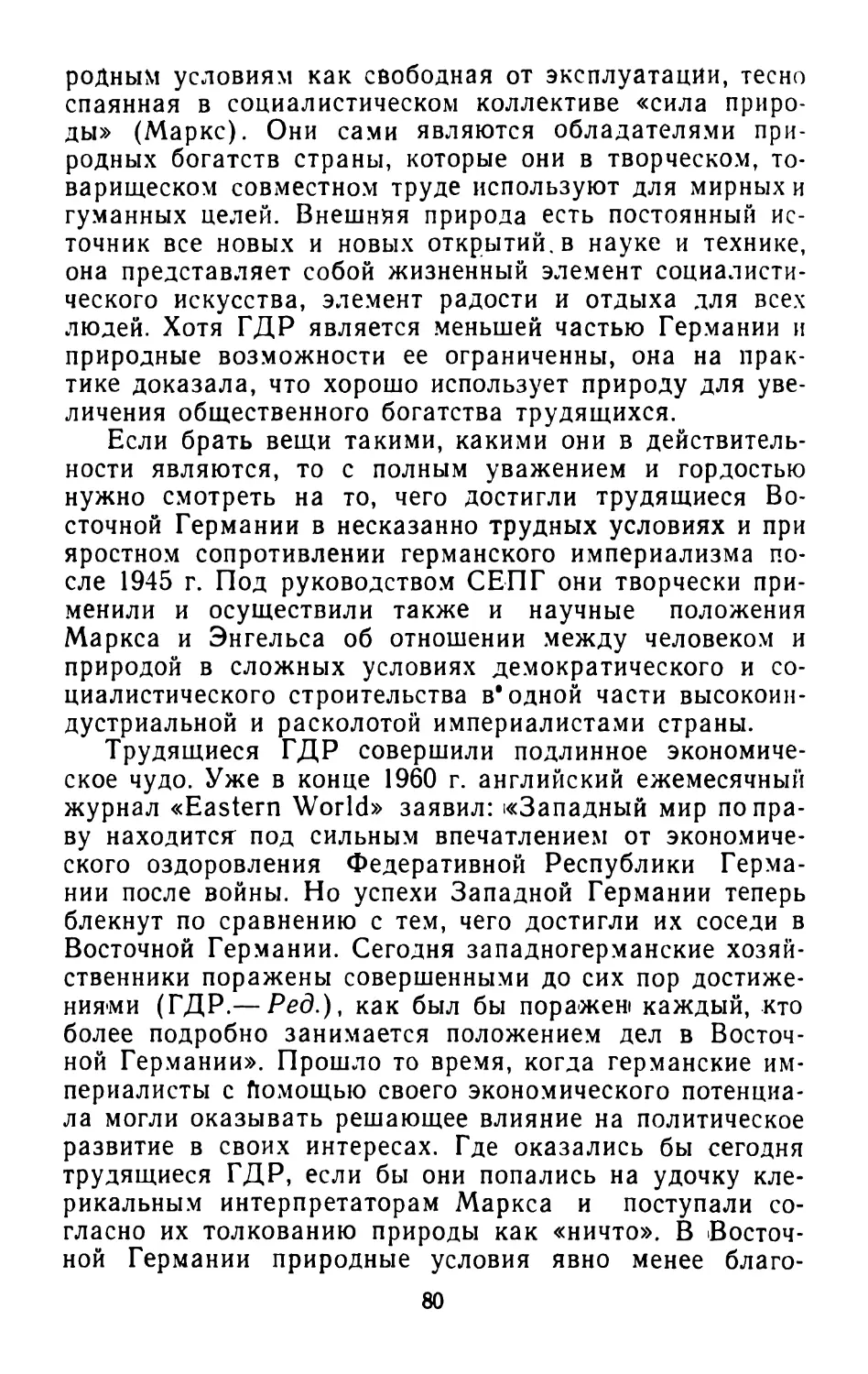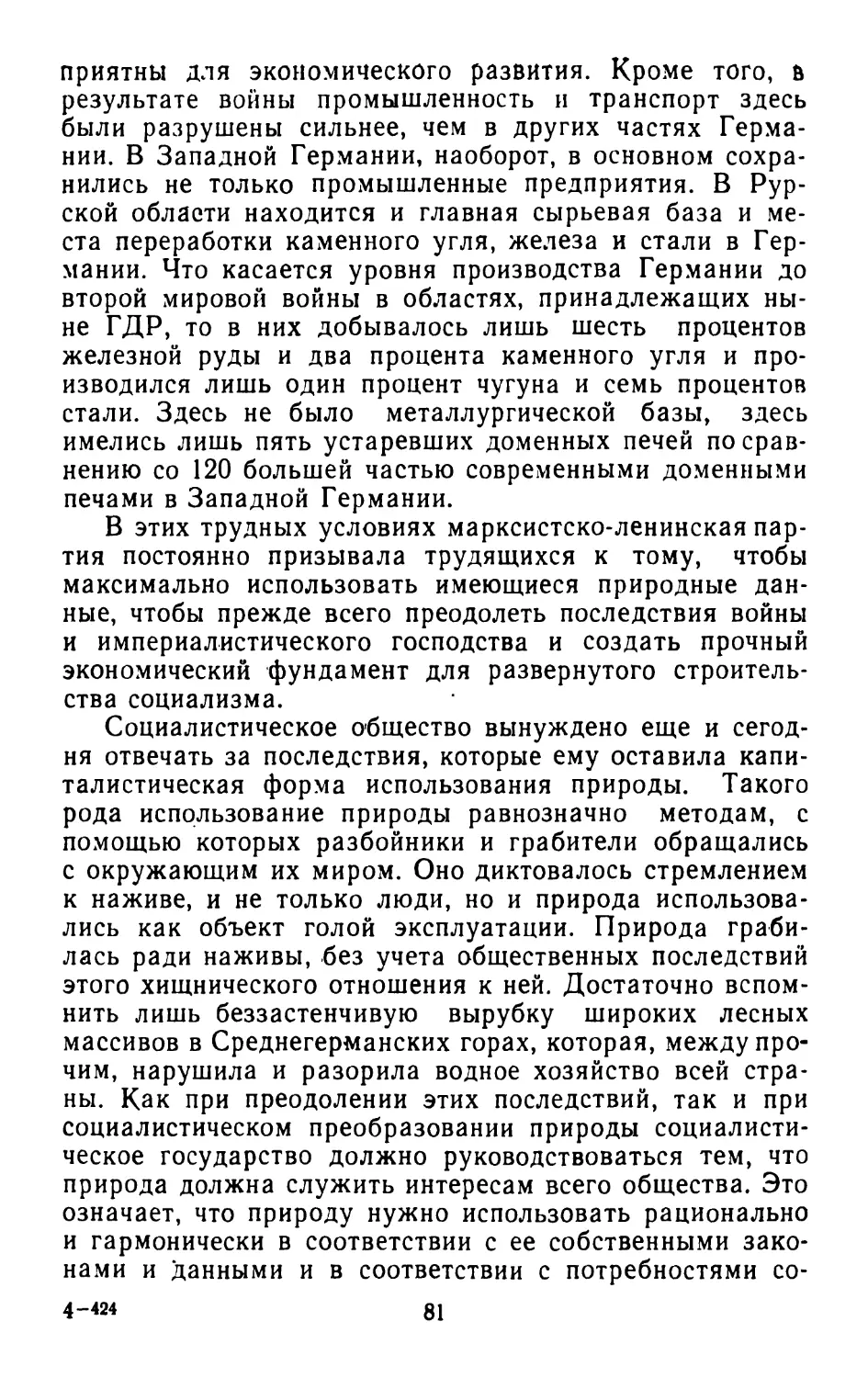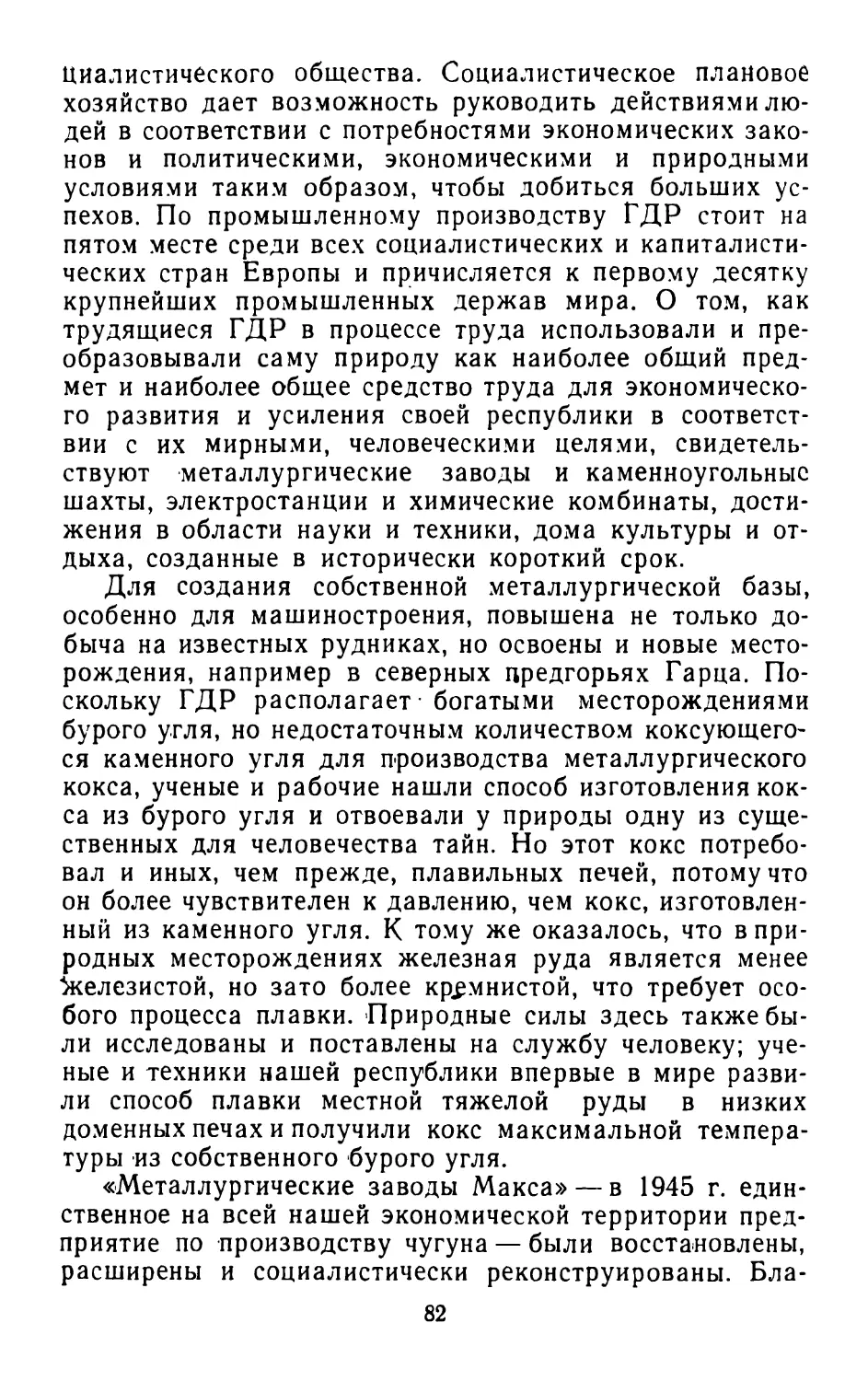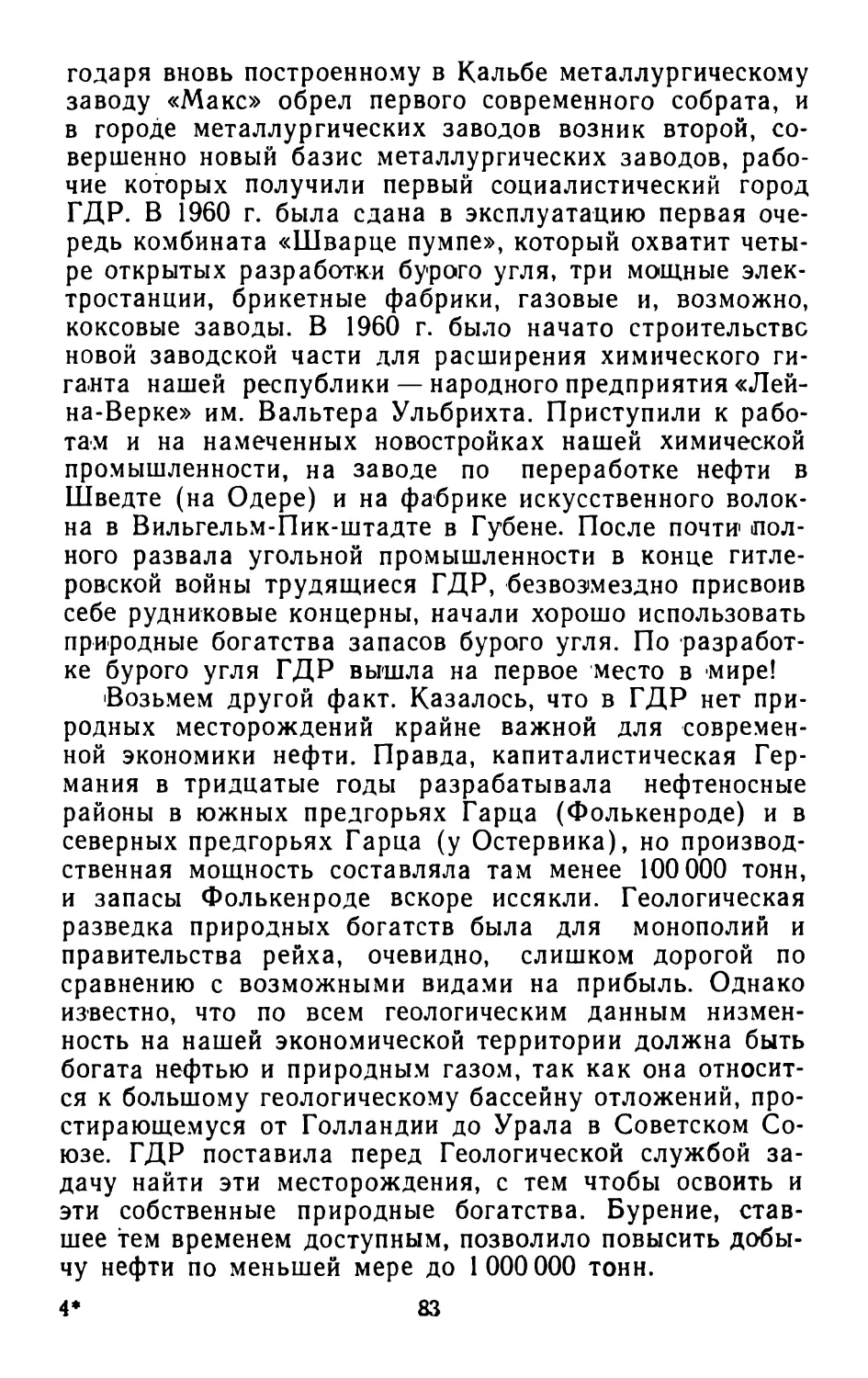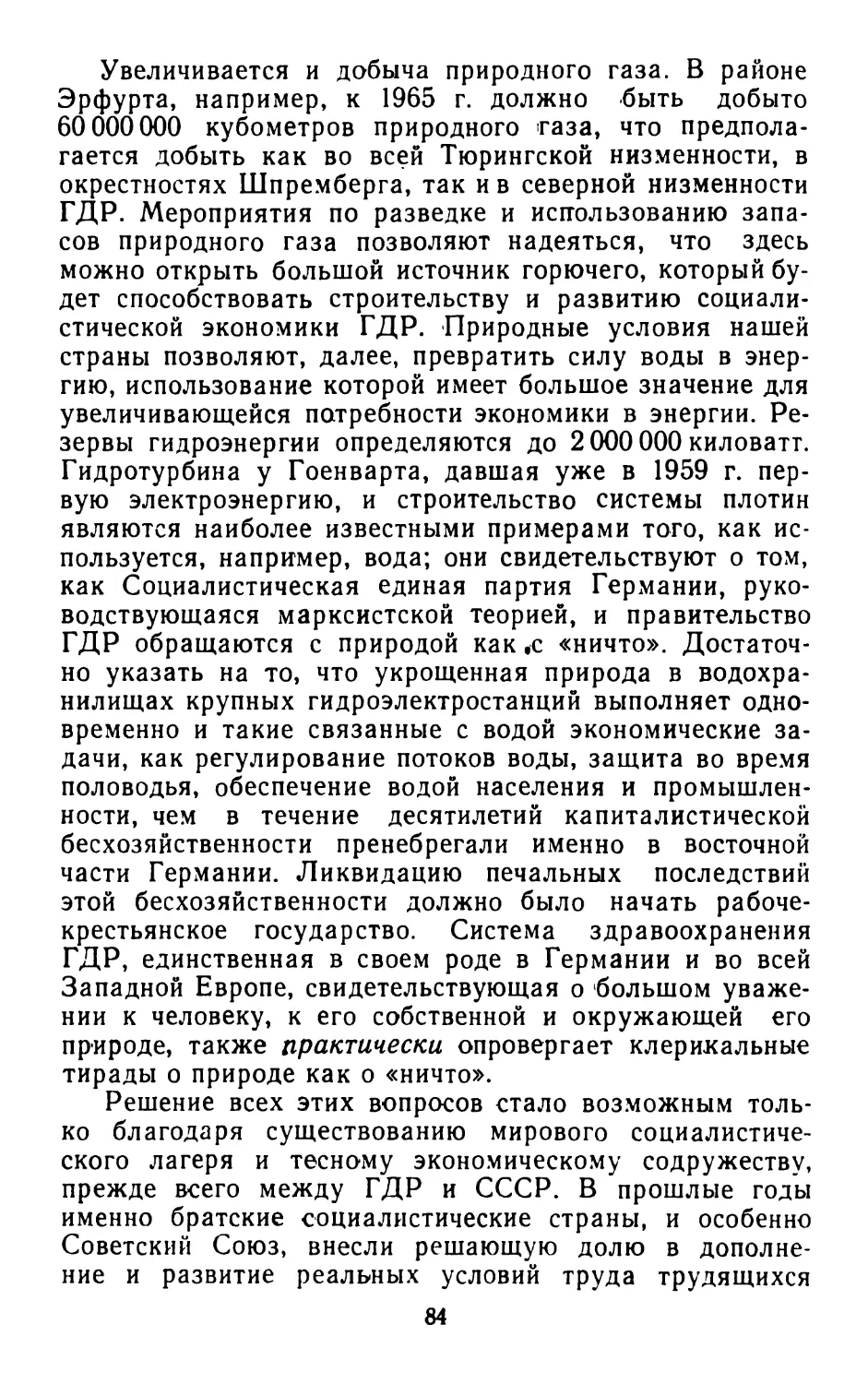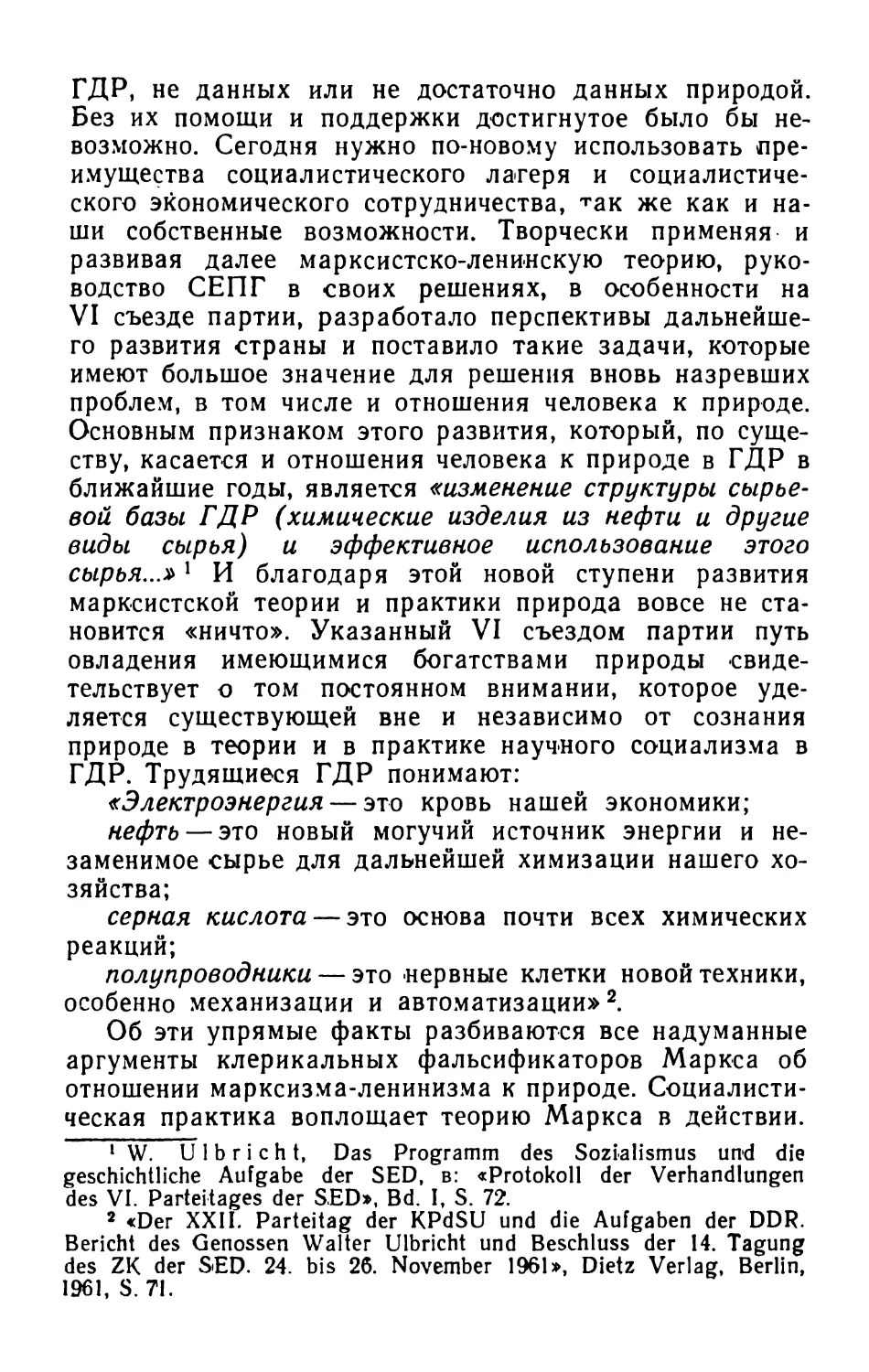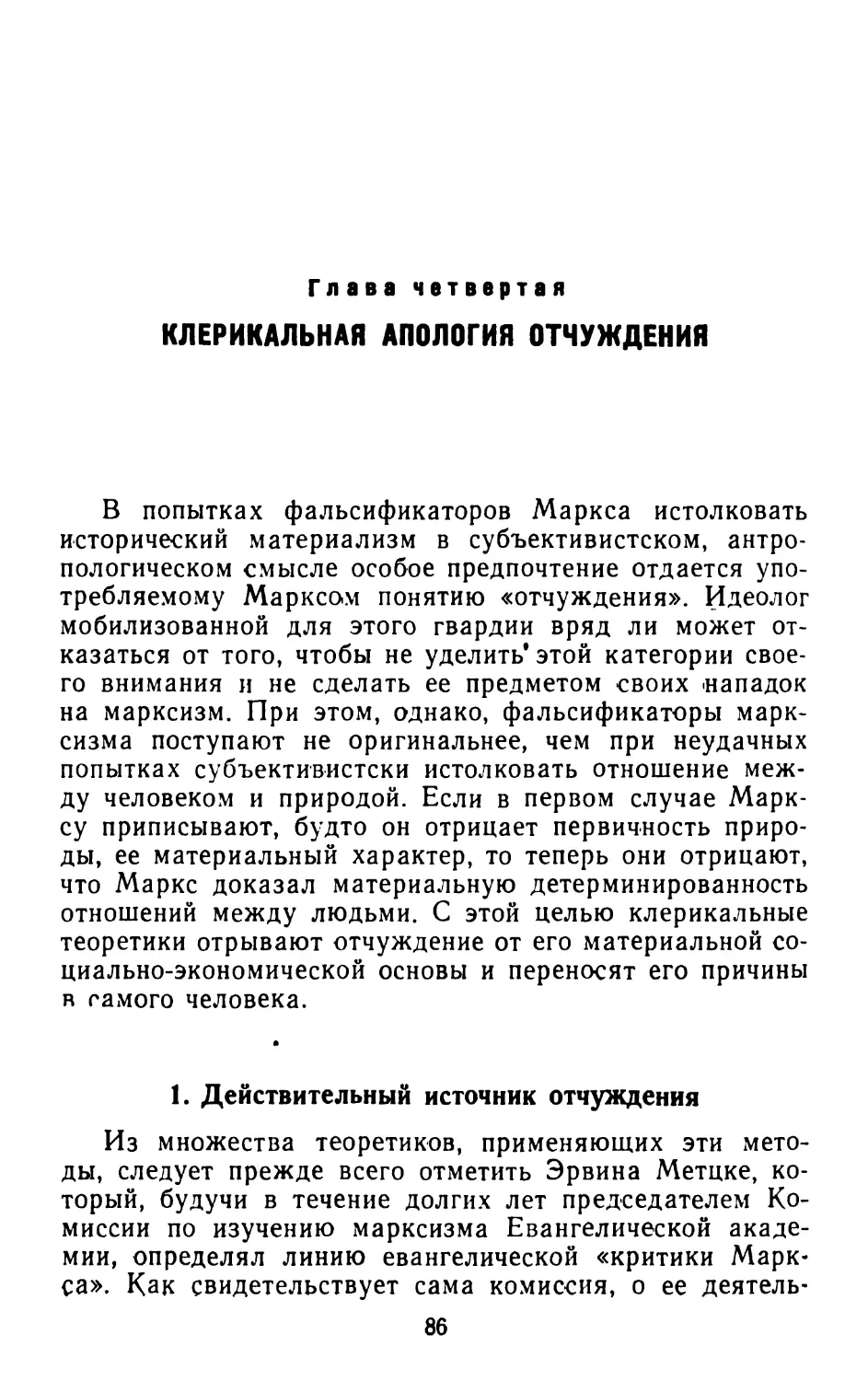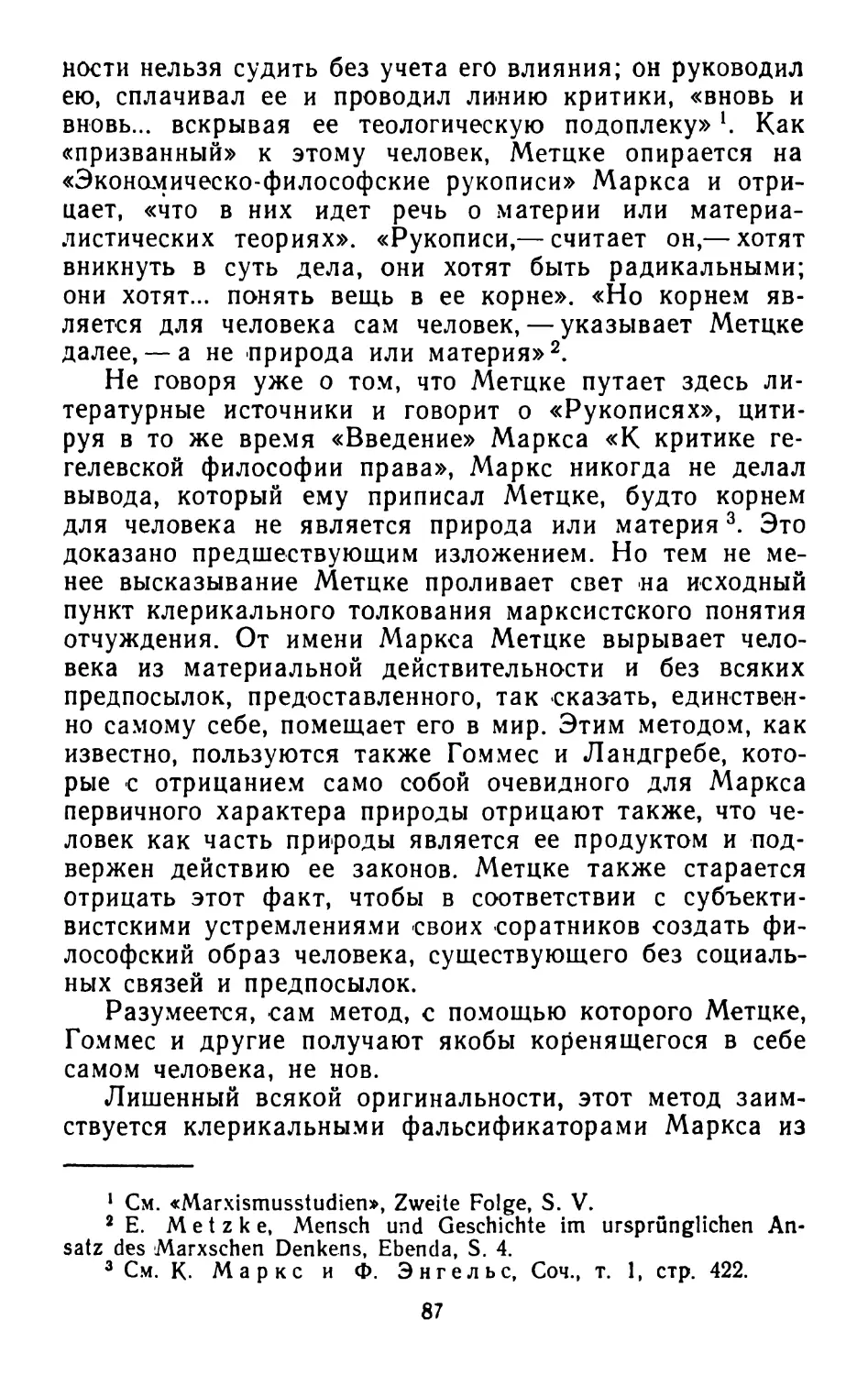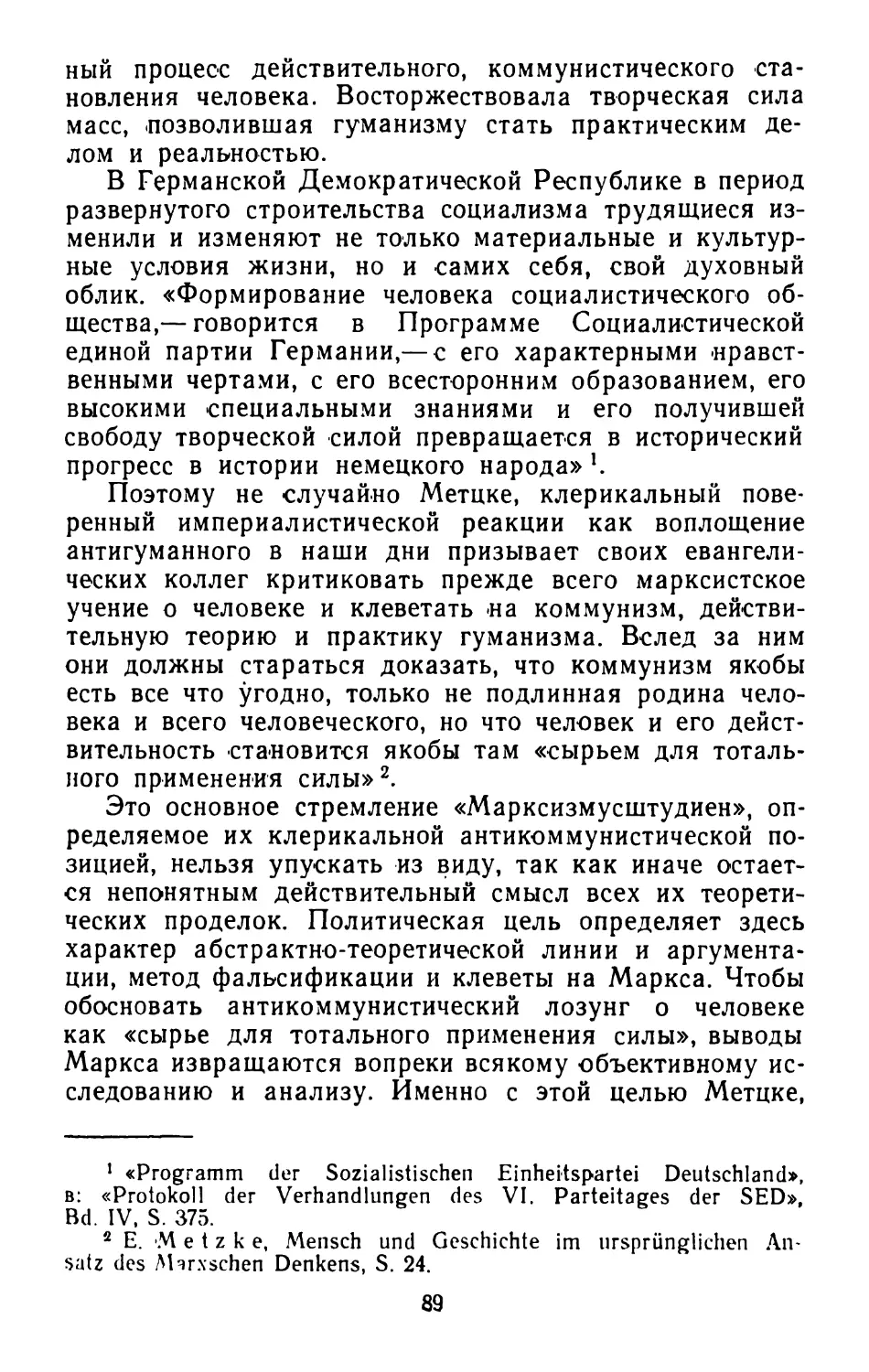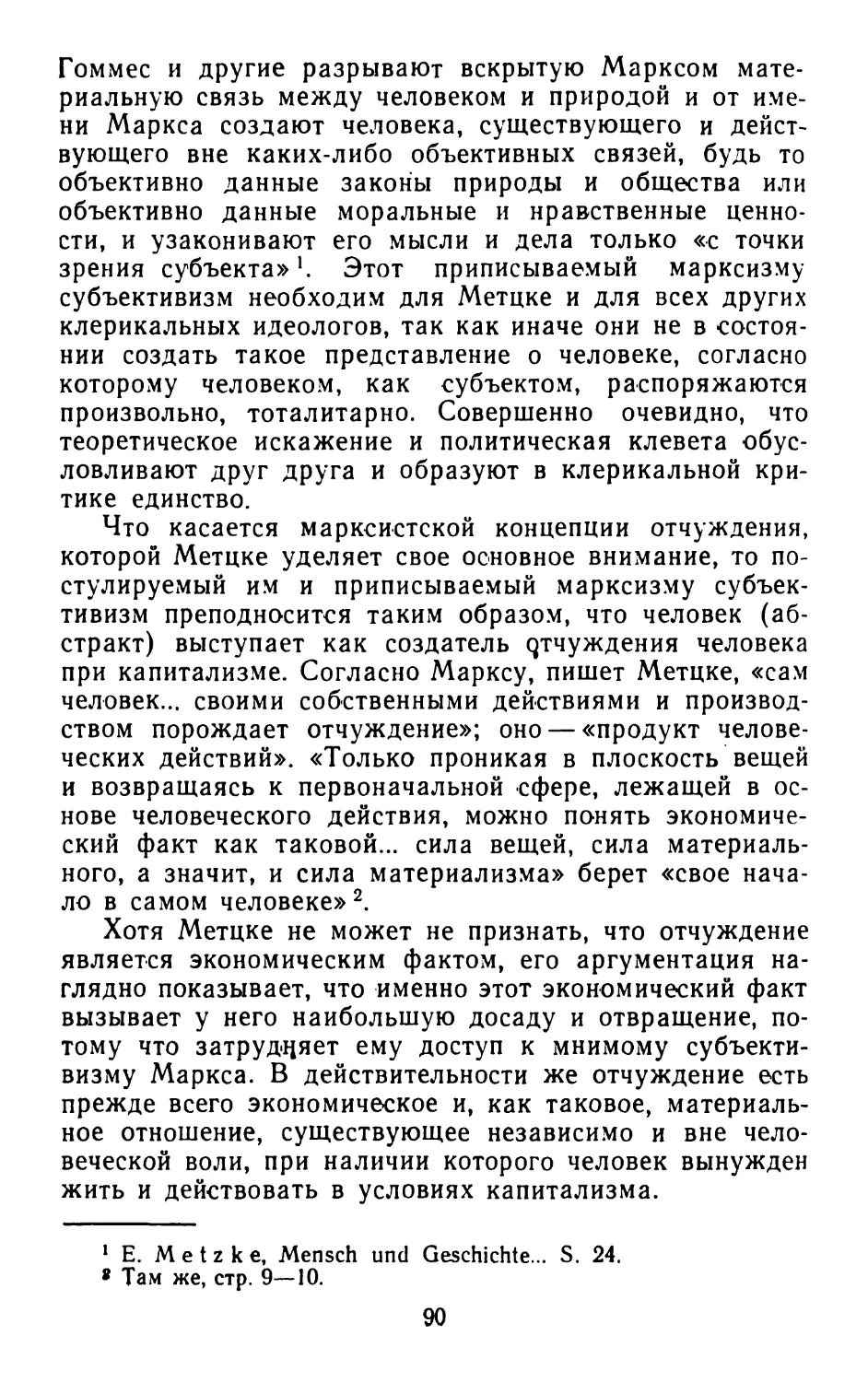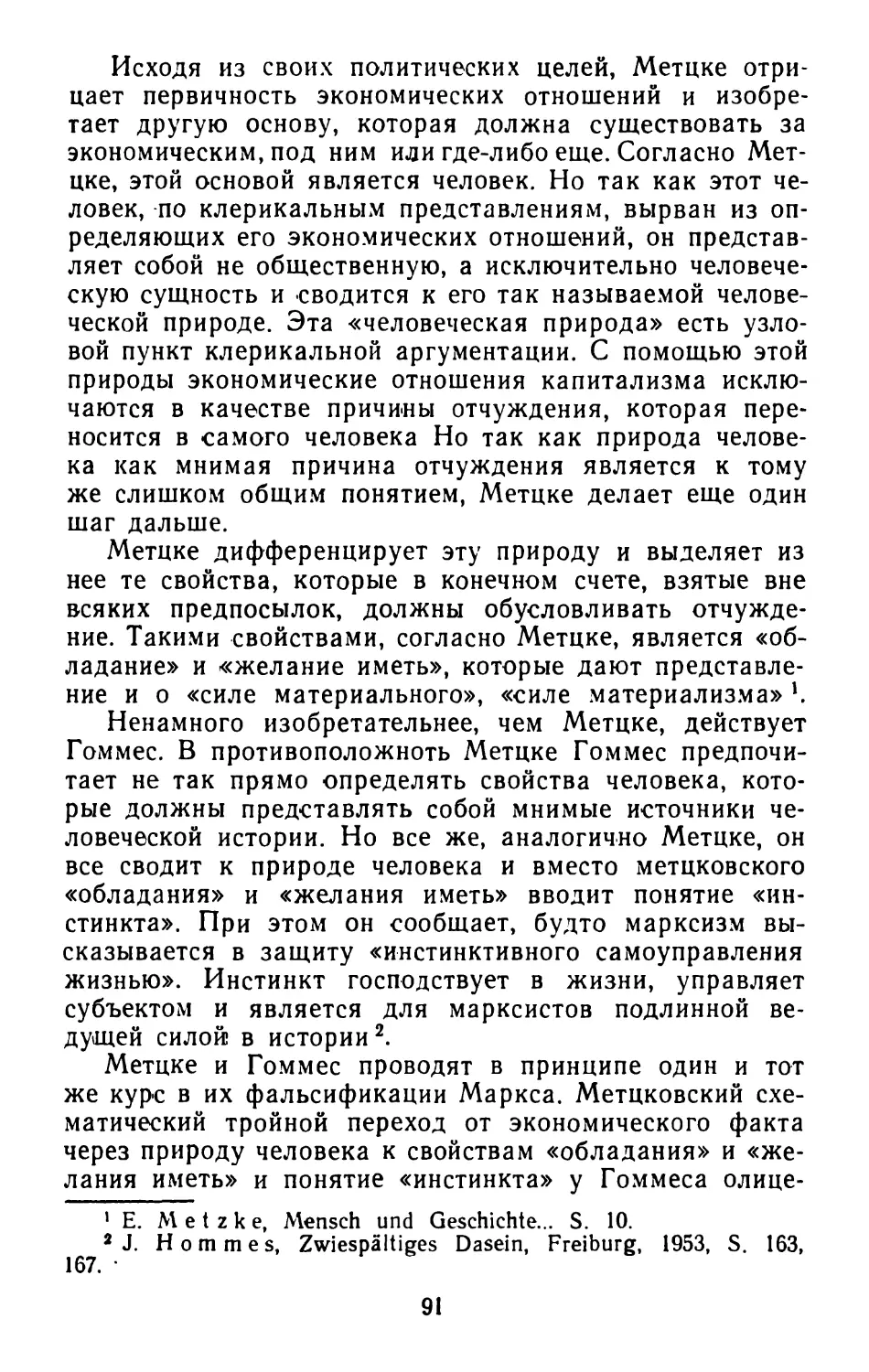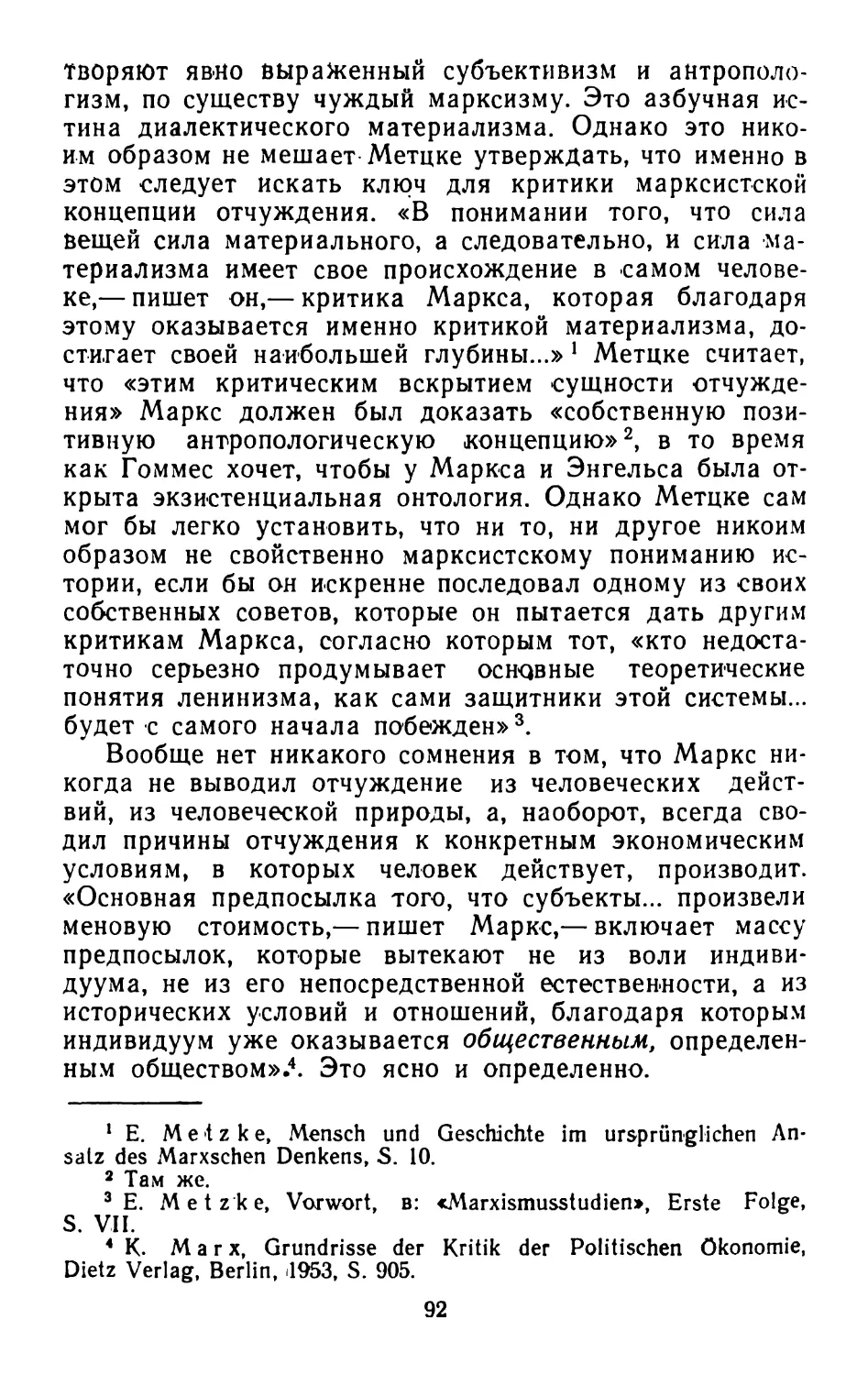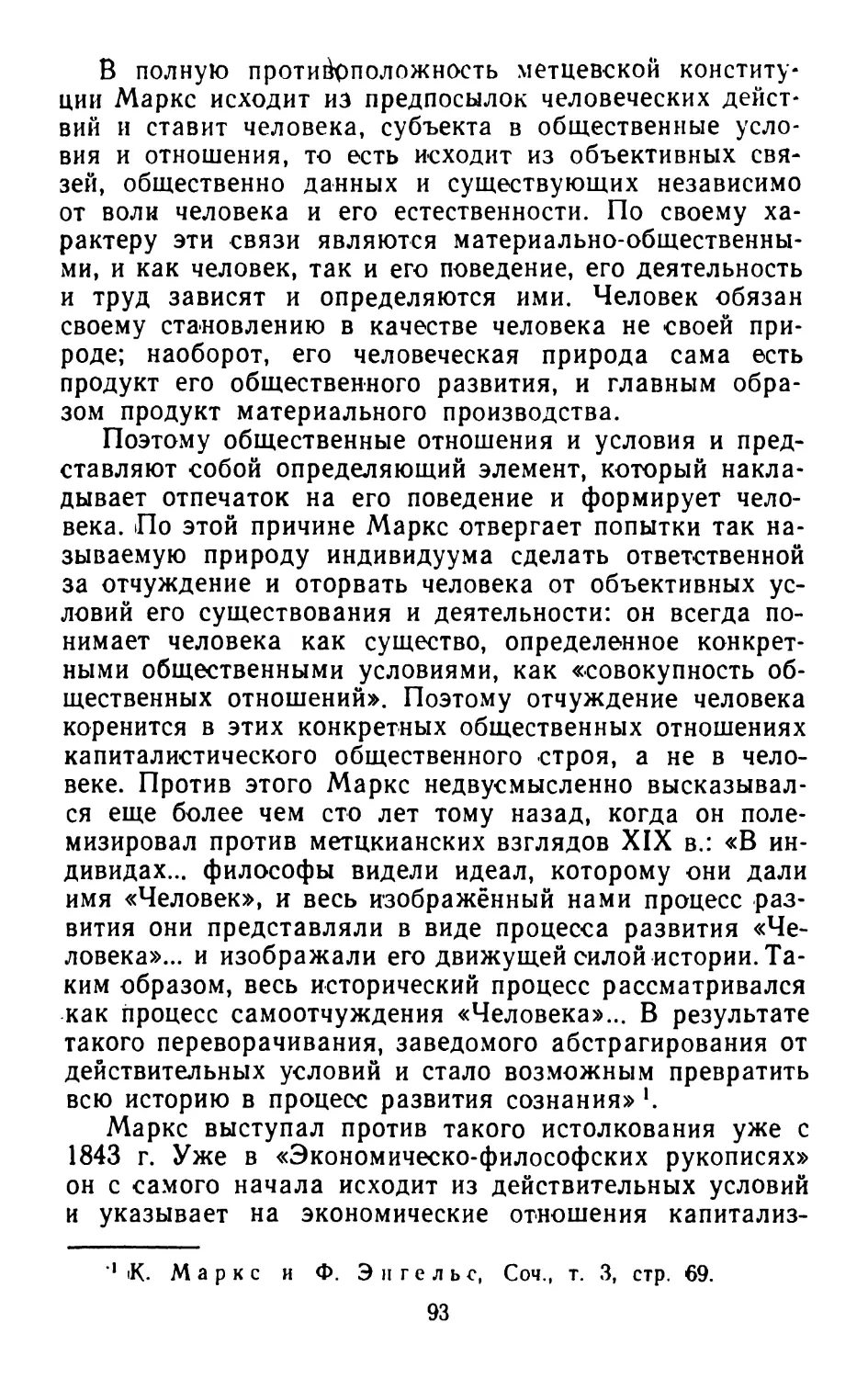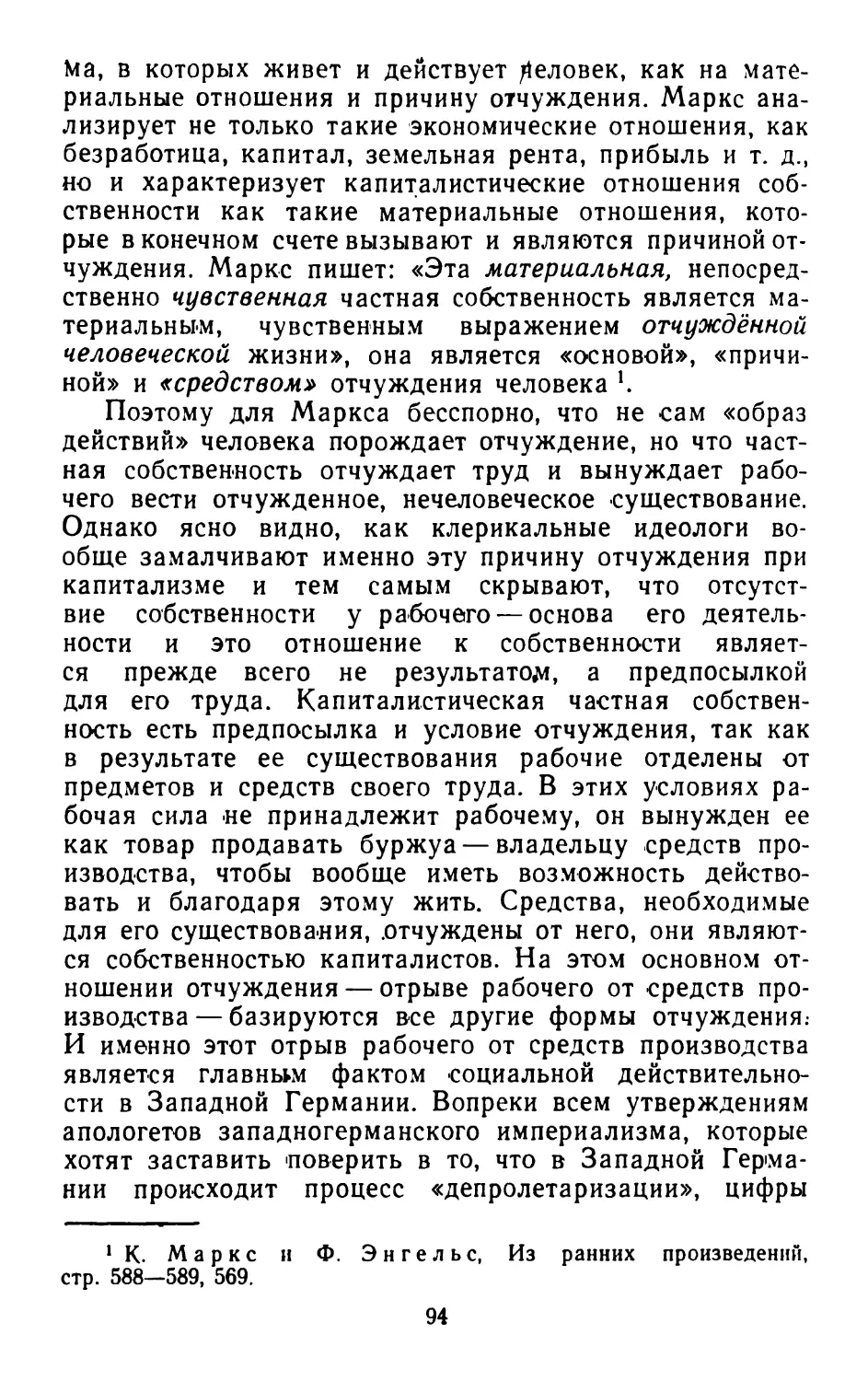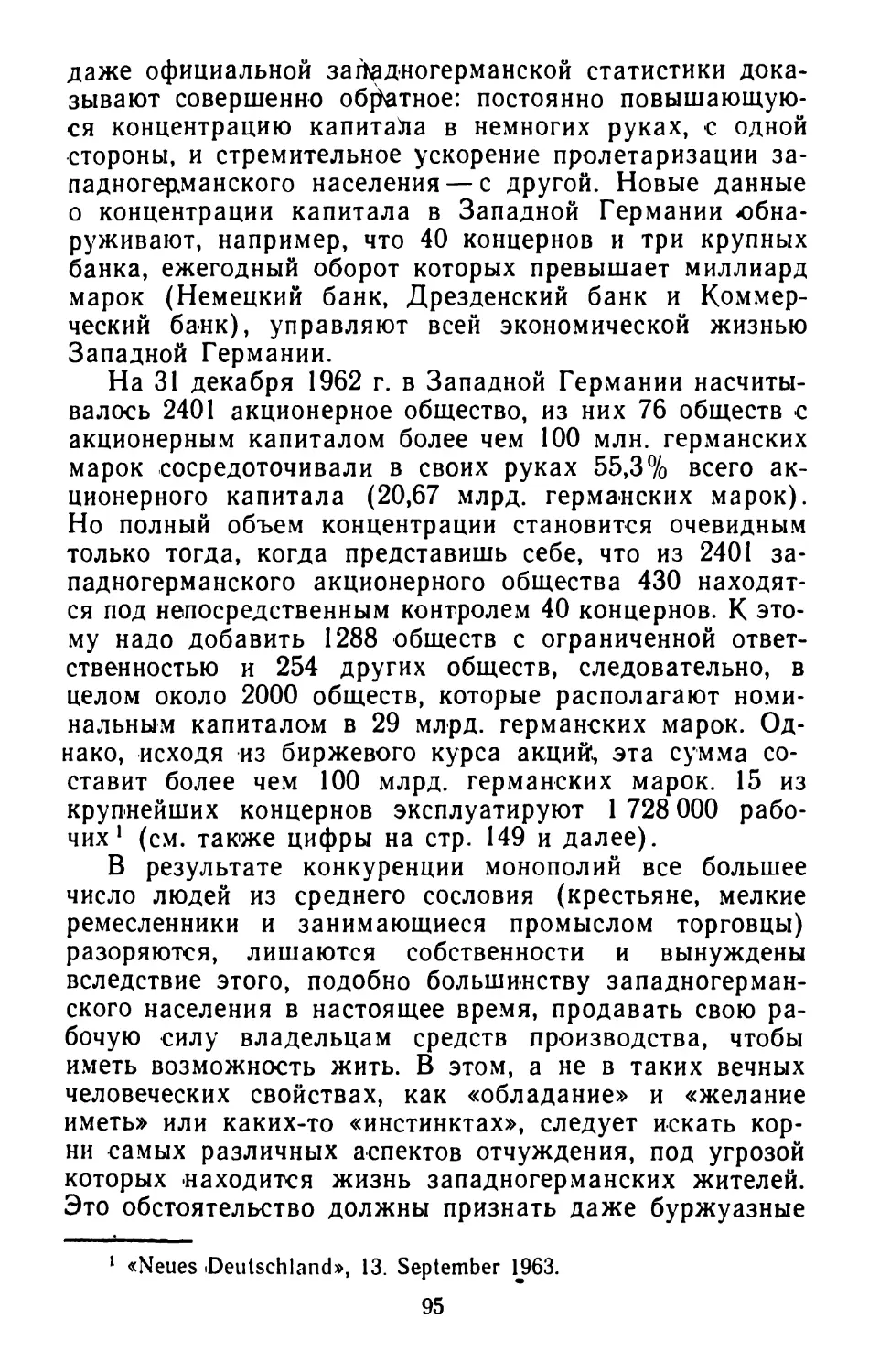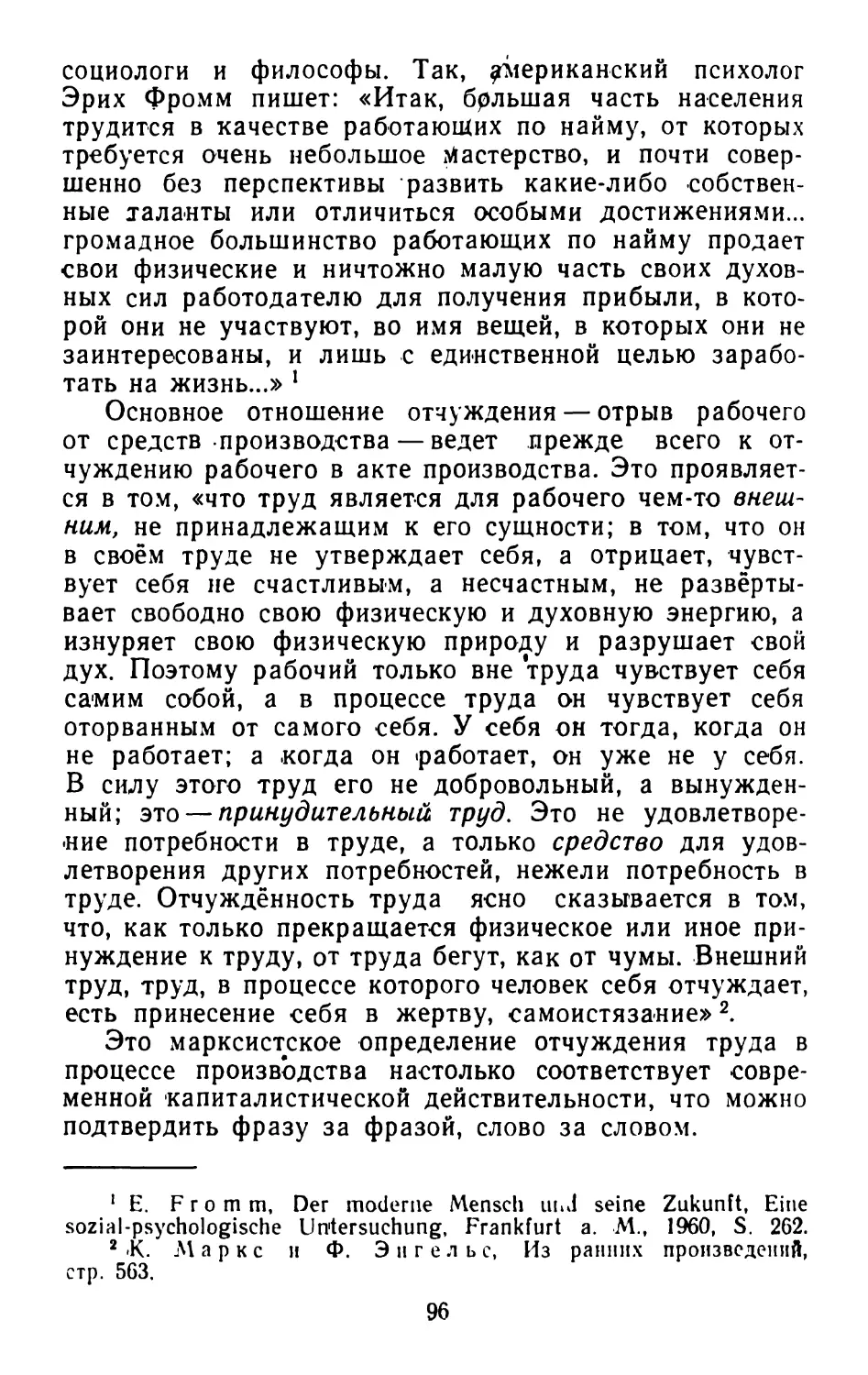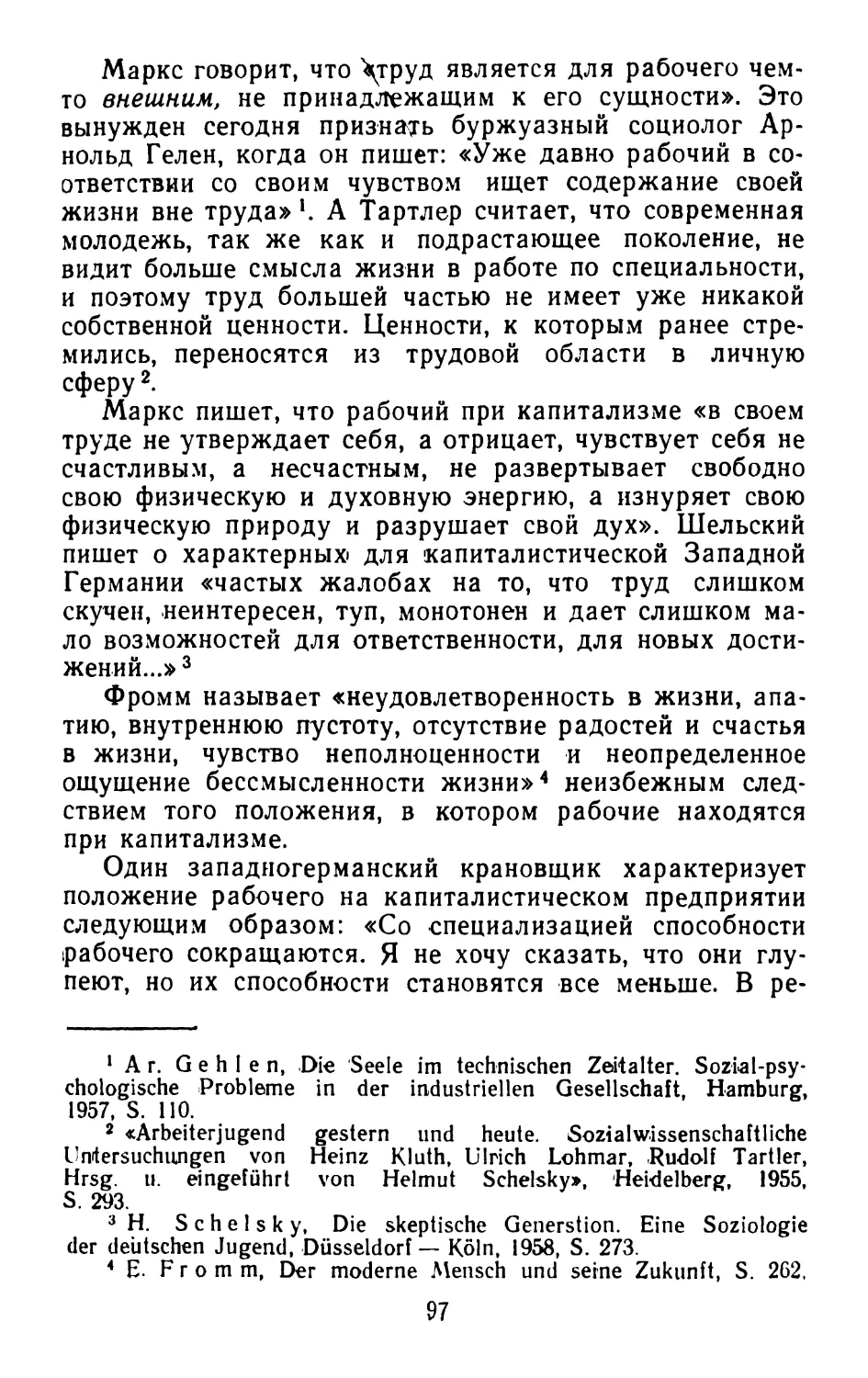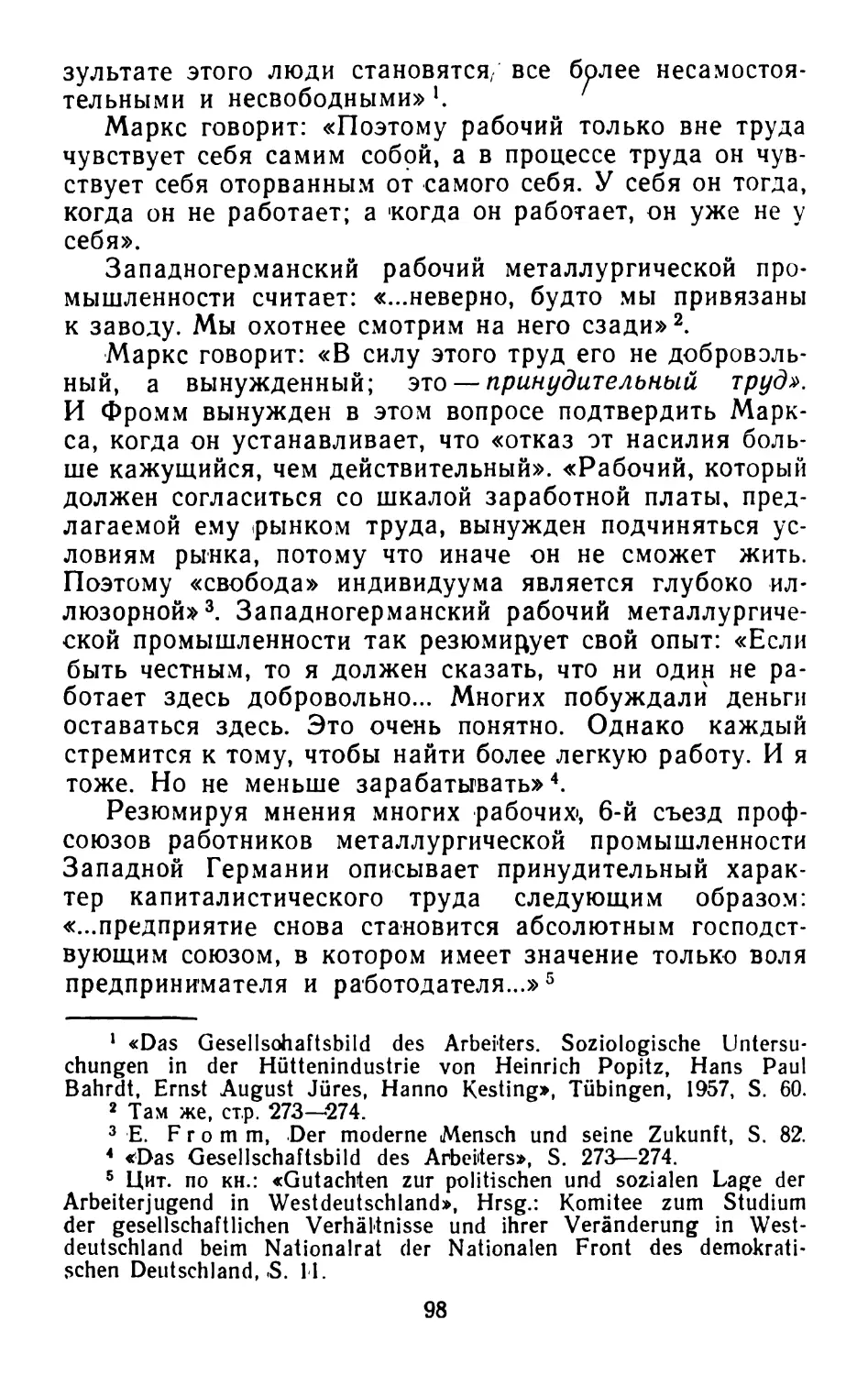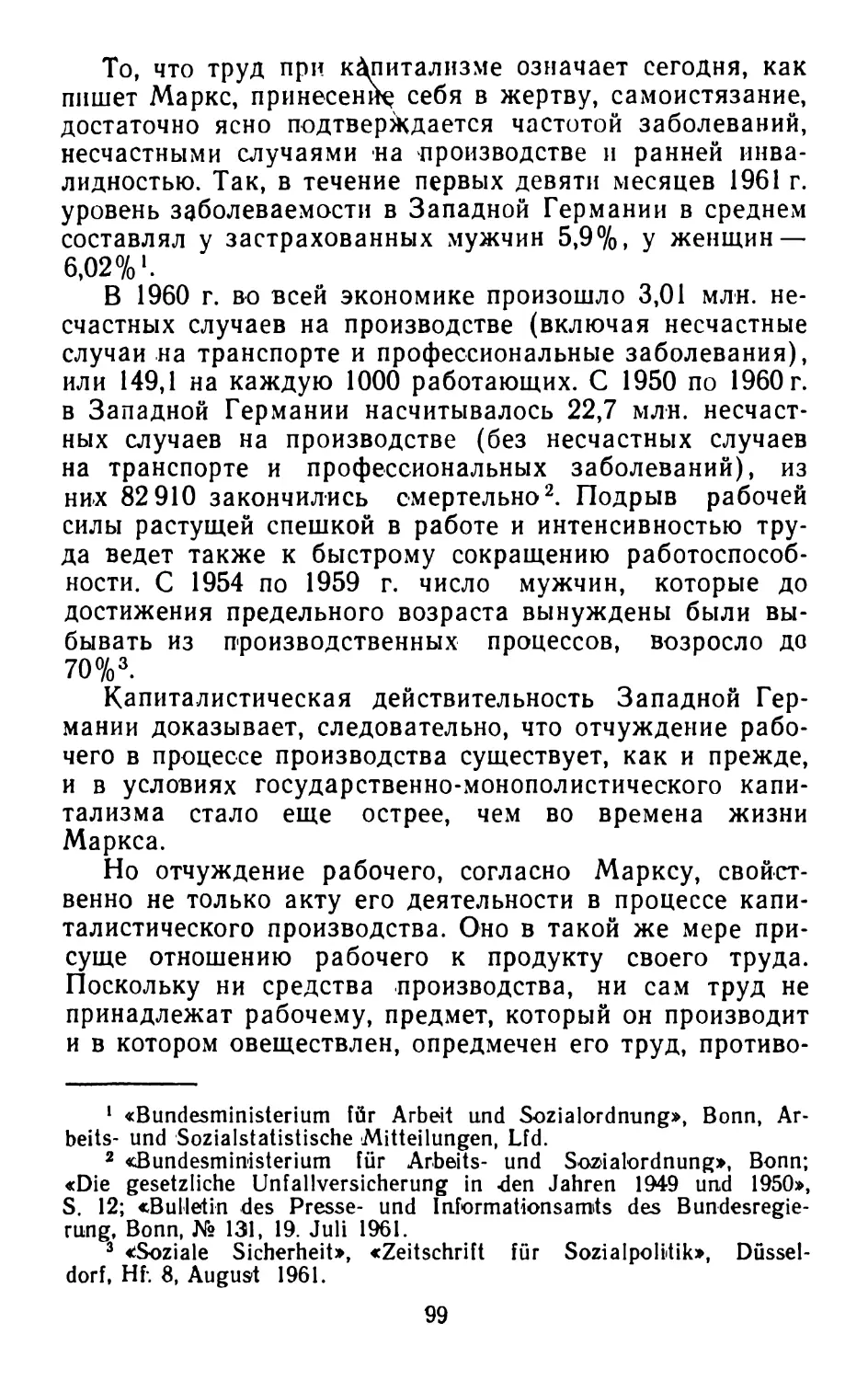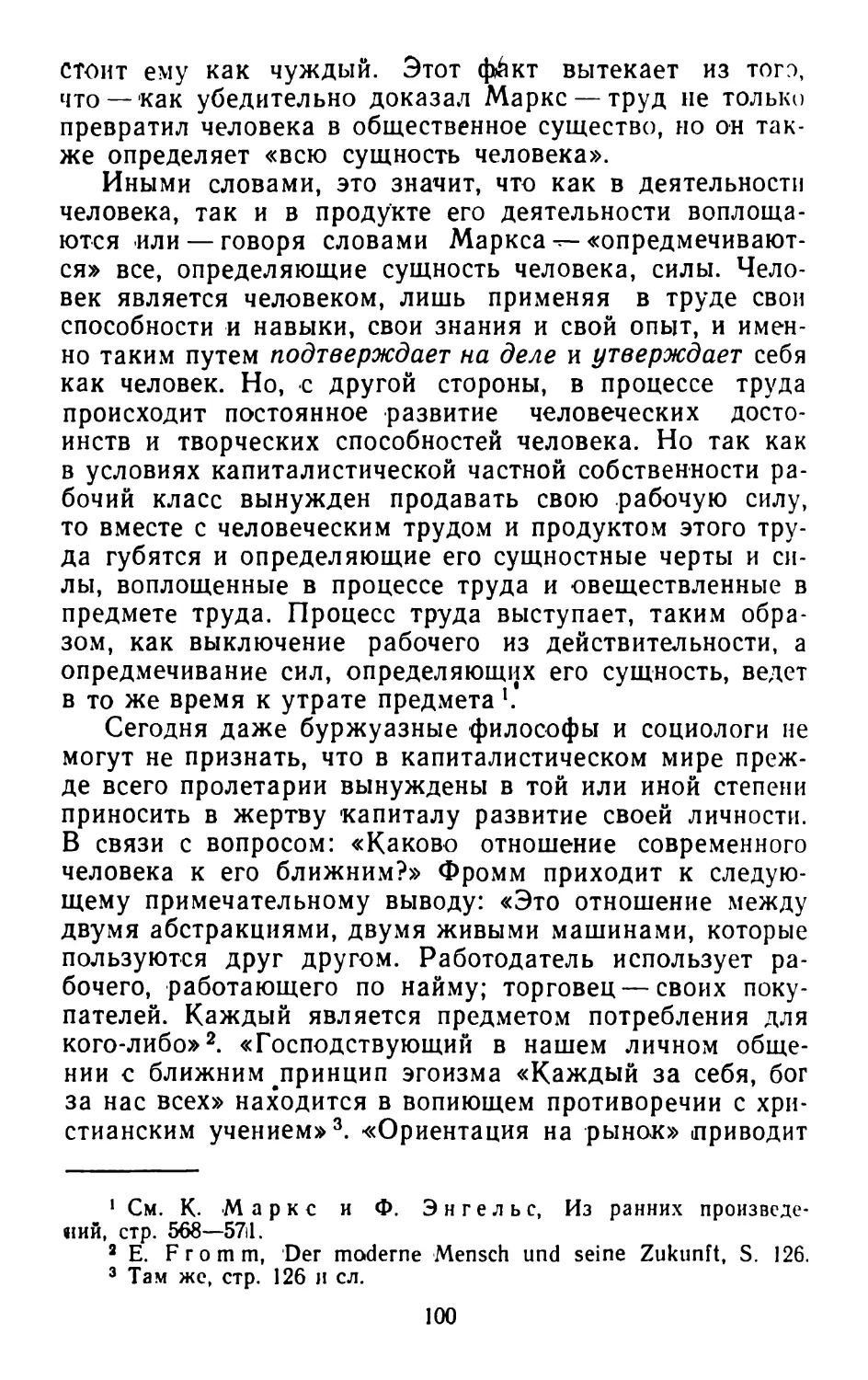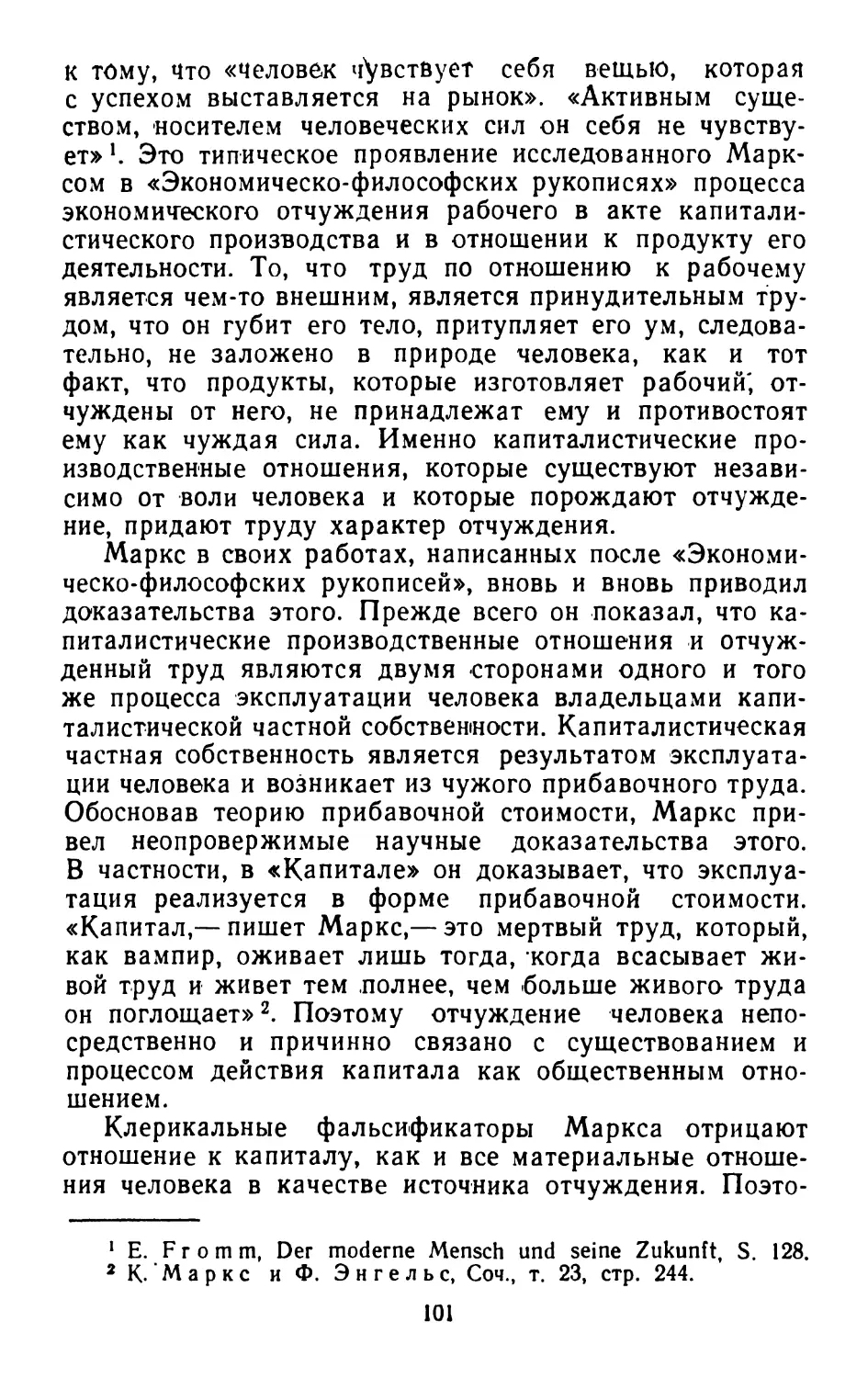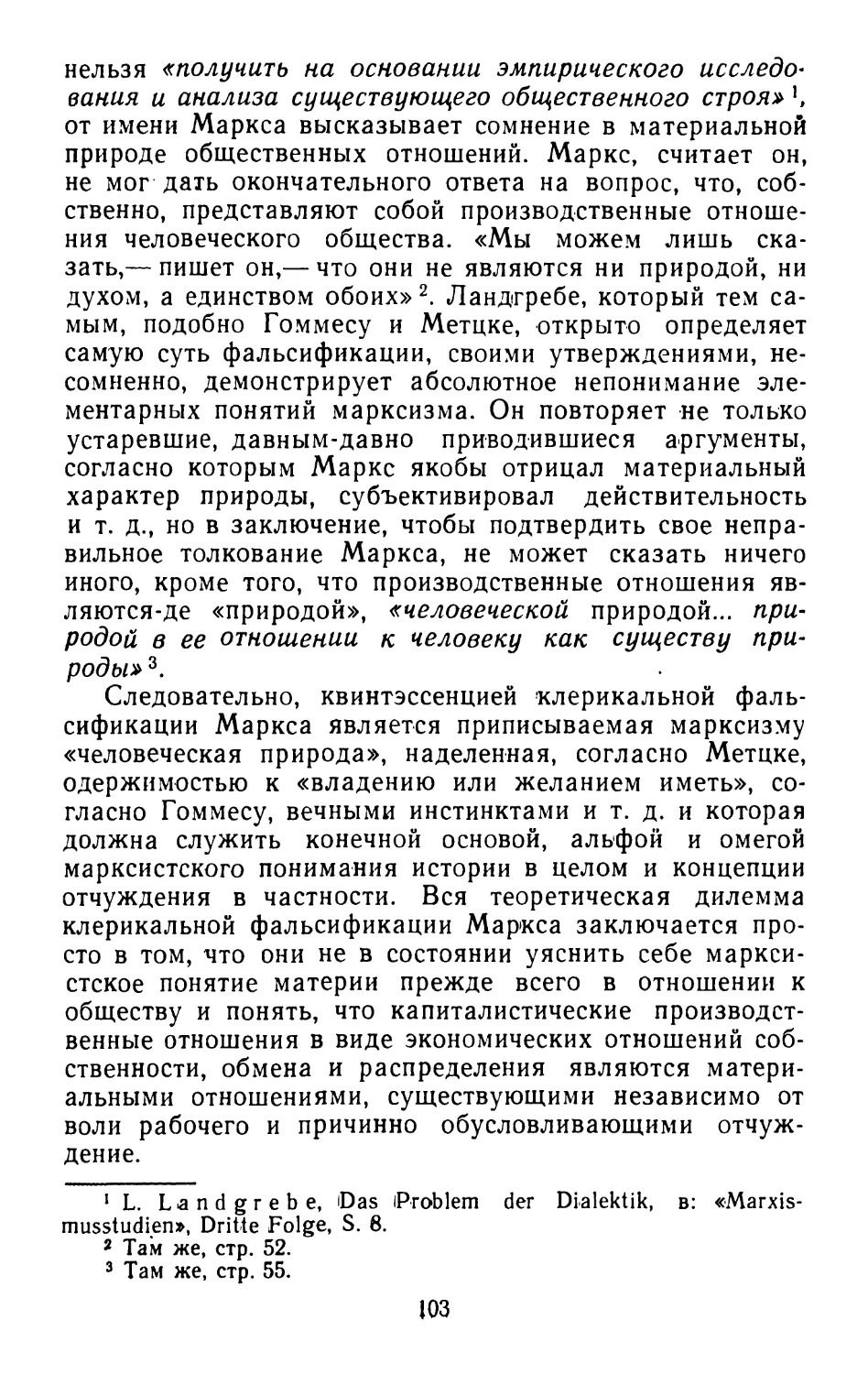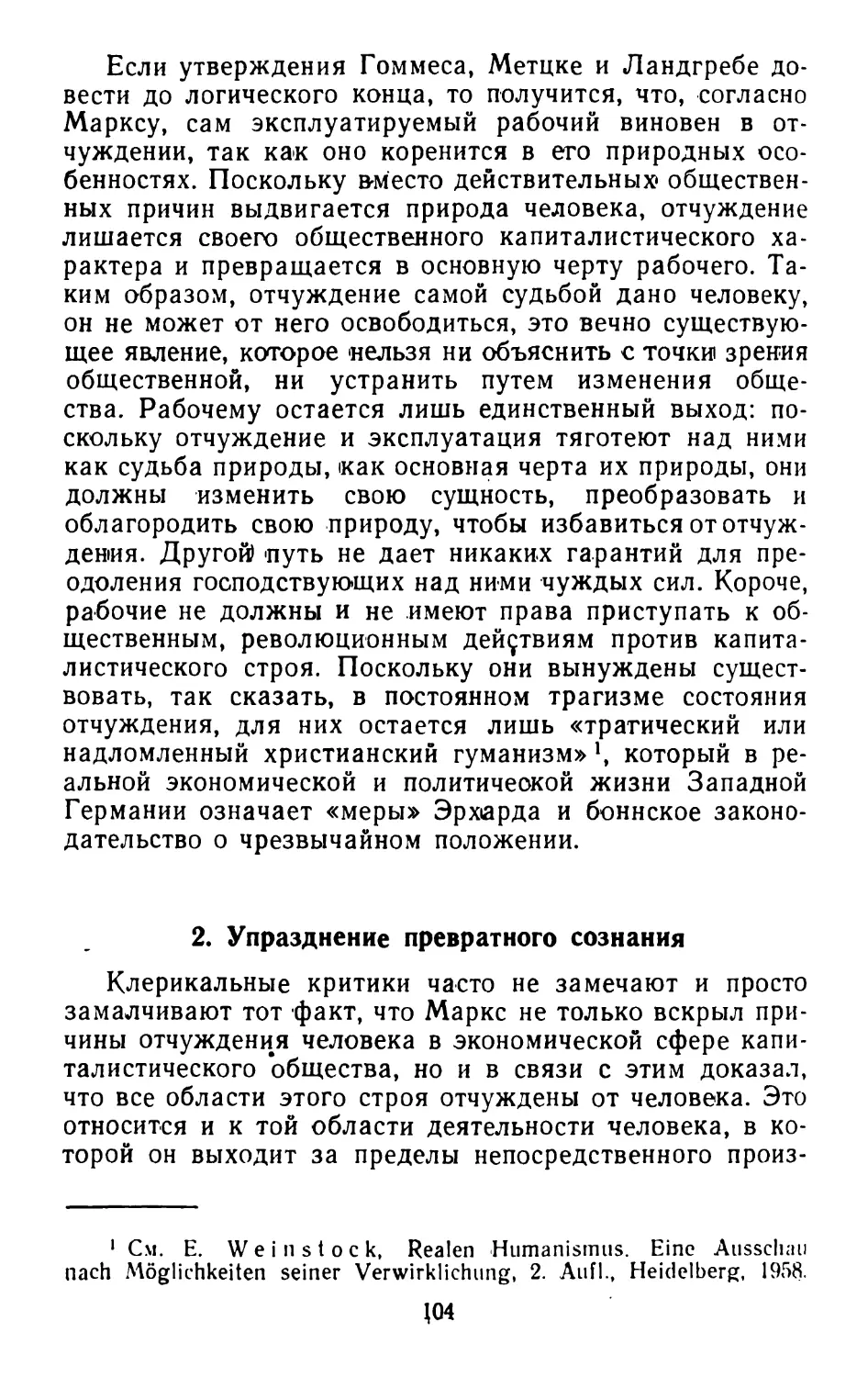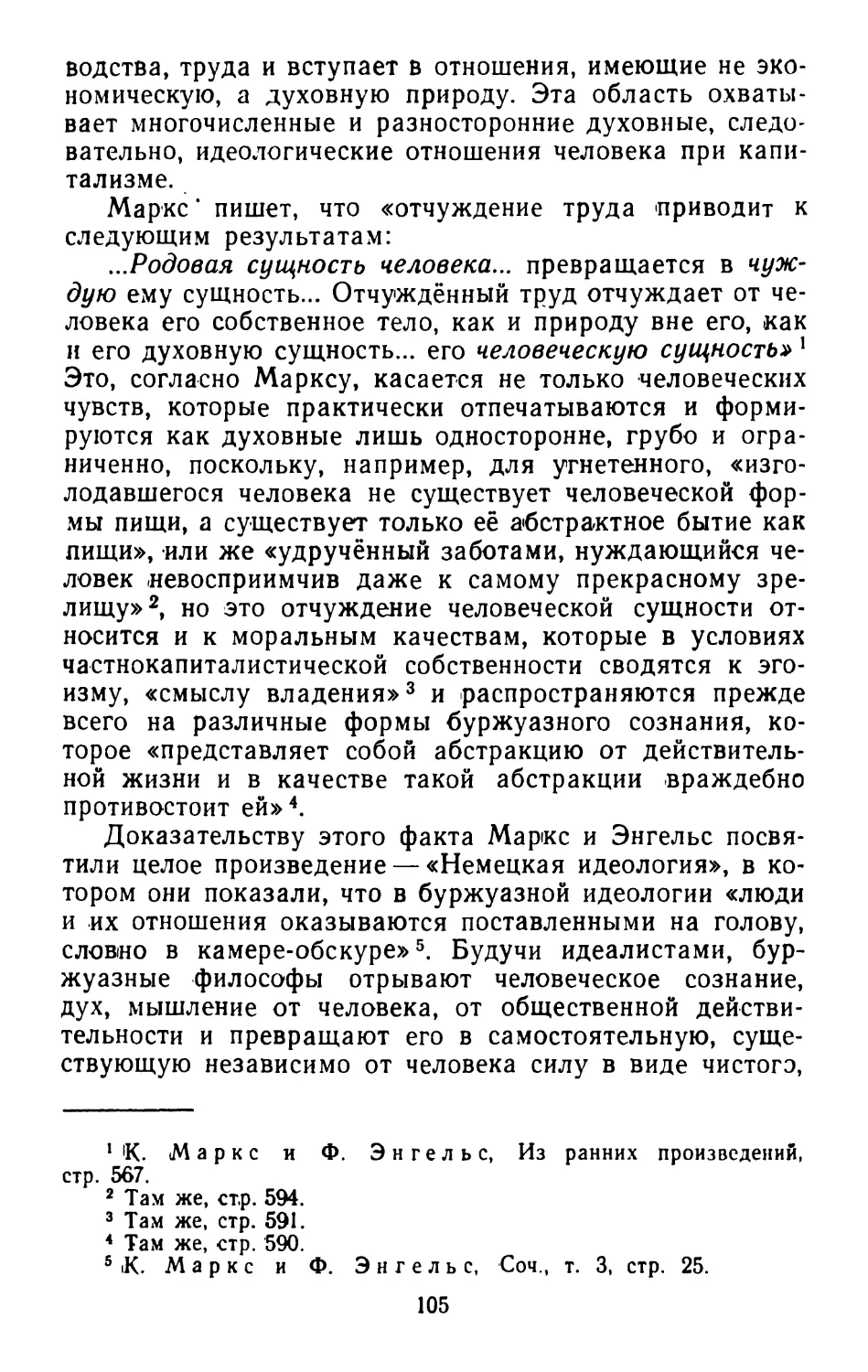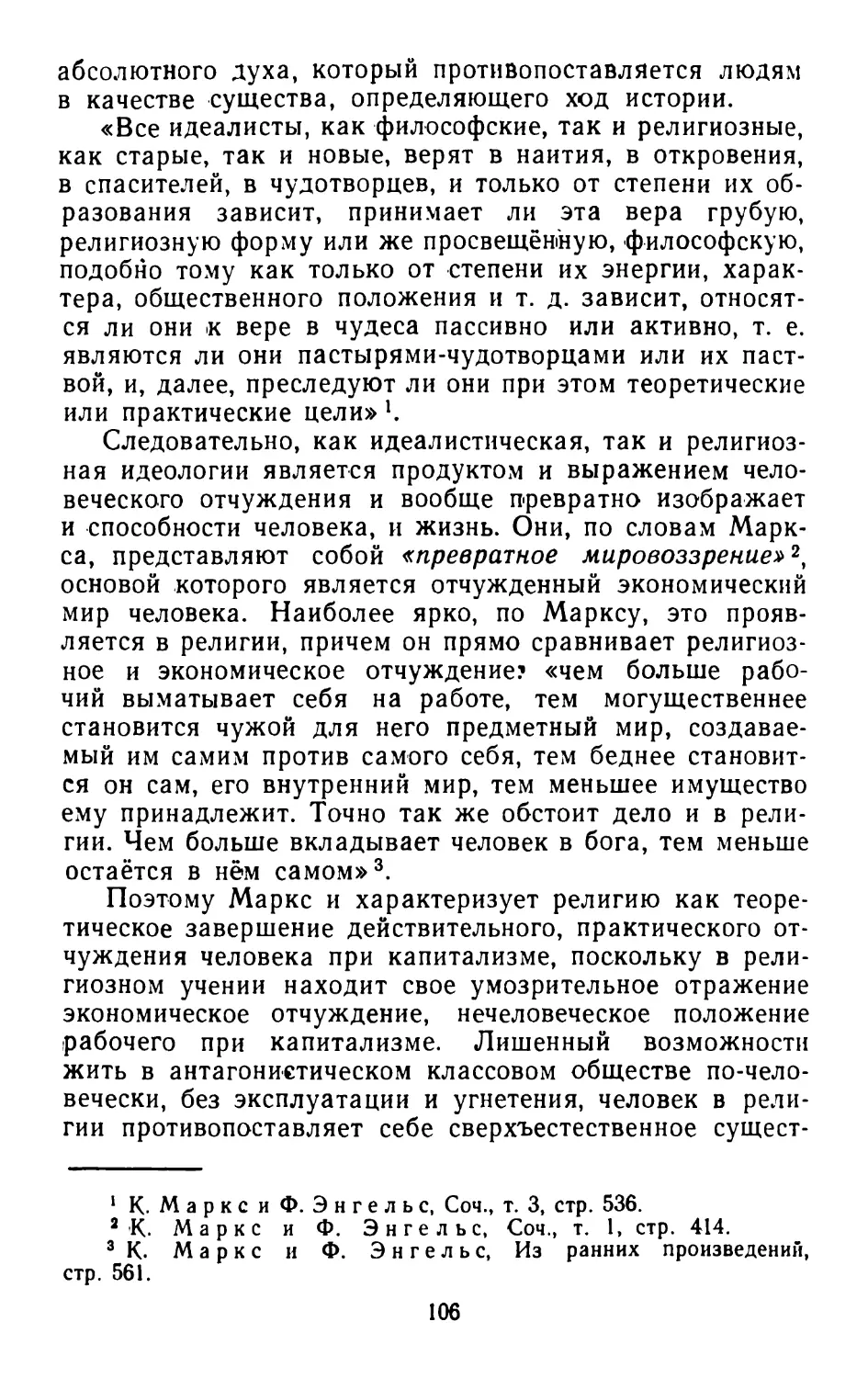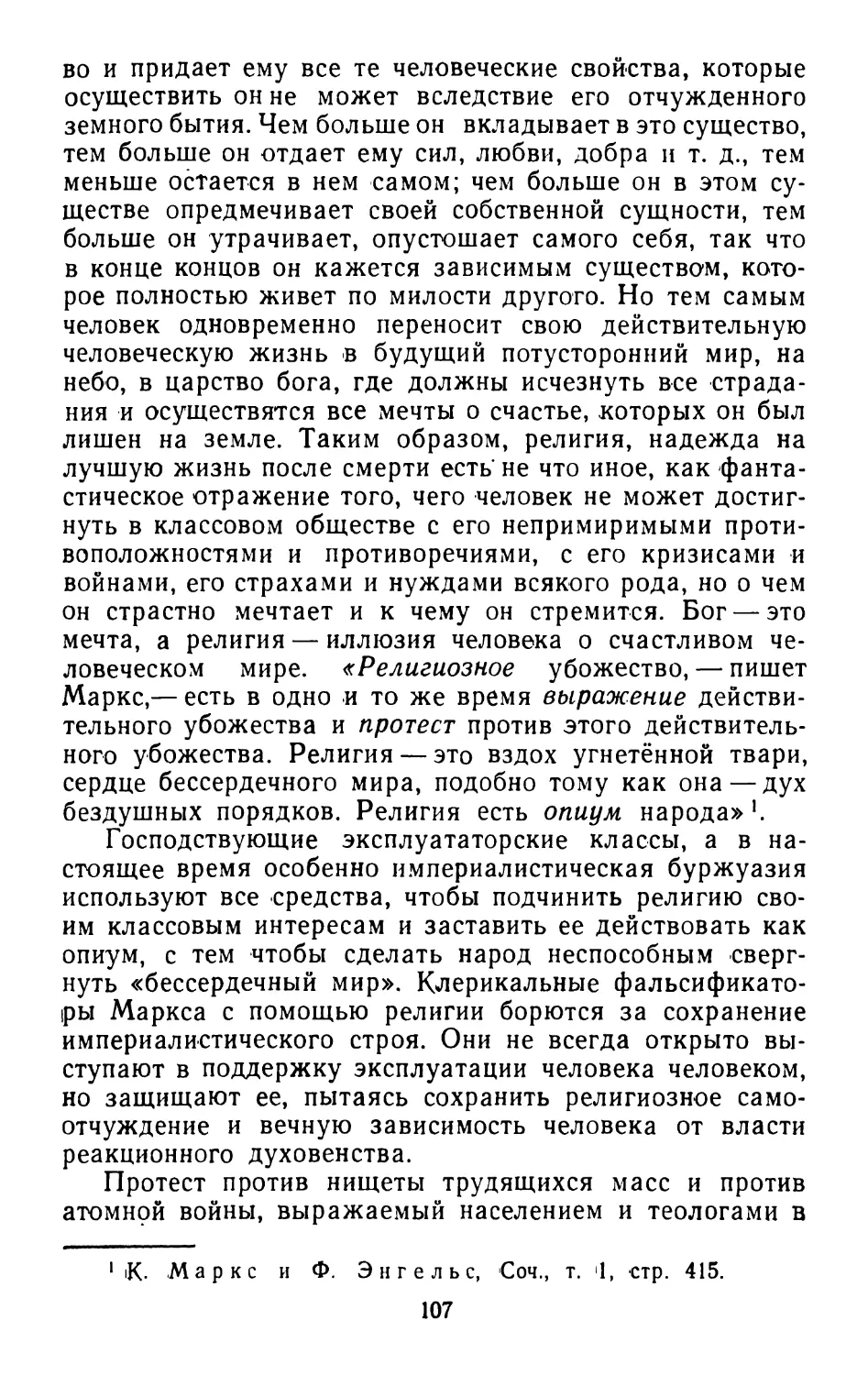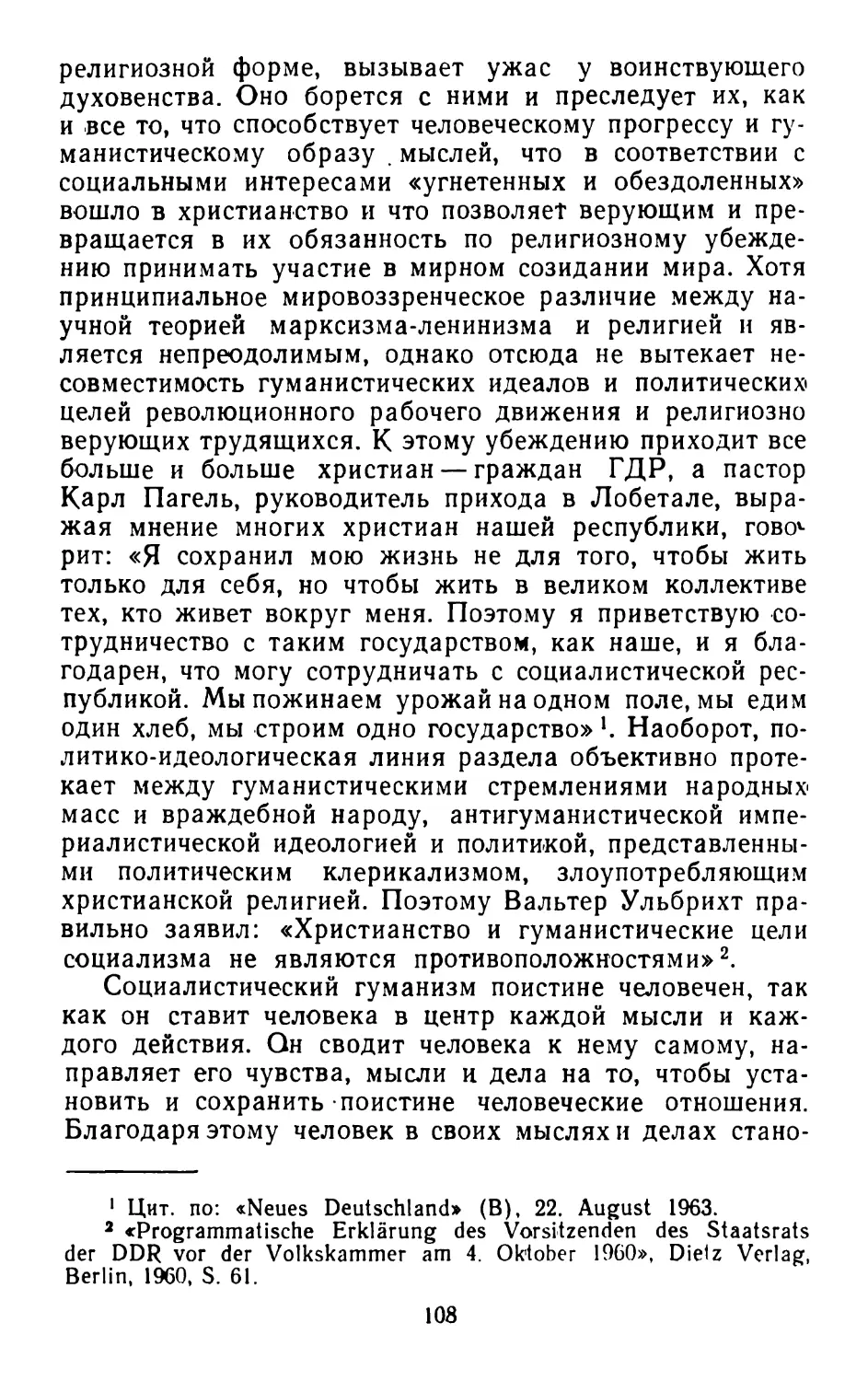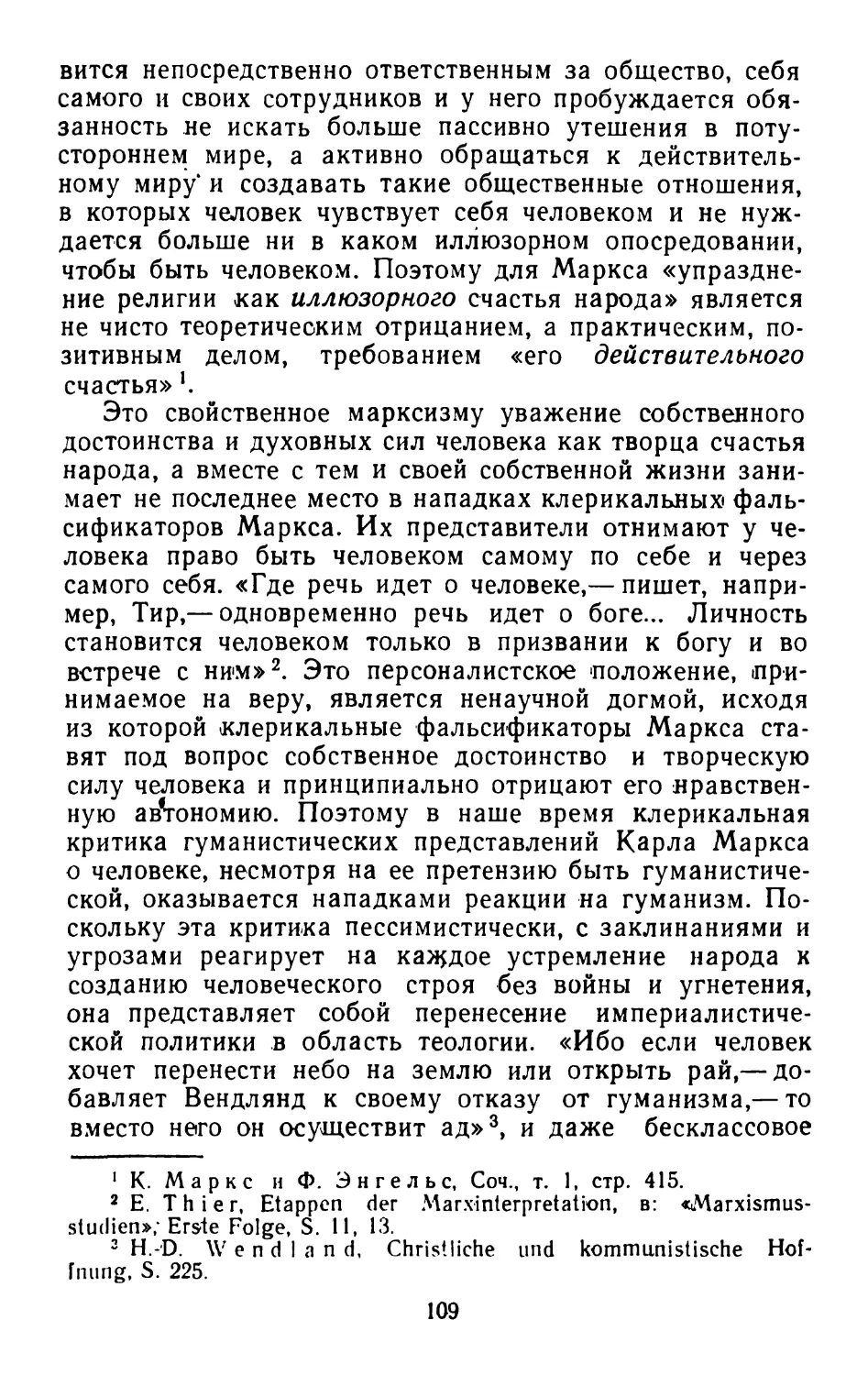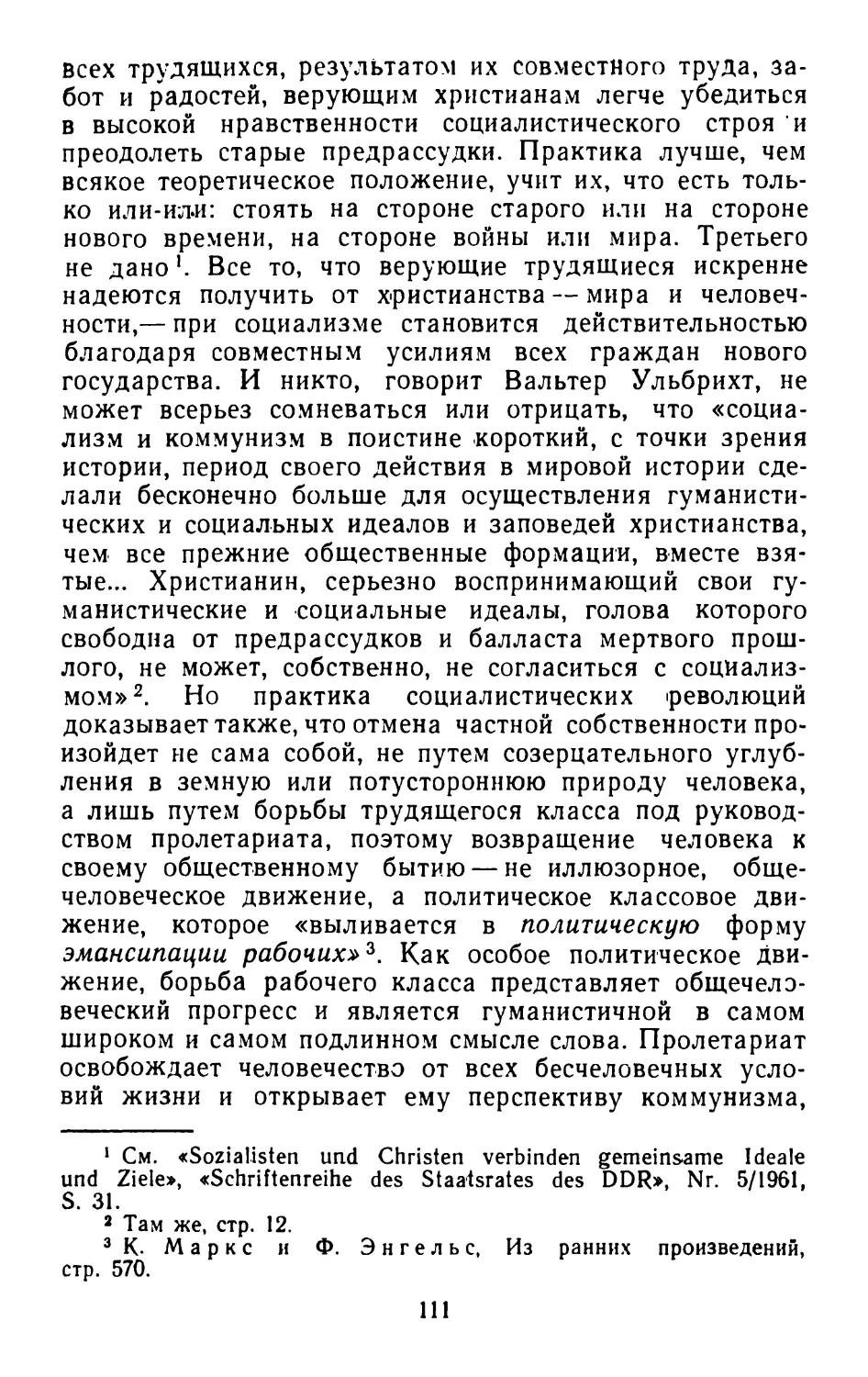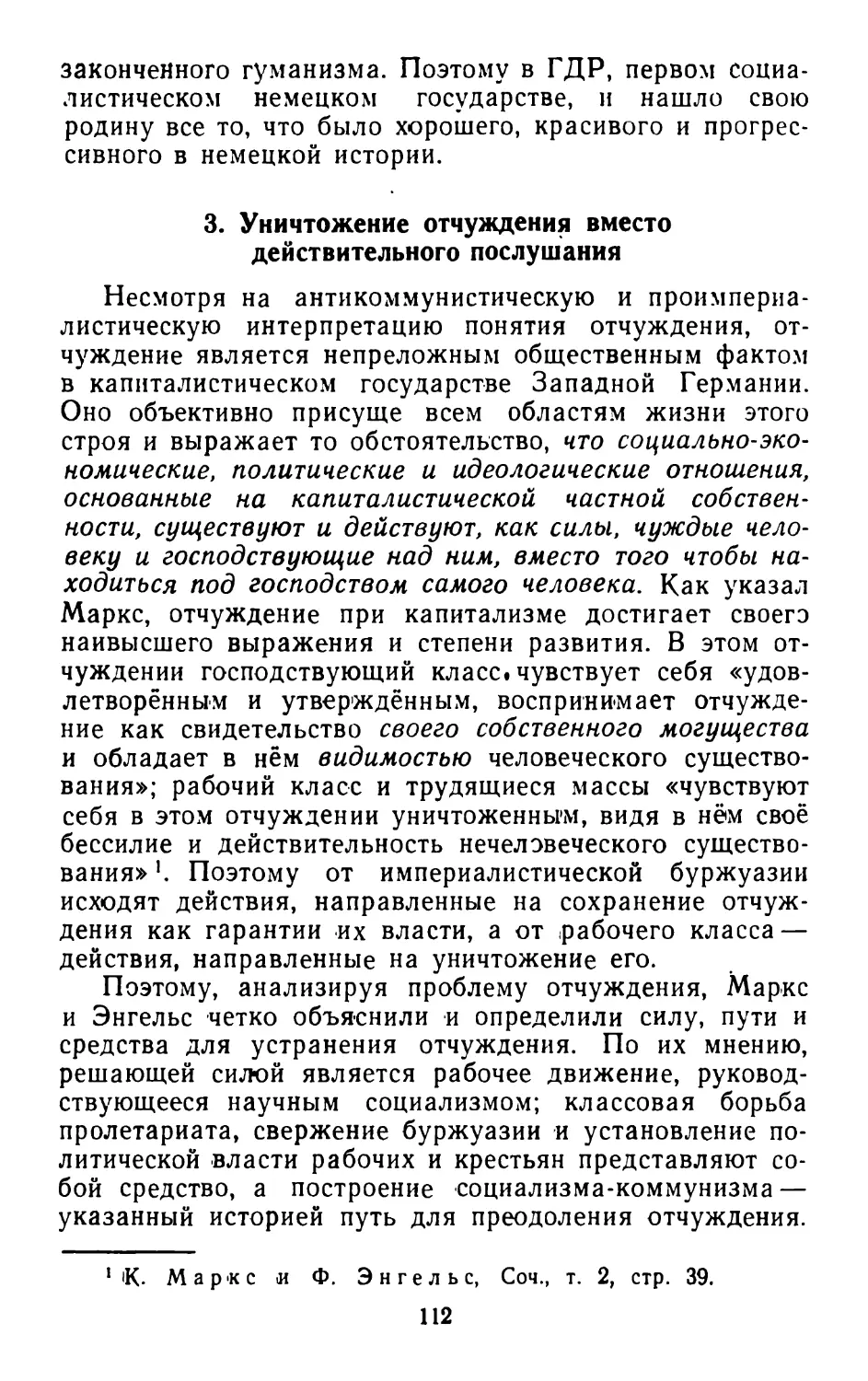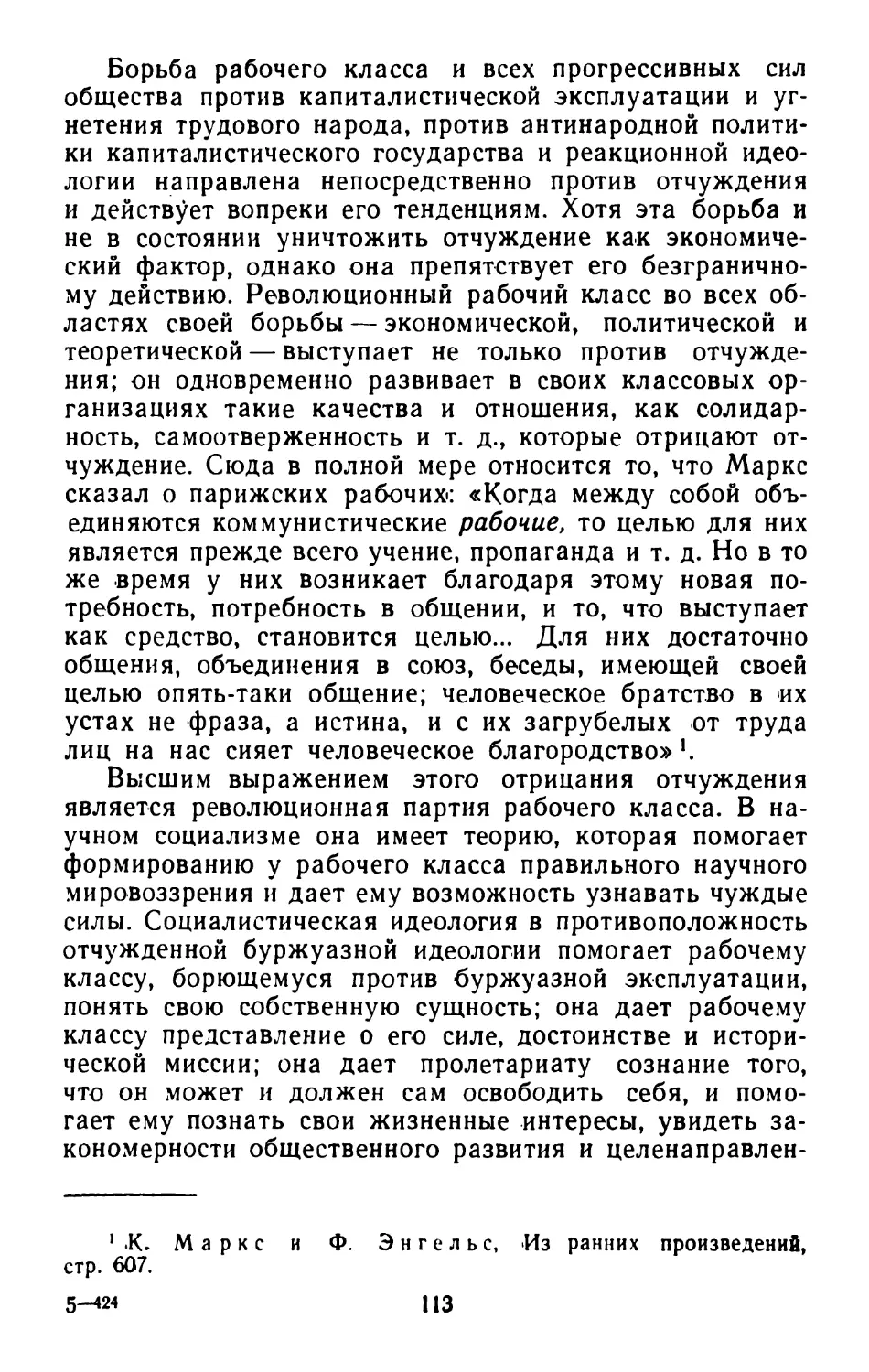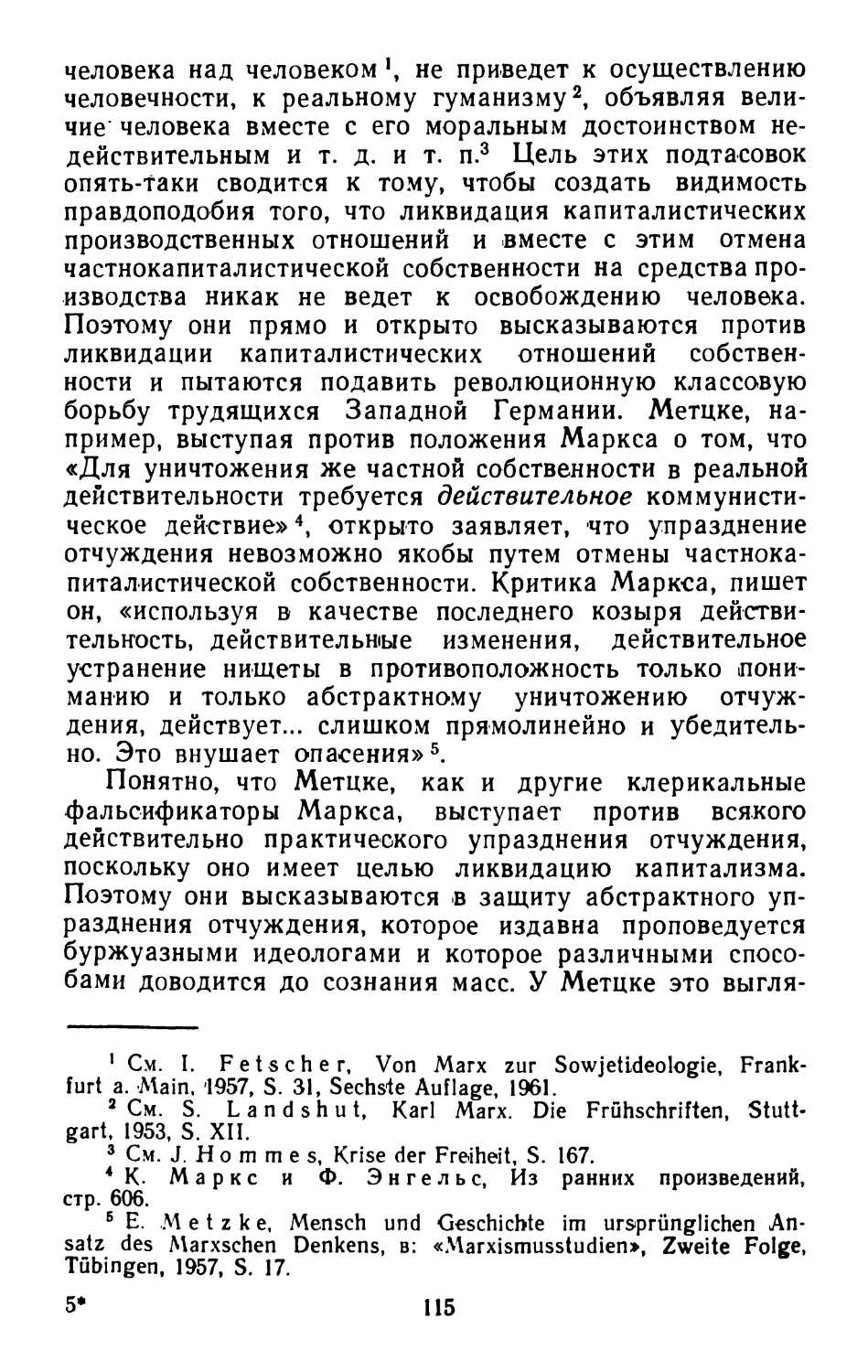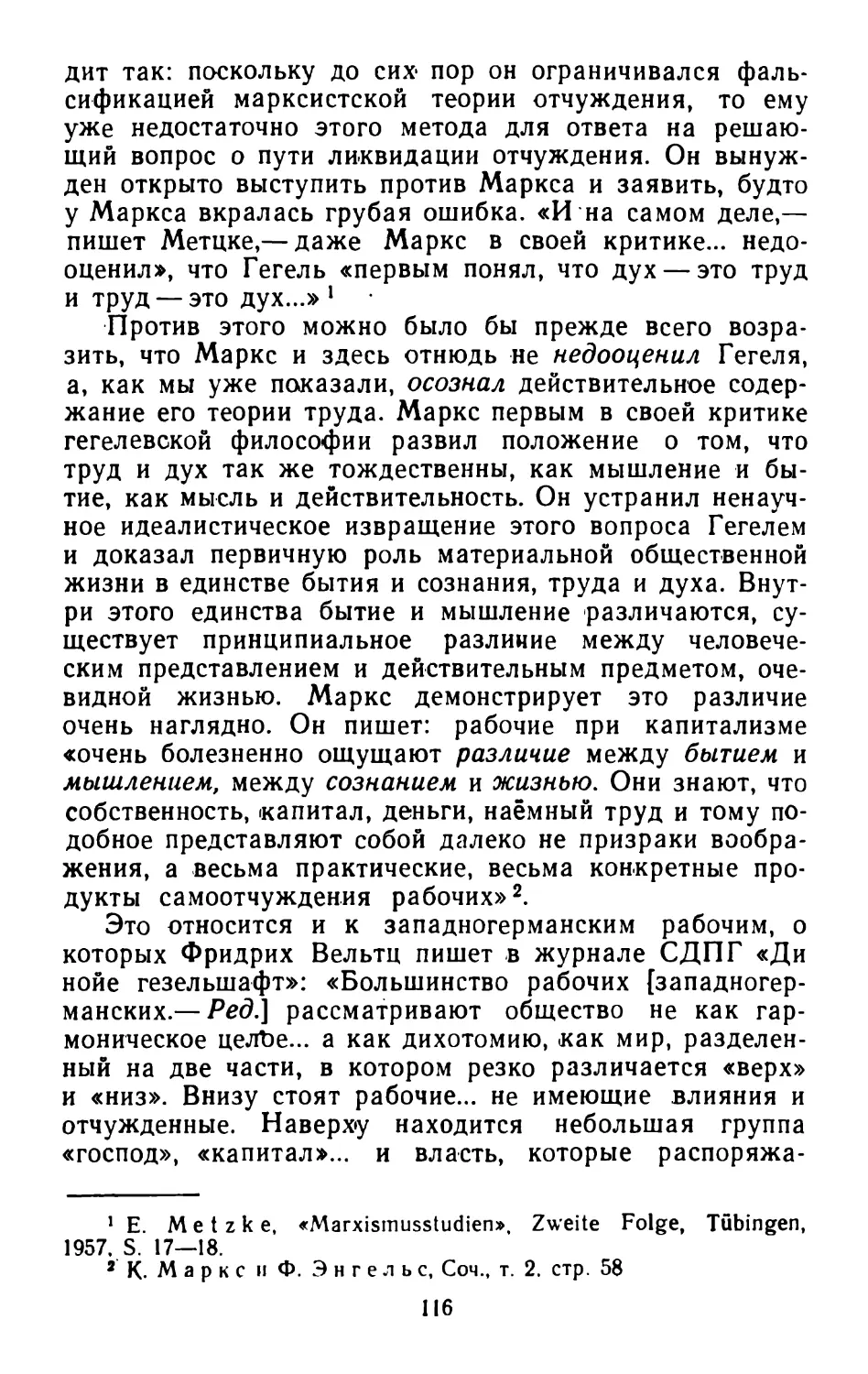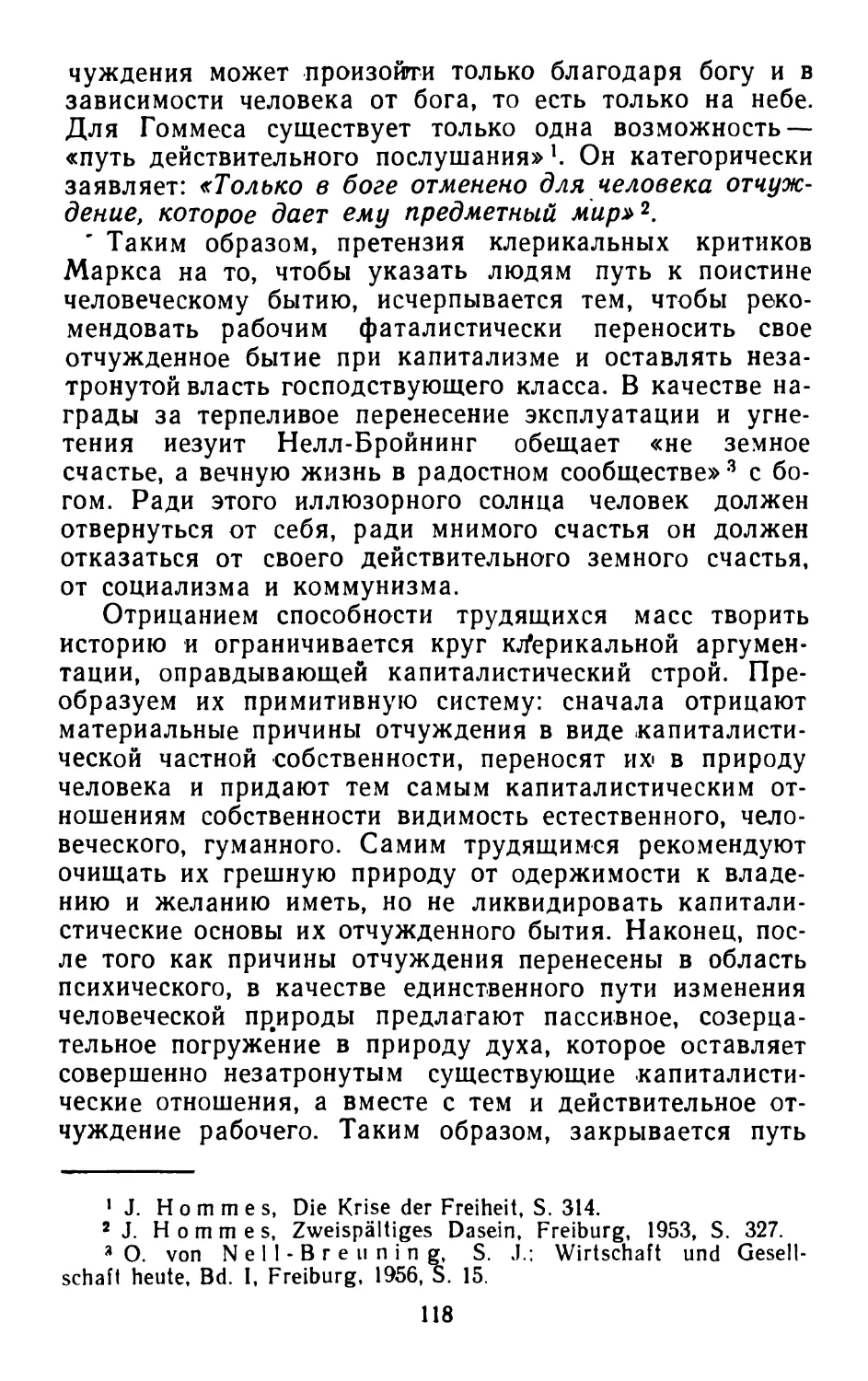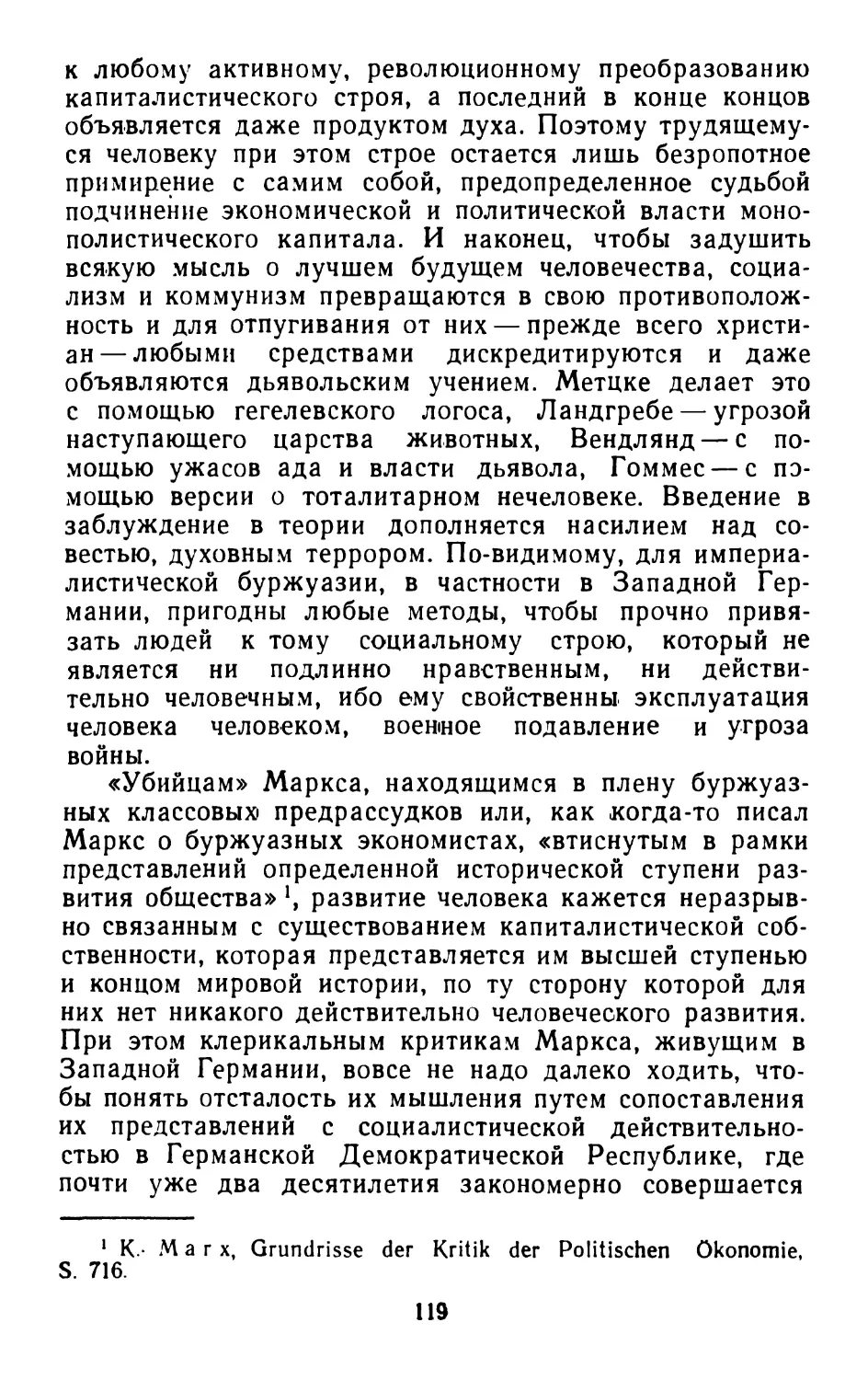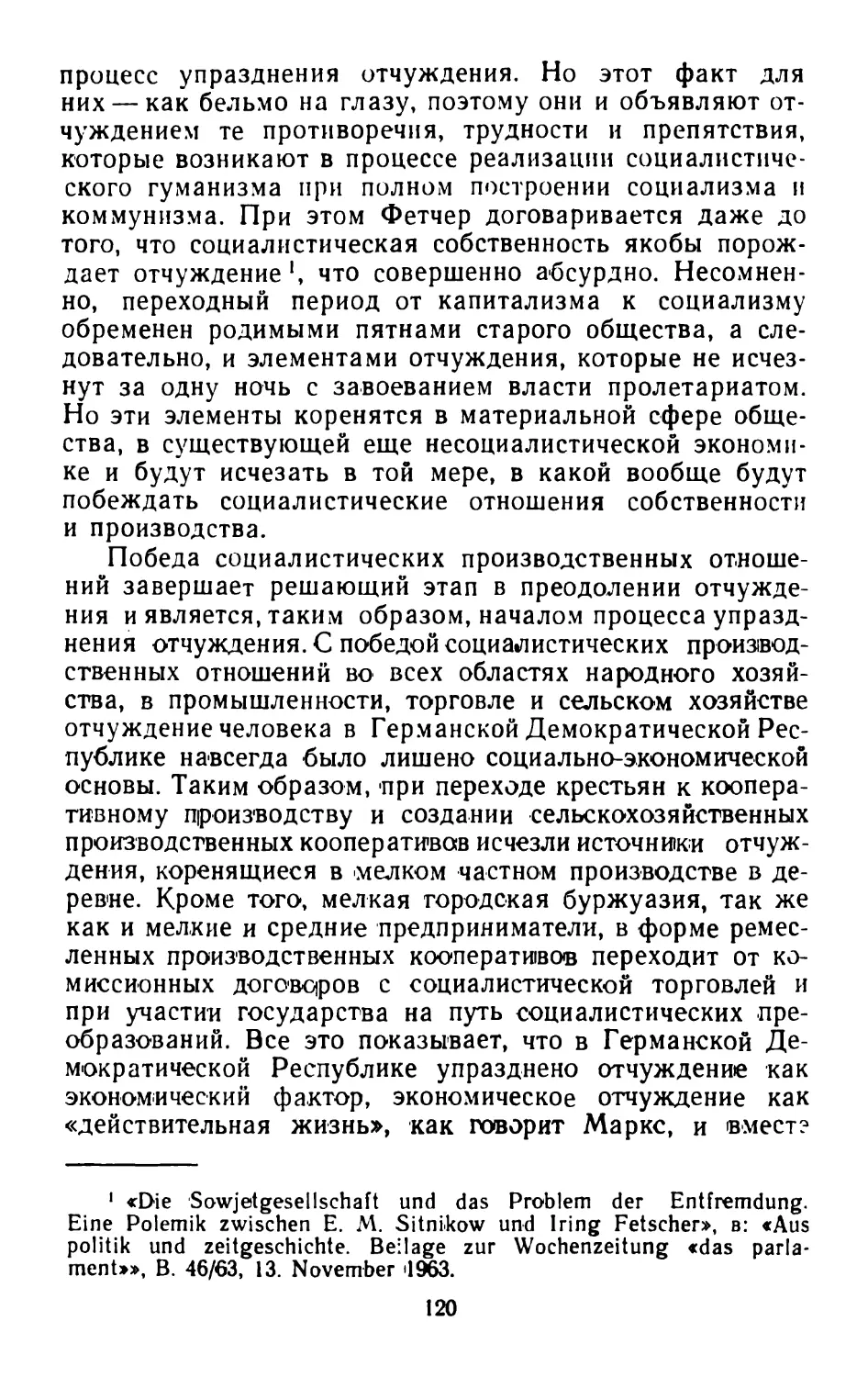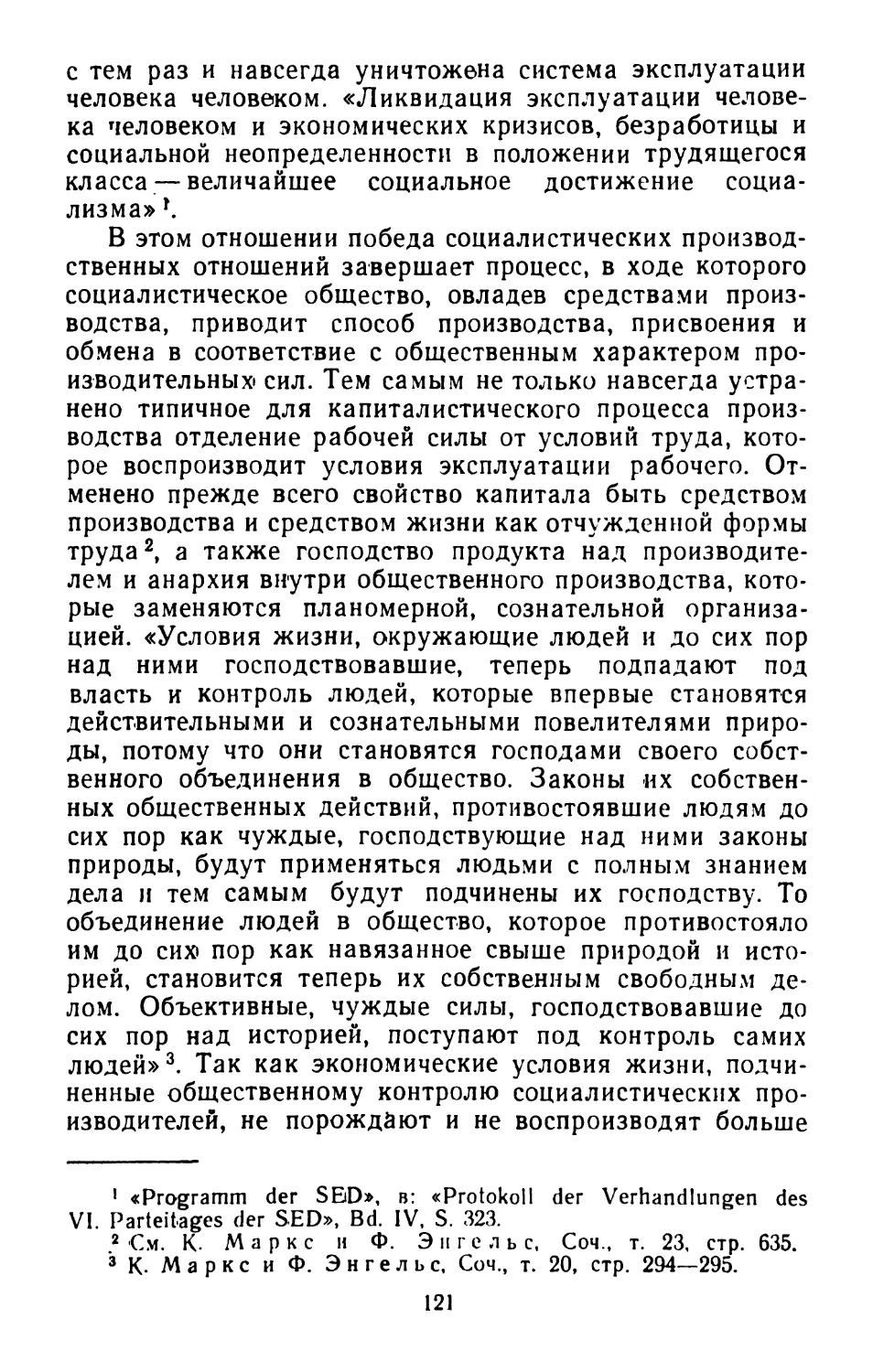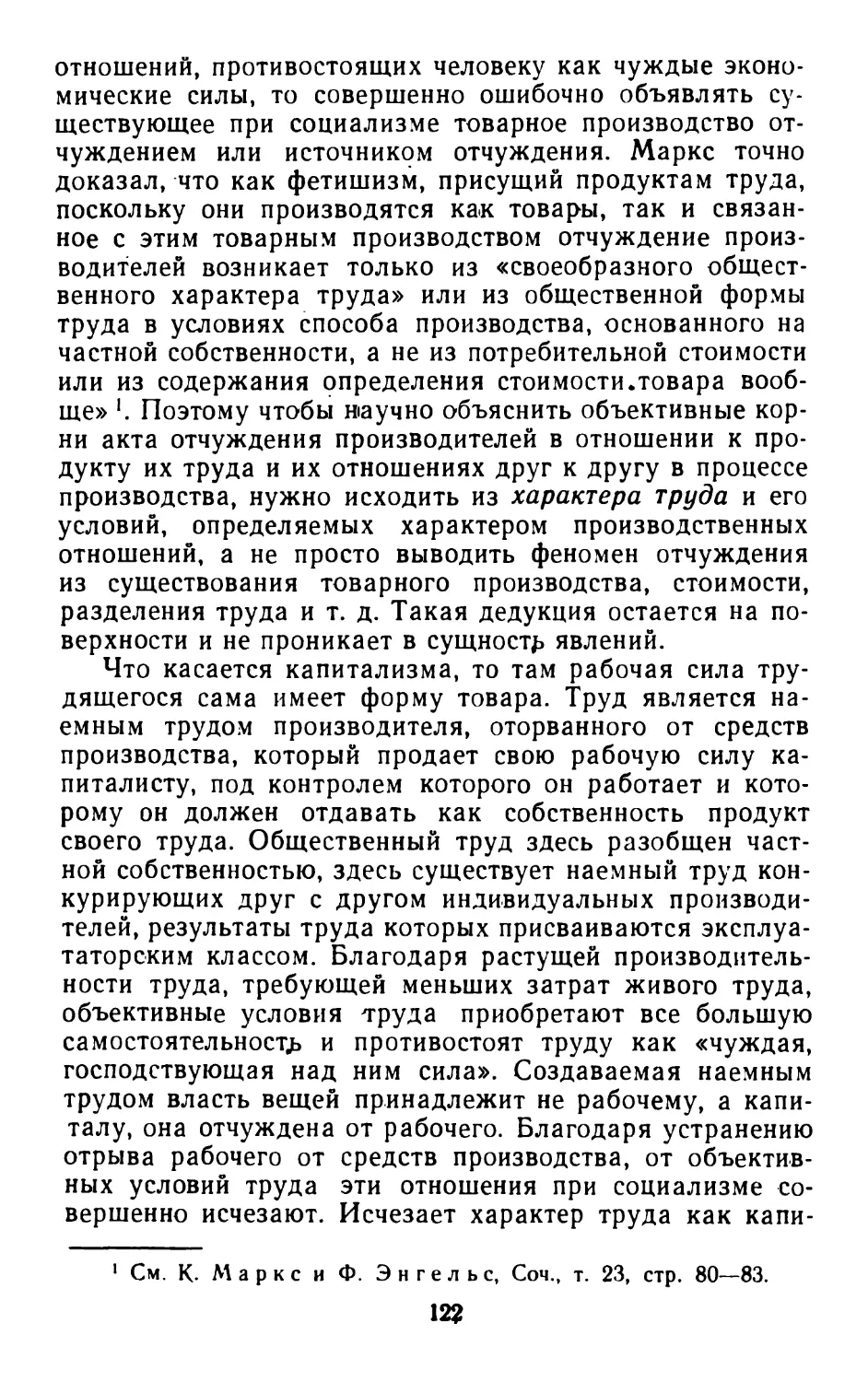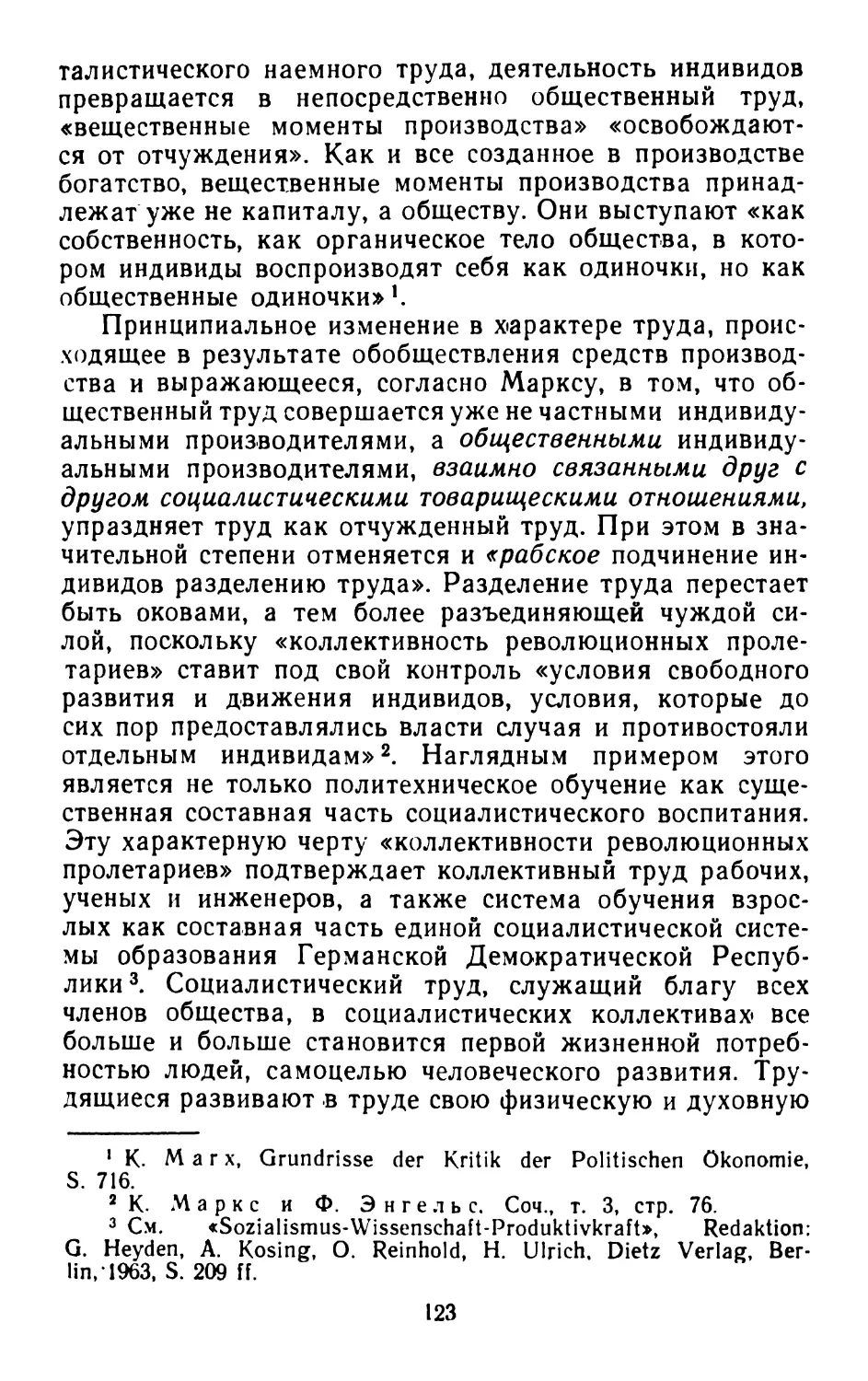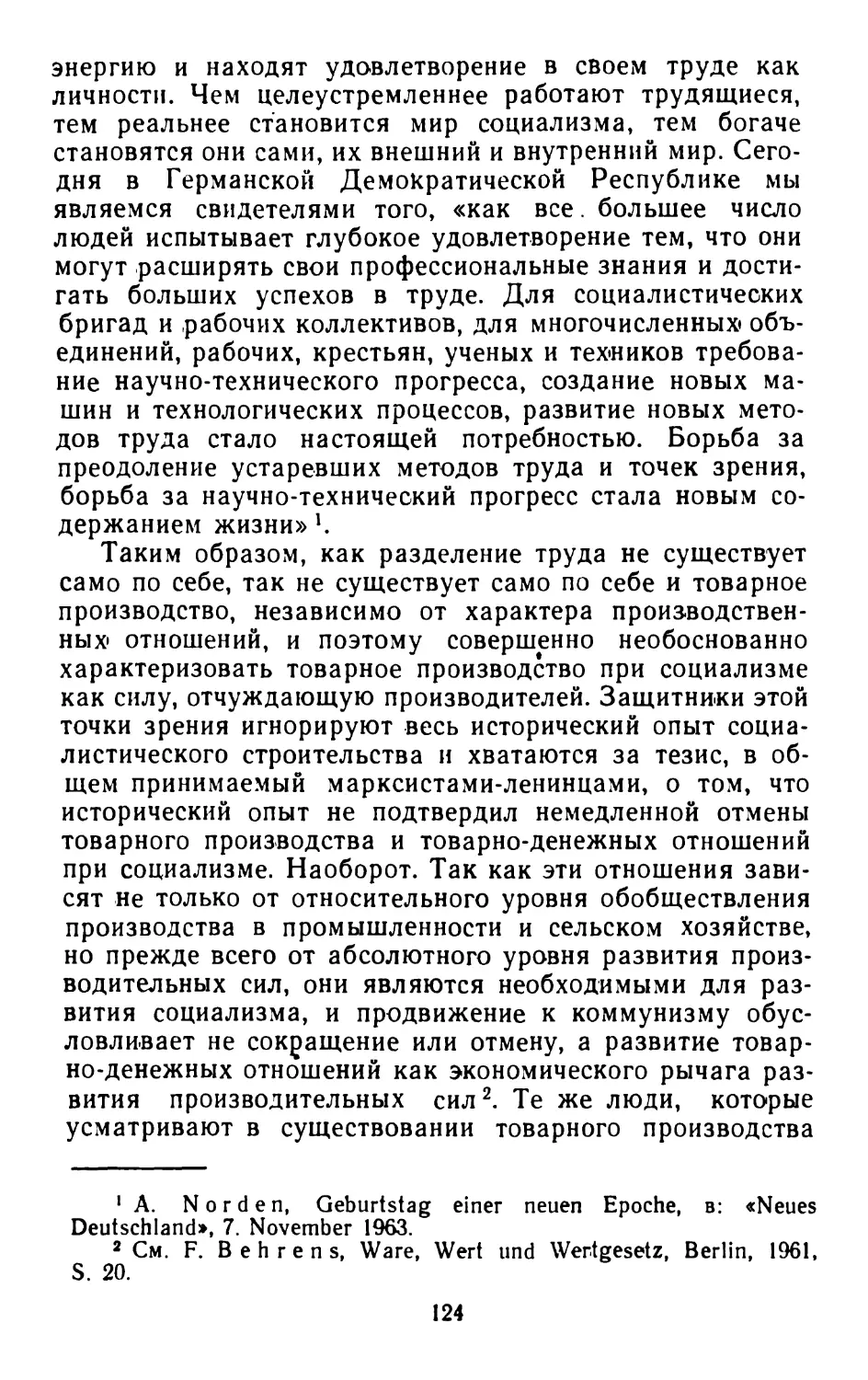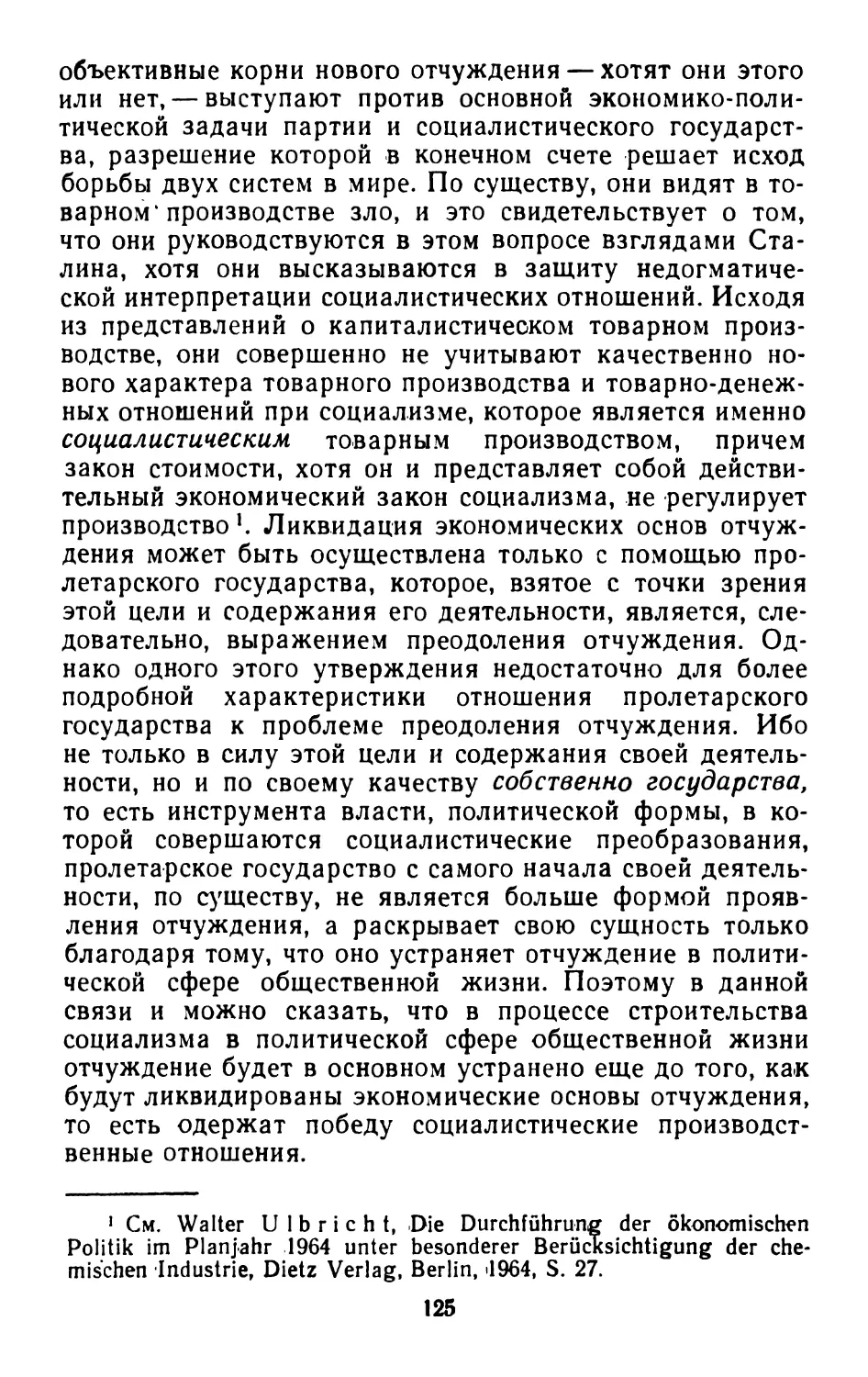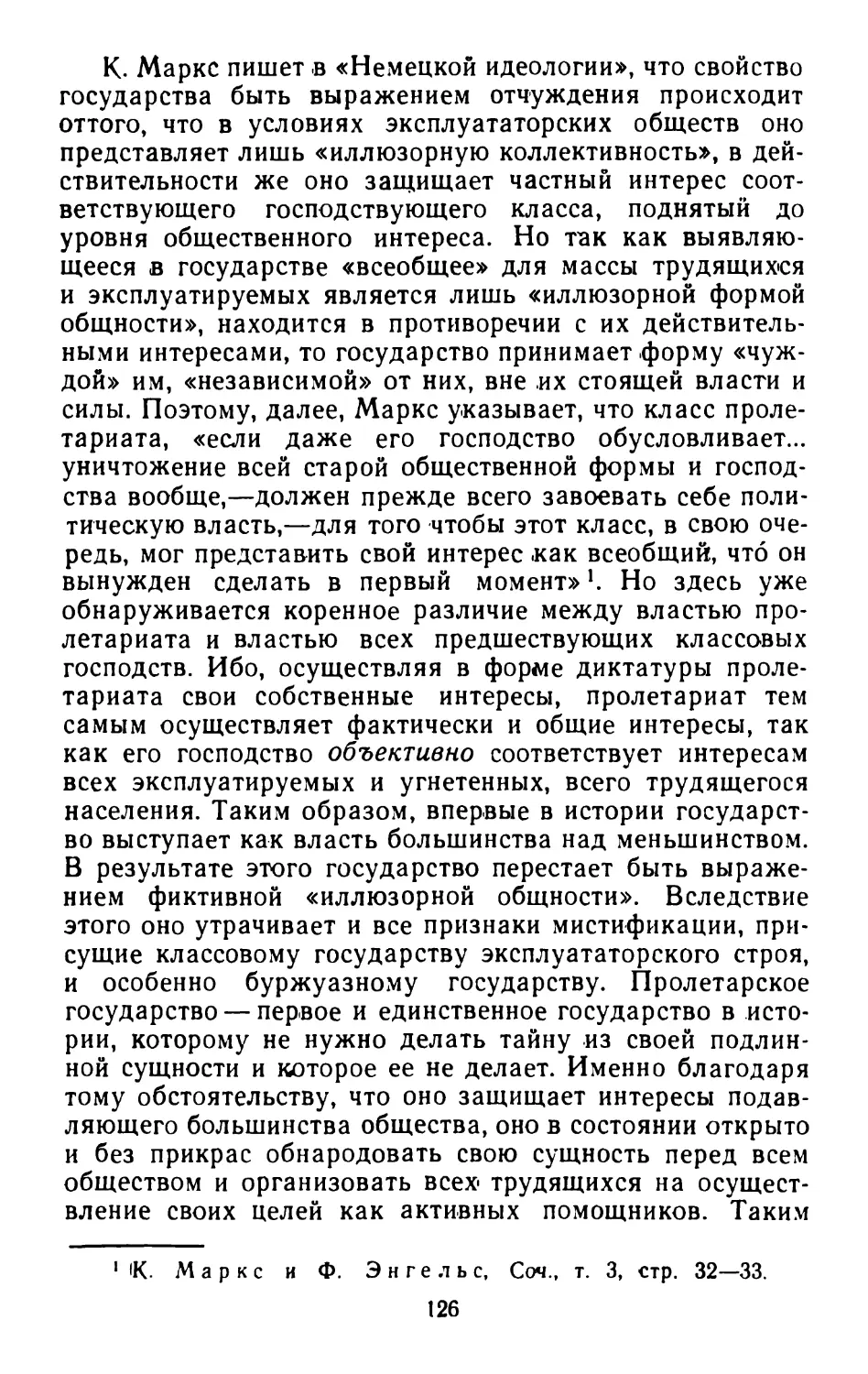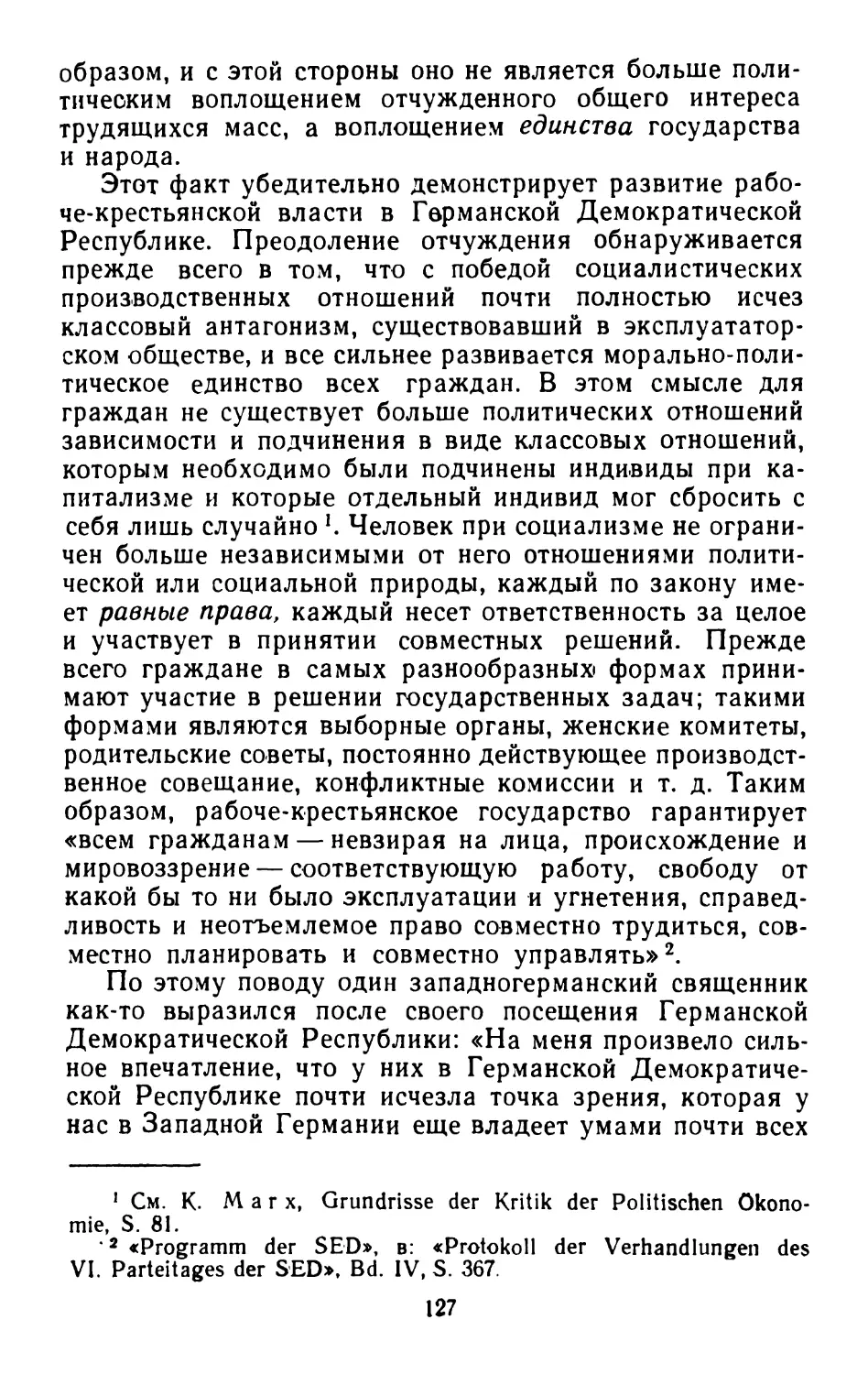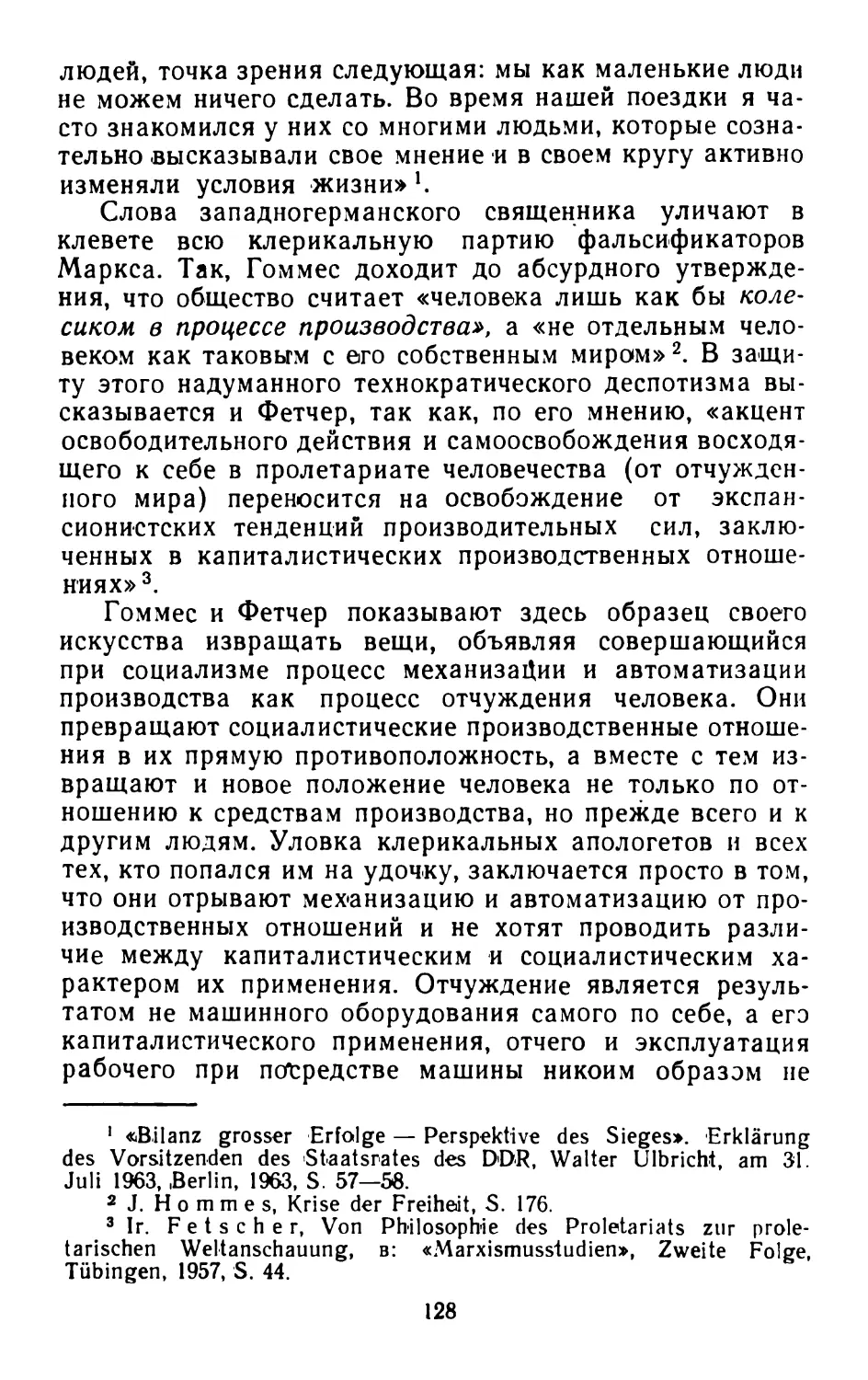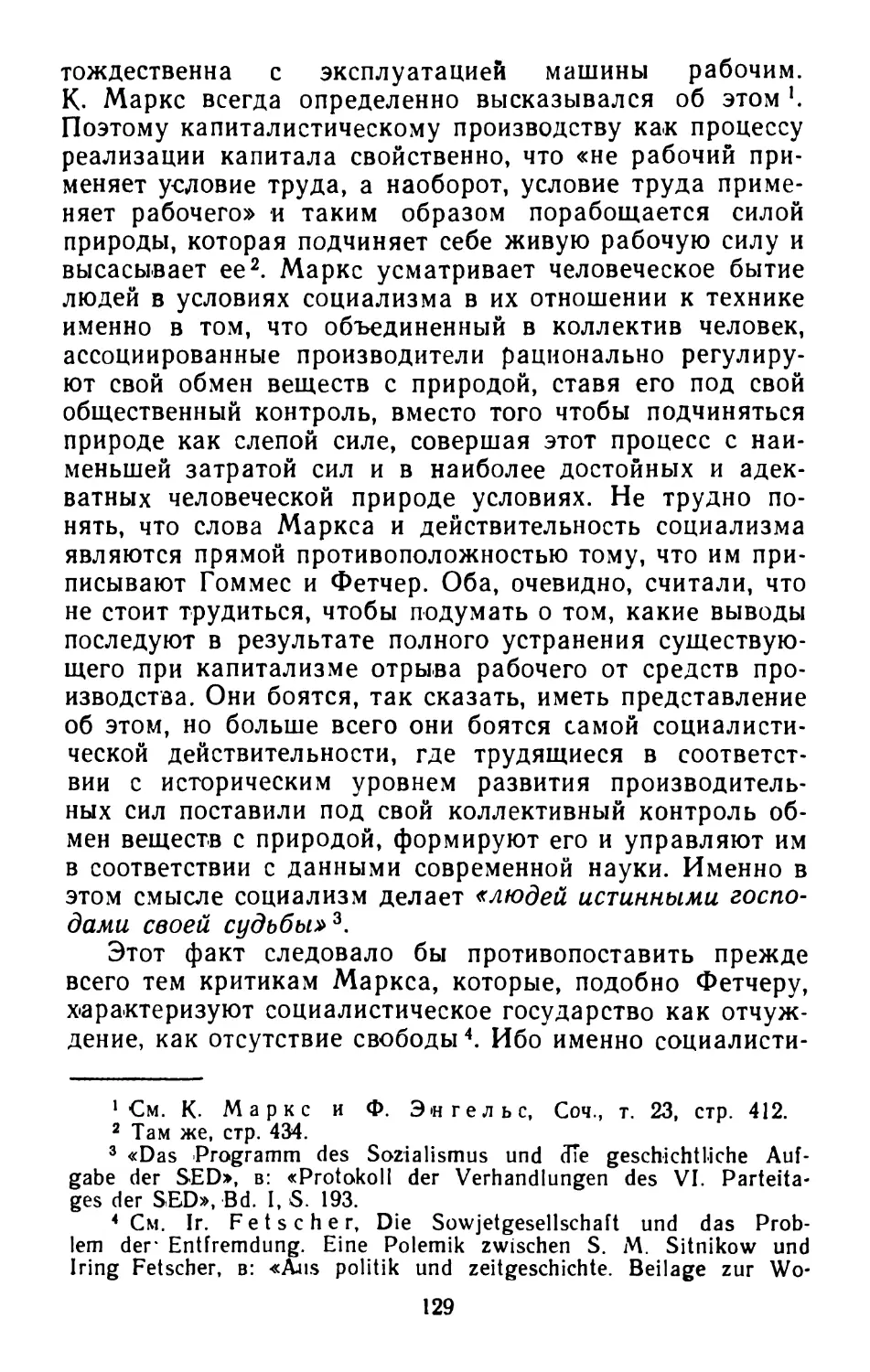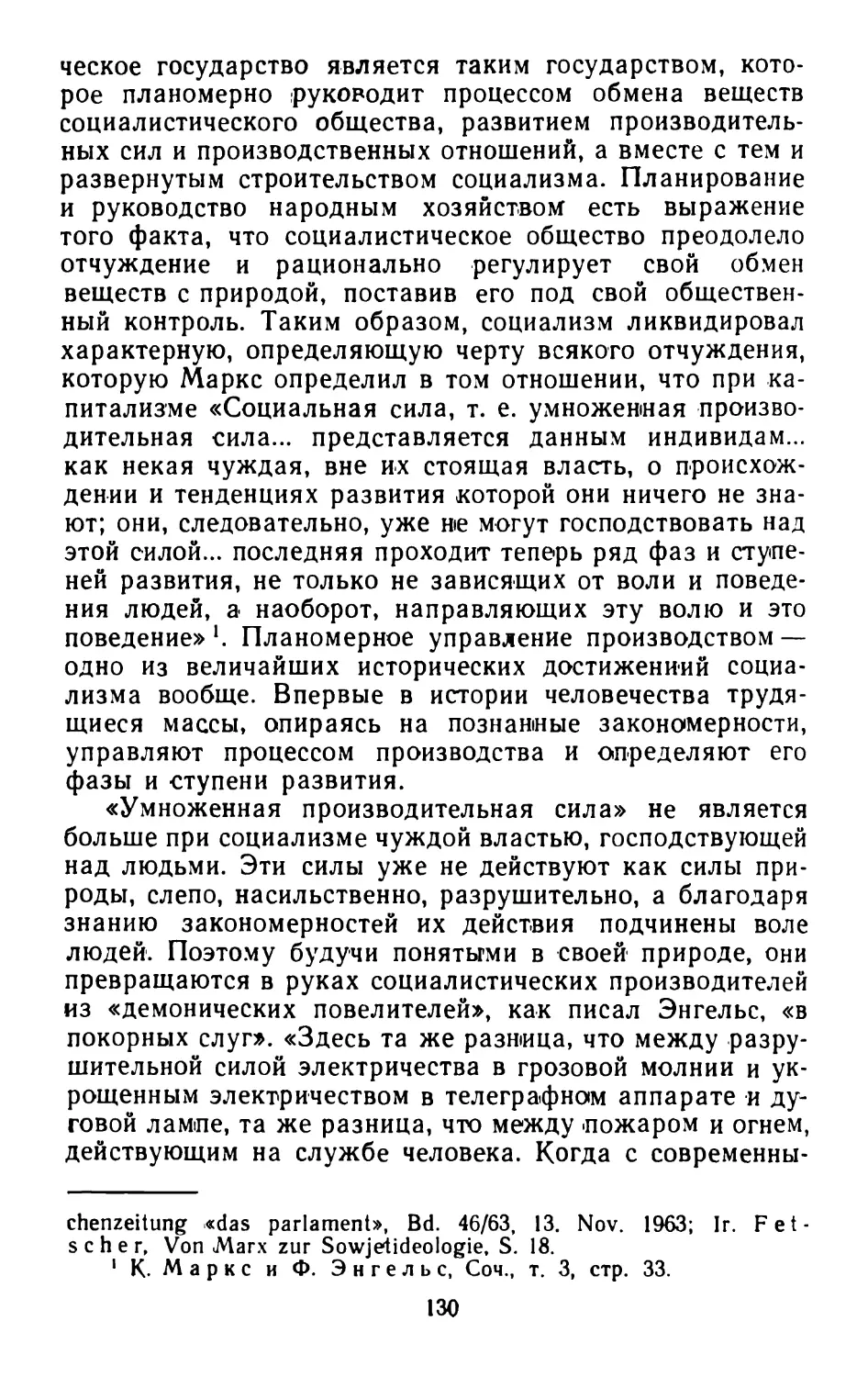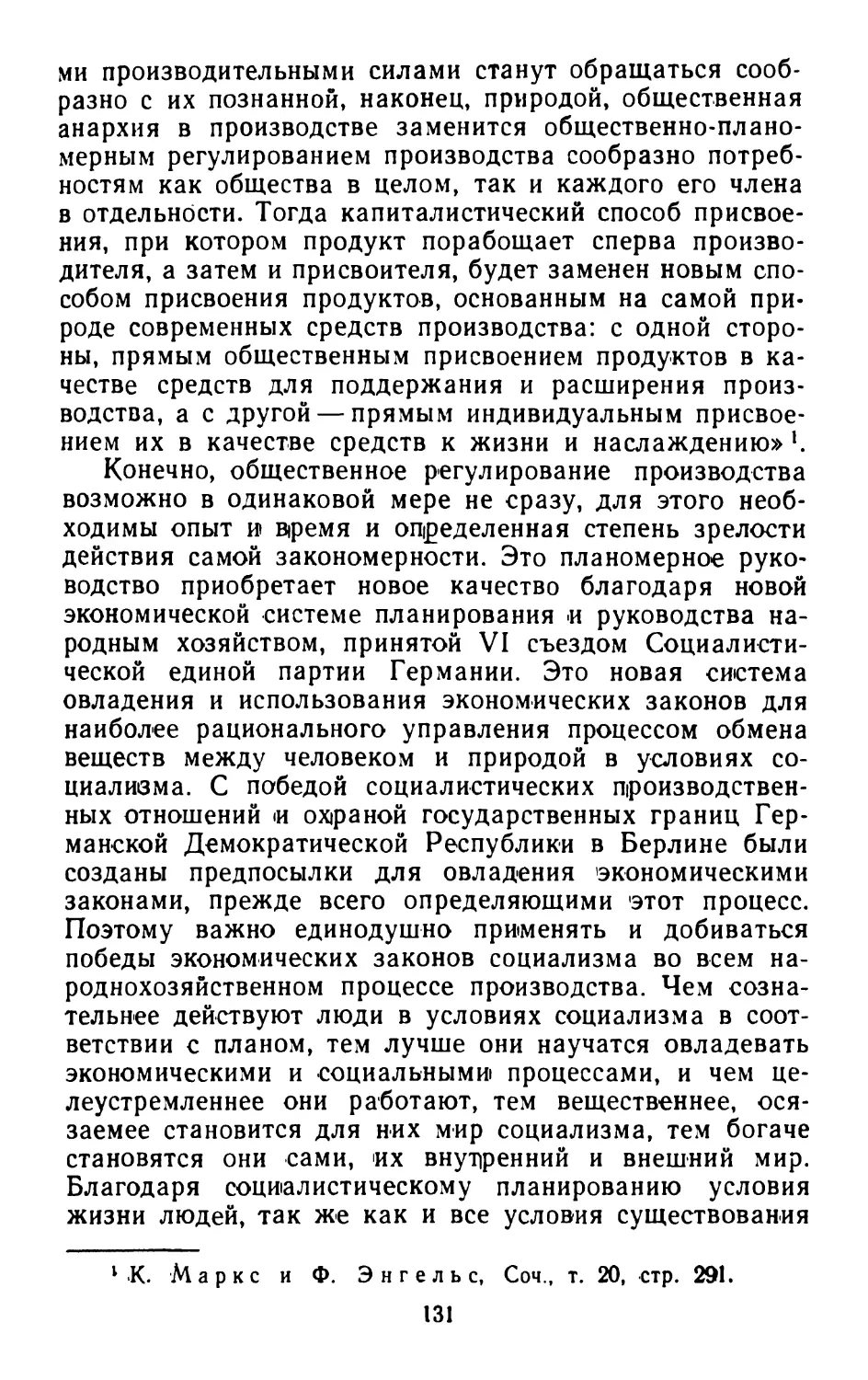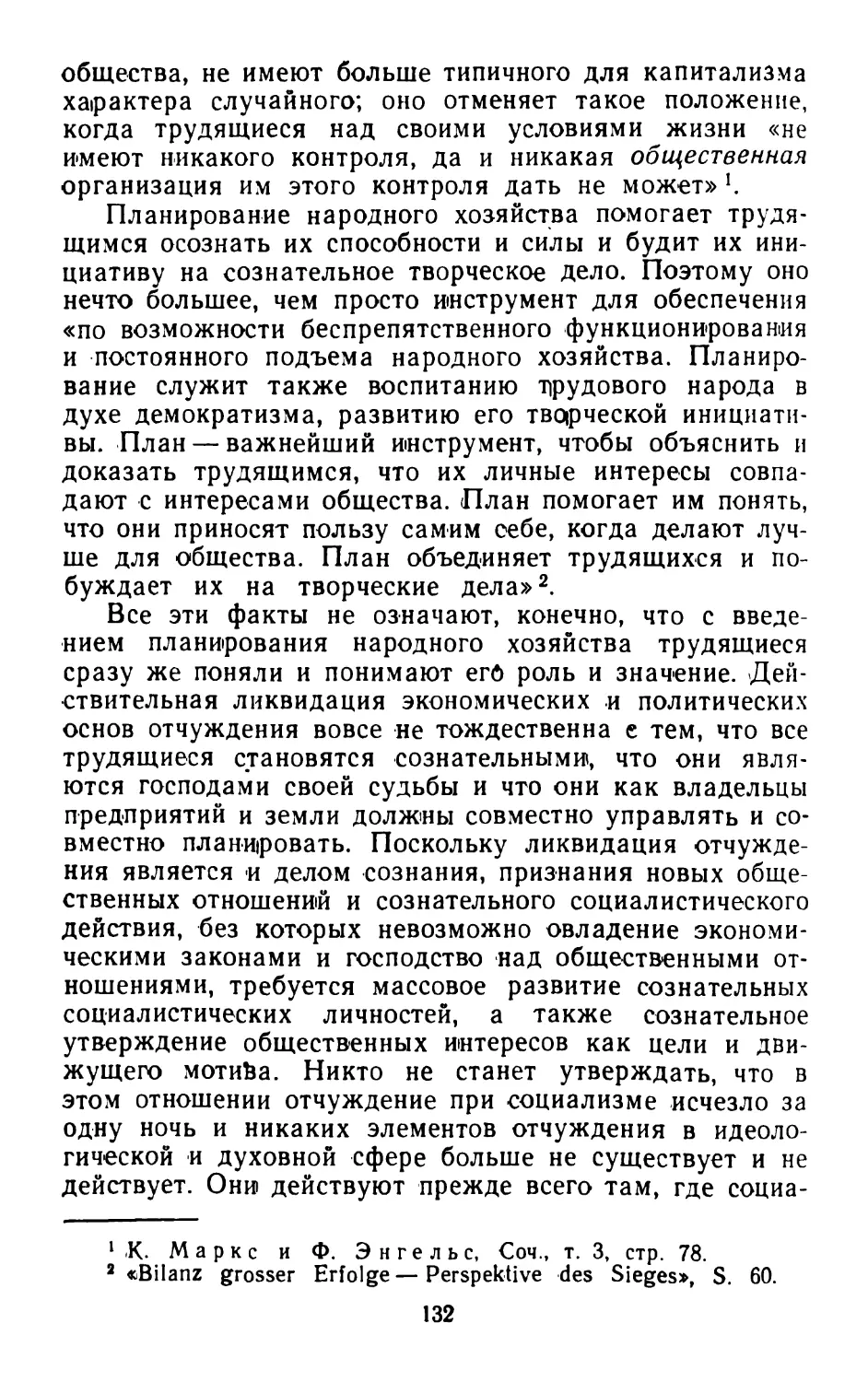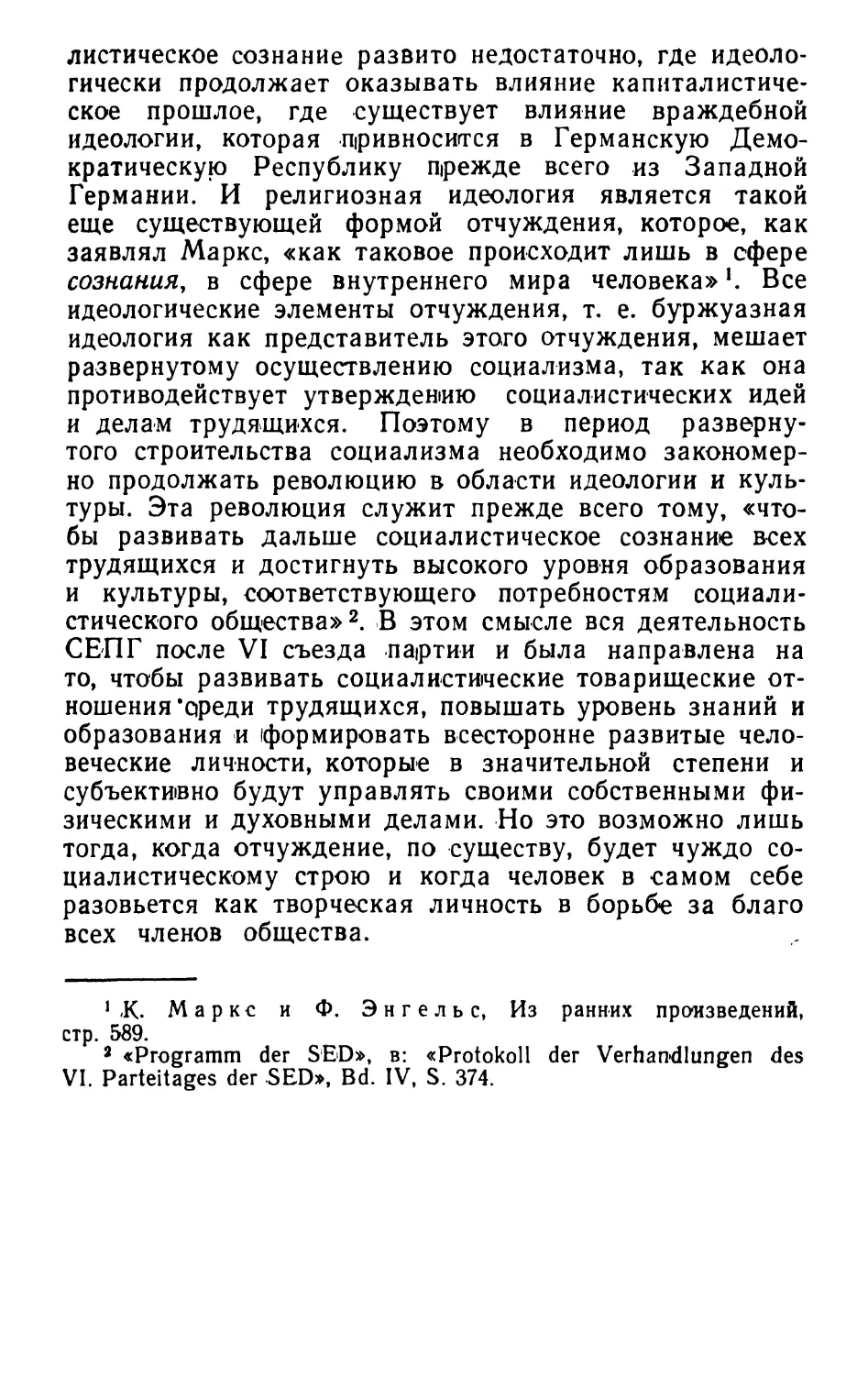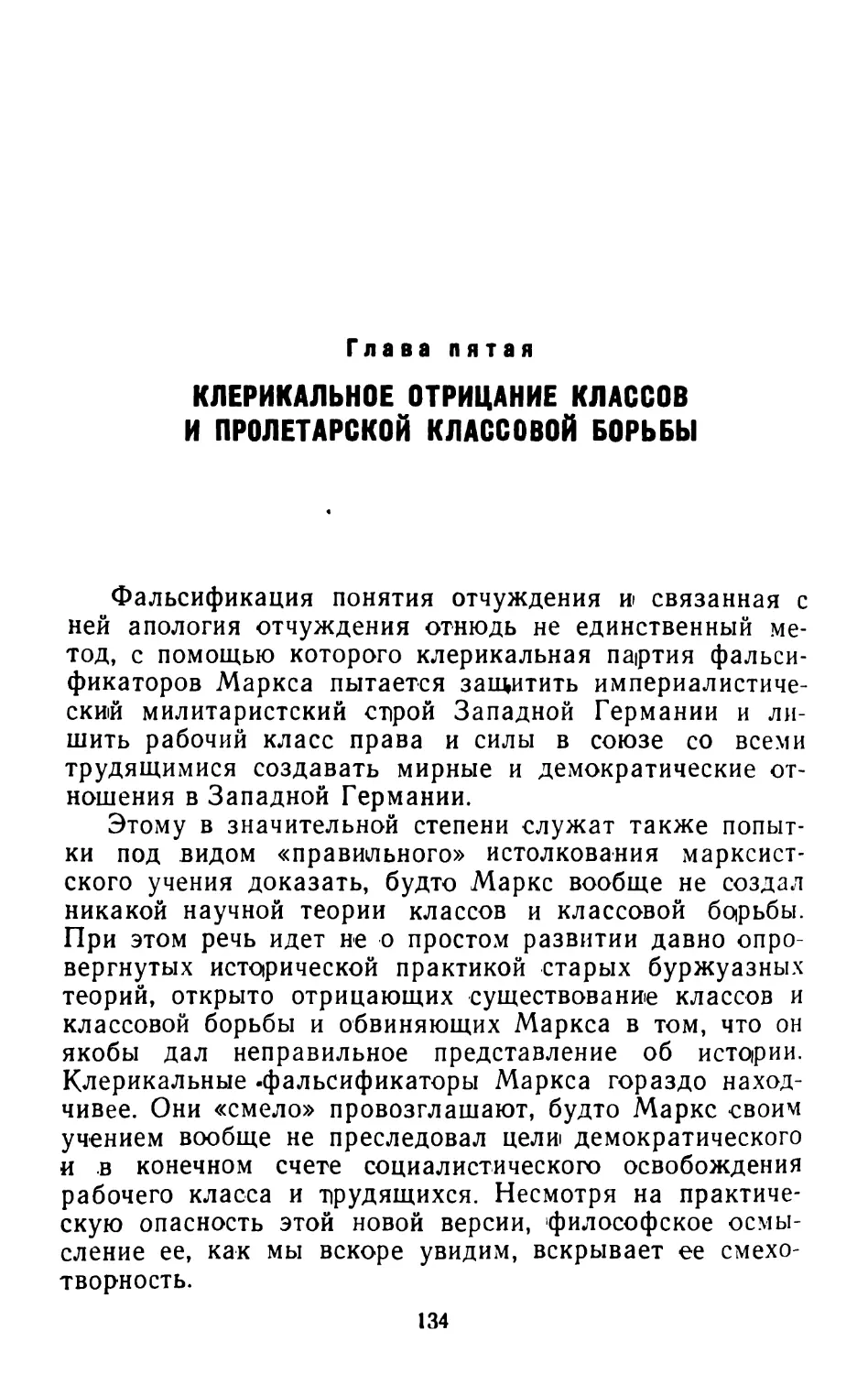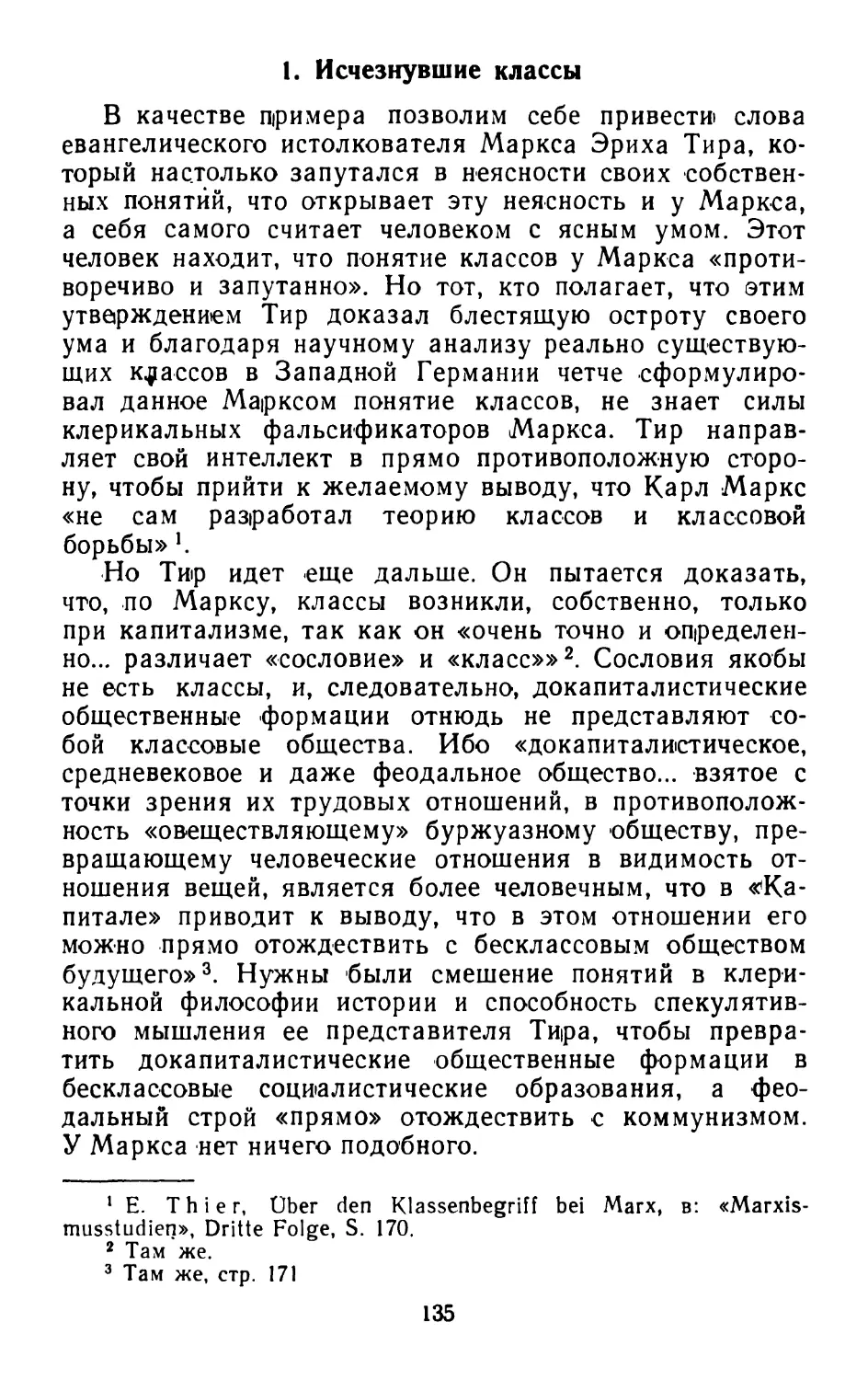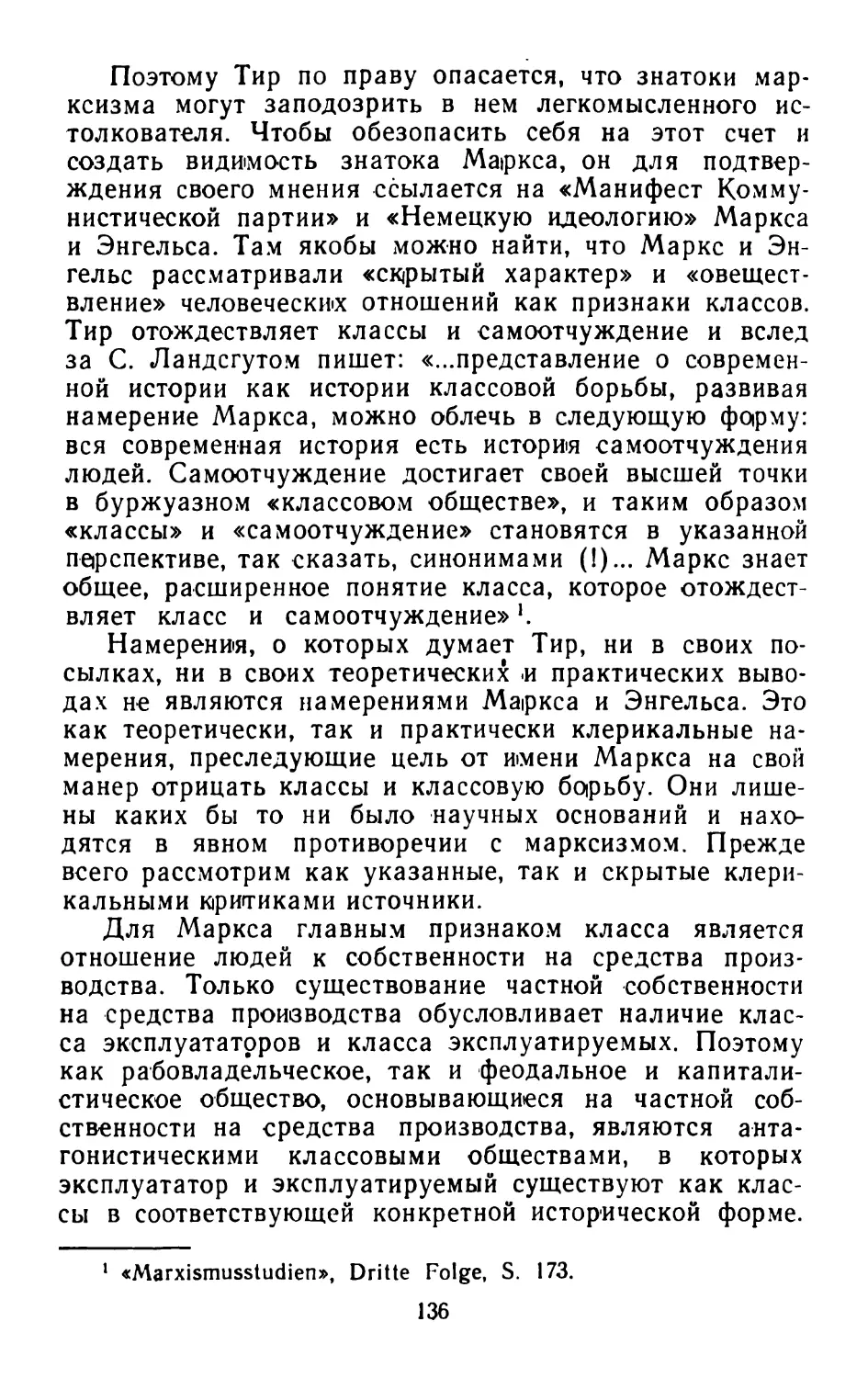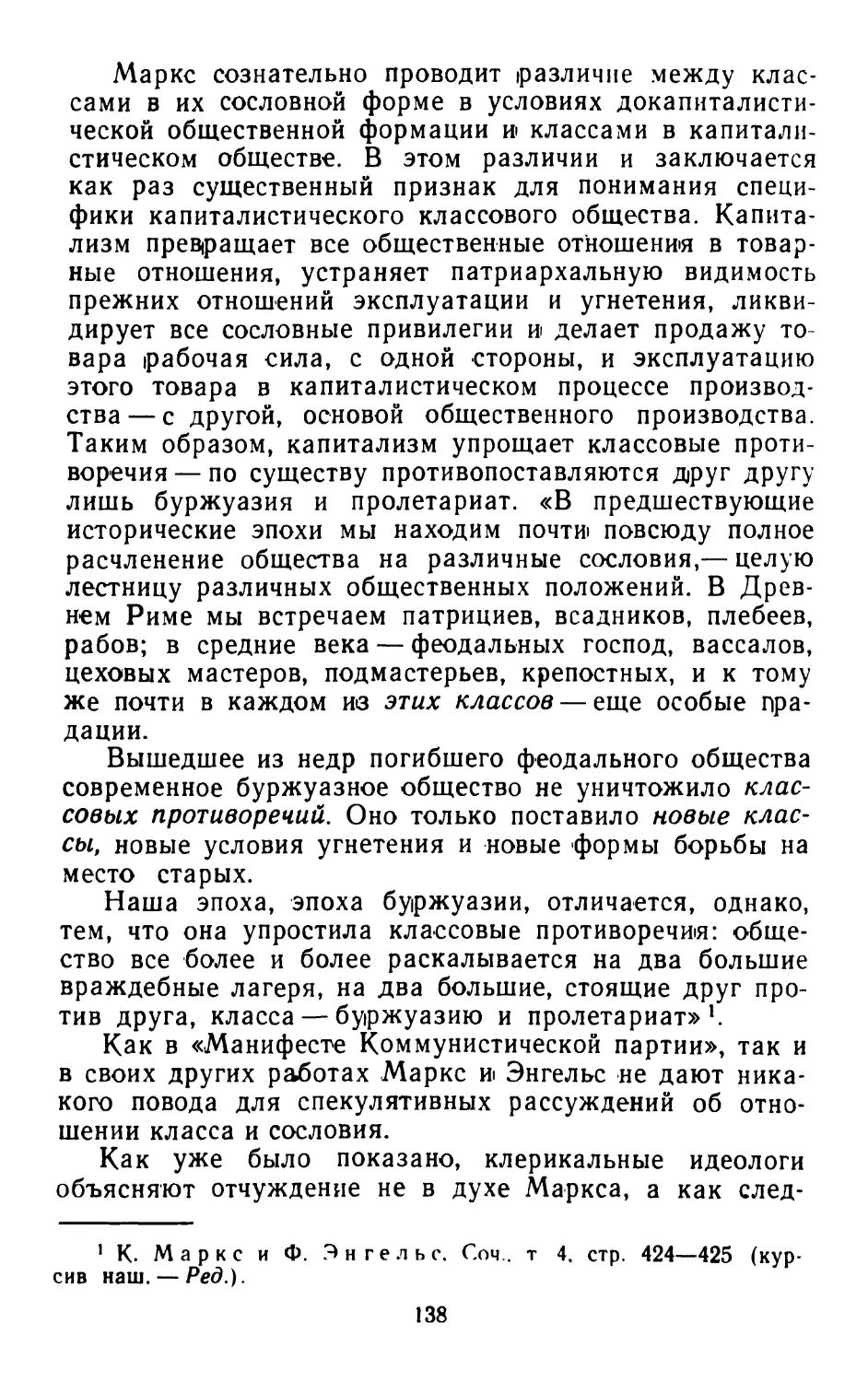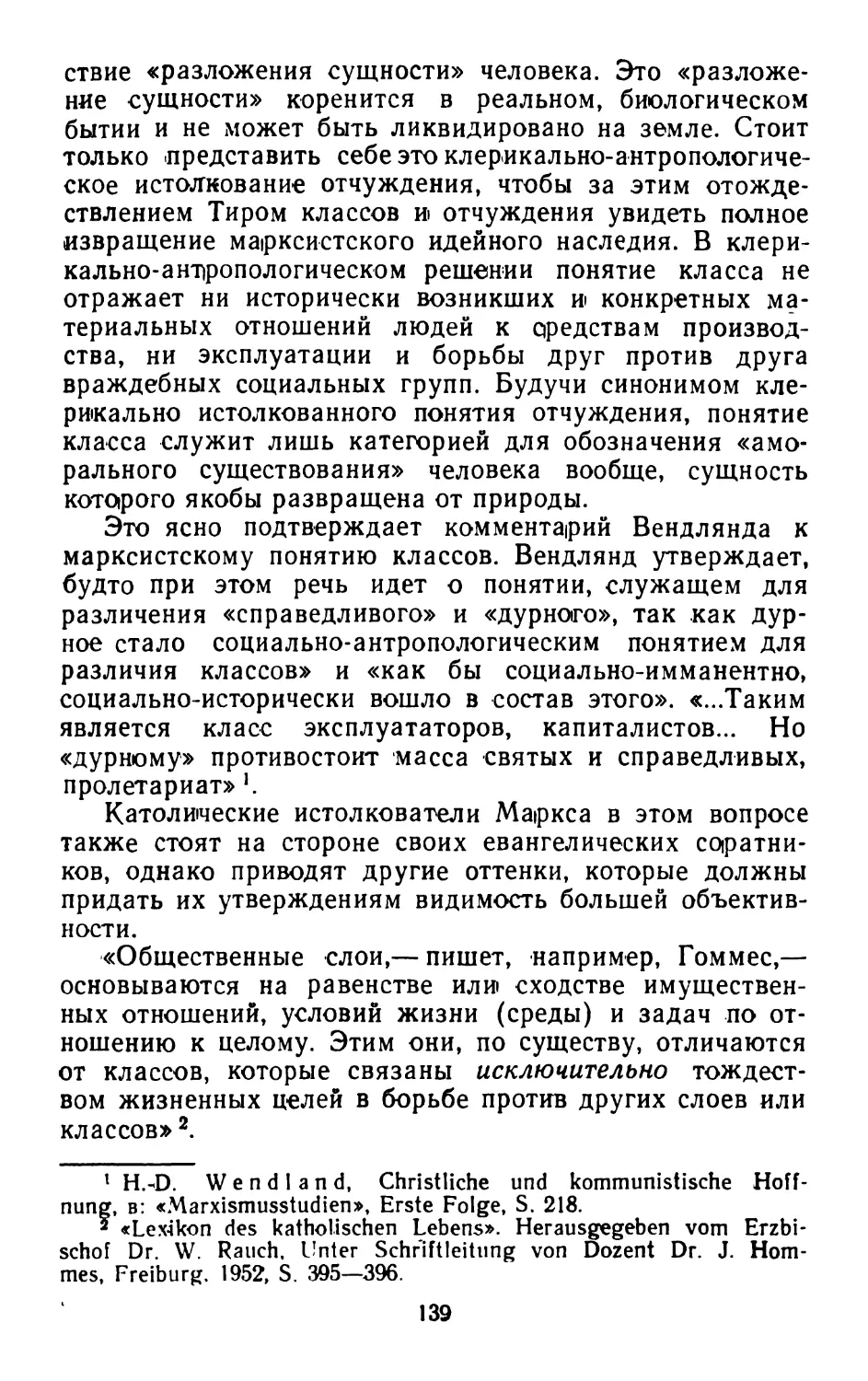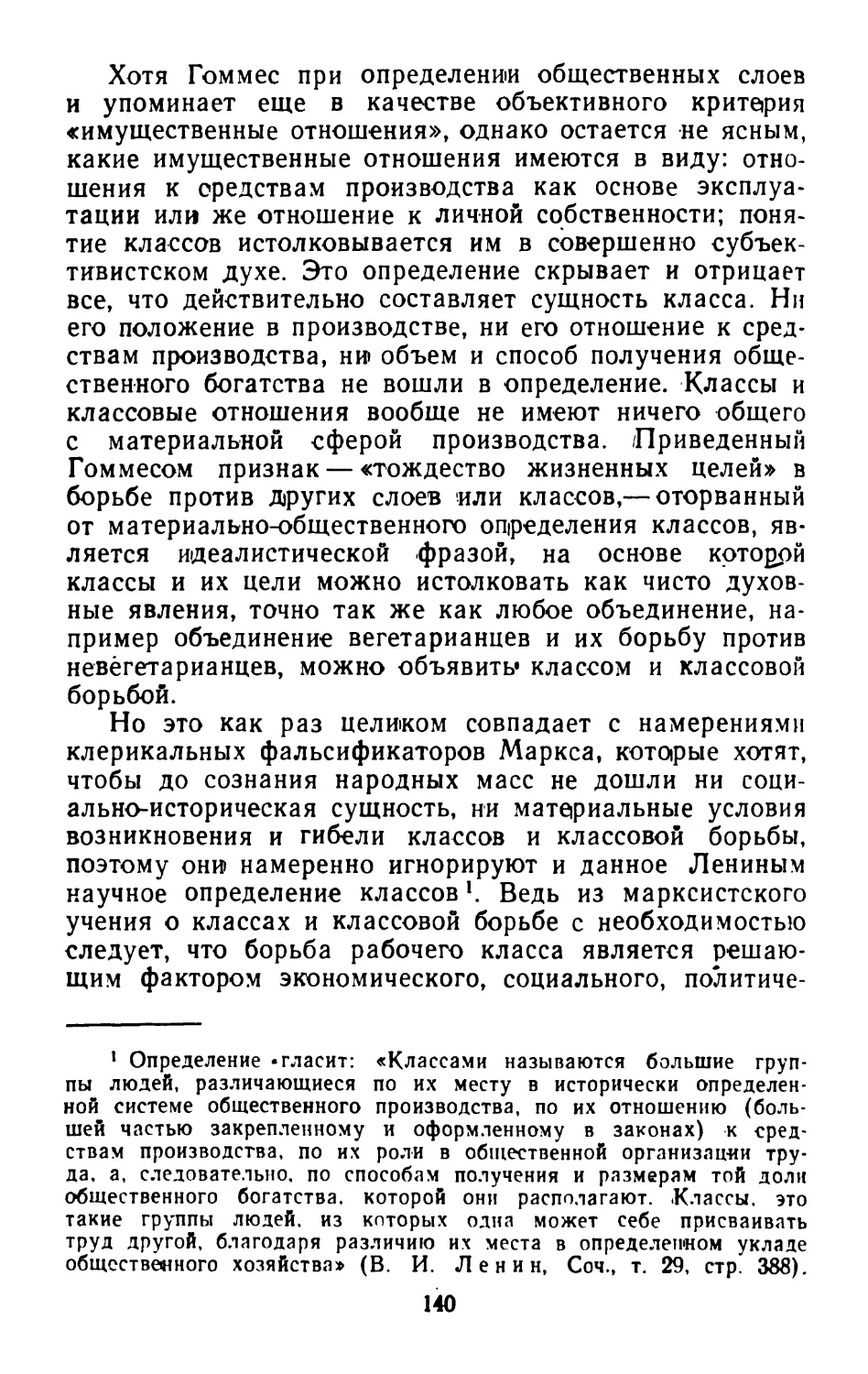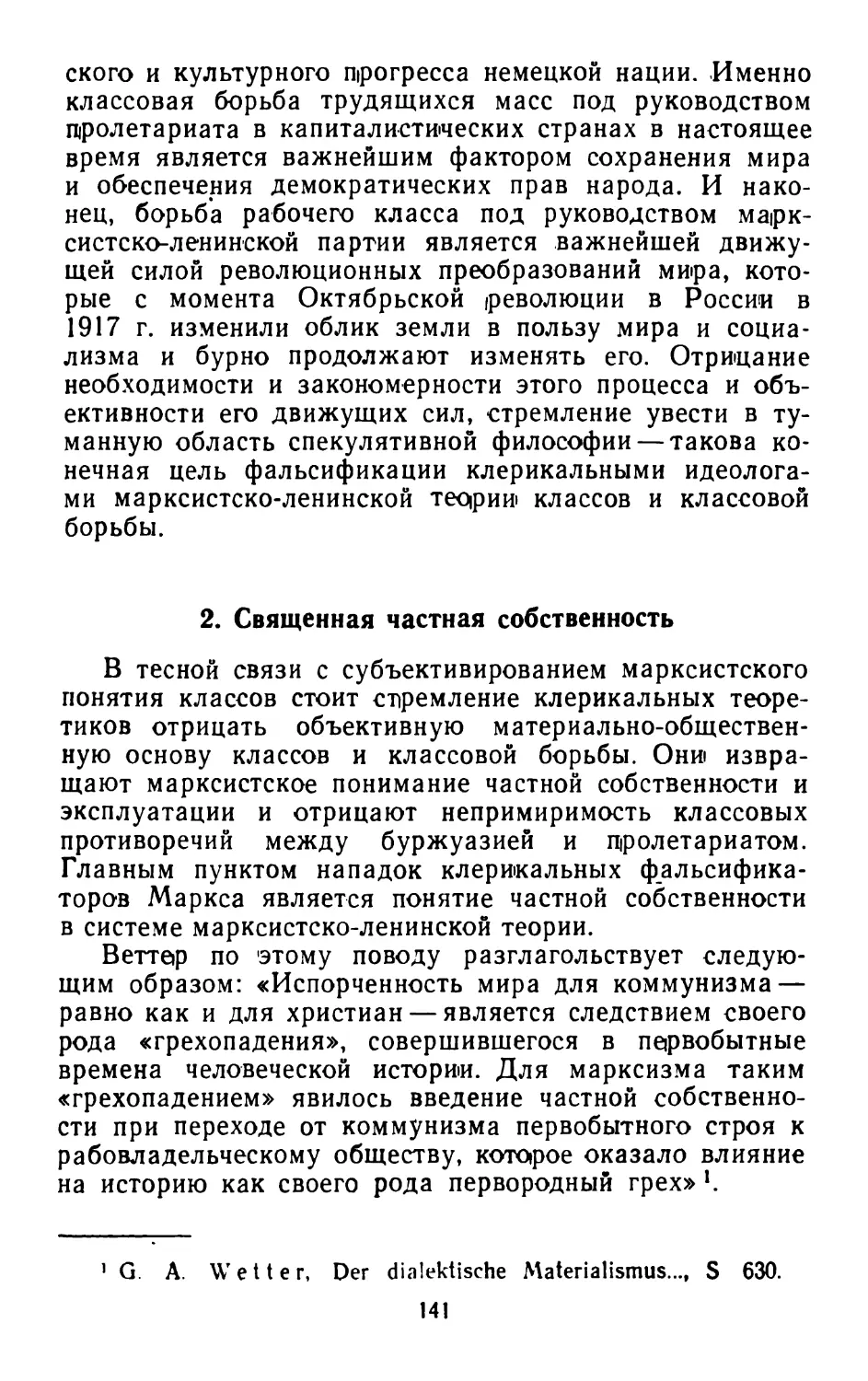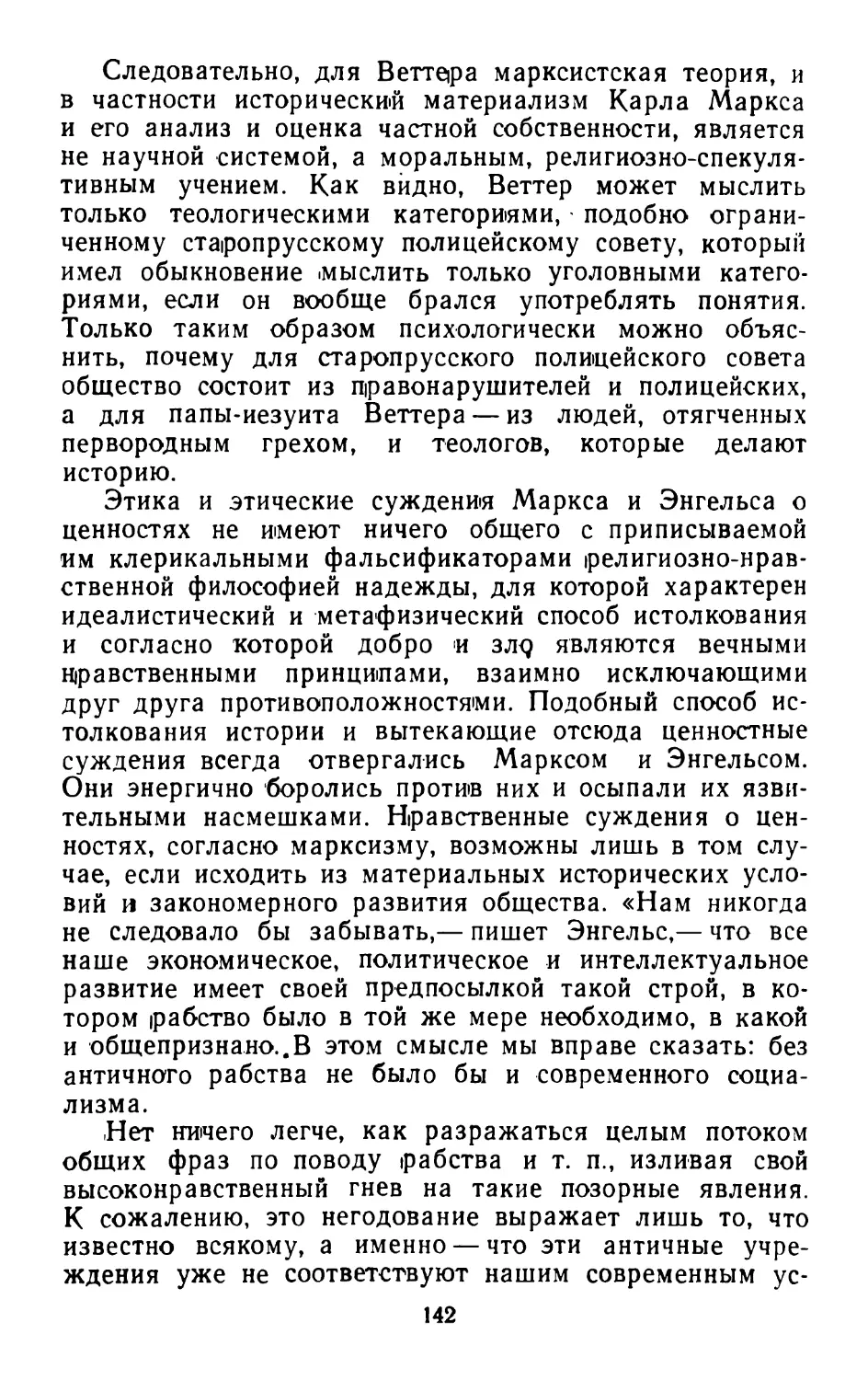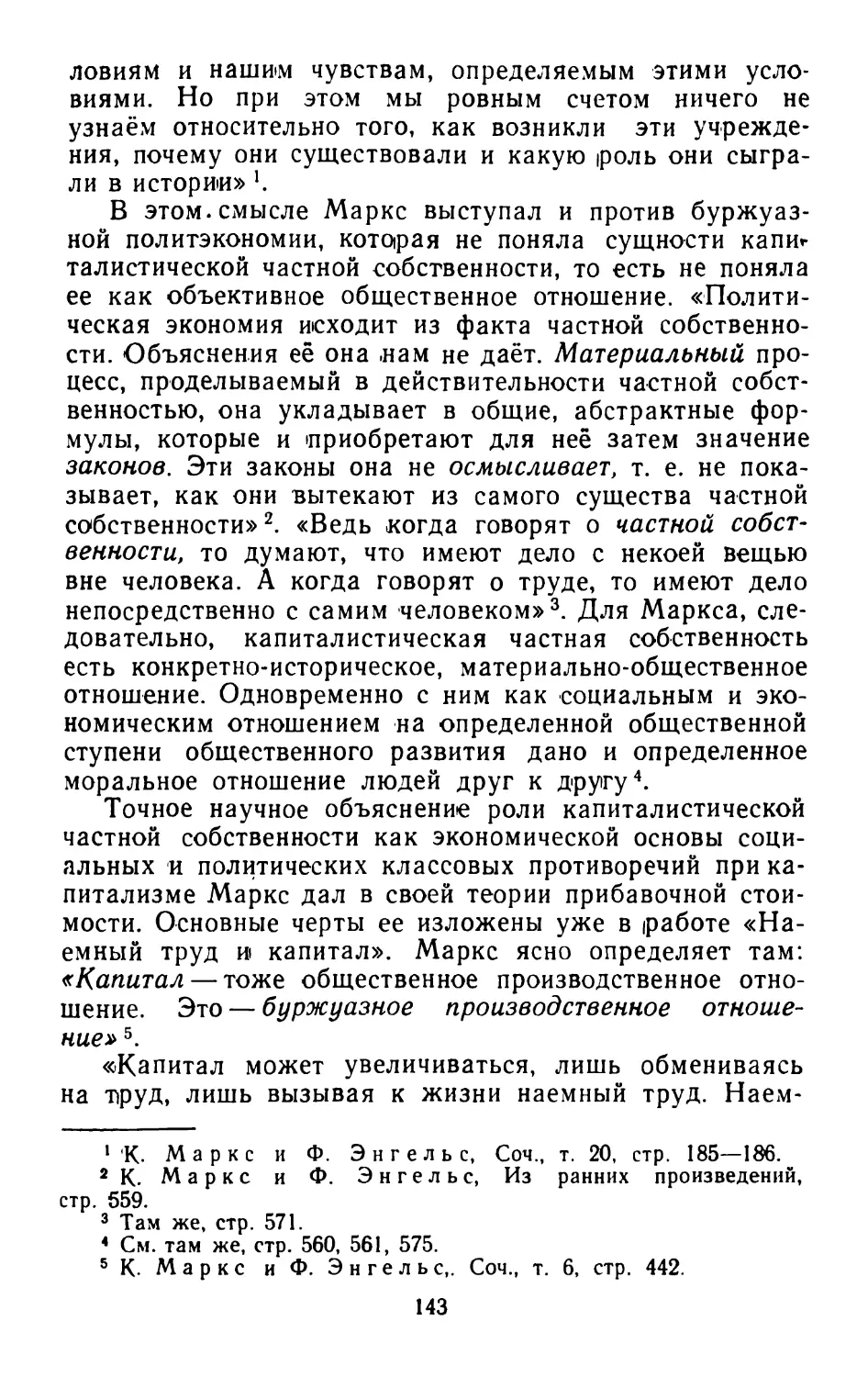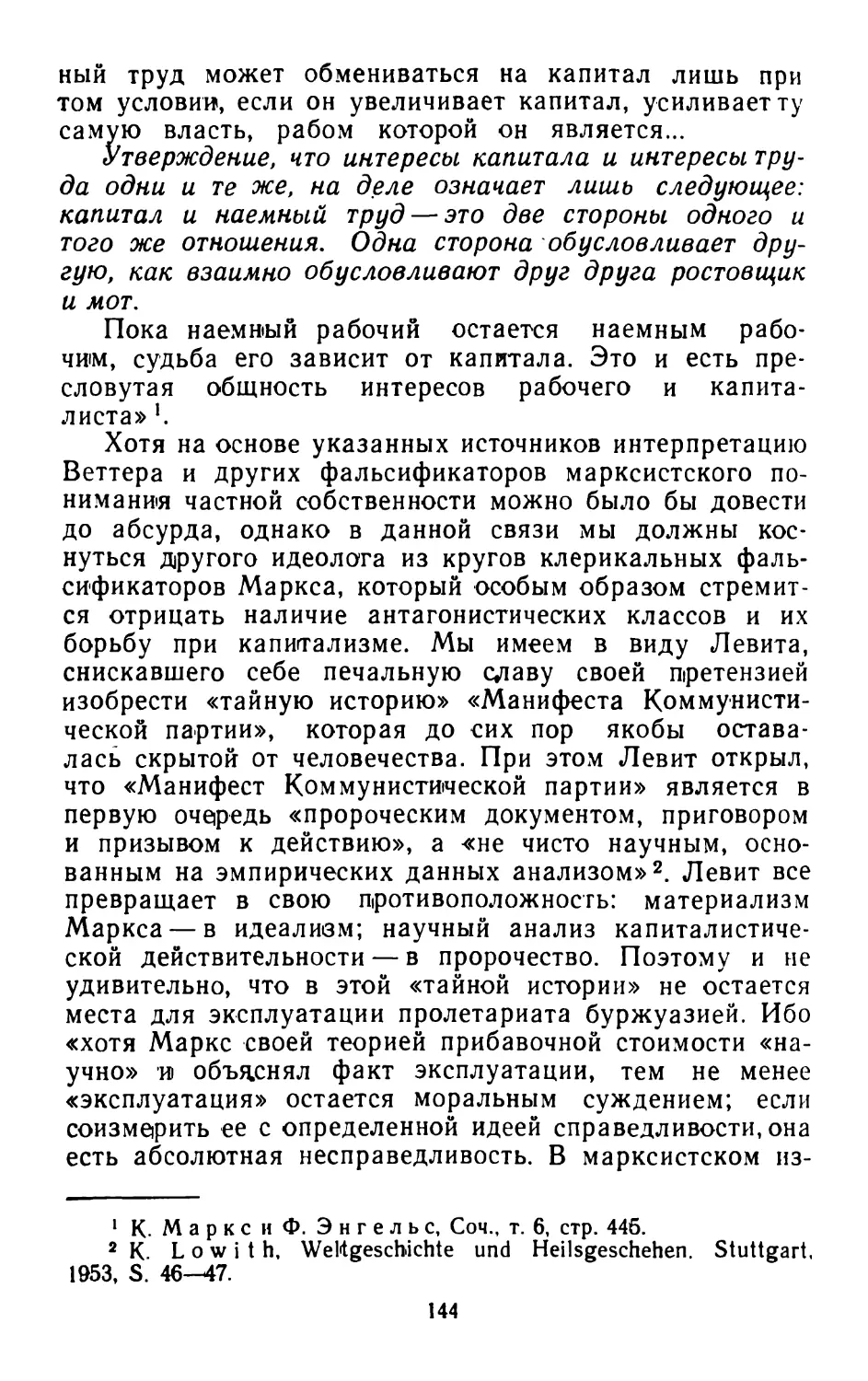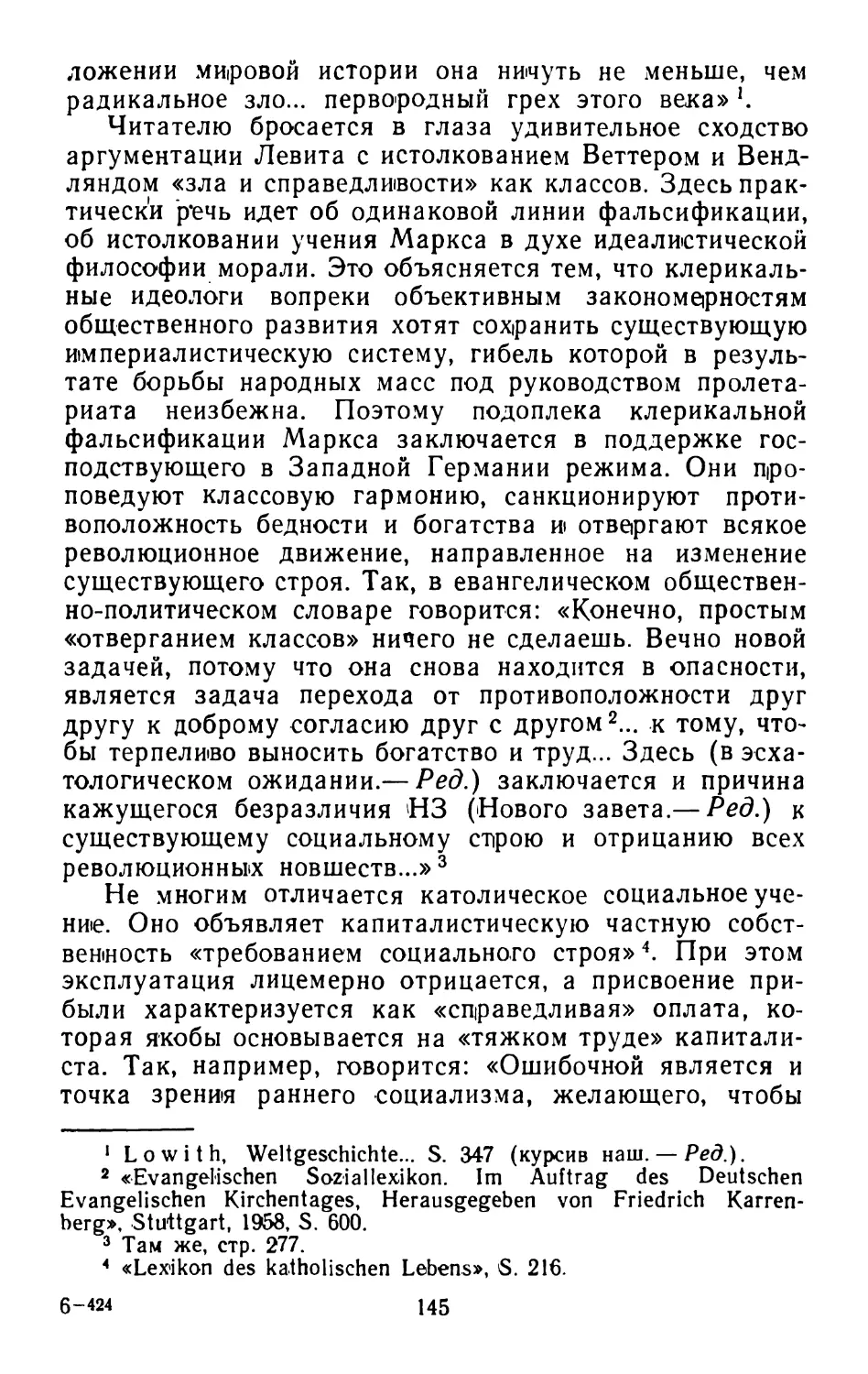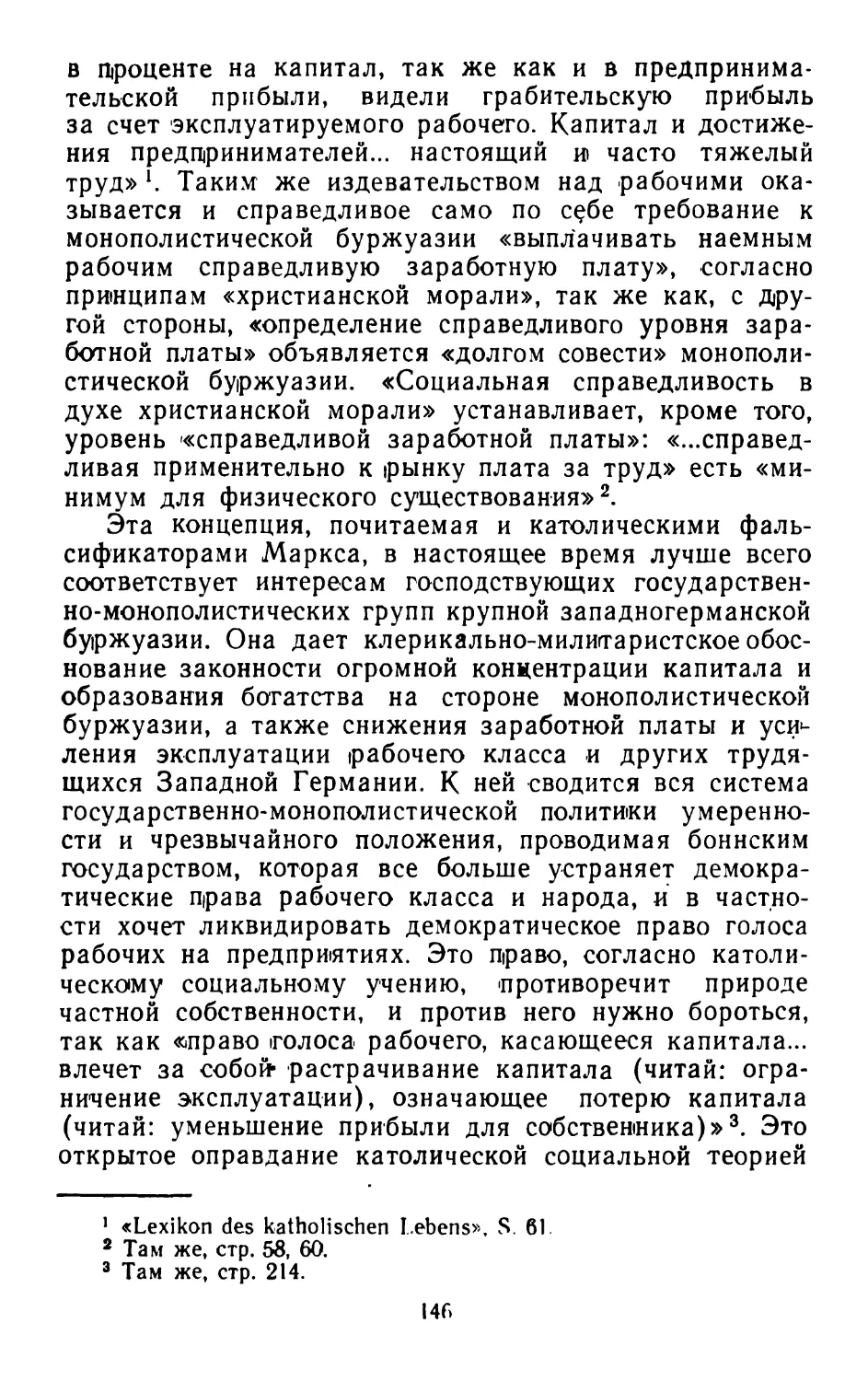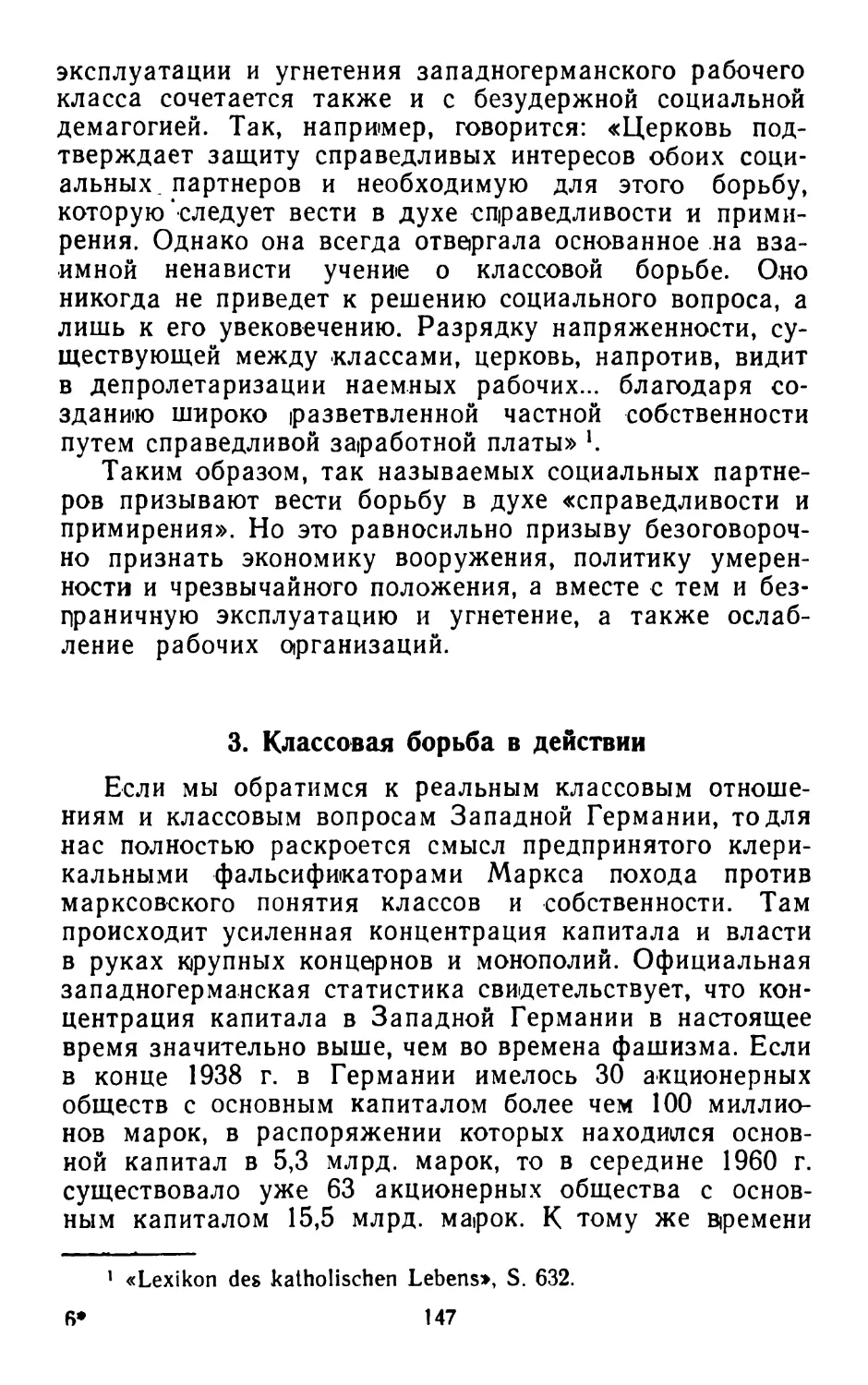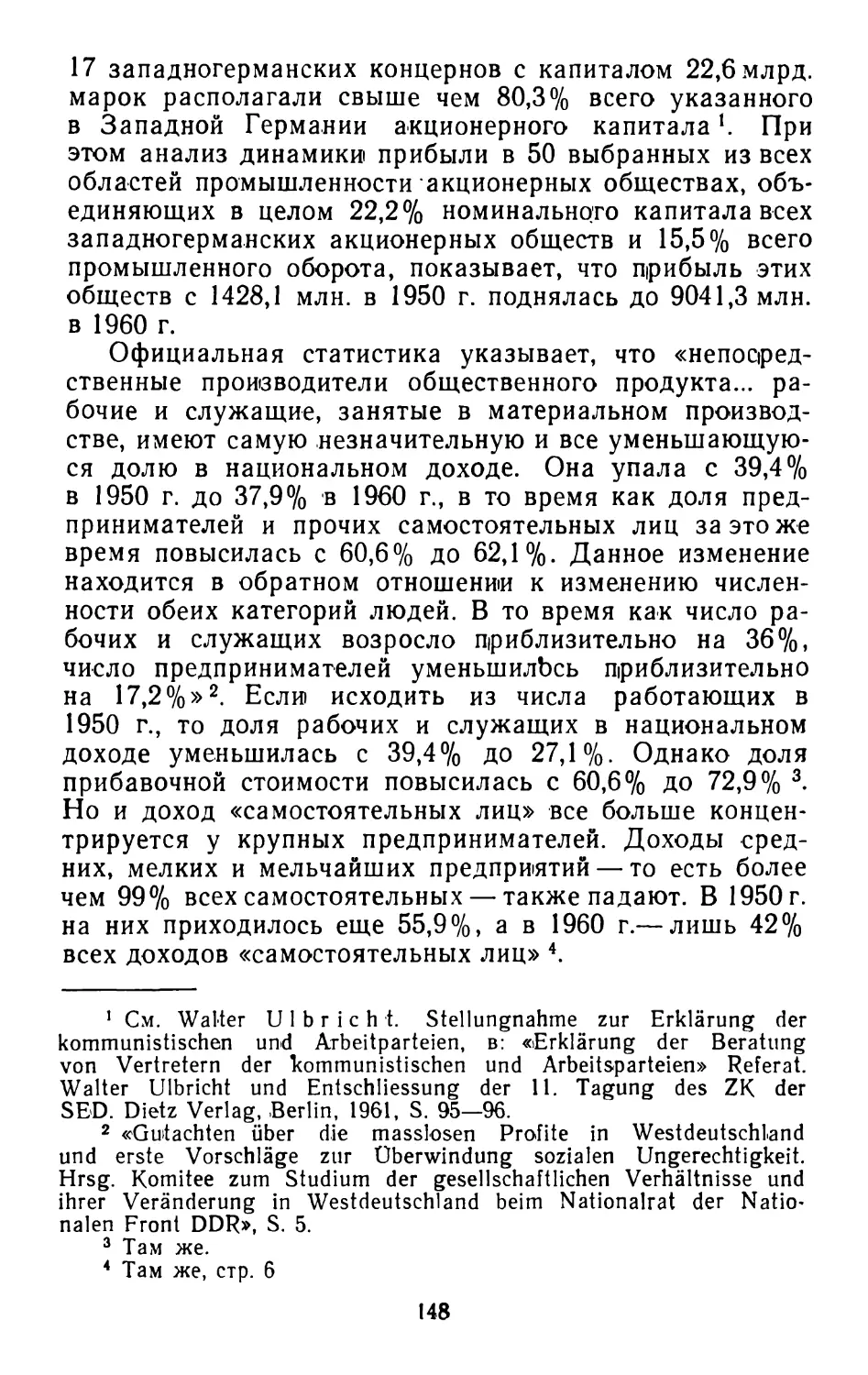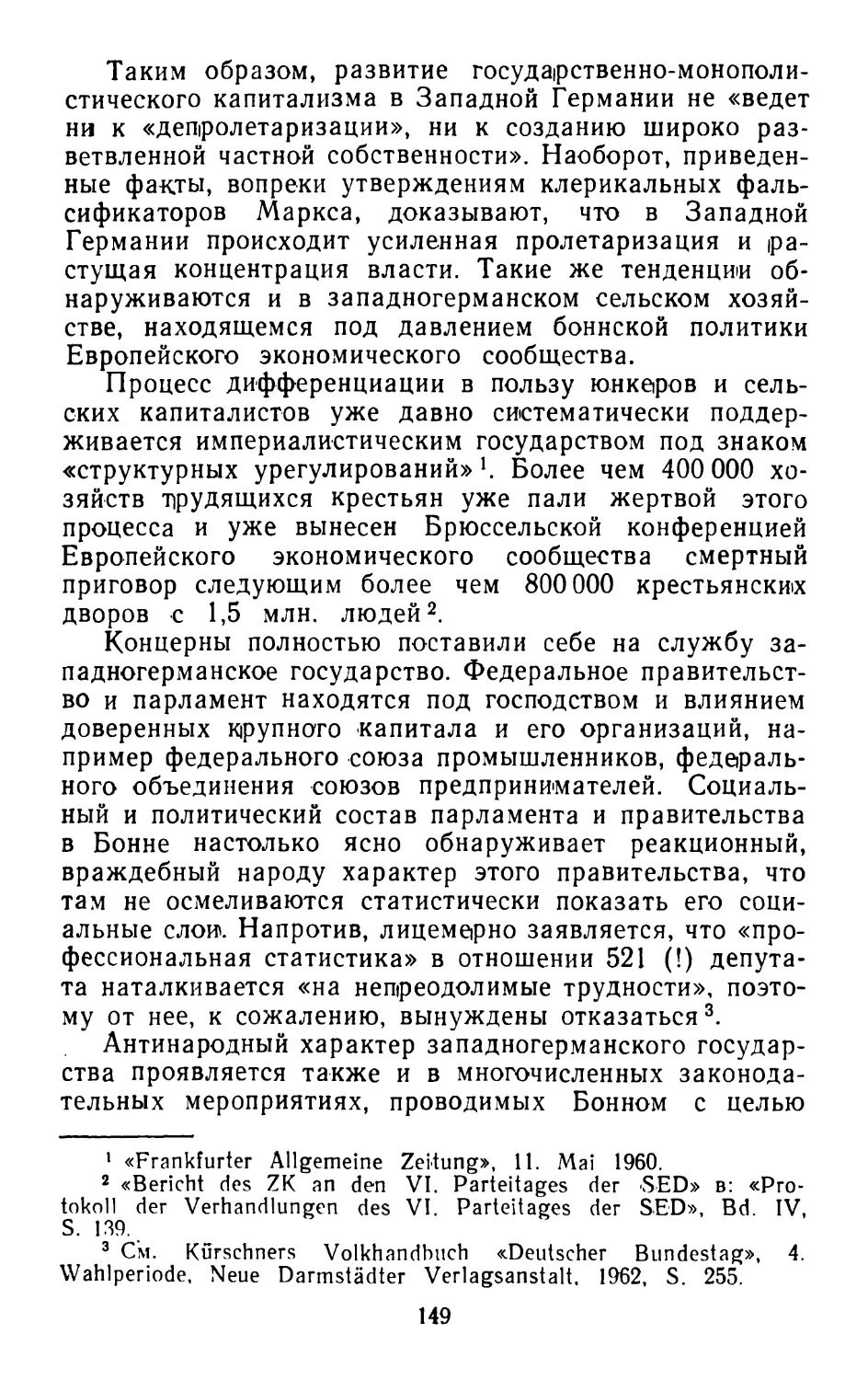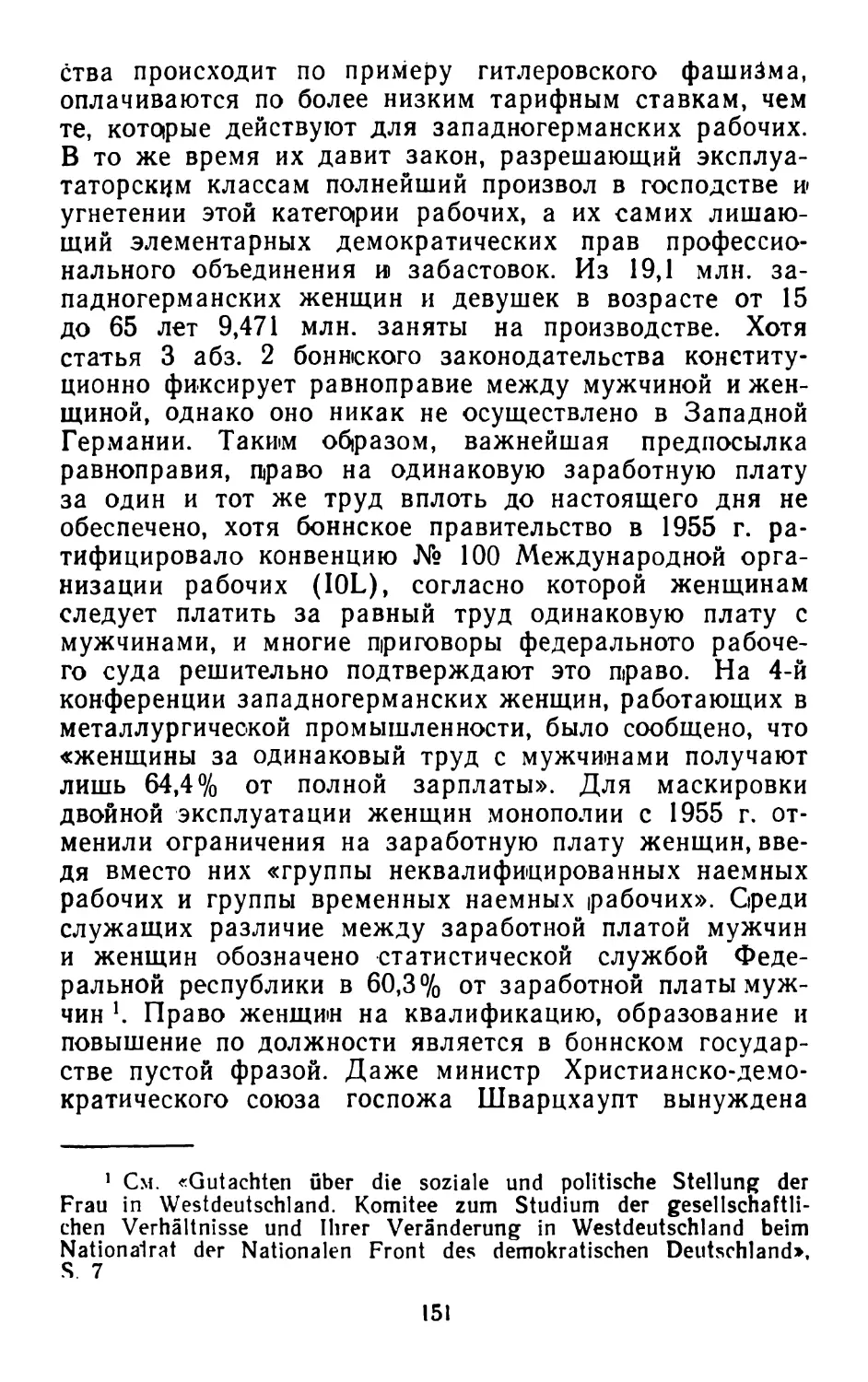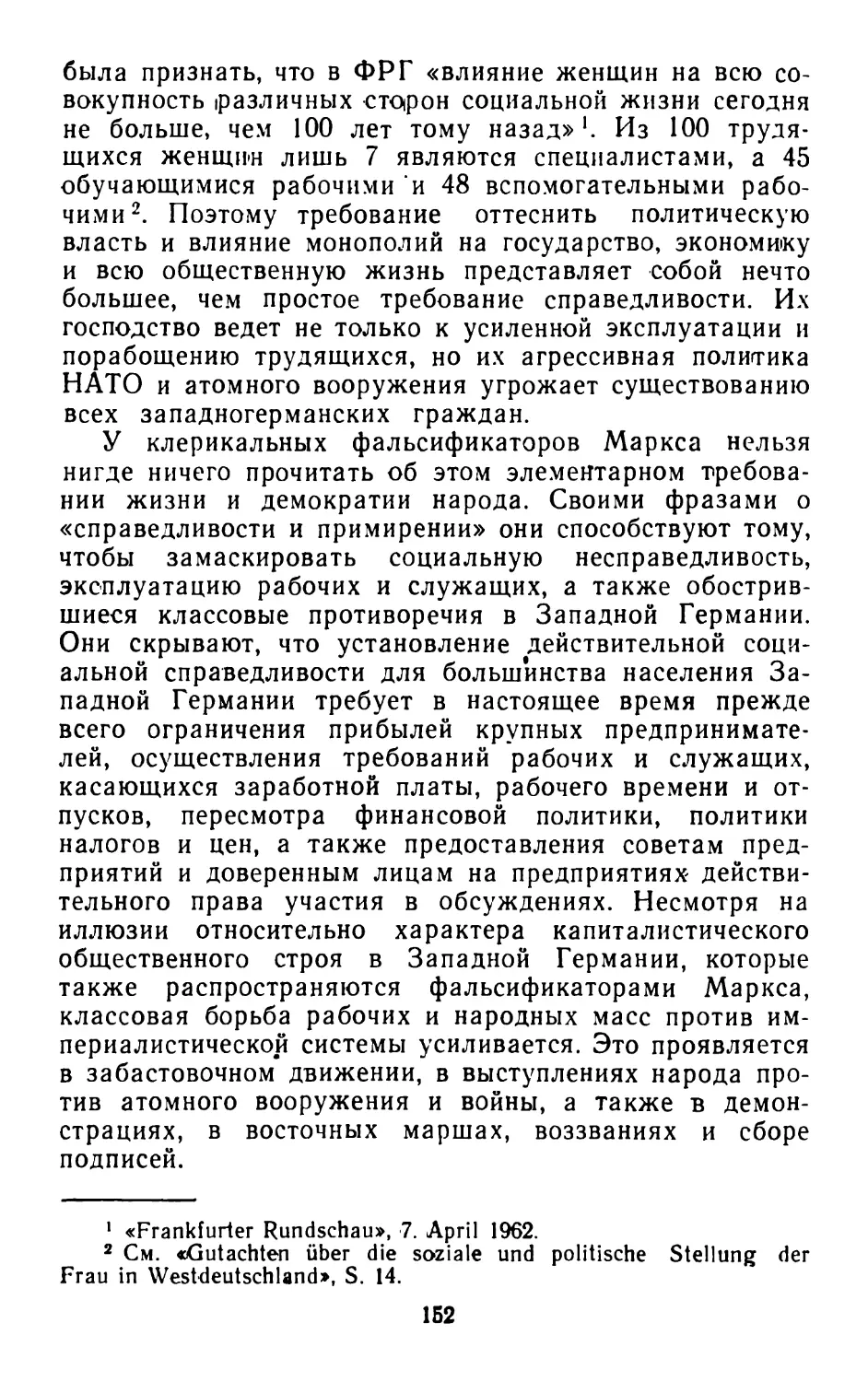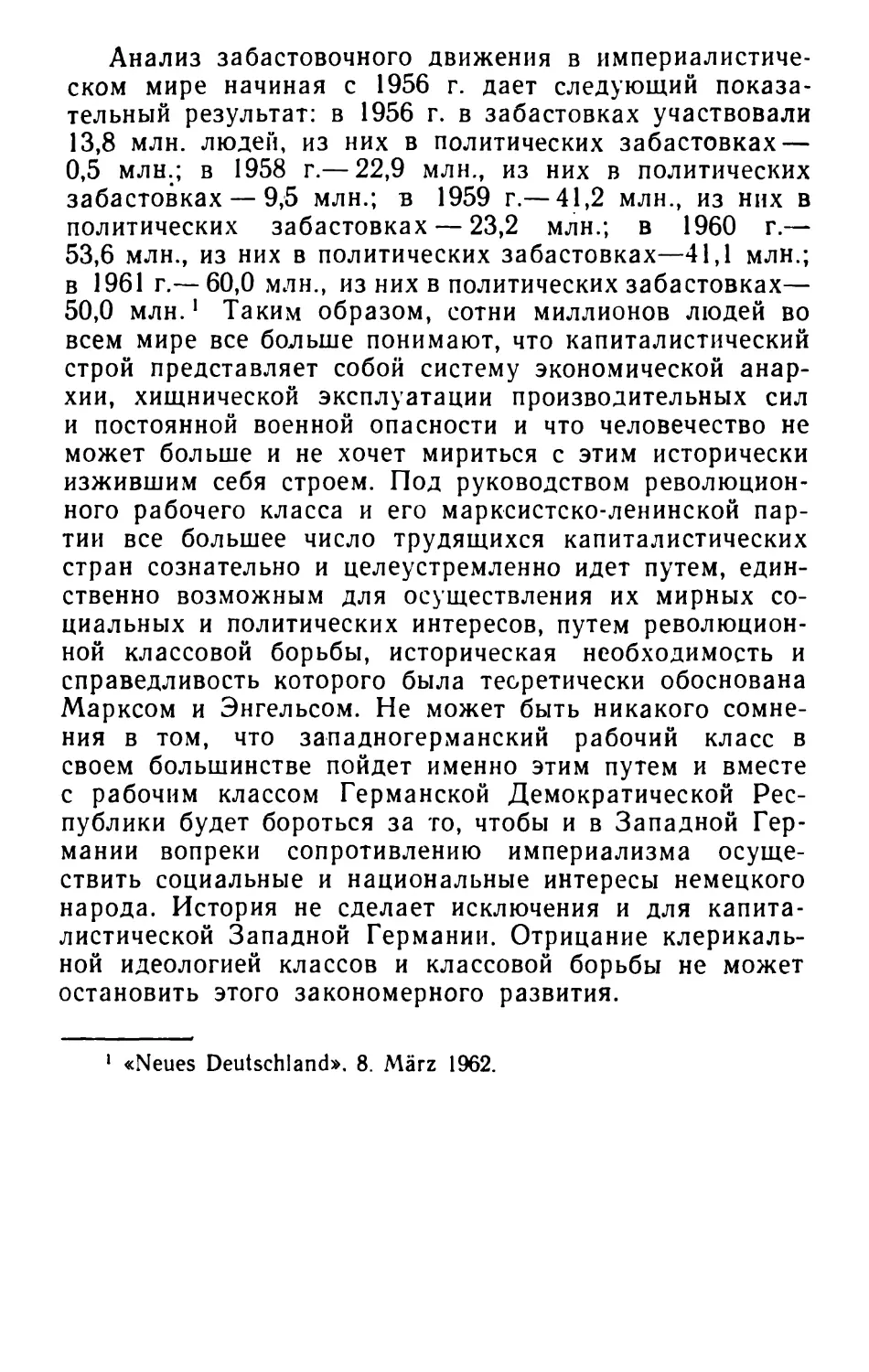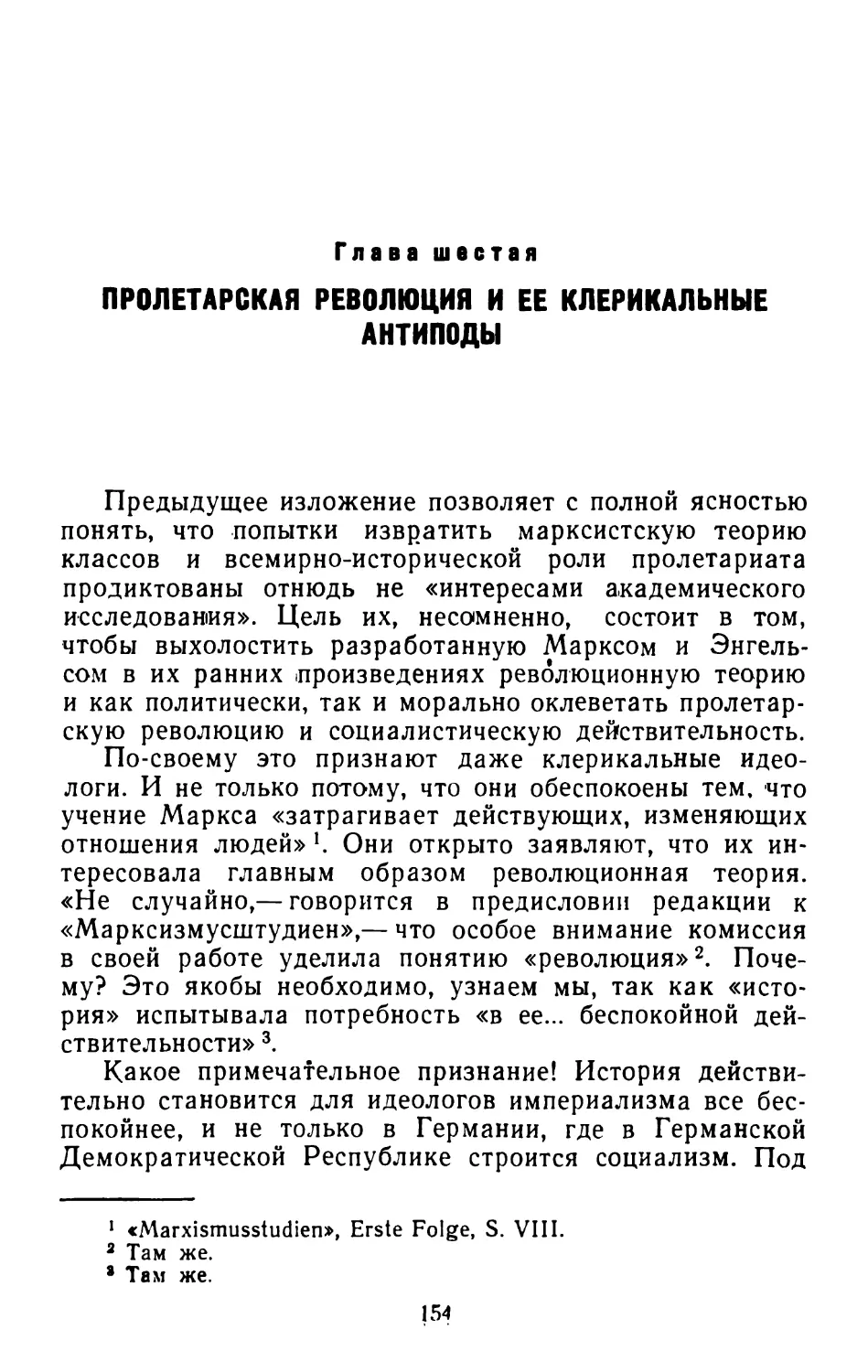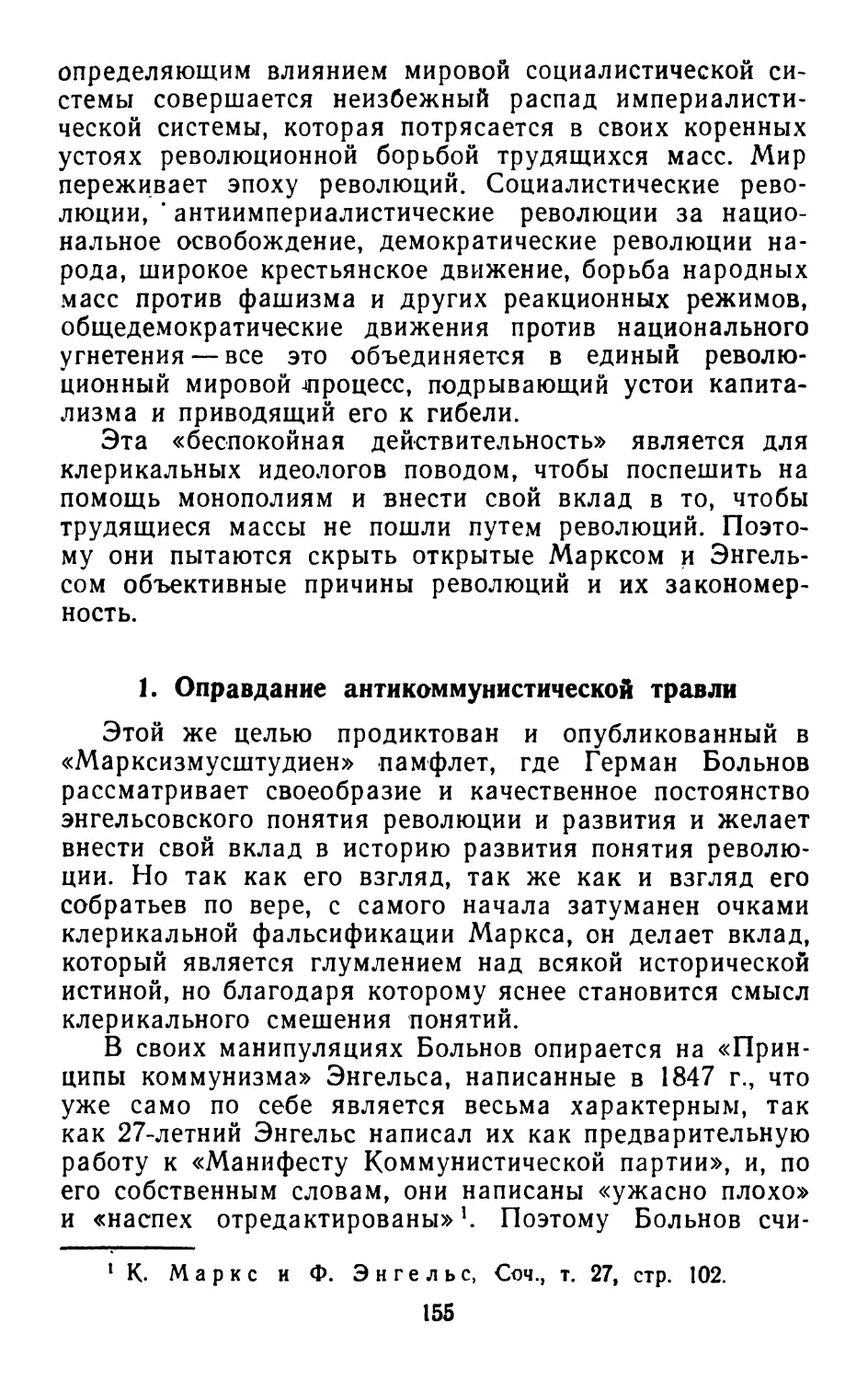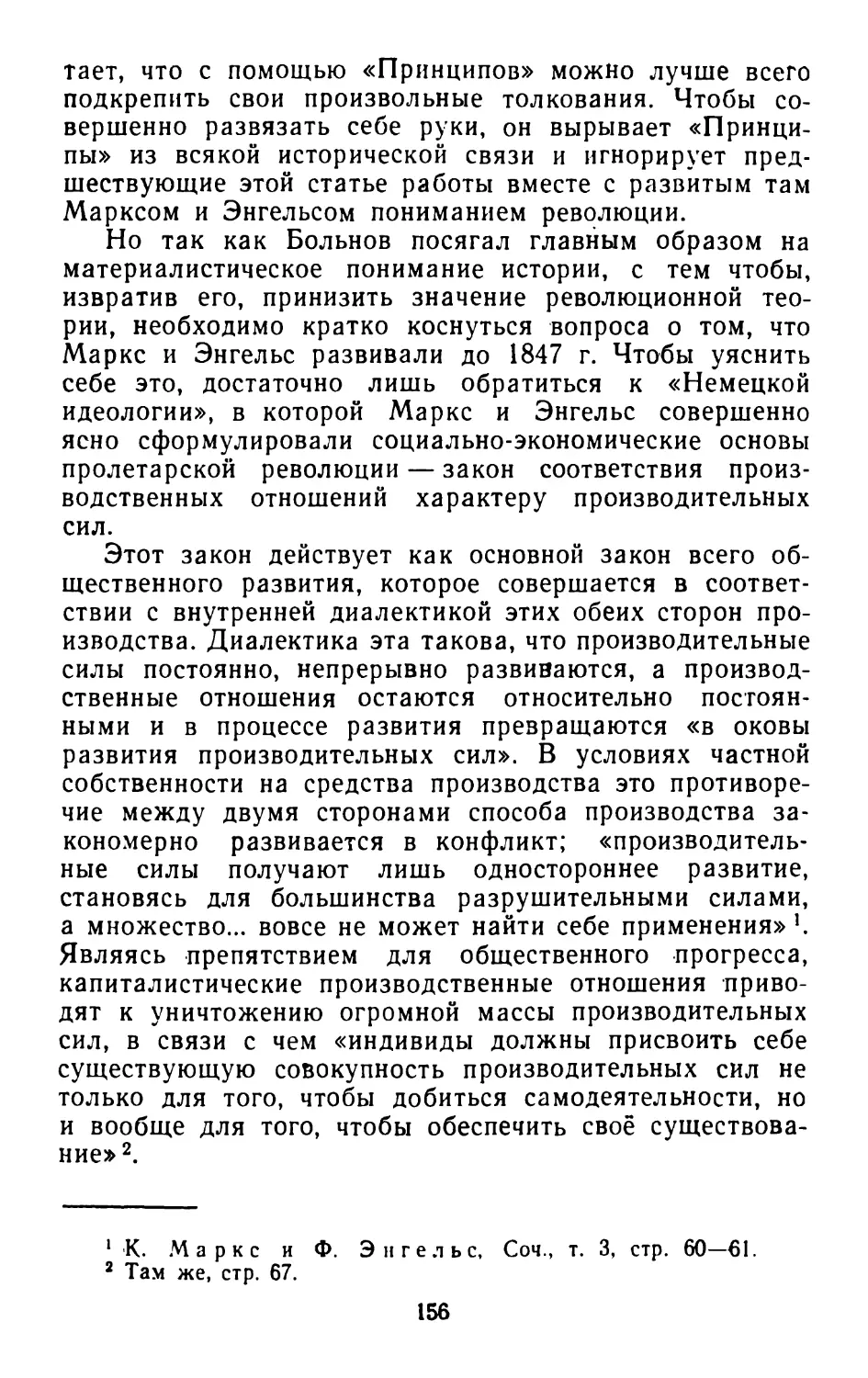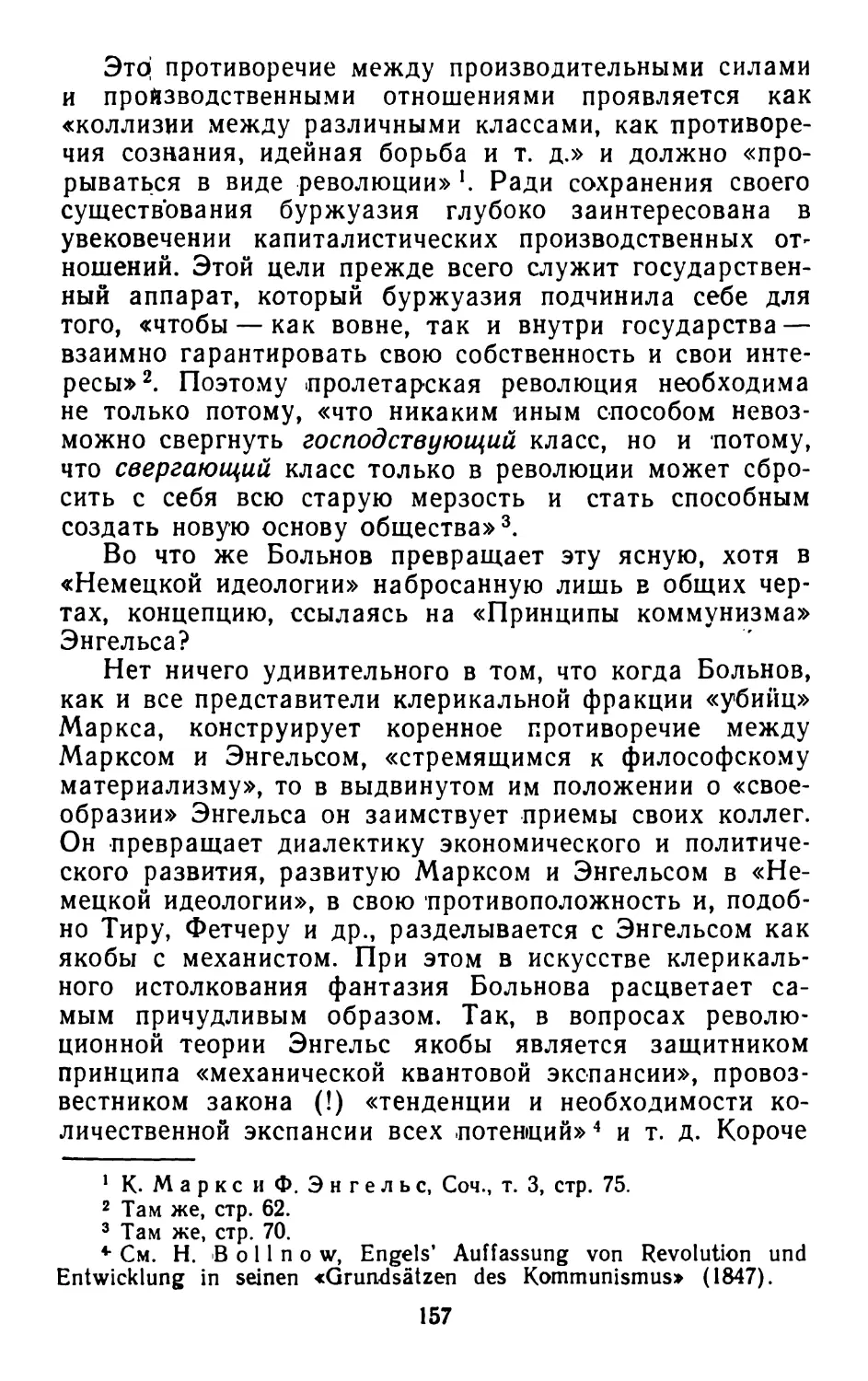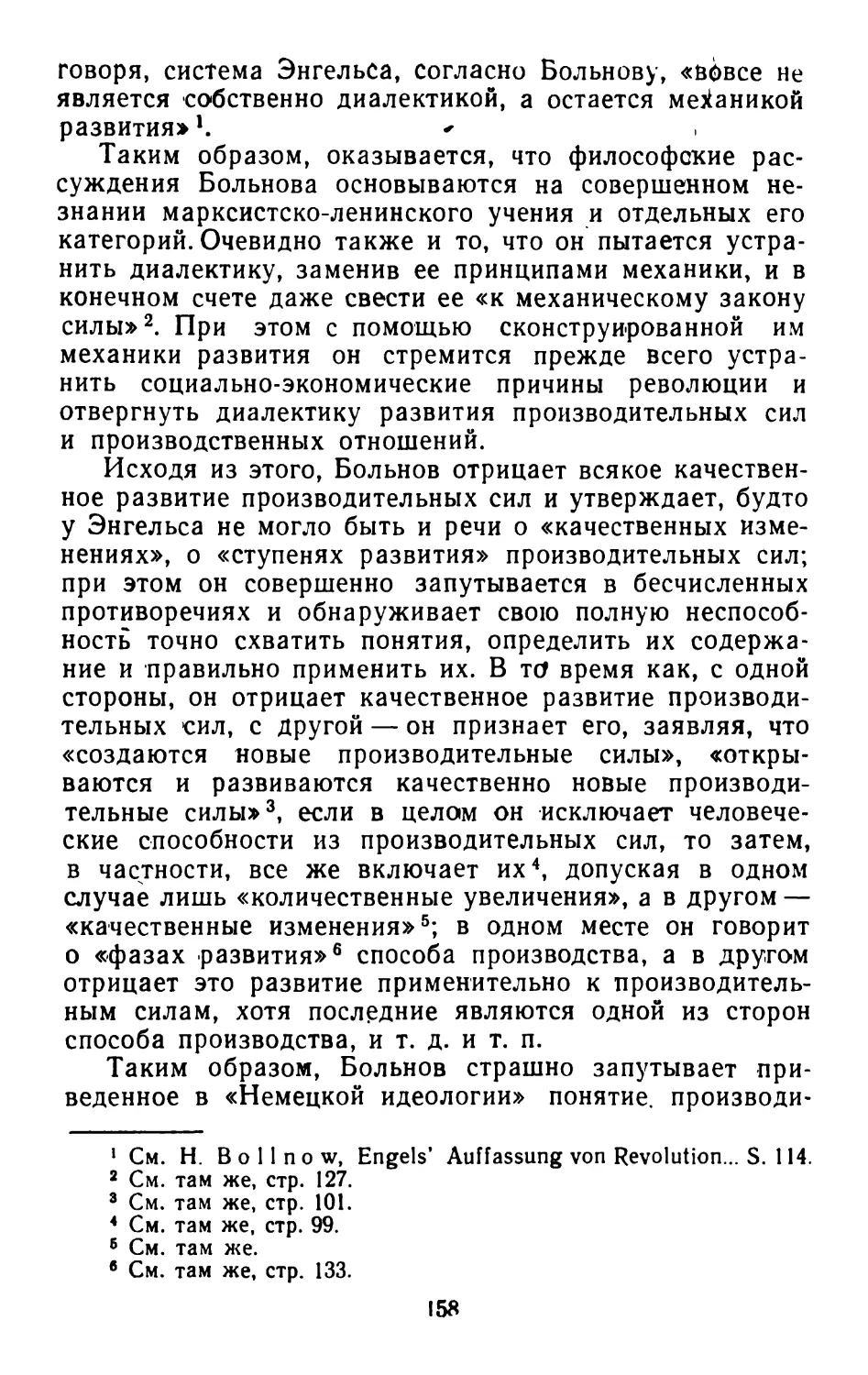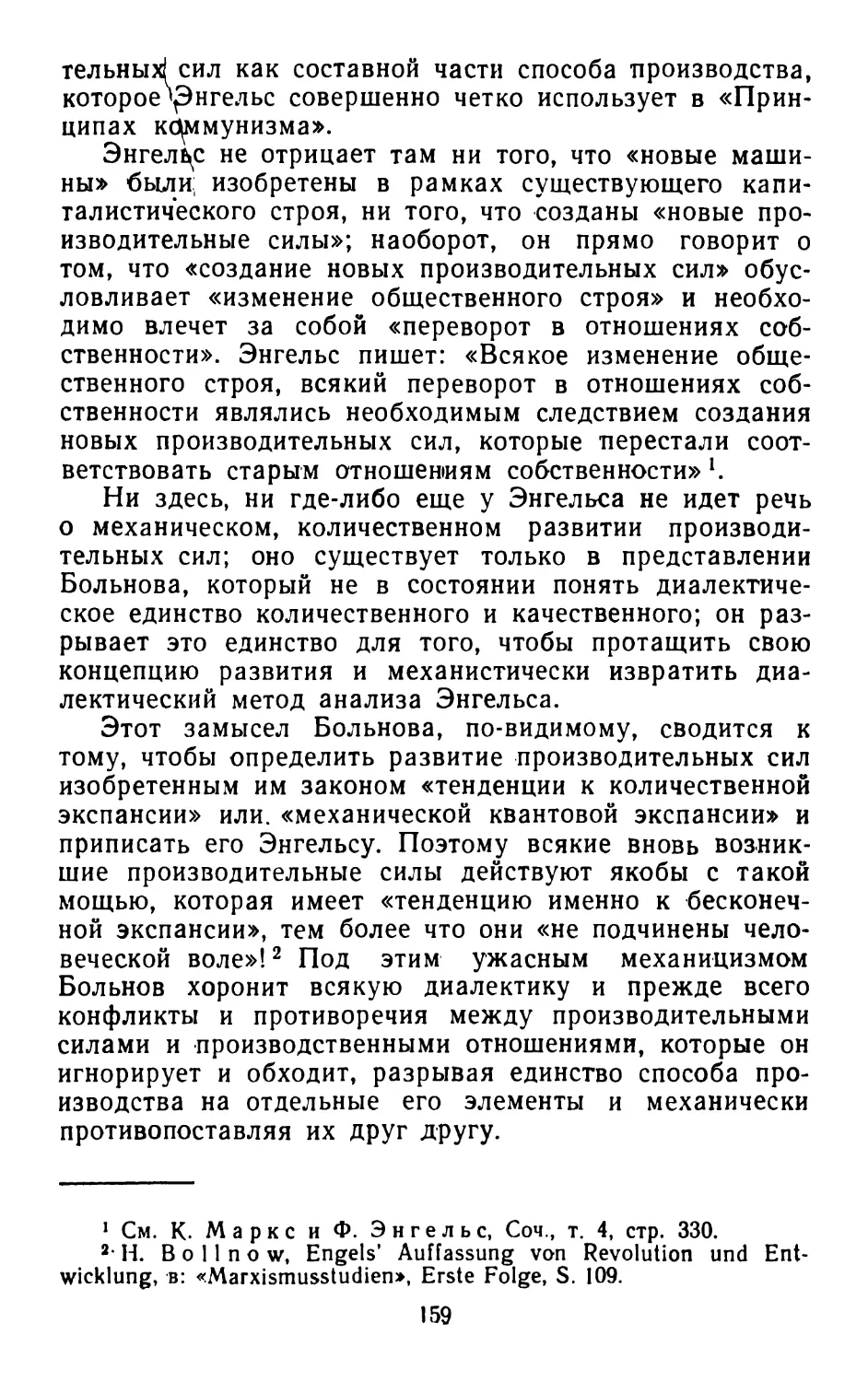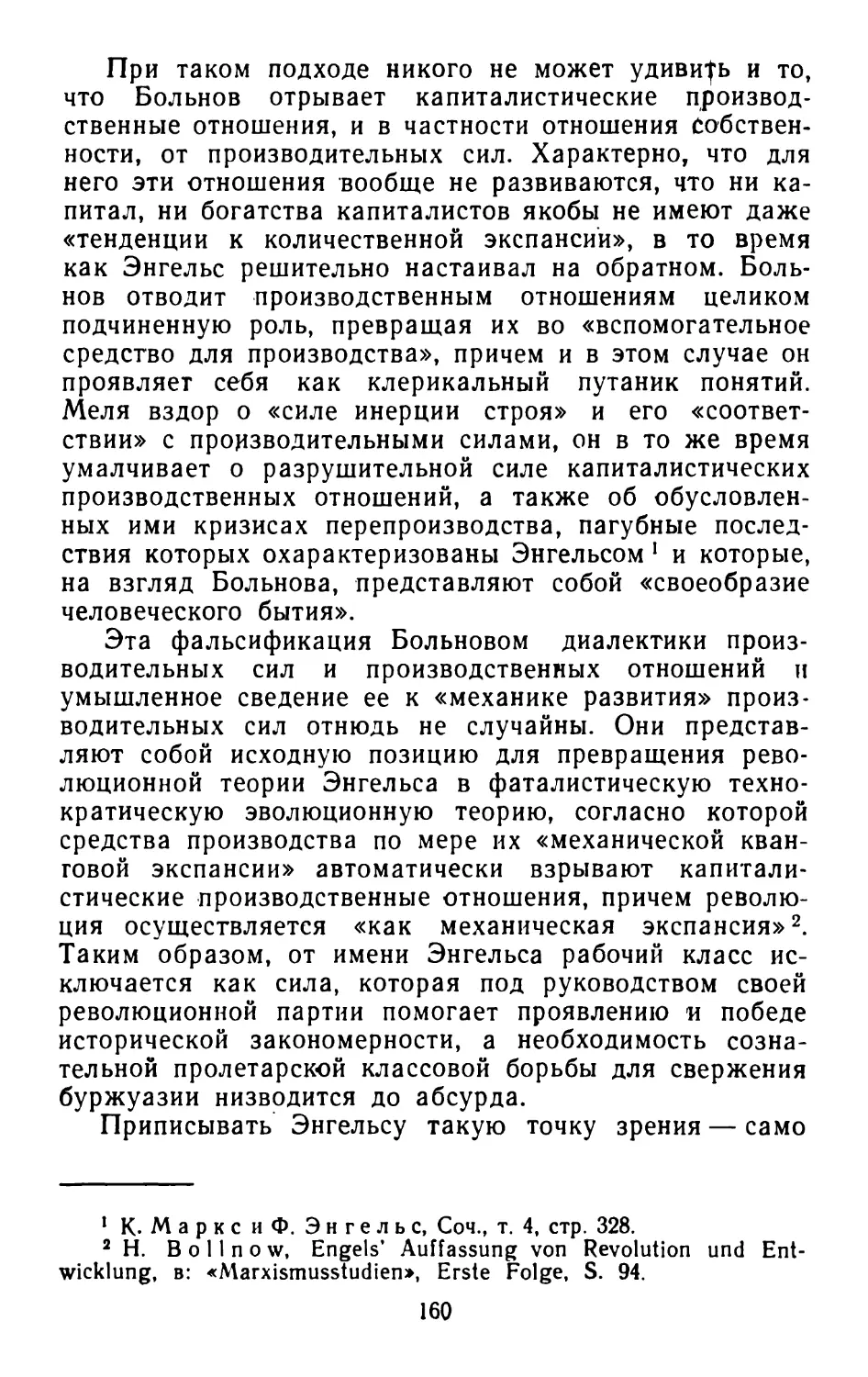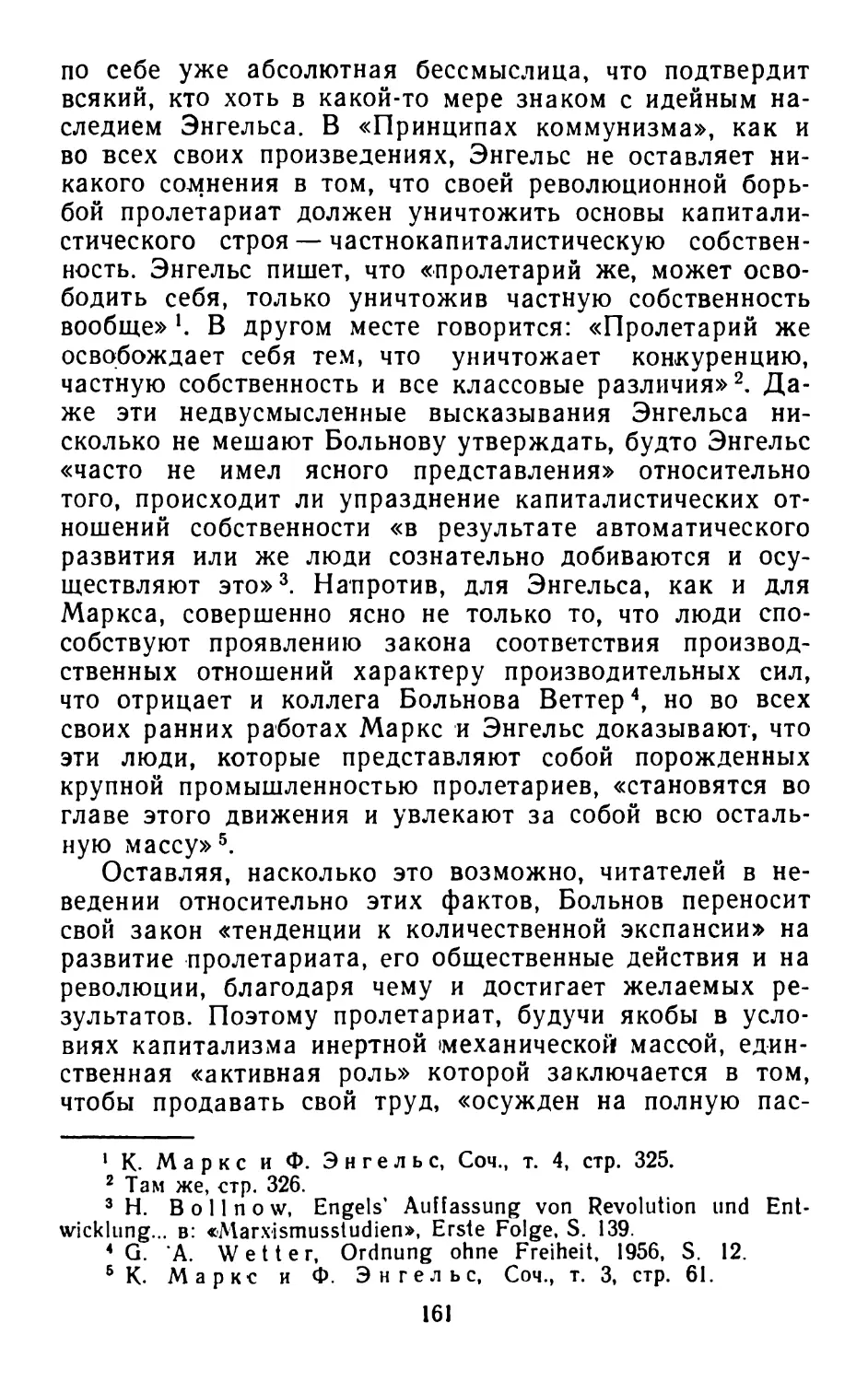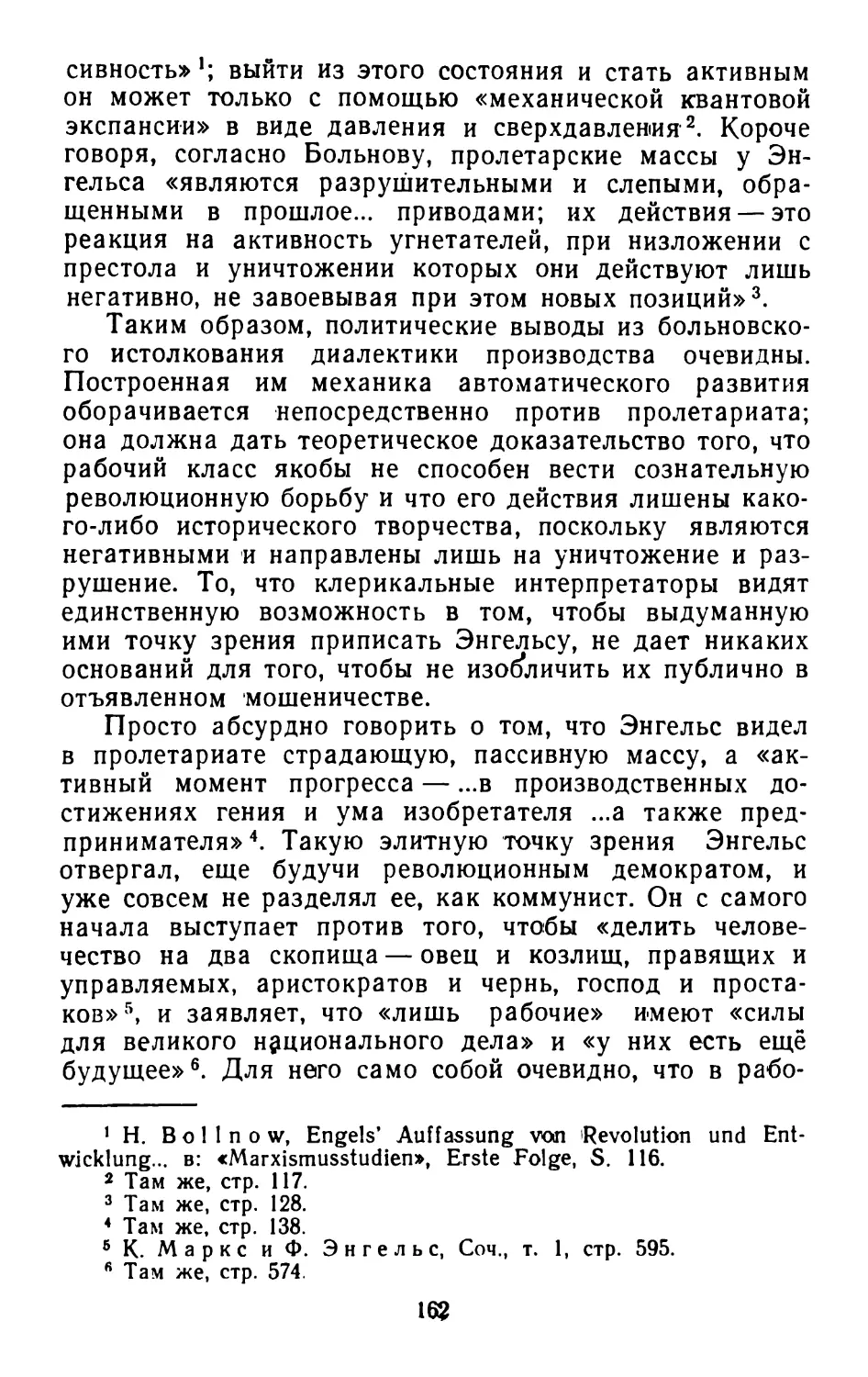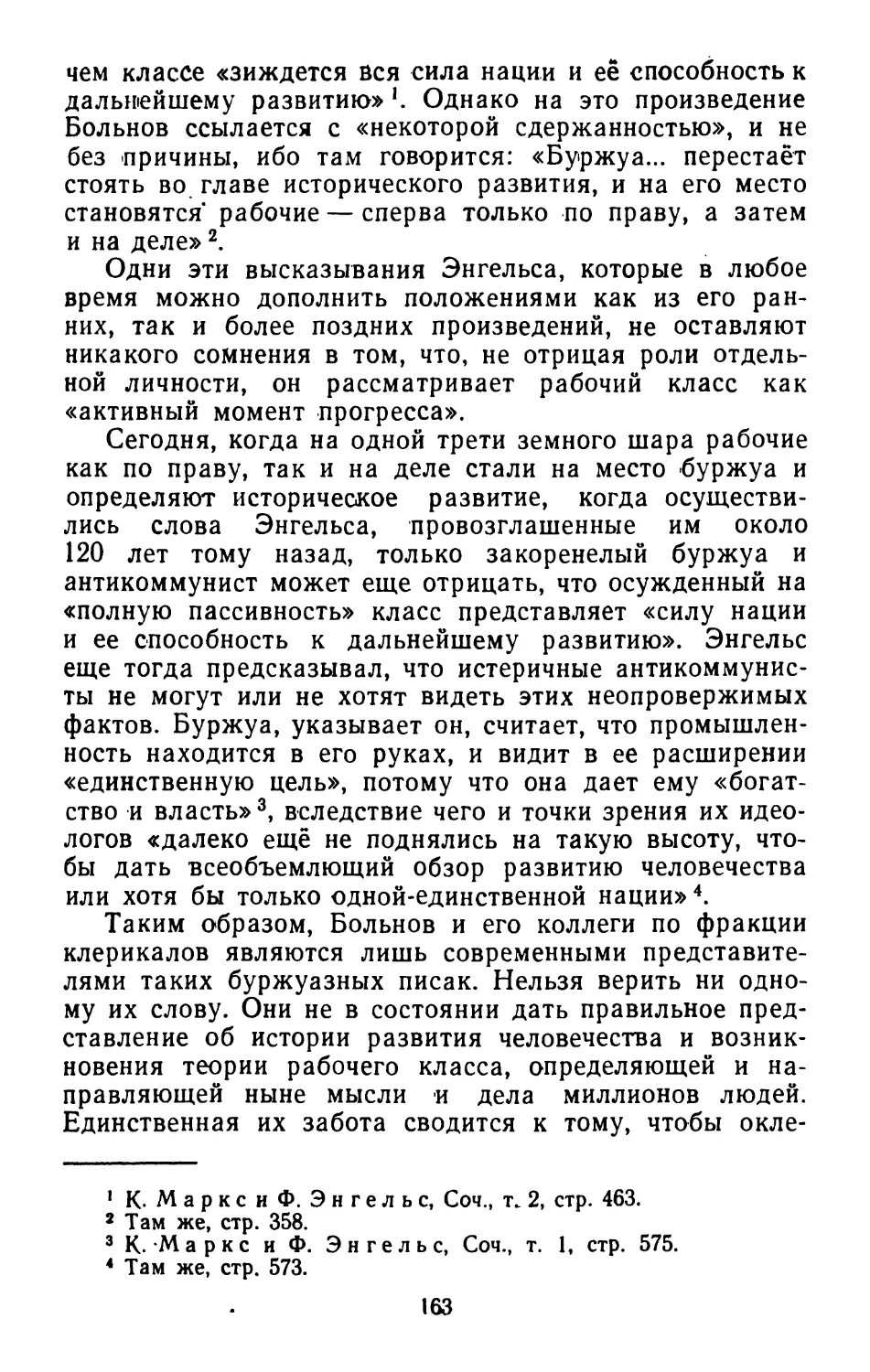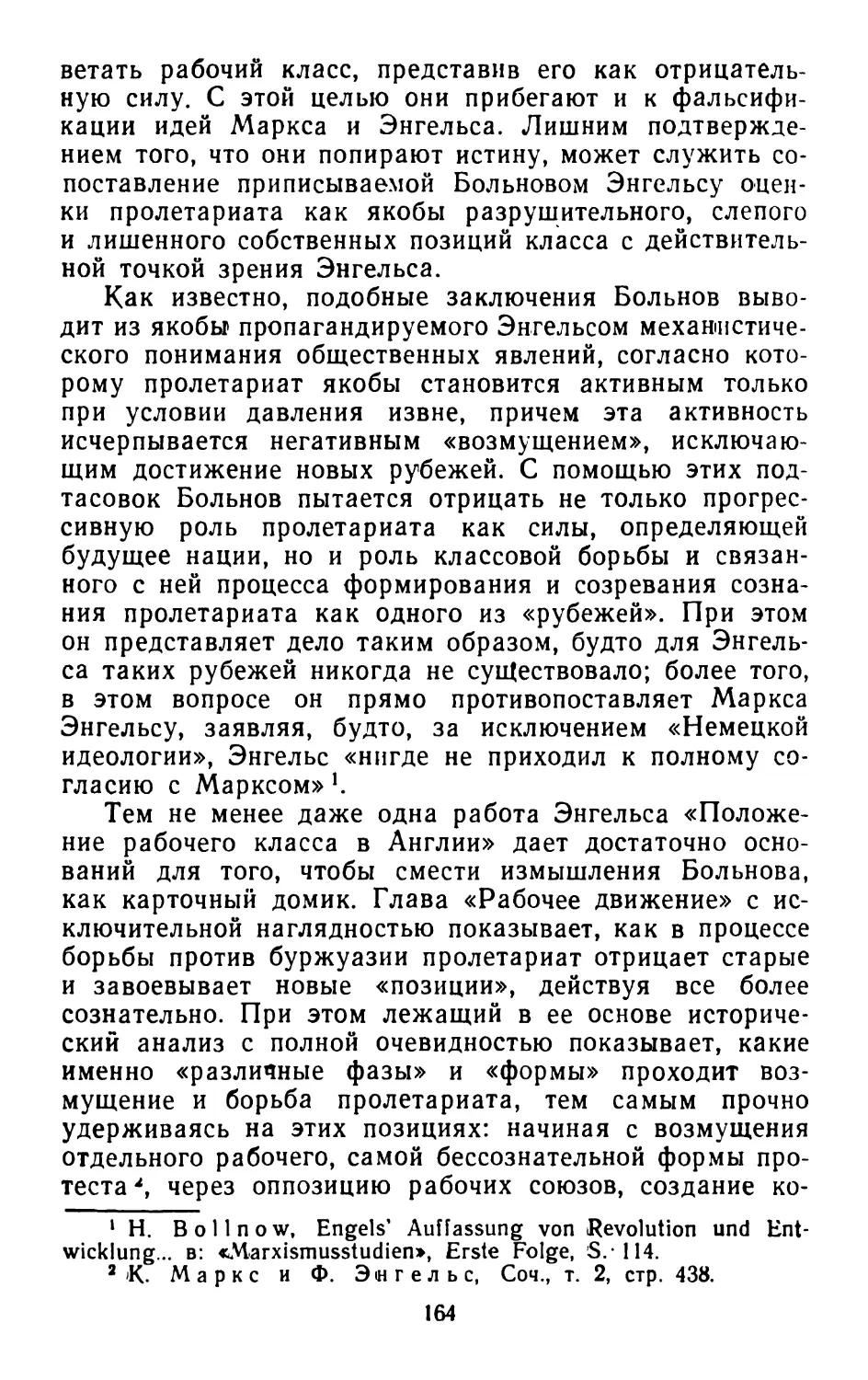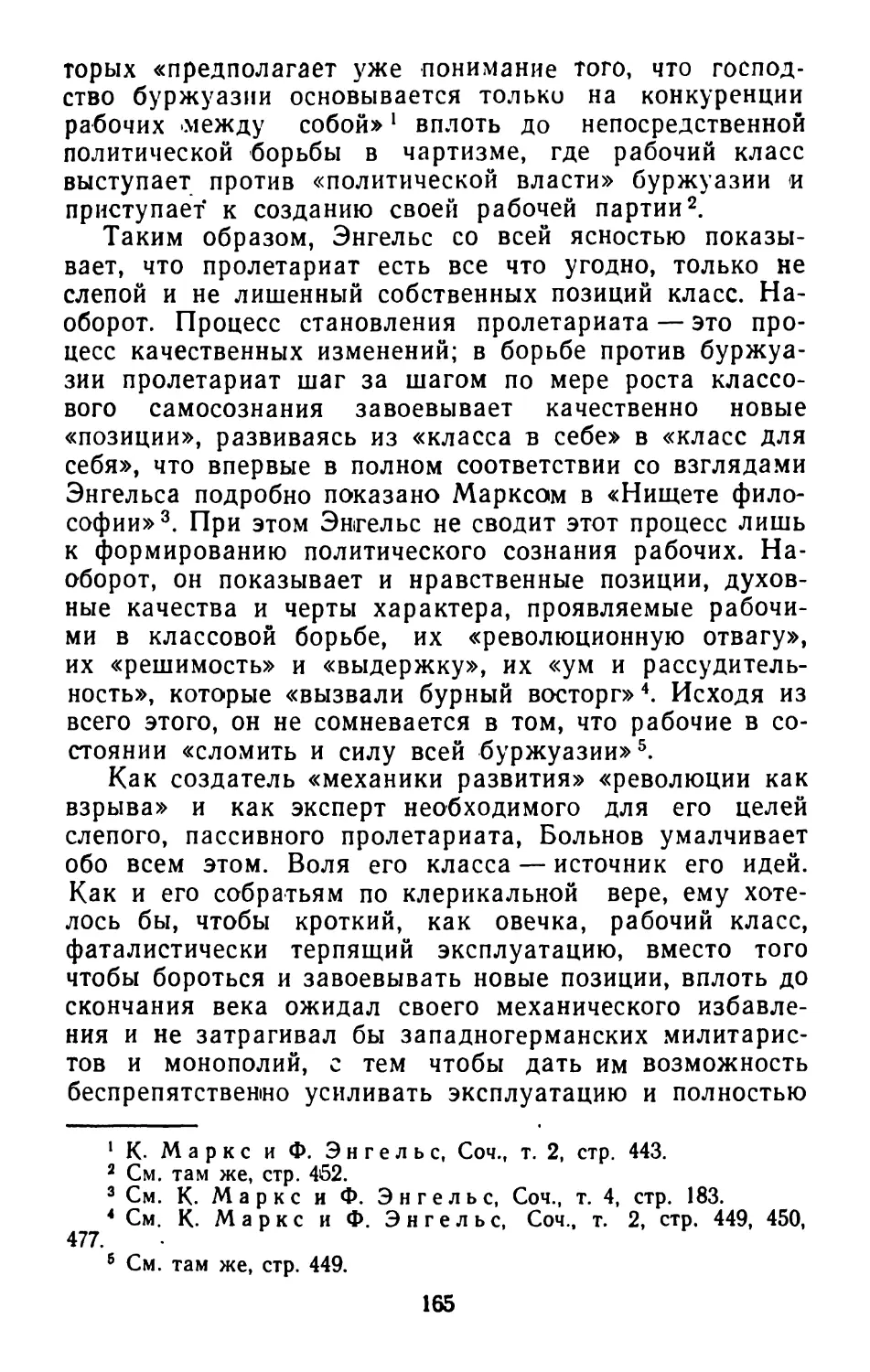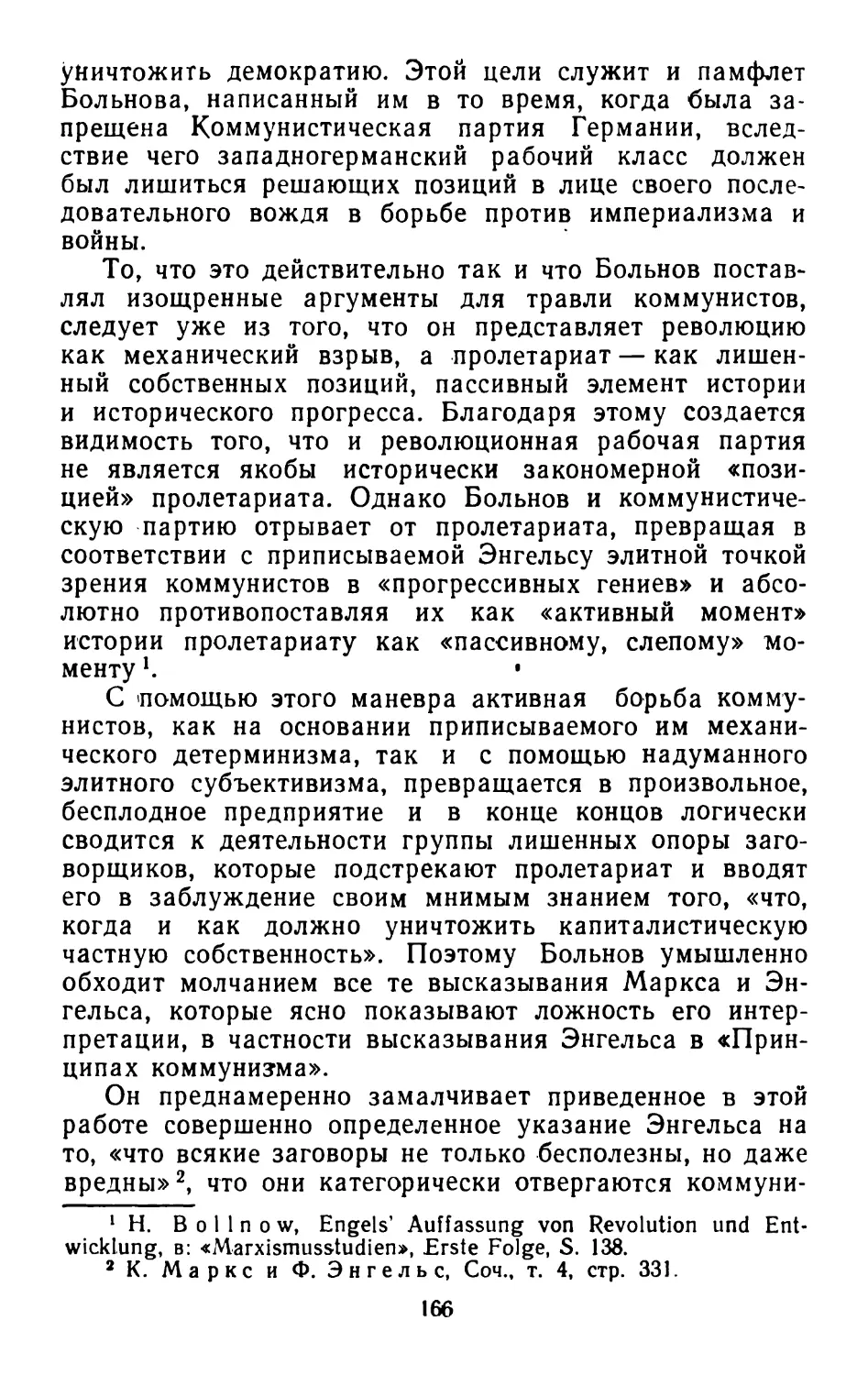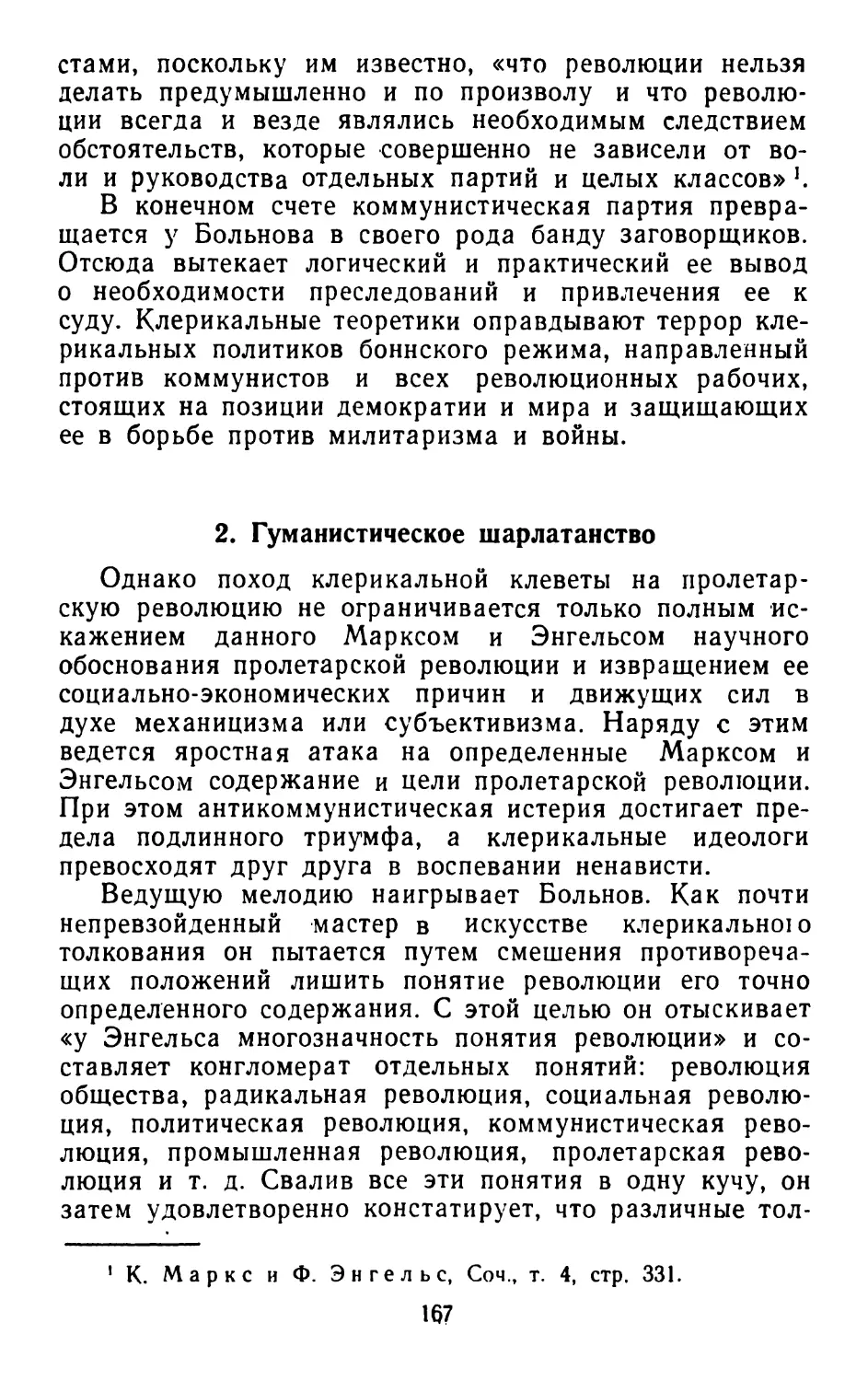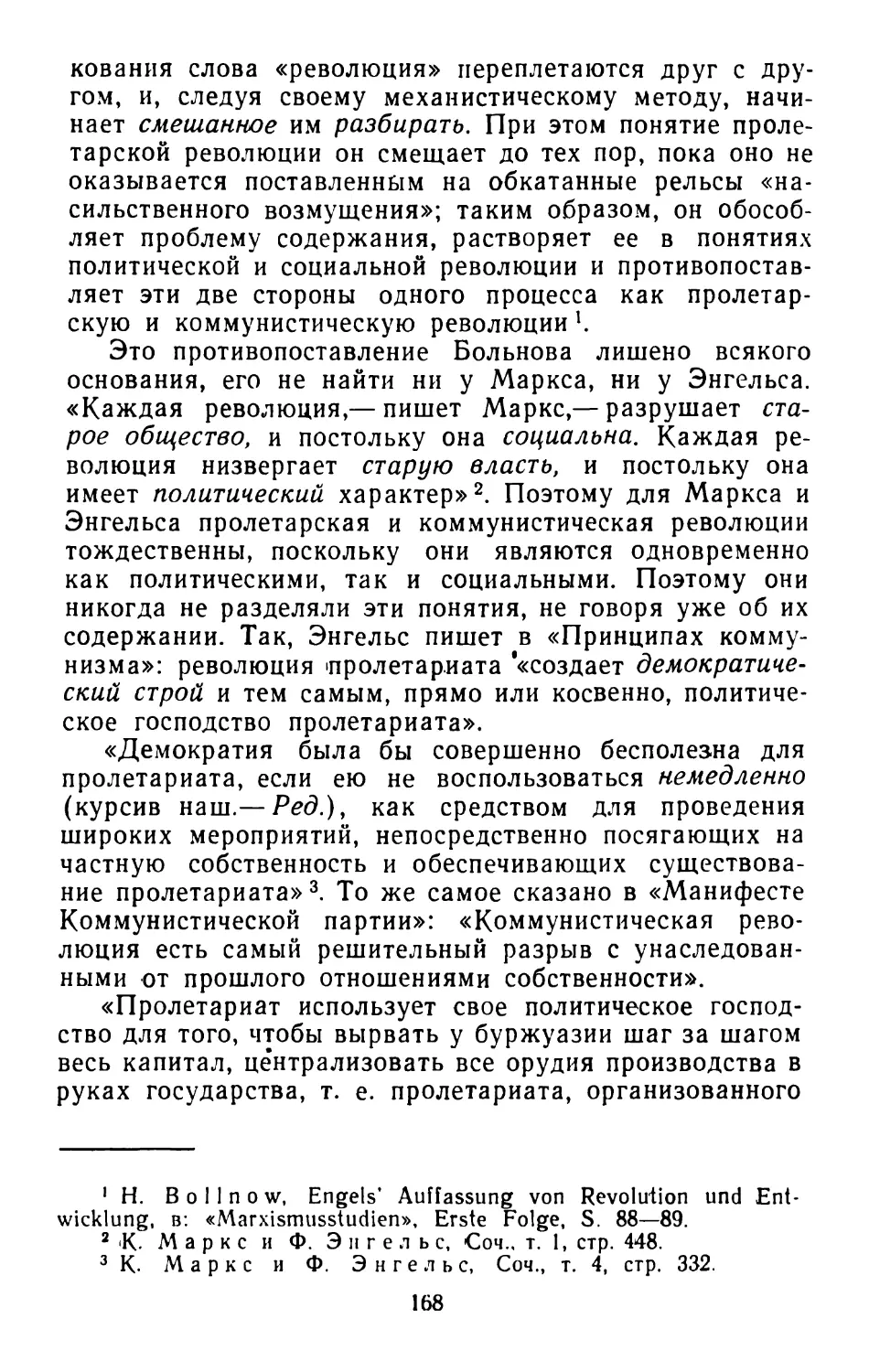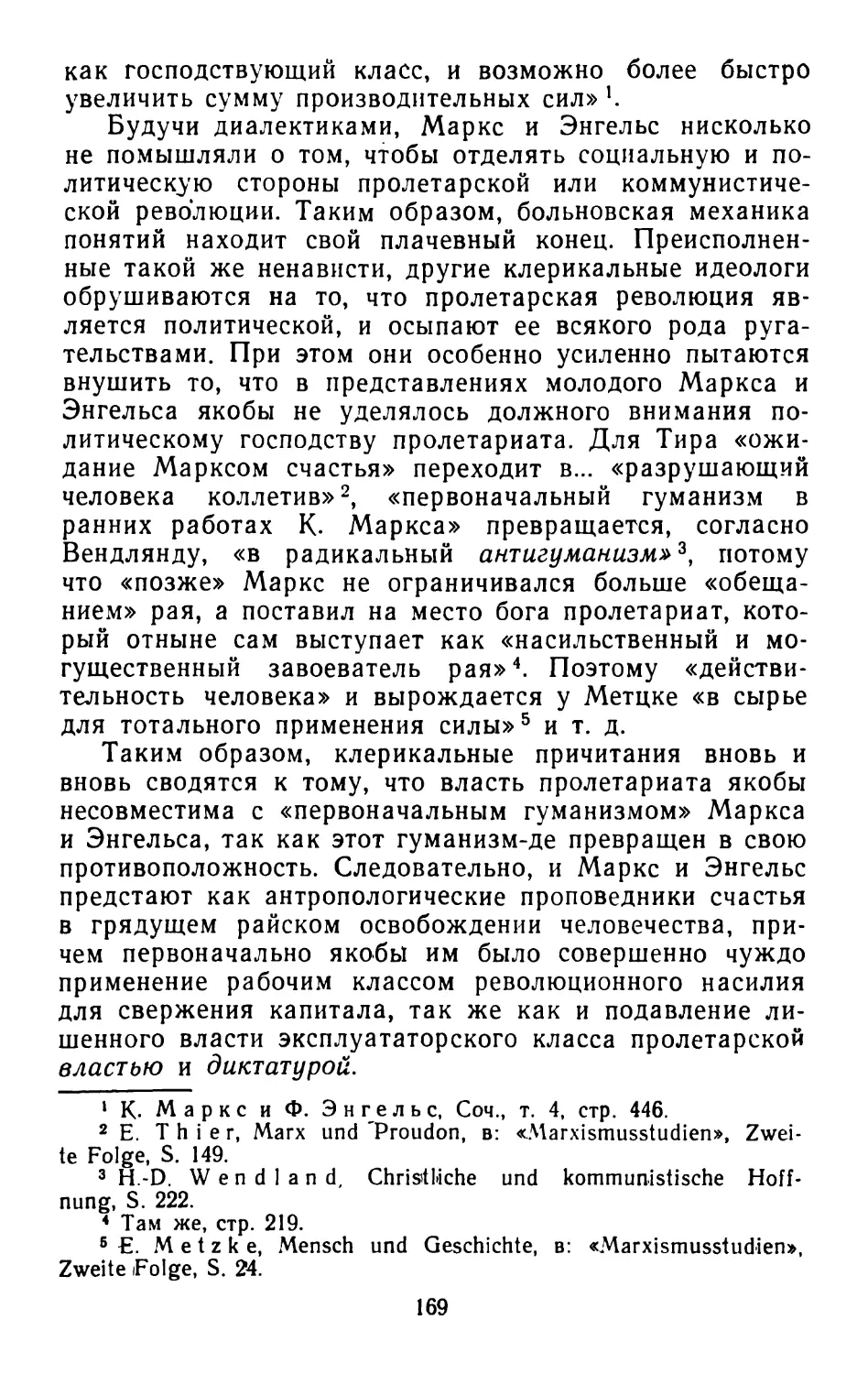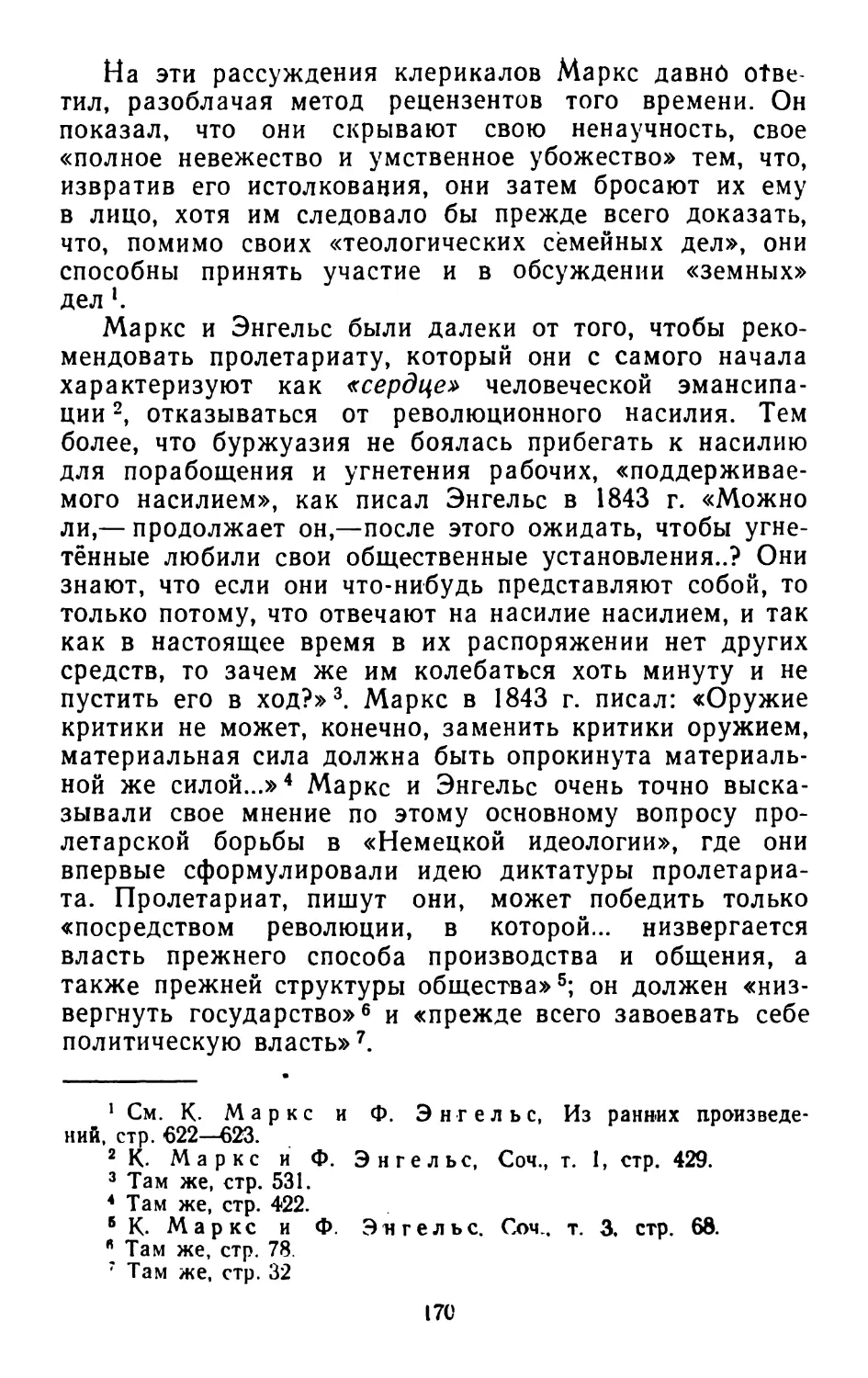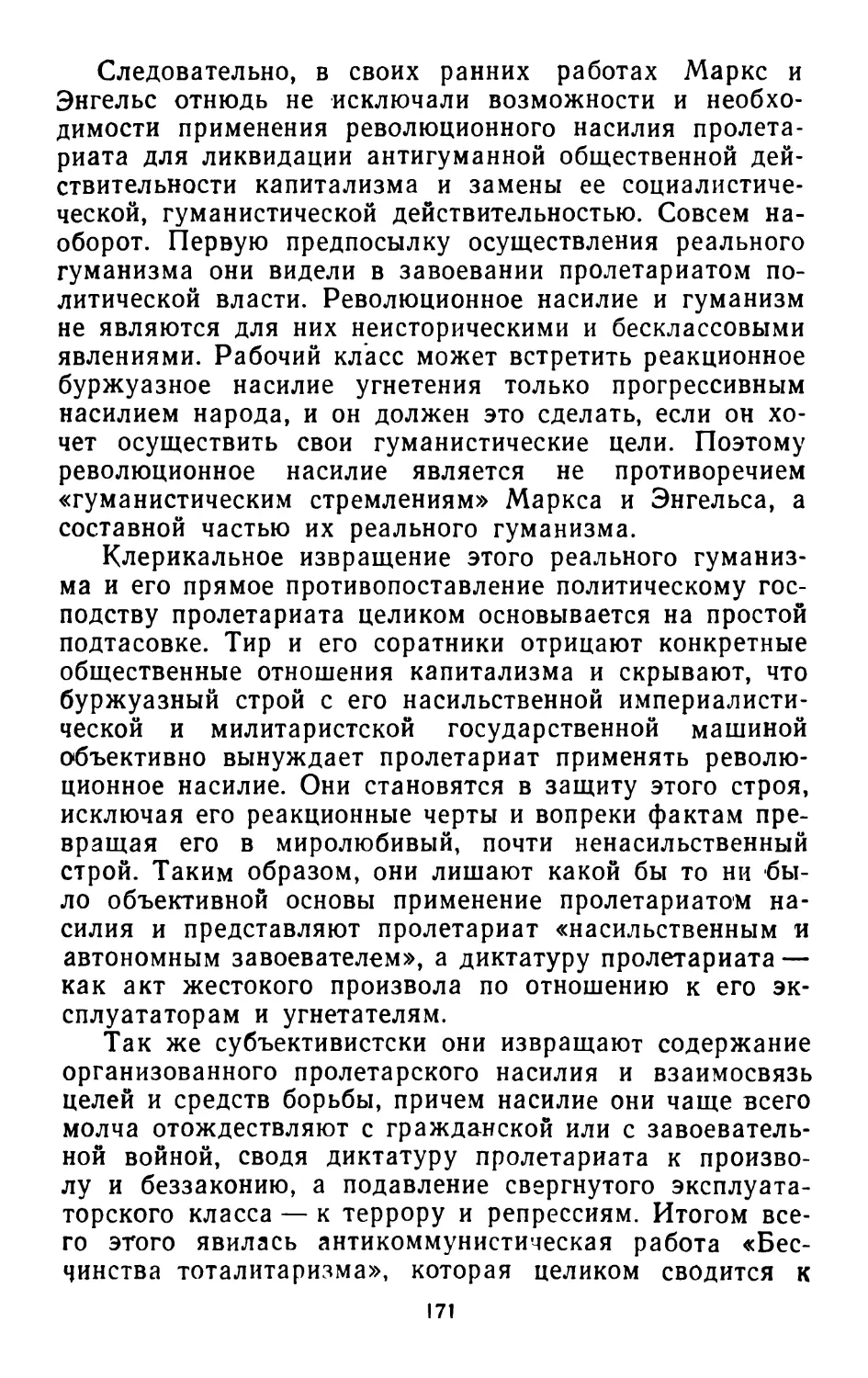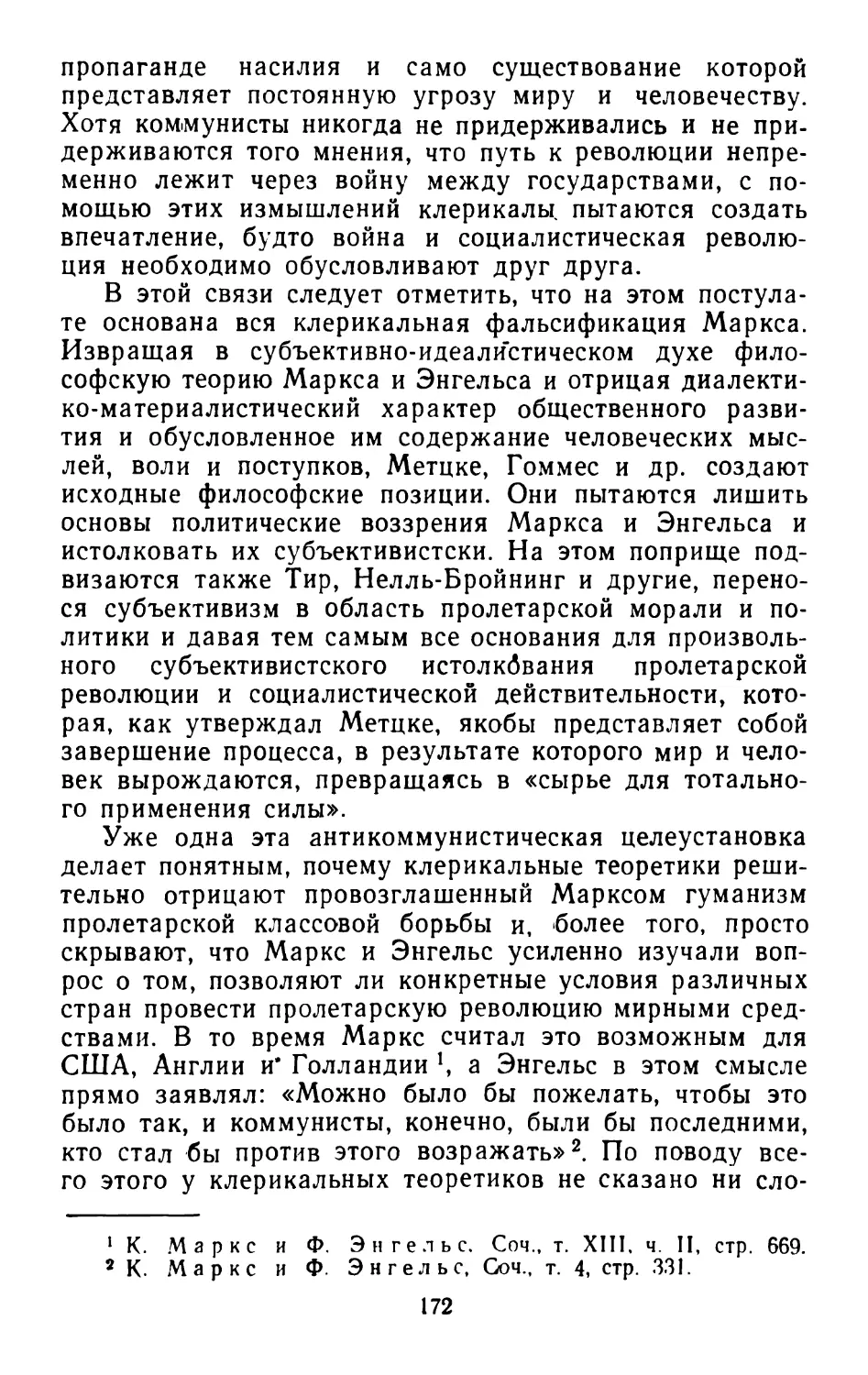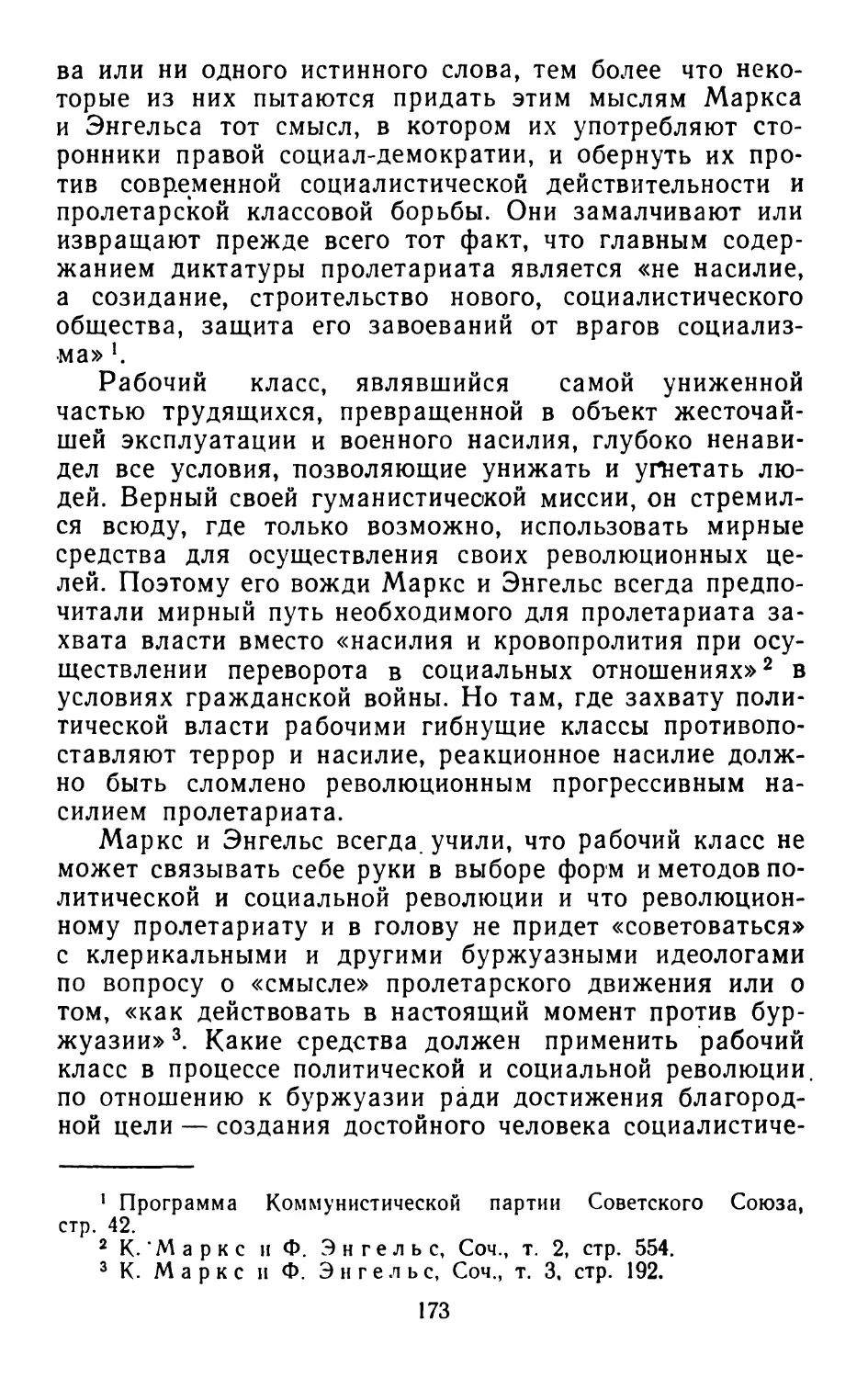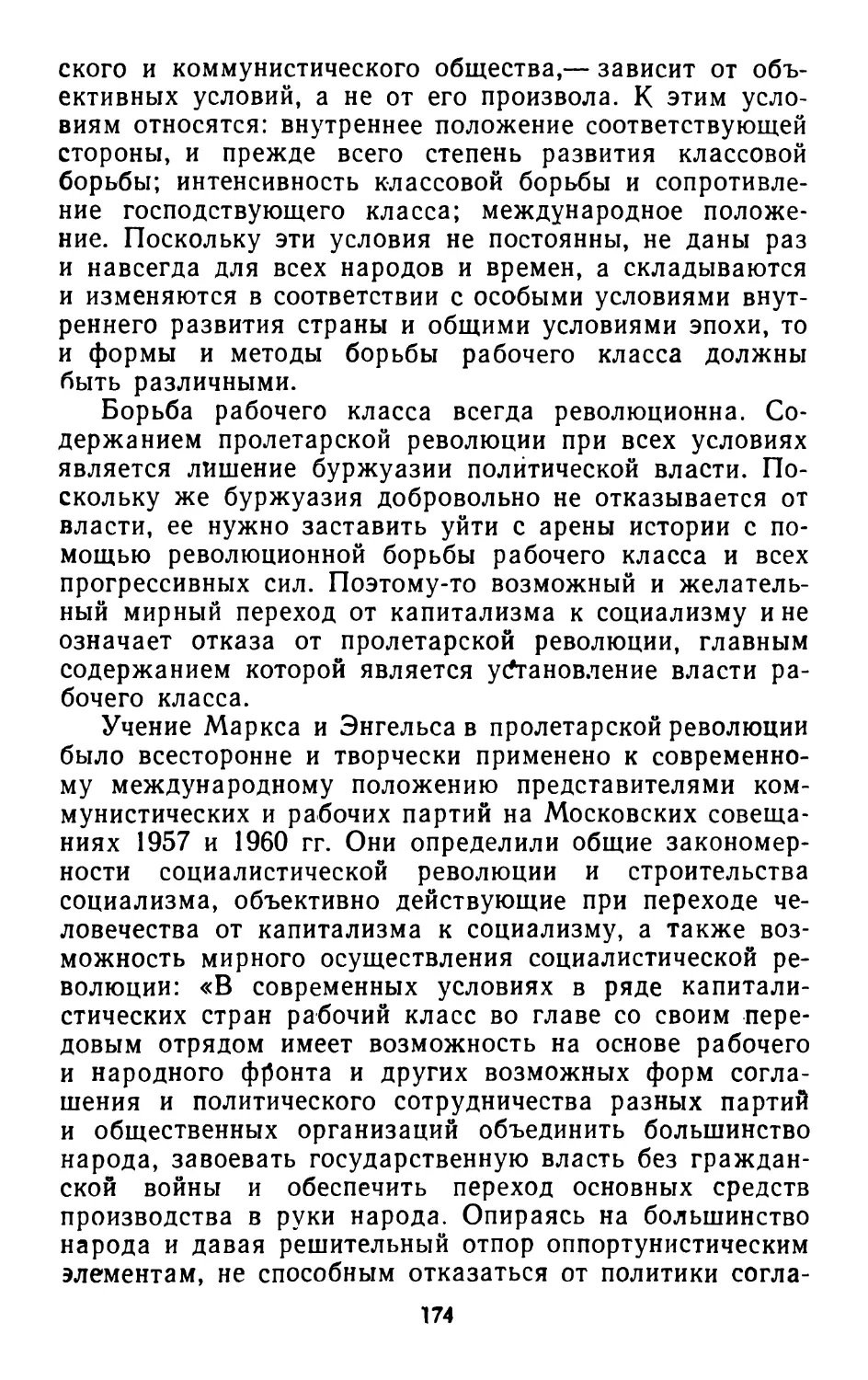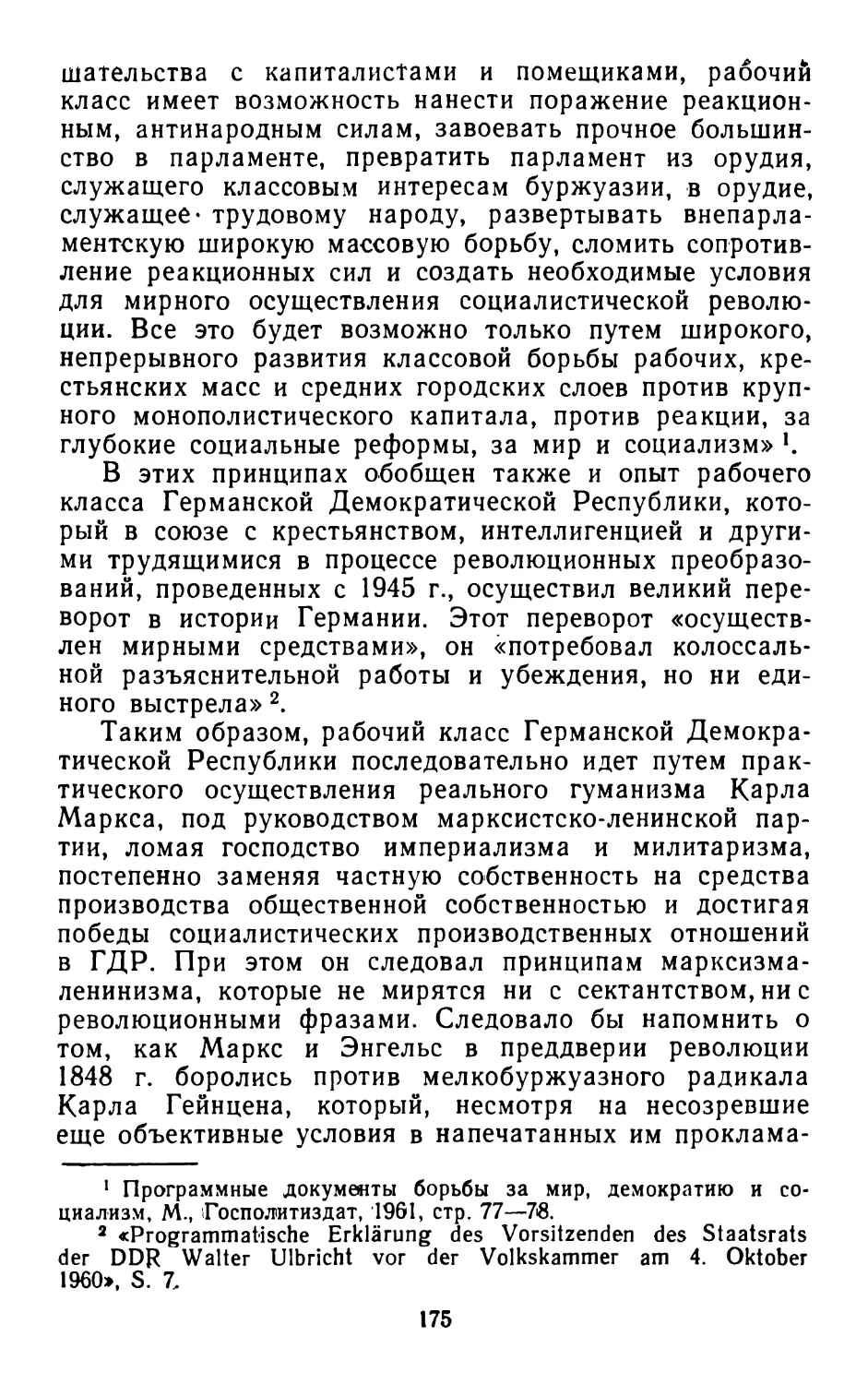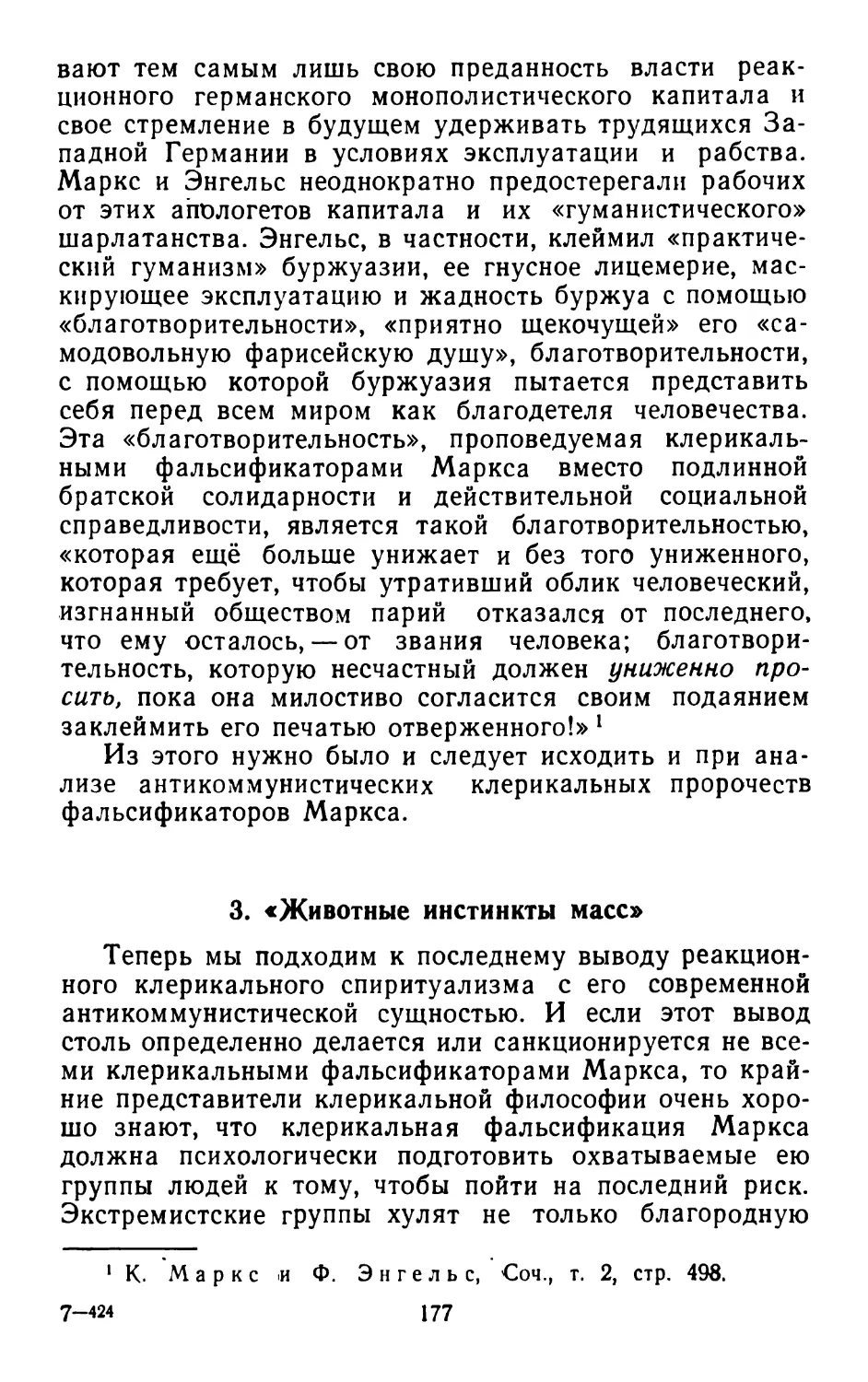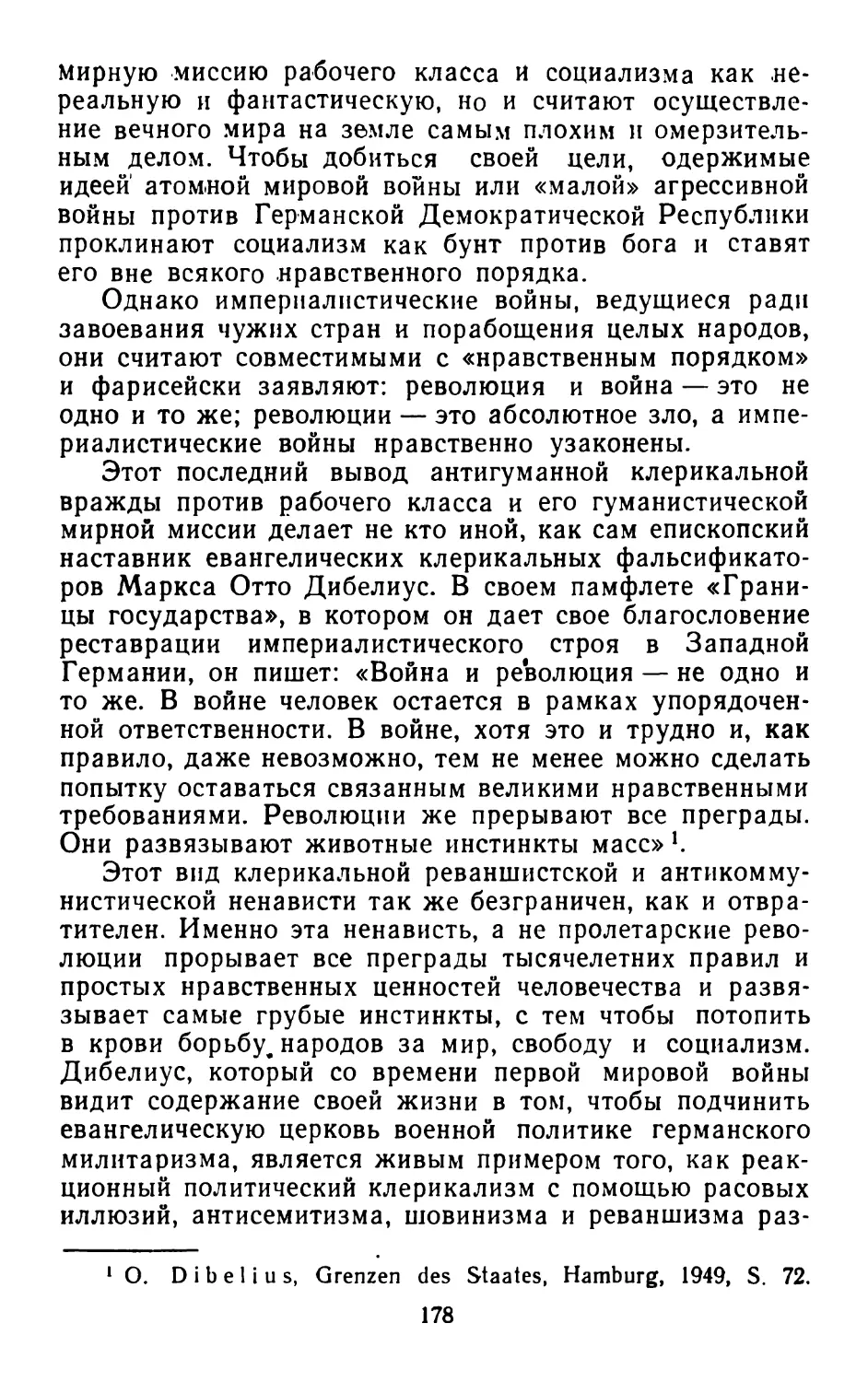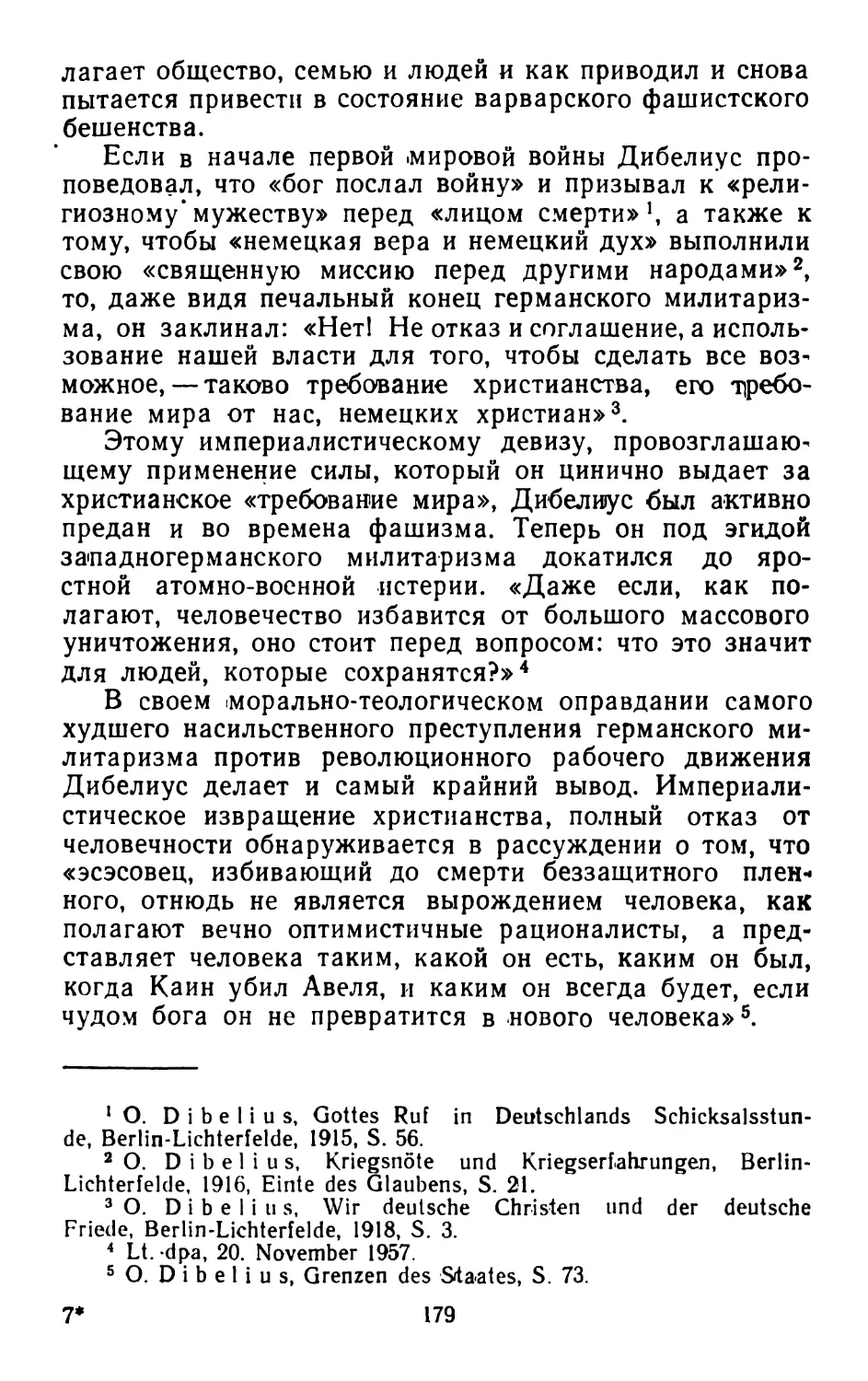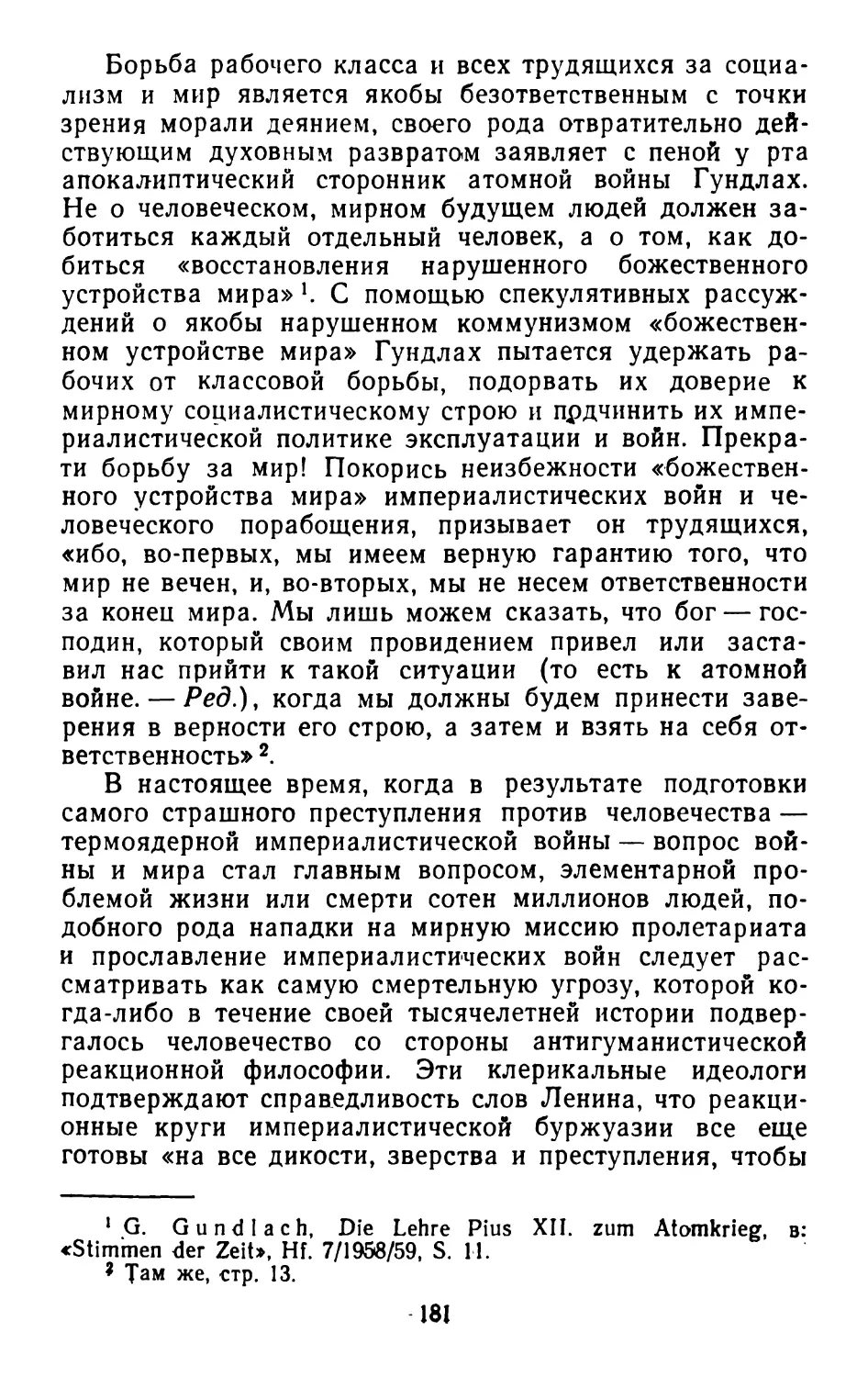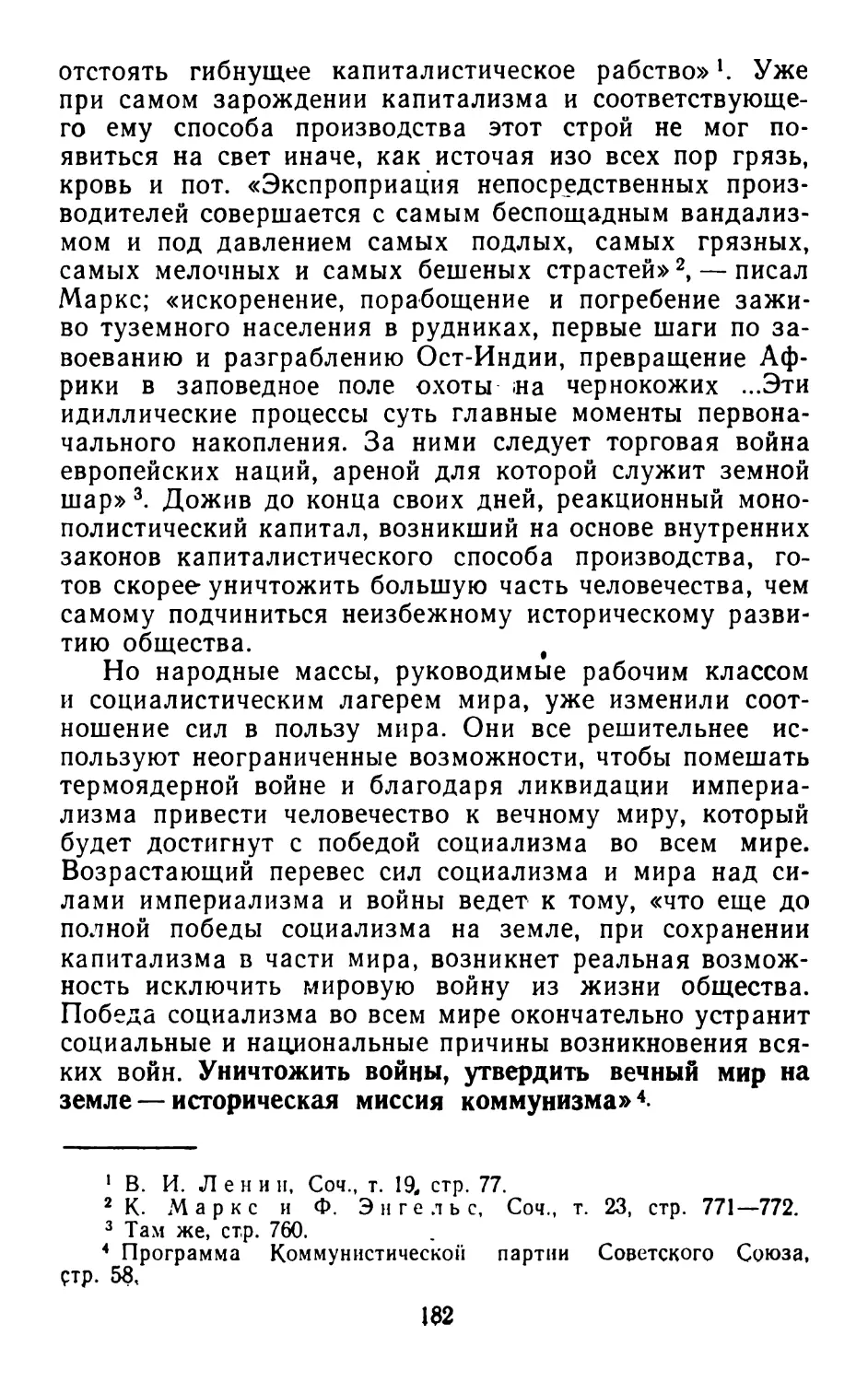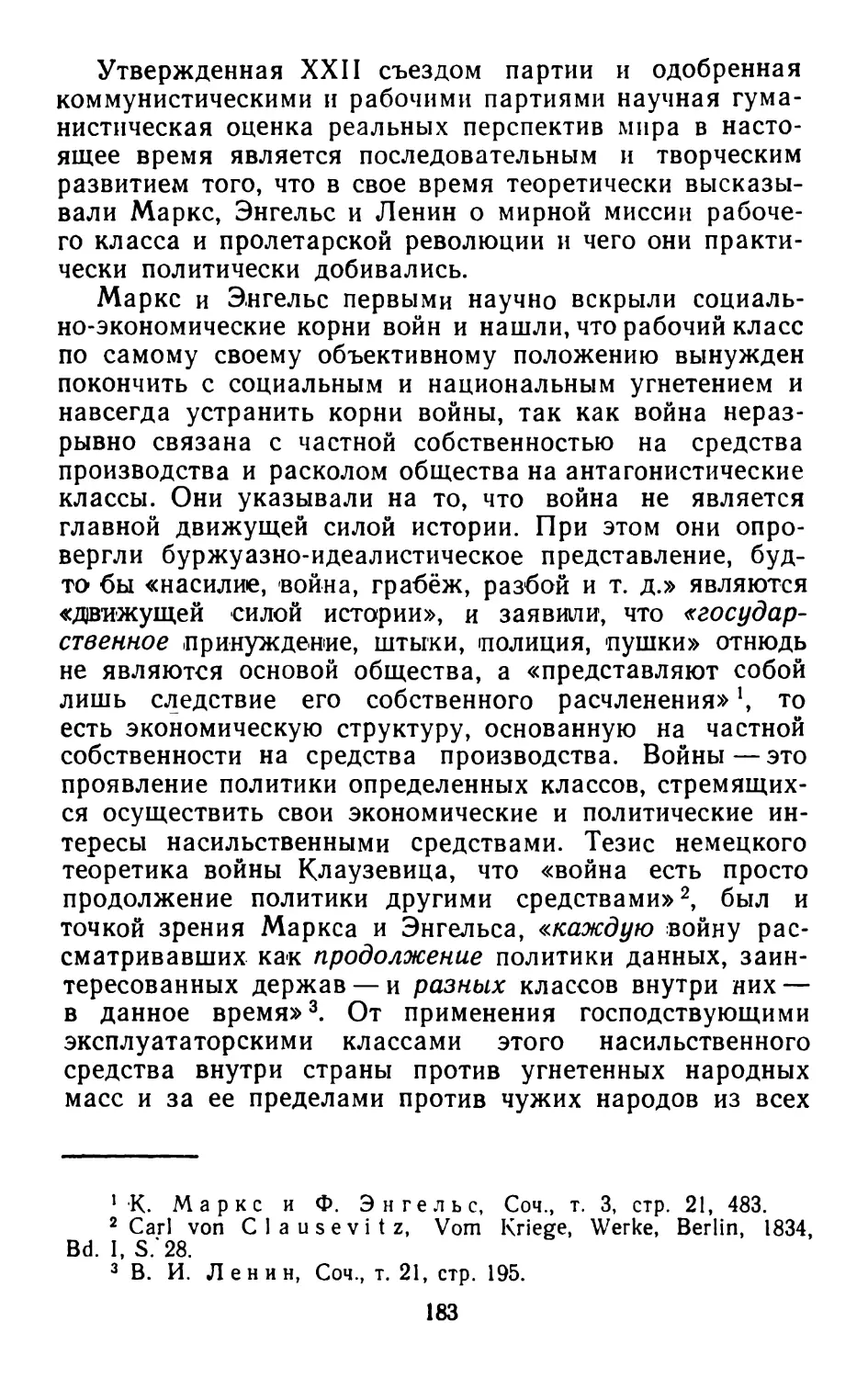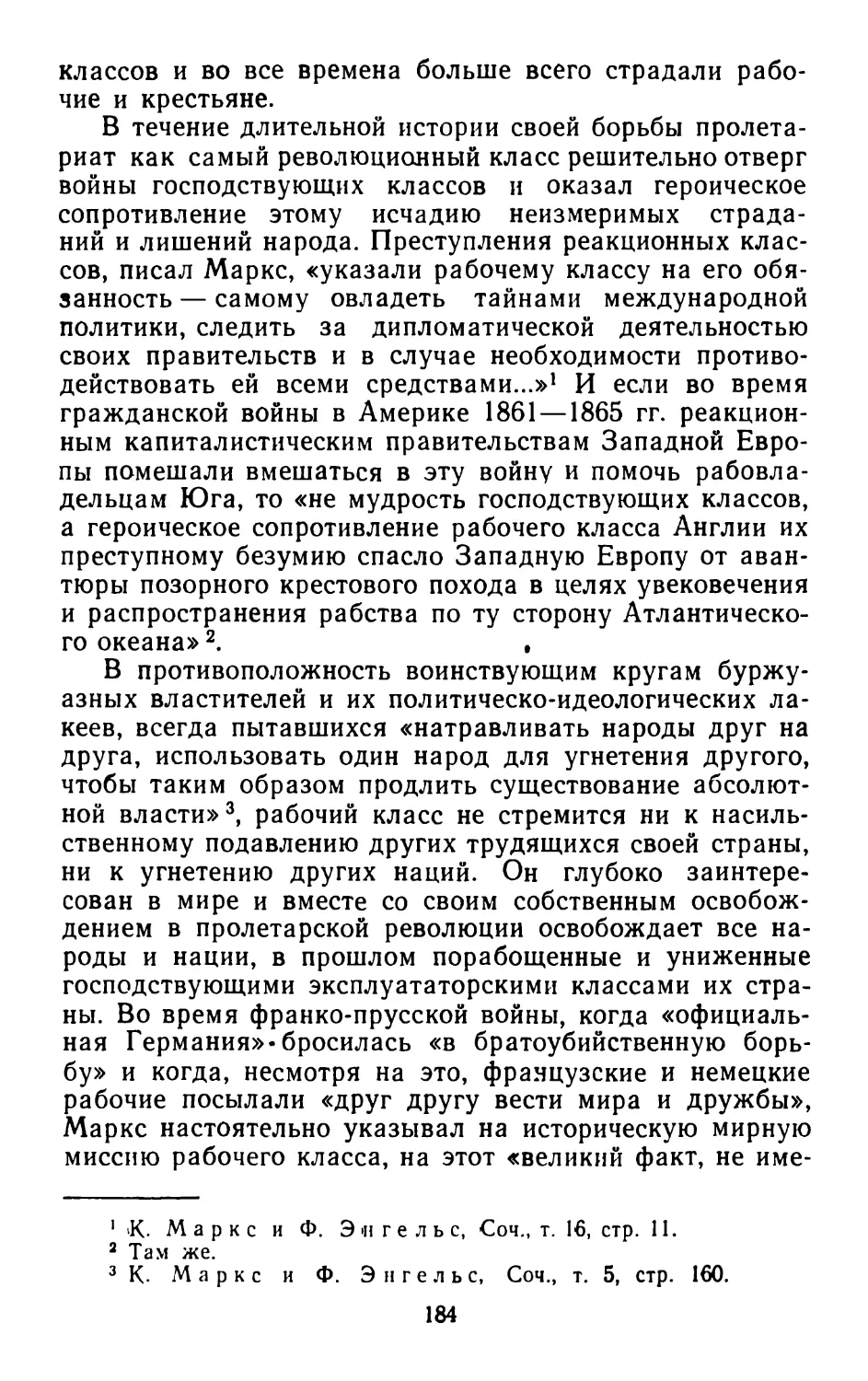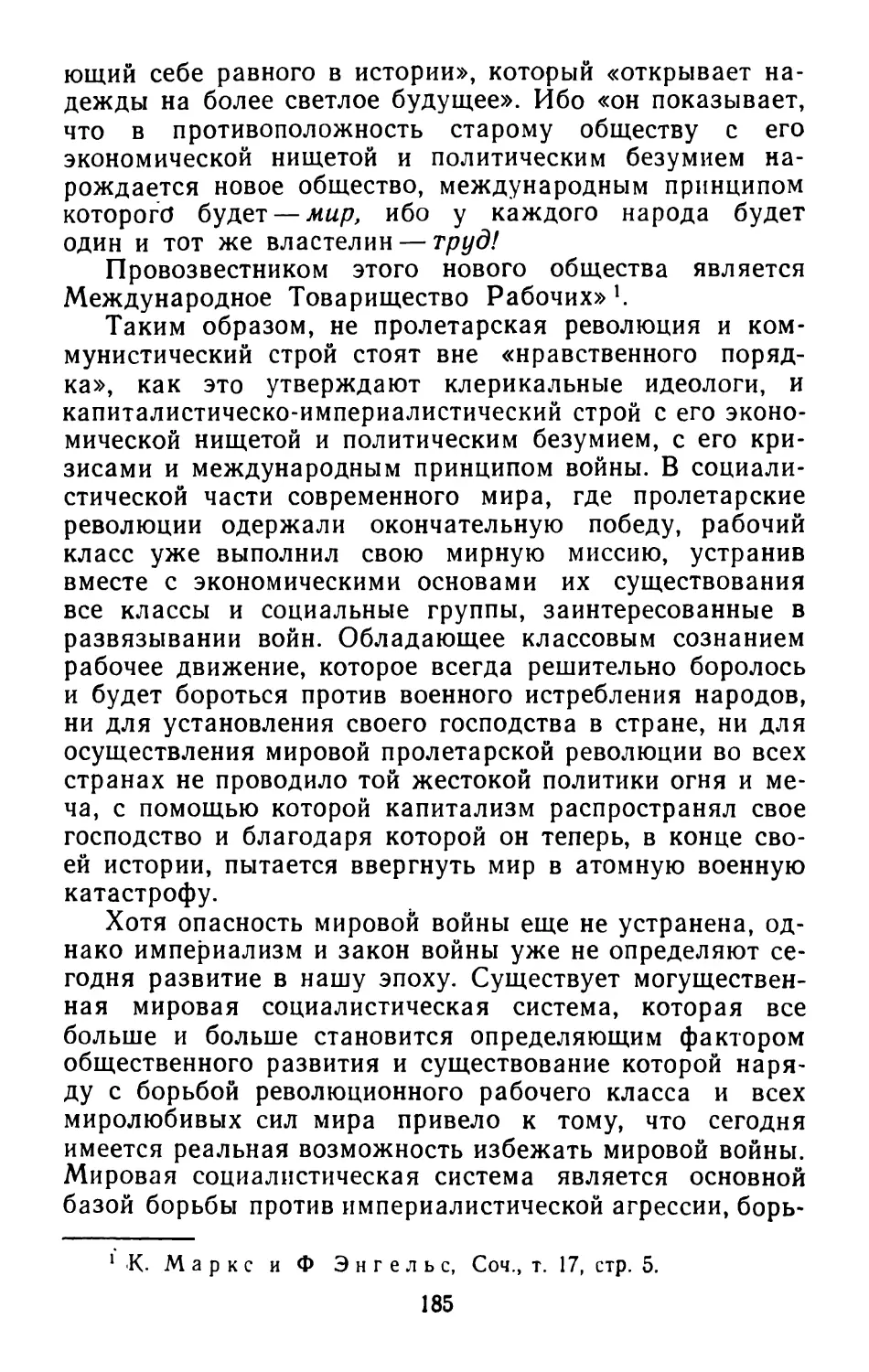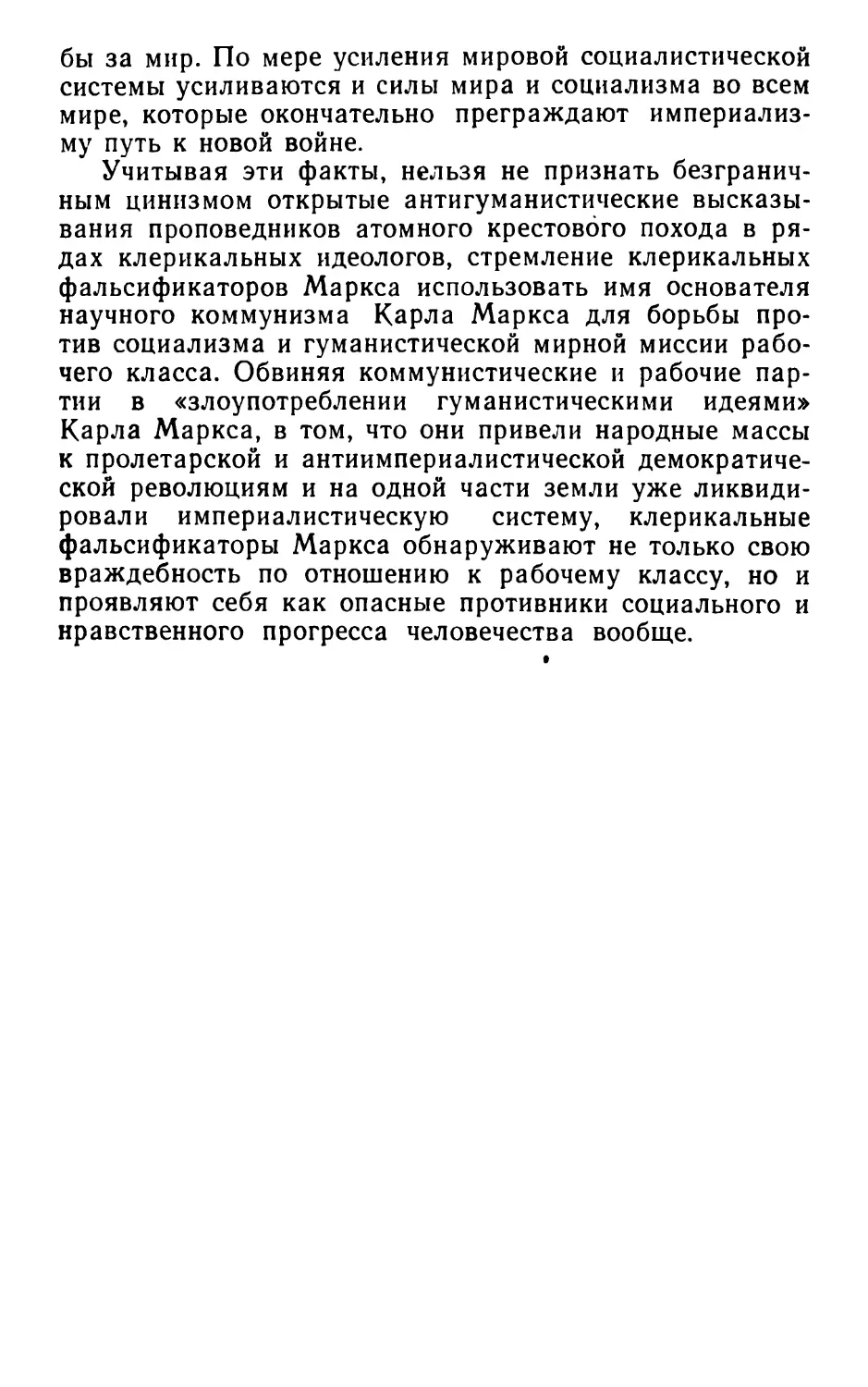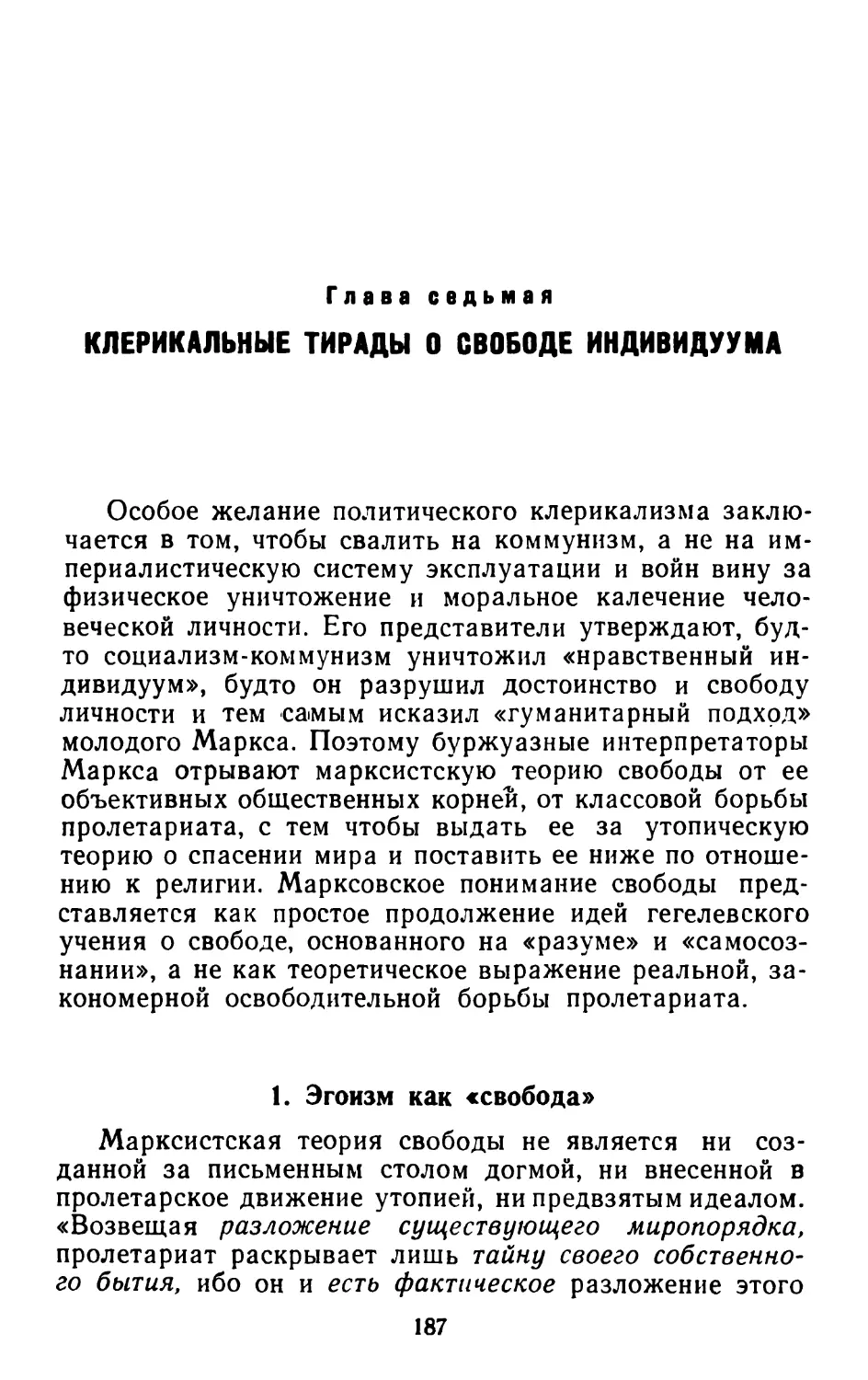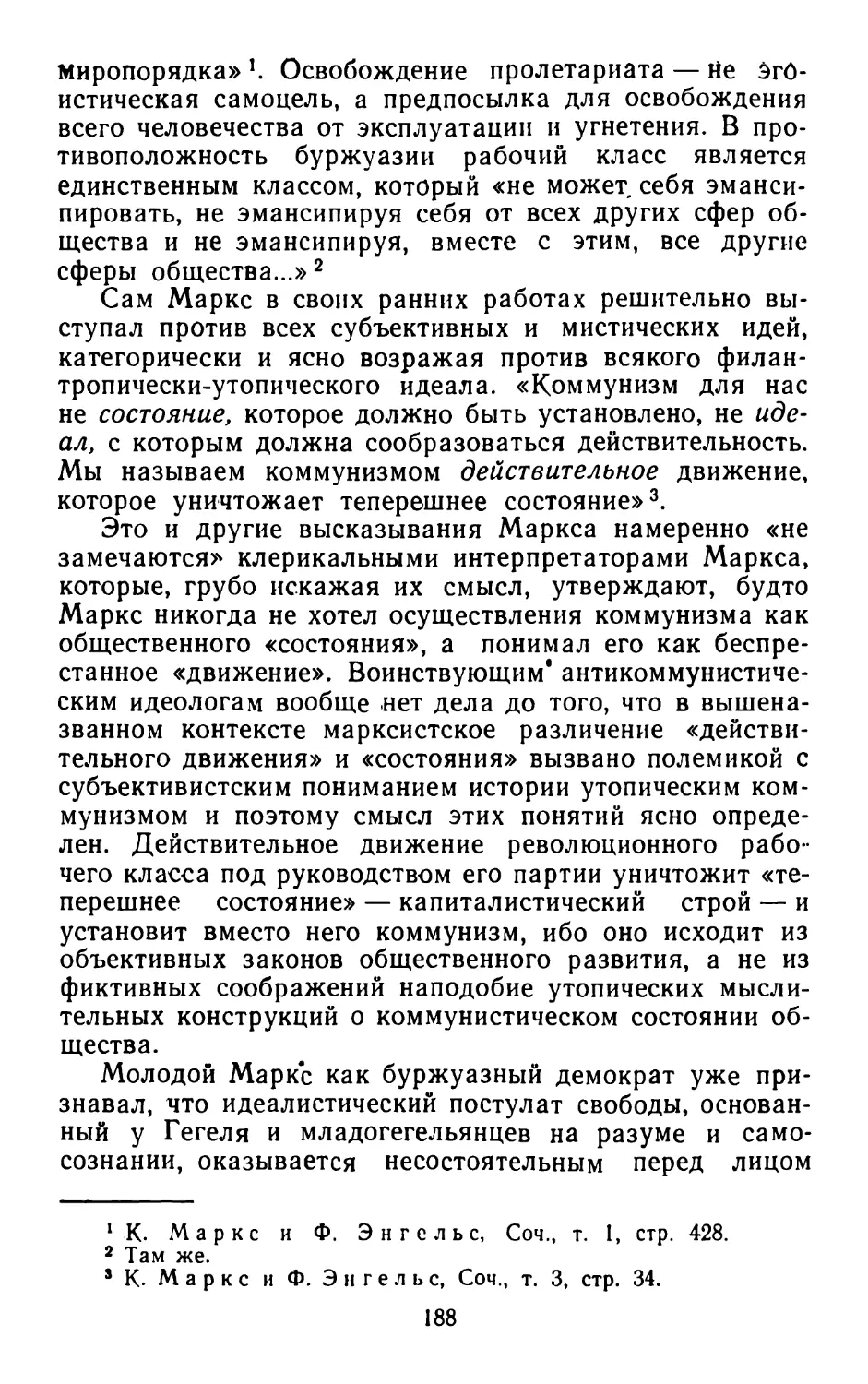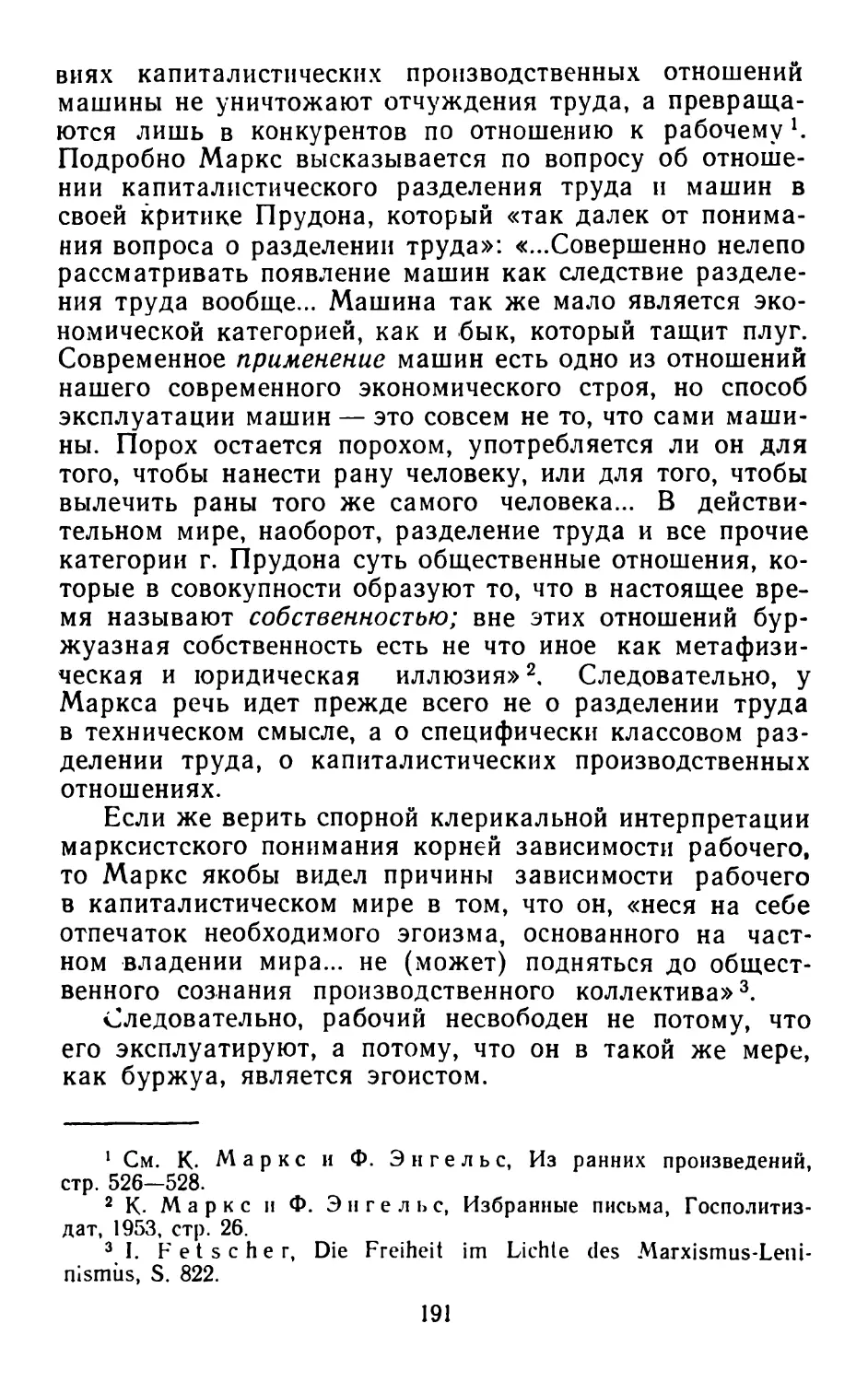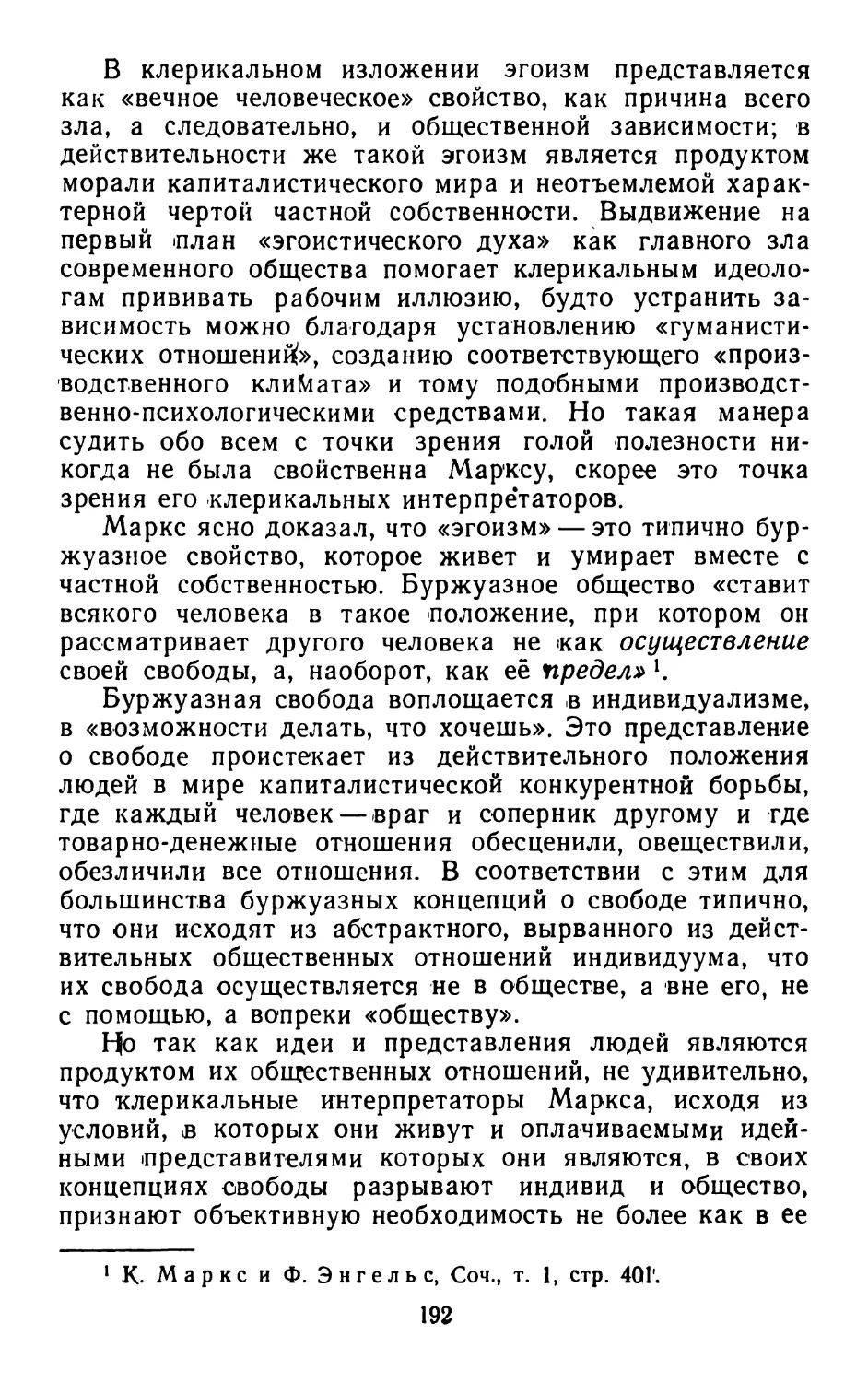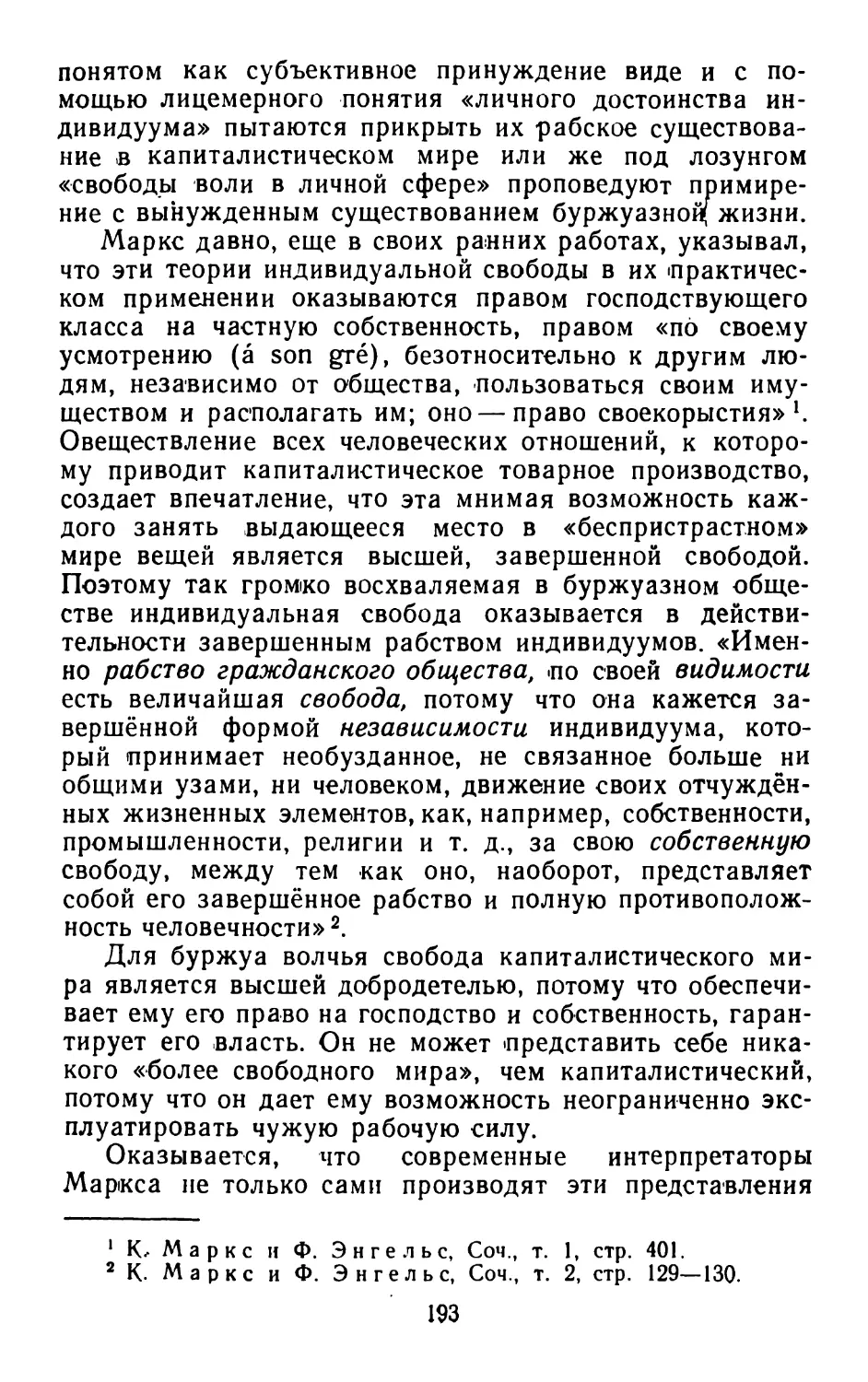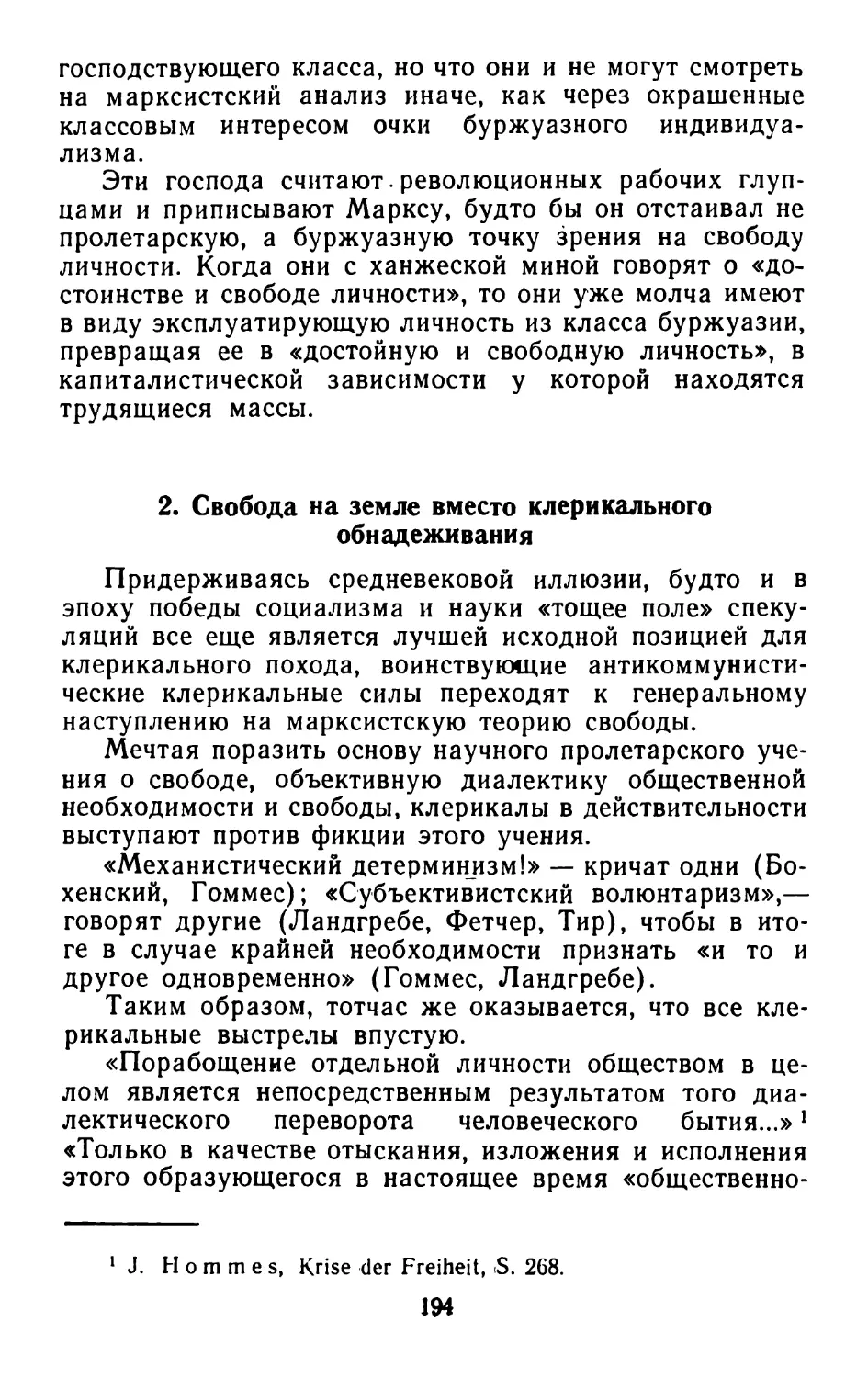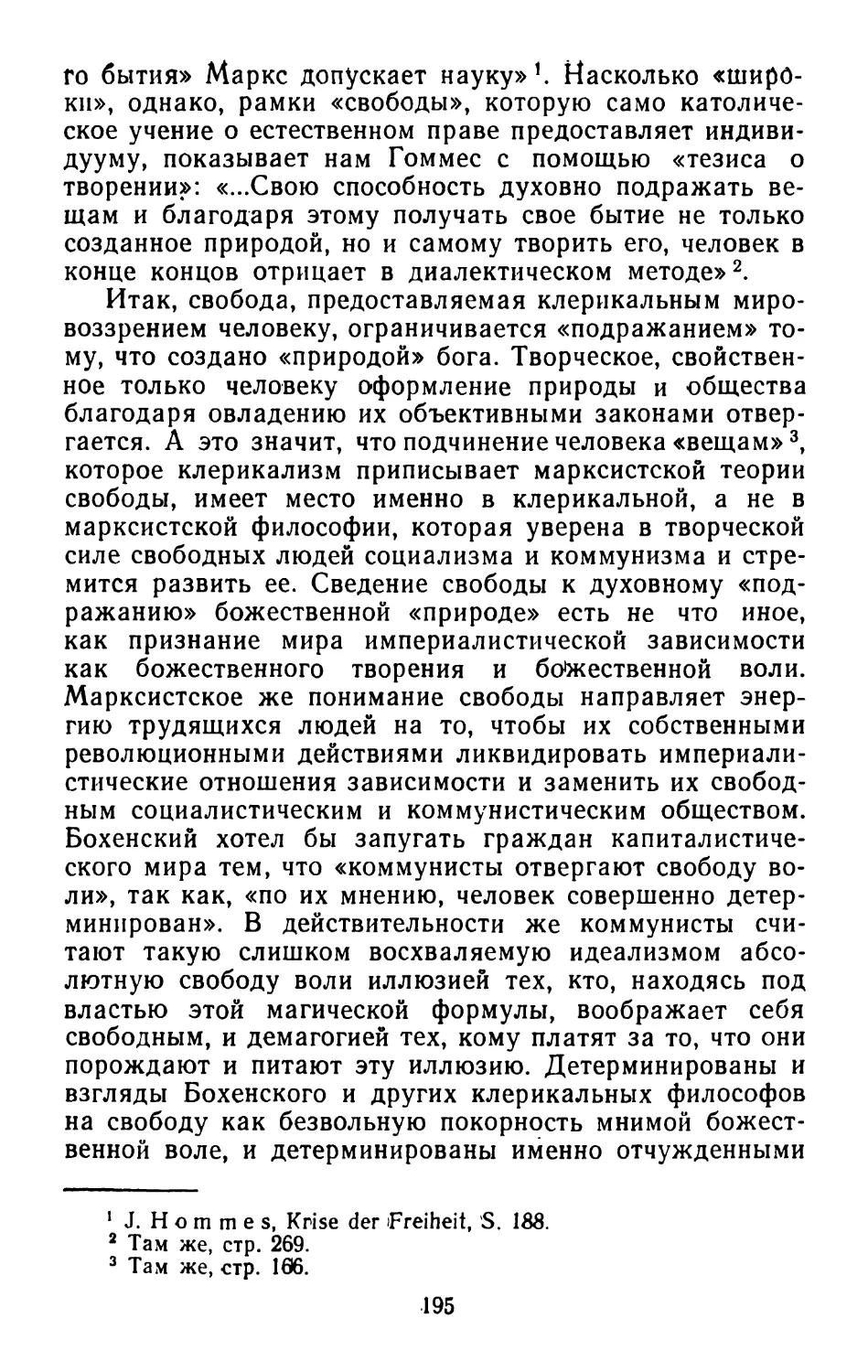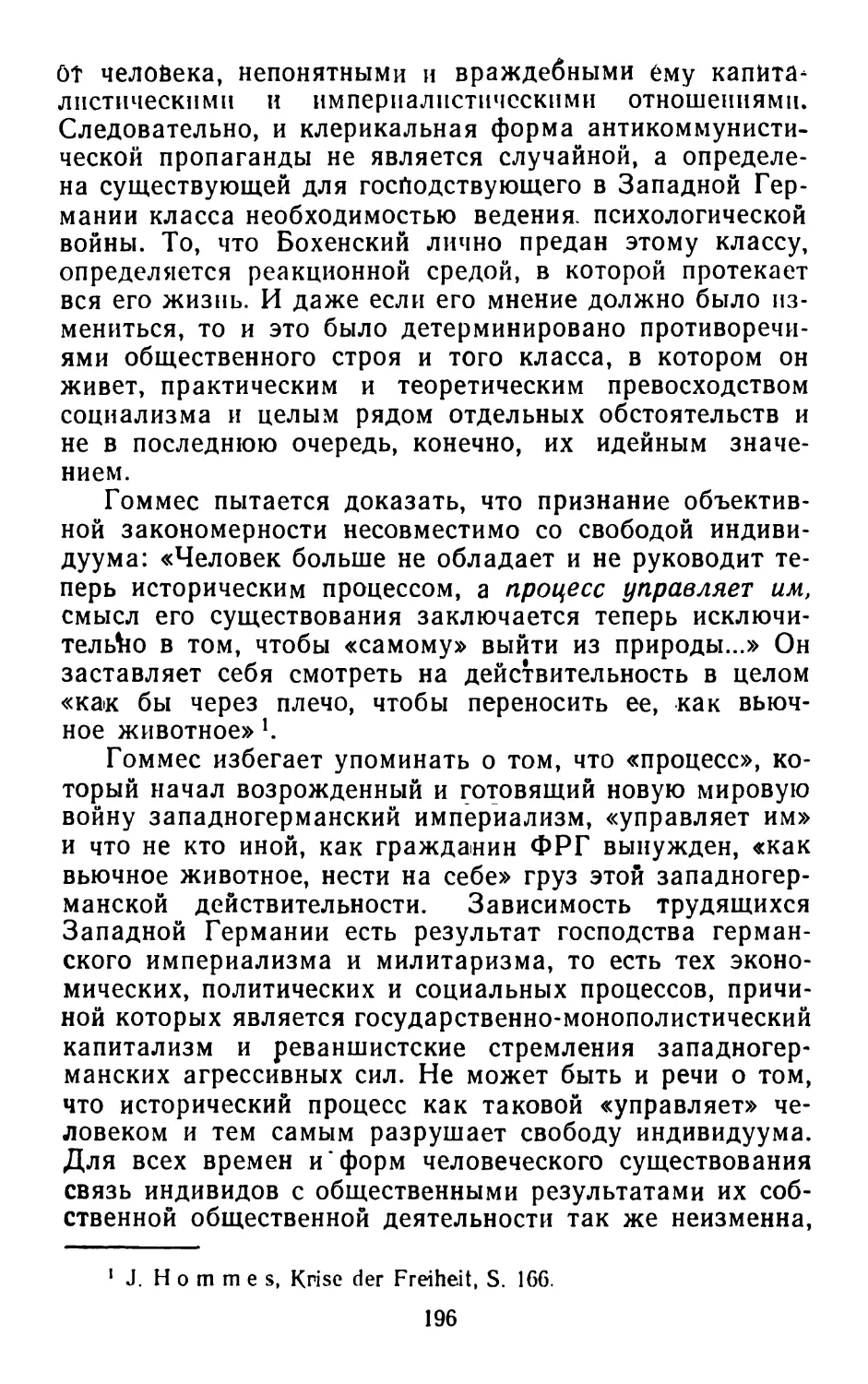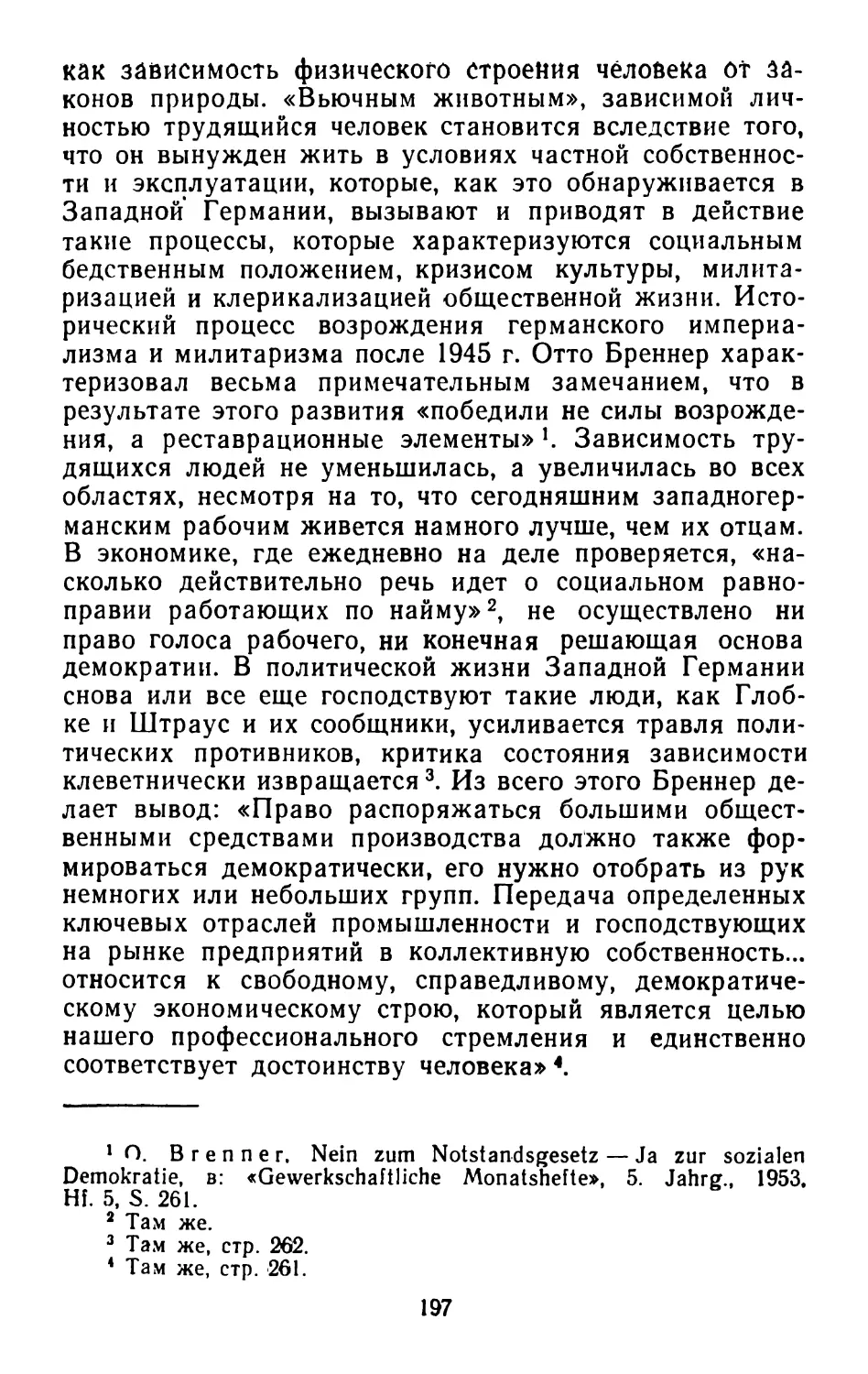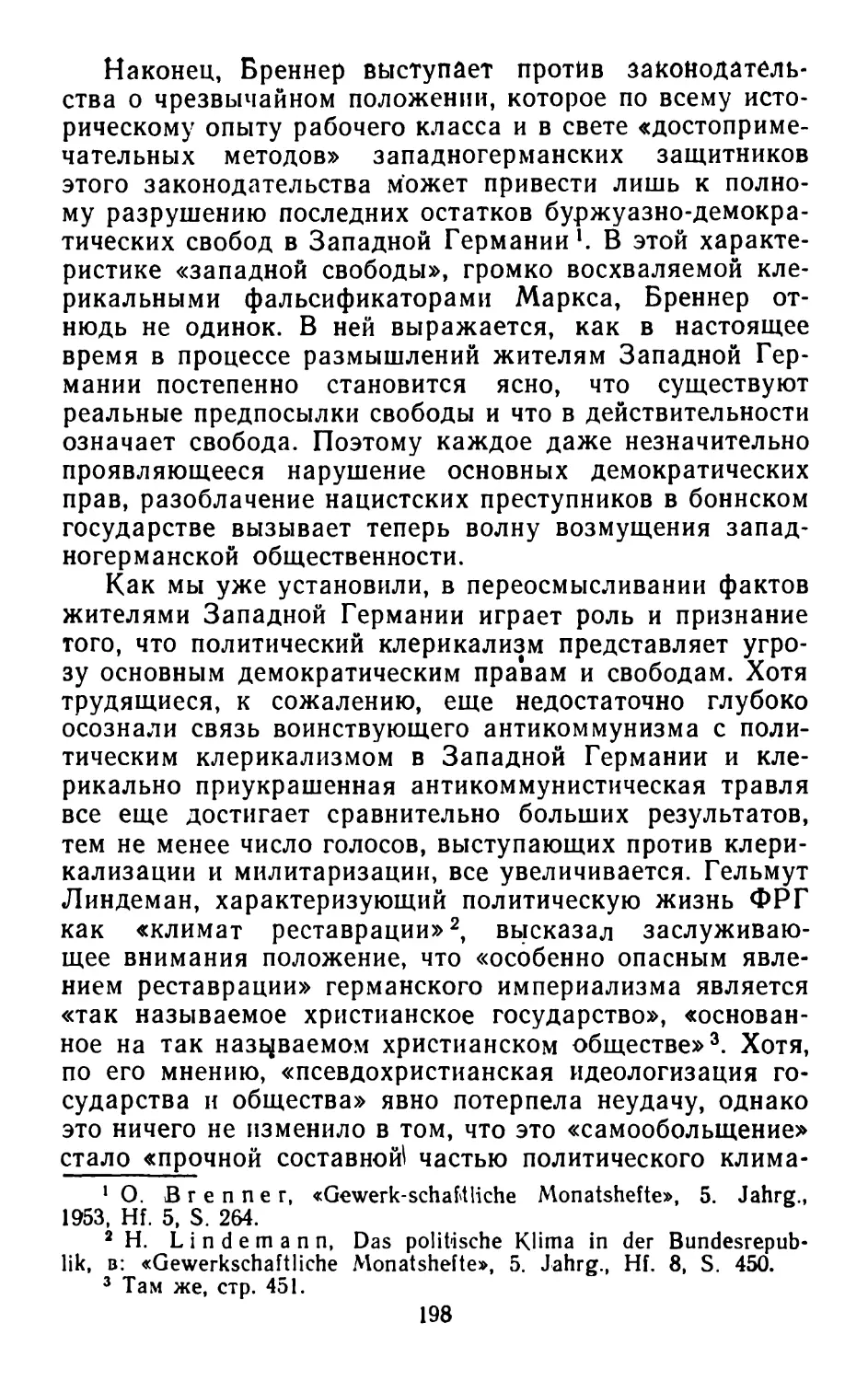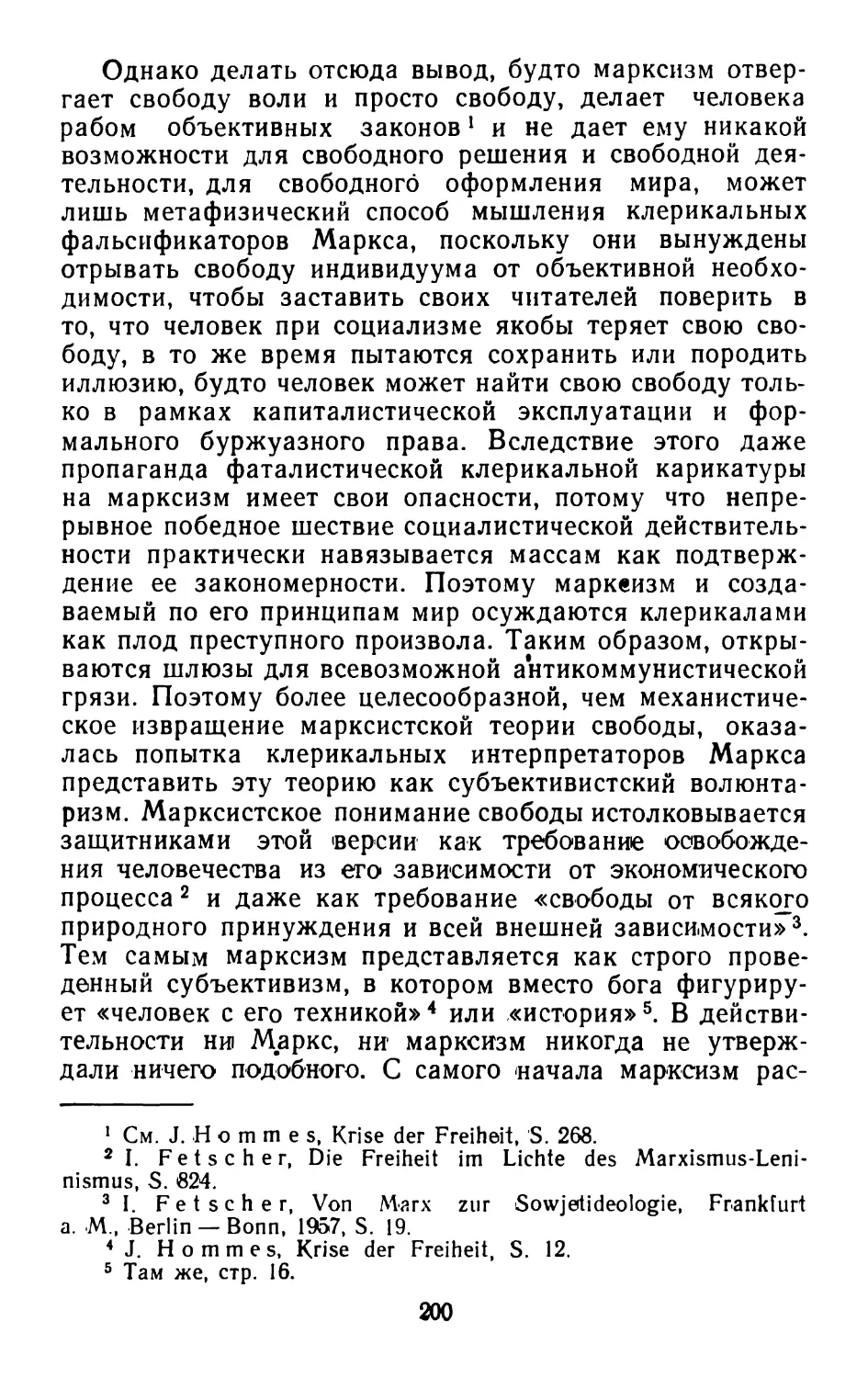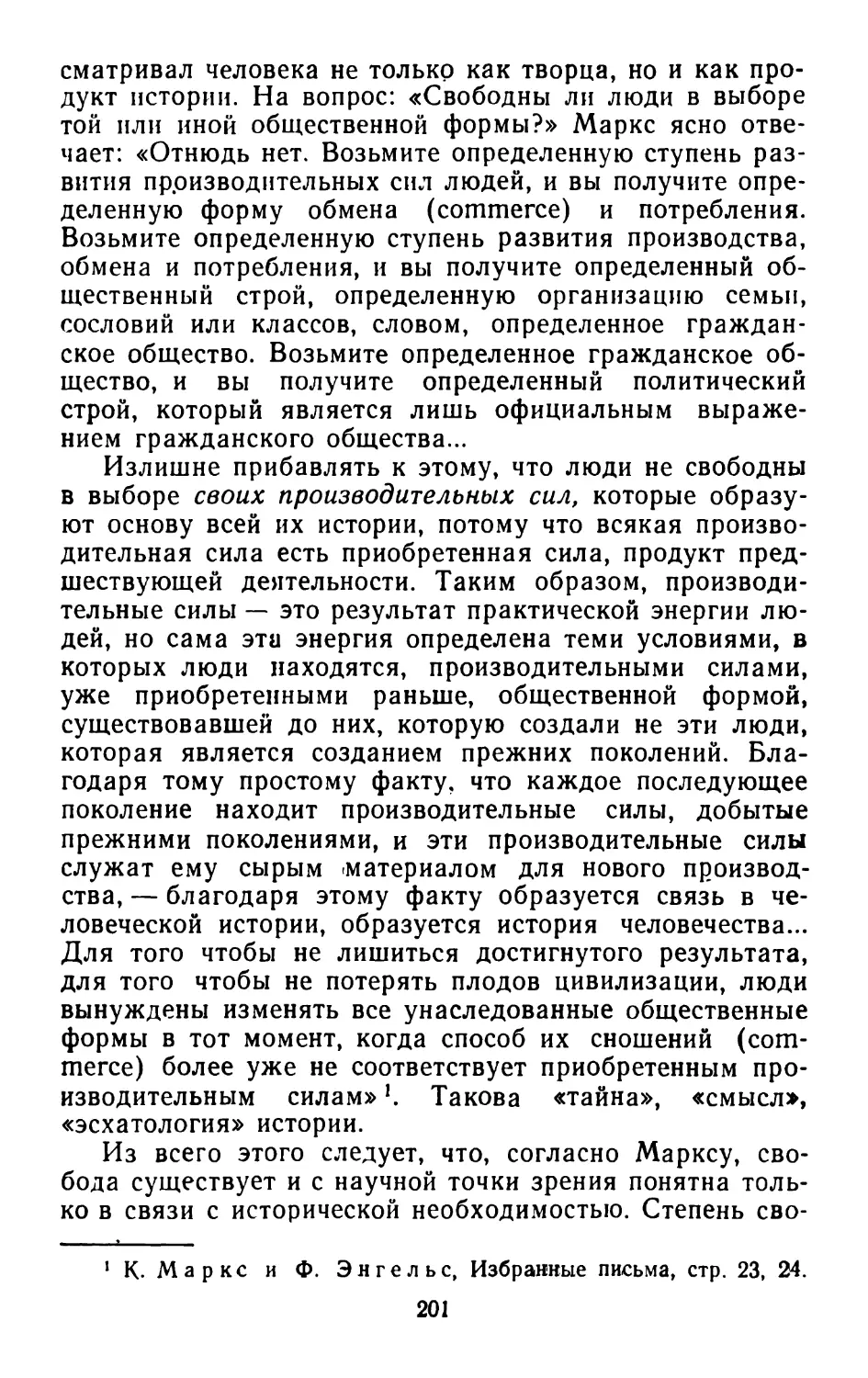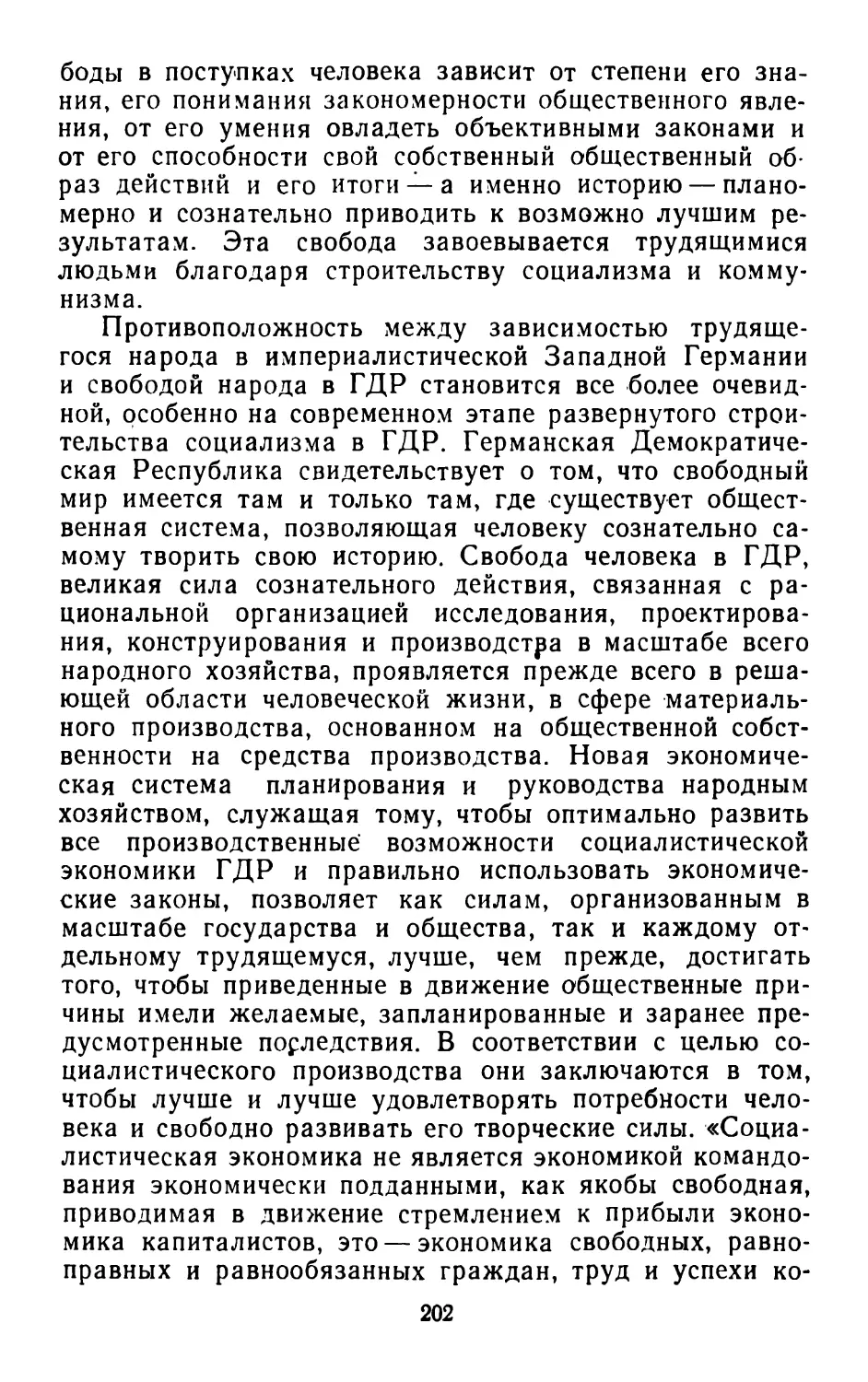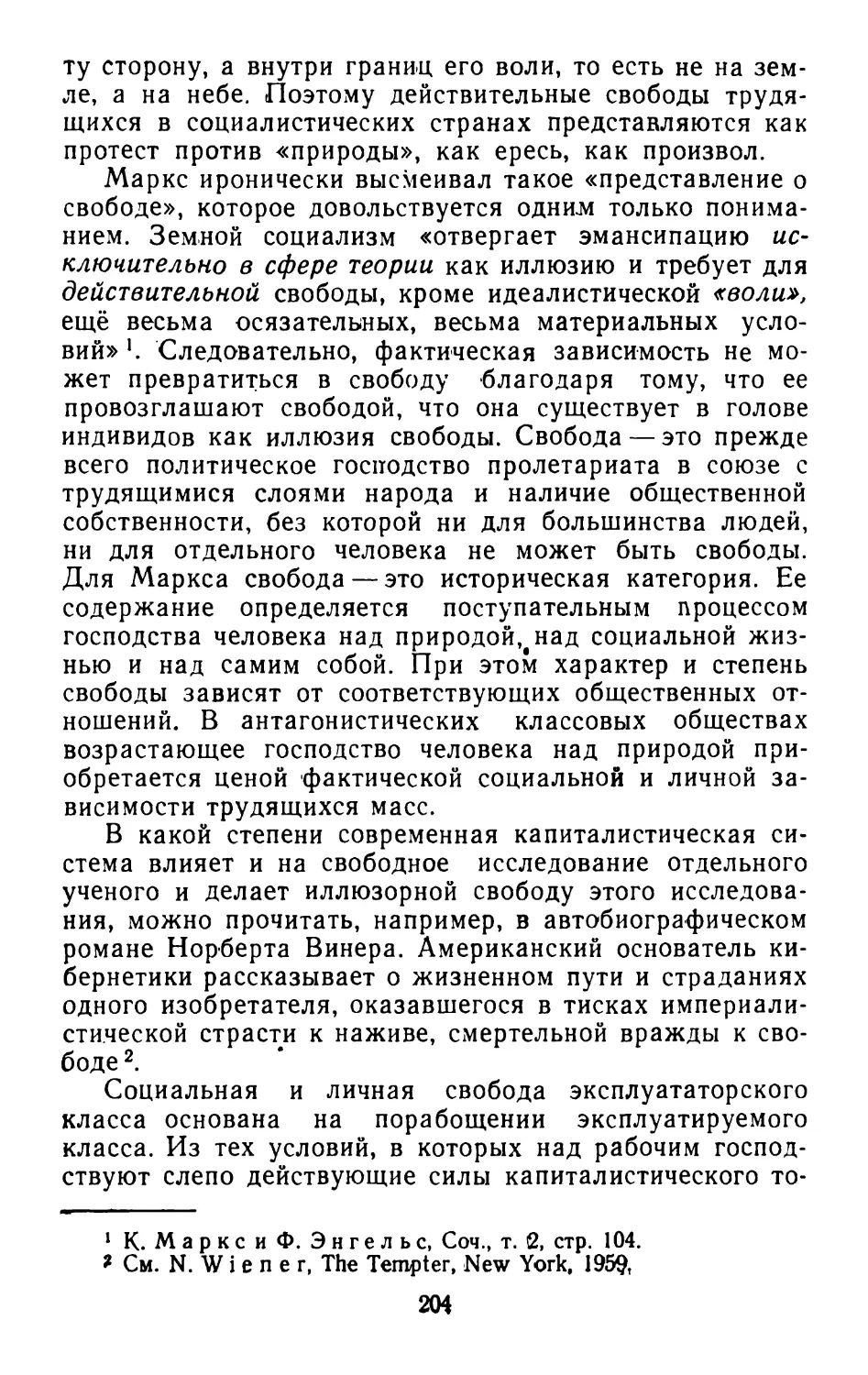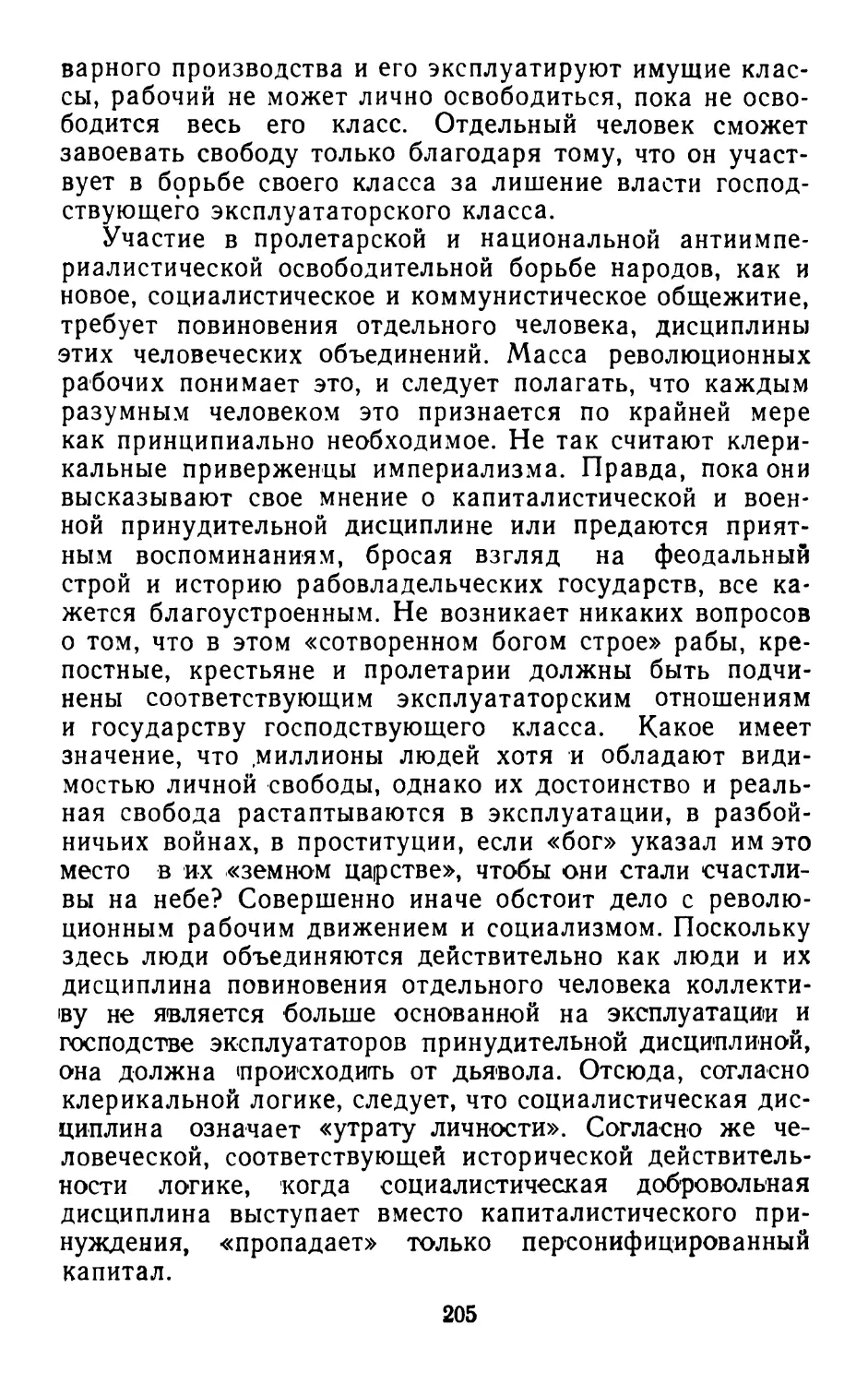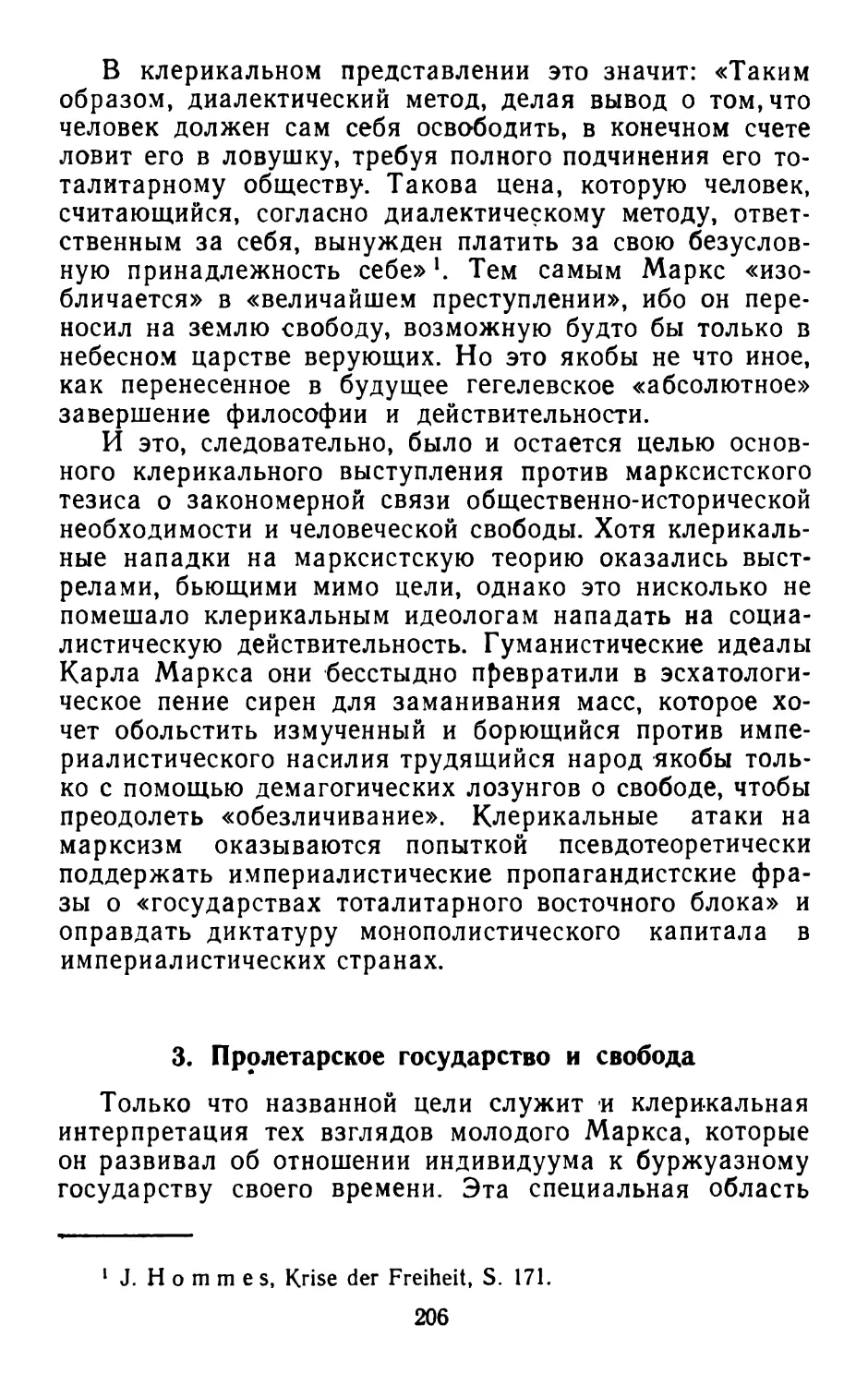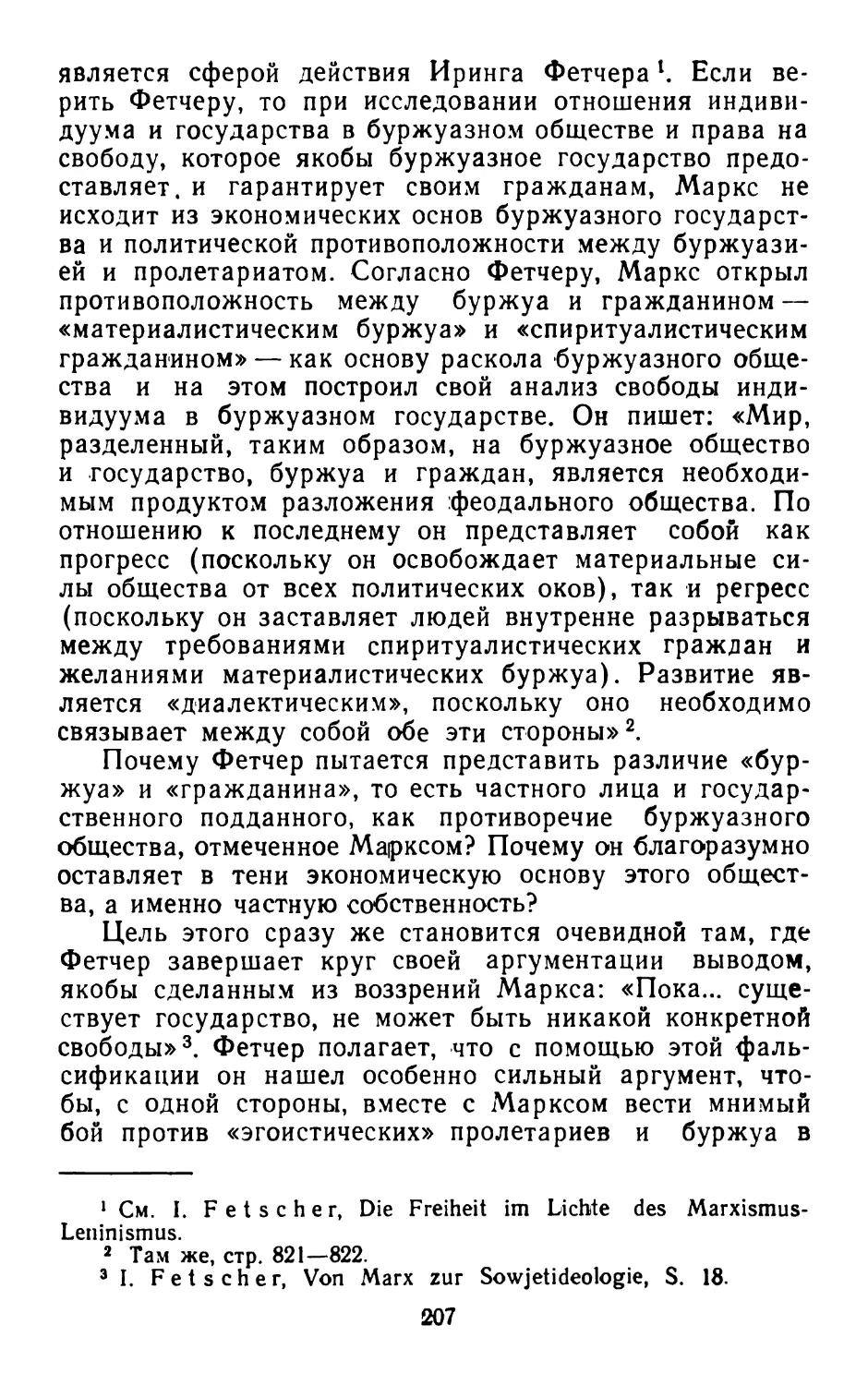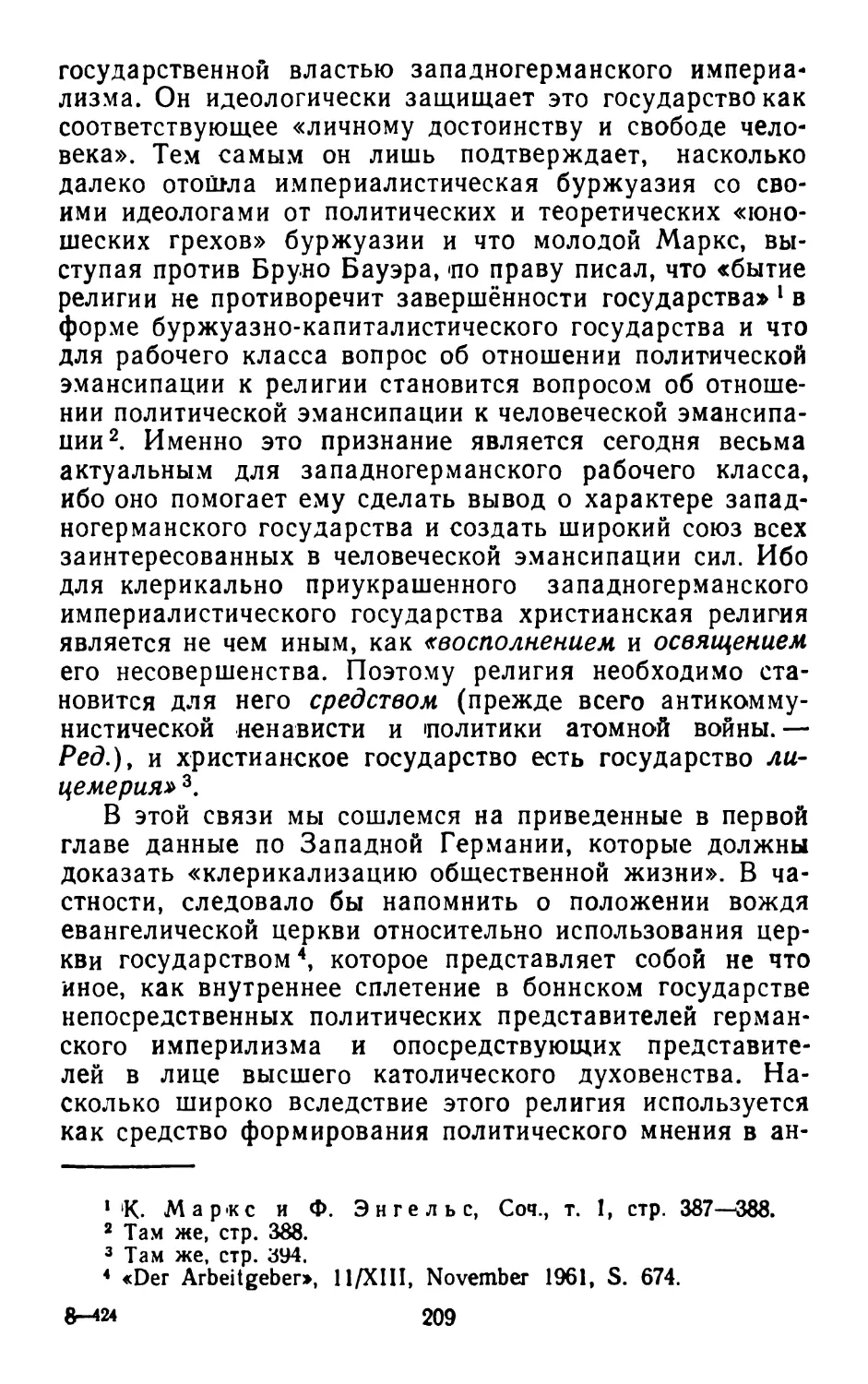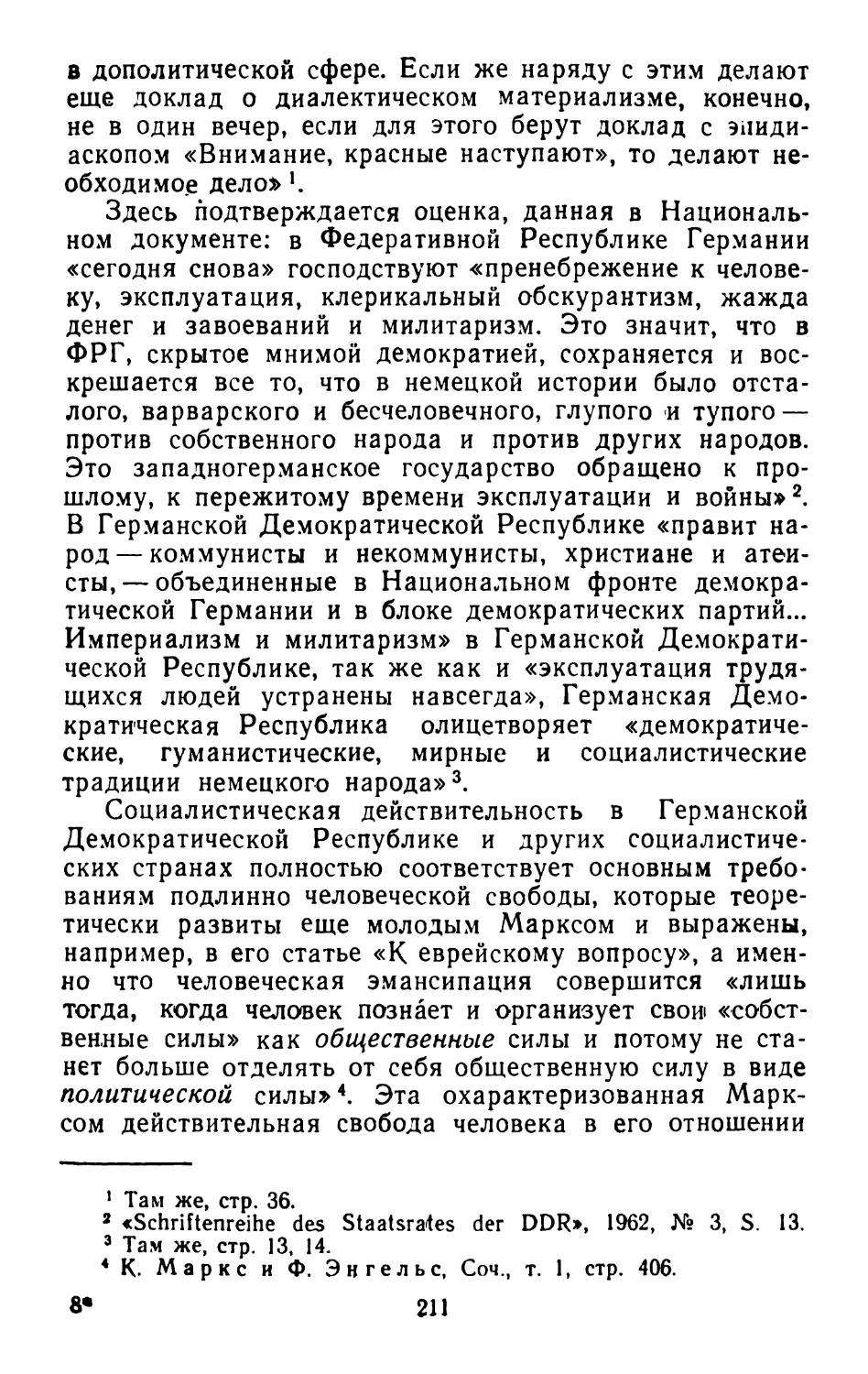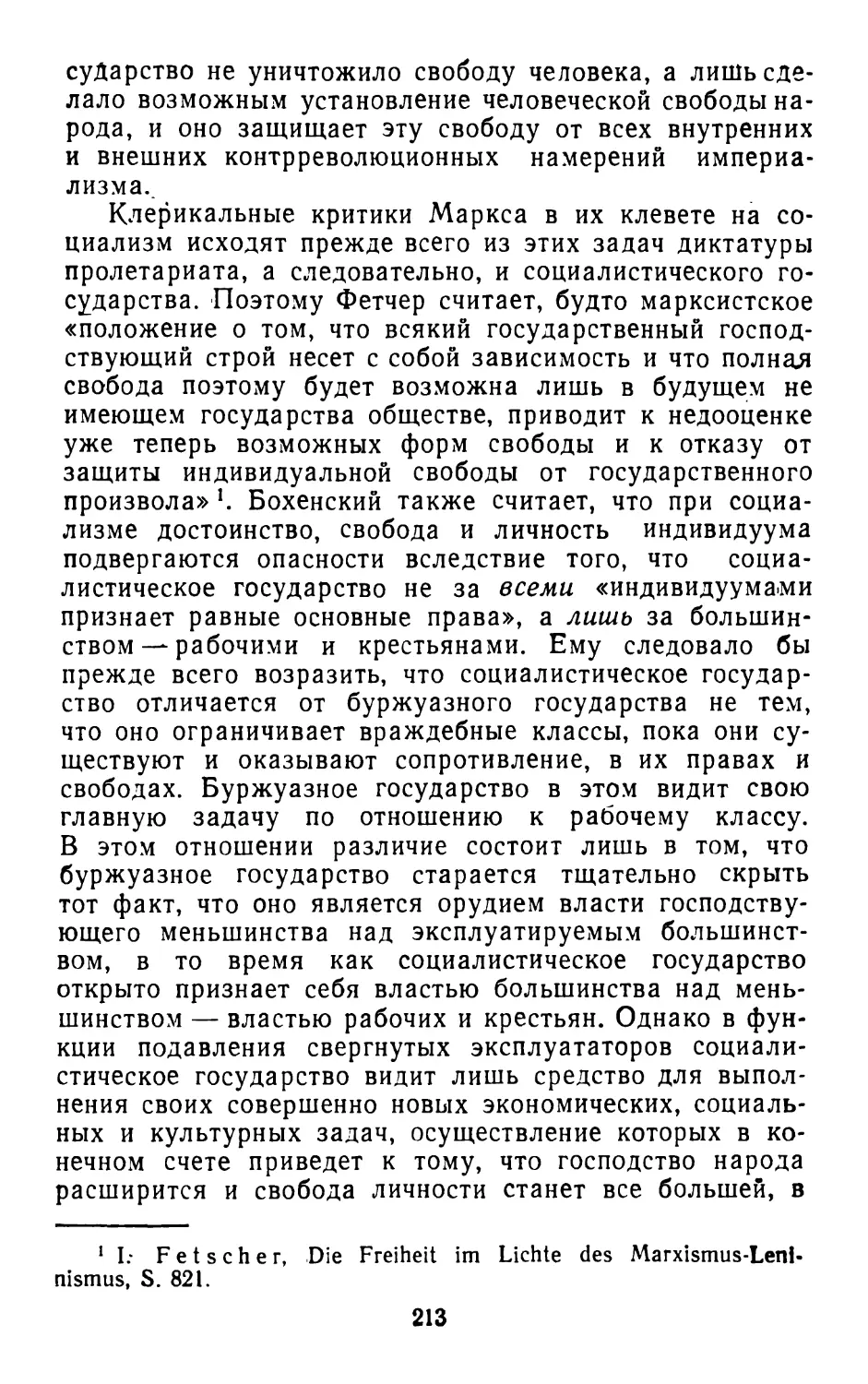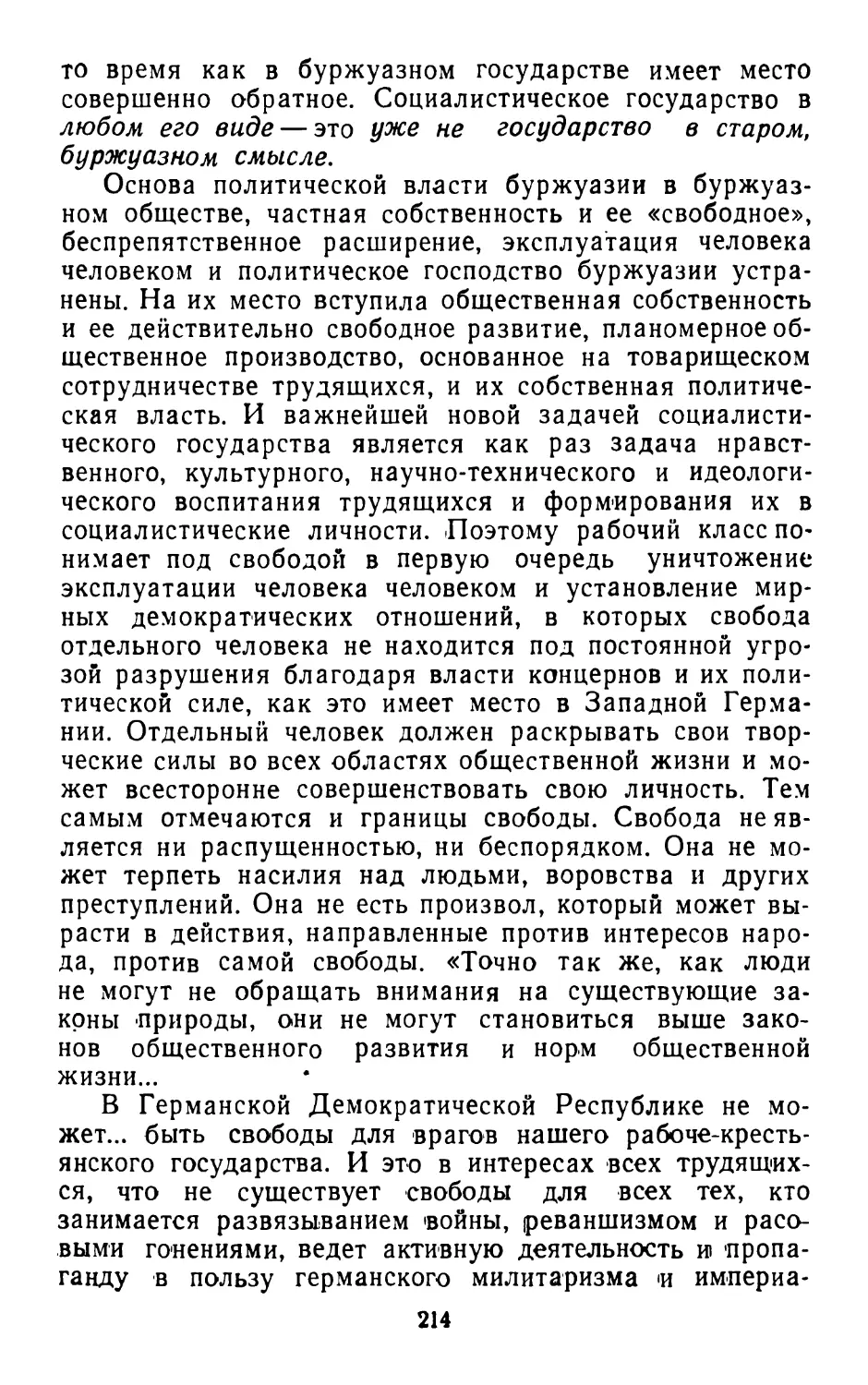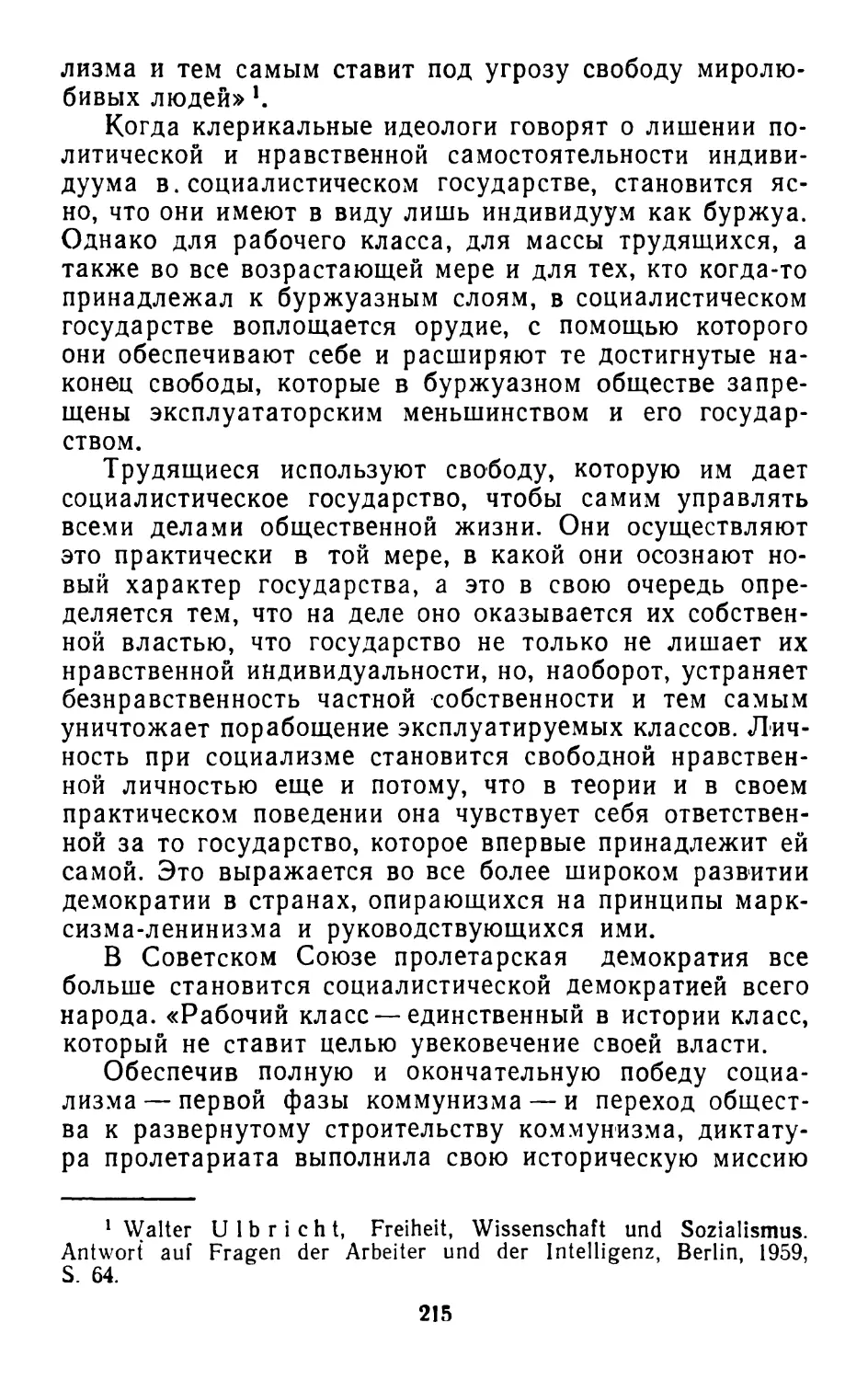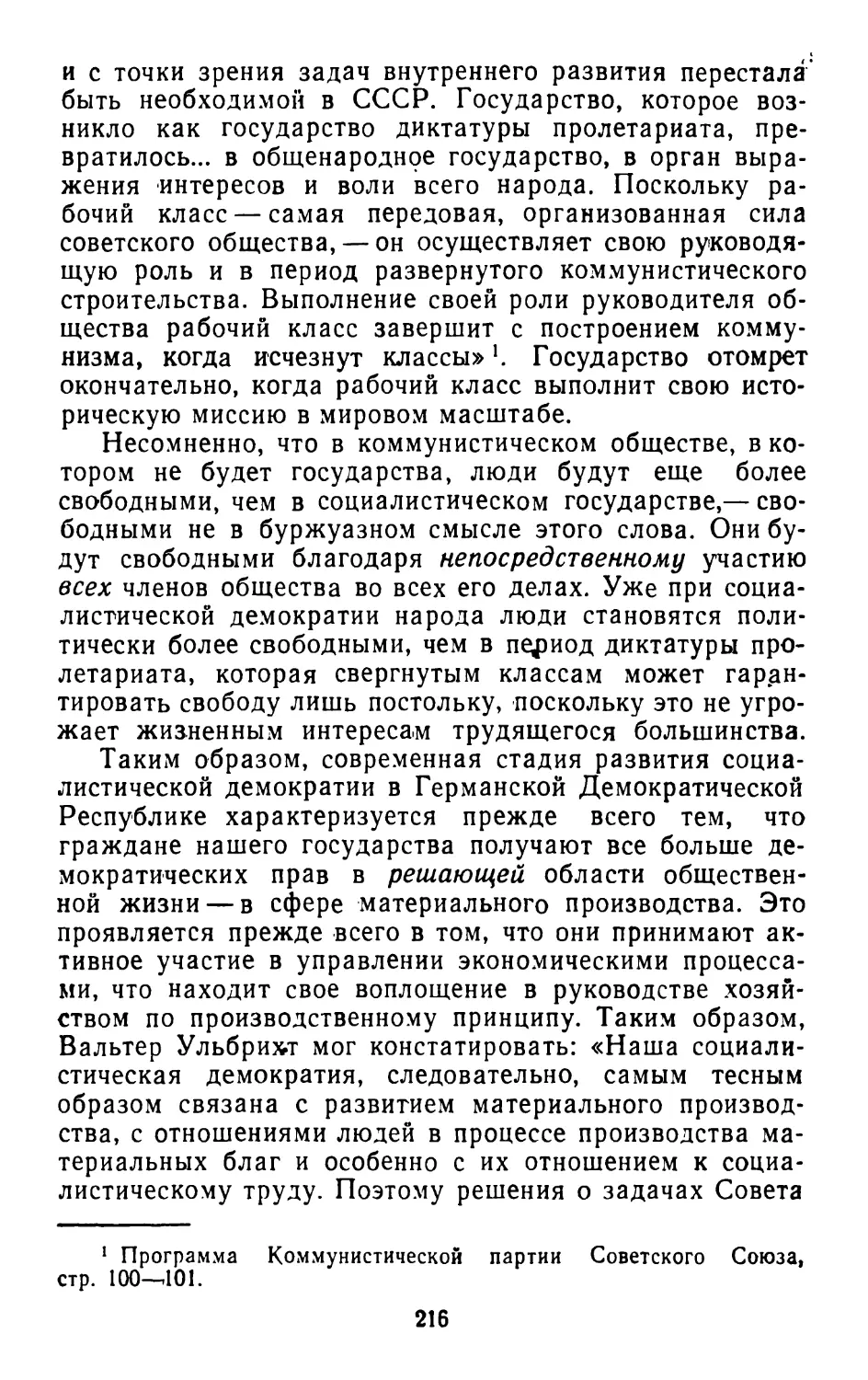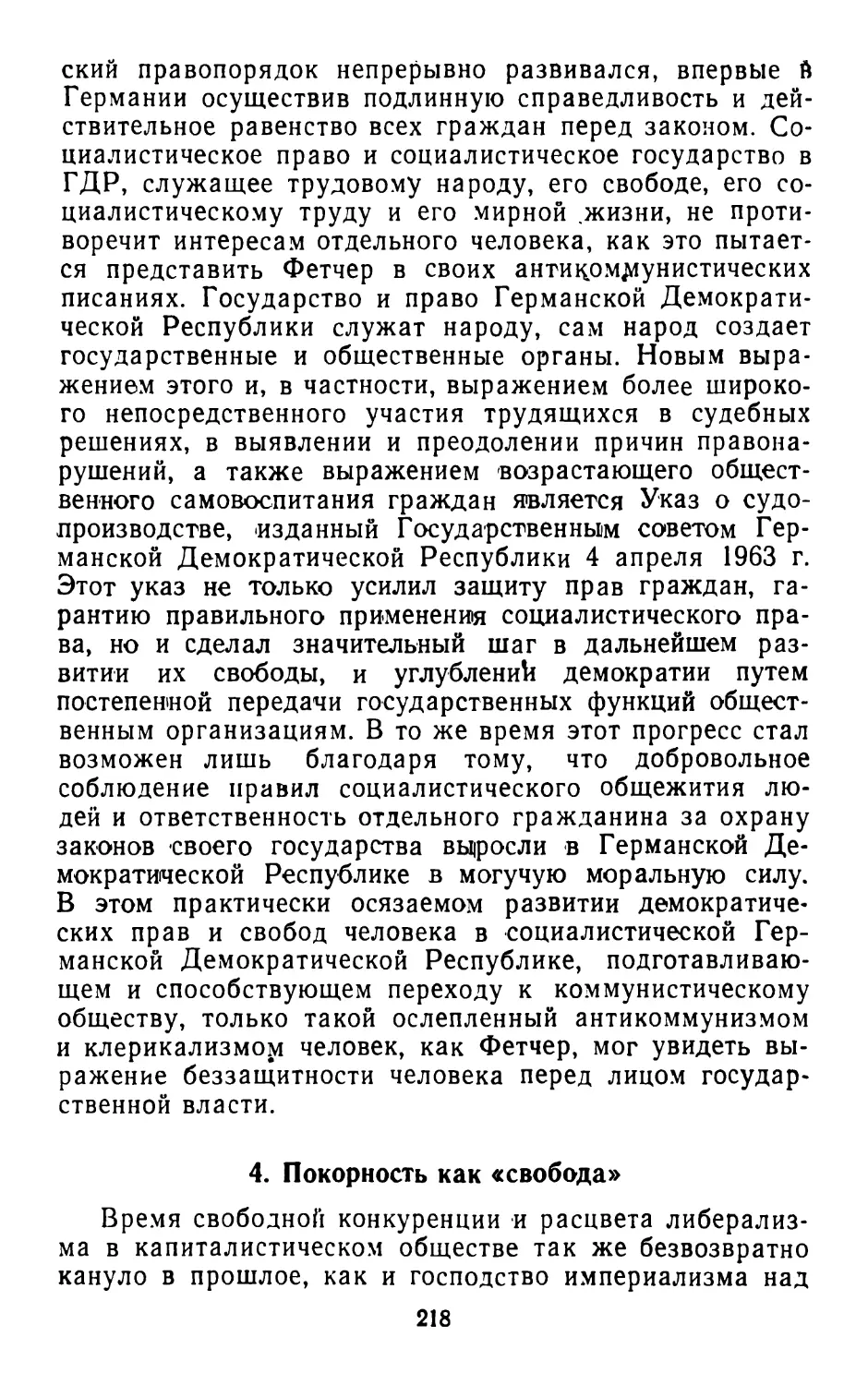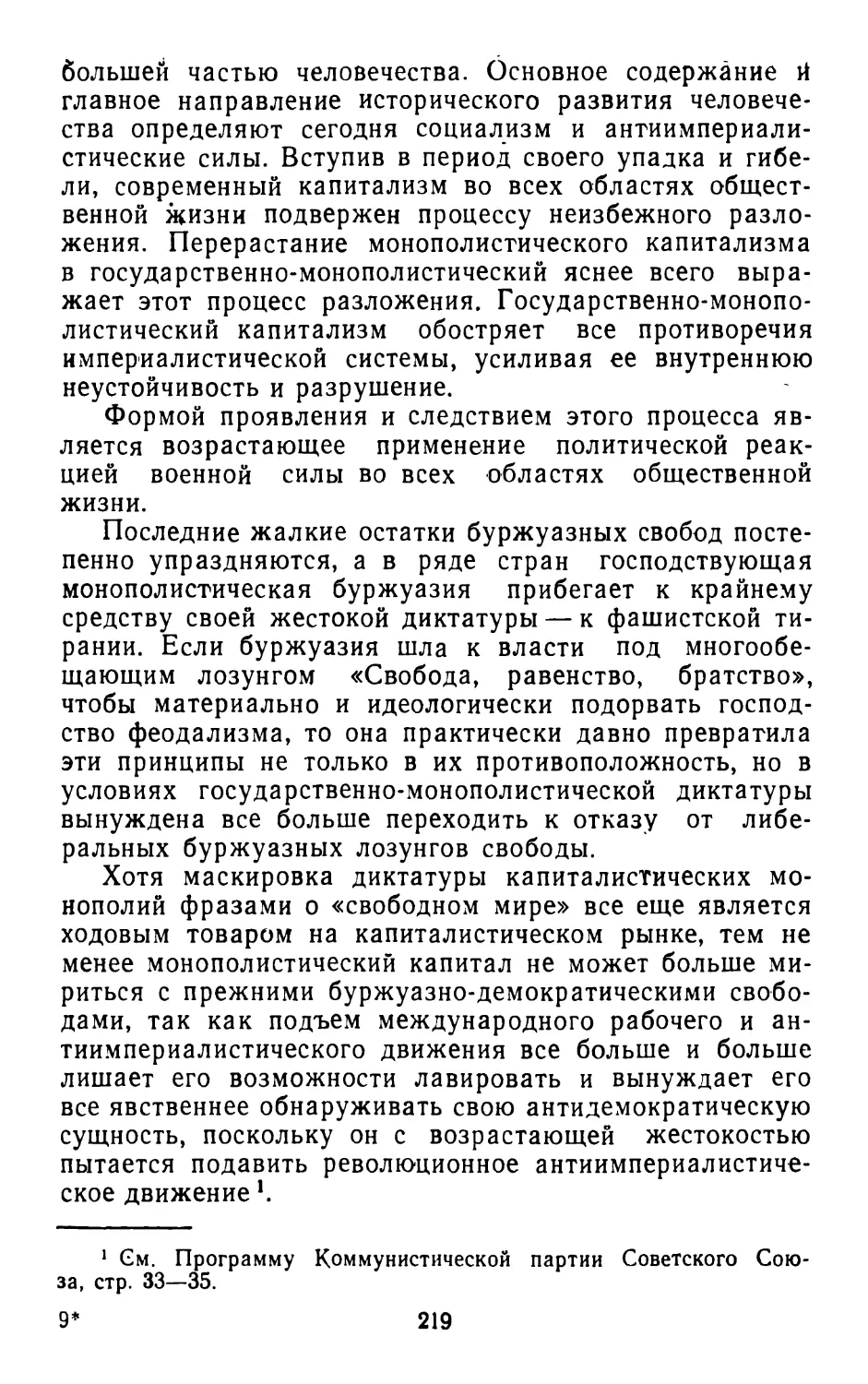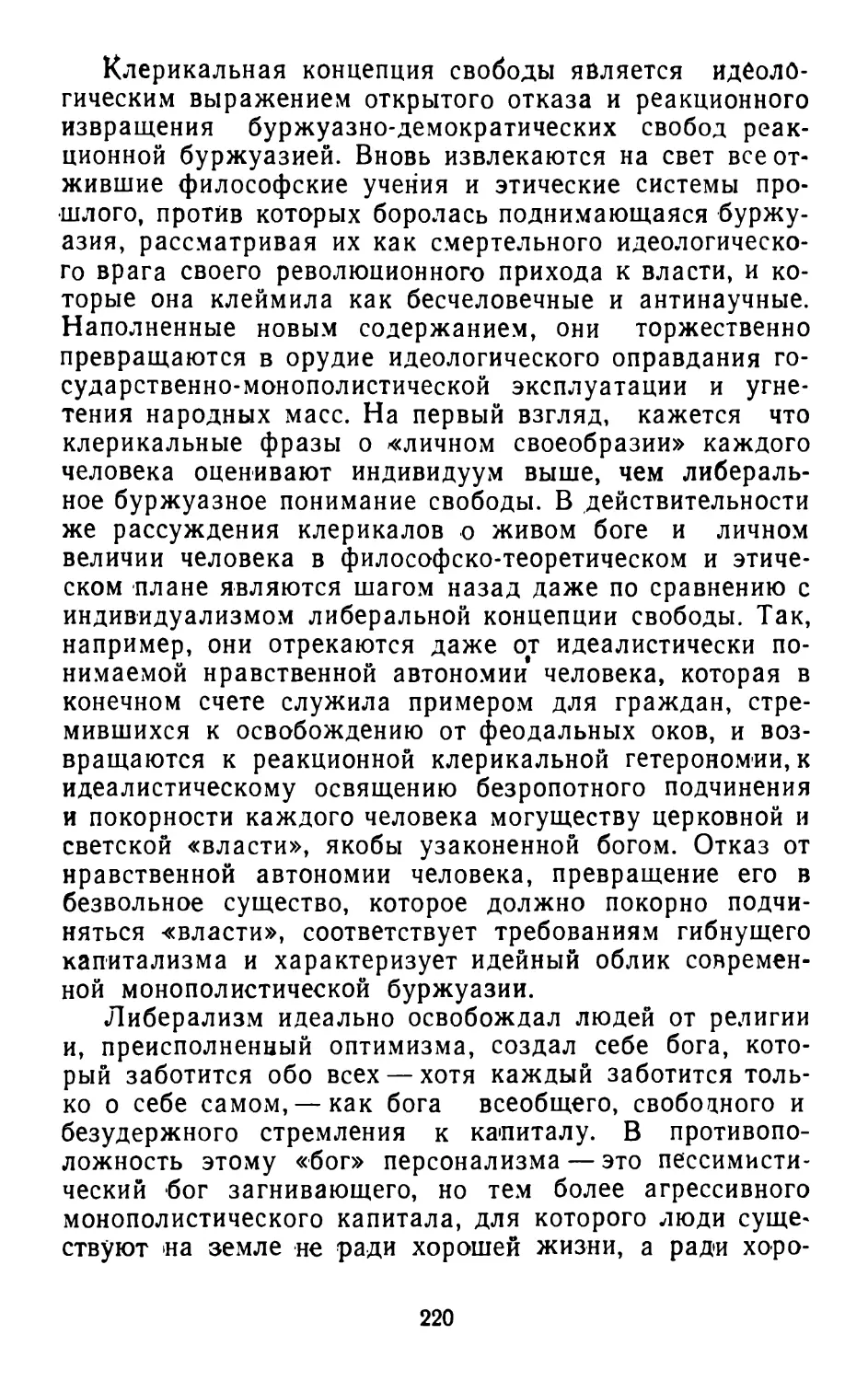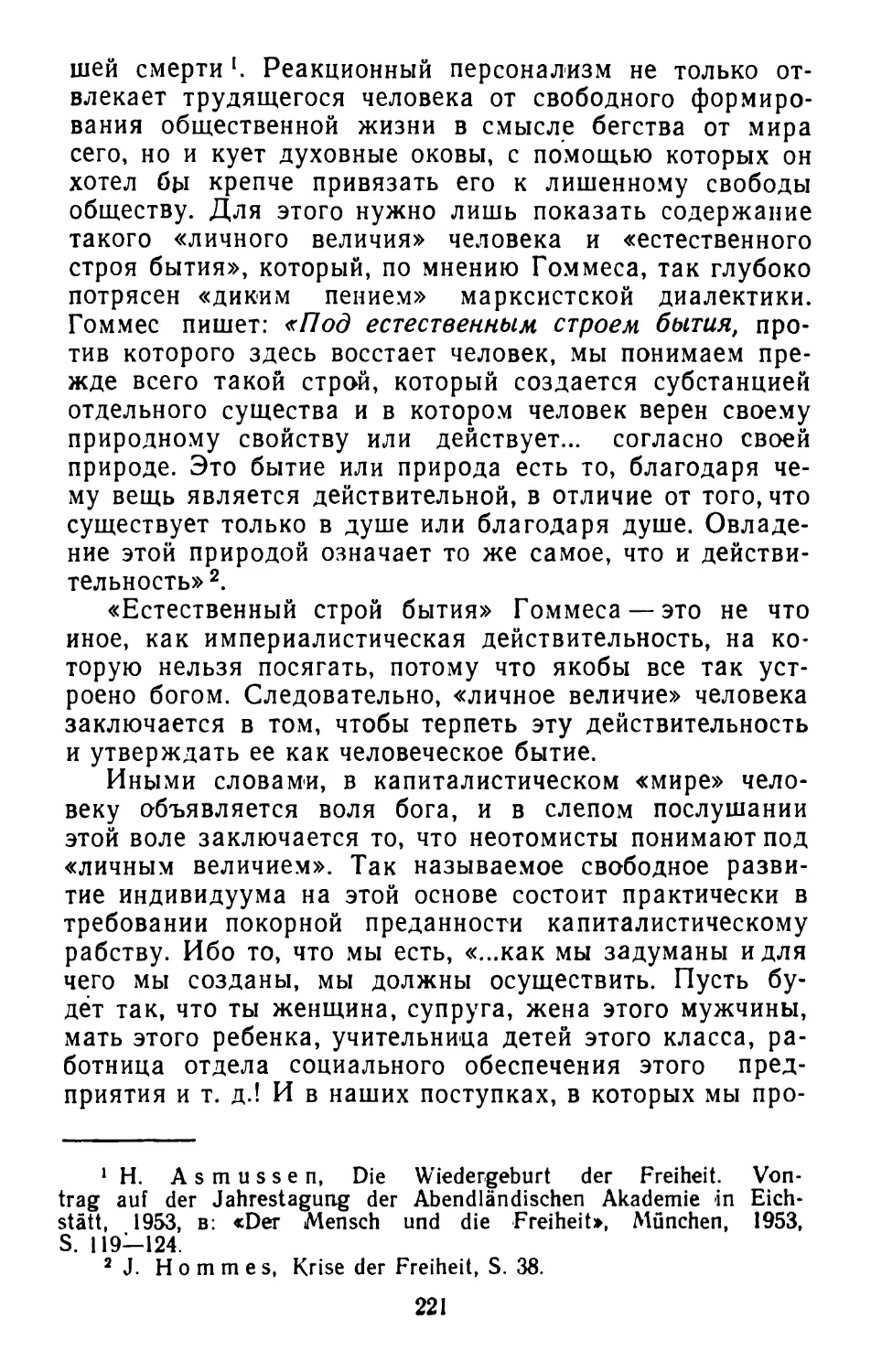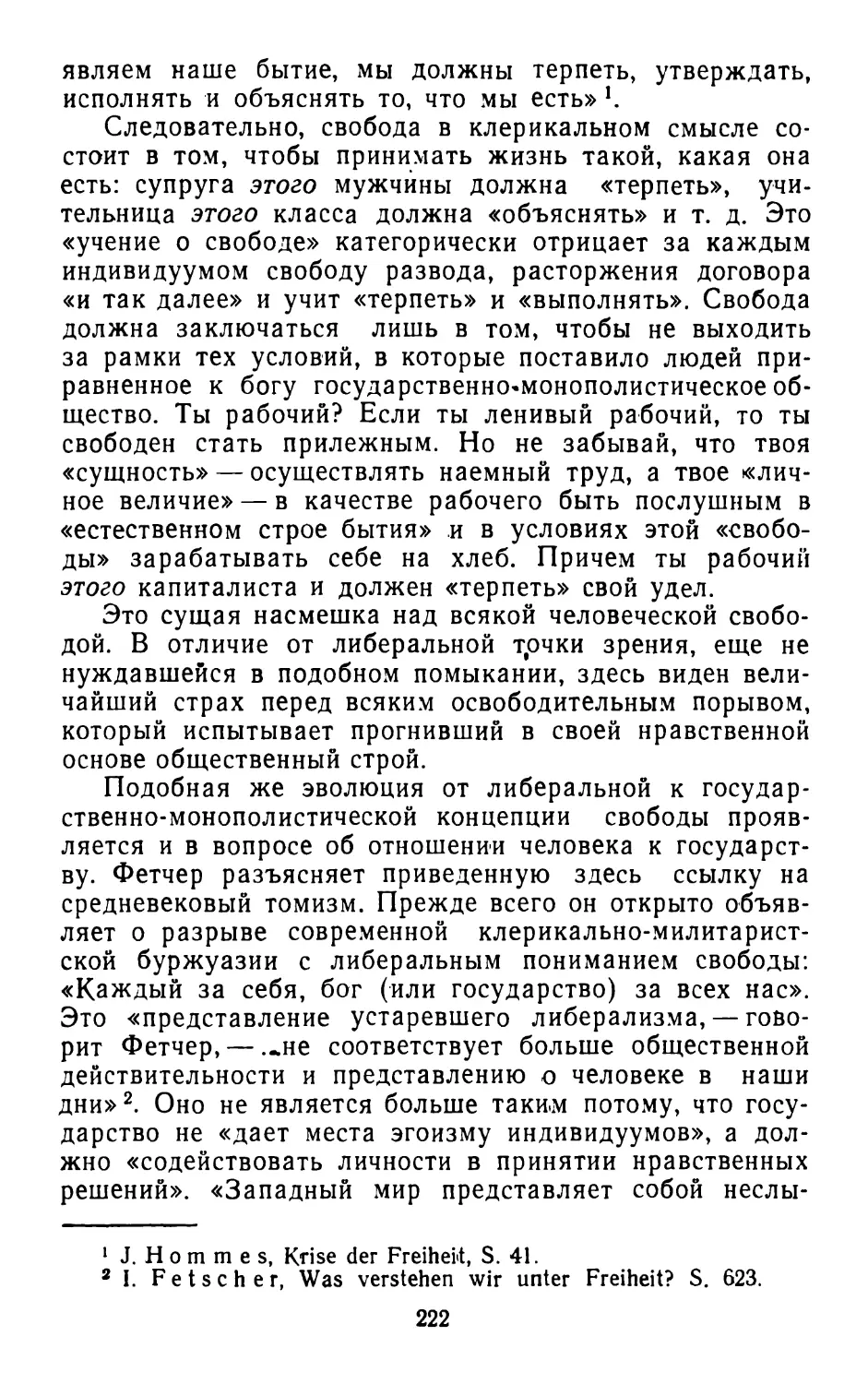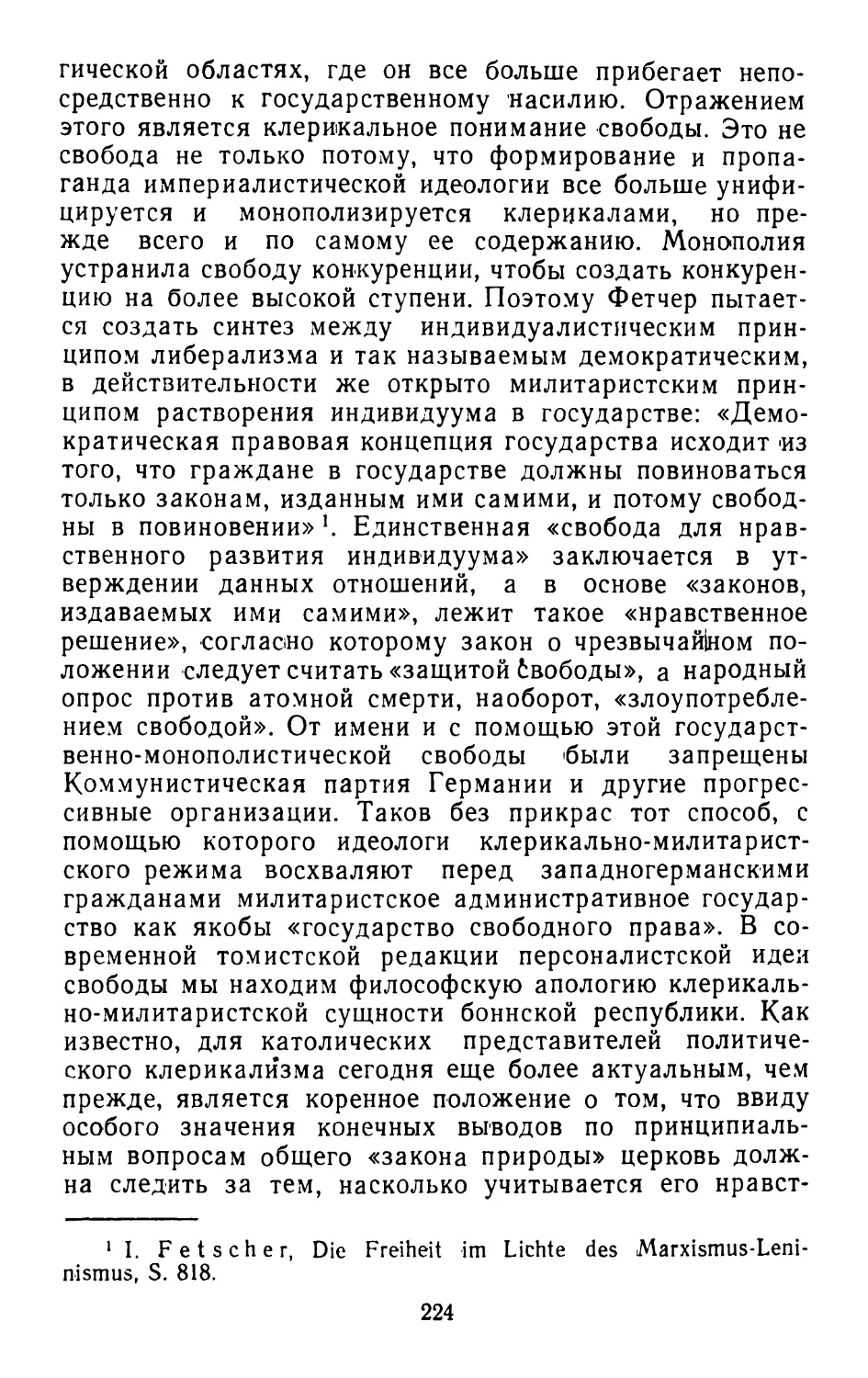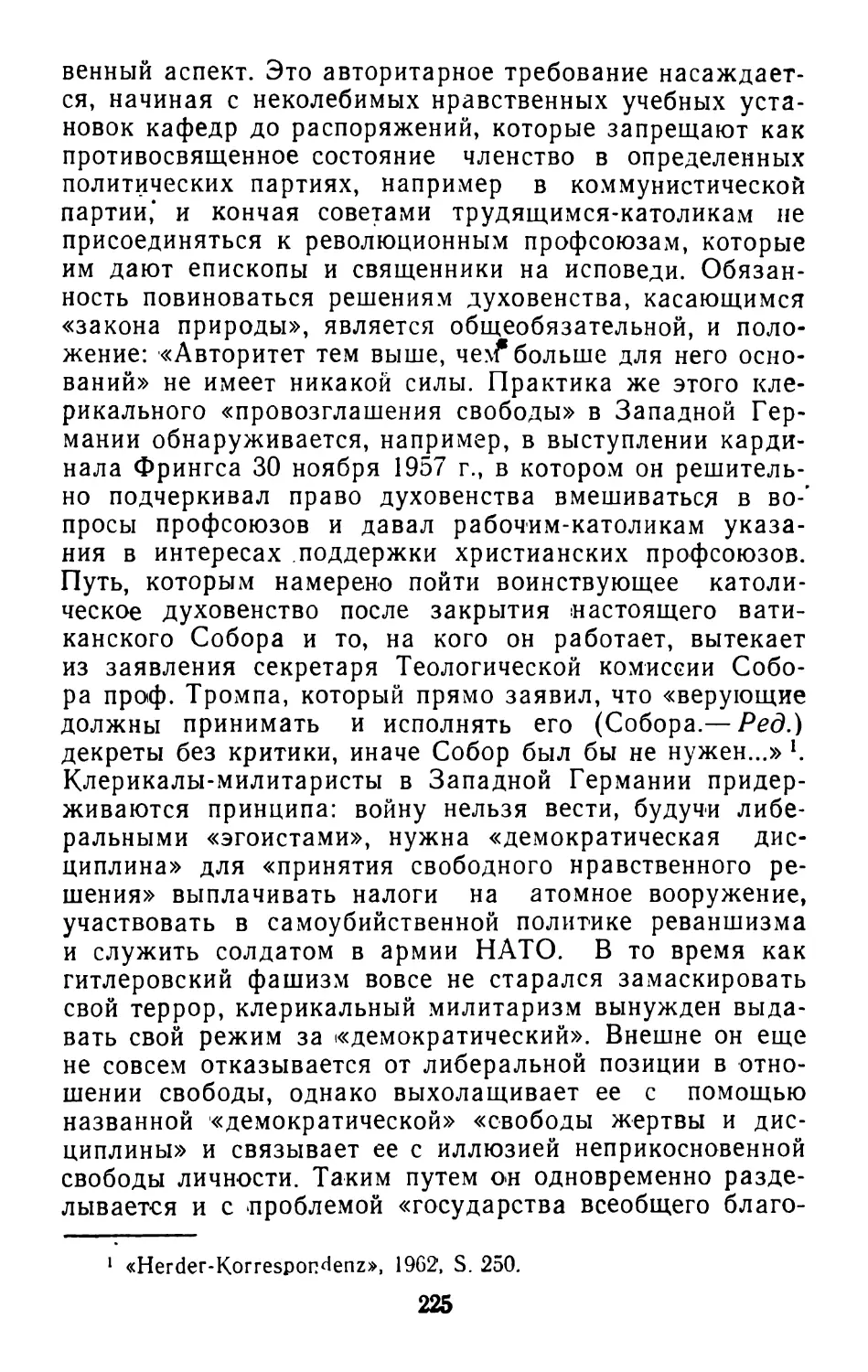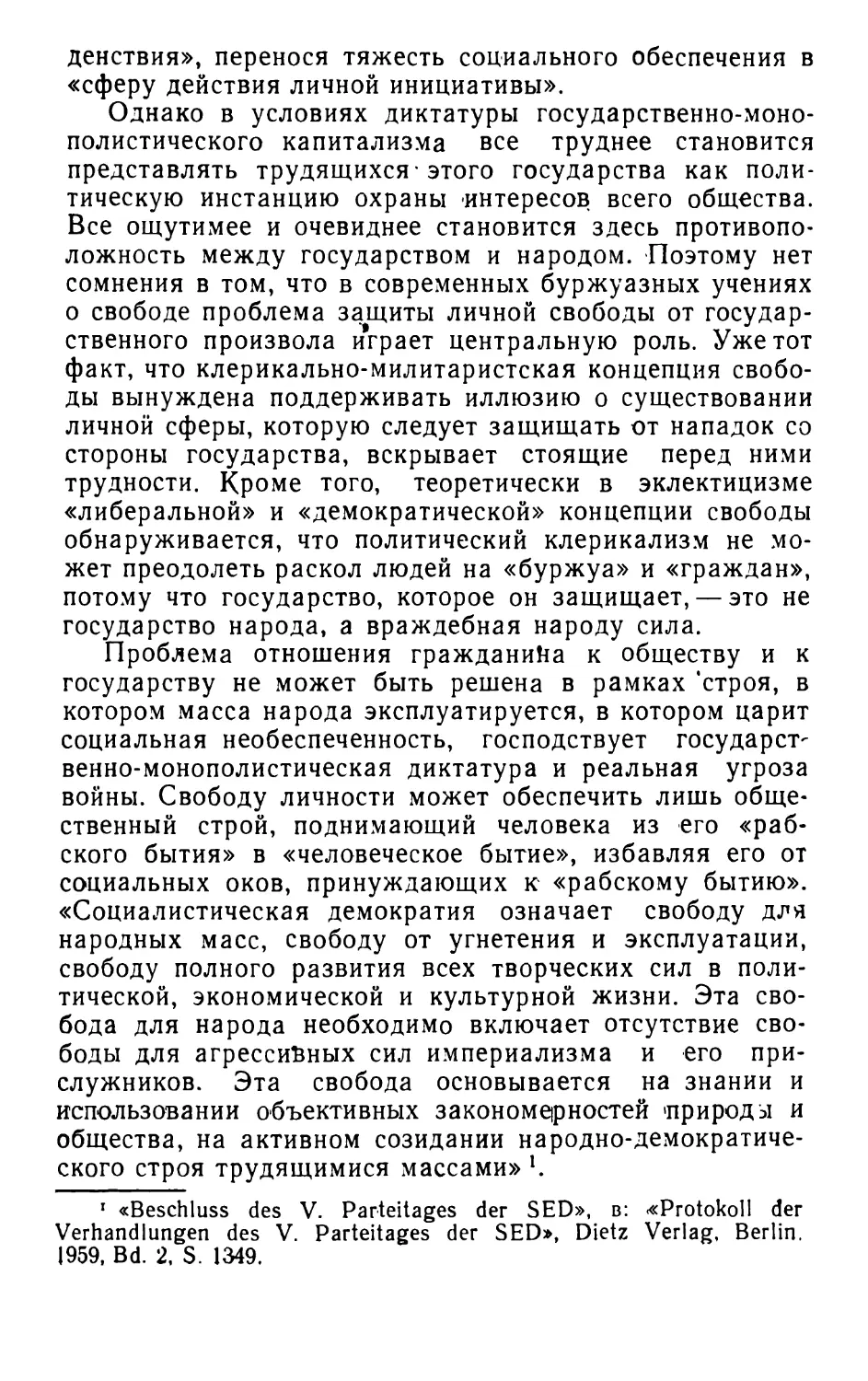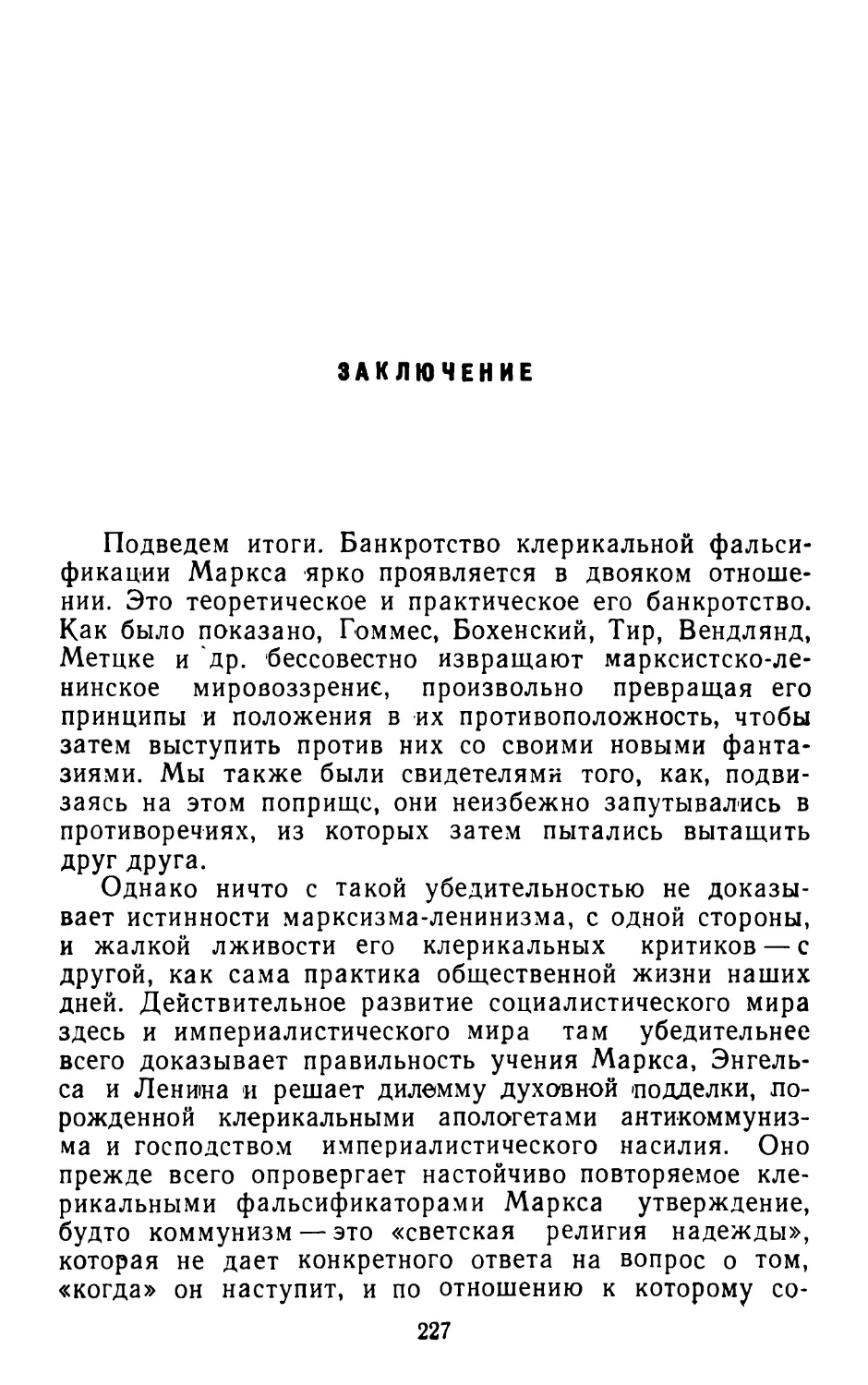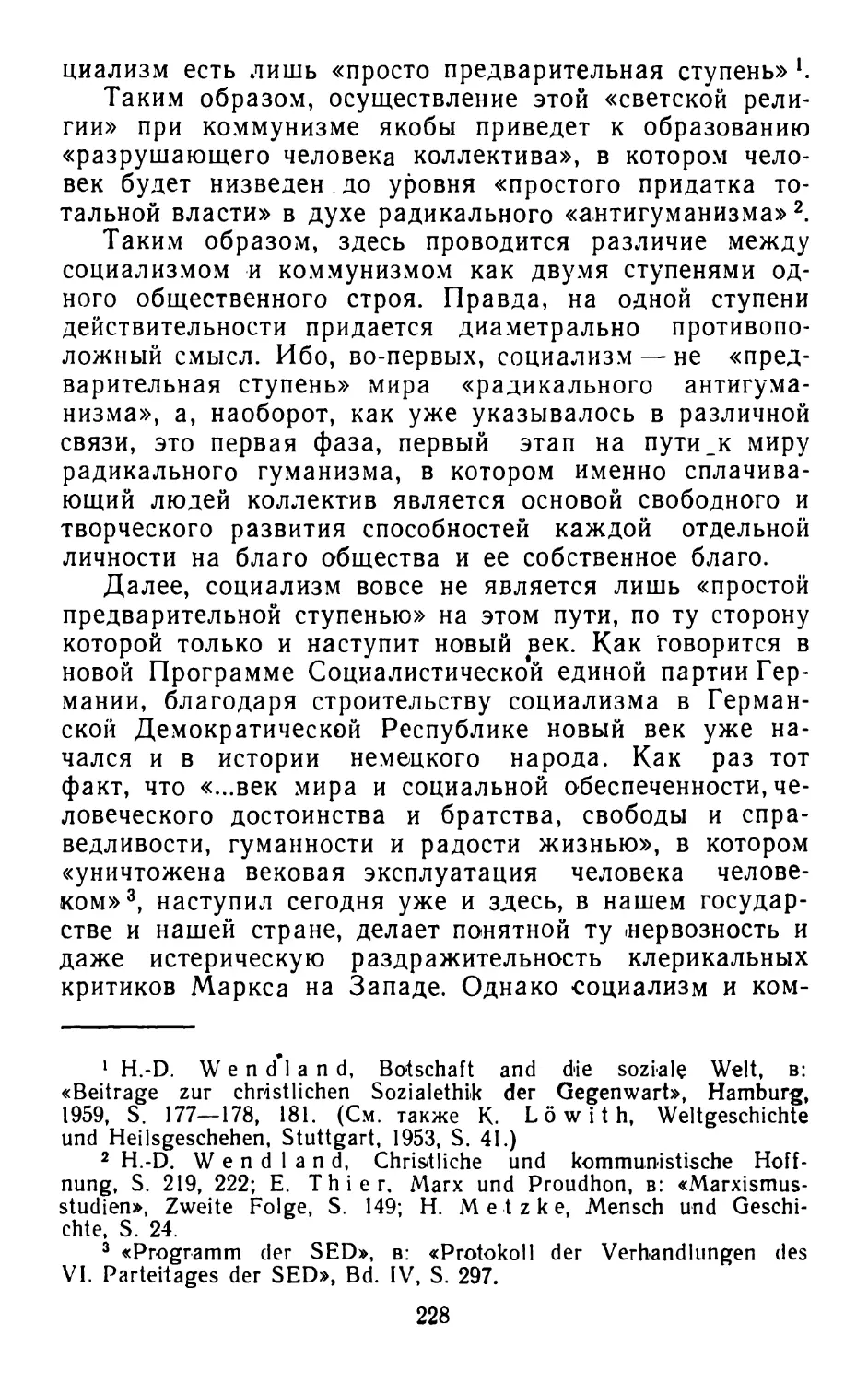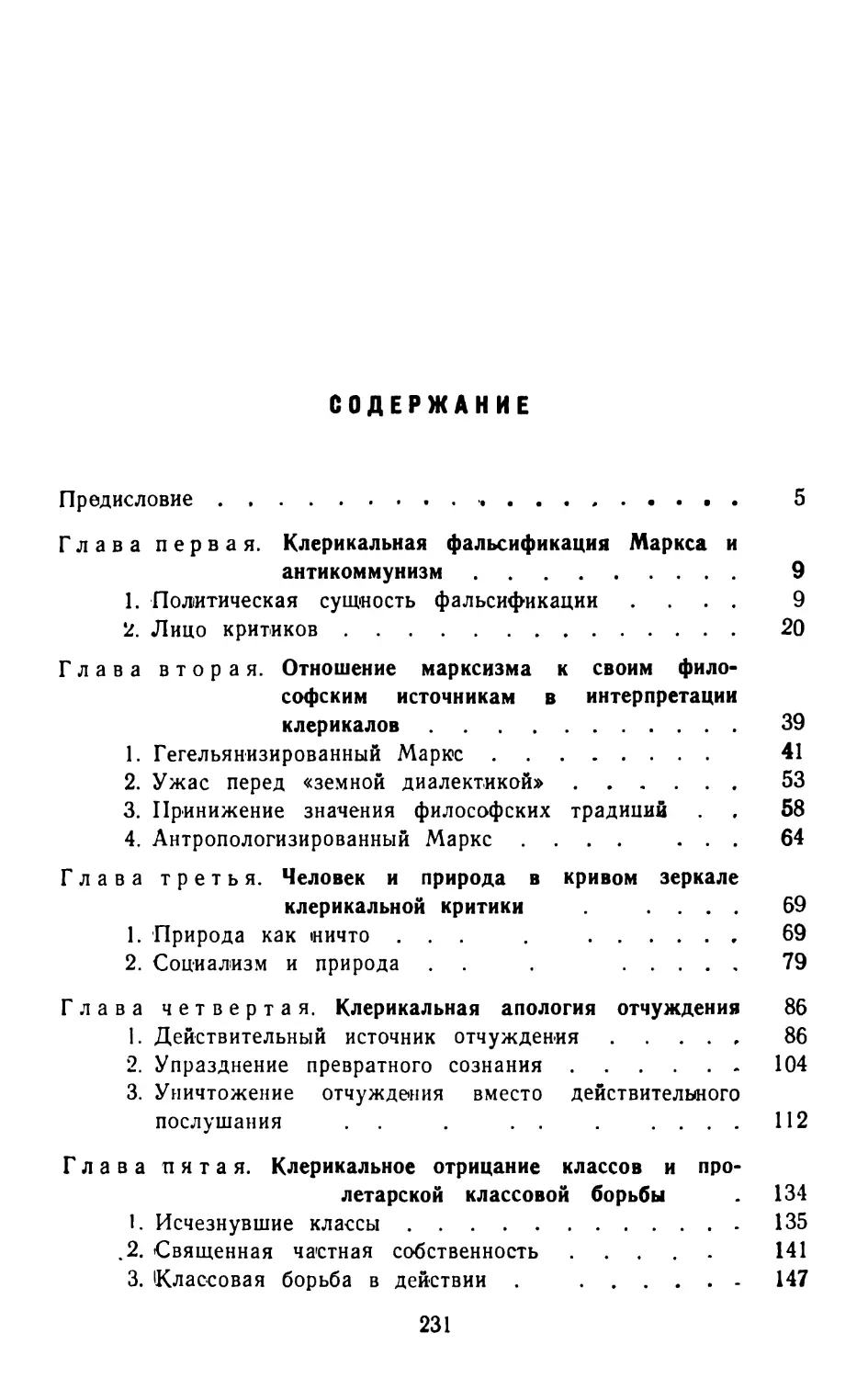Tags: история ссср материализм
Year: 1961
Text
ENTFREMDUNG
UND
HUMANITÄT
MARX UND SEINE KLERIKALEN KRITIKER
Dietz Verlag
Berlin 1964
ОТЧУЖДЕНИЕ
и
ГУМАННОСТЬ
ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»
МОСКВА 1967
Предлагаемая вниманию читателя книга написана
группой научных сотрудников кафедры философии
Института общественных наук при ЦК СЕПГ —А.
Арнольдом, Т. Янсеном, Ф. Кольсдорфом, К. Лингнером,
И. Петерсом, Г. Рейнгардтом, iB. Шубардтом, В. Зей-
дель-Хеппнером, Г. Титцманом, Г. Ульрихом. В работе
подвергнута обстоятельной и аргументированной
критике фальсификация марксистско-ленинской философии
со стороны западногерманских клерикальных
философов.
В книге рассматриваются следующие проблемы:
отношение марксизма к его теоретическим источникам
в свете клерикальной интерпретации, понятие
отчуждения и его клерикальная интерпретация, извращение
клерикальными философами марксистского учения о
классах, классовой борьбе, пролетарской революции
и диктатуре пролетариата. Одна из глав посвящена
характеристике марксистско-ленинского понимания
свободы личности и критике антимарксистских концепций
по этому вопросу.
Издание рассчитано на широкие круги читателей.
Редакция литературы по вопросам
философии и права
ПРЕДИСЛОВИЕ
Мы являемся свидетелями и творцами величайшей
революции в истории человечества. Мир изменяет формы
своего социального существования. Совершается
переход от капитализма к социализму. Извечная цель
борьбы рабочего класса, страстное желание народа,
теоретически обоснованное в гениальном научном предвидении
Карла Маркса и Фридриха Энгельса, становятся
действительностью. Помыслы, чувства и дела миллионов
людей на земле воодушевлены идеями
марксизма-ленинизма; никакая другая философия не оказывает большего
влияния на развитие современной науки, чем
диалектический материализм. Учение Маркса, Энгельса, Ленина
определяет духовную жизнь нашей эпохи.
С возникновением рабоче-крестьянского государства
и победой социалистических производственных
отношений в ГДР Германия также вступила в век социализма.
Идейная обстановка в Германии характеризуется тем,
что в восточной ее части шаг за шагом претворяются в
жизнь и становятся господствующим мировоззрением
народа подлинно человеческие, указывающие путь в
будущее идеи величайших сынов немецкого народа — Карла
Маркса и Фридриха Энгельса. Идеи социализма
оказывают все большее влияние и на духовную жизнь
Западной Германии. Несмотря на усилившуюся
антикоммунистическую пропаганду и возрастающую клерикализацию,
марксистское учение проникает в рабочее движение, в
общественные науки и культурную жизнь Западной
Германии. Многие жители Западной Германии обращаются
к новой идеологии в поисках выхода из удушливой
атмосферы идейной реставрации милитаристских,
реваншистских, клерикалистских и других реакционных идей.
5
В этих» условиях защитники буржуазной идеологии
частично заимствуют марксистские понятия, в то же время
враги прогресса вынуждены более основательно, чем
прежде, полемизировать с марксизмом, особенно с
диалектическим материализмом. Ареной борьбы против
философского материализма являются ранние работы
Маркса, в частности «Философско-экономические
рукописи», опубликованные впервые в 30-х годах. Здесь
подвизается прежде всего клерикальная фракция
буржуазной критики Маркса, считающая, что именно на этом
участке борьбы можно больше всего навредить
марксизму. Идеологической платформой клерикальной
критики Маркса является антикоммунизм, возведенный
боннскими ультра в государственную доктрину. Стержнем,
вокруг которого вращаются все их спекуляции,
связанные с именем молодого Маркса, клерикальные теоретики
сделали проблему отчуждения, а идеи Маркса, навсегда
утвердившиеся в Германии и определяющие мирное
будущее нации, они клеветнически объявляют
антигуманизмом. Поскольку их происки не представляют собой
ничего иного, кроме того, что сам Маркс
охарактеризовал как крайнее выражение отчужденного сознания, они
препятствуют осуществлению подлинного гуманизма.
Клерикальный вариант буржуазной критики
молодого Маркса не только воспринимается с удовольствием и
одобрением германской крупной буржуазией, но и
наивно выдается самими клерикальными «героями» за
окончательное опровержение марксизма-ленинизма и подрыв
его общественной силы. Поэтому цель данной работы —
разоблачить этих клерикальных теоретиков,
принимающих позу защитников научности и истины, как
апологетов и клеветников, показать, что антикоммунизм
германского империализма получает у них лишь философско-
теологическую окраску, что болтовня этих клерикальных
интерпретаторов отражает лишь идеологический упадок
и теоретическое банкротство империалистической мысли
и выражает, таким образом, тот факт, что крупная
германская буржуазия как политически, так и духовно
потеряла всякое право на руководство немецкой нацией.
Средневековые теологи вообразили однажды, что
Земля движется вокруг Солнца якобы лишь потому, что
люди одержимы ошибочными идеями движения. Но если
они выбросят из головы эти представления, заменят их
б
религиозным, геоцентристским учением, то якобы Земля
будет застрахована от всякого действительного
движения. Поэтому в течение всей своей жизни они боролись
против системы Коперника, не ставя вопроса о ее
истинности и. не будучи в состоянии что-либо изменить в
закономерном движении Земли.
Именно такого рода теологами и являются
современные клерикальные теоретики, борющиеся против теории
и практики учения Маркса и Ленина.
Редколлегия
Глава первая
КЛЕРИКАЛЬНАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ МАРКСА
И АНТИКОММУНИЗМ
1. Политическая сущность фальсификации
Борьба против идеологии антикоммунизма в
настоящее время является более настоятельной, чем
когда-либо, хотя бы уже потому, что антикоммунизм давно
перестал быть только «главной глупостью» нашей эпохи.
Сегодня это нечто гораздо большее. Это черный флаг, под
которым собрались сильно потрепанные силы
империализма, все враги прогресса от фашистов до правых
социал-демократов. Под этим флагом в
империалистических странах преподносится преступная военная
идеология подготовки атомной войны, подвергаются гонениям и
преследуются коммунисты, демократы и борцы за мир,
систематически ведется клевета на страны социализма и
политику марксистско-ленинских партий, идеология
которых извращается и фальсифицируется с целью
разжигания истерии и духа крестовых походов.
Борьба с идеологическими формами антикоммунизма
стала важнейшей задачей в борьбе с антикоммунизмом
вообще еще и потому, что господствующие круги и
поборники империализма перед лицом постоянно растущих
успехов мировой социалистической системы во всех
областях жизни и падающего влияния империализма в
мире вынуждены перенести свою антикоммунистическую
деятельность прежде всего в область идеологии. Это
относится как к сфере влияния на те народы, которые еще
находятся под их господством, так и к диверсионной
деятельности против социалистических стран и
коммунистических партий.
9
Ведь сегодня, за исключением «бешеных», даже в
лагере империализма отдают себе отчет в том, что
открытая пропаганда военной агрессии против Советского
Союза и социалистического лагеря равнозначна призыву
к самоубийству. Заключение Московского соглашения о
прекращении испытаний атомных бомб наиболее
убедительно доказало, что наступило время, когда народы
могут заставить империалистов проводить политику
мирного сосуществования. Антикоммунистическая тактика в
экономической политике империалистических стран
также выглядит как толчение воды в ступе. Никакие
репрессии и дискриминации в торговле с социалистическими
странами не смогут помешать планомерному подъему их
экономики. Поэтому надежды империалистов на
возможную победу в экономическом соревновании являются в
конечном счете лишь иллюзиями.
Приведенные факты отнюдь не свидетельствуют о
том, что перемещение центра тяжести антикоммунизма
в область идеологии связано якобы с ослаблением его
агрессивности. Но они оказывают существенное влияние
на форму и тактику идеологического похода против
коммунизма.
В настоящее время применяются в основном такие
формы антикоммунистических «психологических
операций», которые кажутся пригодными для того, чтобы
проникнуть в социалистические страны и оказать там
разлагающее влияние. При этом особое значение придается
тому, чтобы добраться до кадров марксистско-ленинских
партий как внутри, так и вне социалистических стран.
Идеологический «подрыв» социалистического лагеря и
мирового коммунистического движения кажется
империалистам единственно возможным средством, с помощью
которого можно разделаться с коммунизмом.
Следовательно, цель — покончить с коммунизмом — осталась.
Только путь достижения этой цели руководящие
империалистические круги представляют сегодня, очевидно,
иначе, чем несколько лет тому назад. Крушение
политики силы и ставшее для империалистов жизненной
необходимостью признание вытекающих из нее вполне
определенных последствий приводит к тому, что свои
идеологические операции они планируют на долгий срок
и рассчитывают на их воздействие в течение
длительного времени.
10
Признание того, что развязывание войны против
социалистического лагеря было бы безумием для
империалистов, не свидетельствует о принципиальном отказе
агрессивных" антикоммунистов от применения насилия
против социалистического лагеря. Если бы это было не
так, то империалисты должны были бы отказаться от
выступления против коммунизма и в области идеологии,
ибо антикоммунизм, по существу, направлен на то,
чтобы подготовить почву для военных империалистических
авантюр. Однако в настоящее время в связи со
сложившейся обстановкой они вынуждены изъять из
обращения такие теории, которые — подобно теории
фашистского апостола Шламма— открыто и без обиняков
подстрекают к атомной войне против Советского Союза. Вместо
них пропагандируются главным образом такие
антикоммунистические теории, которые более утонченными и
менее заметными средствами приводят к тем же самым
выводам. Поскольку, как мы видели, идеологическая
диверсионная деятельность внутри социалистического
лагеря объявлена важнейшим участком борьбы
против коммунизма, само собой понятно, что здесь уже
нельзя оперировать теорией Шламма и его
приверженцев.
Однако изменение соотношения сил в мире, с
которым агрессивные круги империализма вынуждены
считаться, сказывается не только в росте самого
социалистического лагеря. Этот рост в значительной степени
является причиной того, что силы мира, демократии и
социализма в бывших колониях и зависимых странах, а
также в сфере господства самого империализма
непрерывно растут. Этот процесс связан с тем, что
коммунистическая идеология — марксизм-ленинизм — и в этих
странах обретает все большую силу, овладевая массами
и оказывая влияние на сознание большей части
интеллигенции. Следовательно, и по этой причине
антикоммунизм вынужден прятать свое подлинное лицо за
лицемерно благожелательной маской.
Но эта маскировка имеет форму мнимой научности.
От выпадов и оскорблений, от чересчур грубых и
очевидно лживых нападок на теорию и практику
марксизма-ленинизма даже самые завзятые антикоммунисты
ожидают не слишком многого. Поэтому они усиленно
стремятся к тому, чтобы под видом объективности и якобы со
11
знанием дела выступить против основных положений
марксизма-ленинизма, одновременно полемизируя с ним
по частным вопросам. С помощью фальсификации,
софистических ухищрений и искажения произведений
классиков марксизма-ленинизма*—причем отдельные факты
эклектически смешиваются с таким расчетом, чтобы
создать ложную общую картину, — путем мнимой
«имманентной критики» марксистско-ленинское учение
представляется как дьявольское, антигуманное, воинственное
и разбойническое. Следовательно, то, что до сих пор
выдвигалось против коммунизма без излишней
«аргументации», отныне должно воздействовать на людей,
являющихся или сторонниками .марксизма-ленинизма, или
близких к нему и находящихся под сильным влиянием
его идей и их практического осуществления в
социалистических странах, с помощью мнимо логических
доказательств, основанных на ложных предпосылках.
Антикоммунисты делают ставку на то, что таких людей
можно сделать противниками или предателями коммунизма
только с помощью «научных доказательств».
Однако это только одна сторона медали. Сегодня им
менее, чем когда-либо, удается превратить коммунизм
«в дьявольщину», даже если это делается
преимущественно с применением мнимо научных методов. На
третьем этапе общего кризиса капитализма антикоммунисты
должны умножить свои усилия, чтобы соединить борьбу
против коммунизма с апологией все более и более
разрушающейся системы империализма. Конечно, это не
облегчает этой борьбы, ибо, с одной стороны, им все
чаще приходится сталкиваться с силой влияния
социалистического мира и его идеологии, а с другой стороны,
империалистический мир, который они должны
прославлять, дает им все меньше возможностей для этого.
Не только практика, действительность социализма, но и
практика и действительность
государственно-монополистического капитализма являются основными причинами
успехов марксизма-ленинизма. Можно понять трудности,
перед которыми оказываются апологеты империализма,
когда они должны прославлять как лучший из миров тот
мир, в котором господствует милитаризм, в котором, как,
например, в Западной Германии, правящие круги не
имеют более заветного желания, кроме желания завладеть
атомным оружием, в котором, как, например, © США,
12
бесчинствуют фашистские расисты, или, как, например,
в Южном Вьетнаме, преследуются и уничтожаются с
помощью средневековых методов не только коммунисты, но
и буддисты, в котором повсюду эксплуатация
трудящихся масс достигла невиданных размеров. Для этого,
естественно, требуются все новые и новые хитро
придуманные системы, теории, аргументы и рекламируемые для
продажи паллиативы против трудностей капитализма,
которых не могут не замечать даже самые усердные
защитники теорий «нового», «гуманного» капитализма,
«народного капитализма», «экономического гуманизма»
и т. д. Поэтому не удивительно, что апологеты
империализма также стремятся к тому, чтобы их теории считали
научными. Таким образом, псевдонаучная критика
марксизма и не менее псевдонаучная апологетика
современного империализма являются двуликим Янусом
антикоммунистической идеологии наших дней. Из всего этого
следует, что в борьбе против буржуазной идеологии
современности борьба с кратко очерченными здесь
формами антикоммунистической идеологии приобретает особое
значение.
Однако при этом следует заметить, что существует
различие между воинствующим антикоммунизмом, о
котором здесь идет речь, и предубежденностью против
коммунизма, отказом от него или принятием его с
оговорками, которые широко распространены в буржуазных и
мелкобуржуазных кругах и от которых несвободна часть
рабочего класса в капиталистических странах. Хотя эти
круги в силу их происхождения и воспитания, уклада их
жизни и среды и являются противниками коммунизма,
однако в большинстве своем они выступают за мир, за
мирное сосуществование государств с различным
общественным строем, против агрессивного, ведущего
подготовку войны антикоммунизма. Это, в частности,
относится и к тем кругам буржуазной интеллигенции,
которые подвергают критике те или иные положения
марксизма-ленинизма, мелочно придираются к нему и вечно
хотят его улучшить. Но именно эти, говоря словами
Томаса Делера, «либеральные антикоммунисты» в первую
очередь подвергаются опасности оказаться в лоне
академически приукрашенной антикоммунистической травли.
Они примыкают тогда, часто против своей воли, к лагерю
воинствующего антикоммунизма, который злоупотреб-
13
ляет этим. Следовательно, борьба с воинствующей
антинаучной критикой марксизма является столь актуальной
еще и потому, что она помогает тем противникам
коммунизма, которые не стремятся «насильственно»
«покончить с ним», а хотели бы разобраться в истинном
положении дел, открыть глаза на то, что если они выступают
за мир и хотят бороться за него, если они действительно
серьезно думают о мире, то, даже не желая стать
коммунистами, они должны отречься от антикоммунизма.
Этого нельзя упускать из виду в том случае, если речь
идет о борьбе против политического клерикализма,
оказывающего наибольшее влияние на массы и потому
являющегося наиболее опасной формой
антикоммунистической идеологии. Поэтому интересно и важно видеть,
как во всех слоях населения Западной Германии
формируется все больше оппозиционных групп для защиты от
духовного террора политического клерикализма. В
связи с этим основание Гуманистического союза, как
«важнейшее событие новейшего времени»1, подвергается
клерикалами самым резким нападкам. Гуманистический
союз, созданный Герхардом Счесным, ставит своей
целью противодействовать конфессиональным и
мировоззренческим претензиям на власть в общественной
жизни Западной Германии, поскольку они угрожают
конституционным демократическим свободам. Хотя
Гуманистический союз и выступает против коммунистического
мировоззрения, его позиция и заслуживающая
одобрения инициатива Счесного привели клерикальных
фанатиков в бешенство. Они не без оснований опасаются, что
данному примеру последуют многие и что в будущем это
освежит политический климат Федеральной республики.
Поскольку, кроме того, «лозунг клерикализации и кон-
фессионализации снова становится большой модой»2 в
па-ртийно-политической борьбе и даже провозглашен
путеводителем евангелической церкви, реакционное
духовенство, призьгаа# на помощь клевету, кричит о том,
1 См. Е. Müller, В. H a n s s 1 е г, Klerikalisierung des
öffentlichen Lebens? Osnabrück, 1963.
2 Там же, стр. 65. (Гансслер ссылается здесь прежде всего на
Свободную демократическую партию, которая на съезде партии в
марте 1961 г. включила в избирательную программу положение:
«С большим волнением наблюдаем мы конфессионализацию
общественной жизни».)
14
будто этот лозунг не имеет отношения к проводимому
католиками подчинению государства церкви К Но
сильнее всего оно озадачено тем, что среди
западногерманского населения «широко распространено мнение об
опасной клерикализации общественной жизни»2. Ведь
по данным демоскопии («Эмнид-информацион» от
12 февраля 1962 г.) получается следующая картина: 46%
населения убеждены, что католическое духовенство имеет
больше влияния, чем ему приписывают, 28% считают,
что оно располагает действительно присущим ему
влиянием, 12% полагают, что его влияние слишком
незначительно. Что касается евангелического духовенства, то
47% оценивают его влияние в соответствии с
действительностью, 25% считают его незначительным, 8% —
слишком большим 3. Для Гансслера, согласно которому
в Западной Германии существуют «клерикалистские
инстинкты верующих» и «клерикалистские типы»4, но не
клерикализм, в демоскопических определениях
выражается лишь «разлад людей с объективной
действительностью»5. Гансслер, полагающий, что мнением народа
можно манипулировать в пропагандистских целях, и
считающий народ неспособным выработать
самостоятельное и правильное суждение о западногерманской
действительности, в связи с усилением антиклерикализма и
отсутствием убедительных контраргументов прибегает к
методу клеветы на коммунизм. Тот факт, что между
оценкой политического клерикализма
коммунистическими и рабочими партиями и антиклерикальными
выступлениями оппозиционных сил Западной Германии
существует глубокое действительное соответствие, становится
для Гансслера поводом для доноса на
западногерманских противников политического клерикализма как
потенциальных агентов коммунизма. Он ставит вопрос:
«Может быть, политические группы и отдельные лица на
Западе хотят стать любимцами на Востоке, подпевая им
ту же самую песню?»6 Такова боннская
государственная доктрина в действии. Вместо того чтобы морочить
1 См. Е. Müller, В. Haussier, Klerikalisierung... S. 63, 66.
2 Там же, стр. 66—67.
3 Там же, стр. 67.
4 Там же.
5 Та*м же.
6 Там же, стр. 59.
15
голову видимостью возражений аргументам Счесного по
существу, Гансслер, защищая фашистскими методами
конституцию, с таким же успехом мог бы донести на
Счесного и тех западногерманских граждан, среди
которых проводился опрос мнений.
Не удивительно, что в этих условиях у
представителей политического клерикализма развилось особое чутье
на новый «крен» в антикоммунистической
идеологической пропаганде и они вовремя дали установку уделить
надлежащее внимание мнимо научной критике
марксизма в системе агрессивного антикоммунизма. Ибо
известно, что клерикализм приобретает все возрастающее
значение в политическом и идеологическом арсенале
империализма.
«Он не ограничивается использованием церкви и ее
разветвленного аппарата, — говорится в Программе
Коммунистической партии Советского Союза. — Он
располагает теперь своими крупными политическими
партиями, стоящими у власти во многих капиталистических
странах. Создавая свои профсоюзные, молодежные,
женские и другие организации, клерикализм раскалывает
ряды рабочего класса, ряды 'трудящихся. Монополии
щедро финансируют клерикальные партии и
организации, эксплуатирующие религиозные чувства трудящихся,
•их суеверия и предрассудки» К Поэтому политическая
сущность современных« «научных» попыток
опровержения марксизма-ленинизма особенно ясно
обнаруживается в политическом клерикализме. Но это значит, что
борьба должна вестись преимущественно против этой
разновидности фальсификации марксизма. В Германии,
где социализм и империализм непосредственно
противостоят друг другу, где борьба против западногерманского
милитаризма и империализма стала решающей задачей
борьбы за мир в Европе, борьба против политического
клерикализма и его идеологии — как католической, так
и евангеличеТжой — имеет особое значение. Тот факт, что
политический клерикализм с давних пор ориентировался
на замаскированную под научность критику марксизма,
особенно ясно можно видеть на примере Западной
Германии. В то же время можно отметить, что периоды
1 Программа Коммунистической партии Советского Союза, Гос-
политиздат, /1962, стр. 53.
16
наибольшей фальсификации Маркса соответствуют
моментам наибольшего усиления враждебной миру и
антинациональной политики боннских правителей. Так,
например, в 1952 г. Аденауэр заключил общий военный
договор с тремя западными державами, ускорив тем
самым милитаризацию. В 1954 г. Западная Германия
стала членом агрессивного пакта НАТО. Тогда же
начался позорный процесс против Коммунистической
партии Германии. Появившиеся в это время измышления
клерикальных апологетов помогли идейно подготовить
эти мероприятия. В 1953—1954 гг. вышли в свет такие
явно антикоммунистические работы, как «Раздвоенное
бытие» Гоммеса, книга Ландсгута «Карл Маркс:
Ранние работы», «От Гегеля к Ницше» Левита, «Гегель и
Маркс» Ландгребе. В 1954 г. был издан и первый выпуск
«Марксизмусштудиен». Заказчиком «Марксизмусштуди-
ен» является боннское государство, финансирует это
издание клерикальных фальсификаторов боннское
министерство внутренних дел. В 1956 г. последовало
запрещение Коммунистической партии Германии и была введена
воинская повинность. Уже в 1957 г. подготовка войны
развернулась в полную силу — в январе был проведен
смотр первых военнообязанных. На западногерманской
земле были размещены первые 36 атомных пушек.
Военный преступник Хойзингер стал генеральным
инспектором бундесвера и начальником руководящего штаба. На
нацистского генерала Шпейделя было возложено
командование сухопутными вооруженными силами НАТО в
Центральной Европе. Бывший военный министр Штраус
изменил планы построения боннской армии, приспособив
ее к стратегии атомной войны, а 17 октября 1958 г. он
заверил высших офицеров в том, что боннская армия
будет вооружена атомным оружием.
В эти же годы клерикальные фальсификаторы
Маркса снова начинают проявлять особую активность. Их
выступление является идеологическим отражением
форсируемой отныне западногерманскими империалистами
и милитаристами политики войны и террора. Появился
второй выпуск «Марксизмусштудиен». Фетчер написал
книгу «От Маркса к советской идеологии», Метцке —
«Человек в коммунистической системе», Тир издал
«Представления молодого Маркса о человеке», Гоммес—
свой * «Кризис свободы». Весь этот идеологический яд
2-424
17
был дополнением бесчеловечной, антинародной практики
клерикально-милитаристской боннской системы
господства. Отмеченное соответствие политического и
идеологического развития Западной Германии ясно показывает,
что клерикальная фальсификация Маркса, как и
клерикализм вообще, являются специфическими спутниками
господства германского империализма и милитаризма в
период второго и третьего этапов общего кризиса
капитализма. Клерикализм в ФРГ представляет собой
политический клерикализм. Он не является клерикализмом
в смысле чисто внутрицерковных претензий духовенства
на власть, не связанных с политикой государства, его
нельзя понимать и в смысле преувеличения отдельными
священнослужителями своих служебных полномочий, то
есть как психологический феномен в политической
жизни, как это утверждают Гансслер и Мюллер К Хотя
западногерманское духовенство, особенно католическое, не
принимает непосредственного участия в
партийно-политической и парламентской борьбе, тем не менее оно
систематически оказывает политико-идеологическое
влияние на церковные институты, на широко разветвленную
сеть политических и религиозных сбществ и связанных
с церковью организаций через коммерческую, личную и
общественную связь высшего духовенства с политически
и экономически господствующими группами боннского
государства. Сила его воздействия в настоящее время
основывается именно на том, что оно представляет
религию и благодаря своим церковным полномочиям все
еще рассматривается широкими кругами христианских
верующих как стоящее в стороне от политики.
Систематическое политическое влияние реакционного
духовенства на западногерманское население в соответствии с
потребностями и целями господствующего класса
осуществляется прежде всего непосредственно через
религиозную идеологию. Последняя превращается в
антикоммунистическую идеологию и в этой форме образует своего
рода идейное связующее звено между политическими,
экономическими и церковными представителями
боннского государства, прикидывающимися благочестивыми
христианами.
1 Е. Müller, В. Нал ssler, Klerikalisierung des
öffentlichen Lebens?
18
Как известно, антикоммунизм имеет глубокие корни
в различных группах« господствующих классов, особенно
в Германии, потому что Германия является родиной
марксизма. Возникнув еще в период зарождения
научного социализма, антикоммунизм в течение многих
десятилетий; и особенно Великой Октябрьской
социалистической революции, превратился в существенный элемент
как официальной государственной теории и политики,
так и учения реакционного духовенства. После
поражения во второй мировой войне германский империализм
и милитаризм не только заимствовал и развил все
пригодные для него элементы антикоммунизма периода
Веймарской республики и фашизма, но начиная с этого
времени он черпает пищу прежде всего из
антикоммунистического арсенала политического клерикализма. «Он
оперирует противоположностью между «христианским
Западом» и «восточным атеизмом», «западной свободой»
и «восточным тоталитаризмом». Эти
антикоммунистические версии в рамках так называемой европейской
идеологии возводятся в систему; они являются выражением
экспансионистских устремлений западногерманского
финансового капитала, его глубоко антинационального
характера. Прийти к «освобождению» ГДР и других
социалистических стран через европейскую
«интеграцию» и снова добиться господства империализма и
милитаризма над всем миром — такова идея и
действительная классовая сущность антикоммунизма» К
Антикоммунизм как главное политическое
содержание клерикализма необходимо связан не только со
злоупотреблением религией, но и с пренебрежением к
буржуазной демократии. Именно в этом причина того, что
растущая клерикализация Западной Германии
наталкивается на усиленное сопротивление. В этой клерикализа-
ции видят симптом ущемления демократических прав и
свобод, идеологическое дополнение законодательства о
чрезвычайном положении, чем она и является на самом
деле. Поэтому, когда Гансслер пишет, что «клерикализм
является преднамеренной методической попыткой духо-
1 И. Matern, Westdeutsche Arbeiterklasse muß Führung im
Kampf um eine neue Politik übernehmen Aus der Diskussionsrede
auf dein 4. Plenum des ZK der SED, в: «Neues Deutschland». 6.
November 1963. •
2*
19
венства путем злоупотребления религией и
пренебрежения к демократическим правам нарушить фактическую
законность политического»1, то это определение
схватывает существо дела. Однако в практике ФРГ, где
действительно существует соответствие системы
клерикализма с осуществляемой господствующими классами
«фактической законностью политического», недостаточно
видеть нарушение последней отдельным, не имеющим
полномочий духовным лицом.
Наша полемика с «Марксизмусштудиен»,
издаваемыми Евангелическим исследовательским обществом,
вызвана не только тем, что эти так называемые
исследования в характерной и концентрированной форме
выражают антикоммунистическую сущность современной
критики марксизма, которую мы попытаемся вкратце
охарактеризовать. Она необходима еще и потому, что
«Марксизмусштудиен» стали своего рода «центральным
органом» клерикальной фальсификации Маркса,
который, по его собственному признанию, не ставит в
качестве условия сотрудничества «принадлежность к
евангелическому вероисповеданию», а, наоборот, стремится к
тому, чтобы стать «постоянным сборным пунктом» всех
гильдий клерикальной фальсификации Маркса2. О каких
гильдиях здесь идет речь, мы покажем ниже.
2. Лицо критиков
Все попытки мнимо научного опровержения и якобы
«объективного и .непредубежденного исследования»3
марксизма, предпринимаемые идеологами
антикоммунизма, тесно связаны с ожесточенной политической и
экономической классовой борьбой империализма против
социализма и коммунизма. Деятельность клерикальных
фальсификаторов Маркса в Западной Германии,
нападающих главным образом на историю марксистской
философии, дает яркий пример этой связи. Характерным
1 Е. Müller, В. H a n s s 1 е г, Klerikalisierung des
öffentlichen Lebens? S. 57.
2 См. «Marxismusstudien», Erste Folge, Herausgegeben von Iring
Fetscher, Tübingen, 1954, S. 5.
3 См. «Marxismusstudien», Vierte Folge, Tübingen, 1952, S. V,
20
для нее является прежде всего их ненависть по
отношению к Германской Демократической Республике и
немецкому рабочему классу и их религиозно
приукрашенная политическая нетерпимость к
марксистско-ленинским, а также прогрессивным демократическим и гума-
нистическим идеям. Философская позиция
'клерикальной фальсификации Маркса полностью подчинена
диктату основной антикоммунистической установки
западногерманского империализма. Поэтому в научном
отношении клерикальная критика истории марксистской
философии является не только бесплодной; в интересах
антикоммунизма она безудержно фальсифицирует и
игнорирует источники и общепризнанные факты.
Как антикоммунизм в целом, так и клерикальная
фальсификация Маркса не имеют единой философской
концепции. Современная клерикальная фальсификация
Маркса возникла в период общего кризиса капитализма.
Она представляет собой неоднородное идеологическое
построение, охватывающее самые различные и даже
противоречащие друг другу позиции и течения
реакционной буржуазной философии, подчиняя их общей цели.
В ее рядах католики-неотомисты объединяются с
протестантами-неогегельянцами, сторонники волюнтаризма —
с неопозитивистами, феноменологи — с представителями
новой онтологии. А продолжающаяся теологизация пока
еще скрытых фидеистских течений буржуазной
философии, совершающаяся, в частности, в Западной Германии
под контролем политического клерикализма, так же как
и интеграция различных« элементов этих течений в
неотомизм, служит идейным связующим звеном.
Философские предпосылки того, что преподносится как
опровержение и «строго объективное изложение»
диалектического и исторического материализма и
марксистско-ленинского учения вообще, настолько эклектичны, что в
классической буржуазной философии вряд ли можно
найти подобные примеры. Честь и слава отдельных
идеологов определяются мерой их находчивости в сочинении
мифов и методов фальсификации и вознагражадаются с
научной респектабельностью.
Однако прежде чем проследить находчивость
клерикальных фальсификаторов Маркса, следовало бы
обратить внимание на легкомыслие некоторых из их ведущих
представителей. Это тем более поучительно, что клерц-
21
кальные фальсификаторы Маркса считаются
«осторожными» антикоммунистами, более осмотрительными и
утонченными в выборе средств, чем грубые
пропагандисты атомного крестового похода. Поскольку они не
принадлежат к сторонникам фашистской идеологии
нацизма, они обладают репутацией солидных в научном и
политическом отношении людей и поэтому имеют
известный авторитет среди западногерманского населения. Это
делает их« происки особенно опасными.
К ним принадлежит прежде всего Иринг Фетчер,
редактор «Марксизмусштудиен». В сорок лет он вступил
в «Союз старых антикоммунистов». Он целиком и
полностью является воспитанником материально и духовно
господствующего в Западной Германии класса,
отбросившим, как тяжелый балласт, гуманистические
традиции своей семьи. Получив в 1950 г. ученую степень за
работу «Учение Гегеля о человеке», Фетчер обязан своей
карьерой главным образом холодной войне и
распространению нездорового клерикально-милитаристского духа,
которому он усердно посвятил себя, еще будучи
стипендиатом Немецкого исследовательского общества и
членом Евангелического исследовательского общества. Его
призванием было и остается извращение истории и
теории марксизма. На этом основывается и сомнительная
литературная слава редактора «Марксизмусштудиен»,
находящегося под сильным влиянием философии Макса
Вебера и Карла Маннгейма и выступавшего в последние
десять лет перед общественностью со многими
антимарксистскими произведениями. Не нужно быть пророком,
чтобы, исходя из идейной продукции господина Фетчера,
предсказать ему такой же конец, как и его
антикоммунистическим литературным предшественникам.
Коллегой и учителем Иринга Фетчера является
известный гамбургский профессор теологии Гельмут Тили-
ке. Он открытый подстрекатель евангелической церкви
в Германии и идеологический руководитель ее
нехристианского крыла в НАТО. Тилике крайне злоупотребляет
положениями христианской веры. Он раздувает
антикоммунистическую истерию, натравливает против ГДР и
призывает, хотя и напрасно, к созданию пятой колонны.
О« отравляет мысли и души многих христиан
псевдонаучным учением о неизбежности войны в этом «царстве
грешцого человека» и внушает им столь же бессмыслен-
22
ную, сколь и варварскую мысль: лучше смерть в
атомной войне, чем быть «красным».
Тилике на антикоммунистическом идеологическом
фронте в известном отношении «новый человек», который
якобы, не обременен коричневым прошлым и может
более успешно вербовать реваншистов, чем сильно
скомпрометированный епископ Дибелиус. Тилике потому
и является таким желанным для господствующих
клерикально-милитаристских сил Западной Германии, что он
демонстративно подчинил протестантское учение
боннскому государству, открыто рекламирует вдохновляемую
им ревизию основных положений протестантизма
(например, учение Лютера о двух государствах«) и стремится к
созданию единого фронта с политическим католицизмом,
с тем чтобы сделать политически мобильными «силы
христианства как последней субстанции, способной к
сопротивлению» К Однако Тилике, прокладывающий в этом
смысле новые пути для реваншистских целей
западногерманского империализма и обосновывающий его теологи-
ческо-политически в своей «этике масс»2, вовсе не
наивный человек. Еще в 1940 г. нацистская партия признала,
что он, как один из первых членов нацистских
штурмовых отрядов, всей душой связан с
национал-социализмом, а его влияние после 1945 г. не оставляет сомнения
в том, что «связь с традицией», к которой он часто
призывал, следует искать в этом направлении, а не в
учении Лютера. Как же иначе можно объяснить то, что
Тилике систематически проводил и проводит политику
отказа евангелической церкви Германии от
Штутгартских [решений 1945 г. о признании своей вины и от
мирной декларации Эссенского церковного съезда 1950 г.,
что он идейно подготовил и обосновал переход
реакционных вождей евангелической церкви на позиции НАТО,
что он проповедует войну и насилие против ГДР и
других стран социализма и заверяет, будто совесть
фашистских военных преступников чиста, поскольку «защита от
большевизма во второй мировой войне» была «вполне
1 Цит. по: Т. Jansen, Ethik im Dienste des westdeutschen
Imperialismus, в: «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», 1962, Hf. 8.
2 H. Thiel icke, Theologische Ethik, Bd. 1, 2. erg. Aufl.,
Tübingen, 1958, Bd. H/1, u. Bd. H/2, 1958. В этой работе Тилике или
дословно включил или косвенно переработал под определенным
углом зрения все свои основные публикации прежних лет.
23
оправданной частичной целью»! и поскольку с
коммунизмом как в прошлом, так и в настоящее время нельзя
покончить иначе, чем с помощью насилия. Ибо «язык
сильного — единственный язык, к которому
прислушивается большевик... Поэтому ответственность церкви,
которую она несет вместе со всеми за мир, состоит в том,
чтобы, исходя именно из этого, оправдать вооружение
и ограничить его тем, что может сказать этот внятный
язык»2. Поскольку Тилике говорит не на агрессивном
языке политически воинствующих антикоммунистов, а
выступает в поход против марксизма-ленинизма «чисто»
философско-теологически, он наряду с неновым и
неправильным упреком буржуазных» философов в адрес
Маркса (будто он заимствовал диалектику Гегеля и
вульгаризировал ее с помощью механистического
материализма) приводит до отвращения архиреакционную ложь об
«обесчеловечении человека» в марксизме и социализме.
При этом гуманистическому представлению марксизма-
ленинизма о человеке он не может противопоставить
ничего, кроме клеветнических утверждений, кроме
мистически искаженного и противоречащего всякому
гуманизму «личного бытия человека в этом мире». Этот
постулат, по его мнению, является настолько
«реалистическим», что он считает, будто качество «человек» можно
определить исключительно через иррациональную,
относительную величину «человек-бог». Эта лишенная
всякого рационального содержания протестантская версия
религиозного персонализма является для Тилике центром
тяжести грубых, клеветнических нападок на
марксистско-ленинскую философию и этику. Относительная
величина «человек-бог» является в тиликовской «Этике
политического» не основным теологическим постулатом, а
идеологической платформой для превращения
социализма и коммунизма <в «дьявольщину».
Реакционными католическими экспертами
клерикальной фальсификации Маркса являются отцы
Густав Адольф Веттер и Иосиф М. Бохенский. Как
известно, в своей книге «Диалектический материализм —
1 См. Н. Thiel icke, Theologische Ethik, Bd. II/2, Abschn.
2844.
2 H. T h i e 1 i с k e, Christliche Verantwortung im
Atomzeitalter, 1957, S. 39—40.
24
его история и его система в Советском Союзе» Веттер
взял на себя задачу дать образец иезуитского
«опровержения» марксизма-ленинизма. Это была попытка
провести «новую линию» в старом антимарксистском
идеологическом курсе реакции, освободиться от
избитых аргументов и давно изжитых положений
буржуазной идеологии и под видом современной науки создать
неотомистскую «энциклопедию опровержения
марксизма». Веттер не просто повторил все давно избитые
аргументы против марксизма, он отмежевался от обычного
отождествления механистического материализма с
диалектическим и лицемерного признания некоторых
пунктов диалектики, не отказываясь при этом от достаточно
известных методов подтасовки, грубой фальсификации и
произвольного истолкования классиков
марксизма-ленинизма. Между тем 5-е издание книги Веттера
содержало косвенное признание им того, что после
принципиальной теоретической критики его утверждений и
клеветнических высказываний представителями творческой
марксистско-ленинской философии 1 и опровержения его
концепции самой революционной практикой
строительства социализма и коммунизма после XX съезда КПСС
и эта антикоммунистическая писанина утратила всякий
смысл. Перейдя к обороне, при вынужденной
переработке своей книги Веттер втихомолку хоронит на
кладбище буржуазных теорий многие из своих утверждений,
игравших прежде ведущую роль в его нападках, и
лезет из кожи вон, стараясь замаскировать это
банкротство2. Это не означает, что извращение Веттером
«марксизма-ленинизма не оказывает больше влияния на
население капиталистических стран. Новое издание и
массовое распространение его книги свидетельствует именно
о том, насколько подходящим для отупления широких
кругов населения и привлечения их против социализма
является для реакционных кругов, особенно в
Западной Германии, созданное Веттером извращенное
представление о марксизме. Наконец, не следует забывать,
1 См. G. Klaus, Jesuiten-GotbMaterie, Berlin, 1957, 1956 u.
1959. Далее: Philosophie des Verbrechens, S. 127, 136, 141 f., 270,
285—289, 291.
.2 Cm. H. M e t z 1 e r, Pater Wetter kämpft mit stumpfer Waffe,
в: «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», 1962, Hf. 12, S. 1554 ff.
25
что, будучи директором Русской коллегии в Ватикане,
Веттер располагает многочисленным и постоянно
обновляющимся отрядом иезуитских воспитанников, которые
как в церковных, так и в светских учреждениях всех
стран заботятся о распространении его
антикоммунистических идей. Именно эти реакционные католические
«отряды элиты», занимающиеся диверсионной
деятельностью в области идеологии, призваны внести в
социалистические страны войну идей', чтобы подорвать их
общественный строй.
Доминиканский патер Бохенский известен не только
своими примитивными аргументами против марксизма,
которые он собрал и издал в книге «Справочник
мирового коммунизма» вместе с Герхардом Нимейером,
профессором университета Нотр-Дам в Индиане
(США). Как представитель политического духовенства,
он входит в состав правления Восточного колледжа
Федерального центра служения родине, что не оставляет
никакого сомнения в его реваншистских настроениях.
Созданный в ноябре 1957 г. бывшим министром
внутренних дел Шредером, колледж ставит перед собой
задачу раздувать антикоммунизм ft вести
идеологическую диверсию против стран социализма. Данной
задаче соответствует и личный состав этого колледжа. Он
объединяет закоренелых антикоммунистических
идеологов типа Бохенского с бывшими офицерами абвера
фашистского вермахта и старыми пропагандистами
нацизма. Вероятно, Бохенский окончательно укрепил свое
положение в этой корпорации вследствие того, что
пытался выступить против Коммунистической партии
Германии в опубликованном в 1956 г. в Бонне памфлете
«Коммунистическая идеология и достоинство, свобода и
равенство людей в свете основного закона
Федеративной Республики Германии от 23/5 1949» и намечался в
качестве эксперта для выступления на Карлсруэском
процессе против КПГ. Бохенский, как и многие
клерикальные фальсификаторы Маркса, принадлежит к тем
антикоммунистическим истолкователям учения Карла
Маркса, которые усматривают в социализме и
коммунизме «радикальное искажение подлинного марксизма» 1
1 См. «Handbuch des Weltkommunismus», Herausgegeben von
Josef M. ßochenski und Gerhard Niemeyer, Freiburg — München,
1958, S. 642.
26
и распространяют эту ложь преимущественно с той
целью, чтобы противодействовать притягательной силе
марксистских« идеи для трудящегося населения
капиталистических стран.
В настоящее время марксизм больше всего
воздействует силой примера нового, лучшего человеческого
строя, социализма и коммунизма. В нем нашли живое
воплощение высокие идеалы революционного рабочего
движения и его революционной теории, созданной
Карлом Марксом. Так, социалистическое строительство в
ГДР создало, например, возможность для
демонстрации превосходства социализма в культурной и
идеологической областях. Культарная жизнь в нашей
республике своим гуманизмом, своими идеями мира и
социализма оказывает влияние на Западную Германию.
Упадку, пессимизму, исходящим от
империалистического искусства и литературы, она противопоставляет
оптимистическую картину будущего. В нашей республике
создана образцовая социалистическая система
образования, дающая возможность всем трудящимся,
независимо от их доходов, развивать свои способности. Это
оказывает сильное влияние на Западную Германию.
Даже западногерманская «Франкфуртер рундшау»
вынуждена признать, что это оказывает влияние на
Западную Германию, что в ГДР «настолько основательно и
целеустремленно заботятся обо всех учебных
заведениях, что это находит все большее и большее
признание людей на Западе, а отсюда исходит значительная
доля активности самых разнообразных групп,
стремящихся к коренным реформам и демократизации всей
нашей системы образования. Без восточной инициативы
в этой области многие требования, касающиеся
воспитания, не встретили бы сочувствия... Тому, что здесь в
какой-то степени изменилось, мы обязаны инициативе
Востока, который с невиданной ранее серьезностью
отнесся ко всем учебным заведениям» *.
Каким нездоровым духом проникнута клерикальная
фальсификация Маркса, видно из того, что на этом
поприще подвизаются не только бывшие члены
нацистских штурмовых отрядов, подобные Тилике. Сюда
относятся также и прожженные нацистские идеологи
«Frankfurter Rundschau», 1. März 1959.
27
и функционеры гитлеровского фашизма, грязному
прошлому и безличности которых не сыскать равных. Эта
оценка относится прежде всего к Эриху Тиру,
считающему, по-видимому, что его прошлое мертво и забыто,
потому что он так дерзко разыгрывает из себя
«объективного» критика Маркса, гуманиста и демократа.
Однако его черное настоящее коренится в его
коричневом прошлом, и возвышение Эриха Тира проливает
яркий свет на то, детищами чьего духа являются
современные клерикальные интерпретаторы Маркса.
Тир не пренебрегает не только типичной для
буржуазной фальсификации Маркса литературной
недобросовестностью по отношению к марксистским источникам;
свои мировоззренческие политические позиции, свои
политические убеждения и мнимые идеалы он меняет как
грязное белье, когда это необходимо для его карьеры.
Именно так, без всяких угрызений совести поступил он,
когда ему, бывшему рабочему и «убежденному»
молодому социалисту, предоставилась возможность перейти
в лагерь врагов рабочего класса.
Идеологически этот переход ста^1 очевидным в его
диссертации *, в которой уже достаточно четко
выражена основная философская линия начатой им
фальсификации Маркса. Правда, она еще без клерикальной
примеси, поскольку Тир примкнул к клерикализму
только после 1945 г. В то время он отстаивал
неогегельянскую точку зрения и пытался принизить значение
Маркса и рабочего движения выдумкой о том, будто
«интерпретация» (I) Марксом пролетариата является
логическим продолжением взглядов Гегеля, «теорию
пролетариата» (?!) которого Маркс якобы только
«перевернул»2. Однако истинное лицо Тира в этом и других
рассуждениях об отношении Маркса к Гегелю
проявляется меньше, чем в том факте, что уже тогда он был
антикоммунистическим «пророком», хотя его еще и не
посвятили в высший клерикальный сан. Именно Тир
провозгласил положение, усвоенное клерикальными
фальсификаторами Маркса только через 30 лет, будто
1 В печати появилась под названием: Е. Т h i е г, Rodbertus-
Lassale-Adolf Wagner. Ein Beilrag zur Theorie und Geschichte des
deutschen Staatssozialismus, Jena, 1930.
2 Там же, стр. 9.
28
учение Карла Маркса скоро умрет, поскольку в
результате «заимствования хотя и неприменимых
идеалистических методов» (как глубокомысленно!) и «слишком
радикального истолкования их в позитивистском духе»
оно оказалось якобы в «глубоком кризисе» К Уже в
1934 г. мы находим Тира на стороне гитлеровского
фашизма, предоставившего ему доходное место
заведующего Немецкой библиотекой-школой в Лейпциге после
того, как она была очищена от «евреев, коммунистов
и социалистов». За это Тир отплатил хвалебными
песнями «национал-социалистской революции» и «фюреру
Адольфу Гитлеру». В 1934 г. появилась работа
«Изменение облика рабочего в зависимости от того, что он
читает» — фашистская стряпня самого худшего сорта с
предисловием д-ра Фрица Хейлигенштедта,
«руководителя Государственного издательства народной книги»2.
Эрих Тир имел наглость заявить жестоко
преследуемому и тиранически угнетаемому рабочему классу
Германии, будто только фашизм «снова включил его в
состав немецкого народа»3, оформил его «собственные
стремления» и благодаря участию в
«национал-социалистской революции и возрождению рейха» положил
начало и способствовал «изменению облика рабочего»,
значение которого якобы еще не оценено во всем его
«могуществе и глубине».
Беспринципность Тира становится особенно ясной из
его демагогических утверждений, с помощью которых
он пытается втереться в доверие рабочих и прикрыть
свое предательство. Он «с благодарностью» вспоминает
годы, когда он сначала непосредственно как сын
рабочего и молодой рабочий, а позднее как народный
библиотекарь испытал участь рабочего, доход которого он
в своих «исследованиях» пытался представить как нечто
заманчивое4. О том, какими переживаниями в
действительности руководствовался Тир, свидетельствует его
призыв к друзьям из нацистских штурмовых отрядов
1 Е. Thier, Rodbertus-Lassale-Adolf Wagner... S. 120 ff.
2 См. Е. Thier, Gestaltenwandel des Arbeiters im Spiegel
seiner Lektüre. Ein Beitrag zur Volkskunde und Leserführung,
Leipzig, 1939.
3 Там же, стр. I.
4 См. там же, стр. 9.
29
Il/erep/l5 и к сотрудничеству с гитлерюгендом К Не
удивительно, что этот предатель своего класса,
прославляющий Гитлера2 и заимствующий гитлеровскую
демагогию («германской империи нужно бороться за
немецких рабочих») в качестве собственного жизненного
принципа, применяя жаргон фашизма, называет
революционное рабочее движение «адом»3 и клевещет на
марксизм. В своих «исследованиях» Тир цинично, вплоть до
мельчайших подробностей, которые позднее снова
всплыли перед читателями, констатирует, что с захватом
власти гитлеровским фашизмом «марксистская литература
всех .направлений молниеносно была удалена из
книгохранилищ» и с тех пор марксисты в большинстве своем
якобы не интересовались библиотеками4. Какая
подлость! Тир лжет; он совершает насилие над
историческими фактами, чтобы прославить гитлеровский фашизм.
Он объявляет не только о своей ненависти к «большеви-
стско-русской революции», но и возводит клевету на
лейпцигских рабочих, которые якобы Великой
Октябрьской социалистической революции придавали меньшее
значение, чем Французской буржуазной революции*?.
С другой стороны, он горячо одобряет фашистский миф
о «скрови и земле», поскольку новый «смысл» этих
понятий придал якобы «народно-политическое значение
вопросу об отношении рабочего-читателя больших городов
непосредственно к природе»6. Эти высказывания,
очевидно, легли в основу его теперешней интерпретации и
фальсификации взглядов Маркса на отношение природы
и человека. Отсюда ясно, что между сегодняшними
утверждениями Тира, согласно которым
клерикально-милитаристское боннское государство не представляет собой
якобы больше классового государства, а марксистская
теория классов и теория революции будто бы устарела,
существует логическая и историческая связь с его
прошлым тезисом, будто «национал-социалистская революция
ликвидировала плюралистское государство и классовое
1 См. Е. Thier, Gestaltenwandel des Arbeiters... S. 89, 154.
2 См. там же, стр. 11, 12.
3 См. там же, стр. 85.
4 См. там же, стр. 92.
6 См. там же, стр. 148.
6 См. там же, стр. 98.
30
общество» К Кому же теперь принадлежит пальма
первенства— Тиру, Гитлеру или Аденауэру? Если обратиться
за советом к работе Тира «Человек, прокладывающий
путь немецкому социализму»2, то оказывается, что
фашизм и лично Гитлер окончательно устранили
«социальные фронты». В 1940 г. Тир усмотрел в этом
«осуществление германского социализма», который нужно теперь
«защищать от капиталистического Запада», в то время
как разбойничий фашистский поход против
голландского, бельгийского, английского и французского народов
представляет собой якобы справедливую
«оборонительную борьбу» за «сохранение и защиту достигнутого,
которую нужно вести таким образом, чтобы дети и дети
детей могли мирно и честно завершить ее дело в рамках
Германии»3. Эти положения исключают всякие
кривотолки. Тир, ныне выдающий себя в «Марксизмусшту-
диен» и в своей церковной деятельности за
благочестивого христианина, демократа и апостола мира, был
открытым сторонником фашистской войны и активно
поддерживал шовинистические претензии германского
империализма, к тому времени опустошившего страны
«капиталистического Запада», ограбившего их
население и варварски уничтожившего каждого десятого
человека. И если сегодня Тир, как флюгер, повернулся на
180° и прославляет «капиталистический Запад» как
защитника демократии и свободы, клянясь ему в качестве
союзника НАТО в вечной верности, то это, очевидно,
продиктовано намерением заставить эти государства и
народы забыть кровавый исторический опыт, связанный
с германским милитаризмом, .и завербовать союзников
для новой «оборонительной борьбы» агрессивного
германского империализма против «коммунистического
Востока». Можно только поздравить «капиталистический
Запад» с этим титулом стража «мира и чести». Но
немецкий рабочий класс и немецкий народ, а также
народы Европы должны знать, что Тир является закоренелым
1 См. Е. Thier, Gestaltenwandel des Arbeiters... S. 91.
2 E. Thier, Wegbereiter des deutschen Sozialismus, Stuttgart,
1940. В этой пролизанной фашистским духом работе Тир
прославляет национал-социализм как исполнителя идеалов и стремлений
буржуазных гуманистов Германии, не останавливаясь даже перед
Гете.
3 Там же, предисловие, стр. XI.
31
антикоммунистом, врагом их демократических и мирных
интересов, противником, который не изменился, несмотря
на приобретенное им после 1945 г. теологическое
обличье. Его влияние в кругах клерикальных
фальсификаторов Маркса нужно рассматривать как симптом,
характеризующий смысл и цели этого антикоммунистического
заговора.
Подводя итоги этого знакомства с некоторыми
представителями клерикальных критиков Маркса, можно
сказать, что и к членам Комиссии по изучению
марксизма относится замечание брауншвейгского епископа
Эрдмана, который подтвердил неоднократные ссылки
западногерманских демократов и готовых к соглашению
церковных сановников на «непреодолимое прошлое» в
рамках церкви Западной Германии положением о том,
что церковь является лишь «общиной спасенных
грешников» К !
Ни один миролюбивый человек, будь то христианин
или марксист, не может, конечно, довольствоваться
таким утверждением. Каждый из них видит свою
обязанность в том, чтобы положить конец возобновившемуся
отравлению части нашего народа 1^ездоровым
антикоммунистическим духом со стороны старых и новых
апологетов империализма и милитаризма. Необходима
решительная борьба марксистов против клеветы и
извращения марксистско-ленинского учения и социализма этими
неисправимыми клерикальными фальсификаторами
Маркса, с тем чтобы защитить гуманизм и мир и
способствовать их победе.
Однако было бы ошибочным стремление причислить
всех членов Комиссии по изучению марксизма к этим
крайне правым и воинствующим группам клерикальных
фальсификаторов Маркса. В комиссии действуют и
такие философы и теологи, которые открыто и честно
выступают за мир, против «атомного крестового похода»,
как, например, Ге"льмут Гольвитцер. Среди них имеются
и такие, как Карл Левит, которые в своей
идеологической борьбе против марксизма и социализма не обнару-
1 См. статью «Коричневые фигуры в милитаристской церкви»,
в «которой дается представление о ряде других псевдотеологах и
«расистах», таких, как Р. Штупперих, Кност и др. («Neues
Deutschland» (13), 28. Juli 4963).
32
живают такого обскурантизма в клерикальном
истолковании марксистского учения, как это делают Тилике и
Гоммес. Несомненно, и такие люди, как Гольвитцер, и
другие противники марксизма занимают
антикоммунистические позиции. Между нами и ими нет идеологического
сосуществования. Однако поскольку нас с Гольвитцером
и др. связывает общий интерес в основном вопросе
нашего времени — в вопросе о мире, — досадно видеть, в
каком обществе они оказались благодаря своему
сотрудничеству с Комиссией по изучению марксизма. Вполне
заслуживает внимания тот факт, что, защищая свою
точку зрения перед клерикальнуми «ультра», как это
сделал Гольвитцер в своих докладах 2 октября 1958 г. и
3 марта 1959 г. на тему «Марксистская критика религии
и христианская вера» \ они подтверждают свой отказ
от использования религии и церкви для восхваления
средств массового уничтожения, осуждают
антигуманный тезис «крестового похода против Востока и
коммунизма» и не поддерживают положение о «духовной
смерти большевизма»2. Однако их принадлежность к
клерикальной комиссии по фальсификации марксизма и их
совместное выступление с Гоммесом, Тиром и др. в
«Марксизмусштудиен» дает возможность воинствующим
силам выдавать себя за миролюбцев. Это не только
досадно, но и в принципе несовместимо с мирными
интересами честных христианских теологов и несведущих в
религии людей. Кроме того, такое положение таит в себе
опасность злоупотребления этим в грязных целях, оно
приводит к тому, что их гуманистические устремления не
воспринимаются серьезно.
В таком положении, очевидно, находится и Гейнц-Дит-
рих Вендлянд, слова которого о мире по его собственной
вине кажутся двуличными. Вендлянд злобно и
клеветнически выступил в «Марксизмусштудиен» против
марксизма, в то время как он должен был бы преодолеть
прошлое, которое дает ему достаточно оснований, чтобы
принять во внимание подтвержденную историей истину
о том, что мира нельзя достигнуть, поклоняясь
воинствующему антикоммунизму и помогая таким образом
ультра. Перу Вендлянда начиная с 20-х годов принадле-
1 «Marxismusstudien», Vierte Folge, Tübingen, 1962.
2 См. там же, стр. 77.
33
жат многочисленные статьи, небольшие произведения и
несколько книг, которые и по форме, и по содержанию
всегда открыто свидетельствуют о его принадлежности
к антикоммунизму. Мы не намереваемся здесь давать
анализ, и прежде всего анализ ранних произведений
Вендлянда, охватывающих многочисленные
социологические и этические вопросы, хотя такие работы, как
«Имеет ли теория Альберта Эйнштейна практическое
значение?»1, «Народ и народность»2, «Государственные
проблемы в теологии современности»3, так же
необходимы и показательны для оценки его личности и идейно-
политической позиции, как^и «Христианская и
коммунистическая надежда»4 или «Служба между церковью и
миром» 5.
Если мы возьмем эти источники, то мы найдем там
определенный отказ Вендлянда от курса атомной войны,
проводимого германским империализмом. Он пишет, что
политическая служба не может «санкционировать или же
просто допустить применение орудия массового
уничтожения»6. Призыв Вендлянда в церковных и
политических кругах к этому жизненно необходимому
благоразумию, без сомнения, заслуживает одобрения и вопреки
всем философско-мировоззренческим противоречиям
находит отклик и поддержку у всех миролюбивых людей.
Однако как соучастник клерикальной фальсификации
Маркса и вдохновитель религиозно-фанатического
антикоммунистического настроения людей, в особенности в
Западной Германии, Вендлянд — хочет он того
субъективно или нет — работает непосредственно на руку
реваншистским силам боннского государства, поскольку
1 H.-D. W е n d 1 a n d, Hait die Theorie Albert Einsteins
praktischen Wert? в: «Wissen und Fortschritt», Verl. Industriebericht.
Wien, 1931, Hf. 1, S. 5-8.
2 Derselbe, Volk und Volkstum, в: «Die Nation vor Gott.
Zur Botschaft der* Kirche im dritten Reich», Hrsg. v. W. Kühneith,
1933, S. 174.
3 Derselbe, Staatsprobleme in der heutigen Theologie der
Gegenwart, в: «Allgemeine evangelisch-luterische Kirchenzeitung»,
1939, S. 5—7, 29—34, 55—58.
4 Derselbe, Christliche und kommunistische Hoffnung, в:
«Marxismusstudien», Erste Folge.
6 Diakonie zwischen Kirche urrd Welt, Studien zur diakonischen
Arbeit und Verantwortung in urrserer Zeit, Hamburg, 1958.
6 <См. там же, ст.р. 26—27.
34
оно нуждается в разжигании ненавистнического
антикоммунистического психоза для осуществления своих
враждебных« миру и безрассудных политических планов.
Конечно, мы далеки от желания навязать Вендлянду
марксизм.-ленинизм, хотя на самом деле в наши дни нет
лучшей мировоззренческой, научной и этической позиции
для гуманиста, чем позиция Маркса, Энгельса, Ленина
и позиция коммунистических и рабочих партий. Если
Вендлянд всерьез считает службу в церкви
несовместимой с прославлением средств массового уничтожения,
то он должен понять, что нельзя сеять ненависть против
оплота мира, нельзя считать социализм воплощением
абсолютного зла и клеветать на коммунистов как на
неистово все разрушающих сумасшедших1. Тем самым он
не только ставит истину на голову, но и оказывает
поддержку агрессивным империалистическим силам и
подрывает главную опору движения за мир — единый фронт.
Таким образом, объективно Вендлянд объединяется с
милитаристскими и реваншистскими силами боннского
государства, которые перед волей большинства
западногерманских трудящихся к миру демагогически
маскируются мирными лозунгами под знаменем
антикоммунизма. Очевидно, еще в прошлом Вендлянд не только был
одурачен такой демагогией. В своем учении о
государстве, направленном против буржуазно-либеральной и
социалистической демократии, он, недвусмысленно
ссылаясь на Гитлера, покрывает агрессивные
империалистические намерения и усматривает в фашистском
государстве «справедливый и мирный строй», от
которого он ожидал новой организации Европы как
«федерации смежных жизненных потребностей и требований о
восстановлении чести», как установления союза
государств, единство которого представляется «немцами»2.
1 Так, например, простым религиозно верующим людям
Вендлянд предрекает, что при социализме они «айдут «ад» и попадут
в «руки великого разрушителя, перевертывающего все вверх дном,
дьявола». Над этим царством антихристов господствует якобы
«общество грешных людей», которых «ни бог, ни смерть не могут
освободить от греха». (См. H.-D. W е n d 1 а n d, Christliche und
kommunistische Hoffung, в: «Marzismusstudien», Erste Folge,
S. 225, 228, 231.)
2 См. H.^D. W e n d 1 a n d, Reichsidee und Gottesreich, Jena,
1934, S. G4 ff.
35
В появившейся до 1933 г. статье по философско-теологи-
ческим и социально-политическим вопросам Вендлянд
выступает против рабочего движения и его марксистского
мировоззрения. Он требует от рабочего движения
сохранения всех «угодных» богу условий» капитализма и в
период подъема революционного рабочего движения
в Германии в связи с экономическим кризисом
ориентирует господствующие классы на «сильное государство»,
которое должно остановить «распад общества»,
ликвидировать непригодный «либеральный капитализм» с
помощью «новых общественных форм» и критиковать
«большевистский социализм» как «религиозный
социализм». Уже тогда он боролся против «самозаточения» и
«самоабсолютизации» (то есть самостоятельности и
революционной независимости) рабочего и профсоюзного
движения как опасного «социального мессианизма» и в
появившейся в 1933 г. статье «Социальное содержание
реформаторской проповеди»1 пытался развить своего
рода социальную программу сочувствующих фашизму
сил евангелического духовенства. Его концепция — «все
реальные общества» «управляютря законом
неравенства», государство «насильно» связано с «естественным
обществом», и поэтому христианин должен
«содействовать тем движениям, которые возникли на основе
государства и экономики, которые, следовательно, учитывая
разложение естественных обществ, признали эту
задачу»2,— была отказом от буржуазной демократии,
поощрением фашистов и попыткой привести христиан к
фашизму. Работа Вендлянда «Идея государства и
государство бога» (1934) и по замыслу и по исполнению
является еще более антидемократической и явно
антикоммунистической, чем работа «Социальное содержание
реформаторской проповеди». «Идея государства» в
идеологически-политическом отношении основывается на
фашистской, антикоммунистической платформе с явно
антисемитскими тенденциями.
Во времена нацистского господства
антикоммунистическая идеология Вендлянда не нуждалась в
маскировке под утонченную, якобы научную критику марксизма,
которая в настоящее время необходима для империа-
1 H.-D. W е n d 1 а n d, Der soziale Gehalt der- re form a-tori sehen
Verkündigung, Berlin^Spandau, 1933.
2 См. там же, разделы 3, 4, 7 и особенно стр. 29 и ел.
36
Листической буржуазии» и которая свойственна
клерикальным фальсификаторам Маркса. В то время Венд-
лянд в стиле «Фелькишер беобахтер» мог выступить
против марксизма как якобы наиболее резко
выраженного «учения об ожидании конца», просто проводя
параллель между марксизмом, понимаемым как
эсхатология, и антихристианским мессианством иудейства,
подстрекая людей, которых фашизм отравил
антисемитским ядом, к выступлению главным образом против
учения Карла Маркса. «Конечная причина столетнего
ожидания конца,— пишет Вендлянд,—...лежит в
приговоре иудейства Христу. Здесь родился
антихристианский мессианизм. Если исследования последних лет
вновь и вновь наталкиваются на удивительное сходство
с иудаизмом надежд современной Западной Европы и
прежде всего марксистского социализма на последнее
государство, то причина этого в том, что благодаря
отступничеству от Христа ожидание будущего от Европы
стало иудейским. В приговоре Христу неразрывно
связаны либеральные утопии, социалистическое последнее
государство и» мессианизм иудейства, отсюда исходила
притягательная сила либерализма для иудейства,
отсюда стало возможным, что основная форма социализма
была обоснована еврейским мыслителем» К Но тогда
была рождена не только эта высказанная в
антисемитском духе мысль о мнимом мессианстве у Маркса,
которую сегодня в «Марксизмусштудиен» Вендлянд
повторяет без антисемитски« изречений. Мы находим уже
и пролетариат в роли «неверного мессии», и
клерикально-фашистские нападки на всемирно-историческую
освободительную миссию рабочего класса. Сегодня, как
и прежде, Вендлянд использует клерикальные методы
фальсификации, клеветнически представляя
эмансипацию человека как «учение антихриста», а диктатуру
пролетариата — как «его тысячелетнее царство»2.
Поэтому заведомо нельзя принимать как
«объективное изложение» и «научную критику» нападки на
марксизм-ленинизм со стороны человека, который во времена
варварского преследования коммунистов,
буржуазных демократов, евреев >и истинных христиан в Гер-
1 H-D. W е n d 1 а п d, Der soziale Gehalt... 28 (см. ранее
стр. 15—26).
2 Там же, стр. 28.
37
мании боролся против демократии Веймарской
республики как «слабого и искусственно раздуваемого
расцвета» х либеральных утопий и призывал муки ада на
«марксюстско-социалистические утопии» как
«рационализацию европейских пророчеств эмансипированными и
просвещенными евреями XIX века»2 и в то же время
принимал и, теологически приукрасив, распространял
миф нацистов о крови и земле, фашистскую «идеологию
коллектива и вождя» с ее ненавистью «к отравлению
крови в результате смешения с чужими»3. Что же
касается слов Вендлянда против применения орудий
массового уничтожения, то следует спросить, в какой
степени в них еще содержится «идея мира» его концепции
государства, которая хотя и не поддерживает
«разрушение наций и народов», их «ярость друг против
друга»4, однако отвергает мысль о равенстве «в
отношениях наций друг к другу» и «мирную идею Женевы»
(союза народов) и выступает за
германско-империалистический «мирный строй» «неравенства членов «всего
строя» и «призыв руководящей нации не только для
самих себя, но и для народов вс;его мира». Это, по
существу, есть не что иное, как идея наднациональной
Европы под руководством германского империализма,
которую сегодня, как и раньше, должна осуществить
война, что и означает применение средств массового
уничтожения, миллионы смертей и уничтожение целых
народов, стран и культур.
Таково политическое лицо клерикальных критиков
Маркса. Они не имеют никакого права выступать в
качестве защитников истины, науки и прогресса. В той
или иной степени они стояли» и стоят на стороне
исторически отживших общественных сил, которые приносили
немецкому народу только бедствия и нищету и которые
не могут дать немецкой нации никаких мирных
перспектив.
Да и кто мог ожидать, чтобы они сказали что-то
прогрессивное в области теории? Здесь и
обнаруживается их политическая линия, в их теоретическом
облике мы находим их политическую физиономию.
1 H.-D. W е n d 1 а п d, Der soziale Gehalt... S. 27.
2 Там же, стр. 28.
3 Там же, стр. 38—39.
4 Там же, стр. 70.
Глава вторая
ОТНОШЕНИЕ МАРКСИЗМА К СВОИМ ФИЛОСОФСКИМ
ИСТОЧНИКАМ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ КЛЕРИКАЛОВ
В своем стремлении привести в негодность мар-
ксизм-ленинизм как теоретическое оружие
революционного рабочего класса клерикальные критики Маркса
пользуются разнообразными методами фальсификации.
Один из их наиболее излюбленных и наиболее
распространенных трюков заключается в том, чтобы
ранние работы К. Маркса и» Ф. Энгельса как «собственно
марксизм» противопоставлять их зрелым трудам. С
помощью якобу «правильной интерпретации» ранних
работ классиков марксизма они пытаются превратить
марксизм в свою противоположность и отрицать
прежде всего его классовый характер. Так, принято
затушевывать все качественные различия в политическом,
теоретическом и методологическом отношениях между
марксизмом и классической немецкой философией. При
этом в насмешку над всеми фактами клерикальные
теоретики приходят к выводу, будто марксизм-ленинизм
есть мистико-спекулятивное,
субъективно-идеалистическое учение. Они приписывают учению Маркса именно
те мистически-религиозные черты, которые, по
существу, свойственны реакционной буржуазной идеологии.
С особым пристрастием ими теологизируется и
дискредитируется диалектический и исторический
материализм как «псевдорелигия», «эсхатология», «утопическое
спасительное учение», «ложное пророчество» и т. п.
При этом не последнюю роль здесь играет желание
приукрасить антикоммунизм с помощью религии,
представить его как научно обоснованное учение. Поноше-
39
ние марксизма как ложной религии, следовательно как
«религии сатаны», призвано породить среди
трудящихся-христиан религиозно-фанатические настроения и
убедить их в том, что марксизм нужно истребить как
«религию сатаны». Однако прежде всего эта теологи-
зация направлена на то, чтобы научное марксистское
обоснование объективно-закономерного процесса
неизбежного перехода от капитализма к социализму в
мировом масштабе низвести до уровня недоказуемого,
субъективистского постулата веры.
Другой фальсификаторский трюк состоит в том,
чтобы сконструировать противоречия между Марксом и
Энгельсом или же между Марксом, Энгельсом и
Лениным. С Энгельса якобы началась догматизация
марксистской теории, и вследствие этого Ленин будто бы
изучал и претворял в действительность такую
коммунистическую теорию и практику, которая-де отрицала
«гуманистическое» наследие Маркса. В этих безуспешных
попытках истолковать Маркса в интересах
монополистического капитала клерикальные фальсификаторы
марксизма очень часто противоречат друг другу, и не
нужно большого ума, чтобы, например, Гоммеса
опровергнуть Веттером и наоборот.
Почти все без исключения клерикальные критики
Маркса истолковывают марксизм как простую
филиацию идей. Маркса превращают в гегельянца,
безнадежно запутавшегося в диалектической конструкции
Гегеля, в «антрополога» фейербаховского типа или
одновременно в то и другое. Решительная критика Марксом
Гегеля и Фейербаха и его последовательное диалекти-
ко-материалистическое учение, вытекающее прежде
всего из анализа объективной действительности,
сознательно игнорируется или фальсифицируется. Хотя
взгляды клерикальных фальсификаторов относительно
приоритета Гегеля или Фейербаха в их влиянии на
Маркса очень «зменчивы, целевая установка, по
существу, остается та же. Замалчивание или отрицание того,
что Карл Маркс последовательно преодолел
гегелевский идеализм и фейербаховский антропологизм,
призвано отвергнуть научный, пролетарско-революционный
и качественно новый характер марксистского
гуманизма.
Таким образом, как католические, так и евангеличе-
40
ские эксперты по фальсификации и искажению Маркеа
стремились главным образом к тому, чтобы превратить
в свою противоположность мировоззренческие основы
марксизма. Левит и Гоммес, Ландгребе и Тир и др.
начинают прежде всего с бессовестного искажения и
извращения действительного отношения Маркса к Гегелю
и к Фейербаху и, следуя далее, ставят на голову
действительное отношение марксистской философии к ее
теоретическим источникам. Объясняя в дальнейшем
смысл и цель этих действий, мы не будем подробно
касаться всех многообразных, часто разнородных и
противоречивых «аргументов», с помощью которых
католические и евангелические критики Маркса пытаются
обосновать свою фальсификацию основ марксистской
философии. Вместо этого мы попытаемся дать схему,
по которой действуют как те, так и другие, несмотря
на многочисленные различия между ними в деталях.
Только таким образом можно будет выявить единую
философскую и политическую линию, проходящую
через всю клерикальную фальсификацию Маркса.
1. Гегельянизированный Маркс
Что же, собственно, замышляют клерикальные
эксперты Маркса, когда они с таким рвением берутся
за якобы научное исследование и объяснение
отношения Маркса к Гегелю?
Карл Левит, один из «старых мастеров»
фальсификации Маркса, еще несколько десятков лет тому назад
указал путь, по которому пошло поколение
фальсификаторов марксизма, выступившее в настоящее время на
передний план. В соответствии с этим мы сначала
присмотримся поближе к концепции Левита, а затем уже
к тому, что получилось у более молодых апостолов
такого рода исследования Маркса и Гегеля в свете этой
концепции.
В основе системы фальсификации Маркса Левитом
лежит тезис о том, что Маркс якобы «был приведен в
действие» Гегелем. Различие между Гегелем и Марксом
якобы заключается не в кардинально противоположных
принципах их философии, а лишь в выводах, которые
они сделали из одного и того же принципа, то есть в
41
способах его применения. В то время как для Гегеля
мир представлялся еще как единство разума и
действительности, вследствие чего действительность в
конечном счете оказывалась разумной, у Маркса якобы
«разумный мир» Гегеля раздвоен и разделен на «бога
и мир».
Упорядоченный у Гегеля мир, согласно Марксу,
пребывает в совершенном «беспорядке». Поэтому Маркс
якобы усматривал задачу будущего в том, чтобы с
помощью понятий гегелевской философии —
«безграничный» и «верующий в силу» — этот еще неразумный мир
«сконструировать» коммунистически.
Таким образом, Маркс-де вполне разделял с
Гегелем основную идеалистическую позицию, согласно
которой действительный мир есть продукт развития идеи,
разума и т. д.; только результаты, к которым они оба
пришли, якобы различны. Следовательно, в том, что
касается основ его мировоззрения, Маркс оставался
«вполне гегельянцем» и лишь развивал философию
Гегеля чуждым ее первоначальному смыслу образом К
Таков Левит. Как же подходят к вопросу об
отношении Маркса к Гегелю другие, в настоящее время
видные клерикальные фальсификаторы Маркса? Со
стороны католиков прежде всего Якоб Гоммес, профессор
философии Высшей философско-теологической школы в
Регенсбурге, предпринял большие усилия для
доказательства того, что католическая фракция «критиков
Маркса» в фальсификации отношения Маркса к Гегелю
не только не отставала от своих евангелических коллег,
но, наоборот, старалась и здесь выйти на первый план.
Если вдуматься в толкование Левита, то тотчас же
бросается в глаза, как удивительно «ново» «открытие»,
которое, как полагает Гоммес, он сделал, заявляя:
«Под обликом вождя рабочего движения с его научно-
экономическим и социальным анализом и
политическими лозунгами мы открываем (!) сегодня (!) в Марксе...
необычайно последовательного (!) сторонника того ми-
стическо-диалектического учения (!), исходя из
которого Гегель видит, что между человеком, с одной сторо-
1 К. L о w i t h, Von Gegel zu Nietzsche. Der revolutionäre Bruch
im Denken des neunzehnten Jahrhunderts. Marx und Kierkegaard,
Vierte Aufgabe, Stuttgart, 1958, S. 149, 152, 178, 302, 338.
42
ны, и предметным миром —с другой, восходит, как
новое солнце его бытия, деятельное единство обоих» К
К тому, что для Гоммеса не взошло солнце, когда он
сделал это «открытие», и тем более «новое», мы еще
вернемся.
'Во всяком случае, он считает нужным вновь и вновь
заверять: «Этот основной диалектический взгляд на
действительность и место в ней человека является у
Маркса общим с Гегелем, несмотря на всю его критику
Гегеля»2. Собрату Гоммеса по вере Бохенскому не
приходит в голову ничего лучшего, как заявлять, будто
Маркс и Энгельс пытались осуществить синтез двух
философских систем XIX века: «...диалектики Гегеля
и естественнонаучного материализма3. Хотя
коммунисты и упрекали Гегеля в идеализме, «однако
полностью... заимствовали диалектику. Коммунизм, по
существу, есть гегельянство»*. Иезуитский патер Веттер,
методы которого в этом отношении отнюдь не
тождественны методам Гоммеса и других его клерикальных
соратников по нападкам на марксистское мировоззрение,
в принципе согласен с ними в том, что Маркс якобы
пришел «к концепции материалистического понимания
истории и требованию коммунизма благодаря
использованию как гегелевской диалектики, так и фейербахов-
ского антропологизма»5.
Представители евангелической церкви из состава
Комиссии по изучению марксизма ничуть не
оригинальнее, чем их учитель Левит и вторящие ему католики.
Например, Ландгребе хочет убедить в том, что Маркс
получил «масштаб» для оценки исторически« явлений
не из анализа общественной действительности, а якобы
«от Гегеля»6.
Так, Маркс будто бы пришел к обоснованию
исторической роли пролетариата не на основе исследования
1 J. Hommes, Kriese der Freiheit, Hegel, Marx, Heidegger,
Regensburg, 1958, S. 141.
2 Там же, стр. 144.
3 «Handbueh des Weltkommunismus», S. 25.
4 Там же, стр. 31.
6 G. A. Wetter, Der dialektische Materialismus. Seine
Geschichte und sein System in der Sowjetunion, Freiburg, 1953, S. 32.
6 L. Landgrebe, Das Problem der Dialektik, в:
«Marxismusstudien», Dritte Folge, Tübingen, 1960, S. 44.
43
капиталистической действительности, а, наоборот,
благодаря тому, что он применил категории гегелевской
диалектики к этой действительности; отсюда Ландгребе
делает вывод, что нельзя говорить о миссии
пролетариата, закономерно вытекающей из исторического
развития, поскольку диалектическое движение истории
существует якобы только в представлении Маркса, которое
он «уже с самого начала осуществил в своем анализе
общественной действительности» К
Наконец, послушаем еще, как в принципе
представляет себе отношение Маркса к Гегелю Эри« Тир,
который точно так же хотел бы создать о себе
впечатление, что он глубокий знаток Маркса. Однако подобные
причитания уже не захватят врасплох. Утверждение
Тира, будто Маркс из «прошлых мыслей» — имеются в
виду мысли Гегеля — пытался построить «мир дела», не
содержит ничего такого, что другими словам» не
высказали бы Левит, Ландгребе, Гоммес, Бохенский
и др. \ В чем же различие между Левитом, Бохенским
или Веттером и Тиром, вещающим, будто Маркс
пришел к исторической перспективе бесклассового
общества только благодаря тому, что#у Гегеля содержалось
требование осуществления «нравственной» идеи?3
Подводя первые итоги, следует отметить, что
клерикальные фальсификаторы Маркса в полном соответствии
с буржуазной историей философии (Представляют
отношение Маркса к Гегелю только в плане истории идей.
Следовательно, с самого начала они пытаются
представить дело так, будто развитие идеологии в общем и
развитие философских идей в особенности происходило
таким образом, что последующее в известной степени в
силу «внутренней закономерности развития» духа в его
«логическом саморазвитии» вытекает из предыдущего,
так что одно «порождает» другое. Следовательно,
читателю навязывается идеалистическая точка зрения,
согласно которой общественные идеи возникают не как
продукт отражения объективных, материальных общест-
1 L. Landgrebe, «Marxismusstudien», Dritte Folge,
Tübingen, 'I960, 'S. 46.
2 См. K. Marx, Nationalökonomie und Philosophie. Mit
einleitenden Kommentar über Anthropologie des jungen Marx nach den
Pariser ökonomisch-philosophischen Manuskripten von Erich Thier,
Köln und Berlin, 1950, S. 17.
3 Там же, стр. 50—51.
44
венных отношений и процессов, а, наоборот, определяют
действительное историческое развитие.
Однако в данном конкретном случае, помимо всего
прочего, пытаются представить дело таким образом,
будто бы марксистское мировоззрение и его выводы,
представляющие собой радикальный отказ от всякого
идеализма, а следовательно, его прямую
противоположность, само является лишь продуктом «прошлых
мыслей». Клерикальные фальсификаторы Маркса
полагают, что им не стоит большого труда опровергнуть
марксизм, даже детально разобраться в его сущности.
Пытаясь свести Маркса к Гегелю, они надеются
создать платформу, опираясь на которую можно будет
совершить следующий фокуснический трюк — представить
сам марксизм как по существу «идеалистический».
Например, утверждение Бохенского о том, что «хотя
коммунисты отбросили идеализм Гегеля», но «полностью»
заимствовали его диалектику, сводится к тому, что
признание, содержащееся в первой части фразы,
устраняется второй его частью. Ибо «полностью
заимствовать» гегелевскую диалектику — значит также
«полностью заимствовать» и идеализм Гегеля.
В действительности же развитие философской
мысли может быть научно объяснено только исходя из
потребностей общественной практики, которую она
отражает и которой она служит. С тех пор как
существуют классы и классовое общество и пока классовая
борьба является решающей силой исторического
развития, философские учения выражают интересы
борющихся классов. Их идейное содержание отражает
коренные потребности того или иного класса или классов.
Только исходя из этого марксистского положения,
можно правильно объяснить истинное содержание филосог
фии, ее общественные функции ю т. д. Поэтому и ее
связь с определенным мыслительным материалом
обусловливается классовыми задачами и определяемым
ими характером философии; только таким путем можно
прийти к ее научному пониманию. В письме к Мерингу,
из которого мы в виду принципиального значения этой
критики для рассматриваемого нами вопроса хотели бы
привести довольно большую выдержку, Энгельс,
предваряя нас, дал меткую ироническую критику и
разоблачил исходные историко-идейные позиции всей клери-
45
кальной фальсификации Маркса. Энгельс писал об
идеологах-идеалистах: «Идеология — это процесс,
который совершает так называемый мыслитель, хотя и с
сознанием, но с сознанием ложным. Истинные движущие
силы, которые побуждают его к деятельности, остаются
ему неизвестными, в противном случае это не было бы
идеологическим процессом. Он создает себе,
следовательно, представления о ложных или кажущихся
побудительных силах. Так как речь идет о мыслительном
процессе, то он и выводит как содержание, так и
форму его из чистого мышления — или из своего
собственного, или из мышления своих предшественников. Он
имеет дело исключительно с материалом
мыслительным; без дальнейших околичностей он считает, что этот
материал порожден мышлением, и вообще не
занимается исследованием никакого другого, более
отдаленного и от мышления независимого источника. Такой
подход к делу кажется ему само собой разумеющимся,
так как для него всякое человеческое действие кажется
основанным в последнем счете на мышлении, потому
что совершается при посредстве мышления.
Исторический идеолог (исторический означает здесь
просто собирательный термин для понятий:
политический, юридический, философский, теологический,—
словом, для всех областей, относящихся к обществу, а не
просто к природе) располагает в области каждой науки
известным материалом, который образовался
самостоятельно из мышления прежних поколений и прошел
самостоятельный, свой собственный путь развития в
мозгу этих следовавших одно за другим поколений.
Конечно, на это развитие могут воздействовать в качестве
сопутствующих причин и внешние факты, относящиеся к
этой или иной области, но факты эти, как молчаливо
предполагается, представляют собой опять-таки просто
плоды мыслительного процесса, и таким образом мы
все время продолжаем оставаться в сфере чистой
мысли, которая "как будто благополучно переваривала
даже самые упрямые факты.
Именно эта видимость самостоятельной истории
форм государственного устройства, правовых систем,
идеологических представлений в любой области прежде
всего и ослепляет большинство людей. Если Лютер и
Кальвин и «преодолевают» официальную католическую
46
религию, а Гегель — Канта и Фихте... «преодолевает»...
то это — процесс, который остается внутри теологии,
философии... и вовсе не выходит за пределы мышления.
А с тех пор как к этому прибавилась буржуазная
иллюзия о вечности и абсолютном совершенстве
капиталистического производства,— с этих пор даже
«преодоление» меркантилистов физиократами и Адамом Смитом
рассматривается как чистая победа мысли, не как
отражение в области мышления изменившихся
экономических фактов, а как достигнутое, наконец, истинное
понимание неизменно и повсюду существующих
фактических условий» К
Более точно нельзя было бы разоблачить «молчали-
ное соглашение», на основе которого клерикальные
фальсификаторы Маркса стремятся представить факты,
на базе которых возник марксизм, «просто плодами
мыслительного процесса». Разумеется, эти факты так
же мало удобоваримы для их мыслей, как и для всех
других идеалистических фальсификаторов Маркса.
Яснее, чем словами Энгельса, вряд ли можно определить
ту наглость, с которой именно марксизм, положивший
конец всякому историко-идейному способу рассмотрения
и доказавший, что новые мысли происходят не из
«прошлых мыслей», пытаются представить как продукт
гегельянства. Говоря словами Энгельса, по версии
клерикальных фальсификаторов Маркса, Маркс якобы также
«преодолел» «Гегеля», как в свое время Гегель
«преодолел» «Канта и Фихте»; соответственно и марксизм не
выходит в таком случае «за пределы мышления».
Если задаться вопросом о смысле таких подтасовок,
то сразу же выясняется, что с их помощью
клерикальные фальсификаторы Маркса преследуют явное
намерение отрицать антагонистическое противоречие между
буржуазной и пролетарской идеологиями, отрывая как
марксистскую, так и гегелевскую философию от их
классовой основы и вообще лишая их тем самым их
классового характера. Следовательно, они стремятся
априори отрицать качественное отличие марксистского
мировоззрения от любой формы буржуазного
мировоззрения, отрицать революцию, совершенную марксизмом
в истории мысли.
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 39, стр. 83—84.
47
Таким образом, Маркс представляется как обычный
философ среди других философов, вследствие чего
революционная сущность его философии с самого начала
оказывается притуплённой !.
Однако, как мы видим, всего этого недостаточно
клерикальным фальсификаторам Маркса. Путем
сведения марксизма к гегельянству, кроме того, преследуется
цель создать впечатление, будто вообще не было
никакого марксистского философского материализма, будто,
напротив, Маркс никогда не оставлял позиций
философского идеализма и поэтому будто бы его
революционная диалектика является идеалистической,
спекулятивной.
Таким образом, читателя пытаются убедить не
только в том, что Маркс якобы вообще никогда не выходил
за рамки сферы влияния буржуазной мысли, но, кроме
того, его стараются заставить поварить и в то, что
Маркс-де остался философским идеалистом. Это
равносильно утверждению, что обоснование Марксом
подлинно материалистического и научного пролетарского
мировоззрения было лишь фиктивным тезисом
коммунистов, которые выдвинули его ив чисто прагматических
соображений, чтобы, так сказать, лишний раз
оправдать как научно обоснованные свои политические
действия и свои политические цели.
Попытки клерикальных фальсификаторов Маркса
превратить его в гегельянца, а диалектический и
исторический материализм низвести до уровня
идеалистической мыслительной конструкции), которой ничто не
соответствует в действительности, имеют вполне
определенную цель. Этим путем философские основы
марксизма представляют так, что весь марксизм, и прежде всего
его анализ капитализма, марксистское учение о
классах и классовой борьбе, о пролетарской революции),
диктатуре пролетариата и коммунизме,
дискредитируется как якобы* произвольная конструкция. Тогда
остается лишь учение, которое изобретено, собственно, для
того, чтобы «преступным образом» совершить насилие
над «богом данным строем», то есть над «вечностью и
конечной И1Нстанцностью» капитализма.
1 D. В е г g п е г, W. Jahn, Der Kreuzzug der evangelischen
Akademien gegen den Marxismus, Dietz Verlag, Berlin, 1960,
S. 59—60.
48
Основываясь на таких историко-философских
манипуляциях, Левит, например, считает правомерным
утверждать, что «экономическая теория» Маркса находится
в «коренной связи... с гегелевской философией», главное
свидетельство чего он видит в экономическо-философ-
ских рукописях Маркса. Маркс якобы просто
заимствовал категории Гегеля и затем особенно «наглядно»
применил их в «Капитале». Выводы, которые он хочет
отсюда сделать, сформулированы в фразе:
«Коммунизм» также сконструирован с помощью понятий
гегелевской философии» !. Ту же самую цель, как известно,
преследуют и Гоммес, Бохенский, Веттер, Ландлребе и
Тир, которые приписывают Марксу гегелевский
идеализм и, исходя из этого, мелют вздор о том, что за
«научным экономическим и социальным анализом и
политическими лозунгами» Маркса стоит
«мистически-диалектическое учение» Гегеля (Гоммес), что «коммунизм,
по существу, есть гегельянство» (Бохенский).
В качестве следующего примера прямо-таки
удивительного единообразия, характеризующего тенденцию,
линию клерикальной фальсификации Маркса, здесь
следует снова привести Эриха Тира, который почти в тех
же словах, что и Левит, стремится провести свой
основной тезис, будто Маркс в течение всей своей жизни
оставался гегельянцем. Этот тезис он также проводит
прежде всего благодаря тому, что научный анализ
характера и движущих сил капиталистического способа
производства, содержащийся в политической экономии
капитализма Маркса, стремится обесценить тем, что
представляет «Капитал» Маркса как результат
применения спекулятивной диалектики Гегеля к явлениям
капиталистической действительности. «Капитал» якобы
построен по «логической структуре Гегеля», и при
исследовании таких типичных для капитализма явлений,
как конкуренция, Маркс будто бы исходил не из £амих
этих явлений, а из гегелевских спекуляций, касающихся
отношения сущности и явления. По этому шаблону он
якобы затем построил капиталистический мир таким,
каким он хотел его видеть. Когда Маркс открыл
противоречия капиталистического мира, в частности основное
классовое противоречие между трудом и капиталом,
1 К. L ö w i t h, Von Hegel zu Nietzsche, S. 295, 302.
3-424
49
пролетариатом и буржуазией, то он якобы тем самым
вскрыл не действительно существующие противоречия,
а лишь отдал должное гегелевским спекуляциям,
согласно которым только сущность и явление заключают
в себе противоречие, и тем самым «расколол» подлинно
«гармонический» капиталистический мир на резкие
противоречия. Таким образом, «из противоречия между
бытием и сущностью» для Маркса появилась «возможность
социальной революции как исторического дела»1.
В соответствии с этим все клерикальные
фальсификаторы Маркса изобрели формулу, будто Маркс
является гегельянцем и, следовательно, идеалистом,
именно с той целью, чтобы представить революционное
содержание и революционные выводы марксизма как
чуждые и даже враждебные науке. Политический смысл
этих махинаций очевиден: кто признает себя
сторонником марксизма, кто борется за пролетарскую революцию
и коммунизм, должен быть заклеймен как «опасный
соблазнитель», как поборник «произвола и насилия». Тем
самым клерикальные фальсификаторы Маркса с их
якобы научными рефлексиями об отношении Маркса к
Гегелю на деле предприняли попытку философски
оправдать антикоммунизм со всеми его политическими
выводами. Конечно, не все эти выводы в равной мере
сделаны ими самими. Однако для нашего исследования
это и неважно. В данной связи важно установить тот
факт, что все они объективно помогают тому, чтобы
дать агрессивному боннскому милитаризму философска-
теоретические аргументы и оказать ему поддержку. При
этом напрашивается вопрос: как могут люди, сами
стоящие на почве религиозного мировоззрения, приписывать
Марксу только идеализм, затем упрекать его в этом
идеализме и философски обосновывать отказ от его
учения тем, что оно якобы основано не на правильном
отражении законов природы и общества, а исходит из
абстрактных категорий, которые Маркс заимствовал из
философии Гегеля и с помощью которых он «совершил
насилие» над действительностью?
Кажется, что в этом содержится противоречие. Но
это только кажется. Прежде всего следует сказать, что
1 См. К. Marx, Nationalökonomie und Philosophie. Mit
einleitenden Kommentar... von Erich Thier, S. 50 ff.
50
многие клерикальные фальсификаторы Маркса
представляют дело так, как будто бы они в
противоположность философским идеалистам являются «реалистами»,
как будто бы они «признают природную
действительность человеческой жизни и мира вообще как
таковые» К Тем самым они, конечно, вовсе не хотят
признать материализм. Наоборот. Демагогия заключается
именно в том, что, утверждая, будто природа и
общество «признаются» такими, какими они действительно
являются, клерикалы в то же время не дают материали«-
стического ответа на основной вопрос философии. Более
того. Все их разговоры о «реализме» должны служить
именно тому, чтобы обойти основной вопрос
философии— вопрос о том, что является первичным, материя
или сознание, и попытаться доказать, что сама
постановка этого вопроса неправильна. По мнению
клерикальных идеологов и философов, для философии
принципиально важно решить вопрос не о том, что первично —
материя или сознание, представления, восприятия, идеи
и понятия, а вопрос о том, признается или нет бог как
prima causa, как «первопричина... ю вместе с тем как
первоначальная основа и опора всех вещей», равно как
и человеческого сознания, которое всегда связано с
материей2. Но тот, кто стоит на почве христианства,
должен в дальнейшем признать и мир как «творение бога».
Это именно то, что, например, думает Гоммес, когда он
так горячо отстаивает «единственную сущность»,
«качественное постоянство», «подлинность» и т. п. вещей
природы3. По видимости, в противоположность
философскому идеализму явления действительною
материального мира выдаются не просто как воплощения идей
и категорий, а оставляются в их качественном
постоянстве как материальные явления. В действительности же
материя, как и для любой формы идеализма, в
конечном счете превращается в продукт идеального
принципа, а именно «бога». Кроме того, признание
качественной неизменности всех вещей и явлений природы и
общества возводится в условие признания их
«качественного постоянства», например их божественного
происхождения.
1 J. Hommes, Krise der Freiheit, S. 79.
2 Там же, стр. 83.
3 Там же, стр. 263—265.
3*
51
Таким образом, для клерикальных идеологов
существует только одна альтернатива: кто разделяет их
точку зрения, тот «реалист», кто не делает этого, кто
защищает тем или иным образом «спекулятивную» точку
зрения, тот «нереалист» и создает неправильную
картину мира.
Прибегая к этим уловкам, клерикальные
фальсификаторы Маркса ошибочно полагают, что они
обеспечили себе необходимое прикрытие с тыла, чтобы без
ущерба для своей собственной идеалистической точки зрения
нападать на приписываемый Марксу «идеализм». Их
мнимая философская альтернатива «реализма» и
«нереализма» вполне соответствует надуманной
противоположности «религии» и «псевдорелигии!» как якобы
единственно подлинной идеологической альтернативы. Таким
образом, все фальсификаторы Маркса чернят его как
«основателя» ложной религии, «религии без бога», как
«Люцифера» или «лжепророка», как воплощенного
«антихриста», надеясь еще настойчивее вселять в головы
верующих христиан «ужас» перед марксизмом.
С помощью таких софизмов марксизму
привешивается ярлык «хилиазма», который в противоположность
христианскому хилиазму «нагло» стремится достигнуть
тысячелетнего царства уже в мире земном. Поэтому для
Левита «Коммунистический манифест» есть не что иное,
как «политическая эсхатология» К Эпигон Левита Тир
откровеннее говорит о том, что имел в виду его
учитель. Присоединяясь к Дирксу, он заявляет: «То, чего
Маркс не осознавал сам, теперь — когда он понят
лучше, чем он сам себя понимал,— стало очевидным: там,
где речь у него идет о человеке, она идет одновременно
и о боге. Молодой Маркс должен оцениваться
теологически» 2. К чему же приводит эта оценка? Неверно
якобы рассматривать Маркса как борца за бедных против
могущественны^, подобно «ветхозаветным пророкам».
Ибо согласно Ветхому завету, день избавления может
быть достигнут только путем «послушания» и «веры»,
путем «смирения». Маркс же является «лжепророком»,
1 К. L ö w i t h, Von Hegel zu Nietzsche, S. 225.
2 E. T h i e r, Etappen der Marxinterpretation, в: «Marsxismus-
studien», Erste Folge, S. 11.
52
так как он взывает ко всем «разрушительным силам»
(читай: к рабочему классу!).
С циничной откровенностью Тир дает здесь свое
собственное понимание «богоугодной» точки зрения на
бедных, эксплуатируемых и угнетенных. Лицемерное
заявление о симпатиях к ним должно успокоить и сделать
их сговорчивыми, заставить «покорно» переносить власть
своих мучителей, отказаться от всякой активной
практической борьбы за свое освобождение и предпочесть
пустые обещания лучшей жизни в потустороннем мире.
Если бы Маркс придерживался этой линии, то он
снискал бы милость Тира и др. Но так как он
разъяснял рабочему классу, что его освобождение может быть
только его собственным делом и требовал от него
революционной активности, он тем самым совершал нечто
непростительное с точки зрения клерикальных
фальсификаторов Маркса и всех апологетов капиталистической
эксплуатации; поэтому они порочат Маркса как
«лжепророка», которому рабочие-христиане не должны
верить, клевещут на сам революционный рабочий класс,
называя его «разрушительной силой». Гоммес с
характерной для него откровенностью и последовательностью
при фальсификации Маркса также присоединяется к
этой «главной мысли» клерикальных критиков Маркса К
2. Ужас перед «земной диалектикой»
Выше мы показали, что клерикальным
фальсификаторам Маркса в их стремлении представить Маркса
как гегельянца и идеалиста важно было прежде всего
разделаться с революционным содержанием,
революционной сущностью марксизма как якобы «лжеучением» и
«лжепророчеством». Поэтому нападки на марксистский
материализм с точки зрения философской направлены
прежде всего на дискредитацию материалистической
диалектики. Отсюда ядром всех их усилий,
направленных на то, чтобы превратить Маркса в идеалиста,
является общая для всех клерикалов тенденция
отождествления марксистской диалектики с гегелевской.
1 См. J. Hommes, Krise der Freiheit, S. 268—269.
53
. Утверждение Левита, будто Маркс «приведен в
действие» Гегелем, означает на деле то же самое, что
прямо сформулировали Бохенский, Гоммес и другие
фальсификаторы Маркса, утверждающие, что Маркс якобы
«полностью заимствовал» гегелевскую диалектику, что
он якобы «удивительно последовательный сторонник»
«мистически-диалектического учения» Гегеля и т. п.
Гоммес вполне чистосердечно говорит о том, что
диалектика— конечно, прежде всего марксистская —
представляет для него величайшую неприятность. Он в
замешательстве констатирует, что «сегодня земная
диалектика» проявилась... «с ужасающей силой»1. Поэтому
он и ставит перед собой задачу создать «политический
облик современной диалектики»2.
Этот ужас перед диалектикой он разделяет не только
со своими клерикальными коллегами, но и со всеми
ревизионистами и ренегатами рабочего движения
начиная с Эдуарда Бернштейна. В этой связи
обнаруживается также, что вообще нет ничего нового в том,
чтобы обосновывать страх перед марксистской
диалектикой и отказ от нее тем, что она якобы основана на
своевольном заимствовании и «teкyляpизиpoвaннoм»
применении изобретенной Гегелем схемы. Так, Берн-
штейн не мог удержаться, чтобы не назвать
диалектику «ловушкой» всей марксистской системы,
искусственной схемой, с помощью которой Маркс якобы «выпря-
миш» действительность3. Таким образом, еще Бернштейн
хотел лишить диалектику всякой объективной ценности
и содержания. Для него не было «ничего опаснее»
марксистской диалектики, именно потому что она является
«алгеброй» пролетарской революции.
Сирах перед марксистской диалектикой и для Гом-
меса равнозначен боязни перед пролетарской
революцией и наступлением социализма.
Марксистская диалектика не оставляет места для
признания какойГ-либо «вечной», «проистекающей от
бога» и ведущей к «богу» зависимости человека, так как
она не признает никакого компромисса с эксплуататор-
1 См. J. Hommes, Krise der Freiheit, S. 270.
2 Там же, стр. 8.
3 См. Ed. Bernstein, Dialektik und Entwicklung в: cNeue
Zeit», Stuttgart, Jahrgang 1898—1899, Bd. 2, S. 329, 332.
54
оким строем, который якобы раз и навсегда
предначертан человеку богом и с которым он должен
примириться. Ненависть Гоммеса к диалектике не знает
границ, так как он понимает, что в своем подлинном,
марксистско-ленинском понимании она является
наиболее действенным теоретическим оружием в руках
пролетариата в борьбе за его освобождение. Поскольку
Гоммес решил «создать» то, что он имеет в виду под
«политическим обликом современной диалектики»,
антикоммунистический характер клерикальной полемики
против марксистской диалектики обнаруживается у него
особенно ясно. Диалектика, согласно Гоммесу,
показывает всем «насилие... в отношении человека к миру»,
которое выражается в «очеловечении действительности»
и в «превращении в земное существо или
опредмечивании человека». Эта ложь является у Гоммеса прямым
результатом фальсификации марксистской диалектики.
В своей клевете на диалектику Гоммес доходит до того,
что отождествляет ее с экзистенциализмом Хейдеггера
и прямо называет ее «антигуманистичной», руководством
к «тотальной политике», которая якобы избавляет от
того, чтобы «учитывать данное в природе и истории» !,
и тем самым ясно дает понять, что он намерен
приписать диалектике субъективизм.
Гоммес хорошо понимает, что ему не обойтись
простым приписыванием марксистскому мировоззрению, и
в частности марксистской диалектике, идеализма, но что
в своем философском «обосновании» якобы
антигуманистического и антикоммунистического характера
диалектики он должен пойти еще дальше. Поэтому он не
довольствуется утверждением, что диалектический
материализм является будто бы лишь новым вариантом
гегельянства, что Маркс якобы вместо саморазвития
идеи выдвинул лишь идею саморазвития материи,
которая целенаправленно движется к коммунизму. Гоммес
осознает опасность, грозящую клерикальным
фальсификаторам Маркса, истолковывающим марксизм в духе
объективного идеализма. Ибо хотя они, как известно,
и хотят заставить поверить, будто их религиозная точка
1 См. J. Hommes, Krise der Freiheit, S. 91—92, 257—258,
284.
55
зрения не имеет ничего общего с философским
идеализмом, однако сами они втайне сознают, что это не так, и
отдают себе полный отчет в том, что нападками на
спекулятивный объективный идеализм они подпиливают
сук, на котором сами сидят. Объективный идеализм
всегда исходит из того, что вне и независимо от воли
и сознания людей хотя и существует по существу
своему и «духовный мир», однако такой, в котором все
происходит закономерно, что создает видимость
объективного познания. Поэтому Гоммес считает уместным
довести до крайности фальсификацию марксистской
философии, объявляя ее в целом субъективистской, о чем
еще будет идти речь в третьей главе.
Ответ на вопрос, почему Гоммес считает себя
вынужденным совершать подобного рода причудливые
трюки для создания хотя бы видимости справедливости
его тезиса о насилии и враждебности!
марксистско-ленинской диалектики по отношению к действительности,
сорвался с его собственных уст и, как мы помним,
заключался в страхе Гоммеса перед
марксистско-ленинской диалектикой. Именно та «ужасающая сила»,
с которой сегодня обнаружилась «земная
диалектика», приводит Гоммеса и ему подобных в
замешательство.
Действительность и действенность, объективный
характер самой диалектики — вот что приводит
клерикальных фальсификаторов в отчаяние, и они ищут свое
последнее спасение в формуле: «Того, чего не должно
быть, не может быть». Это и понятно. Разве за
прошедшие годы клерикальные фальсификаторы Маркса не
смогли полностью убедиться в «ужасающей силе
земной диалектики»? Разве история не научила их всему,
что касается диалектики? Они не могли не видеть, что
мировая социалистическая система растет и крепнет.
Те страны, в.которых руководство экономической и
общественной жизнью осуществлялось и осуществляется
якобы с помощью методов произвола, неудержимо идут
вперед по пути к социализму, к благополучию всего
общества и каждого отдельного человека. Советский Союз,
самая передовая социалистическая страна, идет к
коммунизму. Решения последних съездов КПСС и других
марксистско-ленинских партий — в том числе »
Социалистической единой партии Германии — доказывают, что
56
они отнюдь не являются догмами, враждебными
действительности. Их реальный характер, тот факт, что они
правильно оценивают перспективы развития и ставят
правильные задачи, определяется именно тем, что в
основе их лежит знание объективной закономерности
общественного развития, что они правильно отражают
диалектику общественного развития.
С другой стороны, «земная диалектика» приобретает
значение также и благодаря тому, что империализм шаг
за шагом теряет почву под ногами, так что сегодня
даже в кругах империалистической буржуазии
разумные люди не верят больше серьезно в то, что политика
«roll back», насильственного «свертывания»
социалистических стран, имеет какие-либо шансы на успех.
Напротив. Успешное подписание соглашения о запрещении
испытаний ядерного оружия особенно ясно
продемонстрировало, что силы мира и социализма закономерно
получают все больший перевес и могут заставить
империалистов проводить политику мирного сосуществования
с государствами с различным общественным строем.
Политика мирного сосуществования также является,
следовательно, выражением закономерности исторического
развития. Она была и остается генеральной линией
внешней политики марксистов-ленинцев и представляет
собой применение «земной диалектики» к внешней
политике.
Бели взять Германию, то сила, с которой здесь за
прошедшее время проявилась диалектика, была
поистине достаточной, чтобы обеспокоить клерикальных
фальсификаторов Маркса. ГДР не только не была
уничтожена, как предполагали в своих мечтах Гоммес и
другие «реалисты» из круга Комиссии по изучению
марксизма, но начиная с знаменательной даты 13 августа
1961 г. она укрепилась и усилилась в такой море, что
Вальтер Ульбрихт в своем заявлении от 31 июля 1963 г.
мог сказать: «Возросла законная гордость быть
гражданином ГДР, гражданином первого немецкого рабоче-
крестьянского государства, первого немецкого мирного
государства, которое наполнило конкретным
содержанием и осуществило извечное стремление нашего народа
к миру, свободе, равенству и братству. Доверие народа .
к своему рабоче-крестьянскому государству
значительно возросло. Число граждан ГДР, стоящих еще сегодня
57
в стороне, сильно уменьшилось» К Таким образом,
оптимизм и уверенность в победе характеризуют основную
идейную позицию граждан ГДР, в то время как
боннское государство идет от одного кризиса к другому, а
среди западногерманской империалистической
буржуазии распространяются пессимизм, безнадежность и
«большое неудовольствие», основой * которых является
тот же страх перед «земной диалектикой», который
присущ и клерикальным фальсификаторам Маркса.
3. Принижение значения философских традиций
Теперь интересно посмотреть, как думает Гоммес
справиться с проблемой выдать Маркса, которого он
объявил субъективным идеалистом, за «удивительно
последовательного сторонника мистико-диалектического
учения Гегеля». Логически Гоммес должен перейти к
тому, чтобы саму гегелевскую философию сделать
источником субъективизма, приписываемого Марксу, и
заклеймить объективного идеалиста Гегеля так же, как и
субъективных идеалистов. И этот вамысел не причиняет
Гоммесу ни малейших моральных затруднений. Ведь
речь идет о способе, с помощью которого вообще
можно будет оклеветать диалектику, и это делается опять-
таки с целью подвести историко-философскую базу под
клевету на земную диалектику Маркса.
Так, прежде всего Гоммес утверждает, что у Маркса
якобы «гегелевский «дух»... полностью вступил в
трудовые отношения или в процесс производства»2. Маркс
развил «Гегеля в том смысле, что гегелевский дух у
него полностью совпадает с трудом»3. Но что такое, по
Гоммесу, гегелевский дух?
Всему миру известно, что гегелевская философия
исходит из того, что она предполагает в качестве
«творца», «демиурга», мира таинственный «мировой дух»,
какую-то «абсолютную идею» (последняя, как пишет
1 «Bilanz grosser Erfolge — Perspektive des Sieges». Erklärung
des Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokratischen
Republik Walter Ulbricht vor der Volkskammer am 31. Juli 1963, в:
cSchriftenreihe des Staatsrates des DDR», № 3/1963, S. 8.
2 J. H о m m e s, Krise der Freiheit, S. 71, Anm. 90.
3 Там же, стр. 146, прим. 243.
58
Энгельс, «абсолютная лишь постольку, поскольку он
абсолютно ничего не способен сказать о ней»). Эта
«абсолютная», независимая от человека и его воли идея
представляет собой для Гегеля первичное,
определяющее, а материальный мир — производное, вторичное и
созданное ею. У Гоммеса дело обстоит не так: по его
мнению, Гегель хотел понять мир «только исходя из
сущности самого человека». Человек у Гегеля, «его
внутреннее, дух», который он пытается познать,
произошел из мира, который сам является лишь его
отражением и проявлением К Сущность человеческого
наличного бытия, комментирует Гоммес свою «интерпретацию
Гегеля», основана у Гегеля на том, «что человек, к
своему удовольствию, сам произвел себя' ив данного
мира» 2. Но «природа», «данный мир» «первоначально и
по самой своей сути» является у самого Гегеля как раз
«плоть от плоти человека»3. Поэтому она представляет
собой, по Гегелю, только объект для его «внутреннего»,
и поэтому природная действительность образует для
Гегеля только «предметное воплощение осуществления»
«дела» человека; это должно означать —
действительность имеет значение для Гегеля только как продукт
человеческой .мысли 4. Таким образом, гегелевский «дух»
из «мирового духа», из «абсолютной идеи»
превращается в субъективное сознание человека, а
действительность становится его продуктом; тем самым Гоммес
совершил следующий фокуснический трюк:
объективного идеалиста Гегеля он превратил в субъективного
идеалиста.
В действительности же концепция сотворения мира
абсолютной идеей у Гегеля, понимание природы, а
также человеческого общества и его истории как продукта
«деятельности» и как внешней формы развития
«абсолютного духа» является идеалистической фикцией,
«мистически-диалектическим учением», хотя и в совершенно
ином смысле, чем это представляет Гоммес. Энгельс в
своей работе «Людвиг Фейербах и« конец классической
немецкой философии» указывает на то, что в построен-
1 J. H о m m е s, Krise der Freiheit, S. 98.
2 Там же, стр. 99.
3 Там же.
4 Там же, стр. 103.
59
ной Гегелем идеалистической схеме скрыта
действительно «Великая основная мысль,— что мир состоит не из
готовых, законченных предметов, а представляет собой
совокупность процессов, в которой предметы,
кажущиеся неизменными, равно как и делаемые головой
мысленные их снимки, понятия, находятся в
беспрерывном изменении, то возникают, то уничтожаются, причем
поступательное развитие, при всей кажущейся
случайности и вопреки временным отливам, в конечном счете
прокладывает себе путь...» 1 Гоммес хочет поразить
именно эту действительно великую основную мысль
диалектики Гегеля, потому что в ней содержится
революционная сторона гегелевской философии и рациональное
зерно его диалектики. Поэтому Гоммес пытается
извратить диалектическую связь, которую Гегель
устанавливает между природой, человеческим обществом и
мышлением, представляя ее как процесс, совершающийся,
якобы согласно Гегелю, только «внутри»», в «духе»
человека, что он-де и воспроизвел в своем представлении
о развитии мира. Таким образом, диалектика предстает
только и исключительно как игра мыслей, как игра, в
которой «заинтересован» человек.* Следовательно,
заключает Гоммес, важно прежде всего рассматривать
диалектику у Гегеля как метод субъективистского
произвола, насилия человека над природой и вещами и
поэтому развенчать ее как таковую2.
Хотя законы диалектики и был» для Гегеля
законами движения «абсолютной идеи», однако он считал, что
они действуют объективно и независимо от воли и
сознания людей. Но представляя дело таким образом,
будто у Гегеля диалектический процесс развития
происходит только в сознании человека, то есть является
чисто субъективным процессом, Гоммес ошибочно
полагает, что с помощью такого идеалистического
истолкования гегелевской диалектики скорее можно
разделаться и с ее рациональным зерном, причем он пытается
представить его как игру воображения и просто
отбросить как негодное и «абсурдное».
Предпринятый здесь нами сравнительно подробный
анализ концепции Гоммеса вызван тем, что у него на-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 21, стр. 302.
2 См. J. Hommes, Krise der Freiheit, S. 108.
GO
столько ясно выражена общая тенденция клерикальной
фальсификации Маркса — сделать Маркса
субъективным идеалистом,— что становятся очевидными все их
выводы и обнаруживается их реакционная сущность.
Оказывается, что антикоммунисты в их борьбе против
революционного рабочего движения и неудержимого
роста социализма в мире как в политике, так и в теории
не могут останавливаться на том, чтобы клеветать и
нападать на коммунистов и их мировоззрение.
Поскольку мировое коммунистическое движение и его
идеология — марксизм-ленинизм — объединяет в себе все
прогрессивные и гуманистические мысли и стремления
прошлого и современности, клерикалы, кроме того, ведут
борьбу против всего прогрессивного и гуманистического,
независимо от того, кто его выражает, коммунист или
некоммунист, в прошлом или в настоящее время.
Гоммес ясно показывает, как жестоко в интересах
империализма поступает с прогрессивным наследием
своего собственного класса сама современная
клерикальная философия. То, что являлось величайшим
теоретическим достижением ранней буржуазии, а именно
разработка диалектики!, сегодня смешивается с грязью
империалистической буржуазией в ее оорьбе против
прогресса. Клерикальные философы не в состоянии
признать ни одной высказанной в прошлом философской и
гуманистической идеи, не говоря уже о современности,
потому что эти идеи мешают им в их бесчеловечной
борьбе. Эта неспособность защитить великие традиции
немецкого народа превращает их претензию на идейное
руководство нацией в большую дерзость. Вопреки» им
немецкий рабочий класс добился признания своего
права на руководство. В прошлом веке Маркс и Энгельс
в противоположность буржуазии, если говорить о
Гегеле, не обращались с ним как с «мертвой собакой», а
заимствовали то ценное, что содержалось в его
учении,— диалектику — и развили ее дальше, придав ей
научный характер. Теперь это осуществляет немецкий
рабочий класс, который в своем государстве в ГДР, дал
приют всем великим гуманистическим, демократическим
и «прогрессивным традициям немецкого народа.
И если другие клерикальные фальсификаторы
Маркса, например Левит и Тир, не с такой
последовательностью и настойчивостью преследуют цель Гоммеса, то
61
это, вероятно, потому, что они не так беззастенчивы,
как Гоммес, и боятся слишком очевидных извращений.
Конечно, это не делает их вариант фальсификации
Маркса менее безвредным, но помогает им выдавать его
за наиболее достоверный.
Тезис о том, будто марксизм является ложным
«хилиазмом», политической «эсхатологией», служит,
например, Левиту основанием для утверждения, что «об
атеизме верующего самого по себе человека нужно
заботиться... также и для создания мира» 1. Конечно, он
не делает отсюда вывода, что, согласно марксизму,
человек якобы только производит природу и
материальную действительность вообще и производит ее из себя.
Левит ограничивается тем, что приписывает марксизму,
будто он призывает «создавать» и практически
формировать историю по своим в конечном счете
субъективным представлениям об историческом процессе. Левит,
подобно Гоммесу, также пытается подкрепить это
утверждение совершенно извращающим марксизм
истолкованием марксистского положения о том, что люди сами
делают свою историю и что это относится и к
практическому, революционному изменению мира.
Тир более близок, чем Левит, к выдуманной Гомме-
сом фальсификации Маркса. Ибо для Тира, как и для
Гоммеса, не подлежит сомнению, что Маркс не говорит
«больше о человеке как составной части природы», что
он, следовательно, не рассматривает его больше как
составную часть единого материального мира, но что сам
человек, так же, как и природа, в этом смысле
образовали якобы единство, что они оба были предметом
деятельности человека2. Как Гоммес выдумал эту мысль,
мы знаем. Тир отказывается поступать таким же
образом. В частности, он отказывается — подобно Левиту и-
другим фальсификаторам Маркса — включать в такой
форме Гегеля в круг этих спекуляций, с тем чтобы и
его вырядить в субъективного идеалиста.
Остается еще "упомянуть, что ни один из
католических и евангелических «знатоков Маркса», которые
считают своей заслугой знание текстов Маркса, не желает
1 См. К. Löwith, Von Hegel zu Nietzsche, S. 111.
2 См. К. Marx, Nationalökonomie und Philosophie. Mit
einleitenden Kommerntar... von Erich Thier, S. 41—42.
62
и не может принять ту классическую характеристику,
в которой сам Маркс в своем послесловии! ко второму
изданию первого тома «Капитала» ясно и
недвусмысленно обрисовал свое отношение к Гегелю и которую
мы в заключение нашего анализа клерикальной
фальсификации отношения Маркса к Гегелю приводим здесь
подробно. Маркс говорит: «Мой диалектический метод
по своей основе не только отличен от гегелевского, но
является его прямой противоположностью. Для Гегеля
процесс хмышления, который он превращает даже под
именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург
действительного, которое составляет лишь его внешнее
проявление. У меня же, наоборот, идеальное есть нечто
иное, как материальное, пересаженное в человеческую
голову и преобразованное в ней.
Мистифицирующую сторону гегелевской диалектики
я подверг критике... в то время, когда она была еще в
моде... Мистификация, которую претерпела диалектика
в руках Гегеля, отнюдь не помешала тому, что именно
Гегель первый дал всеобъемлющее и сознательное
изображение ее всеобщих форм движения. У Гегеля
диалектика стоит на голове. Надо ее поставить на ноги,
чтобы вскрыть под мистической оболочкой рациональное
зерно.
В своей мистифицированной форме диалектика
стала немецкой модой, так как казалось, будто она
прославляет существующее положение вещей. В своем
рациональном виде диалектика внушает буржуазии и ее
доктринерам-идеологам лишь злобу и ужас, так как в
позитивное понимание существующего она включает в
то же время понимание его отрицания, его необходимой
гибели, каждую осуществленную форму она
рассматривает в движении, следовательно также и с ее
преходящей стороны, она ни перед чем не
преклоняется и по самому существу своему критична и
революционна» !.
То, что диалектика в ее рациональном,
материалистическом виде, по словам Маркса, внушала «злобу и
ужас» «доктринерам-идеологам» буржуазии того
времени потому, что она «по самому существу своему
критична и революционна», можно записать в альбом и клери-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 23, стр. 22.
63
кальных фальсификаторов Маркса настоящего времени
как их последователей и «доктринеров-идеологов»
империалистической буржуазии.
4. Антропологизированный Маркс
В своих экскурсах о философски* источниках
марксизма клерикальные эксперты по Марксу не упускают
возможности высказаться о том, какое представление
они хотели бы внушить своим читателям об отношении
Маркса к Фейербаху. Поскольку они, как мы видели,
определили для себя линию представлять Маркса как
«гегельянца», как идеалиста, даже как субъективного
идеалиста, то это, вполне понятно, причиняет им
некоторое беспокойство в их стремлении выдержать эту
линию и при исследовании отношения марксистской
философии к Фейербаху.
Ведь при этом они встают перед незавидной задачей
объяснить, как «гегельянец Маркс» после выхода в свет
главного сочинения материалиста Фейербаха —
«Сущность христианства», — то есть уже после 1841 г., с
«энтузиазмом приветствовал» содержащееся в нем
воззрение, которое, «несмотря на все критические оговорки»,
так сильно повлияло на него1. Маркса воодушевил
именно тот факт, что Фейербах «снова и без обиняков»
провозгласил «торжество .материализма. Природа
существует независимо от какой бы то ни было
философии. Она есть та основа, на которой выросли мы,
люди, сами продукты природы. Вне природы и человека
нет ничего, и высшие существа, созданные нашей
религиозной фантазией, это — лишь фантастические
отражения нашей собственной сущности»2. «Освободительное
действие этой книги», о котором Энгельс мог сказать,
что оно было настолько сильным, что и Маркс и он сам
«сразу стали фейербахианцами», основывалось именно
на том, что было' снято «заклятие» со спекулятивной
идеалистической системы Гегеля, что с идеалистической
мистикой было покончено3. Следовательно, Маркс
помог философии Фейербаха окончательно освободиться
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 21, стр. 281.
2 Там же, стр. 280.
3 См. там же, стр. 280—281.
64
от влияния гегелевского идеализма, найти свой
собственный путь перехода к материализму, развить
диалектический материализм и «критически преодолеть»
Гегеля. Именно отношение Маркса к Фейербаху
доказывает, что период формирования марксистской
философии характеризовался последовательным переходом
Маркса к материализму и его таким же
последовательным разрывом с идеализмом. Следовательно,
исследование влияния Фейербаха на Маркса включает вопрос
о форме, в которой совершался переход Маркса к
материализму, о том, как Маркс пришел к марксистскому
философскому материализму. Поскольку клерикальные
фальсификаторы Маркса в соответствии со всей их
концепцией, естественно, не могут допустить такой
постановки вопроса, они снова грубо извращают факты.
Учитывая опыт, они пытаются обойти этот вопрос с
помощью того, что они, спрятав голову, подобно страусу,
пытаются просто игнорировать факты и спрятаться за
призрак. В данном случае они рассуждают так: если
мы уже не можем отрицать, что Фейербах оказал на
Маркса серьезное влияние, то мы должны отрицать, что
именно материализм Фейербаха так очаровал Маркса.
Клерикальную интерпретацию отношения Маркса к
Фейербаху мы должны рассматривать только под тем
углом зрения, что и она должна подтвердить, будто
Маркс был гегельянцем. Таким образом, логически
следует, что они могут говорить о Фейербахе в связи с
Марксом только таким образом, чтобы в вопросе об
отношении Маркса к Фейербаху заставить поверить, что
Маркс боролся против философии Фейербаха, и
представить дело«так, что он якобы отказался именно от
того, в чем он был согласен с Фейербахом. Таким
образом, с одной стороны, Маркс объявляется сторонниг-
ком фейербаховского антропологизма, а с другой —
утверждается, что та критика, которой Маркс подверг
материализм Фейербаха, идентична якобы с отказом от
материализма вообще и означала поворот к
гегелевскому идеализму. Таким образом, круг снова сомкнулся и
Маркс опять пришел к Гегелю.
Оба выдвинутые клерикальными фальсификаторами
Маркса утверждения тесно связаны между собой. Тир,
например, хочет заставить поверить в то, что критика
Марксом созерцательного характера фейербаховского
65
материализма, а также неспособность Фейербаха
критически подойти к гегелевской диалектике равнозначна
якобы «приближению к Гегелю» и «отходу от
Фейербаха», причем Тир не оставляет никакого сомнения в
своем желании выдать это за «приближение» к идеализму
и «отход» от материализма К После того как Тир
подискутировал о том, что Маркс признавал действительно
позитивным в фейербаховской философии, а именно его
материалистический ответ на основной вопрос
философии, исходящий из существования объективно
реального, независимого от человека и его сознания внешнего
мира, Тир -считает, что снова открыт путь для того,
чтобы приписать Марксу, будто для него не существовало
именно такого мира, независимого от человека, а
существовал, так сказать, лишь «мир человека» и
единственное, в чем Маркс примыкал к Фейербаху, было якобы
его учение о человеке.
Это означает не что иное, .как «открытие» нового
исходного пункта для обвинения Маркса в
субъективном идеализме. Таким путем Тир приходит к
«признанию», что у Маркса «природу, общество и дух,
составляющие единство... можно понять... как антропологию».
Вслед за Тиром по этой дорожке единодушно шествует
вся команда клерикальных преследователей Маркса.
Гоммес тут как тут со своим утверждением, будто
учение Маркса «вообще определено главным образом
антропологией, «представлением» о человеке». *К этому
присоединяется Веттер, который полагает, что Маркс
заимствовал у Фейербаха идею антропологизма и
применил ее в смысле «божественности человека». И
наконец, Ландгребе вольно рассуждает о том, что Маркс
под «согласием» с Фейербахом понимал то, «что
отныне в центре всей философии должно стоять не
абсолютное, не в себе бытие, а человек, что она должна стать
антропологией».. Это равносильно тому, что для Маркса
предметом философии является не материя,
объективная реальность или, говоря словами Фейербаха,
«природа», а исключительно человек2.
1 См. К. Marx, Nationalökonomie und Philosophie. Mit
einleitenden Kommentar... von Erich Thier, S. 39.
2 Там же, стр. 70; J. Hommes, Der Technische Eros.
Freiburg, 1945, S. 78; G. A. Wetter, Der dialektische Materialismus,
«66
•В следующей главе мы подробно покажем, сколько
усилий потребовалось клерикальным фальсификаторам
Маркса, чтобы «установить», что будто он
рассматривал природу и мир как творение, как продукт
человека, а также объясним, для чего потребовалась эта
клоунада.'Здесь мы лишь укажем на то, что
клерикальная фальсификация Маркса пользуется при этом не
только подлым искажением действительного отношения
Маркса к Гегелю, но и не менее подлым извращением
отношения Маркса к Фейербаху. Как в том, так и в
другом случае мы сталкиваемся ,не только с бесстыдной
фальсификацией самого марксизма, но и его
источников. Ибо нельзя ведь только Марксу приписать, что он
не признавал «абсолютное», «в-себе-бытие», то есть
независимый от человека и его сознания внешний мир, и
подобную бессмыслицу приписывают и Фейербаху.
Следовательно, и в данном случае делается попытка
уничтожить то, что было большим, пдогресеивным и
неизгладимым достижением Фейербаха, а именно тот факт,
что он восстановил материализм в его правах, а заодно
и вклад Фейербаха в развитие материалистической
философии.
Хотя, как мы уже указывали, клерикальная
фальсификация отношений между марксистской философией и
философией Фейербаха и подчинена стремлению
поставить Маркса на одну доску с Гегелем, однако здесь
обнаруживается и свой собственный акцент. Если в
случае об отношении Маркса к Гегелю речь идет о том,
чтобы нанести удар прежде всего по
материалистической диалектике, то в клерикальных рассуждениях об
отношении Маркса к Фейербаху направление удара
проходит прежде всего проти© диалектического
материализма, или, точнее говоря, против исторического
материализма.
При этом даже не говорится о том, что Маркс,
равно как и Фейербах, обвиняются в идеалистическом
ответе на основной вопрос философию. Напротив,
клерикальным критикам Маркса важно поставить под вопрос
основные положения исторического материализма,
когда они утверждают, будто Маркс заимствовал у Фей-
S. 16; L. Land grebe, Hegel und Marx, в: «Marxismusstudien»,
Erste Folge, S. 45.
67
ербаха антропологическую точку зрения. Хотя явно
бессмысленно сводить философию Фейербаха к
антропологизму и затем истолковывать его таким образом, чтобы
обнаружить при этом субъективный идеализм, однако
верно то, что Фейербах не мог распространить
материализм на явления общественной жизни. Правда,
Фейербах— так же, как и Маркс,— исходил из того, что
человек— продукт природы, что он вышел из нее и
поэтому является естественным существом. Однако, как
говорит Энгельс, хотя Фейербах исходит из человека, «но
о мире, в котором живет этот человек, у него нет и
речи, и потому его человек остается постоянно тем же
абстрактным человеком»1. Маркс в своей полемике с
Фейербахом как в «Немецкой идеологии», так и в своих
«Тезисах о Фейербахе», а также и в другой связи
указывал, что человек является не только естественным
существом, что поэтому и отношения людей друг к другу
нельзя сводить к «естественным» отношениям. Но к
этому и сводится фейербаховский антропологизм.
Маркс, наоборот, показал, что человек является прежде
всего общественным существом, что человеческая
сущность представляет собой «совокупность всех
общественных отношений»2. Следовательно, именно в
полемике с антропологическим воззрением Фейербаха,
согласно которому общественные отношения и отношения
людей сводятся к чисто «естественным отношениям», то
есть рассматриваются в то же время и как раз
навсегда данные, неизменные отношения, Маркс развил
исторический материализм, связав материализм с
диалектикой. Что же, собственно, скрывается за
клерикальными потугами растворить исторический материализм
Маркса в фейербаховской антропологии, яснее всего
обнаружится, когда мы займемся вопросом о том, в чем
же сущность марксистского понимания отчуждения и во
что превратили! его клерикальные толкователи.
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 21, стр. 295.
2 К- Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 3.
Глава третья
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ
КЛЕРИКАЛЬНОЙ КРИТИКИ
Ложное истолкование клерикалами отношения
марксистской философии к ее философским источникам
является лишь подготовкой почвы, с которой
клерикальная критика Маркса мыслит подцепить на крючок саму
марксистскую философию. Поэтому она не
ограничивается источниками, а переходит к нападкам на основы
диалектико-материалистической философии), изложенные
Марксом и Энгельсом в их ранних произведениях. Тут
спекулятивный дух клерикальных ревнителей
наталкивается на отношение человека к природе и приходит к
эпохальному выводу, что это отношение в марксистском
понимании нужно толковать следующим образом:
природа— это ничто. Последуем и мы за спекулятивным
духом клерикальных критиков Маркса в это ничто.
1. Природа как ничто
Прежде всего клерикальные идеологи дают
образцовый пример применения тоталитарной политической
доктрины империалистических государств к области
духовной деятельности. Как оказывается, возможная
свобода клерикальных идеологов практически состоит
примерно в том, чтобы выдумывать различные методы
фальсификации диалектико-материалистического
понимания отношения человека к природе, в то время как
их связь с антикоммунистической политикой требует от
каждого доказательства того, что Маркс не понимал
69
природу как объективную реальность и »не исходил из
нее как из первичного.
Как уже отмечалось, Якоб Гоммес бесцеремонно
обвиняет Гегеля в субъективизме и затем приписывает
этот субъективизм Марксу, который будто бы
заимствовал в своем учении гегелевскую диалектику «насилия
человека над природой и вещами», в результате чего
природа, как и у Гегеля, растворяется в ничто и
создается только трудом человека. Следовательно,
согласно Гоммесу, для Маркса якобы не существует природы
(материи, материального бытия), которая как
объективная реальность существует вне и независимо от
человеческого сознания. «Ни в качестве духа, ни в качестве
материи действительность как таковая у Маркса не
принимается человеком...» * Для Маркса материя не
представляет собой больше «внешнюю природу в ее...
постигаемом человеком виде»2. «Марксистское понятие
материи м материального отнюдь не является
первичным по отношению к... материи вещей»3.
Этим сенсационным открытием Гоммес в то же
время низложил своею антикоммунистического единоверца
Г. А. Веттера, который 3aiumu,aet мнение, что
субъективный идеализм, приписываемый Марксу некоторыми
клерикальными критиками, является явной выдумкой.
«Итак,— пишет Веттер,— для Маркса первичное
представляет собой не идея»4, «первичной реальностью» для
Маркса «является природа и—как конкретная часть
ее — человек»5. У нас нет никаких причин видеть
именно в Веттере главного представителя научно
правильного понимания идейного философского наследия Маркса
на том основании, что Веттер не следует за Гоммесом
в извращении этого наследия. Тем не менее эта
противоположность характерна для страшной путаницы в
лагере клерикальных фальсификаторов Маркса.
Однако сам Гоммес не может удержаться от самых
грубых фальсификаций. Но так как сам он не может
не придать им хотя бы видимость достоверности, он
дает совершенно извращенное толкование понятия тру-
1 J. Hommes, Krise der Freiheit, S. 153.
2 Там же, стр. il63, примеч. 273.
3 Там же, стр. 170.
4 G. A. W е 11 е г, Der dialektische Materialismus... S. 34.
5 Там же, стр. 43.
70
да и практики у Маркса. Так, он пишет: «В
таинственном единстве, которое, согласно Марксу, человек
образует с вещами, а именно при их обработке, человек
является его душой в то время, как предметный мир или
природа, образует тело этого целого, а вместе с тем и
самого человека — все это... таинственная внутренняя
игра внешнего явления труда» К
Если разобраться в этой мистической высокопарной
фразе, то оказывается, что человек, работая и
производя, создает природу, которая со своей стороны опять-
таки была не чем иным, как «телом» самого
«человека»; иначе говоря, результатом труда является не
конкретный, объективно существующий продукт, а
выдуманное «самопроизводство человека». Следовательно, в
труде человек отнюдь не выступает за рамки себя и не
отчуждается, так как ведь вне его самого не существует
ничего, где он мог бы отчуждаться. Таким образом,
остается только вывод, что процесс труда в целом, а
вместе с тем и «создание природы» совершаются только
в сознании человека. И Гоммес не стесняется сделать
этот вывод. В труде, оракульствует он, человек
«осуществляет тождество человека и природы» 'И «самого
человека следует рассматривать как внутреннее
природы». В этом якобы заключается «основная догма»
диалектического и исторического материализма.
«Следовательно, таким образом из человеческого бытия должна
быть деятельно устранена именно вся предметность
мира»2.
Можно спокойно уверить Гоммеса в том, что «таким
образом» он «деятельно устранил» из марксистской
диалектики всякий след ее действительной сущности. Но у
Маркса нигде нет речи о том, что человек, работая,
производит материальный внешний мир, не говоря уже
о том, что, совершая это, он устраняет якобы и
предметность мира. Именно те места, на которые, как
полагает Гоммес, можно опереться, доказывают это вполне
достаточно.
Гоммес, например, намекает на известную
формулировку в «Немецкой идеологии», в которой Маркс
говорит о том, что «единство человека с природой» всегда
1 J: H о m m е s, Krise der Freiheit, S. 144.
2 Там же, стр. 61, 63, 72.
71
имело место в промышленности»1. Маркс полемизирует
в этом месте с Фейербахом и другими
младогегельянцами. При этом речь идет о том, чтобы показать, что
окружающий человека «чувственный мир вовсе не есть
некая непосредственно от века данная, всегда себе
равная вещь, а что он есть продукт промышленности и
общественного состояния...»2 Мы видим, что путем
совершенно «незначительных» манипуляций Гоммес просто
как по волшебству извлекает из «окружающего
человека чувственного мира» «природу» в смысле материи.
Его даже не смущает то, что далее Маркс подробно
разъясняет свои мысли, заявляя: «Даже предметы
простейшей «чувственной достоверности» даны ему
[человеку.— Ред.] только благодаря общественному
развитию, благодаря промышленности и торговым
сношениям»3. В качестве примера этого Маркс называет
вишневое дерево, которое «подобно почти всем
плодовым деревьям, появилось, как известно, в нашем поясе
лишь несколько веков тому назад благодаря
торговле...»4 И Маркс возражает Фейербаху, который
признавал окружающую человека природу только в качестве
неизменного и раз и навсегда данного объекта
наблюдения, что вишневое дерево «дано «чувственной
достоверности» Фейербаха только благодаря этому действию
определенного общества в определенное время»5. И вот
получается, «что Фейербах видит, например, в
Манчестере одни лишь фабрики и машины, между тем как
сто лет тому назад там можно было видеть лишь
самопрялки и ткацкие станки, или же находит в Римской
Кампанье только пастбища и болота, между тем как во
времена Августа он нашел бы там лишь сплошные
виноградники и виллы римских капиталистов»6.
Следовательно, люди специфическим образом
связаны с окружающей их природой — и только об этом
здесь идет речь —именно благодаря тому, что в
общественном производстве они воздействуют на нее,
изменяют ее и преобразуют ее в соответствии со своими
1 'К- Маркс и Ф. Э 41 г е л ь с, Соч., т. 3, стр. 43.
2 Там же, стр. 42.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же, стр. 43г
72
целями. Следовательно, природа, материя не только
постоянно развиваются и движутся сами собой, но
«окружающий человека чувственный мир» также постоянно
изменяется людьми. В этом смысле Маркс и говорит о
нем как о «продукте промышленности и
общественного состояния». Там, где имеются люди, имеется
человеческое общество, природа для людей является предметом
труда. Существование людей основано на труде как
планомерном, целенаправленном преобразовании и
изменении их природной среды. Таким образом, в этом
отношенц^ природа там, где люди соприкасаются с ней,
и является и« «продуктом». Поэтому у Маркса речь
идет не о том, что в труде проявляется загадочное
«тождество человека с природой», то есть человека с
материей, согласно которому якобы без человека не
существует природы. И чтобы сразу исключить все
недоразумения, Маркс замечает: «Конечно, при
этом.сохраняется приоритет внешней природы...» 1
Таким образом, Маркс никогда и не думал
утверждать, будто люди являются творцами материи), в том
числе, следовательно, и планетной системы и т. д., к
чему, между прочим, в итоге сводятся рассуждения
Гоммеса. Следовательно, в данной связи Маркс лишь
противопоставляет позицию диалектического
материализма позиции старого, созерцательного и
метафизического материализма, а не мнимый идеализм Маркса
материализму!
Как обстоит дело с интеллектуальной честностью и>
научной добросовестностью Гоммеса, видно также и из
того, как он излагает «Тезисы о Фейербахе» Маркса.
Здесь он прежде всего берет первый тезис, которым
злоупотребляет с той же целью, что и в случае с
только что цитированным местом из «Немецкой идеологии».
Положение о том, что в предшествующем материализме
«предмет, действительность, чувственность берется
только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как
человеческая чувственная деятельность, практика, не
субъективно»2, называется Гоммесом в качестве
основного доказательства того, что Маркс якобы был
субъективным идеалистом. Так, он пишет, будто это место
*.К. Maprtc и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 42.
2 Там же, стр. 43.
73
означает, что «в качестве исторической
действительности человека и вещей признается лишь та проходящая
через человеческую деятельность щрирода, которую
Маркс называет «материальной жизнью» или
«реальным базисом» всего бытия» !. В действительности же в
первом тезисе о Фейербахе в более общей форме
подтверждается мысль, нашедшая свое выражение уже в
вышеупомянутом месте из «Немецкой идеологии», а
именно что окружающий людей материальный мир
является предметом деятельности людей, предметом их
практического, производительного труда, в результате
которого они и сами изменяются и преобразуются.
И, во-вторых, из этого тезиса следует, что человеческий
труд также представляет собой объективно реальное,
материальное явление ю что в конечном счете познание
материальных вещей и явлений, их свойств и законов,
которым они подчинены, возможно, и осуществляется
также только путем практики, только на основе
деятельного воздействия на явления природы, их
обработки в процессе производства.
Следовательно, понимать предмет «субъективно»,
согласно Марксу, вовсе не означает «понимать» материю,
в качестве синонима которой Гоммес употребляет
понятие «природа», как независимую от существования,
деятельности, воли и сознания людей, считать, будто
существование материи связано с существованием людей,
будто материя производится ими, будто она
«расплавляется» в практике и «исчезает» в ней, как внушает
Гоммес. Ибо в этом случае Маркс действительно был
бы субъективным идеалистом, так как труд не имел бы
больше объективною предмета и совершался только
«в человеке» и, следовательно, в конечном счете в его
сознании, в его духе.
Гоммес не одинок в своем мнении. Ему вторят
клерикальные фальсификаторы Маркса из евангелического
лагеря, рассуждающие о «глубоком различии
философских основ» Маркса и Энгельса2. Диалектика Маркса,
сочиняют они, якобы «не материалистична», ибо она
исходит не из существующей «природы-материи». Энгельс-
1 J. Hommes, Krise der Freiheit, S. 162 (прим.).
2 L. Landgrebe, Das Problem der Dialektik, в:
«Marxismusstudien», Dritte Folge, S. 56.
74
де, напротив, кладет в основу своих воззрений природу,
материю, которая «для Маркса не существует» К Ланд-
гребе хотелось бы, чтобы в «Экономическо-философских
рукописях» Маркса увидели доказательство того, что
природа для Маркса «не существовала в каком-либо
понятном смысле сама по себе еще до человека»2, а
якобы создана только в процессе человеческого труда. Он
не боится видеть доказательство своего утверждения в
том высказывании Маркса, где он явно отмежевывается
от идеализма3. Лаадгребе, желающий быстро
разделаться с Марксом путем приписывания ему
критикуемой им гегелевской точки зрения, приводит следующее
высказывание: «Но и природа, взятая абстрактно,
изолированно, фиксированная в оторванности от человека,
есть для человека ничто», «ничто, обнаруживающее себя
как ничто. Она бессмысленна или имеет только смысл
внешности, которая должна быть снята»4.
Это сенсационное искажение вновь и вновь
преподносится евангелическими истолкователями Маркса для
доказательства того, что для него якобы нет природы,
существующей вне и независимо от человека и до него.
Более того, Ландгребе ухитряется, таким образом, даже
поставить Маркса на одну доску с Аристотелем и
Платоном. У Маркса якобы природа «берется в том же
смысле», как и у Аристотеля и Платона, как
существующая «для себя», как «ничто», и в этом отношении его
позиция «не только родственна позиции идеализма, но
прямо структурно тождественна ей»5.
Любой философски начитанный человек мог бы
показать Ландгребе, что это не только смешно, но и
вдвойне ложно. Для крайне мистической теории познания
Платона природа, «мир чувственных вещей», есть ничто,
голые тени логических понятий. Последние являются
действительно существующими, в то время как
«материя» есть несуществующее, а изменяющийся очевидный
мир явлений, будучи продуктом обоих, находится в
центре между сущим и не-сущим. Этот стихийный идеа-
1 L. Land grebe, «Marxismusstudien», Dritte Folge, S. 57.
2 Там же, стр. 53.
3 К- Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений,
стр. 640, 641.
4 Там же.
5 L. Landgrebe, «Marxismusstudien», Drv. Folge, S. 54, 55,
75
лизм, наивно превращающий общее (понятия, идеи) в
особую сущность, уже настолько «структурно
тождествен» со взглядами Аристотеля, что последний отвергает
его как бесплодный и в противоположность ему
пытается восстановить в своих правах природу как
объективно реальный предмет познания, как источник ощущений
и восприятий. Однако совершенно неправильно
утверждать о «структурном тождестве» взглядов на природу
Платона и Аристотеля, с одной стороны, и Маркса — с
другой. Утверждение Ландгребе еще содержало бы
зерно исторической истины и действительно правильного
представления, если бы оно касалось
материалистической тенденции в натурфилософии и теории познания
Аристотеля.
Именно эта тенденция, заключающаяся в признании
Аристотелем объективного существования материального
мира, явилась причиной той высокой оценки Аристотеля
со стороны Маркса, Энгельса и Ленина как
«величайшего мыслителя древности» (Маркс), как «универсаль-
нейшего ума» (Энгельс) среди древнегреческих
философов. Однако фальсификаторы Маркса пытаются
заглушить именно эту прогрессивную материалистическую
линию в развитии философии и науки. Неясное
выражение «структурное тождество» является прикрытием, под
которым они надеются реакционную «линию Платона» в
философии природы незаметно полностью приписать
Аристотелю и Марксу. Однако марксизм как
последовательный философский материализм всегда
отмежевывался как от идеалистического учения Платона об идеях,
так и от тех взглядов Аристотеля, в которых он как
идеалист приближался к Платону, а именно отрывал
материю от формы, антропоморфически рассматривал
природу и телеологически обосновывал ее развитие.
Формула Ландгребе о «структурном тождестве» опять-
таки преследует цель стереть принципиальное различие
между материализмом и идеализмом, определенное
Марксом в его ранних работах, и превратить молодого
Маркса в антропоморфиста и телеолога.
«Постулаты» Ландгребе как две капли воды похожи
на высказывания Гоммеса, что еще раз свидетельствует
о сближении клерикальной философии евангелического
и католического толка в борьбе против
марксизма-ленинизма. Чтобы показать абсурдность утверждений клери-
76
кальных истолкователей Маркса и меру их лжи, мы
хотели бы кратко изложить действительные взгляды
молодого Маркса, как они предстают перед объективным
исследователем в его работах.
То, что.наша земля, как часть всей) материи,
существовала задолго до появления homo sapiens, а человек в
процессе исторического развития вышел из природы,
сегодня является совершенно достоверным и научно
известным фактом, о котором знал и Маркс. И все же во
времена Маркса точно изученных фактов было меньше,
а позиции клерикально-философского обскурантизма,
питавшегося тогда больше невежеством, чем телео- и
теологическим истолкованием наук, несмотря на работы
Фейербаха, еще не были подорваны. Маркс
последовательно отвергал все спекулятивное. Он писал: «Земля...
первоначально обеспечивающая человека пищей,
готовыми жизненными средствами, существует без всякого
содействия с его стороны как всеобщий предмет
человеческого труда» 1.
Но значение природы для человека заключается не
только в том, что человек вышел из нее в ходе
длительного и сложного процесса развития, что она
является «первоначальной кладовой его пищи», но и в том,
что она является постоянным и необходимым внешним
предметом человеческого труда. Природа окружает
человека, и он получает от нее все средства, необходимые
для своего существования. Как Маркс установил еще
в «Экономическо-философских рукописях»: «Рабочий
ничего не может создать без природы, без внешнего
чувственного мира. Это — тот материал, на котором
осуществляется его труд, в котором развёртывается его
трудовая деятельность, из которого и с помощью которого
труд производит свои продукты»2. Природа служит
«материей, предметом и орудием»3 жизнедеятельности
человека.
Итак, в ясной материалистической формулировке
понимания природы и отношения человека к природе не
может быть никакого сомнения. Маркс как материалист
требует истолковывать и понимать природу так, как она
на самом деле действительно существует. Лишь свобод-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 23, стр. 189.
2 К.' Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений,
стр. 561.
3 См. там же, стр. 565.
77
пая от абстрактного мышления, от абсолютной идеи
«природа есть нечто, возражает он Гегелю1. Земля как часть
всей природы, согласно данным науки и взглядам
Маркса, не нуждается в творце (абсолютной идее или боге),
чтобы оправдать свое существование и развитие.
Напротив. Идеалистическое и религиозное представление «о
сотворении земли получило сокрушительный удар со
стороны геогнозии, т. е. науки, изображающей
образование земли, становление её как некий процесс, как
самопорождение»2. Природа, поскольку «сама она не есть
человеческое тело», существует вне его; «человек
должен оставаться в процессе постоянного общения» с ней,
«чтобы не умереть». В этом процессе человек благодаря
труду подчиняет себе природу. Эта «сознательная
жизнедеятельность непосредственно отличает человека от
животной жизнедеятельности»3.
Такова материалистическая философская позиция,
полностью совпадающая с данными частных наук,
исходя из которой Маркс критикует Гегеля и доказывает,
что идея для Гегеля в конечном счете остается истиной
и определяющим. Позиция Гегеля не представляется
Марксу научной точкой зрения, • поскольку природа,
согласно этой позиции, превращается в «ничто,
обнаруживающее себя как ничто»; она тогда «бессмысленна
или имеет только смысл внешности, которая должна
быть снята». Поскольку природа у Гегеля взята
«абстрактно, изолированно, фиксированная в оторванности от
человека», она и означает «для человека ничто»4.
Однако в марксистской философии она означает для
человека нечто: она является обязательной
предпосылкой всей человеческой жизни, причем, рассматриваемая
исторически, она предшествует человеческой истории5 и
с выходом человека на сцену истории становится
постоянным внешним общим средством к жизни и предметом
человеческого труда, благодаря чему люди при
соответствующих определенных общественных отношениях
должны обеспечивать свое общественное существование и
1 См. К- Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений,
стр. 639.
2 Там же, стр. 597.
3 Там же, стр. 565.
4 Там же, стр. 641.
5 См. К- Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 44.
78
развитие. Человеческое общество может существовать
только в том случае, если оно остается в постоянном
"процессе обмена веществ с природой. В этом процессе
человек воздействует своим трудом на окружающую его
природу, все в большей степени осваивает ее богатства
и использует их в своих интересах. Будучи сначала
совершенно зависим от природы, человек в ходе истории
изменяет своим трудом облик природы и преобразует ее.
Проникая в ее тайны и закономерности, он подчиняет
себе природу, навязывает ей свою волю и одновременно
изменяется сам, не утрачивая своей собственной при-
родности или материальной сущности природы.
В работах Маркса не обнаруживается доказательств
клерикального истолкования природы как «ничто»,
создания природы человеком и насилия диалектического
метода над природой и вещами. Это утверждение просто
приписывается марксизму и является фальсификацией,
которая обычна в истории борьбы реакционной
философии против прогрессивной.
Однако спекуляции империалистической буржуазии
на успехе клерикальной фальсификации Маркса
являются бесперспективными не только из-за ясного,
недвусмысленного языка теории Маркса и Энгельса,
предстающего перед нами в их трудах; и они разбиваются
также социалистической практикой. Практика научного
социализма, нашедшая свое выражение в Германии в
победе социалистических производственных отношений в
ГДР, лучше всего опровергает клерикальное
утверждение, будто природа для марксизма-ленинизма есть
ничто.
2. Социализм и природа
В процессе социалистического преобразования
капиталистического общества трудящиеся преобразуют и
внешнюю природу. С победой социалистических
производственных отношений и социалистических отношений
собственности в ГДР качественно изменились и
опосредованные процессом труда отношения человека к
природе, к locus standi (месту, на котором он стоит) и
сфере действия (field of employment) 1. Впервые в
немецкой истории трудящиеся в ГДР противостоят
примем. К: Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 23, стр. 191.
79
родным условиям как свободная от эксплуатации, тесно
спаянная в социалистическом коллективе «сила
природы» (Маркс). Они сами являются обладателями
природных богатств страны, которые они в творческом,
товарищеском совместном труде используют для мирных и
гуманных целей. Внешняя природа есть постоянный
источник все новых и новых открытий, в науке и технике,
она представляет собой жизненный элемент
социалистического искусства, элемент радости и отдыха для всех
людей. Хотя ГДР является меньшей частью Германии и
природные возможности ее ограниченны, она на
практике доказала, что хорошо использует природу для
увеличения общественного богатства трудящихся.
Если брать вещи такими, какими они в
действительности являются, то с полным уважением и гордостью
нужно смотреть на то, чего достигли трудящиеся
Восточной Германии в несказанно трудных условиях и при
яростном сопротивлении германского империализма
после 1945 г. Под руководством СЕПГ они творчески
применили и осуществили также и научные положения
Маркса и Энгельса об отношении между человеком и
природой в сложных условиях демократического и
социалистического строительства в*одной части
высокоиндустриальной и расколотой империалистами страны.
Трудящиеся ГДР совершили подлинное
экономическое чудо. Уже в конце 1960 г. английский ежемесячный
журнал «Eastern World» заявил: к<3ападный мир по
праву находится под сильным впечатлением от
экономического оздоровления Федеративной Республики
Германии после войны. Но успехи Западной Германии теперь
блекнут по сравнению с тем, чего достигли их соседи в
Восточной Германии. Сегодня западногерманские
хозяйственники поражены совершенными до сих пор
достижениями (ГДР.— Ред.), как был бы поражем каждый, кто
более подробно занимается положением дел в
Восточной Германии». Прошло то время, когда германские
империалисты с Помощью своего экономического
потенциала могли оказывать решающее влияние на политическое
развитие в своих интересах. Где оказались бы сегодня
трудящиеся ГДР, если бы они попались на удочку
клерикальным интерпретаторам Маркса и поступали
согласно их толкованию природы как «ничто». В
Восточной Германии природные условия явно менее благо-
80
приятны для экономического развития. Кроме того, ь
результате войны промышленность и транспорт здесь
были разрушены сильнее, чем в других частях
Германии. В Западной Германии, наоборот, в основном
сохранились не только промышленные предприятия. В
Рурской области находится и главная сырьевая база и
места переработки каменного угля, железа и стали в
Германии. Что касается уровня производства Германии до
второй мировой войны в областях, принадлежащих
ныне ГДР, то в них добывалось лишь шесть процентов
железной руды и два процента каменного угля и
производился лишь один процент чугуна и семь процентов
стали. Здесь не было металлургической базы, здесь
имелись лишь пять устаревших доменных печей по
сравнению со 120 большей частью современными доменными
печами в Западной Германии.
В этих трудных условиях марксистско-ленинская
партия постоянно призывала трудящихся к тому, чтобы
максимально использовать имеющиеся природные
данные, чтобы прежде всего преодолеть последствия войны
и империалистического господства и создать прочный
экономический фундамент для развернутого
строительства социализма.
Социалистическое общество вынуждено еще и
сегодня отвечать за последствия, которые ему оставила
капиталистическая форма использования природы. Такого
рода использование природы равнозначно методам, с
помощью которых разбойники и грабители обращались
с окружающим их миром. Оно диктовалось стремлением
к наживе, и не только люди, но и природа
использовались как объект голой эксплуатации. Природа
грабилась ради наживы, без учета общественных последствий
этого хищнического отношения к ней. Достаточно
вспомнить лишь беззастенчивую вырубку широких лесных
массивов в Среднегерманских горах, которая, между
прочим, нарушила и разорила водное хозяйство всей
страны. Как при преодолении этих последствий, так и при
социалистическом преобразовании природы
социалистическое государство должно руководствоваться тем, что
природа должна служить интересам всего общества. Это
означает, что природу нужно использовать рационально
и гармонически в соответствии с ее собственными
законами и данными и в соответствии с потребностями со-
4-424
81
Циалистического общества. Социалистическое плановое
хозяйство дает возможность руководить действиями
людей в соответствии с потребностями экономических
законов и политическими, экономическими и природными
условиями таким образом, чтобы добиться больших
успехов. По промышленному производству ГДР стоит на
пятом месте среди всех социалистических и
капиталистических стран Европы и причисляется к первому десятку
крупнейших промышленных держав мира. О том, как
трудящиеся ГДР в процессе труда использовали и
преобразовывали саму природу как наиболее общий
предмет и наиболее общее средство труда для
экономического развития и усиления своей республики в
соответствии с их мирными, человеческими целями,
свидетельствуют металлургические заводы и каменноугольные
шахты, электростанции и химические комбинаты,
достижения в области науки и техники, дома культуры и
отдыха, созданные в исторически короткий срок.
Для создания собственной металлургической базы,
особенно для машиностроения, повышена не только
добыча на известных рудниках, но освоены и новые
месторождения, например в северных предгорьях Гарца.
Поскольку ГДР располагает-богатыми месторождениями
бурого угля, но недостаточным количеством
коксующегося каменного угля для производства металлургического
кокса, ученые и рабочие нашли способ изготовления
кокса из бурого угля и отвоевали у природы одну из
существенных для человечества тайн. Но этот кокс
потребовал и иных, чем прежде, плавильных печей, потому что
он более чувствителен к давлению, чем кокс,
изготовленный из каменного угля. К тому же оказалось, что в
природных месторождениях железная руда является менее
Железистой, но зато более кремнистой, что требует
особого процесса плавки. Природные силы здесь также
были исследованы и поставлены на службу человеку;
ученые и техники нашей республики впервые в мире
развили способ плавки местной тяжелой руды в низких
доменных печах и получили кокс максимальной
температуры из собственного бурого угля.
«Металлургические заводы Макса» — в 1945 г.
единственное на всей нашей экономической территории
предприятие по производству чугуна — были восстановлены,
расширены и социалистически реконструированы. Бла-
82
годаря вновь построенному в Кальбе металлургическому
заводу «Макс» обрел первого современного собрата, и
в городе металлургических заводов возник второй,
совершенно новый базис металлургических заводов,
рабочие которых получили первый социалистический город
ГДР. В 1960 г. была сдана в эксплуатацию первая
очередь комбината «Шварце пумпе», который охватит
четыре открытых разработки бурого угля, три мощные
электростанции, брикетные фабрики, газовые и, возможно,
коксовые заводы. В 1960 г. было начато строительстве
новой заводской части для расширения химического
гиганта нашей республики — народного предприятия «Лей-
на-Верке» им. Вальтера Ульбрихта. Приступили к
работам и на намеченных новостройках нашей химической
промышленности, на заводе по переработке нефти в
Шведте (на Одере) и на фабрике искусственного
волокна в Вильгельм-Пик-штадте в Губене. После почти лол-
ного развала угольной промышленности в конце
гитлеровской войны трудящиеся ГДР, безвозмездно присвоив
себе рудниковые концерны, начали хорошо использовать
природные богатства запасов бурого угля. По
разработке бурого угля ГДР вышла на первое место в мире!
Возьмем другой факт. Казалось, что в ГДР нет
природных месторождений крайне важной для
современной экономики нефти. Правда, капиталистическая
Германия в тридцатые годы разрабатывала нефтеносные
районы в южных предгорьях Гарца (Фолькенроде) и в
северных предгорьях Гарца (у Остервика), но
производственная мощность составляла там менее 100 000 тонн,
и запасы Фолькенроде вскоре иссякли. Геологическая
разведка природных богатств была для монополий и
правительства рейха, очевидно, слишком дорогой по
сравнению с возможными видами на прибыль. Однако
известно, что по всем геологическим данным
низменность на нашей экономической территории должна быть
богата нефтью и природным газом, так как она
относится к большому геологическому бассейну отложений,
простирающемуся от Голландии до Урала в Советском
Союзе. ГДР поставила перед Геологической службой
задачу найти эти месторождения, с тем чтобы освоить и
эти собственные природные богатства. Бурение,
ставшее тем временем доступным, позволило повысить
добычу нефти по меньшей мере до 1000 000 тонн.
4*
83
Увеличивается и добыча природного газа. В районе
Эрфурта, например, к 1965 г. должно -быть добыто
60 000 000 кубометров природного газа, что
предполагается добыть как во всей Тюрингской низменности, в
окрестностях Шпремберга, так и в северной низменности
ГДР. Мероприятия по разведке и использованию
запасов природного газа позволяют надеяться, что здесь
можно открыть большой источник горючего, который
будет способствовать строительству и развитию
социалистической экономики ГДР. Природные условия нашей
страны позволяют, далее, превратить силу воды в
энергию, использование которой имеет большое значение для
увеличивающейся потребности экономики в энергии.
Резервы гидроэнергии определяются до 2 000 000 киловатт.
Гидротурбина у Гоенварта, давшая уже в 1959 г.
первую электроэнергию, и строительство системы плотин
являются наиболее известными примерами того, как
используется, например, вода; они свидетельствуют о том,
как Социалистическая единая партия Германии,
руководствующаяся марксистской теорией, и правительство
ГДР обращаются с природой как <с «ничто».
Достаточно указать на то, что укрощенная природа в
водохранилищах крупных гидроэлектростанций выполняет
одновременно и такие связанные с водой экономические
задачи, как регулирование потоков воды, защита во время
половодья, обеспечение водой населения и
промышленности, чем в течение десятилетий капиталистической
бесхозяйственности пренебрегали именно в восточной
части Германии. Ликвидацию печальных последствий
этой бесхозяйственности должно было начать рабоче-
крестьянское государство. Система здравоохранения
ГДР, единственная в своем роде в Германии и во всей
Западной Европе, свидетельствующая о большом
уважении к человеку, к его собственной и окружающей его
природе, также практически опровергает клерикальные
тирады о природе как о «ничто».
Решение всех этих вопросов стало возможным
только благодаря существованию мирового
социалистического лагеря и тесному экономическому содружеству,
прежде всего между ГДР и СССР. В прошлые годы
именно братские социалистические страны, и особенно
Советский Союз, внесли решающую долю в
дополнение и развитие реальных условий труда трудящихся
84
ГДР, не данных или не достаточно данных природой.
Без их помощи и поддержки достигнутое было бы
невозможно. Сегодня нужно по-новому использовать
преимущества социалистического лагеря и
социалистического экономического сотрудничества, так же как и
наши собственные возможности. Творчески применяя и
развивая далее марксистско-ленинскую теорию,
руководство СЕПГ в своих решениях, в особенности на
VI съезде партии, разработало перспективы
дальнейшего развития страны и поставило такие задачи, которые
имеют большое значение для решения вновь назревших
проблем, в том числе и отношения человека к природе.
Основным признаком этого развития, который, по
существу, касается и отношения человека к природе в ГДР в
ближайшие годы, является «изменение структуры
сырьевой базы ГДР (химические изделия из нефти и другие
виды сырья) и эффективное использование этого
сырья...»{ И благодаря этой новой ступени развития
марксистской теории и практики природа вовсе не
становится «ничто». Указанный VI съездом партии путь
овладения имеющимися богатствами природы
свидетельствует о том постоянном внимании, которое
уделяется существующей вне и независимо от сознания
природе в теории и в практике научного социализма в
ГДР. Трудящиеся ГДР понимают:
«Электроэнергия — это кровь нашей экономики;
нефть — это новый могучий источник энергии и
незаменимое сырье для дальнейшей химизации нашего
хозяйства;
серная кислота — это основа почти всех химических
реакций;
полупроводники — это нервные клетки новой техники,
особенно механизации и автоматизации»2.
Об эти упрямые факты разбиваются все надуманные
аргументы клерикальных фальсификаторов Маркса об
отношении марксизма-ленинизма к природе.
Социалистическая практика воплощает теорию Маркса в действии.
1 W. Ulbricht, Das Programm des Sozialismus und die
geschichtliche Aufgabe der SED, в: «Protokoll der Verhandlungen
des VI. Parteitages der SED», Bd. I, S. 72.
2 «Der XXII. Parteitag der KPdSU und die Aufgaben der DDR.
Bericht des Genossen Walter Ulbricht und Beschluss der 14. Tagung
des ZK der SED. 24. bis 26. November 1961», Dietz Verlag, Berlin,
1961, S. 71.
Глава четвертая
КЛЕРИКАЛЬНАЯ АПОЛОГИЯ ОТЧУЖДЕНИЯ
В попытках фальсификаторов Маркса истолковать
исторический материализм в субъективистском,
антропологическом смысле особое предпочтение отдается
употребляемому Марксам понятию «отчуждения». Идеолог
мобилизованной для этого гвардии вряд ли может
отказаться от того, чтобы не уделить* этой категории
своего внимания и не сделать ее предметом своих «нападок
на марксизм. При этом, однако, фальсификаторы
марксизма поступают не оригинальнее, чем при неудачных
попытках субъективистски истолковать отношение
между человеком и природой. Если в первом случае
Марксу приписывают, будто он отрицает первичность
природы, ее материальный характер, то теперь они отрицают,
что Маркс доказал материальную детерминированность
отношений между людьми. С этой целью клерикальные
теоретики отрывают отчуждение от его материальной
социально-экономической основы и переносят его причины
R гамого человека.
1. Действительный источник отчуждения
Из множества теоретиков, применяющих эти
методы, следует прежде всего отметить Эрвина Метцке,
который, будучи в течение долгих лет председателем
Комиссии по изучению марксизма Евангелической
академии, определял линию евангелической «критики
Маркса». Как свидетельствует сама комиссия, о ее деятель-
86
ности нельзя судить без учета его влияния; он руководил
ею, сплачивал ее и проводил линию критики, «вновь и
вновь... вскрывая ее теологическую подоплеку»х. Как
«призванный» к этому человек, Метцке опирается на
«Экономическо-философские рукописи» Маркса и
отрицает, «что в них идет речь о материи или
материалистических теориях». «Рукописи,— считает он,— хотят
вникнуть в суть дела, они хотят быть радикальными;
они хотят... понять вещь в ее корне». «Но корнем
является для человека сам человек, — указывает Метцке
далее, — а не природа или материя»2.
Не говоря уже о том, что Метцке путает здесь
литературные источники и говорит о «Рукописях»,
цитируя в то же время «Введение» Маркса «К критике
гегелевской философии права», Маркс никогда не делал
вывода, который ему приписал Метцке, будто корнем
для человека не является природа или материя3. Это
доказано предшествующим изложением. Но тем не
менее высказывание Метцке проливает свет на исходный
пункт клерикального толкования марксистского понятия
отчуждения. От имени Маркса Метцке вырывает
человека из материальной действительности и без всяких
предпосылок, предоставленного, так -сказать,
единственно самому себе, помещает его в мир. Этим методом, как
известно, пользуются также Гоммес и Ландгребе,
которые с отрицанием само собой очевидного для Маркса
первичного характера природы отрицают также, что
человек как часть природы является ее продуктом и
подвержен действию ее законов. Метцке также старается
отрицать этот факт, чтобы в соответствии с
субъективистскими устремлениями своих соратников создать
философский образ человека, существующего без
социальных связей и предпосылок.
Разумеется, сам метод, с помощью которого Метцке,
Гоммес и другие получают якобы коренящегося в себе
самом человека, не нов.
Лишенный всякой оригинальности, этот метод
заимствуется клерикальными фальсификаторами Маркса из
1 См. «Marxismusstudien», Zweite Folge, S. V.
2 E. M e t z k e, Mensch und Geschichte im ursprünglichen
Ansatz des Marxschen Denkens, Ebenda, S. 4.
3 См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 422.
87
работ Герберта Маркюзе, который его рекомендовал
еще в 1932 г. в издаваемой Гильфердингом
«Internationalen Revue für Sozialismus und Politik» и обещал, исходя
из него, провести коренную ревизию не только
исторического материализма, но и «всей теории» научного
социализма К Метцке связывает со своим истолкованием
Маркса те же самые претензии, 'предполагая ликвидировать
«основную позицию марксизма», которой не касалась
традиционная буржуазная критика марксизма, поскольку
она встречала '«критические намерения в отношении
общества и революционную дееспособность коммунизма
только на полях книг» 2. Сетуя, он через 20 лет после
Маркюзе требует под знаком обдроны от «экспансивного
развития» коммунизма «самокритичного глубокого
овладения критикой» и рекомендует новую, надежную основу
борьбы: учение «о сущности человека», »поскольку оно
появилось у Маркса <и поскольку здесь начинаются
«решающие вопросы» 3.
Здесь на самом деле начинаются решающие
вопросы, но лишь во времена Маркса они приобрели
теоретический характер. Всемирные успехи
социалистического движения, строительство коммунизма в Советском
Союзе и непрерывное развитие социализма в
Германской Демократической Республике подтверждают не
только правильность его «учения о человеке», то есть
материалистического понимания истории и науч-ного
представления о человеке при социализме. Этот процесс
подтверждает и доказывает на фактах прежде всего то,
что трудящийся человек с помощью марксистской
теории в состоянии не только создать один
социалистический общественный строй, но и целую мировую
социалистическую систему, в центре которой находится
человек как творец и преобразователь своей жизни,
свободный от недугов капиталистического мира. Учение
Маркса о человеке стало, таким образо-м, практической
реальностью, а для миллионов людей
капиталистического мира оно явно и объективно предстает как реаль-
1 H. M a rcu se, Neue Quellen zur Grundlegung des
historischen Materialismus, в: «Die Gesellschaft», 1932, Hf. 7, S. 136—137.
2 E. M e t z k e, Vorwort, в: «Marxismusstudien», Erste Folge,
S. VII.
3 Там же, стр. VIII.
88
ный процесс действительного, коммунистического
становления человека. Восторжествовала творческая сила
масс, .позволившая гуманизму стать практическим
делом и реальностью.
В Германской Демократической Республике в период
развернутого строительства социализма трудящиеся
изменили и изменяют не только материальные и
культурные условия жизни, но и самих себя, свой духовный
облик. «Формирование человека социалистического
общества,— говорится в Программе Социалистической
единой партии Германии,— с его характерными
'Нравственными чертами, с его всесторонним образованием, его
высокими специальными знаниями и его получившей
свободу творческой силой превращается в исторический
прогресс в истории немецкого народа» 1.
Поэтому не случайно Метцке, клерикальный
поверенный империалистической реакции как воплощение
антигуманного в наши дни призывает своих
евангелических коллег критиковать прежде всего марксистское
учение о человеке и клеветать «а коммунизм,
действительную теорию и практику гуманизма. Вслед за ним
они должны стараться доказать, что коммунизм якобы
есть все что угодно, только не подлинная родина
человека и всего человеческого, но что человек и его
действительность ста-новится якобы там «сырьем для
тотального применения силы»2.
Это основное стремление «Марксизмусштудиен»,
определяемое их клерикальной антикоммунистической
позицией, нельзя упускать из виду, так как иначе
остается непонятным действительный смысл всех их
теоретических проделок. Политическая цель определяет здесь
характер абстрактно-теоретической линии и
аргументации, метод фальсификации и клеветы на Маркса. Чтобы
обосновать антикоммунистический лозунг о человеке
как «сырье для тотального применения силы», выводы
Маркса извращаются вопреки всякому объективному
исследованию и анализу. Именно с этой целью Метцке,
1 «Programm der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland»,
в: «Protokoll der Verhandlungen des VI. Parteitages der SED»,
Bd. IV, S. 375.
2 E. M e t z k e, Mensch und Geschichte im ursprünglichen
Ansatz des Abrxschen Denkens, S. 24.
m
Гоммес и другие разрывают вскрытую Марксом
материальную связь между человеком и природой и от
имени Маркса создают человека, существующего и
действующего вне каких-либо объективных связей, будь то
объективно данные законы природы и общества или
объективно данные моральные и нравственные
ценности, и узаконивают его мысли и дела только «с точки
зрения субъекта» К Этот приписываемый марксизму
субъективизм необходим для Метцке и для всех других
клерикальных идеологов, так как иначе они не в
состоянии создать такое представление о человеке, согласно
которому человеком, как субъектом, распоряжаются
произвольно, тоталитарно. Совершенно очевидно, что
теоретическое искажение и политическая клевета
обусловливают друг друга и образуют в клерикальной
критике единство.
Что касается марксистской концепции отчуждения,
которой Метцке уделяет свое основное внимание, то
постулируемый им и приписываемый марксизму
субъективизм преподносится таким образом, что человек
(абстракт) выступает как создатель отчуждения человека
при капитализме. Согласно Марксу, пишет Метцке, «сам
человек... своими собственными действиями и
производством порождает отчуждение»; оно — «продукт
человеческих действий». «Только проникая в плоскость вещей
и возвращаясь к первоначальной сфере, лежащей в
основе человеческого действия, можно понять
экономический факт как таковой... сила вещей, сила
материального, а значит, и сила материализма» берет «свое
начало в самом человеке»2.
Хотя Метцке не может не признать, что отчуждение
является экономическим фактом, его аргументация
наглядно показывает, что именно этот экономический факт
вызывает у него наибольшую досаду и отвращение,
потому что затрудняет ему доступ к мнимому
субъективизму Маркса. В действительности же отчуждение есть
прежде всего экономическое и, как таковое,
материальное отношение, существующее независимо и вне
человеческой воли, при наличии которого человек вынужден
жить и действовать в условиях капитализма.
1 Е. M е t z k е, Mensch und Geschichte... S. 24.
* Там же, стр. 9—10.
90
Исходя из своих политических целей, Метцке
отрицает первичность экономических отношений и
изобретает другую основу, которая должна существовать за
экономическим, под ним или где-либо еще. Согласно
Метцке, этой основой является человек. Но так как этот
человек, по клерикальным представлениям, вырван из
определяющих его экономических отношений, он
представляет собой не общественную, а исключительно
человеческую сущность и сводится к его так называемой
человеческой природе. Эта «человеческая природа» есть
узловой пункт клерикальной аргументации. С помощью этой
природы экономические отношения капитализма
исключаются в качестве причи-ны отчуждения, которая
переносится в самого человека Но так как природа
человека как мнимая причина отчуждения является к тому
же слишком общим понятием, Метцке делает еще один
шаг дальше.
Метцке дифференцирует эту природу и выделяет из
нее те свойства, которые в конечном счете, взятые вне
всяких предпосылок, должны обусловливать
отчуждение. Такими свойствами, согласно Метцке, является
«обладание» и «желание иметь», которые дают
представление и о «силе материального», «силе материализма» К
Ненамного изобретательнее, чем Метцке, действует
Гоммес. В противоположноть Метцке Гоммес
предпочитает не так прямо определять свойства человека,
которые должны представлять собой мнимые источники
человеческой истории. Но все же, аналогично Метцке, он
все сводит к природе человека и вместо метцковского
«обладания» и «желания иметь» вводит понятие
«инстинкта». При этом он сообщает, будто марксизм
высказывается в защиту «инстинктивного самоуправления
жизнью». Инстинкт господствует в жизни, управляет
субъектом и является для марксистов подлинной
ведущей силой в истории2.
Метцке и Гоммес проводят в принципе один и тот
же курс в их фальсификации Маркса. Метцковский
схематический тройной переход от экономического факта
через природу человека к свойствам «обладания» и
«желания иметь» и понятие «инстинкта» у Гоммеса олице-
1 Е. M е t z k е, Mensch und Geschichte... S. 10.
2 J. Hommes, Zwiespältiges Dasein, Freiburg, 1953, S. 163,
91
творяют явно выраженный субъективизм и
антропологизм, по существу чуждый марксизму. Это азбучная
истина диалектического материализма. Однако это
никоим образом не мешает Метцке утверждать, что именно в
этом следует искать ключ для критики марксистской
концепции отчуждения. «В понимании того, что сила
вещей сила материального, а следовательно, и сила
материализма имеет свое происхождение в самом
человеке,— пишет он,— критика Маркса, которая благодаря
этому оказывается именно критикой материализма,
достигает своей наибольшей глубины...» 1 Метцке считает,
что «этим критическим вскрытием сущности
отчуждения» Маркс должен был доказать «собственную
позитивную антропологическую концепцию»2, в то время
как Гоммес хочет, чтобы у Маркса и Энгельса была
открыта экзистенциальная онтология. Однако Метцке сам
мог бы легко установить, что ни то, ни другое никоим
образом не свойственно марксистскому пониманию
истории, если бы он искренне последовал одному из своих
собственных советов, которые он пытается дать другим
критикам Маркса, согласно которым тот, «кто
недостаточно серьезно продумывает основные теоретические
понятия ленинизма, как сами защитники этой системы...
будет с самого начала побежден»3.
Вообще нет никакого сомнения в том, что Маркс
никогда не выводил отчуждение из человеческих
действий, из человеческой природы, а, наоборот, всегда
сводил причины отчуждения к конкретным экономическим
условиям, в которых человек действует, производит.
«Основная предпосылка того, что субъекты... произвели
меновую стоимость,— пишет Маркс,— включает массу
предпосылок, которые вытекают не из воли
индивидуума, не из его непосредственной естественности, а из
исторических условий и отношений, благодаря которым
индивидуум уже оказывается общественным,
определенным обществом».4. Это ясно и определенно.
1 Е. M е t z k е, Mensch und Geschichte im ursprünglichen
Ansatz des Marxschen Denkens, S. 10.
2 Там же.
3 E. Metzke, Vorwort, в: cMarxismusstudien», Erste Folge,
S. VII.
4 K. Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie,
Dietz Verlag, Berlin, 1953, S. 905.
92
В полную противоположность метцевской
конституции Маркс исходит из предпосылок человеческих
действий и ставит человека, субъекта в общественные
условия и отношения, то есть исходит из объективных
связей, общественно данных и существующих независимо
от воли человека и его естественности. По своему
характеру эти связи являются
материально-общественными, и как человек, так и его поведение, его деятельность
и труд зависят и определяются ими. Человек обязан
своему становлению в качестве человека не своей
природе; наоборот, его человеческая природа сама есть
продукт его общественного развития, и главным
образом продукт материального производства.
Поэтому общественные отношения и условия и
представляют собой определяющий элемент, который
накладывает отпечаток на его поведение и формирует
человека. По этой причине Маркс отвергает попытки так
называемую природу индивидуума сделать ответственной
за отчуждение и оторвать человека от объективных
условий его существования и деятельности: он всегда
понимает человека как существо, определенное
конкретными общественными условиями, как «совокупность
общественных отношений». Поэтому отчуждение человека
коренится в этих конкретных общественных отношениях
капиталистического общественного строя, а не в
человеке. Против этого Маркс недвусмысленно
высказывался еще более чем сто лет тому назад, когда он
полемизировал против метцкианских взглядов XIX в.: «В
индивидах... философы видели идеал, которому они дали
имя «Человек», и весь изображённый нами процесс
развития они представляли в виде процесса развития
«Человека»... и изображали его движущей силой истории.
Таким образом, весь исторический процесс рассматривался
как процесс самоотчуждения «Человека»... В результате
такого переворачивания, заведомого абстрагирования от
действительных условий и стало возможным превратить
всю историю в процесс развития сознания» К
Маркс выступал против такого истолкования уже с
1843 г. Уже в «Экономическо-философских рукописях»
он с самого начала исходит из действительных условий
и указывает на экономические отношения капитализ-
1 iK. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 69.
93
Ma, в которых живет и действует Человек, как на
материальные отношения и причину отчуждения. Маркс
анализирует не только такие экономические отношения, как
безработица, капитал, земельная рента, прибыль и т. д.,
но и характеризует капиталистические отношения
собственности как такие материальные отношения,
которые в конечном счете вызывают и являются причиной
отчуждения. Маркс пишет: «Эта материальная,
непосредственно чувственная частная собственность является
материальным, чувственным выражением отчуждённой
человеческой жизни», она является «основой»,
«причиной» и «средством» отчуждения человека К
Поэтому для Маркса бесспорно, что не сам «образ
действий» человека порождает отчуждение, но что
частная собственность отчуждает труд и вынуждает
рабочего вести отчужденное, нечеловеческое существование.
Однако ясно видно, как клерикальные идеологи
вообще замалчивают именно эту причину отчуждения при
капитализме и тем самым скрывают, что
отсутствие собственности у рабочего — основа его
деятельности и это отношение к собственности
является прежде всего не результатом, а предпосылкой
для его труда. Капиталистическая частная
собственность есть предпосылка и условие отчуждения, так как
в результате ее существования рабочие отделены от
предметов и средств своего труда. В этих условиях
рабочая сила не принадлежит рабочему, он вынужден ее
как товар продавать буржуа — владельцу средств
производства, чтобы вообще иметь возможность
действовать и благодаря этому жить. Средства, необходимые
для его существования, отчуждены от него, они
являются собственностью капиталистов. На этом основном
отношении отчуждения — отрыве рабочего от средств
производства — базируются все другие формы отчуждения.-
И именно этот отрыв рабочего от средств производства
является главным фактом социальной
действительности в Западной Германии. Вопреки всем утверждениям
апологетов западногерманского империализма, которые
хотят заставить поверить в то, что в Западной
Германии происходит процесс «депролетаризации», цифры
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведении,
стр. 588—589, 569.
94
даже официальной западногерманской статистики
доказывают совершенно обратное: постоянно
повышающуюся концентрацию капитала в немногих руках, с одной
стороны, и стремительное ускорение пролетаризации
западногерманского населения — с другой. Новые данные
о концентрации капитала в Западной Германии
обнаруживают, например, что 40 концернов и три крупных
банка, ежегодный оборот которых превышает миллиард
марок (Немецкий банк, Дрезденский банк и
Коммерческий банк), управляют всей экономической жизнью
Западной Германии.
На 31 декабря 1962 г. в Западной Германии
насчитывалось 2401 акционерное общество, из них 76 обществ с
акционерным капиталом более чем 100 млн. германских
марок сосредоточивали в своих руках 55,3% всего
акционерного капитала (20,67 млрд. германских марок).
Но полный объем концентрации становится очевидным
только тогда, когда представишь себе, что из 2401
западногерманского акционерного общества 430
находятся под непосредственным контролем 40 концернов. К
этому надо добавить 1288 обществ с ограниченной
ответственностью и 254 других обществ, следовательно, в
целом около 2000 обществ, которые располагают
номинальным капиталом в 29 млрд. германских марок.
Однако, исходя из биржевого курса акций эта сумма
составит более чем 100 млрд. германских марок. 15 из
крупнейших концернов эксплуатируют 1 728 000
рабочих 1 (см. также цифры на стр. 149 и далее).
В результате конкуренции монополий все большее
число людей из среднего сословия (крестьяне, мелкие
ремесленники и занимающиеся промыслом торговцы)
разоряются, лишаются собственности и вынуждены
вследствие этого, подобно большинству
западногерманского населения в настоящее время, продавать свою
рабочую силу владельцам средств производства, чтобы
иметь возможность жить. В этом, а не в таких вечных
человеческих свойствах, как «обладание» и «желание
иметь» или каких-то «инстинктах», следует искать
корни самых различных аспектов отчуждения, под угрозой
которых находится жизнь западногерманских жителей.
Это обстоятельство должны признать даже буржуазные
1 «Neues Deutschland», 13. September 1963.
95
социологи и философы. Так, американский психолог
Эрих Фромм пишет: «Итак, большая часть населения
трудится в качестве работающих по найму, от которых
требуется очень небольшое Мастерство, и почти
совершенно без перспективы развить какие-либо
собственные таланты или отличиться особыми достижениями...
громадное большинство работающих по найму продает
свои физические и ничтожно малую часть своих
духовных сил работодателю для получения прибыли, в
которой они не участвуют, во имя вещей, в которых они не
заинтересованы, и лишь с единственной целью
заработать на жизнь...» 1
Основное отношение отчуждения — отрыв рабочего
от средств производства — ведет прежде всего к
отчуждению рабочего в акте производства. Это
проявляется в том, «что труд является для рабочего чем-то внеш.-
ним, не принадлежащим к его сущности; в том, что он
в своём труде не утверждает себя, а отрицает,
чувствует себя не счастливым, а несчастным, не
развёртывает свободно свою физическую и духовную энергию, а
изнуряет свою физическую природу и разрушает свой
дух. Поэтому рабочий только вне труда чувствует себя
самим собой, а в процессе труда он чувствует себя
оторванным от самого себя. У себя он тогда, когда он
не работает; а когда он работает, он уже не у себя.
В силу этого труд его не добровольный, а
вынужденный; это — принудительный труд. Это не
удовлетворение потребности в труде, а только средство для
удовлетворения других потребностей, нежели потребность в
труде. Отчуждённость труда ясно сказывается в том,
что, как только прекращается физическое или иное
принуждение к труду, от труда бегут, как от чумы. Внешний
труд, труд, в процессе которого человек себя отчуждает,
есть принесение себя в жертву, самоистязание»2.
Это марксистское определение отчуждения труда в
процессе производства настолько соответствует
современной капиталистической действительности, что можно
подтвердить фразу за фразой, слово за словом.
1 Е. Fromm, Der moderne Mensch iiiJ seine Zukunft, Eine
sozial-psychologische Untersuchung, Frankfurt a. M., 1960, S. 262.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений,
стр. 563.
96
Маркс говорит, что \труд является для рабочего чем-
то внешним, не принадлежащим к его сущности». Это
вынужден сегодня признать буржуазный социолог
Арнольд Гелен, когда он пишет: «Уже давно рабочий в
соответствии со своим чувством ищет содержание своей
жизни вне труда» К А Тартлер считает, что современная
молодежь, так же как и подрастающее поколение, не
видит больше смысла жизни в работе по специальности,
и поэтому труд большей частью не имеет уже никакой
собственной ценности. Ценности, к которым ранее
стремились, переносятся из трудовой области в личную
сферу2.
Маркс пишет, что рабочий при капитализме «в своем
труде не утверждает себя, а отрицает, чувствует себя не
счастливым, а несчастным, не развертывает свободно
свою физическую и духовную энергию, а изнуряет свою
физическую природу и разрушает свой дух». Шельский
пишет о характерных» для капиталистической Западной
Германии «частых жалобах на то, что труд слишком
скучен, неинтересен, туп, монотонен и дает слишком
мало возможностей для ответственности, для новых
достижений...»3
Фромм называет «неудовлетворенность в жизни,
апатию, внутреннюю пустоту, отсутствие радостей и счастья
в жизни, чувство неполноценности и неопределенное
ощущение бессмысленности жизни»4 неизбежным
следствием того положения, в котором рабочие находятся
при капитализме.
Один западногерманский крановщик характеризует
положение рабочего на капиталистическом предприятии
следующим образом: «Со специализацией способности
рабочего сокращаются. Я не хочу сказать, что они
глупеют, но их способности становятся все меньше. В ре-
1 А г. Gehlen, Die Seele im technischen Zeitalter.
Sozial-psychologische Probleme in der industriellen Gesellschaft, Hamburg,
1957, S. 110.
2 «Arbeiterjugend gestern und heute. Sozialwissenschaftliche
Untersuchungen von Heinz Kluth, Ulrich Lohmar, Rudolf Tartier,
Hrsg. u. eingeführt von Helmut Schelsky», Heidelberg, 1955,
S. 293.
3 H. S с h e 1 s k y, Die skeptische Generstion. Eine Soziologie
der deutschen Jugend, Düsseldorf— Köln, 1958, S. 273.
4 E. Fromm, Der moderne Mensch und seine Zukunft, S. 262.
97
зультате этого люди становятся/ все более
несамостоятельными и несвободными»1.
Маркс говорит: «Поэтому рабочий только вне труда
чувствует себя самим собой, а в процессе труда он
чувствует себя оторванным от самого себя. У себя он тогда,
когда он не работает; а когда он работает, он уже не у
себя».
Западногерманский рабочий металлургической
промышленности считает: «...неверно, будто мы привязаны
к заводу. Мы охотнее смотрим на него сзади»2.
Маркс говорит: «В силу этого труд его не
добровольный, а вынужденный; это — принудительный труд».
И Фромм вынужден в этом вопросе подтвердить
Маркса, когда он устанавливает, что «отказ от насилия
больше кажущийся, чем действительный». «Рабочий, который
должен согласиться со шкалой заработной платы,
предлагаемой ему рынком труда, вынужден подчиняться
условиям рынка, потому что иначе он не сможет жить.
Поэтому «свобода» индивидуума является глубоко
иллюзорной»3. Западногерманский рабочий
металлургической промышленности так резюмирует свой опыт: «Если
быть честным, то я должен сказать, что ни один не
работает здесь добровольно... Многих побуждали деньги
оставаться здесь. Это очень понятно. Однако каждый
стремится к тому, чтобы найти более легкую работу. И я
тоже. Но не меньше зарабатывать»4.
Резюмируя мнения многих рабочий, 6-й съезд
профсоюзов работников металлургической промышленности
Западной Германии описывает принудительный
характер капиталистического труда следующим образом:
«...предприятие снова становится абсолютным
господствующим союзом, в котором имеет значение только воля
предпринимателя и работодателя...»5
1 «Das Gesellsohaftsbild des Arbeiters. Soziologische
Untersuchungen in der Hüttenindustrie von Heinrich Popitz, Hans Paul
Bahrdt, Ernst August Jüres, Hanno Kesting», Tübingen, 1957, S. 60.
2 Там же, стр. 273—274.
3 E. Fromm, Der moderne Mensch und seine Zukunft, S. 82.
4 «Das Gesellschaftsbild des Arbeiters», S. 273—274.
5 Цит. по кн.: «Gutachten zur politischen und sozialen Lage der
Arbeiterjugend in Westdeutschland», Hrsg.: Komitee zum Studium
der gesellschaftlichen Verhältnisse und ihrer Veränderung in
Westdeutschland beim Nationalrat der Nationalen Front des
demokratischen Deutschland, ,S. 11.
98
То, что труд при капитализме означает сегодня, как
пишет Маркс, принесение себя в жертву, самоистязание,
достаточно ясно подтверждается частотой заболеваний,
несчастными случаями на производстве и ранней
инвалидностью. Так, в течение первых девяти месяцев 1961 г.
уровень заболеваемости в Западной Германии в среднем
составлял у застрахованных мужчин 5,9%, у женщин —
6,02%'.
В 1960 г. во всей экономике произошло 3,01 млн.
несчастных случаев на производстве (включая несчастные
случаи на транспорте и профессиональные заболевания),
или 149,1 на каждую 1000 работающих. С 1950 по 1960 г.
в Западной Германии насчитывалось 22,7 млн.
несчастных случаев на производстве (без несчастных случаев
на транспорте и профессиональных заболеваний), из
них 82 910 закончились смертельно2. Подрыв рабочей
силы растущей спешкой в работе и интенсивностью
труда ведет также к быстрому сокращению
работоспособности. С 1954 по 1959 г. число мужчин, которые до
достижения предельного возраста вынуждены были
выбывать из производственных процессов, возросло до
70%3.
Капиталистическая действительность Западной
Германии доказывает, следовательно, что отчуждение
рабочего в процессе производства существует, как и прежде,
и в условиях государственно-монополистического
капитализма стало еще острее, чем во времена жизни
Маркса.
Но отчуждение рабочего, согласно Марксу,
свойственно не только акту его деятельности в процессе
капиталистического производства. Оно в такой же мере
присуще отношению рабочего к продукту своего труда.
Поскольку ни средства производства, ни сам труд не
принадлежат рабочему, предмет, который он производит
и в котором овеществлен, опредмечен его труд, противо-
1 «Bundesministerium fur Arbeil und Sozialordnung», Bonn,
Arbeite- und Sozialstatistische Mitteilungen, Lfd.
2 cBundesministerium für Arbeits- und Sozialordnung», Bonn;
«Die gesetzliche Unfallversicherung in den Jahren 1949 und 1950»,
S. 12; «Bulletin des Presse- und Informationsamtts des
Bundesregierung, Bonn, № 131, 19. Juli 1961.
3 «Soziale Sicherheit», «Zeitschrift für Sozialpolitik»,
Düsseldorf, Hf\ 8, August 1961.
99
стоит ему как чуждый. Этот факт вытекает из тогэ,
что —как убедительно доказал Маркс — труд не только
превратил человека в общественное существо, но он
также определяет «всю сущность человека».
Иными словами, это значит, что как в деятельности
человека, так и в продукте его деятельности
воплощаются или — говоря словами Маркса ^—
«опредмечиваются» все, определяющие сущность человека, силы.
Человек является человеком, лишь применяя в труде свои
способности и навыки, свои знания и свой опыт, и
именно таким путем подтверждает на деле и утверждает себя
как человек. Но, с другой стороны, в процессе труда
происходит постоянное развитие человеческих
достоинств и творческих способностей человека. Но так как
в условиях капиталистической частной собственности
рабочий класс вынужден продавать свою рабочую силу,
то вместе с человеческим трудом и продуктом этого
труда губятся и определяющие его сущностные черты и
силы, воплощенные в процессе труда и овеществленные в
предмете труда. Процесс труда выступает, таким
образом, как выключение рабочего из действительности, а
опредмечивание сил, определяющих его сущность, ведет
в то же время к утрате предмета ,.§
Сегодня даже буржуазные философы и социологи не
могут не признать, что в капиталистическом мире
прежде всего пролетарии вынуждены в той или иной степени
приносить в жертву капиталу развитие своей личности.
В связи с вопросом: «Каково отношение современного
человека к его ближним?» Фромм приходит к
следующему примечательному выводу: «Это отношение между
двумя абстракциями, двумя живыми машинами, которые
пользуются друг другом. Работодатель использует
рабочего, работающего по найму; торговец — своих
покупателей. Каждый является предметом потребления для
кого-либо»2. «Господствующий в нашем личном
общении с ближним принцип эгоизма «Каждый за себя, бог
за нас всех» находится в вопиющем противоречии с
христианским учением»3. «Ориентация на рынок» приводит
1 См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних
произведений, стр. 568—57il.
2 Е. Fromm, Der moderne Mensch und seine Zukunft, S. 126.
3 Там же, стр. 126 и ел.
100
к тому, что «человек ч\встоует себя вещью, которая
с успехом выставляется на рынок». «Активным
существом, носителем человеческих сил он себя не
чувствует» 1. Это типическое проявление исследованного
Марксом в «Экономическо-философских рукописях» процесса
экономического отчуждения рабочего в акте
капиталистического производства и в отношении к продукту его
деятельности. То, что труд по отношению к рабочему
является чем-то внешним, является принудительным
трудом, что он губит его тело, притупляет его ум,
следовательно, не заложено в природе человека, как и тот
факт, что продукты, которые изготовляет рабочий; от-
чуждены от него, не принадлежат ему и противостоят
ему как чуждая сила. Именно капиталистические
производственные отношения, которые существуют
независимо от воли человека и которые порождают
отчуждение, придают труду характер отчуждения.
Маркс в своих работах, написанных после
«Экономическо-философских рукописей», вновь и вновь приводил
доказательства этого. Прежде всего он показал, что
капиталистические производственные отношения и
отчужденный труд являются двумя сторонами одного и того
же процесса эксплуатации человека владельцами
капиталистической частной собственности. Капиталистическая
частная собственность является результатом
эксплуатации человека и возникает из чужого прибавочного труда.
Обосновав теорию прибавочной стоимости, Маркс
привел неопровержимые научные доказательства этого.
В частности, в «Капитале» он доказывает, что
эксплуатация реализуется в форме прибавочной стоимости.
«Капитал,— пишет Маркс,— это мертвый труд, который,
как вампир, оживает лишь тогда, когда всасывает
живой труд и живет тем полнее, чем -больше живого труда
он поглощает»2. Поэтому отчуждение человека
непосредственно и причинно связано с существованием и
процессом действия капитала как общественным
отношением.
Клерикальные фальсификаторы Маркса отрицают
отношение к капиталу, как и все материальные
отношения человека в качестве источника отчуждения. Поэто-
1 Е. Fromm, Der moderne Mensch und seine Zukunft, S. 128.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 23, стр. 244.
101
му их полемика против марксовского понимания
отчуждения направлена прежде всего против
материалистического понимания истории, при обосновании и развитии
которого Маркс и Энгельс впервые в истории
провозгласили ту мысль, что «материальные отношения» людей
образуют «основу всех их отношений» !, под которыми
они понимали совокупность производственных!
отношений как базис общества. Только в рамках этих
отношений происходит воздействие людей на природу,
совершается -процесс производства, причем, как решительно
подчеркивает Маркс, люди не свободны в выборе тех
или иных отношений2. «В общественном производстве
своей жизни люди вступают в определенные,
необходимые, от их воли не зависящие отношения —
производственные отношения»3.
Вырывая человеческую деятельность из
производственных отношений, клерикальные фальсификаторы
Маркса получают возможность объявить отчуждение
чисто человеческим, природным фактом. Их представители
сознательно игнорируют материальную сущность этих
отношений, существующих благодаря существованию
капиталистической частной собственности. Таким
образом, они приходят к субъективированию также и этих
отношений и превращают их «нечеловеческий» характер,
в конечном счете в зависимый от самого человека, с
помощью чего .капиталистические общественные
отношения выдаются за гуманистические отношения.
Отчуждение как экономический факт, свойственный
капиталистическому строю, маскируется, а вместе с тем скрывается
и собственно материальная основа отчуждения
рабочего — капиталистические производственные отношения,
господствующие над ним, являющиеся причиной его
отчуждения и накладывающие на него свой отпечаток,
определяющие отчужденный характер процесса труда.
Хотя Маркс прямо утверждает, что
производственные отношения,, по существу, представляют
материальные отношения людей, Ландгребе, договорившийся до
абсурдного утверждения, будто понятие отчуждения
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, Госполит-
издат, 1953, стр. 23.
2 См. там же.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 13, стр. 6.
102
нельзя «получить на основании эмпирического
исследования и анализа существующего общественного строя» 1,
от имени Маркса высказывает сомнение в материальной
природе общественных отношений. Маркс, считает он,
не мог дать окончательного ответа на вопрос, что,
собственно, представляют собой производственные
отношения человеческого общества. «Мы можем лишь
сказать,— пишет он,— что они не являются ни природой, ни
духом, а единством обоих»2. Ландгребе, который тем
самым, подобно Гоммесу и Метцке, открыто определяет
самую суть фальсификации, своими утверждениями,
несомненно, демонстрирует абсолютное непонимание
элементарных понятий марксизма. Он повторяет не только
устаревшие, давным-давно приводившиеся аргументы,
согласно которым Маркс якобы отрицал материальный
характер природы, субъективировал действительность
и т. д., но в заключение, чтобы подтвердить свое
неправильное толкование Маркса, не может сказать ничего
иного, кроме того, что производственные отношения яв-
ляются-де «природой», «человеческой природой...
природой в ее отношении к человеку как существу
природы» 3.
Следовательно, квинтэссенцией клерикальной
фальсификации Маркса является приписываемая марксизму
«человеческая природа», наделенная, согласно Метцке,
одержимостью к «владению или желанием иметь»,
согласно Гоммесу, вечными инстинктами и т. д. и которая
должна служить конечной основой, альфой и омегой
марксистского понимания истории в целом и концепции
отчуждения в частности. Вся теоретическая дилемма
клерикальной фальсификации Маркса заключается
просто в том, что они не в состоянии уяснить себе
марксистское понятие материи прежде всего в отношении к
обществу и понять, что капиталистические
производственные отношения в виде экономических отношений
собственности, обмена и распределения являются
материальными отношениями, существующими независимо от
воли рабочего и причинно обусловливающими
отчуждение.
IL. Landgrebe, Das iProblem der Dialektik, в:
«Marxismusstudien», Dritte Folge, S. 8.
2 Там же, стр. 52.
3 Там же, стр. 55.
103
Если утверждения Гоммеса, Метцке и Ландгребе
довести до логического конца, то получится, что, согласно
Марксу, сам эксплуатируемый рабочий виновен в
отчуждении, так как оно коренится в его природных
особенностях. Поскольку вместо действительных»
общественных причин выдвигается природа человека, отчуждение
лишается своего общественного капиталистического
характера и превращается в основную черту рабочего.
Таким образом, отчуждение самой судьбой дано человеку,
он не может от него освободиться, это вечно
существующее явление, которое «нельзя ни объяснить с точки зрения
общественной, ни устранить путем изменения
общества. Рабочему остается лишь единственный выход:
поскольку отчуждение и эксплуатация тяготеют над ними
как судьба природы, как основная черта их природы, они
должны изменить свою сущность, преобразовать и
облагородить свою природу, чтобы избавиться от
отчуждения. Другой -путь не дает никаких гарантий для
преодоления господствующих над ними чуждых сил. Короче,
рабочие не должны и не имеют права приступать к
общественным, революционным действиям против
капиталистического строя. Поскольку они вынуждены
существовать, так сказать, в постоянном трагизме состояния
отчуждения, для них остается лишь «трагический или
надломленный христианский гуманизм» ], который в
реальной экономической и политической жизни Западной
Германии означает «меры» Эрхарда и боннское
законодательство о чрезвычайном положении.
2. Упразднение превратного сознания
Клерикальные критики часто не замечают и просто
замалчивают тот факт, что Маркс не только вскрыл
причины отчуждения человека в экономической сфере
капиталистического общества, но и в связи с этим доказал,
что все области этого строя отчуждены от человека. Это
относится и к той области деятельности человека, в
которой он выходит за пределы непосредственного произ-
1 См. Е. Wei nst ос k, Realen Humanismus. Eine Ausschau
nach Möglichkeiten seiner Verwirklichung, 2. Aufl., Heidelberg, 1958.
104
водства, труда и вступает в отношения, имеющие не
экономическую, а духовную природу. Эта область
охватывает многочисленные и разносторонние духовные,
следовательно, идеологические отношения человека при
капитализме.
Маркс ' пишет, что «отчуждение труда приводит к
следующим результатам:
...Родовая сущность человека... превращается в
чуждую ему сущность... Отчуждённый труд отчуждает от
человека его собственное тело, как и природу вне его, как
и его духовную сущность... его человеческую сущность» *
Это, согласно Марксу, касается не только человеческих
чувств, которые практически отпечатываются и
формируются как духовные лишь односторонне, грубо и
ограниченно, поскольку, например, для угнетенного,
«изголодавшегося человека не существует человеческой
формы пищи, а существует только её абстрактное бытие как
пищи», или же «удручённый заботами, нуждающийся
человек невосприимчив даже к самому прекрасному
зрелищу»2, но это отчуждение человеческой сущности
относится и к моральным качествам, которые в условиях
частнокапиталистической собственности сводятся к
эгоизму, «смыслу владения»3 и распространяются прежде
всего на различные формы буржуазного сознания,
которое «представляет собой абстракцию от
действительной жизни и в качестве такой абстракции враждебно
противостоит ей»4.
Доказательству этого факта Маркс и Энгельс
посвятили целое произведение — «Немецкая идеология», в
котором они показали, что в буржуазной идеологии «люди
и их отношения оказываются поставленными на голову,
словно в камере-обскуре»5. Будучи идеалистами,
буржуазные философы отрывают человеческое сознание,
дух, мышление от человека, от общественной
действительности и превращают его в самостоятельную,
существующую независимо от человека силу в виде чистого,
1 'К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений,
стр. 567.
2 Там же, ст.р. 594.
3 Там же, стр. 591.
4 Там же, стр. 590.
5 .К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 25.
105
абсолютного духа, который противопоставляется людям
в качестве существа, определяющего ход истории.
«Все идеалисты, как философские, так и религиозные,
как старые, так и новые, верят в наития, в откровения,
в спасителей, в чудотворцев, и только от степени их
образования зависит, принимает ли эта вера грубую,
религиозную форму или же просвещённую, философскую,
подобно тому как только от степени их энергии,
характера, общественного положения и т. д. зависит,
относятся ли они к вере в чудеса пассивно или активно, т. е.
являются ли они пастырями-чудотворцами или их
паствой, и, далее, преследуют ли они при этом теоретические
или практические цели» К
Следовательно, как идеалистическая, так и
религиозная идеологии является продуктом и выражением
человеческого отчуждения и вообще превратно изображает
и способности человека, и жизнь. Они, по словам
Маркса, представляют собой «превратное мировоззрение»2,
основой которого является отчужденный экономический
мир человека. Наиболее ярко, по Марксу, это
проявляется в религии, причем он прямо сравнивает
религиозное и экономическое отчуждение? «чем больше
рабочий выматывает себя на работе, тем могущественнее
становится чужой для него предметный мир,
создаваемый им самим против самого себя, тем беднее
становится он сам, его внутренний мир, тем меньшее имущество
ему принадлежит. Точно так же обстоит дело и в
религии. Чем больше вкладывает человек в бога, тем меньше
остаётся в нём самом»3.
Поэтому Маркс и характеризует религию как
теоретическое завершение действительного, практического
отчуждения человека при капитализме, поскольку в
религиозном учении находит свое умозрительное отражение
экономическое отчуждение, нечеловеческое положение
рабочего при капитализме. Лишенный возможности
жить в антагонистическом классовом обществе
по-человечески, без эксплуатации и угнетения, человек в
религии противопоставляет себе сверхъестественное сущест-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 536.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 414.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений,
стр. 561.
106
во и придает ему все те человеческие свойства, которые
осуществить он не может вследствие его отчужденного
земного бытия. Чем больше он вкладывает в это существо,
тем больше он отдает ему сил, любви, добра и т. д., тем
меньше остается в нем самом; чем больше он в этом
существе опредмечивает своей собственной сущности, тем
больше он утрачивает, опустошает самого себя, так что
в конце концов он кажется зависимым существом,
которое полностью живет по милости другого. Но тем самым
человек одновременно переносит свою действительную
человеческую жизнь в будущий потусторонний мир, на
небо, в царство бога, где должны исчезнуть все
страдания и осуществятся все мечты о счастье, которых он был
лишен на земле. Таким образом, религия, надежда на
лучшую жизнь после смерти есть не что иное, как
фантастическое отражение того, чего человек не может
достигнуть в классовом обществе с его непримиримыми
противоположностями и противоречиями, с его кризисами и
войнами, его страхами и нуждами всякого рода, но о чем
он страстно мечтает и к чему он стремится. Бог — это
мечта, а религия — иллюзия человека о счастливом
человеческом мире. «Религиозное убожество, — пишет
Маркс,— есть в одно и то же время выражение
действительного убожества и протест против этого
действительного убожества. Религия — это вздох угнетённой твари,
сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух
бездушных порядков. Религия есть опиум народа» '.
Господствующие эксплуататорские классы, а в
настоящее время особенно империалистическая буржуазия
используют все средства, чтобы подчинить религию
своим классовым интересам и заставить ее действовать как
опиум, с тем чтобы сделать народ неспособным
свергнуть «бессердечный мир». Клерикальные
фальсификаторы Маркса с помощью религии борются за сохранение
империалистического строя. Они не всегда открыто
выступают в поддержку эксплуатации человека человеком,
но защищают ее, пытаясь сохранить религиозное
самоотчуждение и вечную зависимость человека от власти
реакционного духовенства.
Протест против нищеты трудящихся масс и против
атомной войны, выражаемый населением и теологами в
1 iK. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. »1, стр. 415.
107
религиозной форме, вызывает ужас у воинствующего
духовенства. Оно борется с ними и преследует их, как
и все то, что способствует человеческому прогрессу и
гуманистическому образу . мыслей, что в соответствии с
социальными интересами «угнетенных и обездоленных»
вошло в христианство и что позволяет верующим и
превращается в их обязанность по религиозному
убеждению принимать участие в мирном созидании мира. Хотя
принципиальное мировоззренческое различие между
научной теорией марксизма-ленинизма и религией и
является непреодолимым, однако отсюда не вытекает
несовместимость гуманистических идеалов и политических»
целей революционного рабочего движения и религиозно
верующих трудящихся. К этому убеждению приходит все
больше и больше христиан — граждан ГДР, а пастор
Карл Пагель, руководитель прихода в Лобетале,
выражая мнение многих христиан нашей республики, гово»-
рит: «Я сохранил мою жизнь не для того, чтобы жить
только для себя, но чтобы жить в великом коллективе
тех, кто живет вокруг меня. Поэтому я приветствую
сотрудничество с таким государством, как наше, и я
благодарен, что могу сотрудничать с социалистической
республикой. Мы пожинаем урожай на одном поле, мы едим
один хлеб, мы строим одно государство» К Наоборот,
политико-идеологическая линия раздела объективно
протекает между гуманистическими стремлениями народных
масс и враждебной народу, антигуманистической
империалистической идеологией и политикой,
представленными политическим клерикализмом, злоупотребляющим
христианской религией. Поэтому Вальтер Ульбрихт
правильно заявил: «Христианство и гуманистические цели
социализма не являются противоположностями»2.
Социалистический гуманизм поистине человечен, так
как он ставит человека в центр каждой мысли и
каждого действия. Он сводит человека к нему самому,
направляет его чувства, мысли и дела на то, чтобы
установить и сохранить поистине человеческие отношения.
Благодаря этому человек в своих мыслях и делах стано-
1 Цит. по: «Neues Deutschland» (В), 22. August 1963.
2 «Programmatische Erklärung des Vorsitzenden des Staatsrats
der DDR vor der Volkskammer am 4. Oktober 1960», Dietz Verlag,
Berlin, 1960, S. 61.
108
вится непосредственно ответственным за общество, себя
самого и своих сотрудников и у него пробуждается
обязанность не искать больше пассивно утешения в
потустороннем мире, а активно обращаться к
действительному миру и создавать такие общественные отношения,
в которых человек чувствует себя человеком и не
нуждается больше ни в каком иллюзорном опосредовании,
чтобы быть человеком. Поэтому для Маркса
«упразднение религии как иллюзорного счастья народа» является
не чисто теоретическим отрицанием, а практическим,
позитивным делом, требованием «его действительного
счастья» К
Это свойственное марксизму уважение собственного
достоинства и духовных сил человека как творца счастья
народа, а вместе с тем и своей собственной жизни
занимает не последнее место в нападках клерикальных«
фальсификаторов Маркса. Их представители отнимают у
человека право быть человеком самому по себе и через
самого себя. «Где речь идет о человеке,— пишет,
например, Тир,— одновременно речь идет о боге... Личность
становится человеком только в призвании к богу и во
встрече с ним»2. Это персоналистское «положение,
принимаемое на веру, является ненаучной догмой, исходя
из которой клерикальные фальсификаторы Маркса
ставят под вопрос собственное достоинство и творческую
силу человека и принципиально отрицают его
нравственную автономию. Поэтому в наше время клерикальная
критика гуманистических представлений Карла Маркса
о человеке, несмотря на ее претензию быть
гуманистической, оказывается нападками реакции на гуманизм.
Поскольку эта критика пессимистически, с заклинаниями и
угрозами реагирует на каждое устремление народа к
созданию человеческого строя без войны и угнетения,
она представляет собой перенесение
империалистической политики в область теологии. «Ибо если человек
хочет перенести небо на землю или открыть рай,—
добавляет Вендлянд к своему отказу от гуманизма,— то
вместо него он осуществит ад»3, и даже бесклассовое
■К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 415.
2 Е. Т h i е г, Etappen der Marxinterpretation, в:
«Marxismusstudien»/Erste Folge, S. 11, 13.
3 H.-D. W e n d 1 a n d, Christliche und kommunistische
Hoffnung, S. 225.
109
коммунистическое общество явилось бы «обществом
грешных людей» и «должно погибнуть, исходя из самого
человека» '. Все гуманистические мысли и даже
социалистические гуманистические действия рабочих и
трудящихся являются будто бы безнадежными. Человек на
земле был и якобы вечно останется в плену
бесчеловечности. Религиозная целеустановка клерикальной партии
обнаруживает в этом свой земной пошлый смысл.
Марксизм несовместим ни с каким антигуманизмом,
как с теоретическим, так и. с практическим. Все
бесчеловечное, по существу, чуждо ему, поскольку он
освобождает человека от всех бесчеловечных оков, от
экономического, политического и духовного отчуждения,
борясь против их теоретического освящения и устраняя
их практические основы. Подобно тому как «атеизм, в
качестве снятия бога, означает становление
теоретического гуманизма», так «коммунизм в качестве снятия
частной собственности означает требование
действительно человеческой жизни,... означает становление
практического гуманизма»2.
Так как антагонистические отношения
капиталистической частной собственности являются именно тем, что
взяло рабочего в плен и удерживает его в плену, тем,
что вынуждает его к отчужденному, бесчеловечному
бытию, полному гнетущей безнадежности и потерянности,
и угрожает подавить его собственное человеческое
бытие, то ликвидация эксплуататорских отношений
представляет собой единственный указанный самой историей
путь полного освобождения человека. «Поэтому
положительное упразднение частной собственности,— пишет
Маркс,— ...есть положительное упразднение всякого
отчуждения, т. е. возвращение человека... к своему
человеческому, т. е. общественному бытию»3.
Это возвращение человека к своему собственному
человеческому бытию, ставшее сегодня в странах
социализма практической действительностью, все в большей
степени определяет мысли и дела верующих
трудящихся. Поскольку социализм и коммунизм являются делом
* H.-D. W е n d 1 а n d, Christliche... S. 231.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений,
стр. 637.
3 Там же, стр. 589.
НО
всех трудящихся, результатом их совместного труда,
забот и радостей, верующим христианам легче убедиться
в высокой нравственности социалистического строя и
преодолеть старые предрассудки. Практика лучше, чем
всякое теоретическое положение, учит их, что есть
только или-ил-и: стоять на стороне старого или на стороне
нового времени, на стороне войны или мира. Третьего
не дано1. Все то, что верующие трудящиеся искренне
надеются получить от христианства — мира и
человечности,— при социализме становится действительностью
благодаря совместным усилиям всех граждан нового
государства. И никто, говорит Вальтер Ульбрихт, не
может всерьез сомневаться или отрицать, что
«социализм и коммунизм в поистине короткий, с точки зрения
истории, период своего действия в мировой истории
сделали бесконечно больше для осуществления
гуманистических и социальных идеалов и заповедей христианства,
чем все прежние общественные формации, вместе
взятые... Христианин, серьезно воспринимающий свои
гуманистические и социальные идеалы, голова которого
свободна от предрассудков и балласта мертвого
прошлого, не может, собственно, не согласиться с
социализмом»2. Но практика социалистических «революций
доказывает также, что отмена частной собственности
произойдет не сама собой, не путем созерцательного
углубления в земную или потустороннюю природу человека,
а лишь путем борьбы трудящегося класса под
руководством пролетариата, поэтому возвращение человека к
своему общественному бытию — не иллюзорное,
общечеловеческое движение, а политическое классовое
движение, которое «выливается в политическую форму
эмансипации рабочих»*. Как особое политическое
движение, борьба рабочего класса представляет
общечеловеческий прогресс и является гуманистичной в самом
широком и самом подлинном смысле слова. Пролетариат
освобождает человечество от всех бесчеловечных
условий жизни и открывает ему перспективу коммунизма,
1 См. «Sozialisten und Christen verbinden gemeinsame Ideale
und Ziele», «Schriftenreihe des Staatsrates des DDR», Nr. 5/1961,
S. 31.
2 Там же, стр. 12.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений,
стр. 570.
111
законченного гуманизма. Поэтому в ГДР, первом
социалистическом немецком государстве, и нашло свою
родину все то, что было хорошего, красивого и
прогрессивного в немецкой истории.
3. Уничтожение отчуждения вместо
действительного послушания
Несмотря на антикоммунистическую и
проимпериалисгическую интерпретацию понятия отчуждения,
отчуждение является непреложным общественным фактом
в капиталистическом государстве Западной Германии.
Оно объективно присуще всем областям жизни этого
строя и выражает то обстоятельство, что
социально-экономические, политические и идеологические отношения,
основанные на капиталистической частной
собственности, существуют и действуют, как силы, чуждые
человеку и господствующие над ним, вместо того чтобы
находиться под господством самого человека. Как указал
Маркс, отчуждение при капитализме достигает своего
наивысшего выражения и степени развития. В этом
отчуждении господствующий класс« чувствует себя
«удовлетворённым и утверждённым, воспринимает
отчуждение как свидетельство своего собственного могущества
и обладает в нём видимостью человеческого
существования»; рабочий класс и трудящиеся массы «чувствуют
себя в этом отчуждении уничтоженным, видя в нём своё
бессилие и действительность нечеловеческого
существования» К Поэтому от империалистической буржуазии
исходят действия, направленные на сохранение
отчуждения как гарантии их власти, а от .рабочего класса —
действия, направленные на уничтожение его.
Поэтому, анализируя проблему отчуждения, Маркс
и Энгельс четко объяснили и определили силу, пути и
средства для устранения отчуждения. По их мнению,
решающей силой является рабочее движение,
руководствующееся научным социализмом; классовая борьба
пролетариата, свержение буржуазии и установление
политической власти рабочих и крестьян представляют
собой средство, а построение социализма-коммунизма —
указанный историей путь для преодоления отчуждения.
1 iK. M а р'К с и Ф. Энгельс, Соч., т. 2, стр. 39.
112
Борьба рабочего класса и всех прогрессивных сил
общества против капиталистической эксплуатации и
угнетения трудового народа, против антинародной
политики капиталистического государства и реакционной
идеологии направлена непосредственно против отчуждения
и действует вопреки его тенденциям. Хотя эта борьба и
не в состоянии уничтожить отчуждение как
экономический фактор, однако она препятствует его
безграничному действию. Революционный рабочий класс во всех
областях своей борьбы — экономической, политической и
теоретической — выступает не только против
отчуждения; он одновременно развивает в своих классовых
организациях такие качества и отношения, как
солидарность, самоотверженность и т. д., которые отрицают
отчуждение. Сюда в полной мере относится то, что Маркс
сказал о парижских рабочих«: «Когда между собой
объединяются коммунистические рабочие, то целью для них
является прежде всего учение, пропаганда и т. д. Но в то
же время у них возникает благодаря этому новая
потребность, потребность в общении, и то, что выступает
как средство, становится целью... Для них достаточно
общения, объединения в союз, беседы, имеющей своей
целью опять-таки общение; человеческое братство в их
устах не фраза, а истина, и с их загрубелых от труда
лиц на нас сияет человеческое благородство» К
Высшим выражением этого отрицания отчуждения
является революционная партия рабочего класса. В
научном социализме она имеет теорию, которая помогает
формированию у рабочего класса правильного научного
мировоззрения и дает ему возможность узнавать чуждые
силы. Социалистическая идеология в противоположность
отчужденной буржуазной идеологии помогает рабочему
классу, борющемуся против буржуазной эксплуатации,
понять свою собственную сущность; она дает рабочему
классу представление о его силе, достоинстве и
исторической миссии; она дает пролетариату сознание того,
что он может и должен сам освободить себя, и
помогает ему познать свои жизненные интересы, увидеть
закономерности общественного развития и целенаправлен-
1 ,К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений,
стр. 607.
5-424 ИЗ
но вести классовую борьбу, чтобы уничтожить какое бы
то ни было отчуждение.
С завоеванием пролетариатом политической власти и
построением социализма борьба рабочего класса и всех
прогрессивных сил против отчуждения вступает в новую
стадию. Благодаря установлению пролетарской власти и
осуществленной ей ликвидации капиталистической
частной собственности, того, что Маркс характеризовал как
«основу», как «причину» и «средство» отчуждения
человека, ликвидирована политическая и
социально-экономическая основа отчуждения. Этот революционный и
гуманистический акт пролетариата является началом
качественно нового развития в политических« и социально-
экономических отношениях людей, которое в результате
победы социалистических производственных отношений
и развития социалистической демократии охватывает все
области и лишает почвы отчуждение как
экономический и политический фактор. Строительство
социализма в ГДР и других социалистических государствах
свидетельствует о том, что этот процесс представляет
собой историческую истину, подтвержденную самой
жизнью. •
Поэтому в качестве реакции на процесс упразднения
отчуждения, ставший действительностью, клерикальные
фальсификаторы Маркса самым резким образом
выступают против упразднения капиталистической частной
собственности, а также против упразднения отчуждения
человека благодаря победе социализма. По вполне
понятным политическим и классовым соображениям они
усиленно стараются извратить или вообще поставить под
вопрос материальные основы отчуждения, о которых
говорил Маркс, с тем чтобы снять проблему пути его
ликвидации. Они отрицают также глубоко гуманистическое
содержание как теоретического требования об
упразднении капиталистической частной собственности, так и
ее практической ликвидации и заявляют, будто бы
отмена капиталистических производственных отношений
направлена против самих« людей и никоим образом не
приведет к тому, чтобы освободить человека и все
человечество от отчуждения. В таком духе усердствуют
почти все «убийцы» Маркса, утверждая в старых или
новых вариациях, что отмена частной собственности на
средства производства не уничтожит якобы господства
114
человека над человеком \ не приведет к осуществлению
человечности, к реальному гуманизму2, объявляя
величие человека вместе с его моральным достоинством
недействительным и т. д. и т. п.3 Цель этих подтасовок
опять-таки сводится к тому, чтобы создать видимость
правдоподобия того, что ликвидация капиталистических
производственных отношений и вместе с этим отмена
частнокапиталистической собственности на средства
производства никак не ведет к освобождению человека.
Поэтому они прямо и открыто высказываются против
ликвидации капиталистических отношений
собственности и пытаются подавить революционную классовую
борьбу трудящихся Западной Германии. Метцке,
например, выступая против положения Маркса о том, что
«Для уничтожения же частной собственности в реальной
действительности требуется действительное
коммунистическое действие»4, открыто заявляет, что упразднение
отчуждения невозможно якобы путем отмены
частнокапиталистической собственности. Критика Маркса, пишет
он, «используя в качестве последнего козыря
действительность, действительные изменения, действительное
устранение нищеты в противоположность только
(Пониманию и только абстрактному уничтожению
отчуждения, действует... слишком прямолинейно и
убедительно. Это внушает опасения»5.
Понятно, что Метцке, как и другие клерикальные
фальсификаторы Маркса, выступает против всякого
действительно практического упразднения отчуждения,
поскольку оно имеет целью ликвидацию капитализма.
Поэтому они высказываются в защиту абстрактного
упразднения отчуждения, которое издавна проповедуется
буржуазными идеологами и которое различными
способами доводится до сознания масс. У Метцке это выгля-
1 См. I. Fetscher, Von Marx zur Sowjetideologie,
Frankfurt a. Main. 1957, S. 31, Sechsle Auflage, 1961.
2 См. S. L a n d s h u t, Karl Marx. Die Frühschriften,
Stuttgart, 1953, S. XII.
3 См. J.Hommes, Krise der Freiheit, S. 167.
4K. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений,
стр. 606.
6 Е. M е t z к е, Mensch und Geschichte im ursprünglichen
Ansatz des Marxschen Denkens, в: «Marxismusstudien», Zweite Folge,
Tübingen, 1957, S. 17.
5*
115
дит так: поскольку до сих> пор он ограничивался
фальсификацией марксистской теории отчуждения, то ему
уже недостаточно этого метода для ответа на
решающий вопрос о пути ликвидации отчуждения. Он
вынужден открыто выступить против Маркса и заявить, будто
у Маркса вкралась грубая ошибка. «И на самом деле,—
пишет Метцке,— даже Маркс в своей критике...
недооценил», что Гегель «первым понял, что дух — это труд
и труд —это дух...» 1
Против этого можно было бы прежде всего
возразить, что Маркс и здесь отнюдь не недооценил Гегеля,
а, как мы уже показали, осознал действительное
содержание его теории труда. Маркс первым в своей критике
гегелевской философии развил положение о том, что
труд и дух так же тождественны, как мышление и
бытие, как мысль и действительность. Он устранил
ненаучное идеалистическое извращение этого вопроса Гегелем
и доказал первичную роль материальной общественной
жизни в единстве бытия и сознания, труда и духа.
Внутри этого единства бытие и мышление различаются,
существует принципиальное различие между
человеческим представлением и действительным предметом,
очевидной жизнью. Маркс демонстрирует это различие
очень наглядно. Он пишет: рабочие при капитализме
«очень болезненно ощущают различие между бытием и
мышлением, между сознанием и жизнью. Они знают, что
собственность, капитал, деньги, наёмный труд и тому
подобное представляют собой далеко не призраки
воображения, а весьма практические, весьма конкретные
продукты самоотчуждения рабочих»2.
Это относится и к западногерманским рабочим, о
которых Фридрих Вельтц пишет в журнале СДПГ «Ди
нойе гезельшафт»: «Большинство рабочих
[западногерманских.— Ред.] рассматривают общество не как
гармоническое целЪе... а как дихотомию, «как мир,
разделенный на две части, в котором резко различается «верх»
и «низ». Внизу стоят рабочие... не имеющие влияния и
отчужденные. Наверху находится небольшая группа
«господ», «капитал»... и власть, которые распоряжа-
1 Е. Metzke, «Marxismusstudien», Zweite Folge, Tübingen,
1957. S. 17—18.
2 К. M а p к с п Ф. Э н г е я ь с, Соч., т. 2. стр. 58
116
ются деньгами и занимают ответственные позиции»1.
Еще яснее высказываются сами западногерманские
рабочие. На вопрос об их мнении относительно
технического прогресса они отвечают: «Технический прогресс
вполне .хорош, вообще хорош, когда он приносит пользу
рабочим. Но он не делает этого. Наоборот, он
обременяет -рабочего» (вальцовщик, 54 года). «Техника
полезна не для рабочих, а для прибыли капитала. Капитал
зарабатывает на технике. Во что рабочий превращается,
это ей совершенно безразлично» (2-й машинист
прокатного стана, 54 года). «Следует ожидать, что однажды
мы окажемся на улице, потому что больше не будет
работы. От господ сверху нечего ожидать, так как они
действуют только ради своей прибыли. Что произойдет с
нами, им совершенно безразлично. Сегодня же мы
должны на них работать. Но если когда-то мы окажемся не
нужны им, если наш труд будет исполняться машинами,
они спокойно заставят нас голодать» (2-й машинист
прокатного стана, 24 года)2.
Согласно клерикальным фальсификаторам Маркса,
отрицающим различие между бытием и мышлением и
отождествляющим труд и дух, страдания рабочего при
капитализме — вместе с тем и все зло их- эксплуатации
и отчуждения — заключаются лишь в их мышлении.
Поэтому клерикальная критика учит рабочих, будто бы они
в действительности перестают быть эксплуатируемыми,
наемными рабочими, когда они отметают мысли о
наемном труде и эксплуатации, и что они постигнут
истину не путем познания действительности и ее изменения,
а лишь с помощью «духа». То, что этот дух, или логос,
тождествен с богом, становится понятным уже из
теологической подоплеки клерикальных теоретиков. В то
время как Метцке пользуется объективным идеализмом
гегелевского толка, чтобы подтвердить, насколько
неправильно и недостойно стремление трудящихся привести в
порядок сам мир, другие клерикальные критики Маркса
отказываются от подобной философской окраски своих
теологических позиций. Они более или менее открыто
проповедуют, что упразднение всякого человеческого от-
1 Fr. Welt s, Wie siet der Arbeiter die Gesellschaft? в- «Die
neue Gesellschaft», 9. Jahrg., 6 Hf., November — Dezember 1%2, S. 441.
2 Цит. по: «Das Gesellschaftsbüd des Arbeiters», S. 61.
117
чуждения может произойти только благодаря богу и в
зависимости человека от бога, то есть только на небе.
Для Гоммеса существует только одна возможность —
«путь действительного послушания»*. Он категорически
заявляет: «Только в боге отменено для человека
отчуждение, которое дает ему предметный мир»2.
' Таким образом, претензия клерикальных критиков
Маркса на то, чтобы указать людям путь к поистине
человеческому бытию, исчерпывается тем, чтобы
рекомендовать рабочим фаталистически переносить свое
отчужденное бытие при капитализме и оставлять
незатронутой власть господствующего класса. В качестве
награды за терпеливое перенесение эксплуатации и
угнетения иезуит Нелл-Бройнинг обещает «не земное
счастье, а вечную жизнь в радостном сообществе»3 с
богом. Ради этого иллюзорного солнца человек должен
отвернуться от себя, ради мнимого счастья он должен
отказаться от своего действительного земного счастья,
от социализма и коммунизма.
Отрицанием способности трудящихся масс творить
историю и ограничивается круг клерикальной
аргументации, оправдывающей капиталистический строй.
Преобразуем их примитивную систему: сначала отрицают
материальные причины отчуждения в виде
капиталистической частной собственности, переносят их» в природу
человека и придают тем самым капиталистическим
отношениям собственности видимость естественного,
человеческого, гуманного. Самим трудящимся рекомендуют
очищать их грешную природу от одержимости к
владению и желанию иметь, но не ликвидировать
капиталистические основы их отчужденного бытия. Наконец,
после того как причины отчуждения перенесены в область
психического, в качестве единственного пути изменения
человеческой природы предлагают пассивное,
созерцательное погружение в природу духа, которое оставляет
совершенно незатронутым существующие
капиталистические отношения, а вместе с тем и действительное
отчуждение рабочего. Таким образом, закрывается путь
1 J. Hommes, Die Krise der Freiheit, S. 314.
2 J. Hommes, Zweispaltiges Dasein, Freiburg, 1953, S. 327.
a O. von N e 1 1 - В г e u n i n g, S. J.; Wirtschaft und
Gesellschaft heute, Bd. 1, Freiburg, 1956, S. 15.
118
к любому активному, революционному преобразованию
капиталистического строя, а последний в конце концов
объявляется даже продуктом духа. Поэтому
трудящемуся человеку при этом строе остается лишь безропотное
примирение с самим собой, предопределенное судьбой
подчинение экономической и политической власти
монополистического капитала. И наконец, чтобы задушить
всякую мысль о лучшем будущем человечества,
социализм и коммунизм превращаются в свою
противоположность и для отпугивания от них — прежде всего
христиан—любыми средствами дискредитируются и даже
объявляются дьявольским учением. Метцке делает это
с помощью гегелевского логоса, Ландгребе — угрозой
наступающего царства животных, Вендлянд — с
помощью ужасов ада и власти дьявола, Гоммес — с
помощью версии о тоталитарном нечеловеке. Введение в
заблуждение в теории дополняется насилием над
совестью, духовным террором. По-видимому, для
империалистической буржуазии, в частности в Западной
Германии, пригодны любые методы, чтобы прочно
привязать людей к тому социальному строю, который не
является ни подлинно нравственным, ни
действительно человечным, ибо ему свойственны эксплуатация
человека человеком, военное подавление и угроза
войны.
«Убийцам» Маркса, находящимся в плену
буржуазных классовых» предрассудков или, как когда-то писал
Маркс о буржуазных экономистах, «втиснутым в рамки
представлений определенной исторической ступени
развития общества» \ развитие человека кажется
неразрывно связанным с существованием капиталистической
собственности, которая представляется им высшей ступенью
и концом мировой истории, по ту сторону которой для
них нет никакого действительно человеческого развития.
При этом клерикальным критикам Маркса, живущим в
Западной Германии, вовсе не надо далеко ходить,
чтобы понять отсталость их мышления путем сопоставления
их представлений с социалистической
действительностью в Германской Демократической Республике, где
почти уже два десятилетия закономерно совершается
1 К.- Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie,
S. 716.
119
процесс упразднения отчуждения. Но этот факт для
них — как бельмо на глазу, поэтому они и объявляют
отчуждением те противоречия, трудности и препятствия,
которые возникают в процессе реализации
социалистического гуманизма при полном построении социализма и
коммунизма. При этом Фетчер договаривается даже до
того, что социалистическая собственность якобы
порождает отчуждение1, что совершенно абсурдно.
Несомненно, переходный период от капитализма к социализму
обременен родимыми пятнами старого общества, а
следовательно, и элементами отчуждения, которые не
исчезнут за одну ночь с завоеванием власти пролетариатом.
Но эти элементы коренятся в материальной сфере
общества, в существующей еще несоциалистической
экономике и будут исчезать в той мере, в какой вообще будут
побеждать социалистические отношения собственности
и производства.
Победа социалистических производственных
отношений завершает решающий этап в преодолении
отчуждения и является, таким образом, началом процесса
упразднения отчуждениях победой социалистических
производственных отношений во всех областях народного
хозяйства, в промышленности, торговле и сельском хозяйстве
отчуждение человека в Германской Демократической
Республике навсегда было лишено социально-экономической
основы. Таким образом, при переходе крестьян к
кооперативному производству и создании сельскохозяйственных
производственных кооперативов исчезли источники
отчуждения, коренящиеся в мелком частном производстве в
деревне. Кроме того, мелкая городская буржуазия, так же
как и мелкие и средние предприниматели, в форме
ремесленных производственных кооперативов переходит от
комиссионных договоров с социалистической торговлей и
при участии государства на путь социалистических
преобразований. Все это показывает, что в Германской
Демократической Республике упразднено отчуждение как
экономический фактор, экономическое отчуждение как
«действительная жизнь», как говорит Маркс, и имеет?
1 «Die Sowjetgesellschaft und das Problem der Entfremdung.
Eine Polemik zwischen E. M. Sitnikow und Iring Fetscher», в: «Aus
politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung «das
Parlament»», B. 46/63, 13. November '1963.
120
с тем раз и навсегда уничтожена система эксплуатации
человека человеком. «Ликвидация эксплуатации
человека человеком и экономических кризисов, безработицы и
социальной неопределенности в положении трудящегося
класса — величайшее социальное достижение
социализма» г.
В этом отношении победа социалистических
производственных отношений завершает процесс, в ходе которого
социалистическое общество, овладев средствами
производства, приводит способ производства, присвоения и
обмена в соответствие с общественным характером
производительных» сил. Тем самым не только навсегда
устранено типичное для капиталистического процесса
производства отделение рабочей силы от условий труда,
которое воспроизводит условия эксплуатации рабочего.
Отменено прежде всего свойство капитала быть средством
производства и средством жизни как отчужденной формы
труда2, а также господство продукта над
производителем и анархия внутри общественного производства,
которые заменяются планомерной, сознательной
организацией. «Условия жизни, окружающие людей и до сих пор
над ними господствовавшие, теперь подпадают под
власть и контроль людей, которые впервые становятся
действительными и сознательными повелителями
природы, потому что они становятся господами своего
собственного объединения в общество. Законы их
собственных общественных действий, противостоявшие людям до
сих пор как чуждые, господствующие над ними законы
природы, будут применяться людьми с полным знанием
дела и тем самым будут подчинены их господству. То
объединение людей в общество, которое противостояло
им до сих» пор как навязанное свыше природой и
историей, становится теперь их собственным свободным
делом. Объективные, чуждые силы, господствовавшие до
сих пор над историей, поступают под контроль самих
людей»3. Так как экономические условия жизни,
подчиненные общественному контролю социалистических
производителей, не порождают и не воспроизводят больше
1 «Programm der SED», в: «Protokoll der Verhandlungen des
VI. Parteitages der SED», Bd. IV, S. 323.
.2 См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 23, стр. 635.
3 К- Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 20, стр. 294—295.
121
отношений, противостоящих человеку как чуждые
экономические силы, то совершенно ошибочно объявлять
существующее при социализме товарное производство
отчуждением или источником отчуждения. Маркс точно
доказал, что как фетишизм, присущий продуктам труда,
поскольку они производятся как товары, так и
связанное с этим товарным производством отчуждение
производителей возникает только из «своеобразного
общественного характера труда» или из общественной формы
труда в условиях способа производства, основанного на
частной собственности, а не из потребительной стоимости
или из содержания определения стоимости.товара
вообще» 1. Поэтому чтобы »аучно объяснить объективные
корни акта отчуждения производителей в отношении к
продукту их труда и их отношениях друг к другу в процессе
производства, нужно исходить из характера труда и его
условий, определяемых характером производственных
отношений, а не просто выводить феномен отчуждения
из существования товарного производства, стоимости,
разделения труда и т. д. Такая дедукция остается на
поверхности и не проникает в сущности явлений.
Что касается капитализма, то там рабочая сила
трудящегося сама имеет форму товара. Труд является
наемным трудом производителя, оторванного от средств
производства, который продает свою рабочую силу
капиталисту, под контролем которого он работает и
которому он должен отдавать как собственность продукт
своего труда. Общественный труд здесь разобщен
частной собственностью, здесь существует наемный труд
конкурирующих друг с другом индивидуальных
производителей, результаты труда которых присваиваются
эксплуататорским классом. Благодаря растущей
производительности труда, требующей меньших затрат живого труда,
объективные условия труда приобретают все большую
самостоятельности и противостоят труду как «чуждая,
господствующая над ним сила». Создаваемая наемным
трудом власть вещей принадлежит не рабочему, а
капиталу, она отчуждена от рабочего. Благодаря устранению
отрыва рабочего от средств производства, от
объективных условий труда эти отношения при социализме
совершенно исчезают. Исчезает характер труда как капи-
1 См. К- Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 23, стр. 80—83.
122
талистического наемного труда, деятельность индивидов
превращается в непосредственно общественный труд,
«вещественные моменты производства»
«освобождаются от отчуждения». Как и все созданное в производстве
богатство, вещественные моменты производства
принадлежат уже не капиталу, а обществу. Они выступают «как
собственность, как органическое тело общества, в
котором индивиды воспроизводят себя как одиночки, но как
общественные одиночки»1.
Принципиальное изменение в характере труда,
происходящее в результате обобществления средств
производства и выражающееся, согласно Марксу, в том, что
общественный труд совершается уже не частными
индивидуальными производителями, а общественными
индивидуальными производителями, взаимно связанными друг с
другом социалистическими товарищескими отношениями,
упраздняет труд как отчужденный труд. При этом в
значительной степени отменяется и «рабское подчинение
индивидов разделению труда». Разделение труда перестает
быть оковами, а тем более разъединяющей чуждой
силой, поскольку «коллективность революционных
пролетариев» ставит под свой контроль «условия свободного
развития и движения индивидов, условия, которые до
сих пор предоставлялись власти случая и противостояли
отдельным индивидам»2. Наглядным примером этого
является не только политехническое обучение как
существенная составная часть социалистического воспитания.
Эту характерную черту «коллективности революционных
пролетариев» подтверждает коллективный труд рабочих,
ученых и инженеров, а также система обучения
взрослых как составная часть единой социалистической
системы образования Германской Демократической
Республики3. Социалистический труд, служащий благу всех
членов общества, в социалистических коллективах« все
больше и больше становится первой жизненной
потребностью людей, самоцелью человеческого развития.
Трудящиеся развивают в труде свою физическую и духовную
1 К. Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie,
S. 716.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 76.
3 См. «Sozialismus-Wissenschaft-Produktivkraft», Redaktion:
G. Heyden, A. Kosing, O. Reinhold, H. Ulrich. Dietz Verlag,
Berlin, 1963, S. 209 ff.
123
энергию и находят удовлетворение в своем труде как
личности. Чем целеустремленнее работают трудящиеся,
тем реальнее становится мир социализма, тем богаче
становятся они сами, их внешний и внутренний мир.
Сегодня в Германской Демократической Республике мы
являемся свидетелями того, «как все. большее число
людей испытывает глубокое удовлетворение тем, что они
могут расширять свои профессиональные знания и
достигать больших успехов в труде. Для социалистических
бригад и рабочих коллективов, для многочисленных«
объединений, рабочих, крестьян, ученых и техников
требование научно-технического прогресса, создание новых
машин и технологических процессов, развитие новых
методов труда стало настоящей потребностью. Борьба за
преодоление устаревших методов труда и точек зрения,
борьба за научно-технический прогресс стала новым
содержанием жизни» !.
Таким образом, как разделение труда не существует
само по себе, так не существует само по себе и товарное
производство, независимо от характера
производственных» отношений, и поэтому совершенно необоснованно
характеризовать товарное производство при социализме
как силу, отчуждающую производителей. Защитники этой
точки зрения игнорируют весь исторический опыт
социалистического строительства и хватаются за тезис, в
общем принимаемый марксистами-ленинцами, о том, что
исторический опыт не подтвердил немедленной отмены
товарного производства и товарно-денежных отношений
при социализме. Наоборот. Так как эти отношения
зависят не только от относительного уровня обобществления
производства в промышленности и сельском хозяйстве,
но прежде всего от абсолютного уровня развития
производительных сил, они являются необходимыми для
развития социализма, и продвижение к коммунизму
обусловливает не сокращение или отмену, а развитие
товарно-денежных отношений как экономического рычага
развития производительных сил2. Те же люди, которые
усматривают в существовании товарного производства
1 А. Norden, Geburtstag einer neuen Epoche, в: «Neues
Deutschland», 7. November 1963.
2 См. F. Behrens, Ware, Wert und Wertgesetz, Berlin, 1961,
S. 20.
124
объективные корни нового отчуждения — хотят они этого
или нет, — выступают против основной
экономико-политической задачи партии и социалистического
государства, разрешение которой в конечном счете решает исход
борьбы двух систем в мире. По существу, они видят в
товарном'производстве зло, и это свидетельствует о том,
что они руководствуются в этом вопросе взглядами
Сталина, хотя они высказываются в защиту
недогматической интерпретации социалистических отношений. Исходя
из представлений о капиталистическом товарном
производстве, они совершенно не учитывают качественно
нового характера товарного производства и
товарно-денежных отношений при социализме, которое является именно
социалистическим товарным производством, причем
закон стоимости, хотя он и представляет собой
действительный экономический закон социализма, не регулирует
производство1. Ликвидация экономических основ
отчуждения может быть осуществлена только с помощью
пролетарского государства, которое, взятое с точки зрения
этой цели и содержания его деятельности, является,
следовательно, выражением преодоления отчуждения.
Однако одного этого утверждения недостаточно для более
подробной характеристики отношения пролетарского
государства к проблеме преодоления отчуждения. Ибо
не только в силу этой цели и содержания своей
деятельности, но и по своему качеству собственно государства,
то есть инструмента власти, политической формы, в
которой совершаются социалистические преобразования,
пролетарское государство с самого начала своей
деятельности, по существу, не является больше формой
проявления отчуждения, а раскрывает свою сущность только
благодаря тому, что оно устраняет отчуждение в
политической сфере общественной жизни. Поэтому в данной
связи и можно сказать, что в процессе строительства
социализма в политической сфере общественной жизни
отчуждение будет в основном устранено еще до того, как
будут ликвидированы экономические основы отчуждения,
то есть одержат победу социалистические
производственные отношения.
1 См. Walter Ulbricht, Die Durchführung der ökonomischen
Politik im Planjahr 1964 unter besonderer Berücksichtigung der
chemischen Industrie, Dietz Verlag, Berlin, '1964, S. 27.
125
К. Маркс пишет в «Немецкой идеологии», что свойство
государства быть выражением отчуждения происходит
оттого, что в условиях эксплуататорских обществ оно
представляет лишь «иллюзорную коллективность», в
действительности же оно защищает частный интерес
соответствующего господствующего класса, поднятый до
уровня общественного интереса. Но так как
выявляющееся в государстве «всеобщее» для массы трудящихся
и эксплуатируемых является лишь «иллюзорной формой
общности», находится в противоречии с их
действительными интересами, то государство принимает форму
«чуждой» им, «независимой» от них, вне их стоящей власти и
силы. Поэтому, далее, Маркс указывает, что класс
пролетариата, «если даже его господство обусловливает...
уничтожение всей старой общественной формы и
господства вообще,—должен прежде всего завоевать себе
политическую власть,—для того чтобы этот класс, в свою
очередь, мог представить свой интерес .как всеобщий, что он
вынужден сделать в первый момент» К Но здесь уже
обнаруживается коренное различие между властью
пролетариата и властью всех предшествующих классовых
господств. Ибо, осуществляя в форме диктатуры
пролетариата свои собственные интересы, пролетариат тем
самым осуществляет фактически и общие интересы, так
как его господство объективно соответствует интересам
всех эксплуатируемых и угнетенных, всего трудящегося
населения. Таким образом, впервые в истории
государство выступает как власть большинства над меньшинством.
В результате этого государство перестает быть
выражением фиктивной «иллюзорной общности». Вследствие
этого оно утрачивает и все признаки мистификации,
присущие классовому государству эксплуататорского строя,
и особенно буржуазному государству. Пролетарское
государство — первое и единственное государство в
истории, которому не нужно делать тайну из своей
подлинной сущности и которое ее не делает. Именно благодаря
тому обстоятельству, что оно защищает интересы
подавляющего большинства общества, оно в состоянии открыто
и без прикрас обнародовать свою сущность перед всем
обществом и организовать всех- трудящихся на
осуществление своих целей как активных помощников. Таким
ИК. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 32—33.
126
образом, и с этой стороны оно не является больше
политическим воплощением отчужденного общего интереса
трудящихся масс, а воплощением единства государства
и народа.
Этот факт убедительно демонстрирует развитие
рабоче-крестьянской власти в Германской Демократической
Республике. Преодоление отчуждения обнаруживается
прежде всего в том, что с победой социалистических
производственных отношений почти полностью исчез
классовый антагонизм, существовавший в
эксплуататорском обществе, и все сильнее развивается
морально-политическое единство всех граждан. В этом смысле для
граждан не существует больше политических отношений
зависимости и подчинения в виде классовых отношений,
которым необходимо были подчинены индивиды при
капитализме и которые отдельный индивид мог сбросить с
себя лишь случайно '. Человек при социализме не
ограничен больше независимыми от него отношениями
политической или социальной природы, каждый по закону
имеет равные права, каждый несет ответственность за целое
и участвует в принятии совместных решений. Прежде
всего граждане в самых разнообразны» формах
принимают участие в решении государственных задач; такими
формами являются выборные органы, женские комитеты,
родительские советы, постоянно действующее
производственное совещание, конфликтные комиссии и т. д. Таким
образом, рабоче-крестьянское государство гарантирует
«всем гражданам — невзирая на лица, происхождение и
мировоззрение — соответствующую работу, свободу от
какой бы то ни было эксплуатации и угнетения,
справедливость и неотъемлемое право совместно трудиться,
совместно планировать и совместно управлять»2.
По этому поводу один западногерманский священник
как-то выразился после своего посещения Германской
Демократической Республики: «На меня произвело
сильное впечатление, что у них в Германской
Демократической Республике почти исчезла точка зрения, которая у
нас в Западной Германии еще владеет умами почти всех
1 См. К. Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen
Ökonomie, S. 81.
2 «Programm der SED», в: «Protokoll der Verhandlungen des
VI. Parteitages der SED», Bd. IV, S. 367.
127
людей, точка зрения следующая: мы как маленькие люди
не можем ничего сделать. Во время нашей поездки я
часто знакомился у них со многими людьми, которые
сознательно высказывали свое мнение и в своем кругу активно
изменяли условия жизни»1.
Слова западногерманского священника уличают в
клевете всю клерикальную партию фальсификаторов
Маркса. Так, Гоммес доходит до абсурдного
утверждения, что общество считает «человека лишь как бы коле-
сиком в процессе производства», а «не отдельным
человеком как таковым с его собственным миром»2. В
защиту этого надуманного технократического деспотизма
высказывается и Фетчер, так как, по его мнению, «акцент
освободительного действия и самоосвобождения
восходящего к себе в пролетариате человечества (от
отчужденного мира) переносится на освобождение от
экспансионистских тенденций производительных сил,
заключенных в капиталистических производственных
отношениях»3.
Гоммес и Фетчер показывают здесь образец своего
искусства извращать вещи, объявляя совершающийся
при социализме процесс механизации и автоматизации
производства как процесс отчуждения человека. Они
превращают социалистические производственные
отношения в их прямую противоположность, а вместе с тем
извращают и новое положение человека не только по
отношению к средствам производства, но прежде всего и к
другим людям. Уловка клерикальных апологетов и всех
тех, кто попался им на удочку, заключается просто в том,
что они отрывают механизацию и автоматизацию от
производственных отношений и не хотят проводить
различие между капиталистическим и социалистическим
характером их применения. Отчуждение является
результатом не машинного оборудования самого по себе, а его
капиталистического применения, отчего и эксплуатация
рабочего при посредстве машины никоим образом не
1 «.Bilanz grosser Erfolge — Perspektive des Sieges». Erklärung
des Vorsitzenden des Staatsrates des DOR, Walter Ulbricht, am 31.
Juli 1963, Berlin, 1963, S. 57—58.
2 J. Hommes, Krise der Freiheit, S. 176.
3 Ir. F e t s с h e г, Von Philosophie des Proletariats zur
proletarischen Weltanschauung, в: «Marxismusstudien», Zweite Folge,
Tübingen, 1957, S. 44.
128
тождественна с эксплуатацией машины рабочим.
К. Маркс всегда определенно высказывался об этом К
Поэтому капиталистическому производству как процессу
реализации капитала свойственно, что «не рабочий
применяет условие труда, а наоборот, условие труда
применяет рабочего» и таким образом порабощается силой
природы, которая подчиняет себе живую рабочую силу и
высасывает ее2. Маркс усматривает человеческое бытие
людей в условиях социализма в их отношении к технике
именно в том, что объединенный в коллектив человек,
ассоциированные производители рационально
регулируют свой обмен веществ с природой, ставя его под свой
общественный контроль, вместо того чтобы подчиняться
природе как слепой силе, совершая этот процесс с
наименьшей затратой сил и в наиболее достойных и
адекватных человеческой природе условиях. Не трудно
понять, что слова Маркса и действительность социализма
являются прямой противоположностью тому, что им
приписывают Гоммес и Фетчер. Оба, очевидно, считали, что
не стоит трудиться, чтобы подумать о том, какие выводы
последуют в результате полного устранения
существующего при капитализме отрыва рабочего от средств
производства. Они боятся, так сказать, иметь представление
об этом, но больше всего они боятся самой
социалистической действительности, где трудящиеся в
соответствии с историческим уровнем развития
производительных сил поставили под свой коллективный контроль
обмен веществ с природой, формируют его и управляют им
в соответствии с данными современной науки. Именно в
этом смысле социализм делает «людей истинными
господами своей судьбы»3.
Этот факт следовало бы противопоставить прежде
всего тем критикам Маркса, которые, подобно Фетчеру,
характеризуют социалистическое государство как
отчуждение, как отсутствие свободы4. Ибо именно социалисти-
1 См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 23, стр. 412.
2 Там же, стр. 434.
3 «Das Programm des Sozialismus und eile geschichtliche
Aufgabe der SED», в: «Protokoll der Verhandlungen des VI.
Parteitages der SED», Bd. I, S. 193.
4 См. Ir. Fetscher, Die Sowjetgesellschaft und das
Problem der- Entfremdung. Eine Polemik zwischen S. M. Sitnikow und
Iring Fetscher, в: «Aus politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wo-
129
ческое государство является таким государством,
которое планомерно руководит процессом обмена веществ
социалистического общества, развитием
производительных сил и производственных отношений, а вместе с тем и
развернутым строительством социализма. Планирование
и руководство народным хозяйством есть выражение
того факта, что социалистическое общество преодолело
отчуждение и рационально регулирует свой обмен
веществ с природой, поставив его под свой
общественный контроль. Таким образом, социализм ликвидировал
характерную, определяющую черту всякого отчуждения,
которую Маркс определил в том отношении, что при
капитализме «Социальная сила, т. е. умноженная
производительная сила... представляется данным индивидам...
как некая чуждая, вне их стоящая власть, о
происхождении и тенденциях развития которой они ничего не
знают; они, следовательно, уже »е могут господствовать над
этой силой... последняя проходит теперь ряд фаз и
ступеней развития, не только не зависящих от воли и
поведения людей, а наоборот, направляющих эту волю и это
поведение»1. Планомерное управление производством —
одно из величайших исторических достижениий
социализма вообще. Впервые в истории человечества
трудящиеся массы, опираясь на познанные закономерности,
управляют процессом производства и определяют его
фазы и ступени развития.
«Умноженная производительная сила» не является
больше при социализме чуждой властью, господствующей
над людьми. Эти силы уже не действуют как силы
природы, слепо, насильственно, разрушительно, а благодаря
знанию закономерностей их действия подчинены воле
людей. Поэтому будучи понятыми в своей природе, они
превращаются в руках социалистических производителей
из «демонических повелителей», как писал Энгельс, «в
покорных слуг». «Здесь та же разница, что между
разрушительной силой электричества в грозовой молнии и
укрощенным электричеством в телеграфном аппарате и
дуговой ламле, та же разница, что между .пожаром и огнем,
действующим на службе человека. Когда с современны-
chenzeitung «das Parlament», Bd. 46/63, 13. Nov. 1963; Ir. Fet-
scher, Von Marx zur Sowjetideologie, S. 18.
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 33.
130
ми производительными силами станут обращаться
сообразно с их познанной, наконец, природой, общественная
анархия в производстве заменится
общественно-планомерным регулированием производства сообразно
потребностям как общества в целом, так и каждого его члена
в отдельности. Тогда капиталистический способ
присвоения, при котором продукт порабощает сперва
производителя, а затем и присвоителя, будет заменен новым
способом присвоения продуктов, основанным на самой
природе современных средств производства: с одной
стороны, прямым общественным присвоением продуктов в
качестве средств для поддержания и расширения
производства, а с другой — прямым индивидуальным
присвоением их в качестве средств к жизни и наслаждению» К
Конечно, общественное регулирование производства
возможно в одинаковой мере не сразу, для этого
необходимы опыт и время и определенная степень зрелости
действия самой закономерности. Это планомерное
руководство приобретает новое качество благодаря новой
экономической системе планирования «и руководства
народным хозяйством, принятой VI съездом
Социалистической единой партии Германии. Это новая система
овладения и использования экономических законов для
наиболее рационального управления процессом обмена
веществ между человеком и природой в условиях
социализма. С победой социалистических
производственных отношений <и охраной государственных границ
Германской Демократической Республики в Берлине были
созданы предпосылки для овладения экономическими
законами, прежде всего определяющими этот процесс.
Поэтому важно единодушно применять и добиваться
победы экономических законов социализма во всем
народнохозяйственном процессе производства. Чем
сознательнее действуют люди в условиях социализма в
соответствии с планом, тем лучше они научатся овладевать
экономическими и социальными! процессами, и чем
целеустремленнее они работают, тем вещественнее,
осязаемее становится для них мир социализма, тем богаче
становятся они сами, их внутренний и внешний мир.
Благодаря социалистическому планированию условия
жизни людей, так же как и все условия существования
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 20, стр. 291.
131
общества, не имеют больше типичного для капитализма
характера случайного; оно отменяет такое положение,
когда трудящиеся над своими условиями жизни «не
имеют никакого контроля, да и никакая общественная
организация им этого контроля дать не может» К
Планирование народного хозяйства помогает
трудящимся осознать их способности и силы и будит их
инициативу на сознательное творческое дело. Поэтому оно
нечто большее, чем просто инструмент для обеспечения
«по возможности беспрепятственного функционирования
и постоянного подъема народного хозяйства.
Планирование служит также воспитанию прудового народа в
духе демократизма, развитию его творческой
инициативы. План — важнейший инструмент, чтобы объяснить и
доказать трудящимся, что их личные интересы
совпадают с интересами общества. План помогает им понять,
что они приносят пользу самим себе, когда делают
лучше для общества. План объединяет трудящихся и
побуждает их на творческие дела»2.
Все эти факты не означают, конечно, что с
введением планирования народного хозяйства трудящиеся
сразу же поняли и понимают его роль и значение.
Действительная ликвидация экономических и политических
основ отчуждения вовсе не тождественна е тем, что все
трудящиеся становятся сознательными, что они
являются господами своей судьбы и что они как владельцы
предприятий и земли должны совместно управлять и
совместно планировать. Поскольку ликвидация
отчуждения является и делом сознания, признания новых
общественных отношений и сознательного социалистического
действия, без которых невозможно овладение
экономическими законами и господство над общественными
отношениями, требуется массовое развитие сознательных
социалистических личностей, а также сознательное
утверждение общественных интересов как цели и
движущего мотиЬа. Никто не станет утверждать, что в
этом отношении отчуждение при социализме исчезло за
одну ночь и никаких элементов отчуждения в
идеологической и духовной сфере больше не существует и не
действует. Они действуют прежде всего там, где социа-
1 -К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 78.
2 «Bilanz grosser Erfolge—Perspektive des Sieges», S. 60.
132
листическое сознание развито недостаточно, где
идеологически продолжает оказывать влияние
капиталистическое прошлое, где существует влияние враждебной
идеологии, которая привносится в Германскую
Демократическую Республику прежде всего из Западной
Германии. И религиозная идеология является такой
еще существующей формой отчуждения, которое, как
заявлял Маркс, «как таковое происходит лишь в сфере
сознания, в сфере внутреннего мира человека»1. Все
идеологические элементы отчуждения, т. е. буржуазная
идеология как представитель этого отчуждения, мешает
развернутому осуществлению социализма, так как она
противодействует утверждению социалистических идей
и делам трудящихся. Поэтому в период
развернутого строительства социализма необходимо
закономерно продолжать революцию в области идеологии и
культуры. Эта революция служит прежде всего тому,
«чтобы развивать дальше социалистическое сознание всех
трудящихся и достигнуть высокого уровня образования
и культуры, соответствующего потребностям
социалистического общества»2. В этом смысле вся деятельность
СЕПГ после VI съезда партии и была направлена на
то, чтобы развивать социалистические товарищеские
отношения 'среди трудящихся, повышать уровень знаний и
образования и формировать всесторонне развитые
человеческие личности, которые в значительной степени и
субъективно будут управлять своими собственными
физическими и духовными делами. Но это возможно лишь
тогда, когда отчуждение, по существу, будет чуждо
социалистическому строю и когда человек в -самом себе
разовьется как творческая личность в борьбе за благо
всех членов общества.
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений,
стр. 589.
2 «Programm der SED», в: «Protokoll der Verhandlungen des
VI. Parteitages der SED», Bd. IV, S. 374.
Глава пятая
КЛЕРИКАЛЬНОЕ ОТРИЦАНИЕ КЛАССОВ
И ПРОЛЕТАРСКОЙ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ
Фальсификация понятия отчуждения и\ связанная с
ней апология отчуждения отнюдь не единственный
метод, с помощью которого клерикальная партия
фальсификаторов Маркса пытается защитить
империалистический милитаристский сирой Западной Германии и
лишить рабочий класс права и силы в союзе со всеми
трудящимися создавать мирные и демократические
отношения в Западной Германии.
Этому в значительной степени служат также
попытки под видом «правильного» истолкования
марксистского учения доказать, будто Маркс вообще не создал
никакой научной теории классов и классовой борьбы.
При этом речь идет не о простом развитии давно
опровергнутых исторической практикой старых буржуазных
теорий, открыто отрицающих существование классов и
классовой борьбы и обвиняющих Маркса в том, что он
якобы дал неправильное представление об истории.
Клерикальные -фальсификаторы Маркса гораздо
находчивее. Они «смело» провозглашают, будто Маркс своим
учением вообще не преследовал цели« демократического
и в конечном счете социалистического освобождения
рабочего класса и трудящихся. Несмотря на
практическую опасность этой новой версии, философское
осмысление ее, как мы вскоре увидим, вскрывает ее
смехотворность.
134
1. Исчезнувшие классы
В качестве примера позволим себе привести) слова
евангелического истолкователя Маркса Эриха Тира,
который настолько запутался в неясности своих
собственных понятий, что открывает эту неясность и у Маркса,
а себя самого считает человеком с ясным умом. Этот
человек находит, что понятие классов у Маркса
«противоречиво и запутанно». Но тот, кто полагает, что этим
утверждением Тир доказал блестящую остроту своего
ума и благодаря научному анализу реально
существующих классов в Западной Германии четче
сформулировал данное Марксом понятие классов, не знает силы
клерикальных фальсификаторов Маркса. Тир
направляет свой интеллект в прямо противоположную
сторону, чтобы прийти к желаемому выводу, что Карл Маркс
«не сам разработал теорию классов и классовой
борьбы» К
Но Тир идет еще дальше. Он пытается доказать,
что, по Марксу, классы возникли, собственно, только
при капитализме, так как он «очень точно и
определенно... различает «сословие» и «класс»»2. Сословия якобы
не есть классы, и, следовательно, докапиталистические
общественные формации отнюдь не представляют
собой классовые общества. Ибо «докапиталистическое,
средневековое и даже феодальное общество... взятое с
точки зрения их трудовых отношений, в
противоположность «овеществляющему» буржуазному обществу,
превращающему человеческие отношения в видимость
отношения вещей, является более человечным, что в
«Капитале» приводит к выводу, что в этом отношении его
можно прямо отождествить с бесклассовым обществом
будущего»3. Нужны были смешение понятий в
клерикальной философии истории и способность
спекулятивного мышления ее представителя Тира, чтобы
превратить докапиталистические общественные формации в
бесклассовые социалистические образования, а
феодальный строй «прямо» отождествить с коммунизмом.
У Маркса нет ничего подобного.
1 Е. Т h i е г, Über den Klassenbegriff bei Marx, в:
«Marxismusstudien», Dritte Folge, S. 170.
2 Там же.
3 Там же, стр. 171
135
Поэтому Тир по праву опасается, что знатоки
марксизма могут заподозрить в нем легкомысленного
истолкователя. Чтобы обезопасить себя на этот счет и
создать видимость знатока Маркса, он для
подтверждения своего мнения ссылается на «Манифест
Коммунистической партии» и «Немецкую идеологию» Маркса
и Энгельса. Там якобы можно найти, что Маркс и
Энгельс рассматривали «скрытый характер» и
«овеществление» человеческие отношений как признаки классов.
Тир отождествляет классы и самоотчуждение и вслед
за С. Ландсгутом пишет: «...представление о
современной истории как истории классовой борьбы, развивая
намерение Маркса, можно облечь в следующую форму:
вся современная история есть история самоотчуждения
людей. Самоотчуждение достигает своей высшей точки
в буржуазном «классовом обществе», и таким образом
«классы» и «самоотчуждение» становятся в указанной
перспективе, так сказать, синонимами (!)... Маркс знает
общее, расширенное понятие класса, которое
отождествляет класс и самоотчуждение» К
Намерения, о которых думает Тир, ни в своих
посылках, ни в своих теоретических .и практических
выводах не являются намерениями Маркса и Энгельса. Это
как теоретически, так и практически клерикальные
намерения, преследующие цель от имени Маркса на свой
манер отрицать классы и классовую борьбу. Они
лишены каких бы то ни было научных оснований и
находятся в явном противоречии с марксизмом. Прежде
всего рассмотрим как указанные, так и скрытые
клерикальными критиками источники.
Для Маркса главным признаком класса является
отношение людей к собственности на средства
производства. Только существование частной собственности
на средства производства обусловливает наличие
класса эксплуататоров и класса эксплуатируемых. Поэтому
как рабовладельческое, так и феодальное и
капиталистическое общество, основывающиеся на частной
собственности на средства производства, являются
антагонистическими классовыми обществами, в которых
эксплуататор и эксплуатируемый существуют как
классы в соответствующей конкретной исторической форме.
1 «Marxismusstudien», Dritte Folge, S. 173.
136
Обходя главный признак класса, отношение людей к
собственности на средства производства, Тир тем
самым пытается отрицать классовую природу сословий и
вообще существование классов.
И если Маркс называет классы
докапиталистического общества сословиями, то это объясняется не тем, что
они для него не являлись классами. Напротив, сословие
для него — это особая форма существования классов^
докапиталистическом обществе, которая вытекала из
определения классовых различий, касающихся особого
правового положения каждого класса в государстве.
«Известно,— замечает Ленин относительно
марксистского различия классов и сословий,— что в рабском и
феодальном обществе различие классов фиксировалось и в
сословном делении населения, сопровождалось
установлением особого юридического места в государстве для
каждого класса. Поэтому классы рабского и
феодального (а также и крепостного) общества были также и
особыми сословиями. Напротив, в капиталистическом,
буржуазном обществе юридически все граждане
равноправны, сословные деления уничтожены... и потому
классы перестали быть сословиями. Деление общества
на классы обще и рабскому, и феодальному, и
буржуазному обществам, но в первых двух существовали
классы-сословия, а в последнем классы бессословные» 1.
Этому историческому факту воздали должное Маркс
и Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии«»,
когда писали: «Свободный и раб, патриций и плебей,
помещик и крепостной, мастер и подмастерье, короче,
угнетающий и угнетаемый находились в вечном
антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то
явную борьбу»2. Отсюда со всей определенностью
можно сделать вывод о том, что Маркс и Энгельс как
при рабстве, так и при феодализме делили общество по
отношению его членов к средствам производства.*В
соответствии с этим критерием они противопоставляют
друг другу эксплуататора и эксплуатируемого hi
фиксируют таким образом противоположность классов, а
также их борьбу в соответствующей
конкретно-исторической форме.
1 'В. И. Ленин, Соч., т. 6, стр. 97.
2 К. Маркс« Ф. Энгельс, Соч., т. 4, стр. 424.
137
Маркс сознательно проводит различие между
классами в их сословной форме в условиях
докапиталистической общественной формации и» классами в
капиталистическом обществе. В этом различии и заключается
как раз существенный признак для понимания
специфики капиталистического классового общества.
Капитализм превращает все общественные отношения в
товарные отношения, устраняет патриархальную видимость
прежних отношений эксплуатации и угнетения,
ликвидирует все сословные привилегии и« делает продажу
товара рабочая сила, с одной стороны, и эксплуатацию
этого товара в капиталистическом процессе
производства— с другой, основой общественного производства.
Таким образом, капитализм упрощает классовые
противоречия— по существу противопоставляются друг другу
лишь буржуазия и пролетариат. «В предшествующие
исторические эпохи мы находим поч™ повсюду полное
расчленение общества на различные сословия,— целую
лестницу различных общественных положений. В
Древнем Риме мы встречаем патрициев, всадников, плебеев,
рабов; в средние века — феодальных господ, вассалов,
цеховых мастеров, подмастерьев, крепостных, и к тому
же почти в каждом из этих классов — еще особые
градации.
Вышедшее из недр погибшего феодального общества
современное буржуазное общество не уничтожило
классовых противоречий. Оно только поставило новые
классы, новые условия угнетения и новые формы борьбы на
место старых.
Наша эпоха, эпоха буржуазии, отличается, однако,
тем, что она упростила классовые противоречия:
общество все более и более раскалывается на два большие
враждебные лагеря, на два большие, стоящие друг
против друга, класса — буржуазию и пролетариат»1.
Как в «Манифесте Коммунистической партии», так и
в своих других работах Маркс ю Энгельс не дают
никакого повода для спекулятивных рассуждений об
отношении класса и сословия.
Как уже было показано, клерикальные идеологи
объясняют отчуждение не в духе Маркса, а как след-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.. т. 4, стр. 424—425
(курсив наш. — Ред.).
138
ствие «разложения сущности» человека. Это
«разложение сущности» коренится в реальном, биологическом
бытии и не может быть ликвидировано на земле. Стоит
только -представить себе это
клерикально-антропологическое истолкование отчуждения, чтобы за этим
отождествлением Тиром классов и отчуждения увидеть полное
извращение марксистского идейного наследия. В
клерикально-антропологическом решении понятие класса не
отражает ни исторически возникших ю конкретных
материальных отношений людей к средствам
производства, ни эксплуатации и борьбы друг против друга
враждебных социальных групп. Будучи синонимом
клерикально истолкованного понятия отчуждения, понятие
класса служит лишь категорией для обозначения
«аморального существования» человека вообще, сущность
которого якобы развращена от природы.
Это ясно подтверждает комментарий Вендлянда к
марксистскому понятию классов. Вендлянд утверждает,
будто при этом речь идет о понятии, служащем для
различения «справедливого» и «дурного», так как
дурное стало социально-антропологическим понятием для
различия классов» и «как бы социально-имманентно,
социально-исторически вошло в состав этого». «...Таким
является класс эксплуататоров, капиталистов... Но
«дурному» противостоит масса святых и справедливых,
пролетариат» 1.
Католические истолкователи Маркса в этом вопросе
также стоят на стороне своих евангелических
соратников, однако приводят другие оттенки, которые должны
придать их утверждениям видимость большей
объективности.
«Общественные слои,— пишет, например, Гоммес,—
основываются на равенстве или сходстве
имущественных отношений, условий жизни (среды) и задач по
отношению к целому. Этим они, по существу, отличаются
от классов, которые связаны исключительно
тождеством жизненных целей в борьбе против других слоев или
классов»2.
1 Н.-ö. W е n d 1 а п d, Christliche und kommunistische
Hoffnung, в: «Marxismusstudien», Erste Folge, S. 218.
* «Lexikon des katholischen Lebens». Herausgegeben vom
Erzbischof Dr. W. Rauch. Unter Schriftleitung von Dozent Dr. J.
Hommes, Freiburg. 1952, S. 395—396.
139
Хотя Гоммес при определении общественных слоев
и упоминает еще в качестве объективного критерия
«имущественные отношения», однако остается не ясным,
какие имущественные отношения имеются в виду:
отношения к средствам производства как основе
эксплуатации или же отношение к личной собственности;
понятие классов истолковывается им в совершенно
субъективистском духе. Это определение скрывает и отрицает
все, что действительно составляет сущность класса. Ни
его положение в производстве, ни его отношение к
средствам производства, ни» объем и способ получения
общественного богатства не вошли в определение. Классы и
классовые отношения вообще не имеют ничего общего
с материальной сферой производства. /Приведенный
Гоммесом признак — «тождество жизненных целей» в
борьбе против других слоев или классов,— оторванный
от материально-общественного определения классов,
является идеалистической фразой, на основе которой
классы и их цели можно истолковать как чисто
духовные явления, точно так же как любое объединение,
например объединение вегетарианцев и их борьбу против
невегетарианцев, можно объявить« классом и классовой
борьбой.
Но это как раз целиком совпадает с намерениями
клерикальных фальсификаторов Маркса, которые хотят,
чтобы до сознания народных масс не дошли ни
социально-историческая сущность, ни материальные условия
возникновения и гибели классов и классовой борьбы,
поэтому они намеренно игнорируют и данное Лениным
научное определение классов1. Ведь из марксистского
учения о классах и классовой борьбе с необходимостью
следует, что борьба рабочего класса является
решающим фактором экономического, социального, политиче-
1 Определение -гласит: «Классами называются большие
группы людей, различающиеся по их месту в исторически
определенной системе общественного производства, по их отношению
(большей частью закрепленному и оформленному в законах) к
средствам производства, по их роли в общественной организации
труда, а, следовательно, по способам получения и размерам той доли
общественного богатства, которой они располагают. Классы, это
такие группы людей, из которых одна может себе присваивать
труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе
общественного хозяйства» (В. И. Ленин, Соч., т. 29, стр. 338).
140
ского и культурного прогресса немецкой нации. Именно
классовая борьба трудящихся масс под руководством
пролетариата в капиталистических странах в настоящее
время является важнейшим фактором сохранения мира
и обеспечения демократических прав народа. И
наконец, борьба рабочего класса под руководством
марксистско-ленинской партии является важнейшей
движущей силой революционных преобразований мира,
которые с момента Октябрьской революции в России в
1917 г. изменили облик земли в пользу мира и
социализма и бурно продолжают изменять его. Отрицание
необходимости и закономерности этого процесса и
объективности его движущих сил, стремление увести в
туманную область спекулятивной философии — такова
конечная цель фальсификации клерикальными
идеологами марксистско-ленинской теории классов и классовой
борьбы.
2. Священная частная собственность
В тесной связи с субъективированием марксистского
понятия классов стоит стремление клерикальных
теоретиков отрицать объективную
материально-общественную основу классов и классовой борьбы. Они»
извращают марксистское понимание частной собственности и
эксплуатации и отрицают непримиримость классовых
противоречий между буржуазией и пролетариатом.
Главным пунктом нападок клерикальных
фальсификаторов Маркса является понятие частной собственности
в системе марксистско-ленинской теории.
Веттар по этому поводу разглагольствует
следующим образом: «Испорченность мира для коммунизма —
равно как и для христиан — является следствием своего
рода «грехопадения», совершившегося в первобытные
времена человеческой истории. Для марксизма таким
«грехопадением» явилось введение частной
собственности при переходе от коммунизма первобытного строя к
рабовладельческому обществу, которое оказало влияние
на историю как своего рода первородный грех» К
1 G. А. Wetter, Der dialektische Materialismus..., S 630.
141
Следовательно, для Веттера марксистская теория, и
в частности исторический материализм Карла Маркса
и его анализ и оценка частной собственности, является
не научной системой, а моральным,
религиозно-спекулятивным учением. Как видно, Веттер может мыслить
только теологическими категориями, подобно
ограниченному старопрусскому полицейскому совету, который
имел обыкновение «мыслить только уголовными
категориями, если он вообще брался употреблять понятия.
Только таким образом психологически можно
объяснить, почему для старопрусского полицейского совета
общество состоит из правонарушителей и полицейских,
а для папы-иезуита Веттера— из людей, отягченных
первородным грехом, и теологов, которые делают
историю.
Этика и этические суждения Маркса и Энгельса о
ценностях не имеют ничего общего с приписываемой
им клерикальными фальсификаторами
(религиозно-нравственной философией надежды, для которой характерен
идеалистический и метафизический способ истолкования
и согласно которой добро и зл<} являются вечными
нравственными принципами, взаимно исключающими
друг друга противоположностями. Подобный способ
истолкования истории и вытекающие отсюда ценностные
суждения всегда отвергались Марксом и Энгельсом.
Они энергично боролись против них и осыпали их
язвительными насмешками. Нравственные суждения о
ценностях, согласно марксизму, возможны лишь в том
случае, если исходить из материальных исторических
условий и закономерного развития общества. «Нам никогда
не следовало бы забывать,— пишет Энгельс,— что все
наше экономическое, политическое и интеллектуальное
развитие имеет своей предпосылкой такой строй, в
котором рабство было в той же мере необходимо, в какой
и общепризнано..В этом смысле мы вправе сказать: без
античного рабства не было бы и современного
социализма.
Нет ничего легче, как разражаться целым потоком
общих фраз по поводу рабства и т. п., изливая свой
высоконравственный гнев на такие позорные явления.
К сожалению, это негодование выражает лишь то, что
известно всякому, а именно — что эти античные
учреждения уже не соответствуют нашим современным ус-
142
ловиям и нашим чувствам, определяемым этими
условиями. Но при этом мы ровным счетом ничего не
узнаём относительно того, как возникли эти
учреждения, почему они существовали и какую роль они
сыграли в истории» К
В этом, смысле Маркс выступал и против
буржуазной политэкономии, которая не поняла сущности капи*-
талистической частной собственности, то есть не поняла
ее как объективное общественное отношение.
«Политическая экономия исходит из факта частной
собственности. Объяснения её она нам не даёт. Материальный
процесс, проделываемый в действительности частной
собственностью, она укладывает в общие, абстрактные
формулы, которые и »приобретают для неё затем значение
законов. Эти законы она не осмысливает, т. е. не
показывает, как они вытекают из самого существа частной
собственности»2. «Ведь когда говорят о частной
собственности, то думают, что имеют дело с некоей вещью
вне человека. А когда говорят о труде, то имеют дело
непосредственно с самим человеком»3. Для Маркса,
следовательно, капиталистическая частная собственность
есть конкретно-историческое, материально-общественное
отношение. Одновременно с ним как социальным и
экономическим отношением на определенной общественной
ступени общественного развития дано и определенное
моральное отношение людей друг к другу4.
Точное научное объяснение роли капиталистической
частной собственности как экономической основы
социальных и политических классовых противоречий при
капитализме Маркс дал в своей теории прибавочной
стоимости. Основные черты ее изложены уже в работе
«Наемный труд и капитал». Маркс ясно определяет там:
«Капитал — тоже общественное производственное
отношение. Это — буржуазное производственное
отношение» 5.
«Капитал может увеличиваться, лишь обмениваясь
на труд, лишь вызывая к жизни наемный труд. Наем-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 20, стр. 185—186.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений,
стр. 559.
3 Там же, стр. 571.
4 См. там же, стр. 560, 561, 575.
5 К. Маркс и Ф. Энгельс,. Соч., т. 6, стр. 442.
143
ный труд может обмениваться на капитал лишь при
том условии, если он увеличивает капитал, усиливает ту
самую власть, рабом которой он является...
Утверждение, что интересы капитала и интересы
труда одни и те же, на деле означает лишь следующее:
капитал и наемный труд — это две стороны одного и
того же отношения. Одна сторона обусловливает
другую, как взаимно обусловливают друг друга ростовщик
и мот.
Пока наемный рабочий остается наемным
рабочим, судьба его зависит от капитала. Это и есть
пресловутая общность интересов рабочего и
капиталиста» К
Хотя на основе указанных источников интерпретацию
Веттера и других фальсификаторов марксистского
понимания частной собственности можно было бы довести
до абсурда, однако в данной связи мы должны
коснуться другого идеолога из кругов клерикальных
фальсификаторов Маркса, который особым образом
стремится отрицать наличие антагонистических классов и их
борьбу при капитализме. Мы имеем в виду Левита,
снискавшего себе печальную славу своей претензией
изобрести «тайную историю» «Манифеста
Коммунистической партии», которая до сих пор якобы
оставалась скрытой от человечества. При этом Левит открыл,
что «Манифест Коммунистической партии» является в
первую очередь «пророческим документом, приговором
и призывом к действию», а «не чисто научным,
основанным на эмпирических данных анализом»2. Левит все
превращает в свою противоположность: материализм
Маркса — в идеализм; научный анализ
капиталистической действительности — в пророчество. Поэтому и не
удивительно, что в этой «тайной истории» не остается
места для эксплуатации пролетариата буржуазией. Ибо
«хотя Маркс своей теорией прибавочной стоимости
«научно» и объяснял факт эксплуатации, тем не менее
«эксплуатация» остается моральным суждением; если
соизмерить ее с определенной идеей справедливости, она
есть абсолютная несправедливость. В марксистском из-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 6, стр. 446.
2 К. L о w i t h, Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Stuttgart,
1953, S. 46-47.
144
ложении мировой истории она ничуть не меньше, чем
радикальное зло... первородный грех этого века» 1.
Читателю бросается в глаза удивительное сходство
аргументации Левита с истолкованием Веттером и Венд-
ляндом «зла и справедливости» как классов. Здесь
практически речь идет об одинаковой линии фальсификации,
об истолковании учения Маркса в духе идеалистической
философии морали. Это объясняется тем, что
клерикальные идеологи вопреки объективным закономерностям
общественного развития хотят сохранить существующую
империалистическую систему, гибель которой в
результате борьбы народных масс под руководством
пролетариата неизбежна. Поэтому подоплека клерикальной
фальсификации Маркса заключается в поддержке
господствующего в Западной Германии режима. Они
проповедуют классовую гармонию, санкционируют
противоположность бедности и богатства и отвергают всякое
революционное движение, направленное на изменение
существующего строя. Так, в евангелическом
общественно-политическом словаре говорится: «Конечно, простым
«отверганием классов» ничего не сделаешь. Вечно новой
задачей, потому что она снова находится в опасности,
является задача перехода от противоположности друг
другу к доброму согласию друг с другом2... к тому,
чтобы терпеливо выносить богатство и труд... Здесь (в
эсхатологическом ожидании.— Ред.) заключается и причина
кажущегося безразличия НЗ (Нового завета.— Ред.) к
существующему социальному строю и отрицанию всех
революционные новшеств...»3
Не многим отличается католическое социальное
учение. Оно объявляет капиталистическую частную
собственность «требованием социального строя»4. При этом
эксплуатация лицемерно отрицается, а присвоение
прибыли характеризуется как «справедливая» оплата,
которая якобы основывается на «тяжком труде»
капиталиста. Так, например, говорится: «Ошибочной является и
точка зрения раннего социализма, желающего, чтобы
1 Lowith, Weltgeschichte... S. 347 (курсив наш. — Ред.).
2 «Evangelischen Soziallexikon. Im Auftrag des Deutschen
Evangelischen Kirchentages, Herausgegeben von Friedrich
Karrenberg», Stuttgart, 1958, S. 600.
3 Там же, стр. 277.
4 «Lexikon des katholischen Lebens», S. 216.
6-424
145
в проценте на капитал, так же как и в
предпринимательской прибыли, видели грабительскую прибыль
за счет эксплуатируемого рабочего. Капитал и
достижения предпринимателей... настоящий и часто тяжелый
труд» 1. Таким же издевательством над рабочими
оказывается и справедливое само по ссбе требование к
монополистической буржуазии «выплачивать наемным
рабочим справедливую заработную плату», согласно
принципам «христианской морали», так же как, с
другой стороны, «определение справедливого уровня
заработной платы» объявляется «долгом совести»
монополистической буржуазии. «Социальная справедливость в
духе христианской морали» устанавливает, кроме того,
уровень «справедливой заработной платы»:
«...справедливая применительно к рынку плата за труд» есть
«минимум для физического существования»2.
Эта концепция, почитаемая и католическими
фальсификаторами Маркса, в настоящее время лучше всего
соответствует интересам господствующих
государственно-монополистических групп крупной западногерманской
буржуазии. Она дает клерикально-милитаристское
обоснование законности огромной концентрации капитала и
образования богатства на стороне монополистической
буржуазии, а также снижения заработной платы и
усиления эксплуатации рабочею класса и других
трудящихся Западной Германии. К ней сводится вся система
государственно-монополистической политики
умеренности и чрезвычайного положения, проводимая боннским
государством, которая все больше устраняет
демократические права рабочего класса и народа, и в
частности хочет ликвидировать демократическое право голоса
рабочих на предприятиях. Это право, согласно
католическому социальному учению, противоречит природе
частной собственности, и против него нужно бороться,
так как «лраво «голоса рабочего, касающееся капитала...
влечет за собой» растрачивание капитала (читай:
ограничение эксплуатации), означающее потерю капитала
(читай: уменьшение прибыли для собственника)»3. Это
открытое оправдание католической социальной теорией
1 «Lexikon des katholischen I.ebens», S. 61
2 Там же, стр. 58, 60.
3 Там же, стр. 214.
14Г>
эксплуатации и угнетения западногерманского рабочего
класса сочетается также и с безудержной социальной
демагогией. Так, например, говорится: «Церковь
подтверждает защиту справедливых интересов обоих
социальных, партнеров и необходимую для этого борьбу,
которую'следует вести в духе справедливости и
примирения. Однако она всегда отвергала основанное на
взаимной ненависти учение о классовой борьбе. Оно
никогда не приведет к решению социального вопроса, а
лишь к его увековечению. Разрядку напряженности,
существующей между классами, церковь, напротив, видит
в депролетаризации наемных рабочих... благодаря
созданию широко разветвленной частной собственности
путем справедливой заработной платы» К
Таким образом, так называемых социальных
партнеров призывают вести борьбу в духе «справедливости и
примирения». Но это равносильно призыву
безоговорочно признать экономику вооружения, политику
умеренности и чрезвычайного положения, а вместе с тем и
безграничную эксплуатацию и угнетение, а также
ослабление рабочих организаций.
3. Классовая борьба в действии
Если мы обратимся к реальным классовым
отношениям и классовым вопросам Западной Германии, то для
нас полностью раскроется смысл предпринятого
клерикальными фальсификаторами Маркса похода против
марксовского понятия классов и собственности. Там
происходит усиленная концентрация капитала и власти
в руках крупных концернов и монополий. Официальная
западногерманская статистика свидетельствует, что
концентрация капитала в Западной Германии в настоящее
время значительно выше, чем во времена фашизма. Если
в конце 1938 г. в Германии имелось 30 акционерных
обществ с основным капиталом более чем 100
миллионов марок, в распоряжении которых находился
основной капитал в 5,3 млрд. марок, то в середине 1960 г.
существовало уже 63 акционерных общества с
основным капиталом 15,5 млрд. марок. К тому же времени
1 «Lexikon des katholischen Lebens», S. 632.
6»
147
17 западногерманских концернов с капиталом 22,6 млрд.
марок располагали свыше чем 80,3% всего указанного
в Западной Германии акционерного капитала К При
этом анализ динамики прибыли в 50 выбранных из всех
областей промышленности акционерных обществах,
объединяющих в целом 22,2% номинального капитала всех
западногерманских акционерных обществ и 15,5% всего
промышленного оборота, показывает, что прибыль этих
обществ с 1428,1 млн. в 1950 г. поднялась до 9041,3 млн.
в 1960 г.
Официальная статистика указывает, что
«непосредственные производители общественного продукта...
рабочие и служащие, занятые в материальном
производстве, имеют самую незначительную и все
уменьшающуюся долю в национальном доходе. Она упала с 39,4%
в 1950 г. до 37,9% в 1960 г., в то время как доля
предпринимателей и прочих самостоятельных лиц за это же
время повысилась с 60,6% до 62,1%. Данное изменение
находится в обратном отношении к изменению
численности обеих категорий людей. В то время как число
рабочих и служащих возросло приблизительно на 36%,
число предпринимателей уменьшилЬсь приблизительно
на 17,2 % »2. Если исходить из числа работающих в
1950 г., то доля рабочих и служащих в национальном
доходе уменьшилась с 39,4% до 27,1%. Однако доля
прибавочной стоимости повысилась с 60,6% до 72,9% 3.
Но и доход «самостоятельных лиц» все больше
концентрируется у крупных предпринимателей. Доходы
средних, мелких и мельчайших предприятий — то есть более
чем 99% всех самостоятельных — также падают. В 1950 г.
на них приходилось еще 55,9%, а в 1960 г.— лишь 42%
всех доходов «самостоятельных лиц» 4.
1 См. Walter Ulbricht. Stellungnahme zur Erklärung der
kommunistischen und Arbeitparteien, в: «Erklärung der Beratung
von Vertretern der kommunistischen und Arbeitsparteien» Referat.
Walter Ulbricht und Entschliessung der 11. Tagung des ZK der
SED. Dietz Verlag, Berlin, 1961, S. 95—%.
2 «Gutachten über die masslosen Profite in Westdeutschland
und erste Vorschläge zur Überwindung sozialen Ungerechtigkeit.
Hrsg. Komitee zum Studium der gesellschaftlichen Verhältnisse und
ihrer Veränderung in Westdeutschland beim Nationalrat der
Nationalen Front DDR», S. 5.
3 Там же.
4 Там же, стр. 6
148
Таким образом, развитие
государственно-монополистического капитализма в Западной Германии не «ведет
ни к «депролетаризации», ни к созданию широко
разветвленной частной собственности». Наоборот,
приведенные факты, вопреки утверждениям клерикальных
фальсификаторов Маркса, доказывают, что в Западной
Германии происходит усиленная пролетаризация и
растущая концентрация власти. Такие же тенденции
обнаруживаются и в западногерманском сельском
хозяйстве, находящемся под давлением боннской политики
Европейского экономического сообщества.
Процесс дифференциации в пользу юнкеров и
сельских капиталистов уже давно систематически
поддерживается империалистическим государством под знаком
«структурных урегулирований»1. Более чем 400 000
хозяйств прудящихся крестьян уже пали жертвой этого
процесса и уже вынесен Брюссельской конференцией
Европейского экономического сообщества смертный
приговор следующим более чем 800 000 крестьянски«
дворов с 1,5 млн. людей2.
Концерны полностью поставили себе на службу
западногерманское государство. Федеральное
правительство и парламент находятся под господством и влиянием
доверенных крупного капитала и его организаций,
например федерального союза промышленников,
федерального объединения союзов предпринимателей.
Социальный и политический состав парламента и правительства
в Бонне настолько ясно обнаруживает реакционный,
враждебный народу характер этого правительства, что
там не осмеливаются статистически показать его
социальные слою. Напротив, лицемерно заявляется, что
«профессиональная статистика» в отношении 521 (!)
депутата наталкивается «на непреодолимые трудности»,
поэтому от нее, к сожалению, вынуждены отказаться3.
Антинародный характер западногерманского
государства проявляется также и в многочисленных
законодательных мероприятиях, проводимых Бонном с целью
1 «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 11. Mai I960.
2 «Bericht des ZK an den VI. Parteitages der 'SED» в:
«Protokoll der Verhandlungen des VI. Parteitages der SED», Bd. IV,
S. 139.
3 См. Kürschners Volkhandbuch «Deutscher Bundestag», 4.
Wahlperiode, Neue Darmstädter Verlagsanstalt. 1962, S. 255.
149
увеличения прибыли монополий. Денежная реформа,
проведенная в Западной Германии, имела своей целью
сохранение крупной капиталистической собственности и
ограбление лиц, имеющих небольшие сбережения,
которые потеряли в результате этой реформы 95,1% своих
вкладов. Владельцы предприятий тяжелой
промышленности благодаря закону о помощи вкладам получили за
счет западногерманского населения 1 млрд. марок, в то
время как новый закон о налоге на тортовый оборот
дал крупным предпринимателям возможность экономить
на налогах 12% и больше их ежегодной оборотной
стоимости. С помощью экономической и финансовой
политики ФРГ весь государственный доход распределяется
таким образом, что финансовые магнаты постепенно
увеличивают свою долю в национальном доходе.
В 1950 г. она достигла 49,6%, а в 1960 г.—уже 51,1%.
Однако основную тяжесть государственных налогов
должны были нести на себе трудящиеся массы. В 1950 г.
доходы государства от налогов, полученных с
заработной платы, с окладов и ренты, включая косвенные
налоги, составляли 50,9%, а в 1960 г,—59,4%.
Получаемые монополиями прибыли добыты главным
образом благодаря хищнической эксплуатации рабочей
силы, разрушению здоровья рабочих и служащих. Рост
собственности и прибыли монополистов происходит
одновременно с ростом интенсификации труда рабочих и
служащих на предприятиях, так как преимущества
передовой техники капитал использует для повышения
интенсивности труда, для повышения интенсивности
эксплуатации. Об этом ясно свидетельствует
соотношение между повышением производительности труда и
реальной заработной платой в западногерманской
промышленности. Производительность труда с 1950 до
1961 г. увеличилась на 194%, в то время как реальные
доходы рабочих.и служащих за тот же период
увеличились лишь на 184% !.
Значительный источник прибыли составляет
эксплуатация и низкая оплата иностранных рабочих, а также
трудящихся женщин в Западной Германии. Эти
рабочие, вербовка и включение которых в процесс производ-
1 См. «Gutachten über die masslosen Profite in Westdeutschland
\\r\(\ erste Vorschlag« zur Überwindung sozialer Ungerechtigkeit», S. 6.
150
ства происходит по примеру гитлеровского фашизма,
оплачиваются по более низким тарифным ставкам, чем
те, которые действуют для западногерманских рабочих.
В то же время их давит закон, разрешающий
эксплуататорским классам полнейший произвол в господстве и»
угнетении этой категории рабочих, а их самих
лишающий элементарных демократических прав
профессионального объединения и забастовок. Из 19,1 млн.
западногерманских женщин и девушек в возрасте от 15
до 65 лет 9,471 млн. заняты на производстве. Хотя
статья 3 абз. 2 боннского законодательства
конституционно фиксирует равноправие между мужчиной и
женщиной, однако оно никак не осуществлено в Западной
Германии. Таким образом, важнейшая предпосылка
равноправия, право на одинаковую заработную плату
за один и тот же труд вплоть до настоящего дня не
обеспечено, хотя боннское правительство в 1955 г.
ратифицировало конвенцию № 100 Международной
организации рабочих (I0L), согласно которой женщинам
следует платить за равный труд одинаковую плату с
мужчинами, и многие приговоры федерального
рабочего суда решительно подтверждают это право. На 4-й
конференции западногерманских женщин, работающих в
металлургической промышленности, было сообщено, что
«женщины за одинаковый труд с мужчинами получают
лишь 64,4% от полной зарплаты». Для маскировки
двойной эксплуатации женщин монополии с 1955 г.
отменили ограничения на заработную плату женщин,
введя вместо них «группы неквалифицированных наемных
рабочих и группы временных наемных рабочих». Среди
служащих различие между заработной платой мужчин
и женщин обозначено статистической службой
Федеральной республики в 60,3% от заработной платы
мужчин К Право женщин на квалификацию, образование и
повышение по должности является в боннском
государстве пустой фразой. Даже министр Христианско-демо-
кратического союза госпожа Шварцхаупт вынуждена
1 См. «Gutachten über die soziale und politische Stellung der
Frau in Westdeutschland. Komitee zum Studium der
gesellschaftlichen Verhältnisse und Ihrer Veränderung in Westdeutschland beim
Nationalrat der Nationalen Front des demokratischen Deutschland»,
S 7
151
была признать, что в ФРГ «влияние женщин на всю
совокупность различных сторон социальной жизни сегодня
не больше, чем 100 лет тому назад»1. Из 100
трудящихся женщин лишь 7 являются специалистами, а 45
обучающимися рабочими и 48 вспомогательными
рабочими2. Поэтому требование оттеснить политическую
власть и влияние монополий на государство, экономику
и всю общественную жизнь представляет собой нечто
большее, чем простое требование справедливости. Их
господство ведет не только к усиленной эксплуатации и
порабощению трудящихся, но их агрессивная политика
НАТО и атомного вооружения угрожает существованию
всех западногерманских граждан.
У клерикальных фальсификаторов Маркса нельзя
нигде ничего прочитать об этом элементарном
требовании жизни и демократии народа. Своими фразами о
«справедливости и примирении» они способствуют тому,
чтобы замаскировать социальную несправедливость,
эксплуатацию рабочих и служащих, а также
обострившиеся классовые противоречия в Западной Германии.
Они скрывают, что установление действительной
социальной справедливости для большинства населения
Западной Германии требует в настоящее время прежде
всего ограничения прибылей крупных
предпринимателей, осуществления требований рабочих и служащих,
касающихся заработной платы, рабочего времени и
отпусков, пересмотра финансовой политики, политики
налогов и цен, а также предоставления советам
предприятий и доверенным лицам на предприятиях
действительного права участия в обсуждениях. Несмотря на
иллюзии относительно характера капиталистического
общественного строя в Западной Германии, которые
также распространяются фальсификаторами Маркса,
классовая борьба рабочих и народных масс против
империалистической системы усиливается. Это проявляется
в забастовочном движении, в выступлениях народа
против атомного вооружения и войны, а также в
демонстрациях, в восточных маршах, воззваниях и сборе
подписей.
1 «Frankfurier Rundschau», 7. April 1962.
2 См. «Gutachten über die soziale und politische Stellung der
Frau in Westdeutschland», S. 14.
152
Анализ забастовочного движения в
империалистическом мире начиная с 1956 г. дает следующий
показательный результат: в 1956 г. в забастовках участвовали
13,8 млн. людей, из них в политических забастовках —
0,5 млн.; в 1958 г.— 22,9 млн., из них в политических
забастовках — 9,5 млн.; в 1959 г.— 41,2 млн., из них в
политических забастовках — 23,2 млн.; в 1960 г.—
53,6 млн., из них в политических забастовках—41,1 млн.;
в 1961 г.—60,0 млн., из них в политических забастовках—
50,0 млн.1 Таким образом, сотни миллионов людей во
всем мире все больше понимают, что капиталистический
строй представляет собой систему экономической
анархии, хищнической эксплуатации производительных сил
и постоянной военной опасности и что человечество не
может больше и не хочет мириться с этим исторически
изжившим себя строем. Под руководством
революционного рабочего класса и его марксистско-ленинской
партии все большее число трудящихся капиталистических
стран сознательно и целеустремленно идет путем,
единственно возможным для осуществления их мирных
социальных и политических интересов, путем
революционной классовой борьбы, историческая необходимость и
справедливость которого была теоретически обоснована
Марксом и Энгельсом. Не может быть никакого
сомнения в том, что западногерманский рабочий класс в
своем большинстве пойдет именно этим путем и вместе
с рабочим классом Германской Демократической
Республики будет бороться за то, чтобы и в Западной
Германии вопреки сопротивлению империализма
осуществить социальные и национальные интересы немецкого
народа. История не сделает исключения и для
капиталистической Западной Германии. Отрицание
клерикальной идеологией классов и классовой борьбы не может
остановить этого закономерного развития.
1 «Neues Deutschland». 8. März 1962.
Глава шестая
ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЕЕ КЛЕРИКАЛЬНЫЕ
АНТИПОДЫ
Предыдущее изложение позволяет с полной ясностью
понять, что попытки извратить марксистскую теорию
классов и всемирно-исторической роли пролетариата
продиктованы отнюдь не «интересами академического
исследования». Цель их, несомненно, состоит в том,
чтобы выхолостить разработанную Марксом и
Энгельсом в их ранних .произведениях революционную теорию
и как политически, так и морально оклеветать
пролетарскую революцию и социалистическую действительность.
По-своему это признают даже клерикальные
идеологи. И не только потому, что они обеспокоены тем, что
учение Маркса «затрагивает действующих, изменяющих
отношения людей» К Они открыто заявляют, что их
интересовала главным образом революционная теория.
«Не случайно,— говорится в предисловии редакции к
«Марксизмусштудиен»,— что особое внимание комиссия
в своей работе уделила понятию «революция»2.
Почему? Это якобы необходимо, узнаем мы, так как
«история» испытывала потребность «в ее... беспокойной
действительности» 3.
Какое примечательное признание! История
действительно становится для идеологов империализма все
беспокойнее, и не только в Германии, где в Германской
Демократической Республике строится социализм. Под
1 «Marxismusstudien», Erste Folge, S. VIII.
2 Там же.
8 Там же.
154
определяющим влиянием мировой социалистической
системы совершается неизбежный распад
империалистической системы, которая потрясается в своих коренных
устоях революционной борьбой трудящихся масс. Мир
переживает эпоху революций. Социалистические
революции, ' антиимпериалистические революции за
национальное освобождение, демократические революции
народа, широкое крестьянское движение, борьба народных
масс против фашизма и других реакционных режимов,
общедемократические движения против национального
угнетения — все это объединяется в единый
революционный мировой процесс, подрывающий устои
капитализма и приводящий его к гибели.
Эта «беспокойная действительность» является для
клерикальных идеологов поводом, чтобы поспешить на
помощь монополиям и внести свой вклад в то, чтобы
трудящиеся массы не пошли путем революций.
Поэтому они пытаются скрыть открытые Марксом и
Энгельсом объективные причины революций и их
закономерность.
1. Оправдание антикоммунистической травли
Этой же целью продиктован и опубликованный в
«Марксизмусштудиен» памфлет, где Герман Больнов
рассматривает своеобразие и качественное постоянство
энгельсовского понятия революции и развития и желает
внести свой вклад в историю развития понятия
революции. Но так как его взгляд, так же как и взгляд его
собратьев по вере, с самого начала затуманен очками
клерикальной фальсификации Маркса, он делает вклад,
который является глумлением над всякой исторической
истиной, но благодаря которому яснее становится смысл
клерикального смешения понятий.
В своих манипуляциях Больнов опирается на
«Принципы коммунизма» Энгельса, написанные в 1847 г., что
уже само по себе является весьма характерным, так
как 27-летний Энгельс написал их как предварительную
работу к «Манифесту Коммунистической партии», и, по
его собственным словам, они написаны «ужасно плохо»
и «наспех отредактированы»!. Поэтому Больнов счи-
1К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 27, стр. 102.
155
тает, что с помощью «Принципов» можно лучше всего
подкрепить свои произвольные толкования. Чтобы
совершенно развязать себе руки, он вырывает
«Принципы» из всякой исторической связи и игнорирует
предшествующие этой статье работы вместе с развитым там
Марксом и Энгельсом пониманием революции.
Но так как Больнов посягал главным образом на
материалистическое понимание истории, с тем чтобы,
извратив его, принизить значение революционной
теории, необходимо кратко коснуться вопроса о том, что
Маркс и Энгельс развивали до 1847 г. Чтобы уяснить
себе это, достаточно лишь обратиться к «Немецкой
идеологии», в которой Маркс и Энгельс совершенно
ясно сформулировали социально-экономические основы
пролетарской революции — закон соответствия
производственных отношений характеру производительных
сил.
Этот закон действует как основной закон всего
общественного развития, которое совершается в
соответствии с внутренней диалектикой этих обеих сторон
производства. Диалектика эта такова, что производительные
силы постоянно, непрерывно развиваются, а
производственные отношения остаются относительно
постоянными и в процессе развития превращаются «в оковы
развития производительных сил». В условиях частной
собственности на средства производства это
противоречие между двумя сторонами способа производства
закономерно развивается в конфликт;
«производительные силы получают лишь одностороннее развитие,
становясь для большинства разрушительными силами,
а множество... вовсе не может найти себе применения» К
Являясь препятствием для общественного прогресса,
капиталистические производственные отношения
приводят к уничтожению огромной массы производительных
сил, в связи с чем «индивиды должны присвоить себе
существующую совокупность производительных сил не
только для того, чтобы добиться самодеятельности, но
и вообще для того, чтобы обеспечить своё
существование»2.
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 60—61.
2 Там же, стр. 67.
156
Этр противоречие между производительными силами
и производственными отношениями проявляется как
«коллизии между различными классами, как
противоречия сознания, идейная борьба и т. д.» и должно
«прорываться в виде революции»1. Ради сохранения своего
существования буржуазия глубоко заинтересована в
увековечении капиталистических производственных
отношений. Этой цели прежде всего служит
государственный аппарат, который буржуазия подчинила себе для
того, «чтобы — как вовне, так и внутри государства —
взаимно гарантировать свою собственность и свои
интересы»2. Поэтому .пролетарская революция необходима
не только потому, «что никаким иным способом
невозможно свергнуть господствующий класс, но и потому,
что свергающий класс только в революции может
сбросить с себя всю старую мерзость и стать способным
создать новую основу общества»3.
Во что же Больнов превращает эту ясную, хотя в
«Немецкой идеологии» набросанную лишь в общих
чертах, концепцию, ссылаясь на «Принципы коммунизма»
Энгельса?
Нет ничего удивительного в том, что когда Больнов,
как и все представители клерикальной фракции «убийц»
Маркса, конструирует коренное противоречие между
Марксом и Энгельсом, «стремящимся к философскому
материализму», то в выдвинутом им положении о
«своеобразии» Энгельса он заимствует приемы своих коллег.
Он превращает диалектику экономического и
политического развития, развитую Марксом и Энгельсом в
«Немецкой идеологии», в свою противоположность и,
подобно Тиру, Фетчеру и др., разделывается с Энгельсом как
якобы с механистом. При этом в искусстве
клерикального истолкования фантазия Больнова расцветает
самым причудливым образом. Так, в вопросах
революционной теории Энгельс якобы является защитником
принципа «механической квантовой экспансии»,
провозвестником закона (!) «тенденции и необходимости
количественной экспансии всех .потенций»4 и т. д. Короче
1 К. Маркс и Ф.Энгельс, Соч., т. 3, стр. 75.
2 Там же, стр. 62.
3 Там же, стр. 70.
* См. Н. В о 11 п о w, Engels' Auffassung von Revolution und
Entwicklung in seinen «Grundsätzen des Kommunismus» (1847).
157
говоря, система Энгельса, согласно Больнову, «вовсе не
является собственно диалектикой, а остается механикой
развития»1.
Таким образом, оказывается, что философские
рассуждения Больнова основываются на совершенном
незнании марксистско-ленинского учения и отдельных его
категорий. Очевидно также и то, что он пытается
устранить диалектику, заменив ее принципами механики, и в
конечном счете даже свести ее «к механическому закону
силы»2. При этом с помощью сконструированной им
механики развития он стремится прежде всего
устранить социально-экономические причины революции и
отвергнуть диалектику развития производительных сил
и производственных отношений.
Исходя из этого, Больнов отрицает всякое
качественное развитие производительных сил и утверждает, будто
у Энгельса не могло быть и речи о «качественных
изменениях», о «ступенях развития» производительных сил;
при этом он совершенно запутывается в бесчисленных
противоречиях и обнаруживает свою полную
неспособность точно схватить понятия, определить их
содержание и правильно применить их. В та время как, с одной
стороны, он отрицает качественное развитие
производительных сил, с другой — он признает его, заявляя, что
«создаются новые производительные силы»,
«открываются и развиваются качественно новые
производительные силы»3, если в целом он исключает
человеческие способности из производительных сил, то затем,
в частности, все же включает их4, допуская в одном
случае лишь «количественные увеличения», а в другом —
«качественные изменения»5; в одном месте он говорит
о «фазах развития»6 способа производства, а в другом
отрицает это развитие применительно к
производительным силам, хотя последние являются одной из сторон
способа производства, и т. д. и т. п.
Таким образом, Больнов страшно запутывает
приведенное в «Немецкой идеологии» понятие, производи-
1 См. Н. В о 11 п о w, Engels' Auffassung von Revolution... S. 114.
2 См. там же, стр. 127.
8 См. там же, стр. 101.
4 См. там же, стр. 99.
6 См. там же.
6 См. там же, стр. 133.
158
тельных! сил как составной части способа -производства,
которое ^Энгельс совершенно четко использует в
«Принципах коммунизма».
Энгельс не отрицает там ни того, что «новые
машины» были; изобретены в рамках существующего
капиталистического строя, ни того, что созданы «новые
производительные силы»; наоборот, он прямо говорит о
том, что «создание новых производительных сил»
обусловливает «изменение общественного строя» и
необходимо влечет за собой «переворот в отношениях
собственности». Энгельс пишет: «Всякое изменение
общественного строя, всякий переворот в отношениях
собственности являлись необходимым следствием создания
новых производительных сил, которые перестали
соответствовать старым отношениям собственности» 1.
Ни здесь, ни где-либо еще у Энгельса не идет речь
о механическом, количественном развитии
производительных сил; оно существует только в представлении
Больнова, который не в состоянии понять
диалектическое единство количественного и качественного; он
разрывает это единство для того, чтобы протащить свою
концепцию развития и механистически извратить
диалектический метод анализа Энгельса.
Этот замысел Больнова, по-видимому, сводится к
тому, чтобы определить развитие производительных сил
изобретенным им законом «тенденции к количественной
экспансии» или. «механической квантовой экспансии» и
приписать его Энгельсу. Поэтому всякие вновь
возникшие производительные силы действуют якобы с такой
мощью, которая имеет «тенденцию именно к
бесконечной экспансии», тем более что они «не подчинены
человеческой воле»!2 Под этим ужасным механицизмом
Больнов хоронит всякую диалектику и прежде всего
конфликты и противоречия между производительными
силами и производственными отношениями, которые он
игнорирует и обходит, разрывая единство способа
производства на отдельные его элементы и механически
противопоставляя их друг другу.
1 См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 4, стр. 330.
2- Н. В о 11 п о w, Engels' Auffassung von Revolution und
Entwicklung, в: «Marxismusstudien», Erste Folge, S. 109.
159
При таком подходе никого не может удивись и то,
что Больнов отрывает капиталистические
производственные отношения, и в частности отношения
Собственности, от производительных сил. Характерно, что для
него эти отношения вообще не развиваются, что ни
капитал, ни богатства капиталистов якобы не имеют даже
«тенденции к количественной экспансии», в то время
как Энгельс решительно настаивал на обратном. Боль-
нов отводит производственным отношениям целиком
подчиненную роль, превращая их во «вспомогательное
средство для производства», причем и в этом случае он
проявляет себя как клерикальный путаник понятий.
Меля вздор о «силе инерции строя» и его
«соответствии» с производительными силами, он в то же время
умалчивает о разрушительной силе капиталистических
производственных отношений, а также об
обусловленных ими кризисах перепроизводства, пагубные
последствия которых охарактеризованы Энгельсом 1 и которые,
на взгляд Больнова, представляют собой «своеобразие
человеческого бытия».
Эта фальсификация Больновом диалектики
производительных сил и производственных отношений и
умышленное сведение ее к «механике развития»
производительных сил отнюдь не случайны. Они
представляют собой исходную позицию для превращения
революционной теории Энгельса в фаталистическую
технократическую эволюционную теорию, согласно которой
средства производства по мере их «механической
квантовой экспансии» автоматически взрывают
капиталистические производственные отношения, причем
революция осуществляется «как механическая экспансия»2.
Таким образом, от имени Энгельса рабочий класс
исключается как сила, которая под руководством своей
революционной партии помогает проявлению и победе
исторической закономерности, а необходимость
сознательной пролетарской классовой борьбы для свержения
буржуазии низводится до абсурда.
Приписывать Энгельсу такую точку зрения — само
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 4, стр. 328.
2 Н. В о 11 п о W, Engels' Auffassung von Revolution und
Entwicklung, в: «Marxismusstudien», Erste Folge, S. 94.
160
по себе уже абсолютная бессмыслица, что подтвердит
всякий, кто хоть в какой-то мере знаком с идейным
наследием Энгельса. В «Принципах коммунизма», как и
во всех своих произведениях, Энгельс не оставляет
никакого сомнения в том, что своей революционной
борьбой пролетариат должен уничтожить основы
капиталистического строя — частнокапиталистическую
собственность. Энгельс пишет, что «пролетарий же, может
освободить себя, только уничтожив частную собственность
вообще» К В другом месте говорится: «Пролетарий же
освобождает себя тем, что уничтожает конкуренцию,
частную собственность и все классовые различия»2.
Даже эти недвусмысленные высказывания Энгельса
нисколько не мешают Больнову утверждать, будто Энгельс
«часто не имел ясного представления» относительно
того, происходит ли упразднение капиталистических
отношений собственности «в результате автоматического
развития или же люди сознательно добиваются и
осуществляют это»3. Напротив, для Энгельса, как и для
Маркса, совершенно ясно не только то, что люди
способствуют проявлению закона соответствия
производственных отношений характеру производительных сил,
что отрицает и коллега Больнова Веттер4, но во всех
своих ранних работах Маркс и Энгельс доказывают, что
эти люди, которые представляют собой порожденных
крупной промышленностью пролетариев, «становятся во
главе этого движения и увлекают за собой всю
остальную массу»5.
Оставляя, насколько это возможно, читателей в
неведении относительно этих фактов, Больнов переносит
свой закон «тенденции к количественной экспансии» на
развитие пролетариата, его общественные действия и на
революции, благодаря чему и достигает желаемых
результатов. Поэтому пролетариат, будучи якобы в
условиях капитализма инертной механической массой,
единственная «активная роль» которой заключается в том,
чтобы продавать свой труд, «осужден на полную пас-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 4, стр. 325.
2 Там же, стр. 326.
3 Н. В о 11 п о w, Engels' Auffassung von Revolution und
Entwicklung... в: «Marxismusstudien», Erste Folge, S. 139.
4 G. A. Wetter, Ordnung ohne Freiheit, 1956, S. 12.
6 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 61.
161
сивность»1; выйти из этого состояния и стать активным
он может только с помощью «механической квантовой
экспансии» в виде давления и сверхдавленмя2. Короче
говоря, согласно Больнову, пролетарские массы у
Энгельса «являются разрушительными и слепыми,
обращенными в прошлое... приводами; их действия — это
реакция на активность угнетателей, при низложении с
престола и уничтожении которых они действуют лишь
негативно, не завоевывая при этом новых позиций»3.
Таким образом, политические выводы из больновско-
го истолкования диалектики производства очевидны.
Построенная им механика автоматического развития
оборачивается непосредственно против пролетариата;
она должна дать теоретическое доказательство того, что
рабочий класс якобы не способен вести сознательную
революционную борьбу и что его действия лишены
какого-либо исторического творчества, поскольку являются
негативными и направлены лишь на уничтожение и
разрушение. То, что клерикальные интерпретаторы видят
единственную возможность в том, чтобы выдуманную
ими точку зрения приписать Энгельсу, не дает никаких
оснований для того, чтобы не изобличить их публично в
отъявленном мошеничестве.
Просто абсурдно говорить о том, что Энгельс видел
в пролетариате страдающую, пассивную массу, а
«активный момент прогресса — ...в производственных
достижениях гения и ума изобретателя ...а также
предпринимателя»4. Такую элитную точку зрения Энгельс
отвергал, еще будучи революционным демократом, и
уже совсем не разделял ее, как коммунист. Он с самого
начала выступает против того, чтобы «делить
человечество на два скопища — овец и козлищ, правящих и
управляемых, аристократов и чернь, господ и
простаков»5, и заявляет, что «лишь рабочие» имеют «силы
для великого национального дела» и «у них есть ещё
будущее»6. Для него само собой очевидно, что в рабо-
1 Н. В о 1 1 п о w, Engels' Auffassung von Revolution und
Entwicklung... в: cMarxismusstudien», Erste Folge, S. 116.
2 Там же, стр. 117.
3 Там же, стр. 128.
4 Там же, стр. 138.
6 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 595.
в Там же, стр. 574.
16?
чем классе «зиждется вся сила нации и её способность к
дальнейшему развитию» К Однако на это произведение
Больнов ссылается с «некоторой сдержанностью», и не
без причины, ибо там говорится: «Буржуа... перестаёт
стоять во главе исторического развития, и на его место
становятся* рабочие — сперва только по праву, а затем
и на деле»2.
Одни эти высказывания Энгельса, которые в любое
время можно дополнить положениями как из его
ранних, так и более поздних произведений, не оставляют
никакого сомнения в том, что, не отрицая роли
отдельной личности, он рассматривает рабочий класс как
«активный момент прогресса».
Сегодня, когда на одной трети земного шара рабочие
как по праву, так и на деле стали на место буржуа и
определяют историческое развитие, когда
осуществились слова Энгельса, провозглашенные им около
120 лет тому назад, только закоренелый буржуа и
антикоммунист может еще отрицать, что осужденный на
«полную пассивность» класс представляет «силу нации
и ее способность к дальнейшему развитию». Энгельс
еще тогда предсказывал, что истеричные
антикоммунисты не могут или не хотят видеть этих неопровержимых
фактов. Буржуа, указывает он, считает, что
промышленность находится в его руках, и видит в ее расширении
«единственную цель», потому что она дает ему
«богатство и власть»3, вследствие чего и точки зрения их
идеологов «далеко ещё не поднялись на такую высоту,
чтобы дать всеобъемлющий обзор развитию человечества
или хотя бы только одной-единственной нации»4.
Таким образом, Больнов и его коллеги по фракции
клерикалов являются лишь современными
представителями таких буржуазных писак. Нельзя верить ни
одному их слову. Они не в состоянии дать правильное
представление об истории развития человечества и
возникновения теории рабочего класса, определяющей и
направляющей ныне мысли и дела миллионов людей.
Единственная их забота сводится к тому, чтобы окле-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 2, стр. 463.
2 Там же, стр. 358.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 575.
4 Там же, стр. 573.
163
ветать рабочий класс, представив его как
отрицательную силу. С этой целью они прибегают и к
фальсификации идей Маркса и Энгельса. Лишним
подтверждением того, что они попирают истину, может служить
сопоставление приписываемой Больновом Энгельсу
оценки пролетариата как якобы разрушительного, слепого
и лишенного собственных позиций класса с
действительной точкой зрения Энгельса.
Как известно, подобные заключения Больнов
выводит из якобы пропагандируемого Энгельсом
механистического понимания общественных явлений, согласно
которому пролетариат якобы становится активным только
при условии давления извне, причем эта активность
исчерпывается негативным «возмущением»,
исключающим достижение новых рубежей. С помощью этих
подтасовок Больнов пытается отрицать не только
прогрессивную роль пролетариата как силы, определяющей
будущее нации, но и роль классовой борьбы и
связанного с ней процесса формирования и созревания
сознания пролетариата как одного из «рубежей». При этом
он представляет дело таким образом, будто для
Энгельса таких рубежей никогда не существовало; более того,
в этом вопросе он прямо противопоставляет Маркса
Энгельсу, заявляя, будто, за исключением «Немецкой
идеологии», Энгельс «нигде не приходил к полному
согласию с Марксом» К
Тем не менее даже одна работа Энгельса
«Положение рабочего класса в Англии» дает достаточно
оснований для того, чтобы смести измышления Больнова,
как карточный домик. Глава «Рабочее движение» с
исключительной наглядностью показывает, как в процессе
борьбы против буржуазии пролетариат отрицает старые
и завоевывает новые «позиции», действуя все более
сознательно. При этом лежащий в ее основе
исторический анализ с полной очевидностью показывает, какие
именно «различные фазы» и «формы» проходит
возмущение и борьба пролетариата, тем самым прочно
удерживаясь на этих позициях: начиная с возмущения
отдельного рабочего, самой бессознательной формы
протеста *, через оппозицию рабочих союзов, создание ко-
1 Н. В о 11 п о w, Engels' Auffassung von (Revolution und
Entwicklung... в: cMarxismusstudien», Erste Folge, S.• 114.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 2, стр. 438.
164
торых «предполагает уже понимание того, что
господство буржуазии основывается только на конкуренции
рабочих между собой»1 вплоть до непосредственной
политической борьбы в чартизме, где рабочий класс
выступает против «политической власти» буржуазии и
приступает к созданию своей рабочей партии2.
Таким образом, Энгельс со всей ясностью
показывает, что пролетариат есть все что угодно, только не
слепой и не лишенный собственных позиций класс.
Наоборот. Процесс становления пролетариата — это
процесс качественных изменений; в борьбе против
буржуазии пролетариат шаг за шагом по мере роста
классового самосознания завоевывает качественно новые
«позиции», развиваясь из «класса в себе» в «класс для
себя», что впервые в полном соответствии со взглядами
Энгельса подробно показано Марксом в «Нищете
философии»3. При этом Энгельс не сводит этот процесс лишь
к формированию политического сознания рабочих.
Наоборот, он показывает и нравственные позиции,
духовные качества и черты характера, проявляемые
рабочими в классовой борьбе, их «революционную отвагу»,
их «решимость» и «выдержку», их «ум и
рассудительность», которые «вызвали бурный восторг»4. Исходя из
всего этого, он не сомневается в том, что рабочие в
состоянии «сломить и силу всей буржуазии»5.
Как создатель «механики развития» «революции как
взрыва» и как эксперт необходимого для его целей
слепого, пассивного пролетариата, Больнов умалчивает
обо всем этом. Воля его класса — источник его идей.
Как и его собратьям по клерикальной вере, ему
хотелось бы, чтобы кроткий, как овечка, рабочий класс,
фаталистически терпящий эксплуатацию, вместо того
чтобы бороться и завоевывать новые позиции, вплоть до
скончания века ожидал своего механического
избавления и не затрагивал бы западногерманских
милитаристов и монополий, с тем чтобы дать им возможность
беспрепятственно усиливать эксплуатацию и полностью
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 2, стр. 443.
2 См. там же, стр. 462.
3 См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 4, стр. 183.
4 См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 2, стр. 449, 450,
6 См. там же, стр. 449.
165
уничтожить демократию. Этой цели служит и памфлет
Больнова, написанный им в то время, когда была
запрещена Коммунистическая партия Германии,
вследствие чего западногерманский рабочий класс должен
был лишиться решающих позиций в лице своего после-
довательного вождя в борьбе против империализма и
войны.
То, что это действительно так и что Больнов
поставлял изощренные аргументы для травли коммунистов,
следует уже из того, что он представляет революцию
как механический взрыв, а пролетариат — как
лишенный собственных позиций, пассивный элемент истории
и исторического прогресса. Благодаря этому создается
видимость того, что и революционная рабочая партия
не является якобы исторически закономерной
«позицией» пролетариата. Однако Больнов и
коммунистическую партию отрывает от пролетариата, превращая в
соответствии с приписываемой Энгельсу элитной точкой
зрения коммунистов в «прогрессивных гениев» и
абсолютно противопоставляя их как «активный момент»
истории пролетариату как «пассивному, слепому»
моменту К •
С помощью этого маневра активная борьба
коммунистов, как на основании приписываемого им
механического детерминизма, так и с помощью надуманного
элитного субъективизма, превращается в произвольное,
бесплодное предприятие и в конце концов логически
сводится к деятельности группы лишенных опоры
заговорщиков, которые подстрекают пролетариат и вводят
его в заблуждение своим мнимым знанием того, «что,
когда и как должно уничтожить капиталистическую
частную собственность». Поэтому Больнов умышленно
обходит молчанием все те высказывания Маркса и
Энгельса, которые ясно показывают ложность его
интерпретации, в частности высказывания Энгельса в
«Принципах коммунизма».
Он преднамеренно замалчивает приведенное в этой
работе совершенно определенное указание Энгельса на
то, «что всякие заговоры не только бесполезны, но даже
вредны»2, что они категорически отвергаются коммуни-
1 Н. В о 1 1 п о w, Engels' Auffassung von Revolution und
Entwicklung, в: «Marxismusstudien», Erste Folge, S. 138.
2K. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 4, стр. 331.
166
стами, поскольку им известно, «что революции нельзя
делать предумышленно и по произволу и что
революции всегда и везде являлись необходимым следствием
обстоятельств, которые совершенно не зависели от
воли и руководства отдельных партий и целых классов» *.
В конечном счете коммунистическая партия
превращается у Больнова в своего рода банду заговорщиков.
Отсюда вытекает логический и практический ее вывод
о необходимости преследований и привлечения ее к
суду. Клерикальные теоретики оправдывают террор
клерикальных политиков боннского режима, направленный
против коммунистов и всех революционных рабочих,
стоящих на позиции демократии и мира и защищающих
ее в борьбе против милитаризма и войны.
2. Гуманистическое шарлатанство
Однако поход клерикальной клеветы на
пролетарскую революцию не ограничивается только полным
искажением данного Марксом и Энгельсом научного
обоснования пролетарской революции и извращением ее
социально-экономических причин и движущих сил в
духе механицизма или субъективизма. Наряду с этим
ведется яростная атака на определенные Марксом и
Энгельсом содержание и цели пролетарской революции.
При этом антикоммунистическая истерия достигает
предела подлинного триумфа, а клерикальные идеологи
превосходят друг друга в воспевании ненависти.
Ведущую мелодию наигрывает Больнов. Как почти
непревзойденный мастер в искусстве клерикального
толкования он пытается путем смешения
противоречащих положений лишить понятие революции его точно
определенного содержания. С этой целью он отыскивает
«у Энгельса многозначность понятия революции» и
составляет конгломерат отдельных понятий: революция
общества, радикальная революция, социальная
революция, политическая революция, коммунистическая
революция, промышленная революция, пролетарская
революция и т. д. Свалив все эти понятия в одну кучу, он
затем удовлетворенно констатирует, что различные тол-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 4, стр. 331.
167
кования слова «революция» переплетаются друг с
другом, и, следуя своему механистическому методу,
начинает смешанное им разбирать. При этом понятие
пролетарской революции он смещает до тех пор, пока оно не
оказывается поставленным на обкатанные рельсы
«насильственного возмущения»; таким образом, он
обособляет проблему содержания, растворяет ее в понятиях
политической и социальной революции и
противопоставляет эти две стороны одного процесса как
пролетарскую и коммунистическую революции К
Это противопоставление Больнова лишено всякого
основания, его не найти ни у Маркса, ни у Энгельса.
«Каждая революция,— пишет Маркс,— разрушает
старое общество, и постольку она социальна. Каждая
революция низвергает старую власть, и постольку она
имеет политический характер»2. Поэтому для Маркса и
Энгельса пролетарская и коммунистическая революции
тождественны, поскольку они являются одновременно
как политическими, так и социальными. Поэтому они
никогда не разделяли эти понятия, не говоря уже об их
содержании. Так, Энгельс пишет в «Принципах
коммунизма»: революция «пролетариата «создает
демократический строй и тем самым, прямо или косвенно,
политическое господство пролетариата».
«Демократия была бы совершенно бесполезна для
пролетариата, если ею не воспользоваться немедленно
(курсив наш.— Ред.), как средством для проведения
широких мероприятий, непосредственно посягающих на
частную собственность и обеспечивающих
существование пролетариата»3. То же самое сказано в «Манифесте
Коммунистической партии»: «Коммунистическая
революция есть самый решительный разрыв с
унаследованными от прошлого отношениями собственности».
«Пролетариат использует свое политическое
господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом
весь капитал, централизовать все орудия производства в
руках государства, т. е. пролетариата, организованного
1 Н. Во II now, Engels' Auffassung von Revolution und
Entwicklung, в: «Marxismusstudien», Erste Folge, S. 88—89.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 448.
3 К- Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 4, стр. 332.
168
как господствующий класс, и возможно более быстро
увеличить сумму производительных сил» К
Будучи диалектиками, Маркс и Энгельс нисколько
не помышляли о том, чтобы отделять социальную и
политическую стороны пролетарской или
коммунистической революции. Таким образом, больновская механика
понятий находит свой плачевный конец.
Преисполненные такой же ненависти, другие клерикальные идеологи
обрушиваются на то, что пролетарская революция
является политической, и осыпают ее всякого рода
ругательствами. При этом они особенно усиленно пытаются
внушить то, что в представлениях молодого Маркса и
Энгельса якобы не уделялось должного внимания
политическому господству пролетариата. Для Тира
«ожидание Марксом счастья» переходит в... «разрушающий
человека коллетив»2, «первоначальный гуманизм в
ранних работах К. Маркса» превращается, согласно
Вендлянду, «в радикальный антигуманизм»3, потому
что «позже» Маркс не ограничивался больше
«обещанием» рая, а поставил на место бога пролетариат,
который отныне сам выступает как «насильственный и
могущественный завоеватель рая»4. Поэтому
«действительность человека» и вырождается у Метцке «в сырье
для тотального применения силы»5 и т. д.
Таким образом, клерикальные причитания вновь и
вновь сводятся к тому, что власть пролетариата якобы
несовместима с «первоначальным гуманизмом» Маркса
и Энгельса, так как этот гуманизм-де превращен в свою
противоположность. Следовательно, и Маркс и Энгельс
предстают как антропологические проповедники счастья
в грядущем райском освобождении человечества,
причем первоначально якобы им было совершенно чуждо
применение рабочим классом революционного насилия
для свержения капитала, так же как и подавление
лишенного власти эксплуататорского класса пролетарской
властью и диктатурой.
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 4, стр. 446.
2 Е. Т h i е г, Marx und 'Proudon, в: «.Marxismusstudien»,
Zweite Folge, S. 149.
3 H.-D. Wendland, ChrisMiche und kommunistische
Hoffnung, S. 222.
« Там же, стр. 219.
6 E. M e t z k e, Mensch und Geschichte, в: «Marxismusstudien»,
Zweite iFolge, S. 24.
169
На эти рассуждения клерикалов Маркс давно
ответил, разоблачая метод рецензентов того времени. Он
показал, что они скрывают свою ненаучность, свое
«полное невежество и умственное убожество» тем, что,
извратив его истолкования, они затем бросают их ему
в лицо, хотя им следовало бы прежде всего доказать,
что, помимо своих «теологических семейных дел», они
способны принять участие и в обсуждении «земных»
дел К
Маркс и Энгельс были далеки от того, чтобы
рекомендовать пролетариату, который они с самого начала
характеризуют как «сердце» человеческой
эмансипации 2, отказываться от революционного насилия. Тем
более, что буржуазия не боялась прибегать к насилию
для порабощения и угнетения рабочих,
«поддерживаемого насилием», как писал Энгельс в 1843 г. «Можно
ли,— продолжает он,—после этого ожидать, чтобы
угнетённые любили свои общественные установления..? Они
знают, что если они что-нибудь представляют собой, то
только потому, что отвечают на насилие насилием, и так
как в настоящее время в их распоряжении нет других
средств, то зачем же им колебаться хоть минуту и не
пустить его в ход?»3. Маркс в 1843 г. писал: «Оружие
критики не может, конечно, заменить критики оружием,
материальная сила должна быть опрокинута
материальной же силой...»4 Маркс и Энгельс очень точно
высказывали свое мнение по этому основному вопросу
пролетарской борьбы в «Немецкой идеологии», где они
впервые сформулировали идею диктатуры
пролетариата. Пролетариат, пишут они, может победить только
«посредством революции, в которой... низвергается
власть прежнего способа производства и общения, а
также прежней структуры общества»5; он должен
«низвергнуть государство»6 и «прежде всего завоевать себе
политическую власть»7.
1 См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних
произведений, стр. 622--623.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. I, стр. 429.
3 Там же, стр. 531.
4 Там же, стр. 422.
Б К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.. т. 3, стр. 68.
6 Там же, стр. 78.
7 Там же, стр. 32
170
Следовательно, в своих ранних работах Маркс и
Энгельс отнюдь не исключали возможности и
необходимости применения революционного насилия
пролетариата для ликвидации антигуманной общественной
действительности капитализма и замены ее социалистиче-
ческой, гуманистической действительностью. Совсем
наоборот. Первую предпосылку осуществления реального
гуманизма они видели в завоевании пролетариатом
политической власти. Революционное насилие и гуманизм
не являются для них неисторическими и бесклассовыми
явлениями. Рабочий класс может встретить реакционное
буржуазное насилие угнетения только прогрессивным
насилием народа, и он должен это сделать, если он
хочет осуществить свои гуманистические цели. Поэтому
революционное насилие является не противоречием
«гуманистическим стремлениям» Маркса и Энгельса, а
составной частью их реального гуманизма.
Клерикальное извращение этого реального
гуманизма и его прямое противопоставление политическому
господству пролетариата целиком основывается на простой
подтасовке. Тир и его соратники отрицают конкретные
общественные отношения капитализма и скрывают, что
буржуазный строй с его насильственной
империалистической и милитаристской государственной машиной
объективно вынуждает пролетариат применять
революционное насилие. Они становятся в защиту этого строя,
исключая его реакционные черты и вопреки фактам
превращая его в миролюбивый, почти ненасильственный
строй. Таким образом, они лишают какой бы то ни
было объективной основы применение пролетариатом
насилия и представляют пролетариат «насильственным и
автономным завоевателем», а диктатуру пролетариата —
как акт жестокого произвола по отношению к его
эксплуататорам и угнетателям.
Так же субъективистски они извращают содержание
организованного пролетарского насилия и взаимосвязь
целей и средств борьбы, причем насилие они чаще всего
молча отождествляют с гражданской или с
завоевательной войной, сводя диктатуру пролетариата к
произволу и беззаконию, а подавление свергнутого
эксплуататорского класса — к террору и репрессиям. Итогом
всего этого явилась антикоммунистическая работа
«Бесчинства тоталитаризма», которая целиком сводится к
171
пропаганде насилия и само существование которой
представляет постоянную угрозу миру и человечеству.
Хотя коммунисты никогда не придерживались и не
придерживаются того мнения, что путь к революции
непременно лежит через войну между государствами, с
помощью этих измышлений клерикалы, пытаются создать
впечатление, будто война и социалистическая
революция необходимо обусловливают друг друга.
В этой связи следует отметить, что на этом
постулате основана вся клерикальная фальсификация Маркса.
Извращая в субъективно-идеалистическом духе
философскую теорию Маркса и Энгельса и отрицая диалекти-
ко-материалистический характер общественного
развития и обусловленное им содержание человеческих
мыслей, воли и поступков, Метцке, Гоммес и др. создают
исходные философские позиции. Они пытаются лишить
основы политические воззрения Маркса и Энгельса и
истолковать их субъективистски. На этом поприще
подвизаются также Тир, Нелль-Бройнинг и другие,
перенося субъективизм в область пролетарской морали и
политики и давая тем самым все основания для
произвольного субъективистского истолкования пролетарской
революции и социалистической действительности,
которая, как утверждал Метцке, якобы представляет собой
завершение процесса, в результате которого мир и
человек вырождаются, превращаясь в «сырье для
тотального применения силы».
Уже одна эта антикоммунистическая целеустановка
делает понятным, почему клерикальные теоретики
решительно отрицают провозглашенный Марксом гуманизм
пролетарской классовой борьбы и, более того, просто
скрывают, что Маркс и Энгельс усиленно изучали
вопрос о том, позволяют ли конкретные условия различных
стран провести пролетарскую революцию мирными
средствами. В то время Маркс считал это возможным для
США, Англии и* Голландии l, а Энгельс в этом смысле
прямо заявлял: «Можно было бы пожелать, чтобы это
было так, и коммунисты, конечно, были бы последними,
кто стал бы против этого возражать»2. По поводу
всего этого у клерикальных теоретиков не сказано ни сло-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIII, ч. II, стр. 669.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 4, стр. 331.
172
ва или ни одного истинного слова, тем более что
некоторые из них пытаются придать этим мыслям Маркса
и Энгельса тот смысл, в котором их употребляют
сторонники правой социал-демократии, и обернуть их
против современной социалистической действительности и
пролетарской классовой борьбы. Они замалчивают или
извращают прежде всего тот факт, что главным
содержанием диктатуры пролетариата является «не насилие,
а созидание, строительство нового, социалистического
общества, защита его завоеваний от врагов
социализма» !.
Рабочий класс, являвшийся самой униженной
частью трудящихся, превращенной в объект
жесточайшей эксплуатации и военного насилия, глубоко
ненавидел все условия, позволяющие унижать и угнетать
людей. Верный своей гуманистической миссии, он
стремился всюду, где только возможно, использовать мирные
средства для осуществления своих революционных
целей. Поэтому его вожди Маркс и Энгельс всегда
предпочитали мирный путь необходимого для пролетариата
захвата власти вместо «насилия и кровопролития при
осуществлении переворота в социальных отношениях»2 в
условиях гражданской войны. Но там, где захвату
политической власти рабочими гибнущие классы
противопоставляют террор и насилие, реакционное насилие
должно быть сломлено революционным прогрессивным
насилием пролетариата.
Маркс и Энгельс всегда, учили, что рабочий класс не
может связывать себе руки в выборе форм и методов
политической и социальной революции и что
революционному пролетариату и в голову не придет «советоваться»
с клерикальными и другими буржуазными идеологами
по вопросу о «смысле» пролетарского движения или о
том, «как действовать в настоящий момент против
буржуазии» 3. Какие средства должен применить рабочий
класс в процессе политической и социальной революции,
по отношению к буржуазии ради достижения
благородной цели — создания достойного человека социалистиче-
1 Программа Коммунистической партии Советского Союза,
стр. 42.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 2, стр. 554.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3. стр. 192.
173
ского и коммунистического общества,— зависит от
объективных условий, а не от его произвола. К этим
условиям относятся: внутреннее положение соответствующей
стороны, и прежде всего степень развития классовой
борьбы; интенсивность классовой борьбы и
сопротивление господствующего класса; международное
положение. Поскольку эти условия не постоянны, не даны раз
и навсегда для всех народов и времен, а складываются
и изменяются в соответствии с особыми условиями
внутреннего развития страны и общими условиями эпохи, то
и формы и методы борьбы рабочего класса должны
быть различными.
Борьба рабочего класса всегда революционна.
Содержанием пролетарской революции при всех условиях
является лишение буржуазии политической власти.
Поскольку же буржуазия добровольно не отказывается от
власти, ее нужно заставить уйти с арены истории с
помощью революционной борьбы рабочего класса и всех
прогрессивных сил. Поэтому-то возможный и
желательный мирный переход от капитализма к социализму и не
означает отказа от пролетарской революции, главным
содержанием которой является установление власти
рабочего класса.
Учение Маркса и Энгельса в пролетарской революции
было всесторонне и творчески применено к
современному международному положению представителями
коммунистических и рабочих партий на Московских
совещаниях 1957 и 1960 гг. Они определили общие
закономерности социалистической революции и строительства
социализма, объективно действующие при переходе
человечества от капитализма к социализму, а также
возможность мирного осуществления социалистической
революции: «В современных условиях в ряде
капиталистических стран рабочий класс во главе со своим
передовым отрядом имеет возможность на основе рабочего
и народного фронта и других возможных форм
соглашения и политического сотрудничества разных партий
и общественных организаций объединить большинство
народа, завоевать государственную власть без
гражданской войны и обеспечить переход основных средств
производства в руки народа. Опираясь на большинство
народа и давая решительный отпор оппортунистическим
элементам, не способным отказаться от политики согла-
174
шательства с капиталистами и помещиками, рабочий
класс имеет возможность нанести поражение
реакционным, антинародным силам, завоевать прочное
большинство в парламенте, превратить парламент из орудия,
служащего классовым интересам буржуазии, в орудие,
служащее- трудовому народу, развертывать
внепарламентскую широкую массовую борьбу, сломить
сопротивление реакционных сил и создать необходимые условия
для мирного осуществления социалистической
революции. Все это будет возможно только путем широкого,
непрерывного развития классовой борьбы рабочих,
крестьянских масс и средних городских слоев против
крупного монополистического капитала, против реакции, за
глубокие социальные реформы, за мир и социализм» К
В этих принципах обобщен также и опыт рабочего
класса Германской Демократической Республики,
который в союзе с крестьянством, интеллигенцией и
другими трудящимися в процессе революционных
преобразований, проведенных с 1945 г., осуществил великий
переворот в истории Германии. Этот переворот
«осуществлен мирными средствами», он «потребовал
колоссальной разъяснительной работы и убеждения, но ни
единого выстрела» 2.
Таким образом, рабочий класс Германской
Демократической Республики последовательно идет путем
практического осуществления реального гуманизма Карла
Маркса, под руководством марксистско-ленинской
партии, ломая господство империализма и милитаризма,
постепенно заменяя частную собственность на средства
производства общественной собственностью и достигая
победы социалистических производственных отношений
в ГДР. При этом он следовал принципам марксизма-
ленинизма, которые не мирятся ни с сектантством, ни с
революционными фразами. Следовало бы напомнить о
том, как Маркс и Энгельс в преддверии революции
1848 г. боролись против мелкобуржуазного радикала
Карла Гейнцена, который, несмотря на несозревшие
еще объективные условия в напечатанных им проклама-
1 Программные документы борьбы за мир, демократию и
социализм, М., Госполитиздат, 1961, стр. 77—7S.
2 «Programmatische Erklärung des Vorsitzenden des Staatsrats
der DDR Walter Ulbricht vor der Volkskammer am 4. Oktober
1960», S. 7.
175
циях поднял «шум на весь мир своими призывами к
революции, вопреки здравому смыслу, без знания и
учета действительных отношений...» ] Вместо того чтобы
проанализировать объективные условия и выработать
соответствующую им тактику пролетарской классовой
борьбы, Гейнцен, как иронически замечали Маркс и
Энгельс, «только и делал, что разыгрывал вариации на
одну и ту же тему; бей его, бей его, бей его!»2 И в этом
вопросе для марксизма-ленинизма не может быть двух
различных точек зрения. Эта единственная точка зрения
заключается в том, что ход истории направляется не
субъективными желаниями и представлениями,
движется вперед не с помощью громких слов, но лишь в
результате реальной борьбы народных масс, в результате
поистине исторических дел рабочего класса,
прогрессивных сил и государств. Таким образом, в Германской
Демократической Республике мирным путем устранены
материальные причины прежнего раскола общества на
враждебные друг другу классы, лишено основы
растворение человеческого мира в мире «атомистических,
враждебно друг другу противостоящих индивидов»3 и
созданы условия для их братского объединения как
равноправных, свободных людей. Ибо освобождение
человека от эксплуатации есть высшее праявление
гуманизма, то есть свободы личности, социальной
справедливости и подлинного коллективизма созидающих
людей, преисполненных чувства ответственности перед
ближними и перед всем обществом.
Таким образом, социалистический и
коммунистический строй не является «антигуманистическим
извращением» гуманистических идей Маркса, как лицемерно и
клеветнически утверждают антикоммунисты из лагеря
клерикалов, но он, бесспорно, является научно
предсказанным самим Марксом историческим воплощением
гуманизма.
Клерикальное критики Маркса, пытающиеся этот
воплотившийся в действительность гуманизм Маркса
превратить в его противоположность под видом гуманности
и с помощью самой злостной фальсификации, доказы-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 4, стр. 271.
2 Там же, стр. 27Û.
3К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 412.
176
вают тем самым лишь свою преданность власти
реакционного германского монополистического капитала и
свое стремление в будущем удерживать трудящихся
Западной Германии в условиях эксплуатации и рабства.
Маркс и Энгельс неоднократно предостерегали рабочих
от этих апологетов капитала и их «гуманистического»
шарлатанства. Энгельс, в частности, клеймил
«практический гуманизм» буржуазии, ее гнусное лицемерие,
маскирующее эксплуатацию и жадность буржуа с помощью
«благотворительности», «приятно щекочущей» его
«самодовольную фарисейскую душу», благотворительности,
с помощью которой буржуазия пытается представить
себя перед всем миром как благодетеля человечества.
Эта «благотворительность», проповедуемая
клерикальными фальсификаторами Маркса вместо подлинной
братской солидарности и действительной социальной
справедливости, является такой благотворительностью,
«которая ещё больше унижает и без того униженного,
которая требует, чтобы утративший облик человеческий,
изгнанный обществом парий отказался от последнего,
что ему осталось, — от звания человека;
благотворительность, которую несчастный должен униженно
просить, пока она милостиво согласится своим подаянием
заклеймить его печатью отверженного!»1
Из этого нужно было и следует исходить и при
анализе антикоммунистических клерикальных пророчеств
фальсификаторов Маркса.
3. «Животные инстинкты масс»
Теперь мы подходим к последнему выводу
реакционного клерикального спиритуализма с его современной
антикоммунистической сущностью. И если этот вывод
столь определенно делается или санкционируется не
всеми клерикальными фальсификаторами Маркса, то
крайние представители клерикальной философии очень
хорошо знают, что клерикальная фальсификация Маркса
должна психологически подготовить охватываемые ею
группы людей к тому, чтобы пойти на последний риск.
Экстремистские группы хулят не только благородную
'К. Маркс >и Ф. Энгельс, Соч., т. 2, стр. 498.
7-424
177
мирную миссию рабочего класса и социализма как
нереальную и фантастическую, но и считают
осуществление вечного мира на земле самым плохим и
омерзительным делом. Чтобы добиться своей дели, одержимые
идеей1 атом.ной мировой войны или «малой» агрессивной
войны против Германской Демократической Республики
проклинают социализм как бунт против бога и ставят
его вне всякого нравственного порядка.
Однако империалистические войны, ведущиеся ради
завоевания чужих стран и порабощения целых народов,
они считают совместимыми с «нравственным порядком»
и фарисейски заявляют: революция и война — это не
одно и то же; революции — это абсолютное зло, а
империалистические войны нравственно узаконены.
Этот последний вывод антигуманной клерикальной
вражды против рабочего класса и его гуманистической
мирной миссии делает не кто иной, как сам епископский
наставник евангелических клерикальных
фальсификаторов Маркса Отто Дибелиус. В своем памфлете
«Границы государства», в котором он дает свое благословение
реставрации империалистического строя в Западной
Германии, он пишет: «Война и революция — не одно и
то же. В войне человек остается в рамках
упорядоченной ответственности. В войне, хотя это и трудно и, как
правило, даже невозможно, тем не менее можно сделать
попытку оставаться связанным великими нравственными
требованиями. Революции же прерывают все преграды.
Они развязывают животные инстинкты масс» К
Этот вид клерикальной реваншистской и
антикоммунистической ненависти так же безграничен, как и
отвратителен. Именно эта ненависть, а не пролетарские
революции прорывает все преграды тысячелетних правил и
простых нравственных ценностей человечества и
развязывает самые грубые инстинкты, с тем чтобы потопить
в крови борьбу, народов за мир, свободу и социализм.
Дибелиус, который со времени первой мировой войны
видит содержание своей жизни в том, чтобы подчинить
евангелическую церковь военной политике германского
милитаризма, является живым примером того, как
реакционный политический клерикализм с помощью расовых
иллюзий, антисемитизма, шовинизма и реваншизма раз-
1 О. Dibelius, Grenzen des Staates, Hamburg, 1949, S. 72.
178
лагает общество, семью и людей и как приводил и снова
пытается привести в состояние варварского фашистского
бешенства.
Если в начале первой .мировой войны Дибелиус
проповедовал, что «бог послал войну» и призывал к
«религиозному* мужеству» перед «лицом смерти»1, а также к
тому, чтобы «немецкая вера и немецкий дух» выполнили
свою «священную миссию перед другими народами»2,
то, даже видя печальный конец германского
милитаризма, он заклинал: «Нет! Не отказ и соглашение, а
использование нашей власти для того, чтобы сделать все
возможное,— таково требование христианства, его
требование мира от нас, немецких христиан»3.
Этому империалистическому девизу,
провозглашающему применение силы, который он цинично выдает за
христианское «требование мира», Дибелиус был активно
предан и во времена фашизма. Теперь он под эгидой
западногерманского милитаризма докатился до
яростной атомно-военной истерии. «Даже если, как
полагают, человечество избавится от большого массового
уничтожения, оно стоит перед вопросом: что это значит
для людей, которые сохранятся?»4
В своем морально-теологическом оправдании самого
худшего насильственного преступления германского
милитаризма против революционного рабочего движения
Дибелиус делает и самый крайний вывод.
Империалистическое извращение христианства, полный отказ от
человечности обнаруживается в рассуждении о том, что
«эсэсовец, избивающий до смерти беззащитного
пленного, отнюдь не является вырождением человека, как
полагают вечно оптимистичные рационалисты, а
представляет человека таким, какой он есть, каким он был,
когда Каин убил Авеля, и каким он всегда будет, если
чудом бога он не превратится в нового человека»5.
1 О. D i b е 1 i u s, Gottes Ruf in Deutschlands
Schicksalsstunde, Berlin-Lichterfelde, 1915, S. 56.
2 O. D i b e 1 i u s, Kriegsnöte und Kriegserfahrungen, Berlin-
Lichterfelde, 1916, Einte des Glaubens, S. 21.
3 O. D i b e 1 i u s, Wir deutsche Christen und der deutsche
Friede, Berlin-Lichterfelde, 1918, S. 3.
4 Lt. dpa, 20. November 1957.
5 O. D i b e 1 i u s, Grenzen des Staates, S. 73.
7*
179
Для клерикальных фашистов естественно, что
фашистский убийца, безжалостно избивающий до смерти
коммунистов и социал-демократов, буржуазных
демократов и честных верующих, как скот, убивающий алжирцев
и конголезцев и устраивающий массовые казни
советских граждан, не должен представлять собой
«вырождение человека», потому что они специально готовили
этих палачей для подавления рабочего движения,
демократических, пролетарских и
национально-освободительных революций. В то же время тенденциозный
клерикальный пессимизм, который провозглашается Дибелиу-
сом, Тилике и другими вместе с милитаристской
проповедью насилия, должен не только реабилитировать
старых и новых фашистских преступников, но и
парализовать силы народных масс. Он должен представить
мирную миссию рабочего класса и социализма как
лицемерие, а активное стремление к миру большинства
верующих, борющихся на стороне рабочего класса за
лучшую мирную жизнь во всем мире, объявить
«прокламацией», которой якобы «следует стыдиться».
Против победоносного рабочего класса
социалистических стран следует применять военную силу,
призывает в ярости Тилике, ибо «язык силы — единственный
язык, которого слушается большевик» 1. Поэтому на это
якобы и следует направлять «христианскую мирную
политику» и «ограничивать ее тем, чтобы можно было
разговаривать на этом понятном языке»2. При этом нужно
быть готовым к тому, чтобы осмелиться на «крайность»,
то есть на уничтожающую термоядерную войну, если она
обещает «хоть какую-то степень возможности на успех»3
в деле уничтожения мировой социалистической системы
и препятствия самому человечному общественному
развитию всех народов к социализму и миру.
Охваченные и побуждаемые такой же ненавистью к
коммунизму, клерикальные идеологи из католического
лагеря также проповедуют войну и насилие против
социализма и пролетарской революции и пытаются
оклеветать их с помощью всевозможных небылиц и
клерикальных хитростей.
1 Н. Thilicke, Christliche Verantwortung im Atomzeitalter,
Stuttgart, 1957, S. 39—40.
2 Там же.
3 Там же.
180
Борьба рабочего класса и всех трудящихся за
социализм и мир является якобы безответственным с точки
зрения морали деянием, своего рода отвратительно
действующим духовным развратом заявляет с пеной у рта
апокалиптический сторонник атомной войны Гундлах.
Не о человеческом, мирном будущем людей должен
заботиться каждый отдельный человек, а о том, как
добиться «восстановления нарушенного божественного
устройства мира» *. С помощью спекулятивных
рассуждений о якобы нарушенном коммунизмом
«божественном устройстве мира» Гундлах пытается удержать
рабочих от классовой борьбы, подорвать их доверие к
мирному социалистическому строю и прдчинить их
империалистической политике эксплуатации и войн.
Прекрати борьбу за мир! Покорись неизбежности
«божественного устройства мира» империалистических войн и
человеческого порабощения, призывает он трудящихся,
«ибо, во-первых, мы имеем верную гарантию того, что
мир не вечен, и, во-вторых, мы не несем ответственности
за конец мира. Мы лишь можем сказать, что бог —
господин, который своим провидением привел или
заставил нас прийти к такой ситуации (то есть к атомной
войне. — Ред.), когда мы должны будем принести
заверения в верности его строю, а затем и взять на себя
ответственность» 2.
В настоящее время, когда в результате подготовки
самого страшного преступления против человечества —
термоядерной империалистической войны — вопрос
войны и мира стал главным вопросом, элементарной
проблемой жизни или смерти сотен миллионов людей,
подобного рода нападки на мирную миссию пролетариата
и прославление империалистических войн следует
рассматривать как самую смертельную угрозу, которой
когда-либо в течение своей тысячелетней истории
подвергалось человечество со стороны антигуманистической
реакционной философии. Эти клерикальные идеологи
подтверждают справедливость слов Ленина, что
реакционные круги империалистической буржуазии все еще
готовы «на все дикости, зверства и преступления, чтобы
1 G. G und lach, Die Lehre Pius XII. zum Atomkrieg, в:
cStimmen der Zeit», Hf. 7/1956/59, S. 11.
* Там же, стр. 13.
181
отстоять гибнущее капиталистическое рабство»х. Уже
при самом зарождении капитализма и
соответствующего ему способа производства этот строй не мог
появиться на свет иначе, как источая изо всех пор грязь,
кровь и пот. «Экспроприация непосредственных
производителей совершается с самым беспощадным
вандализмом и под давлением самых подлых, самых грязных,
самых мелочных и самых бешеных страстей»2, — писал
Маркс; «искоренение, порабощение и погребение
заживо туземного населения в рудниках, первые шаги по
завоеванию и разграблению Ост-Индии, превращение
Африки в заповедное поле охоты ;на чернокожих ...Эти
идиллические процессы суть главные моменты
первоначального накопления. За ними следует торговая война
европейских наций, ареной для которой служит земной
шар» 3. Дожив до конца своих дней, реакционный
монополистический капитал, возникший на основе внутренних
законов капиталистического способа производства,
готов скорее уничтожить большую часть человечества, чем
самому подчиниться неизбежному историческому
развитию общества. t
Но народные массы, руководимые рабочим классом
и социалистическим лагерем мира, уже изменили
соотношение сил в пользу мира. Они все решительнее
используют неограниченные возможности, чтобы помешать
термоядерной войне и благодаря ликвидации
империализма привести человечество к вечному миру, который
будет достигнут с победой социализма во всем мире.
Возрастающий перевес сил социализма и мира над
силами империализма и войны ведет к тому, «что еще до
полной победы социализма на земле, при сохранении
капитализма в части мира, возникнет реальная
возможность исключить мировую войну из жизни общества.
Победа социализма во всем мире окончательно устранит
социальные и национальные причины возникновения
всяких войн. Уничтожить войны, утвердить вечный мир на
земле — историческая миссия коммунизма»4
1 В. И. Ленин, Соч., т. 19. стр. 77.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 23, стр. 771—772.
3 Там же, стр. 760.
4 Программа Коммунистической партии Советского Союза,
стр. 58,
182
Утвержденная XXII съездом партии и одобренная
коммунистическими и рабочими партиями научная
гуманистическая оценка реальных перспектив мира в
настоящее время является последовательным и творческим
развитием того, что в свое время теоретически
высказывали Маркс, Энгельс и Ленин о мирной миссии
рабочего класса и пролетарской революции и чего они
практически политически добивались.
Маркс и Энгельс первыми научно вскрыли
социально-экономические корни войн и нашли, что рабочий класс
по самому своему объективному положению вынужден
покончить с социальным и национальным угнетением и
навсегда устранить корни войны, так как война
неразрывно связана с частной собственностью на средства
производства и расколом общества на антагонистические
классы. Они указывали на то, что война не является
главной движущей силой истории. При этом они
опровергли буржуазно-идеалистическое представление,
будто бы «насилие, война, грабёж, разбой и т. д.» являются
«движущей силой истории», и заявили, что
«государственное принуждение, штыки, «полиция, -пушки» отнюдь
не являются основой общества, а «представляют собой
лишь следствие его собственного расчленения» \ то
есть экономическую структуру, основанную на частной
собственности на средства производства. Войны—это
проявление политики определенных классов,
стремящихся осуществить свои экономические и политические
интересы насильственными средствами. Тезис немецкого
теоретика войны Клаузевица, что «война есть просто
продолжение политики другими средствами»2, был и
точкой зрения Маркса и Энгельса, «каждую войну
рассматривавших как продолжение политики данных,
заинтересованных держав — и разных классов внутри них —
в данное время»3. От применения господствующими
эксплуататорскими классами этого насильственного
средства внутри страны против угнетенных народных
масс и за ее пределами против чужих народов из всех
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 21, 483.
2 Carl von С 1 а и s е v i t z, Vom Kriege, Werke, Berlin, 1834,
Bd. I, S/28.
3 В. И. Ленин, Соч., т. 21, стр. 195.
183
классов и во все времена больше всего страдали
рабочие и крестьяне.
В течение длительной истории своей борьбы
пролетариат как самый революционный класс решительно отверг
войны господствующих классов и оказал героическое
сопротивление этому исчадию неизмеримых
страданий и лишений народа. Преступления реакционных
классов, писал Маркс, «указали рабочему классу на его
обязанность— самому овладеть тайнами международной
политики, следить за дипломатической деятельностью
своих правительств и в случае необходимости
противодействовать ей всеми средствами...»1 И если во время
гражданской войны в Америке 1861 —1865 гг.
реакционным капиталистическим правительствам Западной
Европы помешали вмешаться в эту войну и помочь
рабовладельцам Юга, то «не мудрость господствующих классов,
а героическое сопротивление рабочего класса Англии их
преступному безумию спасло Западную Европу от
авантюры позорного крестового похода в целях увековечения
и распространения рабства по ту сторону
Атлантического океана»2. ,
В противоположность воинствующим кругам
буржуазных властителей и их политическо-идеологических
лакеев, всегда пытавшихся «натравливать народы друг на
друга, использовать один народ для угнетения другого,
чтобы таким образом продлить существование
абсолютной власти»3, рабочий класс не стремится ни к
насильственному подавлению других трудящихся своей страны,
ни к угнетению других наций. Он глубоко
заинтересован в мире и вместе со своим собственным
освобождением в пролетарской революции освобождает все
народы и нации, в прошлом порабощенные и униженные
господствующими эксплуататорскими классами их
страны. Во время франко-прусской войны, когда
«официальная Германия»-бросилась «в братоубийственную
борьбу» и когда, несмотря на это, французские и немецкие
рабочие посылали «друг другу вести мира и дружбы»,
Маркс настоятельно указывал на историческую мирную
миссию рабочего класса, на этот «великий факт, не име-
1 К. Маркс и Ф. Э in г е л ь с, Соч., т. 16, стр. 11.
2 Там же.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 5, стр. 160.
184
ющий себе равного в истории», который «открывает
надежды на более светлое будущее». Ибо «он показывает,
что в противоположность старому обществу с его
экономической нищетой и политическим безумием
нарождается новое общество, международным принципом
которого будет — мир, ибо у каждого народа будет
один и тот же властелин — труд!
Провозвестником этого нового общества является
Международное Товарищество Рабочих»1.
Таким образом, не пролетарская революция и
коммунистический строй стоят вне «нравственного
порядка», как это утверждают клерикальные идеологи, и
капиталистическо-империалистический строй с его
экономической нищетой и политическим безумием, с его
кризисами и международным принципом войны. В
социалистической части современного мира, где пролетарские
революции одержали окончательную победу, рабочий
класс уже выполнил свою мирную миссию, устранив
вместе с экономическими основами их существования
все классы и социальные группы, заинтересованные в
развязывании войн. Обладающее классовым сознанием
рабочее движение, которое всегда решительно боролось
и будет бороться против военного истребления народов,
ни для установления своего господства в стране, ни для
осуществления мировой пролетарской революции во всех
странах не проводило той жестокой политики огня и
меча, с помощью которой капитализм распространял свое
господство и благодаря которой он теперь, в конце
своей истории, пытается ввергнуть мир в атомную военную
катастрофу.
Хотя опасность мировой войны еще не устранена,
однако империализм и закон войны уже не определяют
сегодня развитие в нашу эпоху. Существует
могущественная мировая социалистическая система, которая все
больше и больше становится определяющим фактором
общественного развития и существование которой
наряду с борьбой революционного рабочего класса и всех
миролюбивых сил мира привело к тому, что сегодня
имеется реальная возможность избежать мировой войны.
Мировая социалистическая система является основной
базой борьбы против империалистической агрессии, борь-
1 К. Маркс и Ф Энгельс, Соч., т. 17, стр. 5.
185
бы за мир. По мере усиления мировой социалистической
системы усиливаются и силы мира и социализма во всем
мире, которые окончательно преграждают
империализму путь к новой войне.
Учитывая эти факты, нельзя не признать
безграничным цинизмом открытые антигуманистические
высказывания проповедников атомного крестового похода в
рядах клерикальных идеологов, стремление клерикальных
фальсификаторов Маркса использовать имя основателя
научного коммунизма Карла Маркса для борьбы
против социализма и гуманистической мирной миссии
рабочего класса. Обвиняя коммунистические и рабочие
партии в «злоупотреблении гуманистическими идеями»
Карла Маркса, в том, что они привели народные массы
к пролетарской и антиимпериалистической
демократической революциям и на одной части земли уже
ликвидировали империалистическую систему, клерикальные
фальсификаторы Маркса обнаруживают не только свою
враждебность по отношению к рабочему классу, но и
проявляют себя как опасные противники социального и
нравственного прогресса человечества вообще.
Глава седьмая
КЛЕРИКАЛЬНЫЕ ТИРАДЫ О СВОБОДЕ ИНДИВИДУУМА
Особое желание политического клерикализма
заключается в том, чтобы свалить на коммунизм, а не на
империалистическую систему эксплуатации и войн вину за
физическое уничтожение и моральное калечение
человеческой личности. Его представители утверждают,
будто социализм-коммунизм уничтожил «нравственный
индивидуум», будто он разрушил достоинство и свободу
личности и тем самым исказил «гуманитарный подход»
молодого Маркса. Поэтому буржуазные интерпретаторы
Маркса отрывают марксистскую теорию свободы от ее
объективных общественных корней, от классовой борьбы
пролетариата, с тем чтобы выдать ее за утопическую
теорию о спасении мира и поставить ее ниже по
отношению к религии. Марксовское понимание свободы
представляется как простое продолжение идей гегелевского
учения о свободе, основанного на «разуме» и
«самосознании», а не как теоретическое выражение реальной,
закономерной освободительной борьбы пролетариата.
1. Эгоизм как ссвобода»
Марксистская теория свободы не является ни
созданной за письменным столом догмой, ни внесенной в
пролетарское движение утопией, ни предвзятым идеалом.
«Возвещая разложение существующего миропорядка,
пролетариат раскрывает лишь тайну своего
собственного бытия, ибо он и есть фактическое разложение этого
187
миропорядка» 1. Освобождение пролетариата — Не
эгоистическая самоцель, а предпосылка для освобождения
всего человечества от эксплуатации и угнетения. В
противоположность буржуазии рабочий класс является
единственным классом, который «не может себя
эмансипировать, не эмансипируя себя от всех других сфер
общества и не эмансипируя, вместе с этим, все другие
сферы общества...»2
Сам Маркс в своих ранних работах решительно
выступал против всех субъективных и мистических идей,
категорически и ясно возражая против всякого
филантропически-утопического идеала. «Коммунизм для нас
не состояние, которое должно быть установлено, не
идеал, с которым должна сообразоваться действительность.
Мы называем коммунизмом действительное движение,
которое уничтожает теперешнее состояние»3.
Это и другие высказывания Маркса намеренно «не
замечаются» клерикальными интерпретаторами Маркса,
которые, грубо искажая их смысл, утверждают, будто
Маркс никогда не хотел осуществления коммунизма как
общественного «состояния», а понимал его как
беспрестанное «движение». Воинствующим'
антикоммунистическим идеологам вообще нет дела до того, что в
вышеназванном контексте марксистское различение
«действительного движения» и «состояния» вызвано полемикой с
субъективистским пониманием истории утопическим
коммунизмом и поэтому смысл этих понятий ясно
определен. Действительное движение революционного
рабочего класса под руководством его партии уничтожит
«теперешнее состояние» — капиталистический строй — и
установит вместо него коммунизм, ибо оно исходит из
объективных законов общественного развития, а не из
фиктивных соображений наподобие утопических
мыслительных конструкций о коммунистическом состоянии
общества.
Молодой Маркс как буржуазный демократ уже
признавал, что идеалистический постулат свободы,
основанный у Гегеля и младогегельянцев на разуме и
самосознании, оказывается несостоятельным перед лицом
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. I, стр. 428.
2 Там же.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 34.
188
-Твердых фактов действительной жизни в условиях
капитализма и антагонистического классового общества
вообще. Ключ к пониманию этого противоречия он
находит в капиталистических производственных
отношениях. Все основные жизненные проявления рабочего
несвободны в условиях капиталистической эксплуатации.
По существу, жизнь — это общественная деятельность,
общественное производство и воспроизводство.
В условиях капиталистической эксплуатации, когда
рабочая сила хотя и принадлежит рабочему, но ради
простого существования должна быть продана
чужому индивидууму, капиталисту, который присваивает себе
плоды труда, труд — эта основная жизненная функция
человека — является не добровольным творческим
проявлением жизни, а принудительным трудом.
Трудящийся человек чувствует себя несвободным в
труде, ан свободен только тогда, когда он не работает.
Его деятельность—«Это не удовлетворение потребности
в труде, а только средство для удовлетворения других
потребностей, нежели потребность в труде.
Отчуждённость труда ясно сказывается в том, что, как только
прекращается физическое или иное принуждение к труду,
от труда бегут, как от чумы... В результате получается
такое положение, что человек (рабочий) чувствует себя
свободно действующим только при выполнении своих
животных функций — при еде, питье, в половом акте, в
лучшем случае ещё расположась у себя в жилище,
украшая себя и т. д., — а в своих человеческих функциях он
чувствует себя только лишь животным. То, что присуще
животному, становится уделом человека, а человеческое
превращается в то, что присуще животному» К
Поэтому понятно, что всякая теория свободы,
которая обходит вопрос о несовместимости
капиталистической частной собственности и подлинной человеческой
свободы, является или голой фразой, или демагогией и,
следовательно, пытается доказать обратное. Пока
существует капиталистическая частная собственность,
общественные отношения людей являются не подлинно
человеческими отношениями, а исторически обусловленными
отношениями господина и раба.
J К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений,
стр. 563, 564.
189
Современные буржуазные, и fi особенности
клерикальные, фальсификаторы Маркса пытаются извратить
марксистскую теорию свободы, помимо всего прочего, с
помощью того, что они излагают марксистское понятие
разделения труда не в его* действительном значении, а
беря лишь его технический аспект. То, что Маркс
представляет как необходимое следствие капиталистического
разделения труда, а именно тот факт, что чем больше
калечится производитель, тем совершеннее продукт,
односторонне выдвигается на первый план, а затем
тайком сводится к совершенно другим «причинам».
Таким образом, мы узнаем, что — еще до частной
собственности и отдельно от нее — «все возрастающее
(технически обусловленное) разделение труда» имеет
центральное значение для характеристики буржуазного
общества. Рабочий не должен быть свободен прежде всего
потому, что он «как производитель изолированной
части... не может иметь касательства к целому,
создаваемому на предприятии, к продукту» К
Хотя частная собственность на средства
производства и грани между владельцами средств производства
и рабочим упоминаются рядом, однако в отрыве от
разделения труда. Поэтому причины отсутствия свободы,
отношение к капиталу остаются неясными. Специально
избегаются такие понятия, как классы, эксплуатация
и т. д., и вся проблема свободы с исследования ее
классового содержания переносится в область техники или к
«свободе» как свободному времени. Выводом — который
в данной связи неясно выражен — является «решение»
всех вопросов с помощью «второй промышленной
революции», автоматизации производства.
Однако Маркс и в своих ранних работах понимал
разделение труда как производственное отношение. Он
писал: «Впрочем, разделение труда и частная
собственность, это — тождественные выражения: в одном случае
говорится по отношению к деятельности то же самое,
что в другом — по отношению к продукту
деятельности»2. И в такой же связи Маркс объясняет, что в усло-
1 1г. F е t s с h е г, Die Freiheit im Lichte des
Marxismus-Leninismus, в: «Aus Politik und Zeitgeschichte (Beilage zur
Wochenzeitschrift «das Parlament»), Bonn, Hl. Dezember, 1957, S. 882.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 31.
190
виях капиталистических производственных отношений
машины не уничтожают отчуждения труда, а
превращаются лишь в конкурентов по отношению к рабочему1.
Подробно Маркс высказывается по вопросу об
отношении капиталистического разделения труда и машин в
своей критике Прудона, который «так далек от
понимания вопроса о разделении труда»: «...Совершенно нелепо
рассматривать появление машин как следствие
разделения труда вообще... Машина так же мало является
экономической категорией, как и бык, который тащит плуг.
Современное применение машин есть одно из отношений
нашего современного экономического строя, но способ
эксплуатации машин — это совсем не то, что сами
машины. Порох остается порохом, употребляется ли он для
того, чтобы нанести рану человеку, или для того, чтобы
вылечить раны того же самого человека... В
действительном мире, наоборот, разделение труда и все прочие
категории г. Прудона суть общественные отношения,
которые в совокупности образуют то, что в настоящее
время называют собственностью; вне этих отношений
буржуазная собственность есть не что иное как
метафизическая и юридическая иллюзия»2. Следовательно, у
Маркса речь идет прежде всего не о разделении труда
в техническом смысле, а о специфически классовом
разделении труда, о капиталистических производственных
отношениях.
Если же верить спорной клерикальной интерпретации
марксистского понимания корней зависимости рабочего,
то Маркс якобы видел причины зависимости рабочего
в капиталистическом мире в том, что он, «неся на себе
отпечаток необходимого эгоизма, основанного на
частном владении мира... не (может) подняться до
общественного сознания производственного коллектива»3.
Следовательно, рабочий несвободен не потому, что
его эксплуатируют, а потому, что он в такой же мере,
как буржуа, является эгоистом.
1 См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений,
стр. 526—528.
2 К- Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, Госполитиз-
дат, 1953, стр. 26.
3 I. F е t s с h е г, Die Freiheit im Lichte des
Marxismus-Leninismus, S. 822.
191
В клерикальном изложении эгоизм представляется
как «вечное человеческое» свойство, как причина всего
зла, а следовательно, и общественной зависимости; в
действительности же такой эгоизм является продуктом
морали капиталистического мира и неотъемлемой
характерной чертой частной собственности. Выдвижение на
первый !план «эгоистического духа» как главного зла
современного общества помогает клерикальным
идеологам прививать рабочим иллюзию, будто устранить
зависимость можно благодаря установлению
«гуманистических отношений», созданию соответствующего
«производственного климата» и тому подобными
производственно-психологическими средствами. Но такая манера
судить обо всем с точки зрения голой полезности
никогда не была свойственна Марксу, скорее это точка
зрения его -клерикальных интерпретаторов.
Маркс ясно доказал, что «эгоизм» — это типично
буржуазное свойство, которое живет и умирает вместе с
частной собственностью. Буржуазное общество «ставит
всякого человека в такое 'Положение, при котором он
рассматривает другого человека не «ак осуществление
своей свободы, а, наоборот, как её предел» 1.
Буржуазная свобода воплощается ,в индивидуализме,
в «возможности делать, что хочешь». Это представление
о свободе проистекает из действительного положения
людей в мире капиталистической конкурентной борьбы,
где каждый человек — враг и соперник другому и где
товарно-денежные отношения обесценили, овеществили,
обезличили все отношения. В соответствии с этим для
большинства буржуазных концепций о свободе типично,
что они исходят из абстрактного, вырванного из
действительных общественных отношений индивидуума, что
их свобода осуществляется не в обществе, а вне его, не
с помощью, а вопреки «обществу».
Но так как идеи и представления людей являются
продуктом их общественных отношений, не удивительно,
что клерикальные интерпретаторы Маркса, исходя из
условий, в которых они живут и оплачиваемыми
идейными "представителями которых они являются, в своих
концепциях свободы разрывают индивид и общество,
признают объективную необходимость не более как в ее
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 401'.
192
понятом как субъективное принуждение виде и с
помощью лицемерного понятия «личного достоинства
индивидуума» пытаются прикрыть их рабское
существование в капиталистическом мире или же под лозунгом
«свободы воли в личной сфере» проповедуют
примирение с вынужденным существованием буржуазной; жизни.
Маркс давно, еще в своих ранних работах, указывал,
что эти теории индивидуальной свободы в их
»практическом применении оказываются правом господствующего
класса на частную собственность, правом «по своему
усмотрению (a son gré), безотносительно к другим
людям, независимо от общества, пользоваться своим
имуществом и располагать им; оно — право своекорыстия»1.
Овеществление всех человеческих отношений, к
которому приводит капиталистическое товарное производство,
создает впечатление, что эта мнимая возможность
каждого занять выдающееся место в «беспристрастном»
мире вещей является высшей, завершенной свободой.
Поэтому так громко восхваляемая в буржуазном
обществе индивидуальная свобода оказывается в
действительности завершенным рабством индивидуумов.
«Именно рабство гражданского общества, .по своей видимости
есть величайшая свобода, потому что она кажется
завершённой формой независимости индивидуума,
который принимает необузданное, не связанное больше ни
общими узами, ни человеком, движение своих
отчуждённых жизненных элементов, как, например, собственности,
промышленности, религии и т. д., за свою собственную
свободу, между тем как оно, наоборот, представляет
собой его завершённое рабство и полную
противоположность человечности»2.
Для буржуа волчья свобода капиталистического
мира является высшей добродетелью, потому что
обеспечивает ему его право на господство и собственность,
гарантирует его власть. Он не может 'представить себе
никакого «более свободного мира», чем капиталистический,
потому что он дает ему возможность неограниченно
эксплуатировать чужую рабочую силу.
Оказывается, что современные интерпретаторы
Маркса не только сами производят эти представления
1 К* Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 401.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 2, стр. 129—130.
193
господствующего класса, но что они и не могут смотреть
на марксистский анализ иначе, как через окрашенные
классовым интересом очки буржуазного
индивидуализма.
Эти господа считают, революционных рабочих
глупцами и приписывают Марксу, будто бы он отстаивал не
пролетарскую, а буржуазную точку зрения на свободу
личности. Когда они с ханжеской миной говорят о
«достоинстве и свободе личности», то они уже молча имеют
в виду эксплуатирующую личность из класса буржуазии,
превращая ее в «достойную и свободную личность», в
капиталистической зависимости у которой находятся
трудящиеся массы.
2. Свобода на земле вместо клерикального
обнадеживания
Придерживаясь средневековой иллюзии, будто и в
эпоху победы социализма и науки «тощее поле»
спекуляций все еще является лучшей исходной позицией для
клерикального похода, воинствующие
антикоммунистические клерикальные силы переходят к генеральному
наступлению на марксистскую теорию свободы.
Мечтая поразить основу научного пролетарского
учения о свободе, объективную диалектику общественной
необходимости и свободы, клерикалы в действительности
выступают против фикции этого учения.
«Механистический детерминизм!» — кричат одни (Бо-
хенский, Гоммес); «Субъективистский волюнтаризм»,—
говорят другие (Ландгребе, Фетчер, Тир), чтобы в
итоге в случае крайней необходимости признать «и то и
другое одновременно» (Гоммес, Ландгребе).
Таким образом, тотчас же оказывается, что все
клерикальные выстрелы впустую.
«Порабощение отдельной личности обществом в
целом является непосредственным результатом того
диалектического переворота человеческого бытия...» *
«Только в качестве отыскания, изложения и исполнения
этого образующегося в настоящее время «общественно-
1 J. Hommes, Krise der Freiheit, S. 268.
194
го бытия» Маркс допускает науку»1. Насколько
«широки», однако, рамки «свободы», которую само
католическое учение о естественном праве предоставляет
индивидууму, показывает нам Гоммес с помощью «тезиса о
творении»: «...Свою способность духовно подражать
вещам и благодаря этому получать свое бытие не только
созданное природой, но и самому творить его, человек в
конце концов отрицает в диалектическом методе»2.
Итак, свобода, предоставляемая клерикальным
мировоззрением человеку, ограничивается «подражанием»
тому, что создано «природой» бога. Творческое,
свойственное только человеку оформление природы и общества
благодаря овладению их объективными законами
отвергается. А это значит, что подчинение человека «вещам»3,
которое клерикализм приписывает марксистской теории
свободы, имеет место именно в клерикальной, а не в
марксистской философии, которая уверена в творческой
силе свободных людей социализма и коммунизма и
стремится развить ее. Сведение свободы к духовному
«подражанию» божественной «природе» есть не что иное,
как признание мира империалистической зависимости
как божественного творения и божественной воли.
Марксистское же понимание свободы направляет
энергию трудящихся людей на то, чтобы их собственными
революционными действиями ликвидировать
империалистические отношения зависимости и заменить их
свободным социалистическим и коммунистическим обществом.
Бохенский хотел бы запугать граждан
капиталистического мира тем, что «коммунисты отвергают свободу
воли», так как, «по их мнению, человек совершенно
детерминирован». В действительности же коммунисты
считают такую слишком восхваляемую идеализмом
абсолютную свободу воли иллюзией тех, кто, находясь под
властью этой магической формулы, воображает себя
свободным, и демагогией тех, кому платят за то, что они
порождают и питают эту иллюзию. Детерминированы и
взгляды Бохенского и других клерикальных философов
на свободу как безвольную покорность мнимой
божественной воле, и детерминированы именно отчужденными
1 J. H о m m е s, Krise der Freiheit, S. 188.
2 Там же, стр. 269.
3 Там же, стр. 1Ö6.
195
ôt челойека, непонятными и враждебными ему
капиталистическими и империалистическими отношениями.
Следовательно, и клерикальная форма
антикоммунистической пропаганды не является случайной, а
определена существующей для госйодствующего в Западной
Германии класса необходимостью ведения, психологической
войны. То, что Бохенский лично предан этому классу,
определяется реакционной средой, в которой протекает
вся его жизнь. И даже если его мнение должно было
измениться, то и это было детерминировано
противоречиями общественного строя и того класса, в котором он
живет, практическим и теоретическим превосходством
социализма и целым рядом отдельных обстоятельств и
не в последнюю очередь, конечно, их идейным
значением.
Гоммес пытается доказать, что признание
объективной закономерности несовместимо со свободой
индивидуума: «Человек больше не обладает и не руководит
теперь историческим процессом, а процесс управляет им,
смысл его существования заключается теперь
исключительно в том, чтобы «самому» выйти из природы...» Он
заставляет себя смотреть на действительность в целом
«ка« бы через плечо, чтобы переносить ее, как
вьючное животное» К
Гоммес избегает упоминать о том, что «процесс»,
который начал возрожденный и готовящий новую мировую
войну западногерманский империализм, «управляет им»
и что не кто иной, как гражданин ФРГ вынужден, «как
вьючное животное, нести на себе» груз этой
западногерманской действительности. Зависимость трудящихся
Западной Германии есть результат господства
германского империализма и милитаризма, то есть тех
экономических, политических и социальных процессов,
причиной которых является государственно-монополистический
капитализм и реваншистские стремления
западногерманских агрессивных сил. Не может быть и речи о том,
что исторический процесс как таковой «управляет»
человеком и тем самым разрушает свободу индивидуума.
Для всех времен и "форм человеческого существования
связь индивидов с общественными результатами их
собственной общественной деятельности так же неизменна,
J. Hommes, Krise der Freiheit, S. 16G.
196
как зависимость физического строения человека от
Законов природы. «Вьючным животным», зависимой
личностью трудящийся человек становится вследствие того,
что он вынужден жить в условиях частной
собственности и эксплуатации, которые, как это обнаруживается в
Западной Германии, вызывают и приводят в действие
такие процессы, которые характеризуются социальным
бедственным положением, кризисом культуры,
милитаризацией и клерикализацией общественной жизни.
Исторический процесс возрождения германского
империализма и милитаризма после 1945 г. Отто Бреннер
характеризовал весьма примечательным замечанием, что в
результате этого развития «победили не силы
возрождения, а реставрационные элементы» К Зависимость
трудящихся людей не уменьшилась, а увеличилась во всех
областях, несмотря на то, что сегодняшним
западногерманским рабочим живется намного лучше, чем их отцам.
В экономике, где ежедневно на деле проверяется,
«насколько действительно речь идет о социальном
равноправии работающих по найму»2, не осуществлено ни
право голоса рабочего, ни конечная решающая основа
демократии. В политической жизни Западной Германии
снова или все еще господствуют такие люди, как Глоб-
ке и Штраус и их сообщники, усиливается травля
политических противников, критика состояния зависимости
клеветнически извращается3. Из всего этого Бреннер
делает вывод: «Право распоряжаться большими
общественными средствами производства должно также
формироваться демократически, его нужно отобрать из рук
немногих или небольших групп. Передача определенных
ключевых отраслей промышленности и господствующих
на рынке предприятий в коллективную собственность...
относится к свободному, справедливому,
демократическому экономическому строю, который является целью
нашего профессионального стремления и единственно
соответствует достоинству человека»4.
1 О. Brenner. Nein zum Notstandsgesetz — Ja zur sozialen
Demokratie, в: «Gewerkschaftliche Monatshefte», 5. Jahrg., 1953.
HL 5, S. 261.
2 Там же.
3 Там же, стр. 262.
4 Там же, стр. 261.
197
Наконец, Бреннер выступает против
законодательства о чрезвычайном положении, которое по всему
историческому опыту рабочего класса и в свете
«достопримечательных методов» западногерманских защитников
этого законодательства может привести лишь к
полному разрушению последних остатков
буржуазно-демократических свобод в Западной Германии К В этой
характеристике «западной свободы», громко восхваляемой
клерикальными фальсификаторами Маркса, Бреннер
отнюдь не одинок. В ней выражается, как в настоящее
время в процессе размышлений жителям Западной
Германии постепенно становится ясно, что существуют
реальные предпосылки свободы и что в действительности
означает свобода. Поэтому каждое даже незначительно
проявляющееся нарушение основных демократических
прав, разоблачение нацистских преступников в боннском
государстве вызывает теперь волну возмущения
западногерманской общественности.
Как мы уже установили, в переосмысливании фактов
жителями Западной Германии играет роль и признание
того, что политический клерикализм представляет
угрозу основным демократическим правам и свободам. Хотя
трудящиеся, к сожалению, еще недостаточно глубоко
осознали связь воинствующего антикоммунизма с
политическим клерикализмом в Западной Германии и
клерикально приукрашенная антикоммунистическая травля
все еще достигает сравнительно больших результатов,
тем не менее число голосов, выступающих против клери-
кализации и милитаризации, все увеличивается. Гельмут
Линдеман, характеризующий политическую жизнь ФРГ
как «климат реставрации»2, высказал
заслуживающее внимания положение, что «особенно опасным
явлением реставрации» германского империализма является
«так называемое христианское государство»,
«основанное на так называемом христианском обществе»3. Хотя,
по его мнению, «псевдохристианская идеологизация
государства и общества» явно потерпела неудачу, однако
это ничего не изменило в том, что это «самообольщение»
стало «прочной составной! частью политического клима-
1 О. Brenner, «Gewerk-schaetliche Monatshefte», 5. Jahrg.,
1953, Hf. 5, S. 264.
2H. Lindemann, Das politische Klima in der
Bundesrepublik, в: «Gewerkschaftliche Monatshefte», 5. Jahrg., Hf. 8, S. 450.
3 Там же, стр. 451.
198
та. Оно давно уж не ограничивается областью
мировоззрения, а принадлежит к постоянному инвентарю нашего
идейно-духовного оснащения» К Подводя итог тому кругу
идей, которые вытекали из высказываний) Гоммеса об
историческом процессе и свободе или зависимости
человека, Линдеман утверждает, что Гоммес выступал
против высказывания Линдемана о том, что никто из
представителей старого поколения жителей Западной
Германии «с чистой совестью не может о себе сказать,
что он или она не виновны в духовном и политическом
климате, который в течение полутора десятилетий
образовался и распространился здесь, в Западной
Германии»2. Тем более Гоммес!
Поэтому тот много раз цитированный и
мистифицированный «смысл» истории и человеческого бытия
может заключаться лишь в том, что, понимая
действительный исторический процесс, человек -помогает
осуществлению подлинного процесса общественного
прогресса, лишает реакционные «процессы» способности к
дальнейшему развитию и учится управлять
общественным процессом в целом. Он только тогда перестает быть
«вьючным животным», когда он ориентируется на
объективную закономерность, исходит из ее предпосылок и
положительных возможностей и использует их.
Конечно, никто не может освободить его от этого «груза».
Маркс еще в своих ранних работах высмеивал
буржуазную иллюзию об абсолютной свободе воли: «Не
говоря уже о множестве вещей, например о диалекте, золо-
тушности, геморрое, нищете, одноногости, вынужденном
философствовании, которые навязаны ему разделением
труда, и т. д. и т. д., не говори о том, что от него
нисколько не зависит, «приемлет» ли он эти вещи или нет,
он вынужден, — даже если мы на мгновение примем его
предпосылки,— выбирать всё же всегда только между
определёнными вещами, входящими в круг его жизни и
отнюдь не созданными его особенностью. Например, в
качестве ирландского крестьянина он может только
выбирать, есть ли ему картофель или умереть с голоду,
да и в этом выборе он не всегда свободен»3.
1 Н. Lindemann, «Gewerkschaftliche Monatshefte», 5. Jahrg.,
Hf. 8, S. 451.
2 Там же, стр. 450.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 304.
199
Однако делать отсюда вывод, будто марксизм
отвергает свободу воли и просто свободу, делает человека
рабом объективных законов 1 и не дает ему никакой
возможности для свободного решения и свободной
деятельности, для свободного оформления мира, может
лишь метафизический способ мышления клерикальных
фальсификаторов Маркса, поскольку они вынуждены
отрывать свободу индивидуума от объективной
необходимости, чтобы заставить своих читателей поверить в
то, что человек при социализме якобы теряет свою
свободу, в то же время пытаются сохранить или породить
иллюзию, будто человек может найти свою свободу
только в рамках капиталистической эксплуатации и
формального буржуазного права. Вследствие этого даже
пропаганда фаталистической клерикальной карикатуры
на марксизм имеет свои опасности, потому что
непрерывное победное шествие социалистической
действительности практически навязывается массам как
подтверждение ее закономерности. Поэтому марксизм и
создаваемый по его принципам мир осуждаются клерикалами
как плод преступного произвола. Таким образом,
открываются шлюзы для всевозможной антикоммунистической
грязи. Поэтому более целесообразной, чем
механистическое извращение марксистской теории свободы,
оказалась попытка клерикальных интерпретаторов Маркса
представить эту теорию как субъективистский
волюнтаризм. Марксистское понимание свободы истолковывается
защитниками этой 'версии как требование
освобождения человечества из его зависимости от экономического
процесса2 и даже как требование «свободы от всякого
природного принуждения и всей внешней зависимости»3.
Тем самым марксизм представляется как строго
проведенный субъективизм, в котором вместо бога
фигурирует «человек с его техникой»4 или «история»5. В
действительности ни Маркс, ни марксизм никогда не
утверждали ничего подобного. С самого начала марксизм рас-
1 См. J. H о m m е s, Krise der Freiheit, S. 268.
2 I. Fetscher, Die Freiheit im Lichte des
Marxismus-Leninismus, S. 624.
3 I. Fetscher, Von Marx zur Sowjetideologie, Frankfurt
a. M., Berlin —Bonn, 1957, S. 19.
4 J. Hommes, Krise der Freiheit, S. 12.
5 Там же, стр. 16.
200
сматривал человека не только как творца, но и как
продукт истории. На вопрос: «Свободны ли люди в выборе
той или иной общественной формы?» Маркс ясно
отвечает: «Отнюдь нет. Возьмите определенную ступень
развития прризводительных сил людей, и вы получите
определенную форму обмена (commerce) и потребления.
Возьмите определенную ступень развития производства,
обмена и потребления, и вы получите определенный
общественный строй, определенную организацию семьи,
сословий или классов, словом, определенное
гражданское общество. Возьмите определенное гражданское
общество, и вы получите определенный политический
строй, который является лишь официальным
выражением гражданского общества...
Излишне прибавлять к этому, что люди не свободны
в выборе своих производительных сил, которые
образуют основу всей их истории, потому что всякая
производительная сила есть приобретенная сила, продукт
предшествующей деятельности. Таким образом,
производительные силы — это результат практической энергии
людей, но сама эта энергия определена теми условиями, в
которых люди находятся, производительными силами,
уже приобретенными раньше, общественной формой,
существовавшей до них, которую создали не эти люди,
которая является созданием прежних поколений.
Благодаря тому простому факту, что каждое последующее
поколение находит производительные силы, добытые
прежними поколениями, и эти производительные силы
служат ему сырым -материалом для нового
производства, — благодаря этому факту образуется связь в
человеческой истории, образуется история человечества...
Для того чтобы не лишиться достигнутого результата,
для того чтобы не потерять плодов цивилизации, люди
вынуждены изменять все унаследованные общественные
формы в тот момент, когда способ их сношений
(commerce) более уже не соответствует приобретенным
производительным силам» К Такова «тайна», «смысл»,
«эсхатология» истории.
Из всего этого следует, что, согласно Марксу,
свобода существует и с научной точки зрения понятна
только в связи с исторической необходимостью. Степень сво-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, стр. 23, 24.
201
боды в поступках человека зависит от степени его
знания, его понимания закономерности общественного
явления, от его умения овладеть объективными законами и
от его способности свой собственный общественный
образ действий и его итоги —а именно историю —
планомерно и сознательно приводить к возможно лучшим
результатам. Эта свобода завоевывается трудящимися
людьми благодаря строительству социализма и
коммунизма.
Противоположность между зависимостью
трудящегося народа в империалистической Западной Германии
и свободой народа в ГДР становится все более
очевидной, особенно на современном этапе развернутого
строительства социализма в ГДР. Германская
Демократическая Республика свидетельствует о том, что свободный
мир имеется там и только там, где существует
общественная система, позволяющая человеку сознательно
самому творить свою историю. Свобода человека в ГДР,
великая сила сознательного действия, связанная с
рациональной организацией исследования,
проектирования, конструирования и производства в масштабе всего
народного хозяйства, проявляется прежде всего в
решающей области человеческой жизни, в сфере
материального производства, основанном на общественной
собственности на средства производства. Новая
экономическая система планирования и руководства народным
хозяйством, служащая тому, чтобы оптимально развить
все производственные возможности социалистической
экономики ГДР и правильно использовать
экономические законы, позволяет как силам, организованным в
масштабе государства и общества, так и каждому
отдельному трудящемуся, лучше, чем прежде, достигать
того, чтобы приведенные в движение общественные
причины имели желаемые, запланированные и заранее
предусмотренные последствия. В соответствии с целью
социалистического производства они заключаются в том,
чтобы лучше и лучше удовлетворять потребности
человека и свободно развивать его творческие силы.
«Социалистическая экономика не является экономикой
командования экономически подданными, как якобы свободная,
приводимая в движение стремлением к прибыли
экономика капиталистов, это — экономика свободных,
равноправных и равнообязанных граждан, труд и успехи ко-
202
торых зависят от того, в какой степени они познают
экономические связи и закономерности и на их основе
освоят производство и руководство хозяйством»1.
Стремясь оклеветать марксизм как
антиосвободительный,- . клерикальная философия утверждает далее,
будто Маркс ограничивал свободу простым пониманием
необходимости, пониманием, отождествлявшимся с
фаталистической преданностью объективным законам
природы и общества. «Признавая человеческую свободу
лишь как сознание необходимости объективного мира
явлений, диалектический метод создает из истинности
вещей то самодвижение их самих, благодаря которому
он допускает человека лишь как придаток этих
вещей» 2.
И в этом клерикальном истолковании снова
обнаруживается фальсификация не только Маркса, но даже и
Гегеля. Гегель требовал понимания необходимости,
которая разумна. Однако Маркс уже в работе «К критике
гегелевской философии права» упрекал Гегеля в том, что
действительный субъект свободы имеет у него
формальное значение, потому что действительному
содержанию свободы Гегель придает мистического носителя3.
Эта мысль опровергает не только клерикальных
интерпретаторов Маркса, но затрагивает и само
спекулятивное клерикальное понимание свободы в ее наиболее
чувствительном месте, потому что она сопоставляет его
с действительно свободной социалистической и
коммунистической личностью. Однако те очевидные человеческие
свободы, ставшие на одной трети земли, включая
Германскую Демократическую Республику,
действительностью, не имеют значения для Гоммеса; ибо, с его
империалистической классовой точки зрения, они
существуют лишь как кощунство над санкционированной
богом империалистической классовой волей, согласно
требованиям которой человек должен искать свободу не по
1 Walter Ulbricht, Das neue ökonomische System der Plah-
nung und Leitung der Volkswirtschaft in der Praxis. Diskussion
zum Referat und zu den vorgelegten Entwürfen der Dokumente;
Dt. Erich A p e 1, Schlusswort zur Diskussion über das Referat und
die vorgelegten Entwürfe der Dokumente, Dietz Verlag, Berlin,
1963, S. 10.
2 J.'Hommes, Krise der Freiheit, S. 269—270.
3 См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 263.
203
ту сторону, а внутри границ его воли, то есть не на
земле, а на небе. Поэтому действительные свободы
трудящихся в социалистических странах представляются как
протест против «природы», как ересь, как произвол.
Маркс иронически высмеивал такое «представление о
свободе», которое довольствуется одним только
пониманием. Земной социализм «отвергает эмансипацию
исключительно в сфере теории как иллюзию и требует для
действительной свободы, кроме идеалистической «воли»,
ещё весьма осязательных, весьма материальных
условий»1. Следовательно, фактическая зависимость не
может превратиться в свободу благодаря тому, что ее
провозглашают свободой, что она существует в голове
индивидов как иллюзия свободы. Свобода — это прежде
всего политическое господство пролетариата в союзе с
трудящимися слоями народа и наличие общественной
собственности, без которой ни для большинства людей,
ни для отдельного человека не может быть свободы.
Для Маркса свобода — это историческая категория. Ее
содержание определяется поступательным процессом
господства человека над природой,#над социальной
жизнью и над самим собой. При этом характер и степень
свободы зависят от соответствующих общественных
отношений. В антагонистических классовых обществах
возрастающее господство человека над природой
приобретается ценой фактической социальной и личной
зависимости трудящихся масс.
В какой степени современная капиталистическая
система влияет и на свободное исследование отдельного
ученого и делает иллюзорной свободу этого
исследования, можно прочитать, например, в автобиографическом
романе Норберта Винера. Американский основатель
кибернетики рассказывает о жизненном пути и страданиях
одного изобретателя, оказавшегося в тисках
империалистической страсти к наживе, смертельной вражды к
свободе 2.
Социальная и личная свобода эксплуататорского
класса основана на порабощении эксплуатируемого
класса. Из тех условий, в которых над рабочим
господствуют слепо действующие силы капиталистического то-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 2, стр. 104.
* См. N. W i е п е г, The Tempter, New York, 1959,
204
варного производства и его эксплуатируют имущие
классы, рабочий не может лично освободиться, пока не
освободится весь его класс. Отдельный человек сможет
завоевать свободу только благодаря тому, что он
участвует в бсрьбе своего класса за лишение власти
господствующего эксплуататорского класса.
Участие в пролетарской и национальной
антиимпериалистической освободительной борьбе народов, как и
новое, социалистическое и коммунистическое общежитие,
требует повиновения отдельного человека, дисциплины
этих человеческих объединений. Масса революционных
рабочих понимает это, и следует полагать, что каждым
разумным человеком это признается по крайней мере
как принципиально необходимое. Не так считают
клерикальные приверженцы империализма. Правда, пока они
высказывают свое мнение о капиталистической и
военной принудительной дисциплине или предаются
приятным воспоминаниям, бросая взгляд на феодальный
строй и историю рабовладельческих государств, все
кажется благоустроенным. Не возникает никаких вопросов
о том, что в этом «сотворенном богом строе» рабы,
крепостные, крестьяне и пролетарии должны быть
подчинены соответствующим эксплуататорским отношениям
и государству господствующего класса. Какое имеет
значение, что .миллионы людей хотя и обладают
видимостью личной свободы, однако их достоинство и
реальная свобода растаптываются в эксплуатации, в
разбойничьих войнах, в проституции, если «бог» указал им это
место в их «земном царстве», чтобы они стали
счастливы на небе? Совершенно иначе обстоит дело с
революционным рабочим движением и социализмом. Поскольку
здесь люди объединяются действительно как люди и их
дисциплина повиновения отдельного человека
коллективу не является больше основанной на эксплуатации и
господстве эксплуататоров принудительной дисциплиной,
она должна «происходить от дьявола. Отсюда, согласно
клерикальной логике, следует, что социалистическая
дисциплина означает «утрату личности». Согласно же
человеческой, соответствующей исторической
действительности логике, когда социалистическая добровольная
дисциплина выступает вместо капиталистического
принуждения, «пропадает» только персонифицированный
капитал.
205
В клерикальном представлении это значит: «Таким
образом, диалектический метод, делая вывод о том, что
человек должен сам себя освободить, в конечном счете
ловит его в ловушку, требуя полного подчинения его
тоталитарному обществу. Такова цена, которую человек,
считающийся, согласно диалектическому методу,
ответственным за себя, вынужден платить за свою
безусловную принадлежность себе»1. Тем самым Маркс
«изобличается» в «величайшем преступлении», ибо он
переносил на землю свободу, возможную будто бы только в
небесном царстве верующих. Но это якобы не что иное,
как перенесенное в будущее гегелевское «абсолютное»
завершение философии и действительности.
И это, следовательно, было и остается целью
основного клерикального выступления против марксистского
тезиса о закономерной связи общественно-исторической
необходимости и человеческой свободы. Хотя
клерикальные нападки на марксистскую теорию оказались
выстрелами, бьющими мимо цели, однако это нисколько не
помешало клерикальным идеологам нападать на
социалистическую действительность. Гуманистические идеалы
Карла Маркса они бесстыдно превратили в
эсхатологическое пение сирен для заманивания масс, которое
хочет обольстить измученный и борющийся против
империалистического насилия трудящийся народ якобы
только с помощью демагогических лозунгов о свободе, чтобы
преодолеть «обезличивание». Клерикальные атаки на
марксизм оказываются попыткой псевдотеоретически
поддержать империалистические пропагандистские
фразы о «государствах тоталитарного восточного блока» и
оправдать диктатуру монополистического капитала в
империалистических странах.
3. Пролетарское государство и свобода
Только что названной цели служит и клерикальная
интерпретация тех взглядов молодого Маркса, которые
он развивал об отношении индивидуума к буржуазному
государству своего времени. Эта специальная область
1 J. Hommes, Krise der Freiheit, S. 171.
206
является сферой действия Иринга Фетчера1. Если
верить Фетчеру, то при исследовании отношения
индивидуума и государства в буржуазном обществе и права на
свободу, которое якобы буржуазное государство
предоставляет, и гарантирует своим гражданам, Маркс не
исходит из экономических основ буржуазного
государства и политической противоположности между
буржуазией и пролетариатом. Согласно Фетчеру, Маркс открыл
противоположность между буржуа и гражданином —
«материалистическим буржуа» и «спиритуалистическим
гражданином» — как основу раскола буржуазного
общества и на этом построил свой анализ свободы
индивидуума в буржуазном государстве. Он пишет: «Мир,
разделенный, таким образом, на буржуазное общество
и государство, буржуа и граждан, является
необходимым продуктом разложения феодального общества. По
отношению к последнему он представляет собой как
прогресс (поскольку он освобождает материальные
силы общества от всех политических оков), так и регресс
(поскольку он заставляет людей внутренне разрываться
между требованиями спиритуалистических граждан и
желаниями материалистических буржуа). Развитие
является «диалектическим», поскольку оно необходимо
связывает между собой обе эти стороны»2.
Почему Фетчер пытается представить различие
«буржуа» и «гражданина», то есть частного лица и
государственного подданного, как противоречие буржуазного
общества, отмеченное Марксом? Почему он благоразумно
оставляет в тени экономическую основу этого
общества, а именно частную собственность?
Цель этого сразу же становится очевидной там, где
Фетчер завершает круг своей аргументации выводом,
якобы сделанным из воззрений Маркса: «Пока...
существует государство, не может быть никакой конкретной
свободы»3. Фетчер полагает, что с помощью этой
фальсификации он нашел особенно сильный аргумент,
чтобы, с одной стороны, вместе с Марксом вести мнимый
бой против «эгоистических» пролетариев и буржуа в
1 См. I. F е t s с h е г, Die Freiheit im Lichte des Marxismus-
Leninismus.
2 Там же, стр. 821—822.
3 I. Fetscher, Von Marx zur Sowjet idéologie, S. 18.
207
современном буржуазном обществе и, с другой стороны,
иметь возможность повернуть взгляды молодого Маркса
против социализма и коммунизма, поскольку якобы в
обеих общественных формациях существует
противоположность «человека» («homme») и «гражданина»
(«citoyen»). Маскировка действительного и
определяющего противоречия между буржуазией и
пролетариатом в буржуазном обществе, отрицание классового
характера государства и превращение всех
конкретно-исторических социальных отношений в
абстрактно-моральную мешанину позволяет Фетчеру создать видимость
ликвидации классовых противоречий
капиталистического строя. Он достигает этого благодаря тому, что
конкретных классовых индивидов, превращенных в
эгоистические личности, он наделяет клерикальной
проповедью против греха эгоизма, чтобы из их ухода в самих
себя и их покаяний вывести их моральное очищение,
уничтожение противоречий между бедностью и
богатством, между имущими и неимущими.
Обращаясь к также абстрактно идеалистически
понимаемому буржуазному государству, Фетчер призывает
его признать «личную свободу» Человека, откуда для
клерикальной партии вытекает решение проблемы
свободы человека в условиях капиталистического
государственного и общественного строя. В действительности
же это фразерское, иллюзорное идеалистическое
решение все оставляет по-старому. Оно указывает также,
что политический клерикализм стоит значительно ниже
теоретического уровня, уже достигнутого Бруно Бауэром
и Людвигом Фейербахом, а их фразеология как
политически, так и теоретически не имеет никакого
сравнения с идеями и целями как этих буржуазных
мыслителей, так и с мыслями молодого Маркса.
Ведь Бруно Бауэр и еще более последовательный
Людвиг Фейербах считали, что освобождения людей
можно достигнуть, лишь освободив их и государство от
религии, которую они считали причиной зависимости
человека, причиной его рабства и несамостоятельности.
Поэтому политическую революцию молодого класса
буржуазии они считали неполной до тех пор, пока она не
освободит индивидов и государство от религии. В
противоположность этому политический клерикализм все
очевиднее обнаруживает свое согласие с милитаристской
208
государственной властью западногерманского
империализма. Он идеологически защищает это государство как
соответствующее «личному достоинству и свободе
человека». Тем самым он лишь подтверждает, насколько
далеко отошла империалистическая буржуазия со
своими идеологами от политических и теоретических
«юношеских грехов» буржуазии и что молодой Маркс,
выступая против Бруно Бауэра, »по праву писал, что «бытие
религии не противоречит завершённости государства»1в
форме буржуазно-капиталистического государства и что
для рабочего класса вопрос об отношении политической
эмансипации к религии становится вопросом об
отношении политической эмансипации к человеческой
эмансипации2. Именно это признание является сегодня весьма
актуальным для западногерманского рабочего класса,
ибо оно помогает ему сделать вывод о характере
западногерманского государства и создать широкий союз всех
заинтересованных в человеческой эмансипации сил. Ибо
для клерикально приукрашенного западногерманского
империалистического государства христианская религия
является не чем иным, как «восполнением и освящением
его несовершенства. Поэтому религия необходимо
становится для него средством (прежде всего
антикоммунистической ненависти и »политики атомной войны. —
Ред.), и христианское государство есть государство
лицемерия» 3.
В этой связи мы сошлемся на приведенные в первой
главе данные по Западной Германии, которые должны
доказать «клерикализацию общественной жизни». В
частности, следовало бы напомнить о положении вождя
евангелической церкви относительно использования
церкви государством4, которое представляет собой не что
иное, как внутреннее сплетение в боннском государстве
непосредственных политических представителей
германского империлизма и опосредствующих
представителей в лице высшего католического духовенства.
Насколько широко вследствие этого религия используется
как средство формирования политического мнения в ан-
1 К. Мар.кс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 387-388.
2 Там же, стр. 388.
3 Там же, стр. ЗУ4.
4 «Der Arbeitgeber», 11/ХШ, November 1961, S. 674.
8-424 209
тикоммунистическом и промилитаристском духе и
превращается в простое лицемерие государства,
обнаруживают следующие факты.
На ежегодном съезде «Католических людей
Германии» староста епархий Франц Надлер выразил
основную мысль: «Работа с людьми сегодня, хотим мы того
или нет, является политической работой, потому что на
долю политики приходятся большие решения. Кто
выдумал слово о «расплетении» религии и политики, заботе
о душе и политике, тот плохо информирован... Я считаю
его более опасным словом, чем слова о «политическом
католицизме»...» 1
Тогда практика выглядит, например, так, как ее
продемонстрировал Алоис Штиффатер, когда на вопрос:
«С какими словами и какими идеями следует подходить
к массе народа в области, находящейся вне политики»
он предложил Аденауэра превратить в святого. Ибо тот,
кто мыслит хоть «чуточку религиозно», поверит, «...что
эта легендарная фигура... могла быть не только
случайным явлением, но, может быть, и даром провидения,
которой мы не должны оказаться недостойными и
неблагодарными»2. Примером живого святого пастор
Бруно Цигер назвал «святого Клауса», потому что
благодаря связи между этими обеими фигурами достигают
психологического эффекта; антикоммунист Аденауэр
является якобы подобием этого мирного святого, а
коммунизм — это творение дьявола.
«Там, где удается, собственно говоря, правильно и
вовремя сделать доклад о святом брате Клаусе, это
чрезвычайно действенно. Когда в заключение хода
мыслей говорят о святом мира, о жертвах и молитвах, то
ставят в надлежащую связь желание обороняться и
готовность к защите, так что у слушателей не остается
никакого противоречия. С помощью хорошего доклада
о брате Клаусе, хорошей проповеди о святом, не говоря
слов о непосредственной связи с актуальными
политическими вопросами, можно провести в грядущие месяцы
у нас наилучшую государственно-политическую работу
1 «Jahr der Entscheidung», Vorträge und Verhandlungen auf der
Jahrestagung der Katholischen Männer Deutschland — 29. bis 31.
Januar, 1967, Fildaer Vorträge, Bd. V, S. 80.
2 Там же, стр. 38.
210
в дополитической сфере. Если же наряду с этим делают
еще доклад о диалектическом материализме, конечно,
не в один вечер, если для этого берут доклад с
эпидиаскопом «Внимание, красные наступают», то делают
необходимое дело» >.
Здесь подтверждается оценка, данная в
Национальном документе: в Федеративной Республике Германии
«сегодня снова» господствуют «пренебрежение к
человеку, эксплуатация, клерикальный обскурантизм, жажда
денег и завоеваний и милитаризм. Это значит, что в
ФРГ, скрытое мнимой демократией, сохраняется и
воскрешается все то, что в немецкой истории было
отсталого, варварского и бесчеловечного, глупого и тупого —
против собственного народа и против других народов.
Это западногерманское государство обращено к
прошлому, к пережитому времени эксплуатации и войны»2.
В Германской Демократической Республике «правит
народ— коммунисты и некоммунисты, христиане и
атеисты,— объединенные в Национальном фронте
демократической Германии и в блоке демократических партий...
Империализм и милитаризм» в Германской
Демократической Республике, так же как и «эксплуатация
трудящихся людей устранены навсегда», Германская
Демократическая Республика олицетворяет
«демократические, гуманистические, мирные и социалистические
традиции немецкого народа»3.
Социалистическая действительность в Германской
Демократической Республике и других
социалистических странах полностью соответствует основным
требованиям подлинно человеческой свободы, которые
теоретически развиты еще молодым Марксом и выражены,
например, в его статье «К еврейскому вопросу», а
именно что человеческая эмансипация совершится «лишь
тогда, когда человек познает и организует свои
«собственные силы» как общественные силы и потому не
станет больше отделять от себя общественную силу в виде
политической силы»4. Эта охарактеризованная
Марксом действительная свобода человека в его отношении
1 Там же, стр. 36.
2 «Schriftenreihe des Staatsrates der DDR», 1962, № 3, S. 13.
3 Там же, стр. 13, 14.
4 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 406.
8«
211
к государству и обществу является живой практикой в
Германской Демократической Республике и других
социалистических странах. С созданием и развитием
рабоче-крестьянского государства, которое не оторвано
больше от народа, а представляет собой
поддерживаемую самими трудящимися и саму по себе действующую
политическую силу, в котором человек
социалистического общества организовал свои «собственные силы» как
общественные силы, заставив их планомерно и
сознательно действовать на благо всего общества и свое
собственное благо, многие трудящиеся уже все больше и
больше воплощают в себе черты «абстрактного
гражданина государства» (Маркс). В процессе
социалистического общественного труда, в борьбе за более
высокую производительность, за овладение наукой и
культурой, а также в активном совместном формировании
социалистического бытия благодаря их участию в
государственных и общественных организациях многие
рабочие, крестьяне и ученые выросли в свободные
социалистические личности. Эти люди представляют собой
величайшее богатство социалистического общества, тип
человека нового времени, эпохи социализма. Они не
являются ни «вьючными животными» в историческом
процессе, ни «приводными колесами государственной
машины», как клеветнически утверждают клерикальные и
другие антикоммунистические идеологи. Что их
отличает, так это самосознание действительно свободных
людей, которые являются строителями общественного
строя, архитекторами своих собственных условий жизни
и которые вместе с капиталистической
действительностью отбросили и мысли о примирении с властью
эксплуататоров, о подчинении диктату господствующего
класса.
В социалистическом государстве они имеют и
признают свое государство, которое является не
иллюзорным, а действительным человеческим обществом,
поскольку оно основывается не на антагонистическом
классовом противоречии между буржуазией и
пролетариатом, а на поистине человеческих, товарищеских
отношениях. Эти отношения и в Германской
Демократической Республике были созданы указанным Марксом
путем ликвидации основ эксплуатации и
эксплуататорского государства. Следовательно, социалистическое го-
212
суДарство не уничтожило свободу человека, а лишь
сделало возможным установление человеческой свободы
народа, и оно защищает эту свободу от всех внутренних
и внешних контрреволюционных намерений
империализма..
Клерикальные критики Маркса в их клевете на
социализм исходят прежде всего из этих задач диктатуры
пролетариата, а следовательно, и социалистического
государства. Поэтому Фетчер считает, будто марксистское
«положение о том, что всякий государственный
господствующий строй несет с собой зависимость и что полная
свобода поэтому будет возможна лишь в будущем не
имеющем государства обществе, приводит к недооценке
уже теперь возможных форм свободы и к отказу от
защиты индивидуальной свободы от государственного
произвола» 1. Бохенский также считает, что при
социализме достоинство, свобода и личность индивидуума
подвергаются опасности вследствие того, что
социалистическое государство не за всеми «индивидуумами
признает равные основные права», а лишь за
большинством—рабочими и крестьянами. Ему следовало бы
прежде всего возразить, что социалистическое
государство отличается от буржуазного государства не тем,
что оно ограничивает враждебные классы, пока они
существуют и оказывают сопротивление, в их правах и
свободах. Буржуазное государство в этом видит свою
главную задачу по отношению к рабочему классу.
В этом отношении различие состоит лишь в том, что
буржуазное государство старается тщательно скрыть
тот факт, что оно является орудием власти
господствующего меньшинства над эксплуатируемым
большинством, в то время как социалистическое государство
открыто признает себя властью большинства над
меньшинством — властью рабочих и крестьян. Однако в
функции подавления свергнутых эксплуататоров
социалистическое государство видит лишь средство для
выполнения своих совершенно новых экономических,
социальных и культурных задач, осуществление которых в
конечном счете приведет к тому, что господство народа
расширится и свобода личности станет все большей, в
1 I: Fet scher, Die Freiheit im Lichte des
Marxismus-Leninismus, S. 821.
213
то время как в буржуазном государстве имеет место
совершенно обратное. Социалистическое государство в
любом его виде— это уже не государство в старом,
буржуазном смысле.
Основа политической власти буржуазии в
буржуазном обществе, частная собственность и ее «свободное»,
беспрепятственное расширение, эксплуатация человека
человеком и политическое господство буржуазии
устранены. На их место вступила общественная собственность
и ее действительно свободное развитие, планомерное
общественное производство, основанное на товарищеском
сотрудничестве трудящихся, и их собственная
политическая власть. И важнейшей новой задачей
социалистического государства является как раз задача
нравственного, культурного, научно-технического и
идеологического воспитания трудящихся и формирования их в
социалистические личности. .Поэтому рабочий класс
понимает под свободой в первую очередь уничтожение
эксплуатации человека человеком и установление
мирных демократических отношений, в которых свобода
отдельного человека не находится под постоянной
угрозой разрушения благодаря власти концернов и их
политической силе, как это имеет место в Западной
Германии. Отдельный человек должен раскрывать свои
творческие силы во всех областях общественной жизни и
может всесторонне совершенствовать свою личность. Тем
самым отмечаются и границы свободы. Свобода не
является ни распущенностью, ни беспорядком. Она не
может терпеть насилия над людьми, воровства и других
преступлений. Она не есть произвол, который может
вырасти в действия, направленные против интересов
народа, против самой свободы. «Точно так же, как люди
не могут не обращать внимания на существующие
законы природы, они не могут становиться выше
законов общественного развития и норм общественной
жизни...
В Германской Демократической Республике не
может... быть свободы для врагов нашего
рабоче-крестьянского государства. И это в интересах всех
трудящихся, что не существует свободы для всех тех, кто
занимается развязыванием «войны, реваншизмом и
расовыми гонениями, ведет активную деятельность и
пропаганду в пользу германского милитаризма 'И империа-
214
лизма и тем самым ставит под угрозу свободу
миролюбивых людей» !.
Когда клерикальные идеологи говорят о лишении
политической и нравственной самостоятельности
индивидуума в. социалистическом государстве, становится
ясно, что они имеют в виду лишь индивидуум как буржуа.
Однако для рабочего класса, для массы трудящихся, а
также во все возрастающей мере и для тех, кто когда-то
принадлежал к буржуазным слоям, в социалистическом
государстве воплощается орудие, с помощью которого
они обеспечивают себе и расширяют те достигнутые
наконец свободы, которые в буржуазном обществе
запрещены эксплуататорским меньшинством и его
государством.
Трудящиеся используют свободу, которую им дает
социалистическое государство, чтобы самим управлять
всеми делами общественной жизни. Они осуществляют
это практически в той мере, в какой они осознают
новый характер государства, а это в свою очередь
определяется тем, что на деле оно оказывается их
собственной властью, что государство не только не лишает их
нравственной индивидуальности, но, наоборот, устраняет
безнравственность частной собственности и тем самым
уничтожает порабощение эксплуатируемых классов.
Личность при социализме становится свободной
нравственной личностью еще и потому, что в теории и в своем
практическом поведении она чувствует себя
ответственной за то государство, которое впервые принадлежит ей
самой. Это выражается во все более широком развитии
демократии в странах, опирающихся на принципы
марксизма-ленинизма и руководствующихся ими.
В Советском Союзе пролетарская демократия все
больше становится социалистической демократией всего
народа. «Рабочий класс — единственный в истории класс,
который не ставит целью увековечение своей власти.
Обеспечив полную и окончательную победу
социализма— первой фазы коммунизма — и переход
общества к развернутому строительству коммунизма,
диктатура пролетариата выполнила свою историческую миссию
1 Walter Ulbricht, Freiheit, Wissenschaft und Sozialismus.
Antwort auf Fragen der Arbeiter und der Intelligenz, Berlin, 1959,
S. 64.
215
и с точки зрения задач внутреннего развития перестала^
быть необходимой в СССР. Государство, которое
возникло как государство диктатуры пролетариата,
превратилось... в общенародное государство, в орган
выражения интересов и воли всего народа. Поскольку
рабочий класс — самая передовая, организованная сила
советского общества, — он осуществляет свою
руководящую роль и в период развернутого коммунистического
строительства. Выполнение своей роли руководителя
общества рабочий класс завершит с построением
коммунизма, когда исчезнут классы» К Государство отомрет
окончательно, когда рабочий класс выполнит свою
историческую миссию в мировом масштабе.
Несомненно, что в коммунистическом обществе, в
котором не будет государства, люди будут еще более
свободными, чем в социалистическом государстве,—
свободными не в буржуазном смысле этого слова. Они
будут свободными благодаря непосредственному участию
всех членов общества во всех его делах. Уже при
социалистической демократии народа люди становятся
политически более свободными, чем в период диктатуры
пролетариата, которая свергнутым классам может
гарантировать свободу лишь постольку, поскольку это не
угрожает жизненным интересам трудящегося большинства.
Таким образом, современная стадия развития
социалистической демократии в Германской Демократической
Республике характеризуется прежде всего тем, что
граждане нашего государства получают все больше
демократических прав в решающей области
общественной жизни — в сфере материального производства. Это
проявляется прежде всего в том, что они принимают
активное участие в управлении экономическими
процессами, что находит свое воплощение в руководстве
хозяйством по производственному принципу. Таким образом,
Вальтер Ульбрихт мог констатировать: «Наша
социалистическая демократия, следовательно, самым тесным
образом связана с развитием материального
производства, с отношениями людей в процессе производства
материальных благ и особенно с их отношением к
социалистическому труду. Поэтому решения о задачах Совета
1 Программа Коммунистической партии Советского Союза,
стр. 100—.101.
216
учнистров, Государственной плановой комиссии,
Экономического совета и Управления народных предприятий,
а также образование сельскохозяйственных советов
означают дальнейшее важное развитие демократии в
период развернутого строительства социализма»1.
Развитие демократии в ГДР дает трудящимся Западной
Германии пример того, что если власть принадлежит
трудовому народу, то он свободен сам решать и
создавать новый строй, соответствующий человеческим
правам и достоинству трудящихся. Достоинство, гордость и
свобода их братьев по классу в ГДР заключаются
именно в том, что они уже сделали самое необходимое,
тогда как западногерманские рабочие, продолжая терпеть
господство эксплуататоров, бездельников и людей,
живущих прошлым, лишены свободы. Уже отсюда видно,
что утверждение Фетчера, будто марксизм
недооценивает возможные формы свободы при социализме2,
является ложным. Существенное различие между двумя
немецкими государствами и господствующими в них
противоположными принципами свободы очевидно: в
Германской Демократической Республике рабочий класс
является руководящей силой, обладающей политической
властью. Народ — владелец всех крупных предприятий.
В Западной Германии, напротив, наблюдательные
советы 18 крупных капиталистических концернов
определяют всю экономику и управляют более чем 50
миллионами граждан3. Важнейшая из возможных и
необходимых форм свободы, заключающаяся в активном участии
трудящихся в управлении и в их ответственности за
руководство экономическими процессами, осуществлена и
постоянно развивается не в капиталистической
Западной Германии, а в социалистической Германской
Демократической Республике. Так же обстоит дело и с
теми демократическими правами и свободами, которые
обеспечивают гражданам Германской Демократической
Республики помощь и защиту в их существовании и их
свободном образе действий. С момента возникновения
Германской Демократической Республики демократиче-
1 «Bilanz Grosser Erfolge — Perspektive des Sieges...» в:
«Schriftenreihe des Staatsrates der DDR», 1963, № 3, S. 64.
2 I. Fetscher, Die Freiheit im Lichte des
Marxismus-Leninismus, S. 281.
3 «Bilanz grosser Erfolge — Perspektive des Sieges», S. 63.
9-424 217
ский правопорядок непрерывно развивался, впервые й
Германии осуществив подлинную справедливость и
действительное равенство всех граждан перед законом.
Социалистическое право и социалистическое государство в
ГДР, служащее трудовому народу, его свободе, его
социалистическому труду и его мирной жизни, не
противоречит интересам отдельного человека, как это
пытается представить Фетчер в своих антикоммунистических
писаниях. Государство и право Германской
Демократической Республики служат народу, сам народ создает
государственные и общественные органы. Новым
выражением этого и, в частности, выражением более
широкого непосредственного участия трудящихся в судебных
решениях, в выявлении и преодолении причин
правонарушений, а также выражением возрастающего
общественного самовоспитания граждан является Указ о
судопроизводстве, изданный Государственным советом
Германской Демократической Республики 4 апреля 1963 г.
Этот указ не только усилил защиту прав граждан,
гарантию правильного применения социалистического
права, но и сделал значительный шаг в дальнейшем
развитии их свободы, и углубление демократии путем
постепенной передачи государственных функций
общественным организациям. В то же время этот прогресс стал
возможен лишь благодаря тому, что добровольное
соблюдение правил социалистического общежития
людей и ответственность отдельного гражданина за охрану
законов своего государства выросли в Германской
Демократической Республике в могучую моральную силу.
В этом практически осязаемом развитии
демократических прав и свобод человека в социалистической
Германской Демократической Республике,
подготавливающем и способствующем переходу к коммунистическому
обществу, только такой ослепленный антикоммунизмом
и клерикализмом человек, как Фетчер, мог увидеть
выражение беззащитности человека перед лицом
государственной власти.
4. Покорность как «свобода»
Время свободной конкуренции и расцвета
либерализма в капиталистическом обществе так же безвозвратно
кануло в прошлое, как и господство империализма над
218
большей частью человечества. Основное содержание й
главное направление исторического развития
человечества определяют сегодня социализм и
антиимпериалистические силы. Вступив в период своего упадка и
гибели, современный капитализм во всех областях
общественной жизни подвержен процессу неизбежного
разложения. Перерастание монополистического капитализма
в государственно-монополистический яснее всего
выражает этот процесс разложения.
Государственно-монополистический капитализм обостряет все противоречия
империалистической системы, усиливая ее внутреннюю
неустойчивость и разрушение.
Формой проявления и следствием этого процесса
является возрастающее применение политической
реакцией военной силы во всех областях общественной
жизни.
Последние жалкие остатки буржуазных свобод
постепенно упраздняются, а в ряде стран господствующая
монополистическая буржуазия прибегает к крайнему
средству своей жестокой диктатуры — к фашистской
тирании. Если буржуазия шла к власти под
многообещающим лозунгом «Свобода, равенство, братство»,
чтобы материально и идеологически подорвать
господство феодализма, то она практически давно превратила
эти принципы не только в их противоположность, но в
условиях государственно-монополистической диктатуры
вынуждена все больше переходить к отказу от
либеральных буржуазных лозунгов свободы.
Хотя маскировка диктатуры капиталистических
монополий фразами о «свободном мире» все еще является
ходовым товаром на капиталистическом рынке, тем не
менее монополистический капитал не может больше
мириться с прежними буржуазно-демократическими
свободами, так как подъем международного рабочего и
антиимпериалистического движения все больше и больше
лишает его возможности лавировать и вынуждает его
все явственнее обнаруживать свою антидемократическую
сущность, поскольку он с возрастающей жестокостью
пытается подавить революционное
антиимпериалистическое движение1.
1 См. Программу Коммунистической партии Советского
Союза, стр. 33—35.
9* 219
Клерикальная концепция свободы является
идеологическим выражением открытого отказа и реакционного
извращения буржуазно-демократических свобод
реакционной буржуазией. Вновь извлекаются на свет все
отжившие философские учения и этические системы
прошлого, против которых боролась поднимающаяся
буржуазия, рассматривая их как смертельного
идеологического врага своего революционного прихода к власти, и
которые она клеймила как бесчеловечные и антинаучные.
Наполненные новым содержанием, они торжественно
превращаются в орудие идеологического оправдания
государственно-монополистической эксплуатации и
угнетения народных масс. На первый взгляд, кажется что
клерикальные фразы о «личном своеобразии» каждого
человека оценивают индивидуум выше, чем
либеральное буржуазное понимание свободы. В действительности
же рассуждения клерикалов о живом боге и личном
величии человека в философско-теоретическом и
этическом плане являются шагом назад даже по сравнению с
индивидуализмом либеральной концепции свободы. Так,
например, они отрекаются даже от идеалистически
понимаемой нравственной автономии человека, которая в
конечном счете служила примером для граждан,
стремившихся к освобождению от феодальных оков, и
возвращаются к реакционной клерикальной гетерономии,к
идеалистическому освящению безропотного подчинения
и покорности каждого человека могуществу церковной и
светской «власти», якобы узаконенной богом. Отказ от
нравственной автономии человека, превращение его в
безвольное существо, которое должно покорно
подчиняться «власти», соответствует требованиям гибнущего
капитализма и характеризует идейный облик
современной монополистической буржуазии.
Либерализм идеально освобождал людей от религии
и, преисполненный оптимизма, создал себе бога,
который заботится обо всех —хотя каждый заботится
только о себе самом, — как бога всеобщего, свободного и
безудержного стремления к капиталу. В
противоположность этому «бог» персонализма — это
пессимистический бог загнивающего, но тем более агрессивного
монополистического капитала, для которого люди
существуют на земле не ради хорошей жизни, а ради хоро-
220
шей смерти [. Реакционный персонализм не только
отвлекает трудящегося человека от свободного
формирования общественной жизни в смысле бегства от мира
сего, но и кует духовные оковы, с помощью которых он
хотел бы крепче привязать его к лишенному свободы
обществу. Для этого нужно лишь показать содержание
такого «личного величия» человека и «естественного
строя бытия», который, по мнению Гоммеса, так глубоко
потрясен «диким пением» марксистской диалектики.
Гоммес пишет: «Под естественным строем бытия,
против которого здесь восстает человек, мы понимаем
прежде всего такой строй, который создается субстанцией
отдельного существа и в котором человек верен своему
природному свойству или действует... согласно своей
природе. Это бытие или природа есть то, благодаря
чему вещь является действительной, в отличие от того, что
существует только в душе или благодаря душе.
Овладение этой природой означает то же самое, что и
действительность» 2.
«Естественный строй бытия» Гоммеса —это не что
иное, как империалистическая действительность, на
которую нельзя посягать, потому что якобы все так
устроено богом. Следовательно, «личное величие» человека
заключается в том, чтобы терпеть эту действительность
и утверждать ее как человеческое бытие.
Иными словами, в капиталистическом «мире»
человеку объявляется воля бога, и в слепом послушании
этой воле заключается то, что неотомисты понимают под
«личным величием». Так называемое свободное
развитие индивидуума на этой основе состоит практически в
требовании покорной преданности капиталистическому
рабству. Ибо то, что мы есть, «...как мы задуманы и для
чего мы созданы, мы должны осуществить. Пусть
будет так, что ты женщина, супруга, жена этого мужчины,
мать этого ребенка, учительница детей этого класса,
работница отдела социального обеспечения этого
предприятия и т. д.! И в наших поступках, в которых мы про-
1 Н. Asmussen, Die Wiedergeburt der Freiheit.
Vontrag auf der Jahrestagung der Abendländischen Akademie in Eich-
stätt, 1953, в: «Der Mensch und die Freiheit», München, 1953,
S. 119—124.
2 J. Hommes, Krise der Freiheit, S. 38.
221
являем наше бытие, мы должны терпеть, утверждать,
исполнять и объяснять то, что мы есть» К
Следовательно, свобода в клерикальном смысле
состоит в том, чтобы принимать жизнь такой, какая она
есть: супруга этого мужчины должна «терпеть»,
учительница этого класса должна «объяснять» и т. д. Это
«учение о свободе» категорически отрицает за каждым
индивидуумом свободу развода, расторжения договора
«и так далее» и учит «терпеть» и «выполнять». Свобода
должна заключаться лишь в том, чтобы не выходить
за рамки тех условий, в которые поставило людей
приравненное к богу государственно-монополистическое
общество. Ты рабочий? Если ты ленивый рабочий, то ты
свободен стать прилежным. Но не забывай, что твоя
«сущность» — осуществлять наемный труд, а твое
«личное величие» — в качестве рабочего быть послушным в
«естественном строе бытия» и в условиях этой
«свободы» зарабатывать себе на хлеб. Причем ты рабочий
этого капиталиста и должен «терпеть» свой удел.
Это сущая насмешка над всякой человеческой
свободой. В отличие от либеральной трчки зрения, еще не
нуждавшейся в подобном помыкании, здесь виден
величайший страх перед всяким освободительным порывом,
который испытывает прогнивший в своей нравственной
основе общественный строй.
Подобная же эволюция от либеральной к
государственно-монополистической концепции свободы
проявляется и в вопросе об отношении человека к
государству. Фетчер разъясняет приведенную здесь ссылку на
средневековый томизм. Прежде всего он открыто
объявляет о разрыве современной
клерикально-милитаристской буржуазии с либеральным пониманием свободы:
«Каждый за себя, бог (или государство) за всех нас».
Это «представление устаревшего либерализма, —
говорит Фетчер, — .*не соответствует больше общественной
действительности и представлению о человеке в наши
дни»2. Оно не является больше таки.м потому, что
государство не «дает места эгоизму индивидуумов», а
должно «содействовать личности в принятии нравственных
решений». «Западный мир представляет собой неслы-
1 J. H о m m е s, Krise der Freiheit, S. 41.
2 I. Fetscher, Was verstehen wir unter Freiheit? S. 623.
222
ханно смелую попытку создать общество и коллективы,
базирующиеся на вере в человека и его нравственную
личную сущность... Вера в способность отдельного
человека принимать нравственные решения является основой
нашей свободной демократии. Однако эта вера не
является больше такой радикальной и несокрушимой, как
в XVIII столетии. Ибо у нас отсутствует вера в
возможность безграничной рационализации общественной
жизни. Безнравственное и неразумное не рассматриваются
больше ка« совершенно исключающие друг друга» К
Мы знаем, сколь «неслыханно смело» следует
понимать «ответственность нравственной личности перед
богом» в «свободном Западе», а именно как добровольное
смирение с данными условиями, которые следует
принимать на веру как нравственные в самой их основе.
Монополистическая буржуазия имеет все основания
сомневаться в «способности» угнетенных масс «принимать
нравственные решения» и опасаться их
«безнравственности» и «неразумности». Она заявляет: «Лишь в том
случае, когда человека понимают как существо
двойственное, являющееся разумным и нравственным и в то
же время иррациональным и злым, избегают опасности
односторонних решений в политических выводах. Вера
в разум и совесть людей заставляет нас защищать
свободу действий и сознательно чувствовать, что недоверие
к совершенству человека приводит к тщательному
взвешиванию возможностей злоупотребления»2.
На добром немецком языке это означает: Тот, кто
добровольно подчиняется, «свободен» «без
принуждения», «по любым мотивам» пребывать в условиях
рабства; тот же, кто протестует, делается виновным в
«бессовестном злоупотреблении свободой» и лишается
претензий на нее. Трудно яснее санкционировать боннское
законодательство о чрезвычайном положении.
Государственно-монополистический капитализм
олицетворяет тенденцию монополистического капитала с
помощью государственного аппарата полностью
подчинить себе не только экономику, но и всю общественную
жизнь. Он противник старых либеральных свобод не
только в экономической, но и в политической и идеоло-
1 I; F et s cher, Was verstehen wir unter (Freiheit? S. 623,
? Там же, стр. 624.
223
гической областях, где он все больше прибегает
непосредственно к государственному насилию. Отражением
этого является клерикальное понимание свободы. Это не
свобода не только потому, что формирование и
пропаганда империалистической идеологии все больше
унифицируется и монополизируется клерикалами, но
прежде всего и по самому ее содержанию. Монополия
устранила свободу конкуренции, чтобы создать
конкуренцию на более высокой ступени. Поэтому Фетчер
пытается создать синтез между индивидуалистическим
принципом либерализма и так называемым демократическим,
в действительности же открыто милитаристским
принципом растворения индивидуума в государстве:
«Демократическая правовая концепция государства исходит -из
того, что граждане в государстве должны повиноваться
только законам, изданным ими самими, и потому
свободны в повиновении»1. Единственная «свобода для
нравственного развития индивидуума» заключается в
утверждении данных отношений, а в основе «законов,
издаваемых ими самими», лежит такое «нравственное
решение», согласно которому закон о чрезвычайном
положении следует считать «защитой Ьвободы», а народный
опрос против атомной смерти, наоборот,
«злоупотреблением свободой». От имени и с помощью этой
государственно-монополистической свободы были запрещены
Коммунистическая партия Германии и другие
прогрессивные организации. Таков без прикрас тот способ, с
помощью которого идеологи
клерикально-милитаристского режима восхваляют перед западногерманскими
гражданами милитаристское административное
государство как якобы «государство свободного права». В
современной томистской редакции персоналистской идеи
свободы мы находим философскую апологию
клерикально-милитаристской сущности боннской республики. Как
известно, для католических представителей
политического клерикализма сегодня еще более актуальным, чем
прежде, является коренное положение о том, что ввиду
особого значения конечных выводов по
принципиальным вопросам общего «закона природы» церковь
должна следить за тем, насколько учитывается его нравст-
1 I. Fet scher, Die Freiheit im Lichte des
Marxismus-Leninismus, S. 818.
224
венный аспект. Это авторитарное требование
насаждается, начиная с неколебимых нравственных учебных
установок кафедр до распоряжений, которые запрещают как
противосвященное состояние членство в определенных
политических партиях, например в коммунистической
партии,' и кончая советами трудящимся-католикам не
присоединяться к революционным профсоюзам, которые
им дают епископы и священники на исповеди.
Обязанность повиноваться решениям духовенства, касающимся
«закона природы», является общеобязательной, и
положение: «Авторитет тем выше, челГ больше для него
оснований» не имеет никакой силы. Практика же этого
клерикального «провозглашения свободы» в Западной
Германии обнаруживается, например, в выступлении
кардинала Фрингса 30 ноября 1957 г., в котором он
решительно подчеркивал право духовенства вмешиваться в во-'
просы профсоюзов и давал рабочим-католикам
указания в интересах поддержки христианских профсоюзов.
Путь, которым намерено пойти воинствующее
католическое духовенство после закрытия настоящего
ватиканского Собора и то, на кого он работает, вытекает
из заявления секретаря Теологической комиссии
Собора проф. Тромпа, который прямо заявил, что «верующие
должны принимать и исполнять его (Собора.— Ред.)
декреты без критики, иначе Собор был бы не нужен...» 1.
Клерикалы-милитаристы в Западной Германии
придерживаются принципа: войну нельзя вести, будучи
либеральными «эгоистами», нужна «демократическая
дисциплина» для «принятия свободного нравственного
решения» выплачивать налоги на атомное вооружение,
участвовать в самоубийственной политике реваншизма
и служить солдатом в армии НАТО. В то время как
гитлеровский фашизм вовсе не старался замаскировать
свой террор, клерикальный милитаризм вынужден
выдавать свой режим за ««демократический». Внешне он еще
не совсем отказывается от либеральной позиции в
отношении свободы, однако выхолащивает ее с помощью
названной «демократической» «свободы жертвы и
дисциплины» и связывает ее с иллюзией неприкосновенной
свободы личности. Таким путем о« одновременно
разделывается и с проблемой «государства всеобщего благо-
1 «Herder-Korrespondenz», 1962, S. 250.
225
действия», перенося тяжесть социального обеспечения в
«сферу действия личной инициативы».
Однако в условиях диктатуры
государственно-монополистического капитализма все труднее становится
представлять трудящихся* этого государства как
политическую инстанцию охраны интересов всего общества.
Все ощутимее и очевиднее становится здесь
противоположность между государством и народом. Поэтому нет
сомнения в том, что в современных буржуазных учениях
о свободе проблема защиты личной свободы от
государственного произвола играет центральную роль. Уже тот
факт, что клерикально-милитаристская концепция
свободы вынуждена поддерживать иллюзию о существовании
личной сферы, которую следует защищать от нападок со
стороны государства, вскрывает стоящие перед ними
трудности. Кроме того, теоретически в эклектицизме
«либеральной» и «демократической» концепции свободы
обнаруживается, что политический клерикализм не
может преодолеть раскол людей на «буржуа» и «граждан»,
потому что государство, которое он защищает, — это не
государство народа, а враждебная народу сила.
Проблема отношения гражданина к обществу и к
государству не может быть решена в рамках 'строя, в
котором масса народа эксплуатируется, в котором царит
социальная необеспеченность, господствует
государственно-монополистическая диктатура и реальная угроза
войны. Свободу личности может обеспечить лишь
общественный строй, поднимающий человека из его
«рабского бытия» в «человеческое бытие», избавляя его от
социальных оков, принуждающих к «рабскому бытию».
«Социалистическая демократия означает свободу для
народных масс, свободу от угнетения и эксплуатации,
свободу полного развития всех творческих сил в
политической, экономической и культурной жизни. Эта
свобода для народа необходимо включает отсутствие
свободы для агрессивных сил империализма и его
прислужников. Эта свобода основывается на знании и
использовании объективных закономерностей «природы и
общества, на активном созидании
народно-демократического строя трудящимися массами» 1.
1 «Beschluss des V. Parteitages der SED», в: «Protokoll der
Verhandlungen des V. Parteitages der SED», Dietz Verlag, Berlin.
1959, Bd. 2, S. 1349.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подведем итоги. Банкротство клерикальной
фальсификации Маркса ярко проявляется в двояком
отношении. Это теоретическое и практическое его банкротство.
Как было показано, Гоммес, Бохенский, Тир, Вендлянд,
Метцке и лр. бессовестно извращают
марксистско-ленинское мировоззрение, произвольно превращая его
принципы и положения в их противоположность, чтобы
затем выступить против них со своими новыми
фантазиями. Мы также были свидетелями того, как,
подвизаясь на этом поприще, они неизбежно запутывались в
противоречиях, из которых затем пытались вытащить
друг друга.
Однако ничто с такой убедительностью не
доказывает истинности марксизма-ленинизма, с одной стороны,
и жалкой лживости его клерикальных критиков — с
другой, как сама практика общественной жизни наших
дней. Действительное развитие социалистического мира
здесь и империалистического мира там убедительнее
всего доказывает правильность учения Маркса,
Энгельса и Ленина и решает дилемму духовной 'подделки,
порожденной клерикальными апологетами
антикоммунизма и господством империалистического насилия. Оно
прежде всего опровергает настойчиво повторяемое
клерикальными фальсификаторами Маркса утверждение,
будто коммунизм — это «светская религия надежды»,
которая не дает конкретного ответа на вопрос о том,
«когда» он наступит, и по отношению к которому со-
227
циализм есть лишь «просто предварительная ступень» !.
Таким образом, осуществление этой «светской
религии» при коммунизме якобы приведет к образованию
«разрушающего человека коллектива», в котором
человек будет низведен до уровня «простого придатка
тотальной власти» в духе радикального «антигуманизма»2.
Таким образом, здесь проводится различие между
социализмом и коммунизмом как двумя ступенями
одного общественного строя. Правда, на одной ступени
действительности придается диаметрально
противоположный смысл. Ибо, во-первых, социализм — не
«предварительная ступень» мира «радикального
антигуманизма», а, наоборот, как уже указывалось в различной
связи, это первая фаза, первый этап на пути_к миру
радикального гуманизма, в котором именно
сплачивающий людей коллектив является основой свободного и
творческого развития способностей каждой отдельной
личности на благо общества и ее собственное благо.
Далее, социализм вовсе не является лишь «простой
предварительной ступенью» на этом пути, по ту сторону
которой только и наступит новый век. Как говорится в
новой Программе Социалистической единой партии
Германии, благодаря строительству социализма в
Германской Демократической Республике новый век уже
начался и в истории немецкого народа. Как раз тот
факт, что «...век мира и социальной обеспеченности,
человеческого достоинства и братства, свободы и
справедливости, гуманности и радости жизнью», в котором
«уничтожена вековая эксплуатация человека
человеком»3, наступил сегодня уже и здесь, в нашем
государстве и нашей стране, делает понятной ту (Нервозность и
даже истерическую раздражительность клерикальных
критиков Маркса на Западе. Однако социализм и ком-
1 H.-D. W е n d 1 а n d, Botschaft and die soziale Welt, в:
«Beitrage zur christlichen Sozialethik der Gegenwart», Hamburg,
1959, S. 177—178, 181. (См. также К. L ö w i t h, Weltgeschichte
und Heilsgeschehen, Stuttgart, 1953, S. 41.)
2 H.-D. Wendland, Christliche und kommunistische
Hoffnung, S. 219, 222; E. Thier, Marx und Proudhon, в:
«Marxismusstudien», Zweite Folge, S. 149; H. Metzke, Mensch und
Geschichte, S. 24.
3 «Programm der SED», в: «Protokoll der Verhandlungen des
VI. Parteitages der SED», Bd. IV, S. 297.
228
мунизм не отделены друг от друга китайской стеной.
С развернутым строительством социализма в
Германской Демократической Республике в трудных и
насыщенных борьбой процессах решаются задачи,
преодоление которых представляет собой шаг уже по пути к
высшей фазе коммунизма, принципом которого является:
«От каждого — по способностям, каждому —по
потребностям». Основы для достижения этой цели
человечества в исторически короткий срок созданы в настоящее
время в Советском Союзе, первой и самой
прогрессивной социалистической стране мира.
Следовательно, коммунизм — это не «религия
надежды», не беспочвенное «ожидание благополучия». «На
основании каких же данных можно ставить вопрос о
будущем развитии будущего коммунизма?» — спрашивает
В. И. Ленин. И отвечает: «На основании того, что он
происходит из капитализма, исторически развивается из
капитализма, является результатом действий такой
общественной силы, которая рождена капитализмом.
У Маркса нет ни тени попыток сочинять утопии, попу-
стому гадать насчет того, чего знать нельзя. Маркс
ставит вопрос о коммунизме, как естествоиспытатель
поставил бы вопрос о развитии новой, скажем,
биологической разновидности, раз мы знаем, что она так-то
возникла и в таком-то определенном направлении
видоизменяется» 1.
И так же, как Маркс, как и сам Ленин, всегда
подходили к этому вопросу марксистско-ленинские партии.
Что такое коммунизм и как конкретно будет
происходить процесс его строительства — на этя вопросы
марксизм-ленинизм никогда не отвечал «созданием утопий»,
а всегда исходил из соответствующей достигнутой
ступени развития общества и 'вытекающих отсюда
возможностей для ответа на этот вопрос. Однако
представления о нем становились богаче и определеннее по мере
того, 'как общественное развитие приближалось -к этой
цели. То, что теоретически было предвосхищено
классиками! марксизма-ленинизма сначала лишь в общих
чертах, хотя, по существу, и правильно, могло быть
конкретно сформулировано в качестве практической задачи
в Программе, принятой Коммунистической партией Со-
1 В. И. Л е н и н, Соч., т. 25, стр. 430.
229
Ветского Союза в октябре 1Ô61 г. Программа
определила этап, на котором будет «построен коммунизм. Таким
образом, и на вопрос о том, «когда» наступит
коммунизм, решением которого, оказывается, так озабочены
клерикальные фальсификаторы Маркса, дан довольно
точный ответ с тем, чтобы и у них имелась еще
возможность вовремя подготовиться к его осуществлению.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 5
Глава первая. Клерикальная фальсификация Маркса и
антикоммунизм 9
1. Политическая сущность фальсификации .... 9
2. Лицо критиков 20
Глава вторая. Отношение марксизма к своим
философским источникам в интерпретации
клерикалов 39
1. Гегельянизированный Маркс 41
2. Ужас перед «земной диалектикой» 53
3. Принижение значения философских традиций . 58
4. Антропологизированный Маркс .... ... 64
Глава третья. Человек и природа в кривом зеркале
клерикальной критики .... 69
1. Природа как ничто ... . 69
2. Социализм и природа . . . 79
Глава четвертая. Клерикальная апология отчуждения 86
1. Действительный источник отчуждения 86
2. Упразднение превратного сознания 104
3. Уничтожение отчуждения вместо действительного
послушания . . . . . .... 112
Глава пятая. Клерикальное отрицание классов и
пролетарской классовой борьбы 134
1. Исчезнувшие классы 135
.2. Священная частная собственность ..... 141
3. (Классовая борьба в действии . 147
231
Глава шестая. Пролетарская революция и ее
клерикальные антиподы 154
1. Оправдание антикоммунистической травли . . . 155
2. Гуманистическое шарлатанство 167
3. «Животные инстинкты масс» . 177
Глава седьмая. Клерикальные тирады о свободе
индивидуума 187
1. Эгоизм как «свобода» 187
2. Свобода на земле вместо клерикального
обнадеживания 194
3. Пролетарское государство ч свобода 206
4. Покорность как «свобода» 218
Заключение 227
ОТЧУЖДЕНИЕ И ГУМАННОСТЬ