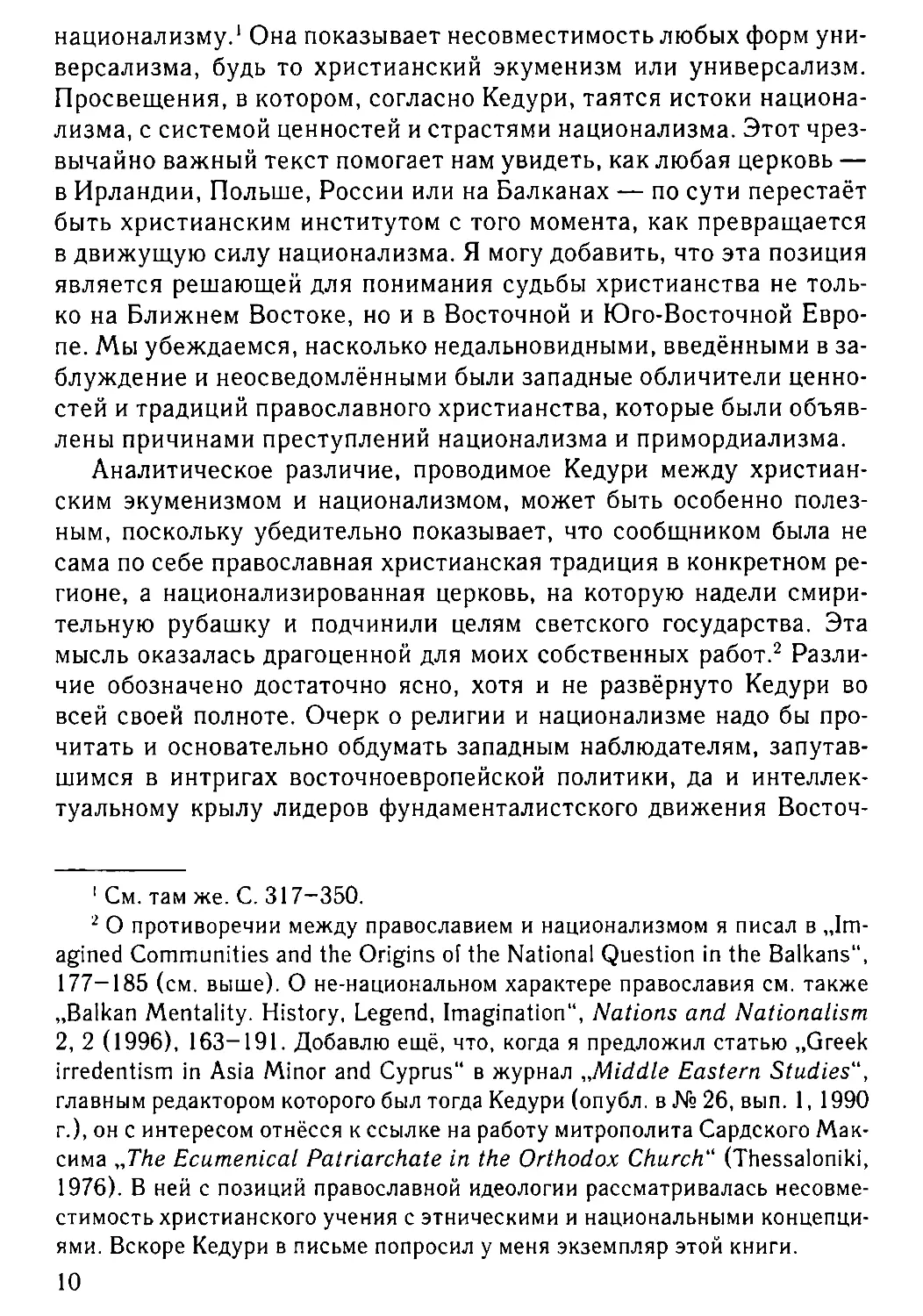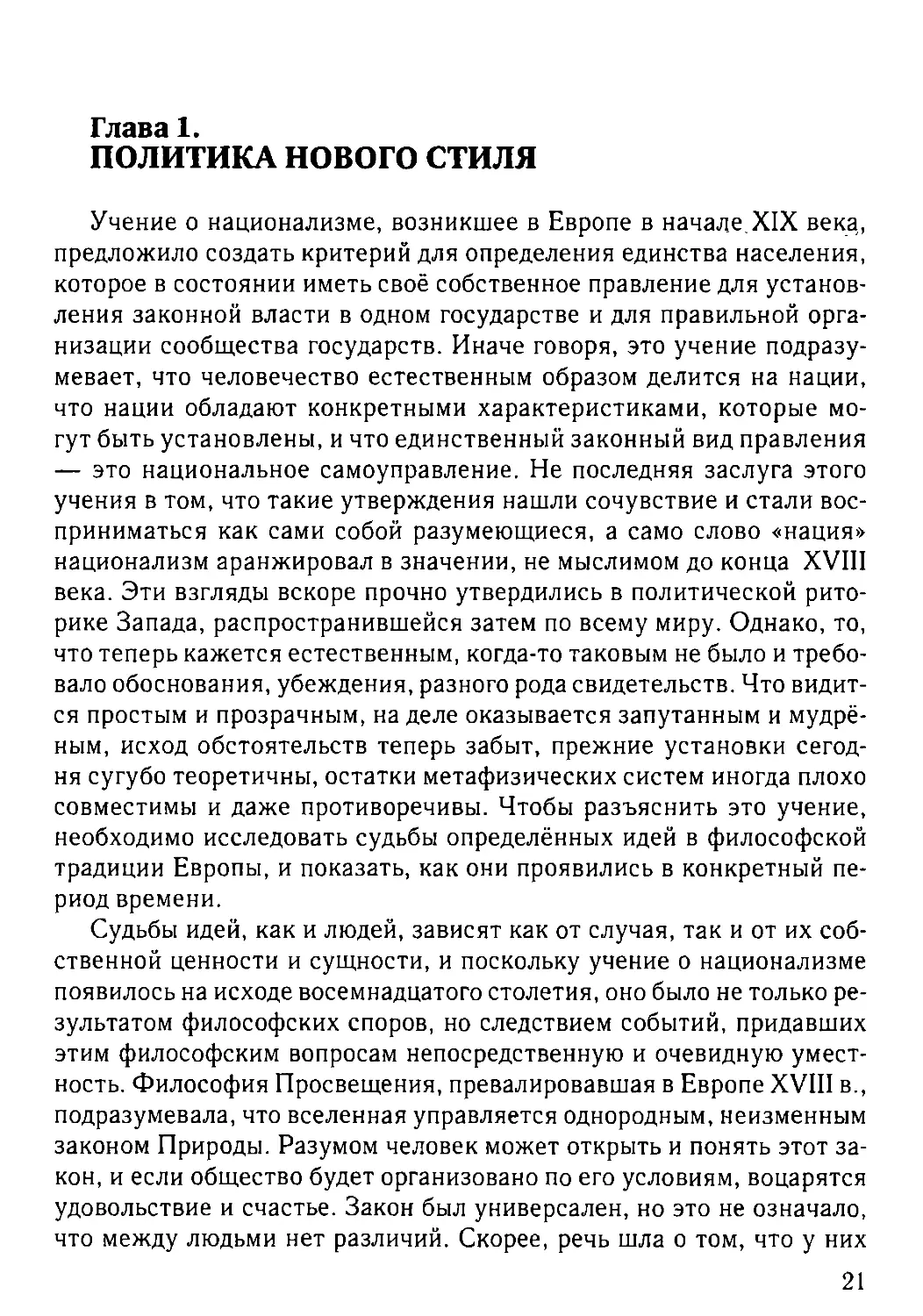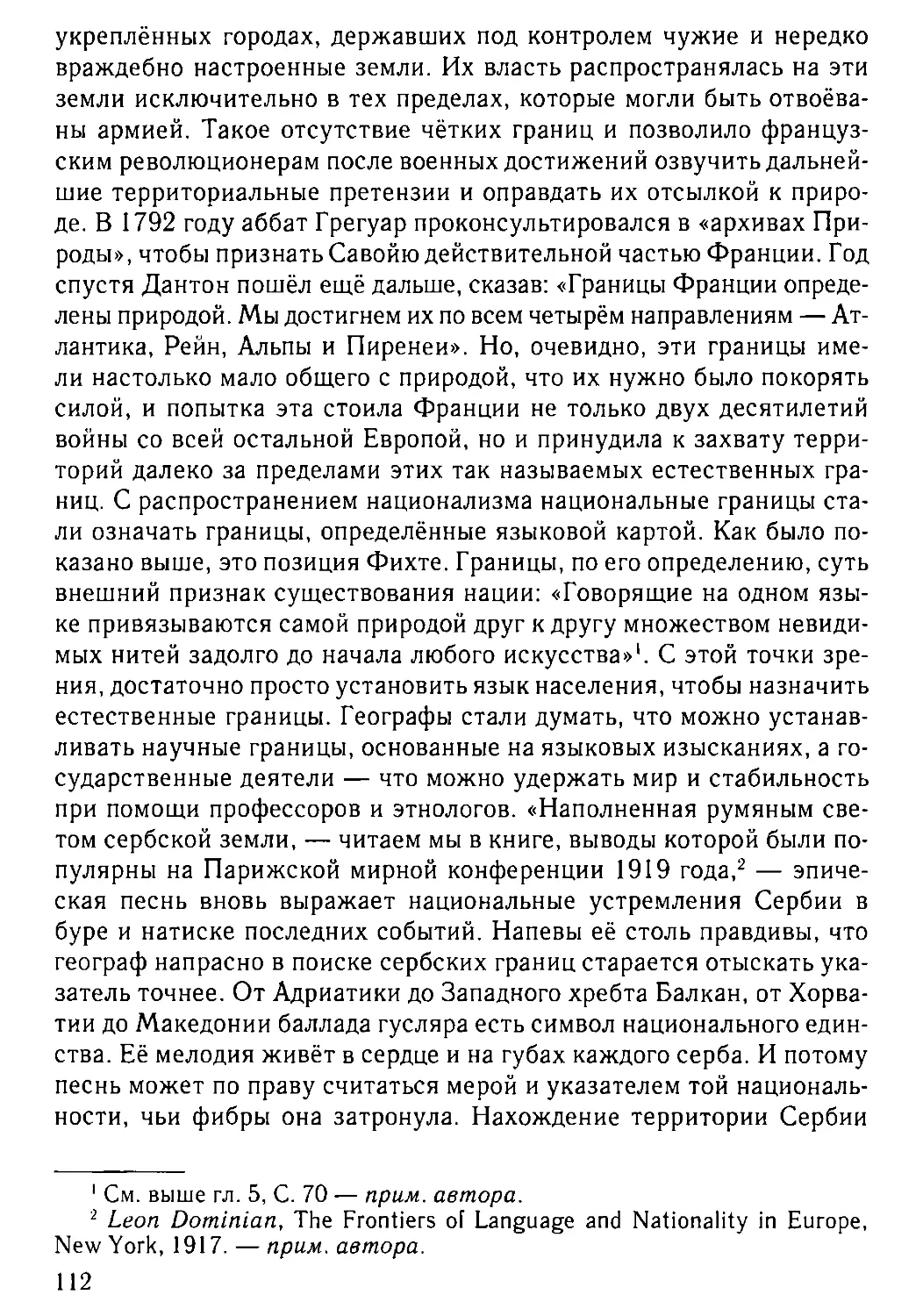Author: Кедури Э.
Tags: национальные, народные, этнические движения и проблемы, национальные и этнические меньшинства политика политические науки философия национализм становление исторические условия
ISBN: 978-5-91419-400-7
Year: 2010
I SV /А
Institut für die Wissenschaften vom Menschen Institute for Human Sciences
ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА
We pieced our thoughts into philosophy,
And planned to bring the world under a rule, Who are but weasels fighting in a hole.
W. B. Yeats
«Nineteen Hundred and Nineteen»
Эли
К е д у р и
НАЦИОНАЛИЗМ
Санкт-Петербург
А Л Е Т Е Й Я
2 0 10
УДК 323.1 ББК 66.1(0)
КЗЗ
Перевод выполнен при поддержке гранта <<Программа переводов имени Пауля Целана» от Института гуманитарных исследований (Вена) и Первой австрийской сберегательной кассы (частного фонда) (Вена) (Translation made possible through the support of the Paul Celan Translation Programme, sponsored by the Institute for Human Sciences, Vienna and Die Erste sterreichische Spar-Casse Privatstiftung, Vienna)
Кедури Эли
КЗЗ Национализм / Э. Кедури; пер. с англ. А. А. Новохатько. — 4-е изд., расш. — СПб.: Алетейя, 2010. — 136 с.
1БВЫ 978-5-91419-400-7
Работа британского историка Эли Кедури «Национализм», впервые опубликованная в Лондоне в 1960 г. и с тех пор выдержавшая неоднократные переиздания на английском и многих других языках, считается классической поданному вопросу. Автор прослеживает в ней философские основания национализма, а также противоречивые исторические условия, которые способствовали его становлению. Книга впервые выносится на суд русского читателя и, возможно, позволит увидеть в новом свете идеологические движения и острые политические дискуссии в современной России.
УДК 323.1 ББК 66.1(0)
Перевод выполнен по изданию Elie Kedourie Nationalism, Blackwell Publishers Ltd, Oxford, 2000
ISBN 978-5-91419-400-7
9 785914 194007
© Elie Kedourie, 2000
© Новохатько А. А., перевод на русский язык, 2010 © Издательство «Алетейя» (СПб.), 2010 © «Алетейя. Историческая книга», 2010
УЧЕНИК - УЧИТЕЛЮ1
Впервые я встретился с Эли Кедури в Лондоне в июне 1974 года благодаря Питеру Лоизосу. Лоизос готовил к изданию «Дары данайцев»1 2, книгу о кипрской политике и только что прочитал мою дипломную работу о выборной и партийной системе в Кипрской Республике, в которой я оценил влияние национализма на определение нормативного дискурса и параметров политической законности на Кипре. Лоизос предложил мне обсудить эту тему с Эли Кедури и организовал встречу с ним в кабинете Кедури в Лондонской школе экономики. Там меня и приняли, в комнате с невероятным количеством книг. Кедури был немногословен, внимательно слушал. Это был сдержанный человек, не выражающий особо эмоций или суждений. Однако он поддержал мой интерес к политическим идеям греческого Просвещения, в которых я надеялся найти интеллектуальные корни греческого национализма.
После нашей встречи я пошёл в книжный магазин и купил «Национализм» Кедури. Помню, что прочитал сразу же, по дороге в Париж в поезде, и вначале удивился подходу — философскому, а не социологическому или историческому, как нас учили в Веслианском университете и в Гарварде. Но чем больше я вчитывался, тем более интересной казалась мне книга. Впервые я обнаружил критическую форму, внутри которой мог развивать собственную критику национализма. Мне понравился стиль Кедури, особенно его тонкая сдержанная ирония, пронизывающая книгу, при внимательном чтении за скеп¬
1 Данное предисловие, которое проф. Пасхалис Китромилидис любезно разрешил перевести для русского издания, было опубликовано им сначала как статья в сборнике Elie Kedourie 1926-1992: History, Philosophy, Politics, ed. by Sylvia Kedourie (London 1998), а затем стало предисловием к греческому изданию «Национализма» (Афины, 2003 г.). На русском языке издана монография П. М. Китромилидиса «Эпоха Просвещения в Греции» (СПб., Алетейя, 2007 г.) — прим, переводчика.
2 Peter Loizos, The Greek Gift: Politics in a Cypriot Village. Oxford: Black- well, 1975.
5
тицизмом автора обнаружилось острое переживанием им трагизма, присущей его человеческим действиям.
Вспомним основные интеллектуальные направления той эпохи, и тогда будет ощутимее наслаждение, с которым воспринималась книга Кедури, и понятнее, почему его угол зрения произвёл на меня такое впечатление. Национализм в Америке начала семидесятых считался вопросом отжившим и практически не изучался. В общественных науках в моде были совершенно иные темы, особенно гремели политэкономия и структуралистский подход, а в политической теории ощущалось влияние дискуссий, вызванных «Теорией справедливости» Джона Роулза.
Изучение национализма в Гарварде ассоциировалось с именем Карла Дойча, который опирался на бихевиористский подход. Я не хочу быть несправедливым по отношению к Дойчу. Это был настоящий гуманист, человек широкой культуры и эрудиции, истинный наследник духовных традиций континентальной Европы. Однако он растратил все свои духовные силы на «функционирование» общественных переменных, пытаясь превратить общественные науки в «научные». В стремлении сделать национализм «функциональным» Дойч потерял самые интересные, хотя и теоретически противоречивые стороны этого учения. В конце концов, его работы по национализму оказались практически бесполезными, особенно по сравнению с его предшественниками в лице Карлтона Хайеса, Ганса Кона, Фридриха Мейнеке.
Хотя я был мало знаком с предметом, я продолжал придерживаться критической точки зрения в отношении того, что искренне считал — в то время скорее интуитивно, чем сознательно — глубоко разрушительной силой. В то же лето мне довелось лично убедиться, насколько разрушительной силой может быть национализм, особенно его дешёвая шовинистическая риторика. Я вернулся на Кипр после путешествия по Британии и Франции 10 июля 1974 года. В тяжёлой предгрозовой атмосфере веяло грядущим кризисом. Только что было обнародовано письмо архиепископа Макариоса, обращённое к предводителю греческой «хунты», в котором он просил отозвать с Кипра греческих офицеров. Ответом стал военный переворот на Кипре 15 июля 1974 года, в безумии националистического насилия сорвавший объединение острова с Грецией. Этот параноидальный план был предотвращён турецкой армией, воплощавшей, в свою очередь, фантазии уже турецких националистов, это привело к массовому насилию. Два вторжения в июле и августе привели к разделу острова. Я видел, как мой остров делят на части, видел десятки тысяч беженцев, мёртвых, раненых и пропадавших без вести, видел женщин и детей, ставшими жерт¬
6
вами зверской жестокости, видел, как разрушается целая культура. Чувство ужаса сменили траур и горечь потерь, а за ними последовал исследовальский интерес к истокам трагедии. Вернувшись в Гарвард, я написал «Диалектику нетерпимости» — первую серьёзную работу по изучению греческих и турецких националистических движений.1
Книга Кедури, аналитически и концептуально, стала основой всего, что я писал с тех пор по национализму. Время от времени появлялись новые работы, улавливающие последние тенденции общественной мысли и вызывающие соответствующие дискуссии. Я многому научился, особенно из работ Бенедикта Андерсона1 2, Эрнеста Геллнера3, Энтони Смита4, а также из более ранних трудов Эрика Хобсбаума по национализму в европейской истории.5 Несмотря ни на что, книга Кедури оставалась основным источником моих мыслей и исследований.6
1 „The Dialectic of Intolerance. Ideological Dimensions of Ethnic Conflict", Journal of the Hellenic Diaspora 6, 4 (1979), 5-30. Статья перепечатана в сборнике Paschalis М. Kitromilides, Enlightenment, Nationalism, Orthodoxy. Aldershot and London: Variorum 1994. Study XII.
2 Я усвоил и применил известную мысль Бенедикта Андерсена в своей статье „Imagined Communities and the Origins of the National Question in the Balkans”, European History Quaterly, vol. 19 (1989), 149-192. Статья также перепечатана в сборнике Paschalis М. Kitromilides, Enlightenment, Nationalism, Orthodoxy. Aldershot and London: Variorum 1994. Study XII.
3 На мои исследования гораздо большее влияние оказала первая работа Геллнера по национализму (Ernest Gellner, Thought and Change. London: Weidenfeld and Nicolson, 1964, 147-178), чем его общеизвестные и широко обсуждаемые «Нации и национализм», М., Прогресс. 1991 (Nations and Nationalism, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983).
4 В современных работах по национализму Энтони Смит предупреждает читателя (продолжая линию аргументов Джона Армстронга в Nations before Nationalism (1982)), что не следует пренебрегать «этническим происхождением», создающим необходимую базу для построения национальных сообществ. Тем самым, он выявил необходимость серьёзного исследования источников и исторических прецедентов.
5 Eric Hobsbawm, The Age of Revolution (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962), 163-177, а также сравнительно недавнее Nations and Nationalism since 1780 (Cambridge: Cambridge University Press, 1990) См. русский перевод «Нации и национализм после 1780 г». СПб., Алетейя, 1998; Э. Хобсбаум. «Век революции», Ростов н/Д., Феникс. 1999.
15 Воспользуюсь случаем, чтобы обратить внимание на такой парадокс: влияние, оказанное Кедури на моё понимание национализма, сочеталось с
7
Размышляя о причинах этого обстоятельства, я прихожу к выводу, что ответ связан с двумя основными направлениями работы Ке- дури. Первое касается наиболее важного, на мой взгляд, вклада, содержащегося в его книге, — освободить исследование национализма от однолинейной и упрощённой интерпретации истории мысли (как например, у Ганса Кона) и развернуть его в сторону социальной и политической философии, в рефлексию о месте и положении человека в истории. Почему современный человек столь остро ощущает потребность отождествить себя с той или иной нацией? Отвечая на данный вопрос, Кедури указывает на когнитивные и нравственные предпосылки этого отождествления, и поэтому предлагает философский способ понимания вместо политического или антропологического подходов, которые мы вынуждены были бы принять, если бы чувство национальной идентичности было связано с государственной или любого рода другой первичной властью. Он сам стремился к философскому, а не к политическому или историческому подходу — на первый взгляд это выглядит как непоследовательность, ибо остальные его труды тесно связаны с политической историей, но легко подтверждается одним характерным фактом. В послесловии Кедури разбирает аргументы критиков «Национализма». Единственный интересующий его вопрос — интерпретация Канта. Кантовскую философию самоопределения Кедури считал философским источником современного национализма.* 1
Думаю, именно это философское измерение книги выделяет её из всего ряда профессиональной литературы. Кроме того, философские размышления способствовали и другому направлению исследования — глубокой, сдержанной, нередко недосказанной критике. Кедури представляет на суд читателя свое понимание национализма как социальной философии, но за этим толкованием трудно не различить критики. Недоверие к роли интеллектуалов напоминает взгляды Оукшотта, но, думаю, те, кто видят в этом лишь проявление «кон¬
другим влиянием, о котором стоит вспомнить. Речь идёт о работе Рудольфа Рокера «Национализм и культура» (Rudolf Rocker, Nationalism and Culture New York 1937)). Парадокс, конечно, внешний, но, тем не менее, он существует: Кедури, консерватор школы Оукшотта, и Рокер, анархо- синдикалист и интернационалист, приходят, по сути, к одному и тому же пониманию характера национализма.
1 См. ниже с. 127-128. Ср. также с. 30-38.
8
серватизма школы Оукшотта», глубоко заблуждаются.2 Впрочем, такое непонимание работы Кедури легко объяснимо. Чтобы правильно оценить значимость критической позиции, обозначенной в «Национализме», нужно представлять себе постепенное становление его мысли, ведущее к вершине, что и выражено в данной работе. Однако, изучая теоретические подходы к национализму, часто упускают из виду более широкий фон исследований Кедури, откристаллизовавшийся в «Национализме». С ним знакомы только специалисты по ближневосточной политике, а точнее, по истории британских поражений на Ближнем Востоке. Не ознакомившись с этим спектром творчества Кедури, невозможно во всей полноте оценить критические настроения «Национализма».
Без анализа работ Кедури по Ближнему Востоку останется непонятным его очевидное недоверие к национализму, особенно к интеллектуалам-националистам, или его пессимизм в отношении надежд на новаторство, которые проявляются в мировоззрении Просвещения. Большинство этих работ написаны в 1950-е, и они образуют субстанциальную базу, на которой Кедури возводил аналитическое здание «Национализма». Я напомню два политических очерка этих лет, отражающие и раскрывающие, аналитическую концепцию данной книги, изданной в 1960 г.
Первый очерк называется «Меньшинства» и датирован 1952 г. Он посвящён самоуничтожению османских армян и иракских евреев и отчётливо демонстрирует, почему автор так не доверяет националистам-интеллектуалам и испытывает такое отчаяние от невежества политических лидеров национализма. Это исследование о политической слепоте, корыстном фанатизме и страсти, обесцененной жаждой власти и алчностью её представителей, выявляет национализм с самой мрачной его стороны.3
Другой очерк носит название «Религия и политика». Он отражает фундаментальное противоречие национализма, подрывающее его претензию быть философским основанием для человеческих действий. Это яркая работа о неизбежной логике, заставившей арабов-христиан принять ислам, чтобы затем примкнуть к
2 См., например, David Miller, On Nationality (Oxford: Oxford University Press, 1995), c. 31 и c. 108-109.
3 Elie Kedourie, The Chatham House Version and Other Middle Eastern Studies (Hanover and London: University Press of New England, 1984), 286- 316.
9
национализму.1 Она показывает несовместимость любых форм универсализма, будь то христианский экуменизм или универсализм. Просвещения, в котором, согласно Кедури, таятся истоки национализма, с системой ценностей и страстями национализма. Этот чрезвычайно важный текст помогает нам увидеть, как любая церковь — в Ирландии, Польше, России или на Балканах — по сути перестаёт быть христианским институтом с того момента, как превращается в движущую силу национализма. Я могу добавить, что эта позиция является решающей для понимания судьбы христианства не только на Ближнем Востоке, но и в Восточной и Юго-Восточной Европе. Мы убеждаемся, насколько недальновидными, введёнными в заблуждение и неосведомлёнными были западные обличители ценностей и традиций православного христианства, которые были объявлены причинами преступлений национализма и примордиализма.
Аналитическое различие, проводимое Кедури между христианским экуменизмом и национализмом, может быть особенно полезным, поскольку убедительно показывает, что сообщником была не сама по себе православная христианская традиция в конкретном регионе, а национализированная церковь, на которую надели смирительную рубашку и подчинили целям светского государства. Эта мысль оказалась драгоценной для моих собственных работ.1 2 Различие обозначено достаточно ясно, хотя и не развёрнуто Кедури во всей своей полноте. Очерк о религии и национализме надо бы прочитать и основательно обдумать западным наблюдателям, запутавшимся в интригах восточноевропейской политики, да и интеллектуальному крылу лидеров фундаменталистского движения Восточ¬
1 См. там же. С. 317-350.
2 О противоречии между православием и национализмом я писал в „Imagined Communities and the Origins of the National Question in the Balkans“, 177-185 (см. выше). О не-национальном характере православия см. также „Balkan Mentality. History, Legend, Imagination“, Nations and Nationalism 2, 2 (1996), 163-191. Добавлю ещё, что, когда я предложил статью „Greek irredentism in Asia Minor and Cyprus“ в журнал „Middle Eastern Studies“, главным редактором которого был тогда Кедури (опубл. в №26, вып. 1, 1990 г.), он с интересом отнёсся к ссылке на работу митрополита Сардского Максима „The Ecumenical Patriarchate in the Orthodox Church“ (Thessaloniki, 1976). В ней с позиций православной идеологии рассматривалась несовместимость христианского учения с этническими и национальными концепциями. Вскоре Кедури в письме попросил у меня экземпляр этой книги.
10
ной и Юго-Восточной Европы он будет поучителен в том невероятном случае, если они когда-нибудь зададутся вопросом о последствиях их бесконечных разглагольствований.
Книга Эли Кедури, на мой взгляд, ещё долго будет важной точкой отсчёта в вопросах национализма. Это трезвый и серьёзный труд, ценность которого будет лишь возрастать по мере того, как изучение национализма будет переходить от модной трескотни к систематическим исследованиям и теоретическим размышлениям. Может быть, в этой области однажды появится свой собственный корпус классических текстов. Тогда изучение национализма освободится от оков модных течений и наберёт собственную динамику роста, которая может состоять только в постоянном диалоге теории и исследования. И я ни на секунду не сомневаюсь, что в этом диалоге работа Кедури получит признание и уважение, которых она по праву заслуживает своей духовной отвагой и честностью.
Пасхалис М. Китромилидис
Директор Института Новогреческих Исследований
Национального Исследовательского Фонда Греции
ПРЕДИСЛОВИЕ АНГЛИЙСКОГО ИЗДАТЕЛЯ
Эли Кедури ушёл из жизни неожиданно, скоропостижная смерть наступила 29 июня 1992 года в Вашингтоне. Он вёл много проектов. Получив грант Международного научного центра Вудро Вильсона, он жил последний год в Вашингтоне и чувствовал себя свободным от остальных обязательств, отдавая всё своё время монографии о консерватизме, занимавшей его долгие годы. Одного взгляда на работу о национализме, написанную более тридцати лет назад, достаточно, чтобы понять очевидное: её актуальность сегодня настолько же остра, как и в те дни, когда она писалась. Тот факт, что суждения автора и изложение исторических событий сохраняют свою злободневность после длительного промежутка времени, лишь увеличивает чувство потери, ибо его мысли о современных и исторических вопросах более не будут радовать читателя. Среди бумаг Эли Кедури я нашла статью, которая может стать прекрасным введением к 4-му изданию «Национализма», работы точной, проницательной и классически ясной. Эли Кедури всегда приходил в недоумение от избыточных тонкостей, с помощью которых большинство людей классифицируют себя или других. Ярлыки, обозначающие «национальные» взаимоотношения, не давали ему покоя. Но более всего его волновала идентичность личности; он всегда ясно видел, насколько хрупка эта идентичность перед идеологическими моделями. Это его беспокойство в полной мере подтверждается сегодняшними «этническими чистками». Мысль приходит в оцепенение от того, что словам этим придаётся смысл ритуального очищения.
Смещения в идентификации ещё более остры, когда в приграничных территориях национальная идентичность меняется по мере того, как границы произвольно смещаются и перекраиваются. В Европе не надо далеко ходить за примерами. Общеизвестна ситуация, когда пограничное население периодически меняет свой флаг. Включая в книгу нижеследующее введение Кедури, я бы хотела обратить внимание читателя на последние четыре абзаца в этом введении, проясняющие позицию автора по этим вопросам. Абзацы были пронумерованы и, очевидно, служили пунктами, к которым Эли Кедури хотел в будущем вернуться. К сожалению, ему не хватило времени развить эти мысли на бумаге, но я решила оставить всё так, как нашла в черновике — за исключением того, что удалила номера с 1 по 4. За это я прошу у читателя прощения...
Сильвия Кедури,
весна 1993 года
12
ВВЕДЕНИЕ К ЧЕТВЁРТОМУ ИЗДАНИЮ
Национализм вновь выступил на первый план. Развал Советского Союза с последующими конфликтами между и внутри его бывших республик означал исчезновение политического целого, собранного царями и унаследованного большевиками. В развале Югославии есть грустная ирония истории, сербы, албанцы, хорваты и боснийцы оказались вновь втянуты в жестокую гражданскую войну. Югославия была образована после Первой мировой войны как ясное выражение предполагаемого страстного желания южнославянской нации (югославов) обрести предуготовленное для них национальное единство, которого они были лишены вследствие жадности и притеснения, исходивших от османов, австрийцев и венгров.
Это далеко не единственный националистический конфликт после окончания Второй мировой войны. Однако, из-за того, что развал Советского Союза был развалом сверхдержавы, а Югославия была европейским государством, проблемы, возникшие там недавно, оказали особенно сильное влияние на Запад. Они вновь выдвинули на передний план вопрос о национализме и связанный с ним комплекс тем — причём, в крайне резкой и острой форме, которой Европа не знала уже несколько десятилетий. Эти перемены оказали на меня огромное воздействие.
Я опубликовал «Национализм» в 1960 году. Это был курс лекций, читавшийся мною в Лондонской школе экономики на протяжении предшествующих пяти лет. Я взялся за этот курс по просьбе Майкла Оукшотта, тогдашнего заведующего кафедрой управления, когда пришёл на кафедру ассистентом в октябре 1953 года. Не знаю, чего именно хотел Оукшотт, когда попросил меня об этом. Что же касается меня, я изучал историю политических учений, и подошёл к теме именно с позиций истории политических учений. Особо национализмом я прежде не занимался и уж точно не воспринимал его как тему злободневную — я сомневаюсь, что и Майклу Оукшотту он виделся в таком свете. Думаю, для него, скорее, это был вопрос, относящийся к истории политической мысли, достаточно серьёзный и сложный, чтобы изучать его со студентами, расширять их интеллектуальный кругозор и открывать горизонт. Национализм рассматривался им наравне с другими ведущими проблемами западной политологии, как,
13
например, суверенитет, представительство, светское общество, которые рождены политической мыслью Запада, а сейчас распространились по всему миру.
Я подошёл к вопросу точно так же — это очевидно каждому после краткого знакомства с книгой «Национализм». Из семи глав четыре посвящены интеллектуальным истокам этой идеологии и исследованию её первостепенных положений, их выводов и последствий. Они были окончательно выработаны, самое позднее, в 1848 году — году, так сказать, возникновения наций, засвидетельствовавшем, помимо всего прочего, небывалый всплеск националистических призывов и амбиций.
Последние две главы посвящены политической истории национализма — в противовес истории интеллектуальной. Эта политическая история включала комплекс амбиций и ожиданий государств или социальных групп, стремившихся к получению государственности в международном сообществе, где идеологический стиль политики стал существенно превалировать. Кульминацию такого положения дел я увидел в событиях Первой мировой войны и её исхода, когда образовалось большое число государств в Центральной и Восточной Европе и на Ближнем Востоке, исповедовавших национальные принципы. Не менее важно, что после 1914 года в международное право прочно вошла нравственная составляющая, а именно: право на национальное самоопределение.
В 1953 году, когда я приступил к работе над этим предметом, и в 1960 году, когда вышла книга, я рассматривал этот предмет с позиции исторической, то есть, по определению связанной с прошлым. Конечно, и тогда в мире были активные националистические движения, например, восстание Алжира против Франции, но их существование не ставило новых интеллектуальных вопросов и не меняло моего представления о картине националистской политики.
Я назвал национализм идеологией. Целью моей было отличать его от конституционной политики. В конституционной политике предметом рассмотрения выступают общие вопросы конкретного общества, защита его от нападения, урегулирование разногласий и конфликтов между различными группами, опирающееся на политические институты, законодательство и юстицию и поддерживающее закон от воздействия внешних и внутренних интересов, какими бы влиятельными и важными они ни были.
Идеологическая политика состоит в ином. Её задача — установить положение дел в обществе и государстве так, чтобы все, как го¬
14
ворится в старомодных романах, жили долго и счастливо. Чтобы добиться этого, идеолог смотрит, если заимствовать аналогию из Платона, на государство и общество, как на холст, который следует очистить, а затем писать на этой «чистой доске» своё видение справедливости, добродетели и счастья.
Идеологическая политика в любом смысле — современный европейский феномен, появившийся во время Французской революции. Трактат Канта «К вечному миру» (1795), можно сказать, выражает, или отстаивает, такое идеологическое видение. Мир между людьми воцарится только в том случае, если устройство каждого государства будет республиканским, а устройство будет республиканским, если граждане регулируют своё поведение в соответствии с категорическим императивом. Не надо долго думать, чтобы представить, какой нужен социальный и политический переворот, чтобы осуществить подобный замысел. А следующий шаг мысли уже ясно продемонстрирует, что одна лишь попытка очистить холст повлечёт за собой произвол, беззаконие и насилие такой непомерной силы, что идеологическое видение вечного мира и радости будет отступать всё дальше и дальше за горизонт. Таким образом, идеологическая политика будет неизбежно и необходимо вовлечена в вечный гибельный и саморазрушительный конфликт между целью и средством.
Любопытно, что идеологическое течение в западной политической мысли само по себе было ответом на состояние человека в современной Европе, так глубоко терзавшее знаменитых мыслителей. Между правящими и управляемыми существовал разрыв. Для народа правительство выступало как нечто внешнее, как обращение с подданными по принципу произвола, а подданные воспринимались таким правительством как цифры, абстрактные числа в статистических таблицах, с помощью которых неизвестные и безликие бюрократы основывают политику улучшения благосостояния своих чад. Однако такая политика, разделённая духом безличной и всезнающей благожелательности, в действительности была лишена малейшей искры человеческой симпатии или чувства товарищества. Государство, существующее на таких основаниях, означало разделение и обособление его членов, не имеющих чувства общности и солидарности по отношению друг к другу. Будучи абстрактной цифирью для своих правительств, подданные привыкли так рассматривать и своих товарищей — как абстрактные цифры, отношения с которыми неизбежно поверхностны, внешни и механичны. Разделение в душе каждого человека лишь отражало разделение в обществе, было, так сказать, его
15
эхом — разделение между умом и сердцем, разумом и чувством. Разум был чисто вычислительной, классификаторской возможностью, неспособной говорить с чувствами. Это привело к фрустрации, само- отуплению и высушиванию способности воображения — того самого творческого начала, которое, как известно, отличает человека от остальных живых существ. «Письма об эстетическом воспитании человека» Шиллера, опубликованные в 1790-е годы, — ключевой документ в анналах проблемы отчуждения среди текстов многих мыслителей, идеи которых оказали влияние на последующие поколения в Европе, — способствовали осознанию процесса отчуждения, созданного условиями современной жизни.
Идеологические течения в современной западной политической мысли были ответом на затруднительное положение современного человека, опознанное в описанном мной состоянии. Идеологии менялись в зависимости от того, что считалось причиной отчуждения. В итоге две различные идеологии стали влиятельными, мощными и превалирующими в Европе, а позднее и во всём мире. Одной из них был национализм, считавший человечество, говоря коротко, естественно поделённым на нации, которые были и должны были быть единицами политической организации. Политическая организация в мире, не следовала этому принципу, и отсюда все беды — притеснение, отчуждение, обеднение духа. Человечество окажется в тупике, есди-каждая нация не будет независимой в собственном государстве. Далее, если каждая нация живёт и осуществляется в собственном государстве, то, как говорил Джузеппе Мадзини, на свете воцарится вечный мир. Эта идеологическая одержимость изжила себя за сто лет европейской и мировой политики с 1848 года до конца Второй мировой войны. Теперь, однако, совершенно очевидно, что эта идеологическая одержимость не могла предоставить средства от горя отчуждения и притеснения, в отношении которых она стремилась найти выход. Примерам несть числа — Югославия, Ирак, вопрос германского единства, в особенности в межвоенный период, по сути, ставший искрой Второй мировой войны. Величайшая победа этой идеологической одержимости — становление национального самоопределения как организующего принципа международного порядка. Опыт — горький опыт — показал, что вопреки мечтам Мадзини и президента Вудро Вильсона национальное самоопределение в международной жизни было принципом возмущения беспорядка, а не порядка. Это я и попытался передать в двух последних главах «Национализма».
16
Социализм другая мощная идеология, подготовленная, чтобы излечить человечество от отчуждения и несчастий. Причина бед, по диагнозу социализма, таилась в частной собственности. Первый человек, отгородивший свою собственность от других, принёс, по мысли Руссо, в мир несвободу, и человечество не вкусит свободу от притеснения и самоотчуждения, пока не изничтожит частную собственность. Эта другого рода идеологическая одержимость в свою очередь обнаружила свою недееспособность в политике двадцатого столетия. Как и национализм, она не принесла ни счастья, ни духовного насыщения, ни даже материального благополучия, но, напротив, явила невиданные прежде притеснения и страдания, и потонула под весом собственных неверно истолкованных идеалов.
Разложение и падение социализма в советской империи и её сателлитах не означало исчезновение идеологического стиля политики. Напротив, как мы видим, этот стиль в рамках протестного движения против социалистической тирании способствовал не меньшему оживлению и рецидиву национализма, чем другая идеологическая одержимость. Сегодня тема моей работы — по характеру своему историческая — стала иметь непосредственное отношение к текущим событиям, отношение, которое я не мог и представить, когда писал курс лекций в середине пятидесятых.
Поэтому подрыв и саморазрушение большевистского и других социалистических режимов никак не означает, что в дальнейшем процесс изменений будет проходить мирно, или, что режимы последователей будут успешными.
Националистское устремление вовсе не означает, что требуемые идеологией нации действительно существуют и могут предоставить социальное основание для национального государства, например, казахская, узбекская, таджикская или молдавская нация.
Вопросы, превратившие в издевательство национальное самоопределение после 1918 года, появились вновь: узбекско-армянский, молдавско-русский и многие другие.
Исчезновение советской сверхдержавы, создало опасный дисбаланс сил среди её бывших республик, между ними и их соседями. Существует возможность серьёзных конфликтов. Россия, по любому определению есть великая держава в классическом смысле, окружена более слабыми государствами. Власть, как вода, достигает определённого уровня. Так же, как установленная в Версале система безопасности оказалась бессильной защищать от немецкой власти государства, образовавшиеся в результате развала Австро-Венгрии, ког¬
17
да Германия начала играть мускулами в тридцатые, так и система Объединённых Наций не в силах удержать Россию от влияния в бывших царских и советских владениях. Бессилие ООН и Европейской Комиссии в обуздании сербских амбиций в Хорватии, Боснии и Герцеговине может быть предвкушением того, чему ещё суждено случиться в Восточной Европе, на Кавказе и в Средней Азии. Опасность балканизации не ограничивается Балканами.
; Очевидно, что националистическая идеология не гарантирует ни процветание, ни хорошее или честное правительство. Тридцать лет правления Фронта национального освобождения в Алжире, рекорды пребывания у власти устойчивых национальных режимов — иракского, сирийского, египетского, Югославия под властью Тито и его преемников — вот лишь несколько примеров, чтобы подтвердить мою мысль.
Эли Кедури,
весна 1992 года
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Издатель предоставил мне возможность внести несколько изменений и добавлений во второе издание.
Комментируя первое издание, критики заметили, что я обхожу вопрос, должны ли националисты быть умиротворены или оказывать сопротивление. Решение по этому вопросу определяется в зависимости от обстоятельств в каждом конкретном случае, и будут ли его последствия удачными или катастрофичными, зависит от мужества, проницательности и удачи тех, кто берёт на себя ответственность принять это решение. Для учёного предложить своё видение этой проблемы будет делом, буквально, дерзким — учёные не предсказатели, и только с наступлением сумерек, говорил Гегель, сова Минерва расправляет крылья.
Эли Кедури
1961 г.
19
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
Эта книга, обязана своим появлением факту существования значительного корпуса европейской и американской мысли, из которого я свободно заимствовал. Этот долг нельзя отплатить, не увеличив его. Я бы хотел упомянуть здесь лишь двух великих учёных, работы которых, хотя они и не занимаются национализмом, осветили мне путь: Альбер Сорель и Артур Онкен Лавджой.
Я благодарю Эрнеста Геллнера, Эмиля Марморштейна и профессора Майкла Оукшотта, взявших на себя труд скрупулёзно и по- дружески усердно обсуждать со мной эту тему и внесших много ценных предложений. Однако, никто из них не несёт ответственности за то, что напечатано в этой книге.
Эли Кедури 1960 г.
Глава 1.
ПОЛИТИКА НОВОГО СТИЛЯ
Учение о национализме, возникшее в Европе в начале,XIX века, предложило создать критерий для определения единства населения, которое в состоянии иметь своё собственное правление для установления законной власти в одном государстве и для правильной организации сообщества государств. Иначе говоря, это учение подразумевает, что человечество естественным образом делится на нации, что нации обладают конкретными характеристиками, которые могут быть установлены, и что единственный законный вид правления — это национальное самоуправление. Не последняя заслуга этого учения в том, что такие утверждения нашли сочувствие и стали восприниматься как сами собой разумеющиеся, а само слово «нация» национализм аранжировал в значении, не мыслимом до конца XVIII века. Эти взгляды вскоре прочно утвердились в политической риторике Запада, распространившейся затем по всему миру. Однако, то, что теперь кажется естественным, когда-то таковым не было и требовало обоснования, убеждения, разного рода свидетельств. Что видится простым и прозрачным, на деле оказывается запутанным и мудрёным, исход обстоятельств теперь забыт, прежние установки сегодня сугубо теоретичны, остатки метафизических систем иногда плохо совместимы и даже противоречивы. Чтобы разъяснить это учение, необходимо исследовать судьбы определённых идей в философской традиции Европы, и показать, как они проявились в конкретный период времени.
Судьбы идей, как и людей, зависят как от случая, так и от их собственной ценности и сущности, и поскольку учение о национализме появилось на исходе восемнадцатого столетия, оно было не только результатом философских споров, но следствием событий, придавших этим философским вопросам непосредственную и очевидную уместность. Философия Просвещения, превалировавшая в Европе XVIII в., подразумевала, что вселенная управляется однородным, неизменным законом Природы. Разумом человек может открыть и понять этот закон, и если общество будет организовано по его условиям, воцарятся удовольствие и счастье. Закон был универсален, но это не означало, что между людьми нет различий. Скорее, речь шла о том, что у них
21
есть нечто общее, более важное, чем любые различия. Могло быть сказано, что все люди рождаются одинаковыми, что у них есть право на жизнь, свободу, стремление к счастью. Или же другой вариант, что люди подчинены двум суверенным господам — Боли и Удовольствию, и что лучшие социальные устройства те, что максимизируют удовольствие и минимизируют боль. Как ни перефразировать такое учение, можно извлечь определённые выводы. Согласно этой философской концепции, государство есть собрание индивидов, живущих вместе, чтобы укрепить собственное благосостояние, и обязанность правителей управлять так, чтобы принести — средствами, устанавливаемыми разумом, — как можно большее благосостояние жителям своей территории. Это социальный пакт, объединяющий людей вместе и определяющий права и обязанности правителей и субъектов. Такова не только позиция философов, требовавших утвердить её как всеобщую действительность, но и официальная доктрина просвещённого абсолютизма.
В соответствии с этим учением, просвещённый правитель регулирует экономическую деятельность своих подданных, обеспечивает им образование, следит за здоровьем и санитарией, предоставляет единое и немедленное правосудие и в целом заботится — даже против их воли — о благосостоянии своих подданных, ибо величие государства определяется славой его правителя, государство же может стать великим только в пропорции населения к его процветанию. Именно так следует понимать высказывание Фридриха Великого Прусского, что король — первый слуга государства. Небольшой трактат в форме писем между Анапистемоном и Филопатром, написанных самим Фридрихом («Письма о любви к отечеству» (1779)), может проиллюстрировать эти взгляды. Автор пытается показать, что любовь к отечеству — рациональное чувство, и опровергнуть мысль, приписываемую «некому энциклопедисту», что поскольку земля есть общее жилище человечества, мудрец должен быть гражданином мира. Конечно, Филопатр соглашается, что люди — братья и должны любить друг друга, но благодеяние само по себе подразумевает наличие обязательства, более неотложного и конкретного по отношению к особому обществу, с которым индивид связан социальным пактом. «Благо общества — твоё благо, — сообщает Филопатр Анапистемону. — Не реализовав его, ты настолько крепко привязан к своему отечеству, что не можешь ни обособиться, ни отделиться от него, не почувствовав последствий своей ошибки. Если правление удачно, ты процветаешь; если нет — ошибки повлияют на тебя. Подобным образом, если
22
граждане наслаждаются честно нажитым богатством, монарх процветает, если же граждане подавлены бедностью, состояние монарха достойно жалости. Поэтому любовь к отечеству не есть лишь придумка, она действительно существует». И Филопатр далее показывает, что целостность всех провинций государства напрямую касается гражданина. «Разве ты не видишь, — спрашивает он, — что если правительство потеряет эти провинции, оно ослабеет, а, следовательно, теряя ресурсы, полученные из них, будет менее способно помочь тебе в случае надобности?»
С этой точки зрения, сплочённость государства и верность ему зависят от его способности обеспечить благосостояние индивида, а у него любовь к Отечеству — это совокупность полученной выгоды. Рядом с мнением прусского короля мы поместим мнение частного лица. Гёте, рецензируя в 1772 году книгу «О любви к Отечеству», написанную, чтобы укрепить верность Габсбургам в Священной Римской Империи, сказал следующее: «Есть ли у нас Отечество? Если мы можем найти место, где остаться с нашей собственностью, поле, которое бы нас кормило, дом, который бы нас укрывал, разве не там наше Отечество?»
Таким было распространённое мнение в Европе в начале Французской революции. Существенно помнить значимость этого события. Это были не просто общественные беспорядки, переворот, заменивший один строй правителей другим. Европе такое было не в новинку, и Французскую революцию действительно в начале восприняли как подобного рода волнение, или же попытку осуществить программу реформ, которые Просвещённый Абсолютизм официально присвоил себе. Но становилось всё более и более очевидным, что Французская революция представила новые возможности в использовании политической власти и изменила цели и законные задачи правителей. Революция означала, что если граждане государства более не одобряют политического устройства их общества, у них есть право и власть заменить его на другое, более удовлетворительное. Как гласила Декларация прав человека и гражданина: «Источником суверенной власти является нация. Никакие учреждения, ни один индивид не могут обладать властью, которая не исходит явно от нации».1 Здесь заложена одна предпосылка, без которой такое учение, как национализм, немыслимо. Такого рода учение выводит, как наилучшим образом обществу поддерживать политику и осуществлять цели, пусть даже ра-
' Пер. В.В. Маклакова, В.Л. Энтина.
23
дикальными изменениями: и Французская революция впечатляюще доказала, что такое предприятие осуществимо. Тем самым она весьма усилила склонность к политическим волнениям, подразумеваемым в реформах, проповедуемых Просвещением и якобы усвоенных Просвещённым Абсолютизмом. Эти реформы должны были проводиться в соответствии с планом и не должны были прекращаться до тех пор, пока общество целиком и полностью не подчинилось бы этому плану. Таким образом, росло жадное ожидание перемен, расположение в их пользу, и убеждение, что государство коснеет, если постоянно не обновляется. Такой климат в мировоззрении был необходим для развития и распространения учений типа национализма. t «Источником суверенной власти является нация». Что же значила тогда нация? В обыкновенной речи слово natio исконно обозначало группу людей, объединённых сходством рождения, большую, чем семья, но меньшую, чем клан или народ. Поэтому говорили Populus Romanus, а не natio romanorum.' Это понятие в особенности применялось к общности иностранцев. Средневековые университеты, как хорошо известно, делились на «нации». В Парижском университете было четыре нации: почтенная нация Франции (l’honorable nation de France), верная нация Пикардии (la fidèle nation de Picardie), достопочтенная нация Нормандии (la vénérable nation de Normandie) и твёрдая нация Германии (la constante nation de Germanie). Этими различиями пользовались внутри университета, они обозначали места происхождения, но никоим образом не соответствовали ни современным географическим подразделениям, ни тому, что сегодня понимается под «нацией». Так, нация Франции относилась к носителям романских языков, включая итальянцев и испанцев, нация Пикардии относилась к голландцам, Нормандии — к выходцам из Северо-Восточной Европы, Германии — к англичанам и собственно немцам. В расширенном смысле это существительное стало собирательным, иногда с отрицательной коннотацией. Например, Макиавелли говорит о нации гибеллинов, а Монтескье упоминает монахов как благочестивую нацию. Употребление слова как собирательного существительного продолжается и в восемнадцатом веке, и Юм в очерке «О национальных характерах» утверждает, что «нация есть не что иное, как собрание индивидов», которые в процессе постоянного общения приобрели некоторые общие черты. Дидро и Да- 11 Populus Romanus {лат.) — римский народ; natio romanorum {лат.) — нация римлян.
24
ламбер в «Энциклопедии» определяют «нацию» как «имя собирательное для обозначения значительного числа людей, населяющих определённое пространство страны внутри определённых границ, и подчиняющихся одному правительству». Но со временем это слово развило и особое политическое значение. Под нацией стали понимать группу людей, претендующих представлять или избирать представителей для конкретной территории на соборах, сессиях или сословных собраниях. Церковные соборы делились на нации. Генеральные Штаты во Франции на собрании 1484 года состояли из шести наций. На Сатмарском мире 1711 года, положившем конец борьбе между империей и венграми, стороны представляли династия Габсбургов и венгерская нация: в этом контексте «нация» подразумевала не общность народа, населяющего территорию Венгрии, а «баронов, прелатов и знать Венгрии», чрезвычайно маленькую часть населения, которая тем не менее позволяла использовать плодотворное разделение Гизо на часть страны с политическими правами {pays légal) и действительную часть страны {pays réel). Этот тот же смысл, в котором использует слово «нация» и Монтескье в «Духе законов», когда он говорит, что «во время первых двух династий [во Франции] часто созывали нацию, то есть аристократию и епископов». Поэтому, когда революционеры постановили, что «источником суверенной власти является нация», они, может быть, утверждали, что нация — это больше, чем король и аристократия. Это заявление, заключённое в определении Дидро и Даламбера, процитированном выше, позднее было внятно разъяснено Сийесом. «Что такое нация? — спрашивает Сийес и отвечает, — корпус членов, живущих под одним общим законом и представленных одним и тем же законодательством».
Такое заявление одновременно просто и всеобъемлюще. Нация — это корпус людей, за который правительство несёт ответственность посредством законодательства; любой корпус людей, соединившихся вместе и определяющих форму своего собственного правительства, образует нацию, и, исходя из этого определения, если бы все народы земли учредили общее правительство, то образовали бы нацию. Такое заключение, хоть и корректно, но исключительно теоретично. Однако, может быть выведено другое заключение, действие которого уже будет гораздо существеннее. Предположим, группа индивидов, живущих при определённом правительстве, решает, что не желает его более признавать. Как только они получают суверенитет, они могут образовать новое правительство и составить новую нацию. Такой принцип, введённый в Европе XVIII века, положил на¬
25
чало многочисленным беспорядкам. Отношения между европейскими государствами прежде были исходом катастроф, войн, династических соглашений и регулировались игрой конфликтов и альянсов, дружбы и вражды, каким-то образом создавшей равновесие власти. Возможно, такое равновесие не имело существенных заслуг само по себе, не будучи ни принципом порядка, ни гарантом прав, а лишь эмпирическим изобретением, подверженным частым и серьёзным расстройствам. Но это равновесие покоилось на предпосылке, которая сама по себе ограничивала и контролировала любые расстройства. Предпосылка заключалась в том, что претензия правительства на суверенность власти не зависела от происхождения власти. Так, сообщество европейских государств допускало все разновидности республик, наследственных и выборных монархий, конституционных и деспотичных режимов. Но по принципу, провозглашённому революционерами, все правительства, существующие на тот момент, были поставлены под вопрос. Поскольку они не производили свой суверенитет из нации, то были узурпаторами, с которыми не могло быть заключено никакого соглашения, и которым подданные были не обязаны хранить верность. Ясно, что подобное учение вело к международным конфликтам, превращая эти конфликты в неразрешимые для традиционных методов государственного правления. По сути, оно опровергало все международные отношения, известные до сих пор.
Довольно скоро возник вопрос, продемонстрировавший миру последствия нового учения. Когда в XVII веке Эльзас был присоединён к Французскому королевству, положение знати в провинции определялось международным договором. Имевшие поместья в Эльзасе и в Священной Римской Империи присягали на верность королю Франции в отношении своих эльзасских поместий, а с другой стороны, в отношении своих имперских территорий, имели статус, дарованный им по конституции Империи. Вскоре после начала революции все феодальные привилегии были отменены во Франции, и права эльзасской знати оказались под вопросом. Правда, они присягали на верность королю, и потому были связаны французским законом, но эти обязательства были созданы международным договором, который, утверждала знать, гарантировал и их привилегии. Привилегий, подчёркивалось, нельзя было касаться, если только революционное правительство не намеревалось нарушить договор. Революционеры допустили, чтобы подавались и предлагались особые рассмотрения в качестве милости, компенсируя эльзасской знати привилегии, которых она лишилась. Но эта односторонняя акция не удовлетвори¬
26
ла эльзасскую знать: если в их привилегии вмешиваются, то пусть французское правительство должным образом разрабатывает новое соглашение, вместо того чтобы раздавать произвольные распоряжения. Споры продолжались. И то, что было сказано с французской стороны, стоит рассмотреть. Учредительное собрание передало вопрос в специальный комитет, и rapporteur1 начал доклад с определения нового принципа, согласно которому Франция отныне будет проводить международную политику. Неподкупные представители французского народа, заявил он, провозгласив священные и неотъемлемые права наций, не признают никакого другого правила, кроме правосудия. А потому все прежние договоры и конвенции — плод заблуждения королей и их министров — более не будут иметь силы. Старое международное право было одним, а новое — совсем другим. Согласно старым правилам, эльзасская знать имела право требовать компенсации по договору, но в новое время всё поменялось. Французская нация объявила себя суверенной, и народ Эльзаса, по акту своей воли, объединился с французским народом и разделил его суверенитет. Союз Франции и Эльзаса отныне законный не посредством какого-то договора, а посредством очевидной воли народа. Знать не имеет права на компенсацию, если волей народа не решено, что таковая ей может быть предложена. «Разве у свободного союза одного народа с другим, — спросил однажды Робеспьер, — есть нечто общее с завоеванием?» Подобным образом, то что до 1789 года было бы конфискацией, после стало простым вступлением в законное владение. Такие вот чудеса стали возможны при новом порядке.
Затем революционеры требовали мирного выполнения общеизвестного естественного права, и впоследствии предложили миру новое международное право, которое, как они утверждали, непременно будет вести к миру. Статья шестая Конституции 1790 года гласила: «Французская нация отказывается от всех захватнических войн, и никогда не будет применять силу против свободы любого народа». Но очевидно, этот принцип допускал свободную интерпретацию, ибо он мог оправдать присутствие армии за пределами Франции. Всего два года спустя после этих категоричных заявлений, декрет Конвенции объявил, что французская нация, хоть и не будет предпринимать войны против другой нации, считает своим правом защищать свободный народ от несправедливой агрессии короля, а более поздний декрет направлял исполнительную власть предоставить по- *Rapporteur (франц.) — докладчик.
27
мощь народам, сражающимся за свободу. Таким образом, новое меж* дународное право не могло отменить конфликты и войны. Франция по-прежнему оставалась Францией, государством среди прочих европейских государств, с амбициями и позициями, использующим силу, чтобы применить эти амбиции и позиции к более слабым государствам. Чего достигли новые принципы — так это введения нового стиля политики, при котором выражение воли отвергало договоры и соглашения, расторгало присяги и с помощью простой декларации делало законным любое действие. По самой своей природе этот новый стиль вёл к крайностям. Он представлял политику как борьбу за принципы, а не бесконечное построение противоречивых требований. Но поскольку принципы не отменяют интересов, произошла пагубная путаница. Амбиции государства или замыслы фракции столкнулись с чистотой принципов, компромисс считался изменой, а тон раздражённой непримиримости стал обычным между конкурентами и противниками. Сознание права всё оправдывало, и даже эксцессы не разрушали, а только укрепляли это сознание. Террор стал атрибутом чистоты принципов. «Ничто другое, — восклицал Сен-Жюст, — так не похоже на добродетель, как большое преступление!» Казалось, в самом деле, что большие преступления были единственным способом обеспечить справедливость. «Есть нечто ужасное, — сказал Сен-Жюст, — в священной любви к Отечеству; это же исключительно — пожертвовать всем ради общественной пользы, безжалостно, бесстрашно, без уважения к человечеству. То, что производит общее благо — всегда ужасно». Этот стиль, распространённый и утверждённый совершившейся революцией, находил всё более растущую поддержку в Европе после 1789 года. Под его влиянием такие учения как национализм развивались и процветали. Но не только Французская революция тяготела к такому исходу. Другая революция, в области идей, усиленно трудилась для поддержания её действия.
28
рлава2
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Философия, выразившаяся в революционных прокламациях, не была однородной системой. Революционеры утверждали, что люди обладают неотъемлемыми естественными правами; общество должно быть устроено с целью беречь эти права, и ancien régime был злом именно потому, что попрал их. Разговор о естественных правах предполагал существование рационально объяснимой упорядоченной вселенной, естественных законов, подчиняющих себе человека и предметы, однако царившая в эпоху Просвещения философия ставила на пути такого предположения преграды. Эта философия одинаково отвергла Платона, Аристотеля и библейскую притчу о творении, то есть системы, прежде составлявшие европейскую картину мира, чтобы оправдать беспорядок и бессвязность. И в то самое время, когда политические ораторы провозглашали грядущее царство справедливости и права, усилия философов были устремлены к главному — доказать, что всё это неясно, неопределённо и не поддаётся рациональному объяснению. Теория познания, нашедшая наибольшую поддержку в Просвещении, утверждала, что только чувственное знакомство с внешним миром открывает возможность знания. Душа первоначально — чистая доска, tabula rasa, на которой лишь чувственные восприятия медленно оставляют отметины. Восприятия и память о восприятиях составляют основу нашего познания, они позволяют нам сравнивать и различать, предвидеть и выносить суждения. Только на них в конечном счёте основываются самые глубокомысленные философские системы и самые запутанные артефакты. Но если дело обстоит так, то мы — пленники наших чувственных восприятий и остаёмся привязанными к ним. У чувственных восприятий отсутствует субстанция, они обманывают, они неоднозначны и изменчивы; они не позволяют проникнуть в структуру вселенной, ибо естественные законы нельзя почувствовать, а до порядка нельзя дотронуться. Ощущения могут предоставить в лучшем случае вероятность, интуитивное предположение или навыки искателя источника воды, а не уверенность учёного, ступившего на путь точного знания. Если мы утверждаем, что природа знания такова, что
29
свобода, равенство и братство — врождённое право любого индивида, то как вообще могут устанавливаться правила поведения, выдерживающие критику, которые бы не растворились в конце концов в запутанной дымке мнений и ощущений? Свобода и другие идеалы могут существовать и быть реальностью, но вопрос в том, как это доказать, а на основании такой философии доказательство было невозможным.
Найти выход из этого затруднительного положения удалось Иммануилу Канту (1724-1804), выход, показавшийся удовлетворительным и убедительным не только философам. Решение Канта предлагало новую безусловность для замены старых метафизических аксиом безусловностей, утративших свою невидимую притягательность. Его требование было, правда, более сдержанным. Безусловность, к которой он стремился, не могла покоиться ни на Откровении, ни на высоких метафизических основаниях, а только на том, чего может достигнуть разум, критически подходя к самому себе. Философия Канта хотя и выглядела скромной и критической, она парила выше, чем любая метафизика, а требования выдвигала столь же абсолютные, как любая догма. В этике Кант близок к суду Соломона. Бесполезно пытаться доказывать вопросы нравственности методами, используемыми для понимания естественных наук. Из природы вещей мы не можем вывести ценность, применимую к ним. Корень всех недоразумений, до сих пор не разрешимых, был в том, что философы пытались доказывать законы нравственности, словно это были законы физики. Такие попытки вели либо к невыносимому догматизму, либо, при вполне очевидной реакции, к крайнему скептицизму. Нравственность и свобода безусловно существовали, все это знали, точнее, чувствовали кожей и вели себя соответственно. Трудности возникли тогда, когда эту безусловность попытались облачить в научную мантию. Знание происходит из мира явлений — мира необъяснимых случайностей, утверждали одни, и безусловной необходимости, по мнению других. Если же и нравственность берёт начало в такого рода знании, то мы никогда не можем быть свободны, а остаёмся рабами случая или слепых безличных законов. Итак, нравственность следовало отделить от знания. Нравственность — это результат подчинения всеобщему закону, находящемуся внутри нас самих, а не в мире явлений. Чтобы нравственность стала возможной, она должна стать независимой от законов, управляющих явлениями. «Такая независимость, — пишет Кант в «Критике практического
30
разума» (1788), — и называется свободой в самом строгом, т.е. трансцендентальном смысле».1
Это определение свободы несёт в себе далеко идущие смыслы, которые можно оценить, если сопоставить их с другим, на вид упрощённым взглядом. «Свобода, — читаем мы в «Институциях» Юстиниана, — это естественная способность человека делать то, что ему нравится, пока ему это не запрещает сила закона». Однако, такая позиция, доведённая до логического заключения, перестаёт быть убедительной, ибо никто, согласно этому замечанию, не обладает полной свободой, если не остаётся один на свете или не имеет власти над всеми остальными, иначе всегда будет вероятность, что кто-то стоит на его пути и препятствует его свободе. Но и это не всё. Потому что даже если бы такой человек существовал, он бы всё равно не был свободен. Он был бы подчинён потребностям своего тела и должен бы был есть, пить и спать. Поэтому свобода, под таким углом зрения, настолько окружена и ограничена, что непонятно, можно ли её вообще продолжать называть свободой. Альтернатива, предложенная в учении Канта, справляется с этими трудностями. Человек, говорит Кант, свободен, когда он подчинён законам нравственности, находящимся внутри него самого, а не во внешнем мире. Только когда волей человека движет такой внутренний закон, она может быть по-настоящему свободной, и только тогда может идти разговор о добре и зле, о нравственности и справедливости. Если добродетель существует, она не в предметах, не в подчинении некой внешней власти, и не в чувстве удовольствия, сопровождающего определённые действия. Добродетель — это качество свободной воли, когда она подчиняется внутреннему закону. «Нигде в мире, — утверждает Кант в «Основоположениях метафизики нравов» (1785), — да и нигде вне его, невозможно мыслить ничего иного, что могло бы считаться добрым без ограничения, кроме одной только доброй воли».1 2 Нравственность независима от обстоятельств и глуха к похвале. Человек может сидеть в самой страшной темнице, страдать от самой ненавистной тирании, но быть при этом свободным, если свободна его воля. А его воля свободна, если она действует в соответствии с категорическим импе¬
1 Пер. Н. М. Соколова. И. Кант. Сочинения. В 8-ми тт. Т. 4. — М.: 1994. С. 406.
2 Пер. под ред. В. М. Хвостова. И. Кант. Сочинения. В 8-ми тт. Т. 4. — М.: 1994. С. 161.
31
ративом, как Кант называет внутренний закон. Всё это может считаться блестящим — не без своих оплошностей — представлением нравственной жизни, имеющим немало общего со стоицизмом, иудейско-христианской традицией, а прежде всего с лютеранством. Кант был таким же противником греха, как самый строгий моралист любого другого вероисповедания. Он хотел утвердить существование Бога, свободы и нравственности и от своих предшественников он отличался лишь способом доказательства. В предисловии к «Критике практического разума» Кант сам отрицает, что предложил новый принцип нравственности. Он предлагает, по собственным словам, всего «лишь новую формулу».
Что же это за формула? Её оригинальность состояла в том способе, коим был обозначен категорический императив. Он полностью не зависим от природы и от внешней команды. Для Лютера спасение христиан зависело не от добрых поступков, а от веры, то есть от состояния внутренней благодати, и христианская свобода была плодом полного подчинения Слову Божьему. Но у Лютера довольно недвусмысленно сказано, что вера для спасения есть особая вера в божественное откровение, в наказы Бога, в распятие и его сверхъестественное искупительное действие. Всё это Лютеру никогда не пришло бы в голову оспаривать. «Наши дела, — сказано в Аугсбургском исповедании 1530 года, — не могут примирить нас с Богом, или заслужить прощения грехов, благодати и оправдания, мы получаем все это только по вере...». Далее в исповедании сказано: «Мы учим людей также и тому, что термин «вера» означает не просто знание истории, как последнее имеет место в случае с безбожниками и бесами, но это слово означает верование не только в исторические факты, но также и в последствия истории...». Однако, для Канта категорический императив, подчинение которому делает свободным, не есть божественный наказ. Это наказ, исходящий из души, свободно признанный и свободно принятый. Источником нравственных ценностей не может быть ни естественный мир, ни воля Божья. Если воля Божья будет основанием для категорического императива, то действия человека будут продиктованы извне, свобода исчезнет, и нравственность потеряет всякий смысл. Это и есть «новая формула» Канта — добрая воля, свободная воля, она же автономная воля. Чтобы она была доброй, она должна свободно выбирать добро, а чем будет это добро — воля определяет сама для себя. Словно чтобы подчеркнуть властную природу этой законодательной воли, Кант выразительно заявляет,
32
что делать так — это как бы говорить: Sic volo, sic iubeoтак я хочу, такова моя воля.
Несмотря на все уверения в скромности, такое учение радикально в требованиях и нигилистично в том, что отвергнуто, и есть основания у замечания Гейне, что как революционер Кант затмевает Робеспьера. Потому, что учение Канта, в отличие от французских революционеров или их интеллектуальных предшественников, делает индивида центром, судьёй, господином вселенной. Он не просто элемент естественного порядка, он обладает правом на свободу и равенство. Скорее, индивид сам, с помощью открытых и установленных им самим норм, определяет самого себя как свободное и нравственное существо. Нигде радикальный характер подобного заявления не был выражен яснее, чем в любопытном доводе, используемом Кантом в «Критике практического разума» для утверждения бытия Божия. Догмы, предлагающие доказать его метафизическими аргументами, не выдержат никакой критики. Они сами противодействуют религии, ибо, как только они неизбежно оказываются ложными, люди превращаются в атеистов. И всё же невозможно не верить в бытие Божие. Как управлять этой необходимостью? Категорический императив, рассуждает Кант, обязывает нас способствовать высшему благу. Но содействие высшему благу предполагает его существование. И если необходимо допустить высшее благо, то необходимо допустить и существование Бога, существа совершенного, ибо несовершенное существо не может быть источником для высшего блага: «...Необходимость предположить возможность этого высшего блага, которое, поскольку оно возможно только при условии бытия Бога, неразрывно связывает предположение о нём с долгом, то есть, — заключает он, — морально необходимо признать бытие Бога».1 2 Таким образом, бытие Божие зависит от потребностей человека. Бог — это предпосылка, допускаемая человеком в утверждении своей нравственной свободы. Перестройка традиционного способа мышления, согласно которому человек был творением Бога, завершена. Теперь, чтобы защитить религию, Кант не видит другого выхода, кроме как сделать Бога творением человека.
1 Ср. Ювенал, Cam. 6, 223: hoc uolo, sic iubeo, sit pro ratione uoluntas, «Так я хочу, так велю, вместо довода будь моя воля!» (пер. Д. С. Недовича).
2 Пер. H. М. Соколова. И. Кант. Сочинения. В 8-ми тт. Т. 4. — М.: 1994. С. 523.
33
Логика этого учения имела своё продолжение. Конечной целью человека выступало отныне определение себя самого как существа свободного, способного устанавливать для себя нормы и управлять самим собой, а религия, в правильном понимании, означала вечный поиск совершенства. Смыслом стала сама деятельность, а не отдельные её проявления в то или другое время, в том или другом месте. Поиск бесконечен, и путать его с догмами и верованиями, которые сами по себе были результатом прошлых поисков, означало бы мешать свободной деятельности человека в поиске своего совершенства. Поэтому Фридрих Шлейермахер (1768-1834), развивая кантовский способ мышления, не позволял ставить веру в Бога на пути подлинной религии. «Религия, — писал Шлейермахер в «Речах о религии» (1799), — это не плод страха смерти или страха перед Богом. Она отвечает потаённым запросам человека. Она не метафизика и не моральность, но прежде всего по существу своему интуиция и чувство... Догмы, строго говоря, не составляют часть религии, скорее, они её производные. Религия — чудо непосредственной связи с бесконечным, а догмы суть не что иное, как отражение этого чуда. Подобным образом, вера в Бога и в личное бессмертие — не обязательно часть религии. Можно представить себе религию без Бога, это было бы чистым созерцанием вселенной. Желание личного бессмертия скорее показывает отсутствие религии, так как религия предполагает желание раствориться в бесконечности, а не сохранять своё собственное ограниченное Я». Религия для Шлейермахера — просто спонтанное выражение свободной воли. В таком учении всё, в конечном счёте, должно содействовать самоопределяющей деятельности автономного индивида, а вселенная просто служит его самовоз- делыванию. «Всякий добрый человек, — утверждал Фридрих Шле- гель (1772-1829), друг Шлейермахера, — непрестанно становится всё более и более Богом. Стать Богом, быть Человеком, возделывать самого себя — всё это значит одно и то же».
Богословие ясно проявляет тенденции кантианского учения, но влияние этого учения распространилось, конечно, и в других направлениях. Внутреннее убеждение, не требующее никакой внешней поддержки, стало подлинным проводником к политическому действию. В Иенском университете, после наполеоновских войн основалось сообщество радикально настроенных студентов, Burschenschaft, имеющее свое целью объединение Германии и установление демократии. Один из его лидеров проповедовал, что человек, стремящийся к справедливости, не признаёт внешнего закона; однажды убедившись,
34
что курс действия верен, он должен безусловно и бескомпромиссно реализовывать веления разума, раскрывшиеся ему. Среди сведущих это было известно просто как «принцип», и те, кто ему следовали, соответственно именовали себя «безусловные» (Unbedingten). Своим героем они выбрали Христа, ибо видели в нём мученика за убеждение, а гимн корпорации гласил: «Стань Христом» (Ein Christ sollst du werdeti). Один из этих студентов, Карл Занд, решил, что писатель Коцебу это враг немецкого народа и что его надо убить. Приведя в исполнение свой замысел, он оставил рядом с жертвой записку «Стань Христом». Надпись, естественно, относилась к Занду, а не к Коцебу.
Это не значит, что сам Кант соглашался с подобными толкованиями собственного учения. Когда он обращался к политическим вопросам, то соединял дерзость с трепетом, одновременно проповедуя смиренную покорность государству и намекая на взгляды, ведущие к свержению установленной власти. Когда философ предлагает миру систему, он не может отвечать за все последствия, которые она по праву за собой повлечёт. Последствия эти не подчинены лишь логике, они зависят от суждения, опыта, обстоятельств. Они могут казаться фантастическими, натянутыми или незначительными изобретателю системы, но не будут казаться такими его продолжателям. И даже в этом случае политические положения Канта показывают, какое значение может иметь автономия воли как политическое учение. В трактате «К вечному миру» (1795) Кант вывел условия, необходимые для устойчивого мирного международного порядка. «Первая окончательная статья договора о вечном мире», которым государства, по мысли Канта, должны быть связаны, гласит: гражданское устройство каждого государства должны быть республиканским. Республиканское государство, по Канту, существует, если независимо от формы правительства законы есть или могут быть выражением автономной воли граждан. Только в такой ситуации мир может быть гарантирован. Конечно, в высочайшей степени невероятно, чтобы такой проект был когда-либо реализован, но даже серьёзно рассматривать его как идеал, к которому отношения между государствами должны, насколько возможно, стремиться, означало бы ввести новый фактор беспорядка в международные отношения. Кант сам доказывает в «Метафизике нравов» (1797), что «происхождение верховной власти в практическом отношении непостижимо для народа, подчинённого этой власти», и что «подданный не должен действовать, умничая по поводу этого происхождения как подлежащего ещё сомнению права (ius controversum) в отношении обязатель¬
35
ного повиновения».1 Но другой принцип, что государствам надлежит иметь республиканское устройство, означал, что происхождение любого государства и титул его правителей подлежат вечному надзору мятежных подданных и честолюбивых соседей, что соглашения могут быть пересмотрены, пакты расторгнуты под предлогом, что отсутствует республиканское устройство, и что само расторжение договора может способствовать введению такого устройства. В этом Кант, конечно, лишь укрепил учение, с таким успехом распространённое Французской революцией по Европе и всему миру. Впрочем, можно спорить, был ли Кант агитатором, обращался ли он ad clerum1 2 к кругу философов, могущих понять его и знакомых с отличием между философскими учениями и необходимостью власти. Опять-таки, можно спорить, следует ли читать Канта как моралиста, а не как политолога, и служил ли его гений выявлению неизбежных условий нравственного поведения. Но Кант действительно пытался, как мы видели, обсуждать политику в терминах этической доктрины, и более того, книги его написаны для всех, и из тех, кто читал и верил, многие полагали, что философия имеет ключ к верному политическому действию. Они-то и расширили значение кантовского учения об автономии воли и извлекли из него далеко идущие политические выводы.
В работах Канта появляются и другие политические аспекты этого учения. Кант был глубоко потрясён Французской революцией, защищал её и считал вехой человеческой истории. Хотя он с ужасом взирал на казнь Людовика XVI, в «Религии в пределах только разума» (1793) он так объясняет эксцессы революции: «...(надо быть свободным, чтобы иметь возможность целесообразно пользоваться своими силами на свободе). Первые попытки бывают, конечно, вполне неумелыми и обыкновенно сопровождаются большими затруднениями и опасностями, чем те, которым подвержен человек, не только подчиняющийся другим, но и состоящий на их попечении; однако для пользования своим разумом созревают не иначе, как в результате собственных усилий (но чтобы предпринять их, нужно быть свободным)».3 Здесь особенно очевиден процесс рассу¬
1 Пер. С. Я. Шейнман-Топштейн, Ц. Г. Арзаканьяна. И. Кант. Сочинения. В 8-ми т. Т.6. — М.: 1994. С. 351.
2 Ad clerum (лат.) — к духовенству.
3 Пер. Н. М. Соколова, А. А. Столярова. И. Кант. Сочинения. В 8-ми тт. Т. 6. — М.:Чоро, 1994. С. 205.
36
ждения, делающий автономию существенной целью политики. Добрый человек — автономный человек, и для того, чтобы осуществлять свою автономию, он должен быть свободным. Таким образом, самоопределение становится высшим политическим благом. Для его спасения Кант готов примириться с неумелой силой, ему он подчиняет все другие выгоды социальной жизни. Самоуправление лучше, чем хорошее правление — гласит всем известная формулировка. «Ибо, — говорит Кант в «Споре факультетов» (1798), последнем опубликованном трактате, — существу, наделённому свободой, мало одного только наслаждения благами жизни, которые оно может получит и от других... Здесь всё дело в принципе, на основе которого оно ими пользуется».4
Этические учения Канта выражали и задавали новое отношение к политическим и социальным вопросам, они сделали популярной в интеллектуальных кругах Германии новую политическую установку. Нравственная верность принципам стала признаком добродетели. Направление действия было только тогда добрым, если оно было исходом глубокой нравственной борьбы. «Добродетель, — писал Кант в «Метафизике нравов», — есть твёрдость максимы человека при соблюдении своего долга. — Всякая твёрдость узнаётся лишь через те препятствия, которые она может преодолеть; для добродетели же такие препятствия — это естественные наклонности, могущие прийти в столкновение с нравственным намерением, и так как сам человек ставит эти препятствия своим максимам, то добродетель есть не просто самопринуждение... а принуждение согласно принципу внутренней свободы».5 Поэтому борьба должна сопровождать все стремления к добродетельным действиям, как в обществе, так и в индивиде. Борьба есть гарантия высших намерений и компромисс не поддаться низменным инстинктам. Автономный человек — суровый деятель, вечно мучающаяся душа. Политика, сформированная по его образу, — это такая политика, когда борьба сама по себе существует как необходимый элемент.
Другая грань этой установки — тенденция отделять нравственность от природы и истории. Нравственность происходит от установления законов для себя самого, и не может быть скована состояни¬
4 Пер. М. Левиной. И. Кант. Сочинения. В 8-ми тт. Т. 7. — М.: 1994. С. 104.
5 Пер. С. Я. Шейнман-Топштейн, Ц. Г. Арзаканьяна. И. Кант. Сочинения. В 8-ми тт. Т. 6. — М.: 1994. С. 436.
37
ем на данный момент. Единственные законные границы — это само- установленные границы. Все другие для автономного человека ничего не значат. «Единственная известная мне невозможность, — писал Шлейермахер в «Монологах» (1800), — это преступить границы, по собственной воле наложенные мною на природу. Единственное, что я не могу сделать, — то, от чего я отказался, принимая решение, чем я хочу быть. Всё для меня возможно, кроме как отступить от первоначально принятого решения... Моя единственная цель — когда- нибудь стать больше, чем я есть. Любое моё действие есть лишь особая фаза в исполнении этой единственной воли... Будь что будет! Моя воля управляет судьбой, пока я всё соотношу с этой всеобъемлющей целью и остаюсь безразличным к внешним условиям...». Свободный человек утверждается вопреки всему миру, силой духа он подчиняет его воле, ибо убеждение может свернуть горы. Он ранен в голову, но голова не склонилась. Эта характерная эйфория проистекает из принципа самоопределения. Привычки и установки, поощряемые и взлелеянные таким учением важны не меньше, чем его содержание. Они превратили самоопределение в динамичную доктрину. Национализм, который сам по себе, как будет показано, по сути является доктриной национального самоопределения, нашёл здесь великий источник жизнеспособности, и потому необходимо проследить, как самоопределение стало играть ключевую роль в этических и политических учениях.
Глава 3*
ГОСУДАРСТВО И ИНДИВИД
Идея самоопределения как высшего морального и политического блага, несомненно, спровоцировала коренные перемены в ходе политических умозрений. Общество автономных людей не могло быть собранием индивидов, владеющих неотъемлемыми естественными правами, которое для французских революционеров образовывало суверенную нацию. Автономия — это не условие, приобретённое однажды и навсегда здесь и сейчас. За неё надо непрестанно бороться и, возможно, ее никогда не добиться или не закрепить навсегда. Какой же мы видим роль государства в мире, вечно ведущем борьбу за совершенство? Не столько сам Кант, сколько те, кто называли себя его учениками и продолжателями, предложили завершённое и системное, основанное на новых идеях учение о государстве. Но здесь вновь влияние кантовской мысли было определяющим. Решения, предложенные им для философских проблем, и те трудности, с которыми эти решения в свою очередь столкнулись, оставили неизгладимый отпечаток на последующих теориях.
Предметом Канта в его критической философии было представить надёжный неопровержимый отчёт о целях и границах человеческого познания, с одной стороны, не предлагая недоказуемых метафизических утверждений, а с другой стороны, не впадая в радикальный скептицизм, к которому, казалось, вела теория познания, основанная исключительно на чувственном восприятии. В этом смысле он отделил моральность от научного познания и для этого представил в «Критике чистого разума» (1-ое изд., 1781) доказательства, как вообще возможно научное познание мира. По теории Канта, познание мира обусловлено взаимодействием двух совместных факторов: ощущения фиксируются воспринимающим я, которое с помощью категорий своего сознания налагает единство понятийного синтеза на то, что иначе оставалось бы хаосом не связанных и безотносительных друг к другу впечатлений. Эти категории не выводятся из восприятий. Они как логически предшествуют всякому опыту и независимы от него. Они утверждают форму, в которой научное познание должно представить себя человеческому разуму и быть постигнуто этим разумом. Эти категории, по мне¬
39
нию Канта, могут быть раскрыты через исследование предпосылок арифметики, Евклидовой геометрии, Ньютоновой физики и традиционной логики. Но чувственные восприятия, трансформируемые категориями нашего рассудка в объективный опыт, связаны только в пространстве и времени. Таким образом, пространство и время, согласно Канту, не являются свойствами вещей самих по себе. Скорее, они суть такое, что воспринимающее я приписывает чувственным восприятиям, удерживаемым этим я. Они суть формы понимания, которые неизбежно принимают все предметы, до того, как мы их вообще можем осознать, принудительные очки, которые мы должны надевать, прежде чем мы будем в состоянии что-либо увидеть. Вывод, следующий из такого воззрения, гласит: мы никогда не знаем вещи таковыми, каковыми они являются в действительности, как они существуют сами по себе независимо от нашего наблюдения. Познать мир — значит превратить его в то, чем он не является. Эту ошибку не исправить никогда; Ахилл никогда не догонит черепаху.
Такой вывод погрязает в пучине противоречий и ставит ощутимые препятствия философскому уму. Рассмотрим пример: воспринимающее я получает чувственные восприятия извне, и эти чувственные восприятия могут исходить только из вещей в себе. Но именно оттого, что они посылают эти чувственные восприятия, достигающие воспринимающее я в пространстве и времени, вещи в себе никогда не могут быть познаны. Опять-таки, понимание в воспринимающем я должно быть вызвано вещами в себе, но причинность имеет место во времени и пространстве, а вещи в себе — вне времени и пространства. Как же они могут действовать во времени и пространстве? Далее, если вещи в себе должны навсегда оставаться вне круга человеческого понимания, разве кантовская эпистемология так уж лучше системы, выводящей всё знание из простого пассивного приёма чувственных восприятий? Ни одна из теорий не даёт гарантий истинности, не раскрывает возможностей разума познать мир таким, каков он есть. В одном случае разум будет рабом чувственных восприятий, в другом — рабом категорий. И в том, и в другом случае он привязан к кажимости и может не знать действительности. Действительность же — причина кажимости, но она всегда скрыта за облаком, и её невозможно увидеть.
Вещь в себе — поворотный пункт в аргументации Канта, однако, в философии, именовавшей себя критической, эта вещь в себе опять вводила метафизику и оставалась препятствием, не поддаю¬
40
щимся доказательству, лишенным очевидности, ведущим к неразрешимым противоречиям. Ясно, что кантовская система не могла оставаться такой, какой она была, однако, по меньшей мере один пункт был установлен: эпистемология, основанная исключительно на чувственном восприятии, более не удовлетворяла, ибо в конечном счёте она вела к радикальному скептицизму и разрушала любую возможность прочного знания. Дальнейшее развитие философской мысли требовало устранения из кантовской системы подобного рода противоречий и превращения её в сугубо критическую, подчинённую системе и полностью рациональную. Многие ученики Канта попытались усовершенствовать его систему, одним из наиболее ранних и самых известных был Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814). Фихте полагал, что его собственное учение устраняет противоречия кантовской системы, и заявлял, что его изложение и есть «кантовское учение, правильно понятое» и «подлинная критика, доведённая до логического конца». Канту была нужна вещь в себе, чтобы проводить различие между действительностью и фантазией, подчёркивать независимость мира от воспринимающего я, и подвести итог бытующему среди людей единому мнению касательно структуры этого мира. Но если вещь в себе гарантировала, что этот мир не химера, она, как было показано, сталкивалась с противоречиями, не менее запутанными, чем те, которые претендовала разрешить. Так не было ли заведомо проигрышным делом обращаться к вещи в себе? Фихте говорил, что для нас утверждать существование и действительность чего-либо — значит утверждать, что оно существует, что оно реально для нас в нашем собственном сознании. Мы не можем выйти за пределы нашего собственного сознания. Утверждение вещи в себе, и при этом неспособность познать её содержит в себе противоречие. Либо мы о ней знаем, либо она не существует. Поэтому теория Канта о возможностях и границах человеческого знания довольно не адекватна. Дело не только в том, что категории, присущие разуму, придавали единство и связность потоку чувственных восприятий, исходящих из источника, независимого от разума. Скорее, и категории, и чувственные восприятия, то есть, мир, известный нам, суть продукт сознания, так сказать, произведённый им. Если далее спросить, пишет Фихте, «как создаётся вещь в себе, ответ будет: так, как мы должны её сделать». Но тогда, если мир сотворён сознанием, кто поручится, что это не плод фантазии, кто поспорит, что такая теория познания — признание поражения, уход от реальности? Опять-таки, если мир сотворён сознанием, как может эта теория объяснить устойчивость и
41
определённость внешнего опыта, приписанные в учении Канта существованию вещи в себе? Здесь Фихте полагает, что как индивидуальное сознание создаёт свой собственный мир, и ничего вне этого сознания не может сформировать часть этого особого мира, так и мир как целое, природа во всём своём разнообразии и история в прошлом, настоящем и будущем, непременно должны быть продуктом универсального сознания, всеобъемлющим Я, проявлением которого будет всё, что происходит. Это Я превосходит все индивиды и составляет для них гарантию стабильности этого мира, его упорядоченности и рациональности. При помощи своего разума люди могут различать пустую фантазию и продукт универсального сознания. Такая теория, считал Фихте, избегает противоречий, вызванных требованием существования вещи в себе. Она устраняет любого рода скептицизм и делает познание не только возможным, но полностью отдельным, освобождая его от того таинственного, хаотичного и иллюзорного «внешнего мира», вера в который привела Юма и Канта к ошибочным выводам. В учении Фихте всё, как он сам говорит, прикреплено «к единственному кольцу, которое ни на чём не держится, но держит своей собственной мощью само себя и всю систему». Такое расширение и модификация философии Канта, предпринятые как попытка устранить недостатки «Критики чистого разума», радикально изменили одну из радикальных проблем европейской философии, известных со времён Декарта. Эти проблемы затрагивали вопрос причинности, возможности нашего знания о внешнем мире, отношение между разумом и чувственными впечатлениями, между духом и материей. С этого момента философия стала, пользуясь названием гегелевского трактата,1 феноменологией духа, то есть наукой, ис¬
1 Возможно, возникнет вопрос, почему это — единственное упоминание Гегеля в книге. Объяснение просто: несмотря на приписываемую ему зловещую репутацию, Гегель не был националистом, ещё менее он был предшественником нацизма. Политическую мысль Гегеля занимало государство, а не нации. В особенности то, что он говорит об отношении между абсолютной свободой и террором («Феноменология духа» гл. 6, разд. 2), и о различии между древними и современными государствами, и существование в современных государствах того, что он называет гражданским обществом, служащим посредником между государством и индивидом («Философия права», ч. 111, разд. 2), делает его антинационалистом. Впрочем, здесь не место для разрешения спора между Гегелем и его противниками. (Прим, автора.)
42
следующей деятельность универсального сознания, порядок и характер различных его проявлений. Кольридж в нескольких строках выражает видение вселенной, с которым эта философия пыталась вступить в диалог:
А может быть вся сущая природа —
Собрание живых и мёртвых арф,
Что мыслями трепещут, если их Коснётся ветер — беспредельный, мудрый —
И каждого Душа и Бог Всего?2
Примечательное следствие этого взгляда, сыгравшее ключевую роль в политике, состоит в том, что целое важнее и больше, чем все его части, а также первично по отношению к ним. Мир побеждает действительность и связность, потому что он есть продукт единого сознания, и его части могут существовать и участвовать в действительности только в том случае, если они займут место внутри этого мира. Словами Фихте, вселенная есть «органичное целое, ни одна часть которой не может существовать без существования остальных частей; она не может возникать постепенно, но должна быть там полностью в любое время, когда бы она ни существовала». Только действительность может быть познана, и только действительность есть целое. Знание частей иллюзорно, ни одна часть не может быть познана сама по себе, ибо они не могут существовать сами по себе, вне связного и упорядоченного целого. Ф. В. Шеллинг (1775-1854), философ этой школы, начавший как ученик Фихте, зашёл настолько далеко, что сказал: «Индивиды — лишь фантомы, или Спектрум. Они не модификации абсолютной субстанции, а лишь воображаемые призраки». Чтобы применить это учение к политике, нужно пройти долгий путь от естественного права и практической пользы. Естественное право было естественным правом индивида, а практическая польза — тем, что он считал полезным. Так же свобода означала, что индивид свободен. Но раз индивиды сами по себе нереальны, то естественные права и практическая польза стали пустым звуком, а свобода более не является простым словом с кратким и точным словарным значением. По этой новой теории, свобода, ещё острее, чем у Канта, есть внутреннее состояние, определение воли согласно самоуста- новленным нормам, если теория гласит, что ничего за пределами со¬
2 Строки из стихотворения С. Т. Кольриджа «Эолова арфа» (1817 г.) в переводе В.В. Рогова.
43
знания не может существовать. Но индивиды как таковые суть фантомы. Они обретают действительность настолько, насколько имеют место как целое. Следовательно, свобода индивида, которая есть его самоосуществление, заключается в отождествлении его самого с целым, принадлежность к которому и дарит ему действительность. Полноценная свобода означает полное растворение в целом, и история человеческой свободы состоит в прогрессивной борьбе за достижение этой цели. Из данной метафизики пост-кантианцы вывели теорию государства. Цель человека — свобода, свобода — это самоосуществление, самоосуществление — это полное растворение в универсальном сознании. Поэтому государство — это не собрание индивидов, объединившихся, чтобы защитить свои собственные частные интересы. Государство выше индивида и имеет перед ним преимущество. И только если индивид и государство становятся одним целым, индивид осуществляет свою свободу. «Я хочу быть человеческим существом, — заявляет Фихте в «Основах естественного права» (1796), — цель государства состоит в том, чтобы полностью обеспечить человеку это право». Государство, продолжает Фихте, есть художественное учреждение, и его назначение — культура. Посредством процесса культуры человек становится действительно человеком, реализовывая себя во всей полноте, и такая реализация есть совершенная свобода. Ибо мы не должны забывать, что эти выводы — итог поиска адекватной концепции индивидуальной свободы. Именно забота об обеспечении полной индивидуальной свободы заставила Фихте в начале его карьеры защищать радикальные требования французских революционеров и написать любопытную книгу «Замкнутое торговое государство» (1800), пробующую показать, что подлинная индивидуальная свобода может быть обеспечена только в государстве, регулирующем до мельчайших деталей жизнь своих граждан. Индивид ведёт подлинно свободную, полноценную жизнь только в том случае, если он и государство являются одним целым. Уместно проциторовать «Основы искусства управления государством» (1809) публициста Адама Мюллера (1779-1829), согласно которому государство — это «интимное превращение всех физических и духовных потребностей, всей нации в великое, энергетическое, бесконечно активное и живущее целое». Опять-таки, государство — это «общая сумма человеческих поступков, их соединение в одно живое целое. Если мы навсегда исключим из этого сообщества даже самую незначительную часть человеческого существования, если мы отделим частную жизнь от общественной жизни даже
44
только в одной точке, мы не сможем более ощущать государство как явление жизни, или как идею».
Таким образом, индивид не может рассматриваться сам по себе. Он образует часть целого и выводит из него своё значение. Эту идею обычно передают на примере организма. К этому образу прибегает и Фихте, чтобы выявить отношение между государством и индивидом. «Самый точный образ, который можно использовать, чтобы продемонстрировать эту идею, — пишет он в «Основах естественного права», — это образ организованного природного продукта; с недавнего времени этот образ стал часто использоваться для определения различных направлений управления государством в своём единстве, но, насколько мне известно, пока не для объяснения общей суммы гражданских отношений. В творениях природы каждая часть есть то, что она есть, только через своё отношение к целому, и она совершенно не будет тем, что она есть, без этого отношения. Более того, если бы она не имела органического отношения, она была бы ничем, ибо без взаимодействия органических сил, поддерживающих друг друга в равновесии, не существовало бы никакой формы, и господствовал бы вечный конфликт между бытием и небытием, конфликт совершенно не мыслимый. Равным образом, человек занимает определённую позицию в схеме вещей и постоянство своего существования в природе только посредством гражданского сообщества. Он занимает особую позицию в отношении к другим людям и к природе именно потому, что он — член особого сообщества... В органическом теле каждая часть постоянно поддерживает целое, и пока она его поддерживает, она поддерживает и самое себя. Подобным образом относится гражданин к государству». При таком взгляде, категорический императив, строгое подчинение которому остаётся, согласно Канту, ответственностью самого индивида, ни с кем другим не разделяемой и ни на кого другого не возлагаемой, сам стал возможным и достижимым только через общество. Общество стало существенной предпосылкой для всех законов нравственности.
Эта теория, можно сказать, имеет некоторое сходство с политической концепцией Руссо. Руссо также считал, что ни индивид, ни государство не могут достигнуть счастья и добродетели, если человек не обменяет свою собственную частную волю на общую волю, и будет желать общего блага более, чем своего собственного. Сходство станет ещё более явственным, если мы прочтём советы Руссо полякам по реформе правительства, написанные им в 1772 году. В советах Руссо настаивает, что государство должно быть связующим и проч¬
45
ным, и люди должны уметь подчиняться закону не потому, что они это воспринимают как свою обязанность или видят в этом некую корысть, но потому, что они не могут пожелать или захотеть ничего, что бы не предписывал бы закон. А законы должны иметь, как он говорит, «внутреннее согласие с их волей». Только тогда государство перестанет быть полем боя частных и противоречивых интересов, только тогда оно будет внушать абсолютное доверие своим гражданам и сведёт на нет «отвратительное правило» — где человеку хорошо, там его родина, — то самое правило, которое, как мы видели, Гёте в том же году рекомендовал своим читателям. Но Руссо не был метафизиком и не строил системы. Его блестящие, но неуравновешенные догадки и предположения, как ни велико было их влияние на Канта и Фихте, остались отрывочными, и так и не вывели на то целое, которое Фихте сравнивал с «единственным кольцом, которое ни на чём не держится» и которое составляло для него единственно подлинное знание. Руссо же не предлагает полноценной и завершённой теории государства, охватывающей как самые очевидные, так и самые далёкие материи, и могущей возникнуть только из цельного и систематического представления о вселенной. Вот почему нам следует перейти к пост-кантианцам.
Для европейской интеллектуальной традиции было привычным делом отделять деятельную жизнь от созерцательной и рассматривать политику, представляющую собой деятельную жизнь, с сугубо практической точки зрения. В диктатуре политика означала умение манипулировать властью, а в свободной системе правления — принцип разделения правосудия, чтобы управляли те, кто способен управлять. Напротив, созерцание было не просто чуждо, но, возможно, совершенно подрывало политику. Философ, проводящий дни в попытке удержать вечность, мистик, единственным желанием которого было раствориться в Боге, по необходимости изгонялись и презирались политикой. Но новая теория государства перевернула традиционную точку зрения. Вовсе не разделяя жизнь в действии от созерцательной жизни, она постановила, что целью политики и стремлением всех граждан было растворение в универсальном сознании, которое до сих пор оставалось склонностью лишь немногих философов и мистиков. Может возникнуть вопрос, почему философы начали потакать таким экстравагантным надеждам и ожидать столь многого от политической жизни? Только лишь следуя выводам метафизики, которых нельзя было не принять? Но в таком случае здесь следует отметить, что метафизики вовсе не принужда¬
46
ли превозносить государство столь высоко и делать из него инструмент личного спасения. Последователи Канта в традиционной манере1 полагали, что самоосуществление человека, то самое растворение в целом, не имеет ничего общего с государством, что фактически политическая жизнь скорее мешает, чем помогает в этих поисках. Кроме того, в том, что они говорят о государстве, нельзя не увидеть ожесточённость и страстность, указывающую на нечто большее, чем просто философский вывод. «Что стало с баснями античных мудрецов о государстве? — с грустью вздыхает Шлейермахер в «Монологах». — Где та сила, которой высшая ступень существования должна одарить человечество, где сознательность, которую должен иметь каждый, чтобы принимать участие в разуме, фантазии, силе государства? Где посвящение этому новому существованию, достигнутому человеком, воля пожертвовать старым индивидуальным сознанием скорее, чем потерять государство, готовность скорее поставить на ставку свою жизнь, чем быть свидетелем гибели отчизны? Где бдительность, зорко глядящая, как бы государство не было соблазнено, а его дух совращён? Где собственный характер каждого государства и где действия, через которые он себя обнаруживает?»
Не странно ли, может возникнуть вопрос, это внутреннее отчаяние, которое ожидаешь от богослова в отношении духовного, но не мирского отчуждения? «Государство, постоянно стремящееся к увеличению своей внутренней мощи, — настаивает Фихте в лекциях об «Основных чертах современной эпохи» (1806), — вынуждено желать постепенного уничтожения любого рода фаворитизма и установления равных прав для всех, чтобы государство само могло вступить в свои собственные подлинные права — право применить избыточную силу всех своих граждан без исключения, для осуществления собственных целей». Упорство в уничтожении фаворитизма, мольба о применении силы и возможностей всех граждан без исключения
1 «Все вошедшие в число этих немногих, отведав философии, узнали... что там не найти себе союзника, чтобы с ним вместе прийти на помощь правому делу и уцелеть, — напротив, если человек, словно очутившись среди зверей, не пожелает сообща с ними творить несправедливость, ему не под силу будет управиться одному со всеми дикими своими противниками, и, прежде чем он успеет принести пользу государству или своим друзьям, он погибнет без пользы и для себя, и для других. Учтя все это, он сохраняет спокойствие и делает свое дело, словно укрывшись за стеной в непогоду... (Платон, Государство, 496с-ф пер. А. Н. Егунова.) — прим, автора.
47
для осуществления целей государства, и есть разгадка, почему эта философия позволила политике занять столь почётное место.
Когда Фихте, Шлейермахер и их современники описывали, каким должно быть государство и насколько далека от этого действительность, у них перед глазами было положение в Пруссии и других многочисленных государствах Германии. Во главе этих государств стояли абсолютные монархи. Лучшие из них, прежде всего Фридрих Великий, гордились эффективным правлением административной машины и существованием в их владении безличной и быстрой системы правосудия, в то время как худшие были капризными деспотами, расточительными, непредусмотрительными и недееспособными. Немецкое общество было жёстко разбито на разделённые касты, взирающие друг на друга с презрением или завистью, причём передвижение между этими социальными группами было крайне затруднительным. Авторы, изобретшие и разработавшие пост-кантианскую теорию о государстве, принадлежали к касте относительно низкой по социальной шкале. Большинство из них были сыновьями священников, ремесленников или мелких крестьян. Им удавалось каким-то образом попасть в университет, обычно на факультет богословия, и тянуть учёбу с помощью мизерных стипендий, частных уроков и подобных временных мер. По окончании университета они осознавали, что их знание ни к чему не вело, они находились всё в том же социальном статусе, презираемые знатью, которая была глупа и необразованна, но занимала в обществе положение, которому они, по собственному мнению, соответствовали гораздо больше. Эти студенты и выпускники чувствовали в себе призвание к великим делам, у них были культура, знание, способности, они жаждали жизни в действии, её волнений и наград, а вместо этого они были обречены провести свои лучшие годы бедными служками в ожидании сана священника, или репетиторами в каком-нибудь знатном доме, где они почти не отличались от привилегированной прислуги, или голодными писателями, всецело зависящими от воли редактора или издателя. Вспомним патетические излияния в дневнике Иоганна Готфрида Гердера (1744-1803) во время его поездки во Францию в 1769 году: «Благородный молодой человек! Всё это спит в тебе? Неосуществлённое и презренное? Низкое происхождение, рабство родины, мелочность твоего века, превратность карьеры так ограничили тебя, так унизили, что ты не узнаёшь самого себя». Он чувствует себя равным Ликургу и Солону, хочет стать реформатором Ливонии, куда он переехал. Если бы только у него была возможность, он убедил
48
бы главного губернатора провинции и даже стал бы фаворитом русской императрицы. А кто он на деле? Школьный учитель с шаткими перспективами, вовлечённый в смешные литературные прения. Такое положение убедительно объясняет упор Фихте на то, что в правильно управляемом государстве не должно быть места фаворитизму, что все граждане должны быть в состоянии посвятить свою энергию и талант величию государства.
Людям такого рода общество в его тогдашнем виде казалось холодным и бессердечным. Те, кто сознавали в себе жажду жизни, огонь, ум, своеобразие, задыхались в провинциальном, тесном, мещанском обществе немецких земель или Пруссии, которая, несмотря на свою официальную просвещённость, по сути, зависела от жёсткой воли строгого хозяина. «Сколь тщетна, — жалуется Шлей- ермахер в «Монологах», — борьба высшего ума, ищущего нравственного воспитания и развития, с этим миром, признающим лишь закон и предлагающим мёртвые формулы вместо жизни, правила и рутину вместо свободной деятельности». Люди в своих взаимоотношениях, государство во взаимоотношениях с субъектами считались не с человеком как таковым, а лишь с его поверхностными качествами. Ценились не глубина, а формальный ум, не внутренняя культура, а внешнее богатство. Неудивительно, что молодой человек рос чахлым и уродливым, а его дух был склонён и порабощён правилами и условностями. Фридрих Шиллер (1759-1805) в «Письмах об эстетическом воспитании человека» (1795) предъявляет обвинение государству, сжимающим мартвящей тяжестью дух и жизнеспособность индивида, превращая его в машину. Этот распад, говорит он, начался с новой европейской мысли, получавшей удовольствие от расчленения, анализа и дробления целого человека на части. Эта новая мысль формирует по своему образу идею государства. Правительство становится обыкновенным и неуклюжим механизмом, способным только разделять людей на грубые категории. Человечество, таким образом, воспринимается опосредованно и рассматривается не как живая действительность, а как «образование рассудка». С проникновенным и грустным красноречием Шиллер описывает современное ему печальное состояние Европы: «Эта полипова природа греческих полисов, где каждый индивид наслаждался независимым существованием, а, в случае необходимости, мог действовать сообща с целым, теперь уступает место искусственному часовому механизму, в котором механическая жизнь строится из лоскутного одеяла бесчисленных, но безжизненных частиц. Государство и церковь, закон и обы¬
49
чай отныне разделены. Удовольствие отделено от труда, средства от цели, усилие от вознаграждения. Навеки прикованный только к крошечному осколку целого, человек представляет самого себя только как осколок; вечно слушая только монотонный скрип вращаемого им колеса, он никогда не развивает гармонию своего существования, и вместо того, чтобы выковать в своей природе человечность, он удовлетворяется лишь отпечатком своего дела, наукой... Мёртвая буква представляет живой интеллект, а тренированная память ведёт надёжнее, чем гений и чувство». Так не могло продолжаться. Болезнь общества нужно было лечить. И лечение могло быть эффективным, только если люди трезвого ума и рассудка не оставались более на периферии, но были приняты, и им было отведено подобающее место. Лечение, полагали эти мыслители, могло предоставить только государство. Для них было естественно думать, что действия государства могут и должны устранить эти препятствия, ибо у них перед глазами было меркантильное и абсолютистское государство, от которого не могли укрыться никакая сторона жизни и никакая социальная деятельность. Государство было очевидным источником добра и зла. Опять-таки: хотя эти люди тосковали по деятельной жизни, по положению и ответственности, они оставались, нравилось им это или нет, академическими интеллектуалами, вращающимися в аргументах логики и богословия, с малым представлением о политической власти или об административных проблемах. Возникла своего рода пропасть между политической теорией и политической практикой, которая объясняла и эксцентричные надежды на духовное раскрытие, всё ещё возлагаемые на государство. «Много ли среди писателей нашей нации герцогов, графов или дворян? — спрашивает корреспондент журнала «Немецкий Меркурий» в 1779 году. — У нас есть кандидаты богословия, занимающиеся вопросами государства, торговли и промышленности». Кандидаты богословия, как мы видели, требовали государства больше, чем любые абсолютисты. Но было ли действительно во власти государства осуществить их желания, преодолеть отчуждение, усмирить разногласия между человеком внутренним и внешним и установить ту гармоничную жизнь, которая, по их мнению, уже однажды существовала в древней Греции или в средневековом христианстве? Ибо это то, к чему они действительно стремились, и именно к этим выводам в конечном счёте вела их критика безжизненного механизма просвещённого абсолютизма. Это зло нельзя излечить, объявил Адам Мюллер, «до тех пор пока государство и гражданин служат разным господам... пока сердца стре¬
50
мятся к двойным желаниям — одному, жить как гражданин в государстве, и другому, извлечь самого себя из целого общественного порядка, отсечь самого себя от того самого государства вместе со своей домашней и частной жизнью, самыми сокровенными чувствами и даже религией». Государство, говорит Шеллинг, «организованное с перспективой на внешнюю цель, возможно, только для того чтобы обеспечить взаимную гарантию прав», основано на принуждении и необходимости, в то время как в подлинном государстве «наука, религия и искусство становятся живым единством, взаимопроникающим и объективным с своём единстве». В знаменитых «Речах к немецкой нации» (1807-08) Фихте презрительно отверг государство, поддерживающее лишь «внутренний мир и положение дел, при котором каждый может усердно зарабатывать на хлеб насущный и удовлетворять потребности своего материального существования, насколько позволит Господь». «Всё это, — продолжает Фихте, — лишь средство, условие, костяк того, чего любовь к отечеству собственно желает, то есть процветания вечного и божественного в мире всё более чистом, совершенном и бесконечно развивающемся». Это суть требования: государство должно быть творцом человеческой свободы, не во внешнем и материальном смысле, но во внутреннем и духовном.
Лексика этой теории государства скрывает элемент принуждения, неизбежного при любом правительстве. Индивиды, говорит эта теория, растворяют свою волю в воле государства и в этом растворении находят свободу. Они не только подчиняются, но дают своё активное согласие законам и действиям государства. Принуждение в данном случае не имеет значения. Но это случай совершенного государства. Если ту же лексику применить к менее совершенному государству, то под мягкими эвфемизмами нужно будет прятать жёсткие формулировки власти, которая, по своей природе, осуществляется одними людьми над другими. Новая терминология описывала политические вопросы с точки зрения развития, осуществления, самоопределения, самореализации, и их нельзя было отличить от эстетических и религиозных вопросов, где не обсуждается власть. Но если же, как в реальных государствах, правительство подразумевает существование палача и солдата, облачение вопросов власти в религиозную или эстетическую терминологию может привести к опасному заблуждению. Разум государства становится частью суверенного Разума, и необходимость государства начинает казаться необходимостью вечного спасения.
51
Это смешение общественного и частного, духовного и мирского проникло в текущую политическую риторику, и правители пытались убедить подданных, что отношения между гражданами такие же, как между возлюбленными, супругами, или родителями и детьми, и что соединение, привязывающее индивид к государству, — религиозное, подобное тому, что объединяет верующего с Богом, пророка с последователями, мистика с учениками. Речь Макрама Убайда коптского лидера египетской партии Вафд может продемонстрировать это современное направление риторики.
«Разум сердца, — говорит Макрам Убайд, — это любовь, а любовь — основа всех добродетелей. Любовь одна, как бы многочисленны ни были её разновидности и имена. Любовь к Богу есть религия, любовь к добродетели есть благопристойное поведение, любовь к родине есть патриотизм, любовь к семье есть семейные чувства, любовь половая есть то, что обычно называют собственно любовью или влюблённостью, любовь к другу есть дружба. Таким образом, все чувства собраны в одно — любовь. Источник её один — сердце. Сердце от Бога, а Бог есть любовь, как сказано в Библии... Чувство любви есть по сути слияние душ. Любовь может быть частной, тогда она будет включать любовь к семье, любовь к другу; любовь может быть общественной, это любовь к родине, к религии и т. д. Не думайте, что любовь общественная — всего лишь воображаемое чувство. О нет, иногда, особенно во время эмоционального подъёма, её влияние на сердце даже сильнее и пространнее, чем в любви частной...».
Человек может даже пожертвовать частной любовью во имя общественной любви-, пожертвовать своими интересами и детьми во имя любви к своей стране или во имя возвышенной идеи, овладевшей им. Любовь египтянина к брату египтянину, — продолжает Макрам Убайд, вспоминая анти-британское сопротивление в конце первой мировой войны, — не просто патриотическое чувство. Это, скорее, любовь верующего к своему брату по вере, ибо все верующие — братья.1 Это любовь солдата к своему сослуживцу, — поэтому это сильная любовь, сконцентрированная на одной идее, одной армии, рдном лидере.-Эта любовь овладела нашими сыновьями, и во имя неё они проливали свою кровь и жертвовали свободой... Лучшее определение такой общественной любви встречается в откровениях Священного Писания, где сказано, что те, кто разделяют общую веру в общую идею, суть братья и родственники. До сего дня я всегда удив¬
1 Цитата из Корана ХЫХ: 9. {Прим, автора)
52
лялся, читая в Евангелиях, что, когда Христу сказали «Твои мать и братья желают говорить с тобой», он ответил со страстью, что его мать, братья и родственники суть те, кто едины с ним в помыслах и поступках2 — о да! Вот подлинное родство, связь духовными, а не телесными узами!»
Подобное возвеличивание государства возвеличивает и академического философа. Он уже не просто мыслитель, для которого теоретические умозрения непременно предшествуют действию; не просто учёный, служащий знанию, или учитель, охраняющий и передающий юношеству наследие. Теперь он заявляет о себе как законодатель человечества. Политика в этом смысле тесно связана с высшим предназначением человека, и потому теоретические умозрения более не противопоставлены действию. Познание есть познание целого, а правильное действие — это действие, ведущее к растворению в целом. Действие есть познание, а познание есть действие. «Учёный, — пишет Фихте в «Лекциях о назначении учёного» (1794), — «видит не только настоящее, он видит также и будущее; он видит не только теперешнюю точку зрения, он видит также, куда человеческий род теперь должен двинуться... В этом смысле учёный — воспитатель человечества».3 Это великое притязание не выдерживает серьёзной критики, но оно появилось вовремя, чтобы широко распространиться в Европе и за её пределами. Благоговение античности перед законодателями и основателями полисов теперь перенеслось на публицистов и профессоров. Эрудированные филологи, запутавшиеся и труднодоступные для понимания экономисты стали признанными основателями влиятельных политических движений, черпая вдохновение из нелёгкого словаря философских прений. Необходимый сопутствующий элемент такого положения — идеологический стиль политики. Интересы, целесообразность или необходимость случая не достаточны, чтобы оправдать политическое действие. Метафизическая система должна предоставить извне нормы политического поведения, и требуется постоянное усилие, чтобы примирить действия с высшими принципами. Для людей во власти это может быть не более, чем целесообразной формальностью, которая, впрочем, заканчивается с расширением пропасти между сказанным и сделанным, что оскверняет политический словарь. По¬
2 Здесь оратор умышленно изменяет текст Евангелия: Мф. XII: 46-50. {Прим, автора)
3 И.Г. Фихте. О назначении учёного. М., Соцэкгиз, 1935. С. 112.
53
средством высокого философского стиля правители лучше контролируют управляемых, одурманенных их образованностью, и получают активную поддержку или пассивное молчаливое согласие. Путём естественного развития философы становятся «властителями дум», а реальные властители приручают философию для своих целей. Такой политический стиль создаст новые литературные жанры: Ленин будет рассуждать об эмпириокритицизме, а Сталин излагать основы языкознания, Гитлер начнёт карьеру с «Моей борьбы», а Абдель Насер успешно завершит государственный переворот «Философией революции».
Глава 4.
ПРЕИМУЩЕСТВО РАЗНООБРАЗИЯ
Предназначение человека состоялось, и его свобода реализована в растворении в государстве, ибо только через государство он становится личностью и постигает действительность. Поэтому может показаться разумным заключить, что такое государство должно распространиться на всё человечество. И тем не менее это будет заблуждением, потому что противоречит другой, существенной стороне этой философии, а именно, что самоосуществление и растворение в целом есть не плавный и безмятежный процесс, а результат сопротивления и борьбы. Борьба, как мы видели, лежит в основе этической теории Канта: свободным и автономным человек становится только в борьбе против своих естественных гетерономных склонностей. Но не только по этой причине пост-кантианцы считали борьбу столь важным компонентом нашего мира.
Любая достойная внимания философия вынуждена считаться с существованием зла в мире. Но философия Просвещения, опровергшая все укоренившиеся представления и ортодоксальный религиозный взгляд на сотворение мира, никак не могла найти места злу в своей схеме, не говоря уже о том, чтобы его объяснить. Ибо если всё знание и нравственность базируются на чувственном восприятии и происходят из естественного окружающего мира человека, тогда, собственно говоря, никакое действие не является злом. И всё же зло существует, и обойти или оспорить это обстоятельство никак нельзя. Какова же функция зла в управлении миром? Здесь нужно оценить то, что К. Л. Беккер называл потребностями следующего поколения.1 Прогресс человечества очевиден. Оно продвинулось в знании и науке, оно постепенно преодолевает суеверия, с каждым днём становясь всё счастливее и всё более цивилизованным. Объяснить зло теперь очень просто. Зло неизбежно в процессе перехода от варварства к цивилизации, от невежества к знанию. Этой перемены можно добиться только путём борьбы, насилия, переворотов. Оправдание зла
1 В работе «Небесный град философов XVIII века» (С. L. Becker, In The Heavingly City of the Eighteenth Century Philosophers, New Haven, 1932). — Прим, автора.
55
заложено в будущем, когда наши потомки будут наслаждаться благами, осуществлёнными через наши страдания. Зло нужно, чтобы получить добро. «Только через волнения и разрушения, — говорил Тюрго в 1750 году в лекции «Об успехах человеческого разума», — нации развиваются, а цивилизация и правительства постепенно совершенствуются». Ибо если бы не было шумных и опасных страстей, не было бы прогресса, и человечество осталось бы в состоянии заурядности. Для Канта эта мысль фундаментальна. Он определённо видел историю как беспрерывную борьбу. Добро и зло, писал он в трактате «О различных человеческих расах» (1775-77), странно перемешаны в человеке и составляют источник энергии для «великих сил, приводящих в движение творческий потенциал человечества, заставляя его развивать все таланты и стремиться к совершенству своего предназначения». Предоставленный самому себе, говорит Кант в «Идее всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» (1784), человек предпочтёт мир, но Природа желает иначе: во благо рода его жребием будет война. Только в борьбе человек достигает разумной жизни. Индивиды могут преследовать ту или иную цель, заниматься своими тщедушными делишками, но независимо от собственной воли они выполняют план Природы, который станет очевиден только последующим поколениям, когда человечество станет, наконец, добродетельным и счастливым. Такая теория приписывает природе и истории слепое, безличное желание осуществления нравственности, и в этом она несовместима с этическим учением Канта, согласно которому нравственность относится только к сознательному действию самоопределяющего автономного индивида. Кант, однако, всегда выделял концепту борьбы центральное место в своей философии истории. В трактате «К вечному миру», опубликованном в 1794 году, он отказался от возможности универсальной монархии. Такая монархия действительно может установить мир, но это будет мир деспотизма, а в этом случае даже война будет рационально предпочтительнее. В любом случае, природа не позволяет установление универсальной монархии. «Двумя средствами пользуется она для того, чтобы удерживать народы от смешения и разъединять их — различием языков и религии. Это различие хотя и влечёт за собою склонность к взаимной ненависти и повод к войне, однако с ростом культуры и при постепенном приближении людей к большему согласию в принципах ведёт к взаимопониманию и миру, который осуществляется и обеспечивается не ослаблением всех сил, как это имеет место при деспотизме (на кладбище свободы), а их равновесием, их актив¬
56
нейшим соревнованием».1 Итак, мировая природа, смысл и осуществление истории препятствуют существованию универсального государства. Мир должен быть миром многих государств.
Фихте глубже развил идею борьбы. Мир, как мы видели, есть продукт самосознания. Эго даёт миру форму во всей его грубости и несовершенстве, не во спасение, но чтобы иметь соперника. Без сопротивления или борьбы Эго не в состоянии постичь само себя, а тогда нравственная жизнь невозможна. Потрясение, возникающее в результате столкновения Эго с миром, так сказать, побуждает Эго к стремлению самоосуществления. Это стремление беспрерывно и бесконечно. Как только совершенство наконец достигнуто, а усилия прекращены, наступает конец всей деятельности, и тем самым — смерть. В этой теории борьба принимает такое значение, что сам мир существует только для того, чтобы осуществить её. В философии истории, предложенной им в «Основных чертах современной эпохи», Фихте сохранил за борьбой центральное место. Войну между государствами он рассматривал как механизм, вводящий «живой и прогрессивный принцип в историю», и эта война есть не ограниченная война, не церемонная партия в шахматы по правилам стратегии восемнадцатого века, это «подлинная и настоящая война — война за покорение». Конфликт между государствами косвенно способствует самоосуществлению всего человечества: «До тех пор пока человечество в разных государствах получает одностороннее образование, правомерно ожидать, что каждое отдельное государство считает свою собственную культуру единственной и правильной, культуры же других государств варварскими, а жителей их — дикарями, и потому чувствует себя призванной их покорять». Таким образом, человечество постепенно поднимается по шкале культуры, и высшим оказывается момент, когда одно государство одерживает победу над своими противниками. Поэтому в упомянутом труде Фихте настаивает, что не нужно жалеть о поражении своего народа в ходе борьбы. Нашим подлинным отечеством остаётся государство, стоящее на «высшей ступени культурного развития».
Эта философия истории и государства претерпела, впрочем, некоторые изменения благодаря ещё одному звену, связанному с идеей самоопределения и самоосуществления за счёт растворения в государстве, а также борьбы как существенного процесса в природе
1 Пер. А. В. Гулыги. И. Кант. Сочинения. В 8-ми тт. Т. 7. — М.: Чоро, 1994. С. 34.
57
и истории, звену, повлекшему за собой учение о национализме в известном нам сегодня виде. Это новое звено было по сути введено Гердером и изложено, главным образом, в двух работах: «Еще о философии истории» (1774), кратком памфлете гневного красноречия, и в намного более объёмном труде «Идеи к философии истории человечества», опубликованном в периоде 1784 по 1791 годы, большом и пространном, но самостоятельном и выразительном изображении истории в самом всеобъемлющем смысле. Гердер принял два распространённых представления философии истории своего времени, а именно: что исторический процесс есть процесс прогрессивного улучшения, и что этот прогресс есть результат насилия и борьбы. На двух этих пунктах он настаивал, как никто другой из его современников. Насилие и революции наполняют историю, пласт за пластом. Но как компенсация за это существует цепь прогресса, связывающая всю историю человечества. Однако, сам прогресс требует от человека не строить ничего вечного: «Глупость возникла, чтобы мудрость её преодолевала: крошащаяся ломкость даже самых прекрасных работ неотделима от их материала, чтобы у людей была возможность на их же развалинах прилагать усилие к их улучшению и возведению — ибо все мы здесь упражняемся в мастерской». И ещё более красноречиво: «Только в шторм могут цвести благородные растения; только в противостоянии фальшивым притязаниям сладкий человеческий труд может быть победоносным. Конечно, людям часто кажется, что он гибнет под чистыми помыслами — но он не гибнет. Семя ещё пышнее прорастёт из пепла добра, и, окроплённое кровью, превратится в неувядающий венок». Но Гердер протестовал против самодовольного убеждения, приписываемого им французским и испытавшим французское влияние писателям, что эпоха, в которую им довелось жить, самая прекрасная, и все предыдущие столетия были лишь приготовлением к ней. Такое отношение систематически сокращает и преуменьшает все достижения прошлого. Он сам отказался от такого телеологического высокомерия: прогресс действительно есть, но достижения прошлого суть не просто средства, чтобы Вольтер, наконец, открыл свою душу благодарному человечеству. Эти достижения имели свойственную им ценность сами по себе, и ничто отдельное нельзя обесценить, чтобы возвеличить другое. «Все творения Господни, — пишет Гердер, — имеют свойство, что, хотя они принадлежат невидимому целому, каждое всё-таки есть целое само по себе и несёт божественный характер своего предназначения. Так происхо¬
58
дит с растениями и животными: может ли быть иначе с человеком и его предназначением? Может ли быть, чтобы тысячи были созданы для одного? Все прошлые поколения только для одного последнего? Каждый индивид только для рода, то есть для картинки абстрактного имени? Мудрец не играет по таким правилам: он не забавляется туманными мечтами, он живёт и любит каждое своё дитя отцовской любовью, словно это единственное создание на свете. Все его средства суть цели, все его цели суть средства к конечной цели, в которой бесконечное, наполняющее всё, раскрывает себя». Разнообразие, как и борьба, является одной из основных характеристик вселенной. Разнообразие, но не единообразие стоит отметить, ибо разнообразие явно задумано Господом. Это ясно, если мы вспомним, что Господь рассеял людей по всей планете, поместив их в разные климатические условия и окружающую среду. Он хотел, чтобы все возможные особи имели возможность жить и реализовывать себя в собственной индивидуальной, особой, идиосинкратичной форме. Шиллер, со своей стороны, выразил это в «Философских письмах» (1786-89): «Каждое совершенство должно достигать существования в полноценном мире... Любое порождение мозга, любое полотно разума имеет неоспоримое право на гражданство в этом более глубоком смысле творения. В бесконечной бездне природы не может отсутствовать никакая деятельность, никакая степень наслаждения во всеобщем блаженстве... В работе божественного художника сохраняется уникальная ценность каждой части, и поддерживающий взгляд, которым он удостаивает каждую вспышку энергии даже в мельчайших созданиях, возвеличивает мастера так же, как и гармония неизмеримого целого».
Таким образом, не только мир несовершенен и борется за совершенство. Это вероятное совершенство, когда оно наступит, будет гармонией всех возможных особей, которые только могут произвести Природа или Господь. В этом многостороннем взгляде на мир спонтанности по отношению подражанию отдаётся предпочтение, и общепринятое представление о природе претерпевает изменения. В системе естественного права идея Природы означала регулярность, однообразие, зрелость и завершение. Но регулярность и однообразие подразумевают подражание, подражание подразумевает искусность, а искусность при многостороннем взгляде не спонтанна, и следовательно, неестественна. Теперь Природа принимает во внимание то, что пренебрегает симметрией и мерой, что отторгает любую искусственность и сознательное устройство, то, что сыро, гру¬
59
бо и незрело. А спонтанность — это дар тех, кто сохраняет свой собственный особый характер, кто не испорчен лоском цивилизации. В то время как те, кто не дорожат своей индивидуальностью и мечутся между культурами, между цивилизациями, суть бездомные приживалы, обречённые на искусственность и бесплодие. «Дикарь, — говорит Гердер, — в тихой радости любящий себя, жену и ребёнка и догорающий с ограниченной действенностью для своего племени и жизни, есть, по моему мнению, более подлинное существо, чем образованная тень, восхищённая любовью к теням всего своего рода, то есть к имени. У дикаря в убогой лачуге есть укрытие для любого путника, которого он примет как брата с равной доброжелательностью и не спросит, откуда тот. В затонувшем сердце праздного космополита ни для кого нет лачуги».
Такой акцент на разнообразии лишь продолжал и немного видоизменял традиционное представление, которое, как показал А.О. Лав- джой в классической работе «Великая цепь бытия» (1936), главенствовало в европейской мысли со времён Платона. Разнообразие, доказывали прежде многие авторы, было необходимым элементом творения, ибо в своей безграничной доброте Бог не мог пожелать отказать в праве на жизнь любому живому существу, как бы просто или ничтожно оно ни было. В позднейшем варианте спора разнообразие, желаемое Господом, стало означать не только, что всякая культура, всякая индивидуальность имеют уникальную несравнимую ценность, но и что на нас лежит обязанность развивать наши особые качества и не смешивать их с другими. Только так мы можем действовать нравственно и способствовать мировому прогрессу. «Только если человек в настоящем поведении сознаёт свою индивидуальность, — пишет Шлейермахер, — он может быть уверен, что в будущем не совершит над ней насилия; и только если он постоянно требует от самого себя созерцать всё человечество, противопоставляя своё выражение его любому другому возможному, может он сохранить сознание своей уникальной самости». Этот взгляд применительно к политике радикально меняет представление о нации. Для французских революционеров нация означала число индивидов, выразивших свою волю по отношению к образу их правления. Нация, согласно этой новой, существенно отличающейся теории, становится неким естественным единством внутри человечества, которое Господь наделил собственной сущностью, и его граждане непременно должны сохранить эту сущность чистой и неприкосновенной. Поскольку Господь выделил нации, они не должны объединяться. «Каждому наро¬
60
ду, — заявляет Шлейермахер, — суждено представлять особую сторону божественного образа, благодаря особому устройству и своему месту в мире... Ибо каждой нации Господь прямо определил конкретное предназначение на земле и вселил в неё конкретный дух, чтобы восславить Себя через каждую нацию только ей одной свойственным образом». Нации суть отдельные естественные существа, задуманные Господом, и наилучший политический порядок достигается тогда, когда каждая нация формирует собственное государство. Подлинное и вечное государство то, в котором нация строится на естественном родстве и любви. Напротив, государства, населяемые более, чем одной нацией, имеют неестественный и деспотичный характер и в конечном счёте обречены на гибель. Гердера волнует здесь не то, что в таких государствах один элемент может доминировать над другими, но, скорее, что они грешат против принципа разнообразия, ибо в них различные нации всегда подвержены риску потерять свою идентичность и не способны в полной мере развивать свою самобытность. То, что это главная его мысль, подтверждается примерами, выбираемыми им в ходе защиты своей точки зрения. Османская империя и Великие Моголы были развращёнными государствами, состоящими из множества наций, в то время как государства Китая, Брахманов или древний Израиль суть здоровые государства, ибо даже после исчезновения они сохранили народ, сумевший противостоять смешению с другими народами. Следовательно, представитель одного народа не должен принимать обычаи или язык другого. Такой человек отказывается от исконного и подлинного и принимает выдуманное и искусственное. Он тем самым обедняет свою нацию и мешает утверждению её индивидуальности.
«В других ищи краях!», — восклицает Гердер в стихотворении «К немцам»:
Так бродят по миру,
И в целом мире они самим себе чужие?
На чужестранцев взирают с гордой спесью.
А ты, мой немец, ты один, с чужбины возвратившись, Французским с матерью родной заговоришь?
Так выплюнь же, перед порогом выплюнь Противную слизь Сены.
Немецкий твой язык, мой немец!
Может показаться, что эта страстная речь лишь слегка преувеличенно подчёркивает обязательство развивать и сохранять свою соб¬
61
ственную идентичность, обязательство, возникшее из принципа разнообразия. Для немца говорить по-французски значило бы подражать, потерять исконность; даже хуже того, предоставить себя культуре, отказавшейся от исконности, простоты, чувственного восприятия и энергии, предпочитающей мёртвое подражание и поддельный неоклассицизм. Мы оценим эту страстность лучше, если вспомним, что сопротивление всему французскому было результатом не только исторической и литературной теории, но негодования по поводу положения интеллектуала в немецком обществе.
В Германии XVIII века французский считался предпочтительным языком литературы и высшего общества. Французские писатели грелись под покровительством Фридриха Великого, не скрывавшего презрения к немецкой литературе и немецким авторам. Негодование против своего презренного положения слилось с негодованием против французского языка и французской литературы, которую старательно прививали привилегированные классы и их приспешники. Таким образом, образованные люди, занимающиеся литературой, нагружали язык политическим смыслом. Писатель и агитатор национализма Эрнст Мориц Арндт (1769-1860) в мемуарах, опубликованных в 1840 году, вспоминает с уничижающим презрением, что в последние десятилетия XVIII века даже крестьянские девицы в его маленьком городке на севере Германии старались говорить по-французски: «Клочки французского то и дело вплетались в речь, и я помню, как веселился, когда сам начал учить французский и понял, что «фладрун», как фрейлин Б. называла бутылку с водой, — это флакон (flacon), «Вун Шур» — bonjour, «а ля Вундёр» — а la bonne heure, и тому подобные перлы, которыми охотники и крестьяне верхом на лошадях приветствовали друг друга, когда хотели продемонстрировать изысканность». Это пристрастие к французскому было для писателей ещё одним знаком поверхностности и упадка правящего сословия. «Уже все европейские правители, — с горькой иронией отмечает Гердер», — а скоро и все мы начнём говорить по-французски. И тогда — о счастье! — снова наступит золотой век». «“На всей земле, — продолжает он, цитируя Писание, — был один язык и одно наречие, и будет одно стадо и один Пастырь!”. О национальные характеры, где же вы?» Образованные круги могут насмехаться над людьми, которые настолько просты, что довольствуются собственными обычаями и предубеждениями. Но именно они хранят здоровье и потенциал общества. Первые признаки общественной болезни обнаружились, когда появилась тоска по заграничным путе¬
62
шествиям, восхищение всем иностранным и пренебрежение к своему собственному. Позднее, после вторжения Наполеона, когда прусское государство распалось, а военная и административная машина Фридриха дискредитировала себя, поднялся крик, что эта беда спровоцирована французским влиянием и последовавшим за ним распадком. Возможно, франкофобия началась как литературное движение, но со временем её уже трудно было отличить от политического крестового похода. «Отец гимнастики» Фридрих Ян (1778-1852) мог вещать на общественном собрании в Берлине, что отец, позволяющий своей дочери учить французский, благословляет её на проституцию, а Арндт в памфлете 1818 года мог воскликнуть: «Да будем же яростно ненавидеть французов и особенно наших французов, обесчещивающих и оскверняющих нашу работоспособность и невинность!» Ко времени, когда подобное заявление могло возникнуть, оно уже опиралось на заботливо выстроенную теорию, провозгласившую внутреннюю роковую связь языка и политики.
Глава 5.
НАЦИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Как мы уже отмечали, из принципа разнообразия следует, что особенности и склад ума — черты, отличающие индивидов друг от друга, — суть нечто священное, требующее чуткого к себе отношения, ибо всеобщая гармония может быть достигнута только благодаря индивидуальному развитию особенностей каждого, благодаря достижению каждым живым существом своего совершенства. Язык есть средство, с помощью которого человек осознаёт свою личность. Язык не только способствует рациональному мышлению, он является внешним выразителем внутреннего опыта, итогом конкретной истории, заветом определённой традиции. В удостоенной награды работе — «Трактате о происхождении языка» (1772) — Гердер виртуозно и пылко спорил с современными ему теориями языка. Он отказывался признавать язык творением Господним, видеть в нём плод человеческого разума, или считать, что он берёт начало в звукоподражательных возгласах первобытного человека. Человек не является пассивным зрителем мировой сцены. Он активно включён во всё, что наблюдает или с чем экспериментирует, ибо язык рождается в то самое мгновение, когда человек пытается выразить свои чувства по отношению к предметам или событиям, с которыми он сталкивается. Первоначально язык не описание и не подражание, скорее, он живое целое, в котором предметы и события сливаются с эмоциями, возникающими в человеке: «Но когда человек стал соотносить всё с самим собой, когда ему стало казаться, что всё говорит с ним, когда и на самом деле всё действовало или на пользу, или во вред ему, когда, наконец, он сам стал участвовать в этих действиях или противиться им, любил или ненавидел, и всё представлял себе по-человечески, то отпечаток этого человеческого должен был отразиться и на первых именах! И они выражали любовь или ненависть, проклятие или благословение, покорность или противоборство! В частности эти чувства породили артикли. Благодаря последним все предметы очеловечились, олицетворились, стали существами женского или мужского пола. Всюду появлялись боги или богини, действующие существа, злые или добрые! Бушующий ураган или ласковый эфир, прозрачный источник или могучий океан — вся их мифология содержит-
64
ся в глаголах и именах, этой золотоносной жиле древних языков, и древнейший словарь был таким звучащим Пантеоном, огромным местом сборища обоих полов, каким природа представлялась первому творцу языка».1 Таким образом, самый первый человеческий язык возникает из чувств, и абстрактные слова появляются значительно позже. Но и эти слова прочно основаны на фундаменте чувственных восприятий и реакций. Кроме того, поскольку люди не жили единой общиной, а рассеялись по всей земле и разделились на отдельные семьи, племена и народы, их языки несут отпечатки этих разнообразных обстоятельств и характерных черт. «Только один-единственный язык, — говорит Шлейермахер, — прочно врос в индивида. И именно ему индивид принадлежит целиком, сколько бы других языков он ни выучил впоследствии... Для каждого языка существует особый способ мышления, и то, что мыслится в одном языке, никогда не может быть тем же образом выражено в другом... Таким образом, язык, как церковь или государство, есть выражение особой жизни, создающей внутри него и развивающей через него единое языковое тело».
Эта теория имела немаловажные политические последствия. Миром правит разнообразие, и человечество разделено на нации. Язык — внешний и очевидный знак различий, отделяющих <5дну нацию от другой, это главнейший критерий, по которому нация может быть признана существующей и имеющей право формировать собственное государство. Лингвистический критерий настолько важен, что Фихте в «Речах к немецкой нации» заявляет, что «людей, живущих сообща, подлежащих одним и тем же внешним воздействиям на их орган речи и в непрерывном взаимном сообщении развивающих свой язык, мы назовём народом».1 2 Фихте посвящает значительную часть своих «Речей» раскрытию и обнаружению тонких и сложных отношений между языком и политикой. Гердер подчёркивал, что человек, говорящий на иностранном языке, обречён жить искусственной жизнью, отдалиться от исконных, естественных источников своей личности. С большой виртуозностью Фихте разрабатывает политические разветвления этого пространного всеобъемлющего утверждения. Например, он пытается показать, что простое присутствие иноязычных слов в языке уже способно нанести вред, ибо загрязняет ис¬
1 Пер. Г. Ю. Бергельсона. И.Г. Гердер, Трактат о происхождении языка. М.: 2007. С. 147.
2 Здесь и далее пер. А. К. Судакова. И.Г. Фихте. Речи к немецкой нации (1808) —М„ 2008. С. 69.
65
точники политической нравственности. Когда чужеродные термины из области политической и общественной жизни вводятся в язык, говорящие на этом языке не уверены в точных коннотациях терминов и впадают в заблуждения, ведущие к серьёзным последствиям. Возьмём, к примеру, говорит Фихте, слова «гуманность», «популярность» и «либеральность». Все три слова имеют латинское происхождение и вошли в немецкий язык как Humanität, Popularität и Liberalität. Но что в действительности означает слово «гуманность»? Лишь способность быть человеком, в чём нет ничего достойного похвалы. Однако римляне, придерживающиеся низких этических стандартов, считали, что быть человеком — это похвально. Значит, введение в немецкий язык слова «гуманность» равносильно снижению этической планки немецкого народа. «Если бы теперь, — продолжает Фихте, — мы сказали немцу вместо слова «гуманность» слово «человечность» (как первое слово и следует переводить буквально), он понял бы нас без дальнейших исторических объяснений; только он сказал бы: не очень-то это много, если ты человек, а не дикий зверь». Подобным образом Фихте поступает со словами «популярность» и «либеральность», выявляющими, по его мнению, лишь деградацию римских общественных отношений. «В популярности уже изначально, — говорит он, — заключается некоторая низость, которая от нравственной порчи нации и её государственного устройства обманным путём обращается в её собственных устах в добродетель. Немец никогда не согласится на этот обман, если только он будет предложен ему на собственном его языке». Если бы, вместо включения этих трёх слов в немецкий язык, те, кто пишут на нём, ограничились исключительно немецкой лексикой, — Menschenfreundlichkeit (приветливость), Leutseligkeit (общительность), Edelmuth (благородство), — то извращения, свойственные латинским терминам, тем самым и не проникли бы в сознание немцев.
Если введение нескольких иностранных слов в немецкий приносит такой вред, то чего же ждать, когда люди отказываются от своего языка и полностью переходят на иностранный? Французы первоначально были германцами, отказавшимися от германского диалекта в пользу новолатинского наречия. Вместе с этим наречием распространились все пороки римлян, и теперь французы страдают, по выражению Фихте, «от несерьёзности в отношении к общественным делам, самоунижения, бездушного легкомыслия». Если бы они сохранили свою исконную речь, то никогда не позволили бы себе такой деградации, ибо тогда у них всё ещё был бы живой язык, и с его
66
помощью им бы удавалось зорко следить за понятиями, вводимыми и популяризируемыми через латынь. В самом деле, утверждает Фихте, если поближе присмотреться, те, кто говорят на новолатинских языках, не владеют, строго выражаясь, живой речью, родным слогом, они имеют дело лишь с мёртвым языком. Фихтевское разделение между живыми и мёртвыми языками покоится на теории о происхождении языка, выдвинутой Гердером в трактате 1772 года и развитой далее А. В. Шлегелем в «Лекциях об изящной литературе и искусстве» 1803 года. Изначальные, простые языки, говорит Фихте, превосходят составные и производные. Немецкий язык — изначальный, в то время как французский и английский — составные и производные. Как и Гердер, Фихте утверждает, что в любом языке абстрактные идеи выражаются через символические термины, или, как он говорит, «язык даёт естественный образ сверхъестественному». Говорящие на изначальном языке сохраняют в целостности связь между абстрактными идеями и чувственным опытом, из которого рождаются символы, обозначающие абстрактное. «Для всех, кто только пожелает мыслить, — говорит он, имея в виду нации с изначальными языками, — будет ясен зафиксированный в языке символ; для всех действительно мыслящих он будет живым и побуждающим их жизнь образом», и это потому, что «с самого первого звука, прозвучавшего на этом языке, (язык) непрерывно развивался из действительной совместной жизни народа, ...в который ни разу не проникло ни одного элемента, не выражающего некоторого действительно пережитого этим народом воззрения, — созерцания, состоящего во всеобъемлюще полной связи со всеми прочими воззрениями, свойственными этому же народу». Обратное происходит с теми, кто говорит на производном языке. Здесь живая связь между абстрактными идеями и непосредственными чувственными впечатлениями разорвана, а потому личностный мир таких людей обеднён, и они не могут достичь свободы и самоосуществления. Для них «символ заключает в себе сравнение с чувственным воззрением, которое они или давно уже превзошли, не пройдя, однако, сопровождавшего это воззрение духовного образования, или которого у них пока ещё не было, да и появиться когда бы то ни было не может... В итоге чего они получат мёртвую и плоскую историю чужого образования, а вовсе не собственное своё образование, и образы, которые не будут для них ни непосредственно ясными сами по себе образами, ни побуждением в действительной жизни, но которые должны казаться им точно такими же произвольными, как и чувственная часть языка». В слу¬
67
чае же с теми, кому посчастливилось обладать изначальным языком, «...мышление на изначальном языке — не вливается в жизнь, но оно само есть жизнь мыслящего так человека... Ибо именно потому, что это мышление есть жизнь, обладатель его с глубоким благорасположением чувствует его животворящую, просветляющую и освобождающую силу».
Из этого можно извлечь два вывода: во-первых, люди, говорящие на изначальном языке, суть нации, и, во-вторых, нации должны говорить на изначальном языке. Говорить на изначальном языке значит быть верным своему характеру, хранить свою самобытность, и поскольку немецкий язык изначальный, только немцы лишены искусственности и бесплодия тех, удел кого говорить на мёртвых языках. И только немец, изначальный человек, не впутанный в безжизненный механический процесс, считает Фихте, «действительно имеет народ и имеет право причислить себя к нему, и он один способен к подлинной и рациональной любви к своей нации». Опять-таки, так как нация по определению должна говорить на изначальном языке, то речь её должна быть очищена от иностранных добавлений и заимствований, ибо чем язык чище, тем естественнее, и тем проще становится для нации реализовать себя и увеличить свою свободу. На нации, достойной своего названия, тем более лежит обязанность оживлять, развивать и углублять то, что считается её изначальным языком, даже если его можно найти только в отдалённых деревнях и на нём веками не говорили, даже если его ресурсы маломощны и литература скудна. Ибо только такой изначальный язык позволит нации реализовать себя и достичь свободы. Это теоретическое обоснование неустанных филологических усилий, сопровождающих распространение национализма по всему миру. Националисты с лёгкостью могли бы присвоить себе остроумное изречение историка Альберта Со- реля: «Я говорю, следовательно, я существую».1
Итак, критерий, которым нацию можно проверить на существование, — это язык. Группу людей, говорящую на одном языке, называют нацией, и нация должна сформировать государство. Дело не только в том, что группа людей, говорящих на определённом языке, может претендовать на право сохранить этот язык; скорее, такая группа, являющаяся нацией, перестанет ею быть, если не образуется в государство. И тогда, говорит Фихте, «она вынуждена отказать¬
1 A. Sorel, L’Europe et la révolution française, vol. 1, Paris, 1885, p. 429 — прим, автора.
68
ся от языка и объединиться с завоевателями, чтобы возникли единство, внутренний мир и полное забвение отношений, более не существующих». Такая группа, растворённая в иностранном государстве, обречена на гибель. Её члены становятся, пользуясь выразительной метафорой Фихте, «придатком жизни, провоцирующим самого себя к действию перед ним или около них; они эхо, раздающееся в скалах, эхо навсегда замолчавшего голоса; они поступились всеми свойствами изначального народа, и стали для такового чужеземцы и иностранцы». Опять-таки, если нация — это группа людей, говорящих на одном языке, и если членов такой группы разделяют политические границы, эти границы произвольны, неестественны, несправедливы. «Поймите меня правильно, — говорит собеседник диалога Фихте «О патриотизме и его противоположности» (1807), — отсоединение Пруссии от Германии совершенно искусственно... Отсоединение немцев от остальных европейских наций основано на природе. Общим языком и общим национальным характером, объединяющими немцев, они отделены от остальных». Только основываясь на таком предположении, имело смысл дать название лекциям «Речи к немецкой нации». Ибо в годы, когда они были произнесены в Берлине (в 1807-1808 гг.!), немецкой нации в политическом смысле вообще не существовало. Немецкоязычная часть Европы имела самые различные политические устройства, и тот факт, что пруссы и баварцы, богемцы и силезцы все говорили по-немецки, не имел большого политического веса и уж точно достаточных оснований, чтобы оправдать разрушение стольких установленных институтов. Фихте и его приверженцы-националисты стремились доказать, что говорить на одном языке есть достаточная причина опровергнуть все существующие политические устройства и основать новый порядок, в котором все говорящие по-немецки будут составлять часть одного и того же государства. «Что есть для немца родина?» — спрашивает Эрнст Мориц Арндт в известном стихотворении «Родина немца»:
Скажи «великая» в ответ!
Где речь немецкая звенит А славит Господа вовек,
Так должно быть!
Отважный немец, это — ты!..
Вот что для немца родина,
Где гнев чужое истребит,
И пусть француз нам будет враг,
69
И каждый немец будет друг.
Так должно быть!
Германия единой стань!
Французская революция, как мы видели, выдвинула принцип, в соответствии с которым индивиды и общины имеют право отделиться от одного государства и примкнуть к другому. Не менее революционным в своих последствиях стал другой принцип, что государства имеют естественные границы, которые соответствуют языковой карте территории. «Первые, исконные и подлинно естественные границы государства, — утверждает Фихте, — несомненно, внутренние границы. Говорящие на одном языке привязываются друг к другу множеством невидимых нитей самой природой задолго до начала любого искусства; они понимают друг друга и способны выражаться всё яснее и яснее; они принадлежат друг другу и по природе составляют одно неделимое целое... Из этой внутренней границы... проистекает ограничение посредством территории; и по естественному ходу событий люди являются народом не потому, что они живут между определёнными горами и реками, но напротив, они живут вместе, потому что стали народом по высшему закону природу». Таким образом, нация становится однородной языковой массой, действующей как магнит на группы, говорящие на одном языке за пределами её границ. Эти группы пытаются нарушить верность своему государству, устраивая мятеж или гражданскую войну. Ирреден- тизм — явление, возникающее вслед за распространением национализма. Опять-таки, если государства будут сформированы из однородных в языковом отношении наций, то в областях со смешанным населением возникнет серьёзная угроза единству национального государства. По выражению Фихте, «такое целое [как нация], не может слиться и смешаться с другими народами различного происхождения и языка, не потеряв самоё себя... и насильственно не разрушив самый процесс своего образования». Такой акцент на языке преобразовал его в политическое дело ради которого люди готовы убивать и уничтожать друг друга, что прежде было редкостью. Языковой критерий осложняет к тому же жизнеспособность сообщества государств. Чтобы такое сообщество функционировало, государства должны быть разумно стабильными, с ясно выраженным единством, известным и признанным на всём пространстве контролируемой ими территории, с чётко зафиксированными границами, обладать характерной принудительной силой. Но если язык стано¬
70
вится критерием государственности, ясность о сущности нации растворяется в тумане литературных и академических теорий, и открывается путь для двусмысленных претензий и неясных отношений. Ничего иного не приходится ждать от теории национализма, которая открыта учёными, никогда не стоявшими у власти и мало что понимавшими в необходимости и обязательствах, присущих взаимоотношениям между государствами. Эти люди знали, что мелкие государства, входившие в состав Священной Римской империи, невыносимо ограниченны, и что нужна перемена. К тому же их философия — а они были философами в первую очередь — не стремилась оценивать политику как практическую, прозаическую деятельность, помня суровое увещевание Цицерона, что если Спарта — ваше наследие, вы должны сделать всё, что можете, для её блага. Политика для них была, скорее, золотым ключом, открывающим сказочное королевство. Но поскольку политика обычно имеет дело с реальными королевствами, националисты вынуждены были действовать в туманной области, на полпути между сказкой и действительностью, где государства, границы, договоры одновременно реальны и нереальны. Например, Египет является государством, очевидно признанным в сообществе государств, имеет определённую территорию, управляемую признанной суверенной властью, способной вступать в переговоры и заключать соглашения с другими государствами. Однако, глава этого государства, Абдель Насер, пишет в «Философии революции» (1954): «Если бы мне сказали, что наше место — это столица, в которой мы живём, я бы не согласился. Если бы мне сказали, что наше место ограничено политическими границами нашей страны, я бы также не согласился». Такой взгляд опровергает обычные условия и порядок упорядоченного сообщества государств, но не предлагает никакой осуществимой замены.
Иногда высказывается мнение, что существует не менее двух разновидностей национализма, а на принципе языка покоится лишь одна из них. Нацистская расовая теория приводится в качестве примера, что могут быть расовый, религиозный и другие национализмы. В действительности же нет никакого существенного различия между языковым и расовым национализмом. Первоначально эта теория выводила на передний план язык как признак национальности, ибо язык есть внешний знак особой социальной группы и значительное средство обеспечения продолжения её существования. Но национальный язык занимал особое место по отношению к этой нации только потому, что в ней заключено расовое отличие от других наций.
71
Французский националист Шарль Моррас ( 1868-1952) наглядно пояснил связь между расой и языком, заметив, что ни еврей, ни семит не могут ни понимать, ни владеть французским языком так, как может настоящий француз. Ни один еврей, говорит он, не может оценить прелести строки Расина в «Беренике»: «Dans l'Orient désert, quel devint mon ennui."' Поэтому не случайно, что расовые классификации были одновременно языковыми, и что нацисты по языковому критерию различали членов германской арийской расы, рассеянных по Центральной и Восточной Европе. Нацисты лишь упростили и снизили идеи, заложенные в трудах Гердера и других. Идеи эти получили большой импульс в XIX веке, благодаря развитию этнологических исследований. Граф де Гобино (1816-1882), например, разработал подробную остроумную учёную теорию, представленную в «Опыте о неравенстве человеческих рас» (1853-1855). Согласно этой теории, человечество изначально было разделено на три расы с различными врождёнными способностями: из них белая арийская раса явно возвышалась над остальными как самая способная, и, смешавшись с другими расами, она и их превратила в цивилизованные. Гобино, искренне полагал, что каждая раса имеет свойственный ей одной естественный язык. Можно добавить, что смешение рас он рассматривал как неотвратимое действие механизма, способствующее цивилизации; но он взирал на этот процесс с меланхоличной покорностью, ибо белая арийская раса, одарив своими преимуществами другие нации, истощилась, и потому мир обречён опускаться всё ниже и ниже, пока в конце концов не уйдёт в небытие. «Что тяжело предвидеть, — писал он, — так это не смерть, а уверенность, что мы умрём опустившимися; но даже этот позор, уготованный для наших потомков, не тронул бы наших сердец, если бы мы не чувствовали с потаённым ужасом, что кровожадная рука судьбы уже тянется и к нам». Подобного рода наблюдения нацисты извратили для своих собственных целей, сделав из них оружие преследований и террора.
Согласно доктрине национализма, язык, раса, культура, а иногда даже религия, составляют различные аспекты одного исконного единства — нации. В этом отношении теория не отличается особой ясностью, и неблагодарным занятием была бы попытка классифицировать формы национализма в соответствии с каким-либо одним аспектом. Несомненно лишь то, что учение это делит человече- 11 «И мне предстал Восток постылым и пустым» (пер. Н.Я. Рыковой).
72
ство на определённые нации, а сами нации при этом должны образовывать суверенные государства, и что все, принадлежащие к определённой нации, рано или поздно достигают свободы и самоутверждения, если развивают особую идентичность своей нации и гасят личность в великом целом этой нации. Все различные грани данного учения прекрасно суммированы в высказывании Шлейермахера: «Насколько ничтожен человек, скитающийся туда-сюда без якоря национального идеала и любви к отечеству; как скучна дружба, покоящаяся лишь на личном сходстве в расположении и склонностях, а не на чувстве великого общего единства, за спасение которого можно отдать жизнь; насколько потеряно женщиной величайшее чувство гордости, если она не чувствует, что она родила и воспитала детей также и для своей родины, и что дом и домашние заботы, заполняющие всё её время, принадлежат великому целому и занимают своё место в единении её народа!» За такими высказываниями кроются все доводы националистической философии и антропологии. Их можно использовать, чтобы отличать национализм от патриотизма и ксенофобии, с которыми национализм часто путают. Патриотизм, то есть любовь человека к своей стране или народу, верность институтам этой страны и рвение её защищать — чувства, знакомые всем людям; то же и с ксенофобией, неприязнью к иностранцам, чужакам, нежеланием признавать их частью своего мира. Ни то, ни другое чувство не требуют особой антропологии и не утверждают особой доктрины государства или отношения к нему индивида. Национализм, напротив, делает и то, и другое. Это всеобъемлющее учение, ведущее к вполне определённому стилю политики. Однако, вовсе не будучи универсальным феноменом, национализм является плодом европейской мысли последних ста пятидесяти лет. Если и существует путаница, то потому, что учение о национализме заставило эти повсеместно испытываемые чувства обслуживать особую антропологию и философию. Поэтому неточно и некорректно говорить (как иногда делают) о британском или американском национализме, описывая мышление тех, кто проповедует верность британским или американским политическим институтам. Британский или американский националист должен был бы определять британскую или американскую нацию в терминах языка, расы или религии, требовать, чтобы все те, кто подходят под это определение, принадлежали бы британскому или американскому государству, а все, кто не подходят, потеряли бы гражданство, а также, чтобы все британские и американские граждане подчинили бы свою волю воле сообщества. Сразу понятно, что поли¬
73
тическое мышление подобного рода незначительно и маргинально в Британии и Америке, а те, кто говорят о британском или американском национализме, обычно имеют в виду нечто совсем иное.
Национализм также иногда описывается как новая форма трайбализма. Аналогия подразумевает, что, как и племя {tribe), нация беспощадно исключает чужаков. Впрочем, как было сказано, такие характеристики могут относиться к любого рода группам людей и не годятся в качестве определения ни для племени, ни для нации. Такая аналогия не только не проливает света на проблему, она может ввести в серьёзное заблуждение. Отношение соплеменника к своему племени обычно в мельчайших деталях регулируется обычаем, которому беспрекословно следуют и который считается частью природного или божественного порядка. Обычай племени не есть проявление общей воли или эдикт законодательного разума. Соплеменник является таковым от рождения, а не по самоопределению. Обычно ему неизвестно, что судьба человека — прогресс, и что он может осуществить эту судьбу, растворив свою волю в воле племени. Поэтому национализм и трайбализм не взаимозаменяют друг друга и не описывают связанные друг с другом явления.
Часто слышишь ещё одно утверждение, что государства-нации находятся в процессе формирования по крайней мере с XVI века. Это заблуждение, происходящее от использования категорий национализма в историографии. Когда особая антропология и философия национализма используются в интерпретации прошлого, история полностью меняется. Людей, полагающих, что они действуют во исполнение воли Господней, во имя правды или во имя интересов династии, или просто чтобы защитить самих себя от нападения, внезапно начинают рассматривать как действующих с целью взлелеять гений одной нации и служить ему. Аврааму не открылось видение единого Бога, а он был-де вождём племени бедуинов, жаждущим подарить своей орде сознание национальной самобытности. Моисей не получил благословение Господа совершить и укрепить союз с Израилем, а был национальным лидером, восставшим против колониального гнёта. Мухаммед, может, и нёс на себе печать Пророка, но гораздо важнее — он был основателем арабской нации. Лютер был блестящим воплощением германизма; Гус — предшественником Масарика. Националисты используют прошлое, чтобы изменить настоящее. Один элемент такого перевоплощения прошлого появляется в письме против сионизма, написанном восточноевропейским ортодоксальным раввином в 1900 году. В этом письме раввин
74
Джиковер противопоставляет традиционный взгляд израильской общины на саму себя и новую националистскую интерпретацию еврейского прошлого. Горечь размышлений раввина придаёт его тексту динамизм и остроту, и, таким образом, письмо в ясной и чёткой форме выявляет опыт националистической историографии, а также традиционную интерпретацию прошлого, против которой она направлена. «За наши многочисленные грехи, — пишет раввин, — чужестранцы поднялись пасти священные стада, говоря, что народ Израиля должен быть одет в светский национализм, быть нацией, как все другие нации, что иудаизм покоится на трёх китах — национальном чувстве, земле и языке, что национальное чувство есть самый достойный элемент в этой смеси и самый эффективный в сохранении иудаизма, в то время как соблюдение Торы и заповедей есть дело частное, зависящее от склонностей каждого индивида. Пусть Господь покарает этих злых людей и пусть Он позволит Иерусалиму наложить на их уста печать молчания».1 Националистическая историография производит незначительные, но безошибочные изменения в традиционных концепциях.
В сионизме иудаизм перестаёт быть смыслом существования еврея, а становится вместо этого продуктом еврейского национального сознания. В идеологии Пакистана ислам преобразовался в политическую идеологию и использовался, чтобы мобилизовать мусульман против индусов; на большее он не способен, так как исламское государство в классическом смысле сегодня есть неисполнимый анахронизм. В учении «Французского действия» (Action Française) католицизм становится одним из атрибутов подлинного француза, отличающим его от неподлинного. Такое преобразование религии в националистическую идеологию будет всё более и более удобным, по мере того как националисты могут использовать могущественные и прочные связи, которые вера столетиями создаёт. Эти связи можно использовать, даже если открыто об этом не говорить. Нет никаких сомнений, что воззвания современного египетского, панарабского, армянского или греческого национализма по большей части происходят из существования древних социальных и религиозных связей, не имеющих ничего общего с теорией национализма и даже противопоставляемых ей. Патриарх Константинопольский Геннадий (ф 1468 г.) так проиллюстрировал традиционное религиозное отно¬
1 Письмо раввина воспроизведено и переведено на английский язык в книге I. Domb, The Transformation, London, 1958 — прим, автора.
75
шение к связи расы и языка. «Хотя я по речи эллин, я бы никогда не назвал себя эллином, — писал он, — ибо я не верю так, как верили эллины. Я бы хотел взять имя из моей веры, и если бы меня спросили, кто я, я бы ответил — христианин». Но сегодня, с распространением доктрины национализма, это противопоставление эллинизма и православия отвергнуто. Православие и эллинизм мыслятся как одно целое, подразумевают одно и то же, как было видно в гражданской войне на Кипре.
Подобным образом, когда националистическая историография обращается к европейскому прошлому, она рисует картину наций, медленно появляющихся и самоутверждающихся в территориально суверенных государствах. Несомненно, конечно, что многие территориальные суверенитеты успешно самоутвердились в Европе в новое время, и постепенно эти суверенитеты росли и централизованно укреплялись правителями, способными победить партикуляризм и повсеместно утвердить власть своих людей и их «государств». Но эти суверенитеты были далеки от того, чтобы называться «нациями» в том смысле, как это слово понимается в национализме. Империя Габсбургов была самым могущественным государством, и при этом не была «нацией»; Пруссия была государством в строжайшем смысле слова, но не была «нацией»; Венеция была государством, продержавшимся столетия, — была ли она «нацией»? А ведь эти государства приводятся в пример политического развития современной Европы. И как легко войти в заблуждение, когда речь идёт не об этих, а о других государствах; потому что всего один шаг от разговора о французском государстве Филиппа Красивого, Генриха IV, Людовика XIV до разговора о французской «нации» и её развитии во время правления этих монархов.
Непрерывность развития и территориальную стабильность французского или испанского государства принято рассматривать в качестве примеров роста и утверждения европейских «наций» — сдвиг существенный и при этом почти незаметный. Насколько он существенен, станет ясно, если вспомнить, что Франция есть государство не потому, что французы представляют собой нацию, но, скорее, что французское государство есть результат династических амбиций, счастливых обстоятельств, успешных войн, административного и дипломатического мастерства. Именно это сохраняло порядок, укрепляло законы, вело политику и в конце концов способствовало сосуществованию французов внутри французского государства. Подобные обстоятельства содействовали продолжительному существова¬
76
нию политических сообществ, независимо от того, можно ли их назвать «нациями» по националистической теории. Ситуация проясняется, когда националистическая историография вынуждена иметь дело не с конкретными странами современной Европы, где она заручается поддержкой, а со странами в любой другой части света или в любой другой период истории. В Римской империи, Османской империи, Могольской Индии, Южной Америке до испанского завоевания или Китае категории националистической историографии при строгом их применении приведут к искажённой, противоречивой и невразумительной картине прошлого. То, что якобы объясняет националистическая историография применительно к современной Франции, Испании, Италии или Германии, должно во многих других случаях сразу же быть объяснено по-другому. Османская империя не была «нацией», Римская империя не была «нацией», и тем не менее им удалось — как очень немногим современным государствам — продержаться столетия, сохранить прочность социального устройства и обеспечить верность подданных. Эта путаница между государством и «нацией» была обусловлена также особой характерной чертой европейской истории, а именно существованием европейского сообщества государств в их бесконечных спорах и конфликтах. Это сообщество регулировало свои отношения — пусть порой против воли народов и в несовершенной форме — универсально признанным народным правом (ius gentium). Поскольку национализм видит мир поделённым на государства, кажется совершенно естественным считать сообщество наций эквивалентным продолжением европейского сообщества государств. В действительности, однако, этого не происходит. Европейское сообщество государств пережило самые разнообразные формы правления и конституции; сообщество наций должно состоять из национальных государств, и любое государство, не являющееся национальным государством, постоянно рискует и своим положением, и суверенитетом. Таким образом, национальный принцип, вместо того чтобы способствовать традиции европейской дипломатии, представлял собой решительную угрозу европейской государственной системе и обнаруживал постоянное стремление подорвать баланс сил, на которых эта система покоится.
Если национализм не в состоянии дать удовлетворительного объяснения политическому развитию прошлого, он не может предоставить и внятной модели, по которой нации могли бы независимо друг от друга существовать'в суверенных государствах. Мир действительно разнообразен, слишком разнообразен для классификаций на¬
77
ционалистической антропологии. Расы, языки, религии, политические традиции и связи так перемешаны и запутаны, что нет убедительной причины понять, почему люди, говорящие на одном языке, но чья история и отношения различны, должны образовывать одно государство, или почему люди, говорящие на двух различных языках, но сплочённые историческими обстоятельствами, не должны образовывать одно государство. По логике национализма, раздельное существование Великобритании и Америки или союз канадцев английского и французского происхождения внутри канадского государства противоречит природе. Последовательная националистическая интерпретация истории свела бы большую её часть к необъяснимым и досадным аномалиям. Основатели этого учения пытались доказать, что нации суть очевидные и естественные деления человеческой расы, взывая при этом к истории, антропологии и языкознанию. Но эта попытка завершилась провалом, поскольку — какая бы этнологическая или филологическая школа ни была модна в настоящий момент — нет никаких убедительных причин понять, почему сам по себе факт, что люди говорят на одном языке или принадлежат одной расе, должен обязывать их иметь собственное правительство. Чтобы подобного рода заявление звучало убедительно, должно быть доказано, что сходство целиком в одном отношении значит больше, чем различия в других областях. Из всего учения остаётся утверждение, что люди имеют право отстаивать свои отличия от других, неважно, каковы эти отличия — выдуманные или реальные, важные или нет — и ставить эти различия во главу собственных политических интересов. Конечно, такие академические дисциплины, как филология, могут оказаться мощным подспорьем для политического учения и обеспечить ему убедительность и гармонию, но они не составляют прочного фундамента, на котором бы такое учение покоилось. Эрнест Ренан в лекции 1882 года «Что такое нация» рассмотрел этот вопрос и, исследовав многообразные критерии различения наций и посчитав их недостаточными, заключил, что окончательно решать, существовать нации или нет, должна воля индивида. Даже если существование наций может быть выведено из принципа разнообразия, из него не следует, какие именно нации существуют и каковы их точные пределы. Остаётся прибегнуть к воле индивида, который в жажде самоопределения причисляет самого себя к той или иной нации. Это учение время от времени предстаёт в чистом виде, лишённое академической отделки и случайных искажений. Еврейский националист АхадХаам (1856-1927) в одном очерке
78
обсуждает основания еврейской национальности. Ошибка думать, пишет он, что еврейская национальность существует только тогда, когда действительно есть коллективный национальный еврейский характер. Несомненно, этот национальный характер возник вследствие совместной жизни в течение многих поколений. «Однако как только, — утверждает Ахад Хаам, — дух национальности возникает, ...он становится явлением, касающимся одного индивида, а его действительность не зависит ни от чего другого, кроме как от присутствия в душе, не зависит от внешних объективных факторов. Если я чувствую в сердце дух еврейской национальности настолько, что он оставляет отпечаток на всей моей жизни, значит, дух еврейской национальности существует во мне, и его существование не кончается, даже если все мои современники-евреи не чувствуют его в своих сердцах». Здесь нет излишних призывов к филологии или биологии, нет мучительных попыток доказать, что если группа говорит на одном языке, принадлежит одной религии или населяет одну территорию, она есть нация. Всё это легко устранить, ибо нация, говорит Ахад Хаам, есть то, что индивиды в своих сердцах чувствуют как нацию. Ренан определяет нацию как то, что решается ежедневным народным голосованием. Метафора удачна хотя бы только потому, что она так хорошо указывает на волю как краеугольное основание национализма и показывает, насколько несоразмерно это учение в описании политического процесса, так как политическое сообщество, проводящее ежедневные голосования, обречено вскоре впасть в объятья досужей анархии или же гипнотической диктатуры.
Национальное самоопределение представляет собой в конечном счёте опрёдалёние воли, и национализмТ^вТГервую очередь, есть метод обучения правильному определению воли. По сути, это основная идея фихтевских «Речей». Эти лекции, надо заметить, произносились в Берлине после поражения Пруссии под Йеной в 1806 году. Они имеют целью объяснить, почему прусское государство оказалось неспособным противостоять Наполеону, и указать, что нужно сделать, чтобы преодолеть последствия катастрофы. Фихте вначале восхищался Французской революцией, и особенно якобинством. Больше всего в этой революции он ценил возникновение государства, где, как он полагал, индивидуальная свобода будет иметь смысл только в коллективном существовании. Он и его современники были также потрясены могучей энергией коллективного сознания, порождённой революцией. Возрождение Пруссии было возможно только с проникновением в тайну революции, чтобы по¬
79
родить часть той дивной коллективной энергии, которая позволила французам покорить всю Европу. Административные реформы, лучшая организация вооружённых сил, более эффективный бюрократический аппарат — всего этого, Фихте полностью убеждён, недостаточно. «Ни мощь армии, ни эффективное оружие не совершают побед, только сила духа... Тот, кто не ставит для себя никакой цели, а, наоборот, делает ставку на всё, что у него есть, включая самое дорогое, а именно — жизнь, никогда не прекратит сопротивление и без сомнения одержит победу над противником, цель которого более ограниченная». Фихте в «Речах» искал именно эту чудодейственную силу духа.
<<Moniteur de l’ Empire», официальная французская газета, в сообщении об этих лекциях в Королевской Академии в Берлине описывала их как «публичные лекции в Берлине известного немецкого философа о реформе образования». Для французского цензора образование, видимо, было безвредным делом, раз он позволял произносить и печатать эти «Речи». Но он должен был бы быть более осведомлённым, ибо именно его хозяин Наполеон сказал: «Никогда не будет твёрдых политических отношений, пока наши учителя получают образование по известным принципам. До тех пор, пока люди не понимают с ранних лет, быть ли им республиканцами или роялистами, христианами или язычниками, государство не может в полном смысле слова называться нацией». Именно в образовании Фихте видел ключ к власти, которая была для него так важна. В первой речи он подводит итог своей программе: «Одним словом, я предлагаю полную смену существующей системы образования как единственное средство сохранения немецкой нации». При этом он не имел в виду, что образование должно собственно знакомить и приобщать молодёжь к традициям своей страны, или что немецкое образование в существовавшем виде не оправдывало возложенных на него ожиданий. Он имел в виду совсем другое: «То, чего не хватало в старой системе, а именно, влияния, проникающего в корни жизненных импульсов и действий, должно обеспечить новое образование». «Посредством нового образования, — добавляет он, — мы хотим построить немцам общность, которая будет осуществляться и воодушевляться во всех отдельных членах одним и тем же интересом». Если этого достичь, то нация и все её члены будут свободными. Но как достичь? Фихте предлагает простой путь. Простой, потому что радикальный. «Новое образование главным образом должно состоять в том, — говорит он, — чтобы полностью уничтожать свободу воли в почве, которую
80
оно обрабатывает, и наоборот, создавать острую необходимость в решениях воли, противостояние которой невозможно». Нация, состоящая из таких людей, непобедима. Каждый её член, «имеющий столь прочную волю, навечно желает того, чего он желает, и не может ни при каких обстоятельствах желать чего-либо иначе, чем он желает всегда. Для него свобода воли разрушена и поглощена необходимостью... Если ты хочешь оказать на него влияние, ты должен больше, чем просто говорить с ним; ты должен образовывать его и образовывать, и образовывать таким образом, чтобы он просто не мог желать ничего иначе, чем ты того хочешь». Фихте заключает: «Поэтому образование, которое я предлагаю, есть надёжное и преднамеренное искусство формирования в человеке прочной и непогрешимой доброй воли». Вот почему в теории национализма образование занимает центральное место в государственной системе. Цель образования не передавать знание, традиционную мудрость и способы, придуманные обществом для достижения общих интересов; его цель, по сути, полностью политическая: привязать волю юного существа к воле нации. Школы — это инструменты государственной политики, как армия, полиция, или казначейство. В диалоге «Патриотизм и его противоположность» Фихте говорит, что государство, усвоившее образовательную систему, может обойтись без армии, ибо тогда ему «будет нужно вооружить нацию, которая просто не может быть побеждена никакой смертной силой». Цель этого образования — обратить умы к безусловной любви к государству, а потому что преподавать и как преподавать, что запрещать, а что реформировать — всё это дела государственной политики. Здесь будет уместно личное воспоминание. Это случилось в одном из сомнительных государств Ближнего Востока, образованных после Первой Мировой войны, якобы по принципу национального самоопределения. Было решено, что правительство националистов объединит крайне разнородные группы населения независимо от их желания в единую «нацию». В качестве одного из средств было решено обеспечить преподавание того, что они называли «историей», исключительно назначенными свыше особами, и не только в государственных учреждениях, но и в частных школах также. До сих пор перед глазами стоит отчётливая картина, как один поставщик официальной «истории», безработный, но красноречивый юрист с маленькими грязновато-серыми страстно сверкающими глазками разрывался на месте, лишь бы изумлённые подростки запомнили, что в национальной борьбе виселица — это качели для героев, ссылка — туристический отпуск, а тюрьма — только
81
время отдыха.1 Политика заключает в себе всё; язык, на котором говорят, предметы, которым обучают детей, мысли, крутящиеся в голове, любовь, брак, материнство. Поэтом Леопарди настолько овладела националистическая страсть, что, когда его сестра выходила замуж в 1821 году, он сочинил следующую эпиталаму:
И знай, моя сестра,
Что горемык немало
В Италии несчастной...
Да будут твои дети
Счастливей нас! Несчастных пожалей.1 2
Всеобъемлющее требование, предъявляемое национализмом к индивиду, происходит, что мы не должны забывать, из заботы о свободе. Подлинная свобода, считают националисты, есть достигнутое однажды особое состояние воли, постоянно наполняющее индивида и обеспечивающее его блаженство. Политика есть метод осуществления этого сверхчеловеческого видения, утоления этой метафизической жажды. Такая политика не касается действительности. Её единственный предмет рассмотрения — внутренний мир, а её цель направлена на устранение всей политики. Реализация подлинного Я в его подлинной свободе есть уничтожение действительного Я и его ограниченной свободы. Романтики показывают в литературе, а часто и в жизни, жестокие, анархичные последствия этой метафизической одержимости; романтический стиль действительно склонен сглаживать, иногда даже полностью стирать границы между литературой и жизнью, между мечтами и реальностью. Напомним, трагедия флоберовской госпожи Бовари изначально в том, что она прочитала слишком много романов: госпожу Бовари можно рассматривать не только как образец романтической любви, но и символ романтической политики, а национализм может быть обозначен как разновидность политического бо- варизма. Одним из ранних романтиков, и в жизни, и в творчестве выявляющим острые углы этого метафизического беспорядка, был немецкий драматург Генрих фон Клейст (1777-1811). Жизнь его казалась чередой приступов томной меланхолии и лихорадочной активности и была наполнена странной скрытностью и взрывным
1 Вариант этого высказывания приписывается известному исламскому деятелю Джамалу ал-дину ал-Афгани (1838-1897). — прим, автора.
2 Пер. А. Е. Махова.
82
насилием, а он сам, казалось, пребывал во власти некого могучего демонического чувства и был вовлечён в раздражённые поиски какого-то безымянного идеала. Он окончил свою недолгую жизнь самоубийством, совершённым вместе с молодой женщиной, с которой он познакомился незадолго до того. Взрывное насилие видно и в некоторых его пьесах, особенно в «Битве Германа» (1808), политическая тема которой важна вдвойне. Во-первых, пьеса ярко иллюстрирует националистический взгляд на политические цели и средства, а, во-вторых, она удивительно пророческая в отношении ненасытного аппетита, который нацисты потом проявят к бессмысленным и чудовищным зверствам. Пьеса была написана под влиянием унижения Пруссии и Австрии Наполеоном, и тема борьбы Германа против римских легионов используется для возбуждения ненависти к французам. Чтобы сплотить германские племена против римлян, вождь посылает своих людей, переодетых в римлян, жечь и грабить германские деревни; по его указанию девица, изнасилованная римлянином и убитая затем своим отцом во избежание бесчестия, расчленена на пятнадцать частей, которые отправлены в пятнадцать германских племён. Когда Герману доносят о добром поступке римлянина, спасшем из огня германского ребёнка, он восклицает: «Будь он проклят, если он это сделал! Он на секунду сделал меня предателем, он на секунду заставил меня забыть о великом деле Германии!» Герман выражает разочарование, когда ему докладывают, что римские солдаты хорошо дисциплинированы: «Но я рассчитывал, во имя всех богов мести, на огонь, грабёж, насилие, убийство и все ужасы разнузданной войны! Что за нужда мне в латинянах, несущих добро?» Однако, не Герман, а его жена Туснельда доводит пьесу до эмоциональной кульминации. Она оскорблена поведением римского легата, в любви которого она была уверена и неискренность которого обнаружила. Назначив ему свидание, она заманивает его в огороженный сад, где он оказывается один на один с дикой голодной медведицей. Туснельда стоит снаружи, глядя на перепуганного легата и предлагая ему любить ту другую Туснельду, запертую с ним в саду. Когда медведица набрасывается на легата, Туснельда падает в обморок, охваченная ужасом, не лишённым радости. Именно в таких крайностях человеческой природы, которыми романтики прекрасно умели пользоваться, когда ужас и наслаждение, любовь и ненависть, жестокость и нежность неразделимы, они искали возвышенное, преображённое, сверхчеловеческое существование как замену действи¬
83
тельной жизни. Национализм есть политическое выражение этих поисков. Историк Фридрих Мейнеке вспоминает, что однажды в тридцатых годах генерал Бек сказал ему о Гитлере: «У этого парня вообще нет родины».1 Это замечание справедливо и помогает прояснить разницу между нормальной политикой, направленной на то, чтобы поддерживать в государстве мир и ратовать за безопасность и процветание существующего государства и реальных граждан, и нигилистическим безумием нацизма.
Национализм смотрит внутрь, отвернувшись от несовершенного мира. Это пренебрежение к вещам как они есть, к миру как он есть, постепенно превращается в отказ от жизни, в страсть смерти. Романтическая одержимость смертью хорошо известна. Шлейерма- хер с лирическим воодушевлением пишет о смерти в «Монологах»: «...пусть это будет миссией моей свободы — приблизиться к необходимости. Пусть высочайшей целью будет способность моего желания умереть!» Жизнь — несовершенство, постоянно борющееся за совершенство смерти. Она должна быть прожита до предела, а борьба — непрестанно продолжаться, пока, в конце концов, сила юности внезапно не уступит совершенству смерти. Старость — затихание борьбы, отказ от воли, признание поражения временем, биологическим процессом, тусклым, косным материалом. Это ошибка, которую должно и можно избежать. «Упадок мужества и сил, — замечает Шлейермахер, — зло, приносимое человеком самому себе; старость есть лишь тщетное предубеждение, отвратительный плод безумного заблуждения, что дух-де зависит от тела». Ошибочно полагать, что мудрость и возраст соответствуют друг другу. Мудрость познаётся опытом, но для опыта нужна вечная юность. «Я стремлюсь изведать и постичь бесконечность, и только в бесконечном действии, — утверждает Шлейермахер, — я могу определить моё собственное существование. Никогда меня не оставит дух, двигающий человека вперёд, и постоянное стремление к новому, которое никогда не может быть удовлетворено прошлым».
Мы видим здесь отягощённый последствиями отход от очень старой и почти непререкаемой предпосылки, что в то время как стремительность есть привилегия юности, мудрость — это признак старости, и что юности не должно вверять власть. Как заметил поэт:
1 F. Meinecke, Die deutsche Katastrophe: Betrachtungen und Erinnerungen, Wiesbaden, 1946. — прим, автора.
84
Уродлива старость, а молодость — зла;
Нам мерзок их облик, им — наши дела.2
Но если жизнь — это несовершенство, постоянно борющееся за конечное совершенство смерти, то старость не просто уродлива, она глупа. Быть вечно молодым, как говорится, желаемо и ценно. Именно политика и становится уделом юности. Ибо политика не есть баланс интересов или предохранительная мера социальных институтов. Если бы она заключалась лишь в этом, то пожилые люди, переставшие поддаваться страстям, и решения которых столь холодны и неторопливы, были бы предпочтительнее молодых. Но поскольку политика — бесконечный поиск, непрерывное стремление, геронтократию нужно отвергнуть, а принять молодость. Этот акцент на молодости и смерти объясняет повторяющееся насилие и ужасы националистских методов; политика будет страстным утверждением воли, но в сердцевине этой страсти пустота, и вся её деятельность — неистовство отчаяния. Это поиски недостижимого, которое, достигнутое однажды, означает смерть и уничтожение. Тонко чувствующий Гейне посмотрел на эти новые догмы и понял, куда всё клонится. «Тут обнаружатся кантианцы, — сказал он в работе «К истории религии и философии в Германии» (1834), — которые также в мире явлений отвергнут всякий пиетет и безжалостно взроют мечом и топором почву нашей европейской жизни, чтобы вырвать и последние корни прошлого. На арену выступят вооружённые фихтеанцы, которых, в их волевом фанатизме, не обуздать ни страхом, ни корыстью, ибо они живут в духе».3
Таким образом, нелепо задаваться вопросом, является ли национализм политикой правого или левого толка. Ни то, ни другое. «Левые» и «правые» — понятия, возникшие в ходе борьбы между аристократией, средним и рабочим классом в европейских странах в девятнадцатом и двадцатом столетиях, и они не имеют смысла вне этой конкретной истории. В девятнадцатом веке национализм было принято считать прогрессивным, демократическим, левоориентированным движением. Националисты 1848 года считались левыми. Мад- зини был фигурой, свято почитаемой среди английских либералов и
2 Age is deformed, youth unkind;
We scorn their bodies, they our mind — эпиграмма английского священника и поэта Томаса Бастарда (1566-1618). Пер. А. В. Нестерова.
3 Пер. А. Г. Горнфельда. Генрих Гейне. Собр. соч. в 10-ти тт. Т. 6, М., 1958. С. 137.
85
радикалов, так же, как и Кошут, венгерский националист. Поддерживать националистские движения в Европе и за её пределами считалось обязанностью каждого истинного либерала и человека. Эта связь, как мы увидим, совершенно случайна, но умонастроения, ею порождённые, проникли и в двадцатый век, когда либералы и социалисты стали думать, что их принципы требуют от них поддержки националистских движений, особенно в Азии и Африке. Также существенно, что националисты, которые на определённой стадии считались левыми, впоследствии прочно утвердились как правые, — Пил- судский, Муссолини, Чан Кайши начинали карьеру левыми, и все со временем обратились в правых. Гитлера, добавим, тоже можно было считать левым, так как он был лидером Национал-социалистической немецкой рабочей партии, а сейчас его крепко повсеместно записали в правые. Такая путаница значима. Она показывает, что категории одной идеологии используются, чтобы проверить и классифицировать принципы абсолютно другой. Либералы измеряют политический прогресс уменьшением социальных и политических привилегий, а для социалистов критерий прогресса заключается в уменьшении экономического неравенства. Для националистов эти цели случайны и вторичны. Их собственная цель — национальное самоопределение и постоянное осуществление, свойственное человеку, который живёт интересами своей суверенной нации.
Путаница, принадлежит ли национализм к правому или левому крылу, стала особо распространённой, благодаря победе большевизма в России и широкой популярности и уважению, которые снискали труды его лидеров — Ленина и Сталина. Отныне отношение большевистских вождей к национальным проблемам стало строгим и закономерным следствием их марксизма и борьбы за революционный социализм, отнявшей все их силы. Согласно их теории, национальные движения могут быть одновременно прогрессивными и реакционными, в зависимости от стадии экономического развития, на которой они находятся. В прогрессивной фазе они будут выражением борьбы буржуазного капитализма против социального и политического господства, пережившего свои экономические возможности. Национализм будет прогрессивным движением, пока капитализм не одержит победу над феодализмом. Он будет прогрессивным движением в колониальном и полуколониальном мире, олицетворяя борьбу национальной буржуазии против империализма, который, как утверждается в памфлете Ленина 1916 года, есть высшая стадия капитализма. Но национализм будет реакционным, как только начнёт препят¬
86
ствовать росту социализма, как только станет идеологией обанкротившихся капиталистов-экспроприаторов, эгоистично сопротивляющихся своей собственной экспроприации. Опять-таки в полемических работах, порой одобряющих, порой порицающих националистические движения в царской России, критерий для Ленина и Сталина был очевиден — способствуют ли эти движения ходу революции или тормозят его. Так, Ленин отклонил требования еврейской рабочей партии, Бунда, о еврейской автономии в Восточной Европе, потому что эти требования ослабляли и раскалывали управление социалистическим движением. Но одновременно он критиковал социалистку Розу Люксембург за пренебрежение и недооценку польского национализма как оружия против царской автократии. Такой способ мышления объясняет, почему для большевиков национализм в современной им Европе был движением правого крыла, а в Азии и Африке — левого. Но вместе с тем должно быть понятно, что широкое распространение этих классификаций покоится на молчаливом и безропотном признании марксистской интерпретации истории.
Глава 6.
НАЦИОНАЛИЗМ И ПОЛИТИКА: I
Когда разрабатывалось доктрина национализма, в Европе продолжались волнения. Во Франции революция разрушила монархию и традиционный общественный порядок. Своим примером и влиянием, но в особенности своими политическими действиями она способствовала тому, что внутренние беспорядки Франции приобрели широкий международный размах. «Отправляя нас сюда как депутатов, — сказал Дантон, выступая в 1792 году в Конвенте, — французская нация создала большой комитет для всеобщего восстания народов». Наполеон лишь последовательно довёл до конца разрушительное действие революции. За короткий срок — менее, чем за двадцать лет, — он сломал систему международного порядка в Европе. То, что прежде казалось невозможным, теперь стало и возможным, и осуществимым. Отныне революции могли совершаться, империи рушиться, границы перекраиваться. Один человек или совсем небольшая группа людей могли решительно, дерзко и без оглядки на последствия поднять массы и непосредственно определять судьбы правительств и границы государств. Волнения и насилия 1789-1815 годов действительно имели далеко идущие последствия. Оживали старые враги и появлялись новые; общественные классы, никогда и не мечтавшие оказаться у власти, теперь просто наслаждались ею в лице своих представителей и уж точно никогда не пожелали бы вернуться к прежнему беспрекословному послушанию. Появились новые надежды, разгорелись страсти, которые было невозможно утихомирить. Венский конгресс попытался восстановить европейскую систему, разрушенную революцией и Наполеоном. Великими державами, позицию которых Конгресс признал и освятил, были Англия, Пруссия, Австрия, Россия и Франция, то есть те же самые государства, чья сплочённая политика позволяла сохранять равновесие сил до 1789 года. Теперь оказалось, что прежнюю систему можно обновить, а танец продолжить с того момента, на котором он был так грубо прерван.
Разумеется, старый танец в прежней своей форме продолжаться далее не мог, по крайней мере, не мог под старую музыку. Слишком многое произошло за истекший промежуток времени, да и продолжа¬
88
ло происходить далее. Революция оказалась не только возможной, но как вариант реального политического действия (хотя бы в виде цели или угрозы) отныне всегда будет присутствовать в европейском сознании. Альфред де Мюссе, в творчестве которого получили отражение инфантильность и одновременно скрытая тяга к насилию у поколения, выраставшего из противоречий наполеоновской эры, дал лаконичное выражение этому чувству в своей «Исповеди сына века» (1836), сказав, что Наполеон превратил королевскую власть в пародию, чем и уничтожил её. И прежде случалось, пишет де Мюссе, что короли прибегали в той или иной форме к террору, вынуждая народ, словно свору диких собак, в ответ набрасываться на них и разрывать в клочья. Но только во время революции и наполеоновской империи, замечает он далее, все столпы общества без исключения — короли, знать, церковь — утратив в определённый момент хладнокровие и ум, в страхе безвозвратно потеряли всё. Наполеон пришёл и ушёл. Победившие державы попытались сделать так, чтобы он больше никогда не вернулся, и уничтожили все следы его присутствия. Но именно тип и форма проводимой Наполеоном политики стали наглядным примером для всех, кто обладал волей и умением подражать ему. Поэтому наполеоновские традиции отныне находили отзвук в тех слоях европейского общества, которым ранее был привлекателен его оппортунизм, и которые дали ему возможность прийти к власти. В частности, одна характерная черта наполеоновской политики оказалась в высшей степени значимой для позднейшего распространения национализма. Будучи ещё генералом и подчиняясь Директории, в 1796-97 годах, Бонапарт вторгся в Италию и занял Венецию. Чтобы подчинить венецианский сенат, он отправил своих агентов на ионийские острова, находившиеся в то время под венецианским правлением. Среди этих агентов отбирался «наиболее образованный из всех», чьей обязанностью было «подготовить манифесты» с тем, чтобы «воскресить тени Спарты и Афин», поднять жителей на борьбу против их правителей, напомнив им о древней славе Греции и побуждая их таким образом оживить эту славу. Став императором, Наполеон продолжал ту же тактику. Во время ссоры с Габсбургами в 1809 году он обратился к венграм с прокламацией: «У вас есть национальные обычаи и национальный язык; вы гордитесь древним и знатным происхождением: так восстановите своё существование как нация! Сами выберите себе короля, который будет управлять только вами, жить у вас, и кому только ваши граждане и солдаты будут служить... Созовите национальный совет, как делали ваши пред¬
89
ки... и сообщите мне ваше решение». Когда он решил напасть на Россию, он снискал поддержку поляков в этом походе, пообещав им вернуть польское государство, реально учреждив великое герцогство Варшавское. «Докажите, что вы достойны своих предков, — сказал он польской делегации, — они управляли бранденбургским домом, владели Москвой, захватили Видинскую крепость, освободили христиан от турецкого ига». Он создал королевство Италии, а его первый помощник Мюрат, которого Наполеон сделал королём Неаполитанского королевства, в решающий момент, чтобы избежать возмездия со стороны союзников в 1815 году, попытался добиться поддержки итальянцев против австрийцев, провозгласив единство и независимость Италии. Австрийский главнокомандующий в Италии призывал итальянцев не верить этим химерам. «На чём покоится счастье народа? — спрашивал он. — Не на том, что он представляет собой большую и сильную нацию, но на хороших законах, защите древних традиций и умелом правлении». Но даже несмотря на поражение Наполеона и восстановление прежнего господства, надежды на достижение политической власти, которые он пробудил в стольких людях, всё же не исчезли. И как только складывались благоприятные обстоятельства, эти надежды возгорались вновь.
Это первая причина, по которой Европа в 1815 году, несмотря на старания победивших держав, не смогла продолжить ход жизни, прерванный в 1789-ом. Но были и другие причины. В то самое время, когда происходило переустройство политической жизни континента, радикально преобразовывалась и его социальная структура. Промышленная революция, сопровождаемая грандиозным ростом населения, постепенно проникала во все сферы, меняя методы производства, ломая, перестраивая традиционные общественные отношения и имея своим следствием огромные скопления людей в городах. Появлялись неизвестные ранее формы богатства, набирали силу новые социальные классы, которые вскоре сумели обозначить и отвоевать свою собственную сферу политического влияния. Эти новые классы имели принципиально иное представление о политике, чем абсолютные монархи и королевская знать, которые держали в своих руках судьбы Европы в XVIII веке, и для которых политическое господство в своих странах было личным или семейным делом. Семейно-династические отношения знати были характерны для всей Европы, вне зависимости от языковых и религиозных различий или от общепризнанных государственных границ. Это были решающие факторы, от которых зависела судьба страны или региона. В отличие
90
от монархической знати, новые социальные классы не имели полезных для своих запросов подобных связей. То, что германоязычные страны нужно было поделить между множеством королей, князей и менее важных правителей, некоторым деятелям Венского Конгресса 1815 г. казалось чем-то совершенно естественным. Вопросы, с которыми они привыкли иметь дело, были династические и семейные, подкреплённые военным ресурсом, более или менее сильным — в зависимости от обстоятельств. Поэтому, когда наполеоновская структура рухнула, они посчитали разумным вернуться к прежним формам. Но то, что до 1789 года казалось навсегда установленным порядком вещей, начинало выглядеть всё более и более абсурдным анахронизмом. Если Наполеон был способен произвольно кроить и перекраивать карту Европы, то уже никакие древние предписания, и никакие династические связи не имели права стоять на пути гораздо более рациональных и не менее естественных преобразований.
Таким образом, Европу после 1815 года ожидал длительный этап политических потрясений. Победители сделали всё возможное, чтобы закрепить учреждённый ими порядок, но дух волнения, завещанный эпохой революции и наполеоновских войн, а также неумолимо заявлявшая о себе потребность в изменениях индивидуальной и общественной жизни были постоянной угрозой и в конце концов опрокинули устои 1815 года. Разумеется, в ожесточённом сопротивлении этим новым веяниям старые устои стремились отстоять себя, правители постоянно прибегали к принуждению людей, ни о чём их не спрашивая, а территории, которые ранее были естественным целым, искусственно делились. Оба исторических вызова были тесно взаимосвязаны, оба к тому же представляли собой определённый итог философских изысканий, как предшествовавших Французской революции, так и сопровождавших её. Конечно, это не означает, что каждый националист и каждый борец за свободу против резолюций Венского конгресса был в состоянии объяснить, на каких метафизических основаниях покоится его вера в то, что люди сами имеют право решать, кто должен управлять ими, и что человечество естественным образом делится на нации. Подобного рода представления сами по себе стали общим местом радикализма на европейском континенте, и молодые люди, университетские студенты из Италии, Германии и всей Центральной Европы считали разумным в это верить, и с героическим воодушевлением вступали в тайные общества, посвящённые свободе и национализму. Джузеппе Мадзини (1805-1872), отпрыск состоятельной генуэзской семьи, родительской волей выве¬
91
денный на респектабельный профессиональный путь, будучи студентом в 1820-е, оказался вовлечённым в секретное общество карбонариев. Он включился в конспиративную деятельность, распространял подстрекательские тексты, выполнял секретные поручения незнакомых ему людей. Ничего не подозревая об их подлинных целях, он попал затем в руки полиции и был заключён в тюрьму, а свою дальнейшую, полную лишений, жизнь провёл в изгнании, занимаясь бесплодной конспирацией и пропагандистской риторикой. «В тот момент, когда меня арестовали, — пишет он в автобиографии, — при мне было достаточно материала для трёх обвинений: пули для винтовки, зашифрованное письмо, ...история трёх дней июля, отпечатанная на трёхцветной бумаге, формула клятвы для второго ранга карбонариев, и кроме того, шпага, ибо арестовали меня, когда я выходил из дома. Мне удалось избавиться от всего. У них была склонность к тирании, но не было достаточных способностей. Долгий обыск в нашем доме не привёл к опасным разоблачениям». Зачем молодому человеку из хорошей семьи, никогда не знавшему материальных затруднений, обременять себя этими смешными реквизитами и вызывать к себе подозрительное отношение со стороны властей? Он жил при правительстве, которое было не таким уж несносным — оно не взимало разорительных налогов, не принуждало к военной службе, не имело концентрационных лагерей и по большому счёту не вдавалось в дела своих подданных. Возможно, оно было несколько громоздко и назойливо, но, как заметил сам Мадзини, у него не было достаточных способностей к тирании. Значит, не здесь нужно искать причины поведения молодого Мадзини. Скорее, их нужно искать в самом Мадзини, в той духовной тревоге, которую он разделял со своим поколением. Тревога эта заставляла его и его товарищей чувствовать себя неудовлетворёнными состоянием дел и жадно желать перемен. Поколение, рождённое в эпоху наполеоновской империи, говорил де Мюссе, было «страстным, бледным, неугомонным». Оно было вскормлено в постоянном смятении и жило в ежедневном ожидании перемен. Оно желало новых волнений и невысоко ценило стабильность и покой. «Три обстоятельства определяли жизнь молодого человека в те времена, — писал де Мюссе, — позади — безвозвратно утраченное прошлое, всё ещё неустанно стремящееся выбраться из собственных руин и несущее на себе всю тяжесть столетнего абсолютизма; впереди — рассвет, открывающий новый, бесконечный горизонт, первая заря будущего; и между двумя этими мирами... нечто похожее на океан, отделяющий старый свет от молодой Америки, не¬
92
что смутное и неопределенное, я не знаю что именно, — оно напоминает бурное море, с его неизбежными кораблекрушениями».
Смятение этого поколения окутывало легендарные времена революции и империи дымкой славы, а применявшиеся ранее политические методы теперь уже приобрели глянец и притягательность запретного. Беззаконная акция представала бесконечно соблазнительной, а заговоры, бунты, адские машины вводились с решительностью, которая оправдывалась идеологией учения, а не собственным опытом. «Восстания с помощью партизанских групп, — гласит свод предписаний для членов «Молодой Италии», секретного общества, основанного Мадзини в 1831 году, — истинный способ воевать, необходимый для всех народов, желающих освободиться от чужеземного ига... Они способствуют военному образованию народа и освящают каждую пядь родной земли памятью какого-нибудь военного действия». «Партизанская война, — читаем мы в составленных Мадзини «Правилах поведения партизанских групп», — открывает широкое поле для местных возможностей; вынуждает противника к непривычным методам борьбы; избегает горьких последствий большого поражения; защищает национальную войну от риска измены и имеет преимущество в том, что никак не ограничивается в выборе средств при точно определённой и установленной цели партизанских операций. Она непобедима, непреодолима». Это поразительное, на грани безумия, учение никогда — ни тогда, ни впоследствии — не приводило к успеху. Заговоры и агитации среди студентов и бывших студентов также не дали больших результатов. Итальянская независимость стала результатом упорного стремления Савойского дома и противоречивой политики Наполеона III, считавшего её полезной для войны с Австрией. Германское единство было делом Бисмарка, который был не националистом, а защитником прусских интересов. Балканский национализм дал результаты только потому, что он был принят Российским государством, стремившимся таким образом оттеснить османские владения. Арабский национализм родился и вырос вследствие британской политики, направленной на поддержание давней вражды с Францией и сокращение влияния других крупных держав на Ближнем Востоке. Индонезийским и бирманским националистам помощь и поддержка Японии позволили создать политическую и военную организацию и в хаосе последствий Второй мировой войны избавиться от бремени старых имперских сил. Там, где националисты не находили державы, на которую они могли бы опереться, их заговоры и восстания терпели крах. Это случилось с венграми в
93
1848 году, с поляками во время восстаний в 1831, 1846 и 1863 годах, с армянами в Османской империи в конце XIX века.
Однако эти беспорядки были не только результатом революционного мифа — они возникли в обстоятельствах кризиса при передаче от одного поколения другому прежнего политического устройства и религиозных связей. В обществах, внезапно подвергшихся влиянию нового учения и новой философии Просвещения и романтизма, старые ортодоксальные методы стали казаться смешными и бесполезными. Этой мощной атаке старое поколение противопоставило в ответ смущённое молчание; если же оно пыталось заговорить, звучали лишь раздражённые угрозы, тупое сопротивление или заносчивые отречения. Всё это лишь расширяло уже существующую пропасть между отцами и детьми. Есть трогательное стихотворение русско- еврейского поэта Йегуды Лейба Гордона (1830-1892), выражающее это самое состояние отчуждения молодых интеллектуалов в своём окружении и чувство полной растерянности:
Вновь чувствую музы моей появленье,
Волнует опять мою кровь вдохновенье —
И на языке позабытом пою.
Зачем? Для кого? Что за цель, за желанье?
И чьё привлекут мои песни вниманье?
Кому я досуг свой и пыл отдаю?
Отцы наши, вечно беседуя с Богом,
Проводят все дни в благочестии строгом;
Им чужды искусства, поэзия, свет.
В слепом фанатизме кричат они хором:
«В искусстве, в поэзии — гибель! Позором Клеймите поэта: отступник поэт!»1
Сыновья отказались от отцов и их мировосприятия, но этот отказ распространялся также на обычаи, традиции и верования, столетиями формировавшие и укреплявшие эти общества, и внезапно показавшиеся молодым людям такими ограниченными, путаными, лишёнными духовного утешения и неспособными служить достоинству и счастью индивида. Так, в другом стихотворении Гордон яростно набрасывается на раввинизм, который после расселения собрал
1 Пер. с иврита Я. Штейнберга.
94
воедино израильский народ учением, предписаниями и постоянным надзором учёных мужей и оставил на нём свою печать. «Они разрушили тебя, Израиль, — обрушивается Гордон на раввинов, — не научили умно и эффективно вести борьбу... Столетиями тобою правили твои учителя, строили дома знаний: чему они научили тебя? Сдерживать ветер, вспахивать камень, черпать воду решетом, молотить солому. Они научили тебя, увы, идти против жизни, запереться от других за стенами и оградами, быть мёртвым на земле и живым на небесах, спать, бодрствуя, и говорить видениями. И вот соки из тебя ушли, дух ослаблен, сердце изныло, силы иссушены. Они забили тебя пылью переписчиков и затхлых томов и выставили миру, как живую мумию». Этот дерзкий мятеж против старого угнетения, это резкое обличение приличий и меры неизбежно сопровождались мощным социальным напряжением, возможно, объясняющим динамичный и свирепый характер националистских движений. Эти движения, очевидно направленные против иностранцев, чужаков, одновременно являют собой особую форму гражданской борьбы поколений. Националистские движения — это детские крестовые походы, сами их названия — вызовы возрасту: Молодая Италия, Молодой Египет, Молодые Турки, Партия Арабской Молодёжи. Если освободить эти движения от метафизики и слоганов, — ибо они не несут адекватной ответственности за неистовство, пробуждаемое в своих последователях — то их создавали, чтобы удовлетворять нужды и исполнять желания. Говоря простым языком, речь идёт о желании жить вместе тесной и единой общиной. Такая потребность обычно удовлетворяется в семье, в соседских отношениях, в религиозной общине. За последние полтора столетия эти институты по всему миру насильственно претерпели социальные и интеллектуальные изменения, и не случайно национализм принял самые радикальные формы там, где эти институты не оказали должного сопротивления и где они были мало подготовлены противостоять мощной атаке, которой оказались подвергнуты. Это было бы более удовлетворительное объяснение, чем просто сказать, что национализм — это движение среднего класса. Действительно, немецкие теоретики национализма принадлежали к социальному слою, который можно было бы назвать средним классом, и они отвергали старый порядок, который отличала привилегия знати. Но название «средний класс» тесно связано с конкретным пространством и конкретной историей Западной Европы. Оно предполагало и подразумевало определённый общественный порядок, характерными чертами которого были феодализм, му¬
95
ниципальные привилегии и быстрое промышленное развитие. Эти черты были свойственны не всем обществам, и потому было бы заблуждением связывать существование националистического движения с существованием среднего класса. К примеру, в странах Ближнего и Дальнего Востока, где знаковое разделение в обществе проходило между теми, кто принадлежал к государственным институтам и теми, кто к ним не принадлежал, национализм нельзя связывать с существованием среднего класса. Гораздо интенсивнее он развивался среди молодых офицеров и государственных служащих, семьи которых были порой малоизвестны, порой очень известны, но все были воспитаны на западных схемах и идеях, часто за счёт государства. В конечном счете, они стали презирать своих предков и страстно желали сияющей чистоты нового порядка, чтобы вымести лицемерие, коррупцию, упадок, которые, по их ощущению, беспощадно душили их самих и всё общество.
Этот слом в передаче политического опыта проясняет, почему националистические движения были склонны к крайностям. Политическую мудрость не найти в нашем скучном и бездушном мире, её нужно искать в философских книгах. Трезвый практик, наверно, спросит, что общего имеет философия с государственным управлением. «Сулли, Кольбер, Питт, Берншторф, Кампоманес и Помбал, — писал в начале XIX века Кампенгаузен, русский государственный деятель, — были не хуже нас, хотя и не имели привилегии университетского академического образования». Однако, по мнению страстных молодых людей, это была мировая мудрость, та самая, которая ведёт к гибели. Литература и философия открывали дверь в лучший, более правдивый мир, более волнующий и более настоящий, чем мир реальный. И постепенно стирается граница между воображением и реальностью, а иногда и исчезает вовсе. Что было возможным в книгах, должно стать возможным в жизни. Чтение стало политической, революционной деятельностью. Так, некий молодой человек от стихотворчества перешёл к изготовлению адских машин. Опьянённый поэтической мечтой Адам Мицкевич молил Бога о мировой войне, в которой Польша вновь получила бы независимость. Политика действительно могла стать притягательной, таковы, например, тонкие политические наблюдения Шеллинга и Фихте. Обычные провинциальные городки, где никогда ничего не происходит, пыльные библиотеки, прозаические аудитории стали местом действия захватывающей тайной загадочной игры, в которой ничего не было тем, чем казалось, и всё приобретало сияющие романтические цвета. Насколь-
96
ко захватывающим может быть заговор! Иногда, правда, повседневность прерывалась тем, что появлялась полиция с арестами, тюрьмами, ссылками. Закрытый, тайный мир преступных замыслов и заговоров оказывал навязчивое принудительное действие, противиться которому было делом безнадёжным. Начатое как поэтическая мечта оно с неумолимой логикой превращалось в живой кошмар, где в ход действительно шли пистолеты и действительно взрывался динамит, где люди были пойманы в сети подозрения и предательства, и сегодняшний исполнитель завтра становился жертвой. Вспомним дело пловдивских школьников, основавших в 1896 году македонскую террористическую группу. Они начали с кражи родительских драгоценностей; один совершил самоубийство, потому что не мог больше приносить деньги; остальные украли триста фунтов в почтовом отделении, используя поддельный чек, похитили двух своих соучастников, убедивших родителей выкупить их. Или вспомним дело Мары Буневой, которая счастливо вышла замуж за болгарского офицера. В 1927 году по приказу Внутренней македонской революционной организации она уехала в Югославию, открыла в Скопье шляпный салон и завязала дружбу с адвокатом, причисленным к врагам ВМРО. В полдень 13 января 1928 года Мара закрыла магазин. Она отправилась к мосту через Вардар, чтобы встретить Прелича по пути на обед. Она остановила его, вынула из блузки револьвер и выстрелила. Смертельно раненный, Прелич упал. Затем Мара выстрелила в себя. «Жаль, что я должна была убить Прелича, — произнесла бедная девушка перед смертью, — потому что он не раз мне помогал».1 Интересно, как, в какой момент школьники оставляют школьные дела, домохозяйка отказывается от домашних забот, и они отправляются на преступное кровопролитие?
«Человеческая речь, — громыхал Магницкий, ректор Казанского университета в 1817 году, — распространяет дьявольскую силу; печатная пресса — её оружие. Университетские профессора внедряют в умы несчастной молодёжи мерзкий яд недоверия и ненависти к законным властям». Свирепость этой речи может склонить читателя назвать обскурантизмом то, что в действительности было проницательной оценкой окончательной несовместимости философских умозрений и общественного порядка. Эта несовместимость редко становилась очевидной, пока философы оставались благоразумными мужами, устно обучающими небольшой круг учеников; когда же ста¬
1 У. Swire. Bulgarian Conspiracy, London, 1939. {Прим, автора.)
97
ло действительно возможным печатать и распространять книги дёшево и быстро и знакомить с ними разнородную публику, этой проблеме — в одних обществах меньше, в других больше — было суждено стать критической. Магницкий, конечно, заблуждался, полагая, что весь процесс был сознательным дьявольским заговором. Всё было гораздо серьёзнее, ибо заговоры можно раскрывать и разрушать, в то время как логика ситуации, никем не прогнозируемой и не желаемой, навязывает господство, против которого любая борьба тщетна. «Когда мой отец спросил, в чём меня обвиняют, — рассказывает Мадзини историю своего первого ареста и заключения, — [градоначальник Генуи! заявил, что ещё не пришло время ответить на этот вопрос, но что я талантливый молодой человек, очень люблю уединённые ночные прогулки и обычно молчу о предмете моих размышлений, и что правительство не любит талантливых молодых людей, ход мыслей которых ему неизвестен». Эффективных средств для контроля за мыслями таких молодых людей не было именно потому, что они не были результатом заговора. Они были присущи природе вещей и исходили из самого духа времени.
Ход мыслей молодого поколения кружил вокруг двух неурядиц: правительства не имели поддержки народа и не были национальными. Можно было, конечно, разумно возразить, что правительства не имели поддержки потому, что не были национальными, что правительства находились под иностранным контролем, и потому не могли служить на благо подданных. Противоположная сторона могла бы возразить, что как только правительства станут национальными, они будут под контролем граждан на страже их благополучия. Представление о том, что национальное правительство означало популярное правительство, внедрилось после урегулирования 1815 года. Победившие державы не только вернули династии на троны, невзирая на «национальные» границы и «национальные» единства, как это понимали европейские радикалы, но также объявили о своей враждебности к идеям, провозглашённым революцией. Они запретили представительские институты и восстановили привилегии, отменённые революционерами. Поэтому стало казаться, что устранив систему 1815 года, не только нации обретут свои национальные суверенные права, но и демократические идеи одержат победу, и суверенные нации осуществят Свободу, Равенство и Братство. Война тогда закончится, потому что все эти нации от природы будут мирные и справедливые. Такого рода общие положения националистического мышления первой половины XIX века мож¬
98
но проследить в работах Мадзини. Нация, пишет он, «есть большая или меньшая группа человеческих существ, собранных вместе в органическое целое на основании определённого числа действительных частностей, таких как раса, физиогномика, историческая традиция, интеллектуальные особенности и активные тенденции». Мадзини верил, что нации существуют в соответствии с божественным промыслом, искажённым порочными правительствами. «Они исказили его, — пишет он, — завоеваниями, жадностью и завистью по отношению даже к справедливой силе других». «Мы не только заговорщики, — сказано в одной заметке к организации «Молодая Италия», основанного им секретного общества, — но и верующие. Мы стремимся быть не только революционерами, но, насколько возможно, обновленцами». А также: «Народы достигнут высшей возможной ступени развития, только если они соединены воедино... Поэтому Молодая Италия признаёт всемирное объединение народов как конечную цель стараний всех свободных людей... Пока они, однако, смогут стать членами этой великой организации, необходимо, чтобы у них было раздельное существование, название и власть. Поэтому каждый народ обязан сам образовать нацию, до того как он обратится к вопросам человечества».
Но, конечно, дело не было и не могло быть столь простым, хотя бы из-за другого общего положения националистской мысли. «Избегайте компромиссов, — призывает Мадзини, — они почти всегда настолько же безнравственны, насколько опасны». Ибо если есть божественный план, разделяющий человечество на нации, искажённый порочными правительствами, то пакт со злом невозможен. Отношения между страной и её иностранным правителем должны всегда принимать форму «отчаянной борьбы». «Отчаянная борьба» беспощадна к политическим свободам, и ненависть к компромиссу может легко обернуться ненавистью к тем, кого можно заподозрить в компромиссе. Ведь это хорошо известная черта недавней истории, когда националистические партии убивают собственных соотечественников, подозреваемых ими в склонности к компромиссу, и нередко именно они больше, чем иностранцы, против которых, собственно, борьба и ведётся, оказываются жертвами пуль убийцы. Здесь можно процитировать примечательный документ. В 1893 году армянские националисты, пытающиеся силой добиться независимости своего народа, обратились со следующим заявлением в Сивас: «Османы!., примеры перед вашими глазами. Разве не были убиты армянскими революционерами сотни негодяев в Константи¬
99
нополе, Ване, Эрзуруме, Элешкирте, Харпуте, Кайсери, Марсова- не, Асмассии и других городах? Кто были эти негодяи? Армяне! Армяне! И снова армяне! Если наш замысел против магометан и магометанства, как пытается вас убедить правительство, зачем нам убивать армян?» Хотя бы из-за этого может оказаться очень трудным примирение национализма и политических свобод. Так или иначе, национальное правительство и конституционное правительство не всегда совпадали. Греция и балканские государства добились национальной независимости от Османской империи. Претензии стать правовыми субъектами территорий были всецело национальными, а правительства, руководящие процессами, были чуждого им языка и религии. Но их изменчивая история со времени независимости позволяет предполагать, что национальная свобода не защищает от тиранической и несправедливой системы правления. Новые правящие классы сменили изгнанных османов и осознали, насколько трудно управлять гуманно и эффективно. Образование этих национальных государств не способствовало, как надеялся Мадзи- ни, международному миру. Можно, конечно, возразить, как возражал поэт Вордсворт, что национальная тирания лучше, чем чужеземная. «Отличие между своим и внешним угнетением существенно, — отмечает Вордсворт в «Конвенции в Синтре» (1809), — в том смысле, что первое хранит в народе ощущение, что у него самоуправление, и не подразумевает (как в случае второго — пассивного подчинения внешней тирании) отказ от высшего права, данного человеку способностью разума». Аргумент этот из области софистики, но он признаёт — в отличие от Мадзини — истину, утверждённую опытом, а именно: победа национального принципа не обязательно влечёт за собой победу свободы.
Вариации на тему Мадзини стали весьма популярны в последние десятилетия в странах Азии и Африки. Эти вариации зависят от экономической интерпретации истории. Одна из них, например, такова: европейские державы в поисках рынка и дешёвого сырья навязали этим странам своё господство — в прямой или косвенной форме — над их территориями, и тем самым исказили их политическое развитие, блокировали экономику и посягнули на человеческое достоинство жителей. Широко обсуждается также и другая идея: освобождение этих стран от европейского диктата позволит сформировать новые общества, что приведёт граждан к полноценной и свободной жизни. Однако экономическая база, на которой основывается эта теория, делает господство Европы ощутимым
100
и неощутимым одновременно. Ибо оно не всегда, как принято говорить, покоится на грубой силе: тёмная власть денег держит под своим контролем страны, внешне независимые, и правителей, с виду патриотичных. Полная независимость со всеми её благами придёт только тогда, когда исчезнут и прямое, и косвенное господство. Эта вариация на тему Мадзини особенно чётко выявляет суть заблуждения о наличии связи между национальной независимостью, с одной стороны, и действенным, гуманным и справедливым правительством, — с другой. Очевидно, что не европейское господство стало причиной бедности, технического отставания, избытка населения и деспотизма в Азии и Африке, но, вероятно, все эти факторы сделали европейское правление возможным. И не устранение европейских правителей — после столь краткого господства — изменит положение этих стран, превратит бедность в богатство, судей внезапно сделает честными, политиков — умеренными и общественно сознательными, а чиновников — порядочными. Правда состоит в том, что хорошее правительство настолько же зависит от данных обстоятельств, насколько от стремления людей к свободе, и на планете есть регионы, которые, может быть, никогда не познают его благ. Но характерная черта таких учений, как теория национального самоопределения, — пренебрегать ограничениями, наложенными природой и историей, и верить, что одна добрая воля может творить чудеса.
По правде говоря, именно упомянутые страны как раз и демонстрируют особенно ясно, что национализм и либерализм не только не связаны друг с другом, но по сути своей противоположны. Конституционное правление этим странам неведомо. Их политическое прошлое — либо централизованный деспотизм, который в качестве способа правления зарекомендовал себя как чрезвычайно динамичная и продолжительная форма правления, либо же остаточный традиционный трайбализм, засохший и окаменевший под влиянием европейцев. В первом случае главную роль играет центральный механизм власти, поскольку захватить эту власть — значит взять в руки контроль над всем обществом. Макиавелли отмечал в «Государе», что завоеватель может с лёгкостью вторгнуться в такую страну, как Франция, но вряд ли сможет удержать господство над ней из-за множества противоречивых интересов и парти- куляристской лояльности, которые отнюдь не просто примирить и подчинить. Напротив, такое государство, как Османская империя, будет очень трудно завоевать, но, захватив однажды, его по¬
101
корившимися подданными чрезвычайно просто управлять. «Турецкая монархия, — пишет он, — повинуется одному властелину; все прочие в государстве — его слуги; страна поделена на округа — санджаки, куда султан назначает наместников, которых меняет и переставляет, как ему вздумается. Король Франции напротив, окружён многочисленной родовой знатью, привязанной и любимой своими подданными и, сверх того, наделённой привилегиями, на которые король не может безнаказанно посягнуть». Поэтому, разбив армию султана, «завоевателю некого более опасаться, кроме разве кровной родни султана. Если же и эта истреблена, то можно никого не бояться».1 Тем же можно объяснить успех многочисленных государственных переворотов при тирании, а также необыкновенное распространение национализма на этих территориях в новое время.
В такого рода странах, если правящие классы или значительное число их представителей обратятся к национализму, они легко одержат верх и сформируют государство по образу своего учения. В такой ситуации доктрина способствует усовершенствованию и прочному закреплению тирании. У тиранов былых лет не было ни средств, ни желания заботиться об убеждениях своих подданных; внешнего подчинения было для них вполне достаточно. Но поскольку сущность национализма состоит в том, что воля индивида должна раствориться в воле нации, националистические правители в восточных деспотиях жаждут как внешнего, так и внутреннего подчинения. Сейчас, благодаря современной технике бюрократического контроля и власти масс-медиа, этого подчинения добиться намного проще, чем раньше. Индийский поэт Тагор в книге «Национализм» (1917) — речь в ней идёт, впрочем, не о национализме, а о европейском влиянии на восточные правительства — описывает и оплакивает контраст между старой и новой системами на языке, ностальгическая экспрессия которого сама по себе свидетельствует о мощном запутанном влиянии западных идей и техник на восточное общество. «Во время борьбы, интриг и лжи своей ранней истории Индия оставалась нетронутой. Ибо её дома, поля, храмы, школы, где учителя и ученики жили вместе в атмосфере простоты, преданности и науки, её сельское самоуправление с простыми законами и миролюбивыми способами правления — всё это действительно принадлежа¬
1 Пер. Г. Д. Муравьёвой. И. Макиавелли. Государь. — М.: Планета, 1990. С. 13.
102
ло только ей. Но трон её ей не принадлежал. Он проплывал над её головой облаком, то окрашенным в пурпурное великолепие, то чёрным с громовой угрозой. Порой он приносил ей невзгоды, но они воспринимались как природные бедствия, следы которых вскоре забываются». Теперь же, продолжает Тагор, всё по-другому. Правительство британской Индии — «прикладная наука, а потому оно функционирует более или менее одинаково, неважно, где. Это как гидравлический пресс, его давление безлично и потому в высшей степени эффективно. Его сила различна в разных двигателях. Какие-то управляются вручную, оставляя при давлении расслабляющее пространство, но по принципу и методу различия невелики. Наше правительство могло быть голландским, французским, португальским — существенные черты остались такими, каковы они сейчас. Только, может быть, в некоторых случаях организация процесса не была такой уж совершенной, и потому человеческое всё ещё цеплялось за остов корабля, позволяя нам иметь дело с чем-то, напоминающим наше пульсирующее сердце». Тагор признаёт, что любое правительство несёт в себе нечто механическое, но разница между современным правительством западного образца и старым правительством такая же, как между ручным ткацким станком и механическим: «В тканях, изготовленных на ручном станке, выражено волшебство живых человеческих пальцев, а его жужжание сливается с музыкой жизни. Механический станок неумолимо безжизненный, безошибочный и монотонный в производстве».
Уравнительная сила современных методов правления умножается влиянием современной промышленной организации, требующей обращения с экономикой капитала в такой форме, которая меняет сложившееся соотношение между населением и ресурсами и разрушает маленькие традиционные экономические единицы, способствующие сохранению социальной сплочённости и стабильности. К этим разрушительным влияниям добавляется интеллектуальная беспомощность. Традиционное образование, предоставляемое обществом молодёжи, дискредитировало себя, оказавшись не в состоянии справляться с потребностями времени, и его требования вступают в противоречие с западной наукой и философией. Дело в том, что западное образование, вытеснившее традиционное, было создано и приспособлено к потребностям совсем другого общества. То, чему оно учит, расходится с фактическими и очевидными условиями незападных обществ, предоставляя молодёжи не образование, а инструктаж. Оно порождает в молодых умах противоречие между тем, чему
103
формально учат в классе, и тем, что внедряется реальным примером из семьи и общества.
Такого рода неизбежное развитие породило формы восточной деспотии и вынудило правителей предъявлять новые требования к подданным. Оно также способствовало ослаблению и разрушению трайбализма и связанных с ним социальных и политических традиций. В результате появилось новое общество, искавшее в национализме замену старому порядку, ныне безвозвратно потерянному. Члены этого общества находят для себя связь с тёмными и таинственными царствами, утешаясь археологическими спекуляциями. Или же, в поисках оправдания своих установок, в котором им отказывает действительность, они в сознательном и преднамеренном безумии вновь вводят племенные обычаи, исследованные и записанные антропологами, которые западные правители, разрушив социальный контекст, целиком и полностью лишили смысла. Лидеры, которых формирует это новое общество, вытесняют традиционную племенную иерархию и со временем достигают невиданной власти и влияния над растерянными и сбитыми с толку массами. Сами условия, делающие их существование возможным, ведут к тому, чтобы власть эта была неограниченной и деспотичной.
Националистская политика разворачивается не только в странах с чужеземным правлением, но также в регионах со смешанным населением. Один из таких регионов — Центральная и Восточная Европа. Немецкоязычная группа здесь одна из основных. Эта группа занимала не только территорию, известную сегодня как Германия и Австрия, но простиралась гораздо дальше. Немецкое население оставалось там после завоеваний рыцарских орденов, продвинувшихся в Средние века на восток. Позднее немцы заселили также безлюдные регионы, занимаясь ремеслом и мануфактурами. Таким образом, в девятнадцатом веке разрозненные немецкие поселения растянулись от Финского залива и Балтики до Адриатики, и от Богемских гордо русских степей. В соответствии с националистической доктриной все эти немцы должны были чувствовать себя одной нацией и принадлежать одному государству. Такое стремление не могло не привести к самым щекотливым вопросам, что и случилось вскоре в ходе революции 1848 года. Эта революция произошла ранней весной 1848 года почти одновременно в Берлине, Вене и в более мелких немецких государствах, и почти сразу же завершилась полным, хоть и недолговременным, успехом. Сразу же, на волне первой победы революционеры решили созвать германское имперское
104
Собрание во Франкфурте, чтобы провести политическую реформу в Германии, дать ей новую демократическую конституцию и каким-то способом подготовиться к объединению, возмещая тяжкий ущерб, нанесённый, по мнению националистов, разделением немецких земель между многими правителями. Вскоре во Франкфуртском Собрании возник один «неприятный» вопрос. Польша была поделена между Россией, Австрией и Пруссией. Поляки прусской Польши, пользуясь итогами революции, попросили автономию на территориях, где преобладало польское большинство. Однако среди них жили и немецкие меньшинства, и если автономия давалась полякам, то немцы бы жили под местным правительством, управляемым поляками, и Франкфуртское Собрание должно было высказать свою позицию по этому вопросу. Никаких сомнений не ожидалось, ведь национальная свобода была одним из принципов, отстаиваемых революцией 1848 года, а поляки повсеместно признавались национальностью. Но как только этот вопрос был поднят во Франкфуртском Собрании, польские претензии натолкнулись на серьёзную оппозицию. Иордан, берлинский делегат от левых, воскликнул: «Полмиллиона немцев будут жить под немецким правлением и образовывать часть великого Германского Отечества или их переведут в низшее положение натурализованных чужеземцев, подданных другой нации, находящейся к тому же на более низком культурном уровне, чем они сами?» Не следует потакать польским требованиям, считал Иордан, «необходимо проявить здоровый национальный эгоизм, без которого ни один народ не может вырасти в нацию». «Одно лишь существование не даёт право народу на политическую независимость, — говорил он, — такое право даёт только сила утвердить самих себя как государство среди других».
Тот же вопрос возник и в отношении Богемии. Богемия была частью Габсбургской империи, в этом статусе она и была представлена в Рейхстаге, учрждённом Венским конгрессом. Поэтому представители Богемии были приглашены во Франкфуртское Собрание. Однако чехи, образующие в Богемии большинство, отказались посылать представителей, при этом они заявили, что смысл Франкфуртского Собрания — представлять немецкую нацию, а они, мол, не немцы. Богемские немцы, конечно, отправили своих представителей. Но если бы основывалось государство для всей немецкой нации, осталась бы Богемия вне этого государства, оставаясь при этом внутренней частью немецкой нации? Нет, хотя это и спорный вопрос. Несмотря на то, что в Богемии и много чехов, она была ча¬
105
стью Германского Отечества. «Мы должны придерживаться принципа, — сказал старый националист Арндт, — что то, что принадлежало нам тысячу лет, ...должно оставаться нашим... мы обязаны защищать этих немцев, даже если чехов значительно больше; и представители из Богемии, даже немногие, должны иметь полноценное право быть представителями своей страны». В ответ на этот вызов чешские лидеры созвали в Праге Славянский конгресс и обратились с манифестом к народам Европы, в котором отстаивали равные права для всех национальностей. «Природа сама по себе, — гласил манифест, — не различает ни наций, ни более или менее предпочтительных народов; она не призывает ни одну нацию к правлению над другими и не провоцирует никакую нацию быть орудием в чужих целях. Равное право всех на осуществление благороднейших целей человечества — вот божественный закон, который никто не в силах нарушить безнаказанно».
Итак, национализм не упрощает отношений между различными группами в областях со смешанным народонаселением. Отстаивая передел границ и перегруппировку политических сил в интересах конкретной нации, он угрожает балансу, достигнутому различными группами, вновь затрагивает прежде урегулированные вопросы и ведёт к новым раздорам. Поскольку требования националистов не терпят компромиссов, они вынуждены измышлять возможности вновь возвращаться к темам, которые сами в данный момент предпочли бы считать закрытыми. Вместо того, чтобы укреплять политическую стабильность и политические свободы, национализм на территориях со смешанным народонаселением провоцирует трения и взаимную ненависть. Оказалось, что учреждение германской национальности в 1848 году отняло у чехов и поляков возможность требовать эквивалентный национальный статус. Позднее, когда Бисмарк основал империю, продолжали слышаться требования объединить всех немцев Центральной Европы в единое германское государство, и называлось это Пангерманизм. И, конечно, Гитлер оправдывал сделки с Австрией, Чехословакией и Польшей пангерманскими аргументами. Однако германский вопрос в Центральной и Восточной Европе представляет собой лишь одну из многочисленных проблем, возникших отчасти как следствие националистической доктрины. Но в каком смысле можно говорить вообще о политических проблемах, возникающих вследствие распространения доктрины? Доктрины не создают ни территорий со смешанным населением, ни отношений превосходства одного народа над другим, ни господствующих и под¬
106
чинённых групп. В реальности картина в Центральной и Восточной Европе выглядела следующим образом: смешение рас, языков и религий под имперским правлением. Никакая доктрина не приведёт к такому положению, но если такое учение, как национализм, собирает воедино интеллектуальных и политических лидеров одной группы, и они действуют в соответствии с принципами этого учения, то оно распространится и на другие группы, столкнувшиеся с пугающими прокламациями и желающие применить его для своих целей. Оживают исторические споры, старые унижения вновь всплывают в памяти, и достигнутые компромиссы уходят в небытие. Это цепная реакция, порочный круг. И в этом отношении правомерно говорить, что национализм осложнил положение в Центральной и Восточной Европе.
Нередко приходится слышать, что поскольку национализм стремится сохранить конкретный национальный язык и национальную культуру, то можно удовлетворить такие националистические требования, а самих националистов обезоружить имперским правлением, уступив автономию различным народам в вопросах культуры. Например, австрийские социал-демократы Отто Бауэр и Карл Реннер, стремясь сохранить единство Австро-Венгрии и превратить её в социалистическое государство, придумывали схемы, по которым национальные группы, сконцентрированные на одной конкретной территории или же рассеянные по всей Европе, управляли бы делами культуры в собственных национальных учреждениях, в то время как экономические и политические вопросы решались бы единым наднациональным правительством. Однако подобные устремления, имеющие целью остановить прилив националистических недовольств, редко приводят к успеху, ибо националисты считают политические и культурные вопросы неделимыми, и культура, в их понимании, не в состоянии выжить, если она не защищена собственным суверенным государством. Такие устремления, как правило, принимают форму художественных, литературных или лингвистических дискуссий, становятся предметом язвительных политических дебатов, орудием в националистской борьбе. На деле культурная, языковая и религиозная автономия возможна для различных групп многонациональной империи только в том случае, если она не укрепляется и не оправдывается националистическим учением. Подобного рода автономия существовала в Османской империи несколько столетий (эта система называлась «миллет») именно потому, что о национализме в ту пору ещё никто ничего не знал. Система «миллет» рухнула одновременно с рас¬
107
пространением националистического учения среди различных групп населения империи. Она развалилась, потому что ограниченная автономия уже не могла удовлетворить рост националистских амбиций, но в то же время, при всей своей ограниченности, она начинала казаться правителям империи опасной и разрушительной. Указанные факторы всегда превращают простую культурную автономию в ненадёжное и иллюзорное средство урегулирования националистических требований.
Глава 7.
НАЦИОНАЛИЗМ И ПОЛИТИКА: II
Немцы были лишь одной из многочисленных групп, населявших Центральную и Восточную Европу. Оставим в стороне вопрос Балканского полуострова, находившегося вплоть до XIX века под османским правлением, и население которого было в немалой своей части смешанным. На этой территории жили бок о бок разнообразные общины, отличные по языку, обычаям, религии: эсты, латы, литовцы, поляки, русины (рутены), евреи, чехи, словаки, мадьяры и хорваты. Они образовывали часть трёх государств, деливших между собой территорию Центральной и Восточной Европы перед Первой мировой войной: России, Австро-Венгерской монархии и Германской империи. Превратности истории придали этому краю сложную социальную структуру. Некоторые народы прежде были завоевателями и правителями; господство их затем было свергнуто, и они становились в свою очередь подданными новых завоевателей. Например, польская католическая шляхта до последней трети XVIII века властвовала над крепостными, большинство из которых составляли православные белорусы. Когда Польское княжество разделили, шляхта, которая, по сути, воплощала польское государство, оказалась в подчинении монархов-разделителей. Другим группам в разное время позволялось заселять чуждые им территории с гарантией неприкосновенности и внутреннего самоуправления. Важнейшими представителями подобных групп были немцы и евреи. Все эти различные сообщества веками хранили свою идентичность, жили по соседству друг с другом, выполняя жизненные социальные и экономические функции, соответствующие их положению. В некоторых областях Венгрии, к примеру, мелкопоместным дворянством были мадьяры, городским средним классом немецкоязычные, а крестьянами — хорваты или словаки. Поэтому общины концентрировались не по территориям, а нередко проживали одновременно в нескольких государствах. Прежде всего, это касалось немцев, поляков и евреев. Попытка разделить центрально- и восточноевропейское общество на национальные и территориальные суверенитеты неизбежно вела к серьёзным конфликтам, в первую очередь на том основании, что не существовало признанных территориальных границ, внутри которых отдельные группы могли бы отсоединиться и образовывать национальное государство. Прав¬
109
да, поляки и мадьяры заявляли, что до недавнего времени имели независимые государства с историческими границами, которые должны быть им возвращены. Однако ни поляки, ни мадьяры во времена своей независимости не были национальными государствами — в том смысле, в каком этот термин понимает националистическое учение. В их государствах польское и мадьярское дворянство правило крепостными массами, существовавшими вне политического общества. По словам одного венгерского юриста XVI века, массы эти представляли собой misera contribuens plebs'. Поэтому крестьяне Галиции и русской Польши, не чувствуя себя частью польской нации, выражали по отношению к польским националистам, вышедших из рядов дворянства, полнейшее безразличие, а порой и активную враждебность в восстаниях 1846 и 1863 годов. Это безразличие сохранилось до настоящего времени, подтверждение чему можно найти в замечательных воспоминаниях галицкого крестьянина, выросшего в пору австрийского правления и дожившего до независимой Польши со столицей в Варшаве.1 2 «А что же до национального сознания, — писал он, — то я упоминал, что старшее поколение крестьян называло себя мазурами, и свою речь мазурской. Они жили своей жизнью, представляли собой отдельную группу и думать не думали о нации. Я, к примеру, вообще не знал, что я поляк, пока не начал читать книги и газеты, и я полагаю, что у других в нашей деревне были подобные представления о своей национальной принадлежности». Значит, провозгласить право польской или мадьярской нации на исторические границы польского или венгерского государства — дело довольно двусмысленное. Во времена существования польского или венгерского государства не было ни польской, ни венгерской нации. Существовали удачные и неудачные захваты, череда правителей приходила и уходила, повинуясь закону войны. Это, безусловно, были не нации, ибо нации, по определению, состоят из образующих единство граждан, среди которых нет ни захватчиков, ни захваченных, ни правителей, ни подданных, но все объединены общей волей во благо нации, оно же благо индивида.
Исторические границы осложняют дело ещё и потому, что в разные времена они, быть может, выглядели по-разному. Польское государство в одно время расширялось в сторону запада, а в другое — в сторону востока. Какие именно исторические границы соответствуют
1 Misera contribuens plebs (лат.) —■ жалкая податная чернь.
2 Jan Slomka, Pamiçtniki wtoscianina od pañszczyzny do dni dzisiejszych, Tarnobrzeg, 1994 — прим, автора.
ПО
границам национального государства? После Первой мировой войны, когда одновременное поражение Германии, Австрии и России вновь сделало возможным существование независимого польского государства, польские националисты предъявили чрезмерные требования, опираясь на историю и национальность.
Сэр Льюис Нэмир рассказывает о встрече с польским дипломатом в 1919 году, «когда излил на меня пространные (и противоречивые) территориальные претензии своей страны, я спросил, на каком критерии они основаны, ответил с обезоруживающей прямотой: “На историческом, который подкрепляется критерием языковым, когда это в наших интересах”».3 В конкретном случае границы польского национального государства на протяжении двадцати лет корректировались сделками, плебисцитом и войной. Они приобрели некоторую устойчивость только потому, что в Европе установилось временное, хоть и непрочное соотношение сил. Эти границы не воспринимались бы как более «национальные», если к критерию национальности не прибегать вообще, ибо по официальной статистике в период между двумя войнами население Польши составляли 14% украинцев, 3% белорусов, 10% евреев, 2, 3% немцев и 3% остальных. В борьбе за Чехословакию Масарик также апеллировал одновременно и к принципам языка, оправдывая образование национального государства чехов и словаков, и к историко-экономической теории, дабы включить в состав этого национального государства исконные территории Богемского королевства, населённые преимущественно немцами. То же корыстное смешение принципов позволило создать королевство Ирак на Ближнем Востоке под властью панарабских суннитских националистов, большинство населения которого составляли не сунниты и не арабы.
Определить границы непросто, даже когда вопрос не отягощён историческими претензиями. Точный раздел территориальных целостностей прямыми границами придуман в современной Европе и был неведом в Средние века, для которых характерны перемещение населения, сложная система феодальных прав и обязанностей и отсутствие действенного аппарата управления. Даже в начале Французской революции было бы очень непросто определить границы королевства Франции с точностью современной картографии. Точные границы были неведомы и восточным тираниям, основанным на
А L. Namier, 1848. The revolution of the intellectuals, London, 1944. — прим, автора.
Ill
укрепленных городах, державших под контролем чужие и нередко враждебно настроенные земли. Их власть распространялась на эти земли исключительно в тех пределах, которые могли быть отвоёваны армией. Такое отсутствие чётких границ и позволило французским революционерам после военных достижений озвучить дальнейшие территориальные претензии и оправдать их отсылкой к природе. В 1792 году аббат Грегуар проконсультировался в «архивах Природы», чтобы признать Савойю действительной частью Франции. Год спустя Дантон пошёл ещё дальше, сказав: «Границы Франции определены природой. Мы достигнем их по всем четырём направлениям — Атлантика, Рейн, Альпы и Пиренеи». Но, очевидно, эти границы имели настолько мало общего с природой, что их нужно было покорять силой, и попытка эта стоила Франции не только двух десятилетий войны со всей остальной Европой, но и принудила к захвату территорий далеко за пределами этих так называемых естественных границ. С распространением национализма национальные границы стали означать границы, определённые языковой картой. Как было показано выше, это позиция Фихте. Границы, по его определению, суть внешний признак существования нации: «Говорящие на одном языке привязываются самой природой друг к другу множеством невидимых нитей задолго до начала любого искусства»1. С этой точки зрения, достаточно просто установить язык населения, чтобы назначить естественные границы. Географы стали думать, что можно устанавливать научные границы, основанные на языковых изысканиях, а государственные деятели — что можно удержать мир и стабильность при помощи профессоров и этнологов. «Наполненная румяным светом сербской земли, — читаем мы в книге, выводы которой были популярны на Парижской мирной конференции 1919 года,1 2 — эпическая песнь вновь выражает национальные устремления Сербии в буре и натиске последних событий. Напевы её столь правдивы, что географ напрасно в поиске сербских границ старается отыскать указатель точнее. От Адриатики до Западного хребта Балкан, от Хорватии до Македонии баллада гусляра есть символ национального единства. Её мелодия живёт в сердце и на губах каждого серба. И потому песнь может по праву считаться мерой и указателем той национальности, чьи фибры она затронула. Нахождение территории Сербии
1 См. выше гл. 5, С. 70 — прим, автора.
2 Leon Dominion, The Frontiers of Language and Nationality in Europe, New York, 1917. — прим, автора.
112
по контурам регионального распространения песни и есть определение сербской национальной зоны. И Сербия — лишь одна из многих стран, к которым применим такой метод установления границ». Метод, впрочем, не столь прост и однозначен, как тут сказано. Он покоится на академическом определении и классификации языков, и в филологических целях это может быть очень полезно. На политическом же уровне он ставит больше проблем, чем может решить. Ибо что такое язык и как отличить его от диалекта? Русские панслависты решили разработать классификацию славянских языков, чтобы доказать их изначальное родство с русским, и тем самым неизбежность объединения славян под русским началом. Немецкие националисты заявляли, что голландский язык представляет собой лишь германский диалект, а потому Голландия должна стать частью немецкой нации. Украинские сепаратисты, наоборот, претендовали на отдельное государство на том основании, что их язык отличается от русского, и подобные требования звучали у хорватских и словацких националистов в Югославии и Чехословакии. Академические изыскания обнаруживают беспомощность перед лицом таких требований. Кроме того, этот метод подводит именно в тех областях со смешанным населением, где он более всего необходим. Бывает, что население в таких краях говорит более, чем на одном языке, или могут, например, отличаться «родной» язык и язык ежедневного общения. Так к какому же тогда языку апеллировать? Незадолго до Первой мировой войны между Грецией и Албанией возник спор по поводу Эпира. Разрешить спор постановили языковым критерием. Греческие партизаны ходили по деревням региона и вели разговоры по-гречески; в тех же деревнях албанские партизаны получали ответы по-албански. Один крестьянин, когда его спросили, сказал по-албански: «Я грек». Венгерский государственный деятель граф Телеки рассказывает историю столкновений между Чехословакией и Польшей из-за Тешина. Однажды он спросил чешского политика, сколько поляков проживало в Тешине, и получил ответ, что цифры колеблются между 40 000 и 100 000. Когда Телеки выразил изумление по поводу этого примечательного высказывания, чех добавил: «Ну, цифры меняются. Жители некоторых деревень меняют национальность раз в неделю, в зависимости от того, что им выгодно, или что выгодно деревенскому старосте». Македония — классический пример такого рода проблем, с грекоязычными славянами, болгароязычными греками, албанизи- рованными сербами и огречившимися валахами, сербофилами, бол- гарофилами, македонскими автономистами, приверженцами патри¬
113
архата и экзархата, турками и албанцами. Комбинации и вариации почти неисчислимы, осложнённые тем обстоятельством, что язык не соответствует религии, а религия в этом регионе оказывает значительное влияние на политические убеждения. И Македония — лишь одна из многих подобных областей Европы. Вспомним Верхнюю Силезию, где немцы и поляки спорили о принадлежности её жителей, или Бессарабию, где имело место смешение сербов, болгар, немцев, греков и русских вместе с важнейшей частью населения, которая, согласно русской статистике, называлась молдаванами, а согласно румынской — румынами. Всё это разные варианты западни, в которую можно попасться, если применять академические методы для определения естественных границ. Но против этих методов можно выдвинуть и более фундаментальное возражение. Подобные исследования, сколь совершенной ни была бы их техника, выявляют один-единственный факт: определённая группа населения в определённом регионе говорит на том или ином языке. Ибо естественных границ не существует — ни в топографическом смысле, как того хотел Дантон, ни в языковом, как думал Фихте. По иронии судьбы, эти два природных фактора могут даже противоречить друг другу, как, например, в Транс- ильвании, одарённой идеальными «природными» границами, но населённой смешением мадьяр, румын и прочих враждебно настроенных друг к другу народностей. Границы установлены там силой и удерживаются постоянной осознанной готовностью защищать их с помощью оружия. Нелепо думать, что филологи или этнографы могут стать политиками и солдатами. В результате научными изысканиями злоупотребляют обе стороны конфликта для придания пущей весомости своим доводам, и итоги этих изысканий важны в том смысле, что некто обладает властью обнаружить их важность. Пока он у власти, он применяет их в полную силу, и по истечении власти заканчивается и применение. Академические исследования ни на йоту не меняют возможностей правления, и делать вид, что это не так — лишь напускать туман там, где всё кристально ясно.
Подобные возражения можно выдвинуть и против плебисцита, внедряемого вместо академических исследований. Плебисцит, предполагается, определяет желания населения касательно его грядущего правительства, как это происходит на выборах. Но плебисцит такого рода — это не выборы. Выборы подразумевают уже существующий механизм правления и общепризнанную всеми участниками конституцию. Плебисцит ничего не подразумевает, ибо нужен он именно для того, чтобы определить, какая конституция будет введена в кон¬
114
кретном обществе. Выборы повторяются, плебисцит проводится раз и навсегда. Если же он и вправду проводится по тем же основаниям, что и выборы, почему бы ему не быть, как выборы, регулярным? И почему население не имеет возможности время от времени менять свои предпочтения при выборе государственной принадлежности, как оно меняет их при выборе правительства? Ответить, что оно имеет такую возможность, значит погрешить против истины, а сказать, что оно и не должно её иметь, значит признаться в непоследовательности. Ибо ничего не понятно о плебисците, кроме того, что в один прекрасный день определённая группа населения, поддавшись противоречивой пропаганде, давлению, побуждению, голосует так, а не иначе. Если результат раз и навсегда принимается, то он столь же произволен, как и любой другой, достигнутый с помощью силы или сделки. Плебисцит не надёжнее, не справедливее и еще более уязвим, чем прежние методы определения границ, основанные на соотношении сил и компромиссе взаимных интересов.
Следовательно, так называемые естественные границы, заключающие каждую нацию в предназначенные для неё территории, не гарантируют международный мир. Не устраняют проблем они, как было показано выше, и в регионах со смешанным населением, где сильнее всего разгораются националистические страсти. Государства, образовавшиеся путём применения принципа самоопределения, столь же аномальны и противоречивы, сколь и разнородные империи, на смену которым они пришли. Но в национальном государстве присутствие разнородных групп поднимает гораздо более острые вопросы, чем в империи. Если на территории со смешанным населением одна группа осуществляет свои территориальные требования и образует национальное государство, остальные группы чувствуют угрозу и обиду. Для них иметь в правительстве одну группу, стремящуюся править на своей национальной территории, хуже, чем быть в составе империи, которая своё право правления не обосновывает национальными критериями. При имперском правлении общины в областях со смешенным населением имеют равные права, при национальном правительстве они представляют собой чужеродное тело в государстве и принуждаются либо к ассимиляции, либо к изгнанию. Национальное государство заявляет, что обращение со всеми гражданами будет равноправным как с представителями одной нации, но это красивое высказывание приводит лишь к скрытому господству одной группы населения над другой. Нация и все относящиеся к ней должны воспламеняться единым духом. Различия ведут к разногласиям и потому носят изменнический характер. В Венгерскую ре¬
115
волюцию 1848 года венгеро-сербская делегация попросила ограниченной административной автономии для своего народа. Венгерский национальный лидер Кошут резко оборвал эти требования и заявил сербам: «Меч будет нам судьёй». Очевидно, такова логика национального единства на смешанных территориях. Немецкие националисты требовали, чтобы все немцы Европы принадлежали единому германскому национальному государству. Одним из возможных средств осуществления такой схемы было завоевание всех стран, где проживали немцы, и присоединение их к Рейху. Другое средство также было возможно, а именно, изгнание всех немецких меньшинств с их территорий проживания и перемещение их в Германию. Оба пути с чудовищными последствиями были пройдены — уже в наше время. Каждый из них или оба одновременно неизбежны при любой попытке преобразовать языковую, этническую, религиозную группу, неразрывными узами смешанную в некой регионе с другими, в национальное государство с чёткими территориальными границами.
Попытка управлять смешанными территориями согласно националистическим принципам имеет ещё одно примечательное последствие. В таких областях городское население часто отличается от прилегающего сельского населения. До второй половины XIX века, а часто и до XX века, многие города Центральной и Восточной Европы были немецкими, еврейскими или греческими, а окружающая их земля была населена славянами той или иной группы. Вильна и Кишинёв, например, были по преимуществу еврейскими городами, Прага, Пльзень и Любляна в прошлом столетии имели преимущественно немецкое население, а Бухарест в начале XIX века был греческим городом. Опять-таки Багдад, столица королевства Ирак, возникшего после Первой мировой войны и находившегося в руках суннитских арабов, не был суннитским городом. Это был административный и торговый центр разнородного месопотамского региона, который населяли главным образом шииты, курды и евреи, причём евреи составляли большинство. С распространением национализма и образованием националистических правительств, якобы исполняющих национальную волю, население таких городов внезапно утратило право на существование. Воля нации исполняется большинством, и требовать привилегий для определённых групп населения, особого права голоса или же узаконенного особого положения означало бы издевательски пренебрегать волей нации. Иногда достаточно было простой манипуляции с избирательным правом в округах, поделённых таким образом, чтобы «национальные» меньшинства оказались бессильны¬
116
ми. Интересный пример того, как это можно осуществить, приведён в воспоминаниях Яна Сломки, галицкого крестьянина. «Ныне, — пишет он, — в Тарнобжеге 3000 жителей, из них меньше четверти христиане. Всё в руках у евреев. Если бы присоединить Джиков, где всего двенадцать евреев, и Мехоцин, и часть Мокшишува, число христиан возросло бы до 3500, и мы стали бы большинством... У нас тогда был бы лучше совет, улучшились бы условия торговли и промышленности, укрепилось бы положение польских граждан». Распространение национализма влияет и на роль столиц, как, например, Вена или Стамбул. Эти города, находясь в областях с крайне смешанным населением, постепенно стали центрами цивилизаций, образуя культурное, административное, экономическое средоточие всего прилегающего к ним региона. Жители их обычно настолько перемешаны, что невозможно отнести их к одной национальной группе. После победы националистических принципов такие города теряют своё прежнее значение, тускнеют, превращаются в провинцию и разлагаются в чуждом им мире.
Первая мировая война вспыхнула из-за национального — южнославянского — вопроса. К нему впоследствии прибавился страх Австрии, что южнославянский ирредентизм, основанный на сербской силе, рано или поздно подорвёт империю. Как показали события, империю разрушила сама война, и союзники победоносно провозгласили, что национальный принцип будет положен в основу урегулирования мира в Европе и за её пределами. Урегулирование это оказалось делом вовсе не простым. В побеждённых империях одни народности управляли, а другие находились в подчинении. Всё это теперь должно было измениться, и перемена не была лёгкой, да и новые постановления не сулили ни долгосрочности, ни удовлетворения. Победители заявили, что лучшим решением будет создать суверенные государства для отдельных национальностей. Мир невозможен, сказали они в декабре 1916 года, «без признания принципа национальностей и свободного существования маленьких государств». Месяц спустя они потребовали «освобождения итальянцев, а также славян, румын и чехословаков от чужеземного господства» и «предоставления свободы народам, угнетённым кровавым турецким деспотизмом». Возможно, подобные заявления скорее имели своей целью моральное унижение противника, чем указывали на твёрдую политику, которая в то время вообще вряд ли существовала. До победы было ещё далеко, и союзники не знали, что им придётся делать с побеждёнными Австрией и Германией, когда в мае 1916 года они
117
подписывали секретный договор о разделе Османской империи. Од- нако со вступлением Соединённых Штатов в войну принцип национальностей выступил непосредственно на передний план. Похоже, президент Вудро Вильсон страстно верил в него. «Очевидный принцип, — говорил он, освещая свои знаменитые четырнадцать пунктов в январе 1918 года, — управляет всей представленной мною программой. Это принцип справедливости по отношению ко всем народам и национальностям, а также их права жить друг с другом на равных условиях свободы и безопасности, независимо от того, сильны они или слабы». Четырнадцать пунктов требовали, помимо всего прочего, чтобы «пересмотр границ Италии осуществлялся на основании критерия национальности», чтобы «народы Австро-Венгрии получили свободную возможность на автономное развитие», и чтобы «было основано независимое польское государство... с присоединением территорий, населённых бесспорно польским населением». Это проще было сказать, чем осуществить, ибо, как было показано выше, природа этого региона исключала любое чёткое деление на национальные государства. Но для Вильсона вопрос был ясен. «С одной стороны, — говорил он, — существуют народы мира, не только вовлечённые в эту борьбу, но и многие другие порабощённые народы, которые не в состоянии бороться; это народы различных рас во всех концах света... С другой стороны существует оснащённая армией, изолированная, враждебная ко всему миру группка правительств, у которой нет единой цели, а есть лишь свои собственные, эгоистичные, выгодные им одним амбиции,... правительства, облачённые в неестественные одеяния и примитивную власть чуждых и враждебных нам времён». «Выход может быть только один, — заключил он. — Решение должно стать окончательным. Компромисса нет. Останавливаться на полпути невыносимо. Останавливаться на полпути немыслимо».
Как додумался Вильсон до подобной речи? Неприязнь к правительствам, которые казались ему непредставительными, и вера в право самоопределения берут начало в его понимании сущности Американской революции. Он перенёс уроки американского опыта на европейскую почву. Американская революция, считал он, свершилась, чтобы утвердить право народа на выбор правительства. Он нередко цитировал Бёрка из «Письма к шерифам города Бристоль об американских делах» (1777). «Если кто-либо спросит меня, что такое свободное правление, — писал Бёрк, — я отвечу: рассуждая исключительно практически, оно есть то, что таковым счита¬
118
ют сами люди, и добавлю, что не я, а они являются естественными, законными и компетентными судьями в этом деле».1 Для Вильсона такая позиция была очевидной как квинтэссенция политической мудрости. Для практического, подлинного представления о свободе и самоуправлении, заметил он в 1902 году, «справедливо завязывать сражения и совершать революции». Этот взгляд, как в предпосылках, так и в выводах, чрезвычайно далёк от того, как на самом деле развивался национализм на европейском континенте. Воззрение Вильсона есть не что иное, как своего рода вигизм, библией для которого были труды Локка. Виги защищали права свободнорождённых англичан и утверждали: «Нет налогообложения без представительства». Суть этого учения в том, что человек может свободно решать, кто будет его правителем, контролировать действия этого правителя и защищать права гражданина от посягательств. Довольно просто не заметить пределы этого учения и приписывать ему утверждения, которых оно никоим образом не содержит.
Хорошим примером послужит рассуждение о национальности Джона Стюарта Милля в «Размышлениях о представительном правлении». «Свободные установления по большей части требуют, — говорит Милль, — чтобы политические границы совпадали с национальностями».1 2 Однако смысл, вкладываемый в данное высказывание Миллем, существенно отличается от того, как это, трактовали бы Фихте или Шлейермахер. Милль разъясняет своё понимание следующим образом: «Если чувство национальной солидарности достигает известной силы, то прежде всего существует основание для объединения всех людей, разделяющих это чувство, под одним особенным правительством, установленным исключительно для данной национальности». «Это другими словами значит, — продолжает Милль свою мысль, — что вопрос о правительстве решается желанием управляемых. В чём всего нагляднее может выражаться свобода известной группы людей, как не вправе определить, с какой из других коллективных групп она желает соединиться?» Представительное правление наилучшим образом гарантирует свободу, полагает Милль, и если такое правление вступает в силу, граждане должны быть в состоянии решать, с кем они желают объединиться. Отсюда
1 Эдмунд Бёрк. Правление, политика и общество. М.: Канон-пресс-Ц, 2001. С. 193-194.
2 Здесь и далее работа Джона Стюарта Милля цитируется по изданию: Джон Стюарт Милль. Рассуждения о представительном правлении. Челябинск, 2006 г.
119
проистекает право на самоопределение и на национальность. Милль ясно демонстрирует, что не имеет в виду ничего иного, чем один из тезисов вигизма: «Все, что содействует действительному слиянию народов и объединению их особенностей и качеств, составляет благодеяние для рода человеческого... Такой объединенный народ, подобно скрещенным породам животных, наследует, и притом в большей степени, потому что тут происходит не только физическое, но и духовное воздействие, — особенные преимущества и способности всех своих предков, но так, что смешение предупреждает вырождение этих способностей в соприкасающиеся с ними пороки». Для подлинного национализма это, конечно, ересь. Но в этом суть теории вигизма о национальности, которая не предполагает, что человечество должно быть разделено на национальные суверенные государства, а что люди, имеющие между собой много общего, имеют большие шансы на создание успешного представительного правления. Забота об индивидуальных правах и свободе в этом учении настолько первостепенна, что лорд Актон в трактате «Национальность» после обсуждения различий между тем, что можно назвать континентальной теорией национальности, и тем, что можно назвать теорией вигизма, пришёл к выводу, что лучшее государство то, в котором несколько народов проживают вместе и наслаждаются свободой. «Если предположить, — писал Актон, — что установление свободы для осуществления нравственных обязательств есть цель гражданского общества, мы с неизбежностью придём к выводу, что совершенны те государства, которые, как Британская и Австрийская Империи, включают в себя разнородные национальности, не подавляя их... Государство, неспособное удовлетворить запросы различных рас, обрекает себя на гибель».
Воодушевлённый такими идеями, Вильсон приехал в Париж. Однако мало того, что он был американцем, он ещё менее, чем Актон, был склонен верить в то, что империи способствуют развитию свободных и представительных институтов. И вообще в 1919 году случился казус. Либеральные англичане и американцы, мысля в категориях своей традиции гражданской и религиозной свободы, исходили из предубеждения, что если народ сам определяет, каким быть его собственному правительству, то гражданская и религиозная свобода тем самым обеспечена. Обладая в тот исторический момент властью вершить судьбы всего мира, они столкнулись с устремлениями и просьбами, которые с виду содержали в себе именно то, во что верили либеральные англичане и американцы. А на самом деле не содержали. Англичане и американцы верили, что если у народа само¬
120
управление, то у его правительства есть высокие шансы быть удачным, а потому они выступали за самоопределение. Собеседники же их верили, что народ, живущий в собственном национальном государстве, — единственный свободный народ, и потому выступали за самоопределение. Различие тонкое, а последствия оказались далеко идущими. Однако международные конференции не место для тонких различий, и в путанице Парижской мирной конференции свобода была истолкована как сестра-близнец национальности.
Помимо национальных государств Центральной и Восточной Европы, принцип самоопределения в 1919 году привёл ещё к одному образованию, известному как мандат. Мандат первоначально был термином римского частного права, затем по аналогии стал использоваться международным правом, и означал определённые отношения между государствами, как, например, когда государству поручено воюющей стороной представлять её в столице третьего государства. Но это употребление слова «мандат» после 1919 года было оттеснено другим, гораздо более далёким от первоначального значения термина. В конце Первой мировой войны генерал Смэтс составил устав, озаглавленный «Лига Наций: практические предложения». Он начал с утверждения, что неизбежное поражение империй в Центральной и Восточной Европе и на Ближнем Востоке обусловило создание Лиги Наций, ставшей «антиподом этих империй в самом широком смысле слова и обладающей правом окончательного решения в соответствии с определёнными основополагающими принципами». Эти основополагающие принципы, по Смэтсу, гласили: «Отсутствие аннексий и самоопределение наций». Новая Лига должна была форсировать утверждение этих «жизненно важных» принципов: «принцип национальности, заключающий в себе идеи политической свободы и равенства; принцип автономии, то есть принцип национальности в применении к народам, пока ещё не способным на создание независимого государства; принцип политической децентрализации, предупреждающий проглатывание более слабой автономии народом, находящимся у власти, как это не раз происходило в ныне поверженных европейских империях». Для этой цели были введены мандаты, и определены представители, которые подготовят определённые национальности для создания собственных государств. Это употребление термина стало превалировать и вошло в Соглашение Лиги Наций. Отныне мандат и самоопределение оказались неразрывно связаны. Но была ли Лига на самом деле антиподом поверженных империй? Лига была тем, чем её сделали находящиеся у власти державы. Там, где ниче¬
121
го не смог достичь «Европейский концерт», исполняемый неформально, формальный механизм Лиги был также бессилен, и по трём причинам: у каждого члена Совета Лиги было право вето, у Лиги не было средств для воплощения принятых решений, и наконец, насилие стало более простым и открытым после 1918 года, чем до 1914 года. Лига не была антиподом империй, и не она распределяла мандаты — всё исполнялось главными силами союзников. Мандаты были, по сути, зоной влияния, а иногда прямого правления полномочной силы. И в этом отношении Лига не изменила международную практику, существовавшую до 1914 года, когда до 1908 года Боснии и Герцеговине было позволено находиться под правлением Австрии, но не входить в её состав; когда Египтом негласно правил британский генеральный консул; или когда Марокко было под протекторатом Франции и Испании. Что же касается стандартов колониального правления, у Лиги не было средств контролировать чувство ответственности колониальных держав. Там, где было сознание ответственности, как в Британии, это объяснялось не формальными международными соглашениями, а щепетильностью и заботой, выработанными опытом правления многих поколений и ставшими прочной традицией колониальной службы. Мандатные соглашения привели к новым юридическим разногласиям и открыли небывалую прежде возможность маскировать политические конфликты многоуровневой двусмысленностью.
Связь мандатов с самоопределением имела и другие печальные последствия. Так, например, предполагалось, что мандаты ведут к образованию государств, однако они несли с собой не стабильность, а лишь переходность. И правительства тем самым лишались важнейшей предпосылки для наведения порядка в регионах, где он был более всего необходим, а именно, доверия, которое правительство может получить, если обеспечивает стабильность, а также обязательного признания населением. Кроме того, сама мысль, что государство есть окончательная цель народных устремлений, подразумевала также идею, что суверенитет присущ народу, во благо которого введён мандат, и что представительная власть лишь временно воплощает этот суверенитет. Это ещё более усиливало неуверенность, и без того свойственную любому представительному правительству. Немцы в Танганьике и Юго-Западной Африке, националисты на мандатных территориях Ближнего Востока использовали такого рода обстоятельства в борьбе против представительных сил. Устав Объединённых Наций намного облегчил их возможности, когда вместо термина «мандат» ввёл термин «опека». В данном случае изменение термино¬
122
логии проведено по аналогии с общим правом, и это лишь ещё раз подчёркивает, что самоопределение было исключительно политическом вопросом. Доверие к власти опекуна всегда подвергается проверке, точно так же, как в частном праве, когда регулярно проверяется порядочность опекуна по отношению к несовершеннолетним. Так подготавливает ли опекающая власть территорию к потенциальной независимости? Это важнейший вопрос, отодвигающий все остальные на задний план. Политических лидеров территории, находящейся под опекой, сражающихся за независимость, не следует сравнивать с невинными и беззащитными несовершеннолетними. Доверие к ним, их возможности и умеренность нужно так же подвергать проверке, как и у опекунов. Этот факт затемняет не только вся используемая аналогия, но и состав совета по опеке. В состав Постоянной мандатной комиссии входили эксперты, действующие по своему усмотрению, но не как представители своих правительств. В состав совета по опеке, например, входили представители, связанные обязательствами, а членство в совете распределялось таким образом, что одна половина избиралась из опекунских правительств, а вторая — из правительств, не связанных обязательствами по опеке. Итогом всего становились постоянные склоки и интриги, по отношению к которым система этих правовых терминов, когда-то важных и почётных, утратила всякий смысл.
В любом случае, самое важное заключается в следующем: если цель мандата — получение государственности, то когда это происходит, в какой именно форме, и кто это определяет? Уместен ли сам вопрос о содержании научных методов, посредством которых определяется зрелость той или иной территории для государственности? По сути, этот вопрос решался самым произвольным образом. В случае Ирака и Трансиордании решение Британии отказаться от мандата было продиктовано интересами национальной политики; в случае Палестины — восстанием; Франция отказалась от мандата на управление Сирией и Ливаном, когда ослабло её международное положение, а также вследствие британского влияния. И опять-таки в 1939 году Франция уступила Александретту Турции по стратегическим соображениям, а не в силу зрелости этой территории. Правда, в случае Ирака Постоянная мандатная комиссия проводила расследование до тех пор, пока Британия окончательно не передала мандат. Однако это лишь наглядный пример, что не нужно делать вид, будто политические решения всегда есть результат бескорыстного поиска истины. В эмоциональной речи в защиту своей позиции британский представитель не пренебрёг ни одним аргументом, ни одним уверением,
123
чтобы убедить недоверчивую комиссию. «Никому не придёт в голову, — говорил он, — исключить самолёт «Мот» с международной выставки только потому, что он не настолько мощный или быстрый, как, скажем, трёхдвигательный «Фоккер»... В точности так же, я полагаю, будет несправедливо утверждать, что Ирак неспособен действовать самостоятельно, на том основании, что его аппарат управления пока имеет шероховатости и работает не так эффективно, как в ряде высокоразвитых стран». Далее последовало обещание: «Правительство Его Величества целиком и полностью осознаёт свою ответственность, рекомендуя передать Ирак Лиге Наций... Если Ирак окажется недостойным оказанного ему доверия, моральную ответственность примет на себя правительство Его Величества».1 Когда вскоре после этого иракская армия устроила резню ассирийцев в Мосуле, британскому правительству напомнили о данном обещании, и выяснилось, что никто ничего не обещал. Британский представитель имел в виду, объяснил лорд-канцлер, что «когда мандатная комиссия спросила: «Считаете ли вы развитие Ирака соответствующим рангу получения независимости?», он ответил: «Считаю, однако, ответственность за это утверждение ложится на правительство Его Величества, а не на мандатную комиссию, которая очевидным образом не настолько хорошо знает положение дел». Он не говорил, никогда не говорил, и никто не считает, что он говорил, что якобы он гарантирует в будущем защиту правительством Его Величества иракских меньшинств и любую моральную ответственность в этом отношении».1 2
Стремление обустроить мир в соответствии с национальным самоопределением не привело ни к миру, ни к стабильности. Напротив, оно создало новые конфликты, обострило напряжение и принесло бедствия бесконечному числу людей, далёких от политики. История Европы после 1919 года показала, в частности, чудовищные возможности, скрывающиеся в национализме. На территориях со смешанным населением Центральной и Восточной Европы и Балкан рушились империи, правящие слои были унижены и должны были платить за своё былое высокомерие. Были ли эти империи обречены, или существовала возможность сохранить их, — вопрос риторический. С уверенностью можно сказать, что создание националь¬
1 Акты Постоянной мандатной комиссии, XX съезд (Proceedings of The Permanent Mandates Commission, 20th Session) — прим, автора.
2 Дебаты в Палате лордов от 28 ноября 1933 г. (H.L.Deb. 28 November, 1933) — прим, автора.
124
ных государств, унаследовавших положение империй, не было прогрессивным решением. Их пояление не способствовало ни политической свободе, ни процветанию, их существование не укрепляло мир. По сути, национальный вопрос, который, как надеялись, будет решён с возникновением этих государств, лишь обострился. Именно национальный вопрос немецких меньшинств в новых национальных государствах спровоцировал начало Второй мировой войны. Что верно для Европы, в той же мере верно для Ближнего Востока, или для Юго-Восточной Азии — повсюду, где сила обстоятельств, недальновидность правителей, их сдавшие нервы осуществили победу националистических программЧЗердикт лорда Актона в середине прошлого столетия оказался пророческим, взвешенным и справедливым. «... Национальность, — писал он, — не несёт в себе целей свободы или процветания, и ту, и другую она приносит в жертву высшей необходимости сделать нацию формой и мерой государства. Путь её обозначен материальным и нравственным падением, чтобы новое учение преобладало над творениями Господа и интересами человечества». Учение возобладало, и лучшее, что можно сказать о нём — это стремление раз и навсегда построить царство справедливости в развратном мире и устранить несправедливость. Но лучшее обернулось худшим, ибо устранение прежней несправедливости повлекло за собой новую несправедливость, и в удручающей агонии жестокости и насилия равновесие не достигнуто. Нам определённо известно, что никакое правительство не вечно, одно правительство уходит, другое придёт ему на смену, ход судьбы непредсказуем. Все мы приветствуем перемены или жалеем о них, потому что одна череда правителей ушла, но пришла другая, ибо одни правители больше заботятся о нашем процветании, чем другие. Всё это — лишь частные решения, и они имеют частные оправдания. Общественное оправдание требует большего. Недостаточно приветствовать или оплакивать перемены в правительстве, потому что кто-то наслаждается властью, а кто-то лишился её. Единственным критерием, способным защитить общество, может быть только то, насколько менее жадны и коррупционны новые правители, насколько они справедливее и милосерднее, или же изменений нет совсем, а коррупция, жадность и тирания подбирают себе новые жертвы взамен ушедших правителей. И это действительно единственный вопрос, который возникает, когда размышляешь о национализме и оппозиционных режимах. Это вопрос, на который по природе вещей не может быть окончательного и решающего ответа.
125
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Предмет рассмотрения в этой книге имеет две стороны. В первую очередь я стремился представить исторический очерк национализма как учения, во вторую — дать читателю представление об обстоятельствах и последствиях распространения этого учения, главным образом, среди интеллектуальных и политических слоёв Европы, а затем и в остальных частях мира. Первая цель предполагает, что национализм не является неким могучим невыразимым чувством, присутствующим всегда и везде. Это и не «рефлексия» неких общественных и экономических сил. Будь он тем или другим — не было бы смысла писать его историю. Моё же предположение состоит в том, что национализм есть именно учение, комплекс взаимосвязанных представлений о человеке, обществе политики только так националистический дискурс доступен историческому пониманию. Историческое исследование национализма стремится разъяснить, как возник этот способ рассуждения о политике и каков характер интеллектуального контекста, в котором это учение сформировалось и впервые прозвучало.
Первые пять глав книги, в которых проводится это исследование, представляют собой, таким образом, очерк истории мысли. Эта история наглядно демонстрирует, почему в формах интеллектуального взаимодействия между людьми одни идеи или комплексы идей выступают как ответ или противостояние другим идеям, представляющимся неадекватными, неясными или в чём-то не удовлетворительными. Она показывает также, почему идея, понимаемая в определённом аспекте, через некоторое время понимается совсем по-другому, а порой и прямо противоположным образом. История языка, философии и богословия располагает немалым количеством примеров таких диалектических связей и перипетий.
Я вынужден сделать эти оговорки, потому что некоторые авторы (например, Ховард Уильямс, «Политическая философия Канта», Нью-Йорк, 1983 г., и Эрнест Геллнер, «Нации и национализм», Нью-Йорк, 1983 г.1) были удивлены, даже шокированы тем, что философию Иммануила Канта я рассматриваю как один из источников национализма. Кант, возражают они, не националист. Это, без¬
1 См. русский перевод Э. Геллнер. Нации и национализм. М.: 1991 г.
126
условно, правда, и обратное никогда не утверждалось в этой кни-( ге. Мой тезис состоял в том, что идея самоопределения, находящаяся в эпицентре кантовской этической теории, стала основным понятием в нравственном и политическом дискурсе его последователей, в значительной степени, Фихте. В философии Фихте, как я пытался показать, полное самоопределение индивида потребовало национального самоопределения. Здесь не обманчивое сходство в словах, неверно полагать, что эти понятия никак не связаны друг с другом. Мы имеем дело с концептуальным сходством, даже родством, и кантовским последователям это было предельно ясно. Кант, конечно же, не несёт ответственности за своих учеников и последователей. В любом случае, в функции историка не входит восхвалять или обвинять мыслителей, которыми он занимается, ни за то, что они написали, ни за то, что написали другие под их влиянием.
Почитатели Канта рассматривают его как некоего светского святого, образец рациональности и либерализма. Поэтому сама мысль, что он хоть каким-то образом мог быть связан с идеей национализма, вызывает у них недоумение, осуждение, порицание и даже негодование. Эта связь реализуется, как уже было сказано, путём идеи самоопределения. Кант убедительно показал, что совесть есть высший судья нравственности, и что она судит согласно собственным, ею самой выработанным критериям. Но он не допускал парадоксальной и опасной возможности, что само-законодательство, не связанное ничем, кроме самого себя, может принять зло за собственное благо. Одна из глубочайших мыслей Гегеля заключается в том, что совесть должна пройти процедуру проверки на предмет её истинности или ложности, и «её ссылка только на саму себя находится в непосредственном противоречии с тем, чем она хочет быть, с правилом разумного в себе и для себя значимого, всеобщего образа действий».2 Ибо невозможно утверждать, что совесть и благо автоматически действуют сообща. Дело также и в том, замечает Гегель, что «корень обоих, как моральности, так и зла, есть для себя сущая, для себя знающая и решающая самодостоверность». («Философия права», § 137 и § 139). Адольф Эйхман на суде утверждал, что всё, что им сделано, было совершено во исполнение долга. В уже цитируемом выше в этой книге пассаже Гейне острым и пророческим взглядом предвидел разрушительную силу политики, движимой «фанатизмом воли», сторон¬
2 Здесь и далее пер. Б. Г. Столпнера и М. И. Левиной. Гегель Г.В.Ф. Философия права. — М.: 1990. С. 179.
127
ники которой «не удержимы ни страхом, ни корыстью, ибо они живут в духе». Этот фанатизм воли, если использовать выразительное определение Гейне, есть важная грань как националистического учения, так и других современных европейских идеологий вообще, с их неумолимой, непреклонной, демонической силой. Именно она более тесно связывает кантовское учение о самоопределении с национализмом.
Будет ли национализм — или любая другая идеология — распространяться в конкретном обществе, станет ли он политической силой, и каким итогом это обернётся, заранее предсказать невозможно. Рассказывать о распространении, влиянии и воздействии национализма на различные общества означает писать историю событий, а не историю мысли. Это вопрос понимания политического устройства в конкретное время, в конкретном месте, при конкретных обстоятельствах, вопрос рассмотрения деятельности особых политических представителей, занятых в контексте собственных особых и конкретных условий. Связь случайных событий не тождественна связи случайных идей, и историк должен распределять свою стратегию соответственно: каждый должен заниматься своим делом.
Для решения этого вопроса не следует (ибо это совершенно невыполнимая задача — как показано в двух последних главах книги) пытаться установить, можно или нельзя было бы предотвратить распространение национализма в конкретном регионе, и было ли оно «нормой» или «ошибкой». Это не относится к категориям исторической мысли. Возьмём, к примеру, ещё одну активно распространяемую идеологию — марксизм. Нет оснований полагать, что возникновение марксизма было неизбежно, а тем более, что он должен был стать официальной догмой в России, Восточной Европе, Вьетнаме, на Кубе, в Южном Йемене и Эфиопии. С другой стороны, можно дать вполне рациональное объяснение, каким образом Ленину удалось захватить власть в России, Мао — подобным образом в Китае, как политика Гитлера и его поражение — не идёт речь о «неизбежности» или «избежности» — открыли путь Советскому Союзу к господству над всей Восточной Европой и сделали его сверхдержавой.
Точно так же мы располагаем всеми средствами, чтобы проследить и понять распространение национализма в каждой европейской стране и во всём остальном мире, где он распространялся, и разобраться в победах или поражениях конкретных националистических движений. Коротко говоря, в силу многих причин, о которых можно рассуждать, после Французской революции стал привлека-
128
тельным и популярным идеологический стиль политики, и националистическим движениям присуще разделять этот идеологический стиль с другими политическими движениями. Далее, ясно, что политические учения, возникшие в Европе, получили распространение во всём остальном мире, благодаря господству Европы. Её технологическая власть привела, в частности, к тесному контакту с регионами, веками жившими в изоляции, а её престиж обеспечил уважительное, не сказать благоговейное принятие европейских привычек, предпочтений и мыслей, особенно политических идиом и стилей.
Однако такое толкование распространения национализма некоторым кажется неадекватным. Говорят, оно не достаточно полное, лишено глубины. Ибо если национализм настолько общее, распространённое явление, то конечно, мол, должны быть общие причины, объясняющие его появление в столь различных и рассеянных по миру обществах. Только тогда мы в состоянии сформулировать законы, управляющие появлением национализма в любом обществе, и только тогда мы располагаем настоящим, то есть научным, представлением об этом явлении. Этот поиск общего объяснения, обобщения, можно назвать социологическим соблазном.
Соблазн этот готов сам характер национализма считать чем-то несущественным, хотя тот может проявить себя как доказательное учение, претендующее на то, чтобы объяснить человека, общество и политику, и предлагающее лекарство от всех болезней политического тела. Говорят, такое учение мало результативно, ибо оно есть лишь «отражение», поверхностное проявление общественных сил, действующих на более глубоком, более фундаментальном уровне и в гораздо более радикальной и неизбежной манере, чем может когда- нибудь надеяться любая поверхностная идеология.
Например, многие авторы (совсем недавно Джон Армстронг в «Нациях до национализма» (1982)), предпринимали попытку глубоко проникнуть в человеческую историю с целью обнаружения «факторов», ведущих к формированию и утверждению того, что зовётся этнической идентичностью. Идентичность эта считается чем-то основным, стержневым, прочным, чем-то, что предшествует появлению националистического учения и националистических движений, тем самым разъясняя их. Древнее происхождение нации, утверждение её идентичности через века составляет предмет веры среди националистов и одну из предпосылок националистической историографии, как показано на многих примерах в этой книге и в более ранней моей работе «Национализм в Азии и Африке» (1970 г.). Однако историче¬
129
ские архивы демонстрируют, что этническая идентичность — предмет не инертный и не постоянный. В течение столетий она доказывала свою пластичность, текучесть и подчинённость далеко идущим переменам и революциям. Это вопрос самопонимания, оценки самого себя и своего места в мире. Например, язычник, римский гражданин Северной Африки через своих биологических потомков становится христианином, подданным христианского императора, затем членом исламской уммы, а сегодня, может быть, гражданином Алжирской Народной Демократической Республики или Ливийской Джамахирии. В современном мире, с характерными для него распространением идей и массовыми внушениями, нередко более правильным будет утверждение, что национальная идентичность — это продукт националистического учения, чем утверждение, что националистическое учение есть излучение или выражение национальной идентичности.
Марксизм также предложил толкование национализма, превращающее его в побочное явление на конкретной стадии экономического развития, когда буржуазия и её капиталистический способ производства находятся на восходящей. Национализм представляет выражение буржуазных интересов. Здесь также уже не имеет значения, что утверждает или отрицает националистическая идеология, ибо это продукт ложного сознания, который поблекнет, как только капитализм неизбежно впадёт в кризис. Буржуазия будет захвачена и сметена победоносным пролетариатом, а вместе с ней и вся надстройка буржуазного государства, буржуазная культура, буржуазная идеология и т. д. Это очевидная нелепость, ибо всё свидетельствует в пользу того, что национализм — это не «отражение» капиталистического способа производства, и что он может появляться в обществах с самым разнообразным общественным и экономическим устройством. Марксисты, конечно, увидели это и мастерски пытались встроить национализм в марксистскую схему, избегая при этом нелепых и немыслимых выводов. Не удивительно, впрочем, что эти попытки окончились крахом, поскольку марксизм не способен освободиться от регламентаций, навязанных грубыми категориями его основателя.
Социологический соблазн очевиден и в другом объяснении национализма, а именно Эрнеста Геллнера («Мысль и изменение», «Нации и национализКГ»г^Этот1зз?ляд близок марксизму, ибо представ-
1 Ernest Gellner, Thought and Change, London: 1964, Nations and Nationalism, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983 (на русском Э. Геллнер «Нации и национализм», М., 1991).
130
ляет собой вид экономической теории, то есть позицию, согласно которой экономическая деятельность управляет всеми другими аспектами общества. Согласно этому взгляду, национализм есть сила, или общественное движение, появляющееся неизменно, когда общество оказывается в муках индустриализации. Характер и содержание националистического дискурса не имеют последствий, страдающих от «всепроникающего ложного сознания», и не требуют подробного рассмотрения. Индустриальным обществам присуща подвижность, грамотность и культурный стандарт, а национализм отвечает всем этим требованиям. Национализм также считается движением, которое развивается в более бедных частях империи как реакция на благосостояние имперских правителей. Одновременно он считается ответом на (или средством от) несчастья, характерные для ранней стадии индустриализации. Нация вновь становится политически сознательной и активной, когда это классовая нация, или нация-класс, «видимая и неравномерно представленная категория в мобильной в общем-то системе». Не совсем понятно, что это значит. Может быть, это близко позиции Франца Фанона, что подлинная классовая борьба в современном мире происходит не между капиталистами и пролетариатом в индустриальном обществе, а между нациями-поработителями и нациями порабощёнными? Но стремление рассматривать национализм как реквизит для индустриализации, или реакцию на неё, не подходит к хронологии ни национализма, ни индустриализации. Национализм как учение был выработан в германоязычных странах, в которых в то время не шла речь об индустриализации, и его авторы не догадывались, что их труды — реакция на или необходимый реквизит для индустриализации. Националистическая идеология получила распространение в таких областях, как Греция, Балканы и другие части Османской империи, когда они не знали индустриализации. И наоборот, самые свирепые националистические движения появлялись в высоко индустриализированных обществах, где подвижность, грамотность и культурный стандарт существовали десятилетиями, в обществах, которые бессмысленно называть классовыми нациями в том смысле, который, как мне представляется, в это понятие вложен — Германия в период нацизма, Италия в эпоху фашизма, Япония в 1920-е и 1930-е гг. Регионы же, где индустриализация появилась впервые и достигла небывалого прогресса, как Великобритания и Соединённые Штаты Америки, представляют собой как раз те регионы, которые национализм обошёл стороной. Таким образом, к сожалению, теория и
131
практика ведут нас в противоположных направлениях. Эти различные продукты социологического соблазна похожи на то, что можно было бы назвать синдромом господина Журдена. Как и герою мо- льеровской комедии, которому учёные доктора сообщили, что он на самом-то деле всю свою жизнь говорил прозой, национализму, который был неспособен осознать себя сам, дали понять, что «в действительности» он является либо выражением индивидуальных буржуазных интересов, либо индустриальным подспорьем, либо отражением мощных глубинных процессов, медленно созревающих в течение столетий и тысячелетий. Однако, как мы помним, господин Журден — комический персонаж.
Июль 1984 г.
ПРЕДМЕТНЫЙ И ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абдель Насер, Гамаль 54, 71
Актон, лорд 120-121,125
Ал-Афгани, Джамал ал-дин 82
Арндт, Эрнст Мориц 62-63, 69-70, 106
АхадХаам 79
Бауэр, Отто 107
Бек, генерал 84
Беккер, Карл Лотус 55
Бонапарт, Наполеон 80, 88-90
Burschenschaft 34-35
Вильсон, Вудро 118-119
Вордсворт, Вильям 100
Гегель, Георг Вильгельм Фридрих 42, 127-129
Гейне, Генрих 33,85
Геннадий, патриарх Константинопольский 76
Гердер, Иоганн Готфрид 48-49,58-60, 61-63, 64-67
Гёте, Иоганн Вольфганг 23
Гобино, Жозеф Артюр де 72
Гизо, Франсуа 25
Гитлер, Адольф 54, 84, 86,129
Гордон, Йегуда Лейб 94-95
Дантон, Жорж Жак 88
Деспотия, национализм на Востоке 100-104
Дидро, Дени 25
Джиковер, раввин 75
Занд, Карл 35
Кампенгаузен, Балтазар Балтазарович 96
Кант, Иммануил 30-33, 35-37, 39-42,55-57,127
Клейст, Генрих фон 83-84
Кольридж, Самуил Тейлор 43
Коцебу, Август 35
Лавджой, Артур Онкен 60
Ленин, Владимир Ильич 54,86-87
Леопарди, Джакомо 82
Лютер, Мартин 32
Магницкий, Михаил Леонтьевич 97-98 Мадзини, Джузеппе 86,92-93,98-101 Макиавелли, Никколо 24, 101-102 Мандаты 121-125 Марксизм 129,131-132
Милль, Джон Стюарт 119-120
Монтескье, Шарль Луи де 24-25
Моррас, Шарль 72
Мюллер, Адам 44,51
Мюссе, Альфред де 89,92-93
Нация, определение 24-26,60-61
Национальное самоопределение 64-87
Нэмир, Льюис 111
Патриотизм 73-74
Платон 47
Плебисцит 115
Раса 71-72
Революция 23-24, 27-28,93
Религия 74—75
Ренан, Эрнест 78-79
Реннер, Карл 107
Робеспьер, Максимилиан 27
Романтизм 82-84
Руссо, Жан-Жак 45-46
Свобода, определение 31-32,43-44
Сен-Жюст, Антуан 28
Сийес, аббат 25
Силезия, Верхняя 114
Сионизм 75
Сорель, Альбер 68
Социализм 86-87
Сталин, Иосиф 54,86-87
Тагор, Рабиндранат 102-103
Трайбализм 74, 104
Тюрго, Анн Робер Жак 56
Убайд, Макрам 52-53
Фанон, Франц 132
Фихте, Иоганн Готлиб 41-49,51,53, 57,65-70, 79-81,128
Фридрих Великий Прусский 22-23
Шеллинг, Фридрих Вильгельм 43, 51
Шиллер, Фридрих 49-50, 59
Шлегель, Август Вильгельм 67
Шлегель, Фридрих 34
Шлейермахер, Фридрих 34,38,47-49, 60-61, 73, 84-85
Эйхман, Адольф 129
Юм, Дэвид 25
Юстиниан, «Институции» 31
Язык 64-71,112-114
Ян, Фридрих 63
134
ОГЛАВЛЕНИЕ
Ученик — учителю 5
Предисловие английского издателя 12
Введение к четвёртому изданию 13
Предисловие ко второму изданию 19
Предисловие к первому изданию 20
Глава 1. Политика нового стиля 21
Глава 2. Самоопределение 29
Глава 3. Государство и индивид 39
Глава 4. Преимущество разнообразия 55
Глава 5. Национальное самоопределение 64
Глава 6. Национализм и политика: I 88
Глава 7. Национализм и политика: II 109
Послесловие 126
Предметный и именной указатель
133
Эли Кедури
Национализм
Главный редактор издательства И. А. Савкин Дизайн обложки И. Н. Граве Оригинал-макет И. Р. Зянкина Корректор Д. А. Потапова
ИД №04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47 E-mail: office@aletheia.spb.ru (отдел реализации), aletheia@peterstar.ru (редакция) www.aletheia.spb.ru
Фирменные магазины «Историческая книга»:
Москва, м. «Китай-город», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 921-48-95 Санкт-Петербург, м. «Чернышевская», ул. Чайковского, 55.
Тел. (812)327-26-37
Книги издательства «Алетейя» в Москве можно приобрести в следующих магазинах: «Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83 Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2. Тел.(495)915-27-97
Магазин «Гидея», Нахимовский пр., д. 56/26. Тел. (495) 332-47-28 Магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27.
Тел. (495) 749-57-21,629-88-21 Магазин издательства «Совпадение».
Тел. (495) 915-31-00, 915-32-84
Подписано в печать 10.05.2010. Формат 60x88 '/б.
Уел. печ. л. 8,75. Печать офсетная. Тираж 1000 экз.
Заказ № 3458
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Искусство России». 198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2.