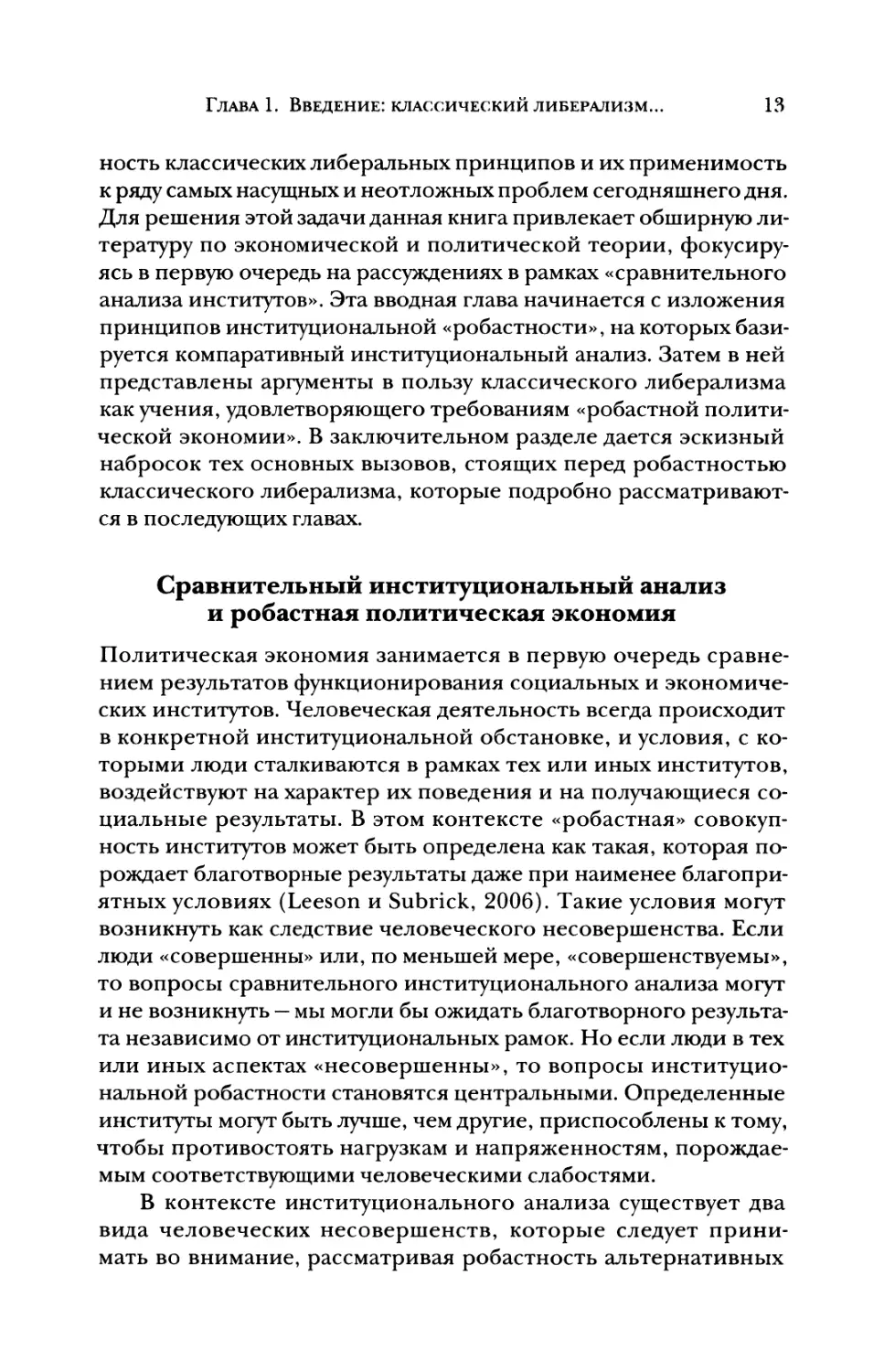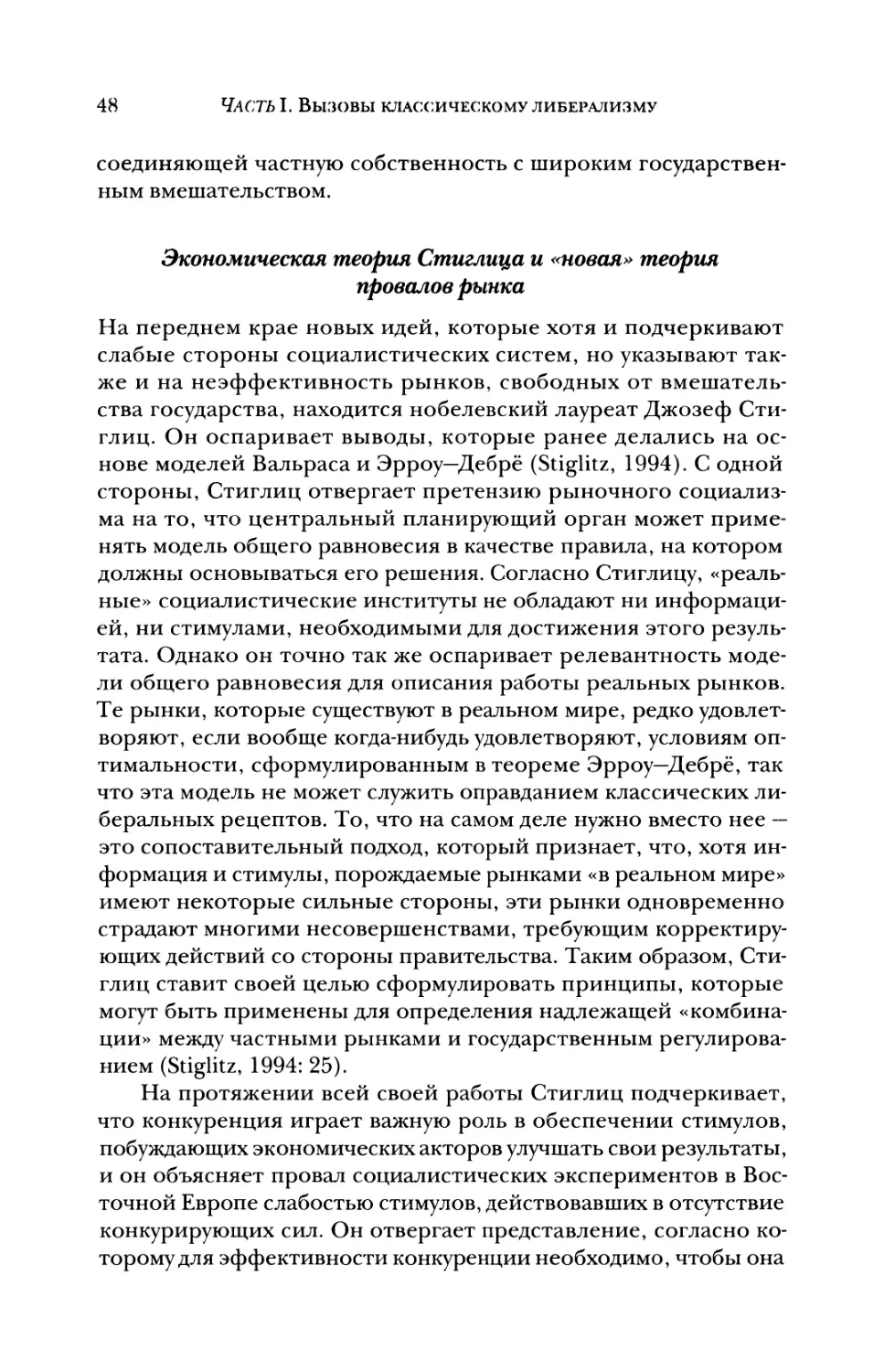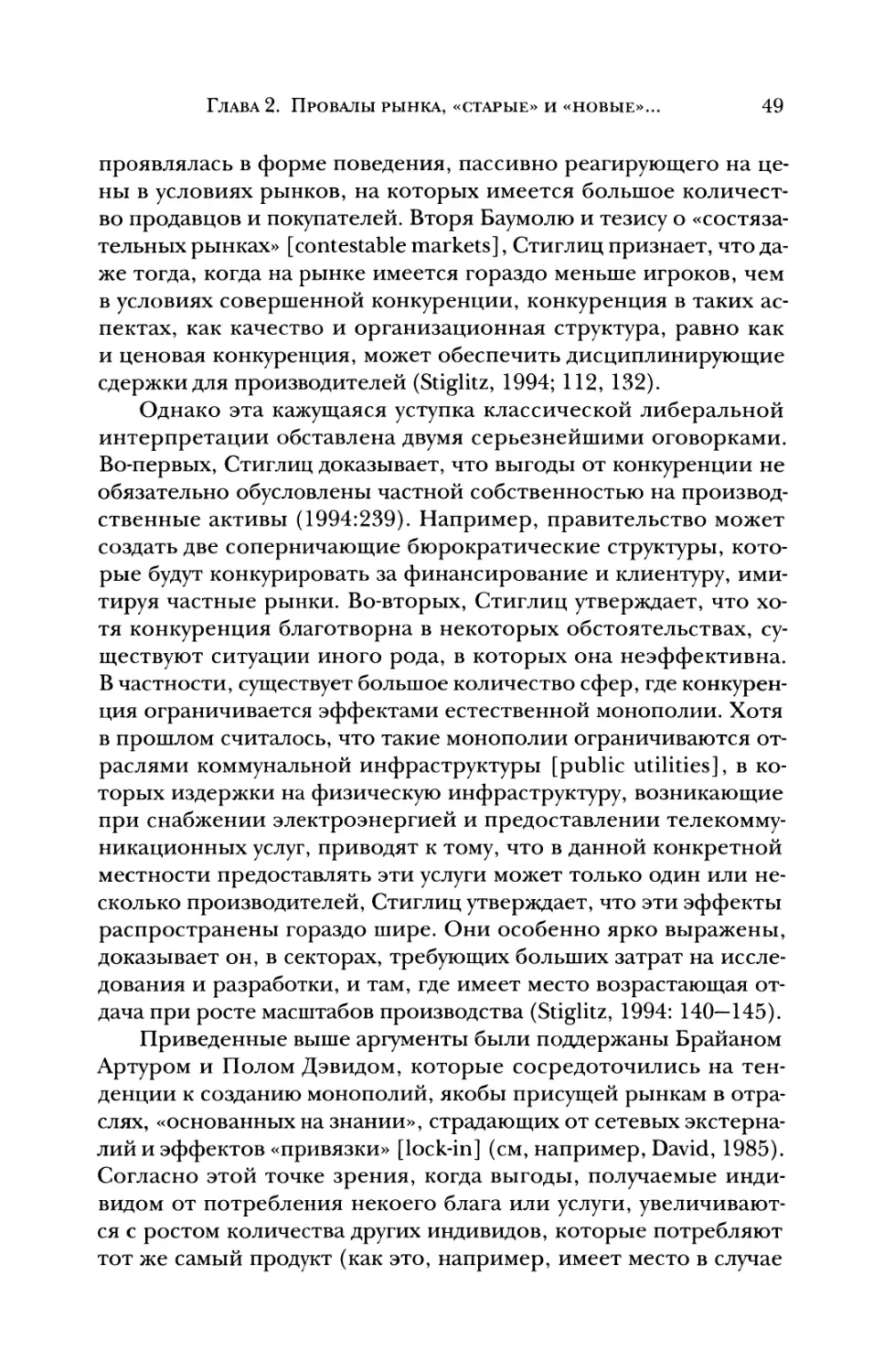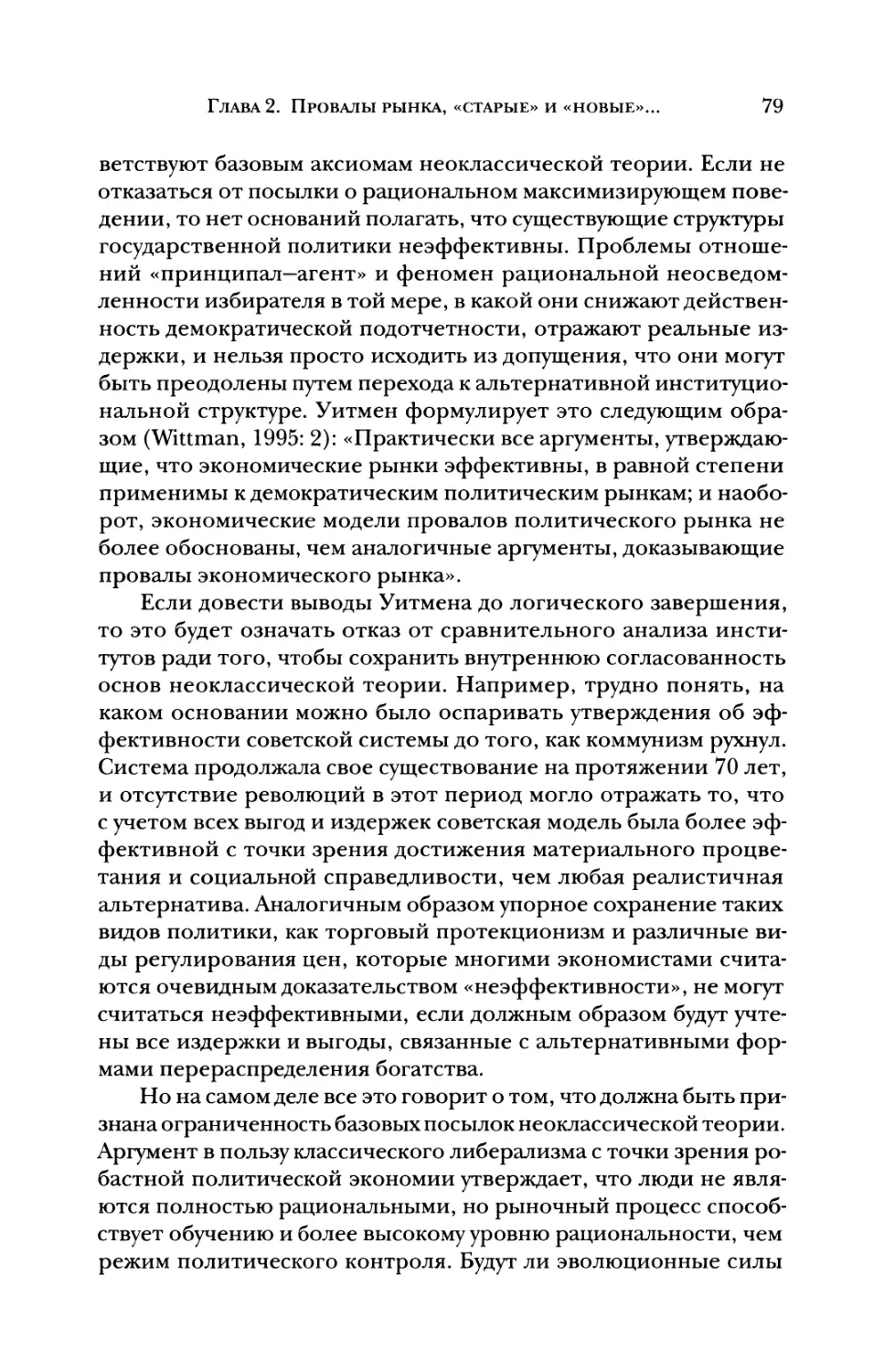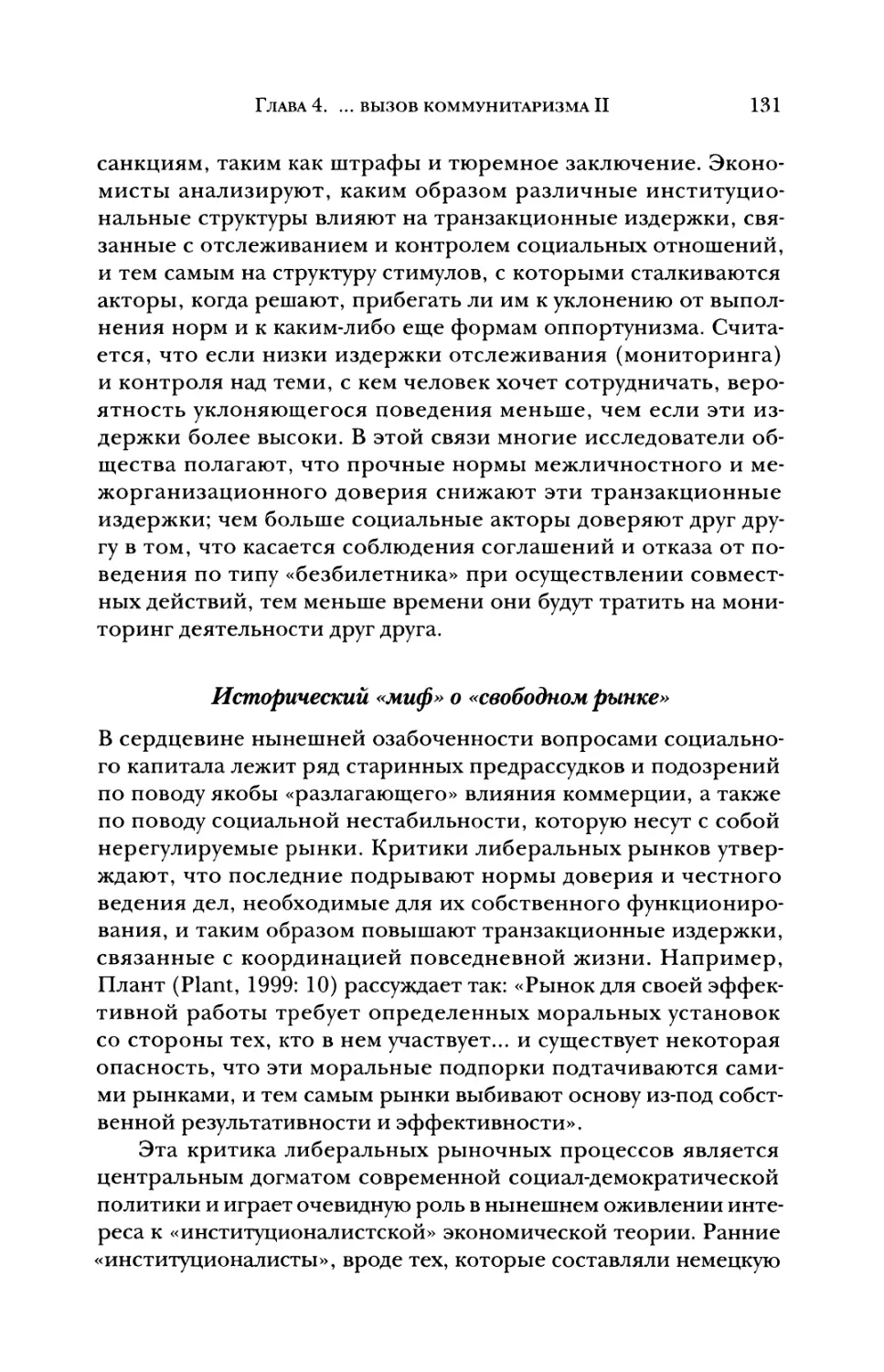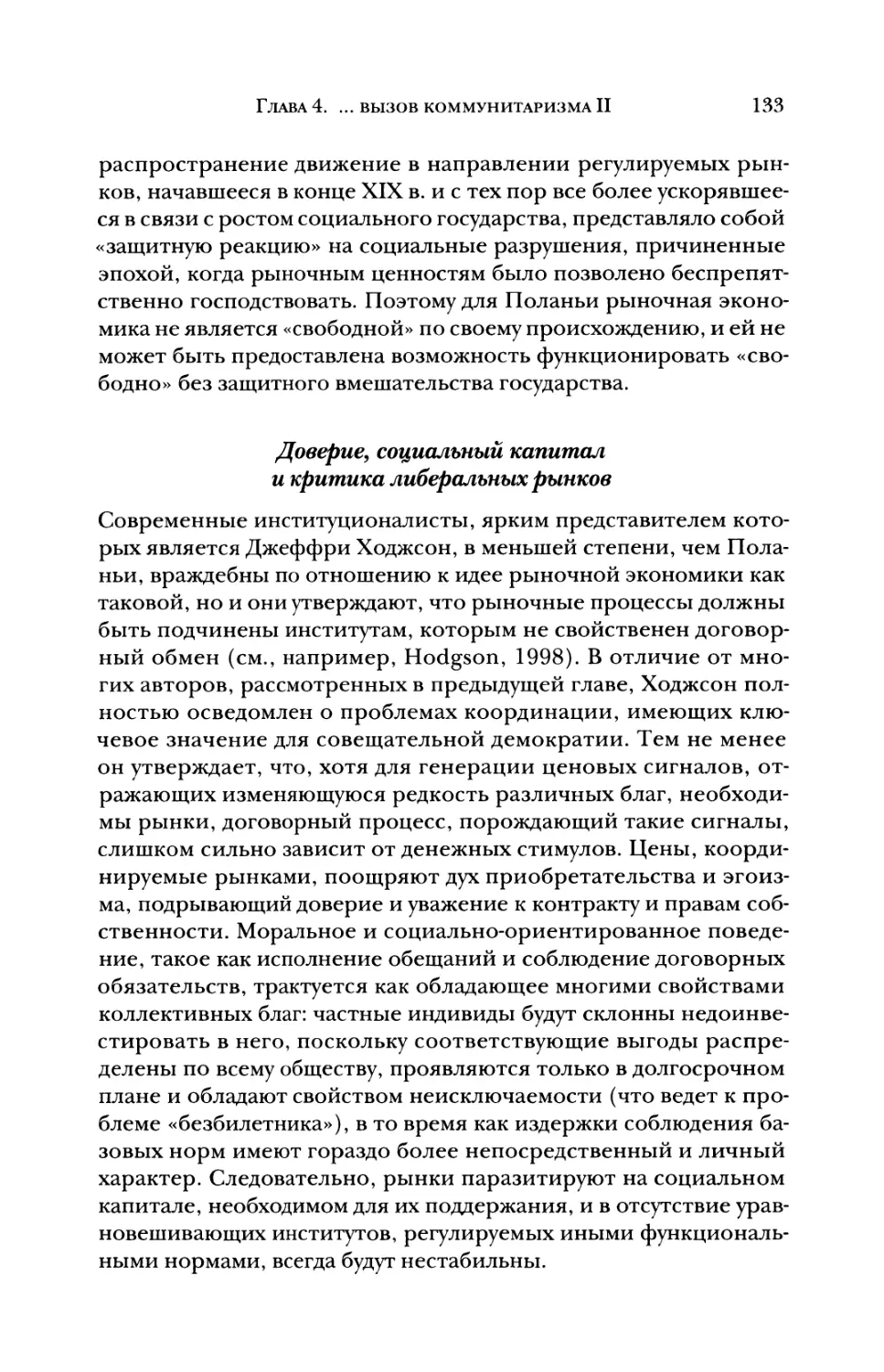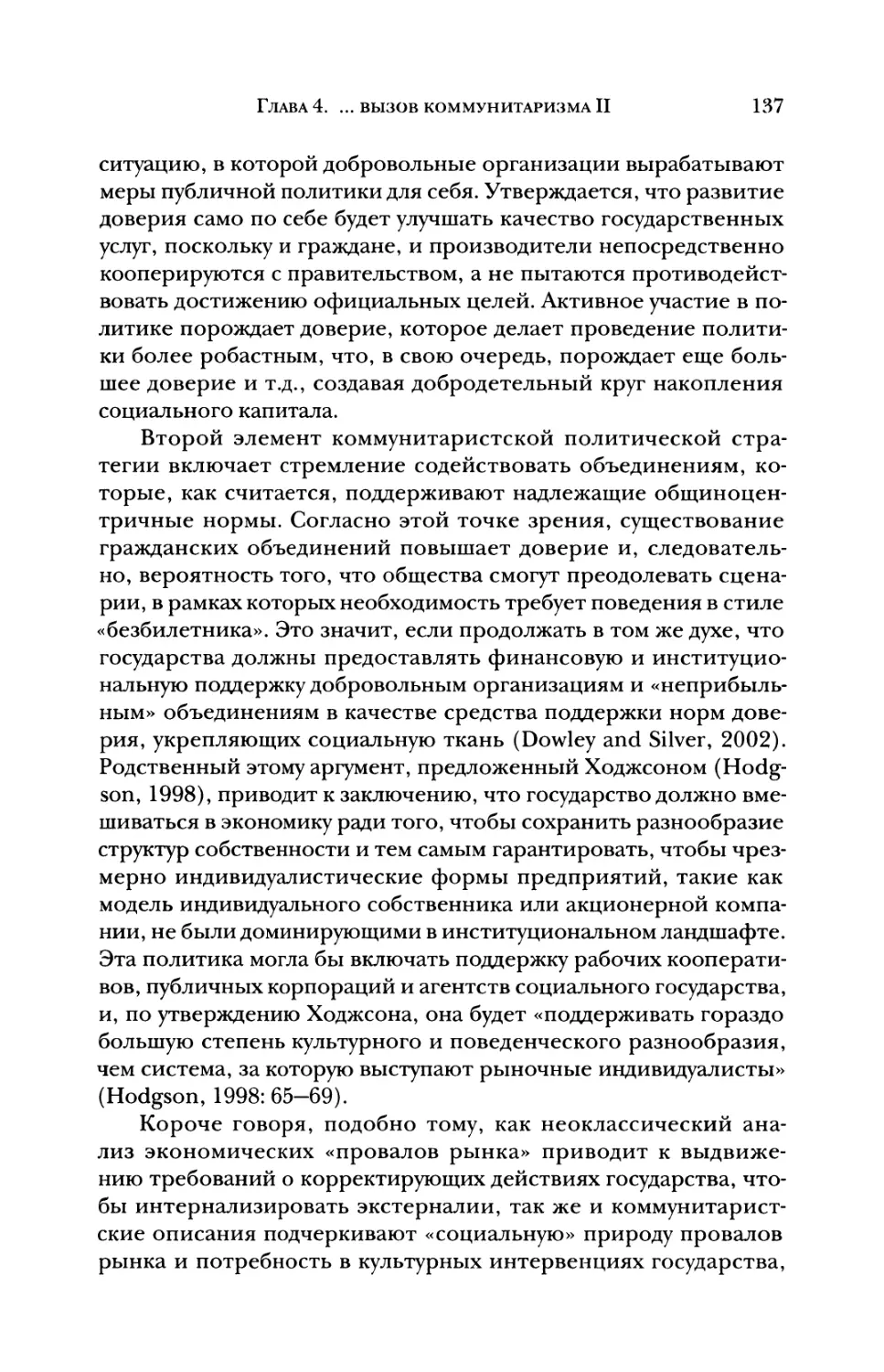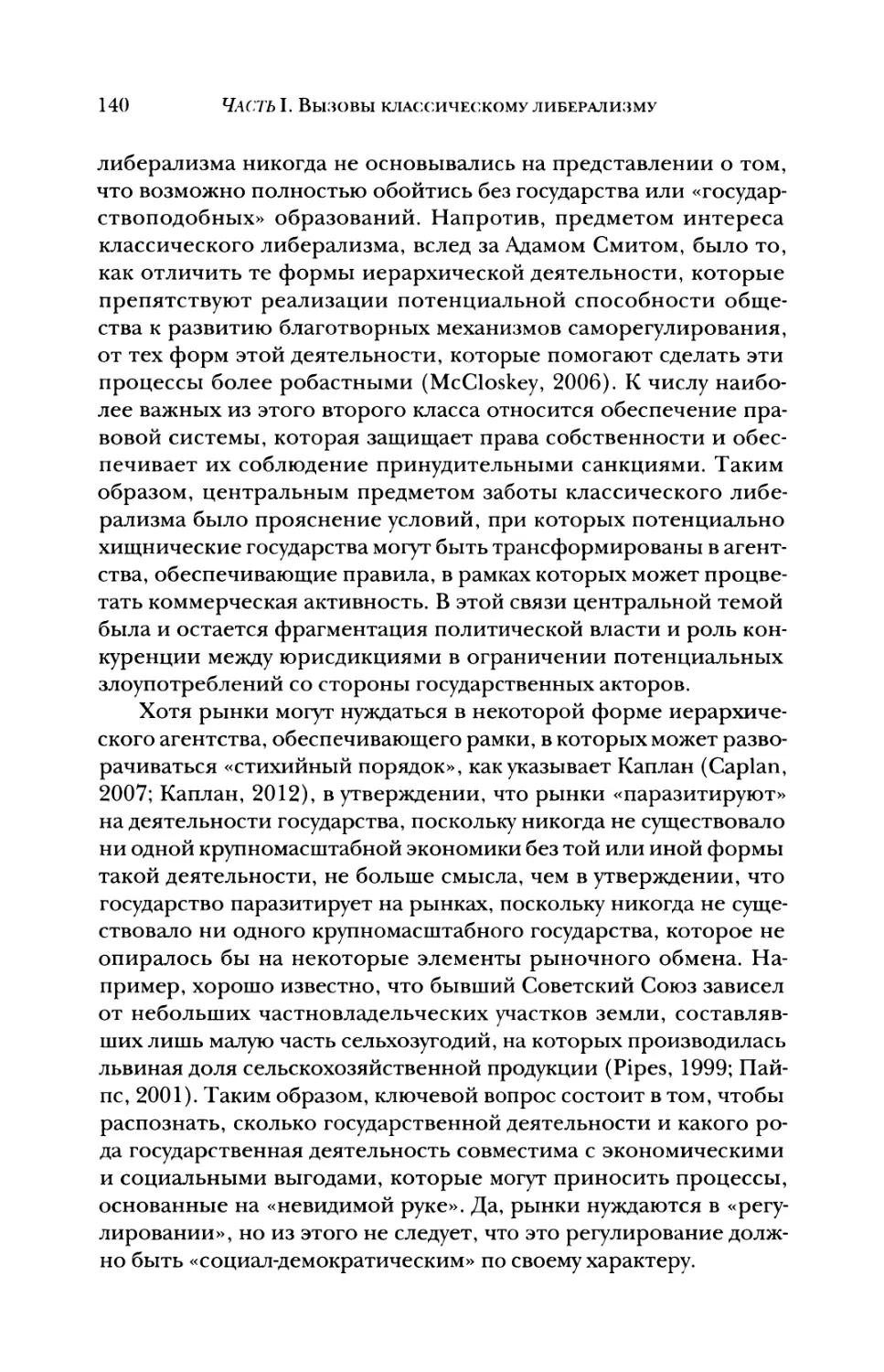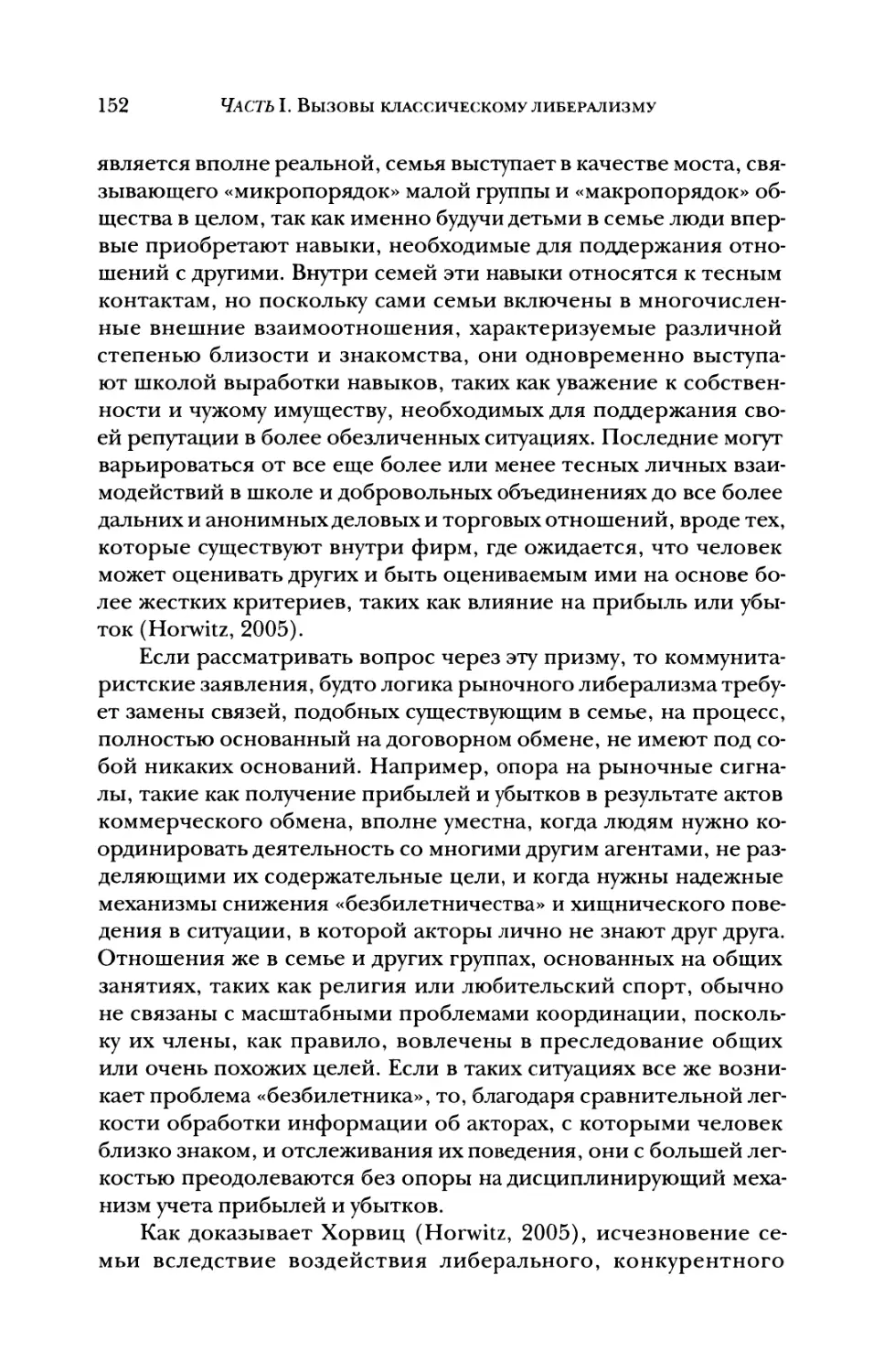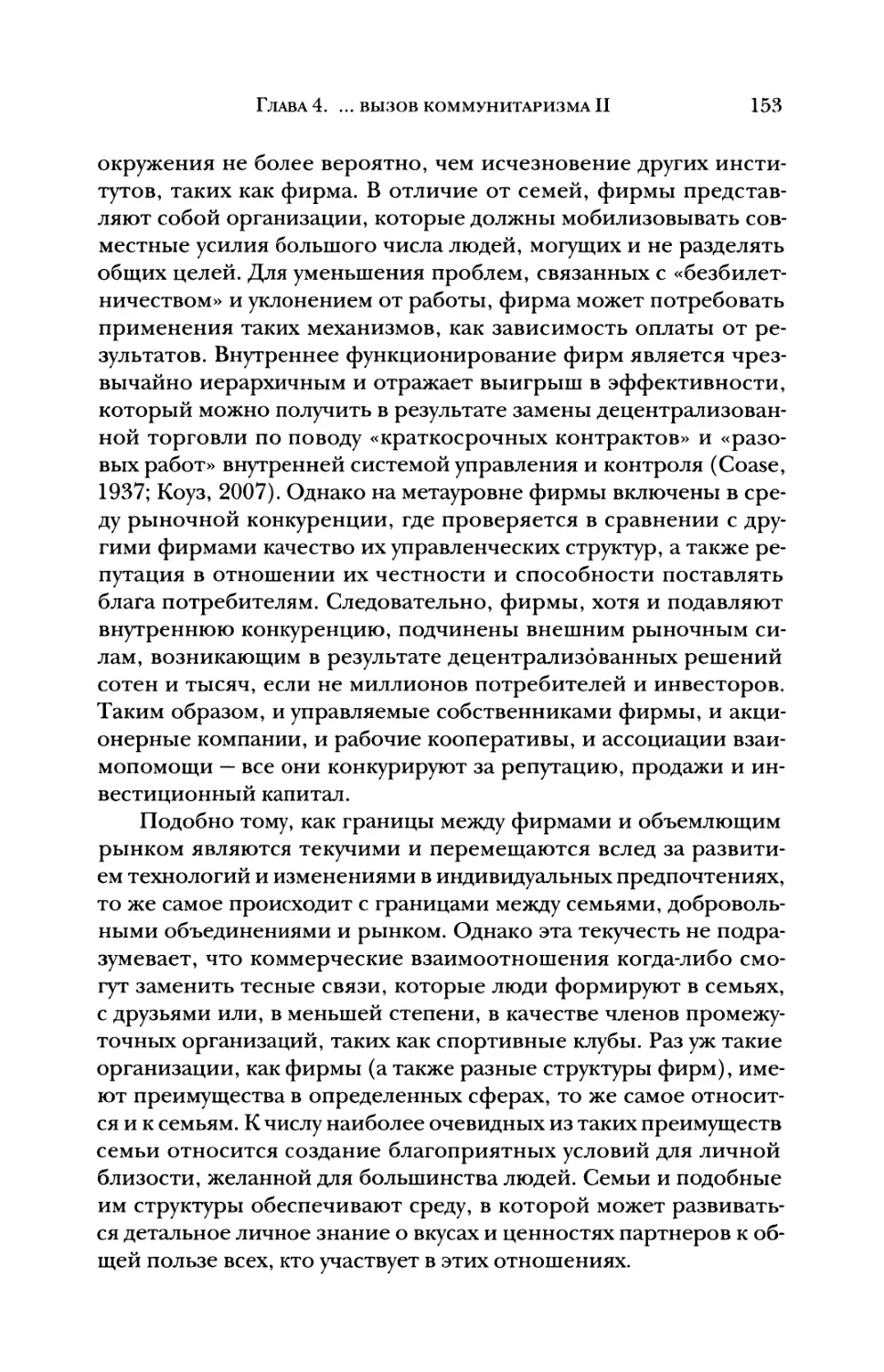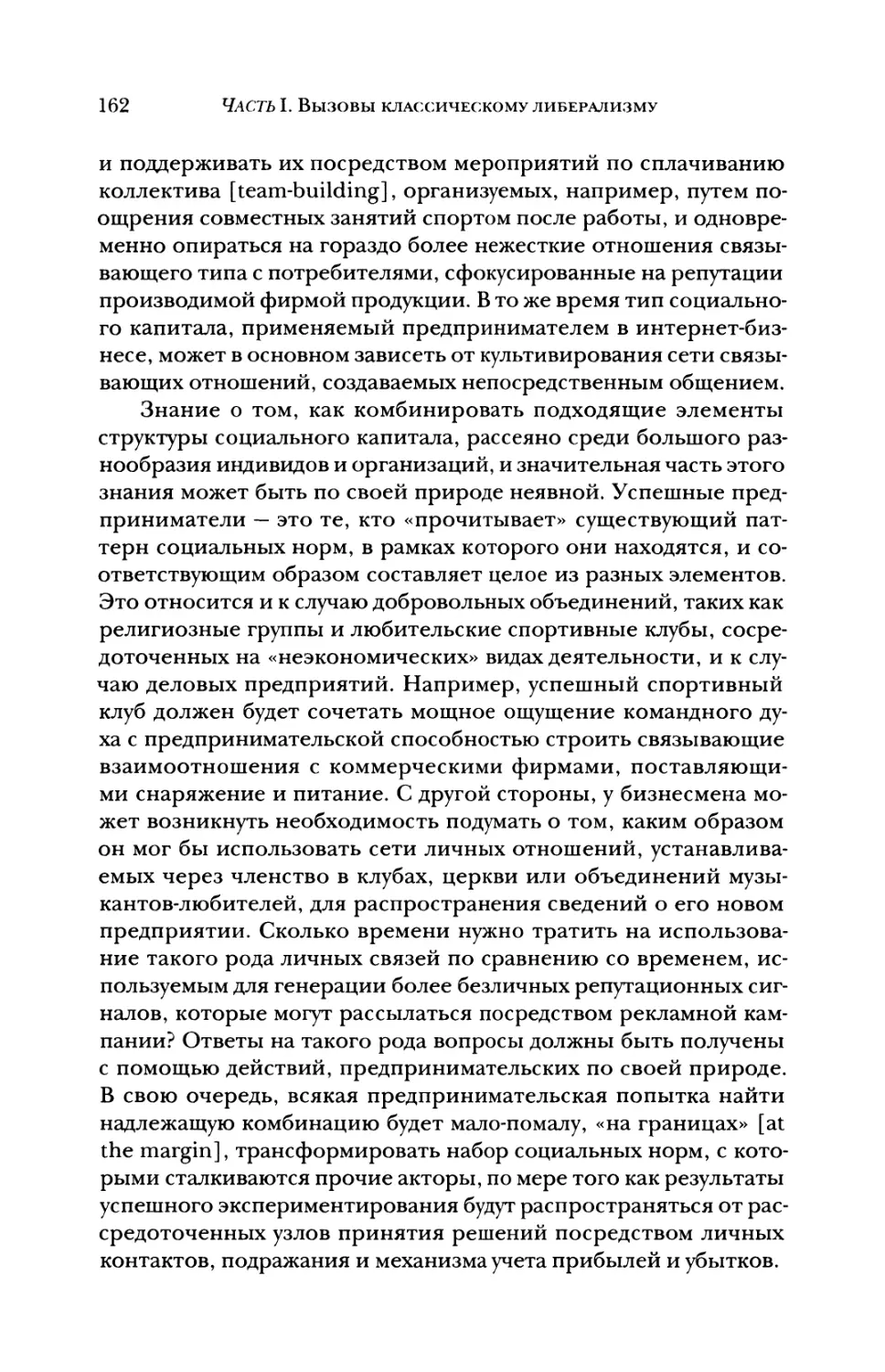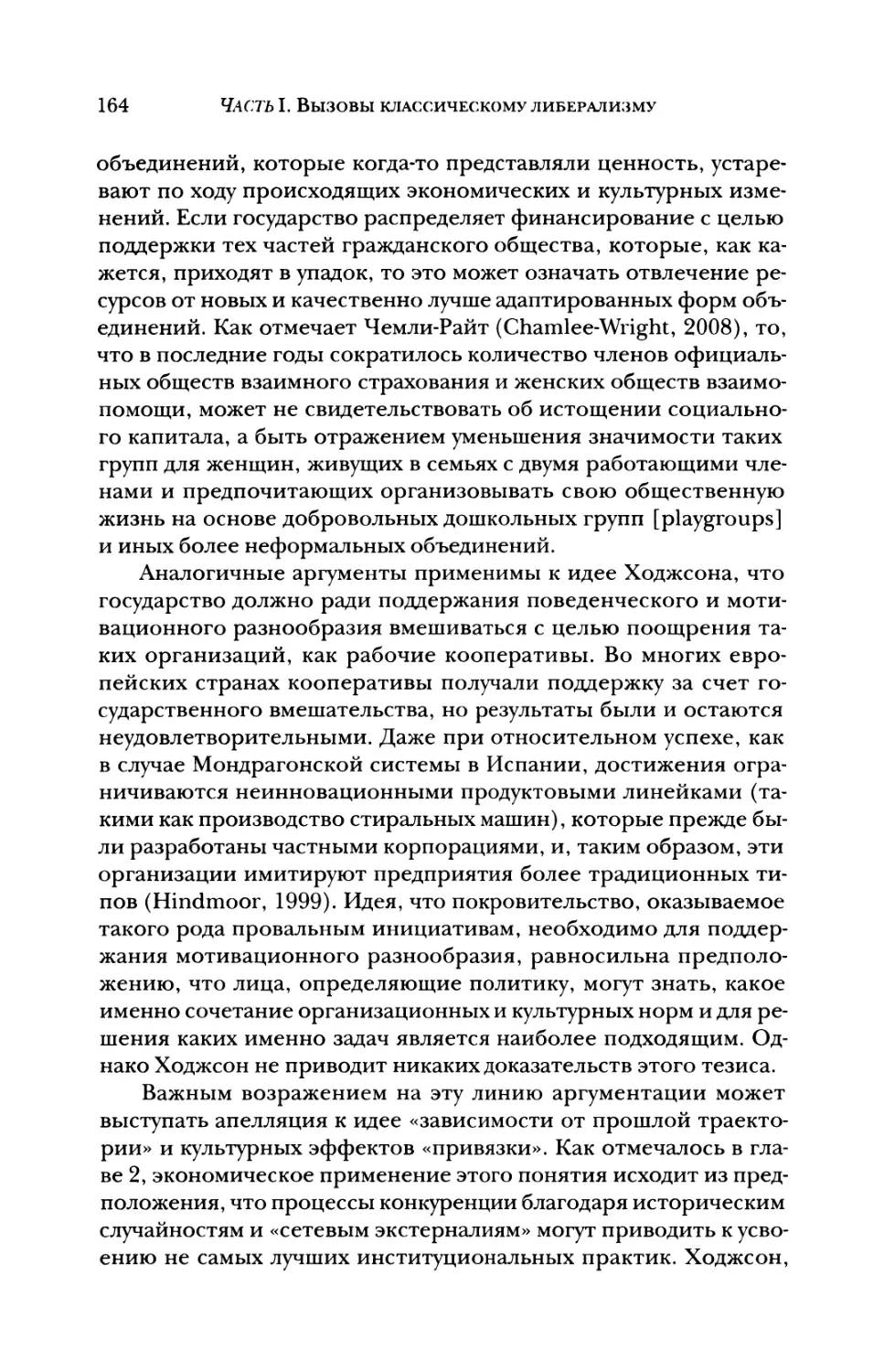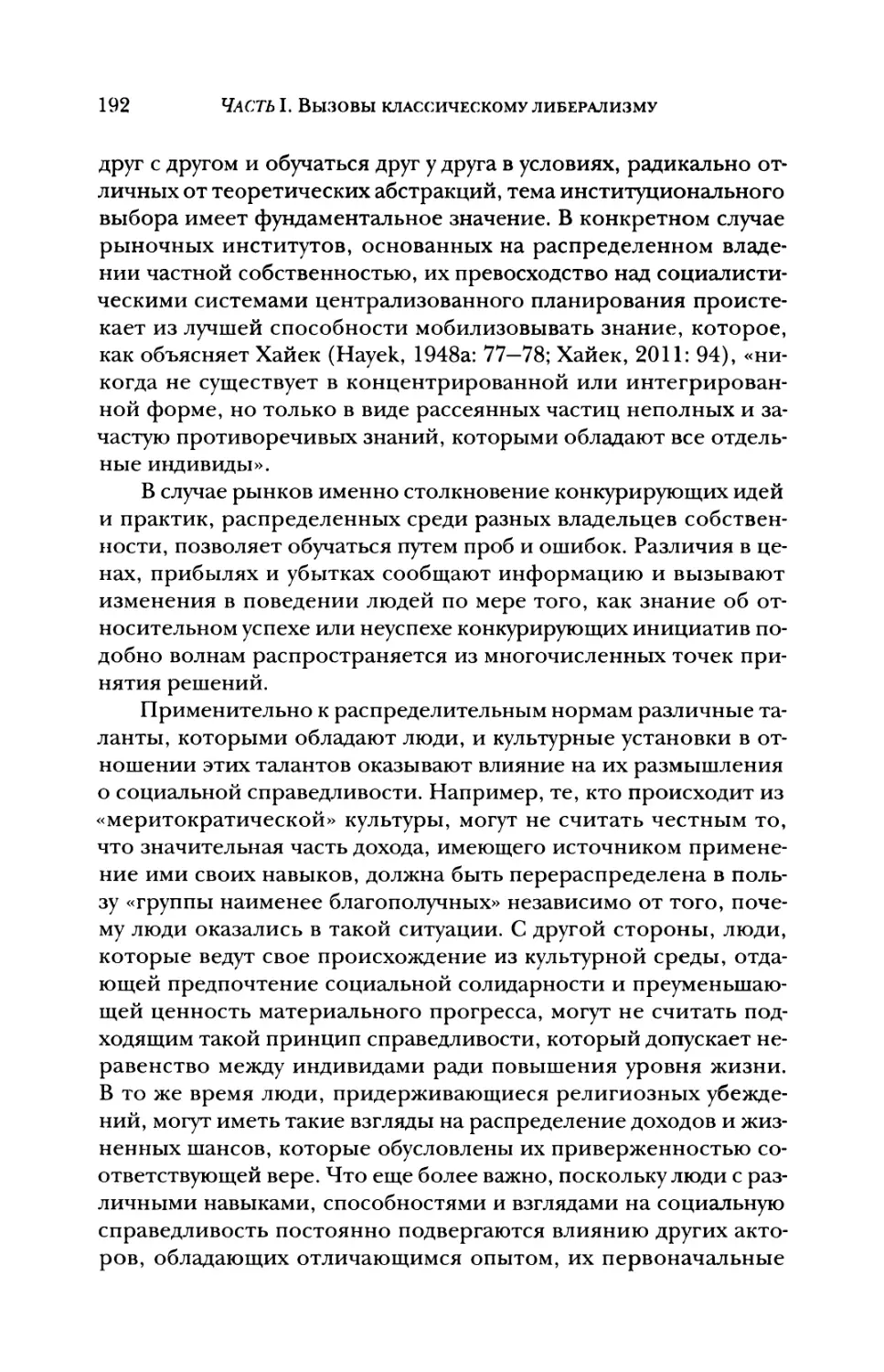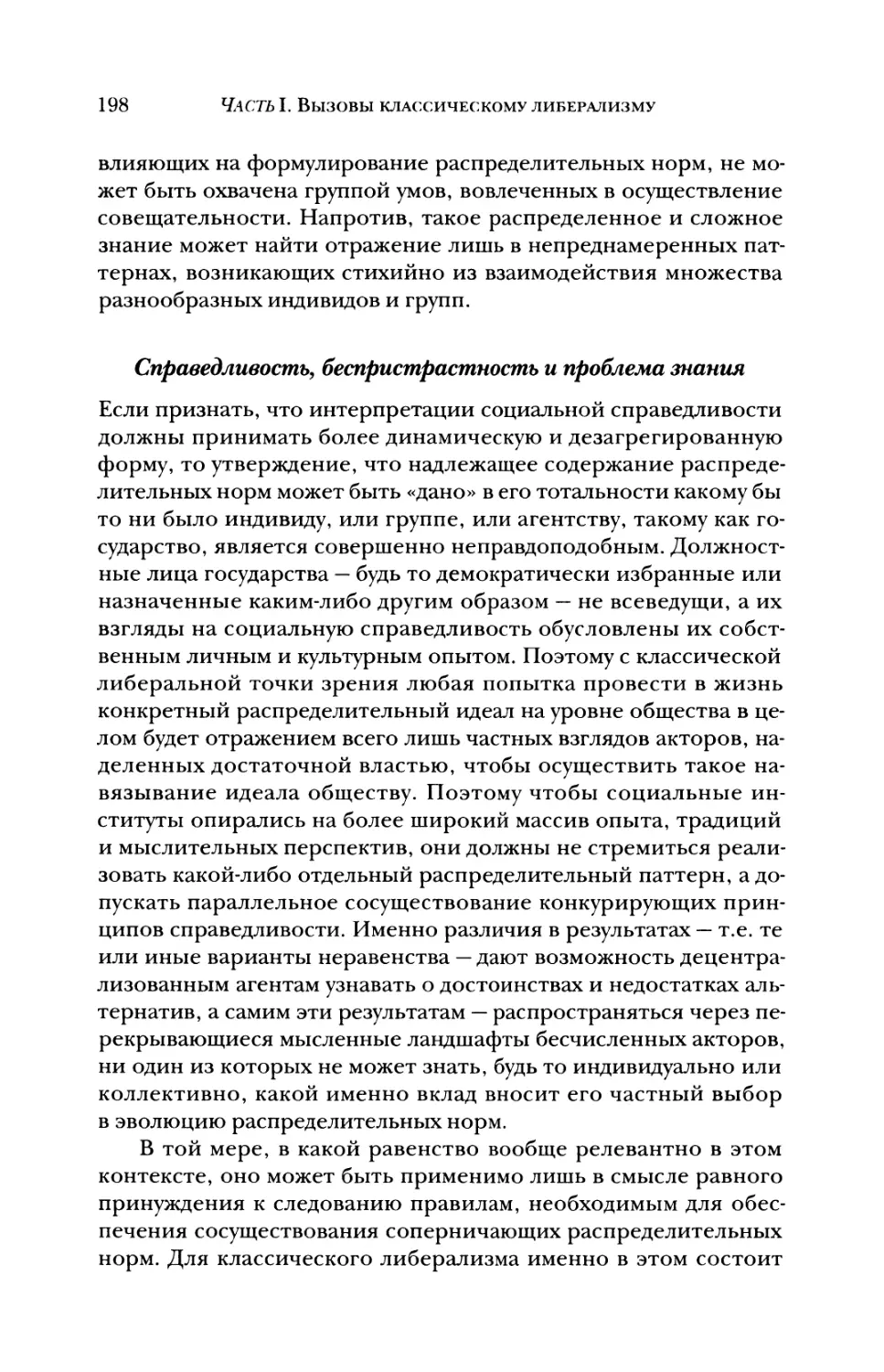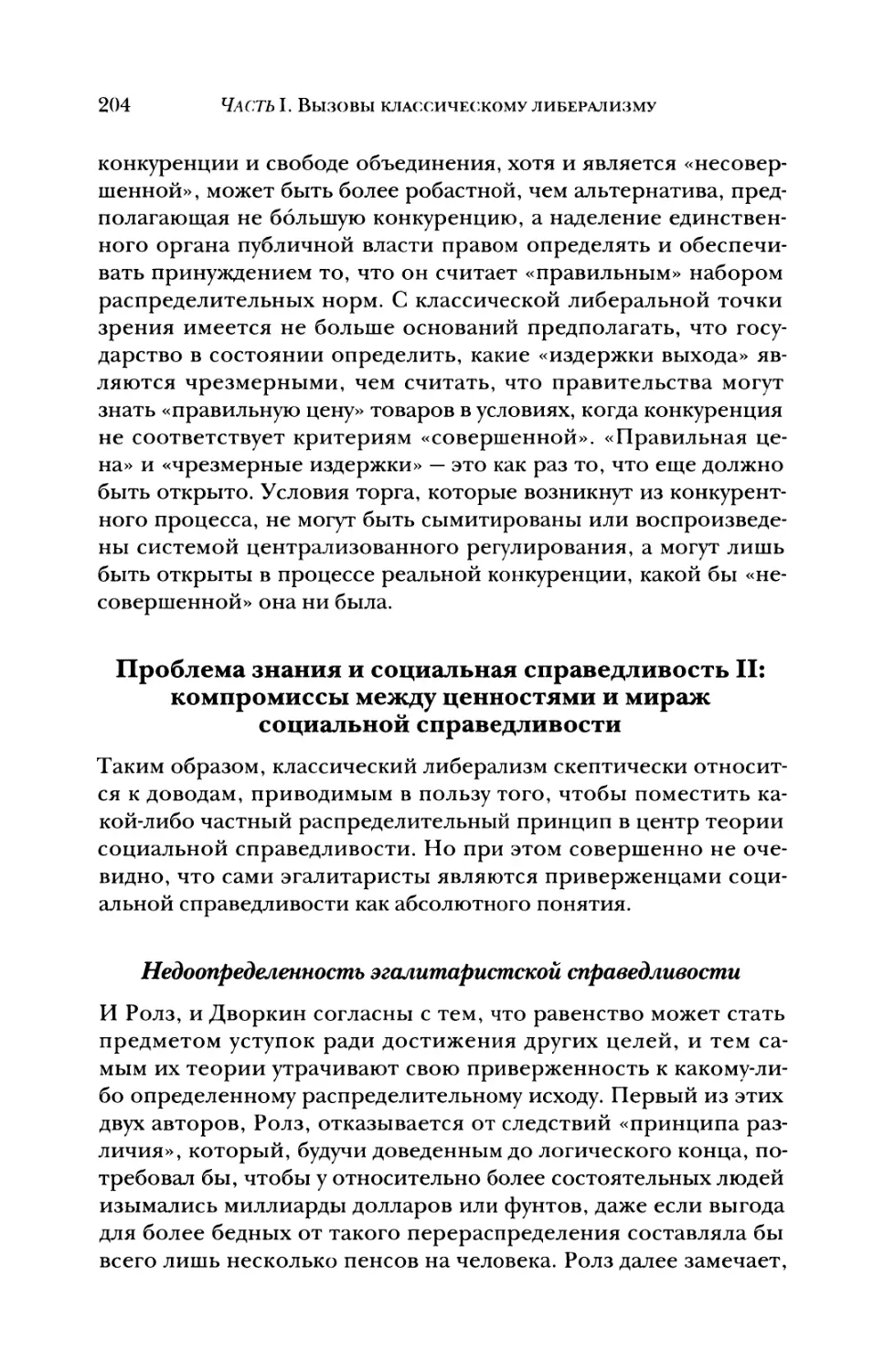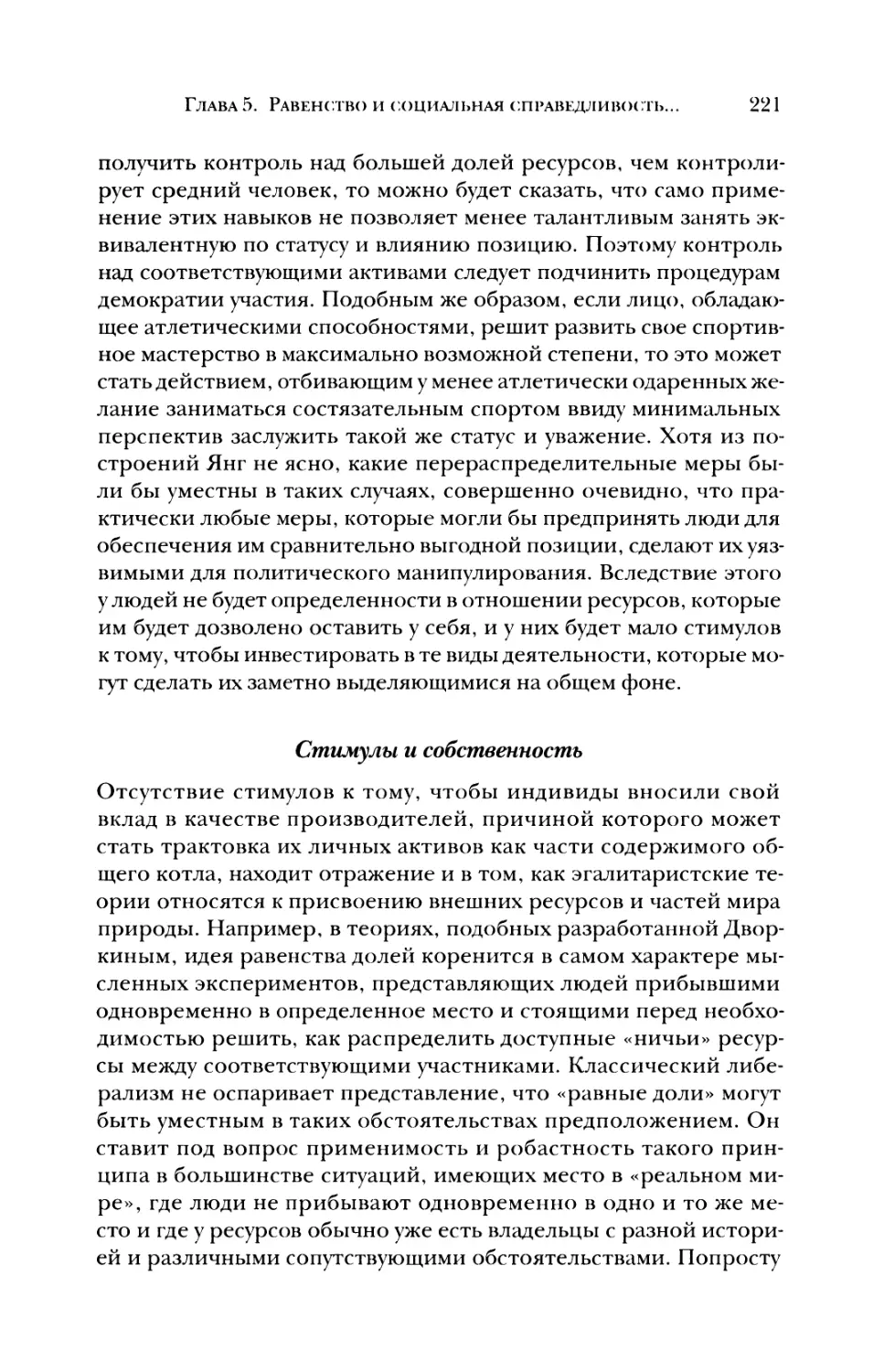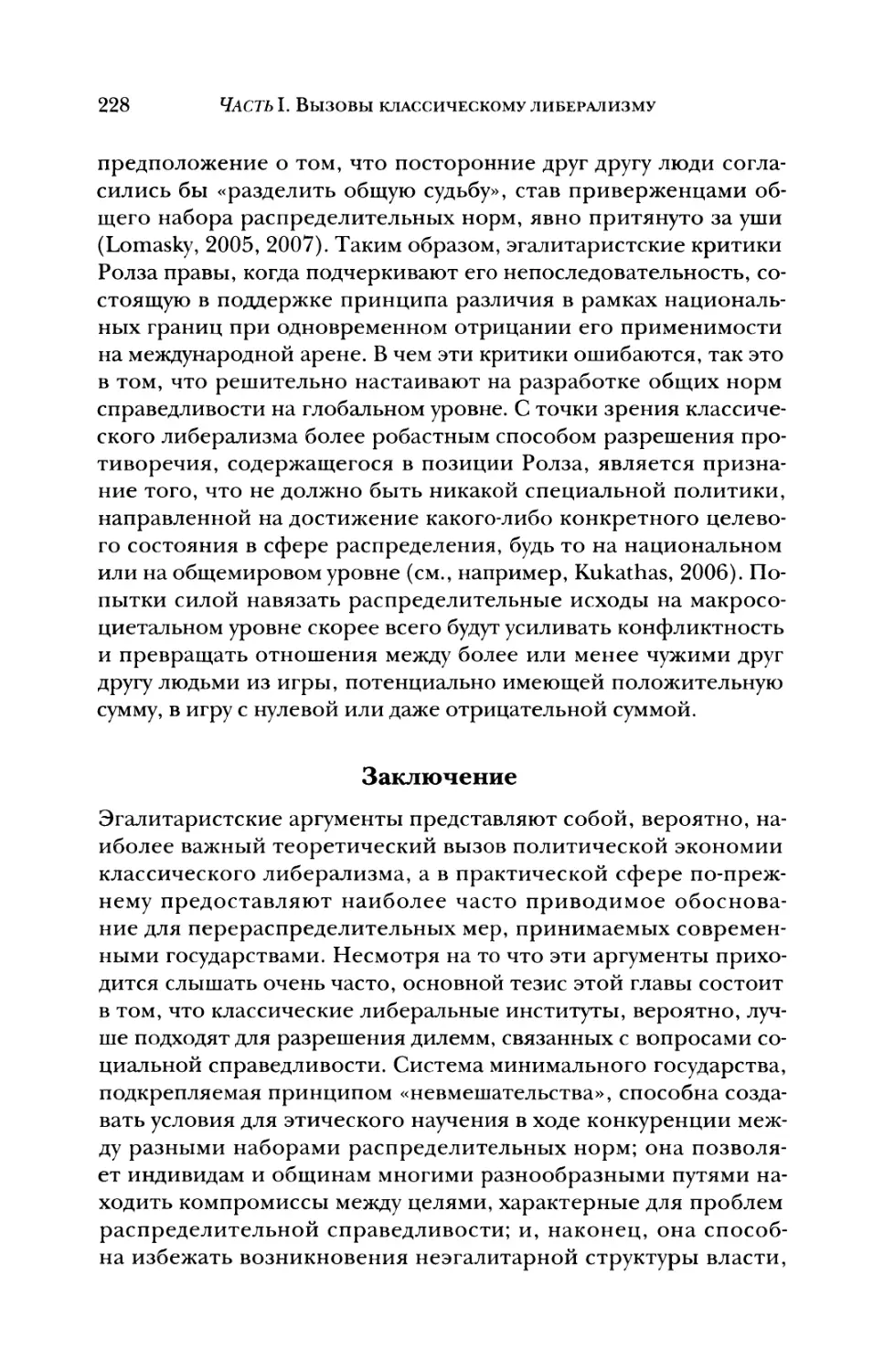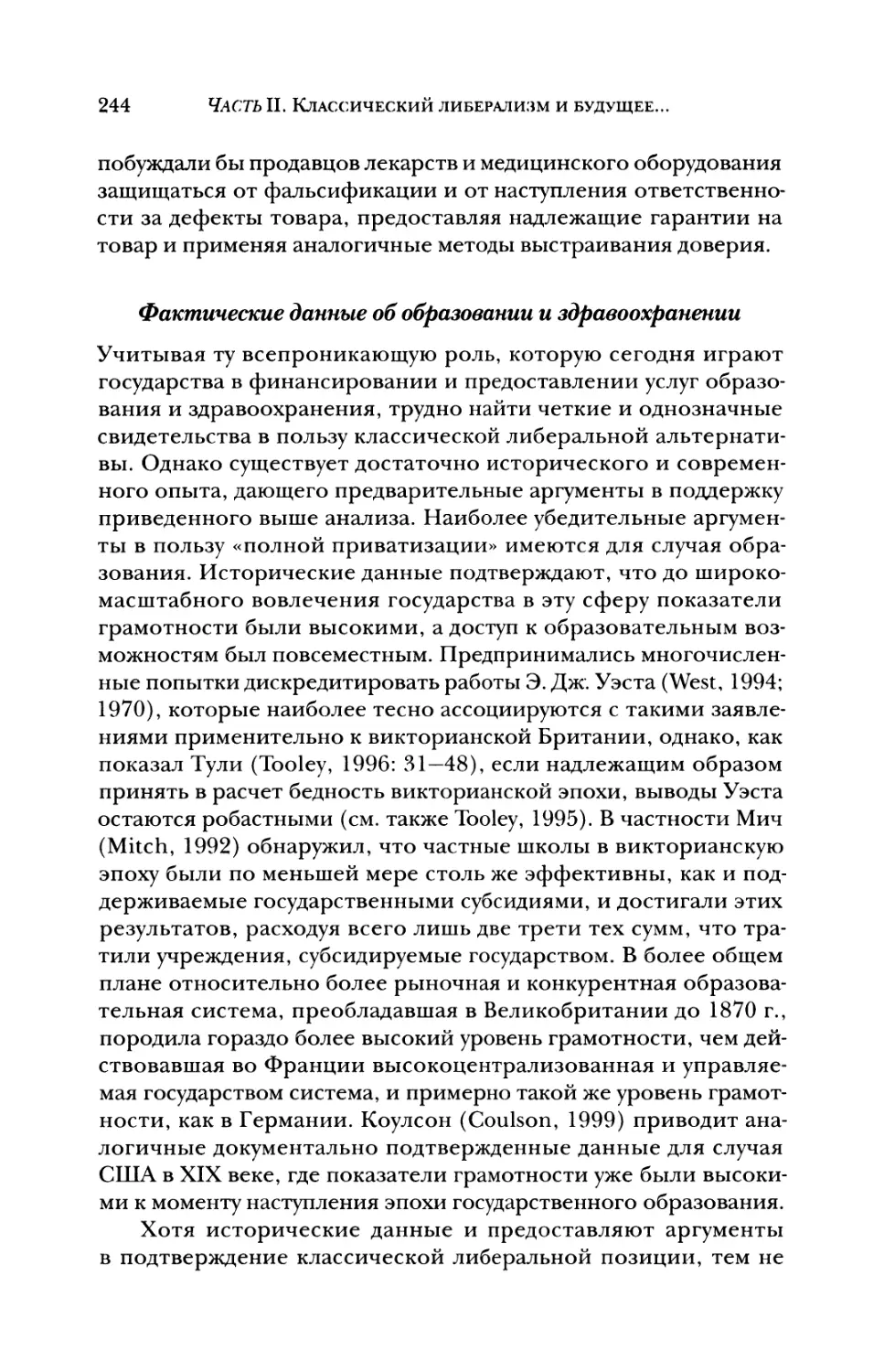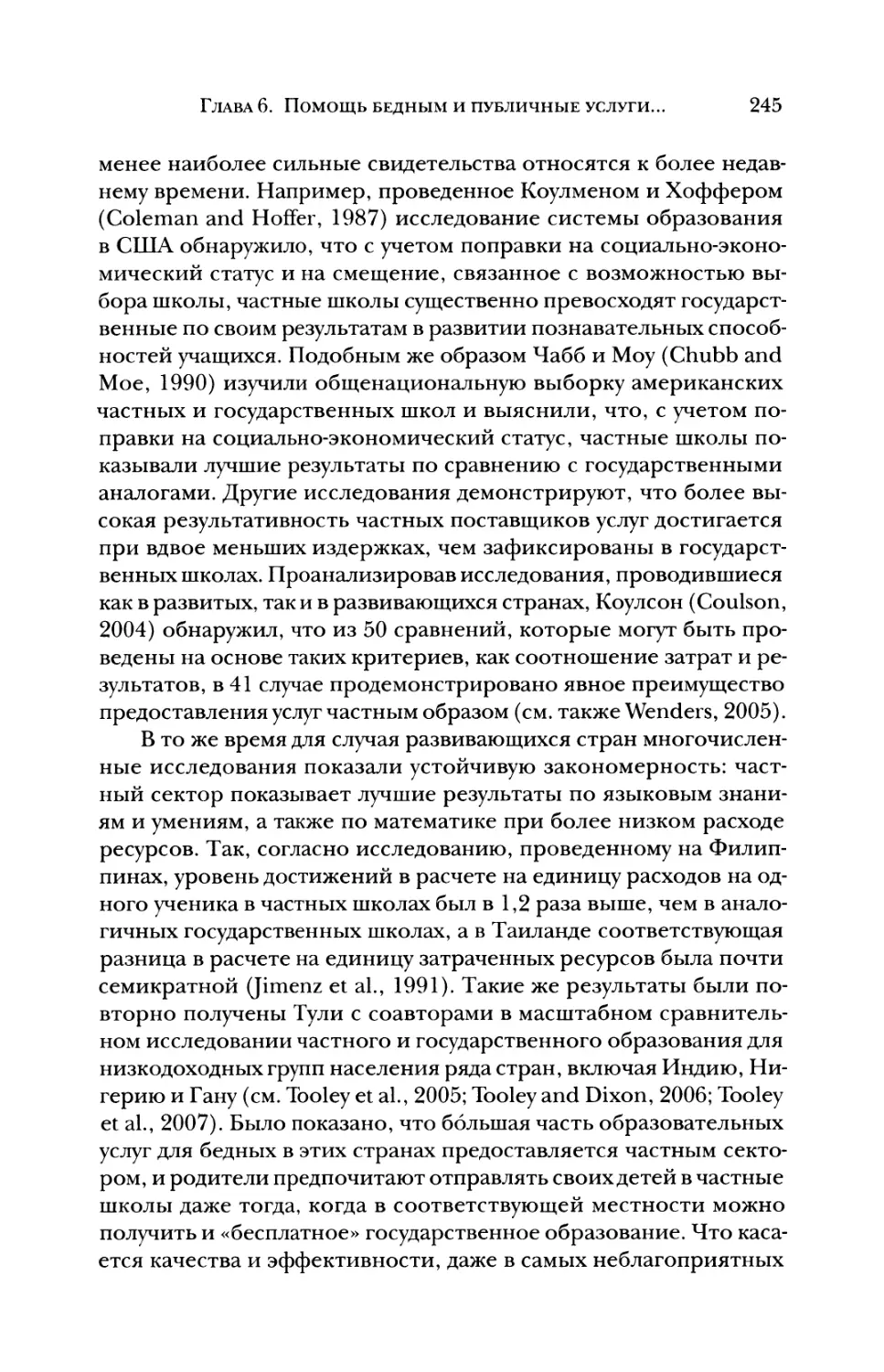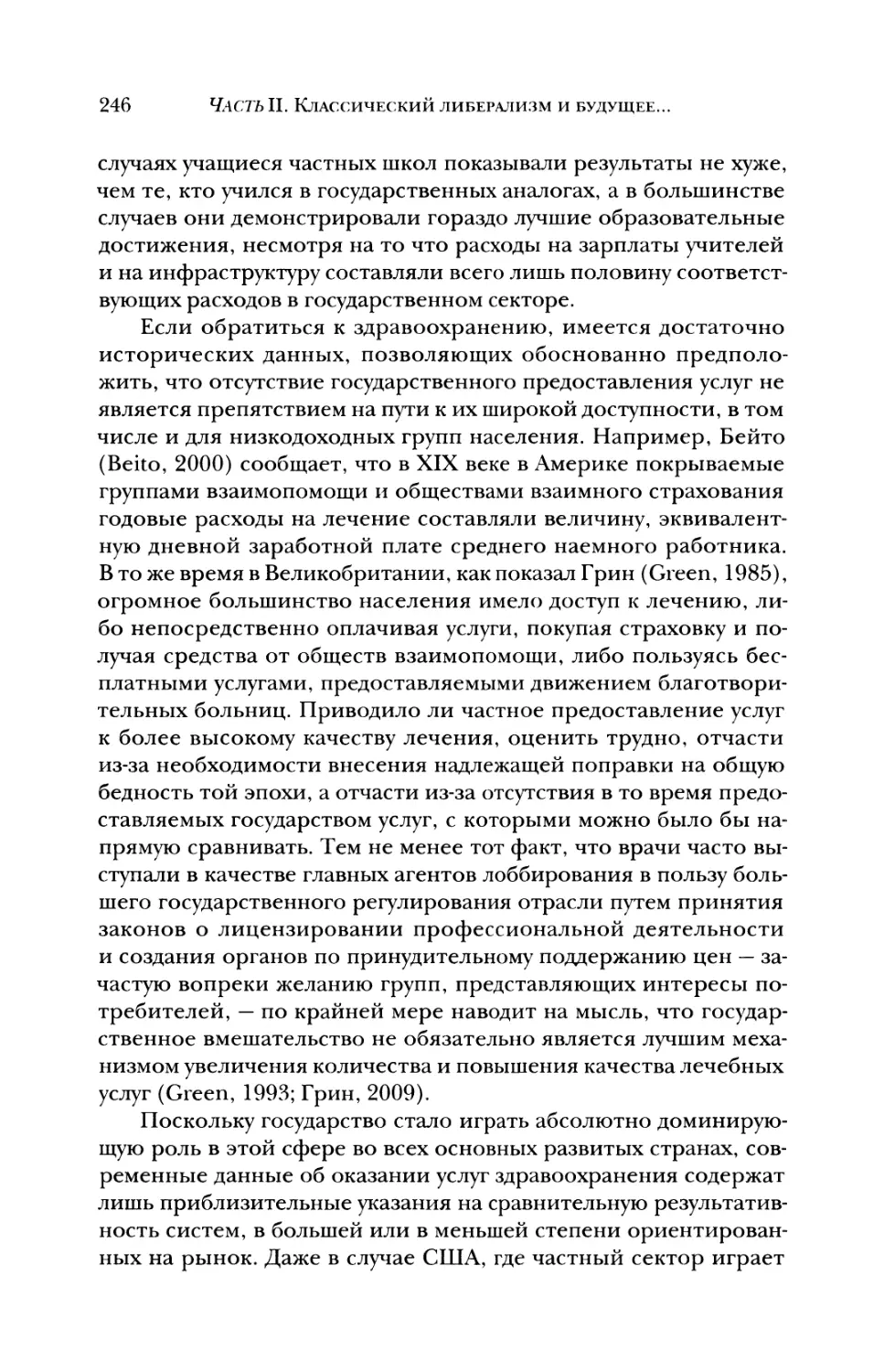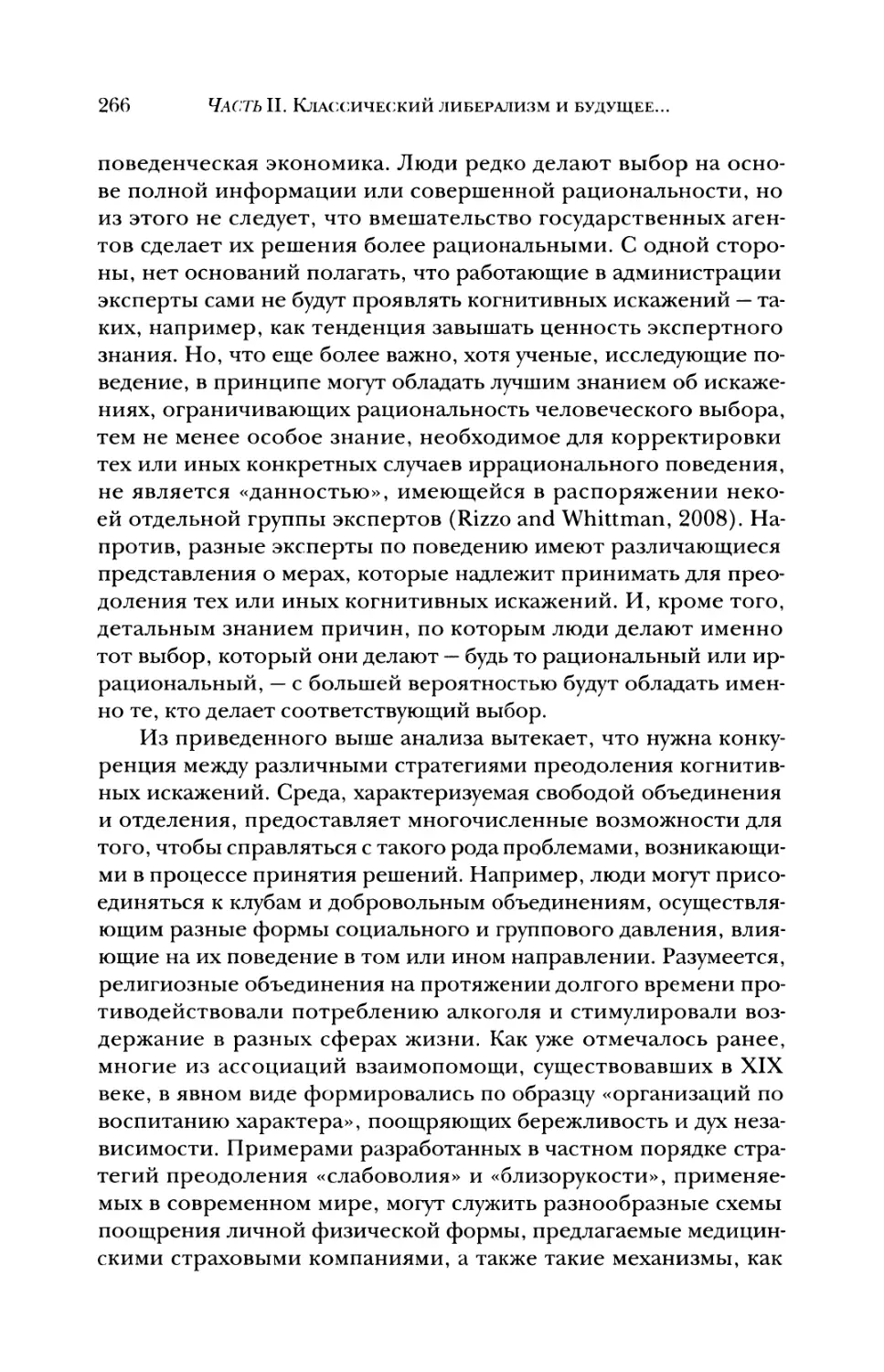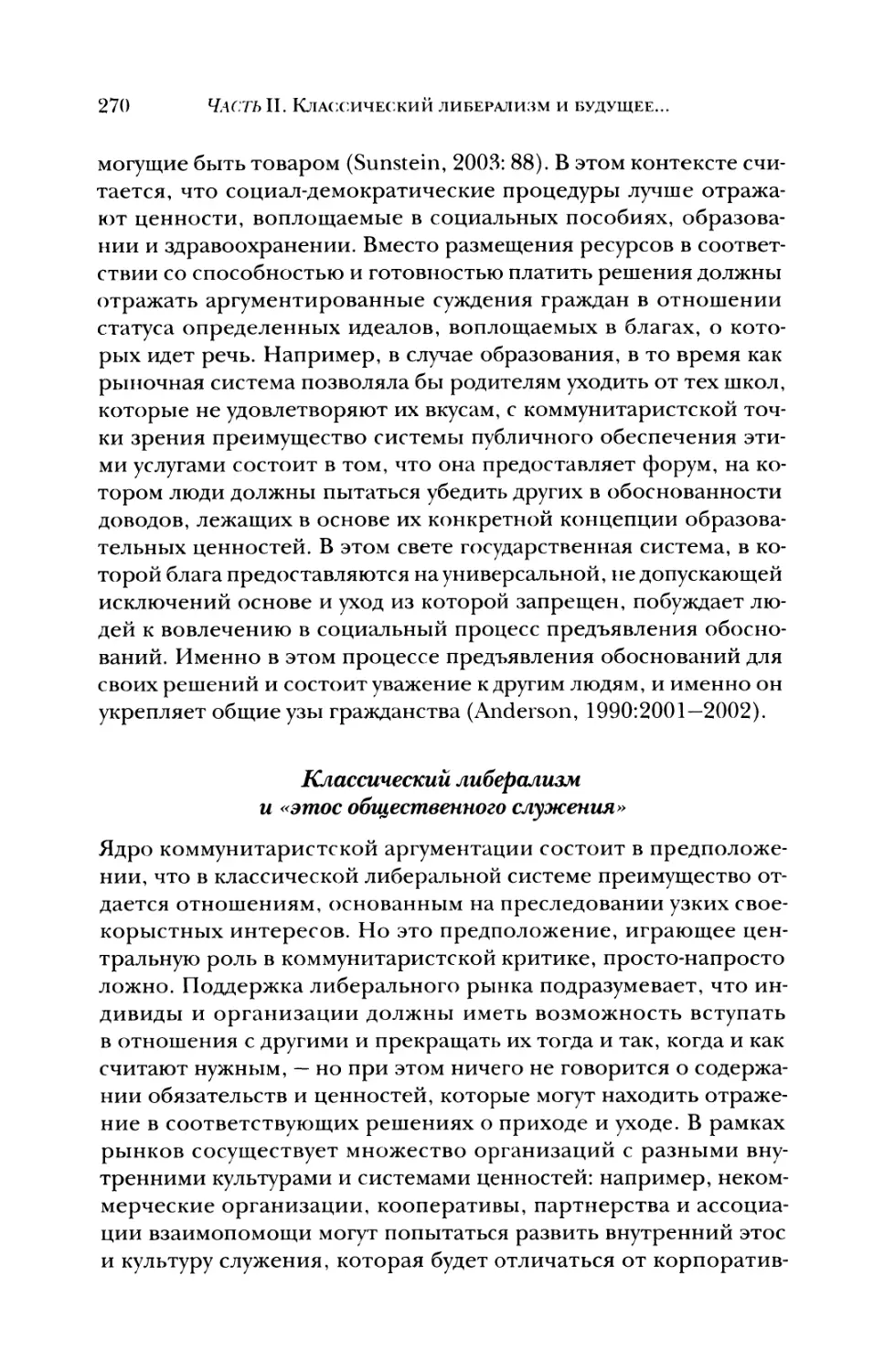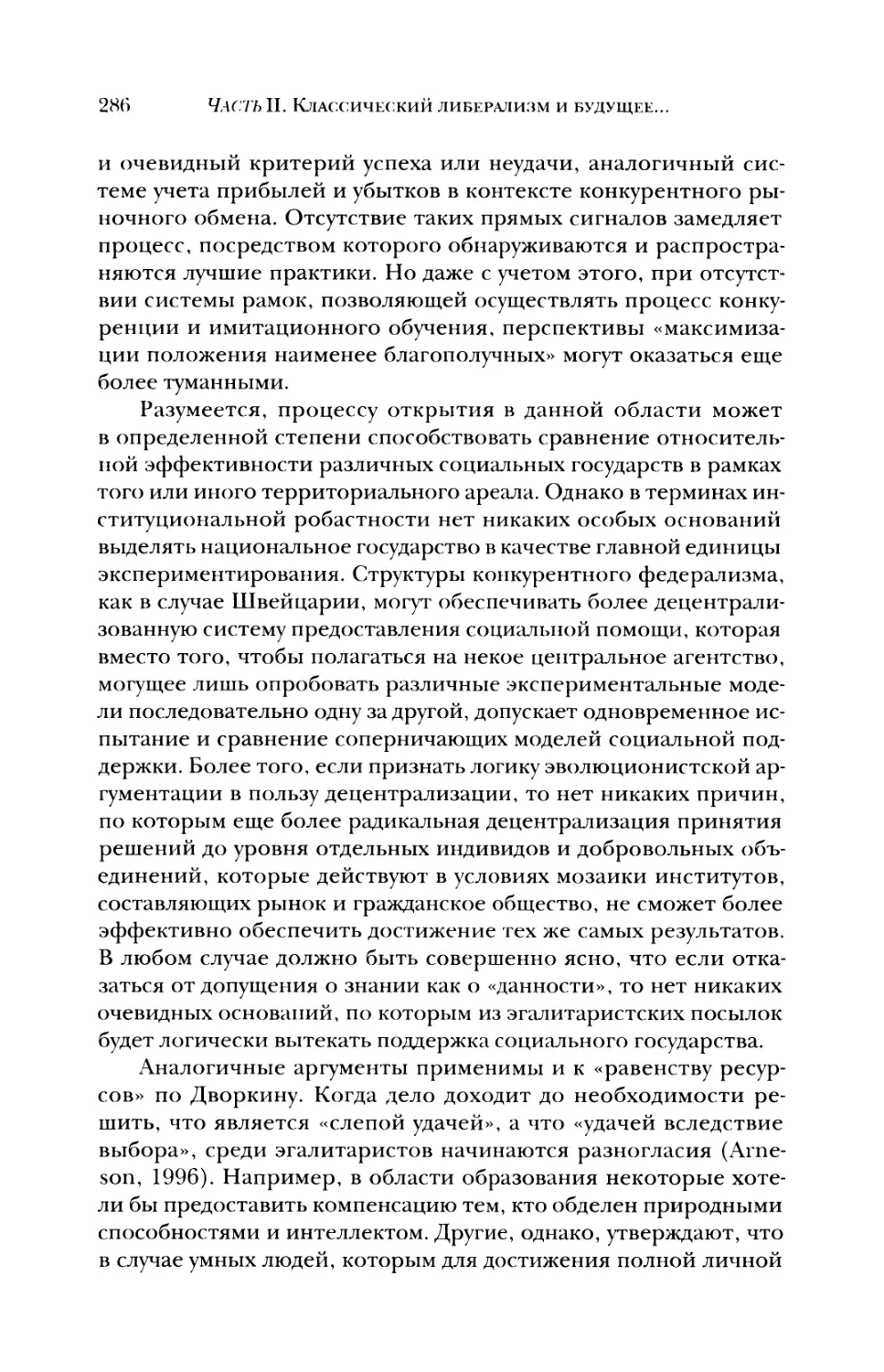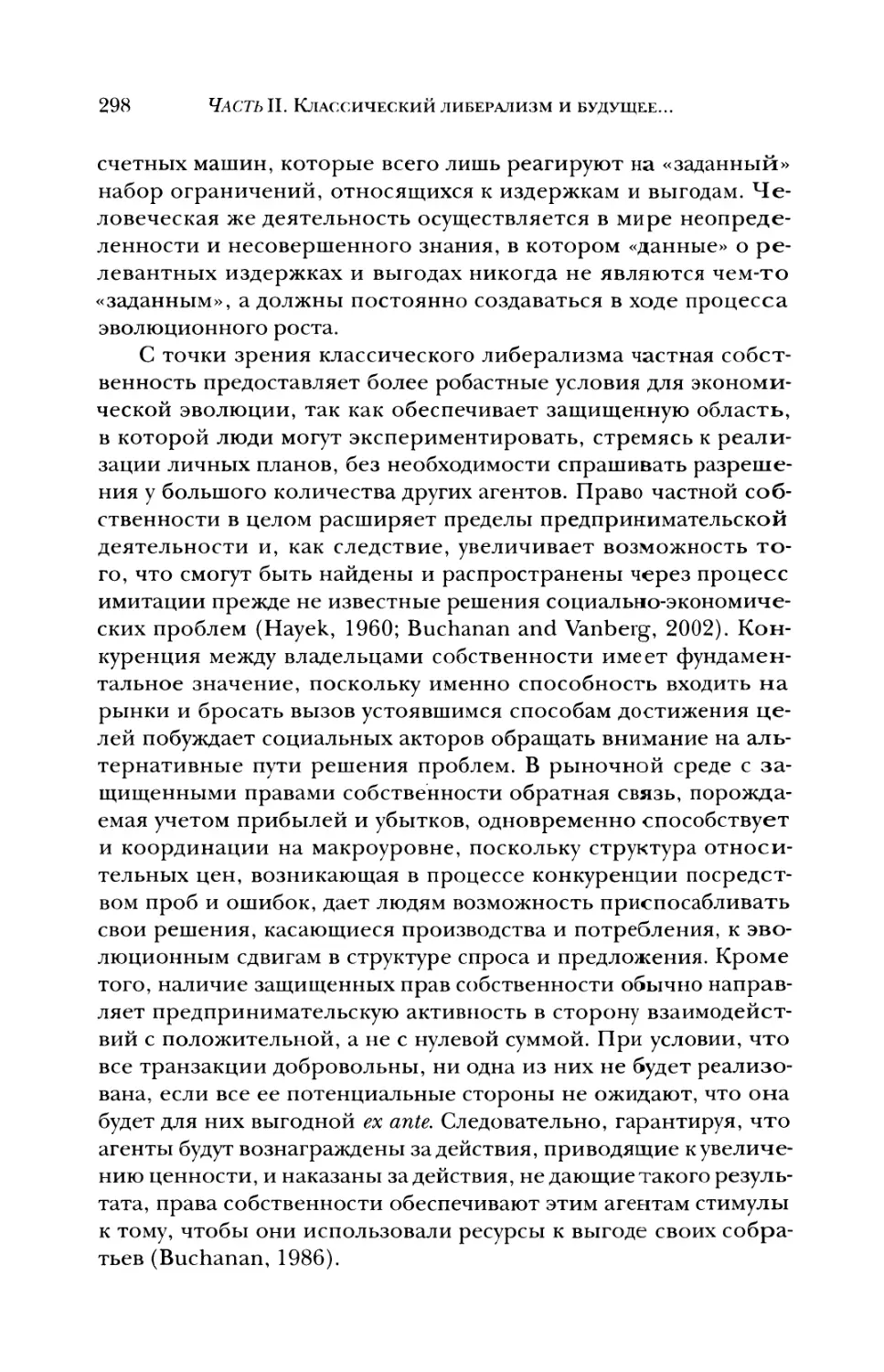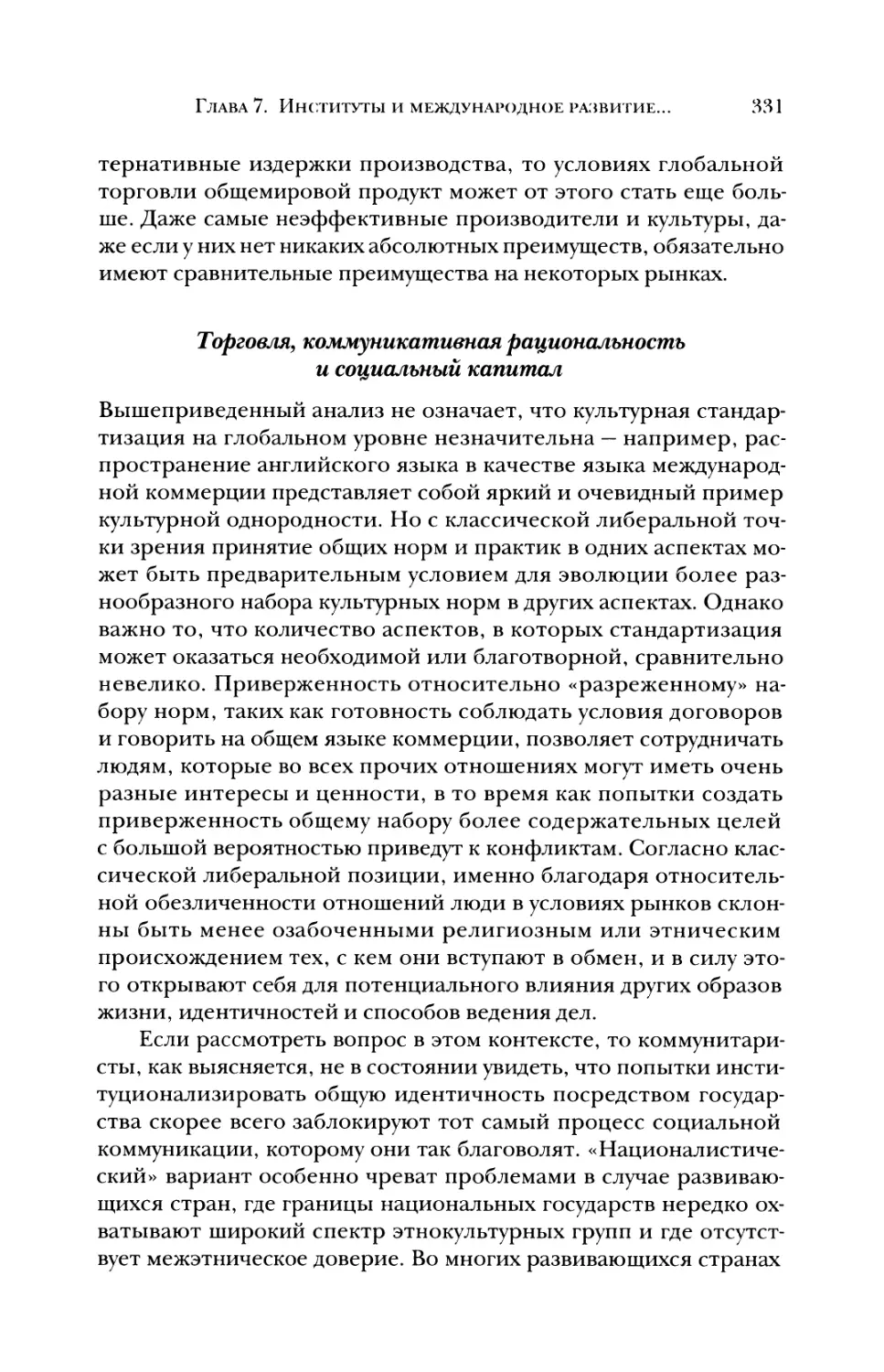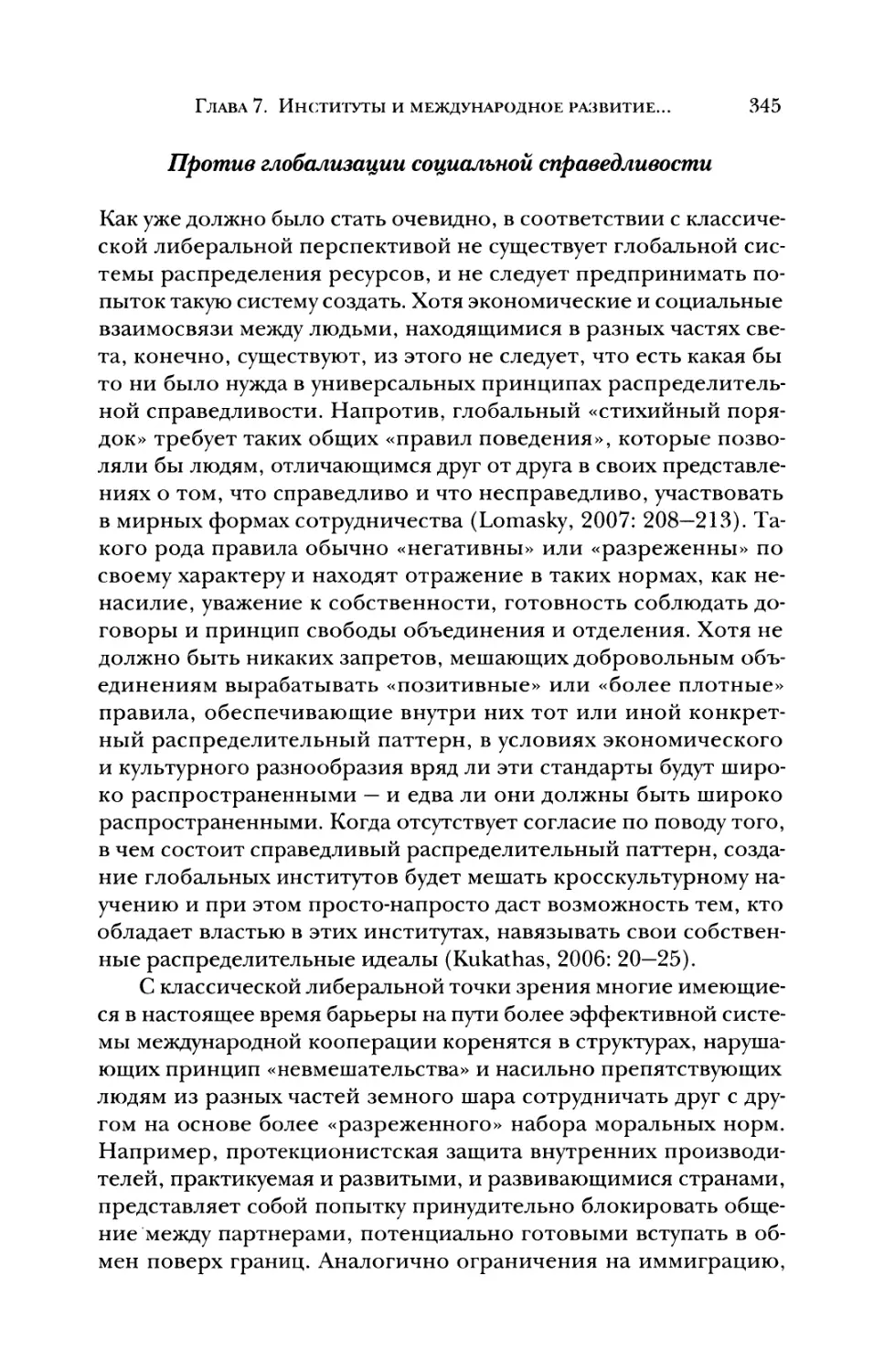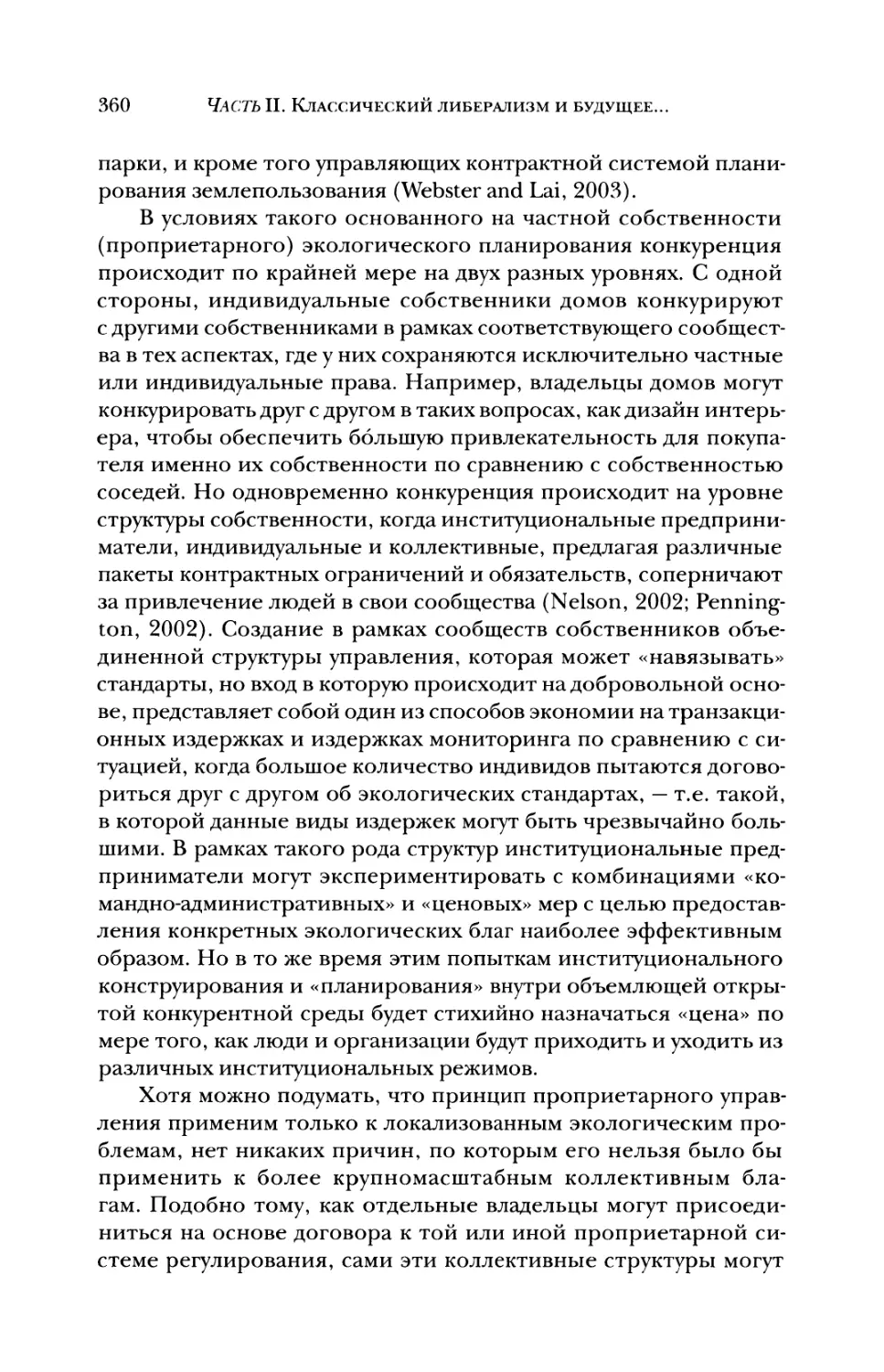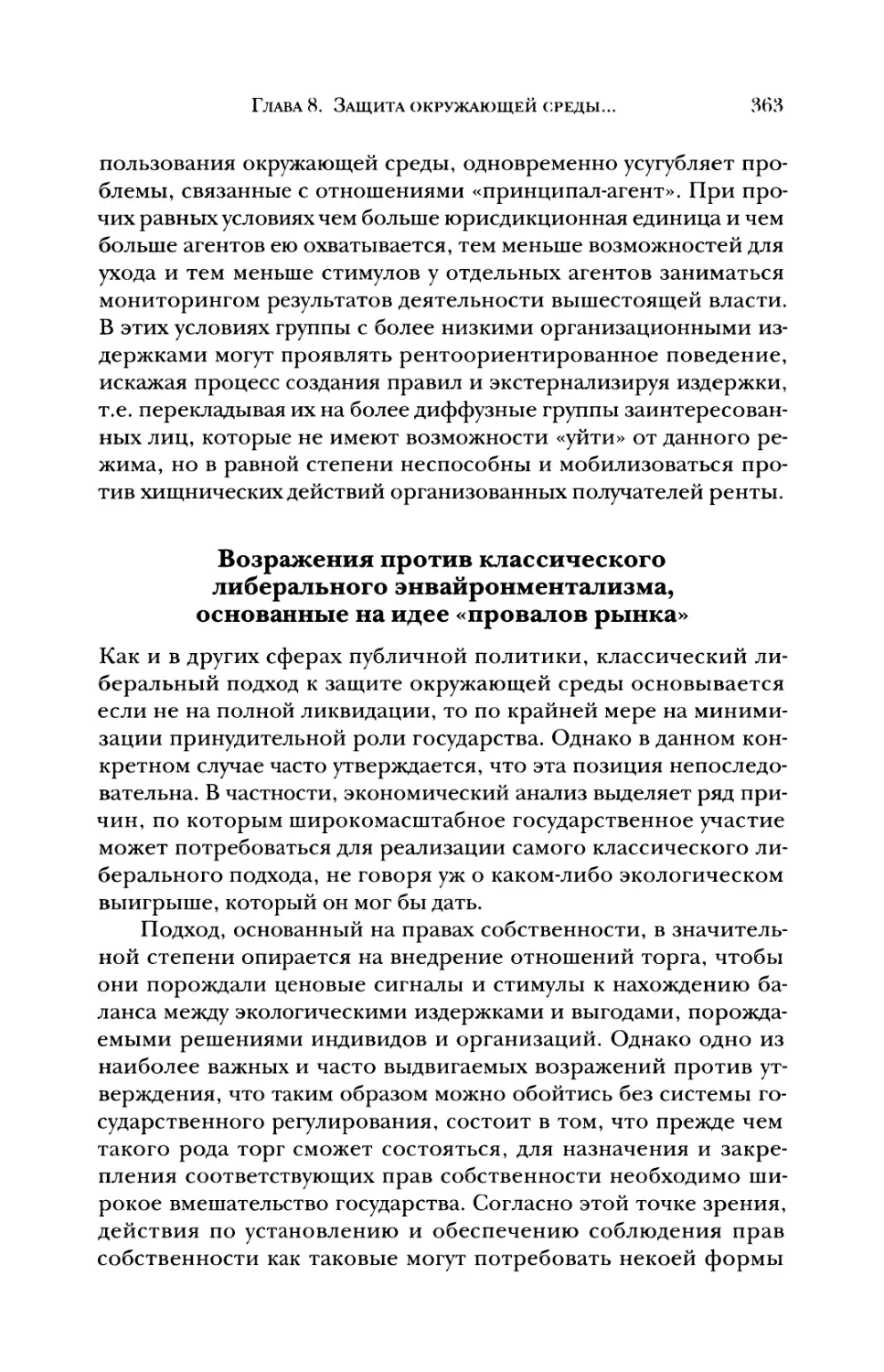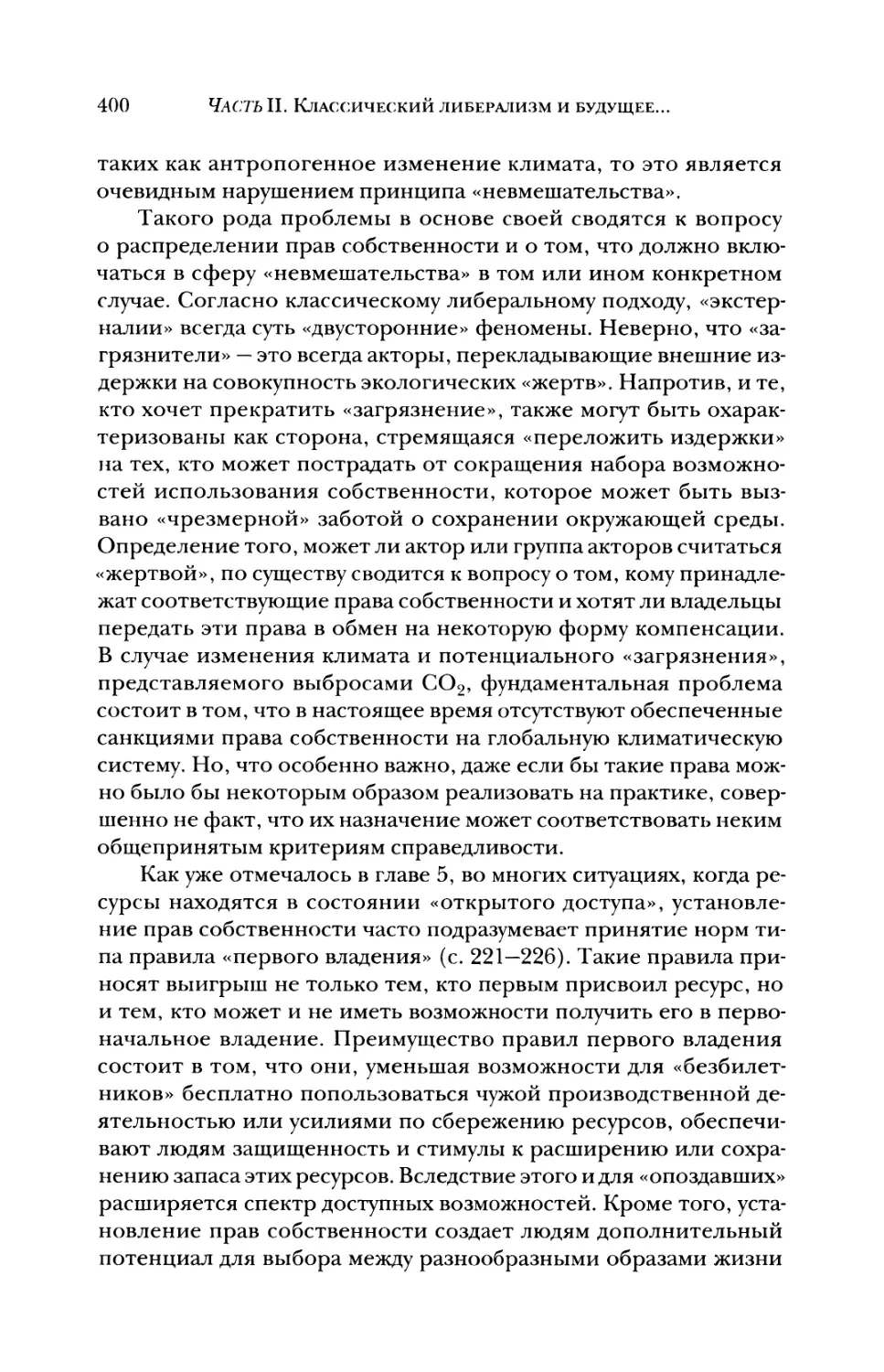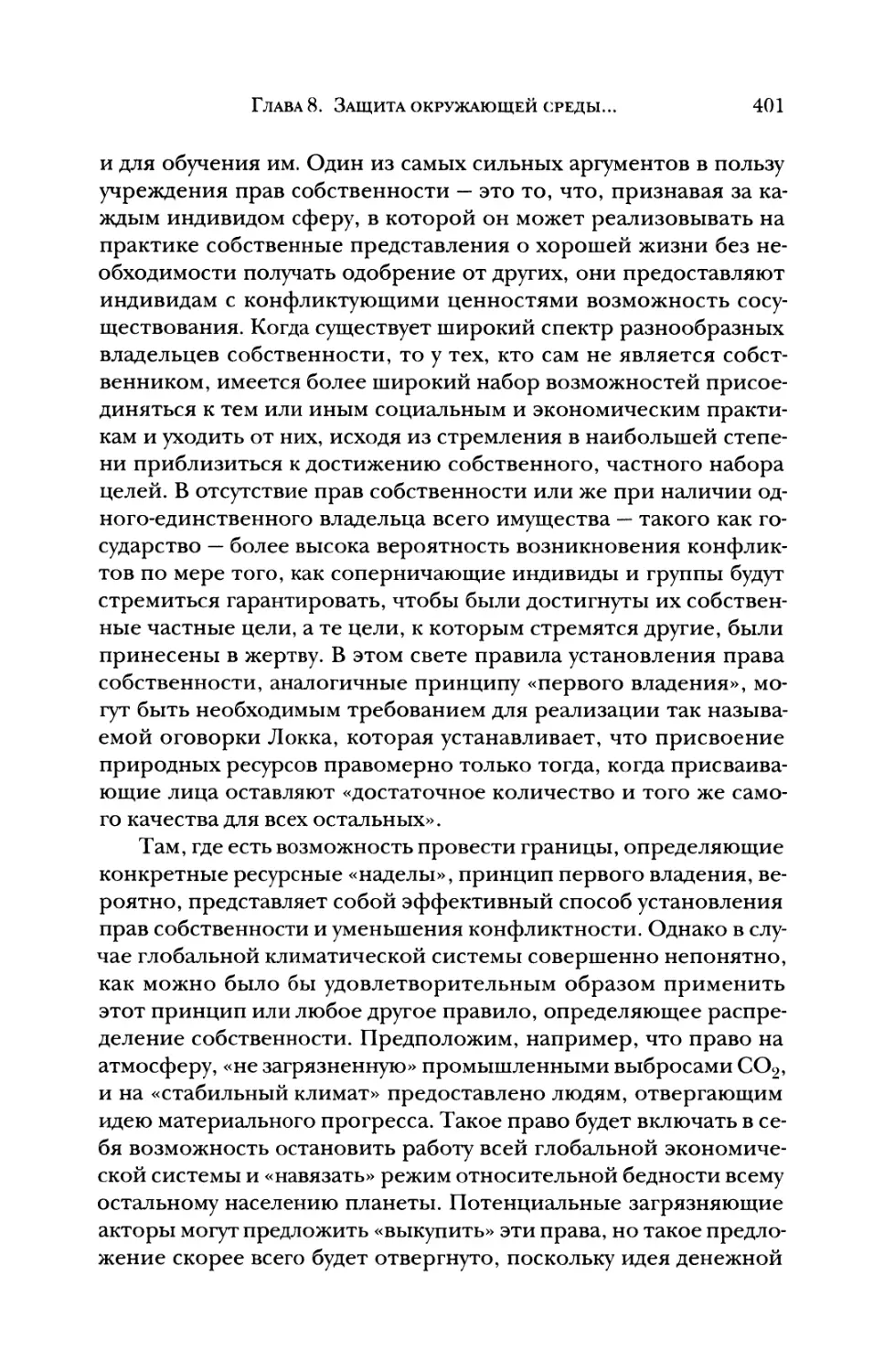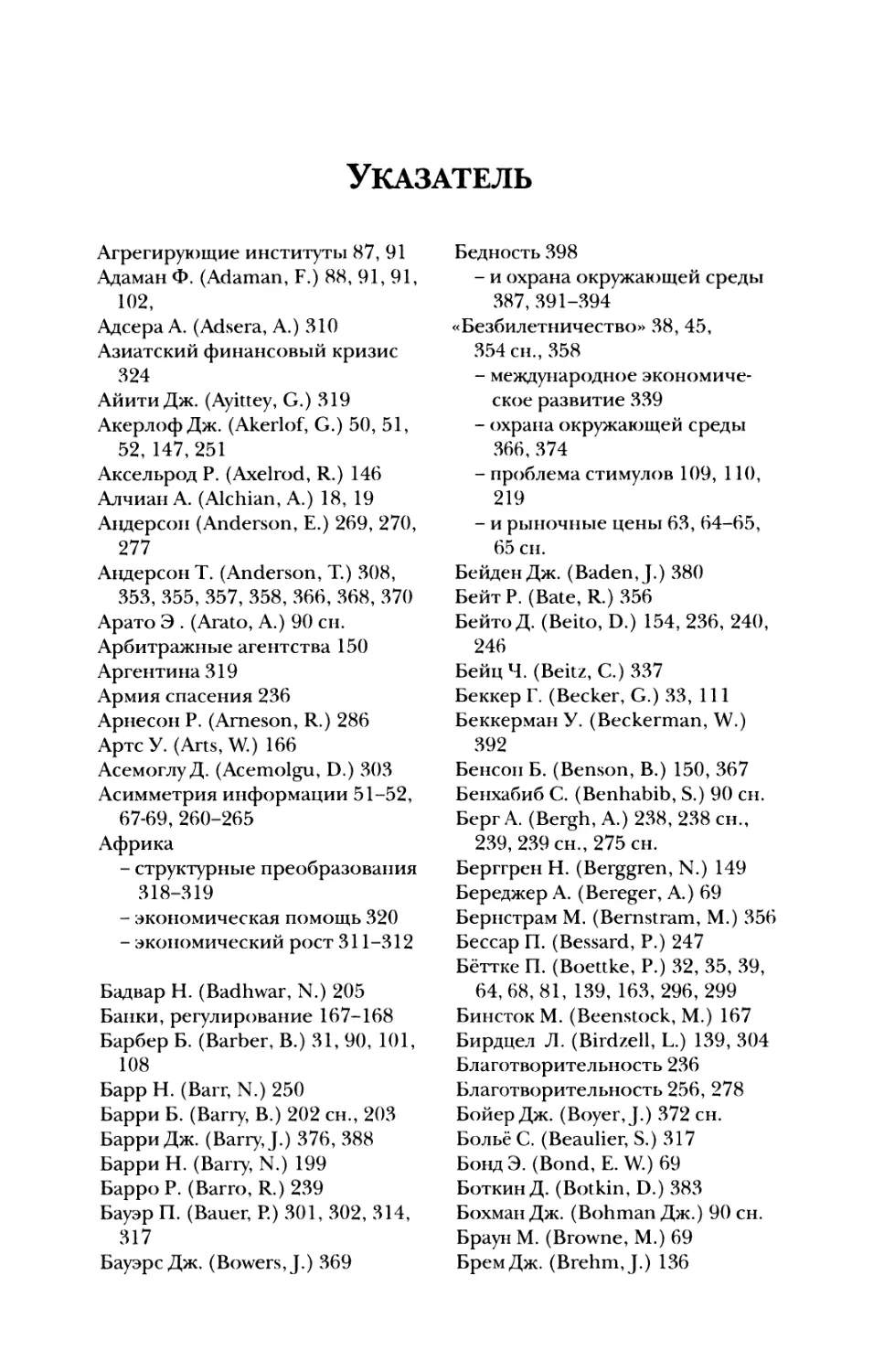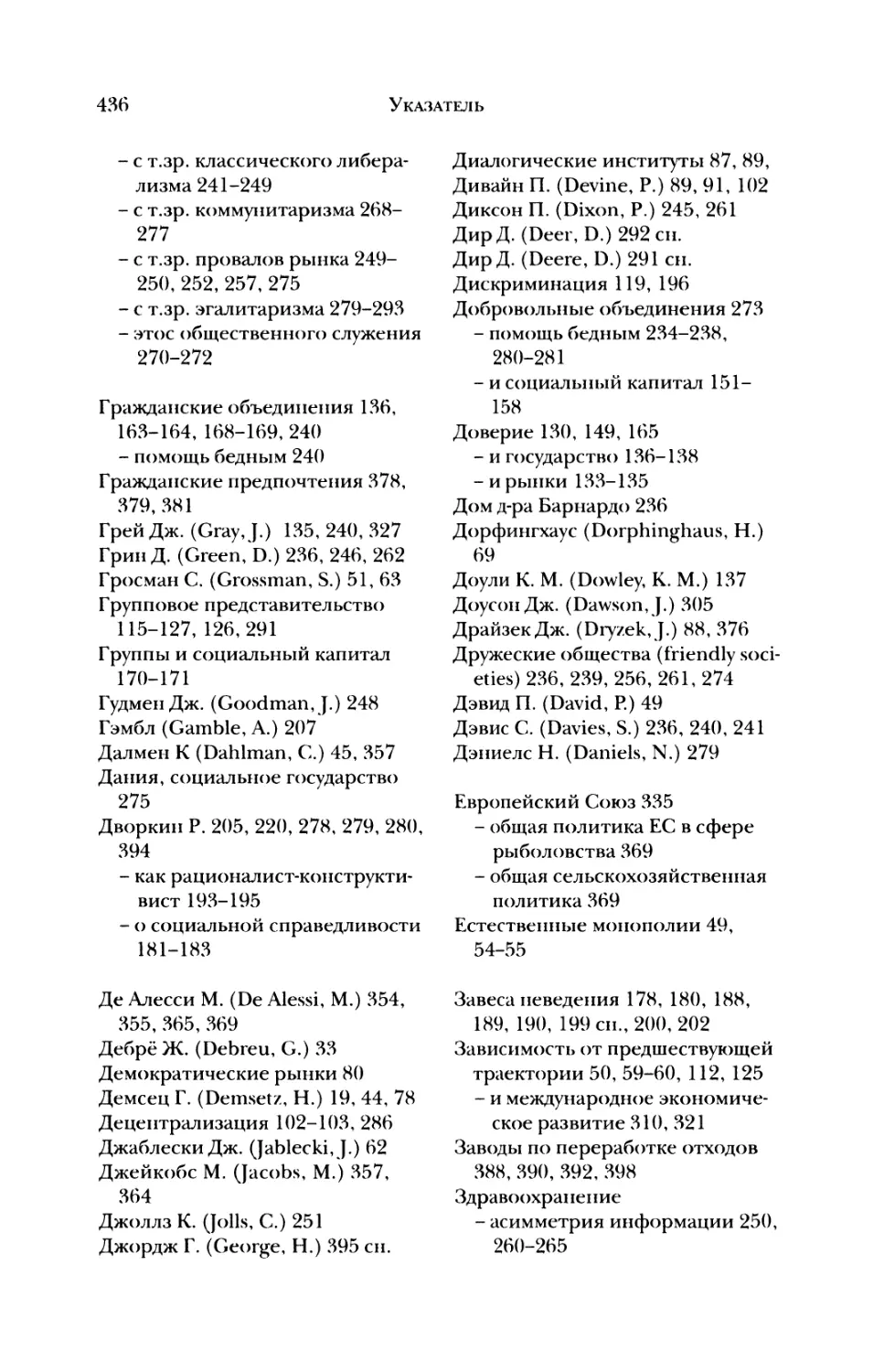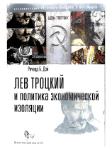Author: Пеннингтон М.
Tags: история экономической мысли экономические теории, учения и школы история мировой экономической мысли мировая экономика либерализм
ISBN: 978-5-244-01172-2
Year: 2014
Similar
Text
ФОНД ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ
Mark PENNINGTON
ROBUST
POLITICAL
ECONOMY
Classical Liberalism
and the Future of Public Policy
EDWARD ELGAR
Cheltenham, UK • Northammpton, MA, USA
Марк ПЕННИНГТОН
КЛАССИЧЕСКИЙ
ЛИБЕРАЛИЗМ
и будущее
социально-экономической
политики
•МЫСЛЬ-
Москва
УДК 330.831.8
ББК 65.02(0)6-2
П25
ФОНД ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ
Перевод с английского Юрия Кузнецова
Пеннингтон, Марк
П25 Классический либерализм и будущее социально-экономической
политики / М. Пеннингтон ; пер. с англ. Ю. Кузнецова. — Москва :
Мысль, 2014.452 с.
ISBN 978-5-244-01172-2
Автор предлагает всеобъемлющую защиту принципов классическо-
го либерализма. При этом он связывает экономические аргументы, ко-
торые обычно выдвигаются в пользу социально-экономической поли-
тики классического либерализма, ограниченного правительства и от-
крытых рынков, с моральными и этическими аргументами, которые
также имеют отношение к институциональным аргументам. Эту связь
обеспечивает понятие «робастная политическая экономия» — нам нуж-
ны робастные (устойчивые) политические институты, способные вы-
держивать давление и напряжения, создаваемые слабыми сторонами
человеческой природы. В книге рассматривается две из них: проблема
ограниченной рациональности (люди не всеведущи и им приходится
действовать в ус-ловиях неопределенности) и проблема стимулов (в не-
которых ситуациях люди склонны действовать оппортунистически, так
что требуются институты, дисциплинирующие потенциально оппорту-
нистического агента).
Первая часть книги представляет собой прямую полемику с пред-
ставителями конкурирующих социальных философий: сторонниками
государственного вмешательства, черпающими свои аргументы в лож-
ных «провалах рынка», сторонниками двух разновидностей коммуни-
тарима и эгалитаристами, отстаивающими специфически понимаемое
равенство и социальную справедливость.
Во второй части автор систематически применяет принципы,
сформулированные в первой части, к проблемам социального обеспе-
чения, формированию наднациональных бюрократических надстроек,
защите окружающей среды и др. вопросам.
УДК 330.831.8
ББК 65.02(0)6-2
ISBN 978-1-84980-765-4 (англ.) © Mark Pennington 2011
ISBN 978-5-244-01172-2 (рус.) © Мысль, 2014
Содержание
Глава 1. Введение: классический либерализм
и робастная политическая экономия 11
Введение 11
Сравнительный институциональный анализ
и робастная политическая экономия 13
Классический либерализм и робастная
политическая экономия 15
Вызовы классическому либерализму
и структура книги 22
Чаешь I. Вызовы, с которыми сталкивается
классический либерализм 22
Часть II: Классический либерализм
и будущее публичной политики 26
Часть I
ВЫЗОВЫ КЛАССИЧЕСКОМУ ЛИБЕРАЛИЗМУ
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»:
вызов со стороны неоклассической
экономической теори 31
Введение 31
Равновесие, эффективность и робастная
политическая экономия 32
Классический либерализм против «старой» теории
провалов рынка: наследие спора
об экономическом расчете при социализме 36
«Старая» теория провалов рынка и спор
об экономическом расчете при социализме . 36
«Проблема знания»: Хайек и доводы в пользу рынков,
основанных на частной собственности 38
«Проблема стимулов»: теория общественного выбора
и провалы государства 44
«Новая теория провалов рынка:
вызов экономической теории информации 47
Экономическая теория Стиглица и «новая»
теория провалов рынка 48
Классический либерализм против «новой»
экономической теории провалов рынка 53
6 Содержание
Непонимание конкуренции 54
«Привязка», зависимость от прошлой траектории
и макроэкономические провалы 58
Непонимание роли цен 63
Рынки, предпринимательское регулирование
и асимметричная информация 67
Искаженное изложение Коуза и игнорирование
теории общественного выбора 69
Эволюция, сравнительный анализ институтов
и экономические доводы в пользу
классического либерализма 72
Классический либерализм против ошибки Панглосса 72
Политический процесс и ошибка Панглосса 78
Заключение 82
Глава 3. Уход, высказывание и коммуникативная
рациональность: вызов коммунитаризма 1 83
Введение 83
Коммунитаристская политическая теория
и совещательная демократия 84
Классический либерализм, стихийный порядок
и коммуникативная рациональность 92
Индивидуализм: истинный и ложный 93
Общность, сложность и стихийный порядок 95
Эндогенные предпочтения и общественный выбор 98
Уход и высказывание как альтернативы:
проблема знания 100
Совещательность и «синоптическая иллюзия» 101
Проблема неявного знания 104
Уход и высказывание как альтернативы:
информационная прозрачность
и проблема стимулов 107
Проблема рационального незнания 107
Проблема рациональной иррациональности 110
Уход и высказывание как альтернативы:
моральный аргумент 113
Логистика и равное уважение 113
Представительство самого себя против
представительства групп 115
Переговоры и коммуникация 121
Равенство, неравенство и коммуникация 123
Заключение 127
Содержание 7
Глава 4. Уход, высказывание и коммуникативная
рациональность: вызов коммунитаризма II 129
Введение 129
Доверие, социальный капитал
и коммунитаристская политика 130
Исторический «миф» о «свободном рынке» 131
Доверие, социальный капитал
и критика либеральных рынков 133
Доверие, социальный капитал и доводы
в пользу расширения полномочий государства 136
Классический либерализм
и социальный капитал 138
Стихийное происхождение рынков 138
Классический либерализм и важность
связывающего социального капитала 141
Классический либерализм и стихийное порождение
связывающего социального капитала 146
Классический либерализм и соотношение между
«обязывающим» и «связывающим»
социальным капиталом 151
Семьи, добровольные объединения и соотношение между
обязывающим и связывающим социальным капиталом ... 151
Фирмы и соотношение между обязывающим
и связывающим социальным капиталом 155
Культура, этничность и соотношение между
обязывающим и связывающим социальным капиталом ... 157
Робастная политическая экономия
и эволюция социального капитала 159
Провалы государства и социальный капитал:
проблема знания 160
Провалы государства и социальный капитал:
проблема стимулов 165
Заключение 172
Глава 5. Равенство и социальная справедливость:
вызов эгалитаризма 175
Введение 175
Эгалитаристская политическая теория, социальная
справедливость и равное уважение 176
Ролз о социальной справедливости 176
Дворкин о социальной справедливости 181
Янг о социальной справедливости 183
8 Содержание
Проблема знания и социальная справедливость I:
эгалитаризм как конструктивистский
рационализм 188
Ролз как рационалист-конструктивист 188
Дворкин как рационалист-конструктивист 193
Янг как рационалист-конструктивист 196
Справедливость, беспристрастность и проблема знания 198
Проблема знания и социальная справедливость И:
компромиссы между ценностями
и мираж социальной справедливости 204
Недоопределенность эгалитаристской справедливости 204
Справедливость, ответственность
и стихийный порядок 209
Угнетение и эгалитаристская справедливость 214
Проблема стимулов
и социальная справедливость 216
Стимулы и обособленность личностей 216
Стимулы и собственность 221
Заключение 228
Часть II
КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ
И БУДУЩЕЕ ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги:
социальное государство
или минимальное государство? 223
Введение 233
Помощь бедным и публичные услуги: классическая
либеральная точка зрения 234
Классический либерализм и помощь бедным 234
Фактические данные о помощи бедным 238
Классический либерализм об образовании
и здравоохранении 241
Фактические данные об образовании
и здравоохранении 244
Возражения, основанные на идее
«провалов рынка» 249
Является ли помощь бедным коллективным благом? 252
Публичные услуги и положительные внешние эффекты 256
Информационная асимметрия
и социальное государство 260
Когнитивные искажения и социальное государство 265
Коммунитаристские возражения 268
Содержание 9
Классический либерализм
и «этос общественного служения» 270
Классический либерализм и реципрокность 272
Общины, компромиссы между ценностями
и социальное государство 275
Эгалитаристские возражения 277
Равенство, компромиссы между ценностями
и социальное государство 281
Конкуренция, стихийный порядок
и эгалитарная справедливость 284
Угнетение и социальное государство 289
Заключение 293
Глава 7. Институты и международное развитие:
глобальное управление
или минимальное государство? 295
Введение 295
Робастная политическая экономия, институты
и развитие: классический либеральный подход .... 296
Почему институты имеют значение 296
Институты и предпринимательство 297
Институты и неопределенность 299
Конкуренция: внутренняя и международная 301
Фактические данные об институтах и развитии 302
Экономическое развитие
и путь к классическому либерализму 306
Возражения против классического либерализма
на международном уровне, основанные
на идее «провалов рынка» 309
Эффект «привязки» и развитие 313
Может ли опыт структурных преобразований
служить опровержением классического либерализма ? 317
Противоречит ли восточноазиатская модель
классическому либерализму? 322
Коммунитаристские возражения
против классического либерализма
на международном уровне 327
Ведет ли классический либерализм
к культурной однородности ? 329
Торговля, коммуникативная рациональность
и социальный капитал 331
Против глобальной совещательности 333
Эгалитаристские возражения против классического
либерализма на международном уровне 335
10 Содержание
Существует ли глобальная система распределения ? 338
Против глобализации социальной справедливости 345
Заключение 346
Глава 8. Защита окружающей среды: зеленый
левиафан или минимальное государство? 347
Введение 347
Классический либерализм, права собственности
и защита окружающей среды 348
Аргументация, основанная на «провалахрынка» 348
Провалы рынка или провалы государства ? 351
Доводы в пользу частной собственности 354
Подход к решению более трудных проблем:
права собственности и институциональное
предпринимательство 356
Возражения против классического
либерального энвайронментализма,
основанные на идее «провалов рынка» 363
Требуется ли государство для существования
прав собственности на окружающую среду ? 365
Ведет ли сотрудничество в защите окружающей среды
к появлению монопольной власти? 370
Дилемма климатических изменений 371
Коммунитаристские возражения против
классического либерального
энвайронментализма 375
Права собственности, экологические рынки
и общее благо 378
Права собственности и эволюция
экологических предпочтений 381
Права собственности и экологическая этика 385
Эгалитаристские возражения против классического
либерального энвайронментализма 387
Взаимосвязь между бедностью, неравенством
и защитой окружающей среды 391
Мираж экологической справедливости 394
Права собственности, власть
и мираж климатической справедливости 399
Заключение 403
Глава 9. Заключение 347
Выражение признательности 411
Библиография 412
Указатель 434
Глава 1
Введение: классический либерализм
и робастная политическая экономия
Введение
Современные споры в сфере политической экономии были
сформированы реакцией на «неолиберализм». Начиная с ре-
формы социального государства и заканчивая дискуссиями о ме-
ждународной торговле и окружающей среде, многочисленные
комментаторы обсуждают явно растущее влияние веры в «сво-
бодные рынки» и минимальное государство. Такого рода коммен-
тарии создают впечатление, что после краха социалистического
проекта в Восточной Европе и в других местах существовавшее
в политическом ландшафте противодействие неолиберализму,
или классическому либерализму, как его в действительности сле-
довало бы называть, было маргинализировано.
Однако беглый взгляд на траекторию публичной политики
обнаруживает совсем другую картину. В то время как наблюдае-
мое в последние годы движение «приватизации», возможно, за-
медлило наступление послевоенной социал-демократии, многие
сферы политики продемонстрировали заметное сопротивление
либерализации или стали свидетелями дальнейшего расширения
роли государства. Например, финансирование и предоставление
услуг здравоохранения и образования в большинстве либераль-
ных демократий остаются заповедником, в котором преоблада-
ет государство, причем даже незначительные попытки допуска
в эти сферы рыночных сил приводят лишь к небольшому продви-
жению вперед. В сфере международной торговли давно существу-
ющая приверженность к сельскохозяйственному протекциониз-
му и широко распространенная поддержка международной фи-
нансовой помощи в качестве ключа к обеспечению процветания
развивающихся экономик подтверждает неизменную привязан-
ность к интервенционистским принципам. Политика в области
экологии и окружающей среды с ее массированным наращивани-
ем регуляторных инициатив продемонстрировала еще большее
сопротивление классическим либеральным идеям. И, как буд-
то всего этого было недостаточно, беспрецедентные масштабы
12 МаркПеннингтон. Классический либерализм...
правительственной активности, которая последовала за «финан-
совым кризисом» 2008 г., вряд ли говорят о том, что хватка «ры-
ночного фундаментализма» была особенно крепкой и надежной.
Быстрота, с которой правительства в ответ на недавний фи-
нансовый кризис поспешили расширить свои властные пол-
номочия, отражает долговременную тенденцию в сфере идей
и мнений, результаты которой вовсе не укрепляли классические
либеральные идеи, но, наоборот, активно стремились их подо-
рвать. Например, доминирующая в экономической теории нео-
классическая традиция выдвигает все более и более изощренные
обоснования для широкого государственного вмешательства, от
регулирования производства товаров до экологических налогов.
Тем временем политические теоретики подвергают сомнению
философские и моральные предпосылки классического либера-
лизма, утверждая, что многие из них базируются на грубой фор-
ме индивидуализма, которая подрывает нормы солидарности
и дистрибутивной (распределительной) справедливости. Таким
образом, если в современных общественных науках и есть не-
кая доминирующая позиция, то она характеризуется явной или
скрытой враждебностью к классическому либерализму и поддер-
жкой «социальной демократии» в национальном и международ-
ном масштабе.
Ввиду такого развития событий эта книга стремится опро-
вергнуть многие из аргументов, выдвигаемых в современной
политической экономии против классического либерализма,
и вновь заявить о приверженности к продвижению «в направле-
нии минимального государства». Цель книги состоит не в том,
чтобы внести «новый» вклад в политическую экономию per se,
а в том, чтобы синтезировать существующие аргументы в рамках
особой аналитической концепции — «робастной* политической
экономии», — которая демонстрирует неизменную релевант-
* «Робастность» (от англ. robust — здоровый, крепкий, сильный) — термин,
заимствованный из математической статистики и теории управления. В ста-
тистике робастными оценками называют оценки, нечувствительные или ма-
лочувствительные к неоднородностям в наблюдениях, вызываемых различ-
ными, зачастую неизвестными причинами (такими как ошибки измеритель-
ных приборов, ошибки при передаче информации об измерениях, попытки
«подгонки» данных, статистические выбросы и др.). В теории управления
под робастностыо (или «грубостью») системы управления подразумевается
ее малая чувствительность к изменению параметров. И в том и в другом слу-
чае робастность представляет собой определенную разновидность концеп-
ции устойчивости системы или метода. — Прим. ред.
Глава 1. Введение: классический либерализм... 13
ность классических либеральных принципов и их применимость
к ряду самых насущных и неотложных проблем сегодняшнего дня.
Для решения этой задачи данная книга привлекает обширную ли-
тературу по экономической и политической теории, фокусиру-
ясь в первую очередь на рассуждениях в рамках «сравнительного
анализа институтов». Эта вводная глава начинается с изложения
принципов институциональной «робастности», на которых бази-
руется компаративный институциональный анализ. Затем в ней
представлены аргументы в пользу классического либерализма
как учения, удовлетворяющего требованиям «робастной полити-
ческой экономии». В заключительном разделе дается эскизный
набросок тех основных вызовов, стоящих перед робастностью
классического либерализма, которые подробно рассматривают-
ся в последующих главах.
Сравнительный институциональный анализ
и робастная политическая экономия
Политическая экономия занимается в первую очередь сравне-
нием результатов функционирования социальных и экономиче-
ских институтов. Человеческая деятельность всегда происходит
в конкретной институциональной обстановке, и условия, с ко-
торыми люди сталкиваются в рамках тех или иных институтов,
воздействуют на характер их поведения и на получающиеся со-
циальные результаты. В этом контексте «робастная» совокуп-
ность институтов может быть определена как такая, которая по-
рождает благотворные результаты даже при наименее благопри-
ятных условиях (Leeson и Subrick, 2006). Такие условия могут
возникнуть как следствие человеческого несовершенства. Если
люди «совершенны» или, по меньшей мере, «совершенствуемы»,
то вопросы сравнительного институционального анализа могут
и не возникнуть — мы могли бы ожидать благотворного результа-
та независимо от институциональных рамок. Но если люди в тех
или иных аспектах «несовершенны», то вопросы институцио-
нальной робастности становятся центральными. Определенные
институты могут быть лучше, чем другие, приспособлены к тому,
чтобы противостоять нагрузкам и напряженностям, порождае-
мым соответствующими человеческими слабостями.
В контексте институционального анализа существует два
вида человеческих несовершенств, которые следует прини-
мать во внимание, рассматривая робастность альтернативных
14 Марк Пеннингтон. Классический либерализм...
режимов. Первый из них — это «проблема знания». Человече-
ские особи ограничены в своих когнитивных возможностях, и,
как следствие, даже наиболее умные и дальновидные люди ха-
рактеризуются относительной неосведомленностью по поводу
того общества, в котором они пребывают (Hayek, 1948a; Simon,
1957). Учитывая несовершенство человеческого знания, послед-
ствия всякого конкретного действия либо для связанных с ним
действующих лиц (акторов), либо для более широкого общества
будут в любой данный момент времени оставаться неопределен-
ными. Следовательно, робастные институты должны позволять
людям адаптироваться к обстоятельствам и условиям, о которых
они непосредственно не осведомлены, и давать им возможность
в условиях «ограниченной рациональности» с течением времени
учиться на ошибках и улучшать качество своих решений.
Второй вид человеческого несовершенства, который необ-
ходимо принимать в расчет, — это возможность того, что люди
могут действовать, будучи мотивированы личным интересом
(Ostrom, 2006). Акторы могут действовать, преследуя свои соб-
ственные, вполне конкретные цели — материальные или нема-
териальные, — а вовсе не на основе каких-то представлений об
«общем благе» или «публичных интересах». Люди могут не испы-
тывать желания вносить вклад в обеспечение интересов их со-
братьев, если они не в состоянии извлечь некоторую личную вы-
году от подобных действий. Стимулы могут иметь значение и, как
следствие, институты надлежит оценивать по их способности ка-
нализировать потенциально эгоистические побуждения таким
способом и в таком направлении, чтобы это порождало благот-
ворные результаты на уровне общества. Действия в рамках эгои-
стического поведения и личной заинтересованности могут при
определенных институциональных условиях привести к полно-
му социальному и экономическому распаду, но если институты
структурированы надлежащим образом, то даже те, кто руковод-
ствуется самыми своекорыстными и узкоэгоистическими моти-
вами, могут действовать способами, приносящими пользу тому
обществу, частью которого они являются.
Имея в виду отмеченные выше человеческие несовершен-
ства, робастная политическая экономия институтов и решений
ищет ответы на следующие три вопроса:
• Какие институты показывают наилучшие результаты, ког-
да люди не являются всеведущими?
Глава 1. Введение: классический либерализм... 15
• Какие институты показывают наилучшие результаты, ког-
да люди мотивированы собственными эгоистическими
интересами?
• Какие институты показывают наилучшие результаты, когда
люди располагают ограниченными знаниями и одновремен-
но склонны к своекорыстному, эгоистичному поведению?
Классический либерализм и робастная
политическая экономия
Ответ классического либерализма на поставленные выше вопро-
сы состоит в том, что институты частной или совместной (груп-
повой) собственности, рыночная экономика и ограниченное го-
сударство, роль которого сводится к разрешению споров между
частными сторонами, лучше всего способны удовлетворить тре-
бованиям робастного режима.
Истоки классического либерализма, как он понимается
в этой книге, лежат в шотландском Просвещении, представлен-
ном Адамом Смитом и Давидом Юмом, а в более поздние вре-
мена нашедшем отражение в трудах Фридриха Хайека (Friedrich
Hayek), Майкла Оукшотта (Michael Oakeshott) и Джеймса Бью-
кенена (James Buchanan). Фундаментальный организационный
принцип классического либерализма — свобода объединения
и отделения, свобода создавать объединения и распускать их
[freedom of association and dissociation]. Люди, согласно этой точ-
ке зрения, должны располагать свободой входить в самые разно-
образные человеческие системы отношений и выходить из них.
Нет необходимости исключать из числа этих объединений авто-
ритарные или коммунитарные организации, которые внутри се-
бя придерживаются «нелиберальных» норм, но социальные ак-
торы должны иметь возможность покинуть любую группу, к ко-
торой они присоединились добровольно или в которую были
«включены от рождения» на недобровольной основе. Следова-
тельно, классическое либеральное общество — это такое обще-
ство, где есть разнообразные юрисдикции и властные институ-
ты, ни один из которых не обладает тотальной, иерархической
формой власти над другими (Kukathas, 2003; Кукатас, 2011). Важ-
ное предварительное условие такого порядка состоит в том, что
владение собственностью широко, хотя и не обязательно равно-
мерно, рассредоточено внутри совокупности индивидов и добро-
вольных ассоциаций.
16 Марк Пеннинггон. Классический либерализм...
Частное или групповое владение собственностью признает-
ся сторонниками классического либерализма в качестве modus
vivendi*, необходимого для того, чтобы справиться с реально-
стью разнообразия человеческих ценностей. В условиях ограни-
ченной рациональности способность вступать в различные сис-
темы человеческих взаимоотношений и покидать их облегчает
обучение методом проб и ошибок, поскольку люди могут наблю-
дать результаты, которые проистекают из разных способов орга-
низации жизни. Кроме того, пространство, которое частная соб-
ственность предоставляет людям для экспериментирования с их
собственными предпочитаемыми целями и намерениями, ми-
нимизирует конфликты в тех условиях, где люди демонстриру-
ют различные представления о хорошей жизни. Когда владение
собственностью рассредоточено, то существует больший диапа-
зон возможностей для того, чтобы вступать в добровольные со-
глашения и контракты ради достижения собственных целей, не
мешая другим акторам искать себе других партнеров для дости-
жения своих целей. Напротив, когда владение собственностью
сконцентрировано в единственном центре, те, кто контролиру-
ет соответствующее учреждение, обладают способностью навя-
зывать свои частные цели другим лицам. Учитывая ограничен-
ную природу человеческой рациональности и возможности эго-
истического поведения, преследующего собственные интересы,
такие системы с классической либеральной точки зрения ско-
рее всего будут способствовать конфликтам, поскольку отдель-
ные индивиды и группы могут стремиться к получению контроля
над аппаратом управления, чтобы реализовать свои собственные
конкретные замыслы.
Классический либерализм делает акцент на свободе объеди-
нения и соблюдении прав частной или групповой собственно-
сти еще и потому, что последние позволяют формироваться то-
му, что Хайек именует «стихийными порядками» (Hayek, 1982,
часть 1). «Порядки» такого рода демонстрируют паттерны ко-
ординации, но регулярности, о которых идет речь, не являют-
ся продуктом сознательного замысла неких агентов, преследу-
ющих единую цель. Наоборот, они представляют собой «эмерд-
жентные» феномены, которые возникают в результате действий
целой совокупности разнообразных рассредоточенных агентов,
* Временное соглашение между конфликтующими сторонами (лат.). —
Прим. ред.
Глава 1. Введение: классический либерализм... 17
каждый из которых преследует свои собственные, обособленные
цели. Для классического либерализма такие порядки обладают
трояким преимуществом и воплощаются в рыночной экономи-
ке, основанной на рассредоточенном, хотя и неравном владении
собственностью.
Во-первых, стихийные порядки лучше подходят для того, что-
бы справляться с условиями несовершенного знания и ограни-
ченной рациональности, поскольку они опираются на знание,
находящееся в составляющих эти порядки разнородных узлах,
и адаптируются к этому знанию. Например, на рынках рассредо-
точенные индивиды и организации делают свои ценовые пред-
ложения в отношении тех или иных прав собственности и тем
самым вносят частичный вклад в формирование цен, которые
транслируют их частную «порцию» информации тем владельцам
ресурса, с которыми они торгуют. Последние могут затем адапти-
ровать свое поведение в свете своих собственных предпочтений
и знания, и эта адаптация может влиять на последующие транзак-
ции с какими-то другими агентами в рамках все более сложной се-
ти. Ценовые сигналы, которые появляются в результате такого
процесса, подталкивают к «экономному (экономизирующему) по-
ведению» [«economising behaviour»] и позволяют добиться такой
степени координации, которая может оказаться недостижимой
для центрального координирующего органа. В условиях ограни-
ченной рациональности и ограниченного знания такой орган не
мог бы осознавать всех релевантных возможностей для пошаго-
вого улучшения, рассеянных среди разнородной совокупности
социальных акторов (Hayek, 1948a, 1982; Хайек, 2011, 2006).
Второе преимущество стихийных порядков состоит в том,
что они допускают эволюцию путем экспериментирования. На-
пример, децентрализованный обмен правами собственности на
рынке позволяет одновременно тестировать конкурирующие
идеи в области производства и потребления. Если бы существо-
вал только один орган принятия решений или «планирования»,
то любые ошибки с большей вероятностью становились бы сис-
темными. Кроме того, в стихийном порядке адаптация происхо-
дит быстрее, чем в его централизованном или «плановом» анало-
ге, — акторы могут учиться на самых прибыльных моделях и ими-
тировать их без одобрения со стороны вышестоящих органов
власти или большинства. Для того чтобы участники рынка мо-
гли достигать системных усовершенствований, им нет необходи-
мости осознавать, как и почему их действия приносят пользу им
18 Марк Пеннингтон. Классический либерализм...
самим или их собратьям. Предпринимательские открытия могут
быть результатом чистой случайности, а вовсе не сознательного
обдумывания. Важно лишь то, что производственные модели, ко-
торые удовлетворяют потребительским запросам, приносят при-
быль, которая сигнализирует о необходимости имитировать их,
в то время как убыточные модели отвлекают внимание людей от
менее перспективных методов производства (Alchian, 1959; Ал-
чиан, 2007). В то же время потребителям нет нужды знать, по-
чему они находят некоторые продукты более удовлетворитель-
ными, чем другие. Всё, что они должны сделать, — это «уйти» от
поставщиков, которых они сочли наименее удовлетворительны-
ми, к тем, кого они находят более приемлемыми. Следовательно,
чтобы функционировать эффективно, рыночная «система» тре-
бует от любого из ее участников лишь небольших когнитивных
способностей (Friedman, 2005).
Приведенные соображения относятся к робастности стихий-
ных порядков применительно к преодолению «проблемы зна-
ния» и не делают никаких предположений о человеческих побу-
ждениях и мотивации — они, например, не исходят из посылки,
что акторы являются или же должны быть эгоистичными. Одна-
ко третье преимущество таких порядков состоит в том, что они
предоставляют механизмы защиты от злоупотребления властью
там, где люди на самом деле действуют из соображений личного
интереса. Как доказывали Давид Юм и, сравнительно недавно,
Джеймс Бьюкенен, людей следует моделировать таким образом,
«словно они мошенники», причем не потому, что большинст-
во эгоистично, а по той причине, что необходимы институцио-
нальные гарантии для ограничения своекорыстного меньшинст-
ва (Buchanan, 1986). В конкретном случае рынков возможность
«ухода» дает возможность людям избегать акторов, которые пред-
лагают худшие условия сотрудничества. Хотя распределение бо-
гатства в рыночной экономике неравномерно, это неравенство
носит динамический характер, поскольку ресурсы постоянно пе-
ремещаются, уходя от тех, кто не в состоянии использовать свою
собственность способом, имеющим наибольшую ценность. Сис-
тема прав частной собственности обеспечивает стимулы, кото-
рые могут побудить даже наименее склонных к сотрудничеству
или эгоцентричных агентов действовать приемлемым для обще-
ства образом. Там, где права собственности хорошо определены,
издержки, порождаемые тем или иным решением, эффективно
интернализируются — акторы получают прибыль от решений,
Глава 1. Введение: классический либерализм... 19
которые выгодны их собратьям, но вынуждены нести издержки,
вызванные теми решениями, которые тем невыгодны (Alchian
and Demsetz, 1973; Алчиан, Демсец, 2009).
Эти принципы институциональной робастности применимы
не только в контексте принятия «экономических» решений, но
также и применительно к вопросам распределительной справед-
ливости. С классической либеральной точки зрения те институ-
ты, которые дают акторам возможность навязать обществу еди-
ную концепцию распределения, несовместимы с процессом эво-
люционного обучения и с принципом свободы объединения.
В условиях ограниченной рациональности могут иметь место су-
щественные разногласия по поводу того, что собой представля-
ет «честное» распределение дохода и богатства. Результаты клас-
сического либерального порядка не могут рассматриваться как
«справедливые» или «несправедливые», так как они не базируют-
ся на подчинении единой системе распоряжений, а следуют из
действий людей, объединившихся на основе множества различ-
ных дистрибутивных норм (Hayek, 1982; Хайек, 2006). Поэтому
определяющей характеристикой «либеральной» системы спра-
ведливости должна быть «независимость от целей» — система не
должна пытаться определить справедливость результатов, ко-
торые получились вследствие свободы объединения, но должна
стремиться к разрешению споров, когда нет ясности в том, ко-
му именно принадлежат права собственности, а также в том, бы-
ли они нарушены или нет. С этой точки зрения все акторы — да-
же если между ними нет согласия по поводу распределительной
справедливости — заинтересованы в сохранении тех рамок, кото-
рые гарантирует стабильность прав владения, потому что имен-
но эта стабильность позволяет людям жить своей жизнью, не
вступая в постоянный конфликт со своими собратьями (Otteson,
2006). С классической либеральной точки зрения никакая цент-
ральная власть не может получить доступ к знанию, необходимо-
му для оценки всех факторов, которые вносят свой вклад в кон-
кретное распределение, и с учетом возможности эгоистического
поведения в собственных интересах никакой такой власти нельзя
доверять определение «справедливости по заслугам» для других.
Если робастные институты — это такие институты, которые
лучше всего справляются с человеческими несовершенствами, то
таким же должен быть и процесс институционального конструи-
рования. В мире несовершенных знаний и ограниченной добро-
желательности люди, изобретая институциональные структуры,
20 Марк Пеннингтон. Классический либерализм...
могут совершать ошибки. Поэтому робастная политическая эко-
номия должна допускать эволюционное обучение и обеспечивать
сдержки и противовесы на метаинституциональном уровне. Таким
образом, в то время как классический либерализм — это теория,
претендующая на универсальную применимость при объяснении
институциональных типов, наиболее пригодных для облегчения
социальной координации, он не предлагает проекта достижения
какой-либо конкретной институциональной формы. Процессы
эволюционного обучения, которые имеют место внутри рынков,
должны действовать на многих уровнях таким образом, чтобы лю-
ди могли покидать конкурирующие и зачастую взаимно пересека-
ющиеся институциональные проекты или присоединяться к ним
(Buchanan and Vanberg, 2002). Следовательно, хотя государство
представляет собой особенно мощную организацию, оно должно
быть лишь одной из многих других подобных организаций, сила
которых ограничена самим существованием конкурентов.
Важно установить в этом контексте, что на самом деле вытека-
ет из приверженности к «минимальному государству». Самый су-
щественный момент, который нужно подчеркнуть, состоит в сле-
дующем: классический либерализм признаёт, что государства мо-
гут играть важную роль внутри либерального общества. И подобно
тому, как на рынках иерархические организации вроде фирм мо-
гут обладать преимуществами в эффективности перед менее круп-
ными и более индивидуализированными единицами производства
и потребления, точно так же государства или «государствоподоб-
ные» институты могут располагать сравнительными преимущест-
вами, когда дело доходит до обеспечения действенности правил,
необходимых для поддержания либерального порядка, например,
таких, как защита личности и собственности. Однако границы
между теми случаями, где требуется действие со стороны государ-
ствоподобных образований, не должны устанавливаться незыбле-
мыми как камень, но, как и в случае границ фирм, должны иметь
возможность сдвигаться в ответ на такие технологические и ин-
ституциональные новшества, которые увеличивают относитель-
ную эффективность альтернативных подходов. Поэтому идеал
минимального государства в определенной мере текуч и не пред-
ставляет собой некой точки равновесия, к которой должны быть
устремлены все усилия по реформированию институтов.
Для классических либералов сомнению должно быть подверг-
нуто вовсе не существование государствоподобных образований,
а те процессы, посредством которых возможно возникновение
Глава 1. Введение: классический либерализм... 21
таких институтов. Правила, которые управляют функциониро-
ванием рынков, сами могут появляться с помощью «восходяще-
го», идущего «снизу вверх» процесса в рамках стихийного поряд-
ка. Например, в состязательных видах спорта участвующие в них
команды добровольно подчиняются правилам и регламентам тех
или иных конкретных «лиг». Хотя команды конкурируют за зри-
телей и за признание в рамках таких лиг, они вместе с тем со-
трудничают в таких направлениях, которые увеличивают при-
влекательность их конкретной лиги по отношению к соперни-
кам внутри того же самого вида спорта и вдобавок по сравнению
с конкурирующими видами спорта. Конкуренция функциониру-
ет в рамках «вложенной» структуры — индивиды и организации
соперничают друг с другом, но на более высоком институцио-
нальном уровне точно так же соперничают стандарты и прави-
ла, которых решают придерживаться различные группы акторов.
Аналогично индивиды и организации могут придерживаться ин-
ституциональных правил, устанавливаемых государствами или
государствоподобными образованиями, чтобы поддерживать
и защищать разнообразные преимущества вроде большей защи-
щенности собственности, которые в противном случае могли бы
оказаться менее доступными. В то же время сами государства мо-
гут придерживаться общих норм и стандартов, обеспечение ис-
полнения которых может осуществляться наднациональными
образованиями. Учитывая пределы человеческой рационально-
сти и возможность эгоистических действий в собственных ин-
тересах, имеет значение то, возникли ли институты, о которых
идет речь, через процесс выработки согласия, а не посредством
навязанной координации, а также то, существует ли на некото-
ром уровне возможность «ухода» для инакомыслящих, желающих
придерживаться альтернативных практик.
С учетом «проблемы знания» и признания того, что «стиму-
лы имеют значение», требования робастной политической эко-
номии задают регулятивный стандарт, в сопоставлении с кото-
рым следует оценивать существующие на практике институци-
ональные методы и предложения по поводу реформ. Основные
тесты, применяемые к предложениям по поводу институциональ-
ных реформ, должны выяснять, расширяют ли они возможности
для открытий посредством процесса эволюции, и устанавливать,
в какой степени они предлагают стимулы, которые ограничива-
ют потенциально деспотические полномочия власти, осуществ-
ляющей принуждение. Многие из исторически сложившихся
22 Марк Пеннингтон. Классический либерализм...
институтов, включая государства и наднациональные организа-
ции, стали результатом скорее монополистического навязыва-
ния, чем консенсусной эволюции, и поэтому могут быть предме-
том тщательного критического рассмотрения.
Вызовы классическому либерализму
и структура книги
Намеченные выше принципы имеют своей целью соответствие
институтов и решений критериям робастной политической эко-
номии. Однако выдвинутые заявления о робастности классиче-
ского либерализма как политического проекта не могут не столк-
нуться с существенными возражениями, и цель этой книги —дать
ответ на некоторые из наиболее важных возражений по этому
поводу. Книга состоит из двух частей. В части I проверяется обо-
снованность возникших в последнее время теоретических вызо-
вов концепции минимального государства, пришедших из обла-
сти экономической и политической теории. Затем в части II эти
вопросы рассматриваются применительно к трем сферам госу-
дарственной политики, которые оказались в наименьшей степе-
ни поддающимися либерализации.
Часть I. Вызовы, с которыми сталкивается
классический либерализм
Ядром аргументации в пользу системы открытых рынков и мини-
мального государства является эффективность рынков в передаче
информации и создании стимулов к производительности. Одна-
ко робастность этой аргументации оспаривается «новой концеп-
цией провалов рынка» [«new market failure» perspective] Джозе-
фа Стиглица и его последователей (Stiglitz, 1994). Хотя, согласно
Стиглицу, рынки являются необходимой составной частью отла-
женной экономики, сравнительный институциональный анализ
приводит его к выводам в поддержку не классического либера-
лизма, а модели «смешанной экономики». С точки зрения «новой
концепции провалов рынка» рынки насквозь пронизаны про-
блемами, связанными с коллективными благами и асимметрией
информации, подавляющими процесс открытия и передачи ин-
формации, препятствующими достижению эффективного рав-
новесия. Следовательно, для того чтобы улучшить размещение
ресурсов, представляется необходимым широкое вмешательст-
Глава 1. Введение: классический либерализм... 23
во государства посредством «оптимизирующих налогов» [opti-
mality taxes] и регулирования производства отдельных видов про-
дукции [product regulation]. В последнее время этот анализ был
подкреплен подходом, основанным на зависимости от прошлой
траектории [path-dependency] или сетевых экстерналиях и разра-
ботанным Полом Дэвидом, который доказывает необходимость
дальнейшего вмешательства для корректировки «провалов рын-
ка» в большом числе сфер, для которых характерны «технологи-
ческие монополии».
В главе 2 разрабатываются центральные темы экономиче-
ской теории Хайека и вирджинской школы общественного выбо-
ра, которые применяются для доказательства того, что новая те-
ория провалов рынка не удовлетворяет требованиям робастной
политической экономии. С одной стороны, данный подход сво-
дит сравнительный институциональный анализ к вопросам стиму-
лов. Модели, сосредоточенные на стимулах к поиску информации,
про которую известно, что она в принципе доступна, игнорируют
«проблему знания», сформулированную Хайеком. С точки зрения
теории Хайека функция рынка состоит в том, чтобы привлекать
внимание людей к непредвиденным обстоятельствам и возможно-
стям — функция, которая не может анализироваться в терминах
моделей равновесия, играющих центральную роль в неоклассиче-
ской экономической теории. Кроме того, в то время как сторонни-
ки теории провалов рынка правы в своей сосредоточенности на
«совместимости стимулов», они оказываются не в состоянии при-
менить этот анализ к их излюбленным институциональным аль-
тернативам. Последовательный анализ проблем асимметрии ин-
формации показывает, что эти проблемы зачастую оказываются
еще более ярко выраженными в условиях государственного секто-
ра, нежели в режиме «несовершенных рынков».
Глава 3 обращается к критике классического либерализма вне
экономической теории. С точки зрения политических теорети-
ков коммунитаризма, таких как Чарльз Тейлор, и последователей
Юргена Хабермаса, доводы в пользу рыночной экономики бази-
руются на посылке об эгоистических интересах индивидов и на
представлении, что «стимулы имеют значение» (например, Tay-
lor, 1985; Habermas, 1992). Эти авторы утверждают, что классиче-
ский либерализм игнорирует социальный и моральный контекст,
в котором формируются индивидуальные предпочтения, и озабо-
чен в первую очередь поиском эффективных «средств», а не от-
крытием новых и более возвышенных «целей». Близкий к этому
24 Марк Пеннингтон. Классический либерализм...
набор аргументов, рассмотренный в главе 4, утверждает, что ры-
ночные процессы и принцип «ухода» подрывают тот моральный
и социальный капитал, на который они полагаются. Говорится,
что либеральная экономическая политика подрывает культурные
ресурсы, которые подчеркивают солидарность и сотрудничество.
Следовательно, в соответствии с обеими этими точками зрения,
рынки следует «держать в узде» с помощью альтернативного на-
бора институтов, организованных на основе процессов «высказы-
вания мнений» [«voice-based» processes], характерных для совеща-
тельной демократии [deliberative democracy].
Коммунитаристская политическая теория приводит ряд
основательных доводов против «гипериндивидуалистических»
и рационалистических форм исследования общества, вроде тех,
что можно обнаружить в моделях неоклассической экономиче-
ской теории. Однако цель глав 3 и 4 в том, чтобы продемонстри-
ровать, что даже если согласиться со всей коммунитаристской
критикой неоклассической экономической теории, ни один из
этих доводов не работает против аргументации в пользу класси-
ческой либеральной системы. Напротив, аргументы, на кото-
рые делал упор Хайек, означают, что рынки и другие институ-
ты, основанные на «уходе», могут быть лучше приспособлены
для того, чтобы облегчать открытие новых вкусов и ценностей,
чем демократические альтернативы, поскольку они предоставля-
ют больше места для децентрализованной эволюции. Аналогич-
но попытки подкреплять нормы, основанные на «солидарности»,
посредством применения государственной власти не только не
способствуют общественному единству, но приводят на деле к на-
растанию конфликтов. Следовательно, в обоих этих аспектах
коммунитаристские аргументы оказываются несостоятельными
по своим собственным критериям. Но вдобавок такие теории ни-
как не учитывают того, каким образом демократические структу-
ры могут решать проблемы неадекватных стимулов. Хотя оши-
бочно предполагать, что люди всегда действуют исходя из эгои-
стических интересов, столь же ошибочно исходить из того, что
демократические институты способны выходить за пределы дей-
ствия стимулов. Если судить по стандартам робастной политиче-
ской экономии, совещательная демократия на самом деле спо-
собна уменьшать для людей возможность оспаривать и ставить
под сомнение цели друг друга и может не только не создавать но-
вый социальный капитал, но, наоборот, подрывать привержен-
ность социальным нормам, облегчающим сотрудничество.
Глава 1. Введение: классический либерализм... 25
Последнее из возражений против классического либерализ-
ма, рассмотренное в части I, возникает на основе эгалитарист-
ской политической теории. Переход к более неравному распре-
делению богатства в обществах, переживающих процесс эконо-
мической либерализации, породил возврат к старым претензиям,
что ничем не ограниченные рынки не способны удовлетворить
критериям инклюзивности и социальной справедливости. Сле-
дуя Ролзу (Rawls, 1971; Ролз, 2010) и Дворкину (Dworkin, 1981),
философы, принадлежащие к либеральной эгалитаристской тра-
диции, доказывают, что неравенство в доходах не в состоянии
предоставить достаточные компенсаторные преимущества тем,
кто находится в наиболее затруднительном положении, и несов-
местимы с принципом «равного уважения» [equality of respect].
В то же время для философов, связанных с новейшими теория-
ми мультикультурализма, эти факты экономического неравенст-
ва — всего лишь один из компонентов намного более широкого
набора исключающих социальных практик (в терминах гендер-
ной, расовой и сексуальной идентичности), которые усиливают-
ся частнорыночными процессами (Young, 2000).
В главе 5 исследуется робастность эгалитаристских воз-
ражений в терминах «проблемы знания» и «проблемы стиму-
лов». Здесь доказывается, что в условиях ограниченного зна-
ния и сложных компромиссов, присущих распределительной
справедливости, принцип равного уважения не должен пытать-
ся установить тот или иной единственный набор норм примени-
тельно к распределению дохода и социального статуса. Напро-
тив, он должен поддерживать рамочную структуру, которая по-
зволяет индивидам и добровольным объединениям обучаться на
опыте применения множества разнообразных принципов рас-
пределения. Следовательно, равенство уважения должно быть
ограничено проведением в жизнь норм «невмешательства», сов-
местимых со свободой объединения и отделения. В дополнение
к этим ограничениям, основанным на знаниях, в данной главе по-
казано, что теории справедливости не должны навязывать чрез-
мерного «напряжения, вызванного обязательствами» [strains of
commitment], которое не может распознать связь между собст-
венностью и стимулами. В этом контексте эгалитарные теории,
которые трактуют как личные таланты, так и естественные ак-
тивы [natural assets] в качестве «ресурсов общего пользования»
[common pool resources], оказываются несовместимыми с прин-
ципом «стимулы имеют значение».
26 Марк Пеннингтон. Классический либерализм...
Часть II: Классический либерализм и будущее публичной
политики
После того, как в части I предложена теоретическая защита клас-
сического либерализма, часть II посвящена более углубленному
исследованию некоторых из возникающих при этом проблем,
причем в основном она фокусируется на трех областях, которые
показали себя наиболее невосприимчивыми к либерализации.
В каждой из глав излагается программа классического либера-
лизма применительно к соответствующим проблемам политики,
а затем рассматриваются возражения, берущие начало в эконо-
мической теории «провалов рынка», а также в обоих вариантах
политической теории — коммунитаристском и эгалитаристском.
Первая из глав части II имеет дело с вопросом вспомощество-
вания бедным и социального государства. Перераспределитель-
ное налогообложение и предоставление государством услуг обра-
зования и здравоохранения опирается на доводы, характеризую-
щие рыночные процессы как одновременно и неэффективные,
и несправедливые. Экономисты сосредоточивают свое внимание
на информационных проблемах, с которыми сталкиваются поль-
зователи услуг, в то время как политические теоретики обеспоко-
ены тем, что рынки подрывают этос «общественного служения»
и не в состоянии обеспечить лицам с более низкими доходами
адекватный доступ к полномочиям по принятию решений. Одна-
ко в главе 6 показывается, что хотя услуги, предоставляемые со-
циальным государством, действительно порождают для потреби-
телей информационные проблемы, последние имеют тенденцию
усиливаться при предоставлении и регулировании этих услуг го-
сударством. Что же касается этических и политических проблем,
то демонстрируется, что коммунитарные и эгалитарные теории,
даже исходя из их собственных посылок, не могут робастно объ-
яснить, почему следует считать институты социального государ-
ства лучшими, чем та мозаика конкурирующих ассоциаций, ко-
торой отдает предпочтение классический либеральный подход.
Глава 7 сосредоточивается на международном измерении,
где в значительной части споров о «неолиберализме» доминиру-
ет обсуждение глобализации и торговли. По мнению критиков,
политика открытого рынка приводит к возрастанию глобально-
го неравенства вследствие интенсификации конкуренции между
развитыми и развивающимися странами. Привлекая теории «за-
висимости от пройденного пути» [path-dependency], такие кри-
Глава!. Введение: классический либерализм... 27
тики поддерживают для развивающихся стран интервенционист-
ские стратегии, сочетающиеся с крупномасштабным наращива-
нием экономической помощи со стороны более богатых стран,
чтобы изменить траекторию развития в беднейших частях све-
та. Этот анализ подкрепляется «космополитическими» теориями
справедливости, которые утверждают, что в мире экономической
взаимозависимости вопросы социальной или распределительной
справедливости должны быть расширены за пределы националь-
ного государства таким образом, чтобы охватить глобальные де-
мократические институты. Глава 7 подвергает сомнению робаст-
ность этих современных моделей развития, выдвигая на первый
план проблемы знания и дефекты, связанные со стимулами, при-
менительно к глобальным структурам управления. В ней пока-
зано, что у международных агентств по оказанию помощи недо-
статочно ни знаний, ни стимулов, чтобы выбрать подходящий
путь развития для стран с низким доходом, и делается вывод, что
стремление к распределительной справедливости будет, скорее
всего, наделять глобальные элиты властными полномочиями за
счет граждан как развитых, так и развивающихся стран.
Глава 8 обращается к политике в области окружающей сре-
ды, где большинство правительств остаются приверженными
подходу, сочетающему командно-административное регулирова-
ние с централизованно устанавливаемыми схемами ценообразо-
вания. Этот подход базируется на теориях провалов рынка, кото-
рые подвергают сомнению практическую применимость реше-
ний, опирающихся на права собственности, и на взглядах тех, кто
утверждает, будто моральный статус экологических благ препят-
ствует их распределению на основе обмена. Глава 8 опроверга-
ет эти возражения. В ней показывается, что хотя транзакцион-
ные издержки, связанные с определением прав собственности
и их защитой путем принуждения, создают препятствия для эко-
логических рынков, эти издержки затрудняют процессы социаль-
ной демократии в гораздо большей степени. В данной главе также
продемонстрировано, что в сфере этики аргументация в пользу
установления прав собственности в области окружающей среды
не ограничивается доводами, апеллирующими к эффективности,
но основывается на той точке зрения, что институты рынка пре-
доставляют отдельным лицам и гражданским ассоциациям наи-
большее пространство возможностей для выражения их привер-
женности целям охраны окружающей среды по сравнению с дру-
гими ценностями, включая цели материального благополучия.
28 МаркПеннингтон. Классический либерализм...
В заключительном разделе этой главы отмечается, что, хотя су-
ществует класс таких «глобальных» экологических проблем, кото-
рые с трудом поддаются робастным классическим либеральным
«решениям», нет никаких оснований полагать, будь то на основа-
нии экономической теории или этики, что альтернативные реше-
ния на базе централизованного управления хоть сколько-нибудь
лучше годятся для преодоления проблем, о которых идет речь.
Книга завершается главой 9, где приводятся некоторые аль-
тернативные стратегии институциональных реформ. В ней не да-
ется никакой единственной модели того, каким образом двигать-
ся в направлении классической либеральной системы открытых
рынков и ограниченного государства. Такая модель будет варьи-
роваться от страны к стране в зависимости от характера эволю-
ционного пути, на который влияют различия в их культуре и тра-
дициях. Но важно, что должностные лица, формирующие поли-
тику, вооружаются ясным набором принципов, которые должны
задавать общее направление реформирования. Цель этой книги
состоит в том, чтобы четко артикулировать эти принципы.
Часть I
ВЫЗОВЫ
КЛАССИЧЕСКОМУ
ЛИБЕРАЛИЗМУ
Глава 2
Провалы рынка, «старые» и «новые»:
вызов со стороны неоклассической
экономической теории
Введение
Экономическая теория находится в сложных отношениях с клас-
сической либеральной традицией. С одной стороны, для иллю-
страции того, каким образом сложные процессы социальной
координации могут осуществляться, не будучи направляемыми
централизованной административно-командной системой, ча-
сто приводятся произведения Адама Смита. Но, с другой сто-
роны, инструментарий современной неоклассической эконо-
мической теории придает большое значение широкому набору
«провалов рынка», которые, как считается, оправдывают кор-
ректирующее государственное вмешательство. Даже критики
рыночной экономики, по-видимому, стали жертвой путаницы
по поводу того, в каких отношениях находятся экономическая
теория и классические либеральные умозаключения. По мне-
нию многих, полностью рациональные агенты, населяющие мо-
дели современной экономической теории, являют собой иска-
женное представление о человеческой природе, изобретенное
для того, чтобы выводить из него либерально-рыночную поли-
тику (см., например, Barber, 1984; Ramsay, 2004). Однако эти
критики зачастую не в состоянии увидеть, что те же самые моде-
ли рациональности используются современными экономистами
для привлечения внимания к предполагаемым недостаткам си-
стемы нерегулируемого рынка и для обоснования масштабной
государственной активности. Как однажды заметил Фрэнк Найт
(Knight, 1982: 57): «Критики предпринимательской экономиче-
ской системы, не обладающие ясным пониманием того, как ра-
ботает ее механизм, не могут определиться, критиковать ли ее
за то, что ее функционирование соответствует теории, или же
за то, что не соответствует».
Неразбериха по поводу статуса классического либерализма
во многом возникает из-за различий в интерпретации «равно-
весия» в экономической теории. Для тех, кто работает в рамках
32 Часть I. Вызовы классическому либерализму
мейнстрима неоклассической экономической теории, состояние
равновесия является критерием, на основе которого следует оце-
нивать результаты рыночных институтов, действующих в «реаль-
ном мире». А с точки зрения классического либерализма робаст-
ная политическая экономия применяет понятие равновесия как
форму анализа, основанного на «идеальных типах», для исследо-
вания того, как институты справляются с имеющими место в «ре-
альном мире» ситуациями, которые отклоняются от равновесно-
го идеала (Boettke, 1997).
В этой главе, фокусирующей внимание на «проблеме зна-
ния» и «проблеме стимулов», доказывается, что современный
неоклассический анализ экономической политики не способен
удовлетворить требованиям робастной политической экономии.
Глава начинается с краткого обзора смысла и интерпретации
равновесия в современной экономической теории, а затем в ней
рассматриваются слабости, присущие таким теоретическим рас-
суждениям, в контексте «старых» и «новых» аргументов по пово-
ду «провалов рынка». Сюда входит анализ некорректного приме-
нения понятия равновесия в «споре об экономическом расчете
при социализме» и при разработке теорий внешних эффектов
(экстерналий) и общественных благ. Представлены также объ-
яснение и критика более современных теорий провалов рынка,
связанных с именем Джозефа Стиглица. В довершение ко всему
глава включает некоторые дальнейшие рассуждения по поводу
статуса теоретических построений на основе понятия равнове-
сия и предлагает альтернативный эволюционный критерий для
робастного применения сравнительного анализа институтов.
Равновесие, эффективность и робастная
политическая экономия
Анализ равновесия играет центральную роль в экономической
теории главным образом потому, что последняя стремится выде-
лить условия, при которых торжествует «эффективность». Раз-
умеется, эффективность является оспариваемым понятием —
если люди различаются по своим целям и ценностями, то дейст-
вия, которые эффективны с точки зрения одного актора, могут
быть неэффективными в глазах других. Экономическая теория
пытается избежать этой проблемы несоизмеримости ценностей,
определяя эффективность на основе способности различных ин-
ститутов предоставлять возможности для удовлетворения инди-
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»... 33
видуальных предпочтений. Люди придерживаются разных субъ-
ективных ценностей, но именно эти различия в ценностях со-
здают возможности для осуществления взаимовыгодных актов
обмена. В этом контексте определенные институты могут пре-
пятствовать эффективной реализации людьми их предпочтений,
в то время как другие могут облегчать их осуществление эффек-
тивным образом.
Общепринятым критерием, на основе которого экономисты
мейнстрима оценивают характеристики институтов с точки зре-
ния эффективности, является «оптимальность по Парето». Кри-
терий Парето удовлетворяется, если не существует никакой дру-
гой договоренности, в рамках которой положение некоторых
улучшится, в то время как положение всех остальных не ухудшит-
ся. Выполнение этого критерия подразумевает, что исчерпаны все
возможности увеличения общественного продукта и взаимовыгод-
ного обмена и что единственным способом, которым некоторые
люди могут улучшить свое положение по сравнению с этим состо-
янием, является процесс перераспределения богатства. Условия,
которые должны удовлетворяться, чтобы децентрализованная ры-
ночная экономика достигала состояния равновесия, оптимально-
го по Парето, первоначально были изложены Леоном Вальрасом,
но в формальном виде были сформулированы в 50-х годах XX в.
Эрроу и Дебрё (Arrow and Debreu, 1954) в виде фундаментальных
теорем экономической теории благосостояния. Эти условия вклю-
чают наличие полной информации у производителей и потреби-
телей; совершенную конкуренцию, при которой имеется большое
количество покупателей и продавцов, ни один из которых не мо-
жет оказывать существенного влияния на цены; нулевые издержки
мобильности ресурсов; отсутствие внешних эффектов и внешних
издержек (положительных и отрицательных экстерналий).
Хотя теоремы экономической теории благосостояния со-
ставляют ядро неоклассической теории, экономисты, работаю-
щие в парадигме мейнстрима, придерживаются разных сужде-
ний по поводу того, поддерживает ли такой анализ аргументацию
в пользу нерегулируемой рыночной экономики или же требуе-
мые условия являются настолько ограничительными, что ни од-
на рыночная система не может даже надеяться на то, чтобы им
удовлетворить. С точки зрения представителей чикагской школы,
являющихся последователями Джорджа Стиглера и Гэри Беккера,
общее равновесие представляет собой достоверное описание того,
как на самом деле работает рыночная экономика. Производители
34 Часть I. Вызовы классическому либерализму
и потребители действуют так, как будто они полностью информи-
рованы о возможностях для обмена, и даже самые крупные фирмы,
учитывая масштабы рынков, на которых они действуют, считают-
ся эквивалентными экономическим агентам, которые, находясь
в условиях совершенной конкуренции, не оказывают влияния на
цены [price-takers]. Но для критиков «свободных рынков», таких
как Кеннет Эрроу и Джозеф Стиглиц, критерий равновесия дает
серьезные основания поставить под сомнение свойства эффектив-
ности системы нерегулируемого капитализма. «Реальные» рынки
отклоняются от стандарта совершенной конкуренции в столь мно-
гих отношениях, что в отсутствие государственного вмешательст-
ва они приводят к масштабной неэффективности.
Общепринятый способ применения теории равновесия хо-
тя и по-прежнему доминирует в современной экономической на-
уке, тем не менее не удовлетворяет критериям робастной полити-
ческой экономии, сформулированным во введении к этой книге.
Речь идет о неспособности неоклассической экономической тео-
рии уделить достаточное внимание тому, каким образом институ-
циональный контекст принятия решений обусловливает получа-
ющиеся результаты. Хотя на первый взгляд равновесный анализ
имеет дело с оценкой различных институциональных режимов,
объяснительная сила этих моделей основывается не на свойствах
той или иной институциональной среды, а на допущениях, лежа-
щих в основе соответствующих моделей. Хайек распознал эту тен-
денцию еще в 40-х годах XX в., когда отмечал: «В стандартных изло-
жениях равновесного анализа, как правило, создается видимость,
что вопросы о том, как достигается равновесие, решены. Однако
если присмотреться внимательнее, сразу же становится очевидно,
что эти мнимые доказательства сводятся просто-напросто к ясной
формулировке тех предпосылок, что были изначально приняты»
(Hayek, 1948a: 45; Хайек, 2011: 55). По-видимому, и чикагская шко-
ла, и ее интервенционистские критики повинны в такой предвзя-
тости. В первом случае посылка о полной информации и идеаль-
но согласованных стимулах приводит к представлению о том, что
рынки приводят к оптимальным исходам. Во втором случае по-
сылка об обладающих полной информацией и идеальной моти-
вацией государственных акторах ведет к представлению, что го-
сударственное вмешательство производит оптимальный резуль-
тат. Экономистами чикагской школы не предпринято никаких
попыток объяснить, каким образом рыночные акторы оказыва-
ются в состоянии приобрести способность надлежащим образом
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»... 35
координировать свои действия — предпосылки модели общего
равновесия просто-напросто отождествляются с ситуацией, с ко-
торой сталкиваются участники рынков в реальном мире. Однако
в той же самой тенденциозности виновны и критики выводов, со-
ответствующих классической либеральной политике. Признавая,
что реальные рынки не могут удовлетворять критериям равнове-
сия, они не дают никакого объяснения, почему государственные
или правительственные акторы могут реализовать необходимое
равновесие вместо рынков — это просто постулируется.
Однако поставить под сомнение релевантность общего равно-
весия так, как это сделано выше, не значит сделать вывод, что это
понятие бесполезно. Требуется отказ не от равновесия как идеи,
а от тех подходов, которые рассматривают равновесные состоя-
ния либо как описание реального мира, либо как описание того,
какого способа функционирования мира можно и должно добить-
ся. Более плодотворным применением понятия равновесия явля-
ется использование его в качестве идеального типа. Как отмеча-
ет Бёттке (Boettke, 1997), задача идеального типа состоит в том,
чтобы достичь понимания последствий, возникающих при откло-
нении от идеала. Отклонения от условий идеального типа фоку-
сируют внимание на том, как различные институты справляют-
ся с действительными условиями, характеризующими «реальный
мир» человеческих взаимодействий. Будучи рассмотренной в этом
свете, задача робастной политической экономии состоит не в том,
чтобы подчеркивать неспособность социальных или экономиче-
ских институтов достигать состояния «совершенной» координа-
ции, а в том, чтобы давать институционально обоснованные объ-
яснения той степени координации, которую мы видим наделе.
Использование равновесия в качестве идеального типа фор-
мирует базис робастного применения сравнительного институ-
ционального анализа при выработке государственной полити-
ки. Прежде чем констатировать, что тот или иной набор инсти-
тутов «провалился», аналитики должны предложить объяснение
того, как и почему альтернативный набор институтов покажет
лучшие результаты в разрешении «проблемы знания» и «про-
блемы стимулов». Именно таким образом классический либера-
лизм для демонстрации относительной робастности свободных
рынков пользуется открытиями Хайека и его школы, а также до-
стижениями школ прав собственности и общественного выбора.
В рамках этой аргументации разрабатывается институциональ-
ное объяснение того, почему рыночные процессы могут быть
36 Часть I. Вызовы классическому либерализму
лучше приспособлены для решения проблем несовершенного
знания и несовершенной мотивации, чем системы государствен-
ного планирования и вмешательства.
Хотя рассуждения в рамках сопоставления различных ин-
ститутов составляют ядро классического либерализма, этот под-
ход к государственной политике многими не понимается. Нигде
это не является столь очевидным, как в случае продолжающего-
ся использования теории «провалов рынка». Хотя сомнительно,
что на рост государственного вмешательства напрямую повлия-
ла экономическая теория провалов рынка, существует мало ви-
дов вмешательства, для защиты которых в тех или иных случа-
ях не приводились бы доводы на основе «провалов рынка». На
представления экономистов по этому вопросу оказали влияние
две отчетливо выделяющиеся теоретические волны. Первая по-
следовала за спором SO—40-х годов XX в. об экономическом рас-
чете при социализме; она включает теории несовершенной кон-
куренции и положения, развитые в теории экстерналий и кол-
лективных благ. Вторая волна стала разрабатываться в 70—80-х
годах с появлением «экономической теории информации» и те-
ориями сетевых экстерналий. С точки зрения классического ли-
берализма ни один из этих подходов не удовлетворяет критери-
ям робастной политической экономии. В последующих разделах
приводится защита аргументации в пользу классического либера-
лизма от возражений со стороны как «старой», так и «новой» те-
ории провалов рынка и таким образом высвечиваются по-преж-
нему не устраненные дефекты теоретических рассуждений в эко-
номическом анализе, использующих понятие равновесия.
Классический либерализм против «старой»
теории провалов рынка: наследие спора
об экономическом расчете при социализме
«Старая» теория провалов рынка и спор
об экономическом расчете при социализме
Современная аргументация в пользу рыночной экономики, осно-
ванная на сравнительном анализе институтов, возникла из спо-
ра об экономическом расчете при социализме, происходившего
в 30—40-х годах прошлого века. В ходе этого спора Оскар Ланге
и сторонники «рыночного социализма» доказывали, что анали-
тическая техника неоклассической экономической теории дает
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»... 37
прочную основу для строительства «плановой» экономики. Лан-
ге и его последователи утверждали, что нет никаких теоретиче-
ских различий между теми способами, которыми решают эконо-
мическую проблему капиталистическая и социалистическая си-
стемы. Они согласились с доводом Людвига фон Мизеса (Von
Mises, 1920), что эффективная экономическая система, вопреки
Марксу, не может обойтись без процесса денежного расчета при
оценке производственных планов. Без ценовых сигналов, указы-
вающих на относительную редкость производственных благ, ли-
ца, принимающие решения, будут не в состоянии определить, ка-
кие именно комбинации исходных благ будут производить про-
дукцию, обладающую наибольшей ценностью. Но рыночные
социалисты придерживались мнения, что социалистическая сис-
тема способна порождать соответствующие ценовые сигналы по
меньшей мере столь же эффективно, как и экономика, основан-
ная на частной собственности на производственные активы.
Согласно Ланге, если удовлетворены условия, на которых
основана неоклассическая модель равновесия, то социалистиче-
ские плановики смогут эффективно размещать ресурсы путем вы-
числения соответствующего набора «учетных цен» (Lange, 1236a,
1936b). В условиях полной информации те же самые данные, ко-
торые в неоклассической модели предполагаются доступными
для участников рынка, будут доступны и плановикам в правитель-
стве. Поэтому они смогут выполнять функцию «вальрасовского
аукционера», корректируя цены вверх или вниз до тех пор, пока
не будет достигнуто равновесие между спросом и предложением
на всех рынках. С точки зрения Ланге, такие процедуры будут бо-
лее эффективными, чем система, основанная на частной собст-
венности, поскольку существующие «в реальном мире» рынки не
удовлетворяют критерию наличия полной информации и совер-
шенной конкуренции и требуют сложной, включающей множест-
во деталей системы контрактов, в которых, как он полагал, не бу-
дет необходимости в государственно-административной системе.
Ланге и его последователи внесли свой вклад в нараставший
поток теоретических работ о «провалах рынка», появившихся
как в довоенный, так и в послевоенный период, которые стави-
ли под сомнение способность системы частного предпринима-
тельства удовлетворить критериям оптимальности, установлен-
ным в неоклассической модели. Продолжающийся рост больших
акционерных компаний и исчезновение многих предприятий,
находившихся в семейном владении, на первый взгляд служили
38 Часть I. Вызовы классическому либерализму
подтверждением если и не марксистских представлений о тен-
денции к «самоуничтожению» конкуренции и «усиливающейся
концентрации промышленности», то, по крайней мере, позиции
тех, кто подвергал сомнению релевантность рынков с совершен-
ной конкуренцией для «реального мира» (Chamberlin, 1933; Rob-
inson, 1933; Чемберлин, 1996; Робинсон, 1986). Аналогично на-
чало депрессии 30-х годов XX в. и ее продолжительность явным
образом вступали в противоречие с информационными допуще-
ниями модели, которая утверждала, что рынки представляют со-
бой самокорректирующиеся механизмы. В этой связи предпола-
галось, что социалистический строй может осуществлять расче-
ты, необходимые для достижения вальрасовского равновесия, но
без тех проявлений неэффективности, спадов и концентрации
власти, которые свойственны капитализму.
Еще больше подорвала авторитет классической либеральной
позиции разработка теории экстерналий и коллективных благ
в годы, последовавшие за Второй мировой войной. Эти теории,
первоначально сформулированные А. С. Пигу и развитые в 50-х
годах Джеймсом Мидом, Френсисом Бейтором и Полом Самуэль-
соном, пришли к выводу, что из-за широко распространенного
поведения по принципу «безбилетника» нерегулируемые рынки
не могут предоставлять некоторые взаимовыгодные блага и услу-
ги в надлежащих количествах. Если акторы могут перекладывать
издержки на других или получать выгоду, ничего не платя, то це-
новые сигналы, генерируемые децентрализованным рынком, не
способны полностью отражать ценность, придаваемую соответ-
ствующим услугам обществом в целом. С точки зрения теории
провалов рынка ряд услуг, от предоставления услуг обществен-
ных парков и маяков до контроля над загрязнением окружающей
среды промышленностью, дает твердые основания считать, что
паттерн размещения ресурсов может быть улучшен с помощью
адресного воздействия государства.
«Проблема знания»: Хайек и доводы в пользу рынков,
основанных на частной собственности
Экономические работы Хайека могут быть проинтерпретиро-
ваны как ответ на эту теорию провалов рынка первой волны
(Caldwell, 2004). В 40-х годах XX в. Хайек выступил автором се-
рии статей, доказывающих, что претензии, выдвинутые соци-
алистами в ходе «спора об экономическом расчете», скорее
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»... 39
демонстрируют слабость неоклассической парадигмы, нежели
позволяют сравнить робастность «реальных» рынков и социа-
листической экономической системы. Согласно Хайеку, призна-
ние Ланге формальных правил, которым необходимо следовать,
чтобы достичь вальрасовского равновесия, ничего не говорит
об относительной способности различных систем приблизиться
к чему-то, хоть как-то напоминающему этот стандарт.
Согласно позиции Хайека, невозможно исходить из допуще-
ния, что информация, необходимая для экономической коорди-
нации, может быть получена независимо от институционально-
го контекста (Boettke, 1997). Допущение о существовании объ-
ективно «данного» знания означает игнорирование того, как
достигается релевантное знание об относительной редкости ре-
сурсов. Тезис Хайека заключался в том, что знание, необходимое
для определения содержания ценовых сигналов, используемых
для экономического расчета, не может генерироваться социали-
стической системой централизованного учета — по крайней мере,
столь же эффективно, как это делает система, основанная на об-
мене объектами частной собственности. В основе своей этот аргу-
мент представлял собой утверждение сравнительного институци-
онального анализа, сводящееся к тому, что рыночные процессы
лучше приспособлены к тому, чтобы действовать в мире, в кото-
ром отсутствуют условия, сформулированные в неоклассической
модели (Boettke, 1997). Есть несколько аспектов критики Хайеком
неоклассической теории, каждый из которых указывает на инсти-
туциональное превосходство либерального рыночного порядка.
Во-первых, согласно Хайеку, «исходные данные», которые
влияют на формирование цен в рыночной экономике, в их пол-
ноте не «даны» никакому агентству, а разделены между множе-
ством акторов, составляющих соответствующий рынок. Система
частного предпринимательства с помощью рыночной цены не-
прямым образом транслирует составные части этого «разделен-
ного знания». Индивиды и организации торгуются за ресурсы на
основе своего знания о личных предпочтениях, доступности за-
менителей и предпринимательских инноваций, известных толь-
ко им самим, но в ходе этого они вносят свой частичный вклад
в формирование цен, транслирующих их «порцию» информации
тем, с кем они обмениваются. Последние могут изменять свои
собственные решения о покупке и продаже с учетом этих данных
и таким образом передавать информацию последующим агентам,
подобно тому, как рябь распространяется по поверхности пруда.
40 Часть I. Вызовы классическому либерализму
Так, действия находящегося на большом удалении предпринима-
теля, предложившего более высокую цену за олово в качестве ре-
акции на новый источник спроса, транслируются по всему рын-
ку, поскольку все те, кто использует олово и его заменители, на-
чинают экономить в ответ на повышение цены. Важно, что для
того, чтобы изменить характер своего производства и потребле-
ния в соответствии с новой ситуацией (например, отказываясь
от более дорогих вариантов в пользу более дешевых), рыночным
акторам не нужно иметь полной информации о сложной цепи со-
бытий, которая привела к росту или снижению цены, — им доста-
точно знать, что цены, с которыми они имеют дело, изменились.
Итак: «Целое действует как единый рынок не потому, что любой
из его членов видит все поле, но потому, что их ограниченные
индивидуальные поля зрения в достаточной мере пересекаются
друг с другом, так что через многих посредников нужная инфор-
мация передается всем» (Hayek, 1948c: 86; Хайек, 2011: 103—104).
Согласно Хайеку, социалистическая система была бы неспо-
собна достичь аналогичной координации, поскольку никакое от-
дельное агентство не имеет возможности охватить все меняю-
щиеся условия спроса и предложения, с которыми сталкивается
множество рассредоточенных социальных акторов. Следователь-
но, в сравнении с рынком, основанным на частной собственно-
сти, система устанавливаемых правительством цен приведет
к нерациональному использованию ресурсов.
Второй аспект возражений, выдвинутых Хайеком против
неоклассической теории, касается допущения, что «порции» ин-
формации, которыми обладают рыночные агенты в отношении
планов их партнеров по обмену, с необходимостью являются до-
стоверными. Это допущение очевидным образом содержится
в понятии полной информации, которым пронизаны неокласси-
ческие модели и которое часто приводит к требованиям устра-
нения «провалов рынка» в случаях, когда информация является
«неполной». С позиций, разрабатывавшихся Хайеком, такие мо-
дели изначально исключают из рассмотрения процессы, посред-
ством которых индивиды и организации со временем повышают
точность своих ожиданий. Задача достижения координации воз-
никает в условиях, когда информация зачастую является проти-
воречивой (Hayek, 1948b, 1948c, 1944d; Хайек, 2011). В рыноч-
ной экономике индивиды и фирмы предлагают за ресурсы це-
ны, отражающие их собственные субъективные интерпретации,
и именно через образование прибылей и убытков эти ожидания
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»... 41
проходят проверку объективными фактами поведения других лю-
дей, проявляющегося в решениях о покупке или продаже по тем
или иным ценам. Именно сигналы в виде прибылей и убытков,
порождаемых столкновением конкурирующих идей, обеспечива-
ют условия для обучения посредством проб и ошибок, посколь-
ку участники подражают успешным предпринимателям и учатся
не делать тех ошибок, которые совершили неуспешные предпри-
ниматели. Рынки никогда не находятся в равновесии, но сигна-
лы в виде прибылей и убытков, генерируемые в состоянии не-
равновесия, стимулируют перемещение ресурсов в направлении
более высокого уровня координации, чем было бы в противном
случае (Kirzner, 1992, 1997). Согласно Хайеку, государственные
плановики (будь то демократически избранные или какие-то дру-
гие) никогда не смогут установить цены, отражающие восприя-
тие экономических возможностей, распределенное между мири-
адами акторов, обладающих свободой обменивать титулы собст-
венности на рынке.
Знание рыночных возможностей и несоответствий распре-
делено нерегулярным и неравномерным образом, и именно бла-
годаря неравенству, возникающему в результате процесса конку-
ренции, предприниматели выясняют, каким производственным
моделям нужно следовать, а каких нужно избегать. Таким обра-
зом, в соответствии с описанием Хайека, конкуренция никогда
не бывает «совершенной». Как раз благодаря тому, что некото-
рые фирмы обладают большим влиянием на рынок, чем другие,
приводится в движение процесс обучения через имитацию. Пред-
принимательская прибыль, которой не существовало бы в усло-
виях совершенной конкуренции, является символом, сообщаю-
щим о наилучшем способе обслуживания рынка. Конкуренция
есть динамический процесс, который не может быть отражен
в модели, по условиям которой все акторы имеют в своем распо-
ряжении одни и те же данные и пассивно реагируют на объектив-
ные стимулы, с которыми сталкиваются. Таким образом, в усло-
виях, когда существуют многочисленные продавцы и покупатели
однородных видов продукции, отсутствие совершенной конку-
ренции представляет собой не «провал рынка», а существен-
ную характеристику процесса, в ходе которого люди осуществля-
ют творческую деятельность по обнаружению новых сочетаний
исходных факторов производства и произведенной продукции,
и эти эксперименты подвергаются «проверке» на решениях по-
требителей. Напротив, в условиях «совершенства» «реклама,
42 Часть!. Вызовы классическому либерализму
сбивание цен и улучшение ("дифференциация") производимых
товаров и услуг — все это исключено по определению; "совершен-
ная" конкуренция и в самом деле означает отсутствие всякой кон-
курентной деятельности» (Hayek, 1948e: 96; Хайек, 2011: 116).
Рынки имеют шанс приблизиться к «совершенству» в не-
оклассическом смысле, когда нет почти никаких разногласий
и нет никакого нового знания, которое нужно было бы распро-
странять. Например, в случае рынка такого товара, как зерно, где
трудно различать разные партии товара и где методы производ-
ства хорошо известны, маловероятно, чтобы на цены мог суще-
ственно повлиять один-единственный актор (Hayek, 1948e: 103;
Хайек, 2011: 123—124)1. Но когда продукция может производить-
ся разными способами, когда существует целый ряд потенци-
альных заменителей и когда требуется гораздо больше времени,
чтобы найти подходящую комбинацию ресурсов, методы управ-
ления и организационные формы, те, кто создаст наиболее под-
ходящие методы, могут получить существенную прибыль прежде,
чем остальные окажутся в состоянии воспроизвести их практику.
Эта прибыль отражает лучшее предпринимательское предвиде-
ние в условиях неопределенности. Там, где фирмы соперничают
друг с другом, организуя кампании по снижению цен, разрабаты-
вают новые продукты, чтобы открыть для себя рынки, и разра-
батывают новые формы организации, предпринимательская де-
ятельность зачастую приобретает характер «установления цен»
или «влияния на цены» [price-making]. Что в действительности
требуется для действенности конкуренции — это чтобы существу-
ющие участники рынка не были защищены от вызовов со сторо-
ны новых участников, предлагающих лучшие возможности, чем
всё, что прежде было доступно. Альтернативой такому «несовер-
шенству» является не «совершенная конкуренция», а попытки ад-
министративно устанавливать цены и регулировать вход на ры-
нок с помощью органов лицензирования и их аналогов. С точки
1 Что касается рынков сельскохозяйственной продукции, такой как зерно,
которые часто считаются больше всего похожими на структуру «совершен-
ной конкуренции», то применительно к ним условие, в соответствии с ко-
торым знание о соответствующих методах производства и управления яв-
ляется «данностью», зачастую не выполняется. Как указывают О'Дрисколл
и Риццо (O'Driscoll and Rizzo, 1996: 109), при уходе за виноградниками и да-
же в таких видах деятельности, как выращивание кормовой кукурузы, раз-
личные методы производства существуют буквально бок о бок. Поэтому сом-
нительно, чтобы неоклассическое представление о конкуренции было при-
менимо даже к этим рынкам.
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»... 43
зрения позиции, сформулированной Хайеком, такое регулирова-
ние подавляет эволюционный процесс, который дает людям воз-
можность находить методы производства, требующие наимень-
ших издержек, и акторов, в наибольшей степени способных их
применять (Hayek, 1948e: 100; 1978b; Хайек, 2011: 120-121; 378-
393). Система регулирования из одного центра не может ни вос-
произвести, ни заменить этот процесс открытия, поскольку ре-
зультаты его не могут быть известны в отсутствие действитель-
ной конкуренции, сколь бы «несовершенной» она ни была.
Третья и заключительная составляющая хайековской крити-
ки сосредоточивается на предпочтениях участников рынка. Для
Хайека представление о знании как о чем-то «данном» неадекват-
но не только из-за наличия ошибок в интерпретации спроса на
различные блага и в оценке методов производства, но и потому,
что содержание предпочтений людей также подвержено динами-
ческим изменениям. Рыночные агенты обращают внимание на
заранее не предвиденные вкусовые предпочтения и организаци-
онные практики и усваивают их в ходе самого процесса рыноч-
ной конкуренции. Рыночный процесс способствует научению
в условиях «радикального незнания», когда акторы как со сторо-
ны спроса, так и со стороны предложения узнают такую инфор-
мацию, о существовании которой они прежде даже не подозре-
вали. Этот тезис содержится в утверждении, что участие в рын-
ках подобно «разведке, путешествию в неведомое» (Hayek, 1948e:
101; Хайек, 2011: 121). В этом смысле Хайек предвосхитил идею
Шумпетера о капитализме как о «созидательном разрушении»,
когда конкуренция в форме новых технологий и методов произ-
водства «наносит удар по основаниям и самому существованию»
имеющихся на рынке фирм. Статические понятия равновесия не
годятся для понимания этого процесса обновления и эволюцион-
ного изменения (Lavoie, 1985).
Эта критика допущения о знании как «данности» одновре-
менно ставит под вопрос восходящее в Пигу представление о том,
что действия государства могут легко «скорректировать» несо-
вершенства рынка, проистекающие из проблемы экстерналий
и коллективных благ. Попросту говоря, издержки и выгоды, свя-
занные с экстерналиями, имеют субъективный характер и лучше
всего выявляются через действия людей в ситуации, когда они
сталкиваются с рядом конкурирующих альтернатив и когда суще-
ствуют сигналы в виде прибылей и убытков, транслирующие со-
держание соответствующих вариантов выбора. Подобно тому,
44 Часть I. Вызовы классическому либерализму
как правительственные плановики в общем случае не в состоя-
нии получить доступ к информации, достаточной, чтобы уста-
новить цены на уровне общественного оптимума, они могут ока-
заться неспособны установить экологические налоги, субсидии
и регулятивные нормы на надлежащем уровне. Это не означает,
что невозможны подлинные «провалы рынка», ограничивающие
возможность даже «несовершенных» решений. Могут быть неко-
торые блага, предоставление которых просто-напросто невоз-
можно осуществлять в рамках процесса конкурентного откры-
тия. Однако идеи Хайека приводят к выводу, что по крайней мере
бремя доказательства должно сместиться в сторону тех, кто под-
держивает большую степень государственного вмешательства.
«Проблема стимулов»: теория общественного выбора
и провалы государства
В то время как работы Хайека поставили под сомнение теорию
провалов рынка, возникновение и развитие школы обществен-
ного выбора привлекло внимание к целому ряду других вопро-
сов. Аргументация Хайека против социализма не предполагала
никаких допущений насчет мотивации лиц, принимающих го-
сударственные решения, — например, ею не ставилась под сом-
нение идея, что политики и государственные служащие «движи-
мы заботой об интересах общества», и она сосредоточивалась
на «проблеме знания» при планировании в условиях сложной
реальности. Напротив, анализ общественного выбора отказал-
ся от жесткого допущения о мотивированности общественны-
ми интересами. Бьюкенен и Таллок (Buchanan and Tullock, 1962;
Бьюкенен и Таллок, 1997) возражали против «раздвоенного»
представления о человеческой деятельности, неявно присутст-
вующего в моделях провалов рынка, которое описывает людей
как действующих исходя из эгоистических интересов в контек-
сте коммерческого обмена, но в то же время приписывает им
мотивы, «учитывающие интересы других», как только речь за-
ходит о людях на политической арене. Тем временем Демсец
(Demsetz, 1969) доказывал, что теории провалов рынка впада-
ют в «ошибку нирваны» [nirvana fallacy]. Они сравнивают «не-
эффективность», возникающую в результате экстерналий и ин-
формационных проблем на рынке, с точно не определенной
альтернативой, в рамках которой, как предполагается изначаль-
но, таких проблем не существует. Согласно Демсецу, подход на
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»... 45
основе сравнения институтов требует анализа сильных и слабых
сторон «реальных», хотя и «несовершенных» институциональ-
ных альтернатив. Например, работа Коуза показывает, что рын-
ки «терпят провал», когда транзакционные издержки интерна-
лизации экстерналий посредством спецификации прав собст-
венности оказываются слишком велики (Coase, 1960; Коуз, 2007:
92—149). Однако работа Коуза демонстрирует и то, что такие
издержки существуют в условиях любых институтов (Dahlman,
1979; Medema, 1994). Таким образом, вопрос сводится к сравне-
нию относительных размеров транзакционных издержек в рам-
ках «несовершенных» рынков с теми транзакционными издер-
жками, которые возникают при «несовершенном» государст-
венном вмешательстве. Именно в этом контексте вирджинская
школа общественного выбора доказывает, что проблемы экстер-
налий и высоких транзакционных издержек, порождающие про-
валы рынка, могут быть еще более ярко выраженными в услови-
ях демократического политического процесса.
Теория общественного выбора признает, что передача от-
ветственности за коллективные блага из частного в обществен-
ный сектор не устраняет поведения по принципу «безбилетни-
ка» и, более того, может создавать еще более серьезные пробле-
мы, чем те, которые препятствуют функционированию частных
рынков (Buchanan and Tullock, 1962; Mitchell and Simmons, 1994;
Бьюкенен и Таллок, 1997). В частности, поскольку результаты
демократического процесса часто обладают свойством неисклю-
чаемости, люди могут в качестве «безбилетников» использовать
политические усилия других. Получение выгоды от политиче-
ского процесса требует коллективных действий, но чем больше
число людей, которые могут выиграть от такого действия или
нести связанные с ним издержки, тем больше стимулов для по-
ведения по принципу «безбилетника». Политические меры, ко-
торые приносят выигрыш относительно небольшому числу ак-
торов, могут оказываться привлекательными для хорошо орга-
низованных лобби, у которых сравнительно невысоки издержки
выявления и наказания «безбилетников». Напротив, меры, выго-
ды от которых рассредоточены среди больших групп, из-за высо-
ких издержек ограничения поведения по принципу «безбилетни-
ка» в ситуациях с большим числом участников не могут породить
организованной поддержки, пропорциональной количеству за-
интересованных людей (Olson, 1965; 1982; Tullock, 1994; Олсон,
1995; 2013). Соответственно политический процесс может быть
46 Часть I. Вызовы классическому либерализму
захвачен организациями, представляющими особые интересы,
и в частности отдельными группами производителей, которые
могут сосредоточить в руках своих членов монопольные приви-
легии и льготы, одновременно перекладывая издержки вовне, на
сегменты населения, не имеющие подобных организаций.
С позиций общественного выбора политический процесс
приводит к экстернализации издержек, поскольку люди голо-
суют за то, что будет оплачено другими (Mitchell and Simmons,
1994; Olson, 2000; Олсон, 2013). Доступ к выгодам, предоставля-
емым государством, является ресурсом «с открытым доступом».
В интересах каждого отдельного индивида поддерживать органи-
зации, лоббирующие политические меры, которые избиратель-
но приносят выгоды именно ему и при этом финансируются за
счет ресурсов, извлекаемых у электората в целом. Хотя с коллек-
тивной точки зрения может быть выгодным воспрепятствовать
такому рентоориентированному поведению, вряд ли кто-либо из
индивидов или групп прекратит его, поскольку добровольное са-
моограничение предоставит возможности для эксплуатации та-
кого индивида или группы менее щепетильными акторами. Ког-
да большинство акторов осознают эту логику, общественное
взаимодействие может трансформироваться из игры с положи-
тельной суммой в игру с нулевой и даже отрицательной суммой,
в рамках которой люди будут стремиться к получению эксплуата-
торского перераспределения благ за счет друг друга (Buchanan
andTullock, 1982; Tullock, 1994).
Связанные с коллективным характером благ проблемы, воз-
никающие в рамках политического процесса «на стороне спро-
са», дополняются порочными стимулами, воздействующими на
политиков и государственных служащих, которые обеспечивают
«предложение» политических мер. Поскольку политические ак-
торы не являются «претендентами на остаточный доход», могу-
щими получить личную прибыль от осуществления рационально-
го управления, у них имеется сравнительно мало стимулов к тому,
чтобы принимать долгосрочные решения, выгоды от которых
реализуются тогда, когда у власти будет находиться кто-то дру-
гой. Политики не могут принять решение держать, а потом про-
дать акционерные доли в управлении государственными служ-
бами, и вследствие этого у них могут быть стимулы вести себя
оппортунистически в собственных интересах либо в интересах
групп, пользующихся их покровительством, а не в интересах по-
литического сообщества в целом. Стимулы к производственной
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»... 47
эффективности еще больше подрываются монополистическим
характером политического процесса. В период между выборами
избиратели оказываются в рамках сценария, не оставляющего
им никакого выбора, поскольку имеющиеся у них возможности
избежать последствий предоставления низкокачественных услуг
чрезвычайно ограничены (Wholgemuth, 1999). Возможность по-
лучать доходы посредством принудительного налогообложения
создает «мягкие бюджетные ограничения», которые уменьша-
ют стимулы к тому, чтобы реагировать на запросы людей. Мяг-
кость этого ограничения может проявляться и в долгосрочной
перспективе, поскольку у граждан обычно имеется весьма огра-
ниченный набор политических конкурентов, из которых можно
выбирать. По сравнению с влиянием фирм на частных рынках
возможности политиков по навязыванию ограничительных кар-
телей оказываются гораздо большими, поскольку монополия на
применение силы, которой обладает государство, дает возмож-
ность тем, кто находится у власти, задавать условия политиче-
ской конкуренции.
«Новая теория провалов рынка:
вызов экономической теории информации
Вышеприведенная критика теории провалов рынка с позиций
классического либерализма имела своим результатом перео-
ценку интервенционистских выводов, доминировавших в по-
слевоенный период. С крахом централизованного планирова-
ния в Восточной Европе и более умеренных программ национа-
лизации отдельных отраслей в капиталистических демократиях
экономисты-теоретики пришли к выводу, что неоклассические
понятия, связанные с «рыночным социализмом», имеют ма-
ло отношения (если вообще имеют какое-то отношение) к су-
ждениям о сравнительных достоинствах альтернативных эко-
номических систем. Однако это признание не привело к при-
нятию выводов классического либерализма. Напротив, хотя
было признано, что в моделях всеохватывающей государствен-
ной собственности и планирования мало что заслуживает одо-
брения, теоретическое развитие в рамках неоклассической па-
радигмы к настоящему времени высветило совершенно новый
класс «провалов рынка», в связи с чем можно прийти к заключе-
нию, что на основании сравнительного анализа институтов мо-
жет быть обоснована целесообразность «смешанной» системы,
48 Часть I. Вызовы классическому либерализму
соединяющей частную собственность с широким государствен-
ным вмешательством.
Экономическая теория Стиглица и «новая» теория
провалов рынка
На переднем крае новых идей, которые хотя и подчеркивают
слабые стороны социалистических систем, но указывают так-
же и на неэффективность рынков, свободных от вмешатель-
ства государства, находится нобелевский лауреат Джозеф Сти-
глиц. Он оспаривает выводы, которые ранее делались на ос-
нове моделей Вальраса и Эрроу—Дебрё (Stiglitz, 1994). С одной
стороны, Стиглиц отвергает претензию рыночного социализ-
ма на то, что центральный планирующий орган может приме-
нять модель общего равновесия в качестве правила, на котором
должны основываться его решения. Согласно Стиглицу, «реаль-
ные» социалистические институты не обладают ни информаци-
ей, ни стимулами, необходимыми для достижения этого резуль-
тата. Однако он точно так же оспаривает релевантность моде-
ли общего равновесия для описания работы реальных рынков.
Те рынки, которые существуют в реальном мире, редко удовлет-
воряют, если вообще когда-нибудь удовлетворяют, условиям оп-
тимальности, сформулированным в теореме Эрроу—Дебрё, так
что эта модель не может служить оправданием классических ли-
беральных рецептов. То, что на самом деле нужно вместо нее —
это сопоставительный подход, который признает, что, хотя ин-
формация и стимулы, порождаемые рынками «в реальном мире»
имеют некоторые сильные стороны, эти рынки одновременно
страдают многими несовершенствами, требующим корректиру-
ющих действий со стороны правительства. Таким образом, Сти-
глиц ставит своей целью сформулировать принципы, которые
могут быть применены для определения надлежащей «комбина-
ции» между частными рынками и государственным регулирова-
нием (Stiglitz, 1994:25).
На протяжении всей своей работы Стиглиц подчеркивает,
что конкуренция играет важную роль в обеспечении стимулов,
побуждающих экономических акторов улучшать свои результаты,
и он объясняет провал социалистических экспериментов в Вос-
точной Европе слабостью стимулов, действовавших в отсутствие
конкурирующих сил. Он отвергает представление, согласно ко-
торому для эффективности конкуренции необходимо, чтобы она
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»... 49
проявлялась в форме поведения, пассивно реагирующего на це-
ны в условиях рынков, на которых имеется большое количест-
во продавцов и покупателей. Вторя Баумолю и тезису о «состяза-
тельных рынках» [contestable markets], Стиглиц признает, что да-
же тогда, когда на рынке имеется гораздо меньше игроков, чем
в условиях совершенной конкуренции, конкуренция в таких ас-
пектах, как качество и организационная структура, равно как
и ценовая конкуренция, может обеспечить дисциплинирующие
сдержки для производителей (Stiglitz, 1994; 112, 132).
Однако эта кажущаяся уступка классической либеральной
интерпретации обставлена двумя серьезнейшими оговорками.
Во-первых, Стиглиц доказывает, что выгоды от конкуренции не
обязательно обусловлены частной собственностью на производ-
ственные активы (1994:239). Например, правительство может
создать две соперничающие бюрократические структуры, кото-
рые будут конкурировать за финансирование и клиентуру, ими-
тируя частные рынки. Во-вторых, Стиглиц утверждает, что хо-
тя конкуренция благотворна в некоторых обстоятельствах, су-
ществуют ситуации иного рода, в которых она неэффективна.
В частности, существует большое количество сфер, где конкурен-
ция ограничивается эффектами естественной монополии. Хотя
в прошлом считалось, что такие монополии ограничиваются от-
раслями коммунальной инфраструктуры [public utilities], в ко-
торых издержки на физическую инфраструктуру, возникающие
при снабжении электроэнергией и предоставлении телекомму-
никационных услуг, приводят к тому, что в данной конкретной
местности предоставлять эти услуги может только один или не-
сколько производителей, Стиглиц утверждает, что эти эффекты
распространены гораздо шире. Они особенно ярко выражены,
доказывает он, в секторах, требующих больших затрат на иссле-
дования и разработки, и там, где имеет место возрастающая от-
дача при росте масштабов производства (Stiglitz, 1994: 140—145).
Приведенные выше аргументы были поддержаны Брайаном
Артуром и Полом Дэвидом, которые сосредоточились на тен-
денции к созданию монополий, якобы присущей рынкам в отра-
слях, «основанных на знании», страдающих от сетевых экстерна-
лий и эффектов «привязки» [lock-in] (см, например, David, 1985).
Согласно этой точке зрения, когда выгоды, получаемые инди-
видом от потребления некоего блага или услуги, увеличивают-
ся с ростом количества других индивидов, которые потребляют
тот же самый продукт (как это, например, имеет место в случае
50 Часть I. Вызовы классическому либерализму
компьютерного программного обеспечения или телефонных се-
тей), то может возникать концентрация экономической власти,
никак не связанная с характеристиками предоставляемых благ.
Решающую роль играет только то, что при превышении опреде-
ленного порога люди начинают делать выбор в пользу данного
продукта на основании одного лишь количества других потреби-
телей, уже включенных в соответствующую «сеть», а не на осно-
ве превосходства продукта как такового. В такой ситуации конку-
ренция не будет отбирать наилучшие продукты, а будет находить-
ся под влиянием случайных обстоятельств, например того, какой
продукт первым закрепился на соответствующем рынке.
Для того чтобы дать теоретическое обоснование для макро-
экономических предположений в кейнсианском духе, касающих-
ся склонности рынков к проявлению «негибкости» в ходе чере-
дующихся всплесков оптимизма и пессимизма, аргументы, свя-
занные с эффектами «привязки» и зависимостью от прошлых
траекторий, были также проинтерпретированы по-новому (см.,
например, Hill, 2006; Akerlof and Shiller, 2009; Акерлоф и Шиллер,
2010). Согласно этой точке зрения, рынки в условиях неопреде-
ленности проявляют ярко выраженную тенденцию к доминиро-
ванию в них «иррациональных» форм поведения, демонстриру-
ющих слабую связь с лежащими в основании экономическими
«фундаментальными показателями», в качестве реакции на нео-
жиданные события или «шоки». Вместо того чтобы производить
рациональные расчеты по поводу вероятного успеха инвестиций,
люди подпадают под доминирование «стадного инстинкта», ког-
да во время восходящей фазы конъюнктуры люди инвестируют
в акции или недвижимость просто потому, что все другие дела-
ют это, а в нисходящей фазе они ликвидируют инвестиции вслед-
ствие коллективного пессимизма по поводу перспектив будущих
доходов. Если государство не вмешается с целью регулирования
этих ожиданий посредством различных макроэкономических
стимулов (например, регулируя финансовые рынки, повышая
налоги во время бума, а во время спада вводя фискальное стиму-
лирование, такое как снижение налогов и увеличение государст-
венных расходов), то нерегулируемые рынки если и проявят не-
кую тенденцию к эффективной координации ресурсов, то лишь
по чистой случайности.
С точки зрения новой теории провалов рынка, раз класси-
ческие либералы преувеличивают роль конкуренции, то они
преувеличивают и роль системы цен. Этот вывод получается из
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»... 51
подчеркивания смещенного характера стимулов в условиях не-
нулевых издержек получения информации. Согласно Гроссману
и Стиглицу (Grossman and Stiglitz, 1976), информация никогда не
бывает полной, поскольку ее получение связано с издержками —
но в ситуации, когда решение о приобретении дополнительных
сведений обладает признаками коллективного блага, может быть
недостаточно стимулов к тому, чтобы добывать «оптимальное»
количество информации. При социализме у плановиков в цент-
ре может быть недостаточно стимулов к тому, чтобы добывать
необходимую информацию, поскольку они не могут получить от
этого достаточно большого выигрыша лично для себя — выиг-
рыш получает общество в целом. Но информационные аргумен-
ты, выдвинутые Хайеком в пользу децентрализованной системы
ценообразования, аналогичным образом подвергаются сомне-
нию. Аргумент Хайека в интерпретации Гроссмана и Стиглица
состоит в том, что цены, порождаемые рынком, представляют
собой «достаточные статистики», на основе которых рынки мо-
гут эффективно координироваться (Grossman and Stiglitz, 1976:
246; Stiglitz, 1994: Chapter 3). Согласно такому прочтению Хай-
ека, людям не нужно иметь никакой информации об экономике
в целом, потому что система цен, находясь в равновесии, транс-
лирует полную информацию всем участникам рынка в косвен-
ной форме. Однако, утверждают Гроссман и Стиглиц, если рын-
ки передают такое количество информации, то ни у кого не будет
стимула добывать какую-либо информацию самостоятельно. Ха-
ейковские рыночные цены обладают характеристиками коллек-
тивного блага, которые позволяют людям пользоваться «без би-
лета» усилиями других, наблюдая цены и получая бесплатно то,
что в противном случае пришлось бы искать и добывать (Gross-
man and Stiglitz, 1976: 246-247; Stiglitz, 1994: Chapter 3). Систе-
ма цен может действовать только тогда, когда участники обме-
на имеют возможность скрывать информацию от других участни-
ков, и поэтому цены представляют собой «зашумленный сигнал».
Из этого Гроссман и Стиглиц делают вывод, что децентрализо-
ванные системы ценообразования не могут достичь полного рав-
новесия без корректирующих действий государства.
Вдобавок к проблемам, вызывающимся наличием у цен
свойств экстерналий, Стиглиц (Stiglitz, 1994: 35) подчеркивает
дополнительные провалы рынка, отражающие асимметрию ин-
формации. В то время как данное Хайеком описание цен под-
черкивает их роль в трансляции меняющихся характеристик
52 Часть I. Вызовы классическому либерализму
редкости ресурсов, Стиглиц полагает, что цены представляют
собой контрольно-измерительный прибор весьма низкого каче-
ства. Если задача рынков — эффективно сигнализировать потре-
бителям о качестве, то товары, продающиеся по более высоким
ценам, должны быть лучшего качества, чем их более дешевые
эквиваленты. Однако, взяв за основу работу Акерлофа (Akerlof,
1970), Стиглиц высказывает мнение, что если одна из сторон
рынка не обладает достаточной информацией, то это соотноше-
ние не выдерживается. Когда покупатели не имеют возможности
оценить качество продаваемых товаров, они будут предлагать бо-
лее низкие цены, отражающие риск того, что приобретенный
товар окажется плохого качества. Но когда цены, на которые со-
гласны будущие потребители, оказываются более низкими, это
уменьшает готовность продавцов высококачественных товаров
выставлять их на продажу. Таким образом, на рынке с асимме-
тричной информацией плохие товары вытесняют хорошие. Ана-
логичная проблема «отрицательного отбора» возникает на сто-
роне предложения в контексте рынков страхования. В данном
случае продавцы не могут различить покупателей полисов с низ-
кими и высокими рисками, и для того, чтобы компенсировать по-
тенциальные эксцессы потребителей с высокими рисками, они
запрашивают высокие цены. В результате потребители с низки-
ми рисками обнаруживают, что им очень трудно найти страхо-
вые продукты, которые отражали бы в ценах действительный
уровень риска, который эти потребители представляют.
Хотя подход Стиглица признает слабости социализма, он мо-
жет быть использован для обоснования гораздо большей роли
государства, чем признавалась «первой волной» теорий прова-
лов рынка (Stiglitz, 1994: 42—43). Хотя послевоенная неокласси-
ческая теория утверждала, что социалистическая система, при-
меняющая правила ценообразования на основе предельных из-
держек, может достичь таких же результатов, как и рыночная
система, она одновременно придерживалась позиции, согласно
которой лишь на ограниченном числе рынков, на которых кон-
куренция наиболее далека от совершенной или где велики внеш-
ние эффекты, государственное вмешательство может на самом
деле достичь лучших результатов, чем рынок. Напротив, вывод
из аргументации Стиглица состоит в том, что «провалы рынка»
широко распространены везде, где применяется система цен,
и что государственное вмешательство может, по крайней мере
в принципе, повысить эффективность в значительных сегментах
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»... 53
экономики. Так, государства должны проводить активную анти-
монопольную политику на рынках, где имеют место экономия
на масштабе производства и сетевые эффекты; они должны вво-
дить схемы налогообложения и субсидирования для улучшения
информационных функций цен; и должно применяться широко-
масштабное регулирование секторов, пораженных асимметрией
информации, включая здравоохранение, страхование и банков-
ское дело. В этом смысле аргументация Стиглица представляет
собой, вероятно, наиболее изощренное экономическое оправда-
ние современного регуляторного государства.
Классический либерализм против «новой»
экономической теории провалов рынка
Стиглиц и его коллеги претендуют на то, что они разработали
важные инновации, ставящие под сомнение релевантность мо-
дели Эрроу—Дебрё для выработки политики и отдающие пред-
почтение подходу, основанному на сравнительном анализе ин-
ститутов. Однако при внимательном ознакомлении с их аргу-
ментацией обнаруживается, что исходные допущения модели
общего равновесия по-прежнему играют роль нормативного
стандарта, на основе которого рекомендуется та или иная поли-
тика. Это особенно хорошо видно при обсуждении «провалов
рынка». Если модель Эрроу—Дебрё является нереалистичным
критерием для вынесения сравнительных суждений об инсти-
туциональных режимах, то такие понятия, как «несовершен-
ная конкуренция», «естественная монополия» и «экстерналии»
должны быть заново определены. Но Стиглиц обычно характе-
ризует монополии и проблемы, возникающие из-за неполной
и асимметричной информации, как «провалы рынка» именно
потому, что они приводят к отклонению от условий, заложен-
ных в равновесии Эрроу—Дебрё. Заявлять, что условия общего
равновесия не могут существовать в «реальном мире», но при
этом настаивать на суждении, что рынки «терпят провал», ког-
да они не удовлетворяют этим самым критериям, значит прояв-
лять непоследовательность. Разумеется, можно утверждать, что
рынки «терпят провал», если выносить суждение о них на осно-
ве неких альтернативных критериев, но Стиглиц ничего тако-
го не разрабатывает и не удосуживается объяснить, каким имен-
но образом его предложения по поводу государственного вмеша-
тельства позволяют преодолеть проблемы, возникающие из-за
54 Часть I. Вызовы классическому либерализму
отсутствия знания и несовершенства стимулов. С точки зрения
классического либерализма сами по себе претензии Стиглица
на то, что он предложил подход, основанный на сравнительном
анализе институтов, не удовлетворяют критериям, предъявляе-
мым к робастной политической экономии.
Непонимание конкуренции
Рассмотрим сначала «несовершенную» конкуренцию и пробле-
му «естественных монополий». Стиглиц пишет: «Новый взгляд
позволяет увидеть, что рынки могут быть неэффективными,
а прибыль может быть ненулевой. Существует потенциальное
поле деятельности для конкурентной политики, которая однов-
ременно ограничивает прибыли и повышает эффективность.
Новый взгляд подчеркивает важность скорее несовершенной
конкуренции, чем монополии... Он утверждает, что на большин-
стве рынков в современной промышленно развитой экономике
конкуренция является ограниченной, но потери в благосостоя-
нии от ограниченного характера конкуренции могут оказаться
намного большими, чем считалось прежде» (Stiglitz, 1994: 128).
Учитывая, что Стиглиц отрицает релевантность модели Эр-
роу—Дебрё по отношению к «реальному миру», совершенно непо-
нятно, почему он вообще считает проблемой тот факт, что «при-
быль может быть ненулевой». С позиции, представленной Хайе-
ком, из-за распределенного и неравномерного характера знания
и из-за необходимости обучения величина прибыли (и убытка)
едва ли вообще когда-либо бывает нулевой. Если представление
об общем равновесии не помогает понять то, как действует «ре-
альная конкуренция» в качестве процедуры открытия, то нео-
чевидно, почему объектом государственного регулирования и/
или государственной собственности должны выступать имен-
но отрасли, в которых имеет место выгода от увеличения мас-
штаба производства или эффекты естественной монополии. Ка-
ким образом лица, определяющие политику, будут отличать при-
были, которые отражают естественномонопольные эффекты
и прочие «несовершенства», от прибылей, отражающих лучшее
предпринимательское предвидение? Особенности этих секторов
не допускают возникновения чего-либо, хоть отдаленно напо-
минающего совершенно-конкурентную структуру. Однако с по-
зиции, представленной Хайеком, это не обязательно означает,
что конкуренция неэффективна, и Стиглиц это признает. Хайек
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»... 55
отмечает: «Путаница между объективными условиями ситуации
и характером человеческой реакции на нее, похоже, скрывает от
нас то существенное обстоятельство, что конкуренция тем важ-
нее, чем сложнее или «несовершеннее» объективные условия,
в которых ей приходится действовать. Действительно, отнюдь
не считая конкуренцию полезной только тогда, когда она «совер-
шенна», я склонен утверждать, что она нигде так не необходима,
как в тех сферах, где характер товаров или услуг в принципе не
дает возможности создать совершенный рынок в теоретическом
смысле» (Hayek, 1948e: 103;Хайек, 2011: 124).
Например, в случае локальных или региональных естест-
венных монополий, таких как водо- и электроснабжение, может
оказаться так, что необходимая единица конкуренции является
иной. Конкуренция может существовать не в виде покупателей,
сталкивающихся с набором конкурирующих продавцов в опре-
деленной местности или регионе, а в виде конкуренции между
местностями и регионами с их разными «монопольными» по-
ставщиками. Конкуренция может происходить в тот момент, ког-
да люди «голосуют ногами» за ту или иную местность или реги-
он, где они изъявляют желание жить. Это с неизбежностью оз-
начало бы, что при покупке таких услуг «в нагрузку» продается
больше других услуг, чем в случае других рынков, и конкуренция
может быть относительно менее эффективной. Однако альтер-
нативой такому «несовершенству» является не большая конку-
ренция, а прямая государственная собственность или централи-
зованное назначение цен, которые могут еще больше сократить
сферу конкуренции.
Стиглиц настаивает на том, что, поскольку локальные или ре-
гиональные инфраструктурные компании могут быть переданы
в руки соответствующих органов власти и не быть едиными «на-
ционализированными» концернами, конкуренция может быть
сохранена в условиях государственной собственности. Однако
такое утверждение по необходимости исходит из посылки, что
территориальные пределы естественной монополии могут быть
установлены до того, как начнет действовать частный рынок. Без
рынка, на котором существует потенциал для входа новых участ-
ников и где более эффективные фирмы могут вытеснять кон-
курентов из бизнеса, действительный масштаб эффектов «ес-
тественной монополии» обнаружен быть не может. Для того
чтобы получить результаты, сопоставимые с результатами функ-
ционирования частного рынка, государственные поставщики
56 Часть I. Вызовы классическому либерализму
коммунальных услуг должны быть подвергнуты угрозе конкурент-
ного входа частных поставщиков на рынок и риску банкротст-
ва. Однако, как признает и сам Стиглиц, в условиях государствен-
ной собственности (даже если речь идет об органах публичной
власти самого нижнего, местного уровня) вход на рынок новых
участников, стремящихся бросить вызов естественным монопо-
листам, часто бывает запрещен (Stiglitz, 1994: 81). Еще более важ-
но то, что если должна допускаться возможность банкротства ин-
фраструктурных компаний, то трудно понять, почему соответст-
вующие риски должны нести налогоплательщики, а не частные
инвесторы. И что тогда остается от утверждения, что в данном
случае имеется поле деятельности для государственного вмеша-
тельства с целью «увеличения эффективности»?
Необходимо подчеркнуть, что государственная собственность
может подавлять технологические инновации, подрывающие ес-
тественные монополии. В условиях частной собственности появ-
ление большой прибыли может сигнализировать о потребности
в инвестициях в новые технологии, которые могут ослабить суще-
ствующие монопольные эффекты. Именно таким образом, по-ви-
димому, были разрушены монополии в сфере телекоммуникаций
с появлением новых цифровых и спутниковых технологий. В све-
те этого большие расходы на исследования и разработки, которые
Стиглиц считает барьерами, порождающими монополии, часто
служат средствами конкуренции, необходимыми для отражения
атак со стороны соперников, применяющих инновации. Напри-
мер, существуют доказательства того, что непропорционально
большая часть инноваций происходит в относительно меньших
фирмах, которые затем вырастают в значительно большие по ве-
личине концерны, способные бросить вызов действующим про-
изводителям (Mathews, 2006: Chapter 2). Там, где «барьеры для
входа» представляют собой действительные издержки, связан-
ные с запуском стартапов или получением информации, а не на-
вязываемые государством ограничения на торговлю и обмен, они
сами по себе не являются источником «провалов рынка». Капи-
тальные издержки и время, потребное для приобретения управ-
ленческого опыта и распространения в обществе знания о пред-
приятии или о новой технологии, представляют собой реальные
издержки, которые отражают либо подлинную редкость благ, ли-
бо издержки, уже понесенные существующими производителя-
ми. Этих издержек нельзя избежать с помощью государственных
мер, их можно лишь перераспределить в пользу менее успешных
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»... 57
фирм за счет более успешных. Если потенциальные новые участ-
ники рынка не могут позволить себе понести издержки конкурен-
ции с существующими производителями, то это свидетельствует
о том, что вход на рынок неприбылен и не должен происходить.
Большинство новых фирм в начальный период работают с убыт-
ком, но те, кому удалось найти действительную рыночную нишу,
впоследствии компенсируют эти убытки более высокой доходно-
стью. Вследствие этого нет никаких оснований для субсидирова-
ния вновь создаваемых фирм государством или предоставления
им иных привилегий за счет уже существующих участников рын-
ка (O'Driscoll and Rizzo, 1996: 152).
Эти соображения, вытекающие из позиции Хайека, являют-
ся одновременно аргументами против претензии Стиглица на то,
что, предоставляя соперничающим бюрократическим органам
внутри государственного сектора автономию в принятии реше-
ний, государство может достичь не худших результатов, чем част-
ная конкуренция. Такого рода предложения лишь перемещают
«проблему знания», с которой сталкивается централизованное
планирование, на другой уровень. Субъекты централизованного
планирования (государственные служащие и политики) не мо-
гут знать, каково оптимальное количество конкурирующих орга-
нов и кто должен быть участником конкуренции в том или ином
конкретном случае — это те самые факты, которым должна быть
предоставлена возможность выявиться в ходе процесса, идуще-
го «снизу вверх», когда множество разных индивидуальных и ин-
ституциональных инвесторов поддерживают за свой счет мно-
жество разных капитальных проектов и организационных форм,
в отношении которых потребители принимают решения, к ко-
му из них прийти и от кого уйти. Для того чтобы порождать ана-
логичный «процесс открытия», государственным предприятиям
потребуется свобода устанавливать по своему усмотрению цены
и условия занятости, возможность реинвестировать прибыли ту-
да, куда они сочтут целесообразным, и право поглощать или поку-
пать соперничающие организации без получения разрешения со
стороны центральной иерархии. Они также должны будут стал-
киваться со входом на рынок конкурирующих фирм, финанси-
руемых какими-либо из множества потенциальных инвесторов,
и с угрозой банкротства. Таким образом, аргументация Стигли-
ца уязвима для давления с двух сторон. Чем большая автономия —
право покупать, продавать и инвестировать по собственному же-
ланию — предоставляется государственным предприятиям, тем
58 Часть I. Вызовы классическому либерализму
больше они приобретают полномочий, характерных для частных
предприятий, и тем более убедительными становятся аргументы
в пользу их непосредственной приватизации. Однако чем мень-
ше автономии предоставляется государственным предприятиям,
тем больше они подчиняются политическому контролю со сторо-
ны разных уровней государственного управления и тем с больши-
ми шансами они окажутся обременены проблемами, характерны-
ми для системы централизованного планирования.
«Привязка», зависимость от прошлой траектории
и макроэкономические провалы
Пример сетевых отраслей, таких как компьютерное программ-
ное обеспечение, демонстрирует целый ряд новых проблем, свя-
занных с представлениями Стиглица о конкуренции. Эмпири-
ческие и теоретические основы тезиса о «привязке» были под-
вергнуты критике Лейбовицем и Марголисом (Leibowitz and
Margolis, 1990, 1994). Используя данные об отраслевой струк-
туре и результаты исследований руководств для пользовате-
лей, они выяснили, что существование случаев, когда «привяз-
ка» уничтожает эффективную конкуренцию, ничем не подтвер-
ждено, зато имеются многочисленные свидетельства того, что
потребители делают выбор отнюдь не в пользу продуктов, к ко-
торым они «не привязаны». В «наихудших» сценариях потреби-
тели могут не иметь четко выраженных предпочтений в пользу
того или иного продукта, и при этом мнение профессионалов по
поводу достоинств последних может резко разделиться, как это
имеет место в широко известных случаях вроде выбора между
форматами клавиатуры QWERTY и DVORAK. Хотя на этих рын-
ках существуют сетевые эффекты, у предпринимателей остается
возможность инициировать создание новых сетей или нишевых
сетей для особых подмножеств потребителей, и эти сети могут
впоследствии свести на нет преимущества существующих сетей.
Но даже если бы свидетельства существования «провалов
рынка» в вышеупомянутых случаях получили подтверждение, со-
вершенно неочевидно, что при переходе к политическим реко-
мендациям из этого вытекали бы интервенционистские выво-
ды. Нормативный вывод из тезиса о сетевых экстерналиях со-
стоит в том, что государство должно «замедлять работу рынка»,
чтобы сохранять разнообразие продуктов и не допускать «при-
вязки» людей к продуктам более низкого качества. Однако эти
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»... 59
доводы основаны на бездоказательном предположении, что ли-
ца, определяющие политику, могут знать, в какой момент следу-
ет «замедлить работу рынка» и какой именно «степени разноо-
бразия» нужно достичь. Тезис о сетевых экстерналиях увиливает
от ответа на вопрос, каким образом может быть оценена вероят-
ность того, что политическая мера сама может быть тем самым
«случайным событием» или «стечением обстоятельств», которое
привяжет общество к худшей траектории (Lewin, 2001). Если зна-
ние, необходимое для того, чтобы избежать «привязки», уже до-
ступно в готовом виде, то участники рынка также могут получить
к нему доступ и проблема не может возникнуть. Если же соответ-
ствующая информация не доступна ни одной конкретной группе,
то конкурирующие идеи должны быть подвергнуты сравнитель-
ной проверке. Аргумент в пользу рыночной экономики основан
на представлении, что предприниматели не обладают полной
информацией и, чтобы имело место обучение, различающие-
ся между собой интерпретации экономической среды должны
быть подвергнуты проверке. Нет гарантий того, что этот про-
цесс приведет к наиболее «эффективным» результатам, но сто-
ронники теории «провалов рынка», выступающие за государст-
венное вмешательство с целью противодействия эффекту «при-
вязки», не приводят никаких оснований для предположения, что
вмешательство, которое само по себе является монополистиче-
ским, «скорректирует» ошибки, о которых идет речь.
Аналогичные аргументы применимы в контексте кейнсиан-
ских макроэкономических приложений тезиса о зависимости
от прошлой траектории. Хотя рыночные акторы часто бывают
иррациональны и их поведение может порождать спекулятив-
ные пузыри и крахи, из этого не следует, что действия государ-
ства могут исправить эти «несовершенства». Напротив, есть се-
рьезные основания считать, что люди, определяющие политику,
точно так же могут быть подверженными дефициту информации
и могут впадать в иррациональный энтузиазм или пессимизм1.
1 По-видимому, в период 2008—2010 годов правительства всех крупней-
ших демократических стран втянулись именно в такие панические меры
в ответ на финансовый кризис, последовавший за так называемым пузы-
рем «субстандартных» ипотечных кредитов — пузырем, в отношении кото-
рого есть основания считать, что он был вызван десятилетним периодом
исключительно мягкой денежной политики, проводившейся центральны-
ми банками. С другой стороны, делавшиеся министерством финансов США
апокалиптические заявления по поводу необходимости «беспрецедентного
60 Часть I. Вызовы классическому либерализму
Более того, они могут даже с большей вероятностью демонстри-
ровать такое поведение благодаря мажоритарной природе про-
цесса формирования государственной политики. Хотя «стадный
инстинкт» может быть очень сильным, рынки — именно пото-
му, что они не основаны на коллективных действиях и правиле
принятия решений большинством, — могут оказаться в гораздо
меньшей степени подвержены процессам, порождающим зави-
симость от прошлой траектории. Наиболее успешные рыноч-
ные трейдеры — это те, кто «обыгрывает рынок», продавая, ког-
да все покупают, и наоборот, причем именно решения, принима-
емые этими немногочисленными предпринимателями вопреки
рыночному тренду, со временем могут приводить к процессу кор-
ректировки, который сближает ожидания с фундаментальны-
ми экономическими реалиями. Напротив, в контексте публич-
ной политики те, кто хотел бы следовать траектории, предпо-
читаемой меньшинством, не имеют такой возможности, потому
что, прежде чем будет осуществлена смена направления, требу-
ется поддержка большинства. В такой ситуации если большинст-
во (будь то большинство избирателей или большинство «экспер-
тов» по политическим мерам) следует иррациональному» курсу,
у инакомыслящих имеется сравнительно меньше возможностей
для таких действий, которые могли бы подтолкнуть к последую-
щей коррекции. Нельзя исключить возможность «системного»
провала рынка, когда все важнейшие игроки — такие как банки
и институциональные инвесторы — делают одни и те же ошиб-
ки, но возможность такого провала может быть увеличена, если
преобладающее мнение большинства подкреплено силой закона
(Friedman, 2009).
Благодаря неопределенности и неполной информации ма-
кроэкономические колебания могут быть неустранимой харак-
теристикой рыночной экономики, но с хайекианской точки
зрения эти колебания лишь усиливаются централизованными
вмешательства» в рынок закладных, похоже, еще больше усиливали общую
финансовую панику. А с третьей стороны, после того как критическая мас-
са лиц, определяющих политику, публично поддержала это вмешательство,
многие другие последовали этому примеру, вероятно, опасаясь, что их ста-
нут изображать как сторонников «ничегонеделания». Здесь нет возможно-
сти давать дальнейшие комментарии по поводу вероятных последствий этих
мер, но, по крайней мере, то, как политики отреагировали на эти события,
по-видимому, хорошо иллюстрирует тезис, что проявления «стадного ин-
стинкта» вовсе не ограничиваются рынками.
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»... 61
действиями государства. Хотя участники рынка, стремясь спра-
виться с неопределенностью, могут следовать «стадным» конвен-
циям, в условиях «свободного рынка» эти конвенции возникают
через децентрализованный процесс проб и ошибок, в котором те
акторы, которые нарушают эти конвенции и изменяют деловые
практики в соответствующем направлении, могут получить при-
быль. Напротив, хотя лица, определяющие политику, такие как
министры финансов и руководители центральных банков, в со-
стоянии воздействовать на работу рынков — путем контроля над
денежной массой, установления процентных ставок, регулирова-
ния финансовых продуктов и раздувания государственных расхо-
дов, — эти централизованные действия не подвержены одновре-
менной конкуренции со стороны соперничающих агентов, и их
успех либо провал в том, что касается соответствия субъектив-
ных интерпретаций фундаментальным условиям, не может быть
оценен на основе подсчета прибылей и убытков (Butos and Кор-
pl, 1997; Butos, 2003; O'Driscoll and Hoskins, 2006). В этой связи
очень важно, что многие серьезные ситуации финансовой нес-
табильности совпадают во времени не с периодами laissez faire,
а с периодами усиливающегося движения к централизации ре-
гулирования сферы финансов и денег. Например, Федеральная
резервная система США была создана для преодоления предпо-
лагаемых «недостатков» децентрализованной системы частных
«клиринговых» ассоциаций, существовавшей в XIX веке. Одна-
ко, оказавшись неспособной выполнить свою ключевую задачу
предоставления ликвидности во время банковских «кризисов»,
она была вынуждена «дирижировать» самой тяжелой депрессией
в истории страны (Butos and Koppl, 1997; Butos, 2003; O'Driscoll
and Hoskins, 2006).
Недавние события также могут служить подтверждением
правильности приведенного анализа. Мировой финансовый
кризис 2008 г., как может быть доказано, стал следствием серии
предшествующих интервенций со стороны государства, кото-
рые увеличивали потенциал системного краха финансовых рын-
ков (Friedman, 2009). К их числу относятся: решение монополь-
ных центральных банков поддерживать процентные ставки на
уровне гораздо более низком, чем было оправдано действитель-
ным уровнем частных сбережений, причем на протяжении дли-
тельного времени (Gjerstad and Smith, 2009); регуляторное и фи-
скальное стимулирование поддерживаемых государством ипотеч-
ных компаний к смягчению условий выдачи кредита на покупку
62 Часть I. Вызовы классическому либерализму
жилья семьям с низкими доходами (Wallison, 2009); нормы регу-
лирования капитала, исполнение которых обеспечивалось на
международном уровне, побуждавшие банки секьюритизировать
рискованные закладные (Jablecki and Machaj, 2009); и создание
защищенных законом монополий в бизнесе, связанном с оцен-
кой кредитных рейтингов, так что финансовый успех и репута-
ция рейтинговых агентств определялись не качеством оценки
ими рисков, а фактически полной защищенностью от конкурен-
ции (White, 2009). В каждом из этих случаев гомогенизирующий
эффект централизованно принимаемых мер мог привести к по-
вышению системных рисков. Сам смысл таких мер состоит в том,
чтобы уменьшить гетерогенность поведения, которую в против-
ном случае демонстрировали бы рассредоточенные центры пол-
номочий по принятию решений, совокупность которых и состав-
ляет рыночную экономику1. Данный аргумент не подразумевает,
что системный «провал рынка» не сыграл никакой роли в кризи-
се, но такой провал мог быть в значительной степени усилен сис-
темными провалами в структуре централизованно определяемой
денежной и регуляторной политики2.
1 Это не значит, что государственное регулирование устраняет всякую ге-
терогенность. Например, в случае банковской отрасли существуют доказа-
тельства того, что значительное число организаций старались избегать без-
ответственных практик в кредитовании, предпочитая более консерватив-
ный подход (Friedman, 2009: 153—154). Главная мысль здесь состоит в том,
что государственное регулирование сокращает диапазон этого разнообра-
зия. Гомогенизирующее воздействие особенно сильно проявляется в тех
случаях, когда регуляторное предписание требует на законных основаниях
выполнения конкретного вида действия, но оно существенно и тогда, когда
регуляторная норма хотя и не предписывает определенного поведения, но
поощряет акторов к «стадным реакциям». Явления последнего рода, по-ви-
димому, особенно заметны в сфере бизнеса по составлению кредитных рей-
тингов, где наделение финансовыми регуляторами малого числа рейтинго-
вых агентств привилегированным статусом побудило большое количество
финансовых институтов исходить из предположения, что кредитные рей-
тинги, назначаемые этими организациями, не должны вызывать никаких
сомнений (Friedman, 2009; White, 2009).
2 Критикуемую здесь позицию не спасает аргумент, подобный приводи-
мому Стиглицем (Stiglitz, 2009), что финансовому кризису способствовало
господство «консервативной идеологии», поощряющей образ мышления
в духе laissez faire среди регуляторов, и «вседозволенность» на финансовых
рынках. С одной стороны, утверждение, что финансовые рынки были «не-
регулируемыми», не соответствует действительности. Скорее можно утвер-
ждать, что финансовый кризис был следствием «зарегулированности» в од-
них сферах, вроде законодательной защиты от конкуренции, предостав-
ленной рейтинговым агентствам, и «недорегулирования» в других сферах,
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»... 63
Непонимание роли цен
Неспособность понять значение «проблемы знания», о чем сви-
детельствуют взгляды Стиглица на конкуренцию и сети, отража-
ется также и на его анализе системы цен. Предположение, что
рынки ведут к недопроизводству информации, поскольку цены
позволяют акторам бесплатно пользоваться данными, получе-
ние которых требует издержек, исходит из неверного понима-
ния природы «проблемы знания». Гроссман и Стиглиц (Gross-
man and Stiglitz, 1980) мыслят прибыль как вознаграждение за
сопряженное с издержками нахождение информации, а пробле-
му «неполной» информации связывают с отсутствием стимулов
к добыванию дополнительного знания, про которое, тем не ме-
нее, «известно», что оно в принципе доступно. В модели «раци-
ональных ожиданий» исключена возможность ошибки в чистом
виде. Предполагается, что все возможные ошибки уже предвиде-
лись, но было сочтено, что издержки на то, чтобы их избежать,
не окупятся. Этот подход отражает более общую тенденцию нео-
классических теорий моделировать проблемы неопределенно-
сти и неполной информации в терминах теории вероятностей.
Ввиду этого акторы оказываются способны при принятии тех
или иных своих решений приписывать вероятности набору воз-
можных рыночных исходов. Однако для Хайека главная функ-
ция сигналов в виде прибыли и убытка заключается в том, чтобы
оповещать участников рынка о непредвиденных возможностях
например, ослабления ограничений на кредитование домохозяйств с низ-
кими доходами. С другой стороны, представим себе, что идеология облада-
ет таким большим влиянием, как утверждает Стиглиц. Нет никаких основа-
ний для веры в то, что если бы регуляторы находились под влиянием интер-
венционистской или «социал-демократической» идеологии, то вероятность
«системного провала» была бы меньше. Фундаментальная проблема, с кото-
рой сталкиваются такого рода регуляторы, состоит в том, чтобы в условиях
неопределенности и неполного знания принять решение о том, какое имен-
но регуляторное вмешательство будет наиболее эффективным. В отсутствие
конкурентного процесса, который дал бы возможность сравнительной про-
верки на практике соперничающих моделей регулирования, введение силой
закона одного конкретного набора регулирующих норм увеличивает шансы
системного провала в случае, если внедрена неверная модель. Довод в поль-
зу «свободных рынков» состоит не в том, что не должно быть никакого регу-
лирования и акты обмена должны происходить в институциональном вакуу-
ме, а в том, что должна существовать конкуренция между разными стандар-
тами регулирования. Монопольный контроль над моделью регулирования
не исключает возникновения в будущем системных провалов, он увеличива-
ет вероятность такого провала.
64 Часть I. Вызовы классическому либерализму
и обстоятельствах — это проблема «радикального незнания», ко-
торая не может быть описана моделью рационального «поиска»
(Lavoie, 1985; Kirzner, 1992; Thomsen, 1992; Boettke, 1997). Набор
вариантов, которые может выявить рыночный процесс, и адап-
тационных действий, которых эти варианты могут потребовать,
не может быть проанализирован с помощью вероятностей. Дело
не только в том, что акторы не знают, какая из «данного» множе-
ства возможностей реализуется в будущем, а еще и в том, что са-
мо множество неограниченно и потому не может быть известно
(O'Driscoll and Rizzo, 1996: 4).
В рамках этого контекста знание того типа, который инте-
ресует Хайека, состоит из неявных «суждений» и субъективных
«догадок», имеющихся у акторов в отношении потенциальных
возможностей и возникающих на основе «опыта» работы в кон-
кретном бизнесе или профессии. Хайековская «проблема зна-
ния» относится также к предпринимательскому воображению,
когда, столкнувшись с одним и тем же набором данных, одни ак-
торы видят открывающиеся возможности, а другие не видят ни-
чего. Именно неспособность «собрать» и централизовать ин-
формацию такой природы, независимо от того, какие при этом
есть стимулы, поощряющие «поиск», может объяснять относи-
тельную неудачу социалистических экономических систем. Зна-
ние такого рода находится в умах индивидов, воплощено в куль-
турных практиках и процедурах различных организаций и в их
приемах работы. Это знание не сталкивается с проблемой «без-
билетника», поскольку оно в любом случае является «бесплат-
ным» для тех, кто им обладает.
В соответствии с хайековским пониманием система цен
функционирует в условиях, для которых с неизбежностью ха-
рактерно неравновесие, потому что знание рассредоточено
среди конкурентов неравномерным и неравным образом и не
является мгновенно доступным для всех. Именно реагируя на
частное восприятие рыночных возможностей, предпринима-
тельские действия выступают двигателем процесса обучения
по мере того, как сигналы, получаемые в форме прибыли, и из-
менения в ценовых данных распространяются по взаимно пе-
ресекающимся полям зрения соседствующих друг с другом ры-
ночных акторов. Эти процессы происходят пошагово, малы-
ми приращениями, поскольку реагирование требует времени,
и каждый предприниматель или фирма, включенные в соответ-
ствующую цепочку событий, отличаются друг от друга в своих
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»... 65
оценках и способах реагирования на новые ситуации и меняю-
щиеся данные. Хотя акторы могут учиться у своих конкурентов,
копируя и имитируя их успешные действия, способность пра-
вильно применять релевантные знания приобретается через
опыт и, по крайней мере первоначально, ограничивается теми,
кто погружен в конкретные личные и организационные пра-
ктики. В условиях, когда знание рассредоточено, а обучение пу-
тем имитации занимает некоторое время, у «первопроходцев»
всегда есть преимущества, связанные с тем, что действия осу-
ществляются на основе частной информации, и потому эти ак-
торы получают больший выигрыш (прибыль) прежде, чем кон-
куренты успевают адаптироваться к соответствующим данным.
Разумеется, на практике предпринимательская деятельность на
рынках сочетает информацию, обнаруженную в ходе сознатель-
ного поиска, и знание, зависящее от частного контекста, полу-
чаемое на основе опыта и применения творческого воображе-
ния. Следовательно, знание очень редко, если вообще когда-ли-
бо, бывает коллективным благом в неоклассическом смысле
этого термина (Mathews, 2006: 57)1.
Признание того, что рыночные цены всегда в той или иной
степени неравновесны, не означает косвенного отрицания ин-
формационной роли цен, на которую указывает Хайек. Сторон-
ники теории провалов рынка интерпретируют Хайека таким
образом, будто он утверждает, что ценовые сигналы представля-
ют собой единственный тип информации, в которой нуждают-
ся акторы для принятия решений. Согласно Гроссману и Сти-
глицу, если цены не находятся в равновесии, то они не могут
выполнять эту функцию, поскольку акторы не могут распознать,
1 Следует отметить, что модель рыночных цен, основанная на «концеп-
ции безбилетника», является сомнительной, даже если исходить из ее собст-
венных оснований. Для того чтобы вывести заключение, что неинформиро-
ванные участники рынка могут в качестве «безбилетников» воспользоваться
усилиями тех, кто занимался поиском информации с ненулевыми издержка-
ми, Гроссман и Стиглиц предполагают, что цены мгновенно адаптируются
к равновесию с полной информацией. Однако, как указывает Стрейт (Streit,
2984: 393—394), этот результат нереалистичен, поскольку исходит из допуще-
ния, что трейдеры не могут извлечь прибыль из своей информации прежде,
чем она станет более широко доступной. Только через процесс покупки по
более низкой цене и продажи по более высокой — то есть через извлечение
прибыли из «поиска» — рынок оповещается о вновь обнаруженных сведени-
ях. Но при равновесии по определению отсутствует какая-либо возможность
для такого рода торговли (Thomsen, 1992: 28—29).
66 Часть I. Вызовы классическому либерализму
вызвано ли повышение цены предпринимательской ошибкой,
в результате которой выросла цена покупки на конкретный ак-
тив или товар, или же оно отражает фундаментальные харак-
теристики спроса и предложения. В отсутствие совершенных
фьючерсных рынков акторы не могут знать и того, отражают ли
цены в большей степени краткосрочные или же долгосрочные
изменения в фундаментальных условиях. В рамках такой интер-
претации цены являются «слишком грубым» сигналом, чтобы
принести сколько-нибудь существенную пользу акторам, прини-
мающим решения (Stiglitz, 1994: 93—95).
Однако проблема с этим рассуждением в духе теории прова-
лов рынка состоит в том, что аргумент Хайека состоит вовсе не
в том, что цены предоставляют всю необходимую информацию,
а в том, что без ценовых сигналов, генерируемых децентрализо-
ванными рынками, принимать решения было бы гораздо труд-
нее (Lavoie, 1985; Thomsen, 1992). Цены не действуют как «при-
казы на марш», предписывающие людям, как им действовать,
а предоставляют акторам, принимающим решения, ценные под-
сказки, уменьшают количество деталей, необходимых для фор-
мулирования их планов (Thomsen, 1992: 50—51). Поскольку ре-
шения, ориентированные на будущее, постепенно и пошаго-
во вырастают из прошлых решений, текущие рыночные цены
(прибыли и убытки) действуют как «вспомогательные средства
мышления», которые помогают людям формулировать предпо-
ложения относительно будущего хода событий и того, как следу-
ет к ним адаптироваться. В то же время «разделение знания», во-
площенное в системе цен, отражает действия распределенных
предпринимателей, которые специализируются на конкрет-
ных рынках и комбинируют информацию, почерпнутую из цен,
с иной и более детальной неценовой информацией, приобре-
таемой благодаря опыту в конкретной сфере деятельности. На-
пример, предприниматели могут применять свои знания о тех-
нологических новшествах или о тенденциях в местной культу-
ре для того, чтобы выносить суждения о причинах повышения
цен и о том, как долго оно скорее всего продлится. Их после-
дующие предположения и прогнозы затем проверяются с помо-
щью подсчета прибылей и убытков, и те, кто более точно про-
интерпретировал рыночные условия, получают больше всего
денег и в большей степени могут контролировать последующее
направление движения рынка. Хотя ценовые сигналы, поро-
ждаемые этой построенной на пробах и ошибках конкуренцией
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»... 67
между предпринимателями-специалистами, далеки от «совер-
шенных», они вполне пригодны для того, чтобы дать возмож-
ность большинству других акторов, у которых нет специализи-
рованных знаний о конкретных рынках, адаптироваться к из-
меняющимся условиям спроса и предложения, о которых они
могут быть сравнительно мало осведомлены. Утверждать, что
рынки «терпят провал» из-за того, что транслируемое ими зна-
ние «слишком грубо», означает просто-напросто подразумевать,
что было бы лучше, если бы люди были всеведущими (Friedman,
2006: 483—496). Но сторонники теории провалов рынка никак
не объяснили, каким образом процесс централизованного вме-
шательства может лучше, чем «несовершенные» рынки, спра-
виться с отсутствием всеведения, характерным для «реально-
го мира» человеческих взаимодействий. Сам Стиглиц признает:
«Полномасштабная корректирующая политика будет включать
в себя налоги и субсидии, применяемые практически ко всем то-
варам и основанные на оценке эластичностей спроса и предло-
жения для всех товаров (а также всех перекрестных эластично-
стей). Информация, которая потребуется для осуществления на
практике корректирующего налогообложения, выходит далеко
за пределы того, что доступно в настоящее время» (Stiglitz, 1994:
43). Можно лишь добавить, что такое знание никогда не может
стать доступным для центрального органа власти. Поэтому труд-
но понять, что именно «новый» взгляд на провалы рынка при-
вносит нового в дискуссию о практической политике и почему
в той мере, в какой он предлагает доводы в пользу государствен-
ного вмешательства, он не совершает ту же ошибку, связанную
с представлением о знании как о чем-то «данном в готовом виде»,
которая была мишенью критики, выдвинутой Хайеком против
более ортодоксальных версий неоклассической теории.
Рынки, предпринимательское регулирование
и асимметричная информация
Если посмотреть сквозь призму концепции Хайека на явления
информационной асимметрии, которые, по заявлению Сти-
глица, подрывают эффективность системы цен, то соответст-
вующие затруднения также должны разрешаться через процесс
конкуренции на основе проб и ошибок. Хотя рынки с асимме-
тричной информацией представляют проблему для покупате-
лей и продавцов, они одновременно порождают динамические
68 Часть I. Вызовы классическому либерализму
реакции со стороны тех, кто стремится получить прибыль, об-
легчая обмен. Как показывают Стекбек и Бёттке (Steckbeck and
Boettke, 1994) в своем исследовании рынков в интернете — где
можно ожидать ярко выраженной асимметрии информации
(многие обмены совершаются между практически анонимны-
ми акторами при минимальном государственном регулирова-
нии) — прибыли, которые можно получить путем предостав-
ления безопасных и защищенных условий для обмена между
людьми, привели к тому, что предприниматели стали сопер-
ничать друг с другом, предоставляя дешевые частные системы
верификации. К числу последних относятся предоставление
историй онлайновых взаимодействий, репутационные рейтин-
ги продавцов и применение санкций против тех, кто нарушает
правила конкретных сетей продажи. Теория провалов рынка
предсказывает, что обмен на таких рынках будет незначитель-
ным, что его практически не будет, но масштабный рост онлай-
новых продаж дает эмпирическое подтверждение идеи, что ры-
ночная конкуренция более робастна, чем это следует из нео-
классических моделей.
В других случаях дополнительные возможности для получе-
ния выгод от обмена обнаруживаются предпринимателями, ко-
торые специализируются на проверке добросовестности дру-
гих и создают соответствующие рынки, добиваясь хорошей ре-
путации в качестве стороны, предоставляющей надлежащий
уровень гарантий. Институциональные инновации, такие как
торговые марки, франчайзинг и простые приемы создания ре-
путации, вроде гарантии возврата денег, являются примерами
того, каким образом предприниматели конкурируют за удовлет-
ворение потребителей по множеству разных параметров, вклю-
чая репутацию и этику. Аналогичным образом применительно
к «отрицательному отбору» возникли агентства, специализиру-
ющиеся на проверке уровня рисков, связанных с покупателя-
ми страховок, и других аналогичных услугах1. Так, эмпириче-
1 Можно было бы выдвинуть аргумент, что неспособность кредитных
рейтинговых агентств адекватно оценивать риски и связанная с этим роль,
которую они сыграли в финансовом кризисе 2008 года, лишает силы до-
вод, что конкуренция за репутацию может помочь преодолеть проблемы
асимметрии информации и отрицательного отбора. Однако такое заклю-
чение было бы ошибочным. Как ранее было отмечено, кредитные рейтин-
говые агентства были защищены от конкуренции государственными по-
ручениями, обеспечивавшими постоянный поток доходов признанным
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»... 69
ский анализ рынков, по поводу которых выдвигались гипотезы
об информационной асимметрии, таких как рынок подержан-
ных автомобилей, практически никак не подтверждает теоре-
тические заявления о том, что конкуренция ведет к ухудшению
качества продуктов (Bond, 1984; Bereger and Udell, 1992). Точ-
но так же анализ рынков медицинских услуг и других страхо-
вых продуктов не смог обнаружить каких-либо доказательств,
позволяющих утверждать, что отрицательный отбор препятст-
вует эффективному функционированию таких рынков (Browne
and Dorphinghaus, 1993; Cawley and Philipson, 1999; Chiappore
and Salanie, 2000). Там, где неоклассическая теория характери-
зует создание репутации и другие предпринимательские отве-
ты на «провалы рынка» как «расточительство», поскольку они
отвлекают ресурсы от непосредственного производства, с пози-
ции, разрабатывавшейся Хайеком, конкуренция по этим пара-
метрам является деятельностью, создающей дополнительную
ценность, которая помогает преодолеть, пусть и «несовершен-
но», условия «реального мира», отклоняющиеся от модели об-
щего равновесия. По существу теория провалов рынка не дает
никаких оснований полагать, что издержки на преодоление ин-
формационной асимметрии были бы меньшими в случае госу-
дарственной собственности или регулирования.
Искаженное изложение Коуза и игнорирование теории
общественного выбора
Наконец, еще одной слабой стороной новых представлений
о провалах рынка является пренебрежение открытиями, сде-
ланными в рамках школ прав собственности и общественного
выбора. В частности, Стиглиц оспаривает аргументацию Коу-
за в пользу эффективности частной собственности на том осно-
вании, что тот игнорирует транзакционные издержки, пробле-
му «принципал-агент» и информационную асимметрию, харак-
терные для рыночных процессов в «реальном мире». Он пишет:
рейтинговым фирмам, причем независимо от результатов их деятельности.
Именно привилегии, предоставленные законом этим фирмам, ограничи-
вали вход в рейтинговый бизнес и тем самым сокращали возможность для
входа на рынок альтернативных моделей оценки риска и подрывали сти-
мулы к тому, чтобы существующие фирмы продолжали наблюдать за воз-
можностями, возникающими благодаря конкурирующим моделям бизнеса
(Friedman, 2009; White, 2009).
70 Часть I. Вызовы классическому либерализму
«Коуз ошибался, предполагая, что не существует транзакцион-
ных и информационных издержек. Однако центральный аргу-
мент его книги состоит в том, что информационные издержки...
распространены повсеместно. Предположение об отсутствии
информационных издержек при анализе экономического пове-
дения и экономической организации подобно постановке «Гам-
лета» без Гамлета» (Stiglitz, 1994: 174).
Но Стиглиц, судя по всему, не слишком внимательно читал
Коуза и, по сути дела, полностью исказил его позицию. На самом
деле Коуз (Coase, 1989: 179; Коуз, 2007:166) писал на эту тему сле-
дующее: «Причина заблуждения экономистов была в том, что их
теоретическая система не учитывала фактор, весьма существен-
ный для того, кто намерен изучать воздействие изменений за-
конов на размещение ресурсов. Этот неучтенный фактор и есть
транзакционные издержки».
Едва ли Коуз мог бы более ясно выразить свое понимание то-
го, что транзакционные издержки не равны нулю и положитель-
ны в любых институциональных условиях (см. также Coase 1960;
Medema, 1994; Коуз, 2007: 92—149). Довод Коуза в пользу прива-
тизации основывается на выводе из сравнительного институци-
онального анализа, подкрепленном теорией общественного вы-
бора, что проблемы, связанные с коллективными действиями
и информационной асимметрией, как правило, гораздо более
ярко выражены в государственном секторе, чем в частном. Вза-
имоотношения агента и принципала не приводят к неэффектив-
ности в рамках частных рынков. Например, в акционерных ком-
паниях акционеры сталкиваются с проблемой «безбилетника»,
когда дело доходит до применения санкций против плохого ме-
неджмента ввиду того факта, что выигрыш от улучшения резуль-
татов работы компании распределяется среди большого коли-
чества рассредоточенных собственников. Однако на рынке эта
проблема не столь существенна, так как у отдельных собствен-
ников остается вариант продажи акций компании, показываю-
щей плохие результаты, и покупки акций более результативных
компаний и/или инвестирование своих средств в альтернатив-
ные организационные структуры, например в фирмы, управ-
ляемые собственниками, или в такие компании, где акционер-
ные доли сконцентрированы в руках сравнительно небольшо-
го числа институциональных инвесторов. Кроме того, у людей
есть серьезные стимулы к тому, чтобы собирать больше инфор-
мации о решениях, принимаемых фирмами на рынках, и таким
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»... 71
образом уменьшать информационную асимметрию, поскольку
возможность индивидуальных решений о покупке и продаже иг-
рает ключевую роль в формировании характера продукта, кото-
рый они получают, а издержки ошибок, совершаемых при его
покупке, непосредственно отражаются на чистой величине их
богатства.
Напротив, в рамках политического процесса «уход» невоз-
можен, и поэтому решения о добывании информации облада-
ют характеристиками коллективного блага. Решение индиви-
да о сборе информации, относящейся к качеству предлагаемых
политических мер, не играет решающей роли в процессе фор-
мирования того, что он в итоге получит — этот итог полностью
является функцией того, как проголосует преобладающее боль-
шинство. Поэтому для избирателей неосведомленность в от-
ношении политической информации является рациональной,
и этот стимул еще больше усиливается издержками, связанными
с характером политического процесса, в рамках которого имеет
место «покупка» не отдельных мер, а их «комплектов» [bundle
purchase]. Избиратели не могут выбирать между последователь-
ностями дискретных вариантов политических мер, каждой из
которых приписана соответствующая цена (как это происходит,
когда частные агенты адаптируют к требованиям заказчика ком-
плекты продаваемых товаров и услуг), а должны избирать поли-
тиков, чтобы те их представляли по отношению ко всем вари-
антам политического вмешательства. Хотя продажа услуг в ком-
плекте встречается и на некоторых частных рынках, на которых
отсутствуют условия для «совершенной конкуренции», этот фе-
номен там обычно гораздо менее ярко выражен, чем в сфере по-
литики, основанной на представительстве. Обширность ком-
плектов политических мер, о которых идет речь, делает для из-
бирателей задачу выработки суждений о том, какие конкретные
меры приведут к успеху или провалу, гораздо более трудной, чем
задача оценки достоинств продаваемых на рынке продуктов или
сравнения доходности инвестиций, с которой сталкиваются
частные потребители (Tullock, 1994; Somin, 1998). Эти пробле-
мы еще больше усиливаются тем, что в случае отношений с поли-
тиками отсутствуют подлежащие принудительному исполнению
контракты и гражданско-правовые средства судебной защиты от
обмана, подобные тем, что могут быть применены потребите-
лем против производителей рыночных продуктов. Учитывая все
эти соображения, трудно понять, на каком основании Стиглиц
72 Часть I. Вызовы классическому либерализму
может утверждать, что нет никакой разницы в масштабе пробле-
мы «принципал-агент» в государственном и частном секторе.
Эволюция, сравнительный анализ
институтов и экономические доводы в пользу
классического либерализма
Эта глава началась с замечания, что экономические доводы
в пользу классического либерализма почерпнуты из принци-
пов робастной политической экономии и анализа на основе
идеальных типов. Эти принципы требуют проверки того, как
и почему те или иные институты справляются с возникающи-
ми в «реальном мире» обстоятельствами, отклоняющимися от
теоретических идеалов, таких как модель равновесия в услови-
ях совершенной конкуренции. Аргументы, выдвинутые против
«старого» и «нового» вариантов теории провалов рынка, подра-
зумевают эволюционную картину рыночного процесса. С пози-
ций классического либерализма рыночные институты заключа-
ют в себе ценные механизмы отбора, которые позволяют людям
справляться с проблемой знания и с возможностью поведения,
мотивированного эгоистическими интересами. Тем не менее,
завершая этот рассказ, важно представить в более явном виде
основания для таких заявлений, поскольку применение эволю-
ционных критериев в политической экономии не всегда являет-
ся безоговорочно общепринятым.
Классический либерализм против ошибки Панглосса
Безусловно, самым важным обвинением, выдвигаемым против
эволюционных аргументов, и в частности против аргументов
в защиту рынков, является то, что они тяготеют к ошибке Пан-
глосса. Последняя состоит в утверждении, что все, что есть, по-
лучилось в результате эволюции, а все, что получилось в резуль-
тате эволюции, с необходимостью представляет собой наиболее
желательное или наиболее эффективное положение дел.
Критики утверждают, что эволюционные аргументы сжима-
ются до чисто дескриптивного описания, которое низводит ана-
лиз политики к пассивному наблюдению. Согласно этому пред-
ставлению, если силы эволюции гарантируют наиболее жела-
тельные и эффективные результаты, то на долю тех, кто бросает
вызов сложившемуся положению дел, не остается никакой или
Глава 2. "Провалы рынка, «старые» и «новые»... 73
почти никакой роли. Но затем критики отмечают, что процессы,
основанные на конкурентном отборе, не обязательно приводят
к оптимальным или эффективным результатам. Наоборот, эво-
люционные процессы подвержены действию случайных факто-
ров и из-за эффекта зависимости от прошлой траектории могут
оказаться «захваченными» неоптимальной траекторией. Кроме
того, считать ли, что эволюция приводит к желательным резуль-
татам, или не считать, зависит от рассматриваемого критерия
отбора. Выражения вроде «выживание наиболее приспособлен-
ных» тут мало чем могут помочь, если отсутствуют нормативные
основания для предпочтения конкретного критерия, определя-
ющего значение слов «наиболее приспособленный». Например,
институты, в рамках которых «наиболее приспособленными»
являются те, кто имеет относительные преимущества в приме-
нении насилия, могут и не считаться предпочтительными. Дру-
гой, но связанный с этим аргумент утверждает, что те, кто, по-
добно Хайеку, интерпретирует социальные и экономические ин-
ституты в терминах эволюции, впадают в «натуралистическую
ошибку», которая состоит в утверждении, что процессы, имити-
рующие естественную эволюцию в природе, являются «благом»
именно потому, что они «естественны».
Аргументы такого рода часто выдвигаются против примене-
ния понятия эволюции в социальной теории. В частном случае
экономического анализа Стиглиц осведомлен о том, что эволю-
ционные аргументы в защиту нерегулируемых рынков представ-
ляют собой подход, альтернативный неоклассическому мейн-
стриму, однако он утверждает, что такие построения претенду-
ют слишком на многое: «Как бы ни были важны эти аргументы,
они не основываются на ясно сформулированной динамической
теории, и нет никакого четко артикулированного нормативного
базиса для широко распространенной убежденности в желатель-
ности сил эволюции — как и для часто делаемого политическо-
го вывода, что государственное вмешательство в эволюционный
процесс будет бесплодным или, что еще хуже, будет представлять
собой шаг назад. Что означает слово «естественный»? Откуда мы
можем знать, является или не является тот или иной возмущаю-
щий фактор, который мы могли бы предложить — такой как уве-
личение или уменьшение роли государства, — частью «естествен-
ного» процесса эволюции?» (Stiglitz, 1994:275).
Хотя критика такого рода выдвигается довольно часто, она
представляет в искаженном виде использование эволюционных
74 Часть I. Вызовы классическому либерализму
принципов классическим либерализмом и их нормативное зна-
чение при выработке государственной политики. Первое, что
следует здесь подчеркнуть — что претензии классического либе-
рализма на самом деле очень скромны. Считается, что в слож-
ной среде, где пределы человеческого познания крайне огра-
ниченны, процессы, способствующие варьированию и конку-
рентному отбору, увеличивают шансы на то, что будут открыты
новые решения человеческих проблем, по сравнению с инсти-
тутами, сокращающими возможности «ухода» для производи-
телей и потребителей. Этот аргумент не подразумевает, что
процессы конкуренции всегда приводят к наиболее эффек-
тивным или наиболее желательным результатам. Можно со-
глашаться с тем, что рынки обременены теми проявлениями
«неэффективности», которые заботят экономистов неокласси-
ческого направления, и при этом утверждать, что эти процес-
сы могут быть лучше приспособлены к тому, чтобы находить
способы исправления собственных дефектов, чем альтернати-
вы, сокращающие пространство для конкурентного экспери-
ментирования. Последнее включает не только конкуренцию
в предложении различных благ и услуг, но и конкуренцию меж-
ду подходами к решению проблем, связанных с отношениями
«принципал-агент», асимметрией информации, отрицатель-
ным отбором и другими «провалами рынка». Рынок «терпит
провалы» потому, что его участники не обладают всеведением,
но предполагать, что плановики и политики способны преодо-
леть эти же самые ограничения без помощи аналогичного про-
цесса открытия путем проб и ошибок, значит наделять их спо-
собностью к «божественному видению».
Классический либерализм не только не подразумевает не-
критического одобрения статус-кво, но и обращается к эволюци-
онным принципам как к ключевой точке обзора, с которой мо-
жет быть поставлена под вопрос робастность существующих ин-
ститутов и практик. Как отмечает Хайек (Hayek, 1988: 25; Хайек,
1992: 46), эволюционные процессы в мире человека не являют-
ся «естественными» и имеют не дарвиновскую форму, а имитиру-
ют ламаркизм. В то время как дарвиновский процесс исключает
наследование приобретенных признаков, социально-экономиче-
ская конкуренция зависит от распространения практик, которые
не являются врожденными, а могут быть усвоены от бесчислен-
ного множества социальных акторов. Именно по этой причи-
не в отсутствие ограничений на конкуренцию социально-эконо-
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»... 75
мическая эволюция происходит с гораздо более высокой скоро-
стью, чем естественная или биологическая эволюция.
С точки зрения классического либерализма многие существу-
ющие практики должны быть оспорены именно потому, что они
не возникли посредством конкурентного процесса проб и оши-
бок, а были навязаны методами, ограничивающими сферу децен-
трализованного обучения. Например, в сфере денег и финансов
институт центральных банков и государственные монополии на
денежную эмиссию часто навязывались по политическим причи-
нам, в частности из-за желания правительств пополнять бюджет,
не прибегая к непосредственному налогообложению. Как указы-
вает Хайек (Hayek, 1988: 103; Хайек, 1992: 179-180), «правитель-
ства бесстыдно злоупотребляли [деньгами] чуть ли не с момента
их появления, так что они стали основной причиной расстройст-
ва процессов самоорганизации». Ввиду этого ключом к повыше-
нию финансовой стабильности в рыночной системе может быть
не нахождение новых методов, которыми правительства смогут
регулировать денежную массу, а подчинение конструирования
регуляторных механизмов процессу конкуренции, в ходе которо-
го институты, сознательно снижающие ценность своей валюты,
будут вытесняться из бизнеса теми, которые демонстрируют луч-
шую финансовую дисциплину.
Разумеется, идея, что общества могут функционировать на
принципах свободного обмена и конкуренции, выражаемых ме-
тафорой «невидимой руки», сама по себе является вкладом в «ге-
нофонд» идей. Социальная эволюция определяется битвой кон-
курирующих идей и может быть остановлена и даже повернута
вспять из-за человеческих ошибок. Поэтому здесь никоим обра-
зом не подразумевается, что «все сущее с необходимостью эффек-
тивно». На протяжении большей части человеческой истории
господствующей посылкой было то, что социальный порядок
может поддерживаться только путем применения произвольной
власти. Вклад классической либеральной традиции заключался
в доказательстве того, что это не так. По-видимому, рыночные
практики первоначально возникли благодаря исторической слу-
чайности, но именно признание впоследствии их преимуществ
привело классических либералов, таких как Смит, Юм и Хайек,
к аргументации в пользу целенаправленного установления сис-
темы, которая ликвидирует препятствия к будущему росту. Тот
факт, что зачастую трудно определить, какие именно институ-
ты были навязаны сверху, а не развились снизу, не уменьшает
76 Часть I. Вызовы классическому либерализму
ценности такого подхода. Поиск путей к тому, чтобы подверг-
нуть институты конкурентному процессу проб и ошибок, может
представлять собой более робастный метод, чем применение
неоклассической модели, которая в своих исходных посылках
исключает проблему знания и несовершенной мотивации.
Признание преимуществ процессов конкуренции не означа-
ет отрицания роли институционального проектирования. Нао-
борот, главной задачей является создание структуры, в рамках
которой эволюционные процессы могут быть поставлены на
службу ради достижения благотворного эффекта. Институты сле-
дует оценивать на основе предоставляемого ими диапазона воз-
можностей для нахождения потенциально лучших решений про-
блем и на основе их способности содействовать распростране-
нию успешных адаптационных изменений. Речь идет о степени,
в которой институты генерируют сигналы, идентифицирующие
случаи неэффективности, и о механизме отбора, отсеивающем
неудачные решения. С точки зрения классического либерализ-
ма институт рыночной экономики в условиях минимального го-
сударственного вмешательства обеспечивает ключевой аспект
такой структуры. Как показали Бьюкенен и Ванберг (Buchanan
and Vanberg, 2002: 126), отличительной особенностью такой сре-
ды является свобода вхождения в различные профессиональные,
территориальные, поведенческие и организационные категории
и ухода из них. Нормативным критерием отбора, на основе кото-
рого классический либерализм судит об «успехе» или «провале»,
является подсчет прибылей и убытков, являющихся результатом
имеющейся у потребителей возможности «уйти» от эксперимен-
тов, которые представляются им «провальными», и оказывать
покровительство тем, которые они оценивают как «успешные».
Поддержка «суверенитета потребителя» вытекает из признания
того, что в мире неопределенности, в котором нам не известно,
«кто лучше всех знает», «уход» увеличивает шансы на то, что лю-
ди смогут уйти от любой ошибки, которая уже произошла. С клас-
сической либеральной точки зрения в мире, где «эксперты» не
согласны друг с другом и где даже самым умным акторам по боль-
шей части не известны все сложные детали современной разви-
той экономики, мало оснований для того, чтобы предпочесть па-
терналистскую альтернативу1.
1 Последняя по времени попытка обосновать «патернализм» пришла из
поведенческой экономики [behavioural economics]. Согласно этой научной
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»... 77
Для эффективной работы рынкам нужна система прав соб-
ственности, однако условия, которые порождают эффективную
систему, могут быть охарактеризованы лишь в самом общем виде.
Таким образом, фокусировка на эволюционной природе рынков
применима также к институциональным нормам рыночной эко-
номики как таковой. Классический либерализм утверждает, что
процесс эволюционного обучения, протекающий в рамках рын-
ков, должен действовать на нескольких уровнях, так что люди мо-
гут входить в конкурирующие и зачастую взаимно пересекающи-
еся институциональные конструкции и покидать их (Buchanan
and Vanberg, 2002: 126). Различные варианты конституционного
устройства можно оценивать исходя из того, в какой степени они
ограничивают полномочия правительств, подвергая их конку-
ренции со стороны альтернативных систем правил. Однако ин-
ституциональная конкуренция между рынками и формирующи-
ми их правилами, вероятно, является менее эффективной, чем
конкуренция внутри рынков, так как в ней отсутствует прямой
эквивалент предоставляемого расчетом прибылей и убытков ме-
ханизма подачи сигналов и отбора. С классической либеральной
точки зрения это является одним из наиболее важных основа-
ний для того, чтобы ограничить роль государства сравнительно
небольшим числом функций, которые только оно может выпол-
нять. В конечном счете то, как именно будут проходить границы
школе, индивидуальные агенты склонны к разнообразным видам «иррацио-
нального поведения» и «когнитивных искажений» [«cognitive biases»], воз-
никающих из-за «слабоволия», а также испытывают трудности при обра-
ботке информации, и все это мешает им достигать удовлетворения своих
«истинных» предпочтений (см., например, Jills and Sunstein, 2006). Предпо-
лагается, что это «иррациональное» поведение может быть «скорректиро-
вано» с помощью должным образом разработанных мер государственного
вмешательства на основе информации, полученной от «экспертов». Одна-
ко фундаментальная проблема с такого рода аргументами состоит в том, что
они основаны на предположении, что знание о том, каковы истинные пред-
почтения людей и как «скорректировать» когнитивные искажения, не выз-
вав непреднамеренных негативных последствий, «дано в готовом виде» лю-
дям, осуществляющим соответствующую политику. Кроме того, в литерату-
ре этого направления игнорируется возможность того, что «эксперты», на
которых возложена обязанность «подталкивать» людей в нужном направле-
нии, сами не подвержены когнитивным искажениям — например, таким, как
преувеличение своих собственных способностей к исправлению чужих оши-
бок. Критику поведенческой экономики, вдохновленную подходом Хайека,
можно найти в работе Риццо и Уитмена (Rizzo and Whittman, 2008). В главе 6
этой книги содержится более детальное обсуждение этих аргументов в кон-
тексте социального государства.
78 Часть I. Вызовы классическому либерализму
между государственным и частным сектором, будет определяться
политическими суждениями, но если эти суждения будут призна-
вать роль конкуренции как «процесса открытия», то соответству-
ющие «линии» будут проведены совершенно иначе, чем если ли-
ца, определяющие политику, будут исходить из того, что знание,
необходимое для исправления «провалов» рынка, «дано в гото-
вом виде» тем, кто наделен политической властью.
Политический процесс и ошибка Панглосса
Прежде чем завершить эту главу, важно провести различие
между классической либеральной аргументацией в пользу «ми-
нимального государства» и теми теоретическими подходами,
которым действительно свойственно восприятие реальности
в духе Панглосса. В частности чикагская школа политической
экономии выводит заключения об эффективности из своей
приверженности центральному допущению неоклассической
экономической теории, а именно что агенты рационально мак-
симизируют полезность. В соответствии с таким рассуждением,
какие бы институты ни существовали в настоящее время и ка-
кие бы политические меры ни были приняты, они должны счи-
таться эффективными, поскольку в противном случае рацио-
нальные агенты, стремящиеся к экономии, произвели бы соот-
ветствующие изменения. Предполагать, что исходы могут быть
неэффективными, означало бы отказаться от представления,
что люди на деле являются рациональными агентами.
Такие аргументы первоначально выдвигались против тео-
рий «провалов рынка». Например, Демсец (Demsetz, 1969) дока-
зывал, что если информационные и транзакционные издержки
положительны, то неспособность интернализировать экстерна-
лии может и не представлять собой «провал рынка», а отражать
реальные издержки, которые не могут быть уменьшены более
эффективным образом. Пока не продемонстрировано, что не-
кая институциональная альтернатива не сталкивается с анало-
гичными издержками, нет оснований предполагать, что госу-
дарственное вмешательство улучшит «несовершенный» рынок.
Однако впоследствии этот аргумент был развернут на 180 граду-
сов такими теоретиками, как Уитмен (Wittman, 1995), который
оспорил анализ «провалов государства», предложенный вир-
джинской школой общественного выбора. Согласно Уитмену,
описания, даваемые теорией общественного выбора, не соот-
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»... 79
ветствуют базовым аксиомам неоклассической теории. Если не
отказаться от посылки о рациональном максимизирующем пове-
дении, то нет оснований полагать, что существующие структуры
государственной политики неэффективны. Проблемы отноше-
ний «принципал—агент» и феномен рациональной неосведом-
ленности избирателя в той мере, в какой они снижают действен-
ность демократической подотчетности, отражают реальные из-
держки, и нельзя просто исходить из допущения, что они могут
быть преодолены путем перехода к альтернативной институцио-
нальной структуре. Уитмен формулирует это следующим обра-
зом (Wittman, 1995: 2): «Практически все аргументы, утверждаю-
щие, что экономические рынки эффективны, в равной степени
применимы к демократическим политическим рынкам; и наобо-
рот, экономические модели провалов политического рынка не
более обоснованы, чем аналогичные аргументы, доказывающие
провалы экономического рынка».
Если довести выводы Уитмена до логического завершения,
то это будет означать отказ от сравнительного анализа инсти-
тутов ради того, чтобы сохранить внутреннюю согласованность
основ неоклассической теории. Например, трудно понять, на
каком основании можно было оспаривать утверждения об эф-
фективности советской системы до того, как коммунизм рухнул.
Система продолжала свое существование на протяжении 70 лет,
и отсутствие революций в этот период могло отражать то, что
с учетом всех выгод и издержек советская модель была более эф-
фективной с точки зрения достижения материального процве-
тания и социальной справедливости, чем любая реалистичная
альтернатива. Аналогичным образом упорное сохранение таких
видов политики, как торговый протекционизм и различные ви-
ды регулирования цен, которые многими экономистами счита-
ются очевидным доказательством «неэффективности», не могут
считаться неэффективными, если должным образом будут учте-
ны все издержки и выгоды, связанные с альтернативными фор-
мами перераспределения богатства.
Но на самом деле все это говорит о том, что должна быть при-
знана ограниченность базовых посылок неоклассической теории.
Аргумент в пользу классического либерализма с точки зрения ро-
бастной политической экономии утверждает, что люди не явля-
ются полностью рациональными, но рыночный процесс способ-
ствует обучению и более высокому уровню рациональности, чем
режим политического контроля. Будут ли эволюционные силы
80 Часть I. Вызовы классическому либерализму
создавать тенденцию к более эффективным исходам, зависит от
институционального контекста, в котором они действуют1. Пер-
вое и самое важное, что отличает «демократические рынки» от
«классических либеральных рынков» — это то, что первые заклю-
чают в себе высокую степень принуждения. Когда отдельные из-
биратели не могут выйти из отношений «принципал—агент» с по-
литиками, кроме как покинув страну, они, по существу, помимо
своей воли вовлечены в целый ряд проблем, связанных с коллек-
тивными действиями, и могут оказаться запертыми в ловушку не-
эффективных структур.
В терминах «проблемы знания» результативность политиче-
ского процесса ставится под сомнение, поскольку по сравнению
с рынками у него отсутствуют механизмы подачи сигналов и отбо-
ра, которые позволяют людям обучаться более эффективным ме-
тодам и практикам. Вряд ли можно говорить об эффективности,
когда нет ничего подобного расчету прибылей и убытков, позво-
ляющему участникам рынка выявлять источники неэффектив-
ности и менять свое поведение в сторону большей эффективно-
сти. Политики и государственные служащие не продают товаров
и услуг непосредственно гражданам своих государств и поэтому
не могут распознать экономическую ценность предоставляемых
ими благ. В рамках демократического процесса голос того, кто
ценит конкретное благо очень высоко, учитывается на равных
с голосом того, кто ценит то же само благо гораздо меньше. Хотя
договоренности об обмене голосами между группами интересов
позволяют избирателям, когда дело доходит до выявления разно-
образия и интенсивности индивидуальных предпочтений, более
изощренным способом выражать свои ценности, здесь не суще-
ствует аналога такого явления, как готовность платить, которая
является действующим фактором на рынке. То, что политически
1 Этот аргумент не является «институционалистским» в том смысле, ко-
торый ассоциируется с «исторической школой в экономической науке».
Последняя утверждает, что исходные посылки экономической теории, та-
кие как способность людей реагировать на стимулы, значимы лишь в кон-
тексте рыночной капиталистической системы, и при этом подразуме-
вается, что в условиях нерыночных институтов акторы не реагируют на
стимулы и информацию рациональным образом. Приводимый же здесь ар-
гумент, напротив, состоит в том, что люди чувствительны к стимулам и ин-
формации в любом институциональном контексте, однако этот контекст
определяет как качество информации, так и структуру стимулов, с которы-
ми они сталкиваются. Дальнейшее обсуждение этого различия см. в рабо-
те Бёттке (Boettke et al., 2007).
Глава 2. Провалы рынка, «старые» и «новые»... 81
эффективно в терминах привлечения на свою сторону голосов,
может и не генерировать максимальную экономическую цен-
ность (Mitchell and Simmons, 1994; Boettke et al., 2007).
Поле для обучения и открытия в политическом процессе еще
более сужается из-за характера выбора, который каждый раз при-
ходится делать. После того, как правительство выбрано, гражда-
не не могут активно подвергать проверке альтернативные поли-
тические платформы, так как в период между выборами оппози-
ционные политики и группы интересов не имеют возможности
предоставлять конкурирующий пакет услуг. Индивидуальные из-
биратели не имеют возможности постоянно менять поставщи-
ков в рамках процесса, управляемого коалицией большинства,
у политиков нет способа сравнивать результаты различных экс-
периментов, кроме как последовательно один за другим (Whol-
gemuth, 1999).
Что касается стимулов, то сравнительная нехватка конкурен-
ции в политическом процессе может приводить к уменьшению
отдачи от нахождения источников неэффективности. Когда у по-
литиков есть возможность получать в свое распоряжение ресур-
сы посредством сбора налогов благодаря полномочиям по при-
менению принуждения, а не через экономию за счет эффектив-
ности, они могут склоняться к первому, а не ко второму способу.
То, что группы налогоплательщиков и потребителей не обяза-
тельно мобилизуются на борьбу с такими источниками неэффек-
тивности, не следует толковать таким образом, будто этой неэф-
фективности не существует — точно так же, как тот факт, что ре-
волюции против деспотических режимов случаются редко, не
следует толковать как доказательство того, что диктатуры при-
водят к более высокому уровню благосостояния. В обоих случа-
ях это может означать просто-напросто то, что проигрывающие
интересы могут сталкиваться с крупномасштабными проблема-
ми, характерными для коллективных действий. Хотя осущест-
вление институциональных или политических изменений может
быть в общих интересах «проигрывающих», на индивидуальном
уровне для каждого актора стремление добиваться реформ мо-
жет и не быть рациональным действием, учитывая ничтожные
шансы того, что его личный вклад решающим образом повлия-
ет на конечный исход.
Выводом для классического либерализма является то, что,
хотя может оказаться невозможным подчинить предложение
всех благ и услуг (например, таких как оборона территории или
82 Часть I. Вызовы классическому либерализму
некоторые экологические блага) процессу рыночной конкурен-
ции, дефекты политического процесса таковы, что везде, где
только возможно, должны происходить «приватизация» и рас-
ширение сферы добровольного обмена. Разумеется, все это не
означает, что людям следует мешать присоединяться на добро-
вольной основе к чисто демократическим формам принятия ре-
шений, точно так же, как ничто не должно мешать людям добро-
вольно отказываться от института частной собственности, делая
выбор в пользу общинных способов организации, таких как кибу-
цы. Важно то, имеют ли диссиденты возможность последователь-
но придерживаться своих альтернативных моделей принятия ре-
шений, чтобы люди могли систематически сравнивать издержки
и выгоды разных альтернатив. С точки зрения классического ли-
берализма имеются серьезные основания поставить под сомне-
ние эффективность структур коллективного выбора, если только
люди не отдали предпочтение некоторой структуре такого рода
в ходе немажоритарного процесса добровольного обмена.
Заключение
Задачей этой главы было отстоять робастность классического
либерализма перед лицом теорий «провалов рынка». Было дока-
зано, что критерий эффективности, предложенный в неоклас-
сической модели, мало чем полезен при практической оценке
рыночных процессов в сравнении с системами политического
контроля. Если использовать альтернативный, эволюционный
критерий, то экономические доводы в пользу свободных рын-
ков в большей степени удовлетворяют требованиям робастной
политической экономии, чем теории «провалов рынка», будь то
старые или новые. Разумеется, отстаивать экономические аргу-
менты в пользу классического либерализма означает принимать
нормативную посылку, в соответствии с которой экономиче-
ские критерии должны выступать мотивирующей силой для го-
сударственной или публичной политики. Однако некоторые на-
иболее существенные вызовы классическому либерализму исхо-
дят из позиций, оспаривающих моральные, а не экономические
следствия классических либеральных идей. Последующие главы
части I обращены именно к этим вызовам.
Глава 3
УХОД, ВЫСКАЗЫВАНИЕ
И КОММУНИКАТИВНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ:
ВЫЗОВ КОММУНИТАРИЗМА I
Введение
Аргументы в пользу классического либерализма, сформулиро-
ванные в предыдущей главе, не пользуются широкой поддер-
жкой среди экономистов мейнстрима, однако справедливости
ради следует признать, что экономическая теория как научная
дисциплина предоставляет определенные аргументы в поддер-
жку «приватизации», которые, что примечательно, в современ-
ной политической теории, в отличие от экономической, пра-
ктически отсутствуют. Даже такие критически настроенные по
отношению к классическому либерализму авторы, как Стиглиц,
довольно благосклонно относятся по крайней мере к некоторым
аргументам в поддержку рынков и конкуренции. Одна из причин
этой разницы между двумя дисциплинами проистекает из склон-
ности неоклассических экономистов к определенным допущени-
ям в отношении человеческой природы, характера деятельнос-
ти индивидов и назначения общественных институтов. К числу
этих посылок относится то, что люди мотивированы преимуще-
ственно собственными интересами и что главным назначением
институтов является агрегирование индивидуальных предпочте-
ний в эффективную «функцию общественного благосостояния».
Однако с точки зрения многих политических теоретиков ис-
ходные посылки современной экономической теории крайне
сомнительны, а выводы в поддержку классических либеральных
институтов, сделанные на основе таких допущений, ведут к сом-
нительным с моральной точки зрения результатам. Исходя из
более широкой коммунитаристской критики доказывается, что
либеральная политическая экономия пренебрегает «ситуацион-
ной» природой человеческих существ, предпочтения и ценно-
сти которых в значительной степени определяются институци-
ональным контекстом процесса принятия решений. В соответ-
ствии с этим представлением больший акцент должен делаться
на коммуникативных процессах, через которые формируются
84 Часть I. Вызовы классическому либерализму
предпочтения людей, и на развитии практик, институционали-
зирующих стремление к «общему благу». В этом контексте излю-
бленной альтернативой классическому либеральному принципу
«ухода» является концепция совещательной демократии, «осно-
ванная на высказывании» [voice-based].
В этой главе предметом рассмотрения является аргумента-
ция в пользу демократической совещательности, выдвигаемая
в рамках коммунитаристской мысли. После изложения критики
рынков и других институтов, основанных на принципе «ухода»,
показывается, что классический либерализм полностью совме-
стим с ситуационной концепцией социальных акторов. При бли-
жайшем рассмотрении выясняется, что причины, по которым
классические либералы предпочитают «уход» «высказыванию»,
имеют много общего с основаниями, на которых строится ком-
мунитаристская теория. Акцент на «уходе» в классическом либе-
рализме, хотя и подкрепляется вниманием к стимулам, тем не
менее основывается не на предположениях об «эгоистичности»,
а на свойствах «стихийного порядка», способствующих увеличе-
нию знания. В этом свете процессы, допускающие уход и конку-
ренцию, могут представлять собой более робастный метод по-
лучения тех самых коммуникативных преимуществ, которые, по
мнению коммунитаристов, могут быть достигнуты только в рам-
ках социально-демократической дискуссионной площадки.
Коммунитаристская политическая теория
и совещательная демократия1
Широко распространенный в современной политической те-
ории скепсис по отношению к классическому либерализму во
многом порожден выдвигавшимися на протяжении последних
30 лет коммунитаристскими возражениями против базовых
1 Термин «коммунитаристский» используется в этой главе и во всей кни-
ге для обозначения определенного стиля аргументации, а не содержатель-
ной политической позиции. В политической теории термин «коммунита-
рист» обычно используется для характеристики таких авторов, как Макин-
тайр (Mclntyre, 1981; Макинтайр, 2000) и Тейлор (Taylor, 1985), которые
оспаривают то понимание индивидуального «я» и его взаимоотношений
с такими понятиями, как разум и справедливость, которого придерживают-
ся либералы, подобные Ролзу. Однако многие авторы, использующие те или
иные аспекты этой аргументации или испытавшие ее влияние, не считают
себя «политическими коммунитаристами». В этой книге термин «коммуни-
таристский» используется в несколько более широком смысле и обозначает
Глава 3. Уход, высказывание и коммуникативная... 85
посылок либерализма как политической философии. Хотя клас-
сические либералы или либеральные сторонники минималь-
ного государства, такие как Роберт Нозик, и либералы-эгалита-
ристы, сторонники социального государства, такие как Джон
Ролз, существенно отличаются друг от друга в своих норматив-
ных взглядах на то, насколько широко простирается сфера пра-
вомерной деятельности государства, утверждается, что они еди-
ны в своей поддержке этики, ставящей интересы индивида вы-
ше моральных требований общности [community].
С точки зрения коммунитаристов либеральные теории осно-
ваны на ошибочном понимании «я». В рамках построений, пред-
ложенных Ролзом (Rawls, 1971; Ролз, 2010) и Нозиком (Nozick,
1974; Нозик, 2008), индивид считается независимым от социаль-
ной идентичности, он или она свободно определяет и выбирает
свои собственные ценности и способен (способна) дать опреде-
ление персонализированной концепции «блага». Следовательно,
общество рассматривается в редукционистском ключе и пред-
ставляется не более чем агрегатом индивидов, имеющих мало
общего в том, что касается интересов. Именно в этом смысле та-
кие коммунитаристы, как Тэйлор (Taylor, 1985), утверждают, что
либерализм пренебрегает природой человеческих существ, кото-
рая в своей основе социальна. В соответствии с такой интерпре-
тацией способность разумно рассуждать и обладать ценностями
должна рассматриваться не как свойство изолированных инди-
видов, а как продукт существования в рамках исторически сфор-
мировавшейся общности. Социальные институты, такие как
язык, являются коллективными или интерсубъективными фено-
менами, которые расширяют способность к рассуждению и вы-
бору за пределы субъективного опыта индивидуального актора.
Рассуждая примерно в том же ключе, Макинтайр (Maclntyre,
1981; Макинтайр, 2000) доказывает, что либерализм сводит
стиль аргументации, который делает акцент на «социальном» аспекте чело-
веческого существования, эндогенной природе предпочтений, а также на те-
зисе, что процессы коллективного выбора, и в частности совещательная де-
мократия, наиболее пригодны для облегчения социального обучения и для
создания доверия. При таком использовании данного термина имеется це-
лый ряд авторов, считающих себя «либералами», например Миллер (Mill-
er, 1989, 1995), или сторонниками «различий» [difference], например Янг
(Young, 1990, 2000), но которые тем не менее для отстаивания предпочтения,
отдаваемого ими институтам совещательной демократии, прибегают к ком-
мунитаристскому «стилю аргументации».
86 Часть I. Вызовы классическому либерализму
вопросы морали к теме индивидуальных предпочтений, причем
таким образом, что последние становятся полностью реляти-
вистским понятием. В той мере, в какой у либералов присутст-
вует понятие «общего блага», последнее считается отражением
агрегированной суммы индивидуальных предпочтений. Но, как
указывает Макинтайр, в отсутствие некоего высшего и всеохва-
тывающего смысла морали, выходящего за пределы индивиду-
ального актора, такие принципы, как уважение к частной собст-
венности, становятся не более чем вопросом субъективных пред-
почтений. Вследствие этого либеральные институты и посылки,
лежащие в их основе, могут оказывать разрушительное с мо-
ральной точки зрения воздействие на социальный порядок. Об-
щество больше не рассматривается как представляющее собой
«[общность], объединенную общим видением блага для человека»
(Mclntyre, 1981: 219-220; Макинтайр, 2000: 319), а видится как
всего лишь «собрание чуждых друг другу людей, каждый из кото-
рых преследует собственные интересы при минимальных огра-
ничениях» (ibid.: 233; указ. соч.: 339). С точки зрения Макинтай-
ра, главным предметом интереса политической теории должна
быть не эта индивидуалистическая ментальность, а институты,
которые позволяют производить оценку предпочтений людей
и при необходимости оспаривать их на основании концепции
«общего блага», отражающей общность в целом.
Такого рода обвинения применимы ко всем вариантам либе-
рализма, делающим акцент на максимизирующем полезность ин-
дивиде в качестве исходного пункта разработки политической
теории, и они все чаще и чаще выдвигаются против экономиче-
ской теории, которая, как считается, лежит в основе аргумен-
тации в защиту свободных рынков. Экономическая теория под-
вергается критике за то, что она отстаивает узкое представление
о человеческой мотивации, которое, будучи институционализи-
ровано в виде рыночной экономики, ведет к обеднению «публич-
ной сферы» и условий для действительного социального процес-
са формирования ценностей. Считается, что для либерализма,
в особенности экономического либерализма, характерна чрез-
вычайно «узкая» концепция рациональности, которая сводит-
ся к стремлению достичь целевых показателей эффективности.
В соответствии с позицией критиков, необходимо более богатое
и коммуникативное по своему характеру понятие разума, призна-
ющее, что творчество и дискуссия по поводу надлежащего содер-
жания целей людей являются столь же важными, если не более
Глава 3. Уход, высказывание и коммуникативная... 87
важными, чем решение задач условной оптимизации, которыми
озабочена современная неоклассическая экономическая теория.
На переднем крае этой жесткой критики находятся работы
Хабермаса и представителей «критической теории» франкфурт-
ской школы (см., например, Habermas, 1984, 1990, 1996; Хабер-
мас, 2001). Согласно этим авторам, рыночные институты поощ-
ряют чрезвычайно «инструментальную» форму рациональности,
в рамках которой человеческая деятельность сосредоточена на
применении наиболее эффективных средств для достижения
заданного набора целей. Например, Миллер (Miller, 1989: 252)
проводит различие между «агрегирующей» и «диалогической»
моделями политического процесса и общества. Агрегирующие
институты связаны с отношениями торга, которые находят от-
ражение в рынках и в политическом процессе, основанном на
взаимодействии групп интересов. Диалогические же институты
подразумевают попытки убедить людей посредством аргумента-
ции и стремление достичь консенсусных позиций, воплощаю-
щих смысл «коллективной воли». Концепции общего блага или
коллективной воли придается особенно большое значение тог-
да, когда в игру вступают несоизмеримые моральные цели и ког-
да невозможно агрегирование конфликтующих ценностей в не-
кую «функцию общественного благосостояния». Согласно этой
точке зрения, моральные конфликты по поводу использования
ресурсов не должны рассматриваться на основе утилитарист-
ского критерия готовности платить; вместо этого они должны
разрешаться на основе демократических дискуссий и аргумента-
ции. С точки зрения Хабермаса и его последователей, механизмы
«ухода», являющиеся ключевой составляющей рынков, препятст-
вуют процессам публичной аргументации, необходимым для то-
го, чтобы люди принимали к сведению интересы и ценности дру-
гих. Выключение людей из общегражданских дел, возникающее
по этой причине, сужает их горизонты и не позволяет им мы-
слить в терминах «общего блага».
Развивая аргументацию Миллера, Айрис Янг (Young, 1990,
2000) выдвигает тезис, что фокусирование на агрегировании
предпочтений, которые предполагаются «заданными» экзоген-
но по отношению к процессу принятия решений, закрепляет все-
возможные формы «угнетения» и «эксклюзии», которые могут
возникать вследствие реализации этих самых предпочтений. Ут-
верждается, что рынки и другие «агрегирующие институты» не
обеспечивают того публичного пространства, в котором могут
88 Часть I. Вызовы классическому либерализму
быть оспорены и трансформированы устоявшиеся стереотипы
и предрассудки в отношении идентичности и роли женщин, эт-
нических и религиозных меньшинств и прочих групп, испытыва-
ющих на себе социальную эксклюзию.
Приводя эти аргументы, Хабермас и его последователи исхо-
дят из общего с коммунитаристами представления, что понятие
общности [community] не просто отражает сосуществование ак-
торов в рамках общей культуры, но требует, чтобы люди облада-
ли осознанной осведомленностью о принадлежности к этой куль-
туре — хотя, как подчеркивает Янг, оно может включать и оспа-
ривание некоторых аспектов этой культуры, если последние
ведут к маргинализации членов определенных социальных групп.
С точки зрения коммунитаризма важное значение имеет то, что
чувство культурной общности должно подкрепляться характером
политических институтов. В рамках такой интерпретации общ-
ность реализует свой потенциал, если имеет место коллектив-
ное обсуждение общественных целей и коллективное определе-
ние результатов общественного выбора. Эта конкретная интер-
претация во многом обязана своим существованием идее Маркса,
что «подлинная свобода» требует, чтобы люди действовали на ос-
нове единства общественной цели. Как это формулирует Маркс
(Marx, 1906, Chapter 1: 92; Маркс, 1960, глава 1: 90): «Строй об-
щественного жизненного процесса... сбросит с себя мистическое
туманное покрывало лишь тогда, когда он станет продуктом сво-
бодного общественного союза людей и будет находиться под их
сознательным планомерным контролем».
В то время как рынки и принцип «ухода» не способны предо-
ставить подобающие условия, в которых могут быть артикулиро-
ваны составляющие общего блага, процесс совещательной демо-
кратии, как утверждается, наилучшим образом приспособлен для
того, чтобы восполнить эту нехватку. Классическая либеральная
критика централизованного планирования социалистического
типа рассматривается как устаревшая, поскольку она игнорирует
возможность более децентрализованной альтернативы бюрокра-
тическим иерархиям, построенной на расширенном понятии де-
мократического участия. Для представителей «критической тео-
рии» системы централизованного планирования не меньше, чем
рынки, повинны в культивировании исключительно инструмен-
тальной формы разума (см., например, Dryzek, 1990, 2001). В то
время как рынки наделяют привилегированной ролью индиви-
дуальных потребителей, которые предположительно «знают,
Глава 3. Уход, высказывание и коммуникативная... 89
как лучше», иерархии централизованного планирования отво-
дят привилегированную роль «экспертам», якобы обладающим
совершенным знанием общественных нужд и ценностей. Следо-
вательно, альтернативой и рынкам, и централизованному пла-
нированию является система диалогического социального пла-
нирования, когда решения подчиняются процессу коллективной
коммуникативной деятельности, в рамках которой все граждане
обладают полномочиями участвовать в процессе, ориентирован-
ном на творчество и на процедуру открытия общественных це-
лей (Adaman and Devine, 1997).
Для того чтобы демократический процесс культивировал та-
кой диалог, полагает Хабермас, необходимо, чтобы он принял
форму свободного и открытого аргументирования, когда никто
в принципе не может быть исключен из обсуждения и когда все
те, кого могут затронуть принятые в итоге решения, обладают
равными шансами на то, чтобы вступить в дискуссию и участво-
вать в ней (Habermas, 1996; 305—306). Кроме того, демократиче-
ские процессы должны быть свободны от сил внутреннего «до-
минирования», могущих помешать равному участию всех гра-
ждан. Это условие требует приверженности большему равенству
в обладании материальными ресурсами, а следовательно, и за-
благовременной — то есть осуществляемой до принятия публич-
ных решений, касающихся распределения, — ликвидации мно-
гих видов неравенства в богатстве и статусе, являющихся ре-
зультатом действия рыночной экономики (Young, 1990: 184—185;
Habermas, 1996: 306; Young, 2000: 229-235; Brighouse, 2002: 55).
Наконец, коллективные обсуждения должны заканчиваться про-
цессом принятия решения большинством голосов. Мнение боль-
шинства, которое может быть ошибочным, считается разумным
основанием для принятия решений, пока те, кто придерживает-
ся позиции меньшинства, не смогут переубедить большинство.
При идеальной форме совещательной демократии этот процесс
правления большинства должен не только отражать то, какие
именно предпочтения имеют наибольшую поддержку в количе-
ственном выражении, но и должен детерминироваться предло-
жениями, которые, по мнению общественности, были поддержа-
ны «не опирающейся на принуждение силой лучшей аргумента-
ции» (Habermas, 1996: 305-306)1.
1 Доводы Хабермаса стали пользоваться большим влиянием. Хотя в раз-
ных работах присутствуют незначительные различия по поводу того, каковы
90 Часть 1. Вызовы классическому либерализму
Признавая, что такие условия являются чрезвычайно огра-
ничительными, сторонники совещательной демократии утвер-
ждают, что «идеальная речевая ситуация» представляет собой
ключевой эталон или регулятивный идеал, на основе которого
следует судить о сравнительных результатах применения различ-
ных институтов и практик. Этот идеал может быть недостижим
на практике, однако везде, где только возможно, следует стре-
миться к реформам, приближающим к нему реальность. В поль-
зу совещательного идеала выдвигаются три набора аргументов.
Первый представляет собой эпистемическую претензию на то,
что совещательная демократия приводит к лучшим и более ра-
циональным решениям, чем несовещательные альтернативы, та-
кие как рынки. Утверждается, что демократическое обсуждение
открывает перспективу для более холистического процесса при-
нятия решений, входе которого граждане, а не «анархия» рыноч-
ной конкуренции, коллективно анализируют то, каким образом
их решения влияют на жизнь других. Кроме того, посредством
процесса интерсубъективного обучения, привлекающего внима-
ние людей к новым исследованиям и решению социальных про-
блем, которые могли бы в противном случае остаться незаме-
ченными, публичное обсуждение позволяет акторам расширять
свои горизонты (Barber, 1984; Smith and Wales, 2000).
Второй набор аргументов фокусируется на механизмах, не-
обходимых для того, чтобы не допускать злоупотребления влас-
тью и поощрять большую прозрачность при принятии решений.
Хотя сторонники совещательной демократии сосредоточивают
свое внимание на стимулах иным образом, нежели это принято
в традиции рационального/общественного выбора, тем не ме-
нее и они стремятся ограничить проявления коррупции и созда-
ваемые особыми интересами искажения процесса принятия ре-
шений в сфере публичной политики. С позиций совещательной
демократии требование, чтобы индивиды и организации обосно-
вывали свои полномочия по принятию решений на публичном
должны быть условия для эффективного демократического обсуждения, те
или иные вариации на тему совещательной демократии присутствуют у широ-
кого круга авторов. К числу этих работ относятся, например, Benhabib (1996),
Bohman (1996), Cohen and Arato (1992), Fraser (1993), Laclau and Mouffe (1985),
Mouffe (1993). Хотя многие теоретики совещательной демократии могут быть
вполне обоснованно названы «коммунитаристами», некоторое число тех, на
кого оказал влияние Хабермас, относят себя к либеральной эгалитаристской
традиции — см., например, Guttman and Thompson (2004).
Глава 3. Уход, высказывание и коммуникативная... 91
форуме, сделает неоправданные взаимоотношения по поводу
власти предметом общественного внимания и тем самым поро-
дит запрос на их коррекцию. Напротив, процессы, основанные
на уходе и торге, как утверждается, воспроизводят сложившуюся
структуру власти и неравенства.
Третий набор аргументов является развитием этического
или морального тезиса, что решения, выработанные посредст-
вом демократического обсуждения, лучше отражают фундамен-
тальные нормы справедливости, чем те, которые являются ре-
зультатом действий разрозненных индивидов и организаций,
преследующих свои собственные цели. Например, Янг (Young,
1990, 2000) аргументирует против «агрегирующих» институтов,
таких как рынки, на том основании, что они не способны в долж-
ной мере побудить людей учитывать нужды «находящихся в иной
ситуации других людей» и не отражают в должной степени по-
нятие «равного уважения». Утверждается, что, в противополож-
ность этому, концепция совещательной демократии предостав-
ляет публичную площадку для дискуссии, на которой люди вы-
слушивают мнения других для того, чтобы предоставить членам
«исключенных» групп, таких как этнические и культурные мень-
шинства, равное право высказывания в ходе процесса принятия
публичных решений.
Вопрос о том, насколько именно должна быть расширена сфе-
ра совещательных демократических процедур, остается в опреде-
ленной степени предметом дискуссии. В более радикальных вер-
сиях, выдвигаемых такими авторами, как Адаман и Дивайн (Ad-
aman and Devine, 1997), отстаивается некая форма «социализма
участия» [participatory socialism] и «демократизации экономиче-
ской жизни», когда контроль над предприятиями передан в ру-
ки советов рабочих и граждан. Аналогично, согласно таким тео-
ретикам, как Янг (Young, 1990: 250—251; также Young, 2000), со-
вещательность должна выступать в качестве всеобъемлющего
принципа, требующего, чтобы каждый, кого затрагивает то или
иное социально-экономическое решение, имел право участво-
вать в принятии соответствующего решения. С этой точки зре-
ния все решения, влияющие на производство и распределение
благ, включая такое благо, как социальный статус, должны полу-
чать публичное одобрение на демократическом форуме. Хабер-
мас (Habermas, 1992) придерживается более умеренного подхода,
доказывая, что социально-демократические процедуры должны
ограничиваться центральными «направляющими механизмами»
92 Часть!. Вызовы классическому либерализму
политико-экономической системы, которые задают рамки по-
вседневных действий частных лиц, принимающих решения, но
не определяют конкретное содержание самих решений. Тем не
менее общим для всех этих теоретиков является представление,
что существующие либеральные демократии сильно недотягива-
ют до совещательного идеала и что соответственно должны при-
ветствоваться любые шаги, направленные на расширение сфе-
ры публичной совещательности, основанной на высказывании.
Классический либерализм, стихийный порядок
и коммуникативная рациональность
Для тех, кто защищает классические либеральные институ-
ты в терминах модели, основанной на представлении, что лю-
ди рациональны, мотивированы собственными интересами,
а ценности, к которым они стремятся, неизменны, коммунита-
ристская критика является серьезным вызовом. Однако следу-
ет подчеркнуть, что эта критика моделей рационального выбо-
ра в равной степени относится и к теориям «провалов рынка»,
таким как теория Стиглица, которые приводят доводы в пользу
государственного вмешательства исходя из тех же самых посы-
лок. В той мере, в какой защита рынков (или каких-либо других
институтов) осуществляется исключительно в этих терминах,
выдвигаемая коммунитаристами критика является обоснован-
ной. Но приводимые в предыдущей главе экономические до-
воды в пользу классического либерализма не основываются
на представлении о рациональном выборе. Вместо того чтобы
рассматривать рыночную экономику как среду, в которой лю-
ди максимизируют заданные интересы, классический либера-
лизм мыслит рынки и другие «стихийные порядки» как слож-
ные коммуникативные сети, способствующие обмену знания-
ми, идеями и ожиданиями (см., например, Wholgemuth, 2005).
Такая концепция подчеркивает важность эволюционных про-
цессов, допускающих обучение на нескольких разных уровнях.
Ниже перечисляются черты сходства и различия между этими
эволюционистскими аргументами в пользу «принципа ухода»
и представлениями коммунитаристов. В последующих разделах
это описание используется для того, чтобы поставить под сом-
нение робастность совещательной демократии, основанной на
высказывании [voice-based deliberative democracy].
Глава 3. Уход, высказывание и коммуникативная... 93
Индивидуализм: истинный и ложный
Наиболее очевидная черта сходства между классическим либе-
рализмом и коммунитаристской мыслью явствует из хайеков-
ской концепции «истинного индивидуализма» (Hayek, 1948b;
Хайек, 2011). Эта идея очевидным образом присутствует в при-
знании того, что люди представляют собой "я", обусловлен-
ные обстоятельствами» [situated selves], приобретающие свои
предпочтения, ценности и практики из социального окруже-
ния, что коренным образом отличается от «ложного индивиду-
ализма», который мыслит общество как рациональное творе-
ние изолированных индивидов, стремящихся сконструировать
«оптимальные» или «эффективные» институты (Hayek, 1948b:
6; Хайек, 2011: 7—8). Неоклассическая экономическая теория
и существующие в политической теории подходы, основанные
на понятии общественного договора, подобные применяемому
Ролзом, отражают именно вторую из этих двух традиций.
Согласно Хайеку, определяющим свойством индивида как
«общественного существа» является то, что ввиду структурных
ограничений человеческого интеллекта он или она способны
постичь умом лишь ничтожно малый фрагмент своего окруже-
ния. Поэтому признание того, что люди являются продуктами
своего общества, не означает, что само социальное окружение
создано целенаправленными действиями поддающейся выявле-
нию группы людей. Напротив, социокультурное окружение ча-
сто возникает в результате процессов возникновения «стихий-
ного порядка», которые являются «результатом человеческих
действий, но не результатом человеческого замысла». Такие ин-
ституты, как язык, уважение к собственности и другие привыч-
ки и традиции, составляющие индивидуальную идентичность,
не являются «естественными» процессами, но они не возни-
кают и в результате сознательного и целенаправленного «изо-
бретения». Такие практики могут быть впоследствии кодифи-
цированы (как, например, при составлении словаря) или под-
держиваться принудительной санкцией со стороны некоей
организации, такой как государство, как это имеет место в слу-
чае имущественного права, но сами по себе правила и практи-
ки обычно не являются продуктом целенаправленного акта со-
здания со стороны того или иного конкретного актора или ор-
ганизации (Hayek, I960: Part 1; Hayek, 1982: Part 1; Хайек, 2006,
Книга I).
94 Часть I. Вызовы классическому либерализму
Акцентирование важности «стихийного порядка» прои-
стекает из представления, что в мире, который слишком сло-
жен, чтобы его можно было непосредственно постичь, индиви-
ды неизбежно вынуждены «добровольно» принимать некоторые
культурно передаваемые правила, такие как правила языка, без
осознанного размышления о них. Эти правила сами по себе явля-
ются частью эволюционного процесса, не являющегося результа-
том сознательного рассуждения, но тем не менее создающего ус-
ловия для разумной деятельности. Стихийные порядки развива-
ются в результате сложного процесса обучения через имитацию.
Например, хотя язык и развивается из человеческой способно-
сти к общению, он возникает как непреднамеренный побочный
продукт множества коммуникативных актов, которые не направ-
лены к какой-либо конкретной общей цели. В то время как но-
вые слова и их сочетания распространяются посредством про-
цесса имитации и адаптации, у тех людей, которые их первона-
чально применяют, нет осознанного представления о том, каким
образом эти практики будут применены и адаптированы другими.
Аналогичным образом люди, которые в настоящий момент го-
ворят, обычно не осведомлены о бесчисленных узловых точках,
в которых возникли ныне повсеместные способы употребления
слов и выражений, как и о «причинах», по которым эти символы
были приняты к использованию (Hayek, 1960: Part 1; Hayek, 1982:
Part 1; Хайек, 2006, Книга I). Как это формулирует Хайек: «Созна-
ние укоренено в традиционной безличной структуре заученных
правил, а способность сознания упорядочивать опыт есть благо-
приобретенная копия культурных моделей, которые каждое ин-
дивидуальное сознание получает готовыми... Иначе говоря, со-
знание может существовать только как часть другой, независи-
мо существующей структуры или порядка, хотя сам этот порядок
продолжает существовать и развиваться, лишь поскольку милли-
оны сознаний постоянно усваивают и модифицируют его по ча-
стям» (Hayek, 1982: 157; Хайек, 2006; 479).
В соответствии с такой интерпретацией «общность» вклю-
чает отношения общей идентификации, моральные принципы,
а также убеждения, связанные с соблюдением стихийно разви-
вающихся культурных правил, включая язык и социальные обы-
чаи (такие как уважение к собственности). Таким образом, как
и в коммунитаристских описаниях, моральное чувство выхо-
дит за пределы индивидуального актора и не отождествляется
с личными предпочтениями (Hayek, 1960, 1967b). И все же, хотя
Глава 3. Уход, высказывание и коммуникативная... 95
индивиды идентифицируют себя посредством социальных пра-
ктик, в которые они погружены, они следуют своим отдельным
целям, а не занимаются сознательным преследованием некоей
«общинной цели». Более того, «общность», понимаемая как сти-
хийный порядок или каталлаксия, не может рассматриваться как
нечто, имеющее собственные цели. Говорить об «общинной це-
ли» — значит требовать, чтобы общество действовало как некая
продуцирующая организация, как своего рода «сверхличность»,
которая определяет цели своих граждан. Но в «открытом обще-
стве» люди разделяют общинную приверженность общим куль-
турным правилам, упорядочивающим их поведение, таким как
правила языка, и в то же время они пользуются свободой экспе-
риментирования в том, что касается стремления к широчайшему
набору разнообразных целей.
Общность, сложность и стихийный порядок
Хотя истолкованный в таких терминах классический либера-
лизм и признает культурно обусловленную природу индивида,
его интерпретация следствий из такого представления отлича-
ется от той, которую дают коммунитаристы вроде Макинтайра.
В то время как последний считает «общество чуждых друг другу
людей», удерживаемых вместе безличными отношениями и не-
преднамеренными социальными последствиями, признаком
морального упадка, с точки зрения классического либерализ-
ма развитая и сложная форма общности может быть достигну-
та только тогда, когда она не основывается на сознательном пре-
следовании «социальной цели». Тот тип общности, за который
выступает Макинтайр, годится только для общества племенно-
го типа, достаточно малого по численности и простого по сво-
им внутренним взаимоотношениям, чтобы его члены могли по-
стичь его своим сознанием. Но если речь идет о том, чтобы под-
держивать более сложную и развитую форму общности, то для
членов такого общества невозможно быть осознанно осведом-
ленными о многочисленных и разнообразных факторах, внося-
щих вклад в эволюцию разнообразных целей и средств.
Хайековская концепция общества как динамичного сти-
хийного порядка поразительно похожа на концепцию, разви-
ваемую таким представителями «критической теории», как
Янг, которые тщательно стараются избегать вывода, что со-
держание общности является «фиксированным» и может быть
96 Часть I. Вызовы классическому либерализму
проинтерпретировано в терминах единой и неизменной кон-
цепции «общего блага» (Tebble, 2002). С точки зрения Янг, по-
добно тому, как содержание индивидуальных предпочтений не
следует рассматривать как отражающее некую глубинную и не-
изменную «сущность», так идентичность социальных групп, со-
ставляющих общность, не должна рассматриваться как отражаю-
щая некую поддающуюся идентификации «групповую сущность»
(Young, 1990: 246—247). Напротив, в контексте современных раз-
витых обществ, в рамках которых существует множество различ-
ных общинных идентификаций, границы этих идентификаций
могут смещаться, и люди могут обнаруживать, что они иденти-
фицируют себя с широким набором разнообразных групп с за-
частую перекрывающимся и пересекающимся членством. Сле-
довательно, люди могут иметь общую идентификацию по одним
признакам и разные по множеству других. Поэтому личная иден-
тичность никогда не определяется полностью принадлежностью
индивида к той или иной социальной группе или общности, и ее
скорее следует мыслить как частичную идентификацию, которая
сама по себе подвержена процессу постоянной эволюции (под-
робнее об этом см. Tebble, 2002).
В данном контексте значение имеет то, какое пространство
те или иные институты предоставляют для динамической эволю-
ции культурных норм и идентичностей, одновременно обеспе-
чивая основу для порядка и координации. С точки зрения клас-
сического либерализма именно здесь на первый план выходит
важность опоры на «стихийные порядки». Стихийные порядки
расставляют своего рода дорожные указательные знаки для де-
ятельности индивидов и обеспечивают определенную степень
регулярности в жизни людей, оставляя в то же время место для
децентрализованного процесса пошагового расширения экспе-
риментирования. Поскольку люди «добровольно» соблюдают
нормы стихийных порядков, в которых они родились, а не подчи-
няются им в силу принуждения, осуществляемого внешней орга-
низацией, такие нормы скорее следует мыслить как «гибкие пра-
вила», подверженные постоянным изменениям «на границах» [at
the margin]. Знание, касающееся потенциально успешных спо-
собов адаптации к социальным практикам, широко рассредото-
чено среди бесчисленных индивидов и организаций, составля-
ющих общество, и никогда не может быть постигнуто во всей
его полноте ни одной из групп. Тем не менее, по мере того, как
успешные эксперименты (например, новые слова, изобретения
Глава 3. Уход, высказывание и коммуникативная... 97
и культурные обычаи) распространяются посредством процесса
имитации от распределенных узловых точек принятия решений,
люди оказываются способны пользоваться знанием широко рас-
средоточенных агентов, о существовании которых они могут ни-
чего не знать. Согласно этой точке зрения, изменения, проис-
ходящие малыми приращениями через конкурентную проверку
постоянно меняющихся практик, создают услЬзия для более ин-
тенсивного процесса социальной эволюции, чем предпринима-
емые в социалистическом стиле попытки «перестроить» куль-
турные практики в целом. Успех таких попыток потребовал бы
наличия организованной группы, располагающей всеми данны-
ми, необходимыми для понимания функционирования общества
и для соответствующей его перестройки (Hayek, 1948,1960,1982;
Хайек, 2011, 2006).
Как показано в предыдущей главе, в основании классиче-
ской либеральной защиты рынка лежат именно эти понятия
стихийного порядка и ограниченной рациональности. Рыноч-
ная экономика понимается одновременно как стихийный меха-
низм координации, способствующий взаимному согласованию
различающихся ценностей рассредоточенных социальных ак-
торов, и как эволюционный процесс, в ходе которого содержа-
ние этих ценностей подвергается динамическим изменениям.
Координирующая роль рынков проявляется в переменных це-
новых сигналах, которые сообщают об изменившейся степени
доступности благ и дают людям возможность адаптировать свое
поведение без сколько-нибудь существенного знания о том, ка-
кие именно «обстоятельства времени и места» влияют на дале-
ких от них других людей. Но рынки выполняют также и эволю-
ционную функцию, когда факторы, определяющие, «какие блага
являются редкими благами», формируются эндогенно процес-
сом конкуренции. Потребители и производители участвуют
в рынках не на основе предварительно заданных предпочтений
и производственных функций, а обнаруживают и приобретают
в ходе самого рыночного процесса новые вкусы и организаци-
онные практики, которых ранее никто не предвидел. Теорети-
ческая конструкция общего равновесия, характерная для нео-
классической экономической теории, отвергается именно на
этом основании. Экономические акторы не приходят на рынок
с уже имеющейся у них полной информацией, а приобретают
и транслируют знание через столкновение разных соперничаю-
щих идей. Именно «просеивание и провеивание» конкуренцией
98 Часть I. Вызовы классическому либерализму
стимулирует подражание прибыльным предприятиям и дести-
мулирует распространение ошибочных идей, касающихся про-
изводства благ и услуг.
Хотя эволюционные процессы конкуренции принимают
свою наиболее развитую форму в условиях рыночных инсти-
тутов, стихийные порядки очевидным образом присутствуют
и в других аспектах классической либеральной концептуаль-
ной структуры, в частности в принципе политического феде-
рализма или конкуренции юрисдикции. Последние особенно
релевантны применительно к тем коллективным благам и ре-
гуляторным процедурам, которые не могут эффективно предо-
ставляться на индивидуализированной основе. С позиций клас-
сического либерализма конкуренция между юрисдикциями дает
возможность для гораздо больших масштабов экспериментиро-
вания в сфере предоставления услуг, чем более монополисти-
ческие структуры государственного управления, поскольку кон-
куренция между разными пакетами коллективных благ и норм
регулирования создает условия для потенциально неограничен-
ного процесса открытия наиболее желательных пучков услуг.
По мере того, как индивиды и организации перемещаются из
одной юрисдикции в другую и тем самым изменяют распреде-
ление налоговых доходов, может быть запущен стихийный про-
цесс приспособления, поскольку органы власти этих юрисдик-
ции будут соответствующим образом менять модели предостав-
ления услуг. Такого рода процессы не являются эквивалентом
более открытой конкуренции и процессов постоянного при-
способления к изменениям спроса и предложения, возмож-
ность которых обеспечивается децентрализованными рыноч-
ными ценами, но скорее они, нежели попытки обеспечить ко-
ординацию из единого центра политического контроля, будут
порождать экспериментирование и координировать рассеян-
ное в обществе знание.
Эндогенные предпочтения и общественный выбор
Необходимо подчеркнуть, что ни один из приведенных до сих
пор аргументов не основывается на каких-либо допущениях в от-
ношении мотивации индивидов. Например, в них не предпола-
гается, что люди являются или должны быть эгоистичными. Что
отличает приведенные здесь рассуждения от теории рациональ-
ного выбора — это фокусировка на выигрыше, который дают
Глава 3. Уход, высказывание и коммуникативная... 99
стихийные порядки в отношении наращивания знания. Описа-
ния же, даваемые концепциями рационального выбора, таки-
ми как вирджинская школа общественного выбора, вместо этого
сосредоточиваются на стимулах к взаимной координации, поро-
ждаемых рынками и принципом «ухода» (см., например, Buchan-
an and Tullock, 1962; Бьюкенен и Таллок, 1997). Однако концен-
трация на эволюционных и коммуникативных аспектах рацио-
нальности не требует полного отказа от понятий, связанных
с рациональным выбором. Представления о рациональном вы-
боре, не будучи необходимым компонентом классического либе-
рализма, составляют важное дополнение к нему.
В контексте сказанного выше необходимо подчеркнуть тот
ключевой момент, что подход с позиций рационального выбора
совместим с «ситуационным» представлением о социальных ак-
торах. Та роль, которую играет социализация в формировании
индивидуальной идентичности, признается, например, в рабо-
тах Курана (Kuran, 1995) и Чона (Chong, 2002). Эти авторы всего
лишь утверждают, что хотя на людей оказывает влияние их соци-
альное окружение, тем не менее они формируются не только под
его воздействием. Люди обладают способностью бросать вызов
господствующим социальным нормам «на границах» (или «малы-
ми приращениями») и, действуя таким образом, могут вносить
вклад в развитие новых культурных форм. Поэтому различные
институты могут оцениваться в терминах обеспечиваемых ими
стимулов или антистимулов, касающихся как раз этого аспекта.
Именно в этом отношении оказывается релевантной аргумента-
ция вирджинской школы по поводу достоинств институтов, осно-
ванных на уходе. При прочих равных условиях можно ожидать,
что, поскольку такие институты (в частности рынки) не требу-
ют получения одобрения со стороны большого количества акто-
ров, они приводят к более низким издержкам оспаривания усто-
явшихся норм и ценностей. Например, на рынках потребители
могут выбрать альтернативные продукты, даже когда находятся
в положении меньшинства, а предприниматели могут предлагать
новые виды продукции, не спрашивая разрешения у какой-либо
иерархии или у какого-либо большинства. Аналогично в контек-
сте конкуренции между юрисдикциями различные органы поли-
тической власти могут экспериментировать с разными пакетами
социальных правил, не получая на это разрешения от вышестоя-
щего органа, а граждане могут покидать те или иные конкретные
юрисдикции, не спрашивая своих соседей.
100 Часть I. Вызовы классическому либерализму
Если согласиться с тем, что люди хотя бы в некоторой сте-
пени обладают способностью к действию, то будет вполне ре-
зонным задаться вопросом, есть ли у них стимулы реализовать
эту способность к действию, и исследовать, каковы сравнитель-
ные качества различных институтов с точки зрения этих стиму-
лов. Анализ стимулов не требует с необходимостью исходить из
предположения, что люди эгоистичны, он лишь признает, что
как бы ни были люди альтруистичны, они с меньшей вероят-
ностью предпримут действия, связанные с высокими альтерна-
тивными издержками. Следовательно, инструментальная раци-
ональность может и должна играть роль в политической эконо-
мии по той простой причине, что, независимо от того, делается
это коллективно или индивидуально, в какой-то момент должны
ставиться цели и выбираться эффективные средства. Хотя мо-
жет быть желательным, чтобы люди «выходили за пределы» эго-
истической мотивации, идея, что было бы также желательно,
чтобы они игнорировали соотношение выгод и издержек, совер-
шенно несостоятельна.
Уход и высказывание как альтернативы:
проблема знания
Теперь уже должно стать ясным, что классический либерализм
не предполагает, что индивиды свободны от социальной иден-
тификации. Его расхождение с коммунитаристской теорией со-
стоит в нормативном представлении об институциональных
процессах, совместимых с «ситуационным» пониманием «я».
Поддерживая структуры совещательной демократии, коммуни-
таристы доказывают, что именно посредством дискуссий и ар-
гументирования на публичном форуме наилучшим образом раз-
вивается более широкая, коммуникативная форма рациональ-
ности. Выдвигая это утверждение, они подразумевают, что если
всех тех, кого затрагивают социально-экономические решения,
удастся собрать вместе для участия в публичном диалоге, то мо-
гут быть выделены конституирующие элементы «общности».
Однако цель последующего изложения состоит в том, чтобы
показать, что процедуры совещательной демократии отягоще-
ны фундаментальными проблемами, поскольку они игнориру-
ют требования робастной политической экономии и могут по-
дорвать собственную способность соответствовать притязани-
ям, выдвигаемым в качестве доводов в их пользу.
Глава 3. Уход, высказывание и коммуникативная... 101
Совещателъностъ и «синоптическая иллюзия»
Для того чтобы элементы сложной общности сознательно ко-
ординировались в соответствии с «общим благом», потребова-
лось бы общее синоптическое описание того, как взаимодейст-
вуют различные компоненты соответствующей общности. Одна-
ко с точки зрения классического либерализма само количество
взаимосвязей между элементами, составляющими сложные со-
циальные целостности, препятствует их всеобъемлющему по-
стижению какой-либо группой, включенной в такого рода про-
цесс. Если социальная целостность более сложна, чем сумма ее
индивидуальных частей, то из этого следует, что никакие ее со-
ставные элементы, даже будучи собранными вместе на некоем
публичном форуме, не могут постичь все факторы, вносящие
вклад в ее развитие (Hayek, 1957; Хайек, 2003). «Синоптическая
иллюзия» (Hayek, 1982; Хайек, 2006) не может быть разрешена
с помощью развития компьютерных технологий, как это иног-
да предлагается (см., например, Barber, 1984; Notturno, 2006),
поскольку чем больше развивается такая технология, тем более
сложным становится спектр решений, которые могут быть при-
няты каждым децентрализованным элементом, составляющим
общность. Независимо от того, насколько изощренными стано-
вятся технологии, сложность социальной системы на метауров-
не будет по-прежнему превосходить когнитивные возможности
составляющих элементов. Хайек (1952: 185; 1967b, 1967c) фор-
мулирует это в явном виде, когда отмечает: «Любой инструмен-
тарий классификации должен обладать структурой, имеющей
более высокую степень сложности, чем объекты, которые он
классифицирует... поэтому возможности любого объясняюще-
го агента неизбежно ограничиваются объектами со структурой,
имеющей более низкий уровень сложности, чем его собствен-
ный» (Hayek, 1952: 185). В свете этого фундаментальная пробле-
ма совещательной демократии состоит в том, что она предъяв-
ляет к людям такие когнитивные требования, которым они не
способны удовлетворять.
Главная ошибка, которую совершают в данном случае комму-
нитаристы, заключается в требовании, что люди должны осоз-
нанно анализировать, как их действия влияют на «общее благо».
С точки зрения классического либерализма центральным во-
просом социальной координации являет то, как дать людям воз-
можность приспосабливаться к обстоятельствам и интересам,
102 Часть I. Вызовы классическому либерализму
о которых они не могут быть непосредственно осведомлены. Это
не означает, что предполагается невозможность поведения, «учи-
тывающего других» [other-regarding behaviour], но из этого следу-
ет, что такое поведение по необходимости ограничивается узкой
когнитивной сферой, охватывающей людей и мотивы, которые
лично знакомы соответствующему актору. Система рыночных
цен и другие стихийные порядки создают условия для комплекс-
ного процесса взаимного приспособления, позволяющего дейст-
вующим в микромасштабах индивидам и организациям, несмо-
тря на когнитивные ограничения, координировать деятельность
путем трансляции в упрощенной форме знания, представляюще-
го взаимосвязанные решения множества рассредоточенных ак-
торов. Классический либерализм не отрицает понятия «обще-
го блага» и не сводит такого рода концепцию к агрегированию
индивидуальных ценностей. Напротив, считается, что изменяю-
щиеся относительные цены создают возможности для процесса
взаимного приспособления акторов, преследующих большое раз-
нообразие заранее не известных и, возможно, несоизмеримых
целей, — приспособления, которое увеличивает шансы того, что
любая из этих целей сможет быть достигнута (Hayek, 1973: 114—
115; Хайек, 2006, 132-133).
Подчеркивая важность осознанного обдумывания и обсужде-
ния как ключевого составляющего элемента социетальной рацио-
нальности, коммунитаристы, очевидно, предлагают не что иное,
как разновидность централизованного планирования посред-
ством дискуссии. Да, учитывая, что большинство коммунитари-
стов являются приверженцами именно локализованной, «общи-
ноцентричной» формы совещательности, это обвинение может
показаться чрезмерно преувеличенным. Например, Янг (Young,
2000: 45—46) признает, что ввиду масштабов и сложности сов-
ременных урбанизированных обществ унитарная модель осно-
ванной на личном общении совещательной демократии являет-
ся недостижимой. Для решения этой проблемы она предлагает
«децентрированную» или локализованную форму политического
процесса, в рамках которой соответствующие представители бу-
дут находиться ближе к гражданам и с большей вероятностью бу-
дут обладать знанием их нужд и ценностей «на местах» (см. также
Adaman and Devine, 1997). Однако это подчеркивание важности
децентрализации выглядит довольно неожиданным, учитывая,
что коммунитаристская критика либерализма и рынков направ-
лена против «атомизма», якобы свойственного процессам, не
Глава 3. Уход, высказывание и коммуникативная... 103
способным поддерживать большее «единство» при принятии ре-
шений. Если следует поощрять децентрализацию до уровня от-
дельных «общин», то непонятно, почему бы не поощрять даль-
нейшую, более радикальную децентрализацию до уровня отдель-
ных индивидов. Можно, конечно, предположить, что индивиды
всегда погружены в локальные общности, поэтому децентрали-
зация до этого уровня оправданна, а более индивидуализирован-
ное принятие решений — нет. Однако такой аргумент идет враз-
рез с утверждением, что содержание общинной идентификации
является ничуть не более фиксированным, чем содержание ин-
дивидуальной идентификации. Если идентичность является под-
вижной и пересекающейся, то демаркация границ «местной» об-
щины по своей сути произвольна и блокирует тот самый процесс
интерсубъективного (читай: межобщинного) обучения, к кото-
рому коммунитаристы, если судить по их заявлениям, благоволят.
Более того, если согласиться с тем, что «никакая общность
не является островом», то фокус на локальной совещательности
попросту означает уход от вопроса о том, каким образом дейст-
вия, предпринимаемые множеством различных «общин», и вы-
бираемые ими решения должны координироваться друг с дру-
гом на метасоциетальном уровне (Prychitko, 1987; Tebble, 2003).
В формулировке Хайека: «Децентрализация сразу же влечет за
собой проблему координации, причем такой, которая оставля-
ет за автономными предприятиями право строить свою дея-
тельность в соответствии с только им известными обстоятель-
ствами и одновременно согласовывать свои планы с планами
других... Именно таким механизмом является в условиях конку-
ренции система цен, и никакой другой механизм не может его
заменить. Наблюдая движение сравнительно небольшого ко-
личества цен, как наблюдает инженер движение стрелок при-
боров, предприниматель получает возможность согласовывать
свои действия с действиями других» (Hayek, 1944: 55—56; Хайек,
2005: 70). В сложной среде, где необходимо согласовывать мил-
лионы межобщинных решений, для участников локальных обсу-
ждений было бы невозможно постичь умом характер всех взаи-
моотношений между всеми значимыми акторами. В отсутствие
системы цен или ее аналога, снижающего сложность решений,
по необходимости принимаемых каждой из децентрализован-
ных общин, у них в распоряжении не будет никакого другого ме-
ханизма, позволяющего координировать совокупность планов
действий, которая без него была бы совершенно разрозненной
104 Часть I. Вызовы классическому либерализму
и рассогласованной. Если сложные взаимоотношения между об-
щинами не будут координироваться рыночными ценовыми сиг-
налами — или их аналогом, таким как меняющийся паттерн рас-
пределения налоговых доходов, который может иметь место
в условиях конкурентного федерализма, — то в какой-то момент
неизбежно придется прибегнуть к помощи центральной «коор-
динирующей» власти. Но именно эта форма «централизованно-
го планирования» подвержена «проблеме знания», к которой
привлек внимание Хайек.
Проблема неявного знания
Неспособность процессов совещательной демократии создать
условия для социальной координации усугубляется проблемой
передачи «неявного знания», если использовать термин Майкла
Пбланьи (Polanyi, 1951). Последнее включает в себя «ноу-хау на
рабочем месте» и «практическое знание», производное от куль-
турных или организационных «установившихся практик», спе-
циализацию в той или иной сфере деятельности и «опыт», свя-
занный с тем или иным конкретным рынком. Оно также может
иметь составной частью понимание человеком ценностей, при-
писываемых им тем или иным благам, когда различия в этих
ценностях не могут быть в точности переданы языковыми сред-
ствами. Если спросить индивида, какова для него ценность раз-
личных элементов, составляющих некую корзину благ, он может
оказаться не в состоянии развернуто объяснить, насколько он
ценит одно благо больше, чем другое, — такое знание может быть
обнаружено только в самом акте выбора (Buchanan, 1969; Бью-
кенен, 2008). Соуэлл формулирует эту мысль следующим обра-
зом: «Действительная проблема заключается в том, что требуе-
мое знание представляет собой знание субъективных структур
сравнительных оценок, которые нигде и никак не артикулиро-
ваны, даже самим индивидом. Я могу думать, что, столкнувшись
с неизбежной угрозой банкротства, я скорее продам свой авто-
мобиль, чем мебель, или пожертвую скорее холодильником, чем
кухонной плитой, но до тех пор, пока такой момент не настал,
я так и не узнаю, каковы мои собственные сравнительные оцен-
ки, не говоря уж о чьих-нибудь чужих» (Sowell, 1980: 217—218).
Неявные данные, которыми располагают рассредоточен-
ные индивиды и группы, по определению не могут быть выра-
жены в словах. Кроме того, эти данные не могут быть «собраны»
Глава 3. Уход, высказывание и коммуникативная... 105
и переданы в распоряжение публичного форума, поскольку его
участники могут даже сами не иметь представления о том, что
они у них есть. Поэтому совещательные процедуры, отводящие
привилегированную роль языковым формам передачи знания,
лишены какого бы то ни было механизма, допускающего эффек-
тивное публичное использование неявного знания. В отличие от
них, институты, основанные на уходе, способны косвенным обра-
зом передавать неявное знание посредством действий людей, ко-
торые вступают в разнообразные конкурирующие системы дого-
воренностей и выходят из них. Например, в случае рынков цены,
порождаемые непреднамеренными результатами бесчисленных
решений о покупке и продаже, могут транслировать содержащее-
ся в сознании индивидов знание, которое не может быть выраже-
но вербально. Когда люди принимают решения о покупке и про-
даже в качестве производителей (выбирая, какие блага произво-
дить и каким именно образом) и потребителей (выбирая между
разнообразными альтернативными покупками), они передают
друг другу «сообщения». Как объясняет Хорвиц (Horwitz, 1992),
важнейшее значение имеет то, что покупателям и продавцам нет
необходимости быть осознанно осведомленными о том, каким
именно знанием они обладают и почему один из вариантов дейст-
вия они ценят именно так, а не иначе. Все, что от людей требует-
ся — действовать на основе своего знания, а вся релевантная ин-
формация введена в систему цен. Аналогично при конкуренции
между юрисдикциями индивидам и корпоративным организаци-
ям нет необходимости формулировать в словах, почему они пред-
почитают жить и работать в одной юрисдикции, а не в другой.
Все, что им следует делать — действовать, исходя из своих пред-
почтений в этом отношении, а их знание будет транслироваться
через маржинальный переток налоговых доходов от одного орга-
на публичной власти к другому.
К тому же способность институтов, делающих акцент на «ухо-
де», а не на «высказывании», к трансляции неявного знания име-
ет большое значение для процессов, способствующих открытию
и трансформации социальных ценностей. Если индивидуаль-
ные предпочтения формируются эндогенно социальной средой,
то для коммунитариста из этого следует, что они должны быть
подвергнуты процессу демократической критики и обсуждению
всей общностью в целом. Но в рамках классического либерально-
го понимания этот вывод неоснователен, так как процесс форми-
рования ценностей никоим образом не ограничивается актами
106 Часть I. Вызовы классическому либерализму
артикулированного убеждения. Огромное большинство благ,
которых желают люди, представляют собой «приобретенные
вкусы», и люди научаются желать их, глядя, как другие получа-
ют удовлетворение от этих вещей (Hayek, 1967d). Подобным же
образом распространение знания на рынках, в искусстве и науке
обычно происходит не через коллективное обсуждение или про-
ведение совещаний; оно развивается, когда индивиды и группы
обладают некоей приватной сферой, обеспечивающей им свобо-
ду экспериментирования с проектами, которые не сообразовы-
ваются с мнениями большинства. В этом случае господствующие
представления могут постепенно, малыми приращениями ме-
няться с течением времени через процесс подражания.
Ограничение механизмов «ухода» ради достижения «консен-
сусных» решений уменьшает общее количество принимаемых ре-
шений и поэтому ограничивает сферу живого опыта, на котором
люди могут учиться. Конкурентные процессы позволяют однов-
ременно проверять противоречащие друг другу идеи бесконечно
разнообразных методов производства и видов продукции без не-
обходимости получать одобрение большинства. Использование
возможности ухода позволяет акторам, несогласным с мнением
большинства, следовать своим собственным идеям, не посягая на
возможность для большинства следовать его собственным (см.,
например, Wholgemuth, 1995, 1999, 2005; Friedman, 2006). Имен-
но потому, что рынки и конкуренция между юрисдикциями пре-
доставляют людям пространство для реализации своих замыслов,
а не только для их обсуждения, люди оказываются способны ими-
тировать соответствующие ролевые модели по мере того, как вы-
годы и издержки становятся видимыми для более широкого мно-
жества акторов. Следовательно, акцентирование выражаемых
в явном виде рассуждений и «силы лучшей аргументации» в рам-
ках совещательной демократии, по-видимому, не только не поощ-
ряет открытие новых ценностей, но скорее всего будет сводить
на нет трансформацию установок и практик, в том числе тех, ко-
торые могут препятствовать прогрессу «исключенных» групп.
Данный аргумент не утверждает, что классические либеральные
институты с необходимостью будут вести к поступательному раз-
витию в сфере ценностей, он всего лишь приводит к выводу, что
процесс, допускающий децентрализованные действия со сторо-
ны меньшинства индивидов и групп, с большей вероятностью бу-
дет вести к такому развитию, чем процесс, ограничивающийся
решениями большинства.
Глава 3. Уход, высказывание и коммуникативная... 107
Уход и высказывание как альтернативы:
информационная прозрачность
и проблема стимулов
Проблема рационального незнания
Приводившиеся до сих пор аргументы не основывались на пред-
положении, что институты совещательной демократии терпят
провал из-за проблемы неадекватных стимулов. Напротив, они
применимы даже при «наиболее благоприятном» сценарии, при
котором люди принимают во внимание других и все те, кого за-
трагивают те или иные решения, способны участвовать в их при-
нятии способом, допускаемым «идеальной речевой ситуацией».
Но как только признается, что «стимулы имеют значение», ро-
бастность совещательной демократии становится еще более сом-
нительной. Есть серьезные основания считать, что у людей име-
ется недостаточно стимулов для добывания информации о поли-
тическом процессе, и точно так же у них слишком мало стимулов
к тому, чтобы подвергать свои предпочтения и ценности кри-
тическому исследованию в контексте коллективного выбора.
В условиях демократии больших чисел шансы на то, что вклад
отдельного гражданина будет иметь решающее влияние на ко-
нечный результат в отношении их самих и их близких, исчеза-
ющее малы. Поэтому может быть рациональным действием ре-
шение не только не становиться информированным и активным
гражданином, но и оставаться «неосведомленным» о содержа-
нии публичных обсуждений. Чем больше вопросов решается пу-
тем демократических процедур, тем более ярко выраженной ста-
новится эта проблема, поскольку соответственно вырастают ин-
формационные издержки, связанные с составлением суждений
по множеству разнообразных политических вопросов (Somin,
1998: 4S6—437; Hardin, 2000). Когда шансы оказать влияние на ре-
зультаты выборов столь ничтожны, даже граждански сознатель-
ная личность может решить не тратить много времени на отсле-
живание политической информации. Для такого человека может
быть более предпочтительным направить свою энергию на те ви-
ды деятельности, которые могут оказать решающее влияние на
какой-либо конкретный результат; например, он может принять
решение потратить время и деньги на благотворительность или
на продвижение какого-то дела, выбранного им самим.
Эмпирические исследования, проводившиеся в Европе
и США, подтверждают, что независимо от образовательного
108 Часть I. Вызовы классическому либерализму
уровня и социально-классовой принадлежности избиратели
склонны оставаться неосведомленными в отношении даже са-
мой базовой политической информации. Например, в США ана-
лиз показывает, что целых 70% избирателей не в состоянии на-
звать имя хотя бы одного сенатора от своего штата и подавляю-
щее большинство не может оценить текущий фактический темп
инфляции и уровень безработицы с точностью до 5 процентных
пунктов (Somin, 1998; см. также Pincione and Tesson, 2006). Тот
факт, что избиратели демонстрируют такую высокую степень не-
знания в отношении столь базовых политических сведений и так
мало знают о предметах, имеющих большой публичный резонанс
и регулярно освещаемых в средствах массовой информации, наво-
дит на мысль, что они могут быть еще менее информированными
по поводу воздействия более частных политических мер, которые
проходят через законодательные и бюрократические органы1.
По-видимому, наилучшим объяснением такого незнания яв-
ляются не апатия и не препятствия к участию в политике, а от-
сутствие стимулов к информированному участию. На это предпо-
ложение можно возразить, как это делает Барбер (Barber, 1984:
234), что если людям предоставить «достаточные полномочия»
для участия в обсуждении общественных дел, то они «быстро
осознают потребность в знании», но такое возражение игнори-
рует то, что возможность участия в обсуждении вполне может со-
четаться с полным отсутствием у них сколько-нибудь существен-
ного влияния (Somin, 1998). Более того, в сравнении с ситуацией
на рынке или с режимом конкурентного федерализма, где реше-
ние каждого лица вступить в тот или иной акт обмена или пе-
реместиться в ту или иную юрисдикцию играет решающую роль
в формировании его личного дохода, перемещение деятельнос-
ти на арену демократической совещателыюсти скорее всего
1 Здесь не имеется в виду, что для того, чтобы демократический процесс
был действенным, граждане на самом деле должны знать о политике всё.
В принципе у граждан есть не больше нужды в том, чтобы знать о механике
законодательной деятельности, чем у потребителей на рынке знать обо всех
деталях производственных процессов, задействованных в изготовлении по-
требляемых ими товаров. Скорее аргумент состоит в том, что для отдель-
ного гражданина на деле существует мало стимулов к тому, чтобы быть ин-
формированным по таким конкретным вопросам (например, по вопросу об
альтернативных издержках законодательных актов), по которым такая ин-
формированность была бы в его интересах, — причем таких стимулов намно-
го меньше, чем в случае точно таких же для лица, принимающего решения
о покупке или продаже на рынке.
Глава 3. Уход, высказывание и коммуникативная... 109
будет иметь своим результатом относительное снижение влия-
ния большинства акторов. В условиях рынков и конкурентного
федерализма, поскольку издержки неадекватной информирован-
ности падают на самого актора, у людей имеются гораздо более
сильные стимулы к тому, чтобы быть информированными в сво-
их решениях о покупке или выборе местонахождения, в то время
как в условиях демократии с большим числом участников эти из-
держки распределяются между всеми остальными избирателями.
Даже если предположить, что людям свойственна граждан-
ская сознательность, феномен рационального незнания с боль-
шой вероятностью будет ухудшать качество публичного обсужде-
ния. Но если отказаться от условия, что мотивация основана на
учете интересов и мнений других, эти трудности усиливаются
многократно. Именно благодаря неадекватности стимулов к мо-
ниторингу поведения политических представителей граждана-
ми особые интересы получают возможность взять политический
процесс под свой контроль. Те из сторонников совещательной де-
мократии, кто признает необходимость преодоления проблемы
влияния эгоистических интересов, утверждают, что процесса пу-
бличной дискуссии будет достаточно, чтобы выявить, какие имен-
но аргументы выдвигаются исходя из узкоэгоистических интере-
сов, а не из общего блага (Young, 2000). Однако в условиях рацио-
нальной неосведомленности избирателей публичное обсуждение
как раз этого-то и не сможет достичь. По сравнению с условиями,
в которых акторы могут улучшить свое положение, «уходя» от тех
поставщиков или из тех юрисдикции, которые неспособны пре-
доставить обещанное, публичная совещательность предлагает ма-
ло стимулов к тому, чтобы люди повышали свою информирован-
ность по поводу качества решений, принимаемых от их имени.
С классической либеральной точки зрения информацион-
ный вакуум, возникающий в результате рационального незнания
в публичной сфере, будет быстро заполняться представителями
групп специальных интересов. Эти группы, скорее всего, будут
принадлежать к одному из двух типов. С одной стороны, это мо-
гут быть группы заинтересованных производителей, каждый из
членов которых будет получать значительный выигрыш от влия-
ния на результаты публичного обсуждения и которые, будучи от-
носительно небольшими по численности, сталкиваются с более
низкими транзакционными издержками организации и в боль-
шей степени способны справиться с проблемой «безбилетни-
ка» (Olson, 1965, 1982; Tullock, 1994; Олсон, 1995, 2013). С другой
110 Часть I. Вызовы классическому либерализму
стороны, это могут быть группы, основанные на некоей полити-
ческой цели, для членов которых характерна сильная привержен-
ность определенной идеологии, религии или общей социальной
идентичности. Для групп второго типа проблема «безбилетни-
ка» сводится к минимуму, поскольку в этом случае политическое
участие не только не является издержками, которых следует из-
бегать, но, наоборот, выигрышем, к которому следует стремить-
ся, — подобным же образом некоторые люди получают удоволь-
ствие от зрелищных видов спорта благодаря возможностям, ко-
торые те предоставляют для демонстрации благорасположения
или враждебности к тем или иным командам (Brennan and Lo-
masky, 1992). И в том и в другом случае подавляющее большинст-
во населения, включая группы интересов налогоплательщиков
и потребителей, а также тех, кто не обладает сильными установ-
ками, основанными на той или иной социальной идентичности,
скорее всего будет политически мобилизовано в относительно
меньшей степени. При этом знание об общественных делах, по-
лучаемое этими людьми, будет находиться под непропорциональ-
но сильным воздействием информации, поступающей от групп
особых интересов, — причем у большинства населения будет ма-
ло стимулов проверять качество этой информации.
Проблема рациональной иррациональности
Проблема рационального незнания становится еще более серь-
езной, если учитывать стимулы к тому, чтобы ставить под сом-
нение существующие ценности и господствующие подходы к по-
ниманию окружающего мира. Издержки сохранения и выраже-
ния ложных представлений в сфере демократического участия
ничтожны для индивида, поскольку шансы на то, что какой-ли-
бо его вклад в публичную дискуссию сможет повлиять на ее ре-
зультаты, пренебрежимо малы. Вследствие этого существует
тенденция к «рациональной иррациональности» (Caplan, 2007;
Каплан, 2012; см. также Brennan and Lomasky, 1993). В процессе,
из которого исключены варианты «ухода», издержки, порожда-
емые поддержкой иррациональной политики, распределяют-
ся между всеми членами общества, вместо того чтобы концент-
рироваться на тех, кто придерживается ложных представлений.
Рациональное сомнение в личных убеждениях и предпочтени-
ях в условиях демократии обладает характеристиками коллек-
тивного блага, и поэтому будет иметь место тенденция к его
Глава 3. Уход, высказывание и коммуникативная... 111
«недопроизводству». Напротив, в рыночной или аналогичной
рыночной ситуации упорство в ложных представлениях или
предрассудках связано с прямыми издержками для соответствую-
щего актора. Так, работодатель, отказывающийся нанимать лю-
дей из-за их расы и сексуальной ориентации, или потребитель,
отказывающийся покупать продукцию, произведенную «ино-
странным» трудом, будет вынужден платить более высокие цены
по сравнению с более терпимыми участниками рынка, посколь-
ку такая практика покупки, основанная на предрассудках, умень-
шает доступное предложение наемных работников или других
партнеров для обмена (см. также Becker, 1971).
Проблемы коллективного действия, связанные с демократи-
ческой совещательностью, еще больше осложняются феноменом
«фальсификации предпочтений». В сравнении с мизерными вы-
годами от участия издержки для индивида, связанные с оспарива-
нием господствующих представлений, могут быть высоки. Те, кто
хочет защищать группы или отстаивать ценности, которые не
вызывают симпатии у большинства населения, могут опасаться
социальных последствий публичного выражения своих убежде-
ний (Kuran, 1995). Даже тогда, когда оспорить соответствующие
убеждения готово потенциально большое число людей, если при
этом велика неопределенность в отношении уровня поддержки,
то с большой вероятностью проявятся серьезные проблемы, свя-
занные с коллективными действиями как таковыми. В интересах
каждого отдельного актора будет либо безмолвствовать, либо да-
же поддерживать статус-кво, избегая тем самым риска остракиз-
ма и надеясь «бесплатно проехаться» за счет того, что спорить
будут другие. Если соответствующим образом рассуждает доста-
точно большое число людей, то они, чтобы обеспечить себе со-
хранение социального одобрения, могут вместо того, чтобы вы-
ражать свои убеждения в свободной и честной дискуссии, выска-
зывать мнения, с которыми они в частном порядке не согласны.
В случаях такого рода «привязки» [lock-in] можно представить се-
бе теоретический сценарий, в котором определенные действия
государства будут способствовать движению к альтернативному
набору социальных практик. Однако это не будут действия госу-
дарства, которое «прислушивается к общественности» посред-
ством процесса демократического обсуждения. Напротив, это
будут акты правительства, не принимающего во внимание чет-
ко выраженные ценности большинства — разумеется, в доволь-
но нереалистическом предположении, что такое правительство
112 Часть I. Вызовы классическому либерализму
действительно может знать, какой конкретный набор ценностей
следует поддерживать и навязывать.
Эффекты культурной «привязки» описанного выше типа мо-
гут иметь место и в рамках частных рынков, и эволюция соци-
альных ценностей может соответственно замедляться. Анало-
гичным образом, как ясно демонстрируют феномены «пузырей»
и «депрессий» на фондовых рынках, «стихийные порядки» тоже
подвержены стадному поведению и могут быть «захвачены» зави-
сящими от предшествующей траектории процессами движения
по восходящей или нисходящей спирали, способными продле-
вать жизнь ошибочным решениям. Хотя такие проблемы повсе-
местно наблюдаются в рамках рынков и других процедур, осно-
ванных на уходе, потенциал для «привязки» может в этих случа-
ях быть не столь значительным, как в случае коллективистских
демократических альтернатив, поскольку издержки на переубе-
ждение здесь сравнительно меньше. Например, для того, чтобы
обеспечить в рамках рынка поддержку некоему оригинальному
предприятию или нестандартной практике, предпринимателям,
будь то в коммерческом секторе или в сфере гражданских объе-
динений, нет необходимости ни высказывать свои мнения на пу-
бличном форуме, ни добиваться поддержки большинства (Whol-
gemuth, 1995, 1999, 2005). В условия, когда существует «свобода
входа» на рынок, все что нужно предпринимателям, это убедить
достаточное количество людей, чтобы они поддержали его пред-
приятие или инициативу, так чтобы он был в состоянии покрыть
свои издержки. При более низких издержках на убеждение и при
возможности осуществлять на практике множество разнообраз-
ных мнений меньшинства, издержки несогласия со статус-кво
скорее всего будут ниже и соответственно уменьшатся шансы
оказаться «привязанным» к доминирующей системе ценностей.
В общем и целом, хотя мнение большинства и в условиях
рынков оказывает влияние на людей, у последних есть больше
возможностей для оспаривания ошибочных точек зрения, по-
скольку: (1) им не требуется получать согласие большинства, пре-
жде чем они вступят в те или иные взаимоотношения или вый-
дут из них, и (2) они могут получить личную выгоду, отступая от
статус-кво. Так, наиболее успешные трейдеры на фондовом рын-
ке — это обычно те, кто «переигрывает рынок», продавая, когда
большинство других участников покупают, и покупая, когда боль-
шинство продает. Точно так же предприниматели и потребите-
ли, не разделяющие расистских или сексистских предрассудков
Глава 3. Уход, высказывание и коммуникативная... 113
своих собратьев, могут получить дополнительную прибыль, по-
рывая с этими предрассудками и вступая в обмен с людьми во-
преки господствующим социальным нормам. Именно благодаря
большему пространству, предоставляемому основанными на ухо-
де институтами для такого рода независимых действий, эти ин-
ституты, не будучи полностью свободными от эффектов «при-
вязки» и зависимости от траектории, тем не менее проявляют
склонность к таким эффектам, вероятно, в меньшей степени, чем
мажоритарная альтернатива.
Уход и высказывание как альтернативы:
моральный аргумент
Препятствия, мешающие совещательной демократии предоста-
вить обещанные от ее имени коммуникативные выгоды, веро-
ятно, отражают проблемы, неотъемлемо присущие совещатель-
ным демократическим структурам как таковым. Приводившая-
ся выше аргументация не означает, что некие искусственные
ограничения не дают функционировать совещательным инсти-
тутам. Напротив, возражение состояло в том, что центральный
для совещательной демократии регулятивный идеал может быть
несовместим с целями, которых она стремится достичь. Если
сравнивать с установлениями, основанными на принципе ухо-
да, и в частности с рынками, то попытки сделать общественные
институты более совещательными могут приводить к сокраще-
нию пространства, качества и сложности социальной коммуни-
кации. Эти дефекты в равной степени релевантны в контексте
моральной аргументации, выдвигаемой в пользу большей опоры
на принцип демократического высказывания.
Логистика и равное уважение
Главный моральный аргумент в пользу совещательной демо-
кратии состоит в том, что скорее она будет отражать этические
нормы справедливости, чем торг и переговоры в рамках рын-
ках или подобных рынку структур, поскольку она обеспечива-
ет членам «исключенных» групп, в том числе беднякам и все-
возможным культурным меньшинствам, то, что их взгляды бу-
дут учтены на публичной дискуссионной площадке и выслушаны
с таким же уважением, как и прочие (Young, 1990, 2000). Однако,
как показало вышеизложенное обсуждение, даже при «наиболее
114 Часть I. Вызовы классическому либерализму
благоприятных» сценариях сочетание проблем, связанных со
знанием, и отсутствия необходимых стимулов блокирует тот са-
мый процесс коммуникативной рациональности, который хоте-
ли бы усилить сторонники совещательной демократии. На пра-
ктике же примеры совещательности в «реальном мире» скорее
всего будут работать еще хуже, чем можно судить на основе выше-
приведенных аргументов, поскольку невозможно ожидать, что-
бы все население приняло реальное участие в соответствующем
процессе принятия решений ввиду логистической невозможно-
сти предоставления форума достаточно большого, чтобы удов-
летворить требованию, согласно которому все, кого затрагивает
решение, были бы в состоянии участвовать в его принятии.
Любая работоспособная форма совещательной демократии
неизбежно будет по своему характеру представительной, а не де-
мократией прямого участия, и поэтому не сможет отражать во
всех подробностях взгляды и ценности огромного большинства
населения независимо от того, являются ли входящие в него ин-
дивиды членами «включенных» или «исключенных» групп. Сле-
довательно, непонятно, почему коммунитаристы считают, что
совещательная демократия более уважительно относится к взгля-
дам бедняков и меньшинств, чем основанные на уходе альтерна-
тивы, такие как рынки. Хотя спектр возможностей, открытых
для бедных и членов исключенных групп, меньше, чем для более
благополучных, все же решения, которые они могут принимать —
например выявление более высокооплачиваемых возможностей
занятости или источников более дешевых товаров, — в большей
степени будут иметь решающее влияние на их жизнь, чем на-
дежда на далеких представителей и периодически предоставляе-
мый шанс проголосовать на выборах. Поскольку взгляды каждого
индивида поступают в качестве исходных данных в систему цен
посредством принимаемых ими регулярных и разнообразных ре-
шений о купле и продаже, рынки не ограничены рамками сове-
щательного форума. Более того, именно потому что рынки не
полагаются на решения большинства, они с гораздо большей ве-
роятностью будут стремиться обслужить интересы меньшинств
и культурные ниши. Структуры совещательной демократии по
сравнению с рынками предоставляют большинству одновремен-
но и слишком мало, и слишком много власти. Слишком мало, по-
тому что подавляющее большинство людей имеют слишком ма-
ло возможностей, чтобы влиять на содержание политической
программы действий. И слишком много, потому что, как только
Глава 3. Уход, высказывание и коммуникативная... 115
политическая программа действий утверждена находящимися
у власти представителями, позиция большинства будет навязы-
ваться силой вопреки желаниям несогласного меньшинства.
Разумеется, можно доказывать, что неравенство в покупа-
тельной способности показывает, что классические либераль-
ные институты не обеспечивают людям того уважения, которо-
го они заслуживают. Вопрос о том, действительно ли равное ува-
жение может служить подходящим критерием справедливости
и что именно вытекает из этого понятия, будет более подробно
рассмотрен в главе 5. Но для нынешних целей важно то, что из-за
продемонстрированных выше препятствий институты совеща-
тельной демократии могут оказаться не в состоянии достичь це-
ли обеспечения равного уважения. Шаг от принципа конкурент-
ного ухода в сторону совещательной демократии является шагом
от положения, в котором как бедные, так и богатые, как «вклю-
ченные», так и «исключенные» индивиды могут оказывать реша-
ющее влияние на размещение ресурсов — хотя богатые при этом
будут обладать более широким набором возможностей, — в на-
правлении ситуации, в которой огромное большинство людей
не оказывают никакого или почти никакого личного влияния на
выбор, осуществляемый от их имени. Большее равенство между
богатыми и бедными идет рука об руку с большим неравенством
между людьми в целом, с одной стороны, и ограниченным чи-
слом «представителей», которые могут обладать большей влас-
тью над размещением ресурсов, чем кто-либо прежде.
Представительство самого себя против
представительства групп
Одна из линий защиты моральной аргументации в пользу сове-
щательности от возражений, подобных приведенным выше, тес-
но связана с работами Янг (Young, 2000). Признавая, что пря-
мое представительство разнообразных интересов на демокра-
тическом форуме логистически невозможно, Янг возражает на
это, что если понимание того, что представляет собой надле-
жащее представительство, претерпит необходимые изменения,
то интересы того или иного множества людей, включая членов
исключенных меньшинств, могут найти соответствующее от-
ражение. Хотя в условиях демократии представители действи-
тельно не могут говорить «как народ», они, тем не менее, мо-
гут говорить «за народ», и в частности за тех, кто подвергается
116 Часть I. Вызовы классическому либерализму
различным формам эксклюзии и угнетения. Чтобы говорить
«как народ», потребовалось бы, чтобы индивиды буквально «го-
ворили за себя» или, в самом крайнем случае, имели общие инте-
ресы и мнения со своими представителями. Но чтобы говорить
«за народ», требуется всего лишь, чтобы представители призна-
вали разнообразие опыта, имеющегося в их обществе. Соглас-
но этому взгляду, человеку не нужно быть бедняком, женщиной
или геем, чтобы выступать от имени тех, кто принадлежит к со-
ответствующим социальным группам. Представительство при
этом не обязательно ограничивается избранными политиками,
но может включать роли, играемые представителями различ-
ных гражданских ассоциаций, таких как организации, борющи-
еся за права женщин и гомосексуалистов. Таким образом, с точ-
ки зрения Янг, хотя структуры совещательной демократии несо-
вершенны, они предлагают лучшие перспективы обеспечения
того, чтобы интересы «исключенных» групп получили должное
уважение, чем если бы последним была предоставлена возмож-
ность самим о себе позаботиться в рамках рынков и других несо-
вещательных форумов.
Трудно, однако, понять, каким образом предложенное Янг
«решение» может быть адекватно проблемам, о которых идет
речь. Как пишет Теббл (Tebble, 200S: 205), если согласиться с ут-
верждением сторонников «критической теории», таких как Янг,
что общинные идентификации и интересы являются не более
фиксированными или «предзаданными», чем аналогичные харак-
теристики индивидов, то любая форма представительства явля-
ется проблематичной с моральной точки зрения. Говорить, что
некто публично выступает за интересы бедных, женщин или ге-
ев, — значит исходить из посылки, что такие группы имеют иден-
тифицируемые общие интересы. Но если имеющиеся у людей
ощущения идентичности, а также ценности и предпочтения яв-
ляются пересекающимися и находятся в постоянном изменении,
нельзя утверждать, что существует такого рода общая идентич-
ность. Личность, которая имеет характеристики «гея», может по
множеству других параметров отличаться от многих других, кто
оказался разделяющим с нею этот конкретный аспект идентич-
ности. Например, они могут отличаться по признакам дохода, ра-
сы, религии, регионального и культурного окружения. Что еще
более важно, составляющие элементы того, что значит «быть ге-
ем», сами могут эволюционировать в разнообразных и непред-
сказуемых направлениях. В этом контексте демократическое
Глава 3. Уход, высказывание и коммуникативная... 117
представительство всегда будет отражать очень специфические
представления соответствующих представителей и может иметь
тенденцию приписывать однородные и стереотипные точки зре-
ния всем членам соответствующих «общин».
Более того, предпочитать представительный вариант сове-
щательности означает лишать оснований претензию, что демо-
кратия создает условия для социального обучения, поскольку ког-
да политики представляют других, понимание ими взглядов сво-
их избирателей предшествует участию в обсуждении содержания
этих взглядов (Ryfe, 2005). И даже в том практически невероят-
ном случае, если они действительно выражали взгляды разнород-
ных избирателей до начала обсуждения, политики, которые ме-
няют свое мнение в ходе дискуссии с другими представителями,
перестают представлять общину, которая их выдвинула, — ведь
это не сами избиратели вовлечены в процесс аргументирования
и обучения. В той мере, в какой политики меняют свои взгляды
вследствие обсуждения, это служит лишь увеличению разрыва
в знании между ними и теми, кого они представляют.
Данная трудность не сильно облегчается, когда политические
представители являются членами гражданских объединений, та-
ких как организации, занимающиеся защитой прав женщин или
гомосексуалистов. Есть все основания полагать, что представи-
тели таких групп обладают лишь очень ограниченным, частич-
ным пониманием ценностей, нужд и идентичности их членов. То,
что люди вообще вступают в такие организации — а большинство
женщин и геев этого не делают, — скорее отражает характер са-
мого демократического процесса. На деле те, кто достаточно мо-
тивирован для присоединения к такого рода коллективным дей-
ствиям, могут представлять собой нерепрезентативную выборку,
приверженную очень специфической интерпретации того, что
представляет собой женская или гомосексуальная идентичность.
Напротив, многие из тех, кто имеет характеристики «гея» или
«женщины», но кто при этом не связывает себя ни с какой кон-
кретной интерпретацией этой идентичности, скорее всего будут
недостаточно представлены. Голосование — довольно грубый
механизм, требующий, чтобы вопросы были упакованы в упро-
щенном виде, чтобы их можно было решить на основе прави-
ла большинства. В силу самой природы этих процедур люди бу-
дут рассматриваться скорее как однородные, стандартизованные
«общины», чем более утонченным и учитывающим разнообразие
образом. Теббл (Tebble, 2003: 206) приходит к выводу: основание
118 Часть I. Вызовы классическому либерализму
для сомнения в том, что совещательная демократия сможет до-
стичь заявленной цели, т.е. обращаться с должным уважением
с «находящимися в иной ситуации другими людьми», состоит «не
в том, как осуществляется представительство групп, а в самом том
факте, что такое представительство имеет место».
С точки зрения классического либерализма более робастная
альтернатива представительству на совещательном демократи-
ческом форуме состоит в том, чтобы позволить людям говорить
и, что еще важнее, действовать за себя самих посредством совер-
шения выбора относительно вступления во взаимоотношения
с конкурирующими коммерческими организациями, доброволь-
ными объединениями и политическими юрисдикциями, а так-
же относительно прекращения таких взаимоотношений. Через
этот процесс «представительства самого себя» [self-representa-
tion] люди могут выбирать те варианты, которые в наибольшей
степени отражают их собственное сочетание ценностей и черт
идентичности, причем отражают более чутко, чем это возмож-
но путем периодических голосований по поводу результатов об-
суждений, осуществляемых малой группой представителей. Бо-
лее того, в среде, в которой преобладающим принципом являет-
ся уход, по мере того, как широкое множество рассредоточенных
предпринимателей и добровольных организаций конкурируют
друг с другом, предлагая новые комбинации благ, услуг и идей
в стремлении как обслуживать существующие ценности, так и со-
здавать новые конфигурации идентичности, сами элементы иден-
тичности человека могут развиваться. В этой связи важно отме-
тить, что в таких сферах, как музыка и развлечения, рынки стали
удовлетворять различные представления, например о «свойстве
быть геем», задолго до того, как демократический процесс при-
вел к большему равенству в сфере гражданских прав (Lavoie and
Chamlee-Wright).
Необходимо подчеркнуть, что приведенный выше аргумент
не означает, что сам принцип ухода не допускает выражения раз-
личных предрассудков и стереотипов, приводящих к эксклюзии
людей. Он скорее подразумевает, что институты, основанные на
уходе, такие как рынки, вероятно, предоставляют людям боль-
ше возможностей избегать таких предрассудков и бросать им вы-
зов. Мало оснований ожидать, что государствоцентричные реше-
ния, независимо от того, подчиняются они совещательным про-
цедурам или нет, способны каким-то образом избежать проблем,
возникающих из-за предрассудков граждан и их представителей.
Глава 3. Уход, высказывание и коммуникативная... 119
В конце концов, именно демократически избранные правитель-
ства несут ответственность за всевозможные виды принудитель-
ной дискриминации, начиная от расистского градостроитель-
ного зонирования и заканчивая законами о занятости, состав-
ленными таким образом, чтобы ограничить возможности для
женщин (Sowell, 1981). Поэтому те, кто хочет бросить вызов усто-
явшимся ценностям, с большей вероятностью смогут сделать это
в окружении, которое делает акцент на уходе, а не на правлении
большинства. Например, для такой группы, как геи, возможно,
лучше жить в системе конкурентного федерализма, когда есть
возможность избежать притеснений путем «ухода» в миноритар-
ную юрисдикцию, толерантную к их склонностям, чем сталки-
ваться с необходимостью убедить большинство жителей страны
в необходимости культурных изменений, прежде чем у них поя-
вится свобода проявлять свою ориентацию на публике.
В той мере, в какой коммунитаристские сторонники сове-
щательной демократии давали ответ на этот классический либе-
ральный анализ, они исходили из того, что процесс публичного
обсуждения сам по себе побуждает людей к тому, чтобы прояв-
лять большее уважение, приводящее к более инклюзивной фор-
ме принятия решений, при которой люди преодолевают огра-
ниченность собственных взглядов и достигают лучшего понима-
ния того положения, в котором находятся другие (Young, 2000).
Однако, оставляя в стороне логистические проблемы сведения
вместе соответствующих акторов, нет никаких оснований пола-
гать, что включенность в публичный диалог приведет людей к то-
му, что они будут больше друг друга уважать. По-видимому, име-
ется по крайней мере равная вероятность того, что чем больше
люди будут узнавать о ценностях, которых придерживаются дру-
гие индивиды и группы, тем большее неуважение будут вызывать
у них эти ценности (Kukathas, 2003: 157; Кукатас, 2011: 270). В са-
мой совещательно-демократической форме принятия решений
нет ничего такого, что делало бы ее более пригодной для сниже-
ния вероятности притеснений меньшинств. Более того, с точки
зрения классического либерализма подобные процедуры скорее
будут повышать конфликтность. Распространение демократиче-
ского контроля на сферы, в которых не существует ранее сфор-
мировавшегося широкого согласия по поводу ценностей, может
порождать борьбу за власть, поскольку различные группы будут
соперничать за получение контроля над государственным аппа-
ратом с тем, чтобы навязать всем свою особую версию общего
120 Часть I. Вызовы классическому либерализму
блага. И если соответствующие разногласия вдруг не исчезнут, то
в конечном счете фактически принятые решения будут опреде-
ляться силой составляющих большинство коалиций, причем ко-
алиций, образованных малым числом представителей.
Если рассматривать вопрос с классических либеральных по-
зиций, то альтернативным способом поощрения большей от-
крытости и толерантности является изначальное «согласие на
несогласие», а не обязательность коллективных решений. Иссле-
дования политического поведения подтверждают, что большин-
ство людей не согласны с тезисом коммунитаристов, что суще-
ствование конфликта ценностей является достаточным основа-
нием для политизации процесса принятия решений. Напротив,
люди обычно предпочитают избегать обсуждения запутанных мо-
ральных вопросов на публичных форумах. В своем обстоятель-
ном анализе структуры политического участия Мутц (Mutz, 2006)
показала, что политические обсуждения становятся более часты-
ми по мере того, как взаимоотношения между участниками диа-
лога становятся более доверительными. Люди склонны форми-
ровать близкие отношения с теми, кто уже разделяет многие их
моральные позиции и кто чувствует себя комфортно, обсуждая
с ними эти темы. Однако в менее близком и доверительном окру-
жении, например на работе, хотя люди с большей вероятностью
могут встретить тех, кто придерживается иных моральных убеж-
дений, они, будучи движимыми светской вежливостью и стрем-
лением минимизировать конфликты, с гораздо меньшей вероят-
ностью будут вступать в общение на политические темы. Более
того, в той мере, в какой люди все-таки обсуждают политические
и моральные вопросы в таких ситуациях, это обычно происхо-
дит потому, что такие дискуссии не завершаются принятием обя-
зательных для всех коллективных решений. По-видимому, более
широкие структуры гражданского участия следуют аналогичной
модели — участие в добровольных объединениях, ориентирован-
ных на неполитические по своему характеру и не вызывающие
споров цели оказывается более распространенным, чем членст-
во в группах, приверженных спорным и узкопартийным принци-
пам (Mutz, 2006, особенно главы 2 и 4).
Наиболее тревожным для коммунитаристов результатом вы-
шеупомянутого исследования является то, что люди, демонстри-
рующие широту взглядов и терпимость к другим, необходимые
для функционирования совещательной демократии, — это как
раз те, кто избегает активного участия в политике (Mutz, 2006:
Глава 3. Уход, высказывание и коммуникативная... 121
Chapter 5). Чем более толерантен человек к другим точкам зре-
ния, тем менее вероятно, что он захочет участвовать в деятель-
ности, которая будет иметь результатом обязательные к испол-
нению коллективные решения. Способ, которым большинство
людей демонстрируют «уважение к другим» в своей повседнев-
ной жизни, состоит в том, чтобы либо вообще избегать поли-
тики, либо находиться в компании сходно мыслящих людей. Те,
кто готов взять на себя хлопоты и временные затраты, связан-
ные с деятельностью политического активиста, обычно рекру-
тируются из числа «истинно верующих», которым свойственно
узкопартийное мышление и зачастую нетерпимость. Люди, ко-
торые обладают наибольшими знаниями о политике и созна-
тельно идентифицируют себя с теми или иными конкретными
принципами, демонстрируют наименьший уровень социальных
контактов с теми, кто придерживается иных политических взгля-
дов. Эти результаты впечатляющи, учитывая неустранимую тен-
денцию совещательной демократии к схлопыванию в представи-
тельную форму. Вторя хайековскому обсуждению вопроса о том,
«почему к власти приходят худшие» (Hayek, 1944; Хайек, 2005),
они наводят на мысль, что в условиях совещательной демократии
ограниченное множество акторов, которым поручено осуществ-
лять сложный морально-этический выбор, может оказаться со-
стоящим как раз из тех людей, от которых в наименьшей степе-
ни можно ожидать проявления терпимости и уважения к разно-
образию конфликтующих точек зрения.
Переговоры и коммуникация
Вопреки всем этим аргументам коммунитаристы могут все же
утверждать, что совещательная демократия с этической точки
зрения предпочтительнее принципа ухода, поскольку она осно-
вывается на аргументации, а не на переговорной силе. Обыч-
но в этой связи приводится аналогия с научным спором — счи-
тается неуместным принимать решения о сравнительных дос-
тоинствах соперничающих теорий на основании готовности
платить и интенсивности индивидуальных предпочтений,
т.е. на основании критериев, которые являются первостепен-
ными в ситуациях, подобных рынку. Аналогично, с точки зре-
ния коммунитаристов, многие вопросы, связанные с направле-
ниями использования ресурсов, должны определяться «силой
лучшей аргументации», а не готовностью платить. Однако такая
122 Часть I. Вызовы классическому либерализму
позиция порождает проблему: большинство таких решений свя-
заны с вопросами, относящимися к редкости ресурсов и слож-
ным внутренним компромиссам [trade-offs], неизбежно поро-
ждаемым конкурирующими наборами ценностей, к каковым
компромиссам различные индивиды и общины могут приходить
различными способами по своему выбору. Например, решения
по поводу надлежащей величины расходов на транспортную ин-
фраструктуру или здравоохранение не являются чем-то подоб-
ным формулировкам научной «истины», которые могут быть
оценены как «истинные» или «ложные» на основе рациональ-
ной аргументации.
Если признать значимость разногласий и внутренних ком-
промиссов между ценностями, то ключевая проблема состоит
в том, чтобы выявить процесс, посредством которого могут со-
здаваться, сообщаться и приспосабливаться друг к другу различ-
ные ценностные суждения и внутренние компромиссы между
ценностями. Но именно в этой точке процесс демократической
совещательности сталкивается с проблемами, ранее обсуждавши-
мися в этой главе. Знание об этических и культурных стандартах,
локальных условиях спроса и предложения, доступности замени-
телей и всех прочих специфичных для конкретной ситуации фак-
торах не существует в качестве согласованного целого, которое
может быть изучено или собрано группой представителей. Но
рассредоточенные частицы знания могут передаваться безлич-
ными сигналами, такими как рыночные цены, транслирующими
в закодированной и упрощенной форме множество различных
ценностных суждений, делаемых бесчисленными индивидами
и группами. Люди информируют систему цен о своих личных су-
ждениях посредством решений о присоединении к тем или иным
рынкам или юрисдикциям и об уходе из них — и одновременно
сами косвенным образом получают от ценовой системы инфор-
мацию о суждениях, сделанных другими, далекими и незнакомы-
ми людьми. Когда размещение ресурсов включает бесчисленные
и рассредоточенные внутренние компромиссы по поводу ценно-
стей, непрямая коммуникация, возникающая благодаря порожде-
нию рыночных цен, может оказаться единственно доступной эф-
фективной формой коммуникации.
Необходимо подчеркнуть, что тот тип «переговоров» или
«торга», который возникает на рынках и в ситуации конкурен-
ции между юрисдикциями, существенно отличается от того, что
зачастую имеет место в рамках строго мажоритарного форума.
Глава 3. Уход, высказывание и коммуникативная... 123
Определяющей характеристикой рынков и аналогичных им про-
цессов является то, что в их рамках имеют место акты консен-
сусного обмена (т.е. происходящего по взаимному согласию).
А в процессе «политических переговоров» или «политического
торга» условия «обмена» не являются консенсусными, посколь-
ку составляющие большинство коалиции имеют возможность пе-
реложить издержки на акторов, принадлежащих к меньшинст-
ву, у которых нет возможности «уйти» от этого, кроме как поки-
нув страну. Каким бы ни был тип институтов, непонятно, каким
образом можно было бы полностью избежать «переговоров» или
«торга», поскольку если остаются разногласия по поводу тех или
иных общественных дилемм, то в конечном счете принимаемые
решения будут определяться именно относительной силой, кото-
рой обладают разные множества акторов. Однако преимущест-
во принципа ухода состоит в том, что у тех, кто обнаруживает от-
носительную слабость своей позиции, есть определенный набор
возможностей избежать того, что им будут навязаны нежелатель-
ные решения. Даже в случае вопросов, носящих более явно вы-
раженный моральный характер, опора на принцип ухода может
быть более предпочтительной. Например, те, кто оказывается
в меньшинстве в споре об абортах, могут предпочесть жить при
режиме конкуренции между юрисдикциями, в рамках которого
у них, по крайней мере в некоторой степени, есть свобода жить
в юрисдикции той публичной власти, которая разделяет их точку
зрения, а не противостоять единой системе моральных законов.
Равенство, неравенство и коммуникация
Разумеется, переговоры на рынках и в рамках других институтов,
основанных на принципе ухода, никоим образом не являются
эгалитарным процессом. Но с точки зрения классического либе-
рализма неравенство не является несовместимым с коммуника-
тивной концепцией рациональности, которую стремятся поощ-
рять сторонники совещательной демократии, и, более того, оно
является чрезвычайно важным для передачи знания. Как форму-
лирует Хайек: «Если плоды индивидуальной свободы не демон-
стрируют, что некий образ жизни больше способствует успеху,
чем другие, исчезает значительная часть доводов в пользу свобо-
ды» (Hayek, 1960: 85). Например, на рынках обнаружение воз-
можностей для получения прибыли направляет сигнал другим
акторам и способствует распространению наиболее успешных
124 Часть I. Вызовы классическому либерализму
моделей производства и потребления. Аналогичным образом
при конкурентном федерализме выбор людьми своего местона-
хождения и изменяющийся паттерн распределения бюджетных
доходов могут указывать на то, что различные местные юрисдик-
ции при выборе ими методов налогообложения и регулирова-
ния по-разному реагируют на инновации.
В этом свете эгалитаристские требования, предъявляемые
хабермасовской «идеальной речевой ситуацией», затрудняют по-
нимание того факта, что знание, будучи рассредоточенным, не
является поровну распределенным и не может таковым быть. По-
добно тому, как для процесса научного прогресса характерно со-
вершение новых открытий и появление «господствующих» те-
орий, которые затем подвергаются энергичной критике, пред-
принимательские прибыли постоянно сводятся на нет по мере
того, как вдело вступают новые конкуренты (Polanyi, 1951). По-
этому с классической либеральной точки зрения равенство вза-
имного влияния вообще не является правомерным критерием,
на основе которого можно оценивать результаты функциониро-
вания институтов.
Сами сторонники совещательной демократии, похоже, со-
гласны с тем, что «неравное» влияние не является несовме-
стимым с принципом «равного уважения». Например, Гарри
Бригхаус утверждает: «Проявления неравенства, являющие-
ся результатом публичного аргументирования, представляются
приемлемыми. Нет ничего неуважительного в том, чтобы выдви-
гать добросовестные доводы в пользу своей точки зрения и тре-
бовать, чтобы они были рассмотрены другими. Таким образом,
аргументация [в пользу совещательной демократии] допускает,
чтобы те, у кого лучше получается убедительное публичное ар-
гументирование, были более влиятельными в той мере, в какой
их влияние является следствием того, что они на самом деле пе-
реубеждают других» (Brighouse, 2002: 58). Но если приемлемы
проявления неравенства, возникающие в результате процесса
убеждения, то становится непонятным, почему коммунитаристы
считают неприемлемыми те примеры неравенства, которые яв-
ляются результатом разной степени успеха людей, убеждающих
других купить те или иные товары на рынке или переехать в кон-
курирующую политическую юрисдикцию. Вряд ли совещатель-
ные процедуры более инклюзивны или эгалитарны, чем инсти-
туты, опирающиеся на право ухода. Более того, процедуры, по-
лагающиеся на формулирование доводов в явном виде, скорее
Глава 3. Уход, высказывание и коммуникативная... 125
всего будут систематически исключать тех индивидов, которые
обладают меньшими способностями к артикулированному убе-
ждению большинства, но которые, тем не менее, могут распо-
лагать ценным знанием, воплощенным в предпринимательскую
деятельность, практический навык или приверженность опре-
деленному этическому кодексу. В условиях рынков и конкурент-
ного федерализма богатые и бедные, умеющие и не умеющие хо-
рошо выражать свои мысли, могут действовать на основе сравни-
тельно легкого сравнения между конкурирующими продуктами
и юрисдикциями, исходя из цен, качества благ и различий в обра-
зе жизни. Напротив, совещательные институты предоставляют
особое преимущество тем, кто владеет исключительно навыками
использования словесного убеждения.
Конечно, благодаря процессам, зависящим от прошлой тра-
ектории, проявления неравенства в рамках институтов, подоб-
ных рынку, могут воспроизводиться. Например, люди могут
предпочесть инвестировать в богатых людей или в тех, кто обла-
дает устоявшейся репутацией, на том лишь основании, что у тех
уже есть богатство или репутация, а не поддерживать новичка,
у которого на самом деле есть более хорошие идеи. Однако демо-
кратические совещательные процедуры также подвержены раз-
новидности «эффекта наследования», причем последний может
быть еще более ярко выраженным, чем в рамках систем, основан-
ных на более конкурентных принципах. Те, кто прежде уже проя-
вил «силу лучшей аргументации», неизбежно будут приходить на
совещательный форум, обладая большим ресурсом социального
статуса, — в точности так же, как те, кто ранее продемонстриро-
вал способность к предвидению и предпринимательству на его
основе, приходят на рынок, обладая большей покупательной спо-
собностью. Но на рынках возможности, которые есть у нович-
ков для того, чтобы оспорить статус-кво, не зависят от их спо-
собности переубедить большинство на публичном форуме. Люди
также могут проявить себя, предлагая другим лучшие или более
дешевые варианты, а потенциальные инвесторы могут «переиг-
рать рынок», поддерживая своими деньгами перспективных но-
вичков без необходимости дожидаться одобрения большинства.
Таким образом, процедуры, опирающиеся на решения боль-
шинством голосов, по-видимому, с не меньшей вероятностью,
чем рынки, будут усиливать проявления неравенства, дискрими-
нируя тех, кто не обладает навыками, необходимыми для убежде-
ния других посредством формальной аргументации. Более того,
126 Часть I. Вызовы классическому либерализму
поскольку демократические процедуры имеют тенденцию поощ-
рять «группоцентричную», а не индивидуализированную фор-
му представительства, люди могут «получать в наследство» го-
товность выслушать их взгляды вследствие простой принадлеж-
ности к тем группам, представители которых выиграли более
ранние раунды публичных дебатов. Ораторы, представляющие
деловые ассоциации, профсоюзы или группы защитников окру-
жающей среды, могут приглашаться к участию в публичном фо-
руме в первую очередь потому, что прежние представители этих
групп представили убедительные аргументы. По-видимому, нет
никакой принципиальной разницы между такими случаями и те-
ми, когда некое лицо просто в силу того, что член его семьи был
успешным предпринимателем, получает в наследство большую
покупательную способность на рынке.
Разумеется, можно привести довод, что способность удержи-
вать «незаслуженное» влияние на демократическом форуме за-
висит от способности нынешних представителей по-прежнему
выдвигать хорошие аргументы. Однако та же самая логика мо-
жет быть применена и к случаю унаследованного богатства. На
конкурентном рынке способность богатых поддерживать свое
относительное преимущество будет зависеть от того, в какой ме-
ре они продолжают инвестировать свои активы таким образом,
чтобы увеличивать свое благосостояние как потребителей. Сто-
ронники совещательной демократии, такие как Янг, выступа-
ют за перераспределение богатства до начала процесса публич-
ного обсуждения, обосновывая это тем, что частная «денежная
власть», используемая в ходе политического процесса (посред-
ством пожертвований на избирательные кампании и политиче-
ской рекламы), может дать богатым возможность манипулиро-
вать процессом с целью укрепления их сложившихся позиций
(Young, 1990: 184—185). Но с классической либеральной точки
зрения это аргумент не в пользу перераспределения богатства,
а в пользу ограничения масштабов политической машины, созда-
ющей возможность для проявления такого рода власти. Способ-
ность богатых поддерживать свои позиции методами, ведущими
к уменьшению благосостояния потребителей, не есть элемент
рыночной экономики как таковой, но может стать результатом
захвата интервенционистского государственного аппарата, ко-
торый распределяет выгодные нормы регулирования, тарифы,
субсидии и защищает богатых от «созидательного разрушения»,
свойственного рынкам, не стесненным ограничениями. Если
Глава 3. Уход, высказывание и коммуникативная... 127
предмет заботы состоит в том, чтобы ограничить власть богатых,
не устраняя при этом тех проявлений неравенства, которые от-
ражают более эффективную деятельность, то лучшим способом
достичь этого будет ограничение возможностей для антиконку-
рентного государственного вмешательства независимо от того,
осуществляется ли оно посредством совещательной демократии
или каким-либо другим образом.
Заключение
Во вводной главе этой книги были сформулированы некото-
рые принципы «робастной политической экономии» примени-
тельно к сравнительному анализу институтов. Теперь же должно
стать очевидным, что коммунитаристская защита совещательной
демократии в этом отношении не удовлетворяет требованиям
институциональной робастности. У коммунитаристов есть хо-
рошо разработанная теория того, каким бы им хотелось видеть
функционирование демократического процесса, но они так и не
смогли объяснить, каким образом та или иная реально существу-
ющая политическая система могла бы приблизиться к осуществ-
лению этих идеалов. Совещательная демократия не только не по-
ощряет процессы коммуникации, которые коммунитаристы хо-
тели бы развивать, но и, по-видимому, с большей вероятностью
будет им мешать. В предположении, что мотивом является стрем-
ление «учитывать других», совещательные институты способны
отражать взгляды и знания лишь незначительного подмножест-
ва населения. Если же ослабить предположение о наличии такой
мотивации, то совещательные институты дают мало защиты от
злоупотребления властью со стороны как политических предста-
вителей, так и организаций, представляющих особые интересы.
Глава 4
УХОД, ВЫСКАЗЫВАНИЕ
И КОММУНИКАТИВНАЯ
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ:
ВЫЗОВ КОММУНИТАРИЗМАII1
Введение
Хотя совещательная демократия — важная тема в арсенале ком-
мунитаристских аргументов, бросающих вызов классическому
либерализму, она никоим образом не является единственной та-
кой темой. Целый ряд взаимосвязанных с ней вопросов сосредо-
точен вокруг моральных норм, необходимых для поддержания
социальных институтов, и касается более широких взаимосвя-
зей между коммерцией, демократией и гражданским обществом.
Речь идет о понятиях доверия и социального капитала.
Современные коммунитаристы полагают, что чрезмерная
опора на рынки и подобные рынкам процессы искажает «соци-
альный капитал», играющий ключевую роль в функционирова-
нии любого общества, и на деле подрывает нравственность, не-
обходимую для сохранения самой рыночной экономики. С од-
ной стороны, утверждается, что рынки для своего эффективного
функционирования «нуждаются» в государстве и что стремление
к «нерегулируемой» системе или к системе «свободного рынка»
представляет собой погоню за химерой. С другой стороны, ком-
мунитаристы доказывают, что для сохранения социального капи-
тала следует создать противовес коммерческому этосу в виде ин-
ститутов, базирующихся на действии иных норм. В соответствии
с этим представлением действия государства — либо непосредст-
венное вмешательство, либо действия, обеспечивающие соответ-
ствующие условия, — открывают дорогу нормам, в большей степе-
ни ориентированным на общность, и могут способствовать воз-
никновению черт поведения, укрепляющих социальную ткань.
В данной главе исследуется взаимосвязь между классиче-
ским либерализмом и социальным капиталом. В первом после
1 Эта глава опирается на аргументацию, представленную в работе: Mead-
owcroft and Pennington, 2007.
130 Часть I. Вызовы классическому либерализму
введения разделе дается обзор как негативной аргументации
против рыночных процессов, так и позитивной аргумента-
ции в пользу государственной активности, помогающей повы-
шать или «выстраивать» доверие. В последующих трех разделах
робастность этих аргументов оспаривается следующим обра-
зом. Сначала будет доказано, что коммунитаристы не понима-
ют, какой именно тип институциональной структуры совме-
стим с развитой экономической системой. Хотя рынки дейст-
вительно требуют некоей формы «регулирования», из этого не
следует, что всё или даже большая часть этого регулирования
должна обеспечиваться государством. Кроме того, моральные
нормы, которые, как утверждается, подрываются «свободны-
ми рынками», зачастую являются эксклюзионистскими и отно-
сятся к числу практик именно того типа, который может тор-
мозить социально-экономическое развитие. Космополитиче-
ская экономическая система требует, чтобы люди действовали
в условиях «смешанной» системы норм поведения, которая сое-
диняет в себе безличные контрактные отношения, или «связы-
вающий социальный капитал» [bridging social capital], с узами,
имеющими более личный характер, или «обязывающим соци-
альным капиталом» [bonding social capital]. Поэтому будет пока-
зано, что классический либеральный порядок представляет со-
бой «рамочную макроструктуру» [macro-framework], способную
поддерживать надлежащее сочетание этих поведенческих норм.
Наконец, обсуждение с привлечением принципов робастной
политической экономики приходит к тому, что выборные долж-
ностные лица не могут обладать знанием, дающим возможность
планировать успешное вмешательство в гражданское общество,
и что стимулы, встроенные в демократический процесс, могут
трансформировать социальный капитал в ресурс, способству-
ющий хищническому извлечению ренты в ущерб гражданским
инициативам.
Доверие, социальный капитал
и коммунитаристская политика
Понятия доверия и социального капитала обозначают базовые
нормы поведения, создающие условия для социального взаи-
модействия, подобные тем, которые обнаруживаются в сфере
коммерческого обмена, а также готовность индивидов и групп
придерживаться этих норм без обращения к официальным
Глава 4. ... вызов коммунитаризма II 131
санкциям, таким как штрафы и тюремное заключение. Эконо-
мисты анализируют, каким образом различные институцио-
нальные структуры влияют на транзакционные издержки, свя-
занные с отслеживанием и контролем социальных отношений,
и тем самым на структуру стимулов, с которыми сталкиваются
акторы, когда решают, прибегать ли им к уклонению от выпол-
нения норм и к каким-либо еще формам оппортунизма. Счита-
ется, что если низки издержки отслеживания (мониторинга)
и контроля над теми, с кем человек хочет сотрудничать, веро-
ятность уклоняющегося поведения меньше, чем если эти из-
держки более высоки. В этой связи многие исследователи об-
щества полагают, что прочные нормы межличностного и ме-
жорганизационного доверия снижают эти транзакционные
издержки; чем больше социальные акторы доверяют друг дру-
гу в том, что касается соблюдения соглашений и отказа от по-
ведения по типу «безбилетника» при осуществлении совмест-
ных действий, тем меньше времени они будут тратить на мони-
торинг деятельности друг друга.
Исторический «миф» о «свободном рынке»
В сердцевине нынешней озабоченности вопросами социально-
го капитала лежит ряд старинных предрассудков и подозрений
по поводу якобы «разлагающего» влияния коммерции, а также
по поводу социальной нестабильности, которую несут с собой
нерегулируемые рынки. Критики либеральных рынков утвер-
ждают, что последние подрывают нормы доверия и честного
ведения дел, необходимые для их собственного функциониро-
вания, и таким образом повышают транзакционные издержки,
связанные с координацией повседневной жизни. Например,
Плант (Plant, 1999: 10) рассуждает так: «Рынок для своей эффек-
тивной работы требует определенных моральных установок
со стороны тех, кто в нем участвует... и существует некоторая
опасность, что эти моральные подпорки подтачиваются сами-
ми рынками, и тем самым рынки выбивают основу из-под собст-
венной результативности и эффективности».
Эта критика либеральных рыночных процессов является
центральным догматом современной социал-демократической
политики и играет очевидную роль в нынешнем оживлении инте-
реса к «институционалистской» экономической теории. Ранние
«институционалисты», вроде тех, которые составляли немецкую
132 Часть I. Вызовы классическому либерализму
«историческую школу», выступали против универсального при-
менения маржиналистской экономической теории такими тео-
ретиками, как Карл Менгер, отдавая вместо этого предпочтение
подходу, подчеркивающему культурную специфичность «эконо-
мизирующего» поведения. Однако современные институциона-
листы черпают вдохновение в первую очередь в работах Карла
Поланьи. Он доказывал (Polanyi, 1944; Поланьи, 2002), что стрем-
ление к системе «свободного рынка» есть погоня за химерой. По-
ланьи определял современную «рыночную экономику» как эко-
номическую и социальную систему, контролируемую и направ-
ляемую одними лишь рынками — когда земля, труд и капитал
являются предметом обмена на основе относительных цен, уста-
навливаемых взаимодействием спроса и предложения. Истори-
чески такая экономика, рассуждал Поланьи, не возникла стихий-
но благодаря тому, что Адам Смит охарактеризовал как естест-
венную человеческую склонность к обмену и торговле, а стала
результатом политического и зачастую насильственного навязы-
вания со стороны государства, одурманенного идеологией клас-
сической экономической теории. В той степени, в какой «рын-
ки» существовали до этой эпохи, они не основывались на стрем-
лении к личной прибыли, безличном верховенстве контрактных
отношений и свободной игре спроса и предложения, а были
встроены в сеть солидаристских обязательств, «администриру-
емых» общинными организациями, такими как церкви и реме-
сленные гильдии. Исполнение этих обязательств, в свою оче-
редь, обеспечивалось силой государства.
Согласно Поланьи, период капитализма «laissez-faire», начав-
шийся в XVIII—XIX вв., представлял собой историческую абер-
рацию, порожденную продолжительным периодом государст-
венного вмешательства и централизованного государственно-
го контроля. Институциональная структура, характерная для
этой эпохи, и пришедшие вместе с ней индивидуалистические
ценности были продуктом законодательных декретов, таких как
хлебные законы, отмена государственной благотворительности
и создание «свободного» рынка труда. Однако результатом это-
го великого эксперимента в сфере социальной инженерии стал
период социальной дезорганизации, возникшей из-за тенден-
ции «рыночной системы» к разрушению существовавших пре-
жде отношений, построенных на нерыночных ценностях, та-
ких как взаимность (реципрокность) и перераспределение. Бу-
дучи рассмотренным с этой точки зрения получившее широкое
Глава 4. ... вызов коммунитаризма II 133
распространение движение в направлении регулируемых рын-
ков, начавшееся в конце XIX в. и с тех пор все более ускорявшее-
ся в связи с ростом социального государства, представляло собой
«защитную реакцию» на социальные разрушения, причиненные
эпохой, когда рыночным ценностям было позволено беспрепят-
ственно господствовать. Поэтому для Поланьи рыночная эконо-
мика не является «свободной» по своему происхождению, и ей не
может быть предоставлена возможность функционировать «сво-
бодно» без защитного вмешательства государства.
Доверие, социальный капитал
и критика либеральных рынков
Современные институционалисты, ярким представителем кото-
рых является Джеффри Ходжсон, в меньшей степени, чем Пола-
ньи, враждебны по отношению к идее рыночной экономики как
таковой, но и они утверждают, что рыночные процессы должны
быть подчинены институтам, которым не свойственен договор-
ный обмен (см., например, Hodgson, 1998). В отличие от мно-
гих авторов, рассмотренных в предыдущей главе, Ходжсон пол-
ностью осведомлен о проблемах координации, имеющих клю-
чевое значение для совещательной демократии. Тем не менее
он утверждает, что, хотя для генерации ценовых сигналов, от-
ражающих изменяющуюся редкость различных благ, необходи-
мы рынки, договорный процесс, порождающий такие сигналы,
слишком сильно зависит от денежных стимулов. Цены, коорди-
нируемые рынками, поощряют дух приобретательства и эгоиз-
ма, подрывающий доверие и уважение к контракту и правам соб-
ственности. Моральное и социально-ориентированное поведе-
ние, такое как исполнение обещаний и соблюдение договорных
обязательств, трактуется как обладающее многими свойствами
коллективных благ: частные индивиды будут склонны недоинве-
стировать в него, поскольку соответствующие выгоды распре-
делены по всему обществу, проявляются только в долгосрочном
плане и обладают свойством неисключаемости (что ведет к про-
блеме «безбилетника»), в то время как издержки соблюдения ба-
зовых норм имеют гораздо более непосредственный и личный
характер. Следовательно, рынки паразитируют на социальном
капитале, необходимом для их поддержания, и в отсутствие урав-
новешивающих институтов, регулируемых иными функциональ-
ными нормами, всегда будут нестабильны.
134 Часть I. Вызовы классическому либерализму
Основываясь на таком описании, Ходжсон развивает крити-
ку тех «неолибералов», которые хотели бы расширить рыночную
конкуренцию на все сферы, кроме небольшого набора функций,
характеризуемых как общественные блага (таких как оборона и са-
мые масштабные вопросы защиты окружающей среды), что может
служить определением пределов минимального государства. Раз-
умеется, существует множество авторов, работающих в неоклас-
сической традиции, которые считают, что общественные блага
и случаи «провалов рынка» распространены более широко. Од-
нако аргументация Ходжсона против расширения сферы рынков
не основывается на этих практических вопросах. Напротив, даже
если рынки могут быть распространены на такие сферы, как здра-
воохранение, образование и защита окружающей среды (посред-
ством разграничения прав собственности), и даже в тех случаях,
когда могут быть приведены доводы в пользу приватизации, осно-
ванные на соображениях эффективности, таким действиям следу-
ет противостоять по моральным соображениям. С точки зрения
Ходжсона существует большая сфера отношений между людьми,
которая должна быть защищена от господства контрактных отно-
шений. Он отмечает, что даже такие авторы, как Хайек, не счита-
ют, что отношения внутри семей и между друзьями должны быть
основаны на рыночном обмене. Такие отношения характеризуют-
ся альтруизмом и реципрокностью, и именно существование та-
ких недоговорных взаимоотношений поддерживает социальный
капитал. С точки зрения Ходжсона, это создает противоречие
в классической либеральной мысли: «Сторонники рыночного ин-
дивидуализма не могут иметь и то и другое. Чтобы их собственная
аргументация была последовательной, все отношения и догово-
ренности должны подчиняться принципам собственности, рын-
ков и торговли. Они не могут утверждать, что рынок является на-
илучшим способом упорядочения социально-экономической дея-
тельности, и тут же, не переводя дыхания, отрицать это. Если они
почитают семейные ценности, то они должны признавать практи-
ческие и моральные ограничения, налагаемые на рыночные им-
перативы и денежный обмен» (Hodgson, 1998: 84). В рамках такой
точки зрения семья является не единственным институтом, даю-
щим важный источник нерыночных норм, — современное соци-
альное государство также представляет собой институциональное
воплощение системы размещения ресурсов, основанной на реци-
прокности и защищающей социальный капитал от крайнего инди-
видуализма частных рынков.
Глава 4. ... вызов коммунитаризма II 135
Развивая и расширяя этот тезис, Ходжсон усиливает коммуни-
таристский аргумент, что либеральная мораль слишком «разре-
женна» и должна быть заменена представлением о человеке как об
общественном существе, предпочтения которого должны оцени-
ваться в соответствии с более «плотной» концепцией общего блага.
Экономический либерализм, утверждает он, является «атомисти-
ческим» в своей приверженности идее, что рынки дают возмож-
ность свободного выражения предпочтений, содержание которых
фиксировано независимо от социального контекста. Такой подход
игнорирует способность людей расширять свои горизонты и раз-
вивать свои предпочтения посредством процесса социального во-
влечения, который скорее будет поощряться механизмами коллек-
тивного, нежели индивидуального выбора. Однако, по Ходжсону,
не только индивидуальные предпочтения, но и сам характер соот-
ветствующих акторов и их склонность к вовлечению в конкурент-
ные (читай: «эгоистические») либо кооперативные (читай: «учи-
тывающие другие») формы поведения изменяются, будучи подчи-
ненными демократическим процедурам. Рассматриваемые в этом
свете институты социального государства действуют как образец
социальных норм, поощряющих сотрудничество (кооперацию),
а не конкуренцию, и должны поддерживаться для того, чтобы со-
хранять социальный капитал и институциональное разнообразие.
Напротив: «Широкое внедрение идей «свободного рынка» созда-
ет систему, обладающую относительным структурным единообра-
зием, в которой доминируют денежные взаимоотношения и тор-
говля. Эта тема обсуждается Луисом Хартцем и Альбертом Хир-
шманом [Louis Hartz and Albert Hirschmann], которые в том типе
развитого рыночного индивидуализма, который наиболее далеко
продвинулся в Соединенных Штатах Америки, усматривают про-
блему потенциальной или фактической стагнации как морального,
так и экономического характера» (Hodgson, 1998: 82—82).
Конечно, не только социал-демократы, такие как Ходжсон,
выдвигают подобные претензии. Например, Джон Грей (Gray,
1998), выступающий с консервативных коммунитаристских пози-
ций, утверждает, что рыночная либерализация и расширяющееся
присутствие женщин на рынке труда входят в число причин раз-
рушения семейной жизни и роста преступности. С точки зрения
консервативных коммунитаристов, происходившее в последние
годы освобождение рынков подорвало религиозные основы об-
щества, которые традиционно были важным источником общно-
сти жизни и общих ценностей.
136 Часть I. Вызовы классическому либерализму
Доверие, социальный капитал и доводы в пользу
расширения полномочий государства
Приводившиеся до сих пор аргументы обосновывали негатив-
ный тезис о том, что рынки подрывают доверие. Естественный
вывод из этой позиции состоит в том, что для наращивания со-
циального капитала, позволяющего достичь более робастно-
го функционирования рынков и демократических институтов,
необходимы действия со стороны государства. Одно из наибо-
лее важных утверждений о социальном капитале, выдвинутых
в этой связи, состоит в том, что он обладает той силой, которая
способна «сделать демократию работающей» (Brehm and Rhan,
1997; Uslaner, 1999; Putnam, 2000). Если взять пример Патнэма,
то, как утверждается, членство в гражданских объединениях, та-
ких как спортивные клубы и другие организации, не предназ-
наченные для получения прибыли, поощряет дух сотрудничест-
ва и желание более широко участвовать в коллективных проек-
тах, включая демократический политический процесс. Согласно
этой точке зрения, когда публика в целом склонна к сотрудниче-
ству, транзакционные издержки осуществления публичной по-
литики будут сравнительно ниже, а качество исходных данных
политического процесса будет отражать большую информиро-
ванность и активность граждан.
В свете этих идей важной составной частью коммунитарист-
ской стратегии наращивания социального капитала являются
программы институциональной реструктуризации, ориентиро-
ванные на вовлечение гражданских объединений в разработку
и предоставление государственных услуг. Аргументация, имею-
щая отправной точкой претензии совещательной демократии,
приводит в данном случае к утверждению, что «участие общест-
венности» в предоставлении услуг позволяет избежать «пробле-
мы знания», характерной для управляемой «сверху вниз» бюро-
кратии, поскольку гарантирует, что плановики будут получать
информацию от разнообразных акторов и стейкхолдеров, обла-
дающих лучшим доступом к знанию «на местах» — тому знанию,
в котором находит отражение соответствующее сообщество
(Healey, 1997). Улучшение потока информации между провайде-
рами услуг и гражданским обществом считается ключевой частью
стратегии, основанной на выстраивании доверия, поскольку
оно устраняет ощущение, что государственная политика — это
то, что делает с общиной кто-то другой, и создает динамическую
Глава 4. ... вызов коммунитаризма II 137
ситуацию, в которой добровольные организации вырабатывают
меры публичной политики для себя. Утверждается, что развитие
доверия само по себе будет улучшать качество государственных
услуг, поскольку и граждане, и производители непосредственно
кооперируются с правительством, а не пытаются противодейст-
вовать достижению официальных целей. Активное участие в по-
литике порождает доверие, которое делает проведение полити-
ки более робастным, что, в свою очередь, порождает еще боль-
шее доверие и т.д., создавая добродетельный круг накопления
социального капитала.
Второй элемент коммунитаристской политической стра-
тегии включает стремление содействовать объединениям, ко-
торые, как считается, поддерживают надлежащие общиноцен-
тричные нормы. Согласно этой точке зрения, существование
гражданских объединений повышает доверие и, следователь-
но, вероятность того, что общества смогут преодолевать сцена-
рии, в рамках которых необходимость требует поведения в стиле
«безбилетника». Это значит, если продолжать в том же духе, что
государства должны предоставлять финансовую и институцио-
нальную поддержку добровольным организациям и «неприбыль-
ным» объединениям в качестве средства поддержки норм дове-
рия, укрепляющих социальную ткань (Dowley and Silver, 2002).
Родственный этому аргумент, предложенный Ходжсоном (Hodg-
son, 1998), приводит к заключению, что государство должно вме-
шиваться в экономику ради того, чтобы сохранить разнообразие
структур собственности и тем самым гарантировать, чтобы чрез-
мерно индивидуалистические формы предприятий, такие как
модель индивидуального собственника или акционерной компа-
нии, не были доминирующими в институциональном ландшафте.
Эта политика могла бы включать поддержку рабочих кооперати-
вов, публичных корпораций и агентств социального государства,
и, по утверждению Ходжсона, она будет «поддерживать гораздо
большую степень культурного и поведенческого разнообразия,
чем система, за которую выступают рыночные индивидуалисты»
(Hodgson, 1998: 65-69).
Короче говоря, подобно тому, как неоклассический ана-
лиз экономических «провалов рынка» приводит к выдвиже-
нию требований о корректирующих действиях государства, что-
бы интернализировать экстерналии, так же и коммунитарист-
ские описания подчеркивают «социальную» природу провалов
рынка и потребность в культурных интервенциях государства,
138 Часть I. Вызовы классическому либерализму
направленных на обеспечение того, чтобы доверие и граждан-
ские объединения производились в количествах, которые не бы-
ли бы произведены в условиях laissez-faire.
Классический либерализм
и социальный капитал
Коммунитаристская критика классического либерализма в зна-
чительной степени опирается на навеянное работами Поланьи
представление, что для функционирования рынков необходимо
государственное регулирование, что «экономизирующее поведе-
ние», наблюдаемое на таких рынках, является результатом махи-
наций государства и что для противодействия разрушительному
влиянию, порождаемому «экономизирующей» реакцией на ры-
ночные силы, требуется дополнительное вмешательство госу-
дарства. Однако ни одно из этих утверждений не находит адек-
ватного исторического подтверждения, а выводимые их них
нормативные заключения в высшей степени сомнительны.
Стихийное происхождение рынков
Центральную роль в описании, представленном Поланьи, игра-
ет утверждение, что прежде, чем «капитализм» был «навязан»
государством в XIX веке, мир характеризовался «экономикой
без прибыли», в которой практически не было рынков. Однако
исторические данные в изобилии предоставляют доказательства
того, что поведение, основанное на стремлении к прибыли, су-
ществовало за сотни, если не за тысячи лет до того, как либера-
лизм XIX века якобы «создал» «экономического человека». Как
отмечают Хейибу и Макклоски (Hejeebu and McClockey, 2000),
обширные исторические свидетельства существования стихий-
ного экономизирующего поведения, от чувствительного к це-
нам поведения индейцев майя и до имевшихся в Древней Месо-
потамии сложных торговых сетей, опровергают ключевые тези-
сы Поланьи (см. также Silver, 1983; Curtin, 1984; Chauduri, 1985;
Snell, 1991). Например, что касается Британии, Постан (Pos-
tan, 1966) и Макфарлейн (MacFarlane, 1976) задокументирова-
ли развитие в условиях фрагментированной правовой структу-
ры средневековой Англии сложно устроенных рынков сельско-
хозяйственной продукции и труда скорее со «свободными», чем
с «регулируемыми» ценами. Следовательно, в той мере, в какой
Глава 4. ... вызов коммунитаризма II 139
английское государство XVIII и XIX веков предпринимало це-
ленаправленные попытки стимулировать дальнейшее развитие
рыночных институтов, эти усилия имели место не в культурном
вакууме, а в значительной степени были кульминацией посте-
пенных изменений, занявших не одно столетие.
Хотя открытые рынки и могут быть навязаны администра-
тивными декретами, как это в некоторой степени могло иметь
место в послевоенной Японии, исторические данные свидетель-
ствуют, что многие рыночные практики развились именно там,
где государственная власть была наиболее слаба, либо вопре-
ки попыткам государств искоренить рынки1. Например, Норт
(North, 1990; Норт, 1997) показал, что рынки возникли по боль-
шей части случайно, причем в тех частях Северной и Западной
Европы, где власть централизованной монархии была наиболее
слаба и где купцы имели возможность уйти от централизованно-
го контроля (см. также: Rosenberg and Birdzell, 1986; Розенберг
и Бирдцелл, 1995; Pipes, 1999; Пайпс, 2001). Из более поздних
примеров: факты XX века подтверждают, что реагирование на
ценовые сигналы и стимулы очевидным образом наблюдается да-
же в тех социальных системах, которые открыто привержены це-
ли искоренения поведения, чувствительного к ценам. Например,
на пике «культурной революции» в Китае по-прежнему функци-
онировали черные рынки (Huang, 2008), и само существование
подпольных рынков, которые в некоторых развивающихся стра-
нах составляют до 50% валового внутреннего продукта (ВВП),
дает основание считать безосновательным представление, будто
рынки должны быть неким образом «учреждены государством»
(DeSoto, 1989; Де Сото, 2008; Boettke, 1994).
В соответствии с интерпретацией Поланьи любое историче-
ское или современное свидетельство наличия государственного
вмешательства считается позитивным доказательством того, что
рынки не могут существовать без «видимой руки» государствен-
ной активности и что данные о такой активности свидетельству-
ют об абсурдности идеи экономики «свободного рынка», функци-
онирующей посредством «невидимой руки саморегулирования».
Однако доводы в пользу «laissez faire» с позиций классического
1 Фукуяма (Fukuyama, 1995; Фукуяма, 2006) оспаривает мнение, что ры-
ночные институты были в значительной степени «навязаны» послевоен-
ной Японии, и доказывает, что многие традиционные японские институты
и прежде развивались в таком направлении, что стали благоприятствовать
частной собственности и торговле.
140 Часть I. Вызовы классическому либерализму
либерализма никогда не основывались на представлении о том,
что возможно полностью обойтись без государства или «государ-
ствоподобных» образований. Напротив, предметом интереса
классического либерализма, вслед за Адамом Смитом, было то,
как отличить те формы иерархической деятельности, которые
препятствуют реализации потенциальной способности обще-
ства к развитию благотворных механизмов саморегулирования,
от тех форм этой деятельности, которые помогают сделать эти
процессы более робастными (McCloskey, 2006). К числу наибо-
лее важных из этого второго класса относится обеспечение пра-
вовой системы, которая защищает права собственности и обес-
печивает их соблюдение принудительными санкциями. Таким
образом, центральным предметом заботы классического либе-
рализма было прояснение условий, при которых потенциально
хищнические государства могут быть трансформированы в агент-
ства, обеспечивающие правила, в рамках которых может процве-
тать коммерческая активность. В этой связи центральной темой
была и остается фрагментация политической власти и роль кон-
куренции между юрисдикциями в ограничении потенциальных
злоупотреблений со стороны государственных акторов.
Хотя рынки могут нуждаться в некоторой форме иерархиче-
ского агентства, обеспечивающего рамки, в которых может разво-
рачиваться «стихийный порядок», как указывает Каплан (Caplan,
2007; Каплан, 2012), в утверждении, что рынки «паразитируют»
на деятельности государства, поскольку никогда не существовало
ни одной крупномасштабной экономики без той или иной формы
такой деятельности, не больше смысла, чем в утверждении, что
государство паразитирует на рынках, поскольку никогда не суще-
ствовало ни одного крупномасштабного государства, которое не
опиралось бы на некоторые элементы рыночного обмена. На-
пример, хорошо известно, что бывший Советский Союз зависел
от небольших частновладельческих участков земли, составляв-
ших лишь малую часть сельхозугодий, на которых производилась
львиная доля сельскохозяйственной продукции (Pipes, 1999; Пай-
пс, 2001). Таким образом, ключевой вопрос состоит в том, чтобы
распознать, сколько государственной деятельности и какого ро-
да государственная деятельность совместима с экономическими
и социальными выгодами, которые могут приносить процессы,
основанные на «невидимой руке». Да, рынки нуждаются в «регу-
лировании», но из этого не следует, что это регулирование долж-
но быть «социал-демократическим» по своему характеру.
Глава 4. ... вызов коммунитаризма II 141
Точно так же классический либерализм никогда не утвер-
ждал, что все, что требуется для поддержания социальной тка-
ни, — это узкоэгоистическое поведение. Приверженность либе-
ральному рынку не означает предоставления привилегированно-
го положения коммерческому этосу как таковому. Исторически
коммерческий обмен имел место в условиях самых разных куль-
турных сред, некоторые из которых в целом благоприятствова-
ли коммерции, в то время как другие были всего лишь терпимы
или откровенно враждебны к рынкам и торговле. Таким образом,
вопрос заключается в том, какой следует установить баланс меж-
ду «эгоистическими» нормами, характерными для коммерческо-
го обмена, и теми нормами, которые свойственны более общин-
ным видам взаимоотношений. Таковы вопросы, лежащие в осно-
вании современной дискуссии о социальном капитале, и на этих
вопросах мы теперь сосредоточим наше внимание.
Классический либерализм и важность связывающего
социального капитала
Коммунитаристская критика либеральных рынков строится на
представлении, что коммерческая мораль является «слишком
разреженной» для того, чтобы поддерживать стабильный гра-
жданский порядок. Логика этой позиции предполагает, что если
роль рынков расширяется, то уровень доверия снижается. Од-
нако, если смотреть с классической либеральной точки зрения,
коммунитаристы, похоже, заблуждаются по поводу типа мораль-
ных рамок, необходимого для поддержания максимально широ-
кого общественного сотрудничества.
Чтобы выяснить относительную силу или слабость коммуни-
таристской позиции, важно осознать, что, хотя социальный ка-
питал критически важен для успешного функционирования лю-
бого общества, не все формы социального капитала — и это необ-
ходимо подчеркнуть — являются одинаково пригодными в этом
отношении. В частности Патнэм проводит различие между обя-
зывающим (или исключающим [exclusive]) и связывающим (или
включающим [inclusive]) социальным капиталом (Putnam, 2000:
22—23). Обязывающий социальный капитал характеризует спло-
ченность, существующую между членами малых групп похожих
людей, такими как члены семьи, близкие друзья и коллеги, а так-
же, возможно, члены этнических и религиозных групп, в то
время как обязывающая разновидность социального капитала
142 Часть I. Вызовы классическому либерализму
характеризует сети «обобщенного доверия», распространяющие
информацию и связывающие партнеров, которые могут быть
очень непохожими друг на друга людьми.
Коммунитаристская критика классического либерализма фо-
кусируется на относительном сокращении обязывающего соци-
ального капитала. В эту категорию очевидным образом попадает
озабоченность упадком религии, традиционных ценностей и об-
щинной солидарности. Однако с классической либеральной точ-
ки зрения, если нужно, чтобы формировались более широкие
и сложные связывающие взаимоотношения между людьми, раз-
личающимися по своим целям и ценностям, то как раз этот-то
тип социального капитала и должен «знать свое место». В доры-
ночном обществе солидаризм представлял собой почти исклю-
чительно внутригрупповой феномен, в то время как межгруппо-
вые отношения характеризовались постоянными конфликтами.
Как доказывал Хайек, именно то, что люди научаются подчинять-
ся безличному этосу, не требующему широкого согласия по пово-
ду содержательных целей, позволяет межгрупповым отношени-
ям стать более производительными. По мере того, как связи меж-
ду людьми становятся все более сосредоточенными на торговле,
коммунитаристский племенной этос все в большей степени огра-
ничивается малыми группами, такими как семья, друзья и добро-
вольные объединения, основанными на непосредственных лич-
ных отношениях и общем наборе целей. Однако такие группы
оказываются погружены в гораздо более широкий «каталлакти-
ческий» порядок, не направляемый каким бы то ни было единым
набором целей, но удерживаемый вместе посредством цепочек
безличных отношений, таких как договор, и уважением к собст-
венности (Hayek, 1988; Хайек 1992).
Доиндустриальная эпоха вовсе не была временем широко-
го сотрудничества, скорее ее можно охарактеризовать как эпоху,
в которой господствовали социальные практики, свойством ко-
торых была высокая степень эксклюзии. Столь превозносимые
Поланьи гильдии, церкви и корпоративистские структуры, под-
держивавшиеся силовой санкцией доиндустриального государст-
ва, представляли собой форму обязывающего социального капи-
тала, основанную на эксклюзии по отношению к тем частям на-
селения, которые квалифицировались как не соответствующие
господствующим общинным нормам. Как документально доказа-
ла Огилви в своем детальном анализе гильдейской системы доин-
дустриальной Германии, существование этих «солидаристских»
Глава 4. ... вызов коммунитаризма II 143
объединений с их ограничительными практиками не только по-
давляло инновации и экономический рост, но и способствовало
систематической эксклюзии женщин, членов этнических и рели-
гиозных меньшинств, а также других групп «изгоев». Напротив,
более либеральные экономики Нидерландов и Англии, где госу-
дарство не обеспечивало привилегии гильдий силовой санкци-
ей, были гораздо более успешными в создании условий для инно-
ваций и экономического роста и предоставляли лучшие возмож-
ности для занятости женщин и «нестандартных людей» (Ogilvie,
2003, 2004).
В этой связи у самих коммунитаристов, по-видимому, сущест-
вует внутреннее несогласие по поводу того, как понимать надле-
жащее соотношение между «плотными» и «разреженными» мо-
ральными нормами. Например, Ходжсон (Hodgson, 1998) дока-
зывает, что, с одной стороны, динамизм рыночной экономики
и распространение коммерческого этоса расшатывают устояв-
шиеся нормы социальной солидарности и идентичности. Но,
с другой стороны, он поддерживает типичную коммунитарист-
скую позицию, которая признает, что содержание предпочте-
ний и идентичности людей не должно рассматриваться как фик-
сированное и неизменное. Как отмечалось в предыдущей главе,
для «мультикультурных коммунитаристов», таких как Янг, сре-
да развитой городской экономики такова, что в ней существу-
ет множество разных идентификаций, подверженных постоян-
ным изменениям. Согласно этой точке зрения, такую текучесть
следует только приветствовать, поскольку она отражает способ-
ность тех, кто прежде подвергался подавлению традиционными
общинными нормами в области религии, тендерных ролей и сек-
суальности, бросать вызов сложившимся источникам авторите-
та и создавать новые основания для общинной идентификации.
Представляется, таким образом, что коммунитаристам с необхо-
димостью приходится делать выбор между упором на традици-
онные «плотные» представления о солидарности, которые мо-
гут приводить к эксклюзии и подавлению определенных групп
населения, но при этом обладают преимуществом стабильно-
сти, и более динамичной средой, в которой имеются возможно-
сти для ухода от репрессивных социальных норм, но при этом на-
блюдается относительная нехватка солидарности.
В классической либеральной перспективе развитие обобщен-
ного доверия или связывающего социального капитала требует,
чтобы моральные рамки, общие для акторов, были сравнительно
144 Часть I. Вызовы классическому либерализму
«разреженными». Когда люди различаются по своей религии,
культурным ценностям и в других аспектах идентичности и ког-
да основа их идентичности эволюционирует во времени, мало-
вероятно, чтобы они пришли к согласию по поводу общего на-
бора целей. В таких условиях применение государственной влас-
ти для навязывания общей системы целей скорее всего приведет
к конфликтам, так как группы будут соперничать друг с другом
в стремлении захватить контроль над государственным аппара-
том чтобы навязать свои собственные представления о хоро-
шем обществе (Kukathas, 2003; Кукатас, 2011). Попытки развить
большую «солидарность» могут не только «объединить» общест-
во, но и с равной вероятностью раздробить его. Развитие связы-
вающего социального капитала с необходимостью предполага-
ет разреженный набор моральных норм, таких как терпимость
к другим, соблюдение договоров и уважение к частной собствен-
ности, которые могут разделяться акторами, придерживающи-
мися в других отношениях сильно различающихся и даже кон-
фликтующих систем морали.
«Разреженные» моральные нормы, помимо того что они ми-
нимизируют конфликты между теми, кто различается по сво-
им культурным ценностям, необходимы для коммерции потому,
что большинство людей, участвующих в обмене, либо абсолют-
но неизвестны друг другу, либо узнают друг о друге лишь в отно-
сительно обезличенных ситуациях, таких как взаимоотношения
покупателя и продавца. Когда контакты между людьми являются
«слабыми» по своей природе, становится невозможным детально
оценивать моральный характер соответствующих акторов в бо-
лее «плотном» смысле (например, частоту посещения ими цер-
кви либо мечети или их сексуальные грешки), поскольку затраты
на получение соответствующей информации чрезвычайно высо-
ки. В ситуации коммерческого обмена те требования к характе-
ру личности, которые в наибольшей степени имеют отношение
к делу, сравнительно минимальны или «разрежены» и включают
такие критерии, как влияние этого человека на счет прибылей
и убытков или его готовность соблюдать условия контрактов.
Необходимость разработки «более разреженной» системы
моральных норм, вызванной к жизни развитием коммерции, бы-
ла одной из центральных тем в произведениях Адама Смита и Дэ-
вида Юма. Согласно Юму «симпатия к людям, далеким от нас,
гораздо слабее, чем к людям, которые нам близки и с которы-
ми мы непосредственно соприкасаемся» (Hume, 1739—40/1985;
Глава 4. ... вызов коммунитаризма II 145
Юм, 1996). Что же касается Смита, то он описывал концентри-
ческие круги симпатии, последовательно включающие близких
членов семьи, друзей, более далеких родственников, знакомых
и, наконец, чужих людей. Речь не идет о том, что люди действу-
ют аморально, не проявляя той степени заботы в отношении по-
сторонних, как в отношении семьи и друзей. Дело скорее в том,
что, с точки зрения Смита, глубокие чувства симпатии, включаю-
щие любовь и дружбу (а также, если уж на то пошло, и ненависть),
по необходимости ограничены теми, о ком у нас есть детальное
личностное знание, в то время как чувства по отношению к тем,
о чьем характере мы по большей части не осведомлены, являются
более «разреженными» по своему содержанию и интенсивности.
Из признания этих «основывающихся на знании» ограниче-
ний, которым подчиняется «симпатия», следует, что в разных со-
циальных контекстах предъявляются разные требования к уров-
ню моральности и к ожиданиям по поводу того, в чем состоит
надлежащее поведение. Как доказывает Оттесон (Otteson, 2003),
нормы, которые смитовский «беспристрастный наблюдатель»
мог бы увидеть в отношениях между членами семьи, друзьями
и коллегами, отличаются от тех, которые приняты между посто-
ронними друг другу людьми1. Правила нравственности, которых
можно ожидать в коммерческих отношениях, часто возникаю-
щих между посторонними или, в лучшем случае, лишь знакомы-
ми друг с другом людьми, будут, как правило, более безличными,
сфокусированными на таких принципах, как выполнение дого-
воров, и будут больше ориентированы на собственные интересы
сторон, нежели на непосредственную пользу для «других». Таким
образом, дело не в том, что коммерция портит наши моральные
чувства, к чему нас подводят коммунитаристы, а в том, что кон-
текст коммерческого обмена требует морали иного рода. Смит
вовсе не придерживался взгляда, что коммерческий этос должен
пронизывать семью и другие близкие отношения, и он явно по-
лагал, что если бы люди вели себя в своих более близких личных
1 В этой работе Оттесон убедительно демонстрирует, что так называемая
проблема Адама Смита — а именно предполагаемое противоречие между сос-
редоточенностью Смита в «Теории нравственных чувств» на человеческой
способности к развитию норм эмпатии и взаимного сочувствия и переме-
щением фокуса внимания в «Богатстве народов» на первичность «эгоисти-
ческих интересов» — есть не что иное, как иллюзия. Как показывает Отте-
сон, Смит пытался продемонстрировать, что разные типы социальных норм
и ожиданий уместны в разных социальных контекстах.
146 Часть I. Вызовы классическому либерализму
взаимоотношениях так же, как они ведут себя в коммерческих
взаимоотношениях, то они встретили бы неодобрение.
Классический либерализм и стихийное порождение
связывающего социального капитала
Конечно, остается вопрос, являются ли денежные отношения
и соблюдение контрактов достаточно робастными, чтобы под-
держивать и сохранять связывающий социальный капитал, от
которого они зависят. Ответ Смита на вопрос, как обеспечивать
существование коммерческого общества, состоял в том, что, по-
скольку в интересах каждого индивида сотрудничать с другими,
добродетельное поведение будет возникать стихийно. «Чест-
ность — лучшая политика», поскольку люди вряд ли будут заклю-
чать договоры с теми, кто имеет репутацию человека, склонного
к махинациям. Даже те индивиды, кто стремится только к полу-
чению преимуществ лично для себя, вследствие рыночной конку-
ренции будут вынуждены вести себя по меньшей мере морально
приемлемым образом. Смитова «невидимая рука» не только ве-
дет народ к процветанию, но вдобавок подталкивает людей к со-
блюдению базового набора моральных норм, поддерживающего
«слабые связи», от которых зависит коммерческое общество.
Хотя картина коммерческого общества, представленная Сми-
том, предвосхищает последующие работы, дающие основания
предполагать, что сотрудничество между акторами, преследую-
щими свои собственные интересы, может развиваться стихий-
но в повторяющихся обменах и играх (например, Axelrod, 1984;
Allison, 1992), тем не менее его описание коммерции XVIII века,
наряду с другими, вдохновившими тезис о le doux commerce*' !,
базировалось на опыте сделок между торговцами, по крайней
мере до некоторой степени лично знавшими друг друга. Одна-
ко Смит был гораздо меньше убежден в том, что акты рыночно-
го обмена могут стихийно породить доверие в такой ситуации,
когда они более анонимны, не являются повторяющимися, а ак-
торы могут выиграть от оппортунистических махинаций (Smith,
1776/1982: 538—539). Такое представление ставит под сомнение
* Букв.: мягкая (добрая, приятная) коммерция {франц.). — Прим. ред.
1 Это выражение придумал Монтескье (Montesquieu, Charles-Louis de Sec-
ondat, Marquis de, 1748/1961; Монтескье, 1955). Современное исчерпываю-
щее изложение тезиса о le doux commerce см. в работе Макклоски (McClos-
key, 2006).
Глава 4. ... вызов коммунитаризма II 147
способность рынков к саморегулированию в случаях, когда акты
обмена не являются повторяющимися, и сегодня, как показано
в главе 2, находит отражение в анализе асимметрии информа-
ции, предложенном современными экономистами, стремящими-
ся заново утвердить важность идеи «провалов рынка» (см. Aker-
lof, 1970; Акерлоф, 1994; Stiglitz, 1994). Согласно этой точке зре-
ния, на рынке, где вследствие неосведомленности потребителей
добросовестность поведения не вознаграждается, нечистоплот-
ные поставщики вытесняют хороших, если только не вмешает-
ся государство, чтобы взять на себя функцию контроля качества.
Однако, как всегда подчеркивал Хайек, рыночные институ-
ты следует рассматривать как «процессы открытия», которые
движутся в своем развитии путями, которые даже самые дально-
видные экономисты неспособны предугадать (например, Hayek,
1978d, 1978a, 1978b; Хайек, 2011). Теория провалов рынка пред-
сказывает, что там, где имеет место асимметрия информации,
из-за отсутствия информации и/или доверия будет постоянно со-
храняться неэффективность и не будут совершаться потенциаль-
но прибыльные сделки. Однако теория провалов рынка не смогла
предсказать, каким образом предприниматели будут осуществлять
инновации, восполняющие «дефицит доверия» и устраняющие
препятствия для обмена. Предприниматели, специализирую-
щиеся на проверке добросовестности других, а также и создаю-
щие социальный капитал путем создания для себя хорошей ре-
путации, основанной на предоставлении надлежащего уровня га-
рантий, со временем смогли получать выигрыш от обмена. В ходе
этого предпринимательские новации, например разработка тор-
говых марок и простых приемов создания репутации, таких как
гарантия возврата денег за товар, превратили потенциально не-
повторяющиеся акты обмена в образцы повторяющихся или воз-
обновляющихся транзакций. Так, эмпирический анализ рынков,
предположительно демонстрирующих асимметрию информации,
таких как рынок подержанных автомобилей, никак не подтвер-
ждает теоретическое утверждение, что конкуренция ведет к по-
нижению стандартов качества продукции (см. главу 2 настоящей
книги, с. 68, а также сборник статей Cowen and Crampton, 2002).
В частности, фирменные товары и сбытовые точки, работа-
ющие по франшизе, выполняют путем снижения информацион-
ных издержек функцию предоставления гарантии и создают пред-
принимательское связующее звено между покупателями и про-
давцами, которые в противном случае были бы анонимными.
148 Часть I. Вызовы классическому либерализму
Например, производитель фармацевтических товаров может не
контактировать с конечными покупателями его продукции, одна-
ко может заключать регулярные сделки и налаживать отношения
доверия с брендовой фирмой по торговле лекарствами, которая
может, в свою очередь, регулярно вступать в сделки с конечны-
ми потребителями соответствующего товара и иметь у них репу-
тацию высоких стандартов оказания услуг. Таким образом, рын-
ки представляют собой систему «разделения доверия» в том же
смысле, в каком Хайек характеризовал систему цен как основан-
ную на «разделении знания». Важно то, что каждое звено в це-
почке может специализироваться на создании репутации добро-
совестного поведения или добывать информацию о надежности
того или иного конкретного звена, которое имеет для него наи-
большее значение. Подобно тому, как участникам рынка для того,
чтобы заниматься «экономизирующим поведением», нужно знать
очень мало о большинстве существующих в экономике цен — все,
что им нужно знать, сводится к изменениям цен покупаемых ими
конечных благ, — для большинства людей нет необходимости
много знать о надежности или, наоборот, недобросовестности
подавляющего большинства участников рынка; все, что им нуж-
но знать, это репутация конкретных торговых марок, на кото-
рые они полагаются. Но поскольку большинство людей включе-
но во взаимно перекрывающиеся репутационные сети, средний
уровень добросовестности, ожидаемый в рамках развитой ры-
ночной экономики от случайно выбранного лица, будет доволь-
но высоким. Действующее в конкурентной среде общее давление,
подталкивающее к поддержанию своей репутации, будет в целом
поощрять интернализацию норм сотрудничества, которые будут
«удерживать людей в рамках честности» даже в ситуациях, когда
они могли бы выиграть, уклоняясь от их соблюдения.
На международном рынке особенно важным средством обес-
печения того, что не обладающие локальным знанием потреби-
тели получат обслуживание гарантированного качества, являют-
ся торговые марки (бренды). Например, человек, находясь в лю-
бом городе мира, может остановиться в франчайзинговом отеле,
таком как Holiday Inn, и быть уверенным в определенном уров-
не чистоты и порядка еще до того, как он получит возможность
изучить репутацию местных гостиниц. В данном случае торго-
вая марка Holiday Inn функционирует в качестве гарантии того,
что в интересах потребителя осуществляется конкретная форма
контроля качества. В свою очередь, само существование таких
Глава 4. ... вызов коммунитаризма II 149
имеющих высокую репутацию брендов приводит к повышению
средних стандартов качества, предлагаемых местными постав-
щиками товаров и услуг, стремящимися привлечь потребителей.
Таким образом, предприятия розницы и другие «посредни-
ки» обеспечивают «предложение» доверия и гарантий, на ко-
торые, поскольку требуются условия для успешных рыночных
сделок, существует «спрос». Пока потребители не будут увере-
ны, что новый товар или услуга даст им именно то, что обеща-
но, вряд ли они это купят. Доверие является весьма ценным ак-
тивом, на который существует «спрос», и по этой причине этот
актив «предлагается» на рынке, а не разрушается рынком. Хотя
огромное большинство участников развитой рыночной экономи-
ки не участвует в «очном» обмене, были стихийно созданы мно-
гочисленные институты для обеспечения доверия, необходимо-
го для поддержания коммерческого обмена в больших масштабах.
Так, эмпирические исследования «доверия в обществе в целом»
[general social trust] не обнаруживают никаких доказательств то-
го, что доля людей, демонстрирующих доверие по отношению
к другим, уменьшается по мере увеличения воздействия рыноч-
ных сил. Напротив, исследование, проведенное в развивающих-
ся странах дюжиной антропологов, приходит к выводу, что вы-
ходцы из обществ, демонстрирующих более высокий уровень
рыночной интеграции, с большей вероятностью будут строить
свои действия на основе сотрудничества, чем те, кто происходит
из обществ с нетоварным хозяйством, имеющих мало контактов
с миром коммерции (Henrich et al., 2005). Аналогично Берггрен
и Йордаль (Berggren and Jordahl, 2006) в межстрановом исследо-
вании более 50 государств обнаружили сильную положительную
корреляцию между степенью экономической свободы в общест-
ве (в особенности степенью защищенности прав собственности)
и уровнем общего доверия.
Тот факт, что связывающие взаимоотношения, играющие
ключевую роль в коммерческом обмене, могут сами развиваться
через процессы «стихийного порядка», лучше всего можно про-
иллюстрировать в контексте сетей международных торговых от-
ношений. Если смотреть через призму анализа «провалов рынка»,
то международная торговля должна выглядеть особенно неутеши-
тельно с точки зрения наличия в ней какого бы то ни было «по-
рядка» , так как на глобальном уровне формально не существует
никакого государства или государствоподобной властной струк-
туры, которая обеспечивала бы силовой санкцией выполнение
150 Часть I. Вызовы классическому либерализму
условий международных контрактов. В таких условиях потенци-
альные торговые партнеры могли бы вообще не захотеть заклю-
чать контракты ввиду высоких транзакционных издержек и нео-
пределенности, связанной с обеспечением выполнения соглаше-
ний с неизвестными иностранными партнерами. Тем не менее,
как показывает работа Бенсона, благодаря конкурентным меха-
низмам, основанным на репутации, могут развиться способы ре-
шения этих проблем. Бенсон (Benson, 1989) демонстрирует, ка-
ким образом коммерческое право, или lex mercatoria, возникло без
помощи государственной силы принуждения, и тем самым прямо
опровергает тезис Поланьи о том, что государство «создает рын-
ки». Чтобы облегчить сделки, осуществляемые поверх политиче-
ских границ и местного протекционизма, купеческие сообщества
разработали собственные судебные и правовые системы.
Из более недавних работа Лисона (Leeson, 2008) показывает,
как в качестве предпринимательской стратегии создания условий
для торговли поверх границ возникли арбитражные агентства.
В мире существует более 100 институтов международного арби-
тража, включая такие организации как Международная торговая
палата и Лондонский международный третейский суд, причем не
менее 90% международных контрактов содержат соответствую-
щие пункты об арбитраже. Готовность участвовать в частном ар-
битраже посылает сигнал, что сторона, подписавшая контракт,
вряд ли отступит от условий сделки. Те же, кто отказывается быть
связанным условиями частного арбитража, едва ли найдут партне-
ров, готовых торговать с ними. По данным Лисона, частные ар-
битры часто разбирают споры по контрактам на суммы от милли-
она до миллиарда долларов. Отсутствие государственных струк-
тур на международном уровне, похоже, не помешало появлению
крупномасштабных сетей трансграничных торговых отношений,
благодаря которым объемы мировой торговли выросли с I960 г.
тринадцатикратно. Да, в этой системе случаются и злоупотребле-
ния, однако в ситуации, когда существуют многочисленные ор-
ганизации, периодически нуждающиеся в сотрудничестве с дру-
гими, для трансграничных акторов существуют мощные стимулы
к тому, чтобы создавать себе репутацию добропорядочного пове-
дения. Это не исключает возможности того, что участие агентств
государственного уровня может способствовать еще большему
взаимодействию, но это опровергает представление, что только
государство может обеспечить регуляторную среду, в которой бу-
дет процветать коммерческая активность.
Глава 4. ... вызов коммунитаризма II 151
Классический либерализм и соотношение
между «обязывающим» и «связывающим»
социальным капиталом
В проведенном выше анализе акцент делался на механизмах, ко-
торые позволяют рыночной экономике стихийно поддержи-
вать связывающий социальный капитал. Однако важно осозна-
вать, что хотя классический либерализм в меньшей степени по-
лагается на «обязывающий» социальный капитал, относящийся
к более сильным и более личным связям, он не стремится полно-
стью исключить такие взаимоотношения во имя общества, пол-
ностью управляемого коммерцией. Напротив, рыночные ин-
ституты обеспечивают метасреду, в которой могут сосущество-
вать и связывающие, и обязывающие отношения и где практики,
способствующие более широкому сотрудничеству, могут полу-
чать преимущество по сравнению с прочими.
Семьи, добровольные объединения и соотношение между
обязывающим и связывающим социальным капиталом
Поддержание надлежащего соотношения между обязывающим
и связывающим социальным капиталом имеет ключевое значе-
ние, поскольку, чтобы развитое общество эффективно функци-
онировало, люди должны научиться жить, если так можно вы-
разиться, «в двух мирах одновременно» (Hayek, 1998: 18; Хайек,
1992: 36). С одной стороны, они участвуют в «микропорядке» се-
мей и групп, подобных семьям, основанных на высокой степени
личной близости и удерживаемых вместе стремлением к общим
целям, тесно связанным с этой самой близостью. Но с другой
стороны, для того, чтобы получать товары и услуги, необходи-
мые для поддержания своего существования, семьи должны
участвовать в «макропорядке» более дальних, а то и полностью
анонимных взаимоотношений с бесчисленными другими акто-
рами, не разделяющими их особых целей.
Хотя напряженность между нормами, демонстрируемыми
в семьях1, и теми, которые требуются в коммерческом контексте,
1 Применение термина «семья» в данном контексте не ограничивается
«нуклеарной» семьей и официальным браком, а может включать также дру-
гие отношения, «подобные семейным», такие как однополые пары и другие
случаи близких дружеских отношений.
152 Часть I. Вызовы классическому либерализму
является вполне реальной, семья выступает в качестве моста, свя-
зывающего «микропорядок» малой группы и «макропорядок» об-
щества в целом, так как именно будучи детьми в семье люди впер-
вые приобретают навыки, необходимые для поддержания отно-
шений с другими. Внутри семей эти навыки относятся к тесным
контактам, но поскольку сами семьи включены в многочислен-
ные внешние взаимоотношения, характеризуемые различной
степенью близости и знакомства, они одновременно выступа-
ют школой выработки навыков, таких как уважение к собствен-
ности и чужому имуществу, необходимых для поддержания сво-
ей репутации в более обезличенных ситуациях. Последние могут
варьироваться от все еще более или менее тесных личных взаи-
модействий в школе и добровольных объединениях до все более
дальних и анонимных деловых и торговых отношений, вроде тех,
которые существуют внутри фирм, где ожидается, что человек
может оценивать других и быть оцениваемым ими на основе бо-
лее жестких критериев, таких как влияние на прибыль или убы-
ток (Horwitz, 2005).
Если рассматривать вопрос через эту призму, то коммунита-
ристские заявления, будто логика рыночного либерализма требу-
ет замены связей, подобных существующим в семье, на процесс,
полностью основанный на договорном обмене, не имеют под со-
бой никаких оснований. Например, опора на рыночные сигна-
лы, такие как получение прибылей и убытков в результате актов
коммерческого обмена, вполне уместна, когда людям нужно ко-
ординировать деятельность со многими другим агентами, не раз-
деляющими их содержательные цели, и когда нужны надежные
механизмы снижения «безбилетничества» и хищнического пове-
дения в ситуации, в которой акторы лично не знают друг друга.
Отношения же в семье и других группах, основанных на общих
занятиях, таких как религия или любительский спорт, обычно
не связаны с масштабными проблемами координации, посколь-
ку их члены, как правило, вовлечены в преследование общих
или очень похожих целей. Если в таких ситуациях все же возни-
кает проблема «безбилетника», то, благодаря сравнительной лег-
кости обработки информации об акторах, с которыми человек
близко знаком, и отслеживания их поведения, они с большей лег-
костью преодолеваются без опоры на дисциплинирующий меха-
низм учета прибылей и убытков.
Как доказывает Хорвиц (Horwitz, 2005), исчезновение се-
мьи вследствие воздействия либерального, конкурентного
Глава 4. ... вызов коммунитаризма II 153
окружения не более вероятно, чем исчезновение других инсти-
тутов, таких как фирма. В отличие от семей, фирмы представ-
ляют собой организации, которые должны мобилизовывать сов-
местные усилия большого числа людей, могущих и не разделять
общих целей. Для уменьшения проблем, связанных с «безбилет-
ничеством» и уклонением от работы, фирма может потребовать
применения таких механизмов, как зависимость оплаты от ре-
зультатов. Внутреннее функционирование фирм является чрез-
вычайно иерархичным и отражает выигрыш в эффективности,
который можно получить в результате замены децентрализован-
ной торговли по поводу «краткосрочных контрактов» и «разо-
вых работ» внутренней системой управления и контроля (Coase,
1937; Коуз, 2007). Однако на метауровне фирмы включены в сре-
ду рыночной конкуренции, где проверяется в сравнении с дру-
гими фирмами качество их управленческих структур, а также ре-
путация в отношении их честности и способности поставлять
блага потребителям. Следовательно, фирмы, хотя и подавляют
внутреннюю конкуренцию, подчинены внешним рыночным си-
лам, возникающим в результате децентрализованных решений
сотен и тысяч, если не миллионов потребителей и инвесторов.
Таким образом, и управляемые собственниками фирмы, и акци-
онерные компании, и рабочие кооперативы, и ассоциации взаи-
мопомощи — все они конкурируют за репутацию, продажи и ин-
вестиционный капитал.
Подобно тому, как границы между фирмами и объемлющим
рынком являются текучими и перемещаются вслед за развити-
ем технологий и изменениями в индивидуальных предпочтениях,
то же самое происходит с границами между семьями, доброволь-
ными объединениями и рынком. Однако эта текучесть не подра-
зумевает, что коммерческие взаимоотношения когда-либо смо-
гут заменить тесные связи, которые люди формируют в семьях,
с друзьями или, в меньшей степени, в качестве членов промежу-
точных организаций, таких как спортивные клубы. Раз уж такие
организации, как фирмы (а также разные структуры фирм), име-
ют преимущества в определенных сферах, то же самое относит-
ся и к семьям. К числу наиболее очевидных из таких преимуществ
семьи относится создание благоприятных условий для личной
близости, желанной для большинства людей. Семьи и подобные
им структуры обеспечивают среду, в которой может развивать-
ся детальное личное знание о вкусах и ценностях партнеров к об-
щей пользе всех, кто участвует в этих отношениях.
154 Часть I. Вызовы классическому либерализму
Разумеется, семьи могут передавать некоторые функции «на
аутсорсинг» индивидам и фирмам, участвующим в объемлющем
рынке, вместо того чтобы выполнять их «на дому». Какие имен-
но блага и услуги приобретаются на коммерческой основе, а не
производятся внутри домохозяйства, зависит от предпочтений
соответствующих семей и их альтернативных издержек. Напри-
мер, семьи с более высокими доходами могут тратить пропорци-
онально больше времени на зарабатывание денег, покупая при
этом услуги по уходу за детьми, сдавая вещи в химчистку и пи-
таясь вне дома вместо того, чтобы выполнять соответствую-
щие работы внутри семьи. Но, как указывает Хорвиц (Horwitz,
2005), такая динамика не обязательно влечет за собой уменьше-
ние близости и привязанности. Например, в том, что касается
ухода за детьми, родители лучше других могут адаптировать свой
выбор провайдера услуг к особенностям характера своего ребен-
ка. Аналогично по мере того как «экономические» функции се-
мьи, такие как уборка и приготовление пищи, переходят к рын-
ку, время, сэкономленное на выполнении этих задач, может
предоставить семье возможность дополнительно заняться «неэ-
кономическими» видами деятельности со своими детьми, напри-
мер спортом и совместным досугом. И в этой связи у государст-
венных акторов едва ли имеется знание, необходимое для надле-
жащего проведения соответствующих границ, — они обладают
им не в большей мере, чем способностью эффективно опреде-
лять, какие составные части производственного процесса той
или иной фирмы должны быть «переданы на аутсорсинг», а ка-
кие следует осуществлять «на месте».
Теоретическая слабость коммунитаристской критики нахо-
дит отражение в эмпирических данных о воздействии либераль-
ных рынков на культурную жизнь и объединения людей. Напри-
мер, нет практически никаких подтверждений того, что там, где
легализована денежная плата за секс, выше доля людей, считаю-
щих проституцию желательной формой отношений между пола-
ми (Epstein, 2003:147—148). Даже беглый взгляд на политическую
экономию и культуру США показывает, что нет никаких подтвер-
ждений заявлению Ходжсона, будто для более рыночно-ориен-
тированных обществ характерна большая подчиненность денеж-
ным отношениям. США по-прежнему демонстрируют очень вы-
сокий, по сравнению с европейскими странами, уровень участия
в оказании услуг на добровольной основе (Skcopol, 1996; Beito,
2000), имеют один из наиболее высоких среди развитых стран
Глава 4. ... вызов коммунитаризма II 155
показатель соблюдения религиозных обрядов и самый высокий
показатель объема частной (в противоположность государствен-
ной) помощи развивающимся странам1. Аналогично сосущество-
вание традиционных сообществ, таких как амиши, с современ-
ной рыночной экономикой едва ли может вызвать в уме картину
мотивационного единообразия, которую рисуют социал-демо-
кратические описания американского капитализма.
Фирмы и соотношение между обязывающим
и связывающим социальным капиталом
Рыночная экономика представляет собой «макросреду», поддер-
живающую разнообразие некоммерческих связей на «микроу-
ровне», вроде тех, которые мы обнаруживаем в семьях и добро-
вольных объединениях. Но и коммерческие отношения созда-
ют возможность для генерирования обязывающего социального
капитала особого рода. «Слабые» взаимодействия, характерные
для коммерческих взаимоотношений, сводят вместе людей с раз-
ным социальным и культурным багажом и в ходе этого процесса
могут создавать возможности для развития новых социальных
связей и меняющихся идентичностей. Именно благодаря тому,
что люди приходят на рынки ради преследования коммерческой
выгоды, у них постепенно возникает тенденция придавать мень-
ше значения религиозным и этническим корням своих партне-
ров по обмену и, как следствие, в большей степени подвергать
себя риску встречи с чем-то незнакомым. Таким образом, раз-
витие связывающего социального капитала может, в свою оче-
редь, способствовать образованию новых форм обязывающе-
го социального капитала по мере того, как в ходе повседнев-
ных взаимодействий в процессе коммерческой деятельности
в сферу внимания людей попадают альтернативные жизненные
уклады и идентичности. К процессам такого рода можно отне-
сти возникновение «межкультурной» дружбы и даже более глу-
боких отношений, таких как романтические отношения и бра-
ки между принадлежащими к разным культурам людьми, кото-
рые могли бы никогда и не встретиться, если бы не их участие
1 Согласно исследованию Hudson Institute, частные пожертвования, по-
ступающие из США в другие страны, приближаются к величине, равной сум-
ме всей совокупной официальной государственной помощи, поступающей
от стран-доноров; см. Global Index of Philanthropy, Hudson Institute: New York.
156 Часть I. Вызовы классическому либерализму
в «обезличенном» мире труда и коммерческого обмена (Storr,
2008). Отчасти именно по этой причине Хайек (Hayek, 1982;
Хайек, 2005) для обозначения рыночной экономики часто ис-
пользовал греческое слово «каталлактика», исходно означавшее
«превращать врага в друга».
Кроме того, рыночные отношения зачастую имеют место
между работающими вместе в рамках одной и той же фирмы ин-
дивидами, которые, как выразился фон Мизес (Mises, 1949: 345;
Мизес, 2012: 318), «конкурируют в сотрудничестве и сотрудни-
чают в конкуренции». Сравнительная способность фирм к со-
зданию внутренней культуры, способствующей развитию таких
динамических свойств, как «командный дух» и лояльность, яв-
ляется ключевым фактором в их способности предлагать конку-
рентоспособную продукцию. Успешное деловое предприятие ну-
ждается в нахождении тонкого баланса между, с одной стороны,
опасностями, связанными с формированием излишне дружеских
связей между работниками и менеджерами, и, с другой стороны,
потерей лояльности вследствие излишне отчужденного и безлич-
ного характера протекающих в рамках предприятия процессов.
В этой связи рассмотрим распространение японской прак-
тики трудовых отношений в США в 80-х годах XX в. До этого аме-
риканские фирмы-автопроизводители на протяжении многих
лет были организованы в иерархическом или «тейлористском»
стиле с жесткой линейной системой управления, связывающей
высших менеджеров через менеджеров среднего звена с рабо-
чими в цехах. Однако к 80-м годам организации тейлористско-
го типа стали отставать в производительности и терять деньги
в сравнении с японскими заводами, на которых действовали бо-
лее плоские структуры управления. Второй тип практик, благо-
даря культуре ответственности, порождаемой ими на уровне це-
ха, способствовал большему уровню доверия между рабочими
и управленцами и тем самым снижал транзакционные издержки
в процессе производства. Ввиду большей прибыльности япон-
ские трудовые практики все больше перенимались американски-
ми фирмами. В данном случае открытая конкуренция и учет при-
былей и убытков выступили стимулами не только к существен-
ному улучшению качества продукции, но и к распространению
управленческой культуры, в большей степени способствовав-
шей сотрудничеству на рабочем месте (Fukuyama, 2001; Фукуяма,
2008). Если бы поддерживаемая коммунитаристами протекцио-
нистская политика проявила себя в большей степени, то вряд ли
Глава 4. ... вызов коммунитаризма II 157
такого рода освоение новых культурных навыков и распростра-
нение новых форм социального капитала произошло бы столь
быстро, если бы оно вообще имело место.
Культура, этничность и соотношение между
обязывающим и связывающим социальным капиталом
Подобно тому, как конкурентоспособность фирм является функ-
цией их способности найти правильный баланс между обязыва-
ющим и связывающим социальным капиталом, различные со-
циальные нормы в рыночной среде оказываются в большей или
меньшей степени совместимыми с объемлющими социальны-
ми сетями, необходимыми для экономического успеха. В этом
отношении особенно поучителен опыт всевозможных этниче-
ских и иммигрантских сообществ. Многие из этих групп по при-
бытии в новую страну зачастую испытывают затруднения с по-
лучением кредитов и возможностей для занятости, поскольку
они не располагают знаками, несущими репутационную инфор-
мацию, такими как кредитная история или банковский счет, ко-
торые воспринимаются укорененными членами соответствую-
щего общества как нечто само собой разумеющееся. Наиболее
успешными оказываются те иммигрантские общины, которые
мобилизуют свои внутренние связи для выработки репутацион-
ных ресурсов, необходимых для установления соединительных
звеньев с объемлющим обществом. Например, в 70-е годы XX в.
корейские мигранты в США часто не располагали капиталом
и достаточными навыками в английском языке. Однако харак-
терная для корейской общины тесная сплоченность позволяла
ее членам предлагать друг другу дешевые ссудосберегательные
услуги, что создало условия для быстрого роста коммерческого
класса, специализировавшегося на строительстве, ресторанном
бизнесе и розничной торговле продуктами питания. В данном
случае тесные связи внутри корейской общины поощряли на-
копление капитала, что, в свою очередь, дало возможность раз-
вивать репутационные связи с объемлющим обществом, так как
доказательства наличия имущества в собственности позволяли
предпринимателям корейского происхождения открывать счета
в официальных финансовых институтах и получать от них кре-
диты (Landa, 1995; Sowell, 1996; Chamlee-Wright, 2006).
Принадлежность к той или иной этнической или религиоз-
ной группе может предоставлять и иные преимущества в том, что
158 Часть I. Вызовы классическому либерализму
касается создания связей с более широким спектром социаль-
ных акторов, особенно в контексте коммерческого обмена. На-
пример, Чемли-Райт (Chamlee-Wright, 2006) обращает внимание
на репутацию коммерсантов-квакеров как людей, честно веду-
щих дела, которая закрепилась за ними в XVIII—XIX вв. В подоб-
ных случаях особенности манеры поведения, одежды или речи,
поддерживаемые внутри сообщества благодаря приверженности
к определенной религиозной вере или системе культурных норм,
могут приносить и экономический выигрыш, предоставляя пра-
вильный набор репутационных сигналов тем, кто не входит
в данную группу. Будучи рассмотренными в этом контексте, куль-
турные «стереотипы» часто выполняют функцию, эквивалент-
ную функции торговых марок на рынке, и в тех областях разви-
вающейся части мира, где зачастую отсутствуют глобальные или
даже национальные бренды, они могут быть основным механиз-
мом, который акторы используют, принимая решение вступать
(или не вступать) в те или иные отношения обмена. В условиях
ограниченной рациональности, когда у акторов нет полной ин-
формации, люди часто в качестве способа сокращения издержек
на поиски наиболее надежных агентов полагаются на обычаи
и практические правила, основанные на культурном символизме.
Однако нужно признать, что не весь обязывающий социаль-
ный капитал способствует успешной связке с внешним миром —
более того, некоторые группы могут быть вообще не заинтересо-
ваны в отношениях обмена с другими; они могут стремиться изо-
лировать себя от объемлющего общества и тем самым оказаться
невосприимчивыми к репутационным стимулам. Точно так же,
как существуют различия в качестве социальных и поведенче-
ских навыков, передаваемых в рамках семьи, с точки зрения их
способности создавать связи с макросоциальным порядком, име-
ются различия и в совместимости разных культурных норм с по-
ведением, необходимым для поддержания сотрудничества и эко-
номического развития. Устойчивая бедность, существующая на
протяжении нескольких поколений в некоторых иммигрантских
группах на фоне одновременного подъема благосостояния других
групп, позволяет предположить, что не все формы обязывающе-
го социального капитала с этой точки зрения являются в равной
степени пригодными. Хотя сохранение продолжительной бедно-
сти в таких ситуациях может быть продуктом откровенно расист-
ского характера окружающего общества, выход из бедности дру-
гих групп, испытывавших на себе воздействие того же самого
Глава 4. ... вызов коммунитаризма II 159
расизма, наводит на мысль, что это не всегда является домини-
рующим фактором1. Регулярно повторяющийся в самых разных
странах коммерческий успех китайцев, евреев, индийцев-гуджара-
ти, нигерийцев-ибо и ливанцев, по-видимому, показывает, что не-
которые типы обязывающего социального капитала демонстри-
руют относительное конкурентное преимущество по сравнению
с другими (Sowell, 1996). Таким образом, конкурентный рынок
хотя и не враждебен по отношению к обязывающему социально-
му капиталу как таковому, тем не менее может оказывать избира-
тельное давление в пользу тех «культурных брендов», которые да-
ют возможность создавать более широкие социальные связи.
Робастная политическая экономия и эволюция
социального капитала
Хотя вышеприведенные аргументы свидетельствуют, что клас-
сические либеральные институты в состоянии поддерживать
надлежащее сочетание разных социальных норм, коммунитари-
сты настаивают, что для «созидания» социального капитала не-
обходимы позитивные государственные действия во имя про-
изводства дополнительных выгод, которые в противном случае
«производились бы в недостаточном количестве». Как и в слу-
чае более узких экономических аргументов в поддержку государ-
ственного регулирования, предложения о вмешательстве в эво-
люцию гражданского общества с точки зрения классического
1 Согласно данным, опубликованным Министерством образования и про-
фессиональной подготовки Великобритании, а также недавнему докладу
Rowntree Foundation, наблюдаются значительные различия между мальчи-
ками из рабочих семей в фактическом уровне полученных знаний в зависи-
мости от принадлежности к той или иной этнической или культурной группе
(в качестве идентифицирующего признака принадлежности к этой социаль-
ной группе было принято получение ребенком бесплатного питания в шко-
ле). Дети, относящиеся к категории «белые британцы», показали самые низ-
кие результаты: среди них лишь 17% получили высшие оценки А*—С по пяти
и более предметам, оцениваемым по GCSE [General Certificate of Secondary
Education — система аттестации школьников 14—16 лет по ряду предметов,
действующая в средних школах Англии, Уэльса и Северной Ирландии. —
Ред.]. Соответствующий показатель для категории «китайцы» составил по-
чти 70%, для индийцев — более 40%, бангладешцев — 38%, пакистанцев —
32%, чернокожих африканцев — 30% и чернокожих выходцев их Карибского
бассейна — 19%. Столь масштабные различия внутри низкодоходной соци-
альной категории, вероятно, находят наилучшее объяснение в том, насколь-
ко в той или иной группе делается упор на образовательные достижения; см.
Rowntree Foundation (2007).
160 Часть I. Вызовы классическому либерализму
либерализма должны быть проанализированы в терминах ро-
бастной политической экономии. Теоретические аргументы
в пользу политического вмешательства ради содействия разви-
тию социального капитала должны демонстрировать, что лица,
определяющие политику, обладают знаниями, необходимыми
для надлежащего вмешательства, и что у них есть для этого адек-
ватные стимулы.
Провалы государства и социальный капитал:
проблема знания
Хайекианский взгляд на вещи подсказывает нам, что государ-
ство может не обладать знанием, нужным для того, чтобы эф-
фективно вмешиваться с целью поддержания благоприятных
для сотрудничества социальных норм. Если распределять госу-
дарственные средства гражданским объединениям, то полити-
ки и лица, принимающие решения, должны будут либо выделять
деньги всем объединениям поровну — и столкнуться с риском то-
го, что будут субсидироваться практики, враждебные более ши-
рокому сотрудничеству, — или «отбирать победителей», пред-
лагая разные объемы финансирования в соответствии с тем,
нормы каких культур или объединений кажутся наиболее под-
ходящими. Однако нет никаких оснований полагать, что такого
рода культурный интервенционизм не будет подвержен тем же
самым «проблемам знания», что и производственное планирова-
ние. Положение политиков, пытающихся предсказать, практи-
ки какого объединения лучше способствуют развитию социаль-
ного капитала, ничуть не лучше положения тех, которые хотят
знать, какие деловые предприятия следует поддерживать.
В этом контексте Чемли-Райт в своей работе (Chamlee-Wright,
2008) обсуждает следствия, вытекающие из признания того, что
социальный капитал, подобно экономическому капиталу, не явля-
ется однородным «фондом», которым можно манипулировать на
основе агрегированных статистических показателей. Неокласси-
ческий анализ, представленный, например, работами Солоу, ис-
ходит из того, что капитал является неким измеримым количе-
ством (число заводов, компьютеров и т.д.), в отношении которо-
го может быть найдено маржинальное влияние дополнительных
единиц на уровень экономического роста. Но, согласно класси-
ческому либеральному взгляду на вещи, капитал представляет
собой сложную гетерогенную структуру, которая не поддается
Глава 4. ... вызов коммунитаризма II 161
измерению в терминах агрегированных эффектов. С одной сто-
роны, то, рассматривается ли единица некоего блага как часть
капитального фонда или как предмет потребления, зависит (по
крайней мере частично) от не совпадающих друг с другом ожида-
ний по поводу экономического окружения, которых придержи-
ваются разные индивиды или фирмы. В то же время воздействие
дополнительных единиц капитала на экономический рост по сво-
ей природе является в значительной степени качественным, а не
количественным. Признание гетерогенности капитала означает,
что новые и качественно иные инвестиции могут иметь резуль-
татом возросшую производительность существующего капиталь-
ного фонда и тем самым не подчиняться неоклассическому выво-
ду, что рост капитала влечет за собой снижение производитель-
ности. Аналогично гетерогенность капитала предполагает, что
каждый отдельный его элемент имеет множество (пусть и огра-
ниченное) вариантов использования. Как отмечает Чемли-Райт
(Chamlee-Wright, 2008), «настольный компьютер может быть эф-
фективно использован в одних производственных процессах, но
не в других». Лишь некоторые комбинации капитала осуществи-
мы технически и еще меньшее число оправданы экономически.
Поэтому экономический рост в первую очередь является не ре-
зультатом агрегированного уровня капитала как такового, а за-
висит от способности экономической системы подбирать «пра-
вильные» комбинации капитальных благ. Институциональная
робастность рыночной экономики коренится прежде всего в ее
способности создавать благоприятные условия для процесса экс-
периментирования с капитальными комбинациями и генериро-
вать децентрализованные сигналы (прибыли и убытки), которые
сообщают об относительном успехе или неудаче множества раз-
ных элементов в микромасштабе.
Будучи примененными в контексте социального капитала,
эти соображения приводят к мысли, что не все его формы при-
годны для решения всех задач во всех ситуациях и что относи-
тельная значимость различных норм будет меняться по мере по-
явления инноваций как в культурных, так и в экономических
практиках. Возможность осуществлять успешные проекты бу-
дет зависеть от способности социальных акторов обучаться то-
му, какие комбинации норм поведения требуются в разных ситу-
ациях. Например, сложившееся предприятие обрабатывающей
промышленности может нуждаться в том, чтобы комбиниро-
вать различные отношения обязывающего типа на уровне цеха
162 Часть I. Вызовы классическому либерализму
и поддерживать их посредством мероприятий по сплачиванию
коллектива [team-building], организуемых, например, путем по-
ощрения совместных занятий спортом после работы, и одновре-
менно опираться на гораздо более нежесткие отношения связы-
вающего типа с потребителями, сфокусированные на репутации
производимой фирмой продукции. В то же время тип социально-
го капитала, применяемый предпринимателем в интернет-биз-
несе, может в основном зависеть от культивирования сети связы-
вающих отношений, создаваемых непосредственным общением.
Знание о том, как комбинировать подходящие элементы
структуры социального капитала, рассеяно среди большого раз-
нообразия индивидов и организаций, и значительная часть этого
знания может быть по своей природе неявной. Успешные пред-
приниматели — это те, кто «прочитывает» существующий пат-
терн социальных норм, в рамках которого они находятся, и со-
ответствующим образом составляет целое из разных элементов.
Это относится и к случаю добровольных объединений, таких как
религиозные группы и любительские спортивные клубы, сосре-
доточенных на «неэкономических» видах деятельности, и к слу-
чаю деловых предприятий. Например, успешный спортивный
клуб должен будет сочетать мощное ощущение командного ду-
ха с предпринимательской способностью строить связывающие
взаимоотношения с коммерческими фирмами, поставляющи-
ми снаряжение и питание. С другой стороны, у бизнесмена мо-
жет возникнуть необходимость подумать о том, каким образом
он мог бы использовать сети личных отношений, устанавлива-
емых через членство в клубах, церкви или объединений музы-
кантов-любителей, для распространения сведений о его новом
предприятии. Сколько времени нужно тратить на использова-
ние такого рода личных связей по сравнению со временем, ис-
пользуемым для генерации более безличных репутационных сиг-
налов, которые могут рассылаться посредством рекламной кам-
пании? Ответы на такого рода вопросы должны быть получены
с помощью действий, предпринимательских по своей природе.
В свою очередь, всякая предпринимательская попытка найти
надлежащую комбинацию будет мало-помалу, «на границах» [at
the margin], трансформировать набор социальных норм, с кото-
рыми сталкиваются прочие акторы, по мере того как результаты
успешного экспериментирования будут распространяться от рас-
средоточенных узлов принятия решений посредством личных
контактов, подражания и механизма учета прибылей и убытков.
Глава 4. ... вызов коммунитаризма II 163
Если социальный капитал представляет собой гетерогенный
и эволюционирующий «стихийный порядок», то нет никакой
возможности, чтобы лица, определяющие решения, в достаточ-
ной мере обладали знанием обо всем сложном множестве элемен-
тов, участвующих в этом порядке, чтобы осмысленным образом
в него вмешиваться. Наличие этой проблемы доказывает пример
Патнэма, акцентирующего внимание на предполагаемом сокра-
щении социального капитала, которое находит отражение в сни-
жении количества членов добровольных объединений, таких как
клубы любителей боулинга, и делающего из этого вывод, что ли-
ца, определяющие политику, должны осуществить разные вари-
анты вмешательства, чтобы придать новую жизнь гражданским
ассоциациям такого типа. Данное Патнэмом описание не учиты-
вает в достаточной мере то, каким образом социальные измене-
ния придали импульс новым и неожиданным формам социаль-
ных контактов. Может быть, численность членов клубов боулин-
га в США и сократилась, но другие объединения, не учтенные
в его выборке, такие как клубы любителей европейского и аме-
риканского футбола, пережили внушительный рост и, по неко-
торым оценкам, увеличивались в численности быстрее, чем чи-
сленность населения (Schudson, 1995; Ladd, 1996).
Неоднозначный характер этих результатов, касающихся тра-
ектории изменения социального капитала, не должен удивлять.
Лонгитюдные исследования добровольных групп могут быть под-
вержены дефектам, аналогичным тем, которые характерны для
центрального планирования: в динамическом социальном кон-
тексте для одного исследователя общества или группы таких ис-
следователей может оказаться невозможным предвидеть эво-
люцию гражданского общества. Возникновение новых групп,
находящее отражение, например, во впечатляющем росте он-
лайн-форумов, многие из которых развили свои собственные ре-
путационные механизмы (Hardin, 2004; Steckbeck and Boettke,
2004), зачастую оказывается непредвиденным ни для аналитиков,
ни для людей, определяющих политику. Более того, последние ед-
ва ли могут адекватно судить о масштабах социального капитала
на основе агрегированных данных, которые представляют собой
попытку оценить величину «фонда» или «запаса» в тот или иной
момент времени. Даже если суммарное число гражданских объе-
динений сокращается, это вовсе не обязательно свидетельствует
о том, что разрушается социальный капитал как таковой. Это мо-
жет просто-напросто отражать тот факт, что конкретные виды
164 Часть I. Вызовы классическому либерализму
объединений, которые когда-то представляли ценность, устаре-
вают по ходу происходящих экономических и культурных изме-
нений. Если государство распределяет финансирование с целью
поддержки тех частей гражданского общества, которые, как ка-
жется, приходят в упадок, то это может означать отвлечение ре-
сурсов от новых и качественно лучше адаптированных форм объ-
единений. Как отмечает Чемли-Райт (Chamlee-Wright, 2008), то,
что в последние годы сократилось количество членов официаль-
ных обществ взаимного страхования и женских обществ взаимо-
помощи, может не свидетельствовать об истощении социально-
го капитала, а быть отражением уменьшения значимости таких
групп для женщин, живущих в семьях с двумя работающими чле-
нами и предпочитающих организовывать свою общественную
жизнь на основе добровольных дошкольных групп [playgroups]
и иных более неформальных объединений.
Аналогичные аргументы применимы к идее Ходжсона, что
государство должно ради поддержания поведенческого и моти-
вационного разнообразия вмешиваться с целью поощрения та-
ких организаций, как рабочие кооперативы. Во многих евро-
пейских странах кооперативы получали поддержку за счет го-
сударственного вмешательства, но результаты были и остаются
неудовлетворительными. Даже при относительном успехе, как
в случае Мондрагонской системы в Испании, достижения огра-
ничиваются неинновационными продуктовыми линейками (та-
кими как производство стиральных машин), которые прежде бы-
ли разработаны частными корпорациями, и, таким образом, эти
организации имитируют предприятия более традиционных ти-
пов (Hindmoor, 1999). Идея, что покровительство, оказываемое
такого рода провальным инициативам, необходимо для поддер-
жания мотивационного разнообразия, равносильна предполо-
жению, что лица, определяющие политику, могут знать, какое
именно сочетание организационных и культурных норм и для ре-
шения каких именно задач является наиболее подходящим. Од-
нако Ходжсон не приводит никаких доказательств этого тезиса.
Важным возражением на эту линию аргументации может
выступать апелляция к идее «зависимости от прошлой траекто-
рии» и культурных эффектов «привязки». Как отмечалось в гла-
ве 2, экономическое применение этого понятия исходит из пред-
положения, что процессы конкуренции благодаря историческим
случайностям и «сетевым экстерналиям» могут приводить к усво-
ению не самых лучших институциональных практик. Ходжсон,
Глава 4. ... вызов коммунитаризма II 165
предлагая сохранять «смешанную экономику» во избежание куль-
турного и организационного единообразия, мог иметь в виду не-
что подобное. Но в конечном итоге такого рода аргументы не
объясняют, каким образом люди, определяющие политику, мо-
гут знать, «сколько именно» должно быть «разнообразия». К ху-
ду ли, к добру ли, благодаря сетевым экстерналиям английский
язык стал предпочитаемым языком международной коммерции.
Но как именно лица, принимающие политические решения, уз-
нают, надо ли предотвращать его дальнейшее распространение,
отдавая предпочтение, скажем, китайскому, а если надо, то на
протяжении какого времени им следует пытаться это делать? До
тех пор, пока те, кто выступает за активный интервенционизм,
не научатся давать ответить на такого рода вопросы, будет оста-
ваться неясным, почему менее интервенционистский подход не
является более предпочтительным.
Провалы государства и социальный капитал:
проблема стимулов
Акцент на роли, которую играют «мягкие» институциональ-
ные нормы в достижении тех или иных социально-экономиче-
ских результатов, является очень важной теоретической наход-
кой, которой экономисты часто пренебрегают. Однако это не
устраняет необходимости исследовать то, как «мягкие» нормы
и обычаи взаимодействуют с «твердыми» институциональными
нормами общества, такими как правовая защита прав собствен-
ности и формальное наказание таких действий, как кража и мо-
шенничество. Доверие легче поддерживать в среде, в которой
транзакционные издержки и издержки контроля сами по себе
низки и потому способствуют усилению склонности к добросо-
вестному поведению. Иными словами, доверие снижает тран-
закционные издержки, но в долгосрочном плане не может быть
успешной стратегией помещение людей в систему «жестких» ин-
ститутов, в которой труднее отслеживать и избегать действий
тех, кто хочет обмануть это доверие. Следовательно, ключевой
вопрос состоит в том, укрепляют ли институциональные сти-
мулы доверие или же они делают выявление и наказание недо-
бросовестного поведения более трудным и тем самым снижают
стимулы к неоппортунистическому поведению. Именно в этой
связи классический либерализм указывает на то, каким обра-
зом социал-демократическое вмешательство может действовать
166 Часть I. Вызовы классическому либерализму
в направлении повышения транзакционных издержек и тем са-
мым вести со временем к деградации социального капитала.
На уровне отдельных людей стимулы к созданию себе репу-
тации добропорядочно поступающего человека, которой можно
добиться, придерживаясь поддерживающих гражданское обще-
ство норм, становятся тем слабее, чем меньше личное благопо-
лучие связано с социальными и поведенческими решениями, ко-
торые люди выбирают. Если люди для обеспечения себе средств
к существованию должны полагаться на способность находить
партнеров, готовых вступить с ними в добровольный обмен —
например, посредством договора о найме на работу, — то у них
могут существовать мощные стимулы к тому, чтобы вкладывать-
ся в репутационные сигналы, которые помогут им получить не-
обходимую работу. Когда же люди получают значительную часть
своего дохода за счет денежных трансфертов, финансируемых из
налогов, то стимулы скорее всего будут более слабыми. Если по-
лучатели трансфертов решат вести себя оппортунистически (на-
пример, не занимаясь поиском работы), то у налогоплательщи-
ков не будет возможности уйти от этих взаимоотношений, кро-
ме как навлекая на себя гигантские транзакционные издержки
в поиске способов убедить политическую власть сменить курс.
Таким образом, институты современного социального государ-
ства не только не укрепляют социальный капитал, но вполне мо-
гут и дестимулировать индивидуальное инвестирование в соци-
ально благотворные нормы. Когда издержки, вызываемые отка-
зом придерживаться этих норм, не падают на тех, кто выбрал их
нарушение, можно ожидать, что соответствующие индивиды или
семьи будут в большей степени предрасположены к дисфункцио-
нальному поведению. В этой связи может оказаться существен-
ным, что исследования социальных государств Европы показыва-
ют, что по мере роста государственных расходов на социальные
пособия общее мнение публики об индивидуальной добросовест-
ности имеет тенденцию к ухудшению (об этих результатах см.
Oorschot and Arts, 2005).
Рост социального государства никоим образом не является,
с классической либеральной точки зрения, единственной обла-
стью, в которой государственное вмешательство может подры-
вать репутационные стимулы, поддерживающие социальный
капитал. Все большее вытеснение частных, конкурентных сис-
тем регулирования государственными в таких сферах, как каче-
ство продукции, может иметь аналогичный эффект. Нигде эти
Глава 4. ... вызов коммунитаризма II 167
процессы не проявляют себя с такой очевидностью, как в сфере
денег и банковского регулирования.
До появления регуляторных институтов, подобных Феде-
ральному резерву США, отдельные банки и банковские ассоци-
ации конкурировали за финансовые ресурсы на основе репута-
ции и системы «частного права». В отсутствие поддерживаемого
государством страхования депозитов частные кредитные инсти-
туты были вынуждены привлекать вкладчиков, например гаран-
тируя принятие выпускаемых ими банкнот, ограничивая вероят-
ность «набегов вкладчиков» на неплатежеспособные организа-
ции и осуществляя мониторинг характера практик кредитования
в банках, являющихся членами ассоциаций. Банковские институ-
ты, не способные или отказывающиеся обеспечить адекватную
систему верификации, оказывались в конкурентно более слабой
позиции, чем те, за которыми закрепилась репутация честных
и благоразумных. В то же время у вкладчиков был мощный сти-
мул находить организации с наиболее надежной репутацией, по-
скольку инвестирование в недостаточно надежный банк могло
вести к риску потери всех денег, и решение инвестировать свое
время в мониторинг результатов деятельности управленческой
структуры банка имело решающее значение для обеспечения до-
ступа вкладчиков к разумным финансовым практикам (White,
1984, 1989; Timberlake, 1993). Наличия этих стимулов, безуслов-
но, недостаточно для искоренения финансовых кризисов и па-
ник, связанных с проблемами финансовой стабильности бан-
ковских институтов, но они обеспечивали условия, в которых
последствия злоупотребления доверием могли удерживаться
в относительно узких пределах.
Напротив, пришествие регулируемой государством банков-
ской индустрии со временем трансформировало это сочетание
стимулов. Поскольку централизованные государственные инсти-
туты стали брать на себя все больше и больше ответственности
за надежность и репутацию финансовой системы, у отдельных
банков больше не стало позитивного стимула к созданию репута-
ции, основанной на наилучшей практике. Вместо конкуренции
за вкладчиков на основе честности банковские институты ста-
ли все больше заниматься поиском способов обойти государст-
венное регулирование — при этом чувствуя себя в безопасности,
поскольку они знали, что если их методы спровоцируют «набег
вкладчиков», государство их «спасет» (см., например, Beenstock,
2009). В то же время у государственных чиновников стимулы
168 Часть I. Вызовы классическому либерализму
к осуществлению действенного контроля сравнительно слабы,
поскольку у регуляторов нет прав собственности в рамках си-
стемы, так что они не могут получить прибыль от действенно-
го применения мер контроля и не понесут убытков от того, что
проглядят пороки в системах корпоративного управления. На-
конец, со стороны спроса, предоставление финансируемого го-
сударством страхования депозитов снизило для вкладчиков сти-
мулы к тому, чтобы стремиться находить самые надежные орга-
низации. Когда государство в явной или неявной форме берет
на себя обязательства спасать банки от банкротства, людям нет
особого смысла нести издержки на поиск институтов, применя-
ющих лучшие деловые практики. Поэтому тот факт, что до недав-
него времени «набеги вкладчиков на банки» практически пере-
стали происходить, никоим образом не доказывает того, что го-
сударственное регулирование банков является эффективным; он
может отражать просто-напросто отсутствие у вкладчиков стиму-
лов к тому, чтобы переходить от одного института к другому в со-
ответствии с репутацией тех в отношении честности. У граждан,
когда они выступают в роли избирателей, также нет стимула от-
слеживать результаты деятельности регуляторов. Когда числен-
ность электората очень велика, шансы на то, что лоббистские
усилия какого-нибудь отдельного избирателя повлияют на каче-
ство регуляторной среды, в которой осуществляется управление
его финансовыми ресурсами, исчезающее малы. С точки зрения
классического либерализма именно наследие этой структуры сти-
мулов пронизывало финансовые рынки на протяжении большей
части последнего столетия и именно она повышает вероятность
«системного краха». Начиная с дефектов Федеральной резервной
системы США в 30-х годах XX века, через крах ссудосберегатель-
ной отрасли в 80-х годах и до глобального финансового кризиса
2008 г. конкурентные механизмы, которые на других рынках по-
могали преодолевать информационную асимметрию и укрепля-
ли стимулы к добросовестному поведению, на рынке банковских
услуг все больше и больше разрушались (Hoskins, 199S; O'Driscoll
and Hoskins, 2006; Wallison, 2006).
Подобно тому, как действия государства могут зачастую осла-
блять стимулы, побуждающие индивидов и фирмы к поддер-
жанию репутации безупречного ведения дел, они могут точно
так же снижать для гражданских ассоциаций стимулы вести се-
бя таким образом, чтобы содействовать общему благу. С позиций
классического либерализма вовлеченность людей в гражданские
Глава 4. ... вызов коммунитаризма II 169
объединения в целом является позитивным фактором и может
обеспечивать социализирующее влияние, побуждающее их к то-
му, чтобы поддерживать репутацию приверженности базовым
нормам сотрудничества. Однако вовлечение таких объединений
в политику, будь то для продвижения интересов их членов в рам-
ках политики правительства или для получения ими финансо-
вой поддержки, отнюдь не является безусловным благом. Поло-
жительно оценивать расширение участия организованных групп
в политике означает пренебрегать потенциальным воздействи-
ем этих групп на тех, кто занимает не столь выгодные позиции
для участия в коллективных действиях.
С одной стороны, интересы индивидуальных избирателей
вряд ли будут получать адекватное отражение в системе, кото-
рая отдает преимущество демократическому участию перед ин-
дивидуальным выбором. Сокращение участия в демократиче-
ских процессах может быть не продуктом чрезмерного цинизма
со стороны электората, а рациональной реакцией на тот факт,
что индивидуальное участие в решениях, касающихся публичной
политики, не оказывает практически никакого влияния на услу-
ги, которые получит тот или иной конкретный человек (Tullock,
1994; Somin, 1998). В той мере, в какой участие в избирательном
процессе все же сохраняется, это может отражать чувство гра-
жданского долга, которое испытывают люди в отношении под-
держания демократических процедур. Культурная привержен-
ность к демократическим институтам является важным элемен-
том социального капитала, но это та часть его запаса, которая
может и не увеличиваться вследствие самого демократического
процесса ввиду наличия искаженных стимулов и проблем кол-
лективного действия в ситуациях, когда исключены возможно-
сти индивидуального и коллективного «ухода». Демократическое
участие может поддерживаться призывами к выполнению гра-
жданского долга, но даже этот эффект скорее всего будет со вре-
менем уменьшаться по мере того, как люди будут осознавать, на-
сколько неэффективным методом получения улучшающих их ка-
чество жизни благ и услуг является голосование.
В условиях слабости стимулов к индивидуальному участию
в политике растущая вовлеченность гражданских объединений
в политическую деятельность может создать условия для транс-
формации характера этих ассоциаций с переносом фокуса их де-
ятельности с добровольного обмена на хищническое стремление
к ренте. Например, профсоюзы, деловые и профессиональные
170 Часть I. Вызовы классическому либерализму
ассоциации могут играть полезную роль, привлекая доброволь-
ные пожертвования и предоставляя услуги своим членам. Но сов-
сем другое дело, когда они приходят в сферу организованной по-
литики в погоне за субсидиями, ограничениями на конкуренцию
и выгодными для них мерами государственного регулирования
за счет потребителей и налогоплательщиков, которые, будучи
намного более многочисленными и имея каждый в отдельности
меньшую долю в соответствующих издержках и выгодах, могут
столкнуться с относительно большими трудностями при органи-
зации такого поведения (Olson, 1982; Олсон, 2013).
Будучи рассмотренными в этом свете, коммунитаристские
попытки «наращивать социальный капитал» путем предостав-
ления государственной поддержки гражданским объединениям
являются бессмысленными и скорее всего будут способствовать
распространению характерной для рентоориентированного по-
ведения динамики, обычно ассоциирующейся с деятельностью
групп интересов производителей, на более широкий сегмент
гражданского общества. Если общинные группы, благотвори-
тельные организации и спортивные клубы начинают получать
все большую часть своих доходов от правительства, то это может
привести к изменению воздействующих на них стимулов. Опре-
деляющей характеристикой гражданского объединения является
то, что оно опирается на согласие своих членов, каждый из кото-
рых в любой момент может осуществить «уход», в индивидуаль-
ном порядке, прекратив финансово поддерживать объединение.
Но государственное финансирование ослабляет или полностью
ликвидирует эту добровольную форму подотчетности, порождая
проблемы, связанные с коллективными действиями. Для то-
го чтобы выразить свою неудовлетворенность теми или иными
конкретными объединениями, граждане не могут просто прекра-
тить свою финансовую поддержку соответствующих институтов,
а должны возвысить свой коллективный голос в качестве налого-
плательщиков, для осуществления чего у них сравнительно мало
индивидуальных стимулов. В подобных условиях теми, кто ока-
зывается способен перехватить контроль над государственным
аппаратом и заниматься извлечением ренты из прочих граждан,
обычно оказываются ранее существовавшие объединения, орга-
низационные издержки которых ниже. Например, в Великобри-
тании эта тенденция и прежде и теперь наиболее ярко наблю-
дается в сфере социальной помощи и жилищной политики, где
вовлечение благотворительных объединений в предоставление
Глава 4. ... вызов коммунитаризма II 171
социальных услуг привело к тому, что эти организации из гра-
жданских объединений, самостоятельно обеспечивающих свое
финансирование, превратились в бюрократические лоббист-
ские группы, получающие более половины своих доходов непо-
средственно от государства (Whelan, 1996; King, 2006).
Преимуществами в борьбе за особое внимание со стороны
демократического государства могут обладать не только груп-
пы производителей и давно существующие объединения, но и те
группы, которым легче мобилизоваться благодаря сильному чув-
ству внутренней сплоченности и идентичности. Группы с высо-
ким уровнем «обязывающего социального капитала», например
объединившиеся вокруг той или иной этнической или религи-
озной идентичности, могут обладать преимуществами при реше-
нии проблем коллективного действия и тем самым получать вы-
годы от государства. Аналогично в число групп, которые скорее
всех прочих смогут политически мобилизоваться, скорее всего
попадут группы, обладающие наиболее сильной и наименее гиб-
кой формой групповой идентификации (Hardin, 2001). Учитывая
высокие издержки участия в политике и существование проблем,
связанных с коллективными действиями, среди людей, которые
все-таки в ней участвуют, скорее всего будут непропорционально
широко представлены те, кто получает удовольствие от полити-
ческой деятельности и занимается ею «ради нее самой» или ра-
ди выигрыша в самовыражении, получаемого от возможности пу-
блично демонстрировать свои эмоции и проявлять их в рамках
групповой идентификации (Brennan and Lomasky, 1993). Напро-
тив, люди с более текучим и плюралистичным набором идентич-
ностей, не испытывающие какого-то особого чувства групповой
лояльности, отношения которых с другими строятся преимуще-
ственно на «более слабой» форме «связывающего социального
капитала», могут оказаться наименее склонными к тому, чтобы
действовать политическими методами. Вследствие этой асимме-
тричности стимулов к политической мобилизации распределе-
ние ресурсов может оказаться перекошенным в пользу тех, кто
демонстрирует сильную идентификацию, и в ущерб всем прочим.
Либо же демократический процесс может превратиться в арену
конфликтов между соперничающими группами идентичностей,
борющимися за привлечение политического внимания и за пра-
вительственные щедроты. Во втором случае если организации
смогут рассчитывать на государство в дополнение к их собствен-
ным доходам, то они с меньшей вероятностью будут обращаться
172 Часть I. Вызовы классическому либерализму
к людям, не входящим в их собственные группы, ради получе-
ния от них доходов посредством убеждения и добровольного об-
мена. В этом отношении очень показателен опыт многих разви-
вающихся стран. Попытки поощрять демократическое участие
в условиях межэтнического соперничества не только не уменьша-
ют число конфликтов и не усиливают межличностное доверие,
но зачастую увеличивают социальную напряженность, поскольку
группы стремятся получить контроль над распределением произ-
водственных лицензий, субсидий и других видов рентных приви-
легий, поставив их в зависимость от этнической или религиоз-
ной идентификации (Young and Turner, 1985; Easterly, 2006).
С классической либеральной точки зрения надлежащее соот-
ношение между рынками, гражданским обществом и государст-
вом определяется довольно просто. Открытые рынки и межлич-
ностное доверие, необходимое для их эффективного функцио-
нирования, могут требовать от государства обеспечения каркаса
из «жестких» институциональных норм, таких как обеспечение
выполнения контрактов силовой санкцией и предотвращение
мошенничества, но они не требуют участия государства в регу-
лировании добровольных актов обмена и финансовой «поддер-
жке» гражданских объединений. Напротив, распространение
государственного предоставления товаров и услуг, финансиро-
вания и регулирования на те области, где транзакционные из-
держки выше, чем в частном или добровольном секторе, а затем
предоставление людям возможностей для вовлечения в «демо-
кратическое участие» могут подрывать социальный капитал ли-
бо трансформировать существующий социальный капитал в ре-
сурс, который облегчает извлечение ренты, а не производство
и добровольный обмен.
Заключение
Классический либерализм часто изображается его критика-
ми так, как будто он выступает за общественный строй, в кото-
ром отношения между людьми являются слишком неглубокими,
чтобы сформировать основу стабильного общества. В этой гла-
ве было показано, что доводы в защиту открытых рынков явля-
ются более утонченными. То, чего стремится достичь класси-
ческий либерализм — это рамки, дающие людям возможность
формировать «коммунитаристские» объединения в «микромас-
штабе» и способность развивать более разреженные формы
Глава 4. ... вызов коммунитаризма II 173
сотрудничества с людьми, имеющими отличающиеся и, возмож-
но, даже конфликтующие объединяющие связи в «макромасшта-
бе». То сочетание поведенческих и регуляторных норм, которое
сможет поддерживать такой «стихийный порядок», вряд ли под-
дается детальному предсказанию и манипулированию со сторо-
ны лиц, принимающих политические решения. Однако в усло-
виях объемлющей системы норм, гарантирующей права соб-
ственности и обеспечивающей людям стимулы к тому, чтобы
передавать другим сигналы о степени своей надежности, соот-
ветствующее сочетание может быть обнаружено через решения
многочисленных индивидов и организаций о присоединении
к конкурирующим экономическим и культурным практикам и об
уходе от них.
Глава 5
Равенство и социальная
справедливость: вызов эгалитаризма
Введение
Вышеприведенный анализ имел своей целью опровергнуть не-
которые экономические и моральные аргументы против клас-
сического либерализма. Экономические аргументы в пользу ши-
рокомасштабной государственной активности основываются на
претензии, что вследствие феномена провалов рынка приме-
нение принципа laissez-faire ведет к проявлениям неэффектив-
ности. В то же время аргументы морального характера в пользу
более чем минимального государства сосредоточены на тезисе,
что институты, «основанные на принципе ухода», не способны
поддерживать среду, способствующую этическому научению,
и что без государственного регулирования такие институты не-
стабильны. Однако из всех аргументов, которые до сих пор при-
менялись для того, чтобы воспрепятствовать делу классического
либерализма, вероятно, наиболыие влияние на дискуссию о пу-
бличной политике продолжает оказывать утверждение, что ис-
ходы, порождаемые институтами минимального государства, не
способны удовлетворить надлежащим стандартам социальной
справедливости.
На переднем крае атак, ведущихся против несправедливо-
стей, якобы причиняемых классическим либерализмом, нахо-
дятся аргументы, ассоциируемые с эгалитаризмом. Центральную
роль в этой аргументации играют попытки дать определение ин-
ституциональных структур, которые, как считается, воплощают
принцип «равного уважения». Для теоретиков, принадлежащих
к либеральной эгалитаристской традиции, большое неравенство
в доходах, которое может порождаться классической либераль-
ной системой, не может гарантировать, что всем членам обще-
ства будут доступны равные жизненные шансы, а такая доступ-
ность, как утверждается, вытекает из приверженности к равному
уважению. В то же время для современных теоретиков мульти-
культурализма неравенство в богатстве представляет собой лишь
один аспект отказа в демонстрации равного уважения. Согласно
176 Часть I. Вызовы классическому либерализму
этой точке зрения, культурные установки в отношении гендер-
ной, расовой и сексуальной идентичности могут быть причиной
нематериальных форм «угнетения», что требует вмешательства
государства не только для перераспределения возможностей до-
стижения материального успеха, но и для обеспечения доступа
к социальному статусу и уважению.
Целью этой главы является сравнительное исследование
способности классической либеральной и эгалитаристской кон-
цепций социальной справедливости удовлетворить критериям
робастной политической экономии. Анализ состоит из двух ча-
стей. В первой части излагаются центральные сюжеты эгалита-
ристской мысли, которые приводят к поддержке перераспреде-
лительной активности государства. Не будучи исчерпывающим,
это обсуждение выявляет общие темы, характерные для эгали-
таристской аргументации, уделяя основное внимание утвержде-
ниям, высказанным Ролзом, Дворкиным и Айрис Янг. Последую-
щие разделы главы последовательно выявляют дефекты эгалита-
ристских концепций справедливости, коренящиеся в отсутствии
внимания к «проблеме знания» и в неспособности в достаточной
мере учесть взаимосвязь между собственностью и стимулами. Це-
лью анализа, приводимого в каждом из этих разделов, будет опро-
вержение посылки, согласно которой равное уважение с необхо-
димостью подразумевает поддержку политики, направленной на
уравнивание исходов или возможностей в том, что касается бо-
гатства или социального положения. В данной главе доказывает-
ся, что вместо этого более робастным путем к решению вопро-
сов, относящихся к сфере социальной справедливости, является
наличие рамочной структуры, которая не наделяет никакой кон-
кретный набор распределительных норм функцией образцовой
целевой модели.
Эгалитаристская политическая теория,
социальная справедливость и равное уважение
Ролз о социальной справедливости
Классические либеральные представления о справедливо-
сти традиционно фокусируются на закреплении за каждым ин-
дивидом частной сферы, которая должна быть защищена от
вмешательства со стороны других индивидов и государствен-
ных агентств. Справедливость в этом понимании считается
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 177
достигнутой, когда уважается принцип «невмешательства»
[non-interference]. Вслед за работами Джона Ролза эти класси-
ческие либеральные представления о справедливости стали по
большей части отвергаться политическими теоретиками, при-
надлежащими к мейнстриму, поскольку эти концепции якобы не
способны предоставить людям те права, которые, как утвержда-
ется, принадлежат им как гражданам, обладающим равным по-
ложением. В своей «Теории справедливости» Ролз доказывает,
что классический либерализм или «система естественной сво-
боды» не удовлетворяет требованиям справедливости, посколь-
ку отказывается признавать, что в рамках такого порядка доли,
получаемые при распределении, часто определяются фактора-
ми, которые «произвольны с моральной точки зрения» (Rawls,
1971: 72; Ролз, 2010: 75). Полученные по наследству естествен-
ные преимущества, такие как интеллект, физическая сила и хо-
рошее здоровье, или социальные преимущества, например уда-
ча родиться в образованной и культурной семье, во всех случа-
ях являются факторами, которые могут дать людям возможность
прожить лучшую и более успешную жизнь, но ни про одно из
них нельзя сказать, что соответствующие акторы его «заслужи-
ли». Разумеется, можно возразить, что хотя люди не «заслужи-
вают» природных и социальных преимуществ, проистекающих
из случайностей рождения, они тем не менее могут заслужи-
вать дифференцированного вознаграждения, проистекающе-
го из принятых ими решений по поводу использования и разви-
тия этих талантов и преимуществ происхождения. Однако Ролз
отвергает эту основывающуюся на «достоинствах», или «заслу-
гах» [merit-based], точку зрения на то, что представляет собой
«справедливо заслуженное», поскольку, как он доказывает, чер-
ты характера, приводящие к актам самосовершенствования или
пренебрежения собой, сами являются продуктом социальных
факторов, таких как семейное или культурное происхождение,
в котором оказываются люди, и поэтому они тоже «произволь-
ны с моральной точки зрения».
Целью Ролза при проведении этих различий является вы-
работка такой формулировки принципов справедливости, ко-
торая сможет сформировать базис для стабильного обществен-
ного строя. Альтернативные концепции справедливости, на-
пример основанные на утилитаристских принципах, считаются
неспособными выполнить такую задачу, поскольку они допу-
скают возможность нарушения индивидуальных прав, если это
178 Часть I. Вызовы классическому либерализму
увеличивает «счастье для наибольшего числа людей». Согласно
пониманию Ролза, требовать, чтобы индивиды согласились с иг-
норированием их интересов ради «максимизации общественной
полезности», означало бы возлагать на них слишком большое
«бремя обязательств» [strains of commitment] (Rawls, 1971: 176—
178; Ролз, 2010: 157—159). При таком строе индивиды никогда не
могут знать, не будут ли принесены в жертву их имущественные
и личные права, и, таким образом, у них не будет определенно-
сти, необходимой для формулирования и осуществления своего
жизненного плана. Следовательно, с точки зрения Ролза, спра-
ведливость требует рамок, по поводу которых было бы обеспече-
но согласие всех членов общества, а не утилитаристского расче-
та, при котором интересы некоторых периодически приносятся
в жертву ввиду большего выигрыша, который могут получить дру-
гие в результате такой жертвы.
Именно из признания того, что стабильный социальный по-
рядок требует широкого согласия (консенсуса), Ролз выводит
обоснование подхода к вопросу справедливости, опирающегося
на общественный договор [contractarian approach]. В соответст-
вии с таким представлением справедливое общество — это такое,
в котором институциональные нормы действуют ко взаимной
выгоде всех участников и отражают принципы, которые все ак-
торы поддержали бы добровольно. Попытка Ролза представить
себе обстоятельства, которые привели бы к такому согласию,
имела результатом теоретическую конструкцию исходного поло-
жения (ИП) [original position], в рамках которого определены
условия, в которых люди будут сознательно обдумывать структу-
ру справедливого социального порядка. В ИП размышления осу-
ществляются за «завесой неведения», когда люди не знают свое-
го конкретного положения в обществе, естественных и связан-
ных с социальной средой преимуществ, которыми они обладают,
и какой-либо определенной концепции хорошей жизни, которой
они пожелают следовать. Кроме того, Ролз предполагает, что это
обдумывание происходит в закрытом обществе, в которое никто
не приходит и из которого никто не уходит. Цель всех этих до-
пущений состоит в том, чтобы гарантировать, что результаты
обдумывания скорее всего будут иметь общий и универсальный
характер, а не отражать личные интересы и пристрастия участ-
ников. Хотя признается, что люди в ИП не имеют сознательно-
го намерения отстаивать интересы других, завеса неведения вы-
нуждает даже акторов, действующих только в своих интересах,
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 179
рассуждать таким образом, что, рассматривая свою личную судь-
бу, они принимают во внимание благо других.
Ролз приходит к выводу, что универсальными и общими
правилами, которые возникли бы в результате такого обсужде-
ния, являются его два принципа справедливости. В соответст-
вии с первым из них каждый индивид, на которого влияет инсти-
тут, в равной мере имеет право на максимально широкую сфе-
ру свободы, совместимую с такой же свободой для всех. Второй,
известный под названием «принцип различия», гласит, что не-
равенство дозволяется, только если институт, который его до-
пускает, действует к наибольшей выгоде наименее преуспевших
(Rawls, 1971: 302; Ролз, 2010: 267). Считается, что именно второй
из этих принципов справедливости, наряду с приверженностью
к «честному равенству возможностей», представляет собой пря-
мое опровержение классических либеральных представлений
и, согласно широко распространенному мнению, имеет логиче-
ским следствием обоснование расширения перераспределитель-
ного социального государства.
Логика, на основе которой Ролз выводит принцип различия,
состоит в том, что в ИП люди исходят из посылки, что единствен-
ным правилом распределения, с которым могли бы согласиться
все участники, является правило равных долей. Термин «равные
доли» в данном контексте соотносится с долей в общественном
продукте, являющейся результатом таких факторов, как интел-
лект, сила, характер личности и культурный багаж, которые ка-
жутся произвольными с моральной точки зрения и должны, по
Ролзу, трактоваться как находящийся в общем владении актив,
причем стороны общественного договора рассматривают во-
прос о том, как эти активы следует распределять. Ролз не утвер-
ждает, что распределение этих активов в результате природной
или социальной лотереи само по себе несправедливо, но считает,
что «базисная структура» общества, сталкивающаяся с результа-
тами этой лотереи, должна подчиняться принципам справедли-
вости, с которыми были бы согласны все его члены (Rawls, 1971:
102; Ролз, 2010:98).
Хотя исходной посылкой участников переговоров, действую-
щих за завесой неведения, является равенство долей, люди осоз-
нают, что величина общественного продукта может быть увели-
чена, если существует разница в вознаграждении, побуждающая
людей трудиться более усердно, чем если бы ее не было. Согласно
Ролзу, если проявления неравенства действуют таким образом,
180 Часть I. Вызовы классическому либерализму
чтобы увеличивать положение наименее благополучного клас-
са общества, то за завесой незнания будет достигнуто согласие
о допустимости такого неравенства. Иными словами, неравен-
ство оправданно тогда и только тогда, когда более эгалитарное
распределение приведет к снижению абсолютного уровня жизни
наименее состоятельной группы. В основе этой заботы о судьбе
наименее состоятельного класса лежит посылка, что люди, выби-
рающие принципы справедливости, находясь за завесой неведе-
ния, не склонны к риску и, не зная, какое социальное положение
они займут, когда эта завеса исчезнет, будут стремиться максими-
зировать уровень жизни, доступный для тех, кто окажется наиме-
нее удачливым в жизненной лотерее.
Данное Ролзом определение распределительной справед-
ливости, и в частности принципа различия, не конкретизирует,
сколько именно богатства должно перераспределяться для того,
чтобы улучшить положение наименее благополучных, и потребу-
ется ли вообще такое перераспределение. Тем не менее сфор-
мулированные им принципы справедливости многими воспри-
нимаются так, что из них вытекает поддержка современного со-
циального государства. Сам Ролз, очевидно, был убежден, что
в соответствии с принципом различия для корректировки рас-
пределения доходов, порождаемого рыночными силами, требу-
ются механизмы перераспределения. В разных местах он прямо
критикует существующие либерально-демократические режимы
за несправедливости, творимые ими в отношении бедных людей
(например, Rawls, 1971: 246-247; Ролз, 2010: 220-221). Анало-
гично, описывая социальные и экономические институты, отра-
жающие принцип «справедливости как честности», Ролз выска-
зывает идею, что базисная структура общества должна способ-
ствовать уравниванию возможностей посредством публичного
предоставления или субсидирования школьного образования
и обеспечения социального минимума. Он предлагает, чтобы,
кроме обеспечения регуляторных рамок, в которых допускается
функционирование конкурентного рынка, была создана «транс-
фертная» [transfer] ветвь государственной власти, в обязанности
которой входит гарантирование того, чтобы все получали соци-
альный минимум, и вдобавок «распределительная» [distributive]
ветвь государственной власти, занимающаяся «сохранением при-
близительной справедливости в долевом распределении с помо-
щью налогообложения и необходимых изменений в правах соб-
ственности» (Rawls, 1971: 277; Ролз, 2010: 247).
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 181
Дворкин о социальной справедливости
Ролз характеризует свое определение справедливости как осно-
ванное на принципах беспристрастности или «честности», в то
время как другие авторы, работающие в эгалитаристской тра-
диции, разделяя многие аспекты его критики классического
либерализма, ставят под сомнение то, что провозглашаемые
им принципы действительно являются «честными». Напри-
мер, Дворкин (Dworkin, 2000) согласен с Ролзом, что привер-
женность равному уважению или равной заботе должна состав-
лять самую суть справедливого общества: «Ни одно правительст-
во не является легитимным, если оно не демонстрирует равной
заботы о судьбе всех тех граждан, на власть над которыми оно
претендует и от которых требует лояльности... и если богатст-
во страны распределено неравным образом, как это сегодня
имеет место даже в очень процветающих странах, то возника-
ет подозрение, действительно ли имеет место такая равная за-
бота с его стороны» (Dworkin, 2000: 1). Однако, с точки зрения
Дворкина, схема Ролза не способна адекватно распознать разни-
цу между распределением, являющимся результатом «случайно-
сти» [chance], и тем, которое складывается в результате «выбо-
ра» [choice]. Согласно этому автору, ролзовский принцип раз-
личия не является честным, поскольку он не признает роли,
которую может играть личная ответственность в детерминиро-
вании распределительных результатов. Поскольку даже такие
качества, как упорство и стремление усердно работать, припи-
сываются социальным факторам, таким как семья и культурный
багаж, в соответствии с ролзовским пониманием неправомерно
про кого-либо говорить, что этот человек хоть чего-то заслужи-
вает. Однако, убежден Дворкин, подобно тому, как принцип раз-
личия не является честным по отношению к тем, кто процвета-
ет благодаря выбору ими определенных вариантов действий, он
также не является честным и потому, что не обеспечивает адек-
ватной компенсации тем, кто оказывается в наименее благопо-
лучной группе без какой-либо вины с его стороны. Принцип раз-
личия стремится «улучшить положение наименее благополуч-
ных», но не подразумевает, например, что те, кто страдает от
физических или психических нарушений, получат компенсацию
за принадлежность к наименее успешным социальным группам.
Решение этих проблем, предложенное Дворкиным, состо-
ит в различении проявлений неравенства, являющихся и не
182 Часть I. Вызовы классическому либерализму
являющихся результатом выбора, что находит отражение в по-
нятиях «удача вследствие выбора» [option luck] и «слепая удача»
[brute luck]. Удача вследствие выбора означает те риски, кото-
рые люди имеют возможность учесть, делая тот или иной выбор,
например возможность получения прибыли и убытка при приня-
тии решения об инвестировании в то или иное предприятие или
другой личный проект. В эту категорию также включаются пре-
имущества или неблагоприятные последствия, могущие возни-
кать как результат определенных амбиций, а также добровольно
усваиваемых ценностей и предпочтений. Выигрыш, который лю-
ди могут получать вследствие того, что сами помещают себя в си-
туации, впоследствии оказывающиеся «удачными», не считают-
ся «законной мишенью» перераспределительных действий. Ана-
логично если люди оказываются в худшем положении вследствие
определенных сделанных ими выборов, они не рассматриваются
как обладающие справедливым правом претендовать на получе-
ние перераспределительных выплат.
Напротив, слепая удача относится к тем факторам, влияю-
щим на жизненные шансы индивида, над которыми лично он не
может иметь никакого контроля, таким как физические и генети-
ческие особенности или условия семьи, в которой ему довелось
родиться. Согласно этому взгляду, люди, оказавшиеся в социаль-
но невыгодном положении, имеют право на получение компенса-
ции за такого рода неудачи. Из этого следует, что те, кто получил
преимущества благодаря позитивным случаям «слепой удачи» —
например, им посчастливилось обладать большей силой или луч-
шими умственными способностями, — не имеют права оставлять
себе весь выигрыш, полученный благодаря этой более удачной
позиции. Хотя это не значит, что предлагается осуждать все про-
явления «хорошей» слепой удачи, тем не менее посылка, лежащая
в основе приверженности Дворкина «равенству ресурсов», требу-
ет, чтобы люди, получающие выгоду от «незаслуженных» ресур-
сов, выплачивали компенсацию тем, кто оказался в относитель-
ном проигрыше в терминах богатства и социального положения.
В схеме Дворкина принцип «равенства ресурсов» возникает
из гипотетического сценария, имеющего определенное сходство
с завесой неведения. В данном случае несколько людей, выжив-
ших после кораблекрушения, высаживаются на необитаемый
остров и сталкиваются с необходимостью решить, как распреде-
лить ресурсы. Они не поддерживают равное распределение зем-
ли, природных ресурсов и т.д., поскольку разные люди придают
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 183
всему этому разную ценность, но они и не настроены делить ре-
сурсы произвольным образом. Вместо этого итоговое распреде-
ление получается в результате аукциона, в рамках которого ка-
ждому предоставляется равное количество жетонов (раковин
моллюсков), с помощью которых они подают заявки на ресур-
сы. Результирующее распределение будет неравным, поскольку
люди решают потратить свои ресурсы по-разному — например,
некоторые могут больше потратить на потребление, в то время
как другие сравнительно большую долю своих жетонов решат из-
расходовать на инвестиционные блага. Однако проявления нера-
венства, возникающие вследствие этого процесса, не будут счи-
таться несправедливыми (они будут удовлетворять критерию, на-
званному Дворкиным «тест на зависть»), так как все участники
начинали, будучи наделенными равными фондами.
Затем Дворкин распространяет этот принцип на случай при-
родных или генетических дарований, в отношении которых спра-
ведливость, по его мнению, требует, чтобы они распределялись
ничуть не более произвольно, чем земля и другие активы. Он кон-
струирует механизм гипотетического рынка страхования, в рам-
ках которого он предполагает, что хотя люди знают, каковы их та-
ланты и какова структура доходов в обществе, они не знают, какие
доходы будут генерироваться этими талантами. В результате они
покупают страховку от такой ситуации, когда из-за ограниченных
талантов или трудоспособности они окажутся не в состоянии за-
рабатывать более высокий доход. Дворкин доказывает, что люди
не будут покупать максимальную страховку, поскольку если они
окажутся в высокодоходной группе, то отношение страхового воз-
мещения к страховому взносу окажется слишком маленьким. А на
основе среднего страхового покрытия, которое купит большинст-
во участников, вычисляется минимальный доход, на который они
имеют право. Именно в этой связи утверждается, что из предло-
жений Дворкина вытекает поддержка перераспределительной де-
ятельности государства, в рамках которой за счет налогов, упла-
чиваемых более благополучными, выплачивается компенсация
тем, кто оказался в генетическом отношении неудачливым.
Янг о социальной справедливости
Подходы Ролза и Дворкина к понятиям равенства и социаль-
ной справедливости были и остаются важными темами в дис-
куссии вокруг морального основания и надлежащих масштабов
184 Часть I. Вызовы классическому либерализму
государственной перераспределительной деятельности. Однако
в последние годы к ним присоединились теоретики «политики
различий» [politics of difference], которые, вообще говоря, под-
держивая экономическое перераспределение, критикуют либе-
ральную эгалитарную традицию за ее исключительно узкую ин-
терпретацию проблем, которые должно решать социальное го-
сударство. В частности Айрис Янг критически относится к тому,
что она называет «распределительной парадигмой» [distributive
paradigm] в политической мысли. Либеральный эгалитарист-
ский дискурс о социальной справедливости, доказывает она,
из-за своей поглощенности распределением материальных благ
пренебрегает многими важнейшими факторами, приводящи-
ми к отсутствию равного уважения. Соответственно Янг (Young,
1990:3) пишет: «Вместо того, чтобы сосредоточиваться на рас-
пределении, концепция справедливости должна начинать с по-
нятий господства [domination] и угнетения [oppression]. Такая
перемена позиции поднимает вопросы, связанные с принятием
решений, разделением труда и культурой, которые имеют отно-
шение к социальной справедливости, но зачастую игнорируют-
ся в философских дискуссиях».
С точки зрения Янг, существенно то, что хотя неравенство
в доступе к материальным благам является одним из определяю-
щих факторов социальной справедливости, оно ни в коей мере
не является единственным таким фактором. Несмотря на то что
многие проявления неравенства находят отражение в виде срав-
нительной нехватки покупательной силы, недостаток уважения,
воплощенный в такого рода неравенстве, не обязательно исчез-
нет при более эгалитарном распределении благ. Напротив, мно-
гие формы угнетения коренятся в более общих проявлениях не-
способности социальных структур адекватно учитывать интересы
«находящихся в иной ситуации других людей». Если рассматри-
вать вопрос в этом свете, то обеспечение максимизации матери-
ального достатка наименее благополучного класса, требуемое те-
орией Ролза, никак или почти никак не гарантирует, что взгляды
и интересы этой конкретной группы будут в должной мере учтены
в базовых структурах принятия решений в обществе. Аналогично
предоставления денежной компенсации людям с ограниченными
возможностями, подразумеваемого теорией Дворкина, будет недо-
статочно для обеспечения того, чтобы конкретные взгляды и ин-
тересы людей с ограниченными возможностями нашли отраже-
ние в процессах принятия решений, на них влияющих.
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 185
С точки зрения политики различий социальная несправед-
ливость в значительной мере является результатом институци-
ональных структур, предоставляющих привилегию взглядам
и интересам определенных групп, а также культурных устано-
вок, осуществляющих эксклюзию определенных частей населе-
ния, которые квалифицируются как не вписывающиеся в соци-
альные нормы большинства. В первом случае центральная роль
частной собственности в рыночных экономиках отдает власть
принимать решения в руки бизнеса и органов корпоративно-
го управления — частная собственность по самой своей при-
роде лишает тех, кто не является собственником, права на то,
чтобы с ним советовались насчет решений, непосредственно
влияющих на фундаментальные условия проживания менее бла-
гополучных социальных групп, как это бывает, например, ког-
да компании принимают решение уволить большое количест-
во работников или переместить свою деятельность за границу.
Аналогичным образом иерархические процессы принятия ре-
шений, имеющие место при управлении коммерческими пред-
приятиями и при бюрократическом размещении ресурсов го-
сударственными агентствами, позволяют более влиятельным
акторам определять социальную идентичность и социальные
роли менее привилегированных групп. Так, менеджеры пред-
приятий благодаря своему контролю над разделением труда
имеют возможность определять навыки и профессиональные
характеристики работников, которые обладают относительно
малым влиянием на характер своего рода занятий.
Вышеприведенные формы «структурной несправедливо-
сти», как называет их Янг, сопровождаются еще и «культур-
ным угнетением». В этом случае, даже если формальные по-
литические структуры обеспечивают равные права на участие
в политике и отсутствие дискриминации, эта кажущаяся ней-
тральность служит прикрытием для неформального давления,
оказываемого на некоторые социальные группы. В частности
господствующие социальные группы склонны монополизиро-
вать процедуры принятия решений и поощрять ассимиляцию
культурных меньшинств, демонстрирующих иные поведенче-
ские нормы, основанные на альтернативных представлениях
о сексуальной или религиозной идентичности. Давление в на-
правлении ассимиляции в культурные практики большинства,
порождаемое социальными стереотипами, увековечивает не-
гласное неуважение к членам культурных меньшинств и ведет
186 Часть I. Вызовы классическому либерализму
к тому, что члены этих групп вместо самоуважения проявляют
чувство отвращения к себе.
Хотя Янг считает государство одним из главных виновников
социальной несправедливости, она, подобно либеральным эга-
литаристам, рассматривает государство как главное средоточие
попыток добиться устранения несправедливости. Согласно это-
му представлению, нельзя давать возможность свободно функ-
ционировать частной сфере, включающей гражданское обще-
ство и рынок, поскольку непреднамеренным последствием де-
централизованных решений частных индивидов и групп часто
становится создание неравенства, которое впоследствии вос-
производится динамикой социального взаимодействия. Напри-
мер, когда частные корпоративные акторы или жители, при-
надлежащие к среднему классу, решают больше не инвестиро-
вать в старую центральную часть города, эти решения могут
лишить такую территорию профессиональных навыков и нало-
говой базы, необходимых для содержания системы образования,
которая, в свою очередь, могла бы наделить жителей, принад-
лежащих к рабочему классу, возможностями для участия в эко-
номической жизни за пределами этих районов. Аналогичным
образом, когда господствующие социальные группы посредст-
вом повседневных социальных взаимодействий уклоняются от
контактов с религиозными или этническими меньшинствами
или демонстрируют формы поведения, явно неодобрительные
по отношению к манерам поведения и взглядам таких групп, ре-
зультатом часто становится постоянная маргинализация наиме-
нее благополучных.
Раз уж Янг критикует либеральных эгалитаристов за их
слишком узкий подход к анализу источников социальной не-
справедливости, неудивительно, что она не менее критиче-
ски относится к классическим либеральным построениям, де-
лающим упор на понятие справедливости как невмешательст-
ва. В то время как классический либеральный подход отвергает
государственное вмешательство во всех случаях, кроме тех, ког-
да люди наносят другим прямой ущерб посредством кражи, мо-
шенничества или иных нарушений прав частной собственно-
сти, согласно Янг, понятие «ущерба» должно быть расширено
так, чтобы оно включало все косвенные социальные последст-
вия, которые проистекают из децентрализованного принятия
решений в гражданском обществе и могут «определять условия,
в которых вынуждены действовать другие акторы» (Young, 1990:
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 187
250—251). В качестве альтернативы классической либеральной
позиции Янг предлагает «модифицированный тест Милля» для
определения тех сфер, которые должны подвергнуться коррек-
тирующим действиям государства. На уровне практики это тре-
бует масштабного перераспределения доходов, чтобы гаранти-
ровать примерное материальное равенство в отношении эконо-
мических ресурсов. Но кроме того, государство должно играть
гораздо большую роль в фундаментальных структурах принятия
решений, чем мы обнаруживаем в существующих «обществах
с капиталистическим социальным государством». В частности
государственная активность необходима, чтобы свести на нет
неравенство в социальном признании. Например, в сфере тру-
да государство должно гарантировать, чтобы внутреннее функ-
ционирование и инвестиционные решения частных компаний
были подчинены процессу демократии прямого участия, когда
работники коллективно определяют условия своей занятости
вместо того, чтобы принимать условия, определяемые классом
профессиональных менеджеров (Young, 1990: 224).
Одновременно в сфере культуры интересы и взгляды соци-
альных групп, составляющих меньшинства, должны получить
в рамках коллективных процессов принятия решений надле-
жащее признание таким образом, чтобы религиозные, этни-
ческие или сексуальные практики таких групп не рассматрива-
лись как исключительно частное дело, к которому толерантно
относится объемлющее общество, а воспринимались по сущест-
ву как часть политической идентичности соответствующих ак-
торов. В соответствии с такой концепцией люди должны иметь
возможность участвовать в политике в качестве геев, религиоз-
ных людей или чернокожих, а демократические процессы долж-
ны обеспечивать, чтобы эти аспекты культурной идентично-
сти позитивно подтверждались посредством формального пра-
ва представительства, демонстрирующего равное уважение ко
всем культурным группам. Кроме того, если эти культуры мень-
шинств испытывают на себе давление в направлении их асси-
миляции объемлющим обществом, должны предпринимать-
ся меры, направленные на сохранение и укрепление их чувст-
ва идентичности путем предоставления финансовой поддержки
их культурной активности и принятия законов о программах по-
зитивной дискриминации [affirmative action] с целью добиться
большего представительства ущемленных групп на социальных
позициях, связанных с властью и престижем.
188 Часть I. Вызовы классическому либерализму
Проблема знания и социальная справедливость I:
эгалитаризм как конструктивистский рационализм
Хотя эгалитаристские аргументы различаются по своим акцен-
там, они представляют собой серьезный вызов классическому
либеральному идеалу минимального государства. Однако поддер-
жка таких аргументов должна основываться на робастном пони-
мании социальных процессов и того, каким образом последние
могут ограничивать выбор политических принципов. А именно,
успешная теория социальной справедливости должна призна-
вать ограничения, проистекающие из «проблемы знания» и воз-
можного эгоистического поведения. Именно с учетом этого кон-
текста классический либерализм оспаривает эгалитаристскую
интерпретацию того, что подразумевает требование равного ува-
жения. Следующие два раздела исследуют «проблемы знания»,
с которыми сталкивается теория социальной справедливости.
За ними идет раздел, в котором ставится под сомнение способ-
ность эгалитарных концепций эффективно справиться с пробле-
мой искаженных стимулов и излишнего «бремени обязательств».
Ролз как рационалист-конструктивист
Идея, что теории справедливости должны строиться с учетом
понимания социальных ограничений, никоим образом не явля-
ется уникальной характеристикой классического либерализма.
Например, Ролз, хотя и оговаривает, что стороны, ведущие пе-
реговоры за завесой неведения, не обладают сведениями о сво-
их талантах, навыках и вероятном статусе, могущими система-
тически исказить их рассуждения, не забывает уточнить, что им
доступны «общие факты» социальной теории, необходимые для
обеспечения беспристрастного выбора справедливых институ-
тов (Rawls, 1971: 142; Ролз, 2010: 131). Если к числу «общих фак-
тов» ныне относятся и результаты, достигнутые централизован-
ным планированием в XX веке, то будет разумным утверждать,
что успешные институты должны создавать благоприятные усло-
вия для создания и передачи знания, а не исходить из посылки,
что это знание может быть «данностью» для отдельного акто-
ра или агентства1. Однако одна из наиболее серьезных проблем
1 Ролз утверждает, что «нет существенной связи между использованием
свободных рынков и частной собственностью на средства производства»
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 189
с эгалитаристскими теориями состоит в том, что они в своих по-
сылках оставляют за скобками процессы, связанные с разногла-
сиями и социальными различиями, посредством которых в дей-
ствительности может быть обнаружено и транслировано зна-
ние, относящееся к вопросам справедливости. Эта тенденция
наиболее очевидно прослеживается в таких понятиях, как ис-
ходное положение и завеса неведения, играющих центральную
роль в построениях Ролза. Конструируя эти теоретические сред-
ства, Ролз принимает в качестве посылки условия, в которых
у людей отсутствует какая-либо форма социального опыта.
Предполагается, что хотя люди не знают ничего или почти
ничего о самих себе, они обладают достаточными способно-
стями к рассуждению, чтобы прийти к согласию по поводу то-
го, каковы должны быть критерии справедливости в обществе.
Однако в классическом либеральном понимании нужда в соци-
альных нормах и институтах, таких как право частной собствен-
ности, в значительной степени возникает благодаря тому факту,
что люди не обладают достаточным знанием, чтобы договорить-
ся о стремлении к социальной справедливости, понимаемой как
некая единая концепция. Предполагать противоположное и ис-
ходить из того, что относящееся к делу знание может быть сосре-
доточено в одном месте, означает игнорировать требования ро-
бастной политической экономии и впасть в грех, который Хайек
(Hayek, 1982: Part 2; Хайек 2006) характеризует как «конструкти-
вистский рационализм».
Согласно Хайеку, разум не существует независимо от лично-
го и социального опыта, но, по крайней мере частично, являет-
ся продуктом конкретных личных и культурных обстоятельств,
(Rawls, 1971: 271; Ролз, 2010: 242), что теории справедливости являются ней-
тральными в отношении вопросов частного или индивидуального владения
и что «рыночный социализм» является жизнеспособной системой. Одна-
ко с учетом эпистемических аргументов, рассмотренных в главе 2, и резуль-
татов, продемонстрированных социалистическими режимами в XX веке,
к числу релевантных «общих фактов» в настоящее время должно быть от-
несено признание того, что «использование свободных рынков» зависит
от частного владения собственностью. Когда имеется только один собст-
венник (т.е. в условиях государственного социализма), знание, необходи-
мое для социальной координации, не может генерироваться эффективно.
Не может оно генерироваться и в том случае, когда степень и масштабы
децентрализации определяются вышестоящим «общественным собствен-
ником» (т.е. в условиях рыночного социализма), а не посредством идуще-
го «снизу вверх» процесса конкуренции между множеством разнообразных
частных собственников.
190 Часть I. Вызовы классическому либерализму
в которых оказываются люди, и (если ему позволяют) развивает-
ся по мере того, как люди подвергаются влиянию акторов, обла-
дающих иным опытом, и учатся у них. Знание этих мысленных
горизонтов и вытекающих из них следствий нигде не существу-
ет в виде интегрированного целого, а возникает из распределен-
ных взаимодействий и взаимного приспособления между множе-
ством разнообразных индивидов и групп, причем все они в от-
дельности обладают собственными мысленными горизонтами.
Если рассматривать вопрос в этом контексте, то ролзовский бес-
пристрастный размышляющий субъект эквивалентен всеведуще-
му социальному плановику, который по предположению облада-
ет полным знанием всех исходных обстоятельств, относящихся
к определению идеального набора распределительных норм1.
Последняя идея все больше осознается теми, кто, симпатизи-
руя целям эгалитаризма, ставит под сомнение эпистемологиче-
ский базис значительной части эгалитаристской теории. В част-
ности Янг критически относится к тому, что она называет «взгля-
дом из ниоткуда», который просматривается в описании Ролзом
беспристрастного разума. Она объясняет это следующим обра-
зом: «Беспристрастный разум судит с точки зрения, находящейся
вне взглядов и интересов участвующих лиц, имея в виду цель про-
суммировать эти взгляды и интересы в единое целое или в общую
волю... Поскольку беспристрастный субъект уже учел все взгляды
и интересы, ему нет нужды принимать в расчет никаких субъек-
тов, на чьи интересы, взгляды и желания следует обращать вни-
мание, кроме себя самого» (Young, 1990: 100—101).
В проекте Рол за возможность того, что разум будет нуждать-
ся в информировании посредством процесса социального науче-
ния и опыта, исключается исходными посылками модели. В ис-
ходном положении участники переговоров не только по опре-
делению имеют идентичные характеристики, но и лишены
возможности выслушивать точки зрения и мнения, а также ог-
раждены от влияния с их стороны (Rawls, 1971: 131; Ролз, 2010:
123). Аналогично предположение, что переговоры за завесой не-
ведения происходят в «закрытом обществе», исключает возмож-
ность того, что люди смогут чему-то научиться у тех, кто находит-
ся вне их конкретного контекста, и испытать на себе какое-либо
влияние опыта последних. Однако именно через вариативность
1 Его эквивалентом в экономической теории является вальрасовский аук-
ционер в неоклассической модели общего равновесия.
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 191
опыта социальных акторов — включая различия в личных талан-
тах, культурном и историческом происхождении, а также в уста-
новках по отношению к распределению — люди могут изучить, че-
го может требовать справедливость. Тем не менее эти связанные
с опытом факторы по условиям мысленного эксперимента Рол-
за исключены из рассмотрения, поскольку они представляются
«произвольными с моральной точки зрения».
В свете «проблемы знания» теория социальной справедливо-
сти, удовлетворяющая критериям робастной политической эко-
номии, вместо принятия посылки, что политические институты
должны иметь своей целью конкретный распределительный пат-
терн, должна рассматривать вопрос о том, какого рода институ-
циональные решения создают условия для эволюции и передачи
надлежащих моральных принципов. Иными словами, внимание
должно переместиться с преимущественно «статических» тео-
рий или теорий «конечного состояния» на такие теории, кото-
рые сосредоточены на динамических процессах, в рамках кото-
рых могут быть открыты принципы справедливости и может рас-
пространяться знание о них.
Чтобы прояснить эту мысль, следует отметить, что имеет ме-
сто поразительное сходство между методом Ролза и применяе-
мым в неоклассической экономической теории анализом обще-
го равновесия, который обсуждался в главе 2. Во втором случае
именно допущения теории равновесия (об абсолютно рациональ-
ных экономических агентах, обладающих полной информаци-
ей) приводят к выводу, что рынки могут порождать оптимальное
размещение ресурсов — а отклонения от этих допущений в «ре-
альном мире» принимаются за доказательство «провалов рын-
ка». Однако, как доказано в главе 2, такие модели в своих посыл-
ках исключают из рассмотрения как раз те социальные процессы,
которые нуждаются в объяснении. В рамках теории равновесия
не предпринимается никаких попыток объяснить, каким обра-
зом рыночные акторы получают информацию, необходимую
для координации со своими собратьями, и как в отсутствие та-
кой информации государственные плановики могут узнать, ка-
кие именно действия необходимы для устранения тех или иных
случаев провала рынка. Когда посылки модели, построенной те-
оретиком, по определению исключают то, что нуждается в объ-
яснении, институты становятся нерелевантными. Но для ситу-
аций, возникающих в «реальном мире», при рассмотрении во-
проса о том, как социальным акторам следует координироваться
192 Часть I. Вызовы классическому либерализму
друг с другом и обучаться друг у друга в условиях, радикально от-
личных от теоретических абстракций, тема институционального
выбора имеет фундаментальное значение. В конкретном случае
рыночных институтов, основанных на распределенном владе-
нии частной собственностью, их превосходство над социалисти-
ческими системами централизованного планирования происте-
кает из лучшей способности мобилизовывать знание, которое,
как объясняет Хайек (Hayek, 1948a: 77-78; Хайек, 2011: 94), «ни-
когда не существует в концентрированной или интегрирован-
ной форме, но только в виде рассеянных частиц неполных и за-
частую противоречивых знаний, которыми обладают все отдель-
ные индивиды».
В случае рынков именно столкновение конкурирующих идей
и практик, распределенных среди разных владельцев собствен-
ности, позволяет обучаться путем проб и ошибок. Различия в це-
нах, прибылях и убытках сообщают информацию и вызывают
изменения в поведении людей по мере того, как знание об от-
носительном успехе или неуспехе конкурирующих инициатив по-
добно волнам распространяется из многочисленных точек при-
нятия решений.
Применительно к распределительным нормам различные та-
ланты, которыми обладают люди, и культурные установки в от-
ношении этих талантов оказывают влияние на их размышления
о социальной справедливости. Например, те, кто происходит из
«меритократической» культуры, могут не считать честным то,
что значительная часть дохода, имеющего источником примене-
ние ими своих навыков, должна быть перераспределена в поль-
зу «группы наименее благополучных» независимо от того, поче-
му люди оказались в такой ситуации. С другой стороны, люди,
которые ведут свое происхождение из культурной среды, отда-
ющей предпочтение социальной солидарности и преуменьшаю-
щей ценность материального прогресса, могут не считать под-
ходящим такой принцип справедливости, который допускает не-
равенство между индивидами ради повышения уровня жизни.
В то же время люди, придерживающиеся религиозных убежде-
ний, могут иметь такие взгляды на распределение доходов и жиз-
ненных шансов, которые обусловлены их приверженностью со-
ответствующей вере. Что еще более важно, поскольку люди с раз-
личными навыками, способностями и взглядами на социальную
справедливость постоянно подвергаются влиянию других акто-
ров, обладающих отличающимся опытом, их первоначальные
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 193
концепции справедливости и честности могут претерпевать из-
менения вследствие этого взаимодействия. Подобно тому, как
участники рынка, наблюдая за различными условиями, предла-
гаемыми конкурирующими предпринимателями, могут обнару-
живать новые возможности, превосходящие то, о чем они могли
помыслить прежде, так и в контексте моральной рефлексии лю-
ди могут изменять свои представления о том, что представляют
собой «честные условия сотрудничества», наблюдая результаты
применения новых социальных норм и выбирая те правила, ко-
торые они оценивают как лучшие. Как не существует центрально-
го разума или организации, которые могли бы располагать зна-
ниями обо всех факторах, определяющих величину всех цен на
рынке, так и не существует, с классической либеральной точки
зрения, такого разума, который располагал бы сведениями обо
всех факторах, составляющих надлежащие правила распределе-
ния, и мог бы осуществить их синтез.
Дворкин как рационалист-конструктивист
Склонность к конструктивистскому рационализму и к принятию
посылки о знании как о «данности», очевидная в теории Ролза,
может быть также предъявлена в качестве недостатка той вер-
сии эгалитаризма, которую предлагает Дворкин. Обычно вопро-
сы социальной справедливости, относящиеся к «реальному ми-
ру», возникают тогда, когда люди с разной историей, культурой
и социальными привязанностями начинают контактировать
друг с другом. Поэтому в терминах робастной политической эко-
номии «равенство ресурсов» едва ли может быть жизнеспособ-
ным принципом социальной справедливости — отчасти пото-
му, что люди с разным социальным опытом могут не соглашать-
ся друг с другом по поводу того, что следует считать «ресурсом»,
подлежащим распределению. Модель Дворкина исходит из пред-
положения, что ресурсам может быть приписана рыночная це-
на, поскольку именно в этом случае все участники смогут старто-
вать, обладая эквивалентными пучками ресурсов, ценность ко-
торых может быть измерена на основе единой метрики. Однако
некоторые общества (например, аборигены Австралии) счита-
ют неприемлемым, чтобы ценность земли и других природных
ресурсов определялась по денежной шкале. Тем не менее теория
Дворкина потребовала бы, чтобы такие активы были «распро-
даны» с тем, чтобы выручка была перераспределена (Kukathas,
194 Часть I. Вызовы классическому либерализму
2003: 224-225; Кукатас, 2011: 377-380). Аналогичная трудность
возникает с аргументами в пользу перераспределения, связанно-
го с врожденными дарованиями и способностями. В соответст-
вии с моделью Дворкина люди, которые невысоко ценят денеж-
ное вознаграждение, но обладают «большими преимуществами»
в терминах своих генетических характеристик, будут вынужде-
ны работать на то, чтобы оплатить высокие страховые взносы,
отражающие ценность, которую другие социальные акторы при-
дают их талантам. В то же время люди, имеющие «меньше пре-
имуществ», но точно такие же предпочтения в отношении до-
суга, не будут обязаны выплачивать такие взносы. Таким обра-
зом, в подходе Дворкина присутствует неявное предубеждение,
отдающее предпочтение производительной деятельности [pro-
ductivity bias], исходящее из того, что ресурсы, будь то природ-
ные или генетические, должны расходоваться на производство
продукции и услуг для рынка (Miller, 1990). Классический либе-
рализм, подчеркивающий преимущества рынков, ничего не име-
ет против того, чтобы ресурсы получали рыночную цену, но он
и не настаивает, чтобы люди обязательно участвовали в рыноч-
ных отношениях вопреки тому, что их частные цели или куль-
турные ценности налагают ограничения на то, что может прода-
ваться или покупаться.
Социальной и культурной вариативностью обладают не
только взгляды на то, что является объектом распределения,
но и такие категории, как естественные «преимущества» и «не-
достатки». Если для людей уровень производства, превосходя-
щий уровень простого выживания, не обладает ценностью, то
наличие талантов и способностей, которые могли бы привести
к появлению большого дополнительного дохода, может и не со-
ставлять преимущества. В определенных культурных условиях
физическая сила и красота могут быть высоко ценимыми ресур-
сами, в то время как где-то в другом месте еще более ценными
могут считаться умственные способности. Даже такие понятия,
как «ограниченные способности», могут в значительной степе-
ни определяться конкретными культурными и экономически-
ми условиями. Например, в развитой экономике люди с ограни-
ченной физической мобильностью тем не менее могут выпол-
нять работы, приносящие им значительный доход, в то время
как в менее развитой экономике та же самая «инвалидность» сде-
лала бы их выживание полностью зависящим от других людей.
Более того, знание человека о своих способностях и талантах
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 195
само по себе характеризуется высокой степенью неопределен-
ности и может быть предметом «открытия» по мере того, как
личности в процессе социального и культурного взаимодейст-
вия осуществляют те или иные варианты действий и обраща-
ют внимание на альтернативные возможности. Знание челове-
ка о том, каковы его таланты, какими они могут быть и какие
доходы можно с их помощью получать, эволюционирует в про-
цессе того, как он вступает в контакт с людьми, имеющими иной
культурный и экономический опыт. Простейший пример: пред-
ставления о своей относительной «красоте» могут трансформи-
роваться (улучшаться или ухудшаться) при контактах с культу-
рой, которая ценит иные физические характеристики. Там, где
взаимодействуют люди с несовпадающими взглядами по поводу
надлежащих объектов распределения и где люди из разных куль-
турных сред приписывают талантам и способностям конкуриру-
ющие ценности, понятие «ресурса», а также понятия «преиму-
щества» и «недостатка», становятся крайне текучими и непри-
годными для установления статического «равенства ресурсов».
Последнее исходит из того, что знание о значимых «ресурсах»
может быть предоставлено в качестве «данности» некоей кон-
кретной организации, занимающейся осуществлением социаль-
ной справедливости.
Трудности, возникающие в связи с тем вариантом ошибоч-
ного представления о знании как о «данности», который мы на-
ходим у Дворкина, наглядно воплощены в его механизме гипо-
тетического рынка страхования. В схеме Дворкина «цены», при-
писываемые физическим и генетическим ресурсам, требующим
уравнивания, являются результатом «имитационного» рынка —
некоей разновидности «одноразового» аукциона» — а не настоя-
щего, продолжающегося во времени рыночного процесса. Поэ-
тому с классической либеральной точки зрения цены, определя-
емые с помощью такой имитации, будут не в состоянии отражать
динамические факторы, действующие в «реальном мире», — та-
кие как технологические инновации, новые открытия и измене-
ния культурных предпочтений, — которые будут порождать по-
стоянные колебания ценности соответствующих активов. Зна-
ние этих факторов и их влияния на распределение ресурсов не
может быть централизовано в одном месте, а может проявлять
себя лишь посредством реальных решений о покупке и продаже,
принимаемых многочисленными, разнородными и децентрали-
зованными агентами.
196 Часть I. Вызовы классическому либерализму
Янг как рационалист-конструктивист
Подход Янг к социальной справедливости с его фокусировкой
на разногласиях и различиях может считаться в меньшей сте-
пени подверженным заблуждению, представляющему знание
как «данность», и ее в меньшей степени можно обвинить в кон-
структивистском рационализме. В противоположность попыт-
кам Ролза и Дворкина обосновать свои излюбленные идеалы
распределения, Янг переносит внимание на институциональ-
ные процессы, создающие возможность для открытия различ-
ных моральных ценностей и коммуникации по их поводу. Но
эта видимая чуткость к «проблеме знания» ставится под сомне-
ние акцентом Янг на «равенстве доходов», понимаемых в тер-
минах не только материальных ресурсов, но и в отношении со-
циального статуса и уважения — с вытекающим из этого требо-
ванием, чтобы культурные установки групп «меньшинств» или
«находящихся в невыгодном положении» групп позитивно ут-
верждались. При всей ее критике «взгляда из ниоткуда», игра-
ющего центральную роль в либеральном эгалитаризме, труд-
но понять, каким образом якобы более гибкое и открытое по-
нимание Янг социальной справедливости можно примирить
с безусловной приверженностью точке зрения, что определен-
ные интересы и ценности должны получать поддержку со сто-
роны публичной власти. Подобно тому, как идеи научных или
промышленных предпринимателей, которые нередко публич-
но высмеиваются, могут продемонстрировать свою ценность на
интеллектуальном или экономическом рынке, ценности мень-
шинств и групп, находящихся в невыгодном положении, могут
доказать, что достойны равного, если не большего уважения,
чем ценности господствующей культуры. Однако многие науч-
ные и предпринимательские идеи на деле лишены каких-либо
достоинств, и точно так же может обстоять дело и с практика-
ми в сфере культуры и распределения. Именно путем дискри-
минации таких практик люди получают возможность выразить
свою приверженность альтернативам и дать понять тем, от ко-
го они хотели бы отмежеваться, что на свете могут быть лучшие
способы устраивать свои дела. Для классических либералов из
этого следует, что, хотя культурные и религиозные меньшинст-
ва должны обладать свободой предаваться нежелательным пра-
ктикам — например, таким, как дискриминация при приеме на
работу по признаку пола и сексуальной ориентации, — люди,
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 197
отвергающие такие предрассудки, должны обладать свободой
отказываться иметь дело с теми, кто эти практики поддержива-
ет, чтобы тем самым сообщать о своем неуважении к соответст-
вующим ценностям.
В эволюционном процессе открытия статус индивидов
и групп и уважение к ним неизбежно будут текучими. По мере то-
го, как люди принимают решения взаимодействовать с одними
акторами и отказываться от взаимодействия с другими по мно-
жеству различных вопросов, и по мере того, как люди и группы
адаптируются к сделанному выбору, соответствующим образом
меняются ресурсы и статус релевантных акторов. В этих услови-
ях неравные исходы являются неизбежным проявлением куль-
турной и экономической текучести и могут быть необходимы-
ми для усиления процесса кросскультурного обмена и обучения,
которому, по ее заявлениям, так благоволит Янг. Предположим,
например, что фирма или культурная группа, противодейству-
ющая сексуальной дискриминации в практике приема на рабо-
ту, демонстрирует большую производительность по сравнению
с группой, упорно держащейся за представления о мужском пре-
восходстве. В этом случае само существование неравенства меж-
ду соответствующими «культурами» может оказаться преимуще-
ством, помогающим бросить вызов репрессивным социальным
нормам. Если посмотреть на вещи под этим углом, то для пре-
доставления поддержки объединениям и группам, несущим по-
тери в ресурсах и численности членов и могущим в результате
социальных взаимодействий ощущать, что их «недооценивают»
и «не уважают», имеется не больше оснований, чем для поддер-
жки проектов в сфере бизнеса, которые оказались неспособны
привлечь и удержать потребителей на добровольной основе.
С точки зрения классического либерализма сохраняющийся
«конструктивистский» умственный настрой Янг находит отраже-
ние не только в ее неизменной приверженности равенству до-
ходов, но и в поддержке ею демократической совещательности
в качестве наиболее подходящего механизма для определения
составляющих социальной справедливости. Как было показано
в главе 3, ключевым дефектом совещательной демократии явля-
ется то, что она предъявляет к людям такие когнитивные требо-
вания, удовлетворить которые невозможно. В частном случае со-
циальной справедливости, знание, относящееся к надлежащим
принципам распределения, не может быть централизованно
представлено на публичный форум, и вся сложность факторов,
198 Часть I. Вызовы классическому либерализму
влияющих на формулирование распределительных норм, не мо-
жет быть охвачена группой умов, вовлеченных в осуществление
совещательности. Напротив, такое распределенное и сложное
знание может найти отражение лишь в непреднамеренных пат-
тернах, возникающих стихийно из взаимодействия множества
разнообразных индивидов и групп.
Справедливость, беспристрастность и проблема знания
Если признать, что интерпретации социальной справедливости
должны принимать более динамическую и дезагрегированную
форму, то утверждение, что надлежащее содержание распреде-
лительных норм может быть «дано» в его тотальности какому бы
то ни было индивиду, или группе, или агентству, такому как го-
сударство, является совершенно неправдоподобным. Должност-
ные лица государства — будь то демократически избранные или
назначенные каким-либо другим образом — не всеведущи, а их
взгляды на социальную справедливость обусловлены их собст-
венным личным и культурным опытом. Поэтому с классической
либеральной точки зрения любая попытка провести в жизнь
конкретный распределительный идеал на уровне общества в це-
лом будет отражением всего лишь частных взглядов акторов, на-
деленных достаточной властью, чтобы осуществить такое на-
вязывание идеала обществу. Поэтому чтобы социальные ин-
ституты опирались на более широкий массив опыта, традиций
и мыслительных перспектив, они должны не стремиться реали-
зовать какой-либо отдельный распределительный паттерн, а до-
пускать параллельное сосуществование конкурирующих прин-
ципов справедливости. Именно различия в результатах — т.е. те
или иные варианты неравенства — дают возможность децентра-
лизованным агентам узнавать о достоинствах и недостатках аль-
тернатив, а самим эти результатам — распространяться через пе-
рекрывающиеся мысленные ландшафты бесчисленных акторов,
ни один из которых не может знать, будь то индивидуально или
коллективно, какой именно вклад вносит его частный выбор
в эволюцию распределительных норм.
В той мере, в какой равенство вообще релевантно в этом
контексте, оно может быть применимо лишь в смысле равного
принуждения к следованию правилам, необходимым для обес-
печения сосуществования соперничающих распределительных
норм. Для классического либерализма именно в этом состоит
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 199
обоснование того, почему принцип равного уважения должен
быть ограничен обеспечением соблюдения «негативных» прав
на «невмешательство», как в случае защиты личности и собствен-
ности, и из него не следует поддержка «позитивных» прав на те
или иные конкретные социальные результаты. Эти «негативные
права» не должны рассматриваться как «нормы справедливости»
как таковые; скорее следует мыслить их как базовые нормы взаи-
модействия или юмовские «конвенции», которые могут оказать-
ся необходимыми, чтобы люди, придерживающиеся разных кон-
цепций социальной справедливости, могли сосуществовать, не
находясь в постоянном конфликте (об этом см., например, Barry,
2004). В классическом либеральном понимании робастные поли-
тические институты — это не те, которые имеют целью гаранти-
ровать справедливость, а те, которые снижают конфликтность
и поддерживают мир в условиях, когда основа для согласия о том,
чего требует справедливость, может отсутствовать.
В связи с этим рассуждением имеет смысл заново рассмо-
треть вопрос о том, каковы могли бы быть требования, предъ-
являемые к подлинно «беспристрастному» выбору социальных
институтов. Чтобы понятие беспристрастного разума было сво-
бодным от обвинений в «конструктивистском рационализме»,
оно не должно прибегать к произвольным и принимаемым ad
hoc допущениям в отношении информации, которой располага-
ют участники общества. Например, оно не должно постулиро-
вать в духе Ролза, что люди «не склонны к риску» или что они
сами о себе знают, что заняты именно рассмотрением распре-
делительных норм для «закрытого общества»1. Если выбор со-
циальных институтов происходит за завесой подлинного не-
ведения, то представляется крайне маловероятным, что люди
с определенностью проголосуют за некую конкретную распре-
делительную норму, такую как «принцип различия» Ролза. Если
люди действительно ничего не знают не только о своих талан-
тах и общественном положении, но и о ценностях и убеждени-
ях, которыми они будут обладать, о своих будущих знаниях, от-
ношении к риску и о том, как все это скорее всего будет меняться
1 Как указывает Шмидц (Schmidtz, 2005: 223), при допущении, что выбор
принципов распределения происходит в «закрытом обществе», условия, ко-
торые Ролз устанавливает за «завесой неведения», равносильны «оболочке
дезинформации», поскольку у людей, действующих во многих ситуациях «ре-
ального мира», на самом деле есть вариант покинуть одно общество и пред-
почесть другое.
200 Часть I. Вызовы классическому либерализму
в свете опыта, то представляется более правдоподобным, что
они выберут «базисную структуру», которая даст им возмож-
ность изучать конкурирующие критерии распределения и де-
лать выбор между ними. Иными словами, можно ожидать, что
люди выберут «открытое общество», позволяющее разным ин-
дивидам и группам присоединяться к разнообразным пересека-
ющимся системам отношений, обеспечиваемым семьями, фир-
мами, соседскими объединениями и огромным разнообразием
культурных и гражданских институтов, распределяющих день-
ги, блага и социальные статусы, а также покидать такие систе-
мы отношений. Процесс межличностного и межкультурного об-
учения и приспособления, который будет иметь место в такой
системе хотя и не гарантирует возможность открытия «правиль-
ных» принципов, тем не менее увеличит шансы на то, что лю-
бая случайно выбранная личность или группа будет иметь воз-
можность найти «правильный» набор распределительных норм.
Конечно, можно возразить, что обвинение в конструкти-
вистском рационализме, выдвигавшееся против эгалитаризма
на протяжении всего этого раздела, совершенно проходит ми-
мо сути того, чем, как считается, должна заниматься норматив-
ная политическая теория. Потому что, по крайней мере в слу-
чае Ролза, сама цель этой теории состоит в том, чтобы пред-
писать и обосновать конкретный набор ценностей — а именно
принцип «справедливости как честности», — а не описать про-
цесс, который мог бы выявить зачастую неверные (с точки зре-
ния Ролза) ценности и критерии справедливости, которых лю-
ди в настоящее время почему-то придерживаются. Такие теоре-
тические конструкции, как завеса неведения, разрабатываются
для достижения сформулированной в явном виде цели: исклю-
чить этические теории и ценности, не являющиеся беспри-
страстными. Таким образом, заявления, что Ролз игнорирует
существование ценностного разнообразия и разногласий, об-
условлены непониманием характера его проекта, который как
раз и состоит в уменьшении ценностного разнообразия путем
отсеивания несправедливых ценностей и демонстрации того,
какие из них — например, такие как ценности нацистов — яв-
ляются неправомерными. В этом отношении эволюционное
рассуждение, изложенное здесь, рискует свестись к чисто де-
скриптивному изложению, рассказывающему о ценностном
разнообразии, и превратиться в обоснование «неразборчиво-
го» отношения к вопросам добра и зла.
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 201
Вышеприведенное критическое рассуждение до некоторой
степени обоснованно — в том смысле, что классический либера-
лизм, как он понимается в этой книге, выступает за относитель-
но «разреженную» концепцию «справедливости», а не связыва-
ет себя с той или иной более материальной этической системой.
Но из этого не следует, что в нем проявляется «неразборчивый»
образ мышления. Чего на самом деле стремится достичь класси-
ческий либеральный подход — так это более робастного пони-
мания того, чего требует беспристрастность с учетом ограниче-
ний, с которыми сталкиваются все агенты, являющиеся людьми,
включая разработчиков нормативных теорий. Все политические
теории в некотором смысле являются «конструктивистскими»
в той мере, в какой выступают за тот или иной конкретный набор
институциональных решений. Однако для классических либера-
лов этот конструктивистский элемент ограничивается процес-
сом «применения разума для осознания границ разума» (Hayek,
1957; Хайек, 2003). Прежде чем определять природу того, что
правильно и что неправильно с моральной точки зрения, робаст-
ное описание беспристрастности должно привести к осознанию
природы ограничений, налагаемых пределами человеческих по-
знавательных возможностей. Следовательно, в той мере, в ка-
кой нормативная теория участвует в процессе предписывания
надлежащих институтов, ее предписания должны быть относи-
тельно «разреженными», чтобы предоставить возможность для
обучения и эволюции в условиях ограниченной рациональности.
В контексте теорий справедливости результатом этого является
признание нормы, относящейся к «метауровню» — толерантно-
сти, которая предоставляет индивидам и группам максимальный
простор для применения знания, извлекаемого из результатов
их собственного опыта выработки ответов на проблемы, каса-
ющиеся распределения, с которыми они сталкиваются. Терпи-
мость является предписываемым этическим принципом, возни-
кающим из признания того, что люди обладают ограниченной
способностью к рассуждению и несовпадающими наборами зна-
ний, а также того эмпирического факта, что среди них отсутст-
вует согласие по вопросам распределительной справедливости.
Этот акцент на толерантности не означает, что от людей следует
требовать демонстрации уважения к этическим взглядам других,
с которыми они не согласны, но он означает институционализа-
цию рамок, допускающих мирное сосуществование соперничаю-
щих систем ценностей благодаря гарантированной сфере невме-
202 Часть I. Вызовы классическому либерализму
шательства. Нацизму и другим формам тоталитаризма, в той ме-
ре, в какой они основаны на насильственном подавлении других,
на самом деле нет места в этих рамках1.
Следует отметить, что Ролз, судя по всему, вполне осведом-
лен о проблемах, которые сложность и дифференцированное
знание могут породить для робастности его конкретной теории.
Допущение, что все агенты, находящиеся за завесой неведения,
обладают одинаковыми знаниями и имеют идентичные представ-
ления о своих интересах, сконструировано для того, чтобы га-
рантировать, что у соответствующих акторов «нет оснований для
торга в обычном смысле слова» (Rawls, 1971: 139; Ролз, 2010: 129)
и чтобы «мы могли рассматривать выбор, совершаемый в исход-
ном положении, с точки зрения индивида, выбранного случайно»
(ibid.). Это допущение «делает возможным единогласный выбор
конкретной концепции справедливости. Без этих ограничений
на знание проблема торга в исходном положении была бы безна-
дежно сложной. Даже если бы теоретически существовало реше-
ние, мы были бы не в состоянии найти его, по крайней мере, сей-
час» (Rawls: 1971: 140; Ролз, 2010: 130). Однако у классического
либерализма есть альтернативный метод, с помощью которого
можно справиться с неустранимой сложностью распределитель-
ной справедливости. Вместо того чтобы давать понять, что лю-
ди, не приемлющие принцип различия, в некотором смысле по-
дозрительны с моральной точки зрения, мы можем принять ре-
альность того, что они отличаются друг от друга по своему багажу
знаний, и дать возможность возникнуть решениям «безнадежно
сложной проблемы торга», обеспечив людям защищенную сферу
и позволив им входить в конкурирующие «общественные догово-
ры» и покидать их (об этом см. Palmer, 2007).
Для того чтобы классическая либеральная система удовлет-
воряла таким требованиям, нет необходимости в допущении,
чтобы решения о «присоединении» к тем или иным системам от-
ношений и об «уходе» из них не были связаны ни с какими из-
держками. Критики классического либерализма возражают, что
«издержки ухода» на рынках и в гражданском обществе часто
1 Конечно, в этом контексте весьма трудным является вопрос о том, что
представляет собой насильственное подавление применительно к детям
и их интересам. Например, весьма непросто разрешить вопрос о том, долж-
ны ли в рамках системы, основанной на толерантности, быть запрещены та-
кие практики, как обрезание младенцев и контактные виды спорта; об этих
проблемах см. спор между Барри (Barry, 2001) и Кукатасом (Kukathas, 2002).
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 203
являются «чрезмерными», что обесценивает принцип ухода (см.,
например, Barry, 1995, 2001). Этот взгляд является отражением
того же гиперрационализма, который очевиден в неоклассиче-
ской экономической теории, где отклонения от «совершенной
конкуренции» — т.е. от ситуации, когда на рынке предлагаются
идентичные товары, выпускаемые очень большим числом произ-
водителей, ни один из которых не может влиять на цены, — счи-
таются «провалами рынка». Однако, как доказано в главе 2, этот
подход несовместим с представлением о рынках как об эволюци-
онных «процессах открытия», которые привлекают внимание
людей к различным и при этом меняющимся возможностям. Ры-
ночная конкуренция часто связана с «влиянием на цены», ког-
да фирмы осуществляют инновации, создавая новые процессы
и виды продукции, о которых и не думали их конкуренты, и ког-
да есть возможность получить прибыль, прежде чем последние
смогут адаптироваться к соответствующим инновациям. В такой
среде всегда присутствует «переговорная сила» и «издержки ухо-
да». Люди редко бывают способны найти продукты, удовлетворя-
ющие всем индивидуальным требованиям по всем параметрам.
Если фирма предлагает несовершенный с точки зрения потре-
бителя продукт, но при этом все же превосходящий предлагае-
мые конкурентами, то издержки ухода для такого потребителя
всегда по определению будут «чрезмерными». На самом деле лю-
бая ситуация, в которой люди ощущают, что издержки, связан-
ные с некоторым вариантом, превышают выгоды от него, будет
восприниматься ими как связанная с «избыточными издержка-
ми» (Kukathas, 2002, 2003; Кукатас, 2011). Чтобы рынки работали
эффективно, требуется не «совершенная конкуренция», где у лю-
дей нет никаких предпочтений по отношению к имеющемуся пе-
ред ними набору идентичных вариантов, а то, чтобы существую-
щие участники рынка не были защищены от вызовов, которые
могут бросить им новички, предлагающие иные, лучшие по срав-
нению с имеющимися возможности.
Аналогично в сфере распределительных и культурных норм
люди будут лишь изредка находить решения, удовлетворяющие
все их нужды и соответствующие всем их ценностям, и поэтому
«издержки ухода» будут существовать всегда. Тем не менее среда,
допускающая конкуренцию между правилами распределения, да-
ет возможность вновь приходящим в нее объединениям предло-
жить «лучшие принципы справедливости», чем те, которые име-
ются в ассортименте сейчас. Система, которая делает акцент на
204 Часть I. Вызовы классическому либерализму
конкуренции и свободе объединения, хотя и является «несовер-
шенной», может быть более робастной, чем альтернатива, пред-
полагающая не большую конкуренцию, а наделение единствен-
ного органа публичной власти правом определять и обеспечи-
вать принуждением то, что он считает «правильным» набором
распределительных норм. С классической либеральной точки
зрения имеется не больше оснований предполагать, что госу-
дарство в состоянии определить, какие «издержки выхода» яв-
ляются чрезмерными, чем считать, что правительства могут
знать «правильную цену» товаров в условиях, когда конкуренция
не соответствует критериям «совершенной». «Правильная це-
на» и «чрезмерные издержки» — это как раз то, что еще должно
быть открыто. Условия торга, которые возникнут из конкурент-
ного процесса, не могут быть сымитированы или воспроизведе-
ны системой централизованного регулирования, а могут лишь
быть открыты в процессе реальной конкуренции, какой бы «не-
совершенной» она ни была.
Проблема знания и социальная справедливость II:
компромиссы между ценностями и мираж
социальной справедливости
Таким образом, классический либерализм скептически относит-
ся к доводам, приводимым в пользу того, чтобы поместить ка-
кой-либо частный распределительный принцип в центр теории
социальной справедливости. Но при этом совершенно не оче-
видно, что сами эгалитаристы являются приверженцами соци-
альной справедливости как абсолютного понятия.
Недоопределенность эгалитаристской справедливости
И Ролз, и Дворкин согласны с тем, что равенство может стать
предметом уступок ради достижения других целей, и тем са-
мым их теории утрачивают свою приверженность к какому-ли-
бо определенному распределительному исходу. Первый из этих
двух авторов, Ролз, отказывается от следствий «принципа раз-
личия», который, будучи доведенным до логического конца, по-
требовал бы, чтобы у относительно более состоятельных людей
изымались миллиарды долларов или фунтов, даже если выгода
для более бедных от такого перераспределения составляла бы
всего лишь несколько пенсов на человека. Ролз далее замечает,
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 205
что «принцип различия не предназначен для применения к та-
ким абстрактным возможностям» (Rawls, 157; Ролз, 143), и тем
самым делает уступку, состоящую в том, что в применении прин-
ципа не следует заходить «слишком далеко», т.е. что могут иметь
место оправданные компромиссы между принципом различия
и другими имеющими ценность исходами.
Дворкин, в свою очередь, соглашается (Dworkin, 1981: 157),
что абстрактным принципом «равенства ресурсов» можно ча-
стично пожертвовать ради достижения других целей. Например,
в случае двух индивидов, страдающих тяжелыми физическими
или психическими нарушениями, никакая компенсация, сколь
угодно большая по размерам, не может исправить соответству-
ющую ограниченность способностей — даже если на это напра-
вить все ресурсы, «компенсации» будет недостаточно, и в конце
концов ничего не останется для удовлетворения потребностей
и желаний здоровых людей. Хотя люди с серьезными увечьями
представляют собой крайний случай, та же самая проблема, хотя
и в меньших масштабах, возникает в случае менее тяжелых небла-
гоприятных факторов. Поэтому Дворкин спешит избежать вы-
вода о необходимости «рабства для талантливых людей» и пред-
лагает, чтобы перераспределение через гипотетическую стра-
ховую схему обеспечивало «адекватный» доход для находящихся
в неблагоприятных условиях, а не равенство доходов.
То, что Ролз и Дворкин не проявляют желания преследовать
эгалитаристские цели любой ценой, следует считать достоин-
ством их теорий, потому что альтернативой этому стало бы то,
что Бадвар (Badhwar, 2006) назвал мономаниакальным подходом
к справедливости — т.е. таким, который отказывается признавать,
что существует разнообразие целей, к которым следует стремить-
ся в хорошем обществе. Так, хотя облегчение положения бедня-
ков является достойной целью, которая может занимать высокое
место на шкале ценностей некоторых людей, мир предлагает на
выбор и ряд других, столь же достойных целей. К числу послед-
них может относиться, например, более высокий уровень жизни,
стремление к высоким интеллектуальным достижениям и худо-
жественному мастерству, желание сберечь природную среду. Еще
более важно то, что стремление к таким целям может вступать
в конфликт с «социальной справедливостью». Например, в слу-
чае цели «повышение уровня жизни», одной из наиболее важных
функций конкурентного рынка является перемещение ресурсов
от акторов, неспособных максимизировать ценность, к тем, кто
206 Часть I. Вызовы классическому либерализму
лучше проявил себя в этом деле. Именно получающееся «на вы-
ходе» этого процесса неравенство в контроле над капитальны-
ми благами приводит к повышению среднего уровня благосо-
стояния. Следовательно, может оказаться так, что достижение
большего материального равенства или удовлетворение крите-
риям принципа различия потребует такой цены, которую люди
не готовы платить. Аналогичным образом применительно к за-
щите окружающей среды даже небольшие улучшения материаль-
ного положения наименее благополучных могут потребовать та-
ких разрушений ценного ландшафта или такого увеличения за-
грязнения, что люди могут и не захотеть с этим мириться. Хотя
мышление в таких терминах может вызывать дискомфорт, люди
в неявном виде регулярно занимаются такими сопоставлениями
целей. Например, они могут потратить — и тратят — на универси-
тетские библиотеки и высокое искусство те деньги, которые мо-
гли бы быть направлены социальным группам, находящимся в са-
мом неблагоприятном положении.
Признание важности сопоставления целей и компромисса
между ними в указанном выше смысле приводит к понижению
относительного статуса равенства, потому что появляется так
много правомерных оснований для отхода от эгалитаризма, что
он перестает быть моральным абсолютом (см., например, Kekes,
2003; Chapter 5). Если признается возможность компромисса
между социальной справедливостью и соперничающими целя-
ми, то трудно понять, почему стремление к эгалитарной справед-
ливости должно считаться «первой добродетелью общественных
институтов» (Ролз) или «суверенной добродетелью» государств
(Дворкин).
Дальнейшее и существенное следствие признания централь-
ной роли компромиссов заключается в том, что люди могут по-
желать определить их по-разному, и в случае, когда их ценности
находятся в конфликте, сомнительно, что может быть найден
устраивающий всех проект, определяющий, сколько именно не-
равенства должно быть допущено и как должны приниматься «со-
циальные» решения. В этом отношении особенно загадочным вы-
глядит упорное подчеркивание Янг необходимости сокращения
материального неравенства между культурными группами в каче-
стве условия раскрепощения и одновременно настоятельное тре-
бование предоставления таким группам свободы следовать сво-
ему собственному образу жизни. Эгалитаристские цели невоз-
можно с легкостью примирить с культурным самоопределением
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 207
хотя бы по той простой причине, что разные культурные нор-
мы и различия в связанных с ними компромиссах между целями
приводят к неодинаковым материальным и экономическим по-
следствиям. Например, люди, выбирающие «социалистические»
принципы распределения, едва ли произведут такое богатство,
как те, кто предпочитает более конкурентные формы размеще-
ния ресурсов. Аналогичным образом маловероятно, что груп-
пы, отвергающие технические новшества, как это делают мно-
гие сегодняшние радикальные «зеленые», или «глубокие эколо-
ги» [deep greens], будут генерировать такие же возможности для
повышения материального благосостояния, как и группы, при-
ветствующие технический прогресс. Сказанное не равносиль-
но предположению, что существующие проявления неравенст-
ва полностью объясняются стихийными культурными различия-
ми, а не имевшими место в истории актами насилия и хищения,
нарушающими принцип невмешательства1. Основной тезис со-
стоит в том, что даже в отсутствие такого рода насильственных
факторов неравенство может иметь причиной сосуществование
различных социальных норм, и не существует единообразного
компромисса между целями, который определял бы, какие раз-
меры неравенства наделе являются «приемлемыми».
Разумеется, можно возразить, что существуют некоторые
нужды, такие как минимальная потребность в питании, которые
могут быть установлены «объективно» и гораздо легче поддаются
выявлению, чем «оптимальный» уровень неравенства (Gamble.
1996: 49). Но даже эта позиция порождает ряд проблем. Во-пер-
вых, вовсе не является самоочевидным, что такие критерии, как
адекватные нормы питания, могут быть идентифицированы со-
вершенно объективным образом. Дефиниция надлежащего стан-
дарта питания в один период времени или в одной культуре мо-
жет рассматриваться как совершенно неадекватная в других усло-
виях, когда ожидаемая продолжительность жизни намного выше.
1 По-видимому, наиболее подходящим принципом справедливости для
применения в этом контексте является идея Нозика о «справедливости как
исправлении», требующая от того, кто нарушил принцип невмешательства,
осуществить возмещение тому, в чью сферу владения было совершено втор-
жение (Nozick, 1974; Нозик, 2008). Однако применение даже этого принци-
па связано с серьезными проблемами, учитывая трудность определения по
прошествии времени, какая часть того или иного проявления неравенст-
ва объясняется актами грабежа и эксплуатации, а какая часть — различиями
в культуре, сделанным выбором и различиями в реакции на рыночные сигна-
лы. Анализ этих проблем, вдохновленный идеями Хайека, см. вТеЬЫе (2001).
208 Часть I. Вызовы классическому либерализму
Во-вторых, идентификация тех акторов, которые обладают пра-
вом на получение соответствующего питания (причем правом,
подлежащим реализации с помощью принуждения), не может
осуществляться объективно. Является ли данный стандарт при-
менимым лишь в определенных социально-экономических усло-
виях или же он должен применяться ко всем представителям че-
ловеческого рода независимо от их истории и социального окру-
жения? В условиях межкультурной текучести и взаимодействия
вряд ли может быть достигнуто согласие по поводу того, каким
именно группам и индивидам должны быть предоставлены выго-
ды, обеспечиваемые минимальным стандартом. Наконец, в том
невероятном случае, если у людей будет иметь место согласие по
поводу содержания социального минимума и они будут убеждены,
что все акторы в принципе имеют право его получать, это не бу-
дет означать наличия согласия по поводу того, в какой степени
к достижению этого стандарта следует стремиться, жертвуя дру-
гими целями. Например, люди могут и не придерживаться еди-
ногласно мнения, что принятие на себя ничем не ограниченно-
го обязательства обеспечить выживание каждого голодающего
ребенка в развивающихся странах является оправданным, если
связанные с этим издержки будут означать отвлечение ресурсов
от других достойных целей, таких как финансирование исследо-
ваний и инвестиций, которые смогут повысить общий уровень
жизни людей будущих поколений1.
1 По-видимому, Хайек оказался дезориентирован в отношении логиче-
ских следствий, вытекающих из этого анализа. Так, отвергая социальную
справедливость в качестве осмысленной цели, которую можно преследовать
в условиях отсутствия установленного по общему согласию критерия оценки
результатов, он продолжает поддерживать предоставление государством ми-
нимальной страховочной сетки (см., например, Hayek, 1982:87; Хайек, 2006:
255—256). То, за что выступает здесь Хайек, представляет собой более раз-
бавленный вариант принудительного перераспределения, целью которого
является обеспечение основного минимума еды и крова тем, кто неспособен
заработать себе на жизнь на рынке, — в противоположность более широко-
масштабным мерам, которые имеют в виду эгалитаристские сторонники со-
циального государства. Тем не менее Хайек не приводит никаких доводов,
позволяющих считать, что существует больше оснований для согласия по по-
воду того, из чего должна состоять «страховочная сетка», чем для определе-
ния степени «справедливости» или «несправедливости» той или иной вели-
чины «разрыва» между «богатыми» и «бедными» (Tebble, 2009).
На это можно привести аргумент, что поддержка Хайеком «страховоч-
ной сетки» направлена не на то, чтобы обеспечить «социальную справедли-
вость», а на достижение более скромной цели, состоящей в помощи людям,
испытывающим трудности, подобно тому, как решения большинства людей,
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 209
Справедливость, ответственность
и стихийный порядок
Если признать правомерность компромиссов между распредели-
тельными принципами и другими целями, а также то, что люди
могут выбирать те или иные варианты таких компромиссов раз-
личным и притом меняющимся образом, то стремление к «рас-
пределительной справедливости» на макросоциетальном уров-
не может оказаться равносильным погоне за «миражем» (Hayek,
1982: Part 2; Хайек, 2006: книга II). В «открытом обществе», где
взаимодействуют люди с разными целями и ценностями, не су-
ществует одного-единственного агентства, ответственного за
распределение доходов, а паттерн распределения на макроуров-
не не является результатом осознанных намерений участников
ни в микро-, ни в макромасштабе. В частности рынки не распре-
деляют ресурсы в соответствии с некоей определенной концеп-
цией заслуг (например, в соответствии с проявленным людь-
ми упорством). Вместо этого соперничающие в рамках рынка
фирмы вводят различающиеся критерии, определяющие шкалу
оплаты труда, и «основанные на заслугах» правила карьерного
продвижения. Вдобавок на общий паттерн распределения, кро-
ме оплаты предоставляемых на контрактной основе услуг, с не
меньшими шансами будут оказывать влияние личные взаимоот-
ношения, подарки и благотворительные пожертвования. Еще
более важно то, что хотя те, кто усердно работает и сберегает,
направляющих помощь жертвам природных катастроф, таких как азиатское
цунами 2004 года, вряд ли мотивированы озабоченностью неким «разры-
вом» между богатыми и бедными, а связаны лишь с желанием оказать немед-
ленную помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Поддержка Хайе-
ком государственных мер в этой сфере вместо того, чтобы полностью пола-
гаться на частную благотворительность, может корениться в убеждении, что
вспомоществование бедным — как и помощь жертвам стихийных бедствий —
представляет собой разновидность коллективного блага, которое может
«производиться в недостаточном количестве» из-за высоких транзакцион-
ных издержек организации сбора исключительно частных пожертвований.
В этом случае аргумент Хайека в пользу государственных мер основывает-
ся на соображениях результативности и эффективности, а не на понятии
справедливости. Это рассуждение не противоречит политической экономии
Хайека в целом, которая, будучи скептичной по отношению к большинству
аргументов, основанных на идее «провалов рынка» (см. главу 2 этой книги),
не исключает полностью возможность действительных провалов рынка. Во-
прос о том, следует ли трактовать «помощь нуждающимся» как коллективное
благо, рассматривается в главе 6.
210 Часть I. Вызовы классическому либерализму
могут достигать хороших результатов на рынках, получаемое
людьми вознаграждение может также детерминироваться слу-
чайными открытиями и другими непредсказуемыми событиями,
такими как изменение спроса на тот или иной конкретный на-
вык или ресурс. При таком порядке не существует единого стан-
дарта или набора компромиссов между критериями, на основе
которых можно оценивать результаты «рынка», как и не сущест-
вует лица или группы лиц, которых можно считать действующи-
ми справедливо либо несправедливо по этим критериям. Люди
влияют на решения, принимаемые бесчисленными рассредото-
ченными акторами, и сами испытывают влияние решений этих
акторов, причем никто из последних не способен ни определить
справедливость того или иного конкретного распределения, ни
знать, каким образом его собственные частные критерии и акты
выбора поучаствовали в формировании этого распределения1.
На это можно возразить, что хотя исходы, порождаемые «сти-
хийным порядком», не замышлялись сознательно кем-либо из ак-
торов, тем не менее люди ответственны за то, как они реагируют
на соответствующие исходы (Lukes, 1997; см. также Plant, 1994).
Согласно этой точке зрения, отсутствие надлежащей реакции на
чрезмерное неравенство может с полным основанием осуждать-
ся как несправедливость. Однако с этим аргументом связана та
1 Хайек признает, что понятия справедливости и несправедливости
уместны в рамках конкретных организаций, действующих в соответствии
с единой целью или замыслом. Например, если в рамках фирмы в контрак-
тах оговаривается определенный набор процедур, касающихся шкал оплаты
труда и выдвижения на более высокие должности, а менеджеры постоянно
нарушают эти контракты или произвольным образом меняют договоренно-
сти, то, согласно Хайеку, эти случаи будут являть собой примеры несправед-
ливости. Основная его мысль заключается в том, что понятие распредели-
тельной справедливости неприменимо на уровне общества в целом, пото-
му что «открытое общество» не является единой организацией, основанной
на преследовании согласованных целей и реализации общих замыслов. Оно
скорее представляет собой сеть взаимосвязей или «каталлактику», в которую
входит множество личностей и организаций, каждая из которых имеет соб-
ственные цели и ценностные критерии. Например, в нем есть много разных
фирм с разными системами оплаты труда и процедурами продвижения по
карьерной лестнице, и люди в соответствии с их конкретными ценностями,
компромиссами и обстоятельствами могут принять решение «войти» в ка-
ждую из них и «уйти» из нее. Основной тезис Хайека означает, что общее
«социальное» или «имеющее место в масштабе общества» распределение,
получающееся в результате взаимодействия этих разнообразных акторов,
не может быть объяснено действиями какого-либо отдельного актора или
группы и не может оцениваться по какой-либо отдельной шкале ценностей.
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 211
проблема, что он избегает ответа на вопрос, какова должна быть
надлежащая реакция. Говорить, что люди не выполняют своей
обязанности блюсти «социальную справедливость», имеет смысл
только в том случае, если у них есть возможность знать, какая ве-
личина бедности или неравенства допустима, но они отказыва-
ются действовать в соответствии с этим знанием. Конечно, люди
могут пытаться скорректировать тот или иной исход в том, что
касается распределения, в соответствии со своими личными или
групповыми представлениями о соответствующих компромиссах
между целями, но такие действия никоим образом не могут быть
охарактеризованы как повышающие уровень распределительной
справедливости в масштабах общества в целом. Самое большее,
что можно утверждать в таком контексте, — это то, что люди сде-
лали такой выбор применительно к распределению, который со-
гласуется с их частной шкалой компромиссов между целями. Од-
нако в «открытом обществе» не существует единого «социаль-
ного стандарта», на основании которого могут оцениваться или
ранжироваться состояния различных индивидов. Позиция эга-
литаристов не позволяет им опровергнуть эту аргументацию, по-
скольку, как отмечалось выше, такие авторы, как Ролз и Дворкин,
не могут предоставить определенный расчет того, какая «величи-
на» неравенства фактически приемлема.
В связи с этим следует подчеркнуть дополнительный и еще
более важный аспект «проблемы знания». В том невероятном
случае, если на деле имеется всеобщее согласие по поводу того,
каким должен быть компромисс между конкретной распредели-
тельной нормой, такой как «принцип различия» или «равенст-
во ресурсов», и конкурирующими целями, у людей, тем не ме-
нее, нет возможности узнать, как им следует действовать, чтобы
реализовать желательный уровень неравенства. Чтобы предпо-
ложить, что некое конкретное решение увеличит или, наобо-
рот, уменьшит социальную справедливость, соответствующему
актору, будь то частному лицу (действующему в качестве благо-
творителя) или правительственному органу (действующему по-
средством решений о налогообложении и бюджетных расходах),
нужно будет, помимо многих других, дать ответы на ряд вопро-
сов следующего рода. Будут ли получатели трансфертных пла-
тежей заниматься такой деятельностью и тратить полученные
деньги таким образом, что это увеличит или, наоборот, умень-
шит их способность получать доходы на рынке труда? В какой
степени получатели трансфертов смогут потратить их на такой
212 Часть I. Вызовы классическому либерализму
набор потребительских товаров, расходы на который повысят
спрос на неквалифицированный труд и тем самым понизят нера-
венство в доходах, а в какой степени они своими расходами по-
высят спрос на и без того высокооплачиваемые специальности
и тем самым, возможно, повысят неравенство? Людям также по-
надобится знать, каким образом повлияет на доходы в целом их
решение направить на перераспределение определенную часть
средств, которая могла бы пойти на потребление и инвестиро-
вание. Не приведет ли это, например, к тому, что фирмы в от-
раслях, занимающихся производством потребительских товаров
для относительно богатых покупателей, теперь будут вынуждены
уволить рабочих, и в результате те на некоторое время окажутся
безработными? Каковы будут экономические последствия для по-
ставщиков этих компаний? Насколько легко смогут соответству-
ющие работники найти работу в ответ на изменение структуры
расходов уязвимых групп населения и как это может повлиять на
неравенство? И не приведет ли перераспределение к тому, что
капитал станет менее доступным для организаций, имеющих на-
илучшие возможности увеличить в будущем предложение более
высокооплачиваемых рабочих мест для тех же самых обездолен-
ных членов общества?
Для того чтобы отвечать на такие вопросы и нести ответст-
венность за свои действия, людям необходимо будет предвидеть
выбор, который будут делать бесчисленные индивиды и органи-
зации, а следовательно, уметь эффективно «читать их мысли».
В отсутствие же такой способности решения, принимаемые людь-
ми по поводу обмена благами и услугами, а также безвозмездной
отдачи ресурсов и времени другим, будут постоянно и непредска-
зуемым образом изменять распределение доходов. Если призна-
ется свобода действий, то знание о том, «кто, что и кому должен
передавать», для того, чтобы получить в результате тот или иной
(желательный или нежелательный) уровень неравенства, не мо-
жет быть «данностью» ни для самих индивидов, ни для коллек-
тивного форума, подобного тому, что обеспечивает государство.
Следовательно, там, где люди пользуются свободой деятельно-
сти, бессмысленно говорить о том, что они действуют «справед-
ливо» или «несправедливо» с точки зрения какого-либо конкрет-
ного паттерна распределения на макроуровне. Этот вывод не яв-
ляется отражением потенциального эгоизма или оппортунизма
соответствующих акторов, избегающих ответственности за соци-
альную справедливость. Напротив, он базируется на признании
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 2IS
того, что какими бы благими намерениями ни были мотивирова-
ны люди в стремлении достичь определенного паттерна распре-
деления, в сложном обществе, где их решения неизбежно взаи-
модействуют с решениями миллионов других, они просто не мо-
гут знать, какими должны быть надлежащие действия.
Недостаточно ответить на это, что ответственность людей
за их действия относится не к каждому конкретному акту обмена
или безвозмездной передачи, а к желанию людей поддерживать
«базисную структуру» общества, которая предоставляет базовые
возможности и ресурсы, соразмерные с «приемлемым» уровнем
неравенства. Ведь трудность в том и состоит, что знание того, ка-
кие возможности и способы размещения ресурсов составляют со-
ответствующую «структуру», никогда не может стать доступным
ни индивиду, ни коллективному институту, такому как государст-
во. Например, если речь идет о налоговых ставках, то величина
ставки, обеспечивающая данный уровень неравенства в опреде-
ленный момент времени, может не соответствовать этому уров-
ню в следующий момент, потому что продолжающиеся измене-
ния в технологиях, вкусах, структуре расходов и занятости будут
непрерывно и бесчисленными непредсказуемыми способами ме-
нять распределение, возникающее в результате такого уровня на-
логообложения. В этих условиях у тех, кому поручено обеспечи-
вать реализацию такой налоговой меры, не будет возможности
узнать, в каком направлении следует менять ставку, реагируя на
мириады факторов, воздействующих на распределение доходов.
В этом контексте рассмотрим теперь следствия, вытекаю-
щие из подхода Янг к предотвращению «структурной несправед-
ливости», и в частности из требований ее «модифицированно-
го теста Милля». Последний формулируется следующим образом:
«Агенты, как индивидуальные, так и коллективные, имеют пра-
во исключительной власти над своими действиями только в том
случае, если действия и их последствия (а) не наносят вреда дру-
гим, (Ь) не ограничивают возможности индивидов для развития
их способностей в рамках взаимного уважения и терпимости
и (с) не детерминируют условия, в которых вынуждены действо-
вать другие агенты» (Young, 1990: 250—251). Согласно классиче-
ской либеральной позиции, просто-напросто не существует спо-
соба, с помощью которого какой бы то ни было орган публичной
власти мог бы получить доступ к знанию, относящемуся к каждо-
му из этих условий, — в том числе орган, управляемый процес-
сом демократического участия. Каждое решение, принимаемое
214 Часть I. Вызовы классическому либерализму
на микроуровне — о покупке или продаже, об инвестировании
или отказе от инвестирования, об усвоении той или иной куль-
турной практики или о выборе какой-либо другой, — будет однов-
ременно и воздействовать на «структурные условия», с которы-
ми сталкиваются другие участники, и подвергаться воздействию
этих условий. Для того чтобы выяснить, что общая структура ре-
шений «наносит вред» другим либо, наоборот, не наносит его
(например, снижая или увеличивая их доход или ощущаемое ими
уважение) или что она «детерминирует» либо, наоборот, «не де-
терминирует условия, в которых вынуждены действовать другие»
(например, сокращая или увеличивая набор возможностей для
занятости людей с определенными талантами и навыками), не-
обходимо будет знать, как то или иное действие, осуществляемое
в рамках этой структуры, сочетается со всеми другими решения-
ми, принимаемыми одновременно с ним бесчисленными инди-
видами и группами. Однако именно невозможность централиза-
ции знания, относящегося к последствиям всех этих решений, за-
ранее исключает публичное «обоснование» какого бы то ни было
конкретного распределительного исхода.
Угнетение и эгалитаристская справедливость
Поскольку свобода действий приводит к непредвиденным ре-
зультатам, эгалитаристы склонны отдавать предпочтение ме-
рам, которые ограничивают эту свободу и принуждают людей
вести себя определенным образом. Эта тенденция ясно прос-
матривается в предложениях Янг по поводу обязательного
«участия рабочих в управлении». Согласно Янг, для того, что-
бы гарантировать право на «осмысленную и приносящую удов-
летворение работу», наемным работникам должно быть предо-
ставлено право участвовать в принятии управленческих и инве-
стиционных решений тех предприятий, на которых они заняты
(Young, 250—251). Выдвигая это предложение, Янг, по-видимому,
не осознает, что тут может иметь место конфликт между целя-
ми — «осмысленной работой» и производством богатства. Если,
как демонстрируют разочаровывающие результаты рабочих ко-
оперативов (см., например, Hindmoor, 1999), специализация
и разделение труда с разными шкалами навыков и компетентно-
сти больше способствует материальному процветанию, многие
рабочие могут предпочесть «осмысленной работе» более высо-
кий уровень вознаграждения. Однако совершенно неочевидно,
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 215
позволила бы Янг рабочим выбрать занятость в организациях,
предлагающих такие условия, потому что, в соответствии с ее
концепцией, это могло бы привести к тому, что они смогут «де-
терминировать условия» для других. А именно, если меньшинст-
во рабочих выбирает неэгалитаристский вариант и если соот-
ветствующие организации окажутся более эффективными, будут
генерировать больше дохода и их будут предпочитать потреби-
тели, то в результате может стать труднее привлекать капитал
для инвестирования в формы предприятий с «участием рабо-
чих в управлении», поскольку все больше людей будут стремить-
ся скопировать более традиционные корпоративные практики.
Логическим следствием аргумента Янг, по-видимому, будет
то, что государство должно запретить работу на традиционных
капиталистических предприятиях1. Более того, чтобы обеспе-
чить материальное неравенство, которого хочет Янг, ее пред-
ложения должны идти еще дальше. Право рабочих отдельных
предприятий на принятие своих собственных решений должно
быть жестко ограничено, потому что если работники некоторых
фирм окажутся более предприимчивыми и успешными, то они
могут вытеснить из бизнеса своих менее предприимчивых кол-
лег. Следовательно, чтобы «освободить» людей от «структурной
несправедливости», порожденной актами выбора, совершаемы-
ми другими людьми, подход Янг требует создания гигантской (не
говоря уж о том, что совсем не эгалитарной) системы принужде-
ния, в рамках которой именно агенты государства будут «детер-
минировать условия, в которых вынуждены действовать другие».
То, что такие агенты могут быть подчинены процессу демокра-
тической совещательности, не сможет замаскировать неэгали-
тарный характер этого процесса. Как показано в главе 3, изъ-
ятие полномочий по принятию решений у миллионов инди-
видов, действующих в рамках рынка и гражданского общества,
приводит к централизации власти в руках горстки политических
представителей, которые не будут обладать достаточным знани-
ем, чтобы отражать ценности и интересы тех, кого они якобы
«представляют».
1 В этом, разумеется, и состоит суть аргумента Нозика (Nozick, 1974;
Нозик, 2008), когда он отмечает, что социалистические схемы распределе-
ния хотя и претендуют на то, что они «расширяют права» рабочих, на деле
они неизбежно будут «запрещать капиталистические акты между совершен-
нолетними, совершенные по взаимному согласию».
216 Часть I. Вызовы классическому либерализму
Проблема стимулов
и социальная справедливость
До сих пор наш анализ был сфокусирован на «проблеме знания»
и на том, как она может ограничивать робастность эгалитарист-
ских принципов по сравнению с классической либеральной аль-
тернативой. Но теперь должен быть задан очередной набор во-
просов с точки зрения робастной политической экономии, ко-
торый относится к важной роли стимулов. В частности теория
Ролза признает в явном виде, что социальная рамочная струк-
тура не должна возлагать на людей излишнего «бремени обяза-
тельств». Таким образом, признание того, что только «мир, на-
селенный святыми», смог бы выдержать избыточное личност-
ное бремя, может рассматриваться как свидетельство в пользу
идеи, что «стимулы имеют значение». Однако с классической ли-
беральной точки зрения оно представляет собой отказ рассма-
тривать всерьез вопрос об обеспечении адекватных стимулов,
что может еще больше ограничить применимость эгалитарист-
ских теорий справедливости.
Стимулы и обособленность личностей
Один из наиболее важных аспектов, в котором эгалитаристская
этика явно недооценивает стимулы, связан с вопросами собст-
венности, и в частности собственности на таланты и другие пре-
имущества, специфичные для отдельных личностей. Предпо-
ложение, что личные таланты следует рассматривать как часть
«общего актива», решения о распределении которого должны
приниматься в соответствии с применением «принципа разли-
чия» (Ролз), или что генетические ресурсы следует перераспре-
делять поровну, следуя оценкам гипотетического страхового
рынка (Дворкин), не придает достаточного веса идее «самопри-
надлежности» [self-owbership]. Аналогичный аргумент может
быть выдвинут против модифицированного теста Милля (Янг),
который запрещает людям получать выгоду от использования
ресурсов, талантов и способностей, если про него можно ска-
зать, что оно некоторым образом «детерминирует условия, в ко-
торых вынуждены действовать другие».
Разумеется, это входило в намерения эгалитаристов, по-
скольку сам замысел их мысленного эксперимента с обществен-
ным договором, особенно в случае Ролза, состоит в том, чтобы
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 217
преодолеть пренебрежение «обособленностью личностей», ха-
рактерное для утилитаризма. С точки зрения Ролза, последний
повинен в том, что рассматривает людей всего лишь как средст-
во для достижения различных «общественных» целей. В повсед-
невной жизни люди все время производят свои личные расче-
ты выгод в сравнении с издержками — например, когда решают
пойти на одну работу, а не на другую. Но утилитаризм распро-
страняет принцип компромиссов между разными целями и оцен-
ками в рамках жизни одной личности на случай, когда эти цели
и оценки относятся к жизни разных людей, и тем самым отка-
зывается уважать отдельность индивидуальных агентов. В част-
ности высокая степень неравенства в доходах порой считается
«ценой, которую стоит заплатить» за повышение среднего уров-
ня богатства в масштабах общества. Согласно Ролзу, такой под-
ход возлагает чрезмерное бремя на «наименее благополучные»
социальные группы и «принцип различия» предлагается в каче-
стве более справедливой альтернативы, совместимой с представ-
лением об обществе как о «совместном предприятии во имя вза-
имной выгоды». Однако Ролз, похоже, не осознает, что «прин-
цип различия» сам по себе может налагать чрезмерное бремя на
людей, и в частности на тех, кому дано больше с точки зрения
генетики, личностных качеств и социального происхождения.
Применение принципа различия подразумевает, что характери-
стики более благополучных должны использоваться как простой
инструмент максимизации положения наименее благополучных.
В той мере, в какой более благополучные вообще будут получать
вознаграждение в виде более высокого дохода в обмен на приме-
нение их талантов, им будет разрешено получать этот доход лишь
в том случае, если это улучшит положение наименее обеспечен-
ного класса (см., например, Nozick, 1974; Нозик, 2008; Lomasky,
2005; Schmidtz, 2005).
Конечно, Ролз не осмысливает этот вопрос в таком ключе,
потому что с его позиции распределение талантов и других даро-
ваний является «произвольным с моральной точки зрения». За-
щита «принципа различия» в качестве способа коррекции «ес-
тественной лотереи» вытекает из утверждения: «То, что некото-
рые должны иметь меньше, чтобы остальные процветали, может
быть и рационально, но не справедливо» (Rawls, 1971: 15; Ролз,
2010: 28). Ролз развивает эту мысль: «Когда общество рассматри-
вается как система кооперации, предназначенная увеличивать
благо своих членов, кажется совершенно невероятным ожидать,
218 Часть!. Вызовы классическому либерализму
что некоторые граждане, исходя из политических принципов, со-
гласятся на худшие жизненные перспективы для себя ради дру-
гих» (Rawls, 1971: 178; Ролз, 2010: 158).
Конечно, можно согласиться с Ролзом, что люди не «заслужи-
ли» своих талантов и других характеристик, с которыми они ро-
дились, и что случайное распределение преимуществ и недостат-
ков не является «ни справедливым, ни несправедливым» (Rawls,
1971: 102; Ролз, 2010: 98). Однако из этого не следует, что такое
распределение должно быть подвергнуто некоему процессу «кор-
рекции» того рода, который имеет в виду Ролз. Как доказывает
Шмидц (Schmidtz, 2005: 165), ни один представитель человече-
ского рода не подтасовывает результаты этой естественной лоте-
реи таким образом, чтобы «некоторые имели меньше, а осталь-
ные вследствие этого процветали» или чтобы одни «согласились
на худшие жизненные перспективы ради других». Так, он пишет:
«Когда младенец рождается с поврежденным позвоночником, это
происходит не для того, чтобы здоровые младенцы могли про-
цветать. Когда оказывается, что следующий родившийся младе-
нец не нуждается в особом уходе, это происходит не за счет пре-
дыдущего младенца. Естественная лотерея не является игрой
с нулевой суммой» (Schmidtz, 2005: 167).
Напротив, утверждения Ролза, по-видимому, подразумевают,
что для тех, кого естественная лотерея наделила меньшими да-
рами, было бы некотором образом лучше, если бы вообще ни-
кто не рождался с талантами и способностями, благоприятству-
ющими процветанию. Но если бы первоначальным намерением
было распределить таланты так, чтобы «остальные процветали»,
то надо было бы распределять больше талантов, а не меньше
(Schmidtz, 2005: 166). Само по себе наличие талантов и способ-
ностей у некоторых людей уже улучшает перспективы тех, кто не
столь одарен, так как порождает возможности для взаимовыгод-
ного обмена. По сути дела, теория Ролза подразумевает, что те,
кто оказывается в числе наименее благополучного класса, долж-
ны получить выгоду дважды: сначала за счет более высокого уров-
ня жизни в обществе, возникающего вследствие того, что в нем
есть по крайней мере некоторое количество талантливых людей,
решивших применить свои способности, а затем за счет приме-
нения «принципа различия», который наделяет их правом на по-
лучение дополнительной доли выгод от этого процветания.
С этой точки зрения, хотя можно согласиться, что люди ни-
чего не сделали, чтобы «заслужить» свои природные дарования,
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 219
тем не менее полагать, что их решения по поводу того, как ис-
пользовать эти таланты, также «произвольны с моральной точ-
ки зрения», означает не уважать отдельность каждой личности —
и это может дестимулировать людей в том, что касается развития
их талантов в направлении большей производительности. По су-
ществу подход Ролза трактует способности людей как элемент
основного капитала, который должен быть потреблен так, чтобы
максимизировать преимущества самых неблагополучных. Одна-
ко, как и в случае других ресурсов, находящихся в режиме «обще-
го котла» или «открытого доступа», такой подход может оказать-
ся не в состоянии «интернализировать экстерналии» и будет по-
ощрять склонность к «безбилетному» поведению. Зачем людям
развивать свои способности, если они не имеют возможности не
допустить других к присвоению выигрыша от таких инвестиций?
С классической либеральной точки зрения таланты и способ-
ности не эквивалентны «манне небесной» — ресурсу, по поводу
которого люди вынуждены принимать решения, как его потре-
блять. Скорее уж такие способности являются тем, с чем люди
приходят за стол переговоров, и их решение развивать способно-
сти является чистым вкладом в общественный продукт, для про-
изводства которого требуются условия, в которых наличеству-
ют соответствующие личные стимулы (Schmidz, 2005; 171 — 172).
В той мере, в какой Ролз готов поощрять производителей, допу-
ская проявления неравенства, приводящие к улучшению положе-
ния наименее благополучных в абсолютном выражении, обеспе-
чение таких стимулов рассматривается как уступка более благо-
получным. Но именно потому, что подход Ролза рассматривает
способности более благополучных как часть содержимого обще-
го котла, от которой они не вправе получать выгоду, он не смо-
жет поощрять их к тому, чтобы они участвовали в полную силу
в том, что предположительно является совместным обществен-
ным предприятием1.
1 Следует признать, что желание Ролза сделать эту «уступку» является
сравнительным достоинством его теории, которая выигрывает в сравнении
с более крайним эгалитаризмом таких теоретиков, как Коэн (Cohen, 1995).
Согласно Коэну, признание того, что людям могут потребоваться личные
стимулы для того, чтобы они действовали таким образом, чтобы повышать
общий уровень жизни, по сути дела равносильно некоей форме институцио-
нализированной аморальности. Для Коэна ничто, кроме абсолютного равен-
ства долей, не совместимо с требованием, чтобы люди «максимально полно
реализовывали свою природу» (Cohen, 1995:396).
220 Часть I. Вызовы классическому либерализму
Подобные же проблемы возникают и в случае прочих теоре-
тических систем, рассматривающих личные дарования как часть
содержимого общего котла. Например, предложение Дворкина
о компенсации влияния «слепой удачи» путем налогообложения
талантливых ради обеспечения равенства ресурсов создает срав-
нительно мало стимулов к тому, чтобы люди обнаруживали себя
в качестве обладателей талантов и способностей. Дворкин, в от-
личие от Ролза, не считает, что решения усердно трудиться или
применять собственные таланты являются «произвольными»,
но его стремление рассматривать генетические дарования как
коллективный ресурс, за который талантливые люди должны по
сути дела платить «выкуп», чтобы получить право на более вы-
сокий доход, вряд ли будет поощрять последних к добровольно-
му сотрудничеству. Это тем более так, учитывая чрезвычайную
трудность определения того, какая часть достижений человека
является следствием его личных решений проявлять имеющие-
ся у него таланты и активно их развивать, а какая часть есть про-
сто-напросто результат врожденных способностей. Как отмеча-
лось выше (с. 195), имеющееся у людей знание в отношении соб-
ственных талантов и дарований не «дано» им заранее, т.е. прежде
чем они предпримут какие-либо действия, но обнаруживается
ими в ходе конкретных действий и актов выбора, совершаемых
на протяжении их жизни. Следовательно, невозможно отделить
выигрыш, полученный человеком вследствие «слепой удачи», от
выигрыша, полученного вследствие «удачи благодаря выбору»,
которая проявляется в процессе проактивного открытия для се-
бя собственных талантов. С точки зрения классического либера-
лизма несклонность людей к обнаружению своего действитель-
ного уровня «обеспеченности ресурсами» в подобных условиях
не обязательно является отражением некоего их моральный де-
фекта, а может проистекать из того факта, что схема Дворкина
трактует активы талантливых людей как средство получения вы-
игрыша для менее способных, а не как подлежащий процедуре
открытия и требующий независимого признания вклад в обще-
ственный продукт.
Предлагаемый Янг модифицированный тест Милля согласу-
ется с обеспечением стимулов ничуть не лучше. В ее системе прио-
бретение богатства талантливыми людьми будет представлять со-
бой действие, «детерминирующее условия, в которых вынуждены
действовать другие агенты». Например, если кто-нибудь разовь-
ет предпринимательские навыки, которые дадут ему возможность
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 221
получить контроль над большей долей ресурсов, чем контроли-
рует средний человек, то можно будет сказать, что само приме-
нение этих навыков не позволяет менее талантливым занять эк-
вивалентную по статусу и влиянию позицию. Поэтому контроль
над соответствующими активами следует подчинить процедурам
демократии участия. Подобным же образом, если лицо, обладаю-
щее атлетическими способностями, решит развить свое спортив-
ное мастерство в максимально возможной степени, то это может
стать действием, отбивающим у менее атлетически одаренных же-
лание заниматься состязательным спортом ввиду минимальных
перспектив заслужить такой же статус и уважение. Хотя из по-
строений Янг не ясно, какие перераспределительные меры бы-
ли бы уместны в таких случаях, совершенно очевидно, что пра-
ктически любые меры, которые могли бы предпринять люди для
обеспечения им сравнительно выгодной позиции, сделают их уяз-
вимыми для политического манипулирования. Вследствие этого
у людей не будет определенности в отношении ресурсов, которые
им будет дозволено оставить у себя, и у них будет мало стимулов
к тому, чтобы инвестировать в те виды деятельности, которые мо-
гут сделать их заметно выделяющимися на общем фоне.
Стимулы и собственность
Отсутствие стимулов к тому, чтобы индивиды вносили свой
вклад в качестве производителей, причиной которого может
стать трактовка их личных активов как части содержимого об-
щего котла, находит отражение и в том, как эгалитаристские те-
ории относятся к присвоению внешних ресурсов и частей мира
природы. Например, в теориях, подобных разработанной Двор-
киным, идея равенства долей коренится в самом характере мы-
сленных экспериментов, представляющих людей прибывшими
одновременно в определенное место и стоящими перед необхо-
димостью решить, как распределить доступные «ничьи» ресур-
сы между соответствующими участниками. Классический либе-
рализм не оспаривает представление, что «равные доли» могут
быть уместным в таких обстоятельствах предположением. Он
ставит под вопрос применимость и робастность такого прин-
ципа в большинстве ситуаций, имеющих место в «реальном ми-
ре», где люди не прибывают одновременно в одно и то же ме-
сто и где у ресурсов обычно уже есть владельцы с разной истори-
ей и различными сопутствующими обстоятельствами. Попросту
222 Часть I. Вызовы классическому либерализму
говоря, если результаты усилий людей будут восприниматься
как часть некоего общего актива, подлежащего распределению,
то у них не будет стимулов использовать и наращивать ресурсы
производительным образом. Как показывает Шмидц (Schmidtz,
2006: 152—157), если люди прибывают в разные места и в разное
время, то более уместно принять принцип «первого владения».
Это правило предоставляет тому, кто первым использовал «бес-
хозный» ресурс, гарантированную возможность инвестировать
в расширение своего производственного потенциала, зная с уве-
ренностью, что у него будет возможность пожать плоды своих
усилий. Такого рода нормы права собственности побуждают лю-
дей открывать новые ресурсы, поощряют производительность
и могут способствовать минимизации споров, обеспечивая яс-
ный набор ожиданий.
Эгалитаристские теоретики обычно отвергают этот прин-
цип первого владения на том основании, что он нарушает так
называемую «оговорку Локка», которая утверждает, что частное
присвоение природных ресурсов правомерно только тогда, когда
соответствующие присваивающие лица оставляют «достаточное
количество и того же самого качества для всех остальных». На-
пример, Кимлика (Kymlicka, 1990: 115—177; Кимлика, 2010: 157—
161) утверждает, что акты первичного присвоения сужают набор
вариантов, доступных тем, кто не имеет возможности присваи-
вать ресурсы, и что жизненные шансы людей не должны опре-
деляться «произволом, свойственным доктрине „кто первым
пришел — тот первым обслуживается"». Следовательно, соглас-
но точке зрения Кимлики, принцип равных долей может пред-
ставлять собой более честную процедуру, поскольку он уравнива-
ет шансы на то, что каждый будет сам определять свою жизнь. Он
утверждает, что альтернативные формы владения, включая раз-
личные сочетания коллективной и общей собственности, долж-
ны рассматриваться по крайней мере как жизнеспособная аль-
тернатива неограниченному частному присвоению. Можно пред-
положить, что такие теоретики, как Янг, согласились бы с этим
подходом на том основании, что частное присвоение собствен-
ности может «детерминировать условия, в которых вынуждены
действовать другие агенты».
Однако совершенно неочевидно, что эти аргументы столь од-
нозначно перевешивают принцип «кто первый пришел — первым
обслуживается». С одной стороны, хотя «пришедшие позже» дей-
ствительно не получают равной доли с бенефициарами правила
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 223
первого владения, ошибочно утверждать, что у тех, кто не смог
присвоить ресурсы, набор вариантов стал более узким в том смы-
сле, в каком это предполагает Кимлика. Как объясняет Шмидц
(Schmidtz, 2006: 150—167), в условиях редкости ресурсов оговор-
ка Локка может потребовать именно частного присвоения. Не-
допущение частного присвоения активов и поддержание режи-
ма «открытого доступа» уменьшает множество доступных людям
возможностей, поскольку в отсутствие четко определенных прав
собственности нарушаются стимулы к сбережению и расшире-
нию запаса ресурсов, так как другие могут вести себя как «без-
билетники». В общем случае благодаря действиям тех, кто име-
ет возможность первоначально присвоить собственность, те,
кто пришел позже, оказываются в намного более благоприят-
ной ситуации, и им становится доступно гораздо большее число
вариантов (Schmidtz, 2006; 156). Сегодняшнее богатство во мно-
гом обязано своим существованием тому, что предыдущие по-
коления предпринимали инвестиции, способствующие процве-
танию. Именно тот факт, что у людей есть уверенность в защи-
щенности своей собственности, поощряет их к таким действиям,
которые в будущем расширяют набор доступных вариантов дей-
ствий для тех, кто не имеет возможности осуществить первона-
чальное присвоение (см. также Feser, 2005: 77). Если не допуска-
ется, чтобы люди оставляли у себя выигрыш от своих усилий, то
они вместо того, чтобы рассматривать пришельцев и иммигран-
тов как потенциальных партнеров по совместному предприятию,
скорее начнут воспринимать их как враждебный фактор, несу-
щий в себе угрозу эксплуатации, который следует по возможно-
сти минимизировать.
Вторая трудность, связанная с аргументами, подобными выд-
винутым Кимликой, состоит в том, что они сталкиваются как раз
с теми проблемами, которые якобы свойственны аргументации
в пользу частного присвоения. А именно, чтобы предложения
о смешанной или полуобщинной собственности, выдвигаемые
Кимликой, были работоспособными, они сами требуют прави-
ла первого владения. Доводы в пользу этого правила не предпо-
лагают, что те, кто присваивает собственность, являются атоми-
зированными индивидами без каких-либо социальных взаимоот-
ношений. Люди могут присваивать собственность коллективно
в качестве членов социальных групп, изобретать различные ком-
бинации частного и общинного владения и различные прави-
ла распределения в качестве наиболее подходящего способа
224 Часть I. Вызовы классическому либерализму
решения тех проблем распределения ресурсов, с которыми они
сталкиваются. Но ключевой момент состоит в том, что разные
группы людей прибывают на место в разные моменты времени,
и чтобы какая бы то ни была структура собственности функцио-
нировала эффективно, те, кто начал разработку ресурса, будь то
индивидуально или коллективно, должны иметь возможность не
допустить до его использования тех, кто не участвовал в перво-
начальном предприятии (Feser, 2005: 68). Люди будут не склон-
ны наращивать доступные запасы ресурсов, если другие индиви-
ды и группы смогут впоследствии претендовать на часть их богат-
ства. Поэтому правило первого владения для случаев общей или
групповой собственности может быть не менее важным, чем для
более индивидуализированных структур собственности1.
Разумеется, можно возразить, что некоторые люди не хотят
получать выгоду от наращивания запаса ресурсов, предпочитая
жизнь, не обремененную значительным материальным имуще-
ством. Если смотреть через эту призму, то желание эксплуати-
ровать природные ресурсы ради увеличения производства ка-
питала и других благ не может служить законным основанием
для оправдания присвоения собственности на основании перво-
го владения. В этой связи, однако, следует отметить два момен-
та. Во-первых, существование материального неравенства между
индивидами и группами, на котором сосредоточена эгалитарист-
ская теория, в таких случаях, по-видимому, не является реальной
проблемой, поскольку люди, о которых идет речь, не придают
ценности имеющимся у них возможностям для улучшения мате-
риального положения и, как можно предположить, не будут воз-
ражать против того, что их кто-то «обогнал», — хотя им вполне
может не нравиться жить в окружении других людей, чьи цен-
ности более материалистичны. Во-вторых, в той мере, в какой
некоторые люди желали бы сохранять существующий запас ре-
сурсов, а не использовать его для создания капитала, они тоже
1 Сотни исследований конкретных случаев «режимов общей собственно-
сти», проведенные Элинор Остром и ее коллегами, показывают, что, хотя
соглашения по поводу норм распределения внутри групп (такие как опла-
та в соответствии с результатами или размещение ресурсов на основе ло-
терей) могут давать им возможность преодолевать проблемы, связанные
с коллективными действиями, крупномасштабное перераспределение на
уровне страны из-за отсутствия общих норм честности зачастую активизи-
рует межгрупповые конфликты и тем самым порождает процессы с нулевой
и с отрицательной суммой (см., например, Ostrom, 1990, 2006; Остром, 2010).
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 225
могли бы выиграть от принятия правила первого владения. Аль-
тернативой ему было бы сохранение ресурсов в состоянии «бес-
хозности». Однако это обеспечивало бы для акторов, заботящих-
ся о сохранении природы, не больше гарантий, чем для кого бы
то ни было еще, так как в отсутствие четких правил, определяю-
щих, кто и чем владеет, у тех, кто хочет использовать ресурсы для
увеличения материального потребления, оказались бы развяза-
ны руки для совершения актов ничем не ограничиваемого раз-
грабления (Stroup, 2005).
Таким образом, с точки зрения институциональной робастно-
сти несостоятельными являются не аргументы в пользу «общего
владения», понимаемого как структура, предназначенная для вы-
полнения определенных задач в сфере производства или сохране-
ния природных ресурсов, а представление, что ресурсы в целом
должны рассматриваться как «общие активы человечества» и что
всем людям в силу самого факта их существования должно быть
предоставлено равное право на определенную долю. В таких об-
стоятельствах сама идея собственности и связанных с ней выгод
лишается всякого содержания. Как подчеркивает Фезер (Feser,
2005: 62), непонятно, как можно говорить, что человек «владеет»
чем-либо, если никто в принципе не ограничен в праве предъя-
вить свои требования на эту вещь. Если все являются собственни-
ками ресурса, то никто не является его собственником и теряет-
ся весь выигрыш от интернализации издержек, который обычно
приносит право собственности. Независимо от того, преследу-
ют ли люди производственные цели или цели, связанные с со-
хранением природных ресурсов, отсутствие возможности исклю-
чения доступа других и получения выигрыша от своих собствен-
ных решений ликвидирует стимул к тому, чтобы люди брали на
себя ответственность за свои действия. Все сказанное не означа-
ет отрицания того, что вопрос о том, в чем состоит «первое вла-
дение», порождает реальные проблемы: например, должны ли
люди для признания за ними титула собственности использо-
вать ресурс определенным образом или простого их присутствия
в определенной области достаточно, чтобы удовлетворить требо-
ваниям первого владения? Но основная мысль заключается в том,
что правила именно такого типа, как правило первого владения,
могут обеспечить людям большую защищенность и стимулы к то-
му, чтобы принимать на себя ответственность за свои действия,
а правила, предполагающие ту или иную форму универсальной об-
щей собственности, этого не могут.
226 Часть I. Вызовы классическому либерализму
В связи с вышесказанным следует отметить, что ограничения,
которыми обременена универсальная общая собственность, все
чаще признаются даже некоторыми представителями самой эга-
литаристской традиции. В частности Ролз в своей более поздней
работе высказал предположение, что принцип различия непри-
меним для анализа взаимоотношений в международном масшта-
бе (Rawls, 1999). Согласно Ролзу, «справедливость как честность»
уместна в ситуациях, когда люди «согласны разделить общую
судьбу» (Rawls, 1971: 102). Иными словами, если люди имеют друг
с другом глубокие и длительные взаимоотношения, то для них
может оказаться возможным подписаться под жесткими мораль-
ными принципами, регулирующими вопросы распределения ре-
сурсов. Когда же отношения между социальными акторами бо-
лее редки и поверхностны, ожидание от них приверженности
общим распределительным нормам может означать, что на них
возлагается запредельное «бремя обязательств»1. Таким образом,
Ролз разошелся с теми из своих последователей, кто настаивает,
что последовательное применение эгалитаристских принципов
требует перераспределительной политики, имеющей межнаци-
ональный и даже глобальный охват (см., например, Pogge, 2002).
С точки зрения робастной политической экономии дейст-
вительно нереалистично утверждать, что различия в богатстве
между странами должны оцениваться на основе общего распре-
делительного принципа. В мире, характеризуемом культурным
и политическим разнообразием, по-видимому, неразумно требо-
вать, чтобы люди несли ответственность за распределительный
паттерн, возникающий в результате действий других людей, с ко-
торыми они могут мало контактировать или вообще не контак-
тировать лично и которые могут руководствоваться иным набо-
ром социальных и культурных приоритетов, проистекающим из
иного исторического опыта. Например, почему члены обществ,
разделяющих нормы, способствующие производству богатства,
должны быть обязаны в порядке осуществления справедливости
передавать средства людям, живущим в культурной среде, не спо-
собствующей такому процветанию? Конечно, ради облегчения
людских страданий можно стремиться поощрять пожертвования
в пользу менее процветающих частей мира, но из этого не сле-
дует, что в порядке осуществления требований справедливости
1 Подробное обсуждение взглядов Ролза по этому вопросу см. в Lomasky,
2005.
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 227
должна принудительно обеспечиваться определенная сумма по-
жертвований. Если бы такое требование было внедрено на пра-
ктике, то у людей стало бы меньше стимулов увеличивать свое
богатство выше среднего уровня, поскольку это сразу же сдела-
ло бы их имущество объектом перераспределения. В то же время
у тех, чье богатство ниже среднего, если бы им предоставлялись
дополнительные ресурсы в порядке реализации политического
права, было бы мало стимулов к изменению культурных и поли-
тических практик, дестимулирующих производство богатства.
В той мере, в какой общие нормы справедливости могут по-
лучить поддержку людей с очень разным культурным и историче-
ским багажом, эта поддержка скорее всего будет ограничиваться
преимущественно «негативными» нормами, такими как запрет
насилия и воровства, и не будет включать в себя «позитивную»
приверженность конкретному целевому состоянию в сфере рас-
пределения. Таким образом, аргументация в данном случае ана-
логична той, которая приводилась при обсуждении социального
капитала, чему была посвящена предыдущая глава. Когда люди
различаются по своей культуре, религии и иным аспектам иден-
тичности, нет никаких шансов на то, что они придут к соглаше-
нию по поводу норм, регулирующих распределение. В таких си-
туациях для минимизации возможных конфликтов и поддержки
развития «связывающих» взаимоотношений требуется более
«разреженный» набор моральных норм — таких как терпимость
к другим и стремление соблюдать условия договоров, — которые
могли бы соблюдаться людьми, в остальном придерживающими-
ся различающихся и даже конфликтующих друг с другом мораль-
ных кодексов.
Признание того, что требования справедливости в ситуаци-
ях, когда люди имеют меньше контактов с другими контраген-
тами и меньше знания о них, будут более «разреженными», оче-
видным образом уместно, когда речь идет о вопросах, имеющих
международный масштаб. Однако не менее важно то, что подоб-
ные же соображения применимы и в контексте современно-
го национального государства. В большинстве случаев отноше-
ния, в которые люди вступают со своими соотечественниками
в развитых странах, являются такими же безличными и ничуть
не более эмоциональными, чем отношения с теми, кто находит-
ся в географически более удаленных частях света. Применитель-
но к крайне мобильным и мультикультурным массовым общест-
вам, каковые в основном характерны для развитой части мира,
228 Часть I. Вызовы классическому либерализму
предположение о том, что посторонние друг другу люди согла-
сились бы «разделить общую судьбу», став приверженцами об-
щего набора распределительных норм, явно притянуто за уши
(Lomasky, 2005, 2007). Таким образом, эгалитаристские критики
Ролза правы, когда подчеркивают его непоследовательность, со-
стоящую в поддержке принципа различия в рамках националь-
ных границ при одновременном отрицании его применимости
на международной арене. В чем эти критики ошибаются, так это
в том, что решительно настаивают на разработке общих норм
справедливости на глобальном уровне. С точки зрения классиче-
ского либерализма более робастным способом разрешения про-
тиворечия, содержащегося в позиции Ролза, является призна-
ние того, что не должно быть никакой специальной политики,
направленной на достижение какого-либо конкретного целево-
го состояния в сфере распределения, будь то на национальном
или на общемировом уровне (см., например, Kukathas, 2006). По-
пытки силой навязать распределительные исходы на макросо-
циетальном уровне скорее всего будут усиливать конфликтность
и превращать отношения между более или менее чужими друг
другу людьми из игры, потенциально имеющей положительную
сумму, в игру с нулевой или даже отрицательной суммой.
Заключение
Эгалитаристские аргументы представляют собой, вероятно, на-
иболее важный теоретический вызов политической экономии
классического либерализма, а в практической сфере по-преж-
нему предоставляют наиболее часто приводимое обоснова-
ние для перераспределительных мер, принимаемых современ-
ными государствами. Несмотря на то что эти аргументы прихо-
дится слышать очень часто, основной тезис этой главы состоит
в том, что классические либеральные институты, вероятно, луч-
ше подходят для разрешения дилемм, связанных с вопросами со-
циальной справедливости. Система минимального государства,
подкрепляемая принципом «невмешательства», способна созда-
вать условия для этического научения в ходе конкуренции меж-
ду разными наборами распределительных норм; она позволя-
ет индивидам и общинам многими разнообразными путями на-
ходить компромиссы между целями, характерные для проблем
распределительной справедливости; и, наконец, она способ-
на избежать возникновения неэгалитарной структуры власти,
Глава 5. Равенство и социальная справедливость... 229
в которой один актор или группа акторов имеет возможность
навязать остальным приверженность некоторому конкретно-
му распределительному идеалу. Более того, рамки минимально-
го государства могут обеспечить стимулы, необходимые для то-
го, чтобы индивиды и добровольные объединения несли полую
ответственность за распределительные нормы, которым они ре-
шают следовать. Напротив, эгалитаристские теории исходят из
допущения, что знание о том, чего требует справедливость, яв-
ляется или может являться «данностью» для одного актора или
группы акторов, и они уделяют недостаточно внимания роли
стимулов. Следовательно, по сравнению с классическим либера-
лизмом, предлагаемые эгалитаристами институты не удовлетво-
ряют требованиям робастной политической экономии.
Масть II
КЛАССИЧЕСКИЙ
ЛИБЕРАЛИЗМ
И БУДУЩЕЕ
ПУБЛИЧНОЙ
ПОЛИТИКИ
Глава б
ПОМОЩЬ БЕДНЫМ И ПУБЛИЧНЫЕ
УСЛУГИ: СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
ИЛИ МИНИМАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО?
Введение
В части I настоящей книги принципы робастной политической
экономии были применены для анализа и опровержения важ-
нейших возражений против классического либерализма, воз-
никших в рамках экономической и политической теории. Те-
перь, в части II, мы переходим к практическим выводам из этого
анализа применительно к трем областям, которые оказались са-
мыми невосприимчивыми к доводам классического либерализ-
ма. Это социальное государство, международное развитие и за-
щита окружающей среды. В первой главе части II эти темы рас-
сматриваются в связи с социальным государством.
Помощь бедным в развитых экономиках и предоставление
«публичных услуг» [public services] сегодня рассматриваются в ка-
честве существенных функций демократически избираемого пра-
вительства. С точки зрения критиков классического либерализ-
ма, этот отход от принципа невмешательства в гражданское об-
щество был всецело прогрессивным изменением. В этой связи
предложения о расширении добровольной деятельности и част-
ных рынков подвергаются критике по экономическим и мораль-
ным соображениям. Экономисты указывают на «провалы рын-
ка», связанные с динамикой, характерной для общедоступных
благ, и с информационной асимметрией, которые, по их мнению,
препятствуют эффективному функционированию рынков в та-
ких областях, как образование и здравоохранение. В то же вре-
мя политические теоретики утверждают, что даже если доводы
в пользу классического либерализма, основанные на соображе-
ниях эффективности, смогут подтвердить свою обоснованность,
такой подход, будучи неспособным справляться с проблемами со-
циальной солидарности и распределительной справедливости,
приведет к перенапряжению социальной ткани.
В данной главе проводится сопоставление классической ли-
беральной альтернативы современному социальному государству
234 Часть И. Классический либерализм и будущее...
и соперничающих с ней концепций на основе принципов робаст-
ной политической экономии. Сосредоточившись на «проблемах
знания» и вопросах совместимости стимулов, результаты данного
анализа опровергают как экономические, так и моральные дово-
ды в пользу институтов социального государства. Сначала форму-
лируются центральные принципы, определяющие классическую
либеральную точку зрения на то, какие надлежащие институцио-
нальные решения подходят для решения задачи снижения уровня
бедности и для предоставления услуг образования и здравоохра-
нения. В последующих трех разделах выстраивается защита клас-
сического либерального подхода от возражений, вытекающих из
экономической теории «провалов рынка», а также из коммунита-
ристского и эгалитаристского вариантов политической теории.
Помощь бедным и публичные услуги:
классическая либеральная точка зрения
Классический либерализм и помощь бедным
Аргументы в пользу социального государства часто излагаются
в терминах необходимости перераспределительного аппарата
для того, чтобы уменьшить распространенность бедности. Од-
нако классический либерализм утверждает, что самым верным
способом искоренения бедности служит поддержание такой си-
стемы, которая обеспечивает высокий уровень экономическо-
го роста и по ходу дела порождает более высокооплачиваемые
формы занятости для всех групп общества, — системы, которую
может поставить под угрозу чрезмерная сосредоточенность на
перераспределительном вмешательстве государства. Признавая,
что некоторые индивиды и группы могли бы пожелать обменять
выгоды экономического роста на большее социальное равенст-
во1, классический либерализм настаивает, что в реальности не
1 Недавний пример подобной точки зрения, согласно которой равенст-
во, хотя и не обязательно приносит результаты в смысле большего процве-
тания, имеет тенденцию содействовать другим аспектам хорошего общества,
таким как более низкий уровень преступности, лучшее психическое здоро-
вье и большее счастье, см. в работе Wilkinson and Pickett (2009). Детальный
критический разбор доказательств, на которые опирается эта точка зрения,
и аргументацию, показывающую, что между равенством и этими переменны-
ми имеется минимальная корреляция (если она вообще существует), можно
найти в Snowdon (2010).
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 235
существует возможности для такого размена или компромисса.
Ключевыми для такого компромисса являются вопросы, связан-
ные с «проблемой знания» и согласованностью стимулов, кото-
рые задают структуру робастной политической экономии, при-
менявшуюся в части I.
С точки зрения классического либерализма одна из наибо-
лее важных функций конкурентного рынка состоит в передаче
ресурсов в руки тех, кто с наибольшими шансами будет произво-
дить добавочную ценность. Однако знание о том, какие индиви-
ды и группы в наибольшей степени способны генерировать до-
полнительное богатство, не «дано» некоему центральному органу,
но возникает посредством процесса конкуренции, в ходе которо-
го решения о покупке и продаже, принимаемые многочисленны-
ми рассредоточенными акторами, постоянно меняют распреде-
ление капитала и социальные позиции. Конечно, ресурсы могут
быть получены в результате случайных открытий, а люди могут
обладать ценными навыками благодаря определенному социаль-
ному и культурному наследству, а не каким-то «усилиям» с их сто-
роны. Однако важно то, чтобы те, кто в силу тех или иных причин
в большей степени способен увеличивать ценность, имели воз-
можность получать в свое распоряжение большую долю ресурсов,
поскольку это позволит повышать общий уровень жизни. В той
мере, в какой перераспределение доходов изменяет этот паттерн,
оно может ухудшать результаты, передавая активы экономически
менее компетентным агентам. Это не означает, что перераспре-
деление не может непосредственным образом способствовать по-
вышению уровня жизни самых бедных. Нет, основная мысль за-
ключается в том, что за это приходится платить цену в виде по-
терянных возможностей для стабильного долгосрочного роста.
Уровень жизни всех страт общества в перспективе скорее всего
будет ниже, чем мог бы быть в отсутствие действий, уменьшаю-
щих запасы капитала в руках успешных акторов в текущий момент.
Хотя экономический рост имеет фундаментальное значение
для уменьшения бедности, из этого не следует, что для сознатель-
ных усилий, облегчающих положение бедных в определенных
конкретных случаях, места нет. Даже в успешной экономике лю-
ди могут оказаться нуждающимися в помощи из-за потери рабо-
ты, преклонного возраста, болезни или увечья. Однако класси-
ческий либерализм утверждает, что более робастным способом
решения этих проблем скорее всего окажутся добровольные дей-
ствия, а не принудительные программы «социальной помощи»
236 Часть И. Классический либерализм и будущее...
[welfare], финансируемые из налогов. Исторически одним из на-
иболее важных механизмов помощи бедным было создание объ-
единений взаимопомощи. «Общества взаимопомощи» [friendly
societies], кредитные союзы и страховые кооперативы представ-
ляли собой самоуправляемые образования, учреждавшиеся рабо-
тающими бедняками и финансировавшиеся ими самими посред-
ством малых взносов с целью обеспечения страховочной сетки
на случай возникновения жизненных трудностей (Green, 1993:30;
Грин, 2009: 66). Право на получение «пособия» [benefit] от обще-
ства взаимопомощи было производным от взносов, выплачивае-
мых в коллективный фонд, из которого человеку или его семье
в случае несчастья или серьезных трудностей могли производить-
ся выплаты. Хотя далеко не все люди были членами подобных
объединений, в эпоху, предшествующую социальному государст-
ву, большинство людей с низкими доходами не были брошены
«на собственное попечение» — в том, что касается предоставле-
ния пособия по безработице и обеспечения престарелых, они
полагались на добровольную коллективную деятельность. На-
пример, применительно к случаю Великобритании, Грин (Green,
1993: 54; Грин, 2009: 105) сообщает, что из 12 млн человек, под-
павших под действие закона 1911 г. об общенациональном стра-
ховании, по меньшей мере 9 млн уже были к тому времени члена-
ми дружеских обществ и страховых кооперативов (см. также Da-
vies, 1997; о США см. Beito, 1997).
Хотя потенциал взаимопомощи представляет собой важную
составляющую классического либерального подхода к облегче-
нию бедности, то же самое можно сказать и о благотворитель-
ных усилиях. Опять-таки исторические данные свидетельствуют,
что многие услуги, в настоящее время предоставляемые посред-
ством агентств, финансируемых из налогов, в прежнее время
оказывались добровольными объединениями. Например, в слу-
чае обеспечения жильем в Великобритании, благодаря предло-
жению жилья на благотворительной основе такими организаци-
ями, как Трест Пибоди [Peabody Trust] и Компания по улучше-
нию жилищных условий в промышленности [Improved Industrial
Dwellings Company, IIDC], людям с крайне низкими доходами
предоставлялись тысячи жилищных единиц. Кроме них, в этой
сфере действовали и другие организации, такие как Армия спа-
сения [Salvation Army] и Дома доктора Барнардо [Dr Barnardo's
Homes], которые удовлетворяли потребности детей и самых
бедных. Более того, зачастую именно инновации, внедренные
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 237
в деятельность этих добровольных организаций, приводили к со-
зданию новых «социальных» профессий, таких как социальный
работник, причем задолго до того, как государство стало предо-
ставлять эти услуги (Whelan, 2008; см. также Husock, 1997, об ана-
логичных явлениях в США).
Таким образом, классический либерализм ставит под сомне-
ние «универсальную» систему помощи бедным и отдает предпоч-
тение «мозаике», сочетающей различные формы взаимопомощи
и благотворительности и существующей параллельно с системой
институтов, обеспечивающих общий рост благосостояния. Цент-
ральным для классического либерализма является признание то-
го, что «решения» социальных проблем не «даны в готовом виде»
некоему единственному агентству. В контексте социальной по-
мощи и облегчения положения бедных этот подход применяется
к надлежащим принципам распределительной справедливости,
призванным определять понятия абсолютной и относительной
бедности, а также к механизмам, которые могли бы наилучшим
способом реализовывать то или иное конкретное понимание
требований этой справедливости. С точки зрения институци-
ональной робастности ключевое преимущество либеральной,
плюралистической системы заключается в том, что она позволи-
ла бы сосуществовать конкурирующим представлениям о распре-
делительной справедливости и о методах помощи бедным, а так-
же способствовала бы обучению через подражание по мере того,
как различные модели проходили бы конкурентную проверку ме-
тодом проб и ошибок. Чем более широкий спектр альтернатив-
ных методов помощи бедным осуществляется на практике, тем
больше шансов на то, что будут открыты и получат распростра-
нение наиболее успешные принципы. Государственные систе-
мы всеобщего социального обеспечения сокращают пространст-
во для экспериментирования и подавляют «процесс открытия»,
необходимый для выяснения того, какие «решения» проблемы
бедности действительно дают результат (Husock, 1997).
Второе преимущество добровольных форм коллективного
действия связано с темой стимулов, и в частности с проблемой
«риска недобросовестности» [moral hazard]. Хотя система, осно-
ванная на сочетании взаимопомощи и благотворительных по-
жертвований, не застрахована от таких проблем, она, вероятно,
подвержена им в меньшей степени. Предоставление средств объ-
единениями взаимопомощи тому или иному конкретному инди-
виду будет зависеть от уплаченных им денежных взносов в фонд
288 Часть И. Классический либерализм и будущее...
соответствующего объединения, а не вытекать из гарантирован-
ного государством «права» на получение помощи. Вследствие
этого у людей будут мощные стимулы к тому, чтобы стремиться
сохранить работу и наращивать сумму выплаченных взносов, что-
бы в случае потери трудоспособности соответствовать критери-
ям предоставления помощи. Что же касается благотворительной
помощи, отсутствие финансируемых государством гарантий бу-
дет поощрять реципиентов к поиску работы ввиду возможности
прекращения выплаты пособий. Напротив, предоставление госу-
дарством гарантированного минимума доходов может приводить
к уменьшению стимулов к участию людей в сфере труда и коммер-
ческого обмена — особенно это относится к тем, чья способность
зарабатывать ограничивается отсутствием соответствующих на-
выков (Schmidtz, 1998; Bergh, 2006; Shapiro, 2007) К
Фактические данные о помощи бедным
Эмпирические данные о том, насколько эффективны государст-
венные программы «борьбы с бедностью» по сравнению с более
либеральными альтернативами, довольно фрагментарны, но на-
коплено достаточно опыта, подтверждающего, что поддержи-
ваемое государством перераспределение доходов не есть необ-
ходимое условие искоренения бедности. Например, успехи, до-
стигнутые в последнее время такими обществами, как Гонконг,
имели место в условиях незначительного перераспределения до-
ходов или полного отсутствия такового. Из ситуации 50-х годов
XX в. когда огромное большинство населения относилось к ка-
тегории бедных, Гонконг переместился на позицию с уровнем
доходов, сопоставимым с существующим в «развитых» странах
с их гораздо более широкомасштабными системами перераспре-
деления доходов (Cowen, 2002). В то же время, если ограничить-
ся категорией давно сложившихся развитых стран, уровень бед-
ности в Швейцарии не сильно отличается от аналогичного по-
казателя для Швеции, хотя в последней действует гораздо более
щедрая система государственных пособий. Доля государствен-
ных расходов в валовом внутреннем продукте (ВВП) в Швеции
в среднем на 15—20% выше, чем в Швейцарии, однако значения
1 Подробный анализ дестимулирующих эффектов государственного со-
циального обеспечения в условиях шведского социального государства см.
в Bergh, 2006.
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 239
показателей уровня бедности в двух странах очень близки (Cur-
zon-Price, 2004: 32). В то же время Франция тратит на перера-
спределение доходов примерно столько же, сколько и Швеция,
однако имеет более высокий уровень бедности. Хотя этих при-
меров недостаточно для окончательных выводов, они заставля-
ют усомниться в том, что результаты, приносимые существую-
щими социальными государствами в смысле снижения бедности,
оправдывают издержки.
Что касается влияния перераспределения на экономический
рост, точную его величину установить довольно трудно, потому
что значительная часть государственных расходов не направле-
на непосредственно на поддержку бедных, а состоит из выплат
и услуг, предназначенных группам, относящимся к среднему клас-
су. Возможно также, что некоторые виды государственных рас-
ходов, такие как расходы на обеспечение инфраструктуры, мо-
гут оказывать позитивное воздействие на темпы роста1. Тем не
менее межстрановой сравнительный анализ, проведенный Бар-
ро (Вагго, 1991), подтверждает, что высокий уровень государст-
венных расходов за вычетом расходов на инфраструктуру корре-
лирует с более низким уровнем экономического роста (см. также
Folster and Henrekson, 1999, 2006; Gordon and Wang, 2004). Более
узкие по охвату исследования выявляют аналогичную закономер-
ность. Например, Швеция в 60-х годах XX в. имела более низкий
уровень налогообложения и более высокий уровень неравенства
доходов, чем США, но при этом принадлежала к числу двух-трех
стран с самым высоким душевым доходом (Lindbeck, 1997). Одна-
ко в последующие годы шведские налоги выросли и стали одни-
ми из самых высоких в развитой части мира, а распределение до-
ходов стало одним из самых эгалитарных — и при этом по пока-
зателю душевого дохода Швеция съехала на 10—15 позиций вниз
в соответствующем рейтинге. Некоторое улучшение экономиче-
ских результатов этой страны в последнее время корреспонди-
рует с попыткой, пусть и ограниченной, уменьшить уровень на-
логообложения (Lindbeck, 1997; Bergh, 2006; Johanssen, 2008)2.
1 Это не означает, что инфраструктура может обеспечиваться только го-
сударственными мерами — существует множество механизмов, позволяющих
эффективно обеспечивать инфраструктуру посредством частной деятель-
ности; см., например, Beito, 2000; Klein, 2002; Arne, 2002.
2 Берг (Bergh, 2006) приводит детальную критику выдвигаемой Линдер-
том аргументации (Lindert, 2004), что шведское социальное государство во
многих отношениях является «бесплатным сыром».
240 Часть И. Классический либерализм и будущее...
Хотя различия в годовых показателях роста, порождаемые изме-
нениями уровня государственных расходов, в процентном выра-
жении невелики, результат, получаемый нарастающим итогом
на протяжении достаточно длительного периода, весьма ощу-
тим. Как отмечает Коуэн (Cowen, 2002: 45), если бы годовые тем-
пы роста ВВП США в период с 1870 по 1990 г. были всего на 1%
ниже, Америка в 90-х годах XX в. была бы не богаче, чем страна,
подобная Мексике в соответствующие годы (см. также Gwartney
and Lowson, 2004; Vedder, 2004).
Если теперь обратиться к данным о частных формах вспо-
моществования бедным, исторические свидетельства обнару-
живают разнообразие способов реагирования, могущих возни-
кать в условиях большей роли гражданского общества. В XIX веке
в Великобритании и США общества взаимопомощи и дружеские
общества существовали одновременно с широким спектром гра-
жданских объединений, таких как церковные группы, общества
трезвости, клубы самопомощи и масонские ложи, которые поми-
мо оказания поддержки нуждающимся, придавали большое зна-
чение «формированию характера» и социализации путем при-
вития практик, считавшихся способствующими такому образу
жизни, который освобождает от потребности в общественной
помощи (Davies, 1997; Beito, 1997, 2000). Результаты этих усилий,
если судить по критериям самих объединений, весьма впечатля-
ющи. Как отмечает Дэвис, на период расцвета объединений взаи-
мопомощи, с 1850 по 1900 г., приходится резкое падение количе-
ства совершенных преступлений, уровня неграмотности и пьян-
ства, а также резкий рост частных сбережений (Davies, 1997: 60;
см. также Fukuyama, 2001: Chapter 16; Фукуяма, 2008: глава 16).
Эти улучшения в материальных и социальных условиях бедных
сильно выигрывают на фоне социальных тенденций, характер-
ных для послевоенного социального государства. Хотя рост пре-
ступности, распространение алкогольной и наркотической зави-
симости, резкое падение уровня частных сбережений могут отра-
жать некоторые дополнительные социальные тенденции, мало
связанные с ростом государственной социальной помощи, очень
трудно доказать, что такого рода программы никак не повлияли
на данный тренд. Да, порожденная рынком деиндустриализация,
относительное снижение доли мужского ручного труда и расту-
щая феминизация рабочей силы в отраслях услуг могли также
внести свой вклад в эти тенденции (см., например, Gray, 1998).
Однако разрушительные социальные последствия рыночных
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 241
сил были, вероятно, еще более значительными в середине и кон-
це XIX в. — быстрая индустриализация, беспрецедентный рост
городов и упадок сельскохозяйственного и деревенского обра-
за жизни представляли собой гораздо более резкие изменения,
чем нынешние подвижки, вызванные «глобализацией». Однако
этот период не только не стал эпохой снижения экономическо-
го и социального статуса бедных, но, наоборот, принес с собой
неуклонное улучшение их положения. Хотя уровень жизни бед-
нейших 10 процентов населения был жалким по нынешним мер-
кам, это объяснялось общей относительной бедностью того пе-
риода, и по мере дальнейшего экономического роста эти усло-
вия менялись в направлении улучшения (Davies, 1997; см. также
Hayek, 1949; Хайек, 2012).
Классический либерализм об образовании
и здравоохранении
Ставя под сомнение робастность государственного вспомощест-
вования нуждающимся, классический либерализм точно так же
оспаривает представление, что «публичные услуги», такие как
образование и здравоохранение, должны финансироваться
и предоставляться (производиться) государством. С этой точки
зрения передача этих услуг в сферу коммерческого рынка и дру-
гих форм оказания услуг на добровольной основе может прине-
сти существенную пользу.
Главной целью такого шага может служить создание надле-
жащих механизмов передачи сигналов о том, какого количест-
ва и качества услуг образования и здравоохранения хотят люди.
В отсутствие ценовых сигналов, отражающих сравнительную го-
товность людей приобретать различные пакеты услуг, у потреби-
телей нет никакого эффективного механизма, чтобы проявить
свои предпочтения в отношении этих благ. Кроме того, когда лю-
ди не могут в индивидуальном порядке уйти от поставщика услуг,
которым они не удовлетворены, и когда они подчинены моно-
полии, обладающей властью принуждения — властью, позволя-
ющей получать доходы через налогообложение, — притупляет-
ся ответственность производителя. С точки зрения классическо-
го либерализма механизм голосования и участие людей в советах
потребителей — плохие заменители возможности вступать в раз-
личные контрактные отношения и выходить из них, платя за
услуги собственные деньги. Такая возможность создает лучшие
242 Часть II. Классический либерализм и будущее...
стимулы к тому, чтобы люди осуществляли более информирован-
ный выбор, позволяет более тонко дифференцировать выражае-
мые предпочтения и предоставляет более прямой и непосредст-
венный способ добиться от поставщиков ответственного пове-
дения. Исходы, получаемые в рамках либеральной модели, будут
неравными, но это неравенство будет создавать тенденцию в на-
правлении повышения общего стандарта оказания услуг. Те, кто
более богат, образован и информирован, пользуясь возможно-
стью ухода, скорее всего в краткосрочной перспективе будут по-
лучать лучшие услуги, однако конкуренция за деньги «маржиналь-
ного потребителя», реализующего свою свободу, будет со време-
нем повышать качество и эффективность предоставления услуг
даже тем, у кого нет таких ресурсов. Модели обслуживания, при-
носящие больше прибыли, будут, по всей вероятности, перени-
маться, и таким образом лучшая практика будет распространять-
ся на более широкую группу потребителей, а те, кто понес убыт-
ки, будут уступать место более эффективным производителям
или тем, кто имитирует их поведение. У менее образованных по-
требителей также будет возможность перенимать варианты, вы-
бранные теми, кто информирован лучше, прибегая к помощи
репутационных механизмов, таких как торговые марки. Анало-
гичные механизмы в рамках политического процесса действуют
гораздо менее эффективно, поскольку у маржинальных избира-
телей — включая более образованных — гораздо меньше стиму-
лов к тому, чтобы быть информированными по поводу публич-
ных политических решений, учитывая мизерность шансов на то,
что их личные решения о получении дополнительной информа-
ции повлияют на результаты выборов.
Что касается образования, классическая либеральная модель
позволила бы поставить содержание учебного плана и форм об-
учения в зависимость от решений конкретных родителей о всту-
плении в контрактные взаимоотношения с разнообразными по-
ставщиками услуг и о прекращении таких отношений. В число по-
ставщиков могли бы входить обычные «школы», обучающие по
определенной программе в специализированном здании, пред-
назначенном для образования. Кроме того, в их число могли бы
входить разнообразные профессионалы-учителя и специализи-
рованные институты, предлагающие обучение по конкретным
предметам, из которых родители по своему выбору составля-
ли бы собственные индивидуализированные пакеты. В послед-
нем случае образование заключалось бы не в «школьном обуче-
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 243
нии» в обычном смысле, под которым подразумевается посеще-
ние определенного учреждения, а могло бы включать участие
учащегося в разнообразных и пересекающихся образовательных
процедурах и группах во всевозможных сочетаниях. Развивая
этот анализ, можно предположить, что нет никакой необходимо-
сти в том, чтобы образование было обязательно связано с фор-
мальными отношениями, существующими при обычном взаимо-
действии учителя и ученика. Напротив, более широкий социаль-
ный контекст может также включать альтернативные обучающие
среды, которые могли бы иметь равное, если не большее значе-
ние для процесса обучения. Так, читательские группы, религи-
озные объединения, спортивные команды, газеты и социальные
сети в интернете могут конкурировать между собой в предостав-
лении возможностей для образования, и в тот же процесс конку-
ренции могут быть включены методы приобретения навыков на
рабочем месте и в рамках профессионального образования.
В случае здравоохранения в рамках модели, основанной на
принципах laissez faire, финансирование и предоставление услуг
происходило бы в рамках частного и добровольного (некоммер-
ческого или «третьего») секторов посредством как непосредст-
венной оплаты, так и участия в страховых схемах. Установление
стандартов и контроль качества осуществлялись бы через про-
цесс конкуренции за репутацию между альтернативными провай-
дерами. В рамках такой модели государственная деятельность по
лицензированию была бы заменена конкурирующими агентства-
ми, осуществляющими аккредитацию, которые определяли бы
квалификацию, необходимую для занятий медицинской практи-
кой. Врачи, больницы и страховщики свободно конкурирова-
ли бы за репутацию, а агентства по аккредитации, в свою оче-
редь, конкурировали бы, добиваясь хорошей репутации в каче-
стве источников надежных рекомендаций, касающихся рынка
здравоохранения. Вдобавок к обучению на собственном опы-
те взаимодействия с различными поставщиками услуг потреби-
тели имели бы возможность научаться от других, поскольку но-
вые сведения об опыте потребителей в отношении различных
сегментов отрасли здравоохранения распространялись бы при
непосредственном общении, а в эпоху электронных коммуни-
каций — во все большей степени через использование социаль-
ных сетей в интернете. В соответствии с такой картиной процесс
одобрения фармацевтической продукции также осуществлял-
ся бы с помощью основанных на репутации механизмов, которые
244 Часть И. Классический либерализм и будущее...
побуждали бы продавцов лекарств и медицинского оборудования
защищаться от фальсификации и от наступления ответственно-
сти за дефекты товара, предоставляя надлежащие гарантии на
товар и применяя аналогичные методы выстраивания доверия.
Фактические данные об образовании и здравоохранении
Учитывая ту всепроникающую роль, которую сегодня играют
государства в финансировании и предоставлении услуг образо-
вания и здравоохранения, трудно найти четкие и однозначные
свидетельства в пользу классической либеральной альтернати-
вы. Однако существует достаточно исторического и современ-
ного опыта, дающего предварительные аргументы в поддержку
приведенного выше анализа. Наиболее убедительные аргумен-
ты в пользу «полной приватизации» имеются для случая обра-
зования. Исторические данные подтверждают, что до широко-
масштабного вовлечения государства в эту сферу показатели
грамотности были высокими, а доступ к образовательным воз-
можностям был повсеместным. Предпринимались многочислен-
ные попытки дискредитировать работы Э. Дж. Уэста (West, 1994;
1970), которые наиболее тесно ассоциируются с такими заявле-
ниями применительно к викторианской Британии, однако, как
показал Тули (Tooley, 1996: 31—48), если надлежащим образом
принять в расчет бедность викторианской эпохи, выводы Уэста
остаются робастными (см. также Tooley, 1995). В частности Мич
(Mitch, 1992) обнаружил, что частные школы в викторианскую
эпоху были по меньшей мере столь же эффективны, как и под-
держиваемые государственными субсидиями, и достигали этих
результатов, расходуя всего лишь две трети тех сумм, что тра-
тили учреждения, субсидируемые государством. В более общем
плане относительно более рыночная и конкурентная образова-
тельная система, преобладавшая в Великобритании до 1870 г.,
породила гораздо более высокий уровень грамотности, чем дей-
ствовавшая во Франции высокоцентрализованная и управляе-
мая государством система, и примерно такой же уровень грамот-
ности, как в Германии. Коулсон (Coulson, 1999) приводит ана-
логичные документально подтвержденные данные для случая
США в XIX веке, где показатели грамотности уже были высоки-
ми к моменту наступления эпохи государственного образования.
Хотя исторические данные и предоставляют аргументы
в подтверждение классической либеральной позиции, тем не
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 245
менее наиболее сильные свидетельства относятся к более недав-
нему времени. Например, проведенное Коулменом и Хоффером
(Coleman and Hoffer, 1987) исследование системы образования
в США обнаружило, что с учетом поправки на социально-эконо-
мический статус и на смещение, связанное с возможностью вы-
бора школы, частные школы существенно превосходят государст-
венные по своим результатам в развитии познавательных способ-
ностей учащихся. Подобным же образом Чабб и Моу (Chubb and
Мое, 1990) изучили общенациональную выборку американских
частных и государственных школ и выяснили, что, с учетом по-
правки на социально-экономический статус, частные школы по-
казывали лучшие результаты по сравнению с государственными
аналогами. Другие исследования демонстрируют, что более вы-
сокая результативность частных поставщиков услуг достигается
при вдвое меньших издержках, чем зафиксированы в государст-
венных школах. Проанализировав исследования, проводившиеся
как в развитых, так и в развивающихся странах, Коулсон (Coulson,
2004) обнаружил, что из 50 сравнений, которые могут быть про-
ведены на основе таких критериев, как соотношение затрат и ре-
зультатов, в 41 случае продемонстрировано явное преимущество
предоставления услуг частным образом (см. также Wenders, 2005).
В то же время для случая развивающихся стран многочислен-
ные исследования показали устойчивую закономерность: част-
ный сектор показывает лучшие результаты по языковым знани-
ям и умениям, а также по математике при более низком расходе
ресурсов. Так, согласно исследованию, проведенному на Филип-
пинах, уровень достижений в расчете на единицу расходов на од-
ного ученика в частных школах был в 1,2 раза выше, чем в анало-
гичных государственных школах, а в Таиланде соответствующая
разница в расчете на единицу затраченных ресурсов была почти
семикратной (Jimenz et al., 1991). Такие же результаты были по-
вторно получены Тули с соавторами в масштабном сравнитель-
ном исследовании частного и государственного образования для
низкодоходных групп населения ряда стран, включая Индию, Ни-
герию и Гану (см. Tboley et al., 2005; Tooley and Dixon, 2006; Tooley
et al., 2007). Было показано, что большая часть образовательных
услуг для бедных в этих странах предоставляется частным секто-
ром, и родители предпочитают отправлять своих детей в частные
школы даже тогда, когда в соответствующей местности можно
получить и «бесплатное» государственное образование. Что каса-
ется качества и эффективности, даже в самых неблагоприятных
246 Часть П. Классический либерализм и будущее...
случаях учащиеся частных школ показывали результаты не хуже,
чем те, кто учился в государственных аналогах, а в большинстве
случаев они демонстрировали гораздо лучшие образовательные
достижения, несмотря на то что расходы на зарплаты учителей
и на инфраструктуру составляли всего лишь половину соответст-
вующих расходов в государственном секторе.
Если обратиться к здравоохранению, имеется достаточно
исторических данных, позволяющих обоснованно предполо-
жить, что отсутствие государственного предоставления услуг не
является препятствием на пути к их широкой доступности, в том
числе и для низкодоходных групп населения. Например, Бейто
(Beito, 2000) сообщает, что в XIX веке в Америке покрываемые
группами взаимопомощи и обществами взаимного страхования
годовые расходы на лечение составляли величину, эквивалент-
ную дневной заработной плате среднего наемного работника.
В то же время в Великобритании, как показал Грин (Green, 1985),
огромное большинство населения имело доступ к лечению, ли-
бо непосредственно оплачивая услуги, покупая страховку и по-
лучая средства от обществ взаимопомощи, либо пользуясь бес-
платными услугами, предоставляемыми движением благотвори-
тельных больниц. Приводило ли частное предоставление услуг
к более высокому качеству лечения, оценить трудно, отчасти
из-за необходимости внесения надлежащей поправки на общую
бедность той эпохи, а отчасти из-за отсутствия в то время предо-
ставляемых государством услуг, с которыми можно было бы на-
прямую сравнивать. Тем не менее тот факт, что врачи часто вы-
ступали в качестве главных агентов лоббирования в пользу боль-
шего государственного регулирования отрасли путем принятия
законов о лицензировании профессиональной деятельности
и создания органов по принудительному поддержанию цен — за-
частую вопреки желанию групп, представляющих интересы по-
требителей, — по крайней мере наводит на мысль, что государ-
ственное вмешательство не обязательно является лучшим меха-
низмом увеличения количества и повышения качества лечебных
услуг (Green, 1993; Грин, 2009).
Поскольку государство стало играть абсолютно доминирую-
щую роль в этой сфере во всех основных развитых странах, сов-
ременные данные об оказании услуг здравоохранения содержат
лишь приблизительные указания на сравнительную результатив-
ность систем, в большей или в меньшей степени ориентирован-
ных на рынок. Даже в случае США, где частный сектор играет
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 247
сравнительно большую роль, финансируемые государством про-
граммы оказания услуг, такие как Medicare и Medicaid, запутан-
ная система централизованно устанавливаемого регулирования
частного медицинского страхования и налоговые стимулы, отда-
ющие предпочтение страхованию со стороны третьих лиц перед
прямой оплатой услуг, показывают, что американскую модель ни
в коем случае нельзя приравнивать к модели «свободного рынка»
(Herzlinger, 2007; Shapiro, 2007: Chapter 3). В той мере, в какой
доступны сравнительные данные по поводу воздействия альтер-
нативных систем финансирования, они не демонстрируют ника-
ких устойчивых тенденций. Эта трудность проистекает из того
факта, что на «конечные производственные показатели» здоро-
вья воздействует большое число переменных, соответствующих
«потребляемым факторам производства», таким как образ жизни,
привычная диета и генетические различия, которые влияют на
результаты независимо от исследуемой системы. Например, юж-
ноевропейские и некоторые восточноазиатские общества устой-
чиво демонстрируют более высокую ожидаемую продолжитель-
ность жизни независимо от того, какая в них действует система
здравоохранения.
Те немногие исследования, в которых изучается взаимосвязь
между исходными факторами, влияющими на здоровье, и резуль-
тирующими показателями, обычно показывают, что там, где сис-
тема здравоохранения потенциально влияет на результаты, при-
ватизированные формы оказания услуг работают довольно хо-
рошо. Например, Сингапур имеет, вероятно, наиболее рыночно
ориентированную систему в мире, в которой почти 70% расходов
поступает частным провайдерам услуг здравоохранения. Показа-
тели средней продолжительности жизни в этой стране такие же,
как и в других азиатских экономиках, однако эти результаты до-
стигаются при уровне расходов всего лишь 3,5% ВВП — меньше,
чем в сопоставимых азиатских странах, отличающихся большей
степенью вмешательства государства, и на 25—50% меньше, чем
в управляемых и финансируемых государством системах Канады
и Западной Европы (Bessard, 2008:18—19). Тот факт, что СШАде-
монстрируют очень высокий уровень расходов на здравоохране-
ние в процентах ВВП, но не достигают более высоких результа-
тов по ожидаемой продолжительности жизни, обычно приводит-
ся в качестве доказательства относительной неэффективности
их «смешанной системы», включающей и частное, и государст-
венное финансирование. Однако если посмотреть на то, как
248 Часть И. Классический либерализм и будущее...
американская медицина справляется с заболеваниями, получает-
ся несколько другая картина. Хотя частота возникновения таких
заболеваний, как рак предстательной железы, рак молочной же-
лезы и сердечно-сосудистые заболевания, в Америке выше, чем
во многих развитых странах — что, вероятно, связано с образом
жизни и выбором питания, — реальные показатели смертности
пациентов, страдающих этими болезнями, ниже, чем в среднем
по развитым странам, что свидетельствует о сравнительно высо-
ком качестве лечения в США (Goodman et al., 2004). Что касается
эффективности, одна из немногочисленных попыток непосред-
ственно сравнить душевые издержки и качество разных систем
также представляет американское здравоохранение в относи-
тельно благоприятном свете. Фикэм с соавторами (Feacham et al.,
2003) обнаружили, что крупный провайдер услуг Kaiser Perman-
ante, расположенный в Калифорнии, при душевых затратах все-
го лишь на 200 долларов больше, чем в Британской государствен-
ной службе здравоохранения, предоставляет более чем в 2,5 ра-
за больше педиатров, в два раза больше акушеров и гинекологов
и в три раза больше кардиологов в расчете на одного пациента.
Американская система здравоохранения демонстрирует луч-
шие результаты и по показателям, имеющим более качествен-
ный характер, и в частности отражающим чуткость к запросам
пациентов. По-видимому, это отчасти отражает готовность по-
ставщиков услуг, чувствительных к рынку, предлагать лечение
хотя и мало влияющее на повышение ожидаемой продолжитель-
ности жизни, но менее болезненное и улучшающее целый ряд по-
казателей качества жизни в период течения заболевания (Good-
man et al., 2004). По каким показателям действующая в США си-
стема серьезно проигрывает в международных сравнениях, так
это по тем, которые характеризуют неравенство в доступе к ле-
чению. Международные сопоставления, публикуемые такими
организациями, как Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ), используют комбинированные показатели, многие из ко-
торых сильно перекошены в сторону критериев «справедливо-
сти», что приводит к низким баллам для тех систем, где существу-
ет неравенство доступа, обусловленное доходом или этническим
статусом, — независимо от абсолютного уровня лечения, доступ-
ного тем или иным группам1. Как показано в предыдущей главе,
1 В рамках анализа систем здравоохранения, проводимого ВОЗ, бо-
лее 60% всех баллов начисляется по эгалитарным критериям, таким как
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 249
с классической либеральной точки зрения нет, по сути дела, ни-
каких оснований полагать, что люди достигнут согласия по пово-
ду того, в какой степени можно поступиться равенством ради дру-
гих ценностей, таких как более высокие средние стандарты. По-
этому можно утверждать, что низкий рейтинг, приписываемый
системе здравоохранения США, до некоторой степени отражает
очень специфическую интерпретацию «справедливости», кото-
рой придерживается ВОЗ.
Возражения, основанные на идее
«провалов рынка»
Классическая либеральная концепция, кратко изложенная вы-
ше, делает акцент на том, что снижение бедности и оказание «пу-
бличных услуг» может происходить при минимальном участии
государства. Однако согласно анализу, исходящему из представ-
ления о провалах рынка, и сокращение бедности, и предостав-
ление услуг образования и здравоохранения предстают как кол-
лективные блага со всеми сопутствующими проблемами, приво-
дящими к их относительному «недопроизводству» и тем самым
ставящими под сомнение робастность классического либераль-
ного подхода.
В случае перераспределительной деятельности, направлен-
ной против бедности, утверждается, что граждане могут и от-
казаться вносить на добровольной основе достаточное коли-
чество средств для финансирования мер по снижению бедно-
сти. Ни один отдельный взнос не может оказать существенного
«финансовая справедливость». Последний присуждает больше баллов сис-
темам, где бедным не нужно тратить большую, по сравнению с богатыми,
долю доходов на оплату услуг здравоохранения. Такие критерии неизбеж-
но дискриминируют всякую систему, движимую рыночными стимулами,
и смещают результаты в пользу финансируемых государством схем или схем
с высокой степенью перераспределения, так как в рыночной системе люди
с меньшими доходами почти неизбежно будут тратить большую процентную
долю своих доходов на товары и услуги первой необходимости, такие как ле-
чение (а также питание и жилье), чем те, у кого располагаемый доход выше.
Но это ничего не говорит о реальном качестве лечения, получаемого людь-
ми с низкими доходами. В соответствии с критериями ВОЗ система здраво-
охранения, для которой характерно большое неравенство в доступе, но при
этом у всякого есть доступ к хорошему лечению, получит меньший рейтинг,
чем та, в которой общий стандарт оказания услуг низок, однако разрыв меж-
ду качеством услуг, получаемых богатыми и бедными, сравнительно невелик.
Анализ этого и других перекосов в данных ВОЗ см. в Whittman (2006).
250 Часть П. Классический либерализм и будущее...
воздействия на условия жизни бедных в целом, а выгоды — выра-
жающиеся, например, в уменьшении количества бездомных лю-
дей и потенциальном сокращении преступности, — будут «разма-
зываться» по всем «потребителям», независимо от их личного
вклада. Следовательно, согласно стандартным описаниям стиму-
лов к «безбилетному поведению», люди не возьмут лично на себя
затраты на сокращение бедности, если только государство не ис-
пользует свою власть взимать налоги для того, чтобы принудить
всех остальных внести свой вклад (Buchanan, 1984; Barr, 1992).
Варианты такого рода аргументации, основанной на «внеш-
них выгодах», применяются и к случаю образования и здравоох-
ранения. Хотя последние могут выглядеть как частные услуги,
выгоды, получаемые от того, что индивиды хорошо образован-
ны или здоровы, по мнению критиков, не достаются целиком
им самим. В частности утверждается, что образование порожда-
ет положительные экстерналии, такие как более высокий эконо-
мический рост, достижение большей вовлеченности населения
в производство, повышение демократического участия и более
низкий уровень преступности — выгоды, которые не могут быть
присвоены посредством личных инвестиционных решений. На-
пример, экономический рост в обществе, где люди более обра-
зованны, может быть выше, однако личная отдача от получен-
ного образования, представленная более высоким уровнем дохо-
дов, может и не отражать дополнительных выгод, приносимых
образованием, — таких как увеличение спроса на труд, стимули-
руемое инновациями и техническими усовершенствованиями.
Аналогичный аргумент часто приводится в контексте здравоох-
ранения, где личное решение сделать прививку от болезни мо-
жет уменьшить потенциальный риск для тех, кто сам такой при-
вивки не сделал.
Кроме того, считается, что робастность рынков образования
и здравоохранения уменьшается из-за проблем асимметрии ин-
формации, поскольку для определения того, предоставляются ли
услуги надлежащим образом, необходимы соответствующие зна-
ния и квалификация (Arrow, 1963). С учетом неспособности срав-
нительно «невежественных» потребителей дифференцированно
предлагать вознаграждение за более высокий уровень услуг пред-
полагается, что на рынках будет действовать тенденция к пред-
ложению относительно низкокачественных услуг. Либо же, учи-
тывая высокую ценность, которой многие люди наделяют обра-
зование и здравоохранение, производители могут пользоваться
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 251
своими информационными преимуществами и предлагать ниче-
го не подозревающим клиентам «ненужное» лечение или услуги
по «завышенным» ценам. И в том и в другом случае с точки зре-
ния концепции «провалов рынка» нет оснований ожидать, что
взаимодействие спроса и предложения на этих рынках будет при-
водить к результатам, повышающим благосостояние, без государ-
ственного регулирования и/или прямого предоставления услуг
государством.
В конкретном случае рынков услуг здравоохранения, где пла-
тежи могут принимать форму страховых контрактов, дополни-
тельный «провал рынка» может возникать из «отрицательного
отбора» [adverse selection]. Если у продавцов медицинской стра-
ховки нет информации, позволяющей определять состояние здо-
ровья будущих клиентов, то они могут, повышая цены, компен-
сировать возможность принятия на себя слишком большого ри-
ска — процесс, вытесняющий низкорисковых акторов, которым
будет трудно получить страховку по адекватной цене. В той ме-
ре, в какой страховщики будут пытаться справиться с такого рода
проблемами, отсутствие у них детальной информации о рисках
для здоровья может приводить к предложению полисов, кото-
рые не будут соответствующим образом учитывать потребности
индивидуальных клиентов. Например, люди могут штрафовать-
ся или исключаться на основании их членства в различных груп-
пах, с которыми связаны «стереотипы» — например, связанные
с возрастом, расой или генетическими особенностями, — незави-
симо от того, насколько их личные параметры здоровья отлича-
ются от характеристик соответствующей группы (Akerlof, 2002).
Третий и последний аргумент в рамках анализа «провалов
рынка» основывается на «поведенческой экономике» и полу-
чил наименование «либертарианского патернализма». Соглас-
но этой точке зрения, необходимость во вмешательстве возни-
кает не из-за недостатков индивидуальных предпочтений — т.е.,
например, не из-за неспособности придавать надлежащую важ-
ность образованию и здравоохранению (как могли бы предполо-
жить более традиционные формы патернализма), — а из-за цело-
го набора когнитивных и психологических искажений, которые
не дают людям достичь ими же самими заявляемых целей. В дан-
ном случае речь идет о «слабости воли» и о «неполной информа-
ции» о рисках, что может приводить людей к принятию «субопти-
мальных» или «нерациональных» решений (Sunstein and Thaler,
2003; Jolls and Sunstein, 2006). Например, в случае добровольных
252 Часть И. Классический либерализм и будущее...
решений по поводу социального обеспечения и помощи бед-
ным, люди могут знать, что уплата регулярных взносов в обще-
ство взаимопомощи обеспечит им защиту от неблагоприятных
обстоятельств и помощь в пожилом возрасте, однако у них мо-
жет отсутствовать «сила воли», чтобы пожертвовать выгодами
от потребления прямо сейчас во имя тех выгод, которые прихо-
дятся на более отдаленное будущее. Если им предоставить дей-
ствовать по своему усмотрению, они будут слишком много тра-
тить и слишком мало сберегать. В то же время люди могут быть
чересчур оптимистичны в отношении здоровья и недооценивать
как опасности, связанные с определенными решениями в отно-
шении образа жизни, так и риски, возникающие при отсутствии
страховки. Кроме того, решения, касающиеся заботы о здоровье,
могут приниматься в то время, когда люди находятся в довольно
бедственном положении и потому неспособны делать это доста-
точно рационально.
С точки зрения поведенческой экономики правительства мо-
гут и должны вмешиваться в рынки, связанные с социальной по-
мощью, чтобы обеспечить принятие людьми «более рациональ-
ных» решений. Это вмешательство может принимать, напри-
мер, следующие формы: принудительное включение в частные
или управляемые государством схемы сбережений и социально-
го обеспечения; введение налогов и субсидий для снижения сти-
мулов к рискованному и нездоровому поведению; а также более
жесткое регулирование актов принятия решений по поводу за-
ключения контрактов, которые могут иметь долгосрочные по-
следствия, таких как договоры страхования и другие контракты,
связанные с управлением рисками.
Является ли помощь бедным коллективным благом?
Вышеприведенные рассуждения с исключительным упорством
выдвигаются в дискуссиях о социальном государстве, но с точ-
ки зрения классического либерализма более тщательное рас-
смотрение обнаруживает существенные слабые места во всех ут-
верждениях, основанных на идее «провалов рынка». Нигде эти
слабости не проявляются с такой очевидностью, как в представ-
лении, что облегчение бедности есть коллективное благо. Важ-
ной характеристикой таких благ является то, что ни один ин-
дивид в отдельности не может существенно повлиять на вели-
чину их предложения. Например, личное решение реже ездить
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 253
на автомобиле не окажет заметного влияния на качество возду-
ха в городе, которое есть коллективное благо. Независимо от
того, как ведут себя другие, оптимальная стратегия для индиви-
да — продолжать ездить на автомобиле и загрязнять атмосферу.
Если его сограждане производят выбросы, то решение не про-
изводить загрязнение никак не повлияет на общую проблему.
Но и если его сограждане прекратят загрязнять воздух, решение
ездить на машине и выбрасывать в атмосферу выхлопные газы
точно так же ничего не изменит. Однако в случае помощи бед-
ным единственный способ сделать эту аналогию осмысленной
заключается в том, чтобы трактовать бедность как «националь-
ную» проблему или как проблему, с которой сталкиваются боль-
шие классы людей — причем такую, что ее решению не может
сколько-нибудь существенно способствовать отдельный актор
или группа акторов. Однако в большинстве случаев совершен-
но не очевидно, что бедность должна трактоваться таким обра-
зом. Индивидуальное решение дать денег или оказать какую-то
другую помощь конкретному бедному человеку или бедной семье
может иметь решающее влияние на состояние получателя помо-
щи, причем таким образом, каким решение отказаться от езды
на автомобиле не может повлиять на качество воздуха в городе
ни на микро-, ни на макроуровне. Если меры по облегчению бед-
ности направлены на конкретных индивидов или на определен-
ные целевые группы, то они не могут считаться коллективными
благами (см., например, Friedman, 1990).
Рассмотрение вопроса в таком ключе выявляет два аспекта,
в которых анализ, основанный на понятии «провалов рынка», не
удовлетворяет требованиям робастной политической экономии.
Во-первых, даже если бедность «как единое целое» имеет при-
знаки коллективного блага, знание о том, как решать проблемы
в конкретных случаях, не находится в коллективном распоряже-
нии. Наоборот, оно широко рассредоточено среди разных инди-
видов и групп, причем каждый индивид и каждая группа скорее
всего обладает уникальной информацией о конкретных людях,
столкнувшихся с бедностью, включая знание о том, почему соот-
ветствующие люди нуждаются в помощи и какие меры лучше все-
го подходят для решения их проблем (если такие меры вообще
нужны). Подход, основанный на принципе добровольности, со-
четающий взаимопомощь, индивидуальную поддержку и пожер-
твования благотворительным организациям, позволяет множе-
ству разнообразных акторов, каждый из которых располагает
254 Часть II. Классический либерализм и будущее...
специализированным знанием, адаптировать свою деятельность
по облегчению бедности к конкретным индивидуальным ситуа-
циям. В той мере, в какой государственная система финансирова-
ния лишает ресурсов таких индивидов и такие добровольные ор-
ганизации, а также централизует «социальную помощь» в рамках
бюрократического аппарата, она может уменьшать способность
людей, обладающих локальным знанием, реагировать на пробле-
мы, на которые они могли бы оказать решающее воздействие;
в то же время она будет передавать ресурсы в руки акторов, кото-
рые могут не обладать необходимым для этого знанием.
Вторая проблема с аргументацией, основанной на понятии
коллективных благ, состоит в том, что попытки облегчить бед-
ность таким образом на самом деле порождают собственную ди-
намику того типа, который связан с коллективными благами. По-
мещение всех ресурсов, предназначенных для помощи бедным,
в единый «котел» снижает способность каждого отдельного из-
бирателя осуществлять прямой контроль над тем, каким образом
расходуются его взносы. Более того, если помощь бедным явля-
ется коллективным благом, то непонятно, почему в условиях де-
мократии сами институты социального государства не будут при-
водить к «недопроизводству» этого блага. Если бедность являет-
ся «национальной», а не местной или индивидуализированной
проблемой, то нет никаких оснований, из которых бы следовало,
что люди с большей вероятностью проголосуют за надлежащие
меры социальной поддержки, чем уплатят добровольный взнос
в гражданские объединения. Раз решение отдельного индиви-
да или группы о добровольной помощи бедным не окажет суще-
ственного воздействия на проблему бедности в целом, то точно
так же решение отдельного лица проголосовать за большие госу-
дарственные расходы на оказание социальной помощи никак не
повлияет на реальный уровень предоставляемой помощи — по-
следний будет определяться тем, как проголосуют все остальные
избиратели. Может, конечно, случиться и так, что некоторые
люди будут вести политическую кампанию за меры по снижению
бедности ради того, чтобы получить частные психологические
или имиджевые выгоды — такие как социальное одобрение, свя-
занное с тем, что их считают «заботящимися о бедных» (Вгеппап
and Lomasky, 1993), — но этот аргумент в пользу публичного пре-
доставления помощи не может иметь решающего значения, так
как аналогичные выгоды индивиды могут получать, рекламируя
свои частные акты благотворительности.
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 255
В целом государственные меры с большой вероятностью
приведут к уменьшению робастности институтов и к усугубле-
нию проблем, связанных с коллективными благами, так как от-
сутствие «ухода» как допустимого варианта действий не позво-
ляет индивидам оценить, насколько их личный вклад влияет на
результаты. Раз налогоплательщики, финансирующие проваль-
ные программы, не могут уйти вместе со своими деньгами, един-
ственным остающимся в их руках инструментом обеспечения
ответственности является их голос в рамках демократических
процедур. Однако, учитывая ничтожные шансы повлиять на ре-
зультаты выборов при большом количестве участников, раци-
ональное поведение избирателей — оставаться в неведении по
поводу относительной эффективности конкретных программ.
Именно это неведение позволяет оппортунистическому пове-
дению остаться незамеченным. Оппортунизм такого рода мо-
гут проявлять и те получатели помощи, которые не принимают
адекватных мер к тому, чтобы вытащить себя самих из бедности.
Оппортунистическое поведение также может включать низкую
результативность работы тех, кто уполномочен реализовывать
соответствующие схемы. Дестимулирование контроля над ре-
зультативностью может проявляться не только в отношении
служащих, занятых администрированием системы выдачи по-
собий, но и в отношении тех, кто выдвигает требования о необ-
ходимости финансирования за счет налогов. Стремление к по-
лучению выигрыша в самовыражении со стороны тех, кто хочет
получить социальное одобрение за свои требования большей
«заботы о бедных», также может способствовать продолжению
неэффективной политики. Если порождаемые неудачной поли-
тикой издержки не концентрируются на тех, кто требует допол-
нительного финансирования, то последние скорее всего будут
требовать большего уровня поддержки, чем оно того заслужи-
вает. В то время как добровольные доноры оплачивают неудач-
ные программы социальной помощи из своего кармана, в сце-
нарии, предусматривающем коллективный выбор, финансовые
издержки неуспеха размазываются по всему электорату. А если
невелика вероятность того, что решение пересмотреть ранее
принятое решение о поддержке той или иной социальной про-
граммы повлияет на будущее этой программы или на размеры
собственных взносов, то мало и стимулов к тому, чтобы обдумы-
вать альтернативы (Brenan and Lomasky, 1993; см. также Caplan,
2007; Каплан, 2012).
256 Часть И. Классический либерализм и будущее...
Напротив, меры против бедности, принимаемые на основе
взаимопомощи и благотворительных взносов, позволяют подхо-
дить к решению проблемы в меньшем масштабе и способны по-
рождать более прямую взаимосвязь между личным вкладом и кон-
кретными результатами, что дает возможность избежать, по
крайней мере частично, вышеописанной динамики, связанной
с коллективными благами. Разумеется, такая взаимосвязь наибо-
лее явным образом присутствует в том случае, когда один человек
лично оказывает помощь другому и донор может непосредствен-
но наблюдать влияние этой помощи на конкретного индивида,
являющегося ее адресатом. Взаимосвязь становится менее явной,
когда пожертвования делаются в фонд благотворительной орга-
низации, которая заботится о нуждах большего числа людей. Но
даже в этом случае имеющаяся у жертвователя возможность уй-
ти от одной благотворительной организации и начать платить
взносы в другую определяет то, каким образом будут расходо-
ваться его или ее ресурсы. Кроме того, с точки зрения классиче-
ского либерализма, взаимопомощь и благотворительность спо-
собны создать больше стимулов к тому, чтобы не допускать оп-
портунизма и отлынивания от исполнения своих обязательств.
Например, в случае обществ взаимопомощи и взаимного страхо-
вания решение индивида о вступлении в объединение и об упла-
те взносов определяет, будет он впоследствии иметь право полу-
чить пособие или нет. Поскольку финансовое выживание таких
обществ зависит от наличия достаточно большого резерва эконо-
мически активных членов, у последних есть сильные стимулы по-
заботиться, будь то в личном порядке или через совет управляю-
щих, чтобы были запущены успешные программы ограничения
иждивенчества и обмана. Что же касается благотворительности,
то решения доноров о произведении расходов привязаны к под-
дающимся идентификации результатам. Организации, которые
не смогли реализовать эффективную программу помощи, могут
испытать на себе санкции, состоящие в том, что неудовлетворен-
ные члены «уйдут» к тем организациям, которые продемонстри-
ровали лучшую результативность (Shapiro, 2007: Chapter 6).
Публичные услуги и положительные внешние эффекты
Если основанная на представлении о коллективных благах аргу-
ментация в пользу государственных мер помощи бедным не спо-
собна пройти тест на соответствие критериям робастной по-
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 257
литической экономии или, что то же самое, не подтверждается
сравнительным анализом институтов, то не менее ошибочной
она является в случае образования и здравоохранения. Заявле-
ние, что «публичные услуги» в отсутствие государственного вме-
шательства буду «производиться в недостаточном количестве»,
игнорирует ключевое, хотя и часто упускаемое различие между
политически релевантными экстерналиями и теми, которые та-
ковыми не являются (Buchanan and Stubblebine, 1962). Первые
имеют место в тех случаях, когда «предложение» позитивного
внешнего эффекта детерминируется способностью взимать пла-
ту за его единицы, в то время как политически нерелевантные
экстерналии производятся независимо от возможности не до-
пустить до их потребления тех, кто за них не заплатит. Напри-
мер, «ландшафтный предприниматель» может отказаться инвес-
тировать в создание общественного парка, если он или она ока-
жется не в состоянии получить прибыль, взимая плату за доступ
к этой территории. Напротив, на решение владельца дома раз-
вести розарий для собственного удовольствия возможность взи-
мать плату с посторонних наблюдателей за «право рассматрива-
ния» может и не оказать никакого влияния. Разница между поли-
тической релевантностью и нерелевантностью в данном случае
зависит от того, являются ли экстерналии ипфрамаржинальпы-
ми. Этот термин обозначает такие экстерналии, которые дейст-
вительно существуют, как в случае розария, но при этом вмеша-
тельство государства не привело бы к маржинальному улучше-
нию за счет повышения объемов их производства. Так, если бы
государство субсидировало цветоводов, чтобы они расширяли
производство роз, экстерналия была бы инфрамаржинальной,
если бы субсидия превышала всякую ценность, придаваемую до-
полнительным розам проходящими мимо членами общества, ко-
торые могут и не заметить существования нескольких дополни-
тельных цветков. Иными словами, экстерналия является инфра-
маржинальной потому, что цветовод, преследуя исключительно
частные цели, уже учел (пусть и непреднамеренно) интересы по-
лучателей внешних выгод1.
1 Наверное, лучше всего можно было бы представить себе, как работает
эта логика, рассмотрев следующий пример. Предположим, человек, живу-
щий в изолированном коттедже, тратит много времени и усилий на созда-
ние прекрасного сада, чтобы самому получать от него удовольствие. Он за-
нимается этим, не беря в расчет никакого более широкого публичного ин-
тереса, так как в данном месте нет никакой публики. Предположим, далее,
258 Часть II. Классический либерализм и будущее...
Анализ Бьюкенена и Стабблбайна наводит на мысль, что, бла-
годаря общественной природе человеческой жизни, экстерналии
вездесущи, но большинство из них нерелевантны с точки зрения
политики. Например, исключительно частные решения придер-
живаться строгого режима заботы о своей коже или посещать за-
нятия фитнесом ради поддержания интереса к себе своего супру-
га или супруги порождают положительные экстерналии для всех
прочих людей, ценящих красоту человеческой внешности. Одна-
ко невероятно, чтобы государственное стимулирование, направ-
ленное на то, чтобы люди тратили дополнительные ресурсы на
свою внешность, могло привести к более удовлетворительному
уровню предложения этой внешней выгоды. Более того, такие
действия могли бы отвлекать ресурсы от тех направлений исполь-
зования, которые потенциально имеют большую ценность.
С классической либеральной точки зрения практически нет
оснований полагать, что образование и здравоохранение поро-
ждают политически релевантные внешние эффекты. Во-первых,
совершенно не факт, что выгоды, порождаемые частными ре-
шениями, никак не компенсируются или что они не могут быть
легко интернализированы с помощью частных механизмов. На-
пример, в случае образования тот факт, что образованный чело-
век может повышать производительность других людей, с кото-
рыми он взаимодействует, скорее всего найдет отражение в том,
что этот человек будет получать более высокую зарплату или жа-
лование, чем менее образованный. Можно ожидать, что фирмы,
стремящиеся к прибыли, будут больше платить работникам, ко-
торые повышают производительность своих коллег по работе.
В то же время, применительно к здравоохранению, в отсутствие
государственных мер частные организации, такие как фирмы, бу-
дут заинтересованы в «общественном здоровье» своих работни-
ков и поэтому у них будут мощные стимулы к обеспечению того,
чтобы все, кто работает в соответствующей организации, были
что группа любителей пеших прогулок обнаруживает новый маршрут, про-
ходящий мимо коттеджа, и начинает получать удовольствие от любования
садом. Но, хотя садовод не имеет возможности взимать плату с гуляющих за
удовольствие видеть его сад, его решения не становятся вдруг «субоптималь-
ными». Как могла бы в данном случае субсидия, направленная на стимулиро-
вание дополнительного предоставления услуги, «улучшить» размещение ре-
сурсов? Если бы была введена государственная субсидия, действительно ли
гуляющие заметили бы, скажем, дополнительный ряд цветочного бордюра
и придали бы ему дополнительную ценность?
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 259
привиты от болезней во избежание потерь производительно-
сти (например, они могут требовать предъявления свидетельств
о сделанных прививках в качестве условия приема на работу).
Вполне может оказаться так, что в случае некоторых крайне за-
разных болезней транзакционные издержки, связанные с мони-
торингом надлежащей вакцинации людей, окажутся слишком
большими, чтобы это могли осуществлять отдельные фирмы или
частные объединения, но такие случаи немногочисленны и ред-
ки, и к тому же совершенно неочевидно, что оптимальным уров-
нем иерархии, на котором следует интернализировать соответ-
ствующую экстерналию, является именно национальное государ-
ство — хотя нельзя исключать и такую возможность.
Во-вторых, в той мере, в какой решения по поводу образо-
вания и здравоохранения действительно порождают некомпен-
сируемые эффекты, представляется, что последние являются
инфрамаржинальными, а потому политически нерелевантны-
ми. С учетом того, что у людей имеются частные стимулы к тому,
чтобы инвестировать в базовую языковую и математическую гра-
мотность, а также в заботу о своем здоровье, — например, такие
как большая вероятность найти работу, — совершенно непонят-
но, почему государственные усилия по стимулированию допол-
нительных инвестиций принесут какую-то пользу. Аналогичные
рассуждения применимы к частным решениям об инвестирова-
нии в более сложные виды обучения. В общем и целом ожиданий,
связанных с возможностью получения более высокой зарплаты
или жалованья, будет достаточно, чтобы побудить к производст-
ву соответствующих внешних эффектов независимо от того, бу-
дет ли за них выплачиваться прямая компенсация.
Аргументация, основанная на провалах рынка, выглядит еще
более слабо, если учесть гигантскую «проблему знания», с ко-
торой столкнется в этом случае государство. Поскольку инфра-
маржинальные экстерналии повсеместны, непонятно, каким
образом агенты государства узнают, где им следует вмешаться.
Например, в случае образования положительные внешние эф-
фекты порождаются не только формальными актами школьно-
го обучения, но и множеством других видов «образовательной»
деятельности — таких как чтение книг частным образом, выпуск
и чтение газет, членство в любительских музыкальных и истори-
ческих обществах, обучение на рабочем месте, просмотр теле-
программ и использование интернета. Аналогично в случае за-
боты о здоровье существует множество всевозможных факторов,
260 Часть И. Классический либерализм и будущее...
от диеты и физических упражнений до семейного положения,
о которых можно сказать, что они порождают «выгоды с точки
зрения общественного здоровья»1. Успешное вмешательство по-
требует от лиц, определяющих политику, знания того, какой из
этих видов деятельности целесообразно поддерживать и надо ли
это делать вообще, а также, что еще более важно, знания срав-
нительного вклада каждого из них в соответствующую внешнюю
выгоду. Однако отсутствие у лиц, осуществляющих вмешательст-
во, сигналов в виде прибылей и убытков лишает их возможно-
сти выяснить маржинальный вклад того или иного конкретно-
го вмешательства.
Когда решения о финансировании и производстве услуг об-
разования и здравоохранения становятся прерогативой государ-
ственных агентств, потребители также становятся подвержен-
ными проблемам, связанным с коллективными действиями. По-
скольку люди теряют возможность индивидуально определять,
какая часть их ресурсов будет потрачена на образование и здра-
воохранение и какие формы оказания услуг получат поддержку,
из-за феномена рациональной неосведомленности избирателя
у них будут уменьшаться стимулы к принятию информирован-
ных решений. Следовательно, даже если существуют некие поло-
жительные внешние эффекты, генерируемые расходами на обра-
зование и здравоохранение, из-за стимулов к неосведомленности
потребителей и к захвату регуляторов производителями, а также
из-за неэффективности, которую может порождать такая систе-
ма, вряд ли эти эффекты будут генерироваться системой государ-
ственного предоставления услуг.
Информационная асимметрия и социальное государство
Нет никаких сомнений в том, что рынки в сфере образования
и здравоохранения сталкиваются с ограничениями из-за про-
блем, связанных с информационной асимметрией. Однако
с классической либеральной точки зрения нет оснований пред-
полагать, что государственные меры будут более робастными,
чем неинтервенционистский подход, поскольку рынки позволя-
ют конкурировать друг с другом различным методам, с помощью
которых можно справляться с проблемами информационной
1 Обсуждение фактических данных, касающихся влияния брака на
«счастье и здоровье», см., например, в Ormerod and Johns, 2007.
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 261
асимметрии и отрицательного отбора, — точно так же, как они
подвергают сравнительной проверке конкурирующие продук-
ты и производственные процессы. Если неадекватность инфор-
мации создает потенциал для оппортунистического поведения,
то у организаций возникают конкурентные возможности для
привлечения потребителей путем разработки механизмов, де-
монстрирующих их приверженность отказу от злоупотребле-
ния информационными преимуществами. Подобно тому, как
бренды, франчайзинг и гарантии возврата денег представля-
ют собой предпринимательские инновации, позволяющие пре-
одолеть асимметрию информации на рынках, подобных рынку
подержанных автомобилей, можно ожидать, что в сфере образо-
вания и здравоохранения свободный рынок породит аналогич-
ные институциональные инновации. Работа Тули, посвященная
частному образованию в развивающихся странах, подтверждает
эти ожидания, сообщая о возникновении небольших предпри-
нимательских «сетевых школ» даже в некоторых беднейших со-
обществах. Несмотря на относительную «неосведомленность»
потребителей, качество образования, предоставляемого эти-
ми организациями, не только не соответствует представлени-
ям о «рынке лимонов», но, как правило, превосходит то, кото-
рое обнаруживается в государственном секторе (Tooley and Dix-
on, 2006; Tooley et al., 2007).
Рынки также позволяют решать вопросы совместимости сти-
мулов с помощью альтернативных моделей собственности. На-
пример, потребительские кооперативы зачастую возникали в ка-
честве собственников снабженческих предприятий на рознич-
ных рынках именно для того, чтобы решать проблемы качества
и безопасности пищевых продуктов (Ricketts, 2000). Когда потре-
бители оказываются в ситуации, в которой им приходится дого-
вариваться с поставщиками в условиях относительной неосве-
домленности, им может оказаться выгодно сформировать клуб,
владеющий товаропроводящей сетью, чтобы уменьшить возмож-
ности для эксплуатации. Будут ли выгоды от потребительского
кооператива перевешивать издержки администрирования то-
варопроводящей сети, зависит от масштабов соответствующей
информационной асимметрии. Действительно, в сфере здраво-
охранения до того, как получило широкое распространение го-
сударственное вмешательство, общества взаимопомощи и вза-
имного страхования создавали структуры кооперативного типа,
чтобы преодолеть слабость переговорной позиции нуждающихся
262 Часть И. Классический либерализм и будущее...
в медицинской помощи, — эти структуры оказались настолько
успешными в ограничении издержек, что именно медицинское
профессиональное сообщество лоббировало введение государст-
венного регулирования этих рынков на том основании, что име-
ла место «чрезмерная конкуренция», в результате которой у вра-
чей и других работников здравоохранения были низкие зарпла-
ты (Green, 1985; Грин, 2009).
В этой связи следует отметить, что многие описания «прова-
лов рынка» в сфере образования и здравоохранения на самом де-
ле относятся к практикам, которые должны рассматриваться как
предпринимательский успех в преодолении причин таких про-
валов. Например, в том, что касается отрицательного отбора,
стремление страховщиков дифференцировать страховые взно-
сы в зависимости от принадлежности к тем или иным классам,
скажем, основанным на возрастном или иных групповых крите-
риях, может рассматриваться просто-напросто как способ адап-
тации к чрезмерным издержкам, связанным с дифференциацией
продуктов на основе более индивидуализированных требований.
Хотя люди старшего возраста сильно отличаются друг от друга
по состоянию своего здоровья, пожилые люди или те, у кого уже
есть некая болезнь, в среднем требуют более высоких расходов,
чем иные группы. Хотя в «идеальном мире», наверное, было бы
более предпочтительным подстраивать продукты непосредст-
венно под индивидуальные обстоятельства, с точки зрения ро-
бастной политической экономии информационные издержки,
связанные с такого рода работой, были бы огромными. При на-
личии потенциала для отрицательного отбора отсутствие попы-
ток взимать с людей плату в соответствии с вероятностью воз-
никновения необходимости в лечении как раз и было бы призна-
ком «провала рынка» (Smith, 2007; Chapter 5). Но именно такова,
разумеется, ситуация в системах «с одним игроком», предостав-
ляющих услуги в соответствии с определяемыми правительством
критериями «потребности».
Все вышесказанное отнюдь не означает отрицания или за-
малчивания того факта, что в сфере образования и здравоохра-
нения сделать выбор может оказаться весьма затруднительно.
Там, где дело касается долгосрочных инвестиций, как это часто
бывает в случае образования, решение сменить поставщика услуг
может быть связано с очень большими издержками. Аналогично
в случае рынков медицинского страхования может оказаться так,
что качество страхового покрытия выявляется только в случае
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 263
серьезного заболевания, т.е. события, с которым потребитель,
вероятно, надеется сталкиваться настолько редко, что сравне-
ние альтернатив становится нежелательным. Однако потреби-
тели все-таки получают непосредственную обратную связь меж-
ду их решением выбрать того или иного поставщика услуг и ка-
чеством получаемых ими услуг. Силы конкуренции действуют
потому, что люди могут передавать друг другу информацию о сво-
ем опыте, потребители стремятся получить необходимые зна-
ния от родственников, друзей и коллег, а поставщики услуг кон-
курируют за репутацию и за получение одобрения от агентств
по аккредитации, которые сводят воедино информацию из ши-
рокого набора источников о конкретном опыте. С позиций ро-
бастной политической экономии важно то, что хотя эти рынки
и «несовершенны», они предоставляют среду, в которой сопер-
ничающие модели подвергаются проверке конкуренцией, а у по-
требителей и производителей есть стимулы к уменьшению ин-
формационной асимметрии. Со стороны потребителя, индивид
сохраняет контроль над тем, кто из поставщиков получает его
или ее деньги, а решение собрать дополнительную информацию
до совершения покупки в решающей степени определяет, какие
услуги он или она в реальности получит. Со стороны же произ-
водителя есть возможность получить прибыль, построив управ-
ление и организационные структуры, преодолевающие инфор-
мационную асимметрию и обеспечивающие репутацию добросо-
вестного поведения.
В противоположность классической либеральной модели,
государственное регулирование и/или предоставление услуг по-
рождает тенденцию к усугублению проблем совместимости сти-
мулов, что легко проиллюстрировать примерами из американ-
ского здравоохранения. Свободный рынок в здравоохранении
дал бы потребителям возможность выбирать из широкого на-
бора методов оплаты — от платы наличными для покрытия ре-
гулярных профилактических медицинских затрат до страховки,
предоставляемой работодателем или оплачиваемой самим че-
ловеком. На самом страховом рынке существовала бы открытая
конкуренция между базовыми программами, покрывающими
катастрофические события, такие как угроза смертельной бо-
лезни или инвалидизирующее состояние, и программами с бо-
лее широким охватом, когда платежи третьей стороны покры-
вают обширный спектр регулярных ситуаций. Однако в амери-
канском случае налоговые стимулы поощряют к использованию
264 Часть II. Классический либерализм и будущее...
страховок, предоставляемых работодателем, которые особен-
но подвержены информационной асимметрии, а регулятор-
ные предписания, требующие, чтобы регулярные процедуры
покрывались страховыми программами, уменьшают конкурен-
цию между более и менее всеобъемлющими схемами (Herzlinger,
2007; Shapiro, 2007: Chapter 3).
Каждый из упомянутых видов вмешательства углубляет про-
блемы совместимости стимулов в том, что касается контроля
издержек и качества. Оплата наличными создает для потреби-
телей мощные стимулы к снижению информационной асимме-
трии, поскольку они должны сразу оплачивать издержки лече-
ния, на которое предъявляют спрос, и могут сравнительно легко
сравнить издержки, качество и репутацию различных поставщи-
ков услуг. Следовательно, порождаемые налоговыми стимулами
искажения, отдающие преимущество предоставляемой работо-
дателем страховке, наносят особенно большой ущерб. Раз люди
теперь полагаются на оплату лечения третьей стороной, умень-
шаются стимулы к принятию чувствительных к издержкам реше-
ний. Этот «моральный риск» имеет место и в ситуации индиви-
дуальных страховых программ, но особенно сильно он проявля-
ется в случае страховых схем, предоставляемых работодателем,
когда последний несет издержки на покупку полиса. Наемный
работник обычно не видит, во сколько обходится соответству-
ющий медицинский пакет, — заработная плата меньше, чем мо-
гла бы быть в противном случае, но работники напрямую не ос-
ведомлены о том, какую зарплату они могли бы получать, если бы
работодатели не были вынуждены осуществлять часть выплат
в виде медицинской страховки. Вследствие этого стимулы рабо-
тодателей к поиску наиболее выгодных для потребителя страхо-
вых программ относительно невелики, а поскольку издержки ло-
жатся на наемных работников в целом, точно так же невелики
и стимулы к тому, чтобы каждый из работников в отдельности
учитывал издержки на оказание той помощи, на которую предъ-
являет спрос. Применение страхования, вероятно, является на-
иболее желательным способом финансирования лечения в ка-
тастрофических ситуациях, однако именно приобретаемые ин-
дивидуально страховые программы — т.е. как раз те, которые
дестимулируются налоговой системой, — предоставляют людям
больше информации и создают лучшие стимулы к тому, чтобы
учитывать издержки на лечение. Аналогичным образом регуля-
торные предписания не дают потребителям возможности видеть
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 265
разницу в расходах на страховые схемы с менее широким покры-
тием (т.е. более дешевые) и более широким покрытием (более
дорогие), а поэтому баланс между наличной оплатой услуг и стра-
хованием смещается в пользу последнего.
В то время как принятые в США методы государственного
вмешательства в отрасль здравоохранения увеличивают асимме-
трию информации, эта проблема еще ярче проявляется в так на-
зываемых системах с одним игроком, таких как британская Наци-
ональная служба здравоохранения. В такого рода системах и фи-
нансирование, и предоставление лечебных услуг контролируются
государством, а система цен практически полностью исключе-
на из взаимоотношений между пациентом и поставщиком услуг.
В результате у потребителей нет никакой возможности сравнить
издержки и выгоды конкурирующих моделей предоставления
услуг — более того, они поставлены в ситуацию практически пол-
ного неведения относительно издержек на получаемое ими лече-
ние. В отсутствие каких бы то ни было ценовых сигналов, дейст-
вующих в качестве стихийных ограничителей потребительского
спроса, единственным источником контроля качества и издер-
жек оказываются профессиональные провайдеры, занимающие-
ся рационированием услуг в соответствии с определяемыми пра-
вительством критериями «потребностей» пациентов. К вопросу
о том, обладает ли такая система этическими преимуществами по
сравнению с рыночной моделью, мы в свое время вернемся, од-
нако поддерживать систему, снижающую доступность информа-
ции об издержках, в качестве способа избавления от предполага-
емых «провалов рынка», обусловленных «неосведомленностью»
потребителей, есть большая ошибка. Точно так же вопрос о том,
уместно ли по этическим или эгалитаристским основаниям взи-
мать большую страховую премию с отдельных групп, таких как
пожилые люди, следует оставить на потом, но было бы ошибоч-
ным рассматривать систему, сознательно отделяющую лиц, полу-
чающих лечение, от издержек на это лечение, как более предпоч-
тительную по соображениям эффективности.
Когнитивные искажения и социальное государство
Институты социального государства отнюдь не являются наи-
лучшим способом решения проблем асимметрии информации,
но они ничуть не более результативны в качестве способа пре-
одолеть когнитивные искажения, на которых делает акцент
266 Часть П. Классический либерализм и будущее...
поведенческая экономика. Люди редко делают выбор на осно-
ве полной информации или совершенной рациональности, но
из этого не следует, что вмешательство государственных аген-
тов сделает их решения более рациональными. С одной сторо-
ны, нет оснований полагать, что работающие в администрации
эксперты сами не будут проявлять когнитивных искажений — та-
ких, например, как тенденция завышать ценность экспертного
знания. Но, что еще более важно, хотя ученые, исследующие по-
ведение, в принципе могут обладать лучшим знанием об искаже-
ниях, ограничивающих рациональность человеческого выбора,
тем не менее особое знание, необходимое для корректировки
тех или иных конкретных случаев иррационального поведения,
не является «данностью», имеющейся в распоряжении неко-
ей отдельной группы экспертов (Rizzo and Whittman, 2008). На-
против, разные эксперты по поведению имеют различающиеся
представления о мерах, которые надлежит принимать для прео-
доления тех или иных когнитивных искажений. И, кроме того,
детальным знанием причин, по которым люди делают именно
тот выбор, который они делают — будь то рациональный или ир-
рациональный, — с большей вероятностью будут обладать имен-
но те, кто делает соответствующий выбор.
Из приведенного выше анализа вытекает, что нужна конку-
ренция между различными стратегиями преодоления когнитив-
ных искажений. Среда, характеризуемая свободой объединения
и отделения, предоставляет многочисленные возможности для
того, чтобы справляться с такого рода проблемами, возникающи-
ми в процессе принятия решений. Например, люди могут присо-
единяться к клубам и добровольным объединениям, осуществля-
ющим разные формы социального и группового давления, влия-
ющие на их поведение в том или ином направлении. Разумеется,
религиозные объединения на протяжении долгого времени про-
тиводействовали потреблению алкоголя и стимулировали воз-
держание в разных сферах жизни. Как уже отмечалось ранее,
многие из ассоциаций взаимопомощи, существовавших в XIX
веке, в явном виде формировались по образцу «организаций по
воспитанию характера», поощряющих бережливость и дух неза-
висимости. Примерами разработанных в частном порядке стра-
тегий преодоления «слабоволия» и «близорукости», применяе-
мых в современном мире, могут служить разнообразные схемы
поощрения личной физической формы, предлагаемые медицин-
скими страховыми компаниями, а также такие механизмы, как
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 267
установление минимальной продолжительности абонементов
в спортзалы и начисление пени за слишком раннее снятие денег
с инвестиционных счетов.
Таким образом, классический либеральный подход не утвер-
ждает, что люди полностью рациональны, а предполагает, что
индивиды скорее будут обладать знанием о чертах собственно-
го характера, чем удаленные эксперты, сколь бы искусно послед-
ние ни владели методами поведенческой экономики. Например,
тот, кто склонен к «слабоволию», может найти полезным для се-
бя вступить в организацию, прививающую дисциплину, — ска-
жем, в армию, секцию восточных единоборств или любитель-
ский боксерский клуб, — при том что такой выбор может быть
совершенно неуместным в случае индивида, и без того проявля-
ющего сильный характер. Конечно, можно возразить, что у лю-
дей может не быть знаний и/или решительности для того, что-
бы воспользоваться такими стратегиями. Но если люди настоль-
ко лишены мотивации к решению проблем своего характера, как
подразумевается этим аргументом, то, по-видимому, едва ли есть
больше оснований считать, что те же самые люди проголосуют
за правительство, предлагающее подвергнуть их «либертариан-
скому патернализму».
В отличие от гибкости классического либерального подхода,
принудительное введение централизованно определяемых пред-
писаний и налогов является хронически нечувствительным к ин-
дивидуальным и культурным различиям. Например, государствен-
ные меры, предписывающие принудительное медицинское стра-
хование или принудительное участие в сберегательных планах,
есть не что иное, как дискриминация по отношению к тем, кто
предпочитает гибкость различных форм «непосредственной» или
«наличной» оплаты медицинских услуг, и к тем, кто сознательно
и искренне отдает предпочтение текущему потреблению по срав-
нению с будущим. Таким образом, чтобы поведенческая экономи-
ка не выродилась в более традиционные формы патернализма (не
говоря уж об авторитаризме) — претендующего на то, что он луч-
ше знает, каковы должны быть предпочтения людей, — совершен-
но необходимо, чтобы избранные способы вмешательства были
в состоянии различать, в каких случаях сделанный выбор явля-
ется результатом «слабоволия» или «близорукости», а в каких он
отражает действительные, неискаженные предпочтения. Но цен-
трализованно устанавливаемые и навязываемые регулятивные
нормы и налоги неспособны идентифицировать такие различия.
268 Часть II. Классический либерализм и будущее...
Коммунитаристские возражения
Рассмотренная выше аргументация против классического либе-
рализма, основанная на идее «провалов рынка», ставит в центр
внимания предполагаемую неэффективность гражданского об-
щества и рынка. Однако с коммунитаристских позиций пробле-
ма состоит в другом: ценности, которым благоприятствуют эти
институты, не соответствуют природе предметов, переданных
в ведение социального государства. Считается, что центральная
роль принципа «ухода» в классическом либерализме подразуме-
вает, что все блага должны рассматриваться как товары; кроме
того, утверждается, что либеральный подход игнорирует воз-
можность того, что рыночные отношения будут подрывать та-
кие ценности, как реципрокность и солидарность. У этой аргу-
ментации, приводимой в конкретном контексте социального го-
сударства, есть несколько аспектов.
Против классического либерализма часто выдвигается обви-
нение, что введение коммерческого измерения в такие области,
как социальная защита, образование и здравоохранение, заменя-
ет отношения, основанные на доверии к профессионализму, уз-
кими принципами контрактных отношений, в рамках которых
люди озабочены главным образом собственными интересами,
а не «этикой заботы» по отношению к другим участникам. В крат-
кой форме этот аргумент выражается в утверждении, что рынки
подрывают этос «общественного служения». Утверждается, что
в условиях, когда очевидным образом присутствует асимметрия
информации, поведение, направленное на получение прибыли
и не ограничиваемое этосом служения согражданам, будет при-
водить к эксплуатации тех, у кого информации недостаточно для
того, чтобы сделать правильный выбор. С коммунитаристской
точки зрения это лишь один пример необходимости «держать
рынки в узде» ради поддержания базовых ценностей деятельнос-
ти, учитывающей других людей, — ценностей, на которых осно-
вываются рынки, но которые они не способны производить са-
ми (Hodgson, 1998).
Второй, но связанный с первым аргумент утверждает, что
денежный обмен и принцип ухода подрывает общественные от-
ношения, основанные на привязанности и дружеских чувствах.
Например, связи, находящие отражение в семье и дружбе, ока-
зались бы разрушены, если бы их участники усвоили менталь-
ность, основанную на «расчете издержек», когда каждый ожидает
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 269
выплаты вознаграждения за потраченное время и принесен-
ные дары. Сущность таких взаимоотношений состоит в том, что
они представляют собой принятие на себя долгосрочных обяза-
тельств, когда представление о благе требует более широкого по-
нимания самого себя — такого, при котором благо для себя вклю-
чает составной частью благо для тех, к кому человек привязан.
Лица, к которым относится благо, представляют собой не изо-
лированных индивидов, а людей, рассматривающих друг друга
как членов сплоченного союза. Утверждается, что безличность
принципа ухода, имеющая место в случае рынков, подрывает та-
кого рода взаимоотношения, поскольку в таких ситуациях, как
брак и дружба, ключ к успеху заключается в решимости не ухо-
дить при первых же признаках неудовлетворенности или напря-
жения (Anderson, 1990). Готовность найти время на то, чтобы
выслушать другого человека, понять его точку зрения и вступить
с ним в диалог, чтобы проработать общие проблемы, — вот что
здесь требуется. С коммунитаристских позиций успешное предо-
ставление социальной защиты, образования и здравоохранения
точно так же зависит от принятия на себя долгосрочных обяза-
тельств — тех, что существуют между донорами и реципиентами
социальных пособий, старыми и молодыми, преподавателями
и учащимися, врачами и пациентами. Если рассматривать вопрос
через такую призму, эти общие связи гражданства и идентично-
сти будут поддерживаться только в том случае, если люди будут
вынуждены вступать в демократический диалог друг с другом вме-
сто того, чтобы иметь возможность выйти из контрактных отно-
шений в поиске «более выгодной сделки».
В основе этих возражений лежит вера в то, что не все блага
должны рассматриваться как товары, обмен которыми возможен
на рынке, и что если ценность блага не может найти отражение
посредством рыночного механизма, то предпочтение должно от-
даваться альтернативным институтам, делающим упор на другом
наборе этических норм. В частности такие ценности, как друж-
ба, солидарность, хорошее здоровье и просвещение посредст-
вом образования, не являются «потребительными ценностями»,
которые могут продаваться или покупаться. Процесс наделения
денежной ценой нанес бы ущерб соответствующим ценностям.
Приписывание весового коэффициента, скажем, в 50 000 ф. ст.
получению всестороннего образования и в 100 000 ф. ст. под-
держанию хорошего здоровья означало бы игнорирование сущ-
ности того, что по своей природе представляют собой блага, не
270 Часть И. Классический либерализм и будущее...
могущие быть товаром (Sunstein, 2003: 88). В этом контексте счи-
тается, что социал-демократические процедуры лучше отража-
ют ценности, воплощаемые в социальных пособиях, образова-
нии и здравоохранении. Вместо размещения ресурсов в соответ-
ствии со способностью и готовностью платить решения должны
отражать аргументированные суждения граждан в отношении
статуса определенных идеалов, воплощаемых в благах, о кото-
рых идет речь. Например, в случае образования, в то время как
рыночная система позволяла бы родителям уходить от тех школ,
которые не удовлетворяют их вкусам, с коммунитаристской точ-
ки зрения преимущество системы публичного обеспечения эти-
ми услугами состоит в том, что она предоставляет форум, на ко-
тором люди должны пытаться убедить других в обоснованности
доводов, лежащих в основе их конкретной концепции образова-
тельных ценностей. В этом свете государственная система, в ко-
торой блага предоставляются на универсальной, не допускающей
исключений основе и уход из которой запрещен, побуждает лю-
дей к вовлечению в социальный процесс предъявления обосно-
ваний. Именно в этом процессе предъявления обоснований для
своих решений и состоит уважение к другим людям, и именно он
укрепляет общие узы гражданства (Anderson, 1990:2001—2002).
Классический либерализм
и «этос общественного служения»
Ядро коммунитаристской аргументации состоит в предположе-
нии, что в классической либеральной системе преимущество от-
дается отношениям, основанным на преследовании узких свое-
корыстных интересов. Но это предположение, играющее цен-
тральную роль в коммунитаристской критике, просто-напросто
ложно. Поддержка либерального рынка подразумевает, что ин-
дивиды и организации должны иметь возможность вступать
в отношения с другими и прекращать их тогда и так, когда и как
считают нужным, — но при этом ничего не говорится о содержа-
нии обязательств и ценностей, которые могут находить отраже-
ние в соответствующих решениях о приходе и уходе. В рамках
рынков сосуществует множество организаций с разными вну-
тренними культурами и системами ценностей: например, неком-
мерческие организации, кооперативы, партнерства и ассоциа-
ции взаимопомощи могут попытаться развить внутренний этос
и культуру служения, которая будет отличаться от корпоратив-
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 271
ной культуры управляемых собственниками фирм и акционер-
ных компаний. Даже акционерные общества часто стремятся
культивировать у себя определенный набор ценностей и органи-
зационную культуру для того, чтобы занять и удерживать ту или
иную рыночную нишу. В свете этого нет никаких оснований ут-
верждать, что классическая либеральная альтернатива подрыва-
ла бы «профессиональные ценности» в сфере социальных услуг.
Существует немало сфер жизни, где денежные сделки совмести-
мы с «этикой заботы» по отношению к собственному клиенту, —
очевидным примером могут служить личные услуги наподобие
тех, что предоставляются адвокатами. На рынках могут дейст-
вовать — и действуют — профессиональные ассоциации и орга-
низации, устанавливающие стандарты, которые выполняют
функции, аналогичные франчайзингу и воплощенному в брен-
дах капиталу, чему сопутствует конкуренция за репутацию меж-
ду различными кодексами поведения. Вследствие этого есть все
основания ожидать, что демонстрация приверженности ценно-
стям «общественного служения» выступала бы в качестве весьма
важного параметра, с помощью которого провайдеры соответ-
ствующих услуг могли бы стремиться привлекать потребителей.
Государственное же предоставление услуг и регулирование
не только не поддерживает конкуренцию по параметрам профес-
сионализма и этики, но и зачастую способствует ее подавлению.
Например, Риккетс (Ricketts, 2000) продемонстрировал, каким
образом регулирование отрасли финансовых услуг в Великоб-
ритании могло послужить причиной усиления тенденции к от-
казу от структур совместной собственности вроде тех, которые
прежде обеспечивались строительными обществами, действо-
вавшими на кооперативной основе. В условиях детального регу-
лирования кредитования, осуществляемого ныне государствен-
ными органами (такими как британское Управление по финан-
совым услугам), у финансовых институтов больше нет особых
причин конкурировать друг с другом на основании репутации
и этоса. Прежде люди часто предпочитали строительные обще-
ства и кредитные кооперативы на основании более низкого ри-
ска и воплощенных в их системах управления ценностей, несмо-
тря на то что ставки доходности могли быть ниже тех, что пре-
доставлялись обычными банками. Теперь же, когда управление
финансовыми организациями централизованно регламентиру-
ется, у людей практически нет причин предпочесть банк, дейст-
вующий на кооперативной или неприбыльной основе, обычным
272 Часть И. Классический либерализм и будущее...
предприятиям, находящимся в собственности инвесторов, кото-
рые склонны конкурировать в большей степени с помощью цен.
В сфере деятельности социального государства этот процесс цен-
трализованно навязываемой стандартизации по всем признакам
зашел еще дальше. Там, где образование и медицинское обслу-
живание по большей части контролируется финансируемыми за
счет налогов агентствами, у производителей мало или совсем нет
возможностей для конкуренции, будь то за счет цен или за счет
этики. В таких условиях производители не могут дифференциро-
вать свою продукцию по параметрам цены или ценностей и со-
ответственно не могут получать от людей непосредственные фи-
нансовые сигналы, указывающие, какому именно соотношению
ценовых и этических факторов отдается предпочтение.
Классический либерализм и реципрокность
Подобно тому, как классический либеральный режим не проти-
воречит профессиональным ценностям, не враждебен он и ре-
ципрокности. То, что люди свободны уйти и вступить в другие
взаимоотношения, не делает невозможным развитие профес-
сиональных связей. Хотя, когда речь идет о личных узах, мен-
тальность, основанная на «расчете издержек», действительно
подрывала бы их основу, из этого не следует ни то, что учет из-
держек в них полностью отсутствует или должен полностью от-
сутствовать, ни то, что свобода людей прекращать такие взаи-
моотношения является дестабилизирующей по своей природе.
Например, если дело касается дружбы, то тот, кто всегда готов
получать подарки и любезности, но никогда не предложит по-
дарка и не окажет любезности другому, вряд ли будет долго оста-
ваться чьим-либо другом.
В чем коммунитаристская критика, возможно, более обосно-
ванна, так это в том, что касается безличного характера многих
рыночных взаимоотношений. Однако в той мере, в какой это на-
блюдение является точным, совершенно не очевидно, что эта
безличность объясняется денежным обменом как таковым. Как
могут не быть безличными отношения, соответствующие при-
роде большого и высокомобильного общества, в которые вовле-
чено большинство людей? Такие ценности, как реципрокность,
могут быть робастными лишь в ситуациях, когда у человека име-
ется определенная история взаимодействия с другим лицом или
группой и когда он обладает детальным знанием о том вкладе
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 273
в отношения, который вносил и вносит его друг, сосед или кол-
лега. Реципрокность — это ценность, которая может культиви-
роваться в ситуациях, когда у людей есть конкретная история
жизни в условиях отношений друг с другом, но бессмысленно
говорить об этой ценности применительно к отношениям с аб-
страктными группами, такими как «граждане», «община» или
«общество», состоящими из людей, которые по большей части
являются друг для друга совершенно посторонними (см., напри-
мер, Schmidtz, 2006: 91—93). Как человек может знать, с какой
конкретной «частичкой общества» ему следует устанавливать от-
ношения реципрокности и, что еще важнее, действительно ли
соответствующие акторы заслуживают этого больше, чем другие
потенциальные претенденты на его внимание? Применительно
к этой ситуации предположение, что социальное государство не-
которым образом выступает институциональным воплощени-
ем реципрокности и взаимной симпатии, совершенно неправдо-
подобно. Предоставление социальной поддержки, образования
и медицинских услуг гигантской безличной бюрократией едва ли
соответствует тому уровню взаимной близости, который мы об-
наруживаем в семьях или в отношениях между друзьями и кол-
легами. Если конкуренция и возможности для ухода ограничи-
ваются, то именно в таких, более обезличенных условиях, ког-
да услуги предоставляются бюрократией, возникают проблемы,
связанные с уклонением от выполнения обязанностей, «безби-
летничеством» и хищнической «погоней за рентой».
Хотя обезличенность, возможно, является неустранимой
особенностью массового общества, классическая либеральная
альтернатива предоставляет людям по крайней мере некоторые
возможности выработать такие формы предоставления услуг, ко-
торые смогут создавать долгосрочные связи, отражающие в ми-
кромасштабе элементы реципрокности и общинных ценностей.
Чтобы обеспечить себе содержание в пожилом возрасте, меди-
цинское обслуживание и образование в рамках системы либе-
рального рынка, люди, конечно, могут отдавать предпочтение
безличным деловым контрактам, но у них также есть и вариан-
ты получения этих услуг путем присоединения к группам взаи-
мопомощи, обществам взаимного страхования или кооперати-
вам. Хотя, наверное, невозможно таким образом создать ту глу-
бину чувств, которая обнаруживается в более близких семейных
отношениях, люди как минимум имеют возможность присоеди-
ниться к определенному набору идеалов и могут, добровольно
274 Часть II. Классический либерализм и будущее...
участвуя в некоторой форме коллективного несения ответствен-
ности, выстроить с конкретной группой людей отношения, име-
ющие определенную историю. Для робастности таких инициа-
тив ключевое значение имеет добровольность финансирования,
потому что для того, чтобы иметь право получать выплаты, лю-
ди должны вносить личные взносы. С классической либеральной
точки зрения это оказывает глубокое социализирующее влияние,
поскольку индивиды вынуждены напрямую общаться с другими,
учиться брать на себя ответственность за свои действия и за по-
следствия, которые эти действия могут иметь для группы в це-
лом. Именно потому, что человек сам вносит свой вклад в такого
рода добровольные формы коллективных усилий, последние мо-
гут предоставить условия для развития чувства братства.
Таким образом, к «атомизации» людей будут приводить от-
нюдь не принципы свободы объединения и отделения, а прину-
дительный характер финансируемого за счет налогов социально-
го государства. Нет практически никакой возможности развиться
братским чувствам между налогоплательщиками и получателями
услуг от социального государства, большинство которых являют-
ся друг для друга совершенно посторонними и не имеют никаких
причин вступать друг с другом в отношения напрямую (Schmidtz,
1998: 76). Такие институты не только не поощряют реципрок-
ность, но и могут просто-напросто побуждать людей переклады-
вать ответственность за свои действия на других, о ком они не
обладают никаким или почти никаким личностным знанием. Бо-
лее того, с точки зрения многих эгалитаристов, одним из важней-
ших преимуществ социального государства является разрушение
связи между благосостоянием индивида, с одной стороны, и его
семейным происхождением и культурными связями, с другой. Хо-
тя было бы несправедливо возлагать на коммунитаристов вину
за возникающую вследствие этого обезличенность, все же пред-
ставляется, что на них лежит определенная доля ответственно-
сти за утверждения, будто государственные органы некоторым
образом оказываются вместилищами духа братства1.
1 Интересное обсуждение того, как институты социального государства
могут порождать асоциальный «гипериндивидуализм», см. в работе Трагар-
да (Tragardh, 1990), где описываются культурные эффекты шведской систе-
мы социального государства. Автор этой статьи отмечает, что предоставле-
ние государством профессионализированных услуг в таких сферах, как уход
за детьми, образование и забота о пожилых людях, по существу «освободило»
индивида от уз семьи и местной общины, которые раньше были главными
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 275
В свете сказанного существенно, что социальные государст-
ва, оцениваемые коммунитаристами как успешные — особенно
те, которые функционируют в скандинавских странах, — пред-
ставляют собой небольшие, зачастую культурно однородные об-
щества, по характеру во многом напоминающие, скажем, провин-
циальные города, существующие в рамках более разнородных
обществ, таких как Великобритания и США. Эта однородность
и сравнительно небольшие размеры могут в некоторой степени
компенсировать проблемы, связанные с обезличенностью пре-
доставления услуг. Однако, возможно, единственный способ под-
держивать соответствующую «общинную сплоченность» вопре-
ки «атомизирующему» воздействию социального государства —
«не допускать чужаков». Например, в Дании был принят один из
самых ограничительных режимов регулирования иммиграции
в Европе, и Швеция после многих лет следования либерально-
му иммиграционному режиму двинулась в том же направлении1.
И в других странах континентальной Европы более щедрая раз-
дача благ и услуг социальным государством идет рука об руку с бо-
лее ограничительным подходом к иммиграции, чем в США, где
социальные выплаты традиционно ниже (Miller, 1995).
Общины, компромиссы между ценностями
и социальное государство
Коммунитаристы правы, когда подчеркивают, что социальная за-
щищенность, просвещение посредством образования и хорошее
источниками социальной поддержки. Трагард, по-видимому, считает это
позитивными тенденциями, однако трудно понять, как можно было бы со-
гласиться с такой оценкой, выступая с коммунитаристских позиций. Берг
(Bergh, 2006) анализирует дестимулирующие эффекты, порождаемые швед-
ской системой социальной поддержки; см. также Johanssen, 2008.
1 Об этой взаимосвязи см. подробнее в Tebble, 2006. Следует отметить,
что общества, исторически бывшие более или менее однородными с этни-
ческой или культурной точки зрения, по-видимому, дольше способны сопро-
тивляться потенциально фрагментирующему воздействию иммиграции, чем
те, которые всегда были внутренне более разнородными. В первом случае,
вероятно, на иммигрантов будет действовать гораздо более сильное давле-
ние, подчиняющее их преобладающим в сообществе нормам, чем в общест-
вах, в которых сравнительно мало чувства общей идентичности. Этот фено-
мен вполне может служить объяснением того, почему такое общество, как
Швеция, было в состоянии принять довольно большое количество иммиг-
рантов, не вызывая — по крайней мере до относительно недавнего времени —
чрезмерной напряженности, связанной с чувством общей идентичности.
276 Часть П. Классический либерализм и будущее...
здоровье не являются товарами, которые можно продавать и по-
купать на рынке, такими как мороженое или сухие завтраки. Но
опять-таки признание этой истины никак не дискредитирует до-
воды в пользу свободы объединения и рыночного обмена как бо-
лее робастной альтернативы, чем социальное государство. Ар-
гументация в пользу «приватизации» не подразумевает, что
ценность всех благ может быть «измерена» с помощью общей де-
нежной шкалы. Деньги — это средство обмена, а не «мера» «со-
циальной ценности» в том смысле, как это подразумевается, на-
пример, экономистами, выступающими за применение «анализа
социальных выгод и издержек» для определения величины рас-
ходов на образование и здравоохранение. С классической либе-
ральной точки зрения важно лишь то, что люди по-разному оце-
нивают те или иные блага и именно эти различия создают воз-
можности для обмена. Люди могут и не обладать способностью
«назначить цену» таким вещам, как «просвещенность» или «цен-
ность жизни», но они, тем не менее, могут расходиться во мнени-
ях по поводу того, сколько они готовы потратить на образование
и здравоохранение в сравнении с иными способами использова-
ния своих ресурсов (это соображение см. в Gaus, 2003). Именно
эти различия могут стать причиной возникновения рыночных
цен — последние в целом отражают то, от чего маржинальный
покупатель готов отказаться ради получения соответствующе-
го блага. Но о ценах как таковых нельзя сказать, что они пред-
ставляют «полную ценность» того или иного блага для какого-ли-
бо конкретного индивида или группы — и это никоим образом
не следует из классического либерализма. Точно так же следу-
ет признать, что хотя такие блага, как «хорошее здоровье», — не
«товары», тем не менее средства получения этих благ не являют-
ся неограниченными ресурсами, которые должны быть исклю-
чены из процессов ценообразования и из конкурентной систе-
мы, в которой разные формы предоставления этих ресурсов под-
чинены дисциплине учета прибылей и убытков.
Раз не существует согласия относительно того, каким обра-
зом оценивать такие услуги, как образование и здравоохранение,
то, разумеется, нет и оснований предполагать, будто, требуя, что-
бы эти услуги предоставлялись финансируемой из налогов госу-
дарственной монополией — пусть даже подчиняющейся процеду-
рам совещательной демократии, можно добиться выработки об-
щей идентичности. В таких космополитических обществах, как
Великобритания и США, существует бесконечное множество
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 277
индивидуальных и культурных различий, основанных на пере-
секающихся идентичностях, и непонятно, почему эти различия
не должны воспроизводиться в плюралистической системе со-
циальной поддержки. Именно та широта, которую предоставля-
ет людям классическая либеральная система для реализации сво-
их различий, а не только для разговоров о них, создает возмож-
ности для инноваций и способствует взаимному обучению через
границы идентичностей, поскольку люди могут видеть различ-
ные интерпретации «общности», выражаемые теми или иными
индивидами и группами.
Конечно, некоторые коммунитаристы достаточно осторож-
ны, чтобы подчеркнуть, что они вовсе не приветствуют моно-
литное «национализированное» социальное государство, в ко-
тором содержание услуг определяется центральной бюрократи-
ей, не учитывающей локального знания и предпочтений граждан.
Например, Андерсон (Anderson, 1990: 200—201) утверждает, что
основанные на высказывании механизмы локального демократи-
ческого участия не обязательно будут навязывать «пресное еди-
нообразие в предоставлении услуг», но могут предоставить гра-
жданам больше возможностей «для реализации своих предпоч-
тений в качестве продуманных идеалов, а не просто частных
вкусов». Однако в конечном счете, независимо от того, действу-
ют ли люди исходя из «продуманных идеалов» или «просто част-
ных вкусов», мажоритарная система сокращает возможности для
экспериментирования. Если для того, чтобы избежать «пресно-
го единообразия в предоставлении услуг» необходима децентра-
лизация до уровня «местных общин», то, по-видимому, не может
быть никаких возражений против еще более радикальной децен-
трализации, предоставляющей индивидам и группам, составля-
ющим меньшинство, свободу присоединяться к конкурирующим
социальным службам и покидать их, а по ходу дела определять
и переопределять для себя контуры соответствующей «общины».
Эгалитаристские возражения
Коммунитаристское оппонирование классическим либеральным
институтам социальной поддержки сосредоточивается на «общ-
ности» и «реципрокности». С точки зрения же эгалитаристов,
несостоятельность классического либерализма состоит главным
образом в неспособности адекватно решать (и вообще решать)
вопросы социальной или распределительной справедливости.
278 Часть И. Классический либерализм и будущее...
Представители либеральной эгалитаристской традиции счи-
тают, что социальная справедливость требует, чтобы факторы,
находящиеся вне сферы ответственности индивида, не оказыва-
ли чрезмерного влияния на его жизненные шансы. Эгалитаризм
в варианте Ролза утверждает, что лишь малая доля того, что по-
лучают индивиды, является результатом актов выбора, за кото-
рые они могут считаться лично ответственными. От выбора не
зависит не только распределение природных талантов и соци-
ального происхождения, которое детерминируется лотереей ро-
ждения, но и способность наилучшим образом использовать те
активы, которые могут оказаться в распоряжении человека. Со-
гласно этой точке зрения, неравенство в доходах в той мере, в ка-
кой оно вообще оправданно, может быть совместимо со справед-
ливостью только в том случае, если оно способствует улучшению
положения «наименее благополучных» в абсолютном выраже-
нии. Для Дворкина же эгалитарная справедливость признает
большую роль за актами выбора, которые могут совершаться ин-
дивидами. «Равенство ресурсов» требует, чтобы люди не получа-
ли чрезмерных преимуществ и не теряли слишком много из-за
«слепой удачи» — под последней подразумеваются такие факто-
ры, как психическое и генетическое строение, а также экономи-
ческое наследство, которые люди не могут лично контролиро-
вать. Справедливость требует, чтобы разница в доходах возника-
ла вследствие того, какой выбор делают индивиды, а не различий
в их первоначальной наделенности ресурсами.
Какой бы из этих взглядов ни был принят, классическая либе-
ральная альтернатива социальному государству привела бы к ре-
зультатам, не соответствующим критериям распределительной
справедливости. Например, последователи Ролза поставят под
сомнение, что опора на взаимопомощь и благотворительность
обеспечит наименее благополучным людям доход, достаточный
для компенсации невыгодного положения, которое не есть ре-
зультат предшествующего выбора. Поскольку члены ассоциаций
взаимопомощи рекрутировались бы из числа бедных, размеры их
пособия по безработице и обеспечения в старости были бы суще-
ственно ниже, чем могли бы позволить себе более обеспеченные
люди. В то же время благотворительные организации могли бы
получить возможность оговаривать условия, без соответствия
которым помощь не предоставляется, — например, требования,
чтобы получатели занимались поисками работы или соответст-
вовали каким-либо другим нормам поведения. Но с точки зрения
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 279
концепции Ролза распределительная справедливость требует,
чтобы людям предоставлялся минимальный доход безо всяких
условий (Van Parjis, 1995). С другой стороны, согласно точке зре-
ния последователей Дворкина, добровольный характер помощи
бедным в классической либеральной системе позволял бы полу-
чателям выгод от слепой удачи отказаться от передачи ресурсов
тем, кто оказался несправедливо обделен в результате природ-
ной и социальной лотереи (Rakowski, 1991). В свете сказанно-
го не существует альтернативы государственному вмешательству
и предоставлению гарантированного государством вспомощест-
вования с целью обеспечения неблагополучным индивидам тех
ресурсов, которые им полагаются по праву.
Что касается образования и здравоохранения, последователи
Ролза рассматривают эти услуги в качестве «первостепенных со-
циальных благ», детерминирующих жизненные шансы, и утвер-
ждают, что классическая либеральная модель не способна предо-
ставлять их таким образом, чтобы гарантировать «честное равен-
ство возможностей». Например, в случае образования, система
свободного рынка может привести к тому, что люди с одинако-
выми природными способностями из-за разницы в доходах роди-
телей будут получать неравное количество и качество этих услуг
(Brighouse, 2000). В то же время на рынках услуг здравоохранения
на возможность получения высококачественного лечения людь-
ми, имеющими одинаковый уровень врожденных рисков заболе-
вания, могут влиять различия в возможностях приобретения ме-
дицинской страховки (Daniels et al., 1997). Социальная справедли-
вость требует, чтобы государство либо использовало свою власть
принуждения для предоставления этих благ всем, либо, сохраняя
элемент конкурентного предоставления услуг, уменьшало влия-
ние неравенства в покупательной способности посредством пе-
рераспределительного налогообложения, используемого для фи-
нансовой поддержки менее благополучных индивидов.
С точки зрения же последователей Дворкина, доступ к обра-
зованию и здравоохранению должен использоваться для воздей-
ствия на проявления неравенства, не являющиеся следствием
выбора, в частности на те генетические преимущества и недо-
статки, которые делают одних людей более талантливыми и здо-
ровыми, а других — менее способными и больше подверженными
заболеваниям. Что касается образования, государственная сис-
тема может считаться наилучшим образом пригодной для обес-
печения того, чтобы ресурсы направлялись тем, кто обделен
280 Часть П. Классический либерализм и будущее...
природными способностями. В той мере, в какой рынки в сфе-
ре образования допустимы, участие в них должно уравниваться
так, чтобы учитывались естественные недостатки — что может
потребовать, например, дополнительных затрат ресурсов на тех,
кто обделен талантами, чтобы они могли конкурировать на бо-
лее равных условиях. В сфере здравоохранения Дворкин отдает
предпочтение системе предоставляемого государством всеобще-
го медицинского страхования, призванного гарантировать лю-
дям с ограниченными возможностями и генетически склонным
к серьезному риску потери здоровья доступ к услугам здравоохра-
нения на более равных условиях. Опять-таки в той мере, в какой
дозволяется существование рынков в здравоохранении, неблаго-
получным людям должны предоставляться субсидии, чтобы ком-
пенсировать их неблагополучие (Dworkin, 1993).
Следующий шаг в этой эгалитаристской критике делается на
основе «политики различий». С точки зрения таких авторов, как
Янг, классический либерализм пренебрегает тем, каким обра-
зом гражданское общество и рынок воспроизводят «структур-
ное неравенство» в статусе, отражаемое в выраженных установ-
ках по отношению к группам, различающимся по принадлежно-
сти к экономическим классам, по этническому происхождению
и культурным ценностям (Young, 1990, 2000). Например, что ка-
сается помощи бедным, хотя взаимопомощь может приветство-
ваться в качестве одной из форм групповой солидарности, пола-
гаться на предоставление социальной помощи на добровольных
началах означало бы игнорировать то, что доходы беднейших со-
циальных групп отражают их позицию в иерархиях занятости,
детерминируемых представлениями о «заслугах» и «достоинст-
вах», разделяемыми менеджерами предприятий и другими доми-
нирующими группами социальных интересов. Аналогично бла-
готворительная помощь бедным будет тяготеть к воспроизвод-
ству поведенческих ценностей, которым отдают предпочтение
более высокостатусные группы, контролирующие выделение со-
ответствующих ресурсов. Следовательно, соображения социаль-
ной справедливости требуют не только перераспределения дохо-
дов, как желали бы либеральные эгалитаристы, но и перераспре-
деления социального статуса таким образом, чтобы члены менее
привилегированных групп могли в большей степени контроли-
ровать решения, влияющие на условия, в которых им приходит-
ся действовать. С точки зрения политики различий только госу-
дарственное финансирование и координация предоставления
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 281
услуг обладают достаточной силой, чтобы свести на нет неравен-
ство в доходах и социальном статусе. Соответствующий механизм
должен включать радикальную демократизацию предоставления
услуг, включая специальное представительство и поддержку по-
зиций менее привилегированных групп. Все решения, имеющие
отношение к распределению доходов, образованию и здравоох-
ранению должны быть подчинены процессу коллективного де-
мократического контроля, ограничивающего для частных акто-
ров возможности воспроизводства «проявлений структурного
неравенства».
Равенство, компромиссы между ценностями
и социальное государство
Хотя эгалитаристы придают распределительной справедливо-
сти первостепенное значение, разумные люди могут придержи-
ваться — и действительно придерживаются — несовпадающих
мнений по вопросам социальной справедливости. Когда взаимо-
действуют люди с разной историей и культурными ценностями,
сомнительно, чтобы равенство на деле получило высший прио-
ритет. Как доказывается в предыдущей главе, робастные инсти-
туциональные практики — это не те, которые постулируют пра-
вильность и справедливость некоего конкретного распредели-
тельного идеала, а те, которые создают условия для обучения
и открытий в том, что касается различных принципов справед-
ливости, и возлагают на людей ответственность за те распре-
делительные нормы, которым они решают следовать. Поэтому
с классической либеральной точки зрения эгалитаристские до-
воды в пользу социального государства просто-напросто при-
нимают без доказательства посылку, согласно которой действи-
тельно должна быть предпринята практическая попытка навя-
зать определенную распределительную норму в масштабах всего
общества. Отсутствие же согласия по поводу социальной спра-
ведливости свидетельствует о необходимости системы инсти-
тутов, которая давала бы людям возможность присоединяться
к институтам, регулируемым различными распределительны-
ми принципами, и покидать эти институты по своему желанию —
и именно этого позволила бы достичь мозаика добровольных
структур в рамках классической либеральной модели.
Таким образом, против эгалитаристской этики существуют
серьезные возражения. Но даже если допустить, что она имеет
282 Часть II. Классический либерализм и будущее...
определенную ценность, эгалитаристская поддержка социально-
го государства сама по себе вызывает недоумение. Даже в том не-
вероятном случае, если существует согласие по поводу надлежа-
щего принципа социальной справедливости, люди, тем не менее,
могут быть не склонны стремиться к реализации этого принци-
па, жертвуя всеми прочими ценностями, входящими составной
частью в их представления о том, какой должна быть жизнь. На-
пример, они могут не пожелать сократить уровень преступности
до минимально возможного, поскольку альтернативные издер-
жки в виде уменьшения материального благосостояния, а также
ухудшения здравоохранения и образования могут быть сочте-
ны чрезмерными. Аналогично люди, поддерживающие «прин-
цип различия» или «равенство ресурсов», могут не пожелать по-
тратить все свои ресурсы на максимальное улучшение положе-
ния наименее благополучных или на компенсацию недостатков
и слабостей, не являющихся следствием выбора, если эти ценно-
сти будут находиться в конфликте с другими ценностями, таки-
ми как экономический рост, высокие результаты в образовании
или более высокие средние стандарты медицинского обслужи-
вания. Как отмечалось ранее в этой главе (с. 233—238), имеет-
ся достаточно большой массив фактических данных, подтвер-
ждающих, что более высокая степень перераспределения дохо-
дов действительно приводит к снижению экономического роста,
а следовательно, и к уменьшению общего количества и качества
возможностей, доступных обществу в целом. Аналогично госу-
дарственный контроль над финансированием и предоставлени-
ем услуг образования и здравоохранения может приводить к об-
щему снижению стандартов оказания услуг — в том числе и для
бедных людей.
Учитывая неизбежность подобных конфликтов и компро-
миссов между целями и ценностями, естественно предполо-
жить, что проявления неравенства в образовании и медицин-
ском обслуживании могут отражать компромиссы между равен-
ством и другими ценностями. Поэтому совершенно непонятно,
почему проявления неравенства в условиях классической либе-
ральной модели должны обязательно рассматриваться как не-
справедливые. Например, в случае здравоохранения неравен-
ство может выступать необходимым условием более высоких
стандартов услуг, потому что новейшие методы лечения не мо-
гут мгновенно стать доступными для всех. Наиболее передовые
лекарства и лечебные процедуры могут оказаться чрезвычайно
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 288
дорогими, так что будет возможно предоставить их только срав-
нительно небольшому числу пациентов. Но благодаря тому, что
доступ к такому лечению будет первоначально иметь лишь не-
большое число людей, появится возможность в будущем гораздо
шире распространить лучшие и более дешевые методы (Hayek,
I960: Part 1). В этом контексте одна из причин, по которым за-
траты на медицинское обслуживание в США относительно вы-
соки по международным стандартам, состоит в том, что эта
страна вкладывает большие суммы в поиск и испытание новых
лекарств и методов лечения, которые затем становятся доступ-
ными всему остальному миру по гораздо более низким ценам (см.
об этом в Cowen, 2006; Herzlinger, 2007).
В той мере, в какой эгалитаристы вообще признают наличие
таких компромиссов между ценностями, они заявляют, что об-
щество, основанное на взаимном уважении, требует, чтобы они
были предметом рассмотрения на публичном форуме и реализо-
вывались социальным государством через коллективные реше-
ния. Но с классической либеральной точки зрения непонятно,
откуда следует такой вывод. Люди могут отличаться друг от дру-
га тем, в какой степени они готовы поступиться эгалитаристски-
ми критериями ради других целей, и знание об этих ценностях
не может быть «данностью» для некоторого единого центра, на
который возложена обязанность управлять размещением ресур-
сов. В классической либеральной модели неравенство в досту-
пе будет отражать огромное число факторов, включая индивиду-
альные усилия, случайности рождения и культурного наследова-
ния, а также игру спроса и предложения. Напротив, в условиях
более государствоцентричной модели те, кто выиграет от того
или иного неизбежного факта неравенства в доступе к образо-
ванию и здравоохранению, будут отбираться согласно критери-
ям, определяемым политиками. Следовательно, доводы за соци-
альное государство сводятся к убежденности в том, что компро-
миссы между ценностями, которые служат отражением актов
выбора со стороны миллионов индивидов и гражданских объе-
динений, должны быть заменены личными суждениями лиц, на-
деленных политической властью. Однако если система институ-
тов сосредоточивает власть принимать решения о размещении
ресурсов в руках политической элиты, у которой может не быть
знаний и стимулов, позволяющих «проявлять уважение» к цен-
ностям тех, кого она якобы «представляет», то в такой системе
нет ничего эгалитарного.
284 Часть П. Классический либерализм и будущее...
Конкуренция, стихийный порядок и эгалитарная
справедливость
Поскольку неизбежны разногласия по поводу надлежащих ком-
промиссов между эгалитарными критериями и прочими цен-
ностями, возникают сомнения в желательности унитарной си-
стемы предоставления вспомоществования. Однако дополни-
тельные возражения возникают даже в том случае, если имеется
согласие в отношении того, в какой степени главным предметом
заботы должны быть «принцип различия» или «равенство ре-
сурсов». С точки зрения робастной политической экономии из
признания того, что люди могут разделять абстрактные цели та-
кого рода, не следует, что существует согласие насчет того, как
к ним двигаться, или что знание о том, как достичь желаемого
распределительного паттерна, доступно органам социального
государства.
Следовательно, в той мере, в какой достижение целей со-
циальной справедливости возможно или желательно, более ро-
бастный метод для этого — полагаться на процесс конкурентно-
го экспериментирования. Рассмотрим, например, принцип раз-
личия Ролза. Как иллюстрирует приведенное ранее сравнение
Швеции и Швейцарии, некоторые страны способны уменьшить
количество регистрируемых случаев бедности, тратя на это го-
раздо меньше денег налогоплательщиков, чем другие. По-види-
мому, имеется множество вопросов, касающихся способов улуч-
шения положения самых неблагополучных людей, на которые до
сих пор не получено ответов. Увеличивает ли перераспределение
уровень жизни бедных в абсолютном выражении? Должно ли пе-
рераспределение сопровождаться условиями, касающимися из-
менения поведения, и должно ли оно осуществляться посредст-
вом денежных выплат или предоставления «бесплатных» услуг,
таких как образование и здравоохранение? «Базисная структура
общества» должна не постулировать, будто ответы на эти вопро-
сы заранее «даны» административной ветви власти, а создавать
условия для открытия и трансляции знания о том, «кто, что и ко-
му должен отдавать».
Ни один индивид и ни одна группа не может обладать зна-
нием, нужным для конструирования паттерна размещения ре-
сурсов в масштабе всего общества, согласующегося с принци-
пом различия. Тем не менее индивиды могут действовать на ос-
нове собственного знания о доступности ресурсов и о способах
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 285
помощи в том или ином конкретном случае бедности — знания,
о котором лишь они сами могут быть осведомлены. Будет ли со-
здание данным человеком нового предприятия и предоставле-
ние занятости выходцам из беднейших слоев населения наилуч-
шим способом, каким он мог бы помочь обездоленным? Не луч-
ше ли будет, если некто пойдет на высокооплачиваемую работу
и будет отдавать часть дохода благотворительной организации?
Есть ли у человека способности к работе в сфере благотвори-
тельности? Если благотворительная деятельность действитель-
но является для данного лица наилучшим способом оказать по-
мощь обездоленным, должна ли она принимать форму денежных
взносов или же прямых затрат времени на помощь менее благо-
получным путем предоставления образования, врачебных сове-
тов или привития им ценностей, способствующих повышению
благосостояния? Любая такая попытка удовлетворить требова-
ниям принципа различия на микроуровне будет оказывать вли-
яние на действия бесчисленного множества далеких и незнако-
мых акторов — действия, учитывающие знания о соответствую-
щих конкретных обстоятельствах, — и сама будет находиться под
влиянием таких действий. При наличии такого «разделения зна-
ния» координация может лучше всего достигаться стихийной
подстройкой, когда корректирующие изменения децентрали-
зованной деятельности распространяются из множества точек
принятия решения посредством словесной передачи, имитации
и сигналов, генерируемых системой цен1. В условиях сложности
и распределенного знания не может быть никакой «гарантии»,
что будут удовлетворены требования «принципа различия», и ни-
когда нельзя сказать, знают ли индивиды о том, вносят ли их дей-
ствия вклад в реализацию этого принципа.
Проблема осложняется тем, что применительно к забо-
те об интересах наименее благополучных отсутствует ясный
1 Стоит сравнить в этой связи реакцию бюрократических агентств и част-
ных акторов на последствия урагана Катрина в США. Очевидно, что жер-
твы стихийного бедствия принадлежали к «наименее благополучным» со-
циальным группам, и, тем не менее, паутина бюрократических процедур
и контроль со стороны таких организаций, как Федеральное агентство по
чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency Management Agency, FEMA),
не позволили государственным организациям осуществить меры, адекват-
ные ситуации на местах. Напротив, частные агентства, такие как сеть супер-
маркетов Walmart и различные местные церкви, в считанные часы наладили
снабжение людей в Новом Орлеане водой и другими предметами первой не-
обходимости. Обсуждение этих событий см. в Sobel and Leeson, 2007.
286 Часть И. Классический либерализм и будущее...
и очевидный критерий успеха или неудачи, аналогичный сис-
теме учета прибылей и убытков в контексте конкурентного ры-
ночного обмена. Отсутствие таких прямых сигналов замедляет
процесс, посредством которого обнаруживаются и распростра-
няются лучшие практики. Но даже с учетом этого, при отсутст-
вии системы рамок, позволяющей осуществлять процесс конку-
ренции и имитационного обучения, перспективы «максимиза-
ции положения наименее благополучных» могут оказаться еще
более туманными.
Разумеется, процессу открытия в данной области может
в определенной степени способствовать сравнение относитель-
ной эффективности различных социальных государств в рамках
того или иного территориального ареала. Однако в терминах ин-
ституциональной робастности нет никаких особых оснований
выделять национальное государство в качестве главной единицы
экспериментирования. Структуры конкурентного федерализма,
как в случае Швейцарии, могут обеспечивать более децентрали-
зованную систему предоставления социальной помощи, которая
вместо того, чтобы полагаться на некое центральное агентство,
могущее лишь опробовать различные экспериментальные моде-
ли последовательно одну задругой, допускает одновременное ис-
пытание и сравнение соперничающих моделей социальной под-
держки. Более того, если признать логику эволюционистской ар-
гументации в пользу децентрализации, то нет никаких причин,
по которым еще более радикальная децентрализация принятия
решений до уровня отдельных индивидов и добровольных объ-
единений, которые действуют в условиях мозаики институтов,
составляющих рынок и гражданское общество, не сможет более
эффективно обеспечить достижение тех же самых результатов.
В любом случае должно быть совершенно ясно, что если отка-
заться от допущения о знании как о «данности», то нет никаких
очевидных оснований, по которым из эгалитаристских посылок
будет логически вытекать поддержка социального государства.
Аналогичные аргументы применимы и к «равенству ресур-
сов» по Дворкину. Когда дело доходит до необходимости ре-
шить, что является «слепой удачей», а что «удачей вследствие
выбора», среди эгалитаристов начинаются разногласия (Агпе-
son, 1996). Например, в области образования некоторые хоте-
ли бы предоставить компенсацию тем, кто обделен природными
способностями и интеллектом. Другие, однако, утверждают, что
в случае умных людей, которым для достижения полной личной
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 287
самореализации может потребоваться более высокий уровень за-
трат ресурсов на образование, их «более дорогостоящие запро-
сы» не есть следствие их «выбора», а потому такие люди явля-
ются жертвами слепой случайности. Дополнительную иллюстра-
цию трудностей отнесения к категориям слепой удачи и удачи
вследствие выбора предоставляет здравоохранение. Совершен-
но неочевидно, что взимание более высоких страховых премий
с людей, генетически предрасположенных к заболеваниям, не-
справедливо. В той мере, в какой здоровье не полностью опре-
деляется генетическими факторами, наличие ценовых сигна-
лов может обеспечивать стимулы и информацию, поощряющие
изменения в поведении (например, в диете) и тем самым вести
к улучшению здоровья человека в будущем. В этом случае ценовые
сигналы могут предоставлять людям возможность делать лучший
выбор — и тем самым переходить в область «удачи вследствие вы-
бора» , — в то время как отсутствие таких финансовых стимулов
к изменению поведения может усиливать господство «слепой не-
удачи» (Shapiro, 2007: Chapter 3). Рассмотрение примера гендер-
ных различий также позволяет лучше понять такого рода труд-
ности с определением составляющих слепой удачи. Женщины
могут считаться получателями незаслуженных преимуществ, по-
скольку для них ожидаемая продолжительность жизни обычно на
несколько лет больше, чем для мужчин (Kekes, 1997). В то же вре-
мя, поскольку мужчины, по-видимому, выигрывают от патриар-
хальных социальных ценностей и обычно получают более высо-
кие доходы, предоставление им компенсирующих выплат может
быть сочтено неуместным, и тогда «обменная пропорция» между
этими разновидностями удачи окажется неопределенной.
Приведенные примеры демонстрируют еще одну сложность.
Несколько упрощая, если должна быть достигнута социальная
справедливость, то необходимо предоставлять компенсацию ин-
дивидам, а не сосредоточиваться в таких категориях людей, как
«женщины», «мужчины», «бедные» или «люди с ограниченными
возможностями». Не все члены этих «групп» получают выгоды
или страдают от «несправедливости» (Kekes, 1997). Некоторые
мужчины бедны, а некоторые женщины богаты — следователь-
но, исходя из эгалитаристских оснований, было бы несправед-
ливо не предоставлять компенсацию конкретным бедным муж-
чинам за более низкую ожидаемую продолжительность жизни
на том лишь основании, что они принадлежат к группе, у кото-
рой средний доход выше. Аналогично некоторые бедные люди
288 Часть И. Классический либерализм и будущее...
могут получать преимущества благодаря уму, красивой внешно-
сти и жизнерадостному характеру, в то время как другие, рожден-
ные в богатых семьях, лишены интеллекта, физически непривле-
кательны и страдают депрессией — так что было бы несправедли-
во изымать ресурсы у вторых в пользу первых. Иными словами,
при рассмотрении неравенства, не являющегося следствием вы-
бора, фокусироваться лишь на одном его измерении, пренебре-
гая при этом остальными измерениями, означало бы менять од-
ну форму несправедливости на другую. «Равенство ресурсов» тре-
бует, чтобы всем факторам, не являющимся следствием выбора
человека, но оказывающим влияние на его первоначальную наде-
ленность ресурсами, была приписана ценность, в соответствии
с которой должны предоставляться компенсаторные выплаты.
Должно быть ясно, что, учитывая множество факторов, вно-
сящих свой вклад в над елейность человека ресурсами, достиже-
ние равенства было бы адски сложной задачей. Эта сложность
вырастает многократно, если учесть, что разворачивающиеся во
времени акты выбора, осуществляемые различными индивидами
и группами, постоянно изменяют ценность имеющихся у челове-
ка ресурсов. Например, развитие технологий и изменение спро-
са на те или иные навыки меняет ценность «талантов», которы-
ми обладают различные акторы, но которые ими не выбираются.
Точно так же воздействие тех или иных образовательных моде-
лей может обнаруживать в людях различные «не выбиравшиеся
ими» таланты, о которых они прежде и не подозревали. Иннова-
ции же в сфере медицинского обслуживания изменяют количест-
во ресурсов, необходимых для лечения генетически детермини-
рованных патологий. Ввиду этой сложности трудно себе предста-
вить, как можно было бы сделать знание факторов, влияющих на
над елейность человека ресурсами, доступным государственному
агентству, на которое возложена задача осуществлять на практи-
ке эгалитаристскую программу социального страхования.
Конечно, можно выдвинуть возражение, что вышеприведен-
ный аргумент против социального государства не является ре-
шающим по тем же соображениям, по которым выше в настоя-
щей главе оспаривался анализ частного страхования на основе
понятия «провалов рынка». Тот факт, что частные страховщи-
ки не имеют возможности подстраивать свои продукты под ин-
дивидуальные характеристики потребителей, а опираются, как
правило, на классификационные группы, не является доказа-
тельством «провала рынка» в случае, когда издержки подстройки
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 289
полиса под специфические требования клиента чрезмерно высо-
ки. Точно так же можно предположить, что неспособность фи-
нансируемой государством страховой схемы идеально компен-
сировать неравенство, не являющееся следствием выбора, не
есть аргумент против робастности такой схемы, учитывая слож-
ность задачи. Однако цель представленной здесь аргументации
не в том, чтобы доказать невозможность, не говоря уж о нежела-
тельности, идеальной компенсации таких проявлений неравен-
ства. Утверждение состояло в том, что в условиях наличия раз-
ногласий по поводу того, что должно считаться «слепой удачей»,
а что «удачей вследствие выбора», а также ввиду того, что факто-
ры, специфичные для конкретных обстоятельств индивидов, не
могут быть доступны далекой от них бюрократии, сочетание лич-
ных даров, филантропии, взаимопомощи и конкурентного пре-
доставления услуг страхования в условиях классической либе-
ральной модели, вероятно, лучше приспособлено для разреше-
ния сложностей, о которых идет речь. В условиях классического
либерализма не будет достигнуто равенство ресурсов, но прину-
ждение людей к финансированию всеохватного социального го-
сударства, по-видимому, совершенно непригодно для компенса-
ции проявлений «несправедливости», имеющих столь сложные
и постоянно меняющиеся причины1.
Угнетение и социальное государство
Несмотря на то что социальное государство вряд ли способ-
но «максимизировать положение наименее благополучных» или
обеспечить «равенство ресурсов», можно попытаться доказать,
что оно лучше всего пригодно для устранения «структурного не-
равенства» в доходах и культурном статусе, т.е. того неравенст-
ва, которым озабочена «политика различий». Этот аргумент ис-
ходит из посылки, что соответствующие виды неравенства фак-
тически «воспроизводятся» через децентрализованные акты
выбора в рамках гражданского общества и рынка. Однако при
1 Иными словами, воздействие «удачи» не может быть устранено разрабо-
танными соответствующим образом политическими мерами хотя бы по той
причине, что в условиях отсутствия знания, необходимого для определения
того, за что и в каких размерах должна выплачиваться компенсация, мно-
гие индивиды окажутся в «неудачной» ситуации, поскольку будут вынужде-
ны жить под управлением режима, который, с их точки зрения, выплачива-
ет компенсацию за «неудачи неправильного типа».
290 Часть И. Классический либерализм и будущее...
ближайшем рассмотрении выясняется, что во многих случаях не-
равенство не является «структурным» в том смысле, о котором
идет речь. Например, если говорить о доходах, даже некоторые
из наиболее пессимистичных исследований социальной мобиль-
ности в США подтверждают, что, хотя мобильность между разны-
ми доходными группами «несовершенна»1, в среднем в течение
десятилетия более 50% людей из самой низкой категории пере-
мещаются в более высокие категории распределения по величи-
не доходов, а влияние уровня доходов родителей на соответству-
ющий показатель для их потомства через два поколения по суще-
ству сходит на нет (Rose, 1991; Solon, 1992; см. также обсуждение
этого вопроса в Choi, 1999, 2002; Reynolds, 2006: Chapter 8).
Другая ошибочная трактовка структурного неравенства
в этом контексте относится к теме статуса и достоинства. На-
пример, Янг (Young, 1990) утверждает, что неравенство дохо-
дов и статуса в рамках рынка отражает оценку достоинства, при-
писываемую тем или иным рабочим местам владельцами бизне-
са и другими элитными группами. Хотя это утверждение может
быть справедливо на уровне отдельных предприятий, тем не ме-
нее заработная плата и другие источники доходов, поступающих
различным группам, не определяются каким-либо конкретным
кругом акторов и не отражают чьи-либо конкретные представле-
ния о «заслугах». В рыночной экономике доходы отражают срав-
нительную редкость тех или иных талантов и активов, и их вели-
чина определяется решениями о покупке и продаже, принимае-
мыми бесчисленным множеством разных индивидов. Огромные
доходы, получаемые выдающимися спортсменами, популярными
музыкантами и всякими другими «знаменитостями», не определя-
ются представлениями о заслугах, которых придерживаются кор-
поративные боссы, и то же самое относится к доходам работни-
ков других, более прозаических специальностей. К худу или к до-
бру, но они отражают то, что маржинальные потребители готоврл
1 «Совершенная» мобильность достигалась бы, если бы для людей, нахо-
дящихся в самом низу распределения доходов, шансы переместиться на са-
мый верх были бы равны шансам тех, кто на самом верху, оказаться в самом
низу. Следует подчеркнуть, что отсутствие «совершенной мобильности» не
обязательно свидетельствует о «несправедливости» — даже исходя из эгали-
таристских критериев — так как по крайней мере некоторые из тех, кто на-
ходится в самом верху шкалы доходов, могут страдать от различных прояв-
лений «слепой неудачи», а их унаследованное богатство может представлять
собой «компенсацию» за это.
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 291
платить за получение соответствующих услуг и продукции. Хотя
высокие доходы могут корреспондировать с популярными пред-
ставлениями о достоинствах и заслугах, их могут получать и люди,
не считающиеся особо заслуживающими похвалы, но которым
повезло выиграть от изменения в спросе и предложении или от
очередного общественного поветрия. И наоборот, многие груп-
пы, которые нередко пользуются большим уважением у некото-
рой части общественности — например работники здравоохра-
нения, — могут и не получать соответствующий этому высокий
уровень доходов. Но с классической либеральной точки зрения
важно то, что не существует единого и единственного критерия,
в соответствии с которым могут оцениваться или ранжировать-
ся достояние и карьера индивидов. Люди не могут судить о «под-
линных заслугах» других, не считая тех, с кем они близко знакомы.
Таким образом, классический либерализм не может обеспе-
чить равенство статусов, но рассредоточение власти принимать
решения среди миллионов индивидов и организаций уменьшает
власть некоторых судить о достоинствах других — причем в гораздо
большей степени, чем это было бы возможно в условиях предлага-
емой Янг «демократии групповых различий» [group-differentiated
democracy]. Последняя исходит из посылки, что реально сущест-
вуют точки зрения, «основывающиеся на групповой принадлеж-
ности», которые представляют интересы «рабочего класса» или
других существенных групп, таких как женщины и культурные
меньшинства. Однако если отсутствует единство внутри соответ-
ствующих «групп», то демократическое представительство «обез-
доленных» и полномочия блокировать социально-экономические
изменения, влияющие на их положение, создало бы новую иерар-
хию, в которой привилегированное положение занимали бы по-
литические акторы, наделенные полномочиями определять, в чем
предположительно состоит «групповая» точка зрения.
Рассмотрим, например, вопрос о том, как следует реагиро-
вать на изменения в распределении доходов и статусов, происхо-
дившие во многих развитых странах. Общепризнано, что за рас-
тущим неравенством в доходах последовало повышение спроса
на рабочие места, требующие высокого уровня человеческого ка-
питала, что, в свою очередь, увеличило различия между низко-
и высококвалифицированной занятостью. Сочетание расширив-
шегося спроса на высококвалифицированный труд и увеличения*
занятости женщин по всей вероятности привело к еще более яр-
ко выраженному неравенству из-за непропорционального роста
292 Часть И. Классический либерализм и будущее...
числа семей с двумя занятыми взрослыми, относящихся к верх-
ней части шкалы распределения доходов. Эти сдвиги усугубля-
лись технологическими и социальными изменениями, приво-
дившими к замещению традиционных «мужских» рабочих мест
в сфере физического труда отраслями сферы услуг, в которых
выше доля женской занятости1. В чем состояла бы точка зрения
«рабочего класса» или «женщин» на эти сдвиги? Относится ли
термин «рабочий класс» к тем, кто обделен природными спо-
собностями и кто мог бы переживать уменьшение своего относи-
тельного дохода и социального статуса по причине этих измене-
ний? Должен ли он включать бедных людей, которые, возможно,
готовы смириться с уменьшением дохода и статуса в относитель-
ном выражении в обмен на увеличение дохода в абсолютном вы-
ражении? Относится ли термин «рабочий класс» к тем, кто се-
годня получает низкие доходы, но обладает способностями ис-
пользовать вновь открывшиеся возможности для перемещения
на более высокооплачиваемую работу— и кто, наверное, не хо-
чет, чтобы этот потенциальный выигрыш был у него изъят с по-
мощью налогов? Должен ли термин «рабочий класс» обозначать
тех, кто занят в профессиях, связанных с физическим трудом,
в которых доминируют мужчины, или он должен включать тех,
кто занят в отраслях сферы услуг, больше ориентированных на
женщин? Будет ли «женская» точки зрения отражать интересы
тех, кто хочет равного с мужчинами статуса в отношении заня-
тости, или она будет включать позицию тех, кто предпочитает
не работать, но при этом может столкнуться с ослаблением не-
денежных источников высокого статуса из-за сдвига культурных
установок в отношении «надлежащей» роли женщин? Разумеется,
можно перечислять множество других параметров, по которым
могут существовать различия позиций внутри соответствующих
«групп»2, причем по поводу не только разделения труда и доходов,
1 Детальное обсуждение этих тенденций см. в Deere and Welch, 2002.
2 Рассмотрим, к примеру, последствия иммиграции. Экономический ана-
лиз недавней волны иммиграции из Мексики и Латинской Америки в США
подтверждает, что это был один из существенных факторов роста неравен-
ства в доходах, поскольку приток большого числа низкоквалифицированных
работников сдерживал рост заработной платы в нижней части шкалы рас-
пределения доходов в стране. Однако рост неравенства внутри США сопро-
вождался уменьшением межстранового неравенства среди рабочих. Те, кто
переезжает из Мексики в США, получают более высокую зарплату, живут
и работают в лучших условиях, чем «дома», тем самым сокращая «разрыв»
между собой и более высокооплачиваемыми работниками как в Мексике, так
Глава 6. Помощь бедным и публичные услуги... 293
но и размещения ресурсов, направляемых на здравоохранение,
образование, и прочих «важнейших социальных благ».
Учитывая перечисленные выше вопросы, централизован-
ная координация доходов и социальных инвестиций в предлагае-
мом Янг «социальном государстве, учитывающем групповые раз-
личия», по-видимому, абсолютно неспособна справиться с теми
трудностями, о которых идет речь. Изъятие функции принятия
решений у гражданского общества и рынков повышает статус
политиков, которые будут решать, кого считать «ущемленными»
и чего последние должны требовать. Точно так же институциона-
лизация мажоритарной формы принятия решений вряд ли смо-
жет «освободить» меньшинства, которые могут пожелать дейст-
вовать способом, не совпадающим с тем, что предпочитает боль-
шинство общества в целом или большинство членов «группы»,
к которой отнесены члены этого меньшинства. Если посмотреть
надело с этой стороны, то самым большим источником «ухудше-
ния положения» может оказаться постулат, что нужды и интере-
сы должны определяться централизованно демократическими
«представителями групп» вместо того, чтобы дать возможность
людям всех слоев общества определять свои собственные нужды
и интересы, вступая в отношения с разнообразными коммерче-
скими и гражданскими объединениями и прекращая эти отноше-
ния по своему желанию.
Заключение
Если отвлечься от риторики по поводу важности низких нало-
гов и необходимости внедрить дисциплину конкуренции в сфе-
ру «публичных услуг», практически во всех развитых странах
государственное финансирование и предоставление услуг про-
должает доминировать в сфере помощи бедным, образования
и здравоохранения. Лучшим объяснением живучести социаль-
ного государства в этих областях деятельности, вероятно, слу-
жит незнакомство избирателей — большинство из которых ни-
когда не имели опыта жизни в условиях негосударственного
и в США. Кто в этом случае должен решать вопрос о границах «групповой
точки зрения» для «низкооплачиваемых»? Должна ли она представлять инте-
ресы «отечественных» низкооплачиваемых работников, которые могут вы-
ступать против иммиграции, или же она должна учитывать позицию потен-
циальных иммигрантов, которые могли бы получить наибольший выигрыш
от более либерального режима иммиграции?
294 Часть И. Классический либерализм и будущее...
предоставления социальных услуг — с механизмами, посредст-
вом которых может функционировать классическая либераль-
ная модель. Анализ, представленный в этой главе, приводит к за-
ключению, что политическая сила социального государства не
может объясняться робастностью интеллектуальных аргумен-
тов, приводимых в его защиту. Хотя некоторые соображения,
выдвигаемые сторонниками теории «провалов рынка», не ли-
шены смысла, тем не менее их бесполезно выдвигать в качест-
ве суррогата связного объяснения того, почему институты соци-
ального государства не подвержены аналогичным, а то и более
серьезным «провалам». В то же время коммунитаристские и эга-
литаристские аргументы по-прежнему игнорируют требования,
предъявляемые к робастной политической экономии. Они ис-
ходят из предположения, что определение содержания таких ве-
щей, как общность и социальная справедливость, может быть
оставлено на усмотрение институтов социального государства,
но даже не пытаются объяснить, каким образом это знание мо-
жет быть получено и как предлагаемые ими механизмы могут
привести к достижению поставленных целей.
Глава 7
Институты
и международное развитие:
глобальное управление
или минимальное государство?
Введение
В дискуссиях последнего времени, касающихся классическо-
го либерализма, доминирующую роль играют конкурирующие
подходы к международному развитию. Вопросы о том, какие ин-
ституты с большей вероятностью будут поддерживать прогресс
в развивающихся странах и какого рода меры требуется принять
развитым странам для создания таких институтов, были и оста-
ются предметом этого обсуждения. Хотя более или менее обще-
принято считать, что существенную роль играет расширение
международной торговли в сочетании с благоприятствующими
рынку институтами внутри стран, в литературе о «развитии» ут-
верждается, что такие институты не могут эффективно функци-
онировать без масштабной активности государства и создания
новых структур «управления» [«governance»] в масштабах все-
го мира. С одной стороны, доказывается, что «провалы рын-
ка», блокирующие потенциально успешные пути выхода из бед-
ности, требуют согласованного государственного вмешательст-
ва на национальном и международном уровне. С другой стороны,
утверждается, что подход на основе принципа laissez faire разру-
шил бы коммунитарные взаимоотношения и увековечил бы про-
явления неравенства в доходах и благосостоянии, принципиаль-
но несовместимые с социальной справедливостью.
Задача этой главы — сопоставить классический либеральный
анализ проблем развития с соперничающими подходами, опира-
ясь на принципы робастной политической экономии, проходя-
щие сквозной темой через всю эту книгу. В ней теория и эмпири-
ческие данные используются для доказательства того, что инсти-
туты частной собственности, открытых рынков и ограниченного
правления являются необходимыми условиями экономическо-
го и социального прогресса. Но процесс, посредством которого
возникают эти институты, должен учитывать «проблемы знания»
296 Часть II. Классический либерализм и будущее...
и ограничения, связанные со стимулами, т.е. то, что составляет
центральные темы в структуре робастной политической эконо-
мии. У классических либералов есть все основания для скепси-
са по поводу попыток поддержки институциональных изменений
посредством создания аппарата глобального управления. Немы-
слимо, чтобы глобальные структуры обладали доступом к доста-
точной совокупности знания и имели адекватные стимулы, что-
бы быть в состоянии реализовать эффективные программы
институциональных изменений. Более вероятно, что такие из-
менения будут непреднамеренными последствиями эволюцион-
ных условий, способствующих институциональной конкуренции.
В следующем разделе этой главы дается обзор определенных эле-
ментов классического либерального подхода к этим вопросам.
В последующих трех разделах рассматривается потенциальная
критика, которая может быть направлена против него по эконо-
мическим и моральным основаниям.
Робастная политическая экономия, институты
и развитие: классический либеральный подход
Почему институты имеют значение
Ключевую роль в структуре робастной политической экономии
играет признание того, что институты имеют значение (Boettke
et al., 2005). «Институты» — это «правила игры», структурирую-
щие взаимодействия социальных акторов (North, 1990; Норт,
1997). В их число входят «формальные» правила, относящиеся
к правам собственности и правовой защите этих прав. Формаль-
ные правила имеют решающее значение, поскольку эти «твер-
дые» ограничения определяют рамки, которых индивиды орга-
низации должны придерживаться, занимаясь экономическими
и технологическими инновациями, играющими основную роль
в процессе развития. Но хотя эти правила и выступают необхо-
димым условием экономического развития, они вряд ли могут
привести к положительному результату, если неформальные,
или «мягкие», нормы культурного взаимодействия, определяю-
щие пределы социально приемлемого поведения, препятствуют
экономическим и технологическим изменениям. Таким образом,
«идеальной» средой для развития будет такая, где твердая инсти-
туциональная структура предоставляет пространство для эконо-
мических и технологических инноваций и где это подкреплено
Глава 7. Институты и международное развитие... 297
культурными нормами, которые также воплощают поведен-
ческие характеристики, способствующие росту (North, 1990;
Eggertsson, 2005; Норт, 1997).
Хотя наблюдение, что «институты имеют значение», кажет-
ся довольно банальным, оно представляет собой сравнительно
новое явление в рамках доминирующего направления литерату-
ры по «экономике развития». На протяжении многих лет господ-
ствующая неоклассическая традиция преуменьшала, а то и пол-
ностью игнорировала значение институциональных факторов.
В частности модели равновесия описывали экономическое раз-
витие как функцию экзогенно задаваемых переменных, таких как
обеспеченность капиталом, доступ к природным ресурсам, пред-
ложение труда и технологий — считалось, что все это определяет
равновесный уровень объема производства в экономике (Solow,
1956; Swan, 1956). Хотя в последующем предпринимались попыт-
ки «эндогенизировать» процесс роста, сосредоточившись на та-
ких факторах, как инвестиции в образование и качество «чело-
веческого капитала» (см., например, Romer, 2004), эти модели
могут предложить сравнительно мало в качестве ответа на фун-
даментальный вопрос, почему одни страны богаты, а другие бед-
ны. Например, они не объясняют, как так получается, что одним
странам удается более эффективно накапливать капитал, чем дру-
гим, и почему одни страны находят эффективное применение
имеющимся технологиям и человеческому капиталу, в то время
как у других это не получается.
Институты и предпринимательство
В противоположность всему этому, исходя из позиции робаст-
ной политической экономии можно утверждать, что именно ин-
ституты определяют, способно ли общество преодолеть пробле-
мы знания и ограничения, связанные со стимулами, которыми
характеризуются условия человеческого существования. Пред-
метом рассмотрения должно быть то, как институты направля-
ют предпринимательские действия индивидов и организаций.
Ключевую роль здесь играет предпринимательство, поскольку
развитие по большей части есть результат того, что люди откры-
вают и реализуют новые, лучшие способы осуществлять свои
стремления и интересы. С этой точки зрения равновесные мо-
дели непригодны для объяснения процесса развития, поскольку
они описывают действия экономических агентов как поведение
298 Часть И. Классический либерализм и будущее...
счетных машин, которые всего лишь реагируют на «заданный»
набор ограничений, относящихся к издержкам и выгодам. Че-
ловеческая же деятельность осуществляется в мире неопреде-
ленности и несовершенного знания, в котором «данные» о ре-
левантных издержках и выгодах никогда не являются чем-то
«заданным», а должны постоянно создаваться в ходе процесса
эволюционного роста.
С точки зрения классического либерализма частная собст-
венность предоставляет более робастные условия для экономи-
ческой эволюции, так как обеспечивает защищенную область,
в которой люди могут экспериментировать, стремясь к реали-
зации личных планов, без необходимости спрашивать разреше-
ния у большого количества других агентов. Право частной соб-
ственности в целом расширяет пределы предпринимательской
деятельности и, как следствие, увеличивает возможность то-
го, что смогут быть найдены и распространены через процесс
имитации прежде не известные решения социально-экономиче-
ских проблем (Hayek, I960; Buchanan and Vanberg, 2002). Кон-
куренция между владельцами собственности имеет фундамен-
тальное значение, поскольку именно способность входить на
рынки и бросать вызов устоявшимся способам достижения це-
лей побуждает социальных акторов обращать внимание на аль-
тернативные пути решения проблем. В рыночной среде с за-
щищенными правами собственности обратная связь, порожда-
емая учетом прибылей и убытков, одновременно способствует
и координации на макроуровне, поскольку структура относи-
тельных цен, возникающая в процессе конкуренции посредст-
вом проб и ошибок, дает людям возможность приспосабливать
свои решения, касающиеся производства и потребления, к эво-
люционным сдвигам в структуре спроса и предложения. Кроме
того, наличие защищенных прав собственности обычно направ-
ляет предпринимательскую активность в сторону взаимодейст-
вий с положительной, а не с нулевой суммой. При условии, что
все транзакции добровольны, ни одна из них не будет реализо-
вана, если все ее потенциальные стороны не ожидают, что она
будет для них выгодной ex ante. Следовательно, гарантируя, что
агенты будут вознаграждены за действия, приводящие к увеличе-
нию ценности, и наказаны за действия, не дающие такого резуль-
тата, права собственности обеспечивают этим агентам стимулы
к тому, чтобы они использовали ресурсы к выгоде своих собра-
тьев (Buchanan, 1986).
Глава 7. Институты и международное развитие... 299
Институты и неопределенность
Благодаря несовершенной и распределенной природе знания,
принятие решений всегда происходит в условиях неопределен-
ности. Но с точки зрения робастной политической экономии
на степень этой неопределенности влияет институциональный
контекст выбора. В рамках перспективы классического либера-
лизма институты частной собственности более робастны, по-
тому что они дают людям возможность справляться с неопреде-
ленностью путем снижения шансов систематической ошибки.
По сравнению со строем, при котором решения принимаются
в центре, рассредоточение собственности в рамках рыночно-
го порядка обычно ограничивает последствия любой ошибки
сравнительно небольшой областью и предоставляет в распоря-
жение лиц, принимающих решения, больший диапазон возмож-
ных реакций на изменяющиеся обстоятельства. Хотя неопреде-
ленность невозможно искоренить, наличие «твердых» условий
в виде защищенных прав собственности, стабильной денежной
системы и процедур «верховенства права» сокращает масшта-
бы неопределенности, с которой сталкиваются лица, принима-
ющие решения. Там же, где права собственности не защищены,
ценность денег нестабильна, а нормы, относящиеся к приобре-
тению и передаче собственности, подвергаются постоянным
и произвольным изменениям, в среду, в которой происходит
принятие решений, вносятся дополнительные элементы нео-
пределенности (Boettke et al., 2005). У акторов отсутствует уве-
ренность в том, каковы именно рамки, в которых они могут при-
нимать автономные решения, и в какой степени они испытают
на себе издержки и выгоды, проистекающие из фактически при-
нятых ими решений.
Если стабильность «твердой», или формальной, институци-
ональной структуры есть необходимое условие развития, то же
самое относится и к стабильности неформальных культурных
норм, детерминирующих восприятие поведения как приемле-
мого или неприемлемого. Подобно тому, как защищенные права
собственности снижают неопределенность, обеспечивая людям
четкие ожидания по поводу среды, в которой принимаются реше-
ния, стабильность культурных норм сглаживает процессы соци-
альной координации. Следование неформальным нормам, к чи-
слу которых относятся, в частности, манера речи, стиль одежды
и способы ведения бизнеса, снижает транзакционные издержки,
300 Часть II. Классический либерализм и будущее...
так как позволяет людям переходить к процессу обмена без не-
обходимости постоянно переустанавливать нормы, облегчаю-
щие процесс обоюдно выгодного взаимодействия (Pejovich, 2003;
Eggertsson, 2005).
Однако из признания того, что стабильная институциональ-
ная структура необходима для общественного прогресса, не сле-
дует, что институты должны быть защищены от критики и изме-
нения. При несовершенстве знания всегда существует возмож-
ность того, что могут быть обнаружены новые, лучшие способы
построения институтов (Hayek, 1960; Harper, 2003). Важно то,
чтобы всякие изменения происходили в рамках эволюционно-
го процесса через пробы и ошибки. Именно в силу потребности
в институциональной гибкости координирующая функция «твер-
дых» законов с классической либеральной точки зрения должна
быть ограничена поддержанием общих «правил поведения» че-
рез разрешение споров, а также через принуждение к выполне-
нию договоров и к соблюдению прав собственности. Поскольку
изменение формального права требует согласия потенциально
большого количества социальных акторов, оно часто оказывает-
ся сопряженным с серьезными трудностями, связанными с кол-
лективными действиями, и меньше поддается проверке конку-
ренцией, а потому процесс институциональных изменений мо-
жет не достигать желательного уровня гибкости. Чем больше та
степень, в которой социальная координация достигается посред-
ством формальных предписаний и правил, тем меньше остается
места для децентрализованной эволюции. С этой точки зрения
одно из важнейших преимуществ классической либеральной си-
стемы заключается в том, что она может предоставлять людям
сравнительно более широкое поле для координации на основе
«мягких» институциональных навыков, которые могут возникать
в процессе «стихийного установления порядка» децентрализо-
ванным образом, через пробы и ошибки. Следование принятым
в культуре условностям и обычаям, как правило, обеспечивается
репутационными механизмами и остракизмом, а не прямым при-
нуждением. Те, кто достаточно сильно ощущает необходимость
бросить вызов той или иной норме и готов столкнуться с общест-
венным осуждением, могут «нарушить» соответствующую услов-
ность, не нуждаясь для этого в законодательном одобрении. Та-
кие люди, если они достигнут успеха, могут создавать ролевые
модели и проводить эксперименты со стилями жизни, которые
впоследствии будут копироваться и вплетаться в культурную
Глава 7. Институты и международное развитие... 301
ткань общества в целом (Hayek, I960; Harper, 200S; Pejovich, 2008;
Eggertsson, 2005).
Конкуренция: внутренняя и международная
Таким образом, с точки зрения классического либерализма роль
государства внутри страны должна быть по возможности огра-
ничена поддержанием в рабочем состоянии правовой струк-
туры, которая защищает права собственности и обеспечива-
ет среду, в которой могут разворачиваться рыночные процессы
и другие «стихийные порядки». Это не обязательно исключа-
ет возможность участия государства в производстве коллектив-
ных благ, таких как транспортная инфраструктура, но требует,
чтобы предоставлялось достаточно пространства для развития
частных форм производства этих благ там и тогда, где и когда это
станет возможным. Более того, в той мере, в какой государство
участвует в производстве, это участие должно осуществляться на
децентрализованной основе и допускать территориальную кон-
куренцию между различными публично-властными образовани-
ями. Конкуренция между юрисдикциями может расширить мас-
штабы экспериментирования в предоставлении коллективных
благ и предоставить людям возможность уходить с одних терри-
торий и приходить на другие в зависимости от того, какой имен-
но пучок услуг в сочетании с уплачиваемыми налогами они пред-
почитают больше всего (Harper, 2003).
Если конкуренция внутри страны есть предварительное усло-
вие экономического прогресса, то конкуренция на международ-
ном уровне еще больше расширяет выигрыш от прорыночной
направленности внутренней политики. Принцип международ-
ной конкуренции применяется к свободному движению товаров,
услуг и капитала, но также и к свободному перемещению труда.
Конкурентное вхождение зарубежных производителей во вну-
тренние рынки дает потребителям возможность получать до-
ступ к наиболее дешевым формам производства и одновременно
обеспечивает перемещение внутреннего капитала в те секторы,
где он обладает наибольшими сравнительными преимуществами.
Кроме того, свободное движение труда и капитала позволяет ин-
дивидам и предприятиям уходить от режимов, налагающих чрез-
мерное регуляторное и перераспределительное бремя, и от со-
циальных норм и обычаев, враждебных к экономическому про-
грессу (Bauer, 1993; Sally, 2998, 2008).
302 Часть И. Классический либерализм и будущее...
Необходимо подчеркнуть, что получаемый в результате выиг-
рыш выходит далеко за пределы того, что описывается в так на-
зываемой статической аргументации, выдвигаемой экономиста-
ми-неоклассиками. Хотя конкуренция создает тенденцию к наи-
более эффективному использованию ресурсов, она также создает
благоприятные условия для более широкого процесса предпри-
нимательских инноваций, в ходе которого постоянно создается
новое знание о потенциально прибыльных комбинациях факто-
ров производства и рождаются идеи по поводу того, что именно
является производительным «ресурсом». Таким образом, выгода
от свободной торговли заключается еще и в том, что она придает
процессу предпринимательского открытия международное изме-
рение, открывая перед производителями и потребителями воз-
можности, которых прежде никто не мог предвидеть. Важно то,
что сюда входит не только знакомство с новыми продуктами, про-
изводственными процессами и способами организации, но и все-
стороннее расширение общения с людьми, проявляющими иные
вкусы, социальные нормы и культурные обычаи. Поэтому для
классических либералов свободная торговля есть не только про-
цесс коммерческого обмена, но и в равной мере процесс культур-
ного взаимодействия. Протекционистские препятствия на пути
конкуренции не только действуют как тормоз для экономическо-
го прогресса, но и сводят на нет процесс кросскультурного обуче-
ния, который может привлекать внимание людей к новым, по-
тенциально лучшим стилям жизни (Bauer, 1993; Sally, 1998; 2008).
Фактические данные об институтах и развитии
Преимущества с точки зрения развития, которыми обладает
классическая либеральная система, предусматривающая мини-
мальное государство, получают подтверждение из множества
разнообразных исторических и современных источников. Хо-
тя ни одно государство не придерживалось в полной мере клас-
сических либеральных принципов во внутренней и междуна-
родной политике, существует робастный корпус данных, свиде-
тельствующих, что те формы правления, которые ближе всего
подходили к классическому либеральному идеалу, достигали са-
мых впечатляющих результатов в экономическом развитии.
Исторически экономическое развитие происходило в тех ча-
стях мира, где политическая власть была относительно фрагмен-
тирована и где институциональная конкуренция обеспечивала
Глава 7. Институты и международное развитие... 303
сохранение широкой частной сферы, в которой могли расцве-
тать инновации. Так, возвышение итальянских городов-госу-
дарств в период Ренессанса и подъем Северных Нидерландов
в XVII в. происходили в условиях правовой системы, защищав-
шей права собственности и создававшей условия для накопления
капитала (Acemoglu et al., 2000).
Важность территориальной и институциональной конкурен-
ции еще сильнее подчеркивается в работе Вайнгаста (Weingast,
1995), сформулировавшего гипотезу, что на протяжении послед-
них 300 лет страны — первопроходцы в области экономического
развития характеризовались формой политико-экономической
системы, подчиняющейся принципам «федерализма, сохраняю-
щего рынок» [«market-preserving federalism»]. Бурно развивавша-
яся в начале XVII в. Голландская республика выделялась на евро-
пейском континенте своей децентрализованной политической
системой, защищенными правами собственности и религиозной
свободой. Что касается Англии XVIII—XIX вв., то хотя там и не
было формальной конституции, закреплявшей территориаль-
ную конкуренцию, тем не менее накануне и в ходе промышлен-
ной революции предприниматели, находившие регуляторный ре-
жим в Южной Англии удушающим, могли переместиться на Се-
вер, где регуляторная среда была более благоприятной (Weingast,
1995; Eggertsson, 2005). В целом британской промышленной ре-
волюции предшествовало создание правовых и институциональ-
ных условий, обеспечивавших лучшую защищенность прав соб-
ственности и в гораздо большей степени способствовавших сво-
бодному перемещению капитала между разным сферами бизнеса,
чем это было возможно на большей части территории континен-
тальной Европы. Сама же эта система возникла благодаря фраг-
ментации политической структуры, ведшей к ограничению влас-
ти, которой располагало центральное правительство (North and
Weingast, 1989; Weingast, 1997). В случае Нидерландов и Великоб-
ритании доступ к новой сфере получения прибыли, а именно к ат-
лантической торговле, создал условия для возникновения много-
численного торгового класса, который, имея дело со сравнитель-
но слабой монархией, осуществлял давление в пользу создания
институтов, благоприятных для частного предпринимательства.
Если говорить о других странах, внушительному росту США
предшествовало принятие формальной конституции, которая
налагала очень мало ограничений на частную собственность,
делая акцент на опоре на рыночные силы в качестве главной
304 Часть II. Классический либерализм и будущее...
процедуры координации и на децентрализации политической
власти через создание межтерриториальной конкуренции. Хотя
США следовали внешней политике, которая зачастую была весь-
ма протекционистской, существование сильных рыночно-ориен-
тированных институтов в рамках территориальных границ фе-
дерации в сочетании с децентрализованной системой политиче-
ской администрации создавало огромную внутреннюю зону, где
свободное движение товаров, труда и капитала позволяло реали-
зовать выгоды от обмена на гигантской территории (Rozenberg
and Birdzell, 1986; Розенберг и Бирдцелл, 1995). В более недав-
нее время подъем Южного Китая с конца 70-х годов XX в. проис-
ходил на фоне того, что после хаоса, порожденного «политикой
большого скачка» и «культурной революцией», субнациональ-
ные органы власти добились значительной степени автономии
от Пекина в принятии решений. Местные чиновники Юга впо-
следствии оказались в состоянии использовать свою переговор-
ную силу для того, чтобы добиться мер по либерализации сначала
сельского хозяйства, а затем и перерабатывающей промышлен-
ности; впоследствии же эти решения стали, в свою очередь, ко-
пироваться и распространяться (Quian, 2000).
Что касается более систематических данных об экономических
результатах, дополнительное подтверждение той мысли, что бла-
гоприятствующая рынкам институциональная среда в целом силь-
но коррелирует с показателями роста, предоставляют межстрано-
вые сравнения «экономической свободы» и темпов экономическо-
го роста. Хотя попытки измерить компоненты соответствующих
«индексов экономической свободы» и приписать входящим в них
компонентам соответствующие веса связаны с определенны-
ми трудностями1 (обсуждение этой темы см. в Harper, 2003), ре-
зультаты согласуются друг с другом в достаточной степени, что-
бы служить недвусмысленным подтверждением того, что более
или менее открытое экономическое окружение и сильная защи-
та прав собственности суть необходимые предварительные усло-
вия экономического прогресса. Например, Хаан и Штурм (Наап
and Sturm, 2000) обнаружили, что показатели экономической
свободы сильно коррелируют с высоким экономическим ростом,
1 Обычно эти индексы включают показатели, характеризующие защи-
щенность собственности, внешнеторговую открытость, распространен-
ность частной собственности, регулирование рынка труда, финансовое ре-
гулирование и уровень государственных расходов.
Глава 7. Институты и международное развитие... 305
а Торстенссон (Torstensson, 1994) предоставил эмпирические под-
тверждения точке зрения, что незащищенность прав собственно-
сти снижает экономическое благосостояние. Свенссон (Svensson,
1998) использует межстрановой регрессионный анализ, чтобы
продемонстрировать, что если измерять защищенность собствен-
ности с помощью индексов коррупции и неопределенности, то не-
защищенность прав собственности неблагоприятно сказывается
на росте. Между тем в сопоставительном исследовании 82 госу-
дарств, охватывающем период с 1980 по 1995 г., Гвартни с соавто-
рами (Gwartney et al., 1999) выяснили, что институциональная сре-
да, поддерживающая экономическую свободу, является ключевым
фактором, объясняющим различия в темпах экономического ро-
ста (см. также King and Levine, 1993; Gwartney et al., 2006; Dawson,
2007). Направление причинно-следственной связи также хорошо
выражено: рост показателей экономической свободы позже поро-
ждает более высокие темпы экономического роста, но увеличение
темпов экономического роста не обязательно ведет к росту индек-
сов экономической свободы (Easton and Walker, 1997; De Haan and
Sierman, 1998; см. также Dawson, 2003).
Напротив, альтернативные объяснения экономического раз-
вития, опирающиеся на такие факторы, как климат, географи-
ческое положение и наличие природных ресурсов, либо на сте-
пень участия в сетях международных торговых отношений, пра-
ктически не находят эмпирического подтверждения. Например,
Родрик с соавторами (Rodrick et al., 2002) приходят к выводу, что
география, природные ресурсы и торговля оказывают сравни-
тельно малое влияние на доходы, в то время как институциональ-
ные факторы, такие как наличие защищенных прав собственно-
сти, влияют чрезвычайно сильно. Следует особо подчеркнуть: тот
факт, что участие в сетях международных торговых отношений
выступает относительно малозначимым фактором в повышении
темпов роста, не означает отрицания классической либеральной
позиции в отношении важности свободы торговли. С классиче-
ской либеральной точки зрения сильные внутренние институты —
и в частности защищенные права собственности — являются важ-
нейшими предварительными условиями прогресса, без которых
внешняя торговля приносит в лучшем случае незначительные вы-
годы1. Классическая либеральная позиция состоит не в том, что
1 В этой связи важно не путать рост «внешней торговли» как таковой с ша-
гами в направлении «свободной торговли». Общий объем мировой торговли
306 Часть И. Классический либерализм и будущее...
международная торговля как таковая является двигателем роста,
а в том, что участие в международных рынках дает возможность
расширить выгоды от рыночно-ориентированной внутренней
политики, и это расширение особенно важно для сравнительно
небольших стран, имеющих ограниченное пространство для вну-
тренней торговли и связанного с нею разделения труда.
То, что внутренняя среда, делающая упор на конкуренцию
и защищенность собственности, является ключевым ингредиен-
том экономического развития, подтверждается углубленным ка-
чественным изучением отдельных стран, их политической и ин-
ституциональной траектории. В исследовании 21 страны, охва-
тывающем период 1950—1985 гг., Лал и Мьйинт (Lai and Myint,
1996) выяснили, что в тех из них, которые осуществили внутрен-
ние реформы, приведшие к повышению конкуренции, умень-
шившие давление в пользу масштабного перераспределения до-
ходов и обеспечившие защиту прав собственности — хотя лишь
некоторые из этих стран могут быть охарактеризованы как име-
ющие «чисто» рыночную экономику, — наблюдается самый вы-
сокий уровень сбережений, и они получили наибольший эффект
в плане экономического роста.
Экономическое развитие
и путь к классическому либерализму
Хотя более или менее ясно, какие институты способствуют эко-
номическому развитию, гораздо менее очевидным является
то, какого рода меры могут быть необходимы для их создания.
Это подтверждается также тем, что во многих случаях наиболее
вполне может увеличиваться по множеству разнообразных причин, не име-
ющих никакого отношения к поддержанию режима «свободной торговли»
в самих странах. Например, снижение транспортных издержек может иметь
результатом рост объема торговли между обществами, внутренние инсти-
туты которых являются социалистическими по своей ориентации. В этом
случае, хотя объем торговли может увеличиваться, структура ее будет опре-
деляться внутренней политикой централизованного планирования, в соот-
ветствии с которой будут приниматься решения по поводу того, что имен-
но может быть произведено и чем следует торговать. С точки зрения класси-
ческого либерализма в этом состоит еще одна причина, почему «торговля»
сама по себе вряд ли может служить достаточным условием для стимулиро-
вания устойчивого роста. Если структура внешней торговли не порождает-
ся благоприятными для конкурентных рынков условиями внутри страны, то
любые выгоды от нее будут минимальны.
Глава 7. Институты и международное развитие... 307
успешные из реализованных в истории институтов и политиче-
ских мер, способствовавших защите прав собственности и по-
строению конкурентного рыночного порядка, не возникли как
заранее предсказанные последствия действий агентов, стремив-
шихся к достижению данной конкретной цели. Напротив, они
зачастую возникали как случайный побочный продукт борьбы за
власть между враждующими фракциями, не имевшими ни малей-
шего представления о системных последствиях, которые выра-
стут из введенных ими в действие правовых норм и институтов
(Weingast, 1995).
То, что эти успешные институты часто возникают вопреки не-
вежеству большинства социальных акторов, и то, что такого ро-
да благоприятные случайности обычно происходят там, где струк-
туры власти фрагментированы, наводит на мысль, что эпистемо-
логические и связанные со стимулами ограничения, на которых
основаны доводы робастной политической экономии в пользу
частной собственности и открытых рынков, по-видимому, в рав-
ной степени имеют отношение к и вопросу о том, как возникают
такого рода институты. Именно на этом основании классический
либерализм относится скептически ко всяким попыткам исполь-
зовать структуры внешнего управления и программы междуна-
родной «помощи развитию» для «ускорения» процесса институ-
циональных изменений. Хотя характеристики институтов, благо-
приятствующих развитию, в общем и целом могут быть известны,
едва ли внешние агенты будут располагать достаточным знанием,
чтобы реализовать конкретную программу в отношении как «твер-
дой» институциональной среды, так и набора более «мягких» куль-
турных норм. Хотя движение в направлении частной собствен-
ности в целом желательно, из этого не следует, что конкретная
форма, которую примет этот институт, или путь, по которому ему
следует развиваться, должны обязательно воспроизводить ту пра-
вовую структуру, которую мы находим в нынешних развитых стра-
нах. Хотя «на Западе» смогли успешно развиться индивидуалисти-
ческие модели собственности на имущество, возможно также, что
в обществах, где индивидуалистические ценности являются куль-
турно чуждыми, наилучший путь к установлению рыночной эконо-
мики будет проходить через альтернативные формы частной соб-
ственности, связанные в первую очередь с семейными, племенны-
ми и общинными группами. И действительно, как демонстрирует
пример многих групп коренных американцев, попытки слишком
быстро внедрить западные формы собственности могут замедлить
308 Часть И. Классический либерализм и будущее...
развитие, разрушив самобытные модели социальной организа-
ции, которые, не будучи враждебными идее собственности на иму-
щество как таковой, не всегда признают индивидуализированные
формы собственности (см., например, Anderson et al., 2006).
В дополнение к этим «проблемам знания» внешнее воздей-
ствие может также испытывать негативное влияние ограниче-
ний, связанных со стимулами, анализом которых занимается вир-
джинская школа общественного выбора. Если помощь развитию
предоставляется посредством взимания принудительных взно-
сов с использованием налоговой системы, то при попытке обес-
печить расходование соответствующих ресурсов таким образом,
чтобы это способствовало достижению целей развития, граждане
стран-доноров могут столкнуться с серьезными проблемами, по-
рождаемыми коллективными действиями, и с проблемой отноше-
ний «принципал—агент». Более того, поступление иностранной
помощи может порождать «риск недобросовестности» [«moral
hazard»] внутри стран-реципиентов. Если эти страны знают, что
они будут получать постоянный приток финансовых ресурсов изв-
не, то у них будет мало внутренних стимулов к тому, чтобы запу-
стить потенциально болезненный процесс институциональных
реформ (Easterly, 2001; Gibson et al., 2005).
Таким образом, пока процесс реформирования «твердых»
институтов не будет идти рука об руку с постепенной эволюци-
ей «мягких» норм и обычаев, вряд ли может быть запущен про-
цесс развития. По-видимому, именно параллельная эволюция ин-
ститутов была существенным фактором роста в Западной Евро-
пе и США, где рыночная экономика возникла непреднамеренно
из динамики борьбы за власть, причем это происходило на фо-
не культуры, в которой на протяжении веков постепенно форми-
ровались такие представления, как верховенство права, уважение
к собственности и соблюдение договоров. Маловероятно, что-
бы такие условия можно было воссоздать с помощью актов вме-
шательства извне. С классической либеральной точки зрения из
этого следует, что лучшее, что могут сделать развитые страны по
отношению к своим менее развитым собратьям, — это следовать
политике «не навреди». Последняя может включать проведение
внутренней политики односторонней либерализации торговли
и открытых границ самими развитыми странами. Такие полити-
ческие меры могут способствовать расширению контактов с раз-
вивающимся миром и создать условия для постепенного процес-
са институционального и культурного подражания по мере того,
Глава 7. Институты и международное развитие... 309
как деловые практики и политические институты, существующие
в либеральных рыночных экономиках, будут приводить к требо-
ваниям со стороны участников самих развивающихся экономик
осуществить у себя дома культурно приемлемые меры либерали-
зации. Открытые границы и рынки капитала могут также играть
роль дисциплинирующего противовеса, ограничивающего граби-
тельские действия правительств, так как предоставят возможно-
сти ухода для чрезмерно облагаемого налогами капитала и для ин-
дивидов, стремящихся избежать давления со стороны разного го-
да социальных предрассудков.
Возражения против классического либерализма
на международном уровне, основанные на идее
«провалов рынка»
Несмотря на классическую либеральную аргументацию, приве-
денную выше, доминирующее идейное направление в теории раз-
вития по-прежнему опирается на посылки, связанные с представ-
лениями о «провалах рынка». Этот подход формулируется в тер-
минах теоретического и эмпирического анализа дилемм развития.
Теоретические доводы против классического либерализ-
ма существенно опираются на представления о «зависимости от
прошлой траектории» и о существовании различных институци-
ональных «блоков» и «привязок», которые первоначально были
рассмотрены такими мыслителями, как Мюрдаль (Myrdal, 1957)
и Розенштейн-Родан (Rosenstein-Rodan, 1957). Считается, что
формированию внутри стран капитала, необходимого для запуска
процесса экономического роста, препятствует «порочный круг
бедности». Согласно этой точке зрения, уровень доходов во мно-
гих развивающихся странах столь низок, что люди не в состоянии
осуществлять сбережения в достаточном количестве, чтобы фи-
нансировать инвестиции в капитальное оборудование, которое,
в свою очередь, необходимо для того, чтобы происходил процесс
индустриализации. Иными словами, люди остаются бедными по-
тому, что они бедны и не могут избежать этой «ловушки бедности»
без внешней помощи, предоставляемой в целях развития. Такого
рода модели «разрыва в объеме сбережений» [«savings gap»] сыг-
рали решающую роль в обосновании массированных программ
помощи, направлявшейся в течение последних 50 лет беднейшим
странам, в особенности странам Африканского континента (обсу-
ждение этого см. в Easterly, 2001; Истерли, 2006).
310 Часть И. Классический либерализм и будущее...
Модели, о которых идет речь, подкреплялись также теория-
ми зависимости от прошлой траектории, постулировавшими на-
личие в развивающихся странах культурно-экономических барье-
ров для инвестиций. Согласно этим представлениям, если страна
или регион не имеют в историческом прошлом опыта высокого
уровня инвестиций, то нет никаких шансов на то, что предпри-
ниматели изменят свое восприятие соответствующей террито-
рии в будущем, и поэтому они будут продолжать «недоинвестиро-
вать». Готовность предпринимателей вкладывать капитал в но-
вые здания и оборудование зачастую обусловлена исторически
сложившейся структурой инвестиций в соответствующей стра-
не. Считается, что такого рода представления играют ключевую
роль в процессе развития, поскольку от них зависит, будут ли осу-
ществляться скоординированные инвестиции, которые необхо-
димы для запуска экономического роста. В частности «провалы
координации» могут происходить тогда, когда инвестиции в один
сектор или отрасль зависят от наличия инвестиций в другой, вза-
имосвязанный сектор или отрасль (Rosenstein-Rodan, 1957; Ad-
sera and Ray, 1999; Hoff, 2000)l. Если местные предприниматели
знают, что люди будут инвестировать в другие деловые предпри-
ятия, дополняющие вложения в их собственные заводы и фабри-
ки, то они с большой вероятностью будут сами инвестировать;
но если у них отсутствует уверенность в том, что будут произве-
дены эти взаимодополняющие инвестиции, то они откажутся
от таких действий. В конечном итоге эти аргументы представля-
ют собой вариант тезиса о «привязке», обсуждавшегося в главе
2, только примененного к макроуровню. Подобно тому, как слу-
чайно сделанный потребительский выбор может «привязать» че-
ловека к сравнительно менее качественному продукту, случайное
сочетание культурных и экономических факторов может привя-
зать его к неэффективному набору культурных и экономических
норм. Если люди не будут уверены, что все другие акторы однов-
ременно перейдут к альтернативному набору норм и к альтерна-
тивной структуре инвестиций, то в результате возникнет про-
блема, связанная с коллективными действиями, так как разрыв
1 В примере, предложенном Розенштейном-Роданом, речь шла об обув-
ной фабрике. В данном случае предприниматель не будет инвестировать
в строительство новой фабрики до тех пор, пока не будет знать, что доста-
точно инвестиций будет направлено в другие отрасли — такие, например,
как пищевая и швейная, — которые будут генерировать достаточный спрос
на продукцию обувного предприятия со стороны потребителей.
Глава 7. Институты и международное развитие... 311
со статус-кво в индивидуальном порядке не будет соответствовать
ничьим интересам. Утверждается, что государство может предо-
ставить скоординированные инвестиции, которым будет по си-
лам изменить восприятие экономических возможностей, — тако-
ва стратегия «большого толчка» [«big push»], которая поможет
отсталым регионам и странам вырваться из стагнации, порожда-
емой зависимостью от прошлой траектории (Sachs, 2005; Сакс,
2011). Такого рода доводы используются для подкрепления тра-
диционного довода в пользу политики «импортозамещения», ос-
нованного на идее поддержки «молодых отраслей», — этот аргу-
мент утверждает, что если отрасли экономики развивающихся
стран не будут защищены от иностранной конкуренции, особен-
но со стороны фирм, находящихся в технологически более раз-
витых странах, то эти развивающиеся страны окажутся «привя-
заны» к секторам, производящим менее ценную продукцию.
Эти теоретические аргументы против модели развития,
основанной на «свободном рынке», подкрепляются эмпириче-
ски ориентированными работами, которые демонстрируют, что
там, где реализовывались более либеральные подходы, резуль-
таты оказывались плохими, и указывают на то, что в обществах,
вырвавшихся из бедности, имел место высокий уровень государ-
ственного вмешательства.
С одной стороны, критики обращают внимание на экономи-
ческие результаты, достигнутые развивающимися странами, ко-
торые взяли на вооружение так называемую модель Вашингтон-
ского консенсуса, инициированную международными организа-
циями, такими как Всемирный банк и Международный валютный
фонд. Эти программы появились после «долгового кризиса» на-
чала 80-х годов XX в. и включали в себя поддержку приватизации
находящихся в государственной собственности отраслей эконо-
мики, либерализацию цен, снижение пошлин и сокращение суб-
сидий отраслям. В обмен на продемонстрированную привержен-
ность этим реформам развивающиеся страны (особенно страны
Латинской Америки и большей части Африки) получали допол-
нительные средства на содействие развитию в сочетании с ре-
структуризацией и даже списанием долгов, накопившихся за
предшествующие 30 лет, когда общепринятой была более интер-
венционистская направленность политики. С точки зрения кри-
тиков, статистические данные за период рыночно-ориентиро-
ванных реформ свидетельствуют против экономической либе-
рализации. Хотя темпы экономического роста на большей части
312 Часть II. Классический либерализм и будущее...
Африканского континента в период после Второй мировой вой-
ны оставляли желать лучшего, все же они смотрелись выигрыш-
но на фоне того, что переживали многие африканские страны на-
чиная с 80-х годов. На протяжении всего последнего периода мно-
гие страны столкнулись с уменьшением темпов экономического
роста, и, более того, значительная часть континента пережила со-
кращение общего уровня жизни в абсолютном выражении. Ана-
логичную картину можно видеть в Латинской Америке, где темпы
роста в странах, осуществлявших программы структурных прео-
бразований [structural adjustment], как правило, были ниже, чем
средний показатель для стран, проводивших политику импорто-
замещения и защиты от внешней конкуренции.
Данные о сравнительно неудачных результатах политики Ва-
шингтонского консенсуса приводятся в сочетании с новой ин-
терпретацией опыта тех стран, особенно в Восточной Азии, ко-
торым удалось достичь стабильного экономического роста (на-
пример, Stiglitz and Yusuf, 2001). Говорится, что результаты,
достигнутые этими странами, не только не подтверждают до-
воды в пользу классического либерализма, но и служат аргумен-
том в поддержку более государствоцентричного и интервенци-
онистского подхода, который направляет рыночный процесс
в соответствии с централизованно определяемыми целями. На-
пример, согласно Уэйду (Wade, 1990), «чудеса» экономического
роста, происшедшего в Японии, Южной Корее и Тайване, сопро-
вождались высоким уровнем государственного вмешательства
и протекционизма. Очевидно, что имела место высокая степень
контроля над размещением капитала со стороны правительст-
ва, довольно существенно опиравшегося на поддерживаемые го-
сударством агентства отраслевого планирования — вместо того,
чтобы полагаться на конкурентный процесс проб и ошибок, по-
рождаемый приходом и уходом частных собственников капита-
ла. В то же время, применительно к случаю Китая, Стиглиц (Sti-
glitz, 2001) указывает на большую роль, которую сыграли волост-
ные и поселковые предприятия [township and village enterprises,
TVE], находящиеся, по его утверждению, в общественной (госу-
дарственной) собственности, но при этом воспроизводящие эф-
фекты рыночной конкуренции благодаря тому, что они контро-
лируются более низкими уровнями государственной власти.
Именно эта структура местной государственной собственности
в сочетании с сохраняющейся существенной ролью более высо-
ких уровней государственного управления в финансовом секторе
Глава 7. Институты и международное развитие... 313
и активной промышленной (т.е. отраслевой) политикой, соглас-
но Стиглицу, стоит за производственными успехами Китая, а во-
все не «неолиберальные» рецепты, предлагающие частную соб-
ственность, защищенные права собственников и финансовую ли-
берализацию. Даже для случая таких стран, как Гонконг, часто
приводимых в качестве образцов «экономики свободного рын-
ка», такие авторы, как Уэйд, указывают на наличие существен-
ных сфер государственного вмешательства, например в жилищ-
ном секторе, что наводит на мысль о том, что экономический ли-
берализм не является главным фактором, объясняющим более
высокие результаты этих стран.
Эффект «привязки» и развитие
В центре современной теории развития находится понятие за-
висимости от прошлой траектории и эффекта «привязки». Од-
нако, как отмечалось в главе 2, на деле имеется очень мало эм-
пирических данных, подтверждающих представление о широ-
ком распространении такого рода тенденций. Хотя в контексте
технологических эффектов привязки действительно имеют ме-
сто мощные сетевые эффекты в таких областях, как компьютер-
ное программное обеспечение и телекоммуникации, их недо-
статочно, чтобы свести на нет конкуренцию. Напротив, в этих
секторах могут существовать и существуют конкурирующие се-
ти, и у индивидов, групп индивидов и организаций сохраняется
возможность уйти из тех сетей, которые их меньше удовлетворя-
ют. Таким образом, переход от одной технологии к другой вовсе
не является решением, принимаемым по принципу «всё или ни-
чего», требующим массовых коллективных действий (Leibowitz
and Margolis, 1995). Эти эмпирические результаты в равной сте-
пени имеют отношение и к вопросу о предполагаемых социаль-
ных и культурных эффектах «привязки», на которых основыва-
ются доводы в пользу «большого толчка» и протекционистских
инициатив, призванных помочь развитию. Да, существуют срав-
нительно небольшие, но существенные различия в культурных
и экономических практиках разных групп, и эти различия созда-
ют поведенческие модели, которые могут имитироваться други-
ми группами, желающими соответствующим образом адаптиро-
ваться. Хотя люди в значительной степени являются продуктом
своего социокультурного окружения, тем не менее при нали-
чии институционального контекста в виде защищенных прав
314 Часть П. Классический либерализм и будущее...
собственности они способны уходить от этих норм «на грани-
цах» [«at the margin»], малыми шагами и постепенно приобре-
тать преимущества, совершая предпринимательские действия
экономического и культурного характера.
Питер Бауэр во многих своих работах проницательно заме-
чал, что жители развивающихся стран не привязаны к гомоген-
ному набору социокультурных норм, не позволяющих развернуть
индивидуальную или организационную активность (например,
Bauer, 1971). Исторически целый ряд культурных групп, таких
как индийцы-гуджарати, этнические китайцы, нигерийцы-ибо
и ливанцы, участвовали в обширных сетях торговых и коммер-
ческих отношений во многих странах и добились для себя уров-
ня жизни, намного превосходящего средний для тех стран, где
они вели торговлю. Важно то, предоставляет ли институциональ-
ная среда защиту таких предпринимательски ориентированных
меньшинств от гонений и обеспечивает ли стимулы к тому, что-
бы другие люди перенимали их поведенческие модели. Вряд ли
централизованные государственные меры — и, в частности, ме-
ры, предпринимаемые извне, — будут робастным методом уско-
рения необходимого процесса культурной адаптации. Не говоря
уж о том, что у правительственных акторов отсутствует знание
о том, какая именно комбинация социальных норм благоприят-
на для роста в том или ином конкретном случае, государственное
вмешательство может подрывать стимулы к изменению норм,
сдерживающих рост. Если люди могут рассчитывать, что государ-
ства или структуры международного управления дадут прибавку
к их доходам, то вероятность того, что они откажутся от собст-
венных ограничительных предрассудков ради развития взаимо-
отношений, основанных на добровольном обмене, будет меньше.
В более общем смысле модели большого толчка исходят из
искаженного понимания того, каким образом происходит успеш-
ное развитие. Процесс развития обычно не требует ни крупно-
масштабных сбережений, ни вливаний международной помощи
для финансирования резкого перехода к индустриализирован-
ной экономической структуре, а происходит путем множества
небольших, пошаговых корректировок, отражающих динамику
культурной эволюции. Например, развитие сельского хозяйства
и мелкой перерабатывающей промышленности, как правило, не
требует крупномасштабных сбережений. Вместо этого данным
отраслям необходим доступ к местным рынкам и сетям торго-
вых отношений, чтобы через постепенный процесс обмена,
Глава 7. Институты и международное развитие... 315
разделения труда и специализации генерировался небольшой
излишек, за счет которого могли бы финансироваться дальней-
шие инвестиции, которые, в свою очередь, становились бы ос-
новой дальнейшего постепенного роста. Если бы модели «пороч-
ного круга бедности» точно описывали реальность, то было бы
трудно понять, как процесс роста вообще мог начаться где-либо.
Поскольку на протяжении истории человечества подавляющее
большинство людей были бедны, единственным способом, ко-
торым эти модели могли бы объяснить феномен развития, яв-
ляется ссылка на экзогенный шок и неожиданное появление но-
вых ресурсов или же на насильственное изъятие одними группа-
ми инвестиционных излишков у других групп, обычно в формах
рабства и колониальной эксплуатации.
Экзогенные шоки, такие как голод и эпидемии, действитель-
но могут сломать неэффективные институциональные структу-
ры, и они, по-видимому, сыграли существенную роль в процес-
се фрагментации структуры власти в феодальной Европе (North
and Thomas, 1973) — однако условия для успешных шоков вряд ли
могут быть «воссозданы» целенаправленным внешним вмеша-
тельством. Объяснение развития ссылкой на неожиданное появ-
ление ценных ресурсов точно так же нереалистично, поскольку
многие успешные экономики, такие как Гонконг и Япония, до-
стигли успехов в развитии, мало чем обладая в плане ресурсов.
В то же время теории «эксплуатации» опровергаются, если от-
следить последовательность контактов между развитыми и раз-
вивающимися странами. Еще до начала каких бы то ни было им-
периалистических контактов с развивающимся миром развитые
страны уже были заметно богаче и обладали доступом к капиталу
и технологиям, порождаемым в рамках международных контак-
тов, — доказательства этого факта считаются общепризнанными
и не оспариваются даже теми, кто критически относится к клас-
сическим либеральным взглядам на теорию развития (см., напри-
мер, Pomerantz, 2002).
Если процесс развития лучше представлять себе возника-
ющим в результате серии постепенных и эволюционных ша-
гов, а не как неожиданный «прыжок» из бедности, то аргумен-
ты в пользу крупномасштабного государственного планирова-
ния ради «координации» структуры инвестиций вызывают еще
большие сомнения. Знание о том, какие именно инвестицион-
ные комбинации подходят к тому или иному конкретному случаю,
не является «данностью», но должно быть открыто в процессе
316 Часть II. Классический либерализм и будущее...
обучения методом проб и ошибок, в ходе которого действуют чет-
кие сигналы обратной связи в форме цен, прибылей и убытков,
могущие информировать об относительной успешности или не-
успешности различных проектов. Например, в Гонгонге в самом
начале процесса развития доминировали применявшие неслож-
ные технологии мелкие обрабатывающие предприятия в таких
отраслях, как производство одежды, обуви и пластмассовых иг-
рушек. Эти фирмы постепенно перемещались вверх по цепочке
добавленной ценности в направлении более дорогой одежды, мо-
дельной одежды и обуви, а затем и технологически передовых
видов продукции, таких как электроника (Lai, 1994). Важно бы-
ло то, что предприниматели могли сравнительно быстро пере-
ходить от производства одних видов продукции к производству
других и реагировать на изменяющиеся возможности и ограни-
чения там и тогда, где и когда эти изменения происходили. Ху-
ан (Huang, 2008) документально описывает аналогичную исто-
рию, имевшую место в сельских местностях Китая в 80-е годы
XX в., где в последовавшем за приватизацией сельского хозяй-
ства быстром экономическом росте ведущую роль сыграли кре-
стьяне-предприниматели, которые затем переместили свою де-
ятельность в область переработки сельхозпродукции, мелкой
обрабатывающей промышленности и строительства. В полном
противоречии с моделями в духе Мюрдаля, опиравшимися на по-
нятие зависимости от предшествующей траектории, некоторые
случаи наиболее быстрых темпов роста в этот период наблюда-
лись в самых бедных и аграрных частях страны, где инфраструк-
тура общего пользования [public infrastructure] и транспортные
связи были в большом дефиците. В той мере, в какой силы «зави-
симости от прошлой траектории» были преодолены, это проис-
ходило не с помощью централизованного планирования, а путем
ликвидации непосильных регулятивных ограничений, характер-
ных для маоистской эпохи.
Несмотря на все эти доводы, классический либерализм не от-
рицает, что порой для решения проблем координации или пе-
релома динамики, диктуемой зависимостью от прошлой траек-
тории, могут потребоваться иерархически организованные дей-
ствия. Однако он придерживается позиции, что желательные
масштабы таких «скоординированных» усилий могут быть выяв-
лены посредством добровольных предпринимательских дейст-
вий — точно так же, как целесообразный объем «планирования»
внутри фирм постоянно эволюционирует через конкурентный
Глава 7. Институты и международное развитие... 317
процесс слияния и разделения в рамках рынков (Beaulier and
Subrick, 2006). Развитие больших промышленных конгломера-
тов, таких как кейрецу в Японии — хотя они и возникали в сре-
де, не полностью соответствующей принципам laissez faire, — по-
казывает, что в рамках рыночной экономики имеется большой
простор для «экспериментов с централизацией» размещения ре-
сурсов, и эти эксперименты могут проводиться децентрализован-
ным образом (Matsuyama, 1996; цит. в Beaulier and Subrick, 2006).
Еще одним способом решения всевозможных проблем координа-
ции, альтернативным государственному отраслевому планиро-
ванию, является предоставление иностранными фирмами круп-
номасштабных инвестиций в основной капитал, как это имело
место в Сингапуре. Хотя крупномасштабные иностранные инвес-
тиции могут оказаться нереалистичным вариантом для географи-
чески более изолированных территорий, таких как Африка юж-
нее Сахары, не очень понятно, как в таких ситуациях могли бы
сработать и программы планирования в духе «большого толчка».
В частности маловероятно, что масштабные государственные ин-
вестиции в создание транспортной инфраструктуры, связываю-
щей такие территории с глобальными рынками, дадут заметный
эффект в условиях, когда навыки и культурные склонности мест-
ных племен не слишком приспособлены к тому, чтобы восполь-
зоваться открывающимися возможностями. Как показал Бауэр
(Bauer, 1971), развитие инфраструктуры общего пользования, как
правило, не является причиной экономического роста, а само вы-
ступает в качестве результата постепенных изменений в экономи-
ческом и культурном развитии различных индивидов и групп.
Может ли опыт структурных преобразований служить
опровержением классического либерализма?
Слабость теоретической аргументации в пользу планирования
«большого толчка» находит зеркальное отражение в интерпре-
тации данных о сравнительных результатах более и менее ли-
беральных институциональных режимов. С классической либе-
ральной точки зрения плохие результаты структурных преобра-
зований вполне объяснимы на основе принципов, изложенных
в первой части этой главы. Критики Вашингтонского консен-
суса путают риторику по поводу «дерегулирования», «либера-
лизации» и «приватизации», используемую политиками и ме-
ждународными агентствами по развитию, с тем, как заявленная
318 Часть II. Классический либерализм и будущее...
политика реализуется на практике. Хотя либерализация в опре-
деленной степени действительно была осуществлена, особенно
в сфере внешней торговли и приватизации ключевых отраслей,
ее масштабы обычно сильно преувеличиваются, и очень часто
игнорируется, что во многих аспектах движение шло в направле-
нии, противоположном либеральным принципам.
В исчерпывающем межстрановом сопоставительном исследо-
вании изменений экономической политики в странах Африкан-
ского континента ван де Балле (Van de Walle, 2001) демонстриру-
ет, как мало было проведено реальных изменений в ходе реформ.
Например, что касается реформы пошлин, Африка оказалась
единственным регионом мира, где показатели открытости эконо-
мики существенно не увеличились за 80—90-е годы XX в. (ibid.: 80),
причем уровень протекционизма в среднем на континенте в 4 ра-
за превосходил соответствующей показатель для других стран, не
входящих в ОЭСР. С начала нового тысячелетия либерализация
внешней торговли пошла несколько быстрее, что соответствова-
ло общемировым тенденциям, но даже в 2004 г. пошлины все еще
были намного выше, чем в развитых странах (Sally, 2008: 61).
Аналогичный сценарий ограниченных реформ четко прос-
матривается в сфере государственных расходов: на самом деле
отношение расходов государства к валовому внутреннему про-
дукту (ВВП) на протяжении 80—90-х годов XX в. на большей ча-
сти Африканского континента несколько выросло. Эти данные
о внутренних государственных расходах, если уж на то пошло, да-
же приуменьшают роль государства в экономике, так как они не
включают гигантские суммы расходов на помощь развитию, ко-
торые продолжали поступать в распоряжение правительств аф-
риканских стран. За период с конца 70-х по конец 90-х годов сред-
ние размеры помощи, выраженные в пропорции к ВВП, увели-
чились с 5 до более чем 10%, и поскольку подавляющая ее часть
осуществлялась в виде благ и услуг, предоставляемых непосред-
ственно государствам, относительные размеры государственных
расходов по сравнению с частной экономикой за период, когда
проводились структурные преобразования, на самом деле вы-
росли (Van de Walle, 2001: 94—96). Хотя по международным мер-
кам уровень государственных расходов в странах Африки явля-
ется сравнительно умеренным, он значительно выше, чем тот,
который имели нынешние богатые страны в то время, когда их
уровень развития соответствовал сегодняшнему африканско-
му (Yeager, 1999). Что еще более важно, перспективы развития
Глава 7. Институты и международное развитие... 319
подрывают не столько размеры государства в странах Африки,
сколько характер действий, предпринимаемых этими государст-
вами. Хотя расходы на социальные услуги сравнительно невели-
ки, африканские правительства занимаются организацией слож-
ной паутины грабительского регулирования посредством уста-
новления монополистических цен и создания государственных
закупочно-сбытовых организаций, что тормозит развитие сель-
скохозяйственной отрасли и во многих случаях вынуждает лю-
дей жить в режиме натурального хозяйства. В более общем пла-
не защита прав собственности во многих странах континента
была и остается слабой или вовсе отсутствует, вследствие чего
частный капитал периодически становится «трофеем» правящих
элит, а личность и собственность людей из-за войн и междоусоб-
ных конфликтов хронически подвергаются угрозе. Поэтому, бу-
дучи оцененными с помощью набора индексов экономической
свободы, страны Африки продолжают оставаться в числе «наи-
менее свободных» из всех стран мира (Ayittey, 2008).
В случае Латинской Америки меры либерализации продвину-
лись дальше, чем в Африке, снижение уровня внешнеторгового
протекционизма оказалось более существенным и была предпри-
нята синхронная попытка переместить в сферу частного рынка
национализированные производства в таких секторах, как ин-
фраструктура общего пользования. Но, что существенно, утвер-
ждение, что роль государства в целом уменьшилась, в отноше-
нии таких стран, как Аргентина, — пример которой Всемирный
банк на протяжении 90-х годов выставлял в качестве «образца
реформ», — практически не подтверждается фактами. Напротив,
доля государственных расходов в ВВП оставалась на прежнем
уровне и даже увеличивалась по мере того, как доходы от различ-
ных мер приватизации использовались для раздувания расходов,
а не на погашение государственного долга (Edwards, 2010). В той
мере, в какой можно говорить о проведении реформ в масштабе
всего континента, они ни в коей мере не соответствовали клас-
сическим либеральным принципам. Эта оценка особенно спра-
ведлива в отношении приватизации, где «реформа» привела к со-
зданию законодательно защищенных частных монополий, и в от-
ношении процесса перевода функций на аутсорсинг частным
фирмам, где многие контракты были переданы рентоориентиро-
ванным группам интересов, приближенным к правящим полити-
ческим элитам или сросшимся с ними (Vargas Llosa, 2005; Edwards,
2010). Единственным исключением из этого общего сценария
320 Часть II. Классический либерализм и будущее...
является Чили, где результатом процесса приватизации стало
создание более открытых и конкурентных рынков и где далеко
идущая реформа пенсионной системы привела к широкому рас-
пылению собственности. Примечательно, что, хотя темпы роста
в Чили намного превзошли средние по Латинской Америке, про-
цесс реформ по большей части не был объектом международной
помощи развитию (Easterly, 2006; Edwards, 2010).
Важно то, что эти результаты не только не противоречат
классическим либеральным тезисам, но и подтверждают, что
финансируемые извне усилия по продвижению реформ обреме-
нены проблемами эпистемологического характера и проблема-
ми, связанными с совместимостью стимулов. Это утверждение
не означает, что реформы, чтобы иметь шансы на успех, долж-
ны в точности соответствовать некоему образцу классической
либеральной чистоты. Вероятно, ошибки в реализации полити-
ки, обусловленные проблемами знания и элементами коррупции,
неизбежны в любой период политических изменений. Но суще-
ственно то, что институциональная среда может усиливать или,
наоборот, уменьшать серьезность такого рода проблем. Имен-
но поэтому бессмысленны попытки привнести более благопри-
ятные для развития институты посредством программ структур-
ных преобразований за счет международного финансирования —
будь то программы, вдохновляемые Вашингтонским консенсусом
или какой-либо иной стратегией развития.
В то же время финансируемые из налогов программы вроде
тех, которыми занимается Всемирный банк, вряд ли будут доста-
точно приспособленными к культурной и экономической ситу-
ации на местах. Например, Койн (Coyne, 2006) отмечает пагуб-
ные последствия помощи развитию, предоставлявшейся Кении,
где, как показывают исследования, донорская помощь не учиты-
вала значимость этнической и межплеменной вражды и зачастую
только усиливала эту вражду. То же самое можно сказать о целом
ряде провалившихся проектов развития в странах Африки, где
доступ к политической власти по большей части определяется
племенными и этническими факторами и где контроль над ре-
сурсами, выделяемыми на помощь развитию, и их распределение
стали главным предметом конфликтов, зачастую с применением
насилия (Easterly, 2006).
С другой стороны, как для агентств, выделяющих финанси-
рование на предоставление помощи развитию, так и для и госу-
дарств, его получающих, данный процесс создает мало стимулов
Глава 7. Институты и международное развитие... 321
к обеспечению эффективной реализации реформ. Фактические
данные о многочисленных проектах развития в Африке показы-
вают, что крупномасштабное финансирование зачастую продол-
жается на протяжении десятилетий уже после того, как соответ-
ствующие проекты не смогли достичь заявленных в них целей
(Gibson et al., 2005). Аналогично для случая Латинской Амери-
ки имеются данные, свидетельствующие, что программы струк-
турных преобразований на самом деле содержали в себе мало то-
го, что можно было бы по праву назвать «преобразованиями».
В частности, Всемирный банк продолжал предоставлять про-
граммные займы на структурные преобразования даже тогда,
когда сокращение государственных расходов, которым должны
были сопровождаться займы, ничем не подтверждалось (Easterly,
2001; Истерли, 2006; Edwards, 2010).
В других случаях предоставление зарубежной помощи разви-
тию может приводить к укреплению такой структуры стимулов,
которая вместо актов добровольного обмена с положительной
суммой поощряет хищническую погоню за рентой. Если правя-
щие элиты имеют возможность получать дополнительные ресур-
сы за счет доступа к международной помощи развитию, то это
может вести к ослаблению внутреннего политического давления
в направлении институциональных реформ, которые могли бы
запустить самоподдерживающийся процесс роста. И снова крас-
норечивой иллюстрацией служит африканский опыт. Тот факт,
что, несмотря на триллионы долларов, предоставленные в рам-
ках помощи развитию в послевоенный период, на большей ча-
сти континента отсутствуют соответствующие институты, сви-
детельствует о «риске недобросовестности», который может
создавать крупномасштабная помощь развитию. По-видимому,
попытки подтолкнуть к изменениям извне не только не ослабля-
ют мешающие экономическому росту силы, которые порождают-
ся зависимостью от прошлой траектории, но и с равной, если не
с большей вероятностью усугубляют проблемы, связанные с кол-
лективными действиями, и усиливают зависимость от прошлой
траектории, что блокирует движение в направлении институтов,
благоприятных для развития.
Тот факт, что широкая вовлеченность международных
агентств по развитию вовсе не является ключом к успеху, хоро-
шо иллюстрируется примером тех стран, которые достигли, су-
дя по всему, устойчивого роста. Важнейшими историями успе-
ха в этом отношении являются Чили после 1973 г., Китай после
322 Часть И. Классический либерализм и будущее...
1979 г. и, из более недавних случаев, Индия после 1991 г. — все
эти страны намного превзошли средние экономические резуль-
таты по всем развивающимся странам в целом и по их соответ-
ствующим регионам. В случае Чили рыночно-ориентированные
реформы были инициированы «правой» диктатурой Пиночета,
но продолжились при последующих демократически избранных
правительствах. В Китае на протяжении всего периода у влас-
ти оставалась номинально коммунистическая диктатура, но она
начала рыночно-ориентированные реформы, и сегодня тариф-
ные барьеры в стране намного ниже средних по развивающимся
странам (Sally, 2008). В Индии же, наоборот, на протяжении по-
чти всего периода независимости сохранялось демократическое
правление, но постепенный процесс экономической либерализа-
ции начался лишь в 1991 г. Несмотря на все эти различия, общим
для всех трех случаев было то, что роль международной помощи
развитию в процессе экономических реформ была минимальной
или вообще отсутствовала. И Чили, и Китай, и Индия осуществля-
ли односторонний подход к экономической либерализации, кото-
рый не был «поддержан» крупномасштабными программами по-
мощи со стороны международного сообщества. Контекст и мас-
штабы этих реформ, разумеется, были разными — Чили имеет
экономику, в наибольшей степени ориентированную на рынок,
Китай частично отошел от центрального планирования и госу-
дарственной собственности, а Индия сделала относительно бо-
лее скромные шаги к либерализации сферы услуг и некоторых ви-
дов обрабатывающих производств, но эти изменения не затрону-
ли сельское хозяйство. Тем не менее с классической либеральной
точки зрения эти примеры подтверждают идею, что неинтервен-
ционистская стратегия на международном уровне с большей ве-
роятностью будет иметь своим результатом реформы, должным
образом адаптированные к конкретным политическим и эконо-
мическим условиям, и при этом у тех, кто осуществляет реформы,
будет достаточно стимулов, чтобы сделать их работоспособными
(подробнее об этих примерах см. Easterly, 2006; Sally, 2008).
Противоречит ли восточноазиатская модель
классическому либерализму?
Успехи Китая и Индии в последние годы были достигнуты на фо-
не высоких результатов, демонстрируемых многими восточноа-
зиатскими экономиками, чей рост превосходит среднемировой
Глава 7. Институты и международное развитие... 323
начиная с 60-х годов XX в. и чьи стратегии также были реали-
зованы при сравнительно небольшой роли международной по-
мощи. Однако что можно сказать по поводу утверждения, будто
эти примеры «одностороннего» прогресса в большей степени
объясняются крайне интервенционистским подходом, нежели
принципами классического либерализма?
Первое, что следует отметить в этой связи, — классический
либерализм не претендует на то, что страны могут в один день
перейти от командной или крайне протекционистской экономи-
ки к системе, полностью ориентированной на рынок и действу-
ющей в условиях абсолютной свободы торговли. Точно так же
никакая, сколь угодно масштабная либерализация не обеспечит
процветания в условиях, когда отсутствуют базовые институты,
такие как защищенные права собственности. Как отмечалось ра-
нее, конкретные пути к созданию эффективных рынков будут раз-
ными в зависимости от соответствующего политического и куль-
турного контекста — не существует «чертежа», согласно которому
должен происходить процесс либерализации. Основная же идея
состоит в том, что широкое, но четко выраженное движение в на-
правлении рыночно-ориентированной внутренней и междуна-
родной политики принесет выигрыш в средне- и долгосрочном
плане. Таким образом, исследования, подобные работе Уэйда
(Wade, 1990), имевшие целью показать, что восточноазиатские
экономики достигли успехов при наличии значительных элемен-
тов государственного вмешательства, по большей части не име-
ют отношения к обсуждаемому вопросу. Значение же имеет со-
поставление результатов, достигнутых государствами с большей
и с меньшей степенью государственного планирования и регу-
лирования, а также направление изменений в этих странах с те-
чением времени. Если оценивать имеющиеся данные на основе
этих критериев, то они никоим образом не противоречат клас-
сической либеральной точке зрения. Например, Южная Корея
и Тайвань проводили протекционистскую политику в некото-
рых секторах, а их темпы роста начиная с 60-х годов XX в. нере-
дко достигали впечатляющих величин. Однако Гонконг и Синга-
пур действовали в условиях практически полной свободы торгов-
ли, и их темпы роста были еще выше (Choi, 2000). В то же время
рост в самих Южной Корее и Тайване достиг еще более впечат-
ляющих темпов после отказа от политики импортозамещения
и введения более нейтрального (хотя и не полностью свободно-
го) режима внешней торговли в конце 60-х годов (Lai, 1994; 2002;
324 Часть П. Классический либерализм и будущее...
Powell, 2005). Важно также, что в более недавнее время именно
страны с более либеральным финансовым режимом, такие как
Гонконг и Сингапур, быстрее всех восстановились после финан-
сового кризиса конца 90-х. В других странах Восточной Азии го-
сударственные меры, судя по всему, привели лишь к углублению
кризиса и замедлению процесса выхода из него. В частности, ин-
тервенционистские режимы продемонстрировали готовность
спасать обанкротившиеся банки и финансовые институты, тем
самым создавая для этих акторов извращенные стимулы («риск
недобросовестности»), побуждающие их к вовлечению в чрез-
мерно рискованные практики кредитования (Choi, 2000).
Примеры Гонконга и Сингапура можно попытаться «сбро-
сить со счетов» как исключения, характерные для «малых стран»,
но дополнительный и красноречивый довод против точки зре-
ния, приписывающей успех «управляемому рынку», предоставля-
ет нам опыт Китая. Стиглиц основывает свою интервенционист-
скую интерпретацию китайского экономического развития на
представлении о том, что так называемые волостные и поселко-
вые предприятия суть юридические лица, находящиеся в обще-
ственной собственности (см., например, Stiglitz and Yusuf, 2001).
Но, как показывает Хуан в исчерпывающем эмпирическом иссле-
довании структуры собственности в Китае (Huang, 2008: 68—81),
из 12 млн зарегистрированных волостных и сельских предпри-
ятий более 10,5 млн на самом деле являются частными или на-
ходятся де-факто в частном владении. Многие из этих предпри-
ятий возникли в ходе осуществления программы приватизации
в сельском хозяйстве с 1979 по 1989 г. и стали причиной быстро-
го развития сельских территорий в этот период. Они развива-
лись главным образом за счет капитала, предоставленного мел-
кими крестьянскими хозяйствами, которые хотя и не обладали
той защищенностью собственности, которая имеет место в боль-
шинстве развитых стран, но получили de facto от местных струк-
тур государственной власти гарантии защиты собственности
и гораздо большую степень безопасности, чем они имели в усло-
виях катастрофической коллективизации во времена «большого
скачка» и «культурной революции»1.
1 Стиглиц, по-видимому, совершил эту ошибку, приняв тот факт, что во-
лостные и поселковые предприятия регистрировались местными народны-
ми коммунами, за формальное владение соответствующими предприятия-
ми и их активами. Однако, как показывает Хуан (Huang, 2008: 68—81), ком-
муны, в которых регистрировались волостные и поселковые предприятия,
Глава 7. Институты и международное развитие... 325
Важно также, что дальнейшее распространение и диверси-
фикация этих предприятий с начала 90-х годов, как показывает
Хуан, искусственно сдерживались, так как китайское правитель-
ство после событий на площади Тяньаньмэнь стало придержи-
ваться все более интервенционистского и ориентированного на
города подхода, основанного на привлечении прямых иностран-
ных инвестиций с помощью налоговых льгот и избирательном
освобождении от регулирования — льготах, остававшихся недо-
ступными для местных предпринимателей. Сельские предпри-
ниматели, которые могли бы сформировать основу националь-
ного частного сектора, не имели возможность расширяться, так
как у них не было доступа к финансовым рынкам, и все больше
становились свидетелями эрозии своих прав собственности, так
как китайское государство стремилось сдерживать формирова-
ние потенциальных центров политической оппозиции. Хотя
в последние годы общие темпы роста в целом сохранялись, в по-
следнее время, в отличие от периода до 1989 г., когда рост обла-
дал широкой базой, развитие по большей части подпитывалось
иностранными инвестициями и имело сильный перекос в сто-
рону крупных городских центров, таких как Шанхай. Вследствие
этого национальный частный сектор в Китае остается хрониче-
ски недоразвитым1. Более того, в той степени, в какой китайцам
вроде бы удается создавать собственные успешные промышлен-
ные компании, такие как Lenovo (которая недавно купила про-
изводственное подразделение IBM), последние являются китай-
скими лишь по названию. Почти все такие фирмы, хотя и ве-
дут деятельность внутри Китая, официально зарегистрированы
и принадлежат владельцам в Гонконге, где у них есть доступ
представляют собой территориальные единицы, а не владеющие собствен-
ностью юридические лица, а основная часть капитала, вложенного в эти
предприятия, поступала из частных источников.
1 Это аргумент не против политики поддержки иностранных инвести-
ций, а против такой политики, которая сознательно отдает предпочтение
иностранным инвестициям и городским центрам перед сельским сектором.
Пагубные результаты враждебного отношения к иностранным инвестици-
ям очень хорошо видны на примере Индии в период до 1991 г., когда собст-
венность иностранцев на предприятия в таких секторах, как обрабатываю-
щая промышленность, была по существу запрещена. Поскольку сегодня Ин-
дия делает более либеральным свой подход к иностранным инвестициям,
но сохраняет многие виды ограничительного регулирования в сельскохо-
зяйственном секторе и в сельской местности, китайский и индийский опыт,
по-видимому, сближаются.
326 Часть II. Классический либерализм и будущее...
к одному из самых либеральных рынков капитала в мире. При-
чина их успеха заключается отнюдь не в китайской системе про-
изводственного и финансового планирования, как утверждает
Стиглиц, — ключевой составляющей была и остается возмож-
ность для начинающих предпринимательских компаний уйти
из китайской системы производственного и финансового конт-
роля а затем снова прийти в Китай на более либеральных усло-
виях, предоставляемых «иностранным инвесторам». Разумеется,
такая возможность недоступна громадному большинству наци-
ональных сельских предприятий, которые остаются опутанны-
ми все расширяющейся сетью регуляторных ограничений (см.
Huang, 2008: Chapter 1). И у других стран развивающейся части
мира, у которых нет такого соседа, как Гонконг, нет возможно-
сти воспользоваться этим опытом.
В связи с вышесказанным следует подчеркнуть, что в мире не
существует экономики, которая полностью придерживалась бы
принципов «свободного рынка» как внутри страны, так и на ме-
ждународной арене. Как указывает Пауэлл (Powell, 2005), для
случая восточноазиатских стран в целом важный факт состоит
в том, что если оценивать их по набору сопоставительных индек-
сов, то они оказываются в числе самых экономически либераль-
ных стран мира — причем они в гораздо большей степени либе-
ральны, чем развивающиеся страны в целом (Lai, 2002). Полити-
ка, проводившаяся в постколониальную эпоху в Восточной Азии,
хотя и не была чистым laissez faire, тем не менее была более ли-
беральной и рыночно-ориентированной, чем в демонстрирую-
щих слабые показатели регионах Латинской Америки и Африки.
В частности, Гонконг и Сингапур стабильно попадают в первую
пятерку самых либеральных экономик. Япония в период 70—90-х
годов в общей сложности половину всего времени находилась
в числе десяти самых либеральных экономик, и даже более ин-
тервенционистские Южная Корея и Тайвань по различным ин-
дексам экономической свободы стабильно держались в первой
двадцатке стран (Powell, 2005: 315—318). Хотя ни одна из них не
представляет собой «чистую» рыночную экономику, нет основа-
ний утверждать, как это делают авторы, подобные Уэйду, что их
успех имеет причиной высокую степень государственного вме-
шательства. Например, применительно к случаю Гонконга, не-
смотря на отсутствие в этой стране контроля над импортом, ва-
лютными курсами, иностранными инвестициями, ценами и за-
работной платой и несмотря на один из самых низких в мире
Глава 7. Институты и международное развитие... 327
показателей доли налоговых доходов бюджета в ВВП, Уэйд за-
являет, что из-за наличия масштабных государственных жилищ-
ных программ, планирования землепользования и контроля над
иммиграцией более высокие экономические результаты не мо-
гут иметь своим объяснением проведение рыночно-ориентиро-
ванной политики (Wade, 1990: 331—332). Если Уэйд всерьез ут-
верждает, что Гонконг на самом деле не является сравнительно
открытой рыночной экономикой, то трудно представить себе,
какая страна таковой является и откуда можно было бы взять ма-
териал для сравнения, который позволил бы подтвердить или
опровергнуть точку зрения, что интервенционистские режимы
достигают лучших результатов, чем более рыночно-ориентиро-
ванные системы.
Коммунитаристские возражения
против классического либерализма
на международном уровне
Хотя в литературе о развитии продолжают доминировать эко-
номические возражения против либеральных рынков, они все
больше и больше дополняются выступлениями коммунитари-
стов, которые выдвигают тезис о необходимости большей степе-
ни политического или коллективного контроля над процессом
культурного и экономического взаимодействия. Хотя в рамках
общей коммунитаристской перспективы имеются существен-
ные различия во взглядах на то, какие политические следствия
вытекают из наличия глобальной среды, характеризуемой куль-
турной и экономической текучестью, все представители этого
направления едины в своей подозрительности по отношению
к классическому либерализму.
Одно важное направление коммунитаристской аргумента-
ции, поддерживаемое как консерваторами, так и социал-демо-
кратами, утверждает, что распространение рыночных отноше-
ний на международном уровне выступает фактором движения
к культурной однородности и к искоренению традиций, несовме-
стимых с динамикой глобального капитализма. Например, Грей
(Gray, 1998) доказывает, что международная торговля способст-
вует разрушению социального капитала, характерного для «вос-
точноазиатской» модели, и замене его монолитной формой ан-
гло-американского индивидуализма. Согласно этому представле-
нию, необходимо попытаться уберечь такого рода социальный
328 Часть II. Классический либерализм и будущее...
капитал от воздействия рыночных сил, и для этого следует ввес-
ти ограничения на внешнюю торговлю и движение капитала.
Озабоченность Грея культурной гомогенизацией в условиях
открытых рынков проистекает из консервативного пристрастия
к сохранению исторически сложившихся местных и националь-
ных традиций. Однако подобную озабоченность выказывают
и представители социал-демократического направления, нахо-
дящиеся в левой части политического спектра. Например, Мил-
лер (Miller, 1995) утверждает, что демократические институты не
могут функционировать, если отсутствует общая политическая
идентичность и культура, действующие в территориальных гра-
ницах современного национального государства. Согласно этой
точке зрения, рынки хоть и играют определенную роль в органи-
зации общества, они должны быть заключены в жесткие рамки
демократического гражданства, чтобы люди могли участвовать
в диалоге по поводу того, в чем состоит общее благо, и чтобы чув-
ство доверия позволяло им преодолевать различия.
Коммунитаризм Грея и Миллера приводит к позиции, соглас-
но которой коллективное принятие решений как в развитых, так
и в развивающихся странах должно играть существенную роль
в регулировании функционирования рынков на национальном
уровне и, при необходимости, в осуществлении политических
мер, идущих наперекор тенденции к развитию международных
рынков и сопутствующих им структур. Однако этот «националь-
ный коммунитаризм» не следует путать с более «космополитиче-
ской» его разновидностью, доказывающей, что институты гло-
бального капитализма уже продвинулись в своем развитии слиш-
ком далеко, чтобы их можно было эффективно контролировать
действиями национальных государств. Согласно этой точке зре-
ния, национальные государства больше не способны двигаться
по независимой траектории, поскольку рыночные силы, дейст-
вующие на международном уровне, распыляют экономические
и социальные последствия решений, принимаемых индивидуаль-
ными и корпоративными акторами, по самым разным уровням
территориальной организации. Поэтому требуется распростра-
нение уз демократического гражданства за пределы националь-
ных государств с тем, чтобы оно охватывало общности, испыты-
вающие воздействие социально-экономических сил, независимо
от их географического местоположения.
Космополитические коммунитаристы, такие как Айрис Янг
(Young, 1990, 2000), критически относятся к тому, что восприни-
Глава 7. Институты и международное развитие... 329
мается ими как ограниченность и непоследовательность «наци-
оналистической» позиции. Последняя делает акцент на том, что
демократические институты способны вовлекать людей в про-
цесс, в ходе которого их предпочтения исследуются на предмет
их последствий для общества в целом, а демократический диалог
позволяет достичь консенсуса по поводу общего блага. Но, исхо-
дя из космополитической перспективы, если коммуникативная
рациональность может иметь место в рамках национальных госу-
дарств, то нет никаких причин, по которым такого рода обучение
в процессе диалога не может быть расширено до международного
и, при необходимости, глобального уровня. Это тем более важно,
если учесть, что действия, предпринимаемые развитыми страна-
ми, зачастую непосредственно влияют на экономическую и куль-
турную жизнь тех жителей развивающихся стран, которые мо-
гут оказаться в невыгодном положении из-за торговых и инвес-
тиционных решений, принятых где-то в другом месте, и которые
могут ощущать себя «угнетенными» гегемонией «вестернизиро-
ванной» капиталистической культуры. Поэтому Янг стремится
к тому, чтобы «глобальное разделение труда» и инвестиционные
решения корпораций были подчинены демократической сове-
щательности на наднациональном уровне. Принцип, применяе-
мый здесь, представляет собой вариант «модифицированного те-
ста Милля», обсуждавшегося в главе 5. Этот тест утверждает, что
все агенты, на которых оказывает влияние некоторое действие,
должны принимать участие в принятии решения о таком дейст-
вии и в формировании условий, к нему приводящих. Согласно
Янг, из этого принципа вытекает, что общее направление дви-
жения должно вести к максимально возможному распростране-
нию социал-демократических процессов на глобальный уровень.
Ведет ли классический либерализм
к культурной однородности?
Хотя коммунитаристы расходятся друг с другом в вопросе о том,
должен ли коллективный контроль над рынками осуществлять-
ся на национальном или на космополитическом уровне, они со-
гласны в том, что такой контроль совершенно необходим для
сохранения культурного разнообразия. Однако с классической
либеральной точки зрения утверждение, что международная
торговля ведет к культурной однородности, является по боль-
шей части безосновательным. Открытый международный рынок
330 Часть П. Классический либерализм и будущее...
предоставляет конкурентные ниши для множества разнообраз-
ных этнокультурных типов, каждый из которых может обла-
дать сравнительным преимуществом в той или иной экономиче-
ской сфере. Например, некоторые культурные нормы — скажем,
те, которые делают упор на командный дух, — могут преобладать
в секторах, требующих больших капитальных затрат и совмест-
ного производства, — таких как выпуск автомобилей, — в то вре-
мя как в других отраслях конкурентным преимуществом может
обладать культура, предоставляющая больше пространства для
проявления индивидуального таланта и стиля — скажем, в текс-
тильном производстве и индустрии моды. Исторически япон-
ская культура процветала в условиях первого типа, в то время как
модель предпринимательства с единственным владельцем, ассо-
циируемая с китайской культурой, достигала лучших результатов
в отраслях второго типа (Lavoie and Cham lee-Wright, 2001).
В более общем случае при обсуждении влияния международ-
ных рынков на культурное разнообразие чрезвычайно важно по-
нимать разницу между разнообразием внутри стран и разнообра-
зием самих стран (Caplan and Cowen, 2004). Что касается моде-
лей потребления, то рынки и торговля проявляют тенденцию
к увеличению разнообразия первого типа и к уменьшению второ-
го. Например, торговля между Великобританией и Чили сдела-
ла доступными для британских потребителей те товары, которые
раньше были доступны только в Чили, и наоборот. В этом случае
прямым следствием торговли стало то, что разнообразие увели-
чилось внутри как Великобритании, так и Чили, поскольку у жи-
телей этих стран расширились возможности для выбора. Одна-
ко различия между соответствующими странами стали менее яр-
ко выраженными. В то же время со стороны производства, а не
потребления растущая отдача от специализации может действо-
вать в направлении усиления регионального своеобразия. По ме-
ре расширения масштабов международных рынков разные регио-
ны мира могут увеличивать свои доходы путем специализации на
тех или иных видах продукции. Эта специализация может поддер-
живать и усиливать своеобразие соответствующих регионов и со-
обществ. В силу закона сравнительных преимуществ даже те куль-
турные практики, которые не обладают никакими абсолютными
преимуществами в производстве или предпринимательской изо-
бретательности, на конкурентном рынке вряд ли ждет исчезнове-
ние. Если различные культурные типы будут специализироваться
на тех видах продукции, в которых они имеют наименьшие аль-
Глава 7. Институты и международное развитие... 331
тернативные издержки производства, то условиях глобальной
торговли общемировой продукт может от этого стать еще боль-
ше. Даже самые неэффективные производители и культуры, да-
же если у них нет никаких абсолютных преимуществ, обязательно
имеют сравнительные преимущества на некоторых рынках.
Торговля, коммуникативная рациональность
и социальный капитал
Вышеприведенный анализ не означает, что культурная стандар-
тизация на глобальном уровне незначительна — например, рас-
пространение английского языка в качестве языка международ-
ной коммерции представляет собой яркий и очевидный пример
культурной однородности. Но с классической либеральной точ-
ки зрения принятие общих норм и практик в одних аспектах мо-
жет быть предварительным условием для эволюции более раз-
нообразного набора культурных норм в других аспектах. Однако
важно то, что количество аспектов, в которых стандартизация
может оказаться необходимой или благотворной, сравнительно
невелико. Приверженность относительно «разреженному» на-
бору норм, таких как готовность соблюдать условия договоров
и говорить на общем языке коммерции, позволяет сотрудничать
людям, которые во всех прочих отношениях могут иметь очень
разные интересы и ценности, в то время как попытки создать
приверженность общему набору более содержательных целей
с большой вероятностью приведут к конфликтам. Согласно клас-
сической либеральной позиции, именно благодаря относитель-
ной обезличенности отношений люди в условиях рынков склон-
ны быть менее озабоченными религиозным или этническим
происхождением тех, с кем они вступают в обмен, и в силу это-
го открывают себя для потенциального влияния других образов
жизни, идентичностей и способов ведения дел.
Если рассмотреть вопрос в этом контексте, то коммунитари-
сты, как выясняется, не в состоянии увидеть, что попытки инсти-
туционализировать общую идентичность посредством государ-
ства скорее всего заблокируют тот самый процесс социальной
коммуникации, которому они так благоволят. «Националистиче-
ский» вариант особенно чреват проблемами в случае развиваю-
щихся стран, где границы национальных государств нередко ох-
ватывают широкий спектр этнокультурных групп и где отсутст-
вует межэтническое доверие. Во многих развивающихся странах
332 Часть И. Классический либерализм и будущее...
этническая и религиозная идентификация составляет основу ры-
ночных транзакций; в отсутствие защищенных прав собственно-
сти и формальных репутационных механизмов, таких как кредит-
ные рейтинги, люди, чтобы преодолеть дефицит доверия в обще-
стве в целом, ограничивают свои сделки членами расширенной
семьи. Следствием таких исключающих действий на рынке ста-
новится ограничение конкуренции и уменьшение выигрыша от
обмена. Однако государственные меры имеют тенденцию закре-
плять такие исключающие практики, поскольку те, кто достиг
успеха в установлении контроля над политическим механизмом,
получают возможность использовать государственный аппарат
для навязывания эксклюзивистских норм посредством формаль-
ного бюрократического регулирования. В этом отношении осо-
бенно разрушительны протекционистские меры, основанные на
импортозамещении и ограничениях на владение предприятиями
для иностранцев. Они обогащают доминирующие семейные и эт-
нические группы, выигрывающие от ограничения конкуренции,
и вследствие этого обычно ведут к усилению межэтнических кон-
фликтов по поводу соответствующих распределительных выгод.
Вдобавок, уменьшая степень проникновения глобальных брендов
и практик управления на местный рынок, они сокращают контак-
ты местных культур с отличающимися от них наборами социаль-
ных норм, т.е. те контакты, благодаря которым могли бы полу-
чить распространение практики, более открытые для общения
с другими народами (Van de Walle, 2001; Easterly, 2006).
Если прибегнуть к терминологии, используемой в главе 4,
для более широкого распространения экономического разви-
тия в мире необходим не «обязывающий» социальный капитал,
на который делают упор «националистические» коммунитари-
сты, а более разреженный, «связывающий» социальный капи-
тал, которого требуют и который поддерживают более обшир-
ные коммерческие контакты. Поэтому откровенный скепти-
цизм в отношении торговли, выражаемый теми, кто выступает
за большую «коммуникативную рациональность», выглядит со-
вершенно неожиданным. Зачем ограничивать торговлю и обще-
ние между различными сообществами в попытке защитить кон-
кретную социальную идентичность, жертвуя ради этого увеличе-
нием кросскультурной текучести? Конечно, некоторые группы
могут пожелать изолировать себя от космополитических сил, но
нет никаких оснований утверждать, что такая изоляция должна
навязываться другим людям, которые, возможно, стремятся уйти
Глава 7. Институты и международное развитие... 333
от ведущих к эксклюзии предрассудков, имеющих место в рамках
национальных государств.
Против глобальной совещательности
Аргументация космополитических коммунитаристов с ее упо-
ром на интернационализм несколько ближе к классическому ли-
берализму. Но в чем классический либерализм радикально отли-
чается от космополитизма, так это в своем отношении к созда-
нию демократических структур управления на наднациональном
уровне. В отличие от своих «националистических» коллег, сто-
ронники космополитического варианта, хотя они и считают же-
лательным уважение и укрепление культурного разнообразия,
стремятся создать «более плотное» чувство общности на гло-
бальном уровне, причем хотят добиться этого, подчинив боль-
шее число решений коллективному демократическому конт-
ролю. Однако с классической либеральной точки зрения более
робастный путь к уменьшению конфликтности на глобальном
уровне проходит через минимизацию количества решений, при-
нимаемых такого рода структурами.
Что касается культурного разнообразия, то перспективы до-
стижения согласия на глобальном уровне по поводу общего набора
целей, вероятно, еще более туманны, чем на уровне национально-
го государства. Наделение глобальных политических институтов
дополнительными полномочиями скорее всего приведет к нара-
станию конфликтов, так как враждующие коалиции будут бороть-
ся за контроль над гигантским новым источником политической
власти, который теперь будет располагаться внутри этих структур.
С точки зрения классических либералов, отношения, основанные
на «уходе», вроде тех, которые существуют в рамках рынков или
конкуренции между юрисдикциями, больше будут способствовать
усилению позиций индивидов и организаций, чем коллективист-
ские процедуры, основанные на демократическом «высказыва-
нии». Суть предпринимательства — порывать с мнением большин-
ства и вести за собой, показывая пример и придумывая для про-
блем новые решения, которые могут впоследствии копироваться
и распространяться. Если ни одна инновация не может осущест-
виться на практике, пока не получит одобрения большинства, то
процесс социального научения пресекается в угоду точке зрения
этого большинства. В контексте глобального управления огра-
ничения свободы действий будут касаться не только индивидов
334 Часть И. Классический либерализм и будущее...
и корпоративных образований, но и действий национальных го-
сударств. Как отмечалось выше, важнейшие истории успеха, ка-
ковыми являются Китай и Индия, основывались на односторон-
них институциональных реформах, и в частности на односторон-
ней либерализации. Трудно себе представить, как такие реформы
могли бы когда-либо начаться, если бы для этого прежде потребо-
валось одобрение со стороны многосторонней структуры, вклю-
чающей представителей развитых стран, т.е. тех стран, которым
в будущем могла бы угрожать конкуренция со стороны альтерна-
тивных моделей развития. Даже в рамках существующих глобаль-
ных структур, таких как Всемирный банк и Всемирная торговая
организация, те же США и Европа в числе первых предприняли
попытки ограничить приток дешевых импортных товаров из Ки-
тая на основании якобы «неадекватных» условий труда и стандар-
тов защиты окружающей среды (Sally, 2008).
Учитывая сложную взаимосвязь между людьми и территори-
ями в глобальной экономике, сознательный демократический
контроль над торговлей и инвестициями, вроде того, что пред-
лагают космополитические коммунитаристы, такие как Янг, не
сможет распознать ограничений, о которых говорит робастная
политическая экономия. Реализация на практике «модифициро-
ванного теста Милля» потребовала бы, чтобы каждое решение
о входе на тот или иной рынок и уходе с него получало одобре-
ние от совещательного органа, состоящего из всех, на чьи жиз-
ненные или культурные практики могло бы повлиять такое ре-
шение. Можно предположить, это также потребовало бы, чтобы
каждое решение о перемещении в пределы той или иной юрис-
дикции или об уходе из нее было подчинено процедуре одобре-
ния со стороны такого органа. Надо признать, что сама Янг не
рассматривает этот вопрос таким образом, утверждая, что гло-
бальные совещательные структуры должны обеспечивать «об-
щие рамки» правил, в которых будут определяться «общие чер-
ты» структуры инвестиций, миграции и социальных стандартов,
но при этом остается место для адаптации этих правил к мест-
ным условиям совещательными органами более низких уровней
(Young, 2000; 266—271). Однако невозможно не видеть внутрен-
нюю противоречивость такой позиции. Чтобы совещательный
контроль функционировал эффективно, те, кто определяет «об-
щие черты», должны обладать властью принудить местных акто-
ров придерживаться соответствующего плана, когда те намере-
ваются отклониться от него. Однако именно такое «центральное
Глава 7. Институты и международное развитие... 335
планирование» упирается в «проблему знания», о которой гово-
рит Хайек. При невозможности проконсультироваться с милли-
онами акторов, действующих во множестве бесчисленных отра-
слей и юрисдикции, совещательное определение «общих черт»
никогда не сможет учесть знания мириад акторов, на которых
окажет влияние это решение, а будет основываться на представ-
лениях и ценностях крошечного подмножества, состоящего из
политических «представителей». Вместо того, чтобы силой,
определяющей структуру торговли и инвестиций, была конку-
ренция между тысячами компаний за покровительство миллио-
нов инвесторов, работников и потребителей, представляющих
самих себя, эта структура будет детерминироваться небольшим
числом профессиональных совещающихся. Последние в принци-
пе не могут быть осведомлены обо всех локальных обстоятельст-
вах, имеющих значение для тех индивидов и организаций, кото-
рые они должны были бы представлять, и не могут быть подчине-
ны эффективным институциональным ограничениям на случай
злоупотребления той огромной властью, которая оказалась бы
в их руках. В условиях существующих наднациональных структур,
таких как Европейский Союз, при контроле над действиями их
представителей, которые склонны к рентоориентированному
поведению, граждане сталкиваются с огромными проблемами,
связанными с отношениями «принципал-агент».
Эгалитаристские возражения против
классического либерализма
на международном уровне
Аргументам, выдвигаемым космополитическими коммунитари-
стами, вторят те, кто оспаривает классический либерализм на
международном уровне, исходя из эгалитаристских оснований.
В связи с этим задачи теории социальной справедливости, ко-
торая сосредоточена на внутреннем устройстве национальных
государств, должны быть модифицированы. Теперь она долж-
на принять во внимание социальные взаимосвязи, выходящие
за пределы национальных границ, и обратиться к структурному
неравенству/проистекающему из системного функционирова-
ния глобальных институтов. Самый последний по времени и на-
иболее важный аргумент, выдвинутый в этой связи, нашел отра-
жение в предпринятой Томасом Погге попытке распространить
эгалитаризм Ролза на международное измерение.
336 Часть И. Классический либерализм и будущее...
Согласно Погге (Pogge, 2002), глобальная природа современ-
ных социально-экономических отношений требует универсаль-
ных, а не основанных на национальных различиях норм справед-
ливости. Динамика глобальной экономики требует единой сис-
темы права в отношении торговли и прав собственности, и эти
нормы должны быть оправданными с точки зрения принципа,
который может быть принят всеми. Конкретный принцип, ко-
торый имеет в виду Погге, — это принцип различия Ролза. Точка
зрения самого Ролза состоит в том, что поскольку принцип раз-
личия потребовал бы, чтобы одни страны оплачивали издержки
решений о распределении, принимаемых где-то в другом месте,
он не должен применяться вне пределов национальных юрис-
дикции. Однако, с точки зрения Погге, не применять принцип
различия вне границ не больше оснований, чем не применять
его внутри (Pogge, 2002; 106). Если различий в распределитель-
ных нормах, которых придерживаются добровольные объеди-
нения и местные юрисдикции внутри национального государ-
ства, — наличие которых требует, чтобы некоторые акторы не-
сли издержки, связанные с решениями других, — недостаточно
для того, чтобы признать негодным принцип различия, то точно
так же различия в политике национальных государств не могут
сделать его непригодным в международном масштабе. Более то-
го, по мнению Погге, применение принципа различия на между-
народном уровне для максимального улучшения положения гло-
бальной бедноты есть моральный императив.
Опираясь на это рассуждение, Погге настаивает, что на са-
мом деле существует глобальная «базисная структура» норм
и практик, управляющая распределением ресурсов, но эти пра-
ктики фундаментальным образом «несправедливы». Институты,
структурирующие торговые отношения между развитыми и раз-
вивающимися странами, не только не служат интересам «наиме-
нее благополучных», причем таким способом, по поводу которо-
го можно было бы достичь согласия за «завесой неведения», но,
напротив, приносят непропорционально большую выгоду гло-
бальным богатым. Исправит эту несправедливость создание но-
вого набора правил глобального управления, которые реструк-
турируют отношения между развитыми и развивающимися стра-
нами в пользу вторых. Главный механизм, который предлагается
в этой связи, есть не что иное, как создание социального государ-
ства в общемировом масштабе, действующего посредством «гло-
бального ресурсного дивиденда» [«Global Resource Dividend»]
Глава 7. Институты и международное развитие... 337
(Pogge, 2002: 206—207). Эта структура перераспределяла бы дохо-
ды от развитых к развивающимся странам и пыталась бы обеспе-
чить в странах-реципиентах институциональные реформы, мак-
симально способствующие искоренению бедности.
Хотя аргументы Погге явным образом представлены в рол-
зовских терминах, нетрудно понять, как они могли бы быть мо-
дифицированы в соответствии с концептуальной схемой Двор-
кина, в центре которой стоит стремление свести на нет послед-
ствия «слепой удачи», проистекающие из различий в природных
ресурсах, климате и всевозможных социальных и культурных да-
рованиях, которые меняются от одного национального государ-
ства к другому. С этой точки зрения, поскольку среди стран имеет
место радикальное неравенство в доступе к ресурсам и посколь-
ку это неравенство часто не является результатом сознательно-
го выбора, то те, кто лишен ресурсов или сталкивается с риском,
на который влияют в неблагоприятную сторону решения, при-
нимаемые где-то в другом месте, должны получать соответствую-
щую компенсацию (пример такого рассуждения см. в Beitz, 1979).
Страны, богатые ресурсами, будь то природные или культурные
ресурсы, должны облагаться налогами, за счет которых будет фи-
нансироваться создание более равного набора возможностей для
тех, кто беден ресурсами. Таким образом, вариант глобального
ресурсного дивиденда, соответствующий подходу Дворкина, дей-
ствует как разновидность международной программы страхова-
ния для тех стран и народов, которые оказались столь невезучи-
ми, что проиграли в природной и культурной лотерее.
Эти космополитические варианты ролзовского эгалитариз-
ма и «эгалитаризма удачи» превосходит по своим амбициям гло-
бализированный вариант «политики различий». Согласно по-
следней точке зрения, хотя базовое перераспределение ресур-
сов от богатых стран к бедным странам является существенным
элементом глобальной справедливости, его никоим образом не
достаточно для обеспечения такой справедливости. Как уже от-
мечалось при обсуждении коммунитаризма, по мнению таких те-
оретиков, как Янг, создание наднациональных структур необхо-
димо для того, чтобы подвергнуть критическому рассмотрению
международный капитализм и ценности, которые он поддержи-
вает и продвигает. В свете этого, вероятно, неуместно требовать,
чтобы развивающиеся страны в качестве предварительного ус-
ловия получения перераспределяемой части дохода иницииро-
вали институциональные и социальные реформы, отражающие
338 Часть И. Классический либерализм и будущее...
просто-напросто господствующие в развитых странах культур-
ные ценности. Вместо этого глобализированная политика раз-
личий должна стремиться гарантировать, что культурные ценно-
сти тех, кто «проигрывает» на глобальном рынке, были наделе-
ны более позитивной идентичностью, а не интерпретировались
как «девиантные» практики, которые должны быть подвергнуты
«реформам» со стороны доминирующих в рамках международно-
го порядка экономических и культурных групп.
Существует ли глобальная система распределения?
Хотя все эти разнообразные линии эгалитаристской аргумента-
ции оказали большое влияние на формирование современной
повестки дня в сфере развития, будучи рассмотренными в клас-
сической либеральной перспективе, они не удовлетворяют тре-
бованиям робастной политической экономии. С одной стороны,
не существует общей основы для согласия по поводу того, чего
требует «социальная справедливость», а, с другой стороны, по-
пытки реализовать такой принцип в глобальном масштабе мо-
гут иметь своим следствием множество разрушительных послед-
ствий в том, что касается новых структур власти и искаженной
структуры стимулов (см., например, Lomasky, 2005; Kukathas,
2006). Иными словами, проведение политики социальной спра-
ведливости на глобальном уровне может оказаться такой же
ошибкой, какой, как следует из предыдущих глав, является ее
проведение в границах национального государства.
Рассмотрим утверждение Погге, что в условиях взаимозависи-
мости для регулирования взаимоотношений не только между ин-
дивидами, но и между национальными государствами необходим
универсальный принцип справедливости. Даже беглый взгляд на
современную международную арену показывает, что там не суще-
ствует действующих общепринятых стандартов распределитель-
ной справедливости. Напротив, даже среди тех стран, которые
имеют в целом «рыночно-ориентированные» или «капиталисти-
ческие» экономики, наблюдается разнообразие принципов. На-
пример, в скандинавских странах поддержание высокого уров-
ня перераспределения доходов сочетается с жесткими ограниче-
ниями для тех, кто по всем признакам удовлетворяет критериям,
необходимым для получения соответствующих перераспреде-
лительных выплат. Так, в последнее время в Дании правитель-
ства, чтобы сохранить в работоспособном состоянии систему
Глава 7. Институты и международное развитие... 339
социальной поддержки, как они ее понимают, стремятся остано-
вить иммиграцию (Tebble, 2006). В США же в целом более либе-
ральный режим иммиграции идет рука об руку с масштабной об-
щественной оппозицией по поводу перераспределения доходов
(Choi, 2002). Это разнообразие распределительных норм стано-
вится намного большим, если учесть, что многие страны — напри-
мер, такие как страны исламского мира, — придерживаются рас-
пределительных принципов, обусловленных религиозными ве-
рованиями, а еще другие страны, такие как Венесуэла и Боливия,
исповедуют веру в «социалистические» принципы распределения
(Kukathas, 2006). С классической либеральной точки зрения это
разнообразие есть отражение компромиссов, существующих меж-
ду помощью наименее неблагополучным людям и другими, кон-
фликтующими с этими ценностями (такими как стремление к бо-
лее высокому среднему уровню жизни или предпочтение, отдавае-
мое большей культурной разнородности), а также того факта, что
различные объединения людей могут счесть желательными для
себя разные варианты этих компромиссов.
Из приведенных соображений вытекает ряд следствий. Пре-
жде всего в современном мире не существует никакой глобаль-
ной «базисной структуры» экономических и социальных отноше-
ний. Глобальная экономика представляет собой скорее последо-
вательность взаимодействий между множеством разнообразных
индивидов и групп, находящихся под воздействием целого спек-
тра конкурирующих и перекрывающихся институциональных
структур, имеющих отношение к производству и распределению
благ. Иными словами, совершенно неочевидно, что действитель-
но существует такая вещь, как система «глобального капитализ-
ма». Вместо этого имеются экономические взаимодействия меж-
ду индивидами и организациями, происходящими из более или
менее рыночно-ориентированного окружения, а также между ни-
ми и теми, кто по-прежнему включен в системы, более или менее
контролируемые государством. Поэтому нет никаких или почти
никаких оснований соглашаться с утверждением Погге, что бед-
ность в развивающихся странах есть результат «системы норм»,
подтасованных в пользу развитых стран.
Возможно, Погге имеет в виду, что развитые страны часто
воздвигают торговые барьеры, направленные против развиваю-
щихся стран, одновременно настаивая, чтобы сами развивающи-
еся страны отказались от аналогичных мер. Однако представле-
ние, что развитые страны выигрывают от протекционистской
340 Часть II. Классический либерализм и будущее...
политики, не соответствует действительности. Хотя произ-
водители в получающих протекционистскую защиту отраслях
и получают выгоду от ограничения конкуренции, потребите-
ли в развитых странах платят за блага и услуги больше, чем мо-
гли бы платить в отсутствие такого протекционизма, а экономи-
ки этих стран в целом оказываются беднее, поскольку капитал
внутри страны не перемещается в те сферы производства, где он
обладает действительными сравнительными преимуществами.
Имеющиеся фактические данные свидетельствуют, что как раз
в тех развивающихся странах, которые больше всех поддержи-
вают контакты с развитым миром и в наибольшей степени уча-
ствуют в глобальной экономике, наблюдается самое значитель-
ное улучшение уровня жизни. Хотя это улучшение могло бы быть
еще большим, если бы все страны мира отказались от протек-
ционистских мер, было бы неправильно утверждать, что основ-
ной источник протекционизма находится в развитом мире. На-
против, уровень протекционизма в ряде беднейших частей мира
в несколько раз выше, чем в мире в среднем (Bhagwati, 2004: 232).
В более общем плане полагать, что судьба бедняков мира опреде-
ляется глобальными структурами, значит игнорировать тот факт,
что примеры наиболее существенного снижения бедности объяс-
няются внутренней политикой рыночной либерализации, про-
водившейся такими государствами, как Китай и Индия.
Если признать, что условия в развивающихся странах могут
формироваться автономными действиями внутри этих стран —
по крайней мере со стороны правящих элит, — то утвержде-
ние, что различия в богатстве на международном уровне долж-
ны оцениваться на основе общего распределительного принци-
па, выглядит совершенно неадекватным. Например, далеко не
очевидно, что справедливость требует, чтобы развитые страны
выплачивали компенсации «наиболее неблагополучным» наци-
ональным государствам, многие из которых открыто проводили
и проводят политику социалистического развития — к их числу
относятся, например, Египет, Ливия, Северная Корея, Танзания,
Замбия и Зимбабве, и это всего лишь несколько характерных слу-
чаев. Точно так же трудно понять, почему такие государства, как
Китай и Индия, которые в последние годы прошли через про-
цесс внутренних структурных преобразований, после того, как
они преодолеют среднюю отметку на шкале глобального богат-
ства, должны будут стать донорами в рамках перераспредели-
тельных схем ради помощи тем, кто не проводил таких реформ.
Глава 7. Институты и международное развитие... 341
Конечно, некоторые проявления глобального неравенства могут
быть объяснены наследием колониального господства и эксплуа-
тации, однако громадные различия в благосостоянии между быв-
шими колониями наводят на мысль, что это не является факто-
ром, играющим главную роль. Имеющиеся фактические данные
не только не подтверждают вдохновляемые марксизмом «теории
зависимости», но и свидетельствуют, что разрыв в доходах меж-
ду странами, проведшими внутренние реформы, и развитым ми-
ром быстро сокращается — особенно ярко это видно в случае Чи-
ли, Китая после 1979 г. и Индии после 1991 г. — в то время как ана-
логичный разрыв для стран, не проводивших реформы (многие
из которых применяют протекционистские меры не только про-
тив развитых стран, но и друг против друга), продолжает увели-
чиваться (Lai, 2006; Лал, 2009)1.
1 Вопреки исходным посылкам Погге, есть основания считать, что про-
цесс либерализации международной торговли начиная с 60-х годов XX в.
имел результатом существенное сокращение глобального неравенства. Во
многих исследованиях, в которых говорится о росте неравенства в этот пе-
риод, сравнивается душевой доход в 20 богатейших и в 20 беднейших стра-
нах в один момент времени с аналогичными показателями в последующий
момент. Например, в исследованиях Всемирного банка, следующих этому
подходу, сообщается об увеличении отношения между душевыми доходами
в странах с самым высоким и с самым низким душевым доходом — т.е. ко-
эффициента, измеряющего неравенство, — с 23 в 1960 г. до 37 в 2000 г. (Lai,
2006: 135; Лал, 2009: 191).
Однако наиболее серьезная проблема, связанная с этими исследования-
ми, состоит в том, что они игнорируют изменения в составе стран, входящих
в соответствующие категории, и, в частности, не обращают внимания на то,
что некоторые страны, входившие в 1960 г. в состав самых бедных, но боль-
ше не попадающие в эту категорию, намного превосходят другие по числен-
ности населения. Многие азиатские страны раньше принадлежали к числу
беднейших, но благодаря быстрому экономическому росту последнего вре-
мени они — и сотни миллионов их жителей — покинули эту группу. Большин-
ство государств, попадающих в самую низкодоходную категорию, сегодня на-
ходятся в Африке и являются малонаселенными. Поэтому сравнение разры-
ва между странами из самой верхней и самой нижней части шкалы душевого
дохода в разные моменты времени не есть сравнение подобного с подобным.
Чтобы сопоставление было корректным, следует сравнивать благополучие
одних и тех же стран в разные моменты времени. Но такого рода исследова-
ния не только не демонстрируют увеличения неравенства, но и свидетельст-
вуют о существенном его уменьшении, во многом благодаря экономической
либерализации в Китае и Индии. Сравнивая благосостояние одного и то-
го же набора стран в 1960 и 2000 гг. можно видеть, что разрыв уменьшился:
в 1960 г. богатые имели в 23 раза более высокий душевой доход, чем бедней-
шие, а к 2000 г. этот показатель составлял уже лишь 9,5 раза. Если же срав-
нивать доходы и потребление всех живущих в мире индивидов — в отличие
342 Часть П. Классический либерализм и будущее...
Применение принципа различия Ролза на глобальном уров-
не означало бы отрицание ответственности национальных пра-
вительств за проводимую ими политику и создаваемые ими ин-
ституты и предоставляло бы «наименее благополучным» странам
право на получение перераспределительных выплат независимо
от проводимой ими политики. По существу это означало бы отно-
шение к ресурсам всего мира как к «общему котлу», что делало бы
их уязвимыми для поведения по типу «безбилетника». Погге, надо
отдать ему должное, предлагает некоторые механизмы стимулиро-
вания, чтобы поощрять в развивающихся странах политику, веду-
щую к сокращению бедности, и, следовательно, по-видимому, хо-
чет создать образец некоей формы ответственности за решения,
которые будут приниматься после учреждения «глобального ре-
сурсного дивиденда». Однако проблема с этими его аргументами
состоит в том, что он не приводит никаких оснований, позволя-
ющих считать, что соответствующие «стимулы» будут хоть сколь-
ко-нибудь более робастными, чем те, которые применяются в су-
ществующих программах международной помощи. Если выделе-
ние триллионов долларов на помощь развитию и попытки таких
агентств, как Всемирный банк, обусловить получение этой помо-
щи проведением социально-экономических реформ закончились
провалом, то почему перераспределение еще большего объема
ресурсов и создание новых агентств по развитию приведет к луч-
шим результатам (об этом см. Kukathas, 2006)? С классической ли-
беральной точки зрения наиболее сильные стимулы к развитию
возникли бы, по-видимому, в том случае, если бы был демонти-
рован весь аппарат финансируемой из налогов международной
помощи. Если бы граждане развитых стран имели возможность
в индивидуальном порядке «уйти» от финансирования проваль-
ных проектов развития — и тем самым избежать принуждения
к «сотрудничеству» с зачастую деспотическими режимами, — это
создало бы для соответствующих агентств более сильные стиму-
лы к тому, чтобы финансировать только те проекты, которые
продемонстрировали на практике свою успешность. Точно так
же, если бы правящие элиты развивающихся страны лишились
доступа к внешней помощи, то у них могли бы возникнуть более
от стран, — то коэффициент Джини, который измеряет неравенство (значе-
ние 0 соответствует полному равенству, а 1 характеризует полное неравен-
ство), указывает на снижение уровня неравенства после 1980 г. Подробное
обсуждение этих и других связанных с ними вопросов см. в работах Bhalla
(2002); Lai (2006:Chapter 5); Лал (2009: глава 5).
Глава 7. Институты и международное развитие... 343
серьезные стимулы к отказу от институтов и политики, препят-
ствующих экономическому прогрессу (об этом см. Easterly, 2006).
Учитывая все эти проблемы, порождаемые концептуальной
схемой, основанной на идеях Ролза, подход в духе Дворкина, осно-
ванный на «эгалитаризме удачи», может показаться более перспек-
тивным. Однако он порождает свои трудности: ввиду «проблемы
знания» отсутствует какое-либо основание для согласия по пово-
ду того, какие именно из существующих сегодня проявлений нера-
венства между странами объясняются различиями в доступе к ре-
сурсам, «не являющимися следствием выбора». Рассмотрим случай
Гонконга и Японии. Хотя обе страны принадлежат к числу самых
богатых в мире, они развивались в условиях скудости природных
ресурсов. Следовательно, можно утверждать, что на основании
«эгалитаризма удачи» их не следует облагать налогом, за счет кото-
рого финансировались бы программы перераспределения в поль-
зу таких стран, как Боливия и Венесуэла, которые, хотя и погрязли
в бедности, имеют доступ к гораздо большему количеству природ-
ных ресурсов. Но тут возникает другая проблема: само отсутствие
природных ресурсов в Гонконге и Японии могло способствовать
выработке культурных установок и навыков, благоприятных для
создания богатства, таких как сильная склонность к сбережени-
ям. Поскольку те, кто в силу обстоятельств рождения живет се-
годня в этих обществах, ничего не сделали для того, чтобы «заслу-
жить» свое культурное наследие, можно с равным основанием ут-
верждать, что они должны быть обложены налогами для выплаты
компенсаций жителям тех стран, культурные ценности которых
меньше подходят для создания богатства и где отсутствие подходя-
щих ценностей, возможно, стало результатом изобилия природ-
ных ресурсов. Этот аргумент не такой уж надуманный, как может
показаться на первый взгляд, если учесть очень часто выдвигае-
мую идею, что некоторые беднейшие страны мира поражены «ре-
сурсным проклятием», поощряющим этос «присвоения богатства»
и погони за рентой, а не этос создания богатства (пример: Sachs
and Warner, 2001). Все сказанное не означает отрицания того, что
существуют реальные различия между исходами, являющимися ре-
зультатом «выбора», и теми, которые получаются вследствие «слу-
чайности». Важно лишь подчеркнуть, что грань между исходами,
проистекающими из выбора, и теми, которые имеют своим источ-
ником случай, столь расплывчата и неопределенна, что не может
служить основой для достижения согласия в глобальных масшта-
бах по поводу надлежащего распределительного принципа.
344 Часть II. Классический либерализм и будущее...
Каким бы ущербным ни был подход «эгалитаризма удачи»
с практической точки зрения, его достоинством является то,
что он признает элемент ответственности конкретного агентст-
ва за глобальные распределительные исходы. Однако попытка
возложить ответственность на правительства развивающихся
стран не столь очевидна в случае предлагаемой Янг «политики
различий», которая стремится не только к перераспределению
богатства от развитых к развивающимся странам, но и, ставя це-
лью обеспечить позитивное подкрепление «культурных разли-
чий», предусматривает довольно мало условий, которыми долж-
на быть обставлена выплата соответствующих трансфертов.
Хотя Янг признает, что бедность в развивающихся странах по-
рой есть результат политики, проводимой внутренними элита-
ми (Young, 2000: 271—275), она очень хочет гарантировать, что-
бы действия международных агентств были надлежащим обра-
зом «демократизированы», поскольку это позволит с помощью
«внешних сил» обеспечить «отсутствие доминирования» куль-
турных меньшинств. Механизм, который она в этой связи пред-
лагает, состоит в увеличении роли, которую играют развиваю-
щиеся страны в международных организациях, таких как ООН.
К сожалению, результат, к которому скорее всего приведет та-
кой подход на практике, сведется к расширению доступа к пото-
ку международной помощи развитию правящих элит этих стран,
внутренняя политика многих из которых изначально и была
главной причиной проблемы бедности. Мало причин полагать,
что такие структуры принесут какую-то пользу беднякам в раз-
вивающихся странах — даже если развивающиеся страны будут
доминировать в соответствующих международных организаци-
ях, — потому что именно те страны, которые все больше и боль-
ше вовлекаются в систему международной помощи развитию,
оказываются в числе худших в мире по достигнутым экономиче-
ским результатам (Easterly, 2006). Доступ к системе международ-
ной помощи часто означает субсидирование дисфункциональ-
ных экономических и социальных систем и уменьшает стимулы
для правящих элит к проведению внутренних реформ. Предла-
гаемое Янг решение проблемы бедности и несправедливости не
только не уменьшит «доминирование», но, напротив, позволит
этим самым элитам получить доступ к дополнительным потокам
финансирования, которые будут затем использованы для сохра-
нения отношений «доминирования» над населением их собст-
венных стран.
Глава 7. Институты и международное развитие... 345
Против глобализации социальной справедливости
Как уже должно было стать очевидно, в соответствии с классиче-
ской либеральной перспективой не существует глобальной сис-
темы распределения ресурсов, и не следует предпринимать по-
пыток такую систему создать. Хотя экономические и социальные
взаимосвязи между людьми, находящимися в разных частях све-
та, конечно, существуют, из этого не следует, что есть какая бы
то ни было нужда в универсальных принципах распределитель-
ной справедливости. Напротив, глобальный «стихийный поря-
док» требует таких общих «правил поведения», которые позво-
ляли бы людям, отличающимся друг от друга в своих представле-
ниях о том, что справедливо и что несправедливо, участвовать
в мирных формах сотрудничества (Lomasky, 2007: 208—213). Та-
кого рода правила обычно «негативны» или «разреженны» по
своему характеру и находят отражение в таких нормах, как не-
насилие, уважение к собственности, готовность соблюдать до-
говоры и принцип свободы объединения и отделения. Хотя не
должно быть никаких запретов, мешающих добровольным объ-
единениям вырабатывать «позитивные» или «более плотные»
правила, обеспечивающие внутри них тот или иной конкрет-
ный распределительный паттерн, в условиях экономического
и культурного разнообразия вряд ли эти стандарты будут широ-
ко распространенными — и едва ли они должны быть широко
распространенными. Когда отсутствует согласие по поводу того,
в чем состоит справедливый распределительный паттерн, созда-
ние глобальных институтов будет мешать кросскультурному на-
учению и при этом просто-напросто даст возможность тем, кто
обладает властью в этих институтах, навязывать свои собствен-
ные распределительные идеалы (Kukathas, 2006: 20—25).
С классической либеральной точки зрения многие имеющие-
ся в настоящее время барьеры на пути более эффективной систе-
мы международной кооперации коренятся в структурах, наруша-
ющих принцип «невмешательства» и насильно препятствующих
людям из разных частей земного шара сотрудничать друг с дру-
гом на основе более «разреженного» набора моральных норм.
Например, протекционистская защита внутренних производи-
телей, практикуемая и развитыми, и развивающимися странами,
представляет собой попытку принудительно блокировать обще-
ние между партнерами, потенциально готовыми вступать в об-
мен поверх границ. Аналогично ограничения на иммиграцию,
346 Часть II. Классический либерализм и будущее...
придуманные для того, чтобы сохранить работоспособность со-
циального государства внутри страны, основываются на посыл-
ке, что между людьми, которым довелось жить в пределах той
или иной национальной юрисдикции, существует относительно
большая общность интересов и культуры, в то время как в мире
культурной и экономической текучести отношения между чело-
веком и его согражданами могут оказаться не более эмоциональ-
но нагруженными, чем его отношения с какими-то индивидами
на другом континенте. Более того, в некоторых ситуациях у не-
го может быть больше эмоционального контакта с какими-ни-
будь подмножествами жителей других стран, чем с подавляющим
большинством обитателей его собственной страны. Если рассмо-
треть вопрос через эту призму, то наилучшим способом развития
институтов, способствующих международной кооперации и эко-
номическому развитию, может оказаться отказ от попыток навя-
зывания единого набора распределительных норм как в нацио-
нальном, так и в глобальном масштабе.
Заключение
Несомненно, проблемы крайней бедности, царящей в боль-
шой части мира, представляют собой один из центральных вы-
зовов, стоящих перед политической экономией и публичной по-
литикой. Однако признание значимости этих проблем не долж-
но вести аналитика к отказу от принципов институциональной
робастности, которые являются главным предметом интереса
в этой книге. В эпоху, когда трудно укрыться от риторики, свя-
занной с «глобализацией», аналитикам и лицам, определяющим
политику, слишком легко прийти к выводу, что наилучшим спо-
собом ответа на экономические и моральные вызовы времени
является «глобализация управления». Анализ, представленный
в данной главе, предлагает при рассмотрении целесообразности
мер, которые могут быть применены как развитыми, так и раз-
вивающимися странами, уделять гораздо больше внимания «про-
блемам знания» и ограничениям, связанным со стимулами. В той
мере, в какой экономические и моральные дилеммы, порождае-
мые глобальной бедностью, поддаются разрешению, наиболее
робастный путь, по-видимому, предусматривает минимальное го-
сударственное вмешательство как внутри стран, так и за рубежом.
Глава 8
Защита окружающей среды:
зеленый левиафан
или минимальное государство?
Введение
Если облегчение положения бедняков и обеспечение «социаль-
ной справедливости» внутри страны и за рубежом, по мнению
многих, демонстрируют ограниченность классической либе-
ральной повестки дня, то даже эти затруднения считаются пу-
стяками по сравнению с надвигающейся угрозой экологическо-
го краха. Акцентирование превосходства «стихийных порядков»
в эпоху, когда предметом озабоченности все больше становится
порожденный рынками потенциально катастрофический «бес-
порядок», может показаться ведущим в никуда и служащим хоро-
шей иллюстрацией того, что для решения самых насущных про-
блем современной публичной политики классический либера-
лизм бесполезен.
Несмотря на столь неблагоприятный информационный фон,
концептуальная система классического либерализма, как доказы-
вается в этой главе, может лучше, чем все альтернативные под-
ходы, справиться с вызовами, вытекающими из потребности за-
щиты окружающей среды. В частности, наличие проблем поро-
ждения знания и стимулов, которому уделяется приоритетное
внимание, в качестве наиболее робастного способа решения
вопросов исчерпания ресурсов, указывает на децентрализован-
ные подходы к разрешению трудностей, связанных с коллектив-
ными благами. Права частной собственности и рынки способ-
ны играть важную роль в создании условий для открытия новых
решений проблем окружающей среды и в обеспечении стиму-
лов, необходимых для улучшения экологической ситуации, при-
чем они справятся с этим лучше, чем командно-административ-
ное регулирование и централизованно разрабатываемые схемы
ценообразования. Более того, в тех случаях, когда для противо-
действия «провалам рынка» действительно необходимы прави-
ла и регуляторные нормы, последние будут лучше адаптированы
к решению стоящих проблем, если им будет позволено развиться
348 Часть И. Классический либерализм и будущее...
посредством идущего «снизу вверх» процесса эволюционной
конкуренции. Но даже там, где это невозможно ввиду глобаль-
ной природы экологических дилемм, т.е. в «наихудших случаях»
с точки зрения классического либерализма, все же нет никаких
оснований отдать предпочтение построению «зеленого левиафа-
на», будь то по экономическим соображениям или ради социаль-
ной справедливости.
Чтобы обосновать и защитить от возражений намеченные
выше тезисы, данная глава составлена из четырех разделов.
В первом излагаются классические либеральные доводы в пользу
подхода к вопросам окружающей среды на основе прав собствен-
ности. Последующие три раздела посвящены опровержению по-
тенциальных возражений против такого подхода, выдвигаемых
с точки зрения «провалов рынка», а также в рамках коммунита-
ристской и эгалитаристской перспективы.
Классический либерализм, права
собственности и защита окружающей среды
Широко распространенное недоверие к классическому либера-
лизму применительно к вопросам окружающей среды во мно-
гом проистекает из подхода неоклассической экономической те-
ории благосостояния к «провалам рынка». На исправно функци-
онирующих рынках цены действуют как индикаторы редкости,
информирующие производителей и потребителей о меняющей-
ся степени доступности ресурсов и создающие для людей стиму-
лы к принятию экономически целесообразных решений в от-
вет на соответствующие условия спроса и предложения. Однако
с точки зрения неоклассической экономической теории ресур-
сы окружающей среды, или экологические ресурсы, подверже-
ны всевозможным проблемам, связанным с экстерналиями, эф-
фектом «общего котла» и коллективными благами, что препят-
ствует генерации робастного набора ценовых сигналов.
Аргументация, основанная на «провалах рынка»
Проблемы «общего котла» обычно возникают, когда ресурсы
«никому не принадлежат» или находятся в «общем доступе». В та-
ких случаях, как, например, управление рыбными ресурсами,
может оказаться, что у отдельных рыбаков практически нет сти-
мулов к сбережению запасов, т.к. при отсутствии возможности
Глава 8. Защита окружающей среды... 349
исключить доступ других приносимая в данный момент жертва,
состоящая в сокращении собственного улова в краткосрочном
плане, не принесет соответствующему актору достаточной выго-
ды в долгосрочной перспективе. И даже наоборот, в случае рыб-
ных угодий с открытым доступом решение одного рыбака со-
хранить ресурс означает просто-напросто, что он оставит рыбу
другим. Хотя большее сбережение ресурса в коллективных инте-
ресах всех, ни у одного рыбака в отдельности нет стимулов при-
нимать необходимые для этого меры: оптимальная стратегия —
продолжать «кататься без билета» и вылавливать рыбу в макси-
мально возможном количестве до тех пор, пока весь запас не
будет исчерпан.
Проблемы «общего котла» тесно связаны с общим вопросом
об экстерналиях, когда индивиды не могут присвоить все выго-
ды и понести все издержки решений, имеющих последствия для
окружающей среды. Например, когда собственник завода выбра-
сывает загрязняющие вещества в атмосферу, на его решения мо-
жет повлиять тот факт, что он не платит цену, отражающую не-
гативные внешние издержки, навлекаемые его действиями на
живущих поблизости людей. Аналогично те, кто потребляет про-
дукты, производство которых связано с загрязнением, имеют эту
возможность отчасти потому, что от них не требуется платить це-
ну, отражающую ущерб, который наносится третьим лицам в про-
цессе производства. Разумеется, экстерналии могут быть и поло-
жительными. Фермер, внедряя методы сельскохозяйственного
производства, способствующие созданию красивого ландшафта,
может тем самым порождать выгоды для третьих лиц. Однако от-
сутствие у фермера возможности востребовать компенсацию за
предоставление таких выгод может приводить к недостаточности
стимулов к тому, чтобы он производил их в соответствии с реаль-
ной структурой общественного спроса. Таким образом, в случае
как позитивных, так и негативных экстерналии «провал рынка»
состоит в расхождении между частными и общественными издер-
жками действий, влияющих на окружающую среду.
С понятием экстерналии связаны две характеристики мно-
гих экологических благ: неисключаемость и несоперничество
при потреблении. Неисключаемость имеет место, когда произ-
водитель блага не может не допустить к его потреблению тех, кто
за него не платит; несоперничество при потреблении означает,
что предельные издержки предоставления блага продавцом до-
полнительному потребителю равны нулю. Блага, проявляющие
350 Часть II. Классический либерализм и будущее...
оба этих качества, известны как коллективные блага [«collective
goods»], и, согласно неоклассической экономической теории
благосостояния, на нерегулируемом рынке может иметь место их
«недопроизводство». Примером являются живописные пейзажи:
очень трудно не допустить к получению удовольствия от такого
вида тех, кто за него не платит, и потребление одним человеком
такого вида не мешает потреблению других, по крайней мере до
того момента, пока скопление народа не достигло некоей крити-
ческой точки1. С другой стороны, общественные блага [«public
goods»] демонстрируют несоперничество при потреблении при
возможности исключения неплательщиков. С точки зрения нео-
классической экономической теории функционирование рынка,
движимого мотивом прибыли, может иметь результатом неэф-
фективное исключение потенциальных потребителей. На нере-
гулируемых рынках экологические блага, такие как особо охраня-
емые природные территории (заповедники, заказники и другие
природоохранные зоны) и общественные парки, не будут предо-
ставляться в адекватных количествах.
Если, как принято считать, в основании проблем окружаю-
щей среды лежат провалы рынка, то их решение состоит в тща-
тельно спроектированных мерах государственного вмешатель-
ства, направленных на «корректировку» этих провалов. Тако-
го рода меры могут вводиться в «командно-административном»
формате либо включать в себя стимулы, «основанные на ценах».
В первом случае государственные регулирующие органы пред-
писывают надлежащую форму поведения. В эту группу мер вхо-
дит учреждение квот, определяющих максимальную величину
извлечения ресурсов из соответствующих природных резерву-
аров (таких, как рыбные угодья), или же, в более крайних слу-
чаях, введение запретов на использование ресурсов. В иных об-
стоятельствах реакцией государства может быть ограничение
наиболее вредоносных видов загрязнения путем установления
количественных верхних пределов на уровень выбросов, а так-
же предписывание использования только одобренных централь-
ными органами власти технологий производства. Если же речь
идет об обеспечении предложения благ, имеющих положитель-
ные экстерналии, то государство может так же в принудительном
1 Если при отсутствии технологий исключения из потребления данного
блага скапливается слишком много людей, его потребляющих, то благо в ре-
зультате становится «общим котлом» или ресурсом с «открытым доступом».
Глава 8. Защита окружающей среды... 351
порядке направлять ресурсы на обеспечение того, чтобы соот-
ветствующие блага поставлялись в надлежащем количестве.
В отличие от «командно-административных», «ценовые»
формы вмешательства не пытаются предписать конкретный эко-
логический исход, а стремятся побудить производителей и по-
требителей к соответствующему изменению поведения, исполь-
зуя для этого как позитивные, так и негативные стимулы посред-
ством централизованно вносимых корректировок в систему цен.
Обычно такие корректировки принимают форму налогов и пла-
ты за загрязнение с целью дестимулировать отрицательные экс-
терналии, а также предоставления субсидий ради поощрения
производства общественных благ.
Провалы рынка или провалы государства?
Классический либерализм не оспаривает ту точку зрения, что
проблемы окружающей среды возникают тогда, когда частные
акторы не несут ответственности за свои действия. Но он оспа-
ривает посылку, что наилучший способ «интернализировать»
соответствующие экстерналии — это политическое вмешатель-
ство, будь то в «командно-административном» или «ценовом» ва-
рианте. В этой позиции имеются два аспекта, каждый из кото-
рых отражает соответствующий акцент в критериях робастно-
сти политической экономии институтов и решений.
Первое направление анализа вытекает из понимания «про-
блемы знания» в духе Хайека. В рамках этой перспективы нео-
классические подходы к политике в сфере окружающей среды
повторяют ошибку, совершенную Ланге и Лернером в споре об
экономическом расчете при социализме: они исходят из предпо-
ложения, что знание, необходимое для корректировки «прова-
лов рынка», некоторым образом «дано» лицам, определяющим
политику (глава 2). В контексте окружающей среды эта посыл-
ка означает, что балансы и компромиссы между экологически-
ми и прочими целями известны и фиксированы. Поэтому роль
политики — разработать надлежащие стимулы, обеспечиваю-
щие, чтобы ресурсы были распределены наиболее эффектив-
ным образом с учетом этих изначально заданных ограничений.
В той мере, в какой здесь есть предмет для спора, он сводится
к действенности соответствующих «стимулов». «Командно-адми-
нистративные» меры представляются уместными, когда цель со-
стоит не в том, чтобы дестимулировать использование некоего
352 Часть И. Классический либерализм и будущее...
конкретного ресурса, а в том, чтобы вообще не допустить его ис-
пользования, как в случае некоторых высокотоксичных веществ.
Кроме того, когда цель — обеспечить, чтобы производители вне-
дрили известные технологии производства, улучшающие такие
параметры, как качество воздуха, имеет смысл обязать их исполь-
зовать такие методы. «Ценовые» же методы получают поддержку
тогда, когда цель состоит не в искоренении определенного пове-
дения и не в предписывании конкретного исхода, а в поощрении
акторов к тому, чтобы они экономили ресурс, трактуя экстерна-
лии как издержки производства, которые могут быть сокраще-
ны путем замещения, а также в активизации экспериментирова-
ния, направленного на поиск способов экономии на соответству-
ющих альтернативных издержках.
Если рассматривать все это через призму хайековского под-
хода, то и командно-административные, и ценовые механизмы
представляют собой вариации на тему центрального планирова-
ния, а потому не являются адекватными. Причина этого в том,
что фундаментальная проблема окружающей среды обычно со-
стоит не в том, чтобы дать людям правильные стимулы к дейст-
вию на основе «известных» ценностей в отношении окружающей
среды, а в том, чтобы выяснить, каковы на самом деле соответ-
ствующие ценности. Знание об этих ценностях по своей приро-
де является рассеянным по всему обществу и эволюционирует
вместе с меняющимися идеями индивидов и организаций в хо-
де их взаимодействия друг с другом и с миром природы. Издер-
жки и выгоды, связанные с экологическими экстерналиями, мо-
гут быть открыты только посредством решений, которые люди
принимают, столкнувшись с набором конкурирующих альтер-
натив, и лишь в том случае, если при этом существуют прибыли
и убытки или эквивалентные им сигналы, транслирующие содер-
жание соответствующих актов выбора (Cordato, 2005). Подобно
тому, как процесс централизованного экономического планиро-
вания не в состоянии генерировать и получать доступ к инфор-
мации, достаточной для установления всех прочих цен в эконо-
мике на «социально оптимальном» уровне, так и в том, что каса-
ется окружающей среды, плановики не обладают способностью
ни устанавливать экологические налоги и субсидии на надлежа-
щем уровне, ни выбирать наилучший баланс между регуляторны-
ми и основанными на ценах инструментами политики.
Второй аспект классического либерального анализа обраща-
ется к вопросу о стимулах. Хотя искаженные стимулы, дающие
Глава 8. Защита окружающей среды... 353
индивидам и группам возможность экстернализировать издер-
жки, суть важный источник «провалов рынка», нельзя просто
принимать без доказательства, что политический процесс при-
ведет к надлежащей реструктуризации частных и общественных
издержек. Более того, с точки зрения подхода школы общест-
венного выбора проблемы, связанные с коллективными дейст-
виями, могущие приводить к возникновению провалов рынка,
имеют место и в рамках политического процесса, когда группам
производителей часто оказывается легче коллективно соргани-
зоваться и преодолеть проблему «безбилетника», чем потреби-
телям и налогоплательщикам, кто обычно оплачивает издержки
политики, поддерживаемой организованными «интересами за-
грязнителей». Эти процессы, вероятно, служат наилучшим объ-
яснением широко распространенных «провалов демократии»,
таких как продолжающееся существование наносящих ущерб
окружающей среде субсидий в сельском хозяйстве, в лесозаго-
товках, в добыче угля, а также строительство субсидируемых
плотин и шоссейных дорог. С позиций классического либера-
лизма совершенно непонятно, почему корректировку «провалов
рынка» следует доверять людям, определяющим политику, если
стимулы, с которыми они сталкиваются, зачастую ведут к уста-
новлению неадекватных регуляторных норм и к искажению ры-
ночных цен, влекущему за собой экологические издержки (An-
derson and Leal, 2001) К
1 Между анализом, основывающимся, с одной стороны, на школе обще-
ственного выбора, а с другой стороны, на идеях Хайека, нет противоречия.
В конечном счете, соответствующие издержки и выгоды являются субъектив-
ными и «социально оптимальная» модель политического вмешательства не
может быть точно определена внешним наблюдателем. Следовательно, не-
возможно говорить о том, что существующие факты вмешательства с целью
защиты окружающей среды «неэффективны» в некоем объективно опреде-
лимом смысле. Однако можно сделать нечто иное, а именно выяснить, су-
ществует ли в структуре того или иного набора институтов систематическая
ошибка, в результате которой интересы некоторых групп не учитываются
в ходе процесса принятия решений. Именно такого рода анализ составляет
содержание подхода вирджинской школы общественного выбора и того, как
она трактует различия в конечном эффекте проблем коллективных действий,
с которыми сталкиваются разные группы интересов. Он подсказывает, что,
даже если имеется множество акторов, отдающих предпочтение экологиче-
ским целям, могут существовать структурные или основанные на стимулах ог-
раничения, не дающие возможности этим интересам получить адекватное от-
ражение. Такое описание может служить наилучшим объяснением того, по-
чему политики, заявляя о своем стремлении к экологическим целям, зачастую
реализуют меры, противоречащие этим самым целям.
354 Часть П. Классический либерализм и будущее...
Доводы в пользу частной собственности
Если система обмена частной собственностью предоставляет на-
иболее робастный способ открытия ценностей и координирова-
ния рассредоточенного знания, то первейшим принципом раз-
умной политики в отношении окружающей среды должно быть
расширение сферы применения прав частной собственности на
активы, относящиеся к этой среде, а не опора на командно-адми-
нистративные методы регулирования или на государственные
схемы ценообразования. Система прав частной собственности
создавала бы возможности для процесса конкурентного экспе-
риментирования между собственниками ресурсов, а знание то-
го, какие из этих экспериментов можно копировать, а каких сле-
дует избегать, транслировалось бы через идущий «снизу вверх»
процесс генерации ценовых сигналов. Вдобавок установление
исключительных прав собственности формировало бы стимулы
таким образом, чтобы индивиды и организации могли получать
прибыль от действий, приносящих выигрыш другим, и в то же
время гарантировало бы, что они понесут все издержки дейст-
вий, такого выигрыша не дающих. Например, в случае ресурсов,
находящихся в режиме «общего котла» или свободного доступа,
таких как рыболовные угодья, установление права исключать до-
ступ к ресурсам будет создавать стимулы к их сохранению благо-
даря имеющейся у собственников возможности взимать плату за
доступ к их разработке либо сразу получить ценность сохранен-
ных активов путем продажи прав следующему собственнику (см.,
например, De Alessi, 1998)1. Аналогично внедрение технологий
исключения доступа к коллективным благам позволяет собствен-
никам ресурсов ограничивать эффект «безбилетника» и обеспе-
чивает стимулы к предоставлению этих благ при условии, что
собственники имеют возможность взимать цену за доступ2. В бо-
1 Здесь следует признать, что режим «открытого доступа» не обязательно
неэффективен с точки зрения сохранения ресурсов. Напротив, в условиях
относительного изобилия, когда населения слишком мало для оказания дав-
ления на ресурсы, открытый доступ может оказаться оптимальным, посколь-
ку в таких случаях издержки на определение прав собственности и принужде-
ние к их соблюдению не компенсируются угрозой того, что ресурсы станут
редкими. Потребность в установлении некоей формы исключительной соб-
ственности возникает только тогда, когда доступ к ресурсной базе становит-
ся более перегруженным и подверженным эффекту «безбилетника».
2 Вопреки тому, что говорит стандартный неоклассический анализ,
в случае «общественных благ», обладающих свойством несоперничества
Глава 8. Защита окружающей среды... 355
лее общей формулировке установление прав собственности по-
могло бы интернализировать экстерналии, нарушающие эти
права путем загрязнения без согласия собственника, благодаря
возможности наложения санкций за такие действия через суд —
точно так же, как и в случае других нарушений прав собственно-
сти, таких как кража и мошенничество (см., например, Anderson
and Leal, 2001).
С классической либеральной точки зрения существует мно-
го активов, относящихся к окружающей среде, которые в насто-
ящее время удерживаются в условиях «открытого доступа» или
находятся в государственной собственности (либо в сфере госу-
дарственного регулирования), но которые наделе могли бы быть
«приватизированы» и тем самым включены в систему конкурент-
ного рынка. К их числу относятся активы, связанные с землей —
такие как леса, залежи полезных ископаемых и участки дикой
природы, — к которым могут быть применены различные тех-
нологии «огораживания»; стационарные ресурсы, такие как
устричные банки; а также активы, связанные с водой, такие как
реки и прибрежные рыболовные угодья, доступ к которым также
более или менее поддается исключению с использованием суще-
ствующих технологий. Эмпирические исследования таких акти-
вов, находящихся в режиме открытого доступа, государственной
и частной собственности убедительно подтверждают точку зре-
ния, что права частной собственности, которые могут обращать-
ся на рынке, способствуют продвижению более ресурсосберега-
ющих и экологически безопасных методов управления (сводный
обзор соответствующих данных см. в De Alessi, 2003).
в потреблении, взимание платы за вход не обязательно приводит к сниже-
нию эффективности. При принятии решения об использовании ресурса ре-
левантными издержками является ценность альтернативных способов ис-
пользования, а не предельные издержки допуска дополнительного потре-
бителя. Наилучшим способом выяснить, предпочитают ли потребители
предоставление им данного общественного блага, а не какую-нибудь другую
альтернативу, может служить взимание платы за доступ. Даже сами эти кри-
терии, такие как несоперничество в потреблении, могут оказаться не подда-
ющимися распознаванию без некоторой формы механизма ценообразова-
ния. То, что для одного человека представляет собой перегруженность, мо-
жет не быть таковой для кого-нибудь другого, и без возможности взимать
разную плату за доступ к разной степени исключения других потребителей
(например, в зависимости от того, предпочитает ли некто пустой плаватель-
ный бассейн наличию в нем других пловцов) может оказаться невозможным
выяснить, когда именно потребление блага одним человеком мешает потре-
блению его другими (об этом см. Minasian, 1964).
356 Часть П. Классический либерализм и будущее...
В более общем плане теоретическую значимость рынков для
поощрения изменений, необходимых для содействия сохране-
нию ресурсов, подтверждают данные о сравнительном влиянии
различных экономических систем. Например, согласно работе
Бернстрама (Bernstram, 1995), выбросы загрязнителей атмос-
ферного воздуха из транспортных и стационарных источников
в социалистических странах в конце 80-х годов XX в., вычислен-
ные в расчете на единицу ВВП, были на 250—580% выше, чем
в развитых рыночных экономиках. Довольно трудно найти меж-
страновые сопоставительные исследования более и менее регу-
лируемых рыночных экономик, поэтому в данном случае к выво-
дам отдельных работ следует подходить с осмотрительностью.
Тем не менее имеющиеся исследования содержат доказательст-
ва того, что защищенные права собственности и рыночные цены
являются существенными факторами улучшения экологических
результатов деятельности. Например, Нортон (Norton, 1998) об-
наруживает систематическую корреляцию между показателями,
измеряющими сохранность окружающей среды, включая леси-
стость и качество воды, и теми, которые характеризуют права
собственности. Аналогично в своем исследовании развивающих-
ся экономик Бейт и Монтгомери (Bate and Montgomery, 2006) вы-
яснили, что в сильно зарегулированных странах энергоэффек-
тивность систематически оказывается ниже, чем в тех, где цены
могут колебаться более свободно.
Подход к решению более трудных проблем:
права собственности и институциональное
предпринимательство
Основывающаяся на работах Коуза традиция в политической
экономии на протяжении долгого времени выступает за подход
к управлению окружающей средой на основе прав собственно-
сти. В рамках этой перспективы если индивид или группа владе-
ет активом, относящимся к окружающей среде, и кто-то другой
хотел бы загрязнять его, то последний может попытаться купить
соответствующие права. И наоборот, если некто владеет «пра-
вом загрязнять», то те, кто хотел бы избежать соответствующих
издержек, могут выплатить загрязняющему компенсацию в об-
мен на сокращение выбросов (Coase, 1960; Коуз, 2007: 92—149).
Таким образом ценовые сигналы, представляющие компромис-
сы между экологическими и конкурирующими с ними целями,
Глава 8. Защита окружающей среды... 357
могут генерироваться стихийно, через процесс децентрализо-
ванного обмена.
Хотя подход, основанный на правах собственности, получил
широкое признание, он часто отвергается критиками, потому
что некоторые упрощенческие интерпретации исходят из посыл-
ки о нулевых транзакционных издержках, связанных с определе-
нием и защитой прав собственности, а потому считаются при-
менимыми лишь к узкой группе благ, относящихся к окружаю-
щей среде, для которых могут быть легко применены технологии
исключения (например, Jacobs, 1992; Turner et al., 1994). Однако,
как уже отмечалось в главе 2, рассмотрение Коузом модели с ну-
левыми транзакционными издержками имело целью продемон-
стрировать, что в таком мире вопрос о наиболее подходящих по-
литических институтах становится излишним (Coase, 1989; Коуз,
2007). В условиях нулевых транзакционных издержек цены, ге-
нерируемые в ходе не связанного с издержками обмена правами
собственности, будут такими же, как и цены, назначаемые из цен-
тра всеведущим экологическим плановиком. Но когда транзакци-
онные издержки положительны, каковыми они неизменно и бы-
вают, фундаментальное значение приобретает вопрос о выборе
институтов, поскольку различные институциональные структу-
ры в разной степени способны идентифицировать и снижать та-
кого рода издержки (Dahlman, 1979; Anderson and Leal, 2001).
Если эту позицию, которую можно назвать «подходом на ос-
нове прав собственности» или «энвайронментализмом свободно-
го рынка», переформулировать в терминах Хайека, то она будет
признавать, что способность интернализировать экстерналий
зависит от институтов, но знание о том, какие именно инсти-
туциональные структуры лучше всего могут справиться с этой
функцией, заранее не известно. Вместо этого оно должно быть
открыто посредством процесса конкурентного эксперименти-
рования в области институционального дизайна. Напротив, те-
ория экстерналий и коллективных благ обычно формулируется
в терминах неоклассической теории равновесия, где обстоятель-
ства, детерминирующие такие условия, как «неисключаемость»,
предполагаются «заданными». В противоположность этому, под-
ход на основе прав собственности признает, что способность
интернализировать экстерналий есть зачастую продукт инсти-
туционального предпринимательства. Раз уж рынки позволя-
ют инноваторам создавать новые идеи и продукты, они точно
так же дают возможность предпринимателям получать выгоду от
358 Часть II. Классический либерализм и будущее...
преобразования коллективных благ в блага, допускающие исклю-
чение из потребления (Anderson and Leal, 2001).
Проблемы, связанные с коллективными действиями, кото-
рые лежат в основе многих экологических дилемм, возникают
там, где люди вынуждены сотрудничать друг с другом. Например,
группы акционеров сталкиваются с проблемой «безбилетника»,
когда речь заходит о контроле назначаемых менеджеров компа-
ний, которыми они владеют. Однако с классической либераль-
ной точки зрения конкурентный порядок лучше приспособлен
к нахождению институциональных решений такого рода про-
блем. На рынках множество институциональных конструкций
конкурируют друг с другом на основе такого параметра, как спо-
собность ограничивать «безбилетничество» и выстраивать до-
верие между акторами. Так, акционерные компании конкуриру-
ют с предприятиями, находящимися во владении менеджеров,
с рабочими кооперативами, потребительскими кооперативами
и ссудосберегательными ассоциациями, причем каждая из этих
организаций выбирает собственные правила управления, кото-
рые могут показывать большую или меньшую эффективность. По
мере того, как акторы присоединяются к тем или иным формам
институционального дизайна и уходят от них, сигналы, генери-
руемые такими решениями, способствуют процессу институци-
онального научения, который постепенно распространяется по
всей системе (Ricketts, 2000).
В данном случае для нас важно то, что институциональный
плюрализм вышеописанной природы может сгодиться и для
управления коллективными благами, относящимися к окружаю-
щей среде. Очень немногие из этих благ абсолютно неделимы:
большинство из них имеет территориальный характер, и их пред-
ложение может различаться внутри стран — между регионами и го-
раздо более мелкими ареалами. Поэтому в принципе такие блага
допускают процесс «параллельной адаптации», в ходе которого
одновременно конкурирует множество разнообразных институ-
циональных конструкций. В этом контексте проведенные Элинор
Остром подробные исследования управления ресурсами, находя-
щимися в режиме «общего котла», такими как леса, ирригацион-
ные системы и прибрежные рыболовные угодья, дают основание
предположить, что ключом к рациональному использованию при-
родных ресурсов является институциональное разнообразие (Os-
trom, 1990, 2006; Остром, 2010). Там, где технологическое разви-
тие делает возможной эволюцию технологий «огораживания»,
Глава 8. Защита окружающей среды... 359
могут оказаться эффективными модели индивидуальной частной
собственности, но они могут сосуществовать с альтернативными
структурами, основанными на различных вариантах кооператив-
ного или долевого владения, осуществляемого идентифициро-
ванным множеством пользователей ресурса. Во всех этих случаях
важно то, что ресурсы переведены из состояния «открытого до-
ступа» в такое состояние, когда на соответствующем уровне юрис-
дикции введена некая форма исключения доступа.
Возможность открывать новые способы создания конфигу-
рации прав собственности, по-видимому, имеет особенно важное
значение для проблем окружающей среды, выходящих за грани-
цы владений отдельного собственника. Именно акцент на этой
возможности является отличительной чертой того подхода к за-
щите окружающей среды, который проистекает из принципа
конкурентного стихийного порядка. Важный пример институ-
ционального предпринимательства такого рода — система «пла-
нирования на основе аренды» [«land-lease planning»], за которую
выступает Маккаллум (MacCallum, 1970). В этой системе отдель-
ные владельцы собственности заключают контракт об образо-
вании «сообщества собственников» или «проприетарного сооб-
щества» [«proprietary community»], которое ограничивает права
всех тех, кто «вошел» в соответствующую общину. Сообщество
либо находится в совместном владении проживающих в нем лю-
дей в форме кооператива, либо же в нем происходит разделение
прав собственности с «фригольдером» или «хозяином-плани-
ровщиком» [«plan-lord»], устанавливающим контрактные усло-
вия, с которыми соглашаются «лизгольдеры» или «арендаторы»
[«leaseholders»]. Подписываясь под общими правилами — напри-
мер, регулирующими право на застройку и требующими уплачи-
вать взносы на создание и содержание коллективных благ, таких
как парки, лесные насаждения, дороги и уличное освещение, —
собственники могут увеличить ценность своих владений по срав-
нению с имуществом тех, кто не присоединился к такой кон-
трактной структуре. Сегодня сообщества такого рода охватыва-
ют большую часть вновь строящегося жилья в США. Они могут
сильно различаться по своим размерам — от сообществ, объеди-
няющих несколько улиц или кварталов, до таких, которые вклю-
чают в себя целые города (Nelson, 2002). Тем временем в китай-
ском голоде Ухань более двух третей из его пятисоттысячного
населения проживают в частных жилищных «клубах», предостав-
ляющих всю инфраструктуру, такую как дороги и общественные
360 Часть II. Классический либерализм и будущее...
парки, и кроме того управляющих контрактной системой плани-
рования землепользования (Webster and Lai, 2003).
В условиях такого основанного на частной собственности
(проприетарного) экологического планирования конкуренция
происходит по крайней мере на двух разных уровнях. С одной
стороны, индивидуальные собственники домов конкурируют
с другими собственниками в рамках соответствующего сообщест-
ва в тех аспектах, где у них сохраняются исключительно частные
или индивидуальные права. Например, владельцы домов могут
конкурировать друг с другом в таких вопросах, как дизайн интерь-
ера, чтобы обеспечить большую привлекательность для покупа-
теля именно их собственности по сравнению с собственностью
соседей. Но одновременно конкуренция происходит на уровне
структуры собственности, когда институциональные предприни-
матели, индивидуальные и коллективные, предлагая различные
пакеты контрактных ограничений и обязательств, соперничают
за привлечение людей в свои сообщества (Nelson, 2002; Penning-
ton, 2002). Создание в рамках сообществ собственников объе-
диненной структуры управления, которая может «навязывать»
стандарты, но вход в которую происходит на добровольной осно-
ве, представляет собой один из способов экономии на транзакци-
онных издержках и издержках мониторинга по сравнению с си-
туацией, когда большое количество индивидов пытаются догово-
риться друг с другом об экологических стандартах, — т.е. такой,
в которой данные виды издержек могут быть чрезвычайно боль-
шими. В рамках такого рода структур институциональные пред-
приниматели могут экспериментировать с комбинациями «ко-
мандно-административных» и «ценовых» мер с целью предостав-
ления конкретных экологических благ наиболее эффективным
образом. Но в то же время этим попыткам институционального
конструирования и «планирования» внутри объемлющей откры-
той конкурентной среды будет стихийно назначаться «цена» по
мере того, как люди и организации будут приходить и уходить из
различных институциональных режимов.
Хотя можно подумать, что принцип проприетарного управ-
ления применим только к локализованным экологическим про-
блемам, нет никаких причин, по которым его нельзя было бы
применить к более крупномасштабным коллективным бла-
гам. Подобно тому, как отдельные владельцы могут присоеди-
ниться на основе договора к той или иной проприетарной си-
стеме регулирования, сами эти коллективные структуры могут
Глава 8. Защита окружающей среды... S61
присоединяться к метасистеме правил, регулирующих внешние
издержки, возникающие между сообществами. Более того, фор-
мирование контрактных сообществ для предоставления локали-
зованных коллективных благ может одновременно вести к сни-
жению издержек на решение транслокальных проблем, оказыва-
ющих воздействие на гораздо большее число заинтересованных
сторон, так как образование таких структур ведет к уменьше-
нию количества сторон, вступающих в контрактные отношения
(Ostrom, 1990, 2006; Остром, 2010; Pennington, 2002). Напри-
мер, работы Остром подтверждают, что решение региональных
проблем, связанных с коллективными действиями, такими как
управление речными бассейнами, с большей вероятностью бу-
дет найдено в случае, когда необходимые институты получаются
в результате создания «вложенных» или «федеративных» струк-
тур «снизу», чем если они навязываются «сверху» (Ostrom, 2006).
Сети или «союзы» сообществ могут разрабатывать общие стан-
дарты для коллективных благ, и у организаций могут быть силь-
ные стимулы к вступлению в подобные объединения. Мало кто
купит недвижимость в сообществе, требующем, чтобы его члены
ездили по другой стороне улицы, нежели жители соседних сооб-
ществ, — точно так же, как мало кто купит мобильный телефон
у провайдера, который не распознает звонков от абонентов кон-
курирующих сетей. Точно так же представляется невероятным,
чтобы люди или организации присоединялись к тем структурам,
которые отказываются сотрудничать с другими в решении про-
блем коллективных благ, имеющих прямое отношение к их каче-
ству жизни. Конкуренция и плюрализм, имеющие ключевое зна-
чение для классического либерализма, сами по себе не являют-
ся несовместимыми с возникновением общих норм и стандартов.
Важно то, что эти стандарты достигнуты через согласие, а не че-
рез принудительную координацию, и что у несогласных есть воз-
можность «уйти» на некотором уровне и присоединиться к дру-
гому набору практик.
Классический либеральный подход к защите окружающей
среды не основывается на посылке «атомистической» конку-
ренции. Не опирается он и на упрощенческую идею «приватиза-
ции», когда ресурсы просто дробятся на части и распределяют-
ся между индивидуальными собственниками. Главный аргумент
классического либерализма состоит в том, что это система кон-
куренции и регулирования, характеризуемая свободой контрак-
та. Именно в рамках такой системы люди могут присоединяться
362 Часть И. Классический либерализм и будущее...
к организационным структурам, ограничивающим их собствен-
ное поведение, ради того, чтобы участвовать в сотрудничестве,
которое может предоставить им то или иное коллективное бла-
го. С точки зрения институциональной робастности важно то,
что при этом остается простор для экспериментирования с раз-
личными пучками и комбинациями прав собственности, целя-
ми которого являются нахождение структур, помогающих сни-
зить транзакционные издержки интернализации экстерналий,
и выяснение относительной ценности, приписываемой самим
коллективным благам. Не менее важно и то, что не должно быть
единственного собственника на метауровне, обладающего воз-
можностью определять содержание институциональных норм,
которых должны придерживаться другие социальные акторы.
Именно в силу перечисленных причин робастность государ-
ствоцентричных моделей владения собственностью представля-
ется сомнительной. В таких моделях именно государство берет
на себя полную ответственность за определение того, как имен-
но должны решаться проблемы коллективных благ — например,
путем национализации активов или подчинения управления эти-
ми активами единой системе регулирования. В качестве альтер-
нативы государство может определять из центра, какой мерой
автономии могут обладать более децентрализованные единицы
государственного управления в том, что касается эксперименти-
рования с альтернативными моделями предоставления коллек-
тивных благ. Но и в том и в другом случае возможность того, что
в результате идущего «снизу вверх» процесса появятся решения
для проблем, связанных с коллективными благами, сводится на
нет. Когда существует один-единственный орган, задающий пра-
вила, любые ошибки имеют тенденцию становиться системными,
а способность производить инновации и адаптироваться к мест-
ным обстоятельствам ослабевает из-за необходимости обеспече-
ния поддержки со стороны высшей власти или большинства. Со-
гласно Остром (Ostrom, 2006), там, где государства национали-
зировали активы и подчинили все ресурсы типа «общего котла»
единой структуре, проблемы, связанные с коллективными бла-
гами, лишь усиливаются. Например, в случае управления речны-
ми и водными бассейнами даже местные и региональные органы
власти зачастую недооценивают способность более децентрали-
зованных образований создавать правила, интернализирующие
издержки. Создание централизованных структур управления, со-
кращая пространство для экспериментирования с правилами ис-
Глава 8. Защита окружающей среды... 363
пользования окружающей среды, одновременно усугубляет про-
блемы, связанные с отношениями «принципал-агент». При про-
чих равных условиях чем больше юрисдикционная единица и чем
больше агентов ею охватывается, тем меньше возможностей для
ухода и тем меньше стимулов у отдельных агентов заниматься
мониторингом результатов деятельности вышестоящей власти.
В этих условиях группы с более низкими организационными из-
держками могут проявлять рентоориентированное поведение,
искажая процесс создания правил и экстернализируя издержки,
т.е. перекладывая их на более диффузные группы заинтересован-
ных лиц, которые не имеют возможности «уйти» от данного ре-
жима, но в равной степени неспособны и мобилизоваться про-
тив хищнических действий организованных получателей ренты.
Возражения против классического
либерального энвайронментализма,
основанные на идее «провалов рынка»
Как и в других сферах публичной политики, классический ли-
беральный подход к защите окружающей среды основывается
если не на полной ликвидации, то по крайней мере на миними-
зации принудительной роли государства. Однако в данном кон-
кретном случае часто утверждается, что эта позиция непоследо-
вательна. В частности, экономический анализ выделяет ряд при-
чин, по которым широкомасштабное государственное участие
может потребоваться для реализации самого классического ли-
берального подхода, не говоря уж о каком-либо экологическом
выигрыше, который он мог бы дать.
Подход, основанный на правах собственности, в значитель-
ной степени опирается на внедрение отношений торга, чтобы
они порождали ценовые сигналы и стимулы к нахождению ба-
ланса между экологическими издержками и выгодами, порожда-
емыми решениями индивидов и организаций. Однако одно из
наиболее важных и часто выдвигаемых возражений против ут-
верждения, что таким образом можно обойтись без системы го-
сударственного регулирования, состоит в том, что прежде чем
такого рода торг сможет состояться, для назначения и закре-
пления соответствующих прав собственности необходимо ши-
рокое вмешательство государства. Согласно этой точке зрения,
действия по установлению и обеспечению соблюдения прав
собственности как таковые могут потребовать некоей формы
364 Часть И. Классический либерализм и будущее...
«централизованного планирования» при закреплении соответ-
ствующих прав, и эта роль вряд ли сильно отличается от той, ко-
торая предусмотрена для государства при осуществлении «ад-
министративно-командных» и «ценовых» форм экологической
политики, к которым классический либерализм, как правило, от-
носится столь критично (Jacobs, 1992).
Дополнительный довод в пользу того, чтобы поставить под
сомнение внутреннюю последовательность классического либе-
рального подхода, связан с подразумеваемой приверженностью
последнего к конкуренции и плюрализму. Можно предположить,
что процессы, позволяющие возникать частным регуляторным
стандартам в классической либеральной системе, угрожали бы
ей изнутри. Если акторы могут кооперироваться для решения об-
щих экологических проблем, то не будут ли эти же самые акто-
ры обладать способностью к формированию картелей и монопо-
лий, ограничивающих индивидам и организациям возможности
для ухода от нежелательных институциональных решений (Cow-
en, 1992)? В конечном счете, без приверженности к поддержанию
структур демократического государства, которое может контроли-
ровать и при необходимости дробить частные центры концент-
рации власти, выгоды от более широкого экспериментирования
и ответственности, предъявляемые классическим либерализмом,
останутся по большей части теоретическими (Mulberg, 1992).
Хотя перечисленные возражения весьма важны, вероятно,
наиболее серьезный довод экономического характера против
робастности подхода на основе частной собственности состоит
в том, что как бы ни были широки возможности у институциональ-
ных предпринимателей для решения проблемы «безбилетника»,
всегда будет оставаться большой класс «провалов рынка», которые
не могут быть исправлены без широкой и, более того, постоян-
но расширяющейся роли государственного принуждения. Некото-
рые из наиболее насущных экологических проблем, такие как по-
следствия антропогенных изменений климата, являются глобаль-
ными по своему масштабу. Следовательно, можно предположить,
что сама идея конкуренции здесь неуместна ввиду того, что гло-
бальный характер этих вопросов требует единого подхода, исклю-
чающего возможности для ухода. Императивом может оказаться
не только отказ от сокращения роли государства, но и создание
«государствоподобных» структур на международном уровне для
устранения «безбилетного» поведения со стороны национальных
государств и даже региональных объединений таких государств.
Глава 8. Защита окружающей среды... 365
Единственный способ преодолеть соответствующие транзакци-
онные издержки — создание более централизованных структур,
обладающих властью принуждать индивидуальных и корпоратив-
ных акторов к достижению требуемых экологических целей.
Требуется ли государство для существования
прав собственности на окружающую среду?
Каждое из приведенных выше возражений имеет широкое хо-
ждение в литературе, посвященной политике защиты окружа-
ющей среды, но с их помощью не удается опровергнуть робаст-
ность классической либеральной позиции. Что касается опреде-
ления и защиты прав собственности, совершенно очевидно, что
там, где государства первоначально являются собственниками ак-
тивов, относящихся к окружающей среде, любой акт «приватиза-
ции» в той или иной форме потребует действий со стороны этих
государств. Аналогичная ситуация может сложиться там, где ре-
сурсы находятся в условиях «открытого доступа» и где от государ-
ства может потребоваться разграничить права собственности на
тот или иной ресурс. Например, японское правительство успеш-
но «приватизировало» прибрежные рыболовные угодья, предо-
ставив права собственности рыболовецким кооперативам (De
Alessi, 1998). В таких случаях «приватизация» может предусматри-
вать продажу прав собственности на аукционах или принять фор-
му «раздачи» соответствующих активов частным лицам или груп-
пам. В той мере, в какой политическая власть имеет возможность
сопроводить последующее использование таких активов центра-
лизованно определяемыми условиями — как это имеет место, на-
пример, в случае схем, предусматривающих обращаемые на рын-
ке квоты, —действительно, многие из возражений, выдвигаемых
классическими либералами против навязывания сверху «команд-
но-административных» и «ценовых» форм государственного ре-
гулирования, могут быть отнесены и к процессу «приватизации»
(Hill, 2005). Но сказанное едва ли подрывает рациональное обо-
снование основанного на правах собственности подхода как тако-
вого. Процесс институциональной реформы может быть несовер-
шенным, но если он создает условия для движения в сторону рас-
ширения экспериментирования и корректировки стимулов, то
он, вероятно, более предпочтителен, чем статус-кво. Например,
было бы необоснованным считать, что, поскольку процесс при-
ватизации сельскохозяйственных земель в Китае был поражен
366 Часть II. Клас:сический либерализм и будущее...
коррупцией и манипуляциями со стороны местных элит, возник-
шая в результате него структура прав собственности не привела
к значительным улучшениям по сравнению с ситуацией, сложив-
шейся в ходе реализации программы насильственной коллекти-
визации под руководством Мао Цзэдуна (об этом см. Huang, 2008).
Хотя там, где речь идет о передаче государственной собствен-
ности в частный сектор, очевидно, требуются политические ме-
ры, более общее заявление, будто классическая либеральная на-
правленность на ликвидацию государственного контроля вну-
тренне противоречива ввиду того, что для определения и защиты
прав собственности на относящиеся к окружающей среде активы
всегда требуются действия со стороны государства, не выдержи-
вает критики. Попросту говоря, утверждение, что эффективное
функционирование основанных на рынке систем частных дого-
ворных отношений зависит от широкомасштабного вмешатель-
ства государства, не соответствует истине. Хотя следует признать,
что определенные формы политической власти могут помочь
поддержанию системы прав частной собственности и коммер-
ческого обмена, из этого не следует, что между ними существует
необходимая связь. Напротив, и определение, и обеспечение со-
блюдения прав собственности может происходить посредством
функционирования конкурентного стихийного порядка и без ка-
кой-либо формы централизованного иерархического контроля
(Ellickson, 1991; Anderson and Hill, 2004; Hill, 2005).
Что касается определения прав собственности, главный вы-
вод из анализа на основе идей Хайека заключается в том, что в ди-
намичном мире, где природа социально-экономических проблем
и связанные с ними экстерналии постоянно эволюционируют, для
государства может оказаться невозможным узнать, в связи с каки-
ми именно экстерналиями следует установить права собственно-
сти. Следовательно, частным сторонам должен быть предоставлен
максимальный простор для того, чтобы они придумывали и фор-
мировали в ходе торга собственные договорные решения и в хо-
де этого процесса определяли и переопределяли на доброволь-
ной основе конкретное содержание соответствующих наборов
прав. Так, обсуждавшиеся ранее системы проприетарного плани-
рования представляют собой попытку в частном порядке преодо-
леть проблемы, связанные с коллективными благами и «безбилет-
ничеством», путем наделения тех, кто присоединяется к соответ-
ствующим институциональным режимам, конкретными правами
и обязанностями в отношении окружающей среды. Они по суще-
Глава 8. Защита окружающей среды... 367
ству представляют собой системы частного, конкурентного эколо-
гического права и в принципе аналогичны другим частным систе-
мам регулирования вроде тех, которые действуют в объединениях,
подобных спортивным лигам. В такого рода ситуациях «правила
игры», устанавливающие параметры, в соответствии с которыми
могут происходить и конкуренция, и сотрудничество, разрабаты-
ваются на частной основе и без какого-либо вмешательства со сто-
роны внешней политической власти (Pennington, 2008).
Конечно, можно на это возразить, что способность частных
агентов и их объединений разрабатывать новые правила все же
зависит от того, что государство обеспечивает принуждением со-
блюдение любых прав и контрактов, о которых договорились со-
ответствующие стороны. Однако, как мы отмечали в главе 4, су-
ществует масса фактических данных, свидетельствующих, что
обеспечение соблюдения прав собственности принудительными
санкциями само может происходить посредством децентрализо-
ванного процесса. Исторически международное торговое право,
lex mercatoria, развилось именно на этой основе и может служить
лучшей иллюстрацией того, как возникает правовой, регулиру-
ющий институт в отсутствие надзора со стороны единого цент-
рализованного государства (Benson, 1989; Leeson, 2008). Потен-
циальные торговые партнеры назначали частные арбитражные
агентства для разрешения любых споров, могущих возникнуть
по поводу исполнения ими договорных обязательств. Неспособ-
ность достичь согласия по поводу привлечения такой независи-
мой третьей стороны и отказ подчиняться решению арбитра (ко-
торое может состоять, например, в наложении штрафных санк-
ций) ставят верхний предел потенциальным выгодам от обмена.
Подобно тому, как спортивные клубы, не соблюдающие правил
своей собственной лиги, вскоре обнаруживают, что у них нет
партнеров для игр, в случае lex mercatoria купцы, отказывающие-
ся быть связанными арбитражем, довольно быстро оказываются
в положении, аналогичном статусу «изгоя». Таким образом, при-
нуждение к соблюдению правил происходит посредством про-
цесса многостороннего бойкота — те, кто не обладает репутаци-
ей людей, честно ведущих дела, как и те, кто не может предоста-
вить доказательств своего подчинения независимому арбитражу,
находятся в худшем, по сравнению с другими, положении в том,
что касается нахождения торговых партнеров.
Хотя очевидно, что определение и защита прав собст-
венности не находится в необходимой связи с деятельностью
368 Часть И. Классический либерализм и будущее...
государства, классическая либеральная перспектива не исключа-
ет и не может исключать возможность того, что государства или
«государствоподобные» акторы могут сыграть свою роль в этом
процессе (Hill, 2005). Точно так же, как индивиды и организации
могут присоединяться на основе контрактов к структурам, помо-
гающим преодолевать проблемы коллективного действия, то же
самое могут делать государства и даже наднациональные орга-
ны. Классический либерализм не выступает за то, чтобы просто
«оставить все на усмотрение рынка» в обычном понимании это-
го выражения. Вместо этого он утверждает, что акторы долж-
ны иметь возможность присоединяться к разным институцио-
нальным конструкциям и уходить из них (Buchanan and Vanberg,
2002). Эти институциональные конструкции могут быть результа-
том правительственных действий, а государства и объединения
государств могут играть в этом свою роль, когда их границы сов-
падают с территориальными или географическими пределами
конкретной проблемы, связанной с тем или иным коллективным
благом. Например, когда имеются ресурсы, находящиеся в «от-
крытом доступе», у государств может возникнуть необходимость
принять участие в создании системы правил, регулирующих про-
цесс, посредством которого могут устанавливаться и обеспечи-
ваться санкцией права собственности. Это может иметь особое
значение при определении правил доступа к общедоступным бла-
гам международного характера, таким как океаны или части ат-
мосферы. Соглашения и договоры между государствами или объ-
единениями государств могут помочь снизить транзакционные
издержки разрешения экологических проблем путем установле-
ния общих правил, по которым акторы получат возможность «за-
столбить» и зарегистрировать новый «участок», как только за-
траты на соответствующую технологию и выгоды от «огоражива-
ния» сделают такие действия оправданными (Anderson and Leal,
2001). В отсутствие же решений, основанных на правах собствен-
ности и создающих условия для «огораживания», государства мо-
гут договариваться о системах правил, ограничивающих доступ
к находящимся в режиме «общего котла» ресурсам, которые вви-
ду их дефицитности испытывают сильное давление.
Хотя классический либеральный подход признаёт потенци-
альную роль структур, подобных государству, в разрешении кон-
кретных экологических проблем, из этого не следует некрити-
ческая поддержка существующих государств и наднациональ-
ных организаций. Многие из них и раньше и теперь стремятся
Глава 8. Защита окружающей среды... 369
исключить институциональную конкуренцию и могут усугублять
проблемы, связанные с коллективными благами, устанавливая
единые системы контроля на неподходящем уровне юрисдик-
ции. Рассмотрим пример прав на рыболовство в европейских
водах. Сегодня существуют технологии, такие как гидролокаци-
онный мониторинг, которые создают возможность эффектив-
ной приватизации прибрежных и даже некоторых удаленных
от берега рыболовных угодий. Однако дальнейшие инвестиции
в развитие и применение этих технологий ограничиваются та-
кими институтами, как общая политика ЕС в сфере рыболовст-
ва [European Union Common Fisheries Policy], которая настаива-
ет на трактовке океанических ресурсов как актива, обладающе-
го свойством неисключаемости (De Alessi, 1998). Аргумент, что
из-за мигрирующей природы рыбных запасов только общеевро-
пейские структуры способны управлять этими запасами, сомни-
телен. Морские границы отдельных национальных государств не
согласуются с миграционными путями многих видов, но то же са-
мое можно сказать и о границах Европейского Союза. Поэтому
далеко не очевидно, что европейские институты лучше всего под-
ходят для интернализации соответствующих экологических из-
держек. Эффективное управление рыбными ресурсами Северно-
го моря, по-видимому, требует сотрудничества между североевро-
пейскими государствами, но вряд ли имеет какое-то отношение
к Греции и Италии. Более того, если допускать к разработке со-
ответствующих правил государства, на которые эти правила не
оказывают непосредственного воздействия, то это скорее всего
будет приводить к экстернализации издержек. Аналогичные во-
просы возникают в случае сельского хозяйства. Общепризнано,
что общая сельскохозяйственная политика ЕС [European Union
Common Agricultural Policy] субсидирует нанесение крупномас-
штабного ущерба окружающей среде и, по-видимому, создала та-
кие проблемы, связанные с коллективными благами и экстерна-
лиями, которых прежде не было или которые существовали по
большей части на местном или, в самом худшем случае, на нацио-
нальном уровне (см., например, Bowers and Cheshire, 1983).
В связи с вышесказанным важно и то, что некоторые наибо-
лее новаторские меры защиты среды в рыбном и сельском хозяй-
стве были выработаны государствами, которые не входят в над-
национальные структуры и поэтому обладают большей свободой
в том, что касается инноваций и интернализации издержек. На-
пример, Исландия и Новая Зеландия успешно перешли к системе
370 Часть И. Классический либерализм и будущее...
торгуемых квот на вылов рыбы, а вторая из этих стран в одно-
стороннем порядке отменила сельскохозяйственные субсидии.
Хотя, очевидно, существуют вопросы, которые могут решаться
только на уровне более крупных юрисдикции, чем национальные
государства, в мире субсидируемых зерновых гор и винных озер
следует, по меньшей мере, проявлять осторожность в том, что
касается наделения таких образований дополнительной властью.
Ведет ли сотрудничество в защите окружающей среды
к появлению монопольной власти?
Если проблемы монопольной власти и ограничения возможно-
сти ухода имеются и в существующих структурах, то что можно
сказать об аргументе, что классический либеральный подход сам
по себе привел бы к проявлениям монопольной власти? Несом-
ненно, по мере перехода от институтов, направленных на реше-
ние более локализованных проблем коллективных благ, к гора-
здо более крупномасштабным вопросам, таким как загрязнение
воздуха в регионах, интенсивность конкуренции и спектр воз-
можностей для ухода с необходимостью уменьшаются (см., на-
пример, Anderson and Hill, 2004). Однако неверно делать из это-
го вывод, что конкуренция будет неэффективной по сравнению
со статус-кво. Ключевой вопрос состоит в том, учреждаются ли
институты более высокого уровня «сверху» или же допускается
их возникновение посредством процесса «федерализации сни-
зу», при котором образования более высокого уровня развива-
ются в ходе добровольного обмена и институциональной кон-
куренции. Например, когда централизованные политические
структуры, такие как британское государство, которые уже уста-
новили внутри себя систему контроля, ограничивающую воз-
можности ухода, присоединяются к структурам европейского
уровня, еще больше ужимающим пространство для децентра-
лизованных решений, опасения по поводу монопольной власти
вполне реальны. Если же построение «вложенных» институцио-
нальных структур для решения трансграничных проблем проис-
ходит посредством идущего «снизу вверх» процесса доброволь-
ного обмена, требующего согласия нижестоящих единиц, то
скорее всего такие проблемы будут гораздо менее ярко выраже-
ны (Ostrom, 1990, 2006; Остром, 2010).
При классическом либеральном устройстве полномочия ин-
ститутов более высокого уровня, которые могут потребовать-
Глава 8. Защита окружающей среды... 371
ся для установления экологических правил, покрывающих об-
ширные географические ареалы, скорее всего будут ограниче-
ны сравнительно небольшим числом аспектов, в отношении
которых действительно требуются единые стандарты, действу-
ющие на больших территориях. Однако координация по пово-
ду таких стандартов, например в случае сообществ собственни-
ков или федерации таких сообществ, вовсе не обязательно будет
открывать возможности для широкой практики сговоров. Здесь
уместна аналогия с так называемыми сетевыми отраслями, таки-
ми как телекоммуникации, где ценность соответствующих сетей
растет с увеличением количества пользователей того или ино-
го стандарта. Пока соответствующая сеть не навязывается с по-
мощью мер принуждения, несогласные акторы любого уровня
могут создать альтернативную сеть, придерживающуюся общих
стандартов по тем параметрам, где желательна кооперация, но
без ограничения внутренней конкуренции в тех вопросах, ко-
торые могут решаться на более низком юрисдикционном уров-
не (Leibowitz and Margolis 1995; Stringham, 2006). Если бы требо-
вание следовать грамматическим стандартам английского языка
сопровождалось принятием обязательства, подкрепленного си-
стемой санкций, не вступать в ценовую конкуренцию с другими
людьми, говорящими на этом языке, то популярность этой кон-
кретной сети вскоре уменьшилась бы. Точно так же можно пред-
положить, что организации собственников, стремящиеся регу-
лировать поведение, не связанное с действительными экологи-
ческими экстерналиями, стали бы проигрывать в соперничестве
с другими. С классической либеральной точки зрения тот факт,
что существующие государства и наднациональные структуры уш-
ли далеко за пределы такого минимализма, служит доказательст-
вом того, что чаще всего имели они своими истоками акты при-
нуждения, а не были построены «снизу вверх» на основе согласия
индивидов, фирм и добровольных объединений.
Дилемма климатических изменений
Хотя монополия как таковая считается большинством эконо-
мистов нежелательным явлением, в случае глобальных эколо-
гических дилемм, таких как антропогенные изменения климата,
можно привести аргументы в пользу того, что нежелательна как
раз конкуренция стандартов использования окружающей среды,
поскольку релевантной территориальной единицей, в пределах
372 Часть И. Классический либерализм и будущее...
которой нужно интернализировать издержки, выступает весь
земной шар. Однако из этого логически не следует, что наибо-
лее эффективным решением такого рода проблем будет наделе-
ние институтов глобального уровня полномочиями осуществ-
лять экологический контроль путем принуждения. Могут быть
выдвинуты сильные теоретические аргументы в пользу глобаль-
ного минимального государства, обладающего правом вводить
налог на выбросы парниковых газов [carbon tax] или систему
торгуемых эмиссионных квот. Это дало бы индивидам, фирмам
и юрисдикциям более высокого уровня, таким как правитель-
ства стран, финансовый сигнал, побуждающий к снижению вы-
бросов парниковых газов, но при этом допускался бы процесс
децентрализованного экспериментирования в том, что касается
способов снижения соответствующих выбросов. Эти меры мо-
гли бы быть подкреплены регулированием в командно-админис-
тративном стиле, таким как принудительное внедрение некото-
рых технологий, при условии что существуют уже известные ме-
тоды, могущие способствовать снижению уровня выбросов без
чрезмерных издержек (см., например, Sunstein, 2005).
Однако, чтобы безоговорочно поддерживать такие меры, не-
обходимо признавать истинность некоторых посылок, которые
на самом деле совершенно неправдоподобны. Первая из этих по-
сылок состоит в том, что лица, определяющие политику в гло-
бальном масштабе, обладают знанием, необходимым для управле-
ния климатическими паттернами посредством манипулирования
величинами выбросов, и что они, несмотря на международные
различия в доходах, предпочтениях и отношении к риску, способ-
ны достичь согласия по поводу параметров, необходимых для оп-
ределения надлежащего темпа сокращения выбросов. Посколь-
ку в зависимости от того, какая именно модель климата окажет-
ся точной, большие части земного шара могут получить чистый
выигрыш от климатических изменений1, представляется край-
1 В частности, таким получателем чистого выигрыша с большой вероят-
ностью может оказаться Россия благодаря увеличению производительности
сельского хозяйства в условиях более теплого климата и уменьшению коли-
чества смертей, случающихся в зимние месяцы по причинам, связанным
с холодом; точно так же чистую выгоду от изменений климата может полу-
чить Китай (Nordhaus and Boyer, 2000; Lomborg, 2007; Ломборг, 2008). Со-
гласно некоторым оценкам, в настоящее время в мире гораздо больше смер-
тей вызывается причинами, связанными с холодной погодой, чем с чрезмер-
ной жарой (Lomborg, 2007; Ломборг, 2008).
Глава 8. Защита окружающей среды... 373
не маловероятным, что может быть достигнуто согласие по пово-
ду некоего конкретного варианта анализа глобальных выгод и из-
держек. Поэтому вряд ли централизованно создаваемые схемы
ценообразования и квотирования смогут установить «социально
оптимальные» уровни выбросов, и нет оснований полагать, что
они смогут «скорректировать» «глобальные провалы рынка». По-
пытки создать оптимальный набор налогов на выбросы парнико-
вых газов скорее всего окажутся произвольными, отражающими
частные ценности определяющих политику лиц или соотношение
политического веса и влияния различных глобальных игроков.
Вторая трудность, с которой связана аргументация в пользу
того, чтобы изменениями климата занимался глобальный орган
власти, состоит в неявном допущении, что создание такой струк-
туры каким-то образом само по себе решает ту проблему коллек-
тивного действия, которая порождает неконтролируемую эмис-
сию СО9. Хотя это правда, что ввиду трудности идентификации
индивидуальных источников загрязнения крупномасштабные
экологические вопросы, из которых порождаемые СО2 климати-
ческие изменения являются самым важным, вряд ли могут иметь
очевидные решения, основанные на добровольности, такого ро-
да проблемы, связанные с коллективными действиями, не мо-
гут исчезнуть с созданием глобальной властной структуры. С од-
ной стороны, при выявлении того, обеспечивается ли на пра-
ктике исполнение установленных этой структурой регуляторных
норм, она столкнется с гигантскими издержками мониторинга.
Но с другой стороны, при попытках обеспечить ответственность
и подотчетность самого этого органа власти возникнет огромная
проблема «принципал-агент». Можно доказать, что самая серь-
езная дилемма коллективных действий из всех возможных свя-
зана с обеспечением подотчетности избираемого правительства,
и нигде оно не будет столь проблематичным, как в случае приро-
доохранных институтов глобального уровня, какими бы демокра-
тичными по своему характеру они ни были. Учитывая бесконеч-
но малые шансы любого отдельного избирателя и даже отдельно-
го государства повлиять на решения глобального органа власти,
стимулы к мониторингу деятельности этого органа будут малы
и еще меньше будет возможностей повлиять на ее результаты.
Такого рода проблемы не исчезнут и в условиях вложенных
проприетарных структур, которые классический либеральный
подход предлагает в качестве способа управления территориаль-
ными благами меньшего масштаба. По мере движения от простой
374 Часть И. Классический либерализм и будущее...
индивидуальной собственности ко вложенным, федеративным
структурам, необходимым для интернализации крупномасштаб-
ных экстерналий, потенциальная динамика, связанная с эффек-
том «безбилетника», и проблемы отношений «принципал—агент»
в рамках таких структур только усиливаются. Тем не менее преиму-
щество строящейся «снизу вверх», конкурентной системы управ-
ления окружающей средой заключается в том, что, сохраняя воз-
можности для выхода, она может уменьшать сравнительную зна-
чимость коллективных действий как таковых. Подобно тому, как
акционеры, сталкивающиеся с проблемами «безбилетника» и от-
ношений «принципал—агент» при контроле над менеджментом,
защищены возможностью продать акции плохо работающих ком-
паний, так же и имеющийся у индивидуальных и корпоративных
акторов вариант ухода из плохо работающих институтов может
предоставить рычаг сдерживания злоупотреблений со стороны
соответствующих иерархий. Однако в некоторой точке сам мас-
штаб проблемы мониторинга, с которой сталкиваются акторы бо-
лее низких уровней, вкупе с утерей возможности для ухода после
того, как юрисдикционные единицы превышают определенную
величину, может привести к возникновению потенциала для зло-
употребления властью. В зависимости от масштабов такого зло-
употребления может оказаться, что риск, связанный с создани-
ем трансграничных институтов при превышении ими определен-
ных размеров, неоправданно велик даже с учетом того, что отказ
от них означал бы, что соответствующие экологические экстерна-
лий останутся не интернализированными. Создание глобального
минимального государства, которое имело бы дело с изменения-
ми климата, может находиться далеко за пределами этой порого-
вой точки. Такому государству нужно будет предоставить беспре-
цедентные регуляторные полномочия, в то время как у тех, кто
будет находиться в его юрисдикции, не будет никаких или почти
никаких возможностей исправить положение в случае, если оно
злоупотребит предоставленной ему властью.
В свете вышесказанного могут быть выдвинуты небезоснова-
тельные аргументы в пользу децентрализованной адаптации к из-
менениям климата. Накладывание дополнительных издержек
сегодня может уменьшить экономический рост, а вместе с ним
и способность справляться с теми климатическими изменениями,
которые, вероятно, могут произойти. Хотя в недавно опублико-
ванном докладе Стерна по экономике климатических изменений
ежегодные издержки сокращения выбросов углекислого газа оце-
Глава 8. Защита окружающей среды... 375
ниваются в 1% валового внутреннего продукта (ВВП), эта оценка
выглядит исключительно оптимистичной, учитывая, что, соглас-
но рекомендациям, сокращение эмиссии в расчете на единицу вы-
пуска должно к 2050 г. составить порядка 80% (Stern, 2007). Учи-
тывая хорошо известные трудности, с которыми сталкиваются
даже национальные правительства при оценке издержек относи-
тельно простых проектов в сфере инфраструктуры общего поль-
зования, вероятность того, что окажется точной оценка издер-
жек столь масштабного плана снижения выбросов углекислого
газа, крайне мала1. Кроме того, у индивидов, проприетарных ор-
ганизаций и национальных государств, вероятно, больше шансов
повлиять на свои возможности избежать самых худших последст-
вий изменений климата — например, путем инвестирования в за-
щиту от наводнений, — чем на структуру глобального управления.
Из сказанного очевидно, что в случае экологических проблем
глобального уровня классический либерализм не может предло-
жить очевидных «решений» или «ответов». Однако столь же оче-
видно и то, что поскольку анализ, основанный на идее «провалов
рынка», почти никакого внимания не уделяет «проблеме знания»
и ограничениям, связанным со стимулами, — т.е. тем вопросам,
на которые должна отвечать робастная политическая эконо-
мия, — он вряд ли может быть полезен при попытках спроекти-
ровать надлежащие меры экологического вмешательства на гло-
бальном уровне.
Коммунитаристские возражения
против классического либерального
энвайронментализма2
В то время как экономические возражения против классическо-
го либерализма сосредоточены на логистических препятствиях,
которые мешают функционированию рынков благ, связанных
1 Недавними примерами такого рода трудностей с оценкой издержек яв-
ляется превышение затрат на строительство Шотландского парламента,
а также история с Большим Бостонским туннелем в США. В первом случае
первоначально затраты оценивались в 40 млн ф. ст., а фактические затраты
по завершении проекта составили 450 млн. Во втором случае планировавши-
еся затраты 2 млрд долл. по ходу дела выросли до 15 млрд, причем проект еще
не был завершен (Otteson, 2006: 183-184).
2 Этот раздел основывается на аргументации, представленной в работе
Pennington (2005).
376 Часть П. Классический либерализм и будущее...
с окружающей средой, другая группа критиков развивает мо-
ральную аргументацию против «приватизации». Теоретики, ра-
ботающие в коммунитаристской традиции, не оспаривают, что
по крайней мере некоторые экологические блага могут предо-
ставляться посредством рынков или подобных рынку процессов,
но тем не менее отвергают идею, что эти блага должны предо-
ставляться таким образом.
В основании коммунитаристских возражений против расши-
рения рынков экологических благ лежит вера в то, что индиви-
дуалистические и эгоистические установки, которые, как счита-
ется, будут взращиваться такими рынками, враждебны экологи-
чески устойчивому обществу [sustainable society]. Согласно этой
точке зрения, чтобы решить экологические проблемы коренным
образом, необходимо фундаментальным образом переориенти-
ровать моральные установки с «консюмеристского» этоса на та-
кой, который имеет своим центром нормы демократического
«гражданства». Эта линия рассуждений имеет несколько аспек-
тов, которые проистекают из некоторых общих философских
возражений против классического либерализма, рассмотренных
в главе 3 этой книги.
Во-первых, говорится, что проблемы окружающей среды
носят «системный» характер, и поэтому их невозможно эффек-
тивно решать на основе таких подходов, которые трактуют от-
дельные вопросы изолированно от других, а разграничение прав
собственности относится как раз к их числу. Экологические си-
стемы суть сложные взаимосвязанные целостности, и решения,
влияющие на одни аспекты (такие как землепользование), не-
избежно отражаются на других аспектах социально-экологиче-
ской системы (например, на управлении водными ресурсами).
Поскольку «зеленые» мыслители применяют к экологическим
процессам концепцию «целое больше, чем сумма его отдельных
частей», они считают настоятельно необходимым, чтобы реше-
ния в отношении окружающей среды основывались на коллек-
тивных, относящихся к «системному уровню» процессах, в рам-
ках которых неравнодушные граждане осознанно анализируют,
как сделанные ими выборы, касающиеся их образа жизни, воз-
действуют на жизнь и среду обитания других (см., например, Dry-
zek, 1987; Barry, 1999; Smith, 2003).
Второй, но связанный с первым аргумент против акценти-
рования прав собственности, имеет отправной точкой то, что,
по мнению многих «зеленых», классические либералы слишком
Глава 8. Защита окружающей среды... 377
сильно поглощены «стимулами». С этой точки зрения подходы,
основанные на правах собственности, упирают на конкретные
личные выгоды, которые можно получить от защиты окружаю-
щей среды, а не на побуждение людей к тому, чтобы те осознали
моральную добродетельность экологически отзывчивого поведе-
ния (Dryzek, 1987; Barry, 1999). Говорится, что упор на индивиду-
альные стимулы для случаев, когда рынки могут предлагать эко-
логические блага, усиливает связанные с «дилеммой заключен-
ного» и коллективными благами проблемы. Это относится к тем
ситуациям, когда рынок не может предоставлять такого рода бла-
га из-за культуры эгоизма, которую увековечивают соответствую-
щие институты. Предполагается, что в ситуации, когда могуще-
ство рекламы создает преимущества для индивидуалистических
ценностей, ориентированных на материальное потребление, по
сравнению с коллективными благами, такими как поддержание
качества окружающей среды, проблемы скорее всего будут толь-
ко усугубляться. Доказывается, что именно коллективная сове-
щательность предоставляет условия, в которых ценность таких
благ может более отчетливо артикулироваться и уравновешивать
коммерческое давление материального роста. Аналогично сто-
ронники данной позиции полагают, что командно-администра-
тивное регулирование с большей вероятностью сможет привить
людям поведение, «учитывающее других», путем принуждения
к следованию коммунитарной концепции, определяющей, что
с моральной точки зрения правильно, а что неправильно в эко-
логической сфере.
Третья и последняя коммунитаристская претензия к класси-
ческому либеральному подходу заключается в том, что индивиду-
альная готовность платить не является правомерным критерием
в отношении большого числа благ, предположительно отражаю-
щих моральные и этические ценности, которые не могут или не
должны быть предметом купли-продажи. В соответствии с этой
точкой зрения, классическая либеральная позиция трактует ин-
дивидуальные предпочтения как фиксированные. Следователь-
но, она игнорирует возможность того, что людей, если их поме-
стить в моральные и институциональные условия, поощряющие
споры и аргументирование по поводу удовлетворения потреби-
тельских предпочтений, можно воспитать так, чтобы они прони-
клись альтернативными стилями жизни. В рамках такого контек-
ста моральная составляющая приверженности целям сохране-
ния природной среды считается не подходящей для включения
378 Часть II. Классический либерализм и будущее...
в процедуру нахождения баланса или компромисса с «экономи-
ческими» целями. Конфликты морального характера по поводу
несоизмеримых целей не могут быть сведены к общему знамена-
телю рыночных цен и вместо этого должны разрешаться путем
демократических дискуссий, в рамках которых ценность экологи-
ческих благ определяется «силой лучшей аргументации», а не го-
товностью платить (Sagoff, 1988).
В целом суть коммунитаристской позиции отражена в раз-
личии между «потребительскими» и «гражданскими» предпочте-
ниями, которое проводит Сагофф (Sagoff, 1988). Спросив груп-
пу студентов, поедут ли они на новый лыжный курорт, который
предлагалось построить в национальном парке, Сагофф отме-
тил, что большинство с удовольствием поехало бы туда, чтобы
воспользоваться новыми возможностями для отдыха. Когда же
он спросил ту же самую группу о том, следует ли на самом деле
строить там этот курорт, большинство ответило отрицательно.
Для Сагоффа рассогласованность этих ответов отражает разницу
между потребительскими и гражданскими предпочтениями. В ка-
честве участников рынка аморальных потребительских благ лю-
ди приветствуют возможность воспользоваться новыми рекреа-
ционными объектами, однако в своем качестве способных к кри-
тическим суждениям и морально мотивированных граждан они
не согласны с разрушением дикой природы, которая, по их мне-
нию, обладает ценностью для общества в целом. По мнению Са-
гоффа, из этих наблюдений вытекают совершенно однозначные
следствия. Если мы не хотим жить в деградировавшей среде, то
мы должны отдавать предпочтение процессам, основанным на
коллективной совещательности, а не на индивидуальном потре-
бительском выборе.
Права собственности, экологические рынки
и общее благо
Изложенная выше коммунитаристская критика по большей ча-
сти сосредоточена на предполагаемом «индивидуализме» клас-
сического либерализма и на подчеркивании им «стимулов». Учи-
тывая акцент последнего на необходимости удовлетворения
требованиям робастной политической экономии, действитель-
но, некоторые аспекты подхода, основанного на правах собст-
венности, связаны с выделением стимулов, необходимых для
сбережения ресурсов. Однако утверждение, что классическая
Глава 8. Защита окружающей среды... S79
либеральная аргументация в пользу «приватизации» сводит-
ся к такого рода доводам, не соответствует истине. Как неодно-
кратно отмечалось в этой книге, хайековский аргумент в поль-
зу рынков и принципа «ухода», основанный на «проблеме зна-
ния», не связан ни с какими допущениями по поводу мотивации
индивидов. Вместо этого он утверждает, что объемлющая среда
столь сложна, что люди в принципе не могут напрямую обладать
знанием, необходимым для корректировки их поведения та-
ким образом, чтобы это согласовывалось с интересами других, —
и именно по этой причине рынки нужны для координации ис-
пользования ресурсов.
Ввиду «проблемы знания» нормативная релевантность игра-
ющего ключевую роль в коммунитаристской критике различе-
ния между «гражданством, учитывающим других людей», и «эго-
истическим консюмеризмом» вызывает большие сомнения. Рас-
смотрим приведенный Сагоффом пример, где утверждается, что
«потребительское» действие по удовлетворению «потребностей»
в отдыхе отдало бы предпочтение строительству лыжного курор-
та в национальном парке, в то время как «гражданское» действие
может противостоять разрушению девственной природы, рас-
сматриваемой как ценность для сообщества в целом. Этот при-
мер призван проиллюстрировать полезность мотивационного
различения потребительски ориентированного и более граждан-
ственного поведения. Но при ближайшем рассмотрении оказы-
вается, что пример не может служить обоснованием тех выводов,
которые делает Сагофф. Он сам признает, что для большей части
решений в отношении окружающей среды моральный абсолю-
тизм неуместен и что такие блага, как чистый воздух и безопас-
ность на рабочих местах, имеют свои альтернативные издержки,
так что в определенный момент получение дополнительного ко-
личества чистоты или безопасности может стать неоправданным
в сравнении с благами и услугами, от которых придется отказать-
ся, чтобы заплатить за это увеличение (Sagoff, 1988: 80).
Если применить метод анализа, применяемый самим Сагоф-
фом, к случаю лыжного курорта, то может оказаться неверным,
что люди возражают против курорта как такового, исходя из ин-
тересов сообщества в целом. На самом деле они могут быть про-
тив строительства такого предприятия именно в конкретном
ареале дикой природы — т.е. там, где издержки воспринимают-
ся как слишком высокие. Из этого следует, что более глубинная
проблема состоит в нахождении механизма принятия решений
380 Часть И. Классический либерализм и будущее...
по поводу того, где должны создаваться новые лыжные курорты
и сколько их должно быть. Для Сагоффа такие решения долж-
ны приниматься посредством совещательного демократическо-
го процесса, основанного на обсуждении и компромиссах. Но
именно в этот момент демократическая совещательность стал-
кивается с проблемой знания, выдвинутой на первый план Хай-
еком. Демократические представители в принципе не могут по-
лучить доступ ко всему комплексу факторов и переработать всю
релевантную информацию, чтобы соответствующим образом
приспособиться к спросу на лыжные курорты. Информация, от-
носящаяся к этике, местным условиям, требованиям землеполь-
зования и т.д., не существует как единое интегрированное целое
и не может быть собрана для представления на совещательный
форум. Но если права собственности на землю и другие активы
определены, эти разрозненные «кусочки» информации могут пе-
редаваться через цепочку рыночных обменов, транслирующих
в закодированной форме контекстно-зависимые факторы через
взаимно перекрывающиеся поля восприятия различных акто-
ров, — отводя тем самым спрос на лыжные курорты от более эко-
логически ценных и потому сравнительно более дорогих мест.
Чтобы лучше понять этот анализ, полезно сравнить хайеки-
анскую аргументацию в пользу подхода к проблеме ресурсов «от-
крытого доступа» на основе прав собственности с рассуждения-
ми, сосредоточенными исключительно на вопросах мотивации.
В соответствии с последней линией рассуждения, установление
прав частной собственности на ресурсы, такие как водоемы или
запасы рыбы, имеет ключевое значение в трансформации сти-
мулов, с которыми сталкиваются акторы, поскольку интернали-
зирует издержки и тем самым позволяет преодолеть проблему
«безбилетника» (см., например, Baden and Stroup, 1979). Теперь
предположим, что индивид вовсе не намерен действовать как
«безбилетник», но, будучи ответственным «гражданином», стре-
мится сократить свое потребление воды до «социально ответст-
венного» уровня. В отсутствие прав собственности и возникаю-
щих на основе этого рыночных цен на воду у соответствующего
индивида может просто не быть способа узнать, каков этот са-
мый «социально ответственный» уровень потребления. Разуме-
ется, люди могут решить выбрать «наугад» некоторый уровень
потребления ниже «нормального», но в отсутствие цен, позво-
ляющих определить наиболее важные направления сбережения
воды, у них не будет никакого представления, действительно ли
Глава 8. Защита окружающей среды... 381
такие действия являются оправданными. В таких условиях даже
самая альтруистически настроенная личность скорее всего бу-
дет потреблять столько воды, сколько требуется лично ей, пото-
му что она по крайней мере знает, какова эта величина, в то вре-
мя как «социально ответственный» уровень потребления скрыт
во мгле незнания (Steele, 1992: 205). Разумеется, такого рода про-
блемы становятся бесконечно более сложными, когда приходит-
ся учитывать огромное разнообразие вариантов производства
и потребления, характерное для современной экономики, а так-
же сложные цепочки последствий для окружающей среды, воз-
никающие при реализации каждого из этих вариантов. Короче
говоря, вне зависимости от того, действуют ли люди с позиций
«потребления» или «гражданства», не имея в своем распоряже-
нии набора относительных цен, которыми можно руководст-
воваться в своих действиях, они будут неспособны определить,
насколько настоятельным является их спрос на экологические
ресурсы.
Права собственности и эволюция экологических
предпочтений
Столь же сомнительный аспект различения «гражданства»
и «консюмеризма» выявляется в связи с образовательными
и воспитательными преимуществами, приписываемыми соци-
ал-демократическим процедурам. Если индивидуальные пред-
почтения не зафиксированы экзогенно, то для коммунитари-
стов из этого должно следовать, что эти ценности должны быть
подвержены процессу демократической критики и обсужде-
ния, в ходе которого они должны быть исследованы сообщест-
вом в целом на предмет добродетельности или порочности. Но
классический либерализм не оспаривает эндогенность пред-
почтений. Он лишь утверждает, что институты, основанные на
принципе «ухода», более робастны в том, что касается создания
условий для открытия прежде никем не предвидевшихся произ-
водственных и потребительских ценностей, которые могут ока-
заться выигрышными с точки зрения сохранения окружающей
среды. Согласно этой точке зрения, когда акторы обладают за-
щищенной приватной сферой, которая дает им возможность
экспериментировать с проектами и способами организации
жизни, не согласующимися с ценностями большинства, распро-
странение знания происходит более активно.
382 Часть II. Классический либерализм и будущее...
Права частной собственности допускают более широкий
спектр возможных решений и тем самым повышают шансы на то,
что и большинство, и меньшинства начнут контактировать с пра-
ктиками, которым впоследствии смогут научиться. Подавляющее
большинство благ, которых люди желают, и методов производ-
ства, которые они применяют, — это то, чего они научаются же-
лать и что учатся применять, наблюдая за теми или иными дейст-
виями других. Например, если говорить о конкретном случае «зе-
леного» потребления, крайне сомнительно, что гигантский рост
рынка натуральных продуктов, происшедший за последние годы,
имел бы место, если бы производственные решения в сельскохо-
зяйственном секторе были полностью подчинены коллективист-
ским или мажоритарным процедурам. Многие годы натуральные
пищевые продукты считались предметом интереса эксцентрич-
ных «маргиналов». Но именно потому, что частная собствен-
ность предоставляет меньшинствам простор для опробования
экспериментальных идей, преимущества которых неочевидны
(а не только для разговоров об этих идеях), все больше и больше
людей получили возможность перенимать такие модели поведе-
ния, когда преимущества последних стали заметны. В конкрет-
ном случае сельского хозяйства этот процесс мог бы идти гораздо
быстрее, если бы не государственное субсидирование интенсив-
ных методов сельскохозяйственного производства, навязывае-
мое в большинстве крупнейших демократических стран.
Классическая либеральная аргументация не утверждает, что
процессы, основанные на принципе «ухода», обязательно вы-
несут на поверхность идеи, «благотворные» для окружающей
среды, но лишь приводит к мысли, что процесс, допускающий
больший простор для адаптации путем экспериментирования,
с большей вероятностью приведет к такому результату, чем ре-
жим, основанный на принятии решений большинством. Процес-
сы открытия, результат которых не связан предзаданными огра-
ничениями — а именно таковыми являются рынки, — оставляют
место для ошибок и характеризуются элементом неравновесно-
сти. «Плохие» решения не могут быть исключены из процесса
эволюции; более того, они суть необходимый элемент процес-
сов, для которых характерно обучение посредством проб и оши-
бок. Да и экосистемы сами по себе весьма далеки от образа неко-
ей статической сущности. Напротив, они находятся в процессе
постоянных изменений, как «природных», так и антропогенных,
одни из которых могут быть благотворными, а другие — нано-
Глава 8. Защита окружающей среды ... 383
сящими ущерб (Botkin, 1990; McCoy and Shreder-Frechete, 1994;
Chase, 1995). Из непредсказуемого по своей природе характера
таких систем следует, что коллективы просто-напросто не могут
знать, в каком направлении эти системы изменяются. Раз уж го-
сударства, как свидетельствует опыт, не слишком хорошо способ-
ны «выбирать победителей в промышленности», то уж тем более
нет никаких оснований для веры в то, что они способны выби-
рать подходящий путь развития, будь то «устойчивый» или ка-
кой-нибудь другой.
Да, можно согласиться с тем, что если уж речь зашла о ре-
кламе, то, вероятно, имеет место смещение в процессе форми-
рования предпочтений в пользу благ, которые уже предлагают-
ся на рынках, по сравнению с коллективными благами, в отно-
шении которых процесс институциональной эволюции еще не
дошел до той стадии, на которой будет возможно предостав-
лять их через добровольный обмен1. Тем не менее нет основа-
ний предполагать, что экологические или нематериалистиче-
ские ценности как таковые пострадают от этого смещения, по-
скольку существует большое количество потребительских благ,
связанных с ростом, — таких как транспортная инфраструкту-
ра, — организация предложения которых может быть сопряже-
на с теми же трудностями. Более того, процесс институциональ-
ного предпринимательства, такого как формирование обсуждав-
шихся ранее частных сообществ, по всей вероятности позволяет
организовывать предоставление все большего числа экологиче-
ских благ в рамках рыночного обмена и сопровождающих его ре-
кламных и маркетинговых процедур. С учетом сказанного до тех
пор, пока преобладающая культура отдает предпочтение более
1 Сторонники совещательной демократии и хабермасовской «идеальной
речевой ситуации» скорее всего возразят, что такое неравенство возника-
ет вследствие «власти денег», является «структурным» по своей природе
и препятствует тому, чтобы альтернативные представления о жизни полу-
чили равную возможность быть услышанными в публичном дискурсе. Одна-
ко пока допускается существование хоть какой-то было формы коммерче-
ской активности параллельно с существованием тех людей, кто отвергает
материальный прогресс, непонятно, как эта коллизия могла бы быть разре-
шена, поскольку те, кто вовлечен в деятельность, порождающую богатство,
по определению будут иметь материальные средства для распространения
своих собственных специфических ценностей. Было бы странно требовать,
чтобы те, кто отвергает материальный прогресс — например буддистские мо-
нахи, — были наделены равной долей рекламных ресурсов, в то время как
их образ жизни делает невозможным производство необходимых ресурсов.
384 Часть И. Классический либерализм и будущее...
высокому уровню потребления, те, кто хочет приобретать собст-
венность для того, чтобы вести менее материалистический образ
жизни, будут вынуждены напрямую конкурировать на рынке с те-
ми, кто предпочитает, например, открытым пространствам но-
вые жилые массивы и торговые комплексы. Поэтому такой ва-
риант может оказаться доступным лишь сравнительно богатым
людям. Однако с классической либеральной точки зрения, даже
если именно так все и будет, сам тот факт, что у некоторых людей
есть возможность сделать такой выбор, будет порождать предло-
жение ролевых моделей для других, которые, возможно, обратят
внимание на преимущества альтернативных стилей жизни — при
условии что такие преимущества действительно существуют.
Хотя на людей, несомненно, оказывают влияние новые по-
требительские возможности, демонстрируемые рекламой, это не
означает, что их предпочтения детерминируются соответствую-
щей информацией. В конечном счете, мы не можем не призна-
вать, что если люди перестают получать выигрыш от дополни-
тельных элементов пучка потребляемых ими благ, то они свобод-
ны отказаться от них. Социальное давление может сделать такой
выбор весьма трудным, но по причинам, которые подчеркивают-
ся в главе 3, сопротивляться такому давлению, по-видимому, лег-
че, находясь в среде, основывающейся на принципе «ухода», чем
в альтернативной ситуации, когда тот или иной вариант дейст-
вий, прежде чем быть выбранным, должен получать одобрение
большинства голосов на некоем форуме. То, что выражение аль-
тернативных стилей жизни действительно может подавляться
политикой участия, хорошо иллюстрирует опыт законодательно-
го регулирования землепользования в Великобритании. Различ-
ные «странствующие» группы, цыгане и «глубокие экологисты»,
по большей части отвергающие современный консюмеризм, —
т.е., как правило, довольно бедные люди, — покупали земельную
собственность с целью создания палаточных городков, в кото-
рых можно было бы жить в согласии с их специфическими куль-
турными ценностями. Однако во многих случаях они не могли
реализовать свои попытки соответствующим образом исполь-
зовать эту собственность из-за системы национализированных
прав на застройку и обустройство территорий, которая позволя-
ет сторонним «стейкхолдерам» блокировать то, что последние
рассматривают как «нежелательный» образ жизни. Аналогич-
ный процесс отчасти послужил причиной первоначальной на-
ционализации прав на застройку и обустройство территорий
Глава 8. Защита окружающей среды... 385
в соответствии с законом 1947 года о планировании городской
и сельской застройки [Town and Country Planning Act]. В 20-х
и 30-х годах XX в. все большее число представителей городско-
го рабочего класса вовлекалось в спекулятивную покупку так на-
зываемых наделов под застройку, особенно в юго-восточной Ан-
глии. Последние представляли собой неофициальные жилые по-
селения или отдельные участки сельскохозяйственной земли,
купленные горожанами, стремящимися убежать из тесноты го-
родской жизни. Однако, как показали Харди и Уорд (Hardy and
Ward, 1984), движение покупателей этих участков было подавле-
но силами коалиции сельских жителей, принадлежавших к сред-
нему классу, которые требовали расширения «планирования»
и «общественного контроля».
Права собственности и экологическая этика
Последнее из возражений коммунитаристов, направленных
против акцентирования классическим либерализмом права соб-
ственности, состоит в том, что «торг» и готовность платить
в принципе не являются правомерными формами принятия ре-
шений, касающихся благ, которые, как представляется, отража-
ют моральные и этические ценности. Однако с позиций класси-
ческого либерализма эта линия аргументации еще более слаба,
чем все прочие. Самое главное обоснование учреждения прав
собственности на экологические активы как раз в том и состоит,
что они позволяют людям сказать «нет» в ответ на неподходя-
щие предложения, независимо от того, обусловлен ли этот отказ
этическими мотивами ли какими-либо другими соображения-
ми, важными для соответствующего собственника или собствен-
ников, и не допустить, чтобы такие решения принимались бю-
рократами или большинством других «граждан». Подобно то-
му, как человек может отказаться продать фамильный дом даже
по самой высокой цене, потому что этот дом важен для его лич-
ной истории или идентичности, так же и право собственности
на лес или судоходную реку даст возможность индивидам и груп-
пам отказаться продать права на эксплуатацию этого ресурса,
если предлагаемая «компенсация» сочтена ими несовместимой
со взятыми ими на себя моральными обязательствами.
Коммунитаристы предъявляют претензию, что в тех случаях,
когда речь идет о несоизмеримых моральных целях и когда не-
возможно агрегирование конфликтующих целей, использование
386 Часть И. Классический либерализм и будущее...
общего знаменателя, такого как деньги, неуместно. Но классиче-
ская либеральная аргументация в пользу рынков и не утвержда-
ет, что последние создают условия для агрегирования ценностей
в единую шкалу «эффективности». Она говорит лишь, что рын-
ки дают возможность людям с конфликтующими целями участво-
вать в процессе взаимного приспособления и что это увеличивает
шансы на то, что будут достигнуты хотя бы какие-то из соответст-
вующих целей. В понимании классического либерализма «общее
благо» требует именно процесса адаптации поведения, который
учитывал бы разнообразие ценностей и увеличивал шансы всех
заинтересованных сторон на достижение их собственных целей.
Критики денежных цен, похоже, не испытывают никаких угрызе-
ний совести по поводу использования общего знаменателя, когда
речь идет о лелеемых ими «совещательных конструкциях», кото-
рые всегда основываются на той или иной форме принятия ре-
шений большинством голосов (см., например, Smith, 2003). Од-
нако в силу описанных выше причин такого рода процессы в го-
раздо меньшей степени, чем совокупность генерируемых рынком
цен, способны создавать условия для необходимого приспособле-
ния к изменяющимся этическим нормам, варьирующейся степе-
ни редкости благ и к местным обстоятельствам.
То, что торг и взаимное приспособление может потребовать-
ся даже тем, кто привержен «зеленым» ценностями, становит-
ся очевидным в связи с идущим в Великобритании обсуждени-
ем этического статуса ветряных электростанций. С точки зре-
ния их сторонников, ветряные электростанции представляют
собой более устойчивую и «социально добродетельную» форму
энергоснабжения, чем нефть и природный газ. Однако, с точ-
ки зрения их оппонентов, установление сотен ветряков посре-
ди вересковых пустошей и холмов будет надругательством над це-
лостностью сельского ландшафта и над идентичностью тех, кто
проживает в сельской местности. Если речь не идет просто-на-
просто о навязывании одного из «этических идеалов» вопреки
мнению всех тех, кто с ним не согласен, то в качестве основы
для принятия решений о том, сколько ветряных электростан-
ций должно быть построено и где именно они должны быть рас-
положены, должна быть принята та или иная концепция тор-
га и поиска компромисса путем маржинальных уступок. В усло-
виях определенных и разграниченных прав собственности на
землю те, кто выступает против ветряных электростанций, мо-
гут поставить задачу скупить те участки, которые, по их мнению,
Глава 8. Защита окружающей среды... 387
могут в наибольшей степени пострадать в эстетическом отноше-
нии, либо, если они уже владеют этими территориями, могут об-
ременить их частными ограничительными условиями, которые
будут запрещать такое строительство на этих участках всем их бу-
дущим собственникам. Последний вариант действий, разумеется,
может снизить рыночную ценность соответствующей земельной
собственности. Поэтому ошибочно полагать, что моральные цен-
ности не могут находить отражения в «денежных отношениях» —
каждое решение совершить сделку, какими бы причинами оно ни
было обусловлено, отразится в рыночных сигналах, которые воз-
никнут как следствие этой сделки. Поэтому выбор стоит не меж-
ду использованием «экономических» и «неэкономических» форм
оценивания, а между теми формами, которые делают упор на до-
бровольное согласие, и теми, которые основываются на прину-
дительном навязывании чьей-нибудь частной шкалы ценностей.
Эгалитаристские возражения
против классического либерального
энвайронментализма
Ввиду приведенных выше аргументов можно было бы согла-
ситься с тем, что подходы, основанные на правах собственно-
сти, все-таки способны учитывать этический аспект использо-
вания ресурсов. Тем не менее, для эгалитариста этот аспект не
будет отражен в полной мере до тех пор, пока не будут в пер-
вую очередь разрешены фундаментальные вопросы справед-
ливости распределения соответствующих прав собственности.
В этой связи теоретиками, считающими стремление к социаль-
ной справедливости существенной составляющей системы це-
лей в сфере защиты окружающей среды, выдвигаются два содер-
жательно разных тезиса.
Первый тезис, часто выдвигаемый «зелеными» эгалитари-
стами, состоит в том, что широко распространенная бедность,
а еще точнее, неравенство является непосредственной причи-
ной проблем окружающей среды. Например, если верить авто-
рам «Доклада Брунтланда» [«Brundtland Report»], бедность са-
ма по себе есть один из важнейших источников «загрязнения»
(World Commission on Environment and Development, 1987: 28).
Считается, что это «загрязнение» есть следствие того факта, что
бедные люди — особенно жители развивающихся стран — ради то-
го, чтобы обеспечить себе элементарное выживание или хотя бы
388 Часть И. Классический либерализм и будущее...
минимальный уровень экономического благосостояния, в боль-
шей степени склонны к такому образу действий, который нано-
сит ущерб природной среде. В дополнение к проблемам, поро-
ждаемым абсолютной бедностью, большие масштабы неравен-
ства в богатстве действуют как разновидность экологических
«экстерналий». Согласно этой точке зрения, привычки богатых,
обусловленные «излишним» потреблением, вызывают процесс
конкурентного подражания со стороны бедных и таким обра-
зом стимулируют запрос на все более высокие темпы экономиче-
ского роста со всеми вытекающими из этого последствиями для
окружающей среды. Из этого следует, что эффективное решение
экологических проблем требует принятия мер, которые положи-
ли бы конец абсолютной бедности как в развитых, так и в разви-
вающихся странах и обеспечили бы более эгалитарное распреде-
ление ресурсов.
От этих заявлений, касающихся причинно-следственной свя-
зи между бедностью и защитой окружающей среды, следует от-
личать другой набор аргументов, сосредоточенных на вопросе
о справедливости или несправедливости существующего распре-
деления возможностей доступа к качественной среде. Утвержда-
ется, что вопросы распределения составляют самую суть многих
экологических проблем, поскольку до тех пор, пока распределе-
ние экологических «благ» и «антиблаг» [«goods» and «bads»] счи-
тается справедливым, бессмысленно ожидать поддержки в мас-
штабах всего общества тех изменений в поведении, которые
могут быть необходимы для того, чтобы избежать чрезмерного
экологического ущерба (например, Barry, 1999; Eckersley, 2004).
С точки зрения либерального эгалитаризма неравный до-
ступ к качественной окружающей среде представляет собой до-
казательство потенциальной несправедливости. Люди с низкими
доходами, хотя они могут разделять с богатыми одну и ту же аб-
страктную приверженность «сохранению среды», столкнувшись
с принятием решений, касающихся доступности питания и жи-
лищного фонда, часто демонстрируют меньшую готовность или
способность оплачивать альтернативные издержки расширения
регулирования. Этот феномен проявляется, например, в том, что
богатые жилые районы демонстрируют тенденцию к более жест-
кому контролю, чем бедные районы, которые обычно становятся
основными местами размещения объектов, потенциально опас-
ных для окружающей среды, таких как заводы по переработке
отходов. Ввиду этого неравные возможности людей в получении
Глава 8. Защита окружающей среды... 389
доступа к качественной окружающей среде могут быть оправдан-
ными только в том случае, если соответствующее неравенство
максимизирует положение наименее благополучных или может
считаться отражающим результаты актов сознательного выбора,
а не воздействия «слепой случайности». К числу таких актов вы-
бора может относиться, например, сознательное решение пред-
почесть экономический рост достижению экологических целей
или отказ произвести такие инвестиции, которые генерируют
богатство, позволяющее поддерживать и материальное благо-
состояние, и более высокие экологические стандарты. Однако
для «зеленых» эгалитаристов самоочевидно, что существующие
паттерны неравенства превосходят всё, что может быть оправ-
данным на основе этих принципов. Кроме того, с точки зрения
тех, кто находится под влиянием идей «политики различий», от-
сутствие доступа к экологическим благам отражает не только не-
правильное распределение ресурсов, но и неспособность инсти-
туциональных структур обеспечить тем, кто испытывает на се-
бе экологические экстерналии, достаточную степень контроля
над принятием решений, ведущих к появлению этих экстерна-
лии (например, Pulido, 1996). В соответствии с этой перспек-
тивой экологическая справедливость требует не только пере-
распределения богатства, но и движения в направлении более
демократической формы социальной организации, при которой
решения, влияющие на распределение экологических благ и ан-
тиблаг, основываются на публичной совещательности вместо то-
го, чтобы соответствующие исходы проявлялись сами собой как
непреднамеренные последствия решений индивидов и организа-
ций, преследующих свои собственные, частные интересы.
Хотя главный предмет интереса эгалитаристов — это суще-
ствование неравенства внутри стран, они считают, что вопро-
сы экологической справедливости имеют еще большее значение
на международной арене (например, Shue, 1999). Тот факт, что
ни индивиды, ни правительства в развивающейся части мира не
могут «позволить себе» политику, которая могла бы повысить
уровень защиты окружающей среды, рассматривается как сви-
детельство несправедливости. Страны с более низкими дохода-
ми могут устанавливать более низкие экологические стандарты
для того, чтобы поддерживать конкурентоспособность на меж-
дународных рынках или привлекать иностранный инвестицион-
ный капитал более низкими регуляторными издержками. В не-
которых обстоятельствах менее развитые страны могут даже
390 Часть И. Классический либерализм и будущее...
«импортировать» загрязнение из развитой части мира, функцио-
нируя в качестве мест переработки отходов и подстегивая тем са-
мым экономический рост. С точки зрения эгалитаристов, полу-
чающееся в результате всего этого распределение экологических
издержек характеризуется двойной несправедливостью. С одной
стороны, существование значительного неравенства между бога-
тыми и бедными странами само по себе считается доказательст-
вом того, что распределение выгод и бремени между странами,
по всей видимости, несправедливо. Оно может отражать, напри-
мер, неравную над елейность природными ресурсами, такими как
полезные ископаемые и климат. Но, с другой стороны, это рас-
пределение расценивается как результат воздействия совокупно-
сти международных экономических институтов, которые «струк-
турно несправедливы», так как препятствуют менее развитым ча-
стям мира получать большую долю ресурсов за счет собственных
усилий (Eckersley, 2004).
Темы, связанные со стремлением к глобальной экологиче-
ской справедливости, находят выражение и в тех мерах, которые
предлагают эгалитаристы в ответ на такие глобальные вызовы,
как антропогенное изменение климата. Считается, что послед-
нее влечет за собой необходимость крупномасштабного перера-
спределения богатств в пользу менее развитых стран, поскольку
не они несут ответственность за экологические проблемы, поро-
жденные развитой частью мира (Shue, 1999). Все варианты раз-
решения экологических дилемм глобального уровня требуют со-
трудничества со стороны менее развитых стран и новых инду-
стриализирующихся государств, однако нельзя ожидать от них
сотрудничества, если распределение выгод и бремени не будет от-
вечать требованиям социальной справедливости. Исходя из этих
посылок, часто выдвигается тезис, что справедливость в области
окружающей среды требует, чтобы «экологическое пространст-
во» было распределено в соответствии с принципами полного
равенства (см., например, Hayward, 2006). Понятие экологиче-
ского пространства обозначает все аспекты окружающей среды,
которые образуют фиксированный запас — например, способ-
ность атмосферы поглощать выбросы СО2 без провоцирования
катастрофических климатических изменений. Утверждается, что
ввиду конечных размеров экологического пространства расши-
рение его использования ради обеспечения экономического раз-
вития некоторых акторов лишает всех остальных возможности
достичь такого же уровня богатства, не создавая при этом угрозы
Глава 8. Защита окружающей среды... 391
будущему планеты. В соответствии с такой линией рассуждений
из этого следует, что развитые страны, превысившие свой порог
за счет большей доли выбросов парниковых газов, должны вы-
плачивать компенсации менее развитым странам, которые еще
не до конца использовали экологическое пространство, на кото-
рое имеют право в соответствии с принципом равных долей.
Взаимосвязь между бедностью, неравенством
и защитой окружающей среды
Хотя «зелеными» часто принимается в качестве само собой раз-
умеющегося тезис, что сокращение абсолютной и относитель-
ной бедности есть необходимое условие сбережения окружаю-
щей среды, по сути дела нет никаких оснований полагать, что та-
кая взаимосвязь существует. Конечно, есть примеры того, как
давление на ресурсы со стороны людей, не имеющих адекват-
ного доступа к таким жизненно необходимым вещам, как пища
и топливо, вносило свой вклад в деградацию окружающей сре-
ды — возможно, к числу таких случаев можно отнести нарастаю-
щее опустынивание в Африке южнее Сахары (Morris, 1995). Од-
нако существует не меньшая возможность того, что люди, демон-
стрирующие чрезвычайно низкий уровень жизни, не выходят
за границы допустимого уровня нагрузки на окружающую сре-
ду. Племена удаленных районов бассейна Амазонки живут в аб-
солютной нищете, но тем не менее не угрожают общему сохра-
нению ресурсной базы — в значительной степени потому, что
численность их населения низка по отношению к доступным ре-
сурсам. Связь между нагрузкой на окружающую среду и бедно-
стью обычно возникает только тогда, когда увеличивается от-
ношение населения к количеству ресурсов и/или люди начи-
нают стремиться подняться над уровнем простого выживания.
Если же они готовы жить в условиях, позволяющих всего лишь
выживать, и соответствующим образом ограничивать свою чи-
сленность, то бедность вполне может быть совместима с «устой-
чивым развитием» — хотя это такая форма устойчивого разви-
тия, которая полностью враждебна достижению целей экономи-
ческого развития.
Разумеется, нет никаких оснований предполагать, что люди
захотят отказаться от повышения жизненных стандартов и увели-
чения продолжительности жизни во имя поддержания экологи-
ческих условий девственной природы. Рост продолжительности
392 Часть II. Классический либерализм и будущее...
и уровня жизни требует пожертвовать некоторыми экологиче-
скими ресурсами ради создания материального благосостояния,
которое сможет впоследствии дать людям возможность наделить
запас оставшихся экологических активов большей ценностью.
Именно в таком контексте можно утверждать, что существуют до-
казательства того, что спрос на защиту окружающей среды свя-
зан с абсолютным уровнем богатства. Те, кто демонстрирует бо-
лее высокие жизненные стандарты и большую ожидаемую про-
должительность жизни, по-видимому, склонны тратить больше
ресурсов на сохранение экологических активов, чем бедняки, для
которых улучшение жизненных условий может обладать более
высоким приоритетом, чем уменьшение загрязнения или сбе-
режение живописных ландшафтов (Beckerman and Pasek, 2001).
Поэтому было бы ошибочным делать вывод, что когда люди с бо-
лее низкими доходами получают меньше экологических благ, это
является следствием сознательной «несправедливости» со сторо-
ны более благополучных. Как указывает Шмидц (Schmidtz, 2001),
если бы по соседству с богатым жилым массивом возник экологи-
чески опасный объект, например производственные мощности
по переработке отходов, после чего жители переехали бы отту-
да, продав свои дома бедным, которые изъявили бы готовность
жить по соседству с этим заводом ради того, чтобы получить луч-
шие дома, чем они могли бы себе позволить в противном случае,
мало кто счел бы это актом несправедливости.
Проблема «зеленых» эгалитаристов в рассматриваемом кон-
тексте заключается в том, что нет практически никаких доказа-
тельств того, что лучший способ покончить с абсолютной бед-
ностью и тем самым повысить спрос на защиту окружающей
среды — запустить крупномасштабные программы перераспре-
деления доходов. Если признать, что спрос на качество окружа-
ющей среды эластичен по отношению к доходам — т.е. по мере
того, как люди становятся богаче, они склонны придавать боль-
шее значение защите окружающей среды и другим переменным,
характеризующим «качество жизни», — то, действительно, пере-
распределение доходов может увеличить способность низкодо-
ходных групп платить за доступ к экологическим благам. Одна-
ко ввиду одновременного сокращения доходов богатых вследст-
вие таких трансфертов это может сопровождаться уменьшением
спроса на экологические блага с их стороны. Увеличение суммар-
ного спроса на качество окружающей среды может потребовать
дальнейшего экономического прогресса и увеличения уровня
Глава 8. Защита окружающей среды... 393
жизни всех социальных групп. Но этот прогресс зависит от не-
равенства, которое сигнализирует людям, где и как они могут по-
лучить наибольшую отдачу от своих усилий. Точно так же про-
цессы конкурентного подражания, дающие людям возможность
открывать и перенимать наиболее успешные способы преодоле-
ния проблем, связанных с коллективными действиями, зависят
от неравенства между акторами, сигнализирующего о необходи-
мости изменений и стимулирующего социальное научение. Пе-
рераспределительные меры, изымая активы у тех, кто открыл
новые способы эффективной интернализации издержек, и осла-
бляя стимулы для тех, кто был менее успешен в соответствую-
щей корректировке своего поведения, скорее всего будут серьез-
но тормозить этот процесс.
Второй аспект, который следует подчеркнуть в связи с вы-
шесказанным, заключается в том, что многие проявления нера-
венства могут по-прежнему быть необходимы, даже если удаст-
ся ослабить взаимозависимость между ростом доходов и спросом
на качество окружающей среды, а целью политики станет пере-
ход к поддержанию «стационарной» экономики, в которой по-
стоянный объем производства достигается при меньшем воздей-
ствии на среду. Все люди, скорее всего, не смогут даже в принци-
пе достичь одновременно наивысших экологических стандартов.
Например, «чистые технологии» не могут одновременно стать
доступными всем, и их распространение будет определяться
процессом эволюционных изменений, в рамках которого доро-
гостоящие экологические новшества сначала будут доставаться
немногим, прежде чем стать доступными более широкой кате-
гории людей по мере удешевления технологии (Wildavsky, 1989).
В конкретном случае мер по борьбе с антропогенными измене-
ниями климата «низкоуглеродные» технологии, такие как сол-
нечная, ветровая и волновая электроэнергетика, могут стать до-
ступными для всего мира только после того, как найдут приме-
нение в небольшом числе стран-первопроходцев. Точно так же
нельзя исходить из предположения, что процесс индустриали-
зации и современного технологического развития может про-
исходить на «низкоуглеродной» основе. Напротив, способность
производить эффективные заменители углеродных технологий
зависит сегодня от развивающейся капитальной структуры «вы-
сокоуглеродных» технологий, которые могут быть необходимы
для того, чтобы дать возможность производить в достаточном ко-
личестве компоненты и оборудование, требуемое для доведения
394 Часть П. Классический либерализм и будущее...
низкоуглеродной энергетики до состояния зрелости. Иными сло-
вами, неравенство в использовании «экологического простран-
ства» может быть необходимым условием не только для эконо-
мического развития, но и для последующего улучшения состоя-
ния окружающей среды.
Мираж экологической справедливости
Если неравенство должно быть принято в качестве необходи-
мого условия защиты окружающей среды, что можно сказать по
поводу требования обеспечить, чтобы соответствующие про-
явления неравенства были структурированы таким образом,
чтобы удовлетворять критериям социальной справедливости?
С классической либеральной точки зрения, как только призна-
на необходимость компромисса между защитой окружающей
среды и равенством, нет никаких шансов на то, что будет найде-
на некая основа для согласия по поводу того, «сколько» равенст-
ва допустимо уступить ради выигрыша в экономическом росте,
сбережения окружающей среды или любой возможной комби-
нации этих целей. Если индивиды, добровольные объедине-
ния и государства имеют возможность делать выбор на основе
различных весов, приписываемых этим целям в ходе нахожде-
ния компромисса между ними, то возникающий в результате
этого паттерн распределения доступа к качеству окружающей
среды не может быть охарактеризован в терминах «справед-
ливости» или «несправедливости» того или иного конкретно-
го набора действий. Например, если возникнет необходимость
найти компромисс между «максимизацией материального по-
ложения наименее благополучных» и другими целями, такими
как снижение загрязнения, ролзовские принципы ничем не мо-
гут помочь. Невероятно, чтобы существовало согласие по пово-
ду того, оправданно ли перераспределение многомиллионных
сумм ресурсов ради достижения сравнительно небольшого по-
вышения душевого дохода самых бедных, если за это придет-
ся пожертвовать крупномасштабными инвестициями, кото-
рые могут быть необходимы для поддержания более «экологи-
чески чистого» роста в долгосрочной перспективе. Точно так
же, если ценность природных ресурсов, находящихся в распо-
ряжении людей, постоянно изменяется благодаря техническим
инновациям и сдвигам в потребительских предпочтениях, «ра-
венство ресурсов» по Дворкину на практике работать не будет.
Глава 8. Защита окружающей среды... 395
И точно так же этот принцип ничем не поможет там, где трудно
найти общие основания для выяснения того, какая доля ресур-
сов, находящихся в распоряжении людей, досталась им благо-
даря собственным усилиям по нахождению и разработке соот-
ветствующих активов, а какая часть подарена «слепой случайно-
стью», благодаря которой им повезло или не повезло родиться
в «благоприятных» или, напротив, «неблагоприятных» соци-
ально-экологических обстоятельствах1.
При отсутствии согласия по поводу того, в чем состоят тре-
бования социальной справедливости, поглощенность желанием
1 Одна из попыток применить принципы Дворкина, демонстрирующая
неработоспособность последних, — это предложение Стейнера, согласно ко-
торому люди всех стран должны получить равный доступ к определенной ча-
сти глобальной агрегированной ценности всех участков территории (Stein-
ег, 1999). Последняя представляет собой разность между агрегированной цен-
ностью участков и агрегированной ценностью того их содержимого, которое
представляет собой улучшение соответствующих мест в результате челове-
ческой деятельности (Steiner, 1999: 189—190). Это предложение аналогично
тому, за что выступало движение последователей Генри Джорджа [Georgist
movement], которое предлагало облагать налогом ценность земельных участ-
ков, беря за основу посылку, что земельная рента представляет собой «неза-
служенную надбавку»— по сути дела следствие «слепой удачи», каковой явля-
ется проживание в обществе, повышающем ценность находящейся в собст-
венности человека земли независимо от каких-либо улучшений, которые он
мог бы произвести на своем участке. Такая аргументация в духе Генри Джор-
джа порождает серьезные проблемы. Во-первых, неясно, почему данное обо-
снование земельного налога не должно быть применено и к труду. Заработ-
ная плата, которую люди получают на рынке, не только отражает их собствен-
ные усилия, но и включает «незаслуженную надбавку», которая есть следствие
всей совокупности социальных и технологических улучшений, вносящих свой
вклад в общий спрос на трудовые услуги. Во-вторых, не существует никако-
го основания для выработки согласия по поводу того, какая доля заработной
платы индивида или рентного дохода с принадлежащей ему земли есть след-
ствие усилий собственника, а какая доля отражает технологические измене-
ния или акты выбора, совершенные другими членами общества в целом. Да-
же в случае природных ресурсов далеко не очевидно, что представляет собой
«улучшенный ресурс» — «ресурсы» сами по себе не «существуют» в этом каче-
стве, а лишь начинают в тот или иной момент восприниматься как полезные
активы благодаря человеческому восприятию и человеческим открытиям (см.
об этом Simon, 1981; Саймон, 2009). В-третьих, налогообложение «неисполь-
зуемых» или «неулучшенных» ресурсов вполне может порождать последствия,
прямо противоположные сохранению окружающей среды. В частности, оно
может дестимулировать сбережение природных ресурсов, поскольку любой
индивид или страна, которые, как считается, обладают большим количеством
«неулучшенных активов», чем их «справедливая доля», будут подлежать нало-
гообложению — и это будет стимулировать их к тому, чтобы «улучшать», т.е. ис-
пользовать или разрабатывать соответствующий ресурс.
396 Часть II. Классический либерализм и будущее...
провести в жизнь общие распределительные принципы не толь-
ко не поможет разрешить экологические дилеммы, но и скорее
всего усилит конфликты. Эти конфликты могут быть особенно
интенсивными, если случаи неравенства будут устанавливать-
ся совещательными демократическими органами вроде тех, ко-
торым отдает предпочтение политика различий. Да, в условиях
рынков люди могут чувствовать себя ущемленными из-за невоз-
можности позволить себе тот уровень качества среды, который
они хотели бы приобрести для себя. Но поскольку при этом не
существует такого индивида или группы, на которых можно бы-
ло бы возложить ответственность за сложившееся конкретное
распределение, эта ситуация с меньшей вероятностью прово-
цировала бы озлобление, чем альтернативные варианты, когда
участники публичного обсуждения сознательно определяют, ка-
кие именно индивиды и группы должны выиграть или проиграть,
если то или иное неравенство все же необходимо. Например, ра-
боты Остром приводят к выводу, что попытки добиться больше-
го «единообразия» при распределении экологических благ будут
скорее мешать нахождению решений для проблемы коллектив-
ного действия, которая во многих случаях и является ключевой
причиной исчерпания ресурсов (Ostrom, 1990, 2006; Остром,
2010). Таким образом, хотя согласие по поводу общих распреде-
лительных норм (таких как оплата в соответствии с результатами
или распределение ресурсов с помощью лотереи) внутри групп,
в которых люди более или менее хорошо знают друг друга или
принадлежат к общей культуре, может дать им возможность пре-
одолевать дилеммы коллективного действия, крупномасштабное
перераспределение, осуществляемое на уровне страны, ввиду от-
сутствия общепринятых норм справедливости будет скорее спо-
собствовать усилению межгрупповых конфликтов.
Последнее соображение в равной, если не в большей степени
справедливо в применении к глобальному распределению эколо-
гических благ, например к определению того, кто должен опла-
чивать издержки мер, принимаемых в ответ на антропогенное
изменение климата. С одной стороны, отнюдь не самоочевидно,
что «честность» требует, чтобы более бедным странам выплачи-
валась «компенсация» за ущерб окружающей среде, причиной ко-
торого стало развитие более процветающих стран мира, посколь-
ку, как правило, нельзя утверждать, что менее развитые страны
хотели бы избежать экономического роста и тем самым избежать
статуса «источников загрязнения», но им просто не удалось ре-
Глава 8. Защита окружающей среды... 897
ализовать собственные стратегии развития. Недостаточно так-
же возложить вину за такого рода неудачи на «структурную не-
справедливость», присущую «международной системе», посколь-
ку, как показано в предыдущей главе, многие страны, перенявшие
в одностороннем порядке институты, благоприятные для рынка
и торговли, достигли беспрецедентных успехов в снижении бед-
ности. Продолжающееся сохранение бедности в значительной
части развивающихся стран часто является следствием внутрен-
них политических решений, принятых правящими элитами.
С другой стороны, вопреки мальтузианским доктринам «глу-
боких экологистов», сегодня процесс индустриализации в ми-
ре развивающихся стран не требует той же интенсивности ис-
пользования ресурсов, которой он требовал прежде в развитых
странах. Более того, он требует на самом деле меньшей интен-
сивности, поскольку развивающиеся страны теперь могут по-
лучать выгоду от инноваций и структуры капитала, реализован-
ных в развитом мире в ходе предшествующего процесса обуче-
ния путем проб и ошибок. Следовательно, далеко не очевидно,
что развивающиеся страны являются экологическими «жертва-
ми» неравной и «нечестной» эксплуатации «экологического про-
странства» со стороны глобальных богатых. «Чрезмерное» ис-
пользование экологического пространства развитыми странами
открыло перед развивающимися возможности для достижения
более высокого уровня жизни без нанесения аналогичного эко-
логического ущерба.
На это можно, конечно, возразить, что последний довод не
слишком убедителен, так как развивающиеся страны все равно
платят за многие технологические усовершенствования, кото-
рые они получают от развитых стран (Shue, 1999). Однако основ-
ная мысль состоит в том, что они платят за технологические ин-
новации в экологическом и экономическом отношении меньше,
чем им бы пришлось платить, если бы им пришлось развивать со-
ответствующие технологии полностью независимо. Так, Англии
XVIII в. в период, когда она практически в одиночку переживала
процесс индустриализации, потребовалось 58 лет для того, что-
бы удвоить национальное богатство. Но сто лет спустя благодаря
возможности привлекать технологические усовершенствования
из внешних источников Япония смогла удвоить свое богатство
за 34 года и при меньшем уровне расходования ресурсов. Спустя
еще 100 лет общемирового процесса индустриализации Южная
Корея удвоила национальное богатство за 11 лет (Norberg, 2003:
398 Часть П. Классичесжий либерализм и будущее...
134; Норберг, 2007: 118—119). Аналогичная взаимосвязь проявля-
ется и в тех случаях, когда более бедные страны выступают в ка-
честве предприятий по переработке загрязнителей, вырабаты-
ваемых промышленно развитой частью мира. Для «зеленых» эга-
литаристов такие сделки очевидным образом несправедливы.
Однако решающий довод в их пользу состоит в том, что генери-
руемый ими доход дает развивающимся странам возможность до-
стичь более высокого уровня жизни, страдая при этом от мень-
шего уровня загрязнения, чем могло бы быть в случае, если эти
страны попытались достичь такого же уровня жизни исключи-
тельно за счет внутренней индустриализации.
Во всем сказанном выше важнее всего то, что из зависимости
«более чистого» роста от истории «более грязного» роста выте-
кает, что в каждый конкретный момент времени наиболее эко-
логически передовые общества всегда будут либо принадлежать
к числу самых больших «загрязнителей» в историческом прош-
лом либо пользоваться технологическими достижениями, разра-
ботанными в «загрязняющих среду обществах». Однако не суще-
ствует общих стандартов справедливости, заслуг или достоинств,
определяющих позицию различных стран в неизбежной эволю-
ционной цепочке. Имеющее место сегодня неравенство в досту-
пе к экономическим и экологическим благам отражает сочетание
целенаправленных усилий, предпринимавшихся определенны-
ми индивидами и культурными группами, различных компро-
миссов, выражающих разнообразие социокультурных приорите-
тов, а также исторических и географических случайностей. Если
считать, что относительное положение разных народов и стран
не должно определяться более или менее случайной комбинаци-
ей такого рода факторов, то единственная альтернатива состо-
ит в том, что некий глобальный орган политической власти бу-
дет осознанно и целенаправленно наделять конкретных акторов
той или иной долей экономических и экологических ресурсов.
Однако ввиду того, что не существует согласованного в масшта-
бах всего мира критерия, который определял бы, как именно это
надо делать, такой процесс не может считаться равносильным
осуществлению социальной справедливости.
Следует отметить, что понятие «корректирующей справед-
ливости» [«corrective justice»] совершенно не подходит для оп-
ределения надлежащего распределения экологических благ и ан-
тиблаг. Как показано выше, хотя технологическое и промыш-
ленное развитие, происходившее в некоторых частях мира,
Глава 8. Защита окружающей среды... 399
действительно «навязало» издержки другим частям, которые се-
годня вынуждены искать пути развития в условиях климатиче-
ских изменений, истинно и то, что бедные страны извлекли ни-
чем не компенсированную выгоду из этого процесса. Принци-
пиально важно то, что совершенно непонятно, на основе чего
можно определить, что перевешивает — выгоды или издержки.
Любой расчет такого рода потребует знания того, каков был бы
паттерн экономической активности в развивающихся странах,
если бы не было неравного использования ресурсов сегодняш-
ними развитыми странами. Этот расчет предполагал бы знание
бесчисленных и разнообразных решений о направлениях и спо-
собах использования ресурсов, которые принимались бы мно-
жеством правительств, частных индивидов и организаций, а так-
же знание того, какими были бы эти решения в сравнении с ре-
ально наблюдаемыми в мире сегодня. Но поскольку невозможно
узнать, какие выборы были бы сделаны и какие компромиссы
между целями были бы установлены, то просто-напросто нет ни-
какого способа выяснить, насколько лучше или хуже могло бы
быть сегодня положение жителей, скажем, Великобритании или
США по сравнению с жителями Индии и Бразилии, если бы все
стартовали в условиях равного распределения «экологического
пространства».
Права собственности, власть
и мираж климатической справедливости
В той мере, в какой индивиды и организационные единицы, та-
кие как национальные государства, стремятся к достижению ма-
териального процветания наряду с сохранением окружающей
среды, с классической либеральной точки зрения нет никаких
оснований полагать, что распределение экологических благ, со-
четающееся с достижением такого процветания, может опре-
деляться на основании критериев социальной справедливости.
Однако аргументы по поводу экологической несправедливости
могут быть более обоснованными в отношении воздействия
промышленной активности на те общества, которые не желают
усваивать образ жизни, способствующий процветанию, но при
этом могут страдать от последствий решений тех, кто последо-
вательно стремится к материальным целям. Если такие общест-
ва сталкиваются с возможностью серьезного нарушения их спо-
соба существования вследствие порождаемых извне феноменов,
400 Часть П. Классический либерализм и будущее...
таких как антропогенное изменение климата, то это является
очевидным нарушением принципа «невмешательства».
Такого рода проблемы в основе своей сводятся к вопросу
о распределении прав собственности и о том, что должно вклю-
чаться в сферу «невмешательства» в том или ином конкретном
случае. Согласно классическому либеральному подходу, «экстер-
налии» всегда суть «двусторонние» феномены. Неверно, что «за-
грязнители» — это всегда акторы, перекладывающие внешние из-
держки на совокупность экологических «жертв». Напротив, и те,
кто хочет прекратить «загрязнение», также могут быть охарак-
теризованы как сторона, стремящаяся «переложить издержки»
на тех, кто может пострадать от сокращения набора возможно-
стей использования собственности, которое может быть выз-
вано «чрезмерной» заботой о сохранении окружающей среды.
Определение того, может ли актор или группа акторов считаться
«жертвой», по существу сводится к вопросу о том, кому принадле-
жат соответствующие права собственности и хотят ли владельцы
передать эти права в обмен на некоторую форму компенсации.
В случае изменения климата и потенциального «загрязнения»,
представляемого выбросами СО2, фундаментальная проблема
состоит в том, что в настоящее время отсутствуют обеспеченные
санкциями права собственности на глобальную климатическую
систему. Но, что особенно важно, даже если бы такие права мож-
но было бы некоторым образом реализовать на практике, совер-
шенно не факт, что их назначение может соответствовать неким
общепринятым критериям справедливости.
Как уже отмечалось в главе 5, во многих ситуациях, когда ре-
сурсы находятся в состоянии «открытого доступа», установле-
ние прав собственности часто подразумевает принятие норм ти-
па правила «первого владения» (с. 221—226). Такие правила при-
носят выигрыш не только тем, кто первым присвоил ресурс, но
и тем, кто может и не иметь возможности получить его в перво-
начальное владение. Преимущество правил первого владения
состоит в том, что они, уменьшая возможности для «безбилет-
ников» бесплатно попользоваться чужой производственной де-
ятельностью или усилиями по сбережению ресурсов, обеспечи-
вают людям защищенность и стимулы к расширению или сохра-
нению запаса этих ресурсов. Вследствие этого и для «опоздавших»
расширяется спектр доступных возможностей. Кроме того, уста-
новление прав собственности создает людям дополнительный
потенциал для выбора между разнообразными образами жизни
Глава 8. Защита окружающей среды... 401
и для обучения им. Один из самых сильных аргументов в пользу
учреждения прав собственности — это то, что, признавая за ка-
ждым индивидом сферу, в которой он может реализовывать на
практике собственные представления о хорошей жизни без не-
обходимости получать одобрение от других, они предоставляют
индивидам с конфликтующими ценностями возможность сосу-
ществования. Когда существует широкий спектр разнообразных
владельцев собственности, то у тех, кто сам не является собст-
венником, имеется более широкий набор возможностей присое-
диняться к тем или иным социальным и экономическим практи-
кам и уходить от них, исходя из стремления в наибольшей степе-
ни приблизиться к достижению собственного, частного набора
целей. В отсутствие прав собственности или же при наличии од-
ного-единственного владельца всего имущества — такого как го-
сударство — более высока вероятность возникновения конфлик-
тов по мере того, как соперничающие индивиды и группы будут
стремиться гарантировать, чтобы были достигнуты их собствен-
ные частные цели, а те цели, к которым стремятся другие, были
принесены в жертву. В этом свете правила установления права
собственности, аналогичные принципу «первого владения», мо-
гут быть необходимым требованием для реализации так называ-
емой оговорки Локка, которая устанавливает, что присвоение
природных ресурсов правомерно только тогда, когда присваива-
ющие лица оставляют «достаточное количество и того же само-
го качества для всех остальных».
Там, где есть возможность провести границы, определяющие
конкретные ресурсные «наделы», принцип первого владения, ве-
роятно, представляет собой эффективный способ установления
прав собственности и уменьшения конфликтности. Однако в слу-
чае глобальной климатической системы совершенно непонятно,
как можно было бы удовлетворительным образом применить
этот принцип или любое другое правило, определяющее распре-
деление собственности. Предположим, например, что право на
атмосферу, «не загрязненную» промышленными выбросами СО2,
и на «стабильный климат» предоставлено людям, отвергающим
идею материального прогресса. Такое право будет включать в се-
бя возможность остановить работу всей глобальной экономиче-
ской системы и «навязать» режим относительной бедности всему
остальному населению планеты. Потенциальные загрязняющие
акторы могут предложить «выкупить» эти права, но такое предло-
жение скорее всего будет отвергнуто, поскольку идея денежной
402 Часть II. Классический либерализм и будущее...
компенсации вряд ли будет одобрена людьми, отвергающими ма-
териалистический прогресс. Если же это право будет предостав-
лено тем, кто одобряет промышленное развитие, и тем самым по
существу превратится в «право загрязнять», то сложившаяся в ре-
зультате ситуация будет похожа на нынешнее статус-кво, кото-
рое многие представители движения за защиту окружающей сре-
ды расценивают как несправедливое. Как может быть справедли-
вым требовать, чтобы нематериалистические культуры платили
другим за отказ от загрязнения, если ценности этих людей исклю-
чают производство богатства, необходимого для осуществления
таких платежей?
Существенным здесь является то, что глобальный характер
таких вопросов исключает возможность «ухода». Вследствие это-
го становится непонятным, каким образом тот или иной меха-
низм распределения прав на глобальном уровне мог бы соот-
ветствовать оговорке Локка, учитывая, что бенефициар соот-
ветствующего акта назначения прав оказался бы в положении
«победитель получает всё». Из этого вытекает неприятный вы-
вод, что любые решения, принимаемые по поводу управления
глобальной атмосферой, вряд ли будут отражать какие бы то ни
было принципы справедливости, а будут определяться сложив-
шимся распределением экономической и политической силы.
Там, где нет места для сосуществования конфликтующих ценно-
стей за счет возможности «ухода» и где нет пространства для на-
хождения компромисса между носителями этих ценностей, веро-
ятным результатом будет верховенство самых сильных — и в сов-
ременном контексте это означает верховенство большинства
промышленно развитых стран.
Разумеется, классический либерализм вовсе не утверждает,
что такое положение дел желательно или удовлетворительно.
Он лишь указывает на то, что не существует критериев справед-
ливости, позволяющих разрешать подобные ситуации. Класси-
ческий либеральный упор на справедливость как «невмешатель-
ство» в права собственности здесь не работает, но то же самое
относится и к эгалитарным принципам вроде тех, что предлага-
ют Ролз и Дворкин. Если не существует согласия по поводу то-
го, являются ли «наименее благополучными» те, кто хотел бы
загрязнять атмосферу, пытаясь выбраться из нищеты, или в эту
категорию относятся те, кто может пострадать от последствий
климатических изменений, вызываемых «прогрессом», которо-
го они не одобряют, то говорить о «максимизации положения
Глава 8. Защита окружающей среды... 403
наименее благополучных» довольно бессмысленно. Точно так
же, если корень проблемы лежит в отсутствии согласия по по-
воду того, правомерно ли трактовать глобальную атмосферу как
ресурс, которым можно торговать на рынке, то говорить о «ра-
венстве ресурсов» было бы по меньшей мере странно. Наконец,
крайне сомнительно, чтобы процесс демократической совеща-
тельности, которому отдает предпочтение «политика различий»,
мог иметь своим результатом решения, отражающие разделяе-
мые всеми нормы справедливости. Те, кто хотел бы воздержать-
ся от экономического прогресса в пользу образа жизни на уровне
простого выживания, вряд ли сочли бы справедливым» посяга-
тельства на их способ существования, вызванные тем, что боль-
шинство проголосовало за принятие экологических рисков — да-
же если бы это самое большинство предложило бы им «компен-
сацию» за свои действия.
Заключение
Вопросы защиты окружающей среды рассматриваются крити-
ками классического либерализма как что-то вроде «битвы при
Ватерлоо», в которой нанесено решающее поражение подходу,
подчеркивающему преимущества частных или групповых прав
собственности и принципа «ухода» перед коллективистскими
формами принятия решений. Эта глава была призвана проде-
монстрировать, что эта критика бьет мимо цели. Хотя класси-
ческий либерализм не может предложить однозначных реше-
ний для всех экологических дилемм, он способен предоставить
ясный набор принципов, на основе которых следует оцени-
вать существующие институциональные практики и альтерна-
тивные предложения по улучшению окружающей среды. В чи-
сло этих принципов входит признание того, что экологические
проблемы везде, где только возможно, следует решать посредст-
вом децентрализованного эволюционного процесса, основан-
ного на предпринимаемых «снизу» попытках разграничить пра-
ва собственности и обеспечить их соблюдение. Классический
либеральный подход также утверждает, что в тех случаях, ког-
да институты, основанные на принципе «ухода», не могут быть
приспособлены для решения конкретной экологической про-
блемы, это не должно приниматься в качестве доказательства
того, что необходимо навязать меры регулирования и контроля
«сверху», будь то по экономическим, этическим или моральным
404 Часть И. Классический либерализм и будущее...
основаниям. Анализ на основе робастной политической эконо-
мии требует, чтобы должным образом учитывались «проблемы
знания» и искаженные стимулы, которые могут стать результа-
том как национальных, так и наднациональных систем регули-
рования и распределения. В последнем случае зачастую может
оказаться необходимым признать ту неприятную истину, что от-
сутствие решения может быть предпочтительнее ошибочного
решения.
Глава 9
Заключение
Сегодня, как и прежде, интеллектуальные баталии в политиче-
ской экономии сосредоточены на определении границ между
сферой индивидуальной свободы и принуждающей властью го-
сударства. Классический либерализм, как он понимается в этой
книге, основывает свои доводы в пользу движения «к минималь-
ному государству» на принципах робастной политической эконо-
мии. Он полагает, что, учитывая ограниченную рациональность
и необходимость ограничивать поведение людей, мотивируе-
мых собственными интересами, система, допускающая децент-
рализованное экспериментирование и делающая людей ответст-
венными за реализацию на практике своих экспериментов, ско-
рее будет способствовать социально-экономическому прогрессу,
чем система, основанная на централизации власти в руках орга-
на, обладающего полномочиями по принуждению, независимо
от того, формируется ли он с помощью демократических выбо-
ров или как-то по-другому.
Однако к моменту завершения работы над этой книгой ма-
ятник общественного мнения явно качнулся в сторону более го-
сударствоцентричного подхода. Представление, что государст-
венная власть может дать то, чего не может дать свобода, сно-
ва получило широкое распространение — и это коснулось всех
сфер, от реакции на финансовый кризис до озабоченности не-
равенством доходов и защитой окружающей среды. К худу или
к добру, но идеи имеют значение в политической экономии, и из-
менения в состоянии общественного мнения влияют на направ-
ление институциональных изменений. Критики полагают, что
аргументация в пользу классического либерализма зависит от не-
реалистических допущений по поводу человеческой рациональ-
ности, лежащих в основе гипотезы «эффективных рынков», ко-
торой придерживается неоклассическая экономическая теория.
Широко распространено мнение, что классические либералы
придерживаются асоциальной концепции индивида, которая
не принимает или почти не принимает во внимание общинные
идентификации, формирующие человеческую жизнь. Нако-
нец, классический либерализм, как принято считать, забывает
406 Часть II. Классический либерализм и будущее...
о вопросах социальной справедливости и о неравном распреде-
лении власти и социального статуса. Аргументы, представлен-
ные на этих страницах, имели своей целью продемонстрировать,
что эти часто выдвигаемые обвинения при ближайшем рассмо-
трении рассыпаются.
Хотя масштабы происходившего в последние годы движе-
ния в направлении либерализации часто преувеличиваются, тем
не менее то, как быстро улетучилась поддержка этих мер, подни-
мает серьезный вопрос по поводу жизнеспособности классиче-
ского либерализма как робастного политического проекта. Кри-
тики этой традиции уже давно доказывают, что понятие обще-
ства, удерживаемого вместе саморегулирующимся стихийным
порядком, нестабильно и что такое общество будет само поро-
ждать «стихийный» запрос на наращивание власти государства.
Такая критика представляется до некоторой степени обоснован-
ной. С одной стороны, идея, что сложный порядок может воз-
никнуть в обществе в отсутствие той или иной формы админист-
ративного контроля, контринтуитивна. Нет нужды соглашаться
с аргументом Хайека, что человеческому разуму еще только пред-
стоит адаптироваться к жизни в «большом» или «открытом» об-
ществе (Hayek, 1988; Хайек, 1992), чтобы признать, что тради-
ция, делающая акцент на постепенных улучшениях, достигаемых
с помощью сигнальных механизмов и эволюционного отбора,
скорее всего будет менее привлекательна для публики, чем идей-
ные течения, предполагающие, что экономический прогресс, со-
лидарность и социальная справедливость могут быть предостав-
лены росчерком пера законодателя. Но, с другой стороны, нет
никаких сомнений, что политики всегда будут попадать под дав-
ление организованных групп, представляющих экономические
и культурные интересы, которые чувствуют, что процесс эволю-
ционных изменений представляет для них угрозу. Было бы нере-
алистично ожидать, что политики, мотивируемые желанием со-
хранить свою власть, всегда будут в состоянии сопротивляться
такого рода требованиям.
Но даже если согласиться со всеми этими соображениями, из
этого не следует, что классический либерализм нежизнеспособен
как политический проект, поскольку вопрос о жизнеспособно-
сти политической экономии всегда имеет относительный харак-
тер. Вполне может оказаться, что «чистая» форма классическо-
го либерализма на практике недостижима, но принципы, на ко-
торых основана аргументация в пользу движения в направлении
Глава 9. Заключение 407
«минимального государства», все же могут продемонстрировать
свою большую работоспособность по сравнению с любой альтер-
нативой. Доводы, представленные на страницах этой книги, при-
водят к выводу, что ни экономическая теория «провалов рынка»,
ни коммунитаристская и эгалитаристская традиции в политиче-
ской теории не могут робастным образом объяснить, как именно
расширение роли принуждающей политической власти, которое
они рисуют в своем воображении, может привести к достижению
заявленных ими целей. В мире, характеризуемом неопределен-
ностью и несовершенством знания, попытки добиться экономи-
ческой стабильности путем централизации полномочий в руках
регуляторных органов власти скорее всего лишь увеличит веро-
ятность «системного» сбоя. В мире, где индивидуальные и об-
щинные идентификации находятся в постоянном изменении, по-
пытки институционализировать общую идентичность путем рас-
ширения «публичной сферы» скорее всего заблокируют процесс
межкультурного обмена и понимания. И, наконец, в мире, где лю-
ди, имеющие разные способности, системы убеждений и исто-
рию, попытки реализовать социальную справедливость посред-
ством применения законодательной власти государства скорее
всего сведут на нет процесс этического научения, а вместо соли-
дарности лишь разожгут конфликты.
Будет в некотором смысле справедливо охарактеризовать
классический либерализм как утопический политический про-
ект, но то, что его интересует, представляет собой весьма специ-
фическую форму утопизма. Аргументация в пользу классического
либерального порядка возникает не из объявления несуществую-
щими тех или иных фундаментальных черт человеческой приро-
ды, а из исследования ограничений, налагаемых проблемой зна-
ния и проблемой стимулов, а также из рассмотрения способно-
сти конкурирующих утопических проектов справиться с этими
ограничениями. Таким образом, классический либерализм ста-
вит своей целью выяснить, какие политические утопии нерабо-
тоспособны, и обрисовать те общие условия, которым должна
соответствовать работоспособная форма утопии.
Однако последовательное применение этого «скромного»
утопизма должно находить отражение и во всех предложениях
по поводу того, как двигаться в направлении «минимального го-
сударства» — и именно здесь классический либерализм сталки-
вается с самым серьезным вызовом. Хотя классические либера-
лы предлагают детальное описание выигрыша, который будет
408 Часть П. Классический либерализм и будущее...
результатом институциональной структуры, поощряющей ры-
ночный обмен и создающей возможности для децентрализован-
ной эволюции гражданского общества, принципы робастной по-
литической экономии не дают четкого руководства по поводу
того, какие процессы и механизмы могут привести к созданию
такой структуры. Внимание, уделяемое проблеме знания и про-
блеме стимулов, порождает скептическое отношение ко всяким
попыткам ввести такую систему посредством законодательного
декрета. Невероятно, чтобы законодатели обладали знанием, не-
обходимым для осуществления процесса институциональных ре-
форм, который был бы достаточно чувствителен к локальным
контекстам, и чем большей властью они обладают для иниции-
рования таких реформ, тем больше у них будут стимулы к тому,
чтобы действовать в оппортунистическом ключе. Но, с другой
стороны, поскольку иерархические структуры в определенных
обстоятельствах действительно обладают преимуществом в эф-
фективности по сравнению со «стихийными порядками» и в них
действительно может возникнуть потребность для преодоле-
ния проблемы коллективного действия, в определенной степе-
ни обоснованны и доводы в пользу законодательной деятельнос-
ти, ставящей целью создание системы частных и групповых прав
собственности, в рамках которой уже сможет разворачиваться
процесс эволюционного роста.
Спор по поводу сравнительных достоинств и недостатков
двух типов подходов — эволюционных и тех, которые пытаются
спроектировать переход к более либеральному режиму, — наибо-
лее ярко проявляется в контексте проблем развивающихся стран.
Классический либерализм дает непротиворечивое объяснение
причин практически полного провала всех подходов, которые
при продвижении институциональных реформ делают упор на
наднациональные структуры и крупномасштабное перераспреде-
ление доходов. Но в то же самое время нет оснований полностью
исключить возможность того, что более низкие уровни управле-
ния могут стать агентами успешных институциональных измене-
ний в развивающемся мире. Хотя классический либерализм ве-
дет к применению философии «не навреди!» на международной
арене, за исключением этого он не может указать, какого рода
действия со стороны государства и на каком уровне юрисдикции
могут потребоваться для того, чтобы создать систему защищен-
ных прав собственности, которая является ключевым предвари-
тельным условием экономического и социального развития.
Глава 9. Заключение 409
Противоречия такого рода находят отражение и в предложе-
ниях о проведении мер либерализации в тех частях света, кото-
рые уже обладают базовой инфраструктурой в виде функциони-
рующих прав собственности рыночной экономики. Если предпо-
лагается двигаться от государствоцентричных решений проблем
бедности и предоставления «публичных услуг» к более либераль-
ным, то лица, определяющие политику, будут вынуждены выби-
рать между эволюционной и более «конструктивистской» тра-
екторией. С точки зрения эволюционной перспективы все что
требуется — это открыть предоставляемые государством услуги
для конкуренции со стороны частного и добровольного секто-
ров, и чтобы в случае если люди выбрали приобретение услуг вне
публичного сектора, им возвращалась соответствующая часть их
налогов. Неявная посылка, на которой основывается этот под-
ход, состоит в том, что «неэффективные» государственные агент-
ства просто «отомрут», столкнувшись с открытой конкуренцией.
Но принимая во внимание историю монопольной власти госу-
дарства и гигантские преимущества, которыми наделены уже су-
ществующие агентства, финансируемые из налогов, могут иметь-
ся серьезные доводы в пользу необходимости «дробления» госу-
дарственных монополий ради того, чтобы создать условия для
желаемого процесса «творческого разрушения».
Дилеммы такого рода еще более ярко выражены в сфере за-
щиты окружающей среды. С одной стороны, эволюция новых,
все более гибких структур прав собственности, необходимых для
того, чтобы справляться со сложностью экологических проблем,
вряд ли может заработать, если государства будут играть слиш-
ком активную роль в поиске и «проектировании» соответству-
ющих институтов. С другой стороны, когда государства сегодня
столь сильно вовлечены в регулирование и управление эколо-
гическими активами, трудно представить себе, чтобы какая-ни-
будь программа классических либеральных реформ могла избе-
жать по крайней мере некоторого элемента институционально-
го проектирования.
В конечном итоге, продвижение классического либерализ-
ма, будь то эволюционным или конструктивистским путем, бу-
дет зависеть от политических суждений и знания местных об-
стоятельств. Но оно также будет существенно зависеть и от той
роли, которую сыграют всевозможные «события» в открытии
возможностей для реформ того или иного рода и в создании пре-
пятствий для таких реформ. Нет никаких сомнений, что крах
410 Часть II. Классический либерализм и будущее...
социалистического проекта в Восточной Европе и в других ме-
стах придал в последние годы существенный импульс движению
к либерализации, какими бы скромными ни были его практиче-
ские результаты. Точно так же, кризис 2008 года предоставил тем,
кто хотел бы обратить вспять тенденцию к либерализации, но-
вые возможности для распространения нарратива, выдвигающе-
го требования массированного наращивания власти государства.
Сможет ли классический либерализм выдержать шторм, бушую-
щий ныне в политической атмосфере, и воспользоваться будущи-
ми возможностями для реформирования, которые будут откры-
ваться по мере того, как противоречия социал-демократии будут
становиться все более очевидными, зависит от ясности и проду-
манности его ответов на господствующие сегодня мнения. Зада-
чей настоящей книги было не определить, где, когда и как может
установиться классический либерализм, а бросить вызов тем сти-
хиям общественного климата, которые тянут в направлении все
более нелиберального будущего. Мы еще можем увидеть, как из
нынешней разрухи возродится классический либерализм как по-
литическая сила. Но предсказание того, где и как это произойдет,
выходит за пределы возможностей классического либерала, пи-
шущего эти строки.
Выражение признательности
Есть целый ряд людей и учреждений, которым я хотел бы вы-
разить признательность за оказанную поддержку. Это Джон
и Кристина Бланделл (John and Christine Blundell) — за их обо-
дрение и дружбу, а также за предоставление кабинета в Инсти-
туте экономических дел (Institute of Economic Affairs) в тече-
ние моего годичного творческого отпуска в 2007 г. Сейчас Джон
и Кристина предпринимают новые путешествия, и я желаю им
всего наилучшего в настоящем и будущем. Я никогда не забуду
теплоту, которую они проявляли ко мне с момента нашей пер-
вой встречи в 1993 г., когда я 28-летним соискателем ученой сте-
пени начал свое собственное путешествие в мир классическо-
го либерализма. Я также многим обязан Фонду Эрхарта (Earhart
Foundation) за предоставление гранта, позволившего мне завер-
шить эту книгу. Спасибо и Колледжу королевы Марии в составе
Лондонского университета за предоставление творческого от-
пуска, в течение которого была закончена значительная часть
этой книги. Я почерпнул много полезного для аргументации,
изложенной в различных ее частях, из бесед с самыми разны-
ми людьми, в числе которых Филип Бут, Пол Ганн, Пол Льюис,
Джеффри Фридман, Джон Мидоукрофт и Адам Теббл. Редактор
данной серии Питер Бёттке и издательство Edward Elgar заслу-
живают особой благодарности за их поддержку и терпение. Дол-
жен также отдельно поблагодарить Найджела Эшфорда, Элейн
Хоули и всех сотрудников Института гуманитарных исследова-
ний (Institute for Humane Studies) в составе университета Джор-
джа Мейсона. Всякий, кто в британском университете исповеду-
ет классический либерализм, может в определенной степени ис-
пытывать одиночество, и мне, как человеку, вообще склонному
к уединенной жизни, идеи и личности, связанные с этим инсти-
тутом, предоставили столь необходимое ощущение «принадлеж-
ности». Я благодарен Гийому Луо за концепцию, положенную
в основу дизайна обложки этой книги. Наконец, хотел бы ска-
зать большое спасибо моей матери и Джерарду Роско за их лю-
бовь и поддержку в Апхолленде, графство Ланкашир. Это место
всегда будет моим домом.
Библиография
Acemolgu, D., Johnson, S., Robinson, J.A. (2000) The Colonial Origins
of Comparative Development: An Empirical Investigation, American
Economic Review, 91 (5): 1369-1401.
Adaman, R, Devine, P. (1997) On the Economic Theoiy of Socialism, New
Left Review, 221: 523-37.
Adsera, A., Ray, D. (1999) History and Coordination Failures, Journal of
Economic Growth, 3: 267-76.
Akerlof, G. (1970) The Market for Lemons: Quality, Uncertainty and the
Market Mechanism, Quarterly Journal of Economics, 97 (4): 543-69.
Akerlof, G. (2002) Behavioural Macro-economics and Macro-economic
Behaviour, American Economic Review, 92: 411—33.
Akerlof, G., Shiller, R. (2009) Animal Spirits: How Human Psychology Drives
the Economy, and Why it Matters for Global Capitalism, Princeton, NJ:
Princeton University Press.
Alchian, A. (1959) Uncertainty, Evolution and Economic Theoiy, Journal
of Political Economy, 58 (3): 211-21.
Alchian, A., Demsetz, H. (1973) The Property Rights Paradigm, Journal of
Economic History?* (1): 16-27.
Allison, P. (1992) The Cultural Evolution of Beneficent Norms, Social Forc-
es,l\ (2): 279-301.
Anderson, E. (1990) The Ethical Limitations of the Market, Economics and
Philosophy, 6: 179-205.
Anderson, Т., Benson, В., Flanaghan, T. (2006) Self Determination: The Oth-
er Path for Native Americans, Stanford, CA: Stanford University Press.
Anderson, T, Hill, PJ. (2004) The Not So Wild, Wild West: Property Rights on
the Frontier, Stanford, CA: Stanford University Press.
Anderson, Т., Leal, D. (2001) Free Market Environmentalism, New York:
Palgrave.
Arne, R. (2002) Entrepreneurial City Planning, in Beito, Т., Gordon, P.,
Tabarrok, A. (eds), The Voluntary City, Ann Arbor, MI: University of
Michigan Press.
Arneson, R. (1996) Equality and Equal Opportunities for Welfare,
in Pojman, L., Westmoreland, R. (eds), Equality: Selected Readings,
New York: Oxford University Press.
Arrow, K. (1963) Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care,
American Economic Review, 53: 941-73.
Arrow, K., Debreu, G. (1954) Existence of an Equilibrium for a Competi-
tive Economy, Econometrica, 22: 265-90.
Axelrod, R. (1984) The Evolution of Cooperation, New York: Basic Books.
Ayittey, G. (2008) The African Development Conundrum, in Powell, B. (ed.),
Making Poor Nations Rich, Stanford, CA: Stanford University Press.
Библиография 413
Baden, J., Stroup, R. (1979) Property Rights and Natural Resource Man-
agement, Literature of Liberty, 2: 5-44.
Badhwar, N. (2006) International Aid: When Giving Becomes a Vice, So-
cial Philosophy and Policy, 23 (1): 69-101.
Barber, B. (1984) Strong Democracy, Berkeley, CA: University of California
Press.
Ban; N. (1992) Economic Theoiy and the Welfare State: A Survey and In-
terpretation, Journal of Economic Literature, 30: 741-803.
Barro, R. (1991) Economic Growth in a Cross-Section of Countries, Quar-
terly Journal of Economics, 106 (2): 407-43.
Barry, B. (1995) Justice as Impartiality, Oxford: Oxford University Press.
Barry, B. (2001) Culture and Equality, Cambridge: Polity Press.
Barry, J. (1999) Rethinking Green Politics, London: Sage.
Barry, N. (2004) Political Morality as Convention, Social Philosophy and Pol-
icy, 21 (1): 266-92.
Bate, R., Montgomery, D. (2006) Beyond Kyoto, in Booth P. (ed.) Towards
a Liberal UtopiaQi'London: Continuum.
Bauer, P. (1971) Dissent on Development, London: Wiedenfield & Nicholson.
Bauer, P. (1993) From Subsistence to Exchange, Princeton, NJ: Princeton Uni-
versity Press.
Beaulier, S., Subrick, R. (2006) Poverty Traps and the Robust Political
Economy of Development Assistance, Review of Austrian Economics, 19:
217-26.
Becker, G. (1971) The Economics of Discrimination, Chicago, IL: University
of Chicago Press.
Beckerman, W, Pasek, J. (2001) Justice, Posterity and the Environment, Ox-
ford: Oxford University Press.
Beenstock, M. (2009) Market Foundations for the New Financial Architec-
ture, in, Booth, P. (ed.), Verdict on the Crash: Causes and Policy Implica-
tions, London: Institute of Economic Affairs.
Beito, D. (1997) This Enormous Army: The Mutual Aid Tradition of
American Fraternal Societies before the Twentieth Century, in Fran-
kel-Paul et al. (eds), op. cit.
Beito, D. (2000) From Mutual Aid to the Welfare State, Chapel Hill, NC: Uni-
versity of North Carolina Press.
Beitz, C. (1979) Political Theory and International Relations, Princeton, NJ:
Princeton University Press.
Benson, B. (1989) The Spontaneous Evolution of Commercial Law, South-
ern Economic Journal, 55 (3): 644-61.
Benhabib, S. (ed.) (1996) Democracy and Difference, Princeton, NJ: Prince-
ton University Press.
Bereger, A., Udell, G. (1992) Some Evidence on the Empirical Signif-
icance of Credit Rationing, Journal of Political Economy, 100 (5):
1047-77.
414 Библиография
Berggren, N., Jordahl, H. (2006) Free to Trust: Economic Freedom and
Social Capital, Kyklos, 59 (2): 141-69.
Bergh, A. (2006) Is the Swedish Welfare State A Free Lunch? Econ Journal
Watch, 3 (2): 210-35.
Bernstram, M. (1995) Comparative Trends in Resource Use in Market and
Socialist Economies, in Simon, J. (ed.), The State of Humanity, Cam-
bridge, MA: Blackwell.
Bessard, P. (2008) Challenges of Mixed Economy Solutions in Healthcare:
The Examples of Switzerland and Singapore, Economic Affairs, 28 (4):
16-21.
Bhagwati, J. (2004) In Defence of Globalisation, Oxford: Oxford University
Press.
Bhalla, S. (2002) Imagine There's No Countries: Poverty, Inequality and Growth
in the Era of Globalisation, Washington, DC: Institute for International
Economics.
Boettke, P. (1994) The Reform Trap in Economics and Politics in the For-
mer Communist Economies, Journal des Economistes et des Etudes Hu-
maines, 5 (2): 267-93.
Boettke, P. (1997) Where Did Economics Go Wrong? Equilibrium as
a Flight from Reality, Critical Review, 11 (1): 11-64.
Boettke, P., Coyne, C, Leeson, P. (2007) Saving Government Failure Theo-
ry from Itself, Constitutional Political Economy, 18 (2): 127-43.
Boettke, P., Coyne, C, Leeson, P., Sautet, F. (2005) The New Comparative
Political Economy, Review of Austrian Economics, 18 (3-4): 281-304.
Bohman, J. (1996) Public Deliberation, Cambridge, MA: MIT Press.
Bond, E.W (1984) A Direct Test of the Lemons Model: The Market for
Used Pickup Trucks, American Economic Review, 72 (4): 801-4.
Botkin, D. (1990) Discordant Harmonies, New York: Oxford University Press.
Bowers, J., Cheshire, P. (1983) Agriculture, the Countryside and Land Use,
London: University Paperbacks, Methuen.
Brehm, J., Rhan, W. (1997) Individual Level Evidence for the Causes and
Consequences of Social Capital, American Journal of Political Science, 41:
999-1023.
Brennan, G., Lomasky, L. (1993) Democracy and Decision, Cambridge: Cam-
bridge University Press.
Brighouse, H. (2000) School Choice and Social Justice, Oxford: Oxford Uni-
versity Press.
Brighouse, H. (2002) Democracy and Inequality, in Carter, C, Stokes, G.
(eds), Democratic Theory Today, Cambridge: Polity Press.
Browne, M., Dorphinghaus, H. (1993) Information Asymmetries and Ad-
verse Selection in the Market for Individual Medical Expenses Insur-
ance, Journal of Risk and Insurance, 60 (2): 300-312.
Buchanan, A. (1984) The Right to a Decent Minimum of Health-Care,
Philosophy and Public Affairs, 13: 55-78.
Библиография 415
Buchanan, J.M. (1969) Cost and Choice, Chicago, IL: University of Chicago
Press.
Buchanan, J.M. (1986) Liberty, Market and State, Brighton: Harvester Press.
Buchanan, J.M., Stubblebine, С (1962) Externality, Economica, 29: 371-84.
Buchanan, J.M., Tullock, G. (1962) The Calculus ofConsent, Ann Arbor, MI:
University of Michigan Press.
Buchanan, J.M., Tullock, G. (1982) Towards a Theory of the Rent-Seeking Soci-
ety, College Park, TX: Texas A & M Press.
Buchanan, J.M., Vanberg, V. (2002) Constitutional Implications of Radi-
cal Subjectivism, Review of Austrian Economics, 15 (2-3): 121-9.
Butos, W. (2003) Knowledge Questions: Hayek, Keynes and Beyond, Re-
view of Austrian Economics, 16 (4): 291-307.
Butos, W., Koppl, R. (1997) The Varieties of Subjectivism: Keynes and
Hayek on Expectations, History of Political Economy, 29: 327-59.
Caldwell, B. (2004) Hayek's Challenge: An Intellectual Biography ofEA. Hayek,
Chicago, IL: University of Chicago Press.
Caplan, B. (2007) The Myth of the Rational Voter, Princeton, NJ: Princeton
University Press.
Caplan, В., Cowen, T. (2004) Do We Underestimate the Benefits of Cul-
tural Competition, American Economic Review, 94 (2): 402-7.
Cawley, J., Philipson, T. (1999) An Empirical Examination of Informa-
tion Barriers to Trade in Insurance, American Economic Review, 89 (4):
827-46.
Chamberlin, E.H. (1933) The Theory of Monopolistic Competition, Cambridge,
MA: Harvard University Press.
Chamlee-Wright, E. (2006) Fostering Sustainable Complexity in the Mi-
cro-Finance Industry, Conversations on Philanthropy, 3: 23-49.
Chamlee-Wright, E. (2008) The Structure of Social Capital: An Austrian
Perspective on its Nature and Development, Review of Political Economy,
20(1): 41-58.
Chase, A. (1995) The Fight Over Forests and the Tyranny of Ecology, Boston,
MA: Houghton Mifflin.
Chauduri, K.N. (1985) Trade and Civilisation in the Indian Ocean, Cam-
bridge: Cambridge University Press.
Chiappore, P., Salanie, B. (2000) Testing for Asymmetric Information in
Insurance Markets, Journal of Political Economy, 108 (1): 56-78.
Choi, Y.B. (1999) On the Rich Getting Richer and the Poor Getting Poor-
er Kyklos, 52 (2): 239-58.
Choi, Y.B. (2000) Financial Crisis and Perspectives on Korean Economic
Development, Asian Financial Crisis, 1: 357-78.
Choi, Y.B. (2002) Misunderstanding Distribution, in Frankel-Paul et al.
(eds), op. cit.
Chong, D. (2002) Rational Lives, Chicago, IL: University of Chicago Press.
416 Библиография
Chubb, J., Мое, Т. (1990) Politics, Markets and America's Schools, Washing-
ton, DC: Brookings Institution.
Coase, R. (1937) The Nature of the Firm, Economica, 4: 386-405.
Coase, R.H. (1960) The Problem of Social Cost:, Journal of Law and Econom-
ics, 3 (1): 1-4.
Coase, R.H. (1989) The Firm, the Market and the Law, Chicago, IL: Universi-
ty of Chicago Press.
Cohen, G. (1995) Incentives, Inequality and Community, in Darwall, S.
(ed.), Equal Freedom: Selected Tanner Lectures on Human Values, Ann Ar-
bor, MI: University of Michigan Press.
Cohen, J., Arato, A. (1992) Civil Society and Political Theory, Cambridge,
MA: MIT Press.
Coleman, L, Hoffer, T. (1987) Public and Private High Schools: The Impact of
Communities, New York: Basic Books.
Cordato, R. (2005) Market-based Environmentalism and the 'Free Mar-
ket': They Are Not the Same, in Higgs, R., Close, С (eds), Rethinking
Green, Oakland, CA: Independent Institute.
Coulson, A. (1999) Market Education: The Unknown History, London: Trans-
action Publishers.
Coulson, A. (2004) How Markets Affect Quality: Testing a Theory of Mar-
ket Education against the International Evidence, in Salisbury, D.,
Lartigue, Jr, C. (eds), Educational Freedom in Urban America, Washing-
ton, DC: Cato Institute.
Cowen, T. (1992) Law as a Public Good: The Economics of Anarchy, Eco-
nomics and Philosophy, 8: 249-67.
Cowen, T. (2002) Does the Welfare State Help the Poor? in Frankel-Paul et
al. (eds), op. cit.
Cowen, T. (2006) Poor US Score in Health Care Don't Measure Nobels
and Innovation, New York Times, 5 October.
Cowen, Т., Crampton, E. (eds) (2002) Market Failure or Success: The New De-
bate, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
Coyne, C. (2006) Reconstructing Weak and Failed States, Journal of Social,
Political and Economic Studies, 31 (2): 143-62.
Curtin, P. (1984) Cross-Cultural Trade in World History, Cambridge: Cam-
bridge University Press.
Curzon-Price, V. (2004) Switzerland: Growth of Government, Growth of
Centralisation, Economic Affairs, 24 (2): 30-36.
Dahlman, С (1979) The Problem of Externality, Journal of Legal Studies, 22
(1): 141-62.
Daniels, N., Light, D., Caplan, R. (1997) Benchmarks of Fairness for Health-
Care Reform, New York: Oxford University Press.
David, P. (1985) Clio and the Economics of QWERTY, American Economic
Review, 75: 332-7.
Библиография 417
Davies, S. (1997) Two Conceptions of Welfare: Voluntarism and Incorpo-
rationism, in Frankel-Paul et al. (eds), op. cit.
Dawson, J.W. (2003) Causality in the Freedom-Growth Relationship, Euro-
pean Journal of Political Economy, 19:479-95.
Dawson, J. (2007) The Empirical Institutions and Growth Literature:
Is Something Amiss at the Top? Econ Journal Watch, 4 (2): 184-96.
De Alessi, L. (2003) Gains from Private Property: The Empirical Evidence,
in Anderson, Т., McChesney, F. (eds), Property Rights: Cooperation, Con-
flict and Law, Princeton, NJ: Princeton University Press.
De Alessi, M. (1998) Fishing for Solutions, London: Institute of Economic
Affairs.
Deere, D., Welch, F. (2002) Incentives, Equality and Opportunity, in Fran-
kel-Paul et al. (eds), op. cit.
De Haan, J., Sierman, C.J. (1998) Further Evidence on the Relationship
between Economic Freedom and Economic Growth, Public Choice, 95:
363-80.
Demsetz, H. (1969) Information and Efficiency: Another Viewpoint, Jour-
nal of Law and Economics, 12 (1): 1-22.
De Soto, H. (1989) The Other Path, London: IB Tauris.
Dowley, K.M., Silver, B.D. (2002) Social Capital, Ethnicity and Support for
Democracy in Post-Communist States, Europe-Asia Studies, 54 (4): 505.
Dryzek, J. (1987) Political and Ecological Communication, Environmental
Politics, А {4)'ЛЪ-Ъ0.
Dryzek, J. (1990) Green Reason: Communicative Ethics for the Biosphere,
Environmental Ethics, 12: 195-210.
Dryzek, J. (2001) Deliberative Democracy and Beyond, Oxford: Oxford Univer-
sity Press.
Dworkin, R. (1981) Equality of Resources, Philosophy and Public Affairs,
10 (4): 283-345.
Dworkin, R. (1993) Justice in the Distribution of Health Care, McGillLaw
Review, 38 (4): 883-98.
Dworkin, R. (2000) Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality, Cam-
bridge, MA: Harvard University Press.
Easterly, W. (2001) The Elusive Quest for Growth, Cambridge, MA: MIT
Press.
Easterly, W. (2006) The White Man's Burden, Oxford: Oxford University
Press.
Easton, S.T., Walker, M. (1997) Income, Growth and Economic Freedom,
American Economic Review, 87: 328-32.
Eckersley, R. (2004) The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty,
Cambridge, MA: MIT Press.
Edwards, S. (2010) Left Behind: Latin America and the False Promise of Popu-
lism, Chicago, IL: University of Chicago Press.
418 Библиография
Eggertsson, T. (2005) Imperfect Institutions, Ann Arbor, MI: University of
Michigan Press.
Ellickson, R. (1991) Order without Law, Cambridge, MA: Cambridge Uni-
versity Press.
Epstein, R. (2003) Scepticism and Freedom, Chicago, IL: University of Chica-
go Press.
Feachman, R., Sekhri, N., White, K. (2003) Getting More for Their Dollar:
A Comparison of the NHS with California's Kaiser Permanante, Brit-
ish Medical Journal, 324 (7330): 135-3.
Feser, E. (2005) There is No Such Thing as an Unjust Initial Acquisition,
Social Philosophy and Policy, 22 (1): 56-80.
Folster, S., Henrekson, M. (1999) Growth and the Public Sector: A Critique
of the Critics, European Journal of Political Economy, 15 (2): 3337-58.
Folster, S., Henrekson, M. (2006) Growth Effects of Government Expen-
diture and Taxation in Rich Countries: A Reply, European Economic
Review, 1 (2): 219-22.
Frankel-Paul, E., Miller, E, Paul, J. (eds) (1997) The Welfare State, Cam-
bridge: Cambridge University Press.
Frankel-Paul, Miller, E, PaulJ. (eds) (2002) Should Differences in Income and
Wealth Matter, Cambridge: Cambridge University Press.
Fraser, N. (1993) Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Cri-
tique of Actually Existing Democracy, in B. Robbins (ed.), The Phan-
tom Public Sphere, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
Friedman, J. (1990) The New Consensus: The Democratic Theory of the
Welfare State, Critical Review, 4 (4): 633-708.
Friedman, J. (2005) Popper, Weber and Hayek: The Epistemology and
Politics of Ignorance, Critical Review, 17 (1-2): 1-58.
Friedman, J. (2006) Taking Ignorance Seriously: Rejoinder to Critics, Crit-
ical Review, 18 (4): 467-532.
Friedman, J. (2009) A Crisis of Politics, Not Economics: Complexity, Igno-
rance and Policy Failure, Critical Review, 21 (2-3): 127-83.
Fukuyama, F. (1995) Trust, New York: Simon & Schuster.
Fukuyama, F. (2001) The Great Disruption, London: Profile Books.
Gamble, A. (1996) Hayek: The Iron Cage of Liberty, Cambridge: Polity Press.
Gaus, G. (2003) Backwards into the Future: Neo-Republicanism as a
Post-socialist Critique of Market Society, Social Philosophy and Policy, 20
(1) 59-91.
Gibson, C, Anderson, K., Ostrom, E., Shivakumar, S. (2005) The Samari-
tan 's Dilemma: The Political Economy of Development Aid, Oxford: Oxford
University Press.
Gjerstad, S., Smith, V. (2009) Monetary Policy, Credit Extension and
Housing Bubbles: 2008 and 1929, Critical Review, 21 (2-3): 269-300.
Библиография 419
Goodman, J., Musgrave, G., Herrick, D. (2004) Lives at Risk, New York:
Rowman & Littlefield.
Gordon, P., Wang, L. (2004) Does Economic Performance Correlate with
Big Government? Econjournal Watch, 1 (2): 219-22.
Gray, J. (1998) False Dawn: The Delusions of Global Capitalism, London:
Granta.
Green, D. (1985) Working Class Patients and the Medical Establishment, Lon-
don: Temple Smith/ Gower.
Green, D. (1993) Reinventing Civil Society: The Rediscovery of Welfare without
Politics, London: Institute of Economic Affairs.
Grossman, S., Stiglitz, J. (1976) Information and Competitive Price Sys-
tems, American Economic Review, 66: 246-53.
Grossman, S., Stiglitz, J. (1980) On the Impossibility of Informationally
Efficient Markets, American Economic Review, 70: 393—408.
Guttman, A., Thompson, D. (2004) Why Deliberative Democracy? Princeton,
NJ: Princeton University Press.
Gwartney, J., Lawson, R. (2004) The Impact of Tax Policy on Economic
Growth, Income Distribution and the Allocation of Taxes, Social Phi-
losophy and Policy, 23 (2): 28-52.
Gwartney, J., Lawson, R., Holcombe, R. (1999) Economic Freedom and
the Environment for Economic Growth, Journal of Institutional and
Theoretical Economics, 155 (4): 643-63.
Gwartney, J., Lawson, R., Holcombe, R. (2006) Institutions and the Im-
pact of Investment on Growth, Kyklos, 59 (2): 255-73.
Haan, J., Sturm, J. (2000) On the Relationship between Economic Free-
dom and Economic Growth, European Journal of Political Economy, 16:
215-41.
Habermas, J. (1984) The Theory of Communicative Action, Vol. 1, Reason and
the Rationalisation of Society, Boston, MA: Beacon Press.
Habermas, J. (1990) Moral Consciousness and Communicative Action, Cam-
bridge, MA: MIT Press.
Habermas, J. (1992) Further Reflections on the Public Sphere, in Cal-
houn, C. (ed.), Habermas and the Public Sphere, Cambridge, MA: MIT
Press.
Habermas, J. (1996) Between Facts and Norms, Cambridge, MA: MIT
Press.
Hardin, R. (2000) Do We Want Trust in Government? in Warren, M. (ed.)
Democracy and Trust, Cambridge: Cambridge University Press.
Hardin, R. (2001) Norms of Cooperativeness and Networks of Trust, in
Hechter, M., Opp, K.D. (eds), Social Norms, New York: Russell Sage
Foundation.
Hardin, R. (2004) Tmst, Cambridge: Polity.
Hardy D., Ward C. (1984). Arcadia for All: The Legacy of a Makeshift Land-
scape. London: Mansell.
420 Библиография
Harper, D. (2003) Foundations of' Entrepreneurs hip and Economic Development,
London: Routledge.
Hayek, F.A. (1944) The Road to Serfdom, 50th anniversary edition, Chicago,
IL: University of Chicago Press.
Hayek, F.A. (1948a) Individualism and Economic Order, Chicago, IL: Univer-
sity of Chicago Press.
Hayek, F.A. (1948b) Individualism: True and False, in Hayek (1948a), op.
cit.
Hayek, F.A. (1948c) Economics and Knowledge, in Hayek (1948a), op. cit.
Hayek, F.A. (1948d) The Use of Knowledge in Society, in Hayek (1948a),
op. cit.
Hayek, F.A. (1948e) The Meaning of Competition, in Hayek (1948a),
op. cit.
Hayek, F.A. (ed.) (1949) Capitalism and the Historians, Chicago, IL: Univer-
sity of Chicago Press.
Hayek, F.A. (1952) The Sensory Order, Chicago, IL: University of Chicago
Press.
Hayek, F.A. (1957) The Counter-Revolution of Science, Indianapolis, IN: Lib-
erty Press.
Hayek, F.A. (1960) The Constitution of Liberty, London: Routledge.
Hayek, F.A. (1967a) Studies in Philosophy, Politics and Economics, London:
Routledge.
Hayek, F.A. (1967b) The Theory of Complex Phenomena, in Hayek
(1967a), op. cit.
Hayek, F.A. (1967c) The Results of Human Action but not of Human De-
sign, in Hayek (1967a), op. cit.
Hayek, F.A. (1967d) The Non-Sequitur of the Dependence Effect,
in Hayek (1967a), op. cit.
Hayek, F.A. (1973) Rules and Order, Chicago, IL: University of Chicago
Press.
Hayek, F.A. (1978a) The Pretence of Knowledge, in New Studies in Philoso-
phy, Politics, Economics and the History of Ideas, London: Routledge.
Hayek, F.A. (1978b) Competition as a Discovery Procedure, in New Stud-
ies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, London:
Routledge.
Hayek, F.A. (1982) Law, legislation and Liberty, London: Routledge.
Hayek, F.A. (1988) The Fatal Conceit: The Errors of Socialism, London:
Routledge.
Hayward, T. (2006) Global Justice and the Distribution of Environmental
Resources, Political Studies, 54 (2): 349-69.
Healey, P. (1997) Collaborative Planning, London: Macmillan.
Henrich, J., Boyd, R., Bowles, S., Camerer, C, Fehr, E., Gintis, H., McEl-
reath, R., Alvard, M., Barr, A., Ensminger, J., Smith, N.. Henrich, K.,
Hill, E, GilWhite, M., Gurven, E, Marlowe, J., Patton, Q., Tracer, D.
Библиография 421
(2005) Economic Man in Cross-cultural Perspective: Behavioural Ex-
periments in Fifteen Small Scale Societies, Behavioural and Brain Sci-
ences, 29: 795-855.
Hejeebu, S., McCloskey, D. (2000) The Reproving of Karl Polanyi, Critical
Review, 13,285-314.
Herzlinger, R. (2007) Who Killed Health-Care? New York: McGraw-Hill.
Hill, G. (2006) Knowledge, Ignorance and the Limits of the Price System,
Critical Review, 18 (4): 399-410.
Hill, PJ. (2005) Market-based Environmentalism and Free Markets: Substi-
tutes or Complements? in Higgs, R., Close, С (eds) Rethinking Green,
Oakland, CA: Independent Institute.
Hindmoor, A. (1999) Free-Riding off Capitalism, British Journal of Political
Science, 217-24.
Hodgson, G. (1998) Economics and Utopia, London: Routledge.
Hoff, K. (2000) Beyond Rosenstein-Rodan: The Modern Theory of Coor-
dination Problems in Development, in Pleskovic, B. (ed.), Proceedings
of the Annual Bank Conference on Development Economics 2000, Washing-
ton, DC: World Bank.
Horwitz, S. (1992) Monetary Exchange as an Extra-Linguistic Communi-
cations Medium, Review of Social Economy, 50 (2): 193-214.
Horwitz, S. (2005) The Functions of the Family in the Great Society, Cam-
bridge Journal of Economics, 29: 669-84.
Hoskins, W (1993) FDICIA's Regulatory Changes and the Future of the
Banking Industry, in Kaufman, G., Litan, R. (eds) Assessing Bank-
ing Reform: FDCICIA One Year Later, Washington, DC: Brookings
Institution.
Huang, J. (2008) Capitalism with Chinese Characteristics, Cambridge: Cam-
bridge University Press.
Hume, D. (1739-40/1985) A Treatise of Human Nature, London: Penguin
Classics.
Husock, H. (1997) Standards versus Straggle: The Failure of Public Hous-
ing and Welfare State Impulse, in Frankel-Paul et al. (eds), op. cit.
Jablecki, J., Machaj, M. (2009) The Regulated Meltdown of 2008, Critical
Review, 21 (2-3): 301-29.
Jacobs, M. (1992) The Green Economy, London: Pluto Press.
Jimenz, E., Lockheed, M., Paqueo, V. (1991) The Relative Efficiency of
Private and Public Schools in Developing Countries, World Bank Re-
search Observer, 6: 205-18.
Johanssen, D. (2008) Sweden's Slowdown: The Impact of Interventionism
on Entrepreneurship, in Powell, B. (ed.), Making Poor Nations Rich,
Stanford, CA: Stanford University Press.
Jolls, C, Sunstein, С (2006) De-biasing Through Law, Journal of Legal Stud-
ies, 35: 199.
422 Библиография
Kekes, J. (1997) A Question for Egalitarians, Ethics, 107: 658-69,
Kekes, J. (2003) The Illusions of Egalitarianism, Ithaca, NY: Cornell Univer-
sity Press.
King, P. (2006) Choice and the End of Social Housing, London: Institute of
Economic Affairs.
King, R., Levine, R. (1993) Finance and Growth: Schumpeter Might be
Right, Quarterly Journal of Economics, 108 (3): 717-37.
Kirzner, I. (1992) The Meaning of Market Process, London: Routledge.
Kirzner, I. (1997) Entrepreneurial Discovery and the Competitive Mar-
ket Process: An Austrian Approach, Journal of Economic Literature,
35 (March): 60-85.
Klein, D. (2002) The Voluntary Provision of Public Goods: The Turn-
pike Companies of Early America, in Beito, D., Gordon, P., Tabar-
rock, A. (eds), The Voluntary City, Ann Arbor, MI: University of Mich-
igan Press.
Knight, F. (1982) Freedom and Reform: Essays in Economics and Social Philoso-
phy, Indianapolis, IN: Liberty Press.
Kukathas, С (2002) The Life of Brian: And Now For Something Com-
pletely Difference Blind, in Kelly, P. (ed.) Multiculturalism Reconsidered,
Cambridge: Polity Press.
Kukathas, С (2003) The Liberal Archipelago: A Theory of Diversity and Freedom,
Oxford: Oxford University Press.
Kukathas, С (2006) The Mirage of Global Justice, Social Philosophy and Pol
icy, 23(1): 1-28.
Kuran, T. (1995) Private Truths, Public Lies, Cambridge, MA: Harvard Uni-
versity Press.
Kymlicka, W. (1990) Contemporary Political Philosophy, Oxford: Oxford Uni-
versity Press.
Laclau, E., Mouffe, С (1985) Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radi-
cal Democratic Politics, London: Verso.
Ladd, E. (1996) The Data Just Don't Show a Decline in America's Social
Capital, Public Prospect, 7 (4): 7-16.
Lai, D. (1994) Against Dirigisme, San Francisco, CA: Institute for Contem-
porary Studies.
Lai, D. (2002) The Poverty of Development Economics, London: Institute of
Economic Affairs.
Lai, D. (2006) Reviving the Invisible Hand, Princeton, NJ: Princeton Univer-
sity Press.
Lai, D., Myint, H. (1996) The Political Economy of Poverty, Equity and Growth,
Oxford: Clarendon Press.
Landa, J. (1995) Trust, Ethnicity and Identity: Beyond the New Institutional Eco-
nomics of Ethnic Trading Networks, Contract Law and Gift Exchange, Ann
Arbor, MI: University of Michigan Press.
Библиография 423
Lange, О. (1936а) On the Economic Theory of Socialism, Review of Eco-
nomic Studies, 4: 53-71.
Lange, O. (1936b) On the Economic Theory of Socialism, Review of Eco-
nomic Studies, 4: 123-42.
Lavoie, D. (1985) Rivalry and Central Planning: The Socialist Calculation De-
bate Revisited, Cambridge: Cambridge University Press.
Lavoie, D., Chamlee-Wright, E. (2001) Culture and Enterprise, London:
Rout ledge.
Leibowitz, S., Margolis, S. (1990) The Fable of the Keys, Journal of Law
and Economics, 33 (1): 1-26.
Leibowitz, S., Margolis, S. (1994) Network Externality: An Uncommon
Tragedy, Journal of Economic Perspectives, 8: 133-150.
Leibowitz, S., Margolis, S. (1995) Are Network Externalities a New Source
of Market Failure? Research in Law and Economics, 17: 1-22.
Leeson, P. (2008) How Important is State Enforcement for Trade? Ameri-
can Law and Economics Review, 10 (1): 61-89.
Leeson, P., Subrick, R. (2006) Robust Political Economy, Review of Austri-
an Economics, 19: 107-11.
Lewin, P. (2001) The Market Process and the Economics of QWERTY:
Two Views, Review of Austrian Economics, 14 (1): 65-96.
Lindbeck, A. (1997) The Swedish Experiment, Journal of Economic Litera-
ture, 35: 1273-1319.
Lindert, P. (2004) Growing Public: Social Spending and Economic Growth since
the Eighteenth Century, Cambridge: Cambridge University Press.
Lomasky L. (2005) Libertarianism at Twin Harvard, Social Philosophy and
Policy, 22(1): 178-99.
Lomasky, L. (2007) Liberalism beyond Borders, Social Philosophy and Poli-
cy, 24 (1): 206-33.
Lomborg, B. (2007) Cool It, New York: Knopf.
Lukes, S. (1997) Social Justice: The Hayekian Challenge, Critical Review,
11(1): 65-80.
MacCallum, S.H. (1970) The Art of Community, Menlo Park, CA: Institute
for Humane Studies,
MacFarlane, A. (1976) The Origins of English Individualism, Cambridge:
Cambridge University Press.
Maclntyre, A. (1981) After Virtue, South Bend, IN: University of Indiana
Press.
Marx, K. (1906) Capital, Vol. 1, Chicago, IL: Charles H. Kerr & Co.
Matsuyama, K. (1996) Economic Development as Coordination Prob-
lems, in Aoki, H.K., Okuno-Fujiware, M. (eds), The Role of Government
in East Asian Development: A Comparative Institutional Analysis, New
York: Oxford University Press.
424 Библиография
McCloskey, D. (2006) The Bourgeois Virtues, Chicago, IL: University of
Chicago Press.
McCoy, E.D., Shreder-Frechete, K.S. (1994) The Concept of Community
in Community Ecology, Perspectives on Science, 2: 445-75.
Mathews, J. (2006) Strategising, Disequilibrium and Profit, Stanford, CA:
Stanford University Press.
Meadowcroft, J., Pennington, M. (2007) Rescuing Social Capital from Social
Democracy, London: Institute of Economic Affairs.
Medema, S. (1994) Ronald H. Coase, New York: St Martin's Press.
Miller, D. (1989) Market, State and Community: Theoretical Foundations of
Market Socialism, Oxford: Clarendon Press.
Miller, D. (1990) Equality, in Hunt, G. (ed.), Philosophy and Politics, Cam-
bridge: Cambridge University Press.
Miller, D. (1995) On Nationality, Oxford: Oxford University Press.
Minasian, J.R. (1964) Television Pricing and the Theory of Public Goods,
Journal of Law and Economics, 7: 71-80.
Mitch, D. (1992) The Rise of Popular Literacy in Victorian England: The Influ-
ence of Private Choice and Public Policy, Philadelphia, PA: University of
Pennsylvania Press.
Mitchell, W.C., Simmons, R. (1994) Beyond Politics, San Francisco, CA:
Westview.
Montesquieu, Charles Louis de Secondat, Marquis de (1748/1961) LEs-
pirit des Lois, Paris: Gamier.
Morris, J. (1995) The Political Economy of Land Degradation, London: Insti-
tute of Economic Affairs.
Mouffe, С (1993) The Return of the Political, London: Verso.
Mulberg, J. (1992) Who Rules the Market? Political Studies, 30 (2):
334-41.
Mutz, D. (2006) Hearing the Other Side: Deliberative versus Participatory De-
mocracy, Cambridge: Cambridge University Press.
Myrdal, G. (1957) Economic Theory and Underdeveloped Countries, London:
Duckworth.
Nelson, R. (2002) Privatising the Neighbourhood, in Beito, P., Gor-
don, P., Tabarrok, A. (eds) The Voluntary City, Ann Arbor, MI: Univer-
sity of Michigan Press.
Norberg, J. (2003) In Defence of Global Capitalism, Washington, DC: Cato
Institute.
Nordhaus, W, Boyer, J. (2000) Warming the World: Economic Models of Glob-
al Warming, Cambridge: MIT Press.
North, D. (1990) Institutions, Institutional Change and Economic Perfor-
mance, Cambridge: Cambridge University Press.
North, D., Thomas, R. (1973) The Rise of the Western World, Cambridge:
Cambridge University Press.
Библиография 425
North, D., Weingast, В. (1989) Constitutions and Credible Commitment:
The Evolution of the Institutions of Public Choice in 17th Century
England, Journal ofEconomic History, 49: 803-32.
Norton, S. (1998) Property Rights, the Environment and Economic
Well-Being, in Hill, P., Meiners, R. (eds) Who Owns the Environment?
Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
Notturno. M. (2006) Economism, Freedom and the Epistemology and
Politics of Ignorance: Reply to Friedman, Critical Review, 18 (4):
431-52.
Nozick, R. (1974) Anarchy, State and Utopia, Oxford: Blackwell.
O' Driscoll, G., Hoskins, L. (2006) The Case for Market-Based Regula-
tion, Catojournal, 26 (3): 469-87.
O'Driscoll, G., Rizzo, M. (1996) The Economics of Time and Ignorance, Lon-
don: Routledge.
Ogilvie, S. (2003) A Bitter Living: Women, Markets and Social Capital in Early
Modern Germany, Oxford: Oxford University Press.
Ogilvie, S. (2004) Guilds, Efficiency and Social Capital: Evidence from
German Proto-Industry, Economic History Review, 58 (2): 286-333.
Olson, M. (1965) The Logic of Collective Action, Cambridge, MA: Harvard
University Press.
Olson, M. (1982) The Rise and Decline of Nations, New Haven, CT: Yale Uni-
versity Press.
Olson, M. (2000) Power and Prosperity, New York: Basic Books.
Oorschot, W., Arts, W. (2005) The Social Capital of European Welfare
States: The Crowding Out Hypothesis Revisited, Journal of European
Social Policy, 15(1): 5-26.
Ormerod, P., Johns, H. (2007) Happiness, Economics and Public Policy, Lon-
don: Institute of Economic Affairs.
Ostrom, E. (1990) Governing the Commons, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.
Ostrom, E. (2006) Understanding Institutional Diversity, Princeton, NJ:
Princeton University Press.
Otteson, J. (2003) Adam Smith's Marketplace of Life, Cambridge: Cam-
bridge University Press.
Otteson, J. (2006) Actual Ethics, Cambridge: Cambridge University Press.
Palmer, T. (2007) No Exit: Framing the Problem of Justice, in Bouil-
lon, H., Kliemt, H. (eds), Ordered Anarchy: Jasay and his Surroundings,
Aldershot: Ashgate.
Pejovich, S. (2003) Understanding the Transaction Costs of Transition:
It's the Culture, Stupid, Review of Austrian Economics, 16 (4): 347-61.
Pennington, M. (2002) Liberating the Land: The Case for Private Land Use
Planning, London: Institute of Economic Affairs.
426 Библиография
Pennington, M. (2005) Liberty, Markets and Environmental Values, Inde-
pendent Review, 10 (1): 39-57.
Pennington, M. (2008) Classical Liberalism, Ecological Rationality and
the Case for Polycentric Environmental Law, Environmental Politics,
17(3): 431-48.
Pincione, G., Tesson, F. (2006) Rational Choice and Democratic Deliberation,
Cambridge: Cambridge University Press.
Pipes, R. (1999) Property and Freedom, London: Harvill Press.
Plant, R. (1994) Hayek on Social Justice: A Critique, in Birner, J., van
Zjip, R. (eds), Hayek, Co-ordination and Evolution, London: Routledge.
Plant, R. (1999) The Moral Boundaries of Markets, in Norman, R. (ed.),
Ethics and the Market, Aldershot: Ashgate.
Pogge, T. (2002) World Poverty and Human Rights, Maiden, MA: Polity
Press.
Polanyi, K. (1944) The Great Transformation, Boston, MA: Beacon Press.
Polanyi, M. (1951) The Logic of Liberty, Chicago, IL: University of Chicago
Press.
Pomerantz, K. (2002) The Great Divergence, Princeton, NJ: Princeton Uni-
versity Press.
Postan, M. (1966) Medieval Agrarian Society in its Prime: England, in
Poston, M. (ed.), Cambridge History of England, Vol.1, 2nd edition,
Cambridge: Cambridge University Press.
Powell, B. (2005) State Development Planning: Did It Create an East
Asian Miracle? Review of Austrian Economics, 18 (3-4): 305-23.
Prychitko, D. (1987) Marxism and Decentralised Socialism, Critical Re-
view, 2 (4): 127-48.
Pulido, L. (1996) Environmentalism and Economic Justice, Tucson, AZ: Uni-
versity of Arizona Press.
Putnam, R. (2000) Bowling Alone, New York: Simon & Schuster.
Quian, Y. (2000) The Process of China's Market Transition (1978-1998):
The Evolutionary, Historical and Comparative Perspective, Journal
of Institutional and Theoretical Economics, 156: 151—71.
Rakowski, E. (1991) Equal Justice, Oxford: Oxford University Press.
Ramsey, M. (2004) What's Wrong with Liberalism, London: Continuum.
Rawls, J. (1971) A Theory of Justice, Cambridge, MA: Harvard University
Press.
Rawls, J. (1999) The Law of Peoples, Cambridge, MA: Harvard University
Press.
Reynolds, A. (2006) Income and Wealth, Westport, CT: Greenwood Press.
Ricketts, M. (2000) Competitive Processes and the Evolution of Gover-
nance Structures, Journal des Economistes et des Etudes Humaines, 10
(2-3): 235-52.
Библиография 427
Rizzo, M., Whittman, D.G. (2008) The Knowledge Problem and the New
Paternalism, unpublished manuscript, Department of Economics,
New York University.
Robinson, J. (1933) The Economics of Imperfect Competition, London:
Macmillan.
Rodrik, D., Subramanian, A., Trebbi, F. (2002) Institutions Rule: The Pri-
macy of Institutions over Geography and Integration in Economic
Development, NBER Working Paper 9305, Cambridge, MA: Nation-
al Bureau of Economic Research.
Romer, P. (1994) The Origins of Endogenous Growth, Journal of Economic
Perspectives, 8: 3-22.
Rose, S. (1991) Is Mobility in the United States Still Alive? Tracking Ca-
reer Opportunities and Income Growth, International Review of Ap-
plied Economics, 13: 417-37.
Rosenberg, N., Birdzell, L. (1986) How the West Grew Rich, New York: Basic
Books.
Rosenstein-Rodan, P. (1957) Notes on the Theory of the 'Big Push', in
Ellis, H. (ed.), Economic Development for Latin America, New York: St
Martin's Press.
Rowntree Foundation (2007) Tackling Educational Underachievement, York:
Joseph Rowntree Foundation.
Ryfe, D. (2005) Does Deliberative Democracy Work? Annual Review of Po-
litical Science, 8: 49-71.
Sachs, J. (2005) The End of Poverty, New York: Penguin Press.
Sachs, J., Warner, A. (2001) Natural Resource Abundance and Economic
Growth, NBER Working Paper 5398.
Sagoff, M. (1988) The Economy of the Earth, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.
Sally, R. (1998) Classical Liberalism and International Order, London:
Routledge.
Sally, R. (2008) Trade Policy: New Century, London: Institute of Economic
Affairs.
Schmidtz, D. (1998) Taking Responsibility, in Schmidtz, D., Goodin, R.
(eds), Social Welfare and Individual Responsibility, Cambridge: Cam-
bridge University Press.
Schmidtz, D. (2001) The Institution of Property, Social Philosophy and Pol-
icy, 11:42-64.
Schmidtz, D. (2005) History and Pattern, Social Philosophy and Policy,
22(1) 148-77.
Schmidtz, D. (2006) Elements of Justice, Cambridge: Cambridge University
Press.
428 Библиография
Schudson, M. (1995) What if Civic Life Didn't Die? in Verba, S.,
Scholzman, K., Brady, H. (eds), Voice and Equality: Civic Voluntarism in
American Politics, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Shapiro, D. (2007) Is the Welfare State Justified? Cambridge: Cambridge
University Press.
Shue, H. (1999) Global Environment and International Inequality, Inter-
national Affairs, 75: 531-45.
Silver, M. (1983) Karl Polanyi and Markets in the Ancient Near East: The
Challenge of the Evidence, Journal ofEconomic History, 42 (4): 795-829.
Simon, H. (1957) Models of Man, New York: Wiley & Sons.
Simon, J. (1981) The Ultimate Resource, Princeton, NJ: Princeton Univer-
sity Press.
Skcopol, T. (1996) Unravelling from Above, American Prospect, 25: 20-25.
Smith, A. (1776/1982) Lectures on Jurisprudence, Indianapolis, IN: Liberty
Fund.
Smith, G. ((2003) Deliberative Democracy and the Environment, London:
Routledge.
Smith, G., Wales, С (2000) Citizens'Juries and Deliberative Democracy,
Political Studies, 48 (1): 51-65.
Smith, V. (2007) Rationality in Economics, Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press.
Snell, D. (1991) Market-less Trading in Our Time, Journal of the Economic
and Social History of the Orient, 34: 129-41.
Snowdon, С (2010) The Spirit Level Delusion, London: Little Dice.
Sobel, R., Leeson, P. (2007) The Use of Knowledge in Disaster Relief, In-
dependent Review, 11 (4): 519-32.
Solon, G. (1992) Intergenerational Income Mobility in the United States,
American Economic Review, 82 (3): 393-8.
Solow, R. (1956) A Contribution to the Theory of Economic Growth,
Quarterly Journal of Economics, 70 (1): 65-94.
Somin, I. (1998) Voter Ignorance and the Democratic Ideal, Critical Re-
view, 12 (4): 413-58.
Sowell, T. (1980) Knowledge and Decisions, New York: Basic Books.
Sowell, T. (1981) Race and Culture, New York: Basic Books.
Sowell, T. (1996) Migrations and Cultures: A World View, New York: Basic
Books.
Steckbeck, M., Boettke, P. (2004) Turning Lemons into Lemonade: En-
trepreneurial Solutions to Adverse Selection Problems in e-Com-
merce, in Birner, J., Garrouste, P. (eds), Markets, Information and
Communication: Austrian Perspectives on the Internet Economy, London:
Routledge.
Steele, D. (1992) From Marx to Mises, La Salle, IL: Open Court.
Steiner, H. (1999) Just Taxation and International Redistribution, Nomos
39: 171-91.
Библиография 429
Stern N. (2007) The Economics of Climate Change: The Stern Review, Cam-
bridge University Press.
Stiglitz, J. (1994) Whither Socialism? Cambridge, MA: MIT Press.
Stiglitz, J. (2001) From Miracle to Crisis to Recovery: Lessons from Four
Decades of East Asian Experience, in Stiglitz, J., Yusuf, S. (eds), Re-
thinking the East Asian Miracle, New York: Oxford University Press.
Stiglitz, J. (2009) The Anatomy of a Murder: Who Killed America's Econo-
my? Critical Review, 21 (2-3): 329-1.
Stiglitz, J., Yusuf, S. (2001) Rethinking the East Asian Miracle, New York: Ox-
ford University Press.
Storr, V. (2008) The Market as a Social Space: On the Meaningful Ex-
tra-Economic Conversations that can Occur in Markets, Review of Aus-
trian Economics, 21 (2-3): 135-50.
Streit, M. (1984) Information Processing in Futures Markets: An Essay on
Adequate Abstraction, Jahrbuchf Nationalok. U. Stat., 199 (5): 385-99.
Stringham, E. (2006) Overlapping Jurisdictions, Proprietary Communi-
ties and Competition in the Realm of Law, Journal of Institutional and
Theoretical Economics 16 (2): 1-19.
Stroup, R. (2005) Free-Riders and Collective Action Revisited, in Higgs, R.,
Close, С (eds), Rethinking Green, Oakland, CA: Independent Institute.
Sunstein, С (2003) Free Markets and Social Justice, New York: Oxford Univer-
sity Press.
Sunstein, С (2005) Laws of Fear, Cambridge: Cambridge University Press.
Sunstein, C, Thaler, R. (2003) Libertarian Paternalism, American Economic
Review, 93: 175-9.
Svensson, J. (1998) Investment, Property Rights and Political Stability:
Theory and Evidence, European Economic Review, 42: 1317—41.
Swan, T. (1956) Economic Growth and Capital Accumulation, Economic
Record, 32(3): 334-61.
Taylor, C. (1985) Philosophy and the Human Sciences, Cambridge: Cambridge
University Press.
Tebble, A. (2001) The Tables Turned: Wilt Chamberlin versus Robert
Nozick on Rectification, Economics and Philosophy, 17: 89-108.
Tebble, A. (2002) What is the Politics of Difference? Political Theory, 30 (2):
259-81.
Tebble, A. (2003) Does Inclusion Require Democracy? Political Studies,
51 (2): 197-214.
Tebble, A. (2006) Exclusion for Democracy, Political Theory, 34 (4): 463-87.
Tebble, A. (2009) Hayek and Social Justice: A Critique, Critical Review of
International Social and Political Theory, 12 (4): 582-604.
Thomsen, E.F. (1992) Prices and Knowledge, London: Routledge.
Timberlake, R. (1993) Monetary Policy in the United States, Chicago, IL: Uni-
versity of Chicago Press.
430 Библиография
Tooley.J. (1995) Disestablishing the School, Aldershot: Avebury.
Tooley, J. (1996) Education without the State, London: Institute of Economic
Affairs.
Tooley, J., Dixon, P. (2006) De Facto Privatisation of Education and the
Poor: Implications of a Study from sub-Saharan Africa and India, Com-
pare, 86 (4): 443-62.
Tooley, J., Dixon, P., Gomathi, S. (2007) Private Schools and the Milleni-
um Development Goal of Universal Primary Education: A Census and
Comparative Survey in Hyderabad, India, Oxford Review of Education,
33 (5): 539-60.
Tooley, J., Dixon, P., Olaniyan, O. (2005) Private and Public Schooling in
Low-Income Areas of Lagos State, Nigeria: A Census and Compara-
tive Survey, International Journal of Educational Research, 43: 125-46.
Torstensson, J. (1994) Property Rights and Economic Growth: An Empiri-
cal Study, Kyklos, 47: 231-47.
Tragardh, L. (1990) Swedish Model or Swedish Culture, Critical Review,
4 (4): 569-90.
Tullock, G. (1994) Rent Seeking, Aldershot, UK and Brookfield, VT, USA:
Edward Elgar.
Turner, D., Pearce, D., Bateman, I. (1994) Environmental Economics: An Ele-
mentary Introduction, Brighton: Harvester.
Uslaner, E. (1999) Democracy and Social Capital, in Warren, M. (ed.), De-
mocracy and Trust, Cambridge: Cambridge University Press.
Van Parjis, P. (1995) Real Freedom for All, Oxford: Oxford University Press.
Van de Walle, N. (2001) African Economies and the Politics of Permanent Crisis,
Cambridge: Cambridge University Press.
Vargos Llosa, A. (2005) Liberty for Latin America, Oakland, CA: Indepen-
dent Institute.
Vedder, R. (2004) Taxes, Growth, Equity and Welfare, Social Philosophy and
Po%23(2):53-72.
Von Mises, L. (1920) Economic Calculation in the Socialist Commonwealth, Au-
burn, AL: Ludwig Von Mises Institute.
Von Mises, L. (1949) Human Action, New Haven, CT: Yale University Press.
Wade, R. (1990) Governing the Market, Princeton, NJ: Princeton University
Press.
Wallison, P. (2006) Moral Hazard on Steroids: The OGHEO Report Shows
that Regulation Cannot Protect US Taxpayers, Financial Services Out-
look, July, American Enterprise Institute.
Wallison, P. (2009) Cause and Effect: Government Policies and the Finan-
cial Crisis, Critical Review, 21 (2-3): 365-76.
Webster, C, Lai, L. (2003) Property Rights, Planning and Markets, Chelten-
ham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
Библиография 431
Weingast, В. (1995) The Economic Role of Political Institutions: Mar-
ket-Preserving Federalism and Economic Development, Journal of
Law,Economics and Organisation, 11 (1): 1-31.
Weingast, B. (1997) The Political Foundations of Democracy and the Rule
of Law, 91:245-63.
Wenders, J. (2005) The Extent and Nature of Waste and Rent Dissatisfac-
tion in US Public Schools, CatoJournal, 25: 217-44.
West, E.G. (1994) Education and the State, Indianapolis, IN: Liberty Fund.
West, E.G. (1970) Resource Allocation and Growth in Early Nineteenth
Century British Education, Economic History Review, 23: 68-95.
Whelan, R. (1996) The Corrosion of Chanty, London: Institute of Economic
Affairs.
Whelan, R. (2008) British Social Housing and the Voluntary Sector, Eco-
nomic Affairs, 28 (2): 5-10.
White, L. (1984) Free Banking in Britain: Theory, Experience and Debate, 1800-
1845, Cambridge: Cambridge University Press.
White, L. (1989) What Kindof Monetary Institutions Would a Free Market
Deliver? Cato Journal, 9 (2): 367-91.
White, L. (2009) The Credit-Rating Agencies and the Subprime Debacle,
Critical Review, 21 (2-3): 389-99.
Whittman, G. (2006) WHOs Fooling WHO? The World Health Organi-
zation's Problematic Ranking of Health Care Systems, Cato Institute
Briefing Paper 161, Washington, DC.
Wholgemuth, M. (1995) Economic and Political Competition in Neo-Clas-
sical and Evolutionary Perspective, Constitutional Political Economy, 6:
71-96.
Wholgemuth, M. (1999) Entry Barriers in Politics: Or Why Politics, Like
Natural Monopoly, Is Not Organised as an Ongoing Market Process,
Review of Austrian Economics, 12: 175-200.
Wholgemuth, M. (2005) The Communicative Character of Capitalistic
Competition, Independent Review, 10 (1): 83-115.
Wildavsky, A. (1989) Searching for Safety, New Brunswick, NJ: Transaction
Books.
Wilkinson, R., Pickett, K. (2009) The Spirit Level: Why More Equal Societies
Almost Always Do Better, London: Allen Lane.
Wittman, D. (1995) The Myth of Democratic Failure, Chicago, IL: University
of Chicago Press.
World Commission on Environment and Development (1987) Our Com-
mon Future, Oxford: Oxford University Press.
Yeager, T. (1999) Institutions, Transition Economies and Economic Development,
Boulder, CO: Westview.
Young, C, Turner, T. (1985) The Rise and Decline of the Zairian State, Madi-
son, WI: University of Wisconsin Press.
432 Библиография
Young, I. (1990) Justice and the Politics of Difference, Princeton, NJ: Princeton
University Press.
Young, I.M. (2000) Inclusion and Democracy, Oxford: Oxford University
Press.
Акерлоф Дж. Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыноч-
ный механизм. / THESIS, 1994, вып. 5.
Акерлоф Дж. А., Шиллер Р.Дж. Spiritus Animalis, или Как человеческая
психология управляет экономикой. М.: Юнайтед Пресс, 2010.
Алчиан А.А. Неопределенность, эволюция и экономическая теория //
Истоки: из опыта изучения экономики как структуры и процесса.
М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007. С. 33-52.
Алчиан А.А., Демсец Г. Парадигма прав собственности. <http://www.
inliberty.ru/library/study/288>
Беккер Г. Экономика дискриминации (избранные главы) / Беккер Г.
Человеческое поведение: экономический подход М.: Издатель-
ский дом ГУ ВШЭ, 2007. С
Бьюкенен Дж. М. Издержки и выбор / Экономическая политика. 2008.
№ 1-3.
Бьюкенен Дж. М. Сочинения. Конституция экономической политики.
Расчёт согласия. Границы свободы / Нобелевские лауреаты по
экономике. Т. 1 / Фонд экономической инициативы. М.: Таурус
Альфа, 1997
Грин Д. Дж. Возвращение в гражданское общество: Социальное обес-
печение безучастия государства. М.: Новое издательство, 2009.
Истерли У В поисках роста. М.: ИКСИ, 2006.
Каплан Б. Миф о рациональном избирателе. М.: ИРИСЭН, 2012.
Кимлика У. Современная политическая философия. Введение. М.:
Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2010.
Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Новое издательство, 2007.
Кукатас Ч. Либеральный архипелаг: теория разнообразия и свободы.
М.: Мысль, 2011.
Лол Д. Возвращение «невидимой руки». М.: Новое издательство, 2009.
Ломборг Б. Охладите! Глобальное потепление. Скептическое руковод-
ство. СПб: Питер, 2008.
Макинтапр. После добродетели: Исследования теории морали. М.:
Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. М.: Госполитиздат, 1960.
МизесЛ. фон. Человеческая деятельность. Челябинск: Социум, 2012.
Монтескье Ш. Л. О духе законов. М.: Мысль, 1999.
Нозик Р. Анархия, государство и утопия. М.: ИРИСЭН, 2008.
Библиография 433
Норберг Ю. В защиту глобального капитализма. М.: Новое издательст-
во, 2007.
НортД. Институты, институциональные изменения и функциониро-
вание экономики. М.: Начала, 1997.
Олсон М. Логика коллективных действий. М.: ФЭИ, 1995.
Олсоп М. Возвышение и упадок народов. М.: Новое издательство, 2013.
Остром Э. Управляя общим. М.: ИРИСЭН, Мысль, 2010.
Пайпс Р. Собственность и свобода. М.: Московская школа политиче-
ских исследований, 2001.
Поланьи К. Великая трансформация. СПб.: Алетейя, 2002.
Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции.
М.: Прогресс, 1986.
Розенберг Н., Бирдцелл Л. Е. Как запад стал богатым. Новосибирск:
Экор, 1995.
РолзДж. Теория справедливости. М.: ЛКИ, 2010.
Саймон Дж. Неисчерпаемый ресурс. Челябинск: Социум, 2009.
СаксДж. Конец бедности. Экономические возможности нашего вре-
мени. М.: Издательство Института Гайдара, 2011.
Сото Э. де. Иной путь: экономической ответ терроризму. Челябинск,
Социум: 2008.
Фукуяма Ф. Великий разрыв. М.: ACT, ACT Москва, 2008.
Фуку яма Ф. Доверие. М.: ACT, Ермак, Мидгард, 2006.
Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. М.:
Наука, 2001.
Хайек Ф. Дорога к рабству. М.: Новое издательство, 2005.
Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. М.: Новости, Catallaxy, 1992.
Хайек Ф. Капитализм и историки. Челябинск: Социум, 2012.
Хайек Ф. Контрреволюция науки. М.: ОГИ, 2003.
Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. М.: Экономи-
ка, 1996.
Юм Д. Трактат о человеческой природе // Юм Д. Сочинения. В 2 т.
М.: Мысль, 1996.
Указатель
Агрегирующие институты 87, 91
Адаман Ф. (Adaman, F.) 88, 91, 91,
102,
Адсера A. (Adsera, A.) 310
Азиатский финансовый кризис
324
Айити Дж. (Ayittey, G.) 319
Акерлоф Дж. (Akerlof, G.) 50, 51,
52, 147, 251
Аксельрод P. (Axelrod, R.) 146
Алчиан A. (Alchian, A.) 18, 19
Андерсон (Anderson, E.) 269, 270,
277
Андерсон Т. (Anderson, Т.) 308,
353, 355, 357, 358, 366, 368, 370
Арато Э . (Arato, A.) 90 сн.
Арбитражные агентства 150
Аргентина 319
Армия спасения 236
Арнесон P. (Arneson, R.) 286
АртсУ. (Arts,W.) 166
АсемоглуД. (Acemolgu, D.) 303
Асимметрия информации 51-52,
67-69, 260-265
Африка
- структурные преобразования
318-319
- экономическая помощь 320
- экономический рост 311-312
Бадвар Н. (Badhwar, N.) 205
Банки, регулирование 167-168
Барбер Б. (Barber, В.) 31, 90, 101,
108
Барр Н. (Barr, N.) 250
Барри Б. (Barry, В.) 202 сн., 203
Барри Дж. (Barry, J.) 376, 388
Барри Н. (Barry, N.) 199
БарроР. (Barro, R.) 239
Бауэр П. (Bauer, P.) 301, 302, 314,
317
Бауэре Дж. (Bowers, J.) 369
Бедность 398
- и охрана окружающей среды
387,391-394
«Безбилетничество» 38, 45,
354 сн., 358
- международное экономиче-
ское развитие 339
- охрана окружающей среды
366,374
- проблема стимулов 109, 110,
219
- и рыночные цены 63, 64-65,
65 сн.
Бейден Дж. (Baden, J.) 380
Бейт P. (Bate, R.) 356
Бейто Д. (Beito, D.) 154, 236, 240,
246
БейцЧ. (Beitz, С.) 337
Беккер Г. (Becker, G.) 33, 111
Беккерман У. (Beckerman, W.)
392
Бенсон Б. (Benson, В.) 150, 367
Бенхабиб С. (Benhabib, S.) 90 сн.
Берг A. (Bergh, A.) 238, 238 сн.,
239, 239сн.,275сн.
Берггрен Н. (Berggren, N.) 149
Береджер A. (Bereger, A.) 69
Бернстрам М. (Bernstram, M.) 356
Бессар П. (Bessard, P.) 247
Бёттке П. (Boettke, P.) 32, 35, 39,
64, 68, 81, 139, 163, 296, 299
Бинсток М. (Beenstock, M.) 167
Бирдцел Л. (Birdzell, L.) 139, 304
Благотворительность 236
Благотворительность 256, 278
Бойер Дж. (Boyer, J.) 372 сн.
Больё С. (Beaulier, S.) 317
Бонд Э. (Bond, E.W.) 69
Боткин Д. (Botkin, D.) 383
Бохман Дж. (Bohman Дж.) 90 сн.
Браун М. (Browne, M.) 69
БремДж. (BrehmJ.) 136
Указатель
435
Бреннандж. (Brennan, G.) 110,
171,254,255
Бригхаус Г. (Brighouse, H.) 89, 124,
279
БутосУ. (Butos,W.)61
БхагватиДж. (Bhagwati, J.) 340
Бхала С. (Bhalla, S.) 342 сн.
Бьюкенен Дж. (Buchanan, J. M.)
15, 18, 20, 44, 46, 76, 77, 99, 104,
250, 257, 298, 368
Вайнгаст Б. (Weingast, В.) 303,
307
Вальрас Л. (Walras, L.) 33
Ван дер Балле Н. (Van de Walle,
N.) 318, 332
Ван Парьис (Van Parjis, P.) 279
Ванберг В. (Vanberg, V.) 20, 76, 77,
298, 368
Варгос Льоса A. (Vargos Llosa, A.)
319
Вашингтонский консенсус 311
Вебстер К. (Webster, С.) 360
Веддер P. (Vedder, R.) 240
Велан P. (Whelan, R.) 171, 237
Великобритания
- государственная система здра-
воохранения 248, 265
- гражданские объединения
170-171
- индустриализация 398
- образование 159 сн.
- регулирование землепользова-
ния 384
- экономическое развитие
302-305
Вендерс Дж. (WendersJ.) 245
Ветряные электростанции 386
Вильдавски (Wildavsky, A.) 393
Владение собственностью 15, 298,
300,307-308
- волостные и поселковые пред-
приятия 324
-и стимулы 221-228
Внешние эффекты (экстерналии)
38,43,349-350
- государственные услуги 256-
260
- инфрамаржинальные 257
- сетевые 49, 58, 164
- экологические проблемы 400
Волгемут М. (Wholgemuth, M.) 47,
81,92, 106, 112
Восточная Азия 322-327
Выхода (ухода) издержки 204
Выхода (ухода) принцип 15, 123
ВэнгЛ. (Wang, L.) 239
Гана, образование 245
Гаттмен Э. (Guttman, A.) 90 сн.
ГаусДж. (Gaus, G.) 276
ГвартниДж. (Gwartney,J.) 240,
305
Тендер и равенство ресурсов 287
Генрих Дж. (Henrich, J.) 149
Гибсон К. (Gibson, С.) 308, 321
Глобальная система перераспре-
деления 337
Глобальная совещательная демо-
кратия 333-335
Глобальный ресурсный дивиденд
337, 342
Глобальный финансовый кризис
59-60 сн., 61-62, 167
Гонконг 313,343
- уровень бедности 238
- экономический рост 315, 323,
324
Гордон П. (Gordon, P.) 240
Государственные услуги, предо-
ставление
- асимметрия информации
260-265
- внешние эффекты 256-260
- когнитивные искажения
265-267
- компромиссы 275-277, 281-
283
- реципрокность 272-275
436
Указатель
- с т.зр. классического либера-
лизма 241-249
- с т.зр. коммунитаризма 268-
277
- с т.зр. провалов рынка 249-
250, 252, 257, 275
- с т.зр. эгалитаризма 279-293
- этос общественного служения
270-272
Гражданские объединения 136,
163-164,168-169, 240
- помощь бедным 240
Гражданские предпочтения 378,
379,381
Грей Дж. (Gray,J.) 135, 240, 327
Грин Д. (Green, D.) 236, 246, 262
Гросман С. (Grossman, S.) 51, 63
Групповое представительство
115-127, 126,291
Группы и социальный капитал
170-171
ГудменДж. (Goodman, J.) 248
Гэмбл (Gamble, A.) 207
Далмен К (Dahlman, С.) 45, 357
Дания, социальное государство
275
Дворкин Р. 205, 220, 278, 279, 280,
394
- как рационалист-конструкти-
вист 193-195
- о социальной справедливости
181-183
Де Алесси М. (De Alessi, M.) 354,
355,365,369
ДебрёЖ. (Debreu, G.) 33
Демократические рынки 80
Демсец Г. (Demsetz, H.) 19, 44, 78
Децентрализация 102-103, 286
Джаблески Дж. (Jablecki, J.) 62
Джейкобе М. (Jacobs, M.) 357,
364
ДжоллзК. (Jolls, С.) 251
Джордж Г. (George, H.) 395 сн.
Диалогические институты 87, 89,
Дивайн П. (Devine, P.) 89, 91, 102
Диксон П. (Dixon, P.) 245, 261
Дир Д. (Deer, D.) 292 сн.
ДирД. (Deere, D.) 291 сн.
Дискриминация 119, 196
Добровольные объединения 273
- помощь бедным 234-238,
280-281
- и социальный капитал 151-
158
Доверие 130, 149, 165
- и государство 136-138
- и рынки 133-135
Дом д-ра Барнардо 236
Дорфингхаус (Dorphinghaus, H.)
69
Доули К. М. (Dowley, К. М.) 137
ДоусонДж. (Dawson, J.) 305
ДрайзекДж. (Dryzek, J.) 88, 376
Дружеские общества (friendly soci-
eties) 236, 239, 256, 261, 274
Дэвид П. (David, P.) 49
Дэвис С. (Davies, S.) 236, 240, 241
Дэниеле Н. (Daniels, N.) 279
Европейский Союз 335
- общая политика ЕС в сфере
рыболовства 369
- общая сельскохозяйственная
политика 369
Естественные монополии 49,
54-55
Завеса неведения 178, 180, 188,
189, 190, 199 сн., 200, 202
Зависимость от предшествующей
траектории 50, 59-60, 112, 125
- и международное экономиче-
ское развитие 310, 321
Заводы по переработке отходов
388, 390, 392, 398
Здравоохранение
- асимметрия информации 250,
260-265
Указатель
437
- классический либерализм
241-243,246-249
- с т.зр. провалов рынка 251,
252,259,260-265
- с т.зр. эгалитаризма 279, 283,
285
Знания проблема 13-14, 32, 38-44,
64-65, 80
- государственные услуги 259
- и глобальное управление
(governance) 336
- и социальная справедливость
-беспристрастность 198-204
- Дворкин, как рационалист-
конструктивист 193-195
- компромиссы 205-208, 209,
210
- распределение и стихийный
порядок 209-214
- Ролз, как рационалист-кон-
структивист 188-193
-угнетение 214
- Янг, как рационалист-кон-
структивист 196-198
- и социальный капитал 160-165
- международное экономиче-
ское развитие 307
- неявное знанияе 104-106
- политика в сфере охраны
окружающей среды 351, 379
- совещательная демократия
101-106
ИгерТ. (Yeager, Т.) 318
Иммигранты и социальный капи-
тал 157-159
Иммиграция 275, 275-276 сн.
Импортозамещение 311, 322
Индивидуализм 93-95
Индия, образование 245
Индия, экономические реформы
322
Индустриализация 398
Институты и экономическое раз-
витие 296-297
- институты, их важность 296-
297
- и неопределенность 299-301
- и предпринимательство 297-
298
- факты о 302-306
Институционалистская экономи-
ческая теория 131-132
Институциональное предприни-
мательство 356-363, 383
Инфрамаржинальные внешние
эффекты 257
Исландия, управление рыбными
угодьями 369-370
Истерли У. (Easterly, W.) 172, 308,
309, 320, 321, 322, 332, 343, 344
Истон С. (Easton, S. Т.) 305
Исходное положение 178, 179,
189,190
Йерштад С. (Gjerstad, S.)
ЙордальХ. (Jordahl, H.) 149
ЙоханссенД. (Johanssen, D.) 239,
275 сн.
Капитализм laissez faire 132
Каплан Б. (Caplan, В.) ПО, 140,
255, 330
Каули Дж. (CawleyJ.) 69
Кекес Дж. (Kekes., J.) 206, 287
Кения, экономическая помощь
320
Керизон-Прайс И. (Curzon -Price,
V.) 239
Кертин П. (Curtin, P.) 138
Кимлика У. (Kymlicka, W.) 222
Кинг П. (King, P.) 171
Кинг P. (King, R.) 305
Кирцнер И. (Kirzner, I.) 41, 64
Китай
- волостные и поселковые пред-
приятия 312, 324
- сообщества собственников
359
- частная собственность 324
- экономические реформы 322
438
Указатель
- экономическое развитие 304,
311,316,325
Классический либерализм 15-22,
406
- государственные услуги 241-
249
- здравоохранение 241-243,
244-249
- защита окружающей среды
348-363
- возражения с т.зр. коммуни-
таризма 375-384
- возражения с т.зр. провалов
рынка 363-375
- возражения с т.зр. эгалита-
ризма 387-403
- институциональное пред-
принимательство 357-363
- права собственности 354-
356
- проблема знания 351
- проблема стимулов 352-353,
353 сн.
- международное экономиче-
ское развитие 296-309
- возражения с т.зр. провалов
рынка 309-327
- возражения с т.зр. эгалита-
ризма 335-346
- институты и неопределен-
ность 299-301
- институты и предпринима-
тельство 297-298
- институты, их важность
296-297
- коммунитаристские возра-
жения 327-335
- конкуренция 301-302
- путь к классическому либера-
лизму 306-309
- фактические данные об ин-
ститутах и экономическом
развитии 302-306
- образование 241-243, 244-246
- помощь бедным 234-241
- социальные пособия, система
- возражения с т.зр. провалов
рынка 249-267
- государственные услуги
241-249
- здравоохранение 241-243,
244-249
- коммунитаристские возра-
жения 268-277
-образование 241-243, 244-
246
- помощь бедным 234-241
- эгалитаристские возраже-
ния 277-293
- и социальный капитал 138-
150
- и соотношение со связываю-
щим социальным капиталом
151-159
- связывающий социальный
капитал, значение 141-146
- связывающий социальный
капитал, стихийное поро-
ждение 146-150
Климатические изменения 364,
371-375
Кодато Р (Cordato, R.) 352
Койн К. (Coyne, С.) 320
Колдуелл Б. (Caldwell, В.) 38
Коллективные блага 38, 350, 354
- помощь бедным 249, 252-256
Коллективные блага 45, 362, 366,
368, 369, 370
Коллективные действия 111, 353,
353 сн., 358, 373, 374, 393, 396,
408
Командно-административное
(command and control) регули-
рование 350, 351, 377
Коммуникативная рациональ-
ность 98
Коммунитаризм 84
- гражданские объединения
136,170
-доверие 130, 133-138
Указатель
439
- классический либерализм
о системе социальных посо-
бий, возражения 268-277
- коммуникативная рациональ-
ность и социальный капитал
331-333
- коммуникация 121-127
- культурная однородность
329-331
- международное экономиче-
ское развитие с т.зр. класси-
ческого либерализма, возра-
жения 327-335
- неравенство 124-127
- образование 270
- охрана окружающей среды с
т.зр. коммунитаризма, возра-
жения против 375-384
- рынки экологических благ и
общее благо 378-381
- эволюция экологических
предпочтений 381-385
- экологическая этика 385-
387
- переговоры 122
- представительство 115-121
- проблема знания 100-106, 121
- проблема стимулов 107-113
- равное уважение 113-115, 124
- совещательная демократия
88-92, 101-104, 106,
- совещательная демократия,
наднациональная 333-335
- социальный капитал 130,
133-138
- этос общественного служения
270-272
- реципрокность 272-275
- компромиссы 275-277
Компания по улучшению жилищ-
ных условий в промышленно-
сти 236
Компромиссы 205-208
- качество окружающей среды
394
- общины и социальное госу-
дарство 275-277
- переговоры и коммуникация
121-123
- равенство и социальное госу-
дарство 281-283
Конкуренция 21, 41, 48, 53,
- в межународном экономиче-
ском развитии 301-302
- в системе социальных посо-
бий 284-285
- в сфере охраны окружающей
среды 360
Конструирование (дизайн, про-
ектирование) институтов 19,
20,76
Кооперативы 236, 271, 273
- потребительские 261
-рабочие 164, 214
КопплР. (Koppl, R.)61
Космополитический коммунита-
ризм 328, 333
Коуз P. (Coase, R. Н.) 44, 70-71,
153, 356, 357
КоулменДж. (Coleman,J.) 245
Коулсон (Coulson, A.) 244, 245
Коуэн Т. (Cowen, Т.) 147, 238, 240,
283, 330, 364,
Коэн Дж. (Cohen, G.) 219 сн.
Коэн Дж. (Cohen, J.) 90 сн.
Кредитные рейтинги 62, 68-
69 сн.
Кредитные союзы 236
Крэмптон Э. (Crampton, E.) 147
Куайен (Quian, Y.) 304
Кукатас Ч. (Kukathas, С.) 15, 119,
144, 193-194, 202 сн., 203, 228,
338, 339, 342, 345
Культура и социальный капитал
157-159
Культурная «привязка» 112, 164
Культурная однородность 327,
329-331
Культурное угнетение 184
Культурные бренды 158, 160
440
Указатель
Культурные нормы 227, 299
КуранТ. (Kuran, Т.) 99, И1
Лавой Д. (Lavoie, D.) 43, 64, 66,
118,330
Ладд (Ladd, E.) 163
Лай Л. (Lai, L.) 360
Лаклау Э. (Laclau, E.) 90 сн.
Лал Д. (Lai, D.) 306, 316, 323, 326,
341, 341 сн., 342 сн.
Ланге О. (Lange, О.) 36
ЛандаДж. (Landa,J.) 158
Латинская Америка 312, 319, 321
Левайн P. (Levine, R.) 305
Левин П. (Lewin, P.) 59
Лейбовиц С. (Leibowitz, S.) 58, 313,
371
Либертарианский патернализм 251
Лил Д. (Leal, D.) 353, 355, 357, 368
Линдбек A. (Lindbeck, A.) 239
Лисон П. (Leeson, P.) 13, 150,
285 сн., 367
Локка оговорка 222, 401
Ломаски Л. (Lomasky, L.) ПО, 171,
217, 226 сн., 228, 254, 255, 338,
345
Ломборг Б. (Lomborg, В.) 372 сн.
Лоусон P. (Lawson, R.) 240
Льюке С. (Lukes, S.) 210
Макинтайр A. (Maclntyre, А.)
84 сн., 85, 86
Маккалум С. (MacCallum, S. Н.) 359
Макклоски Д. (McCloskey, D.) 138,
140, 146 сн.
Маккой Э. (McCoy, E. D.) 383
Макроэкономический провал
60-61
Макфарлейн A. (MacFarlane, A.)
МальбергДж. (Mulberg,J.) 364
Марголис С. (Margolis, S.) 58, 313,
371
Маркс К. (Marx, К.) 88
Махай М. (Machaj, M.) 62
Мацуяма К. (Matsuyama, К.) 317
Медема С. (Medema, S.) 45, 70
Международное экономическое
развитие
- возражения с т.зр. провалов
рынка 309-327
- восточноазиатская модель
322-327
- зависимоть от предыдущей
траектории 313-317
- структурные преобразова-
ния 317-322
- классический либерализм
- институты, их важность
296-297
- институты и неопределен-
ность 299-301
- институты и предпринима-
тельство 297-298
- институты и экономическое
развитие, факты 302-306
- конкуренция 301-302
- путь к классическому либера-
лизму 306-309
- коммуникативная рациональ-
ность и социальный капитал
331-333
- коммунитаристская точка зре-
ния 327-335
- культурная однородность
329-331
- совещательная демократия,
наднациональная 333-335
- эгалитаристская точка зрения
335-336
- система перераспределения
- социальная справедливость
345-346
Мидоукрофт Дж. (Meadowcroft, J.)
129 сн.
Мизес Л., фон (Mises, L., von) 37,
156
Миллер Д. (Miller, D.) 85 сн., 87,
194, 275, 328
Минасян Дж. (Minasian,J. R.)
355 сн.
Указатель
441
Минимальное государство 20
МитчД. (Mitch, D.) 244
Митчел У. (Mitchell, W. С.) 45, 46,
81
Модфицированный тест Милля
187,213,220,329,334
Монополии 49, 54-55
Монтгомери Д. (Montgomery, D.)
356
Монтескье Ш. (Montesquieu, Ch.)
146 сн.
Моральные нормы 143-146
Моррис Дж. (Morris, J.) 391
МоуТ. (Мое, Т.) 245
МутцД. (Mutz,D.)120
Муфф Ш. (Mouffe, С.) 90
МьйинтХ. (Myint, H.) 306
Мэтьюс Дж. (Mathews,J.) 56, 65
Мюрдаль Г. (Myrdal, G.) 309
«Мягкие» институциональные
нормы 165
НайтФ. (Knight, F.) 31
Наследования эффект 125
Нацизм 200
Неисключаемость 349
Нельсон P. (Nelson, R.) 359, 360
Неопределенность 299-301
Неравенство 124-127, 179-180,
181-182
Неравенство структурное 281, 290
Несовершенная конкуренция 53,
55
Несоперничество при потребле-
ниии 349
Несправедливость структурная
185,215
Неявно знание 104-106
Нигерия, образование 245
Нидерланды, экономическое раз-
витие 303
Новая Зеландия, охрана окружаю-
щей среды 369-370
«Новая» теория провалов рынка
48-72
- «привязка» (lock -in) 58
- асимметрия информации
67-69
- зависимость от прошлого
пути 59-60
- конкуренция 54-58
- макроэкономический провал
60-61
- регулирование, осуществляе-
мое предпринимателями 69
- теория общественного выбо-
ра 69-71
- цены 63-67
См. тж Провалы рынка
Нозик P. (Nozick, R.) 85, 207 сн.,
217,
НорбергЙ. (NorbergJ.) 397-398
Нордхаус У. (Nordhaus, W.)
372 сн.
Нормы распределительные 192,
197, 203, 226
НортД. (North, D.) 139, 296, 297,
303, 315
Нортон С. (Norton, S.) 356
Ноттурно М (Notturno, M.) 101
О'Дрискол Дж. (O'Driscoll, G.) 57,
61,64, 42 сн., 168
Обособленность личностей 216-
221
Образование
- с т.зр. классического либера-
лизма 241-243, 244-246
- с т.зр. коммунитаризма 269-
270
- с т.зр. эгалитаризма 279, 286-
287
- с т.зр. провалов рынка 250,
258
Общего котла проблемы 219, 220,
221, 348, 349, 354, 358, 362, 368
Общее равновесие 33, 48, 191
Общественные блага. 350
Общественный выбор, теория 45,
69-71,99
442
Указатель
«Общий котел», ресурсы, находя-
щиеся в режиме 354, 358
Общность 95-96, 100
Объединения взаимопомощи 236,
237,240,256,261,274,278,
Обязывающий социальный капи-
тал (bonding social capital) 130,
141-142, 151-159, 171
Огилви С. (Ogilvie, S.) 143
Ограниченные способности 194,
205
Олосн М. (Olson, M.) 45, 46, 109,
170
Оптимальность по Парето 33
Органическая (натуральная)
пища, рынок 382
Орсхот В., ван (Oorschot, W.) 166
Остром (Ostrom, E.) 14, 358, 361,
362, 370, 396
Отрицательный отбор 52, 68, 251,
262
ОттесонДж. (Otteson,J.) 19, 145
Охрана окружающей среды
- с т.зр. классического либера-
лизма 348-363
- институциональное пред-
принимательство 357-363
- права собственности 354-
363
- проблема знания 351
- проблема стимулов 354
- с т.зр. коммунитаризма 375-
384
- рынки экологических благ и
общее благо 378-381
- эволюция экологических
предпочтений 381-385
- экологическая этика 385-387
- с т.зр. провалов рынка 363-
375
- климатические изменения
371-375
- права собственности, необ-
ходимость государства для
365-370
- сотрудничество и монополь-
ная власть 370-371
- с т.зр. эгалитаризма 387-403
- экологическая справедливость
394-399
- бедность, неравенство и
защита окружающей среды,
взаимосвязь между 391-394
- компромиссы 206, 394
- права собственности, класть
и климатическая справедли-
вость 399-403
Пайпс P. (Pipes, R.) 139
Палмер Т. (Palmer, Т.) 202
Панглосса ошибка
- и классический либерализм
72-78
- и политика 78-82
Парето В. (Pareto, W.)
Парниковые газы, выбросы 356,
372, 372, 375, 390, 400
Пасек Дж. (Pasek, J.) 392
Патнем P. (Putnam, R.) 136, 141
Пауэлл Б. (Powell, В.) 324, 326
Пейович С. (Pejovich, S.) 301, 301
Пеннингтон М. (Pennington, M.)
129 сн., 360, 361,367
Первого владения правило 222,
223, 224, 400
Переговоры 121-123
Перераспределение
- между странами 226-228
- и охрана окружающей среды
392-393
- помощь бедным 234-238, 240,
249-250, 392
- с т.зр. эгалитаризма 280, 280-
281,284-290
Пинсионе Г. (Pincione, G.) 108
Планирование на основе аренды
359
ПлантР. (Plant, R.) 131,210
«Плотные» моральные нормы
143-146
Указатель
443
Поведенческая экономика 251,
266
Погге Т. (Pogge,T.) 226, 335-337,
342
Поланьи (Полани) К. (Polanyi, К.)
132
Поланьи М. (Polanyi, M.) 104, 124
Политика различий 184
- глобальная 337, 344
- загрязнение 390, 400
- и политика в сфере охраны
окружающей среды 389
- и помощь бедным 280-281
См. тж Парниковые газы, вы-
бросы; Охрана окружающей
среды
Политические переговоры 123
Померанц К. (Pomerantz, К.) 315
Помощь бедным
- гражданские объединения 240
- как коллективное благо 249,
252-256
- с т.зр. классического либера-
лизма 234-241
- с т.зр. провалов рынка 249-
256
- с т.зр. эгалитаризма 279, 280-
281, 285
Постан М. (Postan, M.) 138
Потребительские кооперативы
261
Потребительские предпочтения
378, 381
Права негативные 199
Права собственности 18-19, 307-
308
- институциональное предпри-
нимательство 356-363, 382
- и неопределенность 300
- и охрана окружающей среды
354-363, 399-402
- государство, его роль 265-
270
- предпочтения, эволюция
381-385
- рынки и общее благо 378-
381
- этика 385-387
- и предпринимательство 298
Предпочтения 33, 39, 43, 107, 378,
379,381-385
Предпочтения, фальсификация
111
Предприниматели
- и институты 297-298, 356-363,
383
- осуществляемое ими регули-
рование 69
- и проблема знания 42, 64-66,
162
- создание доверия 147
- управление в сфере охраны
окружающей среды 357-360
Предпринимательское вообра-
жение 64
Представительство 115-121, 126
Представительство самого себя
(self-representation) 118,
Приватизация 70, 81, 82
«Привязка» (lock-in) 49, 58, 111-
112,164,313-317
Причитко Д. (Prychitko, D.) 103
Провал государства
- проблема знания 160-165
- проблема стимулов 46, 81,
165-172
Провалы рынков 32
- «новая» теория провалов рын-
ка 48-72
- асимметрия информации
67-69
- зависимость от прошлого
пути 59-60
- конкуренция 54-58
- макроэкономический про-
вал 60-61
- привязка (lock-in) 58
- регулирование, осуществ-
ляемое предпринимателя-
ми 69
444
Указатель
- теория общественного вы-
бора 69-71
- цены 63-67
- «старая» теория провалов
рынка 36-44
- здравоохранение 251, 252, 259,
260-265
- классический либерализм о
системе социальных пособий,
возражения 249-267
- асимметрия информации
260-265
- государственные услуги и
положительные внешние
эффекты 256-260
- здравоохранение 251, 252
- когнитивные искажения
265-267
- образование 250, 258
- помощь бедным 251-252
- помощь бедным как коллек-
тивное благо 249, 252-256
- международное экономиче-
ское развитие с т.зр. класси-
ческого либерализма, возра-
жения 309-327
- восточноазиатская модель
322-327
- зависимость от преддей тра-
ектории 313-317
- структурные преобразова-
ния 317-322
- охрана окружающей среды
348-351
- охрана окружающей среды с
т.зр. классического либера-
лизма, возражения против
363-375
- климатические изменения
371-375
- права собственности, необ-
ходимость государства для
365-370
- сотрудничество и монополь-
ная власть 370-371
- проблема знания 38-44
- проблема стимулов 45
- спор об экономическом расче-
те при социализме 36-38
Протекционизм 332, 339-340
Пулидо Л. (Pulido, L.) 389
Рабочие кооперативы 164, 214
Равенство ресурсов 182, 193
- и тендерные различия 287
- государственные услуги 286-
289
- и компромиссы 205
- охрана окружающей среды
394-395, 403
Равновесный анализ 32-36, 191
Радикальное незнание 43, 64
Развивающиеся страны
- образование 245, 261
- и проблемы охраны окружа-
ющей среды 356, 289-290,
398
- социальный капитал и прова-
лы государства 172
Развитие экономическое
- возражения с т.зр. провалов
рынка 309-327
- восточноазиатская модель
322-327
- зависимость от предыдущей
траектории 311, 313-317
- структурные преобразова-
ния 317-322
- классический либерализм
- институты и неопределен-
ность 299-301
- институты и предпринима-
тельство 297-298
- институты и экономическое
развитие, факты 302-306
- институты, их важность
296-297
- конкуренция 301-302
- путь к классическому либера-
лизму 306-309
Указатель
445
- коммуникативная рациональ-
ность и социальный капитал
S31-333
- коммунитаристская точка зре-
ния 327-335
- культурная однородность
329-331
- совещательная демократия,
наднациональная 333-335
- эгалитаристская точка зрения
335-346
- система перераспределения
338-344
- социальная справедливость
345-346
Различия принцип 179, 180, 202,
205,217,284
- и компромиссы 205
- в международном масштабе
226, 228, 337, 339
«Разреженные» моральные нормы
143, 144
РайфД. (Ryfe, D.) 117
Раковски Э. (Rakowski, E.) 279
Рамси М. (Ramsey, M.) 31
Ран У. (Rhan,W.)136
Распределение экологических
благ 388,396
Рациональная иррациональность
110-113
Рациональное незнание 107-110
Рациональный выбор 99
Рейнольде A. (Reynolds, A.) 290
Рентоориентированное поведе-
ние 46, 169-170
Репутация 158
- создание 69, 147
Ресурсы «с открытым доступом»
46, 348-349,354,368, 400
Реципрокность 272-275
Риккетс М. (Ricketts, M.) 261, 271,
358
Риск недобросовестности 237,
264,308,321,324
Риццо М. (Rizzo, M.) 57, 42 сн., 64,
77, 266
Робастная политическая эконо-
мия
- классический либерализм
15-22
- сравнительный институцио-
нальный анализ 13-14
Робинсон Дж. (Robinson, J.) 38
Родрик Д. (Rodrik, D.) 305
Розенберг Н. (Rosenberg, N.) 139,
304
Розенштейн-Родан П. (Rosenstein
-Rodan, P.) 309, 310
РолзДж. (RawlsJ.) 85, 197-202,
205, 216-220, 226,228, 278
- как рационалист-конструкти-
вист 188-193
- о социальной справедливости
176-180
Ромер П. (Romer, P.) 297
Роуз С. (Rose, S.) 290
Рыбные угодья, управление 349,
369
Рынки 39
-переговоры 122-123
- регулирование, осуществляе-
мое предпринимателями 69
- эволюционная функция 98
- исторический миф о 131-133
- неравенство 125-126
- стихийное происхождение
138-141
- неявное знание 105-106
Рынки в интернете 68
Рыночная экономика 17-18, 3939-
41,77,97
РэйД. (Ray, D.)310
Сабрик P. (Subrick, R.) 13, 317
Сагофф М. (Sagoff, M.) 378, 379
Саймон Г. (Simon, H.) 14
Саймон Дж. (Simon, J.) 395 сн.
Сакс Дж. (Sachs, J.) 311, 343
Салани Б. (Salanie, В.) 69
446
Указатель
Салли P. (Sally, R.) 301, 302, 318,
322, 334
Састейн (Sunstein, С.) 251, 270,
372
Сван Т. (Swan, Т.) 297
СвенссонДж. (Svensson, J.) 305
Свободный рынок как историче-
ски миф 131-133
Связывающий социальный ка-
питал (bridging social capital)
141-146, 171,332
- и соотношение с обязываю-
щим социальным капиталом
151-159
- стихийное порождение 146-
150
См. тж Социальный капитал
Семьи и социальный капитал
151-158
Сетевые внешние эффекты (экс-
ерналии) 49, 59, 164
Сетевые отрасли 58, 371
Силвер Б. Д. (Silver, В. D.) 137
СилверМ. (Silver, М.) 138
Симмонс P. (Simmons, R.) 45, 46,
81
Сингапур 317
- здравоохранение 247
- экономический рост 323, 324
Сирмен (Sierman, С. J.) 305
Системный провал на финансо-
вых рынках 61-62
Скопол Т. (Skcopol, Т.) 154
См. тж Социальный капитал
Смит А. 145, 146
Смит В. (Smith, V.) 61, 262
Смит Г. (Smith, G.) 90, 376, 386
СнеллД. (Snell, D.) 138
Совершенная конкуренция 42
Совещательная (deliberative) де-
мократия 88-92, 107-114, 124
- и социальная справедливость
197
- на наднациональном уровне
333-335
Совещательная демократия вме-
сто «ухода»
- нравственный аргумент
-коммуникация 123-124
- переговоры и коммуникация
121-123
-представительство 115-121
- равенство/неравенство
124-127
- равное уважение 113-115
- проблема знания
- синоптическая иллюзия
101-104
- неявное знание 104-106
- проблема стимулов
- рациональная иррациональ-
ность 110-113
- рациональное незнание
107-110
Солон Дж. (Solon, G.) 290
СолоуР. (Solow, R.)297
Сомин И. (Somin, I.) 71, 107, 108,
169
Сообщества собственников 360,
371
Сото Э., де (De Soto, H.) 139
Соубел P. (Sobel, R.) 285 сн.
Соуэлл Т. (Sowell, Т.) 104, 119,
159
Социальная справедливость
- государственные услуги 277-
281,284-293
-ДворкинР. 181-183
- международное развитие
335-346
- охрана окружающей среды
387-403
- проблема знания
-беспристрастность 198-204
- Дворкин, как рационалист-
конструктивист 193-195
-компромиссы 205-208, 209,
210
- распределение и стихийный
порядок 209-214
Указатель
447
- Роллз, как рационалист-кон-
структивист 188-193
-угнетение 214
- Янг, как рационалист-кон-
структивист 196-198
- проблема стимулов
- обособленность личностей
216-221
- собственность 221-228
- РоллзДж. 176-180
-Янг А. 183-187
Социальные пособия, система
- возражения с т.зр. провалов
рынка 249-267
- государственные услуги 241-
249
- здравоохранение 241-243,
244-249
- коммунитаристские возраже-
ния 268-277
- образование 241-243, 244-
246
- помощь бедным 234-241
- эгалитаристские возражения
277-293
Социальные пособия, система
- с т.зр. классического либера-
лизма
- здравоохранение 241-243,
246-249
- государственные услуги
241-249
- образование 241-243, 244-
246
- помощь бедным 234-241
- с т.зр. коммунитаризма 268-
277
- компромиссы 275-277
- реципрокность 272-275
- этос общественного служе-
ния 270-272
- с т.зр. провалов рынка 249-
267
- асимметрия информации
260-265
- государственные услуги и
положительные внешние
эффекты 256-260
- здравоохранение 251, 252
- когнитивные искажения
265-267
- образование 250, 258
- помощь бедным 252
- помощь бедным как коллек-
тивное благо 249, 252-256
- с т.зр. эгалитаризма 279-293
- компромиссы 281-283
- конкуренция и стихийный
порядок 284-289
-равенство 281-283
- социальная справедливость
284-289
- угнетение 289-293
Социальный капитал 130, 133-138
- его эволюция
- проблема стимулов 165-172
- классический либерализм
- связывающий социальный
капитал, значение 141-146
- связывающий социальный
капитал, стихийное поро-
ждение 146-150
- и соотношение со связываю-
щим социальным капиталом
151-159
- проблема знания 160-165
Социальный статус 281, 290
Справедливость распределитель-
ная 179, 192, 209, 237, 277, 278,
279,291-292
Сравнительный институциональ-
ный анализ 13-14
СССР 79, 140
Стабблбайн К. (Stubblebine, С.)
257
Стадный инстинкт 50, 60, 62 сн.,
112
«Старая» теория провалов рынка
36-44
- проблема знания 38-44
448
Указатель
- проблема стимулов 45
- спор об экономическом расче-
те 36-38
См. тж Провалы рынков
Статус, социальный 281, 290
Стейнер (Steiner, H.) 395 сн.
Стекбек М. (Steckbeck, M.) 68, 163
Стерн Н. (Stern, N.) 375
СтиглерДж. (StiglerJ.) 33
Стиглиц Дж. (Stiglitz, J.) 22, 34, 48,
51, 52, 54, 56, 66, 67, 70, 73, 147,
312,324
СтилД. (Steele, D.) 381
Стимулы 14, 32, 45
- здравоохранение 264
- обособленность личностей
216-221
- охрана окружающей среды 354
- провалы государства 81, 165-
172
- рациональная иррациональ-
ность 110-113
- рациональное незнание 107—
ПО
- и собственность 221-228
- социальный капитал и 165-172
Стихийные порядки 17, 94, 95-96
- и зависимость от предшеству-
ющей траектории 112
- и конкуренция 284, 359
- в международной торговле
149-150
- и ответственность 209
- социальный капитал как 163
СторрВ. (Storr,V.) 156
Страхование 52, 262, 264
Страхование медицинское 262-
264,280
Страховые кооперативы 236
СтрейтМ. (Streit, M.) 65 сн.
Стрингхэм Э. (Stringham, E.) 371
Строуп P. (Stroup, R.) 225, 380
Структурная несправедливость.
См. Несправедливость структур-
ная
Структурное неравенство. См. Не-
равенство структурное
Структурные преобразования
317-322
Стурм Дж. (Sturm, J.) 304
Субстандартные ипотечные кре-
диты, пузырь на рынке 59 сн.
США
- здравоохранение 248-249, 265
283
- культура, этничность и соци-
альный капитал 157-159
- сообщества собственников
360
- социальная мобильность 290
- социальный капитал 154-155,
157-158
- ссудосберегательные ассоциа-
ции 168
- ураган Катрина 285 сн.
- Федеральная резервная сис-
тема 61
- экономическое развитие
303-304
- японские трудовые практи-
ки 156
Таиланд, образование 245
Тайвань 312, 323, 326
Талер P. (Thaler, R.) 251
Таллок Дж. (Tullock, G.) 45, 46, 71,
99, 109, 169
«Твердые» институциональные
нормы 165, 172,299
Теббл A. (Tebble, А.) 96, 103, 116,
117, 207 сн., 208 сн., 275 сн.
Тейлор Ч. (Taylor, С.) 84 сн., 85
«Теория справедливости» (Роллз)
177
Тернер Д. (Turner, D.) 357
Тернер Т. (Turner, Т.) 172
Тессон Ф. (Tesson, Е) 108
Тимберлейк P. (Timberlake, R.)
167
Толерантность 119, 120-121, 201
Указатель
449
Томас P. (Thomas, R.) 315
Томпсон Д. (Thompson, D.) 90 сн.
Томсен Э. (Thomsen, E. F.) 64,
65 сн., 66,
Торговые марки (бренды) 148, 149
Торстенссон Й. (Torstensson, J.)
305
Трагард Л. (Tragardh, L.) 274 сн.
Трест Пибоди 236
Тули Дж. (TooleyJ.) 244, 245, 261
Уайт Л. (White, L.) 62, 69 сн., 167
Уважение, равное 113-115, 176,
181, 184, 187, 199
Угнетение (притеснение) 87, 116,
119, 184,214,289-293
Удача благодаря выбору 182, 220,
287
Удача слепая 182, 220, 278, 286-
287, 337
Узланер Э. (Uslaner, E.) 136
Уитмен Д. (Wittman, D.) 77 сн., 78,
79
Уиттмен Д. (Whittman, D. G.) 266
Уолкер М. (Walker, M.) 305
Уоллисон П. (Wallison, P.) 62, 168
Уорнер Э. (Warner, A.) 343
Уход и совещательная демократия
- нравственный аргумент
- коммуникация 123-124
- переговоры и коммуникация
121-123
- проблема знания
- неявное знание 104-106
- синоптическая иллюзия
101-104
- проблема стимулов
- рациональная иррациональ-
ность 110-113
- рациональное незнание
107-110
- равное уважение 113-115
-представительство 115-121
- равенство/неравенство
124-127
Уэйд P. (Wade, R.) 312, 323, 327
Уэйлз К. (Wales, С.) 90
Уэлч Ф. (Welch, E) 291 сн.
Уэлч Ф. (Welch, Е) 292 сн.
Уэст Э. Дж. (West, E. G.) 244
Физер Э. (Feser, E.) 223, 224, 225
Филиппины, образование 245
Филипсон Т. (Philipson, Т.) 69
Финансовые рынки, системный
крах 61, 62
Финансовые услуги, отраслевое
регулирование 271
Финансовый кризис 2008 г. 61,
59-60 сн., 167
Фирмы и социальный капитал
155-157
Фичем P. (Feachem, R.) 248
Фолстер С. (Folster, S.) 239
Франция, уровень бедности 239-
239,
Фрейзер Н. (Fraser, N.) 90 сн.
Фридмен Дж. (Friedman, J.) 18, 60,
61, 62 сн., 67, 69 сн., 206, 253
Фукуяма Ф. (Fukayama, F.) 139 сн.,
156,240
XaaH(Haan,J.)304
Хабермас Ю. (Habermas, J.) 87,
89,91
Хайек Ф. (Hayek, F. А.) 15, 16, 19,
34, 38-44, 55, 74, 93, 94, 97, 101,
102, 103, 106, 121, 123, 142, 147,
151, 189, 192, 201, 208 сн., 209,
241,283,298,300,301
Хайндмур Э. (Hindmoor, A.) 164,
214
Хардин P. (Hardin, R.) 107, 163,
171
Харпер Д. (Harper, D.) 300, 301,
304,
Хейибу С. (Hejeebu, S.) 138
Хейуорд Т. (Hayward, Т.) 390
Хенрексон М. (Henrekson, M.)
239
450
Указатель
Херцлингер P. (Herzlinger, R.) 247,
264, 283
Хили П. (Healey, P.) 136
ХиллДж. (Hill, G.)50
Хилл П. (Hill, P. J.) 365, 366, 368, 370
Хименес Э. (Jimenez, E.) 245
Ходжсон Дж. (Hodgson, G.) 133,
134, 135, 143, 268
Хорвиц С. (Horwitz, S.) 105, 152,
154
Хоскинс Л. (Hoskins, L.) 61, 168
Хоскинс У. (Hoskins, W.) 168
ХоффК. (Hoff, К.) 310
Хоффер Т. (Hoffer, Т.) 245
Хуан Я. (Huang, Y.) 139, 316, 324,
324 сн., 326, 366
Хыосок Г. (Husock, H.) 237
Ценовые методы регулирования,
политика в сфере охраны окру-
жающей среды 350, 351
Цены, система 50, 63-67
Чабб Дж. (Chubb, J.) 245
ЧейзЭ. (Chase, А.) 383
Чемберлин Э. (Chamberlin, Е. Н.)
38
Чемли-РайтЭ. (Chamlee -Wright, E.)
118, 157, 158, 160, 161, 164, 330
Чешир П. (Cheshire, P.) 369
Чиапорре П. (Chiappore, P.) 69
Чили 320, 321,322, 330
Чой (Choi,Y. В.) 290, 323, 339
ЧонД. (Chong, D.)99
Шадсон М. (Schudson, M.) 163
Шапиро Д. (Shapiro, D.) 238, 247,
256, 264, 287
Шаудури Л. Н. (Chauduri, К. N.)
138
Швейцария 238-239, 284, 286
Швеция 284
- система социальных пособий
275,274-275 сн.
- уровень бедности 238-239
- экономический рост и перера-
спределение 239
Шиллер P. (Shiller, R.) 50
Шмидц Д. (Schmidtz, D.) 199 сн.,
217, 219, 222, 238, 273, 274, 392
Шредер-Фрехете К. (Shreder -Fre-
chete, К. S.) 383
Шу Г. (Shue, H.) 389, 390, 397
Эволюция в условиях рынка 17,
20, 72-82, 98
Эгалитаризм 175-176
- здравоохранение 279, 283, 287
- классический либерализм о
системе социальных пособий,
возражения 277-293
- конкуренция и стихийный
порядок 284-289
-равенство 281-283
-угнетение 289-293
- социальная справедливость
284-289
- компромиссы 281-283
- международное экономиче-
ское развитие с т.зр. класси-
ческого либерализма, возра-
жения 335-346
- система перераспределения
338-344
- социальная справедливость
345-346
- образование 279, 286-287
- охрана окружающей среды с
т.зр. классического либера-
лизма, возражения против
387-403
- бедность, неравенство и
защита окружающей среды,
взаимосвязь между 391-394
- компромиссы 394
- права собственности, класть
и климатическая справедли-
вость 399-403
- экологическая справедли-
вость 394-399
Указатель
451
- политика различий 184
- глобальная 337, 344
- и политика в сфере охраны
окружающей среды 389
- и помощь бедным 280-281
- принцип различия 179, 181,
202, 205, 217, 284
- в международном масштабе
226, 228, 337, 339
- и компромиссы 205
- проблема знания
- беспристрастность 198-204
- Дворкин, как рационалист-
конструктивист 193-195
- компромиссы 205-208, 209,
210
- распределение и стихийный
порядок 209-214
- Ролз, как рационалист-кон-
структивист 188-193
-угнетение 214
- Янг, как рационалист-кон-
структивист 196-198
- проблема стимулов 216-228
- стимулы и собственность
221-228
- обособленность личностей
216-221
- равенство ресурсов 182, 193
- охрана окружающей среды
394-396, 403
- и тендерные различия 287
- государственные услуги
286-289
- и компромиссы 205
- равное уважение 176, 181, 184,
187, 199
- социальная справедливость
-Дворкин 181-183
-Ролл з176-180
-Янг 183-187
Эггертсон Т. (Eggertsson, Т.) 297,
300,301,303
Эгоистический интерес 15, 109
Эдварде С. 320, 321
Эккерсли P. (Eckersley, R.) 388,
390
Экологическое пространство 390,
394, 397, 399
Экономическая помощь, междуна-
родная 320, 339, 345
Экономический расчет, спор о
36-38
Экстерналии. См. Внешние эф-
фекты
Элликсон P. (Ellickson, R.) 366
Эллисон П. (Allison, P.) 146
Эпстейн P. (Epstein, R.) 154
Эрроу К. (Arrow, К.) 33, 34, 250
Этничность и социальный капи-
тал 157-159
Юделл Дж. (Udell, G.) 69
Южная Корея 323
- индустриализация 398
- экономический рост 312, 326
Юм Д. (Hume, D.) 144-145
Юрисдикции конкуренция 98, 99,
105, 106, 122
Юсуф С.( Yusuf, S.) 312, 324
Янг A. (Young, I.) 85 сн., 87, 89, 91,
96, 102, 113, 115, 119, 126, 190,
206, 213, 214, 220, 280, 290, 328-
329, 337, 344
- как рационалист-конструкти-
вист 196-198
- о социальной несправедливо-
сти 183-187
Янг К. (Young, С.) 172
Япония 343
- индустриализация 398
-кейрецу 317
- рыболовецкие кооперативы
365
- трудовые практики 156
- экономический рост 312, 326
СО2, выбросы 356, 372, 373,392,400
Марк ПЕННИНГТОН
КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ
И БУДУЩЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ
Подписано в печать 2.06.2014. Формат 60x90/16.
Бумага офсетная. Гарнитура «NewBaskervillelTC».
Усл. печ. л. 28,5. Тираж 1000 экз. Заказ 5758.
ОАО «Мысль»,
тел.: (495) 330-51-98
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru, www.oaoMnK.pcp тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685