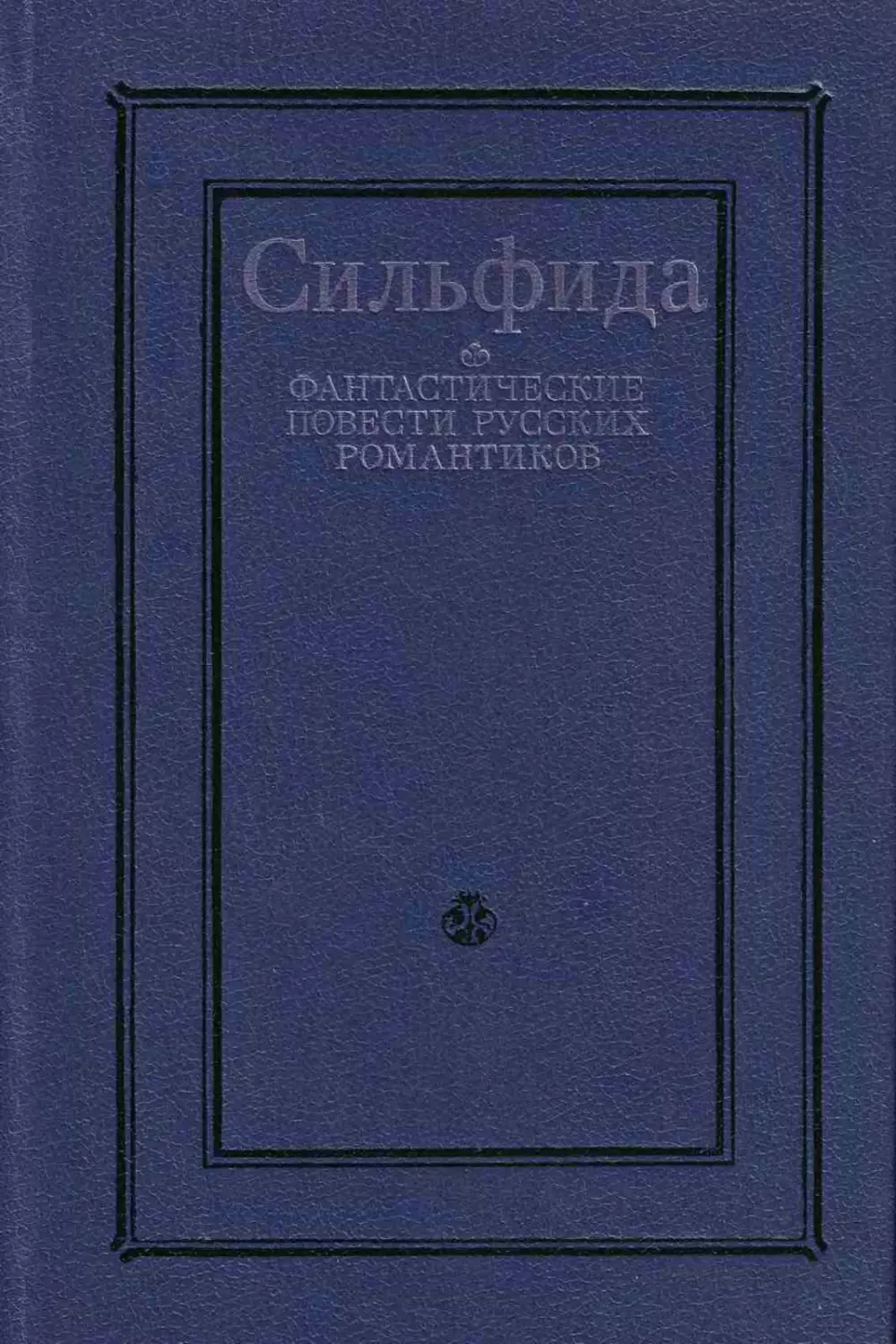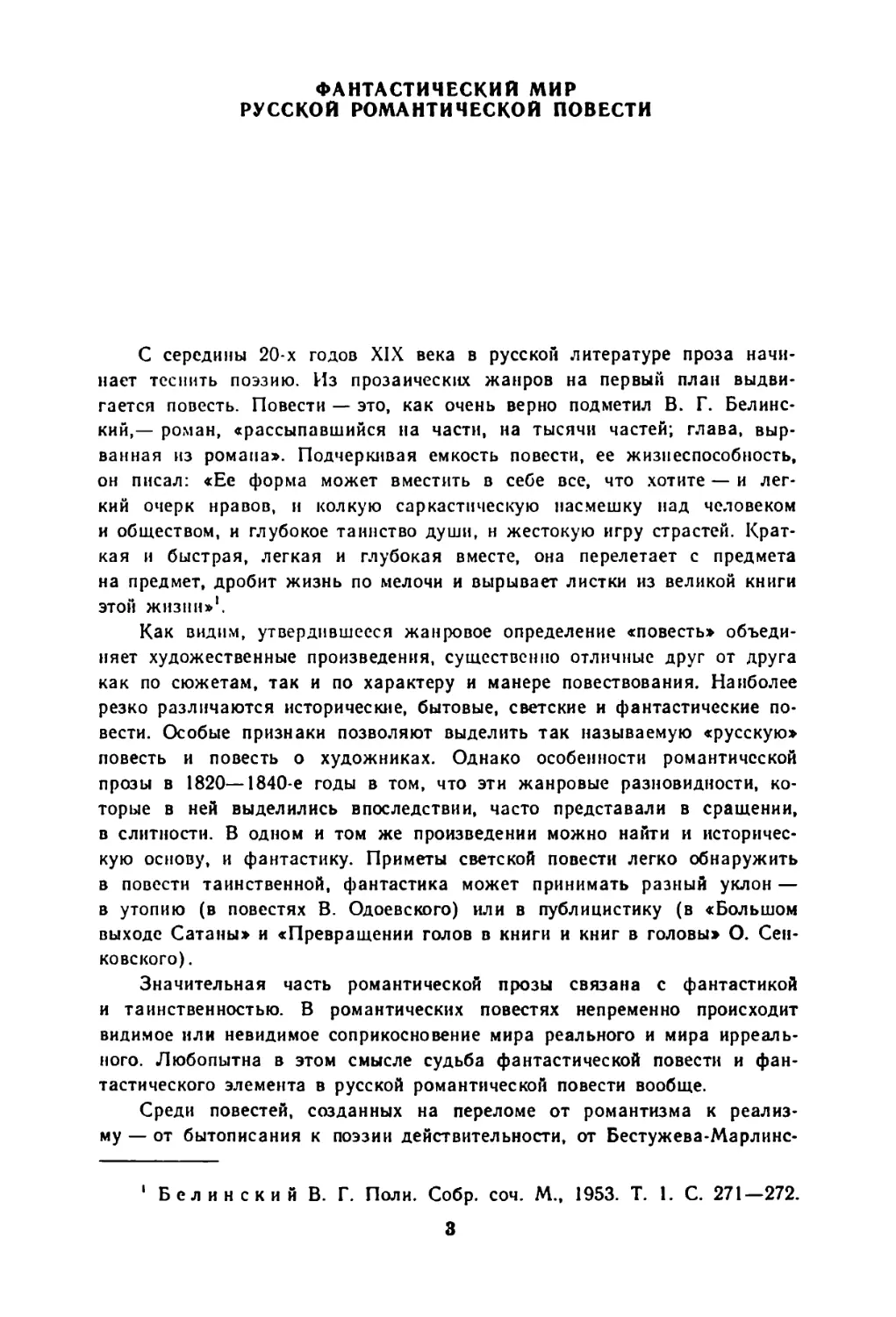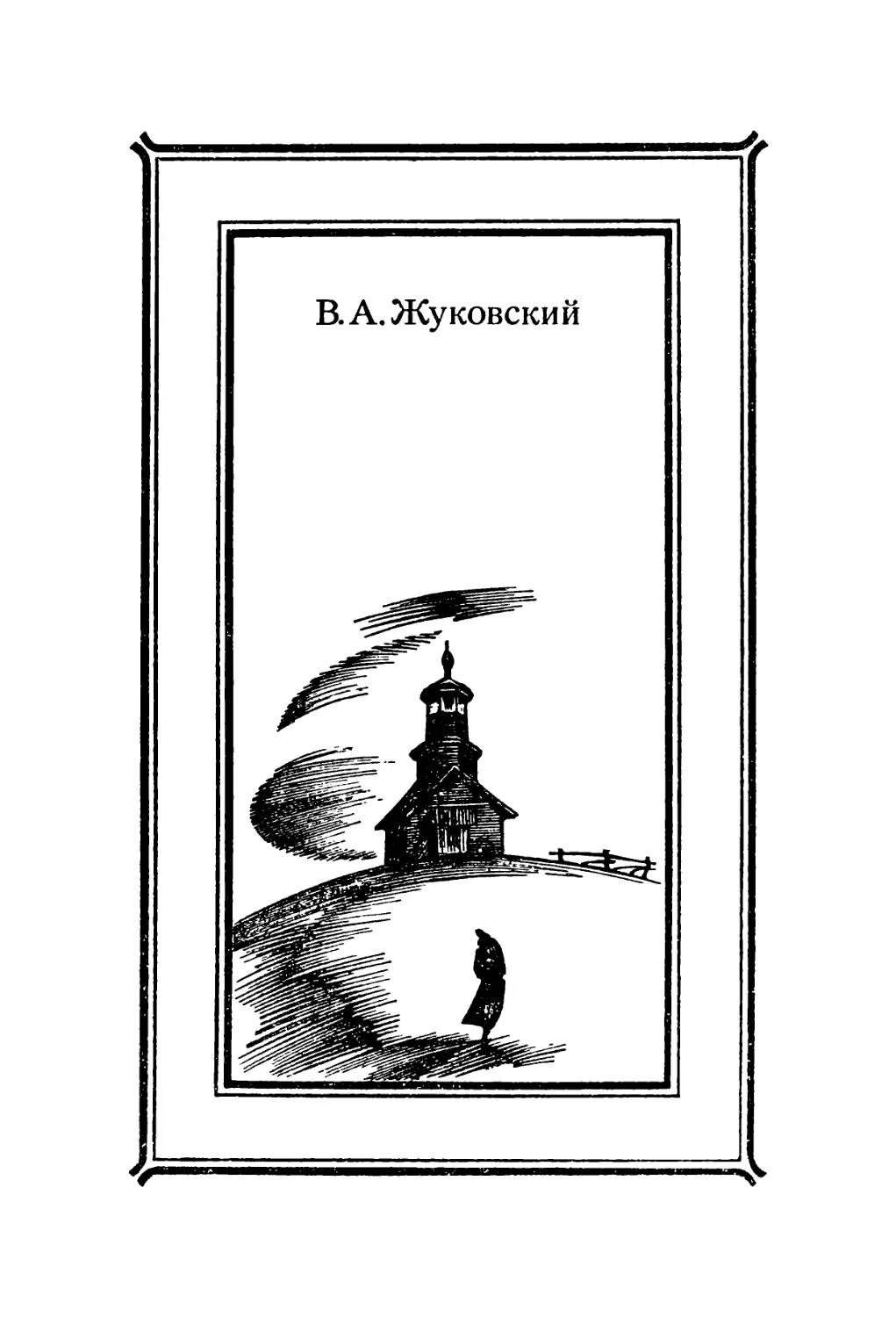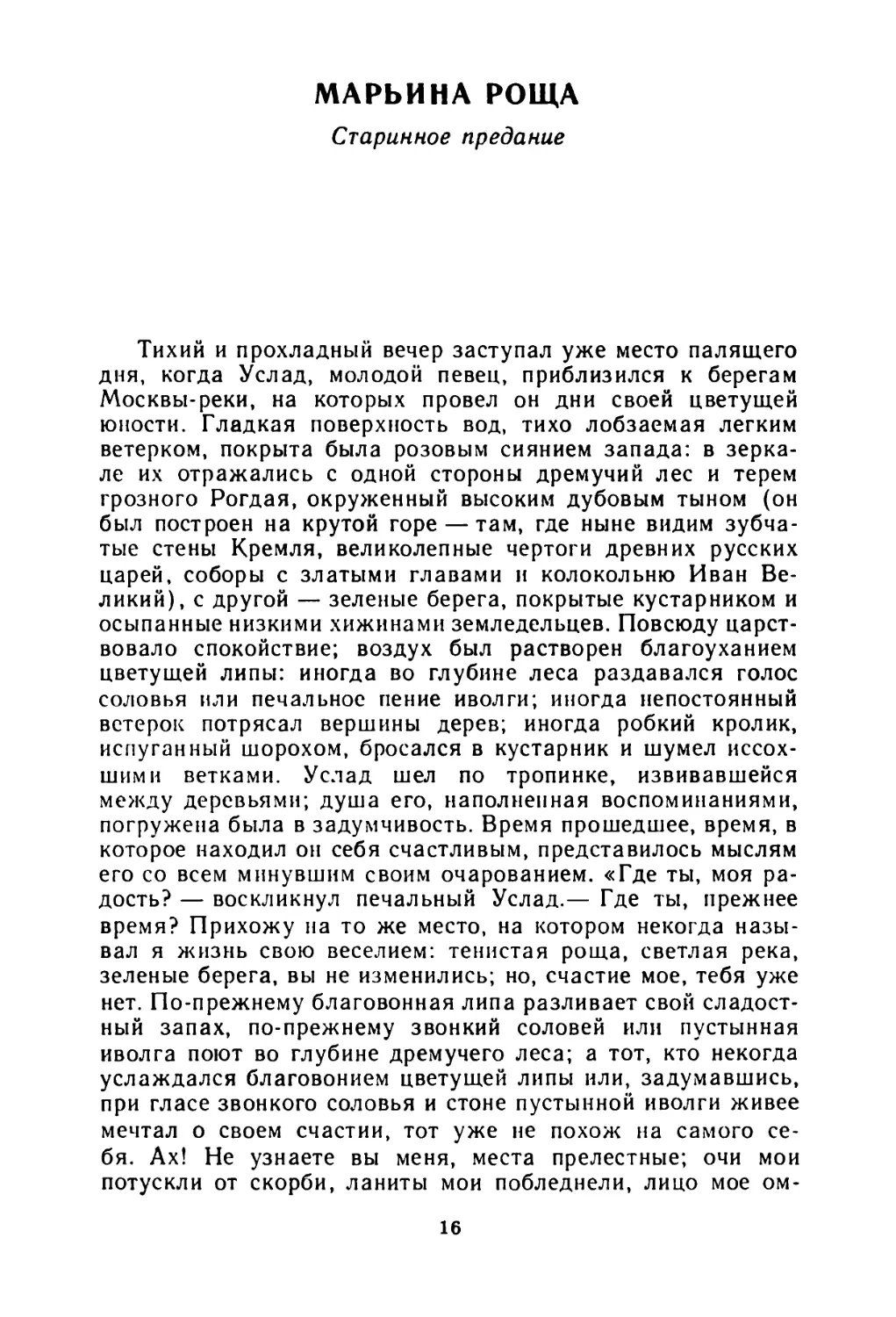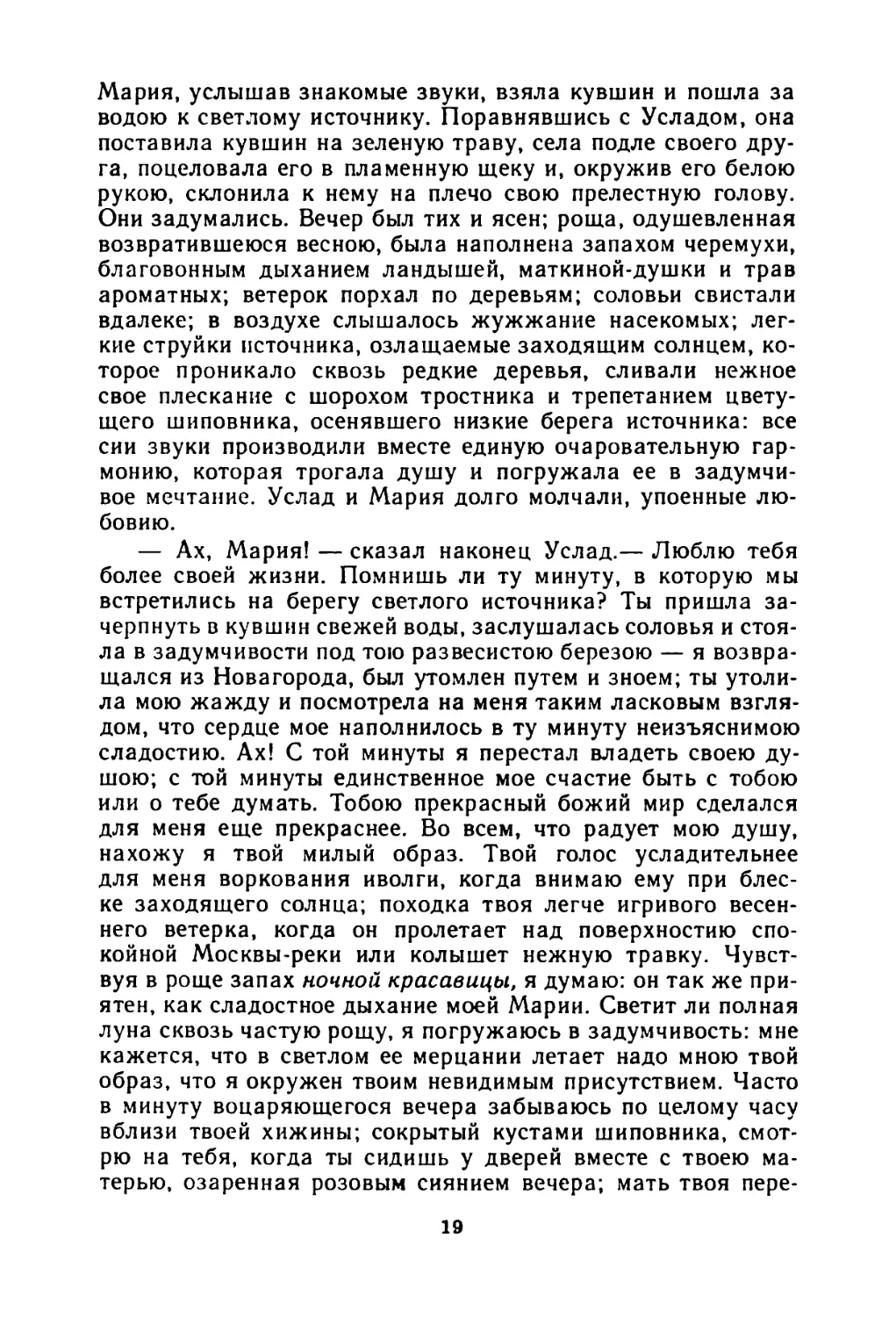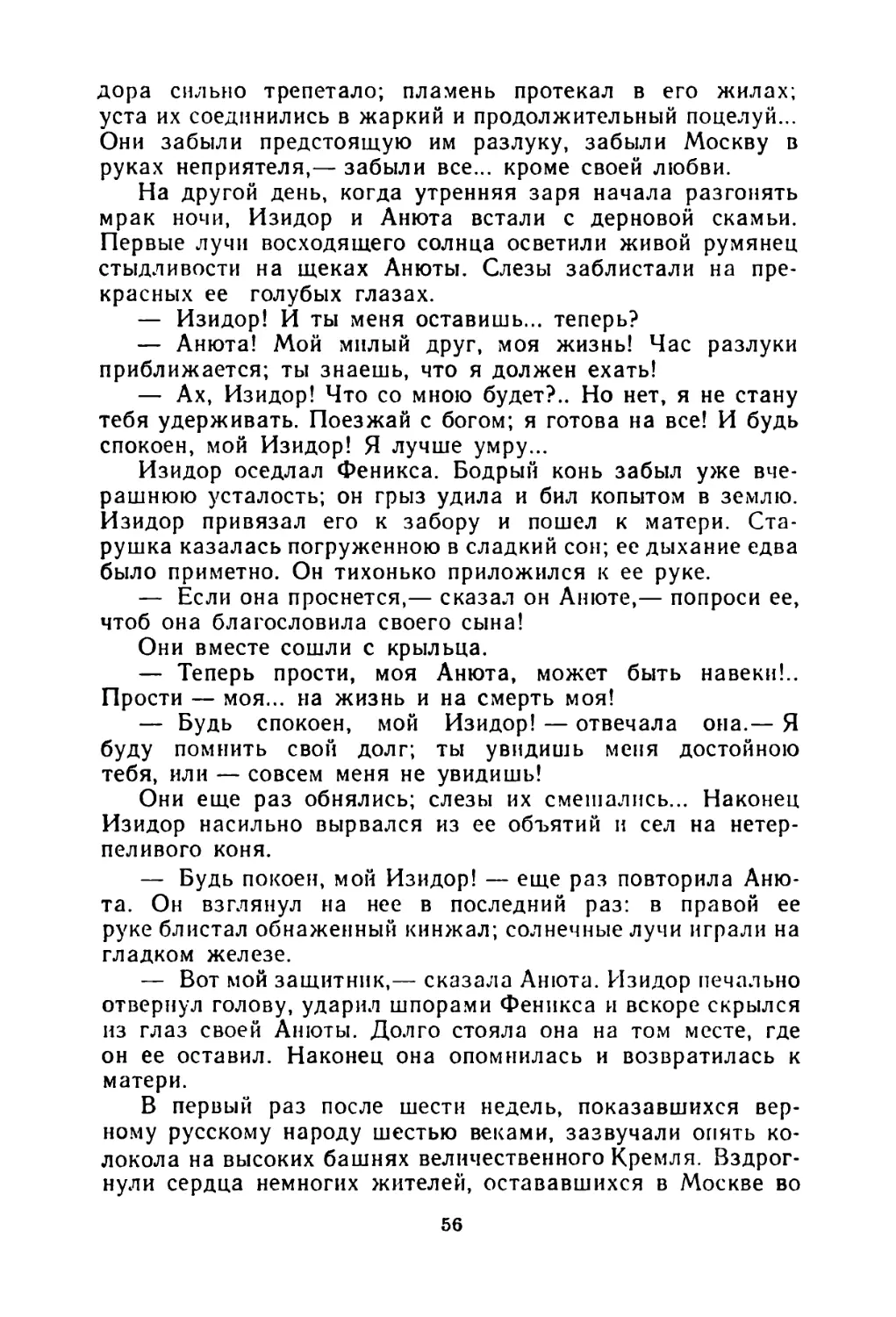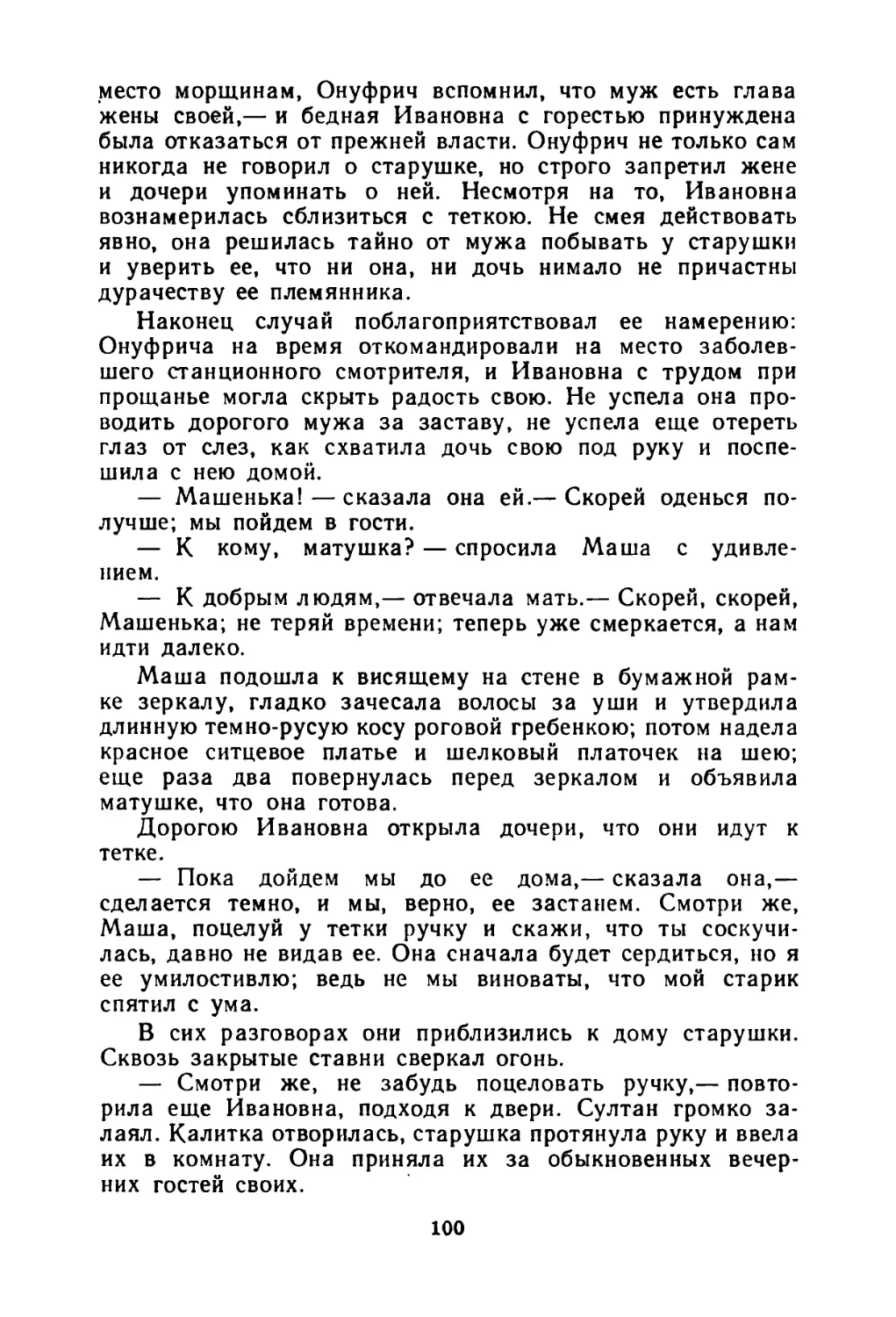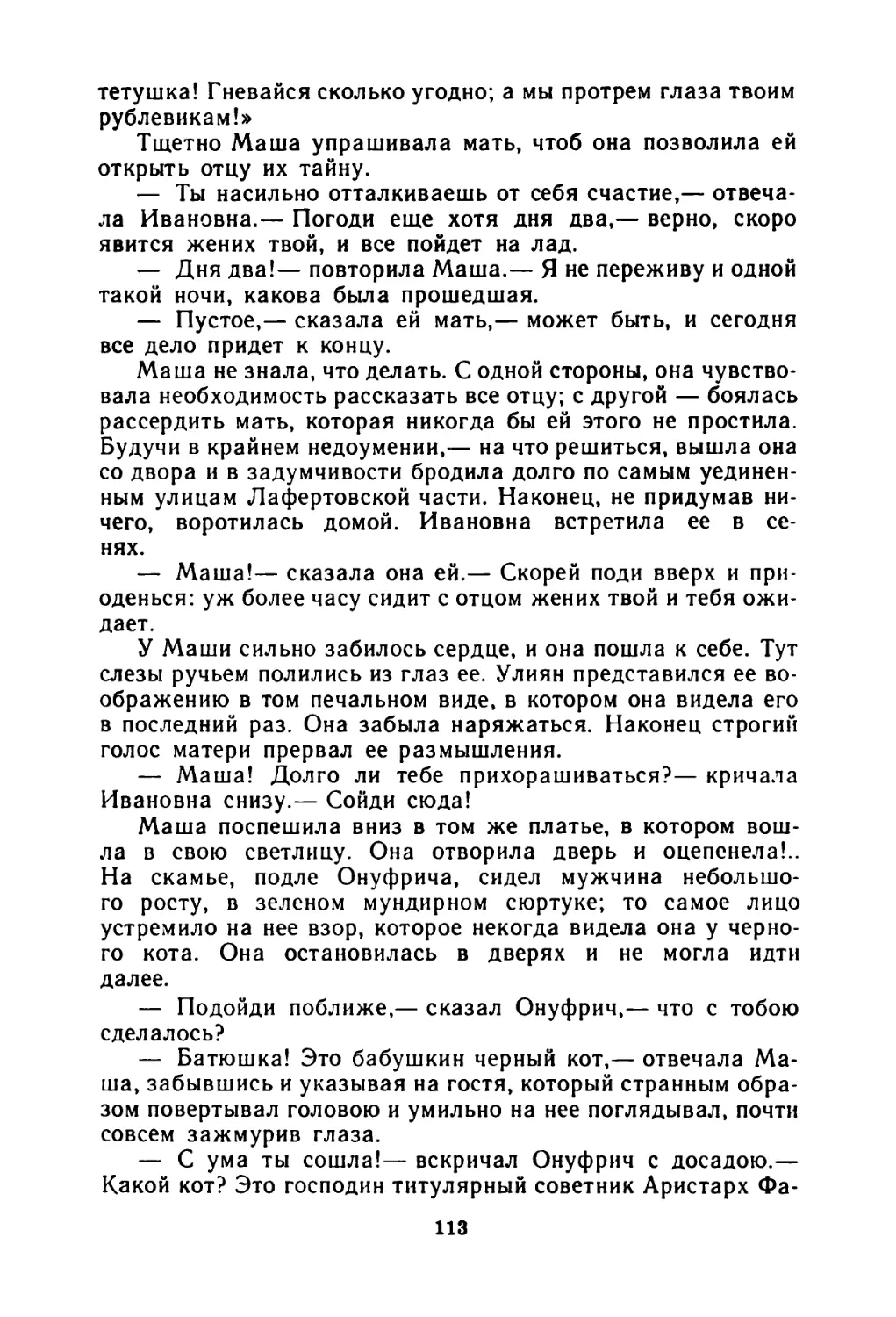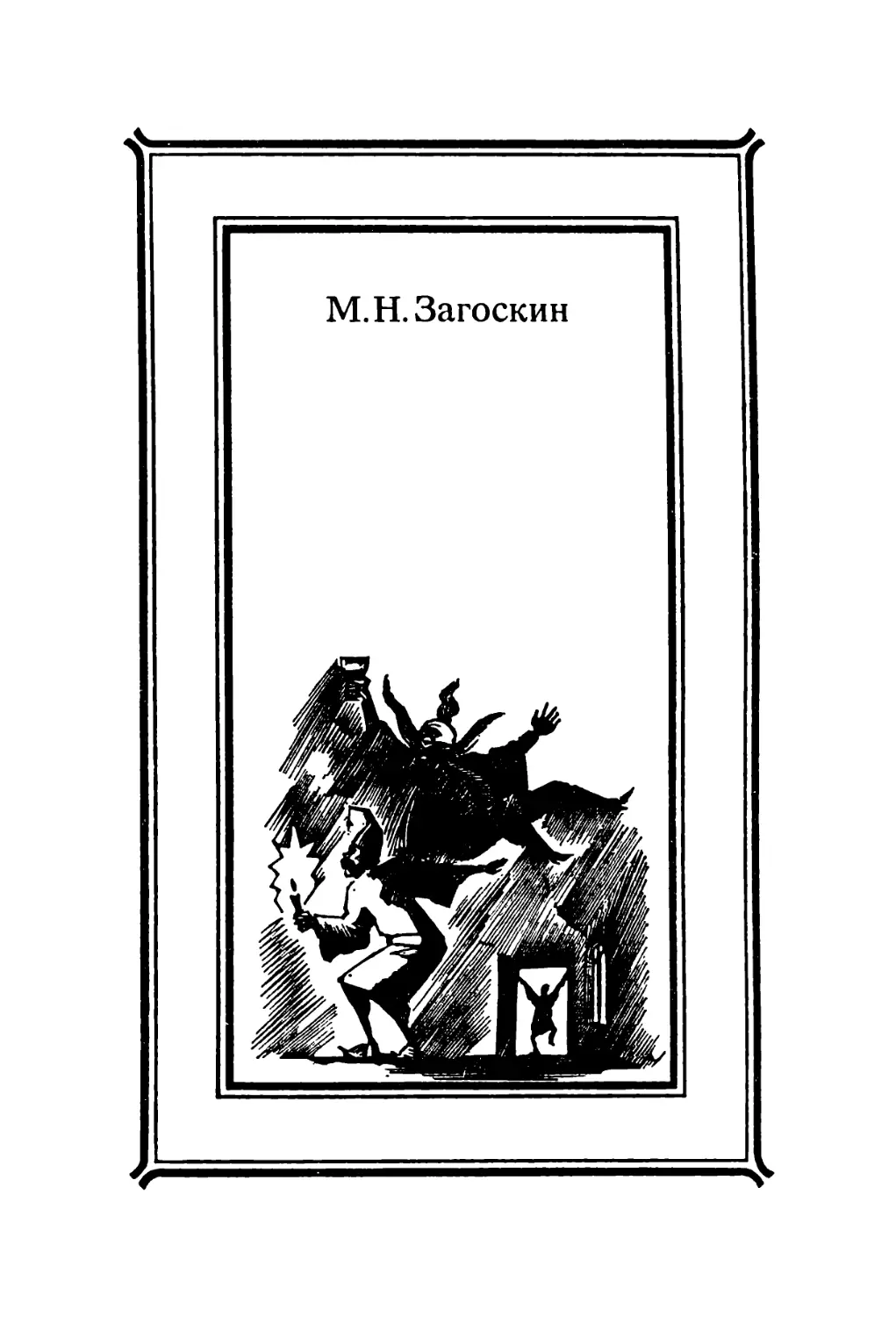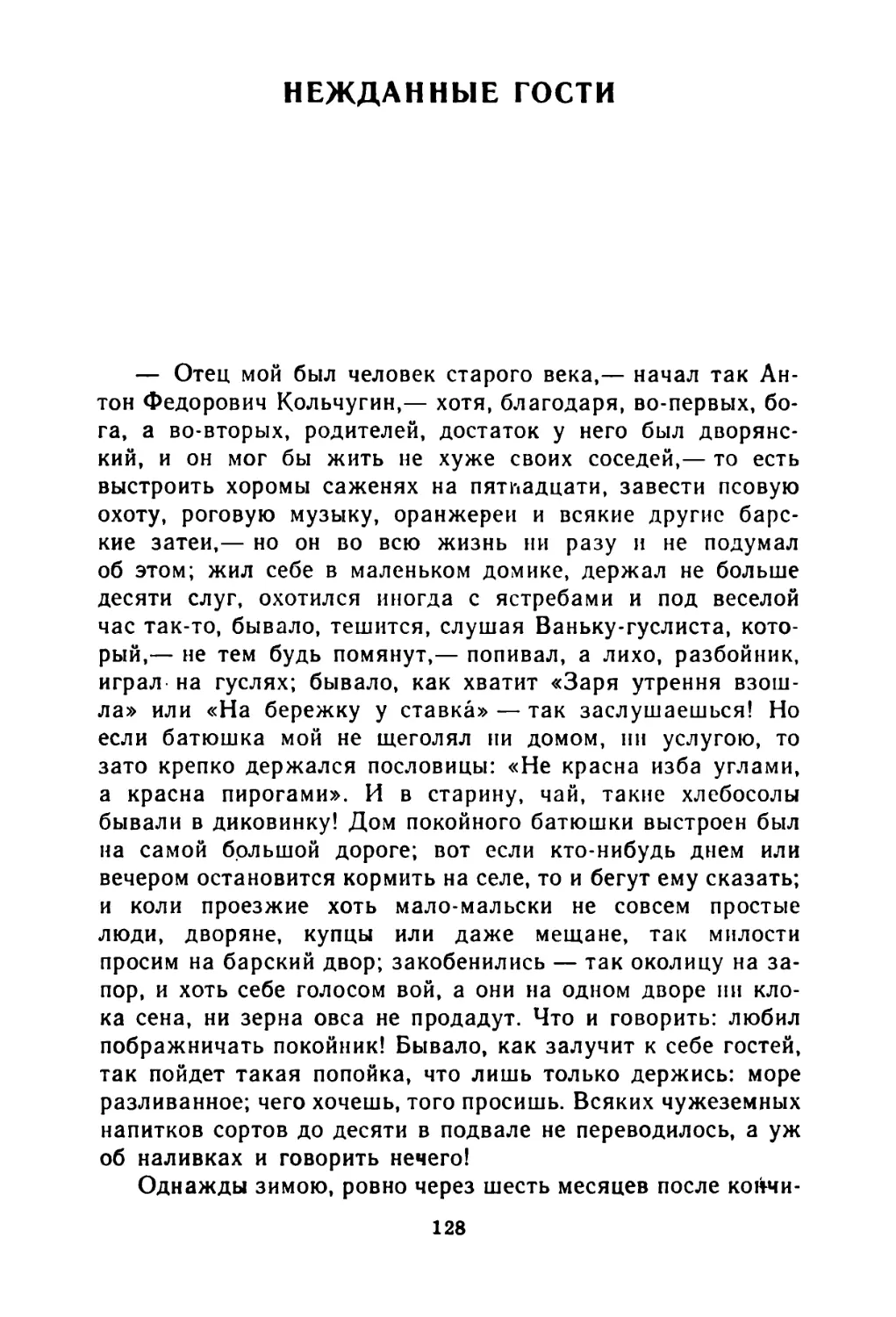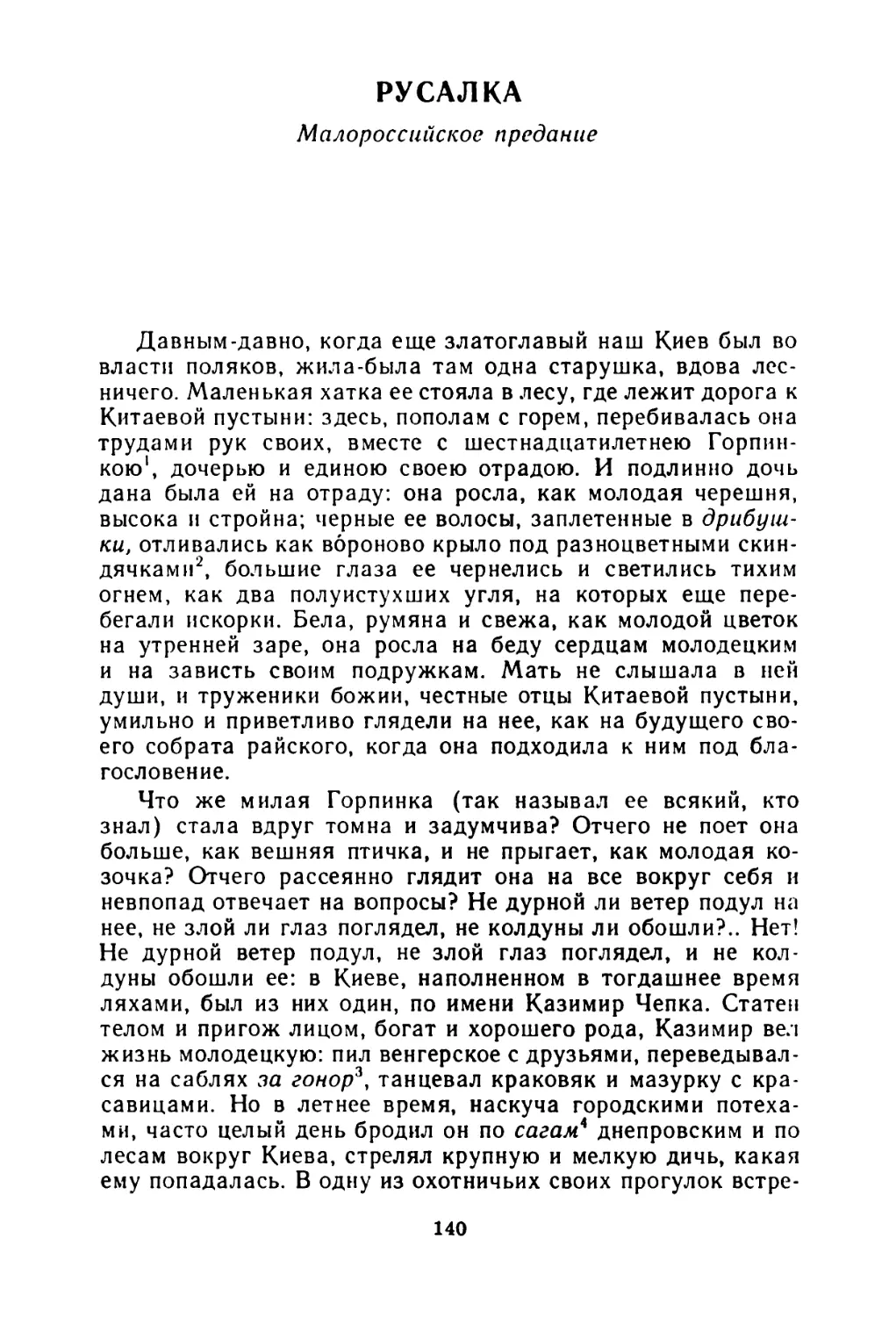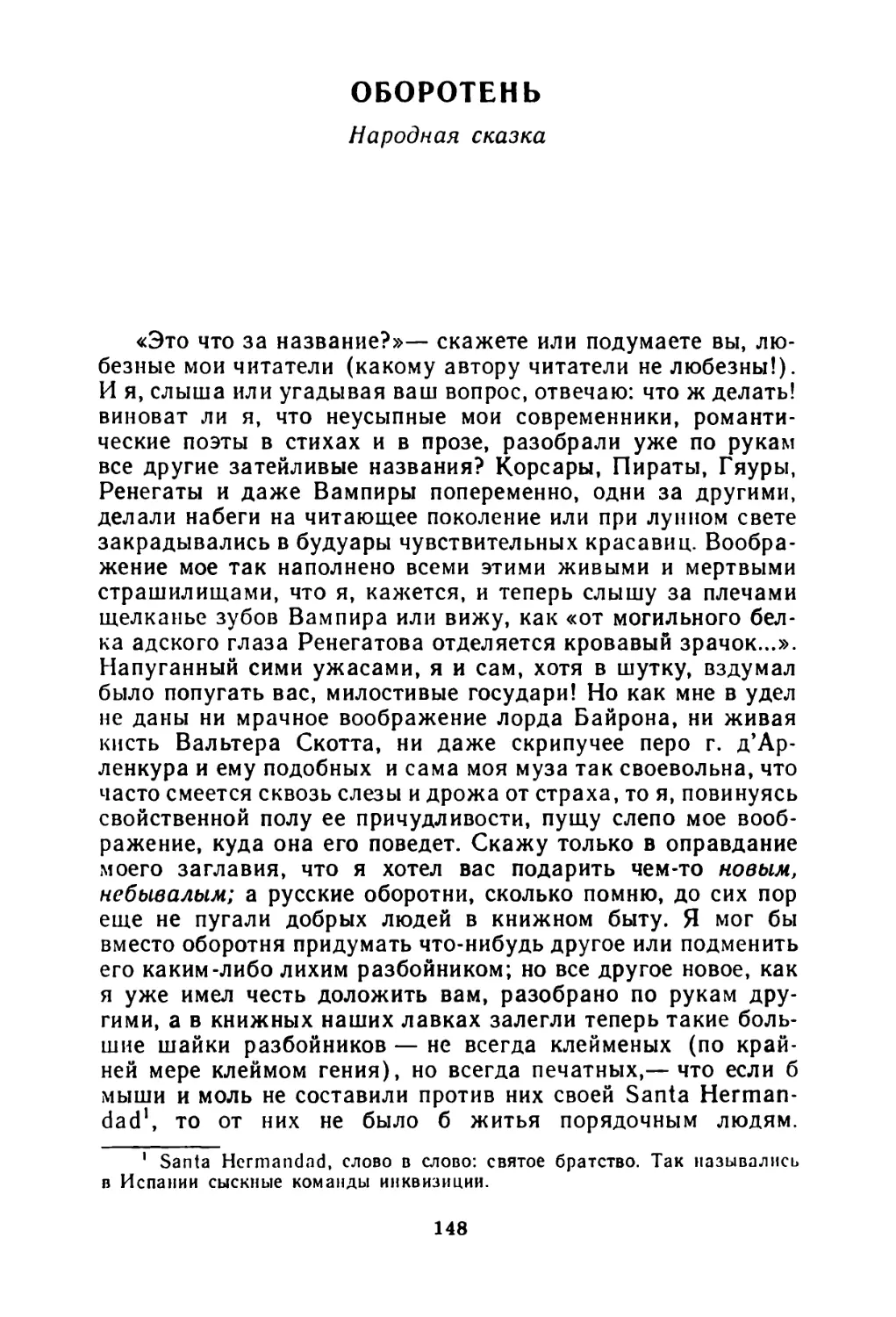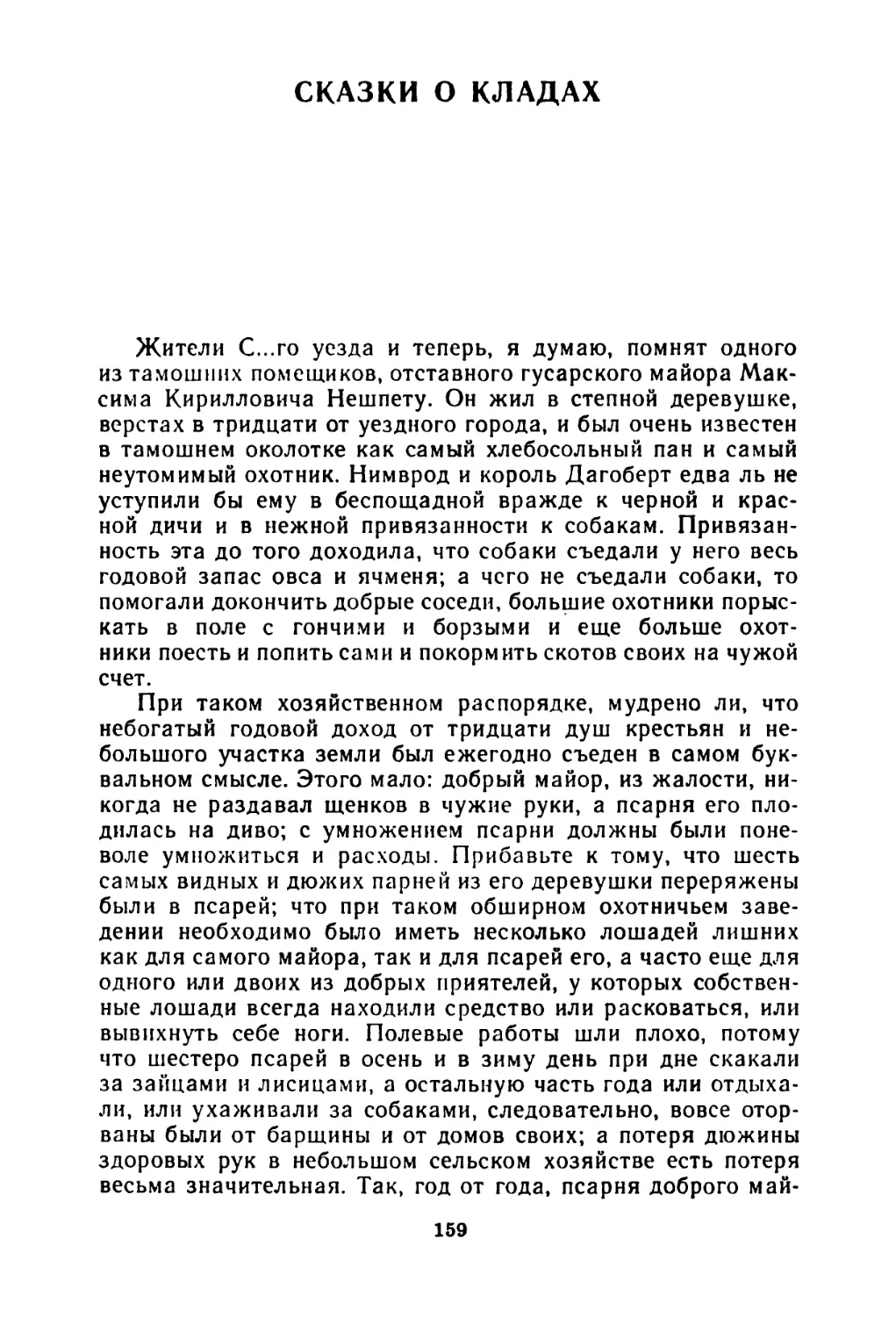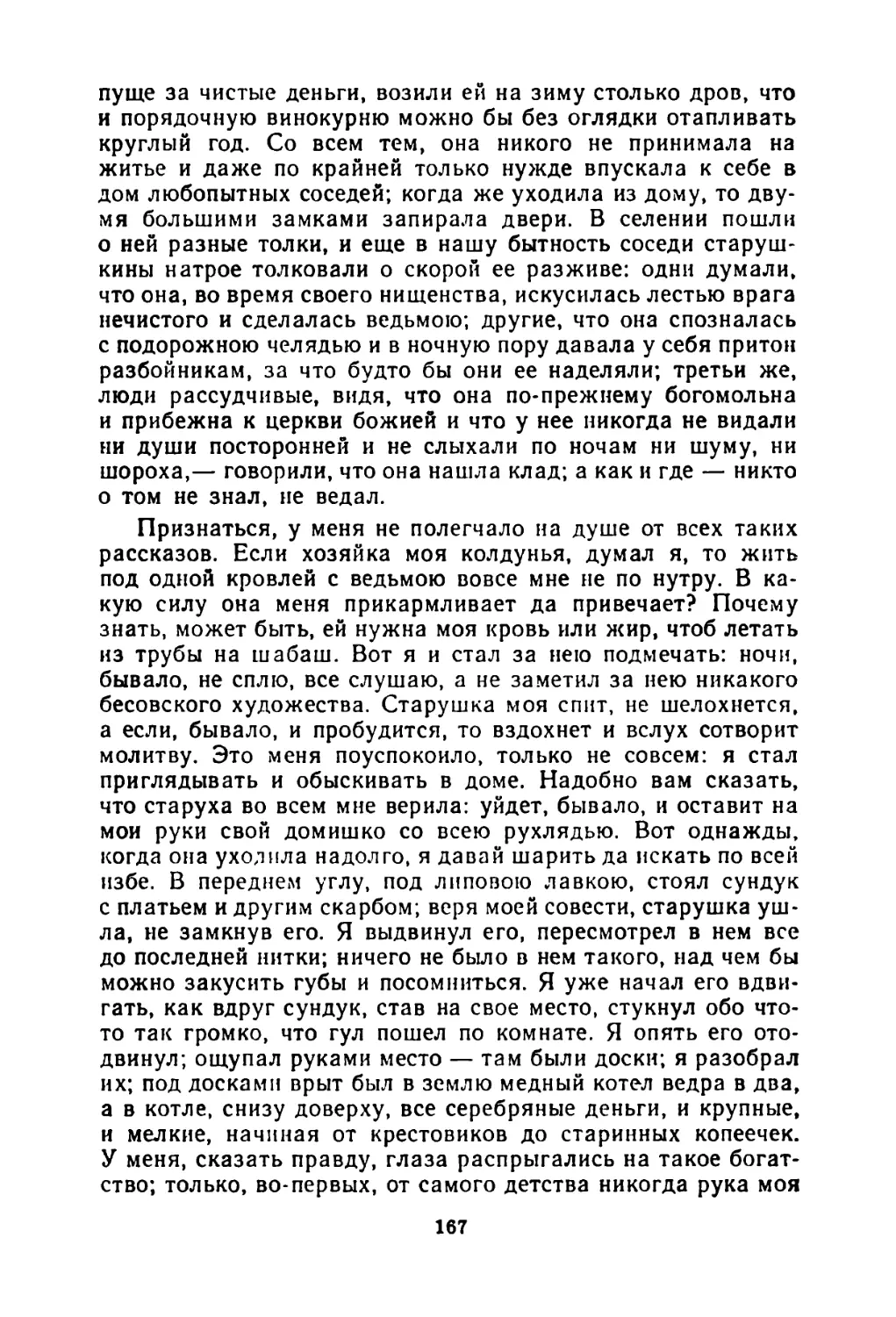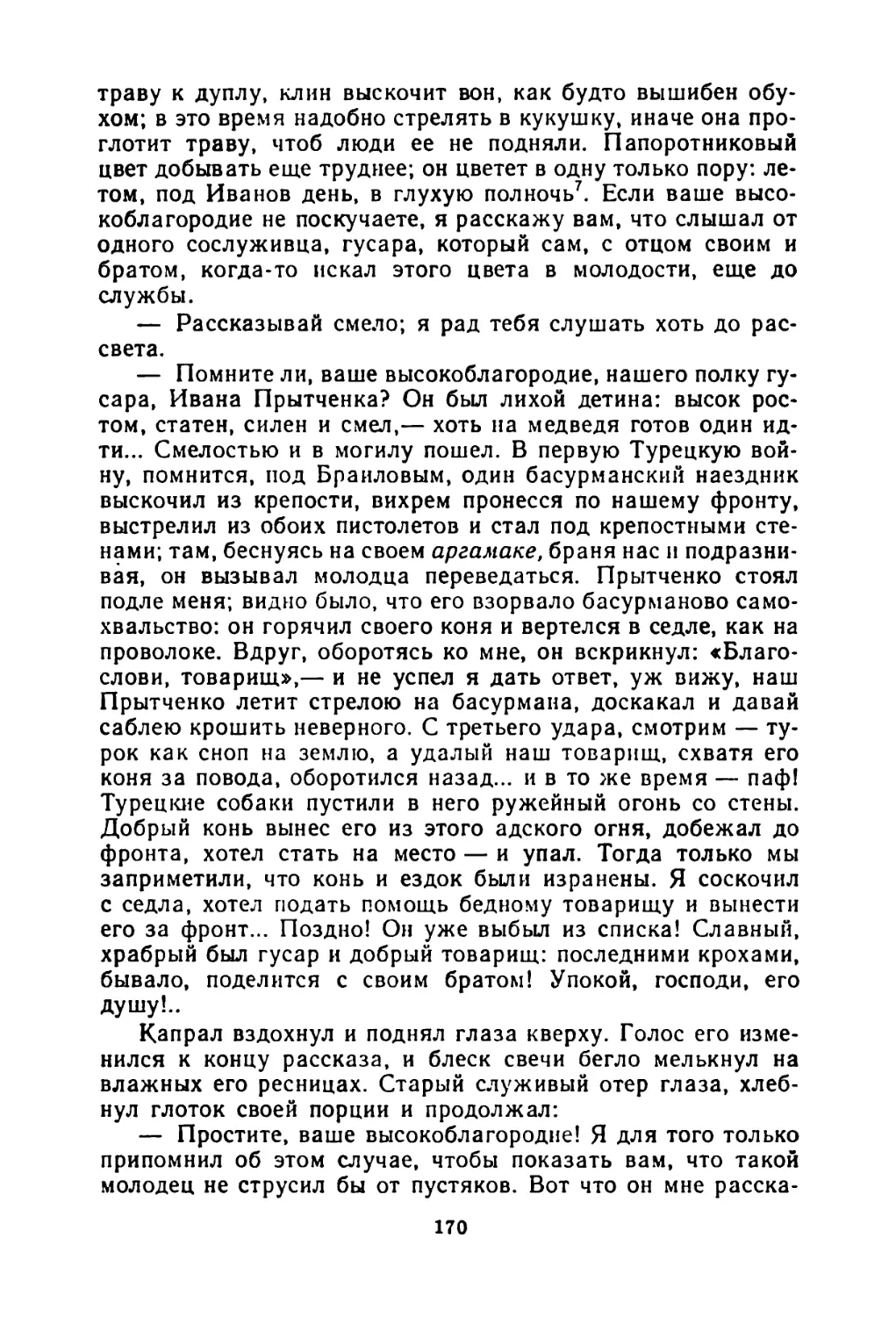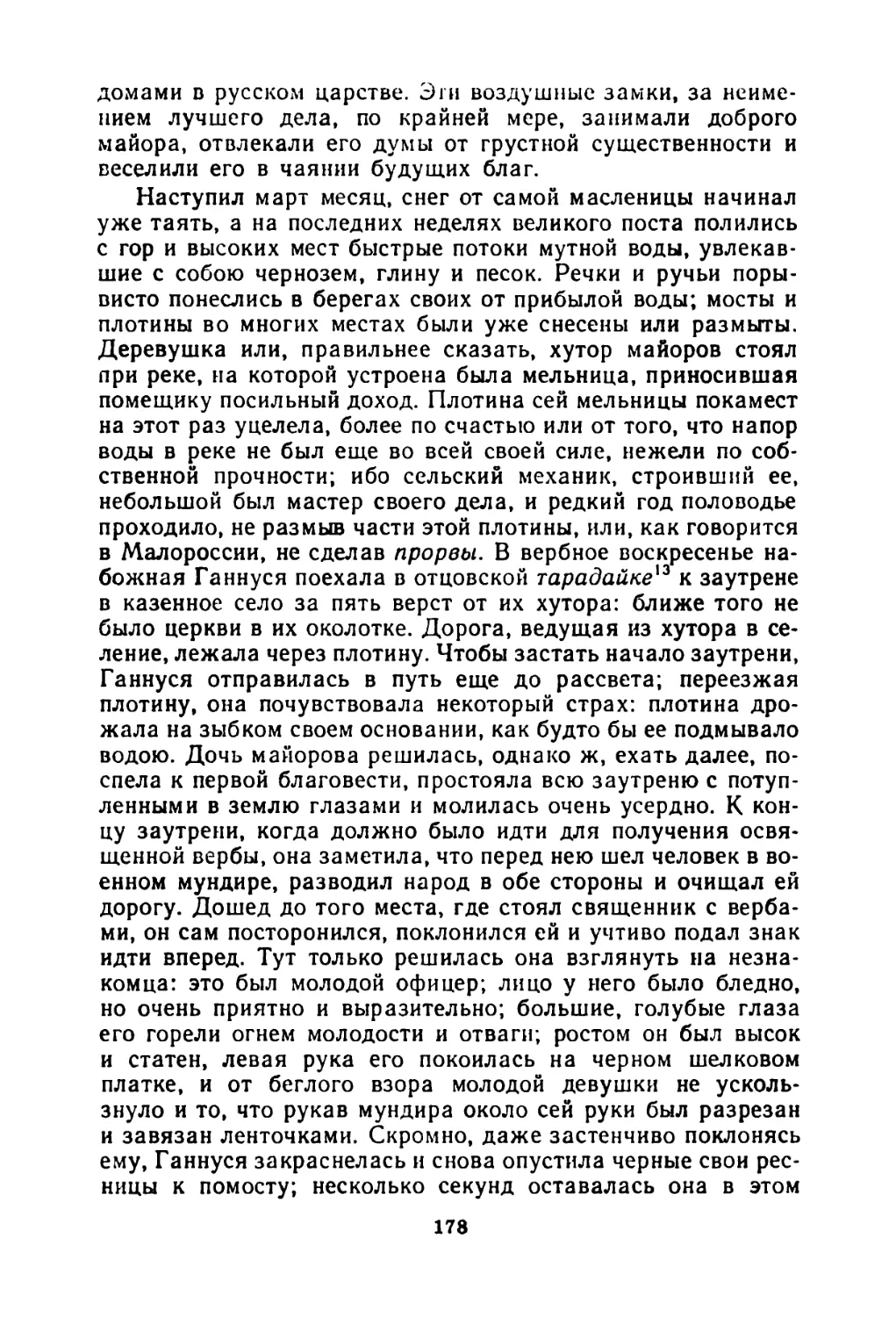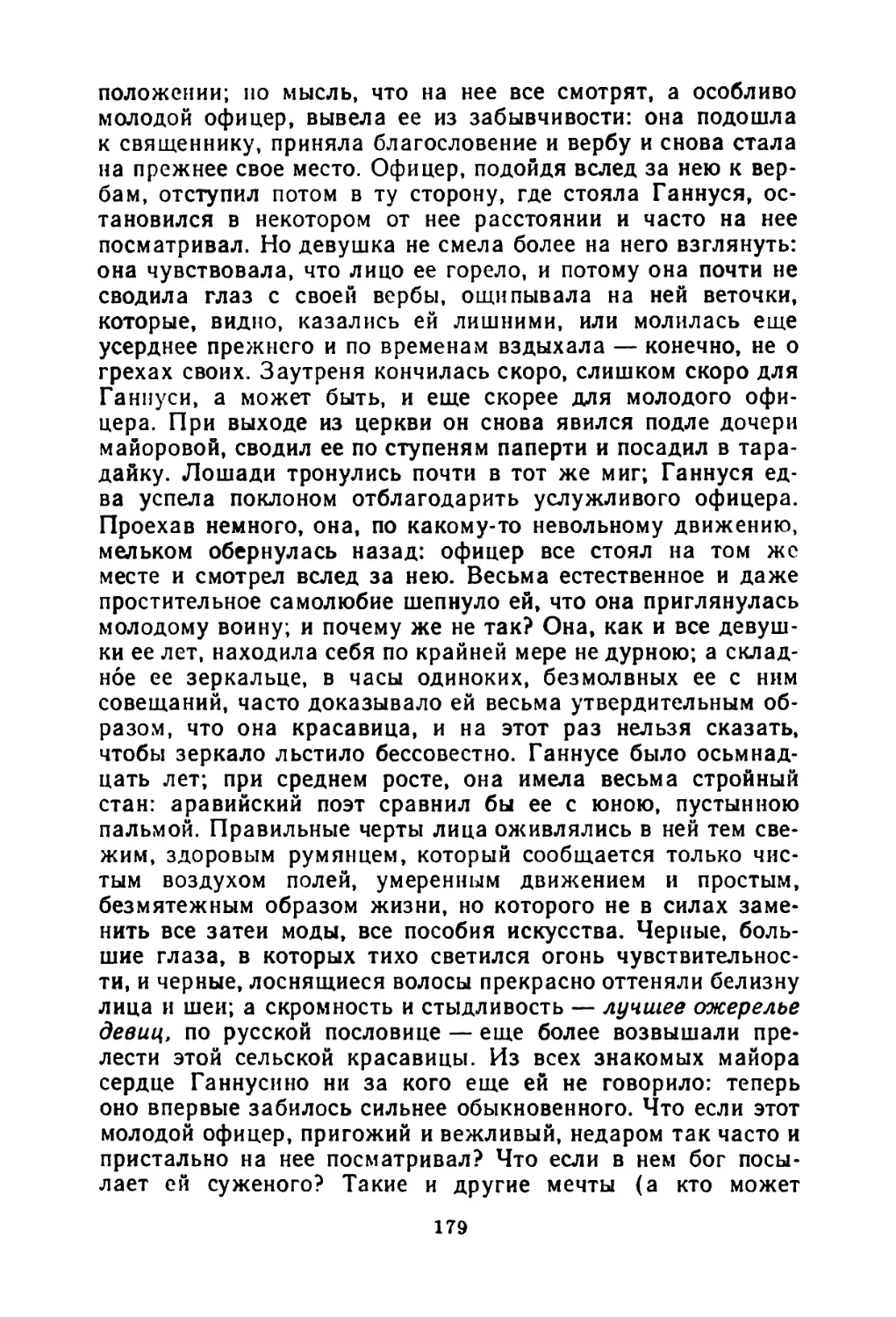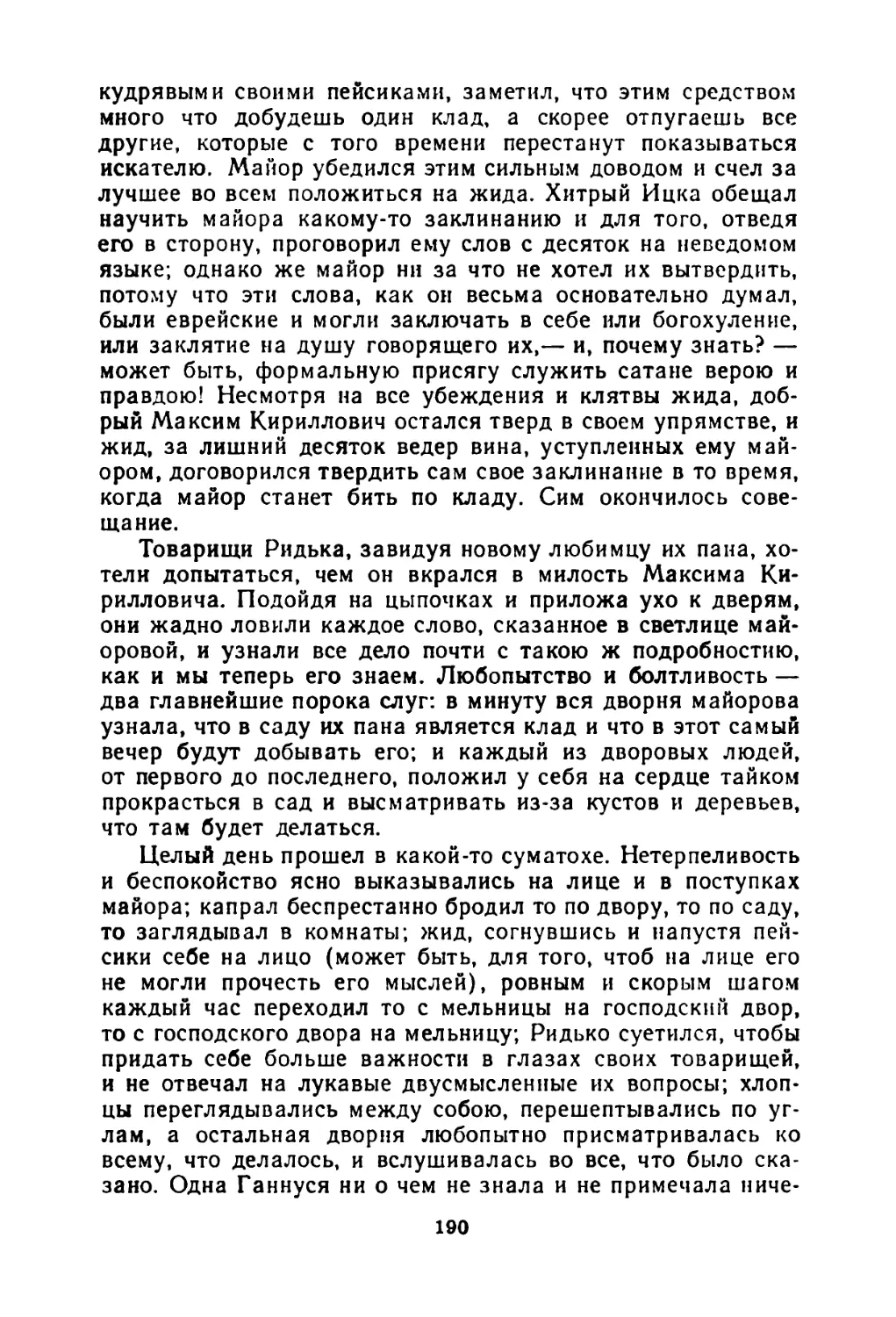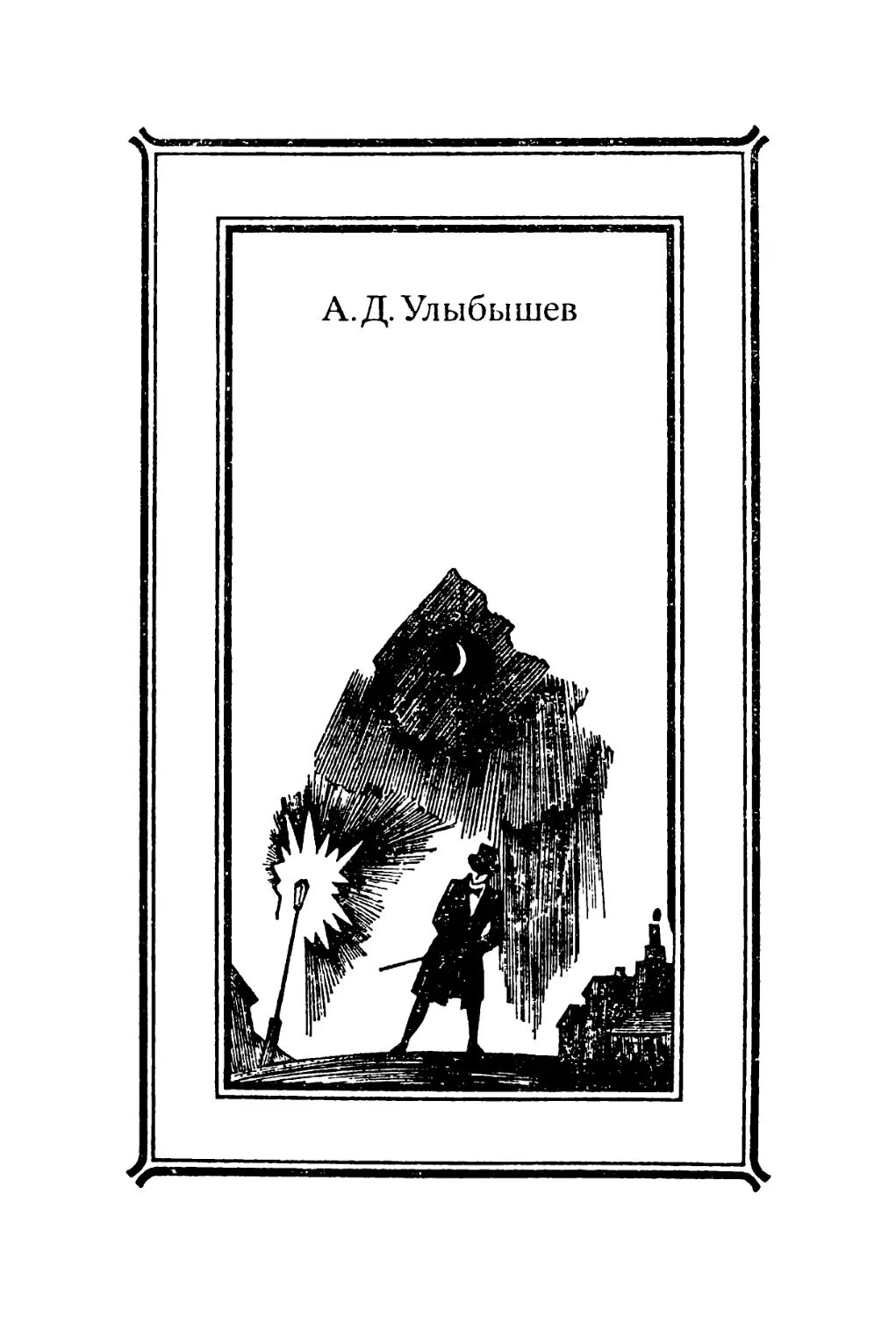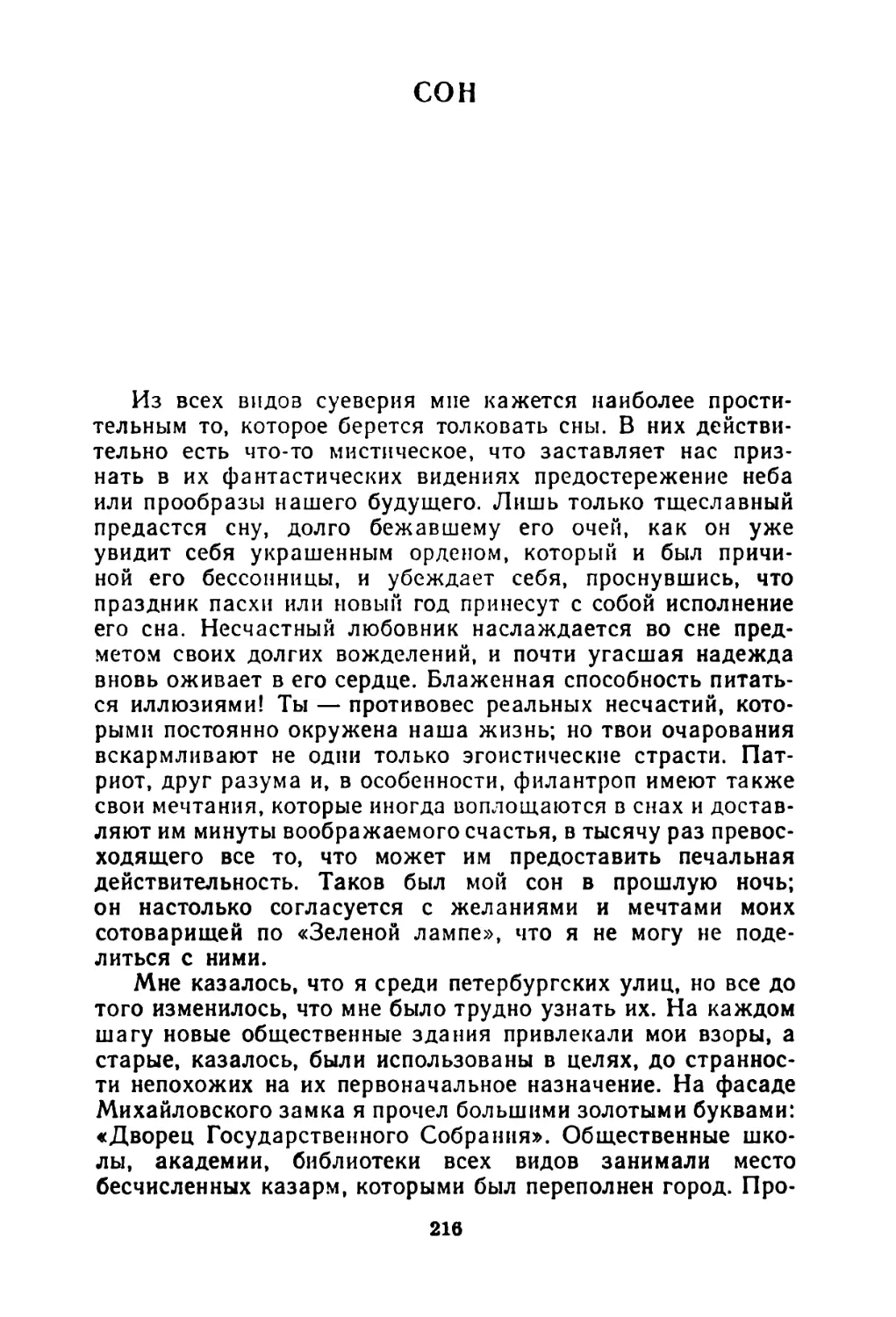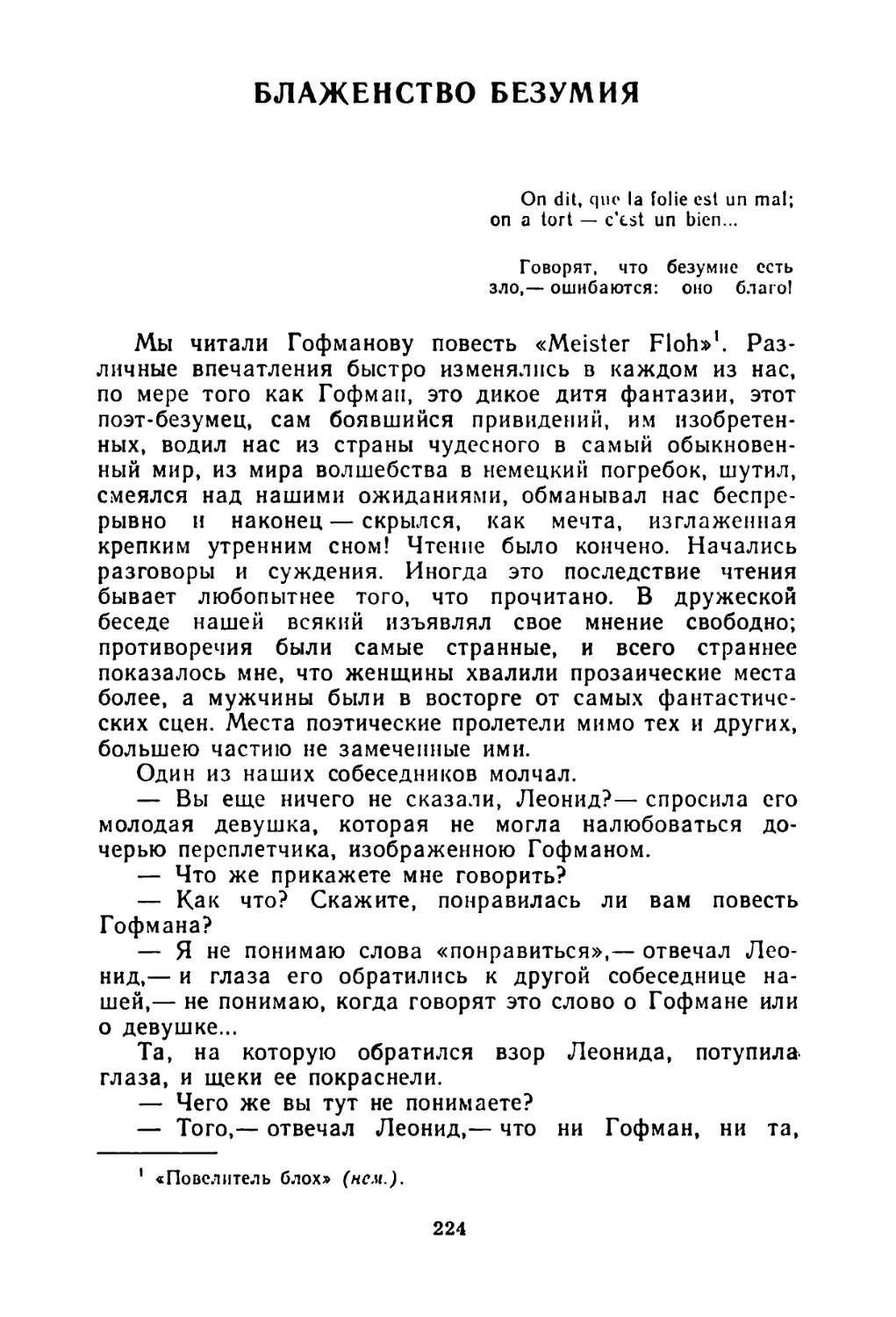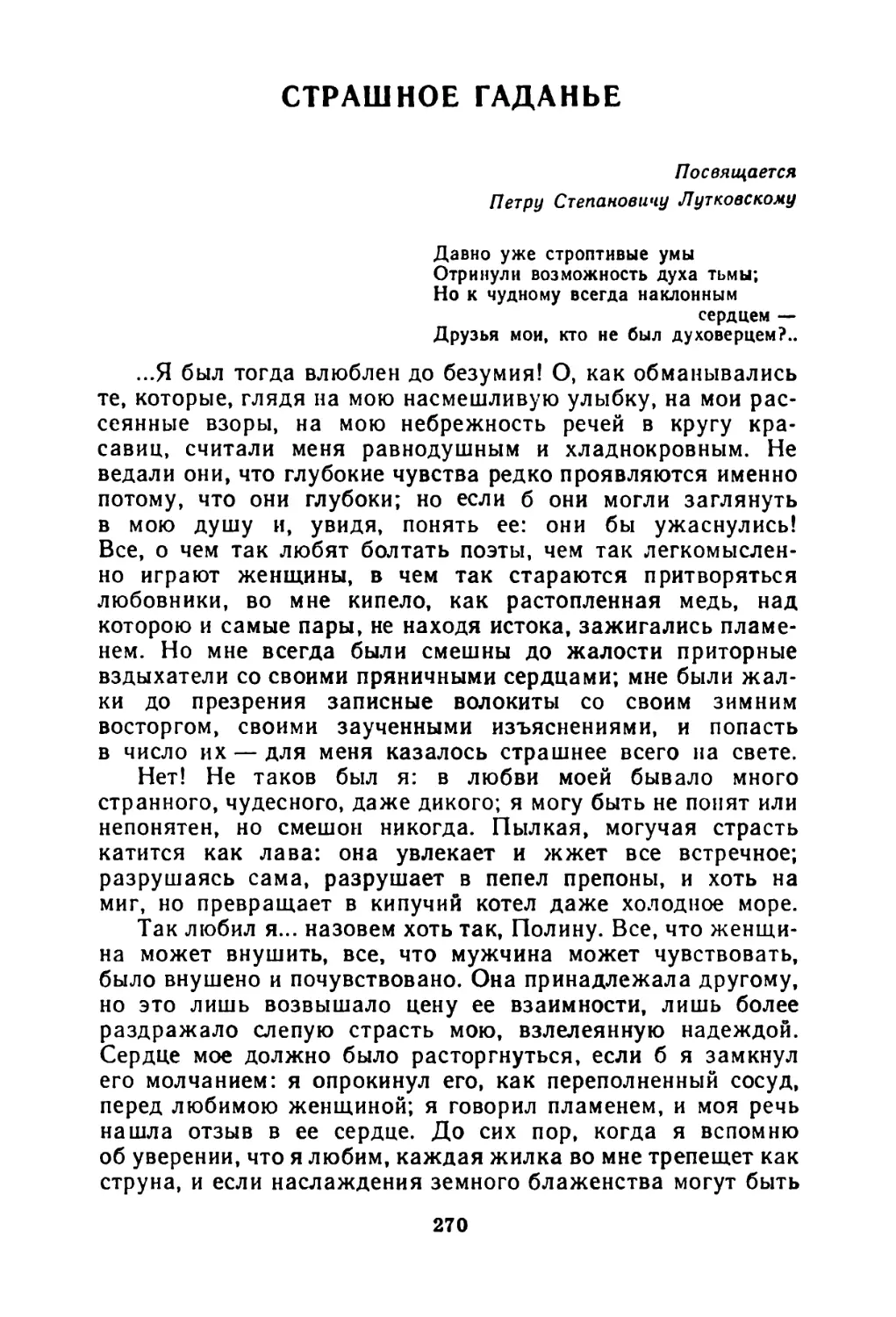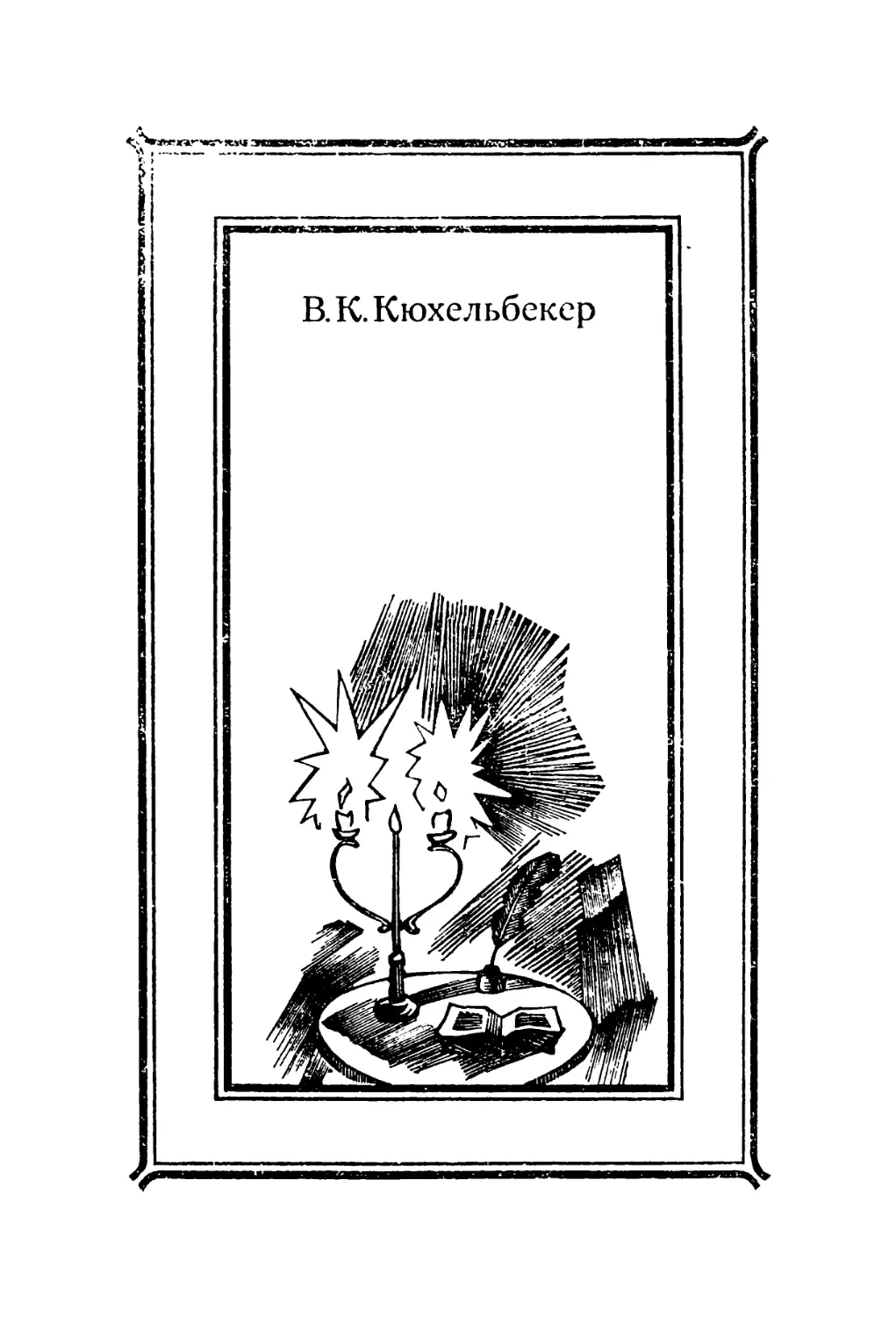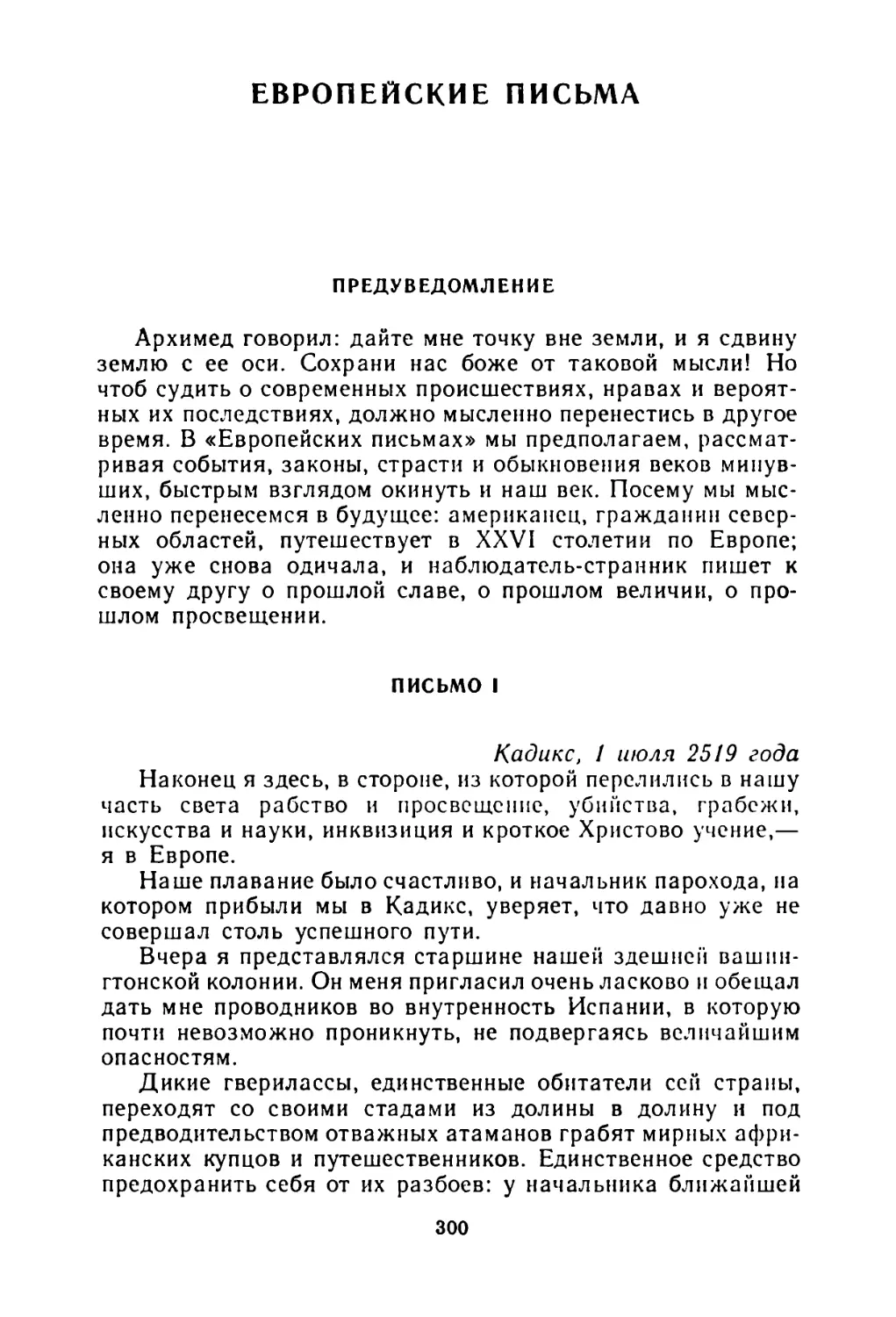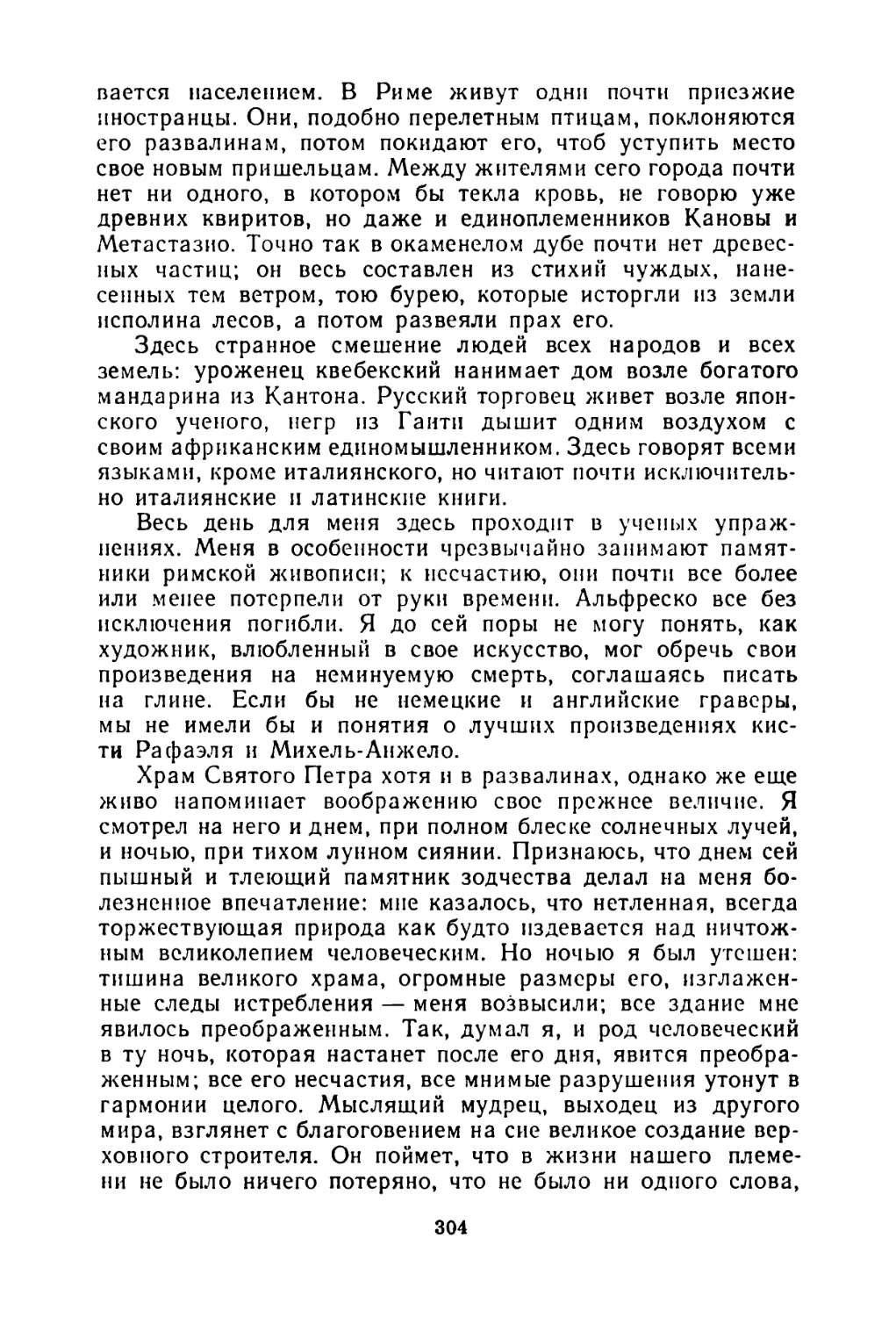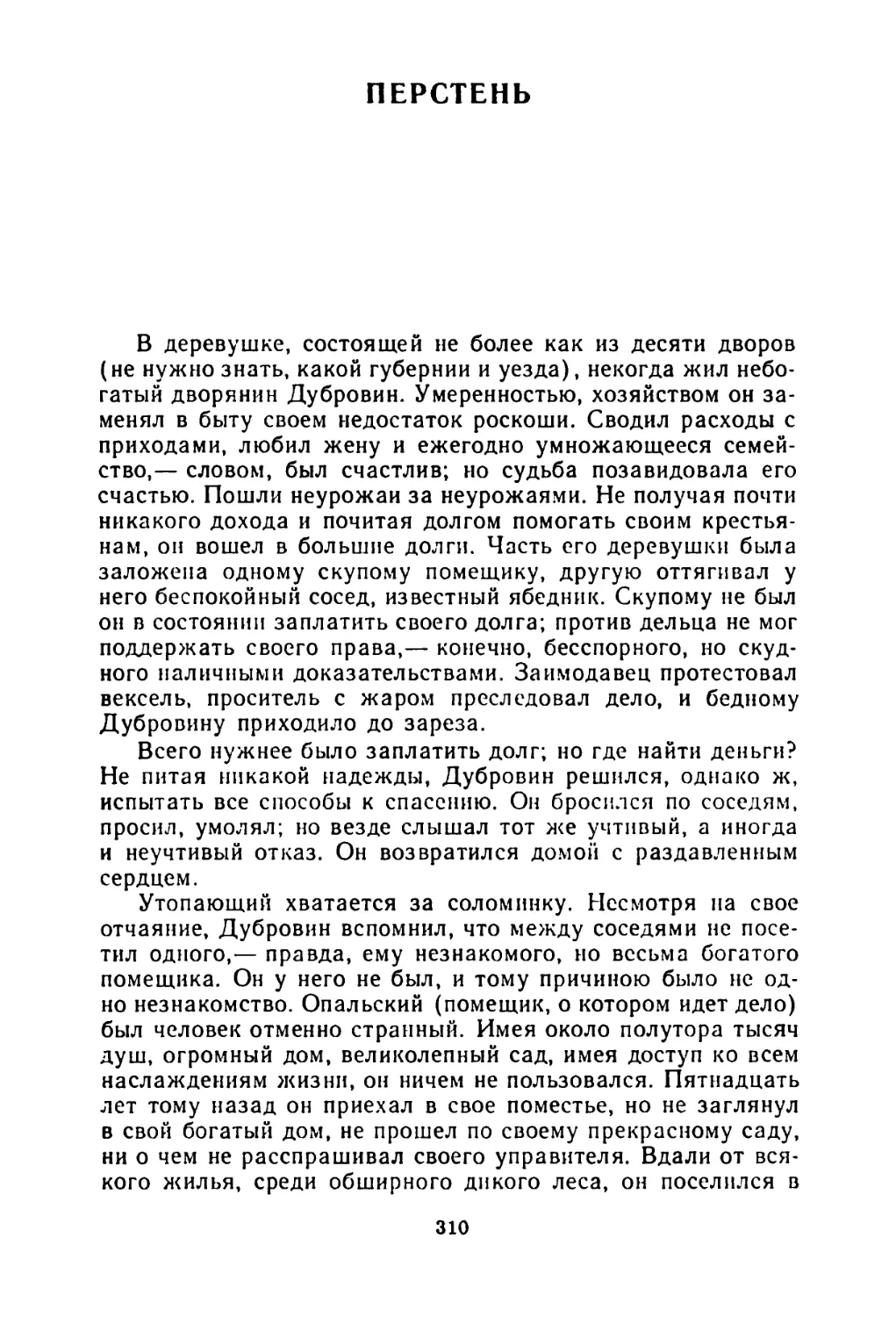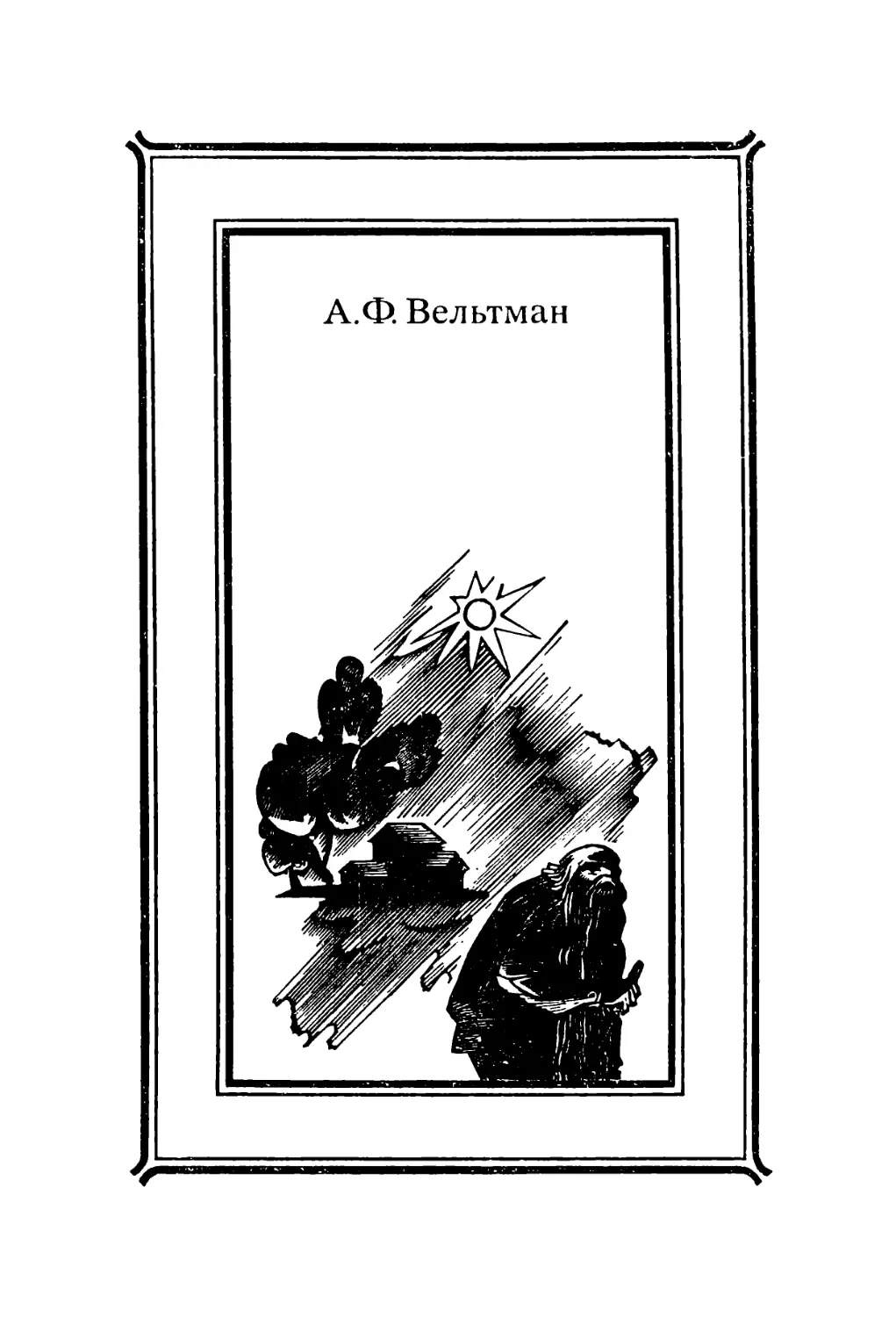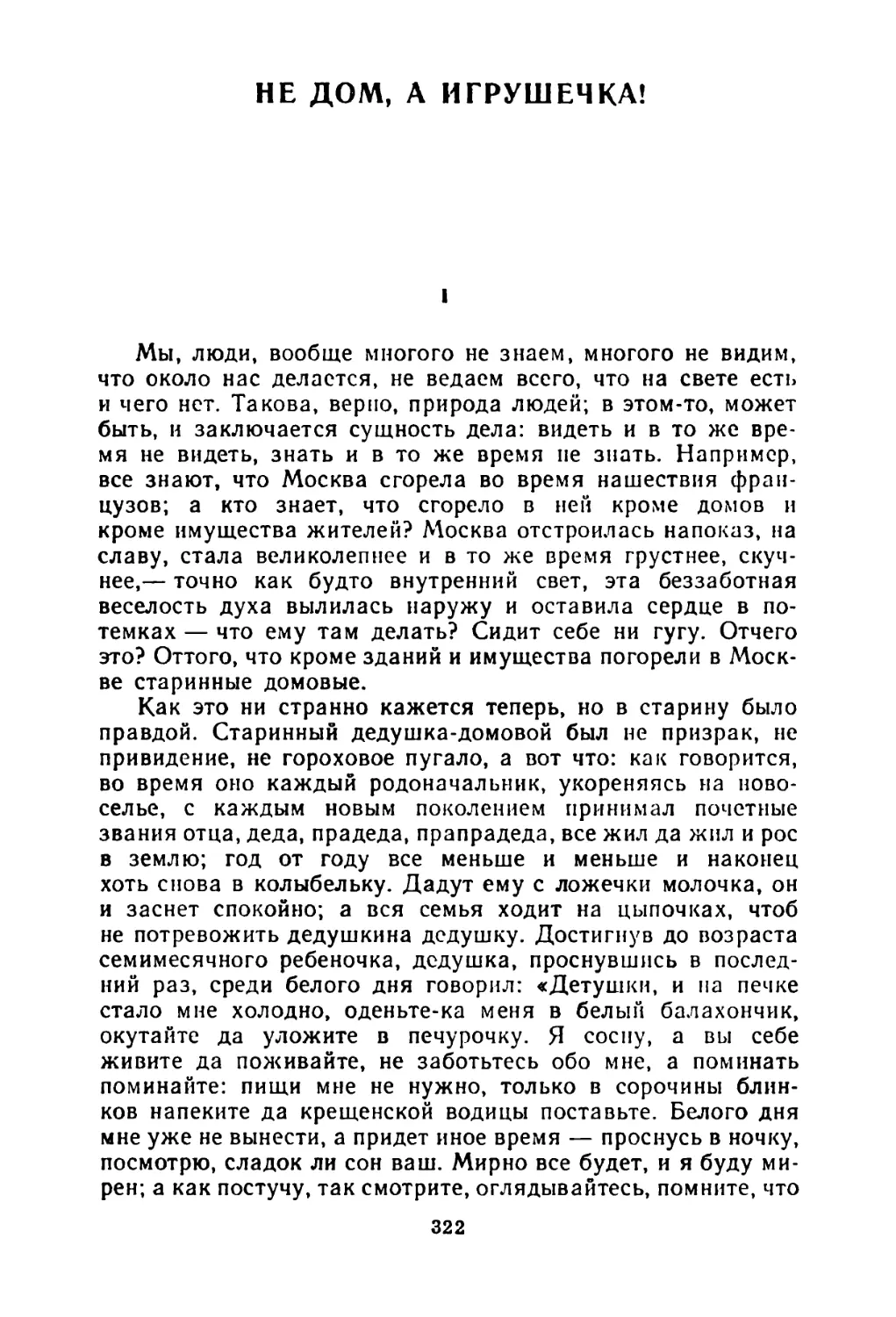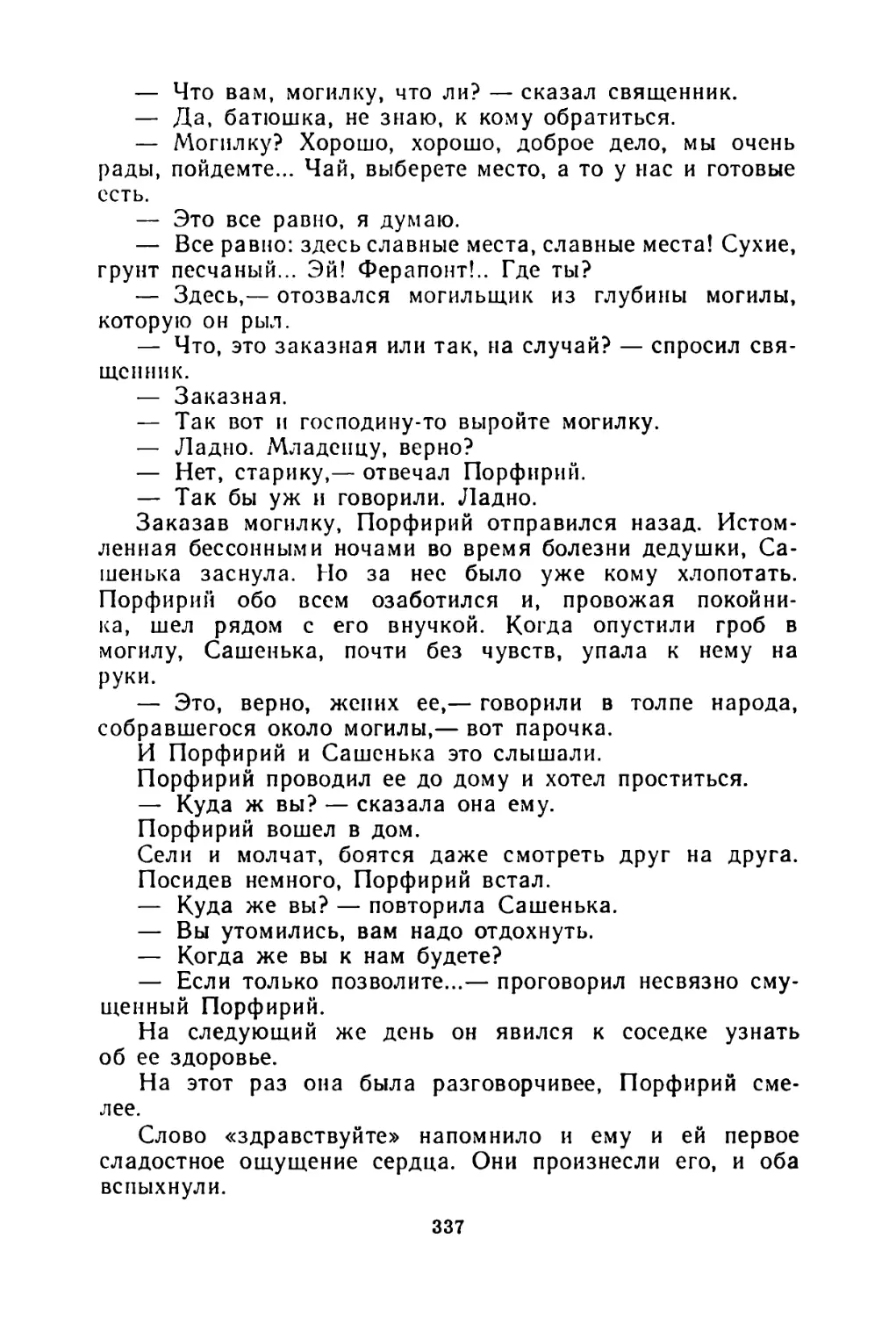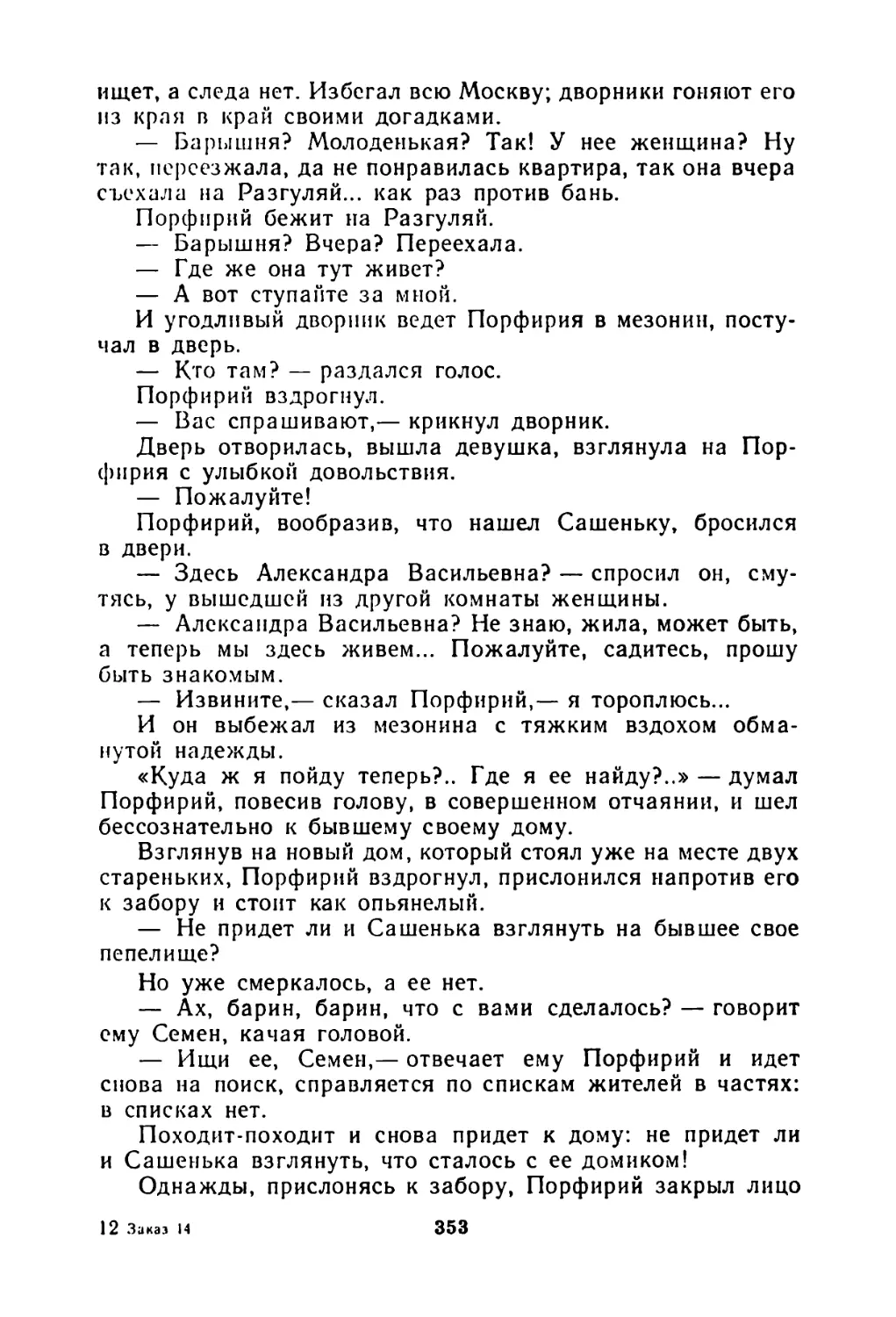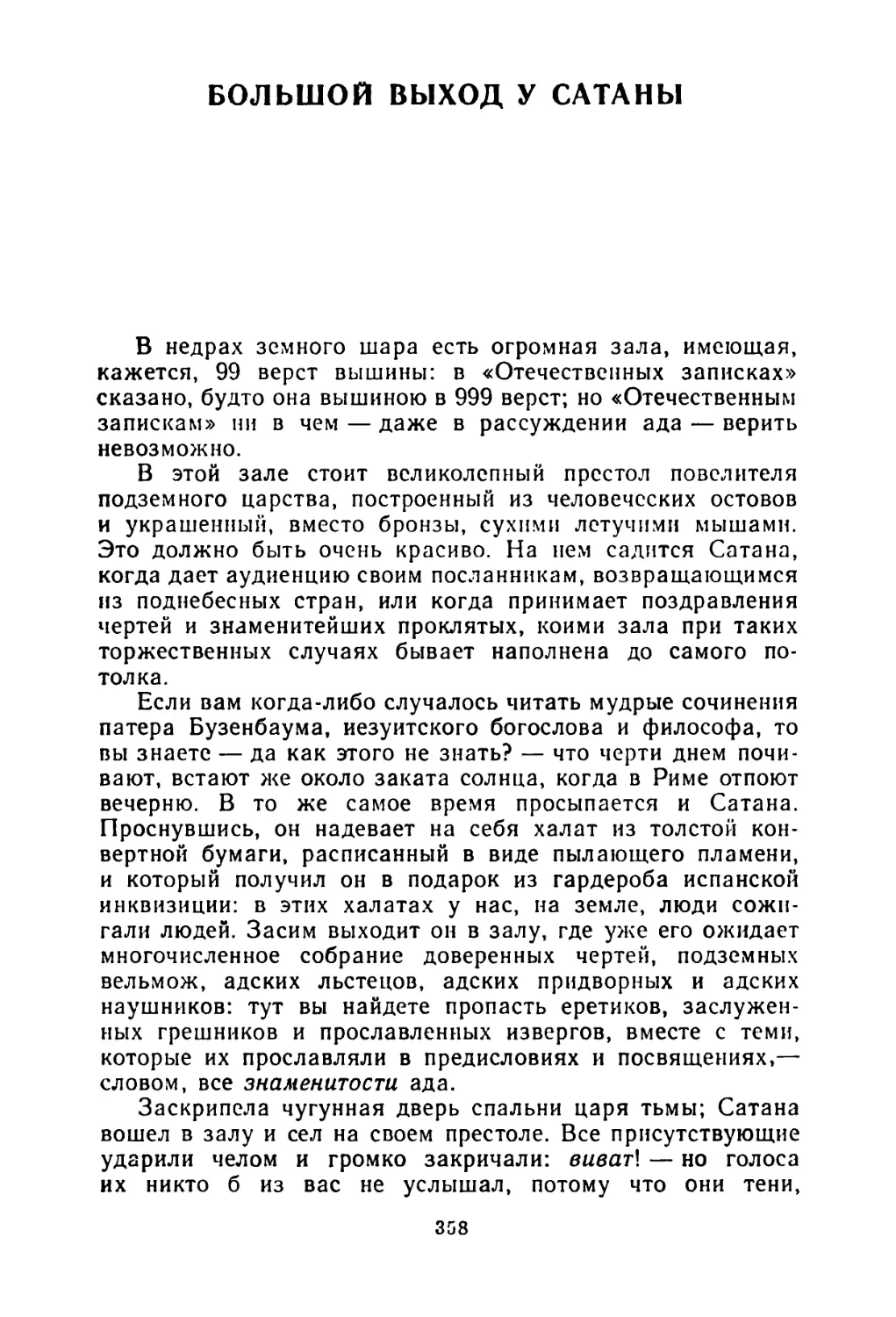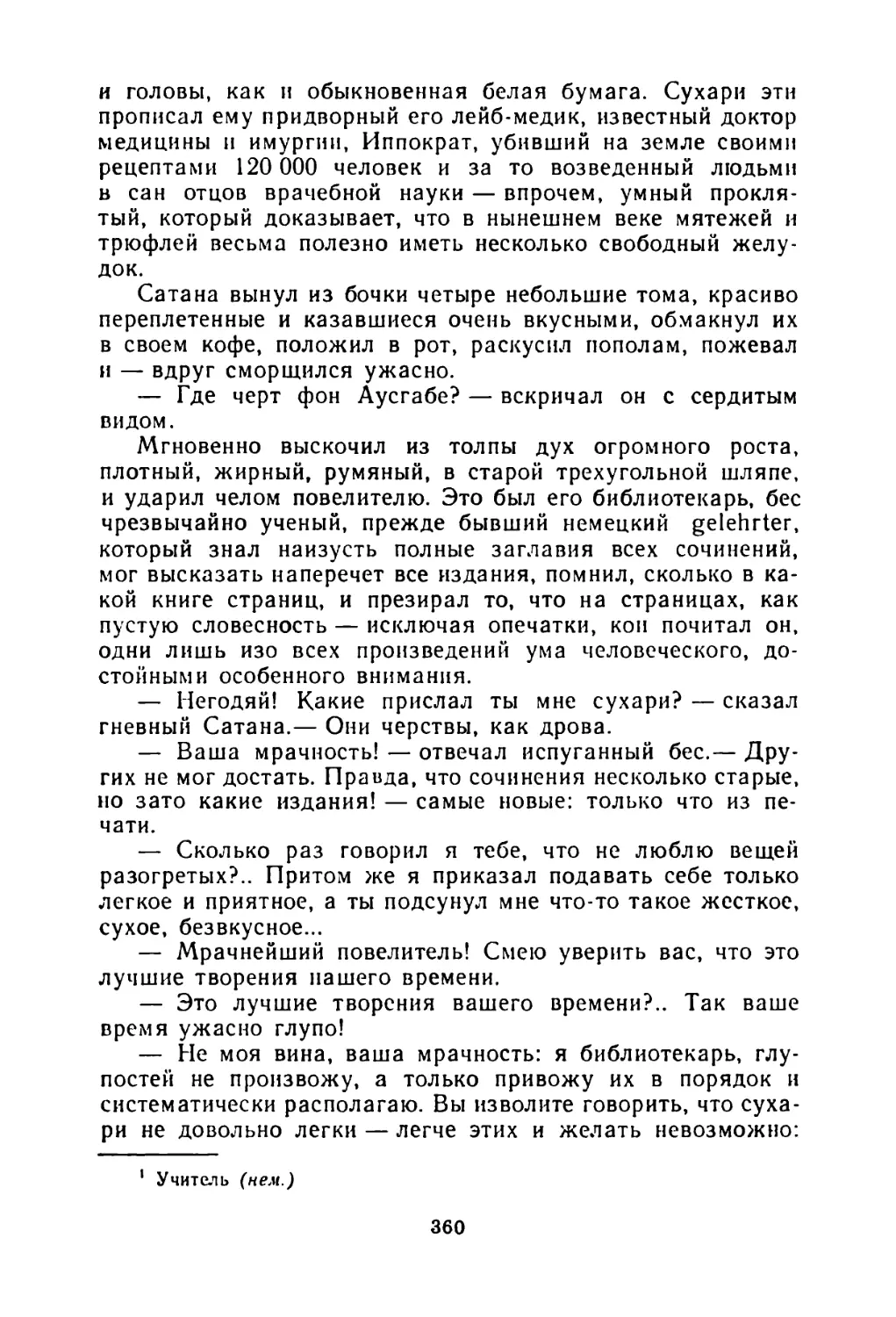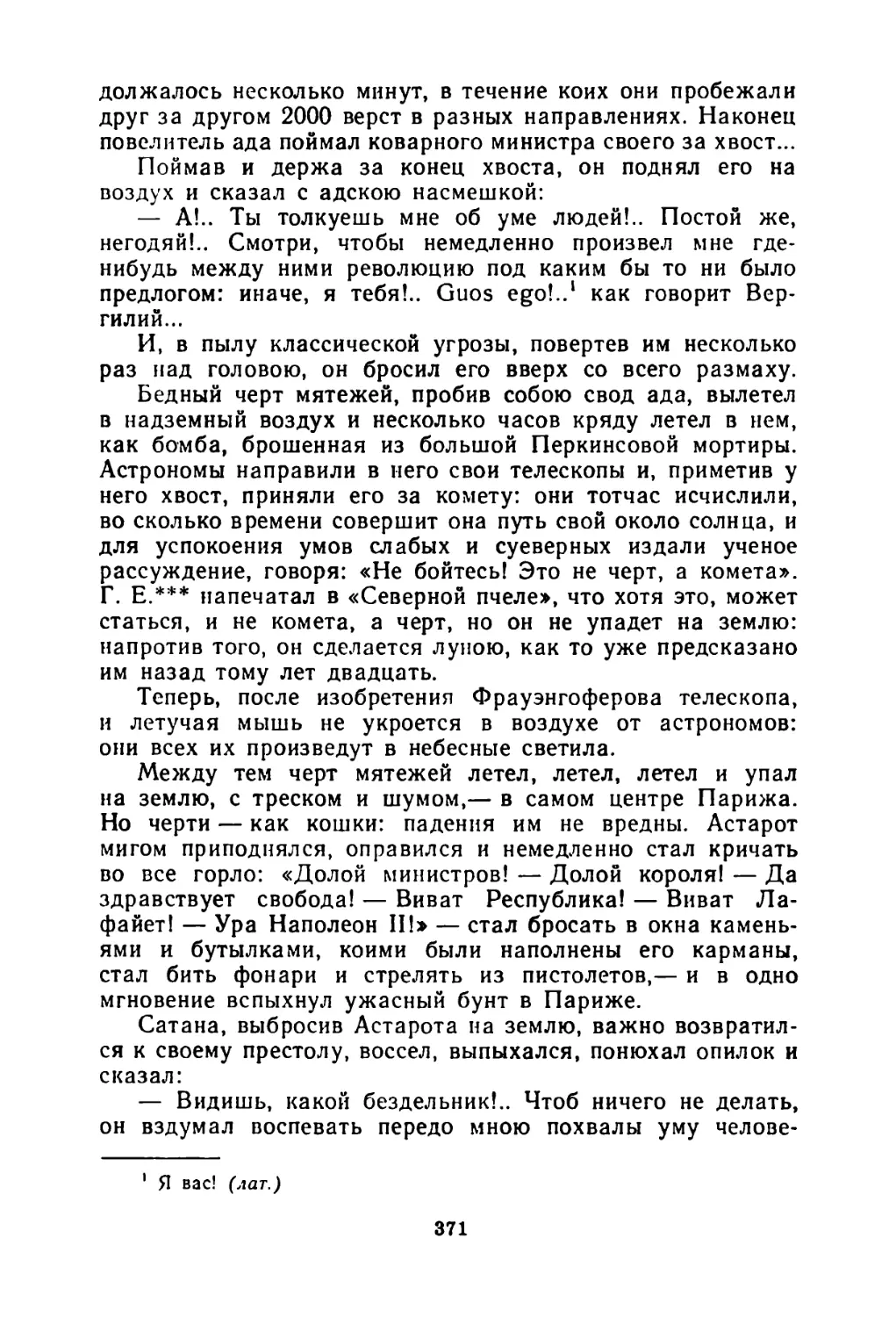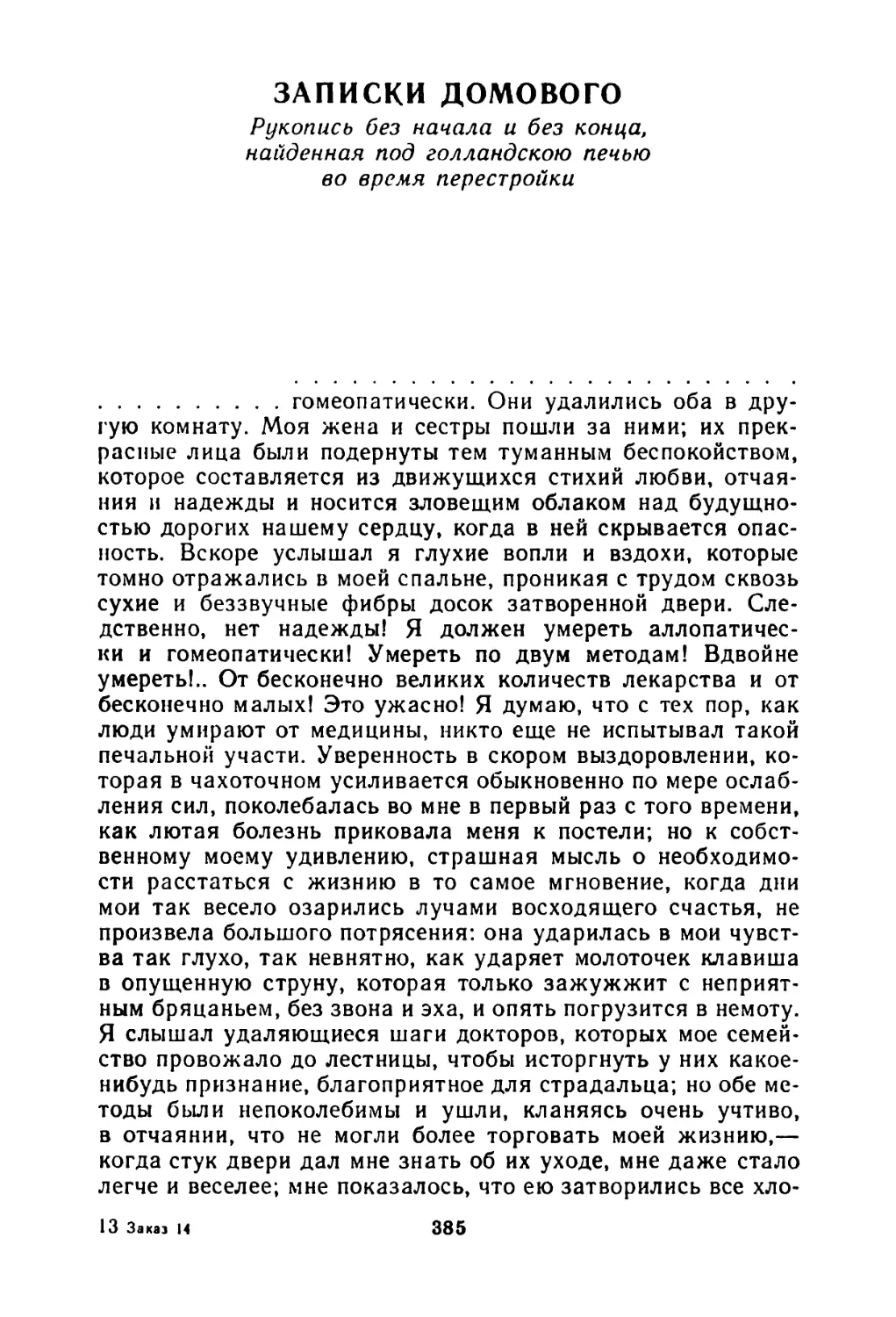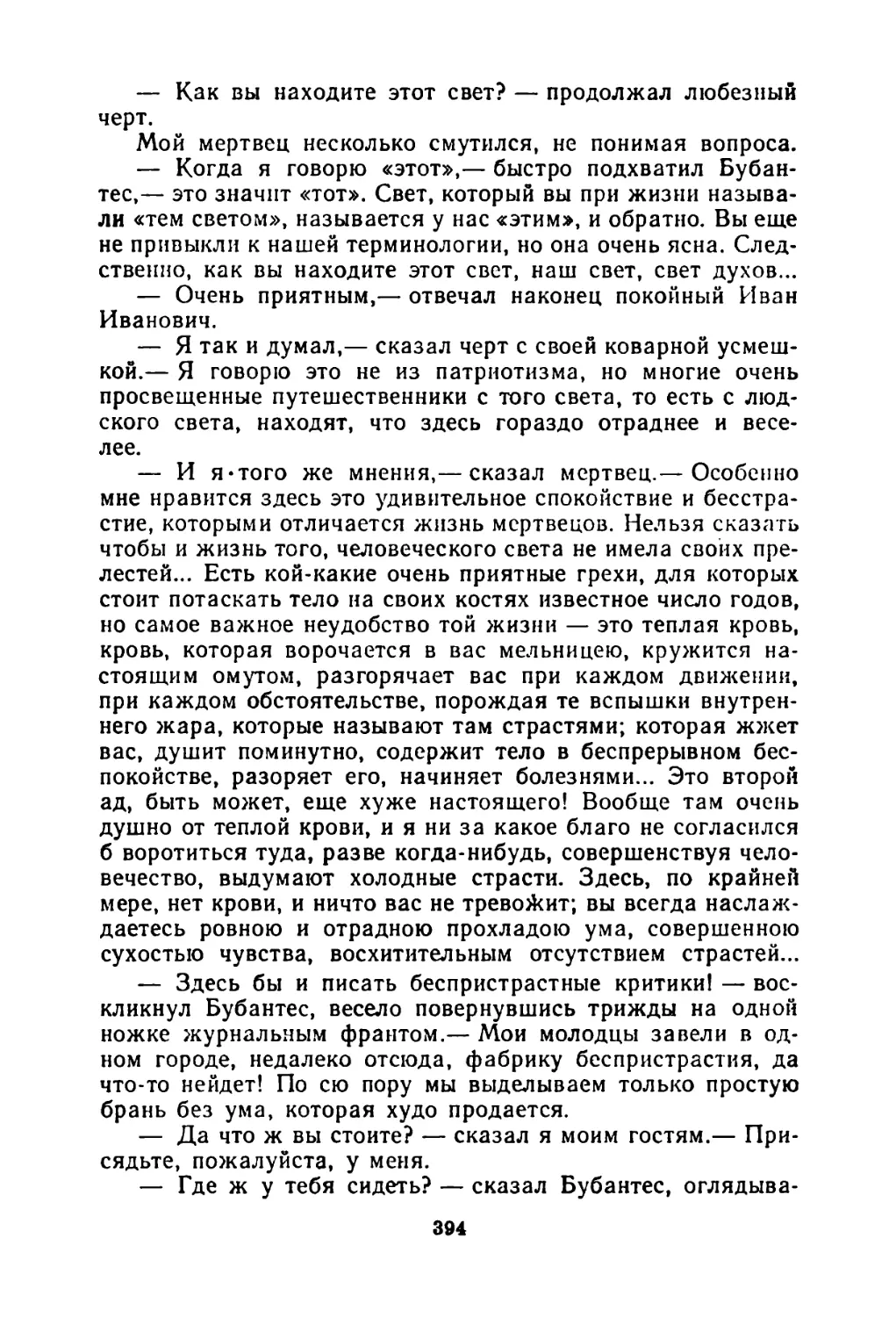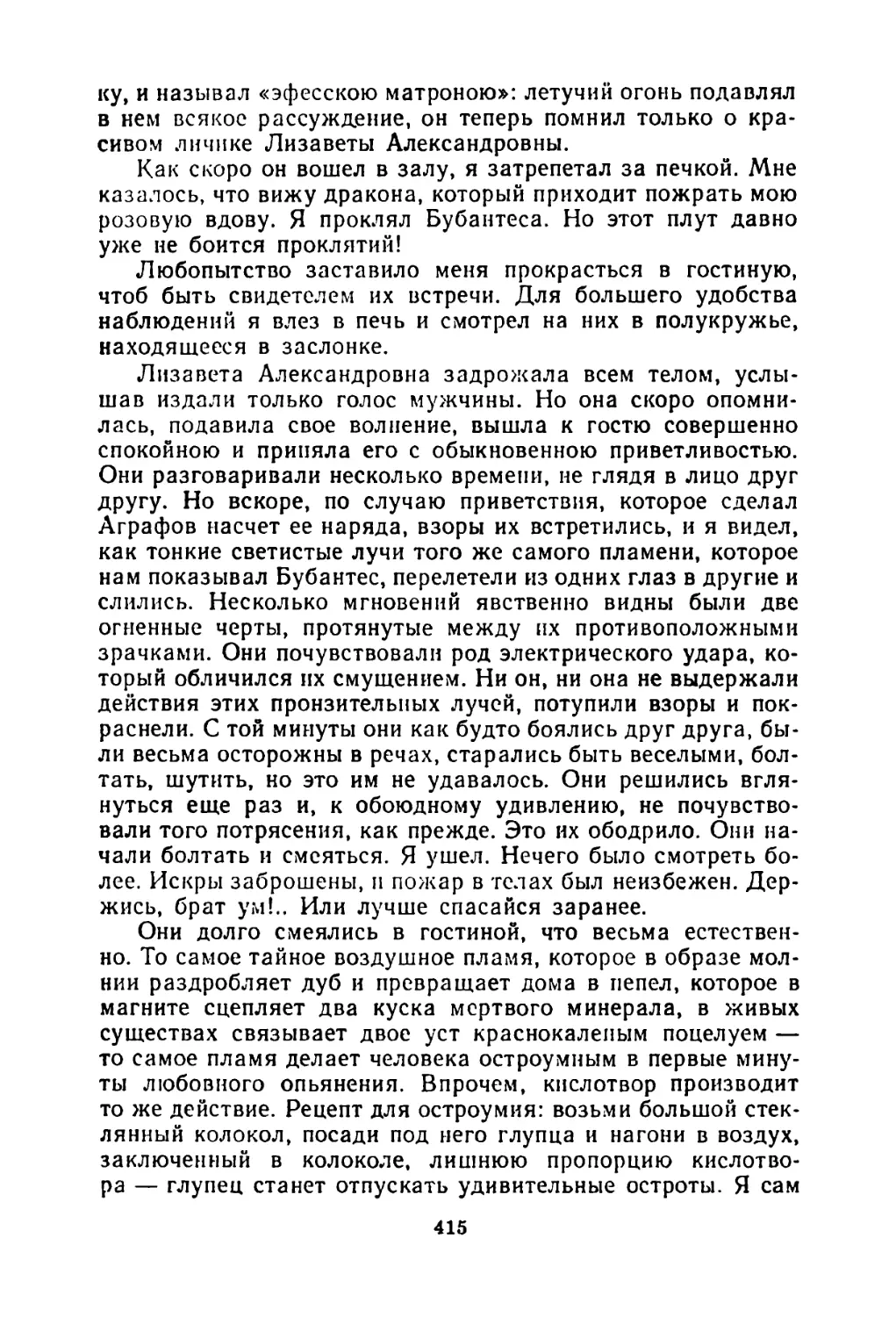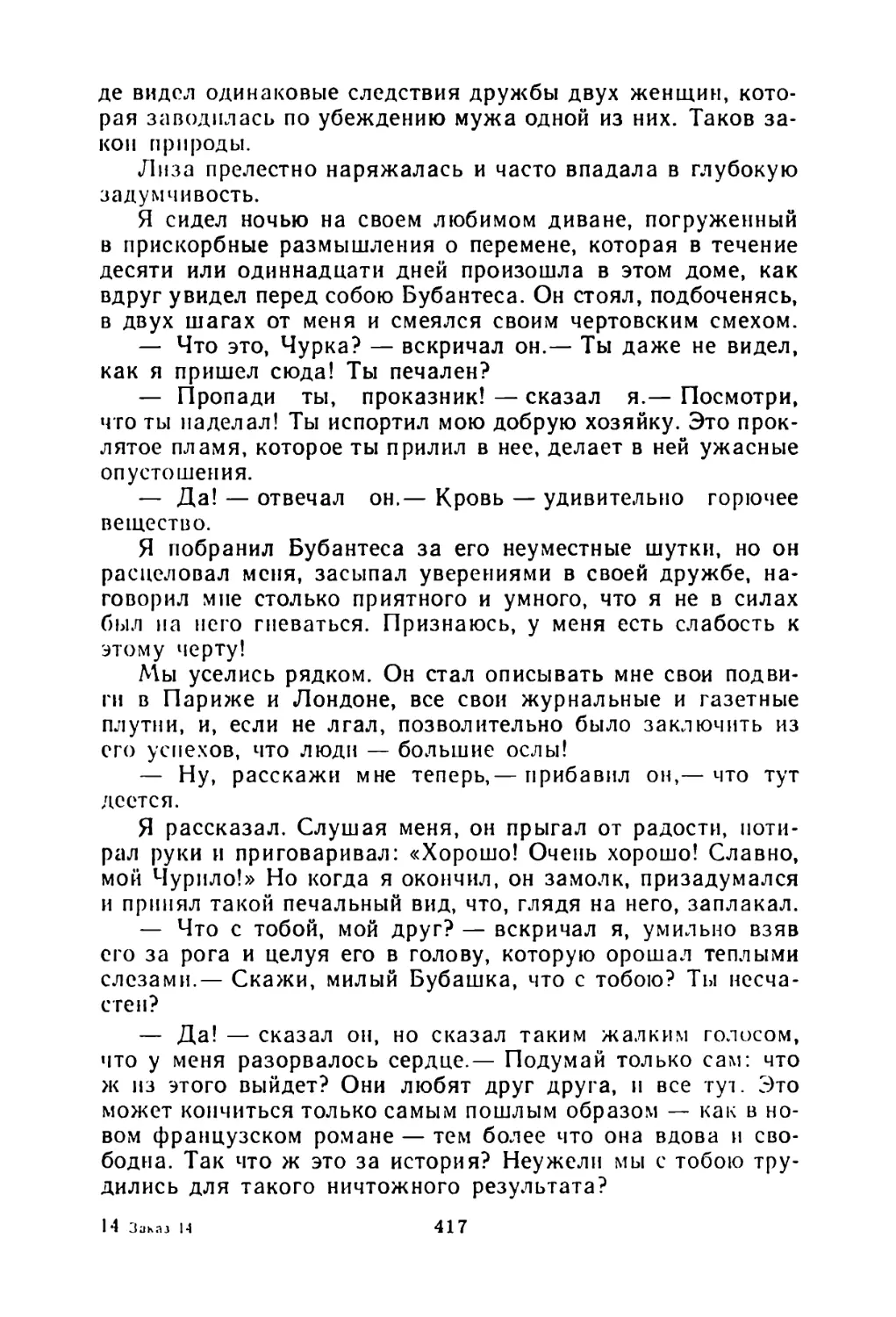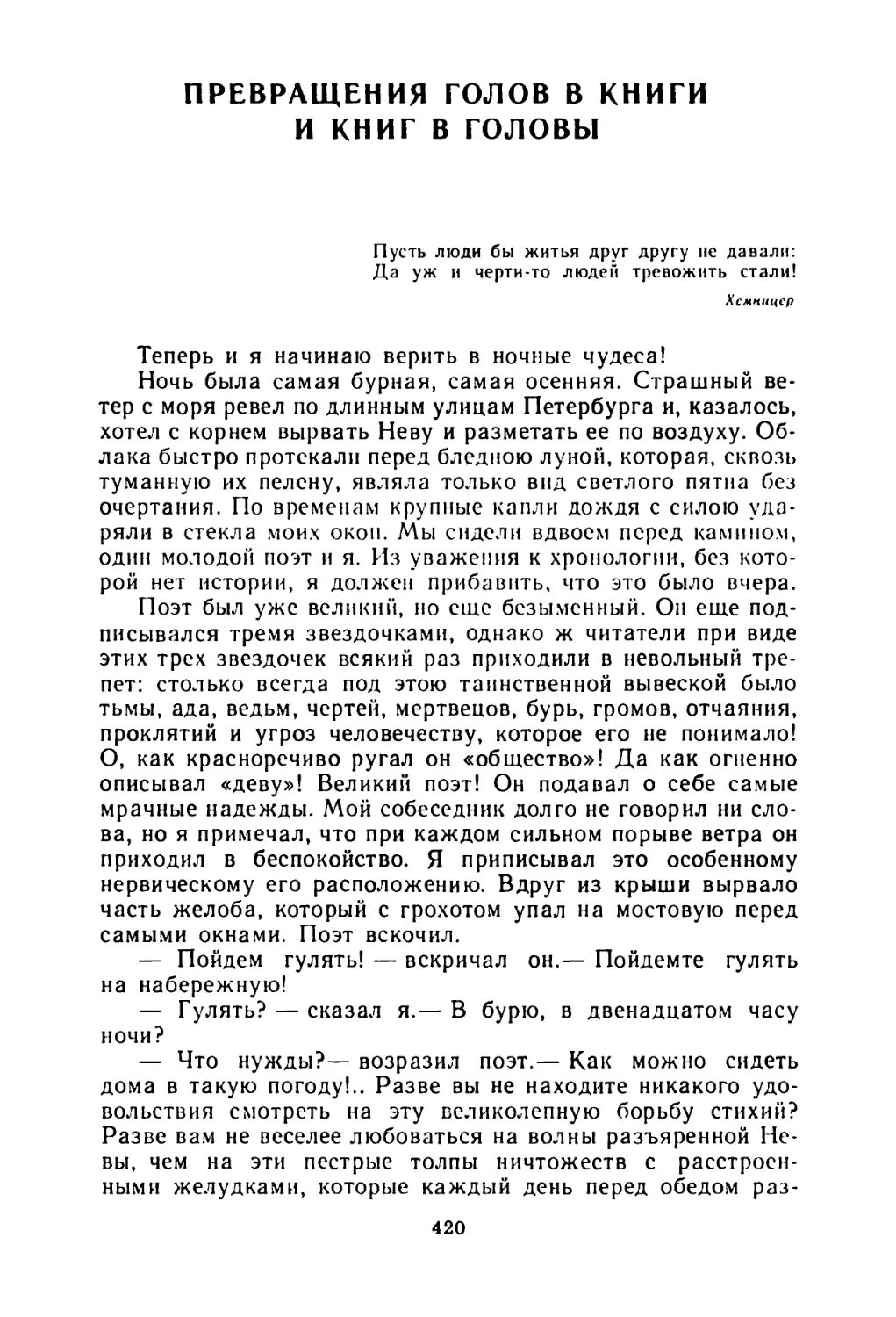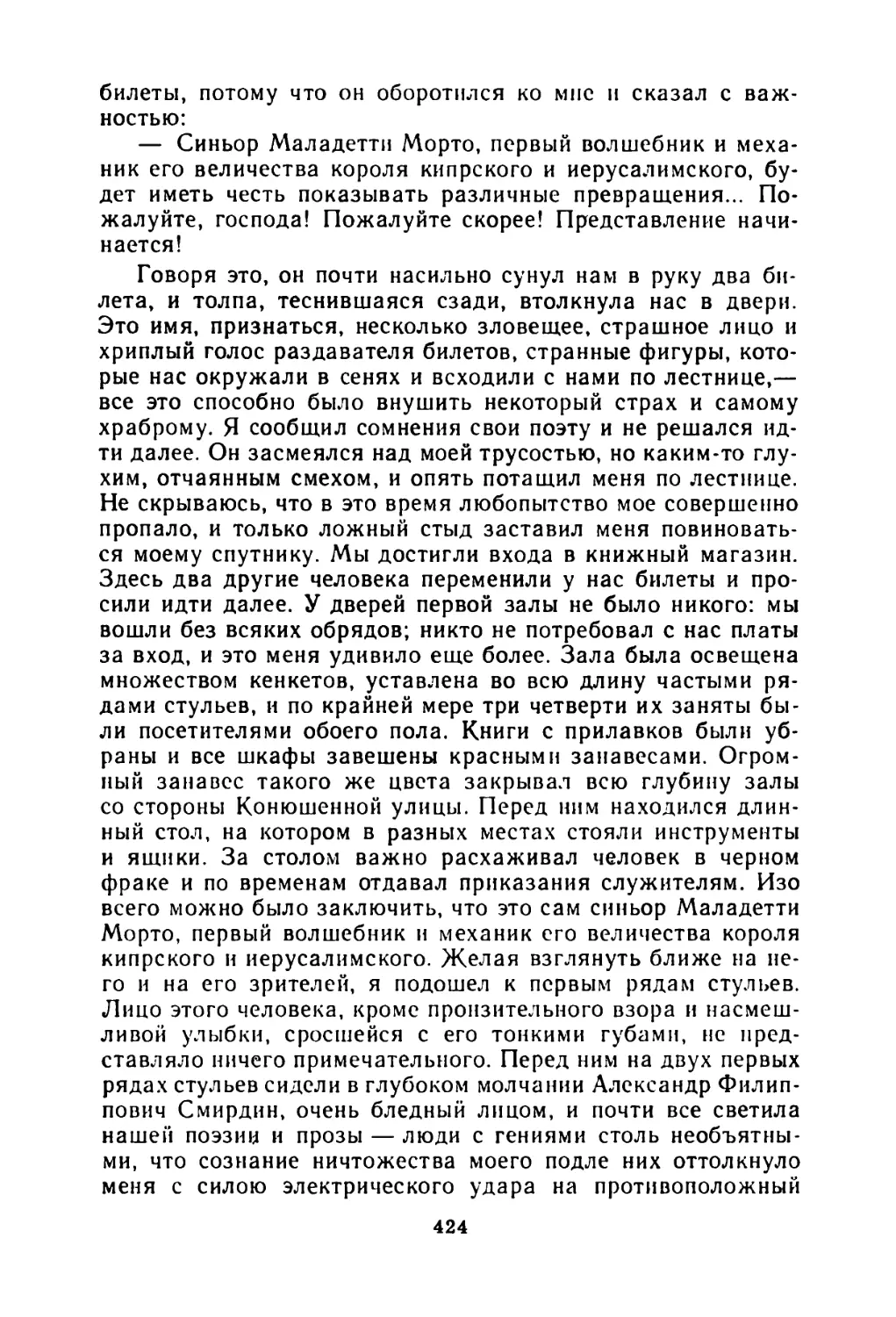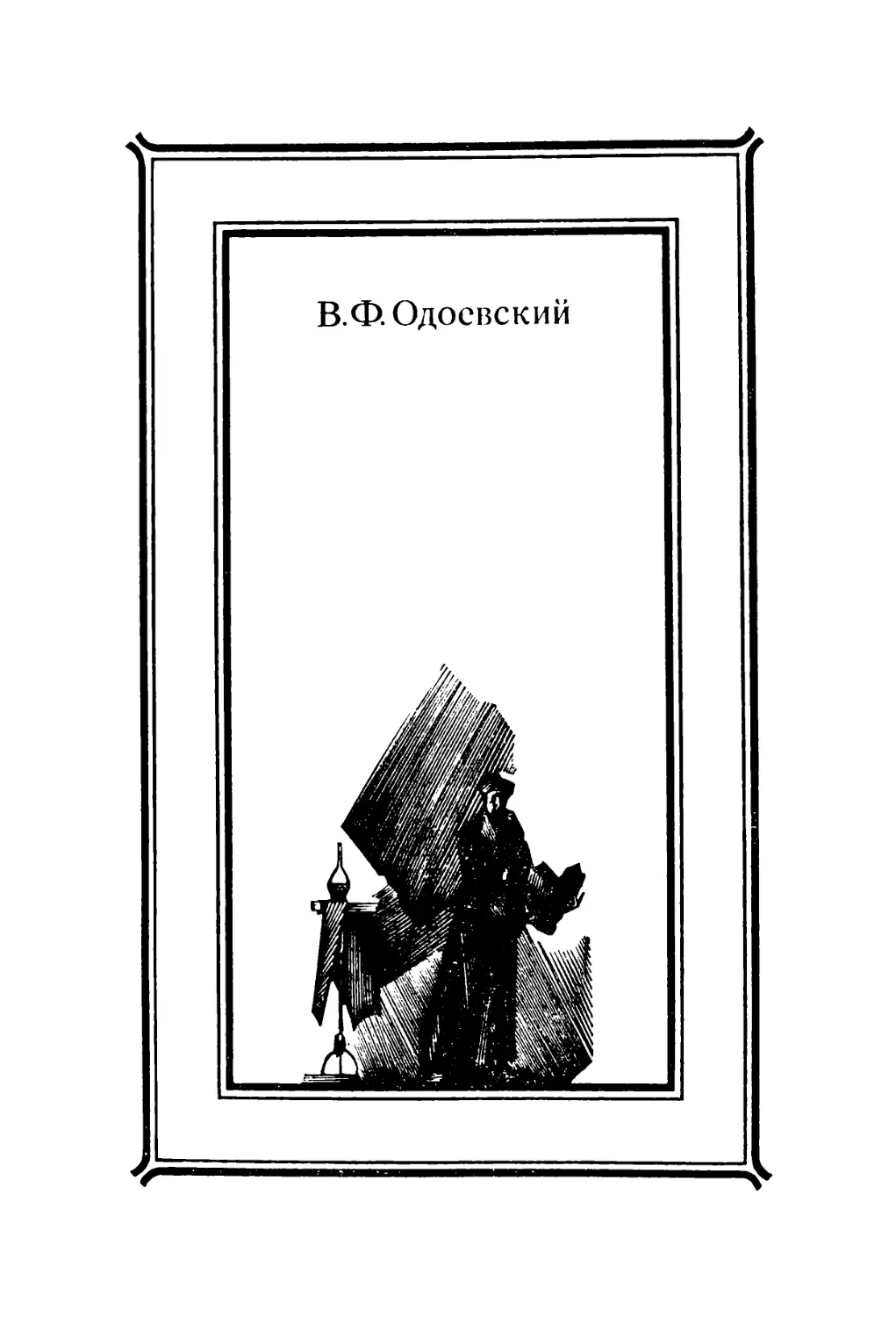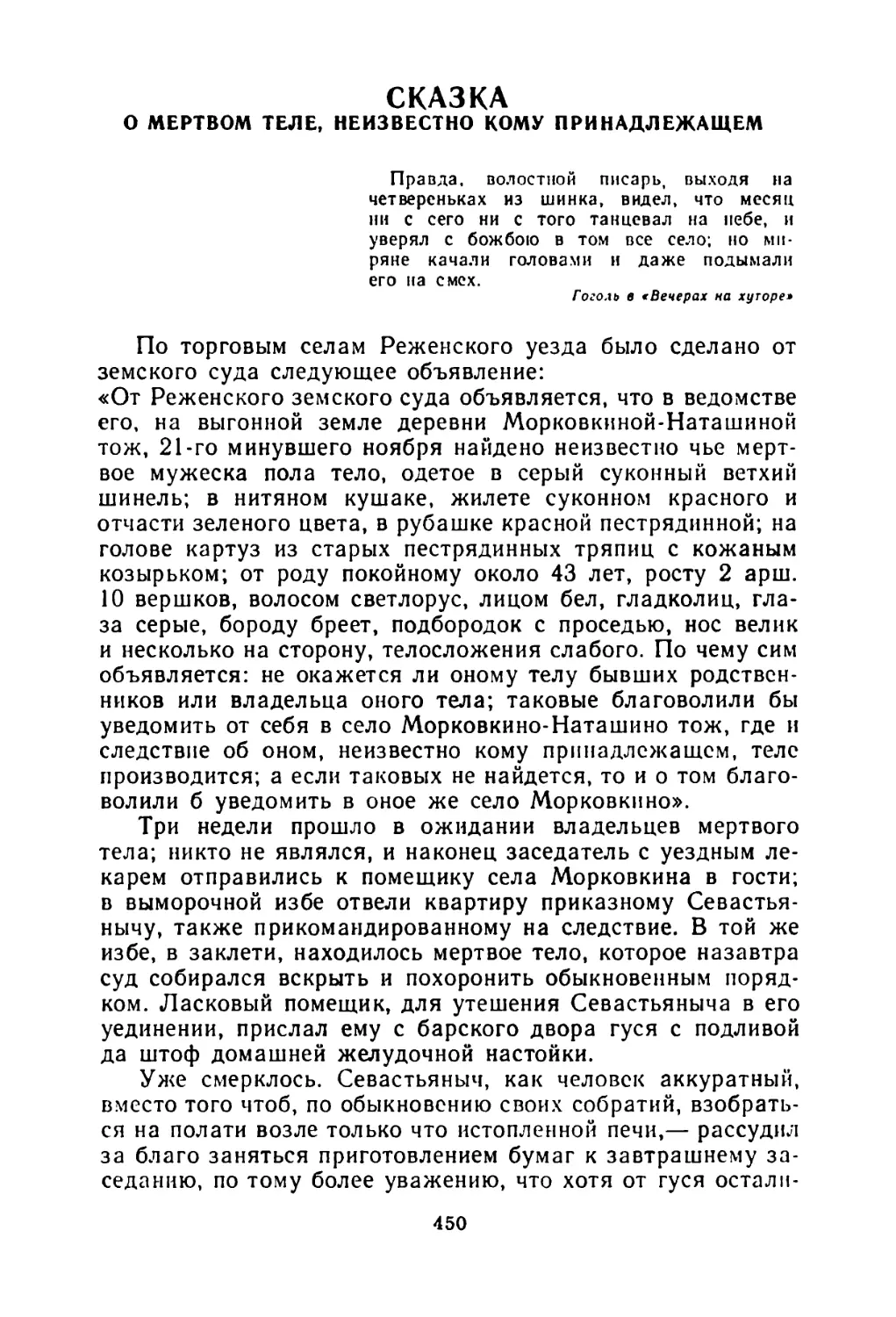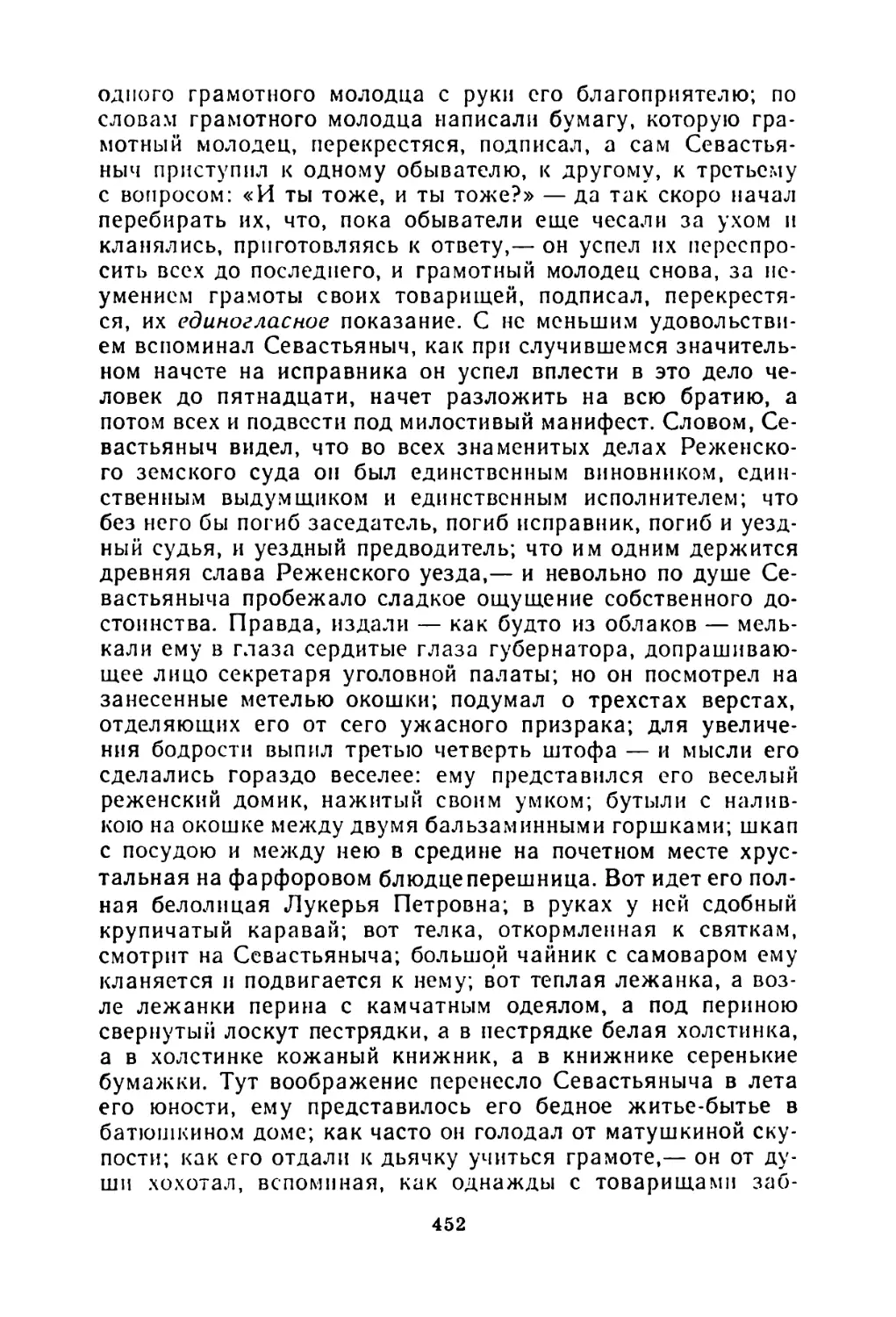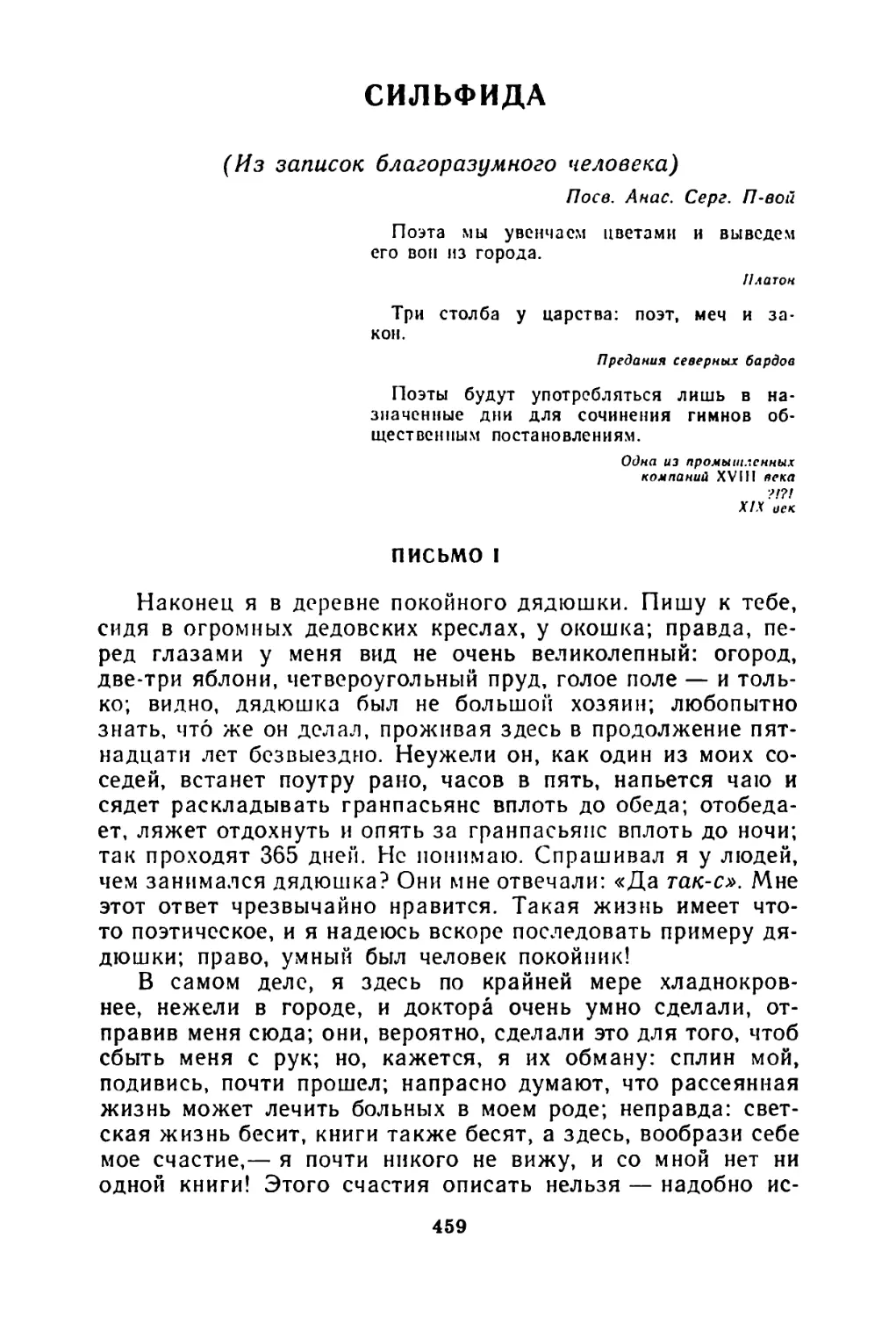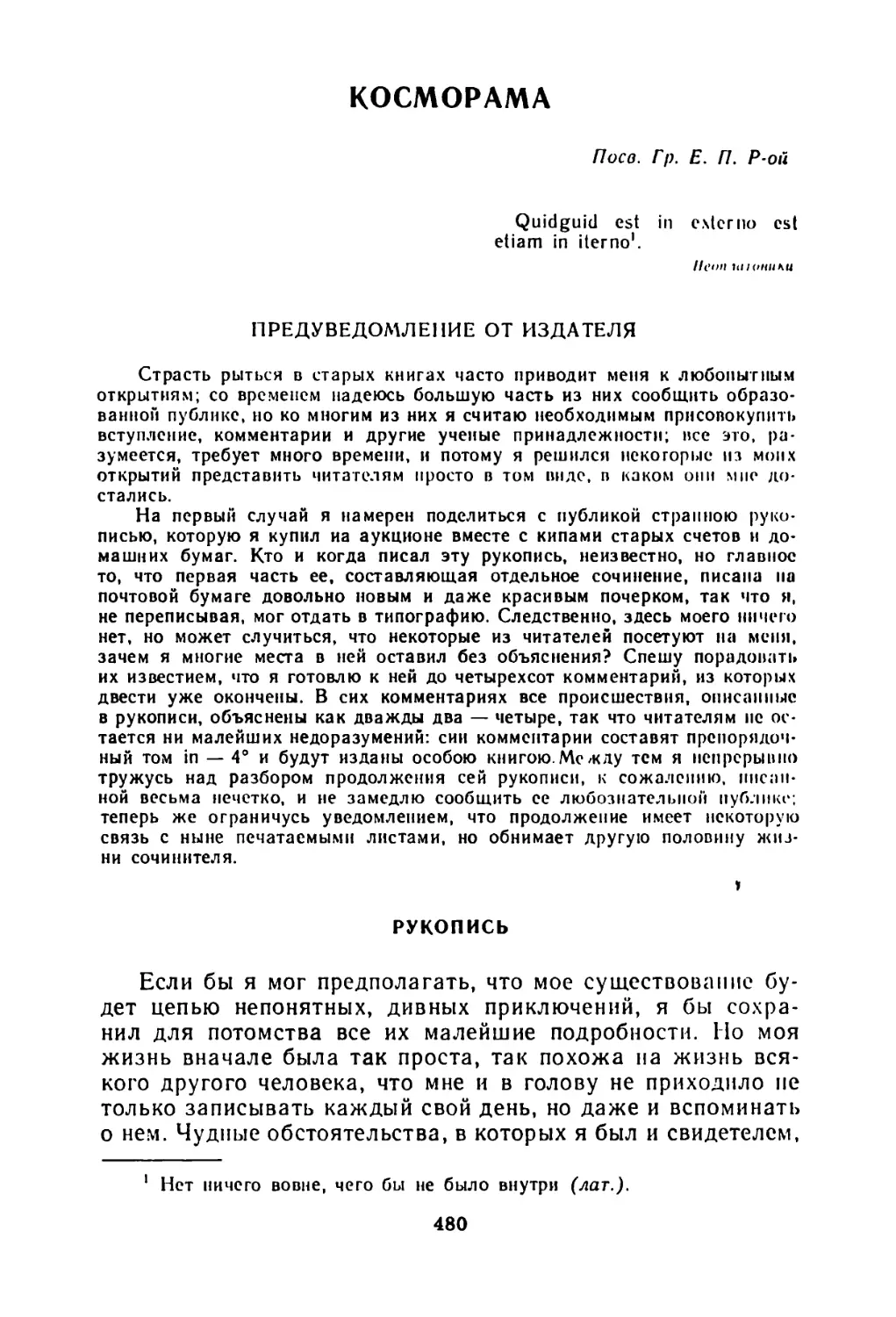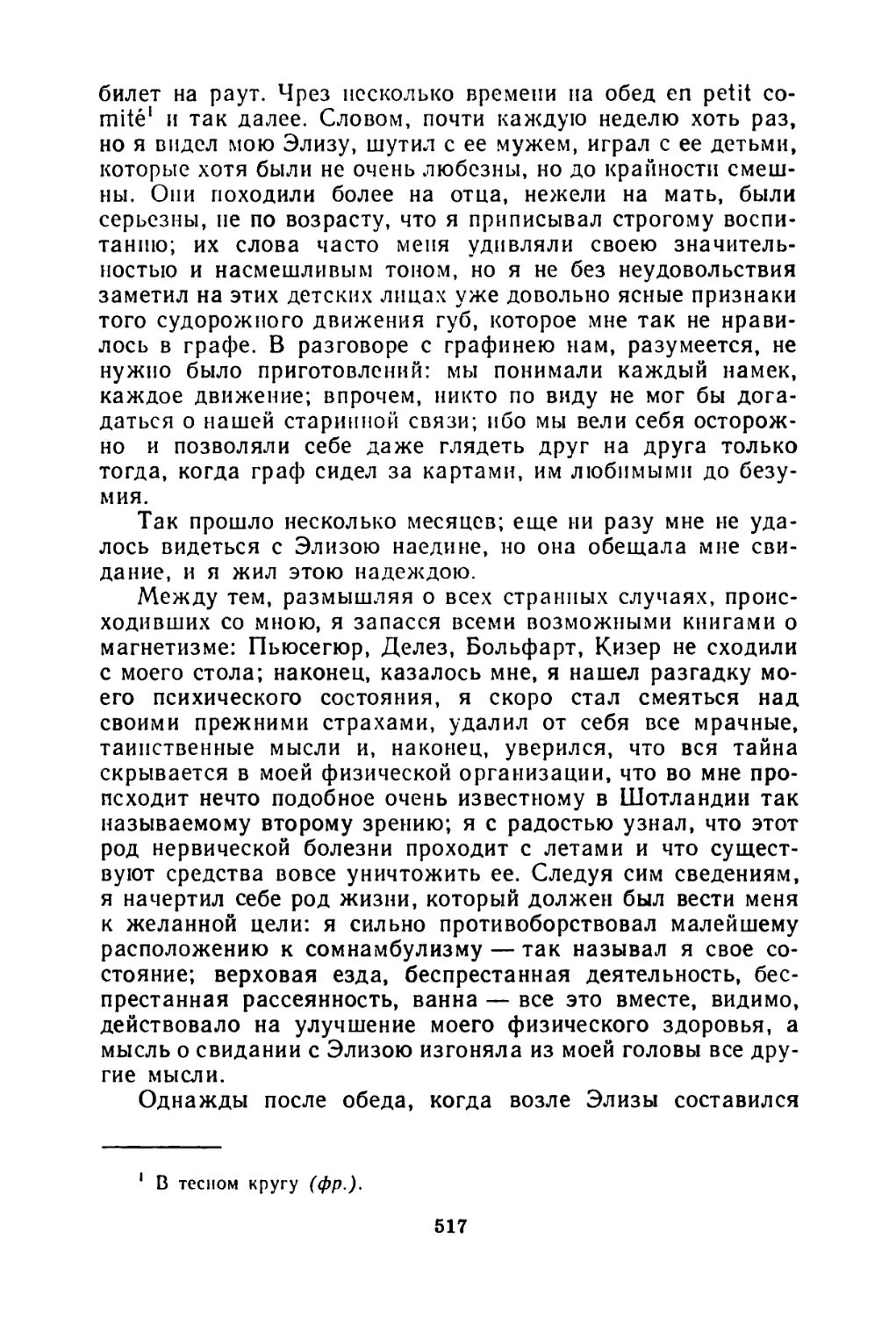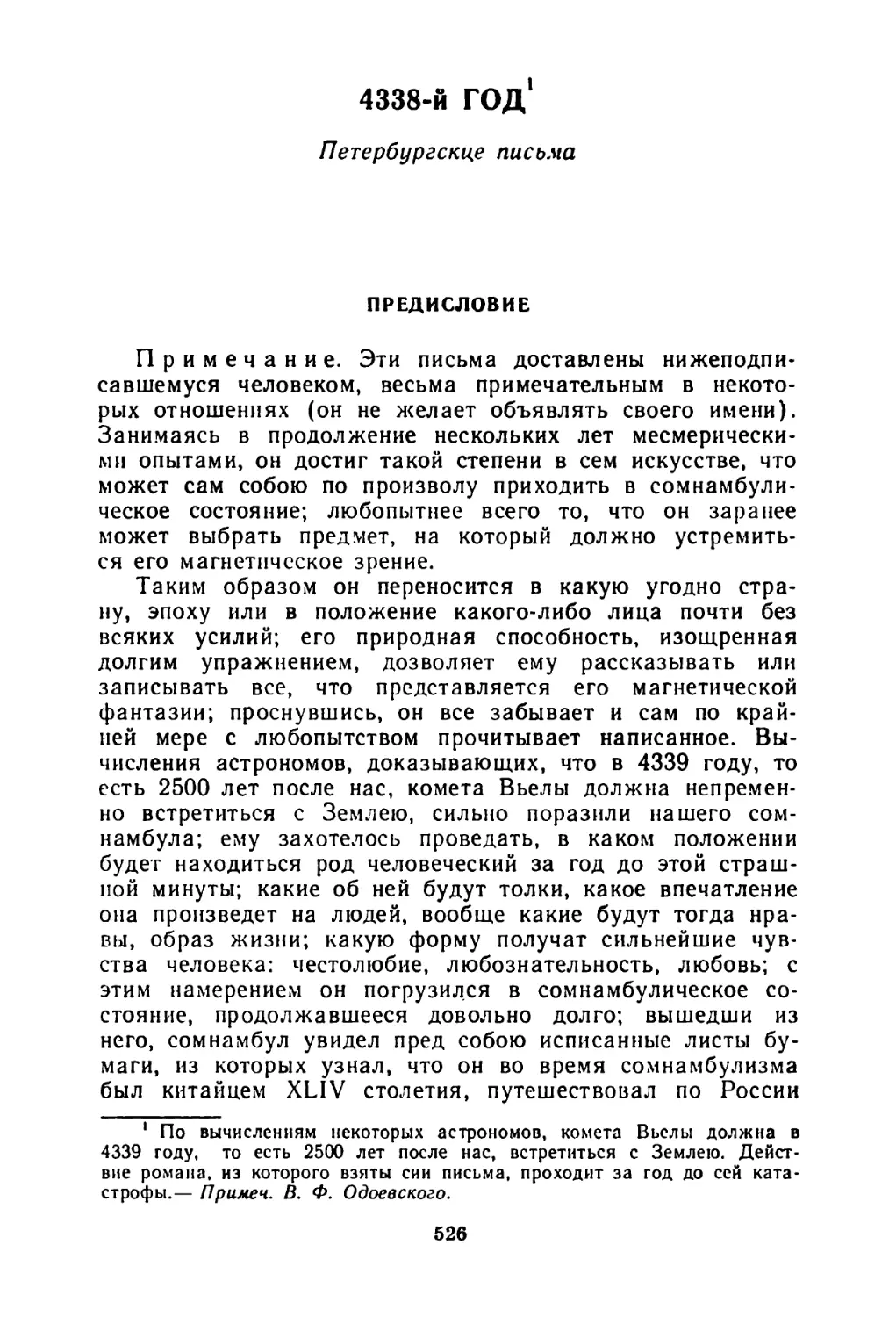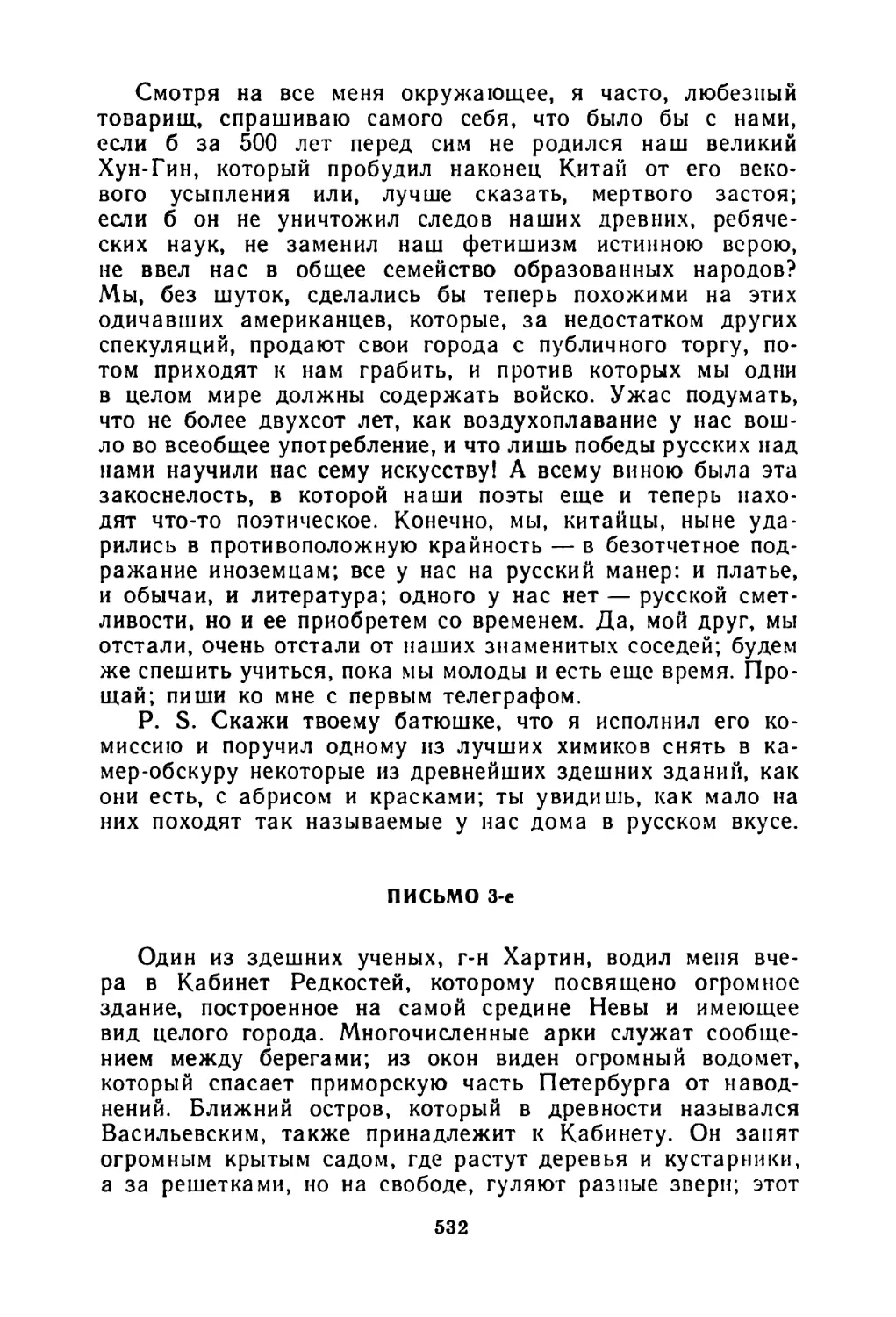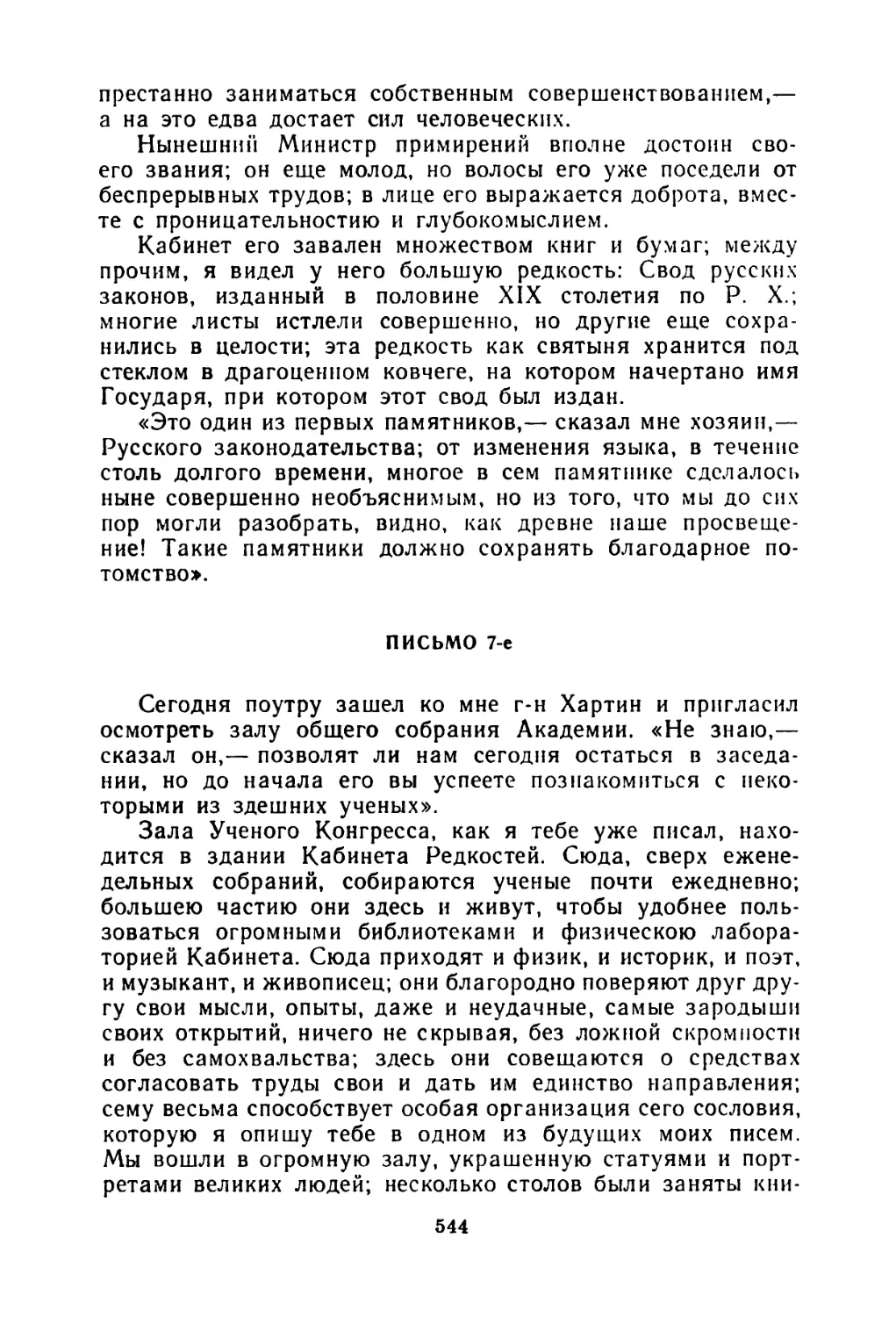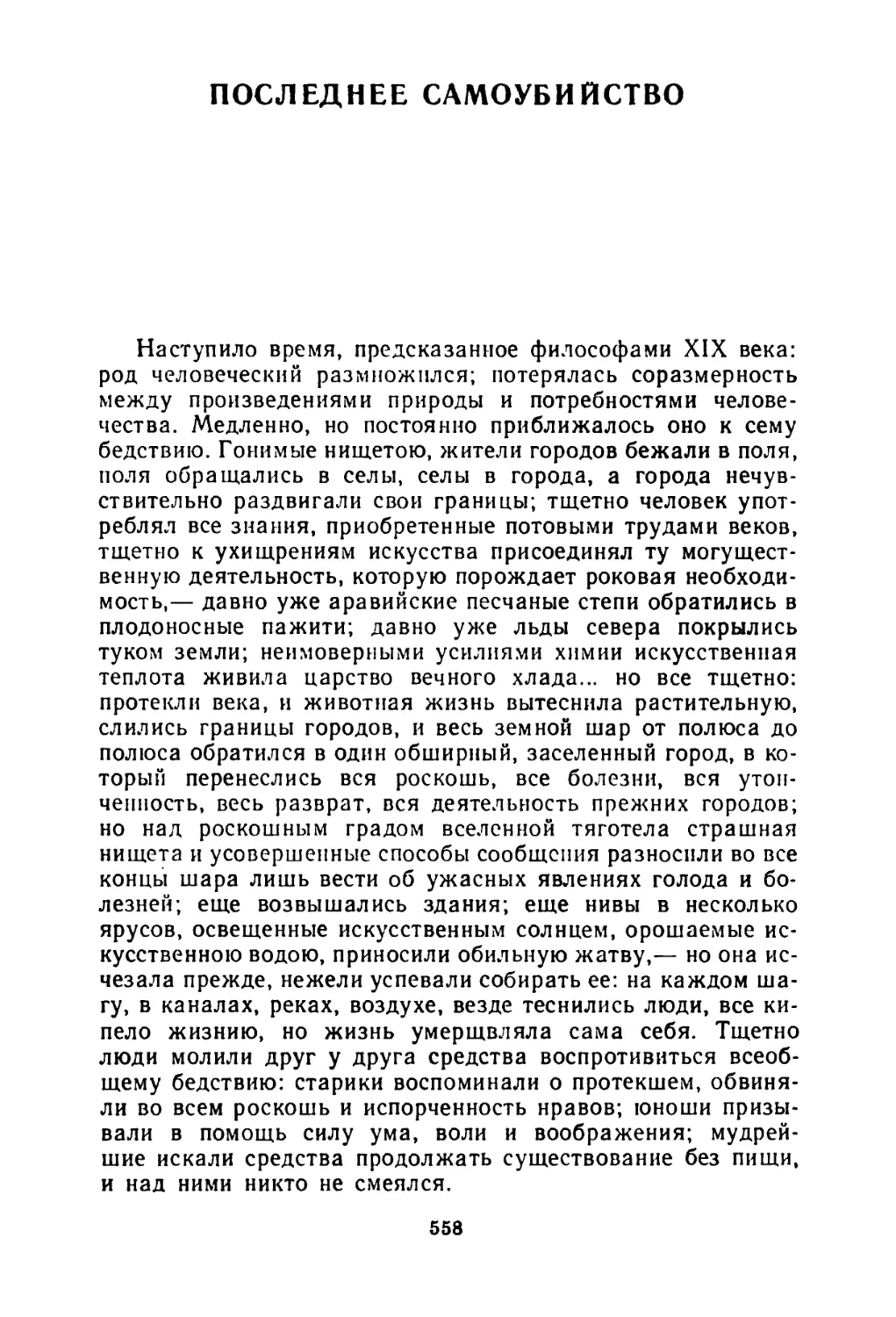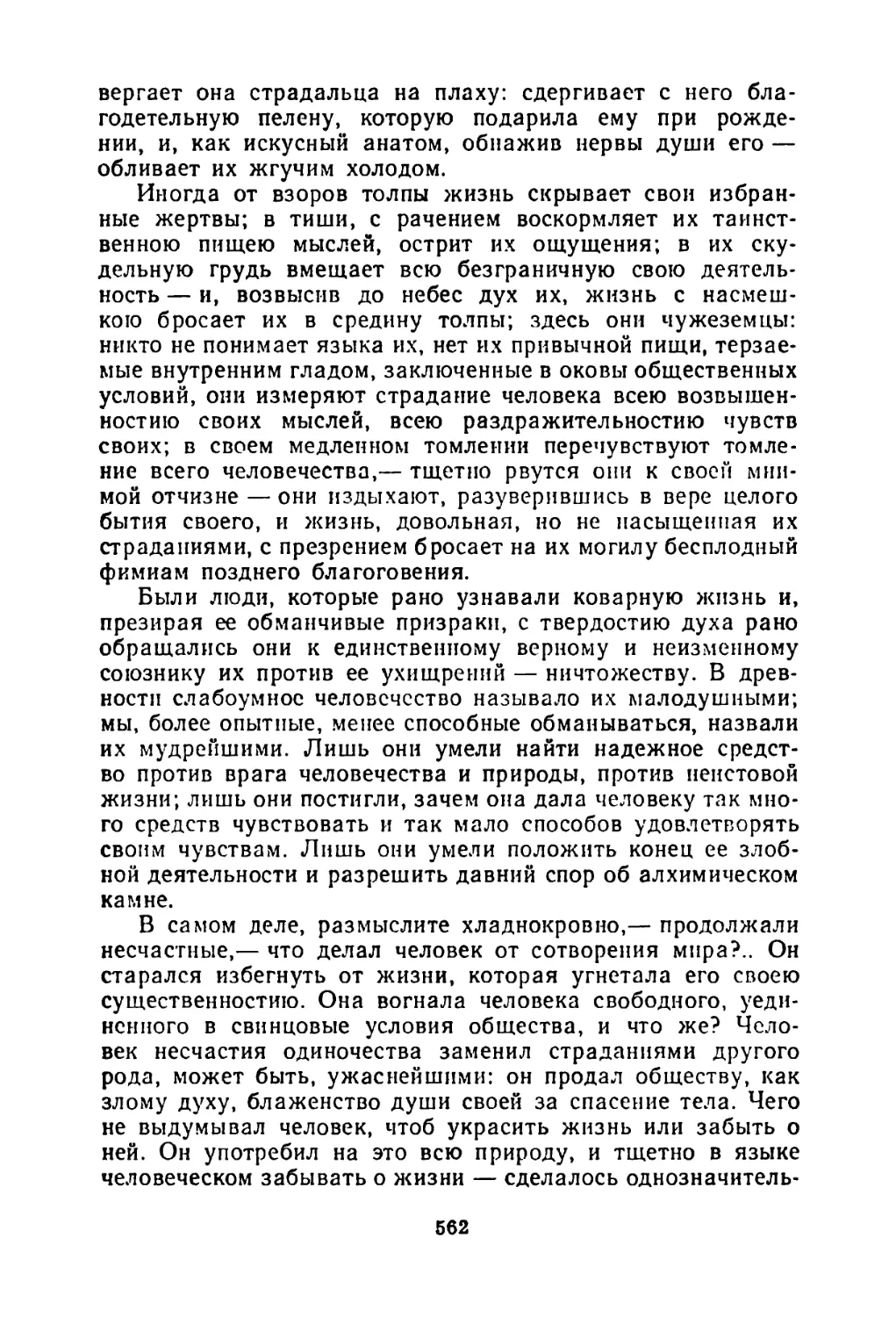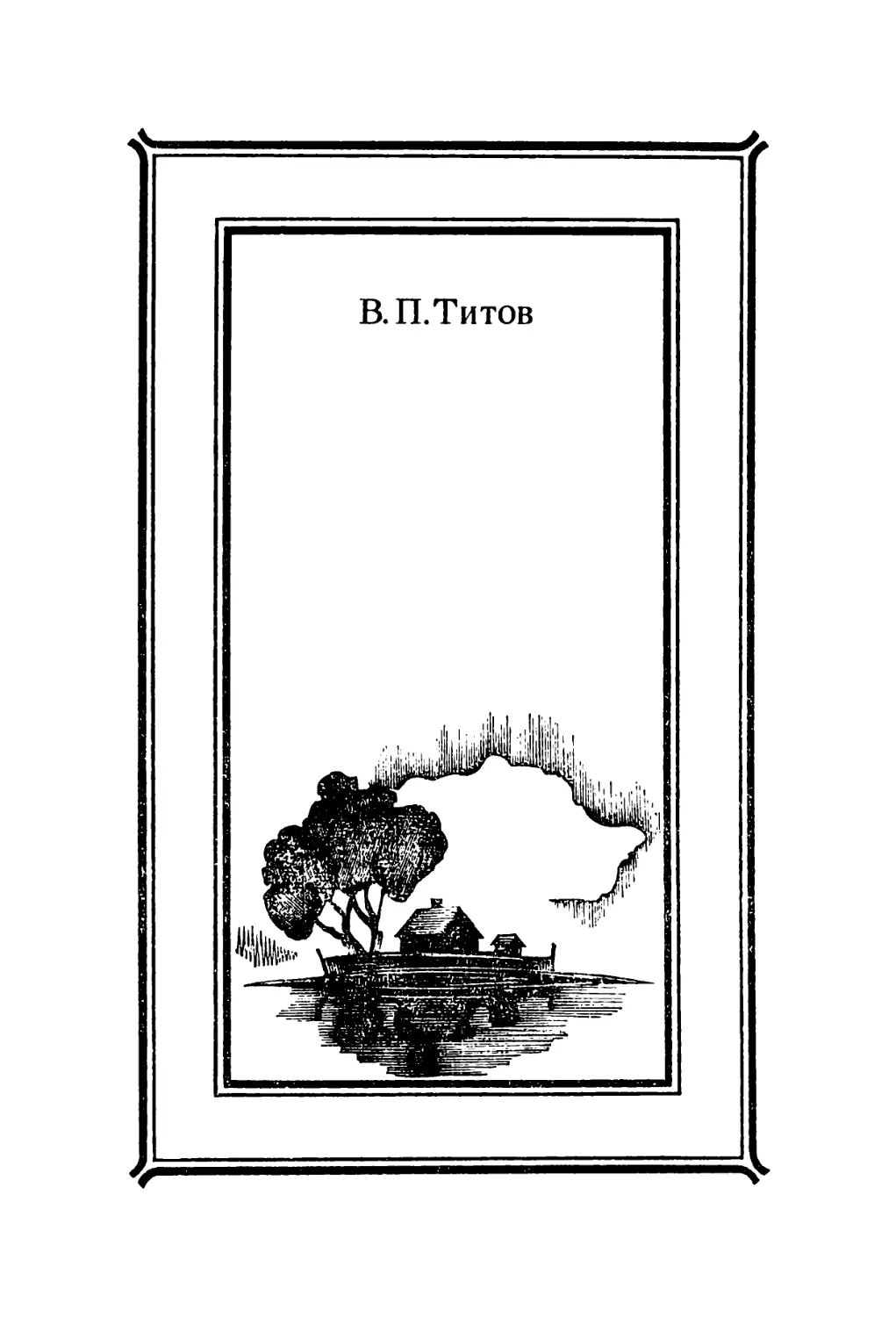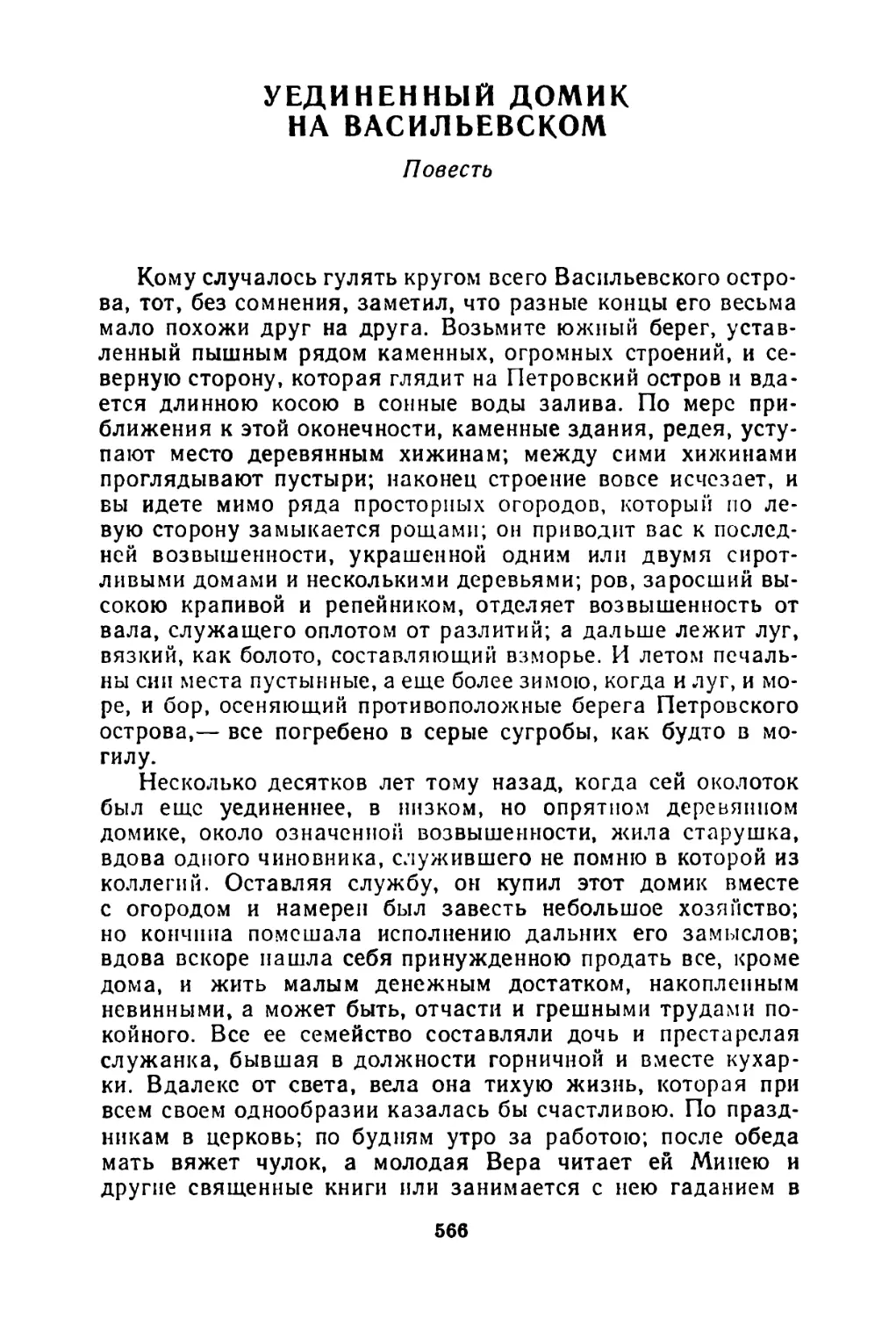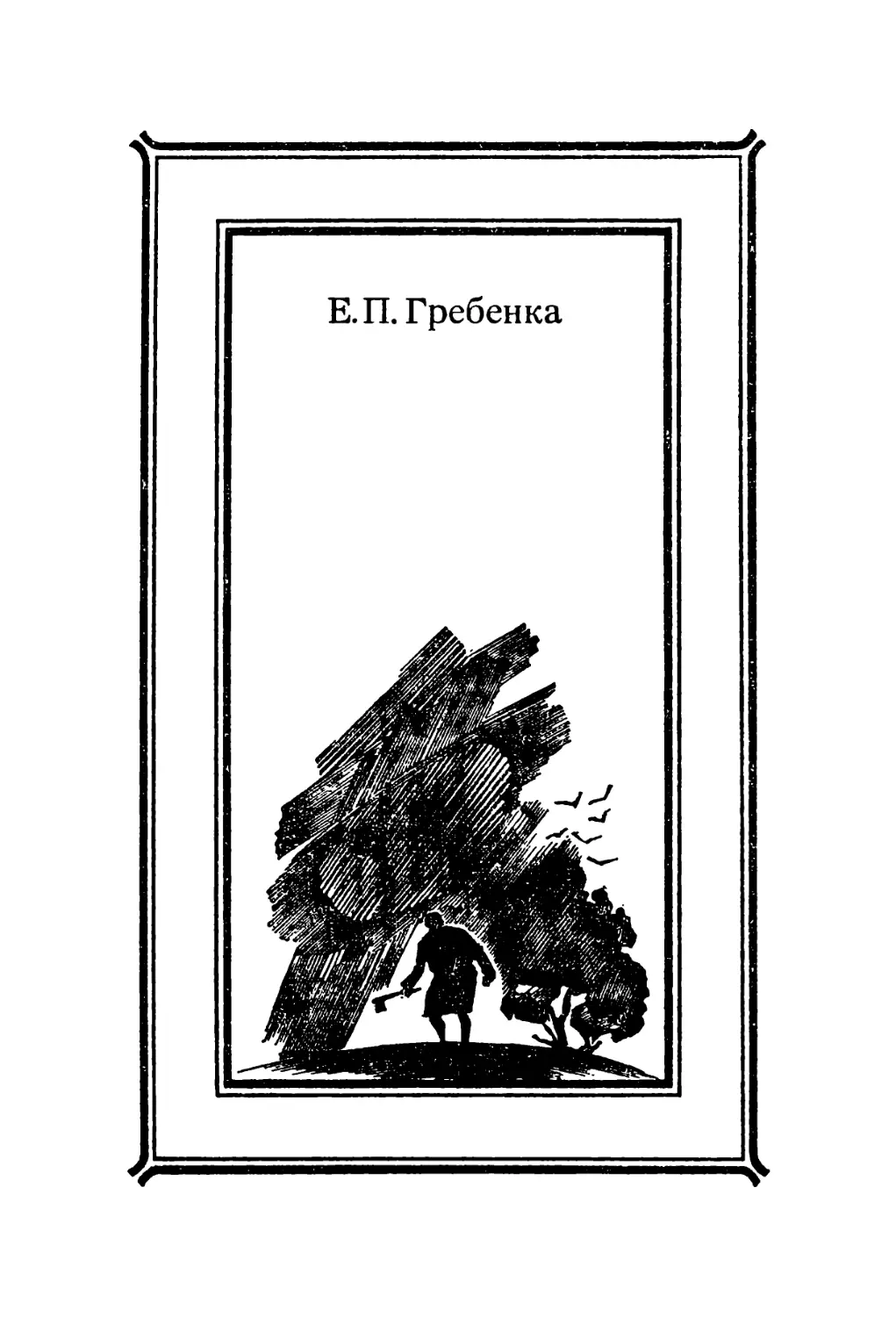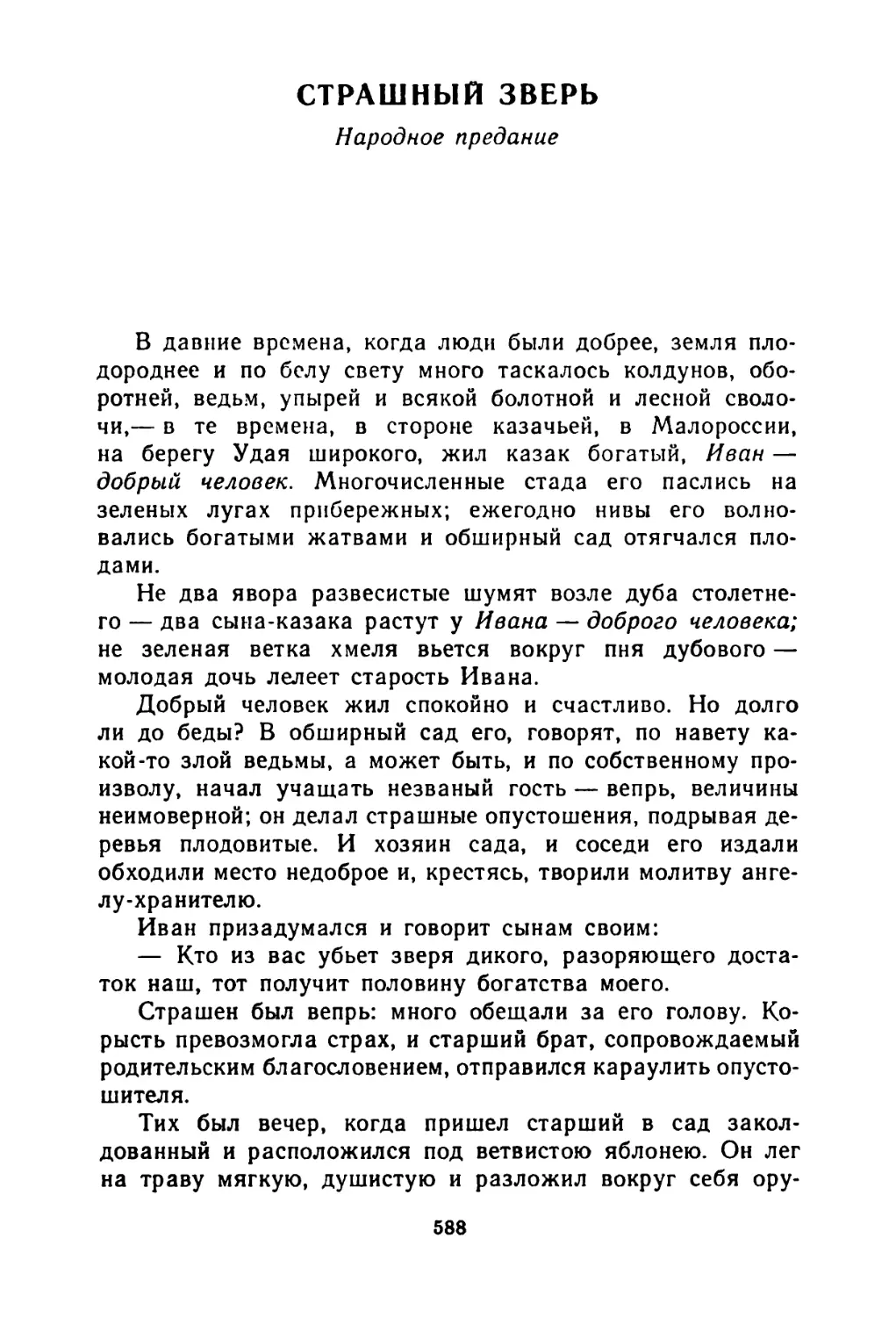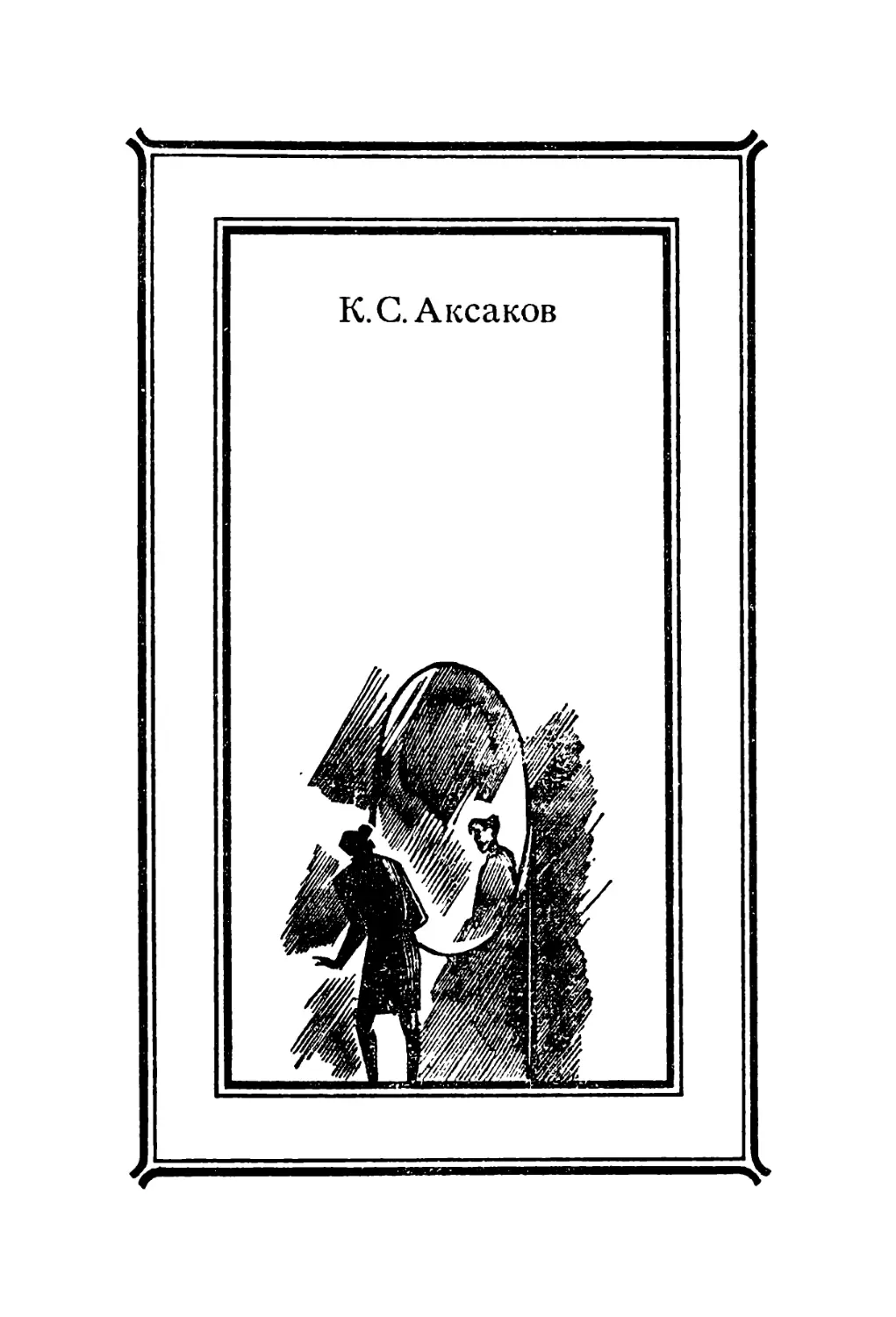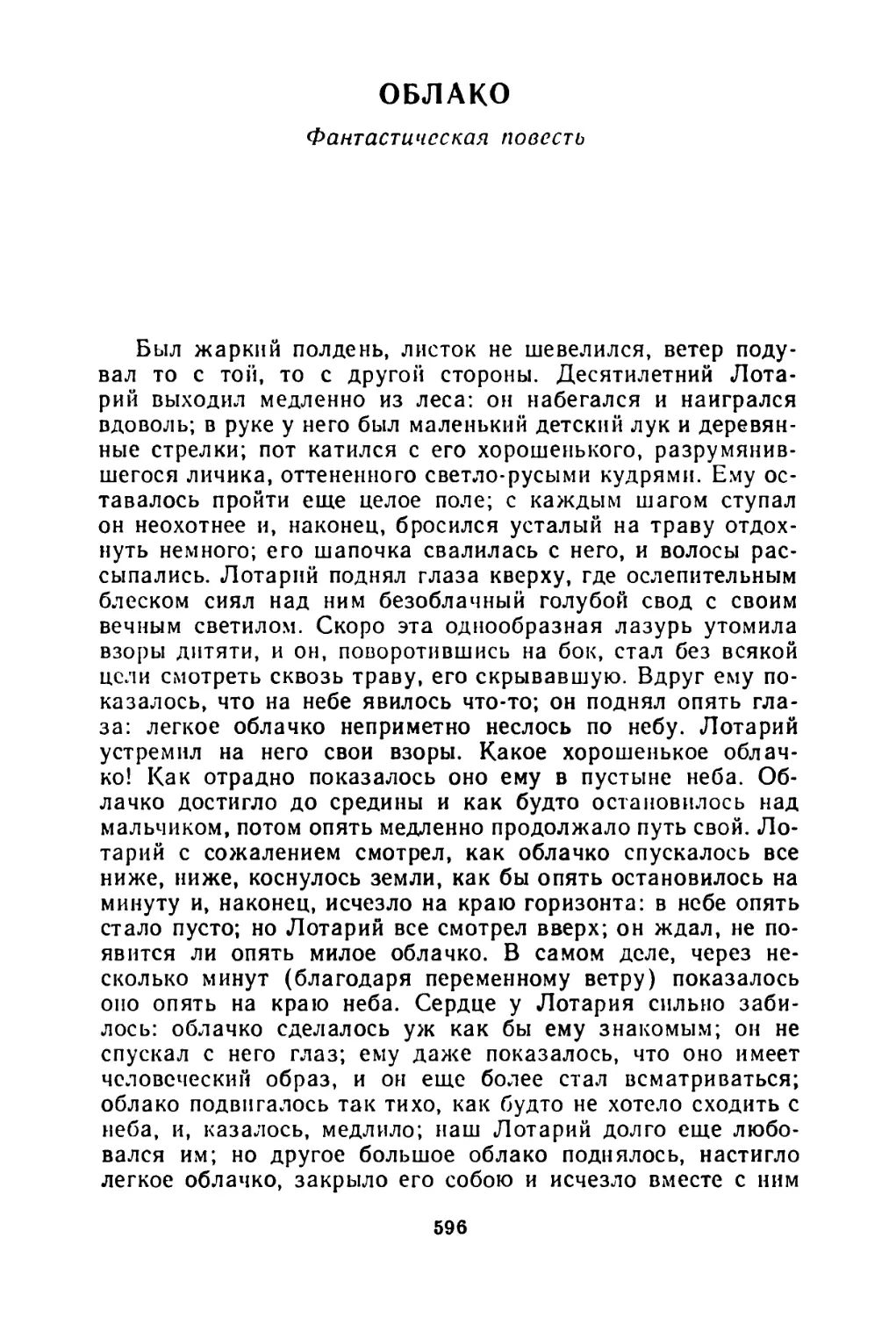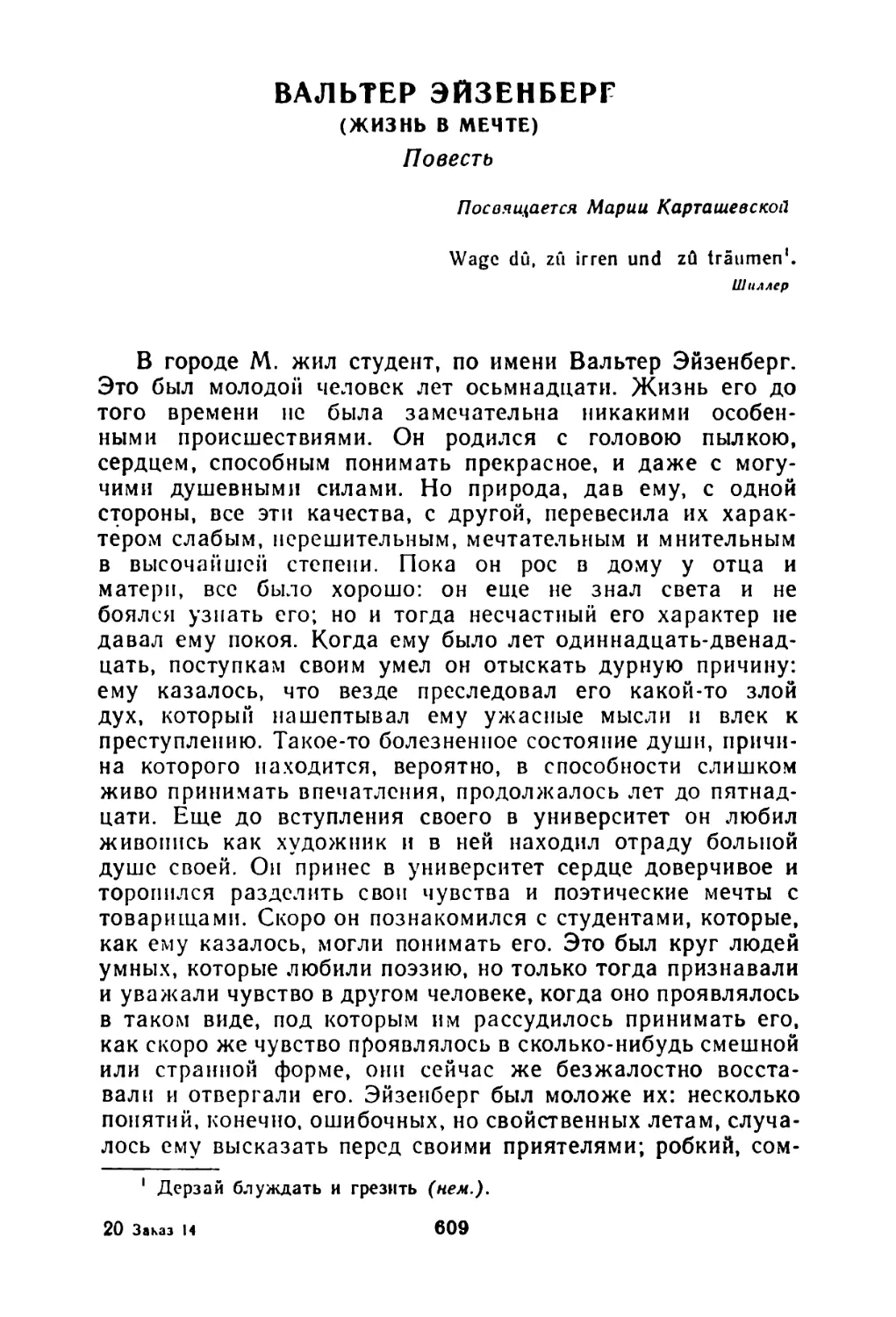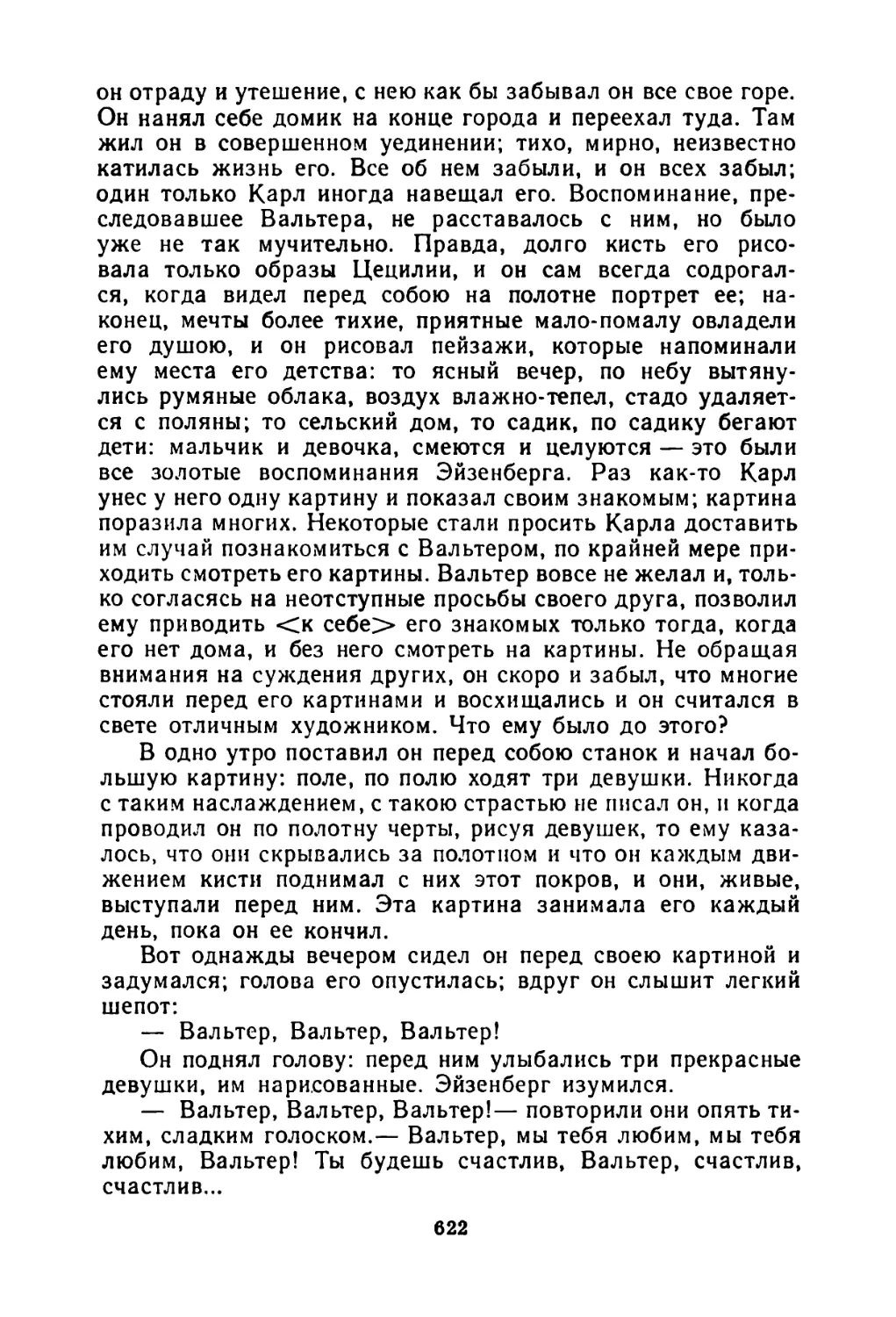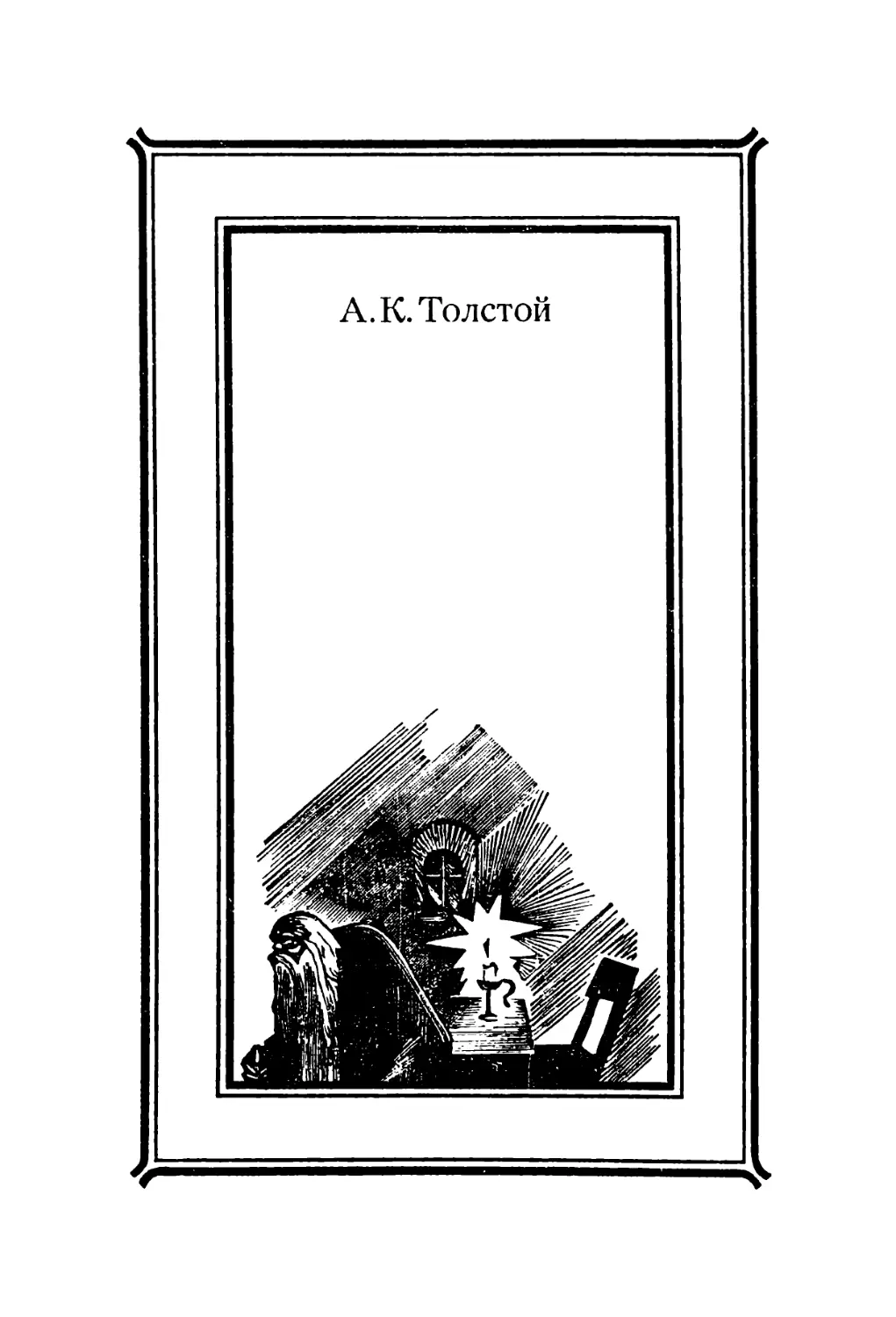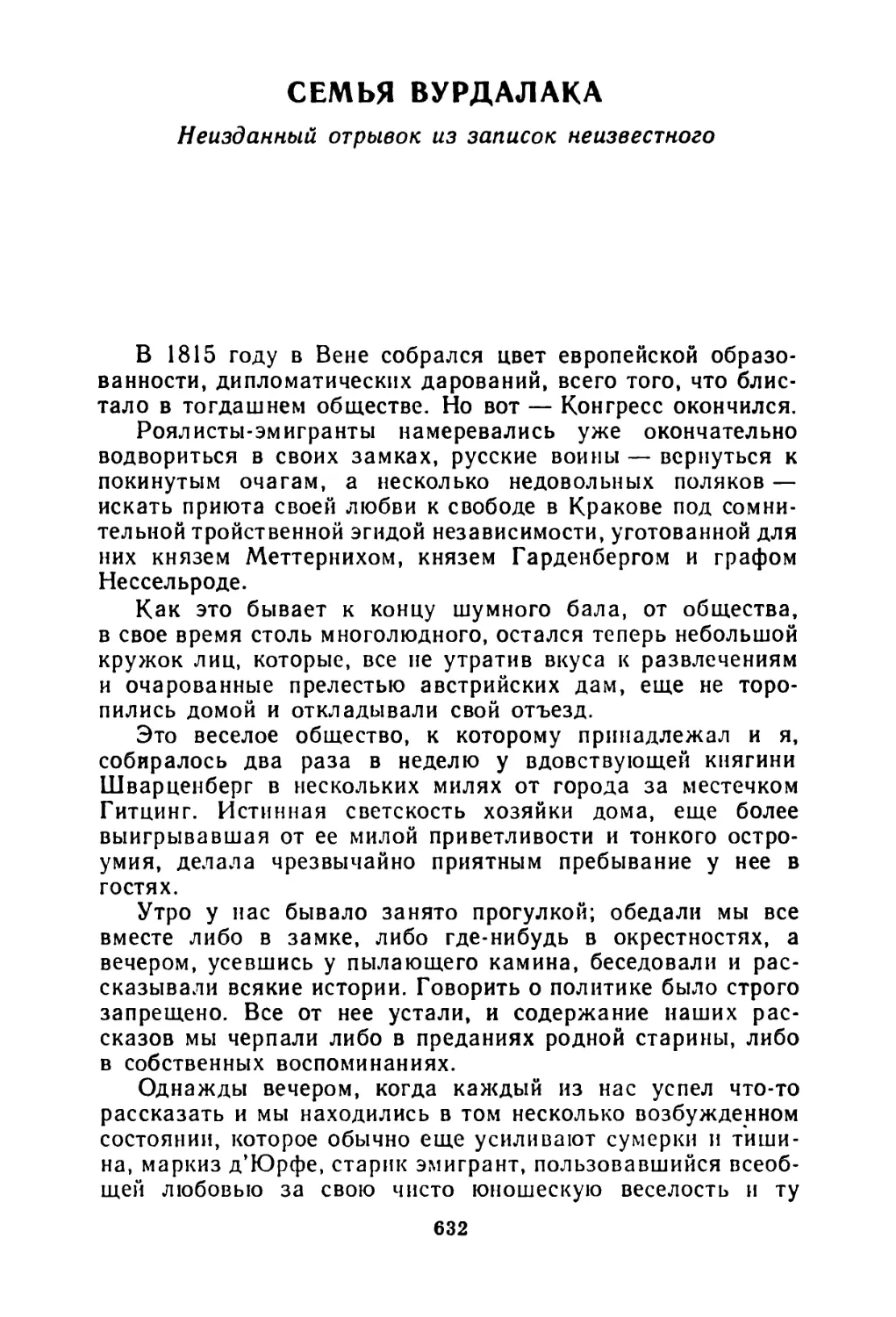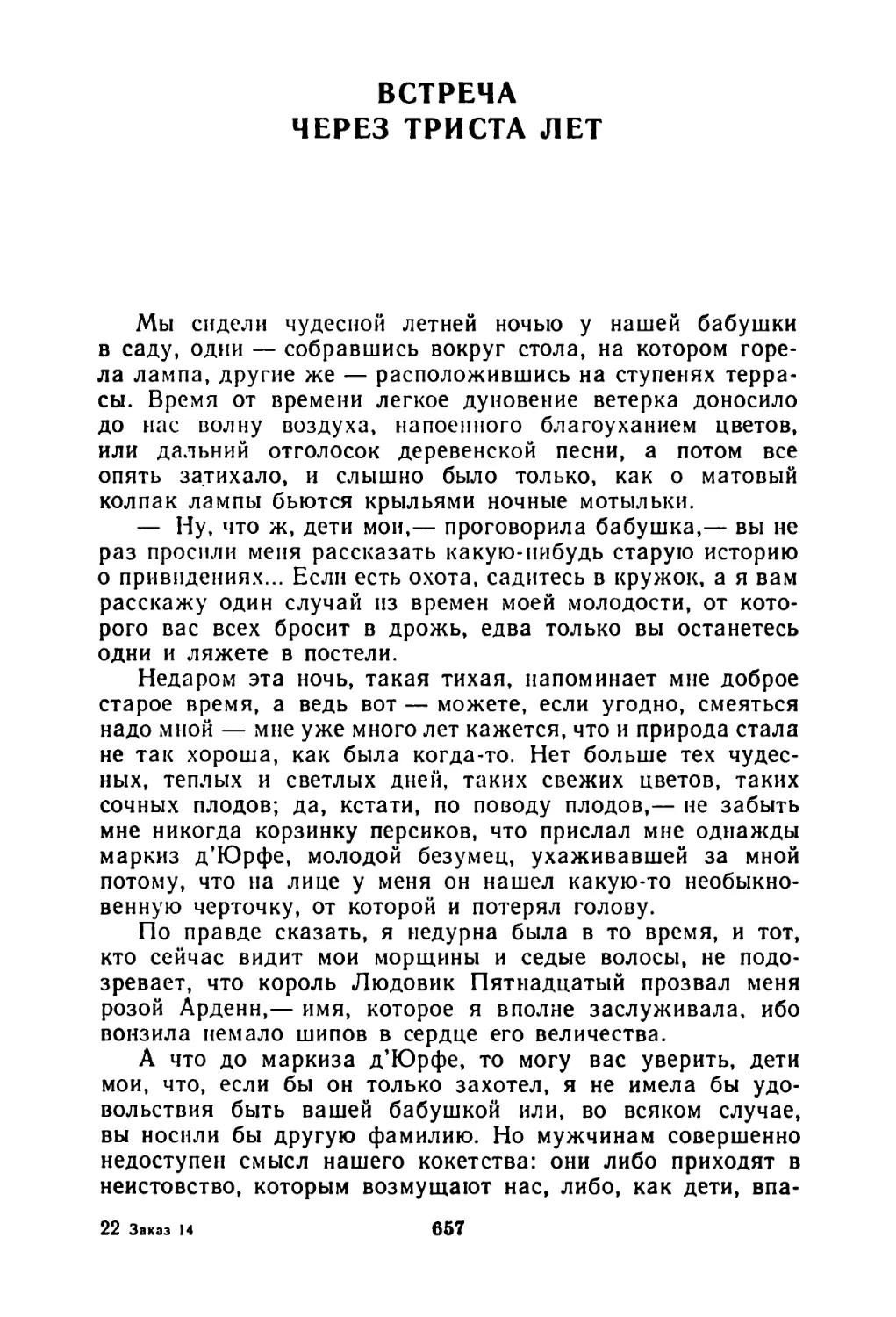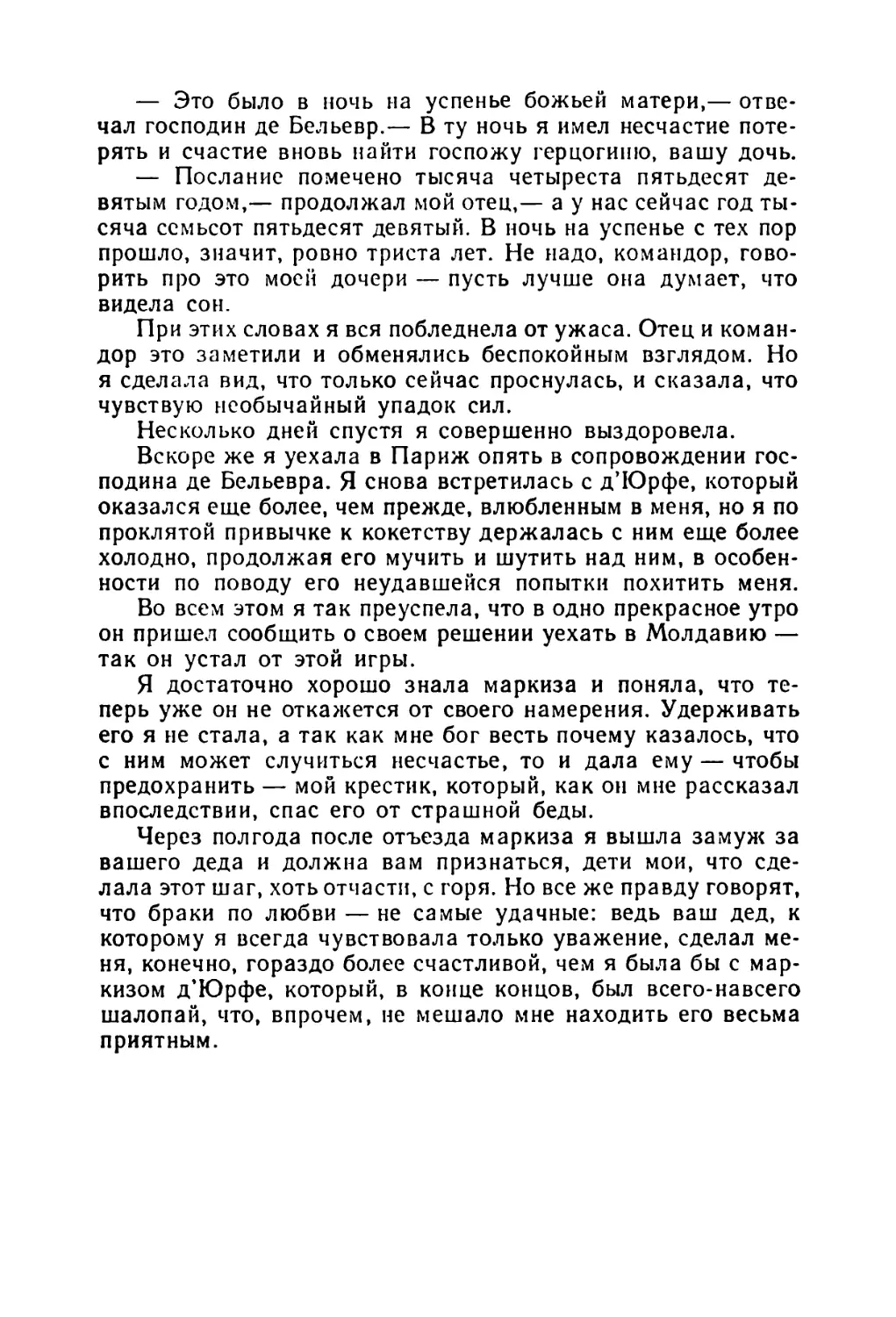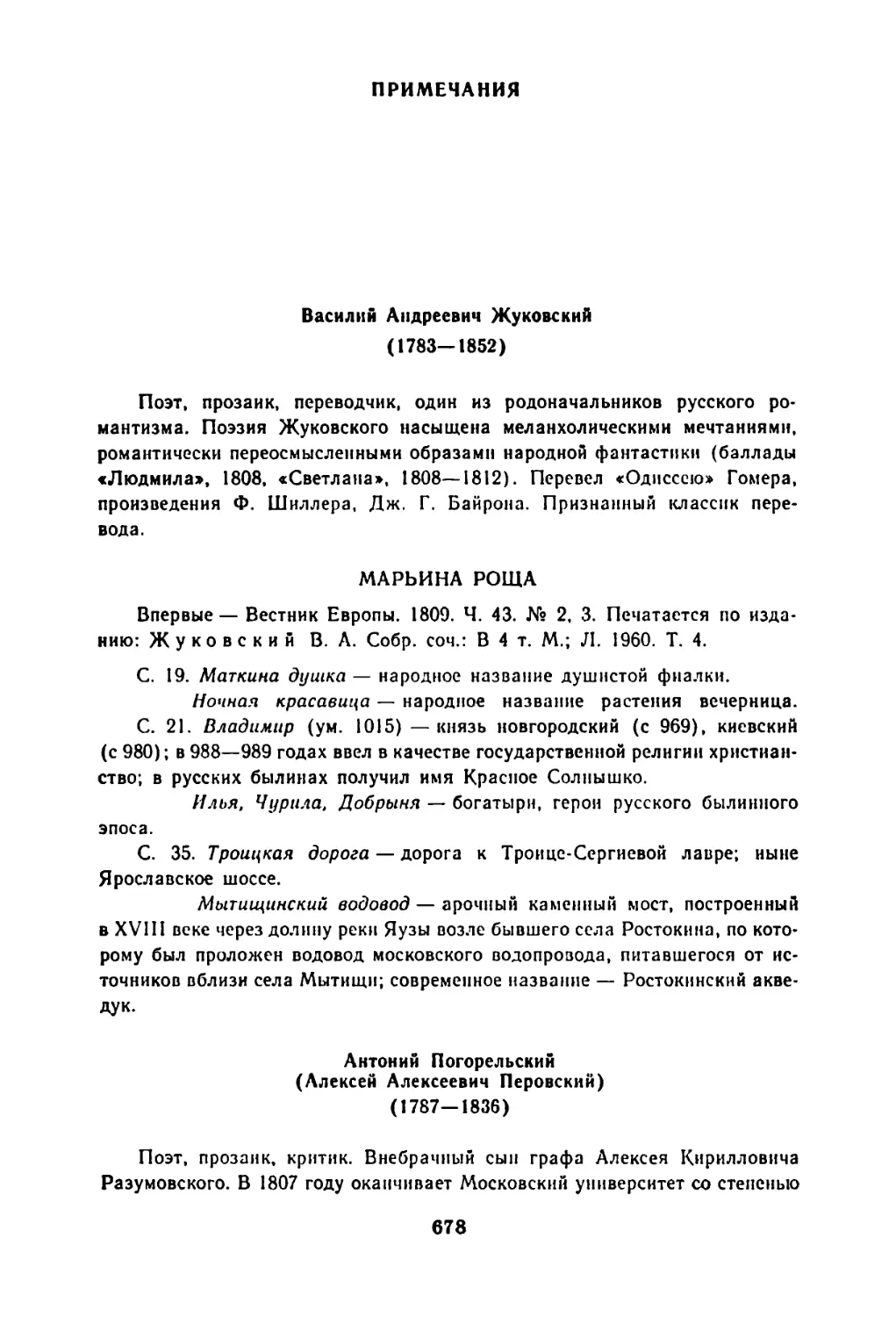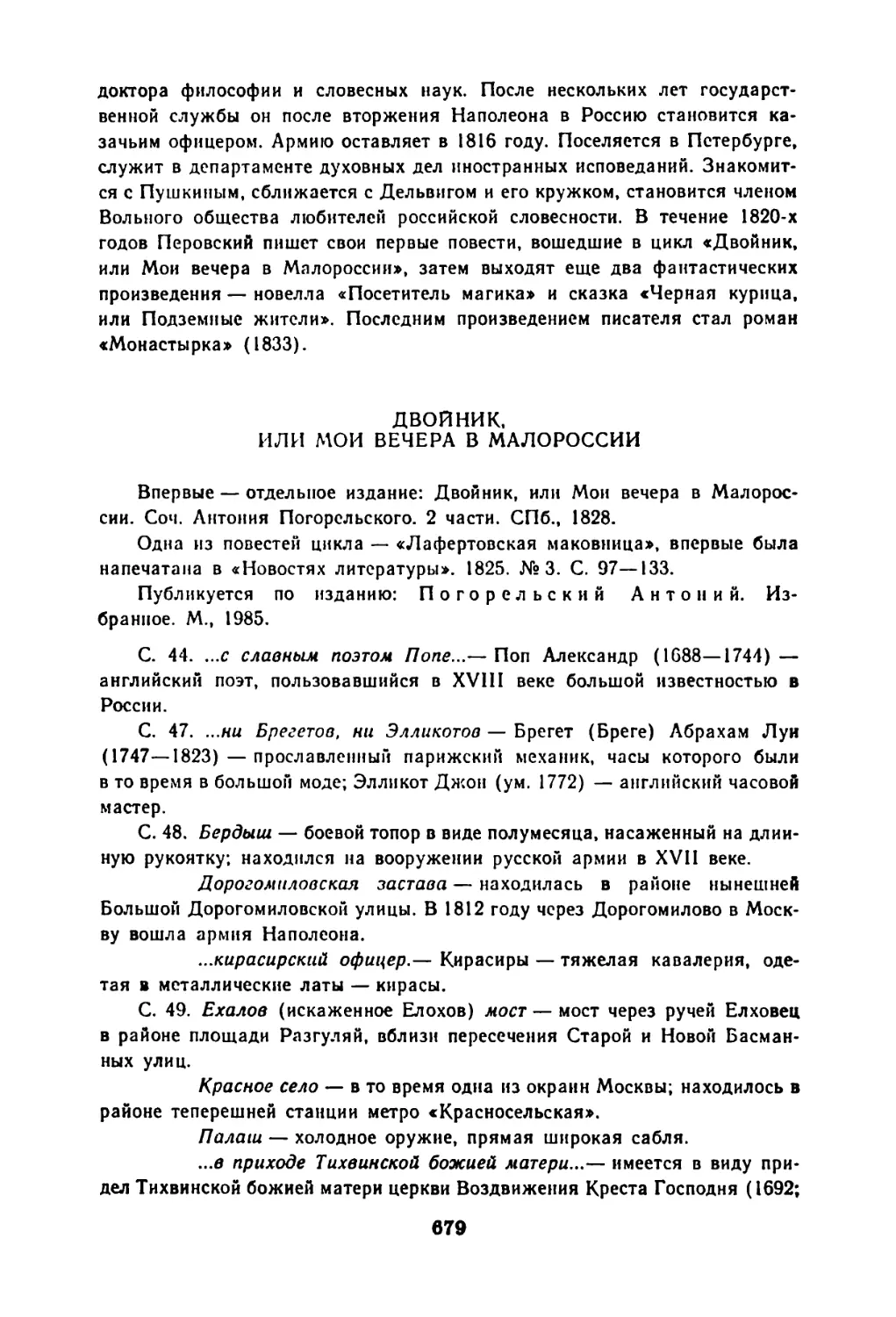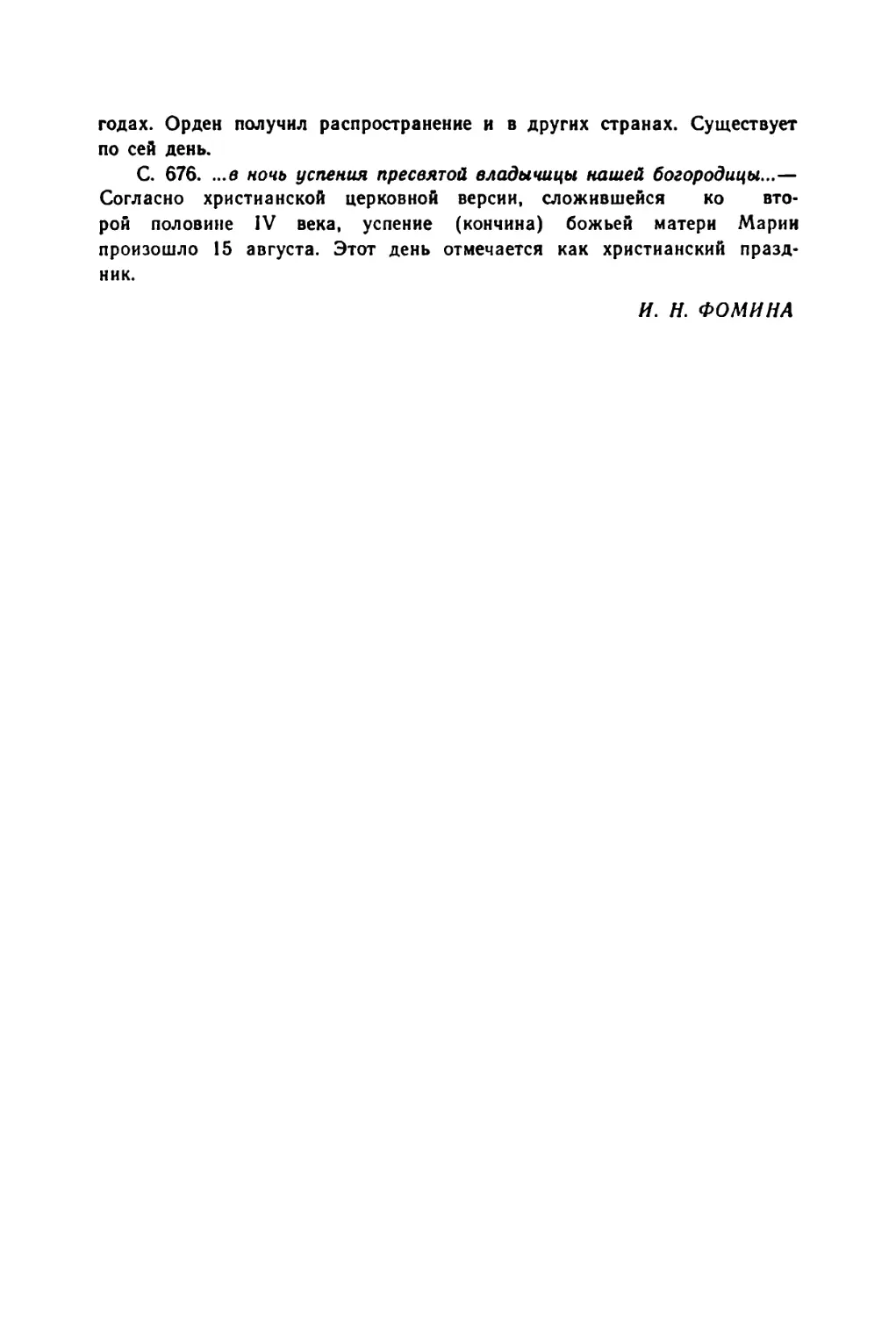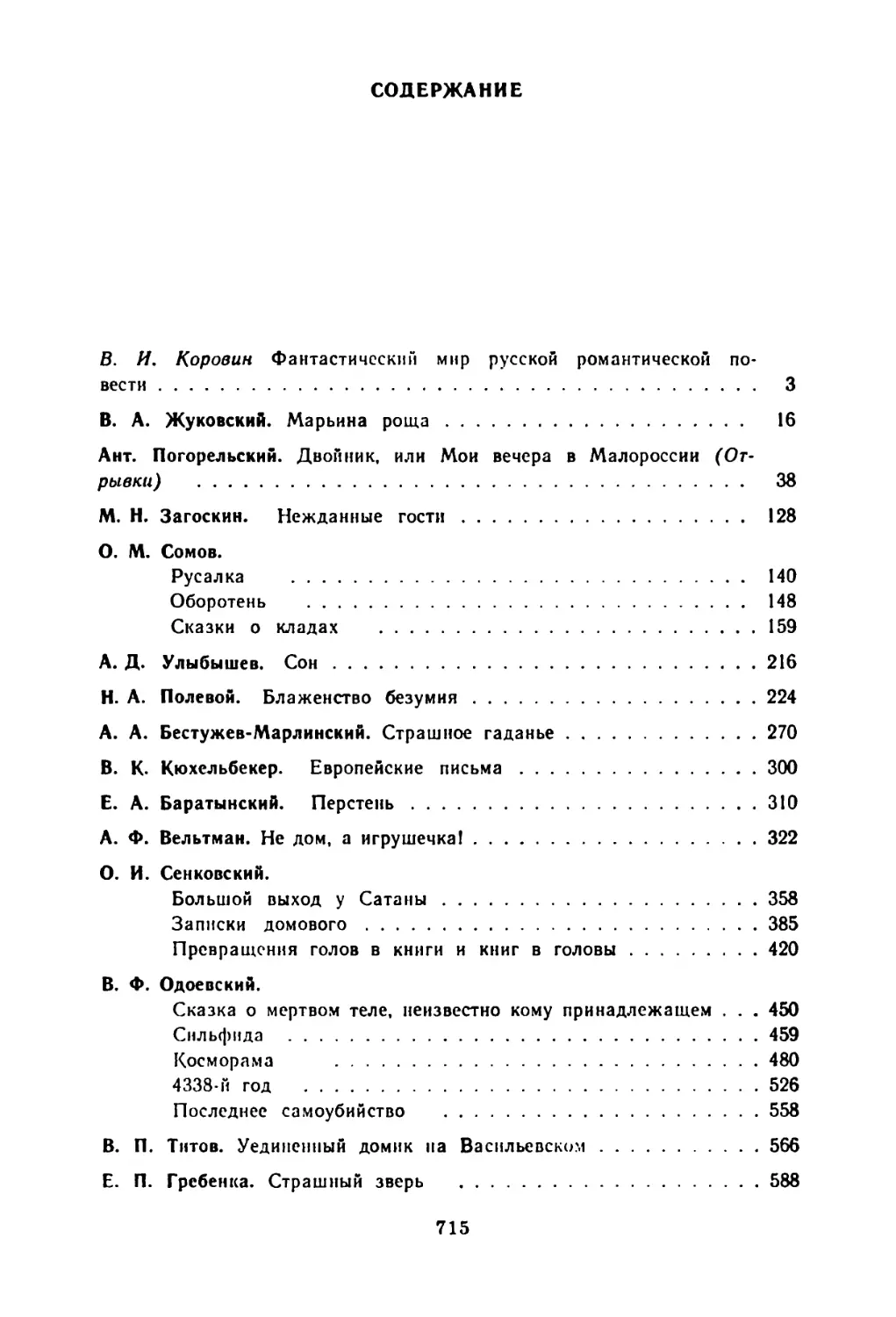Author: Фомина И.М.
Tags: художественная литература фантастика отечественная литература издательство современник русский романтизм
ISBN: 5-270-00127-6
Year: 1988
Text
Сильфида
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ РУССКИХ
РОМАНТИКОВ
МОСКВА
СОВРЕМЕННИК-
1988
ББК84Р1
C36
Составление и примечания И. Н. Фоминой
Предисловие В. И. Коровина
Рецензент Ю. М. Медведев
Художник Н. А. Груздев
С36 Сильфида: Фантастические повести русских романтиков/ Сост. и примеч. И. Н. Фоминой; Предисл.
В. И. Коровина. Худож. Н. А. Груздев.— М.: Современник. 1988.— 716 с.
В последние годы па наших глазах происходит открытие литературного мира
русского романтизма. Круг чтения нашего соаременника обогатился произведениями,
извлеченными из многолетнего забвения, живо волнующими всякого любителя отечественной литературы.
В книге «Сильфида» представлены произведения известных о свое время
писателей-романтиков, друзей и литературных спутников Пушкина, Лермонтова и
Гоголя. В сборник вошли фантастические повести «Сильфида» и «Косморама» В. Одоевского, «Лафертовская маковннца» А. Погорельского, «Русалка» О. Сомова, «Перстень» Е. Баратынского и другие.
4702010100-321
С М106 (03) — 88 29
ISBN 5-270-00127-6
ББК84Р1
© Составление, предисловие, примечания, художественное оформление.
Издательство «Современник», 1988
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ МИР
РУССКОЙ РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ
С середины 20-х годов XIX века в русской литературе проза начинает теснить поэзию. Из прозаических жанров на первый план выдвигается повесть. Повести — это, как очень верно подметил В. Г. Белинский,— роман, «рассыпавшийся на части, на тысячи частей; глава, вырванная из романа». Подчеркивая емкость повести, ее жизнеспособность,
он писал: «Ее форма может вместить в себе все, что хотите — и легкий очерк нравов, и колкую саркастическую насмешку над человеком
и обществом, и глубокое таинство души, н жестокую игру страстей. Краткая и быстрая, легкая и глубокая вместе, она перелетает с предмета
на предмет, дробит жизнь по мелочи и вырывает листки из великой книги
этой жизни»1.
Как видим, утвердившееся жанровое определение «повесть» объединяет художественные произведения, существенно отличные друг от друга
как по сюжетам, так и по характеру и манере повествования. Наиболее
резко различаются исторические, бытовые, светские и фантастические повести. Особые признаки позволяют выделить так называемую «русскую»
повесть и повесть о художниках. Однако особенности романтической
прозы в 1820—1840-е годы в том, что эти жанровые разновидности, которые в ней выделились впоследствии, часто представали в сращении,
в слитности. В одном и том же произведении можно найти и историческую основу, и фантастику. Приметы светской повести легко обнаружить
в повести таинственной, фантастика может принимать разный уклон —
в утопию (в повестях В. Одоевского) или в публицистику (в «Большом
выходе Сатаны» и «Превращении голов в книги и книг в головы» О. Сен-
ковского).
Значительная часть романтической прозы связана с фантастикой
и таинственностью. В романтических повестях непременно происходит
видимое или невидимое соприкосновение мира реального и мира ирреального. Любопытна в этом смысле судьба фантастической повести и фантастического элемента в русской романтической повести вообще.
Среди повестей, созданных на переломе от романтизма к реализму — от бытописания к поэзии действительности, от Бестужева-Марлинс-
1 Белинский В. Г. Поли. Собр. соч. М., 1953. Т. 1. С. 271—272.
3
кого до Пушкина и Гоголя,— фантастическая повесть занимает почетное место. Столь же значительна ее роль в истории жанра и в истории русской прозы.
В первой половине XIX века не только в России, но и в Европе заметен повышенный интерес к чудесному. Нс в последнюю очередь он возник в связи с неудовлетворенностью мыслителей и писателей ходом исторического процесса. Царство разума, которое обещали блестящие умы
XVIII века, не наступило. Романтики заметили, что прежние ценности
потускнели и утратили свое былое величие и гуманистическое содержание. Обыденная жизнь стала исключительно прозаической и потеряла
ореол святости. Вместо патриархальных отношений установились новые
буржуазные. Люди стали зависеть от денег, от капитала. Красоту оказалось возможным купить, глупость перестала называться глупостью, если
она обеспечивалась солидным состоянием. Капитал в глазах первых романтиков представал извращенной и превратной формой человеческих связей. Родственные узы, любовь, творчество, дружеское общение — все подпадало под действие неумолимых законов чистогана.
В этих условиях нужно было отстоять простые истины добра,
красоты и разума и противопоставить ущербной рационалистической логике, обывательски понятому «здравому смыслу» чувства и мораль частного человека, восходящие к исконной народной культуре, передать жизнь
на отлете от прозаической обыденности, чтобы поверить ее неожиданным
вторжением чудесного, сверхъестественного истинные достоинства реальности. Фантастическое ни в коем случае не было самодовлеющим. Оно
служило вполне земным целям — лучшему и более глубокому познанию
жизни.
Такая общая эстетическая установка получила в России своеобразное преломление. Страна, в которой денежные отношения уже широко
внедрились в психологию людей, оставалась государством феодально-самодержавным с различными социальными и бытовыми укладами. Капитал
давал здесь возможность человеку вписаться в ту же сословно-иерархическую систему. Германн у Пушкина не помышляет о ростовщичестве
или устройстве каких-то новых предприятий. Чичиков у Гоголя — не
буржуазный деятель, мечтающий о заведении фабрик и заводов. Его
вполне удовлетворяет безбедная доля «херсонского помещика».
Исключительное, к которому обращались писатели, нарушало привычные и устоявшиеся нормы поведения людей. Чудесное становилось могучим средством раскрытия подлинных противоречий, сильных и слабых сторон реальности, сложившихся и складывающихся отношений между людьми, их психологии, не подвластной сугубо рационалистической логике.
В этом именно смысле интерес к чудесному, проявленный русской
эстетической и художественной мыслью в ту пору, становится особенно
знаменательным. Например, один из теоретиков искусства, Т. О. Рогов,
еще в 1812 году печатает статью «О чудесном». Он держится еще класси
4
цистических взглядов, считая искусство подражанием природе и утверждая, что оно «само собой находит переход от естественного к чудесному». «Чудесное,— писал Т. О. Рогов,— бывает троякое: богословское,
философское и эстетическое». К первому виду он относит все чудеса,
известные нам по религиозным книгам и другим источникам. Ко второму
виду — «все явления н происшествия, весьма редко случающиеся, чрезвычайные, неожиданные». Сюда он причисляет великие географические
открытия, возвышение и падение государств и все то, что превосходит наши
понятия, наши чаяния1. И первый, и второй виды чудесного больше поражают воображение человека необразованного, чем образованного. Оставаясь на почве классицистической эстетики, Т. О. Рогов выводит
богословское и философское чудесное за пределы изящного, искусства. Чудесное в сфере эстетического он связывает с фантазией художника, с его
творческим вымыслом, способным превращать природное в сверхъестественное и вместе с тем оставлять его натуральным1 2. Это означает, что
художник так подражает природе, чтобы возвысить ее в наших глазах,
одухотворить (это и есть сверхъестественное, не свойственное природе в ее
нормальном состоянии) и одновременно сохранить в уже одухотворенном
создании вполне земные черты.
С такой точки зрения, все произведения искусства порождены фантазией, то есть предстают перед нами явлениями воображаемыми в отличие от явлений природных, естественных. Это толкование еще слишком
расширительно и характеризует искусство вообще, а не фантастическое в
искусстве.
Романтики включили чудесное в сферу эстетического. Это отразил
«Словарь древней и новой поэзии» Н. Ф. Остолопова. «Многие писатели,— свидетельствовал автор,— разделяют чудесное в поэзии на естественное и сверхъестественное. Естественное чудесное есть, так сказать, последняя степень возможного. Тут истина может иметь место, и ум видит
вероятное. Таковы чрезвычайности во всех видах: не имеющие примера
происшествия, характеры, добродетели, неслыханные преступления, потопы, землетрясения, давшие другой вид земному шару; необыкновенные
победы, разрушение царств и прочее. Сверхъестественное, чудесное происходит от введения таких существ, которые, не подчиняясь законам природы, бывают причиною действий, превышающих ее силы»3.
Таким образом, чудесное всегда сопряжено с исключительным, невероятным, неожиданным, с тем, что превышает представления о нормальном, но что совсем не обязательно сводить к сверхъестественному фан
1 Русские эстетические трактаты первой трети XVIII века: В 2 т. М.:
Искусство, 1974. T. I. С. 340.
2Там ж е. С. 348.
3 Остолопов Н. Ф. Словарь древней и новой поэзии. Спб., 1821.
Ч. 3. С. 477.
5
тастическому, которое представляет собой особую форму исключительного
и, следовательно, чудесного. Фантастическая повесть начинается там, где
исключительное событие или происшествие не может быть подвластно логике реальности, где в действие или психологию героев и персонажей вмешиваются потусторонние силы, не подпадающие под контроль разума и не
подчиняющиеся законам посюстороннего бытия. От фантастики в таком
понимании надо отличать сказки или волшебные повести, весь содержательный мир которых замкнут в пределах условного и сознательного допущения, вне его как бы нс существует и сам себе довлеет. Фантастическими не являются и те произведения, в которых сверхъестественное
относится только к форме, но не касается содержания. Наконец, художественная фантастика имеет мало общего с научной фантастикой, потому
что последняя строится по чисто рациональному принципу и в основе ее
лежат научный вымысел, гипотезы или предвидения.
Для фантастической, романтической или реалистической, повести
крайне важно одно непременное условие: верит или не верит автор в
потусторонний мир, он должен допустить в свое произведение на равных
правах два бытия — земное и неземное, подвластное человеческому разуму
и непостижимое для него. «Двоемирие»— один из главных признаков
фантастической повести. Оно может быть впоследствии снято сном, как в
«Гробовщике» Пушкина, умопомрачением или злоупотреблением вином, оно
даже может быть вовсе не объяснено, как в повести Гоголя «Нос», но
присутствие двух миров — реального и запредельного — обязательный закон фантастического повествования.
Фантастическая повесть на рубеже 1820—1840-х годов сложилась в
нескольких разновидностях. К одной из них принадлежит гротесковая повесть, в которой «иной» мир служит «проявителем», как на фотографической пленке, странностей и необычностей самой что ни на есть реальнейшей жизни.
К другой группе можно отнести повести, которые правильнее всего было
бы назвать таинственными и сюжет которых составляют попытки человека
проникнуть в «иной» мир, постичь взаимодействие двух миров, так или
иначе влияющих (чаще губительно) на судьбу героя. Их содержание покоится на противоестественном общении человека с непостижимыми существами.
Особо стоит повесть фантастическая с фольклорной окраской, где
оживает народная демонология — черти, ведьмы, духи, где чудесные явления (сплав языческой и христианской мифологий) предстают зримыми
воплощениями легенд, поверий, преданий. Фантастическое здесь становит
ся элементом повседневного быта и характеризует уклад, уровень развития
героев, их внутреннюю жизнь, обычаи, нравы, язык,— словом, «дух народ
ный».
Русские романтики дали превосходные образцы фантастической повести
во всех разновидностях жанра.
6
Однако возникла фантастическая повесть романтиков не на пустом
месте. Ее истоки мы видим в веке XVIII: в «Русских сказках» В. Левшина (1780). в его же «Новейшем путешествии, сочиненном в городе
Белеве» (1784)—социальной утопии, повествующей об идеальном государстве на Луне; в жанре утопии написано и «Путешествие в землю
Офирскую г-на С... шведского дворянина» (1786) М. Щербатова и многих
других писателей.
Обращаясь к народной фантазии, древней истории, русскому быту,
они создавали воображаемый идеальный мир, мир мечты и фантазии.
Уже тогда зародилось то самое «двоемирие», о котором уже упоминалось
и которое стало отличительным признаком фантастики романтиков.
Романтики продолжали и развивали то, что им оставил век ушедший. «Именно в эпоху романтизма, начало которой восходит к 90-м годам
XVIII века, а расцвет приходится на 10—30-е годы XIX века, начался
бурный процесс обращения к национальному прошлому, активное его
художественное возрождение, переосмысление... эстетическое освоение ценностей национальной культуры, уходящей корнями в глубинные пласты истории; неповторимого духовного склада своего народа»1.
С творчеством А. Погорельского (А. А. Перовского) был связан как
бы новый этап художественного освоения русской прозой фантастической
темы. (Более ранние, восходящие к эстетике декабризма фантастические
повести «Сон» А. Улыбышева и «Европейские письма» В. Кюхельбекера
стали известны широкому читателю лишь в советское время, а потому в
литературном процессе того времени участвовать не могли.) Опубликованная в 1825 году повесть А. Погорельского «Лафертовская маковни-
ца» и в самом деле примечательна: в ней совмещены едва ли не все особенности жанра. Подчеркнуты бытовой фон, тихая жизнь простых людей —
почтальона Онуфрича, его жены и дочери Маши, тайное общение старухи-
тетки с потусторонними силами и гротесковый элемент—все сплавлено в
едином сюжете.
Писатель погружает в атмосферу окраины большого города, где течет
прозаическая, обыденная, ничем особенным не примечательная жизнь московского семейства, обрисованная в мягких юмористических красках. Здесь
нет ничего исключительного и неожиданного. А. Погорельский намеренно
устраняет всякие романтические эффекты, неуместные при описании быта
простого люда. Однако рядом с прозаической повседневностью существует
«иной» мир. Непосредственно он не может вторгаться в судьбу персонажей и влиять на нее. Власть над душами людей он получает только
в том случае, если в самих персонажах обнаружатся какие-либо нравственные изъяны. Вот тогда запредельный мир заявляет свои права на людские души и готов погубить их.
'Троицкий В. Ю. Художественные открытия русской романтической прозы 20—30-х годов XIX века. М., 1985. С. 3.
7
Сам Онуфрич не только не поддается никаким искушениям и соблазнам, но и уговаривает тетку отказаться от сношений с нечистой силой.
Однако жена Онуфрича, Ивановна, не столь тверда. В ней есть нравственная черточка, благодаря которой открывается лазейка для проникновения дьявола в судьбу семейства. Ивановна хочет обеспечить будущее дочери Маши. Из этого понятного материнского чувства рождается
жадность к наследству старухи. И Ивановна совершает поступки, едва
не погубившие дочь.
А. Погорельский возлагает ответственность за соблюдение нравственных норм на самого человека. Впоследствии этой же проблематики коснутся и Пушкин, и Гоголь, и Достоевский, и Толстой, решая ее с позиций
романтизма и реализма.
Потусторонний, превратный мир — средоточие греха, жадности, неправедно нажитого богатства и страха. В соответствии с народными представлениями он описан А. Погорельским в жутких, пугающих чертах, но
внушаемый им страх всюду смягчен юмором, потому что человеку, живущему по совести, не надо бояться колдовских чар.
Прикоснувшись к запредельному миру, Маша видит вместо круглой головы любимого теткиного кота «человеческое лицо, которое, вытаращив глаза, устремляло взоры прямо на нее», и наоборот — в женихе
своем, титулярном советнике Аристархе Фалалссвиче Мурлыкине, узнает
«бабушкиного черного кота». Однако бескорыстное чувство Маши к Ульяну
побеждает все злые чары: кот исчезает, и все кончается счастливо. В повести А. Погорельского сверхъестественное контрастно реальному, и чем
обнаженнее обрисовано чудесное, тем конкретнее в своих житейских подробностях выглядит быг.
В дальнейшем ту же линию фантастических повестей продолжили
«Уединенный домик на Васильевском» (1823) (рассказ А. Пушкина, записанный В. Титовым), «Нежданные гости», «Концерт бесов», «Ночной
поезд» М. Загоскина, вошедшие в цикл «Вечер на Хопре» (1837). Всякое сношение с бесами оказывается гибельным. Реальные мотивировки
(сумасшествие, бред или намеренная мистификация), к которым прибегает рассказчик, не устраняют катастрофы, поскольку чудесное мыслится
существующим. Но если у Погорельского фантастическое исчезает, как
только рушатся колдовские наваждения, то Загоскин как бы испытывает
читателя в колебании между верой и неверием в сверхъестественное.
Весьма плодотворной была и линия фантастической повести, которая объясняла чудесное народными обычаями, поверьями, легендами и
преданиями. Так, в основу повестей О. Сомова «Русалка» (1829),
«Оборотень» (1829), «Сказки о кладах» (1830) легли народные фантастические мотивы. В «Русалке» сюжетом стала традиционная история о соблазненной и обманутой девушке, в отчаянии бросившейся в
реку. Попытка страдающей матери вернуть дочь кончается неудачей: Гор-
пинка, с помощью колдуна возвращенная в родную хату, как бы утратила
8
вкус к земной жизни и целый год тоскует о вольных русалочьих забавах,
а при наступлении «зеленой недели» убегает вместе со своими новыми
подругами На другой день ее соблазнителя пана Казимира Чепку находят мертвым, по народному поверью все были убеждены, что его «защекотали» русалки.
О. Сомов воскрешает поэтические представления народа, его веру в
чистоту человеческого сердца и в неотвратимость возмездия обидчику. Поэтика О. Сомова близка и народным повестям Е. Гребенки «Страшный зверь» (1835), «Мачеха и панночка» (1838).
Но фольклорная демонология могла служить и другим целям. Например, в повести О. Сомова «Оборотень» благодаря ей открывается юмористическая изнанка бытовых отношений. Ирония, проникающая повесть,
как бы подвергает сомнению саму возможность превращения простоватого деревенского увальня Артема в хищного волка. Здравый народный рассудок вторгается в фантастику. То же вторжение рационального
начала заметно и в повестях А. Погорельского «Лафертовская маковни-
ца», «Двойник». Рассказывая о ведьме-маковнице, А. Погорельский, например, сопровождает свое повествование рассуждением о вреде суеверия,
о темноте и непросвещенности обывателей: «В средние века еще более
преданы были этому суеверию. Ужас меня берет всякий раз, когда я
читаю, сколько в то время пострадало невинных людей за мнимое волшебство,— сколько сожжено и казнено ведьм и колдунов!»
Не отказываясь от «таинственных» явлений, не избегая «двое-
мирия», романтическая повесть как бы оглядывает себя со всех сторон. Эта «оглядка» существенно отличает, например, романтизм ранних романтиков от романтизма второй половины 20-х и 30-х годов. В
балладах Жуковского, и даже в повести «Марьина роща» (1809), нет
места рациональному взгляду на сверхъестественное, ибо сюжет и сама
атмосфера произведения основаны на безусловной вере в чудесное. Сен-
ковский, Одоевский, Вельтман уже смотрят на фантастику взглядом скептиков и рационалистов, делают попытки объяснить таинственное с естественнонаучной точки зрения или отвергнуть его, если оно не выдерживает такого рода объяснений.
Возросшие на философии Канта, Окена, Шеллинга, романтики полагали, что в основе исторического движения лежит саморазвитие некоей
духовной субстанции. Все бытие обладает «великим смыслом», утверждал
В. Одоевский, заключенным в «таинственных стихиях», духовной сущности. Эти «таинственные стихии» образуют жизнь вещественную, материальную, и жизнь духовную. Они же связывают духовную и вещественную жизнь между собой. Духовное на свой лад материализуется в
обыденном, вещественном, а вещественное дает часто искаженное, неадекватное представление о духовном, таинственном начале. Человек же по
самой своей натуре стремится к тому, чтобы понять истинное содержание, истинный смысл бытия. Фантастика выступала здесь как знак сверх
9
чувственного и одновременно как инструмент, с помощью которого оно
может быть обнаружено.
Романтики выдвинули на первый план философский подход к реальности и выступили на уровне современных им научных знаний. В творчестве одних писателей (В. Одоевский, А. Погорельский, А. Улыбышев)
философская или научная подоснова чувствовалась сильнее, в творчестве
других,— а их большинство,— слабее, но она так или иначе присутствовала. Устранив наивную, примитивно-обывательскую веру в чудеса, во всякие колдовства и волшебства, романтики не пренебрегли «тайной», потому
что «тайна» относилась прежде всего к духу, из самодвижения которого
и возникало вещественное, материальное, обыденное. При этом человек —
существо духовное и телесное — нес эту «тайну» в себе и, следовательно,
содержал то, что, несомненно, влекло, манило и не поддавалось разумному, рациональному объяснению, но в то же время настоятельно его
требовало. Отсюда понятно, почему романтик, с одной стороны, безусловно верит показаниям души, а с другой — скептически их анализирует, призывая на помощь ум, опыт и сопоставляя с реальностью.
Духовное, принимающее в реальности уродливые формы,— одна из
многих тем романтической повести, которая могла быть развернута в ней
в сатирически-гротесковом или в трагическом ключе.
В повести В. Одоевского «Сказка о мертвом теле, неизвестно кому
принадлежащем» изображен чиновник — приказный Севастьяныч, поднаторевший в обмане и сочинении туманных бумаг. Повесть построена на
ходячем религиозном представлении о единстве и нетождественности души
и тела. Поскольку тело не равно душе, то можно отделить их друг от друга и дать им как бы самостоятельное бытие, но не лишить их желания
воссоединиться. Смысл повести, однако, в том, что, несмотря на все сомнения и на голос здравого рассудка, Севастьяныч за мзду готов исполнить просьбу невидимой живой души о выдаче ей мертвого тела. Нелепая
бумага, сочиненная Севастьянычем, хотя и вызывает насмешки и удивление чиновников, становится ярким образчиком казенного бессмыслия, бездушия чиновничьей машины. Здесь действительность оказывается «фантастичнее» самой причудливой фантастики.
И уже как публицистический прием разоблачения воспринимается
фантастика в «Большом выходе у Сатаны» и «Превращении голов в
книги и книг в головы» О. Сенковского. За демоническими образами
скрываются реалии николаевского Петербурга 1830-х годов; и если внимательно вглядеться, то в Сатане, сидящем на троне, и в его окружении внятно проступят черты неистового императора и его сановников.
С точки зрения романтика, всякое умаление духовности чревато либо
полной и уродливой бездуховностью, либо раздвоением сознания человека,
не могущего примирить в гармоническом единстве свое телесное и духовное
бытие. То же самое относится и к сфере социального организма: его
«болезнь» связана с тем, что духовное начало искажено, и потому «дух»
10
воплощается в порочных и безобразных формах существенности. Трагическое несовпадение высоких духовных стремлений и тех вещественных конкретных явлений, в которые «дух» входит, одинаково пагубно как для реальности,
так и для самого «духа».
Герой рассказа В. Одоевского «Сильфида» Михаил Платонович не
удовлетворен прозой жизни. Он не хочет быть таким, как его соседи по
имению: не пьет пунша, не заводит псовой охоты.
В доме своего дядюшки он находит сочинения древних мистиков,
проникается их учениями; ему кажется, что он обрел наконец для себя
смысл бытия, обнаружил большое и важное его содержание. Автор же дает
понять, что подлинная жизнь и подлинная духовность состоит не в том, чтобы
бежать в потустороннее, презрев человеческие слабости и страдания, а в
том, чтобы избавить земной мир от несовершенства, чтобы поэтическое
в нем возобладало над прозой. На это Михаил Платонович не способен.
Фантастика в повести В. Одоевского подчеркнула иллюзорность
романтического выхода за пределы существенности и в то же время осудила действительность, на почве которой произрастают бездуховность и ложные мечты.
Сходная тема по-нному решена в повести Е. Баратынского «Перстень». Здесь фантастика также обнажает контраст между возвышенными
мечтами героя и обыденностью повседневности. Добровольное иго средневекового рыцарского поклонения даме (трогательное и смешное в новое
время), которому следует Опальский, превращает его не только в странного человека, но и проливает свет на суть его идеала. Опальский
как бы выключен из реальной жизни, и благодеяния, которые он расточает,— следствие не его нравственных принципов, а неясной, безумной и
упрямой мысли, вошедшей в его голову.
Фантастика, таким образом, помогает увидеть химеричность книжных представлений и мечтательных вымыслов Опальского. Примерно такую
же пародийную роль играет фантастика и в «Сказках о кладах» О. Сомова.
При этом скептицизм писателя-романтика не устранял веру в духовное, в некую «тайну». Но романтизм сомневался в типично «романтических»
историях. В «Двойнике» А. Погорельского спор касается уже самых основ
романтической эстетики — существует ли сверхъестественное, таинственное,
фантастическое или это досужая выдумка с заранее известной целью,
обман чувств, помрачение ума. Спор идет в сознании романтика, которое, раздваиваясь, обретает персонифицированные лики — автора, рассказчика, придерживающегося традиционных романтических взглядов, и его
двойника, выходца из невещественного бытия, но при этом скептика.
Скептик Двойник не верит в возможность свидания влюбленного Изи-
дора с тенью погибшей Анюты. Но вот сам Двойник начал рассказ
о необыкновенном приключении Алцеста, влюбившегося в механическую
11
куклу (Аделину). Теперь уже автор удивляется невероятности происшествия, на что Двойник замечает: «Ах, любезный Антоний! До чего не умудрится ум человеческий! Сколько примеров могу я вам напомнить об автоматах, не менее моей куклы удивительных!» Рациональному анализу поддаются, таким образом, умственные способности человека и его нравственные свойства, вызывающие те или иные поступки. Однако причины, по
которым возникают необъяснимые явления, так и остаются неясными. И собеседники соглашаются, что «магнетическое влияние» «иногда берет над нами верх против нашей воли». Тайна продолжает пребывать тайной.
Как доказательство этому звучит в повести Н. Полевого «Блаженство
безумия» рассказ о таинственном случае, происшедшем с неким Антиохом,
который неожиданно узрел в прекрасной Адельгейде, дочери шарлатана
Шреккенфельда, устроившего в Петербурге «мнемо-физико-магические вечера», свою истинную душу. Речь при этом идет не о чувственной любви, потому что Антиох отвергает нынешнее общественное бытие Адельгейды и презирает ее занятия, а об ее истинном, идеальном облике. В материальном мире и Антиох, и Адельгейда стали иными, чем в потустороннем,— союз родственных душ возможен лишь в нездешнем мире. Эта невероятная история также бросает свет на действительность, где идеал неосуществим и где родные души удалены друг от друга грубой действительностью, недостойными человека бездуховными интересами и основанными на них превратными отношениями. То, что с рациональной точки
зрения кажется безумием, на самом деле таит неизъяснимое блаженство.
Тем самым романтическая ирония распространяется нс только на суеверие,
колдовство, но и на безверие в идеал, в высшую духовность н на способы ее воплощения, ибо к такой тонкой сфере, как поэзия чувств, не следует подходить, держа в руке интеллектуальный скальпель.
Фантастическая повесть романтиков ищет идеал в утопии («4338-й год»
В. Одоевского, «Сон» А. Улыбышева, «Европейские письма» В. Кюхельбекера). «Сон» Улыбышева — романтическая утопия, рожденная идеалами
декабризма, мечта о социальной справедливости. В нем возникает преображенный Петербург: в центре города возвышается «Дворец Государственного собрания». «Общественные школы, академии, библиотеки всех видов
занимали место бесчисленных казарм, которыми был переполнен город».
В повести вырисовывается сказочная картина благоденствия народа, который все средства тратит «на увеличение общественного благосостояния».
Во дворце, святилище правосудия, каждый может найти защиту.
Прозревая черты отдаленного будущего, В. Одоевский в повести
«4338-й год» с восторгом писал о русских людях: «Они так верят в силу
науки и в собственную бодрость духа, что для них летать по воздуху
то же, что нам ездить по железной дороге». Победы разума впечатляющи:
«Сколько знаний! Сколько глубокомыслия! Удивительная ученость, и еще
более удивительная изобретательность в этом народе!» Рационализм, благотворный в мире вещественном, сопровождается несомненными успехами в
12
мире нравственном: «лицемерие и притворство уничтожаются» ввиду успехов френологии, а «увеличившееся чувство любви к человечеству достигает
до того, что люди не могут видеть трагедии и удивляются, как мы могли
любоваться видом нравственных несчастий, точно так же как мы не можем
постигнуть удовольствия древних смотреть па гладиаторов». Вместе с
тем на нравственном облике будущих поколений лежит печать утилитаризма, потому что уровень духовности не всегда совпадает с уровнем умственных достижений. В частности, грядущие поколения так и не могут
понять историческую реальность в том значении, какое она имела. Иначе говоря, их собственная мера оценки исторических событий и явлений иная,
чем она представлялась современникам. История в ее истине и человек
в истории остаются для них недоступными и непостижимыми. Например,
в 4338 год дошло частное письмо, в котором сообщается, что отославшему его предлагают место столоначальника с жалованьем в пятьсот рублей. После длительных выкладок анализирующий его приходит к выводу:
«Эта незначительность суммы не ведет ли к заключению, что в древности
количество жалованья высшим сановникам было гораздо менее того,
которое выдавалось людям низших должностей; ибо высшее звание предполагало в человеке, его занимавшем, больше любви к общему благу, больше самоотвержения, больше поэзии; такая глубокая мысль вполне достойна мудрости древних». Иронически возвышая нравственность древних и налагая на нес печать иной эпохи, будущий ученый обнаруживает
одновременно бессилие разума понять конкретную историческую реальность. Документ как основа научного знания не может передать истину в
полном объеме. Анализирующему разуму необходима помощь сердца, интуиции. Ухо, как писал А. А. Бестужев-Марлинский, должно подслушать
«вздох старины и по этому вздоху угадать страсть ее!!» Наука нуждается
в поэзии, и, может быть, поэзия как непосредственное познание выше
науки. Художник обязан из своей души, утверждал В. Одоевский, черпать «указания вернейшие», но и тогда заветная тайна останется недосягаемой для него «в сей жизни». Ему, как и человеку вообще, дана лишь
возможность приблизиться к этой тайне.
В повести «Косморама» В. Одоевский пытается «приблизиться» к этой
тайне. Он как бы предлагает модель космического единства существенного и иллюзорного. Воспаленному сознанию героя повести предстает «истинная суть» мироздания — как нерушимая связь живых и ушедших, объединенных нетленными узами пороков и добродетелей, добра и зла, соблазнов и противостояния им.
Романтики задумываются о коренных вопросах бытия и познания,
не утративших своего значения и в нашу пору. Связь истории и современности, интуитивного и умственного познания, роль искусства, его назначение и природа, судьба человека — все находит в них отзвук.
О том, как несовершенны умственные силы человека и как обманывается он в своем преклонении перед рациональным, не доверяя интуи
13
ции и непосредственному чувству, рассказывается и в двух повестях
А. К. Толстого «Вурдалак» и «Встреча через триста лет».
Романтическая повесть убеждала в непостижимости для человека высших предначертаний, но не снимала с него ответственности за чистоту и
высоту духовного начала в нем, как не отменяла сознательных шагов к
усовершенствованию общества и самого себя, к обогащению плодами опыта, знаний, чувств.
В этой устремленности к поиску духовности и в человеке, и в обществе важнейшая роль принадлежала фантастике, с разных сторон раскрывавшей многосложность внутреннего мира человека. Наконец, романтическая повесть, художественно воплощая идеи века, одновременно содержала и их теоретическое осмысление, рассматривая их всерьез, поверяя
разумом и чувствами, соглашаясь или опровергая. Сопрягая быт с необыкновенным, она учила смотреть на жизнь зорким и вдумчивым взглядом,
заставляла до известной степени отрешиться от поверхностного «здравого
смысла» и постигать глубинную подоснову широкой панорамы человеческого бытия. Это свое значение она сохранила и поныне.
В. И. КОРОВИН
МАРЬИНА РОЩА
Старинное предание
Тихий и прохладный вечер заступал уже место палящего
дня, когда Услад, молодой певец, приблизился к берегам
Москвы-реки, на которых провел он дни своей цветущей
юности. Гладкая поверхность вод, тихо лобзаемая легким
ветерком, покрыта была розовым сиянием запада: в зеркале их отражались с одной стороны дремучий лес и терем
грозного Рогдая, окруженный высоким дубовым тыном (он
был построен на крутой горе — там, где ныне видим зубчатые стены Кремля, великолепные чертоги древних русских
царей, соборы с златыми главами и колокольню Иван Великий), с другой — зеленые берега, покрытые кустарником и
осыпанные низкими хижинами земледельцев. Повсюду царствовало спокойствие; воздух был растворен благоуханием
цветущей липы: иногда во глубине леса раздавался голос
соловья или печальное пение иволги; иногда непостоянный
ветерок потрясал вершины дерев; иногда робкий кролик,
испуганный шорохом, бросался в кустарник и шумел иссохшими ветками. Услад шел по тропинке, извивавшейся
между деревьями; душа его, наполненная воспоминаниями,
погружена была в задумчивость. Время прошедшее, время, в
которое находил он себя счастливым, представилось мыслям
его со всем минувшим своим очарованием. «Где ты, моя радость? — воскликнул печальный Услад.— Где ты, прежнее
время? Прихожу на то же место, на котором некогда называл я жизнь свою веселием: тенистая роща, светлая река,
зеленые берега, вы не изменились; но, счастие мое, тебя уже
нет. По-прежнему благовонная липа разливает свой сладостный запах, по-прежнему звонкий соловей или пустынная
иволга поют во глубине дремучего леса; а тот, кто некогда
услаждался благовонием цветущей липы или, задумавшись,
при гласе звонкого соловья и стоне пустынной иволги живее
мечтал о своем счастии, тот уже не похож на самого себя. Ах! Не узнаете вы меня, места прелестные; очи мои
потускли от скорби, ланиты мои побледнели, лицо мое ом
16
рачилось унынием...» Услад приближается к берегам светлого ручья1, который, журча и сверкая, бежал по золотому песку в зеленом кустарнике и сливался с Москвою;
он увидел на крутизне горы уединенный терем грозного
Рогдая. Последнее блистание вечера играло еще на тесовой
кровле верхней светлицы и на острых концах высокого
тына; вершины древних дубов, берез и лип, которыми
покрыта была вся гора, восходящие одни над другими, мало-помалу омрачались, наконец потемнели совсем; на одном только тереме, который, подобно великану, возвышался
над лесом, оставалось умирающее мерцание; наконец и оно
померкло, повсюду распространился сумрак. Услад, увидя
Рогдаев терем, затрепетал, остановился, долго смотрел на него в молчании, неподвижный, мрачный, сложив крестообразно руки; наконец слезы покатились ручьями из глаз его...
«Ах, Мария!»— воскликнул он; вздохнул из глубины сердца,
и голова его склонилась ко груди.
Молодой Услад родился на берегу Москвы-реки в бедной
хижине, от честных родителей. Природа наградила его прекрасною душою, прекрасным лицом и дарованием слагать
прекрасные песни. Часто, простертый на берегу светлой
Москвы и смотря на ее серебряные волны, провожал он вечернюю зарю звонким своим рожком. Приятные звуки раздавались по берегам и повторяемы были отголосками сенистой
рощи. Молодые сельские девушки любили слушать Услада,
когда он простыми стихами прославлял весну, спокойствие
земледельческих хижин, свободу поднебесных ласточек, нежность дубравных горлиц или изображал приятность матки-
ной-душки, которой запах сравнивал он с милою душою чадолюбивой матери. Услад был всех приятнее на посиделках;
никто не умел так хорошо рассказывать страшных сказок,
от которых робкие девушки трепетали и прижимались к
своим матерям, а на голове молодых мужчин становились
волосы дыбом; ни с кем так не любили играть в хороводы
и в разные игры, как с милым, веселым, добросердечным
Усладом. В селе называли его соловьем. Старушки переставали хмуриться и бранить своих дочерей, когда приходил к ним Услад; а старики в его присутствии оживлялись
и чувствовали себя молодыми. Сельские девушки засматривались на Услада, который имел лицо прелестное, черные глаза, омраченные длинными ресницами, нежные, сияю
1 Ныне мутная Неглинная.— Примеч. В. Жуковского.
17
щие под черными густыми бровями; светло-русые волосы,
которые легкими кудрями рассыпались по прекрасному лбу,
вились вокруг открытой шеи, белой как снег, и оттеняли свежие, румяные, как молодая роза, щеки. Но чаще других
и с чувством более нежным смотрела на него прекрасная
Мария. Хижина ее построена была на самом том месте,
где быстрый ручей сливался с прозрачною Москвою. Марии
минуло пятнадцать лет; она имела доброе сердце, но была
совершенный младенец: все ее веселило, все трогало и увлекало.
Она любила свою старую мать более самой себя; часто
смотрела ей в глаза и говорила со слезами: «Матушка,
друг мой, я готова отдать тебе свою душу». Она плакала,
когда старушка была или больна, или печальна; но в то
же самое время безделица могла овладеть ее вниманием:
она бросалась за пестрым мотыльком или смеялась от доброго сердца, когда слышала забавное слово, замечала уродливое лицо. Мария была чувствительна: никакое нежное
чувство не могло изгладиться в сердце ее, но оно могло быть
забыто (правда, на короткое время) для всякого нового,
даже слабейшего впечатления.
Добрая Мария цвела, как полевая фиалка, под сенью родительской хижины, хранимая любовию матери. С некоторого
времени душа ее наполнена была тайным' пламенем, которым оживотворены были в ней все другие чувства,— любовию к прекрасному Усладу; но это чувство не мешало ей
быть веселою по-прежнему, по-прежнему поливать свои цветы, кормить свою малиновку, распевать веселые песенки,
когда она сидела вместе с матерью за пряжею на пороге хижины, и смеяться от всей души, когда подружки рассказывали ей смешные сказки. Прекрасный певец ощущал
нежную томность в груди своей, когда смотрел в глаза добросердечной Марии. Ах! Он любил ее страстно. Милый ее образ носился перед ним, когда он засыпал; он представлялся
ему в сновидении; он видел его при первом блеске восходящего утра. Услад был задумчив, когда был с нею розно,
задумчив, когда видел ее перед собою, живую, резвую, веселую. Мария вздыхала, на лице ее изображалось глубокое
сердечное чувство, когда глаза ее встречались с глазами
Услада. Она радовалась, когда Услад уверял ее в нежной
своей любви; целовала его в розовые щеки и говорила ему:
«Добрый Услад, ты — мое счастие».
Однажды, вечернею порою, певец играл на рожке своем,
простертый на берегу источника, в виду Марииной хижины.
18
Мария, услышав знакомые звуки, взяла кувшин и пошла за
водою к светлому источнику. Поравнявшись с Усладом, она
поставила кувшин на зеленую траву, села подле своего друга, поцеловала его в пламенную щеку и, окружив его белою
рукою, склонила к нему на плечо свою прелестную голову.
Они задумались. Вечер был тих и ясен; роща, одушевленная
возвратившеюся весною, была наполнена запахом черемухи,
благовонным дыханием ландышей, маткиной-душки и трав
ароматных; ветерок порхал по деревьям; соловьи свистали
вдалеке; в воздухе слышалось жужжание насекомых; легкие струйки источника, озлащаемые заходящим солнцем, которое проникало сквозь редкие деревья, сливали нежное
свое плескание с шорохом тростника и трепетанием цветущего шиповника, осенявшего низкие берега источника: все
сии звуки производили вместе единую очаровательную гармонию, которая трогала душу и погружала ее в задумчивое мечтание. Услад и Мария долго молчали, упоенные лю-
бовию.
— Ах, Мария! — сказал наконец Услад.— Люблю тебя
более своей жизни. Помнишь ли ту минуту, в которую мы
встретились на берегу светлого источника? Ты пришла зачерпнуть в кувшин свежей воды, заслушалась соловья и стояла в задумчивости под тою развесистою березою — я возвращался из Новагорода, был утомлен путем и зноем; ты утолила мою жажду и посмотрела на меня таким ласковым взглядом, что сердце мое наполнилось в ту минуту неизъяснимою
сладостию. Ах! С той минуты я перестал владеть своею душою; с той минуты единственное мое счастие быть с тобою
или о тебе думать. Тобою прекрасный божий мир сделался
для меня еще прекраснее. Во всем, что радует мою душу,
нахожу я твой милый образ. Твой голос усладительнее
для меня воркования иволги, когда внимаю ему при блеске заходящего солнца; походка твоя легче игривого весеннего ветерка, когда он пролетает над поверхностию спокойной Москвы-реки или колышет нежную травку. Чувствуя в роще запах ночной красавицы, я думаю: он так же приятен, как сладостное дыхание моей Марии. Светит ли полная
луна сквозь частую рощу, я погружаюсь в задумчивость: мне
кажется, что в светлом ее мерцании летает надо мною твой
образ, что я окружен твоим невидимым присутствием. Часто
в минуту воцаряющегося вечера забываюсь по целому часу
вблизи твоей хижины; сокрытый кустами шиповника, смотрю на тебя, когда ты сидишь у дверей вместе с твоею матерью, озаренная розовым сиянием вечера; мать твоя пере
19
бирает долгие светло-русые твои волосы, заплетает их в косы, целует тебя, называет своею радостию; а ты распеваешь, как соловей, или подымаешь на свою мать нежный,
невинный, исполненный сердечной задумчивости взор, тогда... но, милый друг, прелестная, добросердечная моя Мария, могу ли сказать, что я тогда чувствую? Ах! В эту минуту
не нахожу в себе души; она стремится к тебе, она исполнена чистейшею, непорочною к тебе любовию.
Так говорил Услад. Мария не отвечала; но она вздохнула,
крепче обхватила его белою рукою, нежнее прижала ко
груди его прелестную свою голову.
— Мы соединимся,— продолжал Услад,— когда исполнится тебе шестнадцать лет. Шесть раз полная луна должна
осветить вершины дерев, прежде нежели ты будешь моею;
тогда нежная твоя мать переселится в нашу хижину; старость ее пройдет спокойно, как вечер ясного дня... Теперь,
мой милый друг,— продолжал Услад, помолчав минуту,— я
должен на время с тобою разлучиться. Старый Пересвет,
мой благодетель, мой наставник, идет отсюда в свою отчизну,
к своим ближним и сродникам — я должен его проводить:
ибо мы, вероятно, расстаемся навеки. Путешествие мое
продолжится до третьей полной луны. Мария, не забывай
меня в отсутствии. Когда взойдет луна,— в эту минуту
золотые рога месяца мелькнули из тучи над кровлею Рог-
даева терема,— когда озлатятся струистые волны, приди на
берег источника и думай об Усладе: душа его будет над тобою. В каждом приятном звуке, с которым прольется в душу
твою сладостная унылость, внимая нежному голосу его
сердца.
Мария плакала; Услад умолкнул; они встали. Певец поднял глаза на высокий Рогдаев терем — черная туча над ним
носилась; невольно печаль овладела его душою: туча сия казалась ему подобием его жребия. «О! Что ты принесешь
мне, время будущее, время далекое, время неизвестное?»—
подумал он. Быстрая молния раздвоила тучу пламенною
браздою; облака вспыхнули и вдруг угасли; сердце Услада
стеснилось; он бросил на Марию задумчивый взгляд: на миловидном ее лице изображена была робость; взоры ее, устремленные на тучу, как будто искали на ней следов пролетевшей молнии: она вздохнула, поцеловала Услада и медленно пошла в свою хижину. Услад сел в свою лодку, переправился на другой берег Москвы, на котором находилась
его хижина, простерся на траву, печально опустил на руку
свою голову и долго смотрел на хижину Марии, в которой
20
светился огонек, иногда затмеваемый легкою тению. Наконец
сияние исчезло. Услад закрыл руками глаза и заплакал:
ему казалось, что в эту минуту угасло счастие жизни его,
что для него уже не было на свете Марии.
Утренняя заря не застала Услада на берегах светлой
Москвы. В первые два дня Мария не переставала крушиться и плакать. Потупив голову, закрыв передником
прискорбные очи свои, орошенные слезами, сидела печальная на пороге хижины и не внимала утешениям своей добросердечной матери. На третий день пошла она к источнику.
Вдруг представляется взору ее незнакомый витязь: на нем
сияла блестящая броня, голова покрыта была шишаком, на
плечах лежала медвежья кожа. Лицо неизвестного было
величественно и сурово: глаза, глубоко впадшие, ярко блистали из-под густых бровей; черная всклокоченная борода
закрывала до половины смуглые щеки его. Мария оторопела.
Незнакомец поглядел на нее пристально.
— Кто ты, красная девица? — спросил он. Мария испугалась громозвучного голоса, не посмела поднять своих глаз
и побежала опрометью в хижину. Витязь последовал за
нею.
То был Рогдай, славный, могучий богатырь. Ему принадлежали обширные поля, между которыми извивалась прозрачная Москва; ему принадлежал высокий терем, окруженный дубовым тыном. Он долго служил могущественною мышцею великому Новугороду; сподвижники называли его:
Рогдай булатная рука; а прочие люди: Рогдай жестокое
сердце; ибо ни одно человеколюбивое чувство не было ему
известно, никогда на челе его не разглаживались морщины;
грозный, неукротимый во мщении; ни вопли, ни улыбка невинного младенца не проницали в его неприступную душу.
Умертвив на соборище народном одного из знаменитейших
посадников новогородских и принужденный поспешно с верною дружиною сокрыться из великого града, пошел он в знаменитый Киев, к великому князю Владимиру, дабы служить
ему вместе с богатырями Ильею, Чурилою и Добрынею.
Желая на перепутье посетить свое наследие и отеческий
терем, в котором провел младенческие лета, явился он на
берегах Москвы-реки дни через два по отшествии певца
Услада.
Новое чувство открылось в душе Рогдая в ту минуту,
когда он встретился у источника с Мариею; он начал каждый день посещать хижину ее матери. Разговаривая с старушкою, бросал он косвенные взгляды на прелестную дочь
21
ее, которая, потупив голову, краснея и трепеща, сидела за
пряжею и роняла из рук веретено всякий раз, когда робкие взоры ее встречались нечаянно с задумчивыми взорами Рогдая, в которых пылало мрачное пламя. Неутолимая
страсть, сопутствуемая мукою желаний и тайным волнением
ревности, свирепствовала в сердце грозного витязя. Впервые почувствовал он желание быть любимым, впервые научился смягчать громозвучный свой голос; иногда на устах его
показывалась усмешка; везде и всякую минуту он думал о
Марии; искал ее на берегу источника, во глубине рощи;
следовал за нею в село и даже нередко, чтоб угодить ей,
вмешивался в веселые игры поселян и поселянок. Всякий
день приносили ей богатые дары от Рогдая: иногда жемчужное блестящее ожерелье, иногда шелковый сарафан, обшитый богатым галуном, иногда ленту с серебряною бахромою, серьги, золотой перстень.
— Мария,— говорил ей грозный витязь,— отдай мне свое
сердце, я сделаю твое счастие. Тебе будут принадлежать
мои сокровища, мой терем, мои поля и рощи. Будешь ходить в серебре и золоте. Повезу тебя в великолепный град
Киев, покажу тебе великого князя Владимира; увидишь богатырские игры, затмишь собою всех киевских красавиц, будешь украшением княжеских палат и радостию всего града
Киева...
Что происходило в твоем сердце, что думала ты, добрая
Мария? Сначала она тосковала и плакала. «Услад, милый
Услад, для чего нет тебя со мною?» — говорила она, смотря
на струистый источник, при котором они расстались. Увы!
Она уже чувствовала, что присутствие Услада было необходимо, чтоб сохранить в сердце ее прежнюю к нему привязанность. Воображая Услада, она воображала счастие
жизни своей; но, думая о Рогдае, видела в мыслях своих
одни бесчисленные богатства его, пышный град Киев (о котором слыхала только в сказках), славных богатырей, блистание великолепного дворца княжеского и никогда не думала
о самом Рогдае; ибо никогда сердце ее не могло бы поколебаться между прекрасным Усладом и грозным витязем,
которого мрачный образ приводил ее в трепет. Но, увы!
Ослепленный рассудок ослепил и нежное сердце Марии;
в продолжение первого месяца она всякий божий день приходила к источнику вспоминать об Усладе — и всякий раз
встречала на берегах его витязя Рогдая. Наступил другой
месяц, и Мария с большим уже вниманием начала слушать
Рогдаевы предложения: в душе ее, которая прежде была так
22
непорочна, родились гордые мечты о блеске, богатстве и
торжестве ее прелестей. Наступил третий месяц — и Мария
отдала руку свою Рогдаю... Ах! Кто бы это подумал, добрая Мария? Но для чего же обвинять ее доброе сердце?
Оно никогда не изменяло Усладу. Ты обманывалась, Мария,
когда уверяла себя, что более не любишь своего друга.
Скоро исчезнет твое ослепление; скоро опять воскреснет в
душе твоей прежнее чувство любви, к которому ты привыкла, которым была так счастлива... что будешь тогда,
невинная, обманутая, несчастная Мария?
Услад приближался уже к месту своей родины; уж видел
он вдалеке высокий Рогдаев терем, видел дым, вьющийся
над кровлями хижин и озлащенный сиянием восходящего
утра. Душа его наполнена была смутными чувствами радости, любви, нетерпения. В эту минуту повстречался ему пастух, который гнал стадо на паству и пел утреннюю свою
песню,— они узнали друг друга.
— Бедный Услад, зачем воротился ты на свою родину,— воскликнул пастух.
Услад побледнел.
— Что сделалось? — спросил он изменившимся голосом.
— Много воды утекло с того времени, как ты оставил
наше селение,— отвечал пастух.— Мария твоя — перелетная
птичка; она покинула родимое гнездышко и хочет лететь на чужую сторону; она разлюбила тебя; она отдала
свою душу богатому и могучему витязю Рогдаю! Ах!
Бедный Услад, для чего возвращался ты на свою родину?
Пастух посмотрел на него с состраданием, вздохнул,
опять погнал свое стадо, опять запел свою утреннюю песню.
Услад не мог отвечать ему ни слова: стоял как убитый громом и долго неподвижными очами смотрел на волны, в которых отражалось чистое небо. Жаворонок кружился и пел
под облаками; утренний ветерок дышал ему в лицо; с полей
подымались благовония цветов и трав. Услад ничего не чувствовал. Солнце взошло; первые лучи его заиграли на кровле высокого терема: нечаянно взоры Услада на нее устремились; вся душа его пришла в волнение; он бросился на
траву, залился слезами и целый день пролежал на одном
месте неподвижно, вздыхал и терзался. Наступил вечер. Земледельцы и пастухи пришли с полей. Веселые голоса их пробудили Услада. Он встал, опять устремил глаза на терем,
смотрел на него долго, наконец снял с груди пучок засох
23
ших ландышей, перевязанных волосами Марии, который подарила она ему накануне разлуки, бросил его в реку, несколько минут следовал за ним глазами по течению волн,
потом, потупив голову, стараясь удерживать стеснившиеся в
груди вздохи, пошел назад, чтобы никогда, никогда не возвращаться в то место, где все, что радовало его в жизни, погибло навеки.
Прошла осень, прошла зима — Услад скитался по городам и селениям. Увы! Он думал забыть прежнее время,
забыть утраченное свое счастие — напрасно! В тех самых
песнях, которыми веселил он горожан и сельских жителей,
чтобы избавить себя от голодной смерти, изображались милые чувства, некогда услаждавшие душу его, изображен
был тот счастливый край, где прежде встречал он с веселием каждое утро, провожал он с надеждою каждый вечер.
Наступила весна, и вся любовь, которую он почитал почти
угасшею, опять воспламенилась в душе его.
— Нет,— воскликнул Услад,— я не могу дышать в разлуке с нею; где бы я ни был, везде мой жребий — угаснуть в любви, увянуть в страдании; здесь, на чужой стороне, все для меня чужое; а там, в отчизне моей, все мне друг,
все было свидетелем моего счастия, все будет поверенным
моей скорби. Не буду с нею встречаться; но буду с нею вместе, но буду скитаться вокруг ее жилища, невидимо следовать за нею во глубину рощи, иногда внимать ее голосу,
дышать ветерком, освежающим ее грудь или волнующим
ее светлые кудри, орошать слезами следы, оставленные на
мураве легкими ее стопами, в упоении, сокрытый мраком
ночи, смотреть на свет ее лампады, горящей перед образом
и проницающей сквозь окна ее светлицы, и вместе с нею
молить божию матерь о счастии жизни ее. Так, моя родина, и вы, отческие рощи, и вы, цветущие берега Москвы,
опять увидите возвратившегося к вам Услада; возвращусь к
вам, чтоб увянуть на вашем лоне, увянуть там, где расцвело и увяло мое веселие. Ах, видя, как другой владеет моим
счастием, скорее умру с печали. Утро взойдет, ранняя ласточка взовьется под облака, ветерок побежит по вершинам
дерев, и листья осенние посыплются с шумом; тогда, Мария, ты взглянешь в окно высокого терема и скажешь: «Утренняя ласточка, для чего ты поднялась так рано? Ветерок осенний, для чего рассыпаешь ты красоту дубравы?
Для чего в душе моей тоска неизвестная?» Ты выйдешь рассеять печаль свою в поле; там, близ тропинки излучистой,
на краю кладбища, под сению древних берез, увидишь
24
свежую могилу; ты устремишь на нее задумчивые взоры.
«Здесь положили певца Услада»,— скажут тебе сельские
девушки, печально собравшиеся вокруг могилы. Ты вспомнишь прежние радости, вспомнишь певца Услада; приунывши, возвратишься в свой терем, вздохнешь из глубины сердца и скажешь: «Он меня любил, но его уже
нет».
Солнце почти закатилось, когда Услад остановился на
берегу источника, в виду Рогдаева терема.
Долго в унылой задумчивости смотрел он на жилище
Марии; взоры его искали сияния лампады в окне уединенной
ее светлицы... напрасно; глубокая мрачность царствовала в
тереме витязя Рогдая. Уже на западе исчезла последняя полоса вечерней зари, на востоке показывалась полная луна,
подобная зареву отдаленного пожара: весь терем покрылся ее сиянием. Услад мог ясно видеть, что задвижные окна были все раскрыты; что крепкие тесовые ворота, не заложенные затвором, ходили на железных петлях,— невольно
робость проникнула в его душу. «Что это значит? — подумал он.— Отчего такая мрачность в Рогдаевом тереме?
Что сделалось с тобой, Мария?» Услад переходит источник вброд и по тропинке, вьющейся в кустах, идет на высоту горы — часто останавливается — слушает — ничего не
слышит — одни только легкие струйки ручья переливаются с
журчанием по песку, изредка стучит стрекоза, изредка увядший листок срывается с дерева и с трепетанием падает на
землю.
— Что предвещаешь ты мне, тишина ужасная? — вопрошал Услад, осматриваясь с робостию и видя вокруг себя одно печальное запустение. Вдруг послышался ему близкий шорох... кто-то бежал... сухие листья хрустели под ногами... шорох приблизился... Услад прячется в кусты... видит
женщину... луна осветила ее лицо... Певец узнает добродушную Ольгу, любимую подругу Марии... бросается к ней навстречу... Ольга закричала, закрыла обеими руками лицо...
— Защитите меня, силы небесные,— воскликнула она,—
привидение, душа Усладова! — Ноги ее подкосились, она
упала бы на траву, когда бы Услад не принял ее в объятия.
— Что с тобою сделалось, добрая Ольга? Отчего боишься Услада?
Ольга дрожала как лист, не смела отворить глаз, крестилась, читала про себя молитву.
26
— Опомнись, милая Ольга, погляди на меня. Я не мертвец, я Услад, живой Услад, возвратился в свою отчизну,
хочу увидеть Марию.
Звуки знакомого голоса ободрили несколько робкую девушку — несколько минут не могла она прийти в себя от
испуга, наконец мало-помалу осмелилась отворить глаза...
— Точно ли вижу Услада? — спросила она.— В самом
деле, его лицо, его приятные взоры, его знакомый голос.
Ах! Добрый Услад, зачем ты здесь?.. Но удалимся от этого
места — мне страшно. Скоро будет полночь; никто из наших
поселян не ходит сюда в это время: я сама нечаянно запоздала в роще; удалимся, Услад; это место ужасно.—
Ольга побежала вперед, потащив за собою Услада, и чрез две
минуты находились они уже на берегу светлого источника.
— Ольга,— сказал Услад,— я не пойду и не пущу тебя
далее: хочу знать, отчего так страшен тебе Рогдаев терем
и что сделалось с Мариею?
— Ах! Добрый Услад, о чем ты у меня спрашиваешь?
— Говори, милая Ольга, именем бога прошу тебя; неизвестность мучительнее смерти.
— Хорошо, Услад, слушай. Садись ко мне ближе; здесь
не так страшно: я вижу на том берегу источника нашу
хижину.
Они сели. Услад трепетал: сердце предсказывало ему что-
то ужасное.
— Много, Услад, очень много переменилось с тех пор, как
ты оставил нашу деревню,— так начала говорить Ольга.— Дорого бедная моя подруга заплатила за свое легкомыслие. Ах! Милосердное небо, для чего, не спросясь с душою своею, поверила она коварным обещаниям обольстителя?.. Услад, Мария твоя ни на одну минуту не переставала
о тебе помнить. Что же делать, если она как младенец прельстилась золотыми парчами, жемчугом, лентами, которыми дарил ее грозный Рогдай, и суетною надеждою сиять прелестями в великолепном граде Киеве? Увы! Она сама обманывала себя, когда почитала прежнюю любовь свою угасшею,
а гордые свои замыслы — привязанностию к грозному Рог-
даю. Нет, Услад, не обижай ее такою мыслию: никогда
Мариино сердце не было переменчиво; и можно ли, друг
мой, забыть те сладкие чувства, которыми животворится душа наша в лучшие годы жизни, с которыми соединены
26
все наши надежды на счастие, которыми земля претворяется для нас в царство небесное? Ни одной минуты веселия
не видала она с той поры, как принуждена была оставить
родительскую хижину. Слушай: ввечеру накануне того дня,
в который надлежало ей идти к венцу и в церкви божией
перед святым алтарем навсегда отдать себя Рогдаю, поклявшись тайно, что позабудет Услада навеки, я навестила
мою подругу; но где же нашла ее? Здесь, на берегу светлого
источника, на том самом месте, где ты, Услад, в последний
раз с нею простился. Она сидела в унынии, склонив ко
груди прелестную свою голову, с потухнувшими глазами,
увядшими щеками, как будто приговоренная к смерти. Ах!
Услад, еще не вступила она в Рогдаев терем, а уже мечты удовольствий, которые найти в нем она воображала, для
нее исчезли: одна только мысль о том, что была она готова
утратить, одно минувшее время, одни погибшие радости наполняли ее прискорбную душу. Увидя меня, она встала, подала мне знак, чтобы я за нею последовала, и молча пошла в
свою хижину. Матери ее не было дома; свечка горела перед
образом богоматери. «Молись вместе со мною,— сказала
Мария и упала на землю, обливаясь слезами.— Святая
утешительница,— воскликнула она,— молю не о себе; для меня уже нет счастия: не желаю, не буду искать его, я сама от
него отказалась; но будь твое милосердие над милым, оставленным, осиротевшим другом моим; храни его, покровительница несчастных». На другое утро принесли к ней богатые
дары от Рогдая: она посмотрела на них с равнодушием.
Сельские девушки пели веселые песни у дверей ее хижины:
Мария, казалось, им не внимала. Мать убирала ее к венцу,
ласкала словами и взорами: Мария устремляла на нее умильные глаза, целовала ее руки, вздыхала, утирала слезы и не
говорила ни слова. Грозный Рогдай изумился, когда она вошла в церковь, печальная, бледная как полотно, и с трепетом
подала ему руку. Лицо ужасного витязя во все продолжение венчального обряда было мрачно: с суровым подозрением рассматривал он свою невесту, которая стояла пред
алтарем как жертва, приведенная на заклание. Их обвенчали. Услад, я повторяю: ни единою радостию не насладилась
твоя Мария с той самой минуты, в которую оставила родительскую хижину. Мы виделись с нею каждый божий день:
всегда находила я ее погруженную в задумчивость. Иногда,
вечернею порою, она сидела на скате горы и пела прекрасные твои песни; иногда с прискорбием останавливалась на
берегу источника; но чаще всего приходила к реке смотреть
27
на отдаленную твою хижину. Суровость витязя Рогдая приводила ее в трепет: он любил ее страстною любовию, но
самая нежность его имела в себе что-то жестокое. Простодушная Мария, которой слова и взоры всегда согласны были с тайным расположением сердца, ответствовала
на любовь его одною тихою покорностию: она подходила
к нему только тогда, когда он сам приказывал ей приблизиться; не смела к нему ласкаться, а только с смирением
принимала его надменные ласки. Увы, несчастная Мария,
которая прежде была так весела и резва, которая прыгала
от удовольствия в кругу игривых своих подруг, Мария почти
никогда уже не улыбалась, и в самой улыбке ее изображено было душевное прискорбие. Рогдай заметил ее тоску;
часто с видом угрюмого подозрения устремлял он свои взоры
на бледное лицо Марии: она содрогалась и потупляла глаза свои в землю. Часто хотел он спросить ее о причине
такой непрерывной унылости, начинал говорить и уходил, не
кончив вопроса,— и что могла бы отвечать ему Мария?
Прошло три недели. В одно утро (мы сидели вместе с Ма-
риею и низали жемчужное ожерелье для ее матери) приходит он в ее светлицу. «Мария,— говорит он,— послезавтра
мы едем в Киев: будь готова». Мария побледнела; руки ее
опустились, хотела отвечать, и слезы побежали из глаз ее
ручьями. «Что это значит?» — загремел ужасным голосом
витязь. Мария схватила его руку (в первый раз позволила
она себе такую смелость). «Ради бога,— воскликнула она,
устремив на него умильный взор,— пробудь здесь еще один
месяц, один только месяц; дай мне познакомиться с печальною мыслию, что я должна расстаться с своею родиною,
навсегда покинуть свою мать, моих подруг, мои отеческие поля и рощи». Прижавши прекрасное лицо свое к руке
ужасного витязя, она орошала ее слезами. Какое сердце могло бы не тронуться умоляющим стенанием Марии? Несколько
минут молчал суровый Рогдай: в сумрачных взорах его блеснуло чувство. «Не могу отказать тебе, Мария,— отвечал он,
смягчивши голос,— мне сладко тебя утешить. Согласен, еще
на месяц остаюсь в этих местах; но, Мария,— тут устремил
он на нее подозрительный взгляд,— ты худо отвечаешь на
страстную мою любовь: горе тебе, если не одна привязанность к матери, подругам и отчизне удерживает тебя в
этом месте». Он удалился. Мария посмотрела на меня и не
сказала ни слова: мы обе вздохнули.
Прошло еще две недели — самые печальные для бедной
Марии. Она старалась удалить от себя воспоминания об
28
Усладе, но всякую минуту против воли своей думала: «Он
скоро возвратится, он придет отдать мне свою душу, исполненный сладкой надежды, исполненный прежней любви, а
я...» Она томилась в тоске и слезах и не могла утаить ни тоски, ни слез своих от Рогдая; он видел ее печаль — но он
молчал, и грозные взоры его час от часу становились мрачнее; страшная ревность свирепствовала в его сердце. «Мария,— говорил он иногда, устремив на нес пристальное
око,— душа твоя неспокойна, совесть тебя обличает: взоры мои тебе ужасны. Мария,— восклицал он иногда громозвучным голосом, от которого несчастная цепенела,—
я люблю тебя страстно... но горе, если ты меня обманула!»
Наконец наступило время твоего возвращения, и бедная
Мария совсем потеряла спокойствие. Увы! Она боялась ужасного Рогдая, боялась твоего милого присутствия, боялась
собственного своего сердца: малейший шорох заставлял ее
содрогаться. Она не хотела, она страшилась тебя увидеть;
но, Услад, несмотря на то, как будто ожидая тебя, не отходила она от окна своей светлицы, по целым часам просиживала на берегу Москвы, устремив неподвижные взоры
на противную сторону реки, туда, где видима соломенная
кровля твоей хижины. В одно утро — это случилось на другой
день после твоей встречи с пастухом нашего села — навещаю ее, нахожу одну, печальную по-прежнему, на берегу
Москвы, на том же самом месте, на которое приходила она
и вчера, и всякий день; сказываю, что тебя видели накануне; что ты, узнавши о ее замужестве, не захотел войти
в деревню; что ты удалился неизвестно куда. Мария заплакала. «Ангел-хранитель, сопутствуй ему,— сказала она,—
пусть будет он счастлив; пускай, если может, забудет Марию». Она устремила глаза на небо. Мы стояли тогда на самом том месте, где волны образуют мелкий залив; разливаясь по светлым камешкам, с тихим плесканием — одна
волна прикатилась почти к самым ногам Марии — рассыпалась — что-то оставила на песке — я наклоняюсь — вижу пучок увядших ландышей, перевязанный волосами,— подымаю
его, показываю Марии: боже мой, какие слова изобразят ее
ужас! Казалось, что грозное привидение представилось ее
взору, волосы поднялись на голове ее дыбом, затрепетала,
побледнела. «Это мои волосы,— воскликнула она.— Услада
нет на свете: он бросился в реку». Она упала к ногам моим
без памяти. В эту минуту показался Рогдай: подходит,
видит бесчувственную Марию, поднимает ее; смотрит
29
с недоумением ей в лицо: оно покрыто было бледнос-
тию смерти; снимает с головы шишак, велит мне зачерпнуть в него воды и орошает ею голову Марии, которая, как увядшая роза, наклонена была на правое
плечо.
Несколько минут старались мы привести ее в чувство;
наконец Мария отворила глаза — но глаза ее были мутны;
она посмотрела на Рогдая — и не узнала его. «Ах! Услад,—
сказала она умирающим голосом,— я любила тебя более
жизни; последние радости, последние надежды, простите!»
Как описать то действие, которое произвели слова ее на душе
грозного Рогдая? Лицо его побагровело, глаза его засверкали, как уголья; он страшно заскрежетал зубами. «Услад,— воскликнул он, задыхаясь от бешенства,— кто Услад?
Что ты сказала, несчастная?» Но Мария была как помешанная; она не чувствовала, что Рогдай стоял перед нею;
с судорожным движением прижимала она его руку к сердцу
и говорила: «На что мне жить? Я любила его более моей жизни: все кончилось!» Рогдай затрепетал; в исступлении обхватил он ее одною рукой поперек тела и помчал, как дикий
волк свою добычу, на высоту горы, к ужасному своему
терему. Я хотела за ними последовать. «Прочь!» — заревел
он охриплым голосом, блеснув на меня зверскими глазами,—
ноги мои подкосились. С той поры, Услад, ни разу не видала я
нашей Марии... Ввечеру прихожу опять к горе, смотрю на высокий терем — все было в нем тихо, как будто в могиле,—
светлица Марии казалась пустою — я долго прислушивалась — но все молчало — ничто, кроме трепетания волн и шороха дубравных листьев, не доходило до моего слуха —
кровь леденела в моих жилах. «Боже мой,— думала я,—
что сделали они с тобою, несчастная Мария?» Три дни сряду
приходила я к терему: то же молчание, та же пустота.
«Куда девалась Мария? Где витязь Рогдай?» — спрашивали
наши поселяне. Один из них осмелился войти в самый
терем; но он не нашел ни витязя, ни Марии, ни служителей Рогдаевых: повсюду царствовала пустота, стены были голы, все утвари домашние исчезли — казалось, что
никогда нога человеческая не заходила в эту обитель молчания. Увы! Услад, с того времени мы ничего не знаем
об участи твоей Марии. Никто из поселян не смеет приближаться к Рогдаеву терему. Горе заблудившемуся пеше-
ходцу, который отважится зайти в него полуночною порою!
Божие проклятие постигло этот вертеп злодейств, говорит
наш сельский священник. Мы смотрим на него из-за реки, со-
30
дрогаемся и молим небесного царя, чтобы он успокоил душу
Марии. Бедная мать ее умерла с печали: мне суждено было от бога заступить при ней место дочери; я посадила на могиле ее шиповник и молодую липу. Услад, кто знает? может
быть, она уже встретилась теперь на том свете с своею Ма-
риею.
Ольга перестала говорить; Услад не мог отвечать ей ни
слова. Несчастный сидел, потупив голову, закрыв руками лицо,— состояние души его было ужасно; несколько минут
продолжалось печальное безмолвие. Услад посмотрел
на Мариину подругу: она плакала, он поцеловал ее в
щеку.
— Милая Ольга,— сказал он,— возвратись к своей матери; конечно, беспокоит ее теперь долговременное твое
отсутствие; оставь меня, я никогда не сойду с этой горы:
она должна быть моим гробом. Бог с тобою, добросердечная Ольга; будь счастлива; скажи в деревне, что бедный Услад жив, что он возвратился, что он умрет на том
самом месте, где мучилась и погибла его несчастная Мария.
Они поцеловались опять. Ольга переправилась на другой берег источника; Услад пошел по излучистой тропинке на высоту горы, к ужасному терему.
Полночь была уже близко — полная луна, достигшая
вершины неба, сияла почти над самою головою Услада.
Он приближается к терему; входит в широкие ворота, растворенные настежь,— они скрипели и хлопали; входит на
двор — все пусто и тихо. Дорога от ворот до крыльца, окруженного высокими перилами, покрыта крапивою, полынью
и репейником. Услад с трудом передвигает ноги, наконец
вступает на крыльцо, идет к двери... Дикая лисица, испуганная приходом человеческим, давно не возмущавшим сего
пустынного места, бросилась в высокую траву, сверкнув на
него глазами; филин, пробужденный шорохом, встрепенулся, захлопал крыльями, полетел на кровлю и завыл... Услад
почувствовал робость и начал осматриваться. При свете
луны увидел он себя в обширной горнице, в которой находился длинный стол, приставленный к стене; две или три
скамейки, лежавшие на полу; пустой поставец, где прежде
находились образа, и на полу разбросанные черепки разбитых глиняных кружек: здесь грозный Рогдай угощал иногда
поселян и поселянок своей деревни. Услад прошел еще
две или три горницы: везде представлялись глазам его
голые стены, везде царствовала тишина, изредка нарушае
31
мая шумом нетопырей, которые быстро над ним порхали. Наконец он видит маленькую дверь и узкую лестницу, обвившуюся винтом вокруг столба: сердце его сильно затрепетало — эта лестница вела в светлицу Марии. Услад идет
по ступеням, входит в светлицу, ярко озаренную лучами луны,
которая ударяла прямо в раскрытые окна. Душа его наполнилась неизъяснимым прискорбием, когда он увидел себя
в том самом месте, где бедная Мария провела последние дни своей жизни, встречая утро со вздохами, провожая вечер с унынием. Он находил горестное удовольствие
дышать тем воздухом, которым некогда она дышала; как
будто чувствовал, что в тихой полуночной прохладе разливалось вокруг него ее присутствие. Все было ею наполнено — на все устремлял он с неописанным волнением взоры
свои; ибо везде мечтались ему следы милого бытия утраченной Марии. В одном углу брошены были ее пяльцы
с недоконченным шитьем, которое все почти истлело. В другом что-то блистало — Услад приближается: смотрит — что
же? Находит тот самый образ богоматери в серебряном
окладе, который привез он ей из Киева и который Мария, до
самой разлуки с Усладом, носила на шее; он упал перед ним
на землю, заплакал, снял его со стены, поцеловал и положил на грудь свою. Он сел под окно — глаза его устремились на Москву, которая тихо вилась под горою, отражая
в волнах своих и берега, покрытые лесом, и синее небо,
усыпанное легкими сребристыми облаками; окрестности, одетые прозрачною пеленою светлого сумрака, были спокойны;
все молчало — и воздух, и воды, и рощи. Услад задумался;
минувшее предстало его воображению, как легкий призрак;
он видел Марию, прежде цветущую, потом увядающую во
цвете лет. «Здесь,— думал он,— сидела она в унынии под
окном, смотрела в туманную даль и посылала ко мне свои
вздохи; здесь, проливая слезы, молилася перед святою
иконою; здесь, о боже милосердный, может быть, па самом
этом месте убийца...» Он содрогнулся; ужас проникнул все
его члены; ему мечталось слышать стенания, выходящие
как будто из могилы; мечталось, что скорбное, тоскующее
привидение бродило по горницам оставленного терема; жилы
его сильно бились; кровь, устремившаяся в голову, производила в ушах его звуки, подобные погребальному стону. Час полночи, всеобщее безмолвие, мрачность и пустота
ужасного терема — все приготовляло душу его к чему-то
необычайному: таинственное ожидание наполняло ее. Услад
сидит неподвижно... прислушивается... все молчит... пи зву-
32
на... ни шороха... Вдруг от дубравы подымается тихий ветерок: листочки окрестных деревьев зашевелились, ясная луна затуманилась, по всем окрестностям пробежал сумрак, какое-то легкое, почти нечувствительное дуновение прикоснулось к пламенным щекам Услада и заиграло в его разбросанных кудрях: казалось, что в воздухе распространялось
благовонное дыхание весны и разливалась приятная, едва
слышимая гармония, подобная звукам далекой арфы. Услад
поднимает глаза... что же? О ужас! О радость!.. Он видит...
видит перед собою Марию — светлый, воздушный призрак,
сияющий розовым блеском; одежда ее, прозрачная, как утреннее облако, летящее перед зарею, расстилалась по воздуху струями; лицо ее, бледное, как чистая лилия, казалось
прискорбным, на милых устах видима была унылая улыбка;
задумчивый взор ее стремился к Усладу. Священный ужас
наполнил его сердце.
— Ты ли, душа моей Марии? — воскликнул он, простирая к привидению трепещущие руки.— О! Скажи, для
чего покинула ты селения неба? Велишь ли мне разлучиться с жизнию? Хочешь ли приобщить меня к своему блаженству?
Он умолк — ответа не было. Но призрак, казалось, хотел,
чтобы Услад за ним последовал,— одною рукою указывал на
дремучий лес, другою, простертою к Усладу, манил его за собою. Услад осмелился ступить несколько шагов... привидение
полетело... Услад остановился... и вместе с ним остановился
призрак, опять устремив на него умоляющие взоры... Услад
был в нерешимости... не знал, идти ли ему или нет... наконец ободрился... пошел... руководствуемый таинственным
вождем, вышел на пустынный двор, за ворота, наконец
в дремучий лес, который на несколько верст простирался
позади Рогдаева терема. Входит во глубину леса — тишина
мрачность окрест него царствуют; ни одно живое творение
нс представляется взору его; дикие дубравные звери, как
будто чувствуя присутствие бесплотного духа, ему сопутствующего, уклоняются от стези его с робостию... храня
глубокое безмолвие, идет он за бледным улетающим сиянием... несколько часов продолжалось его уединенное шествие...
вдруг видит реку, вьющуюся под сению древних дубов, раз-
весившихся берез и мрачных елей... устремляет глаза на
светлую свою сопутницу... она остановилась... печаль, прежде напечатленная во взорах ее, уже исчезла: они сияли
небесным веселием... привидение указывает ему на небо...
улыбается... простирает к нему объятия... и вдруг, как легкая
2 3iiK.ii i l
33
утренняя мечта, исчезает в воздушной пустыне. Все помрачилось; Услад остался один, в глуши дремучего леса, в стране
ужасной и дикой... осматривается... видит вблизи сверкающий огонек... идет... глазам его представляется низенькая хижина, покрытая соломою... он отворяет дверь...
дряхлый старик молится перед распятием, при свете ночника... скрип двери заставил его оглянуться... он посмотрел пристально Усладу в лицо... улыбнулся и подал ему
руку.
— Благословляю приход твой,— сказал отшельник,—
давно пророческое сновидение возвестило мне его в этой
пустыне. В лице твоем узнаю того юношу, который несколько раз являлся мне в полуночное время, когда в спокойном
сне отдыхал я после трудов и молитвы.
— Кто ты, старец? — спросил Услад, исполненный умиления и тайного страха.
— Смиренный отшельник Аркадий,— отвечал старик.—
Два года, как поселился я на берегу светлой Яузы, в этой
уединенной хижине. Здесь провожу дни свои в молитве, оплакиваю прошедшие заблуждения и спасаюсь. Приди в обитель мою, несчастный труженик: в ней обретешь утраченное спокойствие, а с ним и желанное забвение прошедшего.
Скажи мне, кто указал тебе дорогу к моей неизвестной
хижине?
Услад описал ему несчастия своей жизни.
— Так,— воскликнул Аркадий, выслушав повесть Услада,— здесь, на берегу Яузы, покоится несчастная твоя Мария; мне назначило божие провидение принять последние взоры ее и примирить с небом ее отлетающую душу.
Слушай: в одно утро я собирал коренья на берегу Яузы;
внезапно поразили слух мой жалобные стенания... Иду...
шагах в пятидесяти нахожу женщину, молодую, прекрасную,
плавающую в крови,—это была твоя Мария; вдали раздавался конский топот; воин, одетый в панцирь, мелькал между деревьями; он вскоре исчез в густоте леса — то был
убийца Рогдай. Беру в объятия умирающую Марию — увы!
последняя минута ее уже наступила, уста и щеки ее побледнели, глаза смыкались. Медленно подняла на меня угасающий взор. «Прими мою душу, благослови меня»,— сказала она, усиливаясь приложить руку мою к сердцу. Я
перекрестил ее — умирающая посмотрела на меня с благо-
дарностию. «Ангел-утешитель,— сказала она, простирая ко
мне объятия,— молись о душе моей, молись об Усладе».
Взоры ее потухли, голова наклонилась на плечо — она скон
34
чалась. Могила ее близко. Ты скоро увидишь ее, Услад; заря
начинает уже заниматься.
— Ах! Несчастная! — воскликнул Услад.— Какая
участь! И этот убийца жив!.. Нет, божий угодник, клянусь
у ног твоих...
— Услад, не клянись напрасно,— ответствовал старец,—
небесное правосудие наказало Рогдая: он утонул во глубине Яузы, куда занесен был конем своим, испугавшимся
дикого волка. Усмири свое сердце, друг мой; скажи вместе
со мною: вечное милосердие да помилует убийцу Марии!
Услад утихнул.
— Очи мои прояснились,— воскликнул он и простерся к
ногам священного старца.— Она сохранила ко мне любовь
и за гробом. Отец мой, тебе, воспоминанию и служению
богу посвятится отныне остаток моей жизни.
Заря осветила небо, и лес оживился утренним пением
птиц. Старец повел Услада на берег Яузы и, указав на деревянный крест, сказал:
— Здесь положена твоя Мария.
Услад упал на колена, прижал лицо свое, орошенное
слезами, к свежему дерну.
— Милый друг,— воскликнул он,— бог не судил нам делиться жизнию: ты прежде меня покинула землю; но ты
оставила мне драгоценный залог твоего бытия — безвременную твою могилу. Не для того ли праведная душа твоя
оставляла небо, чтоб указать мне мое пристанище и прекратить безотрадное странничество мое в мире? Повинуюсь
тебе, священный утешительный голос потерянного моего
друга; не будет прискорбна для меня жизнь, посвященная гробу моей Марии: она обратится в ожидание сладкое, в утешительную надежду на близкий конец разлуки.
Услад поселился в обители Аркадия: на гробе Марии
построили они часовню во имя богоматери. Прошел один год,
и Услад закрыл глаза святому отшельнику. Еще несколько
лет ожидал он кончины своей в пустынном лесе; наконец
и его последняя минута наступила: он умер, приклонив голову к тому камню, которым рука его украсила могилу
Марии.
И хижина отшельника Аркадия, и скромная часовня
богоматери, и камень, некогда покрывавший могилу Марии,— все исчезло; одно только наименование Марьиной рощи сохранено для нас верным преданием. Проезжая по Тро
2*
35
ицкой дороге, взойдите на Мытищинский водовод — вправе
представится глазам вашим синеющийся лес; там, где прозрачная река Яуза одним изгибом своим прикасается к роще
и отражает в тихих волнах и древние сенистые дубы, и бедные хижины, рассыпанные по берегам ее,— там некогда погибла несчастная Мария; там сооружена была над гробом
ее часовня во имя богоматери, там наконец и Услад кончил печальный остаток своей жизни.
ДВОЙНИК,
ИЛИ МОИ ВЕЧЕРА В МАЛОРОССИИ
( Отрывки)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ВЕЧЕР ПЕРВЫЙ
В северной Малороссии — в той части, которую по произволу назвать можно и лесною, и песчаною, потому что
названия эти равно ей приличны — находится село П***.
Среди оного, на постепенно возвышающемся холме, расположен большой сад в английском вкусе, к которому с северной стороны примыкает пространный двор, обнесенный каменною оградою; на дворе помещичий дом с принадлежащими к нему строениями. Из одних окошек дома виден сад,
из других видна улица, а по ту сторону улицы зеленеются
конопляники, составляющие главный доход жителей тамошнего края. Холм окружен крестьянскими избами, выстроенными в порядке и украшенными (на редкость в той стране) каменными трубами. В некотором расстоянии от села
густой сосновый лес со всех сторон закрывает виды вдаль.
В этом селе и в этом помещичьем доме жил я безвыездно несколько лет. Рассказывать, по каким причинам
я жил там безвыездно, было бы вовсе излишне; довольно
того, если скажу тебе, мой благосклонный читатель, что
я — покорный слуга твой,— не другой кто, как сам помещик того села. В течение нескольких лет моего там пребывания время проходило не совсем для меня весело, но не
совсем и скучно, и я на то никак не жалуюсь; ибо где в поднебесной провести можно время совершенно счастливо, совершенно весело? Какой человек на свете (я говорю о
людях несколько испытанных и не совсем молодых) может похвалиться, что он где-нибудь или когда-нибудь совершенно был счастлив? Если ты, любезный мой читатель,
еще очень молод, если приятности жизни представляются тебе еще в дали блестящей, то ты мне не поверишь; ты
скажешь сам себе: «Теперь я, конечно, не могу назваться
счастливым, теперь недостает у меня того, другого, например
чинов, почестей, имения; но как скоро достигну до всего,
38
чего желаю, что тогда помешает мне быть счастливым?
Когда человек здоров, молод, богат, знатен, то он должен
быть и счастлив». Ошибаешься, друг мой, молодой читатель! Со временем ты собственным опытом узнаешь, что
совершенное благополучие не есть удел этой жизни и что
как бы ни повезло тебе счастие (чего от души желаю), все-
таки оно не довезет тебя туда, куда стремиться будешь. Чем
дальше в море, тем больше горя,— говорил один старик,
приятель мой. И я ему сначала не очень верил; а теперь
верю!..
Но, спросишь ты у меня, что же тебе делать, чтоб
быть, по крайней мере сколько возможно, счастливым?
Скажу в ответ: старайся быть довольным судьбою своею
и не завидуй судьбе других. Помни золотое правило, почерпнутое мною в молодости из одной учебной книги и которое
нашел я чрезвычайно полезным в течение жизни своей:
Что господом дано, ты тем и наслаждайся;
Чего же не дано, о том не сокрушайся.
Не забывай никогда, что сокрушаться о том, что не
дано тебе, ни к чему не служит. Сокрушением своим ты
не достигнешь того, чего желаешь, а только потеряешь
вкус к тому, что имеешь. Человека, пренебрегающего этим
правилом, сравнить можно с солдатом, который во время похода вздумал бы крушиться о том, что у него, вместо щей
да каши, нет сладких пирогов. Как часто, в горестные
минуты, правило это меня утешало! Итак, любезный читатель, вот мой дружеский совет! Кушай на здоровье пироги, когда они у тебя есть; но не грусти о них и не посматривай другим в зубы, когда у тебя нет ничего, кроме щей
да каши.
Пора, однако, обратиться к делу: я почти признался
выше, что иногда и мне, несмотря на упомянутое золотое
правило, бывало скучно. Чаще всего случалось это по вечерам, когда крестьяне, окончив сельские работы, предавались
покою и около дома моего становилось пусто. Я тогда обыкновенно садился к открытому окну и в задумчивости слушал унылое пение молодых крестьянок, до поздней ночи
веселящихся на вечеринках. Кому случалось слышать это пение в северной Малороссии, тому не покажется непонятным, что я не сердился на лай собак, крик филинов и визг
летучих мышей, от времени до времени заглушавших песни
красавиц.
В один прекрасный вечер я, по обыкновению, сидя у ок
39
на, мечтал о будущем и не без грусти вспоминал о прошедшем. Неприметно переходя от воспоминания к воспоминанию, от мысли к мысли, я в воображении принялся за
любимое занятие, когда бываю один и без дела ...я начал
строить воздушные замки. Живейшее воображение в таких
случаях бывает лучшим архитектором. Я не могу пожаловаться на леность своего воображения, и потому воздушные здания с неописанною скоростию возвышались одно другого красивее, одно другого пышнее. Наконец взгромоздив
замок, который огромностию и красотою своею превосходил
все прочие, я вдруг опомнился и со вздохом обратился
к настоящему! Если бы, подумал я, вместо всего несбыточ-
юго, которое бродит у тебя в голове, имел ты хотя одного
доброго товарища, который бы делил с тобою длинные вечера! Но нет — и этого даже быть не может! Ты осужден
оставаться одиноким; друзья твои далеко; и кто из них пожертвует собою, чтоб посетить тебя в такой глуши? Несмотря, однако ж, на то, будь доволен своею судьбою и помни:
Что господом дано...
Не успел еще я договорить мысленно этого утешительного изречения, как послышалось мне, что кто-то тихо постучался в дверь. Сначала я принял это за игру воображения;
но вторичный стук удостоверил меня, что я не ошибаюсь, и я
в нетерпеливом любопытстве громко закричал:
— Милости просим!
Дверь отворилась без скрипа, и вошел в комнату мужчина средних лет и росту повыше среднего. Волосы его были
кудрявые, глаза голубые, губы довольно толстые и нос вздернутый немного кверху. Он поклонился весьма ласково и когда подходил ко мне ближе, то я заметил, что он немного
прихрамывает на правую ногу. Нельзя представить себе, до
какой степени поразило меня его появление! Кроме того,
что я понять не мог, каким образом подошел он к дому так
неприметно, что я не видал его, сидя у открытого окна,—
кроме того, говорю я, внезапное появление его произвело во
мне какое-то странное и неизъяснимое впечатление! При
первом взгляде на него сердце мое забилось, как это всегда
случается при встрече с другом после долгой разлуки. Хотя
я не сомневался, что вижу его в первый раз в жизни, но
поступь его, малейшие его движения и вся вообще наружность напоминали мне что-то знакомое и, так сказать,
родное. Я учтиво отвечал на сделанный мне поклон и не
мог выговорить ни слова. Незнакомец, казалось, приме
40
тил мос замешательство и сказал с приятною улыбкою:
— Посещение мое удивляет вас, милостивый государь!
Но, зная, что вы одни и что иногда уединение вам тягостно, я вообразил, что сообщество мое в длинные осенние вечера не совсем будет для вас неприятно.
— Милостивый государь! — отвечал я.— Вы как будто
отгадали самые сокровенные мысли мои. В теперешнем расположении духа моего ничто не может быть для меня
благодетельнее, как сообщество приятного товарища. Не
знаю, имел ли я когда-нибудь удовольствие вас видеть;
но вы кажетесь мне так знакомы, что я, признаюсь, горю
нетерпением узнать, с кем имею честь говорить?
— Имя мое,— сказал незнакомец,— нимало не значительно, и мне даже трудно было бы объявить вам оное,
потому что, сколько мне известно, оно не существует на
русском языке.
— Каким это образом? — вскричал я с удивлением.—
Вы, верно, знаете еще с юных лет, что собственное имя
человека, или, лучше сказать, прозвание его, на всех языках остается неизменным, и потому позвольте сказать вам
откровенно, если есть у вас имя на каком-нибудь языке, то
должны вы иметь оное и на русском.
— Точно так, милостивый государь; но в том-то и дело,
что у меня нет собственного имени; а если б непременно
нужно было принять какое-нибудь, то ближе всего мне следовало бы называться так, как вы.
— Как я? Почтенный незнакомец!.. Конечно, это весьма
бы для меня было лестно, но...
— Не будем спорить о такой безделице; выслушайте
меня, и вы согласитесь, что я говорю правду. Неудивительно, что черты лица моего вам кажутся знакомыми;
мы друг на друга должны быть похожи, как две капли
воды... и потому, если вы, как я не сомневаюсь, хотя изредка смотритесь в зеркало, то должны во мне узнать самого
себя.
Тут я взглянул на незнакомца пристальнее, и внезапно
холодный пот облил меня с ног до головы... Я удостоверился, что он в самом деле совершенно похож был на
меня. Не знаю, почему это мне показалось страшным, и
(признаюсь теперь чистосердечно) я несколько дрожащим
голосом сказал:
— Подлинно, милостивый государь! Теперь я вижу, чего не заметил сначала... Я близорук; но скажите, пожалуйте скажите, кто вы таковы?
41
— Не кто другой,— отвечал незнакомец,— как вы сами.
Да! — продолжал он, увидя мое смущение.— Я говорю точную правду. Вы, верно, слыхали, что иногда человеку является собственный его образ? Я, милостивый государь, я не
кто иной, как образ ваш, явившийся вам.
— Батюшки! — вскричал я вне себя.— О государь мой!
Сколько ни было для меня приятно вас видеть, но теперь!..
Говорят, что такие явления случаются перед смертию... Неужто и вы, мой милостивец?..
— Стыдитесь,— сказал незнакомец,— стыдитесь таких
вздорных предрассудков — и успокойтесь. Клянусь честию,
что приход мой не предвещает вам никакого несчастия; я
пришел усладить по мере возможности уединение ваше, и
если старания мои не совсем будут безуспешны, то сочту себя
счастливым.
Слова незнакомца, верительным голосом произнесенные,
совершенно меня успокоили; я ему поверил, и в самом
деле он не обманул меня. Теперь минуло уж десять лет
после первого свидания нашего, и я не только жив и здоров, но, говорят, даже приметно потолстел с того времени.
Пришед в себя от объявшего меня страха, я вспомнил,
что не исполнил первого долга гостеприимства в отношении к почтенному гостю моему, и потому, взяв его за
руку, просил сесть.
— Прошу со мною нс церемониться,— сказал мой
гость,— если вам не противно мое присутствие, то докажите это, обходясь со мною, как с давнишним и искренним
другом вашим.
— Охотно! — отвечал я.— Будем друзьями. Вы из обращения моего увидите, сколь лестно для меня знакомство ваше. Но позвольте спросить, как мне называть вас?
Вы сами знаете, что без имени знакомство не знакомство;
по крайней мере для меня как-то неловко иметь короткое
обращение с человеком, которого имя мне неизвестно.
— Я уже говорил вам, что особенного имени у меня
нет. Существа моего рода едва ли имеют даже название
на русском языке, и потому я действительно затрудняюсь
отвечать на вопрос ваш. В Германии, где подобные явления чаще случаются, нашу братью называют Doppeltgänger1. Можно бы было, конечно, это слово принять в наш
язык, и оно не менее других было бы кстати; но так как у
нас иностранных слов, говорят, уже слишком много, то я
Doppeltgänger (правильно: Doppelgänger) — двойник (нем.).
42
осмелюсь предложить называть меня Двойником. Что вы
на это скажете, почтенный друг мой?
— Согласен, господин Двойник! Для меня все равно;
впредь, если позволите, иначе вас называть не буду.
После того мы, сев друг подле друга, наслаждались
приятною беседою. На вопрос: от чего происходит несправедливое мнение, будто явление двойника предвещает смерть
того, кому он явится, мой приятель отвечал:
— Не могу с достоверностию объяснить происхождение предрассудка, которого неосновательность вы, впрочем,
на опыте узнаете; но признаюсь откровенно, что не очень
верю происшествиям, которые рассказывают о двойниках.
Человек имеет особенную склонность ко всему чудесному,
ко всему, выходящему из обыкновенного порядка, и если
кто-нибудь для шутки или по какому другому побуждению
выдумает и расскажет происшествие,— как бы оно, впрочем,
ни было нелепо и невероятно,— то, без малейшего сомнения,
найдутся люди, которые не только поверят ему, но и передадут другим с прибавлениями и переменами. Впрочем, явление двойников не всегда предвещает смерть. Вы, верно, помните, что несколько лет тому назад много было говорено об
одном молодом человеке, который, вошед в комнату, где
обыкновенно занимался письменными делами, увидел самого
себя, сидящего за письменным столом. Вы знаете, что он
от того не умер.
— Так! Но я и тогда не верил его рассказам; мне казалось, что молодой человек этот имел только в виду отличиться от других и привлечь на себя внимание чем-нибудь
необыкновенным!
— И я того же мнения. Впрочем, я знал одного доктора в Германии, человека почтенного, который уверяет,
что ему весьма часто является двойник и что он, наконец, так привык к этим явлениям, что на них никакого
не обращает внимания. Двойник,— рассказывает он,— входит иногда ко мне в комнату, когда я занят своими сочинениями. Не желая прервать занятий своих, я подвигаю ему
стул и подаю трубку, а сам продолжаю писать. Двойник
спокойно садится и, выкурив трубку, уходит, нимало мне не
мешая.
— Но, может быть, почтенный доктор ваш немного помешан?
— Ия так думаю. Ученые люди, привыкшие к сидячей жизни и беспрерывному напряжению ума, часто подвержены бывают подобным видениям, происходящим от
43
чрезмерного сгущения крови. Иногда наяву с человеком
бывает то, что мы часто испытываем во сне и что у простолюдинов называется: давление домового (Alpdrücken, cauchemar). Вам, верно, известно, что случилось с славным
поэтом Попе?
— Нет,— отвечал я.
— Попе рассказывает сам, что он однажды поздно ввечеру занимался сочинением поэмы. Слуге своему он заранее
приказал идти спать и, выслав его из комнаты, по обыкновению запер дверь ключом. Углубленный в мечты, относившиеся к поэме, он нимало не думал о привидениях; вдруг...
дверь, замкнутая накрепко, отворилась... и вошел в комнату
старик небольшого роста, в длинном кудрявом парике, какие
носили при Лудовике XIV. Платье на нем было не богатое,
но весьма опрятное (сколько припомнить могу, светло-коричневого цвета), с прекрасными кружевными манжетами; на
башмаках большие серебряные пряжки. Попе так поражен
был сим явлением, что не промолвил ни слова и глядел на пришельца с удивлением! Старик, не обращая на него внимания, медленными шагами подошел к шкафу, в котором
были книги поэта. Он взглянул на некоторые заглавия сквозь
стеклянные дверцы; потом отворил шкаф, покачал головою и
начал все книги переворачивать вверх ногами. Попе хотел
спросить, зачем он приводит в беспорядок его библиотеку;
но слова замерли на его устах, когда он увидел, что старик,
доставая книги с верхних полок, вместо того чтоб стать на
стул, просто вытянулся до такой вышины, которая ему казалась нужною. Когда же, напротив, очередь дошла до книг,
стоявших на самых нижних полках, старик, вместо того чтоб
нагнуться, сжался и сделался самого маленького роста. Чтоб
достать книги, находившиеся по обеим сторонам шкафа,
он не сходил с места, но протягивал правую или левую руку,
которые по мере надобности становились длиннее или короче. Таким образом он вытягивался и сжимался до тех
пор, пока все книги перевернуты были вверх ногами. Окончив работу свою, старик запер шкаф и такими же медленными шагами вышел из комнаты, не взглянув ни разу на поэта. Дверь сама собою за ним затворилась... Попе несколько
минут оставался недвижимым; наконец, собравшись с духом,
подошел к дверям и увидел, что они заперты ключом. Удостоверившись, что в шкафе все книги без исключения стояли вверх ногами, он решился отложить до другого утра
приведение в порядок своей библиотеки. Между тем охота
писать стихи в нем вовсе исчезла; он разделся, лег в пос
44
тель, потушил огонь и вскоре потом заснул крепким сном.
Когда проснулся утром, первое его движение было подойти
к шкафу, и, к крайнему удивлению, он нашел, что все книги
стояли в надлежащем порядке и ни одной из них не было
вверх ногами!
— Но,— прервал я Двойника,— не сон ли это был?
— Весьма вероятно,— отвечал он.— По крайней мере
трудно было бы догадаться, какую цель имел старик, перевертывая книги поэта. Столь же непонятным кажется
и то, что книги потом сами собою пришли в прежний
порядок. Но такие происшествия нередко случаются с учеными, как уже я заметил прежде. Лет пятнадцать тому назад был я в Праге, где в одной из публичных библиотек
находится весьма много старинных книг. Один из чиновников,
служащих при библиотеке — человек немолодых лет, почтенный и ученый,— рассказывал мне, что между старинными
книгами есть рукопись тринадцатого века, содержащая в себе
заклинания, посредством которых можно призывать злых духов и повелевать ими. Для меня книга эта показалась весьма любопытною, и я попросил позволения взглянуть на нее,
что мне и было позволено. Но когда я, развернув листы,
захотел читать, то библиотекарь побледнел и задрожал всем
телом. «Сделайте милость, нс читайте!» — вскричал он прерывающимся голосом. «Зачем же?» — спросил я его. Старик
схватил меня за руку и повел поспешно в другую комнату.
Там он, тихо и беспрестанно оглядываясь, начал рассказывать следующее:
«Я служу при здешней библиотеке более тридцати лет.
При вступлении моем в настоящую должность был я еще
очень молод, не верил ничему и смеялся, когда рассказывали о привидениях и злых духах. Однажды случайно
попалась мне рукопись, которую вы теперь видели. Будучи
непривычен к странному образу письма, я с трудом разобрать мог заглавие; но как скоро удалось мне прочитать
его, то любопытство мое сильно возбудилось. Я с большим
старанием начал разбирать рукопись и наконец достиг
до того, что мог читать оную без затруднения. В одно
утро сидел я у стола; книга раскрытая лежала предо мною;
я дошел до того места, где страшными заклинаниями (от
воспоминания которых и теперь еще волосы у меня становятся дыбом!) злые духи вызываются из глубины ада и принуждены предстать читателю... Я уже сказал вам, что
нимало не верил привидениям, и потому принялся читать
заклинания. Не успел я прочитать одну строчку, как по
45
слышался мне тихий шепот, как будто кто-то говорил за
моими плечами. Я оглянулся... все утихло... Не видя ничего,
я продолжал чтение. Вдруг... опять послышался мне шепот,
и громче прежнего... Тут мне показалось, что он происходил от предмета, находившегося предо мною. Я поднял голову, и что же представилось моим глазам!.. На чернилице,
стоявшей на столе, сидело привидение, ростом не более
двух или трех вершков, с яркими глазами, с длинною бородою, с ногами, похожими на козлиные! Вы легко представить себе можете, до какой степени я испугался!.. Но,
несмотря на то,— не помня, что делаю,— продолжал я читать
далее. Чудовище, по мере чтения моего, становилось выше,
глаза более и более сверкали, ноги делались кривее... Мне
представилось, что маленькие рога начинали выходить из лба
его, покрытого морщинами... притом рот его протянулся до
ушей, а в глубине рта я заметил язык, похожий на змеиный,
и клыки, подобные кабаньим!.. От ужаса я захлопнул книгу и
вскочил со стула. В одно мгновение призрак исчез, и с того
времени я никогда уже не решался продолжать чтение рукописи».
— На лице старика,— продолжал Двойник,— во время
рассказа написан был страх, произведенный воспоминанием. Ни просьбами, ни обещаниями не мог я побудить
его раскрыть опять книгу. Я твердо уверен, что старик
меня не обманывал и что он сам верил тому, что рассказывал.
— Итак,— спросил я Двойника,— вы не сомневаетесь в
справедливости этого происшествия?
— Напротив того,— отвечал он,— я вижу в нем только
доказательство, что воображение человека, воспаленное напряжением, ему несвойственным, может представлять ему
вещи, которые в самом деле не существуют.
Между такими разговорами протекло довольно времени,
и стенные часы пробили двенадцать. При первом ударе
Двойник вскочил со стула.
— Пора теперь спать, почтенный друг,— сказал он
мне,— желаю покойной ночи. Завтра, если позволите, мы
опять увидимся.
— Повремените еще немного! — вскричал я.— Но, может
быть, полуночный час и для двойников время роковое?..
В таком случае я не смею вас задерживать.
— Помилуйте! — возразил он.— Это опять один из самых
странных человеческих предрассудков! Для нас часы все равны. Обыкновение разделять день на известное число частиц
46
вовсе не нужно для духов. Уверяю вас, что у нас не знают
ни Брегетов, ни Элликотов. Я оставляю вас теперь потому
единственно, что пора нам спать. Прощайте, до свиданья!
— Еще один вопрос, господин Двойник! Правда ли,
что вы вообще боитесь петушиного крика?
-- Вы меня смешите,— отвечал с громким хохотом Двойник,— может ли хриплый голос петуха устрашить кого-нибудь, не только духа? Но прощайте, спите покойно!
Новый приятель мой, не договорив речи, исчез... и последние слова его отозвались в ушах моих как будто издалека. Я последовал его совету и лег спать.
ВЕЧЕР ВТОРОЙ
На другой день, в обыкновенное время, то есть часу
в десятом вечера, Двойник, по данному обещанию, посетил меня опять. Беседа нового товарища моего необыкновенно мне нравилась; он час от часу становился
мне любезнее, и я откровенно в том ему признался.
— Если вы действительно меня любите,— отвечал он,—
то, конечно, не откажете в просьбе, исполнение которой
нисколько не может затруднить вас.
— Что вам угодно, любезный друг? — вскричал я.—
Чем могу служить вам? Говорите.
— Моя просьба, дорогой Антоний, состоит в том,
чтоб вы иногда, в длинные вечера, сообщали мне сочинения свои... мне известно, что вы сочиняете.
— Ах, почтенный Двойник! Признаюсь, что и я не без
греха... Но произведения пера моего недостойны вашего
внимания. Я писал сказки — маленькие повести...
— Нужды нет! — прервал меня Двойник.— Чтоб придать
вам бодрости, и я иногда расскажу вам, что знаю. Мои
повести будут не лучше ваших.
— Прекрасно! С этим условием охотно сообщу вам
мой запас.
— Итак, начинайте, любезный друг!
Я выпрямился, немного покашлял и начал читать следующее:
ИЗИДОР И АНЮТА
Уже неприятель приближался к Москве. Длинные ряды
телег, нагруженных тяжелоранеными воинами, медленно
47
тянулись в город с большой Смоленской дороги. Они с
трудом пробирались сквозь толпы жителей, с сокрушенным сердцем оставляющих любезный первопрестольный
град! Разного рода повозки, наполненные рыдающими женщинами и детьми, тихо подвигались к заставе; к верху
и к бокам, под козлами и на запятках привязаны были большие узлы. Лошади едва тащили тяжелые повозки; женская
заботливость, казалось, предусмотрела все, что нужно в долгую дорогу, но иные второпях забыли ларчик с бриллиантами, другие оставили в опустелом доме карманную книжку
с деньгами. На всех лицах написана была сердечная горесть,— на многих жестокое отчаяние. Никто не предвидел
грозы, внезапно нагрянувшей на Москву; никто заблаговременно не принял мер к спасению... Здесь мать, прижав
грудного младенца к трепещущему сердцу и ведя за руку малютку, едва начинающего ходить, влечется за другими, сама не зная куда... Там дряхлый старик, опираясь на посох,
с трудом передвигает ослабевшие ноги. Подходя к заставе,
он останавливается... еще раз взглядывает на родной город,
где думал спокойно умереть... Стесненная грудь его едва подымается, и горькие слезы, может быть последние, дрожат
в полупотухших очах!.. Купцы теснятся около лавок —
не для спасения своего имущества, нет: рука их, не дрогнув, уничтожает плоды многолетних трудов, чтобы не достались они врагу ненавистному. Ужаснее всего положение
тех, которые находятся в невозможности спастись! В безмолвном отчаянии взирают они на бегущих. Все вооружены;
старинные копья и бердыши, разнообразные сабли и кинжалы исторгнуты из оружейных, где обречены были на вечное
бездействие. Все готовы умереть за отечество; но чувствуют,
что не в силах ему помочь! Единственным утешением
служит им слабая надежда, что неприятель отражен будет от
Москвы. В самом деле, мысль, что древняя русская столица с величественными храмами, с святыми иконами достанется неприятелю,— эта ужасная мысль не может утвердиться в народе. Русское сердце не постигает, каким образом нечестивый супостат осмелится вступить в священные
царские чертоги!
Был первый час пополудни, когда въезжал в Дорогомиловскую заставу молодой кирасирский офицер. По всему видно было, что он скакал несколько верст во всю
прыть; вороной под ним конь покрыт был пеною. Солнце
в то время ярко светило с синей высоты, но лучи его не
отражались от золотого шишака и от серебряных лат,
48
покрытых густою пылью. Молодой офицер ехал по улицам,
кипящим от народа, и взоры его, казалось, кого-то искали
между спасающимися женщинами. Иногда рука его
останавливала коня,— он пристальнее всматривался в едущих, но, заметив ошибку свою, вновь понуждал коня и
продолжал путь большою рысью. При переезде чрез Еха-
лов мост лошадь его споткнулась.
— Бедный Феникс! — сказал офицер вполголоса.—
Любезный мой товарищ, этого за тобою не бывало! Как
худо плачу тебе за верную твою службу!
Он погладил Феникса по шее и опять вонзил окровавленные шпоры в разодранные бока усталого коня.
В Красном селе, в приходе Тихвинской божией матери,
стоял небольшой деревянный дом, который можно б было
назвать хижиною, если бы он не находился внутри города.
Молодой офицер поспешно соскочил с лошади и бросился в отворенную калитку, не дав себе даже времени привязать коня. На дворе верный страж дома — большая двор-
пая собака — встретила его с униженными ласками; но он
взбежал на крыльцо, не заметив даже доброго Бостона.
В доме все было безмолвно; только звук шпор и стук палаша,
ударяющего по ступеням, раздавались в тишине. Молодой
кирасир вошел в первую комнату, хотел идти далее... вдруг
отворилась дверь, и прекрасная девушка кинулась в его
объятия.
— Это ты, Изидор? — сказала она в радостном восторге.— Слава богу!
— Анюта, милая, дорогая Анюта! — вскричал Изидор,
прижимая ее к кирасу.— Зачем вы еще в Москве? Где матушка?
— Тише, Изидор, тише!.. Матушка нездорова... она —
очень больна.
Изидор вздрогнул.
— Больна! — произнес он дрожащим голосом.— Больна! И в такое время!.. Ты знаешь, Анюта...
— Знаю, мой Изидор,— отвечала Анюта со слезами,—
знаю, что неприятель будет в Москве, и отчаяние овладело
было мною... Но ты с нами, и я теперь спокойна!
Они услышали голос матери, зовущий Анюту. Изидор
хотел идти с нею, но она его остановила.
— Ради бога! — сказала она.— Подожди меня здесь,
Изидор! Матушка очень слаба; надобно ее приготовить
к свиданию с тобою.— Она ушла и оставила его одного.
Изидор, сложив руки, стоял среди комнаты, погружен
49
ный в тяжкую думу. Мысли, одна другой печальнее, одна другой ужаснее, теснились в его голове: неприятель
вступит в город, а его мать больна и не может спастись!
Анюта должна остаться с нею!.. Он любил мать со всею
горячностию доброго сына; но Анюта, сирота, воспитанная в их доме, была его невеста! Он содрогался от ужаса,
когда помышлял, что больная его мать будет в руках неприятеля; но кровь застывала в его жилах, самое мучительное чувство раздирало его сердце, когда представлялась ему Анюта, прелестная Анюта, во власти неистового
врага!
Анюта позвала его к матери. Старушка лежала в по-
стеле; бледность покрывала лицо ее. С трудом протянула
она к нему руку.
— Сын мой,— сказала она умирающим голосом,—
благодарю создателя, что мне довелось тебя еще раз
увидеть!.. Я не ожидала такого счастия. По крайней мере
теперь умру спокойно... Анюта останется не без защитника. Да благословит вас бог, мои дети!..
Старушка не в силах была говорить более. Изидор
орошал слезами ее руку; Анюта рыдала.
Изидор находился в мучительном положении. И мать
и невеста были успокоены его приездом, между тем как
самое жестокое недоумение терзало его душу. Нельзя
было и думать о спасении престарелой матери. Он готов
был вынесть ее на себе из города, но малейшее движение
причиняло ей нестерпимую боль и могло погасить едва
тлеющую искру жизни. С другой стороны, как решиться
оставить ее в руках неприятеля? И что тогда будет с Анютою?.. Время было дорого; он не мог не открыть своей
невесте чувствований, его тревоживших. Старушка после
приветствия, сделанного сыну, казалось, впала в забвение.
Изидор с Анютою стояли в той же комнате у окна и разговаривали между собою вполголоса, полагая, что мать не
слышит их.
— Анюта! — говорил Изидор.— Думала ли ты об опасностях, которым подвергается молодая девушка, оставаясь
в Москве? Знаешь ли ты, что при одной мысли о том холодный пот проступает по мне? Как? Моя Анюта в руках
неприятелей!.. Я бы лучше согласился...
— Любезный Изидор! — отвечала Анюта с невинною
улыбкою.— Я теперь совершенно спокойна, потому что ты
со мною.
Изидор страшился объявить ей, что служба, долг, честь
50
не дозволяют ему оставаться с ними; он сказал только,
тяжело вздохнув:
— Могу ли я защитить тебя против целой армии?
Охотно пожертвую жизнию; но когда меня не станет, что
будет тогда?..
Старушка услышала их разговор и велела подойти ближе к себе.
— Любезные дети! — сказала она слабым голосом.— О
чем вы беспокоитесь? Я стара, больна и чувствую, что
смерть приближается ко мне скорыми шагами. Оставьте
меня здесь и спасайтесь... Я не могу и не должна быть
причиною вашего несчастия. Поспешайте, любезные дети!
Благословение матери вашей и последняя молитва ее будут
вам сопутствовать!..
Изидор и Анюта упали на колени.
— Нет! — вскричали они оба в один голос.— Нет, матушка, мы вас не оставим!
Тщетно старушка их уговаривала; они были непреклонны.
— Если должно нам умереть,— сказала Анюта, обняв
Изидора,— то умрем вместе. Не страшна смерть, когда
она не разлучает нас с милыми!
Изидор оставил мать и невесту и вышел в другую
комнату. Долго ходил он взад и вперед большими шагами.
Со всех сторон угрожали ему неминуемые бедствия,
нигде не находил он спасения! Покинуть умирающую мать,
отдать на поругание милую невесту... какой сын, какой
любовник решился бы на то? Но бросить свои знамена
и остаться в Москве, когда присяга, честь и русская кровь
зовут его на поле брани... какая ужасная крайность для
русского воина! В исступлении отчаяния Изидор ломал руки,
скрежетал зубами и рвал на себе волосы... Наконец любовь
и ревность одержали верх над долгом и честию: Изидор
решился остаться...
Строгий читатель! Прежде, нежели холодное сердце твое
станет обвинять Изидора, вообрази себя на его месте —
и ты о нем пожалеешь!
Изидор возвратился к матери.
— Анюта! — сказал он.— Я отлучусь в свою комнату
на короткое время... Оставь меня одного; я скоро возвращусь.
Решившись оставаться в Москве, Изидор должен был
спрятать свой мундир, чтоб отдалить малейшее подозрение
неприятеля. В глубокой печали вошел он в комнату. Здесь
51
все напоминало ему о днях счастливой, беззаботной молодости. Он вздохнул, вспомнив, с какими блистательными
надеждами в последний раз оставил он родительский дом;
как разгоралась в нем кровь при мысли о славных бранях, его ожидавших! А теперь... куда девались очаровательные картины, освещенные восхитительною зарею молодости?.. Пусть и успеет он спасти умирающую мать от грозящей опасности; пусть удастся скрыть Анюту от алчных
взоров необузданного врага, но что ожидает его в будущем?
Бесчестие и раскаяние!..
Изидор подошел к шкафу, где лежала прежняя его
одежда, которую незадолго пред тем променял он на
блестящий кирасирский мундир. Медленно и дрожащими
руками снимал он с себя воинские доспехи. «Увы! —
думал он.— Когда все вооружаются для спасения царя и
отечества; когда все пылают нетерпением смешать кровь
свою с кровию ненавистного врага... я, как презрительный трус, должен бежать от сражения!.. Вечное посрамление покроет мое имя... постигнет меня смерть постыдная,
и никто не пожалеет о мнимом изменнике!..»
Изидор держал в руках палаш; медленно вынул он
острое железо из стальных ножен; в последний раз хотел
он взглянуть на верного товарища... Вдруг ужасная мысль,
как молния, опалила его душу!.. Он приставил острый конец
меча к бьющемуся сердцу... одно мгновение — и Изидор
избегнет бесчестия, которого страшится более смерти!.. Но
он вспомнил о матери, вспомнил об Анюте — и рука его
онемела. Он опять вложил палаш в ножны и откинул его
далеко от себя!
Уложив мундир свой, шишак и кирас в сундук, Изидор
понес его в сад. Там, под высоким кленом, который за
несколько лет пред тем был свидетелем его детских забав,
он глубоко зарыл сундук.
Когда засыпал он яму и прикрыл ее дерном, то ему
показалось, что он похоронил в ней честь свою... Почти
без памяти упал он на холодную землю... Долго лежал
он неподвижно; наконец токи слез вырвались из его очей
и облегчили стесненную грудь. Он встал и возвратился
в дом.
Анюта обрадовалась, увидев его во фраке.
— Теперь я не буду ежеминутно дрожать за тебя, любезный Изидор,— сказала она, обняв его нежно.— Бог
милостив; чего нам страшиться? Ведь и французы такие
же люди, как мы! Пойдем к матушке; приезд твой возвра
52
тил ей силы, и она рада будет, когда удостоверится, что ты
остаешься с нами.
Она взяла Изидора за руку и подвела к матери. Старушка в самом деле казалась гораздо бодрее прежнего.
Увидя детей своих, она немного приподнялась.
— Изидор! — сказала она.— Где ты так долго был?
— Матушка! — отвечала Анюта.— Взгляните на него...
Не правда ли, что ему пристало это платье? Теперь-то
я совершенно покойна. Пускай неприятель входит в Москву; храбрые воины наши недолго дадут ему здесь пожить!
Все опять будет по-старому, и мы будем счастливы!
— Храбрые наши воины! — повторил Изидор вздыхая.—
А меня не будет с ними!
Старушка пристально на него посмотрела и как будто
опомнилась от тяжелого сна.
— Изидор! — вскричала она.— Что я вижу? Зачем ты не
в мундире?
— Матушка! — отвечал Изидор дрожащим голосом.—
Я должен или оставить службу, или покинуть вас! Жребий
мой решен: я остаюсь с вами!
— Изидор! Благодарю тебя за твою любовь... Но отечество в опасности; оно тебя призывает — и голос его должен быть убедительнее слез матери.
— Матушка! Могу ли оставить вас обеих во власти
неприятеля?
— Сын мой! Я желала, чтоб ты закрыл мои угасающие
глаза... Но судьбы господа неисповедимы! Если ему угодно, то я готова умереть и одна.
— Матушка! Не раздирайте моего сердца... я решился!
— Решился? На что? На бесчестное дело?.. Ты решился
забыть долг, честь, присягу, данную тобою пред лицом спасителя твоего! Знаешь ли ты, какая участь ожидает воина,
оставившего свои знамена?
— Знаю, что меня ожидает смерть... Но я решился
умереть с вами или за вас!
— Я не принимаю от тебя этой жертвы. Смерть не
страшна, страшно бесчестие! Изидор, над нами бог! Он
нас защитит! А если суждено тебе умереть, то умри за
отечество.
— Матушка, любезная матушка! Пожалейте обо мне!
Что будет с Анютой?
— И над нею рука божия! Изидор, я чувствую, что
близок мой конец... не отравляй последних часов моей
53
жизни! Пусть закрою я глаза в отрадном уверении, что
единственный сын мой не обесчестил имени отца своего!
В продолжение сего разговора Анюта стояла как приговоренная к смерти. Румянец щек ее потух, и наполненные слезами глаза попеременно обращались то на Изидора,
то на старушку. Изидор упал на колени.
— Пусть будет по-вашему, матушка! — сказал он тихим голосом.— Иду готовиться к отъезду!
Анюта громко закричала и без памяти кинулась к нему
на шею.
Сие зрелище привело Изидора в исступление.
— Нет, матушка,— сказал он решительно,— нет! Не оставлю Анюты своей на поругание неприятелю... Вы не понимаете ужасного чувства, которое раздирает мое сердце
при одном о ней помышлении!..
— Сын мой! Ободрись, уповай на молитву матери и
на благость господню! Он нас не оставит. Но ты должен
возвратиться в армию!
— Нет, матушка! Это свыше сил человеческих...
— Изидор! — сказала мать с глубоким чувством.—
Веришь ли ты тому, что я тебя люблю со всею горячно-
стию матери, имеющей единственного сына — радость моей
жизни и утешение моей старости?
— Знаю, матушка.
— Так исполни последнюю просьбу мою, последнее мое
приказание: оставь нас под кровом божиим и возьми с
собою благословение матери. Но если ты презришь законы
чести,— если неприятель найдет тебя здесь в постыдном
бездействии, то сердце мое тебя отвергнет... Изменник своему
отечеству да устрашится проклятия умирающей матери!
Старушка приклонила голову к подушке и, казалось,
от сильного напряжения лишилась чувств. Изидор подошел к Анюте.
— Друг мой! — сказал он едва внятным голосом.—
Ты видишь, что мне должно ехать! Завтра, прежде нежели
заря осветит печальную Москву, я удалюсь от вас... Анюта! Не забывай, что ты моя!..
Потом он приблизился к матери.
— Матушка! — произнес он, приложив дрожащие уста к
ее руке.— Матушка, не кляните вашего сына! Я еду!..
Старушка не в силах была ему отвечать, но слабая
рука ее благословила любезного сына и потом, как мертвая,
опустилась на одеяло.
Бедная Анюта не говорила ни слова. Она не понимала
64
опасности, ее ожидающей; но сердце ее цепенело от страха при мысли о том, что Изидор ее оставит — ив какое
время!.. Она горько заплакала, когда он возвратился к
ним — в кирасирском мундире. Настал вечер, и Изидор
простился с матерью, которая от слабости едва могла открыть глаза, когда он поцеловал ее руку. Потом обратился он к Анюте и прижал ее к сердцу.
— Прости, мой друг! Прости, моя Анюта! Да сохранит
вас бог!
Анюта крепко обняла милого друга и долго не пускала
его из своих объятий.
— Мы еще увидимся, Изидор! — сказала она наконец.—
Мы еще раз простимся!
Изидор удалился в свою комнату. Ему не приходило
даже на мысль отдыхать; самые ужасные картины мучили
его воображение и терзали его сердце. Ему представлялось, как неприятели входили в город и рассыпались по
всем улицам, по всем домам. Пьяные солдаты врывались и
в его хижину; мать его тогда уже скончалась: бесчеловечные ругались над мертвым телом. Один из них сильным
ударом сабли отделил ее голову от охладевшего трупа...
Голова покатилась под стол, и седые волосы ее разостлались по окровавленному полу... Громкий смех раздавался в
его ушах!.. Из другой комнаты притащили плачущую Анюту...
Алчные взоры хищников бродили по юным прелестям русской красавицы. Один из них обнял ее дымящеюся от крови
рукою... Изидор ударил себя в грудь и подошел к открытому окну, чтоб рассеять мрачные мысли.
Ночь была прекрасная. Миллионы звезд ярким светом
отделялись от темной лазури неба. Все было тихо; ничего
в природе не предвещало бедствий, угрожавших древней
столице русского царства. Изидор пошел в сад; медленными
шагами приблизился он к ветвистому клену. «Увы!—подумал он.— Когда опять приду я под тень твою, какие чувства
тогда наполнять будут мою душу? И где тогда будет Анюта?..»
Он услышал за собою тихий шорох, оглянулся —
и Анюта бросилась в его объятия.
— Матушка почивает,— сказала она ему.— Любезный
Изидор, я останусь с тобою; ты, верно, не будешь спать,
и мои глаза также не смыкаются!
Они сели под клен на дерновую скамью. Анюта близко
прижалась к Изидору; прелестная голова ее покоилась
на его плече. Взоры их искали друг друга. Сердце Изи-
55
дора сильно трепетало; пламень протекал в его жилах;
уста их соединились в жаркий и продолжительный поцелуй...
Они забыли предстоящую им разлуку, забыли Москву в
руках неприятеля,— забыли все... кроме своей любви.
На другой день, когда утренняя заря начала разгонять
мрак ночи, Изидор и Анюта встали с дерновой скамьи.
Первые лучи восходящего солнца осветили живой румянец
стыдливости на щеках Анюты. Слезы заблистали на прекрасных ее голубых глазах.
— Изидор! И ты меня оставишь... теперь?
— Анюта! Мой милый друг, моя жизнь! Час разлуки
приближается; ты знаешь, что я должен ехать!
— Ах, Изидор! Что со мною будет?.. Но нет, я не стану
тебя удерживать. Поезжай с богом; я готова на все! И будь
спокоен, мой Изидор! Я лучше умру...
Изидор оседлал Феникса. Бодрый конь забыл уже вчерашнюю усталость; он грыз удила и бил копытом в землю.
Изидор привязал его к забору и пошел к матери. Старушка казалась погруженною в сладкий сон; ее дыхание едва
было приметно. Он тихонько приложился к ее руке.
— Если она проснется,— сказал он Анюте,— попроси ее,
чтоб она благословила своего сына!
Они вместе сошли с крыльца.
— Теперь прости, моя Анюта, может быть навеки!..
Прости — моя... на жизнь и на смерть моя!
— Будь спокоен, мой Изидор! — отвечала она.— Я
буду помнить свой долг; ты увидишь меня достойною
тебя, или — совсем меня не увидишь!
Они еще раз обнялись; слезы их смешались... Наконец
Изидор насильно вырвался из ее объятий и сел на нетерпеливого коня.
— Будь покоен, мой Изидор! — еще раз повторила Анюта. Он взглянул на нее в последний раз: в правой ее
руке блистал обнаженный кинжал; солнечные лучи играли на
гладком железе.
— Вот мой защитник,— сказала Анюта. Изидор печально
отвернул голову, ударил шпорами Феникса и вскоре скрылся
из глаз своей Анюты. Долго стояла она на том месте, где
он ее оставил. Наконец она опомнилась и возвратилась к
матери.
В первый раз после шести недель, показавшихся верному русскому народу шестью веками, зазвучали опять колокола на высоких башнях величественного Кремля. Вздрогнули сердца немногих жителей, остававшихся в Москве во
56
время нашествия французов; но, не зная, чему приписать
давно не слышанный звук, они не смели еще выйти из домов своих. Наконец гром пушек и ружейные выстрелы достигли их слуха. Волнуемые страхом и надеждою, отважились они показаться за ворота — и восхищенный взор их
встретил храбрых донцов, скачущих по улицам разоренной
столицы!.. Какое радостное чувство объяло их при виде своих
избавителей! Но мужественные русские воины не могли в полной мере разделять с ними этого чувства... Сердце их обливалось кровию, крупные слезы катились по смуглым их
ланитам при виде престольного града. «Это ли Москва белокаменная!» — думали они, и взоры их тщетно искали знакомых мест посреди дымящихся развалин! Груды кирпича
возвышались на месте огромных каменных палат; веселые
деревянные домики превратились в кучи пепла и углей, и
большие пространства внутри города являлись ужасными
пустынями.
Вдоль по Новой Басманной скакал молодой кирасирский офицер, сопровождаемый несколькими казаками. Вороной конь его несся во всю прыть прямо к Ехалову мосту.
На груди офицера блистал Георгиевский крест; рука его,
еще не исцеленная от тяжелой раны, была перевязана.
Он не обращал никакого внимания на развалины Москвы, на
разбросанные по улицам трупы... взоры его стремились прямо
вперед. На бледном лице его написаны были глубокая печаль и сильное нетерпение достигнуть желаемого места.
Таким образом промчался он чрез Ехалов мост и направил
путь к Красному селу. Подъехав к церкви Тихвинской
божией матери, он остановился, и изумленный взор его
блуждал по всем сторонам. Он соскочил с лошади и пристальнее стал всматриваться в место, на котором находился.
«Здесь,— думал он,— приходская наша церковь; тут — они
жили!..»
Тщетно, бедный Изидор! Тщетно будешь ты искать родительского дома! Свирепое пламя давно пожрало мирную хижину, где проводил ты счастливые дни юности, и осенние ветры успели уже развеять и пепел ее!.. Изидор долго
стоял как вкопанный, на одном месте. Вдруг громко вскрикнул он и бросился к высокому дереву, простиравшему к
нему длинные обгорелые ветви. Он узнал клен, осенявший
последнее свидание его с Анютою, и без чувств упал на землю. Бывшие с ним казаки подняли его и отнесли в дом,
уцелевший от общего пожара.
Там пролежал он целый день в беспамятстве. Когда
57
наступила ночь, он встал и, не сказав никому ни слова, вышел из дому и поспешными шагами пошел к своему саду.
Один из товарищей его последовал за ним. Изидор подошел к клену. В это время выглянула из-за тучи луна, и при
бледном свете ее видно было, что он с изумлением отскочил назад, как будто встретил что-то неожиданное! Потом он опять приблизился к дереву.
— Это ты, Анюта? — сказал он томным и вместе радостным голосом.— Отчего платье твое облито кровью?..
Где кинжал?
Ветер ударил в сухие ветви высокого клена — ив шорохе ветвей, и в свисте ветра товарищу Изидора послышался голос, отвечающий: «В моем сердце!..» Изидор глубоко вздохнул.
— Сядь подле меня, Анюта! — сказал он, опускаясь
на дерновую скамью.— Я рад, что тебя вижу...
Луна скрылась за облаками, ночная темнота опять
разостлалась по воздуху, и с нею водворилась глубокая
тишина. Молодой офицер закутался в плащ и решился пробыть всю ночь при Изидоре, чтобы в случае нужды подать
ему руку помощи; но Изидор был спокоен до самого рассвета. Тут встал он с скамьи и пошел с товарищем в дом,
не отвечая ни слова на все его вопросы.
Таким образом провел он несколько дней. Пока солнце
светило на горизонте, он спокойно оставался дома, не говорил ни с кем, но иногда улыбался, когда товарищи его ласкали и изъявляли участие в судьбе его... Но как скоро
наставала ночь, то невозможно было удержать его; он спешил к любезному своему клену. Товарищи, любившие храброго и доброго Изидора, попеременно стерегли его и всякий
раз слышали, что он с кем-то разговаривает. Иногда рылся
он между сгоревшими бревнами — остававшимися на том
месте, где прежде стоял дом — и как будто чего-то искал. Однажды (это было в четвертый день после вступления россиян в Москву) товарищ его, по обыкновению, подошел к
нему на рассвете, чтоб проводить его домой. Изидор неподвижно сидел под кленом... Глаза его еще были открыты,
но душа уже оставила бренное свое жилище. Окостеневшая рука его держала заржавленный кинжал... Перед ним
лежал полуистлевший человеческий череп...
— Признаюсь откровенно,— сказал Двойник, когда я перестал читать,— что мне не очень нравится конец вашей
58
повести. Для меня невероятным кажется свиданье Изидора с
тенью Анюты, о котором вы намекаете. Неужели вы в самом
деле думаете, что это возможно?
— Я думаю,— отвечал я,— что невозможного в таком
явлении ничего нет. Этого рода предметы так для нас отвлеченны, так далеко превышают человеческое понятие, что
безрассудно было бы отвергать их возможность. Правда, что
доказать возможность эту не менее трудно; но я столько
читал и слышал рассказов о людях, являвшихся после смерти, что в мнении моем некоторые из них по крайней мере
заслуживают вероятие. Один лейпцигский врач, например,
который и теперь еще жив, написал целую книгу под заглавием: «Явление жены моей после смерти». Сколько припомнить могу, явления эти начались тем, что, спустя
несколько дней по смерти докторши, страстно любимой мужем, гитара ее, висевшая на стене, сама собою начала
издавать звуки, а потом и целые аккорды. Когда доктор
приучился к этому необыкновенному явлению, то в один
вечер ему послышался голос покойницы... Сначала она произносила только по нескольку слов; спустя немного времени
стала с ним разговаривать, а кончилось тем, что и сама
показалась. Несмотря, однако ж, на любовь его к покойнице,
первое ее появление до чрезвычайности его испугало. Наконец он к тому привык: с нетерпением ожидал ее прихода,
разговаривал с нею часто и долго и советовался во всех
делах — одним словом, она по-прежнему осталась верным
ему другом и сохранила после смерти все те приятные качества, которые украшали ее при жизни, с тою только разницею, что не так уже была капризна. Доктор сообщил о
счастии своем нескольким друзьям, которые рассказали о
том своим знакомым,— и, таким образом, свидания его с
покойною женою сделались известны всему городу. Многие
смеялись над ним, иные сожалели, считая его помешанным.
Но когда доктор решился громко утверждать, что это точно
справедливо, и когда наконец напечатал книгу, где подробно описал явления жены своей, тогда нашлись люди,
которые ему поверили. И в самом деле, какую причину мог
иметь человек, известный и ученый, обманывать целый свет
и подвергать себя насмешкам неверующих, если бы действительно он не имел свиданий с покойницею?
— Ах, почтенный Антоний! — сказал Двойник.— Я не
буду спорить о возможности таких явлений, но, впрочем,
как неудачно выбран пример, вами предлагаемый!
— Почему неудачно? Я сам читал эту книгу; она на
59
ходится в моей библиотеке, и, если прикажете, я тотчас
вам ее принесу.
— Верю, верю, любезный друг! Книга эта и мне известна; я даже могу рассказать вам, чем кончилось самое
происшествие, а именно: доктор ваш лет пятнадцать сряду
утверждал, что жена ему является, и многие в том не сомневались,— как вдруг совесть его стала мучить, и он признался, что все рассказы его и книга, им напечатанная, не
что иное, как одна выдумка.
— Неужели? — вскричал я с удивлением.
— Точно так. Доктор и теперь живет в Лейпциге, но
лишился уважения публики и, верно, жалеет о прежних своих
рассказах.
— Помилуйте! Какую же он в том находил пользу?
— Для меня довольно понятно, как он был до того доведен. Сначала, может быть, для шутки или чтоб чем-
нибудь отличиться, рассказывал он свои чудесные приключения. Чем менее ему верили, тем более он утверждал,
что говорит правду; наконец, чтоб не прослыть лжецом,
решился даже напечатать о том книгу, полагая, что тогда
никто в справедливости сомневаться не станет.
— Поэтому если б доктор не вздумал чрез несколько
лет раскаяться в своей лжи, то многие остались бы в
твердом уверении, что докторша действительно являлась
ему после смерти?
— Без сомнения. Я уверен, что многие чудесные происшествия этого рода оканчивались бы таким же вздором,
если б выдумавший оные был столько совестен, как ваш
доктор.
— Согласитесь, однако, что случается много таких происшествий, в которых сомневаться никак нельзя. Мне пришел
теперь на мысль анекдот, и я вам перескажу его. В одной знатной шведской фамилии хранится перстень, который я
сам видел у графа Ст**, бывшего в конце прошедшего
столетия посланником в Париже. Это большой изумруд,
изображающий голову Юпитера и принадлежащий, без сомнения, к величайшим редкостям, дошедшим до нас от римлян.
Граф рассказывал мне следующее странное происшествие,
в котором перстень этот играл значительную роль.
Мать графа имела поместье в окрестностях Вены и
часто посещала столицу, где много у ней было знакомых
и родных. Однажды приехала она туда поздно ввечеру
и — не помню, по какой причине — не остановилась в занимаемом ею обыкновенно доме, а расположилась в одном
60
известном трактире. Графиня очень устала от дороги и потому, замкнув дверь, легла спать. Лишь только она уснула, как вдруг пробуждена была страшным шумом, как
будто происходившим под полом. Она приподнялась в постели и сквозь кисейную занавеску, при свете ночника,
увидела, что какой-то предмет, которого ясно разглядеть не
могла, медленно выходит из-под полу! Предмет этот поднимался выше, выше — и потом начал подходить к кровати...
Не успела она еще придумать, что ей делать, как занавесь
вдруг развернулась — и пред глаза графини предстала
женщина высокого роста, бледная как смерть и закутанная в белой окровавленной простыне!.. В первую минуту она
чрезвычайно испугалась. Собравшись, однако, с духом, подумала, что ей пригрезился страшный сон. Она протирала себе глаза, но тщетно: привидение стояло пред нею неподвижно! Графиня была женщина твердого духа и чистой совести и потому, перекрестясь, спросила:
— Чего ты от меня требуешь? Если могу тебе быть
полезною, говори; если же нет, исчезни и оставь меня в
покое!
— Обещайся исполнить мою просьбу,— отвечало привидение громко и внятно, хотя губы его не шевелились.
— Обещаюсь,— сказала графиня,— если просьба твоя не
заключает в себе ничего, противного святой вере и законам.
— Так выслушай меня. В жизни я была законная
жена трактирщика, хозяина этого дома. Изверг возненавидел меня и решился убить. Сегодня ровно минуло три
года, как, зазвав меня в эту самую комнату в глубокую
полночь, он запер дверь и из-под кровати вытащил большой
топор, заранее им приготовленный... Сначала я думала,
что он меня только стращает, и со слезами упала к его
ногам. Но он безжалостно разрубил мне голову... Потом
завернул тело мое в простыню и зарыл под полом. На
другой день он объявил, что не знает, куда я делась; плакал, сулил большие деньги тому, кто меня отыщет, и, таким
образом обманув всех, остался ненаказанным. Никто не
подозревает его в убийстве, а кости мои до сих пор остаются
непохороненными! Требую от тебя,— продолжал мертвец,
бросив грозный взгляд на графиню, внимавшую ему с ужасом,— требую, чтобы завтра же ты съездила к министру и
настояла, чтобы отрыли мои кости и предали их земле.
— Охотно исполню твое желание,— отвечала графиня.— Но скажи сама, можно ли это сделать? Чем докажу
61
я справедливость жалобы моей на твоего мужа? Положим
даже, что меня послушают, и вследствие того здесь под
полом действительно найдут человеческие кости, твой муж
тогда скажет, что он не знает, по какому случаю они тут
очутились.
— Объяви, что я сама тебе о том рассказала,— продолжало привидение.
— Хорошо, но кто мне поверит, и не сочтут ли слов
моих бредом?
Мертвец призадумался.
— Твоя правда,— сказал он по некотором молчании.—
Я тебя, однако, научу, что сделать должно, чтобы тебе
поверили. Изумрудный перстень твой известен всем здесь
в городе; министр сам видел его несколько дней тому назад. Кинь его ко мне в голову, и завтра, когда отроют
кости, он находиться будет в моем черепе.
При сих словах мертвец стал на колени, сбросил с себя
простыню и положил раздвоенную голову на постель. Графиня вздрогнула... однако, перекрестившись, снова ободрилась, сняла с пальца перстень, бросила его в раздвоенную
голову мертвеца и слышала, как он зазвенел, ударясь об
кость...
— Благодарствую,— сказало, вставая, привидение и исчезло сквозь пол.
Графиня, проснувшись на другое утро, все происшествие
это сочла за странную грезу. Увидев, однако, что перстня
нет на руке, она так живо вспомнила все подробности страшного видения, что не могла сомневаться в справедливости
оного. Немедленно поехала она к министру, объяснила все
дело и настояла, чтоб подняли пол в той комнате, где она
ночевала. Действительно найдены были там человеческие
кости и остатки полуистлевшей простыни, на которой видны
еще были следы запекшейся крови. Трактирщик нагло уверял, что ему неизвестно, чьи это кости. Но когда графиня,
по обещанию, данному мертвецу, обвинила его в убийстве,
рассказав в подробности все ею виденное, и когда в разрубленном черепе нашли изумрудный перстень, то он побледнел, упал к ее ногам и признался в своем преступлении. Кости в тот же день были погребены на кладбище,
а трактирщик вскоре потом получил должное наказание.
Анекдот, вами рассказанный,— возразил Двойник,—
довольно занимателен, и меня немного подирал мороз
по коже, когда описывали вы, как мертвец раздвоенную
голову свою подносил графине и как перстень зазвенел,
62
ударясь о пустой череп... Удивляюсь мужеству графини,
ибо редкий мужчина мог бы сохранить при этом хладнокровие; но позвольте предложить вам маленькое сомнение.
Анекдот ваш имеет большое сходство с повестью о двух
друзьях, о которых говорит Цицерон; помните ли вы ее?
— Не совсем,— отвечал я.
— И я не очень помню подробностей,— продолжал Двойник.— Но вот, кажется, как дело происходило: Цицерон
рассказывает, что двое аркадян путешествовали вместе и,
прибыв в Мегару, остановились в разных домах. Ночью
один из них увидел во сне, что товарищ его убедительно
просит прийти к нему на помощь, потому что хозяин трактира, в котором он остановился, намерен его зарезать. Видевший сон пробудился; но, считая явление это обыкновенным сном, не встал с постели и вскоре опять заснул. Товарищ
его снова ему является, заклиная его со слезами как можно
поспешить к нему.
— Хозяин уже приближается ко мне с большим ножом,—
говорил он ему.— Если ты не поспешишь, то будет поздно!..
Путешественник вторично просыпается, но никак не может решиться поверить сну и опять засыпает. Наконец
друг его является ему в третий раз и упрекает его в медленности.
— Теперь уже поздно,— говорит он.— Я зарезан и зарыт в таком-то месте. Постарайся по крайней мере, чтобы
убийца мой не остался ненаказанным и чтобы над телом
моим совершены были должные обряды.
Путешественник на другой день идет отыскивать друга своего, находит убитого в означенном месте и изобличает трактирщика в убийстве.
Не согласитесь ли вы со мною, что есть некоторое
сходство между этими двумя историями? — продолжал
Двойник.— Что до меня касается, то мне кажется, что происшествие с графинею Ст** не что иное, как подражание
Цицерону, раскрашенное, преувеличенное и приноровленное
к новейшему вкусу.
— В вашей воле верить или не верить,— отвечал я.—
Справок забирать теперь невозможно, ибо ни Цицерона,
ни графини нет на свете; но я могу представить вам
другой анекдот, который, кажется, менее подвергнуть можно сомнению. К известной английской фамилии Турбот, незадолго еще пред сим, принадлежал один молодой человек,
который имел друга, любимого им страстно. Оба они вели
жизнь развратную, ничему не верили и часто шутили над
63
смертию, полагая в безумном своем кощунстве, что человек не имеет бессмертной души и что одни слабоумные
могут страшиться будущей жизни! Однажды, сидя за полною
чашею пунша, они опять начали разговор об этом предмете и, воспаленные спиртовыми парами, дали друг другу
клятву в том, что первый из них, который умрет, непременно явится другому, буде, против чаяния, после смерти
удостоверится, что душа его бессмертна. Мысль эта столько
показалась им забавною, что они шутя написали собственною
кровию своею клятву, каждый на особом листе; потом разменялись листами и условились, что как скоро оставшийся
в живых возьмет в руки полученное им от умершего друга
обязательство, то сей последний непременно должен ему
явиться.
Чрез несколько лет после того друг Турбота умер. Тур-
бот сожалел о кончине его, но совсем забыл о клятвенном обещании. Прошло еще несколько лет,— как в один день
Турбот пошел к себе в библиотеку, чтоб отыскать книгу,
в которой имел нужду. Ои отворил шкаф и нечаянно положил руку на исписанный кровию друга его лист, остававшийся столь долгое время в забвении. Вдруг слышит
он голос, зовущий его по имени... Он оглянулся и увидел
покойника, стоящего за ним! Тут вспомнил он о взаимной
клятве и содрогнулся... Друг сказал ему:
— Турбот! Доколе не протекло еще время невозвратно, покайся, исправься! Я познал, что душа бессмертна;
познал, что есть возмездие делам нашим в той жизни:
тяжки настоящие мои страдания, но я заслужил их. Покайся, Турбот! Доколе время нс протекло невозвратно...
Вот что оставляю тебе в знак прежней дружбы и в память
нашего свидания!..
Сказав слова сии, он положил руку на дубовый стол,
стоявший пред ним, и исчез. Турбот подошел к столу и с
ужасом увидел, что толстая дубовая доска прогорела насквозь!.. Следы пяти пальцев несчастного друга его ясно
были видны. Турбот после сего явления совершенно переменил образ жизни своей, обратился к вере и чрез несколько времени скончался с чувствованиями и надеждами истинного христианина. Стол и доныне хранится в его семействе.
— Рассказанное вами происшествие весьма нравоучительно,— сказал Двойник,— и я очень далек от того, чтоб
отвергать его возможность. Милосердый создатель наш, с
нежностию отца пекущийся о человеке, бесчисленными и
64
различными путями ведет его ко благу. Я твердо уверен, что
допускаются им иногда таковые явления для предостережения заблужденных. Однако я убежден и в том, что из тысячи таковых анекдотов, рассказываемых и печатаемых, может быть, найдется не более одного справедливого. Заметьте, что почти все они один на другой похожи; происшествие с Турботом имеет разительное сходство с явлением,
о котором повествует Штиллинг в сочинении своем «Феория
духов». И там является мертвец, увещевает и предостерегает
знакомых, и, наконец, взяв в руку книгу, прожигает ее пальцами насквозь.
— Скажите мне, пожалуйста, какого вы мнения об этой
«Феорни духов»? — спросил я у Двойника.— Я давно о ней
слышал, но до сего времени она не попадалась мне в руки.
— Штиллинг,— отвечал Двойник,— был человек, достойный уважения по добрым качествам и пламенной ревности к распространению полезных и назидательных истин.
В сочинениях его, кои все стремятся к одной цели, вы найдете весьма много хорошего; но и он, как и многие другие, не во всем соблюдал меру, и потому-то иногда, особливо
в «Феории духов», вместо страха, который думает произвесть в читателях, возбуждает совсем другое чувство... Он
рассказывает, например, что в известном учебном заведении
в Брауншвейге, называемом Carolinum, за несколько лет
пред сим умер один профессор. Спустя немного времени после смерти его некоторые ученики заметили, что он по-прежнему прохаживается по спальным их комнатам в колпаке и
халате. Они об этом донесли начальникам, из которых
один, тоже профессор, никак не хотел тому верить. Однажды он вошел в спальню учеников и, в гордом неверии
своем, отважился громко просить покойника, чтобы он и ему
явился. Не успел он договорить приглашения, как действительно предстал пред него умерший, с строгим видом и грозя ему пальцем!.. Вы можете себе представить, как испугался наш профессор! Но послушайте далее. Ночью вдруг кто-
то будит профессора; он открывает глаза и видит пред собою
умершего! Покойник смотрит на него пристально и сердито.
Наконец профессор решается спросить, чего он хочет? Покойник не отвечает ни слова, но делает движение губами,
как будто курит трубку. Другого ответа он добиться никак
не.мог. В следующую ночь то же явление, те же вопросы
и то же непонятное движение губами. Профессор в отчаянии напрягает ум свой, и наконец ему приходит счастливая мысль спросить у покойника: не за тем ли он явля
3 Закат II
65
ется, что, может быть, его беспокоят долги, при жизни им
не заплаченные? Покойник головою делает утвердительный
знак, но продолжает шевелить губами.
— Не забыл ли ты заплатить за курительный табак?
Покойник повторяет тот же знак. На другой день забирается справка, и действительно находят, что усопший
остался должным одному купцу два талера и несколько
грошей за курительный табак. Кто опишет радость нашего
профессора, коему наскучили ночные явления! Он спешит
заплатить два талера и ввечеру ложится спать в сладкой
надежде, что уже ничто не потревожит его. Но не тут-то
было! В полночь опять является неугомонный покойник,
но так, что его не весьма ясно различить можно. Привидение сие, казалось, не так уже было плотно, как в прежние разы, и в некоторых местах было даже прозрачно.
Оно продолжает делать знаки и движения, так, однако же,
неясно, что бедный профессор никак разобрать их не может.
Он догадывается, что это должны быть еще какие-нибудь
долги; но какие? Вот до чего добиться трудно. По долгом
старании ему наконец удается разобрать, что знаки покойника имеют сходство с движением, какое делают, показывая
на стене китайские тени и продергивая разрисованные стекла сквозь волшебный фонарь. Он опять забирает справку
и узнает, что покойник, за несколько дней пред кончиною,
взял у одного приятеля два такого рода стекла, которых,
однако, не успел возвратить ему при жизни. Профессор
отыскал стекла, отдал их настоящему хозяину, и с того времени привидение перестало являться... Но чему вы смеетесь,
почтенный Антоний?
— Я воображаю себе,— отвечал я,— какая бы в России сделалась суматоха, если б у нас вошло в моду, чтобы
люди, не заплатившие долгов своих, являлись после смерти
и делали знаки!
— Надобно надеяться, что этого никогда не будет,—
сказал Двойник.— Но обратимся опять к Штиллингу. В
той же «Феории духов» вы найдете следующее рассуждение,
довольно любопытное и оригинальное. Упоминая о привидении, которое будто бы в некоторых знатнейших германских
домах является всегда перед кончиною одного из членов фамилии и которое в целой Германии известно под именем
Белой женщины (die weiße Frau), Штиллинг входит в ученые исследования, кто такая была при жизни эта Белая
женщина? Ему достоверным кажется, что Белая женщина —
не графиня Орламинде, как обыкновенно полагают, но ба
66
ронесса фон Лихтенштейн, из древней и знаменитой фамилии фон Розенберг, жившая в половине пятнадцатого столетия. Рассказав множество анекдотов об известном этом
привидении, которое, по словам его, является во многих
замках Богемии, также в Берлине, Бадене и Дармштадте, он
упоминает о том, что покойница при жизни была католического исповедания, и, наконец, заключает таким образом:
«Вероятно, Белая женщина после смерти переменила закон
свой; иначе она бы не показывала такого благорасположения к лютеранским фамилиям». Вообще Штиллинг, кажется,
не очень жалует католиков. В той же книге он повествует
о привидении, которое и поныне беспокоит жителей одного
дома. Они часто слышат, как оно ходит по чердаку, вздыхая и кряхтя, как будто на плечах у него тяжелая ноша,
которую оно сбрасывает иногда с таким шумом, что полы
в доме трещат и окна дрожат. Два раза некоторым из
жителей удавалось подсмотреть это привидение, и тогда
оно показывалось в виде старого капуцина с большою бородою и в довольно замаранном колпаке.
Однажды в доме этом скончался набожный и добродетельный ткач, и заметили, что в это время привидение
шумело более обыкновенного. Штиллинг увеличившийся
этот шум объясняет так: дух был монах. Известно, что
католические монахи уверены, что, кроме их веры, нет спасения; и потому духу чрезвычайно было досадно, что несмотря на то лютеранин в глазах его переселился в вечное блаженство, между тем как он, будучи католиком,
все еще не избавился от страданий!
Но всего страннее показалось мне следующее рассуждение: один из жителей того же дома, честный и добрый подмастерье, очень желал видеть капуцина. Однажды
услышав, что дух идет по лестнице на чердак, он тихонько пошел за ним и вдруг отворил дверь, обратясь лицом
к тому месту, где происходил шум. К сожалению, он не
успел его увидеть, а только показалось ему, что какая-то
серая тень скрылась в хворосте, лежавшем в углу. Подмастерье бросился туда, долго рылся в хворосте, однако ничего не нашел. Автор, выхваляя отважность подмастерья,
говорит, что он, будучи набожным человеком, конечно не
имел причины опасаться капуцина; но что между тем поступил весьма неосторожно, роясь в хворосте голыми руками, потому что испарения духа могли бы произвесть очень
опасные нарывы и болячки на руках...
— Полно! — вскричал я.— Полно, господин Двойник!
3'
67
Мне кажется, вы шутите! Возможно ли, чтоб это было напечатано в «Феории духов»?
— Прочитайте самую книгу,— возразил Двойник,—и
вы между многими весьма назидательными истинами найдете и рассказанное мною о задолжалом профессоре, о
Белой женщине и об отважном подмастерье. Но как бы то
ни было, обратимся к какому-нибудь иному предмету. Если бы кто подслушал сегодняшний разговор наш, то, верно
бы, подумал, что мы ни о чем ином говорить не умеем.
— И у меня,— сказал я,— от всех привидений, явлений
и мертвецов, которых сегодня ввечеру мы выводили на
сцену, голова закружилась. Я полагаю, почтенный Двойник, причиною этому то, что вы, с позволения вашего, сами принадлежите к числу привидений; и потому разговор
с вами неприметным образом, по какому-то магнетическому
влиянию, клонится к предметам отвлеченным. Я неоднократно замечал в течение жизни своей силу этого магнетического влияния, которое иногда берет над нами верх против
нашей воли. Так например, я знаю одного человека, в общем мнении слывущего не совсем глупым, но который
между тем ничем не заменяемою пустотою своею приобрел
такую неограниченную власть над всеми знакомыми,
что никто не в состоянии говорить с ним об ином чем, кроме как о пустяках. Сколько раз покушался я начать с ним
разговор о предметах хотя немного серьезных! Он молчит,
пучит глаза, смотрит на вас пристально и наконец до того
доведет вас глупым и ничего не говорящим взглядом своим,
что вы против волн от серьезного предмета перейдете к такому, который ему под силу, то есть к самому пустому.
— Весьма справедливо,— отвечал Двойник,— сделанное
вами замечание относительно магнетического влияния посторонних лиц; однако еще чаще встречаем мы людей, которых не постороннее влияние, но какая-то внутренняя сила принуждает говорить, кстати и не кстати, об одном и
том же предмете. Возьмите в пример Клита, нам обоим довольно коротко знакомого. Начните с ним разговор о чем
хотите... Будьте уверены, что он непременно сведет его на
любимый свой предмет, то есть на самого себя. Ему говорят о Наполеоне.
«И я умру подобною смертию,— отвечает он,— кто так,
как мы оба, привык работать головою, тот должен ожидать этого...»
Вы спрашиваете у него, слышал ли он новую певицу?
«Слышал,— отвечает он,— но что касается до меня, то я
68
никогда не имел приятного голоса, хотя, смею сказать, не
совсем невежда в музыке, и проч.»
Однажды как-то при нем заговорили о превращении
Навуходоносора в быка... «Вот уж тут,— подумал я,— не
к чему придраться Клиту». Поверите ли, что я ошибся, любезный Антоний? Мой Клит и тут нашелся...
«Что касается до меня,— сказал он с громким хохотом (ибо он всегда, и весьма часто один, смеется
остроте своей), что касается до меня, то я никак бы не горевал, если б меня превратили в быка. Я не люблю мясного,
да и по слабому здоровью употреблять его не могу: итак, я
кушал бы травку и не имел бы никаких забот!»
Он, верно, ожидал, что все закричат в один голос:
— Помилуйте, господин Клит! Какое бы это было для
земного шара несчастие, если б вы сделались быком!
Никто, однако, не сказал ни слова. Еще я знаю другого...
— Будем говорить о чем-нибудь ином,— прервал я Двойника.— Всех подобных чудаков не пересчитаешь; да и какое нам до них дело? Вы обещались, любезный Двойник, сообщить мне что-нибудь из ваших сочинений; я жду
этого с нетерпением. А между тем, чтобы не сбиться
нам опять на прежнюю дорогу, сделаем между собою условие,
что как скоро кто-нибудь на нас, по магнетическому влиянию вашему, заговорит о привидениях, то другой тотчас его
остановит.
— Весьма охотно! Итак, позвольте рассказать вам повесть, которую слышал я от одного полковника, по имени
Ф**. Я буду говорить собственными его словами. Однако...
не лучше ли оставить повесть эту до завтра?
— Как прикажете, любезный Двойник; и мне кажется,
что сегодня слишком уже поздно.
ВЕЧЕР ТРЕТИЙ
ПАГУБНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
НЕОБУЗДАННОГО ВООБРАЖЕНИЯ
В мае 17** года предпринял я путешествие в Германию
с молодым графом N..., которого отправил туда отец для
окончательного учения в славном Лейпцигском университете. Наши родители служили долгое время вместе на поле
чести и сохранили тесную связь дружбы в преклонных ле
69
тах; а потому я не мог отказать в неотступной просьбе
старому графу, который единственного наследника своего
имени и богатства желал вверить сыну испытанного и неизменного друга.
Сопутнику моему (я назову его Алцестом) было тогда
не более двадцати лет. Природный ум, развитый и украшенный добрым воспитанием, благородные качества души и
пленительная наружность оправдывали чрезмерную к нему
горячность отца и любовь всех, кто только знал его. Я пятнадцатью годами был старее его и чувствовал к нему привязанность старшего брата к младшему. В нем не были заметны недостатки и слабости, столь обыкновенные в молодых
людях, которые с младенческих лет видят себя отличенными
от других знатною породою и богатством. Одна только черта в его характере меня тревожила: Алцест, одаренный
пылким воображением, имел непреодолимую страсть ко всему
романическому, и, по несчастию, ему никогда не препятствовали удовлетворять оной. Он заливался слезами при чтении трогательного повествования; я даже неоднократно видел его страстно влюбленным в героиню какого-нибудь романа. Романические сочинения хотя еще не имели тогда таких страстных приверженцев и защитников, как ныне, но Ге-
тевы Вертер и Шарлотта и Жан-Жакова «Новая Элоиза»
были уже известны. Я знал, что несколько молодых людей
в Германии до того потеряли рассудок от чтения сего рода
произведений, что, желая подражать Вертеру, лишили себя
жизни! К тому же в то время отвлеченная и запутанная
философия Канта и Фихте была в большой моде в немецких университетах, и студенты, с свойственным неопытному
юношеству жаром, предавались занятию наукою, которую
и сами изобретатели едва ли понимали.
Итак, я не без основания опасался, что неодолимая
склонность Алцеста предаваться собственному слишком пылкому воображению может иметь пагубные для него последствия. Впрочем, меня некоторым образом успокоивало то,
что он с терпением принимал дружеские мои советы. Несмотря на разность лет, отношения наши друг к другу основаны были на взаимном уважении. Алцест весьма обрадовался, узнав, что я согласен быть ему товарищем. Ему
назначено было прожить два года в Лейпциге. Старый
граф полагал, что сын его соделается чрез то более достойным высокого назначения, на которое знаменитое происхождение, заслуги отца и несметное богатство давали
ему право. Итак, сколь ни трудно ему было расставать
70
ся с обожаемым сыном, но мысль, что разлука эта послужит к его пользе, превозмогла жестокую горесть родительского сердца,— и мы пустились в путь, снабженные
достаточным числом векселей и сопровождаемые
слезами и благословениями почтенных наших стариков.
Дорогою я не пропускал случая остерегать любезного
спутника моего от влияния неукротимого его воображения,
и мне казалось, что старания мои не совсем были безуспешны. Прибыв в Лейпциг, мы остановились в Гриммской
улице, в доме, приготовленном для нас банкиром Фр.**,
который предуведомлен был о нашем прибытии.
Первые две недели протекли в осматривании города
и прелестных его окрестностей. Банкир познакомил нас в
нескольких домах, коих хозяева, вопреки германской бережливости, любили принимать иностранцев. Читатель, которому
случалось быть в Германии, конечно, не оставил без замечания хорошего расположения немцев к русским. Итак, никому
не покажется удивительным, что молодой, пригожий и богатый русский граф, изъясняющийся на немецком языке, как
природный саксонец, вскоре обратил на себя внимание всего
небольшого, но многолюдного города. Алцест, имея в свежей
памяти мои советы, был вежлив и ласков со всеми; но, казалось, не примечал ни своекорыстной похвалы матушек, ни
приветливой улыбки дочек... Отвлеченные рассуждения важных и чинных профессоров и глубокие расчеты предприимчивых купцов занимали его более, нежели пленительные
взгляды и шутливые разговоры лейпцигских красавиц.
Подарив несколько времени бесшумным удовольствиям,
новыми нашими знакомыми нам доставленным, мы вскоре
принялись за настоящее дело, за которым приехали в Германию. Алцест с жаром предался ученым занятиям, и я
должен был отвлекать его от трудов излишних и для здоровья вредных.
Таким образом прожили мы около трех месяцев, как
вдруг заметил я в товарище своем незапную перемену. Он
сделался задумчив, убегал моего сообщества и охотно оставался один в своей комнате. Сначала приписывал я это
какой-нибудь болезни или огорчению; но Алцест на вопросы мои отвечал, что он здоров и счастлив, и просил о
нем не беспокоиться. Между тем задумчивость его час от часу увеличивалась. Когда казалось ему, что никто за ним не
примечает, вздохи вырывались из груди его — и я поневоле должен был заключить, что им овладела сильная
страсть к неизвестному мне предмету. Я внимательнее стал
71
за ним примечать, но долго не мог ничего открыть. С некоторого времени он совершенно отстал от всех наших знакомых. Целые дни просиживал, запершись, в своей комнате,
в которую неохотно впускал даже камердинера своего, находившегося при нем с самого младенчества. Не зная, каким
образом объяснить странное поведение Ллцеста, я решился
поговорить о том с верным Иваном; но и от него ничего
не узнал удовлетворительного. Старый слуга, покачав головою, сказал мне с печальным видом:
— Ведь то-то ip беда, что вы, господа, ничему не верите;
я боюсь, чтоб графа нашего не заколдовали! Лучше было
бы оставаться нам дома; здесь хорошему ничему не бывать.
Что мне оставалось делать при таких обстоятельствах?
Я любил Алцеста, как родного брата; трогательные просьбы почтенного отца его отзывались в душе моей; обязанность, принятая мною на себя, решительно требовала,
чтобы я не допускал молодого графа предаваться задумчивости, тем более меня беспокоившей, что я не понимал ее
причины. Я принял твердое намерение принудить его объясниться, хотя и не мог скрыть сам от себя, сколь таковая
мера была затруднительна при пылком и непреклонном нраве юного моего друга.
Однажды Алцест, отобедав вместе со мною, по обыкновению намерен был удалиться в свою комнату.
— Не хотите ли вы прогуляться? — сказал я ему.—
Погода прекрасная, и я поведу вас в такое место, которого вы еще не видали и которое вам, верно, понравится.
— Извините меня, любезный Ф...,— отвечал он,— я не
могу идти с вами. У меня болит голова; мне надобно отдохнуть! — Сказав это, он поклонился и ушел к себе.
Я почти предвидел этот ответ; но, решившись во что б
то ни стало принудить его к объяснению, я последовал
за ним немного погодя и остановился у дверей. Граф
ходил взад и вперед по комнате; потом подошел к окну,
тяжело вздохнул и опять начал ходить. Я слышал, как
он разговаривал сам с собою; казалось, будто он с нетерпением кого-то ожидал. Наконец он опять приблизился
к окну.
— Вот она! — воскликнул он довольно громко, подвинул
стул и сел.
В эту минуту я вдруг отворил дверь. Алцест вскочил
поспешно, задернул у окошка занавесь и спросил у меня,
закрасневшись и дрожащим голосом:
— Что вам угодно?
72
— Любезный граф! — отвечал я ему.— Я давно заметил, что вы от меня таитесь, и потому пришел спросить
вас о причине этой скрытности, этой холодности, к которым не могу привыкнуть.
Он смешался и по некотором молчании сказал, потупив
глаза в землю:
— Я люблю и уважаю вас по-прежнему, но,— прибавил он почти с сердцем,— мне нужно быть одному, и вы
крайне меня обяжете, если оставите меня в покое.
— Алцест! — возразил я.— Я поехал с вами из угождения к почтенному родителю вашему и по собственному
вашему желанию. Если мое присутствие вам в тягость, если я потерял вашу доверенность, то мне делать здесь нечего, и я немедленно отправлюсь назад. Прощайте! От всей
души желаю вам счастия!
Алцест взглянул на меня; он заметил, что глаза мои
наполнены были слезами, и доброе сердце его не могло
противостоять горести друга. Он зарыдал и бросился ко
мне на шею.
— Будь великодушен! — вскричал он.— Прости меня!
Я чувствую, что виноват пред тобою... Но с некоторых
пор я сам не знаю, что делаю, что говорю... Сильная
страсть, как бездонная пропасть, поглотила все чувства
мои, все понятия!
Я обнял его и просил успокоиться.
— Вы меня удивляете,— сказал я.— Мне неизвестен
предмет любви вашей; не понимаю даже, когда и где вы
могли с ним познакомиться, но надеюсь, что он достоин
Алцеста, и прошу мне открыть сердце ваше.
— Ах!— воскликнул он.— Это не девушка — это ангел.
Я не знаю еще ни имени ее, ни звания, но уверен, что и
то и другое соответствует такой небесной красоте! Вы увидите ее, любезный Ф..., и не будете удивляться моей
страсти.
Он подвел меня к окну, отдернул занавесь и, указав на
дом, находившийся против нашего, продолжал с восторгом:
— Взгляните и признайтесь, что вы никогда не видели
подобного ангела!
Глаза мои быстро последовали направлению его перста; я увидел сидящую у окна девушку и в самом деле изумился! Никогда даже воображению моему не представлялась такая красавица. Гриммская улица не широка, и я мог
рассмотреть все черты прелестного лица ее. Черные волосы
73
небрежными кудрями упадали на плеча, белые, как карарс-
кий мрамор. Ангельская невинность блистала в ее взорах.
Нет! Ни гений Рафаэля, ни пламенная кисть Корреджия —
живописца граций, ни вдохновенный резец неизвестного ваятеля Медицейской Венеры никогда не производили такого
лица, такого стана, такого собрания прелестей неизъяснимых! Она взглянула на нас и улыбнулась. Какой взгляд,
какая улыбка!
— Алцест,— сказал я,— не удивляюсь вашей страсти;
она для меня теперь понятна... Но скажите, как могли
вы победить любопытство ваше? Неужели не старались
вы узнать имя этого ангела?
— Ах! — отвечал он.— Я и сам недавно только узнал,
что она здесь живет, хотя прелестный образ ее давно уже
ношу в сердце. Месяца два тому назад я гулял за городом.
Вечер был прекрасный, и я, задумавшись, забрел довольно
далеко по большой дороге, ведущей в Алтенбург. Подходя
к небольшому лесочку, я услышал спорящие между собою
два голоса. Спор казался весьма жарким; но, не понимая
языка, на котором говорили, я не мог отгадать, о чем шло дело. Из нескольких слов я успел только заключить, что изъяснялись по-испански.
Вы знаете, что я не любопытен, однако в эту минуту
какая-то непонятная сила понуждала меня подойти ближе.
Я увидел сидящую неподвижно под деревом девушку с опущенными вниз глазами. Белый прозрачный вуаль, которым
покрыто было ее лицо, не мешал мне различить ее прелестные черты! Она, казалось, не принимала никакого участия
в том, что близ нее происходило, хотя, как я тотчас заметил, сама она была предметом слышанного мною жаркого
спора. Перед нею стояли два человека, которых голос и движения изъявляли величайшую ярость. Один из них — высокий мужчина в красном плаще, в треугольной шляпе —
хотел подойти к красавице; а другой — гораздо меньший
ростом, худощавый, в светло-сером сюртуке, в круглой серой
шляпе с широкими полями — не допускал его. Ссора кончилась дракою. Уже красный плащ повалил на землю своего
соперника, уже протягивал он руки к сидящей под деревом
девушке,— а я все еще стоял неподвижно, не зная, кому из
них предложить свою помощь... Наконец взор, брошенный
мною на лицо высокого мужчины, решил мое недоумение.
Вы не можете представить, какая адская радость выражалась в его физиогномии! Уже схватил он за руку девицу,
как вдруг я выскочил из-за кустов.
74
— Остановись! — закричал я ему по-немецки.— Я не позволю никакого буйства!
Неожиданное мое появление удивило их. Красный плащ
взглянул на меня пристально и громко захохотал.
— Пускай же эта госпожа сама решит, кому она хочет
принадлежать! — вскричал он. Я подошел к ней, почтительно поклонился и сказал:
— Ожидаю ваших приказаний, милостивая государыня!
Но она все молчала... Я догадался, что она была в обмороке.
Между тем мужчина в сером сюртуке подошел к своему
сопернику.
— Вентурино! — сказал он ему.— Теперь ты со мною не
сладишь. Советую тебе удалиться!
— Хорошо! — отвечал красный плащ.— Мы с тобою в
другой раз разочтемся. А вас,— продолжал он, обратясь
ко мне,— вас, граф, поздравляю от всего сердца. Рыцарский ваш подвиг в свое время будет достойно вознагражден.— Выговорив сии слова, он опять захохотал и скрылся
между деревьями. Еще несколько минут спустя после того
слышен был вдали громкий его хохот, который, не знаю
почему, вселял в меня ужас!
Оставшись с соперником красного плаща, я изъявил сожаление и сердечное участие свое в положении страдалицы.
— Это пройдет,— отвечал он, схватил ее под руку, и она
открыла глаза!
Я бросился к ней, но незнакомец не допустил меня
предложить ей мои услуги. Он сам вывел ее из лесочка, посадил в коляску и, сев подле нее, приказал кучеру ехать.
Я был в таком смущении, что не успел выговорить ни одного слова; когда же опомнился, то коляска была далеко.
Не знаю, обмануло ли меня воображение мое, но я заметил, что при прощании со мною на лице незнакомца
показалась та же адская улыбка, которая прежде поразила
меня в его сопернике.
Тут Алцест задумался и, помолчав несколько секунд,
продолжал:
— С этой роковой минуты образ неизвестного мне ангела не выходил из моей памяти. Не поверяя никому
чувствований сердца, я старался отыскать сам предмет
любви моей и как безумный бродил по всем лейпцигским
улицам. Но все поиски оставались тщетными. Единственное утешение мое состояло в том, чтобы, сидя в своей ком
75
нате, предаваться сладкой надежде когда-нибудь с нею
опять встретиться. Образ ее сопровождал меня повсюду;
но вместе с ним преследовали меня и пронзительный хохот красного плаща, и адская радость, изображавшаяся в
чертах человека в сером сюртуке! Представьте ж себе мое
восхищение, когда сегодня поутру, нечаянно взглянув на этот
дом, я увидел у окна свою прелестную незнакомку!.. Теперь я счастлив! Мы смотрим друг на друга... она мне кланяется и улыбается... и если самолюбие меня не обманывает, то она не совсем ко мне равнодушна.
Во все продолжение его рассказа я не спускал глаз с
сидящей против нас красавицы. Она как будто догадывалась,
что о ней говорят; от времени до времени приятная улыбка
являлась на ее розовых устах, но чем более я в нее всматривался, тем страннее она мне казалась. Не знаю сам отчего,
но какой-то страх овладел мною. Мне представилось, будто
из-за прекрасных плеч ее попеременно показывались две
безобразные головы: одна в треугольной черной шляпе,
другая в круглой серой с большими полями. Стыдясь сам
своего ребячества, я оставил Алцеста, дав ему наперед обещание употребить все силы для получения верных и подробных сведений о незнакомой красавице.
В тот день было уже поздно, и я отложил исполнение
своего обещания до другого утра. Между тем мне хотелось развлечь себя чтением, но глаза мои пробегали страницы, не передавая занятой незнакомкою душе моей ни одной мысли. Комната Алцеста была над моею спальней,
и ко мне доходили его вздохи, слышались шаги его; он
прохаживался по комнате и всякий раз у окна останавливался. Признаюсь, что и я не мог удержаться, чтобы
не подойти к окошку. Незнакомка все еще сидела на том
же месте. Удивительно, что прелестный образ ее и в моем
воображении никак не мог разлучиться с отвратительным
видом обоих соперников! Красный плащ и серый сюртук
мелькали перед моими глазами в глубине ее комнаты, которая вся была видна из моих окошек. Настала ночь; незнакомка закрыла окно и отошла. При свете зажженных
ламп я видел, что она села за арфу, и вскоре сладкие
звуки итальянской музыки очаровали слух мой.
Наконец я лег спать, однако с трудом мог заснуть.
В самом глубоком сне звуки арфы раздавались в ушах
моих и смешивались с пронзительным хохотом, о котором
рассказывал Алцест...
На другой день рано поутру я занялся собиранием све
76
дений о незнакомке и узнал без больших хлопот, что весь
тот дом занят приезжим профессором Андрони, прибывшим из Неаполя несколько недель тому назад. Андрони —
сказано мне — испросил от Университетского Совета позволения читать лекции чистой математики, механики и астрономии и вскоре откроет курс сих наук. Он, по-видимому,
человек весьма достаточный, ибо за наем дома платит
довольно дорого, а за несколько дней перед его приездом
прибыл сюда его обоз, состоящий из многих повозок и нескольких тяжело навьюченных мулов. Сам он живет в нижнем этаже, а верхний занимает дочь его, Аделина, девица
красоты необыкновенной. Она еще ни с кем не знакома,
и до сих пор ее видали только у окна. Впрочем, любимая его
наука механика, и комнаты дочери его, сколько могли заметить соседи, наполнены разными машинами и инструментами, привезенными из Неаполя в обозе.
С сими известиями я поспешил к Алцесту. Он кинулся
ко мне на шею и в радостном восторге воскликнул:
— Любезный Ф...! Мы будем слушать его лекции... мы
с ним познакомимся... мы сблизимся с Аделиною!..
— Очень хорошо,— отвечал я,— но не забудьте, что с
завтрашнего дня начинается ярмонка, которая продолжится
две недели, и что лекции господина Андрони, вероятно, не
прежде начнутся, как по окончании оной.
Мы решились, однако, того же утра идти к нему и просить о принятии нас в число его слушателей. Граф не мог
дождаться минуты, которая должна была познакомить нас с
отцом Аделины. Он тотчас хотел к нему отправиться, хотя не было еще семи часов утра, и я с трудом мог упросить его
дождаться удобнейшего времени. Он надеялся ее увидеть!..
Наконец ударил час, нетерпеливо ожиданный,— и мы почтительно постучались у дверей профессора. Андрони встретил
нас сам.
— Это он! — шепнул мне на ухо Алцест.
На нем был богатый малиновый халат с крупными
золотыми цветами. Маленький черный паричок с толстым
пучком придавал какой-то странный вид длинному орлиному
носу, огненным глазам и оливковому цвету лица, доказывавшим южное происхождение профессора. Он просил нас
сесть и тонким пронзительным голоском спросил:
— Что к вашим услугам?
Никогда не видывал я физиогномии более отвратительной. Какая-то язвительная насмешливость изображалась
в вздернутых ноздрях, в судорожном кривлянии рта и в писк
77
ливом его голосе. Но я вспомнил, что он отец Аделины,
и с учтивостию сказал ему, что он видит пред собою русских дворян, желающих посещать его лекции. Он внес имена наши в записную книжку, поблагодарил за честь и сделал
несколько вопросов о России. Казалось, что ему известно
было многое, до отечества нашего относящееся. Графа он
либо не узнал, либо притворился, что никогда его не видывал. Заметив, что я со вниманием рассматриваю все предметы
в его покоях, он с велеречием начал рассказывать о редкостях, вывезенных им из Египта, и о драгоценных манускриптах, найденных в развалинах Помпеи и Геркулана,
главный надзор над коими некогда вверен ему был его величеством королем Неаполитанским. Он обещался, когда
раскрыты будут ящики, привезенные в обозе, показать нам
остовы чудовищ, извлеченных из пучин Скиллы и Харибды
посредством изобретенной им машины. Будучи страстным
охотником до древностей, я слушал рассказы его со вниманием, хотя неприятный голос его такое же на меня произвел действие, какое испытываем, когда острым железом
царапают стекло или когда режут пробку.
Между тем Алцест, попеременно бледнея и краснея,
ожидал минуты, в которую удастся ему молвить слово об
Аделине. Потеряв наконец терпение, он прервал речь профессора и сказал ему дрожащим от робости голосом:
— Государь мой! Позвольте мне... я некогда имел счастие... дочь вашу... каково ее здоровье?..
Андрони обратил на него огненные глаза, и тонкие губы его скривились в улыбку.
— А, а! — вскричал он.— Так это вы? Понимаю!..—
Он призадумался и потом прибавил:— Я очень благодарен
вам за услугу, мне оказанную, но имею важные причины
желать, чтобы вы не сказывали никому о случае, нас познакомившем... Я вижу,— продолжал он, заметив замешательство графа,— что тайна эта уже не может называться
тайною, но если вы никому иному не вверили ее, кроме
вашего товарища, то я буду спокоен, когда господин полковник Ф... даст мне честное слово, что он никому о ней
говорить не будет.
Требование профессора крайне меня удивило и увеличило отвращение, которое я уже к нему имел. Все неприятные впечатления, внушенные мне рассказом Алцеста и
собственным моим наблюдением, как будто слились в одну
точку в душе моей, и я хотел было сказать ему наотрез, что
я тогда только соглашусь хранить его тайну, когда он объяс
78
нит причины, побуждающие его к такому требованию. Но
Алцест предупредил меня; страшась прогневать отца Аделины, он поспешил его уверить, что я с удовольствием удовлетворю его желание,— и я принужденным нашелся дать ему
честное слово. После того мы откланялись, и Андрони проводил нас до сеней, повторяя неоднократно, что посещения
наши всегда будут ему приятны.
Мы оставили дом его с разными чувствами. Алцест не
помнил себя от восхищения, что успел проложить себе путь
к сближению с Аделиною. Я же, напротив того, был задумчив и печален. Какое-то унылое предчувствие наполняло
мою душу, хотя и сам я не понимал, отчего оно во мне
возродилось. Странная фигура и отвратительное лицо профессора, неприятный его голос и злобная усмешка сливались
в воображении моем с сверхъестественною красотою его
дочери и с адским хохотом красного плаща... и все это
вместе составляло смесь, от которой я чувствовал, что волосы мои подымались дыбом!
Возвратившись домой, я старался успокоиться, смеясь
сам над собою. «Андрони,—думал я,—не что иное, как
чудак, каких на свете много. Он человек ученый, и это
достоинство может заставить забыть неприятный голос его.
Красный плащ, вероятно, какой-нибудь пренебреженный любовник; а Аделина... Аделина — прелестная девушка, в которую до безумия влюблен Алцест... Во всем этом ничего нет
удивительного».
С сими размышлениями я подошел к окну и опять увидел Аделину. Она взглянула на меня, поклонилась мне
с неизъяснимою приятностию,— и печальные предчувствия
мои исчезли как сон?
На другой день мы опять явились у Андрони. Он принял нас, как старых знакомых, и, побеседовав немного
с нами, сам предложил пойти в верхний этаж. Легко представить себе можно, с каким восхищением Алцест принял такое предложение! Казалось, что профессор это заметил; он обратился ко мне и сказал с усмешкою:
— Вы теперь не увидите моей дочери; она никогда не
жила в большом свете и потому чрезвычайно застенчива.
Алцест тяжело вздохнул и печально взглянул на меня.
Я понял причину его печали и сам не мог не пожалеть о
том, что не увижу Аделины. Андрони, по-видимому, не замечал нашего огорчения. Он показывал нам модели разных машин и объяснял в подробности их действия. Большие органы
с флейтами обратили на себя мое внимание. Андрони дер
79
пул за снурок, и прекрасная музыка загремела. Я не мог
довольно похвалить верность игры и приятный тон инструмента.
— Это ничего не стоящая безделка! — сказал мне Анд-
рони.— Органы эти составлены мною в часы, свободные
от важнейших занятий.
В это время очаровательная гармония раздалась в ближней комнате, в которую дверь была заперта.
— Моя Аделина играет на арфе,— сказал профессор,
обратясь к нам с улыбкою. Мы слушали со вниманием.
Никакое перо не в состоянии изобразить всей обворожительности, всей прелести игры ее. Я вне себя был от удивления! Алцест просил профессора позволить ему послушать
вблизи небесную игру его дочери.
— Аделина моя крайне стыдлива,— отвечал Андрони,—
похвалы ваши приведут ее в замешательство, и я уверен,
что она не согласится играть в вашем присутствии. К тому же,— прибавил он,— она не ожидала вашего посещения и теперь еще в утреннем уборе. В другой раз ей приятно будет с вами познакомиться.
Пробыв еще немного, мы распрощались с хозяином и возвратились домой, очарованные талантами Аделины.
Вечером посетил нас профессор. Он одет был по-старинному, однако ж весьма богато. Тот же черный паричок
прикрывал его голову, но кафтан был на нем желтый бархатный, камзол и исподнее платье глазетовые, и маленькая
стальная шпага висела на левом его бедре.
— Я пришел предложить вам погулять по ярмон-
ке,— сказал он.— Дочь моя никогда не видала такого многолюдства, и вы меня обяжете, если не откажетесь прогуляться с нами.
Разумеется, что мы с удовольствием согласились на его
предложение.
Бывали ль вы в Лейпциге во время ярмонки, любезный читатель? Если нет, то трудно мне будет изобразить
вам картину, представившуюся глазам нашим, когда мы подошли к площади Неймарк. Бесчисленное множество людей
обоего пола и всех состояний в разных видах и одеяниях толпились по улицам; нижние этажи всех домов превращены были в лавки, которых стены и окна испещрены
развешанными хитрою рукою разноцветными товарами. На
площади так было тесно, что мы с трудом могли пройти по
оной.
Здесь взгромоздившийся на подмостки шарлатан, в
80
шляпе с широким мишурным галуном, в кафтане, вышитом
золотыми блестками, выхвалял свои капли и божился, что они
исцеляют от всех болезней. Далее, на таких же подмостках, коверкались обезьяны. Тут вымазанный смолою и осыпанный пухом и перьями проказник выдавал себя за дикаря,
недавно вывезенного из Новой Голландии; а там — большой
деревянный слон удивлял зрителей искусными движениями
хобота. Со всех сторон, на всех европейских языках купцы
предлагали нам товары. Увлеченные толпою, которая пробиралась в один из домов, окружающих площадь, мы вошли в
залы, где щегольски одетые, расчесанные и распудренные игроки с бриллиантовыми перстнями на всех пальцах метали
банк. В Лейпциге правительство на время ярмонки отступает от строгих правил и позволяет азартные игры.
Алцест, в начале прогулки нашей, желая идти с Аделиною, подал ей руку; но Андрони предупредил его, подскочив с торопливостию, и сам схватил ее за руку. Такая
неучтивость профессора сильно огорчила графа. Мне самому
она показалась странною, хотя, впрочем, я с удовольствием
видел заботливость Андрони удалять графа от своей дочери.
Странность профессора, красота Аделины и возрастающая к
ней страсть моего друга делали неприятное на меня впечатление; но вскоре необыкновенное зрелище, представлявшееся глазам моим со всех сторон, привлекло на себя
все мое внимание. Занимаясь рассматриванием разнообразных предметов, находившихся предо мною, и оглушенный
шумом толпившегося около нас народа, я не замечал, что
глаза всех обращены были на нас. Громкие восклицания нескольких студентов, восхищавшихся красотою Аделины, наконец вывели меня из рассеянности: я взглянул на прелестную нашу спутницу. Она шла подле отца с потупленными
вниз очами, не обращая ни малейшего внимания на то,
что вокруг нее происходило. Можно было подумать, что
она ничего не видит и ничего не слышит. Меня удивило
такое равнодушие в молодой прекрасной девушке.
Распростясь с Андрони и его дочерью и возвратясь
домой, граф с восхищением говорил об Аделине.
— Вы, кажется, совсем не разговаривали с нею?—
спросил я у него.
— Признаюсь,— отвечал он,— я почти уверен, что бедная Аделина весьма несчастна! Отец ее более похож на
тирана, нежели на отца. Нельзя по крайней мере не подумать этого, видя столь непонятную робость и молчаливость.
Беспрестанная ее задумчивость огорчает меня до глубины
81
сердца. При прощании я спросил у ней, весело ли ей было
на ярмонке, и, не получив никакого ответа, повторил мой вопрос.
— Аделина! Что же ты не отвечаешь, когда говорят
с тобою? — вскричал профессор и с сердцем дернул ее за
руку. Она вздрогнула, робко на меня посмотрела и вполголоса сказала:
— Весело.
— При всем том, любезный Ф..., я имею причины надеяться, что она ко мне неравнодушна. Во время прогулки нашей она иногда взглядывала на меня с таким
чувством, с таким выражением!..
— Алцест! — прервал я его.— Вы чувствительны и добродетельны; скажите откровенно, какие, думаете вы, будет
иметь последствия эта страсть, которая совершенно вами
овладела?
— Какие последствия? — вскричал он с жаром.— Можете ли вы ожидать иных, кроме женитьбы, если я ей
понравлюсь и если отец ее на то будет согласен?
— А ваш родитель?
— Батюшка меня любит и не пожелает моего несчастия. Союз с таким ангелом, как Аделина, для меня
не унизителен, не бесчестен. Она могла б быть украшением трона!
Я замолчал, зная, что противоречие не произведет ничего доброго, а напротив, еще больше раздражит пылкого
молодого человека. Но с первою почтою счел я обязанностью известить обо всем старого графа.
День ото дня знакомство Алцеста с профессором Анд-
рони делалось теснее. Я также посещал его довольно часто. Старик принимал нас ласково, но никогда не случалось нам наслаждаться сообществом его дочери. Он всегда
находил какой-нибудь предлог, которым старался извинить
ее отсутствие; то она, по словам его, не совсем была здорова; то занималась необходимыми по хозяйству делами,—
одним словом, он, очевидно, хотел, чтоб мы не были вместе
с нею. Казалось, что он опасался, чтоб мы не открыли какой-нибудь важной для него тайны. Признаюсь, мне неоднократно приходило на мысль, что Андрони не отец Аделины, а ревнивый опекун, влюбленный в свою воспитанницу.
Между тем Алцест ежедневно проводил целые часы у
окна и любовался Аделиною, которая, по-видимому, также
находила удовольствие на него смотреть. Вскоре они завели
взаимные между собою сношения знаками. Алцест уверен
82
был, что она к нему неравнодушна, и любовь его еще
более от того воспламенилась. Тщетно просил я его не предаваться так слепо страсти своей: советы мои не имели никакого действия!
И я, с своей стороны,— хотя, впрочем, совершенно с
другою целию,— часто наблюдал за Аделиною, когда она сидела у окна. Я не мог не удивляться необыкновенной
красоте ее; но, при всем том, я видел в ней нечто странное,
нечто такое, чего никак не мог объяснить себе. На ее лице
ни одного раза не заметил я ни выражения восторга, ни
движения любопытства — одним словом, никакой страсти.
Такая холодная нечувствительность, так сказать, отталкивала мое сердце и в иные минуты производила во мне
невольный страх, которого я внутренно стыдился. Что касается до Алцеста, он не видал в ней никаких недостатков. Он любил ее так горячо, что каждый взгляд ее, каждое движение приводило его в восторг.
Таким образом провели мы несколько недель, и страсть
Алцеста перестала быть тайною. Все в городе говорили о
близкой женитьбе молодого, богатого русского графа на дочери профессора Андрони, а я с нетерпением ожидал ответа на письмо, отправленное мною в Россию.
Однажды, рано поутру, пошел я к профессору, чтоб
попросить у него объяснения одной трудной математической
задачи. В нижнем этаже дверь была заперта, и я, считая
себя домашним человеком, решился идти вверх, надеясь
там найти его. В первой комнате не было никого, и я пошел далее. Вообразите ж себе, каким был я объят ужасом,
когда, отворив двери, увидел Аделину, лежавшую без чувств
на диване!.. Голова ее, опустившаяся с дивана, лежала на
полу; длинные черные волосы, не связанные и ничем не придерживаемые, совершенно закрывали прекрасное лицо ее.
Мне показалось, что в ней нет ни малейшей искры жизни.
Я громко закричал, и в самое это мгновение вошел Андрони...
— Скорей пошлите, бегите за доктором! — кричал я
ему.— Дочь ваша умирает, а может быть, уже...
Андрони хладнокровно подошел ко мне, взял меня за руку
и отвел далее от дивана.
— Государь мой! — сказал он.— Мне неизвестны русские
обыкновения, но полагаю, что у вас так же, как у нас, в
Италии, молодому человеку не позволяется входить без спросу в комнату молодой девицы.
Равнодушие его меня взбесило.
83
— Господин профессор!—отвечал я.— Насмешка эта
вовсе не у места. Удивляюсь хладнокровию вашему при виде
умирающей дочери... Позвольте вам, однако, заметить, что
близкое наше знакомство дает мне некоторое право принимать участие в положении Аделины.
При сих словах какая-то язвительная насмешливость
выразилась в резких чертах Андрони.
— Если участие ваше основано на дружеском ко мне
и дочери моей расположении,— сказал он,— то вы, конечно,
правы. Но в таком случае я должен вам объявить, что
беспокойство ваше напрасно. Дочь моя здорова: это ничего
не значащий припадок.
Он приблизился к ней, схватил ее за руку и громко
назвал по имени. Она в тот же миг открыла глаза и взглянула на меня как будто ни в чем не бывало!.. Андрони
вывел ее в другую комнату, затворил дверь и возвратился
ко мне.
— Я надеюсь, что вы теперь успокоились? — сказал он,
усмехаясь.
Я был в крайнем замешательстве и не знал, что отвечать. Мы раскланялись с профессором, он проводил меня
до дверей, и мне показалось, что он запер за мною задвижкой. Я невольно остановился и стал прислушиваться. Все
было тихо и безмолвно; потом услышал я какой-то странный
шум, как будто заводят большие стенные часы. Опасаясь, наконец, чтоб Андрони не застал меня подслушивающего у
дверей, я поспешно сошел с лестницы. Выходя на улицу, невольно взглянул я вверх и, к удивлению моему, увидел
Аделину, сидящую у окна в полном блеске красоты и молодости!
Необыкновенная, можно сказать, чудная сцена сия
сделала глубокое на меня впечатление. Я решился рассказать о ней графу. Не успел я начать мое повествование, как вошел к нам Андрони. Я замолчал.
— Вы, конечно, рассказываете графу о болезни моей
дочери? — спросил он улыбаясь.— Господин полковник,—
продолжал он, обратясь к Алцесту,— принимает самое живое участие в моей дочери! Маленький обморок, ничего не
значащий припадок, которому часто бывают подвержены
молодые и слишком чувствительные девушки, крайне
испугал его. Хочу, однако, доказать вам, что дочь моя вне
всякой опасности, и я, нарочно для этого, пришел вас попросить сделать мне честь пожаловать ко мне на бал сегодня вечером.
84
— На бал? — вскричали мы оба в один голос.
Чтобы понять, от чего произошло наше удивление, надобно заметить, что, кроме нас, Андрони не принимал никого в дом свой. Несмотря на все старания студентов и других молодых людей, никому, кроме нас, до сих пор не посчастливилось увидеть ее иначе, как только в окошко;
и потому, невзирая на то, что мы уже некоторым образом
привыкли к странностям профессора, намерение его —
дать бал — изумило нас. Андрони не мог не заметить этого.
— Приглашение мое вас удивляет? — сказал он нам.—
Но я давно желал познакомить дочь мою с здешним модным светом. Пора отучать се от робости, не приличной ее
летам. Прощайте; спешу заняться приготовлениями к балу.
Вечером мы увидимся!
Пожав нам руки, он поспешно удалился.
Мы остались одни. Тщетно старался я внушить Ал-
цесту недоверчивость к Андрони и умолял его быть осторожным. Я, к крайнему огорчению, увидел, что советы и наставления мои были ему неприятны. Когда рассказывал я
ему, в каком положении застал Аделину, на лице его изобразилось сильное беспокойство, но он ничего не находил
необыкновенного ни в поступках старика, ни в внезапном выздоровлении дочери. Мысль, что он весь вечер проведет с Аделиною, совершенно овладела его воображением, и
он не обращал никакого внимания на слова мои.
Настал вечер, столь нетерпеливо ожиданный графом,
и мы отправились в дом профессора, который, в праздничном бархатном кафтане своем, встретил нас с веселым видом. Вошед в залу, я не мог не удивиться искусству, с
каким успел ее убрать Андрони в такое короткое время.
Все было странно, но все прекрасно, все со вкусом. Глаза
наши при входе не были поражены ярким светом ламп и
многочисленных свечей. Алебастровая огромная люстра, висевшая посреди комнаты, изливала томный свет, как будто
происходивший от сияния луны. Вдоль по стенам стояли померанцевые деревья, коих промежутки украшены были расставленными в фарфоровых вазах цветущими растениями,
наполнявшими воздух благоуханием. Казалось, что профессор для украшения залы своей истощил все оранжереи
Лейпцига и окрестностей. На зеленых ветвях больших померанцевых дерев висели разноцветные лампы, которых блеск
сливался с сиянием от алебастровой люстры, и озаренные
сим чудным светом двигающиеся по зале в разных направлениях гости, у которых на лице написано было любо
85
пытство и удивление, придавали всему вид чего-то волшебного.
Собрание было весьма многочисленно, несмотря на то
что внезапное и неожиданное приглашение Андрони совершенно было противно германскому этикету. Почти ни
один из гостей не был знаком с хозяином; но никто не
отказался от бала: все любопытствовали видеть вблизи
прелестную Аделину, о которой рассказывали в городе
чудеса.
При входе в залу глаза графа искали ее между лейпцигскими красавицами, но ее тут не было. Профессор объявил
гостям, что дочь его скоро будет, и просил начать танцы, не
дожидаясь ее прибытия. Все с участием спрашивали об ее
здоровье и получили в ответ, что она занята необходимыми делами, по окончании которых непременно явится. В другое время дамы, удостоившие профессора посещением своим,
вероятно, обиделись бы тем, что хозяйка их не встретила;
но тут, где все было необыкновенно, где все носило на себе
печать какой-то чудной странности, никто не изъявил неудовольствия за такую неучтивость. Танцы начались. По тогдашнему обыкновению, в Германии каждый кавалер при открытии бала избирал даму, с которою уже танцевал в продолжение всего вечера. Алцест, который во весь тот день занимался сладостною мечтою, что Аделина будет его дамою,
обманутый в своей надежде, с печальным видом сел под
померанцевое дерево и с рассеянностию смотрел на веселящихся гостей.
Бал начался менуэтом, а за ним следовали и другие
танцы. В средине одного шумного экосеза вдруг отворилась дверь и вошла в залу Аделина... Она одета была
весьма богато, в испанском вкусе. Малиновое бархатное
платье, вышитое золотом, богатый кружевной воротник, которого частые складки прикрывали высокую грудь ее, драгоценные каменья, украшавшие ее волосы, давали ей вид
величественный и важный. При входе она с приятностию
поклонилась. Андрони взял ее за руку и повел к стулу; а
Алцест, увидев ее, в восторге своем не мог удержаться
от громкого восклицания. Все оглянулись... гости забыли об
экосезе и обступили Аделину, которая, с приметною робос-
тию встав с своего стула, кланялась на все стороны.
Не могу изобразить впечатления, произведенного ее появлением во всем собрании! В самом деле, она блеском
красоты своей помрачала всех лейпцигских красавиц. Дамы перешептывались друг с другом; мужчины с завистию
86
посматривали на Алцеста, который между тем пожирал ее
глазами. Профессор с трудом мог уговорить гостей окончить
начатый экосез. Сам он ни на минуту не отходил от Аделины,
которая на делаемые ей вопросы отвечала едва внятным
голосом. Андрони часто говорил за нее, приписывая чрезмерную робость ее незнанию немецкого языка и непривычке находиться в таком многолюдном обществе. Что касается до меня,— мысль о ревнивом опекуне опять пришла мне
на ум... и хотя, с одной стороны, мысль эта внушала мне
отвращение к Андрони, но, с другой — она служила мне
некоторым утешением, потому что горячность профессора к
Аделине считал я оплотом против любви графа.
Все гости, не исключая меня, желали, чтоб Аделина танцевала, и все приступали к Андрони... Он с замешательством
извинялся, говоря, что дочь его, родившаяся в Южной Европе и воспитанная в уединении, не имеет понятия о танцах,
употребительных в Германии. Долго просьбы наши были безуспешны. Наконец, убежденный нашею докучливостию, профессор перед самым концом бала объявил нам, хотя, впрочем, с видимою досадою, что, для удовлетворения желания таких дорогих гостей, дочь его протанцует фанданго.
Испанская пляска сия в тогдашнее время еще мало была известна в Германии; многие из гостей даже никогда не слыхивали ее названия, и любопытство собрания от того увеличилось. Загремела музыка, гости стали в пространный
круг, и Аделина начала пляску свою.
Неоднократно случалось мне во время пребывания моего
в Гишпании видеть самых лучших танцовщиц, но я должен признаться, что ни одна из них не танцевала с таким искусством, как Аделина! Прелестные ножки ее двигались с неимоверным проворством; все движения тела были
живописны. Но при всем том мне показалось, что в ней недостает той живости, той непринужденности, без которых самый искусный балетмейстер сходен с бездушною куклою,
прыгающею на пружинах. Несколько раз в продолжении
пляски Аделина сбивалась с такта и столь явно, что Андрони за нужное счел сложить вину на музыкантов, приписывая это их неведению и неискусству. Пляска кончилась
при громких рукоплесканиях восхищенных зрителей. Аделина, казалось, весьма устала; она чрез силу дотащилась до
стула с помощию отца, и Андрони довольно ясно дал заметить гостям, что бал кончился.
Стали разъезжаться; мы с Алцестом были в числе последних. Граф стоял как вкопанный и в безмолвном вос
87
торге не спускал глаз с Аделины. Между тем большая часть
разноцветных ламп погасла; померкнувший свет алебастровой люстры и темная тень от деревьев всем предметам
давали вид неопределенный. Мне сделалось что-то грустно н
вместе страшно; я настоятельно начал просить графа пойти
домой и с трудом мог его уговорить. Когда мы выходили
из залы, я нечаянно оглянулся, и мне показалось, будто из
того угла, где сидели музыканты,,вышел высокий мужчина
в красном плаще и в треугольной шляпе... Медленными
шагами прошел он чрез комнату и скрылся во внутренние
покои. На лице его выражалось что-то зверское. Я не мог не
вспомнить о Вентурино... Возвратясь домой, я рассказал о
том графу, но он не хотел мне верить.
На другой день рано поутру разбудила меня эстафета,
присланная из Дрездена. Корреспондент мой уведомлял меня, что банкир N. N., у которого хранилась значительная
сумма, принадлежавшая графу, объявил себя банкротом.
Присутствие мое в Дрездене было необходимо, и я принужденным нашелся немедленно послать за курьерскими лошадьми. Легко себе представить можно, каково мне было оставить графа в его положении! Но от Лейпцига до Дрездена не так далеко, особливо для русского. «Пробежать
верст полтораста,— думал я,— мне не в диковинку. Если возвращение мое сделается нужным, верный Иван отправит ко
мне эстафету, и я тотчас явлюсь в Лейпциге». Сколько я,
однако, ни старался утешить себя такими рассуждениями,
какая-то непонятная тоска стесняла мою грудь! Чудное
появление Вентурино в доме Андрони беспрестанно приходило мне на ум. Распростившись уже с графом, я опять
к нему воротился и умолял его не посещать профессора
в мое отсутствие. Но он не слушал меня и не понимал!
Я с сокрушенным сердцем оставил его.
Не буду говорить о пребывании моем в Дрездене. Неудовольствия, с которыми я там боролся, потеря весьма
значительной суммы, все это ничего не значит в сравнении
с ужасными событиями, ожидавшими меня в Лейпциге!
На третий день получил я эстафету от Ивана, который
умолял меня возвратиться к графу. «Барин мой,— писал
он,— со времени отъезда вашего был неразлучен с проклятым итальянцем. Сегодня поутру он уведомил меня, что женится на дочери фигляра!.. Он даже не хочет дожидаться ни
возвращения вашего, ни родительского благословения. Напрасно валялся я у ног его!.. Поспешите! Может быть, вы
успеете предупредить несчастие».
88
Письмо это крайне меня испугало. В продолжение нескольких минут я не мог опомниться, наконец как сумасшедший побежал на почтовый двор. Просьбы мои, и в особенности звенящий кошелек, придали несколько живости
почтмейстеру, и не прошло еще часу, как я сидел уже в
дорожной коляске. Но какое мучение ожидало меня на пути!
Кто не путешествовал по Саксонии, кто не испытал над
собою флегмы саксонских почтальонов, тот не может понять моей досады, моего отчаяния! Ни просьбы, ни обещания, ни деньги, ни угрозы не в состоянии были принудить
двигаться проворнее почтальонов, которых бесчувственность
в этом отношении может равняться только с неповоротли-
востию тяжелых лошадей, ими управляемых. Как часто дорогою вспоминал я о любезной нашей России!
Измученный напрасным старанием хотя немного оживи-
вить почтарей и терзаемый ожиданием несчастий, которые
представлялись моему воображению, я дотащился наконец
до Лейпцига. Это было поздно ввечеру. Когда въехал я в
заставу, медленное движение коляски показалось мне еще
несноснее; я с нетерпением выскочил и побежал по Гриммс-
кой улице, оставя далеко за собою изумленного своего саксонца. При входе в комнату Алцеста встретил меня Иван,
бледный как полотно.
— Где граф? — спросил я.
— Граф сегодня ввечеру обвенчался и переехал к своему тестю,— отвечал он мне дрожащим голосом...— Я хотел идти за ним, но меня не пустили!..
Не расспрашивая его ни о чем более, я бросился в
дом Андрони. В сенях попался мне навстречу высокий
мужчина, которого лицо показалось мне знакомым. Я узнал Вентурино. Он одет был в черную мантию, какую
обыкновенно носят в Германии духовные особы. На голове у него был распудренный парик с длинными локонами.
«Вентурино в пасторском облачении!» — подумал я... и воображению моему ясно представилось, что такое беззаконное переряжение должно непременно означать какой-нибудь
злой умысел, которого цель, однако, для меня была непонятна!
В первой комнате нашел я профессора, занимающегося
чтением,— и он, казалось, вовсе меня не заметил.
— Ради бога! — вскричал я.— Что вы сделали с моим
другом?
— А! Это вы, господин полковник? — сказал Андрони,
обратясь ко мне с спокойным видом.— Мы не ожидали,
89
чтобы вы так скоро кончили дела ваши. Зять мой очень
обрадуется, когда узнает, что вы возвратились.
— Зять ваш? — отвечал я с сердцем. — Неужели вы
думаете, что я позволю вам ругаться над моим другом?..
— Вы забываетесь, господин полковник! — возразил Андрони, не теряя хладнокровия.— Говорите потише; вы можете испугать графиню, да и графу не очень приятно
будет видеть любезного наставника своего в таком положении.
Насмешка его вывела меня из терпения.
— Изверг рода человеческого! — закричал я в исступлении.— Говори, что значит эта комедия? Зачем ты товарища своего — такого же плута, как ты сам,— нарядил в
пасторы?.. Но я разрушу ваши козни. Немедленно веди
меня к Алцесту!
Андрони очевидно смешался при этих словах. Он побледнел, губы у него задрожали, и огненные глаза его
засверкали от ярости... Вскоре, однако, он опять пришел в
себя.
— Государь мой! — произнес он, задыхаясь от злости.—
Вы не имеете права повелевать мною. Завтра поутру Алцест
отмстит за оскорбленную честь своего тестя! Но сегодня вы
его не увидите. Новобрачные желают быть одни. Итак, советую вам удалиться и не забывать, что вы находитесь в
моем доме и что угрозы ваши совершенно бесполезны.
— Завтра поутру,— отвечал я, смущенный уверительным его голосом.— Завтра поутру я с тобою разделаюсь!
Не воображай, что ты избегнешь заслуженного наказания!
Я вышел из комнаты, захлопнул дверь и услышал за
собою пронзительный хохот Андрони...
Возвратясь домой, я предался размышлению. Замешательство Андрони ясно доказывало, что мнимый пастор, встретившийся со мною, был не кто иной, как Вентурино. Но какие причины могли побудить профессора
к столь беззаконному поступку? Какую пользу находил он в
поругании собственной дочери, соединив ее с графом такими
узами, которые могли быть расторгнуты без малейшего труда? Я терялся в догадках, однако твердо решился на другой день поутру объявить местному начальству о преступлении профессора. Признаюсь, я с некоторым удовольствием помышлял о том, что Алцесту приключение сие может
послужить уроком, который навсегда излечит его от страсти к
романическому... С сими мыслями я лег спать, хотя и пред
ОО
чувствовал, что беспокойство мое не даст мне во всю ночь
сомкнуть глаз.
Было около полуночи, когда я услышал, что кто-то
бежит ко мне по лестнице. Немного погодя дверь отворилась, и я, к крайнему изумлению, увидел графа — в халате, с растрепанными волосами!.. Вид его показывал человека, находящегося в отчаянии.
— Любезнейший Ф...!— вскричал он, бросившись ко мне
на шею.— Спасите меня... спасите от сумасшествия!
— Что с вами сделалось, любезный Алцест? — спросил
я, испугавшись и вскочив поспешно с постели.
Граф был в таком положении, что почти не мог говорить. Из отрывистых и несвязных речей его узнал я наконец такое происшествие, при воспоминании которого и
теперь еще у меня волосы становятся дыбом!
На другой день отъезда моего в Дрезден сильная
страсть Алцеста дошла до того, что он решился просить
у Андрони руку Аделины. Старик, по-видимому, весьма обрадовался этому предложению, но требовал — по причинам, которые впоследствии обещался объяснить, чтобы бракосочетание совершено было втайне. Влюбленный Алцест на
все согласился. Ввечеру призван был пастор в дом Андрони, и
обряд совершен в присутствии одного отца, без свидетелей.
Аделина после того удалилась в свою спальню... Чрез несколько времени впустили туда и Алцеста. «Вы без труда
поверите, любезный Ф...,— говорил мне граф,— что я с восторгом бросился в объятия жены моей. Мысль, что я обладаю Аделиною, что наконец могу назвать ее своею, приводила меня в неизъяснимое восхищение. Вообразите же себе, как я испугался, когда, осыпав ее поцелуями, заметил,
что она не отвечает на ласки мои! Она лежала, как будто
лишенная всех чувств... В смятении моем не знал я, что
делать; вспомнив, однако, что на уборном столике стояла
склянка с крепким уксусом, я вздумал потереть ей виски и
грудь. Но какими словами опишу вам ужас, меня объявший,
когда от сильного натирания вдруг прелестная грудь моей
Аделины лопнула и из отверстия показался... большой клочок хлопчатой бумаги! Сам не помню, как я выбежал из
комнаты и как очутился здесь!
Я не знал, что подумать, услышав рассказ Алцеста.
Мне вообразилось, что несчастный друг мой лишился ума,
и я всячески старался его успокоить.
— Опомнитесь, любезный граф! — говорил я ему.— Вам,
верно, пригрезился какой-нибудь страшный сон!
91
— Нет! — отвечал он, обливаясь слезами.— Я не спал.,,
Я видел ясно хлопчатую бумагу, высунувшуюся из груди
бедной моей Аделины... Пойдемте, пойдемте! Я докажу вам,
что это не сон!
Желая его успокоить, я поспешил одеться и пошел
с ним. Войдя в сени, граф от сильного волнения чувств
пришел в такую слабость, что, конечно, упал бы, если б я
не подхватил его под руку. Он дрожал всеми членами,
и я с трудом взвел его на лестницу. Я сам был в ужасном
положении... Сердце мое сильно билось; печальные предчувствия теснились в моей душе. В глубоком молчании
прошли мы первые комнаты, где не встретили никого. Наконец отворил я спальню — и оцепенел при виде того, что мне
представилось! Аделина на кровати лежала полунагая. Профессор сидел подле нее. На горбатом носу его надеты были большие очки; левою рукою он упирался об Аделину, а
в правой держал кривую иглу, которою зашивал ей грудь!..
Из одного конца прорехи, еще не зашитой, торчала хлопчатая бумага. На обнаженном боку Аделины усмотрел я
глубокое отверстие, в которое, при входе нашем, Вентурино
вложил длинный ключ, какие употребляются для заведения
больших стенных часов. Злодеи так были заняты своею работою, что не заметили, как мы вошли в комнату.
Не успел я еще опомниться, как Алцест с ужасным
криком бросился на Ачдрони. На лице его изображалась
ярость... Он замахнулся на него тростью и, может быть,
убил бы его на месте, если б Вентурино нс удержал его
руку.
Андрони пришел в исступление от злости. Он схватил
тяжелый молот, подле него лежавший, и ударил Аделину
прямо в голову!.. В одно мгновение лицо ее совершенно
преобразилось! Прелестный носик ее сплюснулся, белые жемчужные зубы посыпались из раздробленных челюстей!
— Вот твоя жена! — приговаривал Андрони, продолжая
ударять молотом по Аделине... От одного удара прекрасные
голубые глаза ее выскочили из глазных ямок и отлетели
далеко в сторону... Бешенство овладело бедным Алцестом...
Он схватил с полу глаза своей Аделины и стремглав выбежал из комнаты, громко смеясь и скрежеща зубами!..
Я последовал за ним. Вышед из дому, Алцест остановился
на минуту; потом испустил жалостный вопль и вдруг, как
стрела, помчался вдоль по Гриммской улице.
Я не мог догнать его. Когда уже был я на улице, мне
слышался хохот Вентурино, пронзительный крик Андрони
92
н стук молота, как будто разбивающего колеса в больших
стенных часах.
Остаток ночи и весь следующий день бродил я, с верным Иваном, по Лейпцигу и тщетно искал графа. В глубокую полночь возвратился я домой... без него! В окошках
дома, занимаемого Андрони, не было огня. Дворник, отворяя
нам дверь, рассказал мне, что в то же утро профессор
выехал из города в открытой коляске. Подле него сидел
высокий мужчина в красном плаще и в треугольной шляпе.
За ними следовало несколько телег с разною поклажею.
На другой день пришел ко мне начальник городской
полиции и объявил, что на берегу реки Эльстер, подле
самого глубокого места, найден батистовый платок с меткою «С. А.» и два финифтяные глаза. Платок был Алце-
стов, но тело несчастного моего друга не могли отыскать.
Я поспешно уехал в Россию. В самый день отъезда
вошел в комнату мою один из служителей старого графа, отправленный ко мне курьером. Под Варшавою разбили его
лошади; он целые три недели без памяти пролежал на почтовом дворе и оттого замедлил приездом. Я распечатал пакет. Граф писал ко мне:
«Умоляю вас всем, что для вас дорого, любезный Ф...,
спешите исторгнуть сына моего из пропасти, в которую
без вас он неминуемо повергнется! Если нужно, употребите силу, передаю вам родительскую власть мою. Профессор, о котором вы пишете, мне слишком известен. Он человек весьма ученый и притом искуснейший механик — вснт-
рилок. Я познакомился с ним еще в молодых летах в Мад-
рите. Некоторый случай сделал его непримиримым врагом
моим, и он поклялся мстить мне и всему моему роду...
Ради бога, не теряйте времени!»
Возвратясь в отечество, я уже не застал в живых старого
графа...
— Почтенный Двойник! — сказал я, выслушав рассказ
о пагубном влиянии необузданного воображения.— Вы не
хотели верить возможности появления Анюты в повести,
которую имел я честь вам прочитать, а сами рассказали
мне теперь совершенную небылицу. Есть ли какое-нибудь
в том правдоподобие, чтоб человек влюбился в куклу?
И можно ли так искусно составить куклу, чтоб она гуляла по
улицам, плясала на балах, приседала и улыбалась... и между тем бы никто не заметил, что она не живая?
— Что касается до первого вопроса вашего,— отвечал
Двойник,— может ли человек влюбиться в куклу? То, мне
93
кажется, мудреного в этом ничего нет. Взгляните на свет-
сколько встретите вы кукол обоего пола, которые совершенно ничего иного не делают и делать не умеют, как только
гуляют по улицам, пляшут на балах, приседают и улыбаются. Несмотря на то, частехонько в них влюбляются
и даже иногда предпочитают их людям, несравненно достойнейшим! К тому же происшествие это совсем не ново:
вспомните о Пигмалионе, который, как говорит предание,
влюбился в статую, им самим сделанную, пред которою наша
кукла по крайней мере имеет то преимущество, что она двигалась.
— Может ли быть кукла, спрашиваете вы еще,— продолжал Двойник,— так искусно составлена, чтоб была похожа на живую? Ах, любезный Антоний! До чего не умудрится ум человеческий! Сколько примеров могу я вам напомнить об автоматах, не менее моей куклы удивительных!
Не помню, где читал я, что какой-то механик составил деревянного ворона, который при въезде одного римского
императора в город Ахен подлетел к нему и проговорил
внятным голосом весьма красноречивое приветствие на латинском языке... Кому неизвестно, что знаменитый Алберт
(ученый астролог, живший в тринадцатом столетии и прозванный Великим) составил куклу, над которою трудился
беспрерывно тридцать лет? Кукла эта, названная Андроидом Алберта Великого, по свидетельству тогдашних писателей, так была умна, что Алберт советовался с нею во всех
важных случаях; но, к сожалению, один из его учеников,
которому надоела неумолкаемая болтливость этой куклы,
однажды в сердцах разбил ее на части. И в наши времена
видели во всех столицах Европы одного искусника, который
возил с собою и показывал за деньги небольшого деревянного турку, умеющего играть в шахматы и обыгрывающего известнейших игроков. Подобных примеров мог бы я насчитать множество, если бы у меня была не такая плохая
память. В тысяча восемьсот пятнадцатом году физик Робертсон, бывший пред тем в России и показывавший фантасмагорические представления, хвалился, что он изобрел нового
рода клавикорды, которые выговаривали целые слова человеческим голосом. Я сам видел клавикорды эти в Париже:
к ним приделана была кукла в человеческий рост, щегольски одетая в женское платье, с модною на голове
шляпкою. Робертсон садился за клавикорды, и, по мере
того как перебирал клавиши, кукла выговаривала (правда, голосом довольно диким) несколько слов, как-то: papa,
94
maman, mon frère, ma soeur, vive le roil!1 и тому подобное.
Множество русских, бывших в то время в Париже, конечно,
не забыли об этой кукле Робертсона.
— При всем том,— возразил я,— вы никак меня не
уверите, чтобы человек умный, каким описываете молодого
графа, мог влюбиться в куклу. Пускай бы это случилось с
глупцом; но человек такой умный...
— Умный! Умный! — прервал меня с некоторою досадою Двойник.— Да можете ли вы в точности определить,
что такое умный человек? И разве никогда не случалось
вам видеть, что люди, слывущие в свете умными, делают
такие глупости, которые непростительны были бы дуракам?
— В самом деле,— отвечал я,— нередко случалось мне
видеть это, и я никогда не мог понять, отчего это происходит? Сделайте дружеское одолжение, любезный Двойник,
объясните мне загадку эту и вместе с тем научите, каким
образом должно определять степень ума у людей? Вы,
верно, более меня в этом имеете сведений; а я, признаюсь, в течение жизни моей с умными людьми неоднократно попадал впросак. Я чувствительно вам буду обязан.
— Вы знаете, дражайший Антоний, что я не в силах
вам отказать в чем бы то ни было, а потому постараюсь
исполнить ваше желание. Но оставим разговор этот до другого раза. Назначенное нами для разлуки время давно протекло. Прощайте!
конец первой части
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ВЕЧЕР ПЯТЫЙ
— Начинайте же, любезнейший Антоний! — сказал
Двойник, посетивший меня на следующий вечер.
— Охотно, почтенный Двойник. Но прежде нежели исполню я желание ваше, я должен спросить у вас, читаете ли вы «Литературные новости», издаваемые при «Русском инвалиде»?
папа, мама, мой брат, моя сестра, да здравствует король! (Фр.)
95
— Нет! Признаюсь, я так занят, что недостает у меня
на то времени.
— В таком случае без зазрения совести прочту вам
повесть моего сочинения, напечатанную несколько лет тому
назад в упомянутых «Новостях».
ЛАФЕРТОВСКАЯ МАКОВНИЦА
Лет за пятнадцать пред сожжением Москвы недалеко от Проломной заставы стоял небольшой деревянный
домик с пятью окошками в главном фасаде и с небольшою
над средним окном светлицею. Посреди маленького дворика,
окруженного ветхим забором, виден был колодезь. В двух
углах стояли полуразвалившиеся анбары, из которых один
служил пристанищем нескольким индейским и русским курам, в мирном согласии разделявшим укрепленную поперек
анбара веху. Перед домом из-за низкого палисадника поднимались две или три рябины и, казалось, с пренебрежением смотрели на кусты черной смородины и малины, растущие у ног их. Подле самого крыльца выкопан был в земле
небольшой погреб для хранения съестных припасов.
В сей-то убогий домик переехал жить отставной почтальон Онуфрич с женою Ивановною и с дочерью Марьею.
Онуфрич, будучи еще молодым человеком, лет двадцать
прослужил в поле и дослужился до ефрейторского чина;
потом столько же лет верою и правдою продолжал службу
в московском почтамте; никогда, или по крайней мере ни
за какую вину, нс бывал штрафован и наконец вышел в чистую отставку и на инвалидное содержание. Дом был его
собственный, доставшийся ему по наследству от недавно
скончавшейся престарелой его тетки. Сия старушка, при жизни своей, во всей Лафертовской части известна была под
названием Лафертовской Маковницы, ибо промысл се состоял в продаже медовых маковых лепешек, которые умела
она печь с особенным искусством. Каждый день, какая бы
ни была погода, старушка выходила рано поутру из своего
домика и направляла путь к Проломной заставе, имея на
голове корзинку, наполненную маковниками. Прибыв к заставе, она расстилала чистое полотенце, перевертывала вверх
дном корзинку и в правильном порядке раскладывала свои
маковники. Таким образом сидела она до вечера, не предлагая никому своего товара и продавая оный в глубоком
молчании. Лишь только начинало смеркаться, старушка со-
96
бирала лепешки свои в корзинку и отправлялась медленными шагами домой. Солдаты, стоящие на карауле, любили
ее, ибо она иногда потчевала их безденежно сладкими маковниками.
Но этот промысл старушки служил только личиною, прикрывавшею совсем иное ремесло. В глубокий вечер, когда
в Прочих частях города начинали зажигать фонари, а в окрестностях ее дома расстилалась ночная темнота, люди разного звания и состояния робко приближались к хижине и
тихо стучались в калитку. Большая цепная собака Султан
громким лаем провозглашала чужих. Старушка отворяла
дверь, длинными костяными пальцами брала за руку посетителя и вводила его в низкие хоромы. Там, при мелькающем свете лампады, на шатком дубовом столе лежала колода
карт, на которых от частого употребления едва можно было
различить бубны от червей; на лежанке стоял кофейник из
красной меди, а на стене висело решето. Старушка, предварительно приняв от гостя добровольное подаяние —
смотря по обстоятельствам,— бралась за карты или прибегала к кофейнику и к решету. Из красноречивых ее уст
изливались рекою пророчества о будущих благах, и упоенные сладкою надеждою посетители при выходе из дома нередко вознаграждали ее вдвое более, нежели при входе.
Таким образом жизнь ее протекала покойно в мирных
сих занятиях. Правда, что завистливые соседи называли ее
за глаза колдуньею и ведьмою, но зато в глаза ей низко
кланялись, умильно улыбались и величали бабушкою. Такое
к ней уважение отчасти произошло от того, что когда-то
один из соседей вздумал донести полиции, будто бы Ла-
фертовская Маковница занимается непозволительным гаданием в карты и на кофе и даже знается с подозрительными людьми! На другой же день явился полицейский,
вошел в дом, долго занимался строгим обыском и наконец
при выходе объявил, что он не нашел ничего. Неизвестно,
какие средства употребила почтенная старушка в доказательство своей невинности; да и не в том дело! Довольно
того, что донос найден был неосновательным. Казалось, что
сама судьба вступилась за бедную Маковницу, ибо скоро
после того сын доносчика, резвый мальчик, бегая по двору,
упал на гвоздь и выколол себе глаз; потом жена его нечаянно поскользнулась и вывихнула ногу; наконец, в довершение всех несчастий, лучшая корова их, не будучи прежде
ничем больна, вдруг пала. Отчаянный сосед насилу умилостивил ‘старушку слезами и подарками,—и с того времени
4 З.тка$ 14 Ô7
все соседство обходилось с нею с должным уважением.
Те только, которые, переменяя квартиру, переселялись далеко от Лафертовской части, как например: на Пресненские
пруды, в Хамовники или на Пятницкую,— те только осмеливались громко называть Маковницу ведьмою. Они уверяли,
что сами видали, как в темные ночи налетал на дом старухи
большой ворон с яркими, как раскаленный уголь, глазами;
иные даже божились, что любимый черный кот, каждое
утро провожающий старуху до ворот и каждый вечер ее
встречающий, не кто иной, как сам нечистый дух.
Слухи эти наконец дошли и до Онуфрича, который,
по должности своей, имел свободный доступ в передние
многих домов. Онуфрич был человек набожный, и мысль,
что родная тетка его свела короткое знакомство с нечистым, сильно потревожила его душу. Долго не знал он, на что
решиться.
— Ивановна! — сказал он наконец в один вечер, подымая
ногу и вступая на смиренное ложе.— Ивановна, дело решено! Завтра поутру пойду к тетке и постараюсь уговорить
ее, чтоб она бросила проклятое ремесло свое. Вот она уже,
слава богу, добивает девятой десяток; а в такие лета пора
принесть покаяние, пора и о душе подумать!
Это намерение Онуфрича крайне не понравилось жене его. Лафертовскую Маковницу все считали богатою, и
Онуфрич был единственный ее наследник.
— Голубчик!—отвечала она ему, поглаживая его по
наморщенному лбу.— Сделай милость, не мешайся в чужие дела. У нас и своих забот довольно: вот уже теперь
и Маша подрастает; придет пора выдать ее замуж, а где
нам взять женихов без приданого? Ты знаешь, что тетка
твоя любит дочь нашу; она ей крестная мать, и когда дело дойдет до свадьбы, то не от кого иного, кроме ее, ожидать нам милостей. Итак, если ты жалеешь Машу, если
любишь меня хоть немножко, то оставь добрую старушку
в покое. Ты знаешь, душенька...
Ивановна хотела продолжать, как заметила, что Онуфрич храпит. Она печально на него взглянула, вспомнив, что
в прежние годы он не так хладнокровно слушал ее речи;
отвернулась в другую сторону и вскоре сама захрапела.
На другое утро, когда еще Ивановна покоилась в объятиях глубокого сна, Онуфрич тихонько поднялся с постели,
смиренно помолился иконе Николая-чудотворца, вытер суконкою блистающего на картузе орла и почтальонский свой
знак и надел мундир. Потом, подкрепив сердце большою рюм
98
кою ерофеича, вышел в сени. Там прицепил он тяжелую
саблю свою, еще раз перекрестился и отправился к Проломной заставе.
Старушка приняла его ласково.
— Эй, эй, племянничек! — сказала она ему.— Какая напасть выгнала тебя так рано из дому да еще в такую
даль! Ну, ну, добро пожаловать; просим садиться.
Онуфрич сел подле нее на скамью, закашлял и не знал,
с чего начать. В эту минуту дряхлая старушка показалась
ему страшнее, нежели лет тридцать тому назад турецкая
батарея. Наконец он вдруг собрался с духом.
— Тетушка! — сказал он ей твердым голосом.— Я пришел поговорить с вами о важном деле.
— Говори, мой милой,— отвечала старушка,— а я послушаю.
— Тетушка! Недолго уже вам остается жить на свете;
пора покаяться, пора отказаться от сатаны и от наваждений его.
Старушка не дала ему продолжать. Губы ее посинели,
глаза налились кровью, нос громко начал стукаться об
бороду.
— Вон из моего дому! — закричала она задыхающимся от злости голосом.— Вон, окаянный!.. И чтоб проклятые ноги твои навсегда подкосились, когда опять ты
ступишь на порог мой!
Она подняла сухую руку... Онуфрич перепугался до полусмерти; прежняя, давно потерянная гибкость вдруг возвратилась в его ноги: он одним махом соскочил с лестницы и добежал до дому, ни разу не оглянувшись.
С того времени все связи между старушкой и семейством Онуфрича совершенно прервались. Таким образом
прошло несколько лет. Маша пришла в совершенный возраст и была прекрасна, как майский день; молодые люди за
нею бегали; старики, глядя на нее, жалели о прошедшей своей молодости. Но Маша была бедна, и женихи не
являлись. Ивановна чаще стала вспоминать о старой тетке
и никак не могла утешиться.
— Отец твой,— часто говаривала она Марье,— тогда
рехнулся в уме! Чего ему было соваться туда, где его не
спрашивали? Теперь сидеть тебе в девках!
Лет двадцать тому назад, когда Ивановна была молода и хороша, она бы не отчаялась уговорить Онуфрича,
чтоб он попросил прощения у тетушки и с нею примирился; но с тех пор как розы на ее ланитах стали уступать
4*
99
место морщинам, Онуфрич вспомнил, что муж есть глава
жены своей,— и бедная Ивановна с горестью принуждена
была отказаться от прежней власти. Онуфрич не только сам
никогда не говорил о старушке, но строго запретил жене
и дочери упоминать о ней. Несмотря на то, Ивановна
вознамерилась сблизиться с теткою. Не смея действовать
явно, она решилась тайно от мужа побывать у старушки
и уверить ее, что ни она, ни дочь нимало не причастны
дурачеству ее племянника.
Наконец случай поблагоприятствовал ее намерению:
Онуфрича на время откомандировали на место заболевшего станционного смотрителя, и Ивановна с трудом при
прощанье могла скрыть радость свою. Не успела она проводить дорогого мужа за заставу, не успела еще отереть
глаз от слез, как схватила дочь свою под руку и поспешила с нею домой.
— Машенька!—сказала она ей.— Скорей оденься получше; мы пойдем в гости.
— К кому, матушка? — спросила Маша с удивлением.
— К добрым людям,— отвечала мать.— Скорей, скорей,
Машенька; не теряй времени; теперь уже смеркается, а нам
идти далеко.
Маша подошла к висящему на стене в бумажной рамке зеркалу, гладко зачесала волосы за уши и утвердила
длинную темно-русую косу роговой гребенкою; потом надела
красное ситцевое платье и шелковый платочек на шею;
еще раза два повернулась перед зеркалом и объявила
матушке, что она готова.
Дорогою Ивановна открыла дочери, что они идут к
тетке.
— Пока дойдем мы до ее дома,— сказала она,—
сделается темно, и мы, верно, ее застанем. Смотри же,
Маша, поцелуй у тетки ручку и скажи, что ты соскучилась, давно не видав ее. Она сначала будет сердиться, но я
ее умилостивлю; ведь не мы виноваты, что мой старик
спятил с ума.
В сих разговорах они приблизились к дому старушки.
Сквозь закрытые ставни сверкал огонь.
— Смотри же, не забудь поцеловать ручку,— повторила еще Ивановна, подходя к двери. Султан громко залаял. Калитка отворилась, старушка протянула руку и ввела
их в комнату. Она приняла их за обыкновенных вечерних гостей своих.
100
— Милостивая государыня тетушка! — начала речь Ивановна.
— Убирайтесь к черту! — закричала старуха, узнав племянницу.— Зачем вы сюда пришли? Я вас не знаю и знать
не хочу.
Ивановна начала рассказывать, бранить мужа и просить прощенья; но старуха была неумолима.
— Говорю вам, убирайтесь! — кричала она.— А не то!..—
Она подняла на них руку.
Маша испугалась, вспомнила приказание матушки и,
громко рыдая, бросилась целовать ее руки.
— Бабушка сударыня! — говорила она.— Не гневайтесь
на меня; я так рада, что опять вас увидела!
Слезы Машины наконец тронули старуху.
— Перестань плакать,— сказала она,— я на тебя не сердита: знаю, что ты ни в чем не виновата, мое дитятко?
Не плачь же, Машенька! Как ты выросла, как похорошела!
Она потрепала ее по щеке.
— Садись подле меня,— продолжала она,— милости
просим садиться, Марфа Ивановна! Каким образом вы обо
мне вспомнили после столь долгого времени?
Ивановна обрадовалась этому вопросу и начала рассказывать: как она уговаривала мужа, как он ее не послушался, как запретил нм ходить к тетушке, как они
огорчались и как, наконец, она воспользовалась отсутствием Онуфрича, чтоб засвидетельствовать тетушке нижайшее почтение.
Старушка с нетерпением выслушала рассказы Ивановны.
— Быть так,— сказала она ей,— я не злопамятна; но
если вы искренно желаете, чтоб я забыла прошедшее, то
обещайтесь, что во всем будете следовать моей воле! С
этим условием я приму вас опять в свою милость и сделаю Машу счастливою.
Ивановна поклялась, что все ее приказания будут свято
исполнены.
— Хорошо,— молвила старуха,— теперь идите с богом;
а завтра ввечеру пускай Маша придет ко мне одна, не ранее, однако, половины двенадцатого часа. Слышишь ли.
Маша? Приходи одна.
Ивановна хотела было отвечать, но старуха не дала
ей выговорить ни слова. Она встала, выпроводила их из
дому и захлопнула за ними дверь.
Ночь была темная. Долго шли они, взявшись за руки,
101
не говоря ни слова. Наконец, подходя уже к зажженным фонарям, Маша робко оглянулась и прервала молчание.
— Матушка! — сказала она вполголоса.— Неужели я
завтра пойду одна к бабушке, ночью и в двенадцатом
часу?..
— Ты слышала, что приказано тебе прийти одной.
Впрочем, я могу проводить тебя до половины дороги.
Маша замолчала и предалась размышлениям. В то
время когда отец ее поссорился с своей теткой, Маше
было не более тринадцати лет; она тогда не понимала
причины этой ссоры и только жалела, что ее более не
водили к доброй старушке, которая всегда ее ласкала
и потчевала медовым маком. После того, хотя и пришла
уже она в совершенный возраст, но Онуфрич никогда не
говорил ни слова об этом предмете; а мать всегда отзывалась о старушке с хорошей стороны и всю вину слагала на Онуфрича. Таким образом, Маша в тот вечер с
удовольствием последовала за матерью. Но когда старуха приняла их с бранью, когда Маша при дрожащем свете
лампады взглянула на посиневшее от злости лицо ее, тогда
сердце в ней содрогнулось от страха. В продолжение длинного рассказа Ивановны воображению ее представилось,
как будто в густом тумане, все то, что в детстве своем она
слышала о бабушке... и если б в это время старуха не держала ее за руку, то, может быть, она бросилась бы бежать
из дому. Итак, можно вообразить, с каким чувством она помышляла о завтрашнем дне.
Возвратясь домой, Маша со слезами просила мать,
чтоб она не посылала ее к бабушке; но просьбы ее были
тщетны.
— Какая же ты дура,— говорила ей Ивановна,— чего тут бояться? Я тихонько провожу тебя почти до дому,
дорогой тебя никто не тронет, а беззубая бабушка тоже
тебя не съест!
Следующий день Маша весь проплакала. Начало смеркаться — и ужас ее увеличился; но Ивановна как будто
ничего не примечала,— она почти насильно ее нарядила.
— Чем более ты будешь плакать, тем для тебя хуже,—
сказала она.— Что-то скажет бабушка, когда увидит красные твои глаза!
Между тем кукушка на стенных часах прокричала одиннадцать раз. Ивановна набрала в рот холодной воды, брызнула Маше в лицо и потащила ее за собою.
102
Маша следовала за матерью, как жертва, которую ведут на заклание. Сердце ее громко билось, ноги через
силу двигались, и таким образом они прибыли в Лафертов-
скую часть. Еще несколько минут шли они вместе, но лишь
только Ивановна увидела мелькающий вдали между ставней
огонь, как пустила руку Машину.
— Теперь иди одна,— сказала она,— далее я не смею тебя провожать.
Маша в отчаянье бросилась к ней в ноги.
— Полно дурачиться! — вскричала мать строгим голосом.— Что тебе сделается? Будь послушна и не вводи меня
в сердце!
Бедная Маша собрала последние силы и тихими шагами удалилась от матери. Тогда был в исходе двенадцатый
час; никто с нею не повстречался, и нигде, кроме ста-
рушкина дома, не видно было огня. Казалось, будто вымерли все жители той части города; мрачная тишина царствовала повсюду; один только глухой шум от собственных ее
шагов отзывался у нее в ушах. Наконец пришла она к
домику и трепещущею рукою дотронулась до калитки... Вдали на колокольне Никиты-мученика ударило двенадцать часов. Звуки колокола в тишине черной ночи дрожащим гулом расстилались по воздуху и доходили до ее слуха.
Внутри домика кот громко промяукал двенадцать раз...
Она сильно вздрогнула и хотела бежать... но вдруг раздался
громкий лай цепной собаки, заскрипела калитка — и длинные пальцы старухи схватили ее за руку. Маша не помнила,
как взошла на крылечко и как очутилась в бабушкиной
комнате... Пришед немного в себя, она увидела, что сидит на
скамье; перед ней стояла старуха и терла виски ее муравьиным спиртом.
— Как ты напугана, моя голубка! — говорила она ей.—
Ну, ну! Темнота на дворе самая прекрасная; но ты, мое
дитятко, еще не узнала ее цены и потому боишься. Отдохни немного; пора нам приняться за дело!
Маша не отвечала ни слова; утомленные от слез глаза
ее следовали за всеми движениями бабушки. Старуха подвинула стол на средину комнаты, из стенного шкафа вынула большую темно-алую свечку, зажгла ее и прикрепила
к столу, а лампаду потушила. Комната осветилась розовым светом. Все пространство от полу до потолка как будто
наполнилось длинными нитками кровавого цвета, которые
тянулись по воздуху в разных направлениях — то свертывались в клуб, то опять развивались, как змеи...
103
— Прекрасно! — сказала старушка и взяла Машу за руку.— Теперь иди за мною.
Маша дрожала всеми членами; она боялась идти за бабушкой, но еще более боялась ее рассердить. С трудом
поднялась она на ноги.
— Держись крепко за полы мои,— прибавила старуха,—
и следуй за мной... не бойся ничего!
Старуха начала ходить кругом стола и протяжным напевом произносила непонятные слова; перед нею плавно выступал черный кот с сверкающими глазами и с поднятым
вверх хвостом. Маша крепко зажмурилась и трепещущими шагами шла за бабушкой. Трижды три раза старуха
обошла вокруг стола, продолжая таинственный напев свой,
сопровождаемый мурлыканьем кота. Вдруг она остановилась
и замолчала... Маша невольно раскрыла глаза — те же
кровавые нитки все еще растягивались по воздуху. По, бросив нечаянно взгляд на черного кота, она увидела, что
на нем зеленый мундирный сюртук; а на месте прежней
котовой круглой головки показалось ей человеческое лицо,
которое, вытараща глаза, устремляло взоры прямо на нее...
Она громко закричала и без чувств упала на землю...
Когда она опомнилась, дубовый стол стоял на старом
месте, темно-алой свечки уже не было и на столе по-прежнему горела лампада; бабушка сидела подле нее и смотрела ей в глаза, усмехаясь с веселым видом.
— Какая же ты, Маша, трусиха! — говорила она ей.—
Но до того нужды нет; я и без тебя кончила дело. Поздравляю тебя, родная,— поздравляю тебя с женихом! Он человек очень мне знакомый и должен тебе нравиться. Маша,
я чувствую, что недолго мне осталось жить на белом свете;
кровь моя уже слишком медленно течет по жилам и временем сердце останавливается... Мой верный друг,— продолжала старуха, взглянув на кота,— давно уже зовет меня туда, где остылая кровь моя опять согреется. Хотелось
бы мне еще немного пожить под светлым солнышком, хотелось бы еще полюбоваться золотыми денежками... но последний час мой скоро стукнет. Что ж делать! Чему быть,
тому не миновать.
— Ты, моя Маша,— продолжала она, вялыми губами
поцеловав ее в лоб,— ты после меня обладать будешь моими
сокровищами; тебя я всегда любила и охотно уступаю тебе
место! Но выслушай меня со вниманием: придет жених, назначенный тебе тою силою, которая управляет большею
частию браков... Я для тебя выпросила этого жениха;
104
будь послушна и выдь за него. Он научит тебя той науке,
которая помогла мне накопить себе клад; общими вашими
силами он нарастет еще вдвое,— и прах мой будет покоен.
Вот тебе ключ; береги его пуще глаза своего. Мне не позволено сказать тебе, где спрятаны мои деньги; но как скоро ты
выйдешь замуж, все тебе откроется!
Старуха сама повесила ей на шею маленький ключ,
надетый на черный снурок. В эту минуту кот громко промяукал два раза.
— Вот уже настал третий час утра,— сказала бабушка.— Иди теперь домой, дорогое мое дитя! Прощай! Может
быть, мы уже не увидимся...— Она проводила Машу на
улицу, вошла опять в дом и затворила за собой калитку.
При бледном свете луны Маша скорыми шагами поспешила домой. Она была рада, что ночное ее свидание
с бабушкой кончилось, и с удовольствием помышляла о
будущем своем богатстве. Долго Ивановна ожидала ее с нетерпением.
— Слава богу! — сказала она, увидев ее.— Я уже боялась, чтоб с тобою чего-нибудь не случилось. Рассказывай скорей, что ты делала у бабушки?
Маша готовилась повиноваться, но сильная усталость мешала ей говорить. Ивановна, заметив, что глаза ее невольно смыкаются, оставила до другого утра удовлетворение
своего любопытства, сама раздела любезную дочку и уложила ее в постель, где она вскоре заснула глубоким сном.
Проснувшись на другой день, Маша насилу собралась
с мыслями. Ей казалось, что все случившееся с нею накануне не что иное, как тяжелый сон; когда же взглянула нечаянно на висящий у нее на шее ключ, то удостоверилась в истине всего, ею виденного,— и обо всем с подробностью рассказала матери. Ивановна была вне себя от
радости.
— Видишь ли теперь,— сказала она,— как хорошо я
сделала, что не послушалась твоих слез?
Весь тот день мать с дочерью провели в сладких мечтах о будущем благополучии. Ивановна строго запретила
Маше ни слова не говорить отцу о свидании своем с бабушкой.
— Он человек упрямый и вздорливый,— примолвила
она,— и в состоянии все дело испортить.
Против всякого ожидания Онуфрич приехал на следующий день поздно ввечеру. Станционный смотритель, которого должность ему приказано было исправлять, нечаянно
105
выздоровел, и он воспользовался первою едущею в Москву
почтою, чтоб возвратиться домой.
Не успел он еще рассказать жене и дочери, по какому
случаю он так скоро воротился, как вошел к ним в комнату прежний его товарищ, который тогда служил будочником в Лафертовской части, неподалеку от дома Маковин цы.
— Тетушка приказала долго жить! — сказал он, не дав
себе даже времени сперва поздороваться.
Маша и Ивановна взглянули друг на друга.
— Упокой господи ее душу! — воскликнул Онуфрич, смиренно сложив руки.— Помолимся за покойницу, она имеет
нужду в наших молитвах!
Он начал читать молитву. Ивановна с дочерью крестились и клали земные поклоны; но на уме у них были
сокровища, их ожидающие. Вдруг они обе вздрогнули в
одно время... Им показалось, что покойница с улицы смотрит к ним в комнату и им кланяется! Онуфрич и будочник, молившиеся с усердием, ничего не заметили.
Несмотря на то что было уже поздно, Онуфрич отправился в дом покойной тетки. Дорогою прежний товарищ
его рассказывал все, что ему известно было о ее смерти.
— Вчера,— говорил он,— тетка твоя в обыкновенное
время пришла к себе; соседи видели, что у нее в доме
светился огонь. Но сегодня она уже не являлась у Проломной, и из этого заключили, что она нездорова. Наконец, под вечер, решились войти к ней в комнату, по ее не
застали уже в живых — так иные рассказывают о смерти
старухи. Другие утверждают, что в прошедшую ночь
что-то необыкновенное происходило в ее доме. Сильная
буря, говорят, бушевала около хижины, тогда как везде
погода стояла тихая; собаки из всего околотка собрались
перед ее окном и громко выли; мяуканье ее кота слышно
было издалека... Что касается до меня, то я нынешнюю
ночь спокойно проспал; но товарищ мой, стоявший на часах,
уверяет, что он видел, как с самого Введенского кладбища прыгающие по земле огоньки длинными рядами тянулись к ее дому и, доходя до калитки, один за другим, как будто проскакивая под нее, исчезали. Необыкновенный шум, свист, хохот и крик, говорят, слышен был в ее
доме до самого рассвета. Странно, что до сих пор нигде
не могли отыскать черного ее кота!
Онуфрич с горестию внимал рассказу будочника, не отвечая ему ни слова. Таким образом пришли они в дом
Юб
покойницы. Услужливые соседки, забыв страх, который внушала им старушка при жизни, успели ее уже омыть и одеть
в праздничное платье. Когда Онуфрич вошел в комнату,
старушка лежала на столе. В головах у ней сидел дьячок и
читал Псалтырь. Онуфрич, поблагодарив соседок, послал купить восковых свеч, заказал гроб, распорядился, чтоб было
что попить и поесть желающим проводить ночь у покойницы, и отправился домой. Выходя из комнаты, он никак не
мог решиться поцеловать у тетушки руку.
В следующий день назначено быть похоронам. Ивановна для себя и для дочери взяла напрокат черные платья, и обе явились в глубоком трауре. Сначала все шло надлежащим порядком. Одна только Ивановна, прощаясь с
теткою, вдруг отскочила назад, побледнела и сильно задрожала. Она уверяла всех, что ей сделалось дурно; но после
того тихонько призналась Маше, что ей показалось, будто
покойница разинула рот и хотела схватить ее за нос. Когда
же стали поднимать гроб, то он сделался так тяжел, как
будто налитой свинцом, и шесть широкоплечих почтальонов
насилу могли его вынесть и поставить на дроги. Лошади
сильно храпели, и с трудом можно было их принудить двигаться вперед.
Эти обстоятельства и собственные замечания Маши подали ей повод к размышлениям. Она вспомнила, какими средствами сокровища покойницы были собраны, и обладание
оными показалось ей не весьма лестным. В некоторые минуты
ключ, висящий у нее на шее, как тяжелый камень давил ей
грудь, и она неоднократно принимала намерение все открыть
отцу и просить у него совета; но Ивановна строго за ней присматривала и беспрестанно твердила, что она всех их сделает несчастными, если не станет слушаться приказаний старушки. Демон корыстолюбия совершенно овладел душою Ивановны, и она не могла дождаться времени, когда явится
суженый жених и откроет средство завладеть кладом.
Хотя она и боялась думать о покойнице и хотя при воспоминании об ней холодный пот выступал у нее на лице, но в душе
ее жадность к золоту была сильнее страха, и она беспрестанно докучала мужу, чтоб он переехал в Лафертовскую часть,
уверяя, что всякий их осудит, если они жить будут на наемной
квартире тогда, когда у них есть собственный дом.
Между тем Онуфрич, отслужив свои годы и получив отставку, начал помышлять о покое. Мысль о доме производила
в нем неприятное впечатление, когда вспоминал он о той, от
которой он ему достался. Он даже всякий раз невольно вздра
107
гивал, когда случалось ему вступать в комнату, где прежде
жила старуха. Но Онуфрич был набожен и благочестив и верил, что никакие нечистые силы не имеют власти над чистою
совестью; и потому, рассудив, что ему выгоднее жить в своем
доме, нежели нанимать квартиру, он решился превозмочь
свое отвращение и переехать.
Ивановна сильно обрадовалась, когда Онуфрич велел переноситься в лафертовский дом.
— Увидишь, Маша,— сказала она дочери,— что теперь
скоро явится жених. То-то мы заживем, когда у нас будет
полна палата золота. Как удивятся прежние соседи наши,
когда мы въедем к ним на двор в твоей карете, да еще, может
быть, и четверней!..
Маша молча на нее смотрела и печально улыбалась. С некоторых пор у нее совсем иное было на уме.
За несколько дней перед их разговором (они еще жили на
прежней квартире) Маша в одно утро задумавшись сидела
у окна. Мимо ее прошел молодой, хорошо одетый мужчина,
взглянул на нее и учтиво снял шляпу. Маша ему тоже поклонилась и сама не знала, от чего вдруг закраснелась! Немного
погодя тот же молодой человек прошел назад, потом обернулся, прошел еще и опять воротился. Всякий раз он смотрел на
нее, и у Маши всякий раз сильно билось сердце. Маше уже
минуло семнадцать лет, но до сего времени никогда не случалось, чтоб у нее билось сердце, когда кто-нибудь проходил
мимо окошек. Ей показалось это странным, и она после обеда
села к окну — для того только, чтоб узнать, забьется ли сердце, когда опять пройдет молодой мужчина... Таким образом
она просидела до вечера, однако никто не являлся. Наконец,
когда подали огонь, она отошла от окна и целый вечер была
печальна и задумчива; она досадовала, что ей не удалось повторить опыта над своим сердцем.
На другой день Маша, только что проснулась, тотчас вскочила с постели, поспешно умылась, оделась, помолилась богу и села к окну. Взоры ее устремлены были в ту сторону, откуда накануне шел незнакомец. Наконец, она его увидела;
глаза его еще издали ее искали, а когда подошел он ближе,
взоры их как будто нечаянно встретились. Маша, забывшись,
приложила руку к сердцу, чтоб узнать, бьется ли оно?.. Молодой человек, заметив сие движение и, вероятно, не понимая,
что оно значит, тоже приложил руку к сердцу... Маша опомнилась, покраснела и отскочила назад. После того она целый
день уже не подходила к окну, опасаясь увидеть молодого человека. Несмотря на то, он не выходил у нее из памяти; она
108
старалась думать о других предметах, но усилия ее'были напрасны.
Чтоб разбить мысли, она вздумала ввечеру идти в гости к
одной вдове, жившей с ними в соседстве. Входя к ней в комнату, к крайнему удивлению, увидела она того самого незнакомца, которого тщетно забыть старалась. Маша испугалась, покраснела, потом побледнела и не знала, что сказать. Слезы
заблистали у ней в глазах. Незнакомец опять ее не понял... он
печально ей поклонился, вздохнул — и вышел вон. Она еще
более смешалась и с досады заплакала. Встревоженная соседка посадила ее возле себя и с участием спросила о причине
ее огорчения. Маша сама неясно понимала, о чем плакала, и
потому не могла объявить причины; внутренно же она приняла твердое намерение сколько можно убегать незнакомца, который довел ее до слез. Эта мысль ее поуспокоила. Она вступила в разговор с соседкой и начала ей рассказывать о домашних своих делах и о том, что они, может быть, скоро переедут в Лафертовскую часть.
— Жаль мне,— сказала вдова,— очень жаль, что лишусь
добрых соседей; и не я одна о том жалеть буду. Я знаю одного человека, который очень огорчится, когда узнает эту
новость.
Маша опять покраснела; хотела спросить, кто этот человек, но не могла выговорить ни слова. Услужливая соседка,
верно, угадала мысли ее, ибо она продолжала так:
— Вы не знаете молодого мужчины, который теперь вышел из комнаты? Может быть, вы даже и не заметили, что он
вчера и сегодня проходил мимо вашего дома; но он вас видел
и нарочно зашел ко мне, чтоб расспросить у меня об вас. Не
знаю, ошибаюсь ли я или нет, а мне кажется, что вы крепко
задели бедное его сердечко! Чего тут краснеть?— прибавила
она, заметив, что у Маши разгорелись щеки.— Он человек
молодой, пригожий и если нравится Машеньке, то, может
быть, скоро дойдет дело и до свадьбы.
При сих словах Машенька невольно вспомнила о бабушке.
«Ах!— сказала она сама себе.— Не это ли жених мне назначенный?» Но вскоре мысль эта уступила место другой, не
столь приятной. «Не может быть,— подумала она,— чтоб
такой пригожий молодец имел короткую связь с покойницею.
Он так мил, одет так щеголевато, что, верно, не умел бы удвоить бабушкина клада!» Между тем соседка продолжала ей
рассказывать, что он хотя из мещанского состояния, но поведения хорошего и трезвого, и сидельцем в суконном ряду. Денег у него больших нет, зато жалованье получает изрядное, и
109
кто знает? может быть, хозяин когда-нибудь примет его в товарищи!
— Итак,— прибавила она,— послушайся доброго совета:
не отказывай молодцу. Деньги не делают счастья! Вот бабушка твоя,— прости, господи, мое согрешение!— денег у нее
было неведь сколько; а теперь куда все это девалось?.. И черный кот, говорят, провалился сквозь землю — и деньги туда
же!
Маша внутренно очень согласна была с мнением соседки;
и ей также показалось, что лучше быть бедною и жить с любезным незнакомцем, нежели богатой и принадлежать — бог
знает кому! Она чуть было не открылась во всем; но, вспомнив
строгие приказания матери и опасаясь собственной своей слабости, поспешно встала и простилась. Выходя уже из комнаты, она, однако, не могла утерпеть, чтоб не спросить об имени
незнакомца.
— Его зовут Улияном,— отвечала соседка.
С этого времени Улиян не выходил из мыслей у Маши:
все в нем, даже имя, ей нравилось. Но чтоб принадлежать
ему, надобно было отказаться от сокровищ, оставленных бабушкою. Улиян был не богат, и, верно, думала она, ни батюшка, ни матушка не согласятся за него меня выдать! В
этом мнении еще более она уверилась тем, что Ивановна беспрестанно твердила о богатстве, их ожидающем, и о счастливой жизни, которая тогда начнется. Итак, страшась гнева матери, Маша решилась не думать больше об Улияне: она остерегалась подходить к окну, избегала всяких разговоров с соседкою и старалась казаться веселою; но черты Улияна твердо врезались в ее сердце.
Между тем настал день, в который должно было переехать
в лафертовский дом. Онуфрич заранее туда отправился, приказав жене и дочери следовать за ним с пожитками, уложенными еще накануне. Подъехали двое роспусок; извозчики с
помощию соседей вынесли сундуки и мебель. Ивановна и Маша, каждая взяла в руки по большому узлу, и маленький караван тихим шагом потянулся к Проломной заставе. Проходя
мимо квартиры вдовы-соседки, Маша невольно подняла глаза: у открытого окошка стоял Улиян с поникшею головою;
глубокая печаль изображалась во всех чертах его. Маша
как будто его не заметила и отворотилась в противную сторону; но горькие слезы градом покатились по бледному ее
лицу.
В доме давно уже ожидал их Онуфрич. Он подал мнение
свое, куда поставить привезенную мебель, и объяснил им,
но
каким образом он думает расположиться в новом жилище.
— В этом чулане,— сказал он Ивановне,— будет наша
спальня; подле нее, в маленькой комнате, поставятся образа;
а здесь будет и гостиная наша и столовая. Маша может спать
наверху в светлице. Никогда.— продолжал он,— не случалось мне жить так на просторе: но не знаю, почему у меня
сердце не на месте. Дай бог, чтоб мы здесь были так же счастливы, как в прежних тесных комнатах!
Ивановна невольно улыбнулась. «Дай срок!— подумала
она.— В таких ли мы будем жить палатах!»
Радость Ивановны, однако, в тот же день гораздо по-
уменьшилась: лишь только настал вечер, как пронзительный
свист раздался по комнатам и ставни застучали.
— Что это такое?— вскричала Ивановна.
— Это ветер,— хладнокровно отвечал Онуфрич,— видно, ставни неплотно запираются; завтра надобно будет починить.
Она замолчала и бросила значительный взгляд на Машу, ибо в свисте ветра находила она сходство с голосом старухи.
В это время Маша смиренно сидела в углу и не слыхала ни свисту ветра, ни стуку ставней — она думала об Ули-
яне. Ивановне страшнее показалось то, что только ей одной
послышался голос старухи. После ужина она вышла в сени,
чтоб спрятать остатки от умеренного их стола; подошла к
шкафу, поставила подле себя на пол свечку и начала устанавливать на полки блюда и тарелки. Вдруг услышала она
подле себя шорох, и кто-то легонько ударил ее по плечу...
Она оглянулась... за нею стояла покойница в том самом платье, в котором ее похоронили!.. Лицо се было сердито; она
подняла руку и грозила ей пальцем. Ивановна, в сильном
ужасе, громко вскричала. Онуфрич и Маша бросились к ней
в сени.
— Что с тобою делается?— закричал Онуфрич, увидя,
что она была бледна, как полотно, и дрожала всеми членами.
— Тетушка!— сказала она трепещущим голосом... Она
хотела продолжать, но тетушка опять явилась пред нею...
лицо ее казалось еще сердитее — и она еще строже ей грозила. Слова замерли на устах Ивановны...
— Оставь мертвых в покое,— отвечал Онуфрич, взяв ее
за руку и вводя обратно в комнату.— Помолись богу, и греза
от тебя отстанет. Пойдем, ложись в постель: пора спать!
Ивановна легла, но покойница все представлялась ее глазам в том же сердитом виде. Онуфрич, спокойно раздевшись,
111
громко начал молиться, и Ивановна заметила, что по мере
того, как она вслушивалась в молитвы, вид покойницы становился бледнее, бледнее — и наконец совсем исчез.
И Маша тоже беспокойно провела эту ночь. При входе в
светлицу ей представилось, будто тень бабушки мелькала
перед нею,— но не в том грозном виде, в котором являлась
она Ивановне. Лицо ее было весело, и она умильно ей улыбалась. Маша перекрестилась— и тень пропала. Сначала она
сочла это игрою воображения, и мысль об Улияне помогла ей
разогнать мысль о бабушке; она довольно спокойно легла
спать и вскоре заснула. Вдруг, около полуночи, что-то ее разбудило. Ей показалось, что холодная рука гладила ее по лицу... она вскочила. Перед образом горела лампада, и в комнате не видно было ничего необыкновенного; но сердце в ней
трепетало от страха: она внятно слышала, что кто-то ходит
по комнате и тяжело вздыхает... Потом как будто дверь отворилась и заскрипела... и кто-то сошел вниз по лестнице.
Маша дрожала как лист. Тщетно старалась она опять
заснуть. Она встала с постели, поправила светильню лампады и подошла к окну. Ночь была темная. Сначала Маша
ничего не видала; потом показалось ей, будто на дворе, подле
самого колодца, вспыхнули два небольшие огонька. Огоньки
эти попеременно то погасали, то опять вспыхивали; потом они
как будто ярче загорели, и Маша ясно увидела, как подле колодца стояла покойная бабушка и манила ее к себе рукою...
За нею на задних лапах сидел черный кот, и оба глаза его в
густом мраке светились, как огни. Маша отошла прочь от
окна, бросилась на постель и крепко закутала голову в одеяло. Долго казалось ей, будто бабушка ходит по комнате, шарит по углам и тихо зовет ее по имени. Один раз ей даже представилось, что старушка хотела сдернуть с нее одеяло; Маша еще крепче в него завернулась. Наконец все утихло, но
Маша во всю ночь уже не могла сомкнуть глаз.
На другой день решилась она объявить матери, что откроет все отцу своему и отдаст ему ключ, полученный от бабушки. Ивановна во время вечернего страха и сама бы рада была отказаться от всех сокровищ; но когда поутру взошло красное солнышко и яркими лучами осветило комнату,
то и страх исчез, как будто его никогда не бывало. Наместо
того веселые картины будущей счастливой жизни опять заняли ее воображение. «Не вечно же будет пугать меня покойница,— думала она,— выйдет Маша замуж, и старуха успокоится. Да и чего теперь она хочет? Уж не за то ли она гневается, что я никак не намерена сберегать ее сокровища? Нет,
112
тетушка! Гневайся сколько угодно; а мы протрем глаза твоим
рублевикам!»
Тщетно Маша упрашивала мать, чтоб она позволила ей
открыть отцу их тайну.
— Ты насильно отталкиваешь от себя счастие,— отвечала Ивановна.— Погоди еще хотя дня два,— верно, скоро
явится жених твой, и все пойдет на лад.
— Дня два!— повторила Маша.— Я не переживу и одной
такой ночи, какова была прошедшая.
— Пустое,— сказала ей мать,— может быть, и сегодня
все дело придет к концу.
Маша не знала, что делать. С одной стороны, она чувствовала необходимость рассказать все отцу; с другой — боялась
рассердить мать, которая никогда бы ей этого не простила.
Будучи в крайнем недоумении,— на что решиться, вышла она
со двора и в задумчивости бродила долго по самым уединенным улицам Лафертовской части. Наконец, не придумав ничего, воротилась домой. Ивановна встретила ее в сенях.
— Маша!— сказала она ей.— Скорей поди вверх и приоденься: уж более часу сидит с отцом жених твой и тебя ожидает.
У Маши сильно забилось сердце, и она пошла к себе. Тут
слезы ручьем полились из глаз ее. Улиян представился ее воображению в том печальном виде, в котором она видела его
в последний раз. Она забыла наряжаться. Наконец строгий
голос матери прервал ее размышления.
— Маша! Долго ли тебе прихорашиваться?— кричала
Ивановна снизу.— Сойди сюда!
Маша поспешила вниз в том же платье, в котором вошла в свою светлицу. Она отворила дверь и оцепенела!..
На скамье, подле Онуфрича, сидел мужчина небольшого росту, в зеленом мундирном сюртуке; то самое лицо
устремило на нее взор, которое некогда видела она у черного кота. Она остановилась в дверях и не могла идти
далее.
— Подойди поближе,— сказал Онуфрич,— что с тобою
сделалось?
— Батюшка! Это бабушкин черный кот,— отвечала Маша, забывшись и указывая на гостя, который странным образом повертывал головою и умильно на нее поглядывал, почти
совсем зажмурив глаза.
— С ума ты сошла!— вскричал Онуфрич с досадою.—
Какой кот? Это господин титулярный советник Аристарх Фа-
113
лелеич Мурлыкин, который делает тебе честь и просит твоей
руки.
При сих словах Аристарх Фалелеич встал, плавно выступая, приблизился к ней и хотел поцеловать у нее руку. Маша
громко закричала и подалась назад. Онуфрич с сердцем вскочил с скамейки.
— Что это значит?— закричал он.— Эдакая ты неучтивая, точно деревенская девка!
Однако ж Маша его не слушала.
— Батюшка!— сказала она ему вне себя.— Воля ваша!
Это бабушкин черный кот! Велите ему скинуть перчатки; вы
увидите, что у него есть когти.— С сими словами она вышла
из комнаты и убежала в светлицу.
Аристарх Фалелеич тихо что-то ворчал себе под нос. Онуфрич и Ивановна были в крайнем замешательстве, но Мурлыкин подошел к ним, все так же улыбаясь.
— Это ничего, сударь,— сказал он, сильно картавя,— ничего, сударыня, прошу не прогневаться! Завтра я опять приду, завтра дорогая невеста лучше меня примет.
После того он несколько раз им поклонился, с приятнос-
тию выгибая круглую свою спину, и вышел вон. Маша смотрела из окна и видела, как Аристарх Фалелеич сошел с лестницы и, тихо передвигая ноги, удалился; но, дошед до конца дома, он вдруг повернул за угол и пустился бежать, как стрела. Большая соседская собака с громким лаем во всю прыть
кинулась за ним, однако не могла его догнать.
Ударило двенадцать часов; настало время обедать. В глубоком молчании все трое сели за стол, и никому не хотелось
кушать. Ивановна от времени до времени сердито взглядывала на Машу, которая сидела с потупленными глазами. Онуфрич тоже был задумчив. В конце обеда принесли Онуфричу
письмо; он распечатал — и на лице его изобразилась радость.
Потом он встал из-за стола, поспешно надел новый сюртук, взял в руки шляпу и трость и готовился идти со
двора.
— Куда ты идешь, Онуфрич?— спросила Ивановна.
— Я скоро ворочусь,— отвечал он и вышел.
Лишь только он затворил за собою дверь, как Ивановна
начала бранить Машу.
— Негодная!— сказала она ей.— Так-то любишь и почитаешь ты мать свою? Так-то повинуешься ты родителям?
Но я тебе говорю, что приму тебя в руки! Только смей опять
подурачиться, когда пожалует к нам завтра Аристарх Фалелеич!
114
— Матушка!— отвечала Маша со слезами.— Я во всем
рада слушаться, только не выдавайте меня за бабушкина
кота!
— Какую дичь ты опять запорола?— сказала Ивановна.— Стыдись, сударыня; все знают, что он титулярный советник.
— Может быть, и так, матушка,— отвечала бедная Маша, горько рыдая,— но он кот, право кот!
Сколько ни бранила ее Ивановна, сколько ее ни уговаривала, но она все твердила, что никак не согласится выйти замуж за бабушкина кота; и наконец Ивановна в сердцах выгнала ее из комнаты. Маша пошла в свою светлицу и
опять принялась горько плакать.
Спустя несколько времени она услышала, что отец ее воротился домой, и немного погодя ее кликнули. Она сошла
вниз; Онуфрич взял ее за руку и обнял с нежнос-
тию.
— Маша!— сказал он ей.— Ты всегда была добрая девушка и послушная дочь!
Маша заплакала и поцеловала у него руку.
— Теперь ты можешь доказать нам, что ты нас любишь!
Слушай меня со вниманием. Ты, я думаю, помнишь о маркитанте, о котором я часто вам рассказывал и с которым свел я
такую дружбу во время Турецкой войны: он тогда был человек бедный, и я имел случай оказать ему важные услуги. Мы
принуждены были расстаться и поклялись вечно помнить друг
друга. С того времени прошло более тридцати лет, и я совершенно потерял его из виду. Сегодня за обедом получил я от
него письмо; он недавно приехал в Москву и узнал, где я живу. Я поспешил к нему; ты можешь себе представить, как мы
обрадовались друг другу. Приятель мой имел случай вступить
в подряды, разбогател и теперь приехал сюда жить на покое.
Узнав, что у меня есть дочь, он обрадовался; мы ударили по
рукам, и я просватал тебя за его единственного сына. Старики
не любят терять времени — и сегодня ввечеру они оба у нас
будут.
Маша еще горче заплакала; она вспомнила об Ули-
яне.
— Послушай, Маша! — сказал Онуфрич.—Сегодня поутру сватался за тебя Мурлыкин; он человек богатый, которого
знают все в здешнем околотке. Ты за него выйти не захотела;
и признаюсь,— хотя я очень знаю, что титулярный советник
не может быть котом или кот титулярным советником,— однако мне самому он показался подозрительным. Но сын прия
115
теля моего — человек молодой, хороший, и ты не имеешь никакой причины ему отказать. Итак, вот тебе мое последнее
слово: если не хочешь отдать руку свою тому, которого я выбрал, то готовься завтра поутру согласиться на предложение
Аристарха Фалелеича... Поди и одумайся.
Маша в сильном огорчении возвратилась в свою светлицу.
Она давно решилась ни для чего на свете не выходить за Мур-
лыкина; но принадлежать другому, а не Улияну,— вот что показалось ей жестоким! Немного погодя вошла к ней Ивановна.
— Милая Маша!— сказала она ей.— Послушайся моего совета. Все равно, выходить тебе за Мурлыкина или за
маркитанта: откажи последнему и ступай за первого. Отец,
хотя и говорил, что маркитант богат, но ведь я отца твоего
знаю! У него всякий богат, у кого сотня рублей за пазухой.
Маша! Подумай, сколько у нас будет денег... а Мурлыкин, право, не противен. Хотя он уже не. совсем молод, но
зато как вежлив, как ласков! Он будет тебя носить на
руках.
Маша плакала, не отвечая ни слова; а Ивановна, думая,
что она согласилась, вышла вон, дабы муж не заметил, что
она ее уговаривала. Между тем Маша, скрепя сердце, решилась принесть отцу на жертву любовь свою к Улияну. «Постараюсь его забыть,— сказала она сама себе,— пускай батюшка будет счастлив моим послушанием. Я и так перед
ним виновата, что против его воли связалась с бабушкой!»
Лишь только смерилось, Маша тихонько сошла с лестницы и направила шаги прямо к колодезю. Едва вступила
она на двор, как вдруг вихрь поднялся вокруг нее, и казалось, будто земля колеблется под ее ногами... Толстая
жаба с отвратительным криком бросилась к ней прямо
навстречу, но Маша перекрестилась и с твердостию пошла
вперед. Подходя к колодезю, послышался ей жалостный
вопль, как будто выходящий с самого дна. Черный
кот печально сидел на срубе и мяукал унылым голосом.
Маша отворотилась и подошла ближе; твердою рукою
сняла она с шеи снурок и с ним ключ, полученный от бабушки.
— Возьми назад свой подарок! — сказала она.— Не
надо мне ни жениха твоего, ни денег твоих; возьми и оставь нас в покое.
Она бросила ключ прямо в колодезь; черный кот завизжал и кинулся туда же; вода в колодезе сильно заки
116
пела... Маша пошла домой. С груди ее свалился тяжелый
камень.
Подходя к дому, Маша услышала незнакомый голос, разговаривающий с ее отцом. Онуфрич встретил ее у дверей
и взял за руку.
— Вот дочь моя! — сказал он, подводя ее к почтенному
старику с седою бородою, который сидел на лавке. Маша
поклонилась ему в пояс.
— Онуфрич! — сказал старик.— Познакомь же ее с женихом.
Маша робко оглянулась — подле нее стоял Улиян! Она
закричала и упала в его объятия...
Я не в силах описать восхищения обоих любовников. Онуфрич и старик узнали, что они уже давно познакомились,—
и радость их удвоилась. Ивановна утешилась, узнав, что у
будущего свата несколько сот тысяч чистых денег в ломбарде. Улиян тоже удивился этому известию, ибо он никогда
не думал, чтоб отец его был так богат. Недели чрез две
после того их обвенчали.
В день свадьбы, ввечеру, когда за ужином в доме Улия-
на веселые гости пили за здоровье молодых, вошел в комнату известный будочник и объявил Онуфричу, что в самое
то время, когда венчали Машу, потолок в лафертовском
доме провалился и весь дом разрушился.
— Я и так не намерен был долее в нем жить,— сказал
Онуфрич.— Садись с нами, мой прежний товарищ, налей
стакан цимлянского и пожелай молодым счастия и — многие лета!
— Эта повесть,— сказал Двойник,— более мне нравится,
чем Изидор и Анюта; напрасно, однако ж, вы не прибавили развязки. Иной и в самом деле подумает, что Машина бабушка была колдунья.
— Для суеверных людей развязок не напасешься,—
отвечал я.— Впрочем, кто непременно желает знать развязку моей повести, тот пускай прочитает «Литературные
новости» 1825 года. Там найдет он развязку, сочиненную почтенным издателем «Инвалида», которую я для того
не пересказал вам, что не хочу присвоивать чужого добра.
Да неужто вы не верите гаданию на картах и на кофейной гуще?
— Виноват, дражайший Антоний: нимало не верю. Из лю
117
бопытства я нарочно знакомился со всеми ворожеями и ворожейками, которых только отыскать мог, и каждое новое
такого рода знакомство более и более меня утверждало в
моем неверии.
— Согласитесь, однако, что иногда отгадывают будущее
по картам!
— Соглашаюсь, любезный друг, но это ничего не доказывает. Что мудреного, если, часто гадая, что-нибудь и отгадаешь? Самому записному вралю иногда случается сказать
правду, но за то не перестает он быть вралем.
— Но,— прервал я Двойника,— вам, верно, не случалось
встречать настоящих ворожеек, а потому вы и не верите
гаданию. Что, например, скажете вы о госпоже le Normand,
которая, говорят, предсказала судьбу первой супруге Наполеона, императрице Иозефине, тогда, когда Наполеон и не
помышлял еще о разводе?
— Я имел честь лично познакомиться с госпожою
le Normand в бытность мою в Париже. Иозефина была
еще в свежей памяти у парижан, и я точно помню, что
носились слухи, будто бы le Normand ей предсказывала,
что она умрет на соломе. Вы знаете, что пророчество это
не сбылось. Между тем ворожея лет десять после того воспользовалась давно забытыми слухами и напечатала, что она
когда-то предсказывала Иозефине участь, ее постигшую...
В то время новые и важнейшие происшествия занимали
французов и изгладили из памяти их бедную Иозефину
с мнимым предсказанием le Normand; и никто не счел за
нужное противоречить ее хвастовству. Что касается до меня,
то, познакомившись с нею, я удостоверился в том, в чем
и прежде не сомневался, а именно что она не что иное,
как обыкновенная шарлатанка. Я опишу вам в подробности
наше знакомство.
В одно утро я на площади Лудовика XV взял фиакр
и приказал ему ехать к le Normand. Жилище ее известно
всем извозчикам в Париже, и потому фиакр мой, не требуя дальнейших объяснений, привез меня прямо к ее квартире. При входе в переднюю горничная встретила меня с
таинственным видом и спросила, что мне угодно? Я отвечал, что желаю посоветоваться с знаменитою ее госпожою.
— Покорнейше прошу подождать немного,— сказала она, отворяя дверь в гостиную,— барыня теперь занята.
Я вошел в гостиную и, подходя к окну, увидел, что
118
горничная уже успела выбежать на улицу и весьма прилежно разговаривает с моим кучером, который, вероятно,
не мог доставить ей никаких обо мне сведений.
Меня заставили довольно долго дожидаться, и я от скуки принялся рассматривать комнату, в которой находился.
Она была убрана в новейшем вкусе: на камельке и столах бронзы, на стенах картины, а на окнах фарфоровые
горшки с цветами. Прохаживаясь вдоль и поперек по комнате, я заметил, что зеленая занавесь, которая закрывала
стеклянную дверь, ведущую во внутренние покои, от времени
до времени шевелилась, и один раз мне удалось на одно
мгновение увидеть два большие черные глаза, которые, как
я после удостоверился, принадлежали самой волшебнице.
Наконец, та же горничная пришла мне объявить, что госпожа le Normand меня ожидает. Отворили стеклянную
дверь, и я вступил в храм Пифии, которая присела передо
мною новейшим манером. Я увидел женщину лет за сорок,
среднего роста, довольно дородную, с большими черными глазами и такими же бровями. Горничная подала мне стул
и вышла вон.
На столе, среди комнаты, стояли небесные глобусы и
лежали разные математические инструменты, а между ними набитые чучелы: небольшой крокодил, ящерица и змея.
По стенам развешаны были картины, представляющие разные магические фигуры. В одном углу стоял человеческий
скелет, завешенный черным флером; в другом заметил я на
полке три или четыре стеклянные банки с уродами в спирте.
На просьбу мою открыть мне будущую судьбу, она отвечала вопросом: на каких картах я хочу, чтоб она загадала,
на больших или на маленьких?
— Какая между ними разница? — спросил я.
— Гадание на маленьких картах стоит пять франков, а на
больших десять.
— В таком случае прошу загадать на больших.
Волшебница взяла колоду карт, которые действительно были весьма большого размера, с странными изображениями и магическими знаками, помешала их, пошептала над ними, так же как и у нас в России это делается, и потом разложила их на столе. Тут начала она рассказывать мне многое, о котором могу объявить
вам только, что ничего из сказанного со мною не сбылось.
Окончив гадание, волшебница встала, опять присела передо мною и весьма милостиво приняла от меня десять фран
119
ков. Потом спросила: не хочу ли я, чтоб она написала мой
гороскоп, в котором означено будет все, что со мною должно
случиться в течение жизни?
— Очень хорошо,— отвечал я.
— Какой гороскоп прикажете, большой или маленький?
— А какая между ними разница?
— Большой стоит два луидора, а маленький один; но
зато в большом гораздо более подробностей.
— Ну, так напишите мне большой; я люблю подробности.
Дней чрез несколько я заехал опять к ней, получил
подробный гороскоп и заплатил два луидора... Вот вам верное и точное описание моего знакомства с знаменитою
госпожою le Normand.
— А гороскоп? — спросил я у Двойника.
— Гороскоп как гороскоп,— отвечал он.— В нем весьма подробно описано все, что должно было со мною случиться; но, к несчастию, волшебница на письме так же ошиблась, как на словах, то есть ни одно из предсказаний ее не сбылось. Если вы собираете рукописи знаменитых людей, то я готов подарить вам этот гороскоп, который с начала до конца писан рукою госпожи le Normand.
— Покорно благодарю. Расскажите мне лучше, отчего
так часто встречаются между умными и образованными
людьми такие, кои верят гаданию, волшебству и колдовству?
— От того, любезный Антоний, что — как справедливо
говорится пословица — на каждого мудреца довольно простоты. Кстати припоминаю я теперь, что между многими
другими родами ума и душевных недостатков, не помещенными в сделанном мною выше исчислении, забыто также легковерие, которое между тем очень часто играет немаловажную роль в деяниях людских. Впрочем, правду
сказать, нынешний свет скорее упрекать можно в неверии,
нежели в легковерии. В древние времена это было совсем
напротив. Геродот и Диодор Сицилийский, Цицерон и Плиний, Юлий Кесарь и Юлиан верили волшебству, колдовству и привидениям. Известнейшие древние авторы, и между
ними сам Платон, говорят об этих предметах, как о вещах
весьма обыкновенных.
В средние веки еще более преданы были этому суеверию. Ужас меня берет всякий раз, когда я читаю, сколь
120
ко в то время пострадало невинных людей за мнимое волшебство,— сколько сожжено и казнено ведьм и колдунов!
И это случалось не только в Испании, которую привыкли
мы обвинять за ее инквизицию, но в учтивой Франции
и в важной Германии, и тогда уже славившихся просвещением! В царствование Генриха IV во Франции, по приговорам судов и парламентов, сожжено множество колдунов, ведьм и оборотней. В 1628 году Деборд (Desbordes),
камердинер герцога Лотарингского Карла IV, обвинен был
в колдовстве. Рассказывают, что герцог возымел на него
подозрение с того времени, как камердинер сей, будучи с
ним на охоте, дал ему и всей многочисленной компании
великолепный пир, без малейших к тому приготовлений и
не имея при себе ничего, кроме маленького ящичка, из
которого он брал все, что нужно было для пиршества.
В тот же день Деборд приказал трем казненным ворам,
которых трупы висели на виселицах, сойти с оных и потом
опять возвратиться на прежние места. В другой раз он
велел изображенным на обоях лицам отделиться от стен и
стать посреди комнаты. Бедного Деборда судили формальным порядком и публично сожгли на костре.
Преследования колдунов продолжались еще в царствование Лудовика XIV и после оного. В Германии также,
и уже после того, как возникла Реформация, во время
Тридцатилетней войны и даже долгое время после оной,
во всех концах, у католиков и лютеран, публично жгли
ведьм,— и число сих жертв самого непростительного суеверия теперь кажется нам неимоверным!
Древние не так жестоко поступали с колдунами, хотя и
у них встречаем мы примеры людей, осужденных на смерть
за волшебство. Тацит рассказывает, что Тиберий обучался
магии и потом, осудив на смерть всех волшебников, вместе с ними велел умертвить и учителя своего Фрасивула.
Во времена Клавдия также казнили одного римлянина за
волшебство. Павзаиний говорит, что в Афинах учреждено
было особенное судилище для отыскания и наказания волшебников. Но примеры смертных казней у них не так были
часты, хотя суеверие это для них, погруженных во мраке
идолопоклонничества, извинительнее было, нежели для нас.
Признаюсь, что я имею некоторое пристрастие к древним; и
потому, может быть, повести римлян и греков о ведьмах
и привидениях для меня несравненно занимательнее всего,
что в теперешнее время о том пишут и рассказывают.
121
— Часто ли,— спросил я у Двойника,— в их творениях
встречаются подобные рассказы?
— Весьма часто,— отвечал он.— В то время вовсе не знали так называемых крепких умов (esprits forts). Как подумаешь, любезный Антоний, как с тех пор свет переменился!
Тогда славнейшие мудрецы боялись отвергать то, чего не понимали; а теперь — посмотрите на детей, едва из школы
вышедших: они никому и ничему не верят, никого и ничего
не боятся; а что касается до отвлеченных предметов, так им
море по колено!
— Не верьте этому, почтенный Двойник! Не верьте, пожалуйте! Бедные дети принимают только на себя вид крепких умов, между тем как у них совсем иное на душе.
Виноваты не они, а родители и воспитатели, которые не умеют ни укрощать самолюбия их, ни давать правильное направление неопытному и пылкому их уму. Но я прервал начатый вами разговор о древних. Весьма бы мне приятно
было, если бы вы рассказали какое-нибудь древнее происшествие о привидениях или колдовстве.
— Вы уже слышали от меня,— отвечал Двойник,—
приключение двух аркадян, о котором повествует Цицерон.
Оно почерпнуто им из Спевзиппа. Ту же самую историю
рассказывает Валерий Максим с небольшими отступлениями.
Вообще, сказать можно, что в редком авторе не найдете
вы чего-либо касательно сего предмета. Геродот — кроме
других этого рода анекдотов — рассказывает о привидении,
являвшемся два раза Ксерксу пред войною персов с греками. Плутарх, Аппиан и Флор упоминают о явлении, которое видел Брут. Плиний рассказывает даже, что к одному из
собственных его невольников неоднократно лазило привидение в окно для того, чтоб остричь ему волосы... Приключения с мертвецами, которые беспокоят живых, потому что
кости их не погребены, также очень часто у них встречаются. Тот же Плиний с большими подробностями рассказывает случившееся с философом Афенодором, который,
прибыв в Афины, нанял за весьма дешевую цену дом, остававшийся долгое время без жильцов по той причине, что
в полночь приходило туда привидение в образе сухого и угрюмого старика в цепях, с длинною бородою и всклоченными
волосами. Афенодор переехал жить в тот дом и узнал от
старика, что кости его зарыты на дворе. На другой день их
отрывают, погребают торжественно — и с того времени в доме сделалось спокойно.
— Если вы желаете иметь сведения о тогдашних ведь
122
мах,— продолжал Двойник,— то можете оные почерпнуть
также из творений древних авторов. Читали ль вы «Золотого осла» Апулеева?
— Нет,— отвечал я.
— Жаль,— сказал Двойник,— эта книга весьма любопытна во многих отношениях. На русском языке есть перевод Кострова, напечатанный в Москве 1780 года. Перевод этот довольно хорош, но писан языком грубым и ныне
обветшалым. Если когда-нибудь вздумают сделать новое издание, то надобно будет, кроме исправлений касательно
языка, выпустить несколько неблагопристойных сцен и выражений. В Апулее найдете вы, кроме любопытных подробностей о жизни древних, об Элевзинских таинствах и прочем, множество страшных историй, которые даже годились
бы для баллад. Если вам угодно, я расскажу из него повесть об одном купце, по имени Сократе, зарезанном ведьмою, которая заткнула потом рану его грецкою губкою...
Бедный Сократ, не заметив этого, ходил еще несколько
часов и разговаривал с своими товарищами. Наконец он
почувствовал жажду и лишь только выпил воды, как губка
намокла, выпала из раны, и он без дыхания упал на землю...
Я должен, однако, предварить вас, что история эта ужасна!
— Так лучше не рассказывайте,— прервал я Двойника.— Я не люблю ужасных историй.
— В таком случае расскажу вам другую повесть, тоже
из Апулея. Телефрон на пиршестве у Биррены повествует следующим образом: «В молодости моей отправился я из
Милета, чтоб видеть олимпийские игры и осмотреть все
достопамятности славной вашей области. Прошед всю Фессалию, прибыл я, к несчастию моему, в город Лариссу,
где бродил по улицам и старался сыскать себе пропитание,
будучи весьма беден и не имея даже насущного хлеба.
Нечаянно пришел я на площадь и увидел старика высокого
роста, который стоял на камне и громким голосом кричал
народу: «Если кто согласен стеречь мертвого, тот пусть со
мною торгуется о цене». С удивлением спросил я у одного
из проходящих: что это значит? «Неужели,— сказал я ему,—
в стране вашей мертвецы уходят?» — «Молчи, молодой человек! — отвечал он.— Ты, видно, иностранец и не помышляешь о том, что находишься среди Фессалии, где волшебницы обыкновенно обезображивают лицо у мертвых и уносят некоторые части тела для своих чар!» Слова эти еще
более возбудили мое любопытство, и я опять спросил у него:
123
«Скажи, пожалуй, каким же образом у вас стерегут мертвых?» — «Во-первых,— отвечал он,— должно целую ночь
стоять на карауле, не смыкая глаз, и пристально смотреть
на лежащий перед тобою труп, ни под каким видом не оглядываясь ни на одну минуту; в противном случае эти проклятые старухи, превратившись в какое-нибудь животное,
так искусно и проворно подкрадываются, что даже солнце
не могло бы их приметить. Они обыкновенно принимают на
себя вид собак, мышей, птиц, а иногда даже мух; между
тем, силою волшебства своего, стараются погрузить в глубокий сон того, кто охраняет тело. Одним словом, невозможно описать всех хитрых уловок, употребляемых волшебницами для достижения своей цели... Несмотря на то, за эту
опасную должность редко платят более пяти или шести золотых статиров. Но я забыл упомянуть еще об одном
важнейшем обстоятельстве, а именно: если обязавшийся
стеречь тело поутру не возвратит оного в совершенной целости, то у него самого насильно отрезывают тс
части, которые во время ночи украдены будут у мертвого».
Узнав обо всем обстоятельно, я смело подошел к старику и сказал ему решительно: «Полно тебе кричать; я
готов стеречь твоего мертвеца,— скажи только, много ли
я за то получу?» — «Шесть золотых статиров,— отвечал
он.— Но послушай, юноша! — не забывай, что тебе поручено будет стеречь сына такого человека, который в целом
городе считается из первых, и потому непременно ты должен охранить его от проклятых гарпий».— «Экой вздор! —
отвечал я смеясь.— Разве ты не видишь, что я человек
неутомимый и неусыпный. Уверяю тебя, что взор самого
Аргуса не быстрее моего».
Старик, не сказав на это ни слова, повел меня в один
дом, у которого большие вороты были заперты. Мы взошли
на двор чрез маленькие задние дверцы, и он ввел меня в
темный покой, где все окна были закрыты. Там увидел я
женщину в черном платье, обливающуюся слезами. К ней
подвел меня старик, сказав, что я берусь охранять тело ее
мужа. Она откинула на обе стороны длинные волосы, закрывавшие лицо, которое, несмотря на печаль и смущение,
показалось мне прекрасным, посмотрела на меня пристально
и сказала: «Прошу тебя убедительно, старайся как можно
тщательнее исполнить принятую тобою обязанность!» —
«Об этом не беспокойтесь,— отвечал я,— обещайтесь только
дать мне еще сколько-нибудь сверх договоренной цены».
124
Она согласилась и немедленно повела меня в другой
покой, где лежало тело ее мужа, покрытое белою пеленою.
Открыв его, она подозвала приглашенных нарочно для сего
свидетелей и показала им, что тело нисколько не повреждено: нос на своем месте, глаза не испорчены, уши и губы целы и подбородок таков, как был прежде. Один из
свидетелей между тем записывал все ее слова на таблице, к которой приложила она печать свою и удалилась.
«Милостивая государыня! — закричал я вслед за нею.—
Прикажите дать мне все нужное!» — «А что тебе надобно?» — был ее ответ. «Мне нужна,— сказал я,— во-первых,
большая лампада с достаточным количеством масла на всю
ночь; потом несколько кружек вина и что-нибудь из кушанья,
оставшегося от ужина».— «Как тебе не стыдно! — прервала
она меня с досадою.— Ты требуешь остатков от ужина в
таком доме, где с отчаяния уже несколько дней о кушанье и
не помышляли. Или ты думаешь, что тебя сюда на пир
позвали? Пристойнее бы тебе плакать и горевать вместе с
нами,— потом подозвав служанку,— Миррена! — сказала
она ей.— Подай сюда тотчас лампаду с маслом». После
того заперли меня с мертвым телом и удалились в другую
часть дома.
Оставшись один для охранения покойника, я хорошенько протер себе глаза, чтоб приготовиться к новой своей
должности, и от скуки начал петь, прохаживаясь по комнате.
Между тем день склонился к вечеру, настала ночь, и повсюду водворилось глубокое молчание. Наконец, когда наступила полночь, вдруг объял меня страх и ужас! Я увидел
маленького зверька, подобного кунице, который, вбежав в
комнату, стал прямо против меня и так пристально вперил на меня острые глаза свои, что дерзость этой маленькой твари привела меня в смущение. «Убирайся отсель, мерзкая тварь! — закричал я.— Убирайся в свою нору, пока не
ушибу тебя!» Зверек тотчас убежал и скрылся от моих
взоров. Потом вдруг объял меня такой сильный и непреодолимый сон...»
Тут вспомнил я обещание, данное нами друг другу,
и, хотя против желания, прервал Двойника.
— Повесть ваша весьма любопытна,— сказал я,— и
мне бы очень хотелось знать, что происходило после того,
как Телефрон заснул, но мы обещались взаимно напоминать друг другу, как скоро заговорим о подобных предметах, и я должен исполнить свое обещание. Прошу вас, од
125
нако, на этот только раз, сделать исключение из правила.
— Нет, любезный Антоний! — отвечал Двойник.— Вы
знаете русскую пословицу: не давши слова, крепись, а давши, держись; и потому никак на то не могу согласиться.
А чтоб вы более меня не просили, я теперь же вам откланяюсь... Прощайте!
М.Н. Загоскин
НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ
— Отец мой был человек старого века,— начал так Антон Федорович Кольчугин,— хотя, благодаря, во-первых, бога, а во-вторых, родителей, достаток у него был дворянский, и он мог бы жить не хуже своих соседей,— то есть
выстроить хоромы саженях на пятнадцати, завести псовую
охоту, роговую музыку, оранжереи и всякие другие барские затеи,— но он во всю жизнь ни разу и не подумал
об этом; жил себе в маленьком домике, держал не больше
десяти слуг, охотился иногда с ястребами и под веселой
час так-то, бывало, тешится, слушая Ваньку-гуслиста, который,— не тем будь помянут,— попивал, а лихо, разбойник,
играл на гуслях; бывало, как хватит «Заря утрення взошла» или «На бережку у ставкё» — так заслушаешься! Но
если батюшка мой не щеголял ни домом, ни услугою, то
зато крепко держался пословицы: «Не красна изба углами,
а красна пирогами». И в старину, чай, такие хлебосолы
бывали в диковинку! Дом покойного батюшки выстроен был
на самой большой дороге; вот если кто-нибудь днем или
вечером остановится кормить на селе, то и бегут ему сказать;
и коли проезжие хоть мало-мальски не совсем простые
люди, дворяне, купцы или даже мещане, так милости
просим на барский двор; закобенились — так околицу на запор, и хоть себе голосом вой, а они на одном дворе ни клока сена, ни зерна овса не продадут. Что и говорить: любил
пображничать покойник! Бывало, как залучит к себе гостей,
так пойдет такая попойка, что лишь только держись: море
разливанное; чего хочешь, того просишь. Всяких чужеземных
напитков сортов до десяти в подвале не переводилось, а уж
об наливках и говорить нечего!
Однажды зимою, ровно через шесть месяцев после коичи-
128
ны моей матушки сидел он один-одинехонек в своем любимом
покое с лежанкою. Меня с ним не было: я уж третий
год был на службе царской и дрался в то время со шве-
тами. Дело шло к ночи; на дворе была метелица, холод
страшный, и часу в десятом так заколодило, что от мороза
все стены в доме трещали. В такую погоду гостей не дождешься. Что делать? Покойный батюшка, чтоб провести время до ужина,— а он никогда не изволил ужинать прежде
одиннадцатого часу,— принялся за Четьи-Минею. Развернул
наудачу и попал на житие преподобного Исакия, затворника
печерского. Когда он дочел до того места, где сказано, что
бесы, явившись к святому угоднику под видом ангелов,
обманули его и, восклицая: «Наш еси, Исакий!», заставили его насильно плясать вместе с собою, то покойный батюшка почувствовал в душе своей сомнение, соблазнился и,
закрыв книгу, начал умствовать и рассуждать с самим собою.
Но чем более он думал, тем более казалось ему невероподобным таковое попущение божие. Вот в самое-то его раздумье нашла на него дремота, глаза стали слипаться, голова
отяжелела, и он мне сказывал, что не помнит сам, как прилег на канапе и заснул крепким сном. Вдруг в ушах у него
что-то зазвенело, он очнулся, слышит — бьют часы в его
спальне ровно десять часов. Лишь только он было приподнялся, чтоб велеть подавать себе ужинать, как вошел в комнату любимый его слуга Андрей и поставил на стол две зажженные свечи.
— Что ты, братец? — спросил батюшка.
— Пришел, сударь, доложить вам,— отвечал слуга,—
что на селе остановились приказный из города да козаки,
которые едут с Дону.
— Ну так .что ж? — перервал батюшка.— Беги скорей
на село, проси их ко мне, да не слушай никаких отговорок.
— Я уж их звал, сударь, и они сейчас будут,— пробормотал сквозь зубы Андрей.
— Так скажи, чтоб прибавили что-нибудь к ужину,—
продолжал батюшка,— и вели принесть из подвала штоф запеканки, две бутылки вишневки, две рябиновки и полдюжины виноградного. Ступай!
Слуга отправился. Минут через пять вошли в комна
5 Заказ 14
129
ту три козака и один пожилой человек в долгополом сюртуке.
— Милости просим, дорогие гости! — сказал батюшка,
идя к ним навстречу.
Зная, что набожные козаки всегда помолятся прежде святым иконам, а потом уж кланяются хозяину, он примолвил,
указывая на образ спасителя, который трудно было рассмотреть в темном углу: «Вот здесь!» — но, к удивлению его,
козаки не только не перекрестились, но даже и не поглядели
на образ. Приказный сделал то же самое. «Не фигура,— подумал батюшка,— что это крапивное семя не знает бога; но
ведь козаки — народ благочестивый!.. Видно, они с дороги-то
вовсе ошалели!» Меж тем нежданные гости раскланялись с
хозяином; козаки очень вежливо поблагодарили его за гостеприимство, а приказный, сгибаясь перед ним в кольцо, отпустил такую рацею, что покойный батюшка, хотя был человек
речистый и за словом в карман не ходил, а вовсе стал в тупик и вместо ответа на его кудрявое приветствие закричал: «Гей, малый! Запеканки!»
Вошел опять Андрей, поставил на стол тарелку закуски,
штоф водки и дедовские серебряные чары по доброму стакану.
— Ну-ка, любезные! — сказал батюшка, наливая их вровень с краями.— Поотогрейте свои душеньки; чай, вы порядком надроглись. Прошу покорно!
Гости чин-чином поклонились хозяину, выпили по чарке
и, не дожидаясь вторичного приглашения, хватили по другой,
хлебнули по третьей; глядь-поглядь, ан в штофе хоть прогуливайся — ни капельки! «Ай да питухи! — подумал батюшка.— Ну!!! Нечего сказать, молодцы! Да и рожи-то у них
какие!»
В самом деле нельзя было назвать этих нечаянных гостей
красавцами. У одного козака голова была больше туловища;
у другого толстое брюхо почти волочилось по земле; у третьего глаза были зеленые, а нос крючком, как у филина, и у
всех волосы рыжие, а щеки как раскаленные кирпичи, когда
их обжигают на заводе. Но всех куриознее показался ему.
приказный в долгополом сюртуке: такой исковерканной и
срамной рожи он сродясь не видывал! Его лысая и круглая
как биллиардный шар голова втиснута была промежду двух
130
узких плеч, из которых одно было выше другого; широкий
подбородок как набитый пухом ошейник обхватывал нижнюю
часть его лица; давно не бритая борода торчала щетиною
вокруг синеватых губ, которые чуть-чуть не сходились на затылке; толстый, вздернутый кверху нос был так красен,
что в потемках можно было принять его за головню; а маленькие, прищуренные глаза вертелись и сверкали, как глаза дикой кошки, когда она подкрадывается ночью к какому-
нибудь зверьку или к сонной пташечке. Он бесперестан-
но ухмылялся, «но эта улыбка,— говаривал не раз покойный
мой батюшка,— ни дать, ни взять, походила на то, как собака оскаливает зубы, когда увидит чужого или захочет у
другой собаки отнять кость».
Вот как гости, опорожнив штоф запеканки, остались без
дела, то батюшка, желая занять их чем-нибудь до ужина, начал с ними разговаривать.
— Ну что, приятели,— спросил он Козаков,— что у вас на
Дону поделывается?
— Да ничего! — отвечал козак с толстым брюхом.—
Все по-прежнему: пьем, гуляем, веселимся, песенки попеваем.
— Попевайте, любезные,— продолжал батюшка,— попевайте, только бога не забывайте!
Козаки захохотали, а приказный оскалил зубы, как голодный волк, и сказал:
— Что об этом говорить, сударь! Ведь это круговая
порука: мы его не помним, так пускай и он нас забудет; было бы винцо да денежки, а все остальное трынь-
трава!
Батюшка нахмурился: он любил пожить, попить, пображничать, но был человек благочестивый и бога помнил. Помолчав несколько времени, батюшка спросил подьячего, из какого он суда?
— Из уголовной палаты, сударь,— отвечал с низким поклоном приказный.
— Ну что поделывает ваш председатель? — продолжал
батюшка, а надобно вам сказать, господа, что этот председатель уголовной палаты был сущий разбойник.
— Что поделывает? — повторил приказный.— Да то же,
что и прежде, сударь: служит верой и правдою...
5*
131
— Да, да! Верой и правдою! — подхватили в один голос
все козаки.
— А разве вы его знаете? — спросил батюшка.
— Как же! — отвечал козак с совиным носом.— Мы все
его приятели и ждем не дождемся радости, когда его высокородие к нам в гости пожалует.
— Да разве он хотел у вас побывать?
— И не хочет, да будет,— перервал козак с большой головою.— Не так ли, товарищи?
Все гости опять засмеялись, а подьячий, прищурив свои
кошечьи глаза, прибавил с лукавой усмешкою:
— Конечно, приехать-то приедет, а нечего сказать, тяжел на подъем! Месяц тому назад совсем было уж в повозку
садился, да раздумал.
— Как так? — вскричал батюшка.— Да месяц тому назад он при смерти был болен.
— Вот то-то и есть, сударь! По этому-то самому резонту
он было совсем и собрался в дорогу.
— А, понимаю! — прервал батюшка.— Верно, докторё советовали ему ехать туда, где потеплее?
— Разумеется! — подхватили с громким хохотом козаки.— Ведь у нас за теплом дело не станет: грейся, сколь
хочешь.
Этот беспрестанный и беспутный хохот гостей, их отвратительные хари, а пуще всего двусмысленные речи, в которых было что-то нечистое и лукавое, весьма не понравились
батюшке; но делать было нечего: зазвал гостей, так угощай!
Желая как можно скорее отвязаться от таких собеседников,
он закричал, чтоб подавали ужинать. Не прошло получаса, как стол уже был накрыт, кушанье поставлено и бутылки с наливкою и виноградным вином внесены в комнату: а все
хлопотал и суетился один Андрей. Несколько раз батюшка
хотел спросить его, куда подевались другие люди; но всякий
раз как нарочно кто-нибудь из гостей развлекал его своими
разговорами, которые час от часу становились забавнее. Козаки рассказывали ему про свое удальство и молодечество;
а приказный про плутни своих товарищей и казусные дела
уголовной палаты. Мало-помалу они успели так занять батюшку, что он, садясь с ними за стол, позабыл даже помолиться богу. За ужином батюшка ничего не кушал; но, не же
132
лая отставать от гостей, он выпил четыре бутылки вина и
две бутылки наливки — это еще не диковинка: покойный мой
батюшка пить был здоров и от полдюжины бутылок не свалился бы со стула! Да только вот что было чудно: казалось, гости пили вдвое против него, а из приготовленных
шести бутылок вина и четырех наливки только шесть стояло пустых на столе, то есть именно то самое число бутылок,
которое выпил один покойник батюшка; он видел, что гости
наливали себе полные стаканы, а бутылка всегда доходила до
него почти непочатая. Кажется, было чему подивиться; и он
точно этому удивлялся — только на другой день, а за ужином все это казалось ему весьма обыкновенным. Я уже вам
докладывал, что мой батюшка здоров был пить, но четыре
бутылки сантуринского и почти штоф крепкой наливки хоть
кого подрумянят. Вот к концу ужина он так распотешился,
что даже безобразные лица гостей стали казаться ему миловидными, и он раза два принимался обнимать приказного
и перецеловал всех Козаков. Час от часу речи их становились беспутнее и наглее; они рассказывали про разные
любовные похождения, подшучивали над духовными людьми
и даже — страшно вымолвить! — забыв, что они сидят за
столом, как сущие еретики и богоотступники, принялись
попевать срамные песни и приплясывать, сидя на своих стульях. Во всякое другое время батюшка не потерпел бы такого
бесчинства в своем доме; а тут, словно обмороченный, начал сам им подлаживать, затянул: удалая голова, не ходи
мимо сада, и вошел в такой задор, что хоть сей час в
присядку. Меж тем козаки, наскучив орать во все горло,
принялись делать разные штуки: один заговорил брюхом,
другой проглотил большое блюдо с хлебенным, а третий
ухватил себя за нос, сорвал голову с плеч и начал ею играть,
как мячиком. Что ж вы думаете, батюшка испугался? Нет!
Все это казалось ему очень забавным, и он так и валялся со
смеху.
— Эге! — вскричал подьячий.— Да вон там на последнем
окне стоит никак запасная бутылочка с наливкою: нельзя ли
ее прикомандировать сюда? Да не вставай, хозяин; я и так
ее достану,— примолвил он, вытягивая руку через всю комнату.
— Ого! Какая у тебя ручища-то, приятель! — закричал
133
с громким хохотом батюшка.— Аршин в пять! Недаром же
говорят, что у приказных руки длинны...
— Да зато память коротка,— перервал один из Козаков.
— А вот увидите! — продолжал подьячий, поставив бутылку посреди стола.— Небось, вы забыли, чье надо пить
здоровье, а я так помню; начнем с младших! Ну-ка, братцы, хватим по чарке за всех приказных пройдох, за канцелярских молодцев, за удалых подьячих с приписью!
Чтоб им весь век чернила пить, а бумагой закусывать;
чтоб они почаще умирали, да пореже каялись!..
— Что ты, что ты? — проговорил батюшка, задыхаясь
со смеху.— Да этак у нас все суды опустеют.
— И, хозяин, о чем хлопочешь! — продолжал приказный, наливая стаканы.— Было бы только болото, а черти
заведутся. Ну-ка, за мной — ура!
— Выпили? — закричал козак с крючковатым носом.—
Так хлебнем же теперь по одной за здоровье нашего старшого. Кто станет с нами пить, тот наш; а кто наш, тот
его!
— А как зовут вашего старшину? — спросил батюшка,
принимаясь за стакан.
— Что тебе до его имени! — сказал козак с большой головою.— Говори только за нами: да здравствует тот, кто
из рабов хотел сделаться господином и хоть сидел высоко,
а упал глубоко, да не тужит.
— Но кто же он такой?
— Кто наш отец и командир? — продолжал козак.—
Мало ли что о нем толкуют! Говорят, что он любит мрак и
называет его светом: так что ж? Для умного человека и
потемки свет. Рассказывают также, будто бы он жалует
Содом, Гомор и всякую беспорядицу для того, дескать,
чтоб в мутной воде рыбу ловить; да это все бабьи сплетни. Наш господин барин предобрый; ему служить легко:
садись за стол не крестясь, ложись спать не помолясь;
пей, веселись, забавляйся, да не верь тому, что печатают
под титлами — вот и вся служба. Ну что? Ведь не житье,
а масленица,— не правда ли?
Как ни был хмелен батюшка, однако ж призадумался.
134
— Я что-то в толк не беру,— сказал он.
— А вот как выпьешь, так поймешь,— перервал подьячий.— Ну, братцы, разом! Да здравствует наш отец и командир!
Все гости, кроме батюшки, осушили свои стаканы.
— Ба, ба, ба! Хозяин! — закричал подьячий.— Да что ж
ты не пьешь?
— Нет, любезный! — отвечал батюшка.— Я и так уж пил
довольно. Не хочу!
— Да что с тобой сделалось? — спросил толстый ко-
зак.— О чем ты задумался? Эй, товарищи! Надо развеселить хозяина. Не поплясать ли нам?
— А что, в самом деле! — подхватил приказный.— Мы
посидели довольно,— не худо промяться, а то ведь этак, пожалуй, и ноги затекут.
— Плясать так плясать! — закричали все гости.
— Так постойте же, любезные! — сказал батюшка, вставая.— Я велю позвать моего гуслиста.
— Зачем? — перервал подьячий.— У нас и своя музыка
найдется. Гей, вы — начинай!
Вдруг за печкою поднялась ужасная возня, запищали
гудки, рожки и всякие другие инструменты; загремели бубны и тарелки; потом послышались человеческие голоса;
целый хор песельников засвистал, загаркал, да как хватит
плясовую — и пошла потеха!
— Ну-ка, хозяин,— проговорил козак с красноватым носом, уставив на батюшку свои зеленые глаза,— посмотрим
твоей удали!
— Нет! — сказал батюшка, начиная понимать как будто
бы сквозь сон, что дело становится неладно.— Забавляйтесь себе сколько угодно, а я плясать не стану.
— Не станешь? — заревел толстый козак.— А вот увидим!
Все гости вскочили с своих мест.
Покойного батюшку начала бить лихорадка,— да и было от чего: вместо четырех, хотя и не красивых, но обыкновенных людей стояли вокруг него четыре пугала такого
огромного роста, что когда они вытягивались, то от их голов
трещал потолок в комнате. Лица их не переменились, но только сделались еще безобразнее.
135
— Не станешь! — повторил, ухмыляясь насмешливо, подьячий.— Полно ломаться-то, приятель! И почище тебя с нами плясывали, да еще посторонние; а ведь ты
наш.
— Как ваш? — сказал батюшка.
— А чей же? Ты человек грамотный, так, верно, читал,
что двум господам служить не можно; а ведь ты служишь
нашему.
— Да о каком ты говоришь господине? — спросил батюшка, дрожа как осиновый лист.
— О каком? — перервал большеголовый козак.— Вести-
мо, о том, о котором я тебе говорил за ужином. Ну вот
тот, которого слуги ложатся спать не молясь, садятся за
стол не перекрестясь, пьют, веселятся да не верят тому, что
печатают под титлами.
— Да что ж он мне за господин? — промолвил батюшка,
все еще не понимая порядком, о чем идет дело.
— Эге, приятель! — подхватил подьячий.— Да ты никак стал отнекиваться и чинить запирательство? Нет, любезнейший, от нас не отвертишься! Коли ты исполняешь
волю нашего господина, так как же ты ему не слуга? А
вспомни-ка хорошенько: молился ли ты сегодня, когда прилег соснуть? Перекрестился ли, садясь ужинать? Не пил ли
ты, не веселился ли с нами вдоволь? А часа полтора тому
назад, когда ты прочел вон в этой книге слово: «Наш
еси, Исакий, да воспляшет с нами!» Что? Разве ты этому
поверил?
Вся кровь застыла в жилах у батюшки. Вдруг как
будто бы сняли с глаз его повязку, хмель соскочил, и все
сделалось для него ясным.
— Господи боже мой!..— проговорил он, стараясь оградить себя крестным знамением, да не тут-то было!
Рука не подымалась, пальцы не складывались, но зато
уж ноги так и пошли писать! Сначала он один отхватал
голубца с вывертами да вычурами такими, что и сказать
нельзя; а там гости подцепили его, да и ну над ним потешаться. Покойник, рассказывая мне об этом, всегда дивился, как у него душа в теле осталась. Он помнил только одно, как комната наполнилась огнем и дымом, как
его перебрасывали из рук в руки, играли им в свайку,
136
спускали как волчок, как он кувыркался по воздуху, бился о потолок, вертелся юлою на маковке и как наконец,
протанцевав на голове козачка, он совсем обеспамятел.
Когда батюшка очнулся, то увидел, что лежит на канапе и что вокруг его стоят и суетятся его слуги.
— Ну что? — прошептал он торопливо и поглядывая
вокруг себя, как полоумный.— Ушли ли они?
— Кто, сударь? — спросил один из лакеев.
— Кто! — повторил батюшка с невольным содроганием.— Кто!.. Ну вот эти козаки и приказный...
— Какие, сударь, козаки и приказный? — перервал буфетчик Фома.— Да сегодня никаких гостей не было, и вы
не изволили ужинать. Уж я дожидался, дожидался; и как
вошел к вам в комнату, так увидел, что вы лежите на полу,
все в поту, изорванные, растрепанные и такие бледные,
как будто бы,— не при вас будь слово сказано,— коверкала вас какая-нибудь черная немочь.
— Так у меня сегодня гостей не было? — сказал батюшка, приподымаясь с трудом на ноги.
— Не было, сударь.
— Да неужели я видел все это во сне?.. Да нет! Быть
не может! — продолжал батюшка, охая и похватывая себя
за бока.— А кости-то почему у меня все так перемяты?..
А эти две свечи?.. Кто их на стол поставил?
— Не знаю,— отвечал буфетчик,— видно, вы сами изволили их зажечь, да не помните спросонья.
— Ты врешь! — закричал батюшка.— Я помню, их принес Андрей; он и на стол накрывал и кушанье подавал.
Все люди посмотрели друг на друга с приметным ужасом. Ванька-гуслист хотел было что-то сказать, но заикнулся и не выговорил ни слова.
— Ну что ж вы, дурачье, рты-то разинули? — продолжал батюшка.— Говорят вам, что у меня были гости и что
Андрей служил за столом.
— Помилуйте, сударь! — сказал буфетчик Фома.— Иль
вы изволили забыть, что Андрей около недели лежит больной в горячке.
— Так, видно, ему сделалось лучше. Он ровно в десять
137
часов был здесь. Да что тут толковать! Позовите ко мне
Андрея! Где он?
— Вы изволите спрашивать, где Андрей? — проговорил
наконец Ванька-гуслист.
— Ну да! Где он?
— В избе, сударь; лежит на столе.
— Что ты говоришь? — вскричал батюшка.— Андрей
Степанов?..
— Приказал вам долго жить,— перервал дворецкий, входя в комнату.
— Он умер!..
— Да, сударь! Ровно в десять часов.
О. М. Сомов
РУСАЛКА
Малороссийское предание
Давным-давно, когда еще златоглавый наш Киев был во
власти поляков, жила-была там одна старушка, вдова лесничего. Маленькая хатка ее стояла в лесу, где лежит дорога к
Китаевой пустыни: здесь, пополам с горем, перебивалась она
трудами рук своих, вместе с шестнадцатилетнею Горлинкою1, дочерью и единою своею отрадою. И подлинно дочь
дана была ей на отраду: она росла, как молодая черешня,
высока и стройна; черные ее волосы, заплетенные в дрибут-
ки, отливались как вороново крыло под разноцветными скин-
дячками2, большие глаза ее чернелись и светились тихим
огнем, как два полуистухших угля, на которых еще перебегали искорки. Бела, румяна и свежа, как молодой цветок
на утренней заре, она росла на беду сердцам молодецким
и на зависть своим подружкам. Мать не слышала в ней
души, и труженики божии, честные отцы Китаевой пустыни,
умильно и приветливо глядели на нее, как на будущего своего собрата райского, когда она подходила к ним под благословение.
Что же милая Горлинка (так называл ее всякий, кто
знал) стала вдруг томна и задумчива? Отчего не поет она
больше, как вешняя птичка, и не прыгает, как молодая козочка? Отчего рассеянно глядит она на все вокруг себя и
невпопад отвечает на вопросы? Не дурной ли ветер подул на
нее, не злой ли глаз поглядел, не колдуны ли обошли?.. Нет!
Не дурной ветер подул, не злой глаз поглядел, и не колдуны обошли ее: в Киеве, наполненном в тогдашнее время
ляхами, был из них один, по имени Казимир Чепка. Статен
телом и пригож лицом, богат и хорошего рода, Казимир вел
жизнь молодецкую: пил венгерское с друзьями, переведывался на саблях за гонор3, танцевал краковяк и мазурку с красавицами. Но в летнее время, наскуча городскими потехами, часто целый день бродил он по сагам4 днепровским и по
лесам вокруг Киева, стрелял крупную и мелкую дичь, какая
ему попадалась. В одну из охотничьих своих прогулок ветре-
140
тился он с Горлинкою. Милая девушка, от природы робкая
и застенчивая, не испугалась, однако ж, ни богатырского его
вида, ни черных, закрученных усов, ни ружья, ни большой
лягавой собаки: молодой пан ей приглянулся, она еще больше приглянулась молодому пану. Слово за слово, он стал
ей напевать, что она красавица, что между городскими девушками он не знал ни одной, которая могла бы поспорить
с нею в пригожестве; и мало ли чего не напевал он ей?
Первые слова лести глубоко западают в сердце девичье: ему
как-то верится, что все, сказанное молодым красивым мужчиною, сущая правда. Горлинка поверила словам Казимира,
случайно или умышленно они стали часто встречаться в лесу,
и оттого теперь милая девушка стала томна и задумчива.
В один летний вечер пришла она из лесу позже обыкновенного. Мать пожурила ее и пугала дикими зверями и недобрыми людьми. Горлинка не отвечала ни слова, села на
лавке в углу и призадумалась. Долго она молчала; давно
уже мать перестала делать ей выговоры и сидела, также
молча, за пряжею; вдруг Горлинка, будто опомнясь или пробудясь от сна, взглянула на мать свою яркими, черными своими глазами и промолвила вполголоса:
— Матушка! У меня есть жених.
— Жених!.. Кто? — спросила старушка, придержав свое
веретено и заботливо посмотрев на дочь.
— Он не из простых, матушка: он хорошего рода и богат: это молодой польский пан...— Тут она с детским простодушием рассказала матери своей все: и знакомство свое
с Казимиром, и любовь свою, и льстивые его обещания, и
льстивые свои надежды быть знатною паней.
— Берегись,— говорила ей старушка, сомнительно покачивая головою,— берегись лиходея; он насмеется над тобою,
да тебя и покинет. Кто знает, что на душе у иноверца, у католика5?.. А и того еще хуже (с нами сила крестная!), если
в виде польского пана являлся тебе злой искуситель. Ты
знаешь, что у нас в Киеве, за грехи наши, много и колдунов
и ведьм6. Лукавый всегда охотнее вертится там, где люди
ближе к спасенью.
Горлинка не отвечала на это, и разговор тем кончился.
Милая, невинная девушка была уверена, что ее Казимир не
лиходей и не лукавый искуситель, и потому она с досадою
слушала речи своей матери. «Он так мил, так добр! Он непременно сдержит свое слово и теперь поехал в Польшу дли
того, чтоб уговорить своего отца и устроить дела свои.
Можно ли, чтобы с таким лицом, с такою душою, с таким
141
сладким, вкрадчивым голосом он мог иметь на меня недобрые
замыслы? Нет! Матушка на старости сделалась слишком недоверчива, как и все пожилые люди». Таким нашептыванием
легковерного сердца убаюкивала себя неопытная, молодая
девушка; а между тем мелькали дни, недели, месяцы —
Казимир не являлся и не давал о себе вести. Прошел и
год — о нем ни слуху ни духу. Горлинка почти не видела света божьего: от света померкли ясные очи, от частых вздохов
теснило грудь ее девичью. Мать горевала о дочернем горе,
иногда плакала, сидя одна в ветхой своей хатке за пряжею,
и, покачивая головою, твердила: «Не быть добру! Это наказание божие за грехи наши и за то, что несмысленая полюбила ляха-иноверца!»
Долго тосковала Горлинка; бродила почти беспрестанно
по лесу, уходила рано поутру, приходила поздно ночью,
почти ничего не ела, не пила и иссохла как былинка. Знакомые о ней жалели и за глаза толковали то и другое; молодые парни перестали на нее заглядываться, а девушки ей
завидовать. Услужливые старушки советовали ей идти к колдуну, который жил за Днепром, в бору, в глухом месте:
он-де скажет тебе всю правду и наставит на путь, на дело!
Горе придает отваги: Горлинка откинула страх и пошла.
Осенний ветер взрывал волны в Днепре и глухо ревел
по бору; желтый лист, опадая с деревьев, с шелестом кружился по дороге, вечер хмурился на дождливом небе, когда
Горлинка пошла к колдуну. Что сказал он ей, никто того не
ведает; только мать напрасно ждала ее во всю ту ночь, напрасно ждала и на другой день, и на третий: никто не знал,
что с нею сталось! Один монастырский рыболов рассказывал спустя несколько дней, что, плывя в челноке, видел молодую девушку на берегу Днепра: лицо ее было исцарапано
иглами и сучьями деревьев, волосы разбиты и скиндячки
оборваны; но он не посмел близко подплыть к ней из страха,
что то была или бесноватая, или бродящая душа какой-нибудь умершей, тяжкой грешницы.
Бедная старушка выплакала глаза свои. Чуть свет вставала она и бродила далеко, далеко, по обоим берегам Днепра,
расспрашивала у всех встречных о своей дочери, искала тела
ее по песку прибрежному и каждый день с грустью и горькими слезами возвращалась домой одна-одинехонька: не было ни слуху, ни весточки о милой ее Горлинке! Она клала
на себя набожные обещания, ставила из последних трудовых
своих денег большие свечи преподобным угодникам печерским: сердцу ее становилось от того на время легче, но му-
142
чительпая ее неизвестность о судьбе дочери все не прерывалась. Миновала осень, прошла и суровая зима в напрасных
поисках, в слезах и молитвах. Честные отцы, черноризцы
Китаевой пустыни, утешали несчастную мать и христиански
жалели о заблудшей овце; но сострадание и утешительные
их беседы не могли изгладить горестной утраты из материнского сердца. Настала весна; снова старуха начала бродить
по берегам Днепра, и все так же напрасно. Она хотела бы
собрать хоть кости бедной Горлинки, омыть их горючими
слезами и прихоронить, хотя тайком, на кладбище с православными. И этого, последнего утешения лишала ее злая
доля.
Те же услужливые старушки, которые наставили дочь идти к колдуну, уговаривали и мать у него искать помощи.
Кто тонет, тот и за бритву рад ухватиться, говорит пословица. Старуха подумала, подумала — и пошла в бор. Там,
в страшном подземелье или берлоге, жил страшный старик.
Никто не знал, откуда он был родом, когда и как зашел в
заднепровский бор и сколько ему лет от роду; но старожилы
киевские говаривали, что еще в детстве слыхали они от дедов
своих об этом колдуне, которого с давних лет все называли Боровиком: иного имени ему не знали. Когда старая
Фенна7, мать Горлинки, пришла на то место, где, по рассказам, можно было найти его, то волосы у нее поднялись дыбом и лихорадочная дрожь ее забила... Она увидела старика,
скрюченного, сморщенного, словно выходца с того света:
в жаркий майский полдень лежал он на голой земле под шубами, против солнца и, казалось, не мог согреться. Около
него был очерчен круг, в ногах у колдуна сидела огромная
черная жаба, выпуча большие зеленые глаза; а за кругом
кипел и вился клубами всякий гад: и ужи, и змеи, и ящерицы; по сучьям деревьев качались большие нетопыри, а филины, совы и девятисмерты8 дремали по верхушкам и между
листьями. Лишь только появилась старуха — вдруг жаба
трижды проквакала страшным голосом, нетопыри забили
крыльями, филины и совы завыли, змеи зашипели, высунув
кровавые жала, и закружились быстрее прежнего. Старик
приподнялся, но увидя дряхлую, оробевшую женщину, он
махнул черною ширинкою с какими-то чудными нашивками
красного шелка — и мигом все исчезло с криком, визгом,
вытьем и шипеньем: одна жаба не слазила с места и не сводила глаз с колдуна. «Не входи в круг,— прохрипел старик
чуть слышным голосом, как будто б этот голос выходил из
могилы,— и слушай: ты плачешь и тоскуешь об дочери;
143
хотела ли бы ты ее видеть? Хотела ли б быть опять с нею?»
— Ох, пан-отче* \ Как не хотеть! Это одно мое детище,
как порох в глазу...
— Слушай же: я дам тебе клык черного вепря и черную
свечу...— Тут он пробормотал что-то на неведомом языке,
и жаба, завертев глазами, в один прыжок скакнула в подземелье, находившееся в нескольких шагах от круга, другим
прыжком выскочила оттуда, держа во рту большой белый
клык и черную свечу; то и другое положила она перед старухой и снова села на прежнее свое место.
— Скоро настанет зеленая неделя,— продолжал старик,— в последний день этой недели, в самый полдень, пойди в лес, отыщи там поляну, между чащею; ты ее узнаешь:
на ней нет ни былинки, а вокруг разрослись большие кусты
папоротника. Проберись на ту поляну, очерти клыком круг
около себя и в середине круга воткни черную свечу. Скоро
они побегут; ты всматривайся пристально и чуть только заметишь свою дочь — схвати ее за левую руку и втащи к себе
в круг. Когда же все другие пробегут, ты вынь свечу из
земли и, держа ее в руке, веди дочь свою к себе в дом. Что
бы она ни говорила — ты не слушай ее речей и все веди ее,
держа свечу у нее над головою; и что бы после ни случилось,
не сказывай своим попам да монахам, не служи ни панихид,
ни молебнов и терпи год. Иначе худо тебе будет...
Старухе показалось, что в эту минуту жаба страшно на
нее покосилась и захлопала уродливым своим ртом. Бедная
Фенна чуть не упала от испуга. Поскорее отдала она поклон
колдуну и дрожащими ногами поплелась из бора. Однако ж
до чего не доведет любовь материнская! Надежда отыскать
дочь свою подкрепила силы старухи и придала ей отваги.
В последний день зеленой недели, когда солнце шло на
полдень, она пошла в чащу леса, отыскала там сказанную
колдуном поляну, очертила около себя круг клыком черного
вепря, воткнула посередине в землю черную свечу — и свеча
сама собою загорелась синим огнем. Вдруг раздался шум:
с гиканьем и ауканьем, быстро, как вихрь, помчалась через
поляну несчетная вереница молодых девушек; все они были
в легкой, сквозящей одежде, и на всех были большие венки,
покрывавшие все волосы и даже спускавшиеся на плеча. На
одних венки сии были из осоки, на других из древесных ветвей, так что казалось, будто бы у них зеленые волосы10.
Девушки пробегали, минуя круг, но не замечая или не видя
старухи; и она, откинув страх, всматривалась в лицо каждой.
Смотрит — вот бежит и ее Горлинка. Старуха едва успела
144
ее схватить за левую руку и втащить в круг. Другие, видно,
не заметили того на быстром, исступленном бегу своем и,
гикая и аукая, пронеслись мимо. Старая Фенна поспешно
выхватила из земли пылавшую черную свечу, подняла ее
над головою своей дочери — и мигом зеленый венок из осоки
затрещал, загорелся и рассыпался пеплом с головы горпин-
киной. В кругу Горлинка стояла как оцепенелая; но едва
мать вывела ее из круга, то она начала у нее проситься тихим, ласкающим голосом:
— Мать! Отпусти меня погулять по лесу, покачаться на
зеленой неделе и снова погрузиться в подводные наши селения... Знаю, что ты тоскуешь, ты плачешь обо мне: кто же
тебе мешает быть со мною неразлучно? Брось напрасный
страх и опустись к нам на дно Днепра. Там весело! Там легко! Там все молодеют и становятся так же резвы, как струйки водяные, так же игривы и беззаботны, как молодые рыбки. У нас и солнышко сияет ярче, у нас и утренний ветерок
дышит привольнее. Что в вашей земле? Здесь во всем нужды: то голод, то холод; там мы не знаем никаких нужд, всем
довольны, плещемся водой, играем радугой, ищем по дну
драгоценностей и ими утешаемся. Зимою нам тепло под
льдом как под шубой; а летом, в ясные ночи, мы выходим
греться на лучах месяца11, резвимся, веселимся и для забавы часто шутим над живыми. Что в том беды, если мы подчас щекочем их или уносим на дно реки? Разве им от того
хуже? Они становятся так же легки и свободны, как и мы
сами... Мать! Отпусти меня: мне тяжко, мне душно будет с
живыми! Отпусти меня, мать, когда любишь...
Старуха не слушалась и все вела ее к своей хате; но с горестью узнала, что дочь ее сделалась русалкою. Вот пришли;
старуха ввела Горлинку в хату; она села против печки, обло-
котясь обеими руками себе на колена и уставя глаза в
устье печки. В эту минуту черная свеча догорела, и Горлинка
сделалась неподвижною. Лицо ее посинело, все члены окостенели и стали холодны как лед; волосы были мокры, как будто бы теперь только она вышла из воды. Страшно было глядеть на ее безжизненное лицо, на ее глаза, открытые, тусклые и невидя смотрящие! Старуха поздно вскаялась, что
послушалась лукавого колдуна; но и тут чувство матери и
какая-то смутная надежда перемогли и страх и упреки совести: она решилась ждать во что бы ни стало.
Проходит день, настает ночь — Горлинка сидит по-прежнему, мертва и неподвижна. Жутко было старухе оставаться
на ночь с своей ужасной гостьей; но, скрепя сердце, она
145
осталась. Проходит и ночь— Горлинка сидит по-прежнему;
проходят дни, недели, месяцы — все так же неподвижно сидит она, опершись головою на руки, все так же открыты и
тусклы глаза ее, бессменно глядящие в печь, все так же мокры волосы. В околотке разнесся об этом слух, и все добрые
и недобрые люди не смели ни днем, ни ночью пройти мимо
хаты: все боялись мертвеца и старой Фенны, которую расславили ведьмою. Тропинка близ хаты заросла травою и
почти заглохла; даже в лес ходили соседние обыватели изредка и только по крайней нужде. Наконец, бедная старуха
мало-помалу привыкла к своему горю и положению: уже она
без страха спала в той хате, где страшная гостья сидела в
гробовой своей неподвижности.
Прошел и год: все так же без движения и без признаков
жизни сидела мертвая. Настала и зеленая неделя. На первый
день, около полуденного часа, старуха, отворя дверь хаты,
что-то стряпала. Вдруг раздались гиканье и ауканье и скорый шорох шагов. Фенна вздрогнула и невольно взглянула
на дочь свою: лицо Горлинки вдруг страшно оживилось,
синета исчезла, глаза засверкали, какая-то неистовая и как
бы пьяная улыбка промелькнула на губах. Она вскочила,
трижды плеснула в ладоши и, прокричав: «Наши, наши, наши!» — пустилась как молния за шумною толпою... и след
ее пропал!
Старуха, мучась совестью, положила на себя тяжкий зарок: она пошла в женский монастырь в послушницы, принимала на себя самые трудные работы, молилась беспрерывно
и, наконец, успокоенная в душе своей, тихо умерла, оплакивая несчастную дочь свою.
На другой день после того, как русалка убежала от своей
матери, нашли в лесу мертвое тело. Это был поляк в охотничьем платье, и единоземцы его узнали в нем Казимира
Чепку, ловкого молодого человека, бывшего душою всех веселых обществ. Ружье его было заряжено и лежало подле
него, но собаки его при нем не было; никакой раны, никакого
знака насильственной смерти не заметно было на теле; но
лицо было сине, и все жилы в страшном напряжении. Знали,
что у него было много друзей и ни одного явного недруга.
Врачи толковали то и другое; но народ объяснял дело гораздо проще: он говорил, что покойника русалки защекотали.
146
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Гори инка, уменьшительное имени Горпина (Агриппина). Это имя в
малороссийском наречии гораздо ближе к римскому своему корню, нежели Аграфена или Груша.
2 Дрибушки — мелкие косы; скиндячки — ленты, повязываемые на голове. (См. в «Северных цветах на 1828 год» примем, к повести «Гайдамак».)
3 За гонор по-польски значит: за честь.
4 Сага — залив реки. Слово малороссийское.
5 Когда Малороссия находилась под властью поляков, тогда взаимная недоверчивость поляков и малороссиян, особливо в простом народе, была в самой сильной степени. Понятия религиозные подкрепляли сие неприязненное чувствование в тот век, не ознаменованный еще, подобно нынешнему,
веротерпением. Католик — было у малороссиян бранчивое слово, сделавшееся народным. И теперь еще употребляется оно в том же смысле необразованными простолюдинами в Малороссии.
6 Киев, по баснословным народным преданиям, искони славился своими ведьмами и колдунами не только в Малороссии, но и по всей
России.
7 Фенна — Феона, по малороссийскому выговору.
* Девятисмерт, или сорокопуд, небольшая птичка, весьма обыкновенная в лесах Малороссии. О ней говорят, будто бы она сперва убивает восемь насекомых и съедает уже девятое; отсюда происходит имя ее —
девятисмерт. Много есть и других суеверных рассказов об этой птице, которая занимает не последнее место в баснословной зоологии малороссиян.
9 Пан-отче — звательный падеж сложного слова пан-отец, которое малороссияне из учтивости говорят старшим летами или достоинством. В собственном смысле оно соответствует русскому выражению: государь-батюшка.
10 Простой народ в Малороссии думает, что русалки суть утопленницы и удавленницы, произвольно лишившие себя жизни. Одни говорят, что
у русалок зеленые волосы, другие просто наряжают их в большие зеленые
венки. Сочинитель принял последнее из сих поверий, а для отличия русалок,
одних из них покрыл венками из осоки, других — венками из древесных
ветвей. Разумеется, что первые из них утопленницы, а вторые — удавленницы. Они, по мнению малороссиян, бегают по лесам на зеленой (т. е. Троицкой) неделе, аукают, качаются на деревьях, и если поймают живого человека, то щекочут его до смерти. Посему малороссияне боятся в продолжение
сей недели откликаться на лесное ауканье.
" Луна, по малороссийскому поверью, есть солнце утопленников. Они
выходят ночью из воды греться на лучах месяца, которым воображение
малороссиян придало теплоту.
147
ОБОРОТЕНЬ
Народная сказка
«Это что за название?»— скажете или подумаете вы, любезные мои читатели (какому автору читатели не любезны!).
И я, слыша или угадывая ваш вопрос, отвечаю: что ж делать!
виноват ли я, что неусыпные мои современники, романтические поэты в стихах и в прозе, разобрали уже по рукам
все другие затейливые названия? Корсары, Пираты, Гяуры,
Ренегаты и даже Вампиры попеременно, одни за другими,
делали набеги на читающее поколение или при лунном свете
закрадывались в будуары чувствительных красавиц. Воображение мое так наполнено всеми этими живыми и мертвыми
страшилищами, что я, кажется, и теперь слышу за плечами
щелканье зубов Вампира или вижу, как «от могильного белка адского глаза Ренегатова отделяется кровавый зрачок...».
Напуганный сими ужасами, я и сам, хотя в шутку, вздумал
было попугать вас, милостивые государи! Но как мне в удел
не даны ни мрачное воображение лорда Байрона, ни живая
кисть Вальтера Скотта, ни даже скрипучее перо г. д’Ар-
ленкура и ему подобных и сама моя муза так своевольна, что
часто смеется сквозь слезы и дрожа от страха, то я, повинуясь
свойственной полу ее причудливости, пущу слепо мое воображение, куда она его поведет. Скажу только в оправдание
моего заглавия, что я хотел вас подарить чем-то новым,
небывалым; а русские оборотни, сколько помню, до сих пор
еще не пугали добрых людей в книжном быту. Я мог бы
вместо оборотня придумать что-нибудь другое или подменить
его каким-либо лихим разбойником; но все другое новое, как
я уже имел честь доложить вам, разобрано по рукам другими, а в книжных наших лавках залегли теперь такие большие шайки разбойников — не всегда клейменых (по крайней мере клеймом гения), но всегда печатных,— что если б
мыши и моль не составили против них своей Santa Herman-
dad1, то от них не было б житья порядочным людям.
1 Santa Hcrrnandad, слово в слово: святое братство. Так назывались
в Испании сыскные команды инквизиции.
148
Я думал написать это вступление в виде разговора кого-
нибудь из моих приятелей с кем-нибудь из моих неприятелей, но побоялся, что меня тотчас уличат в подражании;
а признаюсь, мне не хотелось бы прослыть подражателем...
Свое, господа мои сподвижники на поприще бумаги и перьев,
станем творить свое! Я хочу вам подать похвальный пример и для того вывожу напоказ небывалого русского оборотня.
В одном селении... Вы, добрые мои читатели, верно, не
спросите, как называется это селение, в какой губернии и
в каком уезде лежит оно. Удовольствуйтесь же тем, что
я вам буду рассказывать, и не требуйте от меня лишнего.
Итак, дослушайте ж...
В одном селении жил-был старик по имени Ермолай. Все
знали, что он умывается росою, собирает разные травы, ходя,
беспрестанно что-то шепчет себе в длинные, седые усы,
спит с открытыми глазами и пр. и пр. Чего же больше? Он
колдун, и злой колдун: так о нем толковало все селение. Надобно сказать, что селение было раскинуто по опушке большого, дремучего леса, а изба Ермолаева была на самом выезде и почти в лесу. Ермолай сроду не был женат, но лет за
пятнадцать до того времени, в которое мы с ним знакомимся, взял он к себе приемыша, сироту, которого все сельские
крестьяне называли прежде бобылем Артюшей; а теперь,
из уважения ли к колдуну или по росту и дородству самого
детины, стали величать Артемом Ермолаевичем: подлинного его отца никто не знал или не помнил, а и того больше
никто о нем не заботился.
Артем был видный детина: высок, толст, бел и румян, ну,
словом, кровь с молоком. И то сказать, мудрено ли было
колдуну вскормить и выхолить своего приемыша? Крестьяне
были той веры, что колдун отпоил Артема молоком летучих
мышей, что по ночам кикиморы чесали ему буйную голову,
а нашептанный мартовский снег, которым старик умывал его,
придавал его лицу белизну и румянец. Одного добрые крестьяне не могли добиться: каким образом старый Ермолай,
так сказать, переродя Артема из тощего, бледного мальчишки в дородного и румяного парня, не научил его уму-разуму? Ибо Артюша был прост, очень прост: молвит, бывало,
что с дуба сорвет, до сотни не сочтет без ошибки и не всегда,
бывало, впопад ответит, когда у него спросят, которая у него
правая рука и которая левая. Он так нехитро смотрел боль
149
шими своими серыми глазами, так простодушно развешивал
губы и так смешно переплетал ногами, когда случалось ему
бежать, что сельские девушки подсмеивали его исподтишка и
шепотом говаривали про него: «Красен как маков цвет,
а глуп как горелый пень». В селении прозвали его вислогубым красиком, и все это не вслух, а тайком от колдуна,
потому что все боялись обидеть его в лице его приемыша.
И то, однако ж, многие начали смекать, что злой старик
догадывается о насмешках поселян над его нареченным сыном. В селении вдруг начал пропадать мелкий рогатый скот:
у того из поселян не явится пары овец, у другого трех или
четырех коз, у третьего пропадут все ягнята. Пастухи не раз
видали, как из лесу вдруг выбежит большой-пребольшой
волк, схватит одну или пару овец, стиснет им горло зубами,
взбросит их к себе на спину — и был таков: мигом умчит их
к лесу. Сколько ни кричи, ни тюкай — он и ухом не ведет;
сколько ни трави собаками: они поплетутся прочь, поджав
хвосты, и робко озираются назад. Крестьяне тотчас взяли
догадку, что это не простой волк, а оборотень; вслед же за
этою догадкой пришла к ним и другая: что этот оборотень
не иной кто, как сам Ермолай Парфентьевич.
Делать было нечего. Все боялись колдуна, хотя, сказать
правду, до сих пор он не делал еще никакого зла селению;
но все-таки он был колдун. Жаловаться на него — у кого найдешь расправу, когда и сам священник отрекался заклясть
его? Самим его доконать — грешно, хоть он и колдун; притом же эти дела так пахнут торговой казнью и ссылкой, что
у всякого невольно руки опустятся. Да и кто знает, что после смерти не станет он приходить из могилы мертвецом и душить уже не овец, а людей, которые озлобили бы его преждевременным отправлением на тот свет? Как ни раскладывали крестьяне умом, сколько ни толковали на мирской сходке,
а все дело не клеилось. Пришлось им стать в тупик, горевать,
закуся губы, да молиться святым угодникам за себя и за
стада свои.
В селении том жила красная девушка, Акулина Тимо-
февна. Лицо у нее было что наливное яблочко, очи соколиные, брови соболиные — словом, она уродилась со всеми
достоинствами и приманками красавиц, о которых перешли
к нам достоверные предания в старинных русских песнях
и сказках. Одна она никогда не смеялась над простаком Ар-
тюшей, а напротив того еще заступалась за него между своими подругами и уверяла их, что он детина хоть куда. Лукавая девушка смекнула, что старик Ермолай очень богат и
150
очень стар, что жить ему на свете оставалось недолго и что
после него единственным наследником его имения должен
быть Артем Ермолаевич. Она так умильно поглядывала на
Артема, так ласково говорила ему, встречаясь: «Здравствуй, добрый молодец!», что Артем, как ни был прост, а все
заметил ее приветливость. Часто он, избочась и выступая
гоголем, подходил к ней и заводил с нею речи — грех сказать: умные, а такие, которые, видно, нравились красавице
и на которые она охотно отвечала. Короче: Акулина Тимо-
февна скоро заслужила всю доверенность нелюдима Артю-
ши; он еще чаще стал подходить к ней, облизываясь и с глупым смехом выкрикивая: «Здорово, Акуля», отвешивал ей
дружеский удар тяжелою своею ладонью по белому круглому
плечу и таял пред нею... Да, таял, в полном смысле слова,
потому что щеки его делались еще краснее, глаза еще мутнее и глупее, а багровые губы никак уже не сходились между
собою и становились час от часу толще, час от часу влажнее,
как вишня, размокшая в вине. Девушка стала уже не шутя
подумывать, как бы ей пристроиться: то есть, с помощью
обручального кольца да честного венца, прибрать к рукам
и Артема и будущие его пожитки.
К ней-то, наконец, смышленые крестьяне обратились
с просьбою помочь их горю. «Ты-де, Акулина Тимофевна,
в селе у нас умный человек; а нам вестимо, что благопри-
ятель твой Артем Ермолаевич с неба звезд не хватает, хоть
и слывет сыном такого человека, у которого в седой бороде
много художества. Порадей нам, а мы тебе за то чем по силам
поклонимся. Одной только милости у тебя и просим: как бы
досконально проведать, подлинной ли то волк душит наших
овец или это — не в нашу меру будь сказано — Ермолай
Парфентьевич оборотнем над нами потешается?» Акулина
Тимофевна молчала несколько времени, покачивая в раздумье головушкой: с одной стороны, боялась она прогневить
колдуна, который знал всю подноготную; с другой стороны,
манили ее подарки... а кто к подаркам не лаком? Спросите
у стряпчих, спросите у судей, спросите у того и другого (не
хочу называть всех поименно): всякий если не словами, так
взглядом припомнит вам старую пословицу: кто богу не грешен, царю не виноват! И Акулина Тимофевна была в этом
смысле ежели не закоснелою грешницей, то, по крайней мере, не совсем чиста совестью. Она подумала-подумала —
и дала крестьянам обещание похлопотать об их деле.
На другой день, встретясь с Артемом, больше прежнего
была она с ним приветлива и ласкова, и больше прежнего
151
таял бедный Артем: щеки его так и пылали, губы так и пухли. Умильно потрепав его по щеке полненькими своими
пальчиками, плутовка сказала ему:
— Артюша, светик мой! Молвила бы я тебе словцо, да
боюсь: старик твой нас подметит. Где он теперь?
— А кто его весть! Бродит себе по лесу словно леший, да,
тово-вона, чай, дерет лыка на зиму.
— Скажи, пожалуйста: ты ничего за ним не примечаешь?
— Вот те бог, ничего.
— А люди и невесть что трубят про него: что будто бы
он колдун, что бегает оборотнем по лесу да изводит овец
в околотке.
— Полно, моя ненаглядная: инда мне жутко от твоих речей.
— Послушай меня, сокол мой ясный: ведь тебя не убудет,
когда ты присмотришь за ним да скажешь мне после, правда
ли, нет ли вся та молва, которая идет о нем по селу. Старик
тебя любит, так на тебя и не вскинется.
— Не убудет меня? Да что же мне прибудет?
— А то, что я еще больше стану любить тебя, выйду за
тебя замуж и тогда заживем припеваючи.
— Ой ли? Да что же мне делать-то?
— А вот что: не поспи ты ночь да примечай, что старый
твой станет кудесить. Куда он, туда и ты за ним; притаись
где-нибудь в углу или за кустом и все высматривай. После
расскажешь мне, что увидишь.
— Ахти! Страшно! Да еще и ночью. А когда же спать-то
буду?
— Выспишься после. Зато уж как женою твоею буду, ты,
мой голубчик, будешь спать вволю. Тебя не пошлют тогда
ни дрова рубить, ни воду таскать: все я за тебя; а ты себе,
пожалуй, поваливайся на печи да покушивай готовое.
— Ладно! Будь по-твоему: стану приглядывать за моим
стариком. Да скажи, он мне бока-то не отлощит?
— Не бойся ничего: он не узнает; а какова не мера, так
я сама принесу ему повинную и скажу, что тебя научала.
— Ну, то-то, смотри же! Чур, не выдавать меня.
— И, статимо ли дело! Прощай же, дружочек.
— Ин прощай, моя любушка!
При всей своей простоте, Артем не вовсе был трус: он
уважал и боялся названого своего отца, а впрочем, по слабоумию ли, по врожденной ли отваге не мог себе составить
понятия о страхах сверхъестественных. Может быть, и ста
152
рик, воспитывая его в счастливом невежестве, старался удалять от него всякую мысль о колдунах, недобрых духах и
обо всем тому подобном, чтобы не внушить ему каких-либо
подозрений на свой счет и не заставить его замечать того,
в чем нужно было от него таиться.
Наступила ночь. Артем, по обыкновению, лег рано в постелю, укутался с головою, но не спал и прислушивался,
спит ли старик. С вечера было темно; старик ворочался
в постели и бормотал что-то себе под нос, но когда взошел
месяц, тогда Ермолай встал, оделся, взял с собою какую-то
вещь из сундука, стоявшего у него в изголовье, и вышел из
избы, не скрипнув дверью. Мигом Артем был тоже на ногах,
накинул на себя балахон и вышел так же тихо. Притаясь в сенях, он выглядывал, куда пошел старик, и, видя, что он
отправился к лесу, пустился вслед за ним, но так, чтобы
всегда быть в тени... Так-то и самый простодушный человек
имеет на свою долю некоторый участок природной тонкости
и употребляет его в дело, когда нужно ему провести другого,
кто его посильнее или похитрее. Но довольно о тонкости простаков: посмотрим, что-то делает наш Артем.
Лепясь вдоль забора, прокрадываясь позадь кустов и, в
случае нужды, ползучи по траве как ящерица, успел он пробраться за стариком в самую чащу леса. Середь этой чащи
лежала поляна, а середь поляны стоял осиновый пень, вышиною почти вполчеловека. К нему-то пошел старый колдун,
и вот что видел Артем из своей засады, которою служили
ему самые близкие к поляне кусты орешника.
Лучи месяца упадали на самый сруб осинового пня, и
Артему казалось, что сруб этот белелся и светился как серебряный. Старик Ермолай трижды обошел тихо вокруг пня
и при каждом обходе бормотал вполголоса такой заговор:
«На море Океане на острове Буяне, на полой поляне, светит
месяц на осинов пень: около того пня ходит волк мохнатый,
на зубах у него весь скот рогатый. Месяц, месяц, золотые
рожки! Расплавь пули, притупи ножи, измочаль дубины, напусти страх на зверя и на человека, чтоб они серого волка
не брали и теплой бы с него шкуры не драли». Ночь была
так тиха, что Артем ясно слышал каждое слово. После этого
заговора старый колдун стал лицом к месяцу и, воткнув в
самую сердцевину пня небольшой ножик с медным черенком,
перекинулся чрез него трижды таким образом, чтобы в третий раз упасть головою в ту сторону, откуда светил месяц.
Едва кувырнулся он в третий раз, вдруг Артем видит: старика не стало, а наместо его очутился страшный серый вол
153
чище. Злой этот зверь поднял голову вверх, поглядел на
месяц кровавыми своими глазами, обнюхал воздух во все
четыре стороны, завыл грозным голосом и пустился бежать
вон из лесу, так что скоро и след его простыл.
Во все это время Артем дрожал от страха как осиновый
лист. Зубы его так часто и так крепко стучали одни о другие, что на них можно б было истолочь четверик гречневой
крупы; а губы его, впервые может быть от рождения, сошлись
вместе, сжались и посинели. По уходе оборотня он, однако ж,
хотя и не скоро, оправился и ободрился. Простота, говорят,
хуже воровства: это не всегда правда. Умный человек на месте нашего Артема бежал бы без оглядки из лесу и другу и
недругу заказал бы подмечать за колдунами; а наш Артем
сделал если не умнее, то смелее, как мы сейчас увидим. Он
подошел к пню, призадумался, почесал буйную свою голову — и после давай обходить около пня и твердить то, что
слышал перед сим от старого колдуна. Мало этого: он стал
лицом к месяцу, трижды кувырнулся через ножик с медным
черенком и за третьим разом, глядь — вот он стоит на четвереньках, рыло у него вытянулось вперед, балахон сделался длинною, пушистою шерстью, а задние полы выросли
в мохнатый хвост, который тащился как метла. Дивясь такой
скорой перемене своего подобья и платья, он попробовал молвить слово — и что же? Вместо человечьего голоса завыл
волком; попытался бежать — новое чудо! Уже ноги его не
цеплялись, как бывало прежде, друг за друга.
Новый оборотень нс мог говорить, но не лишился способности рассуждать, то есть столько, сколько он обыкновенно
рассуждал в человеческом своем виде. Мне, признаться, никогда не случалось слышать, чтобы оборотни в волчьей шкуре становились умнее прежнего. Вот наш Артем остановился и призадумался, как ему употребить в пользу и удовольствие новую свою личину? Тут ему пришла мысль, достойная
того, в чьей голове она зародилась: он вспомнил, как часто
молодые парни их селения над ним смеивались. «Давай-ка,—
думал он,— посмеюсь и я над ними: пойду утром в селение и
стану бросаться на всякого... как же эти удальцы будут меня
бояться! Однако ж прежде попытаюсь-ка выспаться: в этой
шубе мне будет и тепло и мягко даже на сырой траве...»
Вздумано — сделано: наш Артем, или оборотень, забрался
снова в кусты орешника, лег и заснул крепким сном.
Долго ли спал он, не знаю наверное; только солнце было
уже очень высоко, когда он пробудился. Он встряхнулся, посмотрел на себя, и новый его наряд при дневном свете так
154
показался ему забавен, что смех его пронял: он хотел захохотать — но вместо хохота раздался такой пронзительный,
отрывистый волчий вой, что бедный Артем сам его испугался.
Потом, опомнясь и видя, что он пугается собственного
смеха, он захохотал еще сильнее прежнего, и еще громче и
пронзительнее раздался вой. Нечего делать: как ни смешно
ему было, а поневоле должно было удерживаться, чтоб не
оглушить самого себя. Тут он вспомнил о вчерашнем своем
намерении — потешиться над своими сверстниками, молодыми сельскими парнями. Вот он и пошел к селению. Дорогою
попадались ему крестьяне, ехавшие в поле на работу; каждый из них, завидя издали смелого, необыкновенной величины волка, никак не подозревал, чтоб это был простак Артем;
все думали, что то был точно оборотень,— только отец его,
старый колдун Ермолай. Оттого каждый крестился, закрывал себе глаза руками и говорил: чур меня! чур меня! Это
еще больше веселило простодушного Артема, еще больше
поджигало его идти в селение; никогда, никто его столько
не боялся, как теперь: какая радость! Да то ли еще будет
в селении? Как все всполошатся, крикнут: «Волк!» — станут
его травить собаками, уськать, тюкать, соберутся на него
с копьями и рогатинами, а он и ухом не будет вести: его ни
дубина, ни железо, ни пуля не возьмет и собаки боятся...
То-то потеха!
И в самом деле, все селение поднялось на серого забияку.
Сперва встречные бежали от него, крестьянки поскорее заперли овец и коз своих в хлева, а сами запрятались в подушки: все знали, что то был не простой волк. Скоро, однако ж, нашлись удальцы, крикнули по селению, что один конец должен быть с старым колдуном, и повалили толпою: кто
с дубиной, кто с топором, кто с засовом — обступили волка и
давай нападать на него. Сначала он храбрился, бросался то
на того, то на другого, щетинился, скалил зубы и щелкал ими;
но наконец робость его одолела: он знал, что, в силу заговора, его не убьют и даже не наколотят ему боков; но могут
ощипать на нем шерсть, оборвать хвост, и тогда — как он
явится к строгому своему отцу в разодранном балахоне и с
оторванными полами? Беда!
Правда, не нашлось еще смельчака, который бы вышел
с ним переведаться: все уськали, кричали только издали,
а ни один не подавался вперед. Собак же и вовсе не могли
скликать; они разбрелись по конурам и носов не выказывали.
Зато люди все стояли в кругу и прорваться сквозь них никак нельзя было. Еще новое горе бедному нашему оборотню:
155
он ничего не ел от самого вечера и желудок его громко жаловался на пустоту. Как быть? И кто поручится, что отец его
уже не в селении и не узнает о его проказах? Ахти! Вот до
чего доводит безрассудство: он и забыл посмотреть, каким
образов отец его получит свой человеческий вид! Ну, придется горюну Артему умереть с голоду или исчахнуть с тоски-кручины в волчьей коже... Он задрожал всеми четырьмя
ногами, упал, свернулся в комок и уключил голову промеж
передних лап.
Крестьяне рассуждали, что им делать с оборотнем: зарыть ли его живого в яму или связать и представить в волостное правление? В это время слух о трусости оборотня
разнесся уже по селению, и женщины отважились показаться
на улице. Одна девушка пришла даже к кругу, составленному крестьянами около мнимого волка: эта смелая девушка
была Акулина Тимофевна. Она тотчас смекнула дело, просила крестьян расступиться, вошла в круг и повела такую
умную речь:
— Добрые люди! Не дразните врага, когда он сам, как
видно, оставляет слово на мир. Смертью оборотня вы добра
себе немного сделаете, а худа не оберетесь; в судах же, я
слыхала, так водится, что и оборотень с деньгами оправится
почище всякого честного бедняка. Послушайтесь меня:
разойдитесь с богом по домам, а этого оборотня я поведу к себе и ручаюсь вам, что вам же от того будет лучше.
Все крестьяне слушали в оба уха и дивились уму-разуму
красной девицы. Никто из них не придумал умнее того, что
она говорила: они послушались ее речей и расступились в
разные стороны. Тут она выплела из косы своей цветную
ленту и подошла к оборотню, который в это время потянулся
и сзхМ вытянул шею, как будто бы знал, что затевала девушка.
Акулина Тимофевна обвязала ему ленту вокруг шеи и
повела его к себе в дом. По простоте и робости оборотня она
тотчас отгадала, кто он таков. Введя его в пустую клеть, она
накормила его, чем могла, и постлала ему в углу свежей соломы; потом начала его журить за безрассудную его неосторожность. Бедный Артем жалким и вместе смешным образом
сморщил волчье свое рыло, слезы капали из мутно-красных
его глаз, и он, верно бы, заревел как малый ребенок,
если бы не побоялся завыть по-волчьи и снова взбудоражить всю деревню. Девушка заперла его замком в клети и
оставила его отдыхать и горевать на свободе.
Вечером Акулина Тимофевна пошла к старику Ермо
156
лаю, кинулась ему в ноги, рассказала ему, что сама знала,
и сняла всю вину на себя. Старый колдун уже знал обо всем,
сердился на Артема и твердил: «Ништо ему, пусть-ка
погуляет в волчьей коже!» Но просьбы и слезы печальной
красавицы были так убедительны и красноречивы, что старик
и сам почти от них растаял. Он заткнул за пояс известный
уже нам ножик с медным черенком, взял жестяной фонарик
под полу и пошел с девушкой. Вошедши в клеть, прежде всего порядком выдрал уши мнимому волку, который в это время делал такие кривлянья, каких ни зверю, ни человеку не
удавалось никогда делать, и выл так звонко и пронзительно,
что чуть не оглушил и старика, и девушку, и всю деревню.
Вслед за сим наказанием колдун обошел трижды около оборотня и что-то шептал себе под нос; потом растянул его на
все четыре лапы и колдовским своим ножиком прорезал
у него кожу накрест, от затылка до хвоста и впоперек спины.
Распоротый балахон упал на солому, и в тот же миг Артем
вскочил на ноги, с открытым своим ртом, простодушным
взглядом и очень, очень красными ушами. Отряхнувшись
и потершись плечами о стену, он со всех ног повалился
на землю перед нареченным своим отцом и, всхлипывая,
кричал жалким голосом: «Виноват, батюшка! Прости».
Старик отечески потазал его снова, пожурил — да и простил.
Акулина Тимофевна очень полюбилась старому Ермолаю:
он заметил в ней природный ум и расчел в мыслях, что лучше всего дать такую умную жену его приемышу, который,
после его смерти, живучи с нею, по крайней мере не растратит того, что старому сребролюбцу досталось такою дорогою
ценою — то есть накопленных им за грехи свои червончиков
и рублевичков.
Короче: дня через три вся деревня пировала на свадьбе
Артема Ермолаевича с Акулиной Тимофевной; и хотя все
знали, что старик Ермолай злой колдун, но от пьяной его
браги и сладкого меду немногие отказывались. Скоро после
того Ермолай продал свою избу и поле и перешел вместе с
молодыми, названым сыном и невесткою, в какую-то дальнюю деревню, где дотоле и слыхом про него не слыхали. Сказывают, что он провел остальные годы своей жизни честно и
смирно, делал добро и помогал бедным, зато умер тихо
и похоронен как добрый на кладбище с прочею усопшею братией. Сказывают также, что Артем, пожив несколько лет
с умною и сметливою женою, сделался вполовину меньше
прежнего прост и даже в степенных летах был выбран в сель
157
ские старосты. Каково он судил-рядил, не знаю; а только
в деревне все в один голос трубили, что Акулина Тимофевна была челышко изо всех умных баб.
ЭПИЛОГ
Многие той веры, что после всякой сказки, басни или побасенки должно непременно следовать нравоучение; что всякое повествование должно иметь нравственную цель и что все
печатное должно служить для общества самым спасительным
антидотом от пороков. Как вы думаете об этом, любезные
мои читатели, и какое нравоучение присудите мне прибрать
к этой истинной или, по крайней мере, очень правдоподобной
повести? Что до меня касается — я ничего не умел к ней придумать, кроме следующего наставления: что тот, у кого нет
волчьей повадки, не должен наряжаться волком. Нравоучение близкое и ясное, и кажется — если, впрочем, самолюбие
меня не обманывает,— оно ничем не хуже того, которое покойник Ломоносов, вечно-лирической памяти, прибрал к
своей басне «Волк пастух»1.
1 Я басню всю коротким толком
Хочу вам, господа, сказать:
Кто в свете сем родился волком,
Тому лисицей не бывать.
СКАЗКИ О КЛАДАХ
Жители С...го уезда и теперь, я думаю, помнят одного
из тамошних помещиков, отставного гусарского майора Максима Кирилловича Нешпету. Он жил в степной деревушке,
верстах в тридцати от уездного города, и был очень известен
в тамошнем околотке как самый хлебосольный пан и самый
неутомимый охотник. Нимврод и король Дагоберт едва ль не
уступили бы ему в беспощадной вражде к черной и красной дичи и в нежной привязанности к собакам. Привязанность эта до того доходила, что собаки съедали у него весь
годовой запас овса и ячменя; а чего не съедали собаки, то
помогали докончить добрые соседи, большие охотники порыскать в поле с гончими и борзыми и еще больше охотники поесть и попить сами и покормить скотов своих на чужой
счет.
При таком хозяйственном распорядке, мудрено ли, что
небогатый годовой доход от тридцати душ крестьян и небольшого участка земли был ежегодно съеден в самом буквальном смысле. Этого мало: добрый майор, из жалости, никогда не раздавал щенков в чужие руки, а псарня его плодилась на диво; с умножением псарни должны были поневоле умножиться и расходы. Прибавьте к тому, что шесть
самых видных и дюжих парней из его деревушки переряжены
были в псарей; что при таком обширном охотничьем заведении необходимо было иметь несколько лошадей лишних
как для самого майора, так и для псарей его, а часто еще для
одного или двоих из добрых приятелей, у которых собственные лошади всегда находили средство или расковаться, или
вывихнуть себе ноги. Полевые работы шли плохо, потому
что шестеро псарей в осень и в зиму день при дне скакали
за зайцами и лисицами, а остальную часть года или отдыхали, или ухаживали за собаками, следовательно, вовсе оторваны были от барщины и от домов своих; а потеря дюжины
здоровых рук в небольшом сельском хозяйстве есть потеря
весьма значительная. Так, год от года, псарня доброго май
159
ора плодилась, расходы умножались, доходы уменьшались,
а долги нарастали и чрез несколько лет сделались, по его
состоянию, почти неоплатными. Это бы все ничего, если бы
майор был сам своею головою; но у него было два сына и
дочь, молодая и прелестная Ганнуся, расцветшая со всею
свежестью красавицы малороссийской. Она составляла главную заботу бедного и неосторожного отца. Сыновья учились в губернском городе; и майор говаривал, что с божьею
помощию и своим рассудком они вступят со временем в
службу и будут людьми; но Ганнуся была уже невеста: где
ей найти жениха, без приданого, и как ей оставаться сиротою
после смерти отца, без хлеба насущного?
Такие мысли почти неотступно тревожили доброго майора; он сделался уныл и задумчив. Часто тяжкая дума садилась к нему на седло, шпорила или сдерживала невпопад
коня его, заставляла пропускать дичь мимо глаз или мстила
ружьем его в кость, вместо зайца. Часто, в долгую зимнюю
ночь, злодейка-грусть закрадывалась к нему под подушку,
накликала бессонницу и с нею все сбыточные и несбыточные
страхи. То слышался ему звонкий колокольчик: вот едут судовые описывать имение и продавать с молотка; то чудилось,
что он лежит в гробу под тяжелою могильною насыпью,
и между тем бедная Ганнуся, сиротою и в чужих людях,
горькими слезами обливает горький кусок хлеба. Голова его
пылала, в глазах светились искры; скоро эти искры превращались в пожар... ему казалось, что дом в огне, в ушах отзывался звон набата... он вскакивал; и хотя страшные мечты
исчезали, но биение сердца и тревоги душевные гнали его
с постели. Он скорыми, неровными шагами ходил по комнате, пока усталость, а не дремота, снова укладывала его на
жгущие подушки.
В одну из таких бессонных ночей, лежа и ворочаясь на
кровати, выискивал он в голове своей, чем бы разбить свою
тоску и рассеять мрачные думы. Ему вспало на мысль пересмотреть старинные бумаги, со времени еще деда Майорова
уложенные в крепкий дубовый сундук и хранившиеся у старика под кроватью, по смерти же его отцом Майоровым, со
всякою другою ненужною рухлядью, отправленные в том же
сундуке на бессрочный отдых в темном углу чердака. Сам
майор, никогда не читая за недосугом, оставлял их в полное
распоряжение моли и сырости; а люди, зная, что тут нечем
поживиться, очень равнодушно проходили мимо сундука и
даже на него не взглядывали. Чего не придет в голову с тоски и скуки! Теперь майор будит своих хлопцев, посылает
160
их с фонарем на чердак и ждет не дождется, чтоб они принесли к нему сундук. Наконец, четверо хлопцев насилу его
втащили: он был обит широкими полосами листового железа,
замкнут большим висячим замком и сверх того в несколько
рядов перевязан когда-то крепкими веревками, от которых
протянуты были бечевки, припечатанные дедовскою печатью
на крышке и под нею. Хлопцы с стуком опустили сундук
на землю; перегнившие веревки отскочили сами собою, и
пыль, наслоившаяся на нем за несколько десятков лет, столбом взвивалась от крышки. Майор еще прежде отыскал ключ,
вложил его в замок и сильно повернул, но труд этот был излишним: язычок замка перержавел от сырости и отпал при
первом прикосновении ключа, дужка отвалилась, и замок
упал на пол. То же было и с крышкою, у которой ржа переела железные петли.
Тяжелый запах от спершейся в бумагах сырости не
удержал майора: он бодро приступил к делу. Хлопцы, уважая грамотность своего пана и дивясь небывалому дотоле в
нем припадку любочтения, почтительно отступили за дверь
и молча пожелали ему столько ж удовольствия от кипы пыльных бумаг, сколько сами надеялись найти на жестких своих
постелях. Между тем майор вынимал один по одному большие свитки, или бумаги, склеенные между собою в виде длинной ленты и скатанные в трубку. То были старинные купчие крепости, записи, отказные и проч, на поместья и усадьбы, давно уже распроданные его предками или перешедшие
в чужой род; два или три гетманские универсала, на которых «имярек гетман, божиею милостию, такой-то» подписал рукою властною. Все это мало удовлетворяло любопытству майора, пока наконец не попались ему на глаза несколько тетрадей старой уставчатой рукописи, где, между сказками о Соловье-разбойнике, о Семи мудрецах и о Юноше и
тому подобными, одна небольшая, полусотлевшая тетрадка
обратила на себя особенное его внимание. Она была исписана
мелким письмом, без всякого заглавия, но когда майор
пробежал несколько строк, то уже не мог с нею расстаться.
И вправду, волшебство этой рукописи было непреодолимо.
Вот как она начиналась1:
«Попутчик Сагайдачного шляха2 берет от Трех Курганов поворот к Долгой Могиле. Там останавливается он на
холме, откуда в день шестого августа, за час до солнечного
заката, человеческая тень ложится на полверсты по равнине,
идет к тому месту, где тень оканчивается, начинает рыть землю и, докопавшись на сажень, находит битый кирпич, че-
6 Заказ 14
161
репья глиняной посуды и слой угольев. Под ними лежит
большой сундук, в котором Худояр3 спрятал три большие
серебряные стопы, тридцать ниток крупного жемчуга, множество золотых перстней, ожерелий и серег с дорогими каменьями и шесть тысяч польских злотых в кожаном мешке...»
Словом, это было Сказание о кладах, зарытых в разных
местах Малороссии и Украины. Чем далее читал Максим
Кириллович, тем более дивился, что он живет на такой земле,
где стоит только порыться на сажень в глубину, чтоб быть
в золоте по самое горло: так, по словам этой рукописи,
страна сия была усеяна подспудными сокровищами. Как не
отведать счастия поисками этих сокровищ? Дело, казалось,
такое легкое, а добыча такая богатая. Одно только не допускало майора на другой же день приступить к сим поискам: тогда была зима, поля покрыты были глубоким снегом;
трудно было рыться под ним, еще труднее отыскивать заметки, положенные в разных урочищах над закопанными
кладами. Но должно было покориться необходимости: русской зимы не пересилишь — это уже не раз было доказано,
особливо чужеземным врагам народа русского. Так и майор
принужден был отложить до весны свои подземные исследования и на этот раз был богат только надеждою. Однако ж
он не вовсе оставался без дела: рукопись была написана
нечеткою старинною рукою и под титлами, т. е. с надстрочными сокращениями слов, майор учен был русской грамоте,
как говорится, на медные деньги, и можно смело сказать, что
никакому археологу не было столько труда от чтения и пояснения древних рукописей геркуланских, сколько нашему
Максиму Кирилловичу от разбиранья любопытной его находки. Наконец он принял отчаянные меры: заперся в своей
комнате и самым четким по возможности своим почерком
начал переписывать тетрадку, надеясь, что сим способом он
добьется в ней до настоящего смысла. Псовая охота не приходила уже ему и в голову, борзые и гончие выли со скуки
под окнами, а псари от безделья почти не выходили из
шинка. Так проходили целые недели, и немудрено: с непривычки к чистописанию, майор писал очень медленно; при
том же часто, пропустя или переинача какое-либо слово или
не разобрав его в подлиннике, он не доискивался толку в своем списке и с досады раздирал по нескольку страниц; должно
было приниматься снова за старое, и от того-то дело его подвигалось вперед черепашьим шагом. Надобно сказать, что
вместо отдыха от письменных своих подвигов он, из благодарности к сундуку, прибил к нему своими руками новые петли
162
и пробой, уложил по-прежнему вынутые из него бумаги, запер его крепким замком и едва не надсадился, подкачивая
его под свою кровать. Домашние Майоровы согласно думали,
что он пишет свою духовную. Особливо Ганнусю это крайне
печалило: бедная девушка воображала, что отец ее, предчувствуя близкую свою кончину, желал устроить будущее состояние детей своих и делал нужные для того распоряжения.
Быв скромна и почтительна, она не смела явно спросить о
том у отца, а пробраться тайком в его комнату не было
возможности: майор почти беспрестанно сидел там, а когда
выходил, то запирал дверь на замок и уносил ключ с собою.
Соседи Майоровы почти совсем перестали посещать его и
поделом! Он не выезжал уже до рассвета с своими псами
и псарями на охоту, к тому же, сидя на заперти в своей
комнате, не мог по-прежнему беседовать с гостями и потчевать их пуншем с персиковою водкою, а добрые соседи не
хотели даром терять пороши или выслушивать рассказы
о Майоровых походах на свежую голову. Были люди, которые не только его не покинули, но еще стали навещать чаще
прежнего: это его заимодавцы, купцы из города, у которых
он забирал в долг товары, и честные евреи, поставщики всякой всячины. Эти люди ничем не скучают, когда дело идет
о получении денег, и за каждый рубль готовы отмерять до
сотни тысяч шагов полным счетом.
Однако ж у майора был один — не скажу истинный друг,
а прямо добрый приятель. Истинный друг, по словам одного
мудреца, есть такое существо, которого воля сливается с вашею волею и у которого нет других желаний, кроме ваших;
а майор Максим Кириллович Нишпета и старый войсковый
писарь Спирнд Гордиевич Прямченко никогда не хотели одного, не соглашались почти в двух словах и поминутно спорили до зарезу. Несмотря на то, когда майору случалась
нужда в деньгах или в чем другом,— а эти случаи очень были
нередки,— войсковый писарь никогда ему не отказывал, если
только у самого было что-либо за душою; он же сочинял все
бумаги по судным Майоровым делам, прибавляя к тому полезные советы — и на одном только этом пункте у них не
было споров; ибо майор, будучи сам не великий делец, слепо
доверял войсковому писарю, тем больше что никогда не был
обманут в своем доверии. Однако же в теперешнем случае
майор не смел или не хотел ввериться войсковому писарю,
которого называл вольнодумцем за то, что сей, учившись
когда-то в киевской академии, не верил киевским ведьмам,
мертвецам и кладам и часто смеивался над предрассудками
6*
163
и суевериями простодушных земляков своих. Майор, который, по его словам, почти сам видел, как однажды ведьма
бросалась и фыркала кошкою на одного гусара, его сослуживца, часто с криком и досадою опровергал доказательства своего соседа и предрекал ему, что будет худо; но
это худо не приходило к войсковому писарю, хотя они спорили об этих важных предметах лет двадцать почти при каждом свидании.
Отсторонив от себя этого советчика, майор обратился
к другому. Это был его однополчанин, отставной гусарский
капрал Федор Покутич, которого майор принял в свой дом,
давал ему, как называл, паек от своего стола и очень достаточную порцию водки, покоил его и во всяком случае стоял
за него горою. Из благодарности старый капрал присматривал в летнее время за садом и пчельником Майоровым,
а в осеннее и зимнее — за исправностью псарей и охотничьей сбруи. Сверх того он лечил майоровых лошадей и собак, почитал себя большим знатоком во всех этих делах и
весьма нужным лицом в домашнем быту своего патрона. Старый капрал (такое название давали ему все от мала до
велика) был по рождению серб и чуть ли еще не в Семилетнюю войну вступил в русскую службу. Высокий рост,
широкие плечи и грудь, смуглое лицо с крупными, резко
обозначенными чертами, рубец на безволосом теме, другой на
правой щеке, а третий за левым ухом, простреленная нога,
длинные, седые усы, густой, отрывистый бас его голоса, богатырские ухватки и три медали на груди — внушали к нему
почтение не только в крестьян майорских и в других поселян, но даже и в соседних мелкопоместных панков. Он ходил
всегда в форменной солдатской шинели, на которую нашиты
были его медали, закручивал в завитки уцелевшие на висках
два пасма волос, а седины своего затылка туго-натуго обвивал черною лентою, крайне порыжевшею от долголетнего употребления. Осенью и зимою, когда майор почему-либо рано
возвращался с охоты и когда не было у него гостей, призывал он старого капрала, вспоминал с ним про давние свои
походы и молодечество или заставлял его рассказывать всякие были и небылицы; а на это капрал был и мастер и охотник. Между тем как майор отдыхал на лежанке, старый его
сослуживец, растирая табак в глиняном горшке и почасту
прихлебывая из сулеи вечернюю свою порцию, пересказывал
ему в сотый раз казарменные прибаутки, сказки и страшные
были, со всеми прикрасами сербско-малороссийского своего
красноречия. К суевериям и предрассудкам своей родины.
164
залегшим смолоду в его памяти, прибавил он порядочный
запас поверий и небылиц, выдаваемых за правду в Малороссии и Украине: по сему можно судить, как занимательна
была его беседа для любителей чудесного; а добрый наш
майор был из числа самых жарких любителей всего такого.
Разумеется, что в этом запасе старого капрала сказки
о кладах занимали не последнее место. Мудрено ли, что
майор, зная обширные его сведения и предполагая в нем, на
веру его же слов, большую опытность по сей части, решился
с ним советоваться насчет будущих своих поисков? Чтоб не
откладывать вдаль исполнения этой благой мысли, тотчас послал он одного из хлопцев отыскивать капрала, который,
дивясь и жалея, что старый его командир сбился с ступи —
так называл он замеченную им перемену в привычках Майоровых,— скучал и наедине потягивал свою порцию.
Приказ командирский был для него законом. Старый капрал пригладил усы, закрутил виски, осмотрелся, всели на нем
исправно, и пошел, соблюдая приличную вытяжку и стараясь
как можно меньше прихрамывать раненою ногою. Войдя в
дверь, он выпрямился, нанес правую руку на лоб и твердым
голосом проговорил:
— Здравия желаю, ваше высокоблагородие!
— Здравствуй, капрал! Каково поживаешь? Я давно не
видал тебя.
— Гм, ваше высокоблагородие! Не моя вина: я всегда готов на смотр по первому приказу.
— Верю и знаю, да мне было не до того... Садись,
старый служивый, да поговорим...
— Не о старине ли?.. Я думаю, ваше высокоблагородие
совсем о ней забыли.
— Нет, старину свою отложим мы до будущей зимы,
когда у нас от сердца отляжет. Теперь потолкуем о деле.
— Извольте, ваше высокоблагородие!
И капрал, который, между прочими делами по дому, произвольно взял на себя обязанность каждый день докладывать майору о сельских работах и вообще о хозяйстве, пустился вычислять все, что сделано было в доме, на винокурне
и в мельнице, с тех пор как майор вовсе перестал заниматься домовыми своими делами. Это вычисление не скоро бы
кончилось, если б майор не перебил его.
— Все это очень хорошо, да все не то,— вскрикнул нетерпеливый майор.— Помнишь ли, ты не раз мне рассказывал о кладах? Без дальнего внимания при таких рассказах
я или дремал, или слушал вполуха. Одно только у меня
165
осталось на памяти: что над кладами, из любви к сокровищам, всегда сторожит недобрый в том виде, в каком человек,
зарывший клад, положил на него зарок являться.
— Да: и собакой, и кошкой, и курицей, только не петухом. Иногда сидит он диким зверем: медведем, волком,
обезьяною с огненными глазами и крысьим хвостом; иногда
чудовищем, Змеем Горыничем о семи головах; иногда даже
и человеком, не в нашу меру будь сказано.
— У меня есть на примете кое-какие кладишки, и можно
бы за ними порыться... Об этом расскажу тебе после. А теперь хотел бы снова услышать повнимательнее о прежде найденных кладах, чтобы в пору и во время примениться к тому, как добрые люди поступали в таких случаях.
— А вот видите ли, ваше высокоблагородие! (Таков был
обыкновенный приступ всех рассказов старого капрала.)
Я не служил еще в том полку, в котором находился под
командою вашего высокоблагородия; шли мы в глубокую
осень из дальнего похода, и нашему полку расписаны были
зимние квартиры в К...ском повете. Наш эскадрон поставлен
был в одном селении, а в том числе мне отведена была квартира у одной доброй старушки. Хата ее чуть не вертелась на
курьих ножках: низка, ветха и стены только что не валились;
толкни в угол коленом — она бы и вдосталь рассыпалась;
а дом как полная чаша, и в золотой казне, по приметам,
у старой не было недостатка. Мне было у нее не житье, а масленица, чего хочешь, того просишь: пить, есть, всего по горло. Ну, словом сказать, она наделяла и покоила меня, как
родного сына, и часто даже называла меня сынку*. Дивились
и я и мои товарищи такой доброте старушкиной; дивились
и тому, что у нее, под этою ветхою кровлею, такое во всем
благословение божие. Стали наведываться о ней у соседей, и
те нам сказывали, что у хозяйки моей был один сын, как
порох в глазу, и того, по бедности, сельский атаман5 отдал
в рекруты, что с тех пор не было о нем ни слуху, ни духу и
что старушка, расставшись с ним, долго и неутешно плакала.
Не было у ней подпоры и помоги, некому было обрабатывать поля и смотреть за домом; скудость ее одолела, она
пошла по миру и многие годы бродила из селения в селение,
по ярмаркам и богомольям, питаясь мирским подаянием; как
за три года до нашего квартированья вдруг разбогатела.
Откуда что взялось: и теплая опрятная одежда вместо нищенского рубища, и лакомый кусок вместо черствых крох
милостынных6. Домишка хотя она и не перестраивала, да о
том и не горевала: добрые соседи, за ее хлеб-соль и ласку, а
166
пуще за чистые деньги, возили ей на зиму столько дров, что
и порядочную винокурню можно бы без оглядки отапливать
круглый год. Со всем тем, она никого не принимала на
житье и даже по крайней только нужде впускала к себе в
дом любопытных соседей; когда же уходила из дому, то двумя большими замками запирала двери. В селении пошли
о ней разные толки, и еще в нашу бытность соседи старуш-
кины натрое толковали о скорой ее разживе: одни думали,
что она, во время своего нищенства, искусилась лестью врага
нечистого и сделалась ведьмою; другие, что она спозналась
с подорожною челядью и в ночную пору давала у себя притон
разбойникам, за что будто бы они ее наделяли; третьи же,
люди рассудчивые, видя, что она по-прежнему богомольна
и прибежна к церкви божией и что у нее никогда не видали
ни души посторонней и не слыхали по ночам ни шуму, ни
шороха,— говорили, что она нашла клад; а как и где — никто
о том не знал, не ведал.
Признаться, у меня не полегчало на душе от всех таких
рассказов. Если хозяйка моя колдунья, думал я, то жить
под одной кровлей с ведьмою вовсе мне не по нутру. В какую силу она меня прикармливает да привечает? Почему
знать, может быть, ей нужна моя кровь или жир, чтоб летать
из трубы на шабаш. Вот я и стал за нею подмечать: ночи,
бывало, не сплю, все слушаю, а не заметил за нею никакого
бесовского художества. Старушка моя спит, не шелохнется,
а если, бывало, и пробудится, то вздохнет и вслух сотворит
молитву. Это меня поуспокоило, только не совсем: я стал
приглядывать и обыскивать в доме. Надобно вам сказать,
что старуха во всем мне верила: уйдет, бывало, и оставит на
мои руки свой домишко со всею рухлядью. Вот однажды,
когда она ухолила надолго, я давай шарить да искать по всей
избе. В переднем углу, под липовою лавкою, стоял сундук
с платьем и другим скарбом; веря моей совести, старушка ушла, не замкнув его. Я выдвинул его, пересмотрел в нем все
до последней нитки; ничего не было в нем такого, над чем бы
можно закусить губы и посомниться. Я уже начал его вдвигать, как вдруг сундук, став на свое место, стукнул обо что-
то так громко, что гул пошел по комнате. Я опять его отодвинул; ощупал руками место — там были доски; я разобрал
их; под досками врыт был в землю медный котел ведра в два,
а в котле, снизу доверху, все серебряные деньги, и крупные,
и мелкие, начиная от крестовиков до старинных копеечек.
У меня, сказать правду, глаза распрыгались на такое богатство; только, во-первых, от самого детства никогда рука моя
167
не поднималась на чужое добро; а во-вторых, знал ли я, где
и кто чеканил все эти круглевики? Может быть — бродило
тогда у меня в голове — если я до них дотронусь, то они рассыплются золою у меня в руке. Я убрал все по-прежнему, поставил сундук на свое место и дожидался старухи как ни в
чем не бывало.
За ужином я вздумал от нее самой выведать правду, хоть
обиняками. Для этого я завел сперва речь о ее сыне; старуха
моя расплакалась горькими слезами и призналась, что положила на себя обещание всякого военного человека, которого
бог заведет к ней, поить, кормить и покоить, как родного сына. «От этого,— прибавила она,— верно, и моему сынку будет
лучше на чужой стороне, а если бог послал по его душу, легче в сырой земле. Сам ты видишь, служивый, твердо ли я
держу свое обещание». Такие старухины речи и меня чуть
не до слез разжалобили; я почти уже каялся в своих подозрениях, однако ж все хотел допытаться, отчего она разбогатела. «Мне сказывали, бабушка, ты прежде была в нужде
и горе,— молвил я,— расскажи мне, как тебя бог наделил
своею милостию?» Старуха смутилась и призадумалась от
моего вопроса, однако ж ненадолго; помолчав минуты с две,
рассказала она мне все дело таким порядком:
— Жила я, сынку, как ты уже слышал, в горе и бедности,
бродила по миру и питалась подаянием. Хлеб милостынный
не горек, но труден; ноги у меня были изъязвлены и почти
не служили от многой ходьбы и усталости. Однажды я сделалась нездорова и осталась дома; запасу было у меня дни на
три, так я и не боялась, что умру с голоду. Тогда была поздняя осень; в долгий вечер, зажегши лучину, сидела я и чинила ветхое свое лохмотье. Вдруг откуда ни возьмись белая
курица с светлыми глазами ходит у меня по полу и поклох-
тывает. Я удивилась; у меня не было в заводе ни кур, ни
другой какой живности; соседние тоже не могли забрести: им
нечем было бы у меня поживиться. Курица обошла трижды
кругом по хате и мигом пропала из виду. Мне стало жутко;
я перекрестилась, сотворила молитву и думала, что мне так
померещилось. Когда же легла спать, мне приснился старичок, низенький, дряхлый и седенький, с длинною, белою бородою и в белой свите. Он мне сказал: «Раба божия! Тебе
дается счастие в руки, умей его захватить». И с этими словами как не бывал; только легкое облачко, вьючись, понеслось
кверху. На другой вечер, и в ту же пору, опять курица
трижды прошлась кругом по хате и проклохтала, и также исчезла; я заметила только, что она ушла в передний угол.
168
Ночью тот же старичок явился мне снова и сказал мне:
«Раба божия! Эй, не упусти своего счастия; будешь на себя
плакаться, да поздно. Еще однажды только ему суждено тебе
явиться». Я осмелилась и спросила его: «Скажи, мой отец,
как же мне добыть это счастье?» — «Возьми палку,— отвечал старик,— и когда оно покажется тебе снова, то помни:
на третьем его обходе вокруг хаты ударь по нем, да меть по
самому гребню; а после живи да поживай, славь бога и делай добро». Проснувшись утром, я нетерпеливо ждала, чтобы день прошел поскорее, а между тем припоминала и твердила слова старика. Вот наступил и вечер; я взяла в руки
палку и глаз не отводила от пола; вдруг выбежала моя курица и поскакала по хате; она была крупнее прежнего и
клохтала чаще и громче; высокий гребень на ней светился,
а глаза горели, как уголья. Положив на себя крестное знамение, чтобы, какова не мера, не поддаться вражьему искушению, я подняла палку и стерегла курицу на третьем обороте;
лишь только она поравнялась со мною, я ударила ее изо всей
силы вдоль головы, по самому гребню; курицы не стало, а передо мною рассыпались крупные и мелкие серебряные деньги...
— Все это так,— молвил майор, перервав повесть капрала,— да дело у нас идет не о таком кладе, который сам является, а о таком, который надобно отыскивать под землею.
— За мною дело не станет, ваше высокоблагородие; вся
сила в том, как положен клад, с заговором или без заговора?
— Почему ж я это знаю? А надобно готовым быть на
всякий случай. Так положим, что наш клад заговорили, когда
зарывали в землю.
— И тут я могу пригодиться вашему высокоблагородию.
Лишь была бы у нас разрыв-трава или папоротниковый
цвет.
— Вот то-то и беда, что нет ни того, ни другого. Скажи
мне по крайней мере, где водится разрыв-трава и как добывается папоротниковый цвет?
— Разрыв-трава водится на топких болотах, и человеку
самому никак не найти ее, потому что к ней нет следа и примет ее не отличишь от всякого другого зелья. Надобно найти
гнездо кукушки в дупле, о той поре как она выведет детей,
и забить дупло наглухо деревянным клином, после притаиться в засаде и ждать, когда прилетит кукушка. Нашедши детенышей своих взаперти, она пустится на болото, отыщет
разрыв-траву и принесет в своем носике; чуть приложит она
169
траву к дуплу, клин выскочит вон, как будто вышибен обухом; в это время надобно стрелять в кукушку, иначе она проглотит траву, чтоб люди ее не подняли. Папоротниковый
цвет добывать еще труднее; он цветет в одну только пору: летом, под Иванов день, в глухую полночь7. Если ваше высокоблагородие не поскучаете, я расскажу вам, что слышал от
одного сослуживца, гусара, который сам, с отцом своим и
братом, когда-то искал этого цвета в молодости, еще до
службы.
— Рассказывай смело; я рад тебя слушать хоть до рассвета.
— Помните ли, ваше высокоблагородие, нашего полку гусара, Ивана Прытченка? Он был лихой детина: высок ростом, статен, силен и смел,— хоть на медведя готов один идти... Смелостью и в могилу пошел. В первую Турецкую войну, помнится, под Браиловым, один басурманский наездник
выскочил из крепости, вихрем пронесся по нашему фронту,
выстрелил из обоих пистолетов и стал под крепостными стенами; там, беснуясь на своем аргамаке, браня нас и подразнивая, он вызывал молодца переведаться. Прытченко стоял
подле меня; видно было, что его взорвало басурманово самохвальство: он горячил своего коня и вертелся в седле, как на
проволоке. Вдруг, оборотясь ко мне, он вскрикнул: «Благослови, товарищ»,— и не успел я дать ответ, уж вижу, наш
Прытченко летит стрелою на басурмана, доскакал и давай
саблею крошить неверного. С третьего удара, смотрим — турок как сноп на землю, а удалый наш товарищ, схватя его
коня за повода, оборотился назад... и в то же время — паф!
Турецкие собаки пустили в него ружейный огонь со стены.
Добрый конь вынес его из этого адского огня, добежал до
фронта, хотел стать на место — и упал. Тогда только мы
заприметили, что конь и ездок были изранены. Я соскочил
с седла, хотел подать помощь бедному товарищу и вынести
его за фронт... Поздно! Он уже выбыл из списка! Славный,
храбрый был гусар и добрый товарищ: последними крохами,
бывало, поделится с своим братом! Упокой, господи, его
душу!..
Капрал вздохнул и поднял глаза кверху. Голос его изменился к концу рассказа, и блеск свечи бегло мелькнул на
влажных его ресницах. Старый служивый отер глаза, хлебнул глоток своей порции и продолжал:
— Простите, ваше высокоблагородие! Я для того только
припомнил об этом случае, чтобы показать вам, что такой
молодец не струсил бы от пустяков. Вот что он мне расска
170
зывал однажды в тот же поход и незадолго перед своею
смертью, когда мы, отставши ночью вдвоем от товарищей,
тихим шагом ехали с фуражировки. Ночь была свежа и темна, хоть глаз выколи, нам нечем было согреться и отвести
душу: походные наши сулеи были высосаны до капельки;
притом же нас холодили и нерадостные думы: вот как-
нибудь наткнемся на турецкую засаду. Мне не то чтобы
страшно, а было жутко; я промолвился об этом Прытчен-
кову. «Товарищ! — отвечал он.— Такую ли ночь я помню с
молодых своих лет? Чего нам тут бояться? Турецких собак?
Бритые их головы и бока их басурманские отзовутся под
нашими саблями: а там, где не видишь и не зацепишь неприятеля и где он вьется у тебя над головою, свищет в
уши и пугает из-под земли и сверху криками и гарканьем,—
вот там-то настоящий страх, и я его изведал на своем веку».— «Расскажи мне об этом, товарищ, чтобы скоротать нам
дорогу»,— молвил я. «Хорошо,— отвечал он,— слушай же.
Нас было трое у отца и матери, три сына, как ясные соколы, молодец к молодцу: я был меньший. Отец наш был
когда-то человек зажиточный: посылывал десять пар волов
с чумаками9 за солью и за рыбою; хлеба в скирдах и в
закромах, вина в амбарах и другого прочего было у него
столько, что весь бы наш полк было чем прокормить в круглый год; лошадей целый табун, а овец, бывало, рассыплется у нас на пастбище — видимо-невидимо. Да, знать,
за какие тяжкие отцовские или дедовские грехи было на нас
божеское попущение: в один год как метлою все вымело.
Крымские татары отбили у нас весь обоз: и волы, и соль, и
рыба — все там село; чумаки наши пришли домой с одними
батогами9. В летнюю пору, когда все мы ночевали в поле
на сенокосе, вдруг набежали гайдамаки на наше село, заграбили у отца моего все деньги и домашнюю рухлядь
и увели всех лошадей; в ту же осень и дом наш, со всем
добром, с житницами и хлебом в овинах и скирдах,
сгорел дотла, так что мы остались только в том, в чем успели
выскочить. На беду еще случился скотский падеж, и изо всего нашего рогатого скота не осталось и десятой доли. Горевал мой отец на старости, сделавшись вдруг из самого богатого обывателя чуть не нищим; кое-как, сбыв за бесценок
остальной свой скот и большую часть поля, построил он домишко и в нем, что называется, бился как рыба об лед.
На свете таково: кто раз приучился к приволью и роскоши,
тому трудно в целый век от них отвыкнуть; мой отец
беспрестанно вспоминал о прошлом своем житье, тосковал
171
и жаловался, даже говаривал, что за один день такого житья
отдал бы остального своего полвека. Часто отец Герасим,
приходский наш священник, который один из целой деревни
не оставил нас при бедности, прихаживал к моему отцу,
уговаривал его не печалиться и толковал ему, что богатство — прах. Тут обыкновенно он рассказывал нам об одном
святом человеке, который, как и мой отец, лишился всего
своего несметного богатства и, мало того, похоронил всех
детей и сам был болен какою-то тяжкою немощью; но при
всякой новой беде не роптал и еще благословлял имя божие.
Отец слушал все это, и у него от сердца отлегало; когда же,
бывало, священник долго не придет, то отец мой снова раз-
горюется и опять за прежнее: все ему и спалось и виделось
пожить так, как до черного своего года.
Вот прошел у нас в околотке слух об одном славном
знахаре'0, который жил от нас верст за шестьдесят, одинок,
в глуши, середи темного леса. Рассказывали, что он заговаривал змей, огонь и воду, лечил от всякой порчи, от укуше-
ния бешеных собак и даже прогонял нечистого духа; ну, словом, каждую людскую беду как рукой снимал. Отец мой тихонько подговорил меня, и, не сказавшись никому, мы отправились вдвоем к знахарю, потому что отец боялся идти
к нему один. Долго ли, коротко ли шли мы, не стану рассказывать; скажу только, что под конец отыскали в лесу узкую
тропинку между чащею и валежником, пустились по ней и
пришли к высокому плетневому забору, которым обнесена
была хата знахаря. Мы постучались у ворот; вдруг раздался
лай, и вой, и рев; спустя мало страшный старик отпер нам
ворота. Он был высокого роста, широкоплеч, с большою головою, с виду бодр, хотя и очень стар; длинные, густые волосы с проседью сбились у него войлоком на голове и в бороде; сквозь распахнутую рубашку видна была косматая грудь;
в руках у него была толстая суковатая дубина. Взгляд у него
был суров и дик; под широкими, навислыми бровями бегали и
сверкали большие черные глаза. Они пятились изо лба, как
у вола, и страшно было видеть, как он ворочал белками, по
которым вдоль и впоперек бороздили кровавые жилы. «Что
надобно?» — отрывисто проворчал он сиповатым голосом,
и лай, и вой, и рев раздались сильнее прежнего. Я вздрогнул и обозрелся кругом: смотрю, по одну сторону ворот
прикована пребольшая черная собака, а по другую — черный
медведь, такой ужасный, каких я сроду не видывал. Старик
грозно на них прикрикнул, и медведь, глухо мурча, попятился в берлогу, а собака, с визгом поджавши хвост, поползла
172
в свою конуру. Отец мой, немного оправясь от страха, поклонился старику и сказал, что хочет поговорить с ним о деле.
«Так пойдем в хату!» — пробормотал знахарь сквозь зубы
и пошел вперед. Мы вошли в хату; отец мой, помолясь богу, поставил на стол, покрытый скатертью, хлеб и соль, старик
тотчас взял нож, прошептал, кажется, молитву и нарезал
на верхней коре хлеба большой крест. «Садитесь!» — сказал
нам старик и сам сел в углу, на верхнее место, а мы в
конце стола; перед колдуном лежала большая черная книга:
видно было, что она очень ветха, хотя все листы в ней были
целы и нисколько не истерты. Старик развернул книгу и смотрел в нее. В это время мой отец начал ему рассказывать свою
беду, старик не дал ему докончить. «На что лишние слова? —
проворчал он отрывисто.— Эта книга мне лучше рассказала
все дело; ты был богат, обеднел и хочешь снова разбогатеть. Сказать тебе: «Трудись»,— ты молвишь в ответ, что века твоего не станет. Ну так ищи папоротникова цвета».—
«Что же мне прибудет, дедушка, если я отыщу папоротниковый цвет?» — «Носи его в ладанке, на груди: тогда все
клады и все подземные богатства на том месте, где будешь
стоять или ходить, будут перед тобой как на ладони; а захочешь их взять, приложи только папоротниковый цвет —
сами дадутся. Все пойдет тебе в руку, и будешь богаче
прежнего».— «Научи же меня, дедушка, как добывать папоротниковый цвет?»— «Некогда мне с тобою толковать:
в этот миг дошла до меня весть, что ко мне едут гости, богатый купец с женою. Их испортили: муж воет волком, а жена
кричит кукушкой, и им никак не должно с вами здесь встретиться. Ступайте отсюда и по дороге зайдите в Трирецкий
хутор: там у первого встречного спросите о бесноватой девушке, ее всякий знает. Она вас научит, что делать; а я теперь
же пошлю к нему приказ». Сказав это, он взял лоскуток бумаги, написал на нем что-то острым концом ножа и положил на открытое окно. День был тихий и красный, солнце
пекло, и ни листок не шелохнулся; но только старик пошевелил губами — вдруг набежало облачко, закрутился вихорь,
завыл, засвистал и сыпал искры, подхватил бумажку и умчал ее невесть куда. И мигом облачка как не бывало, на
дворе стало ясно и тихо по-прежнему, ни листок на дереве
не шелохнулся, только меня с отцом дрожь колотила, как
в лихорадке. Поскорее положа полтинник на стол колдуну
и отдав ему по поклону, мы без оглядки вон из дверей и за
ворота: медведь заревел и собака завыла; а мы, не помня
себя, бегом пустились по старому следу и не прежде остано
173
вились, как бравшись из лесу, в котором жил страшный
старик. Напугавшись тем, что видели у колдуна, мы и не думали заходить в хутор: нас и без того мороз по коже драл от
бесовщины, и рады-рады мы были, когда подобру-поздорову
добрались до дому. Однако же дня через три отец сказал
мне: «Иван! Умный человек ничего не делает вполовину:
у нас стало духу на одно, попытаемся ж и на другое; ходили мы к колдуну, пойдем же и к бесноватой. Ты самый смелый из моих сыновей; ну-ка, благословись, пустимся опять в
дорогу». Стыдно и совестно мне было отказаться, хотя, правду сказать, и не было охоты идти на новую попытку. Мы пришли в хутор, где нам тотчас указали дом бесноватой. Входим. На широкой лавке лежит девушка лет двадцати, худая,
бледная как смерть; около ее сидят родные и три или четыре
старухи посторонних; она, казалось, спала или дремала от
сильного утомления. Нам сказали, что она уже три дня нас
ждала, тосковала, металась, как будто бы пришел ее последний час; теперь же немного поуспокоилась: видно, злой дух
на время ее оставил. Вдруг она встрепенулась, вскочила и
с криком и бранью бросилась на моего отца. Глаза ее страшно крутились и сверкали, губы посинели и дрожали, и в судорожном ее коверканье заметно было крайнее бешенство.
Если б я не успел схватить ее за руки и несколько человек
из семьи не подоспело ко мне на подмогу, то, верно бы, она
задушила отца моего, как цыпленка. Заскрежетав зубами,
она кричала ему не своим голосом: «Гнусный червь! Ты довел
меня до муки: по твоей милости, я не мог до сих пор выполнить данного мне приказания, и оттого трое суток палило
меня огнем нестерпимым. Слушай же скорее и убирайся, пока я не свернул тебе шею: под Иванов день, около полуночи,
ступай сам-третий в лес, в самую глушь. Чтоб вы ни видели,
ни слышали — будьте как без глаз и без ушей: бегите бегом
вперед, не оглядывайтесь назад, не слушайте ничего и не
откликайтесь на зов. Вас станут манить — не глядите; вам
станут грозить — не робейте: все вперед да вперед, пока не
увидите, что в глуши светится; тогда один из вас должен бежать прямо на это светлое, рвануть изо всей силы и крепко
зажать его в руке. После все вы трое должны бежать назад,
так же не останавливаясь, не оглядываясь и не откликаясь.
Теперь вон отсюда: желаю вам всем троим сломить там головы!» Девушка упала без чувств на пол, а мы, не дожидаясь другого грозного привета, дали, что могли, ее родителям и поскорее отправились домой. Все это было на зеленой
неделе"-, до Иванова дня срок оставался короткий; отец мой
174
часто призадумывался; меня так же как змея сосала за сердце: страшно было и подумать! Вот настал и Купалов день12.
Отец мой постился с самого утра, у меня тоже каждый кусок останавливался в горле, как камень. К вечеру отец сказал
домашним, что пойдет ночевать в поле и стеречь лошадей,
которые выгнаны были на пастбище; взял меня, старшего моего брата, и, когда смерилось, мы втроем отправились. Вы-
шед за селение, мы залегли под плетнем и ждали полуночи.
День перед тем был жаркий, и даже вечером было душно,
однако ж меня мороз подирал по коже. Здесь только, и то
потихоньку, почти что шепотом, отец мой рассказал брату,
куда и за чем мы шли. Ему, кажется, стало не легче моего
от этого рассказа: он поминутно приподнимал голову, оглядывался и прислушивался. В это время на поляне за селением
вдруг запылали костры; к нам доносились напевы купаловых
песен, и видно было, как черные тени мелькали над кострами: то были молодые парни и девушки, которые праздновали
Купалов вечер и прыгали через огонь. Эти протяжные и заунывные напевы отзывались каким-то жалобным завываньем
у нас в ушах и холодили мне душу, как будто бы они веще-
вали нам что-то недоброе. Вот напевы стихли, костры погасли, и скоро в селении не слышно стало никакого шуму. «Теперь пора!» — вскрикнул мой отец, вскочил — и мы за ним.
Мы пошли к лесу. Ночь становилась темнее и темнее; казалось, черные тучи налегли по всему околотку и как будто
бы густой пар туманил нам глаза и отсекал у нас дорогу.
И вот мы добрались, почти ощупью, до опушки леса, кое-
как отыскали глухую тропинку и пустились по ней. Только
что мы вступили в лес — вдруг поднялись и крик, и вой, и
рев, и свисты: то будто гром прокатывался по лесу, то рассыпной грохот раздавался из конца в конец, то слышался
детский крик и плач, то глухие, отрывистые стоны, словно
человека перед смертным часом, то протяжный, зычный визг,
словно тысячи пил бегали и резали лес на пильной мельнице. Чем далее шли мы по лесу, тем слышнее становились
все эти крики, и стоны, и визг, и свисты; мало-помалу смешались они в нескладный шум, который поминутно становился громче и громче, слился в один гул, и гул этот, нарастая,
перешел в беспрерывный, резкий рев, от которого было больно ушам и кружилась голова. В глазах у нас то мелькали
светлые полосы, то как будто с неба сыпались звездочки, то
вдруг яркая искра светилась вдали, неслась к нам ближе и
ближе, росла больше и больше, бросала лучи в разные стороны и, наконец, почти перед нами, разлеталась как дым.
175
У нас от страха занимало дух, по всему телу пробегали мурашки; мы щурили глаза, зажимали уши... Все напрасно!
Гул или рев, становясь все сильнее и сильнее, вдруг зарокотал у нас в слухе с таким треском, как будто бы тысячи громов, тысячи пушек и тысячи тысяч барабанов и труб
приударили вместе... Земля под нами ходенем заходила, деревья зашатались и чуть не попадали вверх кореньями...
Признаюсь, мы не выдержали, страх перемог: схватясь за
руки, мы повернули назад, и давай бог ноги из лесу! Над
нами все ревело и трещало, и когда мы выбежали на поле, то
за нами по всему лесу раздался такой страшный хохот, что
даже и теперь у меня становятся от него волосы дыбом. Мы
попадали на землю. Что дальше с нами было — не помню и не
знаю; когда же я очнулся, то увидел, что утренняя заря уже
занималась; отец и брат лежали подле меня, в поле, близ
опушки леса. Я перекрестился и встал; подхожу к отцу, зову его — нет ответа; беру за руки — они окостенели; за голову — она холодна и тяжела как свинец. Я взвыл и бросился к брату, начал его поворачивать и бить по ладоням;
насилу он опомнился, взглянул на меня мутными глазами и,
как будто не проспавшись от хмеля, молчал и сидел на
одном месте не двигаясь. Трудно мне было растолковать ему,
что бог послал по душу нашего отца и что нам должно перенести его в селение, если не хотим оставить его тело в добычу волкам...»
— Так они не отыскали папоротннкова цвету? — подхватил нетерпеливый майор, перебив рассказ словоохотного
капрала.
— Нет, ваше высокоблагородие; Прытченко мне рассказывал, что с тех пор ему и в ум не приходило искать кладов,
особливо после того, как отец Герасим, на похоронах отца
его, говорил мирянам поучение, в котором доказывал, что старый Прытченко сам наискался на смерть, послушавшись
козней лукавого; и что бог всегда попускает наказания на
людей, которые добиваются того, что им не суждено от его
святой воли. Скоро молодого Прытченка взяли в солдаты,
и каждый год, по совету отца Герасима, он ходил в Иванов
день к обедне, молился усердно за упокой души своего отца
и постился целые сутки за старые свои грехи.
— Поэтому, капрал, нечего и думать о папоротниковом
цвете,— сказал майор,— мне жизнь еще не совсем надоела и
нет охоты набиваться на беду или копить грехи под старость.
— Точно так, ваше высокоблагородие! Злой дух иногда
176
подольстится к нам, как лукавый переметчик: сулит невесть
что, и победу и добычу, а послушайся его — глядишь, и наведет на скрытую засаду; тут и попал, как кур во щи! Между
этими двумя врагами только и разницы, что лживый переметчик погубит одно наше тело, а проклятый бес с одного
хватка подцепит и тело и душу.
— Правда твоя, капрал, правда; так оставим эти затеи.
Может быть, наши клады положены без заговора и сами нам
дадутся без дальних хлопот. После опять поговорим об этом.
Прощай! Утро мудренее вечера.
Капрал допил свою порцию, встал, выпрямился снова,
отдал честь по-военному и, проговоря: «Добрая ночь вашему
высокоблагородию!», побрел в свою светлицу. Там, утомленный длинными своими рассказами и согретый нескудною
порцией, скоро уснул он таким сном, каким поэты усыпляют
чистую совесть, хотя, кажется, сей олицетворенной добродетели и должно б было спать очень чутко.
Майор также почувствовал благотворное действие рассказов капраловых: давно уже он не спал так спокойно, как
в эту ночь. Не знаю, что виделось капралу: он никогда о том
не рассказывал; но майора убаюкивали разные сновидения, и
все они предвещали ему что-то хорошее. То в руках у него
был золотой цветок, от которого все, на что майор ни взглядывал, превращалось в груды золота; то стоял он у решетчатой двери какого-то подземелья, сквозь которую видны были
несметные сокровища: ему стоило только просунуть руку,
чтобы черпать оттуда полными горстями. То снова был он на
охоте: псари его, со стаей борзых и гончих, гнались за белым зайцем; но майор, на лихом коне своем, всех опередил, и псарей, и борзых, и гончих; уже он налегал на зайца,
уже гнался за ним по пятам; вот настиг, вот замахнулся арапником, ударил — и заяц рассыпался перед ним полновесными
рублевиками. Такне сны целую ночь беспрестанно сменялись
в воображении майоровом, и когда он проснулся поутру, то
был довольнее и веселее обыкновенного, к великой радости
доброй Ганнуси.
Зима проходила; майор в это время собирал все возможные сказки о кладах, соображал, сличал их и составлял
будущих своих действий против сатаны и его когорты; исчислял в уме богатые свои добычи, покупал поместье за поместьем и распоряжал доходами. Ганнусю выдавал он то
за какого-нибудь миллионщика, то за пышного вельможу;
сыновей выводил в чины и в знать, женил на княжнах и
графинях и таким образом роднился с самыми знатными
177
домами в русском царстве. Эги воздушные замки, за неимением лучшего дела, по крайней мере, занимали доброго
майора, отвлекали его думы от грустной существенности и
веселили его в чаянии будущих благ.
Наступил март месяц, снег от самой масленицы начинал
уже таять, а на последних неделях великого поста полились
с гор и высоких мест быстрые потоки мутной воды, увлекавшие с собою чернозем, глину и песок. Речки и ручьи порывисто понеслись в берегах своих от прибылой воды; мосты и
плотины во многих местах были уже снесены или размыты.
Деревушка или, правильнее сказать, хутор майоров стоял
при реке, на которой устроена была мельница, приносившая
помещику посильный доход. Плотина сей мельницы покамест
на этот раз уцелела, более по счастью или от того, что напор
воды в реке не был еще во всей своей силе, нежели по собственной прочности; ибо сельский механик, строивший ее,
небольшой был мастер своего дела, и редкий год половодье
проходило, не размыв части этой плотины, или, как говорится
в Малороссии, не сделав прорвы. В вербное воскресенье набожная Ганнуся поехала в отцовской тарадайке'3 к заутрене
в казенное село за пять верст от их хутора: ближе того не
было церкви в их околотке. Дорога, ведущая из хутора в селение, лежала через плотину. Чтобы застать начало заутрени,
Ганнуся отправилась в путь еще до рассвета; переезжая
плотину, она почувствовала некоторый страх: плотина дрожала на зыбком своем основании, как будто бы ее подмывало
водою. Дочь Майорова решилась, однако ж, ехать далее, поспела к первой благовести, простояла всю заутреню с потупленными в землю глазами и молилась очень усердно. К концу заутрени, когда должно было идти для получения освященной вербы, она заметила, что перед нею шел человек в военном мундире, разводил народ в обе стороны и очищал ей
дорогу. Дошед до того места, где стоял священник с вербами, он сам посторонился, поклонился ей и учтиво подал знак
идти вперед. Тут только решилась она взглянуть на незнакомца: это был молодой офицер; лицо у него было бледно,
но очень приятно и выразительно; большие, голубые глаза
его горели огнем молодости и отваги; ростом он был высок
и статен, левая рука его покоилась на черном шелковом
платке, и от беглого взора молодой девушки не ускользнуло и то, что рукав мундира около сей руки был разрезан
и завязан ленточками. Скромно, даже застенчиво поклонясь
ему, Ганнуся закраснелась и снова опустила черные свои ресницы к помосту; несколько секунд оставалась она в этом
178
положении; но мысль, что на нее все смотрят, а особливо
молодой офицер, вывела ее из забывчивости: она подошла
к священнику, приняла благословение и вербу и снова стала
на прежнее свое место. Офицер, подойдя вслед за нею к вербам, отступил потом в ту сторону, где стояла Ганнуся, остановился в некотором от нее расстоянии и часто на нее
посматривал. Но девушка не смела более на него взглянуть:
она чувствовала, что лицо ее горело, и потому она почти не
сводила глаз с своей вербы, ощипывала на ней веточки,
которые, видно, казались ей лишними, или молилась еще
усерднее прежнего и по временам вздыхала — конечно, не о
грехах своих. Заутреня кончилась скоро, слишком скоро для
Ганнуси, а может быть, и еще скорее для молодого офицера. При выходе из церкви он снова явился подле дочери
Майоровой, сводил ее по ступеням паперти и посадил в тара-
дайку. Лошади тронулись почти в тот же миг; Ганнуся едва успела поклоном отблагодарить услужливого офицера.
Проехав немного, она, по какому-то невольному движению,
мельком обернулась назад: офицер все стоял на том же
месте и смотрел вслед за нею. Весьма естественное и даже
простительное самолюбие шепнуло ей, что она приглянулась
молодому воину; и почему же не так? Она, как и все девушки ее лет, находила себя по крайней мере не дурною; а складное ее зеркальце, в часы одиноких, безмолвных ее с ним
совещаний, часто доказывало ей весьма утвердительным образом, что она красавица, и на этот раз нельзя сказать,
чтобы зеркало льстило бессовестно. Ганнусе было осьмнадцать лет; при среднем росте, она имела весьма стройный
стан: аравийский поэт сравнил бы ее с юною, пустынною
пальмой. Правильные черты лица оживлялись в ней тем свежим, здоровым румянцем, который сообщается только чистым воздухом полей, умеренным движением и простым,
безмятежным образом жизни, но которого не в силах заменить все затеи моды, все пособия искусства. Черные, большие глаза, в которых тихо светился огонь чувствительности, и черные, лоснящиеся волосы прекрасно оттеняли белизну
лица и шеи; а скромность и стыдливость — лучшее ожерелье
девиц, по русской пословице — еще более возвышали прелести этой сельской красавицы. Из всех знакомых майора
сердце Ганнусино ни за кого еще ей не говорило: теперь
оно впервые забилось сильнее обыкновенного. Что если этот
молодой офицер, пригожий и вежливый, недаром так часто и
пристально на нее посматривал? Что если в нем бог посылает ей суженого? Такие и другие мечты (а кто может
179
перечесть, сколько их промелькнет в голове молодой девушки?) занимали Ганнусю во всю дорогу, до самой плотины
отцовского хутора.
Пасмурное утро уже сменило сумрак ночной, когда дочь
Майорова подъехала к плотине; воздух был густ и влажен;
дымчатые облака застилали лазурь небесную. Человек с десять крестьян стояли на берегу и с малороссийскою безза-
ботливостью смотрели, как вода подымала плотину, протачивалась сквозь фашинник, отрывала и выносила целые глыбы
земли. За плотиной низовье мельницы было почти совсем
затоплено водою, которая с шумом и ревом неслась в новых
своих берегах, сносила плетни и крутилась подобно водовороту около кустов ивняка, росших по лугу. Мельничные колеса остановились, а плотина дрожала еще сильнее прежнего:
видно было, как она поднималась и опускалась.
— Не опасно ли переезжать? — спросил кучер Ганнусин
у крестьян.
— А бог знает! — был равнодушный их ответ.
Из предосторожности Ганнуся сошла с тарадайки и велела кучеру ехать вперед. Сама она хотела идти пешком,
рассчитывая, что где повозка с парою лошадей может проехать, там ей самой безопасно будет перейти. Кучер, не дожидаясь вторичного приказания, погнал лошадей и скоро
очутился на другом конце плотины.
Перекрестясь, Ганнуся пошла вслед за повозкой, ноги ее
подгибались, сердце трепетало; однако ж она вооружилась
решимостью и шла далее. Но едва ступила она иа самое
шаткое место — вдруг плотина под нею затрещала, поднялась вверх и стала почти боком. Ганнуся упала на колена.
Громкий вопль крестьян с берега поздно известил ее об опасности. Снова раздался треск, снова вскрикнули крестьяне —
и та часть плотины, где находилась тогда бедная девушка,
была сорвана и снесена вниз. «Кто в бога верует, спасайте!»14— закричали крестьяне и побежали вниз по течению,
куда водою снесло несчастную Ганнусю. Кучер, ожидавший
ее перехода, поскакал в господский дом и по дороге кричал всем встречным, что барышня их утонула и чтобы все
шли вытаскивать ее из воды. Не прошло десяти минут —
уже на правый берег реки, где стоял хутор майоров, стеклась толпа крестьян, жен их и детей. Мужчины с беспокойством бегали взад и вперед по берегу и смотрели в воду,
женщины ломали себе руки и с плачем выкрикивали свои жалобы о потере доброй своей барышни; а мягкосердечные дети,
видя матерей своих в горе, плакали вслед за ними.
180
Между тем крестьяне, бежавшие по левому берегу, заметили, что в поднятых водою ивовых кустах как будто бы что-
то зацепилось; но вода неслась так быстро, так порывисто,
что никто из них не отваживался пуститься вплавь. «Лодку,
лодку!» — кричали они на другой берег; но рев воды, с напором стремившейся сквозь промоину плотины, заглушал их
голос.
— На что лодку? Что случилось? — спросил их некто
повелительным голосом.
Крестьяне оглянулись и увидели, что подле них остановился человек, верхом на лошади и в офицерском мундире.
— Там в волнах наша барышня, дочь майора...
— Смотрите, смотрите! — вскрикнул один молодой крестьянин.— Вот около ивовых кустов всплыло наверх что-то
белое... Это платок, это платок нашей барышни!
— Лодку, лодку! — снова закричали крестьяне; но офицер, не дожидаясь более, вдруг пришпорил своего донского
коня, направил его прямо в воду, и послушный, бодрый конь
бросился с берега, забил ногами в воде, которая заклокотала
и запенилась вокруг него. Крестьяне, пораженные такою
нежданною отвагой, снова вскрикнули; им отвечали таким же
криком с другого берега. Долго бился офицер в волнах, долго боролся он с стремлением воды, которая сносила его
вниз по течению; наконец сильный конь, покорный поводу и
привычный к таким переправам, доплыл до ивовых кустов.
Офицер наклонился, опустил правую свою руку в воду, но
не нашел ничего; три раза, несмотря на все опасности, объезжал он вокруг кустов, искал в разных местах: но все попытки его были напрасны. Решась на последнее средство, он
привязал наскоро повод к своей портупее, бросился с коня
вниз и исчез под водою. Крестьяне думали, что он погиб;
конь бился, рвался и силился выплыть. В эту минуту майор,
бледный как смерть и с отчаянием в лице, явился на берегу, поддерживаемый своими хлопцами. Вдруг увидели, что
офицер, хватаясь за ветви ив, всплыл на поверхность; повязка, на которой носил он левую свою руку, поддерживала недвижное, бездыханное тело Ганнуси. Вот он хватается
рукою за повода, тащит к себе коня, силится взлезть на него;
но тяжелая ноша тянет его ко дну... Вот он уцепился за
гриву, всплыл снова, быстрым движением вскинул ношу свою
на седло и сам успел вскочить на него... Вот уже он, поддерживая левою, больною рукою голову Ганнуси у своей
груди, правит к тому берегу, где стоит майор; конь, из
последних сил, бьется и борется с волнами... Расстояние
181
здесь не так далеко: авось-либо спасутся... Вот доплыл до
берега, вот истомленный конь хватается передними копытами
за вязкую, глинистую землю, уцепился, скакнул — и все бросились к нему навстречу. Майор упал на колена; женщины,
видя посинелое лицо и закостенелые члены своей барышни,
которой влажные волосы в беспорядке были разметаны по
девственным ее грудям, завыли громче прежнего. Но офицер,
казалось, ничего не видел и не понимал вокруг себя; он только
спросил слабым голосом: «Куда дорога?»— и погнал коня
своего к дому Майорову, все еще держа перед собою Ганнусю в том самом положении, в каком вынес ее из воды.
От движения во время сего переезда вода хлынула из
утопшей; но охладелое тело ее все еще не показывало ни малейших признаков жизни. Сбежавшиеся женщины наполняли весь дом плачем и рыданием; майор стоял как громом
пораженный, сложа руки и устремя неподвижные глаза на
дочь свою. Один капрал соблюл присутствие духа: он вывел майора, велел выйти из комнаты всем лишним и, оставя
утопшую на руках женщин, дал им наставление, каким образом подавать ей помощь. По совету капрала, с нее сняли
мокрое платье и укутали все тело шубами. В то же время
старый служивый разослал хлопцев за лекарями и за войсковым писарем. Добрый Спирид Гордеевич, узнав о несчастии
своего соседа, тотчас прискакал к нему, утешал его, уговаривал и наконец успел поселить в нем надежду. Старания
двух лекарей еще более подкрепили сию надежду: у больной оказывался пульс и замечено было легкое дыхание. Мало-помалу дыхание становилось ощутительнее, пульс начинал биться сильнее, и в теле пробуждалась теплота. Все
признаки жизни постепенно оказывались, но лекаря опасались, чтобы с больной, от потрясения всех жизненных сил, не
приключилась горячка. Наконец Ганнуся открыла глаза, но
скоро опять их закрыла: ощущения жизни медленно и еще
неявственно в ней развивались.
Чрез несколько уже часов она совсем очувствовалась.
Здесь только майор, перейдя от сильной горести к безвременной радости, вспомнил об избавителе своей дочери. Он
расспрашивал всех домашних своих об офицере, и одна из
женщин сказала ему, что незнакомый господин, отдав их барышню на руки им и капралу, стоял несколько минут молча
у изголовья Ганнусина и печально смотрел на неподвижное,
посинелое лицо девушки до тех пор, когда капрал выслал
всех мужчин из комнаты. Люди, бывшие в это время на дворе, сказывали, что офицер торопливо выбежал из комнат,
182
бросился на своего коня и пустился со двора так скоро, как
только мог бежать утомленный конь его: иной бы подумал,
прибавили крестьяне, что он боялся за собой погони.
Стараниями лекарей Ганнуся чувствовала себя гораздо
лучше на другой день поутру, хотя жар и слабость во всем
теле еще не вовсе успокоивали окружавших ее. Однако ж
отец ее, пришедший в себя от первых движений страха и
счастливый своею надеждою, казалось, не предвидел более
никакой опасности. Он радовался, как ребенок, которого
нога соскользнула было в глубокий колодец и который,
удачно спасшись от смерти, все еще стоит на срубе колодца
и весело смотрит на темную, гладкую поверхность воды. Сидя
у постели Ганнусиной вместе с лекарями и добрым своим
соседом Спиридом Гордеевичем, майор разговаривал с ними
о минувшем несчастии, когда один из хлопцев пришел ему
доложить, что в передней дожидался человек, одетый денщиком и приехавший узнать о здоровье барышни. Майор
и войсковый писарь тотчас догадались, что это был посланный от ее избавителя. Оба они вышли в переднюю.
— Кто таков твой господин? — спросил нетерпеливый
майор, не дождавшись еще ни слова от посланного.
— Поручик Левчинский,— отвечал сей последний.
— А, знаю: это сын бедной больной вдовы Левчинской,
которая живет в маленьком хуторке, в осьми верстах отсюда; не так ли?
— Точно так, ваше высокоблагородие!
— Скажи своему поручику, что я очень, очень благодарю
его за спасение моей дочери, которой жизнь для меня дороже
моей собственной... Скажи ему это и проси его пожаловать к
нам.
— Слушаю, ваше высокоблагородие. Поручик, верно,
будет у вас, когда выздоровеет.
— Как, разве он болен?
— Да, со вчерашнего дня, ваше высокоблагородие. Он
приехал домой весь мокрый и окостенелый от холода; рана
у него на левой руке только что было начала подживать,
а теперь снова открылась и разболелась, так что он не может
руки приподнять. Всю ночь он не уснул ни на волос: не
жаловался и не охал, а только все бредил в жару. Бедная
старушка, матушка его, совсем с ног сбилась. А сегодня утром, только что поручик немножко очнулся, тотчас позвал
меня и велел скорее скакать сюда и узнать о здоровье барышни.
— Скажи, что дочери моей легче...
183
— Погоди на минуту, друг мой,— сказал денщику вой-
сковый писарь, перебив речь Майорову,— Барину твоему
нужна помощь; я сейчас еду туда с лекарем. Ты будешь показывать нам дорогу.— И мигом Спирид Гордеевич велел закладывать свою коляску, а сам, вошед в комнату больной,
отозвал в сторону одного из лекарей, взяв предосторожность, чтобы не встревожить Ганнусю, и просил его ехать
с ним к благородному, отважному воину, который великодушным своим самопожертвованием подвергнул опасности
собственную жизнь. Лекарь охотно согласился оказывать
ему все возможные пособия своего искусства.
Они застали Левчинского в сильном жару горячки. Положение молодого человека было гораздо опаснее Ганнусина,
и лекарь надеялся только на молодость и крепость сил больного. Мать его, почтенная женщина, старая и хилая, сидя
у постели страдальца, горько плакала и печально покачивала
головою. «Он не вынесет этой болезни,— твердила она
сквозь слезы,— он умрет, мое сокровище... а за ним и я слягу
в могилу!»
Предчувствия старушки, к счастию, не сбылись. Твердое
сложение сына ее и деятельные пособия врача переломили
болезнь почти в самом ее начале; но выздоровление Левчинского было медленно, особливо рука его долго приводила
в сомнение лекаря, который не раз видел себя в печальной
необходимости лишить больного сей части тела, столь драгоценной для всякого человека, тем более для молодого воина. Наконец, счастливые следствия здоровой, неиспорченной
крови и здесь оказали спасительное свое действие: не скоро, но все-таки рука Левчинского получила прежнее движение, и рана ее совершенно затянулась.
Между тем Ганнуся выздоравливала гораздо скорее. Она
уже знала, кто спас ее от неизбежной почти смерти, и с благодарными слезами вспоминала о своем избавителе. Каждый
день посылала она наведываться о состоянии его здоровья
и нетерпеливо ждала совершенного его выздоровления, чтобы
во всей полноте чувства высказать ему благодарность, которую питала к нему в своем сердце... Бедная девушка! Она
еще сама не смела взглянуть попристальнее в свое сердце,
не смела отдать себе отчета в том, что с благодарностью совокуплялось другое чувство, гораздо нежнейшее... Образ ее
избавителя был почти неотлучно в ее воображении, наполнял каждую мысль, каждую мечту ее: то видела она его
в церкви, с его благородным, осанливым видом, то снова
встречала последний взор его, которым он безмолвно про
184
щался с нею по выходе из церкви. Раз по десяти на день принималась она расспрашивать своих женщин о подробностях
своего избавления, и с лицом, светлевшим какою-то детскою
радостью, с каким-то невинным самолюбием думала: «На это
он отважился только для меня... для меня одной! Он не
жалел своей жизни, бросился в страшный омут, чтоб избавить меня от смерти или хоть раз еще взглянуть на меня
мертвую!» Тут живо представлялась ей та минута, когда
Левчинский, по одному только ее имени, слышанному от
крестьян, понесся без всякого размышления в мутные, клокочущие волны; или та, когда он выносил ее на руках своих
из гибельной хляби: тогда она видела в нем какое-то существо высшее, которому ни в чем не было препон и которого
твердой, решимой воле все уступало, даже самые грозные
силы природы. Может быть, невинная, простосердечная дочь
Майорова не в этих самых выражениях объясняла себе, как
она понимала нравственную силу и подвиг самопожертвования молодого воина; но тем не менее таковы были ее понятия
о Левчинском, и мы просим извинения у читателей, что не
умели передать сих понятий проще и естественнее. Чтобы
сколько-нибудь приблизиться к истине, скажем, что милая
девушка чувствовала почти суеверное уважение к своему
избавителю.
Во все время болезни Ганнусиной майор был при ней
почти беспрестанно; и если порою отлучался часа на два,
особливо когда дочери его приметно становилось легче, то
в сии отлучки посещал он Левчинского. Тогда, сев на своего
доброго коня, Максим Кириллович летел, по охотничьей своей привычке, самою кратчайшею дорогой, то есть прямиком
через горы и долы, в уединенный хуторок, входил на несколько минут в маленький, скудный домик Левчинского,
спрашивал о здоровье поручика, с искренним, прямым
чувством высказывал ему в сотый раз свою благодарность —
и тотчас снова на коня и скакал в обратный путь, к милой
своей Ганнусе. В эти две недели, протекшие до совершенного ее выздоровления, майор почти и не подумал о своих
планах обогащения, о поисках за кладами и обо всем, что
относилось к любимой мечте его.
Между тем весна наступила; посевы зазеленелись, пролески15 зацвели по лесам, и вешние синички защебетали
в сени развивающихся деревьев. По совету лекарей, нашедших чистый, свежий весенний воздух полезным для здоровья
Ганнуси, она начала прохаживаться в саду; и майор как будто бы только этого и ждал. Мысль о кладах снова в нем про
185
будилась; он чаще прежнего призывал к себе капрала на тайные совещания; рукопись была снова переписана, сколько
можно яснее и безошибочнее, и майор твердил ее наизусть,
как молодой школьник свои урок из грамматики. Недовольный еще обширными сведениями капрала по части кладозна-
ния, Максим Кириллович начал прилежно посещать свою
мельницу, которой плотина была поправлена механиком-жидом, выдавшим себя за отличного искусника в строении плотин и в разных таких хозяйственных делах, при коих простодушные малороссияне предполагают отчасти сверхъестественные знания. Так, например, знающий мельник, строитель
плотин, пасечник,, или пчеловодец, и некоторые другие подобные им лица почитаются малороссийским простолюдием за
знахарей или колдунов.
Мельница в малороссийской деревушке есть род сельского клуба порядочных людей; ибо местом сборища для молодежи бывают вечерницы16, а для гуляк всякого возраста шинок. Кроме тех, которые приезжают с мешками зерна для
помола муки, сходятся в мельничный амбар все пожилые поселяне, которым дома нечего делать или которые улучили
досужное время; а такого времени, благодаря закоренелой
склонности к лени, у добрых малороссиян всегда найдется
довольно, особливо в промежутках от посева до собирания
хлеба или когда пора полевых работ еще не наступила.
В этом сельском клубе толкуют они обо всем: о домашних делах своих, о новостях, которые удалось им слышать, о деревенских или семейных приключениях, о злых панах и судо-
вых17, о ведьмах, мертвецах, кладах и тому подобных диковинках, разнообразящих простой, не богатый происшествиями сельский быт сих добрых людей. Сметливый мельник старается сам заводить такие сходбища и, подобно трактирщику
какого-нибудь немецкого местечка, бывает обыкновенно первым рассказчиком и балагуром. Это делает он и для того,
чтобы приманить на свою мельницу большее число помоль-
ников, и для того, что на мельнице обыкновенно происходят
все крестьянские сделки: продажа друг другу скота или
иной какой-либо из статей сельского хозяйства, наем земли,
работников и т. п.; а все сии сделки непременно кончаются
магарычом16, который запивать приглашается и сам мельник.
Надобно сказать, что жид Ицка Хопылевич Немеров-
ский'9, которому посчастливилось укрепить плотину мельницы Майоровой, сделал сей опыт глубоких своих познаний
в механике, или (скажу в угоду добрых моих земляков, малороссиян) — опыт своего искусства в тайной науке чародей
186
ства,— не даром, а на весьма выгодных для него условиях.
Он знал, что хорошею денежною платою от майора поживиться ему было нельзя, потому что сам Максим Кириллович давно уже не видал у себя лишней копейки; для сего
честный еврей, с обыкновенными жидовскими уловками и
оговорками, сделал следующее предложение: вместо денег
получать от майора — безделицу, как говорил Ицка Хопы-
левич — третью мерку хлеба, получаемого за помол, и это
в продолжение двух лет; да безденежное позволение содержать шинок на Майоровой земле и подле самой мельницы,
тоже на два года с тем, что Ицка нигде, кроме Майоровой
винокурни, не будет покупать вина, а Максим Кириллович
будет ему делать на каждом ведре вина тоже незначительную, по еврейскому смыслу, уступку. Предложение сие заключено было сильными клятвенными уверениями, что он,
Ицка Хопылевич Немеровский, поднял при починке плотины такие тяжкие труды, каких и предки его, библейской
памяти, не поднимали на земляной работе египетской, и что
теперь плотину, по прочности укрепления и по заговору20, который положил на нее этот честный еврей, не размыло бы
и новым всемирным потопом. Добрый майор, человек самого
сговорчивого и неподозрительного нрава, притом же небольшой знаток в делах, требующих соображений и расчетливости,— согласился на все, что предлагал ему честный еврей Ицка Хопылевич Немеровский.
Разумеется, что жид как участник в мельничном походе
и ближний сосед мельницы почти безвыходно бывал там;
в шинке же была у него правая рука: жена его Лейка21, молодая, проворная и лукавая жидовка, которая с сладкими
своими речами, с вкрадчивыми взглядами и усмешкой и с
низкими, вежливыми поклонами весьма ловко обмеривала
добрых поселян и приписывала на них лишние деньги. Сидя
в мельничном амбаре на груде мешков и заложа руки в карманы черного, долгополого своего платья, запыленного
мукою, жид Ицка Хопылевич рассказывал собиравшимся
в мельницу обывателям всякие чудеса, виденные или слышанные им по свету; учил их лечить рогатый скот такими лекарствами, о которых знал, что от них не может быть ни худа, ни добра; уверял, что умеет заговаривать змей, отшеп-
тывать от укушения бешеной собаки и добывать клады...
Мудрено ли, что все это дошло до чуткого уха Майорова?
Капрал, по старой своей привычке, заглядывал иногда в
мельницу и, там однажды подслушав сии речи жида, пересказал их майору. Вот причина, по которой Максим Ки
187
риллович стал учащать своими прогулками на мельницу, где,
под видом хозяйственного присмотра, часто он просиживал
по целым часам и разными окольными путями старался
выведать у жида тайну добывания кладов. Но догадливый
Ицка, вероятно, смекнув делом, основал свои расчеты на слабости помещика, о которой, станется, и прежде уже знал он;
посему и говорил о любимом коньке майоровом с возможною осторожностию и давал заметить, что тайна его не дается даром.
Майор, которого природная нетерпеливость еще более
к старости усилилась охотничьими его привычками, досадовал на упорное молчание жнда, но видел, что увертливого
Ицку нельзя было довести до открытия своей тайны никакими затейливыми околичностями. Посему Максим Кириллович решился наконец пойти прямою дорогой; но прямая дорога к сердцу жида — есть деньги, а их-то и не было у нашего майора. Что делать? За неимением денег, он пустился
на обещания, даже доходил до того, что предлагал Ицке
Хопылевичу третью долю из всех добытых кладов. Но жид,
с которым он имел дело, был прямой жид; любимые его поговорки были: из обещаний не шубу шить, и не сули журавля
в небе, а дай синицу в руки. Эти пословицы тверже всего
он знал и даже лучше всего выговаривал на польско-малороссийском своем наречии. К ним вдобавок он очень благоразумно представлял майору, что третья доля сама по себе, а не
худо иметь что-либо вперед; тем больше-де, что клады доставить — не плотину строить: что при таком деле и вдосталь
измучишься в борьбе с лукавым, который силится отстоять
свое сокровище,— и за то-де ему надобно поступиться кое-
чем. Максим Кириллович подумал, подумал — и уступил
Ицке безденежно тридцать ведер вина, да подарил ему пару
коз с козлятами, что обыкновенно составляет сельское хозяйство жида. Дело было слажено: Ицка Хопылевич объявил
майору, что ему нужно сделать приготовительные заклинания, и для того просил две недели сроку. Майор на все согласился, ожидая верного успеха от знахаря-жида, которого
чародейскую силу видел он уже на опыте, то есть при укреплении мельничной плотины.
Дворня всякого помещика, самого мелкопоместного, есть
в малом виде образчик того, что делается в большом и, скажу
более, в огромнейшем размере. Домашняя челядь всегда
и везде сметлива: она старается вызнать склонности, слабости, самые странности своего господина, умеет льстить им и
чрез то подбиться в доверие и милость. Так было и в доме
188
Максима Кирилловича Нишпеты. После старого капрала,
ближний двор его составляли хлопцы, или псари, и пользовались особым благорасположением своего пана. Но как
нельзя же быть шести любимцам вдруг, то каждый из них, наперерыв перед другими, старался прислуживаться своему
господину, угодничать любимому коньку его и увиваться
ужом перед всем, что усмехается будущею милостию. Один из
хлопцев, Ридько22, будучи проворнее других и подслушав
под дверью разговоры своего пана с капралом, скорее всех
доведался, о чем теперь хлопотал Максим Кириллович.
Ридько начал усердно расспрашивать обо всем, что только
можно было в селении и в околотке узнать о кладах; и мало
еще того: сам начал бродить по ночам вокруг дома, близ
пустырей или старых строений, в леваде23 и в саду майоро-
вом и подмечать, не окажется ли там каких признаков скрытого в земле клада. В сих ночных поисках заметил он однажды в саду, под старою, дупловатою липой, что-то белое,
свернувшееся клубком; ночь была темна, и Ридько не мог
рассмотреть издали; он стал подходить поближе, и белый
клуб как будто бы приподнялся от земли: Ридько ясно увидел две светлые точки, которые горели беловатым огнем,
как восковые свечи,— и мигом белого клубка и светлых
точек как не бывало. Это клад: чему же быть иначе? Но
клад, который не давался в руки Ридьку, потому что он не
знал никаких заговоров. Еще не вполне доверяя самому себе, Ридько решился дожидаться следующей ночи, и когда
она наступила, новый искатель кладов пошел на то же место — и опять увидел он белый клубок, и опять две светлые
точки как будто бросили на него две искры; но вслед за
тем снова все исчезло. Теперь не оставалось уже Ридьку ни
малейшего сомнения; он нетерпеливо ждал утра, чтоб объявить майору о своем открытии. Майор удивился и обрадовался, что ему не нужно было дальних исканий, когда клад
у него был, так сказать, под рукою; но зная из рассказов,
что клад иногда является только по три ночи, не хотел он
терять времени и выпустить из рук предполагаемую находку. Посему он немедленно созвал свой тайный совет, состоявший из капрала Федора Покутича и жида Ицки Хопы-
левича; Ридько как человек, оказавший важную услугу и
от которого нужно было отобрать подробные справки об
отыскиваемом кладе, также допущен был в это совещание.
Капрал предложил майору разбить клад с молитвой, по примеру старухи нищей, о которой он рассказывал; но жид, с лукавою улыбкой, пожимая плечами и потряхивая длинными
189
кудрявыми своими пейсиками, заметил, что этим средством
много что добудешь один клад, а скорее отпугаешь все
другие, которые с того времени перестанут показываться
искателю. Майор убедился этим сильным доводом и счел за
лучшее во всем положиться на жида. Хитрый Ицка обещал
научить майора какому-то заклинанию и для того, отведя
его в сторону, проговорил ему слов с десяток на неведомом
языке; однако же майор нн за что не хотел их вытвердить,
потому что эти слова, как он весьма основательно думал,
были еврейские и могли заключать в себе или богохуление,
или заклятие на душу говорящего их,— и, почему знать? —
может быть, формальную присягу служить сатане верою и
правдою! Несмотря на все убеждения и клятвы жида, добрый Максим Кириллович остался тверд в своем упрямстве, и
жид, за лишний десяток ведер вина, уступленных ему майором, договорился твердить сам свое заклинание в то время,
когда майор станет бить по кладу. Сим окончилось совещание.
Товарищи Ридька, завидуя новому любимцу их пана, хотели допытаться, чем он вкрался в милость Максима Кирилловича. Подойдя на цыпочках и приложа ухо к дверям,
они жадно ловили каждое слово, сказанное в светлице Майоровой, и узнали все дело почти с такою ж подробностию,
как и мы теперь его знаем. Любопытство и болтливость —
два главнейшие порока слуг: в минуту вся дворня Майорова
узнала, что в саду их пана является клад и что в этот самый
вечер будут добывать его; и каждый из дворовых людей,
от первого до последнего, положил у себя на сердце тайком
прокрасться в сад и высматривать из-за кустов и деревьев,
что там будет делаться.
Целый день прошел в какой-то суматохе. Нетерпеливость
и беспокойство ясно выказывались на лице и в поступках
майора; капрал беспрестанно бродил то по двору, то по саду,
то заглядывал в комнаты; жид, согнувшись и напустя пейсики себе на лицо (может быть, для того, чтоб на лице его
не могли прочесть его мыслей), ровным и скорым шагом
каждый час переходил то с мельницы на господский двор,
то с господского двора на мельницу; Ридько суетился, чтобы
придать себе больше важности в глазах своих товарищей,
и не отвечал на лукавые двусмысленные их вопросы; хлопцы переглядывались между собою, перешептывались по углам, а остальная дворня любопытно присматривалась ко
всему, что делалось, и вслушивалась во все, что было сказано. Одна Ганнуся ни о чем не знала и не примечала ниче-
190
го: она, пожелав доброго утра отцу своему, после завтрака
села за работу в своей комнате, которой окно было на проселочную дорогу к хутору Левчинского, задумалась о нем,
печалилась, что он долго не выздоравливал; игла быстро
вертелась в руках ее, работа, можно сказать, горела, часы
летели, и милая девушка не приметила, как время пронеслось до обеда; тем больше не приметила она, что вокруг нее
все было в каком-то суетливом волнении. Сердце молодой
красавицы, в минуты уединенной задумчивости, создает в
самом себе мир отдельный, мир фантазии: ему нет тогда дела
до мира внешнего, вещественного.
Наступил вечер; когда стемнело на дворе, все дворовые
люди Майоровы, начиная от хлопцев до рички, или коровницы, Гапки24, тихонько забрались в сад, залегли в разных
местах, чтоб их не приметили, и, не смея переводить дух
в своих засадах, украдкой оттуда выглядывали. Около одиннадцати часов ночи Ридько вбежал опрометью в комнату
майора, где капрал и жид, чинно стоя по углам и не сводя
глаз с господина, ожидали условленной вести. Майор вскочил с своего места, взял большую, тяжелую палку, которую
капрал для него приготовил, и скорым шагом отправился
в сад; за ним, прихрамывая, но с надлежащей вытяжкой, шел
капрал; рядом с ним последним подбегал жид, припрыгивая
и твердя вполголоса: «Зух Раббин, Каин, Абель!» Ридько
заключал это ночное шествие, неся на плечах два большие
порожние мешка. Майор приостановился, увидя перед собою,
шагах в двадцати, что-то белое, свернувшееся в комок. Он
осторожно занес палицу свою навзмашь, притая дух, подкрался к белому привидению — ив тот миг, когда жид громко вскрикнул: «Зух!», майор изо всей силы хлопнул... Пронзительное, оглушающее «мяу!» раздалось по саду вслед за
ударом — и белый комок, не рассыпаясь серебряными рублевиками, растянулся без жизни и движения. Домашняя челядь Майорова не утерпела и сбежалась отовсюду из засад своих, услыша столь необыкновенный крик; толстая,
приземистая и плосколицая Гапка явилась туда из первых...
— Ох! Горе мне бедной25! Пан убил мою Малашку! —
вскрикнула Гапка и взвыла таким голосом, каким мать плачет по своей дочери.
— Кой черт! Что ты мелешь, старая дура? — торопливо
и сердито проговорил майор.
— Да, вам легко говорить! Пускай я мелю, пускай я старая дура; а бедную мою Малашку ухохлили: уж ее теперь
191
ничем не оживишь! — выкрикивала Гапка и заголосила пуще
прежнего.
— Да скажешь ли ты мне,— с нетерпением вскрикнул
майор, схвати коровницу за плечо и стряхнув ее изо всей
силы,— какую Малашку?
— Какую? Вестимо, что мою Малашку!.. Кто теперь
будет у меня ловить крыс, кто будет от них очищать ледник?..
— Провались ты, негодная дура, и с проклятою своею
кошкой!— бранчивым голосом сказал майор и резко махнул
рукою по воздуху.
— Ох! Горе мне, бедной сироте! — навзрыд твердила
Гапка, припала к земле, подняла убитую кошку и с вытьем
понесла ее в свою хату.
Люди Майоровы, каждый смеясь себе под нос, разбрелись
по своим углам; явно зубоскалить никто из них нс смел: все
знали, что рука их пана тяжела и что гнев его, вспыхивая как
порох, иногда и оставлял по себе такие же явные следы, как
это губительное вещество. На сей раз, однако же, для гнева
Майорова довольно было и одной жертвы, т. е. кошки, которая жизнью поплатилась за свой неумышленный обман;
Ридько, столь же неумышленная причина ее смерти, отделался одним страхом. Максим Кириллович скорее прежнего
пошел в свою комнату, заперся в ней и наедине переваривал
свою досаду; капрал, с горя от неудачи своего старого командира, к которому был он искренне привязан, побрел в
свою каморку и принялся за вечернюю порцию; жид отправился в свой шинок, а Ридько, повеся нос, тихо поплелся
на свой ночлег. Там, укутав голову, чтоб не слышать злых
насмешек, которыми его осыпали товарищи, он шептал
молитвы и поручал свою душу святым угодникам, считая
все случившееся с ним бесовским наваждением.
На другой день майор поздно вышел из своей комнаты; на
лице его было написано уныние, и на все вопросы Ганнуси
об его здоровье отвечал он отрывисто и неохотно. Заметно
было, что он боялся или стыдился напоминания о минувшей
ночи; усердный капрал прочел это в душе его и потому
строго подтвердил хлопцам и всем дворовым людям не разглашать ничего о том, что было накануне, а более всего остерегаться, чтоб не промолвиться как-нибудь об этом перед
их господином. Все знали, что пан и капрал шутить не любили, и тайна минувшей ночи замерла на болтливых языках
домашней челяди. В скромности жида капрал и без того был
уверен, ибо Ицка Хопылевич был молчаливее рыбы, когда
192
чувствовал, что на хранении тайны основывались для него
корыстные виды.
Новое лицо развлекло задумчивость майора и даже развеселило его. Это был поручик Левчинский, выехавший в
ют день впервые после болезни и поспешивший изъявить
благодарность свою Максиму Кирилловичу и милой его дочери за оказанное ему участие. С ним приехал и Спирид
Гордеевич, который во все время болезни Левчинского принимал о нем отеческие попечения и полюбил его как родного
сына: это чувствование было ново для доброго старика, потому что сам он не имел детей и, похоронив за три года перед
тем подругу преклонных своих лет, был совершенно одинок.
Ганнуся, услышав о приезде Левчинского, смутилась и
не могла ни на что решиться. Сердце влекло ее навстречу
долгожданному гостю; но природная стыдливость и привычная застенчивость малороссийской панны останавливали милую девушку в ее комнате. И здесь ее состояние было почти
лихорадочное: то вдруг чувствовала она легкую дрожь, то
жаркий румянец вспыхивал у нее в щеках и даже пробегал
по челу, высокая грудь ее волновалась, глаза покрывались
тонкою, теплою влагой... В таком состоянии борьбы провела
она более получаса, пока отец не кликнул ее из другой комнаты. Тогда, собрав всю бодрость девического своего сердца,
она вышла к гостям, но приближение и первый звук голоса
ее избавителя снова вызвали ту же краску на ее лице и тот
же легкий, электрический трепет по всему ее телу. Не скоро
могла она прийти в себя и отвечать полусловами на приветствия и выражения благодарности, сказанные ей Левчинским,
который, может быть, в душе своей был не более спокоен, хотя, привыкнув во время службы к светскому обращению, более умел владеть собою. Наконец, крупные слезы скатились
с длинных черных ресниц Ганнуси, и она облегчила свое
сердце тем, что высказала с своей стороны молодому поручику — правда, с крайним усилием и в несвязных словах —
благодарность свою за спасение ей жизни.
Когда холодный порядок разговора несколько восстановился и Максим Кириллович завел с Левчинским речь о старых и новых служивых, о походах и битвах, тогда Ганнуся,
тихо сидевшая в отдалении с сложенными руками, по обычаю малороссийских девиц, оправилась и начала дышать
вольнее. Она украдкою начала уже всматриваться в лицо своего избавителя, замечала каждую его черту, каждое движение и часто, опустя голову, вылетавшими из уст ее вздохами
нагревала прелестную грудь свою.
7 Заказ 14
193
За обедом Левчинскому случайно пришлось сидеть подле Ганнуси. Спирид Гордеевич первый это заметил; и, понял ли сей сметливый старик зарождавшуюся в молодых
людях взаимную любовь или просто хотел над ними пошутить по врожденной веселости малороссиян, он громко пожелал поручику с Анной Максимовной сидеть чаще вместе,
как пара голубков. Эта малороссийская аллегория означала,
что он желал их видеть четою молодых супругов. Глаза поручика заблистали каким-то новым блеском, когда он поднял их на старого своего друга, как будто бы с вопросом,
сбыточное ли это желание, и тотчас опустились на стол.
Стыдливая соседка его зарделась, как юная роза от первых,
утренних лучей солнца, и казалось, искала глазами, нет ли
какого пятнышка на ее тарелке; а старый майор поморщился
и старался переменить разговор, по-видимому, не весьма для
него приятный.
Впрочем, добрый Максим Кириллович уже и прежде
искренне полюбил поручика; а теперь, слушая жаркие его
рассказы о военных делах и умные суждения о разных предметах, еще более полюбил его и звал как можно чаще к себе
в дом, прибавляя, что он и дочь его всегда рады его видеть.
С этих пор Левчинский сделался почти ежедневным гостем
Майоровым. Часто случалось ему быть глаз на глаз с милою
Ганнусей; часто рука об руку прохаживались они по саду и
по окрестностям, и не раз поручик имел случай облегчить
свое сердце признанием в любви; но природная его скромность, недоверчивость к своим достоинствам и горькое сознание бедности, которую б должна была делить с ним будущая подруга его жизни, удерживали его и заставляли таить
в душе то чувство, которое он питал к дочери Майоровой.
Миновал срок, выпрошенный евреем для чародейских его
приготовлений, и мало-помалу испарилась из головы майора
досада от первой, неудачной его попытки в искании кладов.
Мысль обогащения подспудными сокровищами опять в нем
пробудилась с новою силой. Тетрадь, заключающая в себе
сказание о кладах, ни на минуту не выходила из широкого
кармана охотничьей Майоровой куртки, хотя Максим Кириллович давно уже знал наизусть все содержание любопытной сей рукописи и мог пересказать все упомянутые в ней
урочища с зарытыми в них кладами гораздо безошибочнее,
нежели сыновья его положение и богатство разных европейских государств на экзамене из географии. Наконец, день
поисков был назначен. Еще до рассвета майор с капралом,
евреем и Ридьком отправились на двух повозках; но куда?
194
Этого никто не знал. Ганнуся, с восходом солнца встав с постели и не найдя отца своего дома, крайне удивилась. Ей не
показалось бы странным такое раннее отсутствие, если б это
было зимою: она знала, что в прежние годы отец ее никогда
не упускал пороши, и могла бы подумать, что старинная
страсть снова им овладела; но тогда было лето; куда же мог
он уехать так рано, не сказав ей, да еще и с такою необыкновенною свитой, как жид и капрал; ибо седой инвалид, за ранами, был вовсе уволен от опустошительных набегов охотничьих. Целое утро Ганнуся дожидалась отца своего — и все
понапрасну. Левчинский приехал около полудня, времени,
в которое майор обыкновенно обедал; но хозяина еще не было. Ганнуся не таила от поручика своего беспокойства: нежной дочери казалось, что с отцом ее случилось какое-либо
несчастие. Она поминутно выглядывала в окна, выбегала на
крыльцо, смотрела на все стороны; раз двадцать выходила
она с Левчинским на большую дорогу, расспрашивала на
мельнице и у всех встречных, не видел ли кто отца ее в этот
день? Никто, однако ж, его не видел, никто не знал, куда
и зачем он отправился.
Солнце прокатилось по всему дневному пути своему, но
встревоженная девушка и не думала об обеде; гостю ее, принимавшему живейшее участие в ее беспокойстве, также не
приходила мысль о подкреплении себя пищею; и мог ли молодой, влюбленный офицер думать о таких ничтожных, вещественных потребах, когда он находился вместе с тою, которую любил, и притом должен был стараться ее развлекать
и успокаивать? Наконец, когда солнце уже стало западать,
вдруг пыль поднялась по дороге, послышался стук колес, и,
спустя несколько минут, две повозки поспешно въехали в ворота. Ганнуся полетела птичкой навстречу отцу своему. Погодя немного майор вошел в комнату. На лице его написано
было какое-то унылое раздумье. Поцеловав дочь свою, он выговаривал ей слегка за ее напрасные тревоги и объявил, что,
желая получше узнать все свои поля, он ездил по разным
урочищам и замечал рубежи своих угодий; что с этого дня он
должен несколько времени, и может быть целое лето, употребить на сие хозяйственное обозрение; и что жид Ицка Хопылевич как человек, разумеющий отчасти землемерское дело,
необходим ему при таких разъездах.
Добрая девушка тотчас поверила отцу своему; но поручик хотя и ничего не сказал, однако ж ясно видел, что для
осмотра угодий не нужно было выезжать майору до рассвета
и что размежевание земель и означение рубежей не могло
7*
195
производиться без наряжаемых на сей конец чиновников.
Левчинский не имел повода подозревать что-нибудь худое, но
он успел уже отчасти узнать простосердечие и крайнюю доверчивость майора; а слышав от него, что в этом деле замешан был жид, он тотчас догадался, что здесь было не без
обмана и что хитрый еврей основывал корыстные свои виды на какой-либо слабости майора. Для сего Левчинский
твердо решился проникнуть в эту тайну, а до времени молчать и не наводить никаких сомнений Максиму Кирилловичу.
Каждый день майор уезжал еще до зари, и каждое утро
Левчинский являлся у Ганнуси, чтобы развлекать ее в скучном ее одиночестве. Милая девушка уже не была с ним застенчива и, успокоясь насчет отлучек отца своего, радостно
встречала молодого своего собеседника. Весело проводили
они время в разговорах, прогулках и других невинных занятиях; они еще не сказали друг другу, «люблю!», но уже
знали или, по крайней мере, понимали взаимные свои чувствования. Скромные их удовольствия перерывались только
возвращением майора, который со дня на день становился
мрачнее и задумчивее, как человек, теряющий последнюю
надежду. Это сокрушало бедную Ганнусю: она не могла вообразить, что было причиною такой печали отца ее, и не смела
спросить его о том, ибо майор сделался крайне молчалив и
даже угрюм. Этой перемены не могла она приписывать неудовольствию на частые посещения Левчинского, которому
майор оказывал прежнюю приязнь и радушие; какая же
грусть нарушала спокойствие нежно любимого ею родителя?
Она терялась в догадках и, наконец, решилась проговорить
об этом Левчинскому.
Поручик уверил ее, что принимал живейшее участие в ее
родителе, и обещал ей дознаться, какое несчастие грозило
ему или какая печаль его тревожила. Случай к тому скоро
представился. Вечером, когда майор возвратился, Левчинский, простясь с ним и с Ганнусей, велел подвести верхового коня своего. Ридько, по расчетливой угодливости, побежал на конюшню; между тем поручик, сошед с крыльца,
сказал, что хочет пройтись пешком, и велел Ридьку вести
лошадь вслед за ним. Когда они вышли за деревню, поручик, дотоле молчавший, завел разговор с своим проводником.
— Пан твой очень печалится. Не от того ли, что у вас
худы посевы и не обещают хорошего урожая?
— О, нет, грешно сказать! Наши посевы хоть куда; и те
196
перь, когда озимые хлеба уже выколосились, можно ждать,
что урожай будет на диво.
— Так, может быть, посторонние завладели какими-
нибудь его землями?
— Оборони бог! У нас нет лихих соседей.
— О чем же он так грустит?
— Да так; видно, худой ветер подул... не все то говорится, что знается...
— Послушай, Ридько! Вот тебе на водку.— При сих словах Левчинский сунул ему в руку серебряный полтинник и,
помолчав с минуту, продолжал: — Ты знаешь, что я люблю
твоего пана и желаю ему добра. Вижу, что он почти болен
от какой-то грусти, вижу, что милая, добрая ваша панянка
тоскует и сохнет, глядя на отца своего, и не знаю, как помочь
их горю. Пособи мне в этом: скажи, зачем майор уезжает
каждое утро и в чем и какая ему неудача?
— Сказал бы вам... Да вы никому об этом не промолви-
тесь?
— Вот тебе мое честное слово...
— Верю: вы не из тех панов, которые обещают и не держат слова; вы даже прежде даете на водку, чем обещаете...
Только... как вы думаете: пан мой не узнает об этом?
— Как же он может узнать, если я не скажу? А я уж
дал тебе слово молчать.
— Не вы, а этот проклятый жид: он может отгадать по
звездам и по воде, что я проговорился об этом деле.
— Небось, не отгадает; у меня есть на это свой заговор,
против которого жид не устоит со всем его колдовством.
— Право?.. Так мне и бояться нечего. Только вы не будете нам мешать в нашем деле?
— Нисколько; а напротив, еще буду помогать твоему пану, когда в деле этом нет ничего худого.
— И, какое тут худо! Ведь, кажется, нет греха выкапывать клады, зарытые в земле и у которых нет хозяина, кроме
иногда — наше место свято! — кроме лукавого. А вырвать
у него добычу, не погуби души своей, мне кажется, не грех,
а доброе дело.
— Точно. Так майор ищет кладов?.. Да нашел ли он хоть
один из них?
— Ну, до сей поры мы не видали еще ничего, кроме земли да подчас старых черепьев и обломков того-сего; а мы перерыли уже добрых десятка три мест в разных урочищах,
которые записаны в тетрадке у моего пана.
— Какая ж это тетрадка?
197
— В ней, видите, как по пальцам высчитаны все груды
золота и серебра, закопанные разбойниками и колдунами
в нашем краю. Да, видно, эти колдуны были посмышленее
нашего жида: сколько он ни кудесит, а все мало проку от
его заговоров и ворожбы. Чуть ли он не морочит и нас, и
нашего пана.
Этих известий было достаточно для Левчинского. Теперь
он ясно видел, что догадки его насчет легковерности простодушного Максима Кирилловича были основательны. Сев на
коня своего, поручик отпустил Ридька и тихо поехал домой,
рассуждая о слышанном и сожалея о странном заблуждении
доброго своего соседа. Вдруг ему пришло на мысль подделаться к любимому коньку Майорову для двух причин: во-
первых, чтобы сим способом еще более приобресть дружбу и
доверие Максима Кирилловича и чрез то заготовить себе
дорогу к его сердцу, когда дело дойдет до искания руки Ган-
нусиной; а во-вторых, чтобы, если можно, излечить майора
от суетной мечты обогащения кладами, показав ему на деле
несбыточность этой мечты. План Левчинского тотчас был
составлен и одобрен собственным его умом: помощь жида
в этом случае была необходима; и поручик, знав по опыту,
приобретенному им в походах и квартировании по разным
местам Польши и Литвы,— знав, сколько сии всесветные
торгаши падки к деньгам, решился подкупить Ицку Хопыле-
вича и тем склонить его на свою сторону. Это не трудно было
сделать: Левчинский, по приезде домой, тотчас отправил
своего Власа в шинок еврея, чтобы позвать Ицку в хутор
и сулить ему хорошее награждение.
Влас, человек Левчинского, тот самый, которого мы уже
видели на минуту в доме майоровом, был молодой, видный
и проворный детина, усердный к своему господину и готовый
по одному знаку исполнять его приказания, хотя бы в этом
видел для себя опасность. В платье денщика он как будто бы
переродился: из тихого, робкого малороссийского хлопца сделался в короткое время развязным и лихим офицерским слугою, перенял все ухватки солдатские и гордился тем, что считал себя военным человеком. Он знал по пальцам все замашки и плутни евреев и радовался душевно, если удавалось ему
перехитрить жида или сделать опыт полувоинской своей
сметливости, не поддавшись в обман. Привыкнув к этой игре
ловкости ума, к этой, так сказать, междоусобной войне хитростей, обыкновенно ведущейся у постояльца-солдата с хозяином-жидом, Влас очень обрадовался поручению, которое
дано ему было от господина, предполагая, что ему опять
198
удастся провести жида. Бездействие однообразной жизни
в уединенном хуторе уже наскучило нашему молодцу: он давно искал случая снова развернуть свои природные и приобретенные способности ума, которых он никогда не изведывал
над своим господином, может быть оттого, что не видал к сему никакого повода; или мы охотнее согласны думать, что
Влас не хотел нарушать честности и верности, которые питал
в душе к своему барину.
Не расседлывая поручикова коня, Влас мигом вскочил на
него и полетел по дороге к шинку Ицки Хопылевича. Он
вошел в шинок как такой человек, которому местности подобных заведений и употребительные в них приемы знакомы
как нельзя более, сел на первое место и проговорил громко
и бойко: «Здорово, еврей!»
— Кланяюсь униженно вашей чести, господин служивый! — отвечал Ицка польским приветствием своего перевода, исподлобья поглядывая на приезжего и как будто бы
из глаз его стараясь выведать причину столь позднего и
неожиданного посещения.
— Мне надобно с тобою переговорить,— сказал Влас
тем же голосом.— Эй, ты, смазливая жидовочка! Вынеси
этим землякам кружки и чарки в клеть или куда хочешь,
только чтоб никого здесь не было. А вы,— продолжал он,
обратясь к запоздалым гулякам,— проворней отсюда за порог, не дожидаясь другого-прочего.
Все мигом выскочили за дверь, потому что малороссияне
не любят или, правду сказать, не смеют спорить с москалем — так они называют всякого военного человека, особенно пехотных полков. Оставшись наедине с евреем, который в
нерешимости и с тайным страхом ожидал первых слов своего
собеседника, Влас в одну минуту сделал свои стратегические соображения. Он видел ясно, что ничего нельзя было
от Ицки получить без важных посулов, и потому решился
сделать свою попытку привычным своим средством в таких
случаях, т. е. угрозой!
— Слушай, жид,— сказал он строгим голосом.— Я приехал к тебе не бражничать, как эти ленивцы, которых отсюда выпроводил. Мне нужно не вино твое, а ты сам...
— Как? — боязливо промолвил Ицка, дрожа как осиновый лист.
— Да, ты сам; готовься сейчас ехать со мною: иначе —
ты знаешь...
'— Ваша честь, господин служивый! Я человек невольный, я в услугах моего пана, который поминутно меня тре
199
бует, и без его ведома не смею отлучаться... дайте мне час
времени! Я пойду на панский двор и спрошу позволения...
— Вздор, приятель, не рассказывай мне пустяков!
Я знаю, что старый майор теперь спит, так же как и вся его
дворня; а мне нельзя терять ни минуты. Сейчас же на коня
и со мною...
— Да моя лошаденка теперь пасется в поле...
— А! Ну, так беги пешком, только поспевай за моею лошадью; не то... Я шутить не люблю!
— Воля ваша, господин служивый! У меня ноги болят:
не поспею.
— Так слушай же: я привяжу тебя на аркан и буду тащить за собою, как горцы таскают своих пленных. Согласен ли ты?
— Нет, уж позвольте мне лучше поискать лошаденки:
может статься, какая-нибудь из соседских стоит у меня под
навесом, может статься, и мою еще не угнали на пастьбу...
— Хорошо! Только не думай, что можешь меня провести
и улизнуть отсюда: я старый воробей, меня на мякине не
обманешь. Я сам иду с тобой и ни на миг не выпущу тебя из
виду. В том моя нагайка тебе порукой.
Они вышли. Жид, видя, что все покушения к побегу были бы не только напрасны, но еще и накладны для его спины, решился облегчить неведомую, но, вероятно, горькую
свою участь совершенною покорностию. Грозный Влас шел у
него по пятам, помахивая, как будто от нечего делать, ременною своею нагайкой. Под навесом нашли они лошадь еврееву.
Ицка хотел было идти за седлом, все еще надеясь как-нибудь ускользнуть от своего вожатого; но Влас не дал ему
и договорить своих представлений: он велел жиду скинуть
верхний его плащ и набросить его на лошадь вместо попоны,
сам посадил его верхом, схватил повода его лошади и, сев на
свою, помчался с ним во весь дух. Все это сделано было с такою поспешностию, что жена Ицки не успела опомниться:
ни она и никто из посторонних не видели и не знали, куда
исчезли и сам Ицка, и страшный, сердитый москаль. Лейка,
не нашед своего мужа в шинке и не докликавшись его по
двору, всплеснула руками, взвыла и закричала, что его унес
Хапун26, явившийся в виде солдата.
Между тем Ицка, у которого, может быть, также бродила
в голове подобная мысль, скакал по дороге с неизвестным
своим спутником, не зная и не понимая, куда везли его. Он
никогда еще не видал Власа, потому что Левчинский приезжал в дом майора всегда верхом и без проводника; никто
200
из людей, случившихся на тот раз в шинке, также не знал
нашего удальца. Дорогою Влас попеременно то делал жиду
сомнительные, наводящие страх намеки, то наводил его на
мысль о значительной награде и старался ему внушить, что
не всякий тот беден, кто кажется бедным по виду и о ком
идет такая молва. Несчастного Ицку порою пронимала
дрожь, несмотря на духоту летней украинской ночи; иногда
же кровь, отхлынув от сердца, мучительным огнем протекала
по всем его членам, и окружающий воздух казался ему жарче раскаленной печи. Таково было его положение до самой
той минуты, когда они подъехали к дому Левчинского.
Влас немедленно ввел еврея в комнату своего господина, и
жид, увидя знакомое лицо офицера, о котором наслышался
много доброго, несколько ободрился и почувствовал, что как
будто бы гора спала у него с плеч. Однако же, напуганный
Власом и от природы недоверчивый, он все еще не был совершенно спокоен.
Поручик решил наконец его сомнения, заведя речь о майоре и разными околичностями весьма искусно доведя ее до
кладов. Не трудно было Левчинскому получить желаемое
от еврея: Влас такой задал ему страх, что он и безо всего
согласился бы на всякие условия, а пара червонцев, данных
ему поручиком, совершенно оживила упадший дух Ицки и
подкупила его в пользу молодого офицера. И вот на чем они
положились: честный еврей Ицка Хопылевич должен был
уверить майора, что поручик Левчинский узнал от одного
колдуна в Польше тайну находить и вырывать из земли самые упорные-клады, если только они не были вырыты кем-
либо прежде. За это Левчинский обещался наградить еврея
еще более, и они расстались, быв оба весьма довольны. Поручик — тем, что предположения его принимали желаемый
оборот; а жид — двумя червонцами и надеждою получить
еще вдвое за свою услугу. Жид поехал домой уже не в таком расположении духа, как выехал оттуда, и только боялся,
чтобы Влас не вздумал провожать его: хоть мысли сего честного иудея насчет его посольства и переменились, но все он
думал, что для него было гораздо надежнее подале быть от
этого удальца, у которого, по мнению Ицки, самому лукавому еврею ничего нельзя было выторговать, а только можно было вконец проторговаться.
Все исполнилось по желанию поручика. Ицка Хопылевич
сплел майору весьма замысловатую сказку о колдуне, который, бегав оборотнем и быв пойман в виде волка, избавлен
был от смерти поручиком Левчинским и, в благодарность
201
за такое одолжение, научил Левчинского трем словам, с по-
мощию которых он мог узнавать, в каких местах клады скрыты под землею; но колдун взял страшную клятву с поручика,
чтоб этих слов никому не передавать и вслух не говорить.
«Все это узнал я,— прибавил жид,— от поручичьего денщика
Власа, подпоив его и разговорившись с ним под добрый час,
и прошу вас, вельможный пан, держать это у себя на душе и
не сказывать пану Левчинскому: иначе будет худо и мне, и
нескромному денщику». Майор нисколько не подозревал обмана и принял за чистые деньги все, что жид ему рассказывал. Он обещался плутоватому еврею не говорить об этом
с Левчинским и между тем твердо положил у себя на уме
воспользоваться этою чудною способностью Левчинского и,
если невозможно было выведать у него таинственных слов,
то, по крайней мере, задобрить его всеми средствами и заманить в свои планы обогащения: т. е. склонить его вместе отыскивать клады по указанию известной тетрадки.
В первое свидание с Левчинским Максим Кириллович заве*! обиняками речь о том, какие богатства скрывает в себе
земля украинская. Поручик, притворно не поняв его слов,
отвечал, что земля сия точно богата своим плодородием и
счастливым климатом; что на ней родятся многие нежные
плоды, местами даже виноград, абрикосы и проч, и что если
бы не природная лень малороссиян, которые мало заботятся
о полях своих и вообще плохие землепашцы, то можно б
было ожидать, что плоды земные в несравненно большей
степени вознаграждали бы труд поселянина. В продолжение
сей речи, в которой Левчинский хотел явить опыт своего
красноречия и силу убедительных.доводов, Максим Кириллович оказывал явные знаки нетерпеливости: он то морщился,
то пожимал плечами, то с ужимкою потирал себе руки; наконец, не в состоянии быв выдерживать долее, он вдруг вскочил с места, подошел к поручику и, поспешно перебив его
речь, проговорил голосом, изъявлявшим, что собеседник худо
понял его намерение:
— Не о том речь, Алексей Иванович! Вы, молодые люди,
подчас на лету слова ловите, зато часто и осекаетесь, и выдумываете за других, чего они вовсе не думали. Что мне до
пашней и посевов? Это идет своим чередом, и не нам переиначивать то, что прежде нас было налажено... Тут совсем
другое дело: я знаю, что хотя в нашем краю доныне не
отыскивалось ни золотой, ни серебряной руды, а золота и
серебра от того не меньше кроется под землею. Просто сказать, здесь живали и разбойники, и богачи-колдуны; все же
202
они прятали любезные свои денежки и драгоценные вещи
по разным похоронкам, в урочищах, которые мне сведомы.
Если б бог послал мне человека, который бы знал, как эти
клады из земли доставать, то я отдал бы на святую его церковь десятую долю изо всего, что добудется, другую десятую долю раздал бы нищей братии, а остальным поделился
бы с моим товарищем... А ведь есть на свете такие люди, которым открывается то, что другим не дается. Есть такие
секреты и заговоры, что от них никакой клад не улежит под
землею и никакой злой дух не усидит над ним. Иногда
два-три слова — да от них больше чудес, чем от всех колдовских затей самого могучего кудесника...
— За двумя-тремя словами не постояло бы дело,— промолвил Левчинский с видом таинственным,— но как узнать,
что клад прежде не был кем-либо добыт? Силу слов истратишь понапрасну, а пользы никакой не соберешь.
— Вот теперь ты говоришь, Алексей Иванович, как истинно умный человек! — радостно вскричал майор и бросился
его обнимать.— Ну, когда на то пошло, так я выставлю тебе
напоказ все мои сокровища. Смотри и любуйся!
После сих слов Максим Кириллович поспешно ушел в
свою комнату, схватил известную тетрадь, вынес ее и подал
Левчинскому.
Поручик, едва удержавшись от смеха при сей выходке
майора насчет мечтательного своего богатства, с вынужденною важностию принял от него тетрадь и пробежал ее наскоро.
— А это что за отметки? — спросил он у майора, указав
на крестики, начерченные свинцовым грифелем, которым
старик заменял карандаш.
— Это, сказать тебе правду, Алексей Иванович, обозначены те места, на которых я пытался уже искать кладов...
— И нашли сколько-нибудь? — подхватил поручик.
— Ну, покамест еще ничего не нашел,— отвечал Максим
Кириллович с некоторым замешательством, потупя глаза
в землю...— Теперь же,— продолжал он, приподняв голову,— с божией помощию и твоим пособием, надеюсь лучшего
успеха.
— От души желаю вам его и готов с моей стороны служить вам всем, чем могу,— отвечал Левчинский.
— По рукам, Алексей Иванович! — вскрикнул майор
вне себя от удовольствия.— Мне как-то сердце говорит, будто бы ты по скромности не все о себе высказываешь, а знаешь многое! Ну, милости прошу завтра пожаловать ко мне
208
до рассвета: мы вместе отправимся на поиски к Кудрявой
могиле27. Посмотри-ка, что там!
Майор указал в тетрадке на сокровища, по сказанию о
кладах, зарытые в помянутом урочище. Левчинский прочел
потихоньку и как бы обдумывал что-то. Спустя несколько
минут они расстались.
Едва занялась утренняя заря, а наши искатели приключений были уже на половине дороги. Число их теперь умножилось еще двумя, потому что поручик взял с собою Власа,
предупредив майора, что этот человек, быв отлично искусен
в отыскивании жидовских похоронок фуража и провизии на
постоях, без сомнения, покажет ту же самую сметливость
и в искании кладов. «Притом же,— прибавил поручик,— он
сам знает кое-что». С новою надеждою в душе остановился
майор у подножия Кудрявой могилы. Это была довольно
высокая, круглая и островерхая насыпь, принявшая от времени вид самородного холма и покрытая терновником и другими кустарниками, почему и получила она название кудрявой. Влас, соскочив с повозки, взял белый ивовый прутик
с каким-то черным камнем на черном снурке и начал потихоньку подаваться на вершину холма, держа прутик параллельно к земле; майор с поручиком, а позади капрал с евреем и Ридьком в молчании шли за Власом и не спускали
глаз с волшебного прутика. Вдруг на половине холма, между
кустарниками и мелким валежником, Влас остановился и
вскричал: «Смотрите, господа!» Все обступили вокруг и увидели, что прутик начал тихо клониться вниз и гнулся до тех
пор, пока черный камень совсем лег на землю. Все вскрикнули от удивления, и майор едва не вспрыгнул от радости.
Сам еврей, не веривший и, может быть, имевший причину
не верить знанию Власа, стоял в немом изумлении, с глазами, бессменно устремленными на прутик. Наконец Влас
объявил, что не в силах долее держать прутика, который
сделался необыкновенно тяжел, и выронил его из руки. Все
кинулись разгребать валежник; Влас схватил заступ и принялся рыть землю. На аршин в глубину показался слой
угольев и золы, как бы смоченной водою, далее черепья, битый кирпич и песок. Майор взглянул на поручика, и в эту
минуту Левчинский, тоже пристально смотревший на майора,
несколько раз пошевелил губами. Вдруг что-то звякнуло,
и заступ уперся в какое-то твердое тело. Мигом все было
разгребено, и открылся небольшой чугунный котел, худой
и ржавый. Ицка не вытерпел: бросился к котлу, схватил его
обеими руками, рванул — и из котла высыпалась небольшая
204
кучка серебряных денег да пять-шесть червонцев. Жид
проворно схватил все это и начал считать; но Влас, оттолкнув его, собрал деньги и поднес их майору, который, отойдя
в сторону с Левчинским, принялся рассматривать и пересчитывать свою добычу. Ицка Хопылевич подошел к своему
пану и с униженным видом, весьма несвободным голосом начал представлять, что третья доля всей находки, по условию,
принадлежит ему. В это время Влас, как бы поверявший
в уме счет майора, вдруг обернулся и сильною рукою дал
Ицке пощечину, от которой два или три червонца и несколько мелких серебряных монет выскочили изо рта его.
Без дальних оговорок разгорячившийся Влас начал обеими
руками трясти Ицку, приговаривая:
— Тому, кто положил клад, и в голову не приходило
набивать им карманы вашей братье!
— Так этот клад положен недавно? — вскричал майор,
как будто бы поймав какую-то светлую мысль.
— Не верьте болтанью этого сумасброда! — отвечал Левчинский в смущении.
— Скажи, Алексей Иванович,— подхватил майор с чувством, но голосом, в котором прорывалась нетерпеливость,—
скажи мне всю правду...
— Поедемте,— перервал речь его поручик,— я сам буду
править на вашей повозке, больше с нами никого не нужно...
Здесь уже нам нечего делать. Влас! Собери деньги и, по приезде, вручи их Максиму Кирилловичу.— При сих словах он
взял майора под руку и почти насильно увел его к повозке.
— Тут что-то не просто,— вполголоса говорил капрал,
покручивая седые свои усы,— тут что-то не просто!
— Я тебе все расскажу, старая служба! — отвечал ему
Влас и, отведя его в сторону, продолжал: — Вот видишь ли,
помещик твой небогат и доедает последние свои крохи:
ищет кладов, а об хозяйстве и не думает — хоть трава не расти. Виданное ль это дело, запускать поля и пашни, которые
наши истинные кормильцы, а рыться по-пустому в земле для
того, что какому-то проказнику вздумалось подшутить над
добрыми людьми и обещать им золотые горы там, где, кроме
черепья да песку, ничего не бывало? Сам ты, умная голова,
рассуди!
— Правда, правда! — промолвил капрал, как бы одумавшись.
— Барин мой видел, что майору скоро придется пить
горькую чашу,— продолжал Влас,— для того-то он и зарыл
здесь ввечеру все то, что сберег в походах и что старушка
205
его скопила трудами своими и бережливостью лет десятка
за два. Жаль было старой барыне расстаться с потовыми
своими денежками, да, видишь, она сыну своему ни в чем не
отказывает. Всего набралось рублей сотни две: этим поручик думал сколько-нибудь помочь майору, хоть до осени,
пока хлеб уберется с поля. Он знал, что майор иначе не
принял бы от него денег, из барской спеси, и для того придумал эту хитрость.
Почти то же, но с разными обиняками и возможною
тонкостию, рассказывал дорогою майору Левчинский, во всем
сознавшийся. Добрый Максим Кириллович сперва было
посердился, приняв это за дурную шутку; но после, вполне
вразумев намерение молодого офицера, глубоко был тронут
благородным его поступком и сам уже извинял его в душе
своей за этот затейливый способ снабдить своими деньгами
соседа. Однако же, несмотря на все убеждения Левчинского,
майор решительно отказался взять эти деньги, даже и в виде
займа. После долгих и жарких переговоров они перестали наконец говорить об этом деле и приехали в дом майоров оба
в задумчивости.
С этого дня майор все более и более упадал духом. Мечты
обогащения в нем замерли; Левчинский столь верно, столь
живо представил ему всю несбыточность их, что, вместо
прежней лелеявшей его надежды, в нем поселились раскаяние
и безотрадное уныние. Уже он не выезжал до рассвета, но
бессонница опять начала его мучить. Наступила осень. Поля
Майоровы, оставленные без присмотра и небрежно возделанные ленивыми его крестьянами, принесли весьма малый запас хлеба; а другие и вовсе были без посева. К тому же
докуки заимодавцев час от часу становились чаще, состояние
домашних дел еще более расстроилось... Майор почти приходил в отчаяние: ни советы войскового писаря, ни утешения Левчинского и Ганнуси — ничто не помогало. Часто по
целым ночам ходил он взад и вперед по своей комнате... и
вот однажды снова вспало ему на мысль, для развлечения,
пересмотреть остальные бумаги в дедовском сундуке. Ночью,
чтобы прогнать свою бессонницу и убаюкать себя хотя, по-
прежнему, новыми мечтами и надеждами, он опять выдвинул
с крайним усилием сундук, отпер его и начал выкладывать
из него бумаги. Дошед до того места, где попалась ему известная рукопись, он приостановился и задумался. Тяжкий
вздох окончил его печальные размышления; он начал рыться
далее в пыльных и пожелтелых бумагах, но, к удивлению
своему, находил только белые листы. Он рассудил за луч
206
шее разом вынуть всю кипу и пересмотреть, нет ли между
нею чего-либо особенного. Каковы же были его изумление
и радость, когда, приподняв сии бумаги, он увидел под ними
несколько длинных узких мешков из пестряди (полосатого
тика) и четыре кожаные кошелька, плотно завязанные и запечатанные! «Так вот где клад!» — громко вскрикнул майор,
не в силах быв владеть собою. Тотчас он схватил один мешок, потянул его — слегшийся и перегнивший тик разорвался, и из него посыпались серебряные рубли. Нетерпеливый
старик схватил другой мешок — из него также зазвенели
рубли; в третьем и четвертом было то же; в трех остальных
было мелкое серебро: гривенники, пятачки, копеечки. Майор
был вне себя от такого неожиданного богатства: он остановился и несколько минут смотрел на него тупыми глазами.
Потом, когда первые движения изумления и радости утихли,
он начал рассуждать: сперва ему пришло в голову, не снова
ли мечта шутит над ним и не было ли это действием горячки, приключившейся от бессонницы; далее — не искушал ли
его лукавый своим наваждением? Майор перекрестился, сотворил молитву и с болезненным чувством ожидал, что
мнимый клад рассыплется прахом... но клад не рассыпался.
Тогда майор с большею уверенностью, перекрестившись еще
однажды, принялся за кожаные кошельки, которые уцелели
еще от времени. Снурки отвалились вместе с печатями, и —
новый восторг для нашего Максима Кирилловича! Из кошельков высыпал он на стол целую груду червонцев. Некогда
было думать обо сне: майор принялся прежде всего считать
червонцы; их было ровно тысяча. Между ними майор заметил выпавшую из одного мешка бумажку: он развернул
ее и прочел следующие слова, написанные самым старинным
почерком, на малороссийском наречии: «Сии деньги заложил аз, грешный раб божий, хорунжий Яким Нешпета, от
избытков моих, на пользу и про нужду того из моих наследников, кому бог положит на сердце сберечь родовые свои
документы. Не полагаю никакого на них зарока; но желаю
от глубины души моей, чтобы деньги сии достались не моту,
не гуляке, а человеку, терпящему недостаток, от чего, однако
же, да спасет господь бог род мой и племя на долгие веки!»
Этот хорунжий был дед майоров, человек богатый и бережливый, и умер лет за сорок до того времени, в которое наш
майор отыскал эти деньги. Добрый Максим Кириллович
совершенно успокоился в совести насчет законности своего
приобретения и безопасности владения оным.
Пересчитав свое золото, майор принялся за серебро
207
Вся ночь протекла в этом занятии, которого следствия были
самые удовлетворительные и утешительные: майор нашел в
мешках двенадцать тысяч серебряных рублей и на восемь
тысяч мелкого серебра полным счетом. Этого было слишком
достаточно для теперешних его желаний, которые, со времени
напрасных его поисков, сделались гораздо умереннее. Оставалось одно затруднение: куда припрятать эти деньги, чтоб
укрыть их от зорких глаз и неосторожного болтанья
хлопцев, от алчного чутья воров и от завистливой докучливости соседей, которые поминутно стали бы просить взаймы
у нового богача-соседа? Майор решился дожидаться утра,
чтобы посоветоваться с единственным поверенным всех своих тайн, старым капралом, и, оставя дела в том порядке,
в каком мы их видели, запер изнутри дверь своей комнаты
на замок и лег в постелю, не для того, чтобы уснуть, но
чтобы насладиться в полноте новым своим счастием и спо-
коить волнение чувств, крайне встревоженных такою радостною нечаянностию. Груды денег, лежавшие перед ним,
казалось ему, будто бы поминутно росли и наконец наполнили собою всю комнату, в которой он, от тесноты, почти
не мог перевести дыхания. Не скоро мог он вздохнуть свободнее и забыться впервые после очень долгого времени
сладкою дремотой.
— Кто там? — вскричал майор, услышав поутру легкий
стук у двери.
— Я, ваше высокоблагородие! — раздался голос старого
капрала. Майор отпер дверь, и капрал вошел.
— Здравия желаю, ваше высокоблагородие! — сказал он
и остановился, остолбенев от удивления.
— Молчать, старый товарищ! — ласково молвил ему
вполголоса Максим Кириллович, потрепав его по плечу.—
Вот что бог посылает нам на старость.
Капрал уставил глаза на золото и серебро и не скоро мог
опомниться.
— Так ваше высокоблагородие все же нашли клад,—
проговорил он наконец, как будто бы не вполне еще
веря тому, что видел.
— Не клад, а старинное, родовое наследство, капрал! —
отвечал Максим Кириллович и в коротких словах объяснил
все дело прежнему своему сослуживцу.
— Велик бог милостью, ваше высокоблагородие! Он утешил вас за долгое терпение! — проговорил капрал с облегчающим вздохом, которым он как будто бы перевел дыхание после продолжительного, тяжкого труда.
208
— Правда, правда, капрал,— отвечал майор,— и мы сегодня же отслужим благодарственный молебен с акафистом Николаю-чудотворцу, скорому помощнику в бедах. А
теперь пособи ты мне советом: куда припрятать эти деньги?
— Да туда же, ваше высокоблагородие, на прежнее
место. Сундук этот крепок: смотрите, как он плотно окован.
Мы прибьем к нему новые полосы железа, свежие петли да
два-три лишних пробоя с замками, так пусть-ка попытаются
в него забраться; а утащить его никто не может: эдакой
тяжести под мышкой не унесешь! Комнату станете вы тоже
запирать двойным замком; а что нужно из денег для обиходу,
отложите в железную шкатулку...
— Дельно, умная голова! — отвечал ему майор.— Так,
благословясь, примемся же за дело. Принеси все, что нужно,
а я, между тем, отсчитаю деньги...
Целое утро майор с капралом работали над сундуком,
запершись в комнате. Хлопцы слышали стук, но не могли
догадаться, что там делалось. За час до обеда майор вышел
и послал за священником. Ганнуся с неописанною радостью
увидела веселое лицо отца своего. Все домашние, собравшись
к молебну, дивились и не могли понять, за какой счастливый случай пан их так усердно благодарил бога? Но Ганну-
се не нужно было знать ничего более: она видела отца своего
довольным, и милая девушка, с теплыми слезами стоя на коленях, благодарила все силы небесные за избавление его от
тяжкой душевной болезни.
В эту самую минуту вошли Спирид Гордеевич и Левчинский. Они стали с молящимися, и поручик, заметно было,
молился с великим усердием. По окончании молебна войсковый писарь вызвал майора в другую комнату и сказал ему
без околичностей, что приехал с женихом к его дочери.
— С каким женихом? — спросил майор несколько надменно.
— Сосед! — отвечал ему Спирид Гордеевич.— Мы с тобою в таких летах, в которые ничего не пропускают мимо
глаз; и ты, верно, заметил, что Алексей Иванович Левчинский и моя крестница Анна Максимовна давно любят друг
друга.
— Любят! Этого мало. Хорошо любить, да было бы
чем жить. Куда он приведет мою дочь? У него только
и есть, что ветхая хатка, которая скоро от ветра повалится.
209
— Откуда такая спесь, любезный кум? Сказать ли тебе
всю правду: ведь ты сам немногим чем его богаче...
— Ну, бог весть! — перервал его речь майор, приосанившись и потирая себе руки.
— Но пусть и богаче,— подхватил войсковый писарь,—
в чужом кармане считать я не умею и не охотник. Дай бс-г
тебе разбогатеть; тебе же лучше. Худо только то, что ты не
помнишь добра, которое тебе сделано: ты позабыл уже, что
Левчинский жизнью своею купил себе невесту, что для твоей
дочери бросался он на верную почти смерть...
— Полно, полно, Спирид Гордеевич! — вскрикнул растроганный майор.— Вот тебе рука, что сватовство твое не
пошло на ветер. Быть так! Пусть Ганнуся будет женою Левчинского. Видно, на их счастье... Скажу тебе, дорогой мой
кум,— продолжал он, понизив голос,— что нынешнюю ночь
бог послал мне...
— Клад? — вскрикнул войсковый писарь с лукавою
улыбкой.
— Пропадай они, эти проклятые клады! — отвечал майор.— Нет, друг мой, это грех назвать кладом: я отыскал
дедовское наследство.— Тут майор снова рассказал о своей
находке и подал найденную им записку войсковому писарю.
— Подлинно, в этом виден перст божий! — молвил Спирид Гордеевич, пробегая записку.— Сам бог благословляет
наших молодых людей и посылает тебе это неожиданное
счастье, чтоб не было больше никакого препятствия их
союзу. Правда, и без того они богаты не были б, а сыты были б. Ты знаешь, у меня нет ближней родни, а дальняя
богаче меня вдесятеро и спесивее всотеро: ни один из этих
родичей на меня и смотреть не хочет. Имение мое не
родовое, а трудовое; я властен им располагать, как хочу...
— Что же ты из него хочешь сделать? — подхватил
майор с обыкновенною своею нетерпеливостию.
— Я разделю его на две части, — отвечал Спирид Гордеевич,— одну при жизни еще уступаю Левчинскому, нареченному моему сыну; а другую по смерти моей завещаю своей
крестнице, будущей жене его...
— Добрый, добрый сосед! Милый, дорогой кум! —
повторял Максим Кириллович в сильном движении души, крепко сжимая в дружеских объятиях своего соседа.
- Пойдем же благословить наших детей,— отвечал сей
210
последний, тихо вырываясь из его объятий,— зачем томить
их долее мучительною неизвестностию!
Они вышли, держа друг друга за руки, и застали молодых людей в робком ожидании. Ганнуся сидела в углу, по-
веся голову; Левчинский стоял подле печки, сложа руки и
устремя глаза на синие изразцы, как будто бы хотел срисовывать все вычурные фигуры, которыми они были изукрашены.
— Вот, Максим Кириллович, прошу принять нареченного моего сына к себе в зятья,— сказал войсковый писарь
церемониальным голосом, взяв Левчинского за руку и подведя его к майору.
— Рад хорошему человеку,— отвечал майор таким
же тоном,— и уверен, что дочь моя будет с ним счастлива.
Через две недели все соседство пировало свадьбу Левчинского и Ганнуси. Брачные пиры продолжались несколько
дней, и даже Спирид Гордеевич отбросил на время расчетливую свою бережливость: он, по тогдашнему понятию, пышно
угостил созванных нм соседних панов. Старый капрал, в
день свадьбы доброй своей панянки, одевшись по-празднич-
ному, бодро притопывал здоровою своею ногою под веселую
музыку мятелицы, журавля и других плясовых малороссийских песен; а еврей Ицка Хопылевич как человек на все способный и всегда готовый угождать своему помещику явился
с своими цимбалами подыгрывать гуслисту и двум скрипачам, которых выписали из города.
Несмотря на все старания Максима Кирилловича, слух
о быстром его обогащении скоро разнесся по всему околотку.
Все узнали, что у него появилось много денег, не узнали
только, откуда он взял их. Стали доведываться у хлопцев,
и те проболтались, что пан долгое время искал кладов. Ясное дело: он разжился найденными в земле сокровищами!
Много нашлось охотников обогатиться этим легким способом;
но все они не так счастливо кончили, как старый наш майор:
не у всякого был такой добрый и предусмотрительный дедушка!
Заимодавцы Майоровы снова явились к нему, уже не
с криком и угрозами, а с поздравлениями и низкими поклонами. Все они получили сполна свои деньги и от души пожелали другим своим должникам, в состоятель
211
ности коих не были уверены, так же счастливо поискать
кладу.
Ицка Хопылевич также явился однажды с своею претен-
зиею, как говорил он. Честный еврей расчел, что, по условию,
ему следовала третья доля из находки Майоровой; но Левчинский с смехом вызывал его отгадать посредством своей
науки, где Максим Кириллович нашел свой клад; а Влас,
случившийся тут же, советовал Ицке лучше прятать третью
долю, которую отсчитает ему майор, нежели то серебро, которое он хотел утаить на Кудрявой могиле. «Иначе,— примолвил насмешливый Влас,— щеки твои опять рассыплются
кладом. Ты знаешь, приятель, что и я отчасти смышлен в
колдовстве и без волшебного прутика знаю, где отыскивать
серебро».
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Почти подлинные слова одной старинной рукописи, которую сочинитель сей повести, назад тому лет двадцать, видел у одного украинского помещика. Древность и ветхость бумаги, почерк руки и крайне полинявшие
чернила, особливо старинный язык ее, смесь русского с малороссийским и
польским — все доказывало, что рукопись сия не поддельная.
2 Сагайдачный шлях, т. е. дорога, есть одна из самых старинных дорог в Малороссии. Она проходит по губерниям Полтавской, Слободско-Украинской и Черниговской и теряется, как полагают, на пределах Волыни.
Название Сагайдачного шляха получила сия дорога, по мнению одних, от
имени храброго казачьего полковника Сагайдачного, который будто бы
вел войско сею дорогой; а по мнению других, от дуги, которую дорога сия
описывает в пролегаемом ею краю и которая изгибается в виде лука
( сагайдака).
3 Худояр, славный разбойник в Малороссии, живший, как думают,
около половины XVII столетия. Предания о нем темны или и вовсе потеряны. Говорят только, что он закапывал в разных местах Малороссии
богатые свои добычи. В этом же смысле о нем упоминается и в старинной
рукописи о кладах. (См. примеч. I.)
4 Звательный падеж в малороссийском наречии слова: сынок.
5 Атаман, или, как в других местах Малороссии называют, войт, есть
сельский выборный, или староста.
6 Примеры нищих, которые, почти целый век бродив по миру, под конец своей жизни бросали это ремесло и жили безбедно, иногда даже и в
обилии, вымоленными деньгами, не редки в Украине. Сочинитель сей
повести часто слыхал об одном нищем, жившем в Б..., Слепец сей более
сорока лет жил на счет доброхотных дателей и, наконец, одряхлев, перестал ходить с сумою и посохом, поселился в маленьком уютном домике
и прожил остальные свои лета хотя не роскошно, но в довольстве по
крестьянскому понятию. Трех своих дочерей выдал он за порядочных людей и за каждою из них дал в приданое по тысяче рублей серебром: такая
сумма в тогдашние времена (лет за сорок пред сим) почиталась очень
212
значительною, даже и не для крестьянина. Должно думать, что и здесь
старуха разбогатела сим же способом, но совестясь признаться в том или
боясь, что ей не поверят, выдумала сказку, весьма правдоподобную для
простодушных земляков своих.
7 Читатели, конечно, поняли цель сей повести собрать сколько можно
более народных преданий и поверий, распространенных в Малороссии и
Украйне между простым народом, дабы оные не вовсе были потеряны для
будущих археологов и поэтов. И теперь уже многие из них позабыты;
другие, по смутным рассказам старых людей, еще удерживаются в памяти
простодушных сельских жителей. С распространением просвещения они
и вовсе исчезнут. Сочинитель, знакомый с нравами н обычаями тамошнего
края, собрал, сколько мог, сих народных рассказов и, не желая составлять
из них особого словаря, решился рассеять их в разных повестях. У других
просвещенных народов Европы много было писано о таковых предметах:
они, у каждого из сих народов, составляют запас для народной поэзии, равно как и для исследований о первобытных нравах и обычаях их предков.
8 Чумаками в Малороссии называются погонщики волов, ходящие с обозами и нанимающиеся для перевоза тяжестей. Они ходят с волами не только
в разные далекие края России, но даже и за границу, как-то: в Силезию,
Саксонию и пр. Места сии называют они по-своему, например: Шлёнек
(Силезия), Береслав (Бреславль) и Липск (Лейпциг)
• Батог — бич или плеть на длинной палке; ею чумаки погоняют
волов.
10 Знахарь — колдун.
" Зеленою неделей называется в Малороссии семик, или седьмая
неделя после светлого праздника. Троицын день также называется зеленою неделей, принимая в сем последнем случае название неделя за воскресенье; ибо под словом неделя в Малороссии обыкновенно разумеется воскресный день. Таким образом, встречаемое в малороссийских песнях выражение: в недилю рано, значит: в воскресенье поутру, а не чрез неделю.
12 Купаловым днем в Малороссии называется день Св. Агриппины,
накануне Иванова дня (23 июня) Летописцы говорят, что во времена язычества славянских народов в этот день приносили жертвы богу Купалу
13 Малороссийская тарадайка есть открытая повозка на четырех колесах, сделанная красивее обыкновенных телег, часто с вычурною резьбою
на досках и выкрашенная разными красками, коих резкое смешение составляет собою странную пестроту Это экипаж небогатых панков, мелких
купцов и зажиточных обывателей.
14 Хто в бога вирус, ратуйте! Таков крик малороссиян, когда они
находясь сами или видя других в опасности, просят о помощи
15 Пролески — род подснежника, первые весенние цветки в Малороссии. Это маленькие голубые колокольчики, видом похожие на яцинты;
растут они от луковиц, на низких и тонких стебельках Весною, когда снег
растает, леса и сады в Малороссии покрываются тем но-голубыми коврами
сих цветков, которые весьма нравятся взору и ласкают обоняние приятным
медовым запахом.
16 Вечерницы — вечерние собрания молодых людей обоего пола. Такие собрания бывают иногда не вовсе невинны.
17 Судовые, т. е. чиновники земской полиции или уездного суда,
иногда и прочих губернских и уездных присутственных мест
18 Магарыч — попойка, которою заключаются все домашние сделки
малороссийских поселян. Такие магарычи нередко уносят все деньги, вырученные за проданную вещь.
19 Польские жиды в Малороссии обыкновенно прикладывают к имени
и прозванию своему еще другое прозвище, от имени польского города или
213
места, к еврейскому обществу коего принадлежат они. Таким образом,
между ними бывают, например, Иосель Лейбович Бердычовский, Абрам
Израилевич Бродский.
20 Заговор принимается здесь в смысле заклинания.
21 Уменьшительное имени Леа, или Лия.
22 Ридько — И роди он.
23 Левада — рощица, иногда небольшое угодье с сенокосом, обнесенное плетнем.
24 Гапка — уменьшительное имени Агафия.
25 По-малороссийски: Ох, лихо меш тяжке!
28 Некоторые из суеверных польских евреев думают, что одного из
них каждый год уносит какое-то неведомое и незримое существо, которое
называют они хапун (т<о> е<сть> хватун, или похититель). Они думают,
что в течение года одному из них непременно должно пропасть без вести;
но не знают или не умеют растолковать, злой ли дух есть этот хапун,
и куда он заносит похищенных евреев, и что с ними делает. Похищение сие,
по мнению их, чаще всего случается во время их праздника, называемого
судный день. Никто из них не знает, на кого должен пасть сей бедственный жребий; но каждый боится за самого себя.
27 Могилами в Малороссии называются курганы, или высокие насыпи,
часто встречающиеся посреди полей н степей. Это, вероятно, были укрепления или подзорные высоты, сделанные во времена набегов татарских.
А.Д.Улыбышев
сон
Из всех видов суеверия мне кажется наиболее простительным то, которое берется толковать сны. В них действительно есть что-то мистическое, что заставляет нас признать в их фантастических видениях предостережение неба
или прообразы нашего будущего. Лишь только тщеславный
предастся сну, долго бежавшему его очей, как он уже
увидит себя украшенным орденом, который и был причиной его бессонницы, и убеждает себя, проснувшись, что
праздник пасхи или новый год принесут с собой исполнение
его сна. Несчастный любовник наслаждается во сне предметом своих долгих вожделений, и почти угасшая надежда
вновь оживает в его сердце. Блаженная способность питаться иллюзиями! Ты — противовес реальных несчастий, которыми постоянно окружена наша жизнь; но твои очарования
вскармливают не одни только эгоистические страсти. Патриот, друг разума и, в особенности, филантроп имеют также
свои мечтания, которые иногда воплощаются в снах и доставляют им минуты воображаемого счастья, в тысячу раз превосходящего все то, что может им предоставить печальная
действительность. Таков был мой сон в прошлую ночь;
он настолько согласуется с желаниями и мечтами моих
сотоварищей по «Зеленой лампе», что я не могу не поделиться с ними.
Мне казалось, что я среди петербургских улиц, но все до
того изменилось, что мне было трудно узнать их. На каждом
шагу новые общественные здания привлекали мои взоры, а
старые, казалось, были использованы в целях, до странности непохожих на их первоначальное назначение. На фасаде
Михайловского замка я прочел большими золотыми буквами:
«Дворец Государственного Собрания». Общественные школы, академии, библиотеки всех видов занимали место
бесчисленных казарм, которыми был переполнен город. Про
216
ходя перед Аничкиным дворцом, я увидел сквозь большие
стеклянные окна массу прекрасных памятников из мрамора и бронзы. Мне сообщили, что это русский Пантеон, т. е. собрание статуй и бюстов людей, прославившихся
своими талантами или заслугами перед отечеством. Я тщетно искал изображений теперешнего владельца этого
дворца.
Очутившись на Невском проспекте, я кинул взоры вдоль
по прямой линии и вместо монастыря, которым он заканчивается, я увидал триумфальную арку, как бы воздвигнутую на развалинах фанатизма. Внезапно мой слух был
поражен рядом звуков, гармония и неизвестная сила которых
казались соединением органа, гармоники и духового инструмента — серпента. Вскоре я увидел бесчисленное множество
народа, стекающегося к месту, откуда эти звуки исходили;
я присоединился к толпе и оказался через некоторое время перед ротондой, размеры и великолепие которой превосходили не только все наши современные здания, но и
огромные памятники римского величия, от которых мы видим одни лишь осколки. Бронзовые двери необычной величины открывались, чтобы принять толпу; я вошел с другими.
Благородная простота внутри соответствовала великолепию снаружи. Внутренность купола, поддержанного тройным
рядом колонн, представляла небосвод с его созвездиями. В
середине залы возвышался белый мраморный алтарь, на котором горел неугасимый огонь. Глубокое молчание, царившее
в собрании, сосредоточенность на всех лицах заставили меня предположить, что я нахожусь в храме,— но какой религии,— я не смог отгадать. Ни единой статуи или изображения, ни священников, одежда или движение которых
могли бы рассеять мои сомнения или направить догадки.
После минутного предварительного молчания несколько превосходных по правильности и звучности голосов начали петь
гимн созданию. Исполнение мне показалось впервые достойным гения Гайдна, и я думал, что действительно внимаю
хору ангелов. Следовательно, там должны быть женские
голоса? Без сомнения,— и это новшество, столь согласное
с хорошим вкусом и разумом, доставило мне невыразимое
удовольствие. «Так,— рассуждал я,— если насекомое своим
жужжанием и птица своим щебетанием прославляет всевышнего, то какая смешная и варварская несправедливость
запрещать самой интересной половине рода человеческого
петь ему хвалы!» Чудесные звуки этой музыки, соединяясь
217
с парами благовоний, горящих на алтаре, поднимались в
огромную высь купола и, казалось, уносили с собой благочестивые мысли, порывы благодарности и любви, которые
рвались к божеству из всех сердец.
Наконец, песнопения прекратились. Старец, украшенный
неизвестными мне знаками отличия, поднялся на ступень
алтаря и произнес следующие слова: «Граждане, вознося
дань благодарности подателю всех благ, мы исполнили
священный долг; но этот долг будет пустой формой, если
мы не прославим божество также и нашими делами. Только
если мы будем жить согласно законам человечности и чувству сострадания к нашим несчастным братьям, которое сам
бог запечатлел в наших душах, мы сможем надеяться ценой нескольких лет добродетели достигнуть вечного блаженства». Сказав это, старец препоручил милосердию присутствующих нескольких бедняков, разорение которых произошло от несчастных обстоятельств и было ими совершено
незаслуженно. Всякий поторопился по возможности помочь,— и через несколько минут я увидел сумму, которой
было бы достаточно, чтобы десять семейств извлечь из
нищеты.
Я был потрясен всем тем, что видел, и по необъяснимой,
но частой во сне непоследовательности забыл вдруг свое
имя, свою страну и почувствовал себя иностранцем, впервые
прибывшим в Петербург. Приблнзясь к старцу, с которым я,
несмотря на его высокий сан, заговорил беспрепятственно:
«Сударь,— сказал я ему,— извините любопытство иностранца, который, не зная, должно ли верить глазам своим,
осмеливается спросить у вас объяснения стольким чудесам.
Разве ваши сограждане не принадлежат к греко-кафолическому вероисповеданию? Но величественное собрание, которого я только что был свидетелем, равно не похоже на
обедню греческую и латинскую и даже не носит следов христианства».
«Откуда же вы явились?— ответил мне старец.— Или
изучение истории до того поглотило вас, что прошедшее
для вас воскресло, а настоящее исчезло из ваших глаз?
Вот уже около трех веков, как среди нас установлена
истинная религия, т. е. культ единого и всемогущего бога,
основанный на догме бессмертия души, страдания и наград
после смерти и очищенный от всяких связей с человеческим и суеверий. Мы не обращаем наших молитв ни к
пшеничному хлебу, ни к омеле с дуба, ни к святому миру,— но к тому, кого величайший поэт одной нации, дав
218
ней нашей учительницы, определил одним стихом: «Вечность
имя ему и его созданье — мир». Среди простого народа еще
существуют старухи и ханжи, которые жалеют о прежних
обрядах. Ничего не может быть прекраснее, говорят они,
как видеть архиерейскую службу и дюжину священников
и дьяконов, обращенных в лакеев, которые заняты его
облачением, коленопреклоняются и поминутно целуют его
руку, пока он сидит, а все верующие стоят. Скажите, разве
это не было настоящим идолопоклонством, менее пышным,
чем у греков, но более нелепым, потому что священнослужители отождествлялись с идолом. Ныне у нас нет
священников и тем менее — монахов. Всякий верховный
чиновник по очереди несет обязанности, которые я исполнял
сегодня. Выйдя из храма, я займусь правосудием. Тот, кто
стоит на страже порядка земного, не есть ли достойнейший представитель бога, источника порядка во вселенной? Ничего нет проще нашего культа. Вы не видите в
нашем храме ни картин, ни статуй; мы не думаем, что
материальное изображение божества оскорбительно, но оно
просто смешно. Музыка — единственное искусство, которое с
правом допускается в наших храмах. Она — естественный
язык между человеком и божеством, так как она заставляет предчувствовать то, чего ни одно наречие не может
выразить и даже воображение не умеет создать. Мой долг
призывает меня в другое место,— заметил старец,— если
вы захотите сопровождать меня, я с удовольствием расскажу вам о переменах и реформах, происшедших в России за 300 лет, о которых вы, по-видимому, мало осведомлены».
Я с благодарностью принял его предложение, и мы вышли из храма.
Проходя по городу, я был поражен костюмами жителей. Они соединяли европейское изящество с азиатским
величием, и при внимательном рассмотрении я узнал русский кафтан с некоторыми изменениями.
— Мне кажется,— сказал я своему руководителю,—
что Петр Великий велел высшему классу русского общества носить немецкое платье,— с каких пор вы его сняли?
— С тех пор, как мы стали нацией,— ответил он,—
с тех пор, как, перестав быть рабами, мы более не
носим ливреи господина. Петр Великий, несмотря на исключительные таланты, обладал скорее гением подражательным,
чем творческим. Заставляя варварский народ принять кос
219
тюм и нравы иностранцев, он в короткое время дал ему
видимость цивилизации. Но эта скороспелая цивилизация
была так же далека от истинной, как эфемерное тепличное
растение от древнего дуба, взращенного воздухом, солнцем
и долгими годами, как оплот против грозы и памятник
вечности. Петр слишком был влюблен в свою славу, чтобы
быть всецело патриотом. Он при жизни хотел насладиться
развитием, которое могло быть только плодом столетий.
Только время создает великих людей во всех отраслях,
которые определяют характер нации и намечают путь, которому она должна следовать. Толчок, данный этим властителем, надолго задержал у нас истинные успехи цивилизации.
Наши опыты в изящных искусствах, скопированные с произведений иностранцев, сохранили между ними и нами в течение двух веков ту разницу, которая отделяет человека от
обезьяны. В особенности наши литературные труды несли уже печать упадка, еще не достигнув зрелости, и
нашу литературу, как и наши учреждения, можно
сравнить с плодом, зеленым с одной стороны и сгнившим с другой. К счастью, мы заметили наше заблуждение.
Великие события, разбив наши оковы, вознесли нас на
первое место среди народов Европы и оживили также почти
угасшую искру нашего народного гения. Стали вскрывать
плодоносную и почти не тронутую жилу нашей древней народной словесности, и вскоре из нее вспыхнул поэтический
огонь, который и теперь с таким блеском горит в наших
эпопеях и трагедиях. Нравы, принимая черты все более
и более характерные, отличающие свободные народы, породили у нас хорошую комедию, комедию самобытную. Наша
печать не занимается более повторением и увеличением
бесполезного количества этих переводов французских пьес,
устаревших даже у того народа, для которого они были
сочинены. Итак, только удаляясь от иностранцев, по примеру
писателей всех стран, создавших у себя национальную литературу, мы смогли поравняться с ними и, став их победителями оружием, мы сделались их союзниками по
гению.
— Извините, если я перебью вас, сударь, но я не вижу той
массы военных, для которых, говорили мне, ваш город служит
главным центром.
— Тем не менее,— ответил он,— мы имеем больше солдат, чем когда-либо было в России, потому что их число
достигает 50 миллионов человек.
220
— Как, армия в 50 миллионов человек! Вы шутите,
сударь!
— Ничего нет правильнее этого, ибо природа и нация —
одно и то же. Каждый гражданин делается героем, когда
надо защищать землю, которая питает законы, его защищающие, детей, которых он воспитывает в духе свободы и
чести, и отечество, сыном которого он гордится быть. Мы
действительно не содержим больше этих бесчисленных толп
бездельников и построенных в полки воров — этого бича
не только для тех, против кого их посылают, но и для
народа, который их кормит [...] Они нам не нужны более.
Леса, поддерживавшие деспотизм, рухнули вместе с ним.
Любовь и доверие народа, а главное — законы, отнимающие у государя возможность злоупотреблять своею властью,
образуют вокруг него более единодушную охрану, чем 60 тысяч штыков. Скажите, впрочем, имелись ли постоянные войска у древних республик, наиболее прославившихся своими
военными подвигами, как Спарта, Афины, Рим? Служба,
необходимая для внутреннего спокойствия страны, исполняется по очереди всеми гражданами, могущими носить оружие,
на всем протяжении империи. Вы понимаете, что это изменение в военной системе произвело огромную перемену и
в финансах. Три четверти наших доходов, поглощавшихся
прежде исключительно содержанием армии,— которой это
не мешало умирать с голоду,— употребляются теперь на увеличение общественного благосостояния, на поощрение земледелия, торговли, промышленности и на поддержание бедных,
число которых под отеческим управлением в России, благодаря небу, с каждым днем уменьшается.
В это время мы находились на Дворцовой площади.
Старый флаг вился над черными от ветхости стенами дворца,
но вместо двуглавого орла с молниями в когтях я увидел
феникса, парящего в облаках и держащего в клюве
венец из оливковых ветвей и бессмертника.
— Как видите, мы изменили герб империи,— сказал мне
мой спутник.— Две головы орла, которые обозначали деспотизм и суеверие, были отрублены и из пролившейся крови
вышел феникс свободы и истинной веры.
Придя на набережную Невы, я увидел перед дворцом
великолепный мост, наполовину мраморный, наполовину гранитный, который вел к превосходному зданию на другом берегу реки и на фасаде коего я прочел: «Святилище правосудия открыто для каждого гражданина, и во всякий
час он может требовать защиты законов».
221
— Это там,— сказал мне старец,— собирается верховный
трибунал, состоящий из старейшин нации, членом которого я
имею честь быть.
Я собирался перейти мост, как внезапно меня разбудили
звуки рожка и барабана и вопли пьяного мужика, которого тащили в участок. Я подумал, что исполнение моего
сна еще далеко...
БЛАЖЕНСТВО БЕЗУМИЯ
On dit, que la folie est un mal;
on a tort — c’est un bien...
Говорят, что безумие есть
зло,— ошибаются: оно благо!
Мы читали Гофманову повесть «Meister Floh»1. Различные впечатления быстро изменялись в каждом из нас,
по мере того как Гофман, это дикое дитя фантазии, этот
поэт-безумец, сам боявшийся привидений, им изобретенных, водил нас из страны чудесного в самый обыкновенный мир, из мира волшебства в немецкий погребок, шутил,
смеялся над нашими ожиданиями, обманывал нас беспрерывно и наконец — скрылся, как мечта, изглаженная
крепким утренним сном! Чтение было кончено. Начались
разговоры и суждения. Иногда это последствие чтения
бывает любопытнее того, что прочитано. В дружеской
беседе нашей всякий изъявлял свое мнение свободно;
противоречия были самые странные, и всего страннее
показалось мне, что женщины хвалили прозаические места
более, а мужчины были в восторге от самых фантастических сцен. Места поэтические пролетели мимо тех и других,
большею частию не замеченные ими.
Один из наших собеседников молчал.
— Вы еще ничего не сказали, Леонид?— спросила его
молодая девушка, которая не могла налюбоваться дочерью переплетчика, изображенною Гофманом.
— Что же прикажете мне говорить?
— Как что? Скажите, понравилась ли вам повесть
Гофмана?
— Я не понимаю слова «понравиться»,— отвечал Леонид,— и глаза его обратились к другой собеседнице нашей,— не понимаю, когда говорят это слово о Гофмане или
о девушке...
Та, на которую обратился взор Леонида, потупила-
глаза, и щеки ее покраснели.
— Чего же вы тут не понимаете?
— Того,— отвечал Леонид,— что ни Гофман, ни та,
«Повелитель блох» (нем.).
224
которую сердце отличает от других, нравиться не могут.
— Как? Гофман и девушка, которую вы любите, вам не
могут нравиться?
— Жалею, что не успел хорошо высказать моей мысли.
Дело в том, что слово «нравиться» я позволил бы себе
употребить, говоря только о щегольской шляпке, о собачке,
модном фраке и тому подобном.
— Прекрасно! Так лучше желать быть собачкою,
нежели тою девушкою, которую вам вздумается любить?..
— Не беспокойтесь. Но Гофман вовсе мне не нравится,
как не нравится мне буря с перекатным громом и ослепительною молниею: я изумлен, поражен; безмолвие души
выражает все мое существование в самую минуту грозы,
а после я сам себе не могу дать отчета: я не существовал в это время для мира! И как же вы хотите, чтобы
холодным языком ума и слова пересказал я вам свои
чувства? Зажгите слова мои огнем, и тогда я выжгу в
душе другого чувства мои такими буквами, что он поймет их...
— Не пишет ли он стихов?— сказала девушка, которая спрашивала, молчаливой своей подруге.— Верно, это
какое-нибудь поэтическое сравнение или выражение, и я
ничего в нем не понимаю...
— Ах! Как я его понимаю!— промолвила другая тихонько, сложив руки и поднимая к небу голубые глаза
свои.
Я стоял за ее стулом и слышал этот голос сердца,
невольно вылетевший. Боясь, чтобы она не заметила моего
нечаянного дозора, я поспешил начать разговор с Леонидом.
— Прекрасно,— сказал я,— прекрасно, любезный Леонид! Только, в самом деле, непонятно.
— Как же вы говорите «прекрасно», если вы не понимаете?
Этот вопрос смешал меня. Я не знал, что отвечать на
возражение Леонидово.
— То есть я говорю,— сказал я ему наконец,— что
трудно было бы изъяснить положительно, если бы мы захотели отдать полный отчет в ваших словах.
— Бедные люди! Им и чувствовать нс позволяют того,
чего изъяснить они не могут!— Леонид вздохнул.
— Но как же иначе?— сказал я.— Безотчетное чувство есть низшее чувство, и ум требует отчета верного,
положительного...
8 Заказ 11
225
— Мне всегда забавно слышать подобные слова: сколько в них шуму, грому, и между тем, как мало отчетливости во всех ваших отчетах! Скажите, пожалуйста: во
многом ли до сих пор успели вы достигнуть вашей отчетливой положительности? Не вправе ли мы и теперь еще,
после всех ваших философских теорий и систем, повторить:
Есть многое в природе, друг Горацио.
Что и не снилось вашим мудрецам!
Что такое успели мы разгадать нашим умом и выразить
нашим языком? Величайшая горесть, величайшая радость — обе безмолвны; любовь также молчит — не смеет,
не должна говорить (он взглянул украдкою на молчаливую нашу собеседницу). Вот три высокие состояния души
человеческой, и при всех трех уму и языку дается полная
отставка! Все это человек может еще, однако ж, понимать;
но что если мы осмелимся коснуться тех скрытых тайн
души человеческой, которые только ощущаем, о существовании которых только догадываемся?..
Леонид засмеялся и вдруг обратился к веселой нашей
собеседнице.
— Вам скучно слушать мои странные объяснения.
Извините: вы сами начали.
— Я искренно признаюсь вам, что не понимаю, о чем
вы говорите. Мне просто хотелось узнать ваше мнение
о гофмановской сказке...
— Сказка эта похожа на быль,— отвечал Леонид.
— Помилуйте? Как это можно?
— Говорю не шутя. Сначала мне показалось даже,
будто я слышу рассказ о том, что случилось с одним из
моих лучших друзей.
— Возможно ли?
— Окончание у Гофмана, однако ж, совсем не то. Бедный друг мой не улетел в волшебное царство духов: он
остался на земле и дорого заплатил за мгновенные прихоти
своего бешеного воображения...
— Расскажите нам!
— Это возбудит горестные воспоминания моей жизни;
притом же я боюсь: я такой плохой рассказчик... Сверх
того, в приключениях друга моего я ничего не могу изъяснить положительно!..— Леонид засмеялся и пожал мне
руку.
— Злой насмешник!— сказал я.
226
— Вы, однако ж, расскажете нам?— повторила веселая наша собеседница.
— Если вам угодно...
Взор Леонида выразил, однако ж, что совсем не в ее
угоду хотел он рассказывать.
— Ах! Как весело!— сказала вполголоса молчаливая
ее подруга, так что Леонид мог слышать.— Он станет рассказывать!
— Ты любишь слушать рассказы Леонида?— лукаво
спросила ее подруга.
— Да... потому, что они всегда такие странные...— Она
смешалась и опять замолчала.
Несколько молодых людей придвинули к нам свои
кресла. Мы составили отдельный кружок. Другие из гостей
были уже заняты в это время картами и разговорами о погоде и еще о чем-то весьма важном, кажется, об осаде
Антверпена.
Леонид начал.
— Вы позволите мне скрыть имена и предварительно
объявить, что я ни слова не прибавлю и не убавлю к истине.
— В Петербурге, несколько лет тому, когда я служил
по министерству... знал я одного молодого чиновника. Он
был товарищ мне по департаменту и старше меня летами.
Назовем его Антиохом. В начале нашего знакомства показался он мне угрюм, холоден и молчалив. В веселых
беседах наших он обыкновенно говаривал мало. Сказывали также, что он большой скупец. В самом деле, всем
известно было, что у него огромное состояние, но он жил
весьма тихо и скромно, никого не приглашал к себе, редко
участвовал в забавах своих приятелей и только раз в год
сзывал к себе товарищей и знакомых, в день именин своих.
Тогда угощение являлось богатое. В другое же время
редко можно было застать его дома. Говорили, что он
нарочно не сказывается, хотя кроме должности почти
никуда не ходит и сидит запершись в своем кабинете.
Должность была у него легкая, за бумагами сидеть ему
было не надобно, и никто не знал, каким образом Антиох
проводит время. Впрочем, он был чрезвычайно вежлив
и ласков, охотно ссужал деньгами и был принят в лучших
обществах. Прибавлю, что он был собою довольно хорош,
только не всякому мог понравиться. Лицо его, благородное
и выразительное, совсем не было красиво; большие голу
8“
227
бые глаза его не были оживлены никаким чувством.
Стройный и высокий, он вовсе нс заботился о приятности
движений. Часто, сложив руки, опустив глаза в землю,
сидел он и не отвечал на вопросы самых милых девушек
и улыбался притом так странно, что можно было почесть
эту улыбку за насмешку. Бог знает с чего, Антиоха называли ученым — название, не придающее любезности в глазах
женщин: говорю, что слыхал, и готов допустить исключения из этого правила. Такое название придали Антиоху,
может быть, потому, что он хорошо знал латинский язык
и был постоянным посетителем лекций Велланского. Впрочем, Антиох показывал во всем отличное, хотя и странное,
образование. Он превосходно знал французский, италиян-
ский и особливо немецкий язык; изрядно танцевал, но не
любил танцевать; страстно любил музыку, но не играл, не
пел и всему предпочитал Бетховена. Иногда начинал он
говорить, говорил с жаром, увлекательно, но вдруг прерывал речь и упорно молчал целый вечер. Знали, что он много
путешествовал, но никогда не говорил он о своих путешествиях...
Извините, что я изображаю вам моего героя. Этот
старинный манер романов необходим, и вы поймете после
сего, почему называли Антиоха странным человеком. Вообще Антиоха все уважали, но любили его немногие. Долго
старались разгадать странности Антиоховы. Одни сказывали, будто он был когда-то влюблен, и влюблен несчастно.
Это могло сделать его интересным для женщин, но холодность Антиоха отталкивала всякого, кто хотел с ним
сблизиться. Другим казалось непростительным, что при
большом богатстве своем он, совершенно независимый
и свободный, не живет открыто и не находится в блестящем
обществе, не ищет ни чинов, ни связей, сидит дома, ходит
на ученые лекции. «Он слишком умничает — он странный
человек — он чудак — впрочем, он деловой человек — он
скуп, а это отвратительно!»
Так судили об Антиохе. Странность труднее извинять,
нежели шалость. Другим прощали бесцветность, ничтожность характера, мелкость души, отсутствие сердца — Антиоху не прощали того, что он отличался от других резкими
чертами характера.
Признаюсь, я не мог не уважать Антиоха за то, что он
не походил на других наших товарищей. Кто знает молодых петербургских служивых людей, тот согласится с моим
замечанием. Мало удавалось мне слыхать оживленный раз
228
говор Антиоха; но что слыхал я, то изумляло меня чем-
то необыкновенным — какою-то странною оригинальностью. Вскоре мы познакомились с ним короче.
Это было летним вечером. Помню этот вечер — один из
прекраснейших вечеров в моей жизни! Я вырвался тогда из
душного Петербурга, уехал в Ораниенбаум, дал себе свободу бродить без плана, без цели. Солнце катилось к западу, когда я очутился на даче Чичагова. Местоположение
прелестное, дикое, уединенное, солнце, утопающее в волнах
Финского залива, море, зажженное его лучами, небо
ясное, безоблачное — все это расположило меня к какому-
то забвению самого себя. Я был весь мечта, весь дума —
как говорят наши поэты, и не заметил, как приблизился ко
мне Антиох.
«Леонид!— сказал он мне.— Дай руку! Отныне ты
видишь во мне доброго своего друга!»
Я невольно содрогнулся от яркого взора, какой Антиох
устремил на меня, и от нечаянного появления этого странного человека. В замешательстве, молча, пожал я ему
руку.
Никогда не видывал я Антиоха в таком, как теперь,
состоянии. Если бы надобно было изобразить мне состояние его одним словом, то я сказал бы, что Антиох казался
мне вдохновенным. Я видел не прежнего холодного Антиоха, с насмешливою улыбкою, с каким-то презрением смотревшего на всех, запелёнанного в формы и приличия.
В глазах его горел огонь, румянец оживлял его всегда
бледные щеки.
«Леонид,— сказал он мне,— ради бога, прочь все формы! Будь при мне тем, чем видел я тебя за несколько минут,
или я уйду и оставлю тебя!»
«Вы меня удивляете, Антиох!»
«Несносные люди! Их никогда не застанешь врасплох;
они тотчас спешат надеть фрак свой и подать вам визитную
карточку... Извините, что я перервал вашу уединенную
прогулку»,— сказал Антиох с досадою и хотел идти прочь.
Я остановил его. Голос Антиоха дошел до моего сердца.
«Антиох! Я тебя нс понимаю».
«А мне казалось, что за несколько минут я понимал
тебя, понимал юное сердце человека, который убежал из
толпы людей отдохнуть здесь, один на просторе, побеседовать с матерью-природою; понимал взор твой, устремленный на этот символ души человеческой — море бесконечное, бездонное, с бурями и пропастями...»
229
«Леонид!»— «Антиох!»— воскликнули мы и крепко обняли друг друга. Взявшись рука в руку, до глубокой ночи
бродили мы вместе.
Не могу пересказать вам всего, что было переговорено
нами в это время.
Антиох раскрыл мне свою душу — я высказал ему мою.
Но что мог я тогда высказать ему?— продолжал Леонид
с жаром, потупив глаза.— Несколько бледных воспоминаний детства, несколько неопределенных чувств при взгляде
на природу, несколько затверженных мною идей, несколько
мечтаний о будущем, может быть... Но я не о себе, а об
Антиохе хочу говорить вам.
Антиох открыл мне новый мир, фантастический, прекрасный, великолепный — мир, в котором душа моя тонула, наслаждаясь забвением, похожим на то неизъяснимосладостное чувство, которое ощущаем мы, купаясь в море
или смотря с высокой, заоблачной горы на низменное
пространство, развивающееся под ногами нашими. Душа
Антиоха была для меня этим новым, волшебным миром:
она населила для меня всю природу чудными созданиями
мечты; от ее прикосновения, казалось мне, и моя душа
засверкала электрическими искрами. Как легко понял
я тогда и насмешливую улыбку Антиоха при взгляде на
известные обоим нам светские общества, и презрение,
какое невольно изъявлял он при взгляде на наших товарищей!
Только равная Антиоху душа могла попять его или
сердце младенческое, чистое, беспечно отдавшееся ему.
Так прекрасную душу женщины понимает только пламенная душа любящего ее человека или дитя, которое
безотчетно улыбается на ее материнскую слезу и питается
жизнью из ее груди!
«Леонид!— говорил мне Антиох.— Человек есть отпад-
ший ангел божий. Он носит семена рая в душе своей
и может рассадить их на тучной почве земной природы и на
лучших созданиях бога — сердце женщины и уме мужчины! Мир прекрасен, прекрасен и Человек, этот след дыхания божьего. Бури низких страстей портят, бури высоких
страстей очищают душную его атмосферу и сметают пыль
ничтожных сует. Любовь и дружба — вот солнце и луна
душевного нашего мира! К несчастию, глаза людей заволо-
кает темная вода: они не видят их величественного
восхождения, прячутся в тени от жаркого полдня любви
и пугаются привидений священной полуночи дружбы или
230
больными, слабыми глазами не смеют глядеть на солнце
и спят при серебристом свете месяца. Тяжело тому, кто
бродит один бодрствующий и слышит только храпенье
сонных. Пустыня жизни ужасна — страшнее пустынь земли! Как грустно смотреть, если видишь и понимаешь, чем
могли б быть люди и что они теперь!»
С жаром детских надежд опровергал я слова Антиоха,
указывая ему на светлую будущность нашей жизни.
«Утешайся этими мечтами, храни их, Леонид!— ласково, но задумчиво говорил Антиох.— Эта мелкая монета
всего лучше в торговле жизнью, и — горе тому, кто принесет на рынок людской жизни горсть драгоценных алмазов:
если бы люди и могли оценить их, им не на что будет их
купить; никто тебе не разменяет их, никто не продаст тебе
на них ничего, и ты, обладатель алмазов, умрешь с голоду!
Открой мне поприще, достойное высоких порывов души,
поставь мне метою лавровый или дубовый венок, не оскверненный мелкими отношениями. А! Самая смерть в достижении к этому венку будет сладостною целью жизни! Но
покупное, но ничтожное — за ними ли пойду я! Так на
торжественном пире народном ставят золоторогих быков,
и безумная чернь дерется за куски их мяса, лезет на шест,
стараясь достать позолоченный крендель, положенный на
его вершине...
Леонид! Ты еще не испытал терзательных бичей жизни.
Ты еще не ставил на карту мечтаний всего своего счастия.
Ты не знаешь еще муки неудовлетворенных стремлений
души в любви, дружбе и славе! Горестный опыт научил
меня многому, что тебе неизвестно».
Антиох рассказал мне главные подробности своей
жизни. Отец его, бедный офицер, увез дочь богача, и
жестокосердный старик проклял их.
«Я не помню радостей младенчества,— говорил мне
Антиох.— Угнетающая бедность, слезы матери, бледное
лицо моего доброго отца — вот привидения, которыми
окружена была колыбель моя. Бедность убийственна, а я
испытал ее, испытал вполне: я видел, как мать моя терзалась последними смертными муками, и лекарь не шел к ней,
потому что нечем было заплатить ему за визит! Я видел,
как отец мой держал в руке рецепт, прописанный лекарем,
и плакал: ему не с чем было послать в аптеку! Мы должны
были много аптекарю; он не хотел нам отпускать более
в долг, а у нас не было ни одной копейки! Двенадцати лет
был я, когда проводил бедный гроб матери на кладбище и,
231
возвратясь домой, застал отца без памяти — его повезли
в больницу.
Я составлял единственное утешение матери моей, и воспитание мое было в странной противоположности с состоянием нашим. Женщина, каких не встречал я после, святой
идеал материнской любви! Зачем так рано раскрыла ты мое
сердце? Зачем не дозволила свету охолодить, облечь меня
в свои приличия и условия? Но тебе потребна была душа
родная, с которою могла бы ты делиться своею душою,
своим сердцем. И твоя мечтательная, любящая душа
погубила меня! Голова моя была уже романическою, когда
я едва понимал самые обыкновенные предметы жизни.
Единственный друг нашего семейства, пастор лютеранской
церкви того города, где мы жили, был другой губитель мой.
Его высокая добродетель, его трогательная проповедь, его
музыка, его слова, беседы с моею матерью уносили меня за
пределы здешнего мира. Добрый старик этот в один год
лишился нежно любимой жены, двух дочерей и осиротел на
чужой стороне в старости лет. Единственное утешение его
было, когда мать моя со мною приходила к нему, и он мог
плакать, мог говорить с нею о милых, утраченных им,
о своей доброй Генриетте, о своих незабвенных Элизе
и Юлии. По целым часам стоял я иногда и слушал, когда
он, забывши весь мир, один в своей кирхе, играл на органах — я слушал божественные звуки Моцарта и Генделя,
и голова моя горела, пока я не начинал неутешно рыдать.
Тогда старик переставал играть и обнимал меня со слезами... Мы казались друзьями, ровесниками...
Из этого мира романической жизни и мечтаний вдруг
перешел я в мир совершенно противоположный. Дед мой
услышал о смерти моей матери. Одиноко, грустно проводил
он жизнь среди своих богатств. В больницу, где лежал отец
мой, явился этот старик: все было забыто, горесть примирила их. Я воображал себе деда строгим, угрюмым богачом — увидел седого, убитого печалью старика, который
обнимал меня, называл своим милым Антиохом. Отец мой
выздоровел, снова вступил в службу; я переселился к моему деду. Вскоре бессарабская чума лишила меня отца...
Дед мой жил как богатый русский помещик, окруженный многочисленною дворнею, льстецами, прислужниками. Меня, его единственного наследника, облелеяли все
прихоти, все изобретения роскоши. Но грубый мир страстей, который увидел я у деда, старика, обманываемого
всем, что его окружало, не только не увлек меня, но отвра
232
тил от себя и увеличил противоположность мечтательной
души моей и действительной жизни. Все время, которого не
проводил я в учебной своей комнате с множеством учителей, для меня нанятых, был я с моим дедом — как говорится, не слышавшим во мне души,— или бродил по
окрестным лесам, с книгою, с мечтами, или скакал по полям на борзом коне. Соседи наши, добрые грубые люди —
особливо соседки, матушки, тетушки, кузины, дочки их,—
заставляли меня с особенною охотою скрываться в мое
уединение».
Выражение Антиоха сделалось колким, насмешливым,
когда он описывал мне грубую безжизненную жизнь деревенского быта: помещиков, переходящих от овина к висту,
помещиц, занятых то ездою в гости, то сватаньем дочерей.
Но с большею насмешкою говорил он мне о сельских красавицах — полных, здоровых, с румяными щеками, с бледною душою, красивых личиками, безобразных сердцами...
«Я искал душ в этих прозябающих телах,— говорил
Антиох.— Часто увлекался я добродушием отцов, простотою матерей и взрослым младенчеством детей их. Но
грубые формы их вскоре отталкивали меня, и всего
грустнее мне было видеть, когда я находил следы чего-то
прекрасного, высокого, насильно заглушенного среди репейника и полыни сует и мелких отношений. Я готов был
тогда жаловаться на провидение, сеющее бесплодные семена или попускающее расклевывать их галкам и воронам
ничтожных отношений, душить их белене и чертополоху
невежества.
Я выпросился у деда моего в Геттингенский университет. Мне и потому несносно было оставаться более в деревне, что меня там невзлюбили наконец, называли философом — страшная брань в устах тамошних обитателей,—
чудаком, нелюдимом, насмешником.
Германия — парник, где воспитывает человечество самые редкие растения, унесенные человеком из рая; но
она — парник, Леонид!— а не раздольное поле, на котором свободно возрастали бы величественные пальмы и вековые творения человеческой природы. «Германия снимает
с лампад просвещения нагар, но зато от нее пахнет маслом»,— сказал не помню кто, и сказал справедливо. Однако ж в ней провел я лучшие минуты жизни — в ней, и еще
в итальянской природе, и между швейцарскими горами, где
песня приволья отдается между утесами горными и вторит
шуму вечных водопадов...
233
Внезапная смерть деда заставила меня возвратиться
в Россию, о которой сильно билось сердце мое на чужбине.
Не зная разлуки с отчизною, не знаешь и грусти по отчизне,
не знаешь, какую прелесть имеет самый воздух родины,
какое очарование заключается в снегах ее, как весело
слышать наш русский, сильный язык! Я увидел себя обладателем большого имения; сила души моей не удовлетворялась более одним ученьем. Мне хотелось забыть и мечты
мои, и противоположности жизни в деятельных, достойных
мужа трудах; хотелось узнать и большой свет.
Мой друг! Кто рано начал жить вещественною жизнью,
тому остается еще необозримая надежда спасения в жизни
души; но беден, кто провел много лет в мире мечтаний,
в мире духа и думает потом обольститься оболочкою этого
мира, миром вещественным! Так путешествие — отрада
для души неопытной, обольщаемой живыми впечатлениями общественной жизни и природы, но оно — жестокое
средство разочарования для испытанного жильца мира!
Богатые лорды английские проезжают через всю Европу
нередко для того, чтобы навести пистолет на разочарованную голову свою по возвращении в свои великолепные
замки. Есть путешествия, в которых душа человеческая
могла бы еще забыться,— путешествия по бурным безднам
океана, среди льдов, скипевшихся с облаками под полюсом, среди палящих степей и пальмовых оазисов Африки,
среди девственных дебрей Америки. Но такой ли мир для
души петербургский проспект и эти размраморенные, раззолоченные залы и гостиные? Кто привык к крепкому
питью, тому хуже воды оржад, прохлаждающий щеголеватого партнера кадрили. Вода, по крайней мере, вовсе
безвкусна, а бальный оржад — что-то мутное, что-то приторное... Несносно!
Если бы горела война, изумлявшая Европу в 1812-м году, если бы грудью своею ломил нашу Русь тогдашний
великан, которому мечами вырубили народы могилу в утесах острова св. Елены,— под заздравным кубком смерти
можно бы отдохнуть душою; если б я был поэтом, мог
в очарованных песнях высказывать себя,— я также отдохнул бы тогда, я разлился бы по душам людей гармоническими звуками, и буря души моей исчезла бы в громах
и молниях поэзии; если бы я мог, хотя не словами, но звуками только оживлять мечты, которым тесно в вещественных
оковах... Но ты знаешь, что я не поэт и не музыкант! Непослушная рука моя всегда отказывалась изображать ду
234
шу мою и в красках, и в очерках живописных. О Рафаэль, о Моцарт, о Шиллер! Кто дал вам божественные ваши
краски, звуки и слова? Для чего же даны они были вам,
а не даны мне? И для чего не передали вы никому тайны
созданий ваших? Или вы думали, что люди недостойны
ваших тайн? И для чего же судьба дала мне чувства, с которыми я понимаю всю ничтожность, всю безжизненность
моих порывов, смотря на небесную Мадонну, слушая
«Requiem» и читая «Résignation»? «Звуков, цветов, слов!—
восклицаю я.— Их дайте мне, чтобы сказаться на земле
небу! Или дайте же мне душу, которая слилась бы со
мною в пламени любви...» И что же вокруг меня? Куклы
с завялыми цветами жизни, с цепями связей и приличий!
Чего им от меня надобно? Моего золота, которое отвратительно мне, когда я вспоминаю, что мать моя умирала,
а у меня не было гривны денег купить ей лекарства! И эту
купленную любовь, эту продажную дружбу, эти обшитые
мишурою расчета почести будут занимать меня?.. Никогда!»
Вы назовете Антиоха моего безумцем, мечтателем? Не
противоречу вам, не хвалю его, но — таков он был. Не
осуждайте его хоть за то, что впоследствии он расплатился
дорого за все, что чувствовал, о чем говорил и мечтал.
Простите ему, хоть за эту цену, его безумие и, если угодно,
извлеките из этого нравственный вывод, постарайтесь еще
более похолодеть, покрепче затянуться в формы приличия
и обыкновенные, благоразумные, настоящие понятия о
жизни. Его пример будь нам наукой: нс слишком высоко
залетать на наших восковых крыльях. Лучше дремать на
берегу лужи, нежели тонуть, хотя бы и в океане...— Леонид улыбнулся и продолжал рассказ:
— Не все, что высказал я вам, говорено было нами во
время прогулки на Чичаговой даче в этот незабвенный для
меня вечер, после которого мы почти не расставались
с Антиохом. Каждый раз привязывался я к нему более
и более, каждый раз лучше узнавал я эту душу; пылкую,
независимую, добрую, как у младенца, светлую, как у добродетельного старца, пламенную, как мысль влюбленного
юноши. Не знаю, что полюбил Антиох во мне. Может быть,
детское самоотвержение, с каким вслушивался я в голос
его сердца, в высокие отзывы души его.
Тогда узнал я, что делывал Антиох, запираясь у себя
235
дома и отказывая посетителям. Склонность к мечтательности, воспитанная всею его жизнию, увлекала Антиоха
в мир таинственных знаний, этих неопределенных догадок
души человеческой, которых никогда не разгадает она
вполне. Исследование тайн природы и человека заставляли
его забывать время, когда он занимался ими. Исследования магнетизма, феософия, психология были любимыми
его занятиями. Он терялся в пене мудрости, которая кружит голову вихрями таинственности и мистики. Знания,
известные нам под названиями кабалистики, хиромантии,
физиогномики, казались Антиоху только грубою корою,
под которою скрываются тайны глубокой мудрости.
Я не мог разделять с ним любимых его упражнений,
однако ж слушал и заслушивался, когда он, с жаром,
вдохновенно, говорил мне о таинственной мудрости Востока, раскрывал мне мир, куда возлетает на мгновение душа
поэта и художника и который грубо отзывается в народных
поверьях, суевериях, преданиях, легендах. Антиох не знал
пределов в этом мире. Эккартсгаузен, Шведенборг, Шу-
барт, Бем были самым любимым его чтением.
«Тайны природы могут быть постижимы тогда только,
когда мы смотрим на них просветленным зрением души,—
говорил он.— Кто исчислит меру воли человека, совлеченной всех цепей вещественных? Где мера и той божественной вере, которая может двигать горы с их места, той
дщери небесной Софии, сестры Любви и Надежды? Природа — гиероглиф, и все вещественное есть символ невещественного, все земное — неземного, все вещественное —
духовного. Можем ли пренебречь этот мир, доступный духу
человеческому?»
«Мечтатель!— говорил я иногда Антиоху.— Ты погубишь себя! Мало тебе идеалов, которых не находишь
в жизни — ты хочешь из них создать целый мир и в этом
мире открывать тайны, которые непостижимы человеку!»
«Но они постижимы ему в зрящем состоянии ума, во
временной смерти тела — сне — ив вещественном соединении с природою — магнетизме! Но если я и грежу, если
это и сон обольстительный, не лучше ли сон этот бедной
вашей существенности? Если сон приставляет крылья телу — мечта подвязывает крылья душе, и тогда нет для нее
ни времени, ни пространства. О, мой Леонид! Если дружбу
мою столько раз, со слезами, называл ты благословением
неба, зачем не могу я изобразить тебе, что сказала бы
родная душа о моей любви, о любви выше ничтожных
236
условий земли и мира! Да, правда: эта любовь не для
земли — ее угадала бы одна, одна душа, созданная вместе
с моею душою и разделенная после того. Леонид! Назови
меня сумасшедшим, но Пифагор не ошибался: я верю его
жизни до рождения, и в этой жизни — верю я — было
существо, дышавшее одной душою со мной вместе. Я встречусь некогда с ним и здесь; встреча наша будет нашею
смертию — пережить ее невозможно! Умрем, моя мечта!
Умрем — да и на что жить нам, когда в одно мгновение
первого взора мы истощим века жизни?..»
Не знаю, поняли ль вы теперь странную, если угодно,
уродливую душу Антиоха, которая открывалась только мне
одному и никому более? Для других продолжал он быть
прежним, насмешливым, холодным молодым человеком, не переменял образа своей жизни, жил по-старому,
служил, как другие...
В это время приехал в Петербург какой-то шарлатан:
называю его так потому, что его нельзя было назвать ни
артистом, ни ученым человеком. Он, правда, не объявлял
о себе в газетах, не вывешивал над своею квартирою огромной размалеванной холстины днем, ни темного фонаря
с светлою надписью по вечерам и называл себя Людовиком
фон Шреккенфельдом; однако ж разослал при театральных афишках известие, для любителей изящных искусств,
о мнемо-физико-магических вечерах, какие намерен давать
петербургской публике, и «льстил себя надеждою благосклонного посещения». В огромной зале давал он эти
вечера. Цена за вход назначена была десять рублей, и зала
каждый раз была полна. В самом деле — было чего посмотреть. Удивительные машины, непонятные автоматы,
блестящие физические опыты занимали прежде всего посетителей. Потом приглашенные лучшие артисты разыгрывали самые фантастические музыкальные пьесы; иногда
фантасмагория, кинезотография, пиротехника, китайские
тени изумляли всех своею волшебною роскошью. Но молодых посетителей более всего привлекала к Шреккенфельду
девушка, которую называл он своею дочерью.
Не знаю, как описать вам Адельгейду: она уподоблялась дикой симфонии Бетховена и девам валкириям,
о которых певали скандинавские скальды. Рост ее был
средний, лицо удивительной белизны, но не представляло
ни стройной красоты греческой, ни выразительной красоты
237
Востока, ни пламенного очарования красоты итальянской;
оно было задумчиво-прелестно, походило на лицо мадонн
Альбрехта Дюрера. Чрезвычайно стройная, с русыми, в
длинные локоны завитыми волосами, в белом платье,
Адельгейда казалась духом той поэзии, который вдохновлял Шиллера, когда он описывал свою Теклу, и Гете, когда
он изображал свою Миньону. Вечера Шреккенфельда отличались тем от обыкновенных зрелищ за плату, что
хозяин и дочь его не собирали при входе билетов, и собрание у них походило на вечернее сборище гостей. Шреккен-
фельд и Адельгейда казались добрыми хозяевами, и пока
артисты разыгрывали разные музыкальные пьесы, ливрейные слуги угощали посетителей без всякой платы, а он
и она занимали гостей разговорами, самыми увлекательными, веселыми, разнообразными. Затем, как будто нечаянно, хозяин начинал рассуждать о природе, ее таинствах
и принимался за опыты. Но все ждали нетерпеливо того
времени, когда Адельгейда являлась на сцену. Она обладала удивительными дарованиями в музыке, говорила на
нескольких языках, и, несмотря на ее всегдашнюю холодность и задумчивость, разговор Адельгейды был блестящ,
увлекателен. Заметно было, что она выходила на сцену
неохотно. Обыкновенно начинала она игрою на фортепиано, а
чаще на арфе. Задумчивость ее исчезала постепенно —
игра переходила в фантазию, звуки лились, как будто из ее
души, голос ее соединялся с звуками арфы. Тогда глаза ее
начинали сверкать огнем восторга. Она пела, декламировала,
оставляла арфу, читала стихи Гете, Шиллера, Бюргера,
Клопштока. Раздавались звуки невидимой гармоники, скрытой от зрителей, и потрясали душу. Каждый думал тогда,
что видит в Адельгейде какое-то воздушное существо,
каждый ждал, что она рассеется, исчезнет легким туманом.
Тогда только раздавались рукоплескания зрителей, когда
Адельгейда уходила со сцены, скрывалась от взоров и к
звукам гармоники присоединялся шумный хор музыкантов.
Адельгейда не являлась уже к зрителям после игры и декламации, и Шреккенфельд оканчивал вечера изумительными
фокусами или фантасмагориею.
Слухи о вечерах Шреккенфельда и особенно об его
Адельгейде привлекали к нему молодежь. Каждый шел
посмотреть на нее, как на кочевую комедиянтку, походную
певицу. Но каждого изумлял взгляд и, особенно, разговор ее. Свобода обращения Адельгейды с молодыми
людьми представляла разительную противоположность с
238
ее холодностью. Один взор Адельгейды останавливал двусмысленный разговор или дерзкое слово самого безрассудного ветреника, а ее дарования заставляли забывать, что
она была дочь какого-то шарлатана и показывала опыты
необыкновенных дарований своих за деньги.
Шреккенфельд скоро составил у себя особенные,
частные вечера, давая публичные вечера только один раз
в неделю. Он занимал богатую квартиру, и всякий, кто был
порядочно одет и знакомился с ним на публичных его
вечерах, имел право прийти к нему на частный вечер и привести с собою знакомого. Совершенная свобода была
в этих собраниях, хотя вид Адельгейды удерживал всех
в совершенной благопристойности. Шреккенфельд был
неистощим в занятии гостей: пение, музыка, опыты ученые,
декламация и игра Адельгейды занимали одних, большая
карточная игра — других. Шреккенфельд держал огромный банк, выигрывал и проигрывал большие суммы, хотя
сам никогда не садился играть, и только повсюду надзирал
своими зелеными, лягушечьими глазами. Он внушал всем
какое-то невольное отвращение так, как Адельгейда всех
привлекала собою. Нельзя было не удивляться обширным
знаниям Шреккенфельда,— притом он свободно говорил на
пяти или шести языках,— но всякое движение его было
разочтено, продажно. Он казался всезнающим демоном,
а Адельгейда духом света, которого заклял, очаровал этот
демон и держит в цепях. Внезапный восторг, одушевлявший задумчивую Адельгейду при музыке и поэзии, можно
было почесть мгновением, в которое этот ангел света вспоминает о своем прежнем небе.
Посетив раза три Шреккенфельда, я, как и другие, был
очарован Адельгейдой. Но это не была любовь. Я смотрел
на Адельгейду, как на волшебное привидение какое-то, как
на создание из звуков музыки и слов поэзии. С восторгом
говорил я об ней Антиоху. Он смеялся и отвечал мне, что
один вид шарлатана ему отвратителен, и, несмотря на то,
что многие шарлатаны обладают тайнами знаний, неизвестными ученым, дарованиями, какими могли бы гордиться
художники, он всегда видит в них презренных торгашей
божественными дарами, ремесленников, унижающих величие человека.
«Признаюсь тебе, Леонид, что женщина, показывающая за деньги свои дарования, есть для меня творение
нестерпимое. Я могу равнодушно смотреть на паяца, на
фокусника, но на певицу — не могу, все равно что на экви
239
либристку! Смейся, но я не пошел слушать Каталани в ее
концерте и слышал ее в частном доме: я не пошел бы в концерт ни Малибран, ни Пасты! Один вид приставника, который отбирает у меня билет при входе, поворачивает мое
сердце и разрушает для меня очарование. Иное дело в театре, где все является мне в каком-то оптическом обмане».
Но я уговорил его идти к Шреккенфельду. Антиох сел
в дальнем углу залы, холодно слушал музыку, невнимательно смотрел на опыты Шреккенфельда. Он видел и
Адельгейду, но, казалось, не замечал ее. В ту минуту, когда
Адельгейда села за арфу, обратила взоры к небесам и начала тихими аккордами, движение Антиоха заставило
меня взглянуть на него. Я увидел, что глаза его загорелись.
Чудные звуки арфы слились с голосом Адельгейды —
Антиох едва мог сидеть на месте. Неизъяснимая грусть,
смешанная с какою-то радостью, что-то непонятное для
меня изображалось на лице Антиоха. Надобно сказать, что
в этот роковой вечер и Адельгейда была очаровательна,
нензобразима! Когда она оставила арфу и начала декламировать, с вдохновенным взором, с горящими щеками,
с глазами, полными слез,— я не посмел бы влюбиться
в нее: так неземна казалась мне Адельгейда! Она читала
чудное посвящение «Фауста», и эти, столь известные,
слова:
Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten!
Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt.
Versuch ich wohl, euch diesmal festzuhalten?
Fühl ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt?1 —
казались импровизациею в устах Адельгейды; казалось,
что мы слышим их в первый раз! Когда же «звуки смычка,
водимого по сердцу человеческому» (как сказал о гармонике наш известный поэт), раздались в зале и среди их умолкающих, замирающих переливов Адельгейда произнесла:
Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen
Nach jenem stillen, ernsten Geisterreich.
Es schwebet nun in unbestimmten Tönen.
Mein lispelnd Lied, der Äolsharfe gleich,
Опять ты здесь, мой благодатный гений.
Воздушная подруга юных дней!
Опять, с толпой знакомых привидений,
Теснишься ты. Мечта, к душе моей!
Жуковский
240
Ein Schauer faßt mich, Träne folgt den Tränen,
Das strenge Herz, es fühlt sich mild und weich;
Was ich besitze, sch ich wie in Weiten,
Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten!1
слезы потекли из глаз ее... Антиох закрыл глаза своим
платком, и, пока раздавались рукоплескания, он поспешно
ушел из собрания.
Дня три после того не удалось мне видеться с Антиохом.
Я застал его смущенного, бледного. Против обыкновения,
он не ходил в наш департамент и дома ничего не делал,
расхаживал взад и вперед, сложа руки.
«Ты болен, Антиох?»— спросил я.
«Нет, кажется, а, впрочем, может быть и болен».
Он замолчал, продолжал ходить и вдруг остановился
передо мною, когда я сел и в беспокойстве смотрел на него.
«Леонид!— сказал он мне.— Какой злой дух внушил
тебе мысль увлечь меня к Шреккенфельду, к этому демону,
волшебнику? В каком мире жил я в эти дни? Что я чувствовал? Что это заговорило для меня во всей природе? Что
вложило душу и голос во все бездушные предметы и слило
голоса всего в один звук, в одно имя, которое беспрестанно
режет мне слух мой, вползает в душу мою адскою змеею,
сосет мое сердце?»
«Антиох! Неужели Адельгейда произвела на тебя такое
сильное впечатление?»
«Впечатление! Не любовь ли, скажешь ты? Неужели
это любовь — любовь, этот палящий яд, который течет
теперь по моим жилам и в каждой из них бьется тысячью
аневризмов? О нет! Это не любовь! Я не люблю, не уважаю
Адельгейды — торговки своими дарованиями, дочери воплощенного демона! Я — презираю ее! Но это какое-то
очарование, от которого, как от взора гремучей змеи, спирается мое дыханье, кружится моя голова... Это какое-то
непонятное чувство, похожее на усилие, с каким вспомина
1 И снова в томном сердце возникает
Стремленье в оный таинственный свет;
Давнишний глас на лире оживает,
Чуть слышимый, как Гения полет,
И душу хладную разогревает
Опять тоска по благам прежних лет:
Все близкое мне зрится отдаленным,
Погибшее опять одушевленным...
Жуковский
241
ем мы о чем-то былом, о чем-то знакомом, забытом нами...
Леонид! Я видел, я знал когда-то Адельгейду — да, я знал
ее, знал... О, в этом никто не разуверит меня!.. Я знал
ее где-то; она была тогда ангелом божиим! И следы грусти
на лице ее, и этот взор, искавший кого-то в толпе,— все
сказывает, что она жила где-то в стране той, где я видал
ее, где и она знала меня... Но где, где? Не на Альпах
ли раздавался ее голос и закипел в моем сердце слезами
памяти? Не на Лаго ли Маджиоре он носился надо мною
и запал в душу с памятью об яхонтовом небе Италии?»
Антиох рассказал мне, что третьего дня, оставив собрание Шреккенфельда, он бродил всю ночь, сам не зная где.
Слова, голос, музыка Адельгейды преследовали его, терзали, заставляли плакать, и только говор пробудившегося,
зашевелившегося по улицам народа напомнил ему самого
себя. Он заперся у себя в доме и на другой день, сам не
зная как, вечером, желая подышать свободным воздухом,
решась идти за город или на взморье, он опять очутился
у Шреккенфельда, сел в углу и смотрел на Адельгейду.
«Думаю,— продолжал Антиох,— что я походил на всех
других, бывших у проклятого шарлатана этого, потому что
никто не изумлялся, не дивился мне. Помню, что кто-то
даже рекомендовал меня Шреккенфельду. А если бы знали
люди, что тогда был я, что была тогда душа моя...»
Адельгейда декламировала на сей раз только песню
Теклы. Не стану читать вам немецкого подлинника. В пленительных стихах Жуковского, может быть, вам будет
понятнее этот «Голос с того света»:
Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел из мира перешла...
О друг! Я все земное совершила:
Я на земле любила и жила!
Нашла ли их? Сбылись ли ожиданья?
Без страха верь: обмана сердцу нет —
Сбылося все! Я в стороне свиданья
И знаю здесь, сколь ваш прекрасен свет!
Друг! На земле великое не тщетно!
Будь тверд, а здесь тебе не изменят!
О милый! Здесь не будет безответно
Ничто, ничто — ни мысль, ни вздох, ни взгляд!
Нс унывай! Минувшее с тобою!
Незрима я, но в мире мы одном.
242
Будь верен мне прекрасною душою —
Сверши один начатое вдвоем!
Адельгейды не стало, но Антиох не двигался с места,
сидел неподвижно и тогда только опомнился, когда Шрек-
кенфельд подошел к нему и что-то начал ему говорить.
Антиох увидел, что все разошлись, зала опустела, и он был
один. Схватив шляпу свою, он поспешил за другими.
Шреккенфельд провожал его самым учтивым образом
и просил посещать впредь, потому что он видит в нем особенного знатока и любителя изящных искусств.
«Вид его, какая-то злобная радость, какая-то демонская улыбка были мне так отвратительны, что я дал себе
слово никогда не бывать у него более. Но вообрази, что
вчера я опять очутился у него; меня влекла какая-то невидимая, непостижимая сила. Адельгейда декламировала
песню Миньоны...1 Но она была выше, лучше, чудеснее
Миньоны...»
Антиох закрыл лицо руками и бросился в кресла.
«Антиох!— сказал я.— Ты любишь Адельгейду!»
«Нет!»
«Что же это, если не любовь?— S’amor non е, ehe
dunque è quel ch’io sento?»—спросил я его. Не знаю сам,
как пришел мне тогда в голову этот стих.
«Прочь с твоим водяным Петраркою!— вскричал нетерпеливо Антиох.— Прочь с стихами! Я проклинаю их: они
сводят с ума добрых людей! Не от них ли столько народа,
который был бы порядочным народом, сделалось никуда не
годными повесами! И не глупость ли заниматься детским
подбором созвучных слов, нанизывать их вместе на нитку
одной идеи и этой погремушкой дурачить потом других,
заставлять их верить, что будто в этой игре колокольчиков
заключено что-то небесное, божественное! Дурацкую шапку, дурацкую шапку Гете, Шиллеру, всем, всем поэтам за
то, что они заводят нас в глупые положения, разлучают
с делом, с настоящею жизнию, расстраивают нас своими
нелепыми мечтами!..»
Он замолчал, ходил большими шагами и вдруг спросил
меня очень спокойно: «А согласись, что ты не слыхивал, кто
1 Ты знал ли край, где негой дышит лес,
Златой лимон горит во мгле древес,
И ветерок край неба холодит,
И тихо мирт, и гордо лавр стоит?
Туда, туда!
Жуковский
243
бы читал стихи лучше Адельгейды? Не показывает ли это
глубокое сочувствие поэзии, это непостижимое слияние
восторга музыки и стихов — души, некогда бывшей великою, ангелом, пери — не знаю чем!'И вот она: человек,
ничтожный, как другие,— делает кникс за десять рублей,
которые ты даешь ей, чтобы она, и с отцом своим, не издохла с голоду! Ха, ха, ха!»
Я молчал. И что мог я сказать? Какой ответ поставить
против этой бури, разразившейся над пороховым арсеналом?
«Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen
Nach jenem stillen ernsten Geisterreich»,—
произнес глухо Антиох. Видно было, что с усилием хотел он
обновить на лице своем обыкновенную, презрительную,
насмешливую улыбку, но забыл, каких мускулов движением производилась она! «Право, Леонид!— сказал он.—
Я не люблю Адельгейды, но только меня мучит мысль: где
видел я ее? Где? Где? Не помню, не знаю, но я ее видал —
и это время было самое счастливое в моей жизни, блаженное время! Мне кажется, что если бы я мог только его
припомнить, то одного этого воспоминания было бы достаточно для счастия всей остальной моей жизни! Леонид! Не
говорил ли, не сказывал ли я тебе чего-нибудь подобного
о какой-нибудь девушке?»
Я трепетал и не мог выговорить ни одного слова. Увы!
Я предчувствовал, я предвидел гибель, в которую упал
Антиох; я припоминал слова его: «Умрем, моя мечта, умрем, да и начто нам жить?» Я соображал его мечтательный
характер, его мистическое направление; трепетал, что он
попался теперь в руки шарлатана, всеми поступками доказывавшего, что для него нет ни бога, ни греха; в руки
бродячей певицы, походной комедиянтки, которая само
кокетство, может быть, почитает одним из средств пропитания...
В этот вечер явился я к Шреккенфельду, предчувствуя, что Антиох будет там; я желал рассмотреть все,
поклявшись быть ангелом-хранителем моего друга.
Шреккенфельд был ко мне отменно ласков. «Придет
ли сегодня ваш почтенный приятель, г. Антиох?— спросил он меня.— Мы приготовляем репетицию Бетхове-
новой симфонии, а он, кажется, отличный знаток
244
и любитель. Пойдемте к нам — здесь нам помешают».
В зале сидело за карточными столами несколько игроков. Мы прошли через несколько комнат и очутились
в круглой внутренней комнате. Тут несколько человек
разбирали партитуру и готовили инструменты. Адельгейда
держала в руках ноты, задрожала, услышав голос отца,
и с трепетом обернулась к нам; при взгляде на меня глубокий вздох вылетел из ее груди и, казалось, облегчил
ее. С изумлением прочитал я в глазах Адельгейды чувство:
«Слава богу! Это не он!»
До сих пор я видал ее только на сцене, в виде певицы,
актрисы; теперь в первый раз увидел я ее по-домашнему,
в простом, хотя и щегольском, капоте. Она показалась мне
так мила, в движениях ее была такая простота, в глазах ее
светилась такая чистая невинность, что мне стало совестно
самого себя, когда я вспомнил все оскорбительные подозрения, какими обременял Адельгейду.
Все вокруг меня показывало довольство. Серебряный
чайный сервиз стоял на столике. Адельгейда подошла
к нему и начала приготовлять чай. Вместо разговорчивой,
блестящей певицы я видел молчаливую, тихую девушку,
задумчивую, грустную. Шреккеифельд, усадив меня, начал
веселый разговор. Адельгейда молчала.
«Неужели, милое, чудное создание!—думал я, смотря
на нее, пока говорил Шреккеифельд.— Неужели тебе суждено погубить моего друга, моего пламенного Антиоха?
Между вами нет и не может быть никаких отношений: ты
не для него, и он не для тебя! Вижу, что ты сама чувствуешь униженное, презрительное свое состояние — иначе
отчего же грусть твоя? Отчего это глубокое выражение
печали на лице твоем?»
Тут явился слуга и сказал что-то Шреккенфельду. Он
поспешно вышел, и через минуту мы снова услышали голос
его: он возвращался — с ним был Антиох.
Задумчив, мрачен вошел Антиох. Презрение, негодование изображалось на лице его, и он был ужасно бледен.
Взгляд на Адельгейду не произвел в нем никакой радости.
Я заметил только одно выражение, как будто Антиох,
с трудом, совершенно рассеянный, что-то старался вспомнить. Еще внимательней глядел я на Адельгейду: она
затрепетала, услышав голос, увидев самого Антиоха; щеки
ее вспыхнули, но как будто от усиленной скорби, от негодования; глаза ее поднялись к небу, опустились в землю,
и украдкою отерла она слезу.
243
Началась репетиция симфонии. Антиох молча сел в стороне; Шреккенфельд давал какие-то знаки Адельгейде;
взор Адельгейды обратился к отцу, и в глазах отца сверкнул тогда ужасающий гнев, злость. Поспешно вышла
Адельгейда. Шреккенфельд мгновенно переменил свою
удивительно подвижную физиогномию в самую ласковую,
сел подле меня и занял меня разговором, как будто не
обращая вовсе внимания на Антиоха. Но мы замолчали,
когда безумные звуки Бетховена начали развиваться в не-
изобразимых аккордах. Среди глубокой тишины всех вдруг
услышал я позади себя восклицание Антиоха: «Это она!»
С беспокойством оборачиваюсь и вижу, что Адельгейда
сидит подле Антиоха и глядит на него, испуганная, с изумлением. Рука ее была в руке Антиоха. Радость, восторг,
изумление, небесное чувство поэзии изображались в глазах его; жаркий румянец горел на его щеках. «Это она —
я узнал ее!»— говорил Антиох, забыв, что тут есть посторонние свидетели, что тут отец Адельгейды. Она вырвала
у него свою руку, отступила на два шага и поспешно ушла
из комнаты.
К счастию, музыканты, занятые разбираньем трудных
нот, ничего не слыхали и не заметили. Антиох смотрел на
дверь комнаты, куда удалилась Адельгейда, смотрел, как
исступленный, как будто все сосредоточилось для него
в один взгляд, в один образ — этот образ на одно мгновение пролетел мимо его и унес у него жизнь, и ум, и все идеи
его, все понятия, все прошедшее и будущее! Волнение
души его видно было в неизобразимой борьбе физиогно-
мии, где радость сменялась печалью, восторг унынием,
уверенность недоумением. Всю историю сердца человеческого прочитал бы на лице Антиоха тот, кто умел бы
схватить все изменявшиеся быстро переходы страстей,
обхвативших его навеки пламенным вихрем... Человек
и жизнь исчезли в нем: в раскаленном взоре, каким преследовал он удалившуюся Адельгейду, я видел взор больного
горячкою в ту непостижимую минуту, когда тихая минута
кончины укрощает телесные терзания болезни, оставляя
всю силу духа, возбужденного натянутыми нервами, и неприметно сливает идею вечного покоя смерти с полнотою
деятельности, обхватившею телесный и душевный мир —
жизнию.
Какое-то тихое, радостное спокойствие, какое-то чувство наслаждения осталось наконец на лицо и означилось
246
во всех движениях Антиоха. Когда подошел к нему я, он
крепко пожал мне руку и сказал: «Пойдем! Я поделюсь
с тобой тем, чего никто из людей не знает и что я узнал
теперь!» Когда приблизился к нему Шреккеифельд, улыбка
детского лукавства мелькнула на устах Антиоха.
«Позвольте нам идти теперь, любезный г-н Шреккен-
фельд,— сказал он.— Могу ли надеяться, что вы не запретите мне иногда приходить, разделять ваши семейственные
наслаждения?»
Шреккеифельд улыбнулся адски и, казалось, проницал
в душу Антиоха своими ядовитыми глазами. «Г-н Антиох!— отвечал он.— Дверь моего дома никогда не будет
затворена для любителя и знатока искусств, вам подобного; тем более, если к этому присовокупляется личное
уважение к его особе».
«Посетите и вы меня, любезный г-н Шреккеифельд.
Буду вам сердечно рад: вот мой адрес!»
Антиох подал ему карточку и дружески пожал ему
руку.
Мы вышли и почти бежали по улице. Иногда Антиох
останавливался, складывал руки и медленно произносил:
«Адельгейда, Адельгейда!», как будто это имя надобно
было ему вдыхать в себя с воздухом, чтобы поддержать
свое бытие. Я хотел начать разговор, но Антиох схватывал
меня за руку, влек с собою и говорил: «Молчи, ради бога,
молчи!.. Адельгейда, Адельгейда!»
Мы пришли на квартиру его, и Антиох запер за собою
двери.
Я думал, что он задушит меня в своих объятиях: так
крепко обнял он меня. Он прыгал, как дитя, он смеялся,
хохотал, и слезы текли между тем по щекам его, горящим
неестественным жаром. «О Леонид! Я нашел ее, нашел
мою половину души! Загадка жизни моей, загадка жизни
человечества найдена мною,— воскликнул наконец Антиох.— Итак, судьба испытывала, терзала, готовила меня,
чтобы я разрешил наконец миру, сказал людям тайну их
бытия? Теперь я все понимаю: и тоску, и грусть мою, и мучения души! И как терзался я, приближаясь к разрешению
тайны высочайшего блаженства, к бытию цельною, полною
душою! Мой взор проникает теперь всю природу: я понимаю, что, делая повсюду уделом человека борьбу духа
и вещества, величайшее блаженство наше — смерть —
судьба нарочно отделяет от нас разными ничтожными
призраками и привидениями: болезнью, страхом, недоумс-
247
пнем! И человек трепещет этих бумажных духов «Фрей-
шица», этой дикой музыки смертного стона, которой привыкло пугаться его воображение. Мы бродим по земле,
ища родного душе и сердцу, бродим, не находим, падаем от
усталости; тогда судьба начинает жалеть об нас, укачивает нас в вечной люльке, в гробе, и мы засыпаем навсегда,
как дети, утомленные беганьем, но перед сном трепещущие
всего — и шороха мыши, и стука в окошко, пока все не
забудется в игривых фантазиях сна крепкого! Заметь, как
искусно скрыта от нас прежняя жизнь наша, наша Urleben, а также и жизнь будущая. Если бы мы знали прежнее
наше бытие — мы не могли бы существовать здесь, на
бедной нашей земле: мы не остались бы на ней, если бы
знали и понимали, что последует и за земною жизнью!
Какой же я выродок, за что я так уродливо счастлив, что
все это суждено мне понять здесь? Ах, Леонид! Придумай
мне слова, составь мне азбуку, которыми мог бы я высказать, написать людям все то, чему хотел бы я научить их,
что хотел бы рассказать им. Я узнал из этого языка только
одно слово: Адельгейда! Понимаешь ли ты это слово?
Я произнесу его тебе тихо, медленно: А-дель-гейда! Слышишь ли, чувствуешь ли ты, что оно соединяет в себя
и звуки музыки, и слова поэзии, и цветы живописи, и формы ваяния, и все мечты души, и все думы сердца? О таких
словах думает душа, их ищет она, их слышит и не понимает
она в реве морских волн, в грохоте грома, в пении соловья,
в песнях поэтов! У поэтов, впрочем, и трудно понять их:
ведь они безумцы. Спроси об этом философов, и они
растолкуют тебе, что поэты говорят без сознания и потому
думают украсить такие слова гремушками, мишурою слов,
рифм, всякого вздора. А природа выговаривает такие
слова так ясно, громко, просто... Виновата ли она, что мы
глухи? Возьми мое слово: Адельгейда, произнеси его —
какая симфония сравнится с ним? Напиши, вырежь его —
какое изваяние осмелишься подле него поставить? Тут
все — мысль, душа, жизнь, весь мир...»
После того Антиох опять начинал говорить: «Адельгейда, Адельгейда!» Наконец идеи его приняли какое-то
определенное, систематическое направление, и он стройно
начал рассказывать мне, где и когда видал он Адельгейду.
Как жаль, что я нс могу пересказать вам рассказа
Антиохова! Помните ли вы слова Байрона:
Her thoughts
Were combinations of disjointed things.
248
And forms impalpable and unperceived
Of others’ sight, familiar were to hers.
And this the world calls phrensy...1
Да, свет называет это безумием! Но что мудрость
наша? Игра в жмурки! Счастлив, кто хоть за что-нибудь,
хоть за сумасшествие ухватился...
«Ты видел, что я признавал с первого взгляда в Адельгейде что-то знакомое, родное, что я старался вспомнить
только: где знал я Адельгейду? Когда ныне пришел я к
Шреккенфельду, когда он взял меня за руку и повел в свою
комнату, мне казалось, что смертельные судороги гнули все
мои кости и смерть была в груди моей. Вы занялись музыкою; я не заметил, как явилась и когда села подле меня
Адельгейда. Она сказала мне только одно слово: назвала
только меня по имени; она только поглядела на меня, и —
забывши все, я схватил в восторге ее руку! Это слово, этот
взгляд, это прикосновение пояснили мне в одно мгновение
все, и я невольно воскликнул: «Это она!» Все прежнее
обновилось в душе моей и сделалось мне совершенно ясно.
Леонид! Только одного боюсь я: этот Шреккенфельд,
эта Адельгейда — не мечты ли какие-нибудь, созданные
моим воображением? Ты гораздо хладнокровнее меня, хоть
я и сам себя очень хорошо понимаю и чувствую,— скажи:
точно ли она и он существуют? Кажется, я не ошибаюсь:
я видел, что она глядит, говорит, я чувствовал, взяв ее за
руку, что теплая кровь льется в руке Адельгейды: стало
быть, она не привидение! И Шреккенфельд также говорит,
ходит; он обещал быть у меня...»
«Что говоришь ты, Антиох!»
«То, что если он и она привидения, оптический обман...
Да, заметь, что я всегда вижу их только вечером... Если это
мечта, и я — сумасшедший!»— Он сильно ударил себя
в голову.
«О, мой Антиох! К несчастью — это не мечта. Шреккенфельд и Адельгейда существуют!»
«К несчастию? Почему ж «к несчастью», если они
существуют? Я только требую удостоверения твоего в
этом; остального ни ты, ни он, ни она не знаете. Шреккенфельд думает, что она дочь его... ха, ха, ха! Какая дочь: это
моя душа — половина моей души...
Видишь ли что: есть страна в мире, чудная страна — ее
1 Ее мысли были уравнением несоединяе.мых предметов, и образы, недоступные и незаметные зрению других, были знакомы си — а люди называют это безумием...
249
называют Италия. Там все великое, все прекрасное. Столько изящных созданий там, что нет другого равного количества в целом мире. Вообрази, что там был человек, умевший изобразить земными красками, цветною нашею
грязью преображенного бога; там есть храм, купол которого кажется небом — так велик он,— и этот купол висит над
людьми целые века, ничем не поддержанный; там есть
такое изображение красоты в мертвом мраморе, что перед
ним красота самой очаровательной девы кажется безобразием; там есть города, утонувшие в виноградниках, миртовых, лавровых, померанцевых лесах; другие построены на
волнах моря; другие на городах, зарытых веками в землю.
Там был народ, некогда обладавший целым миром: Север,
Запад и Восток стремились к нему туда, боролись там с
ним — следы борьбы их остались в исполинских развалинах,
обломками которых бросали они друг в друга, и эти обломки
величиной с наши города. Там смерть и жизнь слиты вместе, вместе любовь и мука, слезы и пение; горы горят, в море
отражаются волшебные невидимые сады и замки фей; на
горячем пепле огнедышащих гор растет багряный виноград,
зреет маслина; обломки столицы мира окружают тлетворные
болота... Там родился Наполеон; оттуда шагнул он на трон
полусвета; оттуда, надышавшись в последний раз вдохновенного воздуха, пошел он еще испытывать игру судеб... там
видел я Адельгейду! Помню эту хижину в цветнике на берегу моря — этот голубой опаловый цвет вечернего неба — эту
песню рыбака... Адельгейда стояла на дикой скале; арфа
была подле нее; она пела — я слушал, не видал, как скрылась она, и на другой день напрасно искал я безвестной моей певицы. Но она была тогда не то, что теперь, и в ее образе я не узнал тогда души моей...
Может быть, она и не заметила встречи со мною, так
как, может быть, она забыла тот мир, где прежде, до Италии, мы жили некогда с нею, нераздельным, одним бытием.
А! Что Италия перед тем миром? Муравейник, на котором
расцвела бедная незабудка! Этот мир... немного описаний
его найдешь ты у Шекспира, еще у Мильтона... еще у Тасса...
еще у Фирдуси... Но все это так мало и недостаточно! На Востоке есть предание, что очарованные райские сады не скрылись с земли, но только сделались невидимы, переносятся с
места на место и на одно мгновение делаются иногда видимыми человеку. Есть минуты, когда в них можно войти, подышать их райскими ароматами, напиться жемчужной живой
воды их, отведать их золотистого винограда; но они тотчас
250
исчезают, переносятся за тысячи верст, и счастливец остается или на голой палящей степи 10(га), или на холодных
льдах Севера... В этой-то невидимой стране было существо,
которое теперь бродит двойственно по земле под именем Антиоха и Адельгейды. Шреккенфельд, мнимый отец половины
меня,— злой демон: он очаровал Адельгейду и дал ей отдельное бытие. Мысль неба хранилась в моей половине души, но
это был луч, упавший в бездну мрака. Адельгейда, заклятая демоном, ничего не поймет, пока я не скажу ей волшебного слова: «Люблю тебя, Адельгейда, половина души моей!»
Когда она сознает себя и скажет мне: «Люблю тебя, Антиох!»— тогда очарование разрушится. Предчувствую, что
Шреккенфельд понимает опасность, что он употребит все волшебство свое... Но я обману его, я украду у него самого себя.
Мне стоит только напомнить Адельгейде о давно минувшем
мире, о нездешнем бытии нашем... тогда... но я не могу предвидеть будущего: ведь я человек и потому не знаю, как
свершится таинственный союз души моей: останемся ли мы
в мире или, говоря по-человечески, умрем — ведь мне все
равно... Но мне надобно подумать, поступить осторожно...
перечитаю еще раз Бема и Шведенборга. У них это описано
довольно подробно и хорошо. Между тем сам демон мой дается в хитрый обман мой: я притворюсь ему другом, и потом...»
Бродячие глаза Антиоха устремились на черкесский кинжал, висевший у него на стене. Он содрогнулся, подумал.
«О, нет! Не то, совсем не то!»— сказал он, сел за столик свой
и придвинул к себе деловые бумаги.
«Надобно поработать немного, Леонид,— промолвил он,
улыбаясь,— завтра день доклада директору. Прощай!»
Я пробыл еще несколько времени у Антиоха. Он не говорил ничего более об Адельгейде, спокойно занимался бумагами, подробно рассказывал мне содержание их и то, что
хочет писать.
Несколько раз щупал я себе голову, идя домой, где меня
ожидали также дела. Слова друга моего были слова безумца; но их стройность, порядок идей и то, что он превосходно говорил мне потом о своих обыкновенных занятиях, совершенно смешивали меня. «Что же это такое?— спрашивал
я сам себя.— Неужели в самом деле это закрывали жрецы
Изиды непроницаемым покровом, и только безумие есть
истинное проявление мудрости и откровения тайн бытия?»
251
Утром встретился я с Антиохом в нашем департаменте.
Кто не знал случившегося с ним, тот не заметил бы ничего.
Только глаза его были ярче обыкновенного; но он говорил
прекрасно, умно, был даже по-прежнему колок и насмешлив. Однако ж кто-то нечаянно произнес имя Адельгейды —
об ней часто говаривали наши товарищи. Антиох вздрогнул,
как будто от электрического удара; но он смолчал, и улыбка
оживила лицо его.
На другой день, утром, пришел я к Антиоху. Слуга его
отворил мне дверь.
«Не велено никого пускать»,— сказал он.
«И меня?»
«Об вас ничего не сказано».
«Пусти же».
«Но у барина сидит какой-то неизвестный мне господин,
и они занимаются чем-то».
Антиох услышал мой голос, вышел сам и ввел меня в свой
кабинет. Там сидел у него Шреккеифельд.
Друг мой казался спокойным, тихим, любезным, ласковым; на столе разложены были разные мистические сочинения, расставлены были разные физические инструменты.
Давая мне знаки глазами, чтобы я молчал, Антиох просил
Шреккенфельда продолжать. Шреккеифельд казался совершенно занятым предметом разговора, как будто не замечавшим ни знаков Антиоха, ни моего присутствия. Они говорили
по-итальянски. Худо разумея этот язык, я, однако ж, понимал, что речь идет о том, что всегда увлекало моего друга.
Таинственная феософия, семь Зефиротов, Соломонов храм,
слияние душ, высшее созерцание неба и земли — вот что
изъяснял Шреккеифельд, по временам рассказывая о разных
любопытных опытах и приложениях. Наконец он дружески
раскланялся и ушел.
«Ну, все идет, как надобно!— сказал мне тогда Антиох
с радостною усмешкою.— Представь себе, что этот демон
решительно поддается мне! Теперь надобно только поступать осторожнее. Помаленьку начну я изъяснять Адельгейде скрытую от нее тайну до-бытия земного. Нечего делать!
Таков человек — падший ангел, в земной своей оболочке,—
что ему надобно начинать говорить обыкновенными идеями.
Яркий свет, вдруг блеснувший, может ослепить человека. И
на солнце глядят сквозь закопченное стекло, а что свет солнца нашего против того света! Стану увлекать Адельгейду словами любви, стану говорить ей о дружбе, о неземных идеалах
земного счастия, как будто счастье может быть на этой зем
252
ле! Мне забавно, что я буду казаться влюбленным, тихонько
вздыхать, шептать: «Милая Адельгейда! Люблю тебя!» Буду произносить эти слова, как произносят их все люди, не
понимая волшебного их смысла, не зная даже того голоса, каким надобно произносить их. «Люблю!»— говорить Адельгейде: «люблю», когда я только ею и существую, и если бы не
было Адельгейды, так все равно что одна половина меня ходила бы по петербургским тротуарам! Вот забавный был бы
гуляка, Леонид! Вообрази себе половину туловища и головы,
с одной рукой, с одной ногой, и этот урод прогуливается,
смотрит одним глазом, нюхает табак, жмет руку знакомым.
А между тем такие душевные уроды ходят вокруг нас, живут, говорят и никто не смеется над ними...»
Спрашиваю: что мог я сделать? Чем пособить моему
другу? Я терялся в размышлениях. Лечить можно только то,
на что известны лекарства; но целый мир лекарей до сих пор
не умеет лечить душевных болезней. Бедные медики заботятся только о теле и производят опыты только над трупами телесными. Антиох был болен душою; но кто мог когда-
нибудь разанатомировать труп души и сказать, чем можно
пособить в той или другой душевной болезни? Меня утешала еще несколько мысль, что я не видел перемены ни в здоровье, ни в действиях Антиоха. Напротив, он расцвел, казал-
лось, новым здоровьем, был весел, мил, одевался щегольски.
Но он решительно не стал ходить никуда, кроме Шреккенфельда. Там, запершись с этим шарлатаном, просиживал он
целые часы, или дома также запирался с ним. Они казались друзьями совершенными. Я старался оправдывать друга
моего перед знакомыми, спрашивавшими меня, что сделалось
с Антиохом. Но скоро все заметили, что Антиох беспрестанно
бывает у Шреккенфельда; начали говорить об этом; клубок
сплетней навертывался более и более, перекатываясь от одного к другому, и сделался наконец таким огромным шаром,
что задавил всякую осторожность. Как обрадовались все те,
кого уничтожал прежде Антиох своим превосходством! Какими острыми бритвами явились язычки самых милых девушек! Каждая из них говорила о привязанности Антиоха к
бродяге, актрисе, певице, бог знает к чему, и в словах каждой ясно видна была мысль: «Видите ли, он презирал мною
потому, что недостоин был моей любви и хорошо понимал
это!» А друзья, друзья? Как верно сказал наш поэт, что
253
...нет презренной клеветы,
На чердаке вралем рожденной
И светской чернью повторенной,
Что нет нелепицы такой,
Ни эпиграммы площадной,
Которой бы ваш друг, с улыбкой,
В кругу порядочных людей,
Без всякой злобы и затей,
Не повторил стократ ошибкой...
О, друзья платили за злословие женщин и девушек самою
чистою монетою: и легкое словцо мимоходом, и двусмысленная улыбка при имени Антиоха, и полный рассказ, с прибавкою злобных догадок, и отвратительное сожаление об Антиохе как о человеке весьма умном и любезном,— все было
истощено и всего казалось еще мало за прежнее! Мужчины были рады мстить ему даже и за то одно, что, по всем
слухам, Антиох успел, в чем не успевали другие,— успел
очаровать красавицу и обмануть бдительность отца ее.
Бедная Адельгейда! Как об ней говорили... не стану
повторять вам! Все, что только можно сказать о самой развратной кокетке, было сказано...
Между тем я был свидетем обхождения этой странной
девушки с Антиохом. Он сделался у отца ее домашним человеком, часто обедал, просиживал вечера у Шреккенфельда,
не скрывал любви, потому что нарочно не хотел скрывать ее,
следуя постоянно своему плану. Как самая хитрая кокетка, он
изучал, казалось, каждое свое движение, каждое слово, каждый взор свой. Весь ум, вся сила души Антиоха были устремлены к тому, чтобы высказать, дать выразуметь Адельгейде
самую пламенную страсть. Сам Антиох думал, что он нарочно изучает все возможные тайны искусства любить.
Он точно изучал даже все свои движения, когда расставался
с Адельгейдою, обдумывал, что и как ему говорить; но, видя
Адельгейду, он забывал все это, и вся душа его переливалась
в его слова, взоры, движения — начинал ли он говорить
Адельгейде о страданиях отверженной любви; исчислял ли
бессонные ночи; описывал ли жгучесть слез, проливаемых
безнадежною любовью в минуты всеобщего спокойствия;
изображал ли страшные сны, терзающие нас за думы любви;
говорил ли о нестерпимом чувстве ревности ко всему, что
приближается к предмету страсти нашей, ко всему — даже
к ветерку, который вьется в ее локоне; описывал ли, напротив, блаженство взаимной страсти, одушевление всего в
254
глазах любимого и любящего человека; сказывал ли о высоте, на которую возносит человека любовь, уничтожающая все
препятствия состояний, званий, лет, времени, все земные отношения — все это было пламенем, громом и молниею, Шек-
спировым сонетом, песнею испанской девы! Адельгейда слушала, молчала, говорила мало, потупляла глаза или неподвижно устремляла их на Антиоха, дышала тяжело, тяжко,
бурно, как говорит Пушкин. Рука ее трепетала в руке Анти-
оховой. Иногда она казалась вся переселившеюся в его речи,
жила только слухом. Иногда казалась бесчувственною, непонимающею или нарочно перебивала его слова, нарочно заводила самый обыкновенный разговор и старалась увлечь,
удержать при этом разговоре Антиоха, как будто боясь его
слов о любви, о поэзии. Среди самого жаркого разговора
она вдруг уходила и когда являлась после того, глаза ее
были красны от слез. Шреккенфельд, по-видимому, ничего не
замечал, был всегда весел, любезен. Между тем постепенно
многое переменилось в его общественных отношениях.
Антиох, вскоре после сближения своего с ним, стал говорить, как отвратительна для него девушка, показывающая
дарования свои публике; как тяжело сердцу человека, который полюбил бы такую девушку, видеть, что она делит
бесценные наслаждения сердца и души с бездушною толпою.
Шреккенфельд сначала заспорил, говорил, что человек, который скрывает данные ему от бога дарования, не передает
их в полноте людям, лишает людей высоких наслаждений
изящными искусствами, похож на недостойного скупца. «В
одном человеке должно сосредоточить весь мир»,— говорил Антиох. «Эгоизм непростительный!»— возражал Шреккенфельд. Но вскоре он согласился, и Адельгейда перестала
играть на арфе, петь и декламировать перед публикою. Она
даже нс являлась на публичных вечерах Шреккенфельда и
оставалась в своей комнате, где нередко в это время были
с нею Антиох, я, двое-трое знакомых или старая угрюмая
женщина, называвшаяся ее теткою. Адельгейда пела, играла
для нас одних, но ее игра и пение были тогда бездушны,
холодны и изредка только одушевлялись прежним восторгом.
Опа потеряла душу — можно б было сказать, смотря на
нее теперь и знавши ее прежде. Впрочем, Адельгейда и не
могла по-прежнему петь и декламировать даже потому,
что в здоровье ее произошла видимая перемена: грудь
ее стала слаба, дыхание тяжело. С тех пор как Адельгейда
перестала показываться, вечера Шреккенфельда потеряли
свою прелесть; вообще стали менее ходить к нему и потому,
255
что клевета неустанно чернила самого Шреккенфельда и все,
что его окружало, что он делал. На частные вечера являлись по-прежнему, но здесь оказалась перемена. Множество
шалунов стало собираться у Шреккенфельда; карточная
игра усилилась. Часто происходили сцены буйные, и только
хладнокровие, необыкновенный ум и ловкость хозяина могли удерживать дальнейшую огласку и неприятные последствия.
«М(илостивый) г(осударь),— сказал мне однажды директор нашего департамента, когда я пришел к нему с бумагами,— вы человек молодой, и хорошая репутация должна быть для вас драгоценна. Бывши другом вашего почтенного родителя, я долгом почитаю предостеречь вас и заметить вам, что до меня дошли весьма неприятные для вас слухи».
Я смотрел на него с изумлением.
«Мне сказали, что вы пристрастились к карточной игре
и посещаете общества, не делающие чести вашему имени».
Негодование взволновало мою кровь.
«Я замечаю также, что вы не по-прежнему прилежны и
слишком увлекаетесь знакомством человека, который может
вам повредить,— г-на Антиоха».
Его знакомство могло бесчестить меня!!
«Г-н Антиох человек богатый,— хладнокровно продолжал
мой директор,— он может неглижировать службою и своими
поступками, хотя и ему, если вы друг его, должны бы вы
посоветовать быть осторожнее».
Директор хорошо знал характер Антиоха: один взгляд
заставил бы его немедленно подать в отставку, а у директора
была дочь, перезрелая Агнеса, лет двадцати семи; он был
притом по уши в долгах, и две тысячи душ Антиоха были
такою для него рекомендациею, что милости сыпались на
него и заставляли товарищей завистничать.
Я хотел оправдаться, хотел говорить смело, но покраснел
и смешался, когда директор упомянул имя Шреккенфельда и
Адельгейды.
«Говорят, что вы бываете у этого шарлатана и что г-н Антиох находится даже в связи с его развратною дочерью.
Кто не шалил смолода? И даже кто не перебесится, того добродетель ненадежна; но всему, сударь, есть мера. Знайте,
что этот человек, этот бродяга Шреккеифельд, становится подозрительным и полиция уже присматривает за ним и за
256
теми, кто к нему ходит. Говорят, что он обыгрывает на-
верную, а, может быть, что-нибудь и хуже — остерегитесь...»
Нам помешали продолжить разговор. С отчаянием увидел я, куда бедственная судьба завлекла Антиоха. Мог ли
я теперь оставить его? Как мог я раскрыть ему глаза? Как
разуверить порядочных людей, что самая гнусная клевета
очерняла Адельгейду? Как можно было растолковать им состояние души Антиоха? В то же время я не мог скрыть от
самого себя, что слухи об отвратительном Шреккенфельде
могли быть, хотя отчасти, правдивы и что этот человек был
способен на всякое злое дело. Я не знал тогда, что бедствие
было уже близко от моего несчастного друга — ближе, нежели я воображал...
В число людей избранных, друзей своего дома, Шреккенфельд допустил одного дерзкого молодого офицера, богача
и шалуна отъявленного. Антиох, я, несколько артистов,
этот офицер и двое друзей его обедали у Шреккенфельда. За
столом лилось шампанское. Офицер пил много; Антиох не
пил ничего: он сидел подле Адельгейды и разговаривал тихо,
с особым жаром среди общего шумного разговора. Адельгейда слушала его, вздыхала, краснела — в первый раз Антиох
говорил ей тогда о своей безумной идее бытия прежде жизни... Видно было, что уединенный разговор их и заметное
волнение Адельгейды приводили офицера в большую досаду.
Еще за столом он позволил себе несколько дерзостей на счет
Адельгейды. После обеда он предложил банк, бросил кучу
денег товарищу и сам старался сесть подле Адельгейды. Холодность ее совершенно взбесила его; он позволил себе несколько таких слов, от которых Адельгейда с ужасом вскочила и отбежала от него. Шреккенфельд принужден был
вступиться. Наглец сделался груб. Шреккенфельд сам разгорячился и забыл себя.
«Бродяга, шарлатан!— вскричал офицер.— Я прибью
тебя, и, в доказательство, как мало уважаю я тебя, Адельгейда должна поцеловать меня сейчас или ты получишь пощечину...»— Он бросился к Адельгейде. Она помертвела и
лишилась чувств...
«Прочь!»— вскричал Антиох, молчавший до сих пор и не
принимавший никакого участия в ссоре. Сильною рукою
оттолкнул он дерзкого. В неистовстве бросился на него
офи цер.
9 Заказ 11
257
«Понимаешь ли ты, подьячий, что должно тебе делать?»—
вскричал он.
«Не знаю, понимаешь ли ты, пьяный буян, что ты делаешь»,— отвечал горячо Антиох.
«Пистолет или шпагу? Выбирай немедленно»,— кричал
офицер.
Мы хотели утишить ссору, но все было тщетно. Соперники не слушали, не хотели ни на минуту откладывать. С отчаянием в душе, я должен был сопровождать моего друга за город. Дорогою Антиох не говорил со мною ни слова и тогда
только, как стали заряжать пистолеты, он обнял меня и сказал: «Теперь я понимаю еще более загадку жизни: Адельгейда умрет, и смерть соединит меня с нею. Прости, радуйся счастью друга твоего!»
Весело стал он на барьер, еще раз пожал мне руку...
Состояние мое неизъяснимо... Раздался выстрел — пистолет
выпал из руки Антиоха. Я бросился к нему. «Странно!
Ничего,— сказал он мне,— я ранен только!»
Соперник его лежал на земле: пуля изломала у него ребро; у Антиоха пуля только скользнула по плечу.
Уже вечером возвратились мы в Петербург. Антиох казался глубоко задумчивым и опять ничего не говорил со
мною. Я не имел сил сказать ни одного слова. Антиох велел
ехать прямо к Шреккенфельду. Я хотел возражать. «Жизнь
и смерть моя соединились в этой минуте!— воскликнул Антиох.— Или не препятствуй мне, или оставь, оставь меня, Леонид! Оставь навсегда!»
«Ни за что в мире!»— вскричал я
Шреккенфельда не было дома. Не было никого из гостей — комнаты были пусты, темны. «Я хочу видеть Девицу
Шреккеифельд!»— сказал Антиох слуге, оттолкнул его и пошел прямо к ней. Она сидела в круглой комнате, на диване,
бледная, едва живая. Старуха тетка была подле нее. Едва
отворилась дверь, едва вошел Антиох —«Мой Антиох!»—
вскричала Адельгейда и бросилась в его объятия.
Да, величайшая радость походит на сумасшествие. Два
несчастные существа эти сжали друг друга в объятиях, и продолжительный поцелуй, в котором отозвались все их чувства,
вся жизнь, запечатлел роковой союз их...
Антиох сел на диван, Адельгейда подле него, голова ее
склонилась на плечо Антиоха, глаза ее устремлены были на
его глаза, рука ее обвилась вокруг его шеи... Он начал го
258
ворить — Адельгейда также говорила ему, задыхаясь, спеша,
как будто стараясь поскорее высказать все и боясь,
что после того потеряет навсегда дар слова...
Я сидел в стороне, смотрел на них, и — я не охотник плакать, но слезы невольно капали из глаз моих...
Не думайте, что они объясняли друг другу свои чувства —
нет! Это были беспорядочные, отрывистые слова: память
прошедшего, блаженство настоящего, мечта будущего, пламень сердца, жар души, тихий поцелуй, тяжкий вздох —
мысль в образах поэтических, слово в фантастических идеях,
гармонические звуки неба, жизнь земная в высоких идеалах!
Что говаривал мне прежде Антиох о своих безумных мечтах, казалось льдом перед тем, что он говорил теперь Адельгейде... Адельгейда была очаровательна в неестественном
состоянии души своей; Антиох одушевлялся чем-то неземным...
Растворилась дверь, и вошел Шреккенфельд. С пронзительным воплем бросилась Адельгейда от Антиоха, и лицо
ее, горевшее огнем любви и восторга, побледнело, как будто она увидела перед собою демона адского... Глаза ее
сделались дики...
Шреккенфельд казался смущенным, расстроенным. Антиох глядел на него неподвижными глазами, не вставая с своего места.
«М(илостивый) г(осударь),— сказал Шреккенфельд,—
кажется, дальнейшие объяснения не нужны? Честь моей
дочери погибла, и несчастная история обесславит ее, погубит меня, если вы не сделаете того, к чему долг обязывает
каждого благородного человека».
«Что говоришь ты, воплощенный демон?— воскликнул
Антиох, быстро вскакивая с дивана.— Что сказал ты?»
«Адельгейду никто не мог поцеловать, кроме ее жениха.
Вы вошли в дом мой под видом друга; я позволил вам вступить в домашний круг мой: вы поступили бесчестно, вы
употребили во зло мою доверенность, вы — обольстили дочь
мою!»
Антиох затрепетал.
«Мерзавец!— вскричал он.— Злой дух, демон тьмы! Выбирай лучше слова свои! Или ты думаешь, что я не могу уже
этою рукою навести пистолет на твою голову и разбить
гадкую форму, под которою обладаешь ты половиною души
моей!»
«Вы должны жениться на моей дочери, м(илостивый)
г(осударь), или — вы бесчестный обольститель!»
9* 259
«Жениться,— сказал тихо Антиох, водя пальцем по лбу
своему,— жениться! Когда она сам я? Какая досада: я совсем не понимаю теперь этого слова! Какое бишь его значение?
Heiraten1, se marier...1 2 Но ведь нельзя жениться даже на
родной сестре, не только на собственной душе своей?.. А, злой
дух! Ты смеешься надо мною!»
Шреккеифельд изумился словам Антиоха.
«Говорите яснее, м(илостивый) г(осударь),— сказал
он.— Я отдаю вам руку моей Адельгейды, или вы будете
иметь дело с раздраженным отцом: я природный дворянин
немецкий».
«Адельгейда будет моя! Ты отдаешь ее мне?»— поспешно спросил Антиох.
Шреккеифельд горестно улыбнулся.
«Разумеется, если она будет вашею женою, то она будет
вашею, и я отдам ее вам... И что мне теперь в ней: спасение
ее зависит от вас... я погубил ее и себя...»
«Ты выдумываешь какие-то условия — я их не понимаю;
но это последний обман твой. Если с твоего согласия она
будет моею, тогда власть твоя уничтожится. Руку, Адельгейда! Скорее ко мне, Адельгейда, моя Адельгейда!»
Шреккеифельд хотел взять Адельгейду за руку и подвести
к Антиоху. Но с смертельным ужасом отступила Адельгейда.
«Позорный обман!— вскричала она — Никогда!»
Она упала на колени перед Антиохом.
«Прости меня, мой Антиох! Прости, ради бога, прости! Я
недостойна тебя, великодушный, благородный человек, существо неземное! Этот старик увлекал тебя, я принуждена
была участвовать в его обмане. Он хотел купить твое богатство мною, хотел завлечь тебя, велел притвориться в тебя
влюбленною... Душа моя противилась этому. Сколько плакала я, сколько раз хотела открыть тебе весь умысел... Но ты
сам сделался моим ангелом-хранителем: ты растолковал мне
тайну бытия моего, ты сказал мне, что я тебе родная, что
я половина души — я твоя, твоя, Антиох! Никто, ничто не
разлучит нас. Если это называется любовью, я люблю тебя,
Антиох, люблю, как никогда не любили, никогда не умели любить на земле! Прости, что я не понимала этого прежде и повиновалась этому человеку...»
Адельгейда дико засмеялась: «Он уверил меня, что он
отец мой!»
1 Жениться (нем.).
2 Жениться (фр.).
2 60
Изумление заставило всех нас безмолвствовать. Но последние слова Адельгейды взбесили Шреккенфельда.
«Дочь недостойная!»— вскричал он.
С воплем бросилась Адельгейда в объятия Антиоха.
«Спаси, спаси меня, мой Антиох! Я думала, что этот демон отец мой,и повиновалась ему! Зачем не сказал ты мне
прежде тайны моего бытия!»
«Моя Адельгейда!»
«Твоя, твоя, не правда ли? Навек твоя? А не дочь его,
этого демона? Разве ты не знаешь, что если ты назовешь меня
твоею, то я никогда уже не разлучусь с тобою? Мы переселимся туда, где нет людей, где нет ни Адельгейд, ни Антиохов,
ни Шреккенфельдов — где я и ты одно, где дышат любовью,
где жизнь есть одна радость, где нет ни земли, пи неба —
мой Антиох! Dahin, dahin (туда, туда)!»
Она лишилась чувств, крепко обхвативши руками Антиоха. Сяешили помочь ей, но тщетно: сильный обморок продолжался. В отчаянии бегал тогда по комнате Шреккенфельд.
Антиох сидел подле дивана, на который положили бесчувственную Адельгейду; он не говорил ни слова, держал ее
руку, ждал, казалось, когда откроет она глаза, но ждал тихо, спокойно, не оказывая ни малейшего знака ужаса — только бледен был он не человечески...
Явился лекарь, за которым посылал Шреккенфельд, и
объявил, что у Адельгейды сильная горячка. Она открыла
глаза, с ужасом поднялась и вскричала: «Где Антиох!
Неужели он ушел!»
«Он здесь, Адельгейда!»— отвечал ей Антиох.
Радость блеснула в глазах Адельгейды.
«Не уходи, не уходи от меня, мой Антиох, жизнь, душа
моя — больше, нежели жизнь,— жизнь проходит, любовь остается!»
Глаза ее устремились тогда на Шреккенфельда.
«Ах! И он здесь, здесь! Ради бога, спаси меня, Антиох!»—
закричала она и снова лишилась чувств.
Лекарь советовал Шреккенфельду удалиться. В отчаянии
вышел он в другую комнату. Я последовал за ним. Мне жалко стало этого несчастного человека: он не был уже коварным, отвратительным шарлатаном — он был отец, он плакал!
Что сказать вам? Я видел раздирающее душу зрелище:
я видел разрушение Адельгейды, прекрасного, юного, цветущего создания! Подле смертного одра ее сидел мой друг —
261
в явном помешательстве, о котором я не мог более сомневаться. Три дня и три ночи сидел он, почти не отходя от Адельгейды, забываясь сном на минуту.
Я терял милых мне людей, видал страшно умирающих.
Да, всегда —
...страшно зреть.
Как силится преодолеть
Смерть человека...
Но никогда не видал и не увижу я ничего подобного,
столь терзательного, мучительного! Смертельная, злая горячка нисколько не безобразила Адельгейды: щеки ее пылали, глаза горели, распущенные ее волосы вились локонами по плечам и груди; но со второго дня лекарь объявил,
что смерть ее неизбежна. Она не отпускала от себя Антиоха,
и если он уходил на минуту, она начинала жаловаться, плакать, как дитя, и Антиох был беспрерывно подле нее. В первые сутки Адельгейда беспрестанно говорила с ним о его безумных мечтах, о своей смерти, как о своем вечном союзе с
половиною души своей, улыбалась, смеялась, в бреду мечтались ей прелестные сады, где ветерок навевает любовь, где
слезы радости освежают землю, где думы счастия спеют в
гроздах, где поцелуи летают певистыми птичками... Иногда
она снова начинала просить прощения, что участвовала в обманах отца своего. Тогда раскрывала она всю прелестную,
ангельскую свою душу и слезами смывала с нее легкую тень
вины своей...
Шреккеифельд сидел в другой комнате, слышал все, не
смел появиться перед дочерью и терзался муками совести
и раскаяния. Он сам рассказал мне все. Историю его, дополненную разными сведениями, от других собранными, я
объясню вам коротко.
Он был сын немецкого дворянина и получил порядочное
состояние. Страсть к ученью отвлекла его от всех других занятий, а безрассудная мысль о философском камне превратила все его состояние в газ и дым. Ловкий, оборотливый, он вошел тогда в тайные немецкие общества, был участником всех тугендбундов и принужден был бежать в Италию.
Там женился он и родилась его Адельгейда. Связи его по
тайным обществам доставляли ему средства жить, но карточная игра разоряла его. Крайность заставила его сделаться карточным обманщиком, ссора с одним сильным итальянским вельможею заставила бежать из Италии. Он решился
сделаться фокусником и проехал Европу, показывая опыты
262
фантасмагории, химии, физики. Пользуясь необыкновенными
дарованиями дочери, которую любил страстно, он заставлял играть и петь свою Адельгейду перед публикою; но связи
и долги отовсюду гнали его. Приехав в Петербург, он начал
свои обыкновенные представления, заметил Атиоха и угадал
страсть его к Адельгейде. Мысль, что дочь его может сделаться женою богатого русского дворянина, заставила Шреккенфельда употребить для сего всю хитрость, весь ум свой.
Он особенно воспользовался мистическим расположением
Антиохова характера и заставлял Адельгейду оказывать ему
внимание, не понимая, что благородная душа Адельгейды
ужасалась притворства, что Адельгейда любила уже Антиоха страстно, но чувствовала, как низко, недостойно ее завлекать Антиоха в сети. Она пренебрегала своим униженным званием, и отчаяние более всего вдохновляло ее, когда
она должна была выходить перед публику. Тем выше становился в глазах ее Антиох, великодушный, полусумасшедший
от любви к ней, пламенный. Ей хотелось показать ему все
несходство положений их, она страшилась мысли быть его
женою, думая, что унизит, обесславит собою Антиоха. В
этом отношении, в сознании высокой души своей и низкого
звания, несчастного положения отца своего и себя самой,
Адельгейда точно была светлый ангел, очарованный демоном, которому не может он противиться. Видя дерзость,
вольное обхождение мужчин, приходивших к ее отцу, положение которого становилось более и более затруднительно,
она трепетала ежеминутно. И каким ангелом-спасителем
показался ей Антиох, когда он так смело заступился за нее!
Когда она опомнилась, узнала, что Антиох поехал драться с
наглецом, оскорбившим ее, тогда узнала она и всю меру
любви к нему. «Я не переживу его! Боже! Спаси Антиоха
и возьми жизнь мою!» — говорила она, стоя на коленях и
молясь со слезами. Антиох явился; радость ее при виде
Антиоха перешла в совершенное безумие... Жить после сего
было невозможно...
На другие сутки Адельгейда говорила мало, но беспре
стайно глядела на Антиоха, держала руку его, радостно
улыбалась, шептала eMy:«Dahin, dahin! Скоро исполнится
все, что говорил ты мне... Ведь ты меня простил? Ведь ты мой
Антиох?»
Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude!1
Минут на скорбь — блаженство бесконечно!
Перевод Жуковского
263
Это были последние слова. Адельгейда казалась после
сего забывшеюся. Утром, на четвертый день, Шреккеифельд
привлачился к ее постели и, стоя на коленях, обливался
слезами. Адельгейда вдруг открыла глаза — обратила взор
на отца своего, улыбнулась — взглянула на Антиоха, хотела
приподняться, хотела протянуть к нему руку — и не могла —
от Антиоха подняла она глаза свои к небу и закрыла их навсегда...
Состояние Антиоха во все это время можно было назвать
бесчувственным. Когда, отлучаясь на короткое время из жилища Шреккенфельда, я возвращался в него, постоянно находил я Антиоха неподвижного близ постели Адельгейды;
когда, разделяя с ним ночь, засыпал я беспокойным сном и
потом просыпался — при слабом мерцании лампы я видел
Антиоха, неподвижно облокотившегося на изголовье Адельгейды, считавшего каждое ее дыхание. Казалось, что для
него ничего более не существовало, и он сам не чувствовал ни себя, ни других. Когда подходил я к нему, желая
уговорить его успокоиться, он пожимал мою руку, давал
мне знак молчать и снова обращался к Адельгейде.
Никто, кроме его, не подавал ей ни питья, ни лекарства: ни
от кого более не брала она их. Понимал ли Антиох ужас
своего положения? Не думаю. Он не показывал ни малейшего знака чувства и говорил мало, даже и с самою Адельгейдою, как будто боясь пропустить какое-нибудь слово ее, как будто наслушиваясь ее речей, нагля-
дываясь на нее. По мере того, однако ж, как Адельгейда
ослабевала, Антиох более и более начинал понимать себя,
складывал руки, судорожно сжимал их, обращал взоры
к небу и потом ко мне, как будто спрашивал меня: «Что это
такое, друг мой?»
Адельгейды уже не было, а он все еще держал руку
ее. «Отчего так озябла она? Посмотрите: рука ее холодна,
как лед! Она вся побледнела!»— сказал наконец Антиох
и в испуге вскочил с своего места. «Леонид! Посмотри, что
с нею сделалось? Посмотри!»— говорил он, толкая меня
к Адельгейде. Я обнял его со слезами. Антиох не плакал,
хотя глаза его были красные и опухшие. «Она не может
умереть,— говорил он,— не может, потому что я еще жив.
Что же это такое? Какой это странный перелом болезни?
Эти доктора ничего не понимают в психологических явлениях!» Он схватил себя за волосы и вырвал клок их, не
чувствуя, что делает. В бессилии склонился он ко мне,
глаза его закрылись — он был бесчувствен и неподвижен.
264
Признаюсь: я желал ему смерти... Но смерть надолго
забыла Антиоха.
Бесчувственного перенесли мы его в карету и на руках
вынесли из кареты в его квартиру. Доктор, призванный
мною, сказал, что это не обморок, что Антиох спит... Не
помню, как-то по-латыни назвал он этот сон. Только это не
был сон смерти. Ровно через сутки Антиох проснулся,
бодро встал, надел свой всегдашний шлафрок, казался
задумчивым, глубоко размышляющим, поглядел на меня,
но не оказал ни печали, ни радости, никакого признака
жизни. Более часа ходил он по комнате, когда пришел
доктор и хотел посмотреть его пульс. Молча Антиох подал
ему руку, но не сказал ни слова. Я стал говорить с ним. Он
смотрел на меня, не сказал ничего и опять начал ходить.
Потом сел он за свой столик, вынул десть бумаги, взял
перо, приготовился писать, остановился, долго думал,
бросил перо, взял карандаш, тер лоб свой с нетерпением.
Так прошло несколько часов. «Завтра!»— сказал наконец
Антиох задумчиво, бережно спрятал бумагу, лег на диван
свой и скоро заснул.
Пришедши на другой день, я застал Антиоха уже
вставшим. Он опять сидел за своим столиком, держал перо,
думал, не отвечал на мои слова. Лекарь, приставленный
к нему, сказал мне, что всю ночь Антиох проспал каким-то
бесчувственным сном.
Целый день просидел он опять за своим столиком
и иногда только прохаживался по комнате, думая, молча,
потом опять садился и думал. Видно было, что он слышит
слова и видит людей, потому что, когда мы стали просить
его принять лекарство, он с досадою и поспешно выпил его.
Когда я говорил ему о прежней дружбе нашей, он поглядел на меня, но не сказал ни слова, как будто человек,
ничего не понимающий.
Так прошла целая неделя, и в Антиохе не было никакой
перемены. Он вставал поутру, не обращая ни на что внимания, спешил сесть за столик свой и целый день просиживал
за ним, держа то перо, то карандаш, задумывался, думал,
печально прохаживаясь иногда по комнате, и вечером
ложился спать, с глубоким вздохом произнося: «Ну, завтра!» Более не слыхали мы от него ни слова.
265
Доктора, которым рассказывал я всю историю Антиоха,
решили, что он в сумасшествии особенного рода, что лечить его нельзя обыкновенным образом, что обыкновенное
лечение сумасшедших может только привести его в
яростное безумие и что можно надеяться исцеления его со
временем. Сон Антиоха всегда походил на бесчувствие
смерти: его нельзя было разбудить; ел и пил он весьма
мало, и то, когда принуждали его. Я нанял для него квартиру на даче, в прелестном местоположении. Ночью, во время
сна, мы перевезли туда Антиоха. Он проснулся поутру,
изумился, казалось, обгляделся кругом, но, увидев свой
столик, бумагу, перо и карандаш, поспешно сел к столику
и просидел целый день задумавшись, как будто стараясь
что-то вспомнить. Вечером он лег по обыкновению спать и,
проснувшись на другой день, опять просидел его за своим
столиком. Идти никуда не хотел он, иногда с бесчувствием
взглядывал в окно и тотчас отворачивался. Однажды
веселое общество гуляющих проходило под окном его — он
поглядел и отворотился к своему столику.
Мы испытывали лечить его музыкою. Когда раздались
звуки арфы, Антиох бросил перо, стал слушать, но через
минуту с негодованием покачал головою, опять взял перо
и не оказывал более никакого внимания.
Так прошло несколько месяцев. Мне надобно было
ехать из Петербурга; я препоручил Антиоха честному старику, который согласился жить с ним, и доктору, который
хотел навещать его каждый день.
Поездка моя была довольно продолжительна. Отправленный по казенной надобности, я не мог иметь постоянной
переписки. Меня уведомляли по временам, что Антиох остается в прежнем положении, но — не все сказывали мне!
Во время отлучки моей приехали в Петербург родственники Антиоха и взяли в управление все имение его. Бесчеловечные перевезли Антиоха в дом умалишенных. Честный
старик, приставленный мною, умолил их взять для него
особую комнату и перевез туда его столик, бумагу, перо
и карандаш. Антиох проснулся на другой день в доме
сумасшедших и, не обращая ни на что внимания, сел думать за свой столик.
Великий боже! Я увидел Антиоха и ужаснулся. Он
вовсе не узнал меня, взглянул на меня, когда я пришел,
и снова принялся думать. Он был худ; кожа присохла
266
к костям его; длинная борода выросла у него в это время,
и голова его была почти седая. Только глаза, все еще
блиставшие, хотя желтые, показывали тень прежнего Антиоха. Прежний прекрасный шлафрок его, висевший
лоскутьями, был надет на него.
Я не хотел переводить Антиоха никуда: не все ли для
него было равно, в доме ли сумасшедших был бы он или
у меня, потому что уж ничто не могло ни занять, ни развлечь его, а нескромное любопытство людей могло быть
для него тягостнее в моей квартире. На лето хотел я опять
нанять дачу и туда взять с собою Антиоха. Доктора давно
отказались лечить его.
Ровно через год после смерти Адельгейды, в одно
прекрасное утро, когда солнце ярко осветило комнату
Антиоха, он проснулся, поспешно сел за свой столик и
вдруг радостно закричал: «Это она, это она!» Приставник
бросился к нему. Указывая на слово, написанное на бумаге, Антиох с восторгом говорил ему: «Видишь ли, видишь
ли? Это она, это душа моя — я вспомнил, вспомнил таинственное слово, которым могу призвать ее к себе... Мне
кажется, я долго думал об этом слове! Неужели ты его не
знаешь? Теперь к ней, к ней!»
Приставник обрадовался, услышав первый раз Антиоха говорящего. Он думал, что Антиох излечился. Антиох
долго, с наслаждением смотрел на написанное им слово,
горячо поцеловал его, хотел встать и вдруг свалился опять
на стул свой; голова его склонилась на бумагу; перо выпало из рук его...
Я прибежал опрометью, когда меня известили, и застал
Антиоха еще в этом положении. Но он был уже холоден. На
бумаге было написано его рукою: Адельгейда.
Леонид кончил свой рассказ. Мы все молчали. Читатели припомнят, что в числе слушателей были две девушки,
одна веселая, с черными глазами, другая задумчивая,
с голубыми. Веселая встала и пошла прочь, сказав:
— Он все выдумал. Так не любят, и что за радость так
любить?
Леонид не отвечал ей ни слова, но, когда мы, мужчины,
составили кружок и стали рассуждать всякий по-своему,
Леонид придвинулся к другой девушке. Она плакала,
закрывая глаза платком. Леонид взял ее руку и поцеловал
украдкою, не говоря ни слова.
267
— Вы не выдумали?— сказала она, вдруг взглянув на
Леонида.
— И не думал,— отвечал Леонид.— Неужели и вы
скажете: так не любят?
— О нет! Верю, чувствую, что так можно любить, но...
Леонид?
— Если иначе не смеешь любить, скажи, милый друг:
не блаженство ли безумие Антиоха и смерть Адельгейды?
Я не вслушался в ответ и не знаю, что отвечали Леониду.
СТРАШНОЕ ГАДАНЬЕ
Посвящается
Петру Степановичу Лутковскому
Давно уже строптивые умы
Отринули возможность духа тьмы;
Но к чудному всегда наклонным
сердцем —
Друзья мои, кто не был духоверцем?..
...Я был тогда влюблен до безумия! О, как обманывались
те, которые, глядя на мою насмешливую улыбку, на мои рассеянные взоры, на мою небрежность речей в кругу красавиц, считали меня равнодушным и хладнокровным. Не
ведали они, что глубокие чувства редко проявляются именно
потому, что они глубоки; но если б они могли заглянуть
в мою душу и, увидя, понять ее: они бы ужаснулись!
Все, о чем так любят болтать поэты, чем так легкомысленно играют женщины, в чем так стараются притворяться
любовники, во мне кипело, как растопленная медь, над
которою и самые пары, не находя истока, зажигались пламенем. Но мне всегда были смешны до жалости приторные
вздыхатели со своими пряничными сердцами; мне были жалки до презрения записные волокиты со своим зимним
восторгом, своими заученными изъяснениями, и попасть
в число их — для меня казалось страшнее всего на свете.
Нет! Не таков был я: в любви моей бывало много
странного, чудесного, даже дикого; я могу быть не понят или
непонятен, но смешон никогда. Пылкая, могучая страсть
катится как лава: она увлекает и жжет все встречное;
разрушаясь сама, разрушает в пепел препоны, и хоть на
миг, но превращает в кипучий котел даже холодное море.
Так любил я... назовем хоть так, Полину. Все, что женщина может внушить, все, что мужчина может чувствовать,
было внушено и почувствовано. Она принадлежала другому,
но это лишь возвышало цену ее взаимности, лишь более
раздражало слепую страсть мою, взлелеянную надеждой.
Сердце мое должно было расторгнуться, если б я замкнул
его молчанием: я опрокинул его, как переполненный сосуд,
перед любимою женщиной; я говорил пламенем, и моя речь
нашла отзыв в ее сердце. До сих пор, когда я вспомню
об уверении, что я любим, каждая жилка во мне трепещет как
струна, и если наслаждения земного блаженства могут быть
270
выражены звуками, то, конечно, звуками подобными! Когда
я прильнул в первый раз своими устами к руке ее — душа
моя исчезла в этом прикосновении! Мне чудилось, будто я
претворился в молнию: так быстро, так воздушно, так пылко
было чувство это, если это можно назвать чувством.
Но коротко было мое блаженство: Полина была столько
же строга, как прелестна. Она любила меня, как никогда я
еще не был любим дотоле, как никогда не буду любим вперед: нежно, страстно и безупречно... То, что было заветно
мне, для ней стоило более слез, чем мне самому страданий. Она так доверчиво предалась защите моего великодушия, так благородно умоляла спасти самое себя от укора,
что бесчестно было бы изменить доверию.
— Милый! Мы далеки от порока,— говорила она,— но
всегда ли далеки от слабости? Кто пытает часто силу,
тот готовит себе падение: нам должно как можно реже
видеться!
Скрепя сердце, я дал слово избегать всяких встреч с нею.
И вот протекло уже три недели, как я не видал Полины.
Надобно вам сказать, что я служил еще в Северском
конноегерском полку, и мы стояли тогда в Орловской
губернии... позвольте умолчать об уезде. Эскадрон мой расположен был квартирами вблизи поместьев мужа Полины.
О самых святках полк наш получил приказание выступить в Тульскую губернию, и я имел довольно твердости
духа уйти не простясь. Признаюсь, что боязнь изменить тайне
в присутствии других, более чем скромность, удержала меня.
Чтоб заслужить ее уважение, надобно было отказаться от
любви, и я выдержал опыт. Напрасно приглашали меня
окрестные помещики на прощальные праздники; напрасно
товарищи, у которых тоже, едва ль не у каждого, была
сердечная связь, уговаривали возвратиться с перехода на
бал — я стоял крепко.
Накануне Нового года мы совершили третий переход и
расположились на дневку. Один-одинехонек, в курной хате,
лежал я на походной постели своей, с черной думой на
уме, с тяжелой кручиной в сердце. Давно уже не улыбался я
от души даже в кругу друзей; их беседа стала мне несносна, их веселость возбуждала во мне желчь, их внимательность досаду за безотвязность. Стало быть, тем раздольнее
было мне хмуриться наедине, потому что все товарищи
разъехались по гостям; тем мрачнее было в душе моей:
в нее не могла запасть тогда ни одна блестка наружной
веселости, никакое случайное развлечение.
271
И вот прискакал ко мне ездовой от приятеля с приглашением на вечер к прежнему его хозяину, князю Львинскому.
Просят непременно: у них пир горой; красавиц — звезда
при звезде, молодцов рой, и шампанского разливанное
море. В приписке, будто мимоходом, извещал он, что там
будет и Полина. Я вспыхнул... ноги мои дрожали, сердце
кипело. Долго ходил я по хате, долго лежал, словно в забытьи
горячки; но быстрина крови не утихала, щеки пылали багровым заревом, отблеском душевного пожара; звучно билось
ретивое в груди. Ехать или не ехать мне на этот вечер?
Еще однажды увидеть ее, дохнуть одним с нею воздухом,
наслушаться ее голоса, молвить последнее прости! Кто бы
устоял против таких искушений? Я кинулся в обшивни и
поскакал назад, к селу князя Львинского. Было два часа за полдень, когда я поехал с места. Проскакав 20 верст
на своих, я взял потом со станции почтовую тройку и еще
промчался 22 версты благополучно. С этой станции мне
уже следовало своротить с большой дороги. Статный молодец на лихих конях взялся меня доставить 18 верст в село
княжое.
Я сел — катай!
Уже было темно, когда мы выехали со двора, однако ж
улица кипела народом. Молодые парни в бархатных шапках, в синих кафтанах расхаживали, взявшись за кушаки
товарищей; девки в заячьих шубах, крытых яркою китайкою,
ходили хороводами; везде слышались праздничные песни,
огни мелькали во всех окнах,и зажженные лучины пылали
у многих ворот. Молодец, извозчик мой, стоя в заголовке
саней, гордо покрикивал «пади!» и, охорашиваясь, кланялся тем, которые узнавали его, очень довольный, слыша за
собою: «Вон наш Алеха катит! Куда сокол собрался?» —
и тому подобное. Выбравшись из толпы, он обернулся ко
мне с предуведомлением:
«Ну, барин, держись!»— заложил правую рукавицу под
левую мышку, повел обнаженною рукой над тройкой, гаркнул — и кони взвились как вихрь! Дух занялся у меня от
быстроты их поскока: они понесли нас.
Как верткий челнок на валах, кувыркались, валялись и
прыгали сани в обе стороны; извозчик мой, упершись в
валек ногою и мощно передергивая вожжами, долго боролся с запальчивою силою застоявшихся коней, но удила
только подстрекали их ярость. Мотая головами, взбросив
дымные ноздри на ветер, неслись они вперед, взвивая метель над санями. Подобные случаи столь обыкновенны для
272
каждого из нас, что я, схватись за облучок, преспокойно
лежал внутри и, так сказать, любовался этою быстротой
путешествия. Никто из иностранцев не может постичь дикого наслаждения — мчаться на бешеной тройке подобно
мысли, и в вихре полета вкушать новую негу самозабвения. Мечта уж переносила меня на бал. Боже мой, как испугаю и обрадую я Полину своим нежданным появлением!
Меня бранят, меня ласкают, мировая заключена — и я уж
несусь с нею в танцах... И между тем свист воздуха казался мне музыкою, а мелькающие изгороди, леса — пестрыми
толпами гостей в бешеном вальсе... Крик извозчика, просящего помощи, вызвал меня из очарования. Схватив две
вожжи, я так скрутил голову коренной, что, упершись вдруг,
она едва не выскочила из хомута. Топоча и фыркая,
остановились наконец измученные бегуны, и, когда опало
облако инея, и ветерок разнес пар, клубящийся над конями:
«Где мы?»— спросил я у ямщика, между тем как он
перетягивал порванный чересседельник и оправлял сбрую.
Ямщик робко оглянулся кругом.
— Дай бог памяти, барин!— отвечал он.— Мы уж давно
своротили с большой дороги, чтобы упарить по сугробу
гнедышей, и я что-то не признаюсь к этой околице.
Не ведь это Прошкино-Репище, не ведь Андронова-Пережога?
Я не подвигался вперед ни на полвершка от его
топографических догадок; нетерпение приехать меня одолевало, и я с досадою бил нога об ногу, между тем
как мой парень бегал отыскивать дорогу.
— Ну что?
— Плохо, барин!— отвечал он.— В добрый час молвить,
в худой помолчать: мы никак заехали к Черному Озеру!
— Тем лучше, братец! Коли есть примета — выехать недолга песня: садись и дуй в хвост и в гриву!
— Какое лучше, барин! Эта примета заведет невесть куда,— возразил ямщик.—Здесь мой дядя видел русалку:
слышь ты, сидит на суку да и покачивается, а сама волосы
чешет, косица такая, что страсть, а собой такая смазливая:
загляденье, да и только. И вся нагая, как моя ладонь.
— Что ж, поцеловал ли он красавицу?— спросил я.
— Христос с тобой, барин, что ты это шутишь? Подслушает она, так даст поминку, что до новых веников не
забудешь. Дядя с перепугу не то чтобы зааминить али
зачурать ее, даже ахнуть не успел, как она, завидя его,
захохотала, ударила в ладоши да и бульк в воду. С этого
273
глазу, барин, он бродил целый день вкруг да около, и, когда
воротился домой, едва допыталися: мычит по-звериному, да
и только! А кум Тимоша Кулак, ономесь, повстречал тут
оборотня: слышишь ты, скинулся он свиньей, да то и знай
мечется под ноги! Хорошо, что Тимоша и сам в чертовщине силу знает: как поехал на ней чехардой да ухватил
за уши, она и пошла его мыкать, а сама визжит благим
матом; до самых петухов таскала, и уж на рассвете нашли
его под съездом у Гаврюшки, у того, что дочь красовита.
Да то ли здесь чудится!.. Серега Косой как порасскажет...
— Побереги свои побасенки до другого случая,— возразил я,— мне, право, нет времени, да нет и охоты
пугаться!.. Если ты не хочешь, чтоб русалка защекотала тебя
до смерти, или не хочешь ночевать с карасями под ледяным одеялом, то ищи скорей дороги.
Мы брели целиком в сугробах выше колена. На беду нашу,
небо задернуто было пеленой, сквозь которую тихо сеялся
пушистый иней; не видя месяца, нельзя было узнать, где восток и где запад. Обманчивый отблеск между перелесками заманивал нас то вправо, то влево... Вот-вот, думаешь,
видна дорога... Доходишь — это склон оврага или тень
какого-нибудь дерева! Одни птичьи и заячьи следы плелись
таинственными узлами по снегу. Уныло звучал на дуге колокольчик, двоя каждый тяжелый шаг; кони ступали, повесив
головы; извозчик, бледный как полотно, бормотал молитвы,
приговаривая: что нас обошел леший, что нам надобно
выворотить шубы вверх шерстью и надеть наизнанку все до
креста. Я тонул в снегу и громко роптал на все и на всех,
выходя из себя с досады, а время утекало, и где конец
этому проклятому пути!! Надобно быть в подобном положении, надобно быть влюблену и спешить на бал, чтобы
вообразить весь гнев мой в то время... Это было бы очень
смешно, если б не было очень опасно!
Однако ж досада не вывела нас на старую дорогу и не
проторила новой; образ Полины, который танцевал передо
мною, и чувство ревности, что она вертится теперь с каким-
нибудь счастливцем, слушает его ласкательства, может быть,
отвечает на них — нисколько не помогали мне в поисках.
Одетый тяжелою медвежьею шубой, я не иначе мог идти, как
нараспашку, и потому ветер проницал меня насквозь,
леденя на теле капли пота. Ноги мои, обутые в легкие
танцевальные сапоги, были промочены и проморожены до
колен, и дело уж дошло до того, что надобно было поза-
оотиться не о бале, а о жизни, чтоб не кончить ее в
274
пустынном поле. Напрасно прислушивались мы: нигде отрадного огонька, нигде голоса человеческого, даже ни полета
птицы, ни шелеста зверя. Только храпение наших коней, или
бой копыта от нетерпения, или изредка бряканье колокольца,
потрясаемого уздой, нарушали окрестное безмолвие. Угрюмо
стояли кругом купы елей, как мертвецы, закутанные в снежные саваны, будто простирая к нам оледенелые руки: кусты,
опушенные клоками инея, сплетали на бледной поверхности поля тени свои; утлые, обгорелые пни, вея седыми
космами, принимали мечтательные образы; но все это не носило на себе следа ноги или руки человеческой... Тишь
и пустыня окрест!
Молодой извозчик мой одет был вовсе не по-дорожному и,
проницаемый не на шутку холодом, заплакал.
— Знать, согрешил я перед богом,— сказал он,— что
наказан такой смертью: умрешь, как татарин, без исповеди!
Тяжело расставаться с белым светом, только раздувши
пену с медовой чаши; да и куда бы не шло — в посту,
а то на праздниках! То-то взвоет белугой моя старуха! То-то
наплачется моя Таня!
Я был тронут простыми жалобами доброго парня: дорого
бы я дал, чтобы так же заманчива, так же мила была мне
жизнь; чтобы так же горячо веровал я в любовь и верность. Однако ж, чтоб разгулять одолевающий его сон,
я велел ему снова пуститься в ход наудачу, сохраняя
движением теплоту. Так шли мы еще полчаса, как вдруг
парень мой вскрикнул с радостью:
— Вот он, вот он!
— Кто он?— спросил я, прыгая по глубокому снегу
ближе.
Ямщик не отвечал мне; упав на колена, он с восторгом
что-то рассматривал: это был след конский. Я уверен, что
ни один бедняк не был столько рад находке мешка с
золотом, как мой парень этому верному признаку и обету
жизни. В самом деле, скоро мы выбрали на бойкую дрово-
в’озную дорогу; кони, будто чуя ночлег, радостно наострили
уши и заржали; мы стремглав полетели по ней куда глаза
глядят. Через четверть часа были уже в деревне, и как мой
извозчик узнал ее, то привез прямо к избе зажиточного,
знакомого ему крестьянина.
Уверенность возвратила бодрость и силы иззябшему парню, и он не вошел в избу, покуда не размял беганьем
на улице окоченевших членов, не оттер снегом рук и щек, даже
покуда не выводил коней. У меня зашлись одни ноги, и пото
275
му, вытерши их в сенях докрасна суконкою, я через пять
минут сидел уже под святыми, за набранным столом, усердно
потчуемый радушным хозяином, и попав, вместо бала, на
сельские посиделки.
Сначала все встали, но, отдав мне чинный поклон,
уселись по-прежнему, и только порой, перемигиваясь и перешептываясь между собою, кажется, вели слово о нежданном
госте. Ряды молодиц в низаных киках, в кокошниках и
красных девушек в повязках разноцветных, с длинными
косами, в которые вплетены были треугольные подкосники
с подвесками или златошвейные ленты, сидели по лавкам
очень тесно, чтоб не дать между собою места лукавому,
разумеется духу, а не человеку, потому что многие парни
нашли средство втереться между. Молодцы в пестрядинных и ситцевых рубашках, с косыми галунными воротками,
и в суконных кафтанах увивались около или, собравшись в
кучки, пересмехались, щелкали орешки, и один из самых
любезных, сдвинув набекрень шапку, бренчал на балалайке: «Из-под дубу, из-под вязу». Седобородый отец хозяина
лежал на печи, обратясь лицом к нам, и, качая головой,
глядел на игры молодежи; для рам картины — с полатей
выглядывали две или три живописные детские головки, которые, склонясь на руки и зевая, посматривали вниз. Гаданья
на Новый год пошли обычной своей чередою. Петух, пущенный в круг, по обводу которого насыпаны были именные кучки овса и ячменя с зарытыми в них кольцами, удостоив
из которой-нибудь клюнуть, возвещал неминуемую свадьбу
для гадателя или загадчицы... Накрыв блюдом чашу, на которой лежали кусочки с наговорным хлебом, уголья, значения коих я никак не мог добиться, и перстни да
кольца девушек, все принялись за подблюдные песни, эту
лотерею судьбы и ее приговоров. Я грустно слушал звучные напевы, коим вторили в лад потрясаемые жеребьи в
чаше:
Слава богу на небе.
Государю на сей земле!
Чтобы правда была
Краше солнца светла;
Золотая ж казна
Век полным-полна!
Чтобы коням его не изъезживаться,
Его платьям цветным не изнашиваться,
Его верным вельможам не стариться!
Уж мы хлебу поем,
Хлебу честь воздаем!
Большим-то рекам слава до моря,
276
Мелким речкам до мельницы!
Старым людям на потешенье,
Добрым молодцам на услышанье.
Расцвели в небе две радуги,
У красной девицы две радости:
С милым другом совет
И растворен подклет!
Щука шла из Нова города,
Хвост несла из Бела Озера;
У щучки головка серебряная,
У щуки спина жемчугом плетена,
А на место глаз — дорогой алмаз!
Золотая парча развевается —
Кто-то в путь во дорогу сбирается.
Всякому сулили они добро и славу, но, отогревшись,
я не думал дослушивать бесконечных и неминуемых заветов подблюдных: сердце мое было далеко, и я сам бы
летом полетел вслед за ним. Я стал подговаривать молодцев свезти меня к князю. К чести их, хотя к досаде своей,
должно сказать, что никакая плата не выманила их от забав сердечных. Все говорили, что у них лошаденки плохие
или измученные. У того не было санок, у другого подковы
без шипов, у третьего болит рука.
Хозяин уверял, что он послал бы сына и без прогонов,
да у него пара добрых коней повезла в город заседателя... чарки частые, голова одна — и вот уже третий день,
верно, праздничают в околице.
— Да изволишь знать, твоя милость,— примолвил один
краснобай, встряхнув кудрями,— теперь уж ночь, а дело-то
святочное. Уж на што у нас храбрый народ девки: погадать
ли о суженом — не боятся бегать за овины, в поле слушать
колокольного свадебного звону либо в старую баню, чтоб
погладил домовой мохнатой лапою на богачество, да и то
сегодня хвостики прижали... Ведь канун-то Нового года
чертям сенокос.
— Полно тебе, Ванька, страхи-то рассказывать,— вскричало несколько тоненьких голосков.
— Чего полно?— продолжал Ванька.— Спроси-ка у Ори-
шки: хорош ли чертов свадебный поезд, какой она вчерась
видела, глядясь за овинами на месяц в зеркало? Едут,
свищут, гаркают... словно живьем воочью совершаются.
Она говорит: один бесенок оборотился горенским Старостиным сыном Афонькой, да одно знай пристает: сядь да
сядь в сани. Из круга, знать, выманивает. Хорошо, что
у ней ум чуть не с косу, так отнекалась.
277
— Нет, барин,— примолвил другой,— хоть рассыпь серебра, вряд ли кто возьмется свезти тебя! Кругом озера
колесить — верст 20 будет, а через лед ехать без беды беда:
трещин и полыней тьма; пошутит лукавый, так пойдешь
карманами ловить раков.
— И ведомо,— сказал третий.— Теперь чертям скоро
заговенье: из когтей друг у друга добычу рвут.
— Полно брехать,— возразил краснобай,— нашел заговенье. Черный ангел, или, по-книжному, так сказать, Ефиоп,
завсегда у каждого человека за левым плечом стоит да
не смигнувши сторожит, как бы натолкнуть на грех. Не
слыхали вы разве, что было у Пятницы на Пустыни о
прошлых святках?
— А что такое?— вскричали многие любопытные.— Расскажи, пожалуйста, Ванюша, только не умори с ужасти.
Рассказчик оглянулся на двери, на окно, на лица слушателей, крякнул протяжно, оправил рукою кудри и начал:
— Дело было, как у нас, на посиделках. Молодцы окру-
чались в личины и такие хари, что и днем глядеть — за
печку спрячешься, не то чтобы ночью плясать с ними. Шубы
навыворот, носищи семи пядей, рога, словно с Сидоровой
козы, а в зубах по углю: так и зияют. Умудрились, что
петух приехал верхом на раке, а смерть с косою на коне:
Петрушка-чеботарь спину представлял, так он мне все и
рассказывал.
Вот разыгрались они словно ласточки перед погодою;
одному парню лукавый знать и шепнул в ухо: семь-ка, я
украду с покойника, что в часовне лежит, саван да венец,
окручусь в них, набелюся известкою да и приду мертвецом
на поселки. На худое мы не ленивы: скорей чем сгадал
он в часовню слетал — ведь откуда, скажите на милость,
отвага взялась. Чуть не до смерти перепугал он всех:
старый за малого прячется... однако ж, когда он расхохотался своим голосом да стал креститься и божиться, что
он живой человек, пошел смех пуще прежнего страху.
Тары да бары, да сладкие разговоры, ан и полночь на
дворе, надо молодцу нести назад гробовые обновки: зовет
не дозовется никого в товарищи; как опала у него хмелина
в голове, опустились и крылья соколиные; одному идти,
страх одолевает, а приятели отпираются. Покойник давно
слыл колдуном, и никто не хотел, чтобы черти свернули
голову на затылок, свои следы считать: «Ты, дескать, брал
напрокат саван, ты и отдавай его: нам что за стать в чужом пиру похмелье нести».
278
И вот не прошло двух мигов... послышали, кто-то идет
по скрипучему снегу... прямо к окну: стук, стук...
— С нами крестная сила!— вскричала хозяйка, устремив на окно испуганные очи.— Наше место свято!— повторила она, не могши отвратить взглядов от поразившего ее
предмета.— Вон, вон, кто-то страшный глядит сюда!
Девки с криком прижались одна к другой; парни кинулись к окну, между тем как те из них, которые были по-
робче, с выпученными глазами и открытым ртом поглядывали в обе стороны, не зная, что делать. В самом деле,
за морозными стеклами как будто мелькнуло чье-то лицо...
но когда рама была отперта — на улице никого не было.
Туман, врываясь в избу, ходил коромыслом, затемняя на
время блеск лучины. Все понемногу успокоились.
— Это вам почудилось,— сказал рассказчик, оправляясь сам от испуга: его голос был прерывен и неровен.— Да
вот дослушайте бывальщину: она уж и вся-то недолга.
Когда переполошенные в избе люди осмелились да спросили:
«Кто стучит?» Пришлец отвечал: «Мертвец пришел за саваном». Услышав это, молодец, окрученный в него, снял с
себя гробовую пелену да венец и выкинул из окошка. «Не
принимаю! — закричал колдун, скрипя зубами.— Пускай где
взял, там отдаст мне». И саван опять очутился посреди
избы. «Ты, насмехаючись, звал меня на посиделки,— сказал мертвец страшным голосом,— я здесь! Чествуй же гостя,
и провожай его до дому, до последнего твоего и моего
дому!» Все, дрожа, молились всем святым, а бедняга, виноватый, ни жив ни мертв сидел, дожидаясь злой гибели.
Мертвец между тем ходил кругом, вопя: «Отдайте мне его,
не то и всем несдобровать». Сунулся было в окошко, да, на
счастье, косяки были святою водой окроплены, так его словно огнем обдало; взвыл да назад кинулся. Вот грянул он
в вороты, и дубовый запор как соль рассыпался... начал
всходить по съезду... тяжко скрипели бревна под ногою
оборотня; собака с визгом залезла в сенях под корыто, и
все слышали, как упала рука его на щеколду. Напрасно
читали ему навстречу молитву от наваждения, от призора,
однако ни что не забрало... дверь со стоном повернулась
на пятах, и мертвец шасть в избу!
Дверь избы нашей точно растворилась при этом слове,
будто кто-нибудь подслушивал, чтобы войти в это мгновение. Нельзя описать, с каким ужасом вскрикнули гости,
поскакав с лавок и столпись под образами... Многие девушки, закрыв лицо руками, упали за спины соседок, как будто
279
избежали опасности, когда ее не видно. Глаза всех, устремленные к порогу, ждали встретить там по крайней мере
остов, закутанный саваном, если не самого нечистого с рогами; и в самом деле, клубящийся в дверях морозный пар
мог показаться адским серным дымом. Наконец пар расступился, и все увидели, что вошедший имел вид совершенно
человеческий. Он приветливо поклонился всей беседе, хотя
и не перекрестился перед иконами. То был стройный мужчина в распашной сибирке, под которою надет был бархатный камзол; такие же шаровары спускались на лаковые
сапоги; цветной персидский платок два раза обвивал шею,
и в руках его была бобровая шапка с козырьком особого
вида. Одним словом, костюм его доказывал, что он или
приказчик, или поверенный по откупам. Лицо его было
правильно, но бледно как полотно, и черные потухшие глаза стояли неподвижно.
— Бог помочь!— сказал он, кланяясь.— Прошу беседу
для меня не чиниться, а тебя, хозяин, обо мне не заботиться. Я завернул в вашу деревню на минуту: надо покормить иноходца на перепутье — у меня вблизи дельце есть.
Увидев меня в мундире, он раскланялся очень развязно, даже слишком развязно для своего состояния,
и скромно спросил: не может ли чем послужить мне?
Потом, с позволения, подсев ко мне ближе, завел речь о
том и о сем, пятом и десятом. Рассказы его были очень
забавны, замечания резки, шутки ядовиты: заметно было, что
он терся долго между светскими людьми как посредник
запрещенных забав или как их преследователь — кто знает — может быть, как блудный купеческий сын, купивший
своим именем жалкую опытность, проживший с золотом
здоровье и добрые нравы. Слова его отзывались какою-то
насмешливостью надо всем, что люди привыкли уважать,
по крайней мере, наружно. Не из ложного хвастовства и
не из лицемерного смирения рассказывал он про свои порочные склонности и поступки: нет, это уже был закоснелый, холодный разврат. Злая усмешка презрения ко всему окружающему беспрестанно бродила у него на лице, и, когда
он наводил свои пронзающие очи на меня, невольный
холод пробегал по коже.
— Не правда ли, сударь,— сказал он мне после некоторого молчания,— любуетесь невинностью и веселостью
этих простяков, сравнивая скуку городских балов с крестьянскими посиделками? И право, напрасно. Невинности давно
уж нету в помине нигде. Горожане говорят, что она поле
280
вой цветок, крестьяне указывают на зеркальные стекла,
будто она сидит за ними в позолоченной клетке, между
тем как она схоронена в староверских книгах, которым для
того только верят, чтоб побранить наше время. А веселость,
сударь? Я, пожалуй, оживлю вам для потехи эту обезьяну,
называемую вами веселостью. Штоф сладкой водки парням,
дюжину пряников молодицам и пары три аршин тесемок
девушкам: вот мужицкий рай; надолго ли?
Он вышел и, возвратясь, принес все, о чем говорил, из
санок. Как человек привычный к этому делу, он подсел
в кружок и совершенно сельским наречием, с разными прибаутками потчевал пряничными петушками, раздаривал самым пригоженьким ленты, пуговицы на сарафаны, сережки
со стеклами и тому подобные безделки, наливал парням
водку и даже уговаривал некоторых молодиц прихлебнуть
сладкой наливки. Беседа зашумела, как улей, глаза засверкали у молодцов, вольные выражения срывались с губ, и,
слушая россказни незнакомца, нашептываемые им на ухо,
красные девушки смеялись и уж гораздо ласковее, хотя
исподлобья, поглядывали на своих соседов. Чтобы довершить суматоху, он подошел к светцу, в котором воткнутая
лучина роняла огарки свои в старую сковороду, стал поправлять ее и потушил, будто ненарочно. Минут десять
возился он в темноте, вздувая огонь, и в это время звуки
многих нескромных поцелуев раздавались кругом между
всеобщим смехом. Когда вспыхнула опять лучина, все уже
скромно сидели по местам, но незнакомец лукаво показал
мне на румяные щеки красавиц. Скоро оказались тлетворные следствия его присутствия. Охмелевшие крестьяне стали спорить и ссориться между собою; крестьянки завистливым глазом смотрели на подруг, которым достались лучшие
безделки. Многие парни в порыве ревности упрекали своих
любезных, что они чересчур ласково обходились с незнакомым гостем; некоторые мужья грозили уже своим половинам, что они докажут кулаком любовь свою за их перемиги
с другими; даже ребятишки на полатях дрались за орехи.
Сложив руки на груди, стоял чудный незнакомец у
стенки и с довольною, но ироническою улыбкой смотрел на
следы своих проказ.
— Вот люди!— сказал он мне тихо... но в двух этих
словах было многое. Я понял, что он хотел выразить —
в городах и селах, во всех состояниях и возрастах подобны
пороки людские: они равняют бедных и богатых глупостью;
различны погремушки, за которыми кидаются они, но ребя
281
чество одинаково. То, по крайней мере, высказывал насмешливый взор и тон речей; так, по крайней мере, мне
казалось.
Но мне скоро наскучил разговор этого безнравственного
существа и песни и сельские игры; мысли пошли опять
привычною стезею. Опершись рукою об стол, хмурен и
рассеян, отвечал я на вопросы и глядел на окружающее,
и невольный ропот вырывался из сердца, будто пресыщенного полынью. Незнакомец, взглянув на свои часы, сказал
мне: «Уж скоро десять часов»; я был очень рад тому;
я жаждал тишины и уединения.
В это время один из молодцов с рыжими усами и
открытым лицом, вероятно, осмеленный даровым ерофеичем,
подошел ко мне с поклоном.
— Что, я тебя спрашиваю, барин,— сказал он,— есть ли
в тебе молодецкая отвага?
Я улыбнулся, взглянув на него: такой вопрос удивил меня.
— Когда бы кто-нибудь поумнее сделал мне подобный
вопрос,— отвечал я,— он бы унес ответ на боках своих.
— И, батюшка-сударь,— возразил он,— будто я сомневаюсь, что ты с широкими своими плечами на дюжину пойдешь, не засуча рукавов: такая удаль в каждом русском
молодце не диковинка. Дело не об людях, барин: я хотел
бы знать, не боишься ли ты колдунов и чертовщины?
Смешно б было разуверять его, напрасно уверять в моем
неверии ко всему этому.
— Чертей я боюсь еще менее, чем людей!— был мой
ответ.
— Честь и хвала тебе, барин!— сказал молодец.— Насилу нашел я товарища. И ты бы не ужастился увидеть
нечистого носом к носу?
— Даже схватить его за нос, друг мой, если б ты
мог вызвать его из этого рукомойника...
— Ну, барин, — промолвил он, понизив голос и склонясь
над моим ухом,— если ты хочешь погадать о чем-нибудь
житейском, если у тебя есть, как у меня, какая разлапушка,
так, пожалуй, катнем: мы увидим тогда все, что случится с
ними и с нами вперед. Чур, барин, только не робеть: на
это гаданье надо сердце тройчатку. Что ж, приказ или отказ?
Я было хотел отвечать этому долгополому гадателю, что
он или дурак или хвастун и что я, для его забавы или его
простоты, вовсе не хочу сам делать глупостей; но в это мгновенье повстречал насмешливый взгляд незнакомца, который
282
будто говорил: «Ты хочешь, друг, прикрыть благоразумными
словами глупую робость! Знаем мы вашу братью, вольномыслящих дворянчиков!» К этому взору он присоединил и
увещание, хотя никак не мог слышать, что меня звали на
гаданье.
— Вы, верно, не пойдете,— сказал он сомнительно.—
Чему быть путному, даже забавному от таких людей!
— Напротив, пойду!— возразил я сухо... Мне хотелось
поступить наперекор этому незнакомцу.— Мне давно хочется
раскусить, как орех, свою будущую судьбу и познакомиться
покороче с лукавым,— сказал я гадателю.— Какой же ворожбой вызовем мы его из ада?
— Теперь он рыщет по земле,— отвечал тот,— и ближе к
нам, нежели думаем: надо заставить его сделать по нашему
велению.
— Смотрите, чтоб он не заставил вас делать по своему
хотению,— произнес незнакомец важно.
— Мы будем гадать страшным гаданьем,— сказал мне на
ухо парень,— закляв нечистого на воловьей коже. Меня уж
раз носил он на ней по воздуху — и что видел я там,
что слышал,— примолвил он бледнея,— того... Да ты сам,
барин, испытаешь все.
Я вспомнил, что в примечаниях в «Красавице озера»
(«Lady oftle lake») Вальтер Скотт приводит письмо одного
шотландского офицера, который гадал точно таким образом,
и говорит с ужасом, что человеческий язык не может выразить тех страхов, которыми он обуян. Мне любопытно стало
узнать, так ли же выполняются у нас обряды этого гаданья,
остатка язычества на разных концах Европы.
— Идем же сейчас,— сказал я, опоясывая саблю свою и
надевая просушенные сапоги.— Видно, мне сегодня судьба
мыкаться конями и чертями! Посмотрим, кто из них довезет
меня до цели!
Я переступил за порог, когда незнакомец будто с видом
участия сказал мне:
— Напрасно, сударь, изволите идти: воображенье самый
злой волшебник, и вам бог весть что может почудиться!
Я поблагодарил его за совет, примолвив, что иду для одной забавы, имею довольно ума, чтобы заметить обман, и
слишком трезвую голову и слишком твердое сердце, чтоб ему
поддаться.
— Пускай же сбудется, чему должно!— произнес вслед
мой незнакомец.
Проводник зашел в соседний дом.
283
— Вечор у нас приняли черного как смоль быка без
малейшей отметки,— сказал он, вытаскивая оттуда свежую
шкуру,— и она-то будет нашим ковром-самолетом.
Под мышкой нес он красного петуха, три ножа сверкали за поясом, а из-за пазухи выглядывала головка полуштофа, по его словам, какого-то зелья, собранного на Иванову ночь. Молодой месяц протек уже полнеба. Мы шли скоро
по улице, и провожатый заметил мне, что ни одна собака на
нас не взлаяла; даже встречные кидались опрометью в
подворотни и только, ворча, выглядывали оттуда. Мы прошли
версты полторы; деревня от нас скрылась за холмом, и мы
поворотили на кладбище.
Ветхая, подавленная снегом бревенчатая церковь возникла посреди полурухнувшей ограды, и тень ее тянулась вдаль,
словно путь в мир могильный. Ряды крестов, тленных памятников тлеющих под ними поселян, смиренно склонялись над
пригорками, и несколько елей, скрипя, качали черные ветки
свои, колеблемые ветром.
— Здесь!— сказал проводник мой, бросив шкуру вверх
шерстью. Лицо его совсем изменилось: смертная бледность
проступила на нем вместо жаркого румянца; место прежней
говорливости заступила важная таинственность.— Здесь,—
повторил он.— Это место дорого для того, кого станем вызывать мы: здесь в разные времена схоронены трое любимцев ада. В последний раз напоминаю, барин: если хочешь,
можешь воротиться, а уж начавши коляду, по оглядывайся, что бы тебе ни казалось, как бы тебя ни кликали, и не
твори креста, не читай моливы... Нет ли у тебя ладанки на
вороту?
Я отвечал, что у меня на груди есть маленький образ и
крестик,— родительское благословение.
— Сними его, барин, и повесь хоть на этой могилке:
своя храбрость теперь нам одна оборона.
Я послушался почти нехотя. Странная вещь: мне стало
будто страшнее, когда я удалил от себя моих пенатов от
самого младенчества; мне показалось, что я остался вовсе
один, без оружия и защиты. Между тем гадатель мой,
произнося невнятные звуки, начал обводить круг около кожи.
Начертив ножом дорожку, он окропил ее влагою из склянки,
и потом задушив петуха, чтобы он не крикнул, отрубил
ему голову, и полил кровью в третий раз очарованный
круг. Глядя на это, я спросил:
— Не будем ли варить в котле черную кошку, чтобы
ведьмы, родня ее, дали выкупу?
284
— Нет!— сказал заклинатель, вонзая треугольником ножи.— Черную кошку варят для привороту к себе красавицы. Штука в том, чтобы выбрать из косточек одну, которою
если тронешь, на кого задумаешь, так по тебе с ума сойдет.
Дорого бы заплатили за такую косточку в столицах,
подумал я: тогда и ум, и любезность, и красота, самое
счастие дураков — спустили бы перед нею флаги.
— Да все равно,— продолжал он,— можно эту же силу
достать в Иванов день. Посадить лягушку в дырявый
бурак, наговорить да и бросить в муравейник, так она
человеческим голосом закричит; наутро, когда она будет
съедена, останется в бураке только вилочка да крючок;
этот крючок неизменная уда на сердца, а коли больно
наскучит, тронь вилочкой — как рукавицу долой, всю прежнюю любовь снимет.
«Что касается до забвенья,— думал я,— для этого не
нужно с нашими дамами чародейства».
— Пора!— произнес гадатель.— Смотри, барин: коли мила тебе душа, не оглядывайся. Любуйся на месяц и жди,
что сбудется.
Завернувшись в медвежью шубу, я лег на роковой
воловьей шкуре, оставив товарища чародействовать, сколько
ему угодно. Невольно, однако ж, колесо мыслей опять и
опять приносило мне вопрос: откуда в этом человеке такая уверенность? Он мог ясно видеть, что я вовсе не
легковерен, следственно, если думает морочить меня, то через
час, много два — открою вполне его обманы... Притом какую
выгоду найдет он в обмане? Ни ограбить, ни украсть у меня
никто не посмеет... Впрочем, случается, что сокровенные
силы природы даются иногда людям самым невежественным.
Сколько есть целебных трав, магнетических средств в руках
у простолюдинов... Неужели?.. Мне .стало стыдно самого
себя, что зерно сомнения запало в мою голову. Но когда
человек допустит себе вопрос о каком-либо предмете, значит,
верование его поколебано, и кто знает, как далеки будут размахи этого маятника?.. Чтобы отвлечь себя от думы о
мире духов, которые, может статься, окружают нас незримо и
действуют на нас неощутимо, я прильнул очами к месяцу.
«Тихая сторона мечтаний!— думал я.— Неужели ты населена одними мечтаниями нашими? Для чего так любовно
летят к тебе взоры и думы человеческие? Для чего так
мило сердцу твое мерцанье, как дружеский привет иль
ласка матери? Не родное ли ты светило земле? Не подруга
ли ты судьбы ее обитателей, как ее спутница в странничестве
285
эфирном? Прелестна ты, звезда покоя, но земля наша, обиталище бурь, еще прелестнее, и потому не верю я мысли поэтов, что туда суждено умчаться теням нашим, что оттого
влечешь ты сердца и думы! Нет, ты могла быть колыбелью,
отчизной нашего духа; там, может быть, расцвело его младенчество, и он любит летать из новой обители в знакомый,
но забытый мир твой; но не тебе, тихая сторона, быть
приютом буйной молодости души человеческой! В полете к
усовершенствованию ее доля — еще прекраснейшие миры и
еще тягчайшие испытания, потому что дорогою ценой покупаются светлые мысли и тонкие чувствования!»
Душа моя зажглась прикосновением этой искры: образ
Полины, облеченный всеми прелестями, приданными воображением, несся передо мною... О! Зачем мы живем не в век
волшебств, подумал я, чтобы хоть ценой крови, ценою души
купить временное всевластие — ты была бы моя, Полина...
моя.
Между тем товарищ мой, стоя сзади меня на коленях,
произносил непонятные заклинания; но голос его затихал
постепенно! Он роптал уже подобно ручью, катящемуся
под снежною глыбой...
— Идет, идет!— вскрикнул он, упав ниц... его голосу
отвечал вдали шум и топот, как будто вихрь гнал метель
по насту, как будто удары молота гремели по камню...
Заклинатель смолк, но шум, постепенно возрастая, налетал
ближе... Невольным образом у меня занялся дух от боязненного ожидания, и холод пробежал по членам... земля
звучала и дрожала — я не вытерпел и оглянулся...
И что ж? Полштоф стоял пустой, и рядом с ним храпел мой пьяный духовидец, упав ничком! Я захохотал и
тем охотнее, что предо мной держал коня своего незнакомец, проезжая в санках мимо. Он охотно помог мне
посмеяться такой встрече.
— Не говорил ли я вам, сударь, что напрасно изволите верить этому глупцу. Хорошо, что он недолго скучал
вам, поторопившись нахрабрить себя сначала: мудрено ли,
что таким гадателям с перепою видятся чудеса!
И между тем злые очи его проницали морозом сердце, и
между тем коварная усмешка доказывала его радость, видя
мое замешательство, застав, как оробелого ребенка, впотьмах и врасплох.
— Каким образом очутился ты здесь, друг мой?— спросил я неизбежного незнакомца, не очень довольный его
уроком.
286
— Стоит обо мне вздумать, сударь, и я как лист перед
травой,— отвечал он лукаво...— Я узнал от хозяина, что
вам угодно было ехать на бал князя Львинского; узнал,
что деревенские неучи отказались везти вас, и очень
рад служить вам: я сам туда еду повидаться под шумок с
одною барскою барынею. Мой иноходец, могу похвалиться,
бегает как черт от ладану, и через озеро — не далее восьми
верст!
Такое предложение не могло быть принято мною худо:
я вспрыгнул от радости и кинулся обнимать незнакомца.
Приехать хоть в полночь, хоть на миг... это прелесть, это
занимательно!
— Ты разодолжил меня, друг мой! Я готов отдать тебе
все наличные деньги,— вскричал я, садясь в саночки.
— Поберегите их у себя,— отвечал незнакомец, садясь со
мною радом.— Если вы употребите их лучше, нежели я,
безрассудно было бы отдавать их, а если так же дурно,
как я,— то напрасно!
Вожжи натянулись, и, как стрела, стальным луком рину-
тая, полетел иноходец по льду озера. Только звучали подрези,
только свистел воздух, раздираемый быстрою иноходью. У
меня занялся дух и замирало сердце, видя, как прыгали наши
казанки через трещины, как вились и крутились они по
закрайкам полыней. Между тем он рассказывал мне все
тайные похождения окружного дворянства: тот волочится за
предводительшей; та была у нашего майора в гостях под
маскою; тот вместо волка наехал с собаками на след соседа
и чуть не затравил зверька в спальне у жены своей. Полковник наш поделился столькими-то тысячами с губернатором, чтоб очистить квитанцию за постой... Прокурор получил
недавно пирог с золотою начинкою за то, чтоб замять дело
помещика Ремницына, который засек своего человека, и проч,
и проч.
— Удивляюсь, как много здесь сплетней,— сказал я,—
дивлюсь еще более, как они могут быть тебе известны.
— Неужели вы думаете, сударь, что серебро здесь ходит в другом курсе или совесть судейская дороже, нежели
в столицах? Неужели вы думаете, что огонь здесь не жжет,
женщины не ветреничают и мужья не носят рогов? Слава
богу, эта мода, я надеюсь, не устареет до конца света!
Это правда, теперь более говорят о честности в судах и больше выказывают скромности в обществах, но это для того
только, чтоб набить цены. В больших городах легче скрыть
все проказы; здесь, напротив, сударь, здесь нет ни модных
287
магазинов, ни лож с решетками, ни наемных карет, ни посещений к бедным: кругом несметная, но сметливая дворня
и ребятишки на каждом шагу. Вышло из моды ходить за
грибами, и еще не введены прогулки верхом,— так бедняжкам нежным сердцам, чтобы свидеться, надо ждать отъезжего поля, или престольного праздника у соседей, или
бурной ночи, чтобы дождь и ветер смели следы отважного
обожателя, который не боится ни зубов собак, ни языков
соседок. Впрочем, сударь, вы это знаете не хуже моего.
На бал будет звезда здешних красавиц, Полина Павловна.
— Мне все равно,— отвечал я хладнокровно.
— В самом деле?— произнес незнакомец, взглянув на меня насмешливо-пристально.— А я бы прозакладывал свою
бобровую шапку и к ней в придачу голову, что вы для
нее туда едете... В самом деле, вам бы давно пора осушить поцелуями ее слезы, как это было три недели тому
назад, в пятом часу после обеда, когда вы стояли перед
ней на коленях!
— Бес ты или человек?— яростно вскричал я, схватив
незнакомца за ворот.— Я заставлю тебя высказать, от кого
научился ты этой клевете, заставлю век молчать о том,
что знаешь!
Я был поражен и раздражен словами незнакомца. От
кого мог он сведать подробности моей тайны? Никому и
никогда не открывал я ее, никогда вино не исторгало у меня
нескромности — даже подушка моя никогда не слыхала звука изменнического; и вдруг вещь, которая происходила в
четырех стенах, между четырьмя глазами, во втором этаже
и в комнате, в которой, конечно, никто не мог подсмотреть нас,— вещь эта стала известною такому бездельнику!
Гнев мой не имел границ. Я был силен, я был рассержен,
и незнакомец дрогнул как трость в руке моей — я приподнял его с места. Но он оторвал прочь руку мою, будто
маковку репейника, и оттолкнул, как семилетнего ребенка.
— Вы поиграете со мной в эту игру,— сказал он хладнокровно, однако ж решительно.— Угрозы для меня монета,
которой я не знаю цены; да и к чему все это? Скрипучую
дверь заставишь молчать не молотом, а маслом; притом же
моя собственная выгода в скромности. Вот уже мы и у ворот
княжьего дома: помните, несмотря на свою недоверчивость,
что я вам на всякую удалую службу неизменное копье. Я
жду вас для возврата за этим углом: желаю удачи!
Я не успел еще образумиться, как санки наши шаркнули
к подъезду, и незнакомец, высадив меня, пропал из виду.
288
Вхожу— все шумит и блещет: сельский бал, что называется,
в самом развале; плясуны вертелись как по обещанию,
дамы, несмотря на полночь, были очень бодры. Любопытные облепили меня, чуть завидев, и полились вопросы и
восклицания ливмя. Рассказываю вкратце свое похождение,
извиняюсь перед хозяевами, прикладываюсь к перчаткам
почетных старух, пожимаю руки друзьям, бросаю мимоходом
по лестному словцу дамам и быстро пробегаю комнаты
одну за другою, ища Полины. Я нашел ее вдали от толпы, одинокую, бледную, с поникшею головою — будто цветочный венок подавлял се, как свинец. Она радостно вскрикнула, увидев меня; огневой румянец вспыхнул на лице;
хотела встать, но силы ее оставили, и она снова опустилась в кресла, закрыв опахалом очи, будто ослепленные
внезапным блеском.
Укротив, сколько мог, волнение, я сел подле нее. Я
прямо и откровенно просил у ней прощенья в том, что нс
мог выдержать тяжкого испытания, и разлучаясь, может
быть, на век, прежде чем брошусь в глухую, холодную
пустыню света, хотел еще однажды согреть душу ее взором — или нет: не для любви, для науки разлюбить ее
приехал я, из желания найти в ней какой-нибудь недостаток, из жажды поссориться с нею, быть огорченным ее
упреками, раздраженным ее холодностью, для того, чтобы
дать ей самой повод хотя в чем-нибудь обвинять меня,
чтобы нам легче было расстаться, если она имеет жестокость называть виною неодолимое влечение любви, помня
только заветы самолюбца-рассудка и не внимая внушениям
сердца!.. Она прервала меня.
— Я бы должна была упрекать тебя,— сказала она,—
но я так рада, так счастлива тебя увидеть, что готова
благодарить за неисполненное обещание. Я оправдываюсь, я
утешаюсь тем, что и ты, твердый мужчина, доступен слабости; и неужели ты думаешь, что, если б даже я была
довольно благоразумна и могла бы на тебя сердиться, я
стала бы отравлять укоризнами последние минуты свидания?.. Друг мой, ты все еще веришь менее моей любви,
чем благоразумию, в котором я имею столько нужды: пусть
эти радостные слезы разуверят тебя в противном!
Если б было возможно, я бы упал к ногам ее, целовал бы
следы ее, я бы — я был вне себя от восхищения... Не
помню, что я говорил и что слышал, но я был так весел,
так счастлив!.. Рука об руку мы вмешались в круг танцующих.
10 Заказ 14
289
Не умею описать, что со мною сталось, когда, обвивая тонкий стан ее рукою трепетною от наслаждения, я
пожимал другою ее прелестную ручку: казалось, кожа перчаток приняла жизнь, передавая биение каждой фибры...
казалось, весь состав Полины прыщет искрами! Когда помчались мы в бешеном вальсе, ее летающие душистые
локоны касались иногда губ моих; я вдыхал ароматный
пламень ее дыхания; мои блуждающие взгляды проницали
сквозь дымку: я видел, как бурно вздымались и опадали белоснежные полушары, волнуемые моими вздохами,
видел, как пылали щеки ее моим жаром, видел — нет, я
ничего не видал... пол исчезал под ногами, казалось, я лечу,
лечу, лечу по воздуху, с сладостным замиранием сердца!
Впервые забыл я приличия света и самого себя. Сидя
подле Полины в кругу котильона, я мечтал, что нас только
двое в пространстве: все прочее представлялось мне слитно,
как облака, раздуваемые ветром; ум мой крутился в пламенном вихре.
Язык, этот высокий дар небес, был последним средством
между нами для размена чувствований: каждый волосок
говорил мне и на мне о любви; я был так счастлив
и так несчастлив вместе. Сердце разрывалось от полноты,
но мне чего-то недоставало... Я умолял ее позволить мне
произнести в последний раз люблю на свободе, запечатлеть
поцелуем разлуку вечную... Это слово колебало ее твердость!
Тот не любил, кто не знал слабостей... Роковое согласие сорвалось с ее языка.
Только при конце танца заметил я мужа Полины, который,
прислонясь к противоположной стене, ревниво замечал все
наши разговоры. Это был злой, низкой души человек; я
не любил его всегда как человека, но теперь, как мужа
Полины, я готов был ненавидеть его, уничтожить его. Малейшее столкновение с ним могло быть роковым для обоих:
я это чувствовал и удалился. Полчаса, которые протекли
между обетом и сроком, показались мне бесконечными.
Через длинную галерею стоял небольшой домашний театр
княжьего дома, в котором повечеру играли: в нем-то было
назначено свиданье. Я бродил по пустой его зале, между
опрокинутых скамей. Лунный свет, падая сквозь окна, рисовал по стенам зыбкие цветы и деревья, отраженные морозными кристаллами стекол. Сцена чернелась, как вертеп, и
290
на ней в беспорядке сдвинутые кулисы стояли, будто притаившиеся великаны; все это, однако ж, заняло меня одну
минуту. Если бы я был и в самом деле трус перед
безгласными существами, то, конечно, не в такое время нашла бы робость уголок в груди: я был весь ожидание,
весь пламя. Ударило два часа за полночь, и зыблющийся
колокол затих ропща, будто страж, неохотно пробужденный;
звук его потряс меня до дна души... я дрожал как в
лихорадке, а голова горела — я изнемогал, я таял. Каждый
скрип, каждый щелк кидал меня в пот и холод... и
наконец желанный миг настал: с легким шорохом отворились
двери; как тень дыма мелькнула в нее Полина... еще шаг, и
она лежала на груди моей!! Безмолвие, запечатленное долгим
поцелуем разлуки, длилось, длилось... наконец, Полина прервала его...
— Забудь,— сказала она,— что я существую, что я любила, что я люблю тебя — забудь все и прости!
— Тебя забыть!— воскликнул я.— И ты хочешь, чтобы я
разбил последнее звено утешения в чугунной цепи жизни,
которую отныне я осужден волочить подобно колоднику;
чтобы я вырвал из сердца, сгладил с памяти мысль о тебе?
Нет, этого никогда не будет! Любовь была мне жизнь и
кончится только с жизнью!
И между тем я сжимал ее в своих объятиях, между
тем адский огонь пробегал по моим жилам... Тщетно она
вырывалась, просила, умоляла; я говорил — еще, еще один
миг счастья, и я кинусь в гроб будущего!
— Еще раз прости,— наконец произнесла она твердо.—
Для тебя я забыла долг, тебе пожертвовала домашним
покоем, для тебя презрела теперь двусмысленные взоры
подруг, насмешки мужчин и угрозы мужа; неужели ты хочешь лишить меня последнего наружного блага — доброго
имени!.. Не знаю, отчего так замирает у меня сердце
и невольный трепет пролетает по мне: это страшное предчувствие!.. Но прости... уже время!
— Уже поздно!— произнес голос в дверях, растворившихся быстро. Я обомлел за Полину, я кинулся навстречу пришедшему, и рука моя уперлась в грудь его: это был
незнакомец!
— Бегите!— сказал он запыхавшись.— Бегите, вас ищут.
Ах, сударыня, какого шуму вы наделали своею неосторожностью!— примолвил он, заметив Полину,— ваш муж беснуется от ревности, рвет и мечет все, гоняясь за вами... он
близко.
ю*
291
— Он убьет меня!— вскричала Полина, упав ко мне на
руки.
— Убить не убьет, сударыня, а пожалуй, прибьет: от
него все станется, а что огласит это на весь свет, в том
нечего сомневаться. И то уж все заметили, что вы вместе исчезли, и, узнав о том, я кинулся предупредить
встречу.
— Что мне делать?— произнесла Полина, ломая руки,
и таким голосом, что он пронзил мне душу: укор, раскаяние и отчаяние отзывались в нем. Я решился!
— Полина!— отвечал я.— Жребий брошен: свет для тебя
заперт; отныне я должен быть для тебя всем, как ты была
и будешь для меня; отныне любовь твоя не будет знать
раздела: ты не будешь принадлежать двоим, не принадлежа никому. Под чужим небом найдем мы приют от преследований и предрассудков людских, а примерная жизнь искупит преступление. Полина! Время дорого...
— Вечность дороже!— возразила она, склонив голову на
сжатые руки.
— Идут, идут!— вскричал незнакомец, возвращаясь от
двери.— Мои сани стоят у заднего подъезда; если вы не
хотите погибнуть бесполезно, то ступайте за мной!
Он обоих нас схватил за руки... шаги многих особ
звучали по коридору, крик раздавался в пустой зале.
— Я твоя!— шепнула мне Полина, и мы скоро побежали
через сцену, по узенькой лесенке, вниз, к небольшой калитке. Незнакомец вел нас, как домашний: иноходец заржал,
увидев седоков. Я завернул в шубу свою, оставленную на
санях, едва дышащую Полину, впрыгнул в сани, и, когда долетел до нас треск выломленных в театре дверей, мы уже неслись во всю прыть, через село, вкруг плетней, вправо,
влево, под гору — и вот лед озера звучно затрещал от
подков и подрезей. Мороз был жестокий, но кровь моя
ходила огневым потоком. Небо яснело, но мрачно было в душе моей. Полина лежала тиха, недвижна, безмолвна. Напрасно расточал я убеждения, напрасно утешал ее словами,
что сама судьба соединила нас, что если б она осталась с мужем, то вся жизнь ее была бы сцепление
укоризн и обид!
— Я все бы снесла,— возразила она,— и снесла терпеливо, потому что была еще невинна, если не перед светом,
то перед богом; но теперь я беглянка, я заслужила свой
позор! Этого чувства не могу я затаить от самой себя,
хотя бы вдали, в чужбине я возродилась граждански, в
292
новом кругу знакомых. Все, все можешь ты обновить для
меня, все, кроме преступного сердца!
Мы мчались. Душа моя была раздавлена печалью. Так вот
то, столь желанное счастье, которого и в самых пылких
мечтах не полагал я возможным, думал я; так вот те
очаровательные слова: я твоя, которых звук мечтался мне
голосом неба! Я слышал их, я владею Полиною, и я
так глубоко несчастлив,— несчастнее, чем когда-нибудь!
Но если наши лица выражали тоску душевную, лицо
незнакомца, сидящего на беседке, обращалось на нас радостнее обыкновенного. Коварно улыбался он, будто радуясь
чужой беде, и страшно глядели его тусклые очи. Какое-то
невольное чувство отвращения удаляло меня от этого человека, который так нечаянно навязался мне со своими роковыми услугами. Если б я верил чародейству, я бы сказал,
что какое-то неизъяснимое обаяние таилось в его взорах, что
это был сам лукавый: столь злобная веселость о падении
ближнего, столь холодная, бесчувственная насмешка были
видны в чертах его бледного лица! Недалеко было до
другого берега озера; все молчали, луна задернулась радужною дымкою.
Вдруг потянул ветерок, и на нем послышали мы за собой
топот погони.
— Скорей, ради бога, скорей!— вскричал я проводнику,
укоротившему бег своего иноходца. Он вздрогнул и сердито
отвечал мне:
— Это имя, сударь, надобно бы вам было вспомнить
ранее или совсем не упоминать его.
— Погоняй!— возразил я.— Не тебе давать мне уроки.
— Доброе слово надо принять от самого черта,— отвечал он, как нарочно сдерживая своего иноходца.— Притом, сударь, в писании сказано: «Блажен, кто и скоты милует!» Надобно пожалеть и этого зверька. Я получу
свою уплату за прокат; вы будете владеть прекрасною
барыней, а что выиграет он за пот свой? Обыкновенную дачу овса? Он ведь не употребляет шампанского,
и простонародный желудок его не варит и не ценит дорогих яств, за которые двуногие не жалеют ни души, ни
тела. За что же, скажите, он надорвет себя?
— Пошел, если не хочешь, чтобы я изорвал тебя самого!— вскричал я, хватаясь за саблю. — Я скоро облегчу
сани от лишнего груза, а свет от подобного тебе бездельника!
— Не горячитесь, сударь,— хладнокровно возразил мне
293
незнакомец.— Страсть ослепляет вас, и вы становитесь несправедливы, потому что нетерпеливы. Не шутя, уверяю вас,
что иноходец выбился из сил. Посмотрите, как валит с него
пар и клубится пена, как храпит и шатается: такой тяжести
не возил он сроду. Неужели считаете вы за ничто троих
седоков... и тяжкий грех в прибавку?— примолвил он, обнажая злою усмешкой зубы.
Что мне было делать? Я чувствовал, что находился во
власти этого безнравственного злодея. Между тем мы подвигались вперед мелкою рысцою. Полина оставалась как в
забытьи: ни мои ласки, ни близкая опасность не извлекли ее
из этого отчаянного бесчувствия. Наконец, при тусклом свете
месяца мы завидели ездока, скачущего во весь опор за нами:
он понуждал коня криком и ударами. Встреча была неизбежна... и он точно настиг нас, когда мы стали подниматься
на крутой взъезд берега, обогнув обледенелую прорубь. Уже
он был близко, уже едва не схватывал нас, когда храпящая лошадь его, вскочив наверх, споткнулась и пала, придавив под собою всадника. Долго бился он под нею и наконец выскочил из-под недвижного трупа и с бешенством
кинулся к нам: это был муж Полины.
Я сказал, что я уже ненавидел этого человека, сделавшего несчастною жену свою; но я преодолел себя: я отвечал на его упреки учтиво, но твердо; на его брань кротко, но смело, и решительно сказал ему, что он во что бы ни
стало не будет более владеть Полиною; что шум только
огласит этот несчастный случай и он потеряет многое, не
возвратив ничего; что если он хочет благородного удовлетворения, я готов завтра поменяться пулями!
— Вот мое удовлетворение, низкий обольститель!—
вскричал муж ее — и занес дерзкую руку...
И теперь, когда я вспомню об этой роковой минуте,
кровь моя вспыхивает, как порох. Кто из нас не был
напитан с младенчества понятиями о неприкосновенности
дворянина, о чести человека благорожденного, о достоинстве человека? Много, много протекло с тех пор времени
по голове моей: оно охладило ее, ретивое бьется тише, но
до сих пор, со всеми философическими правилами, со всею
опытностью моею, не ручаюсь за себя, и прикосновение
ко мне перстом взорвало бы на воздух и меня, и обидчика. Вообразите ж, что стало тогда со мною, заносчивым, вспыльчивым юношею! В глазах у меня померкло,
когда удар миновал мое лицо: он не миновал моей чести!
Как лютый зверь кинулся я с саблею на безоружного
294
врага, и клинок мои погрузился трижды в его череп, прежде
чем он успел упасть на землю. Один страшный вздох, один
краткий, но пронзительный крик, одно клокотанье крови из
ран — вот все, что осталось от его жизни в одно мгновенье! Бездушный труп упал на склон берега и покатился
вниз на лед.
Еще не сытый местью, в порыве исступления, сбежал я
по кровавому следу на озеро и, опершись на саблю, склонясь над телом убитого, я жадно прислушивался к журчанию крови, которое мнилось мне признаком жизни.
Испытали ли вы жажду крови? Дай бог, чтобы никогда
не касалась она сердцам вашим; по, по несчастию, я знал
ее во многих и сам изведал на себе. Природа наказала меня неистовыми страстями, которых не могли обуздать
ни воспитание, ни навык; огненная кровь текла в жилах моих.
Долго, неимоверно долго мог я хранить хладную умеренность
в речах и поступках при обиде, но зато она исчезала мгновенно, и бешенство овладевало мною. Особенно вид пролитой крови, вместо того чтобы угасить ярость, был маслом на
огне, и я с какою-то тигровою жадностью готов был источить ее из врага каплей по капле, подобен тигру, вкусившему ненавистного напитка. Эта жажда была страшно
утолена убийством! Я уверился, что враг мой не дышит.
— Мертв!— произнес голос над ухом моим. Я поднял
голову: это был неизбежный незнакомец, с неизменною
усмешкою на лице.— Мертв!— повторил он.— Пускай же
мертвые не мешают живым,— и толкнул ногой окровав
ленный труп в полынью. Тонкая ледяная кора, подернувшая воду, звучно разбилась; струя плеснула на закрайну, и
убитый тихо пошел ко дну.
— Вот что называется: и концы в воду,— сказал со
смехом проводник мой. Я вздрогнул невольно; его адский
смех звучит еще доселе в ушах моих. Но я, вперив очи
на зеркальную поверхность полыньи, в которой при бледном
луче луны мне чудился еще лик врага, долго стоял неподвижен. Между тем незнакомец, захватывая горстями снег
с закраин льда, засыпал им кровавую стезю, по которой
скатился труп с берега, и приволок загнанную лошадь на
место схватки.
— Что ты делаешь?— спросил я его, выходя из оцепенения.
— Хороню свой клад,— отвечал он значительно.— Пусть,
295
сударь, думают, что хотят, а уличить вас будет трудно:
господин этот мог упасть с лошади, убиться и утонуть в
проруби. Придет весна — снег стает...
— И кровь убитого улетит на небо с парами!— возразил я мрачно.— Едем!
— До бога высоко, до пара далеко,— произнес незнакомец, будто вызывая на бой земное и небесное правосудие.— Однако ж ехать точно пора. Вам надобно до суматохи добраться в деревню, оттуда скакать домой на
отдохнувшей теперь тройке и потом стараться уйти за границу. Белый свет широк...
Я вспомнил о Полине и бросился к саням: она стояла
подле них на коленях, со стиснутыми руками и, казалось,
молилась. Бледна и холодна, как мрамор, была она; дикие
глаза ее стояли; на все вопросы мои отвечала она тихо:
— Кровь! На тебе кровь!
Сердце мое расторгалось... но медлить было бы гибельно. Я снова завернул ее в шубу свою, как сонное дитя, и сани полетели.
Один я бы мог вынести бремя зол, на меня ниспавшее.
Проникнутый светскою нравственностью, или, лучше сказать,
безнравственностью, еще горячий местью, еще волнуем бурными страстями, я был недоступен тогда истинному раскаянию. Убить человека, столь сильно меня обидевшего, казалось мне предосудительным только потому, что он был
безоружен: увезти чужую жену считал я в отношении к
себе только шалостью; но я чувствовал, как важно было все
это в отношении к ней — женщине, которую любил я выше
жизни, которую погубил своею любовью, потому что она
пожертвовала для меня всем, всем, что приятно сердцу и
свято душе — знакомством, родством, отечеством, доброю
славою, даже покоем совести и самым разумом!.. И
чем мог я вознаградить ее в будущем за потерянное?
Могла ли она забыть, чему была виною? Могла ли заснуть
сном безмятежным в объятьях, дымящихся убийством, найти
сладость в поцелуе, оставляющем след крови на устах, и
чьей крови? Того, с кем была она связана священными
узами брака! Под каким благотворным небом, на какой
земле гостеприимной найдет сердце преступное покой? Может быть, я бы нашел забвение всего в глубине взаимности; но могла ли слабая женщина отринуть или заглушить
совесть? Нет, нет! Мое счастье изчсзло навсегда, и самая
любовь к ней стала отныне огнем адским.
Воздух свистел мимо ушей.
296
— Куда ты везешь меня?— спросил я проводника.
— Откуда взял — на кладбище!— возразил он злобно.
Сани влетели в ограду; мы неслись, задевая за кресты,
с могилы на могилу, и наконец стали у бычачьей шкуры,
на которой совершал я гаданье; только там не было уже
прежнего товарища: все было пусто и мертво кругом —
я вздрогнул против воли.
— Что это значит?— гневно вскричал я.— Твои шутки не
у места. Вот золото за проклятые труды твои; но вези меня
в деревню, в дом.
— Я уж получил свою плату,— отвечал он злобно.—
И дом твой здесь, здесь твоя брачная постель!
С этими словами он сдернул воловью кожу: она была
растянута над свежевырытою могилой, на краю которой стояли сани.
— За такую красотку не жаль души,— примолвил он и
толкнул шаткие сани... Мы полетели вглубь стремглав.
Я ударился головою в край могилы и обеспамятел; будто
сквозь мутный сон, мне чудилось только, что я лечу ниже
и ниже, что страшный хохот в глубине отвечал стону Полины,
которая, падая, хваталась за меня, восклицая: «Пусть хоть
в аду не разлучают нас!» И наконец я упал на дно... вслед
за мной падали глыбы земли и снегу, заваливая, задушая
нас; сердце мое замлело; в ушах гремело и звучало; ужасающие свисты и завывания мне слышались; что-то тяжкое,
косматое давило грудь, врывалось в губы — и я не мог
двинуть разбитых членов, не мог поднять руки, чтобы перекреститься... Я кончался, но с неизъяснимым мучением души
и тела. Судорожным последним движением я сбросил
с себя тяготящее меня бремя: это была медвежья шуба...
«Где я? Что со мной?»— холодный пот катился по
лицу, все жилки трепетали от ужаса и усилия. Озираюсь,
припоминаю минувшее... и медленно возвращаются ко мне
чувства. Так, я на кладбище!.. Кругом склоняются кресты;
надо мной потухающий месяц; подо мной роковая воловья
шкура. Товарищ гаданья лежал ниц в глубоком усыплении...
Мало-помалу я уверился, что все виденное мною был только
сон, страшный, зловещий сон!
— «Так это сон?»— говорите вы почти с неудовольствием. Други, други! Неужели вы так развращены, что жалеете, для чего все это не сбылось на самом деле? Благодарите лучше бога, как возблагодарил его я, за сохранение
меня от преступления. Сон? Но что же иное все былое
297
наше, как не смутный сон? И ежели вы не пережили со
мной этой ночи, если не чувствовали, что я чувствовал так
живо, если не испытали мною испытанного в мечте,— это
вина моего рассказа. Все это для меня существовало,
страшно существовало, как наяву, как на деле. Это гаданье открыло мне глаза, ослепленные страстью: обманутый
муж, обольщенная супруга, разорванное, опозоренное супружество и, почему знать, может, кровавая месть мне или
от меня — вот следствие безумной любви моей!!
Я дал слово не видеть более Полины и сдержал
его.
ЕВРОПЕЙСКИЕ ПИСЬМА
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
Архимед говорил: дайте мне точку вне земли, и я сдвину
землю с ее оси. Сохрани нас боже от таковой мысли! Но
чтоб судить о современных происшествиях, нравах и вероятных их последствиях, должно мысленно перенестись в другое
время. В «Европейских письмах» мы предполагаем, рассматривая события, законы, страсти и обыкновения веков минувших, быстрым взглядом окинуть и наш век. Посему мы мысленно перенесемся в будущее: американец, гражданин северных областей, путешествует в XXVI столетии по Европе;
она уже снова одичала, и наблюдатель-странник пишет к
своему другу о прошлой славе, о прошлом величии, о прошлом просвещении.
ПИСЬМО I
Кадикс, / июля 2519 года
Наконец я здесь, в стороне, из которой перелились в нашу
часть света рабство и просвещение, убийства, грабежи,
искусства и науки, инквизиция и кроткое Христово учение,—
я в Европе.
Наше плавание было счастливо, и начальник парохода, на
котором прибыли мы в Кадикс, уверяет, что давно уже не
совершал столь успешного пути.
Вчера я представлялся старшине нашей здешней вашингтонской колонии. Он меня пригласил очень ласково и обещал
дать мне проводников во внутренность Испании, в которую
почти невозможно проникнуть, не подвергаясь величайшим
опасностям.
Дикие гверилассы, единственные обитатели сей страны,
переходят со своими стадами из долины в долину и под
предводительством отважных атаманов грабят мирных африканских купцов и путешественников. Единственное средство
предохранить себя от их разбоев: у начальника ближайшей
зоо
шайки брать провожатого, за которого вносить значительную сумму.
Я отправлюсь на следующей неделе; теперь на досуге перечитываю свои испанские и португальские книги. Более
прочих обращает на себя внимание Камоэнс и творец «Дон-
Кишота». Конечно, первый далеко отстоит от Гомера, Вергилия и некоторых эпиков золотого века российской поэзии;
он по изобретению и плану — подражатель, но оригинал по
своим смелым и диким изображениям, по своей резкой и
мрачной рисовке. Он занимателен особенно для меня потому,
что описывает Индию — край, в котором провел я молодость
свою, в котором обогатился обширнейшими познаниями и
чистою, прелестною философиею. Гордое прозрение, с которым поэт говорит об иидостанцах, показывает, что он не
мог предчувствовать будущего величия их, что он вовсе не
имел понятия о древнем их просвещении. Признаюсь, любезный друг, что суеверие и жестокость, ознаменовавшие все
предприятия испанцев и португальцев в Индии и Америке,
противоречат понятию, которое мы, в счастливый век наш,
имеем об истинной образованности. Имена Кортеца, Пизарро
и других опустошителей взвешивают имена Ласказаса, Кси-
менеса, Эмануила. Конечно, теперешние испанцы не имеют
театра, на котором представляли бы драматические произведения Калдерона и Лопеца; конечно, ни один из атаманов
их не в состоянии построить огромного Эскуриала; но в
замену у них нет теперь Торквемады, нет костров для люден
мыслящих, нет цепей для народов свободных и счастливых.
ПИСЬМО II
Древний Эскуриал, 20 июля
Заметим, что опасности и трудности в отдалении нам кажутся гораздо большими, нежели они вблизи и на самом деле.
Гверилассы, которых мне описывали такими черными красками, меня везде принимали гостеприимно и дружески,—
и я теперь живу посреди их в совершенной беспечности.
Характер их почти тот же самый, каковой был за 600 лет
перед сим. Гвериласс столько же горд, сколько предок его —
древний кастилянец. У него то же богатство в именах и
титлах: между добрыми пастухами, которых гостеприимством пользуюсь, множество грандов, дюков и графов.
Мой хозяин дон Алваро Фернандо граф де Мендора с наслаждением говорит о знатности своего рода и, не умея ни чи
301
тать, ни писать, чрезвычайно любит, когда я ему рассказываю о подвигах его предков. Иногда, забывая чины и
важность, он вскакивает, обнимает меня и говорит дочери
своей: «Донна Анжелика! Не угодно ли вам подоить нашу
корову, чтобы попотчевать этого доброго господина, который
так хорошо знает историю королей дона Карлоса и дона
Филиппа?»
Вчера я до самой полуночи бродил между развалинами Эскуриала. События минувших времен сопровождали
меня. Казалось, я видел пред собою в смутной высоте тени
коварного Фердинанда и честолюбивой Изабеллы; Карла,
который в своей душе соединял души сих великих предков
своих; ужасного Филиппа и несчастного его сына; Ксименеса,
Альбы, Дон-Жуана Австрийского. Они прошли мимо, и я не
заметил недостойных преемников их,— но век Буонапарта
пробудил меня. Испания, наводненная необузданными полчищами Мюрата, Испания в борьбе за свободу и независимость, за священные права народов — великий и назидательный пример для потомства! Холодный ветер, поднявшийся с севера, прервал мои мечтания, но я еще долго бродил, задумчивый, между развалинами и чувствовал ничтожность свою и всего земного!
ПИСЬМО V
Генуа, 3 сентября
Испания теперь за мною: я в Италии, в земле, коей
жители в отношении политическом и нравственном, без сомнения, занимали некогда первое место между народами европейского мира.
Как описать тебе, мой друг, чувства, с которыми я в
первый раз вступал на сей классический берег, на сей феатр
минувших всемирных происшествий. Тени повелителей вселенной встретили, кажется, меня у самой пристани: я видел
призраки другого могущества, другой славы, другого просвещения, я искал их развалины — и не мог найти и следа их.
Генуа, некогда князь между торговыми городами, отдавала
преимущество одной только Венеции, повелительница через
половину тысячелетня западной части Средиземного моря,
страшная и уважаемая даже до XVII столетия, ныне не
что иное, как бедная деревушка. Могли ли Дории, могли ли
Фиэско предчувствовать такой переворот судьбы?
Начало падения Генуи было открытие европейцами нашей
302
части света — Америки. Христофор Колон, или, как его обыкновенно называют, Колумб, генуэзец, первый положил основание гибели своего отечества: он исхитил у союза италийских торговых городов их исключительную торговлю с Инди-
ею и с островами Тихого океана. Но и без Колумба
Генуа, утратив свою независимость, утратила бы свое могущество, свое богатство, и без Колумба Генуа ныне, быть
может, была бы бедною деревушкою, ибо торговля и изобилие, деятельность и просвещение требуют свободы и вянут
под жесткою рукою тирании. Их можно сравнить с нежным
пухом, которым осыпаны крылья бабочки: она прельщает,
манит блеском своих цветов; безрассудный ребенок — чужеземный завоеватель — хватает ее, и в руках у него безобразное насекомое!
Меня ждет Рим, ждут развалины Августовой древности,
ждут развалины древности другой, более близкой для нас —
древности Льва X и, посреди сих останков двух периодов, из
которых один составляет давно минувшее для нас, а другой— давно минувшее для живших в первом; посреди сих
останков — обелиск, пришлец из Египта, пришлец из туманного времени баснословия, о котором сами римляне говорили с каким-то благоговейным ужасом.
Здесь почти невозможно достать итальянских книг. Чтобы
узнать словесность и политическую жизнь Италии, надобно
не выезжать из Америки. Если бы я не запасся уже в
Филадельфии лучшими творениями веков Августа и Медици-
сов, я совершенно был бы без занятия для ума и сердца.
Люблю читать Ариоста: его паладины в диких пустынях
другого мира, кажется, нашли бы Италию в таком же, а
может быть, в еще более диком состоянии, в каком ее оставили. Воскреснув, они подумали бы, что только проснулись
от богатырского сна.
ПИСЬМО VIII
Из Рима
Рим существует, между тем как города столь же богатые и
могущественные, между тем как Париж, как Лондон исчезли
с земли. Что же могло быть причиною его целости посреди общего разрушения? Слава на сей раз была хранительницею жизни, или, лучше сказать, бальзамом, употребляемым судьбою для сбережения мумии Древнего Рима.
Здесь нет собственно того, что в других городах назы
зоз
вается населением. В Риме живут одни почти приезжие
иностранцы. Они, подобно перелетным птицам, поклоняются
его развалинам, потом покидают его, чтоб уступить место
свое новым пришельцам. Между жителями сего города почти
нет ни одного, в котором бы текла кровь, не говорю уже
древних квиритов, но даже и единоплеменников Кановы и
Метастазио. Точно так в окаменелом дубе почти нет древесных частиц; он весь составлен из стихий чуждых, нанесенных тем ветром, тою бурею, которые исторгли из земли
исполина лесов, а потом развеяли прах его.
Здесь странное смешение людей всех народов и всех
земель: уроженец квебекский нанимает дом возле богатого
мандарина из Кантона. Русский торговец живет возле японского ученого, негр из Гаити дышит одним воздухом с
своим африканским единомышленником. Здесь говорят всеми
языками, кроме италиянского, но читают почти исключительно италиянские и латинские книги.
Весь день для меня здесь проходит в ученых упражнениях. Меня в особенности чрезвычайно занимают памятники римской живописи; к несчастию, они почти все более
или менее потерпели от руки времени. Альфреско все без
исключения погибли. Я до сей поры не могу понять, как
художник, влюбленный в свое искусство, мог обречь свои
произведения на неминуемую смерть, соглашаясь писать
на глине. Если бы не немецкие и английские граверы,
мы не имели бы и понятия о лучших произведениях кисти Рафаэля и Михель-Анжел о.
Храм Святого Петра хотя и в развалинах, однако же еще
живо напоминает воображению свое прежнее величие. Я
смотрел на него и днем, при полном блеске солнечных лучей,
и ночью, при тихом лунном сиянии. Признаюсь, что днем сей
пышный и тлеющий памятник зодчества делал на меня болезненное впечатление: мне казалось, что нетленная, всегда
торжествующая природа как будто издевается над ничтожным великолепием человеческим. Но ночью я был утешен:
тишина великого храма, огромные размеры его, изглаженные следы истребления — меня возвысили; все здание мне
явилось преображенным. Так, думал я, и род человеческий
в ту ночь, которая настанет после его дня, явится преображенным; все его несчастия, все мнимые разрушения утонут в
гармонии целого. Мыслящий мудрец, выходец из другого
мира, взглянет с благоговением на сие великое создание верховного строителя. Он поймет, что в жизни нашего племени не было ничего потеряно, что не было ни одного слова,
304
согретого на сердце доброго, ни одной мысли, ни одного чувства, как бы они ни скрывались глубоко в душе человека
самого забытого, которые бы не содействовали благотворительно воспитанию самых отдаленных поколений. Самые
заблуждения, самые пороки и злодеяния не были бесплодны, ибо они служили к открытию истины, ибо они доказали
людям непреложность того, что было так часто повторяемо,
но так редко чувствовано и понято,— что отступить от правил честности и добродетели — значит добровольно отказаться от счастья, что быть справедливым и быть благоразумным — все равно. Не сомневаюсь, что настанет время,
когда все народы, все правительства, все люди своими поступками постигнут, что они верят сей аксиоме; не сомневаюсь, что настанет время, когда быть порочным и быть
сумасшедшим — будет одно и тем же.
Мы уже гораздо менее злополучных предков наших удалены от сего блаженного века. Конечно, пройдут, быть может,
еще тысячелетия, пока не достигнет человечество сей высшей степени человечности. Но оно достигнет ее, или вся история не что иное, как глупая и вместе ужасная своим бессмыслием сказка!
ПИСЬМО IX
Из Рима
Читаю Тацита и благодарю бога, что между нами ныне
уже не может развиться Тацит; ибо не могут родиться Нероны и Тиберии. Как тщетны и безрассудны жалобы тех, которые грустят и горюют об отцветших украшениях веков минувших! Они забывают, что богатства прошлых столетий
не потеряны; сии сокровища живут для нас в воспоминании,
и сим именно лучшею жизнию, в таинственном тумане прошедшего; над ними плачет элегия, и они драгоценны, трогательны, святы для нашего сердца; в существенности они,
может быть, оставили бы нас холодными.
Усовершенствование — цель человечества. Пути к нему
разнообразны до бесконечности (и хвала за то провидению!).
Но человечество подвигается вперед. Окинем только быстрым взглядом разные феатры, на коих выступал человек
в века различного своего образования. Как тесен, как мал
феатр, на котором является глазам наблюдателя художественное греческое развитие ума человеческого: Аттика, Коринф, некоторые города великой Греции, Сицилии и Малой
305
Азии — и вот все! Век римского образования, подражания
греческому, но принявши силу и суровость потомков Ромула,
диких и в самом просвещении, разливается уже над гораздо
большим пространством земного шара. Холодное, часто
убийственное просвещение квиритов должно было затмиться
на время пришествием свежих, девственных сынов Севера,
чтобы принять и жизнь и пламя в их теплых душах, чтобы
распространиться над всею Европою. Наконец и европейцы
состарились: провидение отняло у них свет, но единственно для того, чтобы повелеть солнцу истины в лучшем блеске
воссиять над Азией, над Африкой, над естественною преемницей Европы — Америкою. [...]
ПИСЬМО X
Из Рима
Между европейскими народами ни один не был оклеймен
такою худою славою, как италиянцы. Скажем, однако же, что
они точно были лучше того мнения, которое о них имели их
современники. Все почти италиянцы были влюблены в прекрасное, были влюблены в славу своего отечества,— а любить прекрасное и славу не может человек, совершенно
отверженный природою. Большая часть даже величайших
извергов, которые встречаются в италиянской истории, но
встречаются равно в истории всех народов,— большая часть
из них в других обстоятельствах, вероятно, представляла
[бы] нам героев добродетели. Ибо они были злодеями, потому что имели сильные страсти, а человек с сильными
страстями необходимо должен иметь свежую душу,— в увядшем, слабом народе самые страсти вялы и малодушны, он
может быть подлецом, но великим злодеем — никогда.
Европейские путешественники обыкновенно называли
италиянцев хитрыми, вероломными, обманщиками. Они забывали, что между англичанами, французами, немцами столько же было обманщиков и клятвопреступников, сколько
между италиянцами; они забывали, что сказал славный
Винкельман, когда его в Германии однажды спросили: много ли в Италии мошенников? «Так!— сказал он.— Мне случалось видеть в Италии мошенников, но могу вас уверить, что
з Германии встречался я с честными людьми!» Италиянцы
в продолжении тысячелетия не имели бытия народного, а
без бытия народного трудно не быть коварным, хоть благородным и прямым. Италиянцы были хитры по той же при
зов
чине, по которой у всех народов, во всех веках и во всех странах земного шара женщины были и будут хитрее мужчин:
они были слабыми и угнетаемы. Несмотря на то что обыкновенно италиянцев европейские писатели обвиняли в жестокости и мстительности и из сего вообще выводили, что
они злы, я смею сказать, что, читая их историю, читая картины их нравов в их романах и народных сказках, сих верных изображениях свойств народных, я нахожу какое-то трогательное добродушие. Италиянец знает свои слабости, и
по сему самому он снисходителен к слабостям других. Он не
насмешлив, как французы, ибо знает из собственного опыта,
как больно быть предметом насмешки; он не имеет строгости немца в своих суждениях о других, ибо не забывает, что
ему самому нужно снисхождение; он и понятия не имеет о
гордости испанца, ибо гордость и обхождение с ним возмущает его более всякой обиды; холодное пренебрежение к
другим английских эгоистов одно только еще более может
ожесточить его, чем самая надменность испанца, ибо италиянец, сын пламенного неба, не в состоянии презирать — он
может или любить, или ненавидеть.
Французы — не девятнадцатого и следовавшего за ним
столетий, а осьмнадцатого и всех предшествовавших революции — могли некоторым образом называться детьми между европейскими народами, но детьми избалованными. Они
столько же были легкомысленны, сколько жестоки, столько
же опрометчивы в своих мнениях и столько же нечувствительны (ибо чувствительность истинная, неподдельная,
развивается в юношеском возрасте, в сем летнем времени
человеческой жизни).
Немцы, вечные мечтатели, вечные путешественники в области таинств и воображения, никогда в продолжение всей
своей истории не достигали зрелости, никогда не пользовались твердым, надежным гражданским благосостоянием.
Дерзкие нередко до безумия в своих предположениях и в
феориях, они всегда были робки на самом деле; они никогда не выходили из-под опеки, потому что никогда и нигде
не переставали быть юношами.
Северо-западные народы, и в особенности англичане, могли называться мужами и мужчинами между европейцами:
они жили на земле и в жизни, а не в пустых пространствах
воздуха и фантазии. Они одни только долгое время исключительно наслаждались правами граждан и человеков, но
в то же время, когда в полной мере владели всеми преимуществами мужеского возраста, сии сильные племена имели
307
и все недостатки холодной зрелости — суровость, корыстолюбие, нечувствительность.
Что же касается до италиянцев, я уже заметил, что они
в своем характере имели большое сходство с женщинами
вообще: они были страстны, как женщины, они были одарены всеми достоинствами и всеми пороками женскими. Сластолюбивы и пылки, они в то же время были постоянны в любви и дружбе; они были чувствительны нс по воображению,
но по сердцу, были готовы жертвовать всем для того, кто
умеет приобретать их всегда пламенную привязанность.
Но горе тому, кого они ненавидели! Горе ему, если он некогда
был предметом их удивления, их обожания! Они в своем мщении, в своей ревности были тиграми. Но, подобно женщинам, они медлили ненавидеть: их сердцу больно было отказаться от сладостной веры в достоинство своего любимца.
ПЕРСТЕНЬ
В деревушке, состоящей не более как из десяти дворов
(не нужно знать, какой губернии и уезда), некогда жил небогатый дворянин Дубровин. Умеренностью, хозяйством он заменял в быту своем недостаток роскоши. Сводил расходы с
приходами, любил жену и ежегодно умножающееся семейство,— словом, был счастлив; но судьба позавидовала его
счастью. Пошли неурожаи за неурожаями. Не получая почти
никакого дохода и почитая долгом помогать своим крестьянам, он вошел в большие долги. Часть его деревушки была
заложена одному скупому помещику, другую оттягивал у
него беспокойный сосед, известный ябедник. Скупому не был
он в состоянии заплатить своего долга; против дельца не мог
поддержать своего права,— конечно, бесспорного, ио скудного наличными доказательствами. Заимодавец протестовал
вексель, проситель с жаром преследовал дело, и бедному
Дубровину приходило до зареза.
Всего нужнее было заплатить долг; но где найти деньги?
Не питая никакой надежды, Дубровин решился, однако ж,
испытать все способы к спасению. Он бросился по соседям,
просил, умолял; но везде слышал тот же учтивый, а иногда
и неучтивый отказ. Он возвратился домой с раздавленным
сердцем.
Утопающий хватается за соломинку. Несмотря на свое
отчаяние, Дубровин вспомнил, что между соседями не посетил одного,— правда, ему незнакомого, но весьма богатого
помещика. Он у него не был, и тому причиною было нс одно незнакомство. Опальский (помещик, о котором идет дело)
был человек отменно странный. Имея около полутора тысяч
душ, огромный дом, великолепный сад, имея доступ ко всем
наслаждениям жизни, он ничем не пользовался. Пятнадцать
лет тому назад он приехал в свое поместье, но не заглянул
в свой богатый дом, не прошел по своему прекрасному саду,
ни о чем не расспрашивал своего управителя. Вдали от всякого жилья, среди обширного дикого леса, он поселился в
310
хижине, построенной для лесного сторожа. Управитель, без
его приказания и почти насильно, пристроил к ней две комнаты, которые с третьею, прежде существовавшею, составили его жилище. В соседстве были о нем разные толки и слухи. Многие приписывали уединенную жизнь его скупости.
В самом деле, Опальский не проживал и тридцатой части
своего годового дохода, питался самою грубою пищею и пил
одну воду; но в то же время он вовсе не занимался хозяйством, никогда не являлся на деревенские работы, никогда не
поверял своего управителя,— к счастью, отменно честного
человека. Другие довольно остроумно заключили, что, отличаясь образом жизни, он отличается и образом мыслей, и
подозревали его дерзким философом, вольнодумным естествоиспытателем, тем более что, по слухам, не занимаясь лечением, он то и дело варил неведомые травы и коренья, что
в доме его было два скелета и страшный желтый череп лежал на его столе. Мнению их противоречила его набожность:
Опальский не пропускал ни одной церковной службы и молился с особенным благоговением. Некоторые люди, и в том
числе Дубровин, думали, однако ж, что какая-нибудь горестная утрата, а может быть, и угрызения совести были причиною странной жизни Опальского.
Как бы то ни было. Дубровин решился к нему ехать.
«Прощай, Саша!— сказал он со вздохом жене своей.—
Еще раз попробую счастья»,— обнял ее и сел в телегу, запряженную тройкою.
Поместье Опальского было верстах в пятнадцати от деревушки Дубровина; часа через полтора он уже ехал лесом,
в котором жил Опальский. Дорога была узкая и усеяна
кочками и пнями. Во многих местах не проходила его тройка, и Дубровин был принужден отпрягать лошадей. Вообще
нельзя было ехать иначе, как шагом. Наконец он увидел отшельническую обитель Опальского.
Дубровин вошел. В первой комнате не было никого. Он
окинул ее глазами и удостоверился, что слухи о странном
помещике частью были справедливы. В углах стояли известные скелеты, стены были обвешаны пуками сушеных трав и
кореньев, на окнах стояли бутыли и банки с разными настоями. Некому было о нем доложить: он решился войти в
другую комнату, отворил двери и увидел пожилого человека
в изношенном халате, сидящего к нему задом и глубоко
занятого каким-то математическим вычислением.
Дубровин догадался, что это был сам хозяин. Молча стоял
он у дверей, ожидая, чтобы Опальский кончил или оставил
311
свою работу; но время проходило, Опальский не прерывал
ее. Дубровин нарочно закашлял, но кашель его не был примечен. Он шаркал ногами,— Опальский не слышал его шарканья. Бедность застенчива. Дубровин находился в самом тяжелом положении. Он думал, думал и, ни на что не решаясь,
вертел на руке своей перстень; наконец уронил его, хотел
подхватить на лету, но только подбил, и перстень, перелетев
через голову Опальского, упал на стол перед самым его
носом.
Опальский вздрогнул и вскочил с своих кресел. Он глядел
то на перстень, то на Дубровина и не говорил ни слова.
Он взял со стола перстень, с судорожным движением прижал
его к своей груди, остановив на Дубровине взор, выражавший попеременно торжество и опасение. Дубровин глядел на
него с замешательством и любопытством. Он был высокого
роста; редкие волосы покрывали его голову, коей обнаженное темя лоснилось; живой румянец покрывал его щеки;
он в одно и то же время казался моложав и старообразен.
Прошло еще несколько мгновений. Опальский опустил голову и казался погруженным в размышление; наконец сложил
руки, поднял глаза к небу; лицо его выразило глубокое
смирение, беспредельную покорность. «Господи, да будет
воля твоя!— сказал он.— Это ваш перстень,— продолжал
Опальский, обращаясь к Дубровину,— и я вам его возвращаю... Я мог бы не возвратить его... что прикажете?»
Дубровин не знал, что думать; но, собравшись с духом,
объяснил ему свою нужду, прибавя, что в нем его единственная надежда.
«Вам надобно десять тысяч,— сказал Опальский,— завтра же я вам их доставлю; что вы еще требуете?»
«Помилуйте,— вскричал восхищенный Дубровин,— что
я могу еще требовать? Вы возвращаете мне жизнь неожиданным вашим благодеянием. Как мало людей вам подобных! Жена, дети опять с хлебом; я, она до гробовой доски
будем помнить...»
«Вы ничем мне не обязаны,— прервал Опальский.— Я не
могу отказать вам ни в какой просьбе. Этот перстень (тут
лицо его снова омрачилось)... этот перстень дает вам беспредельную власть надо мною... Давно не видал я этого перстня... Он был моим... но что до этого? Ежели я вам более нс
нужен, позвольте мне докончить мою работу: завтра я к вашим услугам».
Едучи домой, Дубровин был в неописанном волненье.
Неожиданная удача, удача, спасающая его от неизбежной
312
гибели, конечно, его радовала, но некоторые слова Опальского смутили его сердце. «Что это за перстень?— думал он.—
Некогда принадлежал он Опальскому; мне подарила его
жена моя. Какие сношения были между нею и моим благодетелем? Она его знает! Зачем же всегда таила от меня это
знакомство? Когда она с ним познакомилась?» Чем он более
думал, тем он становился беспокойнее; все казалось странным и загадочным Дубровину.
«Опять отказ?— сказала бедная Александра Павловна, видя мужа своего, входящего с лицом озабоченным и
пасмурным.— Боже! Что с нами будет!» Но, не желая умножить его горести: «Утешься,— прибавила она голосом более
мирным,— бог милостив, может быть, мы получим помощь,
откуда не чаем».
«Мы счастливее, нежели ты думаешь,— сказал Дубровин.— Опальский дает десять тысяч... Все слава богу».
«Слава богу? Отчего же ты так печален?»
«Так, ничего... Ты знаешь этого Опальского?»
«Знаю, как ты, по слухам... но ради бога...»
«По слухам... только по слухам. Скажи, как достался тебе
этот перстень?»
«Что за вопросы! Мне подарила его моя приятельница
Анна Петровна Кузьмина, которую ты знаешь: что тут удивительного?»
Лицо Александры Павловны было так спокойно, голос
так свободен, что все недоумения Дубровина исчезли. Он
рассказал жене своей все подробности своего свидания с
Опальским, признался в невольной тревоге, наполнившей его
душу, и Александра Павловна, посердясь немного, с ним
помирилась. Между тем она сгорала любопытством. «Непременно напишу к Анне Петровне,— сказала она.— Какая
скрытная! Никогда не говорила мне об Опальском. Теперь поневоле признается, видя, что мы знаем уже половину тайны».
На другой день, рано поутру, Опальский сам явился к
Дубровину, вручил ему обещанные десять тысяч и на все выражения его благодарности отвечал вопросом: «Что еще прикажете?»
С этих пор Опалький каждое утро приезжал к Дубровину, и «что прикажете» было всегда его первым словом.
Благодарный Дубровин не знал, как отвечать ему, наконец
привык к этой странности и не обращал на нее внимания.
Однако ж он имел многие случаи удостовериться, что вопрос этот не был одною пустою поговоркою. Дубровин рассказал ему о своем деле, и на другой же день явился к нему
313
стряпчий и подробно осведомился о его тяжбе, сказав, что
Опальский велел ему хлопотать о ней. В самом деле, она в
скором времени была решена в пользу Дубровина.
Дубровин прогуливался однажды с женою и Опальским
по небольшому своему поместью. Они остановились у рощи
над рекою, и вид на деревни, по ней рассыпанные, на зеленый
луг, расстилающийся перед нею на необъятное пространство,
был прекрасен. «Здесь бы, по-настоящему, должно было построить дом,— сказал Дубровин,— я часто об этом думаю.
Хоромы мои плохи, кровля течет, надо строить новые, и
где же лучше?» На другое утро крестьяне Опальского
начали свозить лес на место, избранное Дубровиным, и
вскоре поднялся красивый, светлый домик, в который Дубровин перешел с своим семейством.
Не буду рассказывать, по какому именно поводу Опальский помог ему развести сад, запастись тем и другим: дело в
том, что каждое желание Дубровина было тот же час исполнено.
Опальский был как свой у Дубровиных и казался им
весьма умным и ученым человеком. Он очень любил хозяина,
но иногда выражал это чувство довольно странным образом.
Например, сжимая руку облагодетельствованному им Дубровину, он говорил ему с умилением, от которого навертывались
на глаза его слезы: «Благодарю вас, вы ко мне очень
снисходительны!»
Анна Петровна отвечала на письмо Александры Павловны. Она не понимала ее намеков, уверяла, что и во сне
не видывала никакого Опальского, что перстень был подарен ей одною из ее знакомок, которой принес его дворовый мальчик, нашедший его на дороге. Таким образом, любопытство Дубровиных осталось неудовлетворенным.
Дубровин расспрашивал об Опальском в его поместье.
Никому не было известно, где и как он провел свою молодость; знали только, что он родился в Петербурге, был
в военной службе, наконец, лишившись отца и матери, прибыл в свои поместья. Единственный крепостной служитель,
находившийся при нем, скоропостижно умер дорогою, а наемный слуга, с ним приехавший и которого он тотчас отпустил,
ничего об нем не ведал.
Народные слухи были занимательнее. Покойный приходский дьячок рассказывал жене своей, что однажды, исповедуясь в алтаре, Опальский говорил так громко, что каждое
слово до него доходило. Опальский каялся в ужасных
преступлениях, в чернокнижестве; признавался, что ему от
314
роду 450 лет, что долгая эта жизнь дана ему в наказание,
и неизвестно, когда придет минута его успокоения. Многие
другие были россказни, одни других замысловатее и нелепее, но ничто не объясняло таинственного перстня.
Беспрестанно навещаемый Опальским, Дубровин почитал
обязанностью навещать его по возможности столь же часто.
Однажды, не застав его дома (Опальский собирал травы
в окрестности), он стал перебирать лежащие на столе его
бумаги. Одна рукопись привлекла его внимание. Она содержала в себе следующую повесть:
«Антонио родился в Испании. Родители его были люди
знатные и богатые. Он был воспитан в гордости и роскоши;
жизнь могла для него быть одним долгим праздником...
Две страсти — любопытство и любовь — довели его до погибели.
Несмотря на набожность, в которой его воспитывали,
на ужас, внушаемый инквизицией (это было при Филиппе II),
рано предался он преступным изысканиям: тайно беседовал с
учеными жидами, рылся в кабалистических книгах долго,
безуспешно; наконец край завесы начал перед ним приподыматься.
Тут увидел он в первый раз донну Марию, прелестную
Марию, и позабыл свои гадания, чтобы покориться очарованию ее взоров. Она заметила любовь его и сначала
казалась благосклонною, но мало-помалу стала холоднее и
холоднее. Антонио был в отчаянии, и оно дошло до исступления, когда он уверился, что другой, а именно дон Педро
де ла Савина, владел ее сердцем. С бешенством упрекал он
Марию в ее перемене. Она отвечала одними шутками; он
удалился, но не оставил надежды обладать ею.
Он снова принялся за свои изыскания, испытывал все
порядки магических слов, испытывал все чертежи волшебные,
приобщал к показаниям ученых собственные свои догадки, и
упрямство его наконец увенчалось несчастным успехом. Однажды вечером, один в своем покое, он испытывал новую
магическую фигуру. Работа приходила к концу; он провел
уже последнюю линию: напрасно!., фигура была недействительна. Сердце его кипело досадою. С горькою внутреннею
усмешкою он увенчал фигуру свою бессмысленным своенравным знаком. Этого знака недоставало... Покой его наполнился странным жалобным свистом. Антонио поднял глаза...
Легкий прозрачный дух стоял перед ним, вперив на него
тусклые, но пронзительные свои очи.
«Чего ты хочешь?» — сказал он ему голосом тихим и
315
тонким, но от которого кровь застыла в его сердце и волосы
стали у него дыбом. Антонио колебался, но Мария предстала ему со всеми своими прелестями, с лицом приветливым, с
глазами, полными любовию... Он призвал всю свою смелость.
«Хочу быть любим Мариею»,— отвечал он голосом твердым.
«Можешь, но с условием».
Антонио задумался. «Согласен! — сказал он наконец.—
Но для меня этого мало. Хочу любви Марии, но хочу
власти и знания: тайна природы будет мне открыта?»
«Будет,— отвечал дух.— Следуй за своею тенью». Дух
исчез. Антонио встал. Тень его чернела у дверей. Двери
отворились: тень пошла,— Антонио за нею.
Антонио шел как безумный, повинуясь безмолвной своей
путеводительнице. Она привела его в глубокую уединенную
долину и внезапно слилась с ее мраком. Все было тихо,
ничто не шевелилось... Наконец земля под ним вздрогнула...
Яркие огни стали вылетать из нее одни за другими; вскоре
наполнился ими воздух: они метались около Антонио, метались миллионами; но свет их не разогнал тьмы, его окружающей. Вдруг пришли они в порядок и бесчисленными
правильными рядами окружили его на воздухе. «Готов ли
ты?» — вопросил его голос, выходящий из-под земли. «Готов»,— отвечал Антонио.
Огненная купель пред ним возникла. За нею поднялся
безобразный бес в жреческом одеянии. По правую свою
руку он увидел огромную ведьму, по левую — такого же демона.
Как описать ужасный обряд, совершенный над Антонио,
эту уродливую насмешку над священнейшим из обрядов!
Ведьма и демон занимали место кумы и кума, отрекаясь за
неофита Антонио от бога, добра и спасения; адский хохот
раздавался по временам вместо пения; страшны были знакомые слова спасения, превращенные в заклятия гибели. Голова кружилась у Антонио; наконец прежний свист раздался;
все исчезло. Антонио упал в обморок, утро возвратило
ему память, он взглянул на божий мир — глазами демона:
так он постигнул тайну природы, ужасную, бесполезную тайну; он чувствовал, что все ему ведомо и подвластно, и это
чувство было адским мучением. Он старался заглушить его,
думая о Марии.
Он увидел Марию. Глаза ее обращались к нему с любовию; шли дни, и скорый брак должен был их соединить
навеки.
Лаская Марию, Антонио не оставлял свои кабалистичес
316
кие занятия; он трудился над составлением талисмана, которым хотел укрепить свое владычество над жизнью и природой: он хотел поделиться с Марией выгодами, за которые
заплатил душевным спасением, и вылил этот перстень,
впоследствии послуживший ему наказанием, быть может легким в сравнении с его преступлениями.
Антонио подарил его Марии; он ей открыл тайную его
силу. «Отныне нахожусь я в совершенном твоем подданстве,— сказал он ей.— Как все земное, я сам подвластен
этому перстню; не употребляй во зло моей доверенности;
люби, о люби меня, моя Мария».
Напрасно. На другой же день он нашел ее сидящею рядом
с его соперником. На руке его был магический перстень.
«Что, проклятый чернокнижник,— закричал дон Педро, увидя входящего Антонио,— ты хотел разлучить меня с Марией, но попал в собственные сети. Вон отсюда! Жди меня
в передней!»
Антонио должен был повиноваться. Каким унижением
подвергнул его дон Педро! Он исполнял у него самые тяжелые рабские службы. Мария стала супругою его повелителя. Одно горестное утешение оставалось Антонио: видеть
Марию, которую любил, несмотря на ужасную ее измену.
Дон Педро это заметил. «Ты слишком заглядываешься на
жену мою,— сказал он.— Присутствие твое мне надоело: я
тебя отпускаю». Удаляясь, Антонио остановился у порога,
чтобы еще раз взглянуть на Марию. «Ты еще здесь? —
закричал дон Педро.— Ступай, ступай, не останавливайся!»
Роковые слова! Антонио пошел, но не мог уже остановиться; двадцать раз в продолжение ста пятидесяти лет
обошел он землю. Грудь его давила усталость; голод грыз его
внутренность. Антонио призывал смерть, но она была глуха
к его молениям; Антонио не умирал, и ноги его все шагали.
«Постой!» — закричал ему наконец какой-то голос. Антонио
остановился, к нему подошел молодой путешественник. «Куда ведет эта дорога?» — спросил он его, указывая направо
рукой, на которой Антонио увидел свой перстень. «Туда-
то...» — отвечал Антонио. «Благодарю»,— сказал учтиво путешественник и оставил его. Антонио отдыхал от полуторавекового похода, но скоро заметил, что положение его не
было лучше прежнего: он не мог ступить с места, на
котором остановился. Вяла трава, обнажались деревья, стыли воды, зимние снега падали на его голову, морозы сжимали воздух,— Антонио стоял неподвижно. Природа оживлялась, у ног его таял снег, цвели луга, жаркое солнце
317
палило его темя... Он стоял, мучился адскою жаждою, и
смерть не прерывала его мучения. Пятьдесят лет провел
он таким образом. Случай освобождал его от одной казни,
чтоб подвергнуть другой, тягчайшей. Наконец...»
Здесь прерывалась рукопись. Всего страннее было сходство некоторых ее подробностей с народными слухами об
Опальском. Дубровин нисколько не верил колдовству. Он
терялся в догадках. «Как я глуп,— подумал он напоследок,—
это перевод какой-нибудь из этих модных повестей, в которых
чепуху выдают за гениальное своенравие».
Он остался при этой мысли; прошло несколько месяцев.
Наконец Опальский, являвшийся ежедневно к Дубровину, нс
приехал в обыкновенное свое время. Дубровин послал его
проведать. Опальский был очень болен.
Дубровин готовился ехать к своему благодетелю, но в ту
же минуту остановилась у крыльца его повозка.
«Мария Петровна, вы ли это? — вскричала Александра
Павловна, обнимая вошедшую, довольно пожилую женщину.— Какими судьбами?»
«Еду в Москву, моя милая, и, хотя ты 70 верст в стороне,
заехала с тобой повидаться. Вот тебе дочь моя, Дашенька,—
прибавила она, указывая на пригожую девицу, вошедшую
вместе с нею.— Не узнаешь? Ты оставила ее почти ребенком.
Здравствуйте, Владимир Иванович, привел бог еще раз увидеться!»
Марья Петровна была давняя дорогая приятельница
Дубровиных. Хозяева и гости сели. Стали вспоминать старину; малу-помалу дошли и до настоящего. «Какой у вас
прекрасный дом,— сказала Марья Петровна,— вы живете
господами».— «Слава богу! — отвечала Александра Павловна.— А чуть было не пошли по миру. Спасибо этому доброму
Опальскому».— «И моему перстню»,— прибавил Владимир
Иванович. «Какому Опальскому? Какому перстню? — вскричала Марья Петровна.— Я знала одного Опальского; помню
и перстень... Да нельзя ли мне его видеть?»
Дубровин подал ей перстень. «Тот самый,— продолжала
Марья Петровна.— Перстень этот мой, я потеряла его тому
назад лет восемь... О, этот перстень напоминает мне много
проказ! Да что за чудеса были с вами?» Дубровин глядел
на нее с удивлением, но передал ей свою повесть в том
виде, в каком мы представляем ее нашим читателям. Марья
Петровна помирала со смеху.
Все объяснилось. Марья Петровна была донна Мария,
а сам Опальский, превращенный из Антона в Антонио, стра-
318
дальнем таинственной повести. Вот как было дело: полк, в
котором служил Опальский, стоял некогда в их околотке.
Марья Петровна была в то время молодой прекрасной девицей. Опальский, который тогда уже был несколько слаб
головою, увидел ее в первый раз на святках одетою испанкой, влюбился в нее и даже начинал ей нравиться, когда
она заметила, что мысли его были не совершенно здравы:
разговор о таинствах природы, сочинения Эккартсгаузена
навели Опальского на предмет его помешательства, которого
до той поры не подозревали самые его товарищи. Это
открытие было для него пагубно. Всеобщие шутки развили
несчастную наклонность его воображения; но он совершенно
лишился ума, когда заметил, что Марья Петровна благосклонно слушает одного из его сослуживцев, Петра Ивановича Савина (дон Педро де ла Савина), за которого она
потом и вышла замуж. Он решительно предался магии.
Офицеры и некоторые из соседственных дворян выдумали
непростительную шутку, описанную в рукописи: дворовый
мальчик явился духом, Опальский до известного места в самом деле следовал за своею тенью. На это употребили очень
простой способ: сзади его несли фонарь. Марья Петровна в
то время была довольно ветрена и рада случаю посмеяться.
Она согласилась притвориться в него влюбленною. Он подарил ей свой таинственный перстень; посредством его разным
образом издевались над бедным чародеем: то посылали
его верст за двадцать пешком с каким-нибудь поручением,
то заставляли простоять целый день на морозе; всего рассказывать не нужно — читатель догадается, как он пересоздал
все эти случаи своим воображением и как тяжелые минуты казались ему годами. Наконец Марья Петровна над
ним сжалилась, приказала ему выйти в отставку, ехать
в деревню и в ней жить как можно уединеннее.
«Возьмите же ваш перстень,— сказал Дубровин,— с чужого коня и среди грязи долой».— «И, батюшка, что мне
в нем?» — отвечала Марья Петровна. «Не шутите им,—
прервала Александра Павловна,— он принес нам много
счастья: может быть, и с вами будет то же».— «Я колдовству не верю, моя милая, а ежели уже на то пошло,
отдайте его Дашеньке: ее беде одно чудо поможет».
Дубровины знали, в чем было дело: Дашенька была
влюблена в одного молодого человека, тоже страстно в нее
влюбленного, но Дашенька была небогатая дворяночка, а
родные его не хотели слышать об этой свадьбе; оба равно
тосковали, а делать было нечего.
319
Тут прискакал посланный от Опальского и сказал Дубровину, что его барин желает как можно скорее его видеть.
«Каков Антон Исаич?» — спросил Дубровин. «Слава богу,—
отвечал слуга,— вчера вечером и даже сегодня утром было
очень дурно, но теперь он здоров и спокоен».
Дубровин оставил своих гостей и поехал к Опальскому.
Он нашел его лежащего в постели. Лицо его выражало
страдание, но взор был ясен. Он с чувством пожал руку
Дубровина: «Любезный Дубровин,— сказал он ему,— кончина моя приближается: мне предвещает ее внезапная ясность моих мыслей. От какого ужасного сна я проснулся!..
Вы, верно, заметили расстройство моего воображения... Благодарю вас: вы не употребили его во зло, как другие,—
вы утешили вашею дружбою бедного безумца!..— Он остановился, и заметно было, что долгая речь его утомила.—
Преступления мои велики,— продолжал он после долгого
молчания.— Так! Хотя воображение мое было расстроено, я
ведал, что я делаю: я знаю, что я продал вечное блаженство за временное... Но и мечтательные страдания мои
были велики! Их возложит на весы свои бог милосердый и
праведный».
Вошел священник, за которым было послано в то же время, как и за Дубровиным. Дубровин оставил его наедине с
Опальским.
«Он скончался,— сказал священник, выходя из комнаты,— но успел совершить обязанность христианина. Господи,
приими дух его с миром!»
Опальский умер. По истечении законного срока пересмотрели его бумаги и нашли завещание. Не имея наследников, он отдал имение свое Дубровину, то называя его по
имени, то означая его владетелем такого-то перстня; словом,
завещание было написано таким образом, что Дубровин и
владетель перстня могли иметь бесконечную тяжбу.
Дубровины и Дашенька, тогдашняя владетельница
перстня, между собой не ссорились и разделили поровну
неожиданное богатство. Дашенька вышла замуж по выбору
сердца и поселилась в соседстве Дубровиных. Оба семейства не забывают Опальского, ежегодно совершают по нем
панихиду и молят бога помиловать душу их благодетеля.
А.Ф. Вельтман
НЕ ДОМ, А ИГРУШЕЧКА!
I
Мы, люди, вообще многого не знаем, многого не видим,
что около нас делается, не ведаем всего, что на свете есть
и чего нет. Такова, верно, природа людей; в этом-то, может
быть, и заключается сущность дела: видеть и в то же время не видеть, знать и в то же время не знать. Например,
все знают, что Москва сгорела во время нашествия французов; а кто знает, что сгорело в ней кроме домов и
кроме имущества жителей? Москва отстроилась напоказ, на
славу, стала великолепнее и в то же время грустнее, скучнее,— точно как будто внутренний свет, эта беззаботная
веселость духа вылилась наружу и оставила сердце в потемках — что ему там делать? Сидит себе ни гугу. Отчего
это? Оттого, что кроме зданий и имущества погорели в Москве старинные домовые.
Как это ни странно кажется теперь, но в старину было
правдой. Старинный дедушка-домовой был не призрак, не
привидение, не гороховое пугало, а вот что: как говорится,
во время оно каждый родоначальник, укореняясь на новоселье, с каждым новым поколением принимал почетные
звания отца, деда, прадеда, прапрадеда, все жил да жил и рос
в землю; год от году все меньше и меньше и наконец
хоть снова в колыбельку. Дадут ему с ложечки молочка, он
и заснет спокойно; а вся семья ходит на цыпочках, чтоб
не потревожить дедушкина дедушку. Достигнув до возраста
семимесячного ребеночка, дедушка, проснувшись в последний раз, среди белого дня говорил: «Детушки, и на печке
стало мне холодно, оденьте-ка меня в белый балахончик,
окутайте да уложите в печурочку. Я сосну, а вы себе
живите да поживайте, не заботьтесь обо мне, а поминать
поминайте: пищи мне не нужно, только в сорочины блинков напеките да крещенской водицы поставьте. Белого дня
мне уже не вынести, а придет иное время — проснусь в ночку,
посмотрю, сладок ли сон ваш. Мирно все будет, и я буду мирен; а как постучу, так смотрите, оглядывайтесь, помните, что
322
дедушка стучит недаром. Ну, вот вам последнее слово:
держите совет и любовь».
Боясь дедушки-домового, все от старого до малого свято
исполняли его последнее слово. Им в семье хранился мир:
/Кили к старшим послушно, с равными дружно, с младшими
строго и милостиво. Ладно и весело на сердце. А чуть что
не так, дедушка стукнет, все смолкнут, оглянутся — дедушка,
дескать, стучит недаром. Стерегись.
Бывало, деревянный дом, а стоит-стоит — и веку нет; стены напитаются человеческим духом, окаменеют; вся крыша
прорастет мохом — гниль не берет.
То были времена, а теперь другие: и теперь есть домовой — да внутри нас; тоже заголосит подчас, да про глухого тетерева. Вот в чем беда.
До нашествия французов много было еще таких домов,
со старинными домовыми, а после того, сколько мне по крайней мере известно, только два, по соседству, рядышком.
Старинные дома были как-то не то, что теперешние.
Старинные дома были гораздо хуже, и сравнения нет, да
в старинных домах были такие теплые углы, такие ловкие,
удобные, насиженные места, что сядешь — и не хочется
встать. Про печки и говорить нечего: печки были как избушки на курьих ножках, с припечками, с печурками, с лежанками; и на печке, и за печкой, и под печкой — везде
житье, а теплынь-теплынь какая! И домовому был приют.
То были времена, а теперь другие. Бывало, все в полночь
спит мертвым сном. Не спалось, бывало, только тому, чей
день был грешен. Зато он и наберется страху от грозы
домового, заклянется от греха: век, говорит, не буду! И теперь тоже говорят: век не буду, да по пословице —«день
мой, век мой» — с наступлением зари нового века принимаются за старые грехи, а пугнуть некому: старинных домовых нет, и внутренний голос осип.
Один из старинных, упомянутых нами домиков, в которых водились еще дедушки-домовые, принадлежал одной старушке. Это было чудо, не просто старушка, а молодая
старушка; зато дедушка-домовой и лелеял ее сон, ходил
на цыпочках и, как домовой «Чуровой долины», вместо обычной возни наигрывал на гуслях и распевал любовные песни.
Дедушка в самом деле был влюблен в нее, как домовой
«Чуровой долины» в княжну Зорю. И был прав: при неизмен-
чивости душевной красоты и наружная не вянет, по крайней мере в памяти. У старушки неизменны были и ангельская улыбка, и приятный взор. Морщинки как будто еще
II*
323
украшали ее личико; недостаток зубков как будто придавал
нежность речам: ведь выпадают же у детей молочные зубы,
и это нисколько их не портит; а добрая старость тоже
младенчество.
У старушки был внучек Порфирий. Она так любила его,
нежила и берегла, что даже в комнате для предостережения от простуды он ходил в чепчике и грудка его сверх
курточки обвязана была большим платком. Так как по старому обычаю молодой человек лет до 20 считался ребенком,
то и старушка смотрела на внучка своего, как на дитя, хотя
ему было уже около 18 лет. Он и в самом деле был
премилый ребенок, и, когда летом сидел в мезонине у открытого окна, в чепчике и бабушкином платке, чтоб не пахнул ветерок на грудку, проходящие и проезжающие современные
юноши заглядывались на него, воображая, что это сидит в
тереме красная девушка. Не хуже красной девушки он потуплял глаза свои от нескромных взоров.
Старинный дом по соседству был как родной брат дому
старушки — и также с мезонином, которого боковое окно обращалось к соседу, но стекла от времени сделались перламутровыми.
Соседский дом принадлежал старичку, больному, дряхлому, мнительному и капризному и от лет и от бед, которые
он перенес в жизни. У него оставалось одно утешение —
внучка Сашенька, ребенок-душка, каких мало. При Сашеньке
была старая няня, а при самом старичке старый Борис,
дряхлее своего господина, который по ночам, во время бессонницы, заговаривался уже с домовым.
В продолжение дня старик сидел в глубоких креслах,
обложенный подушками, тяжело дышал от удушья и, посматривая на внучку, которая играла подле него куколками
из тряпочек, все бормотал что-то про себя. Иногда и разговорится: няня свернет Сашеньке новую куколку, внучка подбежит к дедушке и похвастается своей куколкой: «Дедушка,
куколка!»
— А! Куколка? — скажет старик.— Хорошо... вот постой... я куплю тебе настоящую куклу...
— Да только все обещает дедушка,— отвечает вместо
Сашеньки няня.
— А вот... будет хорошая погода... так мы и поедем в
город...— скажет старик, посматривая в окно сквозь тусклые
стекла летних и зимних рам.— Видишь, какая пасмурная
погода...
— Бог с вами, какая пасмурная,— скажет няня,— если
324
уж эта пасмурная, так светлой-то нам и не дождаться.
— Сырость в воздухе,— проговорил старик,— это я чувствую по себе... так и душит...
Во время ночей старик мается на постели и также все
бормочет:
— Совсем сна нет... вить уж скоро, чай, заутреня?
Заутреня скоро!.. О-хо-хо!
— Ого,— ответит домовой, повернувшись за печкой с
боку на бок.
— Смотри пожалуй... где это стучат? Чу, стучит... а?
— Ага! — отзовется домовой.
Старик начнет прислушиваться, потом кликнет сонного
Бориса и спросит:
— Где это стучит?
— Нигде не стучит.
— Что-о?
— Нигде не стучит,— крикнет Борис на ухо.
— Что ж это... в голове, стало быть, стучит?..
И старик снова начинает прислушиваться, где стучит: в
голове или вне головы. А Борис, уходя, бормочет себе
под нос: «Стучит! Черт, домовой стучит, прости господи!»
Ляжет, а домовой и начнет его душить за ложь и брань.
II
Так проходили годы. Сашенька подрастала, старик дряхлел и час от часу становился мнительнее и боязливее за
внучку. Соблазн ему представился во всем ужасе. Припоминая свою храбрую молодость, он знал, что девушка в 15 лет
как кудель: стоит только бросить огненный взор — и загорелась. Не доверяя и глазу старой няни, он без себя не
стал отпускать Сашеньку даже в церковь. Напрасно няня
представляла ему, что это великий грех.
— Когда ж вы соберетесь-то сами? — говорила она ему.
— А вот... погода будет получше... поедем в соборы... в
соборы поедем... покуда дома помолимся... все равно...
— Нет, не все равно! Грех!
— Ну, ну, ну, ты дура... По-вашему, не грех женихов
выглядывать!..
— Что ж такое? А по-вашему как? По-нашему, дай
бы бог, чтобы нашелся женишок Александре Васильевне,—
отвечала няня с сердцем.
Старик пришел в ужас.
— Молчи!.. Дура!.. Я прогоню тебя! — вскричал он.—
325
Видишь, что говорит!.. Научит еще ребенка под окном сидеть, напоказ!.. Окон на улицу у меня ни под каким видом
не отворять!.. Слышишь? А не то заколочу! Я тебя заколочу и окна заколочу!
— Слава тебе господи, дослужилась до доброго слова! —
проговорила няня, залившись слезами.
Тревожное опасение за внучку день ото дня увеличивалось. Только и думы у старика: как бы скрыть свое сокровище от обаяния какого-нибудь чародея.
«Где ж усмотришь за девочкой,— думал он,— выглянет
на улицу — и беда! Вон, эво, так и шныряют проклятые
ястребы — нет ли в окне добычи».
Подозрительный глаз старика так и преследовал всех
молодых людей, проходящих по улице. Как назло ему,
большая часть останавливалась, чтоб посмотреть на два
старинных домика. В самом деле, после 12-го года они одни
красовались посреди пожарища и казались такими завидными для всех погоревших, что, проходя мимо, каждый останавливался и восклицал: «Смотри пожалуй, кругом все обгорело, а эти чертовы избушки стоят себе как будто бы ни
в чем не бывало!.. Ей-богу, на удивление!» Но вскоре все
соседство как будто разбогатело после пожара — вместо деревянных домов выстроило себе каменные палаты, и снова все
прохожие, вместо умилительного взгляда на почтенную древность, восклицали: «Смотри пожалуй, две чертовы избушки
втесались между каменных палат! Ей-богу, на удивление!»
Эти остановки проходящих и любопытство взглянуть на
обросшие зеленым мохом домики мнительный старик понимал
по-своему.
— Ох, эти мне,— бормотал он про себя,— глазом не
видят, так чутьем слышат.
Долго придумывая, как бы охранить внучку от соблазна,
старик наконец ухитрился.
— Постой, погоди, молодцы,— сказал он,— я вас проведу
мимо двора щей хлебать!..
И тотчас же, несмотря ни на горе покорной внучки,
ни на слезы и ропот ее няни, приказал обстричь под гребешок прекрасные волосы Сашеньки. Потом велел Борису
вынуть из сундука все старое платье и принести к себе.
Притащив груду рухляди, Борис, кряхтя, сложил ее
перед стариком и, казалось, начал приподнимать по очереди
слежавшиеся дружно тени нескольких поколений огромного
некогда семейства. Память о далеком прошедшем ожила перед двумя стариками, но барин думал о своем.
326
— Тут должна быть курточка Кононушки! — сказал он.
— Где ж тут курточка? — отвечал Борис, перебирая и
рассматривая мужские и женские платья прошедшего столетия,— Это не курточка!
— Покажи-ко: какая ж это курточка, это камзол дедушкин.
— Эка,— проговорил Борис со вздохом,— носить бы да
еще носить!.. Бархат-то? А?.. Это робронт!.. Кажись, покойницы матушки... Дай бог ей царство небесное.
— Покажи-ко. Какая ж это курточка?..
— Какая ж курточка, кто говорит... кафтан-то ваш... а?
Шитье-то какое!.. Кажись, Пелагея-то Васильевна своими
руками вышивала... материал-то! Не то что теперь!..
— Не матерчатая, а суконная, я тебе говорю!..
— Суконная? Так бы вы и сказали... Какая ж суконная?..
Вот суконный-то ваш мундир весь моль съела...
— Как моль съела? Покажи-ко.
— Словно решето.
— И Кононушкину курточку-то моль съела?..
— А бог ее знает: вот ведь тут ее нету... Разве в другом
сундуке.
После долгих поисков курточка была найдена. Старик
обрадовался, ' призвал Сашеньку и велел ей надеть, а на
шейку повязать платочек.
— Для чего же это, дедушка? — спросила она.
— Для чего! Ты у меня будешь амазонка... Посмотрись-
ко в зеркало... хорошо? Ты у меня будешь амазонка...
— Да что ж это, для чего ж это, сударь, нарядили так
барышню-то?
— А для того, что я так хочу. Ты, дура, не знаешь
ничего, так и молчи. Немножко широка... сошьем новенькую,
поуже, к празднику... так и ходи. Ты у меня будешь амазонка, в амазонском платье.
— Вы говорили, дедушка, что в амазонском платье верхом ездят... Помните, проехали верхом какие-то дамы?.. Вы
будете меня учить верхом ездить?
— Верхом!.. Видишь ты какая!.. Погоди... вот подрастешь, лет через десяток... а теперь и так хорошо... и под
окошко сядешь... не простудишься... а то грудь и шея открытые... не годится...
Распорядившись таким образом, старик успокоился, рад
выдумке. Сядет подле окна, посадит подле себя внучку и
насмехается в душе над проходящею молодежью.
— Да, смотрите, смотрите!.. Каков у меня внучек? Хорош
327
мальчик? А?.. Что ж не смотрите? Это, верно, не девочка?
Такой же небось юбошник, как вы?.. Да! Как же, так и есть!..
Нет! Милости просим мимо двора щей хлебать!..
Ill
Заколдованная дедушкой от всех глаз, которые ищут
предметов любви, долго Сашенька была еще беспечным
ребенком, которого занимали сказки няни, птички, цветы и
даже порхающая бабочка в садике. Но вдруг что-то стало
грустно ей на сердце, чего-то ей как будто недостает,
время от утра до вечера что-то тянется слишком долго:
сидеть с дедушкой скучно, рассказы няни надоели, все бы
сидела одна у окошечка да смотрела на улицу — нет ли там
чего-нибудь повеселее?
— Нянюшка, отчего это мне все скучно? — говорит она
няне.
— Отчего же тебе скучно, барышня? — отвечает ей няня.
— Сама не знаю.
— Оттого, верно, тебе скучно, что подружки нет у тебя.
— Подружки? — проговорила Сашенька призадумавшись.— Где ж взять ее, няня?
— А где ж взять? Откуда накличешь?
«Накликать»,— подумала Сашенька, когда няня вышла,
и она стала накликать заунывным голосом под напев сказки
про Аленушку:
Подруженька, голубушка,
Душа моя, поди ко мне;
Тоска-печаль томят меня.
Вдруг показалось ей, что голос ее как будто отзывается
где-то. Она прислушалась: точно, кто-то напевает в соседском дому.
Сашенька приотворила боковое окно, взглянула, вспыхнула, сердце так и заколотило.
— Ах, какая хорошенькая! — проговорила сама себе Сашенька.— Вот бы мне подружка!
И долго-долго смотрела она стыдливо сквозь приотворенное окно на Порфирия, который также разгорелся, устремив
на нее взоры, и думал: «Ах, какой славный мальчик! Вот
бы нам вместе играть!»
«Я поклонюсь ей»,— подумала Сашенька, но вошла няня,
и, как будто боясь открыть ей свою находку подружки,
захлопнула окно.
328
На дворе стало смеркаться, а няня сидит себе да вяжет
чулок. Так и вечер прошел. Легли спать; а Сашеньке не спится, ждет не дождется утра.
Настало утро. Надо умыться, богу помолиться, идти
к дедушке поздороваться, пить с ним чай, слушать его
рассказы, а на душе тоска смертная.
— Не хочется, дедушка, чаю.
— Куда же ты? Сиди.
Ах, горе какое! Сашенька с места, а дедушка
опять:
— Куда ж ты?
— Сейчас приду, дедушка.
Сашенька наверх, в свою комнату, а там няня вяжет
чулок.
Так и прошло время до обеда; а тут обед. А дедушка
кушает медленно, а после обеда, покуда заснет — сиди, не
ходи.
Господи! Что это за мука!
Но вот дедушка уснул. Няня вышла посидеть со старым
Борисом за ворота. Сашенька одна; приотворила тихонько
окно, тихонько запела: «Подруженька, голубушка», но никто
не отзовется, в соседском доме окно закрыто.
Ах, какое горе!
Прошел еще день. Сидит грустная Сашенька подле няни,
призадумавшись. Вдруг послышался напев ее песни, сердце
так и екнуло.
— Ну, уж хорошо как-то там курныкает, нечего сказать! — проговорила няня.
— Нянюшка, пить хочется.
— Ну что ж, испей, сударыня.
— Мне не хочется квасу, мне хочется воды.
— Э-эх, ведь вниз идти надо!
— Пожалуйста!
— Ну, ну, ладно.
Няня вышла — а Сашенька к окну. Приотворила —
глядь, ей поклонились.
— Здравствуйте! — сказал Порфирий.
— Здравствуйте! — произнесла и Сашенька.
Они посмотрели друг на друга умильно и не знали, что
еще сказать друг другу.
— Приходите к нам,— сказал наконец Порфирий.
— Нет, вы приходите к нам; меня не пускают из дому,—
отвечала тихо Сашенька.
— Экие какие!
329
Этим разговор и кончился; послышались шаги няни,
Сашенька захлопнула окно.
На следующий день Порфирий целое утро курныкал
песенку под окном. Сашенька все слышала, с болью сжималось у ней сердце от нетерпения, покуда дрожащая рука
ее не отворила снова окна с боязнью.
— Здравствуйте!
— Здравствуйте!
— Послушайте... выходите в садик!
— В садик? Ну, хорошо.
— Поскорей.
— Ну, хорошо.
Порфирий притворил окно. Сашенька также и побежала
в садик.
— Здравствуйте, сударыня-барышня,— сказал ей Борис,
беседовавший с няней на крыльце.
— Здравствуй, Борис,— отвечала ему Сашенька.
— Куда вы, барышня? — спросила ее няня.
— В садик.
— Посмотрите-ка, сударыня-барышня, какую я вам дерновую скамеечку сделал под липой-то, извольте-ка посмотреть.
И Борис потащился следом за Сашенькой.
Ах, какая досада!
— Вот, видите ли, барышня... Извольте-ка присесть.
— Спасибо тебе.
— Кому ж и угождать мне, как не вам, барышня: вы
у нас такое нещечко... Дай вам господи доброго здравия
да женишка хорошенького.
— Ах, полно, Борис,— проговорила Сашенька, покраснев,— ступай себе.
— Ничего, сударыня-барышня, что тут стыднова...
В соседском садике послышалось курныканье Порфирия.
«Ах, какой этот несносный Борис»,— подумала Сашенька.
— Ничего, сударыня-барышня... да и красавицы-то такой
не сыщем... и дедушка-то не нарадуется на вас... Скупенек
немножко, бог с ним. Вас бы не так надо было водить...
в золоте бы водить, барышня, да не все дома держать... чтоб
женишки...
— Ступай, Борис, оставь меня.
Экие вы какие! Я ведь к слову сказал... Вот, сударыня-барышня, попросите-ка у дедушки на сапоги мне...
Извольте посмотреть, совсем развалились.
ззо
— Хорошо, хорошо, я попрошу.
— Извольте посмотреть: пальцы вылезли.
— Хорошо, хорошо, ступай.
— Да, вот оно: у солдата купил, три рубля заплатил... солдатские-то, говорят, крепче...
Сашенька от нетерпения и досады вскочила с дерновой
скамьи и пошла прочь от Бориса.
— Что ж вы, барышня, не изволите сидеть? Дерн-то
какой славный.
И Борне начал поглаживать скамью и обирать с дерна
желтую и завядшую травку.
Между тем Сашенька прошла подле забора.
— Здравствуйте,— раздалось в скважинку за кустами
малины.
— Здравствуйте,— тихо проговорила и Сашенька, остановись и оглядываясь, не смотрит ли на нее Борис.
— Как я вас люблю,— сказал Порфирий.
— Ах, как и я вас люблю... Если бы мы были всегда
вместе!
— Барышня, а барышня, где вы, сударыня? Чай кушать
зовут,— крикнул Борис.
— О боже мой, какая скука,— проговорила Сашенька.
— Приходите после,— шепнул Порфирий.
— После? Хорошо.
И Сашенька побежала домой.
После чаю она двинулась было с места, но дедушка
усадил ее подле себя перебирать старые письма.
— О господи, когда ж после? — проговорила Сашенька
про себя, почти сквозь слезы.
Старик ужинал рано; хотелось ему спать или не хотелось,
но он ложился в постель в определенное время. А тут,
как нарочно, сидит себе да раздобарывает1 с внучкой и с
ее няней, потешается, что у них глаза липнут. Рассказывает себе про житье-бытье своего дедушки, какой у него был
полный дом, какой сад, какое именье, какое богатство,
великолепие и этикет. Призванный Борис, как живая выноска примечаний к рассказу, стоял у дверей, заложив руки
назад, и по вызову барина подтверждал его рассказ.
— Помнишь, Борис? А?
— Как же, сударь, не помнить...
— А гулянье-то было по озеру, с роговой музыкой, в
именины покойной бабушки Лизаветы Кирилловны... Вот,
надо рассказать...
1 Растабарывает, болтает.— Примеч. автора.
331
— Никак нет-с, батюшка: это было не в именины, а как
раз в день рождения ее превосходительства... Как раз,
сударь, в день рожденья.
— Как в день рожденья?.. Постой-ка, врешь!
— Да как же, батюшка, именины-то ее превосходительства, покойной Лизаветы Кирилловны, дай бог ей царство
небесное, когда были? В октябре, сударь?
— Да, да, да!.. Экая память!..
— Дедушка, мне спать хочется,— проговорила Сашенька, зевая и привстав с места.
— Спать? А отчего ж мне не хочется? А?
— Не знаю, дедушка.
— То-то, не знаю, а я знаю. Это потому, что дедушка
любит внучку и ему приятно провести с ней время.
— Да что ж, сударь, пора ночь делить,— проговорила
и старая няня, зевая.
— Ты дура, ты все потакаешь ребенку! Пошли! Спите!
Дедушка рассердился. Сашенька и няня, потупив глаза,
молчали и ни с места.
И дедушка молчит, сурово нахмурился. И это гневное
молчание тянулось обыкновенно до тех пор, покуда не вытянет душу.
Сашенька прослезилась, но утерла слезку: дедушка не
любит слез.
— Ну, ступайте спать,— сказал наконец дедушка смягченным голосом, довольный, что дал урок в терпении.
Сашенька простилась с ним, побежала наверх, бросилась в постелю и залилась слезами. В первый раз почувствовала она тяготу на сердце, в первый раз воля дедушки
показалась ей невыносимой. Ей так и хотелось броситься
в окно, чтоб хоть умереть на свободе.
Няня, уговаривая Сашеньку, что грех так огорчаться,
раздела ее и легла спать. Но у бедной девушки не сон
в голове: душа взволнована, сердце бьется, в комнате душно;
так бы и дохнула свежим воздухом.
— Когда же после? — повторяла Сашенька.— Когда мне
было после прийти?.. Ах, как голова болит!.. Пойду в
сад...
И она обулась, надела капотик, прислушалась, спит
ли няня, осторожно отворила дверь и вышла. Сени запирались задвижкой. Из сеней два шага до садика. Ночь
светлая, прекрасная. Только что она подошла к липе, под
которой старый Борис устроил ей дерновую скамью, вдруг
что-то зашевелилось.
332
Сашенька затрепетала от страха.
— Это вы? — тихо проговорил Порфирий, бросаясь к ней
из-за куста и схватив ее за руку.
Сашенька долго не могла перевести духу.
— Чего ж вы испугались?
— Так, что-то страшно,— проговорила Сашенька.
— Страшно? Отчего?
— Так.
— А я ждал-ждал, ждал-ждал.
Держа друг друга за руку, они присели на дерновую
скамью и долго молча всматривались друг в друга с каким-то
радостным чувством.
— Ах, как хорошо мне с вами! — сказал Порфирий.
— Ах, и мне как хорошо! — произнесла Сашенька, приклонясь на плечо Порфирия.
Высвободив руку из бабушкина салопа, который был
на нем, он обнял Сашеньку, приложил свою щеку к ее
горячему лицу и поцеловал ее.
— Ах, если б всякий день нам быть вместе!
— Дедушка меня никуда не пускает,— сказала Сашенька вздохнув.
— Экой какой! И меня бабушка никуда без себя не
пускает.
— Экая какая!
— Да, ей-богу, это скучно!.. Вот с вами как бы мне
весело было.
— И мне,— произнесла тихо Сашенька.
И они обнялись.
— Как вас зовут?
— Сашенькой. А вас?
— Меня зовут Порфирием.
— Как же это так? Такой святой нет у дедушки в календаре,— сказала Сашенька, которая и по дедушкину календарю, и по напоминанью няни знала наизусть всех святых и все праздники.
— Как нет? — отвечал Порфирий.— Нет есть; у бабушки
в святцах есть. Мои именины 26 февраля, в день святого
отца Порфирия архиепископа. И дедушка у меня был Порфирий.
— Мужское имя!
— А какое же? Что я, девушка, что ли? Я не девушка.
— Ах, боже мой! — вскрикнула с невольным чувством
испуга Сашенька, отклоняясь вдруг от плеча Порфирия.
— Что такое? Чего вы испугались? — спросил Порфи
ззз
рий, осматриваясь кругом,— Какие вы боязливые... Не бойтесь!
— Пустите,— проговорила Сашенька.
— Куда, Сашенька? Нет, не уходи, пожалуйста!
— Пустите, пустите! — проговорила Сашенька, и, вырвавшись из рук Порфирия, она быстро побежала вон из
саду.
— Сашенька! Дружок! Послушай! — крикнул вслед ей
Порфирий. Но Сашенька уже дома, испуганная, взволнованная.
IV
На другой день няня, удивляясь, что барышня заспалась, вошла в ее комнату. Сашенька, вместо спокойного
сна, лежала в какой-то болезненной забывчивости, лицо
ее горит, дыхание тяжко.
Няня перепугалась; не горячка ли, подумала она. Но
Сашенька очнулась, и пылкий жар лица заменила вдруг
бледность, живой взор стал томен, и все она как будто
чего-то ищет и не находит. Когда в мезонине соседнего
дома раздается напев ее песни, Сашеньку бросит в огонь; как
испуганная, она вскочит с места и не знает, куда ей идти.
Так прошло несколько времени. А между тем старушка,
бабушка Порфирия, отдала богу душу. Она водила его с собою только в храм божий да к своим старым знакомым
обвязанного, окутанного. Теперь он свободен, хозяин дома,
а располагать собою не умеет, его понятия обо всем —
еще детские понятия.
Привычка к безусловной покорности бабушке передала
его в распоряжение дядьке Семену и бабушкиной ключнице
Дарье. Старая Дарья видела в нем еще ребенка и хотела
водить его как ребенка, по обычаю бабушки; но Семен
твердил ему по-свойски:
— Что вы, сударь, бабитесь, стыдно! И то бабушка-то
вас продержала в пеленках, покуда все невесты ваши замуж
повышли!
Слова Семена быстро подействовали на молодого человека, и он приосанился, как будто вдруг подрос. С потерею детских чувств исчезло в нем и страстное желание
познакомиться с хорошеньким соседом. Он перестал напевать
заунывную песенку Сашеньки.
По завещанию бабушки ему следовало навестить одного
из дальних родственников, который обещался определить его
334
на службу. Вот Порфирий и собрался к нему. Семен, сходив
за извозчиком, начал одевать своего молоденького барина
и, по обычаю, разговаривать сам с собою:
— Эка, ей-богу, кажется, живые люди, а похлопотать
о похоронах некому.
— О каких похоронах? — спросил Порфирий.
— Да вот в соседском доме старик-то умер, а кругом-то
его кто? Молоденькая барышня-внучка, да дура старая баба,
да старый хрен слуга; туда же в гроб глядит.
— Где это, где? В каком соседском доме?
— Да вот рядом, через забор. Что за внучка-то, что
за девочка, ах ты господи!
— Тут рядом? С мезонином-то? Какая же внучка? У этого
старика молоденький внук.
— Вот! Я своими глазами видел барышню. Что это за раскрасавица такая!.. Плачет!..
— Семен, пойдем посмотрим,— прервал Порфирий,—
сделай милость, пойдем!
— Да пойдемте, пойдем, отчего ж не сходить. Оно, по
соседству, следовало бы и помочь в чем-нибудь. Барышня-то
молодая, а кругом-то ее что?
Порфирий схватил шляпу и побежал. Семен за ним, на
соседний двор.
Сквозь толпу гробовщиков, стоявших в передней, трудно
уже было пробраться. Ни в одном роде торговли нет такого
соперничества и перебою. Старый Борис, отирая слезу, бранился с ними.
— Что, брат, что просят? — спросил его Семен.
— Пятьсот рублей за гроб! Мошенники!
— Не за гроб, сударь, а за покрышку, дроги и мало ли
что.
— Ты молчи, воронье чутье! Барин только что заболел,
а уж эта рыжая борода приходил сюда рекомендоваться!
И имя узнал! Прошу, говорит, Борис Гаврилыч, не оставить
своими милостями: барин умрет, так уж мы, говорит, поставим знатный гроб, и покрышку, и все что следует... Ах ты,
чертова пасть! Пошел вон!
Между тем как Семен помог старому Борису уладить
торг насчет длинного ящика, Порфирий вошел в комнату, где
лежал покойник. Он не обратил внимания ни на покойника, ни
на толпу любопытных, вымерявших глазами длину умершего;
все внимание его вдруг поглотилось наружностию девушки в
черном платье, которая стояла подле стола, приклонясь на
плечо старой женщины. Слезы катились из ее глаз.
335
Сердце Порфирия забилось как будто от испуга. Он не
верил глазам своим: лицо так знакомо, это Сашенька... Нет, это, верно, его сестра... Она нежнее, белее его,
у ней чернее глазки, думал он. И взор его оцепенел на
ней.
— Барышне-то дурно, водицы надо... постой, я принесу,—
сказал какой-то неизвестный человек с растрепанными волосами, в стареньком сюртучишке, пробираясь в другую комнату.
— Куда! — крикнула няня.— О господи, и присмотреть-
то некому!.. Постойте, барышня...
И она бросилась за заботливым незнакомцем.
Сашенька пошатнулась от порыва няни. Порфирий успел
ее поддержать. Она взглянула на него, и все чувства ее
как будто замерли, голова приклонилась к плечу молодого человека.
— Не троньте! Извольте идти отсюда! А не то закричу! —
раздался голос няни из другой комнаты.
— Что ж... я ничего... я прислужиться хотел... водицы
подать...— говорил, пошатываясь, неизвестный, выходя из
дверей.
— Вишь, нашел водицу на гвозде! Пошли-те вон отсюда!
— Что ж... пойду... Я вашему же покойнику поклониться хотел... последний долг отдать...
— Да, да, знаем мы вас! — продолжала няня.— Спасибо, батюшка, что поддержал барышню мою,— сказала
она Порфирию.
— Позвольте мне принять участие в вашем горе и помочь вам распорядиться, — сказал Порфирий Сашеньке,
когда она очнулась и стыдливо отклонилась от него к
няне.
— А вы кто такой, батюшка? — спросила няня.
— Я сосед ваш. Если угодно, я и мой человек к вашим
услугам... Вы можете положиться.
— Да вот бы надо было послать кого-нибудь на кладбище, заказать могилу.
— Я сам съезжу,— вызвался Порфирий и, поручив Семена в распоряжение Сашеньки, отправился на кладбище.
Приехав на ниву божью, он долго ходил между могил,
не встречая никого, покуда не увидел выходящего из ворот
дома старика священника.
— Где мне, батюшка, отыскать тут могильщиков? —
спросил его Порфирий.
336
— Что вам, могилку, что ли? — сказал священник.
— Да, батюшка, не знаю, к кому обратиться.
— Могилку? Хорошо, хорошо, доброе дело, мы очень
рады, пойдемте... Чай, выберете место, а то у нас и готовые
есть.
— Это все равно, я думаю.
— Все равно: здесь славные места, славные места! Сухие,
грунт песчаный... Эй! Ферапонт!.. Где ты?
— Здесь,— отозвался могильщик из глубины могилы,
которую он рыл.
— Что, это заказная или так, на случай? — спросил священник.
— Заказная.
— Так вот и господину-то выройте могилку.
— Ладно. Младенцу, верно?
— Нет, старику,— отвечал Порфирий.
— Так бы уж и говорили. Ладно.
Заказав могилку, Порфирий отправился назад. Истомленная бессонными ночами во время болезни дедушки, Сашенька заснула. Но за нес было уже кому хлопотать.
Порфирий обо всем озаботился и, провожая покойника, шел рядом с его внучкой. Когда опустили гроб в
могилу, Сашенька, почти без чувств, упала к нему на
руки.
— Это, верно, жених ее,— говорили в толпе народа,
собравшегося около могилы,— вот парочка.
И Порфирий и Сашенька это слышали.
Порфирий проводил ее до дому и хотел проститься.
— Куда ж вы? — сказала она ему.
Порфирий вошел в дом.
Сели и молчат, боятся даже смотреть друг на друга.
Посидев немного, Порфирий встал.
— Куда же вы? — повторила Сашенька.
— Вы утомились, вам надо отдохнуть.
— Когда же вы к нам будете?
— Если только позволите...— проговорил несвязно смущенный Порфирий.
На следующий же день он явился к соседке узнать
об ее здоровье.
На этот раз она была разговорчивее, Порфирий смелее.
Слово «здравствуйте» напомнило и ему и ей первое
сладостное ощущение сердца. Они произнесли его, и оба
вспыхнули.
337
Няне ужасно как понравился скромный молодой человек.
«Вот бы парочек барышне»,— думала и она.
— Уж если б вы видели, Порфирий Александрович,
как покойник наряжал барышню — смех, да и только! Совсем не по-девичьему! Мальчик, да и только.
«Да, не видал!» — подумали в одно время и Порфирий
и Сашенька, взглянув друг на друга и невольно улыбнувшись.
— Это амазонское платье я носила, нянюшка,— сказала
Сашенька,— ко мне оно лучше шло. В чепчике хуже.
Порфирий вспыхнул. Опа заметила это, поняла, что
некстати упомянула о чепчике, и, также покраснев, опустила
глаза и замолчала.
— Я вас и принял за мужчину,— сказал Порфирий,
оставшись наедине с Сашенькой.
— А я думала, что вы девушка.
Порфирий рассказал ей, как бабушка берегла его от
простуды и рядила в чепчик, платок.
— Я хоть бы опять надеть чепчик,— прибавил он.
— Ах боже мой, для чего это?
— Так... вам нравилось.
— Ах, нисколько, так гораздо лучше,— опрометчиво
вскрикнула Сашенька.
— Тогда вы мне сказали...— начал было Порфирий с
простодушною откровенностию сердца, но вспомнил испуг
Сашеньки и замолчал.
Сашенька, казалось, также все припомнила, покраснела
и потупила глаза.
Но, верно, в самой природе женщины есть хит¬
рость.
— Что ж я вам сказала? — спросила она, не поднимая
взоров.
— Вы сказали... «Если б мы были всегда вместе»,—
произнес тихо Порфирий.
Сашенька снова вспыхнула и, стыдясь своего смущения,
закрыла лицо руками.
V
Первая любовь пуглива, как вольная птичка; много,
много проходит времени, покуда она сделается «ручною».
Природа ведет себя необыкновенно как умно, стройно и
338
отчетливо. Порфирий был свободен, Сашенька также; за
ними ничей глаз не присматривал, ничье ухо их не подслушивало, чувства так и влекли их друг к другу; а между тем
самый строгий, ревнивый к благочестию присмотр не упрекнул бы их ни в чем. Казалось бы, им опасно сидеть вместе
на дерновой скамье, под липой; сладкое воспоминание первого поцелуя должно бы было взволновать их чувства, давало
право на полную откровенность; напротив: тут-то чувства их
и становились боязливее. И это продолжалось до тех пор,
покуда любовь взросла, созрела на сердце и вдруг в одно
утро расцвела, как махровая роза. И в глазах, и в выражении голоса явилась какая-то особенная нежность. Все
в них стало ясно друг для друга, они взглянули один
на другого и обнялись.
— Помните, я сказал: как я вас люблю! — прошептал
Порфирий.
— Помню!
— А вы сказали: ах, как и я вас люблю; если б мы были
всегда вместе! Помните?
— Помню, помню!
Казалось бы, это блаженное мгновение надо было продлить, скрыть от всех свое счастье, но Сашенька вскрикнула
опять: пустите! И, вырвавшись из объятий Порфирия, побежала вон из комнаты.
— Куда вы? Чего вы испугались?— и Порфирий вообразил, что Сашенька опять так же испугалась чего-то, как в
первый раз в садике.
Но Сашенька побежала поделиться своим счастьем с
няней.
Порфирий задумался, сердце его сжалось, вдруг слышит
голос Сашеньки: «Пойдем, пойдем скорее».
И, притащив няню за руку, она вскричала:
— Смотри, нянюшка!
И бросилась на шею к Порфирию.
— Ах вы, баловники, греховодники!— вскричала няня,
всплеснув руками и качая головою.
Вырвавшись снова из объятий Порфирия, Сашенька бросилась на шею к няне и задушила ее поцелуями.
— Ну, ну, ну, пошла от меня, бесстыдница! Пошла к
своему любезному на шею! Вот погоди, поп-то вас обвенчает, а посаженый-то отец плетку даст на тебя.
Начались сборы к свадьбе.
Природа очень умно взлелеяла любовь в юноше и
в девушке, решила взаимное желание их быть и жить
339
вместе; но не дело природы было решать, где им жить.
Кажется, все равно, где бы им жить, лишь бы жить
вместе. Но, верно, не все равно: покуда длились сборы к
свадьбе, между женихом и невестой зашел спор: в котором
доме им жить? Сашеньке хотелось непременно жить в доме
Порфирия, потому что это был дом Порфирия; а Порфирию — в доме Сашеньки, потому что это был дом Сашеньки.
— Я продам свой дом,— сказал Порфирий,— мы будем
жить в твоем доме.
— Ах нет, ни за что! — вскричала Сашенька.— Мы будем жить в твоем доме; лучше мой продать.
— Ах нет, ни за что!— сказал в свою очередь Порфирий.
Мне твой лучше нравится.
— А мне твой.
И вышел спор из самого чистого доказательства взаимной нежности. Ни Сашенька, ни Порфирий нс хотят уступить
один другому в том чувстве.
— Тебе хочется все по-своему делать,— проговорила Сашенька, надувшись,— если ты свой дом продашь, то я продам
свой!..
— Посмотрим!— подумал Порфирий, вспыхнув. Его затронул упрек.
Взволнованное сердце Сашеньки скоро улеглось. Она подошла к Порфирию, но он отвернулся от нее.
Новая искра огорчения. Сашенька отошла от Порфирия,
села в угол, закрыла лицо руками и задумалась сквозь
слезы: он не любит меня!..
— Сашенька,— сказал Порфирий, взглянув на нее. И он
бросился к ней.
— Подите прочь от меня!— проговорила Сашенька.
Обиженное чувство снова возмутилось. Порфирий не перенес его, взял шляпу; мысли его были в каком-то тумане. Он
пришел домой.
Там, как на беду, его ждал уже покупщик дома. Решившись продать дом, Порфирий поручил это Семену, который и
сам то же советовал ему.
— Вот, сударь, извольте получить деньги,— сказал Семен, входя с каким-то мещанином, — я решил дело.
Мещанин отсчитал деньги, положил их на стол перед Порфирием и поднес ему подписать бумагу.
— Да что ж вы, сударь, подписываете, не считая,— сказал Семен.
— Как раз тысяча двести серебром, так-с?
340
— Так,— отвечал Порфирий, перевертывая ассигнации
без внимания.
На другой день поутру тот же покупщик явился в соседний дом, к Сашеньке.
— Я, сударыня,— сказал он ей,— купил у вашего соседа
дом, да место маленько. Не продадите ли и вы свой? А я бы
хорошие дал бы деньги.
— Он продал дом свой!— вскричала Сашенька.
— Что ж, он хорошо сделал, барышня,— сказала няня.—
Он и мне говорил, и я советовала ему продать. А нам-то уж
продавать не к чему: насиженное гнездо, и вы привыкли, и я.
Дал бы бог и умереть в нем...
— Он продал,— повторила Сашенька.
— Продал мне, сударыня. Дрянной домишко; признательно сказать, пообмишулился я, дал четыре тысячи двести,
а теперь не знаю, что и делать. Продайте, сударыня! За ваш
дом пять тысяч.
— Да, видишь, какой! Пять тысяч! Барышня, а барышня, пожалуйте-ка сюда,— сказала няня торопливо,
вызывая Сашеньку в другую комнату,— продавайте, барышня!
— Да, я продам, непременно продам!— проговорила Сашенька с обиженным чувством.
— Продавайте! Дедушка-то заплатил всего две тысячи
за него, за новый!.. Пять тысяч дает! Да уж вы не мешайтесь, оставайтесь здесь: шесть возьму!..
— Продавай! Я не хочу в нем жить,— проговорила со
слезами на глазах Сашенька.
— Пять тысяч капитал, а мы квартерку найдем рубликов
за двести, так без хлопот будет.
И няня вышла к покупщику.
— Пять тысяч не деньги, любезный,— сказала она ему,—
барышня и не подумает отдать за эту цену... Шесть, если
хочешь.
— Как можно! Да уже так, дом-то мне понадобился:
двести набавлю.
— И не говори!
— Пять тысяч пятьсот угодно? А нет, так просим прощенья,— сказал мещанин, обращаясь к двери.
— Ну, погоди, спрошу барышню.
Дело уже было решено, дом продан, задаток взят, пришел Порфирий.
— Здравствуйте,— проговорил он тихо, как виноватый,
подходя к Сашеньке.
341
— Здравствуйте,— отвечала она ему, не поднимая
глаз.
— Ты на меня сердишься, Сашенька,— сказал Порфирии
после долгого молчания.
— Сержусь,— отвечала Сашенька.
— За что ж?
— Я вас просила, вы не послушались, вы продали свои
дом.
— Он очень стар: на него на починку надо было издержать, Семен говорит, тысячу рублей...— начал Порфирий
в оправдание себя.— Я и нянюшке говорил, и она советовала мне продать, а жить в вашем...
— А я по совету нянюшки продала свой,— сказала Сашенька.
— Продали!
— Продала.
— Ну, если так...— проговорил Порфирий.
— Куда вы?
— Мне надо идти нанимать квартиру,— отвечал он и бросился вон.
— Порфирий!— хотела вскрикнуть Сашенька, но голос ее
замер.
VI
Покупщик двух домов распорядился умнее Порфирия
и Сашеньки: соединил оба дома пристройкой, подвел под
одну крышу, и вот, не прошло месяца, из двух старых домиков вышел один новый, превеселенький дом: обшит тесом,
выкрашен серенькой краской, ставни зеленые, на воротах:
«дом мещанки такой-то», «свободен от постоя» и в дополнение: «продается и внаймы отдается».
Один бедный чиновник, но у которого была богатая молодая жена, тотчас же купил его на имя жены и переехал
в него жить. Но в доме нет житья.
Покуда домики были врозь, все было в них, по обычаю,
мирно и тихо и на чердаке, и на потолке, и за печками, и в подполье; ни стены не трещали, ни мебель не лопалась, ни мыши
не возились. Но едва домики соединились в один, только
что чиновник с чиновницей переехали и, налюбовавшись на
свое новоселье, легли опочивать, рассуждая друг с другом,
что необыкновенно как дешево, за двадцать-за-пять тысяч
купили новый дом, с иголочки, вдруг слышат в самую ПОЛ
342
ночь: поднялись грохот, треск, стук, страшная возня в земле,
по потолку точно громовые тучи ходят, то в одну сторону дома, то в другую.
Молодые с испугу перебудили людей.
— Э-эх, почивали бы лучше в полночь-то, так и не
слыхали бы ничего,— сказала кухарка, которая всегда
крепко спала в законный час, а во время дня только дремала.
Но старик дворник, выслушав рассказ господ, качнул
головой и решил, что дело худо: верно, домовому не понравились жильцы!
— Ах ты старая баба!— сказала кухарка.
— Я ни за что не останусь здесь жить!— вскричала перепуганная молодая хозяйка.— Ни за что!
И на другой же день муж ее выставил на воротах: «отдается внаем»— и тотчас же по требованию жены должен был
нанять квартиру и переехать.
Вскоре один барин, проезжая мимо, остановился, прочел: «продается и внаймы отдается, о цене спросить у дворника», осмотрел дом и решил нанять.
— Так ты сходи же к хозяину, узнай о последней цене,—
сказал он, давая дворнику на водку.— Ввечеру я заеду.
— Слушаю, слушаю,— отвечал дворник.
Ввечеру он опять приехал.
Это был Павел Воинович.
— Ну что?
— Да что,— отвечал дворник, который успел уже клюкнуть на данные ему деньги и не мог ничего таить на душе.—
Я вот что вам доложу, дом славный, нечего сказать... славный дом...
— Да что?
— А вот что: кто трусливого десятка, тому не приходится здесь жить.
— Отчего?
— Отчего? А вот отчего: я по совести скажу... тут водятся домовые.
— Э?
— Право, ей-богу! По ночам покою нет.
— А днем?— спросил Павел Воинович.
— Днем что: днем ничего, только по ночам.
— Так это и прекрасно,— сказал барин,— я не сплю по
ночам, я сплю днем, так ни я домовых, ни домовые не будут
меня беспокоить.
343
— Э? Разве? Да оно и правда, что у господ-то все так...
Ну, если так, так что ж, с богом... другой похулки на дом
нельзя дать... хоть у самого хозяина спросите, он сам то
же скажет.
Таким образом, несмотря на предостережение дворника,
барин нанял дом, переехал. На первый же день новоселья
пригласил он пять-шесть человек добрых приятелей к обеду
и в ожидании гостей, похаживая себе с трубкой в руках и в
халате и в туфлях, посматривал, так ли накрывают люди на
стол, полон ли погребок, во льду ли шампанское, греется ли
лафит, все ли в порядке. Гости-приятели съехались. Обед на
славу, вино как слеза.
Присутствовавший тут же поэт, подняв бокал, возгласил:
Я люблю вечерний пир,
Где веселье председатель,
А свобода, мой кумир,
За столом законодатель,
Где до утра слово пей!
Заглушает крики песен,
Где просторен круг гостей,
А кружок бутылок тесен.
— Ну, извини, любезный друг, до утра у меня пить нельзя,— сказал хозяин,— невозможно!
— Это отчего? Это почему?
— А вот почему: этот дом я нанял у самого дедушки-домового с условием, чтобы ночь я проводил где угодно, только
не дома. А так как скоро полночь, то я отправляюсь в Английский клуб. Вы видите, господа, что причина законная.
Извините.
Пушкин захохотал, по обычаю, а за ним захохотали и все.
Но хозяин сказал серьезно, что он не шутя это говорит, и в
доказательство крикнул: «Эй! Одеваться скорее!»
На этот барский крик никто не отозвался: оказалось,
что в передней и в людской — ни души. Люди, уверенные,
что господа занялись делом, пошли справлять новоселье.
— Ну, нечего делать, оденусь сам,— сказал Павел Войнович,— но на кого же оставить дом?
— А домовой-то,— крикнул Пушкин.
Эй, дедушко! ты не засни!
По-своему распорядися с вором,
Ходи вокруг двора дозором
И все, как следует, храни!
344
— Ха, ха, ха, ха!
— Ага!— раздалось с обеих сторон дома.
— Слышишь? Отозвался,— сказал поэт,— теперь можно
отправляться спокойно. Слышали, господа?
— Слышали, слышали!
— Если слышали, так можно отправляться,— сказал
хозяин.
И все отправились.
Только что господа со двора, а люди на двор пришли, смиренно присели в передней, как будто нигде не
бывали, моргают глазами, думают, господа забавляются
себе.
— Чай, до утра просидят? А?
— Фу, как спать хочется!..
— Ну, здоров пить!..
— Вот это что, так ли пыот... да я...
— Тс! черт ты! ревет!
— Что, ничего.
Только что эту беседу в передней заменило всхрапыванье
и свист носом, вдруг в комнатах поднялись стук, треск, возня.
— Вася! Слышишь?
— А?
— Что это, брат, господа-то передрались, что ли? А?
— Что?
— Господа-то... слышишь, как возятся?
— А бог с ними!
— Ну, и то.
И Вася и Петр задремали.
А между тем в дому как будто ломка идет.
Верь не верь, а вот произошла какая история. Мы уже
сказали, что в обоих старых домиках было по домовому. Они
преспокойно жили себе за печками и, видя, что все в порядке,
хозяева благочестивы, лежали себе, перевертываясь с боку на
бок. Когда Порфирий и Сашенька продали домики, пристройка и соединение их под одну крышу потревожили домовых, но они еще довольны были, воображая, что идет
починка накатов и крыши. Только что постройка кончилась
и чиновник, купив новенький дом с иголочки, переехал на
новоселье, домовой Сашенькина домика, с левой стороны,
приподнялся в полночь осмотреть, по-прежнему ли все в
порядке.
«Хм, чем-то пахнет»,—подумал он, выходя в пристроенную между домиками залу.
345
Домовой с правой стороны точно таким же образом отправился по дому дозором.
«Э-э-э! Вот тебе раз!— подумал он, прислушиваясь.—
Это что?..»
Только что он вышел в залу, вдруг что-то стукнуло его в
лоб.
— Кто тут? — гукнул он.
— Кто тут? — отозвалось над его ухом.
— А?
— А?
— Кто тут?
— Хозяин.
— А-а-а! Как хозяин? Я хозяин.
— Нет, я хозяин.
— Как —ты хозяин?
— Так, я хозяин.
— Нет, я хозяин! Вон!
— Вон? Сам вон!
Слово за слово, схватились, подняли такую возню, такой
стук, грохот, что никак невозможно было чиновнику, и особенно жене его, не испугаться до смерти и не выбраться поскорей из дому.
VII
Каждую ночь домовые поднимали возню и драку на
чья возьмет; но ничья не брала. То же было и в первую
ночь, когда барин, нанявший дом, отправился со своими гостями в клуб.
Стало уже рассветать, когда он возвратился домой; но
что-то не весел, ему нездоровилось. Ночь не спал, и день не
спится. Послал за Федором Даниловичем.
— Что?
— Нездоровится.
— Э* Понимаю.
И Федор Данилович прописал что-то успокоительное.
— Это порошки?
— Порошки; принимать через час.
— Очень кстати! Я бы теперь принял лучше деньги.
— Это, конечно, лучше,— сказал Федор Данилович, отправляясь к другим пациентам.
346
Барин протосковал вечер; настала ночь, и он, (не> исполняя условия с домовым, лег спать и против обыкновения
заснул.
На правой половине дома, где был дом старушки, бабушки Порфирия, барин устроил свой кабинет, а вместе и
спальню. Тут же за печкой жил и домовой. Только что настала полночь, он встрепенулся, как петух со сна, и собрался с новым ожесточением на бой с соперником. Вдруг слышит, кто-то всхрапнул.
— Это кто?
И домовой подкрался к спящему, приложил ухо к голове.
— Ух, какая горячая голова!— проговорил он, отступив
от постели.
— Идет!— крикнул барин во сне, так что домовой вздрогнул и на цыпочках выбрался вон из комнаты.
— А? Ты еще здесь? — гукнул домовой с левой половины, столкнувшись с ним в дверях.
— А ты еще не выбрался вон?— сказал, стукнув зубами,
домовой с правой половины, вцепясь в соперника.
Пошла пыль столбом. Возили, возили друг друга—уморились.
— Слушай: ступай вон добром!
— Ступай вон, как хочешь, добром или не добром, мне
все равно.
— Слушай: домов много.
— Много, выбирай себе.
— Ты выбирай, я постарше тебя.
— Это откуда... я и сам счет потерял годам.
— Нс считай по годам, а мерь по бородам.
— У меня обгорела в 12-м году.
— Слушай, пойдем на мир.
— На мир так на мир. Давай мне дом с богатым убранством, со всеми угодьями, дом теплый, сухой, да чтоб в доме
ни одной человеческой души не жило, чтоб дом был про меня
одного, про дедушку-домового: я знать никого не хочу! Чтоб
дом был игрушечка, а не дом.
— Видишь! Смотри, какой дом придумал: про тебя одного. А кто такой дом будет про тебя строить?
— Не мое дело.
— Молоденек надувать.
— Ну, как знаешь.
— Постой, подумаю.
— Подумай.
347
— Подумаю,— повторил сам себе домовой с правой стороны,— подумаю, нет ли такой хитрости на свете.
Воротился за печку и стал думать; не лежится; вылез,
ходит по комнате да твердит вслух: «Хм! Игрушечка, а не
дом! Игрушечка, а не дом!»
— Что?— проговорил барин во сне.
— Построить дом, чтоб был игрушечка, а не дом!— отвечал дедушка-домовой, занятый своей мыслью п продолжая
ходить из угла в угол.
— Игрушечка, а не дом,— затвердил и барин во сне,—
игрушечка, а не дом!
Ночь прошла, домовой ничего не выдумал, а барин встал
с постели, закурил трубку, велел подавать чай и начал ходить, как домовой, задумавшись и повторяя время от времени:
— Игрушечка, а не дом!.. Что за глупая мысль пришла мне в голову, ничем не выживешь — построить в самом деле игрушечку, а не дом?.. А что ты думаешь? Построю!
Продолжая ходить по комнате, курить трубку за трубкой и рассуждая сам с собою о постройке не простого
дома, а игрушечки, барин выведен был из этой думы докладом человека, что пришли из магазинов за деньгами.
— Ах, канальи! Я им велел вчера приходить?— крикнул барин.— Мошенники! Просто ждать не будут!.. Надо
им еще что-нибудь заказывать... Кто там?
— Да там фортопьянный мастер, мебельщик, из хрустального магазина, да и еще из каких-то магазинов.
— Позови фортепьянного мастера.
Немец вошел.
— За деньгами?
Немец поклонился.
— Отчего ты вчера не пришел? А?— прикрикнул барин.
— Все равно,— отвечал немец.
— Нет, не все равно! Вчера был день, а сегодня другой...
Ну, слушай, вот еще что мне нужно: можно сделать вот
такой маленький рояль, в седьмую долю против настоящего?
— Хм! Игрушка? Я игрушка не делаю,— отвечал немец.
— Нет, не игрушка, а настоящее фортепьяно, в эту ме-
РУ-
— Это что ж такое?
348
— Ay меня есть такой маленький виртуоз, карлик,—
ему играть... Можно?
— Хм! Можна, отчево не можна, все можна за деньги
делать.
— Так. пожалуйста, сделай... В седьмую долю...
— В седьмая доля? Хорошо. Только эта будет стоить то
же, что настоящая рояль.
— О цене я ни слова,— сказал барин,— только сделай, а
потом мы и сочтемся.
— Хм,— произнес, углубившись сам в себя, немец, которого заняла уже тщеславная мысль сделать крошечный
рояль на славу.—Das ist ein kurioses Werk!1—сказал он,
выходя и забыв о деньгах.
Вслед за ним явился мебельный мастер, потом приказчик из хрустального магазина. Одному заказал барин роскошную мебель рококо, в седьмую меру против настоящей,
другому в ту же меру — всю посуду, весь сервиз, графины, рюмки, форменные бутылки для всех возможных
вин.
Таким образом началась стройка и меблировка игрушечки, а не дома. Знакомый живописец взялся поставить картинную галерею произведений лучших художников. На ножевой фабрике заказаны были приборы, на полотняной —
столовое белье, меднику — посуду для кухни,— словом, все
художники и ремесленники, фабриканты и заводчики получили от барина заказы на снаряжение и обстановку богатого боярского дома в седьмую долю против обычной
меры.
Барин не жалел, не щадил денег.
Вот и готов не дом, а игрушка. Стоит чуть ли не дороже
настоящего; остается, по обычаю, только застраховать да
заложить в Опекунский совет.
Барин и призадумался об этом.
— Странная вещь,— говорил он сам себе,— князь
Василий построил же гораздо глупее игрушечку, а не дом, в
котором жить нельзя; его приняли в залог, а мой, я уверен,
что не примут. А между тем закладывать дом необходимо:
в старину закладывали до постройки, а теперь очень умно
и расчетливо закладывают после постройки. Нельзя не закладывать!
Ну и забавная же работа! (Нем.)
349
VIII
Во все время, когда игрушечка, а не дом строился и
снаряжался, дедушка-домовой с правой стороны был вне
себя от радости и по ночам ходил вокруг него и потирал
руки.
«Вот оно,— думал он,— как ухитрился свет-то... Барин
этот должен быть колдун: только что я показался, тотчас
узнал; только что задумался, как бы ухитриться, а он в угоду мне и выдумал!..»
— Ну, будет дом по твоему вкусу,— говорил дедушка-
домовой с правой стороны своему сопернику.
— Посмотрим,— отвечал тот.
— Увидишь,— говорил этот.
— Ну, ладно, покажи.
— Постой, не готов.
— Э, лжешь!
— Верь, право слово!
— Ну, смотри.
Прошло еще несколько времени до совершенного окончания и отделки домика. Дедушка нетерпеливо похаживает
и сам дивится, как люди-то ухитрились.
— Истинно игрушечка, а не дом! Ну, надул же я
его!
Наконец дом совершенно готов, дом на семи четвертях состоит из великолепного салона и столовой — она же
и бильярдная. Салон — пол парке1, обои шелковые, мебель
роскошная — люстры, лампы, канделябры, зеркала, картины, рояль, словом, все.
— Ну, пойдем!— сказал домовой с правой стороны домовому с левой и привел его в кабинет. Барина, по обычаю,
не было дома. Ночь светлая; месяц отразился в окно на
лаковом парке домика, на бронзе, на мебели: светло, как
днем.
— Ну, где же?
— А вот, полезай за мной.
— Да это стол.
— Полезай!.. Ну, видишь? Что?
— Постой, борода зацепила... А-а-а-а!— проговорил с
удивлением домовой с левой стороны, входя в резные золоченые двери салона.
— Что? А?
Паркетный.— Примеч. автора.
350
— Да! Ах какая бесподобная вещь! Что твоя печурка!
И домовой присел на кресла, потом на диванчик, потом
прилег на подушку, шитую синелью по буфмуслину.
— Ну, спасибо. А это что? Гусли?.. А? Славная вещь!..
Вот будет мне житье... роскошь! Не то что за печкой...
«В самом деле роскошь...— подумал дедушка с правой
стороны.— Жаль и уступить... право, жаль!..»
— Бесподобно! Ай спасибо!— продолжал дедушка с левой стороны, растянувшись на диване.— Так уж ты владей
всем домом, живи за которой хочешь печкой, а я уж здесь
и расположусь...
— Э, нот, погоди еще: ты видишь, что в доме еще и
печей нет.
— В самом деле, печей нет, как же это забыли печи
выложить?
— Без печей нельзя... зима настанет, замерзнешь.
— Нельзя, нельзя; да скоро ли их сложат?
Уверив соперника, что к зиме сложат непременно, хитрый домовой спровадил его, а сам залег на диванчик и начал потягиваться и расправлять кости.
— Нет, приятель, извини: не видать тебе как ушей этого
домика, я сам в нем буду жить... Как же это я прежде об этом
не подумал? Какое спокойствие, удобства какие!.. Все как
по мне делано... и зеркала какие... и все... фу, как люди-то
ухитрились... Это что в засмоленных бутылках, постой-
ка?..
И домовой отыскал между посудой и приборами штопор
в меру, раскупорил бутылку шампанского.
— Мед!.. Мед-то какой! Фу, как люди-то ухитрились!..
Буль-буль-буль... выпил всю бутылку и заморгал глазами,
прилег на диван и заснул.
А между тем и барин, построив не дом, а игрушечку,
тотчас же, по современному обычаю строителей, заложил его.
Поутру пришли за ним и понесли на носилках к заимодавцу.
В полночь очнулся домовой. Что за стук такой? Что
за гам? Что за свет колет глаза? Взглянул — и ужаснулся.
Народу тьма, музыка гудит; какие-то пестрые шуты и
шутихи шаркают, ходят, кривляются, кричат, бормочут что-
то не по-русски —страшный содом! От яркого света потемнело в глазах у домового, запрятал голову в подушку, свернулся клубком, лежит — чуть дышит.
351
Так прошло несколько дней. Измучился: ни дня, ни
ночи покою. И днем свет, и ночью свет. Но наконец выдалась одна темная ночка; прислушался — кругом все тихо;
присмотрелся — никого нет. Вылез из домика, побрел на
цыпочках по комнатам... искать печки. Ходил-ходил — нет
печки в целом доме.
«О-хо-хо! Куда это я попал!..»— подумал дедушка.
Вдруг почуял он запах печки, откуда-то несет теплом.
Глядь — труба.
— Что за чудеса такие? Бывало, трубы проводят наружу,
а теперь внутрь.
Влез в трубу, полз-полз, смотрит — печь, преогромная
печь посреди сырого подвала.
Что было делать? Погрустил-погрустил, подумал: «Не
рыть было другому ямы, сам в нее попадешь», да и прилег, с горем, в печурке привилегированной амосовской
печи.
IX
Между тем, помните, Порфирий, вспылив на Сашеньку,
ушел нанимать квартиру, нанял и переехал.
Дня три дулся он и не хотел показываться невесте на
глаза. Наконец не выдержал: грустно стало, отправился к
ней, подошел к дому и ужаснулся. И его дом, и дом Сашеньки стояли уже без крыш, огорожены по улице общим
забором.
— Братцы,— спросил он у плотников, пробравшись по
наваленному лесу на двор,— не знаете ли, куда переехала
из этого дома барышня?
— Барышня? А кто ж ее знает,— отвечал один плотник,
потачивая свой топор на камне.
— У кого б узнать?
— А у кого ж узнать? Кто знает? А?
— А кто ж ее знает, разве у соседей спросить,— отвечали прочие.
У Порфирия облилось сердце кровью. Долго ходил он около дома, добивался у соседей, куда переехала Сашенька:
никто не знает. Пошел вдоль по улице, выспрашивает у
ворот каждого дома: не переехала ли сюда такая-то барышня? Нет, не переезжала. Обошел все переулки — ни слуху
ни духу.
В отчаянии Порфирий. День прошел, другой прошел —
352
ищет, а следа нет. Избегал всю Москву; дворники гоняют его
из края в край своими догадками.
— Барышня? Молоденькая? Так! У нее женщина? Ну
так, переезжала, да не понравилась квартира, так она вчера
съехала на Разгуляй... как раз против бань.
Порфирий бежит на Разгуляй.
— Барышня? Вчера? Переехала.
— Где же она тут живет?
— А вот ступайте за мной.
И угодливый дворник ведет Порфирия в мезонин, постучал в дверь.
— Кто там? — раздался голос.
Порфирий вздрогнул.
— Вас спрашивают,— крикнул дворник.
Дверь отворилась, вышла девушка, взглянула на Порфирия с улыбкой довольствия.
— Пожалуйте!
Порфирий, вообразив, что нашел Сашеньку, бросился
в двери.
— Здесь Александра Васильевна? — спросил он, смутясь, у вышедшей из другой комнаты женщины.
— Александра Васильевна? Не знаю, жила, может быть,
а теперь мы здесь живем... Пожалуйте, садитесь, прошу
быть знакомым.
— Извините,— сказал Порфирий,— я тороплюсь...
И он выбежал из мезонина с тяжким вздохом обманутой надежды.
«Куда ж я пойду теперь?.. Где я ее найду?..» — думал
Порфирий, повесив голову, в совершенном отчаянии, и шел
бессознательно к бывшему своему дому.
Взглянув на новый дом, который стоял уже на месте двух
стареньких, Порфирий вздрогнул, прислонился напротив его
к забору и стоит как опьянелый.
— Не придет ли и Сашенька взглянуть на бывшее свое
пепелище?
Но уже смеркалось, а ее нет.
— Ах, барин, барин, что с вами сделалось? — говорит
ему Семен, качая головой.
— Ищи ее, Семен,— отвечает ему Порфирий и идет
снова на поиск, справляется по спискам жителей в частях:
в списках нет.
Походит-походит и снова придет к дому: не придет ли
и Сашенька взглянуть, что сталось с ее домиком!
Однажды, прислонясь к забору, Порфирий закрыл лицо
12 Заказ 14 353
и стоял как над могилой. Вдруг раздался подле него громкий
голос:
— Порфирий! Порфирий!
Он оглянулся, Сашенька бросилась ему на шею.
— Ах, счастье! — вскричал Порфирий, обнимая ее.—
Теперь ни шагу от меня!
— Ах, несчастье! — проговорила, рыдая, Сашенька.
— Что с тобой? Что это значит?
— Я погибла! Я замужем!
Порфирий помертвел.
— Я думала, что ты забыл, оставил меня, и вышла с
горя замуж.
Сашенька залилась горькими слезами.
Порфирий стоял безмолвно, смотрел в землю.
— Барышня, барышня, Александра Васильевна, матушка, пойдемте, беда будет! — сказала испуганная няня Сашеньки, приблизясь и узнав Порфирия.
— Порфирий! — повторяла Сашенька, приклонясь на
грудь его.
— Сударыня, люди идут! — крикнула няня, схватив за
руку Сашеньку.
— Порфирий! Прощай! — проговорила Сашенька.
Няня увлекла ее. Порфирий замер.
х
Спустя несколько месяцев известный уже нам барин,
нанимавший дом, составившийся из двух старых, сидел
однажды, по обычаю, против окна, с трубкой и стаканом
чаю.
В эту минуту он смотрел во внутренность себя, но глаза
его были устремлены на улицу. Казалось, что он рассматривает архитектуру дома и забора, обонпол1 улицы.
Барин был близорук, и потому все проходящие казались
ему движущимися пятнами. Но вот несколько уже дней
сряду обратило его внимание постоянное пятно против забору, которое двигалось на одном месте.
Это его побеспокоило: «Это уже не наружный предмет,
это, должно быть, что-нибудь в глазу»,— думал он.
Кстати, приехал Федор Данилович.
Противоположную сторону.— Примеч. автора.
354
— Федор Данилович, посмотрите-ко, не бельмо ли у меня
в глазу?
— Л что?
— Да вот, в комнате ничего, а как посмотрю на свет,
против чего-нибудь белого, тотчас является огромное пятно,
потом пройдет, потом опять явится.
— Глаз чист, никакого бельма нет.
— Не понимаю!.. Вот против забора опять пятно.
Федор Данилович взглянул на улицу.
— О! Понимаю!.. Так это-то у вас как бельмо в глазу!
Славное бельмо.
— Что такое?
— Бесподобное! Дайте-ка лорнет... чудо!..
— Что такое?
— Прелесть!..
— Что такое? — вскричал барин, схватив лорнет из рук
Федора Даниловича и также смотря на улицу.— Ах, скажите,
пожалуйста!.. Молоденькая женщина!
— Не сводит глаз с окна! Браво!.. Поздравляю!.. Ну,
сглазили, ушла!
— Право, я ничего не знаю,— сказал барин,— ушла!
— Верно, придет опять... Прощайте, желаю успеха.
— Куда?
— Мне надо ехать. А где же дом? — спросил вдруг
Федор Данилович, приостановись в зале.
— В закладе.
— Вот тебе раз!
— Будет: и вот тебе два, три, четыре и т. д., благо
есть теперь что закладывать.
Федор Данилович уехал. Барин сел у окна, вооружился
лупой, смотрит на белый забор, как астроном на небо
в ожидании прохождения нового светила.
— Вот она! — вскричал барин, вскочив с места.— Эй!
Васька, Петр! Одеваться.
Оделся и на улицу, прямо к забору, где стояла незнакомка.
«Она еще тут»,— думает барин, прищурившись и подходя
к забору.
— Что ж это такое? — спросил он сам себя, всматриваясь в лорнет.
Он подошел еще ближе, смотрит; перед ним молодой
человек и молоденькая женщина в черном платье
стоят как прикованные друг к другу объятием; каза
12*
355
лось, поцелуи радостной встречи спаял их уста навек.
— А-а-а! — проговорил барин почти над их ухом.
Они очнулись и с испугом взглянули на барина.
— Ничего, ничего, не пугайтесь,— сказал он,— я только
посмотрел, не бельмо ли у меня в глазу.
— Порфирий, пойдем скорей,— проговорила молоденькая женщина, взяв за руку молодого человека, который
совершенно обеспамятел,— пойдем, Порфирий!
И они скорыми шагами удалились.
— А-а-а! — повторил барин.— Это очень мило.
БОЛЬШОЙ ВЫХОД У САТАНЫ
В недрах земного шара есть огромная зала, имеющая,
кажется, 99 верст вышины: в «Отечественных записках»
сказано, будто она вышиною в 999 верст; но «Отечественным
запискам» ни в чем — даже в рассуждении ада — верить
невозможно.
В этой зале стоит великолепный престол повелителя
подземного царства, построенный из человеческих остовов
и украшенный, вместо бронзы, сухими летучими мышами.
Это должно быть очень красиво. На нем садится Сатана,
когда дает аудиенцию своим посланникам, возвращающимся
из поднебесных стран, или когда принимает поздравления
чертей и знаменитейших проклятых, коими зала при таких
торжественных случаях бывает наполнена до самого потолка.
Если вам когда-либо случалось читать мудрые сочинения
патера Бузенбаума, иезуитского богослова и философа, то
вы знаете — да как этого не знать? — что черти днем почивают, встают же около заката солнца, когда в Риме отпоют
вечерню. В то же самое время просыпается и Сатана.
Проснувшись, он надевает на себя халат из толстой конвертной бумаги, расписанный в виде пылающего пламени,
и который получил он в подарок из гардероба испанской
инквизиции: в этих халатах у нас, на земле, люди сожн-
гали людей. Засим выходит он в залу, где уже его ожидает
многочисленное собрание доверенных чертей, подземных
вельмож, адских льстецов, адских придворных и адских
наушников: тут вы найдете пропасть еретиков, заслуженных грешников и прославленных извергов, вместе с теми,
которые их прославляли в предисловиях и посвящениях,—
словом, все знаменитости ада.
Заскрипела чугунная дверь спальни царя тьмы; Сатана
вошел в залу и сел на своем престоле. Все присутствующие
ударили челом и громко закричали: виват\ — но голоса
их никто б из вас не услышал, потому что они тени,
358
и крик их только тень крика. Чтоб услышать звуки этого
рода, надо быть чертом или доносчиком.
Лукулл, скончавшийся от обжорства, исправляет при дворе его должность обер-гофмейстерскую: он заведовает кухнею, заказывает обед и сам подает завтрак. Как скоро утих
этот неудобослышимый шум торжественного приветствия,
Лукулл выступил вперед, держа в руках колоссальный поднос, на котором удобно можно было бы выстроить кабак
с библиотекою для чтения: на нем стояли два большие
портерные котла, один с кофеем, а другой со сливками;
римская слезная урна, служащая вместо чашки; египетская
гранитная гробница, обращенная в ящик для сахару, и старая сороковая бочка, наполненная сухарями и бисквитами
для завтрака грозному обладателю ада.
Сатана вынул из гробницы огромную глыбу квасцов —
ибо он никакого сахару, даже и свекловичного, даже и постного, терпеть не может — и положил ее в урну; налил
из одного котла чистого смоленского дегтю, употребляемого
им вместо кофейного отвара, из другого подбавил купоросного масла, заменяющего в аду сливки, и черную исполинскую лапу свою погрузил в бочку, чтобы достать пару
сухарей.
Но в аду и сухари не похожи на наши: у нас они печеные, а там — печатаные. Попивая свой адский кофе, царь
чертей, преутонченный гастроном, страстно любил пожирать
наши несчастные книги в стихах и прозе: толстые и тонкие
различного формата произведения наших земных словесностей; тьму логик, психологий и энциклопедий; собрания разысканий, коими ничего не отыскано; историй, в коих ничего
не сказано; риторик, которые ничему не выучили, и рас-
суждений, которые ничего не доказали — особенно всякие
большие поэмы, описательные, повествовательные, нравоучительные, философские, эпические, дидактические, классические, романтические, прозаические и проч., и проч. С некоторого времени, однако ж, он приметил, что этот род пирожного обременял его желудок, и потому приказал подавать
к завтраку только новые повести исторические, писанные
по последней моде; новые мелодрамы; новые трагедии в
шести, семи и девяти картинах; новые романы в стихах
и романы в роде Вальтера Скотта; новые стихотворные
размышления, сказки, мессенианы и баллады,— как несравненно легче первых, обильно переложенные белыми страницами, набранные очень редко, растворенные точками и
виньетками и почти столь же безвредные для желудка
359
и головы, как и обыкновенная белая бумага. Сухари эти
прописал ему придворный его лейб-медик, известный доктор
медицины и имургии, Иппократ, убивший на земле своими
рецептами 120 000 человек и за то возведенный людьми
в сан отцов врачебной науки — впрочем, умный проклятый, который доказывает, что в нынешнем веке мятежей и
трюфлей весьма полезно иметь несколько свободный желудок.
Сатана вынул из бочки четыре небольшие тома, красиво
переплетенные и казавшиеся очень вкусными, обмакнул их
в своем кофе, положил в рот, раскусил пополам, пожевал
и — вдруг сморщился ужасно.
— Где черт фон Аусгабе? — вскричал он с сердитым
видом.
Мгновенно выскочил из толпы дух огромного роста,
плотный, жирный, румяный, в старой трехугольной шляпе,
и ударил челом повелителю. Это был его библиотекарь, бес
чрезвычайно ученый, прежде бывший немецкий gelehrter,
который знал наизусть полные заглавия всех сочинений,
мог высказать наперечет все издания, помнил, сколько в какой книге страниц, и презирал то, что на страницах, как
пустую словесность — исключая опечатки, кои почитал он,
одни лишь изо всех произведений ума человеческого, достойными особенного внимания.
— Негодяй! Какие прислал ты мне сухари? — сказал
гневный Сатана.— Они черствы, как дрова.
— Ваша мрачность! — отвечал испуганный бес.— Других не мог достать. Правда, что сочинения несколько старые,
но зато какие издания! — самые новые: только что из печати.
— Сколько раз говорил я тебе, что не люблю вещей
разогретых?.. Притом же я приказал подавать себе только
легкое и приятное, а ты подсунул мне что-то такое жесткое,
сухое, безвкусное...
— Мрачнейший повелитель! Смею уверить вас, что это
лучшие творения нашего времени.
— Это лучшие творения вашего времени?.. Так ваше
время ужасно глупо!
— Не моя вина, ваша мрачность: я библиотекарь, глупостей не произвожу, а только привожу их в порядок и
систематически располагаю. Вы изволите говорить, что сухари не довольно легки — легче этих и желать невозможно:
Учитель (нем.)
360
в целой этой бочке, в которой найдете вы всю прошлогоднюю словесность, нет ни одной твердой мысли. Если
же они не так свежи, то виноват ваш пьяный Харон, который
не далее вчерашнего дня сорок корзин произведений последних четырех месяцев во время перевозки уронил в Лету...
Между тем как библиотекарь всячески оправдывался.
Сатана из любопытства откинул обертку оставшегося у
него в руках куска книги и увидел следующий остаток
заглавия: « ец оман....торич...., сочин...н 830».
— Что это такое? — сказал он, пяля на него грозные глаза.— Это даже не разогретое?.. Э?.. Смотри: 1830 года?..
— Видно, оно не стоило того, чтобы разогревать,—
примолвил толстый бес с глупою улыбкой.
— Да это с маком! — воскликнул Сатана, рассмотрев
внимательнее тот же кусок книги.
— Ваша мрачность! Скорее уснете после такого завтрака,— отвечал бес, опять улыбаясь.
— Ты меня обманываешь, да ты же еще и смеешься!..—
заревел Сатана в адском гневе.— Поди ко мне ближе.
Толстый бес подошел к нему со страхом. Сатана поймал
его за ухо, поднял на воздух как перышко, положил в
лежащий подле него шестиаршпнный фолиант сочинений
Аристотеля на греческом языке, доставшийся ему в наследство из библиотеки покойного Плутона, затворил книгу
и сам на ней уселся. Под тяжестью гигантских членов
подземного властелина несчастный смотритель адова книгохранилища в одно мгновение сплюснулся между жесткими
страницами классической прозы наподобие сухого листа
мяты. Сатана определил ему в наказание служить закладкою
для этой книги в продолжение 1111 лет: Сатана надеется
в это время добиться смысла в сочинениях Аристотеля,
которые читает он почти беспрерывно. Пустое!..
— Приищи мне из проклятых на место этого педанта
кого-либо поумнее,— сказал он, обращаясь к верховному
визирю и любимцу своему, Вельзевулу.— Я намерен сделать,
со временем, моим книгохранителем того великого библиотекаря и профессора, который недавно произвел на севере такую ужасную суматоху. Когда он к нам пожалует, ты
немедленно введи его в должность: только не забудь приковать его крепкою цепью к полу библиотеки, не то он
готов и у меня, в аду, выкинуть революцию и учредить
конституционные бюджеты.
— Слушаю! — отвечал визирь, кланяясь в пояс и с благоговением целуя конец хвоста Сатаны.
361
Царь чертей стал копаться в бочке, ища лучших сухарей. Он взял Гернани, Исповедь, Петра Выжигина, Рослав-
лева, Шемякин Суд и кучу других отличных сочинений;
сложил их ровно, помочил в урне, вбил себе в рот, проглотил и запил дегтем. И надобно знать, что как скоро Сатана
съест какую-нибудь книгу, слава ее на земле вдруг исчезает и люди забывают об ее существовании. Вот почему
столько плодов авторского гения, сначала приобревших громкую известность, впоследствии внезапно попадают в совершенное забвение: Сатана выкушал их с своим кофе!..
О том нет ни слова ни в одной истории словесности, однако
ж это вещь официальная.
Повелитель ада съел таким образом в один завтрак
словесность нашу за целый год: у него тогда был чертовский аппетит. Кушая свой кофе, он бросал беспокойный
взор на залу и присутствующих. Что-то такое беспокоило
его зрение: он чувствовал в глазах неприятную резь. Вдруг,
посмотрев вверх, он увидел в потолке расщелину, чрез которую пробивались последние лучи заходящего на земле
солнца. Он тотчас угадал причину боли глаз своих и вскричал:
— Где архитектор?.. Где архитектор?.. Позовите ко мне
этого вора.
Длинный, бледный, сухощавый проклятый пробился
сквозь толпу и предстал пред его нечистою силой. Он
назывался дон Диего да Буфало. При жизни своей строил
он соборную церковь в Саламанке, из которой украл ровно
три стены, уверив казенную юнту, имевшую надзор над
этою постройкою, что заготовленный кирпич растаял от
беспрерывных дождей и испарился от солнца. За сей славный
зодческий подвиг он был назначен, по смерти, придворным
архитектором Сатаны. В аду места даются только истинно
достойным.
— Мошенник! — воскликнул Сатана гневно (он всегда
так восклицает, рассуждая с своими чиновниками).— Всякий день подаешь мне длинные счеты издержкам, будто употребленным на починку моих чертогов, а между
тем куда ни взгляну — повсюду пропасть дыр и расщелин?..
— Старые здания, ваша мрачность! — отвечал проклятый, кланяясь и бесстыдно улыбаясь.— Старые здания...
ежедневно более и более приходят в ветхость. Эта расщелина
произошла от последнего землетрясения. Я уже несколько
раз имел честь представлять вашей нечистой силе, чтоб
362
было позволено мне сломать весь этот ад и выстроить
вам новый, в нынешнем вкусе.
— Не хочу!..— закричал Сатана.— Не хочу!.. Ты имеешь
в предмете обокрасть меня при этом случае, потом выстроить
себе где-нибудь адншко из моего материала, под именем
твоей племянницы, и жить маленьким сатаною. Не хочу!..
По-моему, этот ад еще весьма хорош: очень жарок и темен,
как нельзя лучше. Сделай мне только план и смету для
починки потолка.
— План и смета уже сделаны. Вот они. Извольте видеть: надобно будет поставить две тысячи колонн в готическом вкусе: теперь готические колонны в большой моде;
сделать греческий фронтон в виде трехугольной шляпы:
без этого нельзя же!., переменить архитраву; большую дверь
заделать в этой стене, а пробить другую в противоположной; переложить пол; стены украсить кариатидами; сломать
старый дворец для открытия проспекта со стороны тартара;
построить два новые флигеля и лопнувшее в потолке место
замазать алебастром — тогда солнце отнюдь не будет беспокоить вашей мрачности.
— Как?.. Что?..— воскликнул Сатана в изумлении.— Все
эти постройки и перестройки по поводу одной дыры?
— Да, ваша мрачность! Точно, по поводу одной дыры.
Архитектура предписывает нам, заделывая одну дыру, немедленно пробивать другую для симметрии...
— Послушай, плут! Перестань обманывать меня! Ведь
я тебе не член испанской Строительной юнты.
Проклятый поклонился в землю, плутовски улыбаясь.
— Велю замять тебя с глиною и переделать на кирпич
для починки печей в геенне...
Он опять улыбнулся и поклонился.
— Да и любопытно мне знать, сколько все это стоило б
по твоим предположениям?
— Безделицу, ваша мрачность. При должной бережливости, производя эти починки хозяйственным образом, с
соблюдением казенного интереса, они обойдутся в
9 987 408 558 777 900 009 675 999 червонцев, 99 штиверов и
49'/2 пенса. Дешевле никто вам не починит этого потолка.
Сатана сморщился, призадумался, почесал голову и сказал:
— Нет денег!.. Теперь время трудное, холерное...
Он протянул руку к бочке: все посмотрели на него
с любопытством. Он вытащил из нее две толстые книги:
363
Умозрительную физику В*** и Курс умозрительной философии Шеллинга; раскрыл их, рассмотрел, опять закрыл и
вдруг швырнул ими в лоб архитектору, сказав:
— На!.. Возьми эти две книги и заклей ими расщелину
в потолке: чрез эти умозрения никакой свет не пробьется.
Метко брошенные книги пролетели сквозь пустую голову
тени бывшего архитектора точно так же, как пролетает
полный курс университетского учения сквозь порожние головы иных баричей, не оставив после себя ни малейшего
следа — и упали позади на пол. Архитектор улыбнулся,
поклонился, поднял глубоко-мудрые сочинения и пошел заклеивать ими потолок.
Немецкий студент, приговоренный в Майнце к аду за
участие в Союзе добродетели, шепнул ***ову, известному
любителю Канта, Окена, Шеллинга, магнетизма и пеннику:
— Этот скряга, Сатана, точно так судит о философии
и умозрительности, как ***ой о древней российской истории.
— Неудивительно!..— отвечал ***ов с презрением.— Он
враг всякому движению умственному...
— Что?..— вскричал сердито Сатана, который везде
имеет своих лазутчиков и все слышит и видит.— Что такое
вы сказали?.. Еще смеете рассуждать!.. Подите ко мне,
шуты! Научу я вас делать свои замечания в моем аду!
Черти, смотрящие за порядком в зале, привели к нему
дерзких питомцев любомудрия. Сатана схватил одного из
них за волосы, поднял на воздух, подул ему в нос и сказал:
— Поди, шалун, в геенну — чихать два раза всякую секунду в продолжение 3333 лет, а ты, отчаянный философ,—
промолвил он, обращаясь к ***ову,— сиди подле него и
приговаривай: «Желаю вам здравствовать!» Подите прочь,
дураки!
Засим обратился он к визирю своему, Вельзевулу, и
спросил о дневной очереди. Визирь отвечал, что в тот
вечер должны были докладывать ему обер-председатель
мятежей и революций, первый лорд-дьявол журналистики,
великий черт словесности и главноуправляющий супружескими делами.
* * *
Предстал черт старый, гадкий, оборванный, изувеченный,
грязный, отвратительный, со всклокоченными волосами, с
одним выдолбленным глазом, с одним сломанным рогом,
364
с когтями, как у гиены, с зубами без губ, как у трупа,
и с большим пластырем, прилепленным сзади, пониже хвоста.
Под мышкою торчала у него кипа бумаг, обрызганных
грязью и кровью; на голове — старая кучерская лакированная шляпа, трехцветная кокарда; за поясом — кинжал
и пара пистолетов; в руках — дубина и ржавое ружье без
замка. Карманы его набиты были камнями из мостовой
и кусками бутылочного стекла.
Всяк, и тот даже, кто не бывал в Париже, легко
угадал бы по его наружности, что это должен быть злой дух
мятежей, бунтов, переворотов... Он назывался Астарот.
Он предстал, поклонился и перекувырнулся раза три па
воздухе, в знак глубочайшего почтения.
— Ну что?..— вопросил царь чертей.— Что нового у тебя
слышно?
— Ревность к престолу вашей мрачности, всегда руководившая слабыми усилиями моими, и должная заботливость о пользах вверенной мне части...
— Стой! — воскликнул Сатана.— Я знаю наизусть это
предисловие: все доклады, в которых ни о чем не говорится, начинаются с ревности к моему престолу. Говори
мне коротко и ясно: сколько у тебя новых мятежей в работе?
— Нет ни одного порядочного, ваша мрачность, кроме
бунта паши египетского против турецкого султана. Но об
нем не стоит и докладывать, потому что дело между басурманами.
— А зачем нет ни одного? — спросил грозно Сатана.—
Не далее как в прошлом году восемь или девять мятежей
было начатых в одно и то же время. Что ты с ними
сделал?
— Кончились, ваша мрачность.
— По твоей глупости, недеятельности, лености; по твоему
нерадению...
— Отнюдь не потому, мрачнейший Сатана. Вашей нечистой силе известно, с каким усердием действовал я всегда на
пользу ада, как неутомимо ссорил людей между собою:
доказательством тому — сломанный рог и потерянный глаз,
который имею честь представить...
— Об этом глазе толкуешь ты мне 800 лет кряду: я
читал, помнится, в сочинениях болландистов, что его вышиб
тебе башмаком известный Петр Пустынник во время первого
крестового похода, а рог ты сломал еще в начале XVII века,
когда, подружившись с иезуитами, затеял на севере глупую
шутку прикинуться несколько раз кряду Димитрием...
365
— Конечно, мрачнейший Сатана, что эти раны немножко
стары; подвизаясь непрестанно за вашу славу, теперь
вновь я опасно ранен, именно: в стычке, последовавшей
близ Кракова, когда с остатками одной достославной революции принужден был уходить бегом на австрийскую границу. Если ваша мрачность не верите, то, с вашего позволения, извольте посмотреть сами...
И, обратясь спиною к Сатане, он поднял рукою вверх
свой хвост и показал пластырь, прилепленный у него сзади.
Сатана и все адское собрание расхохотались как сумасшедшие.
— Ха, ха, ха, ха!.. Бедный мой обер-председатель мятежей!..— воскликнул повелитель ада в веселом расположении
духа.— Кто же тебя уязвил так бесчеловечно?
— Донской казак, ваша мрачность, своим длинным
копьем. Это было очень забавно, хотя кончилось неприятно.
Я порасскажу вам все, как что было, и в нескольких
словах дам полный отчет в последних революциях. Во-
первых, вашей мрачности известно, что года два тому назад
я произвел прекрасную суматоху в Париже. Люди дрались
и резались дня три кряду, как тигры, как разъяренные
испанские быки: кровь лилась, дома горели, улицы наполнялись трупами, и никто не знал, о чем идет дело...
— Ах, славно!.. Вот славно!.. Вот прекрасно!..— воскликнул Сатана, потирая руки от радости.— Что же далее?
— На четвертый день я примирил их на том условии,
что царь будет у них государем, а народ царем...
— Как?.. Как?..
— На том условии, ваша мрачность, чго царь будет
государем, а народ царем.
— Что это за чепуха?.. Я такого условия не понимаю.
— Ия тоже. И никто его не понимает. Однако люди
приняли его с восхищением.
— Но в нем нет ни капли смысла.
— Потому-то оно и замысловато.
— Быть не может!
— Клянусь проклятейшим хвостом вашей мрачности.
— Что ж из этого выйдет?
— Вышла прекрасная штука. Этою сделкой я так запутал
дураков-людей, что они теперь ходят как опьяневшие, как
шальные...
— Но мне какая от того польза? Лучше бы ты оставил
их драться долее.
— Напротив того, польза очевидна. Подравшись, они
366
перестали бы драться, между тем как на основании этой
сделки они будут ссориться ежедневно, будут непрестанно
убивать, душить, расстреливать и истреблять друг друга, доколе царь и народ не сделаются полным царем и государем. Ваша мрачность будете от сего получать ежегодно
верного дохода по крайней мере 40 000 погибших душ.
— Bene!1 — воскликнул Сатана и от удовольствия нюхнул в один раз три четверти и два четверика железных
опилков вместо табаку.— Что же далее?
— Далее, ваша мрачность, есть в одном месте, на земле,
некоторый безыменный народ, живущий при большом болоте,
который с другим, весьма известным народом, живущим в
болоте, составляет одно целое. Не знаю, слыхали ль вы
когда-нибудь про этот народ или нет?
— Право, не помню. А чем он занимается, этот безыменный народ?
— Прежде он крал книги у других народов и перепечатывал их у себя; также делал превосходные кружева и
блонды и был нам, чертям, весьма полезен, ибо за его
кружева и блонды множество прекрасных женщин предавались в наши руки. Теперь он ничего не делает: разорился,
обеднел, и не впрок ни попу, ни черту — только мелет
вздор и сочиняет газеты, которых никто не хочет читать.
— Нет, никогда не слыхал я о таком народе!..— примолвил Сатана и... чих!., громко чихнул на весь ад. Все
проклятые тихо закричали: «Ура!!!», а в брюссельских газетах на другой день было напечатано, что голландцы ночью
подъехали под Брюссель и выстрелили из двухсот пушек.
— Этот приболотный народ,— продолжал черт мятежей,— жил некоторое время довольно дружно с упомянутым
народом болотным; но я рассорил их между собою и из
приболотного народа сделал особое приболотное царство,
в котором тоже положил правилом, чтобы известно было,
кто царь, а кто государь. Вследствие сего, ваша мрачность,
можете надеяться получить оттуда еще 10 000 погибших
годового дохода.
— Gut!1 2 — сказал Сатана.— Что же далее?
— Потом я пошевелил еще один народ, живший благополучно на сыпучих песках по обеим сторонам одной большой северной реки. Вот уж был истинно забавный случай!
Никогда еще не удавалось мне так славно надуть людей,
1 Хорошо! (Лат.)
2 Хорошо! (Нем.)
367
как в этом деле: да, правду сказать, никогда и не попадался
мне народ такой легковерный. Я так искусно настроил
их, столь вскружил им голову, запутал все понятия, что они
дрались как сумасшедшие в течение нескольких месяцев,
гибли, погибли и теперь еще не могут дать себе отчета,
за что дрались и чего хотели. При сей оказии я имел
счастие доставить вам с лишком 100 000 самых отчаянных
проклятых.
— Барзо добже!1 — примолвил Сатана, который собаку
съел на всех языках.— Что же далее?
— После этих трех достославных революций я удалился
в Париж, главную мою квартиру, и от скуки написал
ученое рассуждение «О верховной власти сапожников, поденщиков, наборщиков, извозчиков, нищих, бродяг и проч.»,
которое желаю иметь честь посвятить вашей мрачности.
— Посвяти его своему приятелю, человеку обоих све-
тов,— возразил Сатана с суровым лицом.— Мне не нужно
твоего сочинения; желаю знать, чем кончилась та революция,
которую затеял ты где-то на песках, над рекою, на севере.
— Ничем, ваша мрачность. Она кончилась тем, что нас
разбили и разогнали и что, в замешательстве, брадатый
казак, который вовсе не знает толку в достославных революциях, кольнул меня жестоко a posteriori1 2, как вы сами
лично изволили свидетельствовать.
— Что же далее?
— Далее ничего, мрачнейший Сатана. Теперь я увечный,
инвалид, и пришел проситься у вашей нечистой силы в отпуск
за границу на шесть месяцев, к теплым водам, для излечения
раны...
— Отпуска не получишь,— вскричал страшный повелитель чертей,— во-первых, ты недостоин, а во-вторых, ты мне
нужен: дела дипломатические, говорят, все еще запутаны.
Но возвратимся к твоей части. Ты рассказал мне только
о трех революциях: куда же девались остальные? Ты еще
недавно хвастал, будто в одной Германии завел их пять
или шесть.
— Не удались, ваша мрачность.
— Как не удались?
— Что же мне делать с немцами, когда их расшевелить
невозможно!.. Извольте видеть: вот и теперь есть у меня с
собою несколько десятков немецких возбудительных прокла
1 Очень хорошо! (Польск.)
2 Из последующего (лат.)
368
маций, речей, произнесенных в Гамбахе, и полных экземпляров газеты «Die deutsche Tribüne»1. Я раскидываю их по
всей Германии, но немцы читают их с таким же отчаянным
хладнокровием, с каким пьют они пиво со льдом и танцуют вальс под музыку: «Mein lieber Augustchen»!..1 2 Несколько сумасшедших студентов и докторов прав без пропитания кричат, проповедуют, мечутся, но это не производит
никакого действия в народе. Мне уже эти немцы надоели:
уверяю вашу мрачность, что из них никогда ничего не выйдет.
Даже и проклятые из них ненадежны: они холодны до
такой степени, что вам всеми огнями ада и разогреть их
не удастся, не то чтоб сжарить как следует.
— Что же ты сделал в Италии?
— Ничего не сделал.
— Как ничего!.. Когда я приказал всего более действовать в Италии и даже обещал щепотку табаку, если успеешь
перевернуть вверх ногами Папские владения.
— Вы приказали, и я действовал. Но итальянцы —
настоящие бабы. В начале сего года учредил я между ними
прекрасный заговор: они поклялись, что отвагою и мятежническими доблестями превзойдут древних римлян, и я имел
причину ожидать полного успеха, как вдруг, ночью, ваша
мрачность изволили слишком громко... с позволения сказать... кашлянуть, что ли?., так, что земля маленько потряслась над вашею спальнею. Мои герои, испугавшись
землетрясения, побежали к своим капуцинам и высказали
им на исповеди весь наш заговор — и все были посажены
в тюрьму. Я сам находился в ужасной опасности и едва
успел спасти жизнь: какой-то капуцин гнался за мною с кропилом в руке чрез всю Болонью. К Риму подходить я не
смею: вам известно, что еще в V веке заключен с нами
договор, подлинная грамота коего, писанная на бычачьей
шкуре, хранится поныне в Ватиканской библиотеке между
тайными рукописями — этим договором черти обязались не
приближаться к стенам Рима на десять миль кругом...
— У тебя на все своя отговорка,— возразил недовольный Сатана,— по твоей лености выходит, что в нынешнее
время одни лишь черти будут свято соблюдать договоры.
Ну, что в Англии?
— Покамест ничего; но будет, будет!.. Теперь прошел
билль о реформе, и я вам обещаю, что лет чрез несколько
1 «Немецкая трибуна» (нем.).
2 «Мой любимый Августин...» (нем.)
369
подниму вам в том краю чудесную бурю. Только потерпите
немножко!..
— Итак, теперь решительно нет у тебя ни одной революции?
— Решительно ни одной, ваша мрачность! Кроме нескольких текущих мятежей и бунтов по уездам в конституционных государствах, где это в порядке вещей и необходимо для удостоверения людей, что они действительно
пользуются свободою, то есть, что они беспрепятственно
могут разбивать друг другу головы во всякое время года.
— Однако, любезный Астарот, я уверен, что ежели ты
захочешь, то все можешь сделать,— присовокупил царь чертей.— Постарайся, голубчик! Пошевелись, похлопочи...
— Стараюсь, бегаю, хлопочу, ваша мрачность! Но трудно: времена переменились.
— Отчего же так переменились?
— Оттого что люди не слишком стали мне верить.
— Люди не стали тебе верить? — воскликнул изумленный
Сатана.— Как же это случилось?
— Я слишком долго обманывал их обещаниями блистательной будущности, богатства, благоденствия, свободы, тишины и порядка, а из моих революций, конституций, камер
и бюджетов вышли только гонения, тюрьмы, нищета и разрушение. Теперь их не так легко надуешь: они сделались
чрезвычайно умны.
— Молчи, дурак! — заревел Сатана страшным голосом.— Как ты смеешь лгать предо мною так бессовестно?
Будто я не знаю, что люди никогда не будут умны?..
— Однако уверяю вашу мрачность...
— Молчи!..
Черт мятежей по врожденной наглости хотел еще отвечать Сатане, как тот в ужасном гневе соскочил с своего
седалища и бросился к нему с пылающим взором, с разинутою пастью, с распростертыми когтями, как будто готовясь растерзать его.
Астарот бежать — Сатана за ним!..
Проклятые со страха стали прятаться в дырках и расщелинах, влезать на карнизы, искать убежища на потолке.
Суматоха была ужасная, как во французской камере депутатов при совещаниях о водворении внутреннего порядка
или о всеобщем мире.
Сатана гонялся за Астаротом по всей зале, но обер-
председатель революций, истинно с чертовскою ловкостью,
всегда успевал ускользнуть у него почти из рук. Это про
370
должалось несколько минут, в течение коих они пробежали
друг за другом 2000 верст в разных направлениях. Наконец
повелитель ада поймал коварного министра своего за хвост...
Поймав и держа за конец хвоста, он поднял его на
воздух и сказал с адскою насмешкой:
— А!.. Ты толкуешь мне об уме людей!.. Постой же,
негодяй!.. Смотри, чтобы немедленно произвел мне где-
нибудь между ними революцию под каким бы то ни было
предлогом: иначе, я тебя!.. Guos ego!..1 как говорит Вергилий...
И, в пылу классической угрозы, повертев им несколько
раз над головою, он бросил его вверх со всего размаху.
Бедный черт мятежей, пробив собою свод ада, вылетел
в надземный воздух и несколько часов кряду летел в нем,
как бомба, брошенная из большой Перкинсовой мортиры.
Астрономы направили в него свои телескопы и, приметив у
него хвост, приняли его за комету: они тотчас исчислили,
во сколько времени совершит она путь свой около солнца, и
для успокоения умов слабых и суеверных издали ученое
рассуждение, говоря: «Не бойтесь! Это не черт, а комета».
Г. Е.*** напечатал в «Северной пчеле», что хотя это, может
статься, и не комета, а черт, но он не упадет на землю:
напротив того, он сделается луною, как то уже предсказано
им назад тому лет двадцать.
Теперь, после изобретения Фрауэнгоферова телескопа,
и летучая мышь не укроется в воздухе от астрономов:
они всех их произведут в небесные светила.
Между тем черт мятежей летел, летел, летел и упал
на землю, с треском и шумом,— в самом центре Парижа.
Но черти — как кошки: падения им не вредны. Астарот
мигом приподнялся, оправился и немедленно стал кричать
во все горло: «Долой министров! — Долой короля! — Да
здравствует свобода! — Виват Республика! — Виват Лафайет! — Ура Наполеон II!» — стал бросать в окна каменьями и бутылками, коими были наполнены его карманы,
стал бить фонари и стрелять из пистолетов,— и в одно
мгновение вспыхнул ужасный бунт в Париже.
Сатана, выбросив Астарота на землю, важно возвратился к своему престолу, воссел, выпыхался, понюхал опилок и
сказал:
— Видишь, какой бездельник!.. Чтоб ничего не делать,
он вздумал воспевать передо мною похвалы уму челове
1 Я вас! (лат.)
371
ческому!.. Покорно прошу сказать, когда этот прославленный ум был сильнее нашего искушения?.. Люди всегда
будут люди. Ох эти любезные, дорогие люди!.. Они на то
лишь и годятся, что ко мне в проклятые... Кто теперь следует к докладу?
* * *
Представьте себе чертенка — ведь вы чертей видали? —
представьте себе чертенка ростом с обыкновенного губернского секретаря, 2 аршина и 1/2 вершка, с петушиным
носом, с собачьим челом, с торчащими ушами, с рогами, с
когтями и с длинным хвостом; одетого — как всегда одеваются черти! — одетого по-немецки, в чулках, сшитых из
старых газет, в штанах из старых газет, в длинном фраке
из старых газет, с высоким, аршин в девять, остроконечным колпаком на голове, склеенным из журнальных корректур в виде огромного шпица, на верхушке коего стоит
бумажный флюгерок, вертящийся на деревянном прутике и
показывающий, откуда дует ветер — и вы будете иметь понятие о забавном лице и форменном наряде пресловутого
Бубантуса, первого лорда-дьявола журналистики в службе
его мрачности.
Бубантус — большой любимец повелителя ада: он исправляет при нем двойную должность — придворного клеветника
и издателя ежедневной газеты, выходящей однажды в несколько месяцев под заглавием: «Лгун из лгунов». В аду это
официальная газета: в ней, для удовлетворения любопытства
царя тьмы, помещаются одни только известия неосновательные, ибо основательные он находит слишком глупыми и
недостойными его внимания. И дельно!..
С совиным пером за ухом, с черным портфелем под
мышкою, весь запачканный желчью и чернилами, подошел
он к седалищу сурового обладателя подземного царства
и остановился — остановился, поклонился, сделал пируэт на
одной ноге и опять поклонился и сказал:
— Имею честь рекомендоваться!..
Сатана примолвил:
— Любезный Бубантушка, начинай скорее свой доклад,
только говори коротко и умно, потому что я сердит и
скучаю...
И он зевнул ужасно, раскрыв рот шире жерла горы
Везувия: дым и пламя заклубились из его горла.
— Мой доклад сочинен на бумаге,— отвечал нечистый
372
дух журналистики.— Как вашей мрачности угодно его слушать: романтически или классически?.. То есть снизу вверх
или сверху вниз?
— Слушаю снизу вверх,— сказал Сатана.— Я люблю
романтизм: там все темно и страшно и всякое третье слово
бывает непременно мрак или мрачный — это по моей части.
Бубантус начал приготовляться к чтению. Сатана присовокупил:
— Садись, мой дорогой Бубантус, чтоб тебе было удобнее читать.
Бубантус оборотился к нему задом и поклонился в пояс:
под землею это принятый и самый вежливый образ изъявления благодарности за приглашение садиться. Он окинул
взором залу и, нигде не видя стула, снял с головы свой
бумажный, шпицеобразный колпак, поставил его на пол,
присел, сжался, прыгнул на десять аршин вверх, вскочил
и сел на самом флюгерке его; сел удивительно ловко —
ибо вдруг попал он своим rectum1 на конец прутика и
воткнулся на него ровно, крепко и удобно; принял важный вид, вынул из портфеля бумагу, обернул ее вверх
ногами, чихнул, свистнул и приступил к чтению с конца, на
романтический манер:
«и проч., и проч, слугою покорнейшим вашим пребыть
честь Имею, невозможно людьми управлять иначе...»
— И проч., и проч.!..— воскликнул Сатана, прерывая
чтение.— Визирь, слышал ли ты это начало? И проч., и
проч.!.. Наш Бубантус, право, мастер сочинять. Доселе
статьи романтические обыкновенно начинались с И, с Ибо,
с Однако ж, но никто еще не начал так смело, как он,
с И проч. Романтизм — славное изобретение!
— Удивительное, ваша мрачность,— отвечал визирь, кланяясь.
— На будущее время я не иначе буду говорить с тобою о
делах, как романтически, то есть наоборот.
— Слушаю, ваша мрачность! — примолвил визирь.—
Это будет гораздо вразумительнее. В самом деле, истинно
адские понятия никаким другим слогом не могут быть выражены так сильно и удобно, как романтическим.
— Как мы прежде того не догадались! — сказал царь
чертей,— Я, вероятно, всегда любил романтизм?..
— Ваша мрачность всегда имели вкус тонкий и чертовский.
1 Задом (лат.).
373
— Читай,— сказал Сатана, обращаясь к злому духу
журналистики,— но повтори и то, что прочитал: мне твой
слог нравится.
Бубантус повторил:
«и проч., и проч., слугою покорнейшим вашим пребыть
честь Имею. »
— Как?.. Только слугою? — прервал опять Сатана.—
Ты в тот раз читал умнее.
— Только слугою, ваша мрачность,— возразил черт журналов,— я и прежде читал слугою и теперь так читаю. Я не
могу более подписываться: вашим верноподданным.
— Почему?
— Потому что мы, в Париже, торжественно протестовали
против этого слова почти во всех журналах: оно слишком
классическое, мифологическое, греческое, феодальное...
— Полно, так ли, братец?
— Точно так, ваша мрачность! Со времени учреждения
в Западной Европе самодержавия черного народа все люди — цари: так говорит г. Моген. Я даже намерен заставить предложить в следующее собрание французских Палат,
чтобы вперед все частные лица подписывались: Имею честь
быть вашим милостивым государем, а один только король
писался бы покорнейшим слугою.
— Странно! — воскликнул Сатана с весьма недовольным
видом.— Неужели все это романтизм!
— Самый чистый романтизм, ваша мрачность. В романтизме главное правило, чтобы все было странно и наоборот.
— Продолжай!
Бубантус продолжал:
«.невозможно людьми управлять иначе: в искушение
вводить и обещаниями лживыми увлекать, дерзостью изумлять, искусно их надувать уметь надобно, изволите сие
знать, мрачность ваша, как в дураках остались совершенно
они, чтоб, стараясь, ибо;...»
— Стой! — закричал Сатана, и глаза у него засверкали
как молнии.— Стой!.. Полно! Ты сам останешься у меня в дураках. Как ты смеешь говорить, что моя мрачность...? Не
хочу я более твоего романтизма. Читай мне классически,
сверху вниз.
— Но здесь дело идет не о вашей мрачности, а о людях,—
возразил испуганный чертенок.— Слог романтический имеет
то свойство, что над всяким периодом надобно крепко призадуматься, пока постигнешь смысл оного, буде таковой налицо в оном имеется.
374
— А я думать не хочу!—сказал грозный обладатель
ада.— На что мне эта беда?.. Я вашего романтизма не
понимаю. Это сущий вздор: не правда ли, мой верховный
визирь?
— Совершеннейшая правда! — отвечал Вельзевул, кланяясь.— Слыханное ли дело, читая думать?..
— Сверх того,— присовокупил царь чертей,— я примечаю в этом слоге выражения чрезвычайно дерзкие, неучтивые, которых никогда не встречал я в прежней классической прозе, гладкой, тихой, покорной, низкопоклонной...
— Без сомнения! — подтвердил визирь.— Романтизм
есть слог мотов, буянов, мятежников, лунатиков, и для
таких больших вельмож, как вы, слог классический гораздо
удобнее и приличнее: по крайней мере он не утруждает
головы и не пугает воображения.
— Мой верховный визирь рассуждает очень здраво,—
сказал Сатана с важностью,— я большой вельможа. Читай
мне классически, не утруждая моей головы и не пугая
моего воображения.
Бубантус, обернув бумагу назад, стал читать сначала:
«ДОКЛАД
Мрачнейший Сатана!
Имею честь донести вашей нечистой силе, что, стараясь
распространять более и более владычество ваше между
родом человеческим, для удобнейшего запутания означенного рода в наши тенета, подведомых мне журналистов разделил я на всей земле на классы и виды и каждому из
них предписал особенное направление. В одной Франции
учредил я четыре класса журналописцев, не считая пятого.
Первый класс назван мною журналистами движения, второй — журналистами сопротивления, третий — журналистами уклонения, четвертый — журналистами возвращения.
Пятый именуется среднею серединой. Одни из них тащат
умы вперед, другие тащат их назад, те тащат направо, те
налево, тогда как последователи средней середины увертываются между ними, как бесхвостая лиса,— и все кричат, и
все шумят, все вопиют, ругают, стращают, бесятся, грозят,
льстят, клевещут, обещают, все предвещают и проповедуют
бунты, мятежи, бедствия, кровь, пожар, слезы, разорение —
только слушай да любуйся! Читатели в ужасе, не знают,
что думать, не знают, чему верить и за что приняться: они
ежечасно ожидают гибельных происшествий, бегают, суетятся, укладывают вещи, прячут пожитки, заряжают ружья,
хотят уйти и хотят защищаться и не разберут, кто враг, кто
375
приятель, на кого нападать и кого покровительствовать;
днем они не докушивают обеда, ввечеру боятся искать
развлечений, ночью внезапно вскакивают с постели: одним
словом, беспорядок, суматоха, буря умов, волнение умов
и желаний, вьюга страстей, грозная, неслыханная, ужасная — и все это по милости газет и журналов, мною созданных и руководимых!
Не хвастая, ваша мрачность, я один более проложил
людям путей к пагубе, чем все прочие мои товарищи.
Я удвоил общую массу греха. Прежде люди грешили только
по старинному, краткому списку грехов, теперь они грешат
еще по журналам и газетам: по ним лгут, крадут, убивают,
плутуют, святотатствуют, по ним живут и гибнут в бесчестии. Мои большие печатные листы беспрерывно колют
их в бок, жгут в самое сердце, рвут тела их клещами
страстей, тормошат умы их обещаниями блеска и славы,
как собаки кусок старой подошвы; подстрекают их против
всех и всего, прельщают и, среди прельщения, забрызгивают им глаза грязью; возбуждают в них деятельность и,
возбудив, не дают им ни есть, ни спать, ни работать, ни
заниматься выгодными предприятиями. Сим-то образом, создав, посредством моих листов, особую стихию политического
мечтательства,— стихию горькую, язвительную, палящую,
наводящую опьянение и бешенство,— я отторгнул миллионы
людей от мирных и полезных занятий и бросил их в пучины
сей стихии: они в ней погибнут, но они уже увлекли
с собою в пропасть целые поколения и еще увлекут многие.
Коротко сказать, при помощи сих ничтожных листов я
содержу все в полном смятении, заказываю мятежи на
известные дни и часы, ниспровергаю власти, переделываю
законы по своему вкусу и самодержавно управляю огромным
участком земного шара: Францисю, Англиею, частью Германии, Ост-Индиею, Островами и целою Америкою. Если
ваша мрачность желаете видеть на опыте, до какой степени
совершенства довел я на земле адское могущество журналистики, да позволено мне будет выписать из Франции,
Англии и Баварии пятерых журналистов и учредить здесь,
под землею, пять политических газет: ручаюсь моим хвостом,
что чрез три месяца такую произведу вам суматоху между
проклятыми, что вы будете принуждены объявить весь ад
состоящим в осадном положении; вашей же мрачности
велю сыграть такую пронзительную серенаду на кастрюлях,
котлах, блюдах, волынках и самоварах,— где вам угодно,
376
хоть и под вашею кроватью,— какой ни один член средней
середины...»
— Ах ты, негодяй!..— закричал Сатана громовым голосом и — хлоп! — отвесил ему жестокий щелчок по носу —
щелчок, от которого красноречивый Бубантус, сидящий на
колпаке, на конце прутика, поддерживающего флюгер, вдруг
стал вертеться на нем с такою быстротою, что, подобно
приведенной в движение шпуле, он образовал собою только
вид жужжащего, дрожащего, полупрозрачного шара. И он
вертелся таким образом целую педелю, делая на своем полюсе по 666 поворотов в минуту,— ибо сила щелчка Сатаны
в сравнении с нашими паровыми машинами равна силе
1 738 лошадей и одного жеребенка.
— Странное дело,— сказал Сатана визирю своему Вельзевулу,— как они теперь пишут!.. Читай как угодно, сверху
вниз или снизу вверх, классически или романтически: все
выйдет та же глупость или дерзость!.. Впрочем, Бубантус
добрый злой дух: он служит мне усердно и хорошо искушает; но, живя в обществе журналистов, оп сделался немножко либералом, наглым, и забывает должное ко мне
благоговение. В наказание пусть его помелет задом...
Позови черта словесности к докладу.
* * *
Визирь кивнул рогом, и великий черт словесности явился.
Он не похож на других чертей, он черт хорошо воспитанный, хорошего тона, высокий, тонкий, сухощавый, черный — очень черный — и очень бледный: страждет модною
болезнию, гастритом, и лицо имеет оправленное в круглую рамку из густых бакенбард. Он носит желтые перчатки, на шее у него белый атласный галстук. Невзирая на присутствие Сатаны, он беззаботно напевал себе
сквозь зубы арию из «Фрейшюца» и хвостом выколачивал
такт по полу. Он имел вид франта, и еще ученого франта.
С первого взгляда узнали б вы в нем романтика. Но он
романтик не журнальный, не такой, как Бубантус, а романтик высшего разряда, в четырех томах, с английскою
виньеткою.
— Здоров ли ты, черт Точкостав? — сказал ему Сатана.
— !.. ! Слуга покорнейший...!!!?...!!!! вашей адской
мрачности!!!!!....!..!.
— Давно мы с тобой не видались.
— Увы!...!!!..??..?!..!!!!!!!..! Я страдал...!!!... Я жестоко
377
страдал!!!!..!..!..!..? Мрачная влажность проникла в стены
души моей; гробовая сырость ее вторгнулась, как измена,
в мозг, и мое воображение, вися неподвижно в сем тяжелом, мокром, холодном тумане болезненности, мерцало только светом слабым, бледным, дрожащим, неровно мелькающим, похожим на ужасную улыбку рока, поразившего остротою свою добычу,— оно мерцало светом лампады, внесенной рукою гонимого в убийственный воздух ужаса и смрада,
заваленной гниющими трупами и хохочущими остовами...
— Что это значит? — воскликнул изумленный Сатана.
— Это значит??.!!!..?.!!!!!.!.! Это значит, что у меня был
насморк,— отвечал Точкостав.
— Ах ты, сумасброд! — вскричал царь чертей с нетерпением.— Перестанешь ли ты когда-нибудь или нет морочить меня своим отвратительным пустословием и говорить
со мною точками да этими кучами знаков вопросительных
и восклицательных?.. Я уже несколько раз сказывал тебе,
что терпеть их не могу, но теперь для вящей безопасности
от скуки и рвоты решаюсь принять в отношении к вам
общую, великую, государственную меру...
— Что такое?..— спросил встревоженный черт.
— Я отменяю,— продолжал Сатана,— уничтожаю формально и навсегда в моих владениях весь романтизм и
весь классицизм, потому что как тот, так и другой — сущая
бессмыслица.
— Как же теперь будет?..— спросил нечистый дух словесности.— Каким слогом будем мы разговаривать с вашею
мрачностью?.. Мы умеем только говорить классически или
романтически.
— А я не хочу знать ни того, ни другого! — примолвил
Сатана с суровым видом.— Оба эти рода смешны, ни с чем
несообразны, безвкусны, уродливы, ложны — ложны, как сам
черт! Понимаешь ли?.. И ежели в том дело, то я сам, моею
властию, предпишу вам новый род и новую школу словесности: вперед имеете вы говорить и писать не классически,
не романтически, а шарбалаамбарабурически.
— Шарбалаамбарабурически?..— сказал черт.
— Да, шарбалаамбарабурически,— присовокупил Сатана,— то есть писать дельно.
— Писать дельно?..— воскликнул великий черт словесности в совершенном остолбенении.— Писать дельно!.. Но
мы, ваша мрачность, умеем только писать романтически
или классически.
— Писать дельно, говорят тебе! — повторил Сатана с
378
гневом.— Дельно, то есть здраво, просто, естественно, сильно, без натяжек, ново, без трупов, палачей и шарлатанства,
приятно — без причесанных a la Titus1 периодов и одетых в
риторический парик оборотов, разнообразно — без греческой
мифологии и без Шекспирова чернокнижия, умно — без
старинных антитез и без нынешнего плутовства в словах
и мыслях. Понимаешь ли?.. Я так приказываю: это моя
выдумка.
— Писать здраво, просто, умно, разнообразно!..— повторил с своей стороны нечистый дух словесности в жестоком
смятении.— У вашей мрачности всегда бывают какие-то
чертовские выдумки. Мы умеем только писать классически
или ром...
— Слышал ли ты мою волю или нет?
— Слышал, ваша мрачность, но она неудобоисполнима.
— Почему?..
— Потому что я и подведомые мне словесники умеем
излагать наши мысли только классически или романтически,
то есть по одному из двух готовых образцов, по одной
из двух давно известных, определенных систем: писать же
так, чтоб это не было ни сглупа, по-афински, ни сдурна,
по-староанглийски,— того на земле никто исполнить не в
состоянии. Ваша нечистая сила полагаете, что у людей
такое же адское соображение, как у вас: они — клянусь
грехом! — умеют только скверно подражать, обезьянничать...
Прежде они подражали старине греческой, которую утрировали, коверкали бесчеловечно; теперь она им надоела, и я
подсунул им другую пошлую старину, именно великобританскую, на которую они бросились, как бешеные, и которую
опять стали утрировать и коверкать. Они сами видят, что
прежде были очень смешны; но того не чувствуют, что они
и теперь очень смешны, только другим образом, и радуются,
как будто нашли тайну быть совершенно новыми. Притом,
что пользы для вашей мрачности, когда люди станут писать
умно и дельно?
— Как что пользы?.. Я, по крайней мере, не умру от
скуки, слушая подобные глупости.
— Но владычество ваше на земле исчезнет.
— Отчего же так?
— Оттого что когда они начнут сочинять дельно, о
чертях и помину не будет. Ведь мы притча!..
— Ты думаешь?..
1 Подобно Титу Флавию (фр ).
379
— Без сомнения!.. Теперь вы самодержавно господствуете над всею земною словесностью, вы царствуете во всех
изящных произведениях ума человеческого. Все его творения
дышат нечистою силой, все бредят дьяволом. Греческий
Олимп разрушен до основания: Юпитер пал, и на его престоле
теперь сидите вы, мрачнейший Сатана. Я все так устроил,
что смертные писатели воспевают только ад, грех, порок
и преступление...
— Неужели?..— воскликнул царь тьмы с удовольствием.
— Ей-ей, ваша мрачность. Главные пружины нынешней
поэзии суть: вместо Венеры — ведьма, вместо Аполлона —
страшный, засаленный, вонючий шаман, вместо Нимф —
вампиры; она завалена трупами, черепами, скелетами, из
каждой ее строки каплет гнойная материя. Проза сделалась
настоящею помойною ямой: она толкует только о крови,
грязи, разбоях, палачах, муках, изувечениях, чахотках, уродах; она представляет нищету со всею се отвратительностью,
разврат со всею его прелестью, преступление со всею его
мерзостью, со всею наготою, соблазн и ужас со всеми
подробностями. Она с удовольствием разрывает могилы,
как алчная гиена, и забавляется, швыряя в проходящих
вырытыми костями; она ведет бедного читателя в мрачные
гробницы и, шутя, запирает его в гроб вместе с червивым
трупом; ведет в смрадные тюрьмы и, так же шутя, сажает
его на грязной соломе, подле извергов, разбойников и зажи-
гателей, с коими поет она неистовые песни; ведет в дома
распутства и бесчестия и, для потехи, бросает ему в лицо
все откопанные там нечистоты; ведет на лобные места,
подставляет под эшафоты и, в шутку, обливает его кровью
обезглавленных преступников. Она придумывает для него новые страдания, хохочет над его страданиями. Она мучит его
всем, чем только мучить возможно — предметом, тоном повествования, слогом — этим-то слогом моего изобретения,
свирепым, ядовитым, изломанным в зигзаг, набитым шипами,
удушливым, утомительным до крайности...
— Все это очень хорошо и похвально,— прервал Сатана,— но не прочно. Я знаю, что твой слог имеет все эти
достоинства, но думаешь ли ты, что читатели долго дозволят вам мучить их таким несносным образом? Ведь это
хуже, чем у меня в аду!..
— Конечно, недолго,— отвечал черт Точкостав,— но
между тем какое удовольствие, какая отрада мучить людей
порядком, и еще под видом собственного их наслаждения!..
380
— И то дело! — сказал Сатана.— Мучь же крепко, любезный Точкостав, своею романтическою прозою и поэзиею!
— Рад стараться, ваша мрачность.
— Если у вас, на земле, недостанет чернил на точки
и знаки восклицательные, то обратись ко мне. Мы можем
уделить вам полтора или два миллиона бочек нашего адского перегорелого дегтю.
— Не премину воспользоваться вашим великолепным
предложением.
— Что это у тебя в руке?
— Новый роман для вашей нечистой силы и вчерашние
парижские афишки.
— Ну, что вчера представляли на театрах в Париже?
— Все романтические пьесы, ваша мрачность. На одном
театре представляли чертей поющих, на другом чертей пляшущих, на третьем чертей сражающихся, на четвертом
виселицу, на пятом гильотину, на шестом мятеж, на седьмом
Антонио или прелюбодеяние...
— Неужели?..— воскликнул Сатана.— Ну что, как хорошо ли представляли прелюбодеяние?
— Очень хорошо, ваша мрачность: очень натурально.
— И это ты выучил их всему этому?
— Я, ваша мрачность.
— Хват, мой Точкостав!.. Вот тебе за то фальшивый
грош на водку. Какой это роман?
— Роман Жюль Жанена под заглавием Барнав, произведение самое адское...
— Поди поставь его в моей избранной библиотеке. Сегодня я его прочитаю, а завтра съем, и будет ему конец.
* * *
— Подайте мне трубку,— сказал Сатана.
Султан Магомет II, покоритель Константинополя, исправляет при дворе его нечистой силы знаменитую должность чубукчи-баииг. он чистит и набивает огромную медную
его трубку, сделанную из отбитой головы баснословного
родосского колосса. В эту трубку обыкновенно кладется
целый воз гнилого подрядного сена: это любимый табак
Сатаны — он даже другого не употребляет.
Черти, зная вкус своего повелителя, по ночам крадут
для него этот табак из разных провиантских магазинов. От
этого именно иногда происходит у людей недочет в казенном
сене.
381
Магомет II церемониально поднес набитую трубку. Сатана принял ее одною рукой, а другую внезапно простер в
сторону и схватил ею за голову одного из близстоящих
проклятых, преждебывшего издателя чужих сочинений с вариантами и своими замечаниями, высохшего, как лист бумаги, над сравнением текстов и помешавшегося на вопросительном знаке, поставленном в одной рукописи по ошибке,
вместо точки с запятою. Он смял его в горсти, придвинул
к своему носу и чихнул; искры обильно посыпались из
ноздрей его. Сухой толкователь чужих мыслей мгновенно
от них загорелся. Сатана зажег им трубку; остальную же
часть его он бросил на пол и затушил ногою. Недогоревший кусок ученого словочета представляет собою вид —
(;) точки с запятою!..
Все проклятые были опечалены горестною его судьбою
и поражены жестоким своенравием их обладателя. Но Сатана спокойно курил свое сено.
* * *
— Не угодно ли вам выслушать еще доклад главноуправляющего супружескими делами? — сказал адский верховный визирь.
— С удовольствием! — отвечал Сатана.— Я люблю соблазнительные летописи.
И черт супружеских дел явился.
Я не стану описывать его наружности, потому что три
четверти женатых читателей моих лично с ним знакомы;
я скажу только, что черт Фифи-Коко есть злой дух презлой,
прековарный, но вместе с тем очень любезный — смирный,
покорный, услужливый, как иной столоначальник перед
своею директоршею, и хитрый, как преступная жена, и плут
хуже всякого подьячего, и проворный искуситель, и в большом уважении у Сатаны. Он-то привел во искушение первую
нашу прародительницу, сообщив ей великую тайну всего
доброго и всего злого: в то время это была великая тайна,
но в наш просвещенный век даже все горничные знают
ее наизусть и без его содействия.
Но гораздо важнее то, что он знает тайны всех замужних
красавиц, и самой даже Сатанши. Сатана имеет крепкое на него подозрение, но но не говорит ни слова:
Сатана знает приличия.
— Что нового? — спросил черный повелитель.— Как
идут дела по твоей части?
382
— Отменно хорошо, ваша мрачность. Часть моя никогда
еще не бывала в столь цветущем состоянии, как теперь.
В супружествах господствует необыкновенная скука; мужья
и жены большею частью ссорятся дважды и трижды в день;
требования утешений непрестанны... У меня подлинно голова
кружится от множества дел.
— Я знаю твою деятельность и ревность,— примолвил
Сатана важно.— Покажи мне свою табель.
Фифи-Коко подал ему, на длинном листе бумаги, табель
супружеских происшествий за последний месяц на всей
поверхности земного шара. Сатана, держа трубку в зубах,
начал рассматривать ее с большим вниманием и при всякой
статье то восклицал от удовольствия, то от радости испускал
огромные клубы табачного дыма ртом, носом и ушами.
— Сколько измен!.. Сколько ссор!.. Какая пропасть
драк! — приговаривал он, читая табель.— Да какое множество любовных писем в течение одного месяца!.. Скажи,
пожалуй, неужели столько расстроил ты супружеств в столь
короткое время?.. 1111111 Это ужас!..
— Именно столько, ваша мрачность,— отвечал черт.
— Славно! Славно!..— воскликнул Сатана, продолжая
смотреть в бумагу.— Я должен сказать откровенно, что изо
всех отраслей моего правления твой департамент отличается
наилучшим порядком.
— Ваша мрачность слишком ко мне милостивы...
— Дела текут у тебя чрезвычайно скоро.
— Женщины, ваша нечистая сила, не любят, чтоб они
долго оставались на справке.
— И после масленицы у тебя нерешенных дел почти не
остается.
— Это самое удобное время к очистке сего рода.
— Притом же твоя часть чрезвычайно обширна и едва
ли не самая важная: она приносит мне наиболее пользы.
Фифи-Коко поклонился.
— Ни один из моих верных служителей не доставляет
мне такого числа проклятых, как ты. Сколько у нас в аду
великих мужей, глубокомудрых философов, мудрецов, святошей, фанатиков, которых никто из моих чертей не мог
соблазнить; а ты принялся за дело, женил их и — глядь —
через несколько времени привел их ко мне — и не одних!.,
мужа и жену вместе.
— Когда их, ваша мрачность, так легко поймать на
приманку сладкого греха! — примолвил черт, скромно потупив глаза.
383
— Как бы то ни было, но я умею ценить твои дарования и поставляю себе в обязанность наградить тебя
блистательным и приличным образом,— сказал Сатана с торжественным видом.— Вельзевул! В воздаяние знаменитых
подвигов и беспримерной деятельности моего главнокомандующего на земле супружескими делами вели вызолотить
ему рога.
Черти, содержащие стражу, схватили Фифи-Коко, отнесли его в геенну, всунули головою в печь и, раскалив ему
рога до надлежащей степени, вызолотили их прочно и богато;
потом пустили его в свет посевать дальнейшие раздоры
между двумя полами рода человеческого.
* * *
Сатана отдал трубку, встал с престола, зевнул, потянулся и сказал:
— Уф!.. Как я устал!.. Как скучно управлять с благоразумием людскими глупостями!.. Теперь пойду гулять между
огней в геенне, чтобы подышать свежим воздухом и полюбоваться приятным зрелищем, как жарятся люди.
И он ушел.
ЗАПИСКИ ДОМОВОГО
Рукопись без начала и без конца,
найденная под голландскою печью
во время перестройки
гомеопатически. Они удалились оба в другую комнату. Моя жена и сестры пошли за ними; их прекрасные лица были подернуты тем туманным беспокойством,
которое составляется из движущихся стихий любви, отчаяния и надежды и носится зловещим облаком над будущностью дорогих нашему сердцу, когда в ней скрывается опасность. Вскоре услышал я глухие вопли и вздохи, которые
томно отражались в моей спальне, проникая с трудом сквозь
сухие и беззвучные фибры досок затворенной двери. Следственно, нет надежды! Я должен умереть аллопатически и гомеопатически! Умереть по двум методам! Вдвойне
умереть!.. От бесконечно великих количеств лекарства и от
бесконечно малых! Это ужасно! Я думаю, что с тех пор, как
люди умирают от медицины, никто еще не испытывал такой
печальной участи. Уверенность в скором выздоровлении, которая в чахоточном усиливается обыкновенно по мере ослабления сил, поколебалась во мне в первый раз с того времени,
как лютая болезнь приковала меня к постели; но к собственному моему удивлению, страшная мысль о необходимости расстаться с жизнию в то самое мгновение, когда дни
мои так весело озарились лучами восходящего счастья, не
произвела большого потрясения: она ударилась в мои чувства так глухо, так невнятно, как ударяет молоточек клавиша
в опущенную струну, которая только зажужжит с неприятным бряцаньем, без звона и эха, и опять погрузится в немоту.
Я слышал удаляющиеся шаги докторов, которых мое семейство провожало до лестницы, чтобы исторгнуть у них какое-
нибудь признание, благоприятное для страдальца; но обе методы были непоколебимы и ушли, кланяясь очень учтиво,
в отчаянии, что не могли более торговать моей жизнию,—
когда стук двери дал мне знать об их уходе, мне даже стало
легче и веселее; мне показалось, что ею затворились все хло
13 Заказ 14
385
поты жизни, что все уже кончено, что я уж не существую.
Страх смерти обитает не в душе человека, но в его физической части; он действует только до тех пор, пока преобладают материальные силы, подчиняя своим пользам духовное
начало бытия; одно тело боится смерти, потому что смерть
грозит ему разрушением, и как скоро болезнь и изнеможение отнимут у материи то страшное самовластие, которое люди называют голосом природы, и дух не встречает в нем более противоречия,— разрушение тела делается для вас незначащим, посторонним предметом. Разобщенные колеса испорченной машины перестали издавать в моей груди тот
ржавый болезненный скрип, которым выражается страдание больного; я впал в какую-то отрадную слабость — и
сколько прежде страшился смерти и не мог подумать об ней
без трепета, столько теперь стал к ней равнодушен. Эта внезапная перемена произошла не от ухода моих докторов, которых мудрости я никогда не верил: быстрый упадок сил или,
точнее, жара крови, один был причиною этой каменной беззаботности, и я могу сравнить тогдашнее мое ощущение с
тем, какое испытывает человек, еще нежащийся в теплой
ванне и думающий, что вода уже простывает, что уже пора
выйти из нее на воздух и одеваться. Одиночество, в котором
я был оставлен, одно было для меня несколько тягостно: я
чувствовал как бы нужду в руке, которая бы помогла мне
встать из охладевающей купальни бытия и подала платье;
я ждал, но уже без нетерпения, возврата жены и сестер, чтобы проститься с ними, чтобы сказать, что я ухожу, что они
не должны печалиться, что путь, который мне предстоит, нисколько не опасен, что это только перемена квартиры... Пульс
уже не бился с некоторого времени: кровь, еще теплая, уже
не кружила, но стояла в жилах, как розовый спирт в фарен-
гейтовых трубах, понижаясь отовсюду к сердцу, подобно
термометру, вынесенному на прохладный воздух, и с последним, чуть-чуть приметным, ударом сердца водворилось во
всем теле удивительное спокойствие. То было восхитительное
безветрие после долгой бури. Сердце, эти единственные часы человеческой жизни, остановилось, как задержанный маятник, и время вдруг перестало для меня измеряться; я жил
уже за пределами времени и в первый раз ясно понял вечность, о которой люди, что бы они ни говорили, догадываются не умом, а только инстинктом. Вечность! Это — простое
отсутствие всякой меры. Состояние человека невыразимо с
той минуты, как плоть отказывается от дальнейшей работы на
его существо и предоставляет здание ведению невеществен
386
ного начала, духа, или, как его зовут часто, разума. Разум
светистою волною разливается тогда по всему телу и выходит из него во все поры в виде радужного, нематериального
испарения; оно образует около него эфирное облако: тело
как бы завешано в атмосфере своего духа. Я тут впервые
увидел мысль вне человека. Не глядя, видел я, как в зеркале, весь состав своего животного строения, весь этот удивительный механизм миллиона трубок, пружин, связей, рычагов и колес, таких тонких, так искусно сцепленных и на ту
пору стоявших в бездействии; я мог бы в двух словах объяснить физиологам, которые, клянусь вам, не более лот этой
печи смыслят про образ действия жизни, всю эту таинственную гидростатику многочисленных жидкостей, текучих и летучих, называемую «жизнию» и производящую различные
отправления тела, от простого движения ног до трудов памяти и воображения. Никакая паровая мельница не может
быть простее этого! И это в самом деле паровая мельница.
Они узнают ее при смерти, в те дивные мгновения, которые
называют они последними проблесками ума и которые суть
только начало великолепнейшего из явлений в теле — отделения вещества от духа, материи от не-материи, того от не-
того, да от нет, которых взаимное сочетание и вместе с тем
противоположное стремление образует одно отдельное целое, феномен лица и его жизни, отрывок сложной машины
времени, состоящей из соединения всех отдельных жизней...
Дверь тихонько отворилась, и я увидел через верх передка
моей кровати белое чело жены, осененное черными ее волосами в печальном беспорядке, который придавал ему особенную прелесть. Я хотел позвать ее к себе, но голос не вышел из груди, и слова: «Друг мой!» — вылетели из нее без
звука, как бы произнесенные в совершенной пустоте; они потонули в воздухе у самых уст моих, даже не пошевелив его,
не произведши в нем тех кругов, которые в таком множестве
и так быстро выходят из каждого слова, упавшего на его поверхность, дрожат, расширяются, несутся вдаль и исписывают прозрачное пространство звучащими дугами. Это был
уже образ того гробового беззвучия, которое начинается за
пределами вещества. Я понял, что меня там ожидало... Тихими шагами, едва касаясь земли маленькой, дрожащей ножкою, подходила ко мне юная супруга. Ее бледное лицо, заплаканные глаза, руки, сложенные на груди, медленные движения и измятое платье сливалось в стройную картину столь
глубокого несчастия, что гранит застонал бы от подобного
зрелища. Она села против меня на стуле, и ее руки, судорож
13*
387
но сплетенные пальцами, упали на колени, и ее глаза, иссушенные отчаянием, устремились на мое лицо с несказанным
выражением любви и горести. Я видел в них прощание...
Бедная женщина! Ты должна страдать одна. О, зачем я не
могу теперь разделить твоей печали, как прежде разделял
твое невинное блаженство! Сердце это уже не движется!
Эта кровь уже не волнуется!.. Твоя печаль только отражается на ее тиши, как траур туч на зеркальном лице спящего
океана, не смущая оцепеневших пучин страсти. Эта кровь,
зажигавшаяся пламенем от одного твоего прикосновения, в
горячие волны которой ты так часто выливала всю сладость
твоего существа, которая неслась вся к сердцу, как скоро
твой образ наполнял его счастием, теперь, когда тебя раздирают пополам, когда живую зарывают в землю,— эта кровь
даже не шелохнется! Я делал страшные усилия, чтобы возбудить в себе печаль, и никак не мог добиться до этого чувства, которое было бы тогда для меня благодеянием. Страсти
мои, казалось, сзсрновались около сердца и покрыли его своими холодными кристаллами... Весь мой дух скопился около
юной супруги; я окружил еще недавно обожаемую женщину
своей душою, которая лелеяла ее в своих объятиях, проникала во все ее чистое и красивое тело и смешивалась внутри
его с ее духом. Это не была любовь, потому что я уже не мог
любить, но нечто торжественнее любви: милое женское существо, с поникнутою головкою и заломанными руками, сидело в облаке неземного света, который дивным образом
усиливал ее прелести и придавал ей почти небесную красу.
То было обоготворение любящей женщины. О если б грубые
земные чувства позволили ей видеть себя в эту минуту!.. Я
собрал последние силы, чтобы высвободить руку из-под одеяла и протянуть к ней. С какою страстью схватила она своими мягкими и теплыми ладонями эту руку, желтую, сухую,
оглоданную хищной болезнью и уже холодную! Никогда в
безумном упоении сладострастного восторга не целовала она
се с такой жадностью и таким жаром. Она зарыдала. Слезы
брызнули из ее глаз и потопили руку, пригвозженную поцелуями к ее устам. Чистее этого умовения, я думаю, нет в
природе: оно сильно смыть даже кровь невинного с руки
убийцы... Лицо ее окрасилось румянцем; не выпуская моей руки, она подняла на меня свои большие мокрые глаза
и, казалось, умоляла ими, чтобы я остался с ней на земле;
и я никогда, даже в день нашего брака, не видал ее прелестнейшею, чем в это мгновение. Две мои молоденькие сестры,
вошед неприметно не знаю когда, стояли по другую сторону
388
кровати и плакали: их лица, в которых огонь плача боролся
с бледностью и усталостью от бессонных ночей, проведенных
подле больного брата, были еще красивее обыкновенного.
Заходящее солнце удивительным образом освещало их и
всю комнату. Между тем тело мое быстро остывало по всем
оконечностям; руки и ноги, совсем оледенелые, лежали подле меня как неподвижные глыбы, не принадлежащие к моему составу: там уже господствовала смерть; жизнь еще тлела в желудке, груди и голове, но и тут уже гробовой мороз,
подвигаясь снизу и боков, пожирал одни части тела за другими. Отделение духа от вещества происходило с большой
силой и в отдаленнейших членах уже довершалось: там, где
дух совсем оставил тленно здание, частицы тела, лишенные
своей волшебной связи, тотчас начинали бродить и наступало разложение. В сильном движении горести моя жена, падая на колени, дернула меня за руки, нехотя, но довольно
крепко. Сердце мое закачалось — тихо, без биения,— и легкая теплота неожиданно согрела пустую грудь. Я воспользовался минутным возвратом жизни, чтобы сказать доброй подруге: «Прощай, мой друг!.. Я был счастлив, очень счастлив
с тобою...» Я хотел еще возблагодарить сестер за нежную
привязанность, но мои уста внезапно сомкнулись, и я никак
не мог раздвинуть челюстей. Сердце опять остановилось.
Одно только чувство, или что-то похожее на чувство, пробудилось во мне при этом потрясении: то было сожаление. Видя эту прелестную женщину, с которою я надеялся дожить
на земле до старости — вы сами знаете, как хороша моя
Лиза! — этих милых девиц, которые выросли и расцвели на
моих руках, этот солнечный свет, который лился из окна на
стену розовыми и золотыми струями, мне стало жаль красоты и солнечного света. Расстаться с ними навсегда, никогда их не видеть, перейти в неизвестный мир, где они не нужны или, может статься, не существуют,— о, эта мысль способна отравить горечью всю сладость смертельного бесстрастия! Все остальное в мире, право, не стоит никакого сожаления и не возбуждает его в умирающем. Но этот чудесный солнечный свет!.. Но эта красота, чудеснее самого солнца и света! Их одних хотел бы я унести с собою в могилу. Я
уверен, что солнечное сияние создано только для того, чтобы
можно было видеть красоту... Однако ж это чувство, уже последнее, было непродолжительно: жизнь качающимися кругами, которые постепенно уменьшались, переносилась в голову; я начинал уже ощущать усыпление, которое исподволь
охватывало всего меня. Охладелые части тела казались уже
389
спящими; те, которые были еще теплы, повергались в сильную дремоту. Свет померкал в моих глазах: пленительное
лицо жены сперва окружилось в них венцом призматических
цветов, потом стало редеть, рассеиваться, исчезало и, наконец, исчезло в темноте, прорезываемой волшебными огнями. Сетчатая ткань глаза вдруг окаменела, в ушах зазвенело, слух пресекся тоже. Я почувствовал род весьма приятного опьянения, и невыразимая сладость забвения скоро поглотила все мое существо. Запертая обмершими чувствами
мысль стала выражать последние свои движения ясными
сновидениями, которые были чрезвычайно разнообразны и
игривы, как в начале обыкновенного сна. Остаток воли боролся еще некоторое время с этим непреодолимым позывом
на сон, и в промежутки пробуждения я чувствовал, что круги сосредоточившейся жизни, о которых говорил вам, избрав
своим центром голову и суживаясь постепенно, сбегаются в
мозгу, качаются уже около одной светлой точки, наконец,
вошли все в эту точку, в ней заключилось и все мое самоощущение, которое поминутно утопало в превозмогающей дремоте. Мне снилось, будто моя жена — оно и в самом деле
так было — бросилась на меня с рыданием и начала целовать мои ноги и колена. Мне хотелось закричать ей: «Не там,
друг мой!.. Там я уже не существую!.. Сюда-сюда! Разбей
мою голову и вдохни в себя последнюю искру жизни, которая
еще сверкает в мозгу и скоро погаснет...» Но слова, произносимые в мысли, не находили для себя звуков, что нередко испытывается и во сне: все тело уже спало, то есть было
мертво, и жила только одна голова, но и та жила полужиз-
нию — дремотою. Сновидения, чрезвычайно странные и все
более несвязные, текли с необыкновенною скоростью, и так
как каждое из них, продолжаясь не более одного мгновения,
кажется засыпающему действием, растянутым на большой
промежуток времени, то я в эти пять минут, пока не уснул,
прожил, по крайней мере, два или три месяца. Странный обман тела! Можно было бы написать целый том историй, собрав все чудные фантазии, которые наплодились в моей голове в короткое время этого засыпания. Наконец сон преодолел меня — меня, то есть мой мозг, все, что еще от меня осталось в живых,— и я уснул самым крепким и роскошным сном,
какого никогда еще нс испытывал в жизни. Это была смерть.
Вот и вся история. Я умер, и меня похоронили; но должен
признаться, что был набитый дурак при жизни, когда боялся
того, что ничуть не страшнее обыкновенного сна и, может,
еще слаще его; сон вечерний приятен только тем, что это от
390
дых после трудов одного дня, а умирая, вы засыпаете от изнеможения тела в течение всего вашего земного существования, со всеми его изнурительными удовольствиями, страданиями и работами, и потому засыпаете еще лучше. Последние минуты этого оцепенения похожи на то, что ощущают
турки, приняв гран опиума... Вы вздыхаете?
— Да!— сказал я моему гостю, мертвецу.— Мы, домовые, и вообще все духи, по несчастию, бессмертны и никак
не можем умереть.
— А вы бы хотели тоже быть подверженными смерти?
— Почему ж не хотеть? Одним лишним наслаждением в
жизни более!
— Конечно,— сказал мертвец,— люди в этом отношении
счастливее духов. Но вы, господа домовые, пользуетесь тоже одним бесценным преимуществом: вы можете пролезть
во всякую замочную скважину и вытащить в нее все, что хотите, все, что вам нужно; вы пользуетесь без труда чужим
добром, не ломая дверей и не портя замков, за что у людей
строжайше наказывается. Что ни говорите, а это большое
счастие! Нынче много говорят и пишут на земле о бесконечном совершенствовании человечества и предлагают различные способы коренного преобразования обществ, чтоб достигнуть этой высокой цели; но я думаю, что человек тогда
только был бы существом истинно совершенным, если б соединить в нем удовольствие умереть со способностью вытаскивать незаметно в замочные скважины все, что ему понра
вится: дюжину бутылок силери, хорошенькую чужую жену,
английскую лошадь...
В это мгновение послышался страшный шум на крышке.
Я приостановил моего собеседника, но шум утих, и мы опять
принялись за наш интересный разговор.
— Ваши взгляды на усовершенствование человечества,—
сказал я,— очень светлы и основательны; способность эта
была бы тем полезнее для человечества, что она не влечет за
собою никаких общественных распрь, соблазнов, неудобств:
за пропажу, когда двери и замки целы, поколотят только лакеев или дворецких — и все кончено; человечество цело и
спокойно.
— Жаль только, что нельзя умереть дважды,— присовокупил он.— Это было бы еще совершеннее и приятнее...
Шум на крышке, который недавно встревожил меня, имел
основание. Когда мой гость произносил эти слова, огромная
черная головешка, упавшая, как потом оказалось, сквозь
дымовую трубу, со стуком шлепнулась оземь между камином
391
и его решеткою. Мы оба вскочили с дивана. Я подошел к камину, взял ее в руки и хотел положить в жаровник, потому
что не люблю беспорядка и вовсе не одобряю тех домовых,
которые ночью переставляют стулья и вытаскивают подушки из-под голов, как кто-то вдруг схватил меня за шею и стал
душить, целуя изо всей силы. Я оборонялся от этой нечаянной нежности, не зная, кому за нее быть благодарным, отворачивал голову от непрошеных поцелуев и тут только увидел, что вместо головешки держу в руках две козлиные ноги,
на которых держится чье-то туловище, так неожиданно взвалившееся мне на шею со всею тяжестью своей сердечной
дружбы. Я пустил эти две ноги. Передо мной явился — кто
бы вы думали? — старинный друг мой, черт Бубантес! Он
хохотал как сумасшедший и, забавляясь моим изумлением,
бросился еще раз целовать меня. Мы нежно обняли друг
друга.
— Друг мой, Чурка! — кричал Бубантес, вне себя от радости.— Здоров ли, весел ли ты? Давно мы с тобой не видались!
— Давненько! — сказал я.— Чай, будет с лишком двести лет.
— Около того... Я совсем потерял тебя из виду,— сказал Бубантес,— и не знал даже, где ты обретаешься. Я думал, что ты все еще в Стокгольме...
— Нет, друг мой, я здесь,— сказал я.— С постройки этого дома я поселился в нем, вот именно здесь, на печи... Да
какими судьбами попал ты сюда?
— Это длинная история,— отвечал он.— Я расскажу
ее потом... Я спасался из одного места и не знал, куда укрыться... Смотрю: труба; я в нее — и вот в твоих объятиях.
— Зачем же ты прикинулся головешкой... Фуй, как ты
меня напугал!
— Зачем головешкой? Да так! Я, вишь, хотел упасть сюда инкогнито... Дом мне незнакомый; я боялся найти здесь
ханжей, от которых теперь очень опасно нашему брату, черту; грешат вместе с вами, а при первом удобном случае сами же на вас доносят... Знаешь ли, что их опять развелось
много? Я не люблю ханжей: это грешники, которые хотят надуть черта. Гораздо лучше иметь дело с честными грешниками. Подумай, что они стали тискать на меня статьи в моих журналах!
— А ты все еще возишься с журналами? — спросил я.
— Да, дружище! — сказал он с глубоким вздохом.—
Делать нечего. Сатана приказал!.. Вот уже четвертое столе
392
тие, как я правлю должностью главного черта журналистики
и довел этот грех до совершенства, а от его мрачности не получил ничего, кроме щелчков в нос, в награду. Ах, если б ты
знал, что за поганое ремесло! С какими людьми приходится
иметь дело! Вот и нынче провел весь вечер в одном газетном
вертепе, где курили и клеветали хуже, чем в аду. Я завернул
туда, чтоб помочь состряпать маленький журнальный грешок: в нашем городе есть одна упавшая репутация, которая издает новую книгу; решено было поднять ее и поставить на ноги. Собралось человек тридцать ее приятелей, все
из литераторов. Когда я пришел туда, они миром подымали
ее с земли, за уши, за руки, за ноги. Я присоединился к ним
и взял ее за нос. Мы дружно напрягли все силы; пыхтели,
охали, мучились и ничего не сделали. Мы подложили колья
и кольями хотели поднять ее. Ни с места! Ну, любезнейший!
Ты не можешь себе представить, что значит упавшая литературная репутация. В целой вселенной нет ничего тяжелее. Мы
ее бросили. Тогда я, для опыта, немножко пошевелил хвостом их злобу: тут как они стали царапать и рвать все репутации, стоячие и лежачие, как понесли свой грязный вздор,
в котором, кроме желчи и невежества, не было ничего годного даже для ада — да такой вздор, что уже мне, природному черту, стало страшно и мерзко слушать — так я не
знал, куда деваться! Я побежал стремглав, поджавши хвост,
заткнув уши, зажмурив глаза; летел, летел, летел... и если
б не эта труба... Я немножко ушиб себе бок... Да не в том
дело: здоров ли ты, старый друг, Чурка? Как поживаешь...
Кто этот длинный скелет? — спросил он, нагнувшись к моему уху.
— Это... покойный хозяин здешнего дома,— сказал я шепотом.— Он пришел ко мне в гости с кладбища.
— Каких он правил?
— Очень почетный, честный грешник.
— Познакомь же меня с своим хозяином, мой Чурочка.
Ты всегда отличался знанием светских приличий в своем запечье.
— С большим удовольствием,— сказал я и представил
их друг другу.— Мой приятель Бубантес, главный черт журналистики! Иван Иванович, бывший читатель! Прошу быть
знакомыми, полюбить друг друга и садиться.
Они поклонились и пожали себе руки.
— Вы давно изволили скончаться? — вежливо спросил
Бубантес нового своего знакомца.
— Год и две недели,— сказал он.
393
— Как вы находите этот свет? — продолжал любезный
черт.
Мой мертвец несколько смутился, не понимая вопроса.
— Когда я говорю «этот»,— быстро подхватил Бубантес,— это значит «тот». Свет, который вы при жизни называли «тем светом», называется у нас «этим», и обратно. Вы еще
не привыкли к нашей терминологии, но она очень ясна. Следственно, как вы находите этот свет, наш свет, свет духов...
— Очень приятным,— отвечал наконец покойный Иван
Иванович.
— Я так и думал,— сказал черт с своей коварной усмешкой.— Я говорю это не из патриотизма, но многие очень
просвещенные путешественники с того света, то есть с людского света, находят, что здесь гораздо отраднее и веселее.
— И я*того же мнения,— сказал мертвец.— Особенно
мне нравится здесь это удивительное спокойствие и бесстрастие, которыми отличается жизнь мертвецов. Нельзя сказать
чтобы и жизнь того, человеческого света не имела своих прелестей... Есть кой-какие очень приятные грехи, для которых
стоит потаскать тело на своих костях известное число годов,
но самое важное неудобство той жизни — это теплая кровь,
кровь, которая ворочается в вас мельницею, кружится настоящим омутом, разгорячает вас при каждом движении,
при каждом обстоятельстве, порождая те вспышки внутреннего жара, которые называют там страстями; которая жжет
вас, душит поминутно, содержит тело в беспрерывном беспокойстве, разоряет его, начиняет болезнями... Это второй
ад, быть может, еще хуже настоящего! Вообще там очень
душно от теплой крови, и я ни за какое благо не согласился
б воротиться туда, разве когда-нибудь, совершенствуя человечество, выдумают холодные страсти. Здесь, по крайней
мере, нет крови, и ничто вас не тревоЖит; вы всегда наслаждаетесь ровною и отрадною прохладою ума, совершенною
сухостью чувства, восхитительным отсутствием страстей...
— Здесь бы и писать беспристрастные критики! — воскликнул Бубантес, весело повернувшись трижды на одной
ножке журнальным франтом.— Мои молодцы завели в одном городе, недалеко отсюда, фабрику беспристрастия, да
что-то нейдет! По сю пору мы выделываем только простую
брань без ума, которая худо продается.
— Да что ж вы стоите? — сказал я моим гостям.— Присядьте, пожалуйста, у меня.
— Где ж у тебя сидеть? — сказал Бубантес, оглядыва
394
ясь.— Тут нет ни одного гвоздя в стене! Если б были три
гвоздика, мы уселись бы рядком.
Он прошелся по зале и, приблизившись к камину, увидел,
что под черною корою перегоревшего угля мерцает еще
огонь. Он разгреб верхние уголья и от нечего делать начал
поправлять жар, уравнивать лопаткой, раздувать.
— Не угодно ли тебе чего-нибудь у нас отведать? —
спросил я его.
— С моим удовольствием,— сказал черт, занятый своей
работой.— А что у тебя есть? Нет ли английской горчицы?
— Как не быть!
Я порхнул в буфет и вытащил сквозь ключевую скважину большую банку превосходной английской горчицы, желтой как золото и крепкой как огонь. Он взял банку в одну руку, другой поднял вверх полы своего немецкого кафтана и
сел в камине на горящих углях.
— Вы позволите мне сидеть здесь,— сказал он,— это
мое любимое место; а сами садитесь в кресла перед камином,
и будем беседовать.
Мертвец погрузился в красные вольтеровские кресла, которые я ему придвинул, я взял стул, и мы составили тесный
дружеский круг около камина, которого влияние на чистосердечие беседы и домашнее счастие известно отчасти и
людям. Бубантес уверял меня однажды, что об этом измарано у них столько бумаги, что он берется топить ею в течение целого месяца тридцать тысяч бань. Я люблю этого милого и умного черта, но по временам он лжет как александрийский грек!
— Об чем вы изволили рассуждать между собою до моего прихода? — сказал он, взяв из банки ложку горчицы.—
Сделайте одолжение, не церемоньтесь со мной... Продолжайте ваш разговор...
— Мы говорили о людях,— сказал я.— Об чем же говорить более? Иван Иванович описывал мне те приятные ощущения, которые человек испытывает в минуту смерти...
— Твоя горчица чудо! — прервал меня Бубантес.— Я не
имел чести быть на званом обеде, который Яков II, король
английский, стряпал для черта и для которого он набрал три
самые тонкие адские блюда—лимбургский сыр, жевательный табак и горчицу; но и у него не было ничего подобного.
Вы говорили о смерти?
— Ты очень любезен,— сказал я,— горчица самая обыкновенная. Да, об удовольствиях смерти. И в то самое время,
когда ты к нам провалился, Иван Иванович делал весьма
395
основательное замечание, что жизнь человека была бы вдвое
приятнее, если б он мог умирать дважды.
— Умирать дважды? — сказал черт, набивая себе рот
горчицею.— Если человек желает умереть дважды, пусть
перед смертью он ляжет спать и умрет, уже проснувшись.
Уснуть или умереть — это все равно. Шекспирово perchance1 тут ничего не поможет. Между смертию и сном нет никакой разницы, разве та, что от смерти нельзя очнуться.
— Однако ж я читал на том свете, что когда тело погружается в сон и бездействие, тогда дух, свободный от его бремени, действует с особенною силою и светлостью...
Черт захохотал так крепко, что чуть не уронил банки и
не разметал жару по всей зале.
— Ха, ха, ха! Тело в бездействии, а дух в действии! Ха,
ха, ха! Знаете ли, что такое вы читали? Извините, что я смеюсь! Ха,- ха, ха, ха, ха! Мне нельзя не смеяться, потому что
я знаю, откуда это вышло. Мой приятель черт Кода-Нора,
большой шарлатан, выдумал эту историю для магнетистов,
и они вместе надули многих. Шутка была удачная, но удить
ею можно только живые головы, а не мертвецов. С такой головой, как ваша, совершенно пустой, чистой, без этого мягкого, дрянного мозга, которым завалены черепы на том свете,
невозможно поверить такой бессмыслице. Как вы хотите,
чтобы в непогребенном человеке дух действовал отдельно
от тела или тело отдельно от духа, когда тело органическое есть слияние в данную форму вещества с пе-веществом,
материи с духом и когда расторжение их самотеснейшей
связи тотчас уничтожает тело? Вы намекаете на сны? Вы,
может статься, хотите представить сновидение в доказательство отдельного действия духа в теле, оцепеневшем и неподвижном? Но сновидения, сударь мой, происходят только в
полубдении, во время дремоты, а не совершенного сна, в минуты засыпания и пробуждения. Оттого вы их и помните! Но
как скоро человек погружается в сон, полный и ровный, все
умственные отправления прекращаются совершенно; дух его
находится в настоящем оцепенении; он ничего не чувствует,
не мыслит и не помнит: он мертв кругом, умер и живет только относительно к не утраченной еще возможности прийти
опять в полную духовно-вещественную жизнь. Сладость, которую вы чувствуете, засыпая, есть именно следствие этого
погружения духа в совершенное бездействие, в смерть. Мы,
черти, знаем это лучше вас. Сколько раз человек засыпает,
* Может быть (англ.).
396
столько раз он действительно умирает на известное время.
Вы можете мне поверить. Таким образом, земное его существование составлено, как вы изволите видеть, просто из беспрестанной переметки периодической жизни и смерти. Иначе
вы не объясните сна. И заметьте, милостивые государи, что
этот периодический возврат жизни и смерти соответствует
периодическому появлению и исчезновению солнца на горизонте и что мысль, разум, когда нет насилия природе, прекращается, как скоро оно заходит. Из этого вы можете выводить заключения, какие вам угодно, а я между тем буду
есть горчицу.
— Самое простое заключение,— сказал мой мертвец,
улыбаясь1,— есть то, что я, который в течение тридцати двух
лет имел каждый день удовольствие умирать и оживать, сам
этого не примечая, был такой же дурак, как Мольеров дворянин из мещан, который не знал, что он весь век говорил
прозою.
— Вы умный мертвец и делаете сравнения чрезвычайно
удачные,— сказал коварно Бубантес,— но вы можете присовокупить, что когда, таким образом засыпая и просыпаясь,
умирая и воскресая попеременно, вы наконец доспали до такого сна, во время которого потеряли всю теплоту и от которого не могли уже проснуться, тогда вы умерли окончательно, навсегда — обстоятельство, которому я обязан вашим
приятным знакомством и честью беседовать с вами в этом
месте у общего нашего приятеля, домового Чурки. Сон, сударь мой, есть смерть теплая, а смерть — сон холодный. Все
дело состоит в температуре. Замерзание здорового человека начинается сном. Это знают и черти, и люди. Но полно об
этом. Часто ли вы бываете у нашего почтенного Чурки?
— О, нельзя сказать, чтобы часто! — воскликнул я.
— Сегодня в первый раз я решился оставить кладбище,—
отвечал мертвец,— по одному неприятному случаю...
— По какому?
— У нас, извольте видеть, вышла ссора с соседкой. Меня похоронили подле какой-то сварливой бабы, старой и гадкой грешницы, скелета кривого, беззубого и самого безобразного, какой только вы можете себе представить. Пока мой
гроб был цел, я не обращал на нее большого внимания, но на
прошедшей неделе он развалился, и с тех пор житья мне от
нее нет в земле. Эта проклятая баба — ее зовут Акулиной
Викентьевной — толкает меня, бранит, щиплет, кусает и го-
Это должна быть метафора. У мертвеца, кажется, не было уст.
397
ворит, что я мешаю ей лежать покойно, что я стеснил собою
ее обиталище...
— Ну-с?
— Ну, словом, мочи нет с нею. Мы подрались. Я, кажется, вышиб ей два последние зуба, которые еще оставались
в верхней челюсти.
— Ну, ну!
— Да, правда, вырвал еще нижнюю челюсть и кость правой ноги и бросил их куда-то далеко в ров.
— Что ж она на это?
— Ничего. Она пошла по всем гробам отыскивать челюсть и ногу, всполошила всех покойников, перебранилась
со всеми остовами, которые, впрочем, давно терпеть ее не
могут. Она никому не даст покоя сажен на сто вокруг.
— А вы что на это?
— А я между тем ушел и, гуляя, завернул сюда посмотреть, что делается в этом доме по моей смерти.
— Вы же говорили, что вам так нравится удивительное
спокойствие нашего, света? — сказал насмешливый черт.
— Конечно, говорил,— отвечал мертвец,— на каком же
свете нет маленьких неприятностей? Впрочем, все суматохи
происходят здесь так тихо, так хладнокровно, что их нельзя
и называть суматохами. То ли дело на том свете! Там кровь
пережгла б вам все жилы; там страсти задушили б вас на
месте; там уже случился б с вами удар... Я решительно предпочитаю наш мертвый мир тому и могу сказать, что если б
не случайное неудобство быть иногда положенным в земле
подле старой бабы, сверхъестественный свет был бы совершенство.
— Так вот какая история! — воскликнул черт.— Л я,
признаюсь откровенно, не имея чести вас знать, думал все
это время, что вы приволакиваетесь в здешних странах за
какой-нибудь красоткой того света. Вы меня извините, но это
часто случается с вашей братьею. Я знавал многих мертвецов, которые просиживали по целым ночам в спальнях, подле
прежних своих возлюбленных, и потихоньку прикладывали
свои холодные поцелуи к их горячим спящим устам. О, между вами, господа скелеты, есть ужасные обольстители прекрасного пола!.. И тут нет ничего удивительного. Привычка
большое дело! Это остается в костях.
Мертвец смутился. Он не знал, что отвечать черту, боясь, по-видимому, чтобы Бубантес не донес на него в ад. Я
решился вывести его из затруднения.
— Что греха таить, Иван Иванович! — сказал я.— Мы
398
можем говорить здесь откровенно. Мой старый друг Бубантес не такой черт, как вы думаете. Он не в состоянии сделать
подлости...
Мертвец ободрился.
— Признаться сказать,— продолжал я,— покойный
Иван Иванович пришел, собственно, посмотреть на свою красивую супругу, которая спит вот через три комнаты отсюда.
При жизни они обожали друг друга до беспамятства. Ему
теперь некстати быть влюбленным будучи без крови и тела, но его бедная жена по сю пору души в нем не чает. Как
она плакала об нем! Как рыдала! Как нежно призывала его
по имени, засыпая прошедший вечер! Я один тому свидетель!.. Больно смотреть на ее мучения, на ее отчаяние, на ее
безнадежную любовь.
Мертвец был растроган до глубины костей. Он сидел неподвижно, с поникнутой головой, сложив руки на груди.
— Когда покойный Иван Иванович пришел сюда, как
бы исторгнутый из земли ее любящим, магнитным сердцем,
как бы невольно привлеченный им сюда, мы пошли к ней в
спальню и нашли ее в самом умильном положении. Она спала, обняв белыми и полными руками подушку, смоченную
потоком слез, на которой покоилась ее прелестная головка;
обнаженные плечи и часть груди имели гладкость, блеск и
молочную прозрачность алебастра; пурпуровые губки были
полураскрыты и обнаруживали два ряда прекрасных перловых зубов; в линиях лица играл огонь розового цвета, удивительной чистоты и нежности; она была очаровательна, как
дух высоких сфер, и, казалось, пламенно жала эту подушку
к своей груди...
— Вдовьи нравы,— сказал злой Бубантес вполголоса, с
хитрою усмешкой.
— Она, средь своей, как ты говоришь, теплой смерти, так
страстно и так чисто любила мужа, похищенного у ней смертью холодной, что мне стало досадно быть только духом подле такого пленительного тела, а покойный Иван Иванович
не выдержал и поцеловал ее в самый ротик — да так, что его
мертвые зубы стукнули в ее зубки!..
Бубантес коварно мигнул покойнику.
— Э!.. Каковы наши мертвецы! Что, если б хорошенькие женщины знали, как вы, господа, лобызаете их по ночам?.. Ведь это ужас?
— Ах, почтеннейший,— воскликнул мертвец,— она такая добрая, такая прекрасная! Это самая удивительная женщина, какая только существует под солнцем! За один ее по
399
целуй можно отдать целое кладбище, а для того, чтобы поцеловать ее, стоит, даю вам слово, сделать путешествие в
мир вещественный.
— И притом, такая добродетельная! — примолвил я.—
Вот уж, любезный Бубантес, посмотрели б мы, как бы ее-то
ввел ты во искушение!
— За себя я не отвечаю,— скромно сказал он,— я не ловок на эти дела и притом никогда не занимался женской частью; но, уверяю тебя, у нас есть черти, которые соблазнят
всякую женщину, хоть бы она вылита была вся из добродетели. Я видал удивительные примеры.
— Из добродетели, так! — возразил покойный муж.—
Но не из любви. Когда женщина вылита вся из чистой любви
к одному мужчине, когда эта любовь сделалась ее жизнью,
стихией, которою она дышит, второю душой ее, тут уж чертям нет поживы...
— Продолжайте,— сказал равнодушно Бубантес, ста-
новя банку с горчицей наземь.
Он снял с головы свой высокий остроконечный колпак
и начал приготовлять из него род мешка.
— Любовь к женщине делает чудеса,— продолжал
мертвец.— Эта непонятная сила превращает существо слабое в самое сильное волею, в самое торжественное благородством чувствований. Тогда предмет ее любви теряет для
нее свои земные формы, становится идеалом, господствует
над нею' вблизи и издали, пространства для нее исчезают,
самое время бессильно, и она живет в своем возлюбленном,
разделен ли он с нею расстоянием, жив ли или зарыт в
могиле...
— Ну,— сказал черт, занятый весь своим мешком, который он комкал на коленях, не глядя на нас.
— Я уверен,— сказал мертвец,— что эта таинственная
сила, которая так же крепко связывает два существа между собою, как пух связывает частицы материн в живом теле и образует из них одно правильное целое, не уничтожается смертью одного из двух существ; что она продолжает
соединять тело одного с прахом другого даже сквозь пласт
земли, который их разделяет, что она разрушается только
при окончательном разрушении обоих тел, и тут еще она
должна жить в душах их: улетев в дальние пространства,
их души, без сомнения, отыскивают друг друга и сливаются
там в одну душу той же любовью.
— Ах, какой же вы читатель! — закричал черт покойнику, смеясь от чистого сердца.— Вы настоящий читатель!
400
Подите-ка сюда! Чурка, поди и ты сюда! Смотрите мне в
горсть, когда ее раскрою.
Мы подошли к нему. Он погрузил руку в мешок, сделанный из колпака, собрал что-то внутри, вынул кулак и, раскрывая его, сказал:
— Смотрите!.. Вот любовь.
На черной его ладони взвилось пламя, чрезвычайно тонкое, прозрачное, летучее, удивительной красоты: в одно мгновение ока оно переменяло все цвета, не останавливаясь ни
на одном, что придавало ему самый блистательный и нежный отлив, которого ни с чем сравнить невозможно.
— Как! Это любовь? — вскричал изумленный мертвец,
хватая своей костяной лапою это чудесное пламя, которое
в тот же миг исчезло.
— Самая чистая любовь,— сказал черт, улыбаясь и посматривая ему в глазные впадины с любопытством.— Что, хороша штука?.. Мой колпак, сударь, лучшая химическая реторта в мире. Вы можете быть уверены, что это любовь: я
выжал ее из воздуха и очистил от всех посторонних газов.
Любовь, милостивые государи, разлита в воздухе.
Бубантес надел колпак на голову и встал с жаровника.
Мы начали ходить по зале и рассуждать об этом пламени.
Мертвецу никак не верилось, чтобы это была настоящая
любовь, но черт говорил так убедительно, столько клялся
своим хвостом, что, наконец, тот согласился с ним в возможности отделять это роскошное чувство от воздуха и продавать его в бутылках. Они рассчитали все прибыли от подобной фабрикации — покойный Иван Иванович был при жизни
большой спекулянт — и находили одно только неудобство в
этой новой отрасли народной промышленности, что многие
станут подделывать изделие и продавать ложную любовь в
таких же бутылках, тем более что и теперь, без перегонки
воздуха, поддельная любовь составляет весьма важную
статью внутренней торговли хотя и не показывается в статистических таблицах.
Бубантес был восхитителен во время этого рассуждения:
он сыпал остротами, шутил, говорил так добродушно, что
тот, кто бы его не знал, никогда б не предполагал в нем черта.
Впрочем, надобно отдать справедливость чертям: между
ними есть очень любезные малые, Иван Иванович весьма
с ним подружился. Он стал расспрашивать его, каким образом действует это миленькое летучее пламя на людей, так
что эти плуты обожают друг друга.
— Вы знаете, что такое «поляризация»? — сказал черт.
401
— Поляризация-с? — воскликнул покойник.— Да, знаю,
поляризация. Я читал об ней. Но вы можете говорить так
точно, как будто б я ничего не знал.
— Здешние мертвецы набитые невежды,— сказал мне на
ухо Бубантес.— Вы знаете,— продолжал он громко,— что в
природе есть теплота, магнитность, свет, электричество, то
есть вы знаете, что ничего этого нет в природе, а есть одно
вещество, черезвычайно тонкое, чрезвычайно летучее, которое разлито везде и проникает все тела, даже самые плотные;
для которого алмаз и золото то же, что губка для воды и
воздуха, и которого сам черт не разгадает, а домовой, мертвец и человек и подавно. Оно-то производит ощущение тепла, и тогда человек называет его теплотою; то вылетает из
облака в виде громовой молнии или из натираемого стекла
в виде серной искры, и тогда получает у людей имя электричества; fo направляет один конец железной иглы к северу,
а другой к югу, и тогда величают его магнитностью; то, наконец, поражает глаз своим блеском и называется светом. Оно
темно и светисто, паляще и морозно, животворно и убийственно. Незримое, одаренное столь различными свойствами,
это хамелеоническое вещество обнаруживается каждый раз
в другом образе и поражает бедного человека столькими
противоположными явлениями, что он, будучи не в силах
связать их своей дрянной логикою, принужден был разделить его на четыре разные вещества, которым присвоил четыре ряда примеченных им феноменов, более или менее сходных между собою, и придумал для каждого ряда особую теорию. Мой приятель, черт Кода-Нера, уже три столетия морочит ученых этим веществом, диктуя им самые странные
теории для того, чтобы их мучить, бесить, ссорить между собою и доводить до того, чтобы они друг друга называли ослами. Это единственный доход сатаны от ученых. С них нечего взять более. Я завел для них кой-какие журналы. Теперь он сыграл с ними новую штуку: когда они нагородили
систем обо всем этом, написали тьму книг о магнитности и
уверились, что она вещество совершенно особое и самостоятельное, он вдруг выкинул им магнитную искру, которая точь-
в-точь искра электрическая. Они перессорились в моих журналах, но этот плут убедил их заключить перемирие на том
условии, чтобы оба вещества, впредь до распоряжения, соединились в одно под сложным именем электромагнитности.
Со временем он намерен подсунуть нм другое, еще страннейшее название — свето-тепло-электро-магнитности, и все-таки
они не будут знать, что это за вещество, и не поймают
402
его руками; а я вам, друзья мои, показал его вот на этой
ладони. Согласитесь, что оно прелестно, и поздравьте себя
с тем, что вы не люди: по крайней мере, вы могли его видеть.
Так как для него нет имени, то назовите его как угодно, хоть
электромагнитностью. Для меня все равно. Но вот в чем еще
дело: не подлежит сомнению, что у каждой палки есть два
конца и что один из них противоположен другому, что один
не то, что другой, хотя палка все одна и та же. Все, что ни
существует в мире, составлено из таких же двух противоположностей: дню противоположна ночь, свету темнота, теплу
холод, движению бездействие, бдению сон, жизни смерть,
да — нет; я мог бы насчитать вам три тысячи триста девяносто девять таких противоположностей и довести вас, наконец, до последней противоположности, выше которой уже
ничего нет — материи и духа. Как скоро есть материя, есть
и дух: я думаю, что это ясно. То самое противопоставление
постоянного «да» и «нет» обнаруживается и в умственном
мире: вы имеете там надежду и отчаяние, жестокость и дружбу, любовь и ненависть, и прочая, и прочая. Вы согласитесь,
что хотя любовь и ненависть суть одно и то же чувство, хотя
любовь составляет один конец страсти, а ненависть другой,
действия и свойства их так противны, что их принимают
обыкновенно за две различные вещи. Вещество, о котором
я вам докладывал, это прекрасное, летучее и незримое пламя, эта электромагнитность имеет тоже свои две противоположности, свое «да» и свое «нет». Когда вы взволнуете его в
стеклянном пруте посредством трения, оно тотчас разделяется на два противные свойства и в одном конце прута притягивает к нему разные легкие тела, в другом их отталкивает.
Первое свойство,— извини, любезный Чурка,— шепнул мне
Бубантес,— что я толкую вещи, давно тебе известные: этот
мертвец ничего не понимает! — первое свойство черт Кода-
Нера присоветовал ученым назвать электричеством положительным, а второе электричеством отрицательным и запутал
их словами до того, что они верят в два электричества; но вы
как умный мертвец, вы видите, что это та же история тепла
и холода, любви и ненависти. Такому разделению свойств
дали имя поляризации электричества. Эти два противные
свойства одного и того же вещества часто избирают своим
обиталищем даже два отдельные тела: одно облако, например, электризуется положительно, а другое отрицательно.
Когда вы опять взволнуете это вещество в полоске железа,
натирая ее ключом от середины сперва к одному концу, а потом от середины же к другому, оно устремляет один конец
403
полоски к северу, а другой к югу. Это магнитная стрелка.
Северный конец ее зовут положительным, южный отрицательным, а самое явление поляризацией. Возьмите ж теперь
две такие стрелки и сблизьте их между собой: конец положительный одной стрелки оттолкнет от себя положительный
конец другой; две отрицательные срелки тоже будут удаляться друг от друга, но стрелка положительная с концом отрицательным тотчас сцепятся и поцелуются. Вот любовь! Назовите теперь положительные концы мужскими, а отрицательные женскими, и все вам объяснится: полы одинаковые
отталкиваются, полы различные стремятся друг к другу.
Это — любовь в железе. Она проявляется таким же образом и в некоторых других металлах и камнях. Она существует и между двумя облаками, в которых скопились два
противные свойства электричества, носящегося в воздухе.
Она сгибает в лесу две финиковые пальмы, одну к другой,
самца к самке, из которых первый всегда обнаруживает
электромагнитное™ положительную, а вторая отрицательную.
То же происходит в животных, то же и в людях. Около эпохи совершеннолетия молодой человек и девица начинают
вбирать в себя из воздуха летучее вещество и электризоваться, один положительно, а другая отрицательно, в южных
странах сильнее, а в северных слабее, и даже в одном и том
же месте более и менее, смотря по сложению тела, здоровью,
степени восприимчивости, времени года и множеству других
обстоятельств. Когда они достаточно наэлектризованы,
поставьте их лицом одного к другому: пусть они взглянут
друг на друга, лишь только луч зрения приведет в сообщение их электричества, с той минуты они влюблены, они
полетят друг к другу, как два облака, и будет гром, молния,
удар и дождь. Тут и черта не надобно. Вот почему я никогда
не любил этой части: она слишком механическая! Вы не
влюблялись в малолетнюю девочку, потому что она еще недостаточно наэлектризована тем чудным веществом, которое
я выжал для вас из воздуха в моем колпаке. Вы отвращались от бабы, потому что в эпохе старости человек разряжается и теряет почти всю свою электромагнитность. Месяц любви для всей природы тот самый, в который наиболее
этого вещества в воздухе. Мой приятель Аллисон сказывал
мне, что очень милая и скромная леди признавалась ему,
что она берется быть равнодушною к своему мужу круглый
год, кроме мая месяца, в котором она не отвечает...
Бубантес вдруг остановился. Мы проходили тогда мимо
окон залы. Он подбежал к окну, как будто приметил на ули
404
це что-то необыкновенное, посмотрел и снова воротился к
нам, заложив назад руки.
— Так-то, сударь мои! — сказал он.— Теперь вы будете в
состоянии растолковать всему кладбищу, что такое любовь.
Когда бы вы умели добывать это вещество из воздуха и знали еще способ хорошо соединять его с телом, вам самим, почтеннейший Иван Иванович, не трудно было бы... заставить
Монблан... влюбиться до безумия в Этну...
Он бросился к другому окну, на которое его беспокойные
глаза были уже устремлены при последних словах, и начал
пристально всматриваться в улицу.
— Господа! — сказал он, отскочив от окна.— Подождите меня здесь, я сейчас буду назад. Мне надобно сказать
несколько слов одному человеку... Иван Иванович, не уходите. Не выпускай его, Чурка! — сказал он тихо, перегибаясь к моему уху, и исчез.
Внезапное его удаление немножко нас удивило, но мне
было известно, что у него всегда пропасть дел, и я старался
успокоить моего гостя уверением, что наш собеседник скоро к нам воротится. Я спрашивал моего собеседника, как он
находит этого черта. Ответ не мог быть сомнителен. Иван
Иванович был от него в восхищении и признался, что он
никогда не думал, чтобы черти были такие любезные в
обществе; что на том свете есть много людей, которые не
стоят его хвоста. Одно, что ему не слишком нравилось в
Бубантесе, были длинные и острые когти: он полагал, что
они не совсем безопасны для его приятелей и для книг, которые он читает, и должны мешать ему при сочинении статей; я объяснил, что он тогда надевает шелковые перчатки.
Но надобно сказать, что было причиною отлучки Бубанте-
са. Проходя с нами мимо окон, он взглянул мельком на улицу
и увидел, что по тротуару, против нашего дома, какой-то
мертвец идет с кладбища в город. Вид этого скелета поразил
его своей необычайностью: он путешествовал на одной ноге
и в руке нес свою нижнюю челюсть. Черт мигом догадался, что
это должна быть Акулина Викентьевна, соседка нашего покойника, которой он оторвал ногу и челюсть. Всегда готовый к проказам, Бубантес побежал к ней. Снимая свой колпак и кланяясь ей весьма учтиво, он остановил ее на тротуаре, отрекомендовался и завел разговор, чтобы узнать, куда
она идет. Акулина Викентьевна призналась ему, что она искала везде своего злодея, Ивана Ивановича, и что, не нашед
его ни на кладбище, ни в окрестностях, отправилась со ску
405
ки в город с намерением ущипнуть бывшую свою горничную,
которая спала в одном доме недалеко отсюда. Тонкому и
вкрадчивому черту нетрудно было убедить ее отказаться от
цели этой прогулки: он стал упрашивать ее, чтобы она завернула к нам, уверяя, что введет ее в очень приятное общество, и с адским искусством стараясь проведать ее покойные
страсти, которые, несмотря на утверждения Ивана Ивановича, кажется, не совсем угасают вместе с жизнию в этих господах смертных. Мой приятель узнал, что его старуха при
жизни страх любила бостон. Я думаю, что бостон тоже остается в костях! Он обещал ей составить партию и сдавать
всегда десять в сюрах: старуха, которая сперва отговаривалась приличиями, была обезоружена и согласилась на его
предложение.
Ничего этого не зная, мы спокойно расхаживали с Иваном
Ивановичем по зале и говорили о домашних делах — он расспрашивал меня о дневных занятиях своей молоденькой вдовы— я блестящими красками живописал ему ее добродетели — как вдруг дверь отворяется настежь и являются Бубантес с своим изломанным женским скелетом, который начинает жеманно нам кланяться и приседает на одной ноге
почти до самого пола. Иван Иванович тотчас узнал свою соседку и укрылся за дверью гостиной. Я, ничего не подозревая,
старался принять ее как можно вежливее, но Бубантес подбежал ко мне и шепнул: «Чурка! Зажигай свечи, лампы.
Иллюминация! Бал!.. Мой друг, я даю у тебя вечер. Подавай карты!.. Да проворнее же, любезнейший! Скоро станут
звонить к заутрени». Я без памяти бросился исполнять его
приказание, желая угодить старинному приятелю, хотя и не
понимал его затеи и даже, собирая по ящикам огарки, украденные лакеями у ключницы, немножко дивился этим преисподним манерам, которые позволили ему распоряжаться в
чужом доме, как в своем собственном болоте. Но огарки
были налеплены по всем окнам и карнизам, лампы налиты
водкою, за неотысканием масла, ломберный столик поставлен, все изготовлено, зажжено и устроено в одно мгновение
ока. Комната запылала великолепным освещением. Я намекнул Бубаптесу, что мы встревожим всю улицу, кто-нибудь
увидит свет да и нас в покоях: ведь это выходит видение!
— Ничего! — отвечал черт.— Пусть их смотрят. Кто теперь верит в видения!
Не знаю каким образом, но между тем как я занят был
приготовлениями, Акулина Викентьевна увидала своего
кладбищенского соседа за дверью. Я не берусь описывать
406
шума, который раздался в зале вслед за открытием: это
превосходит все риторики сего и того света.
— Ах ты, разбойник! — закричала наша гостья, с яростью бросаясь на бедного покойника.— Так ты здесь? Научу я тебя вежливости! Я тебе покажу, голубчик, как должно
обращаться с дамами...
Мои читатели уже знают, что нижняя челюсть была у ней
оторвана и что она носила ее в руке. Это, разумеется, поставляло ее в невозможность говорить. Чтобы произнести
приветствие, которым она встретила Ивана Ивановича, она
принуждена была взять эту нижнюю челюсть за концы обеими руками, приставить ее к верхней и поддерживать у отверстий ушей. Когда она говорила или, точнее, ревела, ее челюсти раздвигались так широко, как у крокодила, и смыкались так быстро, как ножницы в руке портного, производя
при каждом слове страшное хлопанье костями и стук зубов
одних о другие, сухой, скрежетный, пронзительный. Прибавьте еще, при всяком движении, трескучий стук костей остальной части остова, дряхлого, разбитого, не связанного по
суставам. Ужаснее и отвратительнее этого я ничего не запомню по нашему сверхъестественному миру.
— Ты мерзавец! Ты мошенник, грубиян! — вопила она и
вдруг, отняв от головы свою подвижную челюсть, замахнулась бить ею Ивана Ивановича.
Черт прыгнул с своего места и стал между ними. Удар
разразился на рогах Бубантеса. Мой покойный гость был
спасен. Надобно признаться, что эти черти — благовоспитаны как нельзя лучше! Я не хочу унижать моих соплеменников — но из наших домовых никто б не догадался этого
сделать.
— Сударыня,— сказал он, сладко улыбаясь сердитой
старухе,— не делайте шуму в этом доме. Здесь спят люди.
Вы знаете приличия. Иван Иванович мой старинный приятель. Мы с ним были знакомы и дружны еще на том свете.
Вы объяснитесь на кладбище. Вы меня чувствительно обяжете, если отложите свои неудовольствия до другого времени...
Говоря это, Бубантес нарочно поправлял рукою свой галстук, сделанный из какой-то старой газеты. Акулина Викентьевна приметила его когти и тотчас стала смирна, как кошка.
— Я только для вас это делаю, господин Бубантес,—
сказала она, приставляя опять свою челюсть к голове,—
что удерживаюсь от негодования на этого грубияна. Представьте, что он со мной сделал...
407
И она пустилась рассказывать все обстоятельства своей
ссоры. Бубантес посадил их на диване, сам сел посереди, слушал с вежливым вниманием их взаимные огорчения и мирил
их своими чертовскими шутками. Я между тем собирал в лакейской старые, засаленные карты, трех тузов не отыскалось — да для мертвецов не нужно полной колоды! Когда
воротился я в залу, на диване сидели только два скелета, черт
стряпал в углу что-то в своем колпаке; мертвецы все еще
ссорились; он переговаривался с ними по временам отрывистыми фразами и, казалось, был очень занят этой работой.
— Что это ты сочиняешь, Бубантес? — спросил я тихо.
— Ничего,— сказал он, продолжая свое дело.— Курс
любви теоретической и практической.
— Практической?
— Да!.. Или опытной. Это все равно. Я вам изложил
прежде теорию любви, а вот теперь начинаются опыты.
Я подсмотрел, что он очищает от воздуха и набивает в
свой колпак это красное, летучее пламя, которое, по его словам, можно называть электромагнитностью или как угодно.
Любопытство мое возросло до высочайшей степени. Я спрашивал, что он намерен делать, но проказник не отвечал ни
слова, надел осторожно колпак на голову и спросил, где
карты. Я отдал ему неполную колоду. Бубантес отбросил еще
все трефы, избрал четыре карты и предложил их мертвецам
и мне. Мы сели играть, но я приметил, что, усаживая клад-
бищных врагов по местам, он вертится около них, заводит
с ними пустые разговоры, берет их за руки, шепчет им в уши
и часто поправляет свой колпак. Знаете ли, что он делал?
Он в это время, с удивительным проворством, напускал нм в
кости этого пламени из колпака! Наэлектризовав одного
мертвеца положительно, а другого отрицательно, он мигнул
мне коварно и сел сдавать карты. Акулина Викентьевна отняла челюсть, с помощию которой все это время перебранивалась с моим покойным хозяином, и положила ее при себе на
столике. Черт, по условию, подобрал ей огромную игру. Она
развеселилась. Напрасно было бы означать в этих записках
все движения непостоянного счастия в нашем незабвенном
бостоне, тем более что я никогда не помню конченных игор:
тут было нечто любопытнее карт. Акулина Викентьевна объявила восемь в сюрах; Иван Иванович, к крайнему ее изумлению, сказал: «Вист!» И они посмотрели друг на друга: во
впадинах их глаз блеснуло то самое прелестное пламя, которого Бубантес налил в их холодные кости. Черт улыбнулся.
Игра началась, но мы с чертом более заняты были наб
408
людением, чем картами. Мертвецы стали вздыхать. Акулина
Викентьевна страстно посматривала на бывшего своего злодея, который в самом деле мог бы понравиться всякой покойнице: он был, что называется, прекрасный скелет: большой,
кости толстые и белые, как снег, ни одного изломанного ребра, осанка благородная и приветливая. Но я, право, не понимал, что такое находит Иван Иванович в желтом, перегнившем, изувеченном, одноногом остове этой бабы: он совершенно забыл карты и глядел только на нее! Мы с Бубантесом
беспрерывно должны были напоминать ему игру, а черт позволял себе даже отпускать колкие эпиграммы насчет его
рассеянности, за которые он вовсе не сердился. Но такова,
видно, сила этой волшебной электромагнитности!
Между тем как я сдавал карты, Иван Иванович, который давно не сводил глаз с челюсти своей противницы, решился завести с нею разговор.
— С позволения вашего, сударыня!
Она поклонилась.
Он взял со стола эту гадкую кость, эту челюсть, желтую,
грязную и почти без зубов, и начал осматривать ее с любопытством, все более и более придвигая ее к глазам и к носу.
Мы с Бубантесом увидели, что он неприметно поцеловал ее,
и едва не расхохотались.
О электромагннтность!! Или как бишь назвать ее.
Мертвец, чтобы скрыть этот проблеск могильной нежности, повернул челюсть еще раза два или три, осмотрел со
всех сторон и равнодушно положил на место. Мертвечиха
приятно ему поклонилась.
Бостон продолжался. В половине одной игры Бубантес
вдруг стал рассказывать анекдоты из соблазнительной летописи города, обращаясь преимущественно к Акулине Викентьевне. Я видел, что он старается завлечь ее в разговор
и, если можно, подвинуть на какой-нибудь рассказ о прежних ее приятельницах и знакомых. Он действительно успел
в этом. Акулина Викентьевна положила карты, взяла свою
челюсть и пустилась злословить, как живая. Иван Иванович весь превратился в слух. Черту только этого и хотелось:
он сообразил, что, пока она будет говорить, держа обеими руками необходимое орудие своего красноречия, ей нельзя будет взять карты со стола, ни думать об игре. Когда они совершенно занялись друг другом, он потихоньку встал, мигнул мне, чтобы я сделал то же, и мы отошли в сторону.
— Ну, брат,— сказал я ему,— ты большой искусник!
— Что прикажешь делать, почтеннейший! — отвечал он,
409
притворяясь бедняком.— Наше дело чертовское: не наплутуешь, так и жить не из чего. Начало не дурно. Но уж теперь
надобно заварить кашу. По крайней мере, совесть будет
чиста: я недаром был в этом доме. Скажи, пожалуй, кто бывает у вдовы этого читателя?
— Никто. Она живет совершенно затворницей.
— Однако ж?
— Право, никто, кроме прежнего его друга, Лграфова,
который живет в этом же доме с другого подъезда.
— Хорошо.
Он расспросил меня подробно о расположении его квартиры и порхнул в камин, приказав мне сесть опять на место
и поддерживать разговор мертвецов.
Я нашел своих гостей в той степени дружеского расположения, на которой начинаются уже сладкие речи и лесть.
Акулина Викентьевна рассказывала, Иван Иванович часто
прерывал ее комплиментами, которым она мертвецки улыбалась. Они очевидно любили друг друга, и я должен был
играть при них печальную роль свидетеля чужих нежностей.
Но это участь домовых! В свою жизнь я довольно нагляделся этого по ночам.
Через минуту Бубантес воротился, но уже не дымовою
трубой, а в дверь, ведущую из гостиной в залу. Он подал мне
знак, и мы удалились к камину.
— Друг мой, Чурочка,— сказал он с восторгом,— будет
славная история! Я наэлектризовал Аграфова и твою вдову.
Ты не сказал мне, что он женат! Я нашел его спящим подле
почтенной супруги. Он и она разряжены были совершенно:
в них не было ни одной искры этого летучего пламени, они,
видно, давно уже не любят друг друга. Да это всегда так бывает между супругами! Я порядком надушил его электро-
магнитностью. Вашей вдове немного нужно было прибавить:
она еще крепко была заряжена. Теперь, лишь только они повстречаются, огонь вспыхнет. Ты наблюдай за ходом этого
дела.
— Вот этого-то я не люблю, что ты из пустяков разоряешь спокойствие этой бедной вдовы, которая хотела всегда
остаться верною своему покойнику,— сказал я с досадою.—
Эта женщина под моим покровительством. Я дал слово Ивану Ивановичу беречь ее добродетель.
— Чурка! Чурочка! — воскликнул черт, бросаясь мне
на шею.— Не сердись, мой Чурка! Я тебя смерть люблю! Я
задушу тебя на своем сердце. Так и быть, дело сделано.
Увидишь, будем смеяться. Что тебе за надобность до этого
410
мертвеца? Посмотри, он пришел сюда влюбленным в свою
вдову, а уйдет без ума от этой старой кости. Таковы, мой
друг, люди при жизни и по смерти.
— В этом он не виноват. Ведь ты сам напроказничал?
— Что ж делать, мой любезный! Люди ничего не смыслят без черта. Мы им необходимее воздуха. Но пора отправить этих господ на кладбище. Неравно вдруг зазвонят в колокола, так мне придется просидеть весь день в этой трубе.
А я сегодня должен непременно быть еще в Париже и в Лондоне: без меня там нет порядка...
Он потащил меня к столику и напомнил мертвецам, что
скоро начнет светать. Они торопливо вскочили со стульев
и простились с нами.
— Как же теперь быть? — сказала она ему, останавливаясь у дверей при выходе из залы.— Иван Иванович!.. Ты,
батюшка, меня обидел: оторвал у меня челюсть и ногу...
— Виноват! Простите великодушно!
— То-то и есть, отец мой. Челюсть-то я нашла в одной
яме, а ноги нет как нет. Мне стыдно теперь явиться на кладбище без ноги. В полночь народу тьма высыпало из гробов
прогуливаться по кладбищу, а я, по твоей милости, должна
была прятаться: все смеялись надо мною! Куда ты девал мою
ногу?
— Найдем, матушка Акулина Викентьевна, вашу прелестную ножку. Вы напрасно изволили погорячиться. Я знаю
место, куда ее бросил.
Они ушли. Мы побежали к окну, чтобы еще раз взглянуть на них, и увидели, что наш мертвец услужливо подал
руку своей мертвечихе и что они дружно поплелись восвояси
по тротуару, прижимаясь один к другому. Мы расхохотались. Бубантес, с радости, перекувыркнулся три раза на
полу.
Отошед шагов двести, они еще остановились для сообщения друг другу нежного поцелуя — потому что Акулина
Викентьевна должна была при этой операции держать обеими руками нижнюю челюсть под верхней.
Мы стали хохотать пуще прежнего.
— Жаль,— сказал черт,— что ты не просил его навещать тебя почаще. Любопытно было бы знать ход этого
кладбищенского романа.
— Что тут любопытного! — возразил я.— Лягут в могилу
да и будут целоваться.
— Нет, не говори этого! — сказал он.— Очень любопытно! Это летучее пламя одарено удивительными, очень разно
411
образными свойствами. Оно производит, между прочим,
странный род опьянения. Стоит только соединить его с телом, тогда оно само, без содействия черта, произведет в нем
ряд глупостей и приключений, которые наперед и предвидеть невозможно. Знаешь ли, Чурка, сделай мне дружбу...
я чрезвычайно занят!., поди ты, так, дня через три, на кладбище да узнай, что там делается. Я бы тебя не беспокоил...
о, я сам пошел бы!., да, видишь, мне как-то неловко ходить
туда. Поверь мне, друг мой, что я не люблю употреблять во
зло время моих приятелей... право, я сам пошел бы; я пойду,
если ты хочешь... Ты понимаешь, что это не по лености, не
по чему-либо другому прочему...
— А потому,— подхватил я, смеясь его уверткам,— что
там много крестов. Понимаю!
— Ну да! — сказал он, потупив взоры.— С тобой нечего
секретничать. Ты все понимаешь.
Он бросился целовать меня.
— Прощай, мой Чурка! — сказал он.— Прощай, старый
дружище! Я бегу в Париж и на днях буду опять к тебе. Ты
мне все расскажешь о мертвеце и об его вдове. Прощай! Прощай!..
И он исчез. Я принялся тушить свечи.
Скоро наступил день, люди начали вставать. Несмотря
на удовольствие, которое приносило мне воспоминание о
ночи, проведенной так весело, как давно уже не проводил, я
был беспокоен и почти печален. Проказы Бубантеса могли
иметь неприятные последствия для молодой вдовы, которую
я любил как родную дочь. И, к несчастию, я не мог пособить
им!. Мне хотелось, по крайней мере, облегчить сердце наблюдением любопытных действий электромагнитное™, которою он зарядил мою хозяйку и нашего соседа Аграфова —
Алексея Петровича. Я вошел в ее комнату. Она е е спала. Я
отправился к Аграфову, который вставал рано.
Алексей Петрович был красен, глаза у него пылали, из
зрачков били жгучие светистые лучи, которыми он так и
пронзал свою супругу. Он ловил ее и, поймав, осыпал страстными поцелуями. Он клялся, что любит, обожает свою жену.
Заряд уж, видно, был очень силен.
Жена, которая давно выстреляла свою любовь и в которую черт не подсыпал пороху, имела бледное лицо и глаза
безжизненные. Прежде я знавал ее розовой и особенно удивлялся блеску ее глаз. Она зевала в объятиях Алексея Петровича, отворачивалась или равнодушно принимала его
ласки.
412
Он бесился, называл ее холодною, утверждал, что она его
не любит и никогда не любила.
Они побранились.
Проклятый Бубантес! Он-то причиною этого недоразумения. Зачем было нарушать равновесие супружеских чувствований? Они так хорошо жили в холодном климате дружбы
и взаимного уважения! Они и не думали о страсти! Упрек,
которому Татьяна Лаврентьевна подверглась от внезапного взрыва нежности в Алексее Петровиче, был несправедлив и обиден. Она его любила, но любила только мысленно.
Прежде любила она его всею душою и всем телом. Но когда
тела утратили в туманной атмосфере супружества весь запас того чудесного летучего вещества, которое заставляет
даже два куска холодного железа привлекать друг друга и так сильно сплачивать их между собою, тогда одно только воображение связывало супругов, и они принимали за
любовь призрак любви, носившийся в их уме. Он имел все
формы и весь цвет действительности. Эти призраки любви
можно назвать супружескими сновидениями, и они обманчивы, как все сновидения. Весною, когда воздух палит тонким и
жгучим началом любви, когда оно проникает всю природу, заставляя птичек петь оды, львов реветь в пустыне, почки дерев и растений радостно вскрывать свои сокровища призматических цветов и убирать ими свои стебли—весною и Татьяна Лаврентьевна с Алексеем Петровичем бывали довольно
хорошо наэлектризованы: и они поют, и они цветут, становятся розовы и красивы, привлекают и сердечно любят друг
друга. Но теперь была осень — все отцвело, отпело, отревело,
воздух потерял свою волшебную силу: с какой же стати Татьяне Лаврентьевне было пылать любовью! Привыкнув устремлять к мужу все свои мысли, сосредоточивать в нем все свои
надежды, она любила его умом — как любят в супружестве осенью и зимою. Алексей Петрович, которого черт накалил вдруг положительной любовью или электромагнит-
ностью, не хотел понять этого, и у них вышла ужасная ссора,
но я, по долгу домового, не смею пересказывать ее подробно.
Алексей Петрович был так сердит, что я удрал от них в
спальню своей хозяйки.
Она одевалась перед зеркалом или, точнее, стояла в рубашке и любовалась своей красотою. Я никогда не видел ее
столь прелестною. Цвет ее лица дышал необыкновенною свежестью, глаза мерцали, как бриллианты, она совершенно
походила на молодую розу, которая раскрылась ночью и при
первых лучах солнца лелеет на своих нежных листочках две
413
крупные капли росы, в которых играет юный свет утра, упоенного девственным ее запахом. Мне казалось, что моя хозяйка тоже издавала весенний ароматический запах. Может
статься, мне только так казалось. Но то верно, что она, легши вчера спать торжественно влюбленною в покойного мужа,
встала сегодня полною других чувствований и об нем не думала. Люди смеются над вдовами, которые обнаруживают
неутешную печаль по своих мужьях, обрекают себя на вечный плач на их гробницах и потом вдруг выходят замуж: я не
понимаю, что в этом может быть смешного! Чем виноваты
вдовы, когда любовь зависит от воздуха. У людей нет толку
ни на копейку. Притом же в самую безутешную вдову черт
может вдруг подлить ночью этой летучей жидкости, как в Лизавету Александровну! Вчера она даже не помнила о своей красоте, теперь, прямо с постели, невольно побежала к зеркалу. Теперь она была беспокойна и скучна. Легкие вздохи
вырывались порою из ее прекрасной груди, которую она тщательно прикрывала рубашкою от любопытства собственных
взоров. Прежде она этого не делала. Это пробуждение тревожной стыдливости должно быть также следствие свойств
отрицательной электромагнитное™. Я сам примечал, что
женщины становятся стыдливее весною. Но возвращаясь
к легким вздохам — они очевидно не относились к Ивану
Ивановичу. Они ни к кому не относились. Скука и томное
чувство одиночества, в котором она не признавалась даже
перед собою, производили в ней это неопределенное волнение. Вскоре она занялась своим туалетом и нарядилась с необыкновенным вкусом — в первый раз со смерти мужа —
в той мысли, что неравно кто заедет.
— Ах, как скучно! Если б кто-нибудь заехал ко мне сегодня!..— сказала она про себя, когда я уходил к себе за
печку.
— Лишь бы этот кто-нибудь не был наэлектризован положительно,— сказал я тоже про себя.— Иначе ты пропала,
бедняжка!..
Но несчастие этой доброй женщины было решено.
Алексей Петрович, поссорившись с супругою, скучал
ужасно в своем кабинете и вспомнил, что в том же доме живет милая и прелестная женщина, жена покойного его друга. Он тотчас оделся, причесался с большим тщанием, взял
белые перчатки — чего никогда не делал поутру — и отправился к ней с визитом, надеясь рассеять свое супружеское
горе в ее сообществе. Он забыл, что прежде находил мою
хозяйку очень скучною, за ее сентиментальность к покойни-
414
ку, и называл «эфесскою матроною»: летучий огонь подавлял
в нем всякое рассуждение, он теперь помнил только о красивом личике Лизаветы Александровны.
Как скоро он вошел в залу, я затрепетал за печкой. Мне
казалось, что вижу дракона, который приходит пожрать мою
розовую вдову. Я проклял Бубантеса. Но этот плут давно
уже не боится проклятий!
Любопытство заставило меня прокрасться в гостиную,
чтоб быть свидетелем их встречи. Для большего удобства
наблюдений я влез в печь и смотрел на них в полукружье,
находящееся в заслонке.
Лизавета Александровна задрожала всем телом, услышав издали только голос мужчины. Но она скоро опомнилась, подавила свое волнение, вышла к гостю совершенно
спокойною и привяла его с обыкновенною приветливостью.
Они разговаривали несколько времени, не глядя в лицо друг
другу. Но вскоре, по случаю приветствия, которое сделал
Аграфов насчет ее наряда, взоры их встретились, и я видел,
как тонкие светистые лучи того же самого пламени, которое
нам показывал Бубантес, перелетели из одних глаз в другие и
слились. Несколько мгновений явственно видны были две
огненные черты, протянутые между их противоположными
зрачками. Они почувствовали род электрического удара, который обличился нх смущением. Ни он, ни она не выдержали
действия этих пронзительных лучей, потупили взоры и покраснели. С той минуты они как будто боялись друг друга, были весьма осторожны в речах, старались быть веселыми, болтать, шутить, но это им не удавалось. Они решились вгля-
нуться еще раз и, к обоюдному удивлению, не почувствовали того потрясения, как прежде. Это их ободрило. Они начали болтать и смеяться. Я ушел. Нечего было смотреть более. Искры заброшены, и пожар в телах был неизбежен. Держись, брат ум!.. Или лучше спасайся заранее.
Они долго смеялись в гостиной, что весьма естественно. То самое тайное воздушное пламя, которое в образе молнии раздробляет дуб и превращает дома в пепел, которое в
магните сцепляет два куска мертвого минерала, в живых
существах связывает двое уст краснокаленым поцелуем —
то самое пламя делает человека остроумным в первые минуты любовного опьянения. Впрочем, кислотвор производит
то же действие. Рецепт для остроумия: возьми большой стеклянный колокол, посади под него глупца и нагони в воздух,
заключенный в колоколе, лишнюю пропорцию кислотво-
ра — глупец станет отпускать удивительные остроты. Я сам
415
видел этот опыт, когда жил в Стокгольме за печкой у одного химика, и с тех пор гнушаюсь всяким остроумием. Производство его ничуть не мудренее приготовления газового лимонада и искусственной зельтерской воды. Вот почему я
ушел к себе за печку, как скоро Лизавета Александровна и
Алексей Петрович начали остриться.
Со всем тем я не отвергаю, что весьма было бы полезно
посадить под такой колокол иную литературу и целый город,
в котором есть много типографий.
Они расстались восхищенные друг другом и обещав видеться чаще прежнего.
Лиза — так буду называть ее, потому что я очень любил
мою бедную хозяйку - находила, вышивая вензель своего
покойного мужа, что у Аграфова глаза прекрасные. Что касается до Аграфова, то он не скрывал от себя того факта,
что моя хозяйка восхитительна с головы до ножки, и потому,
возвратясь домой, наговорил своей жене тысячу милых приветствий.
Аграфов был недурен собою,— но я никогда не одобрял
его носа,— хорошо воспитан и еще довольно молод. Он с
успехом занимался искусствами, особенно живописью, и я
помню, что у него был отличный погреб, из которого я вытаскал пропасть бутылок старого вина и ликеров — за что,
разумеется, невинно страдали лакеи. Этот человек не верил
в домовых! И я любил его за это, хотя ненавидел за все прочее — право, не знаю за что — так! — за то, что он мне не
нравился. Но Лиза решительно стала находить его очень
любезным. По временам она содрогалась при этой мысли,
которую считала преступною: тогда поспешно брала она книгу и читала скоро, чтобы забыть его. Прочитав несколько
страниц, несчастная Лиза была уверена, что она совершенно к нему равнодушна.
Я уже предвидел ужасную борьбу души с телом в этой
добродетельной женщине. О, если б победа осталась на стороне духа!
Аграфов, день ото дня более влюбленный, окружал ее
всеми прельщениями, и она беззаботно брела в них, не примечая пропасти. Маленькие услуги, тонкие доказательства
уважения, помощь в делах — ничто не было забыто. Соседство скоро превратилось в дружбу. Аграфов убедил свою
жену сблизиться с вдовою своего приятеля, и с некоторого
времени они были неразлучны. Эта дружба опечалила меня
всего более. Знаю я эти дружбы! Я сиживал в запечках всех
веков и народов, от римлян до северных американцев, н вез
416
де видел одинаковые следствия дружбы двух женщин, которая заводилась по убеждению мужа одной из них. Таков закон природы.
Лиза прелестно наряжалась и часто впадала в глубокую
задумчивость.
Я сидел ночью на своем любимом диване, погруженный
в прискорбные размышления о перемене, которая в течение
десяти или одиннадцати дней произошла в этом доме, как
вдруг увидел перед собою Бубантеса. Он стоял, подбоченясь,
в двух шагах от меня и смеялся своим чертовским смехом.
— Что это, Чурка? — вскричал он.— Ты даже не видел,
как я пришел сюда! Ты печален?
— Пропади ты, проказник! — сказал я.— Посмотри,
что ты наделал! Ты испортил мою добрую хозяйку. Это проклятое пламя, которое ты прилил в нее, делает в ней ужасные
опусто шения.
— Да! — отвечал он.— Кровь — удивительно горючее
вещество.
Я побранил Бубантеса за его неуместные шутки, но он
расцеловал меня, засыпал уверениями в своей дружбе, наговорил мне столько приятного и умного, что я не в силах
был на него гневаться. Признаюсь, у меня есть слабость к
этому черту!
Мы уселись рядком. Он стал описывать мне свои подвиги в Париже и Лондоне, все свои журнальные и газетные
плутни, и, если не лгал, позволительно было заключить из
его успехов, что люди — большие ослы!
— Ну, расскажи мне теперь,— прибавил он,— что тут
деется.
Я рассказал. Слушая меня, он прыгал от радости, потирал руки и приговаривал: «Хорошо! Очень хорошо! Славно,
мой Чурило!» Но когда я окончил, он замолк, призадумался
и принял такой печальный вид, что, глядя на него, заплакал.
— Что с тобой, мой друг? — вскричал я, умильно взяв
его за рога и целуя его в голову, которую орошал теплыми
слезами.— Скажи, милый Бубашка, что с тобою? Ты несчастен?
— Да! — сказал он, но сказал таким жалким голосом,
что у меня разорвалось сердце.— Подумай только сам: что
ж из этого выйдет? Они любят друг друга, и все тут. Это
может кончиться только самым пошлым образом — как в новом французском романе — тем более что она вдова и свободна. Так что ж это за история? Неужели мы с тобою трудились для такого ничтожного результата?
14 Заказ 14
417
— Чего ж ты от меня хочешь, мой друг? — спросил я,—
Все для тебя сделаю! Только не печалься.
— Вот видишь, Чурка,— сказал он,— это дело нейдет
назад. Тут нужно подбавить сильных ощущений, великих
чувствований, больших несчастий: тогда только можно будет смеяться. Надобно, во-первых, чтобы какой-нибудь благородный юноша влюбился в твою вдову. Я об этом подумаю.
Теперь я очень занят журналами. А между тем не худо было
бы возбудить ревность в жене Аграфова. Это необходимо
для занимательности. Скажи мне, что он делает? Не пишет
ли стихов к твоей хозяйке, писем?
— Нет,— сказал я,— он тайно от нее и от жены пишет
ее портрет в своем кабинете.
— Ах, вот это хорошо! — воскликнул Бубантес, вспрыгнув от восторга.— Ты знаешь, где он прячет свою работу?
— Знаю. В конторке, между бумагами.
— Пойдем к ним. Надобно перевести этот портрет в туалет жены.
— Да это не водится!.. Оно как-то будет неестественно.
— Предоставь мне. Я сделаю его естественным. Люди верят не таким небылицам. Пойдем, пойдем!
Проклятый Бубантес опять соблазнил меня!
Мы пошли на половину Аграфовых. Я повел Бубантеса в
кабинет мужа, показал ему конторку и по его приказанию
вытащил миньятюру в замочную скважину. Он положил ее
на ладонь и начал всматриваться.
— Похожа! — сказал он.— У него есть талант. Я бы хотел, чтоб он когда-нибудь написал мой портрет.
Он взял меня об руку, и мы отправились из кабинета в
спальню. Мы остановились подле кровати Аграфовых; черт,
по своему обычаю, принялся делать разные замечания о спящих супругах; мы болтали и смеялись минут десять; наконец он вспомнил о деле и поворотился к туалету. Он выдвинул один ящик, только что хотел положить портрет на бумаги и вдруг опрокинулся наземь, испустив пронзительный
стон. Я отскочил в испуге и увидел, что подле нас стоит дюжий, пенящийся от ярости черт с огромными золотыми рогами. То был Фифи-Коко, сам главноуправляющий супружескими делами! Он откуда-то увидал Бубантеса в спальне
Аграфовых, влетел нечаянно и боднул его из всей силы в
бок рогами в то самое время, как мой приятель протягивал
руку к ящику.
— Ах ты, мерзавец! — закричал Фифи-Коко лежавшему
418
на земле черту журналистики.— Что ты тут делаешь? Как
ты смеешь распоряжаться по моему ведомству?
Бубантес схватился за бок и быстро вскочил на ноги, отступил к двери и остановился. Тут он заложил руки назад и,
глядя на Фифи-Коко с неподражаемым видом плутовства,
равнодушия и невинности, возразил:
— Ты, любезный мой, бодаешься, как старый бык. Знаешь ли, что это признак очень дурного воспитания?
— Молчи, леший! — гневно сказал Фифи-Коко.— Я хочу знать, кто тебе дал право искушать людей по моей части
и зачем вмешался ты в дела этих почтенных супругов?
— Ну что ж такое? — отвечал Бубантес с презабавною
беззаботливостью.— Велика беда! Я хотел сделать повесть
для журнала. Не хочешь, как тебе угодно! Для меня все
равно.
— Я сам поведу это дело,— сказал Фифи-Коко.
— Изволь, изволь, почтеннейший! У меня есть свои занятия, важнее и полезнее этих мерзостей,— отвечал Бубантес и утащил меня из спальни.
— Экой мошенник! — вскричал Фифи-Коко, подымая
портрет Лизы с земли.— Чуть-чуть не поссорил супругов из-
за безделицы!..
Бубантес воротился.
— Имея честь всегда обращаться с супругами,— сказал
он ему,— ты, брат, выучился ругаться, как сапожник.
— Смотри ты своих журналистов,— отвечал ему Фифи-
Коко,— они ругаются хуже супругов.
— Пойдем,— сказал мне Бубантес.— С ним нечего толковать. Я бы его отделал по-своему, да он теперь в милости у
Сатаны. Этот осел изгадил все дело. А жаль!
Мы вышли на крыльцо. Он простился со мною и полетел
прямо во Францию.
14*
ПРЕВРАЩЕНИЯ ГОЛОВ В КНИГИ
и книг В ГОЛОВЫ
Пусть люди бы житья друг другу не давали:
Да уж и черти-то людей тревожить стали!
Хсмницср
Теперь и я начинаю верить в ночные чудеса!
Ночь была самая бурная, самая осенняя. Страшный ветер с моря ревел по длинным улицам Петербурга и, казалось,
хотел с корнем вырвать Неву и разметать ее по воздуху. Облака быстро протекали перед бледною луной, которая, сквозь
туманную их пелену, являла только вид светлого пятна без
очертания. По временам крупные капли дождя с силою ударяли в стекла моих окоп. Мы сидели вдвоем перед камином,
один молодой поэт и я. Из уважения к хронологии, без которой нет истории, я должен прибавить, что это было вчера.
Поэт был уже великий, но еще безыменный. Он еще подписывался тремя звездочками, однако ж читатели при виде
этих трех звездочек всякий раз приходили в невольный трепет: столько всегда под этою таинственной вывеской было
тьмы, ада, ведьм, чертей, мертвецов, бурь, громов, отчаяния,
проклятий и угроз человечеству, которое его не понимало!
О, как красноречиво ругал он «общество»! Да как огненно
описывал «деву»! Великий поэт! Он подавал о себе самые
мрачные надежды. Мой собеседник долго не говорил ни слова, но я примечал, что при каждом сильном порыве ветра он
приходил в беспокойство. Я приписывал это особенному
нервическому его расположению. Вдруг из крыши вырвало
часть желоба, который с грохотом упал на мостовую перед
самыми окнами. Поэт вскочил.
— Пойдем гулять! — вскричал он.— Пойдемте гулять
на набережную!
— Гулять? — сказал я.— В бурю, в двенадцатом часу
ночи?
— Что нужды?— возразил поэт.— Как можно сидеть
дома в такую погоду!.. Разве вы не находите никакого удовольствия смотреть на эту великолепную борьбу стихий?
Разве вам не веселее любоваться на волны разъяренной Левы, чем на эти пестрые толпы ничтожеств с расстроенными желудками, которые каждый день перед обедом раз
420
носят их церемониально по тротуару Невского проспекта и
бессмысленно улыбаются одно другому? Пойдемте. Вы еще
не знаете наслаждения гулять в бурю! Скоро полночь!.. Тем
лучше! По крайней мере, мы не увидим людей.
— Вы решительно не любите людей? — спросил я, смеясь.
— Я их презираю! — отвечал поэт торжественным тоном.— Вид их для меня ужасен,— прибавил он, надевая
палевые перчатки,— я их ненавижу да и не нахожу, чтобы
вы с своей стороны имели много поводов обожать людей.
— Я всегда очень хорошо уживался с людьми,— возразил я хладнокровно.
— Да разве еще мало зла сделали вам люди?.. Или по
крайней мере старались сделать?
— Люди? Не говорите этого, мой друг? Вы, верно, хотели сказать «литераторы» — а это большая разница!.. Я нахожу, что люди всегда были слишком, слишком благосклонны и добры ко мне.
— Ну так, по крайней мере, вы не встретите теперь литераторов. Пойдемте!
Не знаю, эта ли причина или другие, более красноречивые доводы поэта убедили меня согласиться на его странное
предложение, но дело в том, что я, действительно, по его примеру, вооружился галошами, надел плащ, и мы вышли на
Английскую набережную. Бесполезно было бы описывать
все мучения подобной прогулки, во время которой одною рукою надобно было держать шляпу на голове, а другою беспрестанно закутываться в плащ, срываемый с плеч ветром.
Сделав несколько шагов вдоль набережной, я остановился
и решительно объявил поэту, что не пойду против ветра, что
если ему угодно продолжать прогулку, то я предлагаю поворотить к бульварам Адмиралтейства и идти на Невский проспект, где по крайней мере строения заслонят нас несколько
от бури. Кажется, что великолепная борьба стихий скоро
надоела и самому поэту, потому что он без труда согласился
с моим мнением, дав мне только заметить красоту огромных
черных волн Невы, которые в это время были освещены луною, освободившеюся на мгновение от туч. Мы благополучно достигли бульвара. Поэт рассказал мне здесь много прекрасных вещей о луне, которых я для краткости не повторяю.
Мы скоро очутились на Невском проспекте. Во все время
нашего странствования не встречали мы ни живой души.
Улицы были совершенно пустые, окна домов совершенно
темные. Дошедши до Большой Морской, я поворотил в эту
421
улицу, чтобы под защитою ее домов пробраться до своей
квартиры, когда мой товарищ был поражен необыкновенным освещением одного из домов Невского проспекта по ту
сторону Полицейского моста. Он остановил меня. Действительно, дом был весь в огне. Сначала мне казалось, что этот
яркий свет разливался из окон Дворянского собрания, но
поэт, который превосходно знал топографию Невского проспекта, скоро убедил меня, что освещенный дом должен лежать гораздо ближе. Все соображения местности приводили
нас обоих к заключению, что это был тот самый дом, в котором находится магазин и библиотека Смирдина. Но что значит такое освещение после полуночи? Разные предположения, одно страннее другого, приходили нам в голову и, после тщательного разбора, были поочередно отвергаемы как
неправдоподобные. Я видел, что поэту страх хотелось решить
загадку личным удостоверением, и сам предложил ему перейти через Полицейский мост, чтобы посмотреть вблизи на
предмет наших гипотез.
С мосту уже были мы в состоянии убедиться самым положительным образом, что освещение, которое нас так поражало, в самом деле происходило из магазина и библиотеки Смирдина. Но удивление наше возросло еще более, когда,
пройдя несколько шагов, мы приметили первые кареты длинного ряда экипажей, уставленных в три линии вдоль всего
тротуара. Не оставалось более никакого сомнения, что в залах Александра Филипповича Смирдина происходит что-то
необычайное — собрание, быть может, бал или по крайней
мере свадьба. По мере того как мы продвигались вперед,
форма экипажей и упряжи, наружность лошадей, кучеров,
лакеев более и более приводили меня в недоумение: это были по большей части старинные рыдваны, кареты и линейки
готического фасона с дивными украшениями, кони непомерной величины в сбруях прошедшего столетия, люди тощие,
длинные, бледные, в допотопных ливреях и с ужасными усами. Я обратил внимание моего спутника на это странное обстоятельство: он посмотрел и вздрогнул, уста его дрожали.
— Чего вы перепугались? — спросил я.
— Ничего! — бодро отвечал поэт.— Ничего, так,— прибавил он, спустя несколько мгновений, но уже измененным
голосом, и схватил меня под руку; я приметил, что он дрожит.— Рок! Рок!..— продолжал он именно тем голосом, который в стихах своих называл «гробовым».— Пойдемте!
Нечего делать... Пойдемте, это собрание относится к одному
из нас. Я и забыл, что обещал быть в нем сегодня!
422
И, говоря это, он сильно жал мою руку и увлекал меня
ко входу в освещенный дом.
— Так что же оно значит? — спросил я, несколько
встревоженный его отчаянным тоном.
— Увидите! Увидите! Это любопытно!.. Очень любопытно!.. Это поучительно!.. Вы узнаете много нового. Мне обещали открыть одну великую тайну...
— Кто обещал?
— Кто! — воскликнул он печально.— Кто!.. Тот, кому
оно как нельзя лучше известно. Тот, кто... Не спрашивайте,
ради бога! Вы его увидите сами.
— Да кто же эти люди? Откуда эти уродливые экипажи?
— Кто эти люди?.. Разумеется, петербургские жители.
Мало ли в городе старинных экипажей?.. Вы видите, что между ними есть и новые кареты. Посмотрите, какая щегольская коляска! Эй, кучер!.. Чья коляска?
Кучер назвал одного из известнейший поэтов наших.
— Видите ли?.. И он здесь! Пойдем скорее.
Ответ кучера несколько успокоил меня. Любопытство
мое возбуждено было в высочайшей степени, тем более что
я ничего не слыхал о приготовлениях к этому празднику и
что он был для меня совершенною нечаянностью. Правда,
место, где он происходил, и имя, которое только я услышал,
заставляли думать, что это должно быть литературное собрание, а в моей частной философии есть коренное правило:
никогда не купаться в море между акулами и не бывать в подобных собраниях — два места, где, того и гляди, отхватят
вам ногу острыми зубами или кусок доброго имени дружеским поцелуем; но на этот раз я готов был, впервые в жизни,
нарушить мудрое правило, чтобы узнать причину столь многочисленного ночного конгресса. Мы взошли на подъезд, который был ярко освещен и покрыт теснившимся народом.
В дверях стояли два человека: они, казалось, раздавали
билеты входящим, и один из них громко повторял: «Пожалуйте, господа, пожалуйте скорее — представление начинается».
— Представление? - вскричал я.— Что это значит?
Какое представление?
— Да, да! Представление! — отвечал поэт дрожащим
голосом.— Я давно уже получил приглашение.
— Да кто же здесь дает представление после полуночи? — спросил я довольно громко.
Вопрос мой, видно, был услышан одним из раздававших
423
билеты, потому что он оборотился ко мне и сказал с важностью:
— Синьор Маладетти Морто, первый волшебник и механик его величества короля кипрского и иерусалимского, будет иметь честь показывать различные превращения... Пожалуйте, господа! Пожалуйте скорее! Представление начинается!
Говоря это, он почти насильно сунул нам в руку два билета, и толпа, теснившаяся сзади, втолкнула нас в двери.
Это имя, признаться, несколько зловещее, страшное лицо и
хриплый голос раздавателя билетов, странные фигуры, которые нас окружали в сенях и всходили с нами по лестнице,—
все это способно было внушить некоторый страх и самому
храброму. Я сообщил сомнения свои поэту и не решался идти далее. Он засмеялся над моей трусостью, но каким-то глухим, отчаянным смехом, и опять потащил меня по лестнице.
Не скрываюсь, что в это время любопытство мое совершенно
пропало, и только ложный стыд заставил меня повиноваться моему спутнику. Мы достигли входа в книжный магазин.
Здесь два другие человека переменили у нас билеты и просили идти далее. У дверей первой залы не было никого: мы
вошли без всяких обрядов; никто не потребовал с нас платы
за вход, и это меня удивило еще более. Зала была освещена
множеством кенкетов, уставлена во всю длину частыми рядами стульев, и по крайней мере три четверти их заняты были посетителями обоего пола. Книги с прилавков были убраны и все шкафы завешены красными занавесами. Огромный занавес такого же цвета закрывал всю глубину залы
со стороны Конюшенной улицы. Перед ним находился длинный стол, на котором в разных местах стояли инструменты
и ящики. За столом важно расхаживал человек в черном
фраке и по временам отдавал приказания служителям. Изо
всего можно было заключить, что это сам синьор Маладетти
Морто, первый волшебник и механик его величества короля
кипрского и иерусалимского. Желая взглянуть ближе на него и на его зрителей, я подошел к первым рядам стульев.
Лицо этого человека, кроме пронзительного взора и насмешливой улыбки, сросшейся с его тонкими губами, нс представляло ничего примечательного. Перед ним на двух первых
рядах стульев сидели в глубоком молчании Александр Филиппович Смирднн, очень бледный лицом, и почти все светила
нашей поэзии и прозы — люди с гениями столь необъятными, что сознание ничтожества моего подле них оттолкнуло
меня с силою электрического удара на противоположный
424
конец залы, где я скрылся и пропал в толпе. Никогда еще не
видал я такой массы ума и славы. Великолепное зрелище!
В расстройстве от своего уничижения я потерял из виду поэта
и, смиренно заняв место в одном из последних рядов, с нетерпением ждал начала представления. Надобно заметить,
что между гениями первых рядов я видел множество напудренных париков: при беглом взгляде, который успел я бросить на них, находясь еще в главном конце залы, мне показалось, будто эти почтенные лица не совсем мне незнакомы
и что я встречал их иногда в каких-то картинках, но краткость времени не позволяла мне собрать и привесть в порядок своих воспоминаний; вокруг меня не было ни одного знакомого человека, у которого мог бы я расспросить, а между
тем н представление уже начиналось. Раздался звон колокольчика. Все утихло. Человек в черном фраке, расхаживавший за столом, остановился и приветствовал собрание тремя поклонами.
«Милостивые государи и государыни! — сказал он.—
Недавно приехав в эту великолепную столицу и не имея счастия быть вам известным, я должен прежде всего сказать
несколько слов о себе. Видя меня в этом магазине, вы, может
быть, полагаете, что я писатель. Нет, я давно отказался от
притязаний на авторскую славу: я был автором, но теперь я
волхв и колдун. Хотя природа и наделила меня всеми способностями для того, чтобы быть славным сочинителем повестей и былей, я, однако ж, предпочел этому званию другое,
более выгодное. Не спорю, что иногда очень приятно шалить
с веселою, беззаботною сатирой и смотреть на движения своих ближних в свете как на игру бесконечной комедии, нарочно для вас представляемой вашим родом, и самому смеяться,
и рассказывать про свой смех тем, которые сидят подле вас,
но пришли в этот огромный театр без очков. Но это ремесло
имеет разные свои неудобства. Расскажите дело, как его видите, как оно было или как быть могло: один сердится на вас,
зачем оно так было, другой — зачем оно так может быть;
тот думает, что вы рассказываете лучше его, и бесится на
вас за то, что рассказ ваш не совсем глуп; иной находит сочинение ваше глупым и бранит вас за то, что, как ему кажется, сам он написал бы его гораздо лучше. Путешествуя по
разным странам мира, я решительно убедился, что для людей
писать невозможно. И, видя перед собою такое блестящее
собрание авторских гениев всех возможных разборов, я дерзаю даже удивляться, как вы, милостивые государи, решились на такое скучное, неприятное, бесполезное ремесло! За
425
чем вам быть писателями, когда вы можете прослыть отличнейшими шарлатанами? Посмотрите на меня: я шарлатан!..
И чрезвычайно доволен моим званием. Прекрасное звание!
Веселое звание! Благородное звание! Сделайтесь и вы, все
до единого, шарлатанами: для вас это будет очень легко —
вы уже сочинители; первый шаг сделан. Я говорю по опыту.
Нарядитесь все фиглярами, паяцами, шутами: как вы тогда будете хорошо понимать друг друга! Как вам будет ловко
жить с себе подобными! Как явно будете обманывать друг
друга и всех на свете! Да как потом будете вы смеяться!..
Главная трудность жизни, поверьте, происходит единственно оттого, что люди одеваются не в свои платья. Если бы
каждый из вас нарядился соответственно своим деяниям
или писаниям... Вот, для представления вам образчика дела
я тотчас переоденусь в шутовское платье, и вы меня мигом
поймете. Как прикажете нарядиться? Гением?.. Философом?.. Глубокомысленным ученым?
Нет! Все эти костюмы слишком старые, слишком обыкновенные, изношенные и запачканные дураками...
Вот... на нынешний вечер... и только для вас... наряжусь
я человеком, ко всему способным. Наряд, правда, уж слишком пестрый, немножко карикатурный, но он теперь в большой моде, и притом самый удобный для производства тех
чудесных явлений, которые хочу иметь честь вам представить.
Дайте мне только время принарядиться как следует: увидите, какие покажу я вам фокусы!.. О, вы любите фокусы! Вы
сами делаете их превосходно; однако ж таких, как те, которые я вам сегодня представлю, надеюсь, вы еще не производили и не видали. Вы уже горите нетерпением? Из глаз ваших брызжет любопытство? Вы сомневаетесь в возможности
превзойти вас на этом благородном поприще?.. Погодите.
Сейчас, сейчас!.. Между тем, милостивые государи и государыни, извольте занимать места: представление будет разнообразно и великолепно.
Вот мой костюм. Делая все основательно, прежде всего — не при вас будь сказано — я надеваю панталоны... парадные, полосатые, разноцветные... сшитые, как изволите видеть, из исторических атласов и статистических таблиц:
теперь, если, мне или вам понадобятся справки для глубокомысленных соображений, они все тут... Вот на этой ноге
годы, месяцы и числа деяний народов... Вот здесь раскрашенные картины их исторической жизни... А там точное показание рогатого и безрогого скота, состоящего сегодня налицо у вышеупомянутых народов. Одну ногу сую в сапог, вы
426
кроенный из романов, другую обуваю в драматический котурн. Жилет у меня цвета германской философии с мелкими
умозрительными пуговками. На шее повязываю себе большим
бантом промышленность и торговлю. Кафтан надеваю анти-
кварский. Волосы намазываю технологией и причесываю
под изящные искусства...
Наряд, как изволите видеть, отменно идет мне к лицу...
Но чтоб предстать перед вас полным, ко всему способным шутом, надеваю еще на голову, вместо колпака, химическую реторту и начинаю говорить с вами на двенадцати языках, которых ни я, ни вы не понимаем.
Теперь я готов к вашим услугам. Милостивые государи и
государыни, пожалуйте сюда скорее, торопитесь, не зевайте.
Есть еще десяток билетов. Цена за вход весьма умеренная: с
дам и мужчин не берем ни копейки, дети платят половину.
Приходите! Право, не будете раскаиваться, что пожертвовали своим временем. Вы, может быть, спросите, как можем мы
давать представления так дешево? Скажете, что мы должны
быть в убытке? Конечно, с первого взгляда оно так бы казалось, но мы отыгрываемся на большом числе ротозеев, и хотя с них получается очень мало, ровно нуль, однако ж множество нулей с одним искусным шарлатаном впереди составляет огромную сумму. Этот расчет мы, шарлатаны, понимаем прекрасно.
Приходите же, пожалуйста: здесь показываются невиданные и неслыханные штуки, про которые не снилось ни
Месмеру, ни Калиостро, ни даже знаменитому Пинетти, моему покойному дяде, шурину, брату, куму и наставнику. Эй,
честные господа! Эй, почтенные, прекрасные госпожи! Живее, проворнее... Не скупитесь, берите остальные билеты: вы
увидите здесь дивы дивные и чудеса сверхъестественные.
Здесь показывают не мосек, одетых историческими лицами,
не обезьян, наряженных в бальное платье: представление наше нового и гораздо высшего рода, приспособленное к понятиям и потребностям людей, столь знаменитых и столь образованных, как вы, милостивые государи и государыни, приведенное в уровень с веком, подобранное к росту современных идей. Все новые изобретения и открытия прошедших,
настоящих и будущих веков были призваны нами для сообщения ему занимательности и совершенства, достойных такого умного и глубокомысленного собрания... потому что я
и мои собратия, шарлатаны всех родов и названий, обожаем
всякие открытия, лишь бы эти открытия нас не закрывали.
Спешите, господа! Спешите! Представление начинается.
427
Кому еще угодно к нам пожаловать?.. Есть еще два порожние места. Никого нет более?.. Раз, два, три! Поднимайте занавес.
И так как, милостивые государи и государыни, вы удостоили наше представление блистательного и многочисленного
присутствия, то я сперва покажу вам мой кабинет заморских
редкостей. Если вам случалось прежде посещать эту залу,
то вы помните, что все эти шкафы, которыми стены так
плотно обставлены, всегда были открыты и наполнены книгами. В эту минуту они завешены и заключают в себе мой
физиологический кабинет, составленный из редкостей, каких нет, не бывало и никогда не будет на свете... Что если я
доложу вам, что теперь на этих полках вместо книг стоят головы, которые сочиняют книги? Вы уже удивляетесь, слыша,
что мой кабинет, который тотчас откроется взорам вашим,
состоит исключительно из человеческих голов всякого рода,
разбора, калибра, весу, объема, вида и достоинства. Но вы
удивитесь еще более, когда я почтеннейше доведу до вашего
сведения, что их у меня двенадцать тысяч. Вы скажете: неправда! Быть не может! Вы подумаете, что я туманю, и спросите, откуда взял я столько голов! На все есть у меня ответ
ясный и удовлетворительный. Прошу благосклонно выслушать.
Бессмертный мой дядя, шурин, брат, кум и наставник,
Джироламо Франческо Джакомо Антонио Бонавентура Пи-
нетти, о котором вы сами иногда рассказываете такие чудеса, что не знаешь, в какую упрятать их голову, путешествуя
по различным странам, землям и народам, однажды заехал
нечаянно на самый край света. Он увидел себя в баснословном африканском государстве, называемом между нами,
учеными, Голкондою,— где алмазы растут, точно как у нас
огурцы, где за железный гвоздь дают топор чистого золота,
где книги пишутся с одного конца, а понимаются с другого.
Там царствовал тогда мудрый, знаменитый и могущественный султан Шагабагам-Балбалыкум, славившийся на целом
Востоке своим правосудием. Однажды за столом он так взбесился на своего повара, который прислал ему пережаренную
куропатку, что приказал обезглавить его, всю кухню, весь
свой двор, все свое государство, которое, впрочем, было очень
невелико. В восточных государствах эти вещи случаются
почти ежедневно. В правосудном гневе своем мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум явился столь неумолимым, что,
когда, по обезглавлении всего государства, предстали перед
ним с донесением два его палача, он приказал, чтобы и они
428
срубили друг другу головы, что и было исполнено со всею
надлежащею строгостью. Будучи на другой день без завтрака и без подданных — во всей Голконде оставались в живых
только мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум и мой незабвенный учитель Джироламо Франческо Джакомо Антонио Бонавентура Пинетти — он наименовал последнего своим первым поваром, камердинером, евнухом, секретарем, казначеем, визирем, комендантом всех морских и сухопутных
сил и единым другом,— и трое суток жили они очень весело.
Султан царствовал в пустом государстве со славою, мой
наставник управлял на славу пустым государством; оба они
начинали уже прославляться в Африке, как однажды зашел
у них любопытный разговор.
— Мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум! — воскликнул Пинетти.
— Что, мой любезный Пинетти? — воскликнул султан.
— Вы вчера изволили лестно отозваться о моем управлении.
— Я очень доволен твоим усердием. Моя Голконда явно приходит в цветущее состояние. Но скажи мне, пожалуй,
как ты это делаешь?
— Посредством политической экономии, мудрый султан
Шагабагам-Балбалыкум.
— Политической экономии? — повторил мудрый султан.— Что это за чертовщина?
— Это наука, нарочно выдуманная у нас, на Западе, для
обогащения пустых государств посредством разных пустяков.
— Так у вас есть и такая наука? — вскричал изумленный султан.— Аллах велик, мой любезный Пинетти!
— Очень велик,— отвечал Пинетти.— При помощи этой
удивительной науки три великие промышленности: сельское
хозяйство, ремесленность и торговля,— оказывают неимоверные успехи в торжественных речах и книгах, так что в
три дня любой народ может сделаться необыкновенно богатым по теории, умирая с голоду в практике. Великие истины
этой науки, которые быстро и успешно распространяю я в
Голконде...
— Вот этим я не совсем доволен, мой любезный Пинетти.
Я не люблю истин, и в особенности великих.
— Мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум! Истины
этой науки только баснословные истины; да притом так называемые великие истины вредны тогда только, когда они
могут закрадываться в головы; а так как вы, благоразумною
429
и решительною мерой, изволили устранить навсегда это неудобство...
— И то правда! Ну, так очень рад, что великие истины
политической экономии быстро и успешно распространяются вне голов. Однако ж скажи мне, кто собственно им
верит у нас, если они так успешно и быстро распространяются?
— Никто, мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум.
— Жалую тебе за это почетную шубу! — вскричал султан в восхищении.
— Вообще все идет так прекрасно,— продолжал Пине-
тти,— что наша политическая система найдет себе подражателей на всем Востоке, и ваше имя, как первого ее изобретателя, будет вечно жить в потомстве. О, эта система производит сильное, удивительное впечатление во всей Африке!
Вы одним ударом опрокинули все прежние политические теории и открыли новую, удивительно простую и ясную. Одного
только недостает в этой чудесной системе: сегодня поутру
я, как ваш верховный визирь, чтобы показать всю энергию
моей администрации, признал необходимым, как у нас говорится, frapper quelques grands coups d’état1, то есть для примера отколотить кого-нибудь по пятам; и...
— Что ж? — вскричал султан.
— Некого колотить,— отвечал мой учитель, скромно потупив глаза.
— Досадно! — сказал мудрый султан.— За все твои
необыкновенные подвиги я от души желал бы доставить тебе это истинное визирское удовольствие, тем более что и
мера сама по себе спасительна: но как же быть теперь? Откуда взять для тебя пят pour frapper de grands coups d’état1 2,
как y вас говорится? Не хочешь ли употребить на это твои
собственные?.. Я сам готов взять палку и для примера отвалять тебя на славу.
— Я счел бы себя счастливейшим из людей...— отвечал мой наставник в некотором затруднении,— но... но боюсь...
— Чего боишься?
— Того, что эта мера может быть не понята, перетолкована неблагонамеренно... Скажут, что мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум собственноручно изволил наказы
1 Здесь: предпринять несколько решительных государственных действий (фр.).
2 Здесь: для осуществления решительных государственных действий (фр.).
430
вать своего визиря за разные несообразности, что дела у
нас идут дурно, что политическая экономия никуда не годится...
— Правда, правда!—вскричал султан.— Ты прав, Пинетти! Ты удивительно мудрый и дальновидный человек! Сам
Гарун-аль-Рашид не имел такого остроумного визиря. Но как
же бы с пятами, которые, как я сам знаю, необходимо нужны тебе для успешного хода нашей восточной администрации? Было у меня несколько карманников, позоривших всю
мою голкондскую литературу... Как жаль, что я велел
их обезглавить вместе с прочими! Я бы теперь с удовольствием предоставил их тебе, чтобы ты порядком отколотил их по пятам, для примера всей африканской пустыни.
— Карманников?.. Это термин голкондский?
— Ну, да! Голкондский. Карманников, то есть изобретателей системы «битья по карманам»... людей, которые, алчным пером своим, посягали на чужие карманы и производили настоящий грабеж. Да правду сказать, они не стоили и
палки! Как быть, однако ж?
— Не прикажете ли оживить кого-нибудь из голконд-
цев? Я берусь, если вам угодно, известными мне средствами
поставить на ноги всех обезглавленных.
— Я уже вчера думал об этом и был уверен, что ты в состоянии сделать это. Вы, западные, собаку съели на все науки. Сколько ты их знаешь?
— Сто восемьдесят.
— Я так и полагал. Сто восемьдесят наук! Знаешь
ли, любезный Пинетти, что с этою пропастью наук можно было бы, мне кажется, поставить их на ноги без голов.
— И очень легко!
— Неужели?.. Но как же они будут жить без голов?
— Нынче у нас доказано, что голова совсем не нужна человеку и что он может все слышать, видеть и обонять посредством желудка, который даже в состоянии узнавать людей
сквозь стены, читать письма, спрятанные в кармане, описывать события, происходящие за тысячу миль, и с точностью
предсказывать будущее, чего головам никогда не удавалось
сделать удовлетворительно, даже когда они пытались только
предсказывать перемены погоды с помощью лучших барометров.
— Аллах! Аллах! — вскричал изумленный султан.—
431
Вот уж этого никак я не думал, чтоб желудок был умнее головы! Аллах, аллах! Нет силы ни могущества кроме как у
аллаха! И следственно, когда я в Голконде стану царствовать желудком, оно выйдет еще мудрее нынешнего царствования моею головою?
— Гораздо мудрее, если только это возможно. Ваше
царствование будет тогда магнетическое, ясновидящее.
— Ясновидящее! Ах, как ты меня обрадовал! Знаешь
ли, любезный Пинетти, я давно уже... с тех пор как в наших
африканских песках распространились ваши западные умозрения и разные прочие вздоры... я давно желал иметь хорошенькое царство, составленное из людей, преобразованных по новому плану; из людей основательных и положительных, которые бы рассуждали и управлялись желудками. Я приметил, что у меня в Голконде все глупости выходили из голов; да и на всем Востоке они происходят оттуда же...
не знаю, как у вас на Западе?
— У нас, на Западе, глупости происходят из желудка.
— У нас, на Востоке, желудки, слава богу, отличны, но
головы крепко порасстроены теориями.
— У нас, на Западе, головы, слава богу, отличны, но желудки все вообще ужасно расстроены и алчны и производят
страшные потрясения, перевороты, революции...
— Если б я был султаном на Западе, я бы велел всем вам
отсечь желудки.
— Вы так мудры, великий султан Шагабагам-Балбалыкум!..
— Так ты мне возвратишь их в целости, только без голов?
— Извольте.
— Я награжу тебя за то по-султански.
— Я уверен в вашей неисчерпаемой щедрости!
— Дарю тебе все головы моих голкондцев.
Пинетти в знак благодарности упал к ногам мудрого и
великодушного султана Голконды и с благоговением поцеловал его туфли.
Мой незабвенный наставник, конечно, ожидал гораздо
значительнейшей милости за свою услугу, но что прикажете
делать с таким своенравным африканским властителем! При
помощи известных себе секретов статистики, истории, политической экономии, умозрительной физики и разных других
несомненных наук, также при могущественном пособии животного магнетизма мой бессмертный учитель в одни сутки
432
надушил все эти мертвые туловища летучими жидкостями
и динамическими теориями, возбудил деятельность их желудочных нервных узлов, открыл в их подложечных областях
чувства зрения, слуха, обоняния, память, предчувствие, воображение и прочая и прочая и, приведши тела в сообщение
с небольшим Вольтовым столбом, поднял всех голкондцев
на ноги. Поданному знаку они встали и пошли кланяться,
интриговать, решать дела, писать ученые книги, читать вздорные романы — как будто ни в чем не бывало! — не примечая даже, что ни у одного из них нет головы на плечах. Мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум помирал со смеху,
смотря на свое магнетическое государство. С тех пор любимая его забава состояла в том, чтобы, лежа на софе и куря
трубку, двух главных своих карманников сперва заставить
дружески целоваться и взаимно превозносить себя похвалами, а потом, искусно поссорив их между собою, довести
до драки в своем присутствии; и когда один из них, вздумав
дать пощечину другому, замахнется для нанесения обидного удара и рука его, не встречая лица, опишет по пустому
воздуху полукружие над шеей противника, тогда-то мудрый
султан Шагабагам-Балбалыкум хохочет, бывало, до слез и
потешается над своим ясновидящим народом! Так как он
теперь надеялся один с ним управиться, то мой незабвенный
наставник, собрав все подаренные себе головы, счел приличным скорее унести оттуда свою собственную. Он нагрузил
ими десять кораблей, но впоследствии оказалось, что девять
десятых из них не стоили и гроша, и он побросал их в море,
оставив себе двенадцать тысяч голов, отличнейших в целом
государстве, из которых и состоит великолепный кабинет
физиологических редкостей, находящихся ныне в моем владении.
Теперь, как вам уже известна история моего кабинета,
как вы уже знаете, что это за головы, и не сомневаетесь в том,
что это настоящие людские головы, не телячьи, не бараньи,
не сахарные или капустные, то я скажу вам еще, милостивые
государи и государыни, для личного вашего сведения и соображения, что они по сю пору совершенно как живые и, силою нашего искусства, сохранены в первобытном состоянии,
без малейшей порчи, как будто сегодня были сорваны с плеч.
Они разобраны по родам и видам, согласно своей прочности, логике и склонностям, и расположены систематически в
этих закрытых шкафах, как банки в аптеке, с приличными
надписями на ярлыках, приклеенных к их носам. Каждый
шкаф содержит в себе отдельный класс голов и снабжен, как
433
вы изволите видеть, особенною надписью на шести известных и шести неизвестных языках, изображающею общее наименование класса. Наконец, мой наставник и я, после долгих и томительных опытов, с помощию бесчисленных наук и
преимущественно умозрений, имели счастие изобрести магнитный жезл чудесных свойств, которого прикосновение мигом заставляет эти головы говорить совершенно так, как говорили они при жизни, когда ездили верхом на людях.
Смотрите же теперь, милостивые государи и государыни!
Вот шкаф № 1. Я не из тех шарлатанов, которые начинают
свои представления мелкими, обыкновенными фокусами,
чтобы утомить внимание зрителей для удобнейшего расположения их к дальнейшим производствам. С первого слова
я открываю шкаф № 1 и показываю все, что у меня есть лучшего и достойнейшего любопытства... Теперь вы убедились,
что это в самом деле головы?.. Прошу взглянуть на них поближе: я не боюсь близкого осмотра; у меня нет обмана. Все
головы — там, где прежде были книги! Если вы охотники до
чтения, то можете вместо книг читать эти головы: они раскладываются и читаются подобно книгам, как вы в том скоро
удостоверитесь сами. Но взгляните только на их мины: какая осанка! какая важность! сколько благородной гордости!
Как они свежи, румяны, вымыты, завиты, причесаны, напудрены! Как настроены на глубокомысленную ноту, величавы,
казисты! Да как хорошо пахнут!.. Славные головы! Редкие
головы! Они высоко ценились в Голконде и употреблялись для
суждения о всех других сортах голов. Таких голов не увидите вы никогда на свете! Это головы так называемые «пустые»,
как о том свидетельствует и надпись шкафа на двенадцати
языках; а если угодно, можно справиться и с моим каталогом: я не люблю морочить. Но вот лучшее доказательство:
беру с полки наудачу какую-нибудь из них, дую ей в ухо—
пуф! — ветер выходит в другое ухо. Теперь дую в ноздри —
их! — ветер вылетает в оба уха. Следственно, совершенно
пусты! Тут нет никакого подлога. Можно еще постучать в
них пальцем; слышите? — звенят как стаканы. Совершенно
пусты! Теперь беру мой волшебный жезл, и, как скоро проведу им по их устам, произнося известные халдейские слова,
которым выучил меня незабвенный мой наставник, они тотчас станут рассуждать, как рассуждали на шее у голконд-
цев. Шамбара-мара-фарабамбаламбалыку! Почтенные головы № 1, рассуждайте!.. О, видите! Все вдруг разевают рты!
Слушайте со вниманием.
Головы на п о л к а х: А! — Э? — Мм! — Э!
434
Вот все опять закрыли уста, ничего не сказавши! Жаль!..
Не приписывайте этого, однако ж, милостивые государи и
государыни, недействительности моего магического жезла.
Он тут нисколько не виноват, и я не стану вас обманывать.
Хотя это очень дорогие головы, однако ж они столько умели
сказать и при жизни. Оно, конечно, не много, но что прикажете делать!.. Поэтому они всегда подавали мнения свои
письменно. Теперь прошу почтенное собрание подойти поближе к шкафу и читать ярлыки, прилепленные к носам: вы
увидите, кому они принадлежали. Прошу, без церемонии!..
Постойте: одна из них, на верхней полке, хочет сказать что-то
любопытного.
Одна из голов: Ая согласна с мнением тех, которые сказали «Э!>.
Видите ли, как славно рассуждает! Погодите: я сейчас
сниму ее и скажу вам, чья она. Ах, какое несчастие!.. Ярлычок куда-то отвалился, и я теперь не припомню имени почтенного мужа, на чьих плечах она процветала. Но знаю наверное, что она украшала какого-то почтенного мужа: в
этом шкафу все порядочные головы, все № 1, которые то и
дело подавали мнения свои о других головах.
А между тем как эти господа изволят любоваться на сокровища моего первого шкафа, за который лет шесть тому
назад давали мне два миллиона наличными в Бельгии —
там тогда нужно было рассуждать о разных высоких предметах и был большой запрос на головы — между тем я покажу
собранию шкаф № 2, с надписью «головы-ку кутки», с умом,
сзерновавшимся в одно неподвижное понятие. Вот они. Редкие головы! На вид они похожи на обыкновенные головы,
но отличаются от всех прочих тем удивительным свойством,
что всю жизнь кукуют одною какой-нибудь идеей, которая
свила себе гнездо в их мозгу и, при всяком случае, высунув
сквозь рот голову, поет всегдашнюю свою песенку. Я бы заставил их показать свое искусство, но это не очень любопытно: о чем бы вы ни рассуждали с ними или в их присутствии,
одна из них регулярно, всякую четверть часа, пропоет вам:
ку-ку! мануфактура! —другая: ку-ку, акупунктура! — иная:
ку-ку, Шеллинг! — эта: ку-ку, Бентам, ку-ку!.. Вы можете
поверить мне на слово: тут нет обмана. Вся занимательность
в том, что они здесь подобраны все одинакового свойства:
в Голконде, где часы еще не были изобретены, их употребляли вместо стенных часов, и у мудрого султана Шагабагам-
Балбалыкум в каждом углу бесчисленных его палат стоял
один голкондец с такою головой; в Европе я продаю
435
их довольно выгодно в разные комитеты и ученые общества.
Лучше перейдем к следующему шкафу. Шкаф № 3, «головы всеобщие», иначе называемые «головы-мельницы», с
умом о двенадцати жерновах. Я в двух словах изображу вам
их необыкновенное устройство, но наперед сниму с одной из
них череп и попрошу вас взглянуть на их ум. Он состоит весь
из зубчатых колес, поршней и вертящихся камней. Теперь
он в бездействии, и вы не видите в нем ни следа мысли; но
заговорите только с этого рода головою: все идеи, какие в
них ни бросите, хоть бы они были тверже алмаза, мигом будут раздавлены и смолоты. И чем более станете подсыпать
понятий, своих или из какой-нибудь книги, тем быстрее вертятся в них жернова, производя страшный стук и шум мельницы в полном движении. Превратив все предметы, попавшиеся под их тяжелые камни, в крупу, в муку, которая кругом сыплется из них на пол, запылив вас ею с ног до головы,
выбросив все из себя, они опять останавливаются: загляните в них в то время, и вы опять не найдете ни одной щепотки мысли или материала к рассуждению. Ужасные головы!
Они ничего не создают, ничего не в состоянии создать, но все
портят, ломают, уничтожают. В Африке они вторглись в
словесность под предлогом беспристрастных критик и переломали все идеи, все таланты, все вдохновения таланта; ничего благородного, ничего прекрасного не оставили они в
своей отечественной литературе: все истерли, превратили
в пыль; когда мой бессмертный учитель туда приехал, в книжных магазинах на полках стояли только мешочки отрубей, которые продавались вместо изящного. Ужасные головы!
Но вот отделение, достойное вашего внимания: «головы
механические», иначе «головы-ящики», с умом на пружине.
Это головы знаменитых хронологов, историков, лексикографов, грамматиков, законоведцев и библиографов Голконды.
Возьмем одну из них, например эту, с большим красным носом, и, для удобнейшего объяснения, снимем также с нее череп, примечательный своею толщиной. Господа, прошу сюда
поближе! Это голова славного африканского библиографа.
Извольте заметить, что она внутри имеет вид шкатулки с
множеством перегородок и ящиков, которые битком набиты заглавиями и форматами книг, книжечек, брошюр, уставов, уложений, положений и учреждений всех известных и
неизвестных народов. Эти заглавия теперь перемешаны и лежат в беспорядке по разным ящикам, потому что в таком
436
же виде они всегда лежали в голове и при жизни глубокоученого законоведца. Вы, может статься, думаете, что подобные
головы ни к чему не годятся?.. Вы ошибаетесь: в нужных случаях с ними делают чудеса. Так, например, этот глубокоученый библиограф имел обыкновение сверлить пальцем в ухе
при всяком затруднительном случае: ему довольно было повернуть палец известным образом, и эти заглавия и форматы вдруг приходили в брожение, ворочались, шевелились
с шепотом, как раки в кастрюле, перескакивали из ящика в
ящик, строились в шеренги, укладывались дивными узорами. Я могу показать вам это на опыте. Вот кладу палец в
ухо этой голове, и как скоро поверну им в одну сторону —
крак! — смотрите, все издания расположились в голове по
алфавитному порядку!.. Что ж вы скажете о такой голове?
Теперь поверну пальцем в противную сторону — крак! —
ну что, видите ли?.. Те же издания построились в хронологический порядок, по годам своего выхода в свет. Посверлю
ей в ухе еще иначе: вот хронологический порядок оборачивается вверх дном, и все книги ложатся отделениями, по содержанию. Удивительная голова! Однако ж обманывать вас
не стану: она способна только к таким фокусам; в дело употребить ее никак невозможно. Подобным образом и эта плоская, тощая, бледная голова голкондского грамматика и лексикографа. Позвольте снять с нее очки и парик... Теперь
вскройте и посмотрите: она верхом насыпана голкондски-
ми словами разной длины, толщины и всех возможных видов и теперь кажется вам четвериком, наполненным рубленою соломой; эта солома — весь запас ее сведений... Голова
умом не богатая, но, когда я захочу, она представит вам чудеса еще удивительнее тех, которых уже были вы свидетелями. Пожмите ее под правым ухом! — все слова пришли в
алфавитный порядок, и вы имеете словарь. Потащите за левое ухо! — они жужжат, движутся, перепрыгивают и становятся под своими корнями. Не угодно ли кому-нибудь покачать ее тихонько в обе стороны?.. Вот они начинают склоняться: сей, сия, сие; сего, сей, сего... оный, оная, оное;
оного, оной... Какой шум, гам! Вы слишком сильно ее качнули. Теперь не удержишь ее ничем в свете: беда раскачать
грамматическую голову!.. Как она раздувается! Увидите, что
она лопнет! Где буравчик? Дайте скорее буравчик!.. Надо
спасать голову! Вот как их лечат в Голконде: как можно скорее сверлят им во лбу дирочку... дирочка готова, и сквозь
дирочку сыплются на стол исключения и изъятия. Посмотрите, какая куча грамматических неправильностей навали
437
лась из нее в одну минуту! Не открой я им отверстия, они разорвали бы ее вдребезги, и я лишился бы лучшей в моем собрании машины для чески языков и наречий. Прошу, господа, поосторожнее с моими головами; не шевелите ими так
сильно: ведь это людские головы!.. Но я вам покажу голову
еще любопытнее этой. Вот она. Голова тяжелая, плоскодонная, как всегда грамматические головы. Она совсем похожа на предыдущую, с тем только различием, что кроме рубленой соломы, составляющей единственно ее богатство, есть
здесь еще разные презрелые ухищрения механики. Посмотрите в этот уголок... самый темный уголок головы, которая,
впрочем, вся не очень светла. В нем стоит чудная машинка...
Это модель машины для битья по карманам, потому что голова эта принадлежала главному из голкондских карманников. В противоположном утолку, как вы изволите видеть,
висит мешочек с ядом, выжатым из злобы и мщения, для
смазки колес и пружин машины. Жаль, что у вас, милостивые государи, нет с собою ни одного лишнего кармана, а то
бы я просил вас одолжить меня им и показал на опыте образ действования этой машинки. Впрочем, он так безнравствен и отвратителен, что вы немного потеряете, если его и не
увидите. Две другие головы того же сорту, находящиеся в
моем собрании, были, вместо рубленой соломы, набиты такими мерзостями, что когда мой почтенный наставник выбросил их в море, даже акулы гнушались ими и не хотели пожрать их.
Открываю шкаф №4 — «головы-шифоньерки», с задним
умом, не совсем приятного вида, немножко похожие на филинов, но тем не менее достопримечательные. Приподняв
крышку, вы видите в них... Об чем изволите вы спрашивать?
Где ум этой головы?.. Ум остался назади, за семь столетий
отсюда: его никогда нет дома... Вы видите в ней только кучу обломков и лоскутков; но если вступите в разговор с нею,
она вам с точностью скажет, к чему принадлежал такой-то
обломок, от чего оторван лоскуток и какое было назначение их во время оно. В Голконде люди складывали в эти
головы все изношенные, вышедшие из моды или негодные
к потреблению понятия. Если, копая землю, случайно отрывали старый горшок, кусок башмака или вилки, то и это
прятали туда же. Головы этого рода очень полезны для опрятности общественного разума, который без них был загроможден изломанною рухлядью прошедшей образованности или прошедшего варварства, был бы засорен черепками
давно оставленных прихотей. Я продал несколько этих ши
438
фоньерок в Германии: к сожалению, там цена на них теперь
упала, а здесь даже не знают их достоинства; но в Голконде,
где очень любят порядок, головы такие были расставлены
по всему протяжению общества в известных дистанциях,
как у нас по деревням бочки с водой, и жители сбрасывали
в них все вещественное и умственное старье. Благодаря этому заведению никакая человеческая глупость не терялась в
том краю и казна не издерживала ни копейки на археологические поиски. Люди смышленые, подобно нам, вытаскивали
из них потихоньку эти тряпки и, промыв их, подкрасив, продавали тем же жителям за новые идеи: этот порядок водится и теперь во многих африканских землях и называется там
«бесконечным совершенствованием человечества». Ах, милостивые государи и государыни, сколько дивных вещей, которыми вас здесь морочат мои почтенные собратия, шарлатаны, узнали бы вы настоящим образом, если б решились съездить летом в Голконду!.. Я открываю вам чистосердечно все тайны ремесла, потому что у меня нет
обмана.
В этом шкафу, под № 5 хранятся «головы-собачки», с передовым умом, который тоже никогда не бывает у себя дома; но он не тащится за своей головою в тысяче верст назади,
как предыдущий, а обгоняет ее несколькими веками — или,
по крайней мере, одним столетием — и мчится вперед, не
оглядываясь. Страшные головы! Они совершенно противоположны тем, которые имел я честь показывать вам недавно:
всегда в движении, всегда забегают вперед своему веку, скачут ему на шею и лают, подобно моськам, опережающим бегущих лошадей. Они не помнят и не знают ни того, что есть,
ни того, что было: все рвутся вперед, все силятся поймать
зубами за пяту будущность, которая от них уходит. Вам,
может статься, никогда не приводилось заметить — теперь
вы видите собственными глазами! — что родятся на свете головы с таким умом, из которого для настоящего времени
нельзя даже сварить каши: он или будет годен к употреблению через тысячу лет, или бы годился десять веков тому
назад. «Шифоньерки» — смирные и полезные головы, но «собачки» ужасно скучны и несносны. Они беспрерывно лают
на настоящий век, кусают ноги своего общества и предсказывают ему будущее, обжеланное по их желаниям и понятиям. В Голконде не знали, что с ними делать. Наконец, мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум, видя, что они напрасно
тратят время на пророчение того, что сбудется едва за сто
тысяч лет, а может быть, и никогда не сбудется, пожелал
439
употребить их прорицательный дар на что-нибудь полезное и
велел им предсказывать погоду. Плохо шли их предсказания
в Голконде. Мудрый султан велел их высечь по пятам, и с
тех пор, если случалось, что он страдал бессонницею, то призывал их к себе и заставлял рассуждать под своею кроватью
о будущем возрождении мужчин посредством женщин, что
всегда усыпляло его через пять минут. Вы изволите видеть
два пустые места в этом шкафу: здесь были две головы этого
разбору; я продал их почти за бесценок: одну господину Морфи в Англии, а другую профессору Штифелю в Германии;
они надели их себе на плечи и сочиняют теперь календари с
означением на целый год вперед хорошей и дурной погоды.
Вот новый класс голов. Головы, технически называемые
у нас «балаганами». Позвольте поставить несколько их на
этом столе и снять с них крышки для вашего удовольствия,
потому что это чрезвычайно любопытные головы. Прошу посмотреть в середину. Они пусты внутри; в этой пустоте туго
натянута ниточка наподобие каната в балагане Лемана; но
это не ниточка, а идея... и всегда чужая идея. В этой, например, голове натянута идея — умственное движение; во второй — средние века; в третьей — время и пространство; в
четвертой — новая драма; в пятой — промысл народов и
так далее. Умов теперь не видно, потому что они за кулисами;
но как скоро я подам знак своим жезлом, они вдруг выскочат, наряженные паяцами, и начнется представление. Шам-
бара-мара-фара!.. Смотрите в эту голову! Натянутая в ней
ниточка названа в моем каталоге, кажется, германскою философией. Видите ли этот маленький, бледный, худощавый
ум? Видите ли, как он ловко вскочил на свою идею и как
проворно пляшет по ней, без шеста?.. Как прыгает, ломается, кувыркается?.. Какие делает сальто-мортале?.. Вот он
берет стул и столик, ставит их на этой паутинной ниточке и
будет завтракать! Вот схватил скрипку и пустился плясать
вприсядку на канате! Вот поскользнулся и свалился на землю — ив два прыжка опять очутился на своей идее — и
танцует по-прежнему! Это голова одного отчаянного писателя: когда, бывало, станет он прыгать по какой-нибудь
тоненькой чужой идее, вся Голконда не может налюбоваться на его искусство.
Теперь, господа, пожалуйте в эту сторону: я представлю
вам самую богатую часть моего собрания — четыре шкафа
голов, названных в моем каталоге «горшками», с умом водянистым. Он жидок, прозрачен и безвкусен как вода и стоит
440
в них тихо, пока вы не приведете его в соприкосновение с теплотой какой-нибудь модной идеи. Я могу показать вам небольшой опыт с ними: у меня есть для этого полный прибор,
очаг с длинною плитой, в которой проделаны отверстия, как
для кастрюль. Беру из шкафов двадцать четыре головы-горшка и ставлю их в эти отверстия. Сперва вскрываю черепы,
чтоб вы удостоверились, что все они налиты чистым умом из
холодной воды и что тут нет обмана. Потом высекаю огонь,
зажигаю один роман Вальтера Скотта и подкладываю его
под плиту. Прошу обратить внимание: по мере того как огонь
согревает, вода более и более шевелится — и вот все горшки
вдруг закипели историческим романом! Слышите ли, как в
них клокочет исторический роман?.. Теперь надо скорее закрыть горшки крышками и поставить назад в шкафы: а то
будут кипеть, кипеть, пока весь их ум не испарится и в другой
раз нельзя будет употребить их для опытов! Это, изволите
видеть, головы голкондских подражателей.
Вот еще любопытные вещи: «головы-мортиры», с умом
параболическим. По ним, все дрянь: они знают, как все лучше сделать. Но они не так глупы, как кажутся, и дела свои
умеют обделывать прекрасно: чтобы казаться глубокомысленнее, они порицают и унижают все, что в них не вмещается. Первое их правило — ничему не удивляться. Приведите их под Тенериф, и они вам мигом проглотят Тенериф как
пилюлю и спросят: «Где же Тенериф? И что находили вы в
нем высокого или удивительного?» А если им не удастся проглотить, то вот как они действуют. Они никогда не прицеливаются умом прямо в предмет, но стреляют им вверх, как
бомбою, и стараются попасть в цель вертикально, описав
наперед по воздуху огромную параболу; само собою разумеется, что они никогда в нее не попадают — всегда или заходят далее, или лопаются с треском в половине пути, исчертив воздух лентами серного пламени и наполнив его умозрительным дымом. В Голконде это называется — бросать
высшие взгляды: не знаю, как здесь?.. Но смотреть на это
очень забавно, особенно в темную ночь, когда эти головы,
ополчившись, осаждают другую голову, которой ума они боятся. Мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум чрезвычайно любил тешиться этим зрелищем: он готов был оставить самый великолепный фейерверк и ехать смотреть на бомбардировку высшими взглядами, чтобы хохотать над самонадеянностью этих «мортир» и над их бесконечными промахами.
Обезглавив все свое царство, он вовсе не раскаивался в этом
ужасном поступке, и когда мой незабвенный наставник воз-
441
вратнл ему подданных, султан всего более радовался тому,
что они возвращены ему без голов. Однако ж при расставании он сказал ему со вздохом: «Увы! Теперь моим голконд-
цам не из чего даже бросать высшие взгляды!.. Ну, да они
народ смышленый и, спохватясь, что у них нет голов, наверное, придумают средство стрелять высшими взглядами из
сапога».
Показывать ли вам еще разные другие редкости моего
кабинета, головы, называемые «плавильными печами», с
умом белокаленым, на который всякое брошенное понятие
мигом испаряется в газ, и вы видите от него только туман,
мглу, ничто, умозрение; «головы-насосы», с умом из грецкой губки, которою вбирают они в себя всякие чужие мысли; наполнившись ими, они выжимают их в грязный ушат
своей прозы, чтобы опять вбирать другие мысли и сделать из
них то же употребление; «головы-веретены», которые бесконечно навивают одну и ту же идею; «головы — шампанские
рюмки», которые, без всякой видимой идеи, быстро пускают
со дна искры пьяного газа и пенятся шумным слогом; «головы-лужи», с студенистым умом, который беспрерывно трясется,— это называют они по-голкондски юмористикой,—
ни к чему не способен, ничего не производит, а только, если
чужая репутация ступит на него неосторожно, он тотчас
поглощает ее в свою нечистую бездну или забрызгивает своею грязью; «головы-мешки», которые, выбросив из себя мысли, насыпаются фактами; «головы-волынки», на которых играют похвалу только всем глупостям; «головы-туфли», «головы-веретена», «барабаны», «термометры», «крысы» и прочая и прочая?.. Я думаю, вы утомились их осмотром и ожидаете от меня новых доказательств моего искусства. Собираю все мои головы в корзины и высыпаю их перед вами на
средину залы.
Вы имеете перед собою огромную груду голов разного
разбора и свойства; груду голов, сваленных, перемешанных,
перепутанных, опрокинутых, теснящих, давящих одна на
другую,— точный образ благоустроенного и просвещенного
общества или кучи яиц. Что из них сделать? К чему годятся
людские головы?.. Из туловища можно сделать важного человека; из головы — ничего!.. Вот три большие колпака:
прошу посмотреть — в них ничего нет! Из этой груды беру
три головы — три какие-нибудь — для меня все равно: одну, например, из «балаганов», другую из «мортир», третью из
«плавильных печей». Каждую из них накрываю одним колпаком. Все вы изволили видеть, что под каждый колпак поло
442
жил я по одной голове: теперь назначьте сами, под которым
колпаком должны эти головы очутиться: под первым, под вторым или под третьим?.. Под вторым? Извольте! Поднимаю
второй колпак: вот все три головы под одним колпаком... Ах,
да это не головы! Это — книги!.. Головы превратились в книги!.. Какое странное явление! Так из людских голов можно
по крайней мере делать книги? Кому угодно раскрыть эти
толстые, прекрасные сочинения и посмотреть их содержание? Вы помните, что я взял три головы: в одной из них ум,
наряженный паяцом, прыгал по тоненькой идее, натянутой в виде каната; другая стреляла высшими взглядами;
третья, с умом бслокаленым, мигом превращала понятия в
пар, в туман. Поэтому, если я не подменил голов благовременно приготовленными книгами, если я действительно в состоянии делать чудные превращения, эти три книги должны
соединить в себе свойства трех умов, вынутых мною на-
выдержку из груды. Милостивые государи!.. Позвольте
спросить... нет ли здесь между вами читателя?.. Никто
не откликается?.. Вот это досадно! Кто ж будет читать книгу, которую мы состряпали? Господа! Скажите по совести... не стыдитесь... кто из вас читатель? Нет ни одного?
— Есть один... Я читатель.
— Ах, как вы нас обрадовали! Великодушный человек!..
Благосклонный читатель, пожалуйте сюда поближе; благоволите прочитать почтенному собранию заглавие этого сочинения.
— История судеб человеческих...
— История судеб человеческих? Какое замысловатое
заглавие! Эти голкондские головы как будто нарочно созданы для заглавий!.. Загляните теперь в содержание: вы
найдете там и пляску на одной идее, и высшие взгляды, и туман, разные разности, о которых и говорить нечего в такой
честной и благородной компании. Ну что, есть ли?.. Есть!
Тем лучше. Видите, что я не обманываю. Кто хочет купить у
меня эту «Историю»? Господа, не угодно ли подписаться на
эту любопытную «Историю»? Теперь у меня только один экземпляр; но вы видите, какая здесь куча голов: все это литература!.. Я в минуту сделаю из любой головы точно такую
же историю. Прошу подписываться! Кто желает?.. Никто?..
Так надо приняться за другой фокус. Прикажите же теперь
сами, что должен я сделать из этой «Истории». Сударыня,
что вам угодно, чтоб я из нее сделал?
— Роман.
443
— Хорошо. А вы почтенный и добродетельный муж, что
желаете из нее сделать?
— Нравоучение.
— Очень хорошо! А вы, прекрасный юноша?
— Портфель с деньгами.
— Бесподобно! Я получил от вас три различные требования; но всех их невозможно вдруг исполнить; одно даже совершенно неудобноисполнимо. Из истории вы хотите сделать
нравоучение: этого и сам Великий Алберт, постигший все
тайны природы, никогда не делывал. Видно, что почтенный
и добродетельный муж, который предложил мне это требование, никогда сам лично книгами не занимался, а производил чтение посредством секретарей. Согласитесь, что история
и нравоучение — две вещи, слишком противоположные, чтоб
одну из них можно было превращать в другую: если б люди действовали по нравоучению, истории не было б на свете—
было бы только нравоучение; и обратно, если б они вели себя по истории, нравоучение было бы наукою совершенно излишнею: довольно б было поступать по истории. Таким образом, простите меня, почтенный и добродетельный муж, если я предпочту приказание этой дамы: прошу пожаловать
мне сочинение, которое я сделал из трех голкондских голов.
У кого оно?.. Прошу также посмотреть, что у меня нет ничего в руках и рукава засучены: беру эти три книги, которые
вы уже видели, и как скоро на них подую... Раз, два, три!
Пх!.. Извольте читать, сударыня!
— Судьбы человеческие. Роман в трех частях.
— Подменил заглавие! Подменил заглавие!
— Кто говорит, что я подменил заглавие? Как вам не
стыдно, господа, клеветать на меня так ужасно! Вы изволили быть свидетелями, что у меня ничего не было в руках. Разумеется, что самое простое средство сделать из истории роман — это переменить заглавие; но я не такой человек... Я
не употребляю таких грубых обманов. Это волшебные превращения, искусство делать из людских голов разные вещи, и
вы сами видите, что с помощью этого искусства сочинение
чрезвычайно улучшилось и усовершенствовалось, потому
что теперь вы читаете его с любопытством, тогда как за историю не хотели мне дать ни копейки... Прошу, однако ж,
отдать мне мой роман: я хочу показать его прекрасному
юноше... Прекрасный юноша, вы от меня чего-то требовали: извольте взять в свои руки этот роман и держать его крепко, а когда я на него подую... Раз, два, три! Пх! Посмотрите,
что у вас в руках?
444
— Ах?.. Толстый портфель!., с ассигнациями!
— Ведь вы требовали портфеля с деньгами! Чему же тут
удивляетесь? Все это превращения людских голов и ума человеческого; превращения странных образов мыслей в историю — истории в роман — романа в деньги — а денег...
Пожалуйте мне портфель обратно. Почтенный и добродетельный муж благоволит взять этот портфель и положить
его себе в карман. Берите смело; не бойтесь... ну, так! Хорошо! Застегните плотно платье, чтоб кто-нибудь не вытащил
у вас этого клада. Я между тем, милостивые государи и государыни, покажу вам новое чудо моего искусства. Видите
ли эту груду голов? Все эти головы, принадлежащие моему
собранию редкостей: их должно быть двенадцать тысяч без
трех голов, которые употребил я для вашей потехи на выделку разных творений... Почтенный и добродетельный муж,
возвратите мне портфель с деньгами: он мне крайне понадобился.
— С удовольствием.
— С удовольствием? Я нс думаю! Деньги никогда нс
возвращаются с удовольствием, даже чужие. Что ж вы это
мне возвращаете?.. Ведь это пс портфель, а какая-то книжка? Посмотрим заглавие... «Искусство брать взятки, нравоучительная повесть». Прекрасно! Вы кладете в карман деньги и из того же кармана, вместо денег, вынимаете и дарите
почтеннейшей публике нравоучительное слово против взяток! А, господа! Если вы так составляете литературу, то, я
удивляюсь, как еще находите вы читателей! Теперь, для удостоверения вас, что здесь не было никакого обмана, я сожи-
гаю эту книжечку, обращаю ее в золу, подливаю немного воды, делаю из всего этого тесто, разделяю его на три шарика,
беру три стеклянные трубочки, конец каждой из них упираю
в один шарик и соединяю во рту моем три другие конца, при
ваших же глазах начинаю дуть... Смотрите, смотрите, как
мои шарики раздуваются, растут, растут, растут!.. Вы думаете, может быть, что это мыльные пузыри?.. Нет! Погодите,
позвольте мне еще немножко подуть... Узнаете ли теперь, что
это такое?.. Три человеческие головы! Извольте рассмотреть
их со вниманием: вы опять имеете перед собою те же самые
три престранные головы, которые недавно превратили мы
в историю судеб человечества, которая превратилась в роман, который превратился в деньги, которые превратились
в нравоучение, которое превратилось в прах, который превратился опять в авторские головы. Здравствуйте, мои любезные головы! Наконец вы возвратились ко мне из своего
445
литературного путешествия! Наконец я вижу вас снова целыми, здоровыми, свежими, румяными! Но что проку! Мы
из вас выработали было кучу денег, толстый портфель, набитый ассигнациями, а теперь за вас почтеннейшая публика не
даст мне и трех рублей, зная внутреннее устройство ваше!..
Идите же, бедные головы мои, опять в груду; дополните собою число двенадцати тысяч голов, над которыми обещал я
показать последний и самый удивительный пример моего искусства... Милостивые государи и государыни! Вы видите эту
груду голов? При третьем ударе по ней моим волшебным
жезлом все они исчезнут, а вы извольте тотчас смотреть на
эти шкафы...
Сказав это, синьор Маладетти Морто взял жезл свой
обеими руками, отвесил им три удара по груде голов — два
первые слегка, а третий изо всей силы — и в то же самое
мгновение головы разлетелись во все стороны и начали укладываться на полках шкафов с страшным шумом и стуком.
Род грома раздался по всему зданию. Казалось, будто обрушилась крыша. Все спавшие в доме выскочили из постелей. Александр Филиппович Смирдин вбежал в залу через
боковую дверь, в халате и ночном колпаке. Он показался мне
ужасно испуганным и несколько времени стоял как окаменелый, не будучи в состоянии произнести пи одного слова.
Производитель фокусов продолжал:
— Где же мои головы? Их нет! Головы пропали! Вы видите только шкафы, а в шкафах полки, а на полках книги.
Это книги почтенного здешнего хозяина Александра Филипповича Смирдина, которого имеем честь приветствовать здесь
лично. И теперь, как представление кончилось, я должен
объявить почтенному собранию, что головы, которые вы здесь
видели, были головы не голкондцев, а самих сочинителей
двенадцати тысяч творений, красующихся на полках этого
магазина. Мы, силою нашего волшебного искусства, сперва превратили книги в головы, потом показали вам тайное
устройство этих голов и, наконец, снова повелели быть им
книгами. Теперь, милостивые государи и государыни, наслаждайтесь ими. Желаю вам много удовольствия и спокойной ночи.
Во время этого последнего монолога я подбежал к Александру Филипповичу, который все еще в изумлении стоял у
боковых дверей. Я хотел спросить его о причине его странного костюма; но, минуя первые ряды стульев, вдруг увидел другого Александра Филипповича, сидящего на том же
месте, где я заметил его еще до начала представления.
446
— Что это за история! — вскричал я в остолбенении.—
Александр Филиппович!.. Вас здесь двое?.. Посмотрите на
вашего двойника!
— Вижу, вижу! — отвечал он дрожащим голосом и повел взором по всему собранию.— Боже мой, что это значит?
Откуда весь этот народ?.. Да ведь и вы здесь в двух экземплярах?
Я оглянулся и действительно увидел, в нескольких шагах
от себя, точный образ собственной моей персоны, сидящей
на стуле между зрителями. Я был поражен ужасом и, в моем смущении, с трудом расслышал только последние слова
производителя волшебных представлений, который говорил
моему спутнику, поэту:
— Ну, милостивый государь! Мы пришли сюда за вами.
Вы не забыли обещания вашего на кладбище? Мы сдержали
свое слово: вы, по хирографу, написанному нами на бычачьей шкуре и собственноручно подписанному вами, воспевали
мертвецов, ад, ведьм, мы доставляли вам благосклонных
читателей и славу и еще, на придачу, дали великолепное представление. Вы желали узнать великую тайну литературы.
Теперь вы ее знаете. Мы льстим себя надеждою, что и вам
самим не захочется после этого оставаться здесь долее.
Скоро станут звонить к заутрене, нам пора домой. Не угодно ли пожаловать с нами?
И, говоря это, производитель волшебных превращений
схватил моего поэта одной рукой за волосы; стекло в окне
лопнуло и зазвенело по полу; фокусник, поэт и все собрание улетели в это отверстие. Все это сделалось так мгновенно, что мы едва могли приметить, куда они девались. В зале
остались только Александр Филиппович, два его прикащика,
прибежавшие, подобно ему, на стук, произведенный возвращением книг в шкафы, и я.
Бесполезно было бы изображать наше изумление и пересказывать разговор, который вслед за этим начался между
нами. Александр Филиппович Смирдин уверял меня, что в
этом ночном обществе он ясно видел почти всех живых и
умерших сочинителей и сочинительниц, которых портреты
висят у него на стенах, и что сверх того узнал: тут было множество лучших его покупщиков книг.
Я приметил на полу что-то белое. Взяв свечу, мы подошли
к этому месту и нашли три звездочки, без сомнения, последний земной след великого безыменного поэта... Я не шучу;
Александр Филиппович — свидетель.
447
Сегодня поутру он и его прикащики осторожно расспрашивали у многих из посетителей и покупщиков, виденных
нами в зале во время представления, о том, что они делали и
где были прошедшую ночь? Все божатся, что они были дома и спали.
Решительно чудеса! Впрочем, я читал что-то подобное
в «Черной Женщине».
А между тем великий безыменный поэт пропал без вести!
Его нигде не отыскали сегодня.
СКАЗКА
О МЕРТВОМ ТЕЛЕ, НЕИЗВЕСТНО КОМУ ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ
Правда, волостной писарь, выходя на
четвереньках из шинка, видел, что месяц
ни с сего ни с того танцевал на небе, и
уверял с божбою в том все село; но миряне качали головами и даже подымали
его на смех.
Гоголь в »Вечерах на хуторе»
По торговым селам Реженского уезда было сделано от
земского суда следующее объявление:
«От Реженского земского суда объявляется, что в ведомстве
его, на выгонной земле деревни Морковкиной-Наташиной
тож, 21-го минувшего ноября найдено неизвестно чье мертвое мужеска пола тело, одетое в серый суконный ветхий
шинель; в нитяном кушаке, жилете суконном красного и
отчасти зеленого цвета, в рубашке красной пестрядинной; на
голове картуз из старых пестрядинных тряпиц с кожаным
козырьком; от роду покойному около 43 лет, росту 2 арш.
10 вершков, волосом светлорус, лицом бел, гладколиц, глаза серые, бороду бреет, подбородок с проседью, нос велик
и несколько на сторону, телосложения слабого. По чему сим
объявляется: не окажется ли оному телу бывших родственников или владельца оного тела; таковые благоволили бы
уведомить от себя в село Морковкино-Наташино тож, где и
следствие об оном, неизвестно кому принадлежащем, теле
производится; а если таковых не найдется, то и о том благоволили б уведомить в оное же село Морковкино».
Три недели прошло в ожидании владельцев мертвого
тела; никто не являлся, и наконец заседатель с уездным лекарем отправились к помещику села Морковкина в гости;
в выморочной избе отвели квартиру приказному Севастья-
нычу, также прикомандированному на следствие. В той же
избе, в заклети, находилось мертвое тело, которое назавтра
суд собирался вскрыть и похоронить обыкновенным порядком. Ласковый помещик, для утешения Севастьяныча в его
уединении, прислал ему с барского двора гуся с подливой
да штоф домашней желудочной настойки.
Уже смерилось. Севастьяныч, как человек аккуратный,
вместо того чтоб, по обыкновению своих собратий, взобраться на полати возле только что истопленной печи,— рассудил
за благо заняться приготовлением бумаг к завтрашнему заседанию, по тому более уважению, что хотя от гуся остали-
450
ся одни кости, но только четверть штофа была опорожнена;
он предварительно поправил светильню в железном ночнике, нарочито для подобных случаев хранимом старостою села Морковкина,— и потом из кожаного мешка вытащил
старую замасленную тетрадку. Севастьяныч не мог на нее
смотреть без умиления: то были выписки из различных указов, касающихся до земских дел, доставшиеся ему по наследству от батюшки, блаженной памяти подьячего с припи-
сью,— в городе Реженске за ябеды, лихоимство и непристойное поведение отставленного от должности, с таковым, впрочем, пояснением, чтобы его впредь никуда не определять и
просьб от него не принимать,— за что он и пользовался
уважением всего уезда. Севастьяныч невольно вспоминал,
что эта тетрадка была единственный кодекс, которым руководствовался Реженский земский суд в своих действиях;
что один Севастьяныч мог быть истолкователем таинственных символов этой Сивиллиной книги; что посредством се
магической силы он держал в повиновении и исправника и
заседателей и заставлял всех жителей околотка прибегать к себе за советами и наставлениями; почему он и берег
ее как зеницу ока, никому не показывал и вынимал из-под
спуда только в случае крайней надобности; с усмешкою он
останавливался на тех страницах, где частию рукою его покойного батюшки и частию его собственною были то замараны, то вновь написаны разные незначащие частицы, как-
то: не, а, и проч., и естественным образом Севастьянычу приходило на ум: как глупы люди и как умны он и его батюшка.
Между тем он опорожнил вторую четверть штофа и принялся за работу; но пока привычная рука его быстро выгибала крючки на бумаге, его самолюбие, возбужденное видом тетрадки, работало: он вспоминал, сколько раз он перевозил мертвые тела за границу соседнего уезда и тем избавлял своего исправника от излишних хлопот; да и вообще:
составить ли определение, справки ли навести, подвести ли
законы, войти ли в сношение с просителями, рапортовать ли
начальству о невозможности исполнить его предписания,—
везде и на все Севастьяныч; с улыбкою вспоминал он об изобретенном им средстве: всякий повальный обыск обращать
в любую сторону; он вспомнил, как еще недавно таким
невинным способом он спас одного своего благоприятеля:
этот благоприятель сделал какое-то дельце, за которое мог
бы легко совершить некоторое не совсем приятное путешествие; учинен допрос, наряжен повальный обыск,— но при
сем случае Севастьяныч надоумил спросить прежде всех
15*
451
одного грамотного молодца с руки его благоприятелю; по
словам грамотного молодца написали бумагу, которую грамотный молодец, перекрестяся, подписал, а сам Севастья-
ныч приступил к одному обывателю, к другому, к третьему
с вопросом: «И ты тоже, и ты тоже?» — да так скоро начал
перебирать их, что, пока обыватели еще чесали за ухом и
кланялись, приготовляясь к ответу,— он успел их переспросить всех до последнего, и грамотный молодец снова, за неумением грамоты своих товарищей, подписал, перекрестяся, их единогласное показание. С не меньшим удовольствием вспоминал Севастьяныч, как при случившемся значительном начете на исправника он успел вплести в это дело человек до пятнадцати, начет разложить на всю братию, а
потом всех и подвести под милостивый манифест. Словом, Севастьяныч видел, что во всех знаменитых делах Реженского земского суда он был единственным виновником, единственным выдумщиком и единственным исполнителем; что
без него бы погиб заседатель, погиб исправник, погиб и уездный судья, и уездный предводитель; что им одним держится
древняя слава Реженского уезда,— и невольно по душе Се-
вастьяныча пробежало сладкое ощущение собственного достоинства. Правда, издали — как будто из облаков — мелькали ему в глаза сердитые глаза губернатора, допрашивающее лицо секретаря уголовной палаты; но он посмотрел на
занесенные метелью окошки; подумал о трехстах верстах,
отделяющих его от сего ужасного призрака; для увеличения бодрости выпил третью четверть штофа — и мысли его
сделались гораздо веселее: ему представился его веселый
реженский домик, нажитый своим умком; бутыли с наливкою на окошке между двумя бальзаминными горшками; шкап
с посудою и между нею в средине на почетном месте хрустальная на фарфоровом блюдцеперешница. Вот идет его полная белолицая Лукерья Петровна; в руках у ней сдобный
крупичатый каравай; вот телка, откормленная к святкам,
смотрит на Севастьяныча; большой чайник с самоваром ему
кланяется и подвигается к нему; вот теплая лежанка, а возле лежанки перина с камчатным одеялом, а под периною
свернутый лоскут пестрядки, а в пестрядке белая холстинка,
а в холстинке кожаный книжник, а в книжнике серенькие
бумажки. Тут воображение перенесло Севастьяныча в лета
его юности, ему представилось его бедное житье-бытье в
батюшкином доме; как часто он голодал от матушкиной скупости; как его отдали к дьячку учиться грамоте,— он от души хохотал, вспоминая, как однажды с товарищами заб
452
рался к своему учителю в сад за яблоками и напугал дьячка, который принял его за настоящего вора; как за то был
высечен и в отмщение оскоромил своего учителя в самую
страстную пятницу; потом представлялось ему: как наконец
он обогнал всех своих сверстников и достиг до того, что читал Апостол в приходской церкви, начиная самым густым
басом и кончая самым тоненьким голоском, на удивление
всему городу; как исправник, заметив, что в ребенке будет
прок, приписал его к земскому суду; как он начал входить в
ум; оженился с своею дражайшею Лукерьей Петровной; получил чин губернского регистратора, в коем и до днесь пребывает да добра наживает; сердце его растаяло от умиления, и он на радости опорожнил и последнюю четверть обворожительного напитка. Тут пришло Севастьянычу в голову, что он не только что в приказе, но хват на все руки: как
заслушиваются его, когда он под вечерок в веселый час примется рассказывать о Бове Королевиче, о похождениях Ваньки Каина, о путешествии купца Коробейникова в Иерусалим — неумолкаемые гусли, да и только! — и Севастьяныч
начал мечтать: куда бы хорошо было, если бы у него была
сила Бовы Королевича и он бы смог кого за руку — у того
рука прочь, кого за голову — у того голова прочь; потом захотелось ему посмотреть, что за Кипрский таков остров есть,
который, как описывает Коробейников, изобилен деревянным маслом и греческим мылом, где люди ездят на ослах и
на верблюдах, и он стал смеяться над тамошними обывателями, которые не могут догадаться запрячь их в сани; тут
начались в голове его рассуждения: он нашел, что или в книгах неправду пишут, или вообще греки должны быть народ
очень глупый, потому что он сам расспрашивал у греков,—
приезжавших на реженскую ярмарку с мылом и пряниками
и которым, кажется, должно было знать, что в их земле делается,— зачем они взяли город Трою,— как именно пишет
Коробейников,— а Царьград уступили туркам! И никакого толка от этого народа не мог добиться: что за Троя такая, греки нс могли ему рассказать, говоря, что, вероятно,
выстроили и взяли этот город в их отсутствие. Пока он занимался этим важным вопросом, пред глазами его проходили: и арабские разбойники; и Гнилое море; и процессия погребения кота; и палаты царя Фараона, внутри все вызолоченные; и птица Строфокамил, вышиною с человека, с утиною головою, с камнем в копыте...
Его размышления были прерваны следующими словами, которые кто-то проговорил подле него:
453
— Батюшка, Иван Севастьяныч! Я к вам с покорнейшею
просьбою.
Эти слова напомнили Севастьянычу его ролю приказного,
и он, по обыкновению, принялся писать гораздо скорее, наклонил голову как можно ниже и, не сворачивая глаз с бумаги, отвечал протяжным голосом:
— Что вам угодно?
— Вы от суда вызываете владельцев поднятого в Морковкине мертвого тела.
— Та-ак-с.
— Так изволите видеть — это тело мое.
— Та-ак-с.
— Так нельзя ли мне сделать милость, поскорее его выдать?
— Та-ак-с.
— А уж на благодарность мою надейтесь...
— Та-ак-с. Что же покойник-та, крепостной, что ли, ваш
был?..
— Нет, Иван Севастьяныч, какой крепостной, это тело
мое, собственное мое...
— Та-ак-с.
— Вы можете себе вообразить, каково мне без тела...
сделайте одолжение, помогите поскорее.
— Все можно-с, да трудновато немного скоро-то это дело сделать — ведь оно не блин, кругом пальца не обвернешь; справки надобно навести... Кабы подмазать немного...
— Да уж в этом не сомневайтесь,— выдайте лишь только мое тело, так я и пятидесяти рублей не пожалею...
При сих словах Севастьяныч поднял голову, но, не видя
никого, сказал:
— Да войдите сюда, что на морозе стоять.
Да я здесь, Иван Севастьяныч, возле вас стою!
Севастьяныч поправил лампадку, протср глаза, но, нс
видя ничего, пробормотал:
— Тьфу, к черту! Да что я, ослеп, что ли? Я вас не вижу,
сударь.
— Ничего нет мудреного! Как же вам меня видеть?
Я — без тела!
— Я, право, в толк не возьму вашей речи, дайте хоть
взглянуть на себя.
— Извольте, я могу вам показаться на минуту... только мне это очень трудно...
И при этих словах в темном углу стало показываться какое-то лицо без образа; то явится, то опять пропадет, слов
454
но молодой человек, в первый раз приехавший на бал,— хочется ему подойти к дамам и боится, выставит лицо из толпы и опять спрячется...
— Извините-с,— между тем говорил голос,— сделайте
милость, извините, вы не можете себе вообразить, как трудно без тела показываться!.. Сделайте милость, отдайте мне
его поскорее,— говорят вам, что пятидесяти рублей не пожалею.
— Рад вам служить, сударь, но, право, в толк не возьму ваших речей... есть у вас просьба?..
— Помилуйте, какая просьба? Как мне было без тела
ее написать? Уж сделайте милость, вы сами потрудитесь.
— Легко сказать, сударь, потрудиться, говорят вам, что
я тут ни черта не понимаю...
— Уж пишите только — я вам буду сказывать.
Севастьяныч вынул лист гербовой бумаги.
— Скажите, сделайте милость: есть ли у вас по крайней
мере чин, имя и отчество?
— Как же?.. Меня зовут Цвеерлей Джон Луи.
— Чин ваш, сударь?
— Иностранец.
И Севастьяныч написал на гербовом листе крупными
словами:
«В Реженский земский суд от иностранного недоросля
из дворян Савелия Жалуева, объяснение».
— Что ж далее?
— Извольте только писать, я уж вам буду сказывать;
пишите: имею я...
— Недвижимое имение, что ли? — спросил Севастьяныч.
— Нет-с: имею я несчастную слабость...
— К крепким напиткам, что ли? О, это весьма непохвально...
— Нет-с: имею я несчастную слабость выходить из
моего тела...
— Кой черт! — вскричал Севастьяныч, кинув перо.—
Да вы меня морочите, сударь!
— Уверяю вас, что говорю сущую правду, пишите только знайте: пятьдесят рублей вам за одну просьбу да пятьдесят еще, когда выхлопочете дело...
И Севастьяныч снова принялся за перо.
«Сего 20 октября ехал я в кибитке, по своей надобности, по реженскому тракту, на одной подводе, и как на дворе
455
было холодно, и дороги Реженского уезда особенно дурны...»
— Нет, уж на этом извините,— возразил Севастьяныч,—
этого написать никак нельзя, это личности, а личности в
просьбах помещать указами запрещено...
— По мне, пожалуй; ну, так просто: на дворе было так
холодно, что я боялся заморозить свою душу, да и вообще
мне так захотелось скорее приехать на ночлег... что я не утерпел... и, по своей обыкновенной привычке, выскочил из моего
тела...
— Помилуйте! — вскричал Севастьяныч.
— Ничего, ничего, продолжайте; что ж делать, если такая у меня привычка... ведь в ней ничего нет противозаконного, не правда ли?
— Та-ак-с,— отвечал Севастьяныч,— что ж далее?
— Извольте писать: выскочил из моего тела, уклал его
хорошенько во внутренности кибитки... чтобы оно нс выпало, связал у него руки вожжами и отправился на станцию
в той надежде, что лошадь сама прибежит на знакомый
двор...
— Должно признаться,— заметил Севастьяныч,— что
вы в сем случае поступили очень неосмотрительно.
— Приехавши на станцию, я влез на печку отогреть душу, и когда, по расчислению моему, лошадь должна была
возвратиться на постоялый двор... я вышел ее проведать,
но однако же во всю ту ночь ни лошадь, ни тело не возвращались. На другой день утром я поспешил на то место, где
оставил кибитку... но уже и там ее не было... полагаю, что
бездыханное мое тело от ухабов выпало из кибитки и было
поднято проезжим исправником, а лошадь уплелась за обозами... После трехнедельного тщетного искания я, уведомив-
шись ныне о объявлении Реженского земского суда, коим
вызываются владельцы найденного тела, покорнейше прошу оное мое тело мне выдать, яко законному своему владельцу... к чему присовокупляю покорнейшую просьбу, дабы благоволил вышеписанный суд сделать распоряжение,
оное тело мое предварительно опустить в холодную воду, чтобы оно отошло; если же от случившегося падения есть в том
часто упоминаемом теле какой-либо изъян или оное от мороза где-либо попортилось, то оное чрез уездного лекаря
приказать поправить на мой кошт и о всем том учинить как
законы повелевают, в чем и подписуюсь.
— Ну, извольте же подписывать,— сказал Севастьяныч, окончив бумагу.
— Подписывать! Легко сказать! Говорят вам, что у ме
456
ня теперь со мною рук нету — они остались при теле; подпишите вы за меня, что за неимением рук...
— Нет! Извините,— возразил Севастьяныч,— этакой и
формы нет, а просьб, писанных не по форме, указами принимать запрещено; если вам угодно: за неумением грамоты...
— Как заблагорассудите! По мне все равно.
И Севастьяныч подписал: «К сему объяснению за неумением грамоты, по собственной просьбе просителя, губернский регистратор Иван Севастьянов сын Благосердов руку
приложил».
— Чувствительнейше вам обязан, почтеннейший Иван
Севастьянович! Ну, теперь вы похлопочите, чтоб это дело
поскорее решили; не можете себе вообразить, как неловко
быть без тела!.. А я сбегаю покуда повидаться с женою,
будьте уверены, что я уже вас не обижу.
— Постойте, постойте, ваше благородие! — вскричал
Севастьяныч.— В просьбе противоречие. Как же вы без рук
уклались или уклали в кибитке свое тело? Тьфу, к черту, ничего не понимаю.
Но ответа не было. Севастьяныч прочел еще раз просьбу, начал над нею думать, думал, думал...
Когда он проснулся, ночник погас и утренний свет пробился сквозь обтянутое пузырем окошко. С досадою взглянул он на пустой штоф, пред ним стоявший; эта досада выбила у него из головы ночное происшествие; он забрал свои
бумаги не посмотря и отправился на барский двор в надежде там опохмелиться.
Заседатель, выпив рюмку водки, принялся разбирать
Севастьянычевы бумаги и напал на просьбу иностранного
недоросля из дворян.
— Ну, брат Севастьяныч,— вскричал он, прочитав ее,—
ты вчера на сон грядущий порядком подтянул; экую околесную нагородил! Послушайте-ка, Андрей Игнатьевич,— прибавил он, обращаясь к уездному лекарю,— вот нам какого
просителя Севастьяныч предоставил.— И он прочел уездному лекарю курьезную просьбу от слова до слова, помирая
со смеху.
— Пойдемте-ка, господа,— сказал он наконец,— вскроемте это болтливое тело, да если оно не отзовется, так и
похороним его подобру-поздорову, в город пора.
Эти слова напомнили Севастьянычу ночное происшествие, и как оно ни странно ему казалось, но он вспомнил о пятидесяти рублях, обещанных ему просителем, если он вы
457
хлопочет ему тело, и серьезно стал требовать от заседателя
и лекаря, чтоб тело не вскрывать, потому что этим можно его
перепортить, так что оно уже никуда не будет годиться, а
просьбу записать во входящий обыкновенным порядком.
Само собою разумеется, что на это требование Севастья-
нычу отвечали советами протрезвиться, тело вскрыли, ничего
в нем не нашли и похоронили.
После сего происшествия мертвецова просьба стала ходить по рукам; везде ее списывали, дополняли, украшали,
читали, и долго реженские старушки крестились от ужаса,
ее слушая.
Предание не сохранило окончания сего необыкновенного происшествия: в одном соседнем уезде рассказывали, что
в то самое время, когда лекарь дотронулся до тела своим бис-
турием, владелец вскочил в тело, тело поднялось, побежало
и что за ним Севастьяныч долго гнался по деревне, крича
изо всех сил: «Лови, лови покойника!»
В другом же уезде утверждают, что владелец и до сих
пор каждое утро и вечер приходит к Севастьянычу, говоря:
«Батюшка Иван Севастьяныч, что ж мое тело? Когда вы мне
его выдадите?» — и что Севастьяныч, не теряя бодрости, отвечает: «А вот собираются справки». Тому прошло уже лет
двадцать.
СИЛЬФИДА
(Из записок благоразумного человека)
Поев. Анас. Сере. П-вой
Поэта мы увенчаем цветами и выведем
его вон из города.
Платон
Три столба у царства: поэт, меч и закон.
Предания северных бардов
Поэты будут употребляться лишь в назначенные дни для сочинения гимнов общественным постановлениям.
Одна из промышленных
компаний XVIII века
>!?!
XIX век
ПИСЬМО I
Наконец я в деревне покойного дядюшки. Пишу к тебе,
сидя в огромных дедовских креслах, у окошка; правда, перед глазами у меня вид не очень великолепный: огород,
две-три яблони, четвероугольный пруд, голое поле — и только; видно, дядюшка был не большой хозяин; любопытно
знать, что же он делал, проживая здесь в продолжение пятнадцати лет безвыездно. Неужели он, как один из моих соседей, встанет поутру рано, часов в пять, напьется чаю и
сядет раскладывать гранпасьянс вплоть до обеда; отобедает, ляжет отдохнуть и опять за гранпасьянс вплоть до ночи;
так проходят 365 дней. Нс понимаю. Спрашивал я у людей,
чем занимался дядюшка? Они мне отвечали: «Да так-с». Мне
этот ответ чрезвычайно нравится. Такая жизнь имеет что-
то поэтическое, и я надеюсь вскоре последовать примеру дядюшки; право, умный был человек покойник!
В самом деле, я здесь по крайней мере хладнокровнее, нежели в городе, и доктора очень умно сделали, отправив меня сюда; они, вероятно, сделали это для того, чтоб
сбыть меня с рук; но, кажется, я их обману: сплин мой,
подивись, почти прошел; напрасно думают, что рассеянная
жизнь может лечить больных в моем роде; неправда: светская жизнь бесит, книги также бесят, а здесь, вообрази себе
мое счастие,— я почти никого не вижу, и со мной нет ни
одной книги! Этого счастия описать нельзя — надобно ис
459
пытать его. Когда книга лежит на столе, то невольно протягиваешь к ней руку, раскрываешь, читаешь; начало тебя
заманивает, обещает золотые горы,— подвигаешься дальше и видишь одни мыльные пузыри, ощущаешь то ужасное
чувство, которое испытали все ученые от начала веков до
нынешнего года включительно: искать и не находить! Это
чувство мучило меня с тех пор, как я начал себя помнить,
и я ему приписываю те минуты сплина, которые докторам
угодно приписывать желчи.
Однако ж не думай, чтоб я жил совершенно отшельником: по древнему обычаю, я, как новый помещик, сделал
визиты всем моим соседям, которых, к счастию, немного; говорил с ними об охоте, которой терпеть не могу, о земледелии, которого не понимаю, и об их родных, о которых сроду
не слыхивал. Но все эти господа так радушны, так гостеприимны, так чистосердечны, что я их от души полюбил; ты
не можешь себе представить, как меня прельщает их полное
равнодушное невежество обо всем, что происходит вне их
уезда; с каким наслаждением я слушаю их невероятные
суждения о единственном нумере «Московских ведомостей»,
получаемом на целый уезд; в этом нумере, для предосторожности обвернутом в обойную бумагу, читается по очереди все,
от привода лошадей в столицу до ученых известий включительно; первые, разумеется, читаются с любопытством, а
последние для смеха,— который я разделяю с ними от чистого сердца, хотя по другой причине; за то пользуюсь всеобщим уважением. Прежде они меня боялись и думали, что я,
как приезжий из столицы, буду им читать лекции о химии или
плодопеременном хозяйстве; но когда я им высказал, что, по
моему мнению, лучше ничего не знать, нежели знать столько, сколько знают наши ученые, что ничто столько не противно счастию человека, как много знать, и что невежество
никогда еще не мешало пищеварению, тогда они ясно увидели, что я добрый малый и прекраснейший человек, и стали
мне рассказывать свои разные шутки над теми умниками,
которые назло рассудку заводят в своих деревнях картофель, молотильни, крупчатки и другие разные вычурные новости: умора, да и только! И поделом этим умникам — об
чем они хлопочут? Которые побойчее, те из моих новых
друзей рассуждают и о политике; всего больше их тревожит
турецкий султан, по старой памяти, и очень их занимает распря у Тигнл-Бузи с Гафис-Бузи; также не могут они добраться, отчего Карла X начали называть Дон-Карлосом... Счастливые люди’ Мы спасаемся от омерзения, которое наводит
460
на душу политика, искусственным образом, т(о) е(сть) отказываемся читать газеты, а они самым естественным,— т(о)
е(сть) читают и не понимают...
Истинно, смотря на них, я более и более уверяюсь, что
истинное счастие может состоять только в том, чтоб все
знать или ничего не знать, и как первое до сих пор человеку невозможно, то должно избрать последнее. Я эту мысль
в разных видах проповедую моим соседям: она им очень по
сердцу; а меня очень забавляет то умиление, с которым они
меня слушают. Одного они не понимают во мне: как я, будучи прекраснейшим человеком, не пью пунша и не держу
у себя псовой охоты; но надеюсь, что они к этому привыкнут и мне удастся, хотя в нашем уезде, убить это негодное
просвещение, которое только выводит человека из терпения
и противится его внутреннему, естественному влечению:
сидеть склавши руки... Но к черту философия! Она умеет
вмешаться в мысли самого животного человека... Кстати о
животных: у иных из моих соседей есть прехорошенькие дочки, которых, однако ж, нельзя сравнить с цветами, а разве
с огородной зеленью,— тучные, полные, здоровые — и слова от них не добьешься. У одного из ближайших моих соседей, очень богатого человека, есть дочь, которую, кажется,
зовут Катенькой и которую можно бы почесть исключением из общего правила, если б она также не имела привычки
прижимать язычок к зубам и краснеть при каждом слове,
которое ей скажешь. Я бился с нею около получаса и до сих
пор не могу решить, есть ли ум под этою прекрасною оболочкою, а эта оболочка в самом деле прекрасна. В ее полузас-
панных глазках, в этом носике, вздернутом кверху, есть что-
то такое милое, такое ребяческое, что невольно хочется расцеловать ее. Мне очень желательно, как здесь говорят, заставить заговорить эту куколку, и я приготовляюсь в будущее свидание начать разговор хоть словами несравненного
Ивана Федоровича Шпоньки: «летом-с бывает очень много
мух»',— и посмотрю, не выйдет ли из этого разговора нечто
продолжительнее беседы Ивана Федоровича с его невестою.
Прощай. Пиши ко мне чаще; но от меня ожидай писем
очень редко; мне очень весело читать твои письма, но едва
ли не столь же весело не отвечать на них.
Гоголь.— Примеч. В. Ф. Одоевского.
461
письмо 11
(Два месяца спустя после первого)
Говори теперь о твердости духа человеческого! Давно
ли я радовался, что со мною нет ни одной книги; но не прошел месяц, как мне взгрустнулось по книгам. Началось тем,
что соседи мои надоели мне до смерти; правду ты мне писал, что я напрасно сообщаю им мои иронические замечания об ученых и что мои слова, возвышая их глупое самолюбие, еще больше сбивают их с толка. Да! Я уверился,
мой друг: невежество не спасенье. Я скоро здесь нашел все
те же страсти, которые меня пугали между людьми так называемыми образованными, то же честолюбие, то же тщеславие, та же зависть, то же корыстолюбие, та же злоба, та же
лесть, та же низость, только с тою разницею, что все эти
страсти здесь сильнее, откровеннее, подлее,— а между тем
предметы мельче. Скажу более: человека образованного
развлекает самая его образованность, и душа его по крайней мере не каждую минуту своего существования находится в полном унижении; музыка, картина, выдумка роскоши — все это отнимает у него время на низости... Но моих друзей страшно узнать поближе; эгоизм проникает, так
сказать, весь состав их; обмануть в покупке, выиграть неправое дело, взять взятку — считается не втихомолку, по
прямо, открыто, делом умного человека; ласкательство к человеку, из которого можно извлечь пользу,— долгом благовоспитанного человека; долголетняя злоба и мщение — естественным делом; пьянство, карточная игра, разврат, какой
никогда в голову не войдет человеку образованному,— невинным, позволенным отдыхом. И между тем они несчастливы, жалуются и проклинают жизнь свою.
Как и быть иначе! Вся эта безнравственность, все это
полное забвение человеческого достоинства переходит от
деда к отцу, от отца к сыну в виде отеческих наставлений и
примера и заражает целые поколения. Я понял, наблюдая
вблизи этих господ, отчего безнравственность так тесно соединена с невежеством, а невежество с несчастием: христианство недаром призывает человека к забвению здешней
жизни; чем более человек обращает внимания на свои вещественные потребности, чем выше ценит все домашние дела,
домашние огорчения, речи людей, их обращение в отношении к нему, мелочные наслаждения, словом, всю мелочь
жизни,— тем он несчастливее; эти мелочи становятся для
него целию бытия; для них он заботится, сердится, упо
462
требляет все минуты дня, жертвует всею святынею души, и
так как эти мелочи бесчисленны, душа его подвергается бесчисленным раздражениям; характер портится; все высшие,
отвлеченные, успокаивающие понятия забываются; терпимость, эта высшая из добродетелей, исчезает,— и человек
невольно становится зол, вспыльчив, злопамятен, нетерпящ;
внутренность души его становится адом. Примеры этого мы
видим ежедневно: человек всегда беспокойный, не нарушили ль в отношении к нему уважения или приличий; хозяйка дома, вся погруженная в смотрение за хозяйством;
ростовщик, беспрестанно занятый учетом процентов; чиновник, в канцелярском педантизме забывающий истинное назначение службы; человек, в низких расчетах забывающий
свое достоинство,— посмотрите на этих людей в их домашнем кругу, в сношении с подчиненными — они ужасны:
жизнь их есть беспрерывная забота, никогда не достигающая своей цели, ибо они столько пекутся о средствах для
жизни, что жить не успевают!
Вследствие этих печальных наблюдений над моими
деревенскими друзьями я заперся и не велел никого из них
пускать к себе. Оставшись один, я побродил по комнате, посмотрел несколько раз на свой четвероугольный пруд, попробовал было срисовать его; но ты знаешь, что карандаш
мне никогда не давался: трудился, трудился — вышла гадость; принялся было за стихи — вышел, по обыкновению,
скучный спор между мыслями, стопами и рифмами; я даже
было запел, хотя никогда не мог наладить и di tanti pal-
piti1 — и наконец, увы! призвал старого управителя покойного моего дядюшки и невольно спросил у него: «Да неужели
у дядюшки не было никакой библиотеки?» Седой старичок
низко мне поклонился и отвечал: «Нет, батюшка; такой у
нас никогда не бывало».— «Да что же такое,— спросил я,—
в этих запечатанных шкапах, которые я видел на мезонине?» — «Там, батюшка, лежат книги; по смерти дядюшки
вашего тетушка изволила запечатать эти шкафы и отнюдь
не приказывала никому трогать».— «Открой их».
Мы взошли на мезонин; управитель отдернул едва державшиеся восковые печати — шкаф открыт, и что я увидел?
Дядюшка, чего я до сих пор не подозревал, был большим
мистиком. Шкапы были наполнены сочинениями Пара
1 Буквально: с волнением, с трепетом (ит.).
463
цельсия, графа Габалиса, Арнольда Виллановы, Раймонда
Луллия и других алхимиков и кабалистов. Я даже заметил
в шкафу остатки некоторых химических снарядов. Покойный
старик, верно, искал философского камня... проказник! и
как он умел сохранять это в секрете!
Нечего было делать; я принялся за те книги, которые нашлись, и теперь, вообрази себе меня, человека в XIX веке,
сидящего над огромными фолиантами и со всеусердием читающего рассуждение: о первой материи, о всеобщем Электре, о душе солнца, о северной влажности, о звездных духах
и о прочем тому подобном. Смешно, и скучно, и любопытно. За этими хлопотами я почти позабыл о моей соседке, хотя ее батюшка (один порядочный, хотя и скучный, человек из всего уезда) часто у меня бывает и очень за мною
ухаживает; все, что я ни слышу об ней, все показывает,
что она, как называли в старину, предостойная девица,
то есть имеет большое приданое; между тем я слышал стороною, что она делает много добра, например выдает замуж
бедных девушек, дает им денег на свадьбу и часто усмиряет гнев своего отца, очень вспыльчивого человека; все окрестные жители называют ее ангелом — это не по-здешне-
му. Впрочем, эти девушки всегда имеют большую склонность
выдавать замуж, если не себя, так других. Отчего бы это?..
ПИСЬМО III
(Два месяца спустя)
Ты, я чаю, думаешь, что я не только влюбился, но
даже женился,— ты ошибаешься. Я занят совсем другим
делом; я пью — и знаешь ли что? чего не выдумает безделье! я пью—воду... Не смейся: надобно знать, какую
воду. Роясь в библиотеке моего дядюшки, я нашел рукописную книгу, в которой содержались разные рецепты для
вызывания элементарных духов. Многие из них были смешны до крайности; тут требовалась печенка из белой вороны,
то стеклянная соль, то алмазное дерево, и по большой части
все составы были таковы, что их не отыщешь ни в одной аптеке. Между прочими рецептами я нашел следующий: «Элементарные духи,— говорит автор,— очень любят людей, и
довольно со стороны человека малейшего усилия, чтоб войти в сношение с ними; так, например, для того, чтоб видеть
духов, носящихся в воздухе, достаточно собрать солнечные
лучи в стеклянный сосуд с водою и пить ее каждый день.
464
Этим таинственным средством дух солнца будет мало-помалу входить в человека, и глаза его откроются для нового мира. Кто же решится обручиться с ними посредством одного из благородных металлов, тот постигнет самый язык
стихийных духов, их образ жизни, и его существование соединится с существованием избранного им духа, который
даст ему познание о таких таинствах природы... но более мы
говорить не смеем... Sapienti sat...1 здесь и без того много,
много уже сказано для просветления ума твоего, любезный читатель»,— и проч, и проч. Этот способ показался мне
столько простым, что я вознамерился испытать его, хоть
для того, чтоб иметь право похвастаться, что я на себе испытал кабалистическое таинство. Я вспомнил было ундину,
которая так утешала меня в ребячестве; но, не желая иметь
дела с ее дядюшкою, я пожелал видеть сильфиду; с этою
мыслию — чего не делает безделье? — бросил бирюзовый
перстень в хрустальную вазу с водою, выставил эту воду на
солнце, к вечеру, ложась спать, ее выпиваю, и до сих пор я
нахожу, что по крайней мере это очень здорово; еще никакой
элементарной силы я не вижу, а только сон мой сделался спокойнее.
Знаешь ли, что я не перестаю читать моих кабалистов
и алхимиков, и знаешь ли, что я еще скажу тебе: эти книги
для меня весьма занимательны. Как милы, как чистосердечны их сочинители: «Наше дело,— говорят они,— очень просто: женщина, не оставляя своего веретена, может совершить
его,— умей только понимать нас».— «Я видел,— говорит
один,— при мне это было, когда Парацельсий превратил
одиннадцать фунтов свинца в золото».— «Я сам,— говорит
другой,— я сам умею извлекать из природы первоначальную
материю, и сам посредством ее могу легко превращать все
металлы один в другой по произволению».— «Прошлого
года,— говорит третий,— я сделал из глины очень хороший яхонт» и проч. У всякого после этого откровенного признания следует краткая, но исполненная жизни молитва. Для
меня необыкновенно трогательно это зрелище: человек говорит с презрением о том, что они называют ученостию профанов, т(о) е (сть) нас; с гордою самоуверенностию достигает или думает достигнуть до последних пределов человеческой
силы — и на сей высокой точке смиряется, произнося благодарную, простосердечную молитву всевышнему. Невольно веришь знанию такого человека; один невежда может
1 Для понимающего достаточно (лат.).
465
быть атеистом, как один атеист невеждою. Мы, гордые
промышленники XIX века, мы напрасно пренебрегаем этими книгами и даже не хотим знать о них. Посреди разных
глупостей, показывающих младенчество физики, я нашел
много мыслей глубоких; многие из этих мыслей могли казаться ложными в XVIII веке, но теперь большая часть из
них находит себе подтверждение в новых открытиях: с ними то же случилось, что с драконом, которого тридцать лет
тому почитали существом баснословным и которого теперь
отыскали налицо, между допотопными животными. Скажи,
должны ли мы теперь сомневаться в возможности превращать свинец в золото с тех пор, как мы нашли способ творить воду, которую так долго почитали первоначальною сти-
хиею? Какой химик откажется от опыта разрушить алмаз
и снова восстановить его в первобытном виде? А чем мысль
делать золото смешнее мысли делать алмазы? Словом, смейся надо мною как хочешь, но я тебе повторяю, что эти позабытые люди достойны нашего внимания; если нельзя во всем
им верить, то, с другой стороны, нельзя сомневаться, что их
сочинения не намекают о таких знаниях, которые теперь
потерялись и которые бы не худо снова найти; в этом ты уверишься, когда я тебе пришлю выписку из библиотеки моего
дядюшки.
ПИСЬМО IV
В последнем моем письме я забыл тебе написать именно то, для чего я начал его. Дело в том, что я нахожусь, мой
друг, в странном положении и прошу у тебя совета: я писал
к тебе уже несколько раз о Катеньке, дочери моего соседа;
мне наконец удалось заставить говорить ее, и я узнал, что
она не только имеет природный ум и чистое сердце, но еще
совсем неожиданное качество: а именно — она влюблена
в меня по уши. Вчера приехал ко мне отец ее и рассказал
мне то, о чем я слышал только мельком, препоручая все мои
дела управителю; у нас производится тяжба об нескольких
тысячах десятинах леса, которые составляют главный доход
моих крестьян; эта тяжба длится уже более тридцати лет,
и если она кончится не в мою пользу, то мои крестьяне будут
совершенно разорены. Ты видишь, что это дело очень важное. Сосед мой рассказал мне его с величайшими подробностями и кончил предложением помириться; а чтоб мир этот
был прочнее, то он дал мне очень тонко почувствовать, что
466
ему бы очень хотелось иметь во мне зятя. Это была совершенно водевильная сцена, но она заставила меня задуматься.
Что, в самом деле? Молодость моя уже прошла, великим человеком мне не бывать, все мне надоело; Катя девушка премилая, послушливая, неговорливая; женившись на ней, я
кончу глупую тяжбу и сделаю хоть одно доброе дело в жизни: упрочу благосостояние людей, мне подвластных; одним
словом, мне очень хочется жениться на Кате, зажить степенным помещиком, поручить жене управление всеми делами, а самому по целым дням молчать и курить трубку. Ведь
это рай, не правда ли?.. Все это вступление к тому, что,
как бы сказать тебе, что я уже решился жениться, но еще
не говорил об этом отцу Кати и не буду говорить, пока не
дождусь от тебя ответа на следующие вопросы: как ты думаешь, гожусь ли я быть женатым человеком? Спасет ли меня от сплина жена, которая, не забудь, имеет привычку по
целым дням не говорить ни слова и, следственно, не имеет
никакого средства надоесть мне? Одним словом, должно ли
еще мне подождать, пока из меня выйдет что-нибудь новое,
неожиданное, оригинальное, или просто, как говорится, я
уже кончил свой карьер, и мне остается заботиться только
о том, чтоб из моей особы можно было сделать как можно
больше спермацета? Ожидаю от тебя ответа с нетерпением.
ПИСЬМО V
Благодарю тебя, мой друг, за твою решительность, твои
советы и за благословение; едва я получил твое письмо, как
поскакал к отцу моей Кати и сделал формальное предложение. Ежели б ты видел, как Катя обрадовалась, покраснела;
она даже мне проговорила следующую фразу, в которой вылилась вся чистая и невинная душа ее: «Я не знаю,— сказала она мне,— удастся ли мне это, но я постараюсь сделать
вас столько счастливым, как я сама буду счастлива». Эти
слова очень просты, но если б ты слышал, с каким выражением они были сказаны; ты знаешь, что часто в одном
слове больше скрывается чувства, нежели в длинной речи;
в Катиных словах я видел целый мир мыслей: они должны
были ей дорого стоить, и я умел оценить всю силу, которую
дала ей любовь, чтоб превозмочь девическую робость. Действия человека важны по сравнению с его силами, а я до сих
пор думал, что превозмочь робость было свыше сил Кати...
После этого, ты можешь себе представить, что мы обнялись,
467
поцеловались, старик расплакался, и по окончании поста мы
веселым пирком да и за свадебку. Приезжай ко мне непременно, брось все свои дела — я хочу, чтоб ты был свидетелем моего, как говорят, счастия; приезжай хоть для курьеза,
посмотреть на жениха с невестою, каких ты, верно, никогда
не видывал: сидят друг против друга, смотрят обоими глазами, оба молчат и оба очень довольны.
ПИСЬМО VI
(Несколько недель спустя)
Не знаю, как начать мне мое письмо; ты меня почтешь
сумасшедшим; ты будешь смеяться, бранить меня... Все
позволяю; позволяю даже мне не верить; но я не могу сомневаться в том, что я видел и что вижу всякий день собственными глазами. Нет! Не все вздор в рецептах моего дядюшки.
Действительно, это остаток от древних таинств, которые доныне существуют в природе, и мы многого еще не знаем, многое забыли и много истин почитаем за бредни. Вот что со
мной случилось: читай и удивляйся! Мои разговоры с Катею, как ты легко можешь себе представить, не заставили
меня забыть о моей вазе с солнечною водою; ты знаешь, любознательность, или, просто сказать, любопытство есть основная моя стихия, которая мешается во все мои дела, их
перемешивает и мне жить мешает; мне от нее ввек не отделаться; все что-то манит, все что-то ждет вдали, душа рвется, страждет — и что же?.. Но обратимся к делу. Вчера вечером, подошед к вазе, я заметил в моем перстне какое-то
движение. Сначала я подумал, что это был оптический обман и, чтоб удостовериться, взял вазу в руки; но едва я сделал малейшее движение, как мой перстень рассыпался на
мелкие голубые и золотые искры, они потянулись по воде
тонкими нитями и скоро совсем исчезли, лишь вода сделалась
вся золотою с голубыми отливами. Я поставил вазу на прежнее место, и снова мой перстень слился на дне ее. Признаюсь
тебе, невольная дрожь пробежала у меня по телу; я призвал
человека и спросил его, не замечает ли он чего в моей вазе;
он отвечал, что нет. Тогда я понял, что это странное явление
было видимо только для одного меня. Чтоб не подать повода
человеку смеяться надо мною, я отпустил его, заметив, что
мне вода показалась нечистою. Оставшись один, я долго повторял свой опыт, размышляя над этим странным явлением.
Я несколько раз переливал воду из одной вазы в другую:
468
всякий раз то же явление повторялось с удивительною точ-
ностию — и между тем оно не изъяснимо никакими физическими законами. Неужели в самом деле это правда? Неужели мне суждено быть свидетелем этого странного таинства?
Оно мне кажется столько важно, что я намерен его исследовать до конца. Я больше прежнего принялся за мои книги,
и теперь, когда самый опыт совершился пред моими глазами, все более и более мне делается понятным сношение
человека с другим, недоступным миром. Что будет далее!..
ПИСЬМО VII
Нет, мой друг, ты ошибся и я также. Я предопределен
быть свидетелем великого таинства природы и возвестить
его людям, напомнить им о той чудесной силе, которая
находится в их власти и о которой они забыли; напомнить
им, что мы окружены другими мирами, до сих пор им неизвестными. И как просты все действия природы! Какие простые средства употребляет она для произведения таких дел,
которые изумляют и ужасают человека! Слушай и удивляйся.
Вчера, погруженный в рассматривание моего чудесного
перстня, я заметил в нем снова какое-то движение: смотрю — поверх воды струятся голубые волны, и в них отражаются радужные опаловые лучи; бирюза превратилась в опал,
и от него поднималось в воду как будто солнечное сияние;
вся вода была в волнении; били вверх золотые ключи и рассыпались голубыми искрами. Тут было соединение всех возможных красок, которые то сливались бесчисленными оттенками, то ярко отделялись. Наконец радужное сияние исчезло, и бледный зеленоватый цвет заступил его место; по
зеленоватым волнам потянулись розовые нити, долго переплетались между собою и слились на дне сосуда в прекрасную, пышную розу — и все утихло: вода сделалась чиста,
лишь лепестки роскошного цветка тихо колебались. Так
уже прошло несколько дней; с тех пор каждый день рано поутру я встаю, подхожу к моей таинственной розе и ожидаю нового чуда; но тщетно — роза цветет спокойно и лишь
наполняет всю мою комнату невыразимым благоуханием.
Я невольно вспомнил читанное мною в одной кабалистической книге о том, что стихийные духи проходят все царства природы прежде, нежели достигнут своего настоящего
образа. Чудно! Чудно!
469
(Чрез несколько дней)
Сегодня я подошел к моей розе и в середине ее заметил
что-то новое... Чтоб лучше рассмотреть ее, я поднял вазу и
снова решился перелить ее в другую; но едва я привел ее в
движение, как опять от розы потянулись зеленые и розовые
нити и полосатою струею перелились вместе с водою, и снова
на дне вазы явился мой прекрасный цветок: все успокоилось, но в средине его что-то мелькало: листы растворились
мало-помалу, и — я не верил глазам моим! — между оранжевыми тычинками покоилось,— поверишь ли ты мне? —
покоилось существо удивительное, невыразимое, неимоверное — словом, женщина, едва приметная глазу! Как описать
мне тебе восторг, смешанный с ужасом, который я почувствовал в эту минуту! Эта женщина была не младенец;
представь себе миньятюрный портрет прекрасной женщины
в полном цвете лет, и ты получишь слабое понятие о том чуде,
которое было перед моими глазами; небрежно покоилась она
на своем мягком ложе, и ее русые кудри, колеблясь от трепетания воды, то раскрывали, то скрывали от глаз моих ее
девственные прелести. Она, казалось, была погружена в
глубокий сон, и я, жадно вперив в нее глаза, удерживал дыхание, чтоб не прервать ее сладкого спокойствия.
О, теперь я верю кабалистам; я удивляюсь даже, как
прежде я смотрел на них с насмешкою недоверчивости.
Нет, если существует истина на сем свете, то она существует только в их творениях! Я теперь только заметил, что
они не так, как наши обыкновенные ученые: они не спорят
между собою, не противоречат друг другу; все говорят про
одно и то же таинство; различны лишь их выражения, но они
понятны для того, кто вникнул в таинственный смысл их...
Прощай. Решившись исследовать до конца все таинства природы, я прерываю сношения с людьми; другой, новый, таинственный мир для меня открывается; я лишь для потомства
сохраню историю моих открытий. Так, мой друг, я предназначен к великому в этой жизни!..
ПИСЬМО ГАВРИЛА СОФРОНОВИЧА РЕЖЕНСКОГО
К ИЗДАТЕЛЮ
Милостивый государь!
Извините меня, что хотя я лично не имею чести быть
с вами знакомым, но, по сведению о тесной вашей дружбе
470
с Михаилом Платоновичем, решаюсь беспокоить вас письмом моим. Вам, конечно, небезызвестно, что у меня с покойным его дядюшкою, по коем он ныне находится законным наследником, имелась тяжба о значительном количестве строевого и дровяного леса. Почувствовав склонность
к старшей дочери моей Катерине Гавриловне, ваш приятель предложил мне себя в зятья, на что я, как вам известно, изъявил свое согласие; впоследствии чего, надеясь на
обоюдную пользу, я остановил ход сего дела; но ныне нахожусь в крайнем недоумении. Вскоре после обручения, когда
и повестки были ко всем знакомым разосланы, и приданое дочери моей окончательно приготовлено, и все бумаги нужные к сему очищены, Михаил Платонович вдруг прекратил ко
мне свои посещения. Полагая сему причиною случившееся
нездоровье, я посылал к нему человека, а наконец и сам,
несмотря на свою дряхлость, к нему отправился. Неприлично,
да и обидно мне показалось напоминать ему о том, что он
забыл свою невесту; а он хоть бы извинился! только что рассказывал мне о каком-то важном деле, им предпринятом,
которое ему должно кончить до свадьбы и которое в продолжение некоторого времени требует его неусыпного внимания и надзора. Я полагал, что он хочет завести поташный завод, о котором он прежде поговаривал; думал я, что он хочет
удивить меня и припасти для меня свадебный подарок,
показав на опыте, что он может заниматься чем-нибудь
дельным, по причине того, что я его часто журил за его
пустодомство; однако же я никаких приготовлений для такого завода не заметил и ныне не вижу. Я положил было посмотреть, что дальше будет, как вчера, к величайшему моему удивлению, узнал, что он заперся и никого к себе не
пускает, даже кушанье ему подают в окошко. Тут мне пришла, милостивый государь, престранная мысль в голову. Покойный дядя его жил в этом же доме и слыл в нашем уезде
чернокнижником; я, сударь, сам некогда учился в университете; хотя немного поотстал, но чернокнижию не верю; однако
же мало ли что может причиниться человеку, особливо такому философу, как ваш приятель! Что же наиболее уверяет
меня в том, что с Михаилом Платоновичем случилось что-то
недоброе,— это слух, дошедший до меня стороною, будто
бы он сидит по целым дням и смотрит в графин с водою.
В таковых обстоятельствах, милостивый государь, обращаюсь к вам с покорнейшею просьбою — немедленно поспешить вашим сюда приездом для вразумления Михаила
Платоновича, по вашему к нему участию, дабы и я мог знать,
471
чего мне держаться: снова ли начать тяжбу или покончить
решенное дело; ибо сам я, после нанесенной мне вашим приятелем обиды, к нему в дом не поеду, хотя Катя и с горькими слезами меня о том упрашивает.
В надежде скорого свидания с вами, честь имею быть,
и проч.
РАССКАЗ
Получив это письмо, я счел долгом прежде всего обратиться к знакомому мне доктору, очень опытному и ученому человеку. Я показал ему письма моего приятеля, рассказал его положение и спросил его, понимает ли он что-нибудь
во всем этом?.. «Все это очень понятно,— сказал мне доктор,— и совсем не ново для медика... Ваш приятель просто
с ума сошел...» — «Но перечтите его письма,— возразил я.—
есть ли в них малейший признак сумасшествия? Отложите
в сторону странный предмет их, и они покажутся хладнокровным описанием физического явления...»
«Все это понятно...— повторил медик.— Вы знаете, что
мы различаем разные роды сумасшествий — vesaniae1. К
первому роду относятся все виды бешенства — это не касается до вашего приятеля; второй род содержит в себе: во-
первых, расположение к призракам — hallucinationes1 2; во-
вторых, уверенность в сообщении с духами — demonomania3.
Очень понятно, что ваш приятель, от природы склонный к
ипохондрии,— в деревне, один, без всяких рассеянностей,
углубился в чтение всякого вздора; это чтение подействовало на его мозговые нервы; нервы...»
Долго еще объяснял мне доктор, каким образом человек
может быть в полном разуме и между тем сумасшедшим,
видеть то, чего он не видит, слышать, чего не слышит. К чрезвычайному сожалению, я не могу сообщить этих объяснений
читателю, потому что я в них ничего не понял; но, убежденный доводами доктора, я решился пригласить его ехать со
мною в деревню моего приятеля.
Михайло Платонович лежал в постели, худой, бледный;
в продолжение нескольких дней он уже не принимал никакой пищи. Когда мы подошли, он не узнал нас, хотя глаза
его были открыты; в них горел какой-то дикий огонь; на все
1 Безумия (лат.).
2 Галлюцинации (лат.).
3 Демономания (лат.).
472
наши слова он не отвечал нам ни слова... На столе лежали
исписанные листы бумаги — я мог разобрать в них лишь некоторые строки, вот они:
ОТРЫВКИ
Из журнала Михаила Платоновича
— Кто ты?
— У меня нет имени — оно мне не нужно...
— Откуда ты?
— Я твоя — вот все, что я знаю; тебе я принадлежу и
никому другому... но зачем ты здесь? Как здесь душно и
холодно! У нас веет солнце, звучат цветы, благоухают звуки... за мной... за мной!.. Как тяжела твоя одежда — сбрось,
сбрось ее... а еще далеко, далеко до нашего мира... но я не
оставлю тебя! Как все мертво в твоем жилище... все живое
покрыто хладною оболочкой: сорви, сорви ее!
...Так здесь ваше знание?.. Здесь ваше искусство?.. Вы
отделяете время от времени и пространство от пространства, желание от надежды, мысль от ее исполнения, и вы
не умираете от скуки? За мной, за мной! Скорее, скорее...
...Ты ли это, гордый Рим, столица веков и народов? Как
растянулась повилика по твоим развалинам... Но развалины шевелятся, из зеленого дерна подымаются обнаженные
столпы, вытягиваются в стройный порядок,— чрез них свод
отважно перегнулся, отряхая вечный прах свой, помост стелется игривым мозаиком,— на помосте толпятся живые люди, сильные звуки древнего языка сливаются с говором
волн,— оратор в белой одежде с венцом на главе поднимает руки... И все исчезло: пышные здания клонятся к земле; столпы сгибаются, своды врываются в землю — повилика снова вьется по развалинам — все умолкло,— колокол
призывает к молитве, храм отворен, слышны звуки мусикий-
ского орудия — тысячи созвучных переливов волнуются под
моими пальцами, мысль стремится за мыслию, они улетают
одна за другою как сновидения... если бы схватить, остановить их? И покорное орудие снова вторит, как верное эхо, все
минутные, невозвратимые движения души... Храм опустел,
лунный блеск ложится на бесчисленные статуи; они сходят
с мест своих, проходят мимо меня, полные жизни; их речи
древни и новы, важна их улыбка и значительный взор; но
снова они оперлись на свои пьедесталы, и снова лунный
блеск ложится на статуи... Уж поздно... нас ждет веселый,
473
тихий приют; в окошках мелькает Тибр; за ним Капитолий
вечного града... Очаровательная картина! Она слилась в тесную раму нашего камелька... Да! Там другой Рим, другой
Тибр, другой Капитолий. Как весело трещит огонек... Обними меня, прелестная дева... В жемчужном кубке кипит
искрометная влага... пей... пей... Там хлопьями валится снег
и заметает дорогу — здесь меня греют твои объятия...
Мчитесь, мчитесь, быстрые кони, по хрупкому снегу,
взвивайте столбом ледяной прах: в каждой пылинке блистает солнце — розы вспыхнули на лице прелестной — она
прильнула ко мне душистыми губками... Где ты нашла это
художество поцелуя? Все горит в тебе и кипячею влагою обдает каждый нерв в моем теле... Мчитесь, мчитесь, быстрые
кони, по хрупкому снегу... Что? Не крик ли битвы? Не новая ли вражда между небом и землею?.. Нет, то брат предал
брата, то невинная дева во власти преступления... и солнце
светит, и воздух прохладен? Нет! Потряслася земля, солнце
померкло, буря опустилась с небес, спасла жертву и омыла
преступного,— и снова солнце светит, и воздух тих и прохладен, лобызает брат брата, и сила преклоняется пред не-
винностию... За мной, за мной... Есть другой мир, новый мир...
Смотри: кристалл растворился — там внутри его новое солнце... Там совершается великая тайна кристаллов; поднимем
завесу... толпы жителей прозрачного мира празднуют жизнь
свою радужными цветами; здесь воздух, солнце, жизнь —
вечный свет: они черпают в мире растений благоуханные
смолы, обделывают их в блестящие радуги и скрепляют огненною стихией... За мной, за мной! Мы еще на первой ступени... По бесчисленным сводам струятся ручьи: быстро бьют
они вверх и быстро спускаются в землю; над ними живая
призма преломляет лучи солнца; лучи солнца вьются по жилам, и фонтан выносит на воздух их радужные искры; они
то сыплются по лепесткам цветов, то длинною лентою вьются по узорчатой сети; жизненные духи, прикованные к веч-
но-кипящим кубам, претворяют живую влагу в душистый
пар, он облаками стелется по сводам и крупным дождем падает в таинственный сосуд растительной жизни... Здесь, в
самом святилище, зародыш жизни борется с зародышем
смерти, каменеют живые соки, застывают в металлических
жилах, и мертвые стихии преобразуются началом духа... За
мной! За мной!.. На возвышенном троне восседает мысль
человека, от всего мира тянутся к ней золотые цепи,— духи
природы преклоняются в прах перед нею,— на востоке восходит свет жизни,— на западе, в лучах вечерней зари, тол
474
пятся сны и, по произволу мысли, то сливаются в одну гармоническую форму, то рассыпаются летучими облаками...
У подножия престола она сжала меня в своих объятиях...
мы миновали землю!
Смотри — там в безбрежной пучине носится ваша пылинка: там проклятия человека, там рыдания матери, там
говор житейской нужды, там насмешка злых, там страдания поэта — здесь все сливается в сладостную гармонию,
здесь ваша пылинка не страждущий мир, но стройное орудие, которого гармонические звуки тихо колеблют волны
эфира.
Простись с поэтическим земным миром! И у вас есть поэзия на земле! Оборванный венец вашего блаженства! Бедные люди! Странные люди! В вашей смрадной пучине вы
нашли, что даже страдание есть счастие! Вы страданию даете поэтический отблеск! Вы гордитесь вашим страданием;
вы хотите, чтоб жители другого мира завидовали вашей жизни! В нашем мире нет страдания: оно удел лишь несовершенного мира,— создание существа несовершенного! Вольно
человеку преклоняться пред ним, вольно ему отбросить его,
как истлевшую одежду на плечах путника, завидевшего
родину
Неужели ты думаешь, что я не знала тебя? Я с самого
младенчества соприсутствовала тебе в дыхании ветерка, в
лучах весеннего солнца, в каплях благовонной росы, в неземных мечтаниях поэта! Когда в человеке возрождается
гордость его силы, когда тяжкое презрение падает с очей его
на скудельные образы подлунного мира, когда душа его, от-
ряхая прах смертных терзаний, с насмешкою попирает трепещущую пред ним природу,—тогда мы носимся над вами;
тогда мы ждем минуты, чтоб вынести вас из грубых оков
вещества — тогда вы достойны нашего лика!.. Смотри, есть
ли страдание в моем поцелуе: в нем нет времени — он продолжится в вечность: и каждый миг для нас — новое наслаждение!.. О, не измени мне! не измени себе! берегись соблазнов твоей грубой, презренной природы!
Смотри — там вдали,на вашей земле, поэт преклоняется
пред грудою камней, обросших бесчувственным организмом
растительной силы. «Природа! — восклицает он в восторге.—
Величественная природа, что выше тебя в этом мире? Что
мысль человека пред тобою?» А слепая, безжизненная природа смеется над ним и в минуту полного ликования
человеческой мысли скатывает ледяную лавину и уничтожает и человека, и мысль человека! Лишь в душе души
475
высоки вершины! Лишь в душе души бездны глубоки! В их
глубину не дерзает мертвая природа; в их глубине независимый, крепкий мир человека; смотри, здесь жизнь поэта —
святыня! Здесь поэзия — истина! Здесь договаривается все
недосказанное поэтом; здесь его земные страдания превращаются в неизмеримый ряд наслаждений...
О, люби меня! Я никогда не увяну: вечно свежая, девственная грудь моя будет биться на твоей груди! Вечное
наслаждение будет для тебя ново и полно — ив моих
объятиях невозможное желание будет вечно возможной
существенностию!
Этот младенец — это дитя наше! Он не ждет попечений
отца, он не будит ложных сомнений, он заранее исполнил
твои надежды; он юн и возмужал, он улыбается и не рыдает— для него нет возможных страданий, если только ты
не вспомнишь о своей грубой, презренной юдоли... Нет, ты
не убьешь нас одним желанием!
Но дальше, дальше — есть еще другой, высший мир, там
самая мысль сливается с желанием. За мной! За мной!..
Дальше почти невозможно было ничего разобрать; то
были несвязные, разнородные слова: «любовь... растение...
электричество... человек... дух...» Наконец, последние строки были написаны какими-то странными неизвестными мне
буквами и прерывались на каждой странице...
Запрятав подальше все эти бредни, мы приступили к
делу и начали с того, что посадили нашего мечтателя в
бульонную ванну: больной затрясся всем телом. «Добрый
знак!» — воскликнул доктор. В глазах больного выражалось
какое-то престранное чувство — как будто раскаяние, просьба, мученье разлуки; слезы его катились градом... Я обращал на это выражение лица внимание доктора... Доктор
отвечал: facies hippocratica!1
Через час еще бульонная ванна — и ложка микстуры;
за нею порядочно мы побились: больной долго терзался и
упорствовал, но наконец проглотил. «Победа наша!» —
вскричал доктор.
Доктор уверял, что надобно всеми силами стараться
вывести нашего больного из его оцепенения и раздражить
его чувственность. Так мы и сделали: сперва ванна, потом
Предсмертная маска (лат.)
476
ложка аппетитной микстуры, потом ложка бульона, и благодаря нашим благоразумным попечениям больной стал видимо оправляться; наконец показался и аппетит — он уже начал кушать, без нашего пособия...
Я старался ни о чем прежнем не напоминать моему приятелю, а обращать его внимание на вещи основательные и полезные, как-то: о состоянии его имения, о выгодах завести в
нем поташный завод, а крестьян с оброка перевести на барщину... Но мой приятель слушал меня как во сне, ни в чем
мне не противоречил, во всем мне беспрекословно повиновался, пил, ел, когда ему подавали, хотя ни в чем не принимал никакого участия.
Чего не могли сделать все микстуры доктора, то произвели мои беседы о нашей разгульной молодости и в особенности несколько бутылок отличного лафита, который я
догадался привезти с собою. Это средство, вместе с чудесным окровавленным ростбифом, совершенно поставило на
ноги моего приятеля, так что я даже осмелился завести речь
о его невесте. Он выслушал меня со вниманием и во всем
со мною согласился; я, как человек аккуратный, не замедлил воспользоваться его хорошим расположением, поскакал
к будущему тестю, все обделал, спорное дело порешил, рядную написал, одел моего чудака в его старый мундир, обвенчал — и, пожелав ему счастия, отправился обратно к себе
домой, где меня ожидало дело в гражданской палате, и, признаюсь, поехал весьма довольный собою и своим успехом.
В Москве все родные, разумеется, осыпали меня своими
ласками и благодарностию.
Устроив мои дела, я чрез несколько месяцев рассудил,
однако же, за благо навестить молодых, тем более что я от
молодого не получал никакого известия.
Застал я его поутру: он сидел в халате, с трубкой в зубах;
жена разливала чай; в окошко светило солнышко и выглядывала преогромная спелая груша; он мне будто обрадовался, но вообще был неговорлив...
Я выбрал минуту, когда жена вышла из комнаты, и
сказал, покачав головою:
— Ну, что, несчастлив ты, брат?
Что же вы думаете? Он разговорился? Да! Только что
он напутал!
— Счастлив! — повторил он с усмешкою.— Знаешь ли
ты, что ты сказал этим словом? Ты внутренне похвалил себя
и подумал: «Какой я благоразумный человек!Я вылечил этого сумасшедшего, женил его, и он теперь, по моей милости,
477
счастлив... счастлив!» Тебе пришли на мысль все похвалы
моих тетушек, дядюшек, всех этих так называемых благоразумных людей — и твое самолюбие гордится и чванится... не так ли?
— Если бы и так...— сказал я.
— Так довольствуйся же этими похвалами и благо-
дарностию, а моей не жди! Да! Катя меня любит, имение паше устроено, доходы собираются исправно,— словом, ты дал
мне счастье, но не мое: ты ошибся нумером. Вы, господа благоразумные люди, похожи на столяра, которому велели сделать ящик на дорогие физические инструменты: он нехорошо
смерил, инструменты в него не входят, как быть? А ящик
готов и выполирован прекрасно. Ремесленник обточил инструменты,— где выгнул, где спрямил,— они вошли в ящик и
улеглись спокойно, любо посмотреть на пего, да только одна беда: инструменты испорчены. Господа! Не инструменты для ящика, а ящик для инструментов! Делайте ящик по
инструментам, а не инструменты по ящику.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Ты очень рад, что ты, как говоришь, меня вылечил,
то есть затрубил мои чувства, покрыл их какою-то непроницаемою покрышкою, сделал их неприступными для всякого другого мира, кроме твоего ящика... Прекрасно! Инструмент улегся, но он испорчен; он был приготовлен для другого назначения... Теперь, когда среди ежедневной жизни я
чувствую, что мои брюшные полости раздвигаются час от
часу более и голова погружается в животный сон, я с отчаянием вспоминаю то время, когда, по твоему мнению, я находился в сумасшествии, когда прелестное существо слетало
ко мне из невидимого мира, когда оно открывало мне таинства, которых теперь я и выразить не умею, но которые были мне понятны... где это счастие? Возврати мне его!
— Ты, братец, поэт, и больше ничего,— сказал я с досадою,— пиши стихи...
— Пиши стихи! — возразил больной.— Пиши стихи!
Ваши стихи тоже ящик; вы разобрали поэзию по частям: вот
тебе проза, вот тебе стихи, вот тебе музыка, вот живопись —
куда угодно? А может быть, я художник такого искусства,
которое еще не существует, которое не есть ни поэзия, ни музыка, ни живопись,— искусство, которое я должен был открыть и которое, может быть, теперь замрет на тысячу веков: найди мне его! Может быть, оно утешит меня в потере
моего прежнего мира!
Он наклонил голову, глаза его приняли странное выра-
478
жение, он говорил про себя: «Прошло — не возвратится —
умерла — не перенесла — падай! падай!» — и прочее тому
подобное.
Впрочем, это был его последний припадок. Впоследствии, как мне известно, мой приятель сделался совершенно
порядочным человеком: завел псарную охоту, поташный завод, плодопеременное хозяйство, мастерски выиграл несколько тяжб по землям (у него чересполосица); здоровье у него
прекрасное, румянец во всю щеку и препорядочное брюшко
(NB. Он до сих пор употребляет бульонные ванны — они ему
очень помогают). Одно только худо: говорят, что он немножко крепко пьет с своими соседями — а иногда даже и
без соседей; также говорят, что от него ни одной горничной прохода нет,— но за кем нет грешков в этом свете?
По крайней мере он теперь человек, как другие.
Так рассказывал один из моих знакомых, доставивший
мне письма Платона Михайловича,— очень благоразумный
человек. Признаюсь, я ничего не понял в этой истории: не
будут ли счастливее читатели?
КОСМОРАМА
Поев. Гр. Е. П. Р ой
Quidguid est in exlcr no est
etiam in iterno1.
Henn inloHiiKu
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ИЗДАТЕЛЯ
Страсть рыться в старых книгах часто приводит меня к любопытным
открытиям; со временем надеюсь большую часть из них сообщить образованной публике, но ко многим из них я считаю необходимым присовокупить
вступление, комментарии и другие ученые принадлежности; все это, разумеется, требует много времени, и потому я решился некоторые из моих
открытий представить читателям просто в том виде, в каком они мне достались.
На первый случай я намерен поделиться с публикой странною рукописью, которую я купил на аукционе вместе с кипами старых счетов и домашних бумаг. Кто и когда писал эту рукопись, неизвестно, но главное
то, что первая часть ее, составляющая отдельное сочинение, писана па
почтовой бумаге довольно новым и даже красивым почерком, так что я,
не переписывая, мог отдать в типографию. Следственно, здесь моего ничего
нет, но может случиться, что некоторые из читателей посетуют на меня,
зачем я многие места в ней оставил без объяснения? Спешу порадовать
их известием, что я готовлю к ней до четырехсот комментарий, из которых
двести уже окончены. В сих комментариях все происшествия, описанные
в рукописи, объяснены как дважды два — четыре, так что читателям нс остается ни малейших недоразумений: сии комментарии составят прспорядоч-
ный том in — 4° и будут изданы особою книгою.Мс /кду тем я непрерывно
тружусь над разбором продолжения сей рукописи, к сожалению, писанной весьма нечетко, и не замедлю сообщить се любознательной публике;
теперь же ограничусь уведомлением, что продолжение имеет некоторую
связь с ныне печатаемыми листами, но обнимает другую половину жизни сочинителя.
РУКОПИСЬ
Если бы я мог предполагать, что мое существование будет цепью непонятных, дивных приключений, я бы сохранил для потомства все их малейшие подробности. Но моя
жизнь вначале была так проста, так похожа на жизнь всякого другого человека, что мне и в голову не приходило не
только записывать каждый свой день, но даже и вспоминать
о нем. Чудные обстоятельства, в которых я был и свидетелем,
Нет ничего вовне, чего бы не было внутри (лат.).
480
и действующим лицом, и жертвою, влились так нечувствительно в мое существование, так естественно примешались
к обстоятельствам ежедневной жизни, что я в первую минуту по мог вполне оценить всю странность моего положения.
Признаюсь, что пораженный всем мною виденным, будучи решительно не в состоянии отличить действительность
от простой игры воображения, я до сих пор не могу отдать
себе отчета в моих ощущениях. Все остальное почти изгладилось из моей памяти; при всех усилиях вспоминаю лишь те
обстоятельства, которые относятся к явлениям другой, или,
лучше сказать, посторонней жизни,— иначе не знаю, как назвать то чудное состояние, в котором я нахожусь, которого таинственные звенья начинают с моего детского возраста,
прежде нежели я стал себя помнить, и до сих пор повторяются с ужасною логическою последовательностью, нежданно и почти против моей воли; принужденный бежать
людей, в ежечасном страхе, чтобы малейшее движение моей души не обратилось в преступление, я избегаю себе подобных, в отчаянии поверяю бумаге мою жизнь и тщетно в
усилиях разума ищу средства выйти из таинственных сетей, мне расставленных. Но я замечаю, что все мною сказанное до сих пор может быть понятно лишь для меня или для
того, кто перешел чрез мои испытания, и потому спешу приступить к рассказу самых происшествий. В этом рассказе нет ничего выдуманного, ничего изобретенного для прикрас. Иногда я писал подробно, иногда сокращенно, смотря по тому, как мне служила память — так я старался предохранить себя и от малейшего вымысла. Я не берусь объяснять происшествия, со мной бывшие, ибо непонятное для
читателя осталось и для меня непонятным. Может быть, тот,
кому известен настоящий ключ к иероглифам человеческой
жизни, воспользуется лучше меня моею собственною историей. Вот единственная цель моя!
Мне было не более пяти лет, когда, проходя однажды
чрез тетушкину комнату, я увидел на столе род коробки, облепленной цветною бумажкою, на которой золотом были
нарисованы цветы, лица и разные фигуры; весь этот блеск
удивил, приковал мое детское внимание. Тетушка вошла в
комнату. «Что это такое?» — спросил я с нетерпением.
16 Заказ И
481
— Игрушка, которую прислал тебе наш доктор Бин, но
тебе ее дадут тогда, когда ты будешь умен.— С сими словами
тетушка отодвинула ящик ближе к стене, так что я мог издали видеть лишь одну его верхушку, на которой был насажен великолепный флаг самого яркого алого цвета.
(Я должен предуведомить моих читателей, что у меня не
было ни отца, ни матери, и я воспитывался в доме моего
дяди.)
Детское любопытство было раздражено и видом ящика
и словами тетушки: игрушка и еще игрушка для меня назначенная! Тщетно я ходил по комнате, заглядывая то с
той, то с другой стороны, чтобы посмотреть на обольстительный ящик: тетушка была неумолима; скоро ударило 9 часов,
и меня уложили спать, однако мне не спалось; едва я заводил глаза, как мне представлялся ящик со всеми его золотыми цветами и флагами; мне казалось, что он растворялся,
что из него выходили прекрасные дети в золотых платьях и
манили меня к себе — я пробуждался; наконец я решительно не мог заснуть, несмотря на все увещания нянюшки; когда
же она мне погрозилась тетушкою, я принял другое намерение: мой детский ум быстро расчел, что если я засну, то нянюшка, может быть, выйдет из комнаты и что тетушка теперь в гостиной; я притворился спящим. Так и случилось.
Нянюшка вышла из комнаты — я вскочил проворно с постели и пробрался в тетушкин кабинет; придвинул стул к столу, взобрался на стул, ухватить руками заветный, очарованный ящик — было делом одного мгновения. Теперь
только, при тусклом свете ночной лампы, я заметил, что в
ящике было круглое стекло, сквозь которое виднелся свет;
оглянувшись, чтобы посмотреть, нейдет ли тетушка, я приложил глаза к стеклу и увидел ряд прекрасных, богато убранных комнат, по которым ходили незнакомые мне люди,
богато одетые; везде блистали лампы, зеркала, как будто
был какой-то праздник, но вообразите себе мое удивление,
когда в одной из отдаленных комнат я увидел свою тетушку; возле нее стоял мужчина и горячо целовал ее руку, а тетушка обнимала его; однако ж этот мужчина был не дядюшка; дядюшка был довольно толст, черноволос и ходил во фраке; а этот мужчина был прекрасный, стройный, белокурый
офицер с усами и шпорами. Я не мог довольно им налюбоваться. Мое восхищение было прервано щипком за ухо;
я обернулся — передо мной стояла тетушка.
— Ах, тетушка! Как, вы здесь? А я вас сейчас там видел...
482
— Какой вздор!..
— Как же, тетушка! И белокурый, пребравый офицер
целовал у вас руку...
Тетушка вздрогнула, рассердилась, прикрикнула и за ухо
отвела меня в мою спальню.
На другой день, когда я пришел поздороваться с тетушкой, она сидела за столом; перед нею стоял таинственный
ящик, но только крышка с него была снята, и тетушка вынимала из него разные вырезанные картинки. Я остановился,
боялся пошевельнуться, думая, что мне достанется за мою
вчерашнюю проказу, но, к удивлению, тетушка не бранила
меня, а, показывая вырезанные картинки, спросила: «Ну,
где же ты здесь меня видел? Покажи». Я долго разбирал
картинки: тут были пастухи, коровки, тирольцы, турки, были и богато наряженные дамы, и офицеры, но между ними я
не мог найти ни тетушки, ни белокурого офицера. Между
тем этот разбор удовлетворил мое любопытство; ящик потерял для меня свое очарование, и скоро гнедая лошадка на
колесах заставила меня совсем забыть о нем.
Скоро вслед за тем я услышал в детской, как нянюшки
рассказывали друг другу, что у нас в доме приезжий, братец гусар и проч. т. п. Когда я пришел к дядюшке, у него
сидели с одной стороны на креслах тетушка, а с другой
мой белокурый офицер. Едва успел он сказать мне несколько ласковых слов, как я вскричал:
— Да я вас знаю, сударь!
— Как знаешь? — спросил с удивлением дядюшка.
— Да я уж видел вас...
— Где видел? Чего ты говоришь, Володя? — сказала
тетушка сердитым голосом.
— В ящике,— отвечал я с простодушием.
Тетушка захохотала.
— Он видел гусара в космораме,— сказала она.
Дядюшка также засмеялся. В это время вошел доктор
Бин; ему рассказали причину общего смеха, а он, улыбаясь,
повторял мне: «Да, точно, Володя, ты там его видел».
Я очень полюбил Поля (так называли дальнего братца
тетушки), а особливо его гусарский костюм; я бегал к Полю беспрестанно, потому что он жил у нас в доме в комнате за оранжереей; да сверх того, он, казалось, очень любил
игрушки, потому что когда он сидел у тетушки в комнате,
то беспрестанно посылал меня в детскую то за тою, то за другою игрушкой.
Однажды, что меня очень удивило, я принес Полю чудес
lü'
483
ного паяца, которого только что мне подарили и который
руками и ногами выкидывал удивительные штуки; я его
держал за веревочку, а Поль между тем за стулом держал
руку у тетушки; тетушка же плакала. Я подумал, что тетушке стало жаль паяца, отложил его в сторону и от скуки
принялся за другую работу. Я взял два кусочка воска и
нитку; один ее конец прилепил к одной половине двери,
а другой конец к другой. Тетушка и Поль смотрели на меня
с удивлением.
— Что ты делаешь? — спросила меня тетушка.— Кто
тебя этому научил?
— Дядя так делал сегодня поутру.
И тетушка и Поль вздрогнули.
— Где же это он делал? — спросила тетушка.
— У оранжерейной двери,— отвечал я.
В эту минуту тетушка и Поль взглянули друг на друга
очень странным образом.
— Где твой гнедко? — спросил меня Поль.— Приведи
ко мне его; я бы хотел на нем поездить.
Второпях я побежал в детскую, но какое-то невольное
чувство заставило меня остановиться за дверью, и я увидел,
что тетушка с Полем пошли поспешно к оранжерейной двери, которая, не забудьте, вела к тетушкину кабинету, тщательно ее осматривали, и что Поль перешагнул через нитку,
приклеенную поутру дядюшкою, после чего Поль с тетушкою
долго смеялись.
В этот день они оба ласкали меня более обыкновенного.
Вот два замечательнейших происшествия моего детства,
которые остались в моей памяти. Все остальное не заслуживает внимания благосклонного читателя. Меня свезли к
дальней родственнице, которая отдала меня в пансион. В
пансионе я получал письма от дядюшки из Симбирска,
от тетушки из Швейцарии, иногда с приписками Поля. Со
временем письма становились реже и реже, из пансиона поступил я прямо на службу, где получил известие, что дядюшка скончался, оставив меня по себе единственным наследником. Много лет прошло с тех пор; я успел наслужиться, испытать голода, холода, сплина, несколько обманутых надежд; наконец отпросился в отпуск, в матушку-
Москву, с самым байроническим расположением духа и
с твердым намерением не давать прохода ни одной женщине.
Несмотря на время, которое протекло со дня отъезда моего из Москвы, вошедши в дядюшкин дом, который сделался
484
моим, я ощутил чувство неизъяснимое. Надобно пройти долгую, долгую жизнь, мятежную, полную страстей и мечтаний,
горьких опытов и долгой думы, чтоб понять это ощущение,
которое производит вид старого дома, где каждая комната,
стул, зеркало напоминает нам происшествия детства. Это
явление объяснить трудно, но оно действительно существует, и всякий испытал его на себе. Может быть, в детстве мы
больше мыслим и чувствуем, нежели сколько обыкновенно
полагают; только этих мыслей, этих чувств мы не в состоянии обозначать словами, и оттого забываем их. Может быть,
эти происшествия внутренней жизни остаются прикованными к вещественным предметам, которые окружали нас в
детстве и которые служат для нас такими же знаками мыслей, какими слова в обыкновенной жизни. И когда, после долгих лет, мы встречаемся с этими предметами, тогда старый,
забытый мир нашей девственной души восстает пред нами,
и безмолвные его свидетели рассказывают нам такие тайны
нашего внутреннего бытия, которые без того были бы для
нас совершенно потеряны. Так натуралист, возвратясь из
долгого странствования, перебирает с наслаждением собранные им и частью забытые редкие растения, раковины, минералы, и каждый из них напоминает ему ряд мыслей, которые
возбуждались в душе его посреди опасностей страннической
жизни. По крайней мере я с таким чувством пробежал ряд
комнат, напоминавших мне мою младенческую жизнь;
быстро дошел я до тетушкина кабинета... Все в нем оставалось на своем месте: ковер, на котором я играл; в углу обломки игрушек; под зеркалом камин, в котором, казалось,
только вчера еще погасли уголья; на столе, на том же месте, стояла косморама, почерневшая от времени. Я велел
затопить камин и уселся в кресла, на которые, бывало, с трудом мог вскарабкаться. Смотря на все меня окружающее,
я невольно стал припоминать все происшествия моей детской
жизни. День за днем, как китайские тени, мелькали они предо мною; наконец я дошел до вышеописанных случаев между тетушкою и Полем; над диваном висел ее портрет; она
была прекрасная черноволосая женщина, которой смуглый
румянец и выразительные глаза высказывали огненную повесть о внутренних движениях ее сердца; на другой стороне
висел портрет дядюшки, дородного, толстого мужчины, у которого в простом, по-видимому, взоре была видна тонкая
русская сметливость. Между выражением лиц обоих портретов была целая бездна. Сравнив их, я понял все, что мне в
детстве казалось непонятным. Глаза мои невольно устре
485
мились на космораму, которая играла такую важную роль в
моих воспоминаниях; я старался понять, отчего в ее образах
я видел то, что действительно случилось, и прежде нежели
случилось. В этом размышлении я подошел к ней, подвинул
ее к себе и с чрезвычайным удивлением в запыленном стекле увидел свет, который еще живее напомнил мне виденное мною в моем детстве. Признаюсь, не без невольного
трепета и не отдавая себе отчета в моем поступке, я приложил глаза к очарованному стеклу. Холодный пот пробежал у меня по лицу, когда в длинной галерее косморамы я
снова увидел тот ряд комнат, который представлялся мне в
детстве, те же украшения, те же колонны, те же картины, так
же был праздник; но лица были другие: я узнал многих из
теперешних моих знакомых и, наконец, в отдаленной комнате самого себя; я стоял возле прекрасной женщины и говорил ей самые нежные речи, которые глухим шепотом отдавались в моем слухе... Я отскочил с ужасом, выбежал из комнаты на другую половину дома, призвал к себе человека и
расспрашивал его о разном вздоре только для того, чтоб
иметь возле себя какое-нибудь живое существо. После долгого разговора я заметил, что мой собеседник начинает
дремать; я сжалился над ним и отпустил его; между тем
заря уже начала заниматься; этот вид успокоил мою волнующуюся кровь; я бросился на диван и заснул, но сном
беспокойным: в сновидениях мне беспрестанно являлось то,
что я видел в космораме, которая мне представлялась в образе огромного здания, где все — колонны, стены, картины,
люди,— все говорило языком, для меня непонятным, но который производил во мне ужас и содрогание.
Поутру меня разбудил человек известием, что ко мне пришел старый знакомый моего дядюшки, доктор Бин. Я велел
принять его. Когда он вошел в комнату, мне показалось,
что он совсем не переменился с тех пор, как я его видел
лет двадцать тому назад; тот же синий фрак с бронзовыми
фигурными пуговицами, тот же клок седых волос, которые
торчали над его серыми, спокойными глазами, тот же всегда
улыбающийся вид, с которым он заставлял меня глотать
ложку ревеня, и та же трость с золотым набалдашником, на
которой я, бывало, ездил верхом. После многих разговоров,
после многих воспоминаний я невольно завел речь о космораме, которую он подарил мне в моем детстве.
— Неужели она цела еще? — спросил доктор, улыбаясь.— Тогда это была еще первая косморама, привезенная в Москву, теперь она во всех игрушечных лавках. Как
486
распространяется просвещение! — прибавил он с глупо-простодушным видом.
ЛАежду тем я повел доктора показать ему его старинный
подарок; признаюсь, не без невольного трепета я переступил чрез порог тетушкина кабинета; но присутствие доктора,
а особливо его спокойный, пошлый вид меня ободрили.
— Вот ваша чудесная косморама,— сказал я ему, показывая на нее... Но я не договорил: в выпуклом стекле мелькнул блеск и привлек все мое внимание.
В темной глубине косморамы я явственно различил самого себя и возле меня доктора Бина; но он был совсем не
тот, хотя сохранял ту же одежду. В его глазах, которые мне
казались столь простодушными, я видел выражение глубокой скорби; все смешное в комнате принимало в очарованном стекле вид величественный; там он держал меня за руку,
говорил мне что-то невнятное, и я с почтением его слушал.
— Видите, видите? — сказал я доктору, показывая ему
на стекло.— Видите ль вы там себя и меня? — С этими словами я приложил руку к ящику; в сию минуту мне сделались
внятными слова, произносившиеся на этой странной сцене, и
когда доктор взял меня за руку и стал щупать пульс, говоря: «Что с вами?» — его двойник улыбнулся. «Не верь ему,—
говорил сей последний,— или, лучше сказать, не верь мне
в твоем мире. Там я сам не знаю, что делаю; но здесь я понимаю мои поступки, которые в вашем мире представляются
в виде невольных побуждений. Там я подарил тебе игрушку, сам не зная для чего, но здесь я имел в виду предостеречь
твоего дядю и моего благодетеля от несчастия, которое
грозило всему вашему семейству. Я обманулся в расчетах человеческого суемудрия; ты в своем детстве случайно прикоснулся к очарованным знакам, начертанным сильною рукою
на магическом стекле. С той минуты я невольно передал тебе чудную, счастливую и вместе бедственную способность;
с той минуты в твоей душе растворилась дверь, которая
всегда будет открываться для тебя неожиданно, против твоей
воли, по законам, мне и здесь непостижимым. Злополучный
счастливец! Ты — ты можешь все видеть,— все, без покрышки, без звездной пелены, которая для меня самого там
непроницаема. Мои мысли я должен передавать себе посредством сцепления мелочных обстоятельств жизни, посредством символов, тайных побуждений, темных намеков,
которые я часто понимаю криво или которых вовсе не понимаю. Но не радуйся: если бы ты знал, как я скорблю над
роковым моим даром, над ослепившею меня гордостью чело
487
века, я не подозревал, безрассудный, что чудная дверь в
тебе раскрылась равно для благого и злого, для блаженства
и гибели... и, повторяю, уже никогда не затворится. Береги
себя, сын мой,— береги меня... За каждое твое действие,
за каждую мысль, за каждое чувство я отвечаю наравне с тобою. Посвященный! Сохрани себя от рокового закона, которому подвергается звездная мудрость! Не умертви твоего
посвятителя!..» Видение зарыдало.
— Слышите, слышите? — сказал я.— Что вы там говорите? — вскричал я с ужасом.
Доктор Бин смотрел на меня с беспокойным удивлением.
— Вы сегодня нездоровы,— говорил он.— Долгое путешествие, увидели старый дом, вспомнили былое — все это
встревожило ваши нервы, дайте-ка я вам пропишу миксту-
РУ-
«Знаешь ли, что там у вас, я думаю? — отвечал двойник доктора.— Я думаю просто, что ты помешался. Оно так
и должно быть — у вас должен казаться сумасшедшим тот,
кто в вашем мире говорит языком нашего. Как я странен,
как я жалок в этом образе! И мне нет сил научить, вразумить себя,— там грубы мои чувства, спеленай мой ум,
в слухе звездные звуки,— я не слышу себя, я не вижу себя!
Какое терзанье! И еще кто знает, может быть, в другом,
в высшем мире я кажусь еще более странным и жалким.
Горе! Горе!»
— Выйдемте отсюда, любезный Владимир Петрович,—
сказал настоящий доктор Бин.— Вам нужна диета, постель,
а здесь как-то холодно, меня мороз по коже подирает.
Я отнял руку от стекла: все в нем исчезло, доктор вывел
меня из комнаты, я в раздумье следовал за ним как ребенок.
Микстура подействовала; на другой день я был гораздо
спокойнее и приписал все виденное мною расстроенным
нервам. Доктор Бин догадался, велел уничтожить эту странную космораму, которая так сильно потрясла мое сильное
воображение, по воспоминаниям ли или по другой какой-
либо неизвестной мне причине. Признаюсь, я очень был доволен этим распоряжением доктора, как будто какой камень
спал с моей груди,— я быстро выздоравливал, и наконец
доктор позволил, даже приказал мне выезжать и стараться
как можно больше искать перемены предметов и всякого
рода рассеянности. «Это совершенно необходимо для ваших
расстроенных нервов»,— говорил доктор.
Кстати я вспомнил, что к моим знакомым и родным я
488
еще не являлся с визитом. Объездив кучу домов, истратив
почти все свои визитные билеты, я остановил карету у Петровского бульвара и вышел с намерением дойти пешком до
Рождественского монастыря; невольно я останавливался на
всяком шагу, вспоминая былое и любуясь улицами Москвы,
которые кажутся так живописными после однообразных петербуржских стен, вытянутых в шеренгу. Небольшой переулок на Трубе тянулся в гору, по которой рассыпаны были
маленькие домики, построенные назло всем правилам архитектуры, и, может быть, потому еще более красивые; их
пестрота веселила меня в детстве и теперь снова поражала меня своею прихотливою небрежностью. По дворам, едва
огороженным, торчали деревья, а между деревьями развешаны были разные домашние принадлежности; над домом
в три этажа и в одно окошко, выкрашенным красною краскою, возвышалась огромная зеленая решетка в виде голубятни, которая, казалось, придавливала весь дом. Лет двадцать тому назад эта голубятня была для меня предметом
удивления; я знал очень хорошо этот дом; с тех пор он нимало не переменился, только с бока приделали новую пристройку в один этаж и как будто нарочно выкрасили желтою краскою; с нагорья была видна внутренность двора; по
нему величаво ходили дворовые птицы, и многочисленная
дворня весело суетилась вокруг краснобая, пряничника.
Теперь я глядел на этот дом другими глазами, видел ясно
всю нелепость и безвкусие его устройства, но, несмотря на
то, вид его возбуждал в душе такие чувства, которых никогда не возбудят вылощенные петербуржские дома, которые, кажется, готовы расшаркаться по мостовой вместе с
проходящими и которые, подобно своим обитателям, так опрятны, так скучны и холодны. Здесь напротив все носило
отпечаток живой, привольной домашней жизни, здесь видно
было, что жили для себя, а не для других и, что всего важнее, располагались жить не на одну минуту, а на целое поколение. Погрузившись в философские размышления, я нечаянно взглянул на ворота и увидел имя одной из моих
тетушек, которую тщетно отыскивал на Моховой; поспешно
вошел я в ворота, которые, по древнему московскому обычаю, никогда не были затворены, вошел в переднюю, которая, также по московскому обычаю, никогда не была заперта. В передней спали несколько слуг, потому что был полдень; мимо их я прошел преспокойно в столовую, передгос-
тиную, гостиную и наконец так называемую боскетную, где
под тенью нарисованных деревьев сидела тетушка и раск
489
ладывала гранпасьянс. Она ахнула, увидев меня, но когда
я назвал себя, тогда ее удивление превратилось в радость.
— Насилу ты, батюшка, вспомнил обо мне! — сказала
она.— Вот сегодня уж ровно две недели в Москве, а не мог
заглянуть ко мне.
— Как, тетушка, вы уж знаете?
— Как не знать, батюшка! По газетам видела. Вишь,
вы нынче люди тонкие, только по газетам об вас и узнаем.
Вижу: приехал поручик. Ба!—говорила я, да это мой племянник! Смотрю, когда приехал — 10-го числа, а сегодня 24-е.
— Уверяю вас, тетушка, что я не мог отыскать вас.
— И, батюшка! Хотел бы отыскать — отыскал бы. Да
что и говорить, хоть бы когда строчку написал! А ведь я тебя маленького на руках носила,— уж не говорю часто,
а хоть бы в светлое воскресенье с праздником поздравил.
Признаюсь, я не находил, что ей отвечать, как вежливее
объяснить ей, что с пятилетнего возраста я мог едва упомнить ее имя. К счастью, она переменила разговор.
— Да как это ты вошел? Об тебе не доложили: верно никого в передней нет. Вот, батюшка, шестьдесят лет на свете
живу, а не могу порядка в доме завести. Соня, Соня! Позвони в колокольчик.— При сих словах в комнату вошла девушка лет 17, в белом платье. Она не успела позвонить
в колокольчик.— Ах, батюшка, да вас надобно познакомить: ведь она тебе роденька, хоть и дальняя... Как же!
Дочь князя Миславского, твоего двоюродного дядюшки. Соня, вот тебе братец Владимир Петрович. Ты часто о нем слыхивала; вишь, какой молодец!
Соня закраснелась, потупила свои хорошенькие глазки и
пробормотала мне что-то ласковое. Я сказал ей несколько
слов, и мы уселись.
— Впрочем, немудрено, батюшка, что ты не отыскал
меня,— продолжала словоохотливая тетушка.— Я ведь свой
дом продала да вот этот купила. Вишь, какой пестрый, да
правду сказать, не за тем купила, а оттого, что близко Рождественский монастырь, где все мои голубчики родные лежат, а дом, нечего сказать, славный, теплый, да и с какими затеями: видишь, какая славная боскетная; когда в
коридоре свечку засветят, то у меня здесь точно месячная
ночь.
В самом деле, взглянув на стену, я увидел грубо вырезанное в стене подобие полумесяца, в которое вставлено было зеленоватое стекло.
— Видишь, батюшка, как славно придумано? Днем в ко
490
ридоре светит, а ночью ко мне. Ты, я чаю, помнишь мой
старый дом?
— Как же, тетушка! — отвечал я, невольно улыбаясь.
— А теперь дай-ка похвастаюсь моим новым домком.
С сими словами тетушка встала, и Соня последовала за
ней. Она повела нас через ряд комнат, которые, казалось,
были приделаны друг к другу без всякой цели; однако же
при более внимательном обзоре легко было заметить, что
в них все придумано было для удобства и спокойствия жизни. Везде большие светлые окошки, широкие лежанки, маленькие двери, которые, казалось, были не на месте, но
между тем служили для более удобного сообщения между
жителями дома. Наконец мы дошли до комнаты Сони, которая отличалась от других комнат особенною чистотою и порядком; у стенки стояли маленькие клавикорды, на столе
букет цветов, возле него старая Библия, на большом комоде
старинной формы с бронзою я заметил несколько томов
старых книг, которых заглавия заставили меня улыбнуться.
— А вот здесь у меня Соня живет,— сказала тетушка.—
Видишь, как все у ней к месту приставлено; нечего сказать,
чистоплотная девка; одна у нас с нею только беда: работы
не любит, а все любит книжки читать. Ну, сам ты скажи, пожалуй, что за работа девушке книжки читать, да еще все по-
немецки — вишь, немкой была воспитана.
Я хотел сказать несколько слов в оправдание прекрасной
девушки, которая все молчала, краснела и потупляла глаза
в землю, но тетушка прервала меня.
— Полно, батюшка, фарлакурить! Мы знаем, ведь ты
петербуржский модный человек. У вас правды на волос нет,
а девка-то подумает, что она в самом деле дело делает.
С этой минуты я смотрел на Соню другими глазами:
ничто нас столько не знакомит с человеком, как вид той комнаты, в которой он проводит большую часть своей жизни,
и недаром новые романисты с таким усердием описывают
мебели своих героев; теперь можно и с большею справедливостью переиначить старинную поговорку: «Скажи мне,
где ты живешь — я скажу, кто ты».
Тетушка была, по-видимому, смертная охотница покупать домё и строиться; она подробно рассказывала мне, как
она приискала этот дом, как она его купила, как его переделала, что ей стоили подрядчики, плотники, бревна, доски, гвозди. А я отвечал ей незначащими фразами и со вниманием знатока рассматривал Соню, которая все молчала. Она была, нечего сказать, прекрасна: рассыпанные по
491
плечам â la Valiere русые волосы, которые без поэтического обмана можно было назвать каштановыми, черные блестящие глазки, вострый носик, маленькие прекрасные ножки — все в ней исчезло перед особенным гармоническим выражением лица, которого нельзя уловить ни в какую фразу...
Я воспользовался той минутой, когда тетушка переводила
дух, и сказал Соне:
— Вы любите чтение?
— Да, я люблю иногда чтение...
— Но, кажется, у вас мало книг?
— Много ли нужно человеку!
Эта поговорка, примененная к книгам, показалась мне
довольно смешною.
— Вы знаете по-немецки. Читали ли вы Гете, Шиллера,
Шекспира в переводе Шлегеля?
— Нет.
— Позвольте мне привезти вам эти книги...
— Я вам буду очень благодарна.
— Да, батюшка, ты бог знает чего надаешь ей,— сказала тетушка.
— О, тетушка, будьте уверены...
— Прошу, батюшка, привезти таких, которые позволены.
— О, без сомнения!
— Чудное дело! Вот я дожила до шестидесяти лет, а
не могу понять, что утешного находят в книгах. В молодости я спросила однажды, какая лучшая в свете книга?
Мне отвечали: «Россияда» сенатора Хераскова». Вот я и принялась ее читать; только такая, батюшка, скука взяла, что я
и десяти страниц не прочла; тут я подумала, что ж, если
лучшая в свете книга так скучна, что ж должны быть другие?
И уж не знаю, я ли глупа или что другое, только с тех пор,
кроме газет, ничего не читаю, да и там только о приезжающих.
На эту литературную критику тетушки я не нашелся ничего отвечать, кроме того, что книги бывают различные и
вкусы бывают различные. Тетушка возвратилась в гостиную,
мы с Софьей медленно за ней следовали и на минуту остались
почти одни.
— Не смейтесь над тетушкой,— сказала мне Софья, как
бы угадывая мои мысли.— Она права, понимать книги очень
трудно; вот, например, мой опекун очень любил басню
«Стрекоза и Муравей»; я никогда не могла понять, что в
ней хорошего; опекун всегда приговаривал: «Ай да моло
492
дец муравей!» А мне всегда бывало жалко бедной стрекозы
и досадно на жестокого муравья. Я уже многим говорила,
нельзя ли попросить сочинителя, чтобы он переменил эту
басню, но над мной все смеялись.
— Немудрено, милая кузина, потому что сочинитель этой
басни умер еще до французской революции.
— Что это такое?
Я невольно улыбнулся такому милому невежеству и постарался в коротких словах дать моей собеседнице понятие
о сем ужасном происшествии.
София была, видимо, встревожена, слезы показались у
нее на глазах.
— Я этого и ожидала,— сказала она после некоторого
молчания.
— Чего вы ожидали?
— То, что вы называете французскою революцией), непременно должно было произойти от басни «Стрекоза и Муравей».
Я расхохотался. Тетушка вмешалась в наш разговор:
— Что у вас там такое? Вишь, она как с тобою раскудахталась — а со мной так все молчит. Что ты ей там напеваешь?
— Мы рассуждаем с кузиной о французской революции.
— Помню, помню, батюшка; это когда кофей и сахар
вздорожали...
— Почти так, тетушка...
— Тогда и пудру уж начали покидать; я жила тогда в
Петербурге; приехали французы — смешно было смотреть
на них, словно из бани вышли; теперь-то немножко попривыкли. Что за время было, батюшка!
Долго еще толковала тетушка об этом времени, перепутывала все эпохи, рассказывала, как нельзя было найти ни
гвоздики, ни корицы, что вместо прованского масла делали
салат со сливками и проч. т. п.
Наконец я распростился с тетушкой, разумеется, после
клятвенных обещаний навещать ее как можно чаще. На
этот раз я не лгал: Соня мне очень приглянулась.
На другой день явились книги; за ними я сам, на третий,
на четвертый день— то же.
— Как вам понравились мои книги? — спросил я однажды у Софии.
— Извините, я позволила себе заметить то, что в них
мне понравилось...
493
— Напротив, я очень рад. Как бы я хотел видеть ваши
заметки!
Софья принесла мне книги. В Шекспире была замечена фраза: «Да, друг Горацио, много в сем мире такого, что
и не снилось нашим мудрецам». В «Фаусте» Гете была отмечена только та маленькая сцена, где Фауст с Мефистофелем скачут по пустынной равнине.
— Чем же особенно понравилась вам именно эта сцена?
— Разве вы не видите,— отвечала София простодушно,— что Мефистофель спешит; он гонит Фауста, говорит,
что там колдуют,— но неужели Мефистофель боится колдовства?
— В самом деле, я никогда не понимал этой сцены!
— Как это можно? Это самая понятная, самая светлая
сцена! Разве вы не видите, что Мефистофель обманывает
Фауста? Он боится,— здесь не колдовство, здесь совсем
другое... Ах, если бы Фауст остановился!..
— Где вы все это видите? — спросил я с удивлением.
— Я... я вас уверяю,— отвечала она с особенным выражением.
Я улыбнулся; она смутилась...
— Может быть, я и ошибаюсь,— прибавила она, потупив глаза.
— И больше вы ничего не заметили в моих книгах?
— Нет, еще много, много, но только мне бы хотелось ваши книги, так сказать, просеять...
— Как просеять?
— Да! Чтобы осталось то, что на сердце ложится.
— Скажите же, какие вы любите книги?
— Я люблю такие, что когда их читаешь, то делается жалко людей и хочется помогать им, а потом захочется умереть.
— Умереть? Знаете ли, что я скажу вам, кузина? Вы
не рассердитесь за правду?
— О, нет, я очень люблю правду...
— В вас много странного, у вас какой-то особенный
взгляд на предметы. Помните, намедни, когда я расшутился, вы мне сказали: «Не шутите так, берегитесь слов, ни одно наше слово не теряется; мы иногда не знаем, что мы говорим нашими словами!» Потом, когда я заметил, что вы
одеты не совсем по моде, вы отвечали: «Не все ли равно?
Не успеешь трех тысяч раз одеться, как все пройдет: это
платье с нас снимут, снимут и другое и спросят только,
что мы доброго по себе оставили, а не о том, как мы были
494
одеты?» Согласитесь, что такие речи до крайности странны, особливо на языке девушки. Где вы набрались таких
мыслей?
— Я не знаю,— отвечала Софья, испугавшись.— Иногда что-то внутри меня говорит во мне, я прислушиваюсь и говорю, не думая, и часто, что я говорю, мне самой непонятно.
— Это нехорошо. Надобно всегда думать о том, что говоришь, и говорить только то, что вы ясно понимаете...
— Мне и тетушка то же твердит, но я не знаю, как объяснить это, когда внутри заговорит, я забываю, что надобно
прежде подумать — я и говорю или молчу; оттого я так часто
молчу, чтобы тетушка меня не бранила; но с вами мне как-то
больше хочется говорить... мне, не знаю отчего, вы как-то
жалки...
— Чем же я кажусь жалок?
— Так! Сама не знаю — а когда я смотрю на вас, мне
вас жалко, что и сказать нельзя; мне все хочется вас, так
сказать, утешить, и я вам говорю, говорю, сама не зная что.
Несмотря на всю прелесть такого чистого, невинного
признания, я почел нужным продолжать мою роль моралиста.
— Послушайте, кузина, я не могу вас не благодарить за
ваше доброе ко мне чувство, но поверьте мне, вы имеете такое расположение духа, которое может быть очень опасно.
— Опасно? Отчего же?
— Вам надобно стараться развлекаться, не слушать
того, что, как вы рассказываете, внутри вам говорит...
— Не могу — уверяю вас, не могу; когда голос внутри
заговорит, я не могу выговорить ничего, кроме того, что он
хочет...
— Знаете ли, что в вас есть наклонность к мистицизму?
Это никуда не годится.
— Что такое мистицизм?
Этот вопрос показал мне, в каком я был заблуждении.
Я невольно улыбнулся:
— Скажите, кто вас воспитывал?
— Когда я жила у опекуна, при мне была няня немка,
добрая Луиза; она уж умерла...
— И больше никого?
— Больше никого.
— Чему же она вас учила?
— Стряпать на кухне, шить гладью, вязать фуфайки,
ходить за больными...
— Вы с ней ничего не читали?
495
— Как же? Немецкие вокабулы, грамматику... да! И
забыла: в последнее время мы читали небольшую книжку...
— Какую?
— Не знаю, но, постойте, я вам покажу одно место из этой
книжки. Луиза прп прощании вписала ее в мой альбом;
тогда, может быть, вы узнаете, какая это была книжка.
В Софьином альбоме я прочел сказу, которая странным
образом навсегда напечатлелась в моей памяти; вот она:
«Два человека родились в глубокой пещере, куда никогда не проникали лучи солнечные; они не могли выйти из
этой пещеры иначе, как по очень крутой и узкой лестнице,
и за недостатком дневного света зажигали свечи. Один из
этих людей был беден, терпел во всем нужду, спал на голом
полу, едва имел пропитание. Другой был богат, спал на
мягкой постели, имел прислугу, роскошный стол. Ни один
из них не видал еще солнца, но каждый о нем имел свое понятие. Бедняк воображал, что солнце великая и знатная
особа, которая всем оказывает милости, и все думал о том,
как бы ему поговорить с этим вельможею; бедняк был твердо уверен, что солнце сжалится над его положением и поможет ему. Приходящих в пещеру он спрашивал, как бы ему
увидеть солнце и подышать свежим воздухом — наслаждение, которого он также никогда не испытывал; приходящие
отвечали, что для этого он должен подняться по узкой и
крутой лестнице. Богач, напротив, расспрашивал приходящих подробнее, узнал, что солнце огромная планета, которая греет и светит, что, вышедши из пещеры, он увидит тысячу вещей, о которых не имеет никакого понятия; но когда
приходящие рассказали ему, что для сего надобно подняться
по крутой лестнице, то богач рассудил, что это будет труд
напрасный, что он устанет, может оступиться, упасть и сломить себе шею, что гораздо благоразумнее обойтись без
солнца, потому что у него в пещере есть камин, который
греет, и свеча, которая светит; к тому же, тщательно собирая и записывая все слышанные рассказы, он скоро уверился, что в них много преувеличенного и что он сам гораздо
лучшее имеет понятие о солнце, нежели те, которые его видели. Один, несмотря на крутизну лестницы, не пощадил
труда и выбрался из пещеры, и когда он дохнул чистым
воздухом, когда увидел красоту неба, когда почувствовал
теплоту солнца, тогда забыл, какое ложное о нем имел понятие, забыл прежний холод и нужду, а падши на колени,
лишь благодарил бога за такое непонятное ему прежде
наслаждение. Другой остался в смрадной пещере, перед
496
тусклой свечою и еще смеялся над своим прежним товарищем!»
— Это, кажется, аполог Круммахера,— сказал я Софье.
— Не знаю,— отвечала она.
— Он недурен, немножко сбивчив, как обыкновенно бывает у немцев, но посмотрите, в нем то же, что я сейчас говорил, то есть, что человеку надобно трудиться, сравнивать
и думать...
— И верить,— отвечала Софья с потупленными глазами.
— Да, разумеется, и верить,— отвечал я со снисходительностью человека, принадлежащего XIX столетию.
Софья посмотрела на меня внимательно:
— У меня в альбоме есть и другие выписки; посмотрите, в нем есть прекрасные мысли, очень, очень глубокие.
Я перевернул несколько листов; в альбоме были отдельные фразы, кажется, взятые из какой-то азбуки, как, например: «Чистое сердце есть лучшее богатство. Делай добро
сколько можешь, награды не ожидай, это до тебя не касается. Если будем внимательно примечать за собою, то увидим,
что за каждым дурным поступком рано или поздно следует
наказание. Человек ищет счастья снаружи, а оно в его сердце» и пр. т. п. Милая кузина с пресерьезным видом читала
эти фразы и с особенным выражением останавливалась на
каждом слове. Она была удивительно смешна, мила...
Таковы были наши беседы с моей кузиной; впрочем, они
бывали редко и потому, что тетушка мешала нашим разговорам, так и потому, что сама кузина была не всегда словоохотлива. Ее незнание всего, что выходило из ее маленького
круга, ее суждения, до невероятности детские, приводили
меня и в смех и жалость; но между тем никогда еще не
ощущал я в душе такого спокойствия: в ее немногих словах, в ее поступках, в ее движениях была такая тишина, такая кротость, такая елейность, что, казалось, воздух, которым она дышала, имел свойство укрощать все мятежные
страсти, рассеивать все темные мысли, которые иногда тучею скоплялись в моем сердце; часто, когда раздоры мнений,
страшные вопросы, все порождения умственной кичливости нашего века стесняли мою душу, когда мгновенно она
переходила чрез все мытарства сомнения и я ужасался, до
каких выводов достигала непреклонная житейская логика — тогда один простодушный взгляд, один простодушный
вопрос невинной девушки невольно восстановлял первобытную чистоту души моей; я забывал все гордые мысли, кото
497
рые возмущали мои разум, и жизнь казалась мне понятна,
светла, полна тишины и гармонии.
Тетушка сначала была очень довольна моими частыми
посещениями, но наконец дала мне почувствовать, что она
понимает, зачем я так часто езжу; ее простодушное замечание, которое ей хотелось сделать очень тонким, заставило
меня опамятоваться и заглянуть глубже во внутренность
моей души. Что чувствовал я к Софье? Мое чувство было
ли любовь? Нет, любви некогда было укорениться, да и не в
чем: Софья своим простодушием, своею детскою странностью, своими сентенциями, взятыми из прописей, могла
забавлять меня — и только; она была слишком ребенок,
младенец; душа ее была невинна и свежа до бесчувствия;
она занималась больше всего тетушкой, потом хозяйством, а
потом уже мною; нет, не такое существо могло пленить воображение молодого, еще полного сил человека, но уже опытного... Я уже перешел за тот возраст, когда всякое хорошенькое личико сводит с ума: в женщине мне надобно было
друга, с которым бы я мог делиться не только чувствами,
но и мыслями; Софья не в состоянии была понимать ни тех,
ни других; а быть постоянно моралистом хотя и лестно для
самолюбия, но довольно скучно. Я не хотел возбудить светских толков, которые могли бы повредить невинной девушке;
прекратить их обыкновенным способом, т(о> е(сть) женитьбой, я не имел намерения, а потому стал ездить к тетушке
гораздо реже,— да и некогда мне было: у меня нашлось другое занятие.
Однажды на бале мне встретилась женщина, которая заставила меня остановиться. Мне показалось, что я ее уже
где-то видел; ее лицо было мне так знакомо, что я едва ей
не поклонился. Я спросил о ее имени. Это была графиня Элиза Б. Это имя было мне совершенно неизвестно. Вскоре я узнал, что она с самого детства жила в Одессе и, следственно,
никаким образом не могла быть в числе моих знакомых.
Я заметил, что и графиня смотрела на меня с не меньшим
удивлением; когда мы больше сблизились, она призналась
мне, что и мое лицо ей показалось с первого раза знакомым.
Этот странный случай подал, разумеется, повод к разным
разговорам и предположениям; он невольно завлек нас в ту
метафизику сердца, которая бывает так опасна с хорошенькой женщиной... Эта странная метафизика, составленная из
парадоксов, анекдотов, острот, философских мечтаний, имеет отчасти характер обыкновенной школьной метафизики,
т(о> е(сть) отлучает вас от света, уединяет вас в особый
498
мир, но не одного, а вместе с прекрасной собеседницей; вы
несете всякий вздор, а вас уверяют, что вас поняли; с обеих
сторон зарождается и поддерживается гордость, а гордость есть чаша, в которую влиты все грехи человеческие:
она блестит, звенит, манит ваш взор своею чудною резьбою и уста ваши невольно прикасаются к обольстительному напитку.
Мы обменялись с графинею этим роковым сосудом; она
любовалась во мне игривостью своего ума, своею красотою,
пылким воображением, изяществом своего сердца; я любовался в ней силою моего характера, смелостью моих мыслей, моею начитанностью, моими житейскими успехами...
Словом, мы уже сделались необходимы друг другу, а
еще один из нас едва знал, как зовут другого, какое его положение в свете.
Правда, мы были еще невинны во всех смыслах; никогда еще слово любви не произносилось между нами. Это слово было смешно гордому человеку XIX века: оно давно им
было разложено, разобрано по частям, каждая часть оценена, взвешена и выброшена за окошко, как вещь несогласная с нашим нравственным комфортом; но я заговаривался с графинею в свете; но я засиживался у ней по вечерам;
но ее рука долго, слишком долго оставалась в моей при прощании; но когда она с улыбкою и с бледнеющим лицом сказала мне однажды: «Мой муж на днях должен возвратиться... вы, верно, сойдетесь с ним»,— я, человек, прошедший
чрез все мытарства жизни, не нашелся что отвечать, даже
не мог вспомнить ни одной пошлой фразы и, как романический любовник, вырвал свою руку, побежал, бросился в карету...
Нам обоим до сей минуты не приходило в голову вспомнить, что у графини есть муж!
Теперь дело было иное. Я был в положении человека,
который только что выскочил из очарованного круга, где
глазам его представлялись разные фантасмагорические видения, заставляли его забывать о жизни... Он краснеет, досадуя на самого себя, зачем он был в очаровании. Теперь
задача представлялась мне двойною: мне оставалось смотреть на это известие равнодушно и, пользуясь правами света, продолжать с графинею мое платоническое супружество; или, призвав на помощь донкихотство, презреть все
условия, все приличия, все удобства жизни и действовать на
правах отчаянного любовника. В первый раз в жизни я был
в нерешимости; я почти не спал целую ночь, не спал — и от
499
страстей, волновавшихся в моем сердце, и от досады на себя за это волнение; до сей минуты я так был уверен, что я
уже не способен к подобному ребячеству; словом, я чувствовал в себе присутствие нескольких независимых существ,
которые боролись сильно и не могли победить одно другое.
Рано поутру ко мне принесли записку от графини; она
состояла из немногих слов: «Именем бога, будьте у меня сегодня, непременно сегодня; мне необходимо вас видеть».
Слова сегодня и необходимо были подчеркнуты.
Мы поняли друг друга; при свидании с графинею мы быстро перешли тот промежуток, отделявший нас от прямого
выражения нашей тайны, которую скрывали мы от самих
себя. Первый акт житейской комедии, обыкновенно столь
скучный и столь привлекательный, был уже сыгран; оставалась катастрофа — и развязка.
Мы долго не могли выговорить слова, молча смотрели
друг на друга и с жестокосердием предоставляли друг другу
право начать разговор.
Наконец она, как женщина, как существо более доброе,
сказала мне тихим, но твердым голосом:
— Я звала вас проститься... наше знакомство должно
кончиться, разумеется, для нас,— прибавила она после некоторого молчания.— Но не для света — вы меня понимаете... Наше знакомство! — повторила она раздирающим голосом и с рыданием бросилась в кресла.
Я кинулся к ней, схватил ее за руку... Это движение привело ее в чувство.
— Остановитесь,— сказала она.— Я уверена, что вы не
захотите воспользоваться минутою слабости... Я уверена, что
если б я и забылась, то вы бы первый привели меня в память... Но я и сама не забуду, что я жена, мать.
Лицо ее просияло невыразимым благородством.
Я стоял недвижно пред нею... Скорбь, какой никогда
еще не переносило мое сердце, разрывала меня: я чувствовал, что кровь горячим ключом переливалась в моих жилах,
частые удары пульса звенели в висках и оглушали меня...
Я призывал на помощь все усилия разума, всю опытность,
приобретенную холодными расчетами долгой жизни... Но
рассудок представлял мне смутно лишь черные софизмы преступления, мысли гнева и крови: они багровою пеленою закрывали от меня все другие чувства, мысли, надежды... В эту
минуту дикарь, распаленный зверским побуждением, бушевал под наружностью образованного, утонченного, расчетливого европейца.
500
Я не знаю, чем бы кончилось это состояние, как вдруг
дверь растворилась и человек подал письмо графине.
— От графа с нарочным.
Графиня с беспокойством развернула пакет, прочла несколько строк, руки ее затряслись, она побледнела.
Человек вышел. Графиня подала мне письмо. Оно было
от незнакомого человека, который уведомлял графиню, что
муж ее опасно занемог на дороге в Москву, принужден был
остановиться на постоялом дворе, не может писать сам и
хочет видеть графиню.
Я взглянул на нее, в голове моей сверкнула неясная
мысль, отразилась в моих взорах...она поняла эту мысль,
закрыла глаза рукою, как бы для того, чтобы не видать ее,
и быстро бросилась к колокольчику.
— Почтовых лошадей! — сказала она с твердостью вошедшему человеку.— Просить ко мне скорее доктора
Бина.
— Вы едете? — сказал я.
— Сию минуту.
— Я за вами.
— Невозможно!
— Все знают, что уж я давно сбираюсь в тверскую
деревню.
— По крайней мере, через день после меня.
— Согласен... но случай заставит меня остановиться
с вами на одной станции, а доктор Бин мне друг с моего детства.
— Увидим,— сказала графиня.— Но теперь прощайте.
Мы расстались.
Я поспешно возвратился домой, привел в порядок мои
дела, рассчитал, когда мне выехать, чтобы остановиться на
станции, велел своим людям говорить, что я уже дня четыре как уехал в деревню; это было вероятно, ибо в последнее
время меня мало видали в свете. Через тридцать часов я уже
был на большой дороге, и скоро моя коляска остановилась у ворот постоялого дома, решалась моя участь.
Я не успел войти, как по общей тревоге угадал, что все
уже кончилось.
— Граф умер,— отвечали на мои вопросы, и эти слова
дико и радостно отдавались в моем слухе.
В такую минуту явиться к графине, предложить ей мои
услуги было бы делом обыкновенным для всякого проезжающего, не только знакомого. Разумеется, я поспешил воспользоваться этою обязанностью.
501
Почти в дверях встретил я Бина, который бросился обнимать меня.
— Что здесь такое? — спросил я.
— Да что! — отвечал он со своею простодушною улыбкою.— Нервическая горячка... Запустил, думал доехать в
Москву — да где! Она не свой брат, шутить нс любит; я приехал — уже поздно было; тут что ни делай — мертвого не
оживишь.
Я бросился обнимать доктора — не знаю почему, ио,
кажется, за его последние слова. Хорошо, что мой добрый
Иван Иванович не взял на себя труда разыскивать причины такой необыкновенной нежности.
— Ее, бедную, жаль! — продолжал он.
— Кого? — сказал я, затрепетав всем телом.
— Да графиню.
— Разве она здесь? — проговорил я притворно и поспешно прибавил: — Что с ней?
— Да вот уже три дня не спала и не ела.
— Можно к ней?
— Нет, теперь она, слава богу, заснула; пусть себе успокоится до выноса... Здесь, вишь, хозяева просят, чтобы
поскорее вынести в церковь, ради проезжих.
Делать было нечего. Я скрыл свое движение, спросил
себе комнату, а потом принялся помогать Ивану Ивановичу во всех нужных распоряжениях. Добрый старик не мог
мною нахвалиться.
— Вот добрый человек,— говорил он.— Иной бы взял
да уехал; еще хорошо, что ты случился, я бы без тебя пропал; правда, нам, медикам, нечего греха таить,— прибавил
он с улыбкою,— случается отправлять на тот свет, но хоронить еще мне ни раза не удавалось.
Ввечеру был вынос. Графиня как бы не заметила меня,
и, признаюсь, я сам не в состоянии был говорить с нею в эту
минуту. Странные чувства возбуждались во мне при виде
покойника: он был уже немолодых лет, но в лице его еще
было много свежести; кратковременная болезнь еще не успела обезобразить его. Я с истинным сожалением смотрел
на него, потом с невольною гордостью взглядывал на прекрасное наследство, которое он мне оставлял после себя, и
сквозь умилительные мысли нередко мелькали в голове моей
адские слова, сохраненные историей: «Труп врага всегда хорошо пахнет!» Я не мог забыть этих слов, зверских до глупости; они беспрестанно звучали в моем слухе. Служба кончилась, мы вышли из церкви. Графиня, как бы угадывая мое
502
намерение, подослала ко мне человека сказать, что она благодарит меня за участие и что завтра сама будет готова
принять меня. Я повиновался.
Волнение, в котором я находился во все эти дни, не дало мне заснуть до самого восхождения солнца. Тогда беспокойный сон, полный безобразных видений, сомкнул мне глаза на несколько часов; когда я проснулся, мне сказали, что
графиня уже возвратилась из церкви; я наскоро оделся и
пошел к ней.
Она приняла меня. Она не хотела притворствовать, не
показывала мнимого отчаяния, но спокойная грусть ясно
выражалась на лице ее. Я не буду вам говорить, что беспорядок ее туалета, черное платье делали ее еще прелестнее.
Долго мы не могли сказать ничего друг другу, кроме
пошлых фраз, но наконец чувства переполнились, мы не могли более владеть собою и бросились друг другу в объятия.
Это был наш первый поцелуй, но поцелуй дружбы, братства.
Мы скоро успокоились. Она рассказала мне о своих будущих планах; через два дня, отдав последний долг покойнику, она возвратится в Москву, а оттуда проедет с детьми в украинскую деревню. Я отвечал ей, что у меня в Украине также есть небольшая усадьба, и мы скоро увидели,
что были довольно близкими соседями. Я не мог верить
своему счастью: передо мной исполнялась прекрасная мечта и мысль юности: уединение, теплый климат, прекрасная,
умная женщина и долгий ряд счастливых дней, полных животворной любви и спокойствия.
Так протекли два дня; мы видались почти ежеминутно,
и наше счастье было так полно, так невольно вырывались
из души слова надежды и радости, что даже Иван Иванович
начал поглядывать на нас с улыбкою, которую ему хотелось
сделать насмешливою, а наедине намекал мне, что не надобно упускать вдовушки, тем более что она была очень несчастлива с покойником, который был человек капризный,
плотский и мстительный. Я теперь впервые узнал эти подробности, и они мне служили ключом к разным мыслям и
поступкам графини. Несмотря на странность нашего положения, в эти два дня мы не могли не сблизиться более, нежели в прежние месяцы, чего не переговоришь в двадцать
четыре часа? Мало-помалу характер графини открывался
мне во всей полноте, ее огненная душа во всем блеске; мы
успели поверить друг другу все наши маленькие тайны; я
503
ей рассказал мое романическое отчаяние; она мне призналась, что в последнее наше свидание притворялась изо всех
сил, и уже готова была броситься в мои объятия, когда принесли роковое письмо; изредка мы позволяли себе даже немножко смеяться. Элиза вполне очаровала меня и, кажется,
сама находилась в подобном очаровании; часто ее пламенный взор останавливался на мне с невыразимой любовью и
с трепетом опускался в землю; я осмеливался лишь жать ее
руку. Как я досадовал на светские приличия, которые не позволяли мне с сей же минуты вознаградить моей любовью
все прежние страдания графини! Признаюсь, я уже с нетерпением начал ожидать, чтобы скорее отдали земле земное,
и досадовал на срок, установленный законом.
Наконец наступил третий день. Никогда еще сон мой
не был спокойнее; прелестные видения носились над моим
изголовьем: то были бесконечные сады, облитые жарким
солнечным сиянием; везде — в куще древес, в цветных радугах я видел прекрасное лицо моей Элизы, везде она являлась
мне, но в бесчисленных полупрозрачных образах, и все они
улыбались, простирали ко мне свои руки, скользили по моему лицу душистыми локонами и легкою вереницею взвивались на воздух... Но вдруг все исчезло, раздался ужасный
треск, сады обратились в голую скалу, и на той скале явились
мертвец и доктор, каким я его видал в космораме; но вид
его был строг и сумрачен, а мертвец хохотал и грозил мне
своим саваном. Я проснулся. Холодный пот лился с меня ручьями. В эту минуту постучались в дверь.
— Графиня вас просит к себе сию минуту,— сказал вошедший человек.
Я вскочил, раздались страшные удары грома, от туч было почти темно в комнате, она освещалась лишь блеском молнии; от порывистого ветра пыль взвивалась столбом и с шумом рассыпалась о стекла. Но мне некогда было обращать
внимание на бурю: ©делся наскоро и побежал к Элизе. Нет,
никогда не забуду выражения лица ее в эту минуту; она
была бледна как смерть, руки ее дрожали, глаза не двигались. Приличия уже были не у места; забыт светский язык,
светские условия.
— Что с тобою, Элиза?
— Ничего! Вздор! Глупость! Пустой сон!..
При этих словах меня обдало холодом...
— Сон? — повторил я с изумлением.
— Да! Но сон ужасный! Слушай! — говорила она, вздрагивая при каждом ударе грома.— Я заснула спокойно... я
504
думала о наших будущих планах, о тебе, о нашем счастье...
Первые сновидения повторили веселые мечты моего воображения... Как вдруг предо мною явился покойный муж,— нет,
то был не сон,— я видела его самого, его самого: я узнала
эти знакомые мне стиснутые, почти улыбающиеся губы, это
адское движение черных бровей, которым выражался в нем
порыв мщения без суда и без милости... Ужас, Владимир!
Ужас!.. Я узнала этот неумолимый, свинцовый взор, в котором в минуту гнева вспыхивали кровавые искры; я услышала
снова этот голос, который от ярости превращался в дикий
свист и который я думала никогда более не слышать...
«Я все знаю, Элиза,— говорил он,— все вижу; здесь мне
все ясно; ты очень рада, что я умер; ты уже готова выйти
замуж за другого... Нежная, верная жена!.. Безрассудная!
Ты думала найти счастье — ты не знаешь, что гибель твоя,
гибель детей наших соединена с твоей преступной любовью...
Но этому не бывать, нет! Жизнь звездная еще сильна во
мне,— земляна душа моя и не хочет расстаться с землею...
Мне все здесь сказали — лишь возвратясь на землю, могу
я спасти детей моих, лишь на земле я могу отмстить тебе, и
я возвращусь в твои объятия, верная супруга! Дорогою,
страшною ценою купил я это возвращение,— ценою, которой ты и понять не можешь... Зато весь ад двинется со мною
на твою преступную голову — готовься принять меня. Но
слушай: на земле я забуду все, что узнал здесь: скрывай от
меня твои чувства, скрывай их — иначе горе тебе, горе и
мне!..» Тут он прикоснулся к лицу моему холодными, посиневшими пальцами, и я проснулась. Ужас! Ужас! Я еще чувствую на лице это прикосновение...
Бедная Элиза едва могла договорить; язык ее онемел,
она вся была как в лихорадке; судорожно жалась она ко мне,
закрывая глаза руками, как бы искала укрыться от грозного видения. Сам невольно взволнованный, я старался
утешить ее обыкновенными фразами о расстроенных нервах, о физическом на них действии бури, об игре воображения и сам чувствовал, как тщетны пред страшною действительностью все эти слова, изобретаемые в спокойные, беззаботные минуты человеческого суемудрия. Я еще говорил, я
еще перебирал в памяти все читанные в медицинских книгах
подобные случаи, как вдруг распахнулось окошко, порывистый ветер с визгом ворвался в комнату, в доме раздался
шум, означавший что-то необыкновенное...
— Это он... это он идет! — вскричала Элиза и в трепете,
показывая на дверь, махала мне рукою...
505
Я выбежал за дверь; в доме все было в смятении; на конце темного коридора я увидел толпу людей: эта толпа приближалась... В оцепенении я прижался к стене, но нет ни
сил спросить, ни собрать свои мысли... Да! Элиза не ошиблась. Это был он! Он! Я видел, как толпа частью вела, частью
несла его; я видел его бледное лицо; я видел его впалые
глаза, с которых еще не сбежал сон смертный... Я слышал
крики радости, изумления, ужаса окружающих... Я слышал
прерывистые рассказы о том, как ожил граф, как он поднялся из гроба, как встретил в дверях ключаря, как доктор помогал ему... Итак, это было не виденье, но действительность! Мертвый возвращался нарушить счастье живых... Я
стоял как окаменелый; когда граф поравнялся со мною, в тесноте его рука, судорожно вытянутая, скользнула по лицу моему, и я вздрогнул, как будто электрическая искра пробежала по моему телу, все меня окружающее сделалось
прозрачным — стены, земля, люди показались мне легкими
полутенями, сквозь которые я ясно различал другой мир,
другие предметы, других людей... Каждый нерв в моем теле
получил способность зрения; мой магический взор обнимал
в одно время и прошедшее, и настоящее, и то, что действительно было, и что могло случиться; описать всю эту картину нет возможности, рассказать ее недостанет слов человеческих... Я видел графа Б. в различных возрастах его
жизни... я видел, как над изголовьем его матери, в минуту
его рождения, вились безобразные чудовища и с дикою радостью встречали новорожденного. Вот его воспитание:
гнусное чудовище между им и его наставником — одному
нашептывает, другому толкует мысли себялюбия, безверия,
жестокосердия, гордости; вот появление в свете молодого
человека: то же гнусное чудовище руководит его поступками, внушает ему тонкую сметливость, осторожность, коварство, наверное, устраивает для него успехи; граф в обществе
женщин: необоримая сила влечет их к нему, он ласкает одну за другою и смеется вместе со своим чудовищем; вот он
за карточным столом: чудовище подбирает масти, шепчет
ему на ухо, какую ставить карту; он обыгрывает, разоряет
друга, отца семейства,— и богатство упрочивает его успехи
в свете; вот он на поединке: чудовище нашептывает ему на
ухо все софизмы дуэлей, крепит его сердце, поднимает его
руку, он стреляет — кровь противника брызнула на него и
запятнала вечными каплями; чудовище скрывает след его
преступления. В одном из секундантов дуэли я узнал моего
покойного дядю; вот граф в кабинете вельможи: он искус
506
но клевещет на честного человека, чернит его, разрушает его
счастье и заменяет его место; вот он в суде: под личиной прямодушия он таит в сердце жестокость неумолимую, он видит невинного, знает его невинность и осуждает его, чтобы
воспользоваться его правами; все ему удается; он богатеет,
он носит между людьми имя честного, прямодушного, твердого человека; вот он предлагает свою руку Элизе: на его
руке капли крови и слез, она не видит их и подает ему свою
руку; Элиза для него средство к различным целям: он принуждает ее принимать участие в черных, тайных делах своих,
он грозит ей всеми ужасами, которые только может изоб-
ресть воображение, и когда она, подвластная его адской силе, повинуется, он смеется над ней и приготовляет новые
преступления...
Все эти происшествия его жизни чудно, невыразимо соединялись между собою живыми связями; от них таинственные нити простирались к бесчисленным лицам, которые были или жертвами, или участниками его преступлений, часто
проникали сквозь несколько поколений и присоединяли их к
страшному семейству; между сими лицами я узнал моего
дядю, тетку, Поля: все они были как затканы этою сетью,
связывавшею меня с Элизою и ее мужем. Этого мало: каждое его чувство, каждая его мысль, каждое слово имело образ живых, безобразных существ, которыми он, так сказать, населил вселенную... .На последнем плане вся эта чудовищная вереница примыкала к нему, полумертвому, и он
влек ее в мире вместе с собою; живые же связи соединяли
с ним Элизу, детей его; к ним другими путями прикреплялись нити от разных преступлений отца и являлись в виде
порочных наклонностей, невольных побуждении; между толпою носились несметные, странные образы, которых ужасное впечатление не можно выразить на бумаге; в их уродливости не было ничего смешного, как то бывает иногда на
картинах; они все имели человеческое подобие, но их формы, цвета, особенно выражения были разнообразны до бесконечности: чем ближе они были к мертвецу, тем ужаснее
казались; над самой головой несчастного неслось существо,
которого взора я никогда не забуду: его лицо было тусклого зеленого цвета; алые как кровь волосы струились по плечам его; из глаз земляного цвета капали огненные слезы,
проникали весь состав мертвеца и оживляли один член за
другим; никогда я не забуду того выражения грусти и злобы, с которым это непонятное существо взглянуло на меня...
Я не буду более описывать этой картины. Как описать спле
507
тения всех внутренних побуждений, возникающих в душе
человека, из которых здесь каждое имело свое отдельное,
живое существование? Как описать все те таинственные дела, которые совершались в мире сими существами, невидимыми для обыкновенного взора? Каждое из них магически
порождало из себя новые существа, которые в свою очередь впивались в сердца других людей, отдаленных и временем и пространством? Я видел, какую ужасную, логическую
взаимность имели действия сих людей; как малейшие поступки, слова, мысли в течение веков срастались в одно огромное преступление, которого основная причина была совершенно потеряна для современников; как это преступление пускало новые отрасли и в свою очередь порождало новые центры преступлений; между темными двигателями грехов человеческих носились и светлые образы, порождения
душ чистых, бескровных; они также соединялись между собою живыми звеньями, также магически размножали себя
и своим присутствием уничтожали действия детей мрака.
Но, повторяю, описать все, что тогда представилось моему
взору, недостанет нескольких томов. В эту минуту вся история нашего мира от начала времен была мне понятна; эта
внутренность истории человечества была обнажена передо
мною, и необъяснимое посредством внешнего сцепления событий казалось мне очень просто и ясно; так, например, взор
мой постепенно переходил по магической лестнице, где нравственное чувство, возбуждавшееся в добром испанце при
виде костров инквизиции, порождало в его потомке чувство
корысти; как наконец это же самое чувство в последующих
поколениях превратилось просто в зверство и в полное духовное обессиление. Я видел, как минутное побуждение моего собственного сердца получало свое начало в делах людей, существовавших до меня за несколько столетий... Я понял, как важна каждая мысль, каждое слово человека, как
далеко простирается их влияние, какая тяжкая ответственность ложится за них на душу и какое зло для всего человечества может возникнуть из сердца одного человека, раскрывшего себя влиянию существ, нечистых и враждебных...
Я понял, что «человек есть мир» — не пустая игра слов, выдуманная для забавы... Когда-нибудь, в более спокойные
минуты, я передам бумаге эту историю нравственных существ, обитающих в человеке и порождаемых его волею, которых только следы сохраняются в мирских летописях.
Что я принужден теперь рассказывать постепенно, то во
время моего видения представлялось мне в одну и ту же ми
508
нуту. Мое существо было, так сказать, раздроблено. С одной стороны, я видел развивающуюся картину всего человечества, с другой — картину людей, судьба которых была
связана с моею судьбою; в этом необыкновенном состоянии
организма ум равно чувствовал страдания людей, отделенных от меня пространством и временем, и страдания женщины, к которой любовь огненною чертою проходила по моему сердцу! О, она страдала, невыразимо страдала!.. Она
упадала на колени пред своим мучителем и умоляла его оставить ее или взять с собою. В эту минуту как завеса спала
с глаз моих: я узнал в Элизе ту самую женщину, которую некогда видел в космораме; не постигаю, каким образом до
сих пор я не мог этого вспомнить, хотя лицо ее всегда мне
казалось знакомым; на фантасмагорической сцене я был
возле нее, я также преклонял колени пред двойником графа; двойник доктора, рыдая, старался увлечь меня от этого
семейства: он что-то говорил мне с большим жаром, но я
не мог расслышать речей его, хотя видел движение его губ;
в моем ухе раздавались лишь неясные крики чудовищ, носившихся над нами; доктор поднимал руку и куда-то указывал, я напряг все внимание и, сквозь тысячи мелькавших
чудовищных существ, будто бы узнавал образ Софьи, но
лишь на одно мгновение, и этот образ казался мне искаженным...
Во все время этого странного зрелища я был в оцепенении: душа моя не знала, что делалось с телом. Когда возвратилась ко мне раздражительность внешних чувств, я увидел себя в своей комнате на постоялом дворе; возле меня
стоял доктор Бин со стклянкою в руках...
— Что? — спросил я, очнувшись.
— Да ничего! Здоровешенек! Пульс такой, что чудо...
— У кого?
— Да у графа! Хороших было мы дел наделали! Да и
то, правду сказать, я никогда и не воображал и в книгах не
встречал, чтоб мог быть такой сильный обморок. Ну, точно
был мертвый. Кажется, немало я на своем веку практики
имел, вот уж, говорится, век живи, век учись! А вы-то, батюшка! Еще были военный человек, испугались, также подумали, что мертвец идет... насилу оттер вас... Куда вам за
нами, медиками! Мы народ храбрый!.. Я вышел на улицу посмотреть, откуда буря идет, смотрю — мой мертвый тащится,
а от него люди так и бегут. Я себе говорю: «Вот любопытный субъект», да к нему, кричу, зову людей, насилу пришли;
уж я его и тем и другим,— и теперь как ни в чем не бывало,
509
еще лет двадцать проживет. Непременно этот случай опишу, объясню, в Париж пошлю, в академию, по всей Европе
прогремлю,— пусть же себе толкуют... Нельзя! Любопытный случай!..
Доктор еще долго говорил, но я не слушал его; одно понимал я: все это было не сон, не мечта — действительно возвратился к живым мертвый, оживленный ложною жизнью, и
отнимал у меня счастье жизни...
— Лошадей! — вскричал я.
Я почти не помню, как и зачем привезли меня в Москву;
кажется, я не отдавал никаких приказаний, и мною распорядился мой камердинер. Долго я не показывался в свете
и проводил дни один, в состоянии бесчувствия, которое прерывалось только невыразимыми страданиями. Я чувствовал,
что гасли все мои способности, рассудок потерял силу суждения, сердце было без желаний; воображение напоминало
мне лишь странное, непонятное зрелище, о котором одна
мысль смешивала все понятия и приводила меня в состояние, близкое к сумасшествию.
Нечаянно я вспомнил о моей простосердечной кузине; я
вспомнил, как она одна имела искусство успокаивать мою
душу. Как я радовался, что хоть какое-либо желание закралось в мое сердце!
Тетушка была больна, но велела принять меня. Бледная, измученная болезнью, она сидела в креслах; Софья ей
прислуживала, поправляла подушки, подавала питье. Едва
она взглянула на меня, как почти заплакала:
— Ах! Что это мне как жалко вас! — сказала она сквозь
слезы.
— Кого это жаль, матушка? — спросила тетушка прерывающимся голосом.
— Да Владимира Андреевича! Не знаю отчего, но смотреть на него без слез не могу...
— Уж лучше бы, матушка, пожалела обо мне, вишь, он и
не подумает больную тетку навестить...
Не знаю, что отвечал я на упрек тетушки, который был
не последний. Наконец она несколько успокоилась.
— Я ведь это, батюшка, только так говорю, оттого, что
тебя люблю; вот и с Софьюшкой об тебе часто толковали...
— Ах, тетушка! Зачем вы говорите неправду? У нас и
помина о братце не было...
— Так! Так-таки! — вскричала тетушка с гневом.— Таки брякнула свое! Не посетуй, батюшка, за нашу простоту —
510
хотела было тебе комплимент сказать, да, вишь, у меня учительша какая проявилась; лучше бы, матушка, больше
о другом заботилась...— И полились упреки на бедную девушку.
Я заметил, что характер тетушки от болезни очень переменился; она всем скучала, на все досадовала; особенно без
пощады бранила добрую Софью: все было не так, все мало
о ней заботились, все мало ее понимали; она жестоко мне на
Софью жаловалась, потохм от нее переходила к своим родным,
знакомым,— никому не было пощады; она с удивительною
точностью вспоминала все свои неприятности в жизни, всех
обвиняла и на все роптала и опять все свои упреки сводила
на Софью.
Я молча смотрел на эту несчастную девушку, которая
с ангельским смирением выслушивала старуху, а между тем
внимательно смотрела, чем бы услужить ей. Я старался моим
взором проникнуть эту невидимую связь, которая соединяла меня с Софьей, перенести мою душу в ее сердце,— но
тщетно: предо мною была лишь обыкновенная девушка, в
белом платье, со стаканом в руках.
Когда тетушка устала говорить, я сказал Софье почти
шепотом:
— Так вы очень обо мне жалеете?
— Да! Очень жалею и не знаю отчего.
— Л мне так вас жалко,— сказал я, показывая глазами на тетушку.
— Ничего,— отвечала Софья.— На земле все недолго,
и горе и радость: умрем, другое будет...
— Что ты там страхи-то говоришь? — вскричала тетушка, вслушавшись в последние слова.— Вот уж, батюшка,
могу сказать, утешница. Чем бы больного человека развлечь,
развеселить, а она нет-нет да о смерти заговорит. Что ты хочешь намекнуть, чтобы я тебя в духовной-то не забыла, что
ли? В гроб хочешь поскорее свести? Экая корыстолюбивая! Так нет, мать моя, еще тебя переживу...
Софья спокойно посмотрела в глаза старухе и сказала:
— Тетушка! Вы говорите неправду...
Тетушка вышла из себя.
— Как неправду? Так ты собираешься меня похоронить...
Ну, скажите, батюшка, выносимо ли это? Вот какую змею я
у себя пригрела!
В окружающих прислужницах я заметил явное неудовольствие; доходили до меня слова: «Злая! Недобрая! Уморить хочет!»
511
Тщетно хотел я уверить тетушку, что она приняла Софьины слова в другом смысле: я только еще более раздражал ее. Наконец решился уйти; Софья провожала
меня.
— Зачем вы вводите тетушку в досаду? — сказал я кузине.
— Ничего, немножко на меня прогневается, а все о смерти подумает; это ей хорошо...
— Непонятное существо! — вскричал я.— Научи и меня умереть!
Софья посмотрела на меня с удивлением.
— Я сама не знаю, впрочем, кто хочет учиться, тот уже
вполовину выучен.
— Что ты хочешь сказать этим?..
— Ничего! Так у меня в книжке записано...
В это время раздался колокольчик.
— Тетушка меня кличет,— проговорила Софья.— Видите, я угадала; теперь гнев прошел, теперь она будет плакать, а плакать хорошо, очень хорошо, особливо когда не
знаешь, о чем плачешь.
С сими словами она скрылась.
Я возвратился домой в глубокой думе, бросился в кресла и старался отдать себе отчет в моем положении. То Софья
представлялась мне в виде какого-то таинственного, доброго существа, которое хранит меня, которого каждое слово
имеет смысл глубокий, связанный с моим существованием,
то я начинал смеяться над собою, вспоминал, что к мысли
о Софье воображение примешивало читанное мною в старинных легендах; что она была просто девушка добрая, но
очень обыкновенная, которая кстати и некстати любила повторять самые ребяческие сентенции; эти сентенции потому
только, вероятно, поражали меня, что в движении сильных,
положительных мыслей нашего века они были забыты и казались новыми, как готическая мебель в наших гостиных.
А между тем слова Софьи о смерти невольно звучали в
моем слухе, невольно, так сказать, притягивали к себе все
мои другие мысли и, наконец, соединили в один центр все
мои духовные силы; мало-помалу все окружающие предметы для меня исчезли, неизъяснимое томление зажгло мое
сердце, и глаза нежданно наполнились слезами. Это меня
удивило! «Кто же плачет во мне?» — воскликнул я овольно
громко, и мне показалось, что кто-то отвечает мне; меня обдало холодом, и я не мог пошевелить рукою; казалось, я прирос к креслу и внезапно почувствовал в себе то неизъясни
512
мое ощущение, которое обыкновенно предшествовало моим
видениям и к которому я уже успел привыкнуть; действительно, чрез несколько мгновений комната моя сделалась
для меня прозрачною, в отдалении, как бы сквозь светлый
пар, я увидел снова лицо Софьи...
«Нет! — сказал я в самом себе.— Соберем всю твердость духа, рассмотрим холодно эту фантасмагорию. Хорошо ребенку было пугаться ее: мало ли что казалось необъяснимым?» И я вперил в странное видение тот внимательный
взор, с которым естествоиспытатель рассматривает любопытный физический опыт.
Видение подернулось как бы зеленоватым паром; лицо
Софьи сделалось явственнее, но представилось мне в искаженном виде.
«А! — сказал я сам в себе.— Зеленый цвет здесь играет
какую-то роль; вспомним хорошенько: некоторые газы производят также в глазу ощущение зеленого цвета; эти газы
имеют одуряющее свойство — так точно! Преломление зеленого луча соединено с наркотическим действием на наши
нервы и обратно. Теперь пойдем далее: явление сделалось
явственнее? Так и должно быть: это значит, что оно прозрачно. Так точно! В микроскоп нарочно употребляют зеленоватые стекла для рассматривания прозрачных насекомых:
их формы оттого делаются явственнее...»
Чтоб сохранить хладнокровие и не отдать себя под власть
воображения, я записывал мои наблюдения на бумаге, но
скоро мне это сделалось невозможным; видение близилось
ко мне, все делалось явственнее, а с тем вместе все другие
предметы бледнели; бумага, на которой я писал, стол, мое
собственное тело сделалось прозрачным, как стекло; куда я
ни обращал глаза, видение следовало за моим взором. В
нем я узнавал Софью: тот же облик, те же волосы, та же
улыбка, но выражение было другое. Она смотрела на меня
коварными, сладострастными глазами и с какою-то наглостью простирала ко мне свои объятия.
«Ты не знаешь,— говорила она,— как мне хочется выйти за тебя замуж! Ты богат, я сама у старухи вымучу себе
кое-что, и мы заживем славно. Отчего ты мне не даешься?
Как я ни притворяюсь, как ни кокетничаю с тобою — все
тщетно. Тебя пугают мои суровые слова; тебя удивляет мое
невинное невежество? Не верь! Это все удочка, на которую
мне хочется поймать тебя, потому что ты сам не знаешь своего счастья. Женись только на мне — ты увидишь, как я развернусь. Ты любишь рассеянность — я также; ты любишь
I 7 Заказ 14
513
сорить деньгами — я еще больше; наш дом будет чудо, мы
будем давать балы, на балы приглашать родных, вотремся
к ним в любовь, и наследства будут на нас дождем литься...
Ты увидишь — я мастерица на эти дела...»
Я оцепенел, слушая эти речи; в душе моей родилось такое отвращение к Софье, которого не могу и выразить. Я
вспоминал все ее таинственные поступки, все ее двусмысленные слова — все мне было теперь понятно! Хитрый демон
скрывался в ней под личиною невинности... Видение исчезло — вдали осталась лишь блестящая точка; эта точка увеличивалась постепенно, приближалась—это была моя Элиза!
О, как рассказать, что сталось тогда со мною? Все нервы
мои потряслись, сердце забилось, руки сами собою простерлись к обольстительному видению; казалось, она носилась в воздухе — ее кудри как легкий дым свивались и развивались, волны прозрачного покрывала тянулись по роскошным плечам, обхватывали талию и бились по стройным
розовым ножкам. Руки се были сложены, она смотрела на
меня с упреком.
— Неверный! Неблагодарный! — говорила она голосом,
который, как растопленный свинец, разжигал мою душу.—
Ты уж забыл меня! Ребенок! Ты испугался мертвого! Ты забыл, что я страдаю, страдаю невыразимо, безутешно; ты забыл, что между нами обет вечный, неизгладимый! Ты боишься мнения света? Ты боишься встретиться с мертвым? Я —
я не переменилась. Твоя Элиза ноет и плачет, она ищет тебя
наяву и во сне, она ждет тебя; все ей равно — ей ничего не
страшно — все в жертву тебе...
— Элиза! Я твой! Вечно твой! Ничто не разлучит нас! —
вскричал я, как будто видение могло меня слышать... Элиза рыдала, манила меня к себе, простирала ко мне руку так
близко, что, казалось, я мог схватить ее,— как вдруг другая
рука показалась возле руки Элизы... Между ею и мною явился таинственный доктор; он был в рубище, глаза его горели, члены трепетали; он то являлся, то исчезал; казалось,
он боролся с какою-то невидимою силою, старался говорить,
но до меня доходили только прерывающиеся слова: «Беги...
гибель... таинственное мучение... совершается... твой дядя...
подвигнул его... на смертное преступление... его участь решена... его... давит... дух земли... гонит... она запятнана
невинною кровью... он погиб без возврата... он мстит за свою
гибель... он зол ужасно... он за тем возвратился на землю...
гибель... гибель...»
Но доктор исчез; осталась одна Элиза. Она по-прежнему
614
простирала ко мне руки и манила меня, исчезая... Я в отчаянии смотрел вслед за нею...
Стук в дверь прервал мое очарование. Ко мне вошел
один из знакомых.
— Где ты? Тебя вовсе не видно! Да что с тобою? Ты
вне себя...
— Ничего, я так, задумался...
— Обещаю тебе, что ты с ума сойдешь, и это непременно, и так уж тебе какие-то чертенята, я слышал, показывались...
— Да! Слабость нерв... Но теперь прошло...
— Если бы тебя в руки магнетизера, так из тебя бы чудо вышло...
— Отчего так?
— Ты именно такой организации, какая для этого нужна... Из тебя бы вышел ясновидящий...
— Ясновидящий! — вскричал я.
— Да! Только не советую испытывать: я эту часть очень
хорошо знаю; это болезнь, которая доводит до сумасшествия. Человек бредил в магнетическом сне, потом начинает
уже непрерывно бредить...
— Но от этой болезни можно излечиться...
— Без сомнения, рассеянность, общество, холодные ванны... Право, подумай. Что сидеть? Беду наживешь... Что ты,
например, сегодня делаешь?
— Хотел остаться дома.
— Вздор, поедем в театр, новая опера; у меня целая
ложа к твоим услугам...
Я согласился.
Магнетизм!.. Удивительно, думал я дорогою, как мне это
до сих пор в голову не приходило. Слыхал я о нем, да мало.
Может быть, в нем и найду я объяснение странного состояния моего духа. Надобно познакомиться покороче с книгами
о магнетизме.
Между тем мы приехали. В театре еще было мало; ложа
возле нашей оставалась незанятою. На афишке предо мною
я прочел: «Вампир, опера Маршнера», она мне была неизвестна, и я с любопытством прислушивался к первым звукам
увертюры. Вдруг невольное движение заставило меня оглянуться; дверь в соседней ложе скрипнула; смотрю — входит
моя Элиза. Она взглянула на меня, приветливо поклонилась, и бледное лицо ее вспыхнуло. За нею вошел муж ее...
Мне показалось, что я слышу могильный запах,— но это была мечта воображения. Я его не видал около двух меся
17*
515
цев после его оживления; он очень поправился; лицо его почти потеряло все признаки болезни... Он что-то шепнул Элизе на ухо, она отвечала ему также тихо, но я понял, что она
произнесла мое имя. Мысли мои мешались; и прежняя любовь к Элизе, и гнев, и ревность, и мои видения, и действительность — все это вместе приводило меня в сильное волнение, которое тщетно я хотел скрыть под личиною обыкновенного светского спокойствия. И эта женщина могла быть
моею, совершенно моею! Наша любовь не преступна, она была для меня вдовою; она без укоризны совести могла располагать своею рукою; и мертвый — мертвый между нами!
Опера потеряла для меня интерес; пользуясь моим местом
в ложе, я будто бы смотрел на сцену, но не сводил глаз с
Элизы и ее мужа. Она была томнее прежнего, но еще прекраснее; я мысленно рядил ее в то платье, в котором она мне
представилась в видении; чувства мои волновались, душа
вырывалась из тела; от нее взор мой переходил на моего
таинственного соперника; при первом взгляде лицо его не
имело никакого особенного выражения, но при большем
внимании вы уверялись невольно, что на этом лице лежит
печать преступления. В том месте оперы, где вампир просит
прохожего поворотить его к сиянию луны, которое должно
оживить его, граф судорожно вздрогнул; я устремил на него
глаза с любопытством, но он холодно взял лорнетку и повел
ею по театру, было ли это воспоминание о его приключении,
простая ли физическая игра нерв или внутренний говор его
таинственной участи,— отгадать было невозможно. Первый
акт кончился; приличие требовало, чтобы я заговорил с Элизою; я приблизился к балюстраде ее ложи. Она очень равнодушно познакомила меня со своим мужем; он с развязностью опытного светского человека сказал мне несколько
приветливых фраз; мы разговорились об опере, об обществе; речи графа были остроумны, замечания тонки: видно было светского человека, который под личиною равнодушия и
насмешки скрывает короткое знакомство с многоразличными отраслями человеческих знаний. Находясь так близко
от него, я мог рассмотреть в глазах его те странные багровые
искры, о которых говорила мне Элиза; впрочем, эта игра
природы не имела ничего неприятного; напротив, она оживляла проницательный взгляд графа; была заметна также какая-то злоба в судорожном движении тонких губ его, но ее
можно было принять лишь за выражение обыкновенной
светской насмешливости.
На другой день я получил от графа пригласительный
Ö16
билет на раут. Чрез несколько времени на обед en petit comité1 и так далее. Словом, почти каждую неделю хоть раз,
но я видел мою Элизу, шутил с ее мужем, играл с ее детьми,
которые хотя были не очень любезны, но до крайности смешны. Они походили более на отца, нежели на мать, были
серьезны, не по возрасту, что я приписывал строгому воспитанию; их слова часто меня удивляли своею значительностью и насмешливым тоном, но я не без неудовольствия
заметил на этих детских лицах уже довольно ясные признаки
того судорожного движения губ, которое мне так не нравилось в графе. В разговоре с графинею нам, разумеется, не
нужно было приготовлений: мы понимали каждый намек,
каждое движение; впрочем, никто по виду не мог бы догадаться о нашей старинной связи; ибо мы вели себя осторожно и позволяли себе даже глядеть друг на друга только
тогда, когда граф сидел за картами, им любимыми до безумия.
Так прошло несколько месяцев; еще ни разу мне не удалось видеться с Элизою наедине, но она обещала мне свидание, и я жил этою надеждою.
Между тем, размышляя о всех странных случаях, происходивших со мною, я запасся всеми возможными книгами о
магнетизме: Пьюсегюр, Делез, Больфарт, Кизер не сходили
с моего стола; наконец, казалось мне, я нашел разгадку моего психического состояния, я скоро стал смеяться над
своими прежними страхами, удалил от себя все мрачные,
таинственные мысли и, наконец, уверился, что вся тайна
скрывается в моей физической организации, что во мне происходит нечто подобное очень известному в Шотландии так
называемому второму зрению; я с радостью узнал, что этот
род нервической болезни проходит с летами и что существуют средства вовсе уничтожить ее. Следуя сим сведениям,
я начертил себе род жизни, который должен был вести меня
к желанной цели: я сильно противоборствовал малейшему
расположению к сомнамбулизму — так называл я свое состояние; верховая езда, беспрестанная деятельность, беспрестанная рассеянность, ванна — все это вместе, видимо,
действовало на улучшение моего физического здоровья, а
мысль о свидании с Элизою изгоняла из моей головы все другие мысли.
Однажды после обеда, когда возле Элизы составился
1 В тесном кругу (фр.).
517
кружок праздношатающихся по гостиным, она нечувствительно завела речь о суевериях, о приметах.
— Есть очень умные люди,— говорила Элиза хладнокровно,— которые верят приметам и, что всего страннее,
имеют сильные доказательства для своей веры; например,
мой муж не пропускает никогда вечера накануне Нового
года, чтоб не играть в карты; он говорит, что всегда в этот
день он чувствует необыкновенную сметливость, необыкновенную память, в этот день ему приходят в голову такие расчеты в картах, которых он и не воображал; в этот день, говорит он, я учусь на целый год.
На этот рассказ посыпался град замечаний, одно другого пустее; я один понял смысл этого рассказа: один взгляд
Элизы объяснил мне все.
— Кажется, теперь 10 часов,— сказала она чрез несколько времени.
— Нет, уже 11,— отвечали некоторые простачки.
— Le temps m’a pazu trop conrt dans votre société, messieurs...1 — проговорила Элиза тем особенным тоном, которым умная женщина дает чувствовать, что она совсем не
думает того, что говорит, но для меня было довольно.
Итак, накануне Нового года, в 10 часов... Нет, никогда
я не испытывал большей радости! В течение долгих, долгих
дней видеть женщину, которую некогда держал в своих
объятиях, видеть и не сметь пользоваться своим правом и
наконец дождаться счастливой, редкой минуты... Надобно
испытать это непонятное во всяком другом состоянии чувство!
В последние дни перед Новым годом я потерял сон, аппетит, вздрагивал при каждом ударе маятника, ночью просыпался беспрестанно и взглядывал на часы, как бы боясь
потерять минуту.
Наконец наступил канун Нового года. В эту ночь я не
спал решительно ни одной минуты и встал с постели измученный, с головною болью; в невыразимом волнении ходил
я из угла в угол и взором следовал за медленным движением стрелки. Пробило восемь часов; в совершенном изнеможении я упал на диван... Я серьезно боялся занемочь, и в
такую минуту!.. Легкая дремота начала склонять меня, я позвал камердинера:
— Приготовить кофе и, если я засну, в 9 часов разбудить меня, но непременно, слышишь ли? Если ты пропустишь
1 Время пролетело так быстро в вашем обществе, господа... (фр.).
518
хоть минуту, я сгоню тебя со двора, если разбудишь вовремя — сто рублей.
С сими словами я сел в кресла, приклонил голову и заснул сном свинцовым... Ужасный грохот пробудил меня. Я
проснулся: руки, лицо у меня были мокры и холодны... у ног
моих лежали огромные бронзовые часы, разбитые вдребезги — камердинер говорил, что я, сидя возле них, вероятно,
задел их рукою, хотя он этого и не заметил. Я схватился за
чашку кофею, когда послышался звук других часов, стоявших в ближней комнате; я стал считать: бьет один, два, три...
восемь, девять... десять!., одиннадцать!., двенадцать!., чашка
полетела в камердинера.
— Что ты сделал? — вскричал я вне себя.
— Я не виноват,— отвечал несчастный камердинер, обтираясь.— Я исполнил в точности ваше приказание: едва
начало бить девять, я подошел будить вас — вы не просыпались; я поднимал вас с кресел, а вы только изволили мне
отвечать: «Еще мне рано, рано... Бога ради... не губи меня» — и снова упадали в кресла; я наконец решился облить
вас холодною водою, но ничто не помогало: вы только повторяли: «Не губи меня». Я уже было хотел послать за доктором, но не успел дойти до двери, как часы, не знаю отчего, упали и вы изволили проснуться...
Я не обращал внимания на слова камердинера, оделся
как можно поспешнее, бросился в карету и поскакал к графине.
На вопрос: «Дома ли граф?» — швейцар отвечал: «Нет,
но графиня дома и принимает». Я не взбежал, но взлетел
на лестницу! В дальней комнате меня ждала Элиза; увидев
меня, она вскрикнула с отчаянием:
— Так поздно! Граф должен скоро возвратиться; мы потеряли невозвратимое время!
Я не знал, что отвечать, но минуты были дороги, упрекам
не было места, мы бросились друг другу в объятья. О многом, многом нам должно было говорить; рассказать о прошедшем, условиться о настоящем, о будущем; судьба так
причудливо играла нами, то соединяла тесно на одно мгновение, то разлучала надолго целою бездною; жизнь наша
связывалась отрывками, как минутные вдохновения беззаботного художника. Как много в ней осталось необъясненно-
го, непонятого, недосказанного. Едва я узнал, что жизнь
Элизы ад, исполненный мучений всякого рода: что нрав ее
мужа сделался еще ужаснее; что он терзал ее ежедневно,
просто для удовольствия; что дети были для нее новым ис
519
точником страданий; что муж ее преследовал и старался
убить в них всякую чистую мысль, всякое благородное чувство; что он и словами и примерами знакомил их с понятиями и страстями, которые ужасны и в зрелом человеке,— и
когда бедная Элиза старалась спасти невинные души от заразы, он приучал несчастных малюток смеяться над своею
матерью... Эта картина была ужасна. Мы уже говорили о
возможности прибегнуть к покровительству законов, рассчитывали все вероятные удачи и неудачи, все выгоды и
невыгоды такого дела... Но наш разговор слабел и прерывался беспрестанно — слова замирали на пылающих устах:
мы так давно ждали этой минуты; Элиза была так обольстительно прекрасна; негодование еще более разжигало наши
чувства, ее рука впилась в мою руку, ее голова прильнула
ко мне, как бы ища защиты... Мы не помнили, где мы, что с
нами, и когда Элиза в самозабвении повисла на моей груди...
дверь не отворилась, но муж ее явился подле нас. Никогда
не забуду этого лица: он был бледен как смерть, волосы
шевелились на голове его как наэлектризованные, он дрожал как в лихорадке, молчал, задыхаясь, и улыбался. Я и
Элиза стояли как окаменелые; он схватил нас обоих за руки... его лицо покривилось... щеки забагровели... глаза засветились, он молча устремил их на нас... Мне показалось,
что огненный кровавый луч исходит из них... Магическая
сила сковала все мои движения, я не мог пошевелиться, не
смел отвести глаза от страшного взора... Выражение его лица с каждым мгновением становилось свирепее, с тем вместе
сильнее блистали его глаза, багровее становилось лицо... Не
настоящий ли огонь зарделся под его нервами?.. Рука его
жжет мою руку... еще мгновение, и он заблистал как раскаленное железо... Элиза вскрикнула... Мебели задымились...
Синеватое пламя побежало по всем членам мертвеца... Посреди кровавого блеска обозначились его кости белыми чертами... Платье Элизы загорелось; тщетно я хотел вырвать ее
руку из мстительного пожатия... Глаза мертвеца следовали
за каждым ее движением и прожигали ее... Лицо его сделалось пепельного цвета, волосы побелели и свернулись,
лишь одни губы багровою полосою прорезывались по лицу
его и улыбались коварною улыбкою... Пламя развилось с
непостижимою быстротою: вспыхнули занавески, цветы, картины, запылал пол, потолок, густой дым наполнил всю комнату... «Дети! Дети!» — вскричала Элиза отчаянным голосом. «И они с нами!» — отвечал мертвец с громким хохотом...
С этой минуты я уже не помню, что было со мною... Ед
520
кий, горячий смрад задушал меня, заставлял закрывать
глаза, я слышал, как во сне, вопли людей, треск разваливающегося дома... Не знаю, как рука моя вырвалась из руки
мертвеца: я почувствовал себя свободным, и животный инстинкт заставлял меня кидаться в разные стороны, чтоб
избегнуть обваливающихся стропил... В эту минуту только
я заметил пред собою как будто белое облако... всматриваюсь... в этом облаке мелькает лицо Софьи... она грустно улыбалась, манила меня... Я. невольно следовал за нею... Где
пролетало видение, там пламя отгибалось, и свежий, душистый воздух оживлял мое дыхание... Я все далее, далее...
Наконец я увидел себя в своей комнате.
Долго не мог я опомниться: я не знал, спал я или нет,
взглянул на себя — платье мое не тлело, лишь на руке осталось черное пятно... этот вид потряс мои нервы, и я снова потерял память...
Когда я пришел в себя, я лежал в постели, не имея силы
выговорить слово.
— Слава богу! Кризис кончился! Есть надежда,— сказал кто-то возле меня; я узнал голос доктора Бина, я силился выговорить несколько слов — язык мне не повиновался.
После долгих дней совершенного безмолвия первое мое
слово было: «Что Элиза?»
— Ничего! Ничего! Слава богу, здорова, велела вам кланяться...
Силы мои истощились на произнесенный вопрос — но
ответ доктора успокоил меня.
Я стал оправляться; меня начали посещать знакомые.
Однажды, когда я смотрел на свою руку и старался вспомнить, что значило на ней черное пятно, имя графа, сказанное одним из присутствующих, поразило меня; я стал прислушиваться, но разговор был для меня непонятен.
— Что с графом? — спросил я, приподнимаясь с подушки.
— Да! Ведь и ты к нему езжал,— отвечал мой знакомый.— Разве ты не знаешь, что с ним случилось? Вот судьба!
Накануне Нового года он играл в карты у ***, счастье ему
благоприятствовало необыкновенно; он повез домой сумму
необъятную, но вообрази — ночью в доме у него сделался пожар; все сгорело: он сам, жена, дети, дом — как не бывали; полиция делала чудеса, но все тщетно: не спасено ни
нитки; пожарные говорили, что отроду им еще не случалось видеть такого пожара, уверяли, что даже камни го
521
рели. В самом деле, дом весь рассыпался, даже трубы не
торчат...
Я не дослушал рассказа: ужасная ночь живо возобновилась в моей памяти, и страшные судороги потрясли все
мое тело.
— Что вы наделали, господа! — вскричал доктор Бин.
Но уже было поздно: я снова приблизился к дверям
гроба. Однако молодость ли, попечения ли доктора, таинственная ли судьба моя — только я остался в живых.
С этих пор доктор Бин сделался осторожнее, перестал
впускать ко мне знакомых и сам почти не отходил от меня...
Однажды — я уже сидел в креслах — во мне не было беспокойства, но тяжкая, тяжкая грусть как свинец давила
грудь мою. Доктор смотрел на меня с невыразимым участием...
— Послушайте! — сказал я.— Теперь я чувствую себя
уже довольно крепким, не скрывайте от меня ничего: неизвестность более терзает меня...
— Спрашивайте,— отвечал доктор уныло.— Я готов отвечать вам...
— Что тетушка?
— Умерла.
— А Софья?
— Вскоре после нее,— проговорил почти со слезами
добрый старик.
— Когда? Как?
— Она была совершенно здорова, но вдруг накануне
Нового года с нею сделались непонятные припадки, я сроду
не видал такой болезни: все тело ее было как будто обожжено...
— Обожжено?..
— Да! То есть имело этот вид, я говорю вам так, потому
что вы не знаете медицины, но это, разумеется, был род
острой водяной...
— И она долго страдала?..
— О, нет, слава богу! Если бы вы видели, с каким терпением она сносила свои терзания, обо всех спрашивала,
всем занималась... Право, настоящий ангел, хотя и была немножко простовата. Да, кстати, она и об вас не забыла: вырвала листок из своей записной книжки и просила меня отдать вам на память. Вот он.
Я с трепетом схватил драгоценный листок: на нем были
только следующие слова из какой-то нравоучительной
книжки: «Высшая любовь страдать за другого...» С невыра
522
зимым чувством я прижал к губам этот листок. Когда я
снова хотел прочесть его, то заметил, что под этими словами были другие: «Все свершилось! — говорило магическое
письмо.— Жертва принесена! Не жалей обо мне — я счастлива! Твой путь еще долог, и его конец от тебя зависит.
Вспомни слова мои: чистое сердце — высшее благо; ищи
его».
Слезы полились из глаз моих, но то были не слезы отчаяния.
Я не буду описывать подробностей моего выздоровления,
а постараюсь хотя слегка обозначить новые страдания, которым подвергся, ибо путь мой долог, как говорила Софья.
Однажды, грустно перебирая все происшествия моей
жизни, я старался проникнуть в таинственные связи, которые соединяли меня с любимыми мною существами и с людьми, почти мне чужими. Сильно возбудилось во мне желание
узнать, что делалось с Элизою... Не успел я пожелать, как
таинственная дверь моя растворилась. Я увидел Элизу пред
собою; она была та же, как и в последний день — так же молода, так же прекрасна: она сидела в глубоком безмолвии
и плакала; невыразимая грусть являлась во всех чертах ее.
Возле нее были ее дети; они печально смотрели на Элизу,
как будто чего от нее ожидая. Воспоминания ворвались в
грудь мою, вся прежняя любовь моя к Элизе воскресла.
— Элиза! Элиза! — вскричал я, простирая к ней руки.
Она взглянула на меня с горьким упреком... и грозный
муж явился пред нею. Он был тот же, как и в последнюю минуту: лицо пепельного цвета, по которому прорезывались
тонкою нитью багровые губы; волосы белые, свернувшиеся
клубком; он со свирепым и насмешливым видом посмотрел
на Элизу, и что же? Она и дети побледнели — лицо, как у отца, сделалось пепельного цвета, губы протянулись багровою
чертою, в судорожных муках они потянулись к отцу и обвивались вокруг членов его... Я закричал от ужаса, закрыл лицо руками... Видение исчезло, но недолго. Едва я взглядываю на свою руку, она напоминает мне Элизу, едва вспоминаю о ней, прежняя страсть возбуждается в моем сердце,
и она является предо мною снова, снова глядит на меня с упреком, снова пепелеет и снова судорожно тянется к своему
мучителю...
Я решился не повторять более моего страшного опыта
и для счастья Элизы стараться забыть о ней. Чтобы рассеять
себя, я стал выезжать, видеться с друзьями, но скоро, по
мере моего выздоровления, я начинал замечать в них что-то
523
странное: в первую минуту они узнавали меня, были рады
меня видеть, но потом мало-помалу в них рождалась какая-
то холодность, похожая даже на отвращение; они силились
сблизиться со мною, и что-то невольно их отталкивало. Кто
начинал разговор со мною, через минуту старался его окончить; в обществах люди как будто оттягивались от меня непостижимою силою, перестали посещать меня; слуги, несмотря на огромное жалованье и на обыкновенную тихость
моего характера, не проживали у меня более месяца; даже
улица, на которой я жил, сделалась безлюднее; никакого
животного я не мог привязать к себе; наконец, как я заметил
с ужасом, птицы никогда не садились на крышу моего дома.
Один доктор Бин оставался мне верен, но он не мог понять
меня, и в рассказах о странной пустыне, в которой я находился, он видел одну игру воображения.
Этого мало; казалось, все несчастия на меня обрушились: что я ни предпринимал, ничто мне не удавалось; в деревнях несчастия следовали за несчастиями; со всех сторон
против меня открылись тяжбы, и старые, давно забытые процессы возобновились; тщетно я всею возможною деятельностью хотел воспротивиться этому нападению судьбы — я
не находил в людях ни совета, ни помощи, ни привета; величайшие несправедливости совершались против меня, и всякому казались самым праведным делом. Я пришел в совершенное отчаяние...
Однажды, узнав о потере половины моего имения в самом несправедливом процессе, я пришел в гнев, которого еще
никогда не испытывал; невольно я перебирал в уме все ухищрения, употребленные против меня, всю неправоту моих судей, всю холодность моих знакомых, сердце мое забилось от
досады... и снова таинственная дверь предо мною растворилась, я увидел все те лица, против которых воспалился
гневом,— ужасное зрелище! В другом мире мой нравственный гнев получил физическую силу: он поражал врагов моих всеми возможными бедствиями, насылал на них болезненные судороги, мучения совести, все ужасы ада... Они с
плачем простирали ко мне свои руки, молили пощады, уверяя, что в нашем мире они действуют по тайному, непреодолимому побуждению...
С этой минуты гибельная дверь души моей не затворяется ни на мгновенье. Днем, ночью вокруг меня толпятся ви
524
дения лиц, мне знакомых и незнакомых. Я не могу вспомнить ни о ком ни с любовью, ни с гневом; все, что любило
меня или ненавидело, все, что имело со мною малейшее
сношение, что прикасалось ко мне, все страдает и молит меня
отвратить глаза мои...
В ужасе невыразимом, терзаемый ежеминутно, я боюсь
мыслить, боюсь чувствовать, боюсь любить и ненавидеть!
Но возможно ли это человеку? Как приучить себя не думать,
не чувствовать? Мысли невольно являются в душе моей —
и мгновенно пред моими глазами обращаются в терзание человечеству. Я покинул все мои связи, мое богатство; в небольшой, уединенной деревне, в глуши непроходимого леса,
не знаемый никем, я похоронил себя заживо; я боюсь встретиться с человеком, ибо всякий, на кого смотрю, занемогает; боюсь любоваться цветком — ибо цветок мгновенно вянет пред моими глазами... Страшно! Страшно!.. А между тем
этот непонятный мир, вызванный магическою силою, кипит
предо мною: там являются мне все приманки, все обольщения жизни, там женщины, там семейство, там все очарования жизни; тщетно я закрываю глаза — тщетно!..
Скоро ль, долго ль пройдет мое испытание — кто знает!
Иногда, когда слезы чистого, горячего раскаяния льются
из глаз моих, когда, откинув гордость, я со смирением сознаю все безобразие моего сердца,— видение исчезает, я успокаиваюсь—но недолго! Роковая дверь отворена: я, жилец здешнего мира, принадлежу к другому, я поневоле там
действователь, я там — ужасно сказать,— я там орудие
казни!
4338-й ГОД1
Петербургские письма
ПРЕДИСЛОВИЕ
Примечание. Эти письма доставлены нижеподписавшемуся человеком, весьма примечательным в некоторых отношениях (он не желает объявлять своего имени).
Занимаясь в продолжение нескольких лет месмерическими опытами, он достиг такой степени в сем искусстве, что
может сам собою по произволу приходить в сомнамбулическое состояние; любопытнее всего то, что он заранее
может выбрать предмет, на который должно устремиться его магнетическое зрение.
Таким образом он переносится в какую угодно страну, эпоху или в положение какого-либо лица почти без
всяких усилий; его природная способность, изощренная
долгим упражнением, дозволяет ему рассказывать или
записывать все, что представляется его магнетической
фантазии; проснувшись, он все забывает и сам по крайней мере с любопытством прочитывает написанное. Вычисления астрономов, доказывающих, что в 4339 году, то
есть 2500 лет после нас, комета Вьелы должна непременно встретиться с Землею, сильно поразили нашего сомнамбула; ему захотелось проведать, в каком положении
будет находиться род человеческий за год до этой страшной минуты; какие об ней будут толки, какое впечатление
она произведет на людей, вообще какие будут тогда нравы, образ жизни; какую форму получат сильнейшие чувства человека: честолюбие, любознательность, любовь; с
этим намерением он погрузился в сомнамбулическое состояние, продолжавшееся довольно долго; вышедши из
него, сомнамбул увидел пред собою исписанные листы бумаги, из которых узнал, что он во время сомнамбулизма
был китайцем XLIV столетия, путешествовал по России
1 По вычислениям некоторых астрономов, комета Вьелы должна в
4339 году, то есть 2500 лет после нас, встретиться с Землею. Действие романа, из которого взяты сии письма, проходит за год до сей катастрофы.— Примеч. В. Ф. Одоевского.
526
и очень усердно переписывался с своим другом, оставшимся в Пекине.
Когда сомнамбул сообщил эти письма своим приятелям, тогда ему сделаны были разные возражения; одно
казалось в них слишком обыкновенным, другое невозможным; он отвечал: «Не спорю,— может быть, сомнамбулическая фантазия иногда обманывает, ибо она всегда более
или менее находится под влиянием настоящих наших понятий, а иногда отвлекается от истинного пути, по законам
до сих пор еще не объясненным»; однако же, соображая
рассказ моего китайца с разными нам теперь известными обстоятельствами, нельзя сказать, чтобы он во многом ошибался: во-первых, люди всегда останутся людьми, как это было
с начала мира: останутся все те же страсти, все те же побуждения; с другой стороны, формы их мыслей и чувств, а в особенности их физический быт должен значительно измениться.
Вам кажется странным их понятие о нашем времени; вы полагаете, что мы более знаем, например, о том, что случилось
за 2500 лет до нас; но заметьте, что характеристическая
черта новых поколений — заниматься настоящим и забывать о прошедшем; человечество, как сказал некто, как
брошенный сверху камень, который беспрестанно ускоряет свое движение; будущим поколениям столько будет
дела в настоящем, что они гораздо более нас раззнакомятся с прошедшим; этому поможет неминуемое истребление наших письменных памятников: действительно, известно, что в некоторых странах, например в Америке,
книги по причине одних насекомых не переживут и столетия; но сколько других обстоятельств должны истребить нашу тряпичную бумагу в продолжение нескольких столетий;
скажите, что бы мы знали о временах Нехао, даже Дария,
Псамметиха, Солона, если бы древние писали на нашей
бумаге, а не на папирусе, пергаменте или, того лучше,
на каменных памятниках, которые у них были в таком употреблении; не только чрез 2500 лет, но едва ли чрез 1000 останется что-либо от наших нынешних книг; разумеется, некоторые из них будут перепечатываться, но когда исчезнут
первые документы, тогда явятся настоящие и мнимые ошибки, поверить будет нечем; догадки прибавят новое число
ошибок, а между тем ближайшие памятники истребятся в
свою очередь; сообразите все это, и тогда уверитесь, что чрез
2500 лет об нашем времени люди несравненно меньше будут
иметь понятия, нежели какое мы имеем о времени за 700 лет
до P. X., то есть за 2500 лет до нас.
627
Истребление пород лошадей есть также дело очевидное, и тому существуют тысячи примеров в наше время.
Не говоря уже о допотопных животных, об огромных
ящерицах, которые, как доказал Кювье, некогда населяли нашу землю, вспомним, что, по свидетельству Геродота, львы водились в Македонии, в Малой Азии и в Сирии,
а теперь редки даже за пределами Персии и Индии, в
степях Аравийских и Африке. Измельчание породы собак
совершилось почти на наших глазах и может быть производимо искусством, точно так же как садовники обращают большие лиственные и хвойные деревья в небольшие горшечные растения.
Нынешние успехи химии делают возможным предположение об изобретении эластического стекла, которого недостаток чувствует наша нынешняя промышленность и которое некогда было представлено Нерону, в чем еще
ни один историк не сомневался. Нынешнее медицинское
употребление газа также должно некогда обратиться в
ежедневное употребление, подобно перцу, ванили, спирту, кофе, табаку, которые некогда употребляли только в
виде лекарства; об аэростатах нечего и говорить; если в
наше время перед нашими глазами паровые машины достигли от чайника, случайно прикрытого тяжестию, до
нынешнего своего состояния, то как сомневаться, что, может быть, XIX столетие еще не кончится, как аэростаты
войдут во всеобщее употребление и изменят формы общественной жизни в тысячу раз более, нежели паровые
машины и железные дороги. Словом, продолжал мой знакомый, в рассказе моего китайца я не нахожу ничего такого, существование чего не могло бы естественным образом быть выведено из общих законов развития сил
человека в мире природы и искусства. Следственно, не
должно слишком упрекать мою фантазию в преувеличении.
Мы сочли нужным поместить сии строки в виде предисловия к нижеследующим письмам.
Кн. В. Одоевский
От Ипполита Цунгиева, студента Главной Пекинской
школы, к Лингину, студенту той же школы.
Константинополь, 27-го декабря 4337-го года
528
ПИСЬМО 1-е
Пишу к тебе несколько слов, любезный друг,—с границы Северного Царства. До сих пор поездка моя была
благополучна; мы с быстротою молнии пролетели сквозь
Гималайский туннель, но в Каспийском туннеле были
остановлены неожиданным препятствием: ты, верно, слышал об огромном аэролите, недавно пролетевшем чрез южное полушарие; этот аэролит упал невдалеке от Каспийского туннеля и засыпал дорогу. Мы должны были выйти из
электрохода и с смирением пробираться просто пешком между грудами метеорического железа; в это время на море была буря; седой Каспий ревел над нашими головами и каждую минуту, кажется, готов был на нас рухнуться; действительно, если бы аэролит упал несколькими саженями далее,
то туннель бы непременно прорвался и сердитое море отомстило бы человеку его дерзкую смелость; но, однако ж, на этот
раз человеческое искусство выдержало натиск дикой природы; за несколько шагов нас ожидал в туннеле новый электроход, великолепно освещенный гальваническими фонарями,
и в одно мгновение ока Ерзерумские башни промелькнули
мимо нас.
Теперь,— теперь слушай и ужасайся! Я сажусь в Русский гальваностат! Увидев эти воздушные корабли,
признаюсь, я забыл и увещания деда Орлия, и собственную опасность,— и все наши понятия об этом предмете.
Воля твоя — летать по воздуху есть врожденное чувство человека. Конечно, наше правительство поступило основательно, запретив плавание по воздуху; в состоянии нашего просвещения еще рано было нам и помышлять об
этом; несчастные случаи, стоившие жизни десяткам тысяч
людей, доказывают необходимость решительной меры, принятой нашим правительством. Но в России совсем другое;
если бы ты видел, с какою усмешкою русские выслушали мои опасения, мои вопросы о предосторожностях... они
меня не понимали! Они так верят в силу науки и в собственную бодрость духа, что для них летать по воздуху то
же, что нам ездить по железной дороге. Впрочем, русские
имеют право смеяться над нами; каждым гальваностатом
управляет особый профессор; весьма тонкие многосложные
снаряды показывают перемену в слоях воздуха и предупреждают направление ветра. Весьма немногие из русских
подвержены воздушной болезни; при крепости их сложения
они в самых верхних слоях атмосферы почти не чувст
529
вуют ни стеснения в груди, ни напора крови — может быть,
тут многое значит привычка.
Однако я не могу от тебя скрыть, что и здесь распространилось большое беспокойство. На воздушной станции я застал русского министра гальваностатики вместе
с министром астрономии; вокруг них толпилось множество ученых, они осматривали почтовые гальваностаты и аэростаты, приводили в действие разные инструменты и снаряды — тревога была написана на всех лицах.
Дело в том, любезный друг, что падение Галлеевой
кометы на землю, или, если хочешь, соединение ее с землею, кажется делом решенным; приблизительно назначает
время падения нынешним годом,— но ни точного времени,
ни места падения, по разным соображениям, определить
нельзя.
С.-Пбург. 4 Янв. 4338-го.
ПИСЬМО 2-е
Наконец я в центре русского полушария и всемирного
просвещения; пишу к тебе, сидя в прекрасном доме, на
выпуклой крыше которого огромными хрустальными буквами изображено: Гостиница для прилетающих. Здесь такое уже обыкновение: на богатых домах крыши все хрустальные или крыты хрустальною же белою черепицей, а имя
хозяина сделано из цветных хрусталей. Ночью, как дома
освещены внутри, эти блестящие ряды кровель представляют
волшебный вид; сверх того, сие обыкновение очень полезно,— не так, как у нас, в Пекине, где ночью сверху никак
не узнаешь дома своего знакомого, надобно спускаться на
землю. Мы летели очень тихо; хотя здешние почтовые аэростаты и прекрасно устроены, но нас беспрестанно задерживали противные ветры. Представь себе, мы сюда из Пекина дотащились едва на восьмой день! Что за город, любезный товарищ! Что за великолепие! Что за огромность!
Пролетая через него, я верил баснословному преданию,
что здесь некогда были два города, из которых один назывался Москвою, а другой собственно Петербургом, и они были отделены друг от друга едва ли не степью. Действительно, в той части города, которая называется Московскою и
где находятся величественные остатки древнего Кремля, есть
в характере архитектуры что-то особенное. Впрочем, больших
новостей от меня не жди; я почти ничего не мог рассмот
530
реть, ибо дядюшка очень спешил; я успел заметить только одно: что воздушные дороги здесь содержат в отличном порядке, да — чуть не забыл — мы залетели к экватору, но лишь на короткое время, посмотреть начало системы тсплохранилищ, которые отсюда тянутся почти по
всему северному полушарию; истинно, дело достойное удивления! Труд веков и науки! Представь себе: здесь непрерывно огромные машины вгоняют горячий воздух в трубы,
соединяющиеся с главными резервуарами; а с этими резервуарами соединены все теплохранилища, особо устроенные в каждом городе сего обширного государства; из городских хранилищ теплый воздух проведен частию в дома
и в крытые сады, а частию устремляется по направлению
воздушного пути, так что во всю дорогу, несмотря на суровость климата, мы почти не чувствовали холода. Так русские
победили даже враждебный свой климат! Мне сказывали,
что здесь общество промышленников хотело предложить нашему правительству доставлять, наоборот, отсюда холодный
воздух прямо в Пекин для освежения улиц; но теперь не до
того: все заняты одним — кометою, которая через год должна разрушить нашу Землю. Ты знаешь, что дядюшка отправлен нашим императором в Петербург для негоциаций именно
по сему предмету. Уже было несколько дипломатических
собраний: наше дело, во-первых, осмотреть на месте все
принимаемые меры против сего бедствия, и, во-вторых, ввести Китай в союз государств, соединившихся для общих издержек по сему случаю. Впрочем, здешние ученые
очень спокойны и решительно говорят, что если только
рабочие не потеряют присутствие духа при действии снарядами, то весьма возможно будет предупредить падение
кометы на Землю: нужно только знать заблаговременно,
на какой пункт комета устремится; но астрономы обещают вычислить это в точности, как скоро она будет видима
в телескоп. В одном из следующих писем я тебе расскажу все меры, предпринятые здесь по сему случаю правительством. Сколько знаний! Сколько глубокомыслия! Удивительная ученость и еще более удивительная изобретательность в этом народе! Она здесь видна на каждом шагу; по
одной смелой мысли — воспротивиться падению кометы ты
можешь судить об остальном: все в таком же размере, и
часто, признаюсь, со стыдом вспоминал я о состоянии нашего
отечества; правда, однако ж, и то, что мы народ молодой, а
здесь, в России, просвещение считается тысячелетиями: это
одно может утешить народное самолюбие.
531
Смотря на все меня окружающее, я часто, любезный
товарищ, спрашиваю самого себя, что было бы с нами,
если б за 500 лет перед сим не родился наш великий
Хун-Гин, который пробудил наконец Китай от его векового усыпления или, лучше сказать, мертвого застоя;
если б он не уничтожил следов наших древних, ребяческих наук, не заменил наш фетишизм истинною верою,
не ввел нас в общее семейство образованных народов?
Мы, без шуток, сделались бы теперь похожими на этих
одичавших американцев, которые, за недостатком других
спекуляций, продают свои города с публичного торгу, потом приходят к нам грабить, и против которых мы одни
в целом мире должны содержать войско. Ужас подумать,
что не более двухсот лет, как воздухоплавание у нас вошло во всеобщее употребление, и что лишь победы русских над
нами научили нас сему искусству! А всему виною была эта
закоснелость, в которой наши поэты еще и теперь находят что-то поэтическое. Конечно, мы, китайцы, ныне ударились в противоположную крайность — в безотчетное подражание иноземцам; все у нас на русский манер: и платье,
и обычаи, и литература; одного у нас нет — русской сметливости, но и ее приобретем со временем. Да, мой друг, мы
отстали, очень отстали от наших знаменитых соседей; будем
же спешить учиться, пока мы молоды и есть еще время. Прощай; пиши ко мне с первым телеграфом.
P. S. Скажи твоему батюшке, что я исполнил его комиссию и поручил одному из лучших химиков снять в ка-
мер-обскуру некоторые из древнейших здешних зданий, как
они есть, с абрисом и красками; ты увидишь, как мало на
них походят так называемые у нас дома в русском вкусе.
ПИСЬМО 3-е
Один из здешних ученых, г-н Хартин, водил меня вчера в Кабинет Редкостей, которому посвящено огромное
здание, построенное на самой средине Невы и имеющее
вид целого города. Многочисленные арки служат сообщением между берегами; из окон виден огромный водомет,
который спасает приморскую часть Петербурга от наводнений. Ближний остров, который в древности назывался
Васильевским, также принадлежит к Кабинету. Он занят
огромным крытым садом, где растут деревья и кустарники,
а за решетками, но на свободе, гуляют разные звери; этот
532
сад есть чудо искусства! Он весь построен на сводах, которые нагреваются теплым воздухом постепенно, так что
несколько шагов отделяют знойный климат от умеренного;
словом, этот сад — сокращение всей нашей планеты; исходить его то же, что сделать путешествие вокруг света. Произведения всех стран собраны в этом уголке, и в том порядке, в каком они существуют на земном шаре. Сверх того,
в средине здания, посвященного Кабинету, на самой Неве,
устроен огромный бассейн, нагреваемый, в котором содержат
множество редких рыб и земноводных различных пород;
по обеим сторонам находятся залы, наполненные сухими
произведениями всех царств природы, расположенными в
хронологическом порядке, начиная от допотопных произведений до наших времен. Осмотрев все это хотя бегло, я понял, каким образом русские ученые приобретают такие
изумительные сведения. Стоит только походить по сему
Кабинету — и, не заглядывая в книги, сделаешься очень сведущим натуралистом. Здесь, между прочим, очень замечательная коллекция животных... Сколько пород исчезло с лица
земли или изменилось в своих формах! Особенно поразил
меня очень редкий экземпляр гигантской лошади, на которой сохранилась даже шерсть. Она совершенно походит на
тех лошадок, которых дамы держат ныне вместе с постельными собачками; но только древняя лошадь была огромного
размеру: я едва мог достать ее голову.
— Можно ли верить тому,— спросил я у смотрителя
Кабинета,— что люди некогда садились на этих чудовищ?
— Хотя на это нет достоверных сведений,— отвечал он,—
но до сих пор сохранились древние памятники, где люди
изображены верхом на лошадях.
— Не имеют ли эти изображения какого-нибудь аллегорического смысла? Может быть, древние хотели этим выразить победу человека над природою или над своими страстями?
— Так думают многие, и не без основания,— сказал
Хартин,— но кажется, однако же, что эти аллегорические
изображения были взяты из действительного мира; иначе как объяснить слово «конница», «конное войско», часто встречаемое в древних рукописях? Сверх того, посмотрите,— сказал он, показывая мне одну поднятую ногу лошади, где я увидел выгнутый кусок ржавого железа, прибитого гвоздями к копыту,— вот,— продолжал мой ученый,—
одна из драгоценнейших редкостей нашего Кабинета; по
533
смотрите: это железо прибито гвоздями, следы этих гвоздей видны и на остальных копытах. Здесь явно дело рук
человеческих.
— Для какого же употребления могло быть это железо?
— Вероятно, чтоб ослабить силу этого страшного животного,— заметил смотритель.
— А может быть, их во время войны пускали против
неприятеля; и этим железом могли наносить ему больше
вреда?
— Ваше замечание очень остроумно,— отвечал учтивый ученый,— но где для него доказательства?
Я замолчал.
— Недавно открыли здесь очень древнюю картину,—
сказал Хартин,— на которой изображен снаряд, который
употребляли, вероятно, для усмирения лошади; на этой
картине ноги лошади привязаны к стойкам, и человек молотом набивает ей копыто; возле находится другая лошадь, запряженная в какую-то странную повозку на колесах.
— Это очень любопытно. Но как объяснить умельче-
ние породы этих животных?
— Это объясняют различным образом; самое вероятное мнение то, что во втором тысячелетии после P. X. всеобщее распространение аэростатов сделало лошадей более
ненужными; оставленные на произвол судьбы, лошади ушли в леса, одичали; никто не пекся о сохранении прежней
породы, и большая часть их погибла; когда же лошади
сделались предметом любопытства, тогда человек докончил
дело природы; тому несколько веков существовала мода на
маленьких животных, на маленькие растения; лошади подверглись той же участи: при пособии человека они мельчали постепенно и наконец дошли до нынешнего состояния забавных, но бесполезных домашних животных.
— Или должно думать,— сказал я, смотря на скелет,— что на лошадях в древности ездили одни герои, или
должно сознаться, что люди были гораздо смелее нынешнего. Как осмелиться сесть на такое чудовище!
— Действительно, люди в древности охотнее нашего подвергались опасностям. Например, теперь неоспоримо доказано, что пары, которые мы нынче употребляем только для
взрыва земли, эта страшная и опасная сила в продолжение нескольких сот лет служила людям для возки экипажей...
534
— Это непостижимо!
— О! Я в этом уверен, что если бы сохранились древние книги, то мы много б узнали такого, что почитаем
теперь непостижимым.
— Вы в этом отношении еще счастливее нас: ваш климат сохранил хотя некоторые отрывки древних писаний,
и вы успели их перенести на стекло; но у нас — что не истлело само собою, то источено насекомыми, так что для Китая письменных памятников уже не существует.
— И у нас немного сохранилось,— заметил Хартнн.—
В огромных связках антикварии находят лишь отдельные
слова или буквы, и они-то служат основанием всей нашей
древней истории.
— Должно ожидать многого от трудов ваших почтенных антиквариев. Я слышал, что новый словарь, ими приготовляемый, будет содержать в себе две тысячи древних
слов более против прежнего.
— Так! — заметил смотритель.— Но к чему это послужит? На каждое слово напишут по две тысячи диссертаций и все-таки не откроют их значения. Вот, например, хоть слово немцы; сколько труда оно стоило нашим
ученым, и все не могут добраться до настоящего его
смысла.
Физик задел мою чувствительную струну; студенту истории больно показалось такое сомнение; я решился блеснуть своими знаниями.
— Немцы были народ, обитавший на юг от древней
России,— сказал я,— это, кажется, доказано; немцев покорили аллеманны, потом на месте аллеманнов являются
тедески, тедесков покорили германцы, или, правильнее,
жерманийцы, а жерманийцев дейчеры — народ знаменитый, от которого даже язык сохранился в нескольких отрывках, оставшихся от их поэта, Гете...
— Да! Так думали до сих пор,— отвечал Хартин,—
но теперь здесь между антиквариями почти общее мнение, что дейчеры были нечто совсем другое, а немцы
составляли род особой касты, к которой принадлежали
люди разных племен.
— Признаюсь вам, что это для меня совершенно новая точка зрения; я вижу, как мы отстали от, ваших открытий.
В таких разговорах мы прошли весь Кабинет; я выпросил позволение посещать его чаще, и смотритель сказал мне, что Кабинет открыт ежедневно днем и ночью.
535
Ты можешь себе представить, как я рад, что познакомился с таким основательным ученым.
В сем же здании помещаются различные Академии,
которые носят общее название: Постоянного Ученого
Конгресса. Через несколько дней Академия будет открыта
посетителям; мы с Хартипым условились не пропустить
первого заседания.
ПИСЬМО 4-е
Я забыл тебе сказать, что мы приехали в Петербург
в самое неприятное для иностранца время, в так называемый месяц отдохновения. Таких месяцев постановлено у
русских два: один в начале года, другой в половине; в
продолжение этих месяцев все дела прекращаются, правительственные места закрываются, никто не посещает
друг друга. Это обыкновение мне очень нравится: нашли
нужным определить время, в которое всякий мог бы войти в себя и, оставив всю внешнюю деятельность, заняться
внутренним своим усовершенствованием или, если угодно, своими домашними обстоятельствами. Сначала боялись,
чтобы от сего не произошла остановка в делах, но вышло
напротив: всякий, имея определенное время для своих внутренних занятий, посвящает исключительно остальное время на дела общественные, уже ничем не развлекаясь, и от
того все дела пошли вдвое быстрее. Это постановление
имело, сверх того, спасительное влияние на уменьшение
тяжб: всякий успевает одуматься, а закрытие присутственных мест препятствует тяжущимся действовать в минуту
движения страстей. Только один такой экстренный случай,
каково ожидание кометы, мог до некоторой степени нарушить столь похвальное обыкновение; но, несмотря на то, до
сих пор вечеров и собраний нигде не было. Наконец сегодня
мы получили домашнюю газету от первого здешнего министра, где, между прочим, и мы приглашены были к нему на
вечер. Надобно тебе знать, что во многих домах, особенно
между теми, которые имеют большие знакомства, издаются
подобные газеты; ими заменяется обыкновенная переписка. Обязанность издавать такой журнал раз в неделю или
ежедневно возлагается в каждом доме на столового дворецкого. Это делается очень просто: каждый раз, получив
приказание от хозяев, он записывает все ему сказанное, потом в камер-обскуру снимает нужное число экземпляров и
536
рассылает их по знакомым. В этой газете помещаются обыкновенно извещение о здоровье или болезни хозяев и другие
домашние новости, потом разные мысли, замечания, небольшие изобретения, а также и приглашения; когда же бывает
зов на обед, то и le menu1. Сверх того, для сношений в непредвиденном случае между знакомыми домами устроены магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далеком расстоянии разговаривают друг с другом.
Итак, я наконец увижу здешнее высшее общество. В будущем письме опишу тебе, какое впечатление оно на меня
сделало. Не худо заметить для нас, китайцев, которые любят
обращать ночь в день, что здесь вечер начинается в пять часов полудни, в восемь часов ужинают и в девять уже ложатся
спать; зато встают в четыре часа и обедают в двенадцать.
Посетить кого-нибудь утром считается величайшею неучтивостью; ибо предполагается, что утром всякий занят. Мне
сказывали, что даже те, которые ничего не делают, утром запирают свои двери для тона.
ПИСЬМО 5-е
Дом первого министра находится в лучшей части города,
близ Пулковой горы, возле знаменитой древней Обсерватории, которая, говорят, построена за 2500 лет до нашего времени. Когда мы приблизились к дому, уже над кровлею было
множество аэростатов: иные носились в воздухе, другие были
прикреплены к нарочно для того устроенным колоннам. Мы
вышли на платформу, которая в одну минуту опустилась, и
мы увидели себя в прекрасном крытом саду, который служил
министру приемною. Весь сад, засаженный редкими растениями, освещался прекрасно сделанным электрическим снарядом в виде солнца. Мне сказывали, что оно не только освещает, но химически действует на дерева и кустарники; в самом
деле, никогда мне еще не случалось видеть такой роскошной
растительности.
Я бы желал, чтобы наши китайские приверженцы старых
обычаев посмотрели на здешние светские приемы и обращение; здесь нет ничего похожего на наши китайские учтивости,
от которых до сих пор мы не можем отвыкнуть. Здешняя простота обращения с первого вида походит на холодность, но
потом к нему так привыкаешь, оно кажется весьма естествен
1 Меню (</>р.).
537
ным, и уверяешься, что эта мнимая холодность соединена с
непритворным радушием. Когда мы вошли в приемную, она
уже была полна гостями; в разных местах между деревьями
мелькали группы гуляющих; иные говорили с жаром, другие
их слушали молча. Надобно тебе заметить, что здесь ни на
кого не налагается обязанности говорить: можно войти в комнату, не говоря ни слова, и даже не отвечать на вопросы,—
это никому не покажется странным; записные ж фешионабли
решительно молчат по целым вечерам,— это в большом тоне;
спрашивать кого-нибудь о здоровье, о его делах, о погоде
или вообще предложить пустой вопрос считается большою
неучтивостью; но зато начавшийся разговор продолжается
горячо и живо. Дам было множество, вообще прекрасных и
особенно свежих; худощавость и бледность считается признаком невежества, потому что здесь в хорошее воспитание
входит наука здравия и часть медицины, так что, кто не умеет
беречь своего здоровья, о том, особенно о дамах, говорят,
что они худо воспитаны.
Дамы были одеты великолепно, большею частию в платьях из эластичного хрусталя разных цветов; по иным струились все отливы радуги, у других в ткани были заплавлены
разные металлические кристаллизации, редкие растения, бабочки, блестящие жуки. У одной из фешенебельных дам в фестонах платья были даже живые светящиеся мошки, которые
в темных аллеях, при движении, производили ослепительный
блеск; такое платье, как говорили здесь, стоит очень дорого и
может быть надето только один раз, ибо насекомые скоро
умирают. Я не без удивления заметил по разговорам, что в
высшем обществе наша роковая комета гораздо менее возбуждала внимания, нежели как того можно было ожидать.
Об ней заговорили нечаянно; одни ученым образом толковали о большем или меньшем успехе принятых мер, рассчитывали вес кометы, быстроту ее падения и степень сопротивления
устроенных снарядов; другие вспоминали все победы, уже
одержанные человеческим искусством над природою, и их вера в могущество ума была столь сильна, что они с насмешкою
говорили об ожидаемом бедствии; в иных спокойствие происходило от другой причины: они намекали, что уже довольно
пожито и что надобно же всему когда-нибудь кончиться; но
большая часть толковали о текущих делах, о будущих планах, как будто ничего не должно перемениться. Некоторые из
дам носили уборки â la comète1; они состояли в маленьком
1 В виде кометы (фр.).
538
электрическом снаряде, из которого сыпались беспрестанные
искры. Я заметил, как эти дамы из кокетства старались чаще
уходить в тень, чтобы пощеголять прекрасною электрическою
кистью, изображавшею хвост кометы, и которая как бы блестящим пером украшала их волосы, придавая лицу особенный оттенок.
В разных местах сада по временам раздавалась скрытая
музыка, которая, однако ж, играла очень тихо, чтобы не мешать разговорам. Охотники садились на резонанс, особо устроенный над невидимым оркестром; меня пригласили сесть
туда же, но, с непривычки, мои нервы так раздражились от
этого приятного, но слишком сильного сотрясения, что я, не
высидев двух минут, соскочил на землю, чему дамы много
смеялись. Вообще, на нас с дядюшкою, как на иностранцев,
все гости обращали особенное внимание и старались, по древнему русскому обычаю, показать нам всеми возможными
способами свое радушное гостеприимство, преимущественно
дамы, которым, сказать без самолюбия, я очень понравился,
как увидишь впоследствии. Проходя по дорожке, устланной
бархатным ковром, мы остановились у небольшого бассейна,
который тихо журчал, выбрасывая брызги ароматной воды;
одна из дам, прекрасная собою и прекрасно одетая, с которою
я как-то больше сошелся, нежели с другими, подошла к бассейну, и в одно мгновение журчание превратилось в прекрасную тихую музыку: таких странных звуков мне еще никогда
не случалось слышать; я приблизился к моей даме и с удивлением увидел, что она играла на клавишах, приделанных к
бассейну: эти клавиши были соединены с отверстиями, из которых по временам вода падала на хрустальные колокола и
производила чудесную гармонию. Иногда вода выбегала
быстрою, порывистою струей, и тогда звуки походили на
гул разъяренных волн, приведенный в дикую, но правильную гармонию; иногда струи катились спокойно, и тогда
как бы из отдаления прилетали величественные, полные
аккорды; иногда струи рассыпались мелкими брызгами по
звонкому стеклу, и тогда слышно было тихое, мелодическое журчание. Этот инструмент назывался гидрофоном; он
недавно изобретен здесь и еще не вошел в общее употребление. Никогда моя прекрасная дама не казалась мне
столь прелестною: электрические фиолетовые искры головного убора огненным дождем сыпались на ее белые, пышные
плечи, отражались в быстробегущих струях и мгновенным
блеском освещали ее прекрасное, выразительное лицо и роскошные локоны; сквозь радужные полосы ее платья мелькали
539
блестящие струйки и по временам обрисовывали ее прекрасные формы, казавшиеся полупризрачными. Вскоре к звукам
гидрофона присоединился ее чистый, выразительный голос и
словно утопал в гармонических переливах инструмента. Действие этой музыки, как бы выходившей из недостижимой глубины вод; чудный магический блеск; воздух, напитанный ароматами; наконец, прекрасная женщина, которая, казалось,
плавала в этом чудном слиянии звуков, волн и света,— вес
это привело меня в такое упоение, что красавица кончила, а я
долго еще не мог прийти в себя, что она, если не ошибаюсь,
заметила.
Почти такое же действие она произвела и на других, но,
однако ж, не раздалось ни рукоплесканий, ни комплиментов,— это здесь не в обыкновении. Всякий знает степень своего искусства: дурной музыкант не терзает ушей слушателей,
а хороший не заставляет себя упрашивать. Впрочем, здесь
музыка входит в общее воспитание, как необходимая часть
его, и она так же обыкновенна, как чтение и письмо; иногда
играют чужую музыку, но всего чаще, особенно дамы, подобно моей красавице, импровизируют без всякого вызова, когда
почувствуют внутреннее к тому расположение.
В разных местах сада стояли деревья, обремененные плодами— для гостей; некоторые из этих плодов были чудное
произведение садового искусства, которое здесь в таком совершенстве. Смотря на них, я не мог не подумать, каких усилий ума и терпения стоило соединить посредством постепенных прививок разные породы плодов, совершенно разнокачественных, и произвести новые, небывалые породы; так, например, я заметил плоды, которые были нечто среднее между
ананасом и персиком: ничего нельзя сравнить со вкусом этого
плода; я заметил также финики, привитые к вишневому дереву, бананы, соединенные с грушей; всех новых пород, так сказать, изобретенных здешними садовниками, невозможно исчислить. Вокруг этих деревьев стояли небольшие графины,
с золотыми кранами; гости брали эти графины, отворяли краны и без церемонии втягивали в себя содержавшийся в них,
как я думал, напиток. Я последовал общему примеру; в графинах находилась ароматная смесь возбуждающих газов;
вкусом они походят на запах вина (bouguet) и мгновенно разливают по всему организму удивительную живость и веселость, которая при некоторой степени доходит до того, что
нельзя удержаться от беспрерывной улыбки. Эти газы совершенно безвредны, и их употребление очень одобряется медиками; этим воздушным напитком здесь в высшем обществе со
540
вершенно заменились вина, которые употребляются только
простыми ремесленниками, никак не решающимися оставить
своей грубой влаги.
Через несколько времени хозяин пригласил нас в особое
отделение, где находилась магнетическая ванна. Надобно тебе сказать, что здесь животный магнетизм составляет любимое занятие в гостиных, совершенно заменившее древние
карты, кости, танцы и другие игры. Вот как это делается: один
из присутствующих становится у ванны,— обыкновенно более привыкший к магнетической манипуляции,— все другие
берут в руки протянутый от ванны снурок, и магнетизация начинается: одних она приводит в простой магнетический сон,
укрепляющий здоровье; на других она вовсе не действует до
времени; иные же тотчас приходят в степень сомнамбулизма,
и в этом состоит цель всей забавы. Я по непривычке был в числе тех, на которых магнетизм не действовал, и потому мог
быть свидетелем всего происходившего.
Скоро начался разговор преинтересный: сомнамбулы наперерыв высказывали свои самые тайные помышления и чувства. «Признаюсь,— сказал один,— хоть я и стараюсь показать, что не боюсь кометы, но меня очень пугает ее приближение».—«Я сегодня нарочно рассердила своего мужа,— сказала одна хорошенькая дама,— потому что, когда он сердит, у
него делается прекрасная физиономия».—«Ваше радужное
платье,— сказала щеголиха своей соседке,— так хорошо, что
я намерена непременно выпросить его у вас себе на фасон, хотя мне и очень стыдно просить вас об этом».
Я подошел к кружку дам, где сидела и моя красавица.
Едва я пришел с ними в сообщение, как красавица мне сказала: «Вы не можете себе представить, как вы мне нравитесь;
когда я вас увидела, я готова была вас поцеловать!» —
«И я также, и я также»,— вскричало несколько дамских голосов; присутствующие засмеялись и поздравили меня с
блестящим успехом у петербургских дам.
Эта забава продолжалась около часа. Вышедшие из сомнамбулического состояния забывают все, что они говорили,
и сказанные ими откровенно слова дают повод к тысяче мистификаций, которые немало служат к оживлению общественной жизни: здесь начало свадеб, любовных интриг, а равно и дружбы. Часто люди, дотоле едва знакомые, узнают
в этом состоянии свое расположение друг к другу, а старинные связи еще более укрепляются этими неподдельными
выражениями внутренних чувств. Иногда одни мужчины магнетизируются, а дамы остаются свидетелями; иногда, в свою
541
очередь, дамы садятся за магнетическую ванну и рассказывают свои тайны мужчинам. Сверх того, распространение
магнетизации совершенно изгнало из общества всякое лицемерие и притворство: оно, очевидно, невозможно; однако же
дипломаты, по долгу своего звания, удаляются от этой забавы, и оттого играют самую незначительную роль в гостиных. Вообще, здесь не любят тех, которые уклоняются
от участия в общем магнетизме: в них всегда предполагают какие-нибудь враждебные мысли или порочные наклонности.
Усталый от всех разнообразных впечатлений, испытанных мною в продолжение этого дня, я не дождался
ужина, отыскал свой аэростат; на дворе была метель и
вьюга, и, несмотря на огромные отверстия вентиляторов,
которые беспрестанно выпускают в воздух огромное количество теплоты, я должен был плотно закутываться
в мою стеклянную епанчу; но образ прекрасной дамы согревал мое сердце — как говорили древние. Она, как узнал
я, единственная дочь здешнего министра медицины; но, несмотря на ее ко мне расположение, как мне надеяться вполне заслужить ее благосклонность, пока я не ознаменовал
себя каким-нибудь ученым открытием, и потому считаюсь недорослем!
ПИСЬМО 6-е
В последнем моем письме, которое было так длинно,
я не успел тебе рассказать о некоторых замечательных
лицах, виденных мною на вечере у Председателя Совета.
Здесь, как я уже тебе писал, было все высшее общество:
Министр философии, Министр изящных искусств, Министр
воздушных сил, поэты и философы и историки первого и
второго класса. К счастию, я встретил здесь г. Хартина, с
которым я прежде еще познакомился у дядюшки; он мне
рассказал об этих господах разные любопытные подробности, кои оставляю до другого времени. Вообще скажу тебе,
что здесь приготовление и образование первых сановников
государства имеет в себе много замечательного. Все они
образуются в особенном училище, которое носит название:
Училище государственных людей. Сюда поступают отличнейшие ученики из всех других заведений, и за развитием их
способностей следят с самого раннего возраста. По выдер-
жании строгого экзамена они присутствуют в продолжение
542
нескольких лет при заседаниях Государственного совета, для
приобретения нужной опытности; из сего рассадника они поступают прямо на высшие государственные места; оттого
нередко между первыми сановниками встречаешь людей молодых — это кажется и необходимо, ибо одна свежесть и
деятельность молодых сил может выдержать трудные обязанности, на них возложенные; они стареют преждевременно, и им одним не ставится в вину расстройство их здоровья, ибо этою ценою покупается благосостояние всего
общества.
Министр примирений есть первый сановник в империи
и Председатель Государственного совета. Его должность
самая трудная и скользкая. Под его ведением состоят
все мирные судьи во всем государстве, избираемые из почетнейших и богатейших людей; их должность быть в близкой
связи со всеми домами вверенного им округа и предупреждать все семейственные несогласия, распри, а особенно тяжбы, а начавшиеся стараться прекратить миролюбно; для затруднительных случаев они имеют от правительства значительную сумму, носящую название примирительной, которую
употребляют под своею ответственностию на удовлетворение несогласных на примирение; этой суммы ныне, при общем нравственном улучшении, выходит втрое менее того, что
в старину употреблялось на содержание Министерства юстиции и полиции. Замечательно, что мирные судьи, сверх
внутреннего побуждения к добру (на что при выборе обращается строгое внимание), обязаны и внешними обстоятельствами заниматься своим делом рачительно, ибо за
каждую тяжбу, не предупрежденную ими, они должны вносить пеню, которая поступает в общий примирительный
капитал. Министр примирений, в свою очередь, ответствует за выбор судей и за их действия. Сам он есть первый
мирный судья, и на его лично возложено согласие в действиях всех правительственных мест и лиц; ему равным образом вверено наблюдение за всеми учеными и литературными спорами; он обязан наблюдать, чтобы этого рода споры
продолжались столько, сколько это может быть полезно для
совершенствования науки и никогда бы не обращались
(на] личность. Поэтому ты можешь себе представить, какими
познаниями должен обладать этот сановник и какое усердие
к общему благу должно оживлять [его]. Вообще заметим,
что жизнь сих сановников бывает кратковременна,— непомерные труды убивают их, и немудрено, ибо он не только
должен заботиться о спокойствии всего государства, но и бес
543
престанно заниматься собственным совершенствованием,—
а на это едва достает сил человеческих.
Нынешний Министр примирений вполне достоин своего звания; он еще молод, но волосы его уже поседели от
беспрерывных трудов; в лице его выражается доброта, вместе с проницательностию и глубокомыслием.
Кабинет его завален множеством книг и бумаг; между
прочим, я видел у него большую редкость: Свод русских
законов, изданный в половине XIX столетия по P. X.;
многие листы истлели совершенно, но другие еще сохранились в целости; эта редкость как святыня хранится под
стеклом в драгоценном ковчеге, на котором начертано имя
Государя, при котором этот свод был издан.
«Это один из первых памятников,— сказал мне хозяин,—
Русского законодательства; от изменения языка, в течение
столь долгого времени, многое в сем памятнике сделалось
ныне совершенно необъяснимым, но из того, что мы до сих
пор могли разобрать, видно, как древне наше просвещение! Такие памятники должно сохранять благодарное потомство».
ПИСЬМО 7-е
Сегодня поутру зашел ко мне г-н Хартин и пригласил
осмотреть залу общего собрания Академии. «Не знаю,—
сказал он,— позволят ли нам сегодня остаться в заседании, но до начала его вы успеете познакомиться с некоторыми из здешних ученых».
Зала Ученого Конгресса, как я тебе уже писал, находится в здании Кабинета Редкостей. Сюда, сверх еженедельных собраний, собираются ученые почти ежедневно;
большею частию они здесь и живут, чтобы удобнее пользоваться огромными библиотеками и физическою лабораторией Кабинета. Сюда приходят и физик, и историк, и поэт,
и музыкант, и живописец; они благородно поверяют друг другу свои мысли, опыты, даже и неудачные, самые зародыши
своих открытий, ничего не скрывая, без ложной скромности
и без самохвальства; здесь они совещаются о средствах
согласовать труды свои и дать им единство направления;
сему весьма способствует особая организация сего сословия,
которую я опишу тебе в одном из будущих моих писем.
Мы вошли в огромную залу, украшенную статуями и портретами великих людей; несколько столов были заняты кни
544
гами, а другие физическими снарядами, приготовленными
для опытов; к одному из столов были протянуты проводники от огромнейшей в мире гальвано-магнетической цепи,
которая одна занимала особое здание в несколько этажей.
Было еще рано и посетителей мало. В небольшом кружку с жаром говорили о недавно вышедшей книжке; эта
книжка была представлена Конгрессу одним молодым археологом и имела предметом объяснить весьма спорную и любопытную задачу, а именно о древнем названии Петербурга. Тебе, может быть, неизвестно, что по сему предмету существуют самые противоречащие мнения. Исторические свидетельства убеждают, что этот город был основан тем великим государем, которого он носит имя. Об этом никто не
спорит; но открытия некоторых древних рукописей привели к
мысли, что, по неизъяснимым причинам, сей знаменитый город в продолжение тысячелетия несколько раз переменял
свое название. Эти открытия привели в волнение всех здешних археологов: один из них доказывает, что древнейшее
название Петербурга было Петрополь, и приводит в доказательство стих древнего поэта:
Петрополь с башнями дремал...
Ему возражали, и не без основания, что в этом стихе
должна быть опечатка. Другой утверждает, также основываясь на древних свидетельствах, что древнейшее название Петербурга было Петроград. Я не буду тебе высчитывать всех других предположений по сему предмету, молодой археолог опровергает их всех без исключения. Перерывая полуистлевшие слои древних книг, он нашел связку
рукописей, которых некоторые листы больше других были пощажены временем. Несколько уцелевших строк подали ему
повод написать целую книгу комментарий, в которых он доказывает, что древнее название Петербурга было Питер; в
подтверждение своего мнения, он представил Конгрессу подлинную рукопись. Я видел сей драгоценный памятник древности; он писан на той ткани, которую древние называли
бумагою и которой тайна приготовления ныне потеряна;
впрочем, жалеть нечего, ибо ее непрочность причиною тому,
что для нас исчезли совершенно все письменные памятники древности. Я списал для тебя эти несколько строк, приведших в движение всех ученых; вот они:
«Пишу к вам, почтеннейший, из Питера, а на днях
отправляюсь в Кронштадт, где мне предлагают место по
18 Заказ 14
545
мощника столоначальника... с жалованьем по пятисот рублей в год...» Остальное истребилось временем.
Ты можешь себе легко представить, к каким любопытным исследованиям могут вести сии немногие драгоценные
строки; очевидно, что это отрывок из письма, по кем и к
кому оно было писано? Вот вопрос, вполне достойный внимания ученого мира. К счастию, сам писавший дает уже нам
приблизительное понятие о своем звании: он говорит, что ему
предлагают место помощника столоначальника; но здесь
важное недоразумение: что значит слово столоначальник?
Оно в первый раз еще встречается в древних рукописях.
Большинство голосов того мнения, что звание столоначальника было звание важное, подобно званиям военачальников и
градоначальников. Я совершенно с этим согласен — аналогия очевидная! Предполагают, и не без основания, что военачальник в древности заведовал военною частию, градоначальник — гражданскою, а столоначальник, как высшее
лицо, распоряжал действиями сих обоих сановников. Слово
«почтеннейший», которого окончание, по мнению грамматиков, означает высшую степень уважения, оказываемого людям, показывает, что это письмо было писано также к важному лицу. Все это так ясно, что, кажется, не подлежит ни
малейшему сомнению; в сем случае существует только одно
затруднение: как согласить столь незначительное жалованье,
пятьсот рублей, с важностию такого места, каково долженствовало быть место помощника столоначальника. Это легко
объясняется предположением, что в древности слово рубль
было общим выражением числа вещей: как, например, слово
мириада; но, по моему мнению, здесь скрывается нечто важнейшее. Эта незначительность суммы не ведет ли к заключению, что в древности количество жалованья высшим сановникам было гораздо менее того, которое выдавалось людям низших должностей; ибо высшее звание предполагало
в человеке, его занимавшем, больше любви к общему благу,
больше самоотвержения, больше поэзии; такая глубокая
мысль вполне достойна мудрости древних.
Впрочем, все это показывает, любезный друг, как еще
мало знаем мы их историю, несмотря на все труды новейших изыскателей!
В первый раз еще мне удалось видеть в подлитмГКё^
древнюю рукопись; ты не можешь представить,' какое особенное чувство возбудилось в моей душе, когда я смотрел на этот величественный памятник древности, на этот
почерк вельможи, может быть великого человека, пережив
546
ший его по крайней мере четыре тысячи столетия, человека, от которого, может быть, зависела судьба миллионов;
в самом почерке есть что-то необыкновенно стройное и величественное. Но только чего стоило древним выписывать
столько букв для слов, которые мы ныне выражаем одним
значком. Откуда они брали время на письмо? А писали они
много: недавно мне показывали мельком огромное здание,
сохраняющееся доныне от древнейших времен; оно сверху
донизу наполнено истлевшими связками писаной бумаги; все
попытки разобрать их были тщетны; они разлетаются в
пыль при малейшем прикосновении; успели списать лишь
несколько слов, встречающихся чаще других, как-то: рапорт
или, правильнее, репорт, инструкция, отпуск, провианта и прочее т. п., которых значение совершенно потерялось. Сколько сокровищ для истории, для поэзии, для наук должно
храниться в этих связках, и все истреблено неумолимым
временем! Если мы во многом отстали от древних, то по
крайней мерс наши писания не погибнут. Я видел здесь
книги, за тысячу лет писанные на нашем стеклянном папирусе — как вчера писаны! Разве комета растопит
их?!
Между тем, пока мы занимались рассмотрением сего
памятника древности, в залу собрались члены Академии, и
как это заседание не было публичное, то мы должны были
выйти. Сегодня Конгресс должен заняться рассмотрением
различных проектов, относящихся до средств воспротивиться падению кометы; по сей причине назначено тайное заседание, ибо в обыкновенные дни зала едва может вмещать
посторонних посетителей: так сильна здесь общая любовь к
ученым занятиям!
Вышедши наверх к нашему аэростату, мы увидели на
ближней платформе толпу людей, которые громко кричали,
махали руками и, кажется, бранились.
«Что это такое?» — спросил я у Хартина.
«О, не спрашивайте лучше,— отвечал Хартин,— эта толпа — одно из самых странных явлений нашего века. В нашем полушарии просвещение распространилось до низших
степеней; оттого многие люди, которые едва годны были
простыми ремесленниками, объявляют притязание на ученость и литераторство; эти люди почти каждый день собираются у передней нашей Академии, куда, разумеется, им
двери затворены, и своим криком стараются обратить внимание проходящих. Они до сих пор не могли постичь, отчего наши ученые гнушаются их сообществом, и в досаде при
18*
547
нялись их передразнивать, завели также нечто похожее на
науку и на литературу; но, чуждые благородных побуждений истинного ученого, они обратили и ту и другую в род
ремесла: один лепит нелепости, другой хвалит, третий продает, кто больше продаст — тот у них и великий человек; от
беспрестанных денежных сделок у них беспрестанные ссоры, или, как они называют, партии: один обманет другого — вот и две партии, и чуть не до драки; всякому хочется захватить монополию, а более всего завладеть настоящими учеными и литераторами; в этом отношении они забывают свою междоусобную вражду и действуют согласно; тех, которые избегают их сплетней, промышленники называют аристократами, дружатся с их лакеями, стараются
выведать их домашние тайны и потом взводят на своих мнимых врагов разные небылицы. Впрочем, все эти затеи не
удаются нашим промышленникам и только увеличивают
каждый день общее к ним презрение».
«Скажите,— спросил я,— откуда могли взяться такие люди в русском благословенном царстве?»
«Они большею частию пришельцы из разных стран света; незнакомые с русским духом, они чужды и любви к
русскому просвещению: им бы только нажиться,— а Россия
богата. В древности такого рода людей не существовало,
по крайней мере об них не сохранилось никакого предания. Один мой знакомый, занимающийся сравнительною ант-
ропологиею, полагает, что этого рода люди происходят по
прямой линии от кулашных бойцов, некогда существовавших в Европе. Что делать! Эти люди — темная сторона нашего века; надобно надеяться, что с большим распространением просвещения исчезнут и эти пятна на русском солнце».
Здесь мы приблизились к дому.
ФРАГМЕНТЫ
I
В начале 4337 года, когда Петербург уже выстроили
и перестали в нем чинить мостовую, дорожний гальваностат* быстро спустился к платформе высокой башни,
* Воздушный шар, приводимый в действие гальванизмом.—Примеч.
В. Ф. Одоевского.
548
находившейся над Гостиницей для прилетающих; почтальон проворно закинул несколько крюков к кольцам платформы, выдернул задвижную лестницу, и человек в
широкой одежде из эластического стекла выскочил из
гальваностата, проворно взбежал на платформу, дернул за шнурок, и платформа тихо опустилась в общую
залу.
— Что у вас приготовлено к столу? — спросил путешественник, сбрасывая с себя стеклянную епанчу и
поправляя свое полукафтанье из тонкого паутинного
сукна.
— С кем имею честь говорить? — спросил учтиво трактирщик.
— Ординарный Историк при дворе американского поэта
Орл ия.
Трактирщик подошел к стене, на которой висели несколько прейскурантов под различными надписями: поэты,
историки, музыканты, живописцы и проч., и проч. Один из
таких прейскурантов был поднесен трактирщиком путешественнику.
— Это что значит? — спросил сей последний, прочитавши заглавие: «Прейскурант для Историков».
— Да! Я и забыл, что в вашем полушарии для каждого звания особый обед. Я слышал об этом — признайтесь, однако же, что это постановление у вас довольно
странно.
— Судьба нашего отечества,— возразил, улыбаясь, трактирщик,— состоит, кажется, в том, что его никогда не будут
понимать иностранцы. Я знаю, многие американцы смеялись
над этим учреждением оттого только, что не хотели в него
вникнуть. Подумайте немного, и вы тотчас увидите, что
оно основано на правилах настоящей нравственной математики: прейскурант для каждого звания соображен с той
степенью пользы, которую может оно принести человечеству.
Американец насмешливо улыбнулся:
— О! Страна поэтов! У вас везде поэзия, даже в обеденном прейскуранте... Я, южный прозаик, спрошу у вас:
что вы будете делать, если вам захочется блюдо, не находящееся в историческом прейскуранте?..
— Вы можете получить его, но только за деньги...
— Как, стало быть, все, что в этом прейскуранте?..
— Вы получаете даром... от вас потребуется в нашем
549
крае только жизни и деятельности, сообразной с вашим
званием,— а правительство уже платит мне за каждого
путешественника по установленной таксе...
— Это не совсем дурно,— заметил расчетливый американец,— мне подлинно неизвестно было это распоряжение —
вот что значит не вылетать из своего полушария. Я не бывал дальше новой Голландии.
— А откуда вы сели, смею спросить?
— С Магелланского пролива... но поговорим об обеде... дайте мне: хорошую порцию крахмального экстракта
на спаржевой эссенции; порцию сгущенного азота à la fleur
d’orange, ананасной эссенции и добрую бутылку углекислого газа с водородом. Да после обеда нельзя ли мне иметь
магнетическую ванну — я очень устал с дороги...
— До какой степени, до самнамбулизма или менее?..
— Нет, простую магнетическую ванну для подкрепления сил...
— Сейчас будет готова.
Между тем к эластическому дивану на золотых жердях опустили с потолока опрятный стол из резного рубина, накрыли скатертью из эластического стекла; под рубиновыми колпаками поставили питательные эссенции, а
кислоугольный газ — в рубиновых же бутылках с золотыми кранами, которые оканчивались длинною трубочкою.
Путешественник кушал за двоих — и попросил другую
порцию азота. Когда он опорожнил бутылку углекислоты,
то сделался говорливее.
— Превкусный азот! — сказал он трактирщику.— Мне
случалось только один раз есть такой в Мадагаскаре.
и
Пока дядюшка занимался своими дипломатическими интригами, я успел здесь свести многие интересные знакомства. Я встретился у дядюшки с г. Хартиным, ординарным
историк [ом] при первом здешнем поэте Орлии. (Это одно
из почтеннейших званий в империи; должность историка
приготовлять исторические материалы для поэтических соображений Поэта или производить новые исследования по его
указаниям; его звание учреждено недавно, но уже принесло
значительные услуги государству; исторические изыскания
550
приобрели больше последовательности, а от сего пролили
новый свет на многие темные пункты истории.)
Я, не теряя времени, попросил мне Хартина объяснить подробно, в чем состоит его должность, которая,
как известно, принадлежит у русских к почетнейшим,—
и о чем мы в Китае имели только поверхностное сведение; вот что он отвечал мне:
«Вам, как человеку учившемуся, известно, сколько усилий употребляли знаменитые мужи для соединения всех
наук в одну; особливо замечательны в сем отношении труды 3-го тысячелетия по P. X. В глубочайшей древности
встречаются жалобы на излишнее раздробление наук; десятки веков протекли, и все опыты соединить их оказались
тщетными — ничто не помогло: ни упрощение метод, ни классификация знаний. Человек не мог выйти из сей ужасной
дилеммы: или его знание было односторонне, или поверхностно. Чего не сделали труды ученых, то произошло естественно из гражданского устройства; [давнее] разделение общества на сословия Историков, Географов, Физиков, Поэтов — каждое из этих сословий действовало отдельно
[или] — дало повод к счастливой мысли ныне царствующего у нас Государя, который сам принадлежит к числу первых поэтов нашего времени: он заметил, что в сем собрании ученых естественным образом одно сословие подчинилось другому,— он решился, следуя сему естественному указанию, соединить эти различные сословия не одною ученою,
но и гражданскою связью; мысль, по-видимому, очень простая, но которая, как все простые и великие мысли, приходит в голову только великим людям. Может быть, при этом
первом опыте некоторые сословия не так классифицированы,— но этот недостаток легко исправится временем. Теперь
к удостоенному звания поэта или философа определяется
несколько ординарных историков, физиков, лингвистов и других ученых, которые обязаны действовать по указанию своего
начальника или приготовлять для него материалы; каждый
из историков имеет в свою очередь, под своим ведением,
несколько хронологов, филологов-антиквариев, географов;
физик — несколько химиков, ...ологов, минерологов, так и
далее. Минеролог и пр. имеет под своим ведением несколько металлургов и так далее до простых копистов [...]
испытателей, которые занимаются простыми грубыми опытами.
От такого распределения занятий все выигрывают: недостающее знание одному пополнится другим, какое-либо
551
изыскание производится в одно время со всех различных
сторон; поэт не отвлекается от своего вдохновения, философ от своего мышления — материальною работою. Вообще
обществу это единство направления ученой деятельности
принесло плоды неимоверные; явились открытия неожиданные, усовершенствования почти сверхъестественные — и сему, но единству в особенности, мы обязаны теми блистательными успехами, которые ознаменовали наше отечество в
последние годы».
Я поблагодарил г. Хартина за его благосклонность и
внутренно вздохнул, подумав, когда-то Китай достигнет до
той степени, когда подобное устройство ученых занятий будет у нас возможно.
ЗАМЕТКИ
Сочинитель романа «The last man»1 так думал описать
последнюю эпоху мира и описал только ту, которая чрез
несколько лет после него началася. Это значит, что он чувствовал уже в себе те начала, которые должны были развиться не в нем, а в последовавших за ним людях. Вообще
редкие могут найти выражение для отдаленного будущего, но я уверен, что всякий человек, который, освободив себя от всех предрассудков, от всех мнений, в его минуту господствующих, и отсекая все мысли и чувства, порождаемые в нем привычкою, воспитанием, обстоятельствами
жизни, его собственными и чужими страстями, предастся
инстинктуальному свободному влечению души своей,— тот
в последовательном ряду своих мыслей найдет непременно
те мысли и чувства, которые будут господствовать в близкую от него эпоху.
История природы есть каталог предметов, которые были и
будут. История человечества есть каталог предметов, которые
только были и никогда не возвратятся.
Первую надобно знать, чтобы составить общую науку
предвидения,— вторую для того, чтобы не принять умершее
за живое.
«Последний человек» (англ.).
552
АЭРОСТАТЫ И ИХ ВЛИЯНИЯ
Довольно замечательно, что все так называемые житейские условия возможны лишь в определенном пространстве — и лишь на плоскости; так что все условия торговли, промышленности, местожительства и проч, будут совсем иные в пространстве; так что можно сказать, что продолжение условий нынешней жизни зависит от какого-нибудь колеса, над которым теперь трудится какой-нибудь
неизвестный механик,— колеса, которое позволит управлять
аэростатом. Любопытно знать, когда жизнь человечества
будет в пространстве, какую форму получит торговля, браки,
границы, домашняя жизнь, законодательство, преследование
преступлений и проч. т. п.— словом, все общественное устройство?
Замечательно и то, что аэростат, локомотивы, все роды
машин, независимо от прямой пользы, ими приносимой
в их осуществлении, действуют на просвещение людей
самым своим происхождением, ибо, во 1-х, требуют
от производителей и ремесленников приготовительных
познаний и, во 2-х, требуют такой гимнастики для разумения, каковой вовсе не нужно для лопаты или
лома.
Зеленые люди на аэростате спустились в Лондон.
Письмо из Луны.
Нашли способ сообщения с Луной; она необитаема
и служит только источником снабжения Земли разными
житейскими потребностями, чем отвращается гибель, грозящая земле по причине ее огромного народонаселения. Эти
экспедиции чрезвычайно опасны, опаснее, нежели прежние
экспедиции вокруг света; на эти экспедиции единственно
употребляется войско. Путешественники берут с собой
разные газы для составления воздуха, которого нет на
Луне.
553
ЭПОХА 4000 ЛЕТ ПОСЛЕ НАС
Орлий, сын Орлия поэта, не может жениться на своей
любезной, если не ознаменует своей жизни важным открытием в какой-либо отрасли познаний; он избирает историю —
его археолог доставляет ему рукописи за 4000 лет, которые никто разобрать не может. Его комментарии на сии
письма.
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПИСЬМА
XIX век Через 2000 лет.
Сын поэта, чтобы удостоиться руки женщины, должен
сделать какое-либо важное открытие в науках, как прежде ему должно было отличить себя на турнирах и битвах.
В развалинах находят манускрипт — неизвестно к какому
времени принадлежащий. Ординарный философ при поэте-
отце отправляет его к ординарному археологу при поэте-
сыне в другое полушарие чрез туннель, сделанный насквозь земного шара, дабы он разобрал ее, дабы восстановить прошедшее неизвестное время.
Сын находит, что по сему манускрипту можно заключить, что тогда Россия была только частию мира, а не обхватывала обоих полушарий. Что в это время люди употребляли для своих сношений письмо. Что в музыке учились играть, а не умели с первого раза читать ее.
Судии находят, что поэт не нашел истины и что все
изъяснения его суть игра воображения; что хотя он и прочел
несколько имен, но что это ничего не значит. Отчаяние
молодого поэта. Он жалуется на свой век и пишет к
своей любезной, что его не понимают, и спрашивает, хочет
ли она любить его просто, как не поэта.
В Петербург[ских] письмах (через 2000 лет). Человечество достигает того сознания, что природный организм человека не способен к тем отправлениям, которых требует
умственное развитие; что, словом, оказывается несостоятельность орудий человека в сравнении с тою целию, мысль о
которой выработалась умственною деятельностию. Этою невозможностью достижения умственной цели, этою несоразмерностью человеческих средств с целию наводится на все че
554
ловечество безнадежное уныние — человечество в своем общем составе занемогает предсмертною болезнию.
Там же: кочевая жизнь возникает в следующем виде —
юноши и мужи живут на севере, а стариков и детей переселяют на юг.
Нельзя сомневаться, чтобы люди не нашли средства
превращать климаты или, по крайней мере, улучшать их.
Может быть, огнедышащие горы в холодной Камчатке (на
южной стороне этого полуострова) будут употреблены, как
постоянные горны для нагревания сей страны.
Посредством различных химических соединений почвы
найдено средство нагревать и расхоложать атмосферу, для
отвращения ветров придуманы вентилятёры.
Петербург в разные часы дня.
Часы из запахов: час кактуса, час фиалки, резеды,
жасмина, розы, гелиотропа, гвоздики, мускуса, ангелики,
уксуса, эфира; у богатых расцветают самые цветы.
Усовершенствование френологии производит то, что лицемерие и притворство уничтожаются; всякий носит своя
внутренняя в форме своей головы et les hommes le
savent naturellement1.
Увеличившееся чувство любви к человечеству достигает
до того, что люди не могут видеть трагедий и удивляются,
как мы могли любоваться видом нравственных несчастий,
точно так же как мы не можем постигнуть удовольствия
древних смотреть на гладиаторов.
Ныне — модная гимнастика состоит из аэростатики и
животного магнетизма; в обществах взаимное магнетизирование делается обыкновенною забавою. Магнетическая симпатия и антипатия дают повод к порождению нового рода
фешенебельности, и по мере того как государства слились
в одно и то же, частные общества разделились более яр-
И люди осознают это естественно (фр.).
555
кими чертами, производимыми этою внутреннею симпатиею
или антипатиею, которая обнаруживается при магнетических действиях.
Удивляются, каким образом люди решились ездить в пароходах и в каретах — думают, что в них ездили только
герои, и из сего выводят заключение, что люди сделались
трусливее.
Изобретение книги, в которой посредством машины изменяются буквы в несколько книг.
Машины для романов и для отечественной] драмы.
...Настанет время, когда книги будут писаться слогом телеграфических депешей; из этого обычая будут исключены разве только таблицы, карты и некоторые тезисы
на листочках. Типографии будут употребляться лишь для газет и для визитных карточек; переписка заменится электрическим разговором; проживут еще романы, и то не долго —
их заменит театр, учебные книги заменятся публичными лекциями. Новому труженику науки будет предстоять труд немалый: поутру облетать (тогда вместо извозчиков будут аэростаты) с десяток лекций, прочесть до двадцати газет и столько же книжек, написать на лету десяток страниц и по-настоящему поспеть в театр; но главное дело будет: отучить
ум от усталости, приучить его переходить мгновенно от одного предмета к другому; изощрить его так, чтобы самая
сложная операция была ему с первой минуты легкою; будет
приискана математическая формула для того, чтобы в огромной книге нападать именно на ту страницу, которая нужна,
и быстро расчислить, сколько затем страниц можно пропустить без изъяна.
Скажете: это мечта! Ничего не бывало! За исключением аэростатов — все это воочью совершается: каждый из нас — такой труженик, и облегчительная формула для чтения найдена — спросите у кого угодно. Воля
ваша. Non multum sed multa1 — без этого жизнь невозможна.
1 В немногом — многое (лат.).
556
Сравнительную статистику России в 1900 году.
Шелковые ткани заменялись шелком из раковины.
Все наши книги или изъедены насекомыми, или истребились от хлора (которого состав тогда уже потерян) —
в сев[ерном] климате еще более сохранилось книг.
Англичане продают свои острова с публичного торга,
Россия покупает.
ПОСЛЕДНЕЕ САМОУБИЙСТВО
Наступило время, предсказанное философами XIX века:
род человеческий размножился; потерялась соразмерность
между произведениями природы и потребностями человечества. Медленно, но постоянно приближалось оно к сему
бедствию. Гонимые нищетою, жители городов бежали в поля,
поля обращались в селы, селы в города, а города нечувствительно раздвигали свои границы; тщетно человек употреблял все знания, приобретенные потовыми трудами веков,
тщетно к ухищрениям искусства присоединял ту могущественную деятельность, которую порождает роковая необходимость,— давно уже аравийские песчаные степи обратились в
плодоносные пажити; давно уже льды севера покрылись
туком земли; неимоверными усилиями химии искусственная
теплота живила царство вечного хлада... но все тщетно:
протекли века, и животная жизнь вытеснила растительную,
слились границы городов, и весь земной шар от полюса до
полюса обратился в один обширный, заселенный город, в который перенеслись вся роскошь, все болезни, вся утонченность, весь разврат, вся деятельность прежних городов;
но над роскошным градом вселенной тяготела страшная
нищета и усовершенные способы сообщения разносили во все
концы шара лишь вести об ужасных явлениях голода и болезней; еще возвышались здания; еще нивы в несколько
ярусов, освещенные искусственным солнцем, орошаемые искусственною водою, приносили обильную жатву,— но она исчезала прежде, нежели успевали собирать ее: на каждом шагу, в каналах, реках, воздухе, везде теснились люди, все кипело жизнию, но жизнь умерщвляла сама себя. Тщетно
люди молили друг у друга средства воспротивиться всеобщему бедствию: старики воспоминали о протекшем, обвиняли во всем роскошь и испорченность нравов; юноши призывали в помощь силу ума, воли и воображения; мудрейшие искали средства продолжать существование без пищи,
и над ними никто не смеялся.
558
Скоро здания показались человеку излишнею роскошью;
он зажигал дом свой и с дикою радостию утучнял землю пеплом своего жилища; погибли чудеса искусства, произведения образованной жизни, обширные книгохранилища,
больницы — все, что могло занимать какое-либо пространство,— и вся земля обратилась в одну обширную, плодоносную пажить.
Но не надолго возбудилась надежда; тщетно заразительные болезни летали из края в край и умерщвляли жителей
тысячами; сыны Адамовы, пораженные роковыми словами
писания, росли и множились.
Давно уже исчезло все, что прежде составляло счастие и гордость человека. Давно уже погас божественный
огонь искусства, давно уже и философия, и религия отнесены были к разряду алхимических знаний; с тем вместе
разорвались все узы, соединявшие людей между собою, и
чем более нужда теснила их друг к другу, тем более чувства
их разлучались. Каждый в собрате своем видел врага, готового отнять у него последнее средство для бедственной жизни: отец с рыданием узнавал о рождении сына; дочери прядали при смертном одре матери; но чаще мать удушала
дитя свое при его рождении, и отец рукоплескал ей. Самоубийцы внесены были в число героев. Благотворительность
сделалась вольнодумством, насмешка над жизнию — обыкновенным приветствием, любовь — преступлением.
Вся утонченность законоискусства была обращена на то,
чтобы воспрепятствовать совершению браков; малейшее подозрение в родстве, неравенство в летах, всякое удаление
от обряда делало брак ничтожным и бездною разделяло
супругов. С рассветом каждого дня люди, голодом подымаемые с постели, тощие, бледные, сходились и обвиняли
друг друга в пресыщении или упрекали мать многочисленного семейства в распутстве; каждый думал видеть в собрате общего врага своего, недосягаемую причину жизни, и все
словами отчаяния вызывали на брань друг друга: мечи
обнажались, кровь лилась, и никто не спрашивал о причине брани, никто не разнимал враждующих, никто не помогал
упавшему.
Однажды толпа была раздвинута другою, которая гналась за молодым человеком; его обвиняли в ужасном преступлении: он спас от смерти человека, в отчаянии бросившегося в море; нашлись еще люди, которые хотели вступиться за несчастного.
— Что вы защищаете человеконенавистника? — вскри
559
чал один из толпы.— Ои эгоист, он любит одного себя!
Одно это слово устранило защитников, ибо эгоизм тогда
был общим чувством; он производил в людях невольное
презрение к самим себе, и они рады были наказать в другом собственное свое чувство.
— Он эгоист,— продолжал обвинитель,— он нарушитель
общего спокойствия, он в своей землянке скрывает жену,
а она сестра его в пятом колене!
— В пятом колене! — завопила разъяренная толпа.
— Это ли дело друга? — промолвил несчастный.
— Друга? — возразил с жаром обвинитель.— А с кем
ты несколько дней тому назад,— прибавил он шепотом,—
не со мною ли ты отказал поделиться своей пищею?
— Но мои дети умирали с голоду,— сказал в отчаянии злополучный.
— Дети! Дети! — раздалось со всех сторон.— У него
есть дети! Его беззаконные дети съедают хлеб наш!— и,
предводимая обвинителем, толпа ринулась к землянке, где
несчастный скрывал от взоров толпы все драгоценное ему
в жизни. Пришли, ворвались,— на голой земле лежали два
мертвых ребенка, возле них мать; ее зубы стиснули руку
грудного младенца.
Отец вырвался из толпы, бросился к трупам, и толпа с
хохотом удалилась, бросая в него грязь и каменья.
Мрачное, ужасное чувство зародилось в душе людей.
Этого чувства не умели бы назвать в прежние веки; тогда
об этом чувстве могли дать слабое понятие лишь ненависть
отверженной любви, лишь цепенение верной гибели, лишь
бессмыслие терзаемого пыткою; но это чувство не имело предмета. Теперь ясно все видели, что жизнь для человека
сделалась невозможною, что все средства для ее поддержания были истощены,— но никто не решался сказать,
что оставалось предпринять человеку? Вскоре между толпами явились люди,— они, казалось, с давнего времени вели
счет страданиям человека — ив итоге выводили все его существование. Обширным, адским взглядом они обхватывали минувшее и преследовали жизнь с самого ее зарождения. Они вспоминали, как она, подобно татю, закралась
сперва в темную земляную глыбу и там, посреди гранита
и гнейса, мало-помалу, истребляя одно вещество другим,
развила новые произведения, более совершенные; потом на
смерти одного растения она основала существование тысячи
560
других; истреблением растений она размножила животных;
с каким коварством она приковала к страданиям одного
рода существ наслаждения, самое бытие другого рода! Они
вспоминали, как, наконец, честолюбивая, распространяя ежечасно свое владычество, она все более и более умножала
раздражительность чувствования — и беспрестанно, в каждом новом существе, прибавляя к новому совершенству новый способ страдания, достигла наконец до человека, в душе
его развернулась со всею своею безумною деятельностию
и счастие всех людей восставила против счастия каждого
человека. Пророки отчаяния с математическою точностию измеряли страдание каждого нерва в теле человека, каждого
ощущения в душе его. «Вспомните,— говорили они,— с каким лицемерием неумолимая жизнь вызывает человека из
сладких объятий ничтожества. Она закрывает все чувства
его волшебною пеленою при его рождении,— она боится,
чтобы человек, увидев все безобразие жизни, не отпрянул
от колыбели в могилу. Нет! Коварная жизнь является
ему сперва в виде теплой материнской груди, потом порхает перед ним бабочкою и блещет ему в глаза радужными
цветами; она печется о его сохранении и совершенном устройстве его души, как некогда мексиканские жрецы пеклись о жертвах своему идолу; дальновидная, она дарит
младенца мягкими членами, чтоб случайное падение не сделало человека менее способным к терзанию; несколькими
покровами рачительно закрывает его голову и сердце, чтоб
вернее сберечь в них орудия для будущей пытки; и несчастный привыкает к жизни, начинает любить ее: она то
улыбается ему прекрасным образом женщины, то выглядывает на него из-под длинных ресниц ее, закрывая собою
безобразные впадины черепа, то дышит в горячих речах ее;
то в звуках поэзии олицетворяет все несуществующее; то
жаждущего приводит к пустому кладезю науки, который
кажется неисчерпаемым источником наслаждений. Иногда
человек, прорывая свою пелену, мельком видит безобразие жизни, но она предвидела это и заранее зародила в
нем любопытство увериться в самом ее безобразии, узнать
ее; заранее поселила в человеке гордость видом бесконечного царства души его, и человек, завлеченный, упоенный, незаметно достигает той минуты, когда все нервы
его тела, все чувства его души, все мысли его ума — во
всем блеске своего развития спрашивают: где же место
их деятельности, где исполнение надежд, где цель жизни? Жизнь лишь ожидала этого мгновения,— быстро по
561
вергает она страдальца на плаху: сдергивает с него благодетельную пелену, которую подарила ему при рождении, и, как искусный анатом, обнажив нервы души его —
обливает их жгучим холодом.
Иногда от взоров толпы жизнь скрывает свои избранные жертвы; в тиши, с рачением воскормляет их таинственною пищею мыслей, острит их ощущения; в их скудельную грудь вмещает всю безграничную свою деятельность — и, возвысив до небес дух их, жизнь с насмешкою бросает их в средину толпы; здесь они чужеземцы:
никто не понимает языка их, нет их привычной пищи, терзаемые внутренним гладом, заключенные в оковы общественных
условий, они измеряют страдание человека всею возвышен-
ностию своих мыслей, всею раздражительностию чувств
своих; в своем медленном томлении перечувствуют томление всего человечества,— тщетно рвутся они к своей мнимой отчизне — они издыхают, разуверившись в вере целого
бытия своего, и жизнь, довольная, но не насыщенная их
страданиями, с презрением бросает на их могилу бесплодный
фимиам позднего благоговения.
Были люди, которые рано узнавали коварную жизнь и,
презирая ее обманчивые призраки, с твердостию духа рано
обращались они к единственному верному и неизменному
союзнику их против ее ухищрений — ничтожеству. В древности слабоумное человечество называло их малодушными;
мы, более опытные, менее способные обманываться, назвали
их мудрейшими. Лишь они умели найти надежное средство против врага человечества и природы, против неистовой
жизни; лишь они постигли, зачем она дала человеку так много средств чувствовать и так мало способов удовлетворять
своим чувствам. Лишь они умели положить конец ее злобной деятельности и разрешить давний спор об алхимическом
камне.
В самом деле, размыслите хладнокровно,— продолжали
несчастные,— что делал человек от сотворения мира?.. Он
старался избегнуть от жизни, которая угнетала его своею
существенностию. Она вогнала человека свободного, уединенного в свинцовые условия общества, и что же? Человек несчастия одиночества заменил страданиями другого
рода, может быть, ужаснейшими: он продал обществу, как
злому духу, блаженство души своей за спасение тела. Чего
не выдумывал человек, чтоб украсить жизнь или забыть о
ней. Он употребил на это всю природу, и тщетно в языке
человеческом забывать о жизни — сделалось однозначитель-
662
пым с выражением: быть счастливым; эта мечта невозможная; жизнь ежеминутно напоминает о себе человеку. Тщетно он заставлял другого в кровавом поте лица отыскивать
ему даже тени наслаждений,— жизнь являлась в образе пресыщения, ужаснейшем самого голода. В объятиях любви человек хотел укрыться от жизни, а она являлась ему под
именами преступлений, вероломства и болезней. Вне царства жизни человек нашел что-то невыразимое, какое-то облако, которое он назвал поэзиею, философией,— в этих туманах он хотел спастись от глаз своего преследователя, а
жизнь обратила этот утешительный призрак в грозное, тлетворное привидение. Куда же еще укрыться от жизни? Мы
переступили за пределы самого невыразимого! Чего ждать
еще более? Мы исполнили, наконец, все мечты и ожидания
мудрецов, нас предшествовавших. Долгим опытом уверились
мы, что все различие между людьми есть только различие
страданий,— и достигли, наконец, до того равенства, о котором так толковали наши предки. Смотрите, как мы блаженствуем: нет между нами ни властей, ни богачей, ни машин;
мы тесно и очень тесно соединены друг с другом, мы члены
одного семейства! О люди! Люди! не будем подражать нашим предкам, не дадимся в обман,— есть царство иное, безмятежное,— оно близко, близко!»
Тиха была речь пророков отчаяния — она впивалась в
душу людей, как семя в разрыхленную землю, и росла,
как мысль, давно уже развившаяся в глубоком уединении сердца. Всем понятна и сладка была она — и всякому
хотелось договорить ее. Но, как во всех решительных эпохах человечества, недоставало избранного, который бы вполне выговорил мысль, крывшуюся в душе человека.
Наконец явился он, мессия отчаяния! Хладен был взор
его, громок голос, и от слов его мгновенно исчезали последние развалины древних поверий. Быстро вымолвил он последнее слово последней мысли человечества — и все пришло в
движение: призваны были все усилия древнего искусства,
все древние успехи злобы и мщения, все, что когда-либо могло умерщвлять человека, и своды пресеклись под легким
слоем земли, и искусством утонченная селитра, сера и уголь
наполнили их от конца экватора до другого. В уреченный,
торжественный час люди исполнили, наконец, мечтанья древних философов об общей семье и общем согласии человечества, с дикою радостию взялись за руки; громовой упрек
выражался в их взоре. Вдруг из-под глыбы земли явилась юная чета, недавно пощаженная неистовою толпою;
563
бледные, истощенные, как тени мертвецов, они еще сжимали друг друга в объятиях. «Мы хотим жить и любить посреди страданий»,— восклицали они и на коленях умоляли
человечество остановить минуту его отмщения; но это мщение было возлелеяно вековыми щедротами жизни; в ответ
раздался грозный хохот, то был условленный знак — в одно
мгновение блеснул огонь; треск распадавшегося шара потряс
солнечную систему; разорванные громады Альпов и Шим-
боразо взлетели на воздух, раздались несколько стонов...
еще... пепел возвратился на землю... И все утихло... и вечная жизнь впервые раскаялась!..
УЕДИНЕННЫЙ ДОМИК
НА ВАСИЛЬЕВСКОМ
Повесть
Кому случалось гулять кругом всего Васильевского острова, тот, без сомнения, заметил, что разные концы его весьма
мало похожи друг на друга. Возьмите южный берег, уставленный пышным рядом каменных, огромных строений, и северную сторону, которая глядит на Петровский остров и вдается длинною косою в сонные воды залива. По мерс приближения к этой оконечности, каменные здания, редея, уступают место деревянным хижинам; между сими хижинами
проглядывают пустыри; наконец строение вовсе исчезает, и
вы идете мимо ряда просторных огородов, который по левую сторону замыкается рощами; он приводит вас к последней возвышенности, украшенной одним или двумя сиротливыми домами и несколькими деревьями; ров, заросший высокою крапивой и репейником, отделяет возвышенность от
вала, служащего оплотом от разлитий; а дальше лежит луг,
вязкий, как болото, составляющий взморье. И летом печальны сии места пустынные, а еще более зимою, когда и луг, и море, и бор, осеняющий противоположные берега Петровского
острова,— все погребено в серые сугробы, как будто в могилу.
Несколько десятков лет тому назад, когда сей околоток
был еще уединеннее, в низком, но опрятном деревянном
домике, около означенной возвышенности, жила старушка,
вдова одного чиновника, служившего не помню в которой из
коллегий. Оставляя службу, он купил этот домик вместе
с огородом и намерен был завесть небольшое хозяйство;
но кончина помешала исполнению дальних его замыслов;
вдова вскоре нашла себя принужденною продать все, кроме
дома, и жить малым денежным достатком, накопленным
невинными, а может быть, отчасти и грешными трудами покойного. Все ее семейство составляли дочь и престарелая
служанка, бывшая в должности горничной и вместе кухарки. Вдалеке от света, вела она тихую жизнь, которая при
всем своем однообразии казалась бы счастливою. По праздникам в церковь; по будням утро за работою; после обеда
мать вяжет чулок, а молодая Вера читает ей Минею и
другие священные книги или занимается с нею гаданием в
566
карты — препровождение времени, которое и ныне в обыкновении у женщин. Вера давно уже достигла того возраста,
когда девушки начинают думать, как говорится в просторечии, о том, как бы пристроиться; но главную черту ее нрава составляла младенческая простота сердца; она любила
мать, любила по привычке свои повседневные занятия и,
довольная настоящим, не питала в душе черных предчувствий насчет будущего. Старушка мать думала иначе: с грустью помышляла она о преклонных летах своих, с отчаянием
смотрела на расцветшую красоту двадцатилстней дочери, которой в бедном одиночестве не было надежды когда-либо
найти супруга-покровителя. Все это иногда заставляло ее тосковать и тайно плакать; с другими старухами она, не знаю почему, водилась вовсе не охотно; зато уж и старухи не слишком ее жаловали; они толковали, будто с мужем жила она
под конец дурно, утешать ее ходил подозрительный приятель; муж умер скоропостижно и — бог знает чего не придумает злоречие.
Одиночество, в коем жила Вера с своей матерью, изредка было развлекаемо посещениями молодого, достаточно отдаленного родственника, который за несколько лет приехал
из своей деревни служить в Петербурге. Мы условимся называть его Павлом. Он звал Веру сестрицею, любил ее,
как всякий молодой человек любит пригожую, любезную девушку, угождал ее матери, у которой и был, как говорится
на примете. Но о союзе с ним напрасно было думать: он не
мог часто навещать семью Васильевского острова. Этому мешали не дела и не служба; он тем и другим занимался довольно небрежно; жизнь его состояла из досугов почти беспрерывных. Павел принадлежал к числу тех рассудительных юношей, которые терпеть не могут излишества в двух
вещах: во времени и в деньгах. Он, как водится, искал и
приискал услужливых товарищей, которые охотно избавляли
его от сих совершенно лишних отягощений и на его деньги
помогали ему издерживать время. Картежная игра, увеселения, ночные прогулки — все призвано было в помощь; и Павел был счастливейшим из смертных, ибо не видал, как
утекали дни за днями и месяцы за месяцами. Разумеется,
не обходилось и без неприятностей: иногда кошелек опустеет, иногда совесть проснется в душе в виде раскаяния или
мрачного предчувствия. Чтобы облегчить сие новое бремя,
он сперва держался обыкновения посещать Веру. Но мог ли
он без угрызений сравнить себя с этой невинною, добродетельною девушкой?
667
Итак, необходимо было искать другого средства. Он скоро
нашел его в одном из своих соучастников веселия, из которого сделал себе друга. Этот друг, которого Павел знал
под именем Варфоломея, часто наставлял его на такие проказы, какие и в голову не пришли бы простодушному Павлу; зато он умел всегда и выпутать его из опасных последствий; главное же, неоспоримое право Варфоломея на
титул друга состояло в том, что он в нужде снабжал нашего юношу припасом, которого излишество тягостно, а
недостаток еще тягостнее,— именно деньгами. Он так легко и
скоро доставал их во всяком случае, что Павлу на сей счет
приходили иногда в голову странные подозрения; он даже
решался выпытать сию тайну от самого Варфоломея; но как
скоро хотел приступить к своим расспросам, сей последний
одним взглядом его обезоруживал. Притом: «Что мне за дело,— думал Павел,— какими средствами он добывает деньги? Ведь я за него не пойду на каторгу... ни в ад!» —
прибавлял он тихомолком от своей совести. Варфоломей к
тому же имел искусство убеждать и силу нравиться, хотя
в невольных его порывах нередко обнаруживалось жестокосердие. Я забыл еще сказать, что его никогда не видали в православной церкви; но Павел и сам был не слишком
богомолен; притом Варфоломей говаривал, что он принадлежит не к нашему исповеданию. Короче, наш юноша наконец совершенно покорился влиянию избранного им друга.
Однажды в день воскресный, после ночи, потерянной в
рассеянности, Павел проснулся поздно поутру. Раскаяние,
недоверие давно так его не мучили. Первая мысль его была
идти в церковь, где давно, давно он не присутствовал. Но,
взглянув на часы, он увидел, что проспал час обедни. Яркое солнце высоко блистало па горячем летнем небосклоне.
Он невольно вспомнил о Васильевском острове. «Как виноват я перед старухою,— сказал он себе,— в последний раз
я был у ней, когда снег еще не стаял. Как весело теперь в
уединенном сельском домике. Милая Вера! Она меня любит,
может быть, жалеет, что давно не видала меня, может
быть...» Подумал и решился провести день на Васильевском.
Лишь только, одевшись, он вышел со двора, откуда ни возьмись, Варфоломей навстречу. Неприятна была встреча для
Павла; но свернуть было некуда.
— Аяк тебе, товарищ! — закричал Варфоломей издали.— Хотел звать тебя, где третьего дня были.
— ЛАне сегодня некогда,— сухо отвечал Павел.
— Вот хорошо, некогда! Ты, пожалуй, захочешь ме
568
ня уверить, что у тебя может быть дело. Вздор! Пойдем.
— Говорю тебе, некогда; я должен быть у одной родственницы,— сказал Павел, выпутывая руку свою из холодной
руки Варфоломея.
— Да! да! я и забыл об твоей Васильевской ведьме. Кстати, я от тебя слышал, что твоя сестрица довольно мила;
скажи, пожалуй, сколько лет ей?
— А мне почему знать? Я не крестил ее!
— Я сам никого не крестил отроду, а знаю наперечет и
твои лета, и всех, кто со мной запанибрата.
— Тем для тебя лучше, однако...
— Однако не в том дело,— прервал Варфоломей,— я
давно хотел туда забраться с твоею помощью. Нынче погода
чудная; я рад погулять. Веди меня с собою.
— Ей-ей, не могу,— отвечал Павел с неудовольствием,—
они не любят незнакомцев. Прощай, мне нельзя терять времени.
— Послушай, Павел,— сказал Варфоломей, сердито останавливая его рукою и бросая на него тот взгляд, который всегда имел на слабого юношу неодолимое действие.—
Я не узнаю тебя. Вчера ты скакал, как сорока, а теперь надулся, как индейский петух. Что это значит? Я не в одно
место возил тебя из дружбы; потому и от тебя могу того же
требовать.
— Так! — отвечал Павел в смущении.— Но теперь не могу исполнить этого, ибо... ибо знаю, что тебе там будет скучно.
— Пустая отговорка: если хочу, стало, не скучно. Веди
меня непременно; иначе ты не друг мне.
Павел замялся; наконец, собравшись с духом, сказал:
— Слушай, ты мне друг! Но в этих случаях, я знаю, для
тебя нет ничего святого. Вера хороша, непорочна, как ангел,
но сердце ее просто. Даешь ли ты мне честное слово не расставлять сетей ее невинности?
— Вот нашел присяжного волокиту,— прервал Варфоломей с каким-то адским смехом.— И без нее, брат, много
есть девчонок в городе. Да что толковать долго? Честного слова я не дам: ты должен мне верить или со мной
рассориться. Вези меня с собою или — давай левую.
Юноша взглянул на грозное лицо Варфоломея, вспомнил,
что и честь его, и самое имущество находятся во власти
этого человека и ссора с ним есть гибель; сердце его содрогнулось; он употребил еще несколько слабых возражений —
и согласился.
Старушка от всей души благодарила Павла за новое
569
знакомство; степенный, тщательно одетый товарищ его крайне ей понравился; она, по своему обыкновению, видела в нем
выгодного женишка для своей Веры. Впечатление, произведенное Варфоломеем па сию последнюю, было не столь выгодно: она робким приветствием отвечала на поклон его, и
живые ланиты ее покрылись внезапною бледностию. Черты
Варфоломея были знакомы Вере. Два раза, выходя из храма
божия, с душою, полною смиренными набожными чувствами,
она замечала его стоящим у каменного столпа притвора
церковного и устремляющим на нее взор, который пресекал все набожные помыслы и, как рана, оставался у нее
врезанным в душу. Но не любовной силою приковал этот
взор бедную девушку, а каким-то страхом, неизъяснимым для
нее самой. Варфоломей был статен, имел лицо правильное; но
это лицо не отражало души, подобно зеркалу, а, подобно
личине, скрывало все ее движение; и на его челе, видимо спокойном, Галль верно заметил бы орган высокомерия, порока
отверженных.
Впрочем, Вера умела скрыть свое смущение, и едва ли кто
заметил его, кроме Варфоломея. Он завел разговор общий
и был любезнее, умнее, чем когда-нибудь. Часы проходили
неприметно; после обеда предложена прогулка на взморье,
по окончании которой все воротились домой, и старушка
принялась за любимое свое препровождение вечера — гадание в карты. Но сколько ни трудилась она раскладывать,
как нарочно, ничего не выходило. Варфоломей подошел к
ней, оставя в другом углу своего друга в разговоре с Верою.
Видя досаду старухи, он заметил ей, что по ее способу
раскладывания нельзя узнать будущего и карты, как они
теперь лежат, показывают прошедшее. «Ах, мой батюшка! Да
вы, я вижу, мастер; растолкуйте мне, что же они показывают?» — спросила старушка с видом сомнения. «А вот
что»,— отвечал он и, придвинув кресла, говорил долго и тихо. Что говорил? Бог весть, только кончилось тем, что она от
него услышала такие тайны жизни и кончины покойного сожителя, которые почитала богу да ей одной известными.
Холодный пот проступил на морщинах лица ее, седые волосы стали дыбиться под чепцом; она дрожа перекрестилась.
Варфоломей поспешно отошел; он с прежней свободою вмешался в разговор молодежи; и беседа, верно, продлилась бы
до полночи, если бы наши гости не поторопились, представляя, что скоро будут разводить мост и им придется ночевать на вольном воздухе.
Не станем описывать многих других свиданий, которые
570
друзья наши имели вместе на Васильевском в продолжение лета. Для вас довольно знать, что в течение всего времени Варфоломей все более и более вкрадывался в доверенность вдовы; добродушная Вера, которая привыкла согласоваться слепо с чувствами своей матери, забыла понемногу неприятное впечатление, сперва произведенное незнакомцем; но Павел оставался для нее предметом предпочтения нескрытного, и, если сказать правду, так было за
что: частые свидания с молодою родственницей возымели на
юношу преблаготворное действие; он начал прилежнее заниматься службою, бросил многие беспутные знакомства,
словом, захотел быть порядочным человеком; с другой стороны, беспечный его нрав покорялся влиянию привычки, и
ему изредка казалось, что он может быть счастлив такою супругою, как Вера.
Предпочтение этой прелестной девушки к товарищу, казалось, должно бы оскорбить неукротимое самолюбие Варфоломея; однако он не только не изъявлял неудовольствия,
но обращался с Павлом радушнее, ласковее прежнего; Павел, платя ему дружеством искренным, совершенно откинул
все сомнения насчет замыслов Варфоломея, принимал все его
советы, поверял ему все тайны души своей. Однажды зашла у них речь о своих взаимных достоинствах и слабостях — что весьма обыкновенно в дружеской беседе на четыре глаза. «Ты знаешь, я не люблю лести,— говорил Варфоломей,— но откровенно скажу, друг мой, что я замечаю в
тебе с недавнего времени весьма выгодную перемену; и не
один я, многие говорят, что в последние шесть месяцев
ты созрел больше, чем другие созревают в шесть лет. Теперь
недостает тебе только одного: навыка жить в свете. Не шути
этим словом; я сам никогда не был охотником до света, я
знаю, что он нуль; но этот нуль десятерит достоинство единицы. Предвижу твое возражение; ты думаешь жениться на
Вере... (при сих словах Варфоломей остановился на минуту,
как будто забывшись)... ты думаешь на ней жениться,—
продолжал он,— и ничего не хочешь знать, кроме счастия
семейного да любви будущей супруги. То-то и есть: вы,
молодежь, воображаете, что обвенчался, так и бал кончен;
ан только начинается. Помяни ты мое слово — поживешь
с женою год, опять вспомнишь об людях; но тогда уж потруднее будет втереться в общество. Притом люди необходимы, особливо человеку семейному: у нас без покровителей
и правды не добудешь. Может быть, еще тебя стращает
громкое имя: большой свет! Успокойся, это манежная ло
571
шадь; она очень смирна, но кажется опасной потому, что
у ней есть свои привычки, к которым надо примениться.
Да к чему тратить слова по-пустому? Лучше поверь их
истину на опыте. Послезавтра вечер у графини И...; ты имеешь случай туда ехать. Я вчера у нее был, говорили об тебе,
и она сказала, что желает видеть твою бесценную особу».
Син слова, подобно яду, имеющему силу переворотить
внутренность, превратили все прежние замыслы и желания
юноши; никогда не бывалый в большом свете, он решился
пуститься в этот вихрь, и в условленный вечер его увидели
в гостиной графини. Дом ее стоял в не очень шумной
улице и снаружи не представлял ничего отличного; но
внутри — богатое убранство, освещение. Варфоломей уже
заранее уведомил Павла, что на первый взгляд иное покажется ему странным; ибо графиня недавно приехала из чужих краев, живет на тамошний! лад и принимает к себе
общество небольшое, но зато лучшее в городе. Они застали
нескольких пожилых людей, которые отличались высокими
париками, шароварами огромной ширины и не скидали перчаток во весь вечер. Это не совсем согласовалось с тогдашними модами среднего петербургского общества, которые одни были известны Павлу, но Павел уже положил себе
за правило не удивляться ничему, да и когда ему было заметить сии мелочи? Его вниманием овладела хозяйка совершенно. Вообразите себе женщину знатную, в пышном цвете юности, одаренную всеми прелестями, какими природа
и искусство могут украсить женский пол на пагубу потомков Адамовых, прибавьте, что она потеряла мужа и в обращенье с мужчинами может позволить себе ту смелость, которая более всего пленяет неопытного. При таких искушениях
мог ли девственный образ Веры оставаться в сердце переменчивого Павла? Страсти загорелись в нем; он все употребил, чтобы снискать благоволение красавицы, и после
повторенных посещений заметил, что она неравнодушна к его
стараниям. Какое открытие для пламенного юноши! Павел
не впдал земли под собой, он уже мечтал... Но случилась
неприятность, которая разрушила все его отважные воздушные замки. Однажды, будучи в довольно многолюдном обществе у графини, он увидел, что она в стороне говорит
тихо с одним мужчиною; надобно заметить, что этот молодец
щеголял непомерным образом и, несмотря на все старания,
не мог, однако, скрыть телесного недостатка, за который Павел с Варфоломеем заочно ему дали прозванье косоногого;
любопытство, ревность заставили Павла подойти ближе, и
572
ему послышалось, что мужчина произносит его имя, шутит
над его дурным французским выговором, а графиня изволит отвечать на это усмешками. Наш юноша взбесился,
хотел тут же броситься и наказать насмешника, но удержался при мысли, что это подвергнет его новому, всеобщему посмеянию. Он тот же час оставил беседу, не говоря
ни слова, и поклялся ввек не видеть графиню.
Растревоженный в душе, он опять вспомнил о давно
покинутой им Вере, как грешник среди бездны разврата
вспоминает о пути спасения. Но на этот раз он не нашел
близ милой девушки желаемой отрады; Варфоломей хозяином господствовал в доме и того, кто ввел его туда за несколько месяцев, принимал уже как гостя постороннего.
Старуха была больна, и не на шутку. Вера казалась в страшных суетах и развлечении; Павла приняла она с необычайною холодностию и, занимаясь им, сколько необходимо требовало приличие, готовила лекарства, бегала за служанкою,
ухаживала за больною и нередко призывала Варфоломея к
себе на помощь. Все это, разумеется, было странно и досаждало Павлу, на которого теперь, как на бедного Макара,
валилась одна неудача за другою. Он хотел было затеять
объяснение, но побоялся растревожить больную старуху и
Веру, без того уже расстроенную болезнию матери. Оставалось одно средство — объясниться с Варфоломеем. Приняв
такое решение, Павел, извиняясь головною болью, откланялся немного спустя после обеда и, не удержанный никем, уехал, намекнув Варфоломею с некоторою крутостию,
что желает его видеть в завтрашнее утро.
Чтобы вообразить себе то состояние, в каком несчастный
Павел ожидал на другой день своего бывшего друга и настоящего соперника, должно понять все различные страсти,
которые в то время боролись в душе его и, как хищные
птицы, словно хотели разорвать между собою свою жертву.
Он поклялся забыть навеки графиню, и между тем в сердце
пылал любовию к изменнице; привязанность его к Вере была
не столь пламенна; но он любил ее любовью братскою,
дорожил добрым ее мнением, а в нем почитал себя потерянным надолго, если не навеки. Кто же был виновник
всех этих напастей? Коварный Варфоломей, этот человек,
которого он некогда называл своим другом и который, по его
мнению, так жестоко обманул его доверенность. С каким
нетерпением ждал его к себе Павел, с какою досадою он
смотрел на улицу, где бушевала точно такая же метель,
как и в душе его! «Бездельник,— думал он,— воспользуется
673
непогодою, он избежит моей правдивой мести; он лишит меня последней отрады — сказать ему в бесстыдные глаза,
до какой степени я его ненавижу!»
Но в то время, как Павел мучился сомнением, отворилась дверь, и Варфоломей вошел с таким же мраморным спокойствием, с каким статуя Командора приходит на
ужин к Дон-Жуану. Однако лицо его вскоре приняло выражение более человеческое; он приблизился к Павлу и
сказал ему с видом сострадательной приязни: «Ты на себя
не похож, друг мой; что причиною твоей горести? Открой
мне свое сердце».
— Я тебе не друг! — закричал Павел, отскочив от него в
другой угол комнаты, как от лютой змеи; дрожа всеми составами, с глазами, налитыми кровью и слезами, юноша
опрометью высказал все чувства души, может быть и несправедливо разгневанной.
Варфоломей выслушал его с каким-то обидным равнодушием и потом сказал:
— Речь твоя дерзка и была бы достойна наказания; но
я тебе прощаю: ты молод и цены еще не знаешь ни словам, ни людям. Не так говорил ты со мной, бывало, когда
без моей помощи приходилось тебе хоть шею совать в петлю. Но теперь все это забыто, потому что холодный прием
девушки раздражил твою самолюбивую душонку. Изволит
пропадать по целым месяцам, творит неведомо с кем неведомо какие проказы, а я за него терпи и не ходи, куда мне
хочется. Нет, сударь, буду ходить к старухе, хоть бы тебе
одному назло. Притом у меня есть и другие причины:
не стану таить их — знай, Вера влюблена в меня.
— Лжешь, негодяй! — воскликнул Павел в исступлении.— Может ли ангел любить дьявола?
— Тебе простительно не верить,— отвечал Варфоломей с
усмешкою,— природа меня не изукрасила наравне с тобою;
зато ты и пленяешь знатных барынь, и пленяешь навеки,
постоянно, неизменчиво.
Этой насмешки Павел не мог вынести, тем более что он
давно подозревал Варфоломея в содействии к его разладу
с графинею. Он в ярости кинулся на соперника, хотел
убить его на месте; но в эту минуту он почувствовал себя
ударенным под ложку; у него дух занялся, и удар, без всякой боли, на миг привел его в беспамятство. Очнувшись,
он нашел себя у противной стены комнаты, дверь была
затворена, Варфоломея не было, и, как будто из
просонок, он вспоминал последние слова его: «Поти-
574
ше, молодой человек, ты не с своим братом связался».
Павел дрожал от ужаса и гнева; тысячи мыслей быстро
сменялись в голове его. То решался он отыскать Варфоломея хоть на краю света и размозжить ему череп; то хотел идти к старухе и обнаружить ей и Вере все прежние
проказы изменника; вспоминал об очаровательной графине,
хотел то заколоть ее, то объясниться с нею, не изменяя
прежнему решению: последнее согласить, конечно, было трудно. Грудь его стеснилась; он, как полоумный, выбежал во
двор, чувствуя в себе признаки воспалительной горячки;
бледный, в беспорядке, рыскал он по улицам и, верно,
нашел бы развязку всем сомнениям в глубокой Неве, если б
она, к счастию, не была закутана в то время ледяною своей
шубою.
Утомилась ли судьба преследовать Павла или хотела
только сильнее уязвить его минутным роздыхом в несчастиях,
он, воротясь домой, был встречен неожиданным исполнением главного своего желания. В прихожей дожидал его богато одетый слуга графини И..., который вручил ему записку;
Павел с трепетом развертывает и читает следующие слова,
начертанные слишком ему знакомою рукою графини:
«Злые люди хотели поссорить нас; я все знаю; если в
вас осталась капля любви ко мне, капля сострадания, придите в таком-то часу вечером. Вечно твоя И.».
Как глупы любовники! Павел, пробежав сии магические
строки, забыл и дружбу Веры, и неприязнь Варфоломея;
весь мир настоящий, прошедший п грядущий стеснился для
него в лоскутке бумаги; он прижимает к сердцу, целует
его, подносит несколько раз к свету. «Нет! — восклицает
он в восторге.— Это не обман; я точно, точно счастлив;
так не напишет, не может написать никто, кроме ее одной.
Но не хочет ли плутовка зазвать и морочить меня, и издеваться надо мною по-прежнему? Нет! Клянусь, не бывать
этому. «Твоя — вечно твоя», пусть растолкует мне на опыте,
что значит это слово. Не то... добрая слава ее теперь в моих
руках».
В урочный час наш Павел, пригожий и разряженный, уже
на широкой лестнице графини; его без доклада провожают в
гостиную, где, к его досаде, собралось уже несколько посетителей, между которыми, однако, не было косоногого.
Хозяйка приветствует его сухо, едва говорит с ним; но она
недаром на него уставила большие черные глаза свои и томно опустила их: мистическая азбука любящих, непонятная
профанам. Гости принимаются за игру; хозяйка, отказыва
675
ясь, уверяет, что ей приятно садиться близ каждого из игроков поочередно, ибо она надеется ему принести счастие.
Все не надивятся ее тонкой вежливости. Немного спустя:
«Вы у нас давно не были,— говорит графиня, оборачиваясь к юноше,— замечаете ли некоторые перемены в уборах
этой комнаты? Вот, например, занавесы висели сперва на
лавровых гирляндах; но мне лучше показалось заменить их
стрелами».— «Недостает сердец»,— отвечает Павел полусухо, полувежливо. «Но не в одной гостиной,— продолжает
графиня,— есть новые уборы», и вставая с кресел: «Не хотите ли,— говорит она,— заглянуть в диванную; там развешаны привезенные недавно гобелены отличного рисунка».
Павел с поклоном идет за ней. Неизъяснимым чувством
забилось его сердце, когда он вошел в эту очарованную
комнату. Это была вместе зимняя оранжерея и диванная.
Миртовые деревья, расставленные вдоль степ, укрощали яркость света канделябров, который, оставляя роскошные диваны в тени за деревьями, тихо разливался на гобеленовые обои, где в лицах являлись, внушая сладострастие,
подвиги любви богов баснословных. Против анфилады стояло
трюмо, а возле на стене похищение Европы — доказательство власти красоты хоть из кого сделать скотину. У этого
трюмо начинается роковое объяснение. Всякому просвещенному известно, что разговор любящих всегда есть самая
жестокая амплификация: итак, перескажу только сущность
его. Графиня уверяла, что насмешки ее над дурным французским выговором относились не к Павлу, а к одному его
соименнику, что она долго не могла понять причины его отсутствия, что, наконец, Варфоломей се наставил, и прочее,
и прочее. Павел, хотя ему казались странными сведения
Варфоломея в таком деле, о котором никто ему не сказывал, и роль миротворца, которую он принял на себя при
этом случае, поверил, разумеется, всему; однако упорно
притворялся, что ничему не верит. «Какого же еще доказательства хотите вы?» — спросила наконец графиня с нежным нетерпением. Павел, как вежливый юноша, в ответ поцеловал жарко ее руку; она упрямилась, робела, спешила к гостям; он становился на колени и, крепко держа руки ее, грозил, что не выпустит, да к этому в прибавок сию же минуту
застрелится. Сия тактика имела вожделенный успех — и
тихое, дрожащее рукопожатие с тихим шепотом: «Завтра
в 11 часов ночи, на заднее крыльцо» — громче пороха и пушек возвестили счастливому Павлу торжество его.
Графиня весьма кстати воротилась в гостиную; между
576
двумя из игроков только что не дошло до драки. «Смотрите,— сказал один графине, запыхавшись от гнева,— я
даром проигрываю несколько сот душ, а он...» — «Вы хотите сказать — несколько сот рублей»,— прервала она с важностью. «Да, да... я виноват... я ошибся»,— отвечал спорщик, заикаясь и посматривая искоса на юношу. Игроки замяли спор, и всю суматоху как рукой сняло. Павел на сей
раз пропустил все мимо ушей. Волнение души не позволило
ему долго пробыть в обществе, он спешил домой предаться
отдыху, но сон долго не опускался на его вежды; самая
действительность была для него сладким сновиденьем. Распаленной его фантазии бессменно предстояли черные, больше, влажные очи красавицы. Они сопровождали его и во время сна; но сны, от предчувствия ли тайного, от волнения
ли крови, всегда кончались чем-то странным. То прогуливался он по зеленой траве; перед ним возвышались два
цветка, дивные красками; но лишь только касался он стебля, желая сорвать их, вдруг взвивалась черная, черная змея
и обливала цветки ядом. То смотрел он в зеркало прозрачного озера, на дне которого у берега играли две золотые
рыбки; но едва опускал он к ним руку, земноводное чудовище, стращая, пробуждало его. То ходил он ночью под благоуханным летним небосклоном, и на высоте сияли неразлучно две яркие звездочки; но не успевал он налюбоваться
ими, как зарождалось черное пятно на темном западе и,
растянувшись в длинного облачного змея, пожирало звездочки. Всякий раз, как такое видение прерывало сон Павла,
встревоженная мысль его невольно устремлялась на Варфоломея; но через несколько времени черные глаза снова одерживали верх, покуда новый ужас не прерывал мечты пленительной. Несмотря на все это, Павел, проспавши до полудня, встал веселее чем когда-нибудь. Остальные 11 часов
дня, как водится, показались ему вечностию.Не успело смеркнуться, как он уже бродил вокруг дома графини; не принимали никого, не зажигали огня в парадных комнатах, только в одном дальнем углу слабо мерцал свет: «Там ждет меня прелестная»,— думал про себя Павел, и заранее душа его
утопала в наслаждении.
Протяжно пробило одиннадцать часов на Думской башне,
и Павел, любовью окрыленный... Но здесь я прерву картину
свою и, в подражание лучшим классическим и романтическим писателям древнего, среднего и новейшего времени, предоставлю вам дополнить ее собственным запасом воображения. Коротко и ясно: Павел думал уже вкусить блажен
19 Заказ 14
577
ство... как вдруг постучались тихонько у двери кабинета;
графиня в смущении отворяет; доверенная горничная входит с докладом, что на заднее крыльцо пришел человек,
которому крайняя нужда видеть молодого господина. Павел
сердится, велит сказать, что некогда, колеблется, выходит
в прихожую, ему говорят, что незнакомый ушел сию минуту.
Он возвращается к любезной. «Ничто с тобой не разлучит
меня»,— говорит он страстно. Но вот стучатся снова, и горничная входит с повторением прежнего. «Пошлите к черту незнакомца,— кричит Павел, топнув ногою,— или я убью его»;
выходит, слышит, что и тот вышел; сбегает по лестнице во
двор, но там ничто не колыхнется, и лишь только снег безмолвно валит хлопьями на землю. Павел бранит слуг, запрещает пускать кого бы то ни было, возвращается пламеннее прежнего к встревоженной графине; но прошло несколько минут, и стучатся в третий раз, еще сильнее, продолжительнее. «Нет, полно! — закричал он вне себя от ярости.—
Я доберусь, что тут за привидение; это какая-нибудь
шутка».— Вбегая в прихожую, он видит край плаща, который
едва успел скрыться за затворяемой дверью; опрометью накидывает он шинель, хватает трость, бежит на двор и слышит стук калитки, которая лишь только захлопнулась за
кем-то. «Стой, стой, кто ты таков? — кричит вслед ему
Павел и, выскочив на улицу, издали видит высокого мужчину, который как будто останавливается, чтобы поманить
его рукою, и скрывается в боковой переулок. Нетерпеливый
Павел за ним следует, кажется, нагоняет его; тот снова останавливается у боковой улицы, манит и исчезает. Таким
образом юноша следит за незнакомцем из улицы в улицу, из
закоулка в закоулок и наконец находит себя по колена в сугробе, между низенькими домами, на распутии, которого никогда отроду не видывал; а незнакомец пропал безо всякого
следа. Павел остолбенел, и признаюсь, никому бы не завидно,
пробежав несколько верст, очнуться в снегу в глухую полночь, у черта на куличках. Что делать? идти? — заплутаешься; стучаться у ближних ворот? — не добудишься. К неожиданной радости Павла, проезжают сани. «Ванька! — кричит он.— Вези меня домой в такую-то улицу». Везет послушный Ванька невесть по каким местам, скрыпит снег
под санями, луна во вкусе Жуковского неверно светит путникам сквозь облака летучие. Но едут долго, долго, все нет
места знакомого; и наконец вовсе выезжают из города. Павлу пришли, естественно, на мысль все старые рассказы о мертвых телах, находимых на Волховом поле, об извозчиках,
578
которые там режут седоков своих, и т. п. «Куда ты везешь
меня?» — спросил он твердым голосом; не было ответа. Тут,
при свете луны, он захотел всмотреться в жестяной билет
извозчика и, к удивлению, заметил, что на этом билете не
было означено ни части, ни квартала, но крупными цифрами странной формы и отлива написан был № 666, число
Апокалипсиса, как он позднее вспомнил. Укрепившись в подозрении, что он попал в руки недобрые, наш юноша еще
громче повторил прежний вопрос и, не получив отзыва, со
всего размаху ударил своей палкою по спине извозчика.
Но каков был его ужас, когда этот удар произвел звон
костей о кости, когда мнимый извозчик, оборотив голову,
показал ему лицо мертвого остова, и когда это лицо, страшно оскалив челюсти, произнесло невнятным голосом: «Потише, молодой человек, ты не со своим братом связался».
Несчастный юноша только имел силу сотворить знамение
креста, от которого давно руки его отвыкли. Тут санки
опрокинулись, раздался дикий хохот, пронесся страшный
вихрь; экипаж, лошадь, ямщик — все сравнялось с снегом, и
Павел остался один-одииехонек за городскою заставою,
еле живой от страха.
На другой день юноша лежал изнеможенный на кровати в
своей комнате. Подле него стоял добрый престарелый дядька
и, одной рукой держа вялую руку господина, часто отворачивался, чтобы стереть другой слезу, украдкой навернувшуюся на подслепую зеницу его. «Барин, барин,— говорил
он,— недаром докладывал я вашей милости, что не бывает
добра от ночной гульбы. Где вы пропадали? Что это с вами
сделалось?» Павел не слыхал его: он то дикими глазами глядел по нескольку времени в угол, то впадал в дремоту,
впросонках дрожал и смеялся, то вскакивал с постели
как сумасшедший, звал имена женские, потом опять бросался лицом на подушки. «Бедный Павел Иванович! — думал
про себя дядька.— Господь его помилуй, он верно ума лишился», и в порыве добросердечия, улучив первую удобную
минуту, побежал за врачом. Врач покачал головою, увидя
больного, не узнававшего окружающих, и ощупав лихорадочный пульс его. Наружные признаки противоречили один
другому, и по ним ничего нельзя было заключить о болезни; все подавало повод думать, что ее причина крылась в душе, а не в теле. Больной почти ничего не вспоминал о прошедшем; душа его, казалось, была замучена каким-то ужасным предчувствием. Врач, убежденный верным дядькою, с
ним вместе не отходил целый день от одра юноши; к вече
19*
579
ру состояние больного сделалось отчаянно; он метался, плакал, ломал себе руки, говорил о Вере, о Васильевском острове, звал на помощь, к кому и кого, бог весть, хватал
шапку, рвался в дверь, и соединенные усилия врача и слуги
едва смогли удержать его. Сей ужасный кризис продолжался за полночь; вдруг больной успокоился — ему стало
легче; но силы душевные и телесные совершенно были убиты
борьбою; он погрузился в мертвый сон, после коего прежний
кризис возобновился.
Припадок одержал юношу полные трое суток с переменчивою силою; на третье утро, начиная чувствовать в себе
более крепости, он вставал с постели, когда ему сказали, что
в прихожей дожидается старая служанка вдовы. Сердце не
предвещало ему доброго; он вышел: старушка плакала навзрыд. «Так! Еще несчастие! — сказал Павел, подходя к
ней.— Не мучь меня, голубушка; все скорее выскажи».—
«Барыня приказала долго жить,— отвечала старушка,— а
барышне бог весть долго ли жить осталось».— «Как? Вера?
Что?» — «Не теряйте слов, молодой барин: барышне нужна
помощь. Я прибрела пешком; коли у вас доброе сердце, едемте к ней сию минуту: она в доме священника церкви Андрея Первозванного».— «В доме священника? Зачем?» —
«Бога ради, одевайтесь, все после узнаете». Павел окутался, и поскакали на Васильевский.
Когда он в последний раз видел Веру и мать ее, вдова
уже давно страдала болезнию, которая при ее преклонных
летах оставляла не много надежды на исцеление. Слишком
бедная, чтобы звать врача, она пользовалась единственно
советами Варфоломея, который, кроме других сведений, хвалился некоторым знакомством с медициною. Деятельность
его была неутомима: он успевал утешать Веру, ходить за
больною, помогать служанке, бегать за лекарствами, которые
приносил иногда с такой скоростию, что Вера дивилась,
где он мог найти такую близкую аптеку. Лекарства, доставленные им, хотя и не всегда помогали больной, но постоянно придавали ей веселости. И странно, что чем ближе
подходила она к гробу, тем неотлучнее пребывали ее мысли
прикованы к житейскому. Она спала и видела о своем выздоровлении; о том, как ее дети Варфоломей и Вера пойдут под венец и начнут жить да поживать благополучно,
боялась, не будет ли этот домик тесен для будущей семьи,
удастся ли найти другой, поближе к городу, и проч, и проч.
Мутная невыразительность кончины была в глазах, когда
она, подозвав будущих молодых к своей постели, с какой-то
580
нелепою улыбкой говорила: «Не стыдись, моя Вера, поцелуйся с женихом своим; я боюсь ослепнуть, и тогда уже не
удастся мне смотреть на ваше счастие». Между тем рука
смерти все более и более тяготела над старухою: зрение
и память час от часу тупели. В Варфоломее не заметно было
горести; может быть, самые хлопоты, беспрерывная беготня
помогали ему рассеяться. Веру же тревожили размышления
об матери, как и о самой себе. Какой невесте не бывает
страшно перед браком? Однако она всячески старалась успокоить себя. «Я согрешила перед богом,— думала девица,—
не знаю, почему я сперва почла Варфоломея за лукавого, за
злого человека. Но он гораздо лучше Павла; посмотрите,
как он старается о матушке: сам себя, бедный, не жалеет —
стало, он не злой человек». Вдруг мысли ее туманились.
«Он крутого нрава,— говорила она себе,— когда чего не хочет и скажешь ему: Варфоломей, бога ради, это сделайте,—
он задрожит и побледнеет. Но,— продолжала Вера, мизинцем стирая со щеки слезинку,— ведь я сама не ангел;
у всякого свой крест и свои пороки: я буду исправлять его,
а он меня».
Тут приходили ей на ум новые сомнения: «Он, кажется,
богат; честными ли он средствами добыл себе деньги? Но это
я выспрошу, ведь он меня любит». Так утешала себя добрая,
невинная Вера; а старухе между тем все хуже да хуже. Вера
сообщила свой страх Варфоломею, спрашивала даже, не
нужно ли призвать духовника; но он горячился и сурово отвечал: «Хотите ускорить кончину матушки? Это лучший способ. Болезнь ее опасна, но еще не отчаянна. Что ее поддерживает? Надежда исцелиться. А призовем попа, так отнимем последнюю надежду». Робкая Вера соглашалась, побеждая тайный голос души; но в этот день,— и заметьте,
это было на другой день рокового свидания Павла с прелестной графинею,— опасность слишком ясно поразила вещее
сердце дочери. Отозвав Варфоломея, она ему сказала решительным голосом: «Царем небесным заклинаю вас, не оставьте матушку умереть без покаяния: бог знает, проживет
ли она до завтра» — и упала на стул, заливаясь слезами.
Что происходило тогда в Варфоломее? Глаза его катались,
на лбу проступал пот, он силился что-то сказать и не мог
выговорить. «Девичье малодушие,— пробормотал он напоследок.— Ты ничему не веришь... вы, сударыня, не верите
моему знанию медицины... Постойте... у меня есть знакомый
врач, который больше меня знает... жаль, далеко живет он».
Тут он схватил руку девицы и, подведя ее стремительно к
581
окну, показал на небо, не поднимая глаз своих: «Смотрите, там еще не явится первая звезда, как я буду назад, и тогда решимся; обещаете ли только не звать духовника до моего
прихода?» — «Обещаю, обещаю». Тогда послышался протяжный вздох из спальней. «Спешите,— закричала Вера,
бросаясь к дверям ее, потом оборотилась, взглянула еще
раз с умилением грусти неописанной на вкопанного и,
махнув ему рукою, повторила: — Спешите ради меня, ради
бога». Варфоломей скрылся.
Мало-помалу зимний небосклон окутывался тучами, а в
больной жизнь и тление выступали впоследние на смертный
поединок. Снег начинал падать; порывы летучего ветра заставляли трещать оконницы. При малейшем хрусте снега
Вера подбегала к окну смотреть, не Варфоломей ли возвращается; но лишь кошка мяукала, галки клевались на воротах и калитку ветер отворял и захлопывал. Ночь с своей
черной пеленою приспела преждевременно; Варфоломея нет
как нет, и на своде небесном не блещет ни одной звезды.
Вера решилась послать по духовника старую служанку;
долго не возвращалась она, и немудрено, потому что не было
ни одной церкви ближе Андрея Первозванного. Но хлопнула
калитка, и вместо кухарки явился Варфоломей, бледный и
расстроенный. «Что? Надежды нет?»— прошептала Вера.
«Мало,— сказал он глухим голосом,— я был у врача; далеко
живет он, много знает...»— «Да что же говорит он, бога ради?» — «Что до того нужды?.. За попом теперь посылать
время. А! Вижу; вы послали уже... туда и дорога!» —
сказал он с какой-то сухостью, в которой обнаруживалось
отчаяние.
Чрез несколько времени, уже в глухую ночь, старая служанка прибрела с вестью, что священника нет дома, но, когда воротится, ему скажут и он тотчас придет к умирающей. Об этом решились предварить ее. «С умом ли вы,
дети,— сказала она слабо,— неужто я так хвора? Вера! Что
ты хныкаешь? Вынеси лампаду; сон меня поправит». Дочь лобызала руку матери, а Варфоломей во все время безмолвствовал поодаль, уставив на больную глаза, которые, когда
лампада роняла на них свое мерцание, светились как уголья.
Вера с кухаркою стояли на коленях и молились. Варфоломей, ломая себе руки, беспрестанно выходил в сени, жалуясь на жар в голове. Чрез полчаса он вошел в спальню и как
сумасшедший выбежал оттуда с вестью: «Все кончено!» Не
стану описывать, что в сию минуту почувствовала Вера!
Однако сила ее духа была необычайная. «Боже! Это воля
682
твоя!» — произнесла она, поднимая руки к небу; хотела идти; но телесные силы изменили, она полумертвая опустилась на кресла, и не стало бы несчастной, если б внезапный поток слез не облегчил ее стесненной груди. Между
тем старуха, воя, обмыла труп, поставила свечу у изголовья
и пошла за иконою; но тут же от усталости ли, от иной ли причины забылась сном неодолимым. В эту минуту Варфоломей
подошел к Вере. У самого беса растаяло бы сердце: так
она была прелестна в своей горести. «Ты меня не любишь,—
воскликнул он страстно,— я с твоей матерью потерял единственную опору в твоем сердце». Девицу испугало его отчаяние. «Нет, я тебя люблю»,— отвечала она боязливо. Он
упал к ногам ее. «Клянись,— говорил он,— клянись, что ты
моя, что любишь меня-более души своей». Вера никогда не
ожидала б такой страсти в этом холодном человеке. «Варфоломей, Варфоломей,— сказала она с робкою нежностию,—
забудь грешные мысли в этот страшный час; я поклянусь, когда схороним матушку, когда священник в храме божием нас
благословит...» Варфоломей не выслушал ее и, как исступленный, ну молоть околесную: уверял, что это всё пустые обряды, что любящим не нужно их, звал ее с собою в какое-то
дальнее отечество, обещал там осыпать блеском княжеским,
обнимал ее колена со слезами. Он говорил с такою страстью, с таким жаром, что все чудеса, о которых рассказывал, в ту минуту казались вероятными. Вера уже чувствовала твердость свою скудеющей, опасность пробудила ее силу душевную; она вырвалась и побежала к дверям спальней,
где думала найти служанку; Варфоломей заступил ей дорогу
и сказал уже с притворною холодностью, с глазами свирепыми: «Послушай, Вера, не упрямься; тебе не добудиться
ни служанки, ни матери: никакая сила не защитит тебя от
моей власти».— «Бог защитник невинных»,— закричала бедняжка, в отчаянии бросаясь на колени пред распятием. Варфоломей остолбенел, его лицо изобразило бессильную злобу. «Если так,— возразил он, кусая себе губы,— если так...
мне, разумеется, с тобою делать нечего; но я заставлю твою
мать сделать тебя послушною».— «Разве она в твоей власти?» — спросила девица. «Посмотри»,— отвечал он, уставивши глаза на полурастворенную дверь спальной, и Вере
привиделось, будто две струи огня текут из его глаз и будто
покойница, при мерцании свечи нагоревшей, приподнимает голову с мукою неописанной и иссохшею рукою машет ей к Варфоломею. Тут Вера увидела, с кем имеет дело.
«Да воскреснет бог! И ты исчезни, окаянный»,— вскрик
583
нула она, собрав всю силу духа, и упала без памяти.
В этот миг словно пушечный выстрел пробудил спящую
служанку. Она очнулась и в страхе увидела двери отворенными настежь, комнату в дыму и синее пламя, разбегавшееся по зеркалу и гардинам, которые покойница получила в
подарок от Варфоломея. Первое ее движение было схватить
кувшин воды, в углу стоявший, и выплеснуть на поломя;
но огонь заклокотал с удвоенною яростию и опалил седые
волосы кухарки. Тут она без памяти вбежала в другую
комнату, с криком: «Пожар, пожар!» Увидя свою барышню
на полу без чувства, схватила ее в охапку и, вероятно,
получив от страха подкрепление своим дряхлым силам, вытащила ее на мост за ворота. Близкого жилья не было, помощи искать негде; пока она оттирала снегом виски полумертвой, пламя показалось из окон, из труб и над крышею.
На зарево прискакала команда полицейская с ведрами,
ухватами; ибо заливные трубы еще не были тогда в общем употреблении. Сбежалась толпа зрителей, и в числе их
благочинный церкви Андрея Первозванного, который шел с
дарами посетить умиравшую. Он не был в особенных ладах с
покойницей и считал ее за дурную женщину; но он любил
Веру, о которой слыхал много хорошего от дочери, и, соболезнуя несчастию, обещал деньги пожарным служителям, если успеют вытащить тело, чтобы доставить покойнице хоть
погребение христианское. Но не тут-то было. Огонь, разносимый вьюгою, презирал все действия воды, все усилия
человеческие; один полицейский капрал из молодцов задумал было ворваться в комнаты, дабы вынести труп, но пробыл минуту и выбежал в ужасе; он рассказывал, будто
успел уже добраться до спальней и только что хотел подойти к одру умершей, как вдруг спрыгнула сверху образина
сатанинская, часть потолка с ужасным треском провалилась, и он только особенною милостию Николы-чудотворца
уберег на плечах свою головушку, за что обещал тут же
поставить полтинную перед его образом. Между собою зрители толковали, что он трус и упавшее бревно показалось ему бесом; но капрал остался тверд в своем убеждении и
до конца жизни проповедовал в шинках, что на своем веку
лицезрел во плоти нечистого со хвостом, рогами и большим
горбатым носом, которым он раздувал поломя, как мехами в
кузнице. «Нет, братцы, не приведи вас бог увидеть окаянного». Сим красноречивым обетом наш гений всегда заключал повесть свою, и хозяин в награду его смелости и глубокого впечатления, произведенного рассказом на просве
584
щенных слушателей, даром подносил ему полную стопу чистейшего пенника.
Итак, невзирая на все старания команды, которой деятельным усилиям в сем случае потомство должно, впрочем,
отдать полную справедливость, уединенный домик Васильевского острова сгорел до основания, и место, где стоял он, не
знаю почему, до сих пор остается незастроенным. Престарелая служанка, при пособии благочинного с причетом
приходским, воскресив Веру из обморока, нашла с нею убежище в доме сего достойного пастыря. Пожар случился
столь нечаянно и все обстоятельства оного были так странны, что полиция нашла нужным о причинах его учинить
подробное исследование. Но как подозрение не могло падать
на старую служанку, а еще менее на Веру, то зажигателем
ясно оказался Варфоломей. Описали его приметы, искали его
явным и тайным образом не только во всех кварталах, но
и во всем уезде Петербургском; но все было напрасно: не
нашли и следов его, что было тем более удивительно, что
зимою нет судоходства и, следственно, ему никакой не было
возможности тихонько отплыть на иностранном корабле в чужие край. Неизвестно, до чего могло бы довести долгое
исследование; но благочинный, любя Веру душевно и не зная,
до какой глубины могли простираться ее связи с этим человеком, благоразумно употребил свое влияние, дабы потушить
дело и не дать ему большей гласности.
Таким образом, Павел, за которым послали на третий
день, узнав от старухи дорогою, что было ей известно из
цепи несчастных приключений, нашел юную свою родственницу больную в жилище отца Иоанна. Гостеприимное семейство пригласило его остаться там до ее выздоровления.
Ветреный молодой человек испытал в короткое время столько душевных ударов и сокровенные причины их оставались
в таком ужасном мраке, что сие произвело действие неизгладимое на его воображение и характер. Он остепенился и нередко впадал в глубокую задумчивость. Он забывал и прелести таинственной графини, и буйные веселия
юности, сопряженные с такими пагубными последствиями.
Одно его моление к небу состояло в том, чтобы Вера исцелилась и он мог служить для нее образцом верного супруга.
В минуты уединенного свидания он решался предлагать
ей сии мысли; но она, впрочем оказывая ему сестрину доверчивость, с неизменной твердостью отвергала их. «Ты молод, Павел,— говорила она,— а я отцвела мой век; скоро
примет меня могила, и там бог милосердный, может быть,
585
пошлет мне прощение и спокойствие». Эта мысль ни на час
не оставляла Веру; притом ее, кажется, мучило тайное убеждение, что она своею слабостью допустила злодея совершить
погибель матери в сей, а может быть — кто знает? — ив будущей жизни. Никакое врачевство не могло возвратить ей
ни веселости, ни здоровья. Поблекла свежесть ланит ее —
небесные глаза, утратив прежнюю живость, еще пленяли
томным выражением грусти, угнетавшей душу ее прекрасную.
Весна не успела еще украсить луга новою зеленью, когда
сей цветок, обещавший пышное развитие, сокрылся невозвратно в лоне природы всеприемлющей.
Надобно догадываться, что Вера пред кончиною, кроме
духовного отца, поверила и Павлу те обстоятельства последнего года своей жизни, которые могли быть ей одной известными. Когда она скончалась, юноша не плакал, не обнаруживал печали. Но вскоре потом он оставил столицу и, сопровождаемый престарелым слугою, поселился в дальней
вотчине. Там во всем околотке слыл он чудаком и в самом
деле показывал признаки помешательства. Не только соседи,
но самые крестьяне и слуги после его приезда ни разу нс видали его. Он отрастил себе бороду и волосы, не выходил по
три месяца из кабинета, большую часть приказаний отдавал
письменно, и то еще, когда положат на его стол бумагу к
подписанию, случалось, что он вместо своего имени возвратит ее с чужою, странною подписью. Женщин не мог он
видеть, а при внезапном появлении высокого белокурого
человека с серыми глазами приходил в судороги, в бешенство.
Однажды, шагая, по своему обыкновению, по комнате, он
подошел к двери в то самое время, как Лаврентий отворил ее неожиданно, чтоб доложить ему о чем-то. Павел
задрожал: «Ты — не я уморил ее»,— сказал он отрывисто
и через неделю просил прощения у старого дядьки, ибо вытолкнул его так неосторожно, что тот едва не проломил себе
затылок о простенок. «После этого,— говорил Лаврентий,—
я всегда прежде постучусь, а потом уже войду с докладом к
его милости».
Павел умер, далеко не дожив до старости. Повесть его и
Веры известна некоторым лицам среднего класса в Петербурге, чрез которых дошла и до меня по изустному преданию. Впрочем, почтенные читатели, вы лучше меня рассудите,
можно ли ей поверить и откуда у чертей эта охота вмешиваться в людские дела, когда никто не просит их?
Тит Космократов
Е.П. Гребенка
СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ
Народное предание
В давние времена, когда люди были добрее, земля плодороднее и по белу свету много таскалось колдунов, оборотней, ведьм, упырей и всякой болотной и лесной сволочи,— в те времена, в стороне казачьей, в Малороссии,
на берегу Удая широкого, жил казак богатый, Иван —
добрый человек. Многочисленные стада его паслись на
зеленых лугах прибережных; ежегодно нивы его волновались богатыми жатвами и обширный сад отягчался плодами.
Не два явора развесистые шумят возле дуба столетнего — два сына-казака растут у Ивана — доброго человека;
не зеленая ветка хмеля вьется вокруг пня дубового —
молодая дочь лелеет старость Ивана.
Добрый человек жил спокойно и счастливо. Но долго
ли до беды? В обширный сад его, говорят, по навету какой-то злой ведьмы, а может быть, и по собственному произволу, начал учащать незваный гость — вепрь, величины
неимоверной; он делал страшные опустошения, подрывая деревья плодовитые. И хозяин сада, и соседи его издали
обходили место недоброе и, крестясь, творили молитву ангелу-хранителю.
Иван призадумался и говорит сынам своим:
— Кто из вас убьет зверя дикого, разоряющего достаток наш, тот получит половину богатства моего.
Страшен был вепрь: много обещали за его голову. Корысть превозмогла страх, и старший брат, сопровождаемый
родительским благословением, отправился караулить опустошителя.
Тих был вечер, когда пришел старший в сад заколдованный и расположился под ветвистою яблонею. Он лег
на траву мягкую, душистую и разложил вокруг себя ору
588
жие разное. Тихо шептали ему листочки древесные что-то
неведомое, но приятное; вежды его смежились. Еще он слышит перекаты соловья чудесные, но то уже была не песня
соловьиная, ему кто-то поет на ухо: «Спи, добрый человек;
сладко спать ночью на мягкой постели». Старший потянулся,
зевнул, раскинул руки могучие и захрапел сном богатырским.
Ночь прошла, день настал, и солнышко, выбежав на гору, разлило веселый свет свой на все творение божие. Медленно вышел старший брат из сада отцовского, огорченный неудачею. На лице его была написана печаль и негодование: он проспал приход врага своего.
На другой вечер пришла очередь меньшому.
— Не ходи,— сказал отец ему,— ты молод еще, не укрепились силы твои, и опасна будет тебе борьба со зверем страшным.
— Что бог даст, то и будет,— отвечал меньшой, взял шапку, перекрестился и вышел.
«Брат мой хитер и отважен,— подумал старший,— он
не проспит вепря, изловит его и получит половину богатства
отцовского. Что я буду перед ним? Бедняк! Я, брат старший!.. Как зазнается этот мальчик! Он был в колыбели, я
трудился уже. И за что он пожнет плоды трудов моих?..
Пойду подожду его на дороге, в кустах калиновых: когда
он будет возвращаться с победою к отцу, я уговорю его
обещаниями лестными, и он отдаст мне добычу свою; в противном случае, у меня есть острый топор, которого не раз
трепетали дубы дубровные и, падая с холмов, омывали ветви свои в струях Удая быстротечного». И вот заблистало в
руках его железо убийственное, и ветхая дверь хижины с
воплем жалостным пропустила брата на дело пагубное, на
дело, доселе неслыханное в Украине,— на братоубийство!
Вся природа содрогнулась; полуночный ветер зашумел на
проклятой осине; стая воронов спорхнула с ближних деревьев и, злобно каркая, взвилась на воздух; луна покрылась цветом кровавым.
Меньшой не брал с собою, подобно брату старшему, вооружения разного; у него не было ни пищали, ни сабли увесистой, ни кинжала заговоренного. Твердая вера в провидение, мужество и проворство казацкое да петля арканная —
589
вот было его оружие. Наломавши связку терновника колючего, он постлал себе постель под яблонею развесистою.
Сладко шептали листья в саду очарованном; соловей запел
по-прежнему — и меньшого одолела дремота тяжелая. Но
чуть он склонялся на постель молодецкую — иглы острые,
терновые выводили его из усыпления: вздрагивая, он напрягал ухо чуткое, прислушивался, не идет ли зверь-чудовище.
И скоро гость ожидаемый запрыгал в силке, искусно расставленном, застонал, заметался. Не берет сила звериная —
пустился на хитрости: начал меняться в разные образы: то
девушкою чернобровою, предлагал свои прелести; то немцем-
искусником, на ножках тоненьких, показывал часы с курантами, и серные спички самопалительные, и всякие диковинки
заморские; то жидом-арендатором рассыпал золото светлое и камни самоцветные — не помогли лукавому ни сила,
ни хитрости. Казак — простой человек, не прельстился наваждениями богомерзкими, убил зверя-опустошителя и с
сердцем, полным восхищения, спешил обрадовать отца победою. Уже виднелись вдали белые стены хаты отцовской,
озаряемые луною серебристою, и силы победителя удвоились; перелетный ветерок навевал ему благоухание с ближних кустов цветущей калины.
Часто бывает змея ядовитая под голубым барвинком и
зеленою рутою. В душистых кустах крылась смерть храброго.
Шумя приняли победителя ветви зеленые в свои объятия;
он утонул в кустах калиновых.
Жалостно что-то застонало в тенистой зелени, и по небу
чистому покатилась звездочка ясная; стон затих, и звездочка светлыми искрами рассыпалась в синем воздухе.
Тут зашевелились кусты цветущие, раздвинулись ветви
зеленые: озираясь, вышел из них старший, неся на плечах
вепря-чудовище; руки его были в крови; широко шагал он;
искры прыгали в глазах его, змеи ползали под ногами,
кто-то дергал его за полы, и шапка не держалась на голове. Он убил брата своего.
Страшная ночь прошла, уступая место ясному утру, и
вскоре веселое солнышко, выкупавшись в синем море, выплыло из дальних степей востока. В хате Ивана раздавались веселые клики пированья; соседи сходились глазеть на
590
зверя чудного, и кубки варенухи душистые переходили из
рук в руки любопытных.
— Что же я не вижу сына младшего моего? — сказал
Иван — добрый человек, разглаживая усы.— Или он не радуется победе брата своего, или неудача огорчила юное сердце его и он стыдится прийти на глаза мои?
Ты не увидишь его более, старец седовласый, ты не
прижмешь к груди своей сына возлюбленного! Там, на лугу,
зарыт убийцею труп его, неотпетый, неоплаканный!
Прошел день, другой и третий, прошла неделя, за нею
другая, а меньшого и слыху не было. Горько рыдал безутешный отец о потере его, рвал седины и ломал руки иссохшие.
— Кто,— говорил он,— будет подпорою моей старости?
Старший сын мой, получив богатство, забыл меня, и я остался один с дочерью слабою! Кто нагрузит воз мой снопами тяжелыми? Кто впряжет в него волов круторогих и привезет на гумно мое богатые дары всевышнего? Кто зимою
холодною, когда зашумят метели по полям и лесам обнаженным, согреет старика беззащитного? Чей топор трудолюбивый застучит в роще ближней и чья рука попечительная
разложит огонь в хате моей?
— Разве я не осталась у тебя? — прервала дочь его.
Старик покачал головою; она бросилась в его объятия.
Дочь Ивана — доброго человека печалилась о брате, и
дни молодости стали ей невеселы. Приблизился день Купалы;
запылали костры горящие; поселяне украшали головы свои
венками п, при песнях согласных простоты и невинности,
прыгали через пламя розовое. Одна она не участвовала в
общей радости; юное чело ее не покрывалось рутою вечно-
зеленеющею, ни гвоздичками золотистыми, ни васильками
лиловыми. Настали обжинки, и колосья ржи, переплетенные
с красною калиною, появились на головах молодых девушек;
она одна не надела венка в день общей радости: печаль
о брате тяготила сердце ее.
Так прошло лето. Подкралась осень с длинными вечерами. В поле чисто; щебетливая ласточка спряталась до весны в колодец, и вскоре снег укутал спящую землю белым
покрывалом. Молодежь собиралась на вечерницы и досвет-
591
ки; далеко звучали песни их, и хохот слышен был через
улицу. Под шум веретена и веселых прибауток нечувствительно пролетела зима. Счастливцы! Не так тянулась она для
дочери Ивана — доброго человека; сердце ее замерло для
радости; она не выбрала себе друга, не видела вечерниц и
досветков — а люди называли ее гордою!..
И вот повеял весенний ветер, снег исчез. Весело зажурчали ручейки, и дикие гуси, с криком радостным, длинными
вереницами понеслись с юга па север. Вот и деревья зазеленели. Прибережные взгорья Удая покрылись травою, как
бархатом. Настал час трудолюбия: клики пахаря раздавались на полях, пастухи погнали овец на паству сочную.
Все ожило, и могила брата невинного, никем не знаемая,
приосенилась толстым стеблем болиголова1. Пастух срезал
его и сделал свирель; приложил ее к устам своим, и чудо-
свирель играет песню печальную, досель им неслыханную:
По малу-малу, овчарю, грай,
Не врази моего серденька вкрай.
Мене брат убыв, на лугу зарыв,
За того вепря, то в саду рыв.
Он удивляется, надувает ее в другой раз, и опять повторяется та же песня заунывная. Целый день играл пастух на свирели и к вечеру тихо потянулся со стадом в деревню.
Был прекрасный весенний вечер. Легкий сумрак распространялся в воздухе; тонкий туман, как дума грустная, подернул покойные зыби Удая; ароматный воздух дышал негою.
Пригорюнясь, сидела дочь Ивана под хатою.
— Не крушись, дитя мое! — говорил ей добрый человек.— Послушай, как поют веснянку1 2 твои подруги! Какое
у них веселие! А ты все плачешь о брате. Где он — бог знает!
Вот сегодня ровно год, как о нем слуху нет...
— Слушай! — сказала она, схватив отца за руку.
В это время пастух проходил мимо них, и свирелка пела
жалобно страшную повесть братоубийства. Старик ужас
1 Ветвистое однолетнее растение.
2 Песни, посвященные собственно весеннему времени.
592
нулся. Давно сердце его не лежало к старшему сыну, он
что-то подозревал в нем недоброе, и теперь подозрение осуществлялось. Старик подзывает пастуха и предлагает ему
продать свирель. Пастух пожелал за нее овцу белорунную.
Сказано — сделано, и свирель осталась в руках Ивана —
доброго человека.
— Сегодня праздник,— сказал Иван, входя в жилище сына старшего,— пойдем в дом мой и разделим, что бог послал нам.
И вот они в хате старика. Иван — добрый человек вынул из-за образов свирель таинственную и подал сыну, говоря:
— Поиграй на ней.
Чуть свирель коснулась к устам старшего, как заиграла
печальнее прежнего:
По малу-малу, братику, грай,
Не врази мого сердеиька вкрай.
Ты ж мене убыв, на лугу зарыв,
За того вепря, що в саду рыв.
Крупный пот покатился с чела преступника, судорожно
сжалось лицо его, но слезы не лились из глаз братоубийцы.
Он лежал у ног отца своего.
— Прости меня, о родитель мой, и прекрати жизнь,
давно для меня тягостную,— простонал он.— Я недостоин
смотреть на свет божий: алчба к золоту подавила во мне
любовь родственную; я убил невинного брата, и кровь
его взывает ко мне!
— Сокройся от очей моих! — сказал Иван — добрый человек. — Да будет бог судья тебе, а укоры совести — наказанием.
И старший скрылся из дома отцовского.
Долго бродил он по лесам и пустыням и влачил жизнь,
очерненную пагубным злодеянием; взоры его были дики, и
на лице виднелась печать отвержения; совесть терзала душу
его, внутренний жар пожирал преступное сердце; тщетно хотел он погасить его, с жадностью впивая в себя дыхание
ветров холодных: окровавленная тень брата везде представлялась испуганным глазам преступника, и в завываниях
бури, и в шепоте листьев отзывалась заунывная песнь
593
свирели. Когда рокотал на небе гром и молния раздирала
черные тучи, напрасно он призывал смерть: и громы, и молнии не касались его, наказывая жизнию, лютейшею смерти.
Не скоро всевышний послал ему конец желанный. Душу
братоубийцы с хохотом радостным принял ад в свои недра,
а тело его сделалось пищею воронов и волков хищных.
К. С. Аксаков
ОБЛАКО
Фантастическая повесть
Был жаркий полдень, листок не шевелился, ветер подувал то с той, то с другой стороны. Десятилетний Лота-
рий выходил медленно из леса: он набегался и наигрался
вдоволь; в руке у него был маленький детский лук и деревянные стрелки; пот катился с его хорошенького, разрумянившегося личика, оттененного светло-русыми кудрями. Ему оставалось пройти еще целое поле; с каждым шагом ступал
он неохотнее и, наконец, бросился усталый на траву отдохнуть немного; его шапочка свалилась с него, и волосы рассыпались. Лотарий поднял глаза кверху, где ослепительным
блеском сиял над ним безоблачный голубой свод с своим
вечным светилом. Скоро эта однообразная лазурь утомила
взоры дитяти, и он, поворотившись на бок, стал без всякой
цели смотреть сквозь траву, его скрывавшую. Вдруг ему показалось, что на небе явилось что-то; он поднял опять глаза: легкое облачко неприметно неслось по небу. Лотарий
устремил на него свои взоры. Какое хорошенькое облачко! Как отрадно показалось оно ему в пустыне неба. Облачко достигло до средины и как будто остановилось над
мальчиком, потом опять медленно продолжало путь свой. Лотарий с сожалением смотрел, как облачко спускалось все
ниже, ниже, коснулось земли, как бы опять остановилось на
минуту и, наконец, исчезло на краю горизонта: в небе опять
стало пусто; но Лотарий все смотрел вверх; он ждал, не появится ли опять милое облачко. В самом деле, через несколько минут (благодаря переменному ветру) показалось
оно опять на краю неба. Сердце у Лотария сильно забилось: облачко сделалось уж как бы ему знакомым; он не
спускал с него глаз; ему даже показалось, что оно имеет
человеческий образ, и он еще более стал всматриваться;
облако подвигалось так тихо, как будто не хотело сходить с
неба, и, казалось, медлило; наш Лотарий долго еще любовался им; но другое большое облако поднялось, настигло
легкое облачко, закрыло его собою и исчезло вместе с ним
596
на противоположном конце неба. Крик досады вырвался
у Лотария. «Проклятое облако,— сказал он,— теперь бог
знает, увижу ли я опять свое милое облачко!» Он пролежал еще четверть часа, не сводя глаз с неба, но оно
все по-прежнему было чисто и безоблачно. Лотарий наконец
встал и пошел домой, в большой досаде. Следующий день
был так же хорош. Лотарий пошел на то же место, в тот
же час, но ничего не видал. Вечером, перед закатом солнца, сидел он над прудом; широкое пространство вод отражало в себе чистое небо, и наш ребенок задумался. Вдруг
он видит в воде, что что-то несется по небу. Каково ж было
его удивление и радость, когда он узнал свое милое облачко: он не смел отворотить глаза от пруда, он боялся потерять мгновение. Облачко плыло. Лотарий еще явственнее различал в нем вид человека; ему показалось теперь,
что видит в нем прекрасный женский образ: распущенные
волосы, струящаяся одежда... и все более и более вглядывался Лотарий, и все явственнее и явственнее становилось
его видение. Облачко достигло конца горизонта и исчезло.
Лотарий ждал, не вернется ли оно, но облачко не возвращалось. На третий день он почти не сходил со двора и
беспрестанно взглядывал на небо, боясь пропустить свое облачко; и он увидел его около полудня; оно было уже на
середине; за ним неслось другое облако, которое Лотарий
также узнал и погрозил ему кулачком своим. Теперь он совершенно уверился, что любимое его облачко имело женский
образ; другое облако также он разглядел лучше; оно имело
вид грозного старика с длинною бородою, с нахмуренными бровями; и то и другое облако, достигнув края небес,
скрылись одно за другим. Лотарий ждал следующий день,
третий, четвертый, но облако не появлялось, и он совершенно отчаялся его видеть и перестал ждать его. Прекрасная погода все продолжалась. В одну жаркую ночь все
семейство Грюненфельдов (это была фамилия Лотария) легло спать на дворе, маленький Лотарий также; скоро заснул
он, и когда нечаянно проснулся, то луна была высоко, и Лотарий, к удивлению и радости, увидел опять свое облачко, а за ним большое облако. Свет луны, сквозь тонкий
мрак ночи, придавал еще более жизни фантастическим
образам на небе. Промчались, пронеслись облака, спустились к земле и исчезли. Лотарий все еще смотрел на небо.
Вдруг в роще послышался ему шум; он взглянул: между
деревьев мелькала и приближалась стройная, бледная девушка, в которой он сейчас узнал свое облачко, а за нею
597
высокий, мрачный старик, точь-в-точь как то большое облако, виденное им опять на небе. Они вышли из рощи и тихо
между собою разговаривали.
— Пусти меня,— говорила девушка-облако,— я хочу
взглянуть на этого милого, невинного ребенка, хочу поцеловать его.
— Дитя мое,— говорил старик,— оставь людей в покое;
не сходи на землю; не оставляй лазурного пространства
прекрасной твоей родины. Человек рад будет лишить тебя
твоего счастия.
— Нет, нет, отец мой, не променяю я небо на землю;
здесь мне трудно ходить, на каждом шагу спотыкаюсь
я, а там привольно летать и носиться на крыльях ветра;
но мне нравится это милое дитя; мне хочется хоть раз
подойти к нему, потрепать его русые кудри; ты видишь —
он спит. Потом мы опять унесемся с тобою на небо и,
если хочешь, умчимся далеко, далеко отсюда... О, позволь
мне, я обещаю долго не прилетать в страну эту, сколько
угодно тебе, позволь мне взглянуть вблизи на это милое
дитя.
— Изволь,— сказал старик,— но мы сейчас же оставим эту страну.
Лотарий, между тем, догадался и закрыл глаза. Он
чувствовал, как девушка подошла к нему, наклонилась
над ним, потрепала слегка его розовые щеки, разбросала
кудри и поцеловала его в лоб, сказав: «Милое дитя».
Потом он слышал, как она удалялась; открыв глаза, он
видел, как между ветвями еще мелькали девушка и старик и, наконец, исчезли в глубине рощи. Через минуту
легкое облачко, а за ним большое облако промчались по
небу над головою Лотария. (Ему показалось, что девушка заметила, что он не спит, и с улыбкой кивнула ему головою.)
Всю ночь не мог заснуть Лотарий. Ему становилось грустно до слез, что он долго, а может быть и никогда, не увидит своей милой девушки-облака.
Весь следующий день он был очень задумчив.
Вот происшествие из младенческой жизни Лотария; оно
сделало на него сильное впечатление; он не рассказывал
его никому, как потому, что ему никто бы не поверил, так и
потому, что воспоминание об этом было для него сокровищем, которого он ни с кем разделить не хотел. В самом
деле, долго девушка-облако жила в его памяти, была его любимою мечтою, услаждала, освежала его душу. Но потом вре
698
мя, науки, университет, свет, в который вступил он, светские
развлечения мало-помалу изгладили из сердца его память
чудесного происшествия детских лет, и двадцатилетний Лотарий уже не мог и вспомнить о нем.
В освещенной большой зале гремела музыка и вертелись,
одна за одною, легкие пары. Лотарий, одетый по последней
моде, был там и, казалось, весь предался удовольствию бала.
Кто бы узнал в нем того десятилетнего мальчика с розовенькими щечками и веселым личиком! Его кудри, небрежно вившиеся по плечам, были теперь острижены модным парикмахером; его прежде полную, открытую шейку сжимал щегольской галстук, во всем костюме видна была изысканность;
на лице, прежде беззаботном и прекрасном, проглядывала
смешная суетность и тщеславие, какое-то глупое самодовольство. Лотарий Грюненфельд считался одним из первых
fashionables1.
Танцуя в кадрили, он нечаянно обернулся и увидал, что
какая-то девушка, бледная, высокая и прекрасная, которой он прежде не замечал, задумчиво и печально на него
смотрит. Это польстило его самолюбию; но, не желая показать, что обращает внимание, он небрежно оборотился к своей даме и начал с нею один из тех пустых разговоров,
которые вы беспрестанно слышите и сами ведете на бале. Но
через несколько времени он взглянул опять и опять встретил грустный, задумчивый взор; на сей раз взор этот смутил
Лотария, и он опустил глаза; в душе зашевелилось, поднялось что-то, какой-то упрек, какое-то обвинение. Не зная почему — только Лотарий чувстовал себя неправым, чувствовал стыд в душе своей, и, в самом деле, вся его жизнь,
пустая, бесцветная, во всей отвратительной наготе своей
представилась перед ним в эту минуту; в сердце его не было
ни одного чувства, в голове ни одной мысли, и Грюненфельд невольно покраснел. В ту же минуту он опомнился
и, видя, что забыл долг учтивого кавалера, начал поскорее
разговор с своей дамой, но на этот раз очень вяло и неловко; кой-как окончил он кадриль и отошел к стороне; теперь
уж он, за колонной, не сводил глаз с незнакомой девушки.
Лицо ее казалось ему знакомым; он как будто видал ее
где-то. Спустя несколько времени вышла какая-то женщина
из гостиной.
' Модников (англ.).
599
— Эльвира,— сказала она,— пора, поедем.
Бледная девушка встала и собралась ехать. Проходя
мимо Лотария, бросила она на него такой печальный, такой глубокий взгляд, что он долго не мог прийти в себя
от смущения и тотчас уехал.
Приехав домой, Грюненфельд долго не мог заснуть.
Прежний Лотарий проснулся в нем. Боже мой! Боже мой!
Сколько верований и надежд погубил он понапрасну, сколько сил истощил даром! Упреки толпою вставали в душе его.
Лотарий чувствовал твердую решимость переменить жизнь
свою и вознаградить все потерянное время. Он чувствовал
в себе возрождающиеся силы, бодрость духа; сердце его тихо наполнилось чувством, ум мыслию, на душе светлело. Лотарий не мог, однако же, в эту минуту не обратить внимания на причину его внезапной внутренней перемены —
он вспомнил бледную девушку.
— О, это верно ангел-хранитель мой,— сказал он сам
себе,— его желания будут моим законом, пусть будет она
моим путеводителем в этой жизни.— И он лег с твердым
намерением отыскать и узнать эту чудную девушку, которой
считал себя столько обязанным. На другой день поутру поехал он к г-же Н..., у которой на бале был он вчера. Она
была дома. Лотарий заговорил о вчерашнем вечере и спросил, наконец, кто эта дама, приехавшая вчера с бледной
девушкой.
— Это старинная моя знакомая; она приехала недавно из Англии; ее фамилия Линденбаум.
— А эта молодая девушка — ее родственница?
— Я мало имею о ней сведений; но, сколько мне известно, это ее воспитанница.
— Она часто бывает у вас?
— Она нынче будет у меня обедать, но что вы ею так
интересуетесь?
— Лицо вашей приятельницы мне чрезвычайно знакомо,
и я хотел узнать о ней поподробнее.
В это время слуга доложил о приезде г-жи Линденбаум. Лотарий вздрогнул, и через минуту вошла г-жа Линденбаум с Эльвирой.
Робко взглянул молодой человек на девушку, но она не
приметила, здороваясь в это время с хозяйкой. Подняв глаза через несколько времени, он встретил взор Эльвиры,
которая смотрела на него приветнее и не так грустно,
как вчера.
Г-жа Н... просила Лотария остаться обедать, он охотно
600
согласился. До обеда Лотарий много говорил с г-жой Лин-
денбаум. Эльвира слушала и иногда взглядывала на него;
Лотарий не смел заговорить с нею; Эльвира молчала и
только однажды, когда Лотарий говорил про первые лета
жизни, говорил, что, может быть, младенчество имеет таинственное, для нас теперь потерянное значение, она тихо сказала: «Да». Это «да» отозвалось в сердце Грюненфельда;
он взглянул на Эльвиру и замолчал; до обеда он ничего почти не говорил.
После обеда г-жа Линденбаум скоро уехала; она звала Лотария к себе, и он был вне себя от радости. Он так
скоро воспользовался ее предложением, как только позволяло приличие. Когда он вошел, Эльвира была в зале. Она
молча поклонилась ему, но Лотарию показалось, что на лице ее выразилась скрываемая радость. Она пошла в гостиную. Г-жа Линденбаум сидела и вышивала на пяльцах. После обыкновенных приветствий скоро начался одушевленный
разговор, в котором и Эльвира принимала участие. Г-жа Линденбаум просила ее спеть. Она села за фортепиано, лицо ее
оживилось невыразимым чувством, все существо, казалось,
искало выражения и нашло его себе в песне. Она запела:
Смотри: там в царственном покое.
Восстав далеко от земли,
Сияет небо голубое
В недосягаемой дали.
Смотри: как быстро друг за другом
Летят и мчатся облака;
Там под небесным полукругом
Их жизнь привольна и легка.
Пускай красою блещет тоже
Разнообразная земля,
Но им всего, всего дороже
Свои лазурные поля.
А ты к себе мольбой напрасной
Счастливцев неба не мани —
Не бросят родины прекрасной,
Нет, не сойдут к тебе они.
Но если в их груди эфирной
Забьется к смертному любовь.
Они покинут край свой мирный,
Приют.беспечных облаков,
И, жизнию дыша единой,
Бросают милую семью,
И в край далский, на чужбину,
Они несут любовь свою.
Странное случилось с душою Лотария, когда Эльвира пропела эту песню. Какое-то воспоминание поднялось
601
в душе его; какое-то событие детства силилось выбиться
из-под тумана времени. Он хотел что-то вспомнить и не
мог. С нами часто это бывает; с кем этого не случалось?
Кто знает, это, может быть, воспоминание такого же происшествия, но которое мы забыли и вспомнить не можем, может быть, и у каждого из нас в детстве была девушка-облако или что-нибудь подобное (но в том только разница, что
потом мы почти никогда не можем это вспомнить). Я, по
крайней мере, твердо уверен, что я летал в детстве. Но обратимся к Лотарию; он долго простоял в таком положении, и когда очнулся, Эльвиры уже не было. Грюненфельд
пошел в гостиную, где сидела г-жа Линденбаум.
— Как я виноват,— начал Лотарий,— я так заслушался, так забылся, что и не видел, как ушла девица Эльвира.
— Да, она ушла.
— Мне очень жаль, что я не успел поблагодарить ее:
она так прекрасно поет.
— Да, она хорошо поет; она ушла теперь.
— Куда же?
— Не знаю, только ее нет дома.
Такое спокойное незнание показалось странным Лотарию. Он хотел непременно узнать от г-жи Линденбаум
все подробности об Эльвире и для того решился открыться ей, какое впечатление произвела на него ее воспитанница.
— Вот третий раз, как я ее вижу,— говорил Лотарий,—
но мне кажется, что я ее видал где-то, что я ее давно знаю,
что наши души близки друг другу. Да, да, мы давно знакомы; я люблю ее; она теперь все для меня.
Г-жа Линденбаум улыбнулась, посмотрела на Лотария
и потом сказала:
— Год тому назад, когда я была еще в Англии, в
один прекрасный летний вечер пришел ко -мне какой-то
старик и с ним прекрасная девушка. «Вот вам моя дочь,—
сказал он,— я вам ее поручаю. Вы не будете раскаиваться, если ее возьмете. Чего вам нужно? Денег? Извольте,
назначьте какую угодно плату; но с условием: пусть она
живет у вас, пусть в обществе известна будет под именем вашей воспитанницы; но она не обязана давать вам
никакого отчета; она может отлучаться куда ей угодно, не
спросясь и не сказываясь; словом, она должна иметь полную свободу».
Меня это поразило, предложение было так странно, ли
602
цо девушки было так интересно, что я согласилась тотчас
и отказалась от платы. Мне очень хотелось узнать причины,
заставлявшие отца отдавать дитя свое в чужие руки. Я спросила его. «Это не ваше дело»,— отвечал он мне и ушел.
В этот вечер Эльвира очень плакала, вздыхала, смотрела на небо. На другой день вышла ко мне с лицом спокойным, на котором выражалась твердая решимость. Она
была так же сурова, как и отец ее, но мало-помалу мы
сближались, и теперь, кажется, она меня очень любит. Часто
уходит она бог знает куда, иногда надолго. Однажды я старалась у ней выведать; но она напомнила мне слова отца
своего («Это не ваше дело»). Вот все, что я могу вам
сказать.
Грюненфельд ничего не отвечал, потом поблагодарил
г-жу Линденбаум и уехал. Остальное время дня он был задумчив и не говорил ни слова; он не мог также понять,
почему, когда он бывал с Эльвирой, ему вспоминались лета
детства, и он не мог удержаться, чтоб не говорить об них.
Каждый день Лотарий стал посещать г-жу Линденбаум. Каждый день более и более знакомился он с Эльвирой, и чем более сближался с ней, тем непонятнее, загадочнее и прелестнее была она для него.
Так шли дни, недели; Лотарий оставил свет и его законы, и его нигде не было видно. Понимаете ли вы это удовольствие — вырваться из круга людей, где жили вы внешнею жизнию, пренебречь их толками и досадою и предпочесть самолюбивому обществу одно существо, которое вы
встретили здесь на земле, которое понимает вас и которому
вы посвятили все свое время? Понимаете ли вы удовольствие улыбаться на шутки и насмешки друзей ваших, с которыми вы перестали видеться и которых случайно встретили,
и думать про себя, смеясь над ними: «Они не знают, как я
счастлив!» Лотарий был в таком положении; Лотарий был
счастлив.
Вдруг он получает письмо от матери, в котором она
зовет его непременно в деревню по одному важному семейственному делу.
Как быть? Должно расстаться; но Лотарий пишет письмо к матери, пишет другое, и вот г-жаН... получает письмо от г-жи Грюненфельд, в котором она благодарит г-жу
Линденбаум за ласки, оказанные ее сыну, и просит ее вместе
с нею приехать на лето к ним в деревню. Г-жа Н... едет к
своей приятельнице; та, по обыкновению, совестится, наконец, соглашается, и все дело уладилось.
603
Лотарий поскакал вперед на другой день к матери, в
радостной надежде встретить там скоро Эльвиру. Давно уже
не был он на своей родине; уж год, как мать его уехала из города. Он приехал вечером. Зачем описывать радость
матери и сына после годовой разлуки? Есть минуты, есть
сцены, которые даже оскорбляют чувство в описании. Итак,
сын увидался с матерью. После Лотарий бросился бегать
по дорожкам цветника, по аллее сада, побежал в березовую рощу, взглянул на липы, которые закрывали уже ветвями своими окна его детской комнатки, сбегал на реку —
везде, везде воспоминания; он перенесся совершенно в лета
младенчества, и ему стало грустно.
На другой день пошли хлопоты. Лотарий занимался
с утра до вечера и в продолжение недели все окончил. Он
признался во всем матери, и она почти с равным нетерпением дожидалась своих гостей.
Лотарий вышел вечером па дорогу; она вилась, вилась перед ним и исчезала в отдалении. Когда вы смотрите на нее и когда она, пустая, тянется вдаль перед
вами, то она возбуждает какое-то чувство ожидания, вам становится грустно; перед вами лежит широкий след людей, и
никого на нем не видно. Вы смотрите туда, где дорога
сливается с небом, вы знаете, что она еще все тянется, туда, далеко, далеко, душа стремится за нею и летит, летит, а
перед ней все даль туманная,— это чудное состояние, какое-
то безотчетное, безграничное стремление, какое-то Sehnsucht1, но, верно, вы сами испытали все это, когда в деревне вечером выходили на дорогу и смотрели вдаль.
Грустно было Лотарию, но сюда примешивалось еще другое чувство,— он смотрел и ждал: не едут ли; но нет,
одна пустая дорога лежала перед ним, и ничто не оживляло ее. Лотарий задумался, опустил голову и, подняв ее
через несколько времени, увидал что-то черное вдали по дороге. С минуту он еще стоял в недоумении, еще не смея
верить своей надежде; но, наконец, точно разглядел дорожный экипаж, ио еще все боясь ошибиться, Лотарий своротил
с дороги и пошел по полю навстречу, удерживая свои
шаги, как бы прогуливаясь. Но вот экипаж поравнялся с ним,
и Лотарий узнал Эльвиру. Все вышли и пешком продолжали путь. Когда они пришли в дом, мать Лотария была в
саду; услыхав, она почти побежала навстречу, обняла г-жу
Н...которая познакомила ее с г-жою Линденбаум, и поце
1 Стремление (нем.).
604
ловала от души Эльвиру, которая сама кинулась к ней, как
к родной.
Ну, что и говорить, Лотарий был счастлив, счастлив
и счастлив. Эльвира с такою радостью бегала по всем
дорожкам и тропинкам, так внимательно осматривала все
места, как будто бы сама родилась и провела здесь свое
детство. Лотарий изумлялся. На другой день рано поутру
попросила она Грюненфельда повести ее в поле, которое
было недалеко от села и к которому примыкал большой
лес. Лотарий не мог не спросить ее: не была ли она когда-
нибудь прежде в этой деревне; но она, смешавшись, отвечала, что она здесь в первый раз и что, проезжая мимо, она
любовалась этим местом, потому-то и хочет его видеть.
Лотарий смолчал, хотя ответ не удовлетворил его, и повел
в поле Эльвиру. Едва пришла она туда — и начала, как дитя, бегать и рвать цветы. Ее русые волосы прыгали по плечам ее. Она была так рада, рада детски.
— Лотарий,— сказала она вдруг, остановившись и устремив на него взляд свой.
— Ах, Эльвира,— вскричал тот, закрывши глаза рукою
и как бы очнувшись,— я вспомнил что-то, вспомнил... постойте, постойте!..
— Ничего, ничего,— вскричала Эльвира,— поскорее пойдемте домой.
Час от часу более всею душою предавался Лотарий
Эльвире, и все загадочнее становились для него ее поступки. Грюненфельд решился однажды спросить ее, кто
она.
— Зачем вам? — гордо отвечала Эльвира.— Вы видите
меня, я перед вами, чего ж вам больше? Вы еще хотите
знать: кто я? Зачем знать бедняку, откуда падает луч солнца, который согревает его? Небо послало счастье человеку —
наслаждайся и благодари.
Лотарий чувствовал, что любит Эльвиру, и не желал
никакого ответного чувства. Он любил и благоговел перед
нею, он уничтожался в своем чувстве; это был для него
целый мир; он хотел только, чтобы он мог всегда любить ес, а не того, чтобы она его любила. Так дикий падает на колени перед солнцем, погружаясь в чувство благоговения и любви, и с благодарностию принимает лучи, которые оно льет на него, не замечая. (Здесь довольно собственного чувства, взаимности здесь и помину нет.)
605
В одну ночь с вечера не спалось ему, и он вышел в
сад прогуляться. Луна накидывала флер дымчатых лучей
своих на всю природу. Ее неверный блеск оживлял предметы; всякий из них, казалось, готов был оторваться и сойти с своего места. Лотарий принял на себя это впечатление лунной ночи. Ему так было хорошо, и он, предаваясь
мечтаниям, погружаясь в блаженстве своего чувства, шел все
далее и далее; он уже хотел выйти на небольшой луг, находившийся на краю сада, как вдруг ему послышался шум;
он остановился под огромною липою, весь закрытый ее ветвями.
На поляне стоял седой, высокий, пасмурный старик,
весь в белом; перед ним, тоже в белом платье,— девушка с русыми волосами — то была Эльвира. Вполне облитые сиянием лунным, они казались видениями.
Лотарий взглянул — точно молния осветила его душу.
Он в одну минуту перенесся за десять лет своей жизни,
он вспомнил и ночь, и луг, и этого старика, и эту девушку, виденную им еще в младенчестве,— ему теперь стало все
ясно, он вспомнил, наконец, все вспомнил.
— Отец мой,— звучал голос Эльвиры,— будь спокоен,
мне хорошо здесь; мы с тобой не расстаемся, ночью слетаешь ты ко мне, и я спешу к тебе навстречу. Я счастлива, отец мой, я люблю его.
— Но достоин ли он, дитя мое, чтобы такое чистое,
прелестное, воздушное создание бросило для него свою
милую родину и сошло на землю?
— Достоин, отец мой. Ах, ты не поверишь, как мне
горько было встретить его в первый раз. Он жил у меня
в памяти прелестным ребенком с темно-русыми кудрями,
с сердцем невинным и чистым; и вдруг — как он не похож был на себя: все прекрасное было в нем подавлено
его пустою жизнию; грустно, грустно мне было, отец мой.
Он заметил меня, и не знаю, глаза ли мои высказали мои
чувства или воспоминание проснулось в нем, только он смутился и тотчас оставил толпу. Он познакомился с г-жой
Линденбаум; видно было, что он меня любит, и с тех пор какая перемена в нем, он опять так же прекрасен, как был назад
тому десять лет.
— Тебе известно, дитя мое, что он не должен знать о
любви твоей.
— Нет, нет! Он не узнает; и я не для того сошла на
землю; нет — я буду его ангелом-хранителем, буду невидимо осенять его, услаждать все часы его жизни,— ты
бое
видишь, я оживила его душу; разве это не счастие? К тому
же я знаю, что он меня любит.
— Да будет благословение мое над тобою, дитя мое,—
сказал старик, положив свои руки на ее голову,— но ты
знаешь: если он узнает, кто ты, ты не можешь более здесь
оставаться.
— Знаю, отец мой, но он не узнает; воспоминание тревожит его; но его усилия напрасны, он не вспомнит, нет.
— Прости, дитя мое.
— Прости, отец мой.
Старик исчез между деревьями. Эльвира смотрела ему
вслед. Скоро белое облако промчалось по небу.
Эльвира вздохнула, опустила глаза и, поворотившись,
чтобы идти назад, увидела Лотария, который во все это
время был как прикованный и не знал, что делать. Она
вся затрепетала, но, может быть, он и не видал. Эта мысль
мелькнула в уме ее. Эльвира запела и, как бы теперь увидав Лотария, сказала ему:
— Вы тоже гуляете?
Но увидав его смущенный, его неподвижный взор, она
вскрикнула:
— Ах несчастный, что ты сделал! Ты узнал меня? Да,
я девушка-облако.
Бедная, трепещущая, она оперлась на плечо безмолвного Лотария и говорила грустно:
— Ах, боже мой, боже мой! Итак, нигде, нигде нельзя укрыться от человека, итак, всюду найдет он существа,
ему подобные; и воды, и леса, и горы проник он своим взором; но по небу летали вольные облака; он и в них отыскал жизнь и создания, ему подобные, и там нет убежища.
Знай, что из каждого царства природы приходят в мир
чудные создания, и когда перед тобою пронесется девушка с
чудным, с вдохновенным взором, с небесной прелестью на
лице,— знай: это гостья между вами, это создание из другого, чудесного мира.
Для тебя, мой Лотарий, сошла я на землю; тебе я
посвятила себя; я никогда тебя не оставила бы, всегда лелеяла бы жизнь твою; я бы хранила счастие души твоей...
Но теперь, теперь...— и она становилась все бледнее и
бледнее,— я должна с тобой расстаться.
Ты слышал, знаешь!
Прости, мой Лотарий, ты меня никогда не увидишь более здесь, но иногда по небу пронесется облако, и ты узнаешь свою Эльвиру, которую знаешь и любишь еще с дет
607
ства. Сейчас, отец мой...— говорила она, взглядывая на лес;
вдали, между деревьями, мелькал белый призрак.— Прости,
мой Лотарий!
Она крепко, крепко прижала его к сердцу, поцеловала в лоб и удалилась. Лотарий, как безумный, упал на
траву и неподвижно смотрел на небо.
Через минуту два облака промчались по небу.
Лотарий долго пролежал, как оглушенный. Когда он высвободился наконец из этого состояния, которое ни сон, ни
обморок, было уже светло на дворе; все, что вспоминал он,
казалось ему каким-то сном.
Задумчиво пришел он домой.
Но Эльвиры уже не было.
Говорят, всегда потом Лотарий был молчалив и грустен;
но случалось, что на лице его проглянет улыбка и он весь
оживится глубокою сердечною радостию. Тогда взор его
бывал устремлен к небу,— а по небу неслось легкое облачко.
Мать его грустила о сыне, расспрашивала его, но он
ничего не мог ей сказать, и все усилия ее развлечь, рассеять Лотария были тщетны. Она подметила, что он становился радостен только при виде облака на небе, она даже заметила вид этого облака, но не могла добиться от сына объяснений.
Однажды, пришедши к своему сыну, она нашла его мертвым, а по небу удалялись два легкие облачка.
ВАЛЬТЕР ЭЙЗЕНБЕРГ
(ЖИЗНЬ В МЕЧТЕ)
Повесть
Посвящается Марии Карташевской
Wage dû, zû irren und zû träumen1.
Шиллер
В городе М. жил студент, по имени Вальтер Эйзенберг.
Это был молодой человек лет осьмнадцати. Жизнь его до
того времени нс была замечательна никакими особенными происшествиями. Он родился с головою пылкою,
сердцем, способным понимать прекрасное, и даже с могучими душевными силами. Но природа, дав ему, с одной
стороны, все эти качества, с другой, перевесила их характером слабым, нерешительным, мечтательным и мнительным
в высочайшей степени. Пока он рос в дому у отца и
матери, все было хорошо: он еше не знал света и не
боялся узнать его; но и тогда несчастный его характер не
давал ему покоя. Когда ему было лет одиннадцать-двенадцать, поступкам своим умел он отыскать дурную причину:
ему казалось, что везде преследовал его какой-то злой
дух, который нашептывал ему ужасные мысли и влек к
преступлению. Такое-то болезненное состояние души, причина которого находится, вероятно, в способности слишком
живо принимать впечатления, продолжалось лет до пятнадцати. Еще до вступления своего в университет он любил
живопись как художник и в ней находил отраду больной
душе своей. Он принес в университет сердце доверчивое и
торопился разделить свои чувства и поэтические мечты с
товарищами. Скоро он познакомился с студентами, которые,
как ему казалось, могли понимать его. Это был круг людей
умных, которые любили поэзию, но только тогда признавали
и уважали чувство в другом человеке, когда оно проявлялось
в таком виде, под которым им рассудилось принимать его,
как скоро же чувство проявлялось в сколько-нибудь смешной
или странной форме, они сейчас же безжалостно восставали и отвергали его. Эйзенберг был моложе их: несколько
понятий, конечно, ошибочных, но свойственных летам, случалось ему высказать перед своими приятелями; робкий, сом-
1 Дерзай блуждать и грезить (нем.).
20 Заказ 14
609
нительныи характер придавал речам его какую-то принужденность; этого было довольно для них, чтобы решить,
что у Вальтера нет истинного чувства, хотя они сами точно
так же ошибались назад тому года два-три. Вальтер не
вдруг это заметил. Он стал говорить свои мысли — его едва
выслушивали; он высказывал свои чувства — его слушали и
молчали; он показывал свои рисунки — ему говорили холодно
и без участия: «Да, хорошо...» Представьте себе положение
бедного, вообразите, как сжималось его любящее сердце от
такого привета! Часто приходил он домой убитый духом,
и тяжелые мысли — сомнение в самом себе — теснились ему
в грудь. Это, право, ужасное состояние. Не дай бог испытать его! Это верх отчаяния, не того отчаяния, бешеного,
неистового, нет, отчаяния глубоко-спокойного, убийственного. Об нем едва ли может иметь понятие тот, кто не испытал его. Каким же именем назвать людей, уничтожающих
так человека? Наконец, как будто пелена упала с глаз
Эйзенберга — он решился не обращать внимания на их
мнения, удалиться, заключиться в самом себе и хранить
сбереженный остаток чувства. О, он имел довольно гордости, чтобы не выпрашивать участия как милости.
В то время познакомился он с одним молодым человеком,
которого звали Карлом. Знакомство их скоро обратилось в
дружбу. Как доволен был Вальтер, нашедши человека, которому смело, доверчиво мог поверять все, что было у него на
душе, человека, который хотя часто был с ним согласен,
не всегда мог понимать его в самом деле странные мысли, но
зато умел ценить его и платил ему тою же доверенностью.
Еще одно обстоятельство изменило несколько мирную,
уединенную жизнь Вальтера. Он познакомился с доктором
Эйхенвальдом, который был известен в городе своими странностями: на лице никогда не сходила насмешливая, неприятная улыбка. Он всегда ходил в сером фраке, в белой
шляпе, нахлобученной на его густые, седые брови, и с суковатой палкой; он не говорил почти ни с кем, являлся
редко в обществе и большую часть времени проводил в
своем кабинете. У него жила воспитанница, дальняя его
родственница, молодая девушка, лет девятнадцати, которой он заступил место отца. Случай познакомил Вальтера с Эйхенвальдом. Гуляя в публичном саду с Карлом, зашли они в одну беседку, в которой никого
не было, и у них начался откровенный разговор. Карл
ушел прежде, Вальтер также собирался выйти, как
из угла беседки показался Эйхенвальд, которого он
610
прежде не приметил, и, взяв его за руку, сказал ему:
— Ко мне, молодой человек... завтра в пять часов жду
вас.
Вальтер едва успел поблагодарить, как он уже удалился.
Эйзенберг явился в назначенный час. Эйхенвальд сидел
в халате.
— А,— сказал он, усмехаясь, и протянул ему руку.—
А вот моя родственница Цецилия!
Перед Вальтером стояла девушка высокого роста; черные глаза ее, сухие и блестящие, имели в себе какую-то
чудную обаятельную силу, которая покоряла ей всякого, кто
к ней приближался; ее взгляд был быстр и повелителен,
но она умела смягчать его, умела тушить влагою неги
сверкающий огонь глаз своих, и тогда на кого обращала она
взор свой, тот готов был ей отдать и надежды, и жизнь,
и душу. Волосы ее, длинные, черные, энергически густые,
обвивали несколько раз как тюрбан ее голову. Она редко
показывалась в обществе, и юноши города М. очень досадовали за то на Эйхенвальда; другого же случая видеть
ее не было, потому что старый доктор почти никого не
принимал в дом к себе.
Цецилия сурово взглянула на Вальтера; на гордом,
возвышенном челе ее не проскользнуло ни тени привета.
Студент оробел. Эйхенвальд говорил мало, и Вальтер, возвращаясь домой, не мог понять, зачем он звал его к себе?
Однако ж он решился идти туда в другой раз.
Через неделю, в тот же час Эйзенберг пришел к доктору.
Цецилия встретила его.
— Г-на Эйхенвальда нет дома,— сказала она ему, и ее
голос звучал ласково.— Не угодно ли вам подождать и
провести это время со мною?
Эйзенберг был очень рад. Они были у окошка: ветерок
чуть-чуть веял; солнце спускалось с безоблачного неба;
тени от домов все росли и росли... Сидеть в такой час
у растворенного окошка, дышать свежим воздухом, чувствовать близкое присутствие прекрасной девушки — о, как
это хорошо! Разговор шел сначала очень вяло, но Цецилия
беспрестанно поддерживала его. Ее слова были растворены
ласкою. Эйзенберг становился мало-помалу развязнее, и
когда Цецилия предложила ему идти в сад, то он даже
осмелился подать ей легкий газовый шарф. Прогуливаясь
по саду, они остановились перед грядкою нарциссов. Цецилия
сорвала один.
20*
611
— Я знаю, что вы живописец,— начала она,— Скажите
мне, рисуете ли вы цветы? Думаете ли вы, что цветная
живопись простая копия природы или в ней также может
быть творчество?
— О, без сомнения,— отвечал Эйзенберг,— все будет
копией, если мы станем смотреть только на наружную
сторону вещей. Нет, должно угадать внутреннюю жизнь,
угадать поэзию предмета, и тогда можно воссоздать его
на полотне. Я верю, Цецилия,— продолжал он,— что каждый
цветок имеет соответствие с каким-нибудь человеком и заключает в себе ту же жизнь, какая и в нем, только в
низшей степени, только не так разнообразно развивает ее.
Природа, чтобы достигнуть до каждого человека, должна
была пройти целый ряд созданий по всем своим царствам
и одну и ту же мысль выразила сначала в камне, потом в растении, потом в животном и, наконец, беспрестанно совершенствуясь, в человеке развила ее в высшей степени. Да, Цецилия, у каждого из нас есть родные во
всех царствах природы, созданные ею по одной идее с
нами; поэтому я думаю, что я могу отыскать свой портрет и
между цветами, которые под другими, менее совершенными
формами выражают ту же мысль, какую я (выражаю) всем
существом своим. После этого как не находить поэзии в
цветах, и неужто цветная живопись есть только сухая копировка?
Цецилия взглянула на него пристально.
— Я согласна с вами,— сказала она, помолчав.— Спишите же мой портрет между цветами,— прибавила она с
улыбкою.
— Я вас так мало знаю,— отвечал, запинаясь, Вальтер.
— Кто ж вам мешает бывать у нас чаще; но вот,
кажется, и г-н Эйхснвальд; пойдемте к нему.
Эйзенберг, пробывши там еще час, пошел домой весь
радостный. Он шел по улицам, ни на что не обращая
внимания, весь в себе, напевая песни; а в голове его
мечтам и конца не было: его сердце наполнялось в это
время таким сладким чувством, что он готов был обнять и
расцеловать всякого. Пришедши домой, бросился он на стул
у окна, потом вскочил и, прошедши раза два по комнате,
сел опять и совершенно забылся. Если бы его спросили, о чем
он думает, он бы не мог отвечать. В это время вошел
Карл.
— Вальтер,— сказал он ему,— полно сидеть дома; я пришел за тобою, чтобы прогуляться вместе: время чудное.
612
— А, Карл, садись! Я пришел сейчас и устал немного.
Останься со мной.
Карл заметил, что друг его чертил что-то карандашом
на бумаге.
— Что ты рисуешь?
— Так, это моя фантазия.
— Твоя фантазия очень миловидна. Да не портрет ли
это? — Вальтер не отвечал, продолжая чертить. Карл подождал, пока он кончит; наконец, положив карандаш, спросил
его машинально:
— Ну, что?
— Что с тобою, Вальтер? Ты рассеян, это не без причины.
— Ах, Карл, Карл! — сказал Вальтер, опять задумываясь.
Карл долго смотрел на Эйзенберга, наконец сказал тихо:
— Как хороша она!
— Прелестная девушка!
— Какое наслаждение смотреть на нее!
— Да, быть с нею, говорить с нею — вот счастие!
— Умереть у ног ее — вот блаженство! — докончил громко Карл и покатился со смеху.
— Что это значит, Карл? Разве ты знаешь Цецилию?
Ты смеешься?
— Попался,— говорил Карл, продолжая смеяться,— попался и высказал все, что было на душе. Видишь, как
немудрено узнать твою тайну. Ну, не сердись же. Мне ты мог
ее сказать. Итак, Цецилия, прелестная Цецилия владеет
твоим сердцем,— прибавил он патетическим тоном.
— Послушай, Карл,— сказал несколько серьезно Вальтер — если ты хочешь смеяться надо мною, так лучше
ступай вон, а то слишком не хорошо узнать секрет другого
и потом смеяться над ним. Разве я лез к тебе с моею доверенностью?
— Полно, полно, не сердись. Шутка — не насмешка.
А лучше расскажи мне хорошенько.
Вальтер рассказал ему все, и Карл, оставя свой шутливый тон, слушал его с участием.
Друзья расстались. Вальтер весело лег спать: завтра он
пойдет на целый день к Эйхенвальду; сладкие сны вились
над головою его. Он проснулся; светло и радостно улыбалось ему утро, так приветно пели птицы. Он встал, взглянул
на свой столик, где лежал портрет ее, нарисованный им
вчера. Наконец пришел назначенный час, и Вальтер отправился к Эйхенвальду.
613
День этот скоро прошел для Эйзенберга; после обеда
Эйхенвальд ушел в свой кабинет, и они опять остались
одни. Как хороша была Цецилия вечером, в последних лучах солнца, в саду, среди цветов, осененная деревьями.
альтер смотрел на нее; Вальтер все смотрел на нее.
— Нет, господи! Прекрасна луна, цветы, деревья, безоблачное небо, прекрасна природа; но это создание лучше
всех твоих созданий, прекраснее цветов и неба, прекраснее
природы!
— Послезавтра вечером я буду одна,— сказала Цецилия,
п ощаясь с ним.— Приходите, мне нужно поговорить с вами.
— Да, я уйду послезавтра вечером,— подтвердил Эйхенвальд,— приходите.
Нужно ли говорить, как приятно Вальтеру было это
предложение. Он пошел прямо к Карлу, чтобы все ему
пересказать.
— Послушай,— сказал тот, когда Вальтер кончил,— мне
что-то кажется странным и неприличным такая короткость
в девушке; и Эйхенвальд точно будто с нею сговорился.
— Ну вот, тебе уж и кажется странно. Ты бы хотел,
чтобы Цецилия была модная кукла, со всеми светскими
приличиями; неужто все, что сколько-нибудь отклоняется
от них, что сколько-нибудь следует естественному влечению,
кажется тебе странным; неужто во всяком сколько-нибудь
необыкновенном, не пошлом поступке ты находишь дурное?
— Нельзя ли мне видеть Цецилию?
— Ты можешь видеть ее как-нибудь под окном; проходи
мимо их дома.— Он сказал ему адрес.
* * *
Был шестой час вечера. Вальтер весело шел по улицам:
он увидит Цецилию. Ему казалось, что вся природа гармонировала с ним: легкий вечерний ветерок, теплый воздух,
зеленые развесистые сады, мимо которых шел он, вечернее
щебетанье птиц, голубое небо, по краям которого, как
усталые, растянулись облака,— все, все было так светло, так
хорошо, все дышало такою отрадою. Как понятна нам
красота природы, когда на душе нашей счастие... А Вальтер
был счастлив в эту минуту. Он шел, а перед ним носился
образ прелестной девушки. В душе его было ожидание
близкой минуты свидания, перед ним был целый вечер,
который он проведет с нею. Он подходит к дому Эйхенвальда,
видит издали, что кто-то сидит у окна: это она; это верно
614
она; это ее черные волосы колеблются; это ее белая рука лежит на окне; она подняла руку, опять опустила ее; он
сейчас ее увидит, она сейчас его увидит, сейчас, сейчас!..
Вальтер поклонился Цецилии, проходя мимо; она встала.
Через минуту он был уже в комнате, и они оба сидели
у окошка, друг против друга.
Разговор их одушевился. Вальтер принес Цецилии свои
рисунки; они говорили о живописи, о поэзии и, наконец,
о любви.
— Да, Вальтер,— говорила так искренно Цецилия,—
да, любовь — блаженство; но она не для тех людей, которым
надобна тишина: для них она беспокойна. Вы любили,
Вальтер?
Вальтер покраснел; он невольно вспомнил Карла, но
мысль эта рассеялась в одну минуту.
— Я не знал любви до сих пор; но теперь я...
— Вы любите. Что же, вы счастливы?
— Счастлив, счастлив! Чего мне еще желать? Я могу
видеть ее перед собою, слышать ее голос, думать о ней...
О, если бы вы знали, как я счастлив! Когда б только
я был уверен, что она любит меня,— прибавил Эйзенберг,
несколько смутясь,— о, тогда бы, тогда бы...
Цецилия улыбнулась.
— Вы меня любите, Вальтер,— сказала она,— и я вас
люблю.
Вальтер задрожал: эти неожиданные слова совершенно
поразили его.
— Завтра мы едем в деревню: вы будете у нас.
Что мог сказать Вальтер? Он изнемог от силы впечатления. Цецилия пристально смотрела на него, и он, неподвижный, не мог отвести глаз от ее взора; казалось, он весь перелился в зрение; казалось, там только сосредоточена вся
жизнь его. И вдруг ему стало страшно и грустно: перед ним
все подернулось туманом; ему казалось, что он перешел в глаза Цецилии и что это чудный какой-то мир; со всех сторон
блещут искры; он плавает в какой-то черной влаге, плещется, играет ею и вдруг исчезает, и он тонет, тонет; ему сделалось так страшно и сладко вместе. Потом что-то мелькает
перед ним и опять скрывается, а он все тонет, тонет...
Вдруг Цецилия повернула голову и взглянула в окно.
Вальтер почувствовал, что все нервы в теле его задрожали
и оно как будто ожило, как будто кровь снова заструилась по
жилам.
Вальтер посмотрел в окно: это был Карл, который, прой
615
дя мимо и взглянув на Цецилию, привлек на себя ее внимание, заставил оборотиться.
Она уже опять смотрела на него и сказала:
— Вы непременно приедете к нам в деревню.
— Да, да, непременно,— подхватил вошедший Эйхенвальд.
Вальтер не мог долго оставаться; изнеможденный, побрел
он домой и не мог дать себе отчета в своем состоянии. Он чувствовал смутно, что он счастлив; но в этом счастии было что-
то необыкновенно приятное — в сладкое чувство блаженства
теснился какой-то вопрос.
Поутру все ему представилось в радужном, веселом свете:
Цецилия его любит; он поедет к ним в деревню. Вальтер не
мог ни о чем другом думать. Около обеда пришел к нему
Карл.
— Ну, я видел твою Цецилию,— сказал он.— Ты не заметил, кажется, как я прошел мимо. Она хороша; но в лице
нет никакой приятности; как могла она тебе понравиться?
— Молчи, Карл, об этом не спрашивают и не рассуждают; а лучше радуйся моему счастию. Слушай,— и он рассказал ему весь разговор свой с Цецилией.
— Я счастлив, Карл, не правда ли?
— Дай бог, чтоб это была правда.
После обеда Эйзенберг пошел с своим другом к одному из
своих товарищей, где нашел несколько других студентов.
Весь вечер был он весел, шутил, смеялся и, наконец, простился с ними, сказав, что, может быть, долго не увидится;
послезавтра он ехал в деревню к Эйхенвальду.
Следующий день он приготовлялся к дороге, увязывал
свой станок, укладывал краски: Цецилия просила давать ей
уроки в живописи. На другой день рано поутру лошади были уже заложены. Вальтер простился с Карлом, который пришел проводить его, сел и поехал.
Вечером подъехал он к деревне Эйхенвальда. Как торопился выпрыгнуть наш Эйзенберг из своего дорожного экипажа! Он побежал сначала в дом — никого нет; все в саду. Он
бросился в сад; идет наудачу по дорожкам, вышел на поляну — нет Цецилии; вот еще одна узкая дорожка ведет в березовую рощу; он спешит к роще,— и вот между ветвями замелькали черные локоны; Цецилия услышала шум, обернулась и увидела Вальтера.
— Вальтер,— сказала она таким голосом, который проник всю его душу,— я ждала вас.
Эйзенберг стал перед ней и, ничего не говоря, смотрел на
616
нее и не мог оторваться: казалось, он утолял жажду, которая давно томила его душу.
Цецилия молча взяла его за руку и повела по саду. Сердце у Вальтера билось, он испытывал неописуемое чувство:
он хотел говорить, но язык его не слушался, и он продолжал
снова глядеть на Цецилию, которая шла спокойно, задумавшись. Они вышли на поляну; вдали блестела полоса воды;
солнце торжественно близилось к закату и далеко отбросило
тени от юноши и девушки, когда они отделились от рощи.
— Ты мой,— сказала Цецилия, устремляя глаза на Эйзенберга.
— Я твой,— прошептал он и снова потерялся в черном ее
взоре. Снова он тонет, тонет, исчезает, уничтожается... и вот
ему показалось, что он видит и солнце, и небо, и поляну, и рощу, но только видит все это из глаз Цецилии: вот ему кажется, что на каждом цветочке сидит сильфида и ловит лучи солнечные и росу вечернюю, умывает и разглядывает свой цветочек. По ветвям деревьев порхает целый рой эльфов, и дерево
тихо шумит листьями, будто от ветра, а там далеко в воде
плывут и стелются наяды; струи, переливаясь через них, покрывают их прозрачною легкою пеленою и блестят на солнце.
Не знаю, долго ли простоял Вальтер в таком положении, но
Цецилия запела песню, и он пришел в себя. Песня ее звучно,
одушевленно раздалась по поляне:
Туда, туда! Иди за мною!
Я знаю чудный, светлый край.
Простись с коварною землею,
Там ждет тебя небесный рай.
Свет, полный суеты, не знает
Той очарованной страны,
Где прелесть вечная сияет
Неувядающей весны.
Но путь я знаю сокровенный
В тот край, где радость и покой —
О, друг мой милый, друг бесценный,
Туда за мной, туда за мной!
Боже мой, как хороша была Цецилия в эту минуту! Вальтер следил за каждым звуком ее песни, за каждым ее движением; казалось, он мог только молча понимать Цецилию, мог
только чувствовать, но потерял способность выражения: он
был в каком-то очаровании.
Солнце село; они пошли домой; в аллее встретился с ними
Эйхенвальд. Доктор был очень рад гостю; из обращения его
Вальтер заметил, будто он знает о взаимной любви его и Це
617
цилии. Они долго еще трое ходили по саду. Луна взошла высоко. Все наконец пошли в дом. Эйзенбергу отвели особый
флигель. Во сне ему все виделась Цецилия.
На другой день Вальтер начал давать свои уроки. Что
сказать вам? Жизнь его покажется однообразною; но как она
была полна и многозначительна для него! Часто засматривался он в очи Цецилии, засматривался, исчезал и забывался
совершенно и только смутно чувствовал, что он счастлив, невыразимо счастлив.
Однажды, это было вечером; уже свежая роса серебрилась на листьях; Вальтер шел по аллее, которая вела к березовой роще: он искал Цецилию.Эйзенберг вышел на поляну,
вдали синелось озеро, там на берегу различил он Цецилию,
и через минуту он был с нею.
— Мы еще никогда не были за озером, друг мой,— сказала она ему.— Вот лодка: поедем.
Они сели, оба взяли по веслу, и челнок отплыл от берега.
Вода струилась за кормою и всплескивалась, поднимаемая
веслами и скатываясь с них блестящими брызгами; было тихо, парус был свернут; скоро доехали они до противоположного берега. В нескольких шагах была кленовая роща, они
вошли туда и сели под навесом трех старых кленов.
— Ты любишь меня,— сказала Цецилия, устремив на Эйзенберга свой взор, в который он снова погрузился.— Да,
ты меня любишь,— продолжала она через минуту,— да, я
твое сознание, я твоя жизнь, без меня горе тебе, ты слился с
моим существованием.
— Да, Цецилия.
— Слушай же,— сказала она, взяв его за голову и сжав
ее обеими руками. Вальтеру показалось, что огонь прожег его
череп.— Слушай же, ничтожное существо: я тебя ненавижу;
сама природа поставила нас в мире друг против друга и создала нас врагами. Давно уж возбудил ты мое мщение: теперь
я достигла своей цели; да, ты теперь будешь мучиться — счастия нет для тебя, тебе не выдастся ни одной сладкой минуты;
я тебя ненавижу, но ты мой! Ты меня не забудешь: не оторвать тебе от меня души своей — ты мой! Никогда не найти
тебе приюта: все твои мысли погаснут, окаменеют все твои
чувства, все мечты рассеются. Ты любишь меня, ты полюбил
меня навеки, и ненависть моя камнем ляжет на твоем сердце — ты мой.
Цецилия встала и исчезла между деревьями. Несколько
времени лежал Вальтер как без памяти; наконец, он очнулся,
встал, и вот из-за деревьев, из травы, с воздуха, отовсюду,
618
отовсюду видятся ему блестящие глаза Цецилии, и все эти
глаза устремлены на него: они жгут, палят его внутренность.
В ужасе он закрыл глаза свои рукою; и вот со всех сторон раздался голос Цецилии: «Вальтер, Вальтер, Вальтер...» Эти
звуки гремели и теснились в ушах его, он не выдержал и
бросился бежать из рощи. Голос Цецилии загремел вслед
его:
— Куда, куда, милый Вальтер?
— Куда, куда, милый Вальтер?— шумели ему деревья.
— Куда, куда, милый Вальтер?— раздалось со всех сторон, когда он выбежал из рощи.
— Куда, куда, Вальтер?— шептала трава под его ногами.
Вальтер добежал до лодки и бросился в нее: он прилежно начал грести; челнок поплыл скоро; из каждой струи,
взбрасываемой веслом, на него глядели глаза Цецилии.
— Куда, куда, Вальтер?— журчали волны.
Он был уже в саду; он бежал по аллее; на дороге ветре
тился ему Эйхенвальд, в халате, с книгою в руках; старик
увидел его.
— А,— сказал он, странно улыбаясь и провожая его глазами.
Эйзенберг пробежал мимо дома и выбежал на дорогу.
Вдали ехала телега. Он догнал крестьянина, который сидел
в ней, и уговорился с ним, чтобы он довез его до города, в такое-то место, в такой-то дом.
Крестьянин поглядел на него с участием, помог ему усесться и погнал лошадь. Вальтер отдохнул немного; он закрыл
глаза, взял себя за голову и лег на спину, стараясь заснуть,
но не мог.
Они проехали час в таком положении. Вальтер поуспокоился и открыл глаза. Смеркалось.
Вдруг крестьянин оборотился к нему и сказал, качая головою:
— Вальтер, Вальтер! Куда, Вальтер? Беги, беги, Вальтер!
Эйзенберг затрясся всем телом, хотел броситься на него;
но силы ему изменили, и он упал навзничь.
Когда Вальтер пришел в себя, он был уже в своей комнате,
и над ним стоял Карл. Бедный Эйзенберг был в горячке; скоро
с ним сделался жар и бред, и он опять пришел в беспамятство. Ему все грезилась Цецилия, деревня, где он так счастливо проводил с нею время и где так ужасно был разочарован. Целый месяц провел он в таком мучительном состоянии.
Наконец, после долгого сна он проснулся однажды поутру. Время было прекрасно, птицы прыгали по деревьям и
619
пели, и раскидистые березы, слегка покачиваясь, заглядывали своими свежими, зелеными ветвями в растворенное
окно его комнаты. Вальтеру казалось, что он теперь только
проснулся. Освежительное, утреннее чувство наполнило его;
он сел, вздохнул и улыбнулся. Природа, благая природа производила опять над ним свое действие. Вальтер поднялся и в
первый раз сошел с постели и подошел к окну. Свежий утренний ветерок повеял ему на грудь; он ожил: перед ним понеслись тихие, светлые мечты; он вспомнил прошедшее, но не
Цецилию, не озеро, не кленовую рощу, а свое детство и место,
где он провел его; ему виделись: аллея из акаций, зеленый
широкий двор, сельская церковь; ему слышался стук мельницы; перед ним расстилался широкий пруд; важно колыхаясь в камышах своих, вилась быстрая река, через нее перекинут мостик в три дощечки шириною; вдали высилась гора
(это было все место его родины).
Вальтер сел у окна, погрузившись в мысли, освежаемый
утренним ветерком, покоя взоры на зеленых ветвях берез,
забывшись совершенно; такое тихое, ясное наслаждение разливалось по всему существу его.
Дверь в эту минуту растворилась, и вошел в комнату
Карл.
— Слава богу,— сказал он, пожимая руку Эйзенбергу.—
Ты, кажется, оправляешься.
— Да, слава богу, я здоров.
— Еще не совсем, погоди немного: во-первых, тебе не годится сидеть у открытого окна: теперь еще свежо; во-вторых,
ты должен несколько времени оставаться спокойным, не заниматься и не входить ни во что.
Скоро Вальтер совсем выздоровел.
— Ну,— сказал ему однажды Карл,— расскажи мне наконец, что случилось с тобою в деревне.
Эйзенберг побледнел: он все вспомнил. Карл раскаивался
в своей неосторожности, он просил друга успокоиться и не
говорить ни слова.
— Нет, Карл,— отвечал Вальтер,— мне будет легче, если
я все расскажу тебе. Ах, друг мой, зачем ты мне напомнил!..
Но теперь делать нечего: слушай.
Когда Вальтер кончил, то Карл стал опять опасаться за
его здоровье и всю эту ночь провел у него. На другой день
Вальтер уже не мог быть спокойным. Образ Цецилии снова
стал его преследовать; он искал развлечения; он углублялся
в занятия, он бродил по окрестностям города — все напрасно.
Так прошел год; Вальтер оставил университет. Наступил и
620
день, который так ужасно провел он в деревне Эйхенвальда;-
он вспомнил и решился идти за город. Поутру он почувствовал как-то себя веселее. За городом есть одно прелестное
место: неширокая река вьется и журчит под склоном ракит и
ив, вдали березовый лес со своею живою зеленью и белою
корою; в стороне пестреют нивы. Туда пошел Вальтер, взяв
с собою небольшой обед, не сказав никому, ни даже Карлу.
День был летний, жаркий, и тучи со всех сторон медленно
поднимались на небо. Вальтер сел на берегу, в тени дерев,
где протекала прохладная влага, местами блестя на солнце;
немного выше вода встречала в своем течении толстый сук
дерева и, прыгая через него, так однообразно, так приветно
журчала. Вальтер не мог удержаться, чтобы не освежить
себя купаньем, и потом принялся за обед свой; вдруг ему почудилось, что какая-то женщина мелькнула там в лесу.
Вальтер посмотрел пристально: никого не было; он продолжал обед; но ему казалось, что кто-то все на него смотрит;
он чувствовал вблизи чье-то незримое присутствие; он не
мог поверить, чтобы он был здесь один.
В самом деле, в лесу опять мелькнуло женское платье;
в самом деле, между листьев видны черные длинные волосы...
Как не узнать их Вальтеру! Как не узнать этот возвышенный
стан, эти огненные очи!.. Это Цецилия, да, это Цецилия...
Эйзенберг, как бы увлекаемый непреодолимою силою,
бросился к ней. В это время тучи нашли на солнце. Цецилия,
казалось, убегала от него, мелькая между деревьями. Вальтер, как безумный, бежал за нею; скоро он пробежал насквозь
рощу, и вот перед ним па поляне стоит Цецилия. Ветер развевает ее длинные волосы и белое платье; она простирает
к нему руки и зовет его. Вальтер спешит к ней, и ему кажется, что черные волосы зеленеют и шумят, руки поднимаются в стороны и кривятся, белое платье плотно облегает ее
ровный стан. Вальтер ближе; да, точно, это дерево, это береза
качает свои раскидистые ветви в порывах ветра. Страх объял
Эйзенберга; он бежит прочь, спешит добраться до города,
который был в полуторе версте оттуда, бежит, оглянулся,—
и вот за ним опять стоит Цецилия, манит его, зовет его.
— Вальтер, Вальтер!
Эйзенберг ускорил шаги свои и через полчаса был
дома.
Хотя впечатления этого дня были сильны, но Вальтер перенес их гораздо легче. Дня три он был нездоров, потом опять
оправился. Тягостные воспоминания стали сильнее преследовать его; тогда он весь предался живописи; в ней находил
621
он отраду и утешение, с нею как бы забывал он все свое горе.
Он нанял себе домик на конце города и переехал туда. Там
жил он в совершенном уединении; тихо, мирно, неизвестно
катилась жизнь его. Все об нем забыли, и он всех забыл;
один только Карл иногда навещал его. Воспоминание, преследовавшее Вальтера, не расставалось с ним, но было
уже не так мучительно. Правда, долго кисть его рисовала только образы Цецилии, и он сам всегда содрогался, когда видел перед собою на полотне портрет ее; наконец, мечты более тихие, приятные мало-помалу овладели
его душою, и он рисовал пейзажи, которые напоминали
ему места его детства: то ясный вечер, по небу вытянулись румяные облака, воздух влажно-тепел, стадо удаляется с поляны; то сельский дом, то садик, по садику бегают
дети: мальчик и девочка, смеются и целуются — это были
все золотые воспоминания Эйзенберга. Раз как-то Карл
унес у него одну картину и показал своим знакомым; картина
поразила многих. Некоторые стали просить Карла доставить
им случай познакомиться с Вальтером, по крайней мере приходить смотреть его картины. Вальтер вовсе не желал и, только согласись на неотступные просьбы своего друга, позволил
ему приводить <к себе>> его знакомых только тогда, когда
его нет дома, и без него смотреть на картины. Не обращая
внимания на суждения других, он скоро и забыл, что многие
стояли перед его картинами и восхищались и он считался в
свете отличным художником. Что ему было до этого?
В одно утро поставил он перед собою станок и начал большую картину: поле, по полю ходят три девушки. Никогда
с таким наслаждением, с такою страстью не писал он, и когда
проводил он по полотну черты, рисуя девушек, то ему казалось, что они скрывались за полотном и что он каждым движением кисти поднимал с них этот покров, и они, живые,
выступали перед ним. Эта картина занимала его каждый
день, пока он ее кончил.
Вот однажды вечером сидел он перед своею картиной и
задумался; голова его опустилась; вдруг он слышит легкий
шепот:
— Вальтер, Вальтер, Вальтер!
Он поднял голову: перед ним улыбались три прекрасные
девушки, им нарисованные. Эйзенберг изумился.
— Вальтер, Вальтер, Вальтер!— повторили они опять тихим, сладким голоском.— Вальтер, мы тебя любим, мы тебя
любим, Вальтер! Ты будешь счастлив, Вальтер, счастлив,
счастлив...
622
И вот они спрыгнули с картины и сели возле него; две
взяли его за руки, одна смотрела, улыбаясь, ему в глаза.
Вальтеру показалось, что он освободился от тоски своей,
которая уже два года преследовала его; он вздохнул так
глубоко, так отрадно, вздохнул и взглянул на них.
— Вальтер здоров теперь, Вальтер счастлив,— сказали
все они вместе и забили в ладоши от радости; потом стали
бегать по комнате, подходили к его книгам, картинам, все
переворачивали с места на место; потом все опять бросились
к нему и, взявшись за руки, вертелись около него. Он смотрел на них с умилением, встал и сам и, как дитя, стал бегать с
ними по горнице, кричать и смеяться. Вдруг раздались шаги
в соседней комнате.
— Тише, тише, тише,— сказали девушки, побежали и
опять вскочили на картину. Дверь отворилась, и вошел Карл:
он давно не был у Вальтера.
— Ну, друг,— сказал он, остановясь перед картиною,—
ты еще ничего не рисовал лучше. Чудо, как живые!
«Как живые,— думал Вальтер, смеясь про себя.— Он
не видит, что они в самом деле живые; а точно: как они неподвижно стоят».
Карл просидел у него довольно долго. Пользуясь позволением друга, он приводил к нему своих знакомых посмотреть на последнее его произведение. Всякий раз, как Вальтер
становился перед своей картиной, три девушки спрыгивали
с нее и бегали с ним по комнате, играя, как дети. Иногда в
это время приходили к нему посторонние люди, отчасти ему
знакомые, и всякий раз перед приходом их три девушки вскакивали опять на полотно и оставались там неподвижными.
Часто Вальтер от души смеялся внутренно, слыша, как
хвалили работу, отделку, колорит.
— Они все думают,— говорил он сам себе,— они все думают, что это рисунок, а я, я вижу, я очень хорошо вижу, как
они мне мигают с полотна, дают знать, чтоб я не сказывал, и
вместе со мною подмигивают над их глупостью.
Так прошел месяц и другой. Вальтер возвращался домой
после утренней прогулки; вдруг перед ним Цецилия; он весь
задрожал.
— Вальтер,— сказала она тихим голосом,— ты забыл
меня; но мы опять будем счастливы, ты по-прежнему будешь
сидеть передо мною, глядеть на меня, Вальтер.
Что было с Вальтером, как описать? Какое-то болезненное
чувство проникло весь состав его; он печально посмотрел
на Цецилию.
623
— Пойдем, пойдем, мой Вальтер,— говорила она, увлекая его за собой и устремляя на него глаза свои, в которых
высказывалась любовь, могущественная, покоряющая.— Мы
так странно, так неожиданно с тобой расстались. Мне нужно
поговорить с тобой.
Вальтер, изумленный, растерянный, пошел за нею. Он
чувствовал, что любовь его к Цецилии возрождается снова.
Они пришли в тот дом, где Вальтер в первый раз увидал Цецилию. Она говорила ему, что он не так понял слова ее, что
она немедленно должна была далеко ехать и потому не могла
его видеть.
— А где Эйхенвальд?— спросил Вальтер.
— Вот он,— отвечала Цецилия.
Вальтер оглянулся: Эйхенвальд, улыбаясь, входил в двери.
Задумчиво возвращался Эйзенберг назад. Ему странным
казалось его положение. Мысли как-то у него не вязались.
Он вошел в комнату и бросился в кресло перед своей картиной.
— Что с тобою, Вальтер, что с тобою, что с тобою?— говорили ему девушки, сошли с холста и сели возле него.
— Ты грустен, Вальтер; ты будешь опять несчастен, Вальтер.
Ему показалось даже, что слезы навернулись на глазах
у девушек.
— Завтра я пойду к ней,— проговорил Вальтер почти машинально.
— Не ходи, Вальтер, останься здесь с нами, с нами.
Вальтер ничего не отвечал. Через минуту он встал, пошел
к Карлу и пересказал своему другу свидание с Цецилией и намерение идти завтра к ней. Карл упрашивал его, бог знает
как, не видать вовсе Цецилии, по крайней мере, не ходить
к ней завтра.
— Хорошо,— сказал Вальтер,— я завтра останусь дома.
Но он не сдержал своего слова и пошел к Цецилии. Она
ждала его.
— Два года не видались мы,— говорила она ему,— ты
был несчастлив, друг мой?
— Да, Цецилия, я был несчастлив сначала; но потом бог
послал мне отраду.
— Как?— спросила Цецилия.
— Да, да, тебе я могу поверить это: меня утешают три
девушки, три ангела,— и Вальтер рассказал ей подробно
про картину. Лицо Цецилии помрачилось.
624
— Нельзя ли мне видеть их?
— О, я очень рад показать их тебе.
— Г-н Эйхенвальд пойдет со мною.
— Хорошо.
— Сейчас же!
— Хорошо.
В это время вошел Эйхенвальд, с шляпою и палкою в
руке. Вальтер немного удивился тому, что он так нечаянно
узнал их намерение и уже был совсем готов идти.
Цецилия подошла прежде всех, когда вошли они в комнату Эйзенберга, и быстро взглянула на его произведение.
— Где ж,— сказала она тихо Вальтеру,— где ж эти девушки, которые так утешают тебя? Я ничего не вижу: это
просто прекрасная картина.
— Как?— сказал Вальтер, подходя и взглядывая на картину. Как будто туман упал с глаз его: в самом деле это была
простая картина, три девушки не улыбались ему исподтишка, не жили, были нарисованы на полотне. В изумлении, в огорчении повесил он голову.
— Хорошая работа,— сказал Эйхенвальд, усмехаясь.
Вальтер при этом слове опять взглянул на картину, думая встретить насмешливую улыбку на лицах трех девушек;
но все было неподвижно по-прежнему: он убедился, что это
была просто картина.
— Вальтер, ты мечтатель,— сказала Цецилия с довольной улыбкой и ушла с доктором.
Эйзенберг остался один. Грустно, грустно ему было: он
сел в кресло перед картиной и не глядел на нее.
— Мы живы, мы живы, мы живем для тебя,— раздалось
над его головою: перед ним опять стояли три прелестные девушки.
— Как убивает холодный взгляд ее: не верь ей, не верь
ей!
— Как, неужто моя Цецилия не может вас видеть?
— Нет, нет, нет! Оставь ее, она тебя не любит, Вальтер,
она тебя не любит.
— Я в самом деле мечтатель,— сказал Вальтер, протирая
глаза.
— Нет, нет, нет! Ты не мечтатель: то не мечта для человека, что производит на него впечатление.
— Так вы в самом деле существуете, милые создания?
— Верь нам, верь нам!
И они опять окружили его, опять заставили бегать и играть с собою; Вальтер опять забылся на несколько минут,
625
на несколько минут Цецилия вышла у него из памяти.
Ему принесли записку от Карла, в которой он уведомлял
его, что по непредвиденным и важным обстоятельствам он
немедленно должен ехать из города и даже не может с ним
проститься.
На другой день в загородной роще он встретил Цецилию.
— Что?— спросила она его.— Ты, наконец, уверился, что
твои прекрасные девушки существуют только на полотне?
— О, нет, Цецилия, ты не права: ты не вгляделась хорошенько; когда ты ушла, они снова ожили. Я не знаю, почему
ты их не можешь видеть.
— Послушай, Вальтер,— сказала Цецилия, на лице которой изобразилось неудовольствие,— мне больно видеть,
что ты увлекаешься пустыми мечтами. Я вижу, что любовь
твоя не то, что прежде; не знаю, какое волшебное очарование
овладело тобою, отнимает тебя у меня; ты до тех пор не избавишься от него, пока не истребишь картины. Вальтер, если
ты меня любишь, сожги ее.
— Как сжечь!— вскричал Вальтер почти с ужасом.
Цецилия не повторила своего требования; она видела, что
это слишком сильно поразило Эйзенберга; она позвала его к
себе и постаралась как можно сильнее укрепить власть свою
над ним. Никогда голос ее нс звучал так приветно, так сладко пленительно, никогда глаза ее не смотрели так очаровательно, никогда Вальтер не был так очарован; он предался
во власть Цецилии — бедный: видно, уже судьбою было назначено враждебным силам играть его участью. Цецилия
успела взять с него обещание не смотреть на картину, и вот
в одну их тех минут, когда он тонул в очах ее, он дал ей слово сжечь картину завтра. Цецилия опять была все для него.
Доктор Эйхенвальд, это странное существо, которого никак
не мог понять Вальтер, который знал и предупреждал малейшие желания Цецилии, хотя бы был и не вместе с нею,
доктор был давно уже согласен отдать ему руку своей воспитанницы. Одно препятствие было — картина; завтра Вальтер
сожжет ее, и скоро Цецилия станет спутницею его жизни.
Вальтер провел беспокойно эту ночь; ему все казалось, что
кто-то тихо стонет и вздыхает в его комнате. Встав рано поутру, он вынес свою картину за город, приготовил жаровню
и невольно взглянул на картину. Боже мой! Сердце его сжалось глубоко: горе, мучение выражалось на прелестных лицах
девушек: они протягивали к нему руки.
— Вальтер, Вальтер, неужели ты сожжешь нас, Вальтер?
Пощади, пощади, пощади нас!
626
Когда же он нечаянно пододвинул картину к жаровне, то
ему показалось, что ужасный, раздирающий вопль вырвался
из груди их; сердце Вальтера разорвалось, он опрокинул жаровню.
— Нет,— сказал он,— нет: никогда не сожгу я вас, милые
существа, никогда, во что бы то ни стало.
— Ты не сожжешь?— раздался голос. Перед ним стояла
Цецилия.
Вальтер смутился; нерешимость на минуту овладела им,
потом он с твердостию отвечал:
— Нет.
— Вальтер, я твоя невеста, я люблю тебя. Это последнее
препятствие; уничтожь его, я прошу тебя, я, подруга твоей
жизни, твоя Цецилия.
— Нет.
— Вальтер, выбирай: или их, или меня; если ты не исполнишь просьбы моей, ты меня никогда больше не увидишь, никогда, никогда.
Вальтер, взглянул на Цецилию: как она была прекрасна,
боже мой! Взглянул на картину: со страхом и надеждою, как
жертвы, ожидали своего приговора три девушки.
— Нет.
Глаза Цецилии блеснули, как молния; через секунду она
была уже далеко. Откуда ни возьмись, Эйхенвальд стал перед Вальтером с нахмуренным лбом, с лицом суровым и
мрачным, погрозил ему пальцем и скрылся.
Скоро Цецилия исчезла совсем между деревьями. Вальтер
вздохнул и оборотился к картине.
Радостью сияли лица трех девушек, слезы блистали на
глазах их, сладко у Вальтера стало на сердце.
— Благодарим, благодарим, благодарим, наш Вальтер;
не бойся, не бойся, мы с тобою, мы не оставим тебя, Вальтер;
твоя жизнь будет светла и радостна, как твое детство; мы
украсим дни твои, мы будем лелеять тебя, ты будешь счастлив, счастлив с нами, Вальтер! Благодарим, благодарим, благодарим!
Сжав руки, с умилением глядел на них Эйзенберг; он
опустил голову, и слезы навернулись у него на глазах.
Он отнес картину домой и поставил ее на то же место.
Прежняя беззаботная жизнь началась снова. Скоро приехал Карл: «известие» так неожиданно вызвавшее его из города, было ложно; он радовался, что друг его расстался с
Цецилией. Вальтер оставил живопись. Все, кто ни приходил
к нему, заставали его сидящим перед картиной; он вставал
627
неохотно и старался поскорее проводить своих гостей; выходя от него, видели, что он опять садился перед картиной и
начинал смотреть на нее.
Прошло несколько времени. В одно утро, когда солнце
всходило и лучи его начинали озарять картину, Вальтер, который вставал рано, сел на свое обыкновенное место. Девушки снова сошли к нему, говорили с ним, пели ему.
— Зачем,— сказал Вальтер,— зачем я не всегда могу
быть с вами? Если кто приходит, вы бежите на свой холст,
а я остаюсь здесь. Как бы мне хотелось перейти к вам,— прибавил он, указывая на картину.
— Вальтер, поди, поди к нам,— сказали они, вскочив на
свои места и маня его,—сюда, наш Вальтер, сюда, сюда.
— Да, к вам,— сказал Вальтер решительно, схватил
кисть, давно забытую, и, севши перед картиною, начал рисовать себя подле трех девушек. Он работал с жаром; казалось,
с каждым движением кисти он чувствовал, что будто жизнь
его, все его существо, весь он переливался через кисть и переходил живой на полотно; и с каждым движением кисти он
чувствовал, что тело его ослабевало.
Девушки простирали к нему руки и смотрели на него с
улыбкою участия.
— К нам, к нам, к нам,— повторяли они. Работа шла
успешно.
— К вам, к вам, скоро к вам,— шептал Вальтер.
Оставалось одно последнее движение, один последний
штрих; Вальтер, уже совсем ослабевший, собрал оставшиеся силы, сделал это последнее движение и упал на кресла
мертвый: здесь лежало только тело его, а сам он, весь полный жизни, стоял на картине, окруженный тремя девушками.
Через несколько минут растворилась дверь, и вошел Карл.
Увидав издали своего друга, лежавшего в креслах, он побежал к нему.
— Вальтер, боже мой,— вскричал он, видя, что тело
его уже охладело, и нечаянно, оборотись, он вскрикнул
от ужаса: — Ах!
Он, Вальтер, стоял перед ним и смотрел на него веселыми
глазами. Карл скоро заметил, что это рисунок, но все не
мог оправиться от страха; он стоял перед картиною несколько
времени, дрожал все<м телом и наконец выбежал из комнаты.
628
jj: >j: #
Как ни старался Карл удержать у себя картину своего
друга, но она перешла во владение одному богатому дальнему
родственнику Эйзенберга и украсила его картинную галерею;
она была поставлена в особой комнате. Говорили, что по
ночам в этой комнате слышался шум и голоса. Несмотря
на это, г-н П... (так начиналась фамилия родственника)
ни за что не хотел отдать картины, потому что она привлекала
к нему толпы посетителей, которых он сам всегда вводил
в эту комнату, и ключи от нее всегда держал при себе.
Однажды Карл пришел посмотреть на последнее произведение своего бедного друга, но его не допустили.
— Разве г-на П... нет дома?
— Дома,— отвечали ему,— но его нельзя видеть.
— Отчего же?
— Он говорит с какой-то женщиной; кажется, у барина
покупают картину.
Через минуту вышла женщина, высокого роста, величественного вида, она казалась лет двадцати пяти и была
в полном цвете красоты; на ней была белая одежда; с
плеч спускалась зеленая мантия, на челе ее лежала целая
повязка из белых лилий, из-под которой черные густые волосы падали обильными волнами, со всех сторон головы
спускаясь ниже пояса; лицо се было смугло. Карл узнал
Цецилию.
На другой день картина Вальтера была сожжена господином П...
* * *
Мне, верно, не поверят, когда я скажу, что это происшествие истинное и что оно не так давно случилось; но я
сам знал Карла, который был недавно в Москве и много
рассказывал мне про своего друга. Вальтер открылся ему
за несколько дней до своей смерти, что девушки, нарисованные им на картине, перед ним оживлялись.
— Бедный друг мой! — говорил Карл, когда, бывало,
вечером мы сидели вместе за чаем и он всю комнату наполнял дымом своей трубки.— Бедный друг мой! Вы не знали
его, вы не знали, что это был за человек и какая судьба!
Ни с кем не был он так откровенен, как со мною; мне
высказывал он свои мысли, подлинно гениальные. О, если б
они только созрели в нем, если б он развил все силы,
629
данные ему природою... но нет, судьба не хотела. Сначала
его странная мечтательность; потом круг этих людей, этих
нравственных убийц; однако это еще не уничтожило его,
он заключился в одном себе, удалясь от общества; в то
время мы встретились и поняли друг друга. Вальтер начинал
отдыхать, мысли его стали развиваться, когда явился какой-
то злой дух в виде девушки, он околдовал его, и бедный
Эйзенберг подчинился тягостному очарованию, из которого
не мог вырваться иначе, как впавши в другое очарование,
которое, по крайней мере, было для него отрадно: так
умер мой Вальтер. Есть же такие несчастные люди. Право,
мне кажется, что природа, наделив его огромными силами,
сама испугалась, испугалась, чтоб он не открыл тайн ее,
и возбудила на него противные власти, дав ему сверх
того этот несчастный ипохондрический характер.
Так говорил Карл, и трубка была забыта, и чай стыл в
его чашке.
А. К. Толстой
СЕМЬЯ ВУРДАЛАКА
Неизданный отрывок из записок неизвестного
В 1815 году в Вене собрался цвет европейской образованности, дипломатических дарований, всего того, что блистало в тогдашнем обществе. Но вот — Конгресс окончился.
Роялисты-эмигранты намеревались уже окончательно
водвориться в своих замках, русские воины — вернуться к
покинутым очагам, а несколько недовольных поляков —
искать приюта своей любви к свободе в Кракове под сомнительной тройственной эгидой независимости, уготованной для
них князем Меттернихом, князем Гарденбергом и графом
Нессельроде.
Как это бывает к концу шумного бала, от общества,
в свое время столь многолюдного, остался теперь небольшой
кружок лиц, которые, все не утратив вкуса к развлечениям
и очарованные прелестью австрийских дам, еще не торопились домой и откладывали свой отъезд.
Это веселое общество, к которому принадлежал и я,
собиралось два раза в неделю у вдовствующей княгини
Шварценберг в нескольких милях от города за местечком
Гитцинг. Истинная светскость хозяйки дома, еще более
выигрывавшая от ее милой приветливости и тонкого остроумия, делала чрезвычайно приятным пребывание у нее в
гостях.
Утро у нас бывало занято прогулкой; обедали мы все
вместе либо в замке, либо где-нибудь в окрестностях, а
вечером, усевшись у пылающего камина, беседовали и рассказывали всякие истории. Говорить о политике было строго
запрещено. Все от нее устали, и содержание наших рассказов мы черпали либо в преданиях родной старины, либо
в собственных воспоминаниях.
Однажды вечером, когда каждый из нас успел что-то
рассказать и мы находились в том несколько возбужденном
состоянии, которое обычно еще усиливают сумерки и тишина, маркиз д’Юрфе, старик эмигрант, пользовавшийся всеобщей любовью за свою чисто юношескую веселость и ту
632
особую остроту, которую он придавал рассказам о былых
своих любовных удачах, воспользовался минутой безмолвия
и сказал:
— Ваши истории, господа, конечно, весьма необыкновенны, но я думаю, что им недостает одной существенной
черты, а именно — подлинности, ибо — насколько я уловил — никто из вас своими глазами не видел те удивительные вещи, о которых повествовал, и не может словом
дворянина подтвердить их истинность.
Нам пришлось с этим согласиться, и старик, поглаживая свое жабо, продолжал:
— Что до меня, господа, то мне известно лишь одно
подобное приключение, но оно так странно и в то же
время так страшно и так достоверно, что одно могло бы
повергнуть в ужас людей даже самого скептического склада
ума. К моему несчастию, я был и свидетелем и участником этого события, и хотя вообще не люблю о нем
вспоминать, но сегодня готов был бы рассказать о случившемся со мною — если только дамы ничего не будут иметь
против.
Слушать захотели все. Правда, несколько человек с робостью во взгляде посмотрели на светящиеся квадраты,
которые луна уже чертила по паркету, но тут же кружок наш
сомкнулся теснее и все приумолкли, готовясь слушать историю маркиза. Господин д’Юрфе взял щепотку табаку, медленно потянул ее и начал:
— Прежде всего, милостивые государыни, попрошу у
вас прощения, если в ходе моего рассказа мне придется
говорить о моих сердечных увлечениях чаще, чем это подобает человеку в моих летах. Но ради полной ясности мне
о них нельзя не упоминать. К тому же старости простительно забываться, и право же, это ваша, милостивые государыни, вина, если, глядя на таких красивых дам, я чуть
ли сам уже не кажусь себе молодым человеком. Итак,
начну прямо с того, что в тысяча семьсот пятьдесят девятом году я был без памяти влюблен в прекрасную герцогиню де Грамон. Эта страсть, представлявшаяся мне тогда
и глубокой и долговечной, не давала мне покоя ни днем,
ни ночью, а герцогиня, как это часто нравится хорошеньким
женщинам, еще усиливала это терзание своим кокетством.
И вот, в минуту крайнего отчаяния, я в конце концов решил
просить о дипломатическом поручении к господарю молдавскому, ведшему тогда переговоры с версальским кабинетом о делах, излагать вам которые было бы столь же
633
скучно, сколь и бесполезно, и назначение я получил.
Накануне отъезда я явился к герцогине. Она отнеслась
ко мне менее насмешливо, чем обычно, и в голосе ее
чувствовалось некоторое волнение, когда она мне сказала:
— Д’Юрфе, вы делаете очень неразумный шаг. Но я вас
знаю, и мне известно, что от принятого решения вы не
откажетесь. Поэтому прошу вас только об одном — возьмите
вот этот крестик как залог моей дружбы и носите его,
пока не вернетесь. Это семейная реликвия, которой мы
очень дорожим.
С учтивостью, неуместной, быть может, в подобную минуту, я поцеловал не реликвию, а ту очаровательную руку,
которая мне ее протягивала, и надел на шею вот этот
крестик, с которым с тех пор не расставался.
Не стану утомлять вас, милостивые государыни, ни подробностями моего путешествия, ни моими впечатлениями от
венгерцев и от сербов — этого бедного и непросвещенного,
но мужественного и честного народа, который, даже и под
турецким ярмом, не забыл ни о своем достоинстве, ни о
былой независимости. Скажу вам только, что, научившись
немного по-польски еще в те времена, когда я жил в Варшаве, я быстро начал понимать и по-сербски, ибо эти
два наречия, равно как русское и чешское, являются —
и это вам, наверно, известно — не чем иным, как ветвями
одного и того же языка, именуемого славянским.
Итак, я уже знал достаточно для того, чтобы быть в
состоянии объясниться, когда мне однажды случилось попасть проездом в некую деревню, название которой не представило бы для вас никакого интереса. Обитателей дома, в
котором я остановился, я нашел в состоянии подавленности,
удивившей меня тем более, что дело было в воскресенье,—
день, когда сербы предаются обычно всяческому веселью,
забавляясь пляской, стрельбой из пищали, борьбой и т. п.
Расположение духа моих будущих хозяев я приписал какой-
нибудь недавно случившейся беде и уже думал удалиться,
но тут ко мне подошел и взял за руку мужчина лет тридцати, роста высокого и вида внушительного.
— Входи,— сказал он,— входи, чужеземец, и пусть не
пугает тебя наша печаль; ты ее поймешь, когда узнаешь
ее причину.
И он мне рассказал, что старик отец его, по имени
Горча, человек нрава беспокойного и неуступчивого, поднялся однажды с постели, снял со стены длинную турец
634
кую ищаль и обратился к двум своим сыновьям, одного
из которых звали Георгием, а другого — Петром:
— Дети,— молвил он им,— я иду в горы, хочу с другими смельчаками поохотиться на поганого пса Алибека
(так звали разбойника-турка, разорявшего последнее время
весь тот край). Ждите меня десять дней, а коли на десятый день не вернусь, закажите вы обедню за упокой моей
души — значит, убили меня. Но ежели,— прибавил тут старый Горча, приняв вид самый строгий,— ежели (да не
попустит этого бог) я вернусь поздней, ради вашего спасения,
не впускайте вы меня в дом. Ежели будет так, приказываю вам — забудьте, что я вам был отец, и вбейте мне
осиновый кол в спину, что бы я ни говорил, что бы ни
делал,— значит, я теперь проклятый вурдалак и пришел
сосать вашу кровь.
Здесь надо будет вам сказать, милостивые государыни,
что вурдалаки, как называются у славянских народов вампиры, не что иное в представлении местных жителей, как
мертвецы, вышедшие из могил, чтобы сосать кровь живых
людей. У них вообще те же повадки, что у всех прочих
вампиров, но есть и особенность, делающая их еще более
опасными. Вурдалаки, милостивые государыни, сосут предпочтительно кровь у самых близких своих родственников и
лучших своих друзей, а те, когда умрут, тоже становятся
вампирами, так что со слов очевидцев даже говорят, будто в
Боснии и Герцеговине население целых деревень превращалось в вурдалаков. В любопытном труде о привидениях
аббат Огюстен Кальме приводит тому ужасающие примеры.
Императоры германские не раз назначали комиссии для
расследования случаев вампиризма. Производились допросы,
извлекались из могил трупы, налитые кровью, и их сжигали
на площадях, но сперва пронзали им сердце. Судебные
чиновники, присутствовавшие при этих казнях, уверяют,
что сами слышали, как выли трупы в тот миг, когда палач
вбивал им в грудь осиновый кол. Они дали об этом показания
по всей форме и скрепили их присягой и подписью.
После всего этого вам легко будет вообразить себе,
какое действие слова старого Горчи произвели на его сыновей. Оба они упали к его ногам и умоляли, чтобы он
позволил им отправиться вместо него, но тот, ничего не
ответив, только повернулся к ним спиной и пошел прочь,
повторяя припев старинной песни. День, в который я приехал
сюда, был тот самый, когда кончался срок, назначенный
Горчей, и мне было нетрудно понять волнение его детей.
635
То была дружная и хорошая семья. Георгий, старший
сын, с чертами лица мужественными и резкими, был, невидимому, человек строгий и решительный. Был он женат и
имел двух детей. У брата его Петра, красивого восемнадцатилетнего юноши, лицо носило выражение скорее мягкости, чем отваги, и его, судя по всему, особенно любила
младшая сестра, Зденка, в которой можно было признать
тип славянской красоты. В ней, кроме этой красоты, во
всех отношениях бесспорной, меня прежде всего поразило
отдаленное сходство с герцогиней де Грамон. Главное—
была у нее та особенная складочка над глазами, которую
за всю мою жизнь я не встречал ни у кого, кроме как
у этих двух женщин. Эта черточка могла и не понравиться
с первого взгляда, но стоило увидеть ее несколько раз,
как она с неодолимой силой привлекала вас к себе.
То ли потому, что был я тогда очень молод, то ли в
самом деле неотразимое действие производило это сходство в сочетании с каким-то своеобразным и наивным складом ума Зденки, но стоило мне две минуты поговорить
с нею — и я уже испытывал к ней симпатию настолько
живую, что она неминуемо превратилась бы в чувство еще
более нежное, если бы мне подольше пришлось остаться
в той деревне.
Мы все сидели во дворе за столом, на котором для
нас были поставлены творог и молоко в кринках. Зденка
пряла; ее невестка готовила ужин для детей, игравших
тут же в песке; Петр с наигранной беззаботностью что-
то насвистывал, занятый чисткой ятагана — длинного турецкого ножа; Георгий, облокотившись на стол, сжимал
голову ладонями, был озабочен, глаз не сводил с дороги и
все время молчал.
Я же, как и все остальные, поддавшись тоскливому
настроению, меланхолично глядел на вечерние облака, обрамлявшие золотую полосу неба, и на очертания монастыря,
поднимавшегося над сосновым лесом.
Этот монастырь, как я узнал позднее, славился некогда
чудотворной иконой богоматери, которую, по преданию, принесли ангелы и оставили ее на ветвях дуба. Но в начале
минувшего века в те края вторглись турки, они перерезали
монахов и разорили монастырь. Оставались только стены
и часовня, где службу совершал некий отшельник. Он водил
посетителей по развалинам и давал приют богомольцам,
которые по пути от одной святыни к другой охотно останавливались в монастыре «божьей матери дубравной». Все это,
636
как я уже упомянул, мне стало известно лишь впоследствии,
а в тот вечер занимала меня уж никак не археология
Сербии. Как это нередко бывает, если только дашь волю
своему воображению, я стал вспоминать прошлое, светлые
дни детства, мою прекрасную Францию, которую я покинул
ради далекой и дикой страны. Я думал о герцогине де
Грамон и — не буду этого скрывать — думал также о некоторых современницах ваших бабушек, чьи образы невольно
проскользнули в мое сердце вслед за образом прелестной
герцогини.
Вскоре я позабыл и о моих хозяевах, и о предмете
их тревоги.
Георгий вдруг нарушил молчание:
— Скажи-ка, жена, в котором часу ушел старик?
— В восемь часов,— ответила жена,— я слышала, как в
монастыре ударили в колокол.
— Хорошо,— проговорил Георгий,— сейчас половина
восьмого, не позднее.
И он замолчал, опять устремив глаза на большую дорогу,
которая исчезала в лесу.
Я забыл вам сказать, милостивые государыни, что когда
сербы подозревают в ком-нибудь вампира, то избегают
называть его по имени или упоминать о нем прямо, ибо
думают, что так его можно вызвать из могилы. Вот почему
Георгий, когда говорил об отце, уже некоторое время называл
его не иначе, как «старик».
Молчание продолжалось еще несколько минут. Вдруг
один из мальчиков, дернув Зденку за передник, спросил:
— Тетя, а когда дедушка придет домой?
В ответ на столь неуместный вопрос Георгий дал ребенку
пощечину.
Мальчик заплакал, а его младший брат, и удивленный
и испуганный, спросил:
— А почему нам нельзя говорить о дедушке?
Новая пощечина — и он тоже примолк. Оба мальчика
заревели, а взрослые перекрестились.
Но вот часы в монастыре медленно пробили восемь.
Едва отзвучал первый удар, как мы увидели человеческую
фигуру, появившуюся из лесу и направившуюся в нашу
сторону.
— Он! — воскликнули в один голос Зденка, Петр и их
невестка.— Слава тебе,господи!
— Господи, сохрани и помилуй нас! — торжественно про
637
говорил Георгий.— Как знать, прошло ли уже или не прошло
десять дней?
Все в ужасе посмотрели на него. Человек между тем
все приближался к нам. Это был высокий старик с белыми
усами, с лицом бледным и строгим; двигался он с трудом,
опираясь на палку. По мере того как он приближался,
Георгий становился все мрачней. Подойдя к нам, старик
остановился и обвел свою семью взглядом как будто не
видящих глаз — до того они были у него тусклые и впалые.
— Что ж это,— сказал он,— никто не встает, никто не
встречает меня? Что вы все молчите? Иль не видите, что
я ранен?
Тут я заметил, что у старика левый бок весь в крови.
— Да поддержи отца,— сказал я Георгию,— а ты, Зденка, напоила бы его чем-нибудь, ведь он, того гляди, упадет.
— Отец,— промолвил Георгий, подойдя к Горче,— покажи свою рану, я в этом знаю толк, перевяжу тебя...
Он только взялся за его одежду, но старик грубо оттолкнул его и обеими руками схватился за бок:
— Оставь, коли не умеешь, больно мне!
— Так ты в сердце ранен! — вскричал Георгий и весь
побледнел.— Скорей, скорей раздевайся, так надо — слышишь!
Старик вдруг выпрямился во весь рост.
— Берегись,— сказал он глухо,— дотронешься до меня — прокляну!
Петр встал между отцом и Георгием.
— Оставь его,— сказал он,— ты же видишь, больно ему.
— Не перечь,— проговорила жена,— знаешь ведь, он
этого никогда не терпел.
В эту минуту мы увидели стадо, возвращающееся с
пастбища в облаке пыли. То ли пес, сопровождавший стадо,
не узнал старика хозяина, то ли другая была причина, но
едва только он завидел Горчу, как остановился, ощетинился и начал выть, словно бы ему что-то показалось.
— Что с этим псом? — спросил старик, серчая все более.— Что все это значит? За десять дней, что меня не было,
неужто я так переменился, что и собственный пес меня
не узнаёт?
— Слышишь? — сказал своей жене Георгий.
— А что?
— Сам говорит, что десять дней прошло!
— Да нет же, ведь он в срок воротился!
638
— Ладно, ладно, я уж знаю, что делать.
Пес не переставая выл.
— Застрелить его! — крикнул Горча.— Это я приказываю — слышите!
Георгий не пошевелился, а Петр со слезами на глазах
встал, взял отцовскую пищаль и выстрелил в пса — тот
покатился в пыли.
— А был он мой любимец,— проговорил он совсем тихо.— С чего это отец велел его застрелить?
— Он того заслужил,— ответил Горча.— Ну, стало свежо, в дом пора!
Тем временем Зденка приготовила питье для старика,
вскипятив водку с грушами, с медом и с изюмом, но он с
отвращением его оттолкнул. Точно так же он отверг и блюдо
с пловом, которое ему подал Георгий, и уселся около очага,
бормоча сквозь зубы что-то невнятное.
Потрескивали сосновые дрова, и дрожащие отблески
огня падали на его лицо, такое бледное, такое изможденное, что, если бы не это освещение, его вполне можно
было принять за лицо покойника. Зденка к нему подсела
и сказала:
— Ты, отец, ни есть не хочешь, ни спать не ложишься.
Может, расскажешь, как ты охотился в горах.
Девушка знала, что эти слова затронут у старика самую
чувствительную струну, так как он любил поговорить о боях
и сражениях. И в самом деле, на его бескровных губах
появилось что-то вроде улыбки, хотя глаза смотрели безучастно, и он ответил, гладя ее по чудесным белокурым
волосам:
— Ладно, дочка, ладно, Зденка, я тебе расскажу, что со
мной было в горах, только уж как-нибудь в другой раз,
а то сегодня я устал. Одно скажу — нет в живых Алибека, и убил его я. А ежели кто сомневается,— прибавил
старик, окидывая взглядом свою семью,— есть чем доказать!
И он развязал мешок, висевший у него за спиной, и
вытащил окровавленную голову, с которой, впрочем, его
собственное лицо могло поспорить мертвенно-бледным цветом кожи! Мы с ужасом отвернулись, а Горча отдал ее
Петру и сказал:
— На, прицепи над нашей дверью — пусть знает всякий,
кто пройдет мимо дома, что Алибек убит и никто больше
не разбойничает на дороге, кроме разве султанских янычар!
Петр, подавляя отвращение, исполнил, что было приказано.
639
— Теперь понимаю,— сказал он,— бедный пес выл оттого, что почуял мертвечину!
— Да, почуял мертвечину,— мрачно повторил Георгий,
который незадолго перед тем незаметно вышел, а теперь
вернулся: в руке он держал какой-то предмет, который
тут же поставил в угол — как мне показалось, это был кол.
— Георгий,— вполголоса сказала ему жена,— да неужто
ты...
— Брат, что ты затеял? — заговорила и сестра.— Да
нет, нет, ты этого не сделаешь, верно?
— Не мешайте,— ответил Георгий,— я знаю, что мне делать, и что надо — то сделаю.
Тем временем настала ночь, и семья ушла спать в ту
часть дома, которую от моей комнаты отделяла лишь тонкая стенка. Признаюсь, что все, чему я вечером был свидетель, сильно на меня подействовало. Свеча уже не горела,
а в маленькое низенькое окошко возле самой моей постели
вовсю светила луна, так что на пол и на стены ложились белые пятна вроде тех, что падают сейчас здесь,
в гостиной, где мы с вами сидим, милостивые государыни.
Я хотел заснуть, но не мог. Свою бессонницу я приписал
влиянию лунного света и стал искать, чем бы завесить
окно, но ничего не нашел. Тут за перегородкой глухо послышались голоса, и я прислушался.
— Ложись, жена,— сказал Георгий,— и ты, Петр, ложись, и ты, Зденка. Ни о чем не беспокойтесь, я посижу
за вас.
— Да нет, Георгий,— отвечала жена,— уж скорее мне
сидеть, ты прошлую ночь работал,— наверно, устал. Да и так
мне надо приглядеть за старшим мальчиком,— ты же знаешь,
ему со вчерашнего нездоровится!
— Будь спокойна и ложись,— говорил Георгий,— я посижу и за тебя!
— Да послушай, брат,— промолвила теперь нежным, тихим голосом Зденка,— по мне, так нечего и сидеть. Отец
уже уснул, и смотри, как мирно и спокойно он спит.
— Ничего-то вы обе не понимаете,— возразил Георгий
тоном, не допускающим противоречия.— Говорю вам — ложитесь, а я спать не буду.
Тут воцарилась полная тишина. Вскоре же я почувствовал, как отяжелели мои веки, и сон меня одолел.
Но вдруг дверь в комнату как будто медленно отворилась, и на пороге встал Горча. Я, впрочем, скорее догадывался об этом, чем видел его, потому что там, откуда
640
он вышел, было совершенно темно. Его погасшие глаза,—
так мне чудилось,— старались проникнуть в мои мысли
и следили за тем, как подымается и опускается моя грудь.
Потом он сделал шаг, еще — другой, затем, с чрезвычайной осторожностью, неслышно ступая, стал подходить ко
мне. Вот одним прыжком он очутился у моей кровати.
Я испытывал невыразимое чувство гнета, но неодолимая сила
сковывала меня. Старик приблизил ко мне свое мертвенно-
бледное лицо и так низко наклонился надо мною, что я
словно ощущал его трупное дыхание. Тогда я сделал сверхъестественное усилие и проснулся весь в поту. В комнате не
было никого, но, бросив взгляд на окно, я ясно увидел
старика Горчу, который снаружи прильнул лицом к стеклу и
не сводил с меня своих страшных глаз. У меня хватило
силы, чтобы не закричать, и самообладания, чтобы не подняться с постели, как если бы я ничего и не видел. Старик,
однако, приходил, по-видимому, лишь удостовериться, что
я сплю, по крайней мере, он и не пытался войти ко мне и,
внимательно на меня поглядев, отошел от окна, но я услышал,
как он ходит в соседней комнате. Георгий заснул и храпел
так, что стены чуть не сотрясались. В эту минуту кашлянул ребенок, и я различил голос Горчи, он спрашивал:
— Ты, малый, не спишь?
— Нет, дедушка,— отвечал мальчик,— мне бы с тобой
поговорить.
— А, поговорить со мной? А о чем поговорить?
— Ты бы мне рассказал, как ты воевал с турками —
я бы тоже пошел воевать с турками!
-- Я, милый, так и думал и принес тебе маленький
ятаган — завтра дам.
— Ты, дедушка, лучше дай сейчас — ведь ты не спишь.
— А почему ты, малый, раньше не говорил, пока светло
было?
— Отец не позволил.
— Бережет тебя отец. А тебе, значит, скорее хочется
ятаганчик?
— Хочется, да только не здесь, а то вдруг отец проснется!
— Так где же?
— А давай выйдем, я буду умный, шуметь не стану.
Мне словно послышался отрывистый глухой смех старика,
а ребенок начал, кажется, вставать. В вампиров я не верил,
но после кошмара, только что посетившего меня, нервы
у меня были напряжены, и я, чтобы ни в чем не упрекать себя позднее, поднялся и ударил кулаком в стену.
21 Зак.и II
641
Этим ударом можно было бы, кажется, разбудить всех
семерых спящих, но хозяева, очевидно, и не услыхали моего
стука. С твердой решимостью спасти ребенка я бросился
к двери, но она оказалась запертой снаружи, и замки не
поддавались моим усилиям. Пока я еще пытался высадить
дверь, я увидел в окно старика, проходившего с ребенком на
руках.
— Вставайте, вставайте! — кричал я что было мочи и бил
кулаком в перегородку. Тут только проснулся Георгий.
— Где старик? — спросил он.
— Скорей беги,— крикнул я ему, — он унес мальчика!
Георгий ударом ноги выломал дверь, которая, так же
как моя, была заперта снаружи, и побежал к лесу. Мне
наконец удалось разбудить Петра, невестку его и Зденку. Мы
все вышли из дому и немного погодя увидели Георгия,
который возвращался уже с сыном на руках. Он нашел его
в обмороке на большой дороге, но ребенок скоро пришел в
себя, и хуже ему как будто не стало. На расспросы он отвечал,
что дед ничего ему не сделал, что они вышли просто
поговорить, но на воздухе у него закружилась голова,
а как это было — он не помнит. Старик же исчез.
Остаток ночи, как нетрудно себе представить, мы провели
уже без сна.
Утром мне сообщили, что по Дунаю, пересекавшему
дорогу в четверти мили от деревни, начал идти лед, как
это всегда бывает здесь в исходе осени и ранней весной.
Переправа на несколько дней была закрыта, и мне было нечего думать об отъезде. Впрочем, если бы я и мог ехать, меня
удержало бы любопытство, к которому присоединялось и более могущественное чувство. Чем больше я видел Зденку,
тем сильнее меня к ней влекло. Я, милостивые государыни,
не из числа тех, кто верит в страсть внезапную и непобедимую, примеры которой нам рисуют романы, но я полагаю,
что есть случаи, когда любовь развивается быстрее, чем обычно. Своеобразная прелесть Зденки, это странное сходство с
герцогиней де Грамон, от которой я бежал из Парижа
и которую вновь встретил здесь в таком живописном наряде,
говорящую на чуждом и гармоничном наречии, эта удивительная складочка на лбу, ради которой я во Франции
тридцать раз готов был поставить жизнь на карту, все
это, вместе с необычностью моего положения и таинственностью всего, что происходило вокруг, повлияло, должно
быть, на зреющее в моей душе чувство, которое при других
642
обстоятельствах проявилось бы, может быть, лишь смутно и
мимолетно.
Днем я услышал, как Зденка разговаривала со своим
младшим братом:
— Что же ты обо всем этом думаешь,— спрашивала
она,— неужто и ты подозреваешь отца?
— Подозревать не решусь,— отвечал ей Петр,— да к тому же и мальчик говорит, что он ему плохого не сделал.
А что нет его — так ты ведь знаешь, он всегда так уходил
и отчета не давал.
— Да, знаю,— сказала Зденка,— а коли так, надо его
спасти: ведь ты знаешь Георгия...
— Да, да, верно. Говорить с ним нечего, но мы спрячем
кол, а другого он не найдет: в горах с нашей стороны
ни одной осины нет!
— Ну да, спрячем кол, только детям об этом — ни слова,
а то они еще начнут болтать при Георгии.
— Нет, ни слова им,— сказал Петр, и они расстались.
Пришла ночь, а о старике Горче ничего не было слышно.
Я, как и накануне, лежал на кровати, а луна вовсю освещала
мою комнату. Уже когда сон начал туманить мне голову, я
вдруг словно каким-то чутьем уловил, что старик приближается. Я открыл глаза и увидел его мертвенное лицо,
прижавшееся к окну.
Теперь я хотел подняться, но это оказалось невозможным.
Все мое тело было словно парализовано. Пристально оглядев меня, старик удалился, и я слышал, как он обходил
дом и тихо постучал в окно той комнаты, где спали Георгий
и его жена. Ребенок в постели заворочался и застонал во
сне. Несколько минут стояла тишина, потом я снова услышал
стук в окно. Ребенок опять застонал и проснулся.
— Это ты, дедушка? — спросил он.
— Я,— ответил глухой голос,— принес тебе ятаганчик.
— Только мне уйти нельзя, отец запретил!
— Тебе и не надо уходить, открой окошко да поцелуй
меня!
Ребенок встал, и было слышно, как открывается окно.
Тогда, призвав на помощь все мои силы, я вскочил с постели и
начал стучать в стену. Мгновенье спустя Георгий уже был
на ногах. Он выругался, жена его громко вскрикнула, и вот
уже вся семья собралась вокруг ребенка, лежавшего без
сознания. Горча исчез, как и накануне. Мы общими стараниями привели мальчика в чувство, но он очень был слаб и
дышал с трудом. Он, бедный, не знал, как случился с
21*
643
ним обморок. Мать его и Зденка объясняли это тем, что
ребенок испугался, когда его застали вместе с дедом. Я
молчал. Но мальчик успокоился, и все, кроме Георгия, опять
улеглись.
Незадолго до рассвета я услыхал, как Георгий будит
жену; и они заговорили шепотом. К ним пришла и Зденка, и я
услышал, как она и ее невестка плачут.
Ребенок лежал мертвый.
Не стану распространяться о горе семьи. Никто, однако,
не обвинял в случившемся старика Горчу. По крайней
мере, открыто об этом не говорили.
Георгий молчал, но в выражении его лица, всегда несколько мрачном, теперь было и что-то страшное. В течение
двух дней старик не появлялся. В ночь на третьи сутки
(после похорон ребенка) мне послышались шаги вокруг дома
и старческий голос, который звал меньшого мальчика. Мне
также показалось на мгновение, что старик Горча прижался лицом к окну, но я не смог решить, было ли это в
действительности или то была игра воображения, потому что
в ту ночь луна скрывалась за облаками. Все же я счел своим
долгом сказать об этом Георгию. Он расспросил мальчика,
и тот ответил, что и вправду слышал, как его звал дед,
и видел, как он глядел в окошко. Георгий строго приказал
сыну разбудить его, если старик покажется еще.
Все эти обстоятельства не мешали мне чувствовать к
Зденке нежность, которая все больше усиливалась.
Днем мне не привелось говорить с нею наедине. Когда
же настала ночь, у меня при мысли о скором отъезде сжалось сердце. Комната Зденки была отделена от моей сенями,
которые с одной стороны выходили на улицу, с другой —
во двор.
Мои хозяева уже легли спать, когда мне пришло в голову — пойти побродить вокруг, чтобы немного рассеяться.
Выйдя в сени, я заметил, что дверь в комнату Зденки
приотворена.
Невольно я остановился. Шорох платья, такой знакомый,
заставил биться мое сердце. Потом до меня донеслись
слова песни, напеваемой вполголоса. То было прощание
сербского короля со своей милой, от которой он уходил на
войну:
«Молодой ты мой тополь,— говорил старый король,—
я на войну ухожу, а ты забудешь меня.
Стройны и гибки деревья, что растут у подножья горы,
но стройнее и гибче юный твой стан!
644
Красны ягоды рябины, что раскачивает ветер, но ягод
рябины краснее губы твои!
А я-то — что старый дуб без листьев, и пены Дуная
моя борода белей!
И ты, сердце мое, меня забудешь, и умру я с тоски,
потому что враг не посмеет убить старого короля!»
И промолвила ему красавица: «Клянусь — не забуду тебя
и останусь верна тебе. А коли клятву нарушу, приди ко мне
из могилы и высоси кровь моего сердца».
И сказал старый король: «Пусть будет так!» И ушел на
войну. И скоро красавица его забыла!..»
Тут Зденка остановилась, словно ей было боязно кончать
песню. Я не в силах был сдержаться. Этот голос, такой
нежный, такой задушевный, был голос самой герцогини
де Грамон... Я, не раздумывая, толкнул дверь и вошел.
Зденка только что сняла с себя нечто вроде казакина,
какой в тех местах носят женщины. На ней оставалась
теперь шитая золотом и красным шелком сорочка и стянутая
у талии простая клетчатая юбка. Ее чудесные белокурые
косы были расплетены, и вот так, полуодетая, она была
еще краше, чем обычно. Не рассердившись на мое внезапное появление, она все же, казалось, была смущена
и слегка покраснела.
— Ах,— сказала она мне,— зачем ты пришел,— ведь коли нас увидят — что обо мне подумают?
— Зденка, сердце мое,— отвечал я ей,— не бойся: лишь
кузнечик в траве да жук на лету могут услышать, что я
скажу тебе.
— Нет, милый, иди скорей, иди! Застанет нас мой брат —
я тогда погибла.
— Нет, Зденка, я уйду только тогда, когда ты мне
пообещаешь, что будешь меня любить всегда, как красавица обещала королю в той песне. Я скоро уеду, Зденка, и
как знать, когда мы опять увидимся? Зденка, ты дороже мне моей души, моего спасения... И жизнь моя и
кровь — твои. Неужели ты за это не подаришь мне один
час?
— Всякое может случиться за один час,— задумчиво
ответила Зденка, но не отняла у меня своей руки.— Не
знаешь ты моего брата,— прибавила она и вздрогнула,—
уж я чувствую — придет он.
— Успокойся, моя Зденка,— сказал я в ответ,— брат
твой устал от бессонных ночей, его убаюкал ветер, что
играет листвой. Сон его глубок, ночь длинна, и я прошу
645
тебя — побудь со мной час! А потом — прости... может быть,
навсегда!
— Нет, нет, только не навсегда! — с жаром сказала
Зденка и тут же отпрянула от меня, словно испугавшись
своего же голоса.
— Ах, Зденка,— воскликнул я,— я вижу одну тебя, слышу одну тебя, я уже себе не господин, а покорен какой-то
высшей силе — прости мне, Зденка!
И я, как безумный, прижал ее к сердцу.
— Ах нет, ты мне не друг,— проговорила она, вырвавшись из моих объятий, и забилась в дальний угол. Не
знаю, что я ей ответил, так как и сам испугался своей
смелости — не потому, чтобы иногда в подобных обстоятельствах она не приносила мне удачи, а потому, что мне
даже и в пылу страсти чистота Зденки продолжала внушать
глубокое уважение.
Вначале я, правда, вставил было несколько галантных
фраз из числа тех, которые встречали невраждебный прием
у красавиц минувшего времени, но, устыдившись тут же,
отказался от них, видя, что девушка в простоте своей не
может понять тот смысл, который вы, милостивые государыни, судя по вашим улыбкам, угадали с полуслова.
Так я и стоял перед ней и не знал, что сказать, как
вдруг заметил, что она вздрогнула и в ужасе глядит на окно.
Я посмотрел в ту же сторону и ясно различил лицо Горчи,
который, не двигаясь, следил за нами.
В тот же миг я почувствовал, как чья-то тяжелая рука
опускается мне на плечо. Я обернулся. Это был Георгий.
— Ты что тут делаешь? — спросил он меня.
Озадаченный этим резким вопросом, я только показал
рукой на его отца, который смотрел на нас в окно и скрылся, как только Георгий его увидал.
— Я услышал шаги старика,— сказал я,— и пошел предупредить твою сестру.
Георгий посмотрел на меня так, словно хотел прочитать
мои сокровеннейшие мысли. Потом взял меня за руку, привел в мою комнату и, ни слова не сказав, ушел.
На следующий день семья сидела у дверей дома за
столом, уставленным всякой молочной снедью.
— Где мальчик? — спросил Георгий.
— На дворе,— ответила мать,— играет себе один в свою
любимую игру, будто воюет с турками.
Не успела она проговорить эти слова, как перед нами,
к нашему величайшему удивлению, появилась высокая фигу
646
ра Горчи; он, выйдя из лесу, медленно подошел к нам и
сел к столу, как это уже было в день моего приезда.
— Добро пожаловать, батюшка,— еле слышно пролепетала невестка.
— Добро пожаловать,— тихо повторили Зденка и Петр.
— Отец,— голосом твердым, но меняясь в лице, произнес Георгий,— мы тебя ждем, чтоб ты прочел молитву!
Старик, нахмурив брови, отвернулся.
— Молитву, и тотчас же! — повторил Георгий.—Перекрестись — не то, клянусь святым Георгием...
Зденка и невестка склонились к старику, умоляя прочитать молитву.
— Нет, нет, нет,— сказал старик,— не властен он мне
приказывать, а коли потребует еще раз, прокляну!
Георгий вскочил и побежал в дом. Он сразу же и
вернулся — взгляд его сверкал бешенством.
— Где кол? — крикнул он.— Где вы спрятали кол?
Зденка и Петр переглянулись.
— Мертвец! — обратился тогда Георгий к старику.—
Что ты сделал с моим старшим? Отдай мне сына, мертвец!
И он, пока говорил, все более и более бледнел, а глаза его
разгорались все ярче.
Старик смотрел на него злым взглядом и не двигался.
— Кол! Где кол? — крикнул Георгий.— Кто его спрятал,
тот и в ответе за все горе, что нас ждет!
В тот же миг мы услышали веселый звонкий смех меньшого мальчика, и он тут же появился верхом на огромном
колу, который волочил за собой, слабеньким детским голоском испуская тот воинственный клич, с каким сербы бросаются на неприятеля.
Глаза у Георгия так и вспыхнули. Он вырвал у мальчика кол и ринулся на отца. Тот дико завыл и побежал
в сторону леса с такой быстротой, которая для его возраста
казалась сверхъестественной.
Георгий гнался за ним по полю, и мы скоро потеряли
их из виду.
Уже зашло солнце, когда Георгий возвратился домой,
бледный как смерть и с взъерошенными волосами. Он сел
у очага, и зубы у него, кажется, стучали. Никто не решался
расспросить его. Но вот настал час, когда семья обыкновенно расходилась; он теперь, по-видимому, вполне овладел собою и, отведя меня в сторону, сказал как ни в чем
не бывало:
647
— Дорогой гость, был я на реке. Лед прошел, помехи
в дороге нет, теперь ты можешь ехать. Прощаться с нашими
нечего,— прибавил он, бросив взгляд на Зденку.— Дай тебе
бог всякого счастия (так они велели тебе сказать), да и ты,
даст бог, не помянешь нас лихом. Завтра чуть свет уж лошадь твоя будет стоять оседланная и проводник тебя будет
ждать. Прощай, может, вспомнишь когда своих хозяев, и уж
не сердись, коли жилось тут не так покойно, как бы надо
было.
Жесткие черты лица Георгия в ту минуту выражали
почти что дружелюбие. Он проводил меня в комнату и в
последний раз пожал мне руку. Потом он снова вздрогнул,
и зубы у него застучали, словно бы от холода.
Оставшись один, я, как вы легко можете себе представить, и не подумал ложиться спать. Меня одолевали
мысли. В жизни я любил уже не раз. Знал я и порывы
нежности, приступы досады и ревности, но никогда еще,
даже расставаясь с герцогиней де Грамон, я не испытывал
такой скорби, какая сейчас терзала мне сердце. Не взошло
и солнце, а я уже оделся по-дорожному и хотел было
попытаться в последний раз увидеть Зденку. Но Георгий
ждал меня в сенях. Исчезла всякая возможность даже
взглянуть на нее.
Я вскочил на лошадь и пустил ее во весь опор. Я давал
себе обещание на обратном пути из Ясс заехать в эту
деревню, и такая надежда, пусть самая отдаленная, мало-
помалу рассеяла мои заботы. Я уже с удовольствием думал
о том, как вернусь, и воображение рисовало мне всякие
подробности, но вдруг резким движением лошадь чуть не выбила меня из седла. Тут она стала как вкопанная, вытянула передние ноги и тревожно фыркнула, как бы давая знать
о близкой опасности. Я внимательно осмотрелся кругом и в
сотне шагов увидел волка, который рылся в земле. Так как
я его вспугнул, он побежал, а я вонзил шпоры в бока
лошади и заставил ее тронуться с места. А там, где стоял
волк, я теперь увидел свежевырытую могилу. Мне также показалось, что из земли, разрытой волком, на несколько вершков выступал кол. Этого, однако, я не утверждаю с уверенностью, так как быстро проскакал мимо того места.
Маркиз замолк и взял щепотку табаку.
— И это все? — спросили дамы.
— Увы, нет! — ответил г-н д’Юрфе.— То, что осталось
досказать вам,— мое мучительнейшее воспоминание, и я дорого бы дал, чтобы расстаться с ним.
648
Дела, по которым я приехал в Яссы, задержали меня
там дольше, чем я предполагал. Я завершил их лишь
через полгода. И что же? Печально сознавать, и все же
нельзя не признать ту истину, что нет на свете долговечных чувств. Успех моих переговоров, одобрения, которые
я получал от версального кабинета, словом, политика, та
противная политика, что так надоела нам за последнее
время, в конце концов приглушила для меня воспоминание
о Зденке. К тому же и супруга молдавского господаря,
женщина очень красивая и в совершенстве владевшая нашим
языком, с первых же дней моего приезда удостоила меня
чести, оказывая мне особое предпочтение перед другими
молодыми иностранцами, находившимися тогда в Яссах.
Меня, воспитанного в правилах французской галантности,
с галльской кровью в жилах, просто возмутила бы самая
мысль о том, чтобы ответить неблагодарностью на выражаемую мне благосклонность. И я со всей учтивостью
принимал знаки внимания, проявляемого ко мне, а чтобы
получить возможность лучше защищать права и интересы
Франции, я и на все права, и на все интересы господаря
начал смотреть как на свои собственные.
Когда меня отозвали в Париж, я избрал ту же дорогу,
какой и прибыл в Яссы.
Я не думал уже ни о Зденке, ни о ее семье, как
вдруг однажды вечером, проезжая полями, услыхал звук
колокола, ударившего восемь раз. Этот звон мне был как
будто знаком, и проводник сообщил мне, что звонили неподалеку в монастыре. Я спросил, как он называется, и узнал,
что это — монастырь «божьей матери дубравной». Я пришпорил коня, и немного спустя мы уже стучали в монастырские ворота. Монах впустил нас и повел в помещение,
отведенное для путешественников. В нем оказалось столько
паломников, что у меня пропала всякая охота ночевать
здесь, и я спросил, удастся ль мне найти пристанище в
деревне.
— Пристанище-то найдется,— ответил с глубоким вздохом отшельник,— пустых домов там вдоволь — а все проклятый Горча!
— Как это понимать? —спросил я.— Старик Горча все
еще жив?
— Да нет, он-то похоронен взаправду, и в сердце —
кол! Но он у Георгиева сына высосал кровь. Мальчик и
вернулся ночью, плакал под дверью, ему, мол, холодно и
домой хочется. У дуры-матери, хоть она сама его и хорони
649
ла, не хватило духа прогнать мальчика на кладбище,— она
и впустила его. Тут он набросился на нее и высосал у нее
всю кровь. Когда ее тоже похоронили, она вернулась
и высосала кровь у меньшого мальчика, потом — у мужа,
а потом у деверя. Всем — один конец.
— А Зденка? — спросил я.
— Ах, она от горя с ума сошла, бедняжка,— уж лучше
и не говорить!
В этом ответе была какая-то неопределенность, но переспросить я не решился.
— Вурдалаки — это как зараза,— продолжал отшельник
и перекрестился,— сколько уж семей в деревне пострадало,
сколько их вымерло до последнего человека, и вы меня
послушайтесь и переночуйте в монастыре, а не то, даже
коли вас в деревне не съедят вурдалаки, вы от них все
равно такого страху натерпитесь, что поседеете прежде,
чем я прозвоню к заутрене. Я,— продолжал он,— всего
лишь бедный монах, но путешественники сами от щедрот
своих дают столько, что и я могу позаботиться о них.
Есть у меня отменный сыр, изюм такой, что посмотреть на
него — слюнки потекут, да несколько бутылок токайского —
не хуже того, что изволит пить сам святейший патриарх.
В эту минуту на моих глазах отшельник словно превращался в трактирщика. Он, как мне подумалось, нарочно
порассказал мне небылиц, чтобы дать мне случай сделать
нечто угодное небесам и уподобиться щедротами тем путешественникам, которые святому мужу столько дают, что и он
может позаботиться о них.
Да и самое слово «страх» производило на меня то
же действие, что звуки трубы на боевого коня. Мне себя
было бы стыдно, если бы я не отправился немедленно.
Проводник мой, весь дрожа, просил позволения остаться
здесь — это я охотно разрешил.
Мне потребовалось с полчаса, чтобы доехать до деревни.
Она, как выяснилось, была безлюдна. Ни в одном окошке не
блестел огонь, нигде не слышалась песня. В тишине проехал
я мимо всех этих домов, по большей части знакомых мне,
и остановился перед домом Георгия. То ли поддавшись
чувствительным воспоминаниям, то ли движимый своей молодой смелостью, но я решил переночевать тут.
Я соскочил с лошади и постучал в ворота. Никто не
отзывался. Я толкнул ворота, они под визг петель открылись, и я вошел во двор.
Не расседлывая лошадь, я привязал ее под навесом,
650
где оказался достаточный для ночи запас овса, и направился
прямо в дом.
Ни одна дверь не была затворена, а между тем все
комнаты казались нежилыми. Только комната Зденки имела
такой вид, как будто ушли из нее лишь вчера. На постели
были брошены платья. На столе в лунном свете блестело
несколько драгоценных вещиц, подаренных мною, и среди
них я заметил эмалевый крестик, который я купил в Пеште.
Сердце у меня невольно сжалось, хотя любовь уже и прошла.
Как бы то ни было, я закутался в плащ и улегся на
постель. Скоро меня одолел сон. Того, что мне снилось, я
не помню в подробностях, но знаю, что видел Зденку, прелестную, простодушную, любящую, как прежде. Глядя на нее,
я упрекал себя в черствости и в непостоянстве. Как я
мог, спрашивал я себя, как я мог бросить это милое дитя,
которое меня любило, как мог я ее забыть? Вскоре мысль
о ней слилась с мыслью о герцогине де Грамон, и в этих
двух образах мне уже представлялась одна и та же женщина.
Я пал к ногам Зденки и молил ее о прощении. Все мое
существо, всю мою душу охватило невыразимое чувство
грусти и любви.
Вот это мне и снилось, как вдруг меня наполовину
пробудил некий гармоничный звук, подобный шелесту нивы,
по которой пробегает ветерок. Мне будто слышался мелодичный звон колеблемых колосьев, и пение птиц сливалось
с рокотом водопада и с шепотом листвы. Потом все эти
неясные звуки мне представились не чем иным, как шорохом женского платья, и на этой догадке я остановился.
Открыв глаза, я увидел Зденку около своего ложа. Луна
сверкала так ярко, что теперь я до мельчайших подробностей мог во всей их прелести различить дорогие мне
когда-то черты, а что они значили для меня — это впервые
мне дал почувствовать мой сон. Зденка, оказывается, и похорошела и развилась. Она точно так же была полуодета, как
и в прошлый раз, когда я видел ее одну,— в простой
сорочке, вышитой золотом и шелком, и в юбке, туго стянутой у талии.
— Зденка! — сказал я, подымаясь с постели.— Зденка,
ты ли это?
— Да, это я,— отвечала она голосом тихим и печальным,— это я, твоя Зденка, которую ты забыл. Ах, зачем
ты не вернулся раньше? Теперь всему конец, тебе надо скорее
уезжать; еще минута — и ты пропал! Прощай, милый, прощай навсегда!
651
— Зденка,— сказал я,— у тебя, мне говорили, много было горя. Иди ко мне, побеседуем — так тебе станет легче!
— Ах, милый,— промолвила она,— не всему надо верить,
что про нас говорят, но только поезжай, поезжай скорей, а
коли останешься — гибели не миновать.
— Да что это за беда мне угрожает, Зденка? И неужели
нельзя мне пробыть и часа, одного только часа, чтобы
поговорить с тобой?
Зденка вздрогнула, и какая-то странная перемена совершилась в ней.
— Да,— произнесла она,— час, один только час — верно
ведь? — как в тот раз, когда я пела песню про старого
короля, а ты пришел вот в эту комнату? Ты про то говоришь? Хорошо же, пускай, пробудь со мной час! Нет,
нет,— опомнилась она вдруг,— уходи, уходи! Уходи скорей,
слышишь, беги!.. Да беги же, пока не поздно!
Черты ее одушевляла какая-то дикая энергия.
Я не мог объяснить себе причину, которая заставляла
ее так говорить, но Зденка была так хороша, что я решил,
не слушаясь ее, остаться. Она же, уступив наконец моим
просьбам, уселась рядом со мной, заговорила о прошлом и,
краснея, призналась, что полюбила меня сразу, как увидела.
Мне между тем становилась постепенно заметной огромная
перемена, которая с ней произошла. Ее былая сдержанность сменилась какой-то странной вольностью в обращении.
Во взгляде ее, когда-то таком застенчивом, появилось что-
то дерзкое. И по тому, как она держалась со мной, я с
изумлением понял, что в ней мало осталось от той скромности, которая отличала ее некогда.
«Неужели же,— думал я,— Зденка не была той чистой и
невинной девушкой, какой она казалась два года тому
назад? Неужели она только притворялась из страха перед
братом? Неужели я так грубо был обманут добродетельной
внешностью? Но тогда почему же она уговаривала меня
уехать? Или это, чего доброго, какое-то утонченное кокетство? А я еще думал, что знаю ее! Но все равно!
Если Зденка и не Диана, какою я воображал ее себе,
то я могу сравнить ее с другой богиней, не менее очаровательной и, ей-богу же, роль Адониса я предпочту роли
Актеона!»
Если эта классическая фраза, с которой я обратился к
самому себе, покажется вам старомодной, милостивые государыни, то примите в соображение, что я рассказываю
вам о делах, случившихся в лето господне тысяча семьсот
652
пятьдесят девятое. Мифология занимала тогда все умы,
а я не имел притязаний на то, чтобы опередить свой век.
Все с тех пор изменилось, а в не столь давние времена
революция, упразднив воспоминания язычества, равно как и
христианскую веру, поставила на их место богиню Разума.
Богиня эта, милостивые государыни, никогда не покровительствовала мне, если я находился в обществе, подобном
вашему, а в то время, о котором я повествую, яА был
менее чем когда-либо склонен приносить ей жертвы. Я всецело отдался чувству, которое влекло меня к Зденке, а она
заигрывала со мной, и я весело отвечал ей в том же духе.
Прошло уже некоторое время, как мы находились в такой
упоительной близости друг к другу, но вот, примерив Зденке
забавы ради все ее драгоценности, я собрался надеть ей на
шею эмалевый крестик, который нашел на столе. Зденка
вздрогнула и отшатнулась.
— Милый, довольно ребячиться,— сказала она,— оставь
эти побрякушки, поговорим лучше о тебе, о твоих делах!
Ее замешательство навело меня на всякие мысли. Внимательней приглядываясь к ней, я заметил, что на шее у нее
не было, как раньше, всех тех образков, ладанок, которые
сербы в великом множестве носят с детства до самой смерти.
— Зденка,— спросил я,— где образки, что ты носила
на шее?
— Потеряла,— с раздражением в голосе ответила она и
тотчас заговорила о другом.
Во мне заговорило какое-то темное предчувствие, я не
сразу его и осознал. Я уже собрался уходить, но Зденка
удерживала меня.
— Как же это,— сказала она,— ты просил меня побыть
с тобой час, а уж хочешь ехать!
— Ты права была, Зденка, что уговаривала меня ехать;
я как будто слышу шум, боюсь, как бы нас не застали!
— Не бойся, милый, все кругом спит, лишь кузнечик
в траве да жук на лету могут услышать, что я скажу тебе!
— Нет, Зденка, нет, надо мне ехать!
— Погоди, погоди,—сказала Зденка,—ты дороже мне
души моей, спасения моего, а ты говорил мне, что жизнь твоя
и кровь — мои!..
— Но брат твой, Зденка, брат — чувствую я, что он
придет.
— Успокойся, сердце мое, брат мой спит, его убаюкал
ветер, что играет листвой. Сон его глубок, ночь длинна,
а я тебя прошу — побудь со мной час!..
653
Зденка, когда говорила эти слова, была так хороша, что
безотчетный ужас, томивший меня, уже уступил желанью
остаться с ней. Все мое существо наполнило чувство, которое
невозможно изобразить,— какая-то смесь боязни и вожделения. По мере того как моя воля ослабевала, Зденка становилась все нежнее, и я наконец решился уступить, вместе
с тем давая себе слово быть настороже. Однако же я,
как говорил вам только что, бывал всегда благоразумен
лишь наполовину, и когда Зденка, заметив мою сдержанность, предложила прогнать ночной холод несколькими стаканами благородного вина, которое, по ее словам, достала
у доброго отшельника, я согласился с такой готовностью,
что она даже улыбнулась. Вино произвело свое действие.
Неприятное впечатление, вызванное пропажей образков и ее
нежеланием надеть крестик, совершенно рассеялось уже на
втором стакане. Зденка в своем небрежном наряде, с чудесными полураспущенными волосами, с драгоценностями,
блестевшими при лунном свете, показалась мне неотразимой.
Я уже не сдерживал себя и крепко ее обнял.
Тут, милостивые государыни, мне было одно из тех
таинственных откровений, объяснить которое я не сумею, но
в которые я поневоле уверовал — в силу жизненного опыта,
хотя раньше я и не склонен был признавать их.
Зденку я обвил руками с такой силой, что от этого
движения крестик, который я вам показывал и который
перед моим отъездом мне дала герцогиня де Грамон, острием вонзился мне в грудь. Острая боль, которую я ощутил в этот миг, явилась для меня как бы лучом света,
пронизавшего все вокруг. Я посмотрел на Зденку, и мне
стало ясно, что черты ее, все еще, правда, прекрасные, искажены смертной мукой, что глаза ее не видят и что ее
улыбка — лишь судорога агонии на лице трупа. В тот же миг
я почувствовал в комнате тлетворный запах — как из не-
притворенного склепа. Страшная истина предстала мне теперь во всем своем безобразии, и я, хоть и слишком поздно,
вспомнил о предостережениях монаха. Я понял всю опасность своего положения и осознал, что все будет зависеть от моей отваги и самообладания. Я отвернулся от
Зденки, чтобы не дать ей заметить ужас, написанный, должно быть, на моем лице. Тут взгляд мой упал на окно, и я
увидел страшного Горчу, который опирался на окровавленный кол и, не отрываясь, смотрел на меня глазами
гиены. За другим окном вырисовывалось бескровное лицо
Георгия, который в эту минуту до ужаса похож был на
654
отца. Оба они, казалось, следили за каждым моим движением, и я не сомневался, что при первой же моей попытке
бежать они набросятся на меня. Поэтому я не показал
вида, что их заметил, и огромным усилием воли заставил
себя, милостивые государыни, да, заставил себя расточать
Зденке такие же ласки, как и до этого страшного открытия. В то же время я с тоской и тревогой думал о том,
как вырваться отсюда. Я заметил, что Горча и Георгий
переглядываются со Зденкой и что им уже надоедает ждать.
За стеной мне послышался также и голос женщины и
крик детей, но такой ужасный, что его скорее можно было
принять за вой диких кошек.
«Пора убираться,— подумал я,— и чем быстрей, тем
лучше».
Обратившись к Зденке, я сказал погромче,— так, чтобы
меня услышала ее страшная родня:
— Я, дитя мое, очень устал, хочется лечь и поспать
несколько часов, но сперва надо мне сходить посмотреть,
не съел ли мой конь свой овес. Ты, пожалуйста, не уходи и
дождись меня.
Я коснулся губами ее холодных, безжизненных губ. Лошадь моя, вся в пене, так и рвалась со своей привязи. Она и не
дотронулась до овса, а от ржания, которым она меня встретила, я весь похолодел: я боялся, как бы оно не выдало
мои намерения. Однако вампиры, слышавшие, наверно, мой
разговор со Зденкой, еще не встревожились. Я посмотрел,
открыты ли ворота, вскочил в седло и дал коню шпоры.
Выезжая из ворот, я успел заметить, что сборище вокруг
дома было весьма многочисленно и что большинство пришельцев прижималось глазами к стеклам окон. Кажется, мое
внезапное бегство озадачило их сперва, так как некоторое
время я не различал в ночном безмолвии иных звуков,
кроме мерного топота моего коня. Я уже почти поздравлял себя с удачей, к которой привела моя хитрость, как
вдруг услышал позади некий шум — точно рев урагана,
разбушевавшегося в горах. Кричали, выли и как будто спорили друг с другом тысячи голосов. Потом все они, точно
по уговору, умолкли, и слышен стал только быстрый топот
ног, как если бы отряд пехотинцев приближался беглым
шагом.
Я погонял своего коня, немилосердно вонзая ему в бока
шпоры. В крови моей разливался лихорадочный огонь, я
напрягся, делал над собой неимоверные усилия, чтобы сохранить присутствие духа, и вдруг услышал позади себя голос:
655
— Погоди, погоди, милый! Ты дороже мне души моей,
спасения моего! Погоди, погоди! Твоя кровь — моя!
И меня сразу же коснулось холодное дыхание, и Зденка
сзади меня прыгнула на лошадь.
— Сердце мое, милый мой! — говорила она,— Вижу одного тебя, одного тебя хочу, я уже себе не госпожа, надо
мной — высшая сила,— прости мне, милый, прости!
И, обвивая руками, она пыталась опрокинуть меня назад
и укусить за горло. Между нами завязалась страшная и
долгая борьба. Защищался я с трудом, но в конце концов
мне удалось схватить Зденку одной рукой за пояс, другою —
за косы, и, приподнявшись на стременах, я бросил ее на
землю.
Тут силы оставили меня, и начался бред. Тысячи безумных и ужасных образов, кривляющихся личин преследовали
меня. Сперва Георгий и брат его Петр неслись по краям
дороги и пытались перерезать мне путь. Это им не удавалось,
и я уже готов был возрадоваться, как вдруг, обернувшись,
увидел старика Горчу, который, опираясь на свой кол, делал
прыжки, подобно тирольцам, что у себя в горах таким путем
переносятся через пропасти. Горча тоже остался позади.
Тогда его невестка, тащившая за собой своих детей, швырнула ему одного из мальчиков, а он поймал его на острие
кола. Действуя колом, как пращой, он изо всех сил кинул
ребенка мне вслед. Я уклонился от удара, но гаденыш вцепился — не хуже настоящего бульдога — в шею моего коня,
и я с трудом оторвал его. Другого ребенка мне таким
же образом кинули вслед, но он упал прямо под копыта
лошади и был раздавлен. Не помню, что произошло еще,
но когда я пришел в себя, было уже вполне светло, я лежал на
дороге, а рядом издыхал мой конь.
Так кончилось, милостивые государыни, любовное увлечение, которое должно было бы навсегда отбить у меня
охоту продолжать в том же духе. А стал ли я впоследствии более благоразумным — об этом вам могли бы рассказать некоторые из ровесниц ваших бабушек.
Как бы то ни было, я и сейчас содрогаюсь при мысли,
что если бы враги одолели меня, то и я тоже сделался
бы вампиром, но небо того не допустило, и вот, милостивые
государыни, я не только ничуть не жажду вашей крови,
но и сам, хоть старик, всегда буду счастлив пролить свою
кровь за вас!
ВСТРЕЧА
ЧЕРЕЗ ТРИСТА ЛЕТ
Мы сидели чудесной летней ночью у нашей бабушки
в саду, одни — собравшись вокруг стола, на котором горела лампа, другие же — расположившись на ступенях террасы. Время от времени легкое дуновение ветерка доносило
до нас волну воздуха, напоенного благоуханием цветов,
или дальний отголосок деревенской песни, а потом все
опять затихало, и слышно было только, как о матовый
колпак лампы бьются крыльями ночные мотыльки.
— Ну, что ж, дети мои,— проговорила бабушка,— вы не
раз просили меня рассказать какую-нибудь старую историю
о привидениях... Если есть охота, садитесь в кружок, а я вам
расскажу один случай из времен моей молодости, от которого вас всех бросит в дрожь, едва только вы останетесь
одни и ляжете в постели.
Недаром эта ночь, такая тихая, напоминает мне доброе
старое время, а ведь вот — можете, если угодно, смеяться
надо мной — мне уже много лет кажется, что и природа стала
не так хороша, как была когда-то. Нет больше тех чудесных, теплых и светлых дней, таких свежих цветов, таких
сочных плодов; да, кстати, по поводу плодов,— не забыть
мне никогда корзинку персиков, что прислал мне однажды
маркиз д’Юрфе, молодой безумец, ухаживавшей за мной
потому, что на лице у меня он нашел какую-то необыкновенную черточку, от которой и потерял голову.
По правде сказать, я недурна была в то время, и тот,
кто сейчас видит мои морщины и седые волосы, не подозревает, что король Людовик Пятнадцатый прозвал меня
розой Арденн,— имя, которое я вполне заслуживала, ибо
вонзила немало шипов в сердце его величества.
А что до маркиза д’Юрфе, то могу вас уверить, дети
мои, что, если бы он только захотел, я не имела бы удовольствия быть вашей бабушкой или, во всяком случае,
вы носили бы другую фамилию. Но мужчинам совершенно
недоступен смысл нашего кокетства: они либо приходят в
неистовство, которым возмущают нас, либо, как дети, впа
22 Заказ 14
657
дают в отчаянье и со всех ног бросаются в бегство ко
двору какого-нибудь господаря Молдавии, как оно и было
с этим сумасшедшим маркизом, с которым я потом встречалась много лет спустя, и он, замечу мимоходом, не сделался более благоразумным.
Возвращаясь к корзинке персиков, подаренной маркизом,
скажу вам, что получила се незадолго до его отъезда,
день святой Урсулы, то есть в мои именины, а они,
как вам известно, приходятся на самую середину октября,
когда раздобуть персиков почти невозможно. Этот знак внимания явился следствием того, что д’Юрфе держал пари
с вашим дедом, который уже начинал ухаживать за мною
и так был смущен удачей своего соперника, что на целых
три дня занемог.
У этого д’Юрфе была благороднейшая внешность, какую
мне вообще приходилось видеть, за исключением одного
лишь короля, который, не будучи уже молодым, по праву
считался самым красивым дворянином Франции. Ко всем
внешним достоинствам у маркиза присоединялось еще одно
преимущество, которое — могу признаться в этом теперь —
имело для пас, молодых женщин, не менее притягательную
силу. Он был величайший в мире шалопай, и я часто задавала себе вопрос, почему такие люди помимо нашей воли
привлекают нас к себе. Единственное, по-моему, объяснение
состоит в том, что, чем непостояннее у человека нрав, тем нам
приятнее бывает привязать его к себе. И вот с обеих сторон
задето самолюбие — кто кого перехитрит. Высшее искусство
в этой игре заключается, дети мои, в том, чтобы уметь
вовремя остановиться и не доводить своего партнера до
крайности. Это я говорю, Элен, главным образом, для вас.
Если вы кого-нибудь любите, дитя мое, не поступайте с ним
так, как я поступила с д’Юрфе: знает бог, как я оплакивала
его отъезд и как укоряла себя за свое поведение. От этого
признания не должна страдать память вашего деда, женившегося на мне полгода спустя, а это, без сомнения, был
достойнейший и благороднейший человек, какого только
можно встретить.
В то время я вдовела после смерти моего первого мужа,
господина де Грамона, которого почти и не успела узнать,
а вышла я за него, только чтобы не ослушаться моего
отца, единственного из людей, кого я боялась на земле.
Вы легко можете догадаться, что дни моего вдовства не
показались мне долгими; я была молода, хороша собой
и могла делать решительно все, что хотела. Я и восполь
658
зовалась своей свободой, а как только кончился траур,
очертя голову устремилась в водоворот балов и собраний,
которые, замечу мимоходом, были куда веселее тогда, чем
нынче.
На одном из таких собраний маркиз д’Юрфе и был
мне представлен командором де Бельевром, старинным другом моего отца, никогда не покидавшего свой замок в Арденнах и поручившего меня его чисто родственным заботам.
Всяким увещаниям со стороны почтенного командора просто
не было конца, но, будучи с ним как можно обходительнее и ласковее, я не очень-то поддавалась его уговорам,
как вы вскоре сами увидите. Мне уже много приходилось
слышать о господине д’Юрфе и не терпелось узнать, окажется ли он таким неотразимым, как мне его рисовали.
Когда он с очаровательной непринужденностью подходил
ко мне, я посмотрела на него так пристально, что он смутился и даже не мог окончить только что начатую фразу.
— Сударыня,— сказал он мне потом,— у вас над глазами, чуть повыше бровей, есть чуть заметная складочка,
которую я не сумел бы описать, но она придает вашему
взгляду необыкновенное могущество...
— Сударь,— ответила я ему,— говорят, я очень похожа
на портрет моей прапрабабушки, а от одного ее взгляда,
как гласит предание в наших краях, упал в ров некий
самонадеянный рыцарь, затеявший ее похитить и уже перемахнувший через стену замка.
— Сударыня,— сказал с учтивым поклоном маркиз,—
если у вас те же черты лица, что и у вашей прапрабабушки, то я охотно поверю преданию; позволю себе лишь
заметить, что на месте рыцаря я не считал бы себя побежденным и, как только выбрался бы из рва, так сразу
бы снова взобрался на стену.
— Неужто, сударь?
— Без сомнения, сударыня.
— Неудача не повергнет вас в отчаянье?
— Смутиться иной раз я могу, но отчаяться в успехе —
никогда!
— Что ж, посмотрим, сударь!
— Что ж, сударыня, посмотрим!
С этого часа между нами началась ожесточенная война:
с моей стороны то было притворное безразличие, со стороны
маркиза — все усиливающаяся нежная внимательность. Кончилось тем, что эта игра привлекла к нам всеобщее внимание, и командор де Бельевр сделал мне сериозный выговор.
22*
659
Своеобразная была личность этот командор де Бельевр,
и пора сказать о нем несколько слов. Вообразите себе
человека высокого, сухощавого и важного, весьма учтивого,
весьма речистого и никогда не улыбающегося. В молодости
он показал на войне чудеса храбрости, граничащей с безумством, но он никогда не знал, что такое любовь, и с
женщинами был крайне робок. Когда мне случалось особенно приласкаться к нему (а это бывало всякий почтовый
день, поскольку он добросовестно посылал отцу отчеты
о моем поведении, как если бы я была еще маленькая
девочка), у него едва разглаживались морщины на лбу,
но он строил при этом такую забавную гримасу, что я
тут же смеялась прямо ему в лицо, рискуя с ним поссориться. Мы оставались, однако, наилучшими друзьями, если
не считать того, что сразу же вцеплялись друг в друга,
как только речь заходила о маркизе.
— Герцогиня, я в отчаянии, ибо долг требует от меня,
чтобы я сделал вам замечание...
— Да сделайте одолжение, милый командор.
— Вчера вечером у вас опять был маркиз д’Юрфе.
— Справедливо, милый командор, да и третьего дня
тоже, и нынче вечером он тоже будет у меня, равно как
завтра и послезавтра.
— Вот по поводу этих частых посещений я и хотел
бы с вами поговорить. Вам небезызвестно, сударыня, что
отец ваш, а мой уважаемый друг, поручил вас моему
попечению и что я за вас отвечаю перед богом, как если
бы я имел счастие видеть в вас мою дочь...
— Да неужели вы, мой милый командор, опасаетесь,
что маркиз выкрадет меня?
— Я полагаю, сударыня, что маркиз относится к вам
с надлежащим уважением, которое удержит его от подобного
намерения. И все же мой долг — предупредить вас, что
внимание, проявляемое к вам маркизом, становится при
дворе предметом разговоров, что я и себя упрекаю за это
тем более, что именно я имел несчастье представить вам
маркиза, и если вы немедленно не отдалите его от себя, то,
к великому моему сожалению, я вынужден буду, как и
подобает, вызвать его на дуэль!
— Но вы же шутите, милый мой командор, да и подобает
ли вам такая дуэль! Вы забыли, что вы втрое старше его.
— Я никогда не шучу, сударыня, и все будет так, как я
имел честь сказать.
— Да это же, сударь, просто оскорбительно! Это ти
660
ранство, которому нет имени! Если мне нравится быть в
обществе господина д’Юрфе, кто имеет право запретить мне
встречаться с ним? Кто может запретить ему жениться на
мне, если я дам согласие?
— Сударыня,— отвечал, грустно покачивая головой,
командор,— поверьте мне, не это входит в намерения маркиза. Я достаточно знаю жизнь и вижу, что господин
д’Юрфе, отнюдь не собираясь связывать себя, лишь гордится и хвастается своим непостоянством. И что бы сталось
с вами, бедный цветок Арденн, если бы вы дали ему насладиться медом, заключенным между ваших лепестков, а этот
красивый мотылек вдруг предательски упорхнул бы от вас?
— Ну, вот, теперь пошли оскорбительные обвинения!
Знаете ли, милый мой командор, что если вы будете продолжать в этом духе, то заставите меня до безумия влюбиться в маркиза?
— Я знаю, сударыня, что отец ваш, а мой досточтимый
друг, поручил вас моим попечениям, и что я готов даже
досаждать вам, лишь бы только оказаться достойным его
доверия и вашего уважения.
Так всякий раз кончались эти споры. Я остерегалась
сообщать о них д’Юрфе, чтобы не дать ему еще более
возомнить о себе, но вот в один прекрасный день командор
явился ко мне с известием, что получил от моего отца
письмо, в котором тот просит его быть моим провожатым
и ехать со мной в наши поместья в Арденнах. Командор
передал и письмо, адресованное мне. Отец выражал в нем
желание повидаться со мной, а чтобы меня не слишком
пугала осень, которую предстояло провести в лесной глуши,
он сообщал мне, что несколько семейств из нашего соседства решили устроить празднество в замке Обербуа в
четырех лье от нас.
Речь шла ни более ни менее, как о большом костюмированном бале, и отец советовал поторопиться с приездом,
если я хочу принять в нем участие.
Имя Обербуа воскресило во мне множество воспоминаний. То были слышанные в детстве рассказы о старинном
заброшенном замке и о лесе, окружавшем его. В народе
жило одно предание, от которого меня всегда мороз подирал по коже: будто бы в том лесу путешественников
иногда преследовал некий человек гигантского роста, пугающе бледный и худой, на четвереньках гонявшийся за
экипажами и пытавшийся ухватиться за колеса, причем он
испускал вопли и умолял дать ему поесть. Последнему
661
обстоятельству он был обязан прозвищем «голодный». Называли его также «священник из Обербуа». Не знаю почему,
но образ этого изможденного существа, передвигающегося на
четвереньках, превосходил в моем воображении все самое
ужасное, что только можно было представить себе. Часто
вечером, возвращаясь с прогулки, я невольно вскрикивала
и судорожно сжимала руку моей няни: мне мерещилось в сумраке, будто по земле между деревьями ползет отвратительный священник.
Отец не раз бранил меня за эти фантазии, но я невольно
поддавалась им. Вот и все, что относится к лесу. А что до
замка, то его история в некотором смысле была связана
с историей нашего рода. Во времена войн с англичанами
он принадлежал господину Бертрану д’Обербуа, тому самому
рыцарю, который, так и не добившись руки моей прапрабабушки, решил похитить ее силой и от одного ее взгляда
сорвался с веревочной лестницы и свалился в ров. Господин Бертран получил только то, чего заслуживал, ибо это
был, как рассказывают, рыцарь безбожный и вероломный,
исполненный всяческой скверны, которая вошла в пословицу. Тем замечательней бесстрашие, выказанное моей прапрабабушкой, и вы можете себе представить, насколько
мне льстило, что во мне видят сходство с портретом госпожи
Матильды. Вы, впрочем, знаете этот портрет, дети мои;
он висит в большой зале прямо над портретом сенешаля
Бургундского, вашего внучатного прадеда, и рядом с портретом сеньора Гюга де Монморанси, породнившегося с нами
в тысяча триста десятом году.
Глядя на лицо этой девушки, такое кроткое, можно бы
усумниться в правдивости предания или отказать художнику в умении улавливать сходство. Как бы то ни было,
если я когда-то и напоминала ее портрет, теперь бы вы
с превеликим трудом нашли в нем что-нибудь общее со
мной. Да не об этом и речь сейчас. Итак, я сказала,
что господин Бертран поплатился за свою дерзость, выкупавшись во рву нашего замка. Не знаю, исцелил ли его
от любви подобный афронт, но говорят, что он пытался
утешиться с шайкой греховодников, таких же распутников
и нечестивцев, как и он сам. И он предавался сластолюбию и чревоугодию в обществе некой госпожи Жанны
де Рошэгю, которая, дабы угодить ему, умертвила своего
супруга.
Я вам, дети мои, пересказываю то, что сама слышала
от няни, и пересказываю лишь затем, чтобы лучше дать
662
понять, как меня всегда пугал этот гадкий замок Обербуа
и какой диковинной мне показалась мысль — устроить там
костюмированный бал.
Письмо отца причинило мне ужасное расстройство. Хотя
мои детские страхи тут были ни при чем, но мне очень
не по вкусу пришелся отъезд из Парижа — тем более что
командор де Бельевр, как я догадывалась, в немалой степени
был причастен к тому приказанию, которое он же мне и принес. Самая мысль о том, что со мной обращаются как с
девочкой, возмущала меня; я догадалась, что господин де
Бельевр, навязывая мне путешествие в Арденны, хотел только
одного — помешать моим частым встречам с д’Юрфе. Я дала
себе слово расстроить эти планы, и вот как я принялась за
дело.
Когда ко мне явился маркиз, я повела с ним разговор
в насмешливом тоне и дала ему понять, что, поскольку
сама я покидаю Париж, а он моего благорасположения
не завоевал, тем самым он может считать себя проигравшим
игру.
— Сударыня,— отвечал мне д’Юрфе,— один из моих замков (так уж угодно случаю) расположен в одном лье от
дороги, которой вам предстоит ехать. Смею ли я надеяться,
что вы не откажете в утешении бедному побежденному
и позволите оказать вам гостеприимство в пути?
— Сударь,— холодно возразила я,— как-никак это будет
крюк, да к тому же — на что вам вновь встречаться со
мной?
— Умоляю вас, сударыня, не доводите меня до отчаяния — не то, клянусь вам, я решусь на какой-нибудь безумный шаг!
— Может быть, похитите меня?
— Я и на это способен, сударыня.
Я громко расхохоталась.
— Вы отрицаете такую возможность?
— Отрицаю, сударь, и предупреждаю вас, что для такой
затеи нужна смелость необыкновенная — ведь я поеду с
командором де Бельевром и под очень сильной охраной!
Маркиз улыбнулся и замолчал.
Мне, само собою разумеется, было небезызвестно, что
у господина д’Юрфе есть имение в сторону Арденн, и это
обстоятельство я принимала в расчет. Однако, чтобы вы
не составили себе слишком уж дурного мнения о вашей
бабушке, прежде всего вам скажу, что мой вызов маркизу был не чем иным, как шуткой, и что я только хотела
663
подразнить командора, давая маркизу случаи увидеться со
мной в дороге.
Если бы при всем том господин д’Юрфе отнесся всерьез
к моим словам, в моей власти было бы рассеять его заблуждение, а по правде сказать, мысль о том, что меня будут
пытаться похитить, не заключала в себе ничего особенно
неприятного для молодой женщины, жаждущей сильных
ощущений и кокетливой сверх всякой меры.
Когда настал день нашего отъезда, я не могла не изумиться, увидав, насколько меры предосторожности, принятые командором, превосходили все то, что в те времена
полагалось для путешествий. Кроме повозки, в которой
помещалась кухня, имелась еще и другая — для моей постели
и принадлежностей туалета. Два лакея на запятках вооружены были саблями, а мой камердинер, сидевший рядом с
кучером, держал в руках мушкетон, дабы наводить страх
на грабителей. Чтобы достойным образом подготовить для
ночлега те комнаты, где мне предстояло отдыхать, был
заранее послан обойщик, а впереди нас ехали верхом двое
слуг, которые днем кричали встречным, чтобы они сторонились, а с наступлением темноты освещали наш путь факелами.
Щепетильнейшая учтивость не покидала командора в путешествии, как не изменяла она ему и в гостиных. Началось
с того, что он задумал усесться напротив меня и без конца
стал разводить церемонии — как это он расположится в карете рядом со мной на заднем сиденье?
— Да что это вы, командор, неужели вы меня боитесь,
что хотите устроиться спереди?
— Вы не можете сомневаться, сударыня, в том, что мне
приятно было бы сидеть подле дочери моего лучшего друга,
но я бы нарушил мой долг, если бы доставил хоть самое
маленькое неудобство той, которую в эту минуту призван
охранять!
К своей задаче — охранять меня — он относился до того
сериозно, что не проходило и пяти минут, чтобы он не спросил
меня, хорошо ли мне сидеть и не дует ли на меня.
— Да оставьте вы меня, пожалуйста, в покое, командор,— вы просто невозможны!
Тогда он испускал глубокий вздох и строго окликал
кучера, наказывая ему — приложить все старания, чтобы
избавить меня от тряски и толчков.
За день мы проезжали немного, и командор настаивал,
чтобы я что-нибудь ела на каждой остановке. Помогая
664
мне выйти из кареты, он всегда снимал шляпу, прежде
чем подать мне руку, а ведя меня к столу, всякий раз
рассыпался в извинениях, что кушанья здесь подаются
совсем не такие, как в моем доме на улице Варенн.
Как-то раз, когда я имела неосторожность сказать, что
люблю музыку, он велел принести себе гитару и исполнил
воинственную песнь мальтийских рыцарей с такими громовыми руладами и так выкатывая глаза, что делалось просто
страшно. По струнам он ударял до тех пор, пока не порвал
их. Тут он стал рассыпаться в учтивостях и замолчал.
Так как моих слуг с нами было столько же, сколько
и слуг командора, то он всем приказал носить ливрею с моим
гербом, чтобы не могло и показаться, будто я путешествую
в его карете. Но вся эта внимательность не трогала меня,
ибо в господине де Бельевре я видела не столько друга,
сколько ментора и скучного педанта.
Заметив, что в карманах у него полно булавок, мотков
шелка и прочих мелочей, которые могли бы потребоваться
для моего туалета, я забавы ради спрашивала у пего всякую всячину, будто бы понадобившуюся мне,— лишь бы
застать его врасплох.
Мне это долго не удавалось.
Как-то раз я вскрикнула:
— Ах, меня мутит!
Командор тотчас же опустил руку в один из карманов, извлек оттуда бонбоньерку с какими-то лепешками
и молча подал мне ее.
Другой раз я притворилась, что у меня болит голова.
Командор поискал в карманах и, достав флакон «Эликсира королевы», попросил разрешения попрыскать мне на
волосы.
Я чуть не упала духом.
Наконец, мне пришло на ум сказать, что я потеряла
румяна, и нетерпеливо спросила господина де Бельевра, подумал ли он захватить с собой несколько баночек.
Предусмотрительность командора так далеко не простиралась. Он густо покраснел и стал рассыпаться в извинениях.
У меня хватило злости притвориться, будто я плачу, и я
сказала, что меня доверили человеку, ничуть не заботящемуся обо мне.
Я почувствовала себя наполовину отомщенной: командор
счел себя опозоренным, горько загрустил и весь тот день
молчал. Мне, однако, в конце концов, мало уже было и
665
удовольствия мучить своего ментора. Не знаю, что бы я придумала еще, если бы случай иного рода не нарушил однообразие нашего путешествия.
Однажды вечером, когда мы ехали вдоль опушки леса,
из-за поворота дороги внезапно появился всадник, окутанный плащом, наклонился к окну кареты и тотчас же скрылся. Все произошло так быстро, что я почти и не заметила, как всадник бросил мне на колени записочку. А командор и вовсе ничего не увидал. В записке было всего
несколько строк: «В одном лье отсюда вам придется заночевать. Когда все уснут, под вашими окнами остановится
карета. Если вы разбудите ваших людей, я лучше погибну
у вас на глазах, чем откажусь от попытки, на которую
вы меня считаете неспособным и успех которой только
и придаст для меня цену жизни».
Узнав почерк маркиза, я глухо вскрикнула — командор
обернулся в мою сторону.
— Что с вами, сударыня? — спросил он, крайне удивленный.
— Да ничего,— ответила я, пряча записку,— ногу вдруг
свело судорогой.
Эта ложь, к которой я прибегла за тридцать лет до
появления «Севильского цирюльника», доказывает вам, что
она впервые пришла в голову мне, а не Бомарше, как вы
могли бы подумать.
Командор тотчас же опустил руку в один из карманов,
вынул магнит и подал его мне, чтобы я приложила его к
больному месту.
Чем больше я размышляла о дерзости маркиза, тем больше я восхищалась его рыцарской смелостью. Я почувствовала благодарность к моде того времени, требовавшей, чтобы
женщина знатная носила в путешествии черную полумаску,
ибо иначе от командора не ускользнуло бы мое волнение. Я ни
одного мгновения не сомневалась, что маркиз осуществит
свое намерение, и не стану скрывать, что, зная фанатизм господина де Бельевра по части долга, я в то время гораздо больше опасалась за жизнь господина д’Юрфе, чем за свое доброе
имя.
Вскоре оба лакея, ехавшие впереди верхом, вернулись и
сообщили, что из-за повреждения моста мы не сможем отдыхать в селении, выбранном господином де Бельевром для
ночлега, но что наш квартирмейстер уже приготовил ужин
в охотничьем домике, расположенном у большой дороги и
принадлежащем господину маркизу д’Юрфе.
666
Я увидела, как при этом имени командор нахмурил брови, и испугалась, как бы он не разгадал планы маркиза.
Этого, однако, не произошло, мы доехали до охотничьего
домика, а у командора никаких подозрений, как видно, не
возникало. После ужина, как это и бывало каждый вечер, он
отвесил мне низкий поклон, испросил разрешения удалиться
и пожелал спокойной ночи.
После его ухода я отослала горничных и не стала раздеваться, ожидая скорого появления господина д’Юрфе, с которым я, впрочем, намерена была обойтись так, как он того
заслуживал, стараясь, однако, не навлечь на него гнев командора.
Едва прошел час, как я услышала на дворе легкий шум.
Я отворила окно и увидела маркиза, поднимавшегося по веревочной лестнице.
— Сударь,— сказала я ему,— удаляйтесь немедленно,
или я позову людей!
— Сжальтесь, сударыня, выслушайте меня!
— Я ничего не хочу слушать, и если вы только попробуете
войти сюда, я позвоню, клянусь вам!
— Тогда велите меня убить — ведь я же поклялся, что
похитить вас помешает мне только смерть!
Не знаю, что мне было делать или отвечать, как вдруг
быстро отворилось окно соседней комнаты, и в нем показался
командор со светильником в руке.
Господин де Бельевр переоделся в халат темно-красного
цвета, а парик сменил на остроконечный ночной колпак; теперь в его облике было что-то причудливо внушительное,
он казался похож на волшебника.
— Маркиз!— вскричал он громовым голосом.— Благоволите удалиться отсюда!
— Господин командор,—ответил маркиз, все еще держась на лестнице,— я счастлив видеть вас в моем доме.
— Господин маркиз,—продолжал командор,—я в отчаянии от того, что должен вам объявить, но если вы не спуститесь точас же, я буду иметь честь застрелить вас!
Тут он поставил светильник на подоконник и направил на
маркиза дула двух огромных пистолетов.
— Да что вы, командор! — закричала я, высовываясь из
окна.— Это же будет убийство!
— Герцогиня,— ответил господин де Бельевр, учтиво
кланяясь из окна,— сделайте милость, извините меня, что я
предстаю пред вами в столь неподходящем виде, но в этих
чрезвычайных обстоятельствах я надеюсь на снисхождение,
667
о котором не решился бы просить вас во всякое иное время.
Благоволите также извинить меня, что на этот раз я не спешу повиноваться вам с тем слепым рвением, которое я всегда
вменяю себе в закон, но ваш отец, а мой почитаемый друг,
доверил вас моему попечению, и его доверие столь для меня
лестно, что я готов заслужить его любой ценой, не отступая
даже и перед убийством.
При этих словах командор снова поклонился и зарядил
пистолеты.
— Пускай,— сказал маркиз,— это будет дуэль в новом
роде!
И, не спускаясь с лестницы, он тоже вынул из кармана
пару пистолетов.
— Командор,— проговорил он,— погасите светильник,
ведь он делает мое положение более выгодным, чем ваше,
а я не желал бы воспользоваться этим преимуществом.
— Господин маркиз,— отвечал командор,— благодарю
вас за любезность и могу только порадоваться, что вижу в ваших руках пистолеты, ибо для меня было бы невыносимо стрелять в безоружного.
После этого он погасил свечу и стал целиться в маркиза.
— Да вы оба с ума сошли!— закричала я.— Вы же погубите меня— разбудите весь дом! Маркиз,— продолжала я,—
прощаю ваше безрассудство с тем условием, что вы немедленно же спуститесь. Слышите, сударь, я приказываю вам
спуститься!
Мой взгляд должен был дать ему понять, что всякое промедление только сильнее рассердит меня.
— Сударыня,— произнес тогда маркиз, намекая на слова, которыми мы обменялись при первом нашем знакомстве,— своим взглядом вы сбрасываете меня с лестницы, но
владетельная красавица Матильда может быть уверена, что
рыцарь Бертран станет всеми средствами искать встречи с
ней хотя бы лишь затем, чтобы умереть у ее ног!
И, завернувшись в свой плащ, он исчез в темноте.
Командор на следующий день ни слова не проронил о случившемся, и не было у нас об этом больше речи и потом.
Когда же до замка моего отца оставалось всего только
полдня пути, нас под вечер застигла ужасная гроза. Гром
грохотал с неслыханной силой, а молнии следовали с такой
стремительностью, что даже сквозь опущенные веки их сверкание ослепляло меня.
Вы, дети мои, знаете, что я никогда не выносила грозу.
Мной овладел какой-то непонятный страх, я дрожала как
668
лист и прижималась к командору, который счел себя обязанным принести мне извинения.
Мы двигались крайне тихо — мешали деревья, поваленные грозой на дорогу. Уже совсем стемнело, как вдруг кучер резко остановил лошадей и обратился к командору со
словами:
— Виноват, сударь, я не туда заехал. Мы в лесу Обербуа,
узнаю его по тому старому дубу с обрубленными ветвями!
Не успел от произнести эти слова, как удар грома потряс
весь лес, молния упала у самой кареты, и напуганные лошади закусили удила.
— Матерь божия, смилуйся над нами!— воскликнул кучер, наматывая вожжи на руку. Но лошади ему уже не повиновались.
Мы неслись во весь опор, то справа, то слева о что-то ударяясь и каждый миг ожидая, что вот-вот разобьемся о деревья.
Я была ни жива ни мертва и ничего не понимала в речах
господина де Бельевра, ибо к свисту ветра и раскатам грома, как мне казалось, примешивались некие странные звуки.
Я уже несколько раз слышала совсем близко душераздирающие стенания, а потом раздавался вопль: «Есть хочу, есть
хочу!»
Внезапно кучер, все время сдерживавший лошадей, отпустил вожжи и с страшным криком начал их хлестать.
— Жермен, негодяй!—окликнул его командор.— С ума
ты сошел?
Жермен обернулся, и при свете молнии мы увидели его
смертельно-бледное лицо.
— Это священник!— произнес он сдавленным голосом.—
Священник за нами гонится.
— Останови, дурак; твоя вина, если герцогиня голову
сломает! Останови — или я тебя застрелю.
Не успел господин де Бельевр договорить, как мы почувствовали страшный толчок, меня выбросило из кареты, и
я потеряла сознание.
Не знаю, сколько времени продолжался этот обморок, но
очнулась я от звуков музыки, игравшей неподалеку.
Я открыла глаза, и оказалось, что кругом — лес, а я лежу
на мху.
Гроза кончилась. Гром еще погромыхивал в отдалении, а
на деревьях тихонько шевелилась листва, и над их верхушками проплывали облака причудливой формы. Воздух напоен был благоуханиями, от которых я вновь погрузилась бы в
669
сладостное оцепенение, как вдруг на лицо мне упало, стекая
с листьев, несколько капель дождевой воды, сразу освеживших меня.
Я села и, осмотревшись, увидела примерно в ста шагах
ярко освещенные сводчатые окна. Вскоре я различила за деревьями остроконечные башенки некоего замка, который, как
я тут же установила, не был замком моего отца. «Где же это
я нахожусь?»— подумала я. Понемногу я вспомнила, как понесли лошади и как меня выбросило из кареты. Но в голове
у меня все еще была такая слабость, что эти обрывки воспоминаний вскоре же сливались с другими мыслями, и я, очутившись внезапно в таком одиночестве, даже не удивлялась,
что не вижу подле себя ни господина де Бельевра, ни кого
бы то ни было из моих слуг.
Музыка, заставившая меня очнуться, все продолжала
звучать. Тогда меня осенило, что, может быть, я нахожусь
около замка Обербуа и что гости собрались там на тот самый костюмированный бал, о котором упоминалось в письме отца. Тут же мне припомнились и последние слова господина д’Юрфе, сказанные им в охотничьем домике, и я подумала, что при том упорстве, с которым он всюду следует
за мной, он непременно должен оказаться на этом балу.
Я поднялась и, не чувствуя ни малейшей боли, быстрыми шагами направилась к замку.
Это было обширное здание сурового облика и в значительной части разрушенное. В лучах луны я могла заметить,
что стены поросли мохом и покрыты плющом, ветки которого
гирляндами свисали кое-где с высоких башен, живописно
раскачиваясь и темными очертаниями выделяясь на серебристо-синем фоне ночного неба.
Я остановилась, чтобы полюбоваться этим зрелищем.
Мыслями я в тот миг, не знаю уж как и почему, унеслась далеко-далеко. Передо мною, словно в свете волшебного фонаря, проносились давно забытые картины детства.
С необыкновенной яркостью возникли в моей памяти отдельные черты из времен ранней моей юности. И среди этих образов я вдруг увидела мою мать, которая грустно мне улыбалась. Мне захотелось плакать, и я несколько раз поцеловала
крестик, ее подарок, с которым не расставалась никогда.
Вдруг мне послышался где-то вдали голос командора,
который звал меня.
Я стала прислушиваться, но тут флюгер на крыше, поворачиваясь, заскрипел, и этот звук, подобный скрежету зубов,
помешал мне уловить звавший меня голос.
670
Я решила, что мпе это померещилось, и вошла во двор.
Там не видать было ни карет, ни слуг, однако туда доносились откуда-то и громкий смех, и нестройный гул голосов. Я
поднялась по лестнице весьма крутой, но ярко освещенной;
когда я достигла верхней площадки, в лицо мне подул холодный ветер, а в воздухе, вспорхнув, заметалась испуганная сова, ударяясь крыльями о светильники, прикрепленные к стенам.
Чтобы ночная птица меня не задела, я нагнула голову.
Когда же я снова выпрямилась, передо мной стоял высокий
рыцарь в полном вооружении.
Он подал мне руку, одетую в броню, и из-под спущенного забрала до меня донесся глухой голос:
— Прекрасная госпожа моя, дозвольте верному вашему
слуге принять вас в своем замке и почитайте оный за вашу
собственность, как и все его добро.
Я вспомнила слова, брошенные господином д’Юрфе, когда я ему приказала спуститься с лестницы, и, будучи уверена,
что незнакомый рыцарь — не кто иной, как любезный маркиз, я ответила ему в том же тоне:
— Не изумляйтесь, пресветлый государь мой, что узрели
меня в сих местах, ибо, заблудившись в лесу, пришла я к вам,
дабы приютили меня, как всякому доброму и храброму рыцарю поступать надлежит.
Затем я вошла в обширную залу, где много было народу,
и все эти люди, собравшись за накрытым столом, смеялись
и пели. Одеты они все были как знатные господа времен Карла Седьмого, а так как в церкви Сен-Жермен в Оксерре я
видела живопись той поры, то и могла по достоинству оценить историческую точность, соблюденную в малейших деталях их одежды. Сильнее же всего мое внимание привлекла
прическа одной высокой и красивой дамы, по-видимому, хозяйки на этом пиршестве. Волосы ее были покрыты сеткой,
весьма искусно и безукоризненно изящно сплетенной из золотых нитей с жемчугом. Но меня, несмотря на красоту этой
женщины, прежде всего поразило злое выражение ее лица.
Как только я вошла, она с любопытством, совершенно неприличным, принялась меня рассматривать и сказала так,
чтобы я могла слышать:
— Коли не ошибаюсь, так это и есть прекрасная Матильда, а за ней волочился господин Бертран, пока со мной
не спознался!
Потом, обратившись к рыцарю, едким тоном проговорила:
671
— Сердце мое, велите увести ту даму, ежели не хотите,
чтобы я вас ревновала!
Шутка показалась мне весьма грубой, тем более что я не
была знакома с женщиной, позволившей себе такие слова. Я
хотела дать ей почувствовать все их неприличие и уже собиралась обратиться к господину д’Юрфе (на этот раз прибегая к речи более современной), но мне помешал шум и ропот, поднявшийся вдруг среди гостей.
Они что-то говорили друг другу, многозначительно переглядывались и перемигивались, указывая друг другу на меня.
Внезапно дама, заговаривавшая с рыцарем, схватила
светильник и приблизилась ко мне так стремительно, что, казалось, она скорее летит, а ие идет.
Она высоко подняла светильник и обратила внимание
присутствующих на тень, отбрасываемую мною.
Тут со всех сторон раздались крики возмущения, и я услышала слова, которые повторялись в толпе:
— Тснь-то! Тень-то! Не наша она!
Сперва я не поняла смысла этих слов, но, осмотревшись
кругом, чтобы разгадать их значение, со страхом увидела, что
ни у кого из окружавших меня не было тени: все они скользили мимо факелов, не заслоняя собою их свет.
Мной овладел невыразимый ужас. Чувствуя, что я лишаюсь сил, я поднесла руку к сердцу. Мои пальцы коснулись
крестика, который я недавно целовала, и мне вновь послышался голос командора, зовущий меня. Я хотела бежать, но
рыцарь сжал мне руку своей железной дланью и принудил
меня остаться.
— Не страшитесь,— проговорил он,— клянусь погибелью
души моей — не потерплю, чтобы кто обидел вас, а дабы никто и не помышлял о том, сейчас же священник благословит
нас и повенчает!
Толпа расступилась, и к нам подполз на четвереньках
длинный францисканец, бледный и худой.
Его как будто мучили жестокие боли, но в ответ на все
его стоны дама с жемчугами в волосах как-то неестественно засмеялась и, повернувшись к рыцарю, сказала:
— Вот видите, сударь, видите, наш приор опять кобенится, как триста лет назад.
Рыцарь приподнял забрало. Лицо его, нисколько не напоминавшее д’Юрфе, было мертвенно-бледно, а взгляд носил
печать такой зверской жестокости, что я не могла его выдержать. Глаза его выступали из орбит и были устремлены на
меня, а приор, ползая по полу, гнусавил между тем молитвы,
672
которые время от времени прерывались такими страшными
проклятиями и криками боли, что волосы у меня дыбом вставали на голове. Холодный пот выступал у меня на лбу, но я
не в состоянии была и пошевелиться, ибо своим рукопожатием господин Бертран отнял у меня всякую способность к
действию, и мне оставалось только смотреть и слушать.
Когда, наконец, францисканец, обращаясь к присутствующим, стал возвещать о моем бракосочетании с господином
Бертраном д’Обербуа, страх и негодование придали мне
вдруг силу сверхъестественную. Сделав резкое усилие, я высвободила руку и, держа в ней крест, подняла его над призраками:
— Кто бы вы ни были,— воскликнула я,— именем бога
живого приказываю вам: исчезните.
При этих словах лицо господина Бертрана совершенно
посинело. Он покачнулся, и я услышала, как гулко, словно
бы это был железный чан, ударились о плиты пола рыцарские латы.
В то же мгновение исчезли и все остальные призраки,
налетел ветер и погасил огни.
Теперь кругом меня были развалины обширного здания.
При свете луны, проникавшем в одно из сводчатых окон,
мне почудилось, будто передо мной еще мечется целая толпа францисканцев, но и это видение исчезло, как только я
осенила себя крестом. До меня еще донеслись замирающие
звуки молитвы, еще различила я и слова: «Есть хочу, есть
хочу!» — а потом уже только шумело в ушах.
Меня одолела усталость, и я впала в дремоту.
Когда я очнулась, меня уже пес какой-то человек, широкими шагами перемахивавший через пни деревьев и кусты.
Я открыла глаза и при лучах утренней зари узнала командора; одежда его была разорвана и запачкана кровью.
— Сударыня,— сказал он мне, когда увидел, что я в состоянии его слушать,— если самое жестокое мгновение в
моей жизни было то, когда я потерял вас, то уверяю, что ничто бы сейчас не могло сравниться с моим счастьем, если бы
его не отравляла мысль о том, что мне не удалось предотвратить ваше падение.
Я ответила ему:
— Да бросьте вы сокрушаться, командор, и положите
меня на землю: я чувствую себя разбитой, а судя по тому, как
вы меня несете, из вас, пожалуй, хорошей няньки не получится!
— Если так, сударыня,— сказал господин де Бельевр,—
673
то вините не мое рвение, а сломанную левую руку!
— Боже мой!— вскричала я.— Как же это вы сломали
себе руку?
— Когда бросился за вами, сударыня, как мне повелевал мой долг, едва только я увидел, что дочь моего почитаемого друга выпала из кареты.
Тронутая самоотверженностью господина де Бельевра, я
уговорила его позволить мне идти самой. Я предложила ему
также сделать из моего платка повязку, но он ответил, что
состояние его не требует таких забот и что он более чем счастлив, имея здоровую руку, которой готов мне служить.
Мы еще не успели выбраться из леса, как встретили слуг
с портшезом — их выслал в эту сторону мой отец, узнав о
несчастном случае от наших лакеев. Сам он продолжал еще
поиски в другом направлении. Вскоре мы соединились. Он,
как меня увидел, очень встревожился и сразу же начал хлопотать около меня. Потом ему захотелось обнять и господина
де Бельевра, с которым он не видался много лет. Но командор отступил на один шаг и сказал моему отцу тоном весьма серьезным:
— Милостивый государь и любезнейший друг! Доверив
мне вашу дочь, то есть самое драгоценное, что есть у вас на
свете, вы дали мне такое доказательство дружбы, которым
я был глубоко тронут. Но я оказался недостоин этой дружбы,
ибо, несмотря на все мои старания, я не мог помешать тому,
чтобы гром напугал наших лошадей, чтобы карета разбилась,
а дочь ваша упала посреди леса, где и оставалась до утра.
Итак, вы видите, милостивый государь и дорогой друг, что я
не оправдал вашего доверия, а поелику справедливость требует, чтобы я дал вам удовольствие, то я и предлагаю вам
либо драться на шпагах, либо стреляться; сожалею, что состояние моей левой руки делает для меня невозможной дуэль
на кинжалах, которой, быть может, вы бы отдали предпочтение, но вы — человек слишком справедливый, чтобы
упрекнуть меня в недостатке доброй воли, а для всякой иной
дуэли я — к вашим услугам в тот час и в том месте, какие
вам угодно будет указать.
Моего отца весьма удивило такое заключение, и лишь с
величайшим трудом удалось нам убедить командора, что он
сделал все возможное для человека в подобных обстоятельствах и что для смертоубийства нет никаких оснований.
Тогда он с жаром обнял моего отца и сказал ему, что
очень обрадован таким исходом дела, ибо ему было бы горестно убить лучшего своего друга.
674
Я попросила господина де Бельевра рассказать, как он
меня нашел, и узнала от него, что, бросившись вслед за мною,
он ударился головою о дерево и от этого на время потерял
сознание. Придя в себя, он обнаружил, что левая рука у него
сломана, но это не помешало ему отправиться на мои поиски, в течение которых он неоднократно звал меня. В конце
концов после долгих стараний он нашел меня в обмороке
среди развалин замка и унес, обхватив правой рукой.
Я, в свою очередь, рассказала, что со мною случилось в
замке Обербуа, но отец отнесся к моим словам так, как будто
все это мне приснилось и пригрезилось. Я выслушивала его
шутки, но в глубине души была вполне уверена, что видела не
сон,— к тому же я ощущала и сильную боль в руке, которую
своей железной дланью сжал рыцарь Бертран.
Все перенесенные треволнения так на меня подействовали,
что вызвали лихорадку, которой я проболела больше двух
недель.
В течение этого времени отец и командор (руку которого
лечил здешний хирург) постоянно играли в шахматы у меня
в комнате либо рылись в большом шкафу, набитом всякими
бумагами и старинными пергаментами.
Однажды, когда я лежала, закрыв глаза, я услышала, как
отец говорил командору:
— Вот прочитайте, друг мой, и скажите, что вы об этом
думаете.
Мне стало любопытно, и, приоткрыв глаза, я увидела, что
отец держит в руках совершенно пожелтевший пергамент с
несколькими привешенными к нему восковыми печатями, какие в былое время полагалось прикреплять к парламентским
указам и королевским эдиктам.
Командор взял пергамент и принялся читать вполголоса,
часто оборачиваясь в мою сторону, послание короля Карла
Седьмого ко всем баронам в Арденнах, коим сообщалось и
объявлялось об изъятии в казну поместий рыцаря Бертрана
д’Обербуа и госпожи Жанны де Рошэгю, обвиненных в безбожии и всякого рода преступлениях.
Послание начиналось в обычных выражениях:
«Мы Карл Седьмой, милостию божиею король Франции,
шлем благоволение свое всем, кто читать будет сии письмена. Всем вассалам нашим, баронам, владетельным господам,
рыцарям и дворянам да будет ведомо, что чиновники наши,
владетельные господа и дворяне донесли нам о бароне нашем
господине рыцаре Бертране д'Обербуа, каковой рыцарь зло
675
козненно и злонравно непокорство оказывал нам и власти
нашей королевской противоборствовал», и прочая, и прочая,
и прочая. Следовал длинный список прегрешениям рыцаря
Бертрана, который, как было сказано, «о благе святой церкви нашей не радел, оной не почитал, постов и вовсе не соблюдал, как если бы так и подобало, годы многие во грехах не
исповедовался и плоти и крови господа нашего и спасителя
Иисуса Христа не причащался».
«И столь премерзостно сотворил выше реченный рыцарь,— гласил далее пергамент — что мерзостней того и сотворить невозможно, понеже в ночь успения пресвятой владычицы нашей богородицы, веселясь на пире буйном и богопротивном, господин тот Бертран рек: «Погибелью души моей
клянусь! Жизни вечной не бывать и в жизнь оную не верю нисколько, а коли она есть, так я, хоть бы и душу за то отдать
сатане, ворочусь через триста лет с сего дня в замок мой,
дабы веселиться и пировать, и в том поклясться и побожиться готов!»
Как .говорилось далее в послании, эти дерзкие слова
столь понравились прочим сотрапезникам, что все они тоже
дали клятву встретиться ровно через триста лет, в такой же
точно день и час в замке рыцаря Бертрана, за каковое деяние
они объявлялись вероотступниками и безбожниками.
Так как вскоре после произнесения столь ужасных слов
рыцарь Бертран был найден «удавленным, сирень удушенным» в своих доспехах, его тем самым уже не могло коснуться возмездие за совершенные преступления, но его поместия были взяты в казну, равно как и владения его доброй
приятельницы госпожи Жанны де Рошэгю, которая обвинялась — милая забавница!— еще и в том, что сгубила приора одного францисканского монастыря, воспользовавшись
сперва его помощью для убийства своего супруга. То, как
она умертвила этого недостойного священника, было чудовищно: она велела перерезать ему оба подколенка и бросить
искалеченного в лесу Обербуа, «и на сие горестно было взирать, ибо выше реченный священник ползал и корчился прежалостно, доколе не умре с голоду в том лесу».
В конце послания не заключалось ничего существенного,
кроме того, что одному из наших предков повелевалось именем короля вступить во владение замками рыцаря Бертрана и госпожи Жанны.
Когда командор дочитал, отец спросил его, в какой именно день мы приехали.
676
— Это было в ночь на успенье божьей матери,— отвечал господин де Бельевр.— В ту ночь я имел несчастие потерять и счастие вновь найти госпожу герцогиню, вашу дочь.
— Послание помечено тысяча четыреста пятьдесят девятым годом,— продолжал мой отец,— а у нас сейчас год тысяча семьсот пятьдесят девятый. В ночь на успенье с тех пор
прошло, значит, ровно триста лет. Не надо, командор, говорить про это моей дочери — пусть лучше она думает, что
видела сон.
При этих словах я вся побледнела от ужаса. Отец и командор это заметили и обменялись беспокойным взглядом. Но
я сделала вид, что только сейчас проснулась, и сказала, что
чувствую необычайный упадок сил.
Несколько дней спустя я совершенно выздоровела.
Вскоре же я уехала в Париж опять в сопровождении господина де Бельевра. Я снова встретилась с д’Юрфе, который
оказался еще более, чем прежде, влюбленным в меня, но я по
проклятой привычке к кокетству держалась с ним еще более
холодно, продолжая его мучить и шутить над ним, в особенности по поводу его неудавшейся попытки похитить меня.
Во всем этом я так преуспела, что в одно прекрасное утро
он пришел сообщить о своем решении уехать в Молдавию —
так он устал от этой игры.
Я достаточно хорошо знала маркиза и поняла, что теперь уже он не откажется от своего намерения. Удерживать
его я не стала, а так как мне бог весть почему казалось, что
с ним может случиться несчастье, то и дала ему — чтобы
предохранить — мой крестик, который, как он мне рассказал
впоследствии, спас его от страшной беды.
Через пол года после отъезда маркиза я вышла замуж за
вашего деда и должна вам признаться, дети мои, что сделала этот шаг, хоть отчасти, с горя. Но все же правду говорят,
что браки по любви — не самые удачные: ведь ваш дед, к
которому я всегда чувствовала только уважение, сделал меня, конечно, гораздо более счастливой, чем я была бы с маркизом д’Юрфе, который, в конце концов, был всего-навсего
шалопай, что, впрочем, не мешало мне находить его весьма
приятным.
ПРИМЕЧАНИЯ
Василий Андреевич Жуковский
(1783-1852)
Поэт, прозаик, переводчик, один из родоначальников русского романтизма. Поэзия Жуковского насыщена меланхолическими мечтаниями,
романтически переосмысленными образами народной фантастики (баллады
«Людмила», 1808, «Светлана», 1808—1812). Перевел «Одиссею» Гомера,
произведения Ф. Шиллера, Дж. Г. Байрона. Признанный классик перевода.
МАРЬИНА РОЩА
Впервые — Вестник Европы. 1809. Ч. 43. № 2, 3. Печатается по изданию: Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т. М.; Л. 1960. Т. 4.
С. 19. Маткина душка — народное название душистой фиалки.
Ночная красавица — народное название растения вечерница.
С. 21. Владимир (ум. 1015) — князь новгородский (с 969), киевский
(с 980) ; в 988—989 годах ввел в качестве государственной религии христианство; в русских былинах получил имя Красное Солнышко.
Илья, Чурила, Добрыня — богатыри, герои русского былинного
эпоса.
С. 35. Троицкая дорога — дорога к Троице-Сергиевой лавре; ныне
Ярославское шоссе.
Мытищинский водовод — арочный каменный мост, построенный
в XVIII веке через долину реки Яузы возле бывшего села Ростокина, по которому был проложен водовод московского водопровода, питавшегося от источников вблизи села Мытищи; современное название — Ростокинский акведук.
Антоний Погорельский
(Алексей Алексеевич Перовский)
(1787—1836)
Поэт, прозаик, критик. Внебрачный сын графа Алексея Кирилловича
Разумовского. В 1807 году оканчивает Московский университет со степенью
678
доктора философии и словесных наук. После нескольких лет государственной службы он после вторжения Наполеона в Россию становится казачьим офицером. Армию оставляет в 1816 году. Поселяется в Петербурге,
служит в департаменте духовных дел иностранных исповеданий. Знакомится с Пушкиным, сближается с Дельвигом и его кружком, становится членом
Вольного общества любителей российской словесности. В течение 1820-х
годов Перовский пишет свои первые повести, вошедшие в цикл «Двойник,
или Мои вечера в Малороссии», затем выходят еще два фантастических
произведения — новелла «Посетитель магика» и сказка «Черная курица,
или Подземные жители». Последним произведением писателя стал роман
«Монастырка» (1833).
ДВОЙНИК.
ИЛИ МОИ ВЕЧЕРА В МАЛОРОССИИ
Впервые — отдельное издание: Двойник, или Мои вечера в Малороссии. Соч. Антония Погорельского. 2 части. СПб., 1828.
Одна из повестей цикла — «Лафертовская маковница», впервые была
напечатана в «Новостях литературы». 1825. №3. С. 97—133.
Публикуется по изданию: Погорельский Антоний. Избранное. М., 1985.
С. 44. ...с славным поэтом Попе...— Поп Александр (1G88—1744) —
английский поэт, пользовавшийся в XVHI веке большой известностью в
России.
С. 47. ...ни Брегетов, ни Элликотов — Брегет (Бреге) Абрахам Луи
(1747—1823)—прославленный парижский механик, часы которого были
в то время в большой моде; Элликот Джон (ум. 1772) — английский часовой
мастер.
С. 48. Бердыш — боевой топор в виде полумесяца, насаженный на длинную рукоятку; находился на вооружении русской армии в XVII веке.
Дорогомиловская застава — находилась в районе нынешней
Большой Дорогомиловской улицы. В 1812 году через Дорогомилово в Москву вошла армия Наполеона.
...кирасирский офицер.— Кирасиры — тяжелая кавалерия, одетая в металлические латы — кирасы.
С. 49. Ехалов (искаженное Елохов) мост — мост через ручей Елховец
в районе площади Разгуляй, вблизи пересечения Старой и Новой Басманных улиц.
Красное село — в то время одна из окраин Москвы; находилось в
районе теперешней станции метро «Красносельская».
Палаш — холодное оружие, прямая широкая сабля.
...в приходе Тихвинской божией матери...— имеется в виду придел Тихвинской божией матери церкви Воздвижения Креста Господня (1692;
679
не сохранилась), где одно из празднеств было посвящено чудотворной иконе
Тихвинской богородицы.
С. 56. В первый раз после шести недель...— Французы находились в
Москве со 2(14) сентября по 7(19) октября 1812 года.
С. 57. Георгиевский крест — военный орден св. Георгия, учрежденный
в русской армии в 1769 году.
С. 59. ...один лейпцигский врач... «Явление жены моей после смерти».—
Речь идет о книге веймарского (а не лейпцигского) врача Иоганна Карла
Везеля «Истинное явление жены моей по смерти, достоверная, недавно случившаяся история ко всеобщему вниманию и особенно для психологов, для
объективной и тщательной проверки рассказанная Д-р И. К- В. Хемниц».
1804. (Meiner Gattin wirkliche Erscheinung nach ihrem Tode, eine wahre
unlängst erfolgte Geschichte für jedermann zur Beherrigung und vorzüglich
für Psychologen zur unpartheischen und sorgfältigen Prüfung dargestclit von
D-г I. K. W. Chemnitz, 1804.)
C. 63. Цицерон рассказывает...— История двух аркадян приводится
римским писателем, оратором, политическим деятелем Марком Тулием
Цицероном (106—43 до н. э.) в трактате «О предвидении» (кн. 1, гл. 27, 57).
С. 65. Штиллинг в сочинении своем «Феория духов»...— Немецкий писатель-мистик Иоганн Генрих Юнг-Штиллииг (1740—1818) был популярен в
России в конце XVIII — начале XIX века. Речь идет о его книге «Theorie
der Geistkunde» (1808).
С. 78. Скилла (Сцилла) и Харибда — в греческой мифологии морские
чудовища, подстерегавшие и губившие мореходов у узкого пролива; по
позднейшим представлениям, они обитали в пещерах сицилийского (ныне Мессинского) пролива.
С. 86. Экосез — бальный танец, получивший распространение с конца
XVIII века.
С. 93. Вентрилок — чревовещатель.
С. 94. Пигмалион — в греческой мифологии царь Кипра, создавший
статую прекрасной женщины и влюбившийся в нее. Оживленная богиней
Афродитой и названная Галатеей, она стала женой Пигмалиона.
...знаменитый Алберт...— Имеется в виду Альберт Великин (Альберт фон Больштедт, ок. 1193—1280)—монах-доминиканец, ученый, алхимик. Известно, что в его кельнском кабинете стояла механическая голова, издававшая звуки, которую разбил его ученик философ Фома Аквинский, ставший впоследствии одним из святых отцов католической церкви.
...физик Робертсон, бывший пред тем в России...— Робертсон
Этьен Гаспар Роберт (1763—1837) бельгийский физик и воздухоплаватель, демонстрировавший во Франции и других странах свои опыты, связанные с гальванизмом и аэростатикой; в 1805 году сопровождал русское
посольство IO. А. Головкина в Китай.
С. 96. Лафертовская (Лефортовская) часть — по административному
делению Москвы конца XVIII века одна из восточных частей города, рас
680
положенная на левом берегу р. Яузы. Названа по имени Ф. Я. Лефорта
(1655—1699) — военачальника, сподвижника Петра I; здесь находился дворец Лефорта.
Проломная застава — одна из застав в Лефортове, через которую проходила дорога на Владимир.
...прослужил в поле...— то есть в армейских строевых частях, участвовавших в походах и сражениях.
С. 98. Хамовники — местность к юго-западу от Садового кольца (ныне между Комсомольским проспектом и улицей Льва Толстого).
С. 103. ...на колокольне Никиты-мученика...— Имеется в виду колокольня церкви Никиты-мученика в бывшей Старой Басманной слободе (ныне
ул. Карла Маркса, 16).
С. 106. Введенское кладбище — расположено на востоке Москвы, в районе Лефортова.
С. 110. Роспуски — телега, дроги для перевозки тяжелых и громоздких предметов.
С. 115. Маркитант — торговец, снабжавший армию провиантом и снаряжением.
Михаил Николаевич Загоскин
(1789-1852)
Русский писатель. Сын пензенского помещика. В 1812—1814 годах участвовал в Отечественной войне. С 1831 по 1842 год возглавлял дирекцию
московских театров; позднее был директором Оружейной палаты. Загоскин — автор комедий, которые с успехом шли на московских и петербургских сценах, но наибольшую известность ему принесли исторические романы: «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», «Рославлев, или Русские в 1812 году», «Аскольдова могила» и др. Загоскиным написан цикл
фантастических повестей «Вечер на Хопре», объединенных рассказчиками
историй, местом и временем повествования. «Нежданные гости» — одна
из повестей этого цикла.
НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ
Впервые — Библиотека для чтения. 1834. Т. 3.
Печатается по изданию: Русская романтическая повесть. М., 1980.
С. 483-492.
С. 129. Четьи-Минеи — чтения ежемесячные; сборники житий святых,
расположенных по месяцам и дням недели в соответствии с днями чествования церковью памяти каждого святого.
Канапе — кушетка.
Приказный — мелкий чиновник судебного ведомства.
681
С. 130. Крапивное семя — ироническое, презрительное прозвище чиновников.
С. 133. Содом, Гомор (Гоморра) — библейские города, пораженные небесным огнем за разврат и преступления их жителей.
...печатают под титлами...— Титла (или титло) — в средневековой письменности надстрочный знак различной формы над сокращенно написанным словом нли буквой. В древних славяно-русских рукописях слова, обозначающие священные предметы, обычно писались сокращенно под
титлом. Здесь имеется в виду Евангелие и другие церковные книги, которые печатались на старославянском языке.
С. 135. Голубец—народная пляска.
С. 140. Свайка — толстый гвоздь или шип с большой головкой, который берут в кулак и швыряют в землю, попадая в кольца,— народная
игра.
Орест Михайлович Сомов
(1793—1833)
Родился в старинной дворянской семье в г. Волчанске Харьковской
(б. Слободско-Украинской) губернии. Приехав в 1817 году в Петербург, он
вступает в Вольное общество любителей российской словесности, сближается с будущими декабристами. Сомов сотрудничал в «Полярной звезде» и
других изданиях декабристов, участвовал в редактировании альманаха
«Северные цветы» и «Литературной газеты». Выступал как эстетик и критик, пропагандируя прогрессивный романтизм, национальную самобытность, идеи гражданственности в литературе. Повести, рассказы, сказки
Сомова, посвященные украинской тематике, насыщены фольклорным, этнографическим материалом, для многих из них характерны элементы фантастики.
РУСАЛКА
Впервые—Подснежник на 1829 год. СПб., 1828. С.59—84. Подпись:
Порфирий Байский.
Печатается по изданию: Сомов О. М. Были и небылицы. М., 1984.
С. 136—144.
С. 140. ...Киев был во власти поляков...— С 1569 года и до воссоединения Украины с Россией в 1654 году Киев принадлежал Польше.
С. 147. ...примечания к повести «Гайда мак».— В примечаниях автора к
повести «Гайдамак» даются более подробные пояснения: «Дрибушки — мелкие косы; их заплетают по нескольку и обвивают вокруг головы. Скиндяч-
ки — разноцветные ленты, которыми повязывается голова; концы их распускаются по плечам».
682
ОБОРОТЕНЬ
Впервые — Подснежник на 1829 год. СПб., 1829. С. 189—225. Подпись:
О. Сомов. В содержании альманаха приводится подзаголовок «Народная
сказка», отсутствующий в тексте.
Печатается по изданию: Сомов О. М. Были и небылицы. М., 1984. С.
145-155.
С. 148. ...Корсары, Пираты, Гяуры, Ренегаты и даже Вампиры...—
«Корсар» (1814) и «Гяур» (1813) — поэмы Д. Г. Байрона (1788—1824);
«Пират» (1821) — роман В. Скотта (1771 — 1832); «Ренегат» (1822) — роман французского писателя-романтика Ш.-В. д’Арленкура (1789—1856);
«Вампир» (1819) — повесть, написанная личным секретарем и врачом Байрона Д. В. Полидорн по замыслу поэта.
С. 149. ...о виде разговора кого-нибудь из моих приятелей с кем-нибудь
из моих неприятелей...— Намек на популярную в первой четверти XIX века форму критической статьи, где ведут разговор двое или несколько собеседников.
С. 150. Торговая казнь — публичное наказание преступника кнутом в
России до 1845 года; обычно совершалась на торговых площадях.
С. 158. ...челышко изо всех умных баб.— Самая умная из умниц.
Антидот — противоядие.
Цитата из Ломоносова неточна; надо: «Могу вам, господа, сказать».
СКАЗКИ О КЛАДАХ
Впервые — Невский альманах на 1830 год. СПб., 1829. С. 1 — 154. Подпись: Порфирий Байский.
Печатается по изданию: С о м о в О. М. Были и небылицы. М., 1984.
С. 163—218.
С. 159. Нимврод (Немврод, Нимрод) — по библейской легенде, основатель Вавилонского царства и городов Вавилона, Эреха, Аккада и Калпе.
В Библии он охарактеризован как отважный охотник («ловец перед господом»).
Король Дагоберт — герой песенки («Chanson du roi Dagobert»),
высмеивающей беспутного короля, любителя собак и охоты; песенка была особенно популярна после падения Наполеона в 1814 году.
С. 161. Универсалы — в феодальной Польше документы, имевшие характер манифеста, а также мандаты для предъявления; издавались королем, гетманами, советами конфедерации и т. д.
Уставчатая рукопись — рукопись, написанная уставом, почерком, характерным для древнейших рукописей.
Сказка о Семи мудрецах и о Юноше — старинная переводная
повесть, известная на Руси с XVIII века; имела широкое хождение в рукописных списках.
683
С. 162. ...никакому археологу не было столько труда от чтения и пояснения древних рукописей геркуланских...— Раскопки древнего города в
Кампании (Италия), разрушенного и засыпанного пеплом во время извержения Везувия в 79 г. н. э., начались в 1738 году. Раскопки были затруднены из-за двеиадцатнметрового слоя пепла. Однако уже в 1752 году была
раскопана библиотека, содержащая греческие рукописные свитки. Раскопки с перерывами продолжались до 30-х годов XX века.
С. 164. Семилетняя война — война 1756—1763 годов между Австрией,
Францией. Россией, Испанией, Саксонией, Швецией, с одной стороны, и
Пруссией, Великобританией, Португалией — с другой.
С. 167. Крестовики — петровские рубли; крест на них образовали четыре буквы «П».
С. 170. Первая турецкая война (1735—1739) — война, которую вела
Россия против Турции за выход к Черному морю и чтобы прекратить набеги
крымских татар на приграничные земли.
С. 174. Иванов день — день (или ночь) Ивана Купалы, древний праздник летнего солнцестояния у восточных славян. Праздновался 24 июня.
С. 212. Сагайдачный Петр Кононович (? — 1622) — военный и политический деятель Украины, гетман реестрового казачества.
Александр Дмитриевич Улыбышев
(1794-1858)
Писатель и один из первых русских музыкальных критиков и историков музыки. Учился в Германии, затем, по возвращении в Петербург, служил в Министерстве финансов, а позднее — в Министерстве иностранных
дел (1816—1830). В молодости принимал деятельное участие в литературном кружке «Зеленая лампа», который был одной из «управ» декабристского
«Союза благоденствия». Выйдя в отставку в 1830 году, Улыбышев увлеченно занимается изучением истории музыки. Его написанная по-французски
книга о Моцарте (1843) обратила на себя внимание не только в России, но
и в Европе.
Утопическая повесть «Сон» написана, вероятно, в 1845 году на французском языке и при жизни автора не публиковалась; сохранилась в бумагах кружка «Зеленая лампа».
СОН
Впервые — Декабристы и их время. Л., 1928. T. 1 (перевод с франц.
В. Б. Враской-Янчевской).
Печатается по изданию: Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. М., 1951. Т. 1. С. 286—292.
С. 216. Михайловский замок — резиденция императора Павла I; в этом
замке он был убит заговорщиками в ночь с II на 12 марта 1801 года.
684
С. 217. ...теперешнего владельца этого дворца.— Имеется в виду великий князь Николай Павлович, будущий император Николай I.
...вместо монастыря, которым он заканчивается...— Речь идет
об Александро-Невской лавре.
Серпент — духовой мундштучный инструмент семейства кларнетов, распространенный в XVI—XIX веках.
Религиозный обряд, описываемый Улыбышевым, напоминает культ Верховного существа эпохи Французской революции. Обрядовая сторона этого
культа не нуждалась в священниках и сводилась к общественным собраниям и песнопениям.
...начали петь гимн созданию. Исполнение мне показалось
впервые достойным гения Гайдна.— Имеется в виду оратория Гайдна «Сотворение мира». Франц Позеф Гайдн ( 1732—1809) — австрийский композитор, один из основоположников венской классической школы.
Николай Алексеевич Полевой
(1796-1846)
Журналист, писатель, историк. Родился в Иркутске в купеческой семье.
С 1817 года сотрудничал в московских журналах; в 1825—1834 годах издавал журнал прогрессивного направления «Московский телеграф». Являлся приверженцем романтизма, отвергавшего «все классические условности и формы» и утверждавшего свободу творчества поэта. Романтизм
Полевой связывал с развитием идеи народности и национальной самобытности русской литературы. Романтическая трактовка темы столкновения
выдающейся личности с социальной средой отражена в повестях «Блаженство безумия», «Живописец» (1833) и др. Полевым написана «История
русского народа» (1829—1833, т. 1—G), в которой он попытался показать
значение народа в истории нации.
БЛАЖЕНСТВО БЕЗУМИЯ
Впервые — Московский телеграф. 1833. Т. 49. С. 52—96, 228—272; с подписью: «//. П.» и посвящением***. Позднее с незначительными изменениями перепечатана в сборнике «Мечты и жизнь» (М., 1833. Ч. 1. С. 5—153).
Печатается по изданию: П о л е в о й И. А. Избранные произведения и
письма. Л., 1986. С. 89—133.
С. 224. «Meister Floh» — повесть немецкого писателя Эрнста Теодора
Амадея Гофмана (1776—1822), написанная в 1822 году. В русском переводе впервые появилась в 1840 году. Кроме этого произведения, на Полевого
оказали влияние также «Песочный человек» Гофмана и «Пагубные последствия необузданного воображения» А. Погорельского.
С. 226. Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось вашим муд
685
рецам!— Из трагедии Шекспира «Гамлет» (действие первое, сцена пятая);
Полевой цитирует перевод М. Вронченко (Гамлет: Трагедия в пяти действиях. Соч. В. Шекспира.— СПб., 1828. С. 42).
С. 227. ...об осаде Антверпена.— Имеется в виду осада французскими
войсками антверпенской цитадели в конце 1832 года в ходе военных действий Англии и Франции против Нидерландов.
С. 228. Велланский Данило Михайлович (1774—1847) — профессор
Петербургской медико-хирургической академии, философ-идеалист, последователь немецкого философа Ф.-В. Шеллинга.
С. 229. Ораниенбаум — дачная местность под Петербургом (ныне Ломоносов).
С. 234. ...великан, которому мечами вырубили народы могилу в утесах
острова Св. Елены...— Речь идет о Наполеоне Бонапарте (1769—1821), который был сослан на остров Св. Елены в Южной Атлантике, где и
умер.
С. 235. ...смотря на небесную Мадонну, слушая «Requiem» и читая
«Résignation»? — Имеется в виду одна из картин Рафаэля Санти (1483—
1520), «Реквием» (1791) Вольфганга Амадея Моцарта (1756—1791) н стихотворение Иоганна Фридриха Шиллера (1759—1805) «Отречение» (1784).
Его пример будь нам наукой...— неточная цитата из «Евгения
Онегина» (гл. 1, строфа 1).
...не слишком высоко залетать на наших восковых крыльях.—
Имеется в виду древнегреческий миф об Икаре, поднявшемся в небо на сделанных ему отцом восковых крыльях. От лучей солнца они расплавились, и
Икар упал в море.
С. 236. Исследования магнетизма...— Речь идет о так называемом «животном магнетизме», вызывавшем огромный интерес в конце XVIII—начале
XIX века. Согласно теории венского врача и естествоиспытателя Франца
Антона Месмера (1734—1815), посредством улавливаемых так называемых звездных флюидов некоторые личности (магнетизеры) могут воздействовать на других людей. По сути дела, под магнетизмом понималось явление гипноза, случайно открытого, но не понятого Месмером. Научное истолкование гипноза было сделано значительно позже, начиная лишь с середины XIX века.
Феософия (теософия) — религиозно-мистическое учение о постижении божества через откровение и о возможности непосредственного
общения с потусторонним миром.
Кабалистика — средневековое религиозно-мистическое учение,
близкое к схоластике; получило распространение среди наиболее фанатичных представителей иудаизма, а также среди христиан и мусульман. Провозгласив мир продуктом эманации (истечения) божества, а Священное писание — собранием тайных божественных откровений, каба-
листы выдвинули особый метод символического толкования священных текстов, где каждому слову и числу придавалось особое мис-
686
тнческое значение. Кабалисты были сторонниками колдовства и магии.
Хиромантия — гадание по линиям и бугоркам на ладонях рук
и «предсказание» будущей участи человека, а также определение черт его
характера, склонностей и т. п.
Физиогномика — учение, выдвинутое швейцарским писателем
и философом Иоганном Каспаром Лафатером (1741 —1801) в трактате «Физиогномические фрагменты для поощрения познания человека и любви к
людям» (1775—1778), согласно которому между строением лица и черепа
человека и его духовным, нравственным обликом существует связь.
Эккартсгаузен Карл (1752—1803) — немецкий писатель, автор натурфилософских и мистических сочинений, пользовался популярностью в России в конце XVIII — начале XIX века.
Шведенборг (Сведенборг) Эмануэль (1688—1772) — шведский
физик, астроном; философ-мистик, создавший учение о «потусторонней»
жизни и поведении бесплотных духов; оказал влияние на романтиков.
Шубарт (Шуберт) Готфрид Генрих Готгильф (1780—1860) —
немецкий психолог и философ-мистик, автор книги «Символика сна» (1814),
оказавшей, в частности, воздействие на Гофмана.
Бем (Беме) Якоб (1575—1624) — немецкий философ-пантеист;
его мистические и натурфилософские идеи оказали большое влияние на
немецких романтиков.
С. 237. ...одна душа, созданная вместе с моею душою... — Здесь имеется
в виду миф о первобытном существовании людей одновременно в виде мужчин и женщин, известный по «Пиру» Платона (речь Аристофана); рассеченные на две половинки Зевсом, они вечно ищут друг друга для восстановления прежней полноты и могущества. Смысл этого мифа существенно
изменился в истолковании романтиков, которые понимали его как миф о соединении душ.
...Пифагор не ошибался...— Имеется в виду религиозно-мистическое учение о переселении душ — метемпсихозе, которое было разработано греческим философом и математиком Пифагором (VI до и. э.) и его
последователями.
Фантасмагория — здесь: демонстрация световых картин с помощью оптических приспособлений.
Китайские тени — театр, в котором на светлом экране движутся
силуэты персонажей.
Валкирии (валькирии) — в скандинавской мифологии женские
божества, девы-воительницы, носившиеся над полем битвы и направлявшие,
по указанию бога Одина, ход сражения, а затем отбиравшие храбрейших из
павших воинов, дабы отвести их в чертог Одина — Валгаллу; там павшие
воины проводили время в поединках и пирах, во время которых валькирии
им прислуживали.
С. 238. Дюрер Альбрехт (1471 —1528) —великий немецкий живописец, крупнейший представитель культуры Возрождения в Германии.
687
Текла — героиня драматической поэмы Шиллера «Валленштейн» (1796—1799).
Миньона — героиня романа Иоганна Вольфганга Гете (1749 —
1832) «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795—1796).
Бюргер Готфрид Август (1747—1794) — немецкий поэт; в историю литературы вошел как создатель немецкой баллады. Бюргера привлекал мир народных поверий и романтических легенд. В ряде его баллад выступают мертвецы, призраки, оборотни.
Клопшток Фридрих Готлиб (1724 — 1803) — немецкий писатель,
один из зачинателей национальной литературы Германии; стремился пробудить национальную гордость немцев, возбуждал интерес к национальной
истории. К традициям немецкой религиозной поэзии примыкает его поэма
«Мессиада» (т. 1—4, 1751 — 1773). В своих стихах он восторженно приветствовал Великую французскую революцию XVIII века.
...Звуки невидимой гармоники...— Речь идет о старинном музыкальном инструменте — стеклянной гармонике. Представлял собой ряд
стеклянных стаканчиков, наполненных водой, из которых извлекали звук,
проводя по их краям влажным пальцем.
С. 240. Каталани Анджелика (1780—1849) — знаменитая итальянская
певица, в начале 1820-х годов гастролировала в России.
Малибран Мария Фелисита (1808—1836) — французская певица.
Паста Джудита (1797 или 1798—1865 или 1867) — итальянская певица.
Опять ты здесь, мой благодатный гений...— Здесь дается перевод посвящения первой части «Фауста», сделанный В. А. Жуковским; впервые он
был опубликован в 1817 году под названием «Мечта. Подражание Гете» и
в том же году без указания источника перепечатан в качестве вступления
к балладе Жуковского «Двенадцать спящих дев».
С. 241. ...палящий яд... бьется тысячью аневризмов...— Аневризма
(греч.— расширение) — ограниченное расширение артерий, которое может привести к истончению стенок сосудов и вызвать смертельное кровотечение.
С. 242. Лаго Маджиоре — озеро у южного подножия Альп.
«Голос с того света» — стихотворение Жуковского (1815), представляющее собой вольный перевод стихотворения Шиллера «Текла. Голос
духа» (1802); у Шиллера умершая героиня «Валленштейна» обращается
к матери, a у Жуковского — к возлюбленному.
С. 243. Адельгейда декламировала песню Миньоны...— Цитированная
далее строфа перевода Жуковского («Мина», 1817) дается Полевым с изменениями.
S’amor è, ehe dunque e quel eh’io sento? — строка из 88-го сонета Франческо Петрарки (1303—1374).
С. 248. «Фрейшиц» («Фрейшютц») — опера немецкого композитора
668
Карла Марии Вебера (1786—1826) «Волшебный стрелок» («Freischütz»,
1821).
Помните ли вы слова Байрона...— Далее цитируется стихотворение Байрона «Сон» (1821).
С. 250. ...там был человек...— Имеется в виду Рафаэль и его картина
«Преображение».
Там родился Наполеон... оттуда... пошел он еще испытывать игру судеб...— Наполеон родился на острове Корсика, принадлежавшем ранее
Италии; после отречения от французского престола в 1814 году был сослан
на итальянский остров Эльба в Средиземном море; после побега оттуда
в 1815 году снова захватил власть на непродолжительное время («Сто
дней»).
...немного описаний его найдешь ты у Шекспира...— Вероятно,
имеются в виду «Зимняя сказка» (1611) и «Буря» (1612).
...еще у Мильтона...— Речь идет о Джоне Мильтоне (1608—
1674) н его поэме «Потерянный рай» (1667).
...еще у Тасса...— Речь идет о поэме «Освобожденный Иерусалим» (1580) итальянского поэта Торквато Тассо (1544—1595).
еще у Фирдуси...— Имеется в виду поэма «Шахнаме» персидско-таджикского поэта Абулькасима Фирдоуси (ок. 940—1020 или 1030).
С. 251. Неужели в самом деле это закрывали жрецы Изиды непроницаемым покровом...— Изида (Исида) — одна из наиболее почитавшихся
богинь Древнего Египта. Во многих мифах наделялась функциями великой
волшебницы. В позднем Египте почиталась как богиня плодородия п материнства. «Покрывало Исиды» — олицетворение тайны.
С. 252. Зефирот (сефирот) — одно из понятий кабалистики.
Соломонов храм.— Высшей заслугой древнееврейского царя
Соломона (965—928 до н. э.) считалось возведение храма на горе Сион.
Согласно легенде, на его колоннах была запечатлена древняя мудрость.
С. 254. ...нет презренной клеветы...— Далее следует неточная цитата
из «Евгения Онегина» (гл. 4, строфа XIX).
С. 255. ...дышала тяжело, тяжко, бурно, как говорит Пушкин...— Имеется в виду следующее место из «Евгения Онегина»: «Она темнеющих очей
не подымает; пышет бурно в ней страстный жар; ей душно, дурно...» (гл. 5,
строфа XXX).
С. 262. ...страшно зреть, как силится преодолеть смерть человека...—
Цитата из поэмы «Шильонский узник» в переводе Жуковского.
Тугендбунд (Союз добродетели) — тайное политическое общество в Пруссии в 1808—1810 годах; имело антннаполеоновский характер.
С. 263. Минутна скорбь — блаженство бесконечно! — Заключительная
строка трагедия Шиллера «Орлеанская дева» (1801) в переводе Жуковского (цитата неточная).
С. 265. Десть (перс, dästä — рука, горсть) — единица счета писчей бумаги; русская десть равна 24 листам; метрическая десть равна 50 листам.
23«Заказ 14
689
Александр Александрович
Бестужев - Марлинский
(1797—1837)
Прозаик, поэт, критик, переводчик. Родился в обедневшей дворянской
семье. Служил в гвардейском полку, стоявшем в местечке Марли вблизи
Петербурга (откуда псевдоним — Марлинский). В 1824 году был принят
К. Ф. Рылеевым в Северное общество декабристов. Вместе со своими братьями-декабристами Михаилом, Николаем и Петром вышел с войсками на
Сенатскую площадь 14 декабря 1825 года. Приговорен к 20 годам каторги, однако уже в 1829 году был выслан рядовым на Кавказ, где и погиб в
одной из схваток с горцами у мыса Адлер. Выступил в печати в 1819 году
как переводчик и критик. Издавал с Рылеевым альманах «Полярная звезда» (1823-1825).
В начале 20-х годов и затем на Кавказе писал преимущественно прозаические произведения. Герои его многочисленных романтических повестей —
люди сильных страстей, противостоявшие окружающей их среде.
СТРАШНОЕ ГАДАНЬЕ
Впервые — журнал «Московский телеграф». 1831. Ч. 38. № 5, 6. В конце текста подпись: Александр Марлинский, а также помета: 1830 г. Дагестан.
Печатается по изданию: Марлинский А. Второе полное собрание
сочинений. СПб., 1847. T. 1.4. 2.
С. 270. Петр Степанович Лутковский ( 1800—1882) — морской офицер, близкий к декабристам, друг Бестужева; с 1849 года — контрадмирал.
С. 271. Святки — по церковному календарю время от рождества до
крещения, с 25 декабря по 7 января по ст. стилю.
Дневка — остановка во время похода на целый день на одном
месте для отдыха.
Курная хата — дом, отапливаемый по-черному, без трубы.
С. 272. Обшивни — широкие сани, розвальни, обшитые лубом, или городские сани с высокой спинкой.
Валек—валик (деревянный или железный), палка для прикрепления постромок к экипажу.
С. 273. ...даст поминку...— намнет бока.
Зааминить или зачурать — от слов «аминь» и «чур», которые
произносили, чтобы отмежеваться от злых духов.
С. 274. Ономесь — недавно, на днях.
С. 276. Кика (кичка) — головной убор замужних женщин.
Кокошник — головной убор севернорусских крестьянок в виде
разукрашенного, расшитого полукруглого щитка надо лбом (главным об
690
разом праздничный); в старину составная часть национального женского
костюма, носимого и горожанками.
Подкосники — подвязные, поддельные косы на затылке.
Пестрядинные рубашки — то есть сшитые из пестряди, грубой
бумажной ткани из разноцветных ниток.
Подблюдные песни — обрядовые народные песни, исполняемые
на святках при гаданье.
С. 277. Подклет — нижний этаж крестьянской избы, деревянного дома, служащий для жилья или для хранения чего-либо.
С. 278. Заговенье — канун поста, последний день перед постом, когда
можно употреблять скоромную, то есть мясную и молочную пищу.
Пядь — старинная мера длины, равная расстоянию между концами растянутых большого и указательного пальцев.
Чеботарь — сапожник, человек, делающий чеботы.
С. 281. Светец — подставка для лучины, освещающей избу.
С. 287. Барская барыня — ключница, экономка из дворни.
Подрези — железные продольные прутья, которыми оковывали
санные полозья.
Казанки — казанские саночки, козырки.
Постой — расквартирование, стоянка воинских частей или отдельных военнослужащих в частных, гражданских домах.
С. 288. Отъезжее поле — удаленное от дома место для охоты, куда нужно выезжать с ночевкой.
Престольный праздник — праздник, связанный с каким-либо
церковным событием или святым, которому посвящена церковь.
С. 290. Котильон — кадриль, перемежающаяся другими бальными танцами; ею обычно заканчивался бал.
Вильгельм Карлович Кюхельбекер
(1797—1846)
Поэт, прозаик, критик и переводчик. Учился в Царскосельском лицее,
где подружился с Пушкиным и Дельвигом. После окончания лицея поступает на службу в Коллегию иностранных дел. В 1820 году в качестве секретаря А. Л. Нарышкина уезжает в заграничное путешествие, во время которого встречается с Гете, выступает с лекциями о русской литературе в
Париже.
Вместе с В. Ф. Одоевским издавал альманах «Мнемозина», сотрудничал в журнале «Сын отечества». Принял участие в декабристском восстании. Был сослан в Сибирь, умер в Тобольске.
«Европейские письма» написаны в 1819 году. В них изображается путешествие американца по Европе в 2519 году.
23* 691
ЕВРОПЕЙСКИЕ ПИСЬЛМ
Впервые — Невский зритель. 1820; то ж с: Соревнователь просвещения и благотворения. 1820.
Печатается в сокращении по изданию: Декабристы. Антология: в 2 т.
Л., 1975. Т. 2. С. 151 — 171.
С. 300. Дикие гверилассы...— Кюхельбекер имеет в виду местных жителей. Понятие <гверилассы» было очень популярно в первые десятилетня
XIX века: так назывались испанские партизаны, прославившиеся своей
борьбой с войсками Наполеона в 1808—1813 годах.
С. 301. Камоэнс Луис (1524 или 1525—1580) — португальский поэт,
автор лирических стихов, эпической поэмы «Лузиады» (1572).
Имена Кортеца, Пизарро...— Эрнан Кортес (1485—1547) —
испанский конкистадор. В 1519—1521 годах возглавил завоевательный поход в Мексику. Франсиско Писарро (1470 или 1475—1511) — испанский
конкистадор. Участвовал в завоевании Панамы и Перу, в разграблении и
уничтожении государства инков.
...имена Ласказаса, Ксименеса, Эмануила.— Лас-Касас (1474—
1566), испанский гуманист, историк, публицист. В 1502—1550 годах жил
в странах Центральной и Южной Америки. Кснменес (Хименес) Франциско (1436—1517) — испанский церковный и государственный деятель.
Жестоко преследовал еретиков. В то же время много сделал для совершенствования испанского войска, навел порядок в финансовой системе
государства, учредил университет в Алкане (1509). Эманунл (Эммануил)
Великий (1469—1521) —король Португалии; при нем был совершен ряд
крупных географических открытий.
Калдерон (Кальдерон) Педро (1600—1781) — испанский драматург.
Лопец (Лопе де Вега) (1562—1635) —испанский драматург,
крупный представитель культуры Возрождения.
Торквемада Томас (1420—1498) — глава испанской инквизиции
с 1483 года; известен жестокими расправами с еретиками.
С. 302. ...ужасного Филиппа и несчастного его сына... — Филипп II
(1527—1598) — король Испании; ненавидя своего сына и наследника дона
Карлоса, заточил его в одной из комнат дворца, где тот вскоре умер.
Ксименес (Ксимен Огустен Мари маркиз де) (1726—1817) —
французский писатель из рода Хименесов, друг Вольтера, который часто
цитировал его стихотворения в своих сочинениях.
Альба Альварес де Толедо Фернандо ( 1507—1582) — герцог,
испанский полководец. Будучи правителем Нидерландов, жестоко расправлялся с борцами за освобождение Голландии от власти испанской короны,
пытался подавить Нидерландскую буржуазную революцию.
Дон Жуан Австрийский (1547—1578) — побочный сын императора Карла V, известный полководец.
692
Мюрат Иоахим (1767—1815) — французский полководец; командовал французскими войсками во время их вторжения в Испанию в 1808
году.
Дории... Фиаско...—влиятельные генуэзские семьи в XII—XIV
веках, враждовавшие друг с другом.
С. 303. Лев X (1475—1521) — римский папа; покровительствовал искусствам.
Август (63 до н. э.—14 н. э.) — триумвир, с 27 до н. э.
римский император; эпоха Августа считается «золотым веком» в истории
античного искусства.
...Медици сов...— Имеется в виду семья Медичи, фактически
правившая Флоренцией с 1434 года в течение почти всего XV века;
Медичи были известны как покровители науки и искусства.
Ариосто Лудовико (1474—1533) — итальянский поэт, автор поэмы «Неистовый Роланд» (1532).
С. 304. Квириты — так назывались в старину римские граждане.
Канова Антонио (1757—1822) — знаменитый итальянский скульптор.
Метастазио Пьетро (1698—1782) — итальянский поэт и драматург-либреттист.
Альфреско — вид настенной живописи.
Рафаэль Санти (1483—1520) — великий итальянский живописец
и архитектор.
Михель-Анжело (Микеланджело) Буонарроти (1475—1564) —
великий итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт.
С. 305. Тацит Публий Корнелий (ок. 58 — ок. 117) —римский историк.
Тиберий Клавдий Нерон (42 до н. э.— 37 н. э.) и Нерон
Клавдий Цезарь (37—68 и. э.) — римские императоры, известные своей
жестокостью.
Евгений Абрамович Баратынский
(1800—1844)
Поэт, представитель пушкинской плеяды. Родился в дворянской семье.
Учился в Петербурге в Пажеском корпусе, из которого был исключен
в 1816 году. В 1819 году поступил рядовым в один из гвардейских
полков. Вскоре А. Дельвиг знакомит его с Пушкиным, Кюхельбекером,
Плетневым. Выступил в печати в 1819 году. В 1825 году был произведен в офицеры и вышел в отставку. Насыщенная мыслью поэзия Баратынского получила высокую оценку Пушкина и Белинского.
ПЕРСТЕНЬ
Впервые — журнал «Европеец», 1832, ч. 1,№ 2. Печатается по изданию:
Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Письма. М., 1951.
693
С. 315. Кабалистические книги — книги, применявшиеся приверженцами кабалистики для религиозно-мистических ритуалов (см. примеч. к с. 236).
С. 319. Эккартсгаузен — см. примеч. к с. 236.
Александр Фомич Вельтман
(1800-1870)
Прозаик и поэт. Учился в Благородном пансионе при Московском
университете. В 1817 году в качестве топографа отправился в Бессарабию,
здесь сблизился с А. С. Пушкиным и В. Ф. Раевским. Занимался вопросами
археологии и древнерусской истории. С 1842 года стал помощником директора Оружейной палаты, а впоследствии — директором. Многочисленные
романы («Странник», «Кашей бессмертный: Былина старого времени»,
«Святославич, вражий питомец» и др.) посвящены далекому прошлому
России, современности («Приключения, почерпнутые из моря житейского»,
«Сердце и думка» и др.), в ряде произведений историческое повествование переплетается с фантастикой.
НЕ ДОМ, А ИГРУШЕЧКА!
Повесть была окончена к 1850 году. Отпечатан очень небольшой
тираж с обозначением на тит. листе: издал А. Вельтман. Печатается
по изданию: Вельтман Александр. Повести и рассказы. М., 1979.
С. 322. Сорочины — поминки на сороковой день после смерти.
«Чурова долина, или Сон наяву» (1841) — опера Алексея Николаевича Верстовского (1799—1862).
С. 323. Павел Воинович — Нащокин (1801 —1854), близкий друг
А. С. Пушкина, отставной поручик; приезжая в 1830-е годы в Москву,
Пушкин останавливался в доме Нащокина.
С. 343. Присутствовавший тут же поэт...— Имеется в виду А. С. Пушкин; далее приводится его стихотворение «Веселый пир» (1819), опубликованное впервые в альманахе «Мнемозина» (1824).
С. 349. Опекунский совет — в дореволюционной России учреждение,
ведавшее управлением воспитательных (сиротских) домов и имевшее право
заниматься кредитными операциями.
С. 350. Синель — бархатный шнур, нить.
Буфмуслин — легкая тонкая и мягкая ткань, бумажная, шелковая или шерстяная, которая производилась в городе Мосуле (Малая
Азия).
С. 351. Амосовская печь — отопительное устройство, по которому тепло
передается нагретым воздухом; названо по имени изобретателя офицера-
артиллериста Н. А. Аммосова (1787—1868).
694
Осип (Юлиан) Иванович Сенковский
(1800-1858)
Писатель, журналист, востоковед; член-корреспондент Академии наук
(с 1828 г.). Родился в старинной польской шляхетской семье. После
окончания Виленского университета (1819) совершил большое путешествие по Ближнему Востоку и Африке.
С 1822 по 1847 год был профессором Петербургского университета
по кафедре персидского, арабского, турецкого языков; владел также
китайским, монгольским, тибетским и многими европейскими языками.
В первой половине 1820-х годов сотрудничал в альманахе «Полярная
звезда».
В 1834—1847 годах был редактором и издателем журнала «Библиотека
для чтения», в котором печатал художественные произведения и статьи,
беллетристические произведения публиковал преимущественно под псевдонимом Барон Брамбеус.
Создал жанр научно-философской повести, проявлял значительный
интерес к естествознанию, который заметен в его фантастических произведениях.
БОЛЬШОЙ ВЫХОД У САТАНЫ
Впервые — Новоселье. СПб., 1833. С. 129—186. Псевдоним: Барон Брамбеус.
Печатается по изданию: Сенковский О. И. Собр. соч. СПб.,
1858. T. I. С. 383-428.
Идея повести навеяна произведением О. Бальзака «Lacomédie du diable».
Сенковский взял у французского писателя готовую форму, чтоб вложить в
нее свое содержание. У Бальзака Сатана хочет устроить французский
театр; по сути дела — это сатира на французские учреждения. У Сенков-
ского Сатана принимает доклады, и повесть представляет собой сатиру на
нравы и события 1830 года.
С. 358. ...ко «Отечественным запискам» ни в чем — даже в рассуждении ада — верить невозможно...— Имеется в виду ежемесячный журнал
«Отечественные записки», который издавался в Петербурге в 1818—1830 годах; в нем печатались материалы по вопросам русской промышленности,
этнографии, истории. Отдел беллетристики знакомил преимущественно с
талантами из народа. Его издателем был русский писатель, художник,
географ и историк Павел Петрович Свнньин (1787—1839). В литературных кругах Свиньин слыл человеком, не заслуживающим доверия.
Бузенбаум Герман (1600—1668) — иезуит, богослов, автор иезуитского кодекса.
С. 359. Лукулл Луций Луциний (106—56 до н. э.) — римский политический деятель и полководец; славился своим богатством (приобретенным
695
главным образом ограблением завоеванных областей), роскошью и грандиозными пирами (отсюда выражение «Лукуллов пир»),
...исправляет при дворце его должность обер-гофмейстерс-
кую...— Чин обер-гофмсйстера был придворным, приравнивался к чину действительного тайного советника (генерал-аншефа).
...два большие портерные котла...— Портер — сорт черного пива;
здесь «портерный» в значении «пивной», то есть большой котел, в котором
варят пиво.
С. 360. Иппократ (Гиппократ, 460—356 до и. э.) — выдающийся
врач Древней Греции, один из основоположников античной медицины,
оказавший большое влияние на развитие медицины в последующие
века.
Гелертер — человек большой учености, но преимущественно
книжной, схоластической, лишенной творческого начала.
С. 361. Харон — в древнегреческой мифологии — перевозчик в подземном мире, который на своем челне переправляет души умерших в царство
мертвых.
Лета (греч.— забвенье) — в греческой мифологии река забвения
в подземном мире. Согласно мифу, из нее пили души умерших, чтобы
забыть прошлое. Отсюда выражение «кануть в Лету», то есть быть забытым,
бесследно исчезнуть.
ец оман ....торич... сочин... н... 830» — По всей вероятности, здесь зашифровано название книги «Дмитрий Самозванец, роман
исторический, сочинение Ф. Булгарина, 1830».
Аристотель (384—322 до н. э.) — древнегреческий философ;
его сочинения охватывают все области знания того времени: логику, психологию, естествознание, историю, политику, этику, эстетику. Философия
Аристотеля не была еще отделена от других отраслей знания и представляла собой единую пауку, стремившуюся обобщить все достижения
древнегреческой мысли.
Плутон — в древнегреческой мифологии бог подземного мира,
властитель душ умерших.
Вельзевул — божество древних финикиян; в христианстве —
один из дьяволов, Сатана.
С. 362. Он взял Гернани, Исповедь, Петра Выжигина, Рославлева,
Шемякин Суд...— Имеются в виду драма В. Гюго «Эрнани» (1830), произведение Ж.-Ж. Руссо «Исповедь» (1766—1769), роман Ф. В. Булгарина
«Петр Иванович Выжигин» (1831), исторический роман М. Н. Загоскина
«Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831) и лубочная книга
XVII—XIX веков «Шемякин суд».
Саламанка — один из древнейших городов Испании.
...уверив казенную юнту...— Юнта (исп. junta, хунта) — название каких-либо объединений, комитетов в Испании.
С. 363. Фронтон — верхняя, треугольная или полуциркульная часть
696
фасада здания, ограниченная двухскатной крышей сверху и архитравом
снизу, а также подобное украшение над дверями или окнами.
Архитрава (архитрав) — от греч. приставки achi (главный)
и латинск. trabs (брус) — нижняя часть антаблемента (верхней части
здания), ограничивающая фронтон.
Кариатида — статуя (преимущественно женщины), поддерживающая подъезд, балкон или карниз крыши.
С. 364. «Умозрительная физика В ***» — Имеется в виду сочинение
философа-шеллингианца Данилы Михайловича Велланского (1774—1847)
«Опытная, наблюдательная и умозрительная физика» (СПб., 1831), которое
неоднократно высмеивалось Сенковским.
«Курс умозрительной философии» Шеллинга — Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775—1854) — немецкий философ, один из представителей немецкого классического идеализма. Задуманная им в юности программа преобразования учений о природе на основе диалектической концепции о взаимодействии и противоположностях опиралась на успехи
современных ему физики, химии, биологии, что привлекло к нему внимание читающей публики нс только в Германии, но и в других странах, в
частности в России. Однако впоследствии Шеллинг скатился к мистике,
создав так называемую философию откровения. Его идеи оказали немалое
влияние на литературу русского романтизма.
...шепнул ***ову, известному любителю Канта, Окена, Шеллинга,
магнетизму и пеннику...— ***ов — Имеется в виду русский ученый в области
физики, минералогии и сельского хозяйства Михаил Григорьевич Павлов
(1793—1840). Павлов сыграл заметную роль в оживлении интереса к философии в 30—40-х годах XIX века. Стремление Павлова к философскому
обобщению естественнонаучных знаний, которое он проводил в лекциях по
физике и другим предметам, сыграло прогрессивную роль в формировании мировоззрения молодежи. Однако, находясь под влиянием идеалистической натурфилософии Шеллинга, он зачастую сам приходил к фантастическим, антинаучным выводам. Кант Иммануил (1724—1804) — немецкий
философ; положил начало немецкому классическому идеализму. Окен Ле-
ренц (1779—1851) — немецкий естествоиспытатель и натурфилософ, последователь Шеллинга. Оказал влияние на русскую философию начала XIX века (Велланского, М. Павлова, любомудров). Пенник — хлебная водка.
...как ***ои о древней российской истории.— Имеется в виду
Н. А. Полевой (см. с. 685).
С. 365. ...Я читал, помнится, в сочинениях белландистов...— Бсллан-
дистами назывались монахи, преимущественно иезуитского ордена, занимавшиеся разработкой «Act Sanctorum» (1643—1749), собрание которых
было начато бельгийскими иезуитами Г. Росвейдом и И. Болландом. Это
издание представляет собой жития святых католической церкви в календарном порядке; в XIX веке эта работа возобновилась и продолжается
по сей день, издано более 70 томов.
697
Петр Пустынник — монах и проповедник Петр Амьенский
(1050—1115), организатор первого крестового похода.
...прикинуться несколько раз кряду Димитрием...— Имеется в
виду Димитрий Самозванец.
С. 366. ...в стычке, последовавшей близ Кракова...— Имеются в виду
эпизоды революции 1830 года в Польше.
...года два тому назад я произвел прекрасную суматоху в
Париже.— Имеется в виду Июльская революция 1830 года во Франции.
С. 369. ...речей, произнесенных в Гамбахе...— Имеется в виду Гамбах-
ское собрание (или Гамбахское празднество), одна из первых политических демонстраций германской либеральной буржуазии в XIX веке под
лозунгом объединения Германии. Оно состоялось 27 мая 1832 года близ
замка Гамбах в Баварии и привлекло около 30 тысяч участников из
всех областей Германии. На Гамбахском собрании выдвигались требования создания республиканского конституционного строя и объединения
Германии. Репрессии реакционного германского Союзного сейма против организаторов собрания заставили их покинуть Германию.
...какой-то капуцин гнался за мною...— Монах католического
нищенствующего ордена капуцинов, основанного в XVI веке в Италии;
орден существует по сей день. Свое название орден получил от остроконечного капюшона, пришивающегося к рясе.
...билль о реформе...— Имеется в виду принятый в 1832 году
в Англии законопроект, изменивший избирательную систему в пользу
средних классов.
С. 371. Вергилий Публий Марон (70—19 до и. э.) — римский поэт,
автор многочисленных лирических стихотворений и эпической поэмы «Энеида», сказания о странствиях и войнах троянца Энея. Произведениям
Вергилия свойствен сжатый, точный стиль и плавный, певучий стих.
...после изобретения Фрауэнгоферова телескопа...— Фрауэнго-
фер Йозеф (1787—1826) — знаменитый немецкий оптик, внесший ряд усовершенствований в приготовление оптических стекол и особенно ахроматических больших объективов, используемых в телескопах.
Лафайет Мари Жозеф (1757—1834) — маркиз, французский
политический деятель; в период Июльской революции 1830 года командовал Национальной гвардией, содействовал вступлению на престол Луи-
Филиппа.
Наполеон // (Жозеф Франсуа Шарль Бонапарт, 1811 — 1832) —
сын Наполеона I, который провозгласил его французским императором
при своем отречении от престола; никогда не правил.
С. 379. ...причесанных a la Titus — причесанных подобно римскому
императору Титу Флавию Веспасиану (41—81).
С. 380. Олимп — горный массив на севере Греции; согласно греческой
мифологии, Олимп — местопребывание эллинских богов.
698
Юпитер—у древнеиталнйских народов и у римлян бог неба,
света и дождя, громовержец, позднее — верховное божество Римского
государства.
Венера — древнеиталийское божество весны, покровительница
садов и огородов. Под влиянием греков была отождествлена с Афродитой и стала почитаться римлянами как богиня любви и красоты, как
прародительница римского народа.
Аполлон — в древнегреческой религии один из наиболее почитаемых богов, почитался как бог света, покровитель музыки, пения, поэзии,
олицетворение искусства.
Нимфы — в античной мифологии второстепенные богини; олицетворяли силы природы; обладали долголетием, но не бессмертием. Различались нимфы воды (наяды), гор (ореады), лесов (дриады), лугов, пещер
и др.
Вампир — по суеверному представлению многих европейских
народов, мертвец, выходящий из могилы, чтобы вредить живым людям,
сосать их кровь.
С. 381. ...наседьмом Антонио или прелюбодеяние...— «Антони» (1831 ) —
пьеса А. Дюма-отца.
Жанен Жюль Габриель (1804—1874) — французский писатель,
критик, журналист, автор ряда романов (в их числе «Барнав», 1831),
написанных в духе так называемого неистового романтизма: под видом бунта против уродств буржуазной действительности Жанен смаковал в своих произведениях ужасы жизни притонов, городских трущоб
и т. д.
Магомет II Буюк (Великий) (1430—1481) — турецкий султан,
в 1453 году завоевал Константинополь.
ЗАПИСКИ ДОМОВОГО
Впервые — Библиотека для чтения. 1835. Т. 13. С. 71 — 120; подпись:
Барон Брамбеус.
Печатается по изданию: Сенковский О. И. Собр. соч. СПб., 1858.
Т. 3. С. 208—268.
С. 385. ...аллопатически и гомеопатически...— Термины «аллопатия»
и «гомеопатия» были введены основоположником гомеопатической системы
лечения С. Ганеманом (1755—1843), при этом под аллопатией (лечение
противоположного противоположным) понимались методы обычной медицины, а под гомеопатией (лечение подобного подобным) такие методы,
когда при лечении применяют минимальные дозы тех веществ, которые
в больших дозах вызывают в организме здорового человека снмптомы,
подобные симптомам данной болезни.
С. 386. ...как розовый спирт в фаренгейтовых трубках...— Имеются
в виду термометры, созданные голландским физиком Г. Д. Фаренгейтом
699
(1686 — 1736). В отличие от ртутных термометров Цельсия, в них применялся подкрашенный спирт.
С. 391. Гран (опиума)—единица аптекарского веса, равная 0,062
грамма.
Силери (Силлери) — марка шампанского из окрестностей Рейна.
С. 395. Яков // (Иаков II) —герцог Йоркский (1633—1701), король
Великобритании в 1685—1688 годах; стремился создать абсолютную монархию и ввести католицизм в качестве государственной религии.
С. 396. Уснуть или умереть — это все равно. Шекспирово perchance тут
ничего не поможет,— Имеется в виду рассуждение Гамлета из одноименной трагедии В. Шекспира: «Умереть, уснуть — и только...»
...выдумал эту историю для магнетистов...— см. примеч. к с. 236.
С. 397. ...как Мольеров дворянин из мещан...— Имеется в виду Журден,
персонаж комедии Ж. Б. Мольера «Мещанин во дворянстве» (1670).
С. 404. Аллисон Джозеф (1672—1719) — английский писатель и журналист.
С. 405. ...заставить Монблан... влюбиться в Этну...— Монблан — вершина в Западных Альпах (4807 м), самая высокая в Западной Европе. Этна —
самый высокий в Европе действующий вулкан (3263 м), находится на
острове Сицилия в Италии. Сенковский посвятил ему одно из своих
«фантастических путешествий» — «Путешествие на Этну».
С. 406. Бостон — популярная в конце XVIII — начале XIX века карточная игра; игралась обычно вчетвером полной колодой.
...сдавать десять в сюрах...— Сюры (фр.) — старшая масть в
карточной игре; козыри.
С. 408 Вист — термин в карточной игре (преферанс, бостон и др.),
означает решение игрока принять активное участие в игре против партнера, объявившего игру.
С. 415. ...называл «эфесскою матроною...» — Матрона у римлян —
почтенная, пожилая женщина, мать семейства.
Кислотвор — то же, что кислород.
ПРЕВРАЩЕНИЕ ГОЛОВ В КНИГИ
И КНИГ В ГОЛОВЫ
Впервые—Сто русских литераторов. СПб., 1839. Т. 1. С. 1—47; псевдоним: Барон Брамбеус.
Печатается по изданию: Сенковский О. И. Собр. соч. СПб.,
1858. Т. 3. С. 269—316.
С. 420. Пусть люди бы житья друг другу не давали...— Эпиграф
представляет собой цитату из басни русского поэта И. И. Хемницера
(1745—1784) «Домовой» (1782), представляющей собой вольный перевод
басни немецкого писателя Христиана Фюрхтеготта Геллерта (1715—1769).
С. 422. ...тот самый дом, в котором находятся магазин и библиотека
700
Смирдина.Смирднн Александр Филиппович (1795—1857) —издатель,
книгопродавец и библиограф; Сенковский был его ближайшим сотрудником. Книжный магазин и библиотека Смирдина размещались в трсх-
этажном флигеле лютеранской церкви Святого Петра (в настоящее время
дом № 22 по Невскому проспекту); в описываемое время они были литературным салоном, местом встречи русских писателей.
Рыдван (польск. rydwan) — в прошлые века в России большая
карета для дальних поездок, в которую впрягалось несколько лошадей;
позже так стали иронически называть любой старомодный, громоздкий
экипаж.
Линейка — длинный многоместный открытый экипаж с продольной перегородкой, в котором пассажиры садятся по обе стороны перегородки, боком к направлению движения.
С. 424. Синьор Маладетти Морто, первый волшебник и механик...
короля кипрского и иерусалимского...— Маладетти Морто— по-итальянски
означает «проклятый мертвец». Королевства Кипрское и Иерусалимское
были основаны в средние века рыцарями-крестоносцами и к описываемому
времени давно не существовали.
Кенкеты — масляные лампы.
С. 427. Котурн — башмак на высоких подставках; котурны носили
актеры античных театров для увеличения своего роста при исполнении
трагических ролей; выражение «становиться на котурны» употребляется
в переносном смысле как ироническое обозначение ложной напыщенности.
Месмер Франц Антон — см. примеч. к с. 236.
Калиостро Алессандро (паст, имя Джузеппе Бальзамо, 1743—
1795) — знаменитый авантюрист, выдававший себя за графа, медика, мага,
алхимика, врачевателя душ и предсказателя судеб; продавал жизненную
эссенцию и воду, якобы придававшую красоту; наибольшую популярность
приобрел при французском дворе. Некоторое время жил в России под
именем графа Феникса и пользовался покровительством Потемкина. Позже,
как масон, был осужден в Риме на пожизненное заключение и умер
в тюрьме.
Пинетти — итальянский фокусник, демонстрировавший в Петербурге свои физические опыты.
С. 429. ...любой народ может сделаться необыкновенно богатым по
теории, умирая с голоду в практике.— Здесь Сенковский иронизирует
по поводу английской школы политической экономии, в частности он имеет
в виду классическую работу Адама Смита «Исследование о природе н
причинах богатства народов» (1776) и положение широких масс в Англии
и се колониях.
Голконда — государство в Индии в XVI—XVII веках, славилось добычей алмазов.
С. 431. Гарун-аль-Рашид (Харун-ар-Рашид, 763—809) — багдадский
халиф в 786—809 годах; в его царствование в халифате получили раз
701
витие ремесла к культура; Харун-ар-Рашид стал одним из героев сказок
«Тысячи и одной ночи», однако историческое лицо и сказочный образ
значительно отличаются.
С. 432. Вольтов столб — батарея постоянного тока, изобретенная в
1800 году итальянским физиком А. Вольта (1745—1827).
С. 435. Акупунктура — иглоукалывание.
Бентам Иеремия (1748—1832) —английский правовед и моралист, апологет этики утилитаризма. Действия людей, согласно Бентаму, должны оцениваться в соответствии с приносимой ими пользой, при
этом в определении пользы Бентам исходил из частного интереса человека.
С. 437. Четверик — русская мера объема сыпучих веществ, применявшаяся до введения метрической системы; четверик равен 26,239 литра.
...Сей, сия, сие...— Сенковский в своих произведениях и в редакторской практике стремился приблизить книжный язык к живой разговорной речи. В употреблении слов «сей», «сея», «оный», «кои», «поелику»
и т. д. он справедливо видел остаток влияния церковнославянского языка
и старался их заменять на «этот», «эта», «тот», «который», «потому что»
и т. д.
С. 440. Вальтер Скотт (1771—1832)—английский писатель, автор
многочисленных исторических романов, которые породили множество
подражаний в России (М. И. Загоскин, Н. А. Полевой, О. М. Сомов
и др.).
С. 441. Тенериф (Тенерифе) —самый большой из Канарских островов
в Атлантике.
С. 443. Великий Алберт — см. примеч. к с. 94.
С. 445. Искусство брать взятки, нравоучительная повесть — книга
Э. П. Перцова (1830).
С. 447. «Черная женщина» (1834) —роман русского писателя Николая Ивановича Греча (1787—1867), сочинениям которого Сенковский посвятил обширную статью «Черная женщина и животный магнетизм» в
своем журнале «Библиотека для чтения».
Владимир Федорович Одоевский
(1803—1869)
Писатель, журналист, музыковед. Отец писателя, князь Ф. С. Одоевский,
принадлежал к одной из родовитейших дворянских семей, вел происхождение от Рюрика; мать, Е. Л. Филиппова, до замужества была крепостной.
Образование получил в Благородном пансионе при Московском университете. Был участником и некоторое время председателем Общества любомудров, которые занимались изучением философии. В 1824—1825 годах
совместно с В. К. Кюхельбекером издавал альманах «Мнемозина»; сотруд-
702
ничал в журналах «Современник», «Московский наблюдатель», «Отечественные записки», «Вестник Европы» и др. В 1826 году переселился в
Петербург и поступил на службу в цензурный комитет, в 1846 году
был назначен помощником директора Публичной библиотеки и директором
Румянцевского музея, в 1862 году в связи с переводом музея переехал
в Москву.
Одоевский — один из основоположников русского классического музыкознания. Вместе с тем большую известность ему принесли романы, повести
и рассказы, многие из которых отличались фантастическим сюжетом. Его
цикл повестей и рассказов «Русские ночи» (1844) оказал влияние на развитие не только русской, но и европейской фантастики. О творчестве
Одоевского сочувственно отзывались А. С. Пушкин и В. Г. Белинский.
СКАЗКА О МЕРТВОМ ТЕЛЕ,
НЕИЗВЕСТНО КОМУ ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ
Впервые — Пестрые сказки. СПб., 1833.
Печатается по изданию: Одоевский В. Ф. Соч.: В 2 т. М., 1981.
Т. 2.
С. 450. Эпиграф — из повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».
Реженск — вымышленный уездный город, символ глухой русской
провинции.
Заклеть — помещение сзади жилых комнат, за квартирой.
С. 451. Сивиллина книга (Сивиллины книги) —три книги изречений
и предсказаний греческих оракулов, приобретенные, согласно преданию,
римским царем Тарквинием Гордым (533—509 до н. э.) у Кумской сивиллы. При решении важных и спорных вопросов римляне часто обращались к сивиллиным книгам, хранившимся в храме Юпитера, и жрецы
этого храма путем толкования темных и неопределенных фраз делали
прорицания и наталкивали на те или иные решения. Сивиллины книги
сгорели во время пожара около 400 г. н. э.
С. 452. Камчатное одеяло — одеяло из льняной ткани.
Книжник — бумажник, сумка для бумажных денег.
С. 453. Гу бернский регистратор — в Табели о рангах нет такого чина.
Низшими чинами являлись коллежский регистратор, сенатский регистратор,
синодский регистратор, кабинетский регистратор.
Бова Королевич — богатырь, герой старинной русской повести,
популярной в народе; к этой повести проявляли интерес многие русские
писатели.
Ванька Каин (Иван Осипович Каин) —знаменитый в XVIII веке
вор и полицейский сыщик, наводивший ужас на жителей Москвы. Литературная обработка его похождений, сделанная автором многих лубочных
романов Матвеем Комаровым, стала одной из самых популярных книг у
простого народа.
703
С. 453. ...о путешествии купца Коробейникова в Иерусалим...— Имеется в виду пользовавшаяся большой популярностью книга «Путешествие
московских купцов Трифона Коробейникова с товарищи в Иерусалим,
Египет и к Синайской горе», которая неоднократно издавалась в конце XVIII — начале XIX века; авторство книги приписывалось самому
Коробейникову. Коробейников и его спутники совершили это путешествие
в 1583 году по повелению Ивана Грозного.
...взяли город Трою, а Царьград уступили туркам...— Речь идет
о событиях, отдаленных во времени: Троянской войне, воспетой Гомером в
«Илиаде» (XII в. до н. э.) (Троя была захвачена и разрушена греками),
и падении Константинополя (Царьграда) в 1453 году во время войны
Восточной Римской империи с Османской империей.
...процессия погребения кота...— Имеется в виду известная народная лубочная картина, считавшаяся сатирой на Петра Первого.
...палаты царя Фараона...— развалины дворца в Каире, описанные Коробейниковым.
...птица Строфокамил — страус.
С. 458. Бистурий — хирургический нож.
СИЛЬФИДА
(Из записок благоразумного человека)
Впервые — Современник. 1837. Т. 5. Помета: «Ревель. 1836».
Печатается по изданию: Одоевский В. Ф. Повести. М., 1977.
Сильфида — дух стихии воздуха, согласно учению немецкого врача,
алхимика, ученого и мистика Парацельса (Филиппа Ауреола Теофраста
Бомбаста фон Гогеигейма, 1493—1541), изложенному в трактате «О нимфах, сильфах, гномах и саламандрах».
Повесть посвяшеиа Анастасии Сергеевне Пашковой.
Первый эпиграф взят из сочинения древнегреческого философа Платона (428—347 до и. э.) «Государство», книга 10.
С. 460. ...тревожит турецкий султан по старой памяти...— Русско-
турецкие войны являлись одним из важнейших внешнеполитических событий русской истории XVIII века; в 1829 году имевшие двухвековую историю
военные столкновения России и Турции закончились выгодным для России
миром.
Карл X (1757—1855) —король Франции, свергнутый в результате Июльской революции 1830 года.
Дон Карлос (1788—1855)—брат испанского короля Фердинанда VII, претендовавший на престол и начавший гражданскую («кар-
листскую») войну 1833—1840 годов.
С. 461. Иван Федорович Шпонька — главный персонаж повести
Н. В. Гоголя «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» (1832).
С. 464. «Граф де Габалис, или Разговоры о тайных науках» — книга
704
о стихийных духах и их отношениях с людьми, написанная и анонимно
изданная в Париже в 1670 году французским аббатом Никола Вилларом
де Монфоконом (1635—1673); книга не раз впоследствии переиздавалась,
пользовалась большим успехом у читателей и повлияла на многих западноевропейских писателей, в особенности на немецкого романтика
Э. Т. А. Гофмана (см. его повести «Золотой горшок», «Королевская
невеста», «Выбор невесты» и др.).
Вилланова Арнольд (1235—1312) —испанский алхимик и теософ.
Яуллий Раймонд (1235—1315) —испанский философ, теолог,
поэт, ученый, создатель первой логической машины; под именем Раймонда Луллия в средние века распространялись многие алхимические
сочинения. Одоевский, проявлявший большой интерес к химии, высоко
оценивал достижения алхимиков и их метод, при котором явление изучалось всесторонне, хотя и исходя из ненаучных установок. «Ложная
теория,— считал он,— навела алхимиков на гораздо большее число
важнейших открытий, нежели все осторожные и благоразумные
изыскания нынешних химиков» (Русский архив. 1874. Кн. I. Стб. 335—
336).
С. 465. Ундина — дух стихии воды, героиня одноименной повести немецкого романтика Фридриха де ля Мотт Фуке (1777—1843), пересказанной в стихах В. А. Жуковским.
...ее дядюшкою...— Имеется в виду персонаж «Ундины» водяной Струй. В 30-е годы Одоевский начал работать над «таинственной»
повестью «Ундина», где появляются персонажи Фуке.
С. 467. Спермацет — китовый жир, употреблявшийся при изготовлении свечей.
С. 471. Поташной завод — предприятие по производству химических
препаратов, необходимых в качестве удобрений, а также для изготовления
мыла, стекла.
С. 473. ...ты ли это, гордый Рим...— Мысли Одоевского о Древнем
Риме и современной ему Италии перекликаются с суждениями Баратынского, Гоголя. С. П. Шевырева, Аполлона Григорьева.
В черновиках Одоевского сохранились следующие слова Сильфиды,
важные для понимания этого фрагмента: «Зачем ты вызвал меня, когда
не хочешь расстаться с земляным твоим братом — ты записываешь мои
чувства, мои мысли,— зачем это; ты не можешь себе вообразить, какое
страдание для мысли эта темница ваших слов, звуков, красок,— вы думаете,
что производите; вы только заключаете живое воздушное существо в мертвенную оболочку,— оно терзается, оно рыдает в ваших звуках, в ваших
картинах, а вы радуетесь и хвалите искусство тюремщика. Вы, злые люди,
хотели бы перенести свои земляные страдания в наше светлое жилище,
вы хотели бы создать нас по своему подобию, иные даже жалеют об
нас, зачем у нас нет страданий».
705
Мусикийское орудие — музыкальный инструмент.
С. 477. ...рядную написал...— составил роспись приданого невесты.
КОСМОРАМА
Впервые — Отечественные записки. СПб., 1840. Т. 8. Раздел III. Словесность. С. 34—81. Помета: Ораниенбаум. 1839 г.
Печатается по этому изданию.
Повесть посвящена графине Евдокии Петровне Ростопчиной (1811 —
1858), известной русской писательнице.
С. 484. Сплин (англ.) —тоска, уныние, хандра.
...с самым байроническим расположением духа...— Словом «байронизм» в первой половине XIX века в России стали характеризовать
разочарованность, романтическое презрение к обществу — именно в этом видели главные черты поэзии Дж. Г. Байрона (1788—1824).
С. 487. ...пошлый вид...— Здесь: обыкновенный, заурядный вид.
С. 489. Небольшой переулок на Трубе...— Труба — Трубная площадь
в Москве; название произошло от подземной трубы, в которую была
упрятана протекавшая некогда здесь речка Неглинка.
С. 492. «Россияда сенатора Хераскова» — Михаил Матвеевич Херасков
(1733—1807), русский писатель; его творчество отличалось жанровым
разнообразием: романы, поэмы, басни, драмы, комедии. Наибольшей популярностью пользовалась его эпическая поэма «Россияда» (1771 — 1779),
в которой Херасков в духе классицизма стремился воссоздать героический
эпос, в основу положив завоевание Иваном Грозным Казани.
«Стрекоза и Муравей» — басня И. А. Крылова (1808), написанная на основе басни французского поэта Жана де Лафонтена (1621 — 1695).
С. 493. ...сочинитель этой басни умер еще до французской революции.— Из этой фразы ясно, что под автором басни подразумевается не
Крылов (1769—1844), а именно Лафонтен, поскольку Крылов пережил и
Великую французскую революцию 1789—1794 годов, и Июльскую революцию 1830 года.
С. 496. Вокабулы (лат.) — иностранные слова, выписываемые с переводом на родной язык для заучивания наизусть.
С. 497. ...аполог Круммахера...— аполог — краткий аллегорический
нравоучительный рассказ, басня. Круммахер Фридрих Вильгельм (1796—
1868) — немецкий церковный проповедник, кальвинистский пастор.
С. 515. Ясновидящий — согласно представлениям мистиков, человек,
обладающий чудодейственной способностью предугадывать, распознавать будущее и явления, недоступные восприятию обыкновенного человека.
С. 517. Сомнамбулизм — особое состояние психики, когда человек во
сне или под гипнозом автоматически совершает привычные действия.
706
4338-й ГОД
Впервые отдельные главы романа напечатаны в журнале «Московский
наблюдатель». М., 1835. Ч. 1, и в альманахе «Утренняя заря». СПб., 1840.
Наиболее полную публикацию романа с включением фрагментов по рукописи осуществил О. В. Цехновицер в 1926 году (Одоевский В. Ф.
4338 год. Петербургские письма. Л., 1926).
Печатается по изданию: Одоевский В. Ф. Повести и рассказы.
М., 1959.
С. 526. Комета Вьелы (правильно: Биела).— Орбита этой кометы,
по вычислениям, сделанным в 1826 году, пересекает орбиту Земли. Возможность столкновения кометы с Землей напугала широкую публику.
Однако следующие прохождения кометы Биела вблизи Земли (ее период
обращения 6,6 года) показали, что комета постепенно разрушается. Уже к
1885 году ее перестали обнаруживать.
Сомнамбулическое состояние — см. примеч. к с. 517.
С. 527. Нехао (или Нехо) // — египетский фараон в 609—л>95 годах
до и. э.
Дарий / — персидский царь в 521—486 годах до н. э.
Псамметих I — египетский фараон в 665—609 годах до н. э.; объединил под своей властью весь Египет.
Солон (ок. 638 —ок. 559 до н. э.) — афинский политический
деятель, знаменитый законодатель; был причислен древними греками к
семи великим мудрецам.
С. 528. Кювье Жорж (1769—1832)—французский зоолог, один из
реформаторов сравнительной анатомии, палеонтологии и систематики. Реконструировал строение многих вымерших животных.
Геродот (между 490 и 480 — ок. 425 до н. э.) — древнегреческий историк.
С. 529. Аэролиты — принятое в прошлом веке название каменных
метеоритов, упавших на Землю.
С. 530. Галлеева комета — Большая комета, названная по имени английского астронома Э. Галлея (1656—1742), рассчитавшего ее орбиту
и периодичность возвращения к Солнцу.
С. 532. Камер-обскура (камера обскура) — устройство (известно с
XV в.) для получения изображения с использованием оптических стекол —
ящик с круглым отверстием на одной стороне, куда вставляется линза
или набор линз, в результате на противоположной стенке получается изображение предметов, находящихся перед камерой (чаще всего —
перевернутое). Этот принцип используется в фотографическом аппарате.
С. 535. Немцы, аллеманы, тедески, дейчеры — названия немцев на
различных языках.
707
С. 537. Пулкова гора — холм южнее Петербурга. На нем находится
основанная в 1839 году Пулковская обсерватория.
С. 538. Фешионабли (от англ, fashionable) — модники, задающие тон
в обществе.
С. 544. ...при котором этот свод был издан.— Речь идет, видимо,
об осуществленных при Николае I, под руководством М. М. Сперанского,
изданиях: «Полное собрание законов Российской империи» (т. 1—45. СПб.,
1830) и «Свод законов» (т. 1 — 17. СПб., 1832).
С. 545. Петрополь с башнями дремал...— Цитата из стихотворения
Г. Ф. Державина «Видение мурзы».
С. 546. Столоначальник — чиновник, начальник стола, то есть подразделения в учреждении, ведавший каким-нибудь узким кругом дел.
С. 552. «Последний человек» — роман английской писательницы Мэри
Шелли, написанный в 1826 году.
С. 555. Френология — теория, согласно которой по строению черепа
можно судить о психических особенностях человека. Разработана австрийским врачом Ф. И. Галлем (1758—1828).
ПОСЛЕДНЕЕ САМОУБИЙСТВО
Впервые — Одоевский В. Ф. Соч. СПб., 1844. Т. 2.
Печатается по изданию: Одоевский В. Ф. Соч.: В 2 т. М.,
1981. T. I.
С. 558. Пажити (старослав.) — хлебные поля.
Тук (старослав.) — плодородная земля.
С. 559. Прядали (старослав.) — прыгали, скакали.
С. 562. Скудельный (старослав.) — глиняный, непрочный, хрупкий,
бренный.
С. 563. Селитра, сера и уголь — составные части пороха.
Владимир Павлович Титов
(1807-1891)
Литератор и дипломат. Воспитывался в Благородном пансионе при
Московском университете. Член Общества любомудрия. Был чиновником
Московского архива Министерства иностранных дел. В 1828 году переехал
на службу в Москву в Азиатский департамент Министерства иностранных
дел. Впоследствии генеральный консул в Дунайских княжествах, посланник
в Константинополе и Штутгарте; с 1865 года член Государственного совета,
председатель Археологической комиссии. Титов был одним из главных сотрудников журнала «Московский вестник», печатался в «Московском наблюдателе» и «Современнике», в альманахе «Мнемозина» и «Северные
цветы» и др. В «Северных цветах» под псевдонимом «Тит Космократов»
708
поместил две повести — «Уединенный домик на Васильевском» и «Монастырь св. Бригиты». На протяжении всей жизни поддерживал дружеские
отношения с В. Ф. Одоевским, Д. П. Ознобишиным, М. П. Погодиным
и другими писателями. А. С. Пушкин вывел Титова в образе молодого
педанта Вершнева в наброске повести «Мы проводили вечер на даче...»
(1835).
УЕДИНЕННЫЙ ДОМИК НА ВАСИЛЬЕВСКОМ
Впервые — Северные цветы па 1829 год. СПб., 1828.
Печатается по изданию: Пушкин А. С. Поли. собр. соч. Л., 1979.
Т. 9.
Повесть записана Титовым со слов Пушкина.
С. 566. Коллегии — так Петр Первый назвал министерства, основанные им вместо существовавших приказов.
С. 570. Галль Франц Иосиф — см. примем, к с. 555.
С. 576. ...похищение Европы — доказательство власти красоты хоть
из кого сделать скотину.— Согласно древнегреческому мифу, главный олимпийский бог Зевс, влюбившись в прекрасную финикийскую царевну, принял
образ быка и унес царевну на своей спине.
С. 576. Амплификация — использование однородных элементов в ораторской речи.
С. 577. Думская башня — часть здания петербургской городской думы
на Невском проспекте рядом с Гостиным двором.
С. 579. Число Апокалипсиса.— В Откровении Иоанна Богослова (Апокалипсисе), последней книге Евангелия; число «666» названо «числом
зверя», в котором зашифровано имя дьявола, антихриста. Попытку раскрыть
это имя предпринимали многие богословы, Ф. Энгельс специально об этом
говорил в своей статье «Откровение Иоанна».
С. 580. Церковь Андрея Первозванного стояла на углу Большого
проспекта и Шестой линии Васильевского острова.
Евгений Павлович Гребенка
(1812-1848)
Русский и украинский писатель; родился в семье мелкопоместного
дворянина близ г. Пирятина в Полтавской губернии; окончил Нежинский лицей; в 1834 году переехал в Петербург, участвовал в выкупе
Т. Г. Шевченко из крепостной неволи. В Петербурге организовал литературный кружок, который посещали В. И. Даль, И. П. Панаев и другие
русские и украинские писатели. Большую часть произведений написал
на русском’ языке.
В ряде романов, повестей, рассказов показал произвол помещиков-
709
крепостников и крупных чиновников, выступил в защиту маленького человека.
СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ
Впервые — в альманахе «Осенний вечер». СПб., 1835. С. 46—62 (под
заглавием «Малороссийское предание»). Вошло в сборник «Рассказы пи-
рятинца». СПб., 1837.
Печатается по: Поли. собр. соч. СПб., 1902. Т. 1. С. 17—22.
С. 591. Приблизился день Купала...— см. примеч. к с. 174.
Настали обжинки...— Обжннки — старинный славянский праздник, празднование конца жатвы, сопровождающееся угощением жнецов и
жниц.
Константин Сергеевич Аксаков
(1817—1860)
Поэт, драматург, прозаик, историк. Сын известного русского писателя
Сергея Тимофеевича Аксакова. Окончил Московский университет. Примыкал к кружку Н. В. Станкевича. В 1840—1850-е годы был главой
русских славянофилов. Выступал за освобождение крестьян с землей и как
обличитель темных сторон крепостнической России. Основными движущими
силами развития общества считал религию и нравственность, истинной
же религией признавал православие. Основную цель литературы видел в служении обществу. Создал работы по русской истории и филологии.
ОБЛАКО
Написано в 1836 году. При жизни автора не публиковалось. Впервые —
Аксаков К. С. Соч. Пг., 1915. Т. 1. С. 255—269.
Печатается по изданию: Проза русских поэтов. М., 1982. С. 31 —
44.
На рукописи повести надпись-посвящение М. Г. Карташевской: «Вам,
моя милая Машенька, посвящаю я мечту свою, вы поймете ее. Вспоминайте, глядя на эту повесть, о странном бедном двоюродном брате вашем
Костиньке. 10 августа, день для меня очень, очень приятный, 1836 года.
Богородское».
С. 601. Смотри: там в царственном покое...— Стихотворение специально
написано для этой повести.
С. 604. Sehnsucht (поиск пути.— нем.) — одно из ключевых понятий
в кружке Н. В. Станкевича, к которому принадлежал Аксаков в середи
710
не 1830-х годов (см. его стихотворение «О, Sehnsucht!» — Поэты кружка
Н. В. Станкевича. М.; Л., 1964. С. 328—329).
Туда, туда! Иди за мною! — Автор приводит стихотворение,
написанное специально для этой повести. Оно является вариацией
на тему «Миньоны» И. В. Гете («Kennst du das Land, wo die
blühen...»)
ВАЛЬТЕР ЭЙЗЕНБЕРГ
Впервые — Телескоп. 1836. Ч. 33. № 10, под названием «Жизнь в
Мечте»; подпись: «-кс-».
Печатается по изданию: Аксаков К. С. Соч. Пг.: Огни, 1915. T. 1.
С. 609. Карташевская Мария Григорьевна (1818—1906) — кузина
К. С. Аксакова. Его письма Карташевской представляют собой лирический
дневник юного романтика-гегельянца и непосредственно примыкают к повести «Вальтер Эйзенберг», как бы разъясняя ее.
Эпиграф — из стихотворения Ф. Шиллера «Текла».
С. 617. Эльфы — духи природы в скандинавской мифологии.
Алексей Константинович Толстой
(1817—1875)
Поэт, драматург, прозаик; автор замечательных лирических стихотворений, поэм, баллад. Его исторический роман «Князь Серебряный» (1863)
об эпохе Ивана Грозного не потерял интереса по сей день. Драматическая трилогия «Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Федор Иоаннович» (1868) и «Царь Борис» (1870) — заметное явление в истории русской драматургии, русского театра. Вместе с братьями Жемчужниковыми
писал пародийно-сатирические произведения под псевдонимом Козьма Прутков.
В ранней прозе А. К. Толстого заметное место занимают фантастические
произведения.
СЕМЬЯ ВУРДАЛАКА
Впервые — Русский вестник. 1884. № 1. С. 5—31. Перевод Б. М. Маркевича.
Печатается по изданию: Толстой А. К. Собр. соч.: В 4 т. М., 1964.
Т. 3. С. 69—93.
Рассказ написан на французском языке в конце 1830-х или начале
1840-х годов. Название оригинала: La famille du vourdalak. Fragment
inédit des mémoires d’nn inconnu. Французский текст впервые был опубликован в «Revrie des études Slaves». T. 26. 1950. Pp. 15—33.
711
С. 632. В 1815 году в Вене...— Венский конгресс (1814—1815) завершил войны коалиции европейских держав с Наполеоном I. На конгрессе
державы-победительницы заключили договоры, установившие новую политическую карту Европы па основе укрепления феодальной реакции и власти
старых династий. Главную роль на Венском конгрессе играли Россия,
Австрия и Англия.
Под сомнительной тройственной эгидой независимости...— На
Венском конгрессе был произведен новый раздел Польши между Австрией,
Пруссией и Россией. Краков, являвшийся яблоком раздора между ними,
был превращен в самостоятельную республику под опекой трех государств.
В 1836—1841 годах Краковская республика была оккупирована австрийскими войсками, а после разгрома Краковского восстания 1846 года была ликвидирована и территория присоединена к Австрийской
империи.
Меттерних Клемент (1773—1859) — австрийский министр иностранных дел. Гарденберг Карл Август ( 1750—1822) — прусский канцлер. Нессельроде Карл Васильевич ( 1780—1862) — русский дипломат,
впоследствии министр иностранных дел. Все трое были активными
проводниками реакционной политики Священного союза, организованного для борьбы с революционным и национально-освободительным движением.
С. 635. Кальме Огюстен (1672—1757) — французский богослов; автор
«Рассуждений о явлении ангелов, демонов и духов и о привидениях и вампирах в Венгрии, Богемии, Моравии и Силезии»
(1746).
С. 652. Диана — в древнеримской мифологии — богиня плодородия,
охоты, Луны, почиталась как олицетворение целомудрия и его защитница. (Соответствует Артемиде у древних греков.)
Адонис — в греческой мифологии прекрасный юноша, которого
еще в детстве полюбила богиня любви и красоты Афродита и отдала
на воспитание владычице подземного царства Перссфоне. Однако Пер-
сефона не пожелала расстаться с Адонисом. Спор между богинями
разрешил Зевс: треть года Адонис должен был проводить у Персе-
фоны, треть — у Афродиты, а остальным временем распоряжаться
сам.
Актеон — в древнегреческой мифологии охотник, увидевший купающуюся Артемиду. Разгневанная богиня превратила Актеона в оленя,
и того растерзали его собственные собаки.
С. 653. ...в не столь давние времена революция, упразднив воспоминания язычества, равно как и христианскую веру, поставила на их
место богиню Разума.— Имеется в виду Великая французская революция
1789—1794 годов. Борьба передовой французской буржуазии во время
революции с католической церковью, ярко выявившей свою контрреволюционную сущность, привела к тому, что осенью 1793 года почти все
712
секции Парижа отказались от католического культа, противопоставив ему
рационалистический культ разума. Этот культ содержал элементы атеизма,
его поддерживали левые группы якобинского блока. Однако господствующая группировка якобинцев во главе с М. Робеспьером отвергла
этот культ и ввела вместо него в мае 1794 года культ Верховного
существа.
ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ТРИСТА ЛЕТ
Впервые — Lirondalle A. Le poete Alexis Tolstoi. Paris, 1912. P.
579—601; на русском языке (в переводе А. Е. Грузинского) Русские ведомости. 1913. № 14, 16, 17.
Печатается по изданию: Толстой А. К. Собр. соч.: В 4 т. М., 1964.
Т. 3. С. 94-114.
Рассказ написан на французском языке в конце 1830-х или начале
1840-х годов. Сюжетно он связан с «Семьей вурдалака» (образы д’Юрфе
и графики де Грамон, упоминание о дипломатическом поручении молдавскому господарю).
С. 657. Людовик Пятнадцатый (1710—1774) — французский король
(1715—1774). Мало занимался государственными делами; при нем расточительность и безнравственность двора и правящих классов достигли
крайней степени, в то время как нищета охватила широкие массы
крестьян и ремесленников. Ему принадлежит фраза: «После нас хоть
потоп».
С. 661. Лье — французская мера длины, равная 4445 метрам.
С. 662. Во времена войн с англичанами...— Имеется в виду Столетняя война 1337—1453 годов, между Англией и Францией за Гиень,
Нормандию, Анжу, Фландрию.
С. 665. Мальтийские рыцари — члены католического рыцарского монашеского ордена (другое название — госпитальеры, иоанниты), основанного в начале XII века в Палестине в период крестовых походов; в 1530—1798 годах резиденцией ордена был остров Мальта.
Орден существует и поныне, объединяя преимущественно аристократию.
С. 666. ...за тридцать лет до появления «Севильского цирюльника»...—
Здесь неточность: комедия французского драматурга Пьера Огюстена Бомарше (1732—1799) «Севильский цирюльник» была написана и поставлена в 1775 году, то есть не через тридцать, а через шестнадцать лет
после времени действия рассказа.
С. 671. Карл Седьмой (1403—1461) — французский король с 1422 года;
коронован в 1429 году в Реймсе при содействии Жанны д’Арк.
С. 672. Францисканец — монах католического нищенствующего монашеского ордена, созданного Франциском Ассизским в Италии в 1207—1209
713
годах. Орден получил распространение и в других странах. Существует
по сей день.
С. 676. ...в ночь успения пресвятой владычицы нашей богородицы...—
Согласно христианской церковной версии, сложившейся ко второй половине IV века, успение (кончина) божьей матери Марии
произошло 15 августа. Этот день отмечается как христианский праздник.
И. Н. ФОМИНА
СОДЕРЖАНИЕ
В. И. Коровин Фантастический мир русской романтической повести 3
В. А. Жуковский. Марьина роща 16
Ант. Погорельский. Двойник, или Мои вечера в Малороссии (Отрывки) 38
М. Н. Загоскин. Нежданные гости 128
О. М. Сомов.
Русалка 140
Оборотень 148
Сказки о кладах 159
А. Д. Улыбышев. Сон 216
Н. А. Полевой. Блаженство безумия 224
А. А. Бестужев-Марлинский. Страшное гаданье 270
В. К. Кюхельбекер. Европейские письма 300
Е. А. Баратынский. Перстень 310
А. Ф. Вельтман. Не дом, а игрушечка! 322
О. И. Сенковский.
Большой выход у Сатаны 358
Записки домового 385
Превращения голов в книги и книг в головы 420
В. Ф. Одоевский.
Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем . . . 450
Сильфида 459
Косморама 480
4338-й год 526
Последнее самоубийство 558
В. П. Титов. Уединенный домик па Васильевском 566
Е. П. Гребенка. Страшный зверь 588
715
к. С. Аксаков.
Облако 596
Вальтер Эйзенберг 609
А. К. Толстой.
Семья вурдалака 632
Встреча через триста лет 657
Примечания 678
СИЛЬФИДА
Фантастические повести русских
романтиков
Составитель
Инга Николаевна Фомина
Редактор D. Серганова
Художественный редактор А. Никулин
Технический редактор Е. Васильева
Корректоры T. Воротникова, Т. Люберец
ИБ № 4999
Сдано в набор 16.06.88. Подписано к печати 1.12.88. Формат 84Х 1О8'/за- Гарнитура литер. Печать высокая с ФПФ. Бумага тип. № I. кн.-журн. Усл.
печ. л. 37,8. Усл. краск.-отт. 38,22. Уч.-изд. л. 41,58. Тираж 200 000
(100 001-200 000) экз. Заказ 14. Цена 3 р. 70 к.
Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам
издательств, полиграфии н книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62
Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30