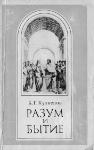/
Author: Кузнецов Б.Г.
Tags: физика вселенная история история науки астрономия история вселенной меганауки
ISBN: 978-5-397-05307-5
Year: 2016
Text
ИЗ НАСЛЕДИЯ МИРОВОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
этюды
МЕГАНАУКЕ
Из наследия мировой философской мысли: философия науки
Б. Г. Кузнецов
этюды
О МЕГАНАУКЕ
Ответственный редактор
доктор философских наук
М. К. Мамардашвили
Издание стереотипное
URSS
МОСКВА
Кузнецов Борис Григорьевич
Этюды о меганауке / Отв. ред. М. К. Мамардашвили. Изд. стереотип.
М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2016. — 136 с. (Из наследия мировой
философской мысли: философия науки.)
Настоящая книга посвящена понятию меганауки, охватывающему наиболее
фундаментальные проблемы строения и эволюции Вселенной, природы
элементарных частиц, сущности жизни. В очерках, содержащихся в книге,
рассматривается определение меганауки, ее роль в исторической эволюции познания, значение
для структуры и прогнозов науки в целом. Автор описывает исторические истоки
меганауки, начиная с древности до второй половины XX века; рассматривает
значение необратимости познания для определения меганауки. Кроме того, в работе
затронуты вопросы эстетики и гуманизма меганауки.
Для философов, физиков, историков и методологов науки, а также всех
заинтересованных читателей.
ISBN 978-5-397-05307-5
© Б. Г. Кузнецов, наследники,
1982,2016
© Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,
оформление, 2010,2016
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ
Древность
По-видимому, термин «мегаиаука», все чаще
появляющийся на страницах статей и книг, посвященных
современной науке, не допускает простого определения,
ограничивающего содержание нового понятия. В этой
книге речь идет о меганауке как о гносеологическом понятии.
Поэтому определение неотделимо от выявления общего
субстрата долгой эволюции науки в целом. Меганаука
при несомненной специфике своих проблем является
наиболее резким и явным выражением инвариантов всей
истории науки — всей ее истории, иачипая с древности,
с первых попыток формулирования единства мира, с
определения его общей субстанции. Древнегреческая наука
предвосхитила исторические инварианты науки, она
была прелюдией всего последующего ее развития, в ней
прозвучали те мотивы, которым суждепо было
дифференцироваться и усложниться, но не было суждепо
замолкнуть. Античная наука задала природе вопросы, которые
впоследствии вызывали все новые и новые, но отнюдь
не исчерпывающие ответы, вопросы сохранялись и
переадресовывались каждой эпохой новой эпохе. Меганау-
ка — новый по методу и по содержанию ответ на эти
фундаментальные вопросы. Поэтому определение мега-
науки должно начинаться с ее античных
предшественников, с некоторых общих историко-гиосеологпческих
понятий, в том числе с представления о бесконечной и
необратимой эволюции познания.
Вместе с тем меганаука обладает очень точно
очерченными хронологическими рамками. Она — дитя
двадцатого столетия, и главным образом его второй
половины, т. е. нашего времени. Наука нашего времени
столкнулась с понятиями бесконечности и конечности
пространства и времени, единства и дифференцировапности
полей, дискретности и непрерывности мироздания как с
проблемами, в принципе допускающими
экспериментальное исследование. Наука всегда сочетала широкие обоб-
а
щештя, поиски наиболее фундаментальных принципов,
из которых естественно вытекали бы конкретные
концепции (то, что Эйнштейн назвал внутренним
совершенством концепций), с апелляцией к эмпирическому
постижению мира (Эйнштейн назвал этот критерий истины
внешним оправданием теории). Но для современной
науки такое сочетание приобрело специфический характер.
Современная астрофизика непосредственно переходит от
наблюдения новых астрономических объектов к
проблеме бесконечности и конечности мира и от подобных
фундаментальных обобщений к новым наблюдениям.
Физика элемептарных частиц, которая почти задыхается
от избытка новых экспериментальных открытий, сразу
же включает их в наброски единой теории. В комплексе
математических, физических и биологических
исследований, который воплощается во все новых и новых
компьютерах, нельзя обойтись без дискуссий об искусственном
интеллекте...
Коллизия неизбежной исторической ретроспекции и
крайне сжатой во времени специфичности того, что
происходит сейчас, может быть охарактеризована точнее,
если распространить на теорию и историю познания
введенное Рейхенбахом понятие сильной необратимости
времени, которому далее придется посвятить особый
очерк. Здесь, забегая вперед, ограничимся самым
кратким напоминанием. Рейхеибах различает слабую
необратимость времени, неизбежное отличие позже от раньше,
и сильную необратимость, которая не требует
сопоставления раньше и позже, а может быть зарегистрирована
сейчас. В истории познания бывают моменты — они
называются научными революциями,— когда в самом стиле
научного исследования сталкиваются и соединяются поз-
otee и раньше, когда исследование становится
невозможным без прогноза, направленного в позже, и
ретроспекции — в раньше. Такие моменты отличаются от
органических эпох, когда прошлое казалось действительно
прошлым, уже ушедшим в историю, а будущее
представлялось действительно будущим, т. е. чем-то еще пе
возникшим. Вместе с тем паучные революции с
настоятельностью требуют ретроспекции и прогноза, уходя назад
и вперед из сейчас, иначе слившиеся и
противоборствующие раньше и позже не могут быть определены.
Между тем в самой исторической последовательности
научных революций можно увидеть некоторую необрати-
4
мую трансформацию. Они преобразуют все более
фундаментальные представления о мире и все более общие
методы его познания. Соответственно они
сопровождаются все более радикальными и хронологически далекими
ретроспекциями и прогнозами. Наше время — время
тысячелетних прогнозов и тысячелетних ретроспекций.
Последние охватывают генезис науки, древнегреческую
натурфилософию.
Основная коллизия античной философии — коллизия
логического охвата мира в его целом и эмпирического,
чувственного познания. Коллизия Логоса и Сенсуса.
Однако греческая натурфилософия не была
натурфилософией в том смысле, какой это понятие приобрело в
XVII—XIX вв. Коллизия Логоса и Сепсуса в древности
не была гегемонией Логоса хотя бы потому, что она
была коллизией эстетического познания мира. Даже чисто
логические на первый взгляд апории Зеиоиа не
исключали чувственно воспринимаемых и в этом смысле
достоверных образов летящей стрелы или бегущего
Ахиллеса,— именно такие образы делали парадоксальным вывод
элеатов: «Движения нет!». Коллизия Логоса и Сепсуса
не уничтожала единства этих полюсов, которые
получили особенно отчетливое противопоставление в отрицании
движения у элеатов и покоя у Гераклита. Еще более
фундаментальным было различие линии Платона —
субстанциальности чувственно не воспринимаемых идей —
и линии Демокрита — субстанциальности в принципе
наблюдаемых, чувственно представимых атомов. У
Демокрита эти чувственные образы переносились в
чувственно недоступную, ультрамикроскопическую (если
такой термин подходит для времени, когда до микроскопа
было очень далеко) область, а пепротяжениые и
недоступные эмпирическому восприятию идеи Платона
представлялись в форме художественных образов. У
Аристотеля эмпирическое иостижепие мира (вспомним
колоссальные по объему сведения, которые направлял
философу штаб его ученика Александра Македонского) и
логика познания сблизились в значительной мере, еще
более возраставшей в силу общей для аттической мысли
сенсуально-художественной формы логических
конструкций. Но все это было и логически и исторически очень
далеко от слияния Логоса и Сенсуса в современной ме-
гаттауке.
5
Средневековье и Возрождение
Всю историю философии и науки можно было бы
представить как предысторию меганауки. Таков вообще
смысл эволюции познания, если взять в качестве ее оси
необратимое приближение к объективной истине и
соответствующую трансформацию методов познания. Для
средних веков характерна догматизация той полярности
Логоса и Сенсуса, которая была ими унаследована от
древности. Независимая от чувственно постижимых
физических объектов реальность общих понятий была
застывшей формой античной концепции неподвижной и
непротяжепной субстанции бытия.
Пространственно-временная сущность мира тем самым закрывалась
абсолютизированным Логосом. Разумеется, в рамках
средневековой культуры существовала и противоположная
тенденция. Философия номинализма считала субстанцией
мира протяженные и сенсуально постижимые тела.
Существовала и другая, собственно историческая,
выходившая за рамки философских дискуссий, крайне мощная
тенденция. Она состояла в создании очень широкой
эмпирической базы научных идей. Средневековье превратило
узкую культурную полоску па островах и па побережье
Средиземного моря в ряд связанных друг с другом
культурных центров, охвативших своим влиянием и своими
историческими истоками почти весь Европейский
континент. Средиземноморская торговля и крестовые походы
познакомили Европу со средневековым Востоком, где
ремесленное производство, а вместе с ним и
эмпирическая база естествознания достигли сравнительно
высокого уровня. В средневековой культуре происходило то
соединение внешнего оправдания и внутреннего
совершенства, которое через несколько веков стало основой
сначала предыстории, а затем и истории меганауки.
Возрождение было эпохой широкого,
общекультурного, выходившего далеко за пределы науки сближения
Логоса и Сеисуса. Натурфилософия Возрождения
оставалась натурфилософией, но она стремилась стать наукой.
Название появившейся в 1565 г. книги Телезио «О
природе вещей, выведенной из ее собственных припципов»
выражает это стремление: принципы природы — это
логические выводы, идущие от эмпирии и приводящие к
пространственно-временной концепции бытия. Иногда
указанное стремление реализовалось в собственно науч-
G
ных, пространственно-временных схемах. Такой схемой
была гелиоцентрическая система Коперника.
Труднее определимое, по более мощное воздействие
Возрождения па те тенденции естествознания, которые
оказались истоками меганауки, связано с возвратом к
античному, эстетическому постижению мира. В Италии
XIV—XVI вв. культ красоты имел столь же
первостепенное гносеологическое значение, как и в античном мире.
Если Брюнсвиг говорил о греках как о
«народе-художнике»1, то подобная характеристика могла бы быть
отнесена и к итальянцам XIV—XVI вв. Эстетизм — это прорыв
непосредственных сенсуальных впечатлений в ткань
логических дедукций и тем самым приближение
натурфилософии в ее специфическом смысле к науке, к синтезу
внутреннего совершенства и внешнего оправдания, к
тому, что достигло своего полного развития в современной
меганауке.
Метафизика и мегафизика
Возрождение было начальным этапом длительной
научной революции XVI—XVII вв. Ее заключительный
этап, конец XVII в.,— создание классической механики,
дифференциального исчисления, основ механической
картины мира — был началом классической науки. Между
начальным и заключительным этапами находится
генезис новой философии (Декарт, Мальбранш, Спиноза,
Лейбпиц, патурфилософия XVII в.). Здесь стоит,
пожалуй, остановиться на самом понятии натурфилософии в
связи с понятиями метафизики и мегафизики.
Метафизика получила свое имя от «Метафизики»
Аристотеля, т. е. от сочинения, которое было помещено
Андроником Родосским за «Физикой» при
систематизации трудов Аристотеля. Но слово «метафизика» имеет
не. только такой случайный и впешпий смысл. Термин
Physis был не только названием книги, но и программой
объяснения мира из его собственных законов, из законов
пространствеппо-времеппого бытия. При этом
пространственно-временное объяснение, т. е. объяснение всех
процессов взаимодействиями протяженных тел и их
движениями, охватывало природу в ее целом, все наблюдаемые
в ней процессы. Если учесть последующую эволюцию
1 Bmnschvleg L. La philosophie de l'esprit. P., 1949, p. 50,
7
смысла «физики» как особой отрасли науки, то Physis
Аристотеля был мегафизикой или по крайней мере
программой мегафизики, попыткой распространения законов
физики на все мироздапие, определенной тенденцией в
мировоззрении Аристотеля. Эта тенденция реализовалась
в паше время с существенной поправкой: единая
картина мира не закрывает специфичности сложных форм
движения, и поэтому современная картина мира идет не
к мегафизике (этот термин сохранил бы оттенок не
только единства, но и тождества законов мироздания,
подчинения сложных форм движения физическим в
специфическом смысле закономерностям), а к меганауке.
Но в мировоззрении Аристотеля (именно в
мировоззрении, а не только в позднейших названиях книг)
существовала апелляция к мировой энтелехии, к
непространственным причинам движения, стоящим за физикой.
Такая тенденция высказана сравнительно явно в «Метафи-
зико», что позволяет сблизить это название с
метафизикой без кавычек, с тенденцией, которая стала
господствующей у многих (хотя и не у всех) комментаторов и
эпигонов Аристотеля и характерна также для многих
направлений философской мысли, не имеющих никакой
непосредственной связи с перипатетиками.
Диалектическая философия противопоставила себя
метафизике, сохранив для последней это имя. Апелляция
к впефизическим, «зафизическим» категориям неизбежно
вела к системе неподвижных, раз навсегда данных
абсолютов и, таким образом, была метафизикой в
современном смысле.
Натурфилософия, если дать это название весьма
различным по методу, предмету и содержанию философским
направлениям, выразила известный уход от
эмпирического знания в сторону очищенного от такого знания
логического анализа. Конечно, такой уход был
относительным, эмпирическое знание без логической апперцепции
так же невозможно, как и логическое постижение мира
без эмпирических данных. Натурфилософские концепции
подчас ставили акцепт па логике, подчас
демонстрировали неотделимость логики от эмпирии, по большей частью
обе эти тенденции уживались в рамках одной концепции,
были основой ее внутренней коллизии. Такая коллизия
характерна для патурфилософии Декарта. С одной
стороны, интерес к эксперименту и к эмпирическим данным,
а также, что гораздо важнее, переход к понятиям, вы-
8
раздающим эмпирические, принципиально наблюдаемые
объекты и явления, такие, как прямолинейная инерция«
относительность движения, вихри... С другой стороны,
принципиальная иеиаблюдаемость и ненротяженпость
другой, пефизической субстанции. Первая тенденция
была мегафизической, следовательно — историческим
антецедентом, историческим предварением меганауки.
Столь же двойственным кажется и отношение
антецедентов мегапауки к прозвучавшему уже в. XVII в. и
зашедшему в XVIII—XIX вв. очень далеко протесту
против метафизики. Ньютоповский лозунг: «Физика,
берегись метафизики!» — и шиллеровское обращение к
естествоиспытателям и трансцендентальным философам:
«Будьте врагами, еще помышлять о союзе вам рано...» —
выражали иногда иллюзии чисто индуктивного познания,
по фактически не слишком препятствовали движению
эмпирического естествознания к теоретическому
обобщению, к понятиям, явно и непосредственно
отражающим пространственно-временную структуру бытия.
Философия Спинозы — самое значительное
приближение к идеалу мегапауки. Спиноза различает
производящую природу (natura naturans) и произведенную
природу (natura naturata). В первом понятии подчеркнуто
единство мира, единство субстанции, обладающей
неотъемлемыми предикатами. Второе понятие — это сумма
модусов, которыми субстапцпя может обладать или не
обладать. Здесь напрашивается аналогия с современной
концепцией мира в целом—«объекта, созданного в
одном экземпляре»,— и гетерогенного мира с бесчисленным
множеством частных определений. Философия и наука
XVII в. поделили между собой изучепие natura naturans
и natura naturata. Поделили не слишком педантично:
граница между областями вачастую проходит внутри
философских трактатов, включающих исследование модусов,
и внутри научных трактатов, где немало сказано о
Вселенной в целом.
Дело, однако, не в таких «пограничных
инцидентах», а в том, что и у Спинозы natura naturans и natura
naturata тождественны. Изучая модусы, мы
приближаемся к познанию Всего, а представление обо Всем —
предпосылка изучения модусов. Если изучение natura
naturans — прерогатива философии, а изучение natura
naturata — отраслей науки, то тождество того и другого —
прообраз меганауки.
9
Классическая наука
Классическая наука XVII—XIX вв. в своем развитии
шла навстречу мегафизической тенденции философии.
Система Галилея опиралась на твердую уверенность в
том, что законы механики определяют судьбы мира и
что природа говорит с человеком языком количественно-
математических категорий. Основной посылкой системы
была однородность пространства, правда отнюдь не
евклидова: предоставленное себе тело движется по
кругу, планеты в системе Галилея подчинены
криволинейной инерции. Но так или иначе речь шла о некотором
прообразе меганауки, о единой системе природы, о
свойствах пространства и времени, о структуре мира и о
методах его познания. У Декарта прямолинейное движение
но инерции сделало пространство физики прямым и ие-
искривленным, искривление орбит приписывается
вихрям, тела, предоставленные себе и не уносимые вихрями,
движутся прямолинейно и равномерно. Здесь, в
пределах физики Декарта, развиваются представления о
пространстве и веществе, о движении и его аксиомах.
Система Ньютона, по-видимому, имеет наибольшие
права на роль антецедента меганауки. Это наука,
освободившаяся от метафизических впемировых сил, причем
наука обо Всем, о мироздании в целом. Слово
«освободившаяся» не следует понимать буквально, освобождение
здесь не полное. В системе Ньютона сохраняются
некоторые метафизические абсолюты: абсолютное
пространство, абсолютное время, первоначальный толчок,
действие на расстоянии, понятия, принципиально не
имеющие сенсуально постижимых эквивалентов. Но
исторически, в современной ретроспекции, эти абсолюты были,
ло существу, вопросами, адресованными будущему.
Наука ответила на них в XX столетии, и ответы ее стали
непосредственным истоком современной меганауки.
Система Ньютона и развивавшее ее математическое
естествознание XVIII в. претендовали на роль единой
науки. С современной точки зрения и даже с точки
зрения науки XIX в., эта роль кажется иллюзорной.
Механицизм не мог надолго оставаться идеалом научного
объяснения и окончательным ответом на вопрос о структуре
мироздания. Но это представление об иллюзорной
объединяющей роли механицизма в пауке придется если не
сиять, то ограничить рядом оговорок. Окончательного
10
ответа па вопрос о структуре мироздания не дает пи
одна историческая ступень в развитии естествознания,
включая и современную мегапауку. Претензии на роль
мегаиауки или на роль ее исторических антецедентов
основываются на необратимом и бесконечном приближении
к единству картины мира, к ее внешнему оправданию и
внутреннему совершенству. В свете современной
мегаиауки яспо виден динамический характер идеалов
познания, которые состоят ие в той или иной картине мира,
а определяются градиентом ее трансформации,
интенсивностью ее перехода в новую картину.
С такой точки зрения механицизм не препятствовал
тому, чтобы система Ньютона предъявила права па
титул исторического антецедента мегаиауки. Поиски
механической природы физических, химических и
биологических процессов значительно сблизили отрасли науки,
п такое сближение было необратимым. Оно весьма
сложным образом сочеталось с открытием специфических
закономерностей различных форм движения и их
несводимости к механике. Такая иесводимость
демонстрировалась великими естественнонаучными открытиями XIX в.,
прежде всего законом сохранения энергии и вторым
началом термодинамики, созданием статистической физики
и электродинамикой. Но наука XIX в. сама по себе не
дошла до единой концепции иесводимости специфических
форм движения и единой картины этих форм,
переходящих одна в другую. Такая концепция была результатом
перехода от философии Гегеля к представлению о
диалектике познания как отражении диалектики бытия.
Философское обобщение естествознания XIX в. в
«Диалектике природы» Энгельса исходило из идеи иесводимости
сложных форм движения к простым, к механическому
перемещению тел.
Первая половина XX в.
Попробуем показать, что эпилог классической
физики и переход всей науки XVI—XIX вв. к науке XX в.,
подобно прологу классической картины мира, подобно
развитию представления о несводимости форм движения,
подобно всем научным революциям, был шагом,
приближающим познание к меганауке, представлял собой
необратимый псторнко-гносеологнческий процесс.
11
История принципа относительности начинается 1905
годом, великим открытием Эйнштейна. Но до этого —
долгая и весьма содержательная предыстория принципа.
Электродинамика конца XIX в. и выросшие из пев в
Первые годы нашего столетия обобщепия вплотную подвели
пауку к отказу не только от механики как общей
концепции бытия, но и от осиовапий классической механики, о г
классического абсолютного пространства и его после-
ньютоновского заместителя — эфира. Отличие
предыстории теории относительности от ее истории состоит в
недостаточном внутреннем совершенстве концепции
относительности, в недостаточной общности этой концепции,
в необходимости вводепия специальных ad hoc
электродинамических гипотез, объясняющих одинаковую
скорость света в движущихся одна относительно другой
системах, при сохранении эфира и понятия отнесенного
к эфиру движения. Но именно во внутреппем
совершенстве, в общности исходных посылок и в естественносттг
сделанных пз них выводов состоит то, что превращает
научную теорию в мегапауку, делает ее основой
картины мира в целом.
Выход за пределы данного парадоксального
эксперимента (Эйнштейн называл такой выход «бегством от
чуда»), перенос ореола парадоксальности на максимально
общую концепцию бытия происходят не только в форме
конкретных физических утверждений, но и в форме
философского обобщения. Без него не может осуществиться
то, что можно па звать «мегатрансформацпей науки»,—
превращение научной теории в общую схему бытия при
сохранении экспериментального и логико-математического
характера научпого творчества. Этот процесс
исторической подготовки мегапауки требует выхода из natura пи-
turata в natura naturans. Для оценки роли философского
обобщения в предыстории теории относительности
крайне интересна связь идей В. И. Ленина, высказанных в
книге «Материализм и эмпириокритицизм», с
изложением взглядов Ланжевена, Лармора и Лоренца2.
В истории науки фундаментальной трансформацией
был переход от традиционного классического определении
«науки в целом», т. е. указанной общенаучной доктрины,
к неклассическому ео определению. Такой переход свя-
См.: Кузнецов Б. Г. Лонип, Лапжевен в предыстория теорип
относительности,— Воир. философии. 1969, Jn» о, о. 24- 27.
12
зап с последовательным развитием идеи относительности.
Напомним основиые этапы этого развития. В 1905 г.
Эйнштейн объяснил инвариантность скорости света и
различных движущихся одна относительно другой инер-
циальиых системах, отринув абсолютное пространство
Ньютона и унаследовавший роль этого пространства, как
абсолютной системы отсчета, эфир Лоренца. Следующим
этапом, хронологически почти неотделимым от первого,
было новое представление об энергии и массе, идея
зависимости массы от скорости, ее приближения к
бесконечности при приближении скорости тела к скорости
света, понятие о пропорциональности массы и энергии.
Теория относительности проникла в микромир. Это
проникновение имело в качестве предпосылки новое
представление о микромире: дискретность излучения —
кванты Планка, дискретность электромагнитного поля —
фотоны Эйнштейна, квантовая модель атома Бора,
волновая и квантовая механика, созданная де Бройлем, Гей-
зенбергом, Шредппгером и Борном, квантовая
электродинамика Дирака. Проникновение теории
относительности в микромир было исходной паучной предпосылкой
атомного века.
Но уже в до атом ну ю эпоху теория относительности
обратилась и в другую сторону — в мегамир, в космос.
Предпосылкой такого выхода было распространение
принципа относительности на ускоренные движепия.
Теория Эйнштейна утверждала равноправность систем
отсчета, движущихся по отношению друг к другу
прямолинейно и равномерно. Она получила название
специальной теории. Общая теория относительности говорит о
равноправности систем, движущихся с ускорением, об
относительности как инерционного, так и ускоренного
движения. Исходный пункт этой теории —
эквивалентность сил инерции и гравитационного поля. Тем самым
неклассическая физика вышла из мира, где
господствуют электромагнитные поля, в мир, где господствуют
гравитационные ноля. Это был первый шаг к совершенно
новому представлению о подчинении частных процессов
общим законам, охватывающим Всё, все мироздание,
с его практически бесконечным разнообразием. Теперь
такое подчинение стало уже не логической категорией,
не простым отнесением данного процесса к общему
закону, а реальным физическим подчинением частной,
местной ситуации более общей, в общем случае метагалакти-
13
ческой. Это принципиальный поворотный момент генезиса
меганауки. История меганауки начинается универсальной
реализацией такой тенденции реального подчинения и
взаимодействия космоса и микрокосма, и развертываете«
она во второй половине нашего столетия. В это время
сохраняется, конечно, логическое объяснение отдельных
процессов через их включение в множество объясненных
процессов. Без такой дедукции обойтись нельзя. Но
вместе с твхМ в физическом объяснении процессов начинает
фигурировать объект, «созданный в одном экземпляре».
Вселенная действует на тело не потому, что она входит
в число действующих на него тел: она не «входит в
число», она рассматривается вне такого вхождения,
непосредственно как всеобъемлющий объект. С другой
стороны, когда частный локальный процесс стаповится
источником эволюции Вселенной, этот процесс
рассматривается без индуктивно-дедуктивной конструкции,
включающей общий вывод, относящийся к множеству, и затем
дедуктивный переход от множества к индивидууму.
♦Объект, созданный в одном экземпляре», Вселенная в
целом, которая была объектом философского анализа,
становится объектом непосредственных физических
характеристик. В этом в первую очередь и состоит
генезис меганауки.
Вторая половина XX в.
Понятие «мира как целого» появилось уже в первой
половине XX в. Оно было результатом развития общей
теории относительности. Последняя, как уже говорилось,
видит в гравитационных полях нарушения геометрии
Евклида, искривление пространства-времени. Но наряду
с локальными искривлениями было предположено
существование общей кривизны пространства, подобной
общей кривизне земной поверхности, помимо
искривляющих ее отдельных холмов и гор. Пространство в
релятивистской космологии Эйнштейна искривлено в целом,
обладает радиусом кривизны и напоминает, если взять
двумерную аналогию, поверхность сферы, нигде не
ограниченной, но конечной. Аналогичным образом
трехмерное пространство в модели Эйнштейна ничем не
ограничено, но имеет конечные размеры, обладает, как можно
думать, определенным радиусом кривизпы. Время,
четвертое измерение, не искривлено, подобно тому как в ци-
14
лпидре искривлены дна измерения, а третье — вдоль осп
цилиндра — прямолинейно. Поэтому мир Эйнштейна
носит название цилиндрического мира. В 1922 г. А. А.
Фридман пришел к мысли о возможности нестационарной
Вселенной, кривизна которой меняется со временем. Эта
мысль была подтверждена астрономическими
наблюдениями, которые, впрочем, далеко еще не дали
окончательного ответа на вопрос о характере этих изменений, как
и о геометрии Вселенной в целом.
Они по получили окончательного ответа и сейчас, во
второй половине и даже в последней четверти XX в. Но
характер ответов изменился. При большой
неоднозначности ответы теперь опираются на принципиально новые
средства наблюдения, на быстро следующие одно за
другим открытия новых астрономических объектов с крайне
парадоксальными свойствами, меняющими, что очень
важно, даже смысл самого понятия «парадоксальность».
Эти открытия приводят к новым направлениям, которые
меняют не только облик аетрономии, но и облик и стиль
всей науки. Здесь нас интересует не перечисление
открытий и концепций, а их воздействие на представление о
мире в его целом. Возьмем, например, нейтринную
астрономию. Нейтрино обладают высокой проникающей
способностью, они слабо поглощаются другими
материальными объектами и потому сообщают данные об очень
далеких объектах. Далеких и в пространстве и во
времени: разбегающиеся очень далекие галактики сообщают
нам о состоянии, в каком они были миллиарды лет назад,
когда вещество Вселенной, как можно думать, было
очень плотным и горячим и когда создавались ядра
легких элементов. Проблема «начала» расширения
Вселенной неотделима от проблемы «границ» пространственно-
временного бытия. Слова «начало» и «границы»
поставлены в кавычки, поскольку то и другое неотделимы от
понятий «доначального» и «виеметагалактического»
бытия.
Крайне важным не только для астрономии, но и для
стиля современного научного мышления, для
нынешнего этапа познания, для генезиса меганауки было
открытие радиогалактик, обладающих очень значительным
излучением в радиодиапазоне. Установлено, что
радиогалактики обладают весьма высоким «красным
смещением». Разбегаиие галактик ускоряется с удалением от
нашей системы, и обнаружены радиогалактики, ушедшие
15
настолько далеко, что движутся от пас со скоростью в
половину скорости света и даже еще быстрее. Ile
меньшее значение имело открытие квазизвездных источников
излучения — «квазаров», которые представляют собой
ядра далеких галактик с очень высокой светимостью в
оптической части спектра и со значительным красным
смещением. Какой бы спорной пи представлялась нам
сейчас природа квазаров, их изучение демонстрирует
совершенно бесспорное приближение астрофизики и все
теснее объединяющейся с ней теории элементарных
частиц к новому типу научного мышления. В этой книге
нас интересует не структура мира в масштабах
миллиардов лет во времени и миллиардов световых лет в
пространстве, а структура науки в масштабах Земли и во
временных масштабах второй половины столетия. Здесь
даже самые неопределенные, квазифизические гипотезы
позволяют высказать вполне определенные и достоверные
историко-гносеологические утверждения.
Такими гипотетическими основами характеристики
Современной меганауки служат новейшие
астрофизические открытия и концепции, в том числе представления
об объектах, обладающих бесконечными размерами в
одной системе отсчета и конечными — в другой. Новейшая
астрофизика позволяет нам ближе подойти к связи
квазифизических неоднозначных представлений о
структуре мира с однозначными историко-гиосеологическими
выводами, к проблеме необратимости и бесконечности
бытия и познания и к отношению бытия и познания.
Познание включает конечный элемент бытия в
бесконечный мир понятий, эмпирия конечного становится
системой бесконечных понятий. Изменения понятия
бесконечности являются коренными изменениями самого
характера познания, естественной основой периодизации его
истории. Они состояли в релятивированпи бесконечности,
в ее эволюции от априорного понятия к зависящему от
эмпирии, от ее постижения и обобщения. В этом смысле
апории бесконечности — вечные и вечно меняющиеся
апории познания. Перипатетическая физика исходила из
бесконечности времени и конечности пространства,
причем конечность означала границы пространства, а
бесконечность ■— отсутствие границ времени. Классическая
наука в той форме, какую она приняла в системе
Ньютона, была учением о бесконечном пространстве и
времени. Учение о бесконечно малой как переменной величине
16
отодвигает актуальную бесконечность за пределы
картины движущегося мира, вернее, делает ее таким пределом
(в форме предельного перехода, перехода к пределу).
Эйнштейн придал понятию бесконечного пространства
новый смысл, отделил его от понятия предела, приблизил
1С конечному, замкнутому; пространство, фигурирующее
в цилиндрической модели Эйнштейна, ограниченно,
обладает радиусом кривпзпы (у Фридмана — переменным
радиусом). Хотя уже Рима и разграничивал
неограниченность и бесконечность и рассматривал последнюю как
локальное определение, у Эйнштейна такое
разграничение стало физическим; бесконечность и конечность
стали понятиями, применимыми к мировому пространству
в зависимости от эмпирических данных.
Но только во второй половине нашего столетия в
рамках релятивистской астрофизики и теории
элементарных частиц понятие бесконечности стало физически
относительным. Необратимым становится не
гипотетическое конкретное содержание гипотезы и отнюдь не
гипотетическое релятивирование и физикализация
бесконечности. Попятив бесконечности фигурирует здесь уже
как залог впутреппего совершенства концепции мира, но
ото внутреннее совершенство, этот общий принцип, из
которого естественно вытекает все остальное, зависит от
эмпирии, оказывается пластичным и относительным.
Необратимым остается самый факт перехода к более
сложному представлению о бесконечном, а содержание этих
представлений может меняться. В сущности, научная
революция XVI—XVII вв., мпогие результаты которой
пересмотрены, включала в качестве необратимого
результата релятивирование положения и движения тел в
бесконечном пространстве, и этот результат сохраняется н
сохранится в будущем.
Специфика науки второй половины XX в.,
специфика мегаиауки,— в неопределенности, неоднозначности,
гипотетичности, подвижности исходных идей научной
картины мира. Они перестают быть инвариантами
частных объяснений. В. Л. Гинзбург сравнивает в этом
отношении астрофизику с физикой твердого тела. В
последней немало нерешенных вопросов, но фундаментом для
их решения служит установившаяся общая концепция —
квантовая механика. Совсем иначе — в проблеме
взаимодействия двух протонов с энергией в сотни или тысячи
миллиардов электрон-вольт. Здесь отсутствует фундамеи-
17
тальная теория. Аналогичным образом для изучения
планет и звезд достаточно обычной «земной» физики.
Для космоса уверенности в такой применимости нет.
и здесь возникают вопросы, требующие для своего
решения новых, еще неясных идей3.
Эти новые идеи достигают определенности, ясности
п однозначности в процессе дальнейших открытий и
обобщений, и стиль научного мышления здесь совсем
особый. Прежде всего этот стиль перестает быть
длительно инвариантным, сохраняющимся надолго и не
меняющимся при переходе к новым и новым проблемам. Борн
и Паули связывали понятие стиля в физике с такой
относительно априорной инвариантностью. «Стили,— писал
Макс Борн в 1953 г.,— бывают и у физической теории,
и именно это обстоятельство придает своего рода
устойчивость ее принципам. Последние являются, так сказать,
относительно априорными по отношению к данному
периоду. Будучи знакомым со стилем своего времени,
можно сделать некоторые осторожные предсказания»4. Эти
предсказания должны быть очень осторожными —
учитывать изменения стиля — и в то же время очень
смелыми — предвидеть такие изменения. Происходит очень
сильное взаимодействие стиля и содержания науки. Такое
сильное взаимодействие значительно усиливает роль
прогноза и ретроспекции в научном творчестве. Все время
приходится думать о судьбе идей, насчитывающих
столетии, об их подтверждении, отказе от них, а в общем
случае—о модификации. Приходится обсуждать каждое
открытие в свете выводов, которые могут реализоваться
только в будущем. В науке все громче становится
вопрошающая нота. И это не только вопросы, адресованные
природе (типа: «Какова природа квазаров?»), но и
вопросы, которые наука адресует самой себе. Вопросы эти,
конечно, переплетаются, но самопознание науки не
сводится к вопросам первого рода (какова природа того или
иного явления), а включает вопросы о структуре,
потенциале, эффекте самой науки. В этом отношении мегана-
ука открывает науке путь к ее самопознанию,
становящемуся существенной частью современной культуры.
* См.: Гипабур$ В. Л. О теории относительности. М., 1979, с. 63.
4 Борн М, Состояние идей в физике и перспективы их
дальнейшего развития.— В кн.: Вопросы причинности в квантовой
механике. М., 1955, с. 102.
18
МЕГАНАУКА
И НЕОБРАТИМОСТЬ ПОЗНАНИЯ
Значение необратимости познания
для определения меганауки
Связь меганауки с современным представлением о
необратимости времени вытекает из следующих
соображений. Подойдем к проблеме необратимости времени со
стороны необратимости познания. Как уже говорилось,
содержание конкретных научных концепций может быть
повторением уже пройденных ступеней или возвратом к
ним, но при этом всегда растет, дифференцируется,
усложняется представление о мире в целом. Усложнение
этого представления выражает собой сближение natura
naturans с natura naturata, «сциентизацию» общей
концепции мироздапия, обоснование ее новыми
наблюдениями и обобщениями, конкретизацию исходных абстракции.
Возьмем известный пример. Представление о
неподвижности Солнца было возвратом к Аристарху Самосскому
и, в свою очередь, было оставлено при переходе к идее
бесконечной Вселенной без какого-либо центра. Но
великое произведение Коперника было очередным и
необратимым шагом в процессе модификации и конкретизации
принципа относительности пространства и движения.
Такой процесс был историческим прообразом
необратимости познания. Если соединить одним понятием меганауки
современные наиболее фундаментальные исследования
и их исторические прообразы, иначе говоря, если
несколько архаизировать современные идеи и модернизировать
идеи прошлого (а без такой весьма относительной
архаизации и модернизации не найдешь единого субстрата
исторических модификаций), то можно определить мега-
пауку как поиски пеобратимых актов познания.
Картезианская физика была полна концепций и моделей, от
которых наука отвернулась уже в XVII в., но переход от
криволинейной инерции Галилея к прямолинейной
инерции Декарта был необратимым и именно поэтому стал
прообразом меганауки.
Если перейти к необратимости бытия, к космической
эволюции как основе необратимости времени, то можно
сказать: необратимые шаги науки были открытиями
необратимого бытия. Меганаука (в том же несколько лр-
i«j
хаизировашюм и, с другой стороны, модернизированном
смысле) — это поиски необратимой эволюции бытия,
открытие и обобщение физических механизмов,
исключающих для Вселенной переход от позже к раньше. Это
определение при всей своей исторической инвариантности
бросает свет на смысл понятия мегапауки без
архаизации, т. е. совремеппой мегапауки. Возьмем
представление об энтропии как о физической основе необратимости
времени. Оно было необратимым шагом науки. И сейчас,
и в будущем мысль о необратимом переходе тепла
обосновывала необратимость времени, по только в одном
«этаже» бытия — в макроскопических телах без
микромира, где в теорию входила обратимая механика
молекул, и без Вселеппой в целом, где идея «тепловой
смерти» приводила к противоречиям. Современная меганаука,
по-видимому, может обосновать — к этому направлена ее
эволюция — общую концепцию необратимости бытия.
Эта концепция связана со сквозными вопросами,
проходившими через всю историю цивилизации, с
вопросами, которыо Гейне назвал проклятыми: в чем сущность
бытия, в чем сущность, смысл и ценность познании
и самой человеческой жизни? В данном случае речь
идет о самом общем из проклятых вопросов — о сущности
бытия. Глагол быть может играть роль связи между
субъектом и предикатом: «Буцефал есть лошадь». Но он
может быть и абсолютным: «Буцефал есть!»1 Что же
означает «есть!», чем отличаются субъекты этой
абсолютной, не содержащей конкретных предикатов
характеристики от других, не обладающих бытием, входящих
в небытие. Именно в этом — исходное эвено проблемы
необратимости. Мы пойдем к необратимости времени как
длящегося бытия, абсолютного бытия, бытия как
такового — самой высокой абстракции и самой богатой
конкретности. Для этого нужно вернуться к традиционному
определению бытия: единству пространства и времени.
Чтобы пространство обладало бытием, оно должно быть
дано во времени. Но здесь мы сталкиваемся с апорией:
прошлого уже нет, будущего еще нет, настоящее —
нулевая по длительности грань между тем, чего уже нет, и
тем, чего еще нет, т. е. ничто между ничто и ничто. Но
в этой апории скрывается и выход из нее, и этот выход
связан с идеей асимметрии, различия между прошлым
1 См.: Кувнецов Б, Г. Разум и бытие. М., 1972, с. 26. Изд. 2. М.:
Издательство ЛКИ/URSS, 2010.
20
и будущим, между раньше и позже и с пониманием
роли настоящего в конституировании такого различия.
Мы пойдем к этой сквозной проблеме познания, взяв
в качестве исходпой точки ретроспекции современную
релятивистскую и кваптовуто физику, включая столь
характерные для нашего времени попытки построения общей
квантово-релятивистской теории. Но только как
исходного пункта. Проблема необратимости как онтологическая
проблема так теспо связана с познанием, психологией,
историей, что здесь физические и математические
понятия, в том числе такие, как энтропия, иегэитропия,
размерность, топология, модифицируются и обобщаются,
охватывая все аспекты бытия. Такой подход раскрывает и
исторически сквозной характер проблемы необратимости.
Вся многовековая эволюция представлений о мире
покажется последовательным рядом разграничений времени
и пространства и объединений этих понятий, рядом все
более общих и вместе с тем все более копкретных
ответов на вопрос об основном свойстве времени — его
асимметрии, необратимости, неизбывном отличии позже
и раньше. Конечно, примерно то же можно сказать и о
других фундаментальных вопросах: в пауке немало
исторически инвариантных проблем, получающих
варьирующиеся решения. В одном из последних параграфов этого
очерка рассматривается необратимость таких решений и ее
связь с пеобратимостью бытия, с анизотропией времени.
Почему современная неклассическая ретроспекции
так отчетливо демонстрирует сквозной, исторически
инвариантный, фундаментальный характер проблемы
анизотропии времени?
Прежде всего, потому, что в такой ретроспекции
обнаруживается наиболее глубокое разграничение и в то же
время соединение пространства и времепи — одна из
стержневых идей всей истории познания.
Перипатетическая картипа мира, ее античные истоки и средневековые
модификации, приписывала пространству некоторую
необратимость, связанную с его неоднородностью; иерархия
«верха» и «ииза», пронизавшая в средине века всю куль-
ТУРУ» соединившая топографический верх с моральным,
с раем, а топографический низ — с адом, покоилась па
аристотелевской космологии с естественным центром
мироздания и концентрическими сферами —
естественными местами тел. Анизотропия, асимметрия направлений
«естественных» и «насильственных» движений вытекала
21
из неоднородности мирового пространства и его
абсолютного характера. Анизотропия пространства вместе с тем
отражала различную ценность «верха» и «пиза»,
вытекавшую из указанного сближения топографического и
морального смысла этих понятий2.
Потом, в XVII в., идея гомогенности пространства
устранила из картины мира привилегированные системы
отсчета и вместе с ними — привилегированные
пространственные направления. Что касается времени, то в XIX в.
серия эпохальных открытий привела к
естественнонаучному обоснованию асимметрии времени, представления
о необратимом течении, о стреле времени. Тут
достаточно еще раз упомянуть о Карно и Клаузиусе
(макроскопически необратимый рост энтропии) и, с другой
стороны, о Дарвине (макроскопически, в даппом случае —
филогенетически, необратимый рост приспособленности к
среде).
Раньше означает меньшее значение энтропии,
большую структурность, большую «невероятность», а в
теории эволюции живых существ — это меньшая
приспособленность и, вообще говоря, меньшая диффереицирован-
иость живой природы. Различие состояний раньше и
позже служит основой различения движения времени от
раньше к позже и обратного движения. В концепции
энтропии необратимость времени была высказана в
минус-варианте: иерархически высшим считается исходное
состояние, эволюция идет вниз. В учении Дарвина
иерархически высшим представляется результат эволюции,
которая идет вверх, это — плюс-вариант необратимости.
Такое различие уже существовало в XVIII в. в
общественной мысли. Руссо говорил об эволюции общества
как о деградации от исходной гармонии к позднейшим
язвам цивилизации. Вольтер перенес идеальное
состояние общества в будущее, для него процесс идет
иерархически вверх, это — плюс-вариапт необратимости.
Во всех классических модификациях принципа
необратимости времени она макроскопичиа и противостоит
механическим, обратимым локальным процессам. Следует
Некоторые положения этой главы опубликованы в статье:
Кузнецов Б. Г. К вопросу о необратимости космической эволюции,
познания и культурно-исторического прогресса.— Фллос. науки,
1976, № 6, с. 43—55; 1977, Кг 1, с. 43—54, а также в кн.:
Кузнецов Б. Г. Эйнштейн. Жизнь, смерть, бессмертие. 5-е изд. М.,
1979, с. 384-394.
22
заметить, что механические движения обратимы, если
обращать внимание на уравнения движения, игнорируя
начальные условия.
Теория относительности представила мир как
неразрывный пространственно-временной континуум.
Релятивистская ретроспекция делает отчетливой сквозную идею
необратимости пространства и времени. Тем самым
теряет физический смысл тривиальная обратимость
пространства, обладавшая таким смыслом в рамках
классической теории. Конечно, пространственная траектория
обратима. Измерения «от головы до хвоста» и «от хвоста до
головы» дают тождественные результаты, но они имеют
физический смысл, если все происходит мгновенно, если
в игру не входит время. И если (здесь уже начинается
не релятивистская, а квантовая ретроспекция) сам
процесс измерения не меняет объект измерения. В этих
«если» и состоят условные постулаты классической
пауки.
Само понятие пространства как такового,
противопоставленное понятию вещества, связано с понятием
движения. Реальное небытие — пустота — реально в
качестве совокупности мест, которые были заняты
частицей раньше либо могут быть заняты в будущем, позже.
Речь идет о той же самой, тождественной себе частице.
Присоединение времени и различие между раньше и
позже позволяет констатировать нетривиальную себетож-
дествешюсть частицы. Нетривиальную в отличие от
тривиальной себетождественности частицы в данное
мгновение и в данной точке. Такая нетривиальная себетождест-
иешюсть требует, чтобы различие локализаций частицы
п пространстве сочеталось с различием локализаций во
времени. Различие пространственных локализаций — это
изменение предикатов частицы, если речь идет о
механике — ее трех координатах. Различие временных
локализаций — это само бытие частицы, это мера
себетождественности частицы; заполнением интервала Д£, в
отличие от заполнения интервала Ах, служит не изменение
предикатов, а сохрапение субъекта этих предикатов.
Таким образом, в древности уже существовала в
зачаточной форме идея (3+1)-мерного континуума («небытия»)
как условия бытия, как выхода из гераклито-элеиской
коллизии стабильности и изменения,
себетождественности и смены предикатов, как основы представления о
движущемся физическом объекте.
23
Классическая паука сохранила это представление
вместе с его неявным условием—(3 + 1)-мерным
континуумом. Но последнее сохранилось с некоторым
дефектом. Для механики в собственном смысле допускалась
в принципе бесконечная скорость тела, т. е. вырождение
времени, чисто пространственная картина. Для
распространения взаимодействий бесконечная скорость
допускалась не только в принципе, по и во всех случаях. Тем
самым физический смысл приобретало то «если», о кото*
ром только что шла речь. Специальная теория
относительности устранила такое допущение. Общая теория
относительности показала, что дополнительная координата,
время, образует арену, где трехмерное пространство
меняет метрику, где объектом изменения становится
мероопределение, где может меняться топология пространства.
Квантовая механика является некоторым принципиально
новым этапом длительной эволюции сравнительно
сложной классической концепции времепи. Концепции его
необратимости, основанной на переходе от локальных
пространственных процессов к
статистически-макроскопическим. Исходные процессы могут быть обратимыми, но
изменение состояния макроскопической системы
необратимо. В течение макроскопического интервала времени
система переходит от менее вероятного состояния к более
вероятному. Таким образом, возникает специфика
необратимого макромира и иные, специфические законы
микромира. XIX век нашел в статистике связь между
необратимым макромиром, подчиненным эакону энтропии,
и лишенным необратимости микромиром. Необратимым
оказывается временной, достаточно большой интервал, в
течение которого в достаточно большом n-мерном
пространстве происходит переход от менее вероятных к более
вероятным состояниям.
В квантовой механике локальные процессы не
игнорируются. Статистические, вероятностные законы
определяют именно эти исходные, локальные процессы. Они
включают процессы измерения сопряженных переменных.
Если одна из них, скажем положение частицы,
приобретает все более точные характеристики, то другая (в этом
случае — импульсы) определяется лишь через
вероятность, через волновое уравнение. Эти процессы вводят
в теорию некоммутативность — псевдоним некоторой
необратимости измерений. Но за такой квантовой
необратимостью стоит, по-видимому, более сложная, квантово-реля-
24
тивистская пеобратимость. Можно думать, что
интегральная необратимость, вытекающая из квантово-релятивист-
ских позиций, отличается от классической, энтропийной
необратимости знаком. Квантово-релятивистская
концепция — это плюс-вариант необратимости, она констатирует
возрастание сложности и дифференцированности мира.
Она выходит за пределы физики и становится
подлинно философской концепцией: направление стрелы времи-
ни как эволюции бытия совпадает с направлением
необратимой эволюции познания и необратимой эволюции его
ценности.
Необратимая логика
К вопросу о связи проблемы необратимости познания
п мегапауки можно подойти со стороны логики. Каждый
круг познания, каждый необратимый переход от одной
парадигмы пауки к другой сопровождается изменением
не только логических выводов, но и самих логических
норм, т. е. тем, что получило название металогических
преобразований. В качестве иллюстрации таких
преобразований можно взять ряд логик различной валентности,
т. е. логик с различным числом оценок высказываний
(«истинно», «ложно» и других, более сложных),
соответствующих различным концепциям движения.
Усложнение валентности является необратимым процессом. Его
наличие видьо уже в классической логике.
Генезис классической науки был связап с переходом
от качественной логики к математическому анализу.
Такой переход отнюдь не означал отказа от логических
канонов Аристотеля; просто эти каноны стали
недостаточны, они претерпели некоторое обобщение и при этом
вплотную подошли к математическому анализу, к
основаниям исчисления бесконечно малых. Классическая паука
уже не берет в качестве исходного понятие движения ия
чего-то во что-то, как это делали перипатетическая
физика и космология (например, движение к «естественному
месту»). Исходным понятием служит движение от точки
к точке и от мгновения к мгновению. Перипатетическая
концепция естественных движений была физическим
эквивалентом двузначной, бивалентной логики. Вопрос:
«Находится ли тело в его естественном месте?» —
допускал два ответа; высказывание: «Тело находится в его
естественном месте» — допускало две оценки — «истин-
25
по» п «ложно», причем эти оценки и были объяснением
наблюдавшегося движения тел. В классической науке,
чтобы объяснить, почему тело движется таким, а не иным
образом, нужно оперировать локальными
характеристиками: мгновенной скоростью, мгновенным ускорением,
т. е. приписывать движущейся частице бесконечное
число предикатов. Классическая наука исходит из
непрерывных предикатных многообразий. По-видимому, пет
нужды оговаривать, что такой термин не совпадает с
математическим термином «многообразие» — это более
общий и менее определенный, философский термин, как
и некоторые другие термины, которые встретятся далее.
Чтобы перейти от общего попятия предикатов к
положениям частицы, т. е. охарактеризовать движение
частицы на конечном участке ее траектории, теперь уже
необходимо бесконечное число оценок «истинно» и
«ложно». Основной постулат состоит в том, что частица
проходит все точки своей траектории. Подходя к ее
движению с точки зрения принципа наименьшего действия, мы
противопоставляем истинную траекторию (бесконечное
число оценок «истинно» для утверждения о
пребывании частицы в каждой точке) и другие траектории
(бесконечное число оценок «ложно» для аналогичных
утверждений), полученные при вариации. Логику с таким
числом оценок можно назвать бесконечно-бивалентной и
обозначить как 2 со-валентную логику. Здесь
обнаруживается выход из логики в собственном смысле в
математику, в анализ бесконечно малых.
Чтобы охарактеризовать квантовую логику, пужно
исходить из принципа неопределенности (невозможность
получить в одном эксперименте точпые значения
сопряженных переменных). Принцип неопределенности
указывает условия применения классических понятий к
микромиру. Такое условие состоит в переходе от значений
координат, импульса и других динамических переменных
частицы к вероятностям; положение электрона может быть
установлено со сколь угодно большой точностью, если
«пробабилизировать» это понятие: иметь в виду
вероятность пребывания, а не достоверное и однозначное
пребывание электрона в дапной точке. Такой переход
означает замену оценки «неопределенно» (для утверждения
о локализации электрона) оценкой «истинно» или
«ложно» (для утверждения о вероятности локализации). В этом
случае перед нами переход от логики, включающей, паря-
26
ду с «истинно» и «ложно», третью оценку «неопределенно»
(трехвалентная логика), к логике с двумя оценками. При
переходе от вероятностей к значениям самих переменных
мы совершаем обратное преобразование. Далее, переходи
от одной динамической переменной к другой, мы для
одной из них последовательно заменяем бивалентную
оценку третьей оценкой «неопределенно», а для другой
переменной исключаем такую оценку. Все это позволяет
назвать логику нерелятивистской квантовой механики
трехвалентно-бивалентной, (3 ^* 2) оо-валентной логикой.
Позитивно-классическая сторона квантовой
механики — возможность при некоторых условиях (соотношение
неопределенностей сопряженных динамических
переменных) применить классические понятия к микромиру —
имеет существенное значение для квантовой логики. Она
дает повод для логических операций, при которых
меняется число возможных оценок, т. е. для применения
логики переменной валентности.
О характере квантово-релятивистской логики можно
говорить исходя из уже упоминавшихся неоднозначных,
крайне гипотетических прогнозов о характере некоторой
квантово-релятивистской теории, достигшей относительной
логической замкнутости. При неоднозначности
конкретных прогнозов в теории элементарных частиц некоторые
общие логические контуры ее вырисовываются с
относительной достоверностью. Представляется вероятным
существование субкваитового мира ультрарелятивистских
процессов, которые состоят не в движении
тождественных себе частиц, а в траисмутациях, во
взаимопревращениях частиц.
Этот ультрарелятивистский мир сосредоточен в
областях, где локализация частицы не может быть
гарантирована макроскопическим прибором, где нельзя сводить
взаимодействие полей к взаимодействию квантового поля
с прибором. Соответственно в этом мире нельзя делить
пространство-время до бесконечности, рассматривая все
меньшие отрезки как траектории движущейся частицы.
Здесь исчезают непрерывные предикатные
многообразия, и само пространство-время, может быть, должно
рассматриваться как дискретное. Задача состоит в том,
чтобы найти переход от этого субквантового и
ультрарелятивистского мира к миру непрерывных многообразий.
Какая логика соответствует подобной концепции? Если
частица при элементарных «сдвигах» перестает быть
27
тождественной себе, если эти «сдвиги» в ультрамикроско-
иическом плане являются трансмутациями, то
локализация частицы («частица находится в такой-то
пространственно-временной клетке») может иметь только одну
оценку «истинно». Если субъект не обладает этим
предикатом, перед намц пион субъект; если он теряет
указанный предикат, данный субъект исчезает. Здесь область
моновалентной логики. Очевидно, моновалентные
суждения не могут образовать непрерывного ряда, в котором
одному и тому же субъекту приписывается бесконечное
множество предикатов — непрерывное предикатное
многообразие.
Не следует понимать сказанное так, как будто моно-
иалентиая логика -- это логический псевдоним
трансмутации частицы. Это общелогическое понятие, с которым мы
сталкиваемся, когда происходит переход от изменения
предикатов тождественного себе субъекта к смене
субъекта, к аннигиляции и порождению, т. е. от бытия как
связки субъекта с предикатом к абсолютному бытию
(«Буцефал есть!»). Поэтому неоднозначность трансмута-
циопиых моделей не колеблет понятия моновалентной
логики. Слово «трансмутация» приобретает здесь уже
не физический, а более общий смысл — события, которое
приводит к появлению субъекта, подчиненного новым
логическим нормам.
Моповалентная логика на первый взгляд кажется
абсолютно исключающей необратимость предикатных
многообразий и соответствующих логических рядов, да и само
понятие таких рядов. По только на первый взгляд.
Элементарность моповалентпой логики так же сомнительна,
как и элемептариость элементарных частиц. Моновалент-
пая логика обладает таким же позитивным и
универсальным значением, как и ее физический прообраз —
трансмутация частицы. Понятие трансмутации требует
понятия непрерывной мировой линии. Трансмутация,
превращение частицы одного типа в частицу другого
типа, означает переход от одной эвентуальной мировой
линии (характеризующей один тип элементарных частиц)
к другой эвентуальной мировой линии (характеризующей
другой тип частиц). Траисмутации не могут
рассматриваться как кирпичи мироздания, да и сам обраэ
«кирпичей» не подходит для современных представлений. Со*
ответственно моповалентная логика — это момент
перехода от цени логических суждений, подчиненных одним ло-
28
гическим нормам, к цени логических суждений,
подчиненных иным логическим нормам. Это металогический
переход.
Необратимость металогических переходов требует
некоторых дополнительных пояснений. Допустим, что
логические сузкдеиия, как и раньше, представляют собой
констатации пространственных положений частиц.
Пребывание во второй точке, вообще говоря, не вытекает из ее
пребывания в первой, констатация перехода отнюдь ие
позволяет идти вперед по траектории и утверждать что-
либо о предшествующих и последующих положениях.
Проблема логической дедукции возникает в том случае,
когда у нас есть основания для каузальной констатации:
post hoc ergo propter hoc. Тогда создается возможность
восстановления прошлого и предвидения будущего,
объяснения и прогноза.
Обе эти операции —- логические. Логическая дедукция
симметрична, если вид каузальной функции не изменен.
В противном случае, когда пребывание в точке
сопровождается изменением вида функции, вариацией,
изображающей траекторию кривой, объяснение и прогноз, рань-
ше и позже отличаются не только координатами
частицы, но и видом логической дедукции, последняя
становится асимметричной, необратимой. Мы включаем в нее
некоторую необратимую эволюцию. Это весьма общая
ситуация. Когда объемы двух суждений являются
подпространствами более общего суждения, то распространение
предиката симметрично, если при таком распространении
не меняется общее включающее их пространство. Но
именно такое изменение характерно для кваптовой и еще
больше — для кваитово-релятивистской логики.
В квантовой механике суждение о локализации
частицы является экспериментом, изменяющим ее мировую
линию. В квантово-релятивистской физике (какими бы
ни были намечающиеся в ней конкретные образы,
понятия и модели — речь идет о некоторой общей тенденции)*
локализация частицы еще радикальнее меняет в «черном
ящике» ультрарелятивистских процессов мировую линию
и эвентуальная мировая линия становится ииой по
сравнению с уже пройденной, позже отличается от раньше.
металогика вторгается в логику и делает ее необратимой.
Речь идет именно о необратимой логике. Раньше
и позже не обязательно относятся ко времени как
четвертому измерению для трехмерного пространства. Про-
29
странство логических суждений может иметь любое
число измерений, но в необратимой логике в нем
существует дополнительная к этому числу (п + 1)-я ось
необратимого усложнения предикатов.
Отсюда вовсе не следует, что необратимость времени
как четвертого измерения вытекает из априорных
логических конструкций. Термины «квантовая логика» и «кванто-
во-релятивистская логика» означают существование
эмпирических корней логики как отражения
трансформирующегося бытия. Но в квантовой и кваитово-релятивист-
ской ретроспекции видно, что классическая логика также
в какой-то мере испытывала пеобратимые переходы
к иным нормам, металогические переходы. Только
переходы эти были незаметными, подобно квантовым и
релятивистским коррективам, несущественным в картине
мира, которая оперирует масштабами и скоростями,
позволяющими приравнять скорость света бесконечности,
а постоянную Планка — нулю. Логику можно было
считать неподвижной, подобно часовой стрелке на
циферблате: бег времени не был заметен. Теперь логику науки
скорее можно было бы сравнить с секундной стрелкой.
Но и секундная стрелка, как и весь часовой механизм,
отмечает бег времени, но не изменения конструкции
механизма. Поэтому и быстрый бег секундной стрелки не
демонстрирует необратимости времени, которую легче
усмотреть в поэтическом образе Державина («Глагол
времен, металла звон, твой страшный глас меня
смущает...»); обратимые движения частей часового механизма
предвещают приближение фатально необратимого финала
человеческой жизни.
Подобный образ ассоциируется и по содержанию и по
тону с пессимистической необратимостью. Но в более
общем смысле он может ассоциироваться и с
оптимистической (плюс-вариант) версией необратимости, с концепцией
бесконечно продолжающегося, необратимого
усложнения бытия и познания. Представим себе кибернетические
часы, которые через определенные периоды меняют свою
конструкцию. Тогда взгляд на часы констатирует не
только течение времени, но и направление течения,
«стрелу» времени, его асимметрию. Логика может быть
аналогом такого отсчета, если последовательность
обратимых логических связей, где посылка может стать
выводом, приводит к металогическому преобразованию. А
теперь, чтобы сделать аналогию еще более близкой,
предай
ставим себе, что каждый ход маятника часов меняет их
конструкцию. Тогда мы получим нечто напоминающее
логику, в которой последовательность обратимых
умозаключений все время сопровождается необратимым
изменением, получим прибор, регистрирующий необратимый
бег времени. Дело в том, что здесь регистрируются не
только изменения в положении и скорости маятника,
колесиков и стрелок, но изменение конструкции часов,
возрастание их сложности. В отличие от других
количественных и квазиколичественных понятий понятие ранга
по своему смыслу иерархично.
Топология бытия
Понятия иерархии, ранга, реального необратимого
перехода, образующего основу анизотропии времени,
связаны с самыми общими определениями бытия. Конечно, не
гегелевского чистого бытия, лишенного конкретных
определений и потому равного чистому ничто. Указанные
понятия связаны с определениями бытия как высшей
абстракции и вместе с тем самой богатой конкретности,
бытия, обладающего бесконечно растущим числом
предикатов, меняющегося, движущегося, очень далекого от
бытия элеатов, тождественного себе во времени и
пространстве. Бытия, в котором движение является формой суще*
ствоваиия материи. Если сопоставить эту формулу с идеей
движения, включающего иерархию форм и
переходы от более простых форм к более сложным и не
сводимым к этим простым формам, то становятся явными
связи концепции необратимого времени с представлением
о бытии как о необратимом процессе. Это представление
объединяет и синтезирует все бесконечные модусы
субстанции и дополняет совокупность таких модусов —
спинозовскую natura naturata — единым определением
пх — спинозовской natura naturans.
Такое представление о бытии как о процессе
конкретизации связано и со сшшозовскимп категориями
творящей и сотворенной природы, и с гегелевским
учением о бытии, и с Марксовой концепцией перехода от
общих абстрактных определений к богатой определениями
конкретности и позволяет с большой общностью
сформулировать идею времени как необратимой меры бытия,
не растворенного в меняющихся предикатах. Время — это
мера бытия атрибутов в отличие от обратимого бытия
Я1
модусов. Субъект необратимой трансформации — это спи-
иозовское множество атрибутов субстанций; движение
образующих natura naturata модусов сопровождается
необратимым усложнением natura naturalis. Но, как всегда,
при реминисценции происходит некоторая переоценка
и прошлого, и настоящего. Осмысление natura naturans
в качество бытия как субъекта необратимой
структуризации придает спинозизму более физический характер.
Фейербах говорил, что Спиноза смотрит на мир в
телескоп, а Лейбниц —в микроскоп. Сближение «телескопа»
Спинозы с «микроскопом» Лейбница было присуще
развитию науки уже в XVIII в., а сейчас оно опирается на
сближение космологии с теорией элементарных частиц.
Выражением этой вековой и в то же время всегда
актуальной тенденции служит представление о
необратимой эволюции космоса как об усложнении его модальной
структуры.
Как уже говорилось, проблема бытия как сквозная
проблема философии семантически выражается переходом
от глагола «быть» как связки субъекта с предикатом
(«Буцефал есть лошадь») к абсолютному «быть»
(«Буцефал есть!»). Это «есть!» отделяется от множества
предикатов и становится спонтанным, внутренним, собственным
определением бытия. В четырехмерном мире
эквивалентом такого определения является время. Оно отличается
от трехмерных пространственных локализаций
движущейся частицы и играет здесь роль меры самого бытия
частицы. Тем самым субъект как бы сохраняет свою
независимость от меняющихся предикатов, субстанция — от
акциденций, существовавшая во времени частица — от ее
локализации, субъект сохраняет себетождественность, свое
«внепредикатное» бытие. Сама себетождествепиость
становится процессом, движением, координатной осью.
Может быть, не лишним будет еще раз напомнить, что
здесь мера и размерность, как эквиваленты
структурности бытия, суть не геометрические понятия, а
философские, связанные с понятием предикатных многообразий
и необходимые для перехода к проблеме абсолютного
бытия, в которой и заключена тайна необратимости. В
случае четырехмерного континуума мы можем
различать совокупность трехмерных локализаций, образующих
пространство в собственном смысле, н одномерное
время — меру самостоятельного, независимого от
локализации бытия частицы. Таким образом, время как четвертая
32
координатная ось — это субстанциализация трехмерного
предикатного многообразия. По отношению к предикатам,
отвлекаясь от их различия, выражая их общность, время
становится характеристикой бытия как такового. Как уже
говорилось, отнюдь не гегелевского бытия, лишенного
предикатов, а бытия как предельной абстракции,
обладающей предельной конкретностью, предельной
сложностью, бесконечным многообразием предикатов.
В современной науке, наряду с привычным
трехмерным пространством, развивается понятие абстрактного
многомерного, даже бесконечномерного «пространства».
Предположим, что число измерений даппого
абстрактного w-мерного пространства растет п = n(t) и рост
необратим, так что ранг сложности, структурности, дифферен-
цированности картины мира становится все более
высоким. Ы+ 1)-я ось и служит мерой такого необратимого
процесса. Таким образом, необратимость времени
выражает фундаментальную особенность бытия как
такового — понятия, не только наиболее богатого
определениями, но и обладающего растущим множеством таких
определений. Фиксируя точку на (п+ 1)-й оси и
рассматривая соответствующее n-мерное подпространство, мы
приписываем субъекту а предикаты хи х2у ..., хл% т. е.
включаем а во множестве Хи Х2, ..., Хп. Ио наличие (л 4-
+ 1)-й оси, времени £, показывает, что субъект
субстанциален, что он не является «связкой предикатов», что
движение не может существовать без движущегося тела,
что бытие не растворяется во множестве предикатов, (п 4-
+ 1)-я ось — это характеристика интенсивности бытия,
мера его усложнения, мера последовательного
нарастания предикатов субъекта.
Чем же отличается (п + 1)-я ось от п других осей?
Иначе говоря, если отнести термин «геометрия» к п-мер-
ному пространству, то чем отличается хронометрия от
геометрии!
Движение по (n -f- 1)-й оси — это трансформация,
подчиненная иной логике, вернее, в ней выражается измене-
пне логических норм, металогический переход к иной
логике. Подобные трансформации, воздействие Всего на его
локальные элементы и претендуют на роль основных
процессов бытия, воплощения его бесконечной сложности.
Эти преобразования объединяют все процессы,
находящие свое выражение в топологической группе,
определяют их в их целостности, являются общим аккомпанемент
33
том всех преобразований, подобно тому как в
термодинамике рост энтропии рассматривается как общий
аккомпанемент всех энергетических преобразований. Из
релятивистской идеи — все пространственное происходит во
времепи — и из квантовой идеи некоммутативности
исходных определений микромира возникает как их
обобщение образ космоса, уже не пожирающего бытие, а
воплощающего возрастание интенсивности бытия,
богатства его определений. Метрика времени, хронометрия н
буквальном смысле, опирается на обратимость бытия, на
повторение событий — таких событий, как положение
Земли на ее орбите, или положение точки на земной
поверхности по отношению к Солнцу, или положение
стрелок на циферблате часов, или любой другой, с некоторой
точностью повторяющийся цикл. Но усложнение мира
остается фоном параметризованного времени. Время
выражает в своей обратимости многообразие предикатов,
например многообразие положений Земли на орбите. В
своей необратимости время выражает растущее
многообразие всех подобных многообразий. Иначе говоря, время
в своей обратимости остается так или иначе параметри*
зованным, оно сохраняет связь с измерением, а в своей
необратимости выходит за эти рамки, выражает
неповторимость, нетождественность пространственно-временных
ситуаций.
Одно замечание о термине «топология». Этот термин
имеет здесь несколько специфический смысл. Он связан
с математическим термином следующей аналогией.
Группы преобразований соответствуют изменениям предикатов
тождественных себе объектов. Но мы переходим от бытия
как связки субъекта с предикатом к абсолютному
бытию. Именно такой переход вызывает необходимость
модификации физических и математических терминов, их
некоторого переосмысления. Абсолютному бытию
соответствует понятие, объединяющее все непрерывные
преобразования тождественных себе объектов.
В мире происходят разрывы непрерывности. Они лежат
в основе возникновения новых начальных условий, они
выходят за рамки уже известных законов движения, они
создают необратимость бытия. Их логический эквивалент —
моновалентпые разрывы предикатных многообразий.
Возрастание размерности — весьма общий аспект разрывов
непрерывности. В конце XIX в. великие математические
открытия обнаружили взаимнооднозначное соответствие
34
между множеством точек линии и множеством точек
плоскости (Кантор) и непрерывное отображение отрезка
на весь квадрат (Пеано). Но в 1911 г. Брауэр доказал
теорему, согласно которой п- и m-мерные евклидовы
пространства не гомеоморфны. Отображения,
изменяющие размерность, могут быть взаимно-однозначны, но
в любом случае не взаимно-непрерывны. Такой
результат открыл дорогу топологическому пониманию
размерности. Более общим, уже не гомеоморфным
преобразованиям соответствуют необратимые разрывы
непрерывности, которые создают стрелу времени — выражение
последовательной, дискретной, необратимой
структуризации бытия.
Вернемся к проблеме самопознания современной науки
и необходимых для него квазифизических концепций.
Оно предполагает не только гносеологические
характеристики и попытки определения дальнейших путей
науки. Меганаука — это не только система исходных
принципов и методов, позволяющих увидеть главные потоки
познания природы и направление этих потоков, но и их
эффект, их ценность. Самопознание науки отвечает на
вопрос о границах научного познания; оно — одна из
основ гносеологического оптимизма. Оно снимает перед
перспективой познания призрак его исчерпания, какую
бы форму этот призрак ни принимал — непознававхмого
предела, или познаваемого априорно «зафизического»
лпбо «сверхфпзического» абсолюта, или окончательно
познанного субстрата бытия.
Когда речь идет о наиболее полном и общем
постижении судеб Вселенной и того, что казалось ее
элементами, а оказалось микроотображением Вселенной, физика
сопоставляет различные варианты своего дальнейшего
развития. Они еще не являются физическими
концепциями, но служат их необходимым условием. Чтобы строить
новые сверхмощные ускорители, нужно думать о том, что
будет открыто с их помощью, а это заранее однозначно
неизвестно, иначе не нужно было бы их строить.
Неоднозначные прогнозные концепции, которые не нашли
эмпирического подтверждения, но готовы к применению этого
физического критерия, могут быть названы квазифизиче-
сними. Квазифизические концепции противостоят мета-
физическим и догматическим границам познания. Их
значение вырастает исторически, по мере перехода к более
точным представлениям о мире, а также при переходе
35
ко все более фундаментальным проблемам. Раньше
фундаментальная наука включала поиски подлинно
неподвижного фундамента, на котором можно было бы строить
с полным убеждением в его устойчивости. Сейчас в
неклассической науке фундаментальные исследования
неотделимы от апорий и нерешенных проблем, это область,
где больше всего ощущается самопознание науки, где
многое высказывается «в кредит», в расчете на
вероятные дальнейшие шаги пауки, где однозначные,
собственно физические представления о мире в целом и его
ультрамикроскопических элементах особенно часто
предварены неоднозначными прогнозными конструкциями.
В данном случае, когда речь идет о пеобратимости
примени, самопознание науки толкает ее к исследованию
Вселенной в целом и элементарных частиц как
связанных друг с другом полюсов структурного бытия,
иерархии взаимодействующих систем. Именно здесь
современная наука ищет противостоящие тепловой смерти и
пессимистическому фипитизму ресурсы бесконечного
усложнения мира как физического эквивалента необратимого
времени.
Что же могут дать этим поискам ретроспекция и
прогноз? Какая сквозная линия научного развития
просматривается через лишенные однозначной определенности,
прогнозные и вместе с тем связанные с ретроспекцией
квазифизические конструкции?
Цилиндрический мир Эйнштейна по существу стал
после Фридмана коническим, радиус его кривизны
растет. Может ли этот рост стать обоснованием
необратимой космической эволюции? Ответ может быть дан
именно в квазифизическом плане. Все, что можно сказать
о необратимом расширении Вселенной или о необратимой
эволюции, сочетающейся с пульсациями, относится
больше к перспективам науки, чем к перспективам
мироздания. Перспективы науки связаны здесь с некоторыми еще
не достигшими «внешнего оправдания» концепциями,
которые объединены идеей растущей сложности мира.
Схема конического пространственно-временного мира
Эйнштейна — Фридмана все в большей отепени связывается
сейчас с отказом от презумпции элементарности и с
представлением о практически бесконечной и бесконечно
растущей сложности мироздания, отраженной в его
локальных элементах. Иначе говоря — со схемой
конического мира, в котором круг и дифференциация объектов
36
и процессов необратимо растут. Нетрудно найти
примеры весьма общей тенденции современной пауки —
представления об отражении неисчерпаемости мира в
локальных здесь-теперь. Ограничимся одной из концепций
дискретного пространства-времени — схемой трансмутаций
в минимальных пространственно-временных областях,
где ход вещей может быть объяснен воздействием
конечной Метагалактики.
Упомянутая концепция исходит из регенерации
частицы, т. е. ее трансмутации в частицу иного типа и
затем последующей траисмутации в исходный тип. Такая
регенерация реализуется на расстоянии р порядка
10~14 см через т порядка 10~24, что дает скорость
результирующего ультрамикроскопического перемещения,
равную скорости света. Смысл концепции не меняется, если р
и т на несколько и даже на много порядков меньше.
Если эти регенерации-сдвиги могут происходить с одной
и той же вероятностью пространственных направлений, то
после большего числа сдвигов частица останется вблизи
того же места, ее макроскопическая скорость окажется
равной нулю. Если же в пространстве существует
асимметрия вероятностей, макроскопическая скорость будет
различной, пропорциональной асимметрии, но не сможет
превысить ультрампкроскопическую скорость — скорость
света. Асимметрию можно связать с силовым полем,
а противостоящую ей симметрию — с массой и объяснить
последнюю воздействием Метагалактики3.
Посмотрим на эту схему в свете того, что говорилось
об изменении размерности. Интервал р порядка 10~14 см
на ультрамикроскопической траектории трансмутирующей
и регенерирующей частицы — нуль-мерный объект.
Внутри р нет метрики, это неделимый интервал, атом
пространства, он не имеет частей. Именно такое понимание
нуль-мерности стало отправным пунктом для Пуанкаре
при построении индуктивного топологического
определения размерности 4.
Теперь рассмотрим уже не интервал, а отрезок р,
иначе говоря, спросим: на каком расстоянии
прекращается дальнейшее деление пространства на части? Мы уже
смотрим не на содержание р, а на размеры содержащей,
ограничивающей его пространственной камеры. Тогда р
3 См.: Кузнецов В. Г. Этюды об Эйнштейне. 2-е изд. М., 1970,
с. 191—216.
4 См.: Пуанкаре Л. Наука и гипотеза. Мм 1904, с. 41. Изд. 2. М.:
Книжный дом «J1h6dokom»/URSS, 2010. «7
оказывается трехмерным объектом конечных размеров.
Теперь обратим внимание на макроскопическую
траекторию частицы, которая под влиянием силы становится
асимметричной в своих случайных блужданиях: это кон-
тинуализированная (тем больше, чем больше асимметрия
направлений, т. е. импульс частицы) траектория. Скорость
на ней уже может быть и не равной р/т = с, она может
колебаться между с и 0. Ультрамикроскопическая
траектория проецируется здесь своим элемептом р как
бесконечно малое расстояние, как метрическое трехмерное
понятие. Таким образом, основной процесс,
конституирующий тождественную себе частицу, создающий из транс-
мутаций-регенераций основу ее макроскопического
бытия,— это переход нуль-мерного объекта в трехмерный.
Аналогична ситуация со временем. Интервал т
нуль-мерен, отрезок т одномерен и конечен, проекция т в
макроскопическом времени — бесконечно малая величина.
Заметим еще, что переход от интервала к отрезку и в
случае р и в случае т — это по существу их экстериориза-
ция, это включение презумпции окружающего . р и т
непрерывного пространства-времени, презумпции сущо-
ствования непрерывных мировых линий. Да и само
понятие трансмутации, т. е. изменения эвентуальной мировой
линии, имеет смысл только при такой презумпции.
Таким образом, возникновение тождественных себе
частиц из вакуума, из ультрамикроскопических траисму-
таций — это возникновение ненульмерной размерности.
Дальнейшее усложнение картины двужущихся
тождественных себе частиц — это рост размерности. Разумеется,
квазифизическая гипотеза элементарных трансмутаций —
это лишь доказательство принципиальной возможностп
физической топологии, из которой следует необратимость
времени, вытекающая из последовательной
структуризации мира.
Энтропия и негэнтропия
Классическая концепция роста энтропии как основы
необратимости времени включала картину деструктури-
зации мира. Исходные механические процессы считались
обратимыми, а необратимость вырастала из
последовательной ликвидации макроскопических перепадов.
Основой идеи необратимости было второе начало
термодинамики. Непосредственное впечатление необратимости
38
вытекало из молекулярно-статистической необратимости.
Когда на экране видны кадры кинофильма,
проигрываемого в обратном направлении, то парадоксально не
движение локомотива назад, а образование дыма в воздухе
и его втягивание в трубу *. Но подобная необратимость не
распространялась на космический процесс в целом. Теория
тепловой смерти делает необратимость времени конечной,
необратимая эволюция заканчивается статической
мировой Вселенной без энергетических переходов. Эга теория
ограничивает необратимую эволюцию во времени.
Теория Больцмана ограничивает ее в пространстве.
Необратимая энтропия характеризует большие острова
Вселенной, где произошли флюктуации, создающие
температурные перепады. Классическая физика не создает общей
картины бесконечной в пространстве и во времени
необратимой эволюции мироздания.
Создает ли такую картину неклассическая физика в
своих наиболее фундаментальных направлениях, в рамках
современной меганауки?
Для неклассической науки характерен учет
взаимодействия между ультрамикроскопическими процессами и
макроскопическими «классическими приборами».
Современная наука не исключает воздействия ультрамикроскоп
пического процесса па космос. В гносеологическом плане
перед нами последовательный запрет игнорирования
микропроцессов. В одном из критических замечаний в адрес
квантовой механики Эйнштейн спрашивал: «Если мышь
смотрит на Вселенную, меняется ли от этого состояние
Вселенной?»6. С квантовой точки зрения, безусловно,
меняется. В квантовой механике «взгляд» (даже взгляд
мыши) напоминает о лучах зрения Декарта, которые
ощупывают предмет, как слепой ощупывает палкой
дорогу. Взгляд, являющийся измерением, меняет объект. Все
дело в том, что при масштабах, которые были близки
человеку в классические времена, воздействие измерения
было пренебрежимо малым. Теперь это изменилось.
Воздействие «взгляда» стало технически осязаемым и
существенным, историческая ретроспекция позволяет
обобщить такое воздействие и рассматривать мир не только
как множество изолированных систем, а как систему
* Мейерсоп Э. Тождественность и действительность. СПб., 1912,
с. 223—228.
6 См.: Уилер Дж. Предвидение Эйнштейна. М., 1970, с. 17.
39
взаимодействующих систем. Понятие изолированной
системы уже у Ньютона было приближенным и, вообще
говоря, связанным с понятием взаимодействия, в том числе
взаимодействия включенных систем с включающими.
Неклассическая наука переносит акцент на такое
взаимодействие. Подобный перенос меняет оценку процесса
возрастания энтропии и процесса образования систем,
структуризации мира, роста негэнтропии. И меняет взгляд
на закон энтропии как на основу необратимости времени.
Второе начало термодинамики, мысль о возрастании
энтропии в изолированной системе, о последовательном
весьма вероятном сглаживании температурных перепадов,
о переходе от менее вероятных упорядоченных состоянии
к более вероятным, сравнительно неупорядоченным,
рассматривались как физическая основа необратимости
времени в очень обширной философской, физической и фило-
софско-физической литературе. В сталкивающихся одна с
другой концепциях, в оживленной полемике пробивала
себе дорогу некоторая общая тенденция, которая в целом
противостоит идее необратимого, последовательного
возрастания энтропии, ведущего Вселенную к тепловой
смерти. Идея тепловой смерти уже не раз встречала
веские возражения против ее применения ко Вселенной.
В новейшей литературе о необратимости времени можно
увидеть весьма общую тенденцию выйти за пределы
изолированных систем, учесть взаимодействие систем и
начальные условия в системах в качестве физической
основы поступательного, необратимого течения времени7.
Такая тенденция — ее можно было бы назвать тенден-
7 Представление о путях развития проблемы необратимости
времени можно почерпнуть в фундаментальных монографиях: Рей-
хепбах Г. Направление времени. М., 1962; Грюнбаум А.
Философские проблемы пространства и времени. М., 1969; Уигроу Дж.
Естественная философия времени. М., 1964,—и в других книгах
и статьях, из которых вышедшие до конца 60-х годов в
значительной мере указаны в библиографии, приложенной к
русскому переводу указанной книги А. Грюнбаума. Что же касается
термодинамических идей, выражающих указанную тенденцию
нити-изоляционизма, то здесь существенным ео выражением
служат представления И. Пригожина и его школы о неравновесных
состояниях (см., напр.: Гленсдорф П., Пригожим, И.
Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флюктуации. М.,
1973). Изложение основного содержания этих представлений в
рамках философского анализа науки XX в. (а также указания
на литературу, вышедшую в 70-о годы) дано в работе: Pringo-
gine I., Stengers I. La Nouvelle Alliance. Métamorphose de la
Science. P., 1981.
40
цией антиизоляционизма — радикально Меняет
перспективы решения обсуждаемой проблемы. Пеклассическая
наука видит во взаимодействии систем основу их
существования, она в гораздо более явной и общей форме, чем
это было в классической науке, релятивирует понятие
изолированной системы.
«Антиизоляционизм», учет взаимодействия систем,
учет возникновения некоторых начальных условий,
приводит к заключению о двух противоположных
процессах — росте энтропии в квазиизолированных системах и
росте негэнтропии при образовании и эволюции новых:
систем, при взаимодействии систем. В целом происходит
необратимый процесс структуризации мира, его
усложнения. Множество предикатов, свойственных конкретному
бытию мира, растет, элементы мира отражают в своем
индивидуальном бытии его усложняющееся интегральное
бытие, его неисчерпаемость (это отнюдь не отрицательное
определение) становится все более глубокой. Такая
оптимистическая интерпретация необратимости времени
противостоит пессимистической интерпретации — идее
универсального роста энтропии и приближения тепловой
смерти.
Как относится концепция структуризации мира как
основы необратимости времени к выведению
необратимости из релятивистской причинности? О таком выведении
Леон Розенфельд, подводя на сессии Международной
академии философских наук итоги дискуссии, начатой
статьями Коста де Борегара и Ватанабе, говорил: «В полном
согласии с Бором я считаю конечную скорость
распространения сигнала действительным источником стрелы
времени. Мы можем утверждать, по определению, что сигнал
будет принят через некоторое время после его
отправления. Я очень рад, что мы согласны в этом взгляде, весьма
отличающемся от обычного
статистико-термодинамического обоснования стрелы времени». Розенфельд далее
говорил, что подобное релятивистски-причинное объяснение
стрелы времени, в отличие от чисто термодинамического
объяснения, лишь макроскопически справедливого,
применимо также к атомным и субатомным процессам в.
Brillouln L., Rosenfeld L. Note complémentaire.—Revue de
Métaphysique et de Morale, 1962, № 2, p. 247. О релятивистской
причинности как основе необратимости см. также: Зельдович Я. Б.,
Новиков И. Д. Релятивистская космология. М., 1967, с. 597.
41
«Аптиизоляциопизм», учет процессов, создающих
структуры и перепады, всегда был одной из основных
компонент научного прогресса. В XVIII в. Капт
задумался над природой начальных условий, определяющих
тангенциальную составляющую движений планет, над тем,
что Ньютон объяснил первоначальным толчком. Кант в
своей космологической гипотезе объяснил эти начальные
условия предшествующей космической эволюцией.
В XIX в. переход от одной формы движепия к другой и
соответственно от данной системы к более сложной был
обобщен в «Диалектике природы», что и дает основание
для термина «философия начальных условий». В XX в.
переход от одной системы к другой, более сложной,
выявление все большей негэнтропии мира, структуризация
картины мира шли не только от простых форм движения
к сложным, но и в обратном направлении; в конце
концов самая простая форма движения — перемещение
частицы — оказалась самой сложной.
Необратимость познания
Если объекты меганауки — наиболее общие,
связанные друг с другом природные процессы — являются
основой необратимости космической эволюции, основой
необратимости бытия, то идеи меганауки и ее
исторических антецедентов — это основа необратимости познания.
Что такое история науки — история истины или история
заблуждений? Ведь истина тождественна себе, а
заблуждения лишены необратимой эволюции, так что оба ответа
исключают историю. Эта апория неизбежно возникает
перед теорией познания, когда она отвлекается от того,
что делает историю историей,— от времени, включающего
металогические переходы процесса увеличения
размерности науки, т. е. множества общих категорий,
упорядочивающих наблюдения и констатации, (п + 1)-й оси —
необратимой эволюции познания. Изоморфизм науки и ее
объекта — мира позволяет решить многие
гносеологические апории, начиная с той, которая содержится в
начальных фразах этого параграфа. Для нашего времени
характерна неотделимость гносеологического
самопознания науки от отображения мира, «погружения разума в
самого себя», от его «продвижения вперед». Что касается
дилеммы «истина или заблуждение», то сейчас
недостаточно сослаться на бесконечное приближение науки к ее
42
неисчерпаемому объекту, чтобы отбросить дилемму и
доказать «теорему существования» истории науки. Нужно
найти необратимый процесс расширения, углубления,
обобщения и конкретизации познания, нужно показать
необратимость этих самых «погружений разума в самого
себя», т. е. представить прогресс науки как историю
разума в собственном смысле, а не только как историю
рассудка. Такие «погружения», иначе говоря, смены
фундаментальных представлений и, что самое главное, смены
идеалов, методов, логики и структуры науки,— это
научные революции. Именно они создают необратимость
научного развития. Наука может вернуться к уже
существовавшим представлениям, но она не может вернуться от
более общей логики к старой логике, ставшей теперь
частным случаем. Такие необратимые переходы создают
необратимую историю науки — историю научных революции.
Остановимся несколько подробнее на мелькнувшем
выше сравнении необратимого прогресса познания с
необратимой эволюцией мироздания. В. И. Ленин писал о
движении познания по спирали и о кругах интегрального
философского постижения мира 9. Это круги в
многомерном «пространстве» идей, концепций, констатации,
объяснений и прогнозов. Каждая из таких «точек»
гносеологического пространства находится на пересечении
логических и экспериментальных цепей, каждая констатация
или концепция входит в некоторые логические множества.
Наряду с «пространственными» переходами от одной
концепции к другой, наряду с логическими заключениями
и эмпирическими коистатациями, существует некоторый
общий и необратимый процесс усложнения картины мира,
бесконечного, все более полного отображения
объективной бесконечной сложности мироздания и его
объективного, бесконечного усложнения. Таким образом, мы
приходим к необратимой (п+1)-й оси гс-мерного
пространства познания, к необратимости времени в истории
познания. Его временная ось показывает рост интенсивности
и потенций познания, расширение повторяющегося круга,
так что и здесь невольно вспоминается необратимый
конический мир Эйнштейна — Фридмана, в котором
искривленное пространство конечно, а в направлении оси, в
направлении времени оно растет не только по размерам, но
и по сложности своей структуры.
* См.1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 321—322»
43
Есть еще одна сторона аналогии, или, скорее,
гомеоморфизма, необратимой космической эволюции и
необратимого времени в истории науки. Уже было сказано о
дуализме и дополнительности уравнений движения, для
которых характерна обратимость, и начальных условий —
узлов необратимой эволюции. Нечто аналогичное можно
констатировать и в научном мышлении. Оно включает
непрерывные цепи умозаключений и экспериментов —
логику дедукции и логику эксперимента. Эти цепи
аналогичны уравнениям, описывающим движение данного
объекта: мы приписываем па основе уравнения все новые и
новые предикаты движущейся точке, игнорируя
изменения начальных условий. В логических цепях, о которые
идет речь, до поры до времени также можно
игнорировать изменения исходных фундаментальных принципов.
По вот наступают точки перелома — интуитивные
озарения, переносящие саму постановку проблемы па новую
плоскость. Интуитивные озарения кажутся
аналогичными, но в действительности они металогичны. Они
аналогичны преобразованию начальных условий. В науке
«уравнения», аналогичные уравнениям «логические и
экспериментальные цепи», лежат в основе частных границ
между проблемами и областями, в основе классификации
науки. Металогические преобразования «размерности»
науки, переходы на новые плоскости к новым проблемам
и новым объектам познания лежат в основе периодизации
науки. Они-то и создают необратимость научного
прогресса и несводимость истории науки к логической схеме
обратимых дедукций. Здесь история науки становится
явным элементом общей истории цивилизации,
содержание науки переплетается с ее ценностью, идеалы
истины — с идеалами добра и красоты.
Но интуитивные переходы существенны не только для
филогенеза науки, но и для ее онтогенеза. И, более того,
именно они придают необратимость психической жизни
в целом и служат основой субъективного ощущения
необратимости времени. Здесь требуются некоторые
пояснения.
Прежде всего нужно подчеркнуть, что «научное
мышление» не может быть противопоставлено постоянному и
обычному мышлению человека. Во всяком случае, можно,
хотя бы в условной форме, сохранить понятия дедукции
и интуиции, когда речь идет о психической деятельности
человека, не претендующего на научное мышление о мн-
и
ре. Что в психической деятельности может быть основой
необратимости времени, его необратимого течения,
субъективной стрелы времени? Ощущения и впечатления
обратимы. Обратимы и эмоции, волевые акты,
констатации, оценки... Обратимы дедукции, даже относящиеся к
необратимым процессам. Два психических акта будут
некоммутативны, если они тем или иным способом
меняют восприимчивость сознания, его рецепторный аппарат,
включая апперцепцию. Логические дедукции обладают
небольшим апперцепционным эффектом: они сближают
элементы информации, подчеркивают их тождество. Иное
дело интуитивные переходы к новым рядам явлений, то,
что можно назвать переходом мышления к повым
объектам, переходом его к иной размерности.
Необратимость
культурно-исторического процесса
Макроскопическая необратимость познания связывает
космическую необратимость, необратимость эволюции
природы с необратимостью культуры. Какими бы резки«
ми ни были локальные попятные движения, периоды
реставрации старого, в целом ход истории не возвращается
назад. Интегральное развитие цивилизации реализуется
через использование все более общих и глубоких
закономерностей бытия и соответственно через познание всо
более общих законов. При этом старые, уже познанные
законы остаются приближенными, приближенно
справедливыми для частных областей и уже не могут
претендовать на общий характер. В этом смысле история науки
демонстрирует в своем интегральном течении
модификацию более общих законов и принципов при развитии и
применении частных концепций, т. е. весьма общее
соотношение включенных и включающих систем, столь
отчетливо видное в неклассической науке. Это не значит, что
другие, помимо познания, стороны
культурно-исторического процесса лишены необратимости. Эволюция
социальных, моральных и эстетических ценностей в целом также
необратима, и эта необратимость культуры в целом
теснейшим образом связана с необратимостью представлений
о мире и принципов его познания. Познания мира и его
преобразования. Именно через преобразование мира,
через целесообразную и основанную на понимании
каузальных связей компоновку сил природы реализуется свявь
45
между необратимостью мира и необратимостью общества,
та общая необратимость физического и социального
бытия, которая является субстратом их единой истории.
Сам по себе общекультурный эффект познания отнюдь
не означает диктатуры идей и некоторого логического
субстрата истории как его движущей силы. Источником
преобразования логических норм и научных
представлений служит эволюция воздействий человека на
природу — эволюция труда, эволюция производительной силы
труда, эволюция всего способа производства. И это
необратимое движение производительных сил, связывающее
историю общества с растущим объемом и сложностью
целесообразно скомпонованных естественных процессов,
эта эволюция, приводящая в
целесообразно-скомпонованной сфере к росту негэнтропии, в теории Маркса
объясняет историческую эволюцию культуры, необратимость
культурно-исторического прогресса. Преобразование мира
как функция жизни человечества — основа понимания
тех процессов в природе, которые являются основой
необратимости времени. Человек понимает эти процессы
возрастания негэнтропии, усложнения, структуризации
мира, потому что он применяет их.
Условием такого понимания и применения является
совпадение направлений течения времени, связанного с
ходом естественных процессов, и течения субъективного
времени. Пуанкаре говорил, что активность человека,
преобразование мира реализуют совпадение
биологической и психологической стрелы времени с физической
стрелой времени. Если бы они не совпадали, были бы
невозможны ни ретроспекция, ни прогноз. Коста де Бори-
гар развивает эту идею в ряде работ, в частности в своей
статье о квантовой необратимости. Познание направлено
в ту же сторону, что и его объект, и поэтому возможно
реконструировать прошлое и воздействовать на будущее.
Если бы стрела психологического времени была
направлена в прошлое, воззрение потеряло бы связь с действием.
«Отсюда заключение: субъективная стрела времени —
такая, какой мы ее знаем,— представляет собой
необходимое приспособление к условиям четырехмерного мира, без
чего жизнь была бы невозможной и даже немыслимой»10.
Costa de Beauregard О. L'irréverçibilité quantique: Phenomen
macroscopique— In: Louis de Broglie: Physicien et penseur. P., 1953,
p. 403.
4Ü
К этому можно прибавить еще следующее: во-первых,
мысль движется в том же направлении, что и ее объект,
так как ее объективный субстрат — часть этого
четырехмерного объекта. И во-вторых, приспособление
человеческой мысли — это не биологическое приспособление, но то
приспособление, о котором говорил Маркс,— эволюция
средств труда.
Эти замечания относятся к проблеме биологического
и психологического времени. Если подойти к проблеме
необратимости познания со стороны его содержания, то
она становится несколько более сложной. Сам процесс
познания идет вперед, в том же направлении, что и
макроскопический мир. Но в познании, в его содержании
явления располагаются в двух противоположных
направлениях: познание переходит от следствия к причине, т.е.
от позже к раньше, и вместе с тем констатирует
переходы от причины к следствию, т. е. от раньше к позже. Из
прошлого в будущее направлена предпосылка познания,
картезианское cogito, и результат познания, элементарные
каузальные связи, констатации связи предшествующего
состояния с последующим. Процесс cogito обратим. Но
познание не сводится к мышлению, к cogito, и к
придающим мышлению содержательность результатам
мышления, т. е. к констатациям, относящимся к миру, к
мыслям о мире. Познание вообще не сводится к мышлению.
Оно включает действие. Критерии познания — внутреннее
совершенство и внешнее оправдание, и оба они, а не
только внешнее оправдание, немыслимы без
преобразования мира: внутреннее совершенство — это связь частной
гипотезы с общим принципом, т. е. с более широким
кругом наблюдений и экспериментов как основой такого
принципа. Но воздействие на мир как компонент
познания — это процесс возрастания негэнтропии, создания
новых перепадов, новых начальных условий, в которых
картина мира усложняется, структуризуется. И именно
эти процессы придают познанию его специфическую,
гносеологическую необратимость. Сатоси Ватанабе в
статье, посвященной той же проблеме, что и
цитированная выше статья Коста де Борегара, очень хорошо
определяет «ирреверсибилизирующие», <г. е. делающие
необратимыми функции действия: «Необратимое
человеческое действие состоит в том, чтобы разрушать прошлое
47
и создавать будущее»11. Действительно, прошлого уже
нет, будущего еще пет, настоящее — это нулевая по
длительности грань между тем и другим. Теперь — это мо-
мепт, когда разрушается прошлое и еще только создается
будущее, но именно это разрушение, созидание
(гегелевское прехождение — das Vergehen) и возникновение —
компоненты становления 12 — выражают бессмертие
прошлого и настоящего, заключенное в действии, в
преобразовании мира как синтезе ретроспекции и прогноза.
В связи с «ирреверсибилизирующей» функцией
деяния, о которой говорил Ватанабе, следует вернуться к
философскому анализу проблемы необратимости. Что
означает в таком случае термин «философский анализ»?
Ощущепие необратимости времени и убеждение в том,
что после сегодняшнего дня наступит не вчерашний,
а завтрашний, кажутся очень фундаментальными. Это но
потому, что они априорны, они совсем не априорны. Они
основаны на наблюдении биологических процессов, па
психологических и физиологических самонаблюдениях
и, что очень важно, на интегрировании всей практически
бесконечной суммы наблюдений, всей человеческой
практики. На интегрировании, включающем выводы науки и
опирающемся на логические, математические, сколь
угодно сложные конструкции. Но что бы такое
интегрирование ни включало и на что бы оно ни опиралось, оно
всегда остается интегрированием всего круга опыта,
наблюдения и выводов и в этом смысле — философской операцией,
философским анализом. Отсюда устойчивость и
псевдоаприорность ощущения пеобратимости времени. Это
нужно иметь в виду при поисках так называемого
физического обоснования необратимости. Эпитет «так
называемое» здесь не означает каких-либо сомнений, относящихся
к возможности физического обоснования,— он имеет
другой смысл. Любое физическое обоснование будет дей*
ствительиым обоснованием только npir его экстериориза--
ции, при связи со всей суммой физических,
психологических, историко-культурных обоснований.
Для философского анализа характерны свободное
движение в высоких сферах логического мышления иг исто-
рико-научиых реминисценций и безотрывная связь с теми
11 Watanabe S. Revercibilité et irrevercibilité en physique quanti-
que.— In: Louis de Broglie: Physicien et penseur, p. 400.
12 Гегель. Наука логики. M., 1970, т. 1, с. 166—167.
40
непосредственными впечатлениями и реакциями, которые
возникают у человека как результат свойственной именно
человеку способности интегрировать все стороны опыта.
Если говорить о проблеме необратимости, то песенное:
«Если бы Волге-матушке вспять побежать, если бы
можно было начать жизнь сначала...» — в сущности, уже
содержит интегрированное убеждение в необратимости
течения реки и убеждение в необратимости жизни.
Именно интегрированное: в этой стихотворной строке и тон,
и мысль выходят далеко за рамки аналогии. Конечно, эта
фраза отнюдь пе включает объяснения необратимости
течения реки (она, как мы знаем, связана не с
уравнением движения, а с начальными условиями, с рельефом
русской равпины) и необратимости жизни. Но
философский анализ, поднимаясь вверх по линии синтеза
движения и начальных условий, сохраняет и распространяет на
природу эмоциональный тон, навеянный необратимостью
человеческой жизни. Тон этот может быть и
пессимистическим, как в приведенной песне, и оптимистическим.
Оптимистический тон имеет своим критерием тесную
связь стрелы объективного времени и стрелы
человеческого действия, возрастания негэнтропии, иначе говоря, труда
и социального прогресса.
Такая связь — одно из определений меганауки.
Последняя коренным образом изменила роль понятия
времени в научном мировоззрении и в его интуитивных
истоках: она вернула понятию n-мерного сложного бытия
(п + 1)-мерную координату необратимого возрастания
сложности. С этой точки зрения вся сумма открытий
самоорганизации и структуризации в природе (здесь
приходится отослать читателя к специальной физической,
физико-химической и физико-биологической литературе)
входит в рамки меганауки.
Упомянутую в примечании к с. 40 книгу И. Приго-
жина и И. Стенгерс «Новый альянс» авторы хотели
назвать, как у Пруста: «Вновь обретенное время»13. Это
действительно основная тема их книги. Классическая
наука стремилась объяснить мир неподвижной схемой
простых законов. За концепциями необратимого развития,
появившимися в XIX в. (термодинамика, эволюционная
биология), стояла схема обратимых процессов. В идеале
«Быть» противостояло «Становиться». В современной
11 La Nouvel Alliance, p. 29.
49
пауке эти понятия сближаются. Соответственно
исчезает призрак простой и неподвижном в своей сущности
природы, противостоящей человеку, который в своей
деятельности и в своем познании идет от простого к
сложному. Все, что говорилось выше об «ирреверсибилизиру-
ющей» функции современной науки, приводит к «новому
альянсу».
МЕГАНАУКА
И ПРОБЛЕМА «ЧИСТОГО БЫТИЯ»
Научное завещание Эйнштейна
Что нового внесла вторая половина нашего столетия в
философское обобщение идей Эйнштейна? Сразу же
оговоримся. Речь не идет о смене тех философских выводов,
которые были сделаны в первой половине века, другими,
отличающимися от них. Речь идет о дальнейшем
обобщении и конкретизации первоначальных выводов па основе
развития теории относительности в течение десятилетий,
прошедших после смерти Эйнштейна.
Естественным введением к характеристике «после-
эйнштейновского» периода в развитии неклассической
физики служат появившиеся в последнем году первой
половины века, в 1949 г., «Автобиографические заметки»
Эйнштейна. Кавычки, в которые взято слово «послеэйн-
штейновский», оправданы глубоким соответствием между
идеями, изложенными в этом научно-философском
завещании Эйнштейна, и реальным развитием теории
относительности в 50—70-е годы, а также прогнозами на 80—
90-е годы и на начало следующего века. Такое
соответствие лишний раз демонстрирует бессмертие
эйнштейновских идей: история науки — это прежде всего ряд все
более точных отображений мира, которые находят свои
антецеденты в прошлом и свое развитие и конкретизацию
в последующей бесконечной эволюции разума.
В «Автобиографических заметках» мы встречаем очень
точное определение грапиц теории, служащих вместе с
тем прогнозом дальнейших путей познания, а также
характеристику того отдаленного идеала, стремление к
которому позволяет видеть направление науки XX в. в ее
целом. Недостатком теории относительности в той форме,
50
в какой она была создана в первой половине столетия,
Эйнштейн считал отрыв представления о
пространственных и временных масштабах от его атомной структуры.
«Это в известном смысле не логично; собственно говоря,
теорию масштабов и часов следовало бы выводить из
решения основных уравнений (учитывая, что эти
предметы имеют атомную структуру и движутся), а не считать
ее независимой от них»1. Отсюда, продолжает Эйнштейн,
принципиальная недопустимость геометризации физики,
представления о расстояниях как о физической
сущности. Эйнштейн говорит, что игнорирование физической
заполненности пространства, микроструктуры
заполняющей его материи не должно приводить к подобной
геометризации. «Однако этот грех нельзя узаконивать до
такой степени, чтобы разрешать, например, пользоваться
представлением о расстоянии как о физической структуре
особого рода, существенно отличной от других
физических величин (сводить физику к геометрии и т. п.)»2.
Уже здесь речь идет по существу о предстоящем
неизбежном сближении теории, оперирующей чисто
пространственными и чисто временными масштабами, с
анализом того, что заполняет эти масштабы, с анализом
внутреннего заполнения пространства н времени. Забегая
вперед, заметим, что речь идет об основных определениях
пространства, времени и бытия, об основных
определениях космоса и его неотделимости от микрокосма, о том,
что превращает пространство и время в физический мир,
в неотделимые друг от друга компоненты бытия. В этом
смысле программа, какой является приведенное
критическое замечание Эйнштейна в адрес теории
относительности, служит естественным продолжением основной идеи
теории относительности — неотделимости пространства от
времени как основы физической содержательности этих
понятий. Более того, эта программа лежит в основном
фарватере науки, последовательно исключающей понятия,
которые не обладают сенсуальной представимостью и
принципиально не воздействуют на органы чувств.
Далекий идеал, к которому стремится неклассическая
наука, как он изложен в «Автобиографических заметках»,
на первый взгляд кажется чуждым этой
сенсуалистической тенденции. Эйнштейн говорит об универсальных
1 Эйнштейн А. Собр. науч. тр. М., 1907, т, 4, с. 280,
1 Там же.
51
постоянных физики, включая скорость света, и
предлагает заменить их естественными единицами, такими, как
масса и радиус электрона. Произвольные постоянные не
вытекающие логически из теории, в идеале исключаются.
Здесь вновь уместно вспомнить предположение
Эйнштейна о законах природы, определяемых логическими
требованиями, о входящих в выражения этих законов
теоретически обоснованных соотношениях 8.
Такое предположение (итог длительных размышлении
Эйнштейна на тему: «Мог ли бог сделать мир иным?» —
иначе говоря, могли ли существовать иные универсальные
соотношения) отнюдь не является апологией чисто
логического постижения природы. Здесь сохраняется
сформулированный в тех же «Автобиографических заметках»
единый по существу критерий «внешнего оправдания»
(экспериментального, эмпирического, сенсуального
подтверждения теории) и «внутреннего совершенства»
(выведения ее из наиболее общих принципов без добавочны к
допущений)4. Идеальная картина мира Эйнштейна
исключает произвольные константы, логически связывает эти
константы (обладающие «внешним оправданием», т. е.
постоянно постижимые) с иными, стремясь к охвату
всего мироздания логически связанными законами.
Существует прямая логическая связь между
эйнштейновским идеалом исключения произвольных констант и
приведенным выше критическим замечанием в адрес
теории относительности. Пользуясь терминологией
Эйнштейна, можно сказать, что бог был бы способен сделать мир
иным, если бы пространственные и временные масштабы
не зависели от заполнения пространства и времени, от
внутренней структуры заполняющей пространство и время
материи, если бы они не выводились из структуры
микромира.
Отсюда следует, что формула «мир как пространство
и время», часто применяющаяся в качестве синонима
теории относительности (в частности, в названии
известной книги А. А. Фридмана — одном из самых
блестящих и глубоких изложений этой теории), оказывается
недостаточной, если иметь в виду научное завещание
Эйнштейна.
* См.: Эйнштейн А. Собр. пауч. тр., т. 4, с. 281.
4 Там же, с. 266—267.
52
Квазнфизические концепции
Эта формула становится все более недостаточной по
мере реализации завещания Эйнштейна. Во второй
половине столетия теория относительности одновременно
продвигается к проблемам Вселенной в целом и к проблемам
микромира. И это не просто одновременное продвижение,
но и растущая связь указанных проблем, растущее
единство путей развития теории относительности. Для
современного философского обобщения теории
относительности этот единый процесс является основным исходным
пунктом анализа. В указанном смысле философия теории
относительности теснее, чем когда-либо, сплетается с ее
историей. Как для астрофизики и космологии, так и
для теории элементарных частиц все более
характерно сближение теории относительности с квантовой
механикой, генезис единой квантово-релятпвистскои
теории космоса и микромира, Метагалактики и
элементарных частиц. Истекшие десятилетия не принесли ни
однозначной теории элементарных частиц, ни однозначной
космологической концепции. О направлении современной
науки приходится судить по теориям, выдвинутым «в
кредит», при отсутствии внутреннего совершенства и
объединения общими принципами колоссальных по
объему и, как можно думать, по значению
экспериментальных данных, относящихся к космосу и микромиру. Но для
второй половины XX в. как раз и характерна
необходимость прогнозов и реминисценций при определении
смысла и значения сделанных открытий. Отсюда —
многочисленные квазифизические концепции, не достигшие
однозначности в описании мира, но достоверно описывающие
эволюцию его познания и отражающие особенности
современного стиля научного мышления.
Одна из таких концепций, уже упоминавшихся
выше,— концепция дискретного пространства-времени на
световом конусе, основанная на понятии регенерации
частиц. Большое число современных астрофизических
гипотез, связанных с гипотезами, относящимися к
элементарным частицам, иллюстрирует характерную для второй
половины столетия тенденцию связи космологических
выводов теории относительности, т. е. концепции замкнутой,
расширяющейся (или пульсирующей) Вселенной, и кван-
тово-релятивистских моделей микромира. Но эта
тенденция, при всей незавершенности и неоднозначности коик-
53
ретных гипотез, резко отличается от предыстории
классической науки. В XVII в. существовало множество
моделей и гипотез, которые отнюдь не давали однозначного
представления о мире, но иллюстрировали несомненно
реальную тенденцию в его познании — переход к
механическому представлению о природе, в некоторой мере
подтвержденному затем в работах Ньютона и всей плеяды
естествоиспытателей XVIII—XIX вв. и остающемуся и
сейчас законной аппроксимацией, приближенным
выражением в рамках неклассической науки. Картезианская
физика была проникнута стремлением к механическому
объяснению микромира и космоса, к единой картине
мира, но это стремление до Ньютона и механического
естествознания XVIII в. не воплощалось в однозначные
физические модели.
Теперь положение иное. Существует беспрецедентное
соответствие эксперимента и теории в частных
концепциях, ио еще нет единой и достоверной картины мира,
которая давала бы однозначные ответы на вопросы о
структуре и эволюции Метагалактики, о причинах
существования известных типов элементарных частиц и которая
разрешала бы коллизии релятивистской и квантовой
физики, в частности проблему бесконечных значений
энергии и заряда частиц. Известны и пути к решению
этих проблем. Новая астрономическая революция,
наблюдение широкого спектра различных излучений,
ускорители очень большой мощности вместе с радикально
неклассическими теоретическими обобщениями не имеют
прецедентов в истории науки. Сейчас, во второй половине
XX в., основой единства науки служат не столько
установившиеся принципы, сколько их модификация и
обобщение, что и является непосредственной целью того, что
получило название мсгапауки. Но модифицирующиеся
принципы и пути науки сейчас связаны несравненно
органичней, чем раньше, с самой фундаментальной
проблемой философии — с проблемой субстанции, с ответом
на вопрос о природе бытия.
Меганаука меняет соотношение между проблемой
бытия в его нерасчлененном смысле и проблемой
гетерогенного бытия. Теория относительности уже в той форме,
какую она получила в первой половине столетия,
значительно конкретизировала это соотношение. В XVII в. оно
было в наиболее общей форме сформулировано Спинозой,
который отождествил произоеденную природу — natura
54
natura ta, совокупность модусов, меняющихся элементов
бытия, создающих его гетерогенность, с производящей
природой — natura naturalis. Приверженность Эйнштейна
к философии Спинозы — это отнюдь не только
биографический факт, она соответствует глубокой связи концепции
бытия у Спинозы и теории относительности.
Под произведенной природой Спиноза понимал
совокупность модусов, т. е. тех особенностей субстанции,
которые могут ей принадлежать или не принадлежать и
которые делят природу на различные тела, обладающие
различным поведением, в отличие от атрибутов, которые
присущи субстанции как неотъемлемые определения.
Тождество произведенной природы с производящей — это
фундаментальное утверждение Спинозы — может служить
исходным пунктом анализа проблемы бытия и влияния
теории относительности на ее решение. Понятие бытия
имеет двоякий смысл: глагол «быть», как уже говорилось,
применяется и как связка объекта с предикатом
(«Буцефал есть лошадь») и как определение того, что
существует в действительности («Буцефал есть!»). Спиноза
отождествляет сумму первых, модальных определений,
т. е. произведенную природу, с суммой вторых,
экзистенциальных определений, с универсальной суммой
определений типа: «Буцефал есть!» Такое отождествление не
было полностью реализовано классической наукой. Для
бытия в целом, для экзистенциального бытия, для
выявления смысла глагола «есть» в его экзистенциальном,
универсальном смысле сохранялись априорные категории.
Для неклассической науки бытие в целом стало объектом
исследования, исходящего из модусов, из гетерогенности
и эволюции бытия, из констатации типа «Буцефал —
лошадь»*
Исходные понятия учения Гегеля о бытии
Если для меганауки характерен синтез исследований
Метагалактики и элементарных частиц и синтез
релятивистских и квантовых идей, то одним из существенных
результатов меганауки является некоторая
конкретизация гегелевских категорий «чистого бытия»,
«становления» и всей серии основных понятий гегелевского учения
о бытии. При этом становится яснее связь этого учения
с классической наукой.
55
Остановимся на первых определениях бытия в «Науке
логики».
Попробуем полностью отвлечься от модусов бытия,
от констатации типа «Буцефал — лошадь». Тогда в
экзистенциальное понятие «есть!» войдет только
тождественное себе содержание, нигде не ограниченное другим,
качественно отличным — бытие в смысле Парменида,
которого Гегель считал первым мыслителем, пришедшим
к понятию «чистого бытия». Гегель определяет это
понятие, но само определение состоит в отсутствии
дальнейших определений. «В своей неопределенной
непосредственности,— пишет Гегель о чистом бытии,— оно равно
лишь самому себе, а также не неравно в отношении
иного, не имеет никакого различия ни внутри себя, ни по
отношению к внешнему»5. Поэтому чистое бытие не
отличается от чистого ничто. Последнее также лишено каких-
либо определений, их отсутствие и является
определением ничто. «Ничто, чистое ничто; оно простое равенство
с самим собой, совершенная пустота, отсутствие
определений и содержания; неразличенность в самом себе»*.
Для Гегеля и чистое бытие и чистое ничто — про*
дельные абстракции, результат полного освобождения
мысли от ее содержания, от каких бы то ни было
содержательных определений. Констатации чистого бытия и
чистого ничто не могут быть истинами. Истина —
констатация становления, движения. «Истина — это не бытие
и не ничто, она состоит в том, что бытие не переходит,
а перешло в ничто, и ничто не переходит, а перешло в
бытие. Но точно так же истина не есть их
неразличенность, она состоит в том, что они не одно и то же, что
они абсолютно различны, но также нераздельны и
неразделимы и что каждое из них непосредственно исчезает
в своей противоположности. Их истина есть,
следовательно, это движение непосредственного исчезновения одного
в другом: становление; такое движение, в котором они
оба различны, но благодаря такому различию, которое
столь же непосредственно растворилось»7.
Таким образом, чистое бытие не имеет реального
эквивалента, это результат исчезновения его определении,
вопрос о реальном эквиваленте, об истине возникает при
а Гегель. Наука логики. М., 1970, т. 1, с. 139—140.
в Там же, с. 140.
7 Там же, с. 140—141.
56
исчезновении и вместе с тем при сохранении
противоположности между чистым бытием и чистым ничто, при
становлении.
Для материалистической диалектики исходным
пунктом анализа служат не чисто логические, не имеющие
реальных эквивалентов понятия чистого бытия и чистого
ничто, а понятие, обладающее физическими
эквивалентами, отображающими объективную действительность.
Таким понятием в классической науке было движение
частиц. Наряду с ним фигурировали понятия абсолютного,
пустого, независимого от тел пространства и столь же
независимого времени как отдельных один от другого
объектов мысли. Неклассическая паука устранила из
картины мира эти фиктивные эквиваленты чистого бытия.
Но во второй половине столетия получили широкое
распространение и быстрое развитие идеи, которые еще
радикальней изменили роль этих понятий.
Является ли Вселенная в целом физическим
эквивалентом чистого бытия? Этот термин «в долом» означает
возможность придать физический смысл (и
соответственно титул истины) констатации типа «Буцефал есть!». Это
«есть» означает для любого объекта его вхождение во
Вселенную в целом. Но это не значит, что бытие как
таковое, гегелевское бесструктурное тождественное себе
чистое бытие, приобретает физический смысл.
Предельная абстракция не переходит в конкретное, а уже с
самого начала, как исходный пупкт анализа, является
предельно конкретным понятием: natura naturans по своему
определению тождественна natura natura ta. Констатация:
«Буцефал есть!» выходит за пределы чистого бытия, так
как она означает включение Буцефала во Вселенную,
которая является отнюдь не простой совокупностью
существующих объектов, но их системой. Вхождение
каждого из этих объектов есть не простое, чисто
экзистенциальное утверждение об их бытии, а физическое
включение. Подобный подход к бытию в целом предполагает
его структурность, связь целого с его мельчайшими
элементами. Именно в такой связи заключается основная
тенденция современного развития теории
относительности.
Речь идет уже не о простом включении объекта в
множество объектов, обладающих сходными свойствами.
Очевидно, утверждение «Буцефал — лошадь» перестает
быть пригодным для задачи примером. Это — логическое
57
множество, речь же идет о реальной структуре, о
множестве элементов, связанных между собой физическим
взаимодействием, теми или иными полями, причем сами
элементы представляют собой концентрацию полей.
Гравитационные поля, как они трактуются в общей теории
относительности, приближаются к роли такого
универсального взаимодействия. Но только приближаются.
Тяжесть не становится синонимом бытия несмотря на
наличие тяжести у всех реальных, физических объектов.
Мы пока еще не имеем единой теории, связывающей
гравитационное поле с другими полями. Такая связь
может быть реализована в единой теории элементарных
частиц. Поэтому физическая интерпретация тождества
natura natura ta и natura naturans остается делом
будущего. К реализации такого будущего и направлена теория
относительности в ее характерном для физического
завещания Эйнштейна и для меганауки второй
половины XX в. стремлении к объединению с квантовой
механикой.
Это не значит, что наука нашего времени обладает
претензией, которая была характерна для классической
науки XVIII и начала XIX в.,— надеждой па сведешпз
всей многокрасочной картины мира к единому чертежу.
Общая теория полей и соответственно элементарных
частиц далека от идеала Лапласа — объяснения всего
прошлого, настоящего и будущего данными о положениях и
скоростях всех частиц. Она будет исходить из
несводимости законов бытия к механике и будет учитывать
бесконечную сложность самого движения частиц и
бесконечно сложный, качественный переход от одной формы
движения к другой.
Очень общим и широким философским определением
современной науки является переход к еще более
гетерогенному пониманию бытия. Картина мира становится не
только все более многообразной в смысле усложнения
структуры, появления новых модусов, новых предикатов,
новых подмножеств. Сама логика меняется в зависимости
от объекта исследования. Внутреннее совершенство,
выведение теорий из максимально общих принципов при
расширении внешнего оправдания, эмпирической
проверки требует не только новых представлений о мире, но
смены логических норм. Развивается, как говорилось в
предыдущем очерке, логика относительности, квантовая
п квантово-релятивнетская логика»
58
Вместе с тем частные определения, выраженные через
«есть» в его модальном смысле, предполагают общую
принадлежность всех разнообразных объектов познания
при любой логике познания к «есть» в экзистенциальном
смысле, к natura naturalis, к пространственно-временному
многообразию. Единство этого многообразия и тот факт,
что оно остается многообразием, бесконечным
многообразием, выражается в отказе от раздельного
пространственного и временного бытия, от абсолютного пространства и
абсолютного времени. Основной философский смысл
теории относительности преемственно связан со спинозов-
ским отождествлением natura naturans и natura naturata.
Пространство п время
Мысль о неотделимости пространства от времени,
бывшая основой теории относительности Эйнштейна с
самого ее появления и выраженная в особенно четкой
форме в концепции Минковского, позволяет несколько по-
новому взглянуть на эволюцию представлений о бытии.
Пространство само по себе не может быть сенсуально
постижимым, это абстрактная форма познания. В
«Диалектике природы», в заметке «О пегелиевской
неспособности познавать бесконечное», Энгельс говорит, что
время — это сумма часов, а пространство — это сумма
кубических метров8. Эта абстракция связана с различными
сенсуально постижимыми формами материи и движения.
«Вещество, материя есть не что иное, как совокупность
веществ, из которой абстрагировано это понятие;
движение как таковое есть не что иное, как совокупность всех
чувственно воспринимаемых форм движения...»9
Такое разграничение, с одной стороны, и констатация
этой связи «совокупности всех чувственно
воспринимаемых форм движения» с абстракциями пространства как
такового и времени как такового — с другой, бросают
свет на историческое развитие понятий и проблем
абстрактного и конкретного, модальных и экзистенциальных
определений бытия, пространства и времени в их
отношении друг к другу. У Декарта пространство и материя
отождествлены, материя лишена качественных различий
и свойств, несводимых к протяженности. Отсюда
нерешенная в рамках картезианской физики проблема выделе-
8 См.: Маркс К, и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 550.
9 Там же,
59
пия тела из окружающей среды и присвоения ему
модального определения типа «Буцефал — лошадь». Декарг
пытался решить эту проблему, приписав телу движение,
отнесенное к соседним, соприкасающимся с ним телам.
Но движение без качественной границы между данным
телом и другими телами само лишается конкретной,
сенсуально постижимой основы.
Вся абсолютизация абстракции, ее отрыв от
гетерогенной конкретной совокупности сенсуально постижимых
объектов лишают абстрактное пространство его связи с
реальным бытием. Всякое познание, напоминает Энгельс,
есть чувственное измерение10. Абсолютизированная
абстракция лишается экзистенциального определения; к ней
неприменима констатация «есть!». Необходимой
предпосылкой каждого определения объекта является выход за
пределы конечного. В сферу нашего познания попадают
лишь конечные предметы. «Но это положение нуждается
вместе с тем в дополнении: „по существу мы можем
познавать только бесконечное". И в самом деле, всякое
действительное, исчерпывающее познание заключается
лишь в том, что мы в мыслях поднимаем единичное из
единичности в особенность, а из этой последней во
всеобщность; заключается в том, что мы находим и
констатируем бесконечпое в конечном, вечное — в
преходящем»11.
Вся история философии и науки включала
конкретизацию и сенсуализацию понятия бытия, приближение
natura naturans к natura naturata, приближение
экзистенциального «есть!» к модальному «есть...». Ньютон
наделил тела динамическими свойствами, что было некоторым
выходом из картезианской неразличимости частей
гомогенного пространства. Пространство стало абстрактной
мерой модальных определений бытия. Но не полиостью.
В системе Ньютона абсолютное пространство, гомогенное
и сенсуально непостижимое, воздействует на тела,
определяет силы инерции, претендует на бытие в смысле
«есть!» без бытия в смысле «есть...», без модальных
определений, превращающих гегелевское «чистое бытие» в
«становление».
Такое превращение, такое соединение локальных
определений с экзистенциальными реализуется в понятии
10 См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е И8Д., т. 20, с. 551,
11 Там же, с. 548.
60
движения. В классической науке подобная реализация
(хотя далеко не окончательная) произошла при замене
старых статических основ перипатетической картины
мира схемой движений. Но у Ньютона сохраняется, наряду
с независимым от модальных определений абсолютным
пространством, абсолютное время, также независимое от
событий, текущее единым потоком, претендующее на
экзистенциальный смысл. В классической науке время —
абстрактная мера экзистенциальпых определений. Это
бесконечное повторение «есть!», это продолжающееся бытие.
Абсолютное время — это абстракция, отключенная от
событий, от движения тел, от того, что воздействует на
органы чувств. Внешним оправданием такой абстракции
было вневременное, мгновенное дальнодействие, но оно
было отринуто развитием теории поля и
экспериментальной физикой.
Теория Эйнштейна, отказавшаяся от понятий
абсолютного пространства и абсолютного времени,—
колоссальный шаг конкретизации и сенсуализации понятия бытия.
Здесь абстрактные понятия пространства и времени не
исчезают, но они приобретают характер абстракций, уже
стремящихся к конкретности, вышедших за пределы
«чистого бытия». Пространство заполняется вовременными
событиями, расстояния становятся уже не ареной
мгновенного дальнодействия, а путями обладающих конечной
скоростью сигналов, временные интервалы заполняются
пространственными движениями сигналов, картина мира
становится схемой мировых линий, т. е. физических,
сенсуально постижимых процессов.
Но и это отнюдь не завершение эволюции понятия
бытия. Пространственно-временная схема, система
четырехмерных мировых линий еще недостаточна для
экзистенциальной констатация «есть!». Движение не может
существовать без того, что движется. Что же нетождественное
пространству-времени служит субъектом движения?
В сущности это тот же вопрос, на который не мог
ответить Декарт (чем отличается материя от пространства?),
только принявший теперь четырехмерную форму. Это
вопрос о заполнении пространства и времени, об отличии
места от тела, об отличии мировой линии от движения
частицы, а самой частицы от ее пространственно-временной
локализации. Легко видеть, что вопрос о субъекте
движения в теории относительности зависит от того вопроса,
который был поставлен Эйнштейном в «Автобиографиче-
6J
ских заметках». Если пространственные и временные
масштабы, показания линеек и часов зависят от
несводимых к ним внутренних процессов, то эти процессы
оказываются тем, что движется, т. е. субъектом движения.
Таким «некартезианским» субъектом могут оказаться
элементарные трансмутации, но во всяком случае здесь речь
идет о процессах и объектах микромира, подчиненных
квантовым или квантово-релятивистским
закономерностям. II еще одна связь проблемы бытия с теорией
относительности. Релятивистская космология с ее
перспективой перехода в кваптово-релятивистскую космологию
говорит о физическом бытии в целом, обо Всем, о том,
что включает все реальные объекты познания, об
экзистенциальном определении бытия, охватывающем все его
модальные определения.
Мы видим, как современное развитие релятивистских
квантовых идей, современная меганаука в своих
философских выводах приближается к античным идеям.
Общим для античной атомистики, с ее пустотой как
небытием, и для философии Аристотеля, с ее «боязнью
пустоты», служит представление о пространстве как о чем-то
заполненном. Общим для всей истории философии и
науки являются поиски такого заполнения — боится пустоты
не только природа, но и ее картина, ее познание. Даже
у Декарта геометризация материи была вместе с тем и
вопросом будущему о физикализации пространства. При
этом каждый позитивный ответ был поиском, проблемой,
задачей наделения пространства сенсуально
постижимыми предикатами. В этом отношении крайне важным
этапом развития концепции бытия была электродинамика,
приписавшая полю экзистенциальное «есть!» и сделавшая
его бытием, теория относительности, заполнившая
пространство временными и сенсуально постижимыми в
принципе событиями, и квантовая механика, связавшая
пространственные и временные локализации с сенсуально
постижимыми значениями импульса и энергии.
Продолжением этой линии служит меганаука, стремящаяся
связать космос как бытие в целом с заполняющими его
гетерогенными элементами.
62
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
НАУКИ
Критерий научной истины
и понятие гносеологического потенциала
Напомним еще раз об эйнштейновских критериях
научной истины — внешнем оправдании и внутреннем со-
вершенстве. Эти критерии позволяют определить
гносеологический потенциал меганауки. Для науки в целом
понятие потенциала — очень сложное, оно включает
вложения в науку, подготовку научных кадров, скорость и
объем научной и научно-технической информации и
т. д. — все, что дает тот или иной импульс применению
науки и измеряется ее экономическим, социальным и
культурным эффектом1. Что же касается потенциала
меганауки, то, являясь компонентой общего потенциала, он
действует на общий эффект науки опосредованно, через
всю иерархию ее этажей, через разработку новых
физических, химических и т. п. циклов, через создание новых
прикладных конструкций и технологических процессов.
Непосредственный эффект меганауки — ускорение
научного прогресса в целом, ускорение прежде всего
прогресса фундаментальных представлений о природе, для
которых меганаука служит источником новых наиболее
общих принципов. Это гносеологический потенциал. Он
измеряется (впрочем, вовсе не метрически — слово
«измеряется» не следует здесь понимать буквально) общим
расширением кругозора науки, причем расширением
необратимым, включающим возрастание адекватных, истинных
представлений обо всей сложности мироздания, о его
последовательной структуризации, иными словами,
увеличением многоплановости, сложности и единства картины
мира. Согласно эйнштейновским представлениям о
критериях познания, такой прогресс означает сближение внут-
См. вышедшие за последние годы книги о научном и
научно-техническом потенциале: Трапезников С. П. Общественные науки —
могучий идейный потенциал коммунизма. Мм 1974; Каны-
zun Ю. М. Научно-технический потенциал: проблемы накопления
и использования. Новосибирск, 1974; Кульвец П. А. Проблемы
экономического эффекта и использования научно-технического
потенциала. Вильнюс, 1970; Зубчанинов В. В. Научная
деятельность и технический прогресс в крупнейших капиталистических
странах. М., 1976,
63
реннего совершенства и внешнего оправдания,
эффективные поиски единых принципов, из которых естественно
вытекают частные концепции, и их новых
экспериментальных подтверждений.
Понятие гносеологического потенциала, как бы
далеко оно ни удалялось от исходного физического образа,
сохраняет связь с представлением о перепадах, уровнях,
раэностях, которые определяют последующий
кинетический процесс. В чем же состоит гносеологический
потенциал науки, тот «перепад», которому соответствует
«кинетическая энергия» прогресса фундаментальных
представлений о мире?
В этом отношении развитие космологии и теории
элементарных частиц во второй половине XX в. было
особенно показательным. Середина нашего столетия
ознаменована резким расширением и углублением внешнего
оправдания релятивистской физики. Атомная физика и
связанные с ней другие направления научного и
научно-технического прогресса были таким беспрецедентно
расширявшимся внешним оправданием. С другой стороны, если
и не произошло дальнейшего углубления внутреннего
совершенства релятивистской физики, то имел место ряд
попыток устранить тот пробел, который оставила теория
относительности и на необходимость устранения которого
указано в автобиографическом очерке Эйнштейна:
изменение масштабов и часов должно быть выведено из
атомистической структуры вещества. Такое требование
остается чрезвычайно важным прогнозом развития научной
картины мира, оно означает синтез релятивистских и
квантовых идей, создание едипой концепции космоса и
микрокосма, достижение внутреннего совершенства
современными, обладающими высоким впешним
оправданием результатами исследований в области элементарных
частиц.
Возрастание внутреннего совершенства научных
теорий, исключение произвольных гипотез, все более
естественное выведение частных концепций из максимально
общих принципов — сквозная линия в исторической
эволюции познания. Формирование новых общих принципов,
из которых логически выводятся частные объяснения,
служит исходным пунктом и основным содержанием
каждой научной революции. Научная революция релятивизи-
рует куновскую парадигму, революция сталкивает общее
понятие, общий принцип с частными объяснениями,
G4
с частными констатациями, более близкими к эмпирии,
к внешнему оправданию, релятивизирует общие
принципы, превращает их в ограниченно годные аппроксимации,
заменяет их, в качестве общих, иными. Таким было
внутреннее содержание научной революции XVI—XVII вв.,
положившей начало классической науке. Предпосылкой
старой перипатетической картины мира была некоторая
статическая схема. Естественная гармония мироздания
зиждилась на неподвижности его центра и «естественных
мест», на которые было натянуто также неподвижное,
абсолютное пространство традиционной космологии. Эти
исходные принципы согласовывались с астрономическими
наблюдениями с помощью большого числа искусственных
добавочных предположений о движениях самих центров
планетных орбит. Представление о мире обрело
внутреннее совершенство и стало единой концепцией, когда
изменились общие исходные принципы. Перипатетическая
статическая гармония сменилась классической
динамической гармонией, естественным состоянием тел стало их
продолжающееся неизменное по направлению и скорости
движение, и новые принципы сделали возможным
прямое и естественное логическое выведение множества
частных констатации.
Однако не всех. В рамках классической науки
XVII—XIX вв. существовали и последовательно
нарастали в числе и в своем значении констатации, которые не
вытекали без дополнительных гипотез из механических
аксиом, изложенных с такой поразительной
законченностью в ньютоновских «Началах». Поразительной, но не
абсолютной. То, что получило название «шуйцы»
Ньютона,— проблема происхождения сил (в отличие от его
«десницы» — определения положения тел по заданным силам),
иначе говоря, антецеденты поля,— не было связано
естественной дедукцией (т. е. без дополнительных
допущений) с аксиомами движения. С современной точки
зрения «пятна на Солнце Ньютоновой механики»
(первоначальный толчок, неоднозначные гипотезы в оптике и т. д.)
представляются «пятнами», через которые просвечивает
будущее — некоторое новое «Солнце», некоторые новые
исходные принципы картины мира.
В рамках классической физики (как п в рамках
современной науки) мы встречаем весьма общую коллизию
«десницы» (т. е. общих принципов, из которых
естественно выводятся частные констатации) и «шуйцы» (того, что
65
требует дополнительных гипотез или входит в картину
мира в качестве чисто эмпирических данных). Широкой
формой такой «шуйцы» бывают фигурирующие в картине
мира начальные условия.
Макс Борн писал о них как об исторически
выраставшем и усиливавшемся выражении недостаточности
классической механики: «Дифференциальные уравнения
механики сами по себе не определяют движения полностью —
нужно задать еще начальные условия. Например, эти
уравнения объясняют эллиптичность плапетпых орбит, но
отнюдь не позволяют понять, почему существуют именно
данные орбиты, а не какие-то другие. Однако реально
существующие орбиты подчиняются вполне определенным
закономерностям, например известному закону Боде.
Объяснение этих закономерностей ищут в предыстории
системы, которая рассматривается как проблема космогонии,
до сих пор еще в высшей степени дискуссионная. В
атомной области неполнота дифференциальных уравнений
является еще более существенной. В кинетической теории
газа впервые стало ясно, что необходимо сделать какие-
то новые предположения о распределении атомов в
данный момент времени, и эти предположения оказались
важнее уравнений движения: истинные траектории
частиц не играют никакой роли; существенна только полная
энергия, которая определяет наблюдаемые нами средние
значения»2.
В данном случае, при объяснении формы планетных
орбит, поиски привели к космогонии и включению в
картину мира несводимых к механике более сложных форм
движения. Попеки начальных условий ведут к единству
картины мира: от планетной системы — к космогонии, от
естественного отбора — к выявлению
происхождения.среды обитания, к эволюции Земли, а в общем случае —
к эволюции мироздания.
Поиски региональных начальных условий
направляются и усиливаются ощущением разрыва внешнего
оправдания и внутреннего совершенства. Существование
такого разрыва толкало Канта к объяснению эмпирических
данных — формы планетных орбит — весьма общим
космогоническим принципом, к радикальной трансформации
учения о небесных телах. Аналогичный разрыв толкал
2 Ворн М. Состояние идей в физике и перспективы их
дальнейшего развития.— В кн.: Вопросы причинности в квантовой
механике, М., 1955, с. 104г
66
Дарвина к общей концепции развития жизни. С другой
стороны, тот же разрыв заставлял астрономов искать
эмпирические подтверждения космогонических принципов,
а Дарвина — эмпирические подтверждения концепции
естественного отбора (такие поиски и обусловили бурное
развитие эволюционной биологии во второй половине
XIX в.). Вся история науки демонстрирует роль разрыва
между внутренним совершенством и внешним
оправданием — разрыва, приводящего к поискам новых начальных
условий, как гносеологического импульса необратимого
прогресса знаний. Замечу попутно, что понятие
«гносеологический импульс» не исключает, а предполагает
слияние логических и эмпирических истоков науки: логика
научного поиска, идущая к внутреннему совершенству
теории, сближает ее с общими принципами познания,
а внешнее оправдание связывает науку с
культурно-историческим процессом, включающим преобразование
мира — этот основной источник новых эмпирических данных.
Продолжается ли сейчас подобное сближение
внешнего оправдания и внутреннего совершенства и вызванный
разрывом этих критериев поиск новых начальных
условий? Играет ли указанный разрыв роль основного
гносеологического импульса, роль гносеологического
потенциала науки? В сущности, это риторический вопрос. Сами
понятия внешнего оправдания и внутреннего
совершенства были сформулированы в связи с анализом генезиса
теории относительности. Подготовка фундаментальных
трансформаций общих принципов при поисках
рационального объяснения начальных условий происходит и
сейчас; попытки иеэмпирического, вернее, не только
эмпирического объяснения астрономических явлений, как и
объяснение различий в массе, заряде и в других
свойствах элементарных частиц, ведут к возрастанию
внутреннего совершенства квантовой и релятивистской физики,
к объединению квантовых и релятивистских идей.
Внутреннее совершенство современной физики еще не
достигнуто, оно просматривается в прогнозе, по уже
такой прогноз заставляет пересмотреть историческую
оценку колоссальных интеллектуальных усилий Эйнштейна в
30—50-е годы, направленных на создание едипой теории
ноля. Стремление Эйнштейна к максимальному
внутреннему совершенству физической теории привело к
переходу от Лоренцевой концепции продольного сокращения
к эйнштейновской специальной теории относительности,
07
п оно оставалось стимулом при разработке общей теории,
причем па каждом этапе Эйнштейн видел промежуточный
характер обобщения. Критерий внутреннего совершенства
направляет паучную мысль вперед, к поиску новых идей
(он служит исходной идеей теории научного прогноза —
об этом речь впереди), и в то же время назад, к
ретроспективному обзору прошлого науки, к историко-научным
обобщениям. В этой связи характерно одно замечание
Эйиштейпа к статьям Бора и Паули, посвященным
интерпретации квантовой механики. По мнению Эйнштейна,
в этих статьях содержится направлепное в его адрес
обвинение в «ярой приверженности классической теории».
В ответ Эйнштейн разъясняет, что следует понимать под
классической теорией: «Ньютоновская теория
заслуживает названия классической. Тем не менее от нее пришлось
отказаться после того, как Максвелл и Герц показали, что
идею сил, действующих па расстоянии, необходимо
оставить и что нельзя обойтись без понятия непрерывных
„полей". Вскоре представление о том, что непрерывные
поля следует считать единственно приемлемыми
основными понятиями, которые и должны быть положены в
основу теории материальных частиц, победило»3.
Эйнштейн и здесь и в ряде других историко-научных
экскурсов связывает отказ от Ньютоновой теории, т. е.
генезис теории относительности, с электродинамикой и
развитием концепции поля. Иначе говоря, с «шуйцей»
Ньютона, с теми элементами классической механики,
которые находились вне единой, естественной дедукции. Но
тут не было прямого выхода теории поля на авансцену,
сама электродинамика оставляла вне пределов
естественной дедукции некоторые необходимые начальные условия.
Продолжая говорить о концепции поля, Эйнштейн
замечает: «В наше время эта концепция стала, так сказать,
„классической41, по теория в собственном смысле этого
слова (причем в принципе полная) выросла не из нее.
Макспелловская теория электромагнитного поля
оставалась незавершенной, ибо она была неспособна установить
законы распределения плотности электрического заряда,
без которых, разумеется, не могло быть такой вещи, как
электромагнитное поле»4.
И сразу же после этого — историческая аналогия,
сближение незавершенности электродинамики Максвелла
3 Эйнштейн А. Собр. науч. тр. М., 1967, т. 4, с. 302—303.
4 Там же, с. 303.
€8
с незавершенностью релятивистской картины мира, с
отсутствием теории, объясняющей природу создающих
гравитационное поле масс. «Точно так же,—добавляет
Эйнштейн,— общая теория относительности впоследствии
привела к созданию теории гравитационного поля, но не к
теории масс, создающих это поле»5. Аналогично
классической механике, остановившейся перед проблемой поля
(и потому содержавшей ее как прогноз — как
поставленную, но нерешенную проблему), общая теория
относительности остановилась перед проблемой масс как
источников поля. Таким образом, складывается представление
о некоторой сквозной линии развития физической мысли,
ищущей максимальное внутреннее совершенство и
сохраняющей в качестве барьера па этом пути некоторые
логически необъяснеиныо начальные условия.
В уже цитированных «Автобиографических заметках»
Эйнштейн говорит о некотором идеале физического
объяснения, полностью удовлетворяющего критерию
внутреннего совершенства. Нужно сказать, что само понятие
идеала здесь неклассическое. Идеал Эйнштейна
принципиально отличается от идеала Гельмгольца, от картины
мира, сведенной к центральным силам, отличается не
только и не столько содержанием, сколько тем, что он
показывает но завершение зпапия, а направление его
бесконечной необратимой эволюции. Речь идет о
принципиальной возможности исключения любой произвольной
постоянной, обладающей эмпирическим основанием, но
невыводимой логически из каких-то общих принципов.
Картина мира без произвольных констант является
современным идеалом внутреннего совершенства
физической теории. Широта этого идеала, явпая отдаленность
его реализации означают беспрецедентную значительность
современного разрыва между критериями истипы,
осознанного разрыва, который является инициирующим
потенциалом современной мегаиауки и определяет
интенсивность поисков дальнейших фактов и дальнейших
обобщений.
Такие поиски служат позитивным, действительным
отрицанием границ познания, движущим его вперед.
Эйнштейн обосновывал идею исключения произвольных
констант «простотой и понятностью» природы. Слово
«простота», характеристика структуры мира, поставлено ря-
8 Там же.
69
дом со словом «понятность», характеристикой познания,
исключающей его границы. Оба эти слова
расшифровываются в связи со смыслом эйнштейновского идеала
познания. Простота мироздания отнюдь не исключает его
многоплановости, многообразия, иерархии структур,
связанных бескопечпым множеством взаимодействий.
Простота означает единство мира, которое делает его
познаваемым, раскрывается в бесконечном приближении к
истине. Эйнштейн говорил: самое непонятное в мире — это
то, что он понятен. Иными словами, простота и
понятность мира «непоиятпы», потому что речь идет о
бесконечном познании, о постижении бесконечно сложной
структуры. Эйнштейновская «простота и понятность»
исключают не только «Ignorabimus!» Дюбуа-Реймона, т. е.
непреодолимую степу па пути познания, но и
догматическую границу, вытекающую из исчерпания истины.
Совремеппое попятпе потенциала меганауки
выражает, таким образом, гносеологический оптимизм. Меганау-
ка находится на переднем крае, па грани тех вопросов,
которые Дгобуа-Реймои считал навсегда лишенными
ответа; догматическая же мысль видела их решение в уже
достигнутых пиапиях. Мегаиаука отвечает на эти
вопросы или по крайней мере пытается ответить.
Презумпцией меганауки служит уверенность в том, что эти
вопросы могут найти ответ, и в том, что уже имеющийся
ответ не окончательный. Ипаче говоря, презумпция
меганауки — гносеологический оптимизм, отрицапие границ по*
знания п в их агностической форме и в форме
догматической фикции завершенного знания. Темп позитивной
реализации такого оптимизма зависит от разрыва между
впешпим оправданием, т. е. экспериментальными
результатами, явпо требующими повой общей концепции
мироздания, и внутренне совершенной общей концепцией
либо от появления такой концепции, еще не получившей
достаточного экспериментального подтверждения. Такая
ситуация в значительной мере определяет структуру
науки — «вертикальную» (соотношение между «этажами»
позпаиия) и «горизонтальную» (соотношение отраслей
и луки).
Структура пауки, ее «этажи» п иерархия
Здесь мы переходим от потенциала меганауки, т. е.
ситуации на подвижном рубеже уже познанного и еще не
познанного общего представления о природе, к проблеме
70
структуры науки. Потенциал мсганаукп определяет
скорость продвижения этого рубежа вперед. Но он сам
зависит от структуры науки и, следовательно, от границ
между ее отраслями. Соответственно от едипства зпапия
мы переходим к дифференциации пауки, от того, что ее
объединяет, к тому, что делит ее на отрасли, образует ее
структуру. Сочетание едипства науки и ее
дифференциации меняется. Меняется представление о внешнем
оправдании, т. е. о подтверждении общей концепции бытия в
дифференцировавшихся областях знания, и представление
о внутреннем совершенстве, т. е. о выведении этих
дифференцировавшихся данных из общей концепции. Иначе
говоря, мепяется сам смысл понятия «структура».
В перипатетической физике эмпирическое внешнее
оправдапие и логическое внутреннее совершенство были
отделены одно от другого довольно прочной стеной. Она
видна особенно явственно не в произведениях
Аристотеля, где всякого рода «стены» еще не приобрели
догматической непроницаемости, и даже ne y ранних
комментаторов Стагирита, а в средневековых трактатах. Здесь
исходные принципы получили провиденциальное
обоснование, которое было только наиболее крайним выражением
неподвижности границ сенсуально постижимого мира в
пространстве (замкнутое пространство) и во времени
(«твариое время» как конечный отрезок неподвижной
вечности). Эмпирическое внешнее оправдание не было
оправданием общей идеи, а логическое внутреннее
совершенство и не нуждалось в таком оправдании.
В классической пауке эти критерии сблизились, речь
шла теперь о совершенстве частной констатации,
экспериментального результата, и об оправдании общей
констатации. Но еще не было того, что принесли теория
относительности и квантовая механика, где эксперимент подчас
приводит к изменению самых общих принципов. Иллюзия
абсолютного пространства п абсолютного времени вводила
в картину мира сенсуально непостижимые и
экспериментально иерегпстрируемые образы. Объяснение
центробежных сил ускоренным движением, отнесенным к пустому
пространству, приводило к иллюзии чисто логического
постижения мира. Иллюзии абсолютного времени,
мгновенного дальнодействия и физической содержательности
трехмерного пространства («моментальной фотографии»
Вселенной) позволяли ссылаться на чисто логическую
корректность физических теорий, предоставляли автоно-
71
мию внутреннему совершенству, изолированному от
внешнего оправдания. В этом отношении теория
относительности и квантовая механика представляют собой два
акта единой драмы. Ее сюжет — устранение из пауки
«чистой» мысли, не требующей внешнего оправдания, и
«чистого» эксперимента, «чистой» эмпирии, пе требующей
внутреннего совершенства. Неклассическая физика
присоединила к накопленным собственно философским
аргументам против эмпиризма и априоризма новые
физические аргументы.
Как ни далеко еще, по-видимому, до более глубокого
(отвечающего критерию внутреннего совершенства)
синтеза релятивистской и квантовой физики, их
историческая преемственность и единство бесспорны. Квантовая
механика покончила с иллюзией физического смысла
простой геометрической интерпретации пребывания частицы
в данной точке и в данный момепт. Для теории
относительности пространственная точка и мгновение
сливаются в четырехмерное событие — пребывание частицы в
мировой точке. Для квантовой механики подобное событие
имеет физический смысл, если оно меняет импульс и
энергию частицы. Локализация частицы в пространстве и
времени приобретает физический смысл, включаясь в
каузальный мир. Это исторический шаг физикализацин
геометрических понятий, следующий за теорией
относительности. Начиная с Декарта, физика билась над проблемой
разграничения пространства как геометрического понятия
и вещества как физического заполнения пространства.
Теория поля, теория относительности, квантовая
механика — последовательные этапы физикализации геометрии.
Все это относится к концепции бытия. А каковы
здесь гносеологические эквиваленты, характерные
особенности познания? Нужно сказать, что неклассическая
физика в очень большой мере продемонстрировала
неотделимость этих сторон науки. Теория относительности и
квантовая механика преобразуют не только
представление о бытии, но, как сказано выше, также и арсенал
познания. Отсюда вытекают некоторые выводы для
определения потенциала современной науки и ее эффекта.
Основным принципам неклассическон физики —
исключению (или превращению в условные, ограниченные
аппроксимации) внеэмпирическнх сущностей и синтезу
внешнего оправдания и внутреннего совершенства —
соответствует неклассическая структура науки. Классическая
72
структура вытекала пз разграничения форм движения,
несводимых к аксиомам движения, и из их связи с
указанными аксиомами, неотделимости от них.
Неклассическая структура бытия — это воздействия субструктур на
включающие структуры, воздействие находящихся в
пространстве тел па пространство, воздействие квантового
объекта на макроскопический объект, лишенный
квантовой детализации. В чем зпачепие такой структуры бытия
для структуры познания, для структуры самой науки?
В чем особенности неклассической структуры науки?
Некласспческая наука развивается в условиях почти
непрерывного преобразования самых общих принципов,
преобразования того, что в «доброе старое время»
считали аксиомами науки. Сам эпитет «пеклассическая»
применительно к науке имеет пе негативный смысл (отказ от
принципов, получивших иазвание классических), а
позитивный — постоянное преобразование принципов. Оно
теперь происходит в тесной связи с экспериментальными и
прикладными исследованиями. Обобщение частных
научных теорий, частных констатации и отдельных отраслей
науки стало неотделимым от подготовки и развития этих
теорий, констатации и отраслей. Оно не ограничивается
размышлениями о связи научных открытий с теми или
иными философскими понятиями, оно происходит и в
рамках частных исследований, в рамках эксперимента и
применения науки.
Лаплас говорил, что погружепие разума самого в себя
труднее, чем его продвижение вперед. Но сейчас
продвижение вперед — накопление новых констатации и
объясняющих новые факты теорий,— как правило,
сопровождается погружением разума самого в себя,
преобразованием методов и исходных принципов познания. С таким
характером обобщения и объединения научных знаний
связано широкое развитие интердисциплинарных
исследований, появление таких направлений, как общая
теория информации, структурный анализ и т. п., пе
претендующих па роль философского обобщения науки, но
связанных с ним.
С непосредственным эффектом фундаментальных
исследований, приводящих к преобразованию исходных
принципов науки, связано развитие таких дисциплин (по
существу, интердисциплинарных), как экономика науки,
эстетика науки, научная этика, т. е. дисциплин,
рассматривающих ценность научного познания. Вырастает новый
73
синтез науки, тесно связанный с ее современными не-
классическимп основами и в конечном счете с тем стилем
научного исследования, который вполне может быть
назван эйнштейновским, с органическим сращиванием
логико-математического н экспериментального описания
мира. Как уже говорилось, направление экспериментов и
наблюдений определяется наличием логически
корректных, обладающих высоким внутренним совершенством
гипотез и проблем, не получивших однозначного
эмпирического подтверждения. Они паправляют эксперименты и
наблюдения по наиболее эффективному курсу.
Отметим, что подобное понимание потенциала науки
связано довольно прямой аналогией с лапласовским
«погружением разума самого в себя». Такое погружение
увеличивает потенциал науки, после чего «продвижение
разума вперед» реализует потенциал в качестве
«кинетической энергии» науки.
Наиболее острая коллизия современной физики —
совладение данных, вычисленных с помощью рецептурных
методов, с результатами наблюдений в теории
элементарных частиц п в то же время отсутствие однозначной
теории, избавляющей от бесконечных значений энергии и
заряда, с достаточным внутренним совершенством; и эта
коллизия может быть преодолена широким фронтом
экспериментально-наблюдательных исследований.
Большинство так называемых катастроф в истории физики
сводилось к тому или иному типу коллизий внешнего
оправдания и внутреннего совершенства. Назвав их
составляющими «потенциала» пауки (сохраняя все же кавычки),
мы приближаемся mutatis mutandis к каноническим
определениям потенциала без кавычек.
Устранение таких коллизий создает парадигму,
которая становится межотраслевым инвариантом науки.
Концепция парадигмы требует в качестве дополнения
представления о «катастрофах» и их финалах. Особепно это
относится к пеклассической науке, где парадигма,
вопреки исходному смыслу этого слова и его
гносеологическому применению, не приобретает такого устойчивого
характера, какой она имела в прошлом. В паше время
значительно меняется характер научного прогноза. В
рамках классической науки основой прогноза была
парадигма: предполагалось, что будущее науки — в приобщении
новых областей к абсолютной или конституционной
(с учетом несводимой специфики) власти механических
74
схем. Во второй половине XX в. осповпые лпипп прогноза
проводят в сторону упомянутого уже «бегства от чуда»,
т. е. переноса парадоксальности с отдельной констатации
(например, экспериментально установленной
независимости скорости света в данной системе от ее двия^енпя) на
максимально общую теорию (в том же примере —
исключение эфира, исключение мгновенного дальнодействия),
которая становится парадоксальной, обеспечивая
внутреннее совершенство частной констатации.
Такое изменение характера научного прогноза
расширяет спектр возможных вариантов и увеличивает долго-
срочность прогнозирования, охватываемый им интервал
времени. Раньше ожидаемый результат представляли си-
бе сравнительно точно и, если он не соответствовал
ожиданию, вводили обычно дополнительные гипотезы,
модифицирующие представление о ходе процесса, но не
заставляющие пересматривать фундаментальные
предположения. Именно так поступил Лоренц с результатами
электродинамических и оптических экспериментов не
зарегистрировавших изменения скорости спета при движении
системы. Теперь, следуя примеру Эйнштейна, вводят в
число возможных объяснений неожиданного результата
эксперимента отказ от традиционного общего принципа,
и сама парадоксальная неожиданность оказывается
элементом ожидания, входит в предвидимые результаты
эксперимента. Когда-то А. А. Банков в ответ на
официальный вопрос: «Ожидаемые результаты исследования?» —
написал в соответствующей графе: «В науке ценны
только неожиданные результаты!» Сейчас такие результаты
входят в число ожидаемых, слово «ожидание» меняет
смысл, а понятие прогноза — объем.
Расширение понятия прогноза и объема
прогнозирования приводит к расширению понятия потенциала
науки. Эти понятия связаны между собой. Потенциал науки
в данный момент измеряется тем, что наука может дать
в некоторый иной, более поздний момент. Слово «дать»
обозначает здесь не только гносеологический эффект
научных исследований, но и их прикладной эффект,
ценность науки, ее воздействие на цивилизацию. Но нельзя
думать, что такое воздействие ограничивается
производственным применением экспериментальных открытий.
Существует и непосредственная связь между внутренним
совершенством науки п развитием цивилизации. Когда-то
Пернет говорил, что теория относителыгостп — скорее фи-
75
лософская, чем физическая теория. Это кажется очень до-
атомной оценкой: трудно найти физическую теорию,
которая была бы так тесно связана с экспериментом и
обладала таким внушительным экспериментальным и
прикладным подтверждением. Ио здесь есть зерно истины:
трудно найти другую теорию, так тесно связанную с
максимально общими характеристиками бытия и познания.
Дело будущих историков цивилизации — определить
сравнительное значение атомной энергетики, с одной стороны,
и философского, глубоко гуманистического резонанса
теории относительности — с другой. Нашему поколению
ясно, что соединение того и другого — предпосылка
позитивного эффекта неклассической физики для прогресса
цивилизации. Во всяком случае, такой общий прогресс,
который может быть определен лишь в прогнозе, причем
довольно длительном, измеряет потенциал науки.
Эффект меганаукн
Слово «измеряет» требует пояснений. Оно может
иметь переносный смысл и относиться к принципиально
неметрическому эффекту науки, но может означать
измерение в прямом и обычном смысле той или иной
метрики. Рассмотрим эти различные возможности.
Современная культура включает две весьма
существенные тенденции. Одна из пих — повышение роли
неметрических критериев. Япопский экономист Сигэто Цуру,
обсуждая роль неметрических критериев, в частности
экологических (к ним можно было бы прибавить выросшие
в своем значении для культуры эстетические критерии),
вспоминал замечание Сент-Экзюпери, вложенное в уста
Маленького принца: взрослые в отличие от детей
спрашивают, сколько человеку лет, сколько он зарабатывает,
а в какие игры он любит играть — им безразличнов.
Однако реализация неметрического эффекта науки связана
со второй тенденцией: проблема структуры науки стала
проблемой оптимальной структуры. Здесь требуются
метрические определения научного потенциала. Потенциал
науки имеет право на это название, иначе говоря, сохра-
См.: Цуру С Взамен показателя «валовый национальный
продукт».— В кн.: Материалы V советско-японского симпозиума
ученых-экономистов. М., 1972, с. 91; см. также: Кузнецов Б. Г.
Философия оптимизма. М., 1972, с. 341—342, 356—357; Он оке.
Ценность познания. М., 1975, с. 162. Изд. 2. М.: КД <J1h6pokom»/URSS, 2009.
76
1яет связь с физическим и математическим понятием
потенциала, если он определяется возможной работой
науки, т. е. ее прогнозируемым эффектом.
Нетрудно показать, что метрическим выражением
потенциала науки служит ее экономический эффект —
воздействие науки на уровень производительности труда и
на его производные по времени. Развитие цивилизации
означает рост целесообразно скомпонованных,
подчиненных человеку сил природы. Производительность труда —
это отношение таких целесообразно скомпонованных сил
к самому труду. Наука гарантирует ненулевую
производную по времени от уровня производительности труда.
Заданный уровень гарантируется исследованиями, не
претендующими на титул науки: анализом и измерением
электрических и механических напряжений, давлений,
температур, состава шихты, механических, физических и
химических свойств продукции и т. д.
Прикладные исследования, включающие создание
новых конструкций и технологических процессов,
гарантируют ненулевую производную по времени Р',
незатухающий рост производительности труда. Наука в собственном
смысле — поиски новых физических и химических
циклов, целевых канонов, к которым стремятся
приблизиться технологические нормы и которые гарантируют
ускорение роста производительности труда, т. е. ненулевую
вторую производную по времени от его уровня Р",
Можно ввести фундаментальный экономический показатель-
функцию производительности труда, его первой и второй
производной по времени Q =/(Р, Р', Р"), максимальное
значение которого соответствует метрическому потенциалу
науки \ Вычисление его значения может происходить
путем прогнозирования динамики технико-экономических
показателей в их зависимости от структуры вложений в
науку. Максимальному прогнозируемому значению Q
соответствует оптимальная структура вложений.
Какие же новые специфические для нашего времени
критерии оптимальной структуры вытекают из
неклассического характера современной науки, из
эйнштейновского стиля современного научного мышления, из слияния
внутреннего совершенства с внешним оправданием.
Неклассические основы науки были созданы в поисках мак-
Ку$нецов Б, Г. Ценность познания, с. 120—129. Изд. 2. М.: КД «Либ-
poKOM»/URSS, 2Ô09.
77
симального внутреннего совершенства физических
концепции меганауки, в рамках исследований, приводящих
к трансформации научных аксиом, исходных принципов
науки, к трансформации представлений о пространстве,
времени, движении, космосе, микрокосме и жизни. Эти
представления непосредственно не приводят к технически
применимым конструкциям и процессам и не приводят
к новым идеальным циклам, которые играют роль
целевых канонов в научно-техническом творчестве. Поэтому
меганаука не входит в иерархию исследований,
непосредственно определяющих производные по времени от
производительности труда, и соответственно в формулу
фундаментального экономического показателя Q = /(Р, Р',Р" ).
Потенциал меганауки определяется прогнозом, но уже не
прогнозом непосредственного применения, а прогнозом
изменения стиля и структуры науки. Эффект меганауки
интегральный, потому что результаты входящих в иее
наиболее фундаментальных исследований углубляют
единство науки, внутрепиее совершенство частных концепций,
входят в той или иной мере во все отрасли пауки,
трансформируют их, изменяют их роль в создании целостной
картины мира. Мере такого воздействия «близости» к
неклассическим основам современной пауки соответствует
значение данной отрасли для общего возрастания
потенциала науки. Но собственный потенциал меганауки в
основном не прикладной, а гносеологический. Как бы ни
были значительны частные практические результаты
наиболее фундаментальных исследований, основной их
эффект проходит через по,т1/ьем общего интеллектуального
потенциала науки.
Сейчас часто обсуждается вопрос о «науке-лидере».
Предпочтительнее, пожалуй, воспользоваться термином
«ведущая роль», появившимся у пас в 20-е годы
применительно к отраслям промышленности. Дело в том, что
сейчас нет «науки-лидера», каким была в XVIII в.
классическая механика, и нет отрасли, которая не оказывала
бы влияния на другие, не была бы источником новых
общенаучных принципов, не играла бы активной роли в
интердисциплинарных исследованиях. Ведущая роль
принадлежит всем отраслям, но в различной степени,
соответствующей степени неклассической трансформации ее
основных понятий. В целом такая трансформация меняет
динамическую структуру науки, соотношение скоростей
развития отдельных дисциплин, и максимальный потен-
78
циал науки соответствует наибольшей скорости развития
наиболее ведущих дисциплин.
По-видимому, «первыми среди равных» в этой
демократической иерархии дисциплин являются космология
и физика элементарных частиц, т. е. области, где
Вселенная в целом и элемепты микромира оказываются единым
объектом анализа и где можно ожидать решительной
реализации основного гносеологического потенциала
современной картины мира. Таким образом, меганаука
рассматривается уже как одна из отраслей науки, по как
«первая среди равных». Атомная физика уже прошла
через такую ситуацию, она еще долго будет обладать
наиболее мощным воздействием па производство, но здесь
уже пет такого тяжелого и вместе с тем такого
многообещающего разрыва между внешним оправданием и
внутренним совершенством, как в астрофизике и физике
элементарных частиц. Далее идет учение о молекуле, где
наиболее не классические области (химия трансуранов,
радиационная генетика) дают особенно мощные
общенаучные импульсы. Далее — исследование макроскопических
процессов, не требующих для своего понимания учета ни
релятивистских соотношений, ни корпускулярно-волново-
го дуализма.
Подобное сближение «неклассичности», «ведущей
роли» и коэффициента расширения отраслей науки в ее
динамической структуре можно представить некоторой
геометрической аналогией. Возьмем тг-мерпое пространство
структур науки, где каждой точке соответствует
некоторая инвестиционная структура, некоторое распределение
средств и сил между п отраслями, проблемами или
комплексами проблем. Прибавим еще измерение времени и
получим (м+ 1)-мерное пространство динамических
структур. Прикладные исследования, а также появление
новых идеальных канонов — новых физических циклов —
изменяют структуру науки, отдают большую ведущую
роль той или иной отрасли или проблеме и выражаются
в нашем (тг+1)-мерном пространстве сдвигом, который
зависит от координатпых приращений соответственно
обычной евклидовой метрике. Если же речь идет о
переходе к неклассическим основам и их дальнейшей
модификации, то меняется сама зависимость сдвига
структуры от координатпых приращений, закономерность
установления оптимальпой структуры наукп, что
соответствует искривлению (я+1)-мерного пространства структур.
79
Понятие кривизпы n-мерного пространства структур
науки дополняется аналогичным понятием, относящимся
к структуре производства. Оно позволяет более отчетливо
представить эффект фундаментальных исследований.
Экономический эффект остается основным метрическим
критерием при планировании пауки и определении доли
науки в общегосударственном балансе инвестиций.
До сих пор речь шла об л-мерном пространстве
структур науки. Введем теперь n-мерное пространство
структур производства, где каждой точке соответствует
соотношение N отраслей. Такое соотношение меняется в
результате научно-технических сдвигов. Достаточно напомнить
об измепенпи относительного объема электротехнической
промышленности и инвестиций в эту отрасль под
влиянием электрификации или рост электропики как отрасли
производства в результате открытия лазеров.
Структурные сдвиги такого рода, т. е. переход от одной структуры
к иной, можно представить как двшкепие в УУ-мерном
пространстве, в котором каждая точка имеет N
координат — вложений или объемов производства в каждую из
N отраслей.
Подобный эффект научных и научно-технических
открытий может быть большим или меньшим, он
измеряется вектором, соединяющим одну точку TV-мерного
пространства с другой точкой этого пространства. Что же
касается результатов фундаментальных исследований, то
они не только приводят к таким сдвигам, но и нарушают
зависимость между вложепиями в отрасли и итоговым
структурным сдвигом, изменяют метрику TV-мерного
пространства, искривляют его •. Исследования, относящиеся
к меганауке, дают очень сильный импульс не только
поискам новых физических и химических циклов,
соответствующим научно-техническим сдвигам и в результате
изменению метрики пространства структур; меганаука в
конечном счете создает совершенно новые отрасли и
таким образом изменяет само число N — размерность
пространства структур.
В этой связи следует еще раз подчеркнуть
принципиальную невозможность метрически выразить
непосредственный эффект меганауки. Опа включает
«бескорыстные» исследования, которые дают именно поэтому наи-
8 Несколько подробней о неевклидовой метрике пространства
структур см.: пуанецов Б. Г, Ценность познания, с. 128—130.
Изд." 2. М.: КД <J1h6pokom»/URSS, 2009.
80
большую опосредствованную «корысть», максимальный
опосредствованный экономический эффект. Тут возможна
аналогия с потенциалом горного озера, который
превращается в кинетическую энергию вытекающего из озера
потока, а ей соответствует мощпость использующей этот
поток электростанции. Инвестиционная структура науки
будет оптимальной, если она в максимальной мере
реализует метрический потенциал, т. е. позволяет предвидеть
максимальные значения первой и второй производной от
уровня производительности труда. Но наряду с таким
критерием, охватывающим измеримый эффект науки,
существуют и иные требования, заставляющие включить в
структуру инвестиций некоторые отрасли и исследования,
не дающие измеримого эффекта.
Прежде всего таковы исследования, которые прямо и
непосредственно направлены на достижение внешнего
оправдания новых фундаментальных принципов и
достижений внутреннего совершенства, новых expérimenta crucis,
иначе говоря, исследования, реализующие исходный и
общий потенциал науки — потенциал разума. При своем
превращении в «кинетическую энергию» науки этот
потенциал меняет не конструкции, не технологические
процессы (соответственно не уровень производительности
труда) и не целевые каноны — идеальные физические п
химические циклы (соответственно меняет не темп
возрастания этого уровня, т. е. не вызывает ускорения
темпа), а основные фарватеры науки. Нельзя ли измерить
эффект таких исследований третьей производной по
времени от уровня производительности труда? По-видимому,
такая возможность исключена; коренные преобразования
науки не происходят непрерывно, хотя и
подготавливаются все время. Это дискретные озарения, знаменующие
собой поворотные вехи пауки.
Другой неметрический потенциал науки — это ее
потенциальное воздействие на экологические условия. Если
метрический потенциал науки — это ее экономический
потенциал, то проектируемое воздействие на условия
обитания человека — это экологический потенциал.
И, наконец, третий неметрический потенциал —
демографический. Он измеряется итоговым воздействием всей
науки (в первую очередь биологических исследований) на
человека, гарантирующим возрастание средней продолжи-
тельпости жизни и соответствующее изменение
возрастного состава и темпов прироста населения.
81
Максимальный пеметрпчестшй потепцпал пауки
требует, чтобы в ее инвестиционной структуре меганаука
заняла место, соответствующее наметившимся
кардинальным вопросам, которые должны быть адресованы природе
в форме более мощных ускорителей, новых
астрофизических обсерваторий, внеземных наблюдений и т. п.
Ограничивающим условием служит реальная подготовленность
таких вопросов, возможность сформулировать их с
надеждой на ответ.
Таким образом, мы сталкиваемся с фундаментальным
отличием потенциала того, что пазывают меганаукои, от
потенциала тех отраслей науки, которые ставят перед
собой сравнительно частные задачи.
Последние входят в область рассудка, традиционное
определение которого ограничивает его функции
анализом конечного, а меганаука скорее относится к разуму,
анализирующему бесконечное и меняющему основные,
фундаментальные устои познания. В свете такого
традиционного разграничения фраза Лапласа о разуме,
испытывающем большие затруднения при погружении в
самого себя, чем при движении вперед, противопоставляет
разум как таковой, т. с. углубляющийся в себя и
меняющий свои каноны, рассудку — разуму, идущему вперед.
С такой точки зрения потенциал мегаиаукп — ото
потенциал разума, а потенциал науки, разрабатывающей
частные проблемы на основе сравнительно неизменных
исходных принципов,— это потенциал рассудка. Все дело,
однако, в том, что в неклассической науке разграничение
меганауки и «частных» дисциплин весьма условно:
погружение разума в самого себя, как правило, сопровождает
его продвижение вперед.
Математизация познания
Математический аппарат теория относительности
помогает представить в более общей форме изменение
структуры науки, вызваппое ее иеклассическим
преобразованием. Но это только один элемент очень широкой
зависимости судеб современной науки от ее математического
выражения. Теория относительности сделала математику
явно онтологической /шециплиной, а эксперимент —
доказательством (внешним оправданием) математического
выражения картины мироздания. Конвенционализм
несовместим с современным представлением о мире и его по-
82
впаипи. Относительно «наемной казармы» (так Гермап
Вейль назвал классическое представление о
пространстве) можно было высказывать суждснпя, независимые от
внешнего оправдания и потому дававшие повод для кон-
венцноналистского понимания геометрических истин. Но
внутреннее совершенство, как предикат онтологических
констатации, означает иную ситуацию: теория
приобретает универсальную, математическую форму, становится
учением о любых объектах, потому что она, приобретая
внутреннее совершенство, становится выводом из
универсальных физических констатации, охватывающих Всё (но
не как логическую категорию, а как Метагалактику и все
элементы микромира). Математическая форма
современной науки — следствие ее универсальной формы.
«Универсалии» как абстрактные категории стали
физическими универсалиями — констатациями, относящимися ко
Вселенной в целом и ее элементам. Можно отметить, что
столь важный для математики критерий, как изящество
(Пуанкаре связывает его с общностью выводов), который
выражает в математике внутреннее совершенство теорем,
приобретает онтологический смысл и включает
эстетические моменты в определение потенциала науки.
Уже математическое содержание специальной теории
относительности не укладывается в формулу Рассела:
«Математика — это наука, которая не знает, о чем она
говорит, и правильно ли то, что она говорит». Математика
всегда игнорирует некоторое различие между
идентифицируемыми объектами. «Если я буду рассматривать дом
соседа равным моему, как мой собственный дом, мне
быстро разъяснят разницу»,— писал Фреге в конце
прошлого века в. Каждый знак равенства скрывает или,
скорее, демонстрирует некоторое накопление иетождествен-
ностей, которое делает математику иетавтологичной.
Переход основных математических понятий в
онтологические утверждения, в характеристики объективного
мира превращает их в звенья необратимого познания. По
мнению Паули, теорию относительности нельзя считать
простым завершением классической физики: анализ п
обобщение групповых свойств пространства в теории
относительности проложили дорогу квантовой механике и,
• Frege G. Die Grundgesetze der Mathematik begriffsschriftlich
abgeleitet Jena, 1893, Bd. 2, S. 71,
83
таким образом, были необратимым шагом познания10.
В общей теории относительности еще более отчетливо
видна связь математического обобщения,, онтологизации
математики, внутреннего совершенства и необратимости
научного прогресса.
В истории науки первоначальная физическая
интуиция становится строгой теорией, облекаясь в
математическую форму, и индуцирует в сознании цепь еще
неясных, неоднозначных, угадываемых экспериментов,
которые придадут внешнее большее оправдание этой теории,
уже обладающей однозначной и естественной связью с
еще более общим принципом. Интуиция может быть
логико-математической: эксперимент вызывает
неопределенное, но несомненное ощущение достижимости еще необ-
ретенного внутреннего совершенства, которое может
иметь форму математической дедукции. О таком
переходе от интуитивного представления к математической
концепции говорится в заключительных абзацах «Очерков по
истории математики» Н. Бурбаки. Авторы этих очерков
рассматривают математику в ее аксиоматической форме
как скопление математических структур. В эти структуры
укладываются некоторые аспекты действительности,
некоторые данные, полученпые экспериментом.
Происхождение математических структур — абстрактных форм
действительности — по большей части связано с интуицией, но
физическая интерпретация лишает математические формы
их интуитивного характера. «Конечно, нельзя отрицать,
что большинство этих форм имело при своем
возникновении интуитивное содержание; по как раз сознательно
лишая их этого содержания, им сумели придать всю их
действительность, которая и составляет их силу, и сделали
для них возможным приобрести новые интерпретации и
полностью выполнить свою роль в обработке данных»11.
Эти строки кажутся описанием перехода от
первоначальных интуитивных релятивистских идей к
эйнштейновской концепции в ее развитой форме, к теории
четырехмерного евклидова континуума и дальнейшего
перехода к «новым интерпретациям» — к теории неевклидова
четырехмерного континуума, к общей теории
относительности. Во всяком случае, приведенная характеристика
10 См.: Жизнь науки: Антология вступлений к классике
естествознания. М., 1973, с. 573.
11 Бурбаки II. Очерки по истории математики. М., 1963, с. 259.
Изд. 4. М: Книжный дом «J1h6pokom»/URSS, 2010.
84
«дезинтуитивизации» математических форм может
служить таким описанием.
В этой связи несколько слов о «формализме» теории
относительности. Несомненно, общая теория
относительности рассматривает тяготение как изменение
геометрических свойств пространства, а специальная теория
означает переход к четырехмерному континууму, т. е.
переход к иной геометрической размерности. Но это является
в сущности не только геометризацией физики, но и фпзн-
кализацией геометрии, присвоением ей физического
смысла.
Бурбаки продолжают процитированные строки об
абстрактных формах математики в заключительном абзаце
«Очерков»: «Только имея в виду этот смысл слова
„форма*4, можно говорить о том, что аксиоматический подход
является „формализмом1*. Единство, которое он
доставляет математике,— это не каркас формальной логики, не
единство, которое дает скелет, лишенный жизни. Это
питательный сок организма в полном развитии, податливый
и плодотворный инструмент исследования, который
сознательно используют в своей работе, начиная с Гаусса,
все великие мыслители-математики, все те, кто, следуя
формуле Лежена-Дирихле, всегда стремились заменить
вычисления идеями»12.
Формула Дирихле не должна давать повод к
недоразумениям. «Замена» приобщает «вычисления» к их
физической интерпретации, превращает «вычисления» в нечто
более общее, включающее новые физические
интерпретации, приобщает к более общему классу, ко Всему — к
физически интерпретированному Всему. «Вычисления»
Дирихле, превращаясь в идеи, соединяются с
экспериментами и физическими интерпретациями, также обретшими
отчетливую форму. Соединение состоит в возможном
сопоставлении результатов эксперимента с результатами
логической дедукции, максимально общей и поэтому
ставшей математической дедукцией.
Именно такова «релятивистская дедукция» — этим
именем Эмиль Мейерсон назвал логическую структуру
теории относительности13. Заметим попутно, что мейерсо-
новская интерпретация теории относительности и оценка
1* Там же.
11 См.: Meyerson Е. La Déduction Relativiste. P., 1925.
Ö5
книги Мейерсоиа Эйнштейном u дают очень точное
представление о соотношении эксперимента, дедукции и
интуиции, свойственном науке в целом и получившем осо-*
бепно отчетливое выражеиие в неклассической физике.
«Замена», о которой говорил Дирихле, «формализм»
теории относительности, математизация современной
науки, несомненно связанные с пеклассическим характером
ее основ, неотделимы от приобретения математическими
понятиями физического смысла, физпкализации
геометрии, от расширения кругозора науки, все большей связи
каждой физической интерпретации с картиной мира в ее
целом. «Формализация» физики — это псевдоним такого
расширения. «Формальность» математических законов,- их
применимость к описанию любых объектов — это
выражение реального единства мироздания, существования
некоторых общих определений, охватывающих мир от
Метагалактики до элементарных частиц.
Отсюда следует вывод, который может показаться
неожиданным, но в действительности однозначно связан с
эйнштейновской концепцией дедукции и эксперимента,
внутреннего совершенства и внешнего оправдания.
Вывод состоит в том, что «замена» Дирихле, превращая
вычисления в физические идеи, позволяет сопоставить
эксперимент с дедукцией, сочетать внешнее оправдание
с внутренним совершенством и, таким образом,
соответствует эйнштейновским критериям истины. Каждый акт
«замены» становится шагом на пути бесконечного и
необратимого приближения к абсолютной истине, к
неисчерпаемому оригиналу картины мира. Каждый такой шаг
делает картину мира более многоплановой, все более
адекватным образом отображающей бесконечную сложность
мироздания. Следовательно, интуитивное постижение
мира, предваряющее ее сопряженный с экспериментом
математический анализ, входит в потенциал науки,
определяющий ее «кинетическую энергию», ее движение к
истине, ко все более точному и полному отображению бытия.
Но если считать такое движение в целом
необратимым, если ввести в историю познания понятие «стрелы
времени», то аналогия с потенциалом и кинетической
энергией приводит к весьма фундаментальному вопросу.
Развитие науки начинает напоминать волнообразный
процесс, повторение взлетов и падений потенциала. Но
14 См.: Эйнштейн А. Собр. науч. тр., т. 4, с. 98—104.
86
где. же исходный потенциал необратимого движения к
истине? Почему каждый новый цикл повторяет
предыдущий на более высоком уровне, с большим приближением
картины мира к действительности?
Исходный потенциал научного прогресса
Ответ на поставленные только что вопросы связан о
проблемой генезиса пауки. Когда в ионийских колониях
Греции отдельные каузальные констатации впервые
слились с общей каузальной концепцией бытия, заменившей
традиционный креационизм, возникли некоторые
парадоксы познания, которые сами были гносеологически
парадоксальными: они постоянно разрешались, были
принципиально разрешимыми и в этом смысле демонстрировали
бесконечную мощь познания, по для них не могло быть
найдено абсолютное решение, и потому оии не исчезли,
не могли быть сняты. Оии каждый раз возрождались
вновь и вновь, как Феникс из пепла. Это были коллизии
восприятия мира в его покое и движении (гераклито-
элейская коллизия), в пространстве и времени, в его
дискретности и непрерывности (парадоксы Зепона), в его
единстве и структурности (парадоксы типа «все
критяне — лжецы...»), коллизии протяженного образа п непро-
тяжепной идеи, относительного и абсолютного познания,
конечного н бесконечного, локального «здесь-теперь» п
нелокального «вне-здесь-теперь», эмпирического
познания и логического анализа. Сохранение этих
инвариантных проблем и их парадоксальный, вопрошающий,
требующий все новых п новых ответов смысл воспроизводит
начальный, исходный потенциал научного творчества.
Крупнейшее значение теории относительности для
философии, для культуры, для человеческого мышления
о мире состоит в радикальной трансформации сквозных
проблем познапия. Парадоксы познания оказались
парадоксами бытия. Неотделимость пространства и времени
при сохранении коренного различия их природы 15 —
основа новой, нсклассичсской ретроспекции, направленной
на указанные проблемы. В свете теорпп относительности
Очень точное и краткое разъяспепи* этого различия дано
Эйнштейном в статье о «Релятивистской дедукции» Эмиля Мейер-
сона (см.: Эйнштейн А. Собр. науч. тр., т. 4, с. 101—102).
87
мы видим логическую связь коллизий образа п идеи,
конечного и бесконечного, локального и нелокального,
эмпирического и логического. Из картины мира исчезают
чисто пространственные, остановившиеся образы, иллюзии
бесконечной скорости сигналов, единого времени, из
гносеологического арсенала уходит фикция постижения
мира через его моментальную фотографию. Это по-новому
освещает коллизии познания. Теория относительности
была не только результатом применения критериев
внутреннего совершенства и внешнего оправдания, но и основой
широкого обобщения идеи единства логического и
эмпирического познания, приведшего к пересмотру историко-
научных, историко-философских и собственно
философских представлений.
При таком пересмотре выявляется не только
радикальный характер преобразования стиля научного мышления
(поскольку пересмотру с неклассических позиций
подвергается вся история человеческой мысли, ее самые
фундаментальные результаты), но и глубокая связь идей
Эйнштейна с классической наукой и со всей историей
науки. Неклассическая ретроспекция как бы раскрывает
в идеях прошлого их непреходящее, инвариаптное
содержание. В качестве примера возьмем проблемы отношения
физики к геометрии и отношения времени к
пространству. Здесь можно вспомнить тот же отклик Эйнштейна
на «Релятивистскую дедукцию» Мейерсона. Создатель
теории относительности считает особенно привлекательной
стороной этой книги глубокое понимание единства
эмпирических истоков познания и дедуктивного анализа, а
также роль интуиции в реализации такого единства.
«Основная идея Мейерсона, определившая
направление всей работы,— говорит Эйнштейн,— состоит,
по-видимому, в том, что теорию познания можно построить не
с помощью анализа мышления и рассуждений чисто
логического порядка, но лишь с помощью рассмотрения и
интуитивного охватывания констатации эмпирического
порядка. „Констатация эмпирического", по Мейерсону,
состоит из совокупности имеющихся паучных
результатов и их истории.
По-видимому, у автора рассматриваемой нами книги
сложилось впечатление, что основной проблемой должна
была бы быть проблема соотношения между научным
мышлением и содержанием данных нашего опыта, а
именно: и какой мере в науках можно говорить об индуктпв-
88
лом и дедуктивном методе? Он отвергает позитивизм так
же, как и прагматизм, и борется с увлечением этими
философскими течениями. Хотя события и факты
действительности и составляют основу всякой науки, они не
являются ее содержанием, сущностью. Они просто являются
теми данными, которые составляют предмет этой науки.
Отсюда следует, что простую констатацию
эмпирических соотношений между экспериментальными фактами
нельзя считать единственной целью пауки. В самом
деле, простой констатацией нашего опыта не япляются
прежде всего связи-общего порядка, выражаемые
нашими „законами природы", ибо их можно сформулировать
и вывести лишь с помощью рациопальпых построений,
которые не следуют из опыта одпозиачно»1*.
Последняя фраза приведенного отрывка предваряет
написанпые двадцать лет спустя строки
«Автобиографических заметок»: «впешпее оправдапие», эмпирическое
подтверждение не дает однозначной теории. Однозначная
теория требует рациональной дедукции, гарантирующей
«внутреннее совершенство». Но однозначность теории —
основа ее включения в необратимую эволюцию познания.
Синтез эмпирии и дедукции (яснее всего реализуемый в
количественно-математической интерпретации
эксперимента) делает познание необратимым, вводит в познание
«стрелу времени».
Такая структура физической теории свойственна и
классической физике. Теория относительности делает ее
явной и в этом смысле является ключом к пониманию
прошлого. Эйнштейн разъясняет эту презумпцию
определений Мейерсона: «Необходимо отдавать себе ясный
отчет в том, что дедуктивная система теории
относительности не является чем-то новым, что в корне бы
отличалось от дедуктивной системы старой физики (как это
могло бы показаться после прочтения некоторых
страниц рецензируемой книги). Теории относительности
всегда были чужды подобные притязания. Исходя из идеи
о том, что не существует никакого физически
выделенного состояния движения (принцип относительности),
теория относительности выражает эту идею в следующем
виде: уравнения физики должны быть ко вариантными
относительно любых точечных преобразований четырех-
16 Эйнштейн А. Собр. науч. тр., т. 4, с. 98—99,
мерного пространственно-временного континуума. Эта
идея стала правдоподобной в результате многочислеппых
наблюдений над светом, инерцией и гравитацией. Этому
требованию теории относительности удовлетворяют
(может быть, в несколько модифицированной форме) все
известпые ранее фундаментальные физические законы.
Принцип относительности, или, точнее, принцип
ковариантности, и должен составлять тот весьма общий
фундамент, па котором можно возвести все здание физической
теории. Новой является не физическая теория в целом,
а лишь ее приспособление к принципу относительности.
Автор, по-видимому, полпостью разделяет эту точку
зрения, ибо он неоднократно подчеркивает существенное
сходство между релятивистским мышлением и законами
и общими тенденциями, выявившимися в науке ранее»17.
В истории пауки можно увидеть очень глубокое
соответствие между соотношением эмпирии и
рационалистической дедукции, с одной стороны, и соотношением
прострапствеппого и временного постижения мира — с
другой. Онтологическим категориям пространства и
времени соответствуют гносеологические категории
логического и эмпирического познания. Эпикур и Лукреций
считали протяженность основным предикатом сенсуально
постижимого бытия, а время — немыслимым без
пространственных перемещений. Платон представлял себе
внепространственное течение времени в виде
оторванного от материи развития идеи. Физическая
непредставимость пространства без времени (исключение иллюзии
взаимодействия, реализующегося с бесконечной
скоростью, т. е. в пределах чисто пространственной
картины) освещает по-новому эту сквозную коллизию науки.
Но у Эйнштейна нет пи отождествления логической
дедукции с сенсуальной, эмпирической компонентой
познания (отсюда — возможность их разрыва, образующего
потенциал последующих поисков связи), ни
отождествления времени с пространством. Эйпштейи отмечает, что
фраза Мейерсопа: «Теория относительности сводит
физику к геометрии»,— может дать повод для недоразумения:
физические соотношения представляются выводом из
априорных геометрических определений пространства.
Важно подчеркнуть, что у Эйнштейна соотношение
геометрии и физики (как и вся проблема априорного, де-
17 Эйнштейн А. Собр. науч. тр., т. 4, с. 99—100.
90
дуктивиого и эмпирического) трактуется в связи с
констатацией различия пространства и времени. Мейерсонв
пишет Эйнштейн,— с полным основанием указывает на
своей книге разъясняет такое различие. «Поэтому он,—
ошибку, часто встречающуюся при изложении теории
относительности, которую совершают, низводя время на
один уровень с пространством (spatialisation du temps).
Хотя в основе времени и пространства лежит один и тот
же континуум^ они не равноправны. Свойства элемента
пространственного расстояния и свойства элементарного
интервала времени различны. Это различие проявляется
п в формуле, определяющей квадрат мирового интервала
между двумя бесконечно близкими событиями»18.
Эти соображения о Логосе и Сенсусе, о геометрии и
физике, о времени и пространстве — в полной мере
философские концепции, причем весьма фундаментальные.
Но это ни в коей мере не мешает им оставаться
собственно физическими. Теория относительности,
соединившая критерии истины, идет, особенно в своих
современных кваитово-релятивистских тенденциях, к синтезу
эксперимента и широких обобщений, охватывающих
космос и микромир.
Таким образом, исходный потенциал науки, который
возрождается на каждом этапе ее исторического
развития — это неустранимые, но принимающие все новые,
все более сложные формы различие и нераздельность
мысли и ощущения, Логоса и Сеисуса. Они основаны на
фундаментальной предпосылке науки: мысль познает в
природе чувственно постижимую, материально
протяженную субстанцию.
Семиотика науки
Рассмотренные выше проблемы математизации
познания и исходного потенциала научного прогресса, как и
проблема структуры науки и ее иерархии, требуют
некоторых дополнительных замечаний. Они относятся к
научной информации в самом широком смысле этого
термина, к миграции и трансформации идей, методов и
результатов от единой концепции бытия к более
конкретным и частным областям познания и от этих конкрет-
18 Эйнштейн А. Собр. науч. тр., т. 4, с. 101—107.-
91
ных областей к фундаментальным принципам картины
мира. Подчеркнем: в такой общей постановке проблема
информации включает проблему трансформации
исходных принципов познапия в их зависимости от
результатов эксперимента в конкретных областях. Подобная
трансформация лежит в основе определения меганаукп,
она означает воздействие внешнего оправдания паучных
теорий на их внутреннее совершенство. Таким образом,
характеристика современных особенностей научной
информации и соответствующие выводы теории
информации позволяют точнее определить понятие меганауки.
В этой связи приобретает особое значение
противопоставление (и констатация единства) двух путей
познания, которые современная лингвистика связывает с
различием подхода к системам внаков. Подход может
быть синтаксическим, когда исследуются соотношения
между знаками, и семантическим, когда
рассматриваются соотношения между знаками и обозначаемыми ими
предметами*\
Синтаксический подход соответствует попыткам
аксиоматизации науки, характерным для первой половины
нашего столетия и получившим столь яркую форму и
название («аксиоматическое мышление») в работах
Гильберта. Но уже после теоремы Гёделя, как совершенно
правильно говорит В. В. Иванов, «даже по отношению к
математике стало очевидным, что невозможно чисто
синтаксическое (в семиотическом смысле) представление
системы, при котором отдельным знакам отводится
только роль шахматных фигур, чья ценность определяется
лишь позиционными отношениями»20.
Эта констатация выходит за пределы математики, она
связана с параллельными тенденциями в структурной
лингвистике, в физике, биологии и в истории культуры и.
Речь идет о чрезвычайно общей тенденции познания:
такие сдвиги в науке, как сочетание математизации с
широким распространением эксперимента и того, что
можно назвать «экспериментальным мышлением»,
сочетание, вышедшее за классические пределы естествозна*
19 См.: Иванов В. В. Очерки по истории семиотики в СССР. М„
1976, с. 149; Он же. Наука как предмет семиотики.— Вести. АН
СССР, 1980, № 3, с. 47—54.
80 Вести. АН СССР, 1980, № 3, с. 47—54.
81 Там же.
92
яия, неотделпмость синтаксического анализа и
семантического подхода к аксиоматике — вес это может быть
поставлено в связь п оказаться единым в своей основе
проявлением необратимой трансформации картины мира.
Констатация такой связи происходит в фарватере
философского обобщения семиотики. Подобное обобщение
определяет семиотику как своего рода «пространство
познапия» и видит в ней некоторую общую тенденцию
познания в его историческом развитии, включающем
генезис, прошлое и будущее, тенденцию «пространства-
времени» познания, его четырехмерной картипы.
Такая четырехмерная картина раскрывает
последовательное соединение онтологии и гносеологии,
представлений о бытии и познании. Познание становится
постижением реальпой, объективной сущности бытия,
установлением связи между понятиями и их реальной основой —
семантикой в самом широком смысле этого слова. Таков
необратимый исторический путь познания: его
исторические этапы — это последовательные этапы
необратимого постижепия реальности. Античная мысль установила
единство бытия и, в сущности, уже сделала его
единственным объектом познания, но последующая
абсолютизация «синтаксических» путей познания открыла дорогу
представлению о независимых путях познания, его
неподвижных и лишенных сенсуального постижения
абсолютах и. независимых от объективного мира,
субъективных формах познания — таковы были антецеденты и
основной смысл трансцедеитальной эстетики Канта.
Метафизика XVII в. и классическая наука XVII—
XVIII вв. сохранили некоторую независимость,
неподвижность и абсолютный характер эмпирически
непостижимых абстракций. В XIX в. несводимость сложных
форм движения к механике продемонстрировала
зависимость специализированных путей познания от
гетерогенного бытия, семантику познания, недостаточность общих,
охватывающих всю картину мира законов для
адекватного отображения действительности. В начале XX в.
Эйпштейн пришел к новым общим законам
четырехмерного мира — пространства, заполненного современными
событиялш,— это понятие неотделимо от сенсуального
постижения и соответственно от эксперимента. Во
второй половине XX в. стала особенно явной связь единых
законов бытия и пространотвенно-временной
аксиоматики ç ее изменениями, которые выводятся из эксперимен-
93
та и прежде всего из исследованпй космоса и
микромира. Таким образом, меганаука оказывается новым этапом
последовательного сближения аксиоматизации познания
и семиотики научного языка, семантики системы
понятий, которыми оперирует наука.
ЭСТЕТИКА МЕГАНАУКИ
Эстетическое постижение мира
Основная особенность меганаукп — научпое, т. е.
экспериментально-логическое, оперирование «бесконечно
большим» и «бесконечно малым». Слова поставлены в
кавычки потому, что Всё рассматривается как
бесконечное или конечное в зависимости от выбора угла зрения,
а «бесконечно малое» становится таким лишь при
определенных условиях; например, когда мы рассматриваем,
быть может, дискретные протяженные элемепты
пространства и времени в некоторой макроскопической
аппроксимации как бесконечно малые элементы непрерывного
движения. Современная меганаука изучает эти полюсы
бытия — Всё и его элементы — в их взаимодействии,
допуская зависимость макроскопических и даже
космических процессов от инициирующих процессов в
бесконечно малых (или же, при иной интерпретации,— конечных,
но весьма малых) областях.
При всей специфичности для нашего времени
подобных — чаще всего гипотетических — концепций они
выражают давнюю историческую традицию, которая
становится отчетливо видной в современной ретроспекции,
обращенной на классическую науку и на прошлое
науки в целом. Во всей культуре прошлого господствовала
презумпция власти Всего над его элементами. В
перипатетической космологии и физике индивидуальные
процессы зависели от космической гармонии центра и
границ Вселенной, сфер и «естественных мест», к которым
стремятся тел ai Не только в «Физике», но и в прочпх
сочинениях Аристотеля и у большинства других
мыслителей древности сохранялась авторитарность общего
.закона, вселепской гармонии, включающей системы, по
отношению к индивидуальным процессам. В
общелогическом плапе опа получила выражение в упомипавшейся
гегелевской концепции истинной бесконечности, которая
94
была в значительной мере философским эквивалентом
классической науки.
Последняя в XIX в. уже несколько отошла от идеи
абсолютного и точного подчнпспня элементарных
процессов включающим системам и общим законам, эти
законы реализуются через вероятность микропроцессов, они
являются статистическими и точное их выполнение
гарантировано игнорированием индивидуальных актов, па-
пример индивидуального поведения молекул в рамках
термодинамики. Эти законы были дифференциальными,
т. е. они предписывали определенные отношения между
бесконечно малыми приращепиями физических величин.
Поэтому схемой классического закона было определение
бесконечно малых. процессов бесконечно большой по
числу этпх процессов интегральной закономерностью.
«Истинная бесконечность» Гегеля — это бесконечность,
присутствующая и реализующаяся в своем каждом
конечном элементе, это подчипеппе конечного элемента
бесконечному множеству.
Эта господствующая тепдепцпя встречалась с другой,
противоположной. В античной и средневековой культуре
п еще отчетливей в культуре Возрождения и Нового
времени пробивало себе дорогу представление об
автономии конечного элемента бесконечного множества. Эта
тенденция охватывала культуру в целом. Более того, она
получила первые импульсы со стороны учения о
человеке. Когда Эпикур выдвинул теорию clinamen —
спонтанных отклонений атомов от предписанных законом
прямолинейных путей, он сделал это в надежде
освободить людей от «власти физиков», более тяжелой, по его
мнению, чем власть богов. Вся история познания от
древности до паших дней может быть представлена как
борьба указанных противоречащих одна другой
тенденций. Эта борьба выходит за рамки научного познания,
в ней участвовало искусство, и в некоторые периоды оно
становилось главной ареной борьбы. Искусство
восстанавливало автономность и неповторимость Сенсуса и его
объекта — протяженных элементов мироздания,
защищало их от авторитарных претензий Логоса и его
принципиально бесконечпых конструкций.
Что внесла мегапаука в эту многовековую коллизию?
Прежде всего она сепсуализировала бесконечность,
она сделала Всё объектом не только логических
конструкций, но и эмпирического познания и превратила
90
эмпирические дапные в критерий для присвоения Всему
титула Бесконечности. Она изменила даже логические
конструкции и нормы, которые считались независимыми
условиями познания, а оказались его результатами. Сама
мысль о переменных логических нормах, о том, что
получило название металогических преобразований, не была
обобщением меганауки. Фактически такие преобразования
сопровождали каждую научную революцию. Меганаука
сделала их явным элементом научного познания. Здесь
очень ясно видна характерная особенность анализа
меганауки и ее гносеологического эффекта, который
оперирует не только концепцией всего мироздания, но и
неизбежно уходит в прошлое и в будущее науки и заставляет
увидеть в меганауке итог и обобщение всей истории
науки и ее прогнозов.
Ретроспекция раскрывает связь между научными
революциями и прообразами мегаиаукп, с одной стороны,
и эстетическим иозианием мира — с другой.
С точки зрения даппой логики выбор новой логики
кажется свободным. На самом деле металогический
переход детерминировап. Но он детерминирован
интегральным законом, связывающим интегральное до-здесь-теперь
с интегральным после-здесь-теперь. Здесь — пеизбелшый
разрыв цепи однозначных выводов одного суждения из
предыдущего. В таких металогических разрывах
происходит интуитивное постижение бесконечности. Но
именно в таком интуитивном постижении бесконечности,
в том, что называют «озарением»,— сущность
прекрасного. Нет лучшего определения художественного
творчества, чем моцартовское «мгновение, когда композитор
слышит еще не написанную им симфонию». Когда
мыслитель переходит к новой логике, он руководствуется
интуитивным представлением о внутреннем совершенстве
этой логики. Именно прерывный характер
интеллектуального процесса, именно интуиция, еще не раскрывшаяся
в дифференциальных уравнениях и охватывающая лишь
интегральные преимущества повой логики, создает
поэзию логики и родпит ее с музыкой, в которой, по
приводившимся уже словам Лейбница, «душа вычисляет, сама
того еще не зная».
Теперь обратная задача: найти уже не поэзию в
логике, а логику в поэзии. Но не будет ли это похоже на
ту, в общем не слишком приятную операцию, которую
Пушкин приписал Сальери: «Поверил я алгеброй
96
армоишо»? Сохранит ли поэзия свою моцартианскую
душу?
Все дело в том, что алгебра Сальери — это
установившаяся, с определенными инвариантами алгебра,
которая, получив геометрическую форму, нашла бы себе
место в ряду клейновских, эрлангенскпх геометрий.
Напомним читателю, что в 1872 г. Феликс Клейн в
своей эрлангепской лекции ввел иерархию все более
радикальных преобразований и соответственно все более
общих геометрий, каждая из которых определяется
своим инвариантом. Таковы преобразования рассудка. Если
еще раз напомнить классическое противопоставление
рассудка и разума, то преобразования разума состоят в
переходе от одной алгебры к иной, от одной геометрии
к иной, от одной логики к иной. Это иеэрлангенскне
преобразования.
Они существовали и в классической науке, но в
неклассической физике преобразование закона при его
локальном применении стало очень явным. Преобразуются
исходные физические принципы, математические
аксиомы, подчас логические законы.
Каковы же инварианты этих радикальных, иеэрланген-
ских преобразований? Такими инвариантами и являются
неизбывные коллизии, парадоксы, противоречия,
процессы, которые каждая эпоха адресует следующей. Эти
инварианты иидуцируют в душе человека ощущение еще
ненаписанной симфонии, и этот эмоциональный и вместе
с тем интеллектуальный подъем, который является
основой поэзии, и получил название вдохновения. Мгновение,
когда слышна еще ненаписанная симфония,— это
мгновение, в котором как бы оплавилась бесконечность, вся
эвентуальная серия новых событий, ощущепий и мыслей.
Это бесконечное вне-здесъ-теперъ, видимое в локальном
адесъ-теперъ.
Поэзию в собственном смысле можно рассматривать
как преобразование. В творчестве поэта соединяются
многочисленные констатации, обобщения и эмоции, они
приобретают вид определенной метрически, фонетически
и семантически упорядоченной системы слов. Это и
делает поэзию наиболее общим определением
эстетического эффекта Логоса, познания, научной дедукции. Поэзия
так же эмоциональна, как музыка, но она оперирует
словами, т. е. универсальным средством обобщения,
систематизации, логики.
97
Такая амбивалентность поэаии позволяет увидеть в
ней логику, не закрывающую, а генерирующую
эмоциональный эффект. Семантически, фонетически и
метрически упорядоченная система слов должна вызывать в
душе читателя тот же эмоциональный эффект, который
определил указанную систему в душе поэта. Здесь и
находится инвариант поэтического творчества, этого
преобразования мыслей, чувств и настроений в систему слов,
и дальнейшего преобразования системы слов в комплекс
мыслей, чувств и настроений. Но превращения
настроений в слова и слов в пастроеипя не входят в ряд
некоторой определенной логики, в сальериевскую «алгебру».
Таким образом, отыскивая логику поэзии, мы
возвращаемся к поэзии логики: поэзия как преобразование образует
металогические разрывы логических дедукций.
Подобные металогические разрывы раскрывают
природу познавательной функции искусства, его
гносеологической ценности. Речь идет о поэзии познания, но по
столько об эстетическом эффекте познания, сколько о
гносеологическом эффекте поэзии. Поэзия здесь
рассматривается не столько как жанр искусства, сколько как
нечто общее для пего. Вместе с тем в поэзии как жанре
выявляется в наиболее явной форме двойственная
природа искусства, логическая, попятийпая, с одной стороны,
и эмоциональная — с другой.
Классическая наука п классическая поэзия
Классическая наука передала основную роль в
познании от неподвижной гармонии бытия его динамической
гармонии, от интегральной системы мироздания его
дифференциальным элементам, событиям здесь-теперь. Она
опиралась при этом на античную традицию, о которой
вспомнили в XIV—XVIbb., в эпоху, включающую
исторические истоки классической пауки и культуру
Возрождения, вместе с ее проторенессапспым прологом и постре-
иессапсным эпилогом. В представлениях о природе и
методах ее изучения эпоха Возрождения
характеризуется возвратом к пониманию значительной роли
эстетического постижения мира, которое было свойственно
античной культуре. Поэтому некоторые иллюстрации
гносеологической роли поэзии можно начать с античных
образцов. Ограничимся примером Лукреция, примером пзло-
98
жеиия эпикурейской философии в поэме «De rerum
natura».
Само это иазвапио указывает на принадлежность
поэмы к ряду основных, служащих рубежом эпох
звеньев единой линии исторических антецедентов меганауки.
В поэме речь идет о фундаментальных проблемах
бытия. Они еще не решаются методами эксперимента и
математического анализа, такие методы возникнут через
многие века, но здесь у;ке декларируется независимость
решения от априорных ссылок на нематериальные
сущности. Впрочем, это уже дано в учении Эпикура. Но по*
эзия Лукреция не была простым изложением
указанного учения. «Размер и рифма,— писал Лессинг,— не
превращают уложенную в них систему в поэзию»1. Поэзия
Лукреция была поэтическим изложением, и поэзия тут
явно была существенным элементом научного
прогресса. Лукреций не повторял логические аргументы — эпи-
курову «канонику». Поэма содержит зрительные образы
и художественные формы. Эти чувственно-конкретные
образы выражают интуитивное ощущение познаваемости
мира, причем познаваемость означает возможность
выявить структуру мира через сеисуалыю постижимые
понятия.
Поэзия Лукреция была бы простой версификацией,
если бы дело сводилось к метрически выраженной
философии Эпикура. Его поэма — это описание мира в
красках и ощущепиях, с эмоциональным подтекстом, со всем,
что вытесняет из системы мира принципиально
непредставимые понятия. Поэтика Лукреция, образы, выбор
эпитетов, само звучание ритмической речи вызывают
ощущение сенсуальной постпжнмости мира, создают
интуитивную уверенность в ее возможности. Один из
комментаторов Лукреция говорит, что в «De rerum natura»
исчезает различие между наглядностью образа и
логической доказательностью вывода 2.
Для Возрождения художественное постижение мира
не следовало, как это было в древности, за логическим,
а предшествовало ему. Искусство Проторенессанса,
и прежде всего «Божественная комедия», было истори-
» Leasing G. Е. Werke. Leipzig, 1911, Bd. Г>, S. АЖ
* Боровский Я. M. Поэтика доказательства у Лукреция,— В кн.:
Лукреций. О природе нещои. М., 19-17, т. 2, с. 205. Изд.2. М.:
Издательство ЛКИ/URSS, 2010.
00
ческим потоком натурфилософской мысли XVI в. Пафос,
поэмы Дапте — в постижении структуры мира (хотя и
традиционной еще картины) человеческим разумом.
В какой-то мере замысел произведения, постижение
«структуры» Ада, Чистилища и Рая через призму
«непосредственного наблюдения», находится в одной
плоскости со столь частыми в поэме апофеозами острой
познающей мысли. Можно провести линию связи между
творчеством Данте, идеями Галилея и концепциями
современной физики, и это будет линия последовательной
сепсуализации познания, .перехода к понятиям с
сенсуальными эквивалентами. На всех этапах такой сенсуа-
лизации она противостояла нивелировке
индивидуального бытия, поглощению его Всем, она превращала Всё в
нечто в принципе эмпирически постижимое, она была
отдаленной во времени подготовкой меганауки.
Связь идей Галилея, положивших начало
классической науке, с поэзией познания, с эстетическим
постижением мира может быть показана на примере галилее-
вых заметок на полях «Неистового Роланда»'. Галилея
привлекает здесь улыбка Ариосто, сопровождающая
нагромождение фантастических эпизодов поэмы.
В сущности, это улыбка Возрождения и Нового
времени, обращенная к средневековью, которое перестало
быть непосредственным врагом и, несмотря на
контратаку, стало уже прошлым. Галилея интересует не столько
содержание «Неистового Роланда», сколько усмешка
Ариосто, так похожая па улыбку Сервантеса,— поэтика,
разрушающая твердые и неподвижные устои
средневекового мышления, связанная с интуитивным
предвидением нового мышления о мире и о самом человеке.
Следует подчеркнуть связь, достаточно скрытую, отнюдь но
явпую, но несомненную между поэтикой Ариосто и
переходом к логике новой науки — бесконечно-бивалентной,
ведущей к дифференциальному представлению о
движении из точки в точку и из мгповения в мгновение,
к универсальной каузальной картине мира. Связанное с
бесконечно-бивалентной логикой, такое
дифференциальное представление стало явным и отчетливым в XVIII в.,
но уже у Галилея оно стало идеалом научного познания.
И именно в XVII в. оно было еще не однозначной и
» См.: Кузнецов Б. Г. Этюды об Эйнштейне. М., 1970, с. 102—110,
100
бесспорной констатацией, а стремлением, поиском,
эмоциональным порывом. Галилей не мог вывести свою
бесконечно-бивалентную логику из традиционной,
перипатетической, бивалентпой. Здесь должен был возникнуть
металогический разрыв и металогический переход, а такой
переход, как уже говорилось, требует не логической
дедукции, а эмоционального порыва, мгновения, когда
интуитивно постигается не сочиненная еще симфония —
в данном случае симфония математического
естествознания, опирающегося на анализ бесконечно малых. Такому
металогическому переходу соответствует поэтика
«Диалога», где эстетические критерии гарантируют не только
гносеологический, но и эмоциональный эффект перехода.
Что же мог дать Галилею Ариосто? Почему Галилей
уделил «Неистовому Роланду» так много внимания?
Почему галилеевы заметки на полях этого произведения
являются неотъемлемой частью общего научного,
философского и культурного подвига Галилея?
Поэтика Галилея — поэтика логики — черпала
импульсы в логике Ариосто, в логике поэзии. В чем суть этой
логики? Перечитывая Ариосто, мы ощущаем то, что
чувствовал поэт,— светлое предвосхищение нового строя
мысли и радостную усмешку в адрес прошлого.
Прекрасный, рациональный, каузально упорядоченный мир, о
котором говорили в XVII в. Мальбранш и Спиноза, в XV—
XVI вв., во времена Ариосто, был еще не сочиненной
симфонией. Оп ие был результатом логики — он был ее
предпосылкой. Предпосылкой металогического перехода.
Логика поэзии —- это металогика.
Другая иллюстрация связи поэтики с логикой науки —
соотношение поэзии и эстетических идей Шиллера с
логикой и эстетикой Гегеля. Логика постоянных и жестких
норм, логика без металогических преобразований резко
отличается от логики Гегеля — подвижного,
зависящего от объекта и содержания суждений, живого
обобщения развивающегося познания. Путь к этой явно
неаприорной логике, с явственными металогическими
переходами, шел не только через официальную философию, ио
и через поэтическую составляющую немецкого
Просвещения, через творчество Лессинга, Гёте и Шиллера,
причем не только через эстетические концепции этих
мыслителей, но и через их поэтическую практику, через
поэтику. После того, что было сказано о металогике как
результате и условии поэтического постижения мира,
10J
эта историко-философская и историко-культурная
констатация легко объяснима. Эстетическое постижение мира
позволяет переходить от одной логики к другой,
нарушать данную логику. Таким образом, оно демонстрирует
ее подвижность и неаприорность.
Подобную роль постижения прекрасного можно
увидеть в поэтическом творчестве и в эстетических
концепциях Шиллера. Именно увидеть, а не иллюстрировать.
Когда речь идет об изменении логических конструкций
при эстетическом восприятии мира, уже нельзя говорить
об иллюстрациях схемы, сохраняющих ее в неизменном
виде. Поэтика здесь играет активную, реконструирующую
роль и выступает в своей конкретности, несводимой к
неизменным схемам. Поэтика Шиллера была внутренним
импульсом эволюции его эстетических идей.
Первоначально Шиллер рассматривал красоту как нечто
подчиненное добру, подчиненное нравственному идеалу.
Последний состоит в нравственном величии человека, в его
подчинении долгу. Он субъективен, и именно
субъективное величие, состоящее в страдании при отказе от
природы во имя долга, именно этот трагический триумф
долга, его победа над природой изображаются
искусством, которое трагично по своей природе.
Но вот идеал примиряется с сущим, с природой, с
историей. Шиллер ставит красоту рядом с добром. Каковы
бы ни были собственно философские истоки этой
эволюции, она несомненно связана с его поэтикой. В «Богах
Греции» Шиллер любуется языческой красотой
вакхических игр, но перед нами не гимн, а элегия: поэт
грустит об уходящей красоте4. Этим эволюция не
заканчивается. Через год после «Богов Греции» появляются
«Художники». Здесь уже нет речи об исчезновении античной
красоты, здесь из-под пера Шиллера исходит апология
истории, создающей новую красоту. Далее —
решительный шаг от Канта к Гёте и в будущее, к Гегелю:
«Письма об эстетическом воспитании человека». Красота уже
не подчинена добру, она по существу выше морали.
Шиллер рассматривает теперь добро как пекоторый
вектор, добро определяется тем, куда направлена активность
человека, его деятельность. Напротив, прекрасное — это
то,что характеризует мощь,человеческого интеллекта,его
« См.: Фишер К, Публичные лекции о Шиллере. М., 1890, с. 00.
102
способность действовать независимо от направления
действий, она соответствует скалярной величине вектора,
реализации человеческой свободы, возможности выбирать
направление, мощности движения в избранном
направлении. Эти направления неравноценны, в некоторых из
них мощь человеческого разума и чувства особенно
велика; таким образом, эстетические суждения — это не
скаляры, а скорее тензоры.
Эстетика бесконечного
Вернемся, однако, к современной меганауке. Как уже
говорилось, для нее крайне характерно оперирование
бесконечными масштабами, которые оказываются
конечными в иных системах отсчета, и представление о
бесконечности как о чем-то, требующем сочетания внешнего
оправдания и внутреннего совершенства. Общее,
сквозное, проходящее через эпохи представление о
бесконечности имеет непосредственное отношение к дуализму
этих эйнштейновских критериев. Внутреннее
совершенство научной теории означает, что данное наблюдение
становится логическим выводом из принципа,
который стремится к бесконечному числу объясняемых им
случаев. Объектом наблюдения служит конечная область
пространства-времени, некоторое здесь-теперь, которое
при объяснении ставится в связь с бесконечным
множеством аналогичных областей, с бесконечным вне-
здесь-теперь. Происходит инфинизация конечного.
Внешнее оправдание означает, что в общем случае
бесконечный по своему применению принцип требует
сопоставления в эксперименте с конечными, ограниченными в
пространстве и времени процессами. Происходит финиза-
ция бесконечного. Вспомним теперь, что, начиная с
Аристотеля, под прекрасным понимали отображение
бесконечного в копечном, тогда станет бесспорной
зависимость эстетических идей от эволюции понятия
бесконечности.
Это понятие эволюционировало в рамках
противопоставления двух версий: актуальной бесконечности, т. е.
уже существующего не имеющего границ множества, и
потенциальной бесконечности — множества, которое растет
безгранично, оставаясь все время конечным. Но
существует и иное понятие бесконечности, выходящее за рамки
актуальной и потенциальной версий.
103
Римаи разграничил понятия бесконечности и
неограниченности. Бесконечность стала локальным
определением, зависящим от кривизны пространства. Эту мысль
Риман высказал в геометрическом плане, Эйнштейн
придал ей физический смысл, отождествив гравитационное
поле с искривлением пространства, и во второй
половине нашего столетия внимание астрономов и физиков,
начавших изучать судьбы далеких галактик и
Метагалактики, перенеслось на проблемы бесконечности
мироздания, имеющей смысл для данной точки
пространства и определимой через наблюдения здесь-теперь.
Эйнштейновская Вселенная конечна в пространстве, но
бесконечна как пространственно-временное
многообразие. То, что в течение 60—70-х годов XX в. стало
известно (вернее, то, что было представлено как вероятное)
о «начале» времени, о первой фазе существования
Метагалактики, релятивизирует безграничность времени.
Меняет ли релятивирование бесконечности связь
последней с ее аксиологическими выражениями, с добром,
истиной и красотой? Как связаны эти компоненты
«триединого воплощения бесконечности» с неклассической,
столь характерной для современной науки и именно для
меганауки концепцией бесконечности?
Абсолютная принципиальная применимость
категорического императива рассматривается как некий
недостижимый в полной мере, но фигурирующий в качество
достигнутого, завершенного моральный идеал. Когда
моральные каноны рассматриваются исторически, на
первый план выходит потенциальная бесконечность
последовательного приближения к моральному идеалу.
Что касается истины, то после Возрождения,
Реформации и крушения средневековых догматических
представлений о мире (крушения, подготовленного долгим
развитием оппозиционных мотивов в рамках
средневековья) абсолютная истина уступила место суммированию
относительных истин, воплощению потенциальной
бесконечности познания. Уступила далеко не полностью.
Бесконечное познание истины рассматривалось и в
XVIII—XIX вв. как идеал, к которому идет
нескончаемый путь, напомипающий асимптотическое
приближение: каждая относительная истина не меняет некоторых
вечных скрижалей, которые остаются идеалом познания
истины. Уже в XIX в. появилось представление о
движении даже этих скрижалей, о науке, которая целиком
104
воплощает потенциальную бесконечность, понятие
абсолютной истины как бесконечного познания стало
динамичным. Теория познания в своем историческом
развитии сохранила упомянутую коллизию актуальной и
потенциальной бесконечности. Такое положение
соответствовало распространенным в конце XIX в.
представлениям о необходимости только доделывать (может быть,
бесконечно) детали уже сложившейся в основном
картины.
Эстетика находится в несколько пном положении. Опа
по сути своей теснее связана с миром конечных
реальностей. Напомним еще раз определение прекрасного как
бесконечного, выраженного в конечном. Но это
выражение имеет очень отчетливую гносеологическую функцию:
оно защищает копечное, сенсуально постижимое,
индивидуальное от поглощения бесконечным абстрактным
множеством. Такая защита соответствует старому,
сохранившемуся еще у Канта смыслу слова «эстетика», понятию
о чувственном ощущении. Введенный Баумгартеном в
1750 г. смысл этого слова, связанный с понятием
красоты, включает некоторый новый оттенок. Как уже
говорилось, прекрасное — это не вектор, оно не определяется
какой-то познавательной или нормативной целью. Оно
раскрывает добро и истину через модуль вектора, через
ту мощь, которой обладает моральный или
познавательный акт. Именно в таком утверждении состояла одна
из главных идей «Писем об эстетическом воспитании
человека» Шиллера. Утверждение это помогает попить
роль эстетического постижения мира в современной
науке.
Красота познания
Остановимся па значении и истоках того подъема
эстетической мысли, который произошел на исходе XVIII
и в начале XIX в. и был связан с основными идеями
немецкой классической философии. Попробуем при этом
найти в эстетических концепциях прошлого то, что
стало особепно существенным для эстетики меганауки.
Наиболее созвучное современности содержание эстетических
идей XVIII—XIX вв. перекликается и с далеким
прошлым. Коллизии конечного и бесконечного, сенсуального
и рационального, проблемы связи красоты с добром и
истиной, которые по-новому решаются в рамках меганау-
105
ки, были наиболее важными коллизиями и проблемами
эстетики, начиная с древности.
Что объединяет эстетические идеи Платона и
Аристотеля, что является наиболее общим определением
древнегреческой эстетики? Таким определением может
служить каноничность эстетических норм, теоретическое,
философское обоснование канонов греческого искусства,
У Платона красота неотделима от добра и истины,
стремление к красоте, как и к истине и к добру,— это
воспоминание души о мире чистых идей, чистых прообразов
сущего. Подобный мир связан с наблюдаемым вемным
миром своей геометрией, симметрией и вечными
метрическими отношениями между вещами.
У Аристотеля исчезает платоновский фантом мира
чистых идей, он сенсуализирует мироздание, переносит
его сущность в систему конечных, постижимых
чувствами соотношений и в качестве критерия красоты берет
связь единства и многообразия: красота исчезает, если
исчезает единство объекта, если выпадает один из
элементов многообразия. Бесконечность не уходит из
эстетики, но красота становится конечным отображением
бесконечности. Коллизия конечного и бесконечного
решается финпзациеп бесконечности, последпяя — за
пределами эстетических норм «народа-художника». Для
греческой мысли и для интуитивного ощущения
сенсуальной постижимости бытия искусство, как и паука,— это
постижение бесконечного в копечпом. Аристотель не
останавливает бытие, как это делали элеаты, он ищет
выход из апорий Зенона, но этот выход должен утвердить
реальность бегущего Ахиллеса и реальность летящей
стрелы — реальность чувственно постижимого мира.
Здесь начинается длительный и в целом необратимый
процесс сенсуализации познания и эстетики. Он получил
относительное завершение в 1750 г., когда Баумгартен и
своей «Эстетике» назвал теорию прекрасного этим
именем, связанным с его греческим значением —
«чувственное». Меганаука, которая изучает бесконечность, не
отрываясь от сенсуального и экспериментального
наблюдения, не может не внести новые принципы в
продолжающуюся сенсуализацию эстетики.
Процесс сенсуализации эстетики был и остается
связанным с другим — с гносеологизацией эстетики, с
трактовкой эстетических впечатлепий как элементов
познания. Дискуссия об объективном и субъективном характе-
106
ре эстетических суждений осложнилась и в то же время
получила некоторое решение в понятии красоты
познания, где источником эстетического восприятия служит
не субъект и не объект, а познание объекта субъектом.
Вскоре придется вернуться к этому давнему процессу,
резко изменившему свою форму и свое значение в
рамках меганауки. Подобно сенсуализации познания, гно-
сеологизация эстетики остается одним из основных
определений Проторенессанса и Возрождения. Искусство
XIV—XVI вв. неизбежно входит в историю пауки.
«Божественная комедия» была научной (как и политической,
и моральной) энциклопедией своего времени. Но
указанная связь искусства и науки не прервалась и в Новое
время, когда наука дифференцировалась, приобрела
четкие формы эксперимента и математического анализа и
получила независимые от добра и красоты
критерии истины.
Философия Канта была попыткой подвести философские
итоги классической науки XVII—XVIII вв. Таким итогом
казалась система трансцедептальной эстетики, идея
пространства и времени как априорных форм познания. Но
подобный итог в действительности был итогом только
того, что ограничивало классическую науку, что было
исторически преходящим. Здесь, как и в других случаях,
идеализм вырастал па живом дереве познания в результате
неправомерной абсолютизации преходящего отрезка
кривой познания, которую абсолютизирующее мышление
отождествляет с уходящей в сторону или назад касательной.
Для трапецеденталыюн эстетики Канта таким отрезком
кривой познания была относительная неизменность
геометрических форм, оперирование пространством как
«наемной казармой», неизменность временной метрики.
Трансцедентальная эстетика Канта, учение об априорных
пространстве и времени были неправомерным
философским обобщением классической науки, без теории поля,
без подготовки модификаций понятий пространства и
времени, без всего того, что двинуло затем классическую
науку к радикальному пересмотру ее основ, к новой научной
революции.
Из трансцедентальной эстетики следовала кантианская
эстетика в ее обычном после Баумгартена смысле учения
о прекрасном, или, чтобы держаться ближе к
терминологии Канта, учения об эстетических суждениях, о
суждениях вкуса. Здесь Кант хочет создать такую же непод-
107
вижпую оспову эстетических суждений, какой был у него
категорический императив для моральных суждений.
В целом эстетика Канта не могла стать основой эстетики
познания, она априорна и не включает процесс познания,
нарастания и углубления наиболее кардинальных
представлений о мире, о его объективной пространственно-
временной сути.
Разрыв между эстетическим постижением и научным
анализом пространственно-временной сущности мира,
научным анализом как синтезом эмпирического и
логического, приводит Канта к его концепции гениальности в
творчестве. Кант отказывается говорить о гениальности
научного творчества. Гений не следует нормам, он
нарушает и создает их. Это прерогатива художника. Гепйаль-
ным может быть художественное произведение. Шеллинг
говорил, что ученый может быть гением, а художник
должен им быть. Он отождествлял гениальность с особой
одержимостью, особым роком, превращающим
произведение искусства в выражение высшей силы.
Здесь есть некоторая крупица истипы: иптуитивыое
предвосхищение новых норм, то, что было пазвано
металогическим озарением, сближает научную мысль с
эстетическим постижением мира. Но при таком сближении мысль
не перестает быть научной мыслью, гениальное
творчество включает эстетику науки, эстетику познания, ни в коей
мере не покидая рамок науки. Сказанное относится к
науке в целом, ко всему ее историческому развитию, но
именно меганаука XX в. демонстрирует наиболее отчетливо
такое положение эстетики познания в рамках науки.
Меганаука, по определению, есть исследование основной
пространственно-временной структуры мира как
объективной реальности, последовательно раскрывающейся
перед познанием, которое меняет в соответствии с объектом
и результатом исследований свои правила и пормы.
Меганаука позволяет говорить о гениальности не только как
о характеристике индивидуального творчества мыслителя,
но и как об общей характеристике школы, направления,
дисциплины.
Подойдем сейчас еще к одпой стороне эстетики,
сыгравшей существенную роль в ее развитии и важной для
понимания эстетики мегаиауки. Речь идет об отношении
искусства к действительности. Красота бескорыстна — в
этом состоит одно из главных утверждений классической
108
эстетики. В «Критике способности суждения» Кант
говорит, что вкус как основа эстетических суждении основан
на совершенном равнодушии к полезности объекта
суждения. Эстетические суждения, согласно Канту, лишены
познавательного значения, и, таким образом, красота
отделена от добра и истины, эстетическое постижение мира
отделено от критериев ценности, от критериев истины и
добра.
Но уже в середине XIX в. появилась новая
эстетическая концепция, связывающая красоту с
действительностью и возвращающая ей единство с истиной и добром.
Эта концепция принадлежала Чернышевскому, который
продолжил эстетические идеи Фейербаха и обосновал
новую эстетическую концепцию в диссертации
«Эстетические отношения искусства к действительности». Для
Чернышевского, для его реалистической трактовки искусства
красота искусства становится отображением
действительности, того более широкого, чем в искусстве, содержания,
которое не покрывается ограниченным понятием красоты,
расширяет это понятие. Здесь мы возвращаемся к
традиционному представлению об эстетическом постижении
мира с его практически бесконечным многообразием в
конечных сенсуально постижимых образах и вместе с
тем к не менее традиционному представлению о добре,
истине и красоте как триедином воплощении
бесконечности.
Оказываясь отображением действительности,
искусство входит в саму действительность и преобразует ее,
включая в себя все более точную картину мира,
приближаясь к науке, вводя критерии истины. Преобразование
действительности включает критерии пользы,
целесообразности, добра. Этот вывод предвосхищает то, что стало
отчетливо зримым в наше время и требует существенной
модификации столь часто появлявшегося в классической
эстетике критерия незаинтересованности как отличия
эстетических впечатлений. Не касаясь эволюции этого
понятия в учении об искусстве, обратим внимание на
другой фарватер эстетики — на эстетику познания. Здесь
модификация незаинтересованности как отличия
эстетических впечатлений связана с проблемой
незаинтересованности в теории и истории науки. В этом отношении
наше время раскрывает весьма общие особенности
эстетики науки. Наука всегда была связана в своем развитии
109
с тем, что можно назвать ее самопознанием, с
определением своих истоков, методов, эффекта, своего места в.
мировой цивилизации.
Наука никогда не была пассивным отображением
бытия, она преобразовывала мир и не сводилась к
пассивному созерцанию. Но именно в эстетическом постижении
мира как компоненте науки активная преобразующая
роль науки была закрыта рядом исторических
обстоятельств. Как уже говорилось, эстетическое постижение
мира действует особенно энергично при металогических
преобразованиях, при изменении основных норм научного
анализа и основпых позитивных представлений. При
изменении парадигмы. Но такие изменения в прошлом
происходили не на глазах одного поколепия, радикальные
трансформации картипы мира не меняли убеждения в
том, что «лучший из.миров» может быть представлен в
сознании абсолютно наилучшей адекватной схемой. То,
что можно пазвать историческим антецедентом -эстетики
меганауки, не было поэзией преобразования. Когда Маль-
бранш п другие натурфилософы XVII в. говорили о
прекрасном мире, открытом наукой Нового времени, осповон
эстетического эффекта было не изменение, а сохранение
представлений, претендовавших на абсолютный характер.
Ныне же прекрасное в науке открывается не только
познанием мира, но п ее самопознанием, ощущением ее
кинетической Moüni, ее способности к трансформации. Когда
говорят о красоте теории относительности, то в этом нет
презумпции окончательного характера релятивистской
физики.
Отсюда и трансформация критерия
незаинтересованности эстетического восприятия. Еслп эстетика (во
всяком случае, эстетика познания) связана не с пассивным
созерцанием, а с преобразованием объокта, то
появляется как раз некоторая заинтересованность. Но она — отнюдь
не непосредственная. Чисто познавательная задача еще не
связана прямо с каким-то прагматическим эффектом, он
ие известен. Но оп включается в ту серию дедукций
(внутреннее совершенство) и экспериментов (внешнее
оправдание), которые еще не раскрыты, по уже становятся
элементами эстетического впечатления. Таким образом, мы
возвращаемся к представлению об эстетическом суждении
как об интуитивном ощущении мощи разума, модуля
вектора, направленного к той или иной цели.
110
Критерий изящества и критерий красоты
в научном познании
Если акту познания может быть присвоен титул «прек^
расного», то, говоря языком современной науки, мерой
эстетического эффекта этого акта будет широта вызван-
ного им преобразования картины мира. В этом отношении
современная меганаука значительно отличается от
прошлого. Сейчас в астрофизике и в теории элементарных
частиц широко используются (впрочем, еще далеко не
однозначные) модели инициирующего воздействия локальных
процессов на макроскопические и космические процессы,
на бесконечность, в том относительном смысле, который
она получила в релятивистской космологии. Красота
современной меганауки — это уже не просто бесконечность,
представленная в конечном, это бесконечность, которая
зависит от конечпого, локального, сенсуально постижимого
даже в праве на свой титул. Эта функция эстетическая по
преимуществу; это специфическое для нашего времени ре-
лятивирование бесконечности, это новое отношение
между эстетическим постижением бесконечного мира и его
концептуальным познанием значительно увеличивают
роль эстетических критериев в меганауке. Здесь в
сближении критериев истины и красоты реализуются вес те
же эйнштейновские критерии. Внешнее оправдание
включает не только эмпирическую проверку теории, но и
интуитивное впечатление общности и широты результатов
такой проверки. Внутреннее совершенство включает не
только дедукцию из максимально общих определений
Всего, но и эстетическое впечатление от бесконечной
эмпирической сенсуально постижимой проверки новой
теории.
Эстетика познания никоим образом не сводится к
столь известному и столь хорошо описанному Анри
Пуанкаре критерию изящества. Здесь основной эстетический
критерий — это критерий красоты. В чем тут различие?
Критерий изящества близок к критерию внутреннего
совершенства. Он состоит в общности выводов и в их
естественности, в отсутствии специальных допущении.
Пуанкаре сравнивал изящную математическую дедукцию
с колоннадой, свободно и естественно поддерживающей
античный ордер. Внешнее оправдание здесь играет не
слишком существенную роль. Переход от изящества к
красоте — это переход от ощущения естественности и
И!
общности логической или математической дедукции к
ощущению общности и экспериментальной доказанности,
сенсуальной постижимости картины мира. Если критерий
изящества соответствует внутреннему совершенству, то
критерий красоты соответствует внешнему оправданию,
сочетающемуся с внутренним совершенством.
Превращение математики в онтологическую теорию, физикализация
логики — это и есть превращение изящества в красоту.
Критерий красоты меганауки, развивая критерий
изящества, требует не только обобщения отдельных
наблюдений и отдельных концепций в дедукции, основанного на
максимально общих допущениях. Такое обобщение, если
оно охватывает одновременно существующие частные
концепции, можно представить как превращение отдельных
точек в «пространство познания», о котором говорилось
выше в очерке, посвященном необратимости познапия.
К содержанию этого очерка придется вернуться сейчас еще
раз в связи с обсуждением эстетики меганауки, особенно
проблемы изящества и красоты. Изящество и красота
современной научной теории включают требование ее
философского обобщения. Ведь меганаука решает научными
теоретическими и экспериментальными методами
наиболее общие проблемы картины мира. Но эти проблемы и
их решения естественно вытекают из философских
концепций. Этого мало. Решения проблем меганауки
приобретают внутреннее совершенство, когда они естественно
вытекают из принципов, обладающих длительной
историей. Меганаука опирается и на теорию познания, и на его
историю, историю необратимого научного прогресса.
Критерию красоты удовлетворяют научные концепции,
которые вносят в .картину мира необратимые изменения.
В этом также отличие критерия красоты от критерия
изящества. Изящной может быть дедукция, которая привела
к выводу, не сохранившемуся в науке. Красотой обладает
открытие, которое сохраняется в науке, модифицируется,
меняет свое значение в результате яобых открытий, но
уже не может быть отринуто и забыто.
Критерии изящества и красоты в науке обладают
одним свойством, общим для эстетических критериев. Речь
идет о вечности и нестарепии художественных ценностей.
Ни «Илиада», ни «Джоконда», ни «Крейцерова соната» не
стареют. Поиски истины не дают таких нетленных
ценностей, если говорить о содержании научных концепций.
Исполнение «Крейцеровои сонаты» в ее неизменном вву-
112
чаннине покажется архапчпым, тогда как повторение
теории Декарта в качестве объяснения природы тяготения
удивило бы каждого. Но научные достижения обретают
бессмертие не как звенья необратимой эволюции, а сами
по себе, в своей преходящей форме, сохраняющейся в
веках, они обретают его как художественные ценности, они
не стареют как взлеты человеческой мысли, как
свидетельства ее мощи, тонкости, смелости. Таким образом, мы
снова возвращаемся к классическим определениям красо-
ты. Произведения искусства обладают гносеологической
функцией, они раскрывают мир в его чувственно
постижимых элементах и поэтому включают модифицирующиеся
элементы, исторически изменяющиеся представления о
мире. В свою очередь, достижения науки обладают
художественной ценностью, делающей бессмертными такие
произведения, как «Диалог» Галилея или
«Математические начала» Ньютона, в их конкретной форме.
Эстетизация науки — часть более общей тенденции,
сближения современной науки с общим потоком культуры.
Для меганауки характерен вопрошающий компонент, ме-
ганаука не может развиваться без неоднозначных
прогнозов, без квазифизических концепций, без возникновения
новых вопросов при каждом ответе.
Классическая наука развивалась главным образом в
форме однозначных дедукций. Были споры, были
противоречащие одна другой интерпретации фактов, но все же
существовала прямая и довольно сильная зависимость
каждого последующего этапа науки от предшествующего
ему. Такая вертикальная зависимость сохранилась и
сейчас. Но наряду с ней быстро возрастает горизонтальная
зависимость науки от производства, от искусства,
воздействие на науку со стороны параллельных ей потоков
культуры. Эти параллели пересекаются, нарушение евклидова
постулата здесь довольно частое явление. Почему
гипотетические частицы, нз которых, может быть, состоят иные,
известные нам частицы, получили имя кварков, этих
криков птиц из романа Джемса Джойса? Имя это
произвольное, но заимствование из художественной литературы, из
того, что англичане называют fiction, закономерно и
показательно. В меганауке часто возникают понятия без
прецедентов, без того более общего термина, который мог бы,
несколько модифицируясь, быть примененным в новой
ситуации. Тогда его берут из параллельного потока —
возникает или проявляется горизонтальная связь.
113
Искусство является резервуаром аналогичных понятий.
В основе дела тот свободный от старых норм
металогический переход, который так характерен для теории
относительности, для квантовой механики и еще более
характерен для квантово-релятивистских обобщений.
Эстетизация науки имеет и другую сторону, которую
можно назвать сциентизацией искусства. Современный
писатель, художник, композитор, критик, историк
искусства не может обойтись без понятий и образов, павеяпных
физикой. Именно неклассической физикой.
Искусствоведческая «доктрина Монро» была бы столь же архаичной,
как и физическая. В одной из пьес Герберта Уэллса в
прологе беседуют бог и дьявол (довольно традиционная в
драматургии беседа!), а предшествует прологу ремарка:
«Декорации представляют собой произведение
современного художника, несколько знакомого с современной
физикой». Дело тут не в моде. Современное искусство
испытывает такую же жажду внутреннего совершенства, как и
физика, если пе большую. Как и в физике, здесь старые
каноны оказались отнюдь не абсолютными. Как и в
физике, здесь широкое поле впешнего оправдания:
экспериментирование проверяет и оправдывает великое
множество концепций, среди которых немало искусственных,
введенных ad hoc, для оправдания данного эксперимента,
но пе имеющих логической связи с максимально общим
принципом. Иногда это приводит к явно произвольным
творепиям, более или менее напоминающим бессмертный
спектакль в Театре Колумба в «Двенадцати стульях».
Иногда художественные произведения связаны с общими
принципами уже слишком интуитивно и неосознанно, и
здесь говорят прозой, не зная такого понятия, подобно
бедному Журдену — этот театральный образ подчас
служит примером и для физиков. Все дело в том, что
практика Журдепа уже не соответствует уровню самопознания
современной культуры во всех ее областях.
Сейчас между осознанными междужанровыми
параллелями, осознанным единством культуры и развитием ее
составляющих установилась прямая связь. Физические
понятия, проникая в другие жанры культуры, неизбежно
модифицируются, обобщаются, принимают более общую
форму, подчас с возросшей эвристической ценпостью.
Аналогичную модификацию приобретают при обобщении
понятия и образы, исходящие из искусства и мигрирующие
в пауку.
114
ГУМАНИЗМ МЕГАНАУКИ
Третье тысячелетие науки
Человек всегда размышлял об общих проблемах бытия,
ему всегда было присуще стремление охватить все
мироздание и все его элементы едиными принципами.
Античная философия навсегда останется незабываемой
попыткой увидеть мир в его целом. Но наука XX в. коренным
образом изменила характер мышления о мире, изучения
его общих закономерностей. Сейчас эти общие
закономерности потеряли свою стабильность и в то же время исчез
фантом элементарности «последних» понятий и образов, к
которым сводится картина мира, они перестали
претендовать на титул «последних» и, по-видимому, навсегда
стали максимально сложными. Картина мира современной
науки в обоих своих полюсах, в Метагалактике и в
микромире, оперирует самыми сложными категориями.
Элементарные частицы оказались весьма сложными, причем
они не состоят из более простых, а, быть может, являются
соединениями, как это ни парадоксально, тел,
значительно превышающих по массе известные элементарные
частицы, наподобие гипотетических кварков.
Очень существенно появление специфического для
нашей эпохи «метагалактического» мышления в областях
культуры, связанных с наукой непосредственно пли
косвенно. Кавычки, в которые взято слово «метагалактнче-
ское», здесь уместны, поскольку речь идет об общем про-
странствещюм и временном расширении кругозора, во
многих случаях не достигающего Метагалактики и ее
истории.
Одна из фундаментальных особенностей современной
цивилизации, начиная с середины столетия,— использование
видов энергии, которые уже не являются
модифицированными формами энергии Солнца (уголь, нефть,
гидроэнергия, энергия ветра), а имеют своим источником энергию,
накопленную в атомных ядрах при космических
катаклизмах. Происходит расширение кругозора науки от планеты
к космосу и от миллионов лет к миллиардам, расширение,
связанное с практическими импульсами познания. Но и
«узкие», планетарные пространственные масштабы и
временные масштабы порядка миллионов лет приобретают
при этом другой смысл, другое звучание.
Количественные масштабы производства, измепеиия его структуры,
115
возникновение новых отраслей ставят в порядок дня
беспрецедентные по остроте проблемы исчерпания ресурсов
и задачи поисков новых ресурсов, проблемы, связанные с
геохимической историей земной коры.
В последнем счете неклассическая наука с ее
космическим охватом природы является основой планетарно-веко-
вого мышления, практически актуальных размышлений
об истории Земли и земной коры. Что же касается повых
неклассических по своим теоретическим основам отраслей
производства, то здесь связь с космизацией мышления
непосредственная. Никогда еще космос не был так близок
человеку и человеческой деятельности, активному
преобразованию мира, как в наше время.
И вместе с тем никогда еще эта деятельность в такой
мере не зависела от здесь-теперь, от локальных актов по-
знания, от индивидуума. Сама неклассическая физика
резко повысила роль локальных процессов в объяснении
макроскопических и даже космических трансформаций. Но
дело тут не в простых аналогиях между ролью ядерных и
субъядерных актов, инициирующих энергетические
процессы крупного масштаба, с одной стороны, и
общественной ролью отдельной человеческой личности — с другой.
Тут есть и прямая связь. Отдельный эксперимент,
отдельная концепция, отдельная мысль, блеснувшая в уме
экспериментатора или теоретика, вызывает цепную реакцию в
науке в силу характерной для современной науки роли
того, что Эйнштейн называл «бегством от чуда», т. е.
переноса ореола (может быть, одиума!) парадоксальности с
отдельного экспериментального результата на все более
общую концепцию бытия, И в преобразовании мира
отдельный творческий акт с небольшим коэффициентом
затухания или даже с возрастающей мощью, как цаппой
реакцией, охватывает все более широкие области труда;
квантовая электроника — тому разительный пример.
Для культуры, научной основой которой являются
иеклассические физические теории, характерна растущая
роль локальных творческих актов, и эта черта является
глубоко гуманистической, если видеть в основе понятия
«гуманизм» не только понятие «человечество», но и
понятие «человек» в смысле индивидуального человека, не
растворенного в универсалии, человека как логической
категории. Такая нерастворенность была одной из осповных
идейных позиций Возрождения, противопоставившей
живого человека средневековой, реалистической (в средневе-
116
ковом смысле), идущей от Августина Блаженного
концепции человека в целом, обремененного первородным грехом
п чающего избавления в лоне церкви. В этом смысле ue-
кл ассическая наука в ее отношении к конкретному
эксперименту, оказывающемуся experimentum crucis для самых
общих идей пространства, времени, движения, вещества и
жизни, в ее отношении к индивидуальному чувственному
опыту — прямая наследница ренессансного гуманизма.
Гносеологическая основа иеклассическнх физических
идей, прежде всего теории относительности и квантовой
механики, лежит в русле указанного ренессансного
наследства. Физические открытия и обобщения начала XX
столетия были решительным шагом к сенсуалиаации
рационализма. Теория относительности покончила с понятиями
абсолютного пространства и абсолютного времени,
которые не имели чувственного эквивалента н не были
сенсуально постижимыми. Отныне движение имеет смысл
только при наличии конкретных, материальных,
сенсуально постижимых тел отсчета. Квантовая механика еще
больше сенсуализировала рационализм, она поставила
понятия движения, пространственных и временных
координат, импульса и энергии в связь с рациональными,
чувственно постижимыми телами взаимодействия. В
неклассической науке Логос сливается с Сенсусом в боль*
шей мере, чем в классической, где еще оставались от
прошлого принципиально недоступные человеческому
познанию абсолютизированные фантомы.
Меганаука — неклассическая категория, выражающая
сенсуализацию и гуманизацию знания. В XIX в.
существовало отчетливое разграничение общих, чисто
логических представлений о пространстве, времени, движении,
веществе и жизни и более конкретных, частных
представлений о бытии. Первые казались неподвижными и
соответственно подлежащими чисто логическому анализу, они
в принципе не искали экспериментального внешнего
оправдапия и, казалось, не нуждались в нем. Вторые
опирались на эксперимент, относились к сенсуально
постижимым объектам, но ограничивали эксперимент модусами
бытия, не поднимаясь к миру как целому. Понятие мега-
науки означает научную разработку (в традиционном
смысле, т. е. сочетание логико-математических
конструкций и наблюдения), направленную, вопреки традиции, на
понятия пространства, времени, движения, вещества п
жизни.
117
Понятие меганаукп охватывает космологию, теорию
элементарных частиц, некоторые разделы математики и
биологии. Включение математики и биологии требует
пояснений. Теория относительности как учение о
макрокосме и о Вселенной в целом, учение о пространстве,
времени и движении входит в понятие меганаукп по ее
определению. Квантовая механика как учение об
элементарных частицах и о микромире в целом и веществе в его
дискретных и континуальных аспектах также входит в
меганауку по определению.
Математика обычно считалась свободной от
онтологической ценности; вспомним еще раз расселовскнн
афоризм: «Математика — это наука, которая не знает, о чем
она говорит, и истинно ли то, что она говорит». По теория
относительности,- раскрывшая геометрию мира, показала,
что различным, в общем случае неевклидовым, геометриям
соответствуют астрофизические и астрономические факты,
что геометрпя может стать описанием мира, его структуры
и истории. Это было началом развернувшейся онтологн-
зации математики, без чего иеклассическая картина мира
не могла бы достичь современной формы.
Что же касается учения о жизни, то, включив в
рамках молекулярной биологии некоторые неклассические
физические посылки, она вошла в единый комплекс
исследований бытия как целого. Эти исследования охватывают
не только весь спектр явлений от наименьшего
(элементарные частицы, дискретность или непрерывность мира)
до наибольшего (Вселепная в целом и проблемы ее
бесконечности), но и весь спектр сложности. Идеал сведения
картины мира к простейшим элементам уже не
соответствует современным представлениям о мире, поэтому
сложнейшая форма бытия — жизнь — уже не может быть
сведена к более простым понятиям. В число идеалов
науки, наряду с физико-химическим объяснением жизни,
вошли биологические понятия как идеальные схемы, к
которым стремится, например, кибернетика.
Можно песколько уточнить понятие меганаукп,
связав его с общей периодизацией истории познания, с
основными, охватывающими века, а иногда и тысячелетия
этапами научной мысли. Мегапаука охватывает
исследования, которые колеблют или могут поколебать вековые
инварианты науки, представления о пространстве, времени,
движении, веществе, о бесконечности и конечности,
непрерывности и дискретности мира, о сущности мирового
118
ratio f. Этапы, когда господствовали некоторые устойчивые
представления об основах мироздания, измеряются
тысячелетиями. Этому слову не следует придавать точный
хронологический я вообще метрический смысл.
Перипатетическая концепция мира господствовала в науке почти две
тысячи лет, классическая — в течение трех веков.
Современная же неклассическая картина мироздания, в
принципе отказывающаяся от абсолютизации своих основ,
может рассчитывать на столетня в том смысле, что мы,
исследуя сейчас белые пятна и противоречия современной
науки, видим перед собой перспективу непрерывной
модификации, развития и, в этом смысле, сохранения
возникших в XX в. новых представлений о мире. Поэтому
модификация вековых инвариантов становится уже не рядом
озарений, отделенных один от другого длительными
«оргапическими» эпохами, а чем-то систематическим, что
и получило имя меганауки. Сама длительность господства
и развития обосновывающих науку понятий становится
проблемой, которую необходимо решать. На этом следует
остановиться несколько подробней в связи с проблемой
прогнозирования и планирования науки.
Научный прогноз не может совпадать с
действительным последующим развитием науки, если говорить о
содержании науки, с научными представлениями. Если бы
можно было заранее установить результаты исследования,
то последнее потеряло бы смысл. Научный прогноз — это
характеристика направления науки, касательная к кривой
ее развития в данной точке, показывающая в
гипотетических конструкциях будущего, куда обращены тенденции
науки в данный момент при некоторой заданной
структуре науки.
Для меганауки такие касательные обладают вековыми
масштабами. Можно ли придать этому определению
«вековые масштабы» более конкретный вид и говорить о
начавшемся в нашем столетии тысячелетнем царстве некоторых
новых основ науки, новых по сравнению с многовековым
перепатетическим и трехвековым классическим царством?
Явится ли новое хронологическое тысячелетие, третье
тысячелетие нашей эры, продолжением XX в. в смысле
развития и сохранения этих основ?
* Несколько ближайших абзацев повторяют текст книги автора
«Ценность дознания» (М., 1975, с. 139—140)-, Изд. 2. М.: Книжный дом
<JlH6poKOM»/URSS, 2009.
119
Генезис науки был началом первого тысячелетнего
царства — царства статической гармонии, поисков некой
неизменной субстанции меняющегося и гетерогенного
мира. Хронологически это был двухтысячелетний период
начиная с ионийской натурфилософии VI в. до н. э. и
кончая закатом аристотелизма в XV—XVI вв. нашей эры.
Царство классических устоев науки хронологически
тоже не было тысячелетним. Оно началось в XVI в.
первыми попытками свести мироздание не к его статике,
а к динамике, продолжалось в XVII в., когда Галилей,
Кеплер и Ньютон создали основы классической
механики, претендовавшие на универсальное господство над
миром, а в XVIII—XIX вв. была построена система
классической науки, целиком подтвержденная опытом для
определенной, весьма широкой области явлений. Здесь
тоже существовали оппозиция, коллизии, парадоксы,
теория поля выходила за рамки классической концепции,
макроскопическое господство классических устоев
требовало игнорирования микропроцессов, учета их лишь в
статистических множествах. Революция и здесь
подготовлялась длительным накоплением и обострением
противоречий.
Эта революция разразилась в XX в., точнее, на пороге
этого столетия, по лишь в течение его первой четверти
выявилась принципиальная несовместимость явлений в
микромире и в области высоких энергий и скоростей со
старыми устоями. Еще позже оказалось, что изменилось
соотношение между космосом и микрокосмом, что
наука должна включать в картину мира индивидуальные
процессы, не игнорируя их относительную автономию по
отношению к макрокосму, находить в них отзвуки кос*
мических процессов и, в свою очередь, видеть в
космической эволюции определяющее воздействие субъядерных
событий.
Сейчас ясно, что теория относительности и квантовая
механика, релятивистская космология и теория
элементарных частиц — это начало атомно-космической эры.
Не только по методам и результатам науки, но и по ее
исходным представлениям — атомно-космическим по
существу, объединяющим Вселенную, внутриатомный и
внутриядерный мир глубоким взаимодействием и
взаимным проникновением. Но эра ли это? Начало ли это того,
что может быть названо новым тысячелетним царством?
Стоит ли новая, складывающаяся сейчас картина мира в
120
одном ряду с картиной, охватывающей науку от древней
Греции до средневекового Востока и средневековой
Европы, и с картиной классической науки?
Ответ на этот вопрос сейчас необходим практически,
он необходим для выработки рациональной стратегии ме-
ганауки и фундаментальных исследований в целом. Он
не может быть дан без историко-научного анализа, без
анализа общей истории пауки, охватывающей всю ее
эволюцию, от генезиса до современных тенденций.
От такого ответа, от оценки всемирно-исторической роли
того, что сейчас происходит (а до того планируется!) в
меганауке и в фундаментальной науке в целом, зависит
научная политика сегодняшнего дня.
С этим связан и вопрос о ценности меганауки. О ее
современной ценности, о здесъ-теперъ-ценности. Ценность
научной революции, ценность изменения тысячелетних
инвариантов познания измеряется фундаментальностью,
«тысячелетностыо» новых инвариантов. Каковы же эти
инварианты при существовании меганауки,
модифицирующей самые общие представлення о мире? К ним прежде
всего принадлежит идея единства космоса и микрокосма.
Уже не в форме стабильности исходной статической
структуры мира, охватывающей космос и микрокосм. И не в
форме простого переноса в микромир и в космос одной
и той же универсальной механики,
продемонстрированной в макроскопических областях. Новая форма единства
космоса и микрокосма, характерная для атомно-косми-
ческой эры, выражается пока наиболее ярко в
некоторых физических, пока еше совсем неоднозначных
представлениях. Но ведь и каждая эра начинается с весьма
локальных событий. Своеобразие современной ситуации
науки состоит в том, что историко-научный анализ
позволяет увидеть в таких событиях обозначившееся
начало эры.
Наука и смысл жизни
Вернемся к проблеме необратимости познания,
именно к ее связи с гуманизмом меганауки. Необратимость
познания связывает два уже упоминавшихся выше
определения гуманизма. Первое из них — гуманизм как
признание ценности того, что Тейяр де Шарден назвал
«феноменом человека», признание ценности и обеспечение
необратимого и бесконечного прогресса человеческого
рода, человеческого общества, роста его власти над приро-
121
дой и единства с ней, перехода ко все более гармониипым
общественным формам. Второе определение — признание
цеииостн и смысла жизни каждой человеческой личности.
Оба эти определения включают мысль о бесконечном
необратимом прогрессе. Смысл жизни человека имеет
своей предпосылкой некоторый вклад в именно
необратимое и именно бесконечное развитие общества в целом.
Смысл какого-то процесса требует, чтобы этот процесс
оказался причиной другого процесса, и в этой
каузальной связи состоит значение и содержание термина
«смысл». Но процесс, который явился результатом
данного, имеет, в свою очередь, ценность и обладает
смыслом лишь постольку, поскольку и этот причиненный
процесс не может исчезнуть без следа: окончание цепи,
появление результата, который не имел бы продолжения,
не обладал бы сам новым результатом — такой финал
лишил бы смысла всю цепь. И этого мало. Ряд
последовательных актов или процессов должен быть не только
бесконечным. Необходима нарастающая ценность
последовательных актов, только тогда весь ряд приобретает
смысл. Для общества в целом, для человеческого
«филогенеза» и «онтогенеза», для смысла исторического
процесса и для смысла каждой человеческой жизни
требуется нарастающее преобразование мира, неотделимое от
его познания и от преобразования человеческой жизни
на гармоничных началах.
С необратимостью познания и с гуманизмом связана
и проблема свободы и необходимости в познании.
Известная формула «свобода — познанная необходимость»
находит в иеклассической науке свое подтверждение. Теория
относительности отказалась от абсолютизации систем
отсчета и выдвинула идею принципиальной
равноправности различных систем и свободы выбора между ними.
Но все эти системы связаны с материальными телами,
пустое пространство как система отсчета исчезло из
картины мира. Познание может переходить от одной системы
к другой в одном направлении — в сторону все большего
соответствия найденных соотношений с объективной
структурой тел и силовых полей.
Свобода выбора систем отсчета измеряется степенью
познания необходимости этих соотношений, а эта
необходимость есть синоним соответствия объективной
структуре мира. Чем точнее и глубже познание постигает
необходимость своих выводов, необходимость результатов
122
науки, тем свободнее оно от абсолютов, тем многомернее
и сложнее создаваемая познанием модель мироздания.
Наука во всем своем историческом развитии
подтверждает связь между необходимостью и свободой, но некласси-
ческая паука, как н каждый новый этап науки, делает
такое подтверждение более содержательным, широким и
конкретным. Квантовая механика позволяет переходить
от измерения одной динамической перемеиной к другой,
сопряженной с пей, но свобода такого перехода означает
лишь возросшее поипмаппо необходимой, объективной,
не зависящей от человека связи между динамическими
переменными и связи между вероятностью и
необходимостью при определении пространственных координат,
времени, импульса и энергии. Свобода исследования —
это свобода от абсолютизированных результатов при
необратимом познаппи бесконечно сложного объективного
мира. Эта свобода — выражение гуманизма науки,
потому что она означает нарастающую мощь человека,
нарастающую мощь его разума в познании необходимого,
детерминированного хода событий в объективном мире.
Связь свободы и необходимости в науке вообще и в
современной науке в особеппости может быть пояснена
следующим историко-философским экскурсом. Спиноза
говорил о свободной причине (causa libera) как о чем-то
вытекающем с необходимостью из самого существа
данного объекта; свобода—это существование, целиком
вытекающее из своей природы, подчиненное своей природе.
Спиноза иллюстрирует это понятие примером
треугольника, в котором равенство суммы углов двум прямым
углам вытекает из его природы. Это замечание Спинозы
о треугольнике естественно ассоциируется с совремеины-м
представлением о неевклидовом треугольнике, в котором
сумма углов не равна двум прямым углам, с
представлением, ставшим физическим утверждением в теории
тяготения и в релятивистской космологии. Сопоставление
того, что говорил Спиноза, с тем треугольником, о
котором говорят при изложении теории относительности,
иллюстрирует эволюцию causa libera. Но и сейчас, как и
раньше, природа науки, ее сущность состоит в
постижении необходимости, детерминированности явлений, и
максимальное подчинение научного развития такой
сущности, вернее, максимально быстрое нарастание такого
подчинения является выражением свободы исследования.
С некласенческой наукой мы вошли в эпоху весьма бы-
123
строго по сравнению с прошлым нарастания свободы
науки как выражения растущей сложности и
многомерности бытия и нарастающего по темпу освобождения от
неподвижных канонов.
Человек, фигурирующий в современных
гуманистических концепциях, свободный человек Спинозы,
познающий и преобразующий мир в беспрецедентных
масштабах, homo cogitans и homo faber, противоположен
нивелированному и лишенному индивидуальности человеку
Августина Блаженного — носителю общечеловеческого
первородного греха. В такой же мере он противоположен
«Единственному» Штирнера. «Единственный» — такая же
фикция, как движущееся единственное тело в теории
относительности и невзаимодействующая частица в
квантовой механике.
В противовес «одномерному человеку» Герберта Мар-
кузо хотелось бы сказать несколько слов об ином
определении человека нашей эпохи. Об определении человека,
которое связано некоторой аналогией с определением
времени и его необратимости. Повторим вкратце это
определение. Преобразования разума, в отличие от
преобразований рассудка, выражаются геометрически не в
метрике, а в топологии, в ее изменении и в росте
размерности, причем этому росту множества измерений тг-мер-
ного пространства соответствует (л-М)-я ось, которая
отражает само бытие, все более интенсивное и сложное,
и является необратимым временем. Смысл бытия состоит
в структуризации мира, в росте его размерности.
Человек в своей истинной, собственно человеческой, разумной
(несводимой к рассудочной) сущности, отражая необра*
тимую структуризацию бытия, становится пересечением
растущего множества предикатных многообразий, идей,
эмоциональных порывов, эстетических и моральных
норм, причем в таком пересечении, т. е. в личности,
возникают повые размерности, и это возникновение новых
размерностей, новых многообразий, сосредоточенное в
индивидуальном бытии, сообщает ему смысл.
«Единственный» Штирнера, по существу,—
нульмерный, точка в дискретном пространстве, где точки не
соединены линией, где деятельность и существование
индивидуумов не соединены общими положительными
идеалами. Реальны ли такие люди? Тот же Достоевский
говорил о «городе-фантоме», о фиктивном бытии, если в
г>том бытии «все врозь». Схема возрастания размерности
J 24
в каждой точке на траектории движущегося объекта
описывает и в случае человеческого общества подлинное
бытие, не сводимое к «связке предикатов».
Оптимистическая концепция необратимости времени
позволяет по-новому подойти к проблеме ценности н
смысла бытия. Констатация необратимой эволюции
бытия, вместе с его наисложнейшей формой — жизнью
и разумом, позволяет ясней увидеть динамический
характер понятий ценности и смысла и связь их
модификаций с прогрессом науки. Для перипатетиков
ценность каждого физического процесса в подлунном
мире определялась приближением к вселенской статической
гармонии «естественных мест». В такой гармонии и
состоял смысл бытия. Для науки Нового времени (если
рассматривать понятия ценности и смысла,, явно или неявно
присутствующие в схемах Галилея, Декарта и Ньютона)
эти понятия связаны с динамической гармонией бытия,
с повторением космических циклов. Уже в XIX в.
критерии смысла и ценности противостояли
пессимистическому прогнозу тепловой смерти. В естествознании
нашего времени именно представление о необратимой
эволюции космоса становится одним из существенных
компонентов представления о бесконечно возрастающем
ratio бытия, о возрастающей ценности познания этого
ratio и о возрастающем позитивном эффекте познания.
Смысл бытия не в его неподвижности — последняя
лишила бы смысла само это попятие. И не в возврате «на
круги своя». Смысл бытия — в его направленном, уходящем
в бесконечность усложнении, а смысл жизни л
сознания — в уходящем в бесконечность познании и
преобразовании мира.
Бессмертие мысли
и бессмертие мыслителя
Для человека — homo cogitans и homo faber, для
современного гуманизма и для связи гуманизма с иекласси-
ческой наукой очень существенна связь необратимости
познания с ощущением реального бессмертия. Каждое
озарение, открывающее бесконечный ряд последующих
экспериментов и дедукций, раскрывает перед мыслителем
бессмертие его идей, его вклада в необратимую духовную
и материальную эволюцию человечества. Такое озарение —
глоток из кубка Оберона, кубка бессмертия. Уход от
125
страха смерти у Эпикура (в письме к Менекею: «Смерть
не имеет к нам никакого отношения, так как, когда мы
существуем, смерть еще не присутствует, а когда смерть
присутствует, тогда мы не существуем»2) — негативная
концепция, опа отрицает ощущение смерти, но не
включает ощущения бессмертия. Однако у Эпикура был
некоторый ход мысли, ведущий к такому ощущению.
Предсмертное письмо Идоменею Эпикур начинает словами:
«В этот счастливый и вместе с тем последний день моей
/кизпи...». Затем Эпикур разъясняет, что предсмертным
болям противостоит «душевная радость при
воспоминании бывших у нас рассуждений»3. Здесь уже не только
сенсуалистическое неприятие смерти, здесь мысль о
бессмертии неотделимых от Сенсуса логических операций —
«бывших у нас рассуждений». И не только мысль, но
личное ощущение их бессмертия.
Ощущение бессмертия логических операций связано
с «кубком Оберона», с ощущением личного участия в
бессмертной эволюции, если «бывшие у нас рассуждения»
включают не раз навсегда установленные идеи, а звенья
непрерывной и необратимой эволюции идей, их
бесконечного приближения к объективной истине. У греков был
такой оттенок научного мышления. В классической пауко
картина мира считалась в основном закопченной
картиной, она абсолютизировалась и отрывалась от
эмоционального подтекста науки, как бы выходпла за рамки
человеческих чувств. Сейчас, когда изменчивость
фундаментальных представлений стала основной приметой
времени, мы возвращаемся к античному по своим истокам,
но теперь ушедшему далеко вперед эмоциональному
аккомпанементу научных концепций, к ощущению живого
бессмертия науки.
Можно ли отделить путь смертного от судьбы его
бессмертных идей? Можно ли отделить понятие жизни от
совокупности того, что сделано в течение этой жизни и
чему суждено остаться навсегда? Вопрос стоит о
бессмертии смертного, о сохранении того, что окончилось,
о сохранении индивидуального, неповторимого при его
исчезновении. Вопрос этот кажется явно противоречивым,
2 См.: Лукреций. О природе вещей. М., 1948, т. 2, с. 583.
(Фрагменты Эпикура и Эмпедокла). Об отношении Эпикура к смерти
см.: Kouznetsov В. Einstein et Epicure.— Diogèno, 1973, N 81,
p. 63—67.
8 См.: Лукреций, О природе вещей, т. 2, с. 635. Изд. 2. М.: Издательство
ЛКИ/URSS, 2010.
126
он допускает соединение несоединимых определений —
смертного и бессмертного. Но он, несомненно, законен
и, более того, в круг эмоций нашего современника входит
ощущение соединимости указанных определений: каждый
из нас интуитивно убежден, что, например, личности
Эйнштейна, его живому образу суждено не менее
длительное воздействие на внутренний мир человека, чем
научным идеям.
Что же делает бессмертной жизнь ученого?
Бессмертие научных открытий и обобщений, бессмертие таких
научных произведений, как «Математические начала
натуральной философии» Ньютона, отнюдь не означает
завершенности, окончательного характера их научных
результатов. Так думали во времена создания Ньютоновых
«Начал» и в течение двух с лишним веков после их
появления. Но сейчас другой критерий бессмертия —
включение данного открытия в необратимый ряд, все больше
приближающийся к объективной истине.
Когда же необратимость познания приводит к тому,
что жизнь ученого, его субъективные черты, его
биография в собственном смысле сохраняются и становятся
движущей силой дальнейшего движения к объективной
истине?
В периоды научной революции (они отличаются от
«органических» эпох только интенсивностью
преобразования; наука всегда — революционный процесс)
происходит конфронтация прошлого и будущего. Линия раздела
между старым и новым проходит через творчество
мыслителя, даже через отдельные произведения. В периоды
сильной необратимости, в периоды научной революции
борьба будущего с прошлым охватывает весь внутренний
мир ученого и определяет его индивидуальные черты.
Конфронтация прошлого и будущего проходит не только
через интеллект — научная коллизия становится
эмоциональной, подчас трагической. Драматизм науки, наличие
идеалов, которые воплощаются в столкновении с
остатками прошлого,— такой драматизм связывает жизнь
мыслителя с его идеями, с открытиями, с тем, что
объективировано в учебниках и в научном наследстве. Жизнь
становится бессмертной, если в ее драматических
перипетиях отражена необратимая эволюция познания,
необратимое приближение к истине.
В этом смысле весьма интересна характеристика
творчества и жизни Ньютона, принадлежащая Эйнштейну.
127
Эйнштейн говорит, что «творения интеллекта
переживают шумную суетню поколений и на протяжении веко и
озаряют мир светом и теплом»4. Светом и TemioMh «Свет»
здесь — синоним разума, его проносят через века труды
мыслителя. «Тепло» — синоним эмоционального подтекста
науки, который делает бессмертной эмоциональную
жизнь ученого в ее неотделимости от трудов.
Существует глубокая гносеологическая основа
бессмертия, которым обладают не только труды, идеи и
открытия, но и живой облик мыслителя. Мысль, идея,
обобщение бессмертны по определению. Сенсуальное
постижение бытия ограничено временем жизни. Но в
науке бессмертный Логос и смертный Сенсу с становятся
неотделимыми. В науке чисто интеллектуальная
деятельность человека сливается с его эмоциями, которые при
их слиянии с интеллектом иммортализируются. Это
происходит в особенно ясной форме в рамках
неклассической науки.
Гуманизация науки — ео необратимая тенденция —
растет с каждой научной революцией. Проблема
бессмертия жизни ученого связала с таким во всех смыслах
гуманистическим представлением о современной меганауке.
И с гуманистическим представлением о науке во всем ее
историческом развитии. Проблема бессмертия, проблема
сохранения тождественного себе, инвариантного
субстрата науки — одна из наиболее общих и глубоких проблем
теории позиания. И эмоциональная составляющая
интеллектуального прогресса с необходимостью входят в такой
субстрат. Меняются представления о мире, меняются
методы его изучения, меняется эффект науки, ее
воздействие на цивилизацию. Сохраняется основа бессмертия того,
что делают ученые,— «свет и тепло», эмоциональный
аккомпанемент науки, красота научного подвига.
Сохранение «света и тепла» науки в памяти человечества — это
гарантия необратимого подъема ее морального и
эстетического потенциала. Каждому понятно, что сейчас от
подобного подъема вависит само существование
цивилизации.
Неклассическая наука и ее применение радикально
изменили отношение гуманизма к рационализму.
Классические теории XIX в. при их обобщении казались и
отчасти были торжеством рационального объяснения мира,
4 Эйнштейн А. Собр. науч. тр. М., 1967, т. 4, с. 78.
128
подчинением его картипы одпозначйым и твердым
законам. Эти законы в значительной мере были
статистическими, индивидуальные судьбы молекул и других
элементов микромира игнорировались, как игнорировались в
учении об эволюции жизни индивидуальные судьбы
живых существ. Сейчас, в XX в., положение изменилось,
наука уже не может игнорировать ни элементарные
частицы, ни молекулярные процессы переноса
генетической информации. Тем самым приобрела новый смысл
трагедия XIX столетия, моральное сознание которого
билось о стену логической необходимости \
Уже Белинский, отойдя от гегелевского рационализма,
ссылаясь на коренной порок формулы «все
действительное разумно», критиковал его за игнорирование
индивидуальных человеческих судеб.
Белинский говорил, что, оказавшись на верхней сту-
пепи прогрессивной эволюции, он не примирился бы ни
с одной жертвой этого развития. «Если бы мне и
удалось взлезть на верхнюю ступень лестницы развития,—
я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех
жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах
случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр. и пр.:
иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою.
Я не хочу счастия и даром, если не буду спокоен на счет
каждого из моих братии по крови...»6 Этот ранний
антецедент отказа Ивана Карамазова от любой игнорирующей
личные судьбы вселенской гармонии очень ясно
показывает роль необратимости бытия для пессимистического
иррационализма.
И тут в игру вступает эстетика, постижение красоты
бытия, образное мышление о мире. Искусство берет на
себя то, что науке пока не под силу. Классическая наука
сосредоточила свое внимание па принадлежности
индивидуума к данному множеству, присвоении некоторому
субъекту данного предиката при игнорировании того
неповторимого и индивидуального, что отличает именно
этот, конкретный субъект от других субъектов
объединяющего их множества. В классической науке эмоцнональ-
* См. об этом также: Кузнецов Б. Г. Эйнштейн. Жизнь, смерть,
бессмертие. 5-е изд. Мм 1979, с. 559—571, 616—617, 624 (откуда
вяято несколько абзацев).
• Белинский В. Г. Письмо В. П. Боткппу, 1 марта 18ЛI г.—Поли,
собр. соч. М., 1956, т. 12, с. 23.
129
ный аккомпанемент познания, его радостный пафос был
связан не с постижением индивидуальной
неповторимости каждого субъекта, каждой локальной ситуации, а с
интегральной гармонией систем, в которых их
индивидуальные элементы нивелированы. Единый космос, а не
индивидуализирующие определения был источником
эмоционального аккомпанемента науки. Отсюда — известный
разрыв научного и эстетического постижения мира,
характерная основа некоторых фундаментальных идей
Достоевского.
В течение полутора десятилетий, с 1866 по 1880 г.,
вышли основные философские романы Достоевского
«Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы»,
«Подросток», «Братья Карамазовы». После них человечество
стало старше. Оно не сразу могло дать себе отчет в том,
что, собственно, произошло. Земля от коры до центра
пропитана людскими слезами — таков первый мотив
романов Достоевского7. Это не вывод из статистических
таблиц, напротив, он противопоставляется таблицам. Это
и не непосредственные впечатления, речь идет не только
06 отдельных людях, а обо всем человечестве. Но
человечество существует в каждом отдельном человеке,
социальные и моральные проблемы раскрываются в рамках
психологии героя, в образе, в эстетическом обобщении.
Итог рационалистической мысли — космическая гармония
неприемлема, если она игнорирует индивидуальную
судьбу; этот вывод мог быть сформулирован именно в
эстетическом обобщении, сохраняющем неповторимость,
суверенную ценность индивидуального образа.
Романы Достоевского — это страшный крик, который
прорезал ночь, п теперь уже никто не может уснуть.
Здесь слились как будто все стоны Земли, плач детей,
подвергающихся истязаниям, бормотание людей,
обезумевших от горя, и панические восклицания перед
угрожающим безумием. Все это слилось, но сохранилось,
и мы можем различить каждую ноту в крике отчаяния,
каждое всхлипывание плачущего ребенка. Это крик боли,
жажды гармонии, который вошел в историю
человеческой культуры как вопрос, обращенный к XX столетию.
Неклассическая наука XX в.— это ответ на
адресованный нашему столетию вопрос XIX в. о такой
рационалистической структуре бытия и познания, которая не
7 См.: Достоевский Ф. М. Собр. соч.; В 10 ти т. М., 1958, т. 9, с. 305,
130
игнорировала бы судьбы человека и была бы в этом
смысле гуманистической. Воплощение неклассической науки
означает превращение атомной энергетики в основную
составляющую электроэнергетического баланса,
квантовой электроники — в основной технологический метод
важнейших отраслей производства, радикальное
изменение экологических условий человеческой жизни,
существенное удлппенис ее и решительное преобразование
характера труда.
Гуманизм меганауки включает ее содействие
изменению характера и условий труда. Иллюзия чуждой
человеку природы опирается на вполне реальное отчуждение
труда. Если труд отчужден, если он подчинен
антагонистической иерархии, то личность человека не реализует
в труде своей функции объективирования, сознательной
компоновки сил природы и обнаружения ratio мира.
Иначе говоря, труд отделяется от науки.
Понятие отчуждения обстоятельно разобрано в
«Экономически-философских рукописях 1844 года» и в
работах Маркса 40-х годов. Впоследствии оно
воплотилось в систему прямых экономических категорий
«Капитала». Но понятие отчуждения и сейчас раскрывает
логику «Капитала», демонстрирует ее связь с собственно
философскими интересами Маркса, значение
экономических категорий и определений труда для эволюции
гуманизма.
Эволюция труда — это все большее выявление
внутренних имманентных особенностей человека. Основным
этапом такой эволюции является переход от
отчужденного в антагонистическом производстве труда к свободному
ассоциированному труду. В третьем томе «Капитала»
Маркс пишет: «Свобода в этой области может
заключаться лишь в том, что коллективный человек,
ассоциированные производители рационально регулируют этот свой
обмен веществ с природой, ставят его под свой общий
контроль, вместо того чтобы on господствовал над ними
как слепая сила... Но тем не менее это все же остается
царством необходимости. По ту сторону его начинается
развитие человеческих сил, которое является самоцелью,
истинное царство свободы, которое, однако, может
расцвести лишь на этом царстве необходимости, как па своем
базисе»8.
8 Маркс /Г., Энгельс Ф, Соч. 2-е изд., т. 25, ч. 2, с. 387.
J3J
В этих строках — квинтэссенция экономической
концепции гуманизма. Исходное понятие — обмен веществ
с природой, воздействие на природу, воздействие
природы на человека, совокупность потока вещества и энергии,
вызванных руками и мозгом человека и вызвавших в
свою очередь эволюцию самого человека. Эти потоки
связаны с сознательными целями, с целесообразной
деятельностью, с трудом. Но пока вся совокупность обмена
веществ с природой не регулируется коллективным
человеком, т. е. ассоциированными производителями, пока
сами цели отдельных производственных актов не
объединены и вытекают из стихийных и слепых общественных
законов, труд в целом, производство в целом, обмен
веществ с природой в целом не становятся целесообразной
деятельностью, они подчинены стихийным силам, они
господствуют над человеком, а не подчиняются ему.
Но вот происходит «скачок из царства
необходимости в царство свободы». Не только отдельные
производственные акты, но н все производство в целом подчинено
коллективной воле производителей. Необходимость
продолжает царствовать. Это уже не необходимость в форме
слепых общественных сил — это необходимость,
закономерность, объективно закономерный характер
процессов обмена веществ между человеком и природой. Именно
благодаря этой необходимости и на ее базе вырастает
«истинное царство свободы». Развитие человеческих сил
становится самоцелью в том смысле, что счастье
человека, его долголетие, развитие его интеллекта, его эмоций,
его моралп, преобразование его труда, сосредоточение
интеллектуальных сил человека на все более
радикальном изменении производства, на все более полном
познании и преобразовании мира — это подлинное развитие
человеческих сил уже не служит ничему, напротив, все
служит этой интегральной цели человека.
* *
*
Хотелось бы закончить «Этюды о меганауке» кратким
упоминанием о нескольких книгах и статьях
(опубликованных, когда «Этюды» были уже подготовлены к
печати), которые не только созвучны их содержанию, по
позволяют и даже требуют развития, уточнения,
конкретизации или обобщения высказанных здесь взглядов. В
некоторой мере это сделано п моих книгах, паппсанных
132
позже и ожидающих выхода в свет. В значительно
большей мере это будет сделано другими историками и
философами науки: перечисленные ниже работы неизбежно
вызовут не только отдельные отклики, но и существенный
переход историко-философского анализа современной
науки на новый уровень. В тексте «Этюдов» я мог
только упомянуть в ссылках о книге Т. Prigogine et L
Stengers. La Nouvelle Alliance. Metamorphose de la science
(Paris, Gallimard, 1981). Для проблемы необратимости
времени столь же важна книга 7. Prigogine. Physique,
temps et devenir (Paris, Masson, 1980) и ряд статей того
же автора: Temps, évolution, destin (Actes du première
colloque sur les relations actueles entre les sciences et la
philosophie. Paris, 1980), La transparance et l'obstacle
(Bulletin do l'Académie Royal de Belgique. Bruxxeles,
1980); Dialogue avec Piage sur l'irréversible (Archives
de Psychologie, 1980, 50). Существенное развитие
проблемы интуиции в научном творчестве и эстетики современной
науки читатель найдет в книге Е. Л. Фейнберга
«Кибернетика, логика, искусство» (М., «Радио и связь», 1981).
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Августин Блаженный 117, 124
Александр Македонский 5
Андроник Родосский 7
Ариосто Л. 100, 101
Аристарх Самосский 19
Аристотель 5, 7, 8, 21, 25, 62, 71,
94, 103, 106
Банков А. А. 75
Баумгартен А. Г. 105—107
Белинский В. Г. 130
Бетховеп Л. 112
Воде 66
Больцмаи Л. 39
Бор IT. 13, 41, 68
Бори М. 13, 18, 66
Боровский Я. М. 99
Брауэр Л. 35
Бриллюон Л. 41
Бройль Л. де 13
Брюнсвиг Л. 7
Бурбакн П. 84, 85
Ватанабе С. 41, 47, 4S
Вопль Г. 83
Вольтер 22
Галилей Г. 10, 19, 100, 113, 120,
125
Гаусс К. Ф. 85
Гегель Г. В. Ф. 11, 31, 48. 55—
57, 60, 94, 95, 101, 102, 129, 130
Гедель К. 92
Гейзенберг В. 13
Гейне Г. 20
Гельмгольц Г. 09
Гераклит 5, 23, 87
Герц Г. Р. 68
Гёте И. В. 101, 102
Гильберт Д. 92
Гинзбург В. Л. 17, 18
Гленсдорф П. 40
Гомер 112
Грюнбаум А. 40
Данте Алнгьери 99, 100, 107
Дарвин Ч. 22, 67
Декарт Р. 7, 8, 10, 19, 39, 58—
62, 72, ИЗ, 125
Демокрит 5
Державин Г. Р. 30
Джойс Дж. ИЗ
Дирак П. 13
Дирихле П. Г. Л. 85, 86
Достоевский Ф. М. 124, 130—133
Дюбуа-Реймон Э. 70
Жильсон Э. 130
Зельдович Я. Б. 41
Зепои 5, 87, 106
Зубчапппов В. В. 63
Иванов В. В. 92
Ндоменеи 126
Ильф И. и Петров Е. 114
Кант И. 42, 00, 93, 102, 105,
107—109
Кантор Г. 35
Каныгин Ю. М. 63
Карпо 22
Кеплер И. 120
Клаузпус Г. 22
Клейн Ф. 97
Коперпик Н. 7, 19
Коста де Борсгар О. 41, 40, 47
Кульвец П. A. G3
Кун Т. 64
Ланжевеп П. 12
Лаплас П. С. 58, 73, 74, 82
Лармор 12
Лажен-Дирпхле П. Г. — см.
Дирихле П. Г. Л.
Лейбниц Г. В. 7, 32, 96
Ленин В. И. 12, 43
Леонардо да Винчи 112
Лессинг Г. Э. 99, 101
Лоренц Г. А. 12, 13, 67, 75
Лукрецкий Тит Кар 90, 99, 126
Максвелл Дж. К. 68
134
Мальбранш Н. 7, 101
Маркс К. 31, 46, 47, 133, 134
Маркузе Г. 124
Меиерсон Э. 39, 85—91
Менекей 126
Мииковскпй Г. 59
Моцарт В. А. 96, 97
Норнст В. Г. 75
Новиков И. Д. 41
Ньютон, И. 9—.11. 13, 16, 40, 42,
54, 60, 61, 65, 68, 113, 120, 125,
Парменид 56
Паули В. 18, 68, 83
Пеано Дж. 35
Планк М. 13, 30
Платоп 5, 90, 106
Пригожи и И. 40, 49
Пруст М. 49
Пуанкаро А. 37, 46, 111
Пушкин А. С. 96
Рассел Б. 83, 118
Рейхенбах Г. 4, 40
Риман Г. Ф. Б. 17, 104
Розенфельд Л. 41
Руссо УК. Ж. 22
Сальери А. 96—98
Септ-Укаюперп А. де 76
Сервантос М. 100
Сократ 130
Спиноза Б. 7, 9, 31, 32, 54, 55,
101, 123, 124
Стенгерс И. 40, 49
Тейяр дс Шарден П. 121
Толезно Б. 6
Тертуллиан 129
Трапезников С. П. 63
Уилер Дж. 39
Уитроу Дж. 40
Уэлс Г. 114
Фейербах Л. 32, 109
Филипп II Габсбург 130
Фишер К. 102
Фреге 83
Фридман А. А. 15, 17, 36, 43, 52
ДУРУ С. 76
Чернышевский II. Г. 109
Шеллинг Ф. В. Й. 108
Шиллер И. Ф. 9, 101, 102, 105
Шредпнгор Э. 13
Штирпер М. 124
Эйнштейн А. 4, 12—15, 17, 39,
43, 50—53, 55, 58, 59, 61, 63, 64,
07—70, 74, 75, 77, 84, 86—91,
93, 103, 104, 111, 116, 127, 128
Ппгсльс Ф. 11, 42, 60
Эпикур 90, 95, 99, 126
СОДЕРЖАНИЕ
Исторические истоки S
Древность 3
Средневековье и Возрождение 6
Метафизика и метафизика 7
Классическая наука 10
Первая половина XX в 11
Вторая половина XX в 14
Меганаука п необратимость познания .... 19
Значение необратимости познания для
определения меганаукп 19
Необратимая логика , 25
Топология бытия 31
Энтропия и негэптроппя 38
Необратимость познания 42
Необратимость культурно-исторического
процесса 45
Меганаука п проблема «чистого бытия>> .... 50
Научное завещание Эйнштейна 50
Квазифизические копцепцни 53
Исходпыс понятия учения Гегеля о бытии . , 55
Пространство и время 59
Гносеологический потенциал науки 63
Критерии научной истины и понятие
гносеологического потенциала G3
Структура науки, ее «этажи» и иерархия ... 70
Эффект мегапауки 76
Математизация познания 82
Исходный потенциал научного прогресса ... 87
Семиотика науки 91
Эстетика меганауки 94
Эстетическое постижение мира 94
Классическая наука и классическая поэзия . . 98
Эстетика бесконечного 103
Красота познания . 105
Критерий изящества и критерий красоты в
научном познании m
Гуманизм меганауки 115
Третье тысячелетие науки 115
Наука и смысл жизпи # 121
Бессмертие мысли и бессмертие мыслителя . . 125
Указатель имен , , 134
Борис Григорьевич КУЗНЕЦОВ
(1903-1984)
Известный отечественный историк естествознания, специалист в области методологии
и философии науки. Окончил аспирантуру Института экономики Российской ассоциации
научно-исследовательских институтов общественных наук. Работал s Институте истории
науки и техники, в Комиссии по истории естествознания АН СССР. В 1937 г. защитил
докторскую диссертацию. С 1944 г. занимал пост заместителя директора Института
истории естествознания и техники АН СССР.
Б. Г. Кузнецов — автор многих книг по истории, методологии и философии науки,
получивших широкое признание читателей. Большую популярность имели его трилогия
о развитии физической картины мира в XVII-XX вв., одно из лучших в мировой литературе
жизнеописаний Альберта Эйнштейна, книги о жизни и научной деятельности Исаака
Ньютона, Галилео Галилея, Джордано Бруно, а также многие другие работы о становлении
современной научной картины мира.