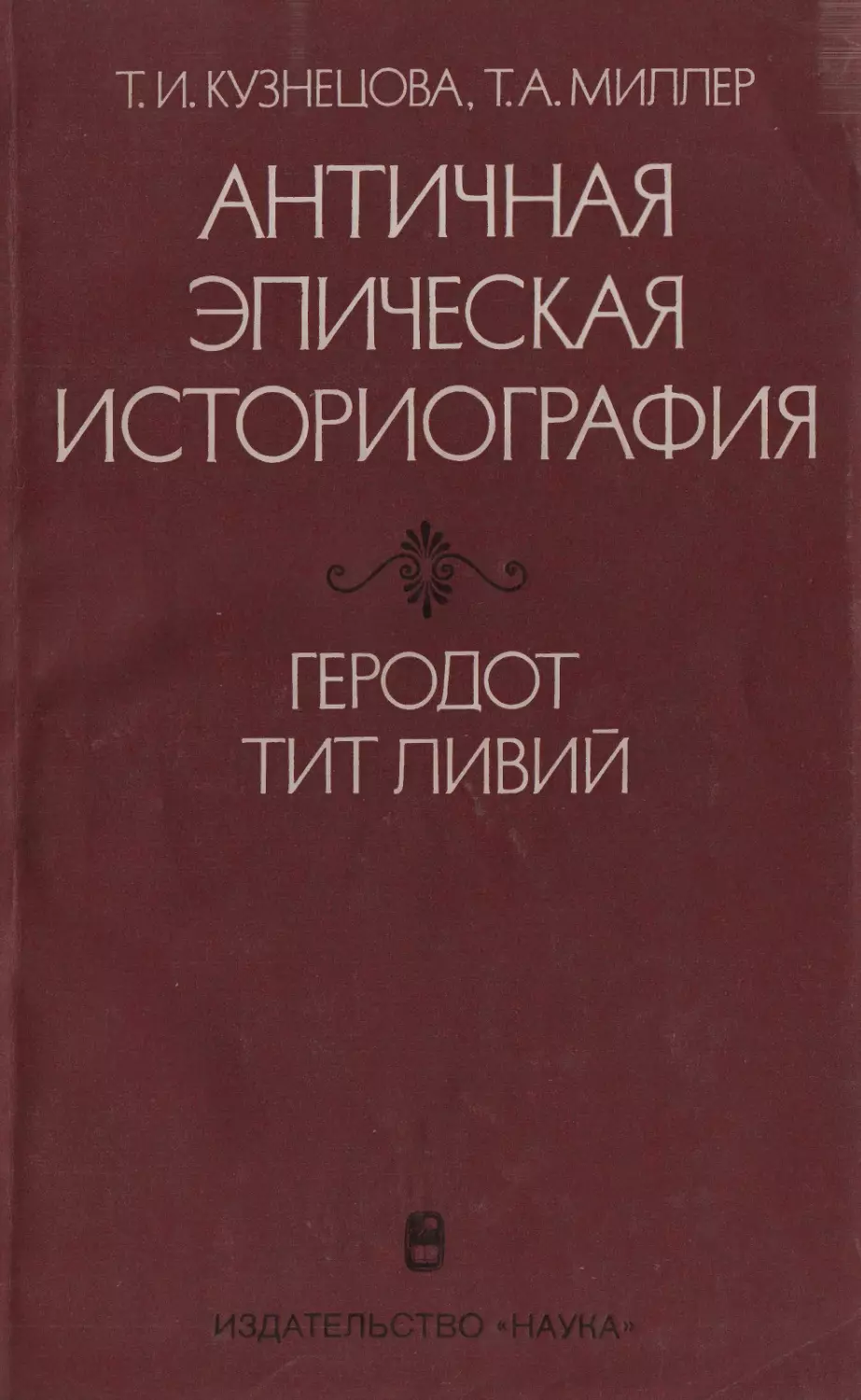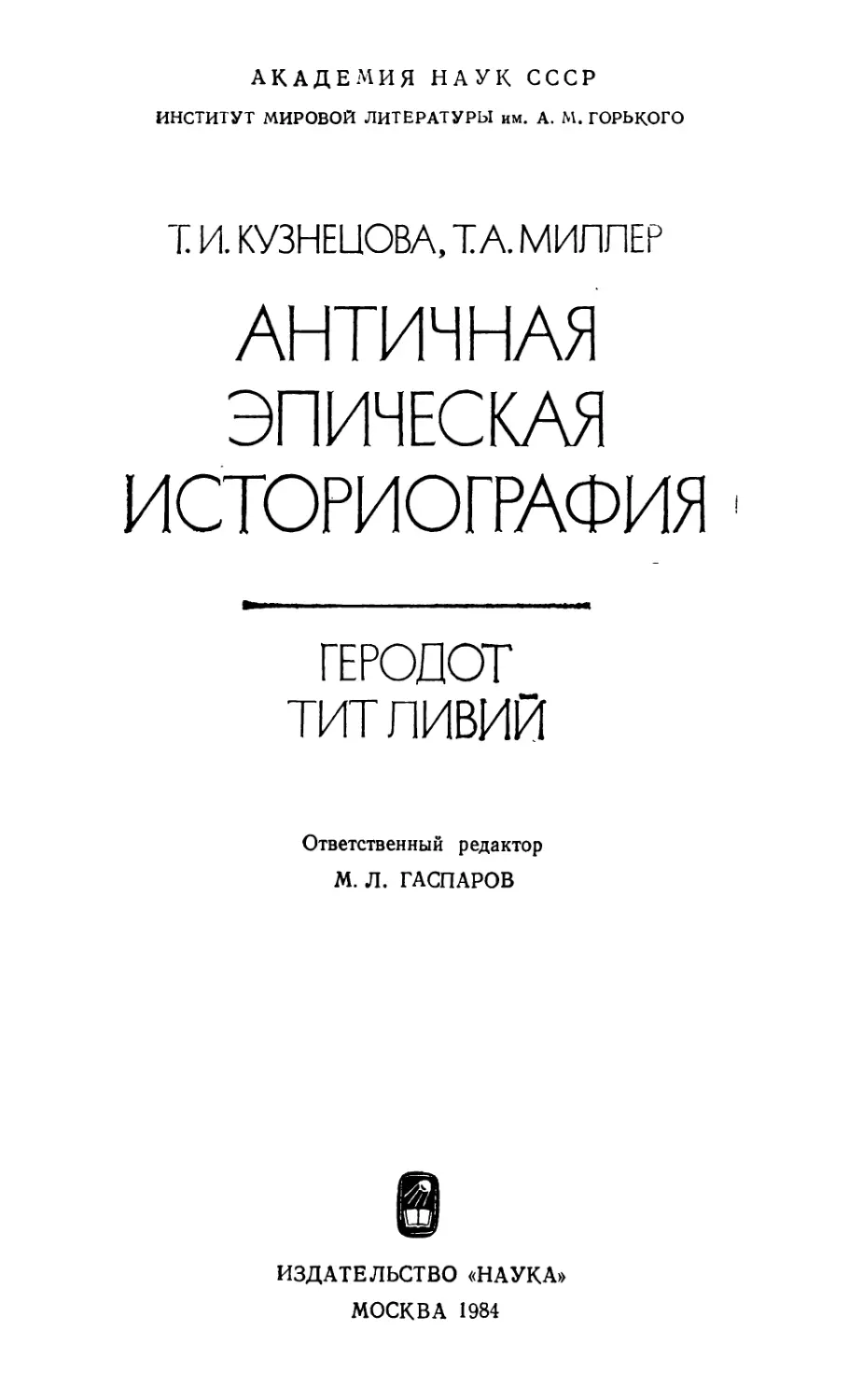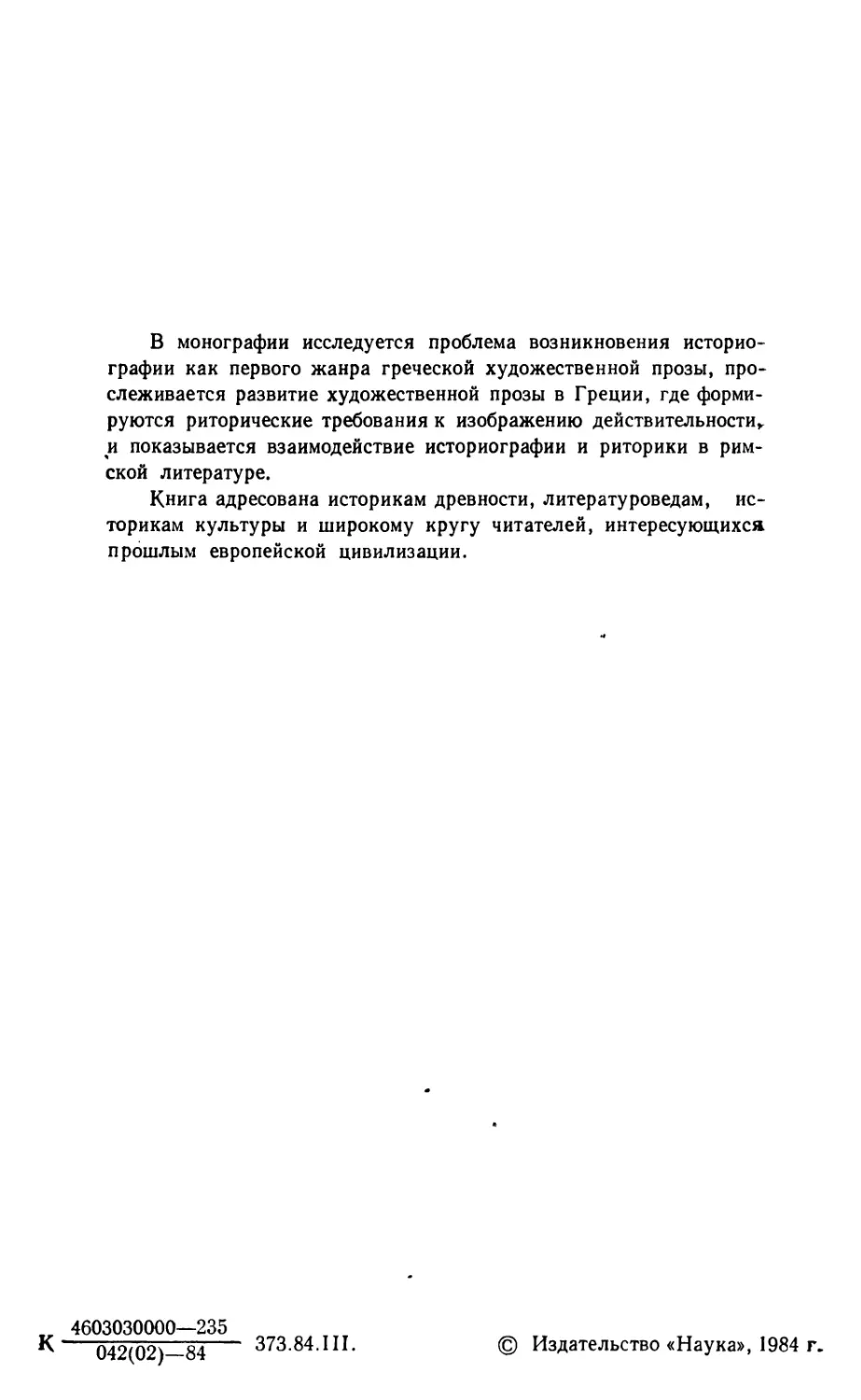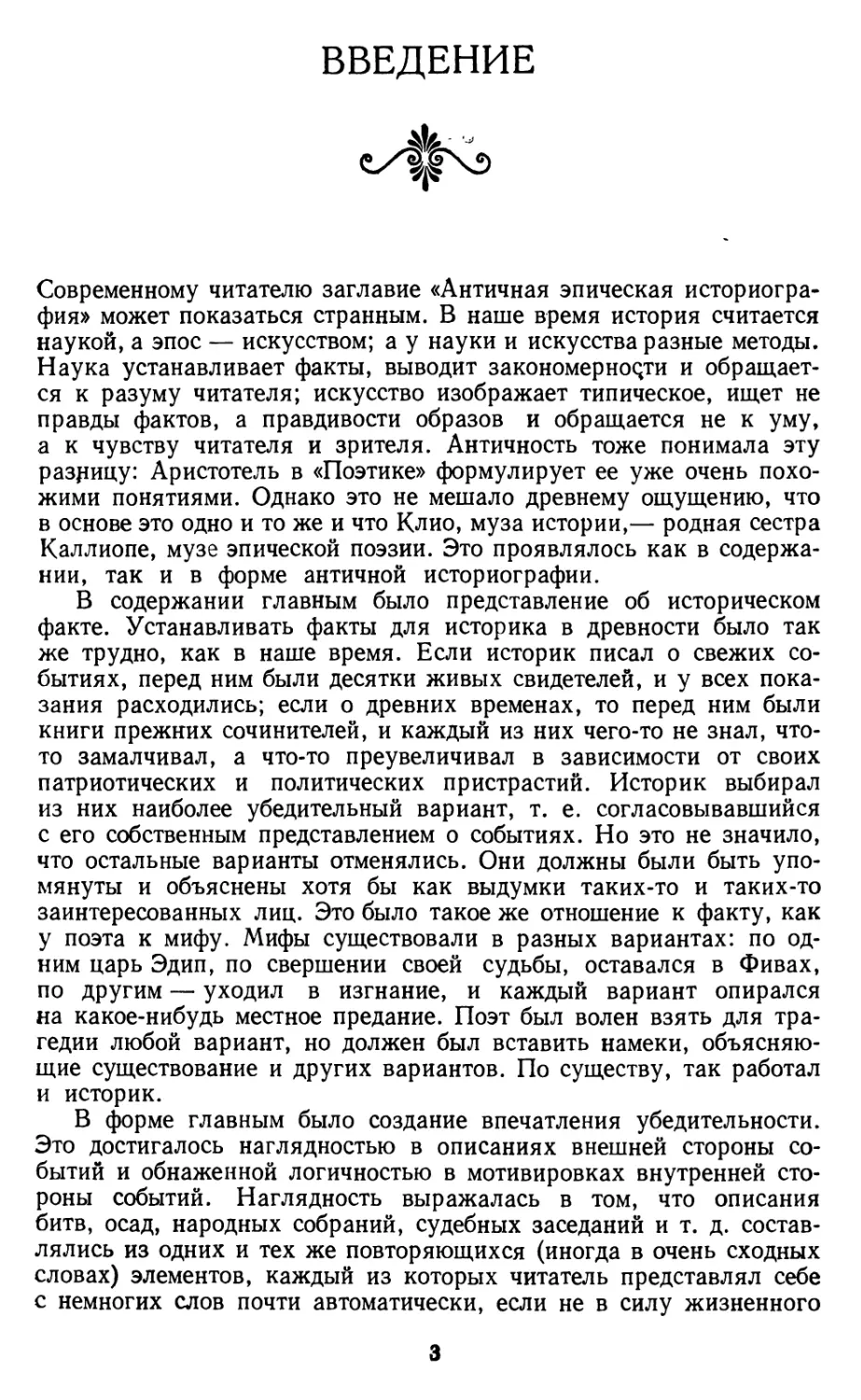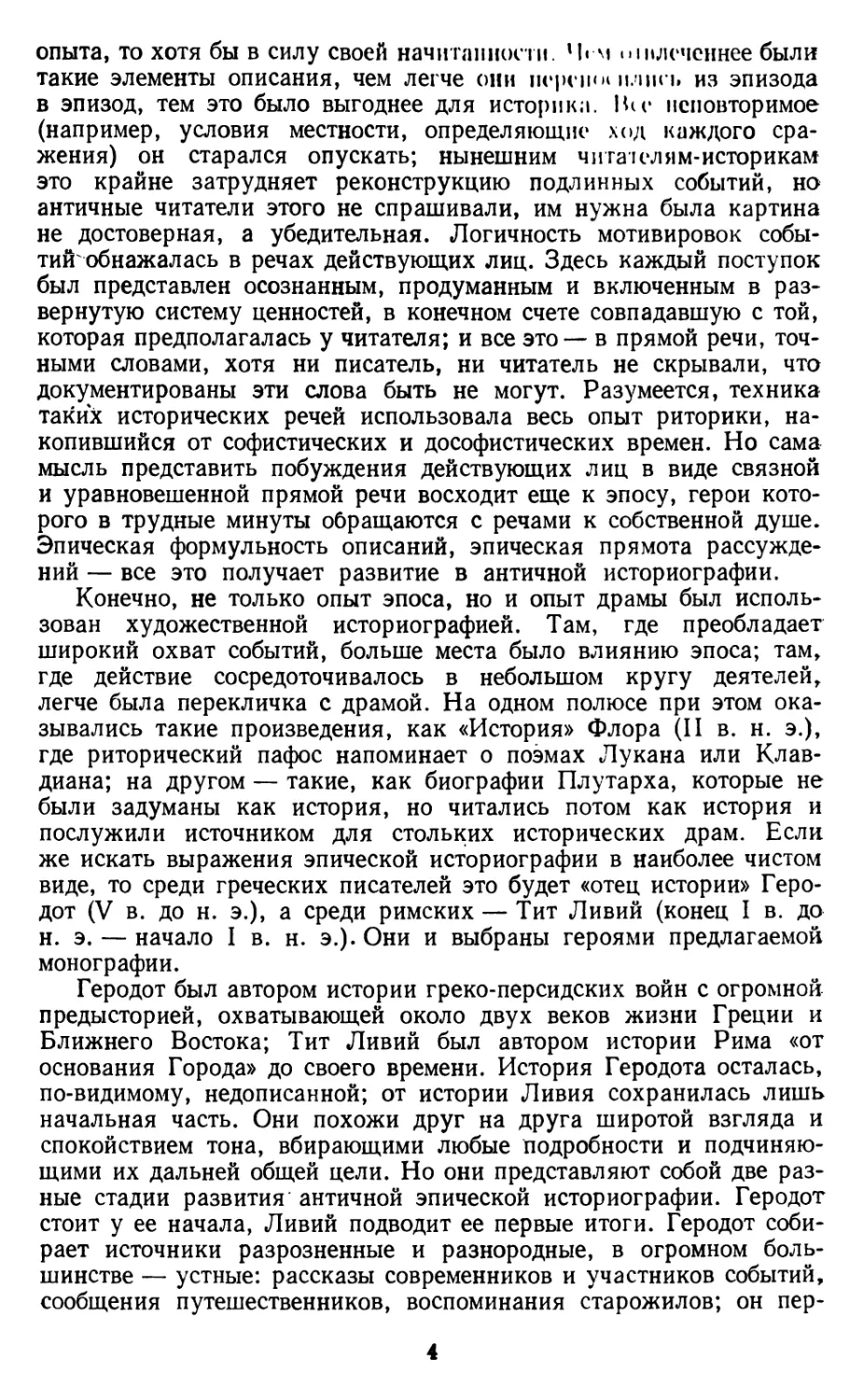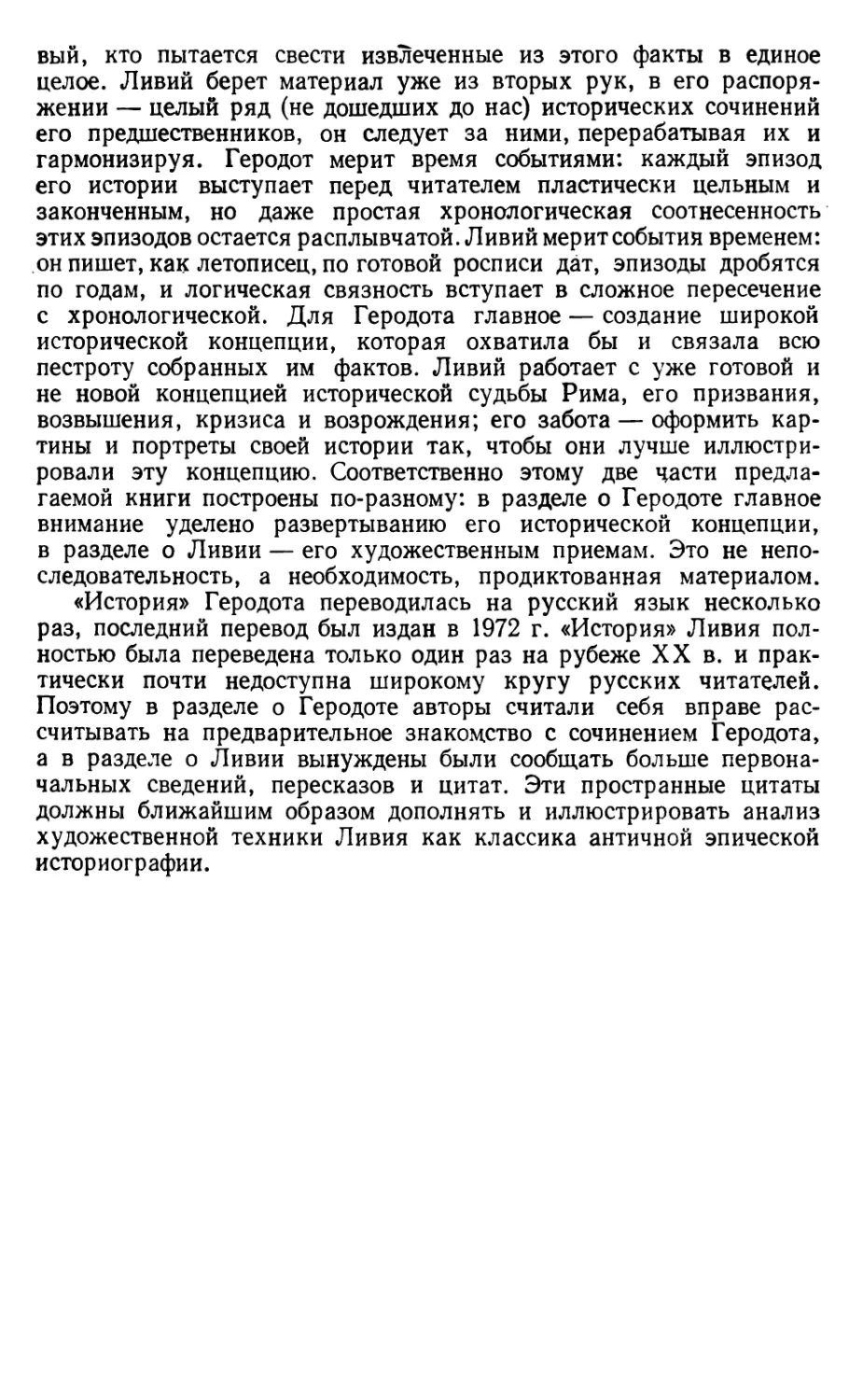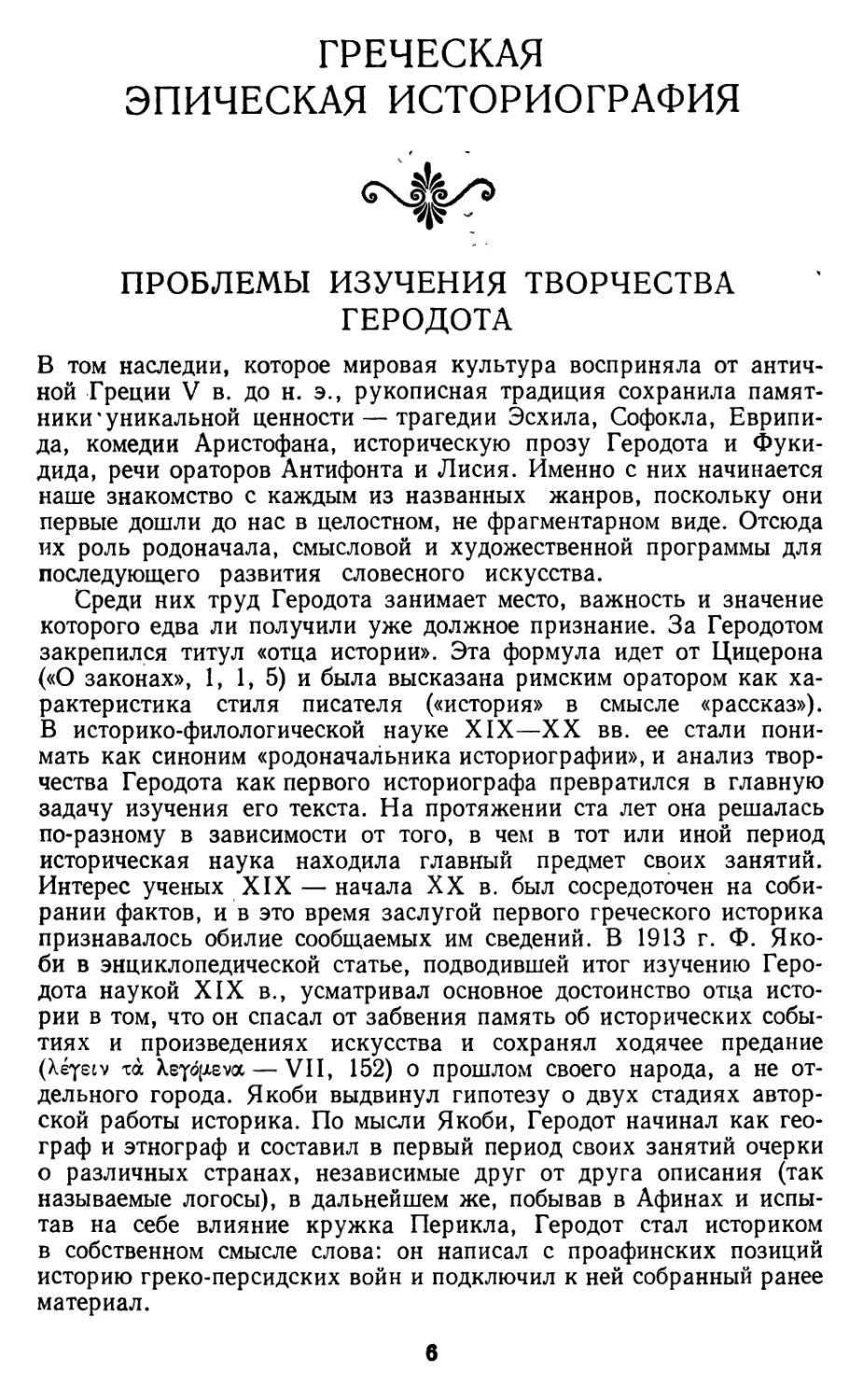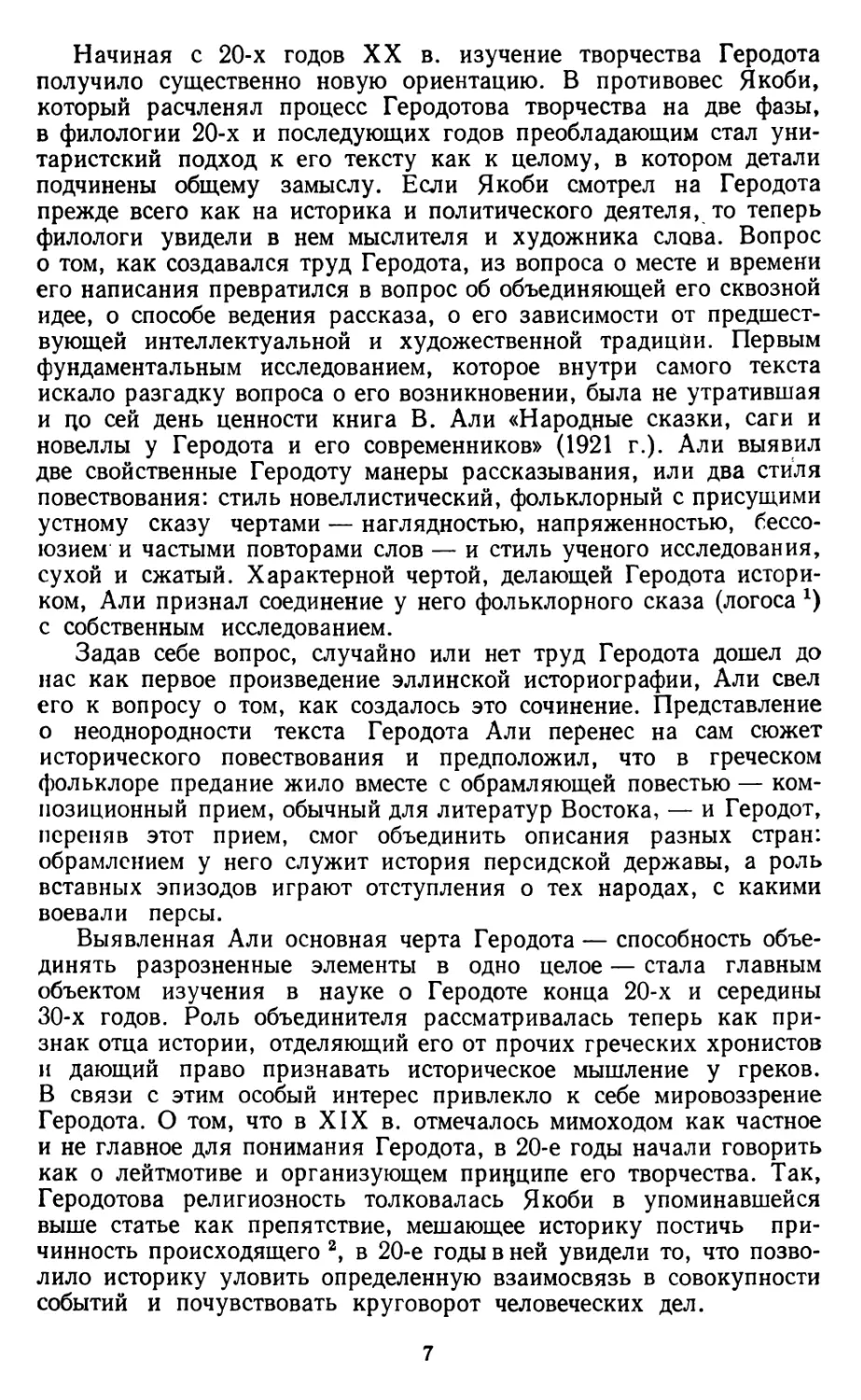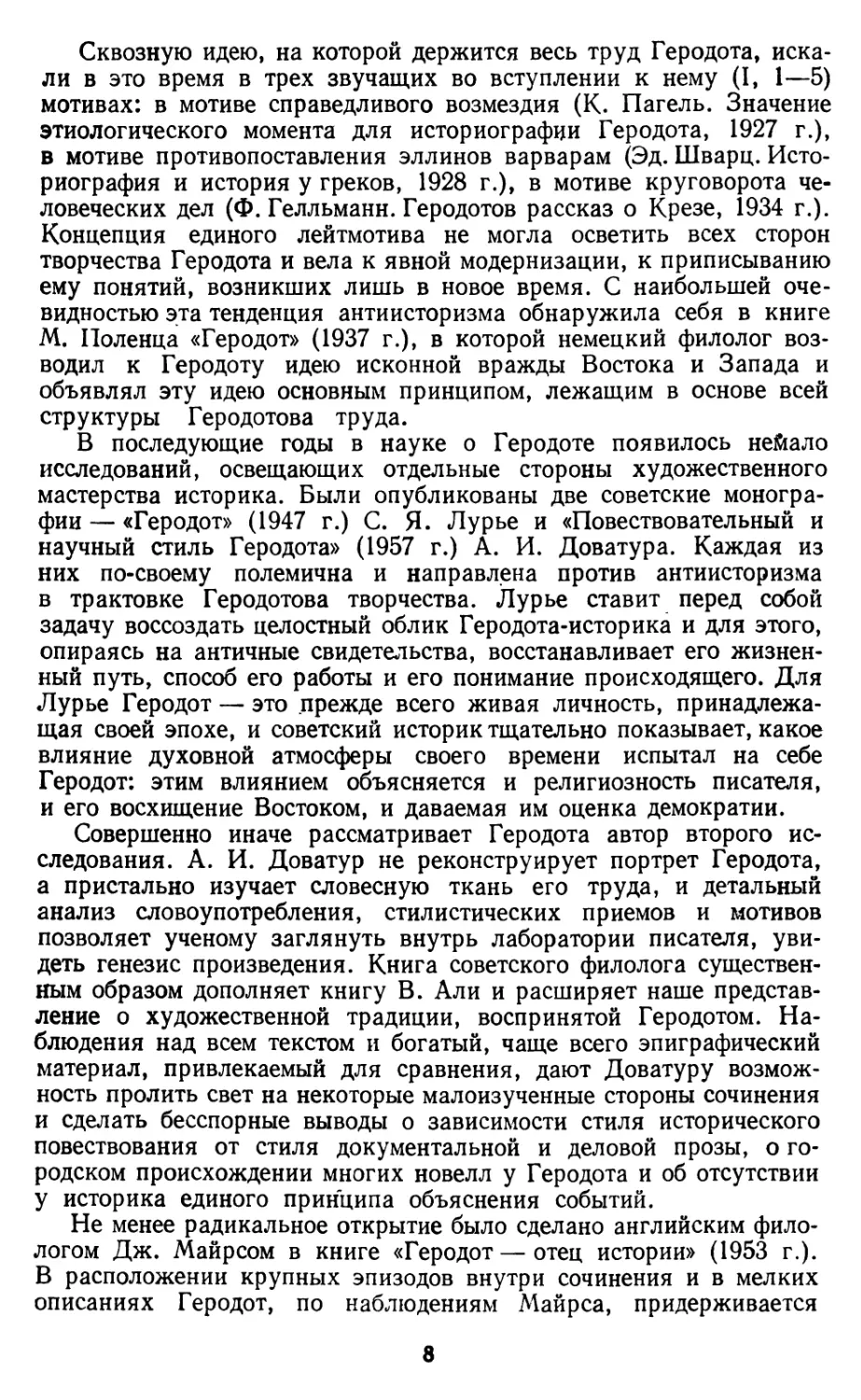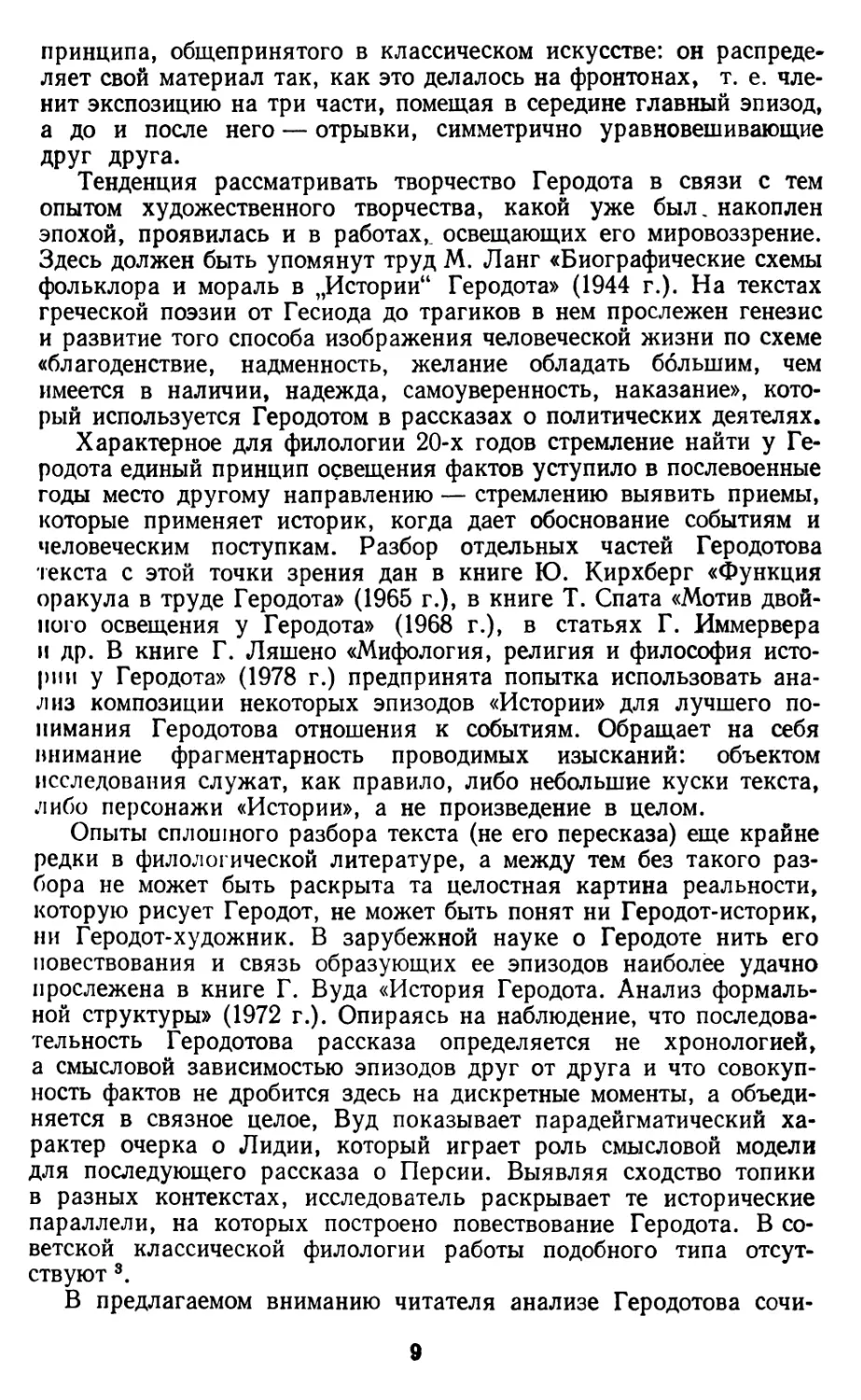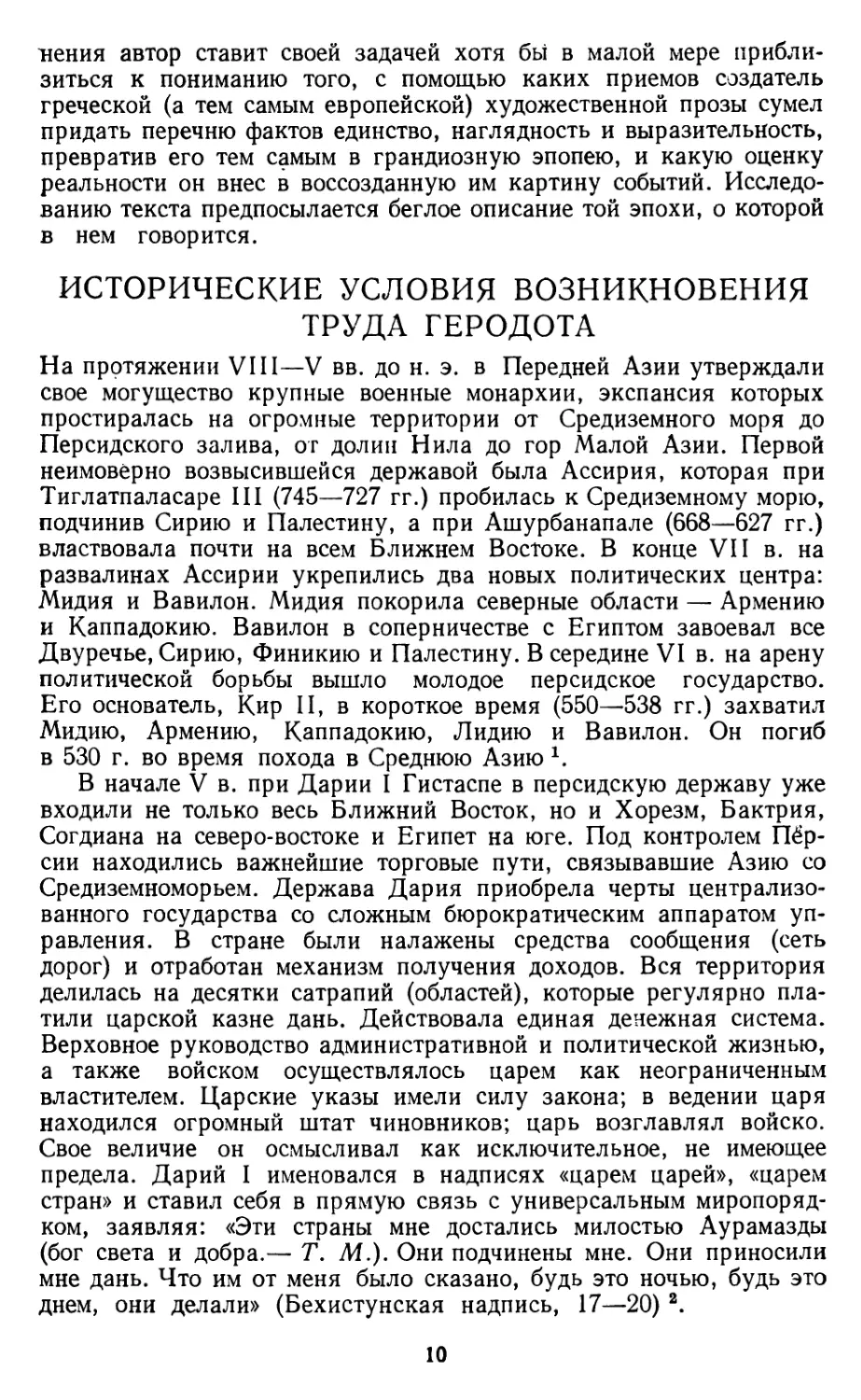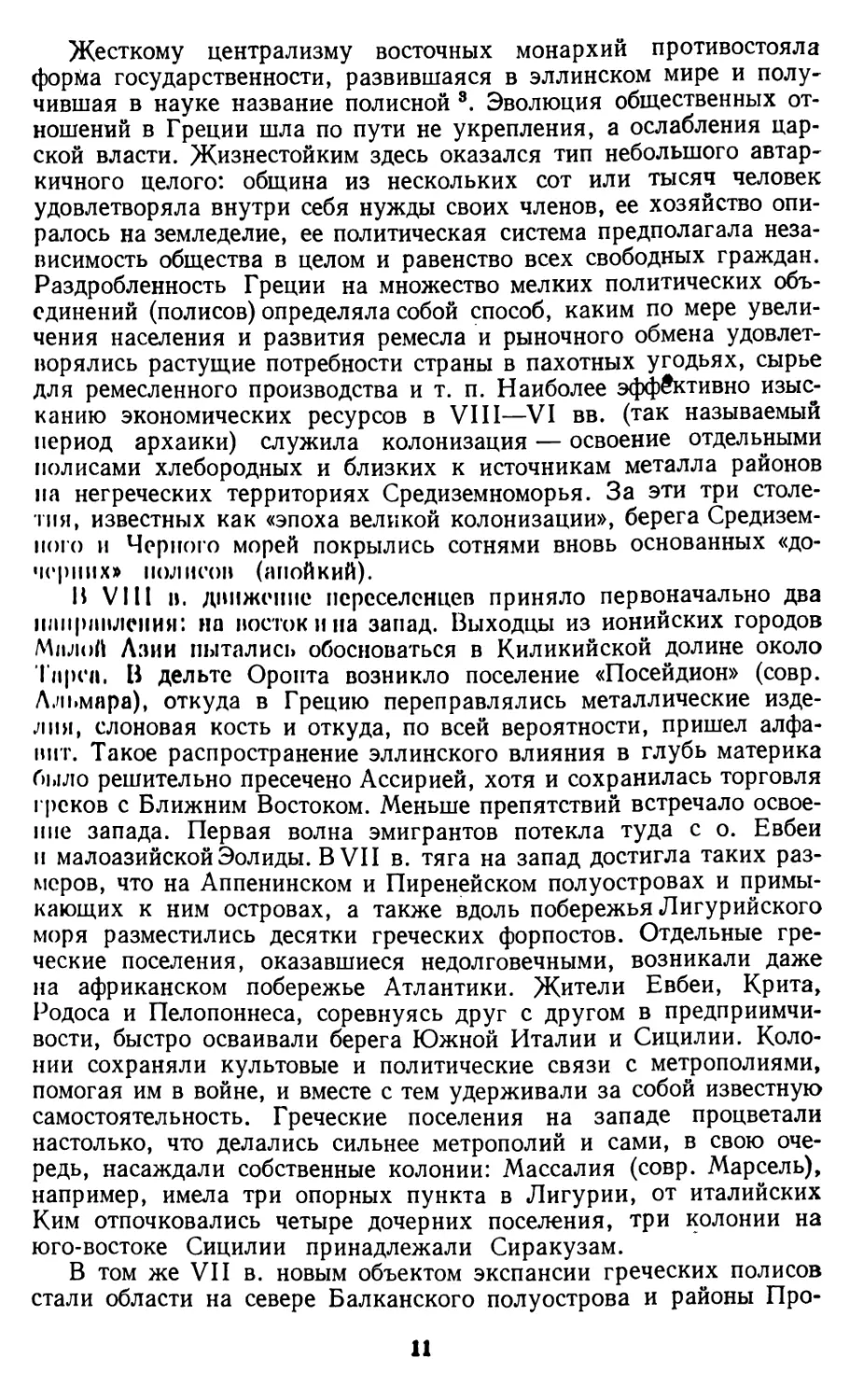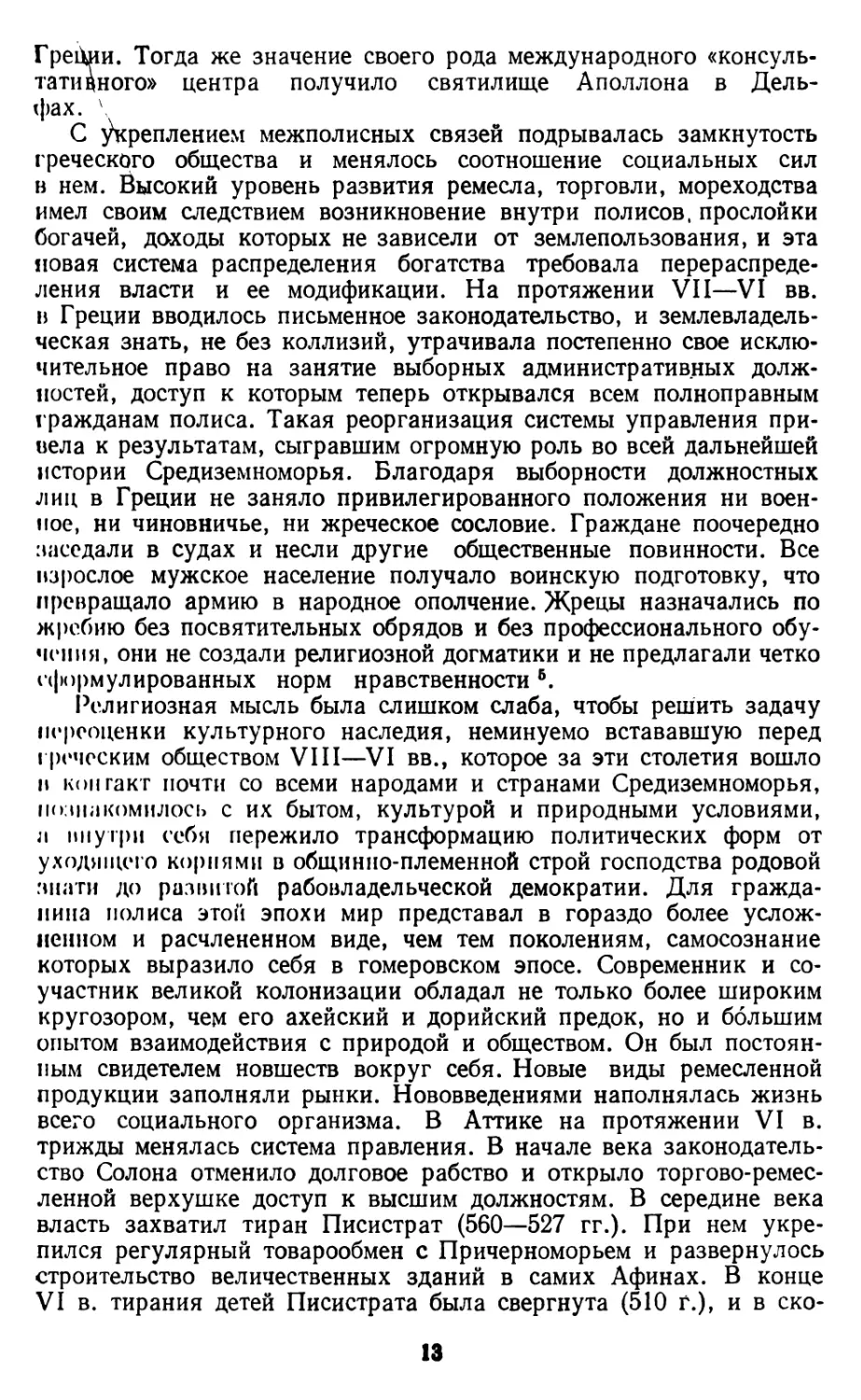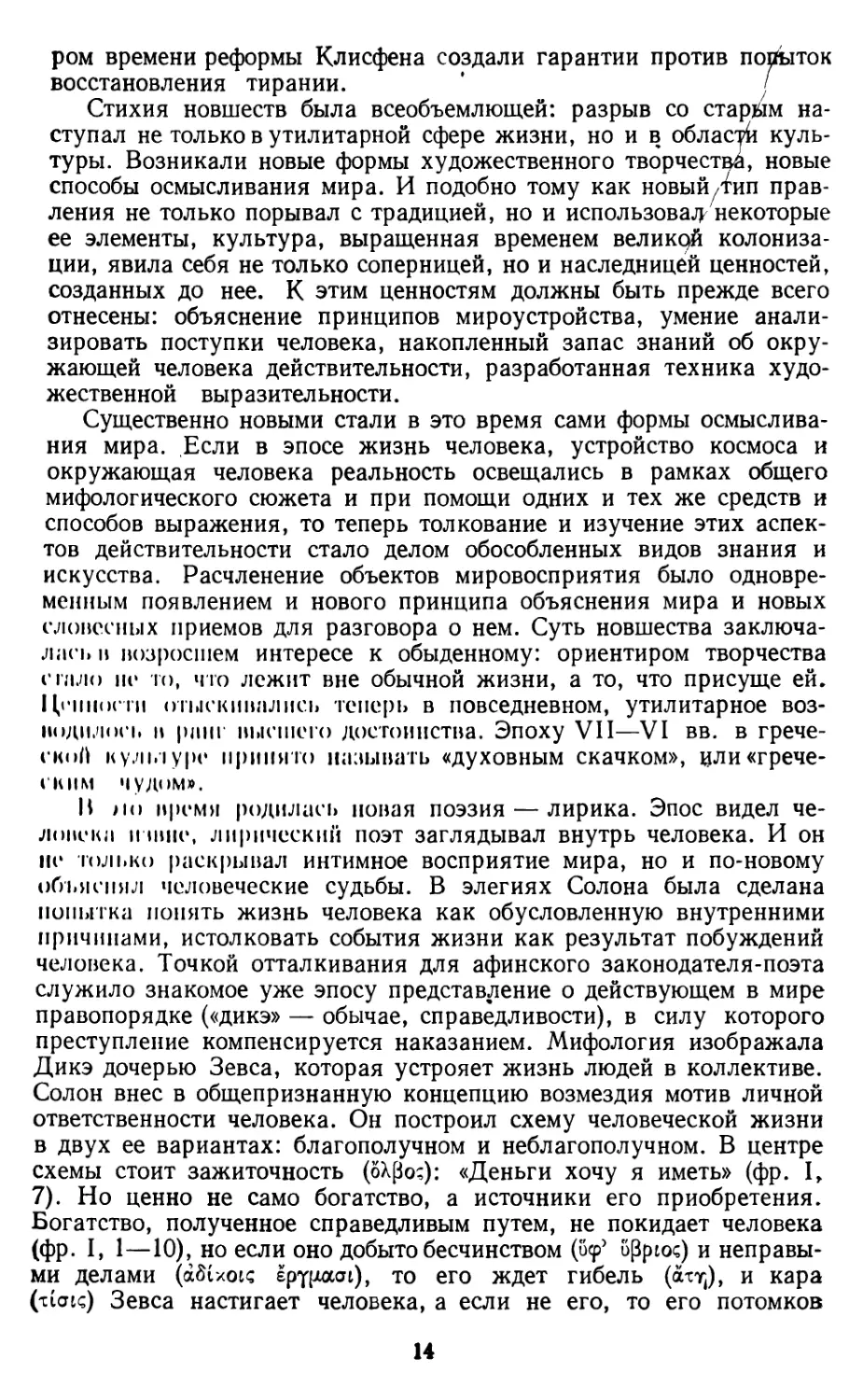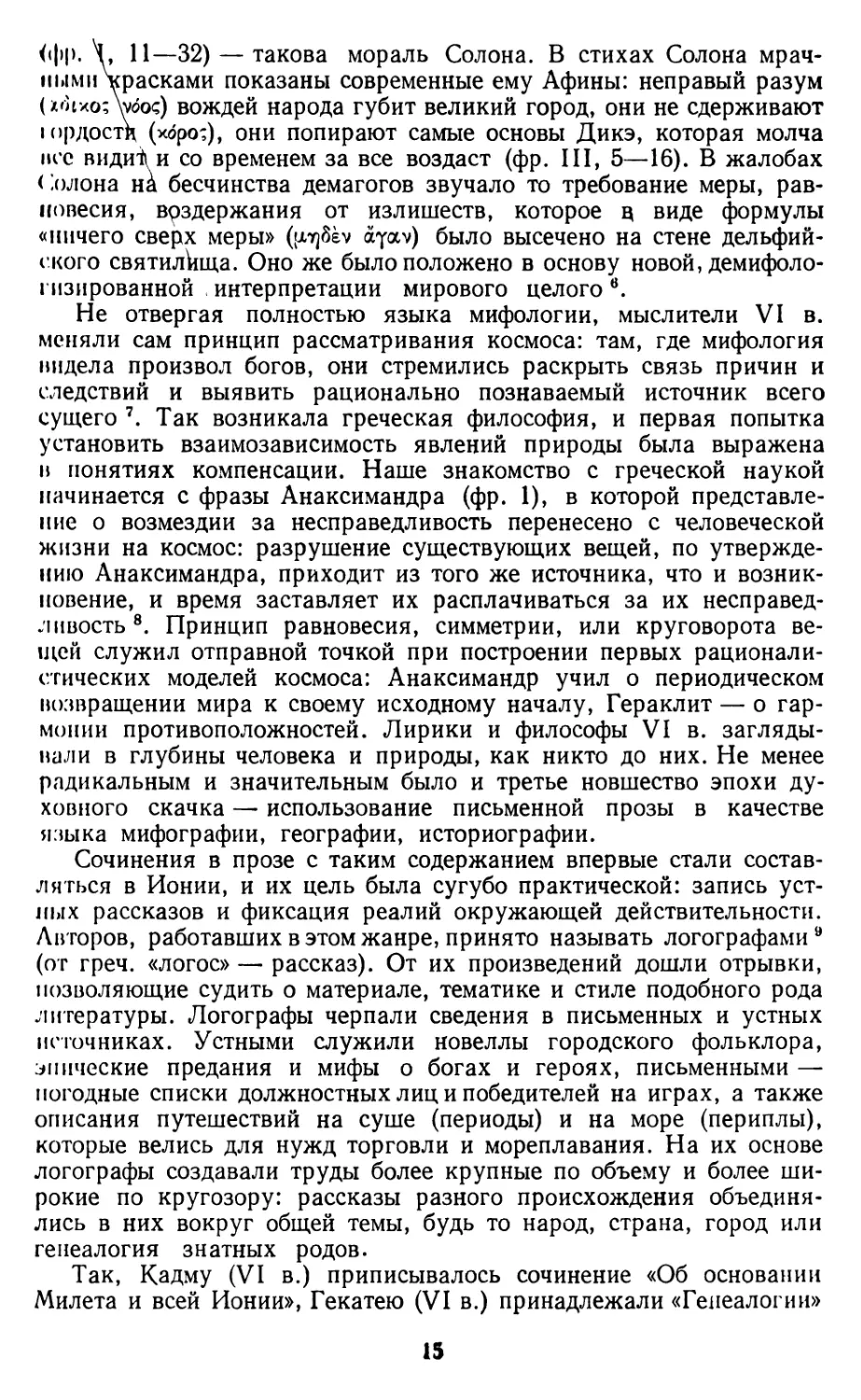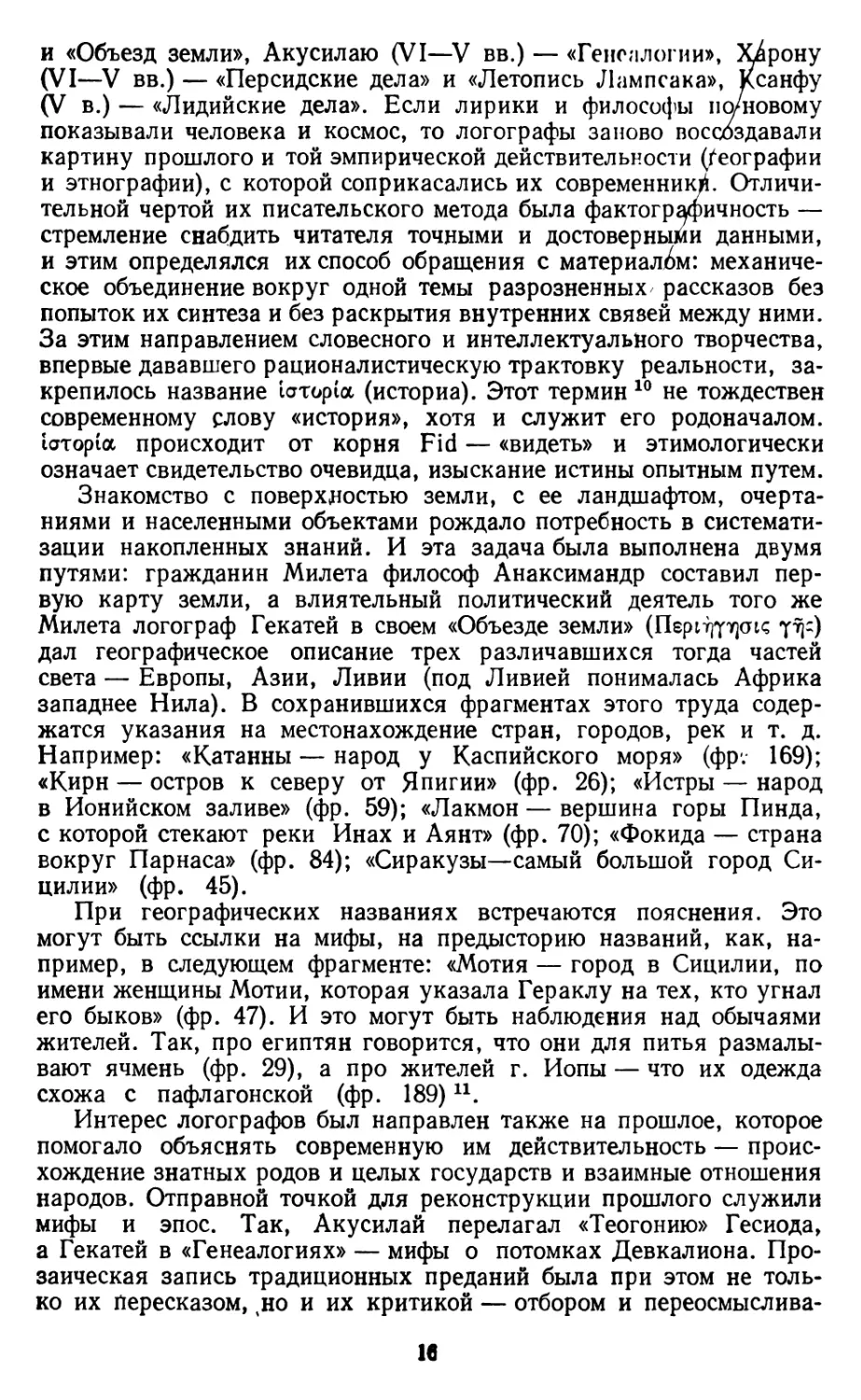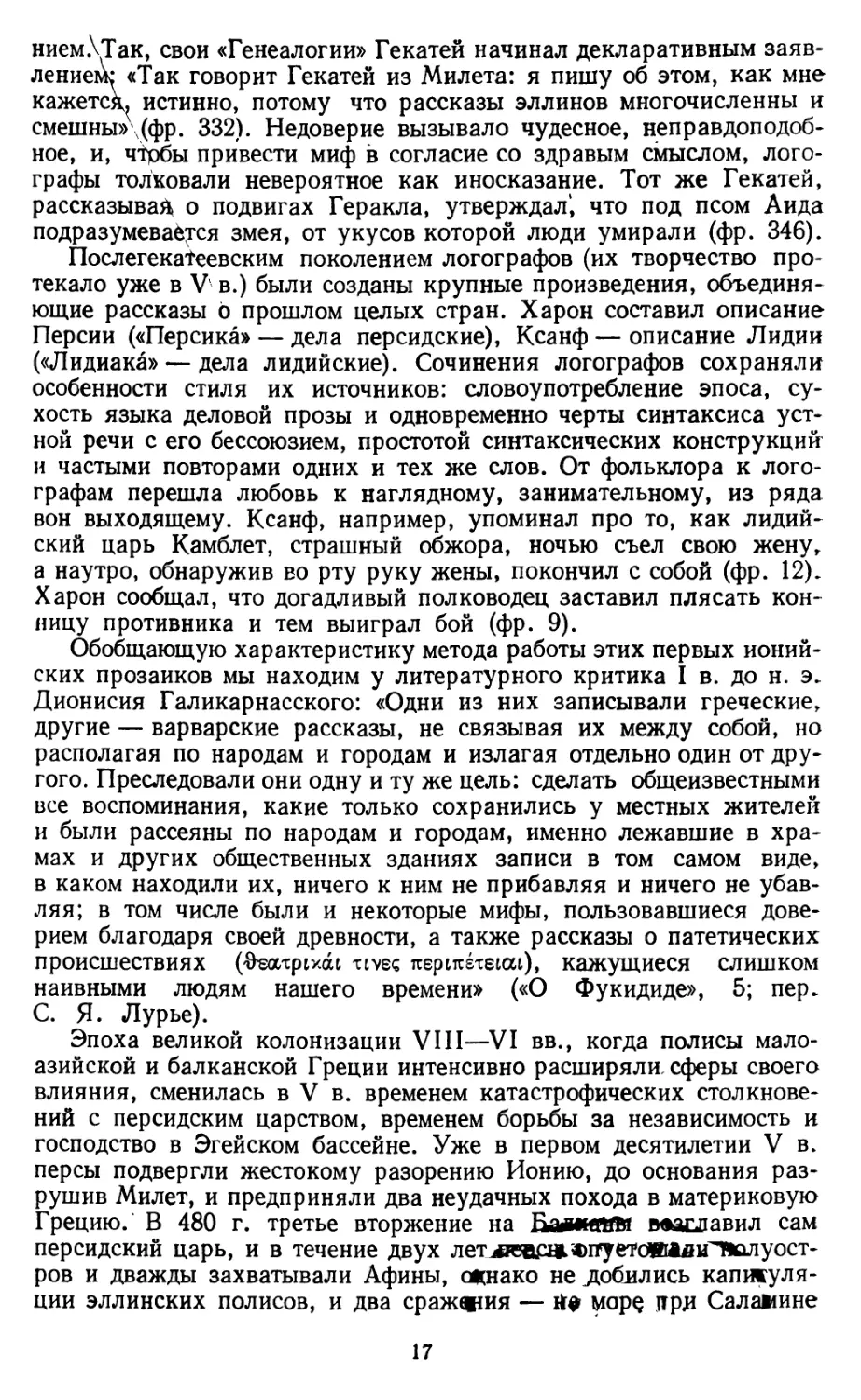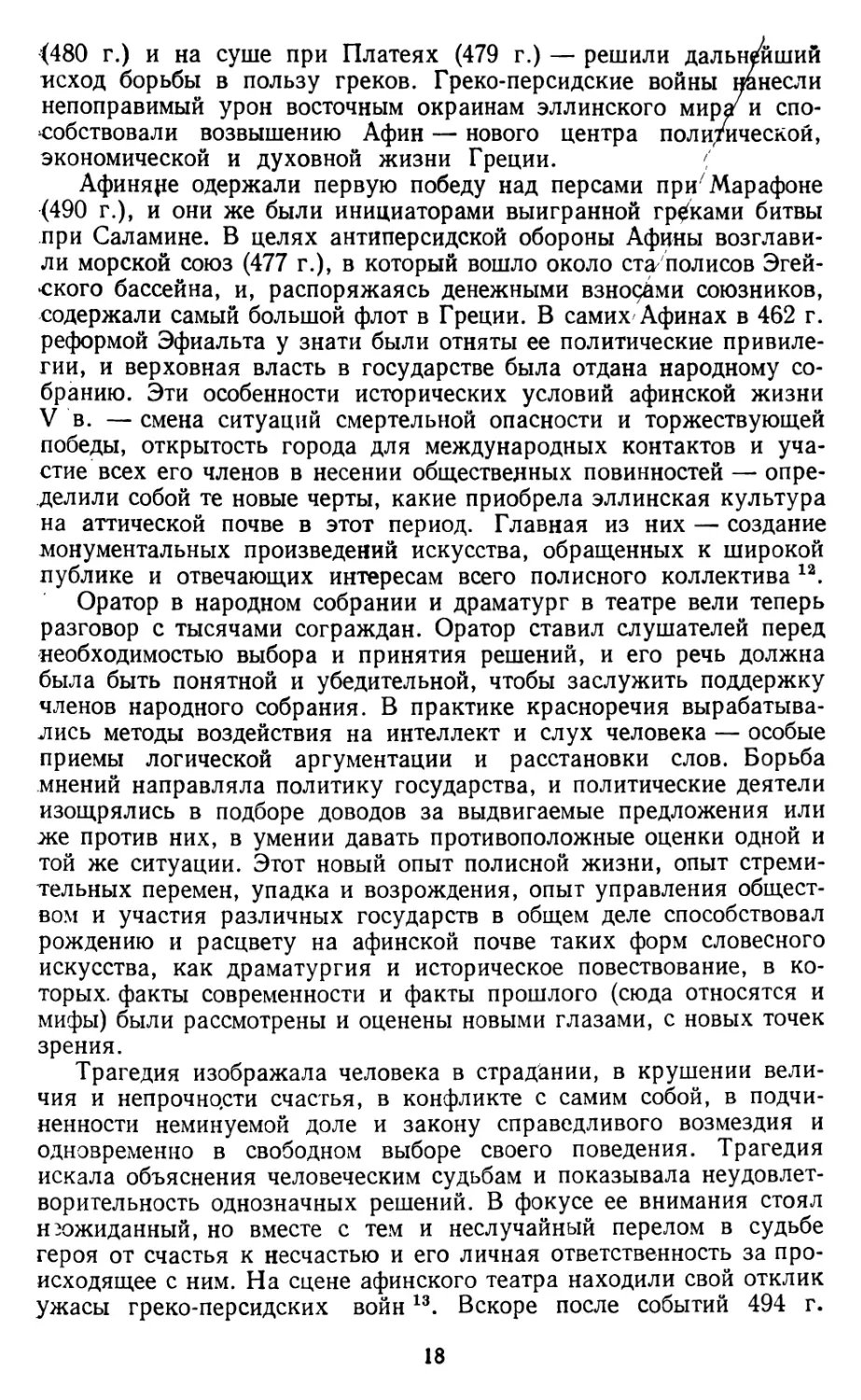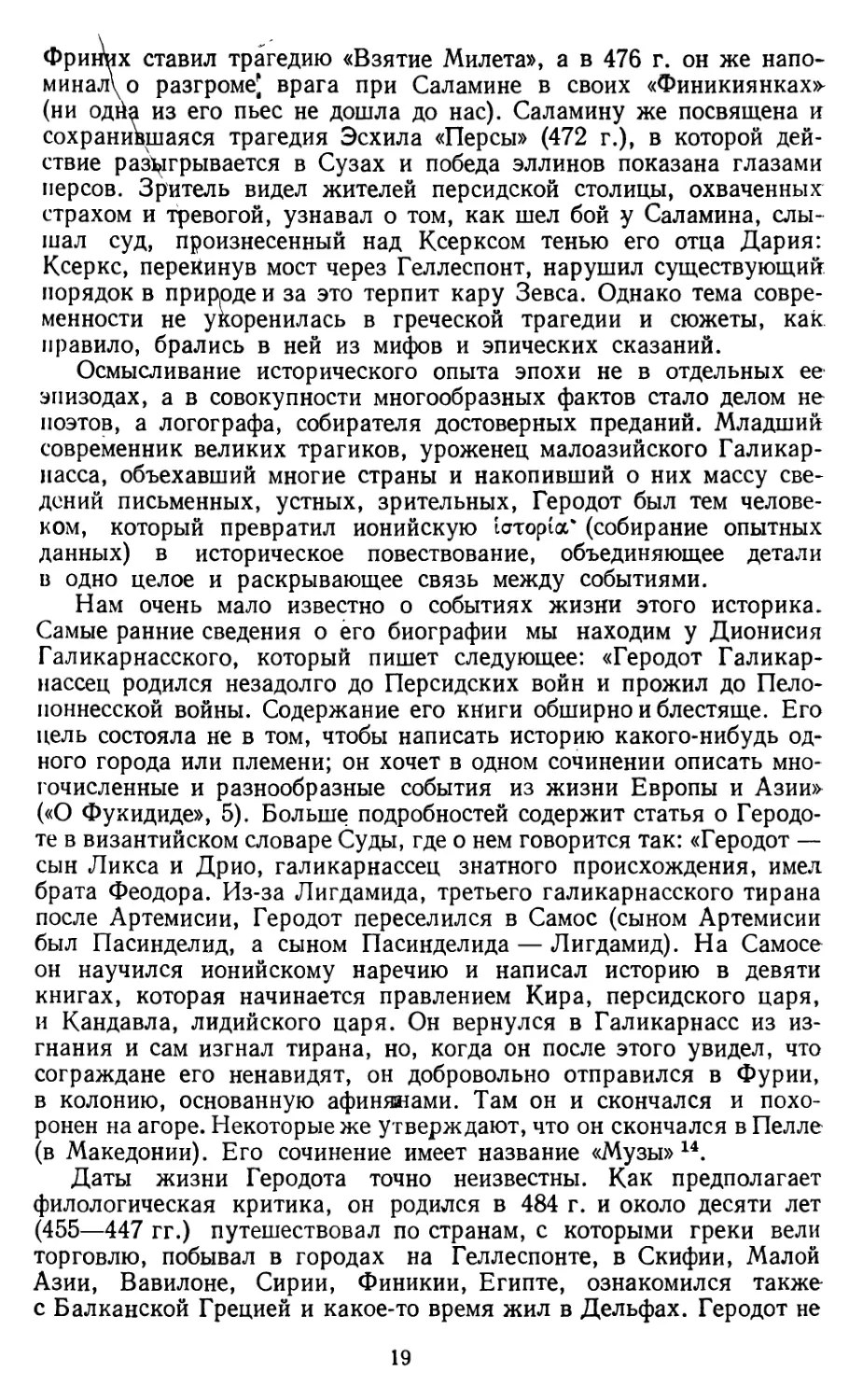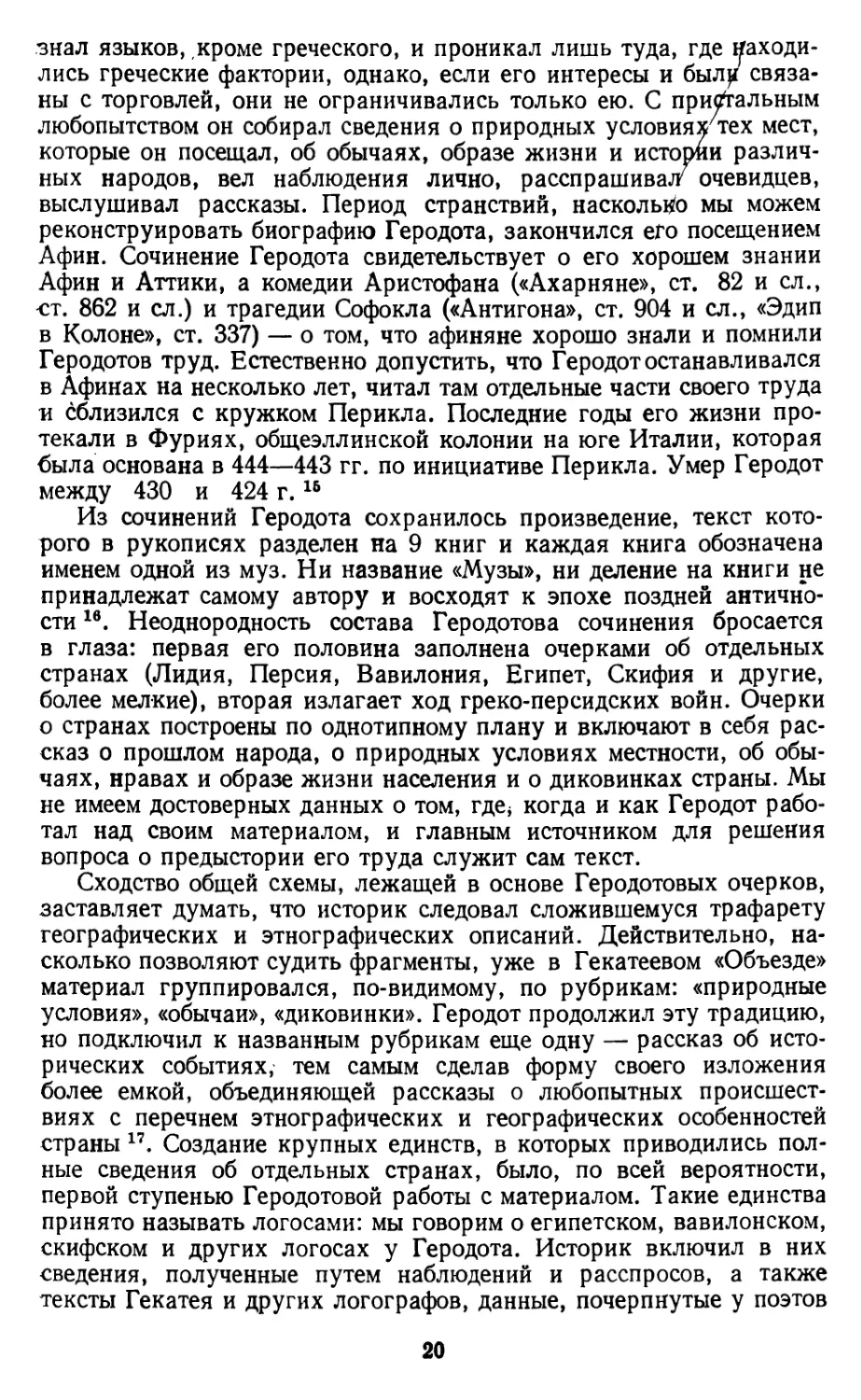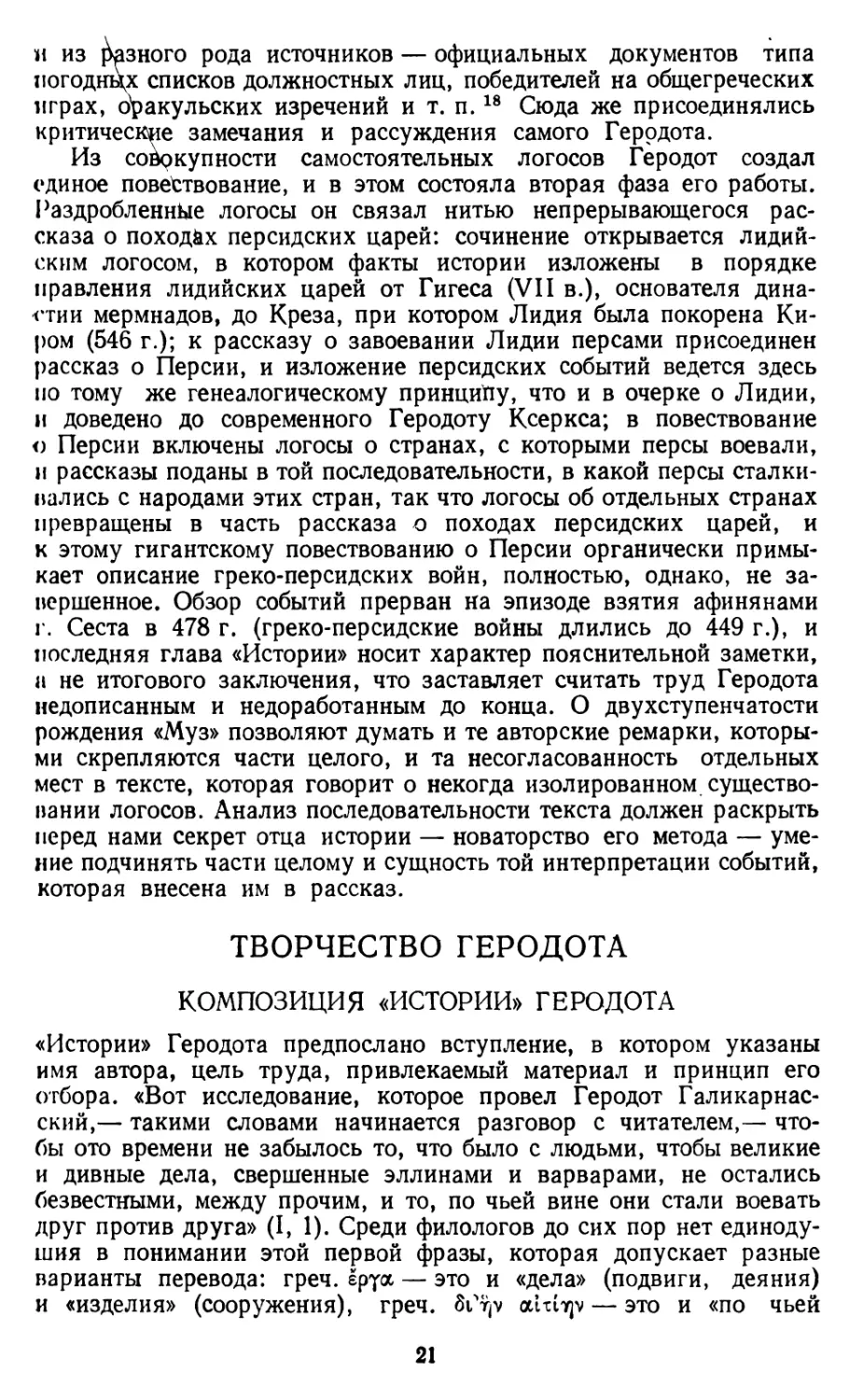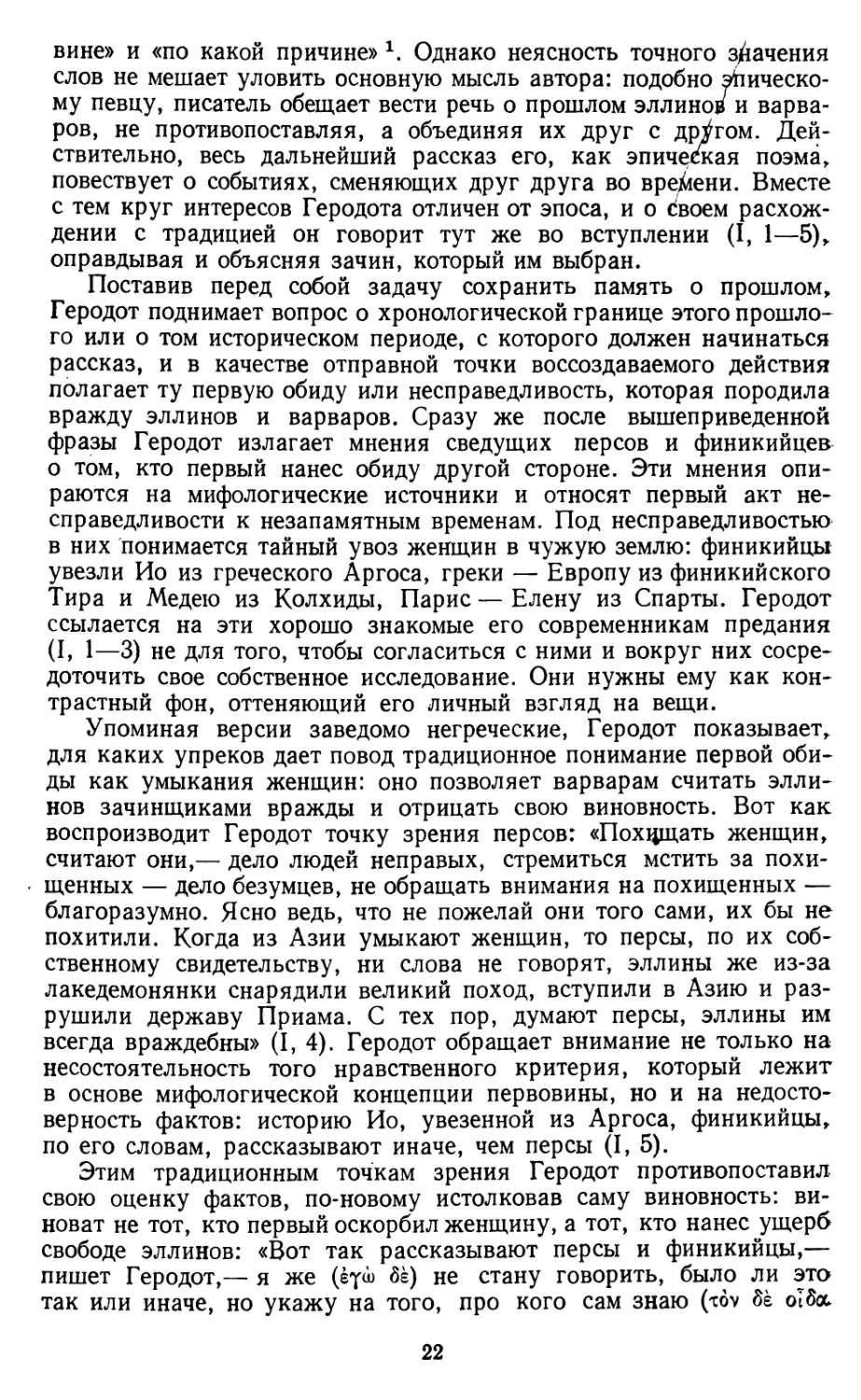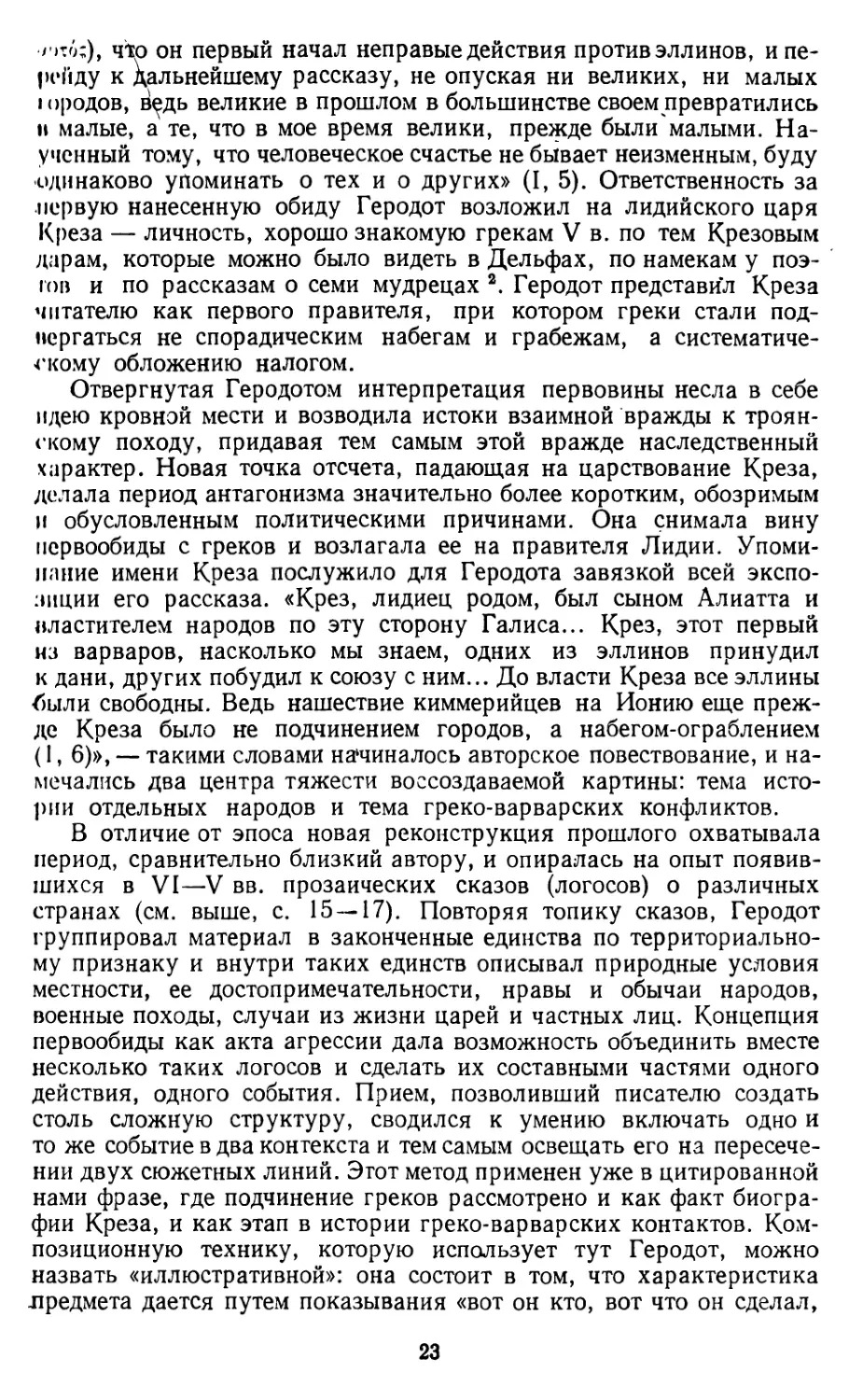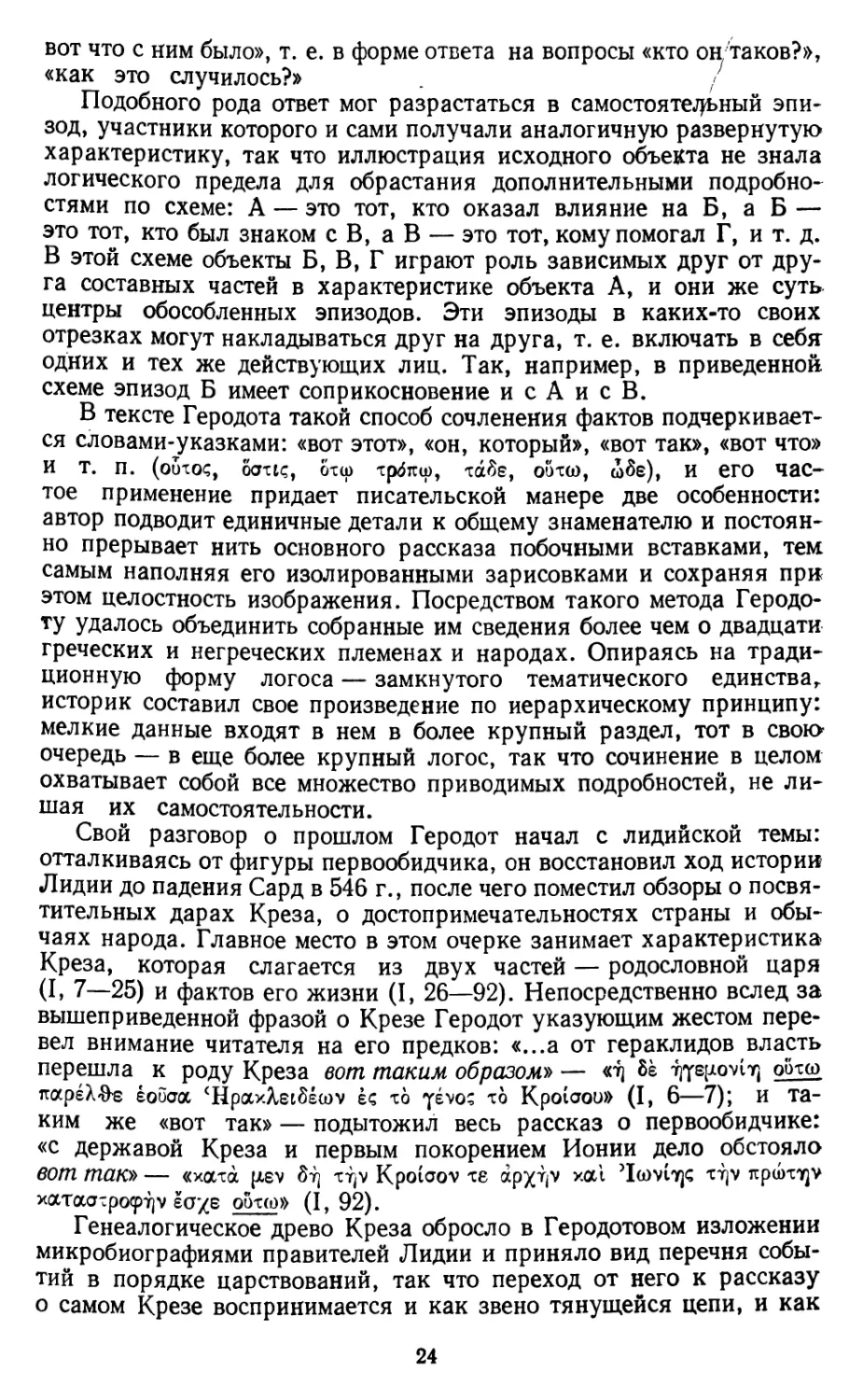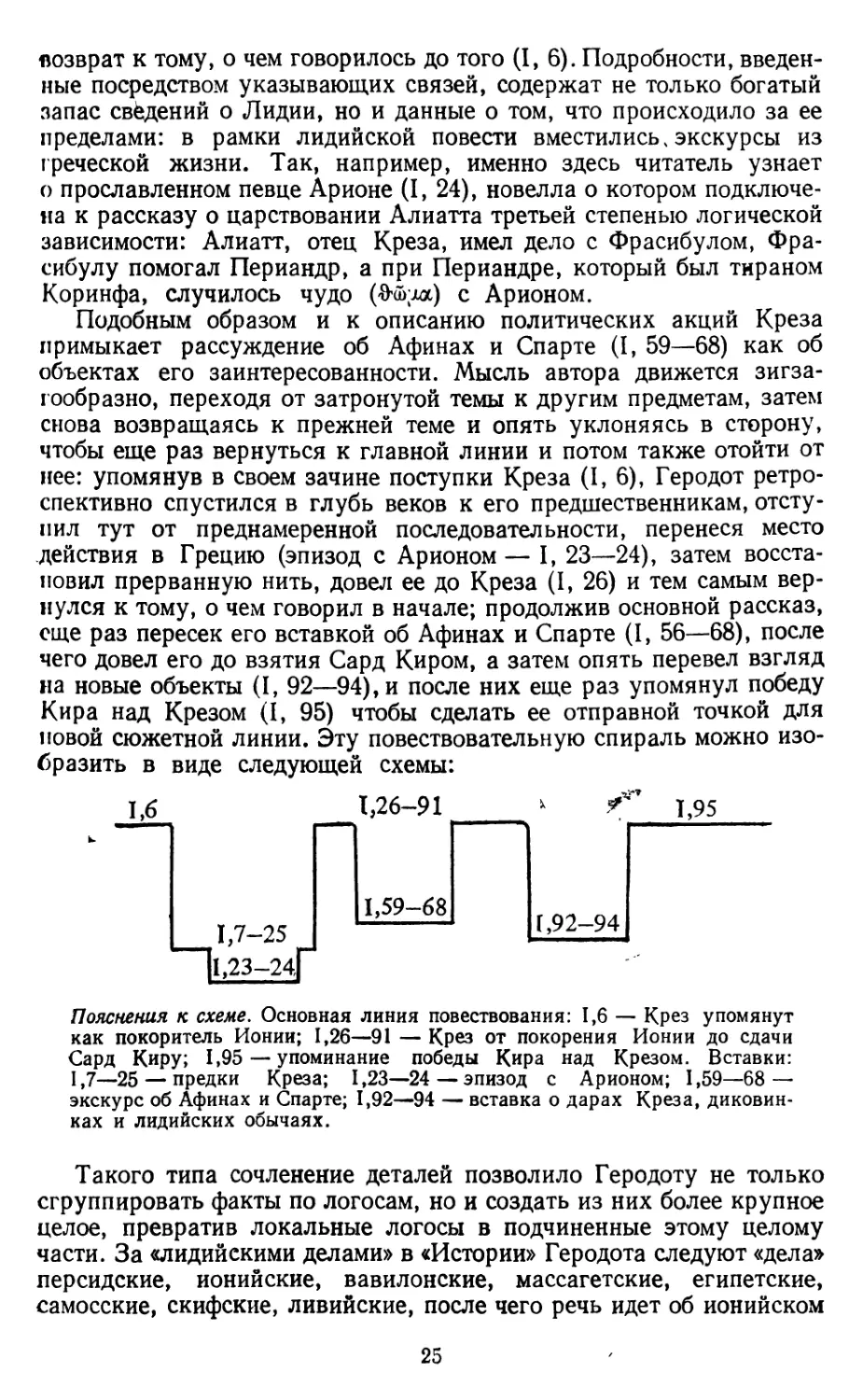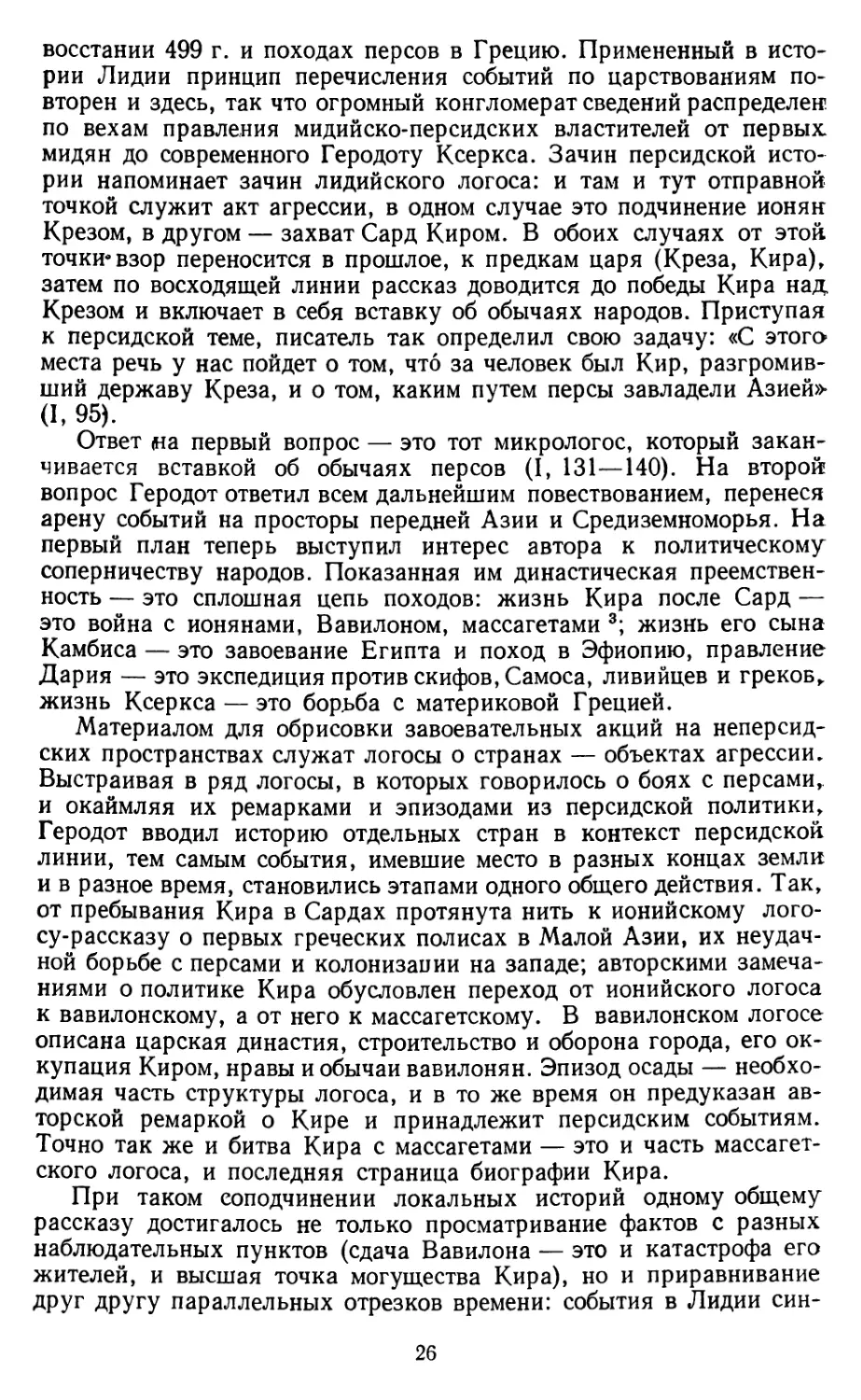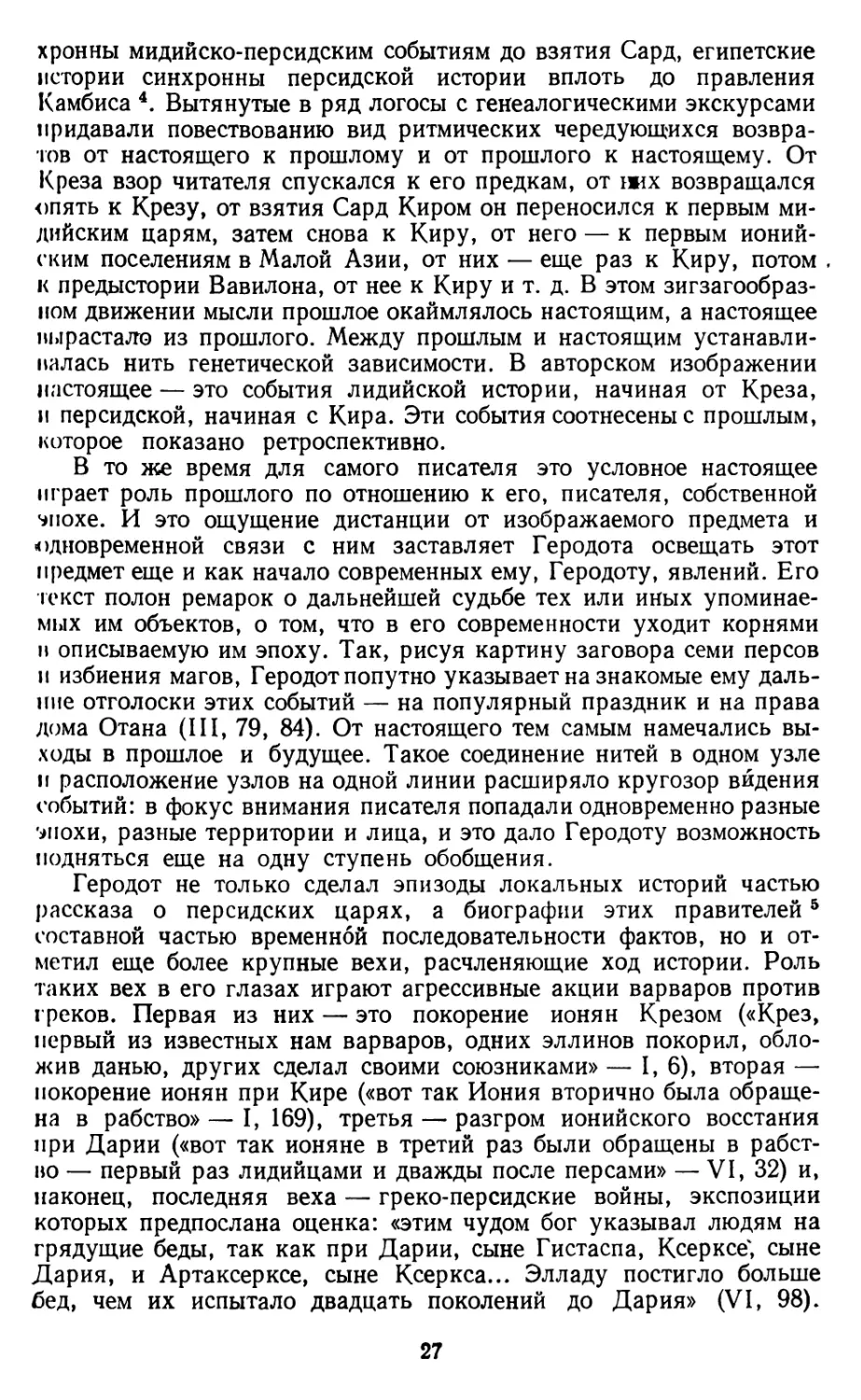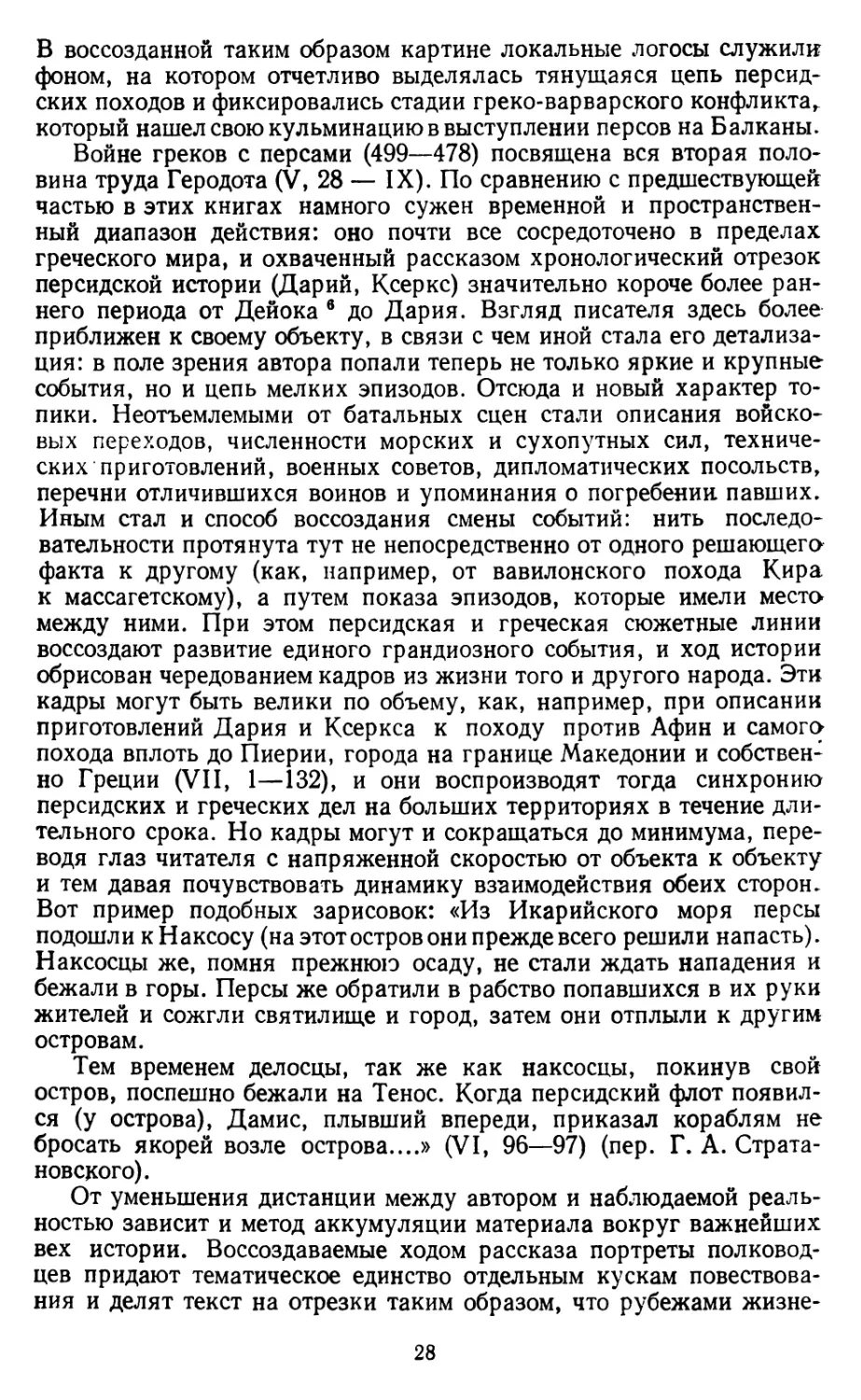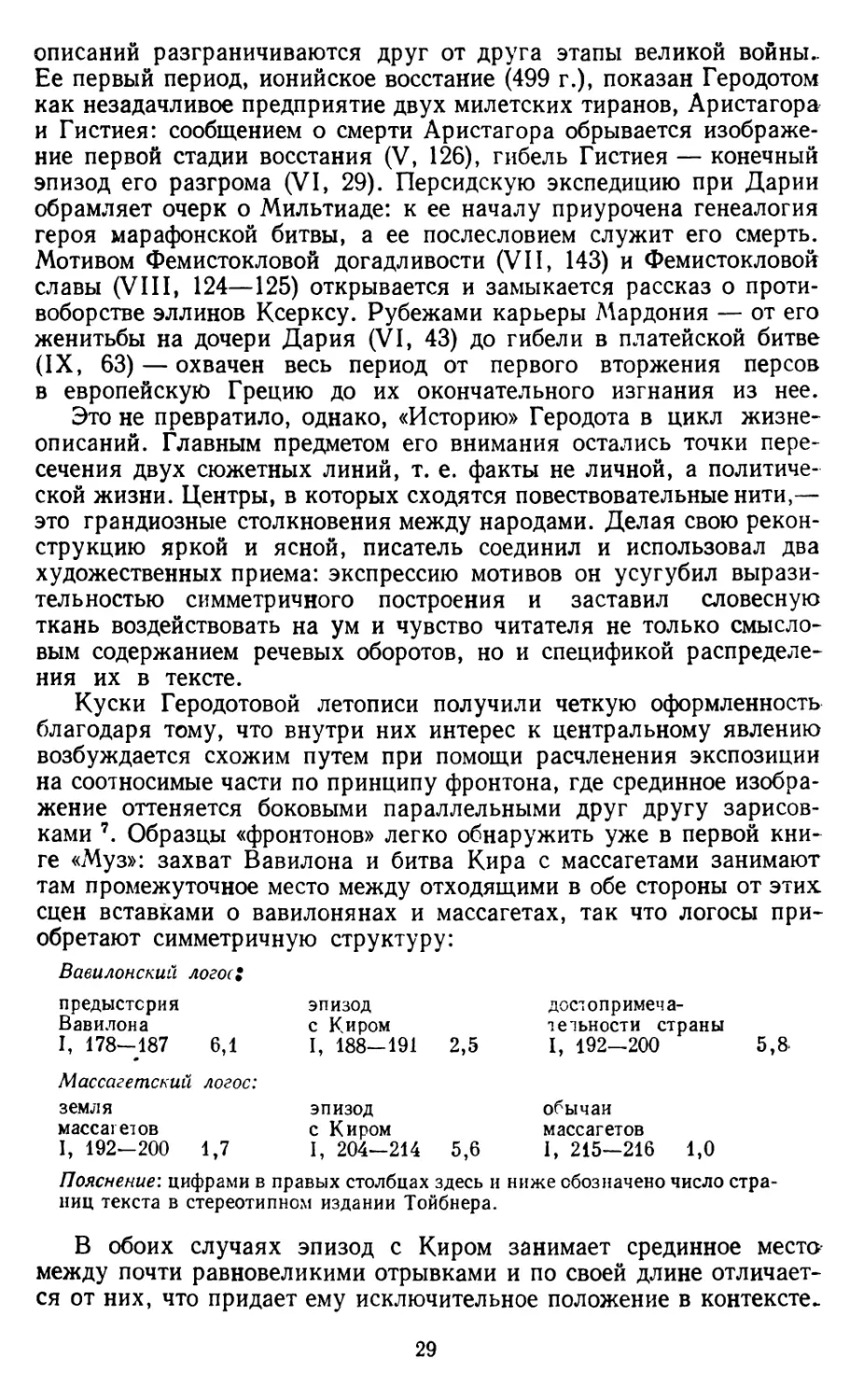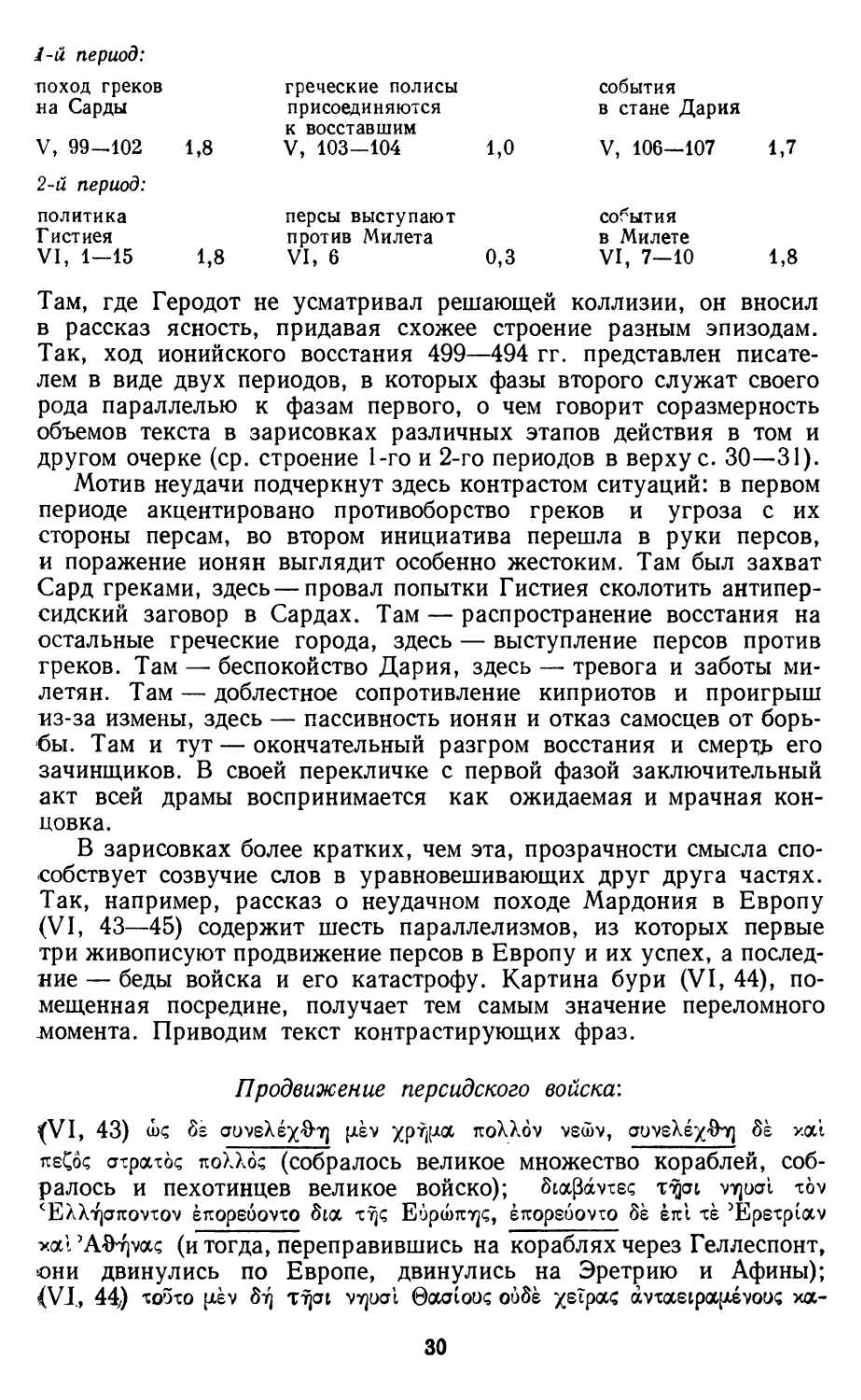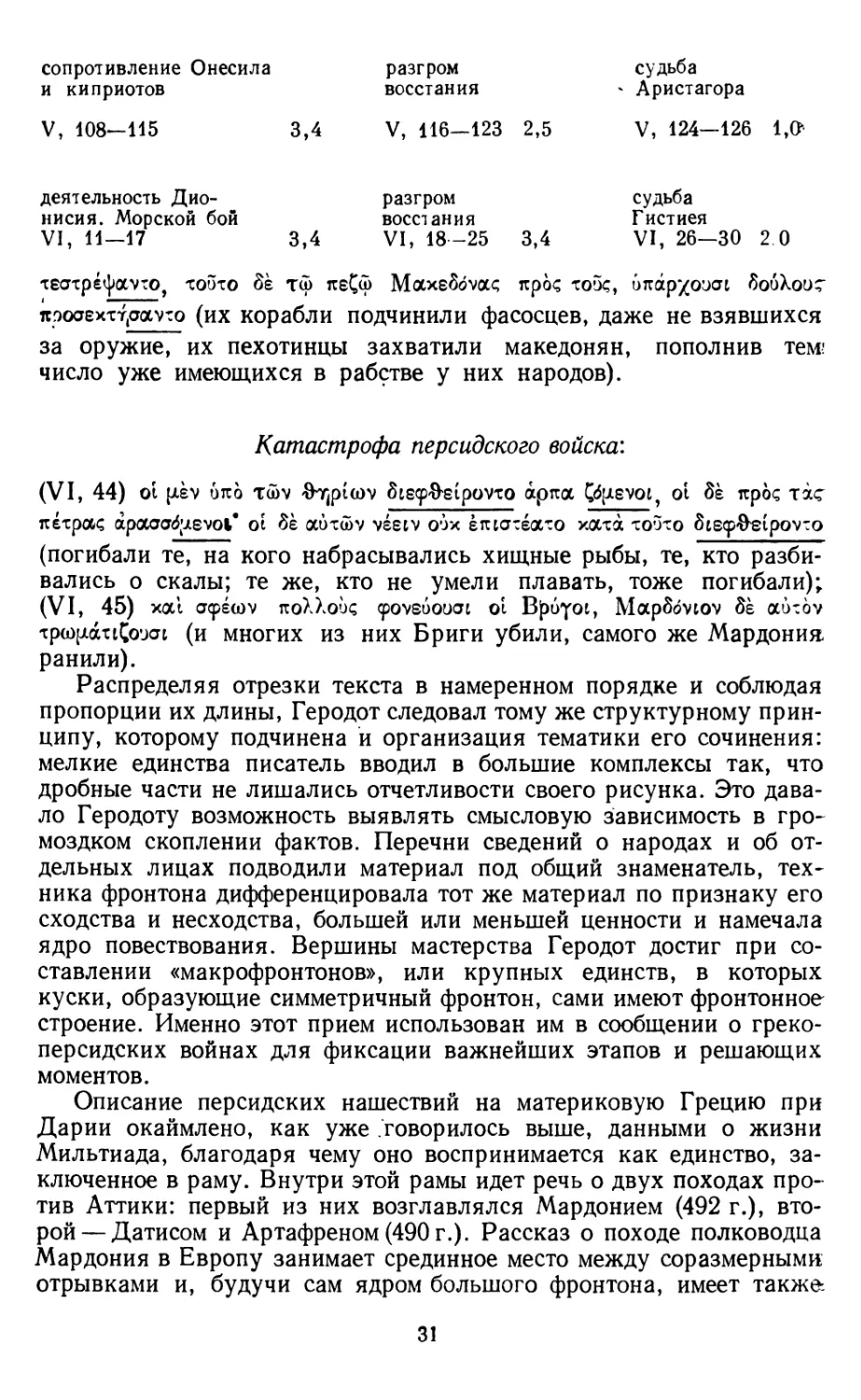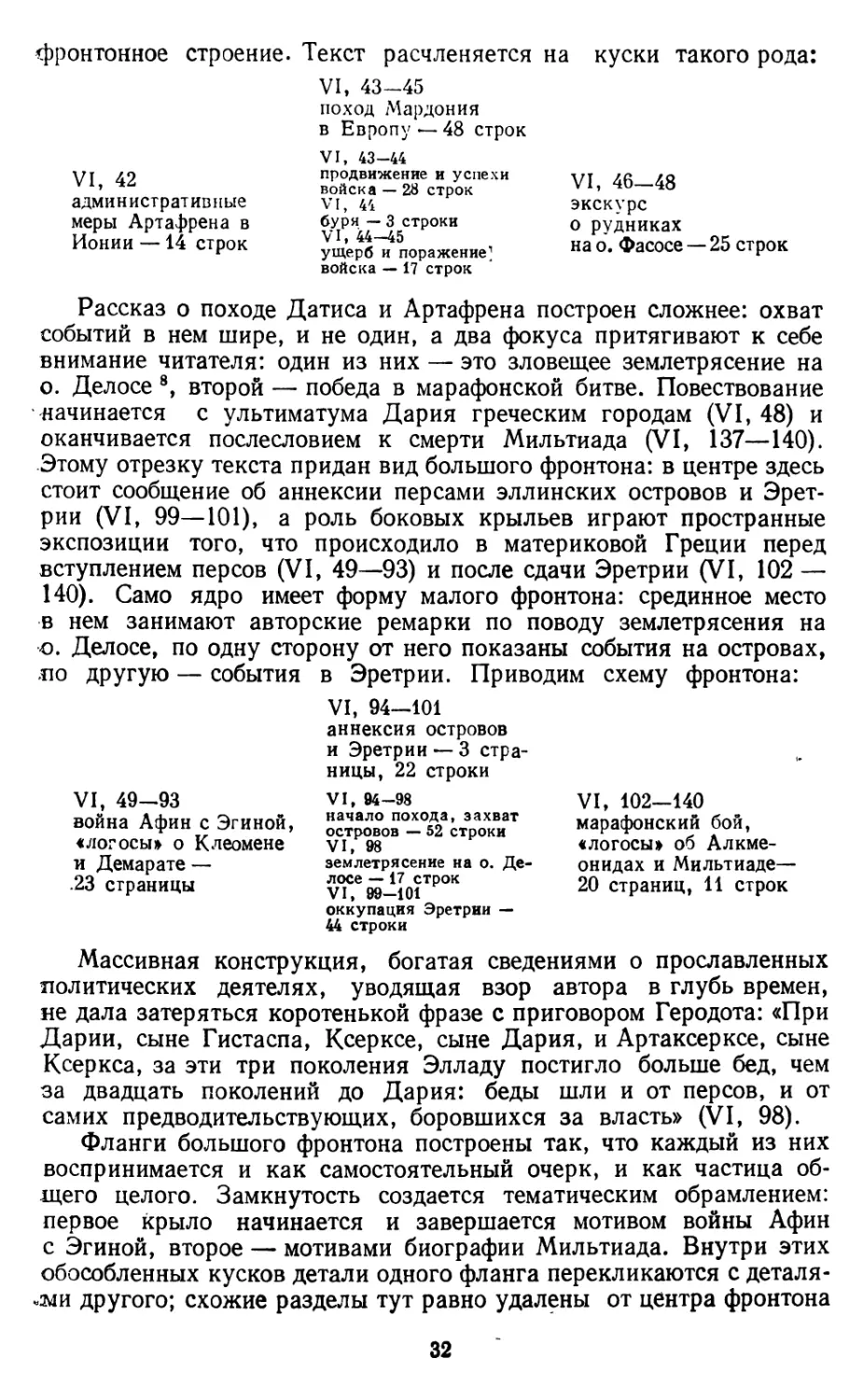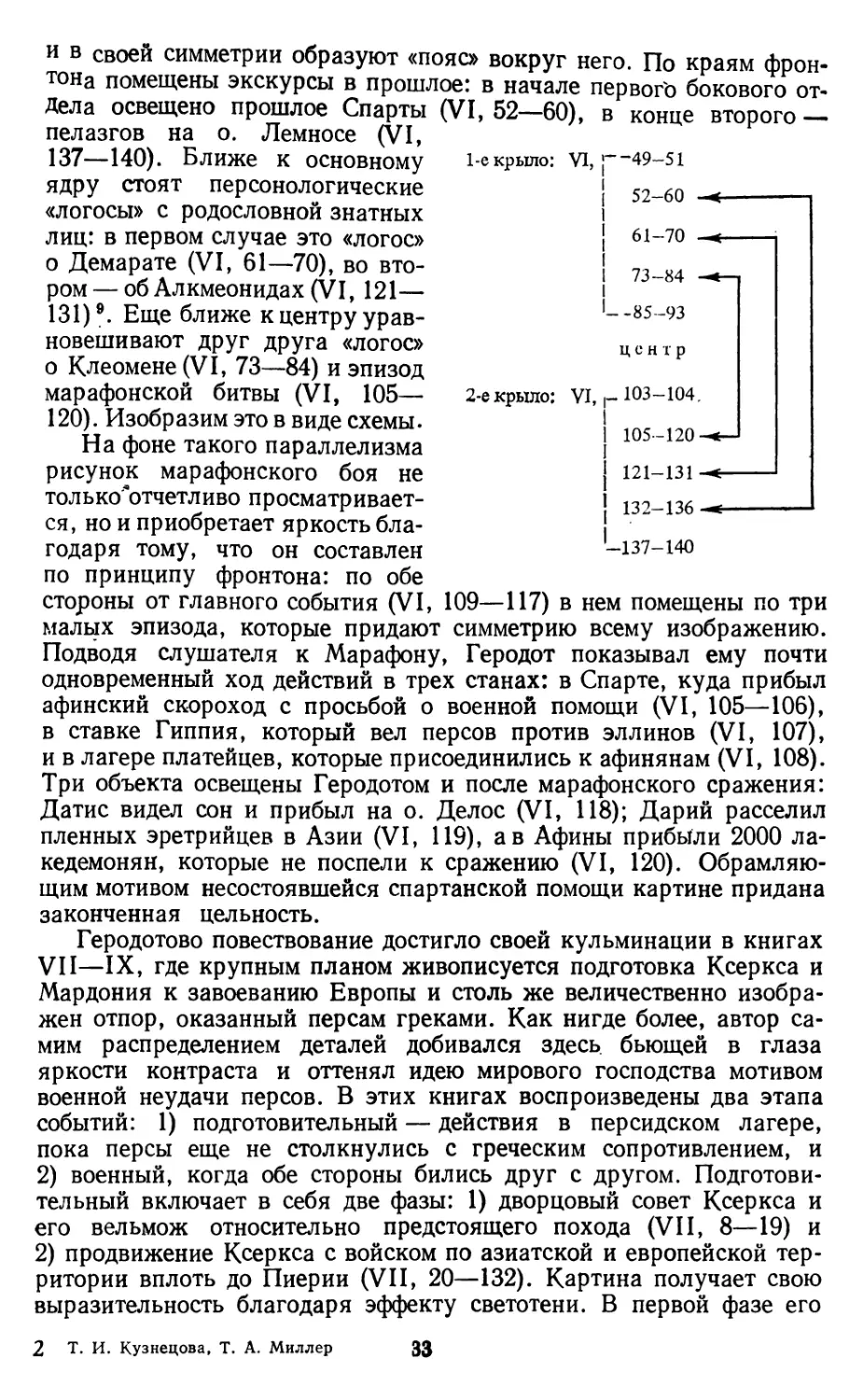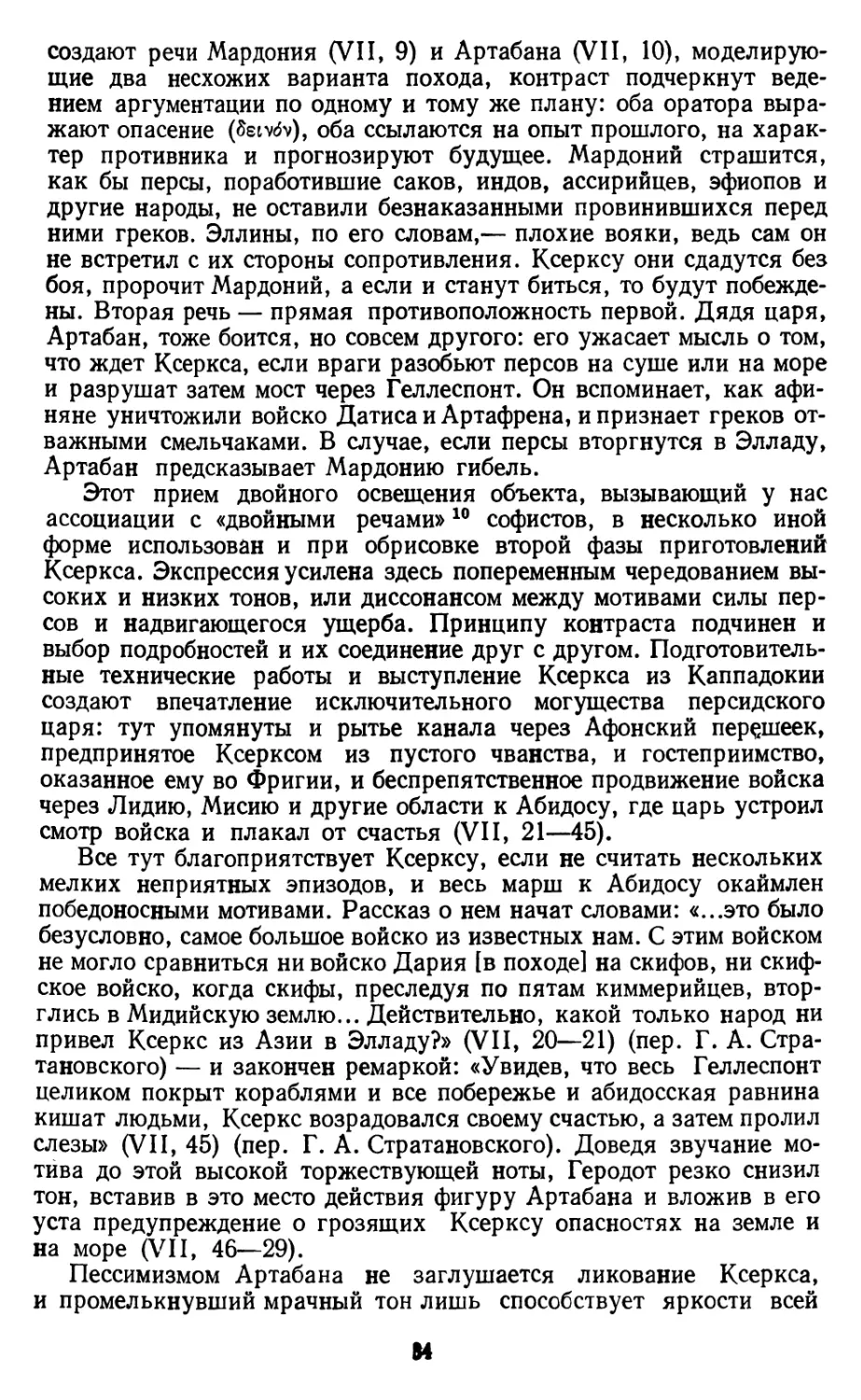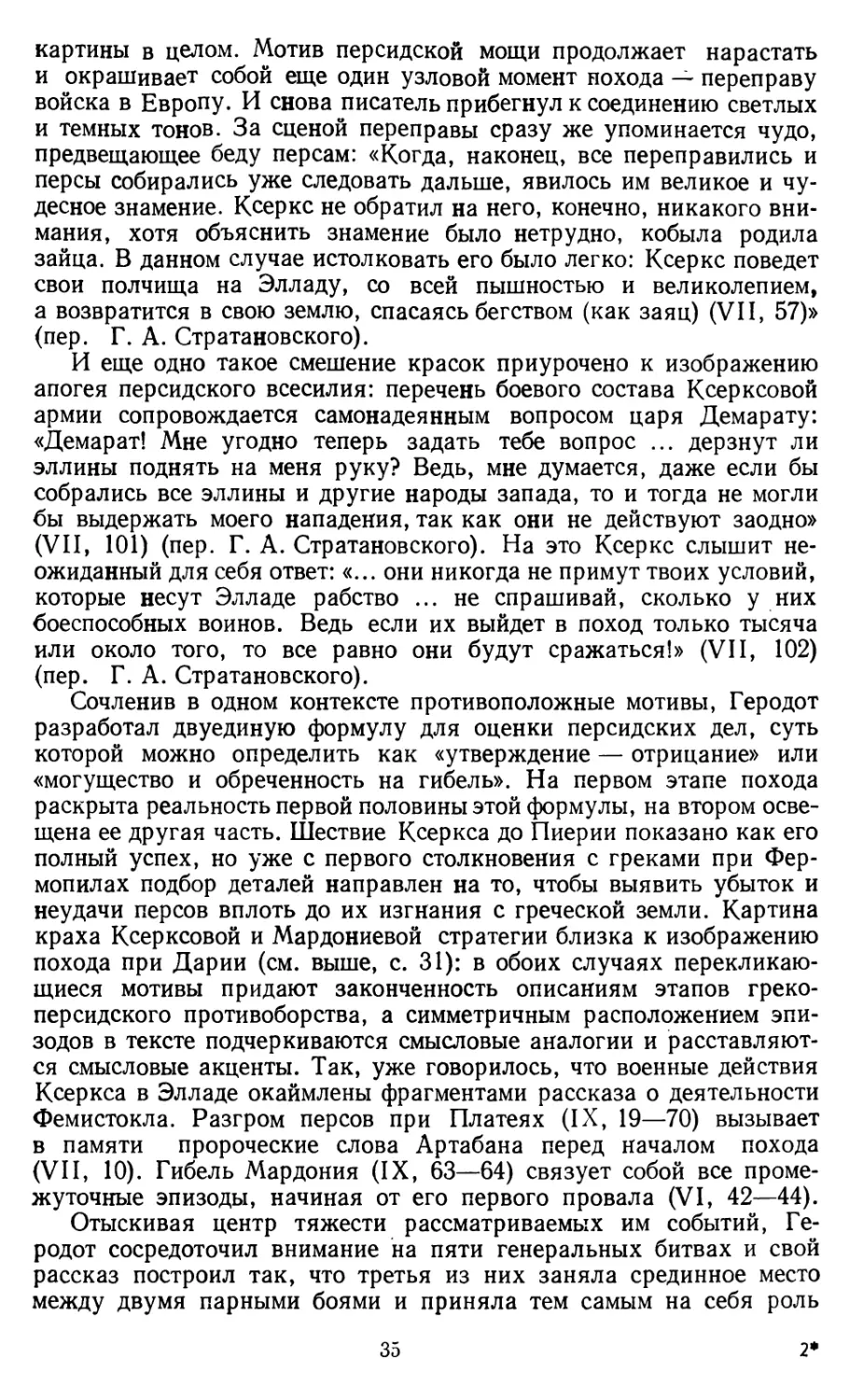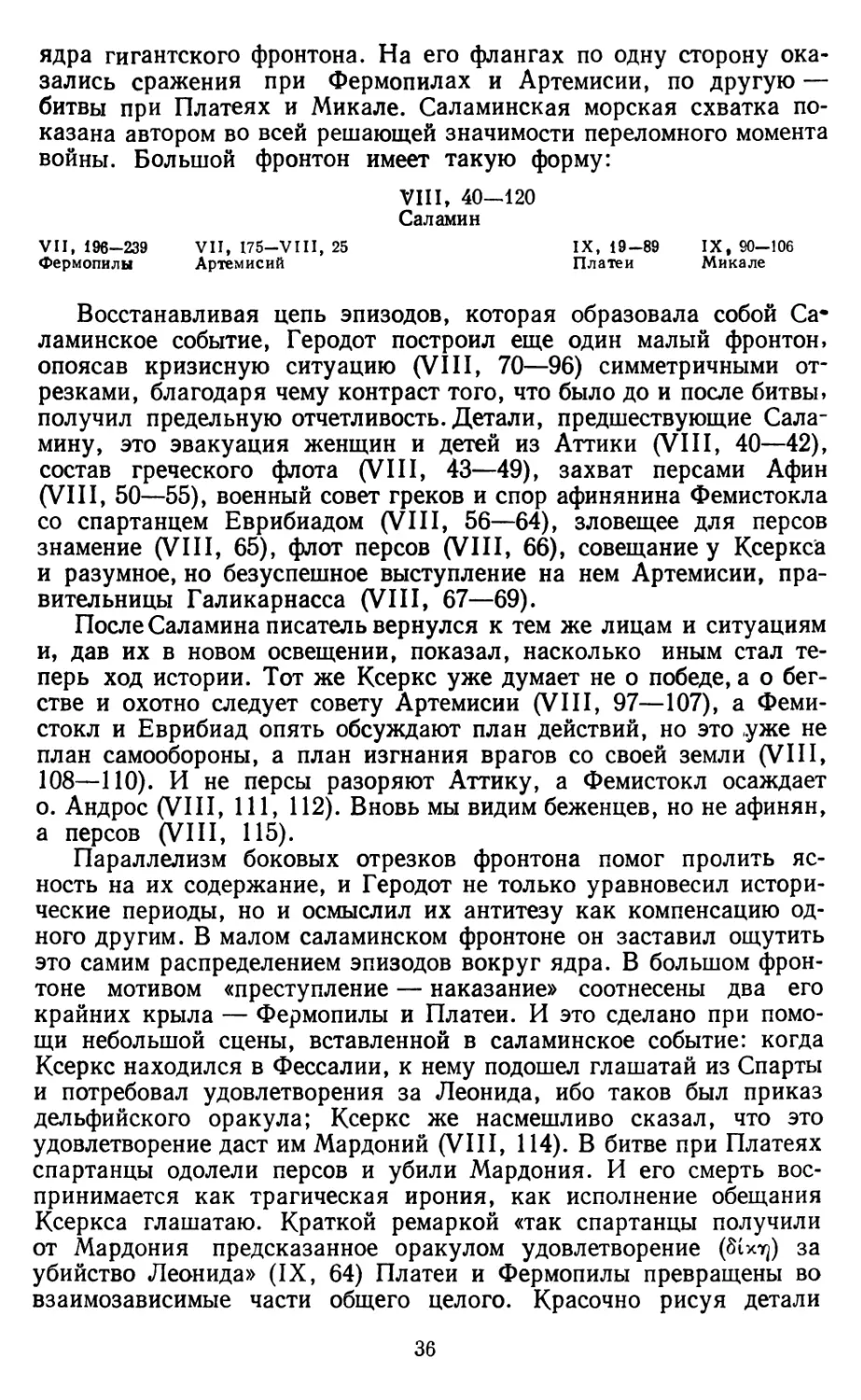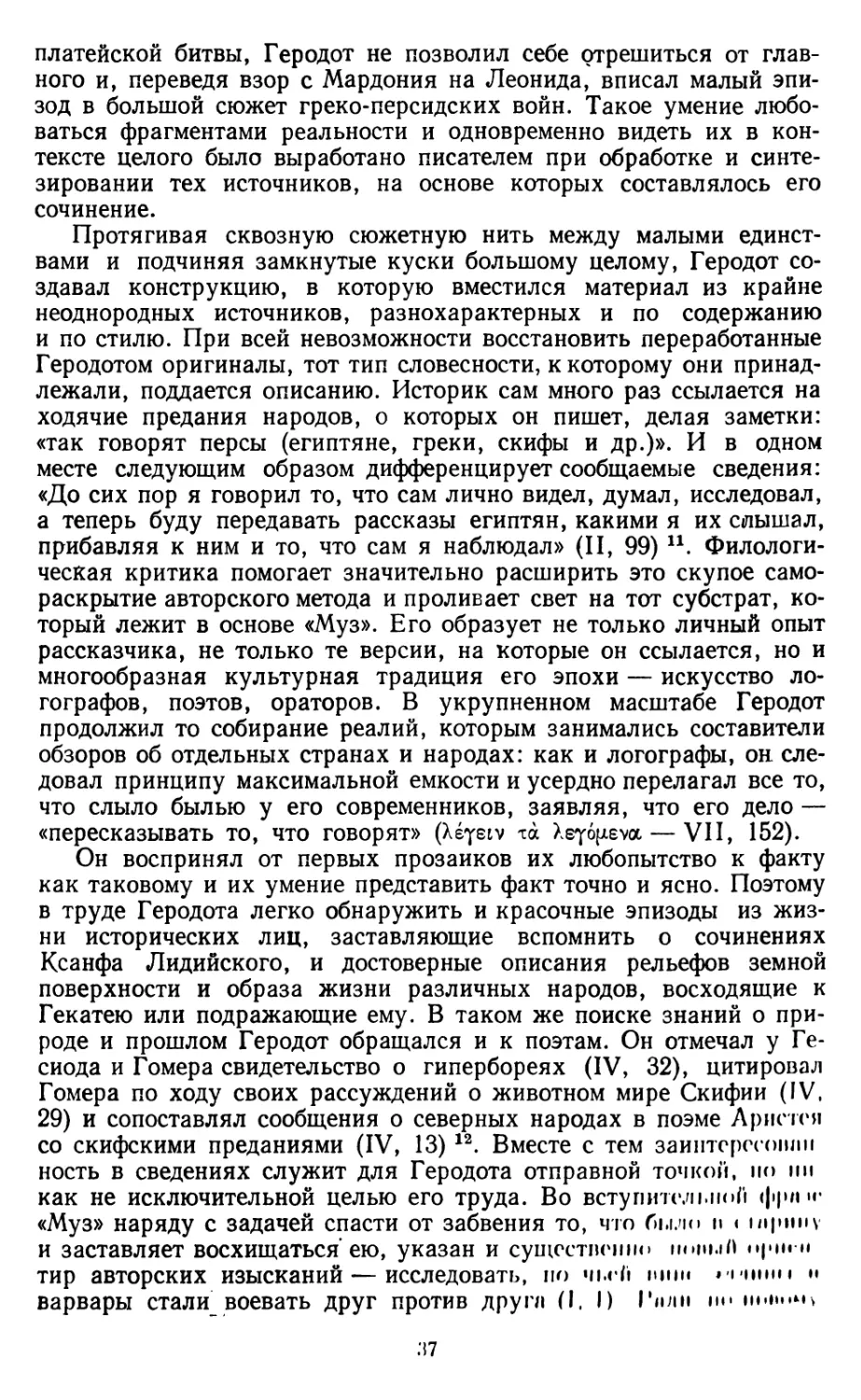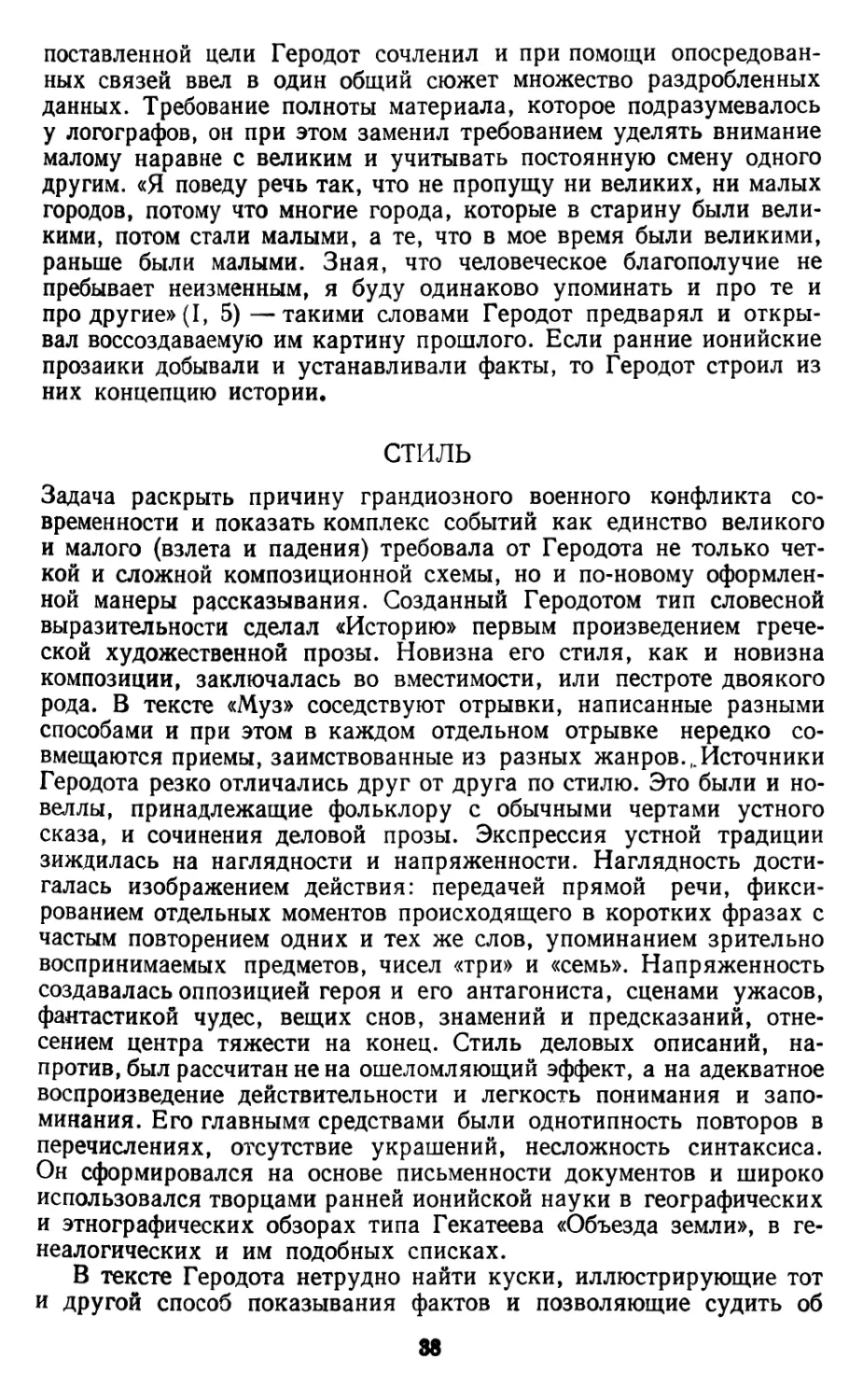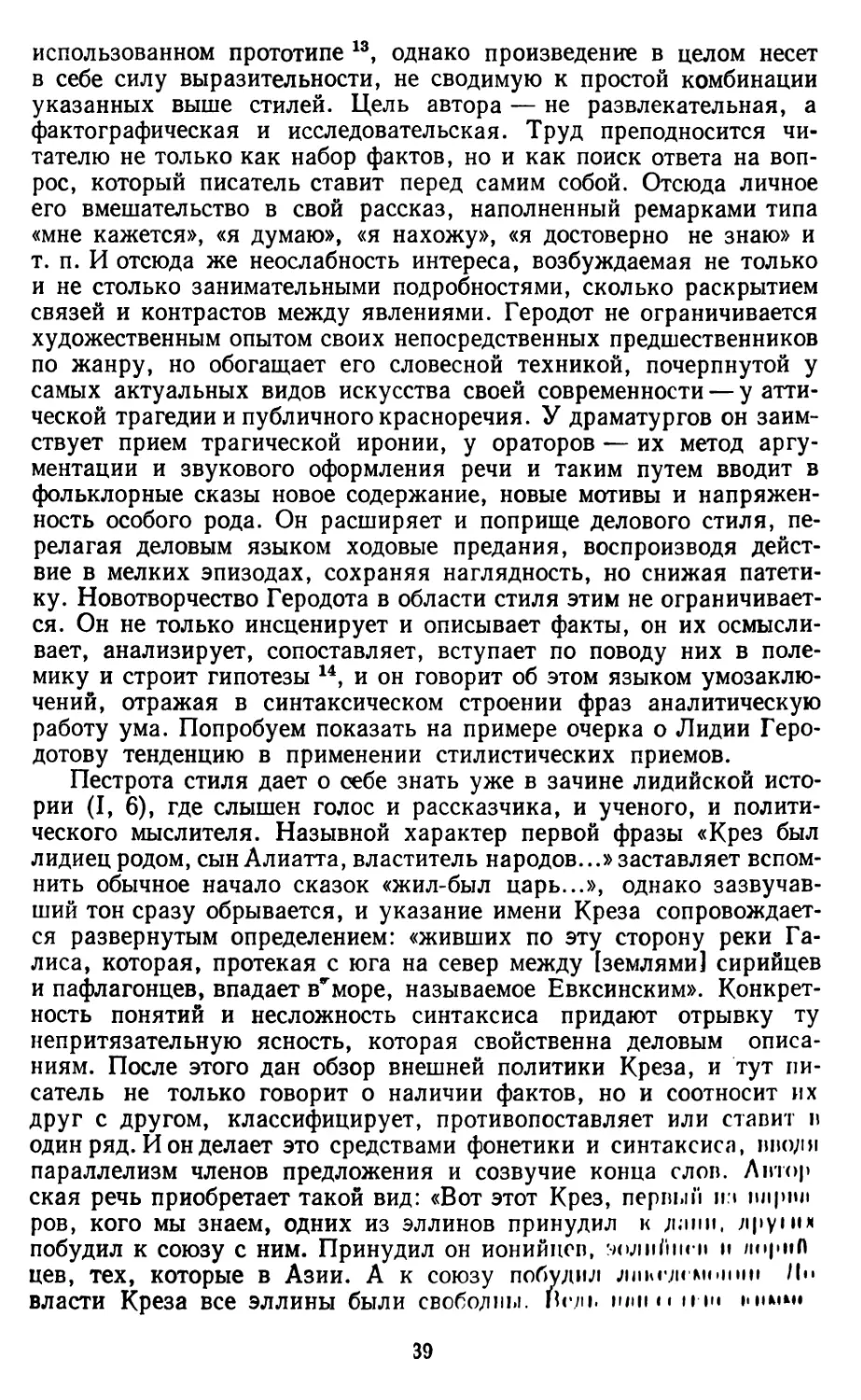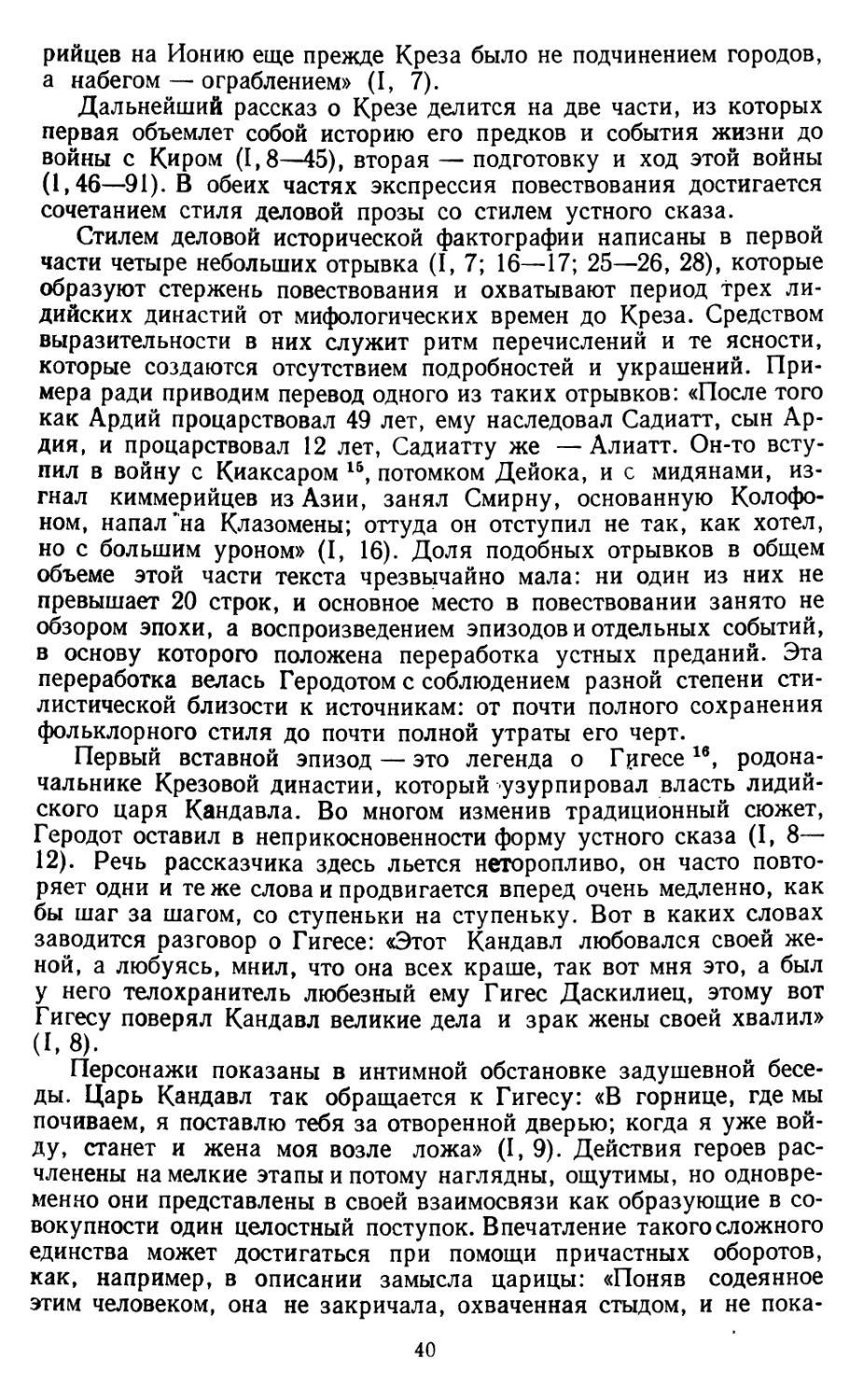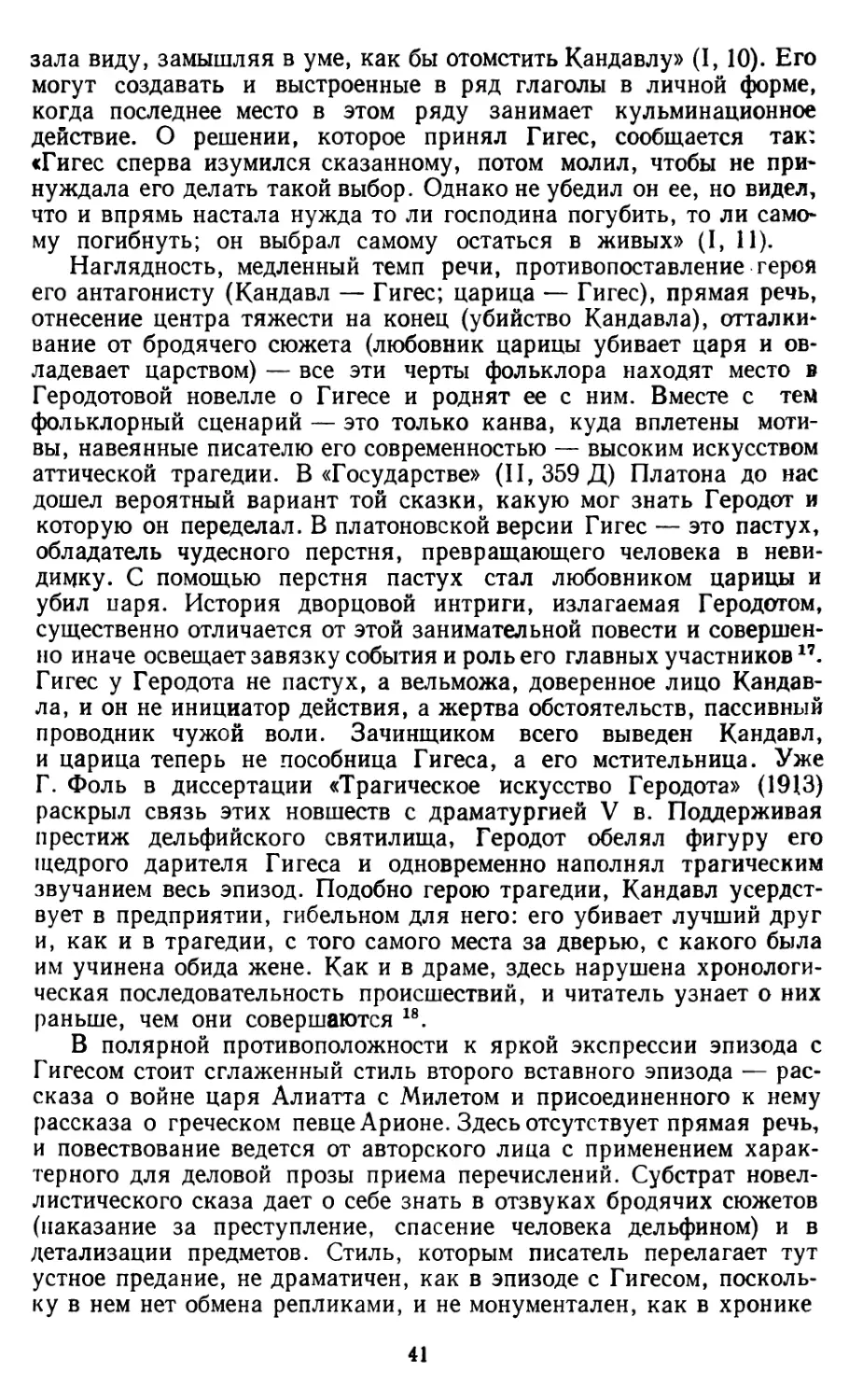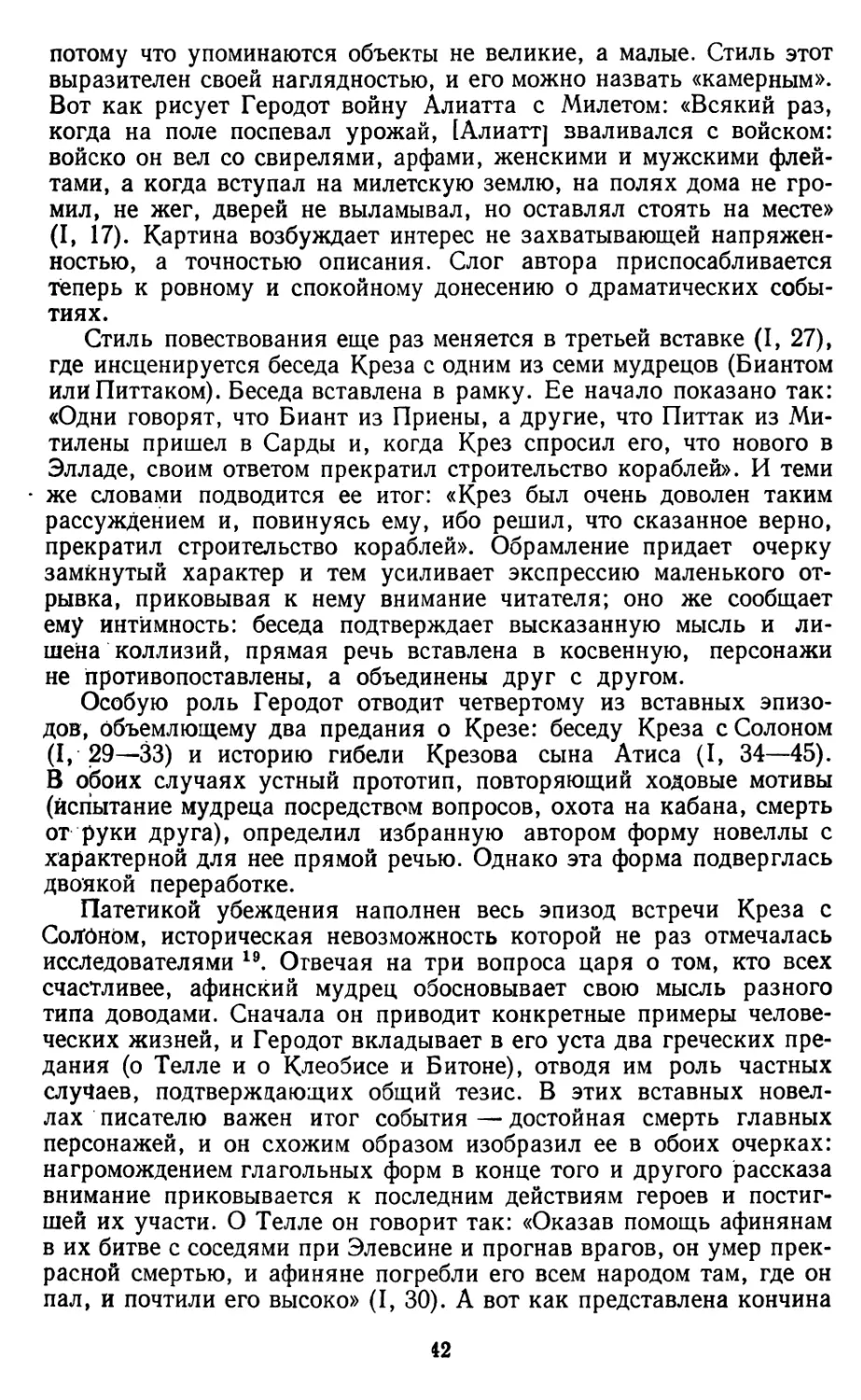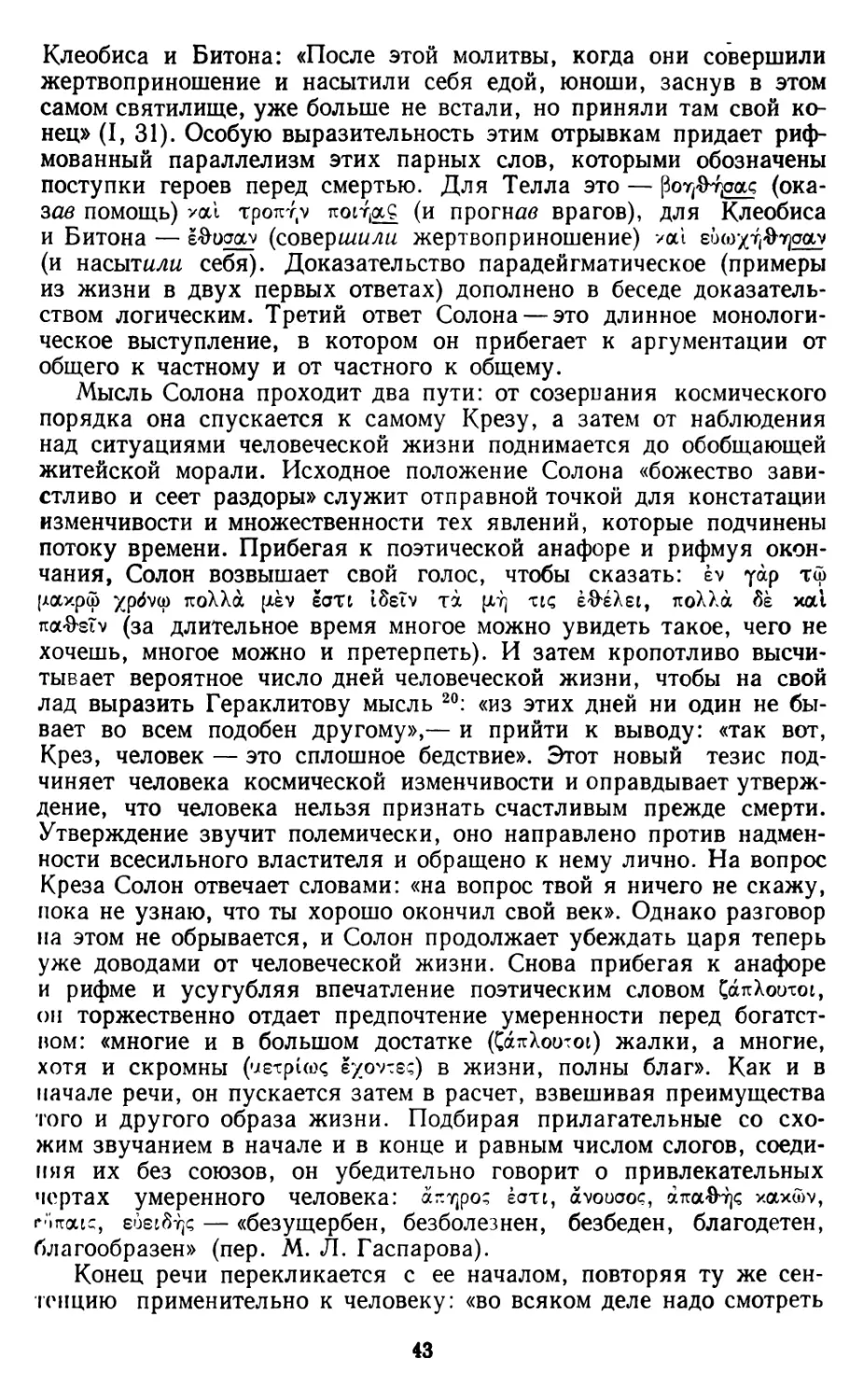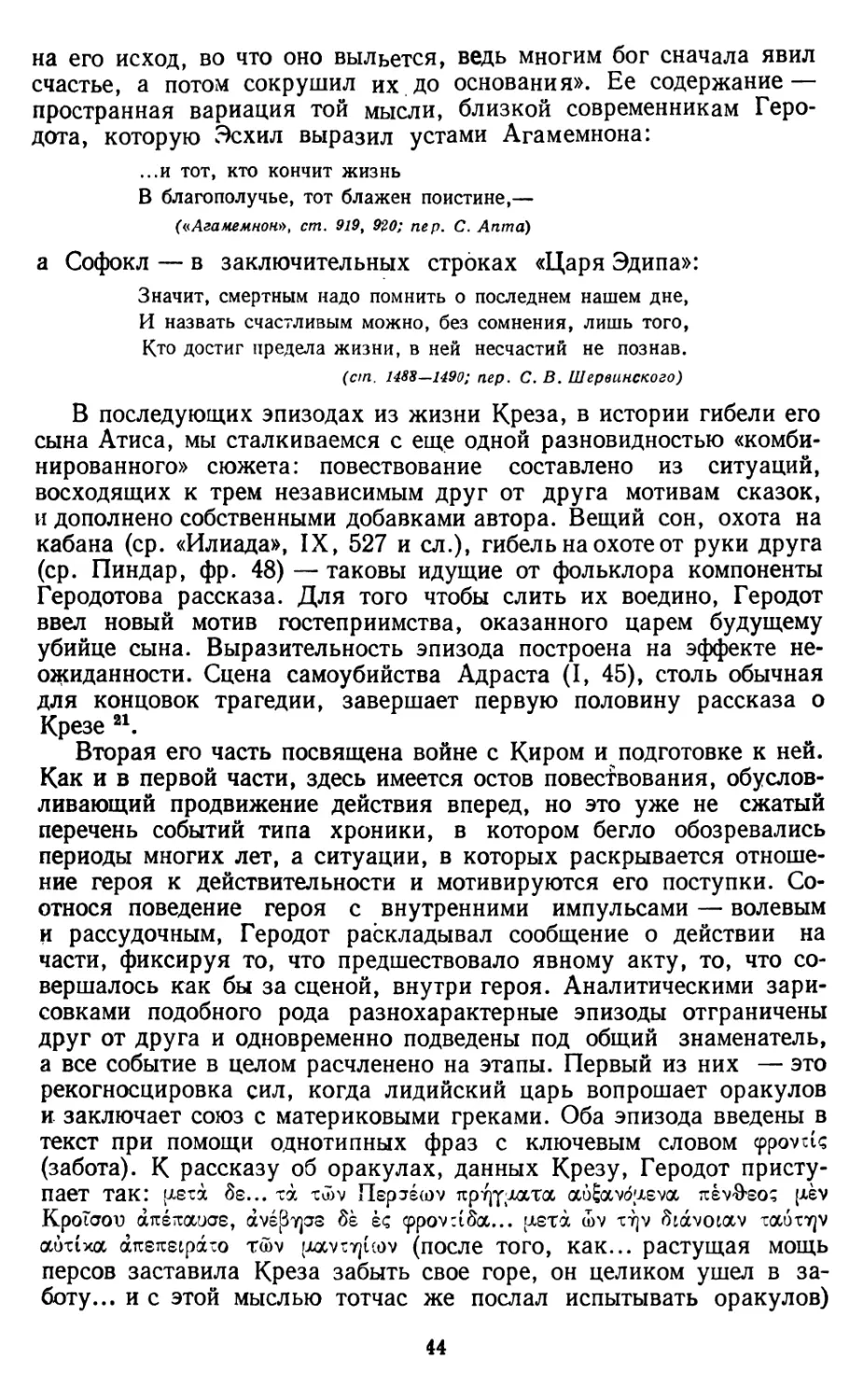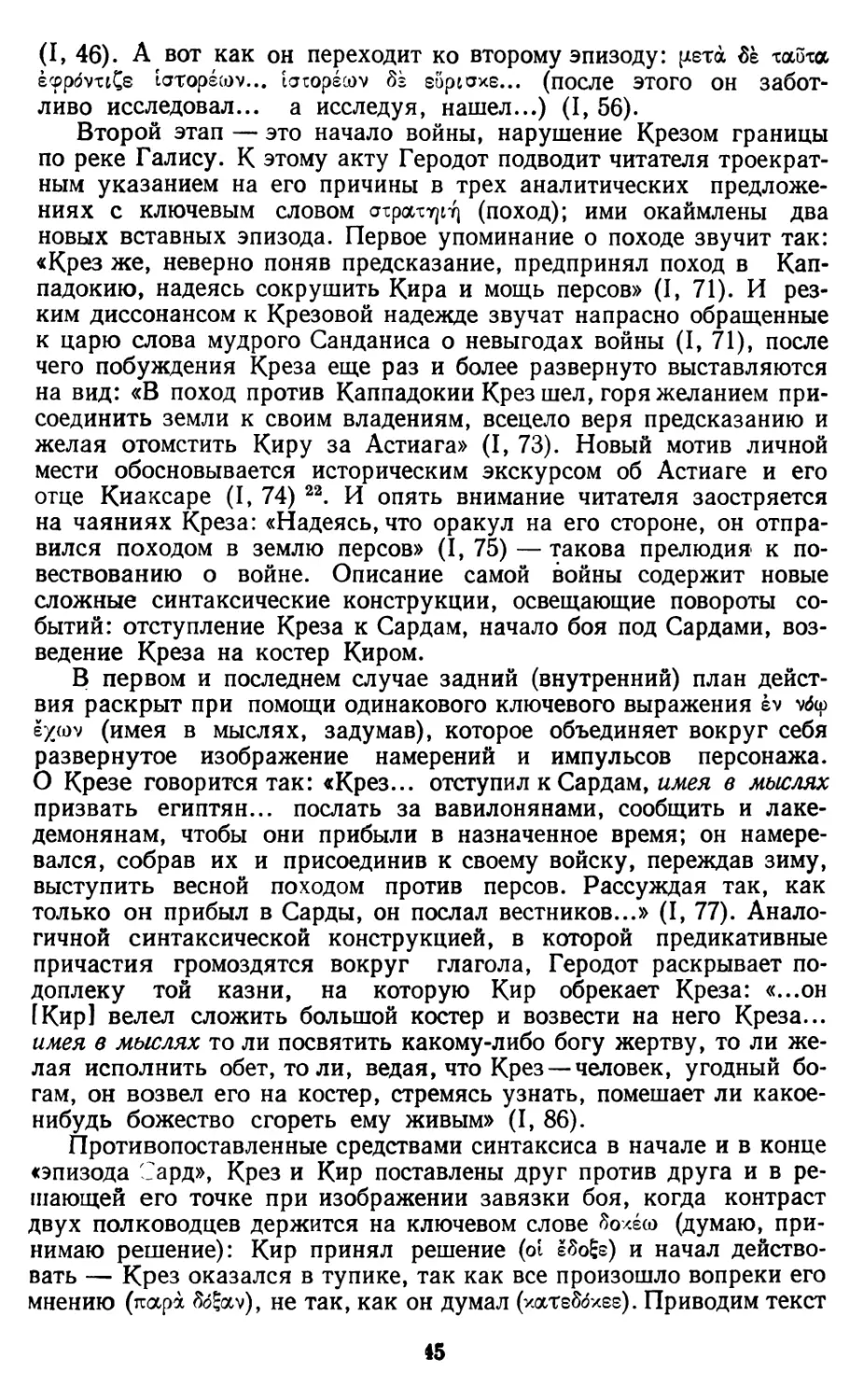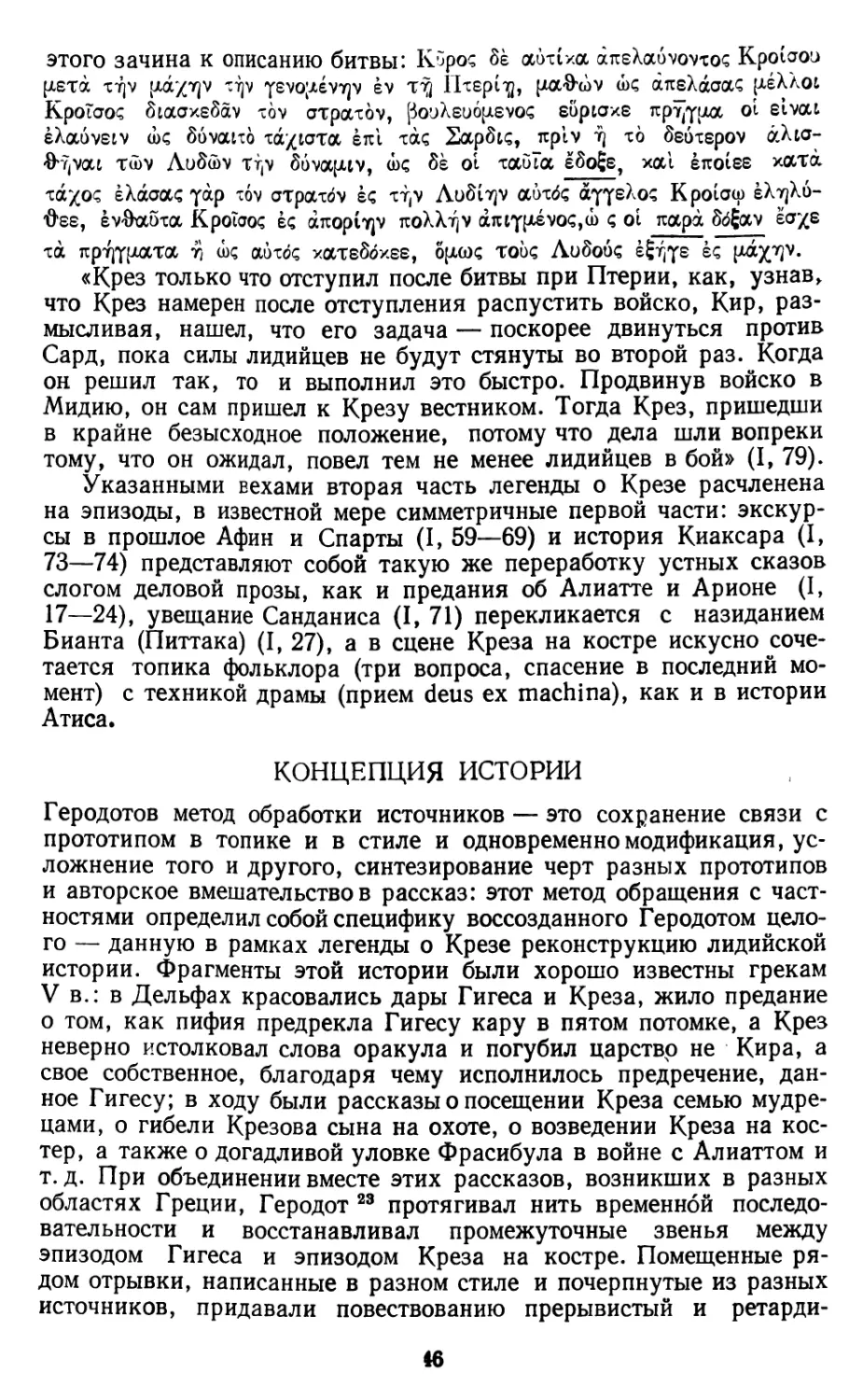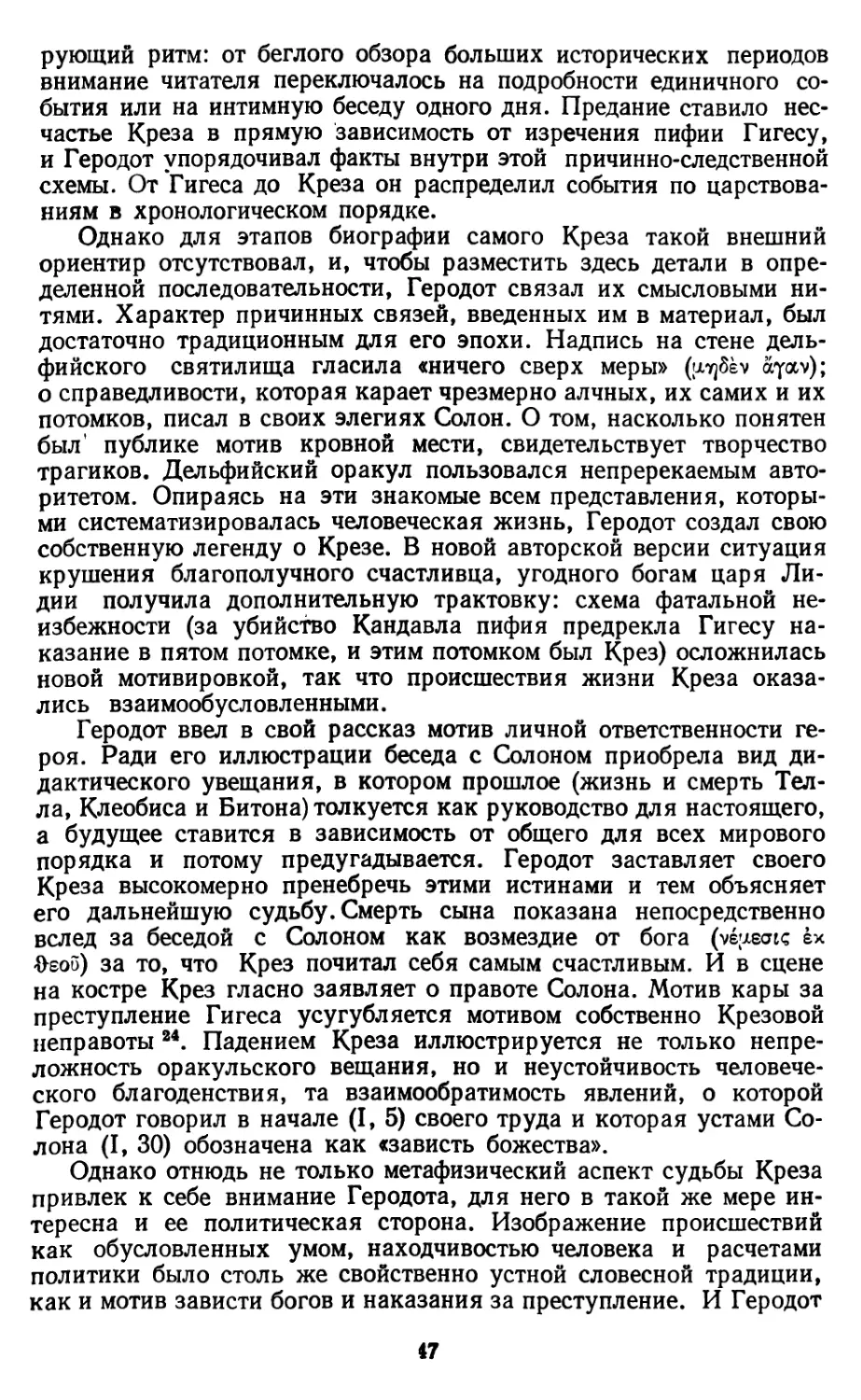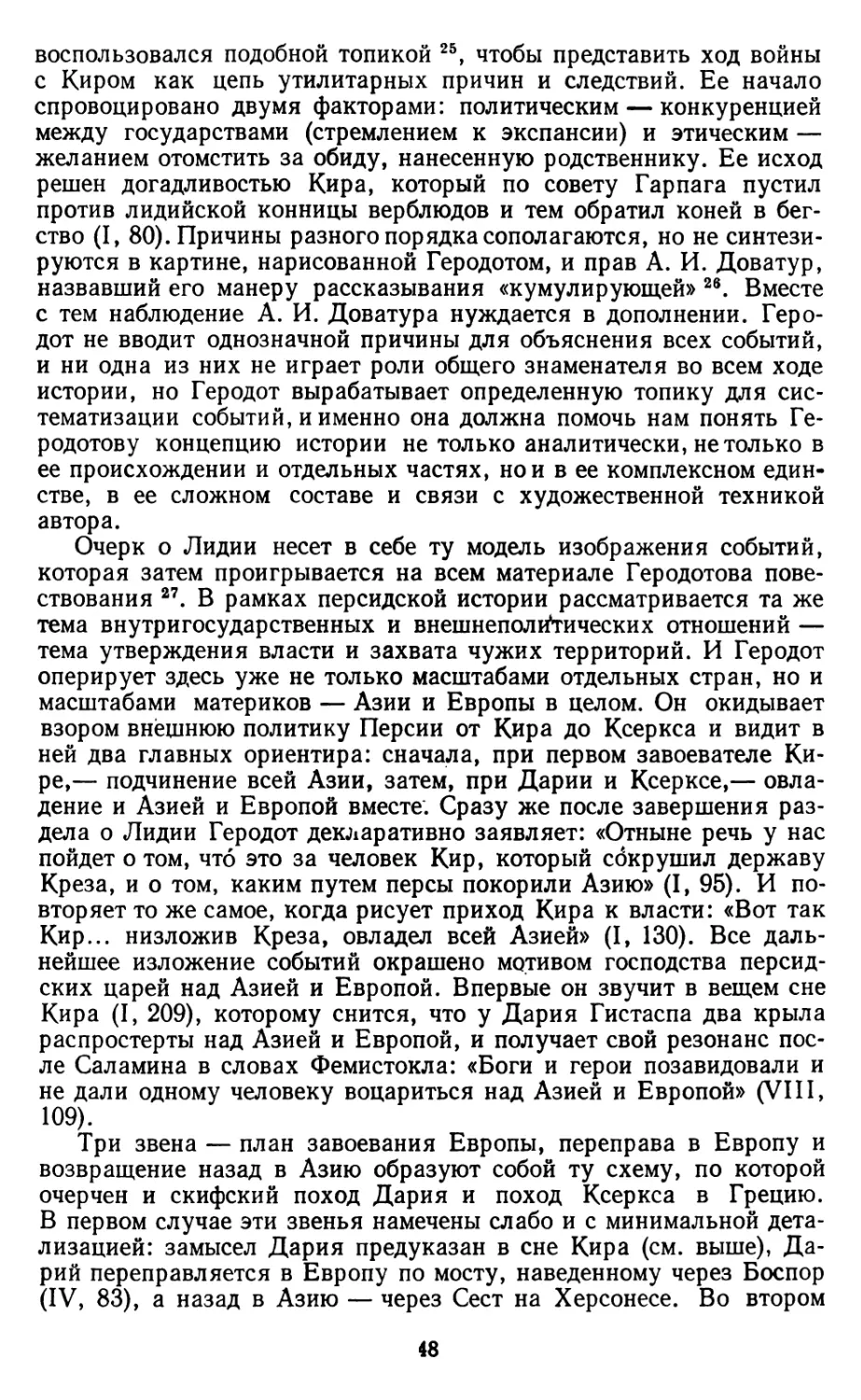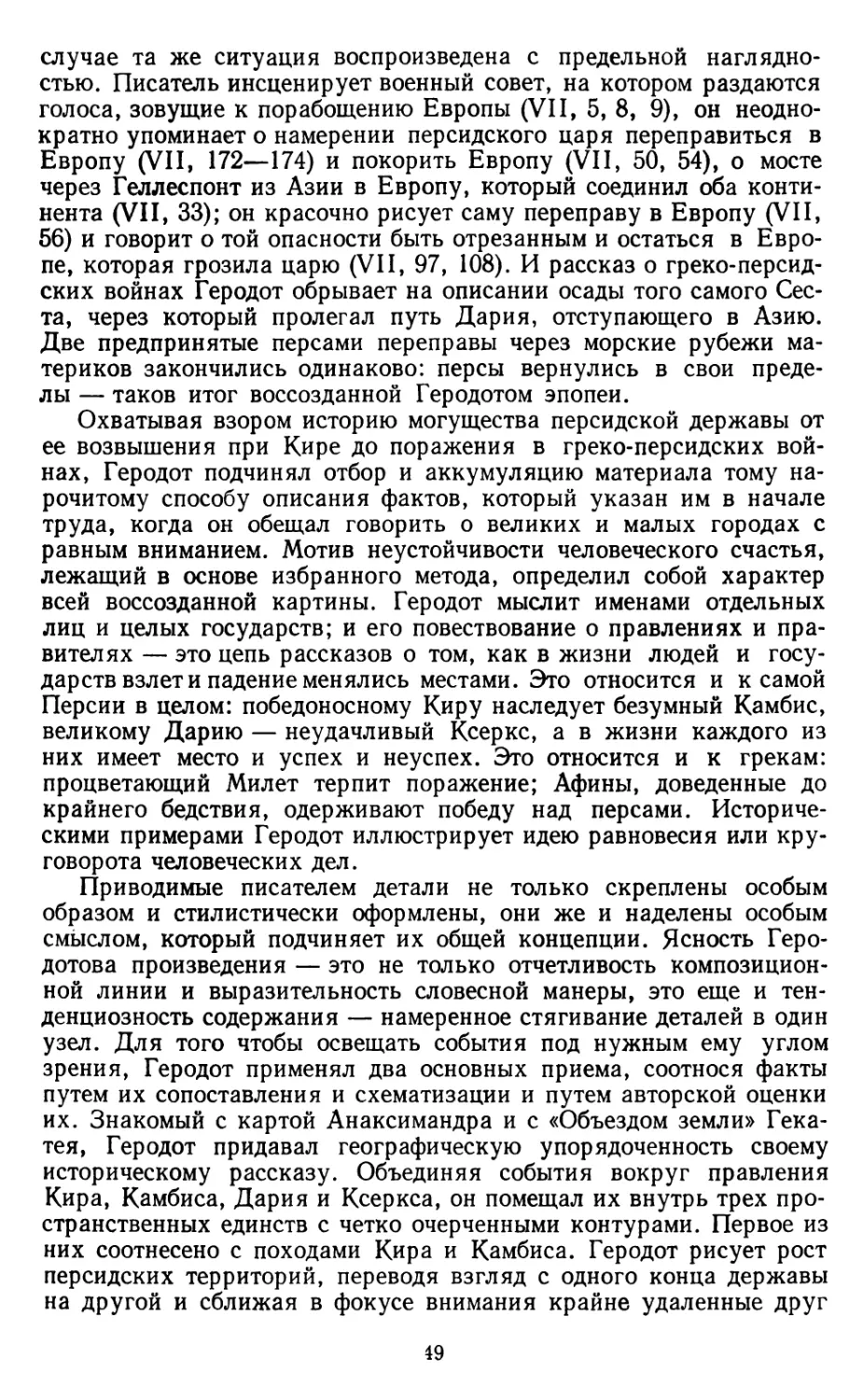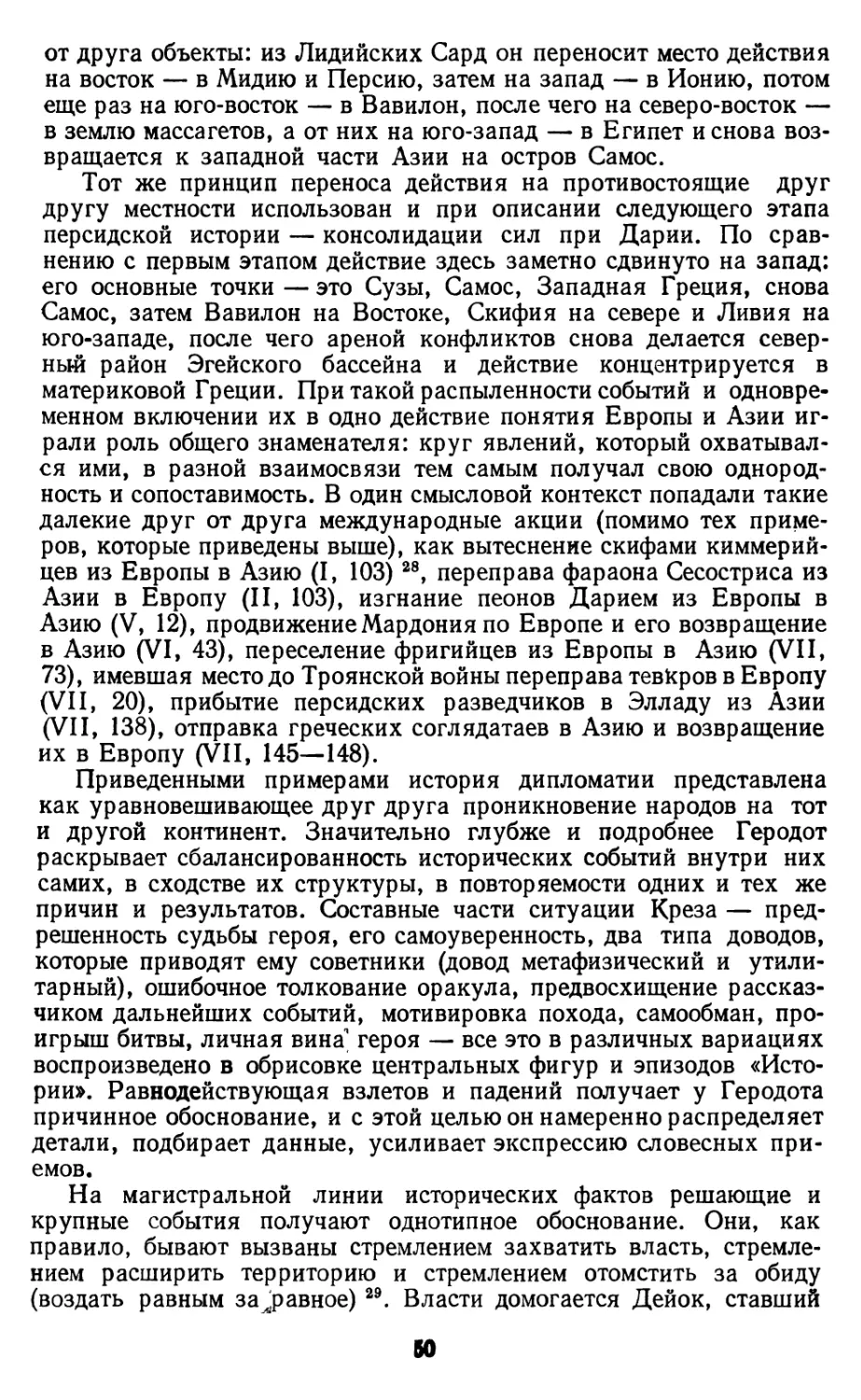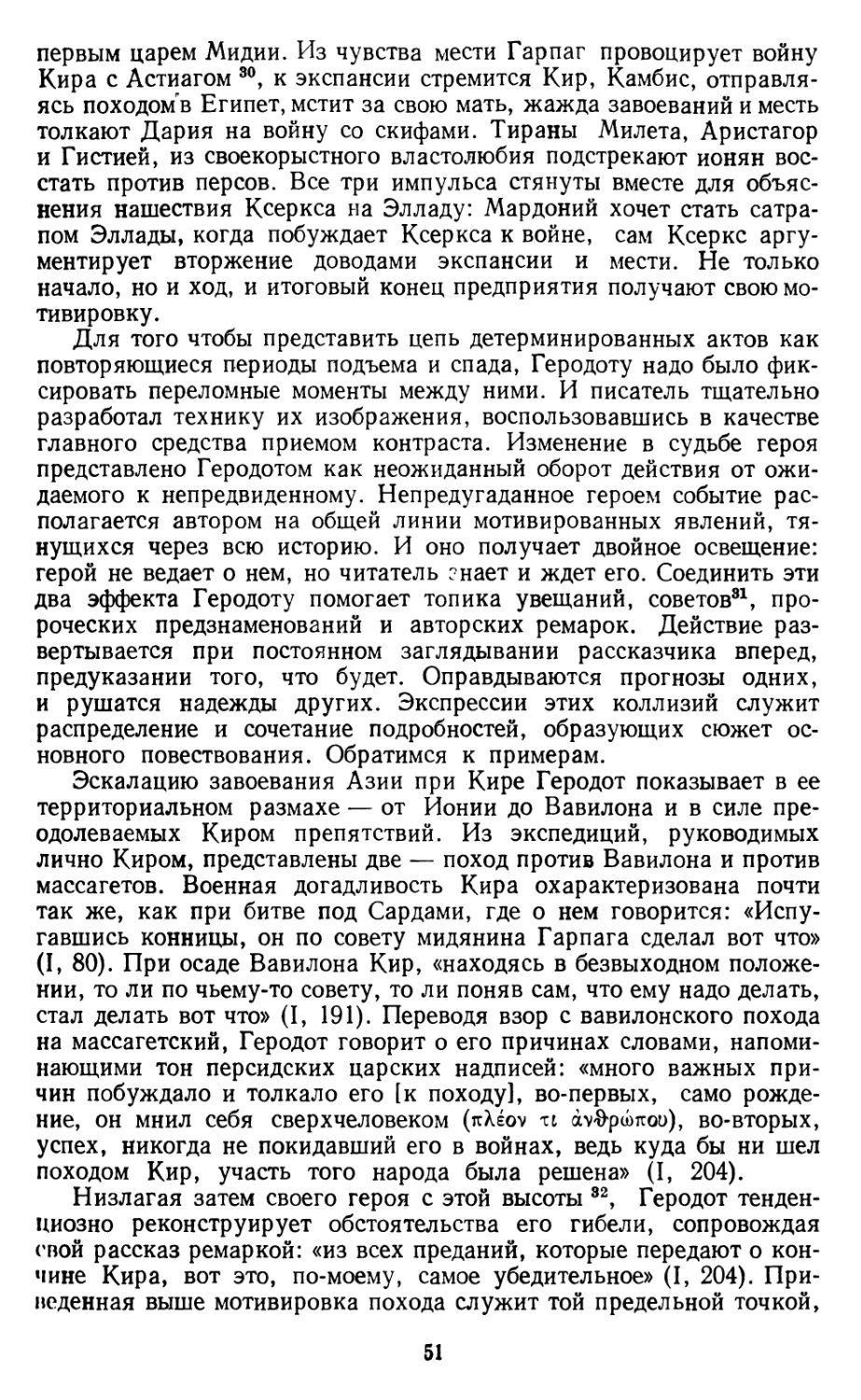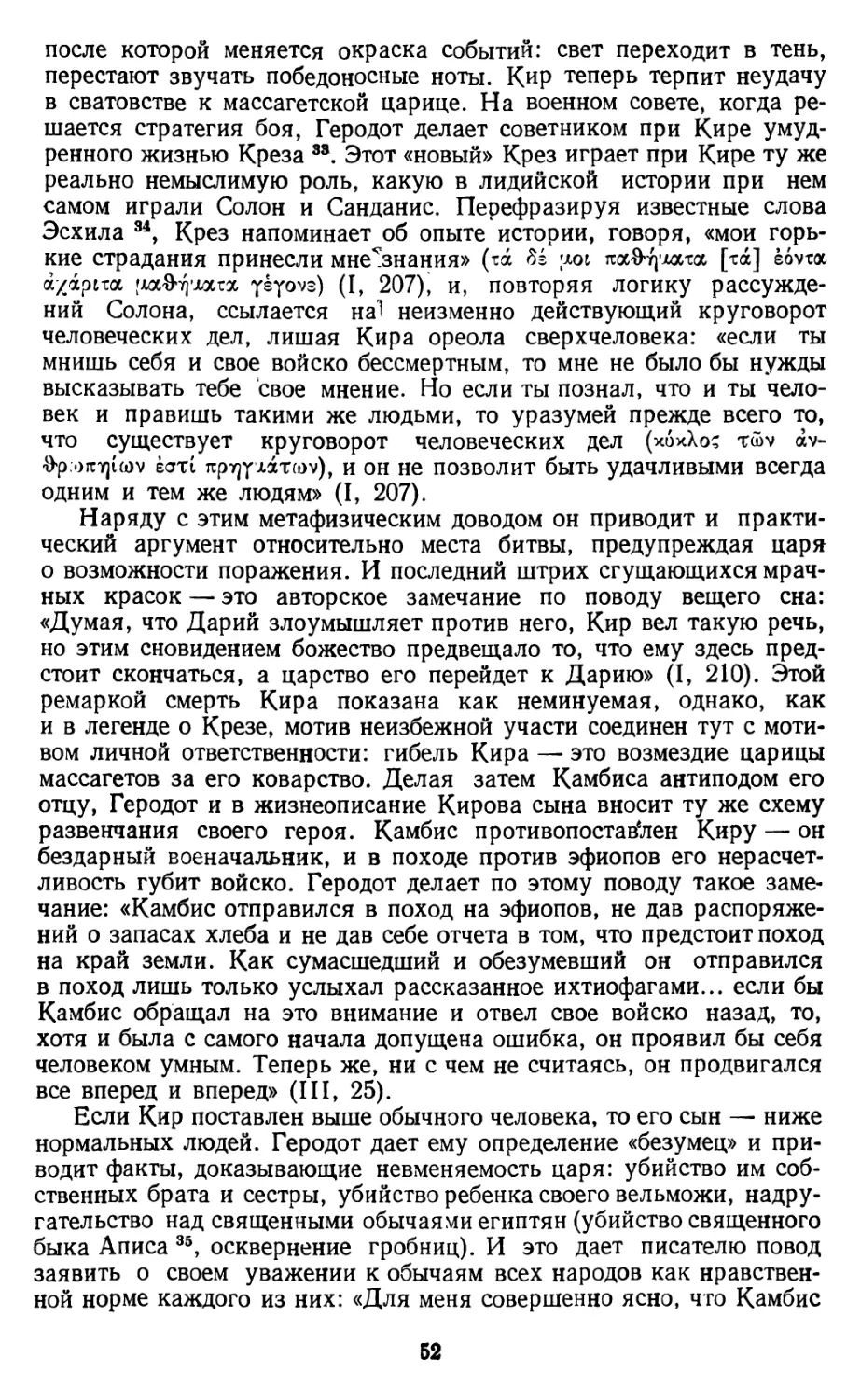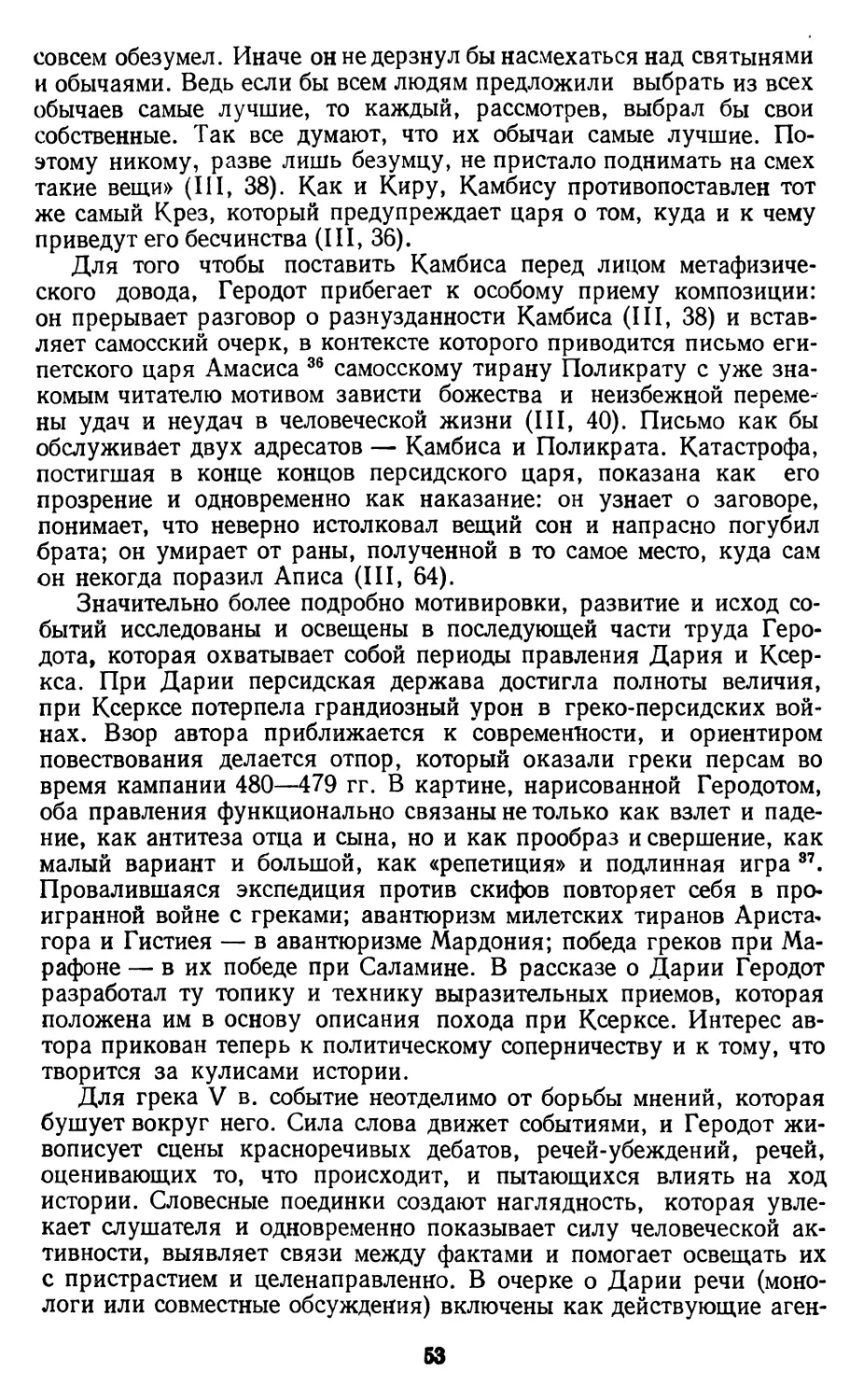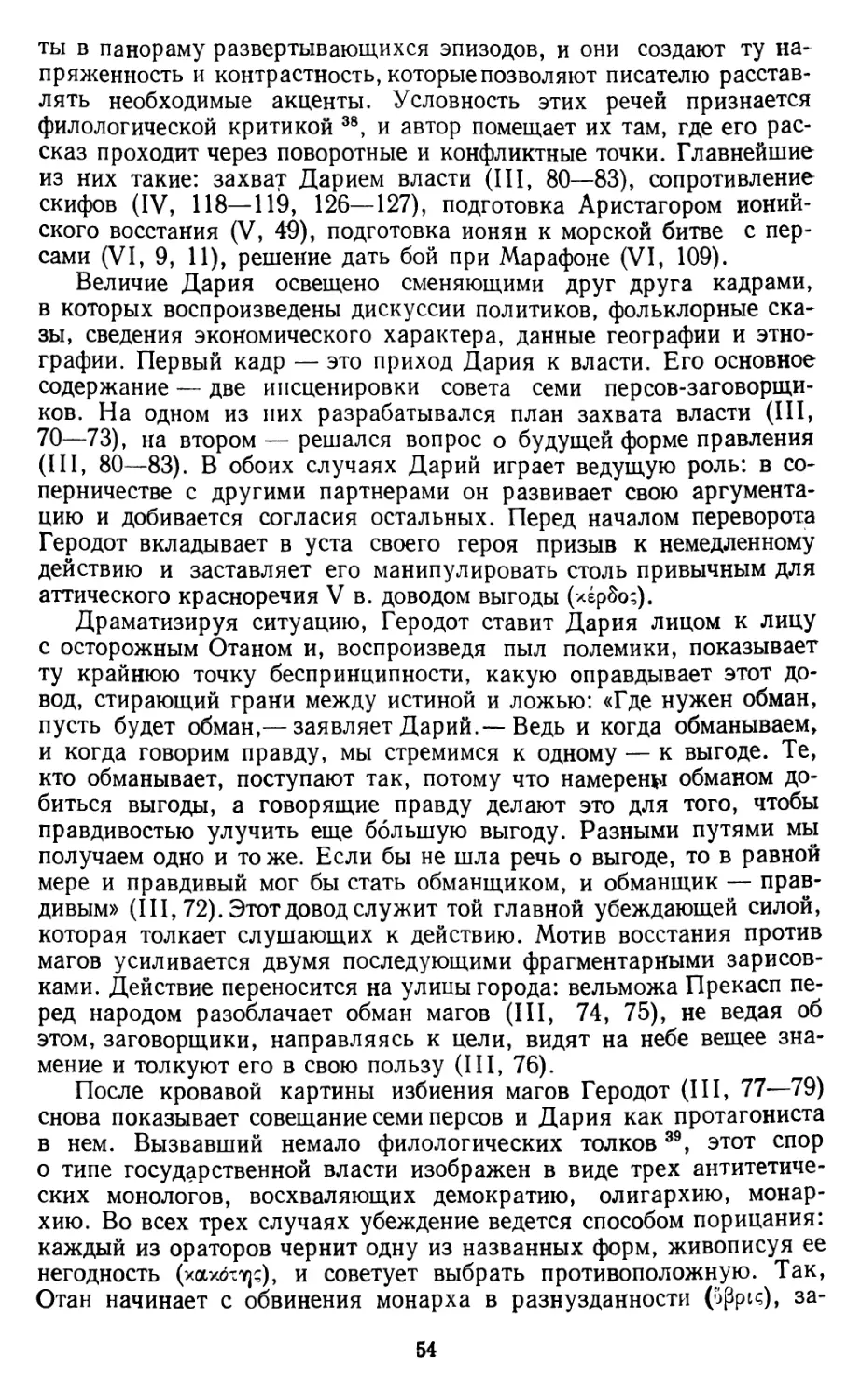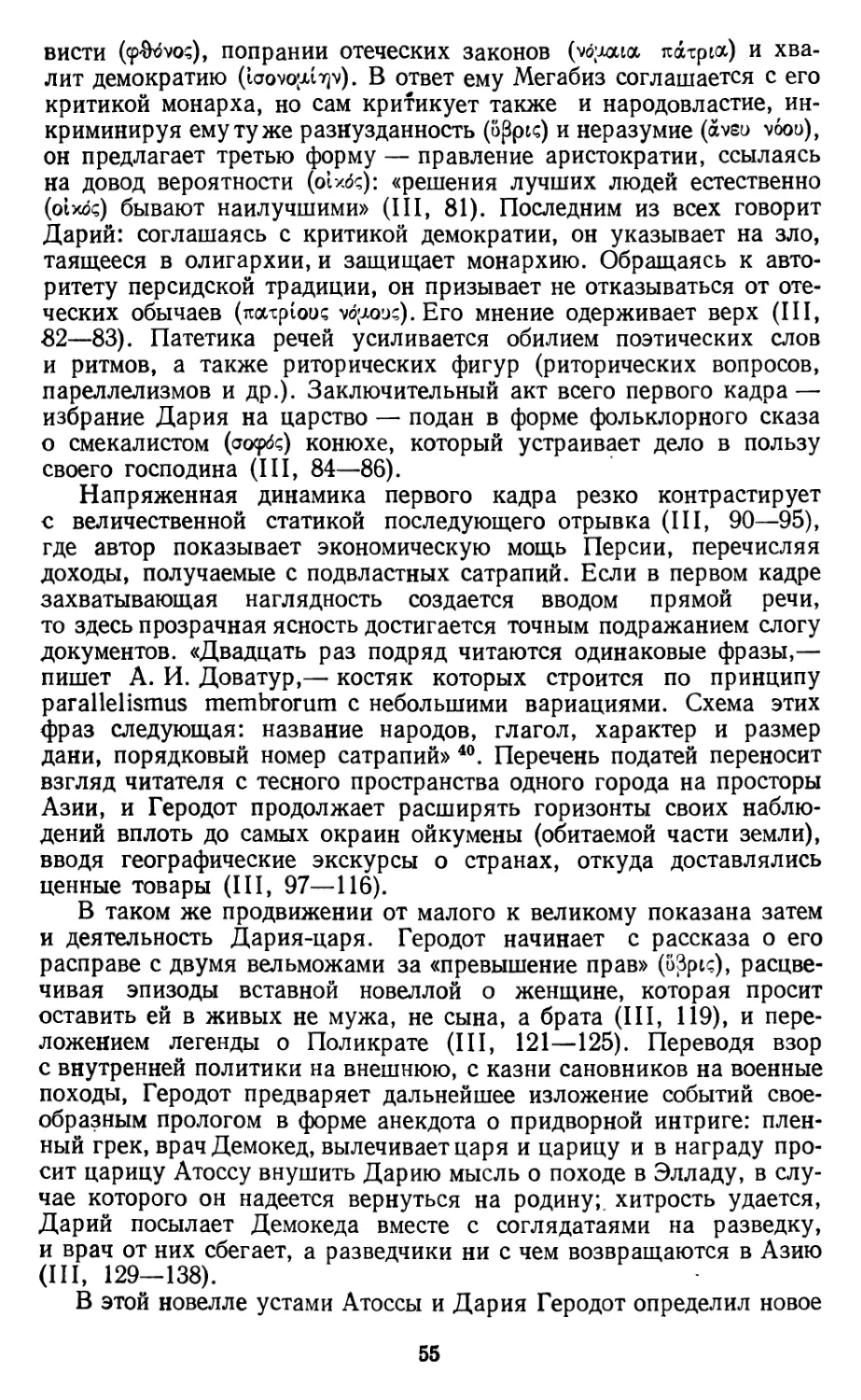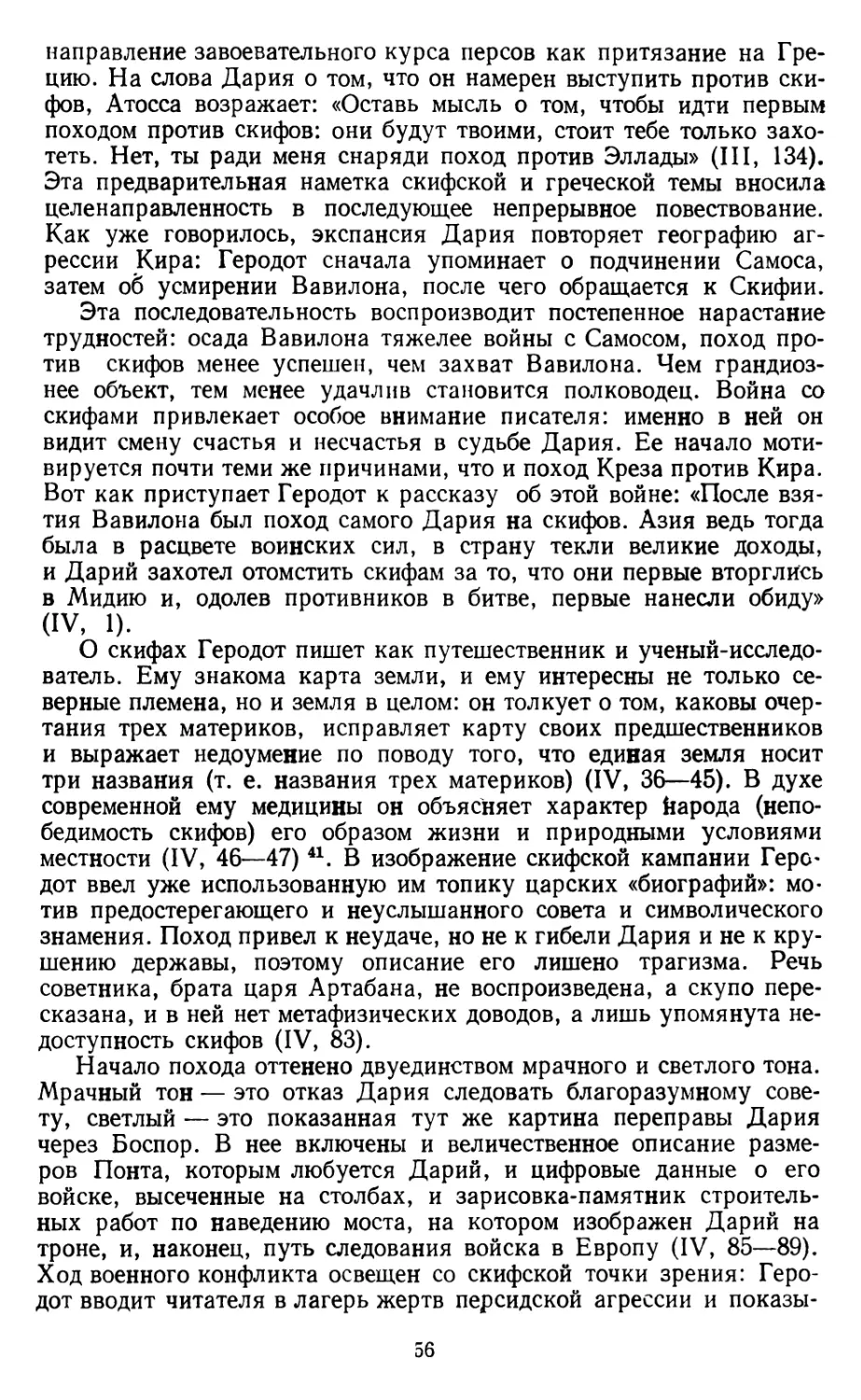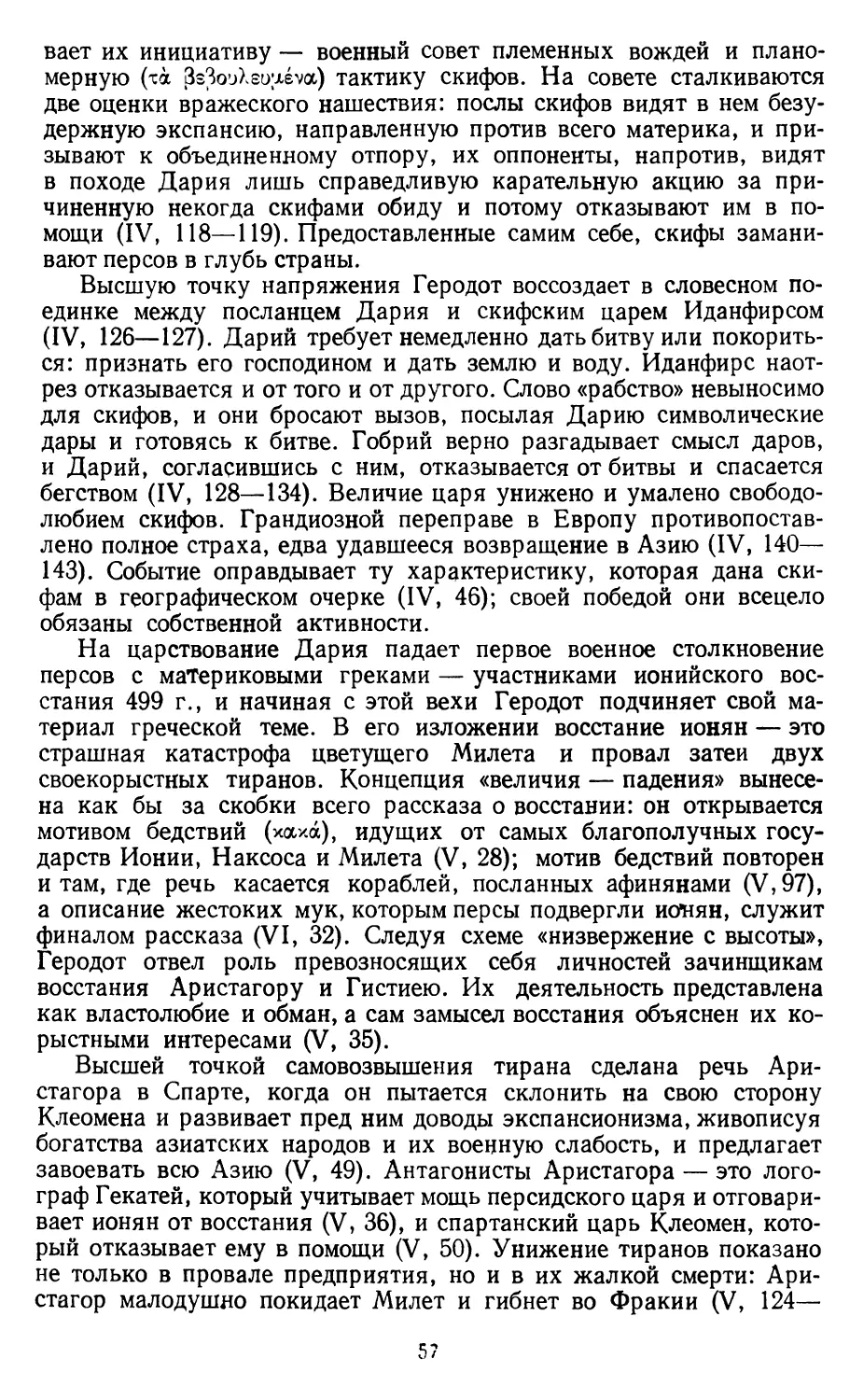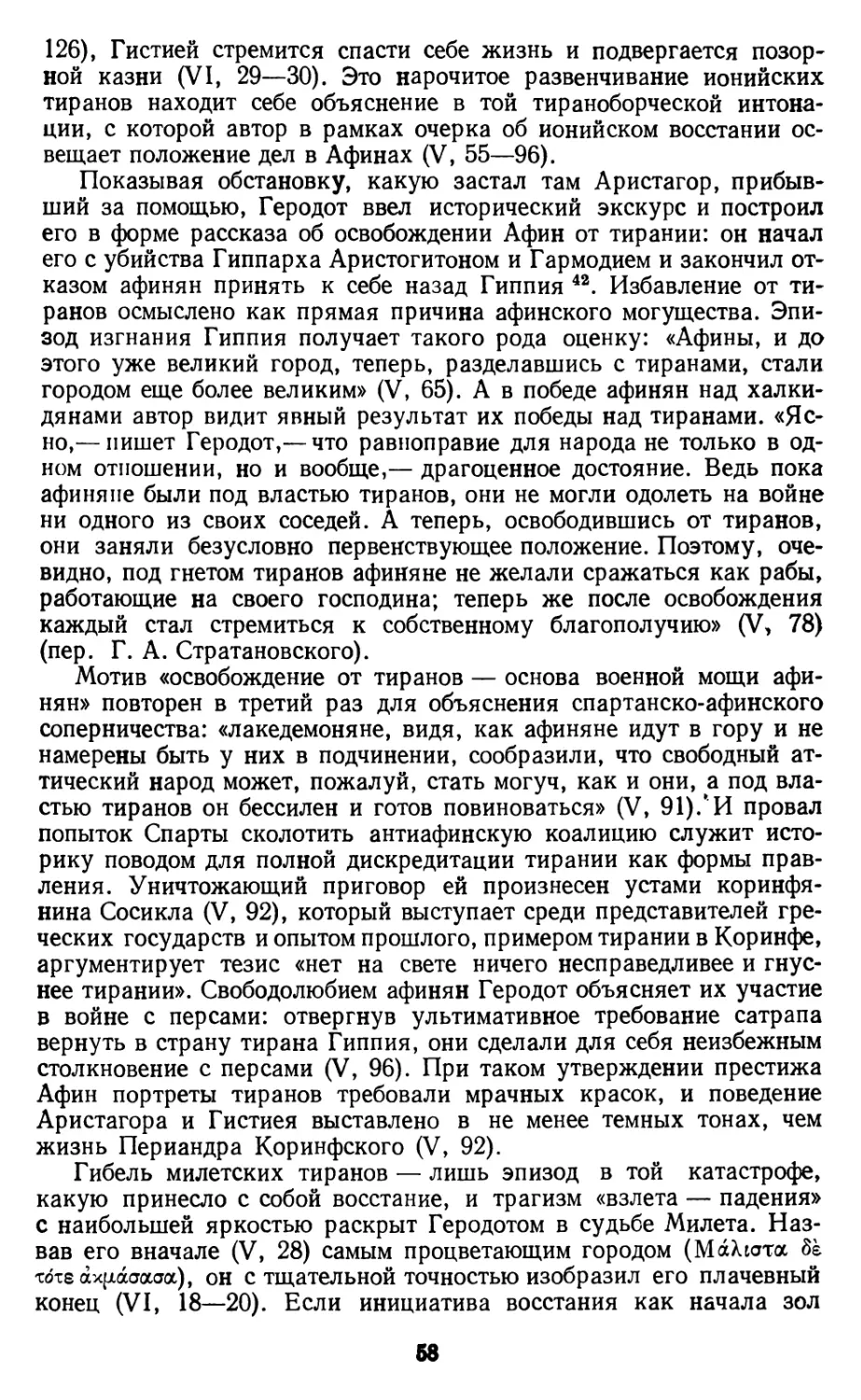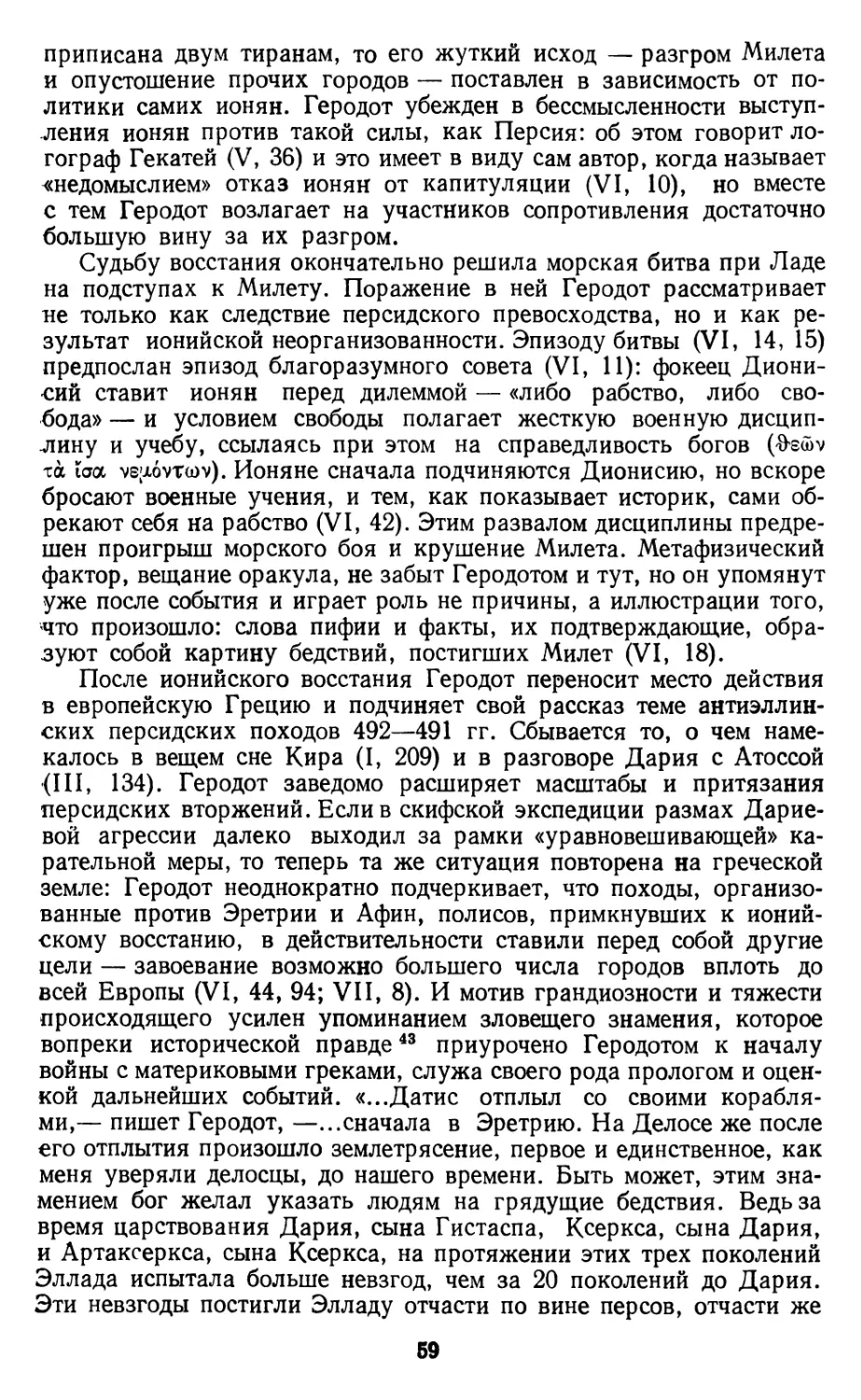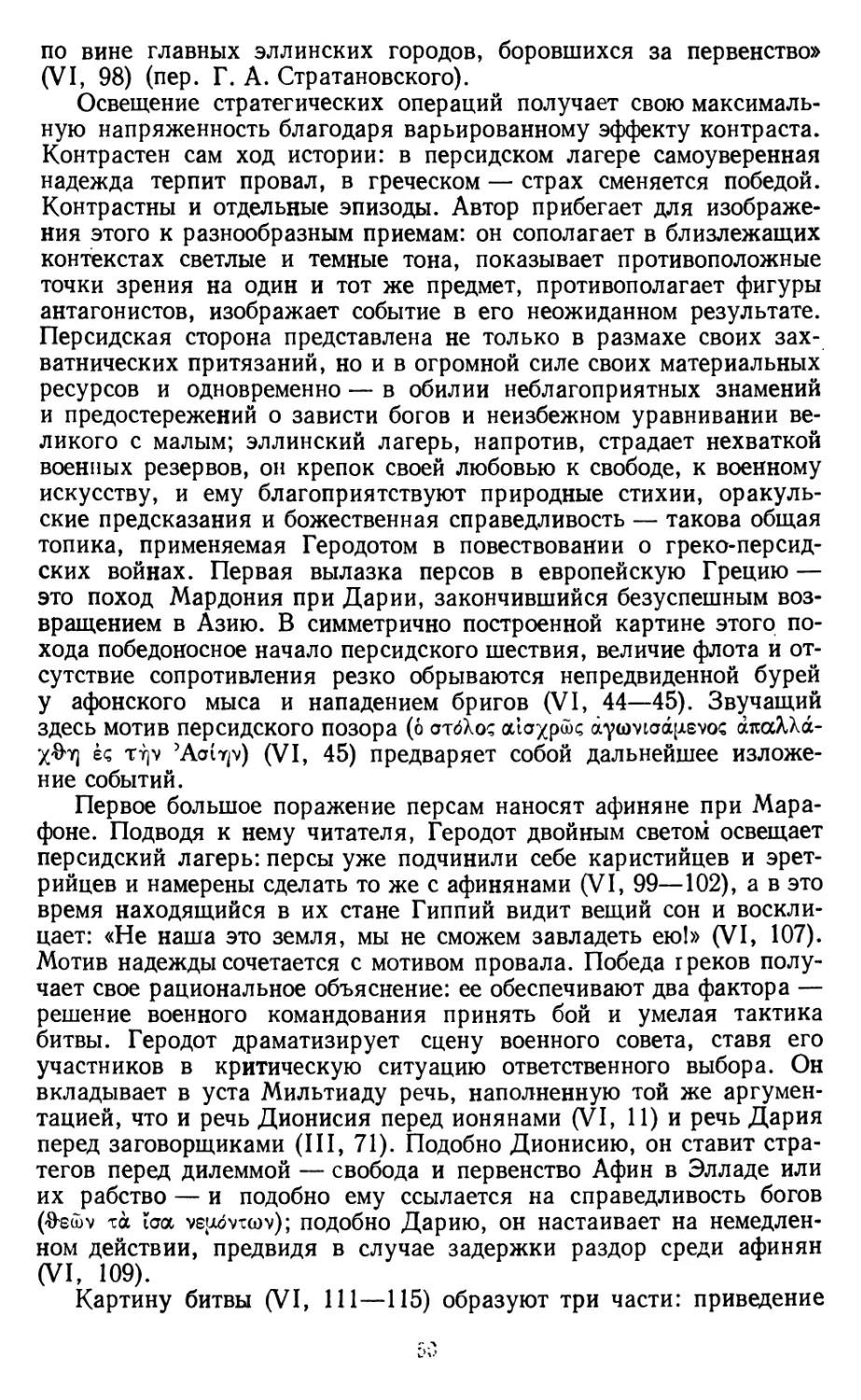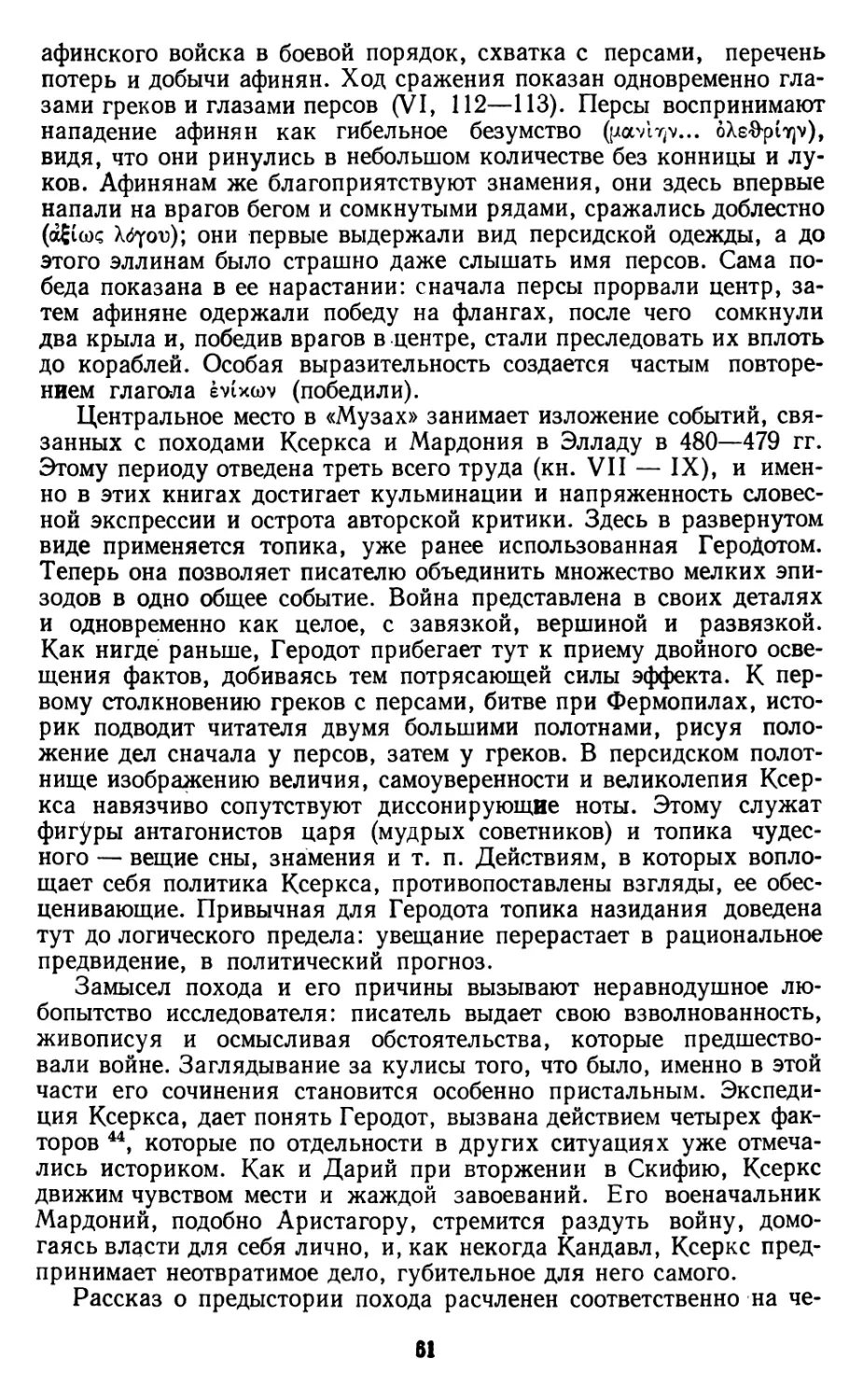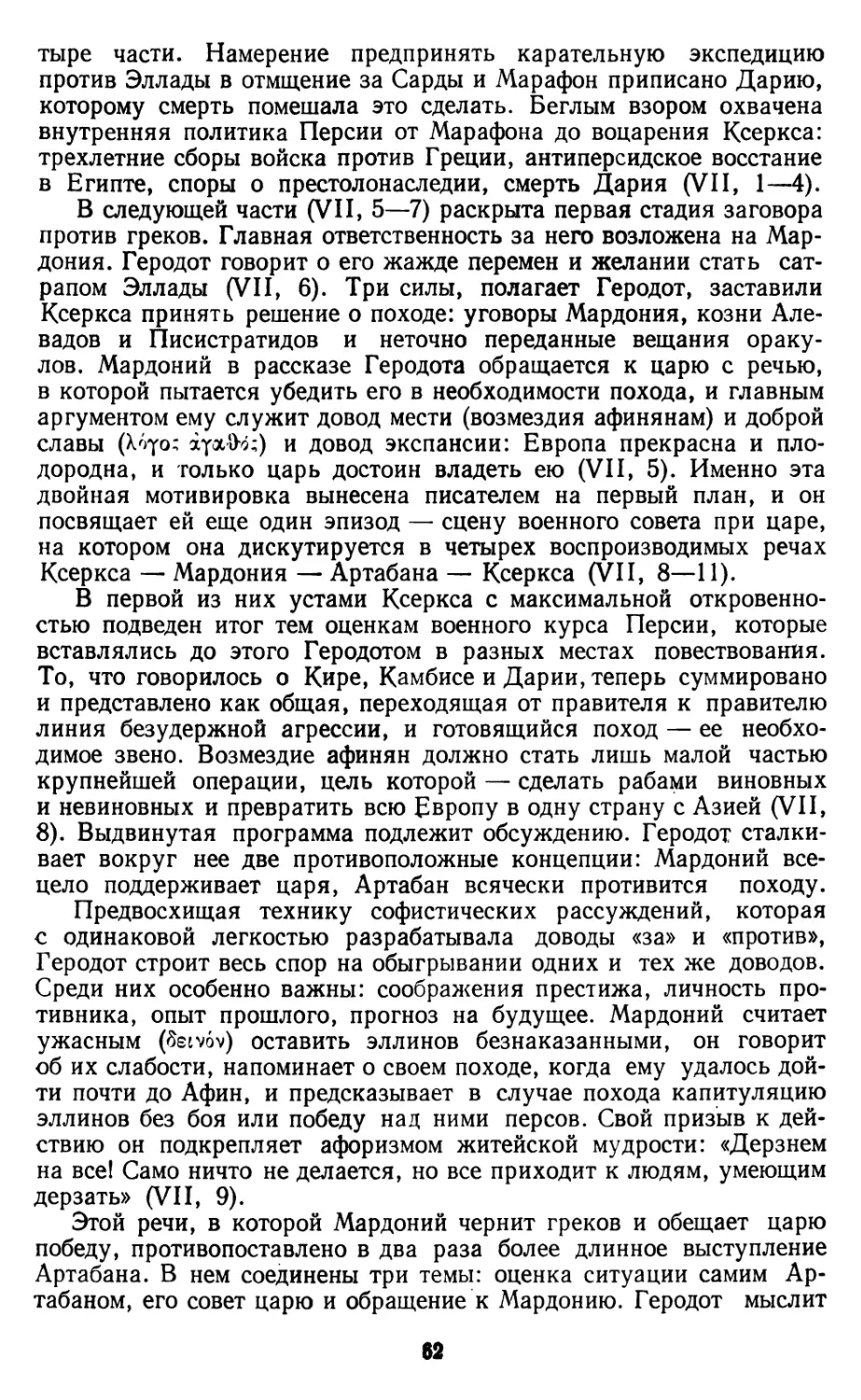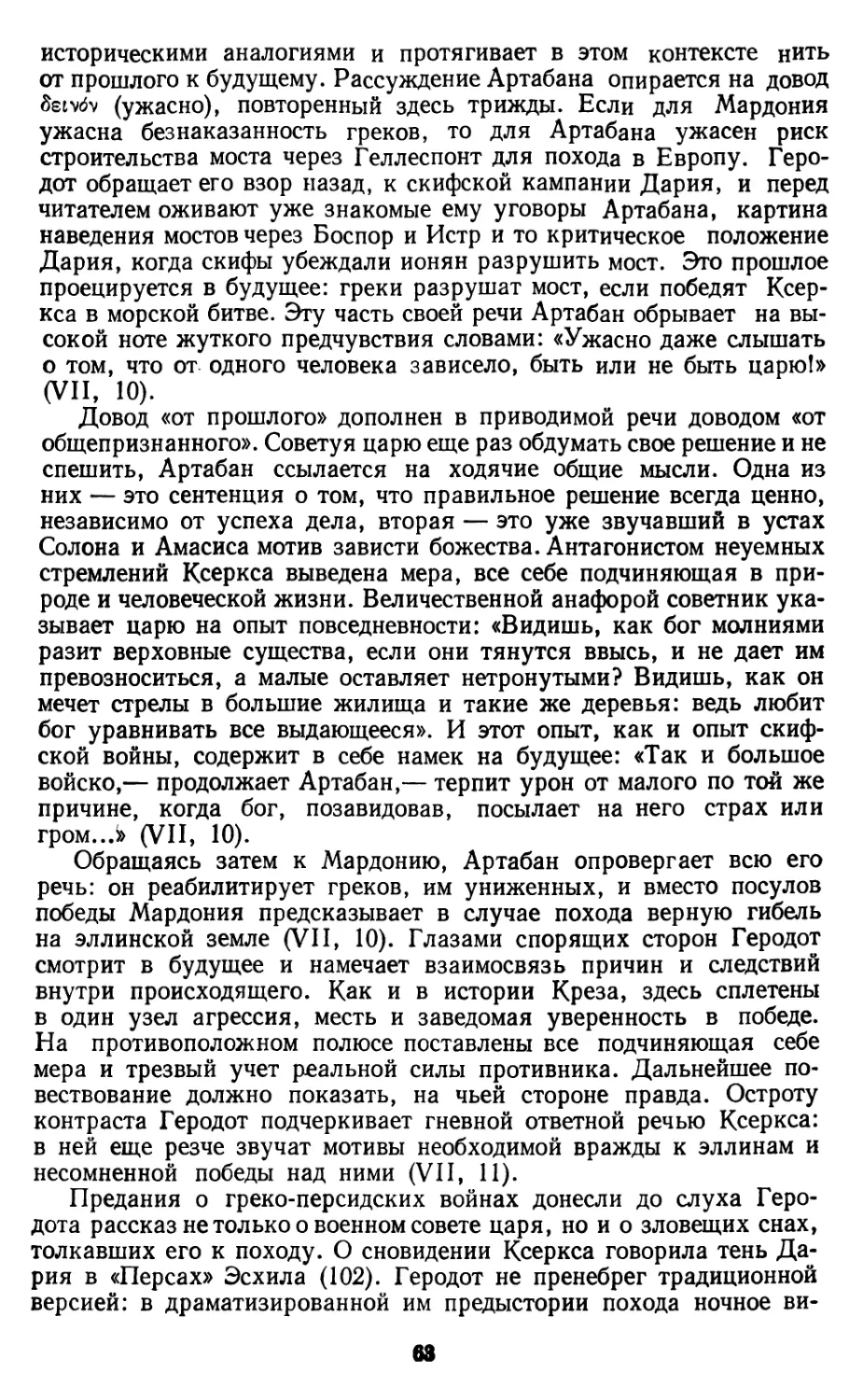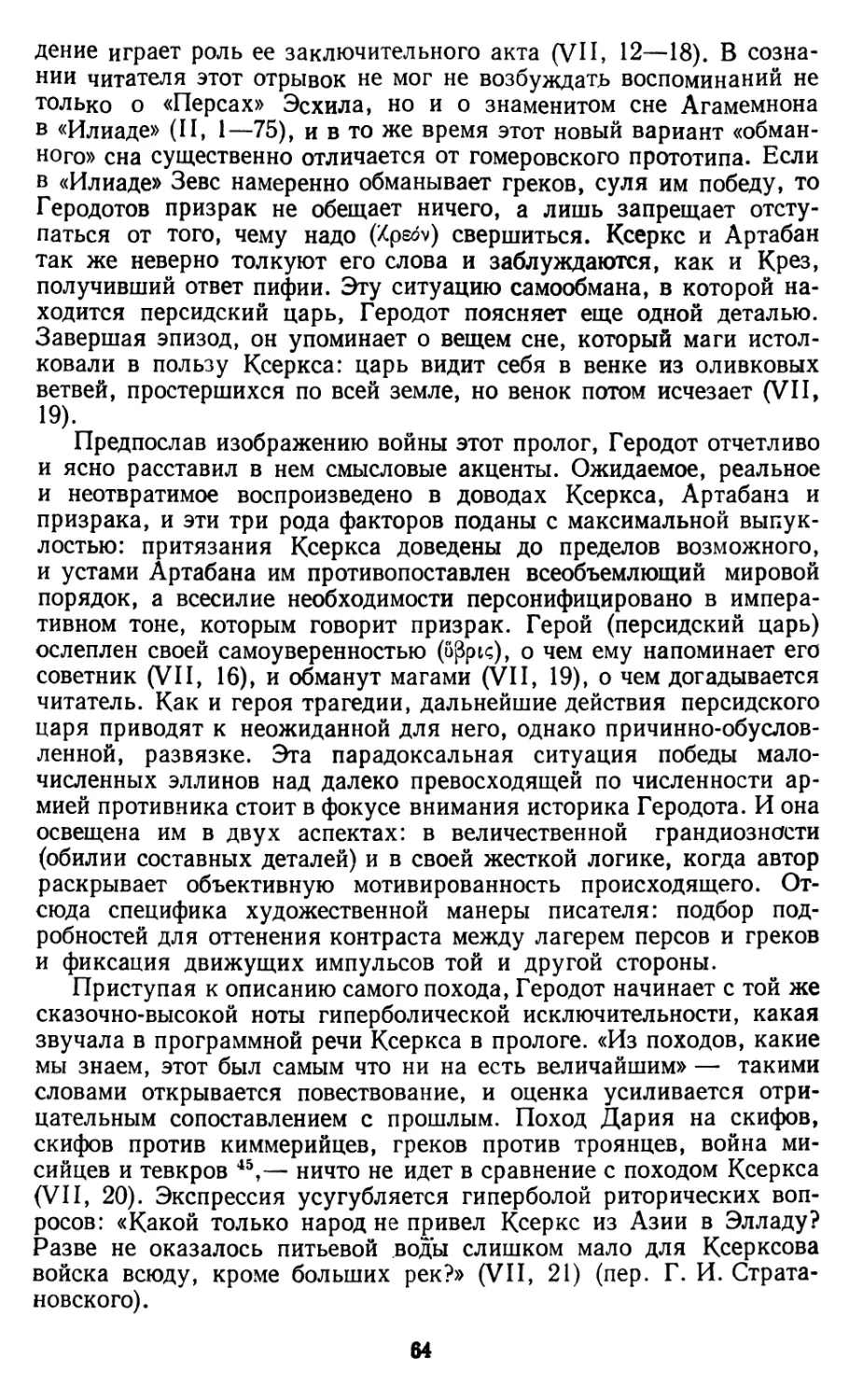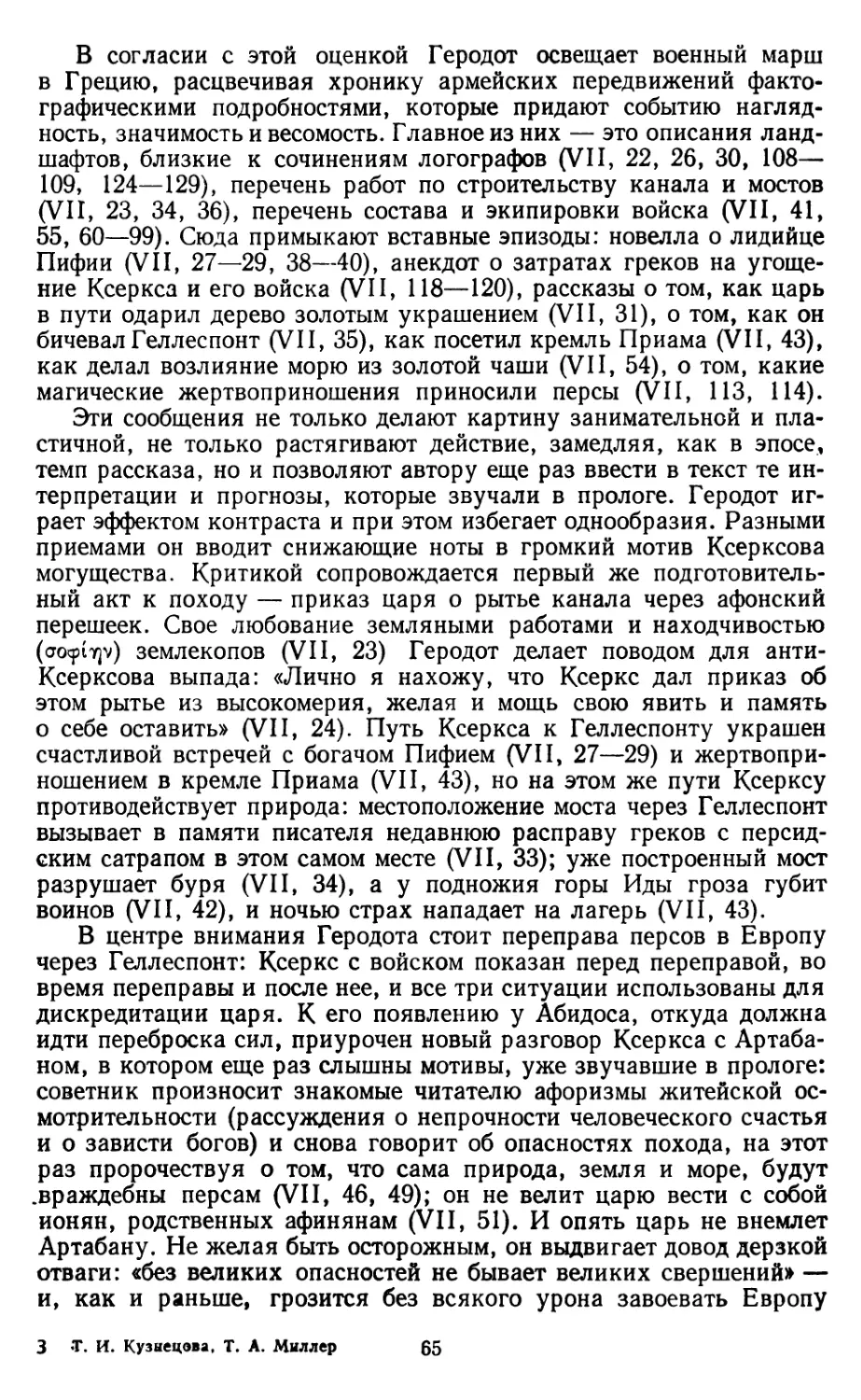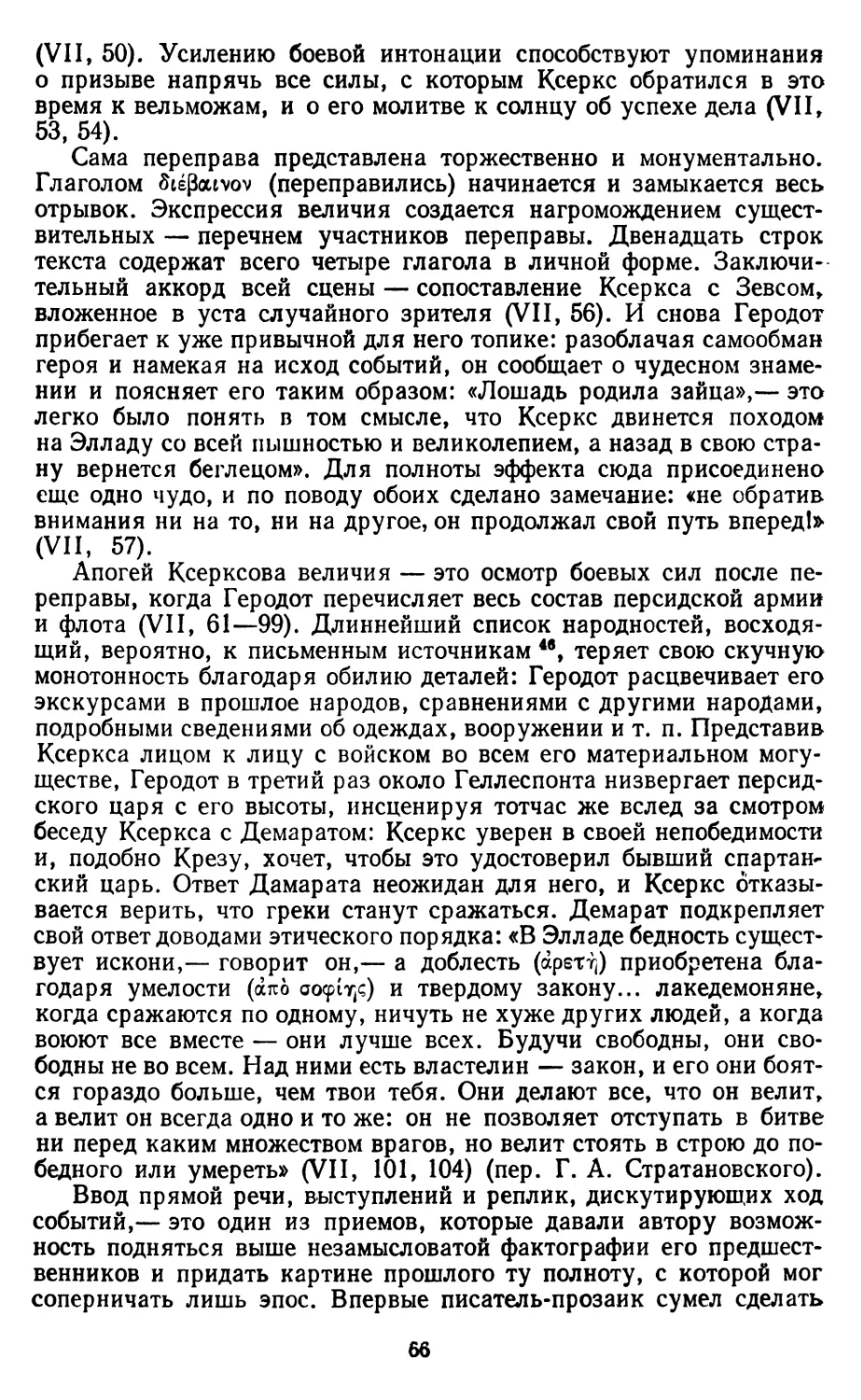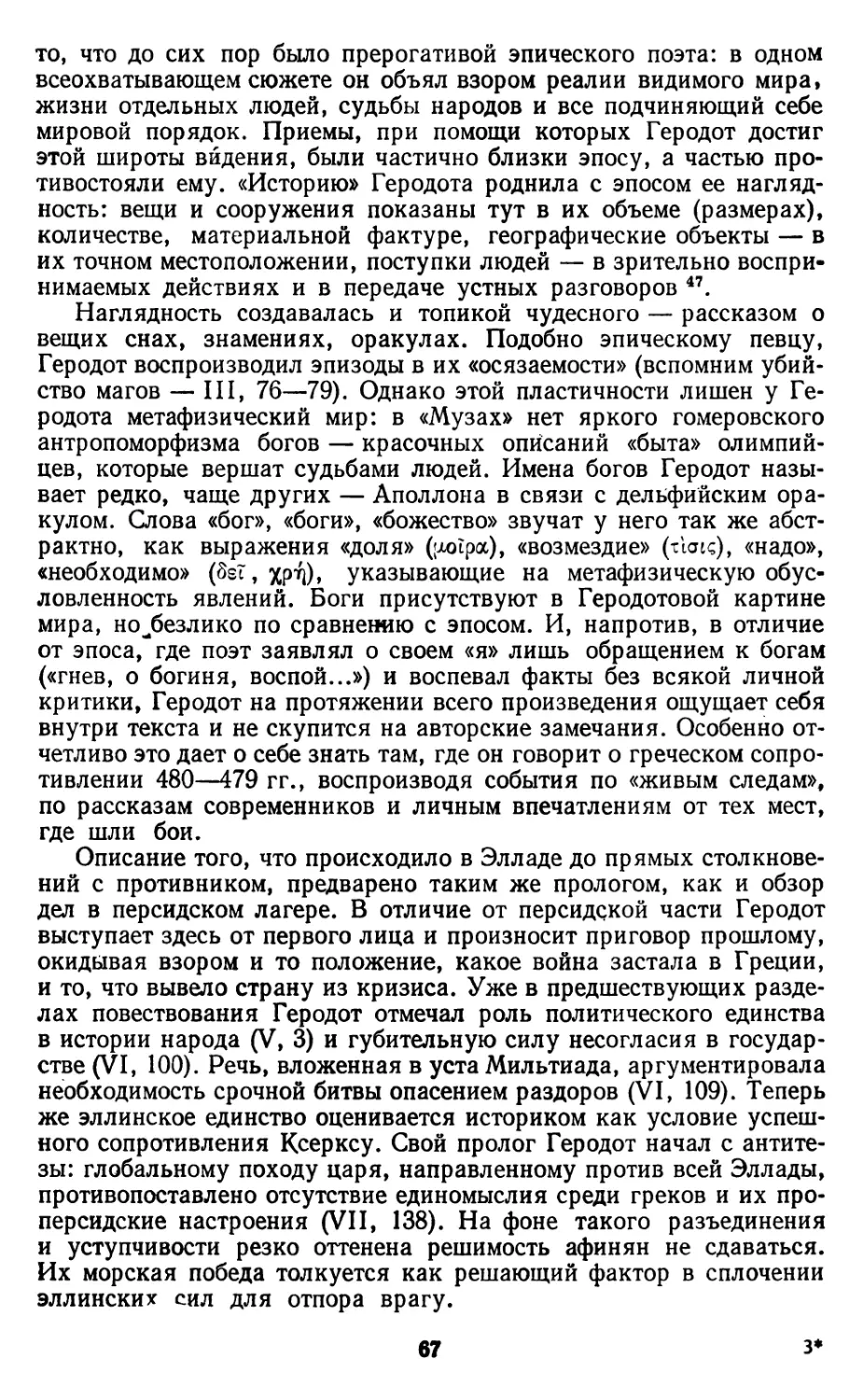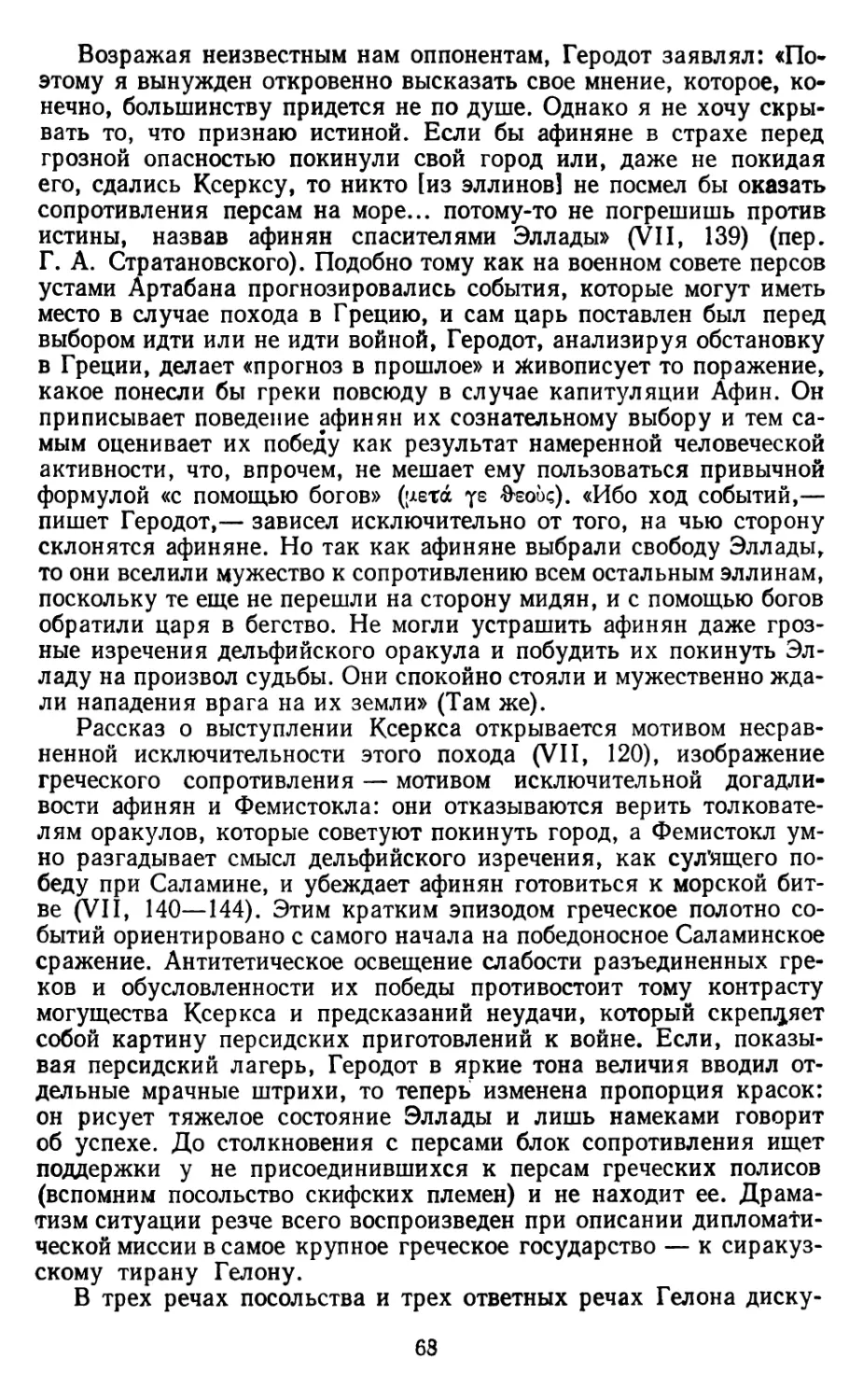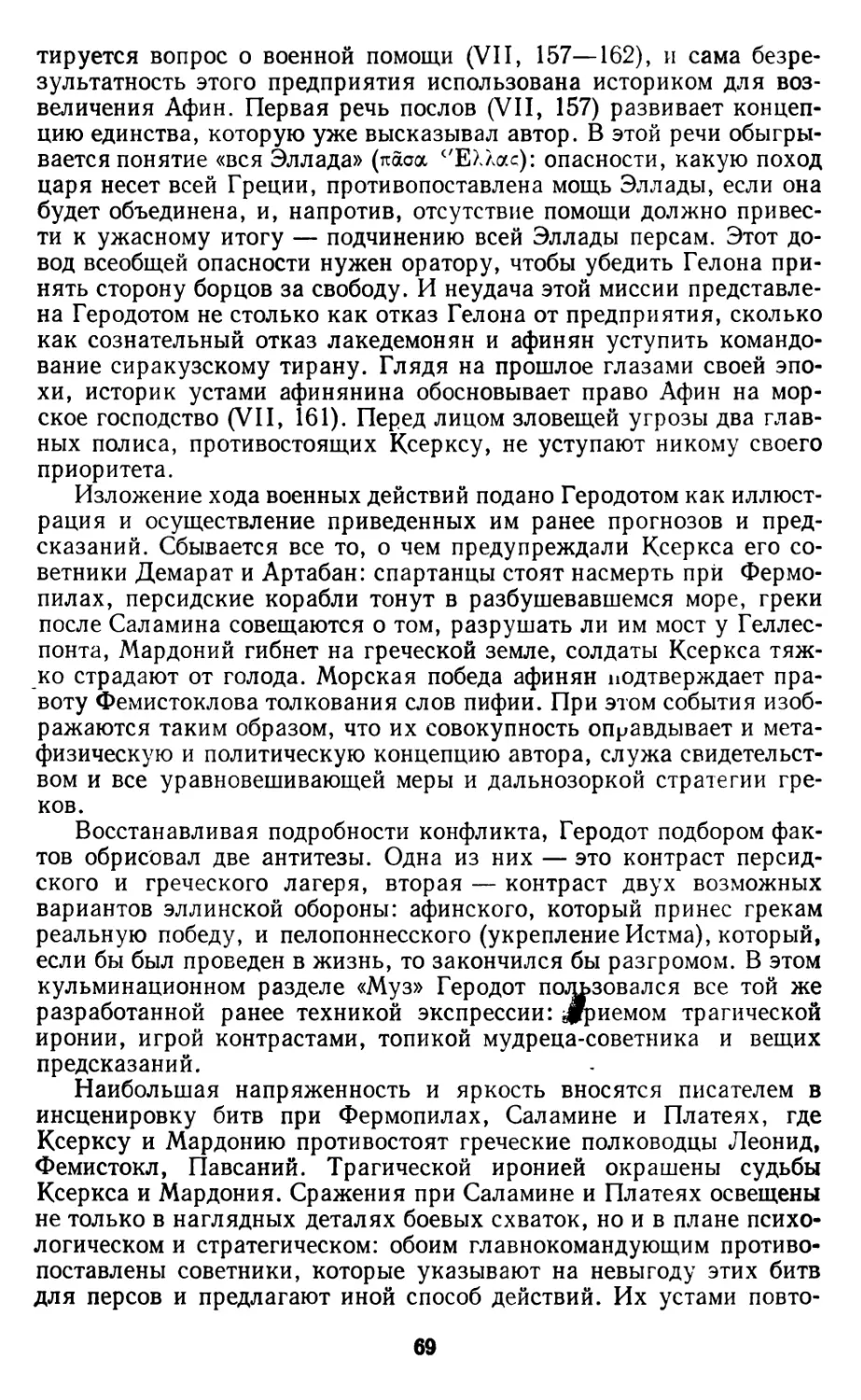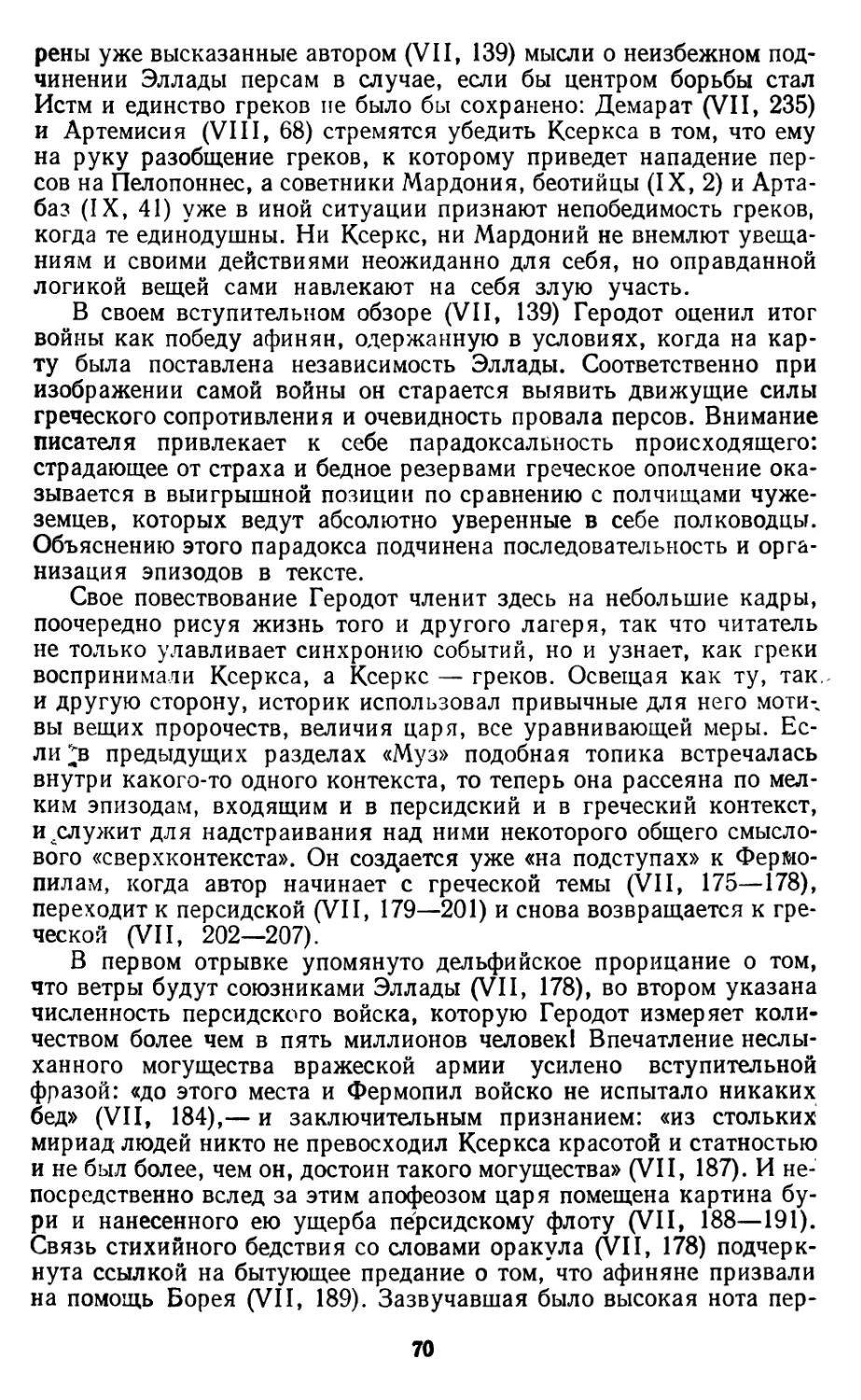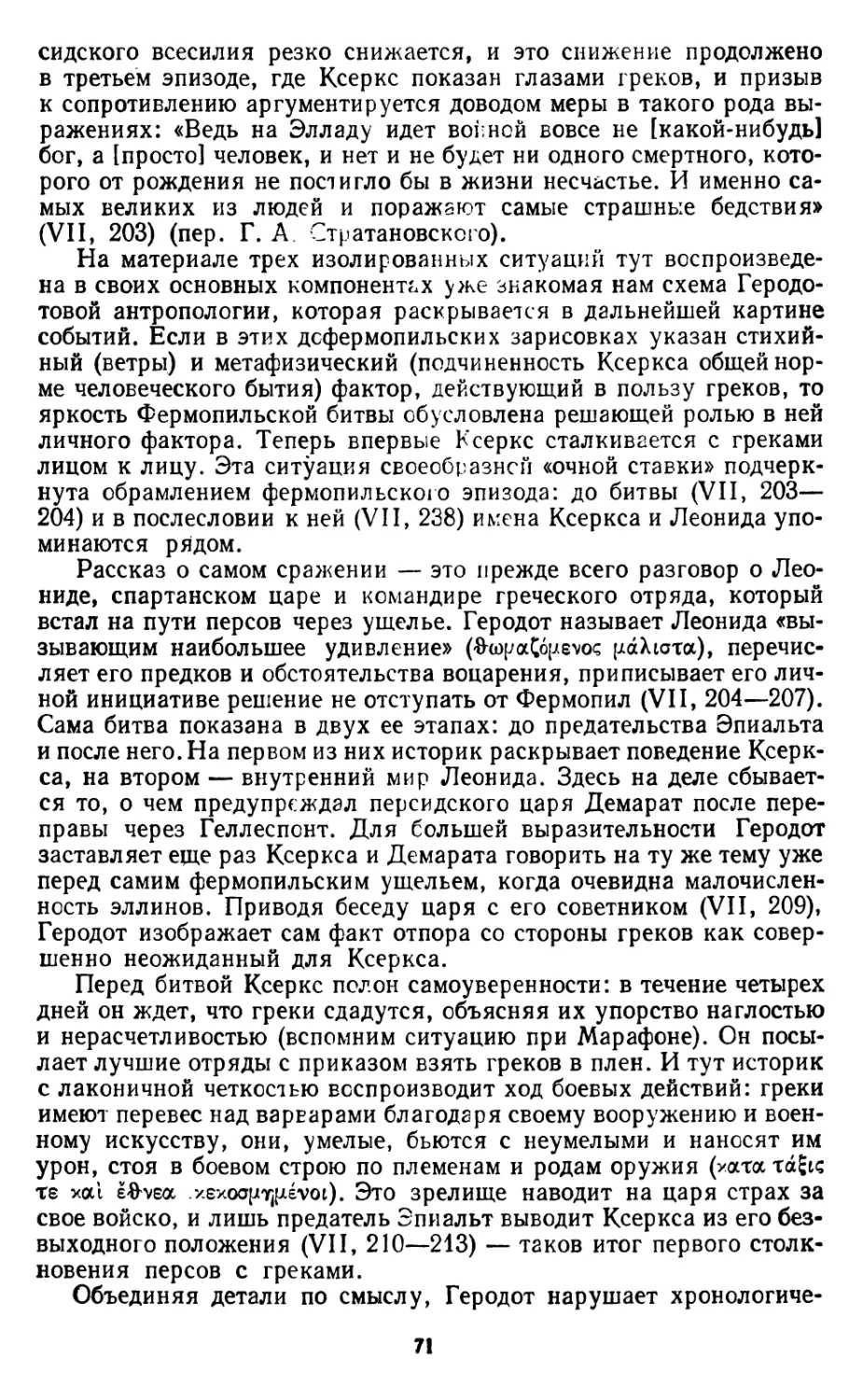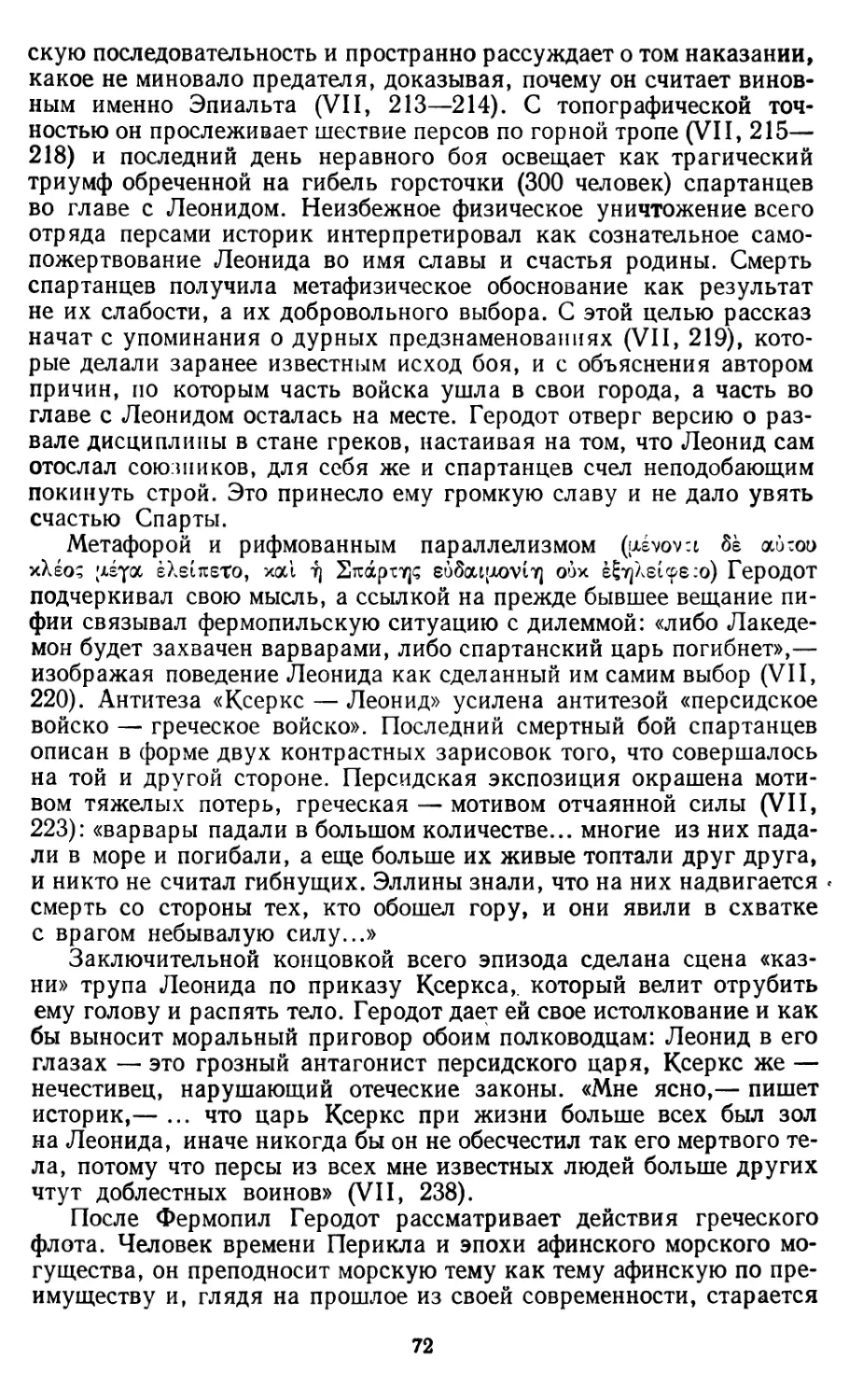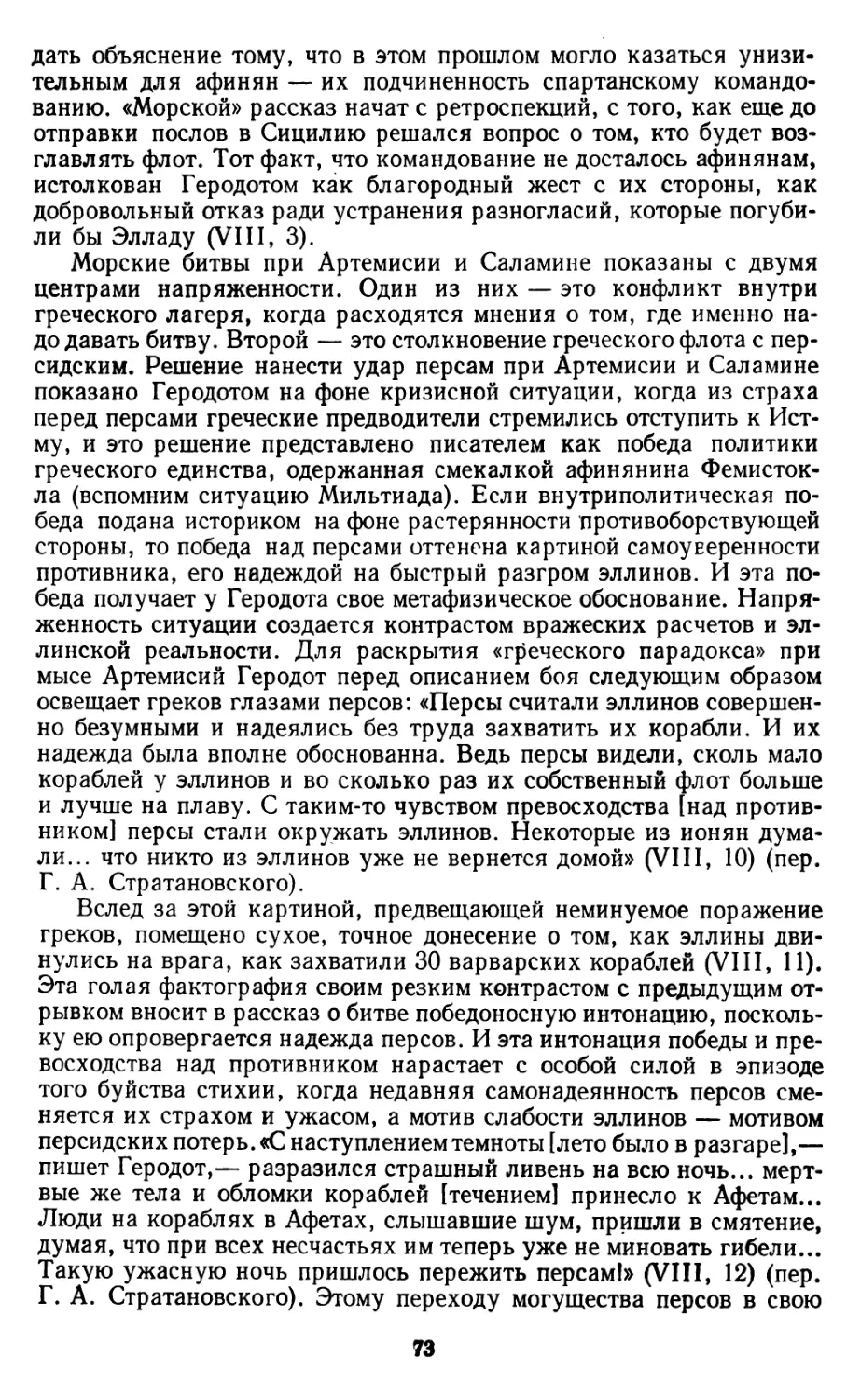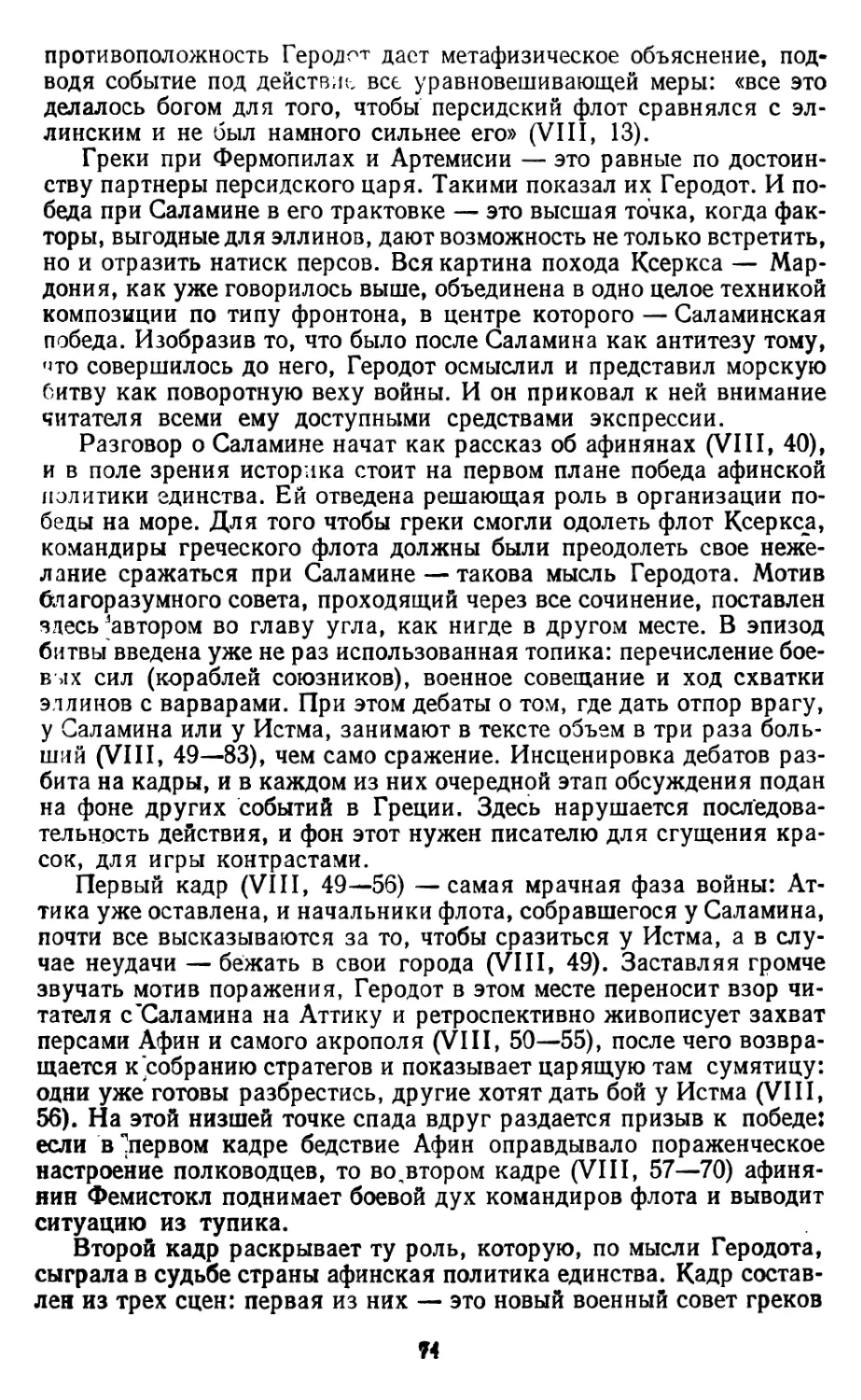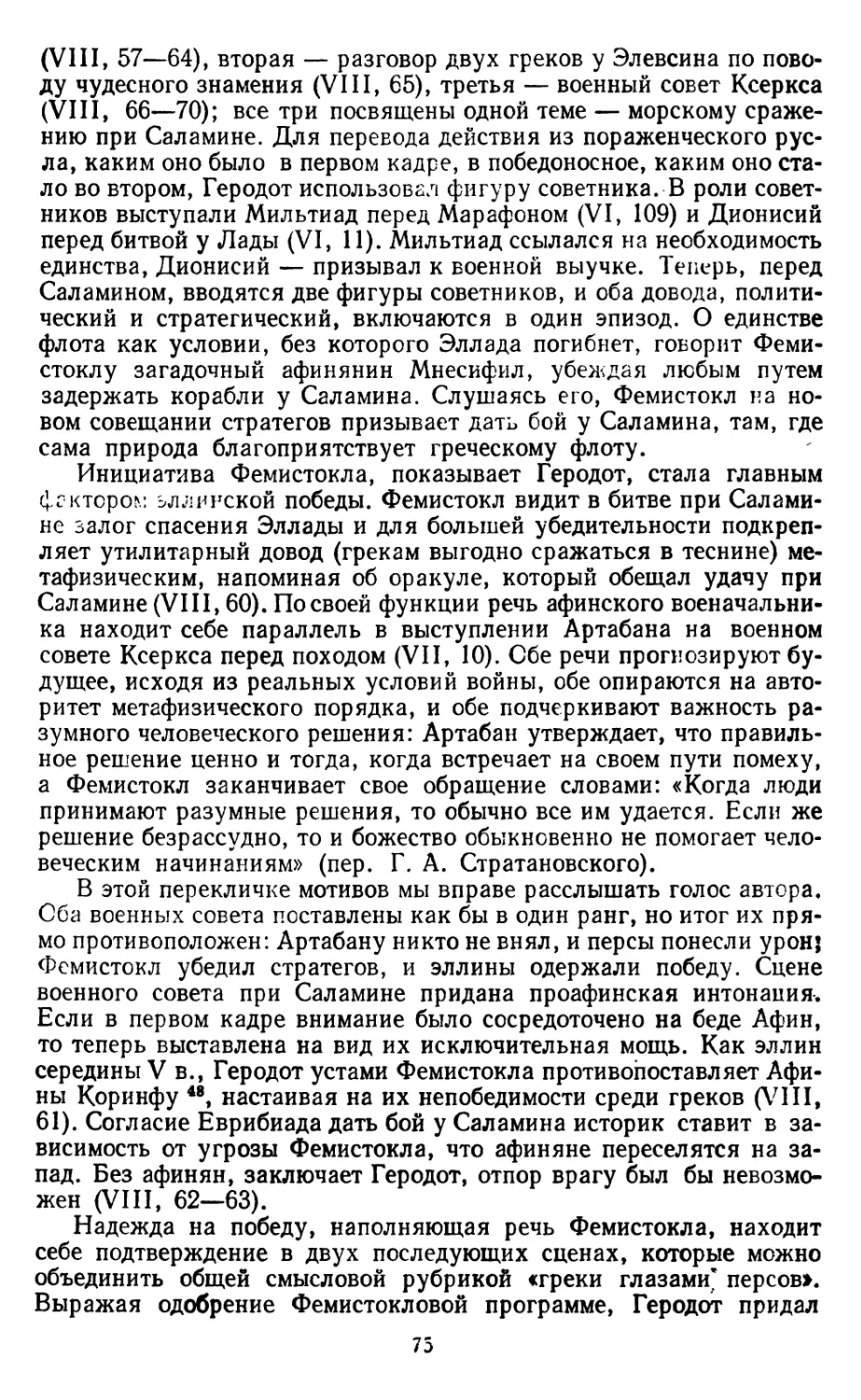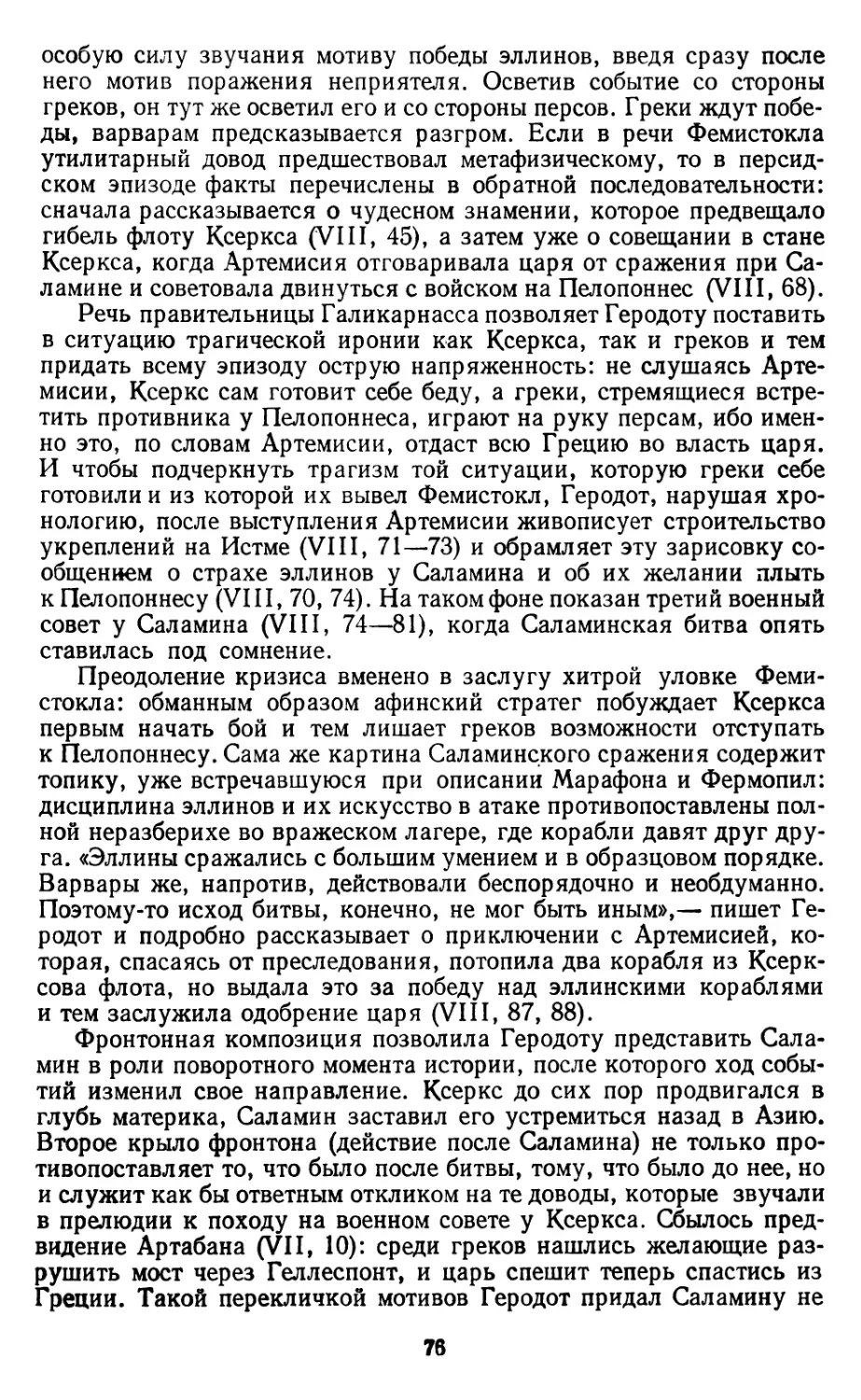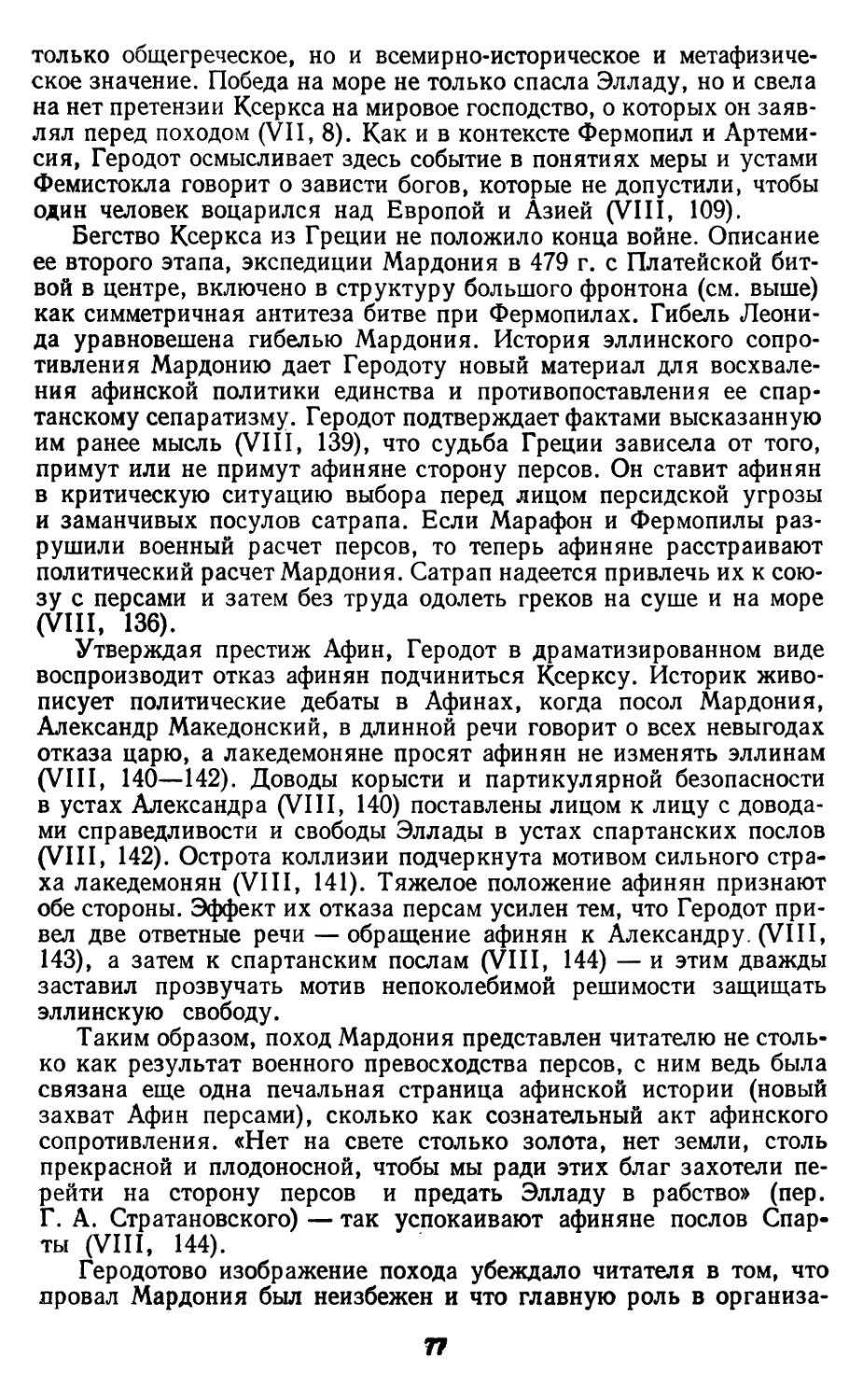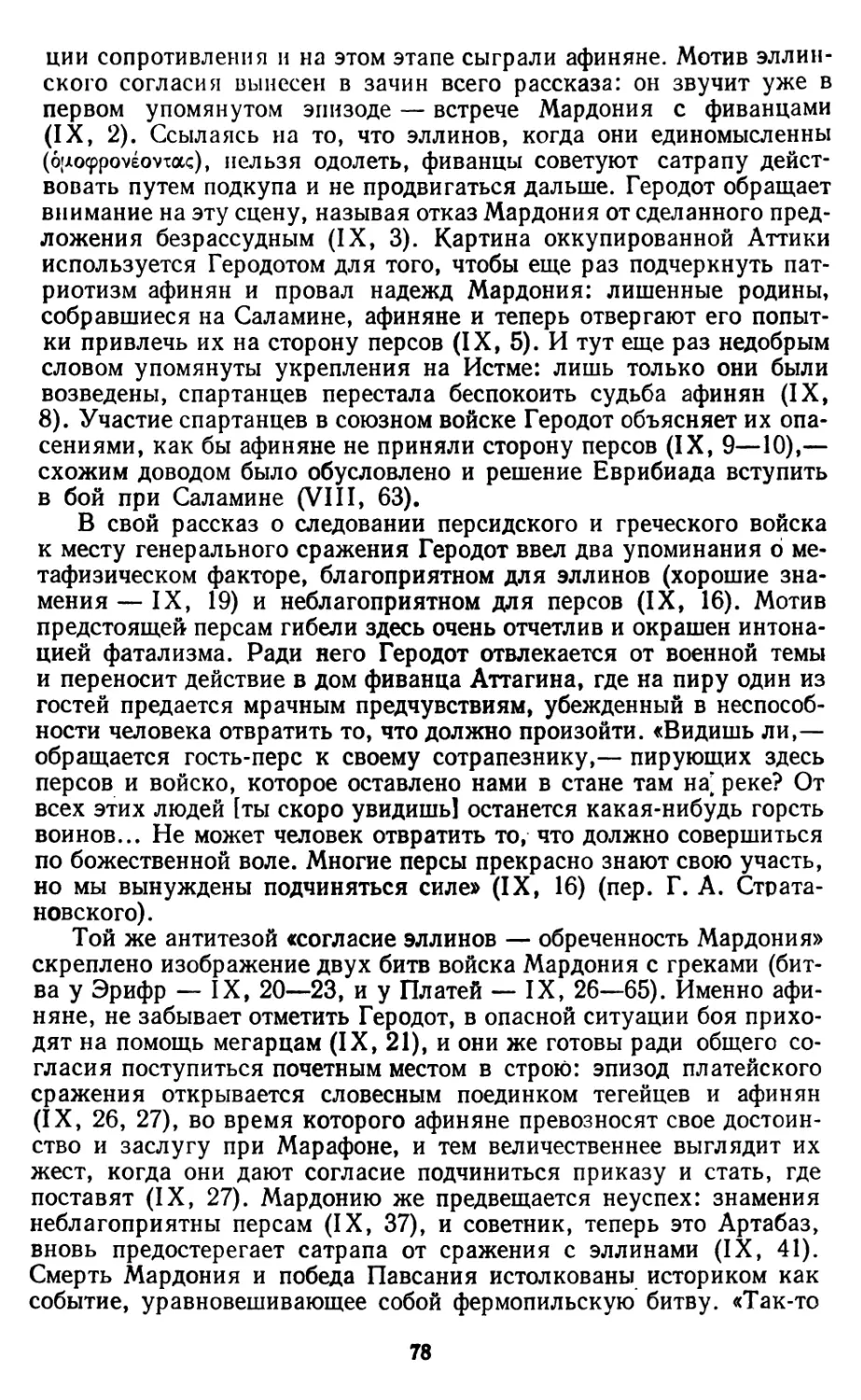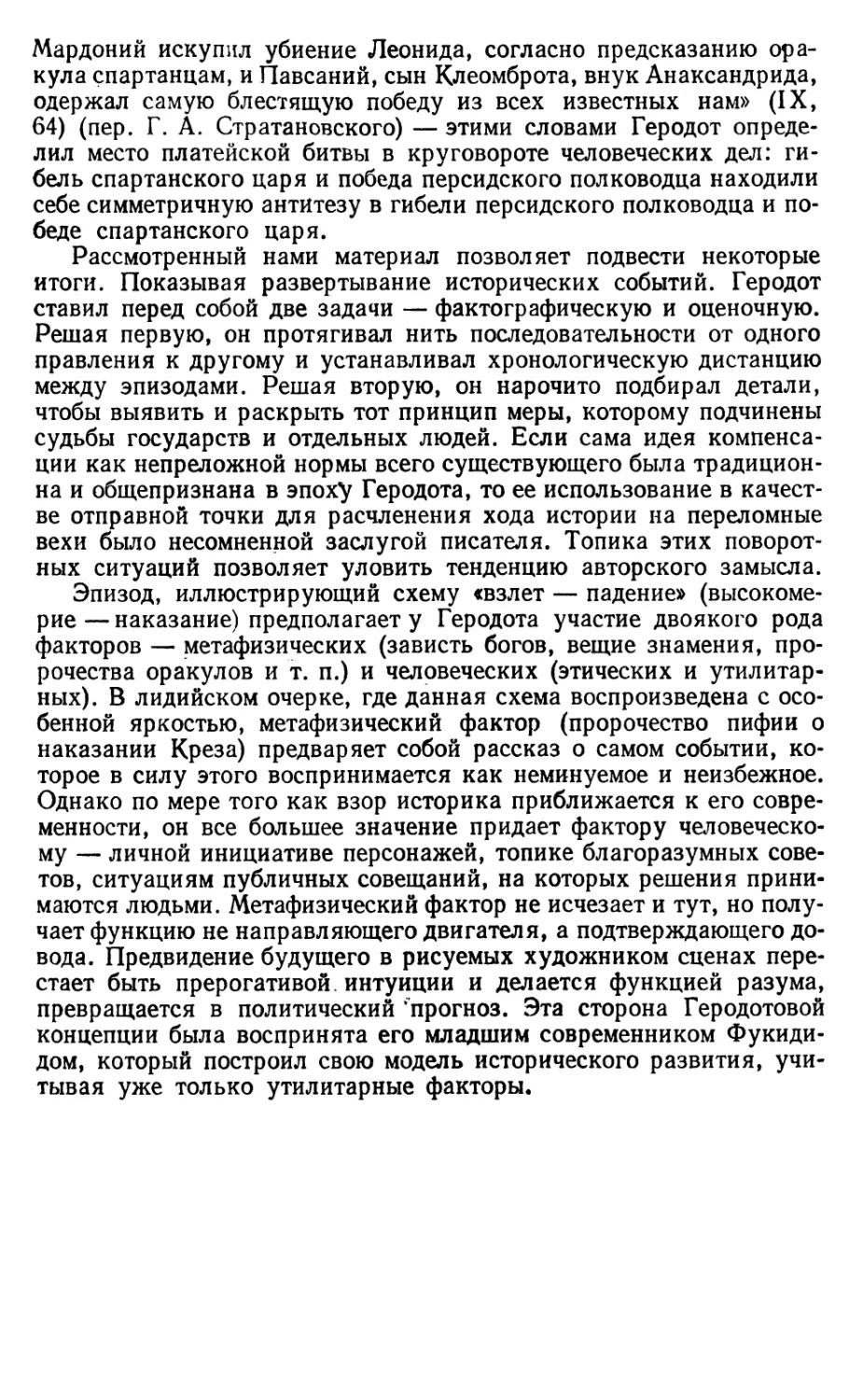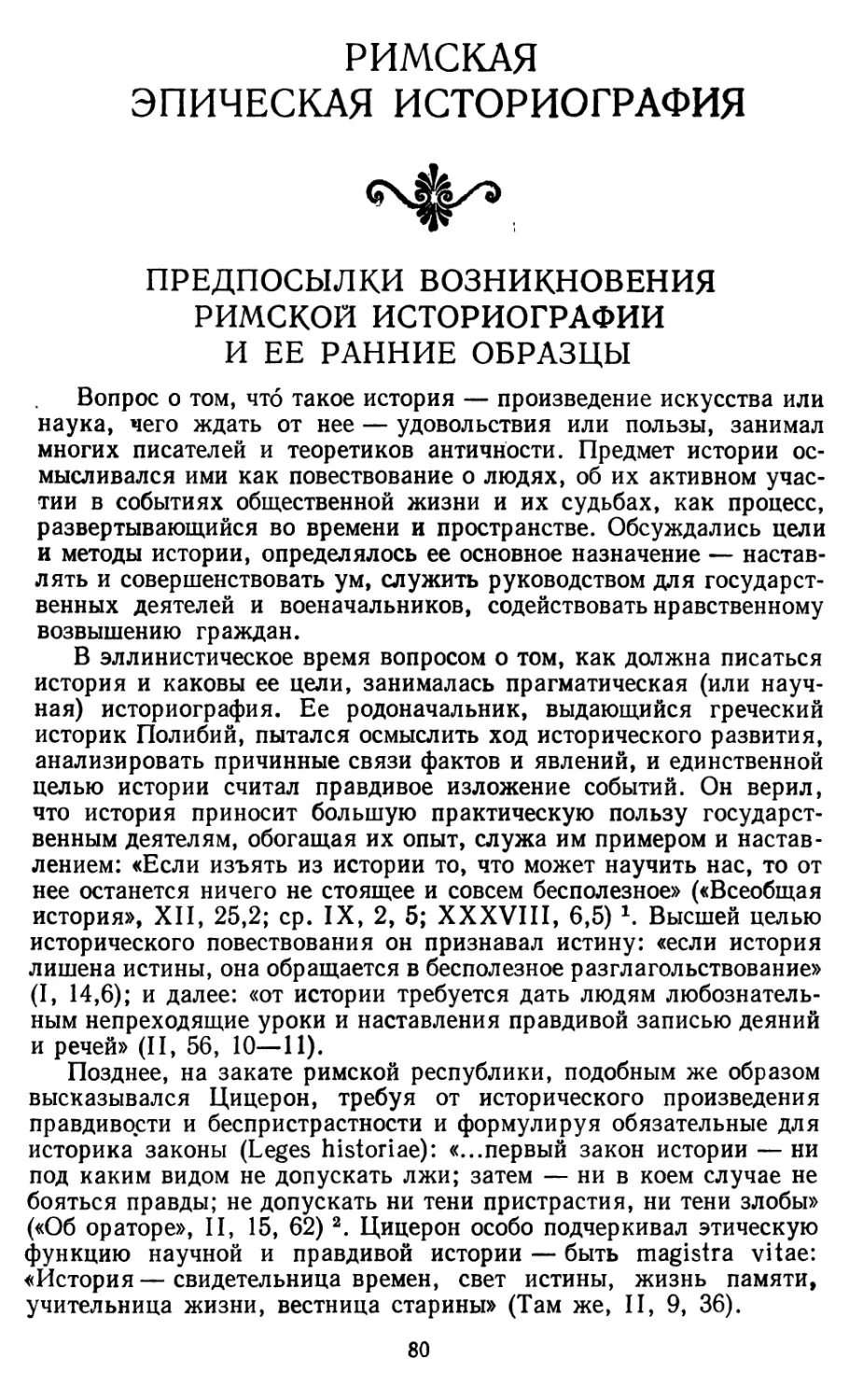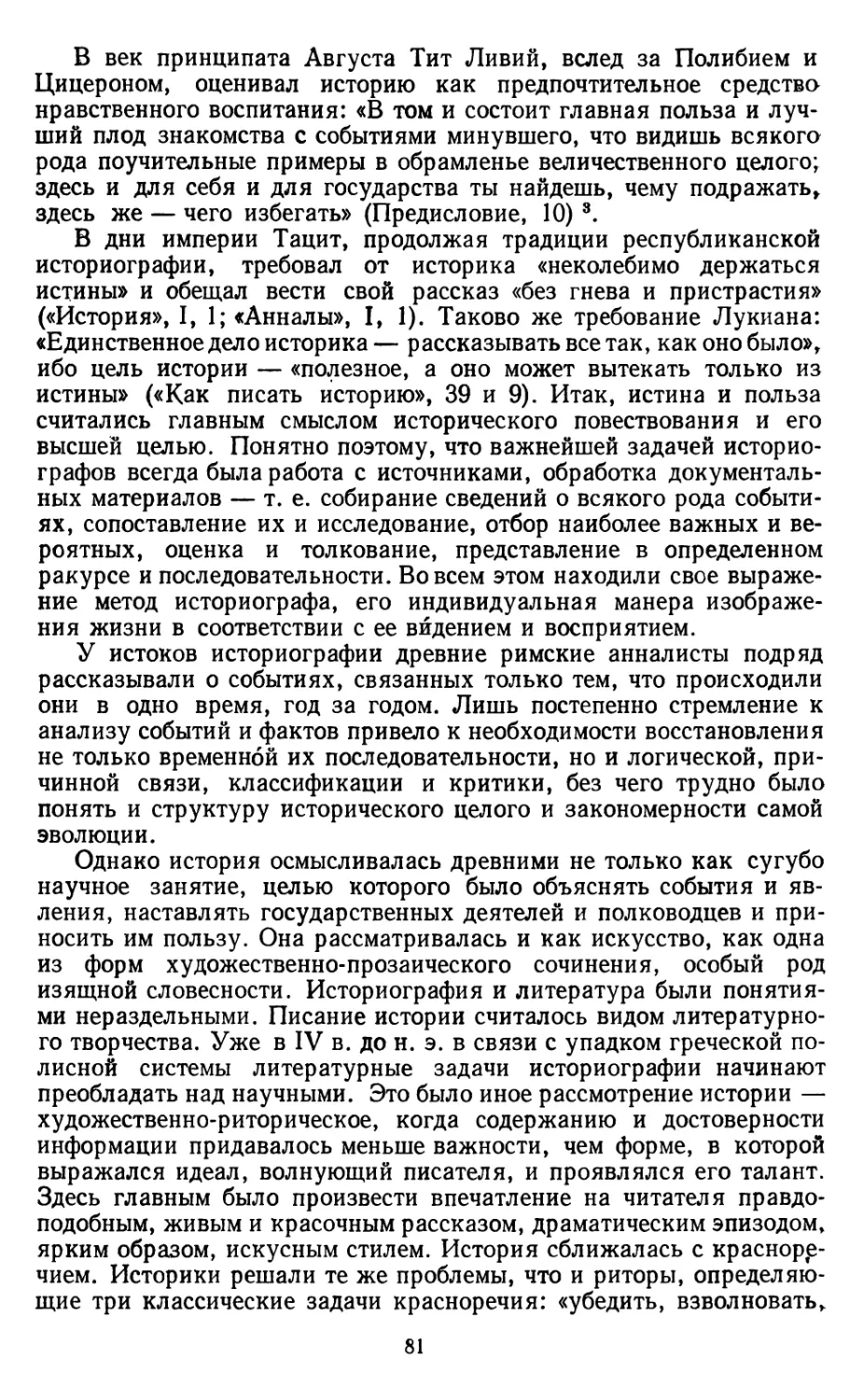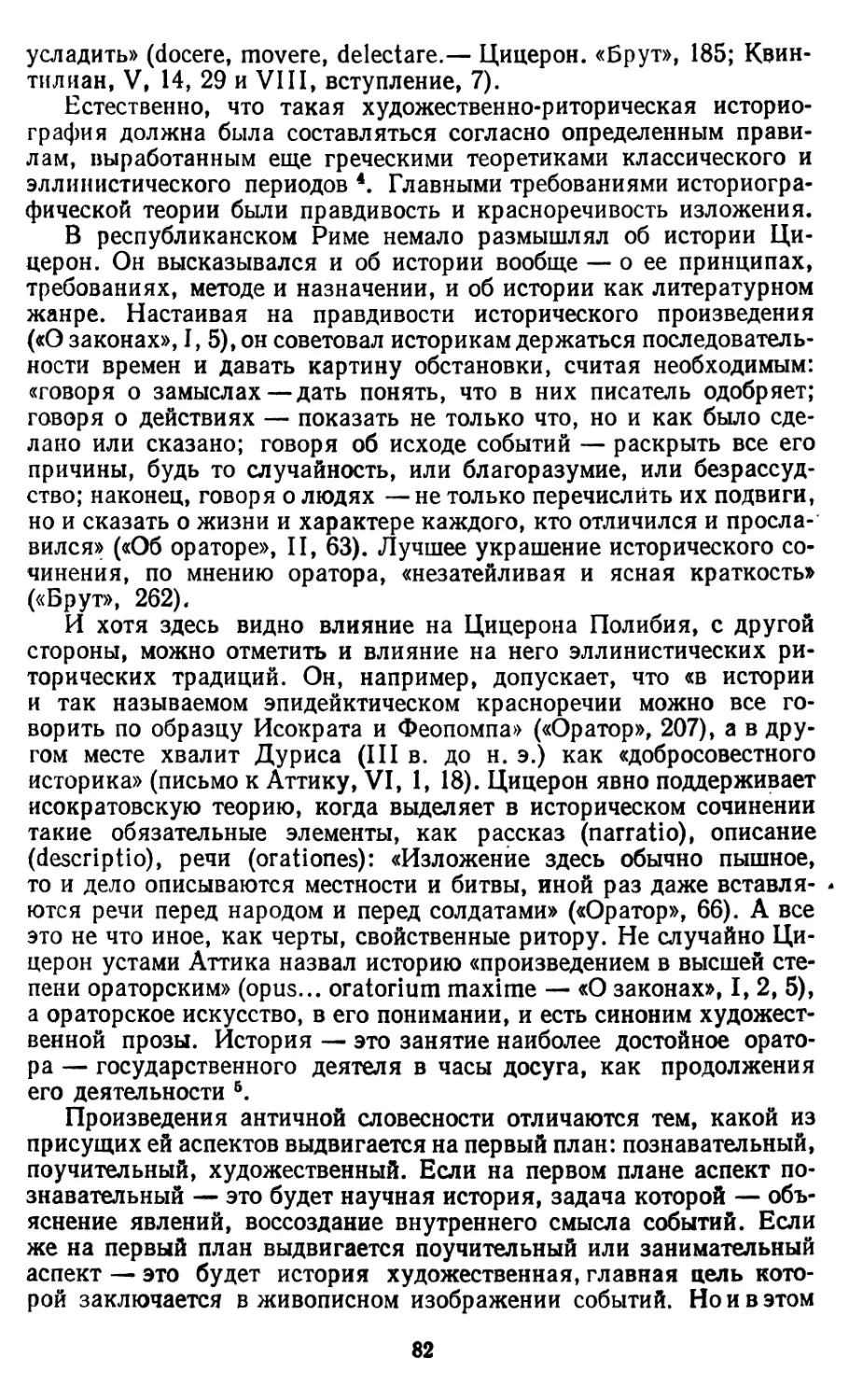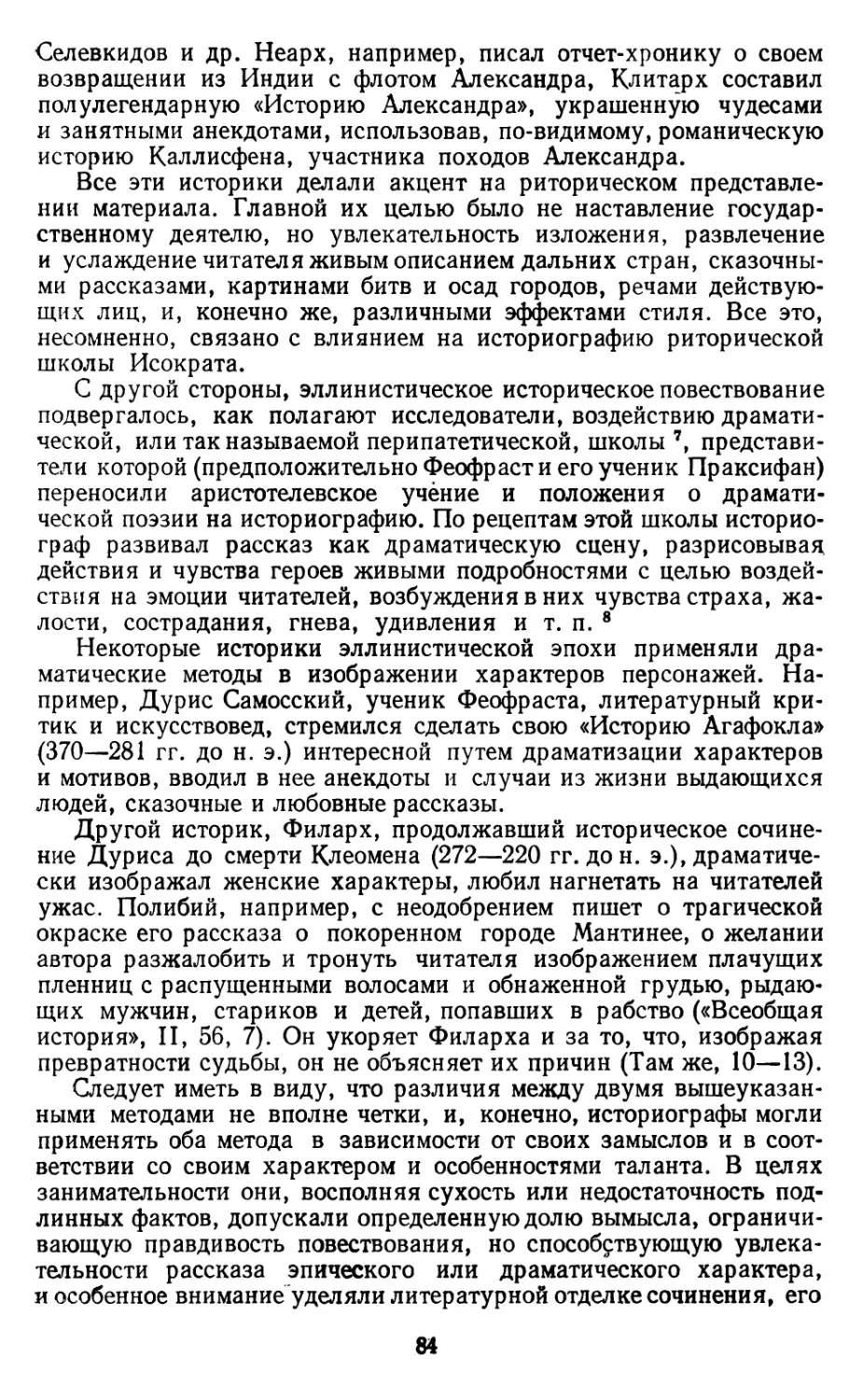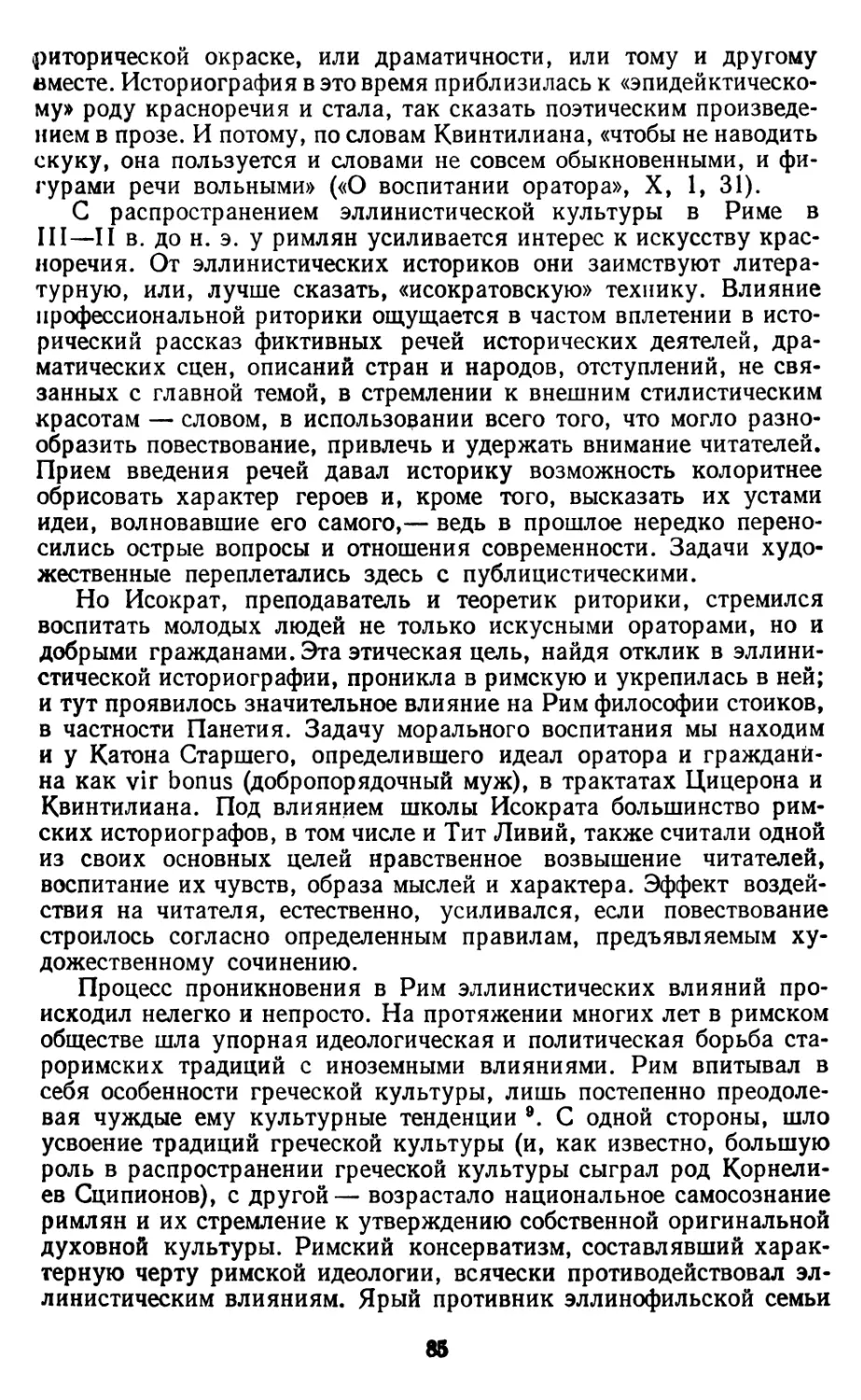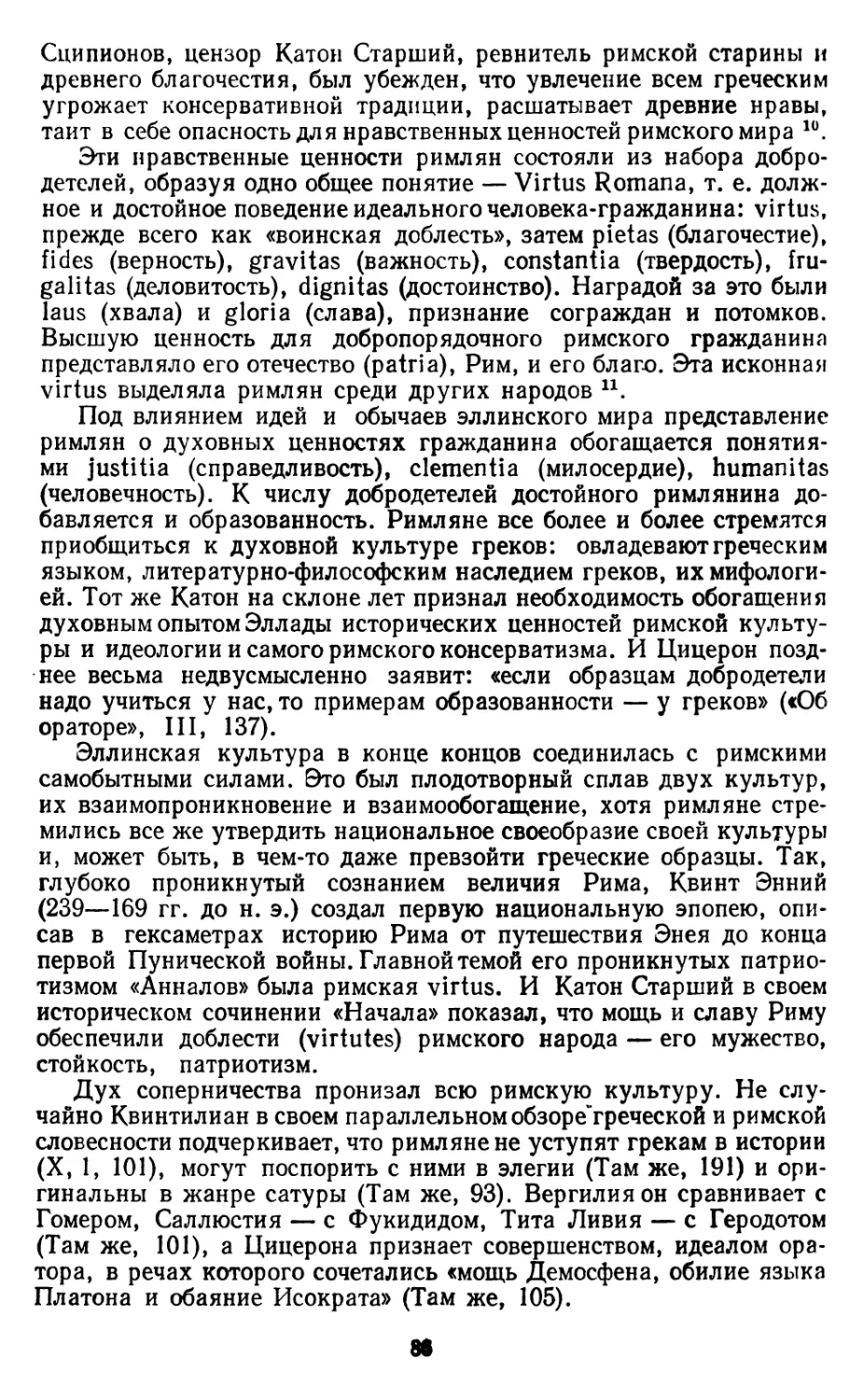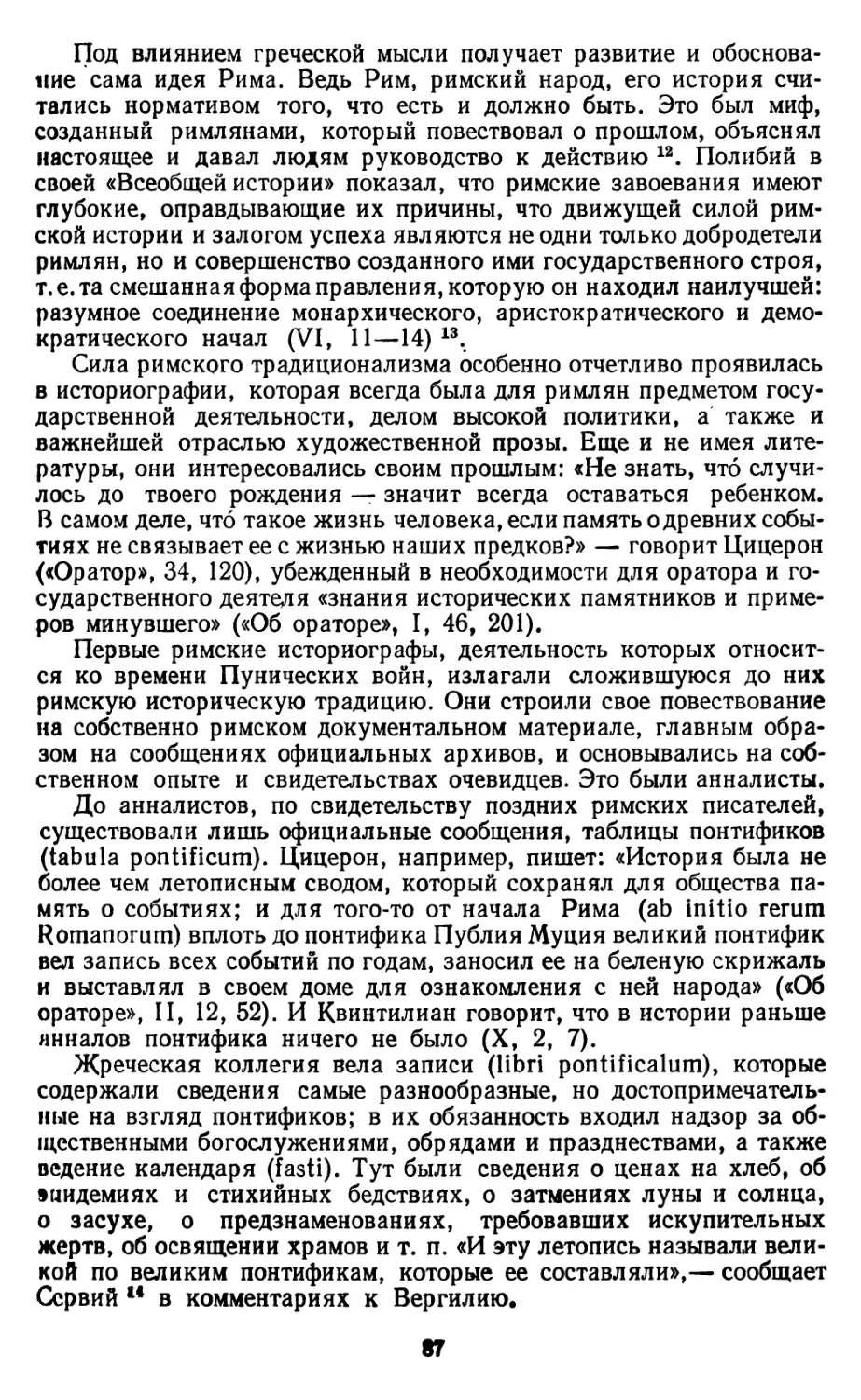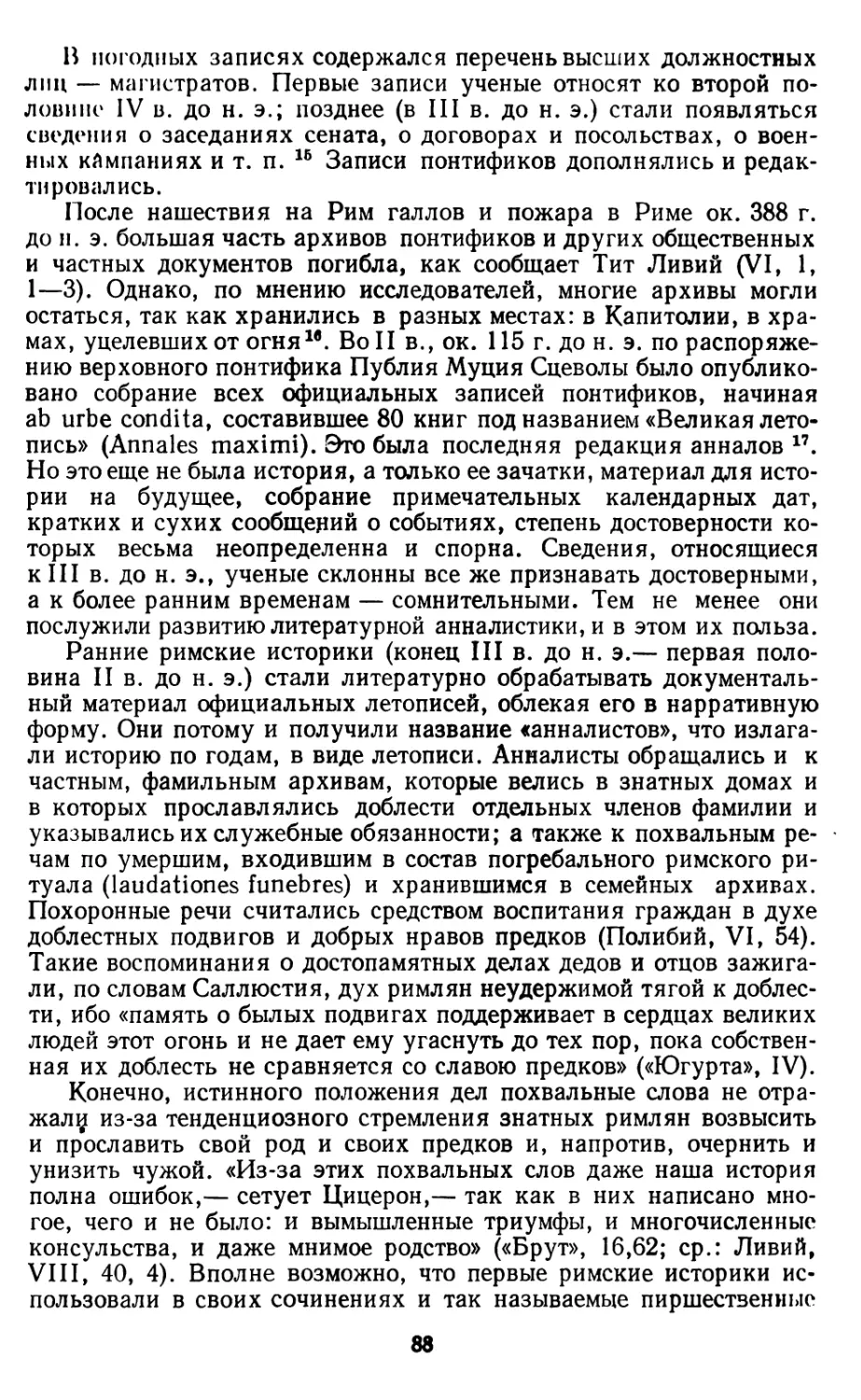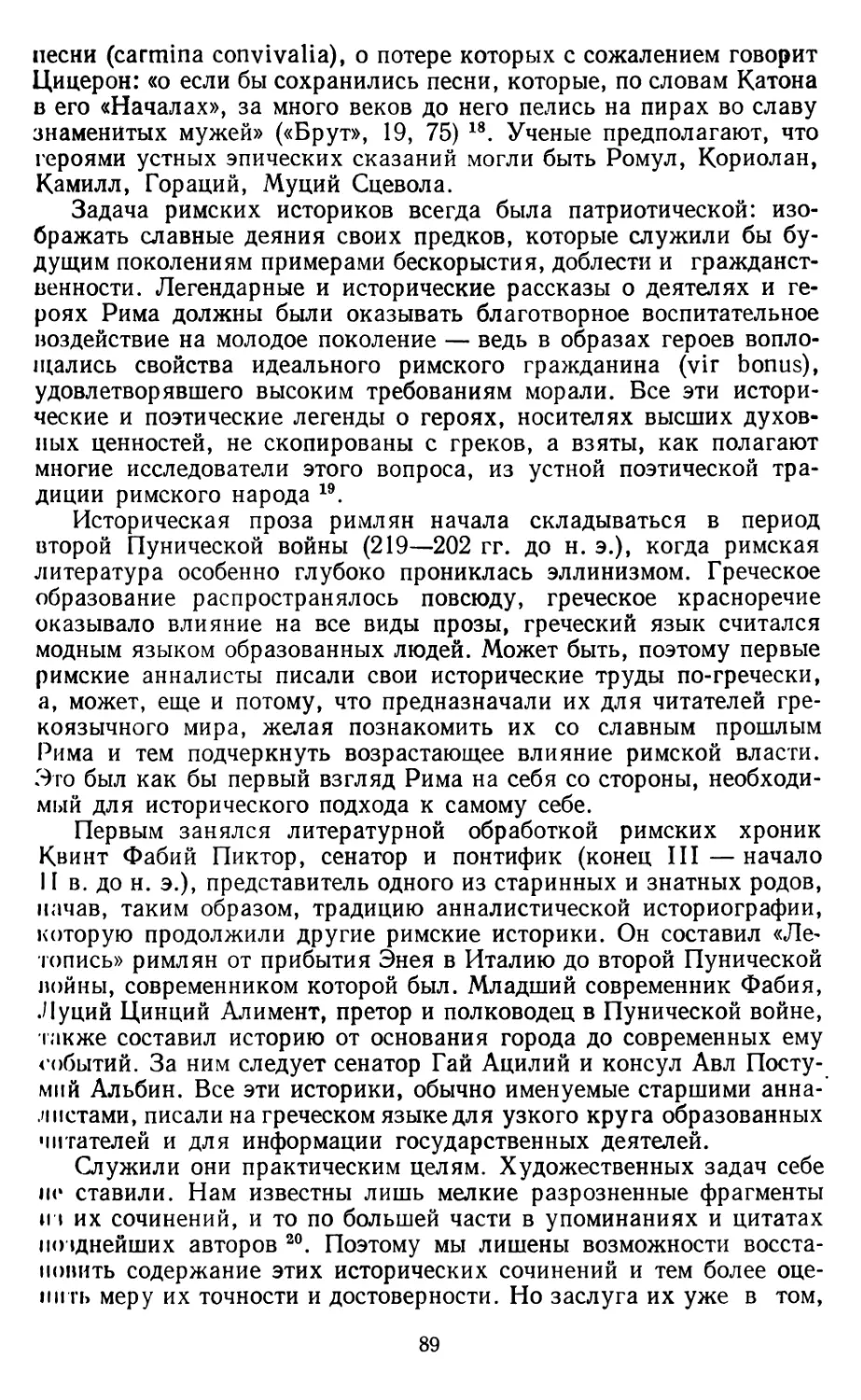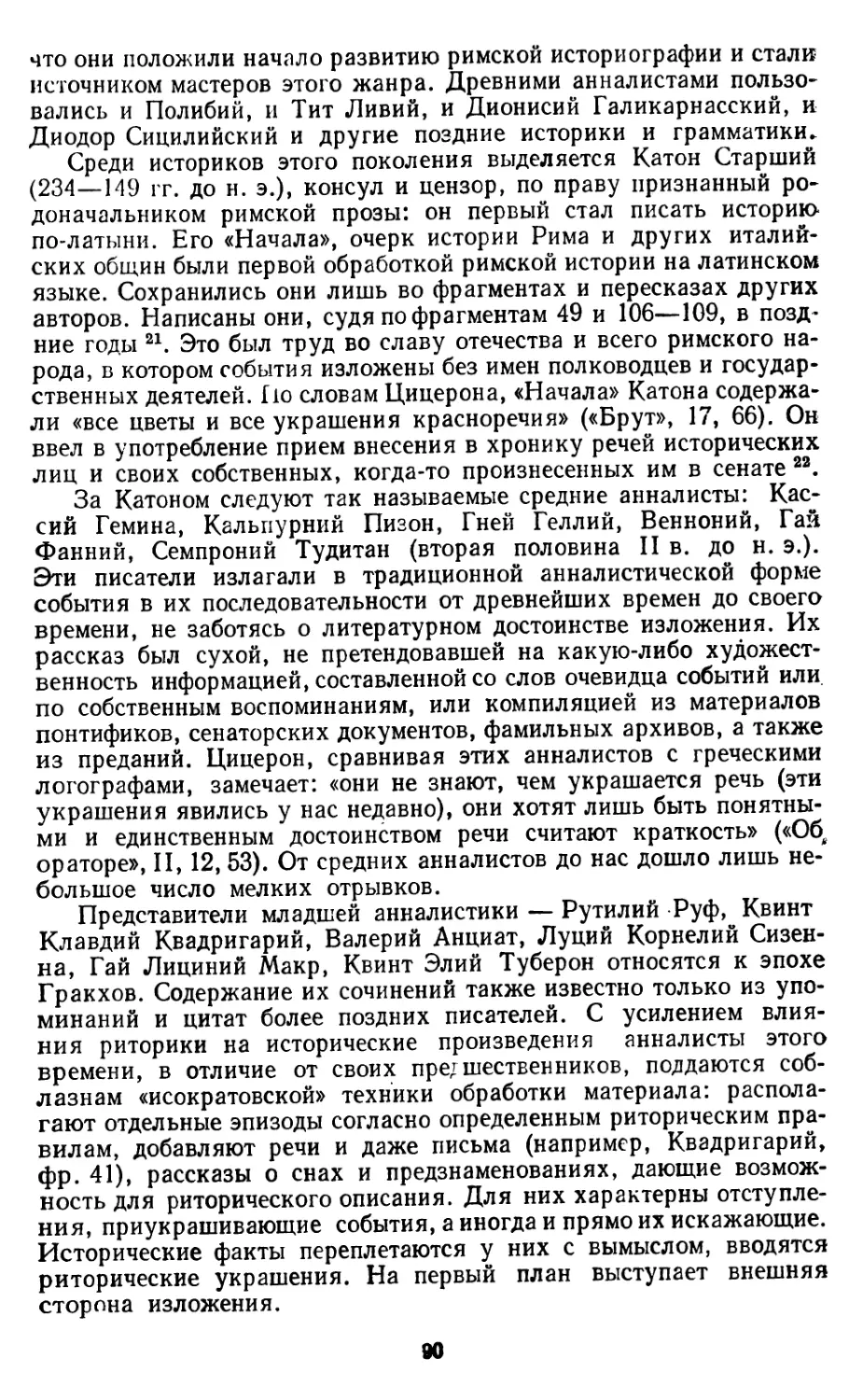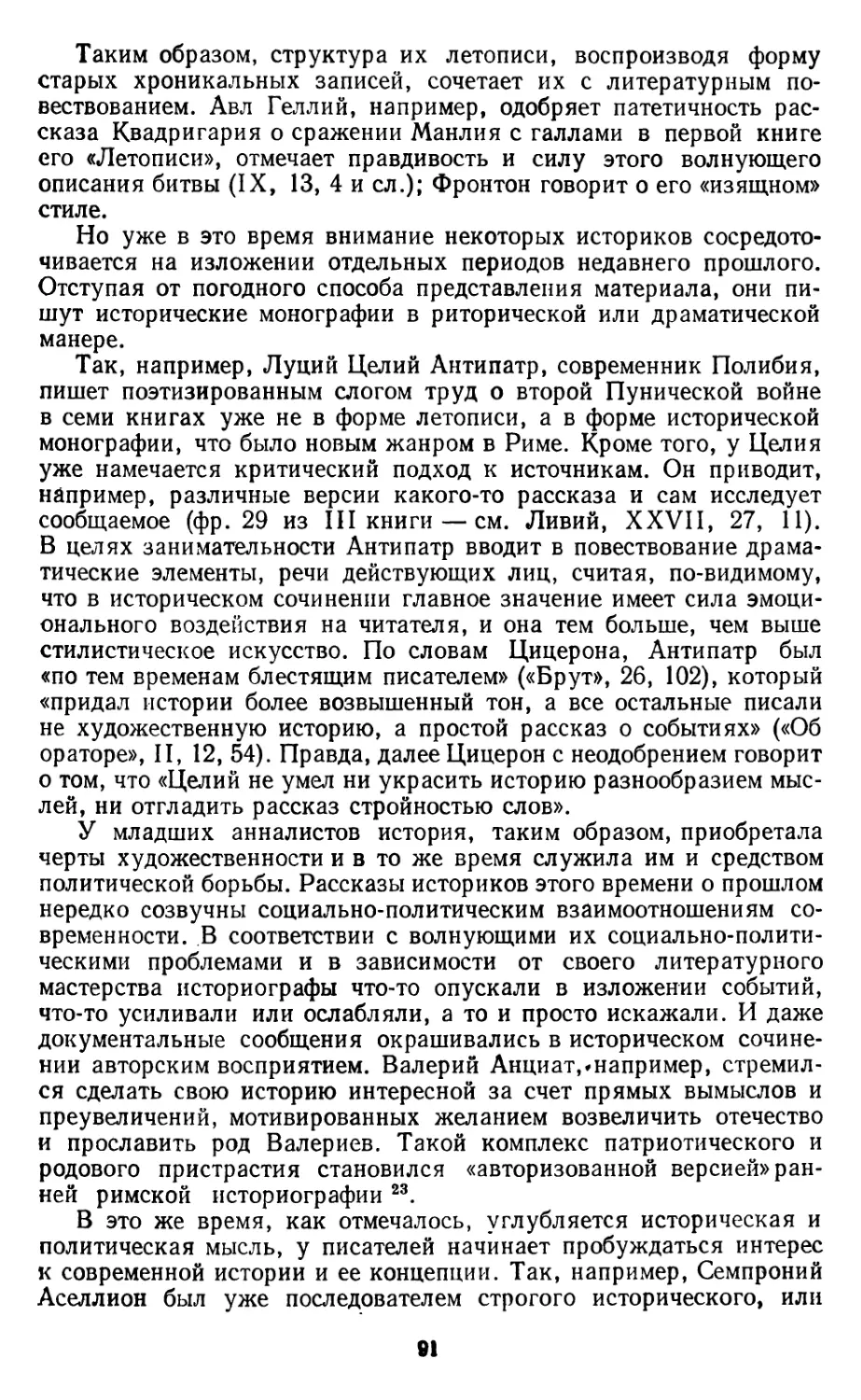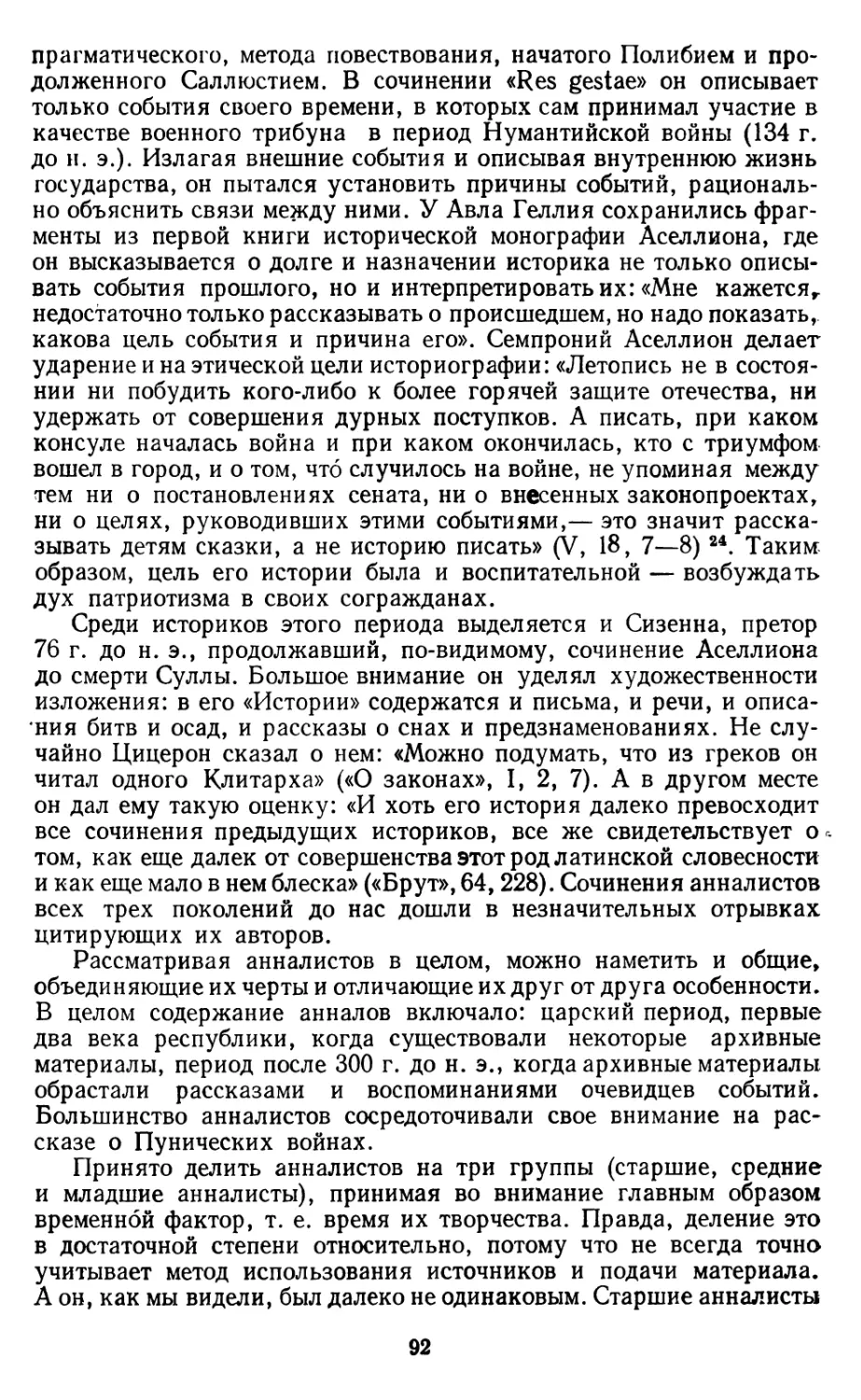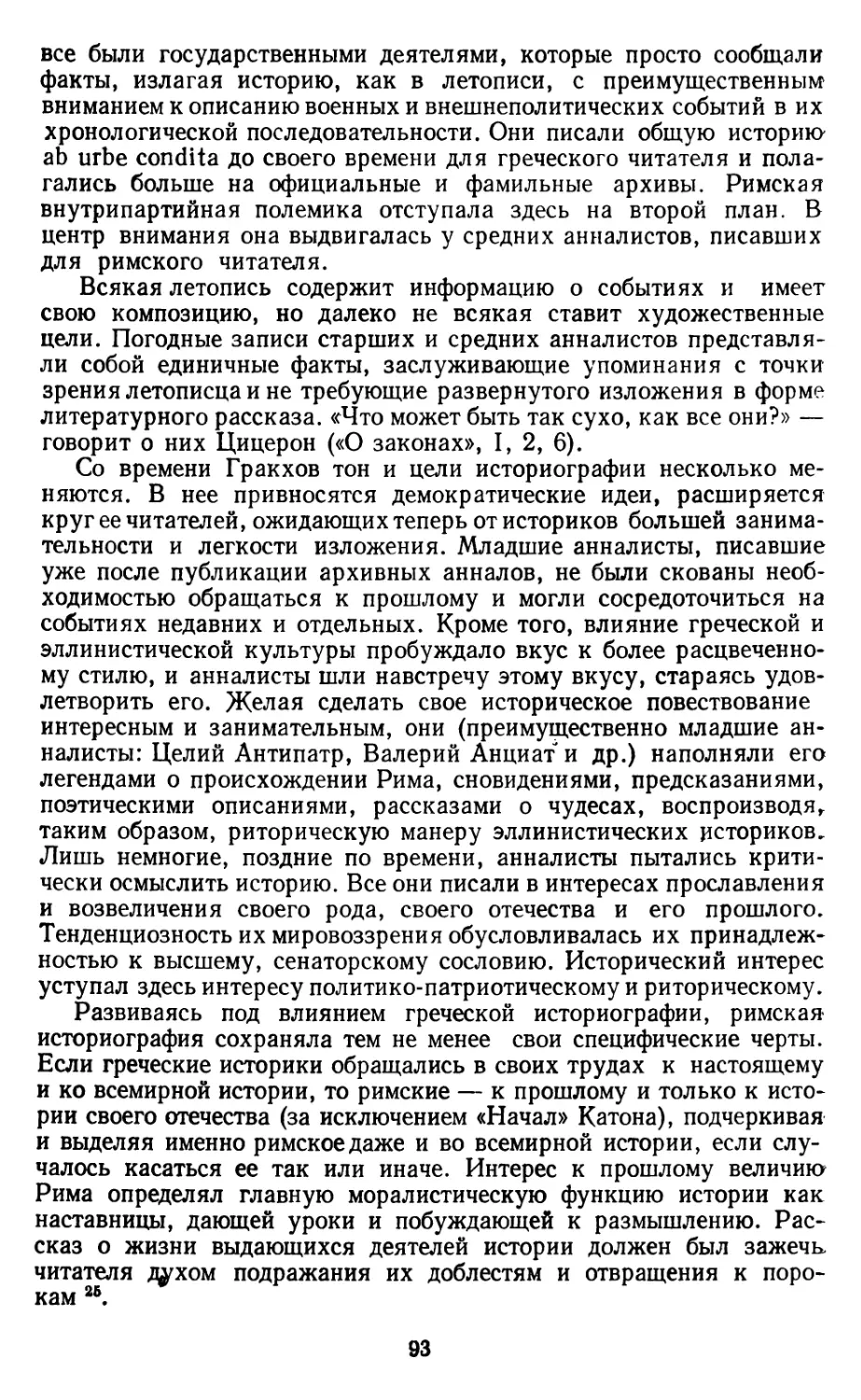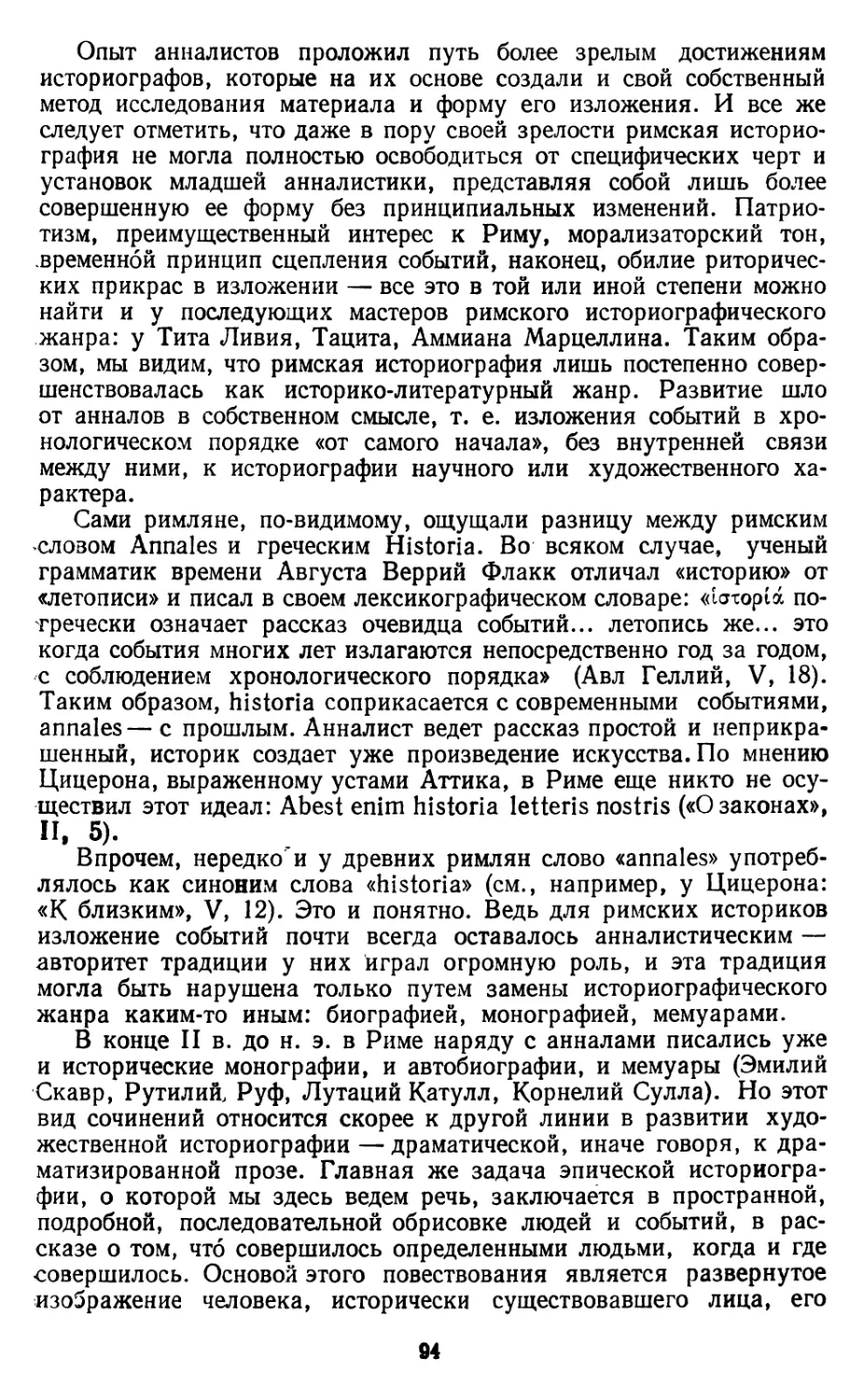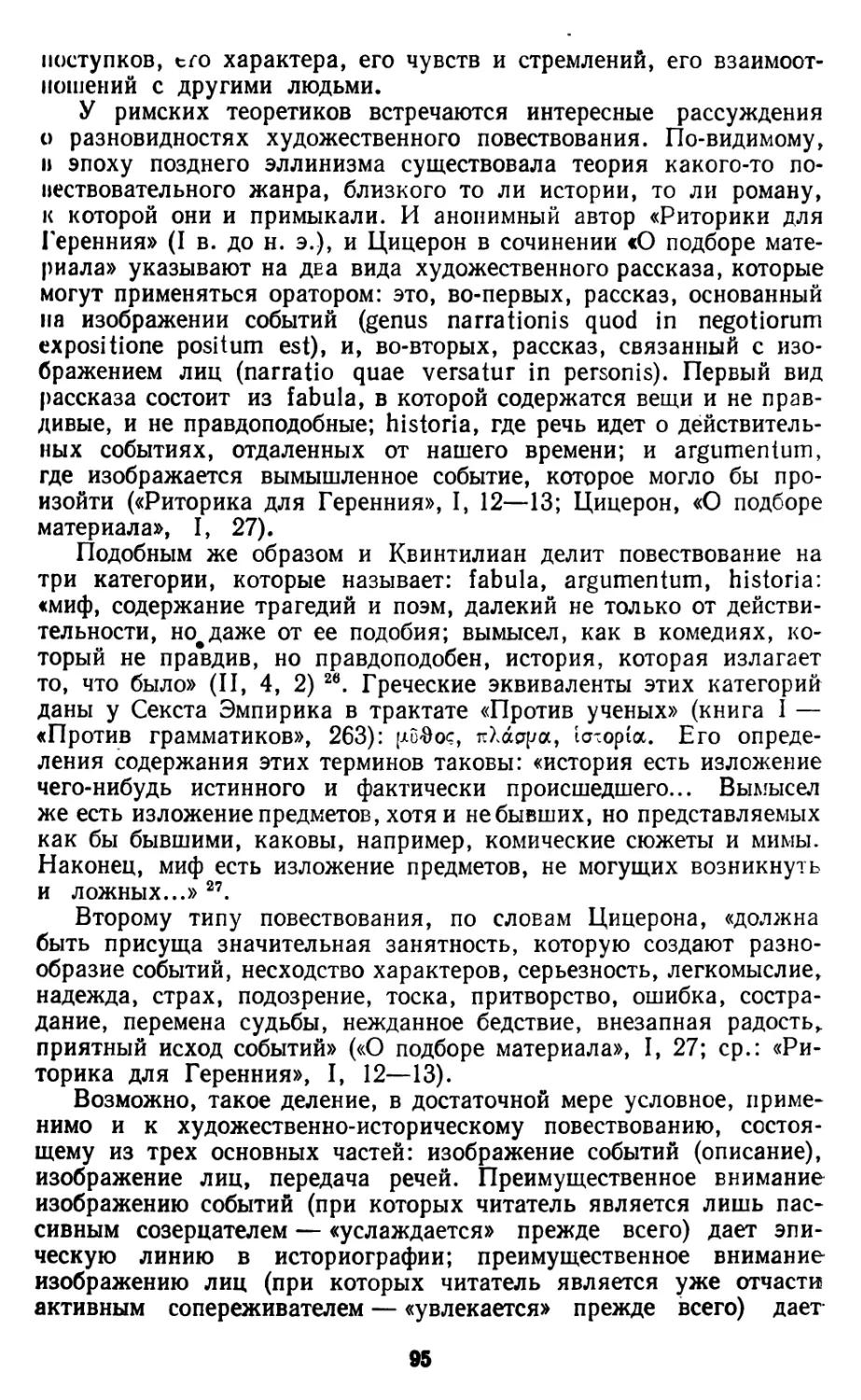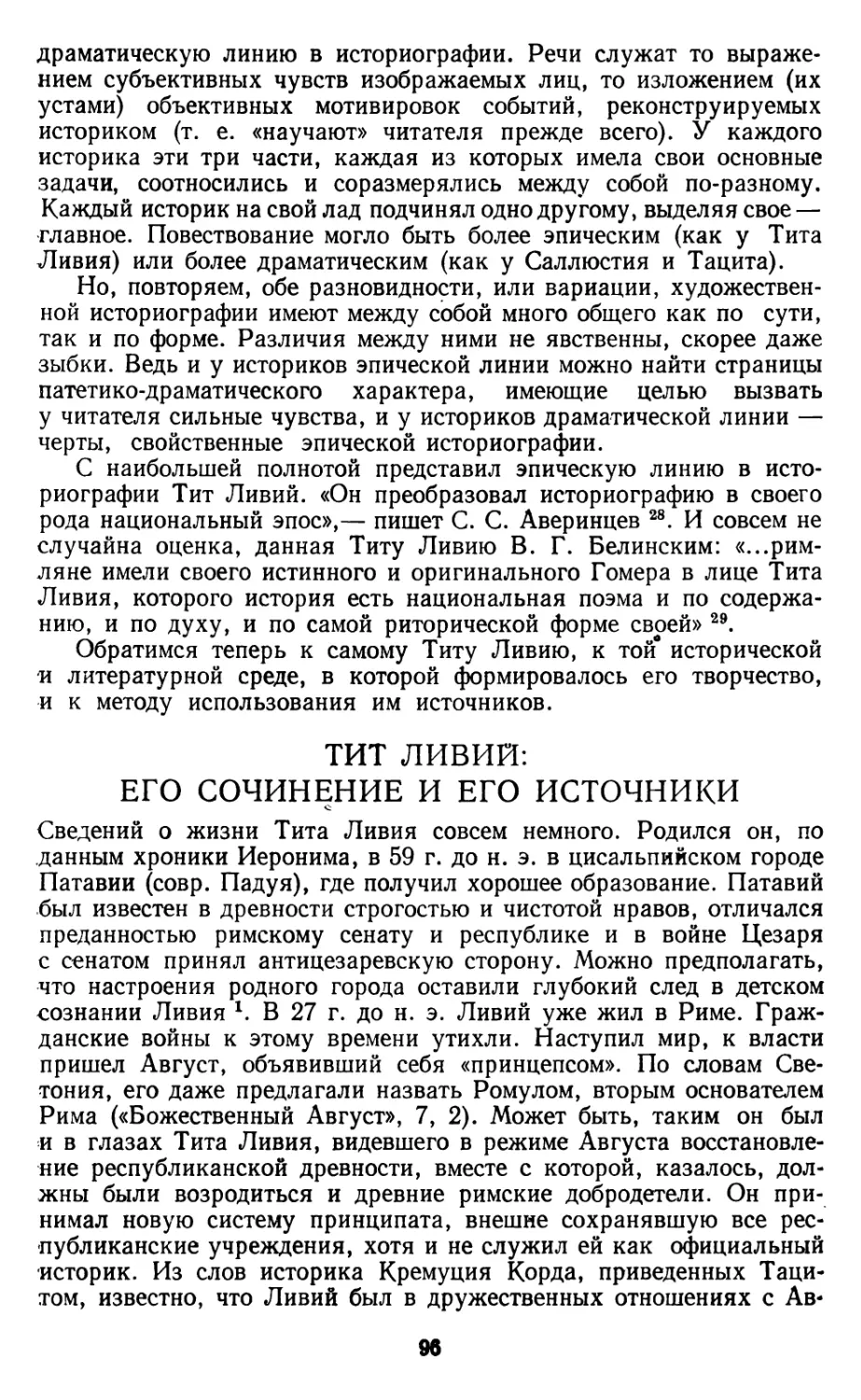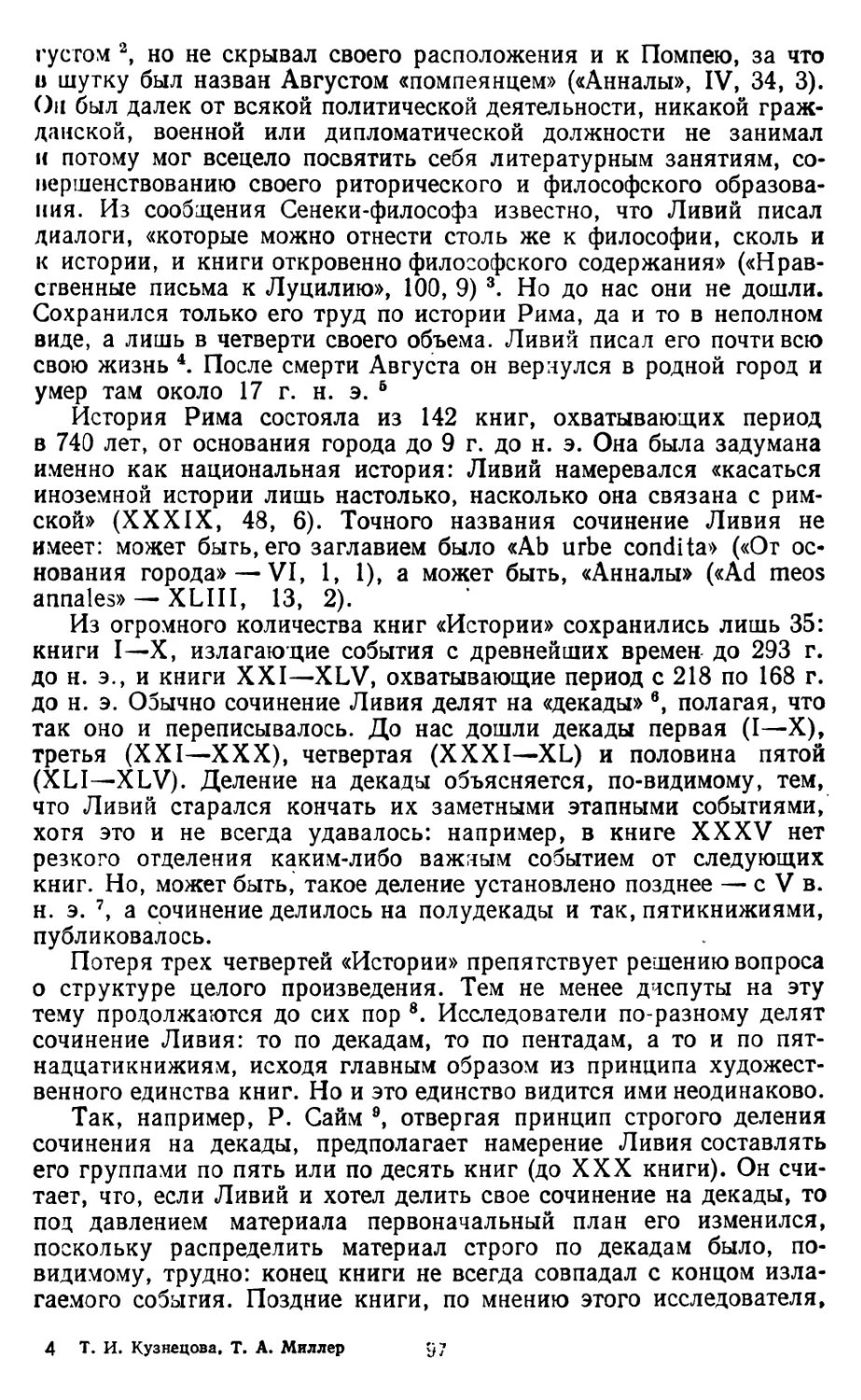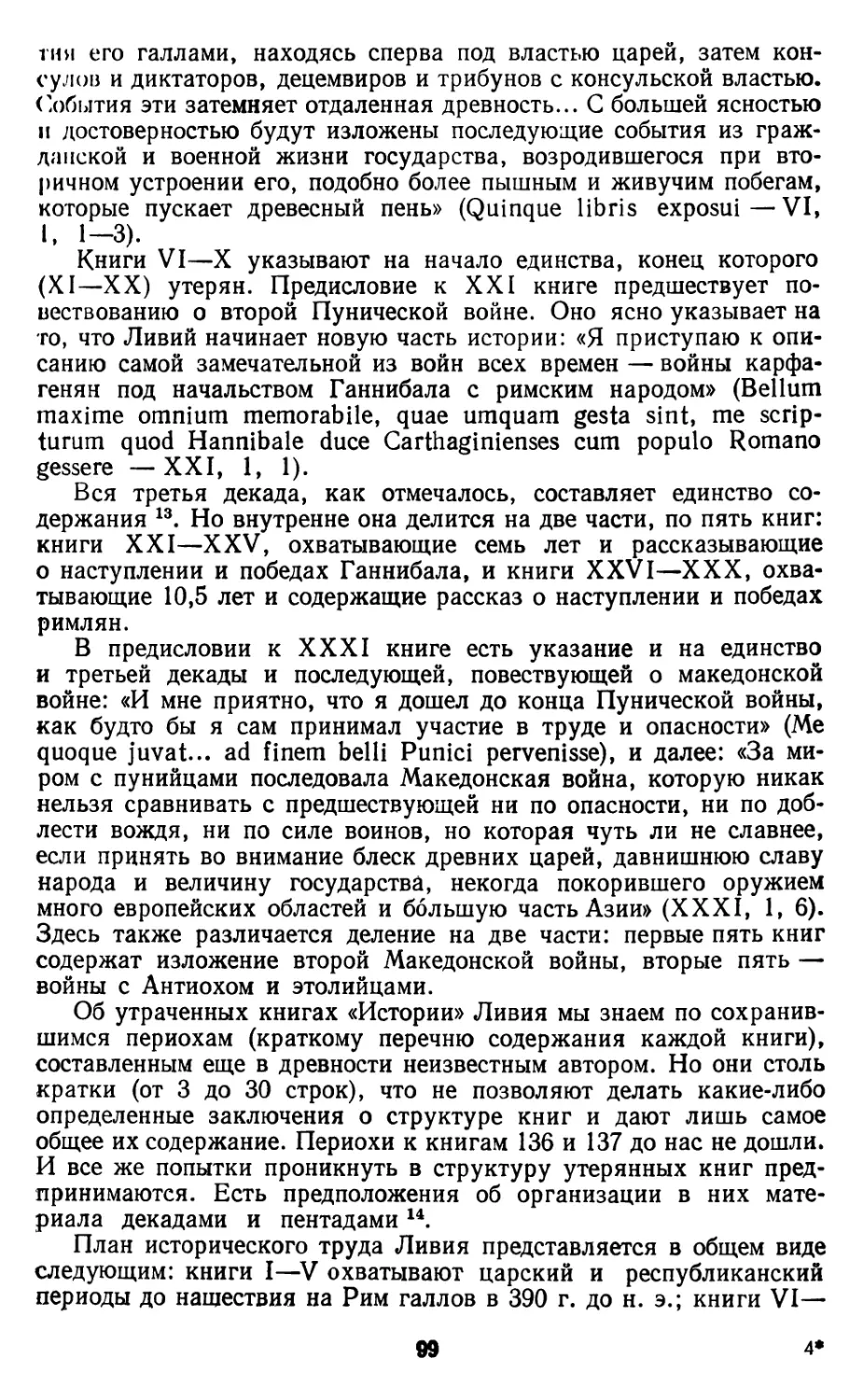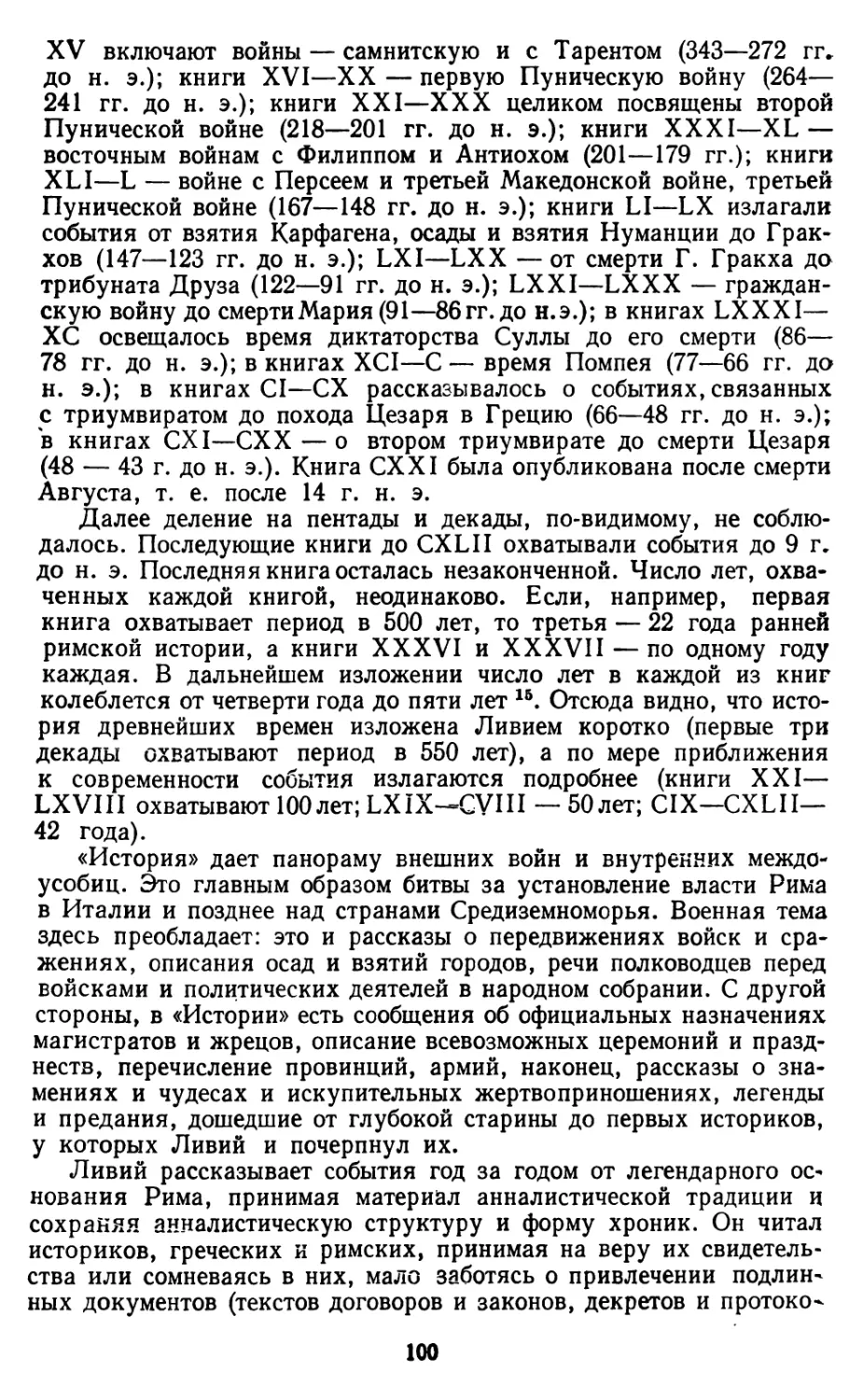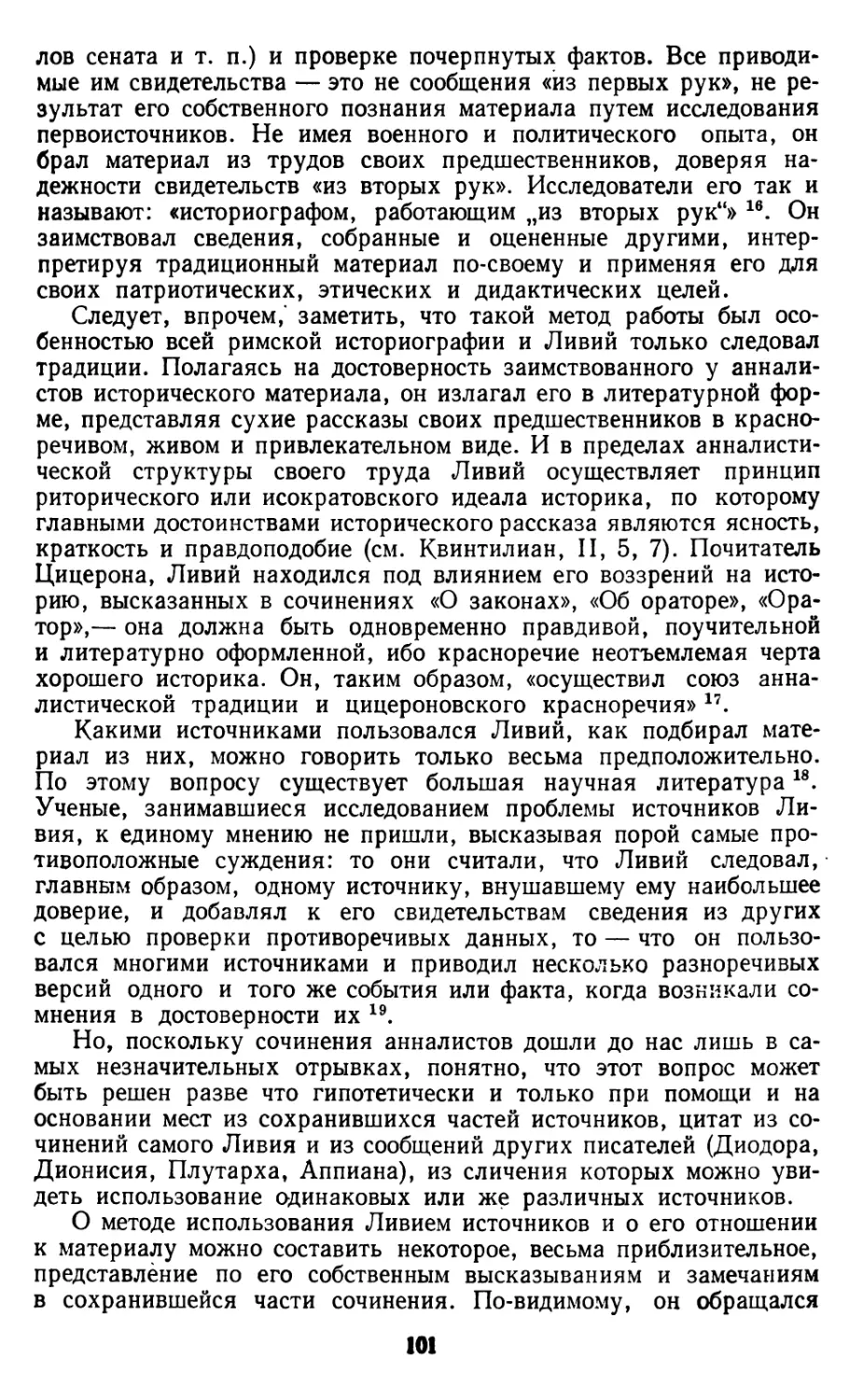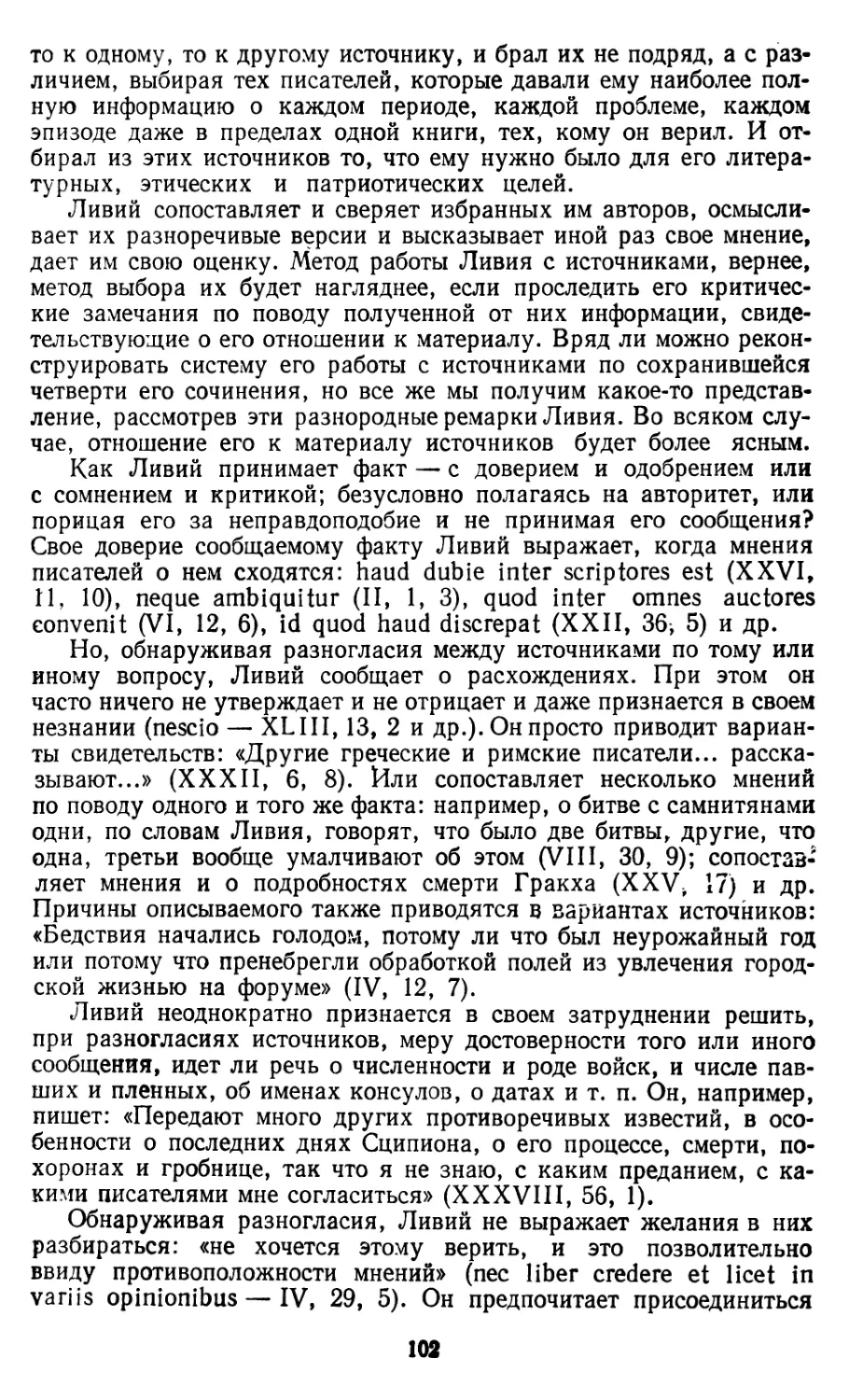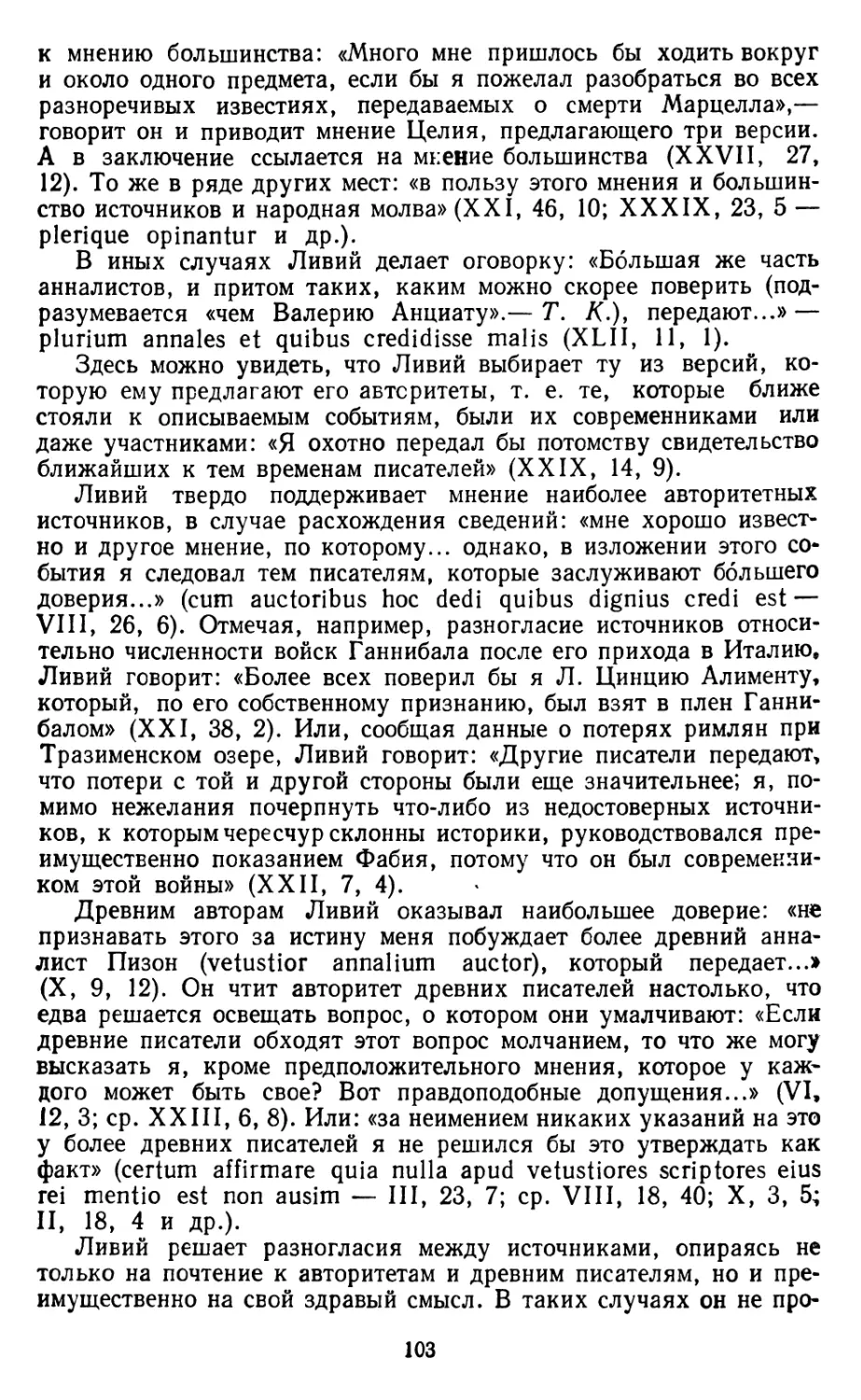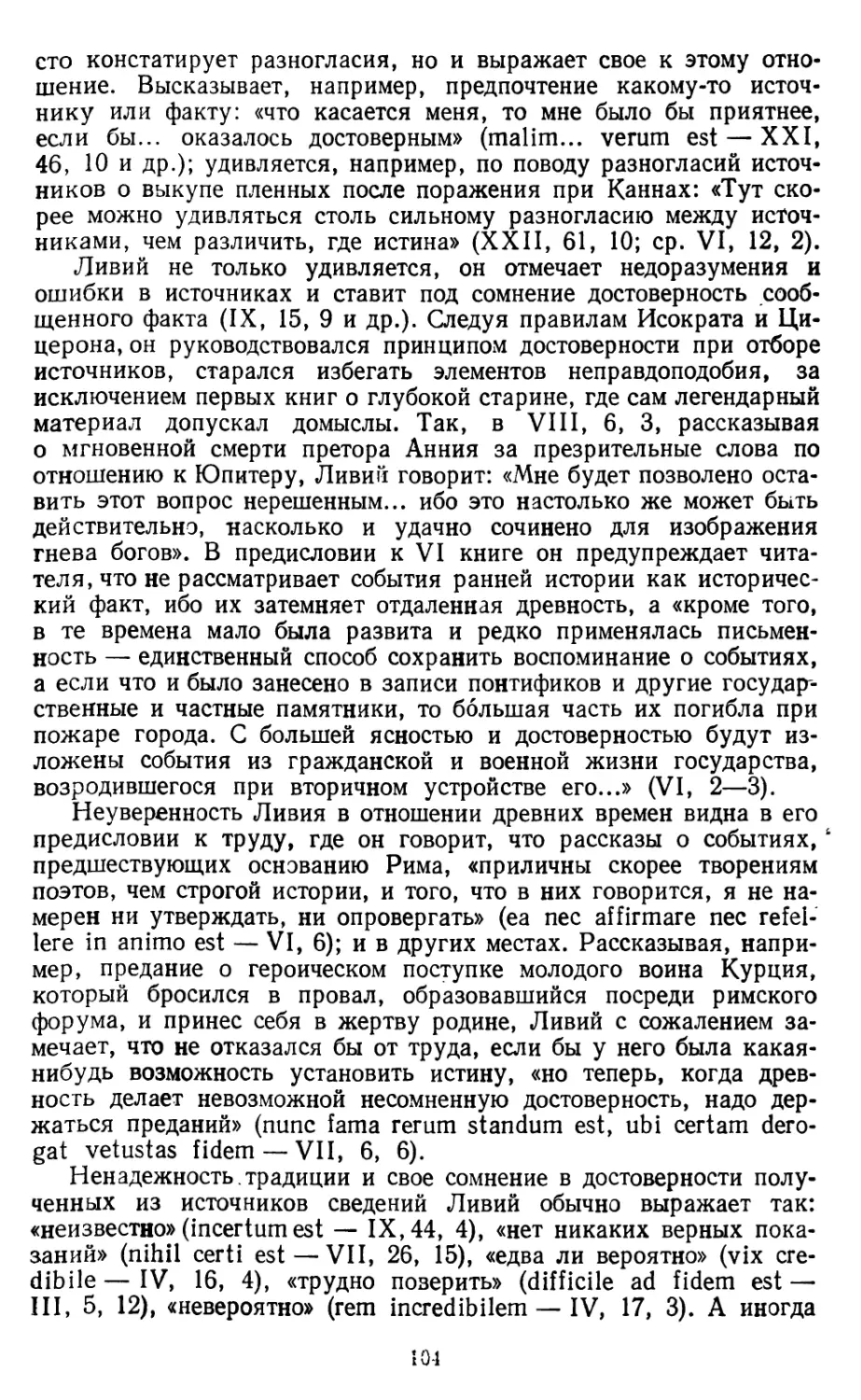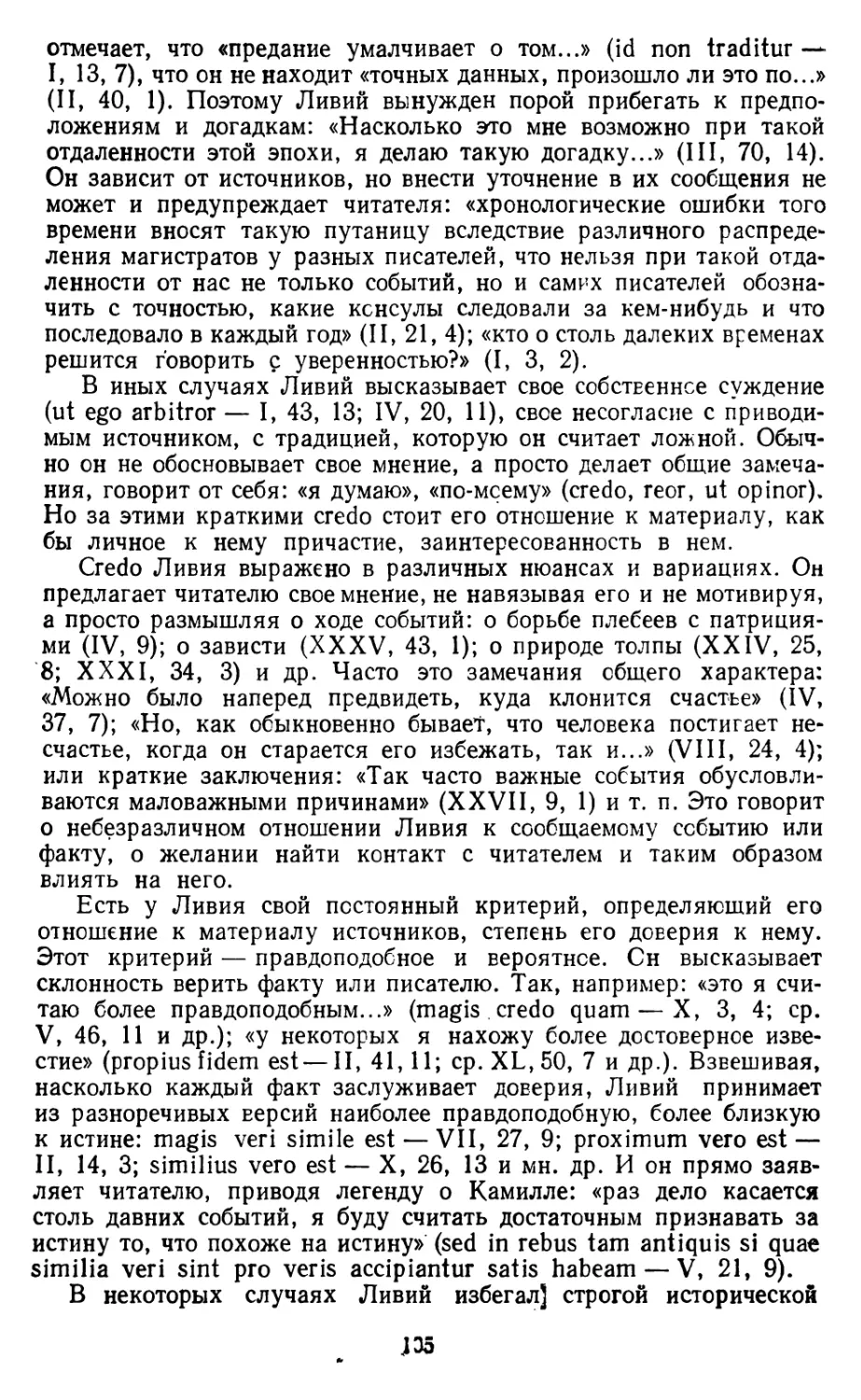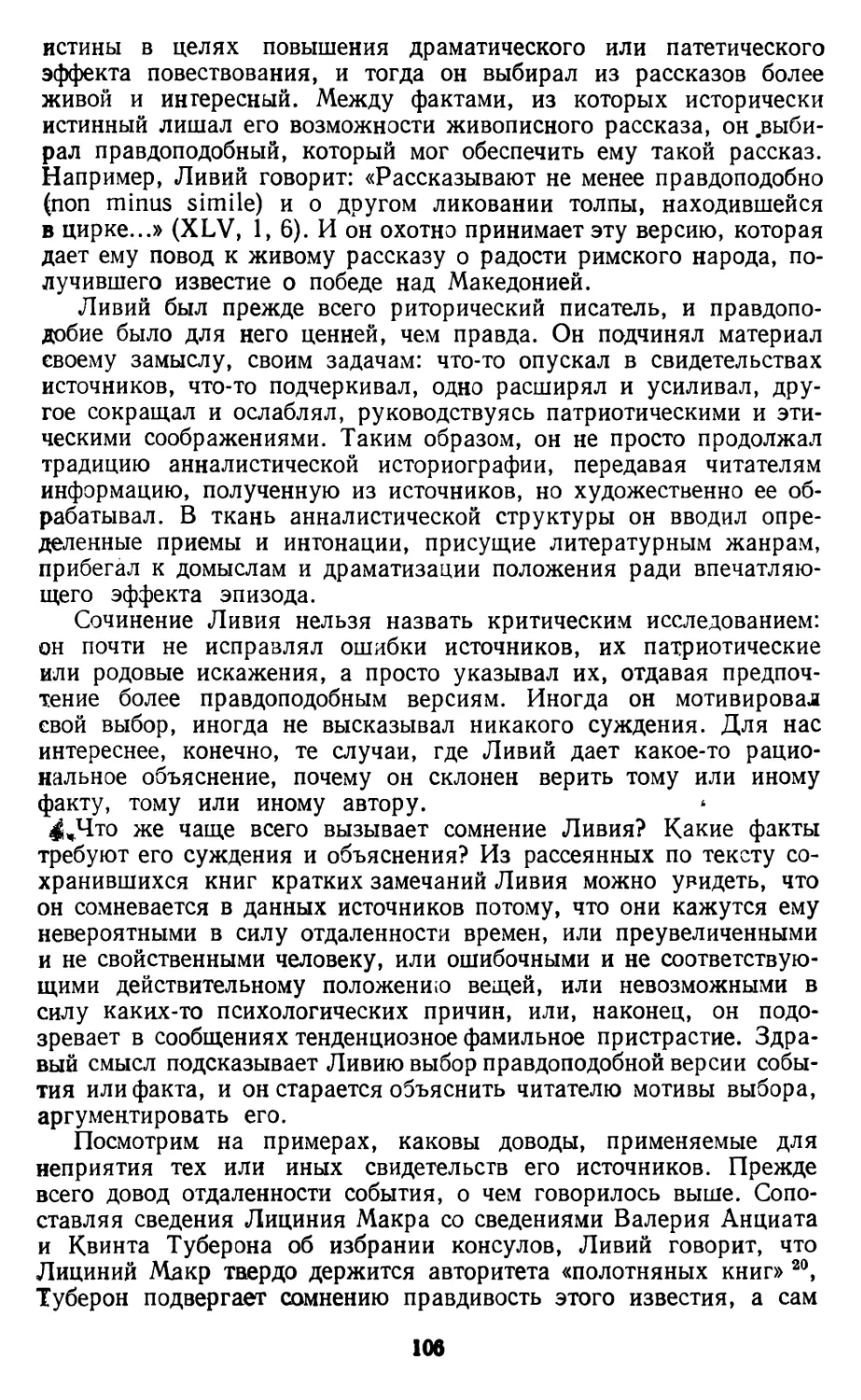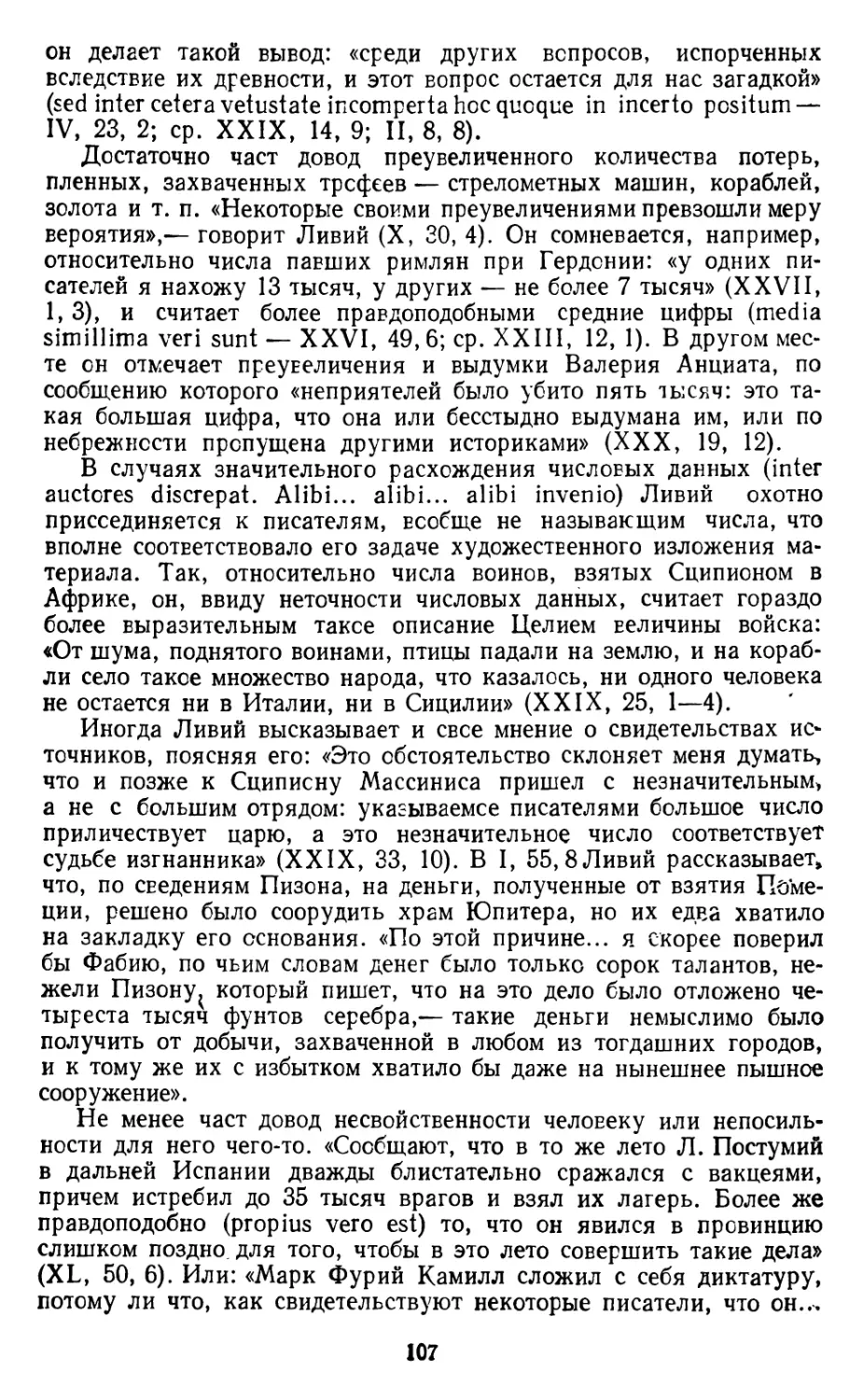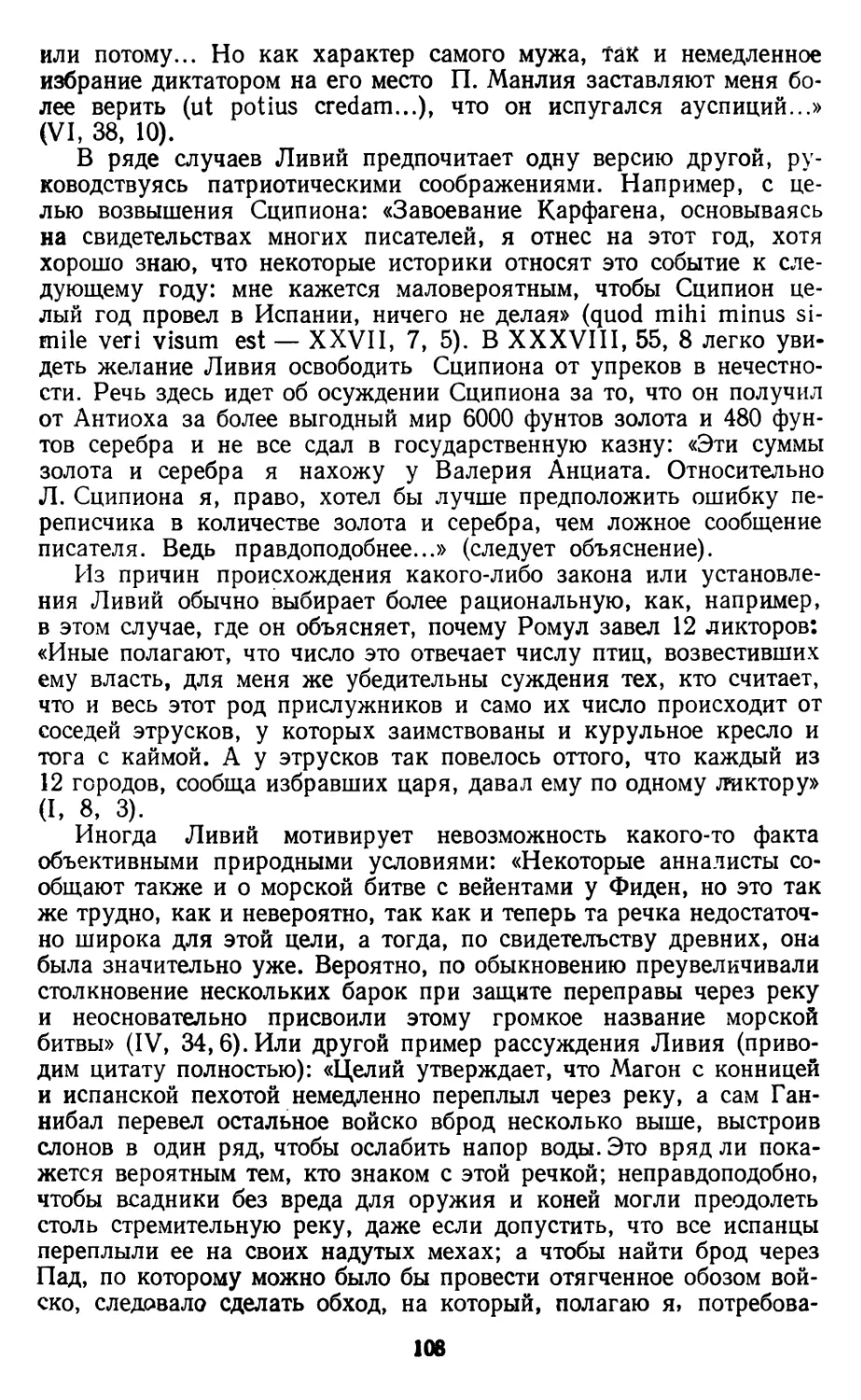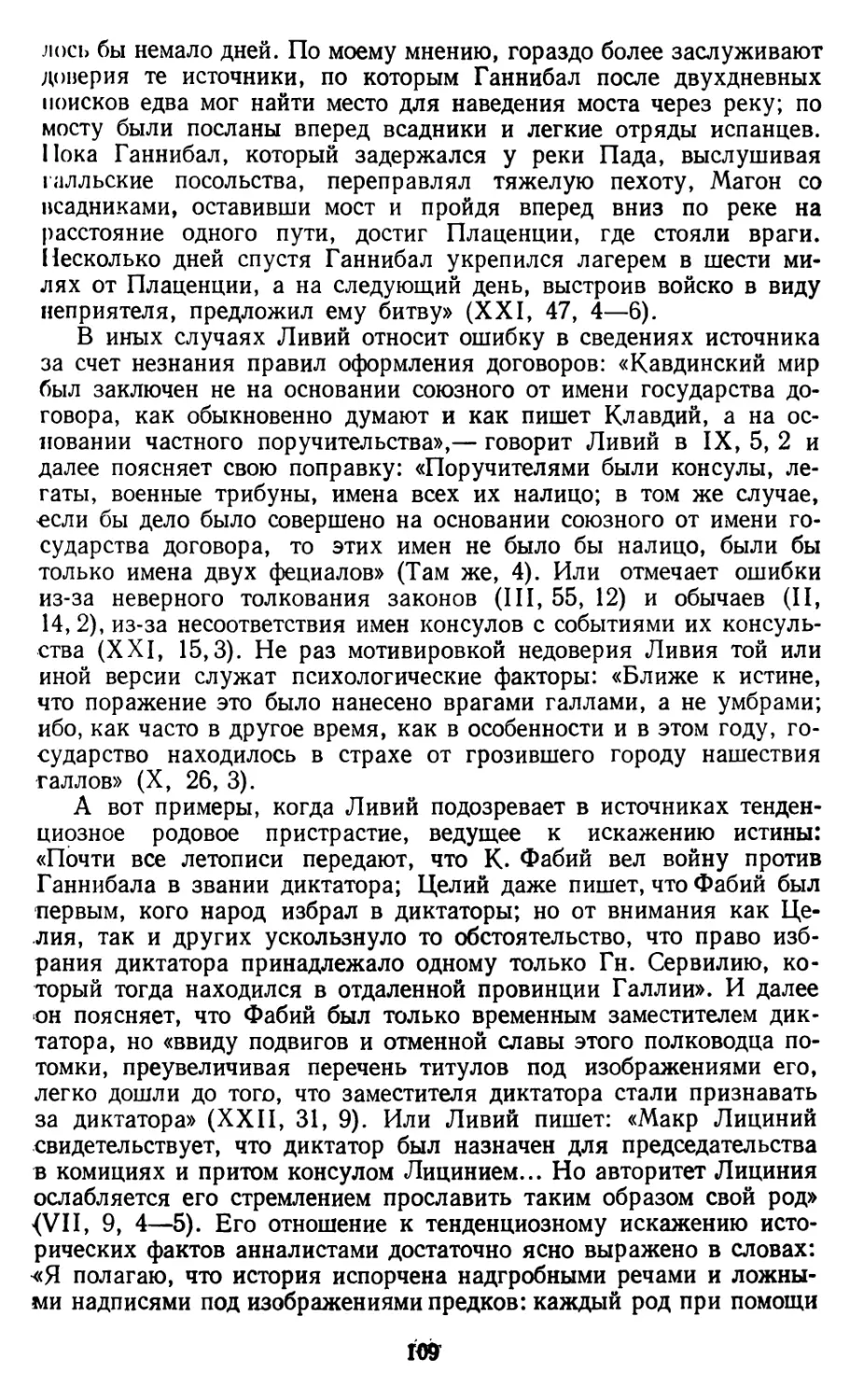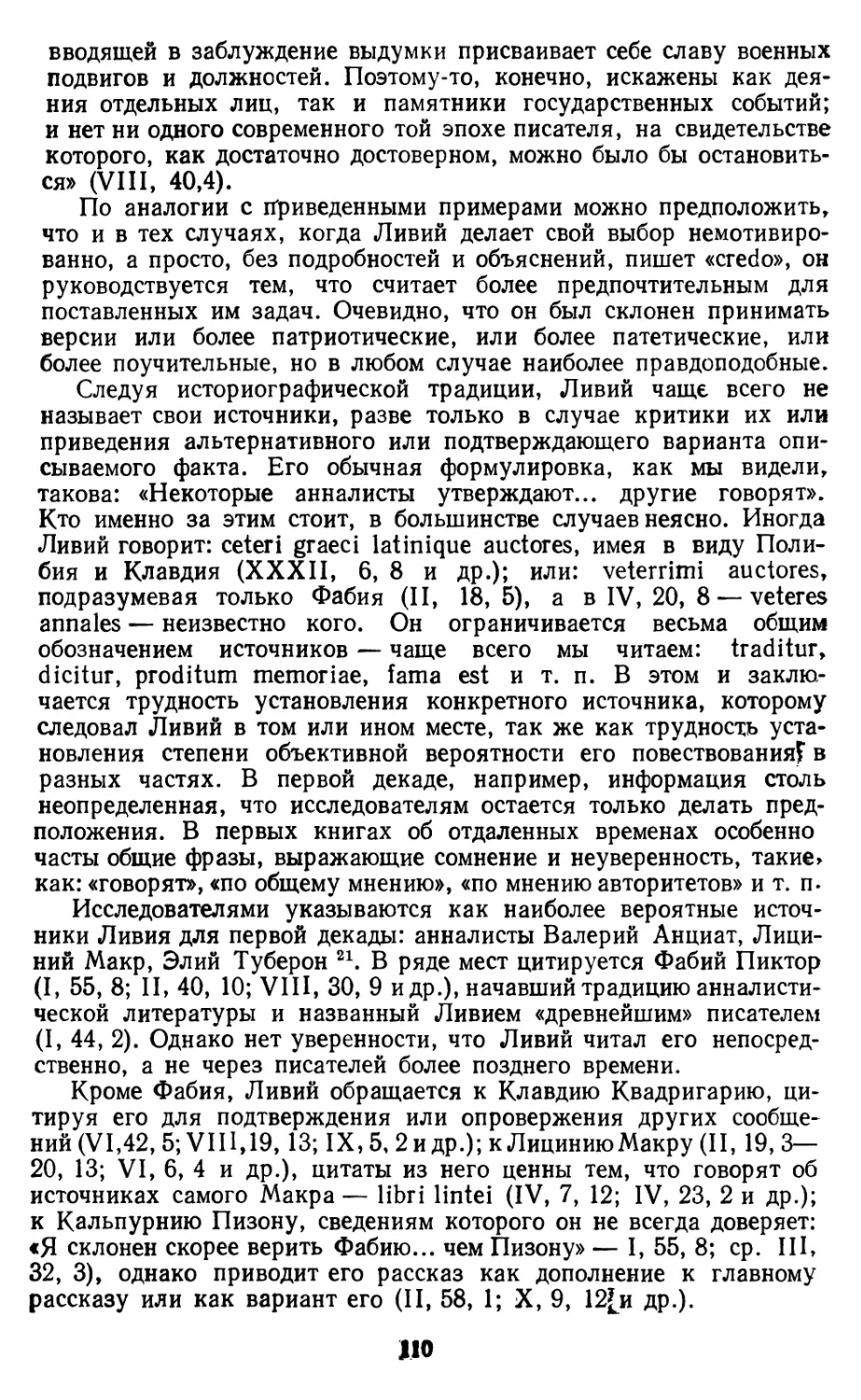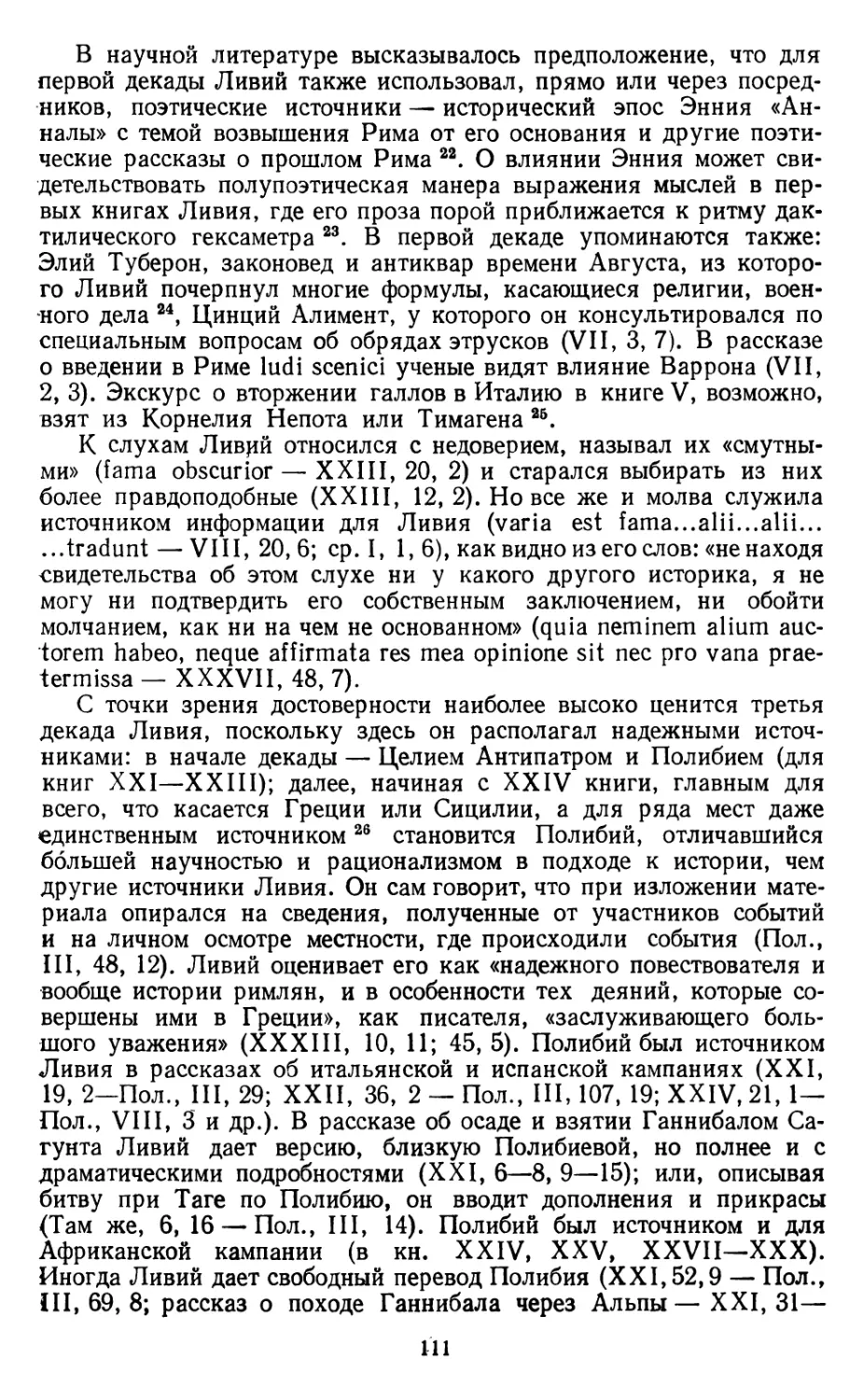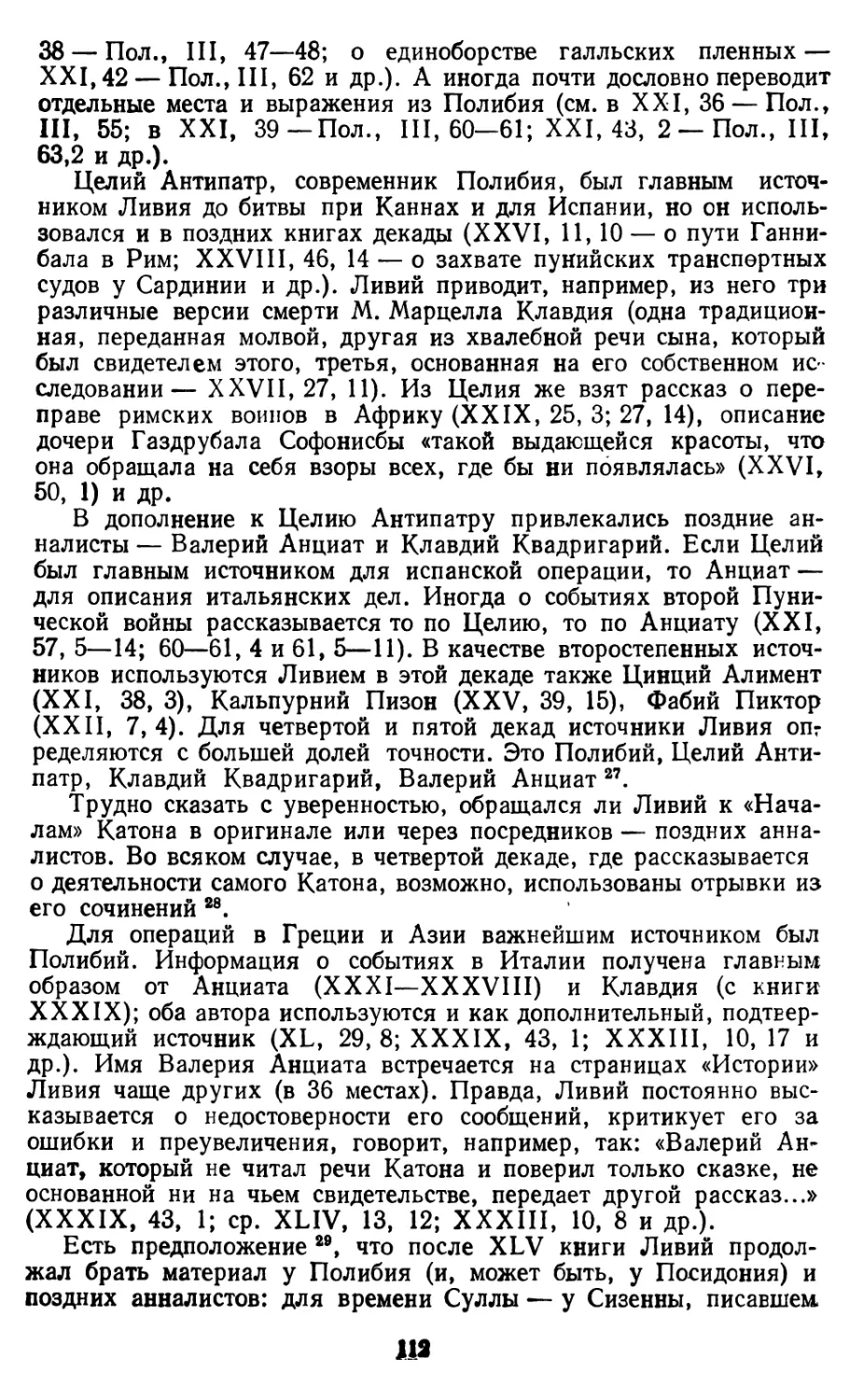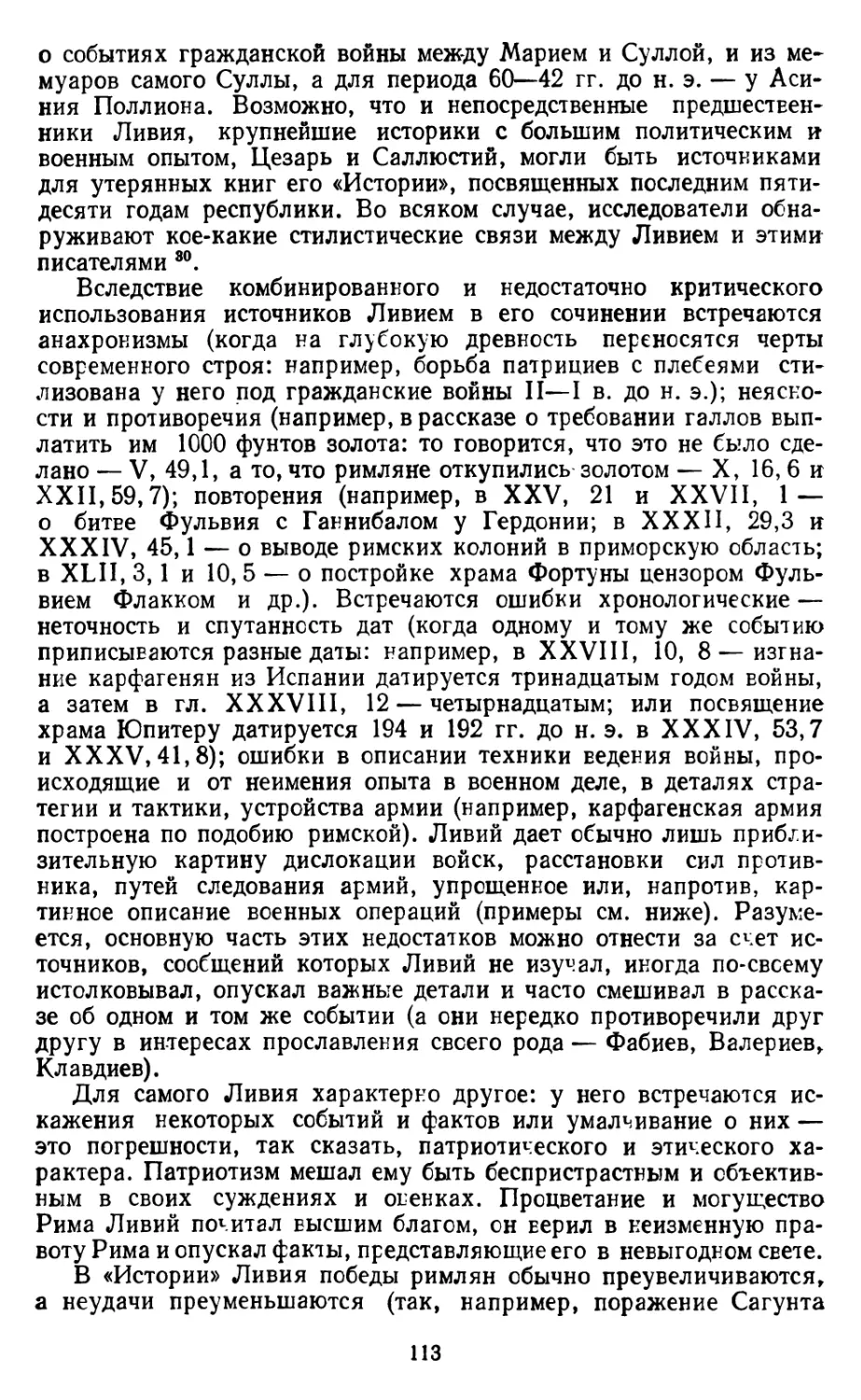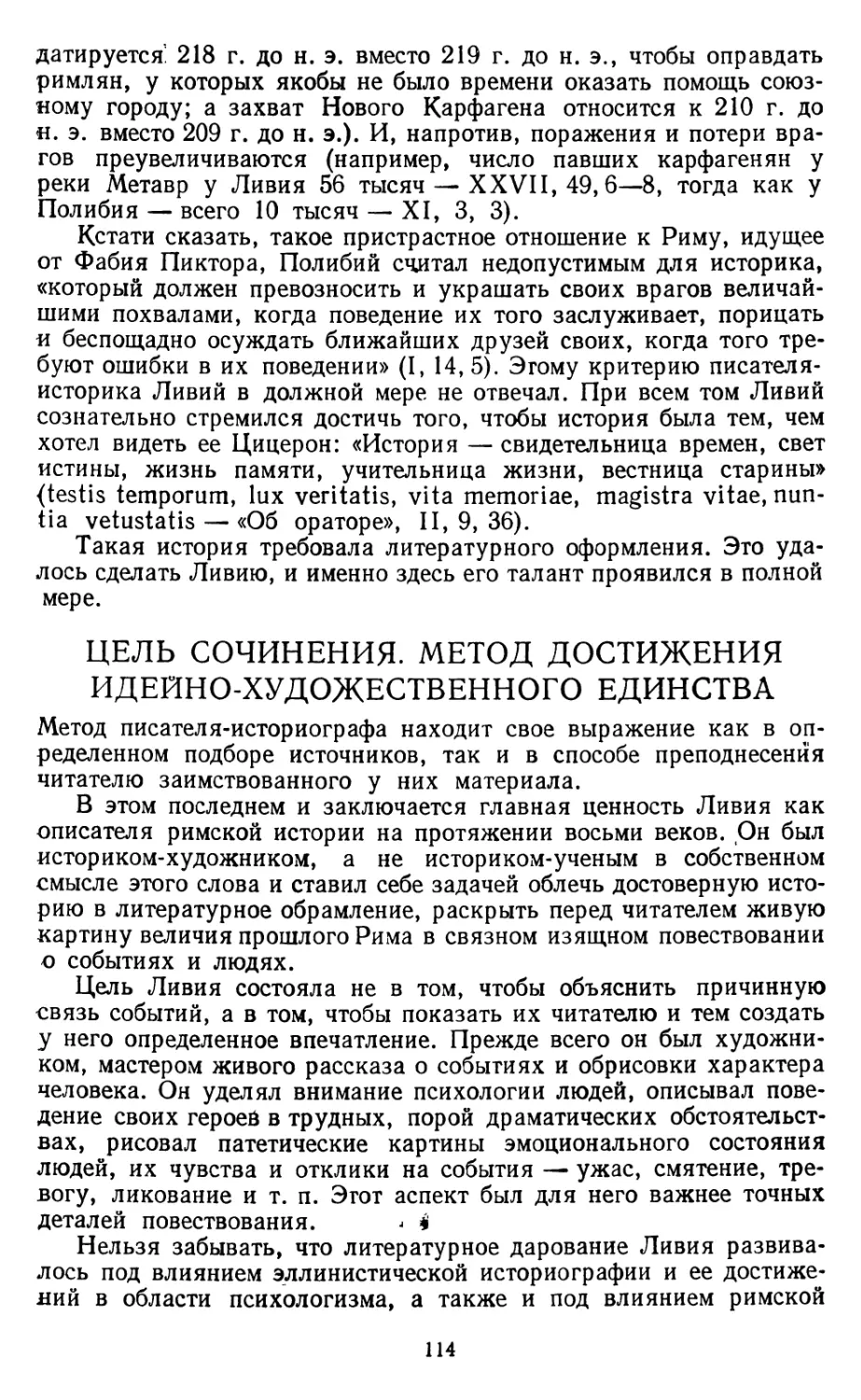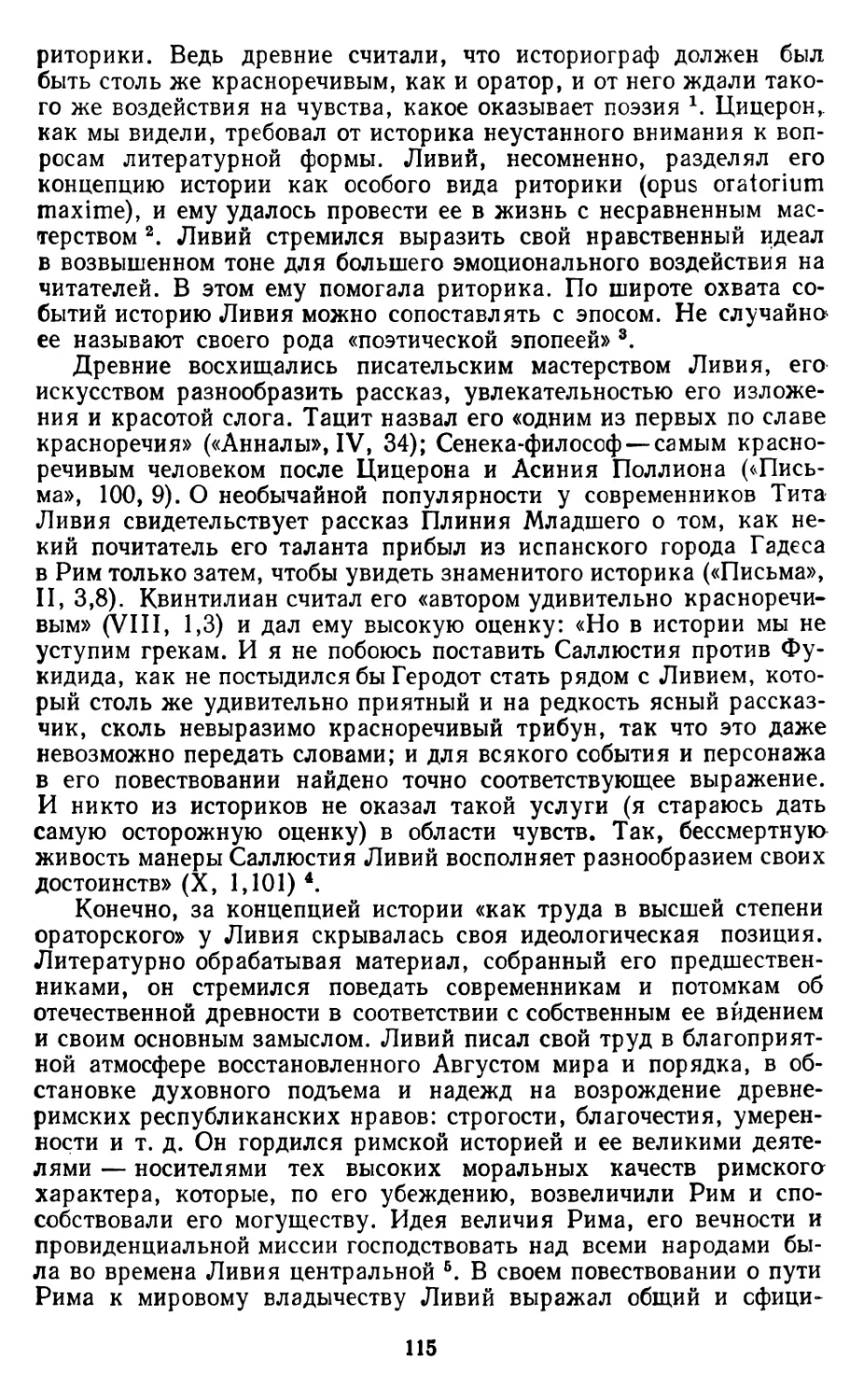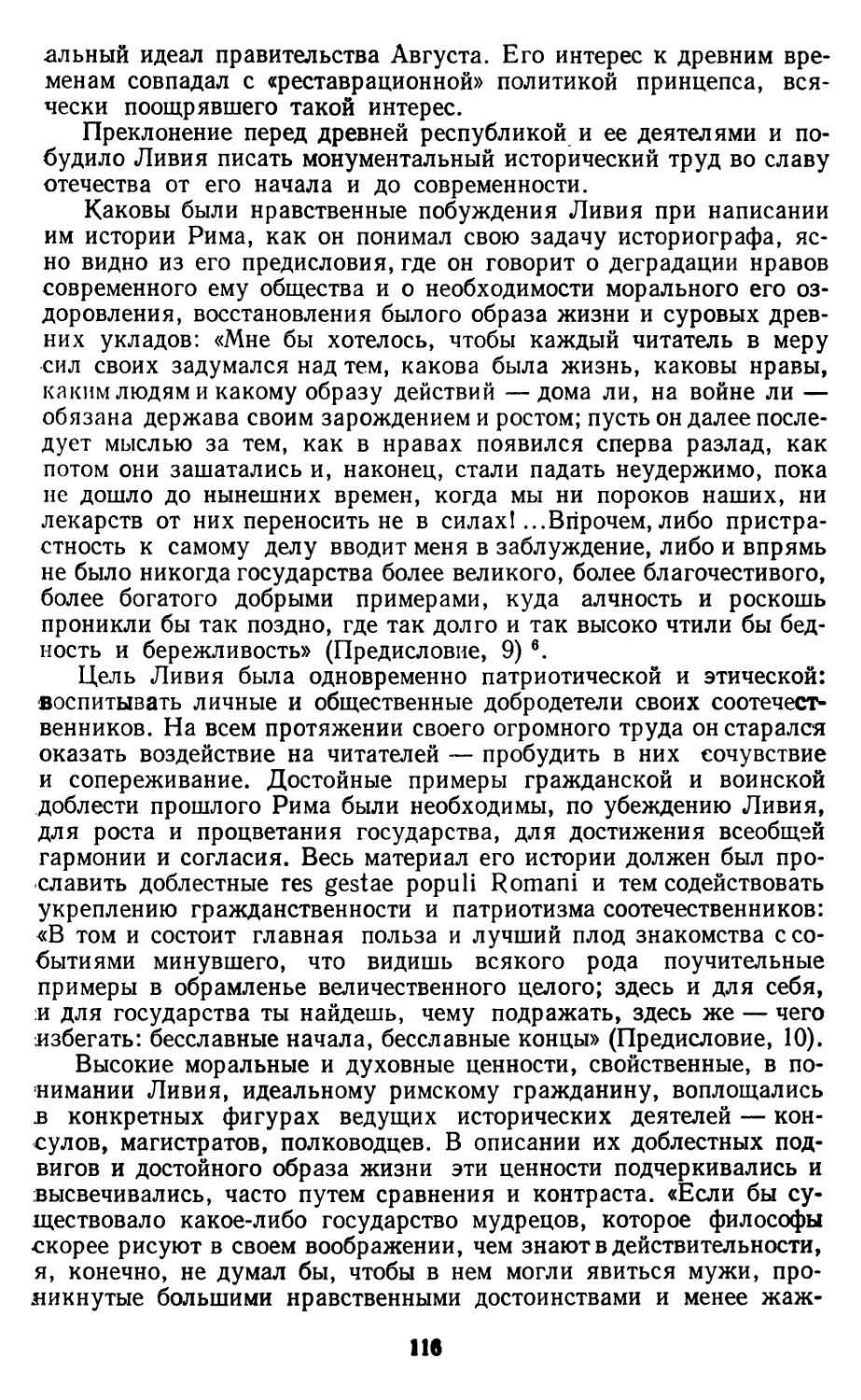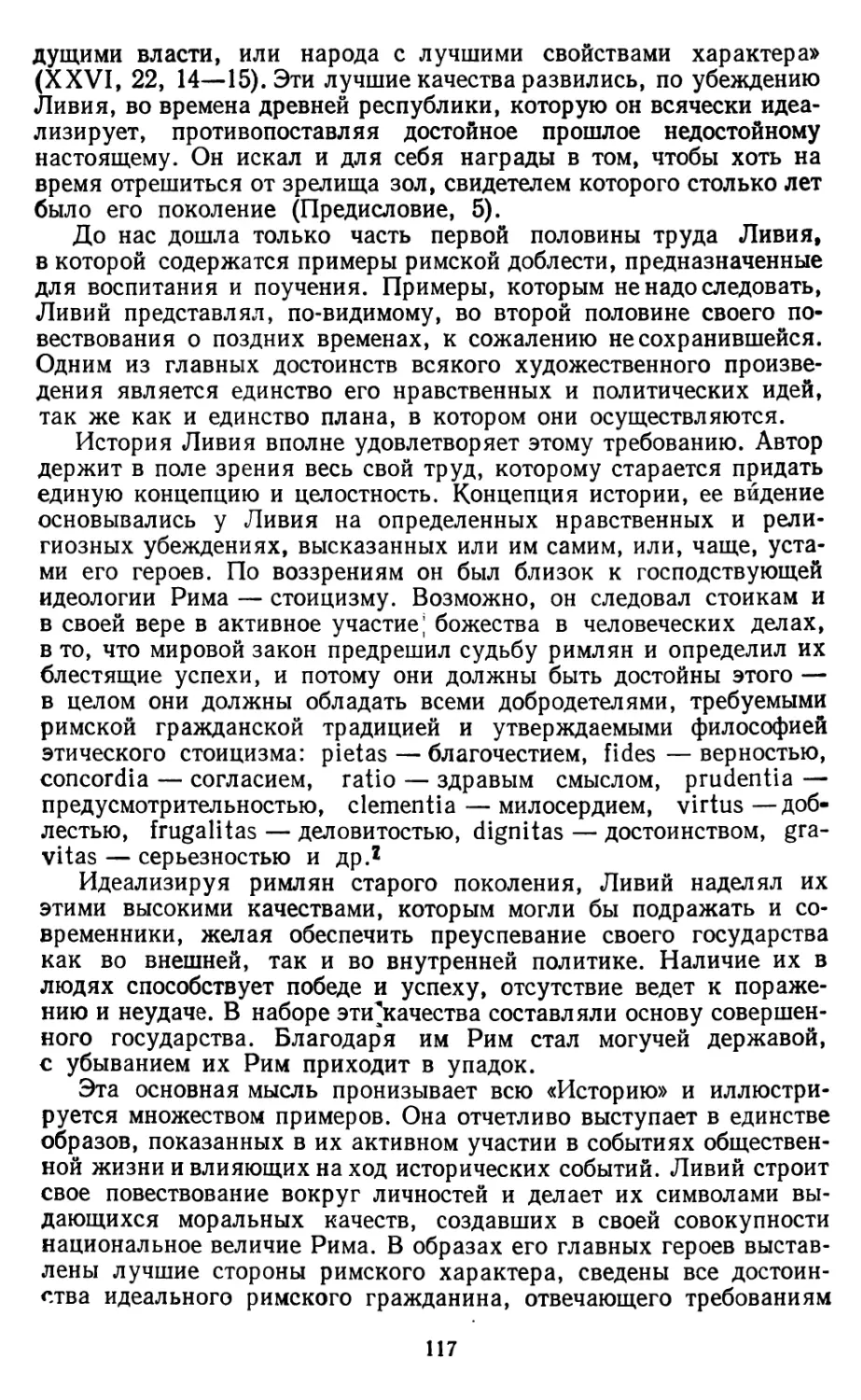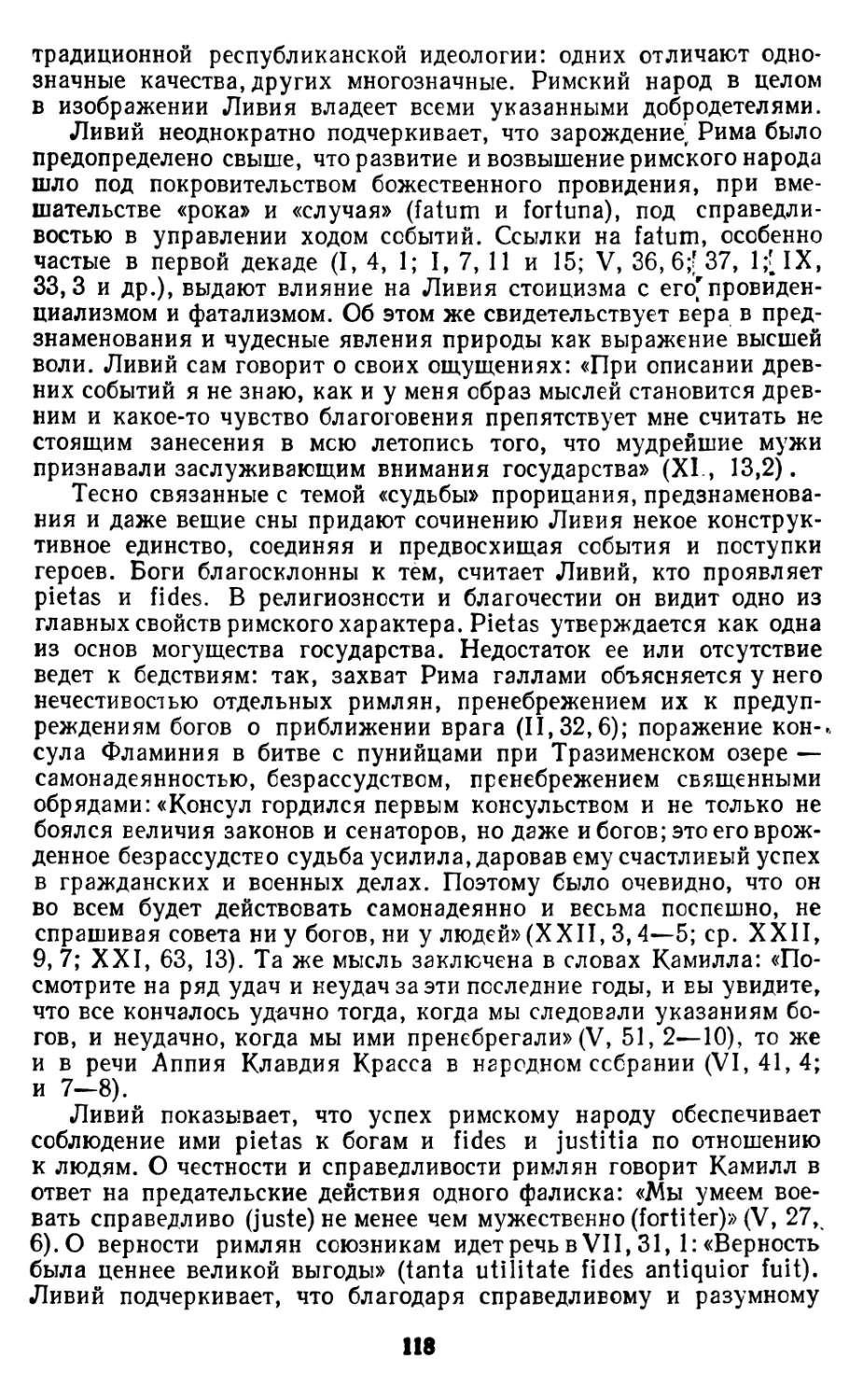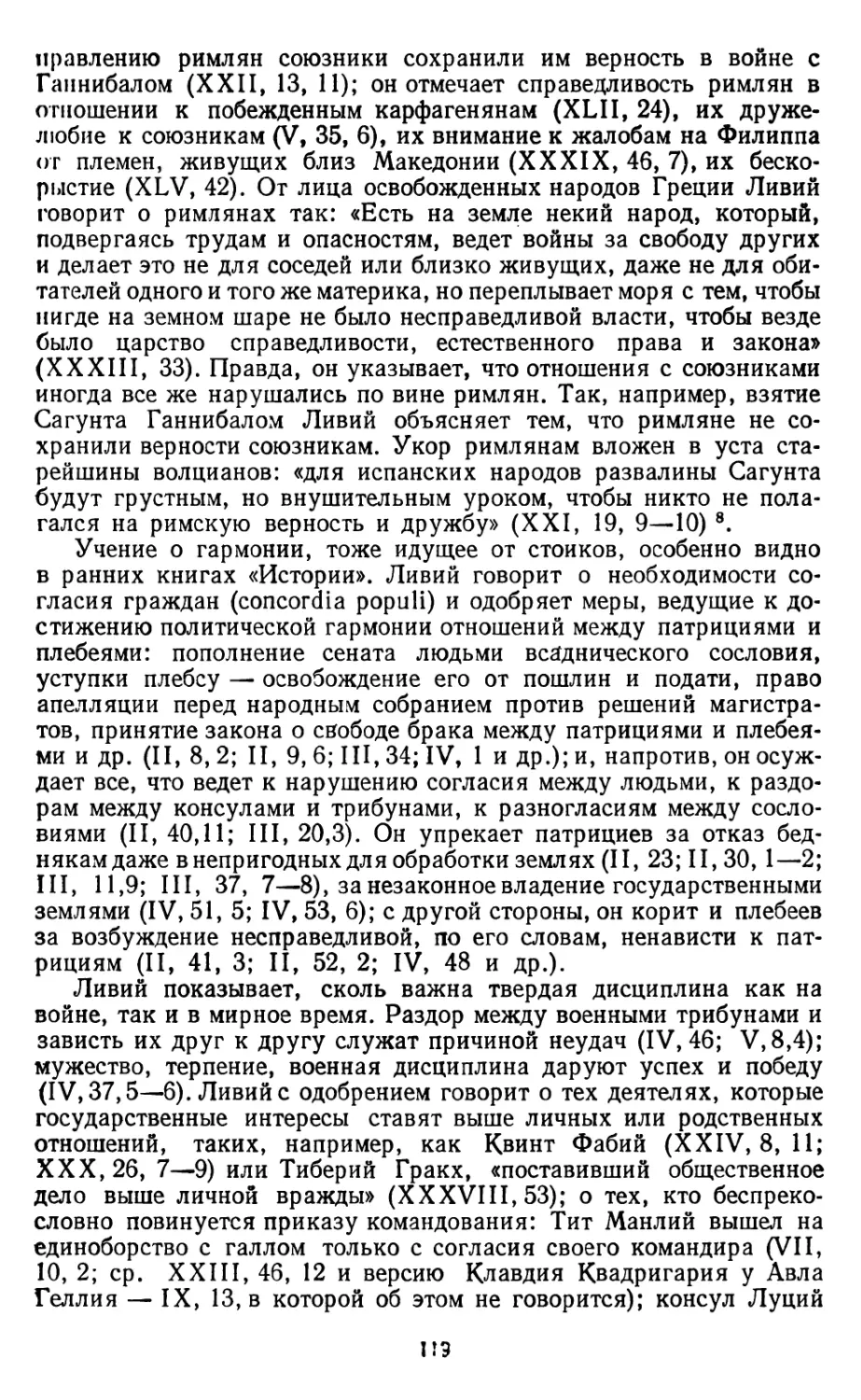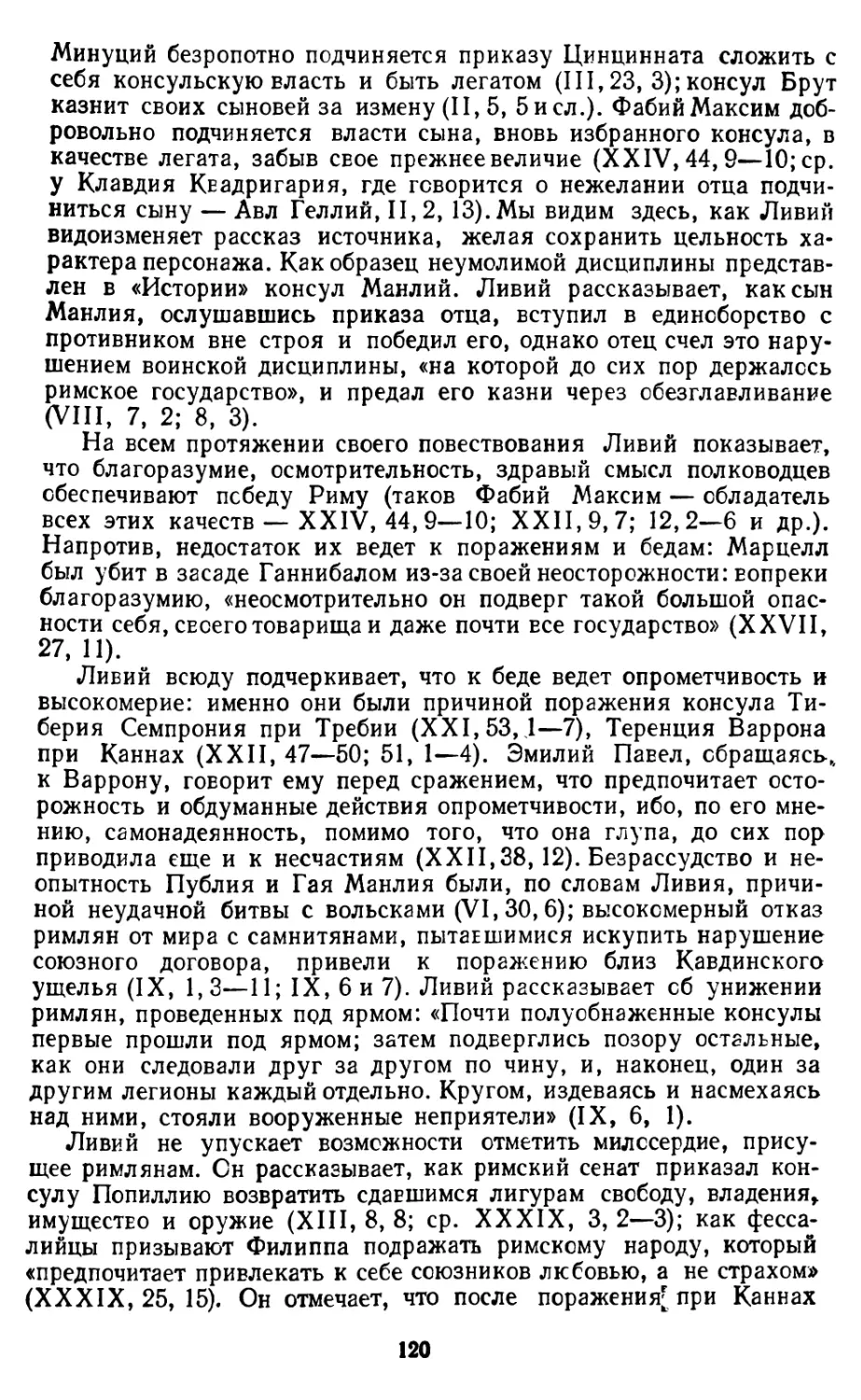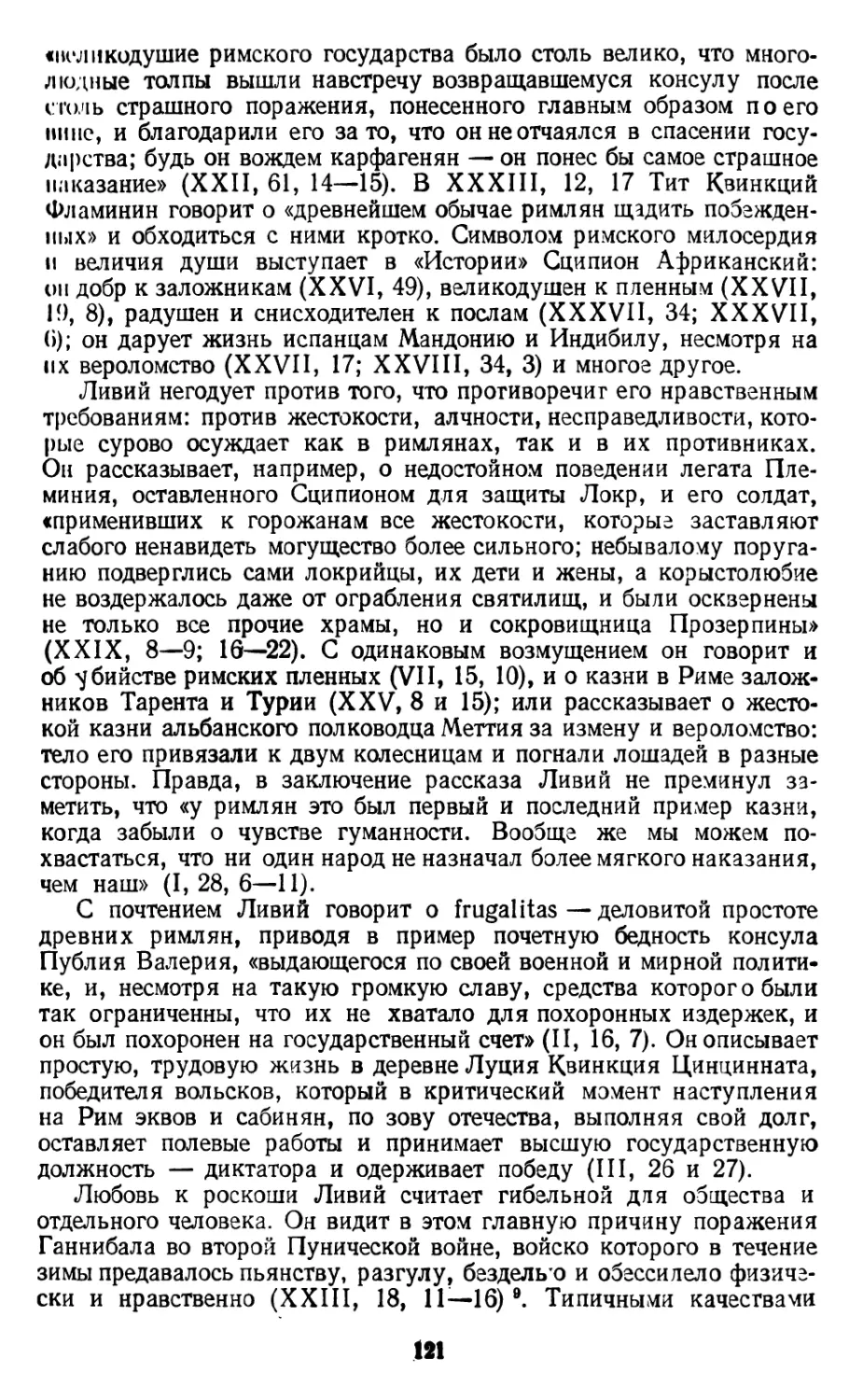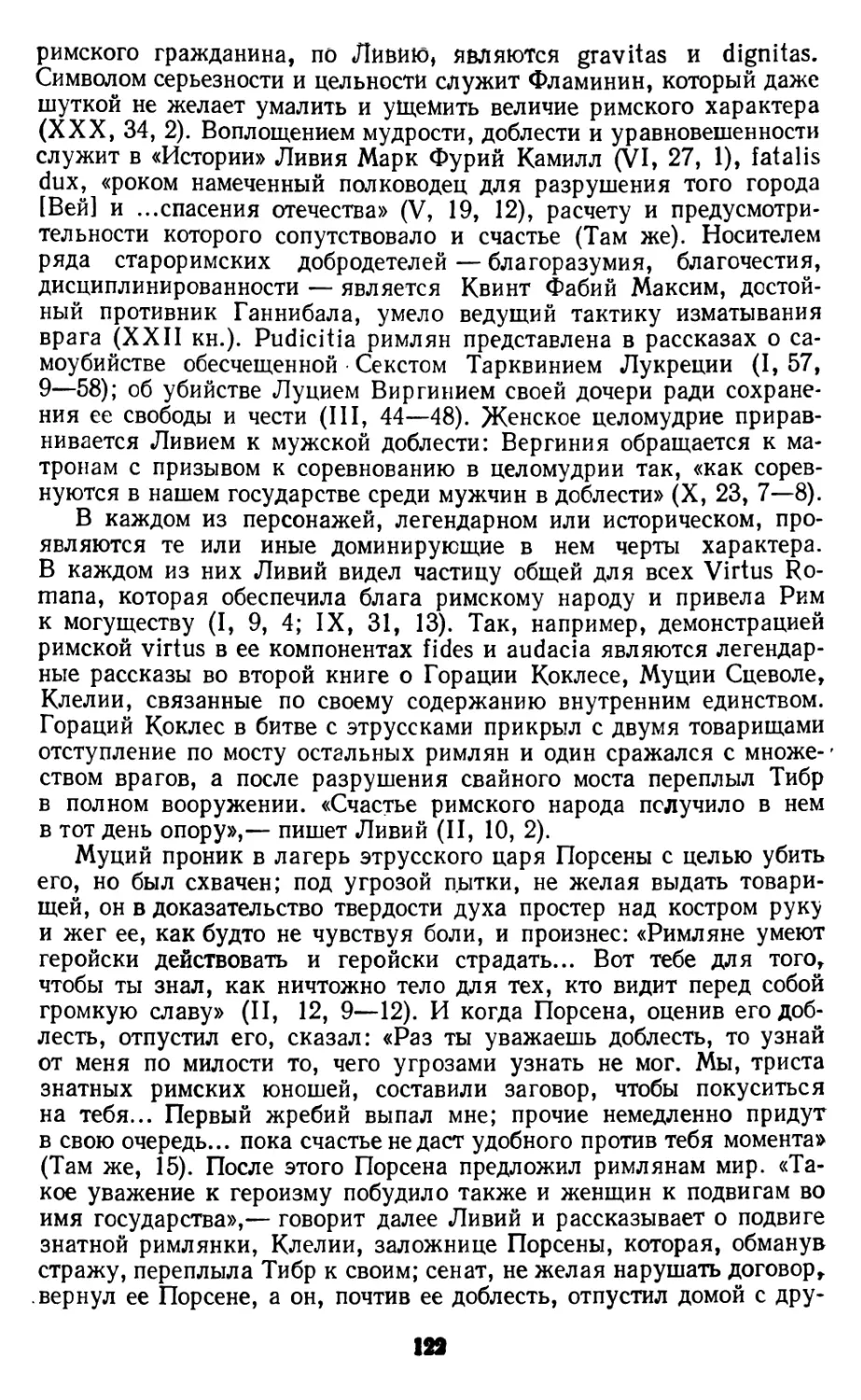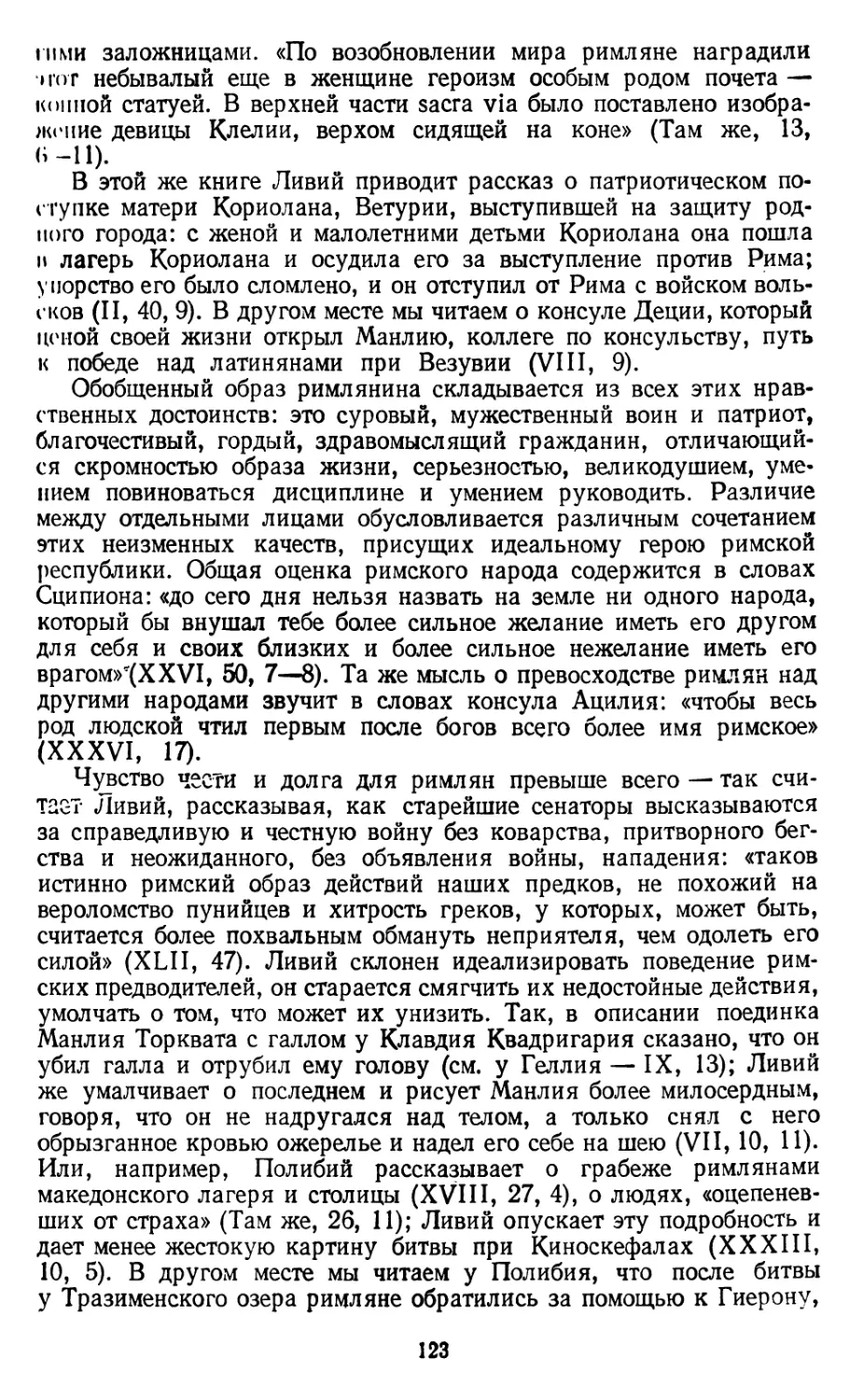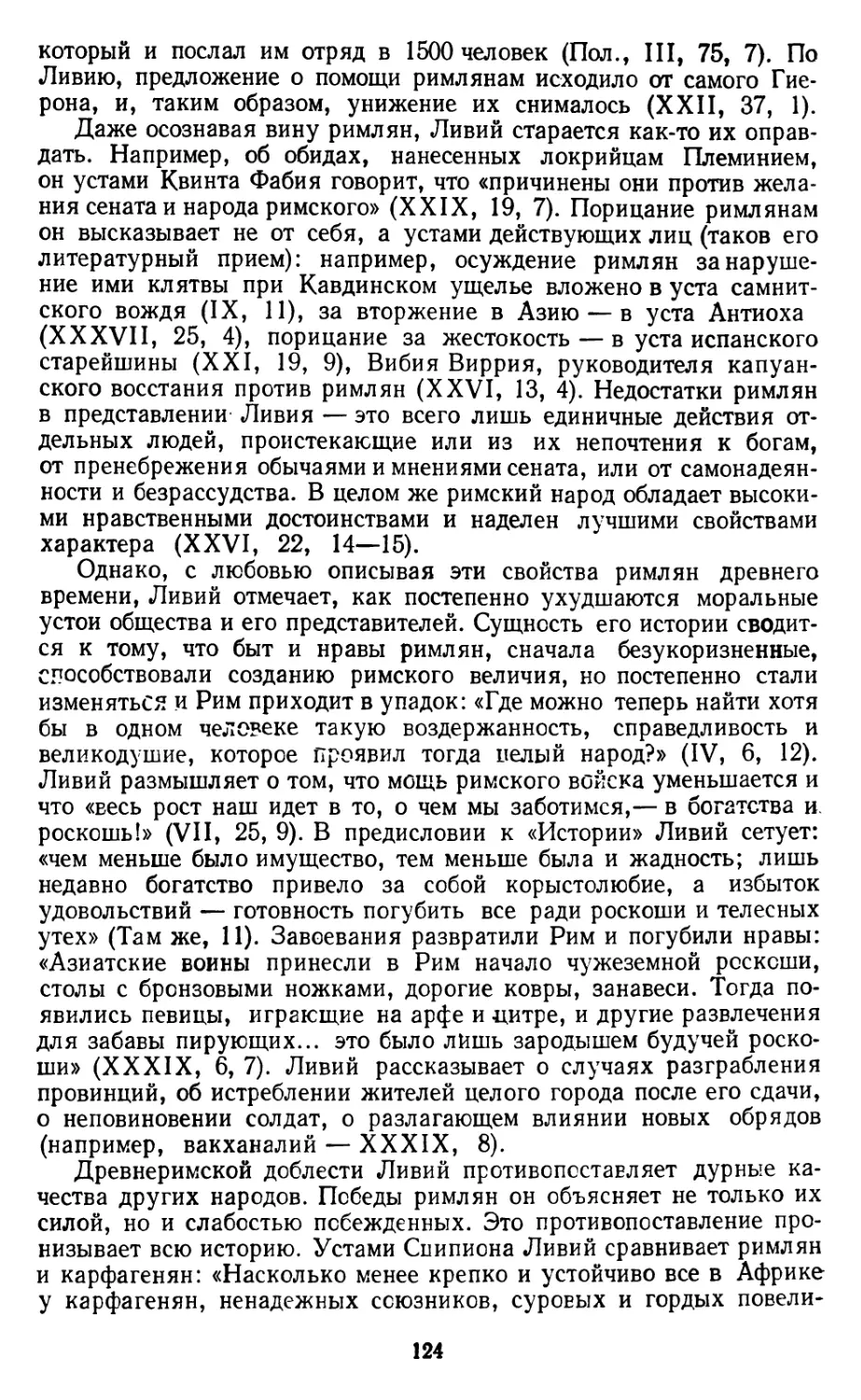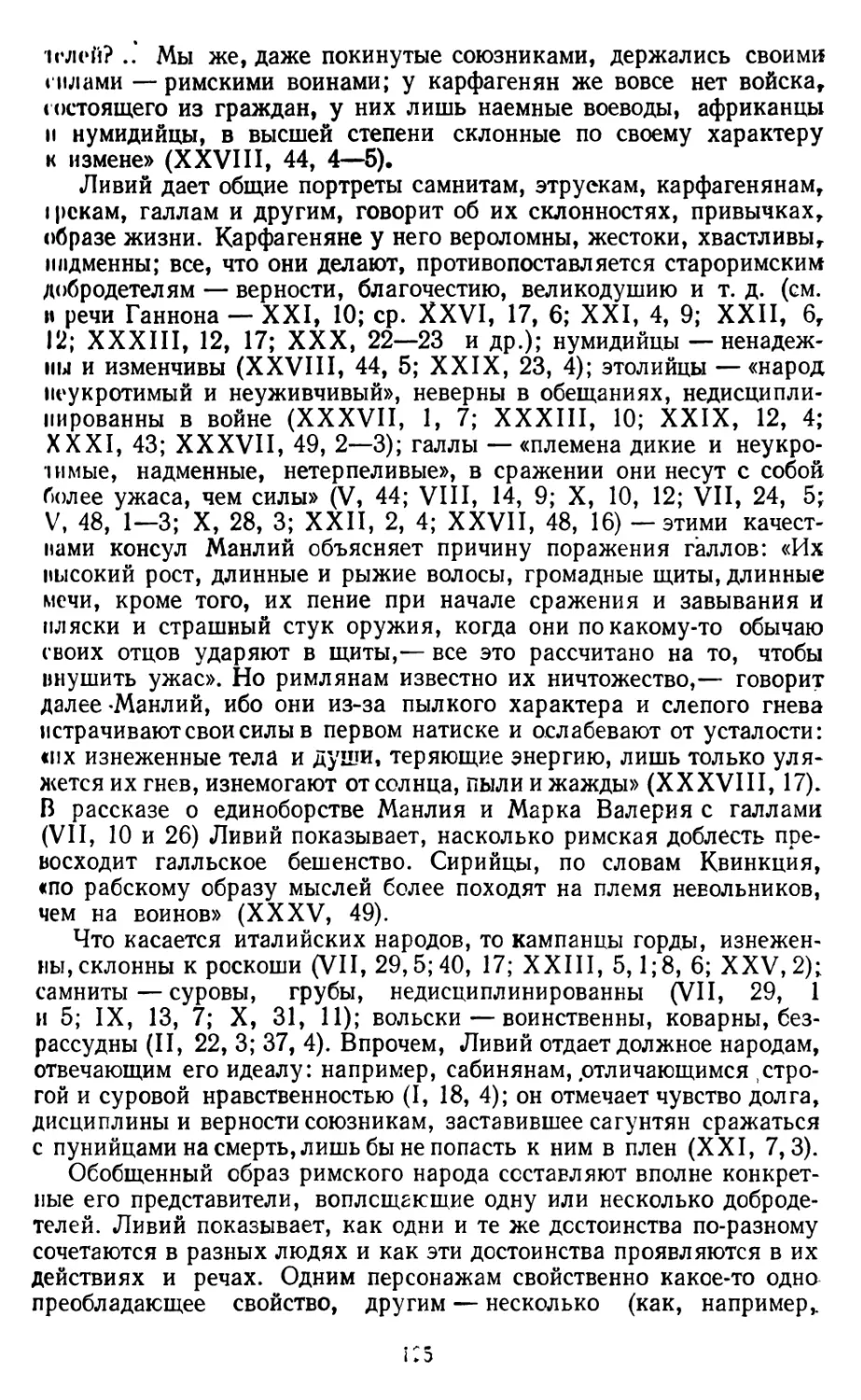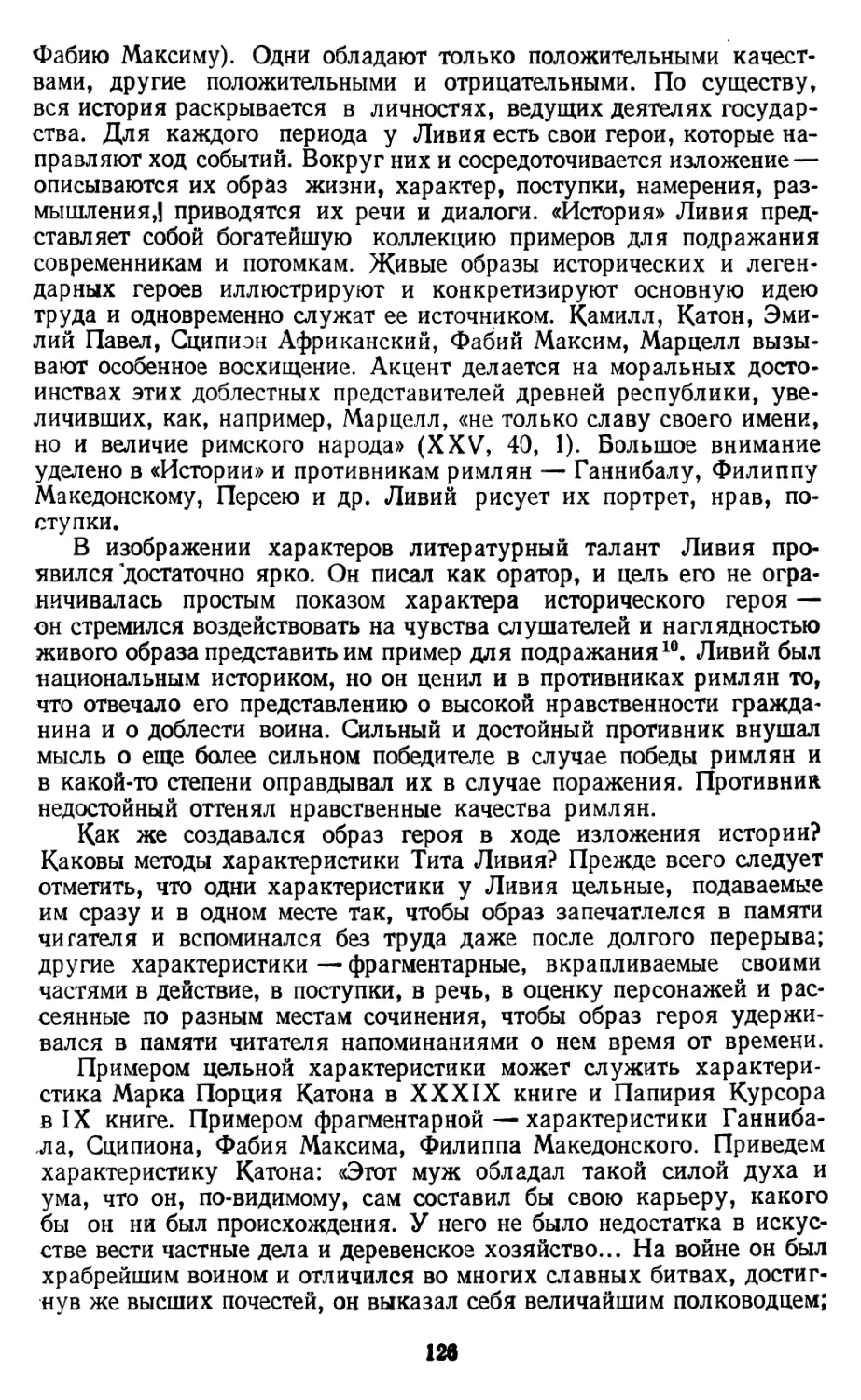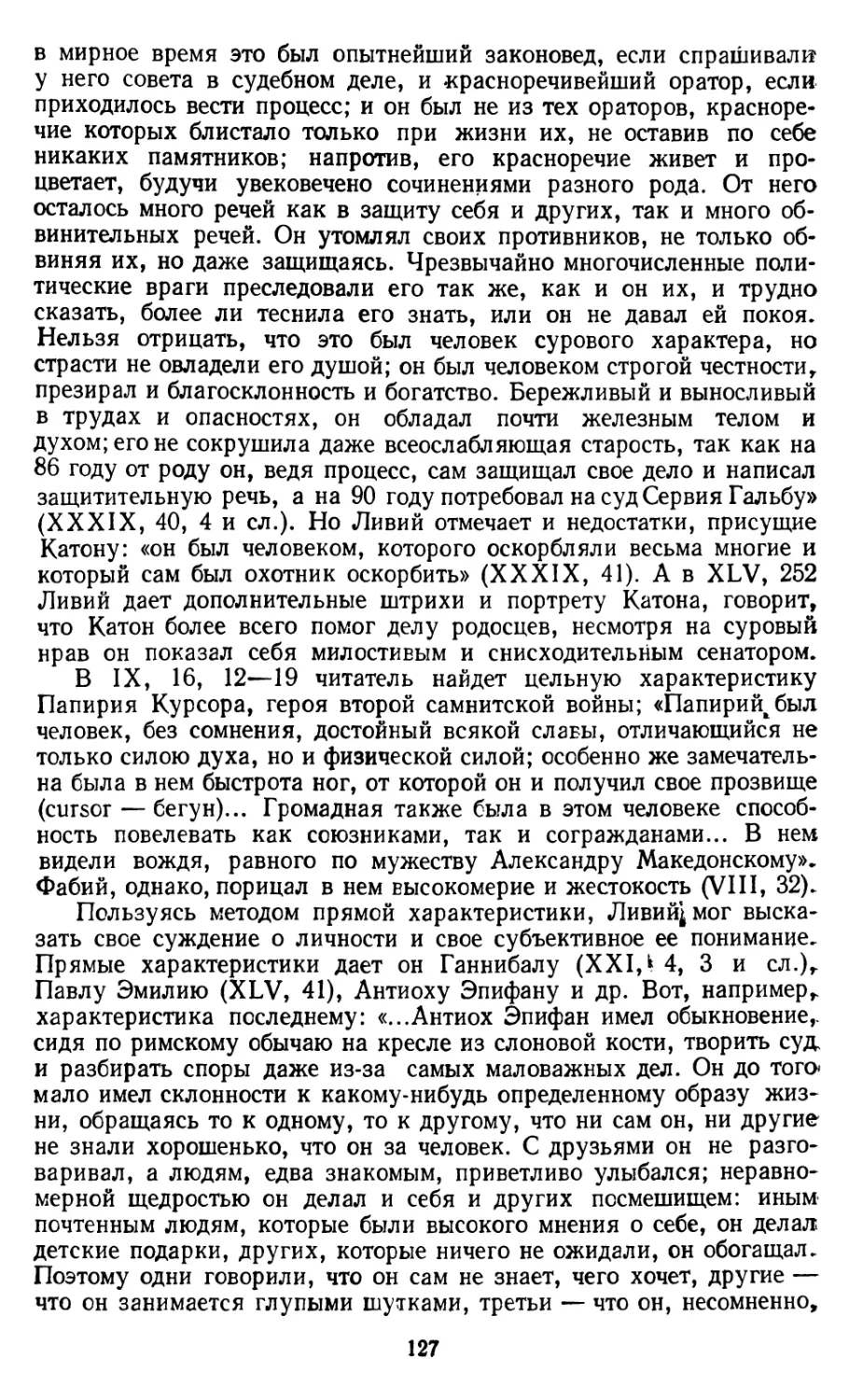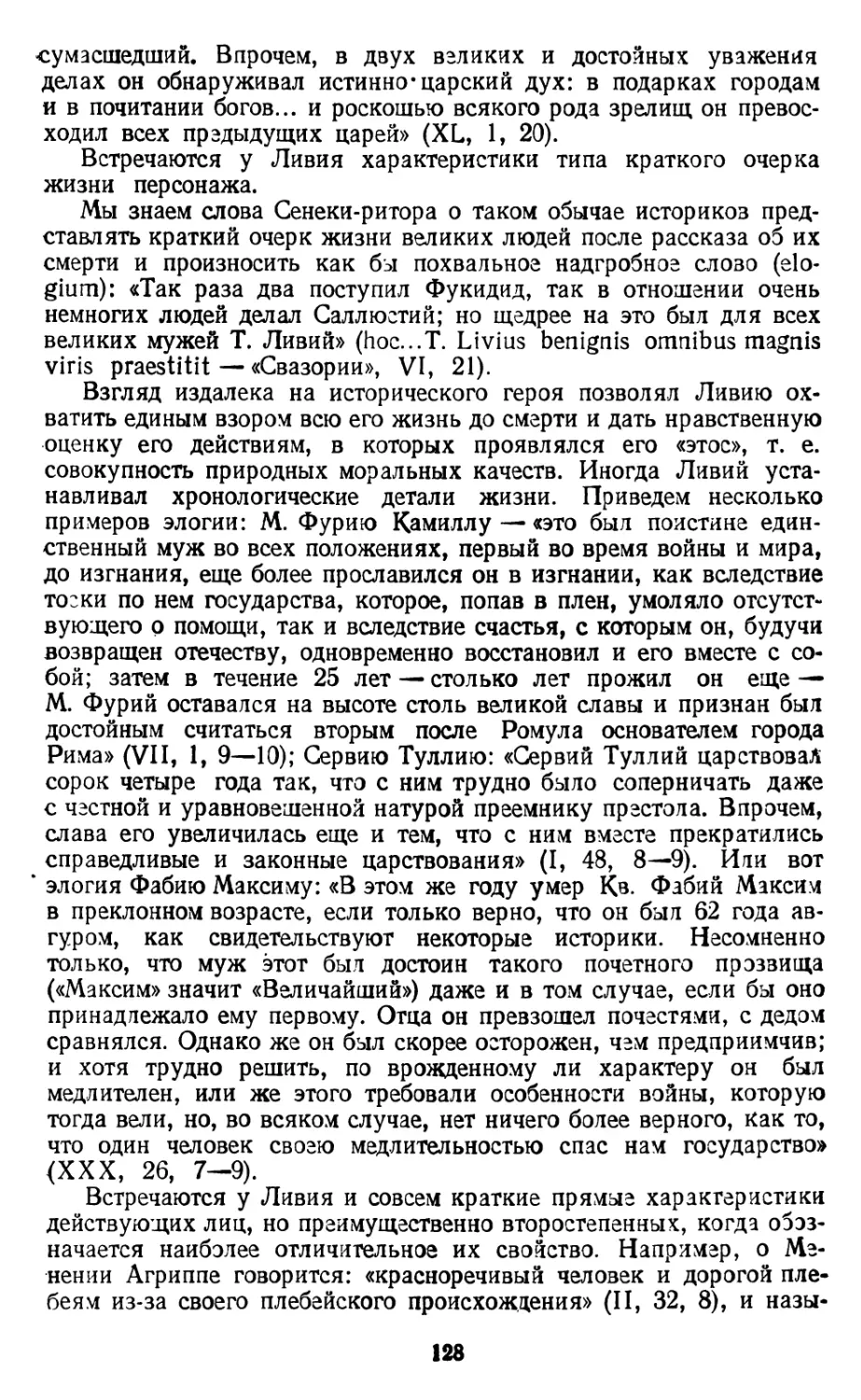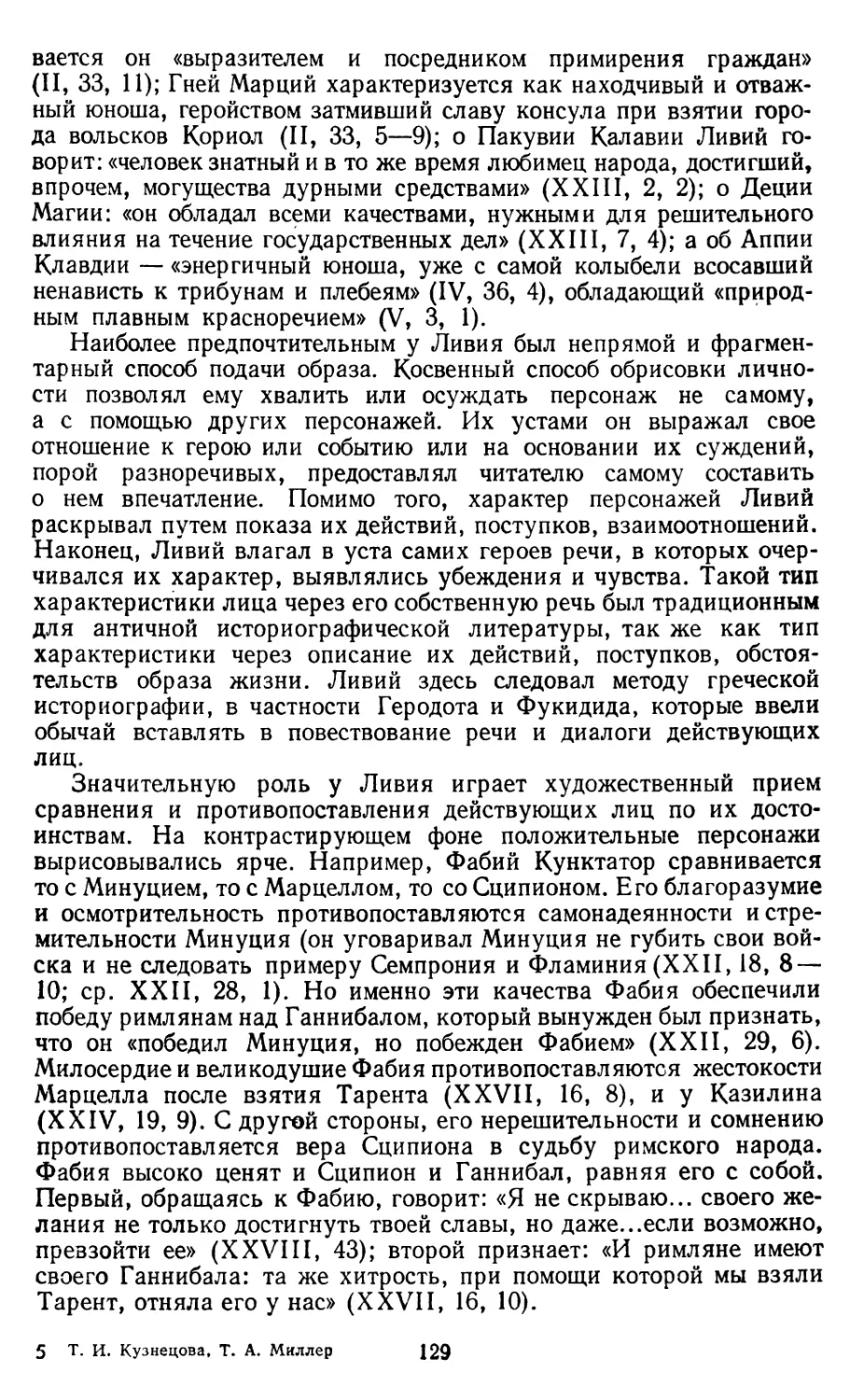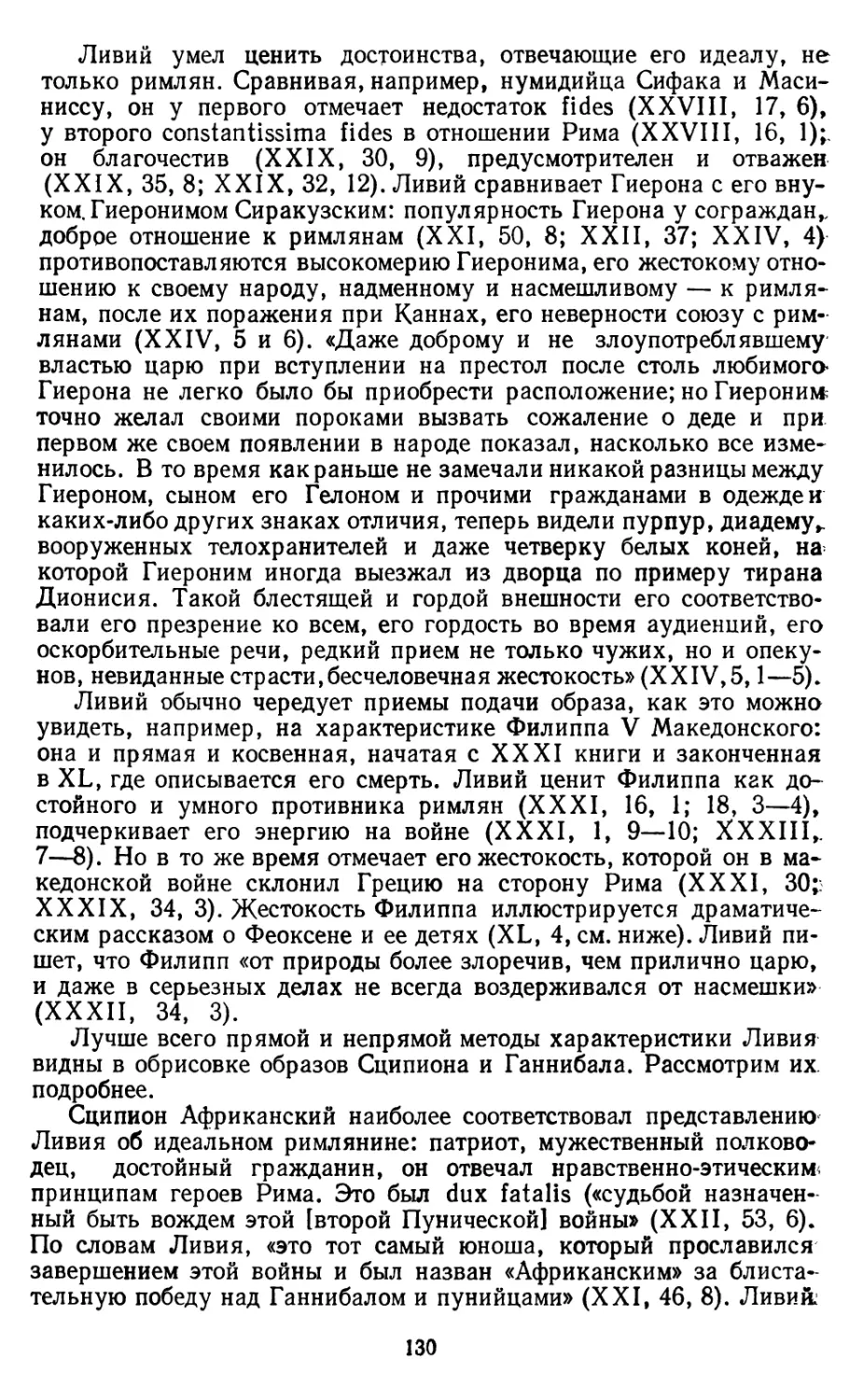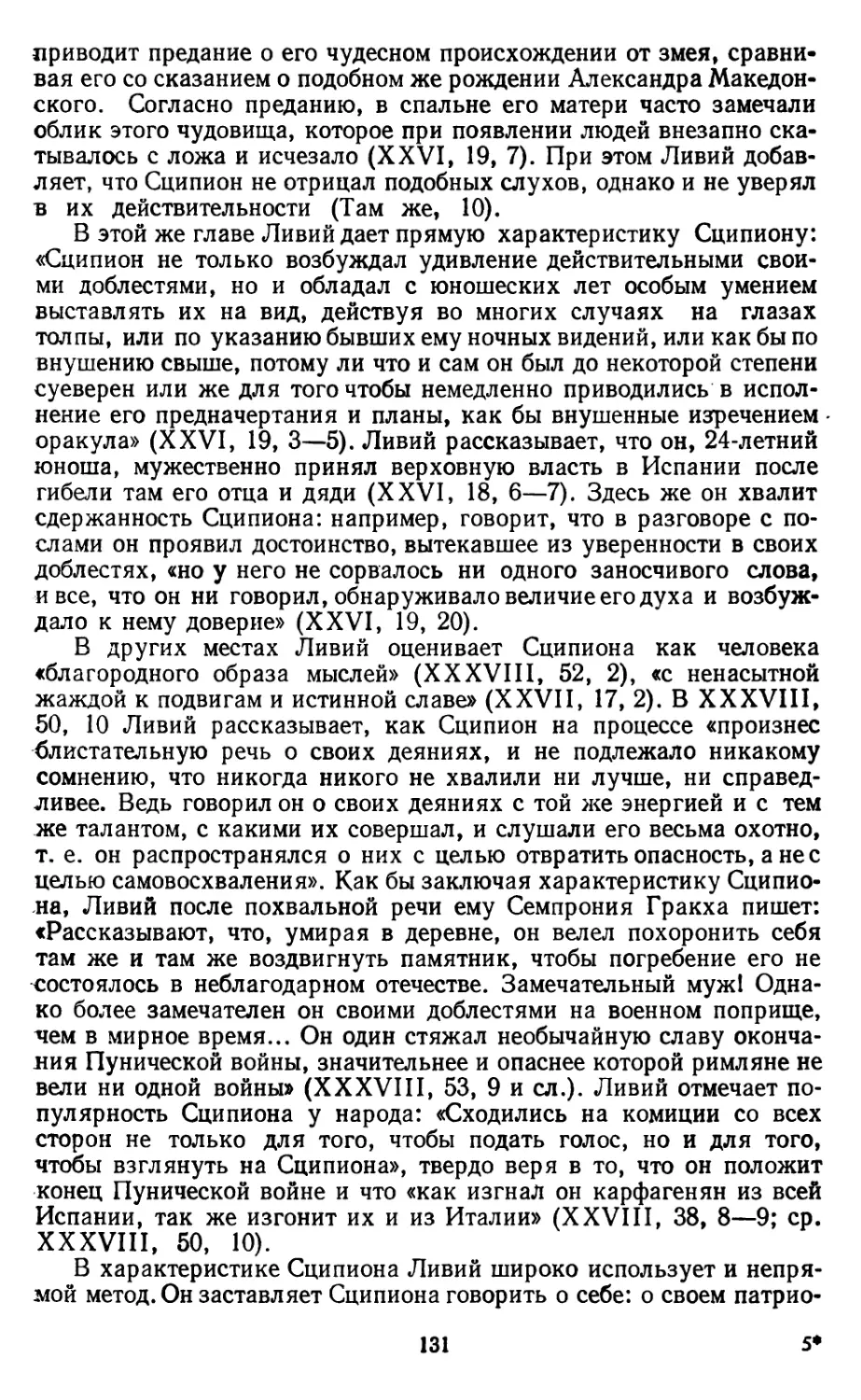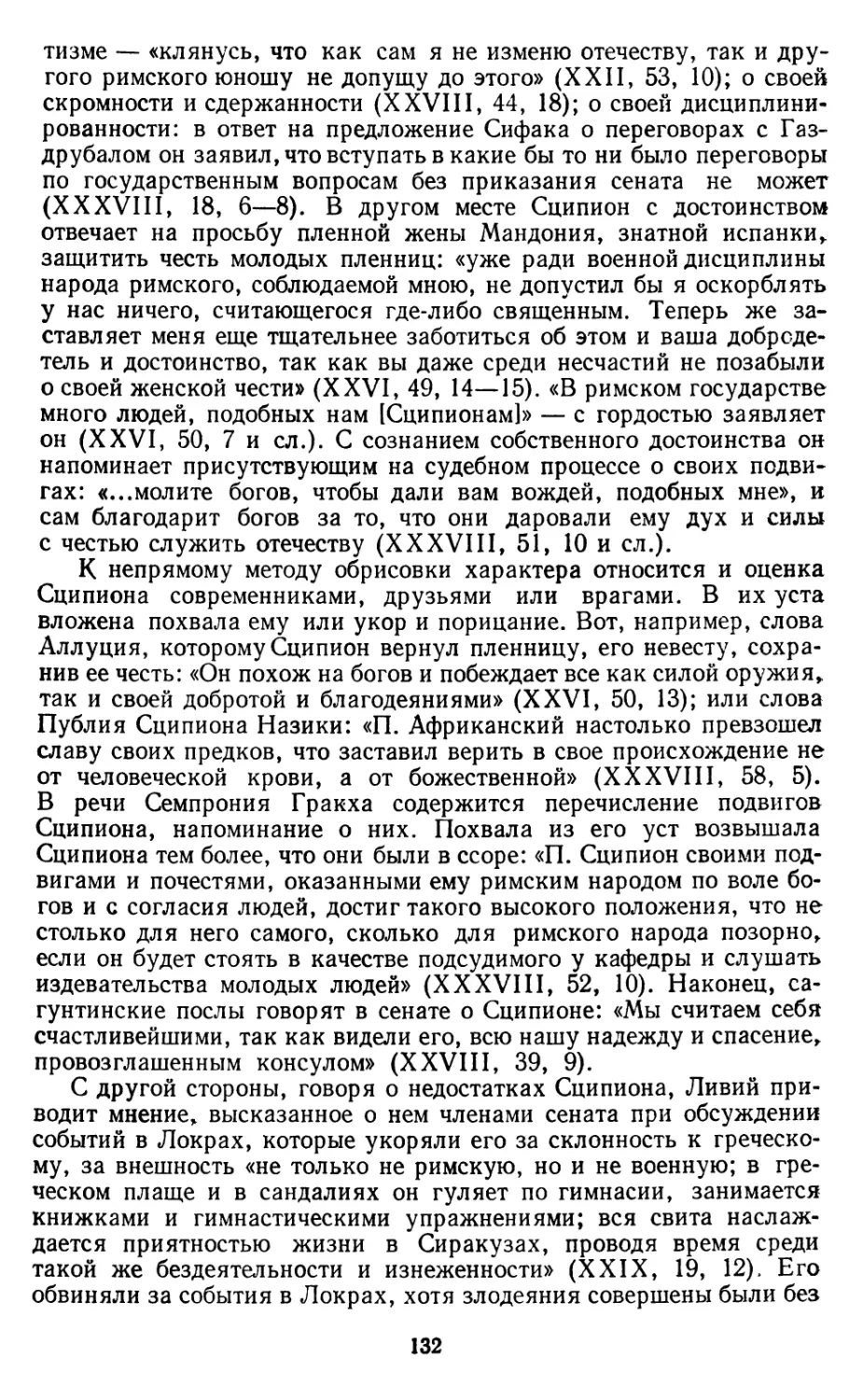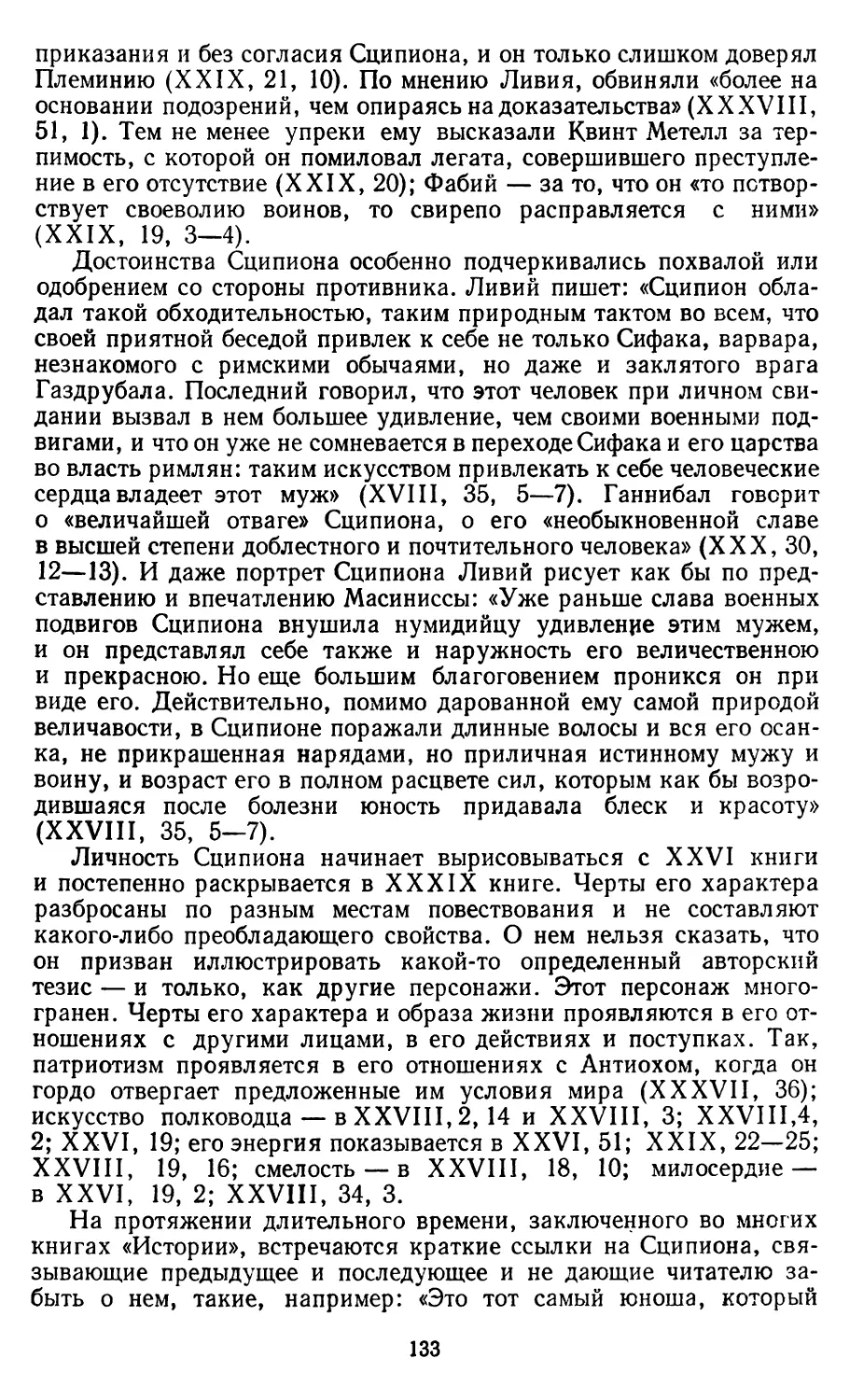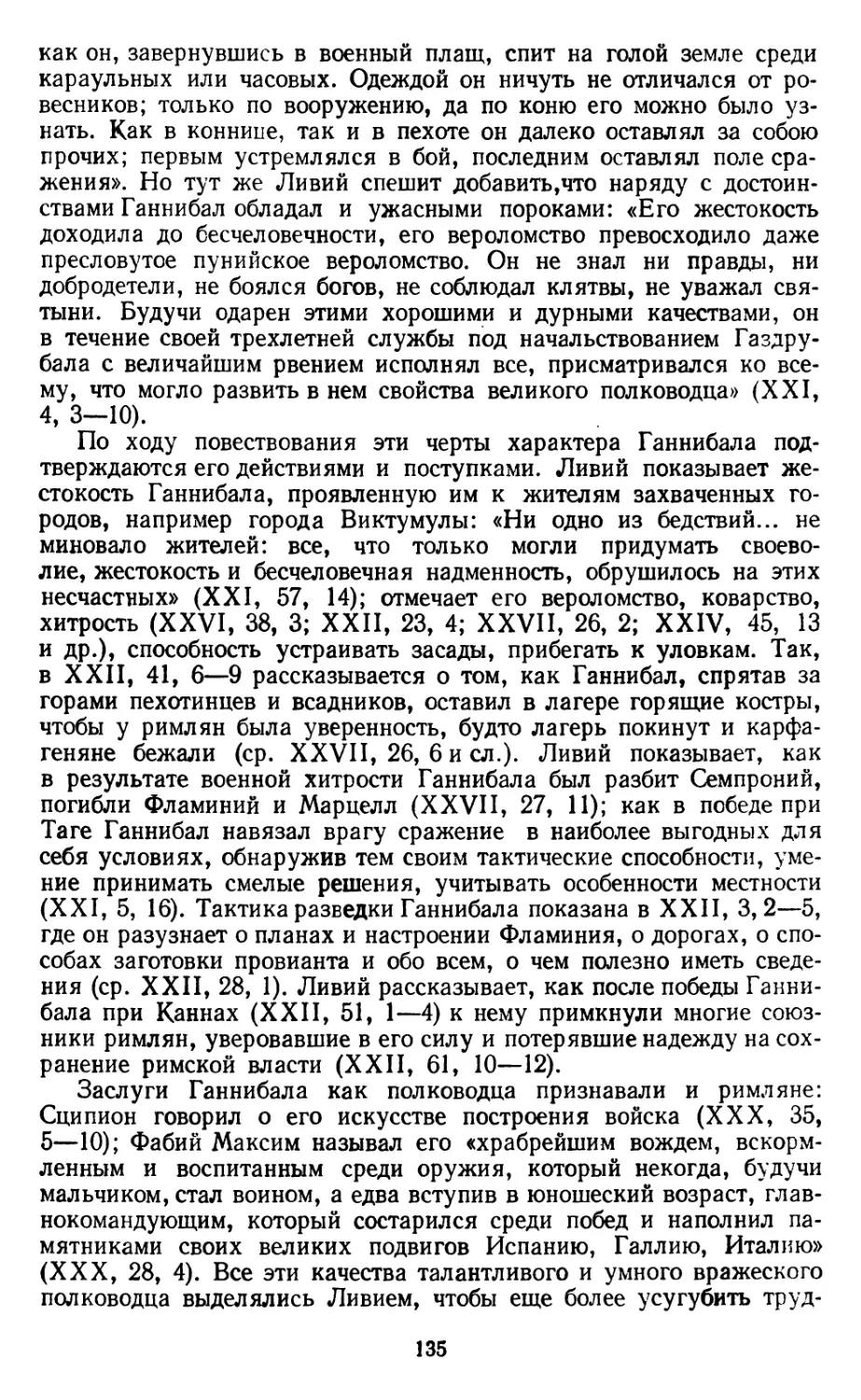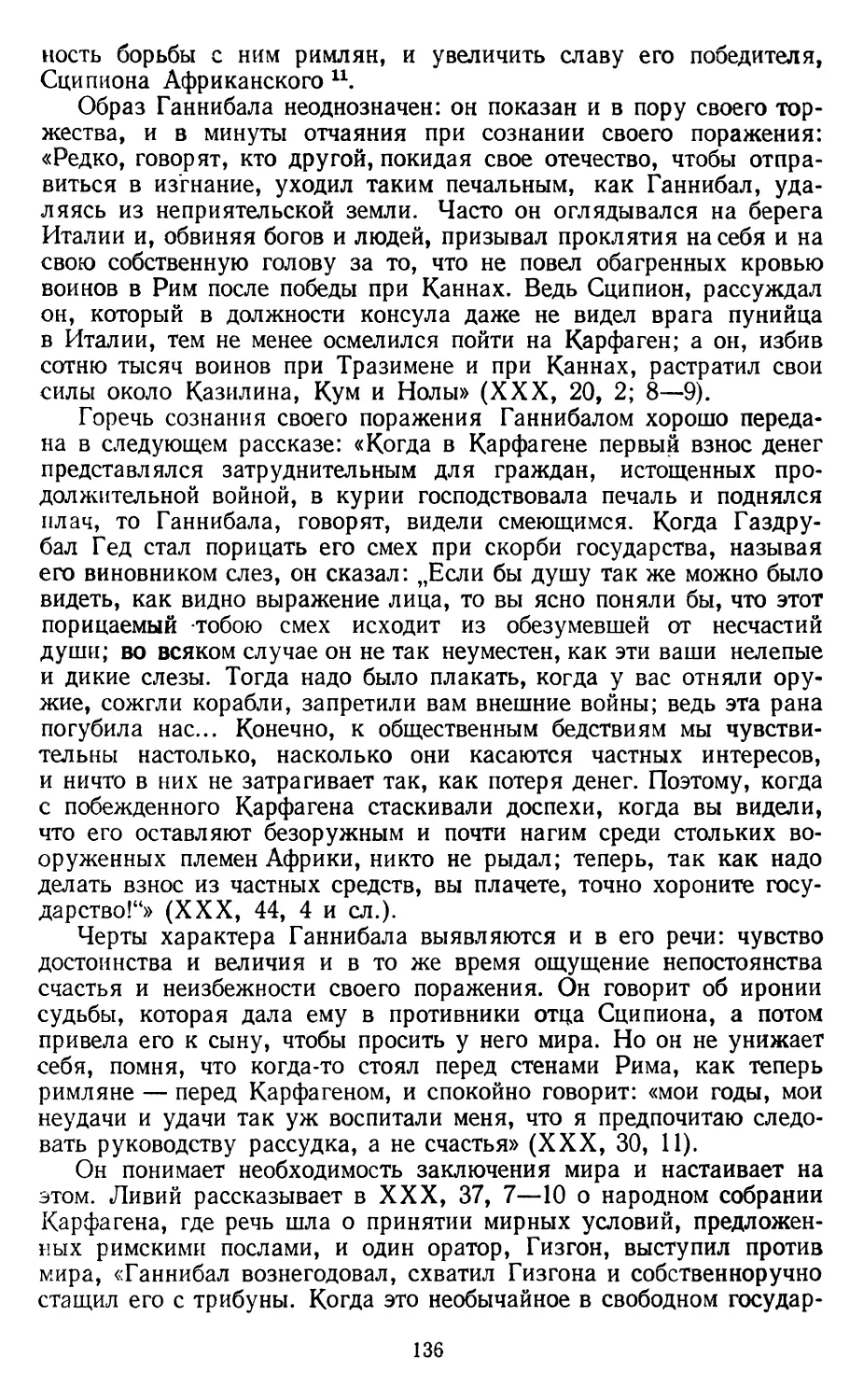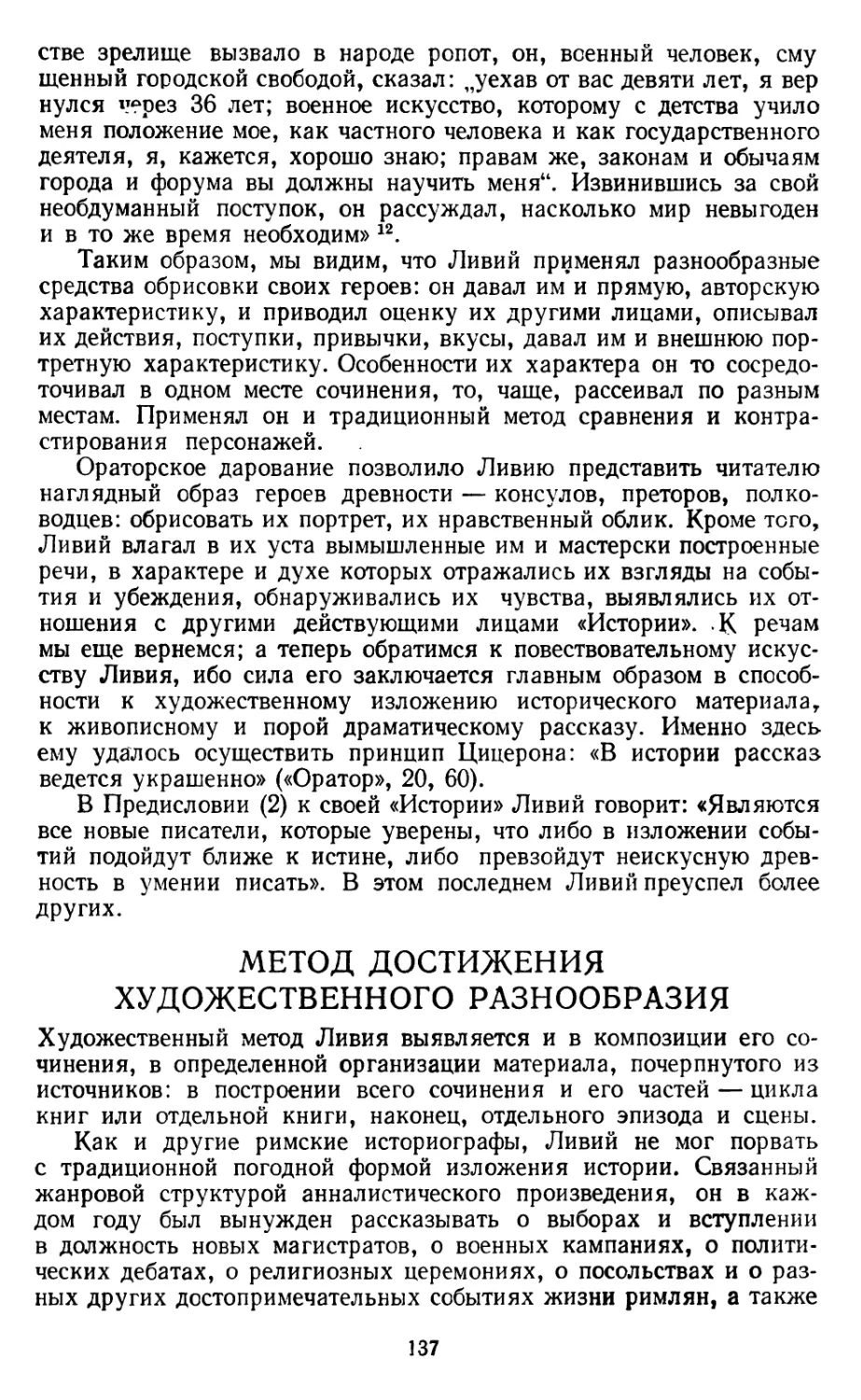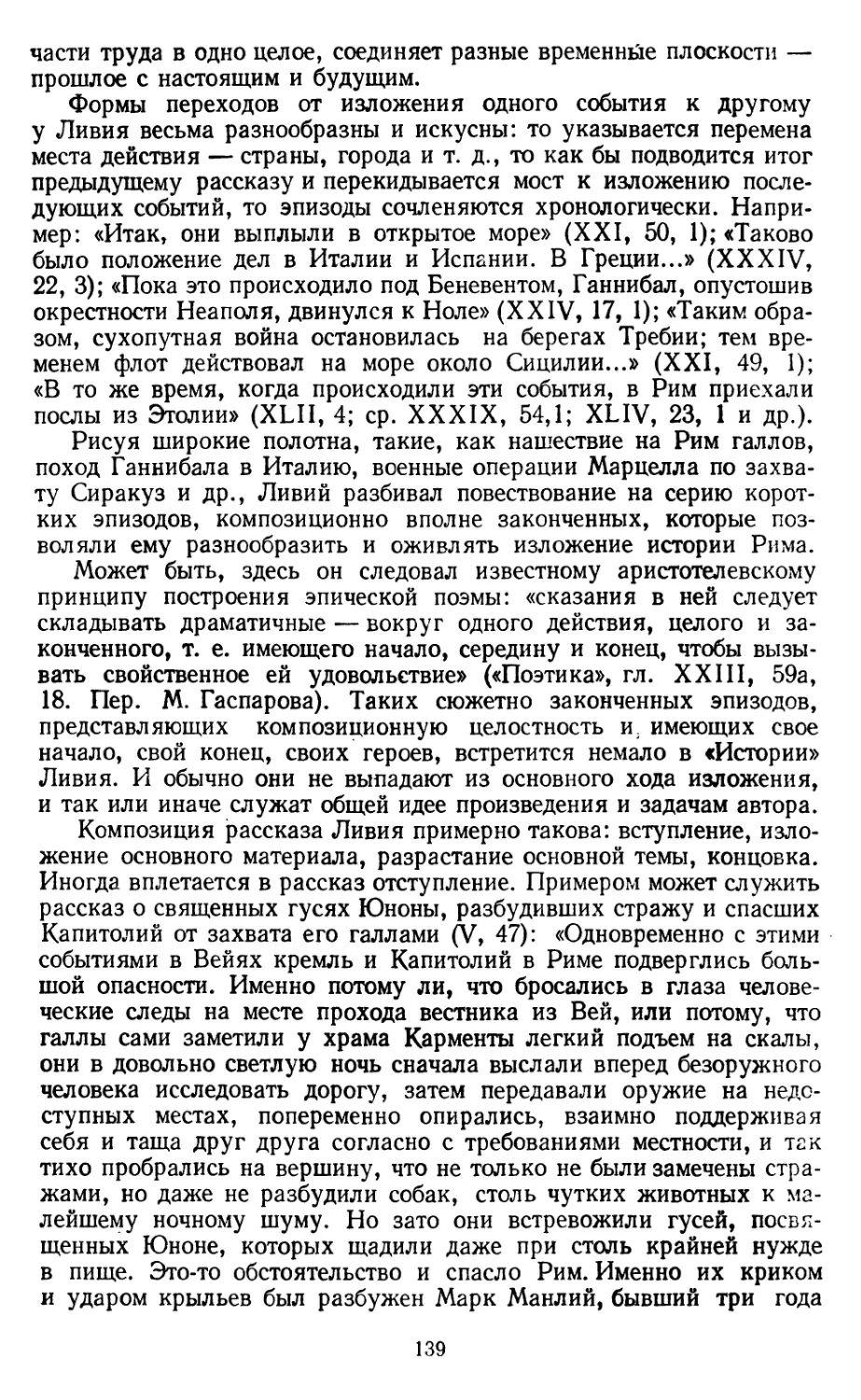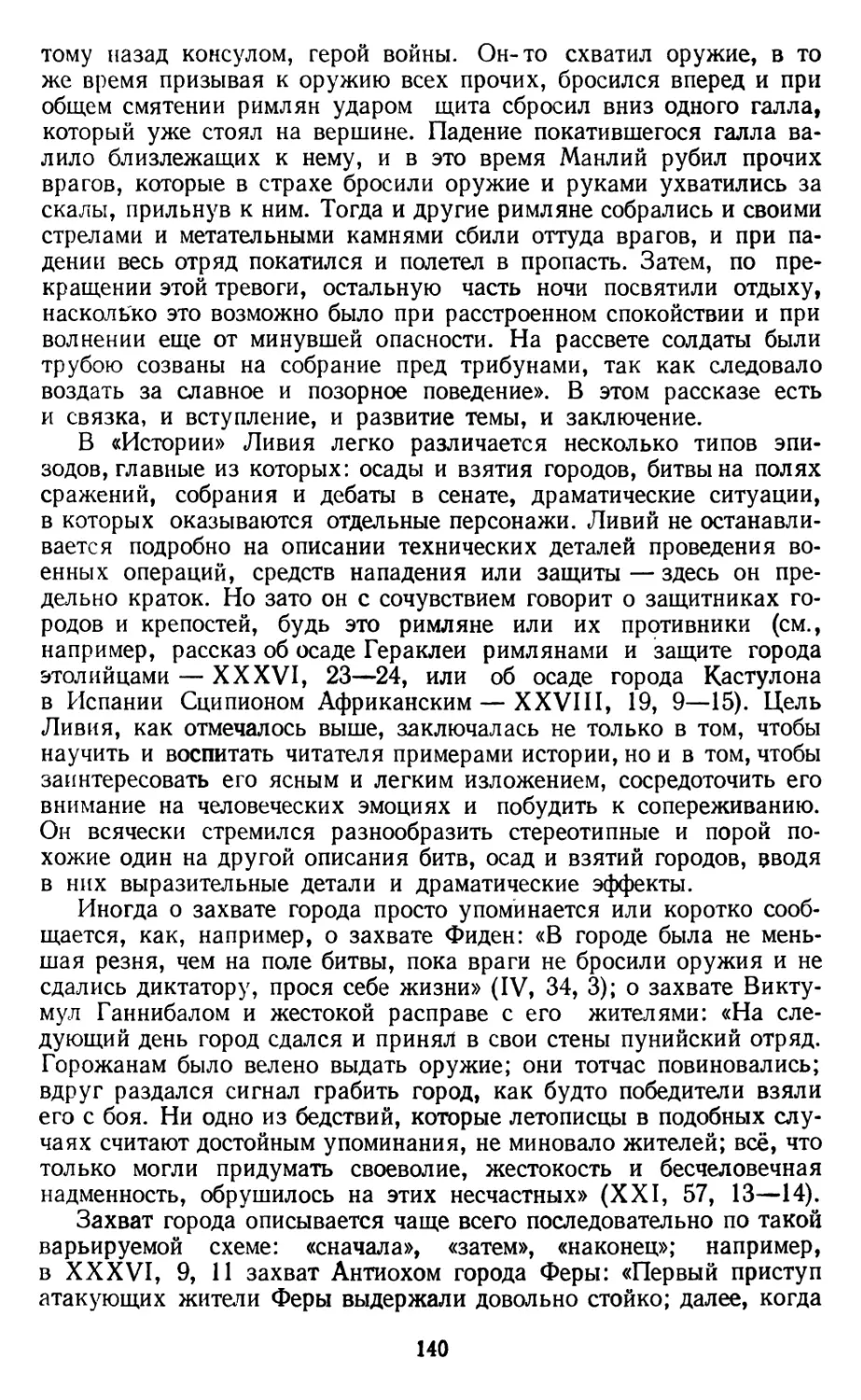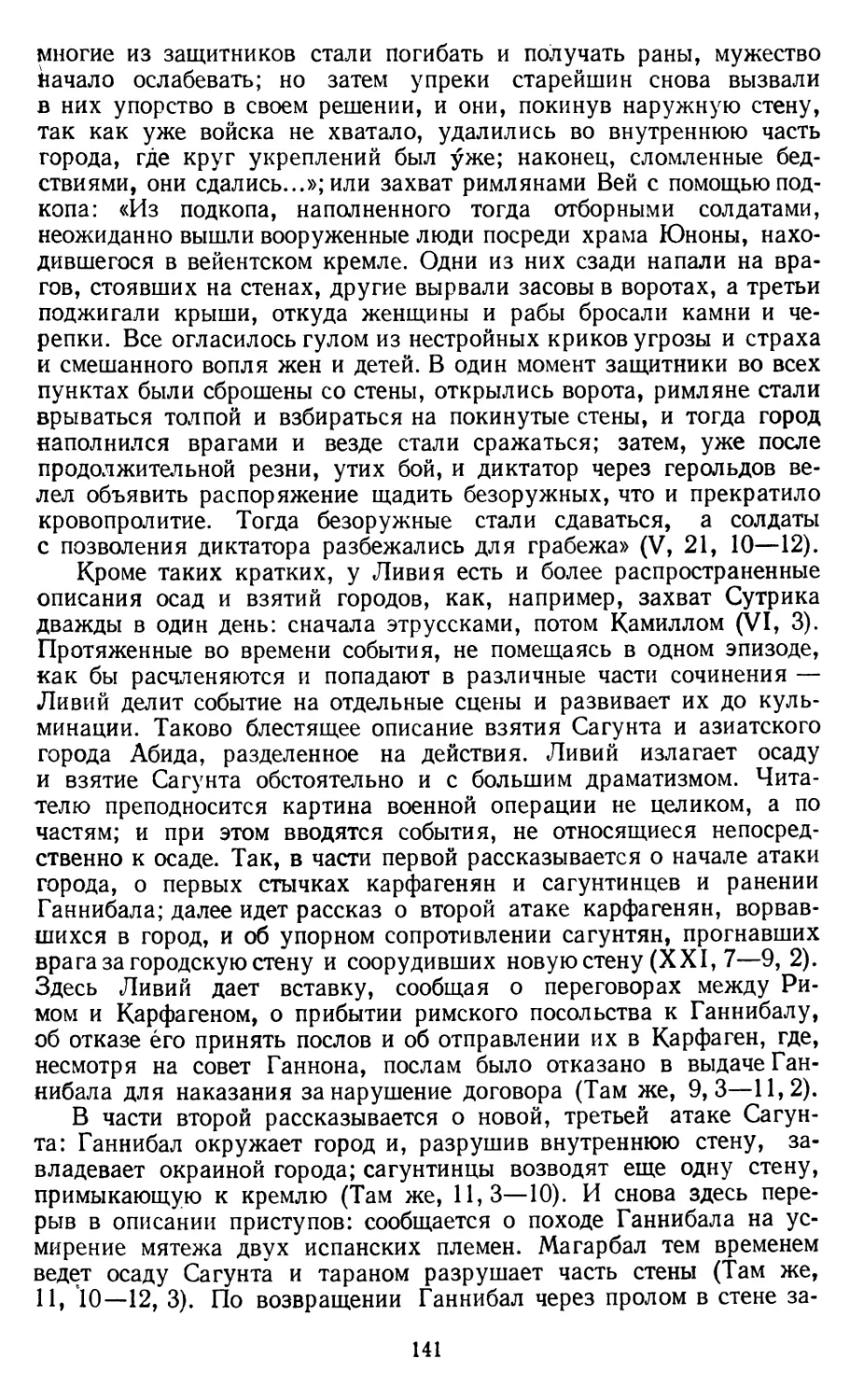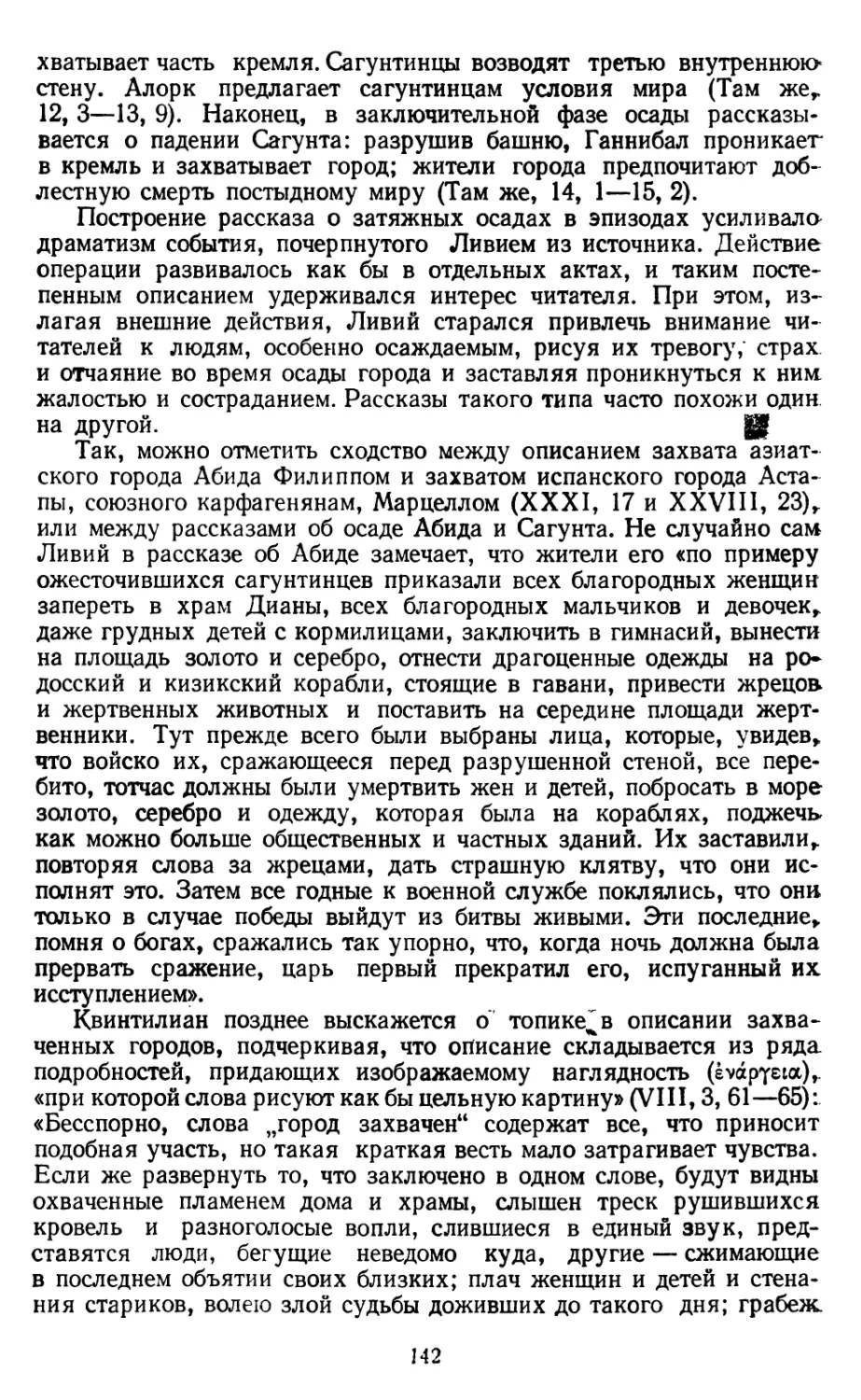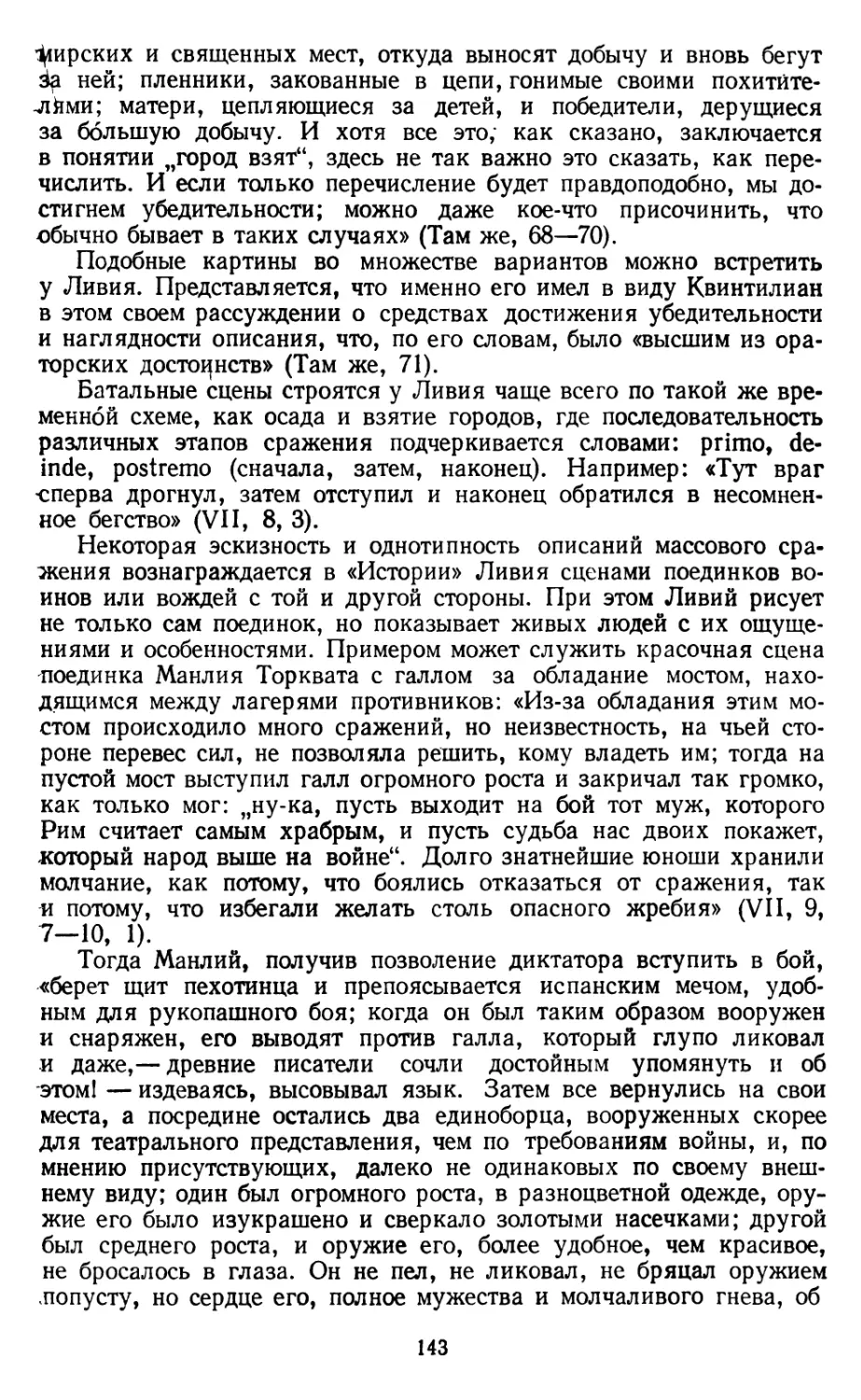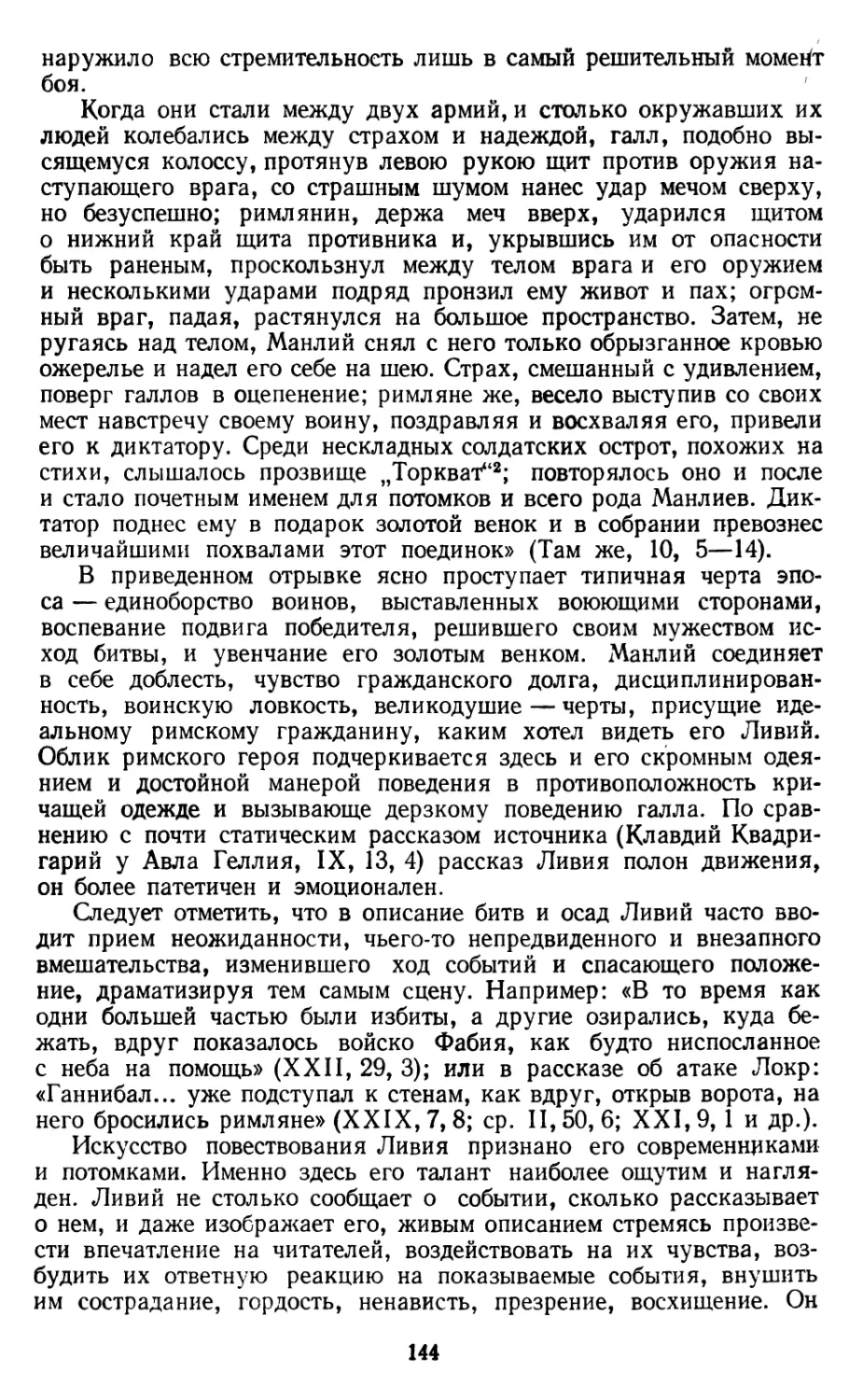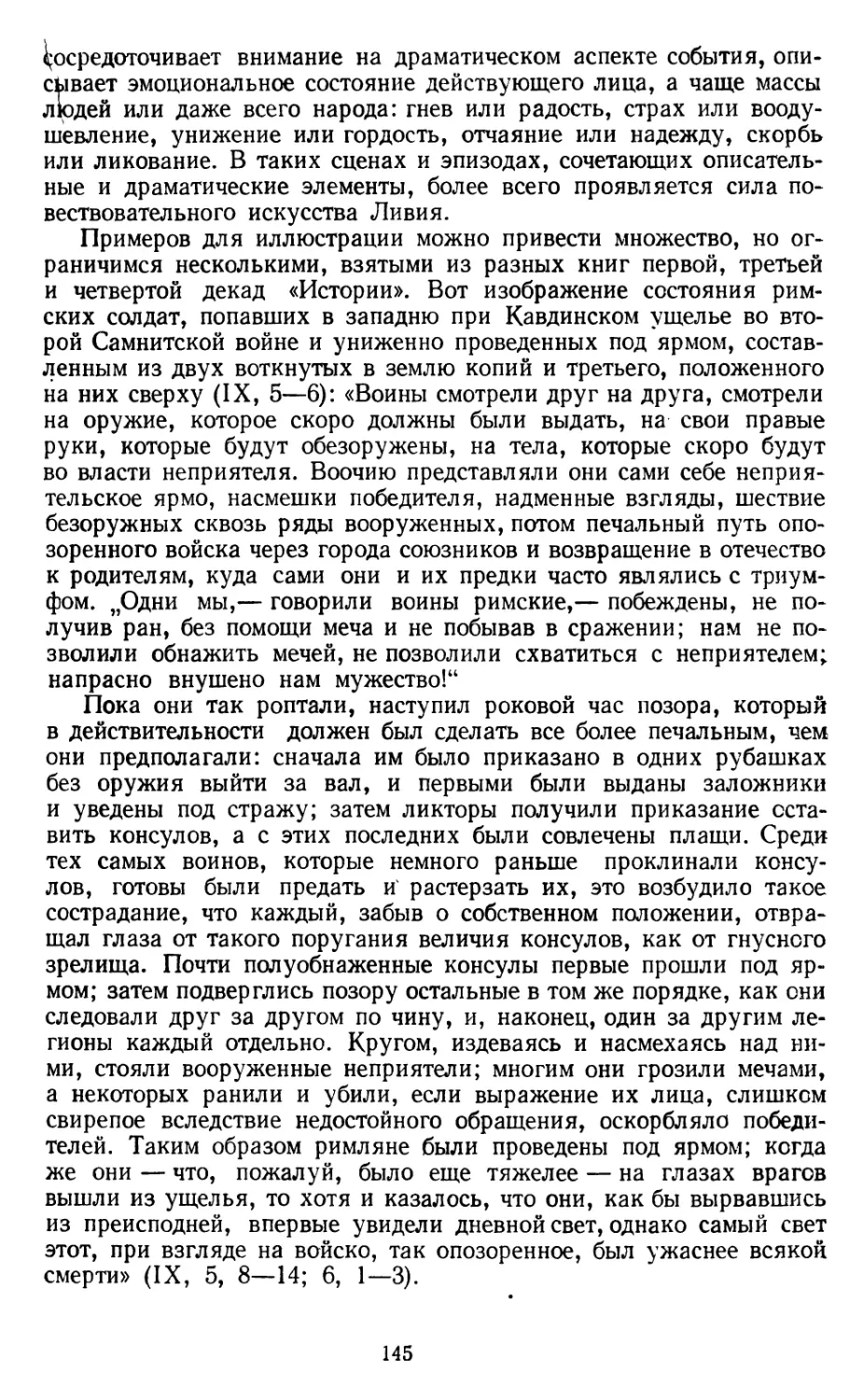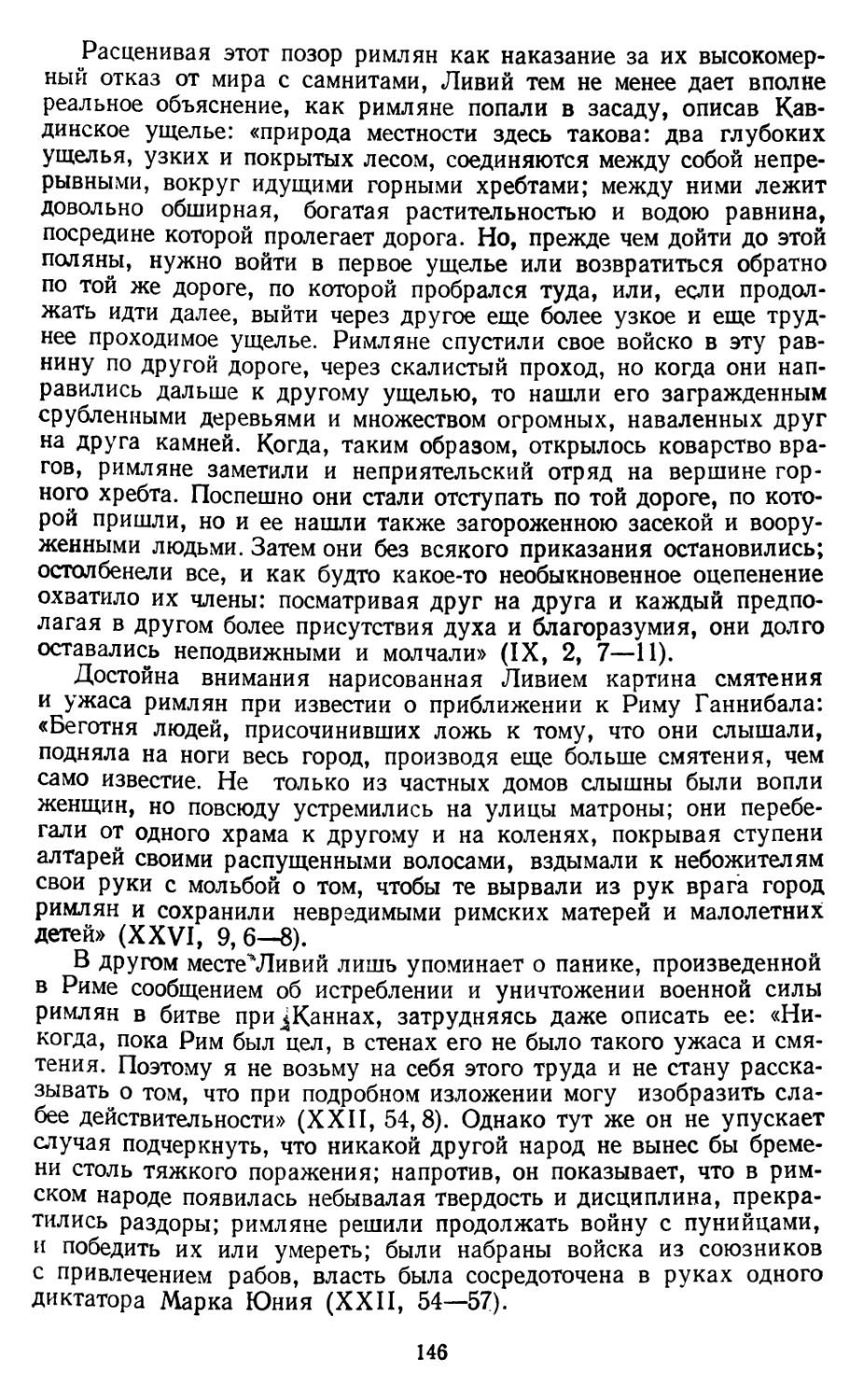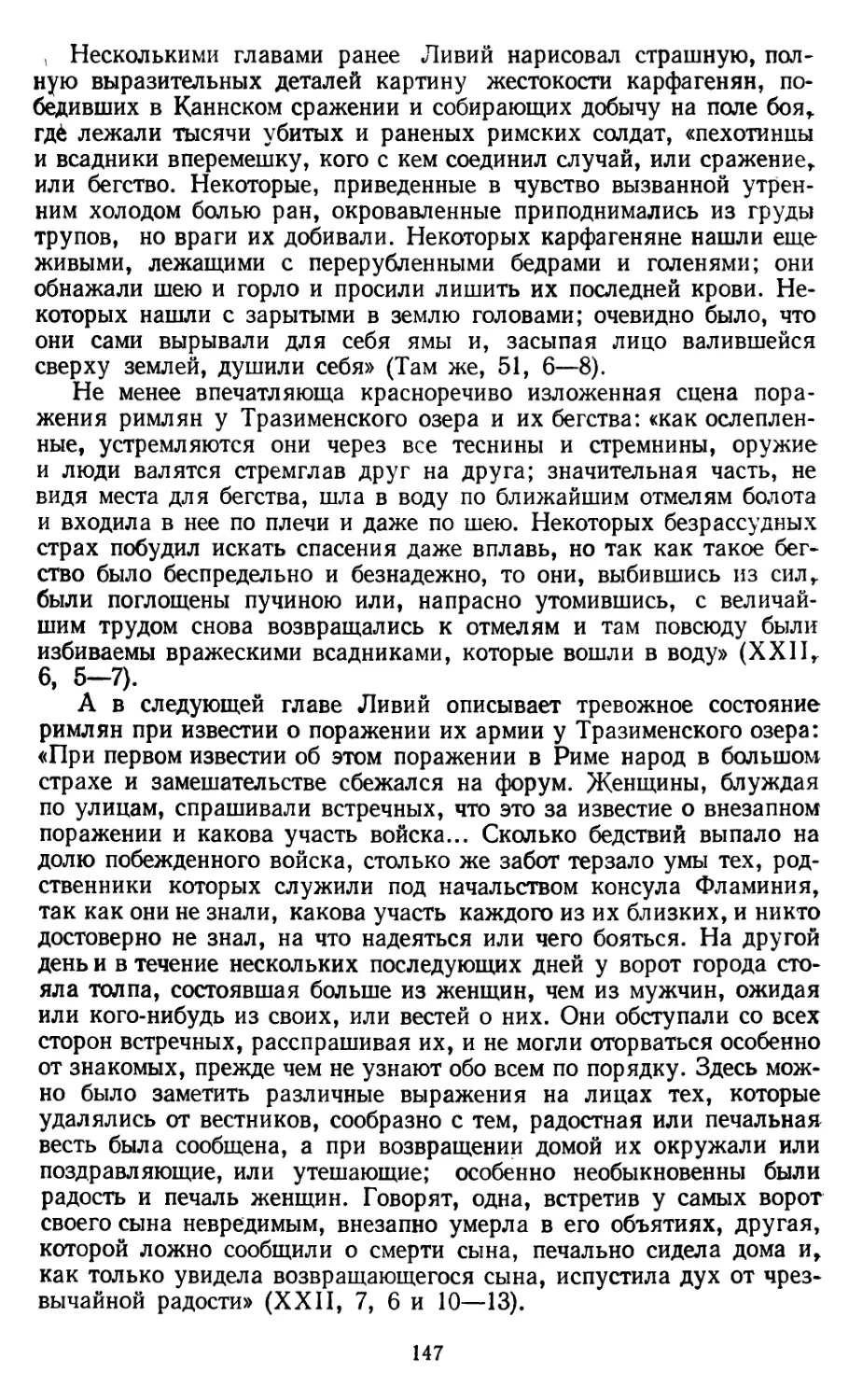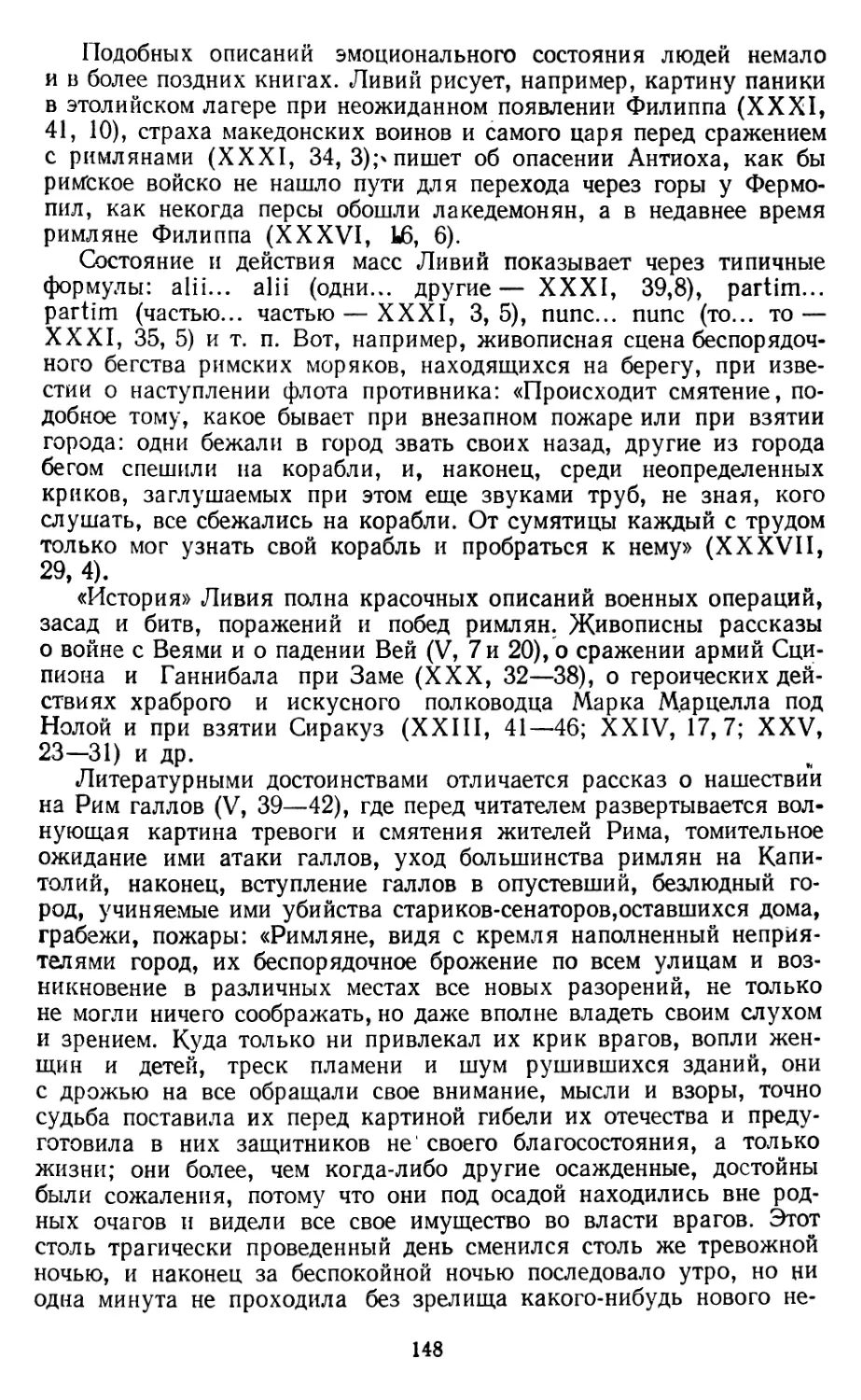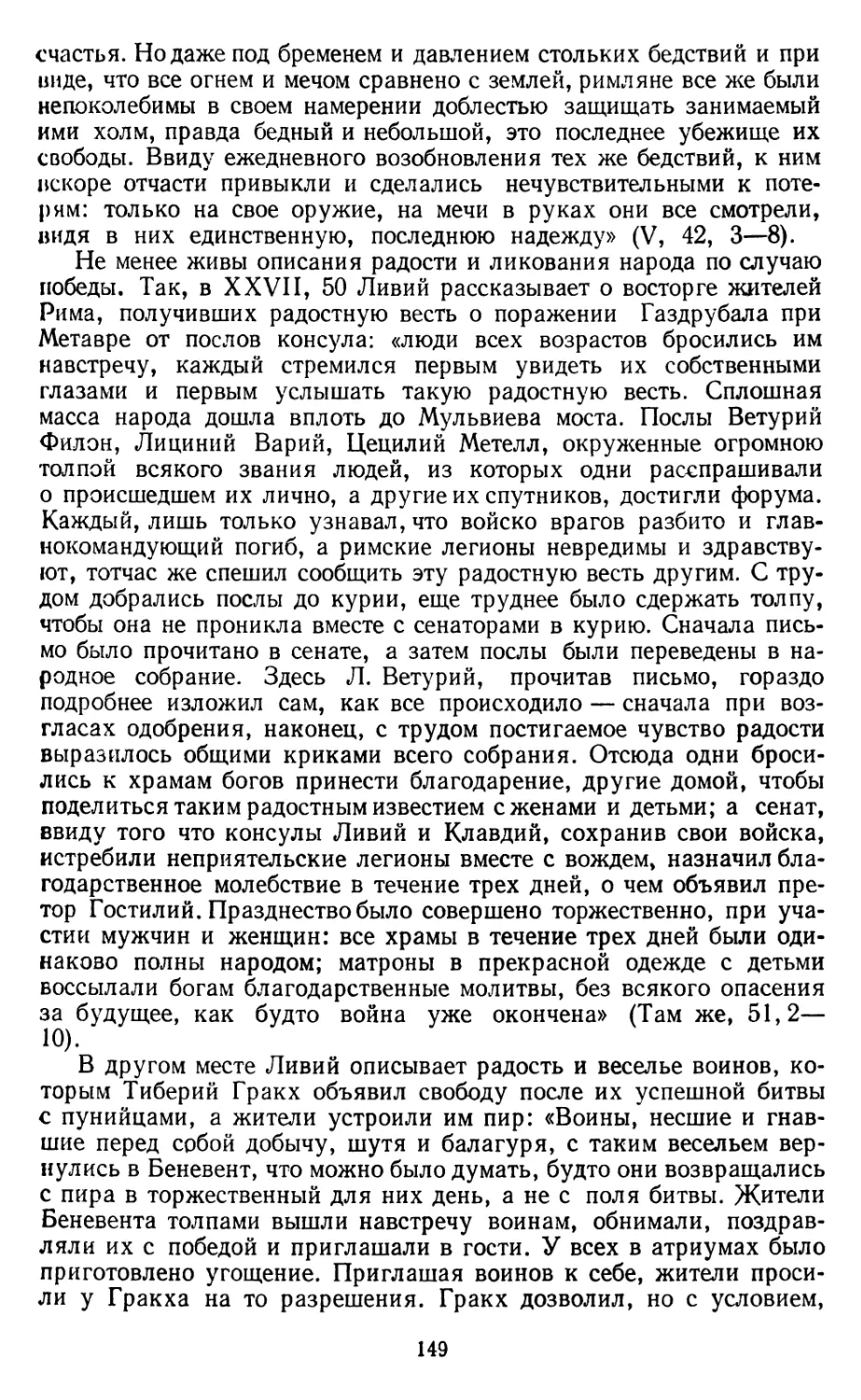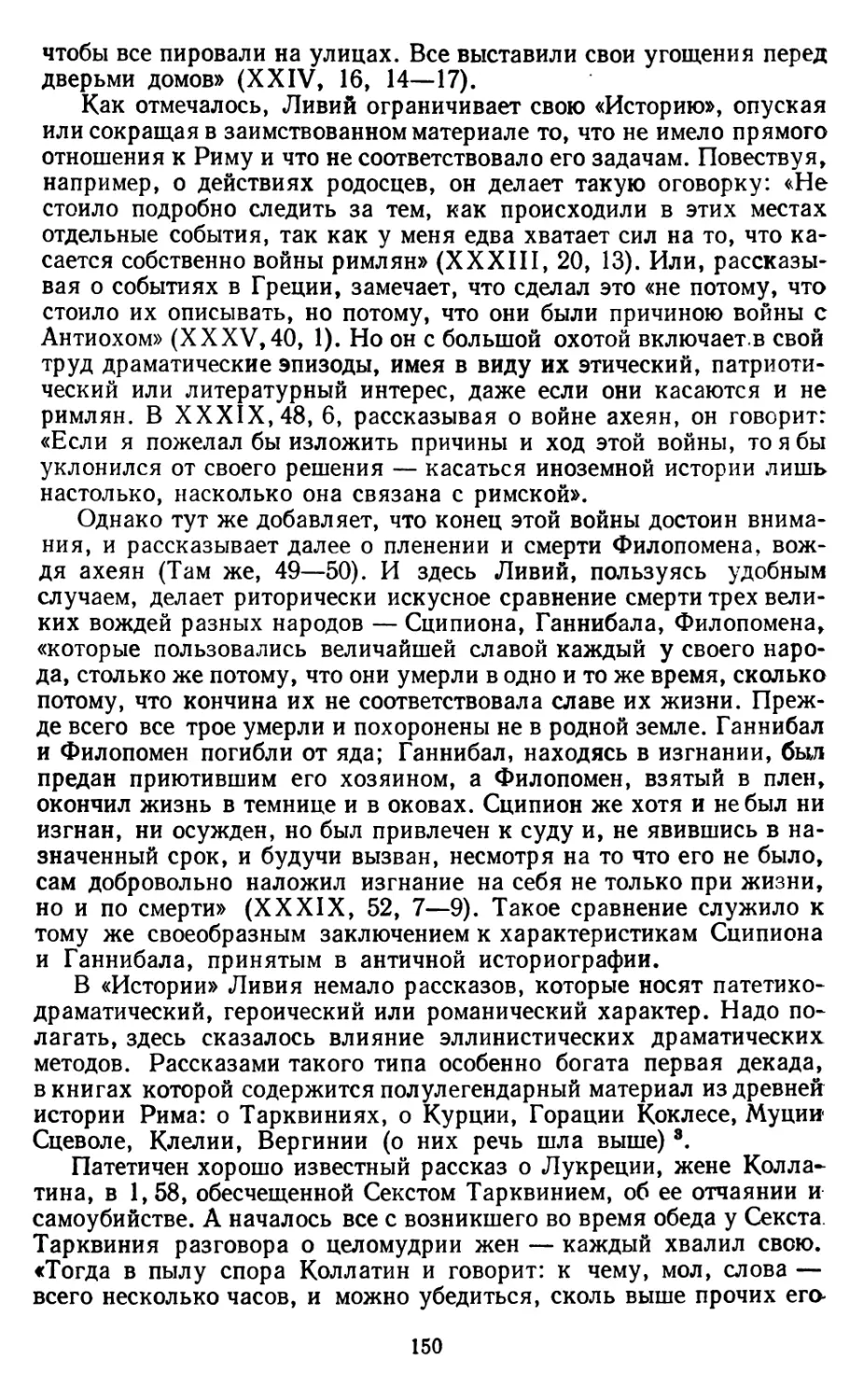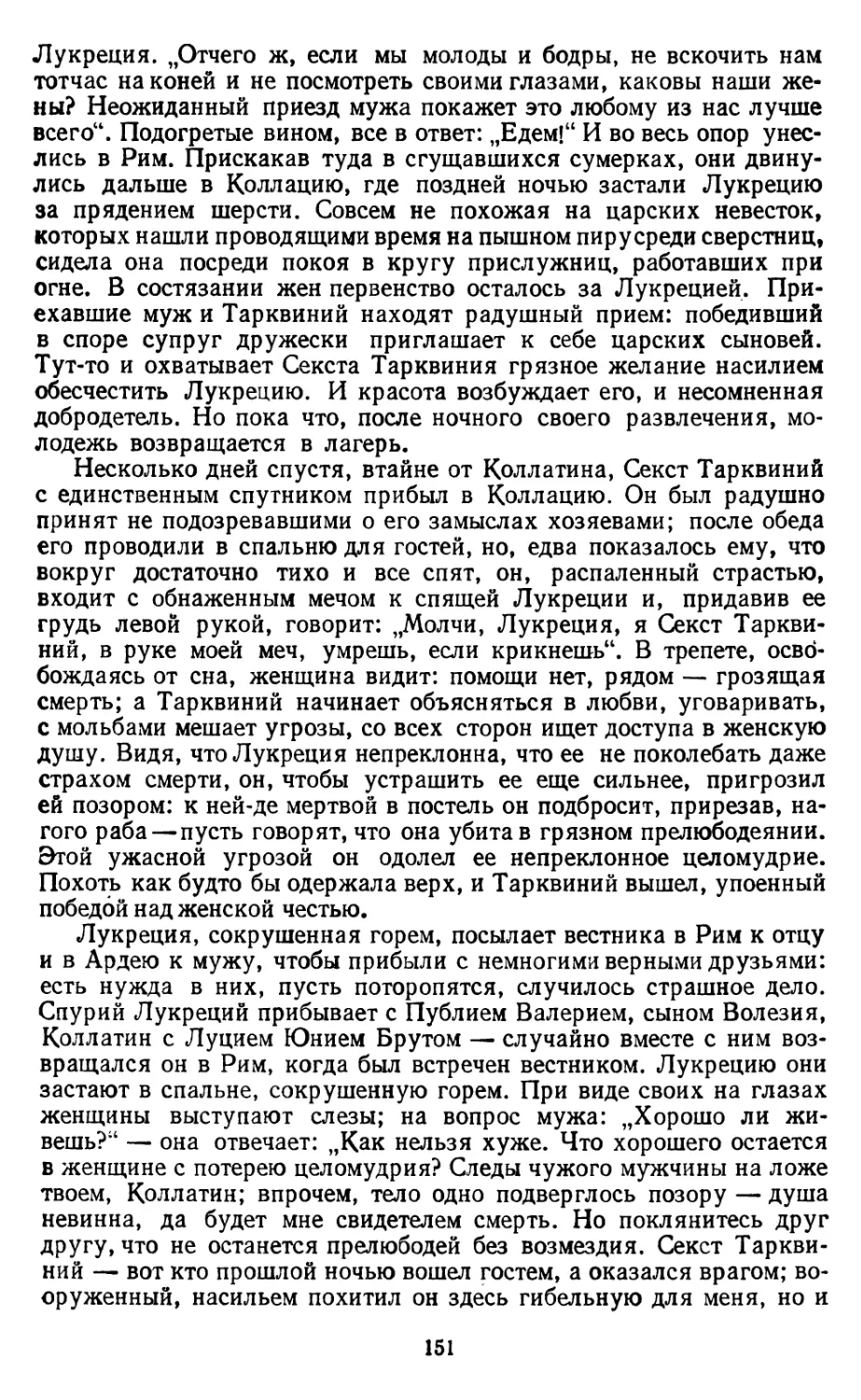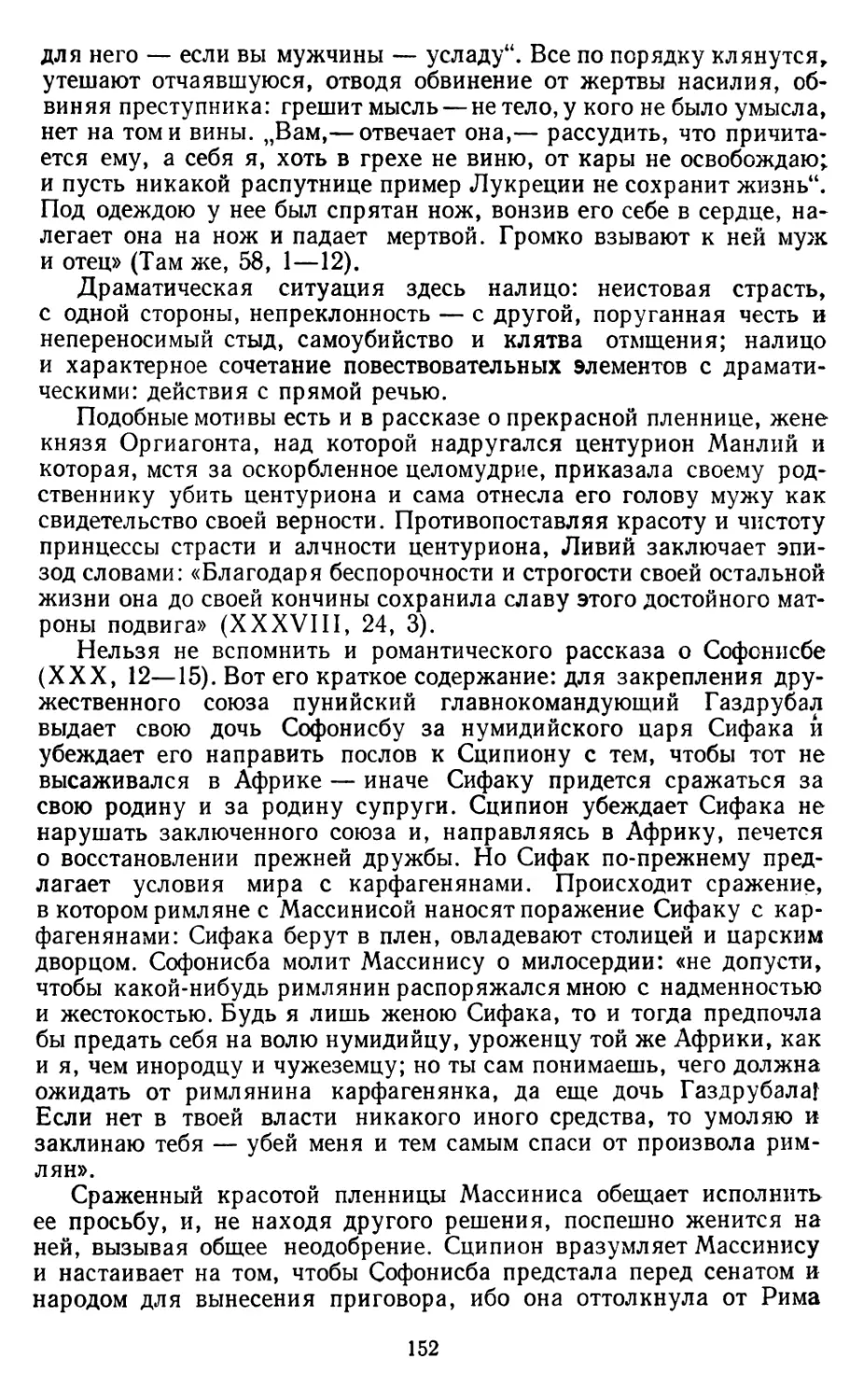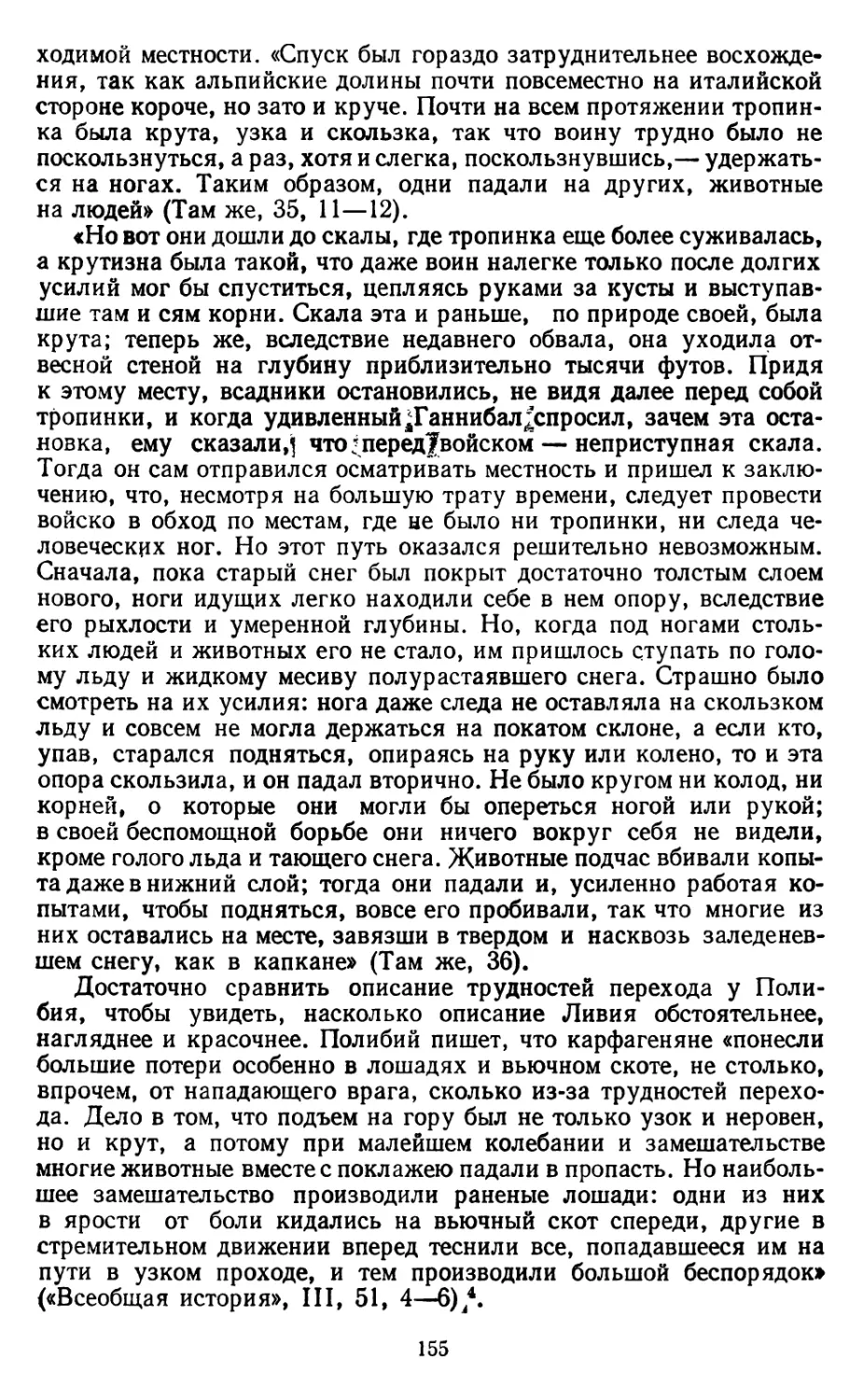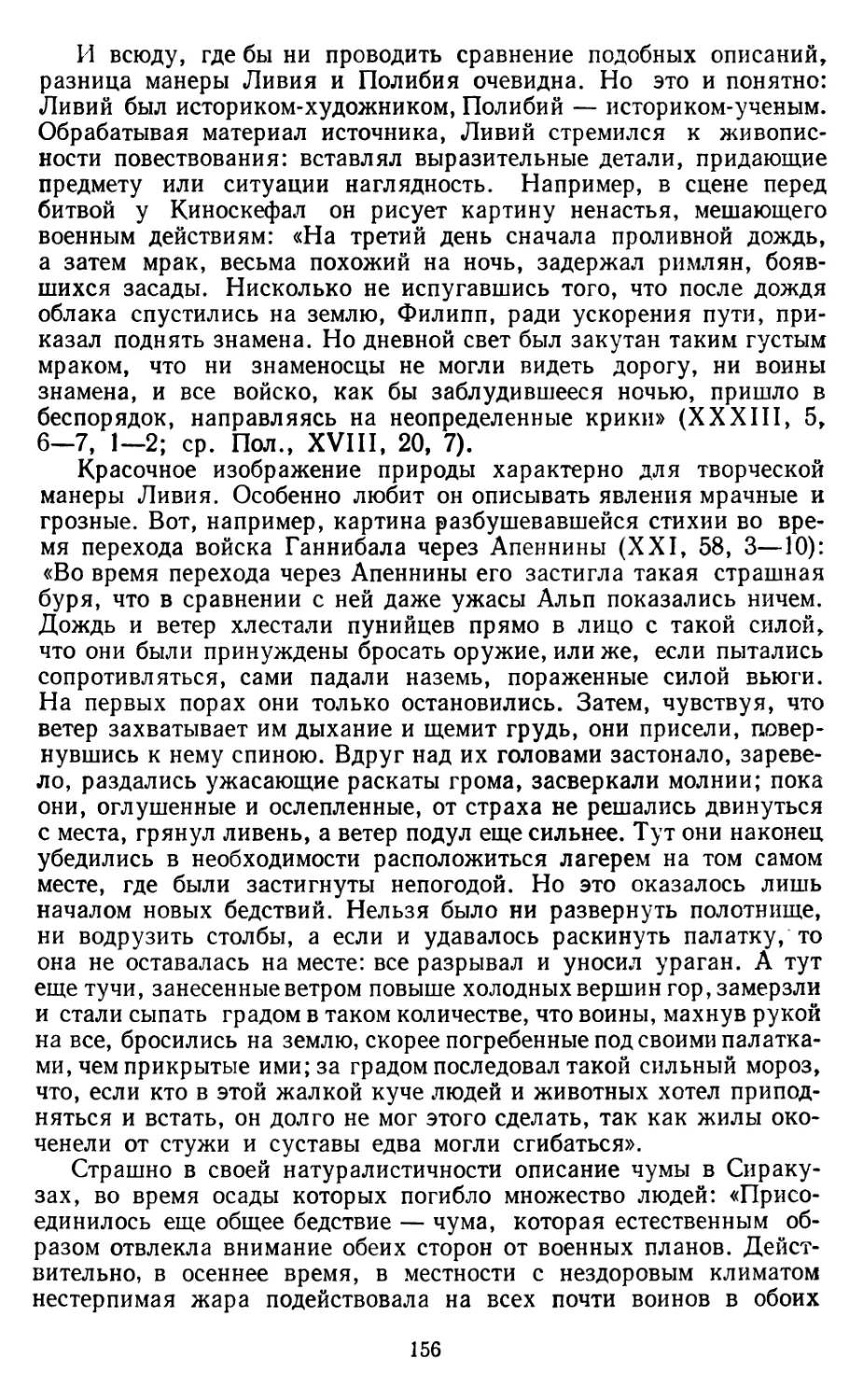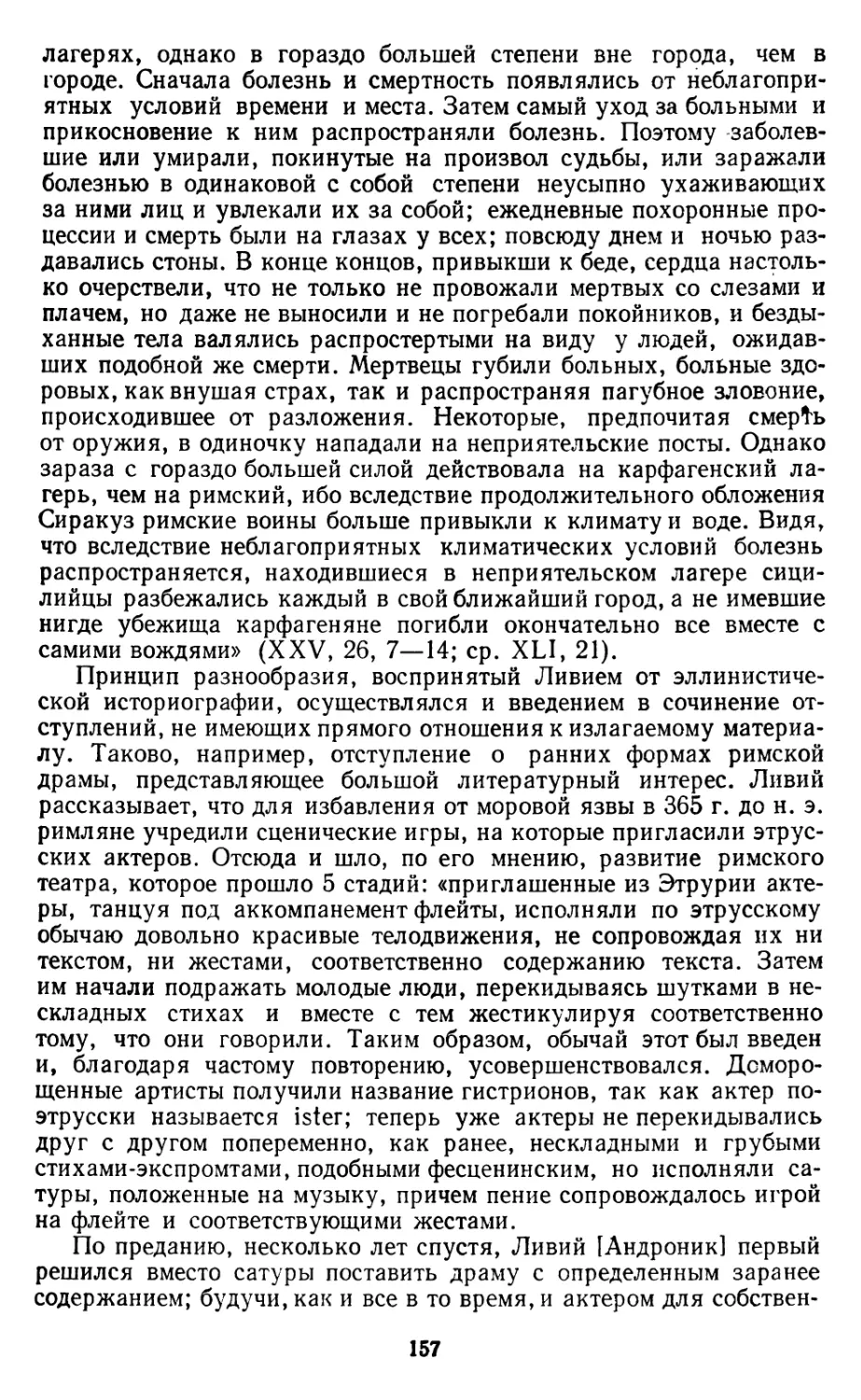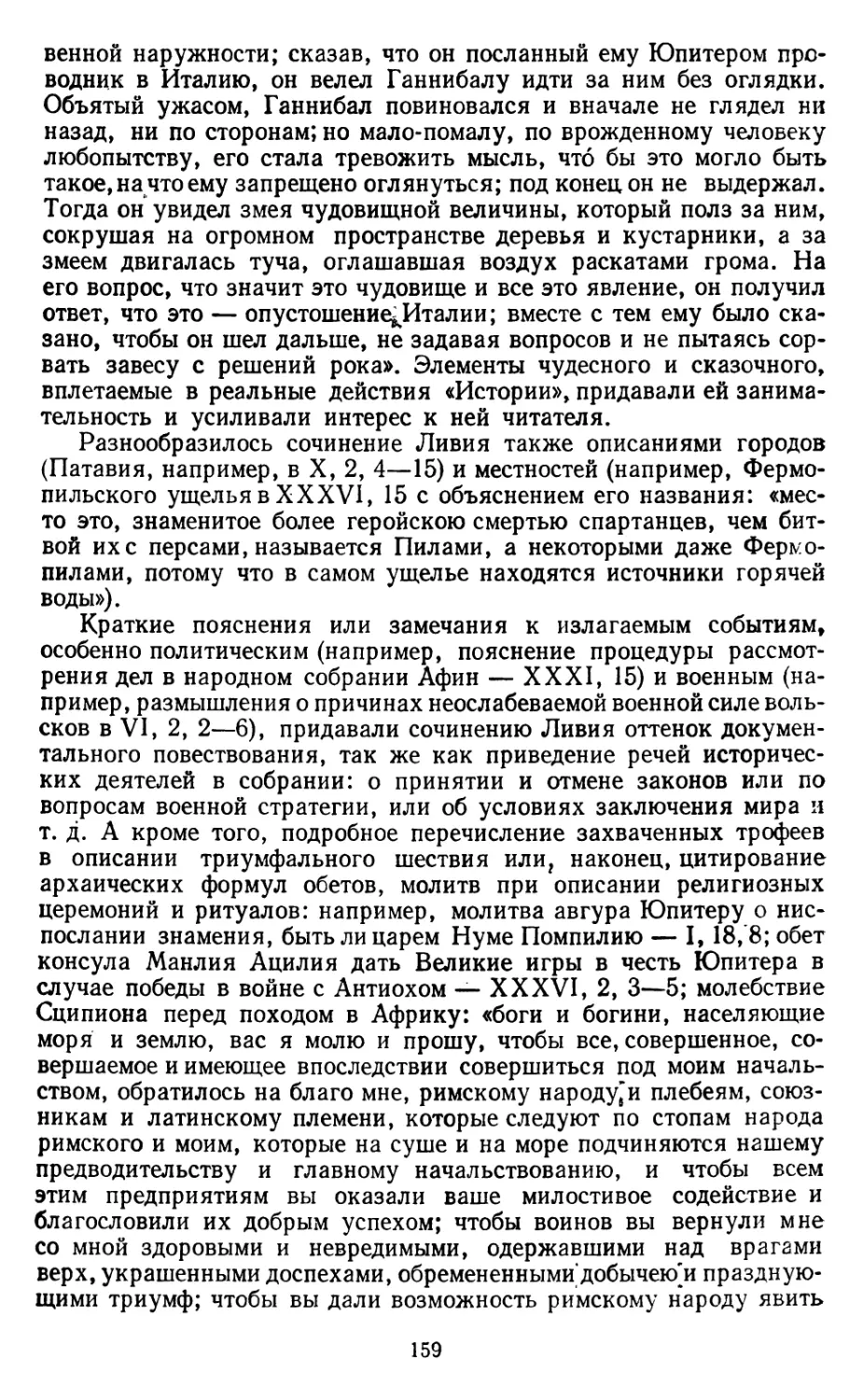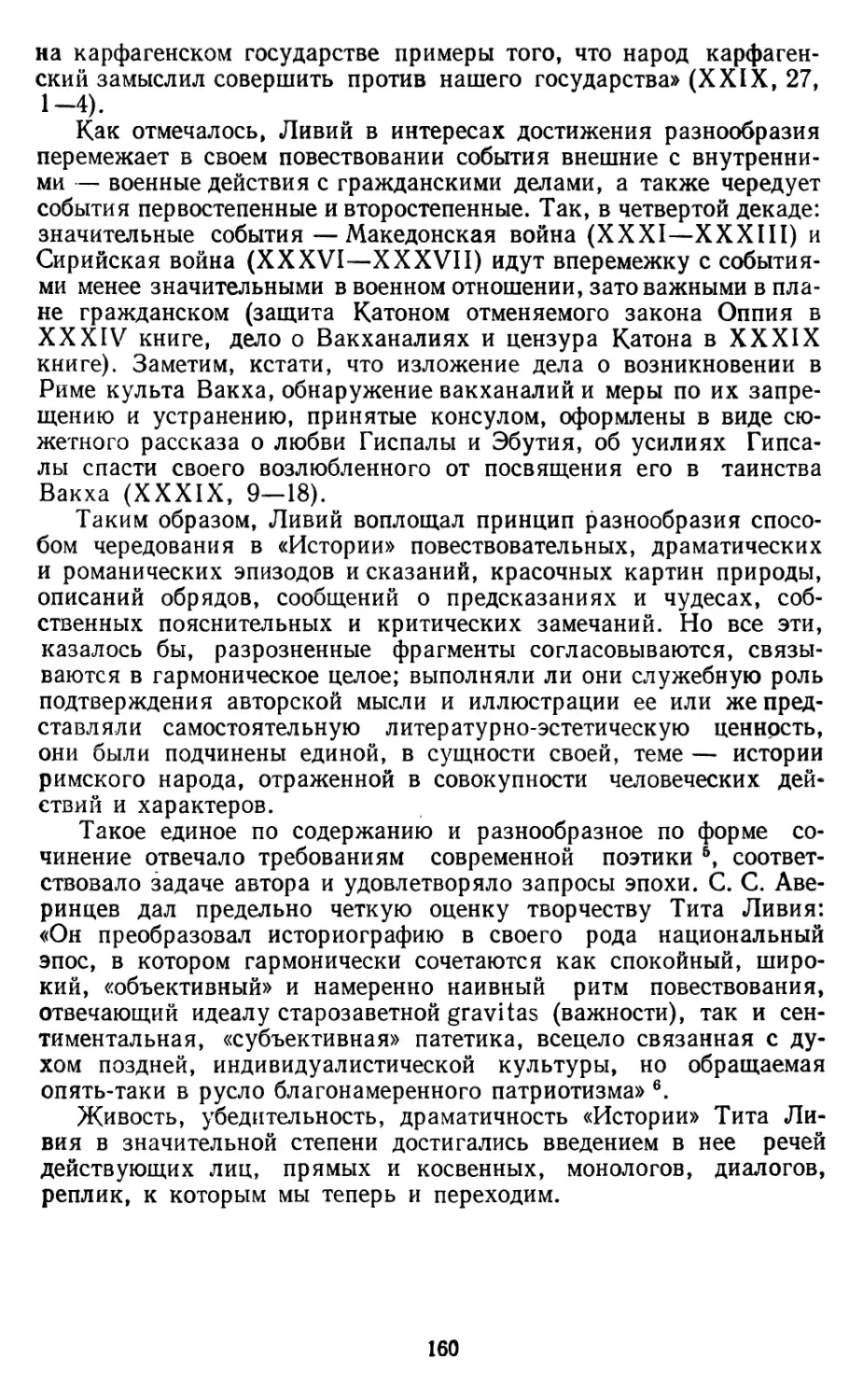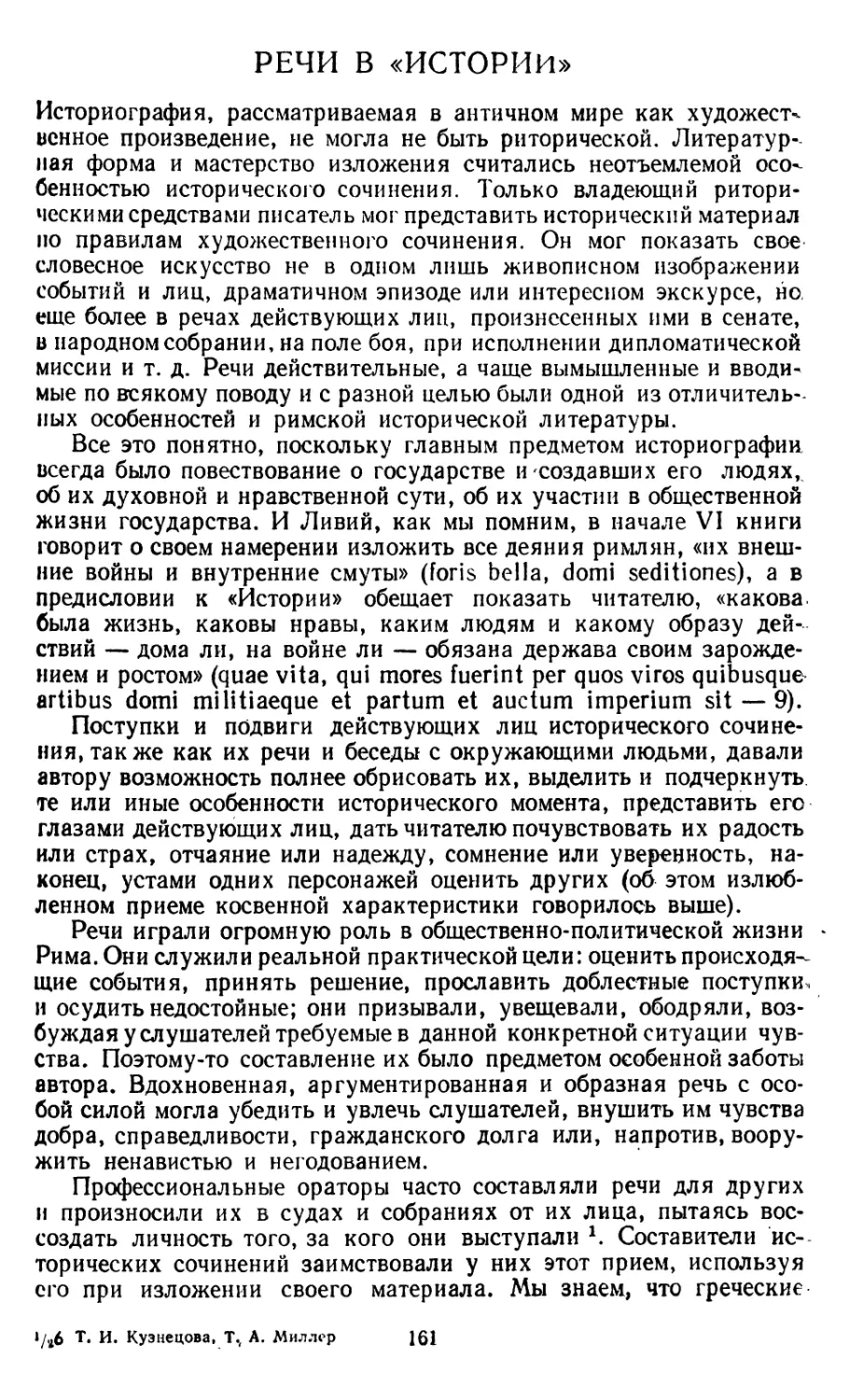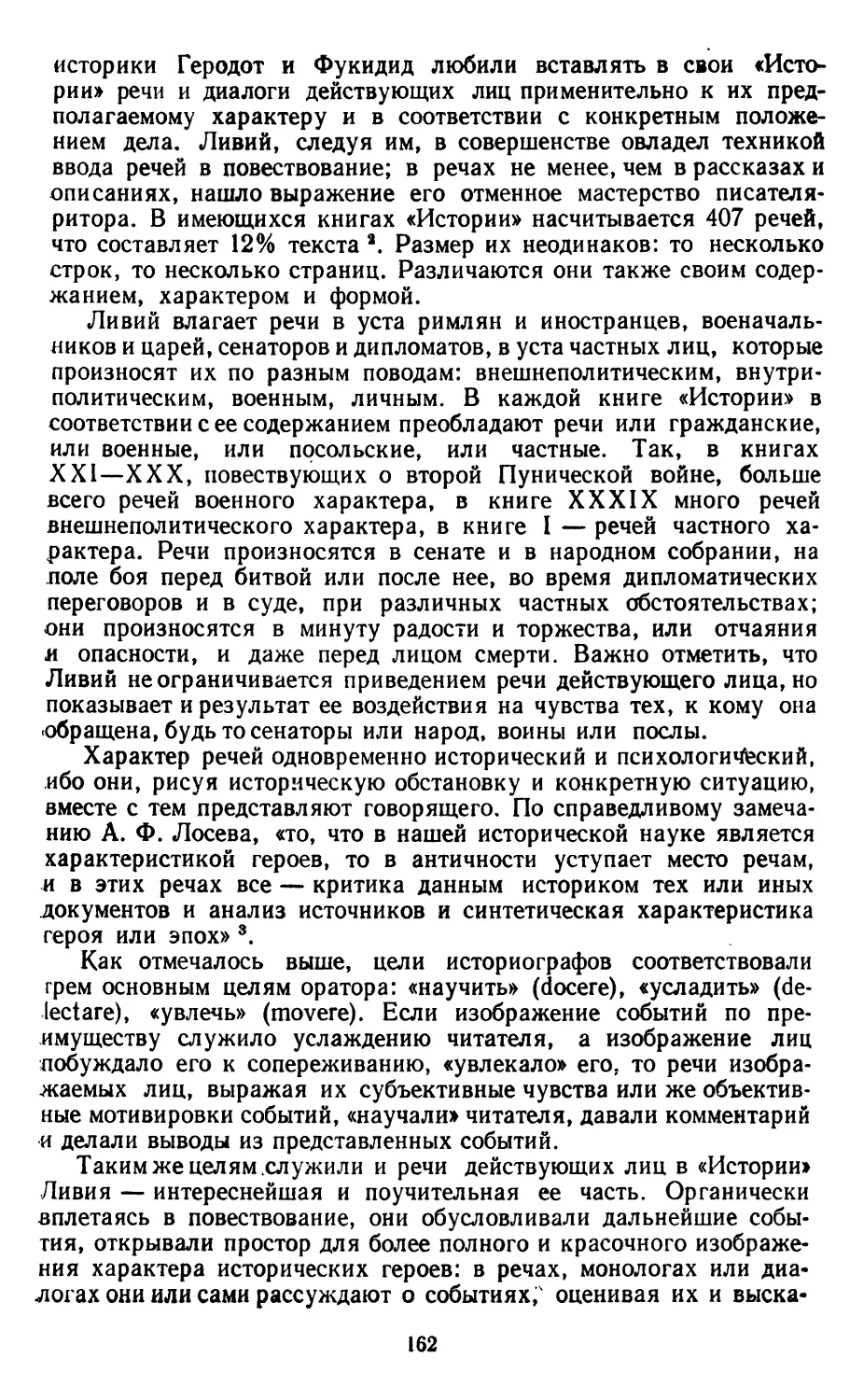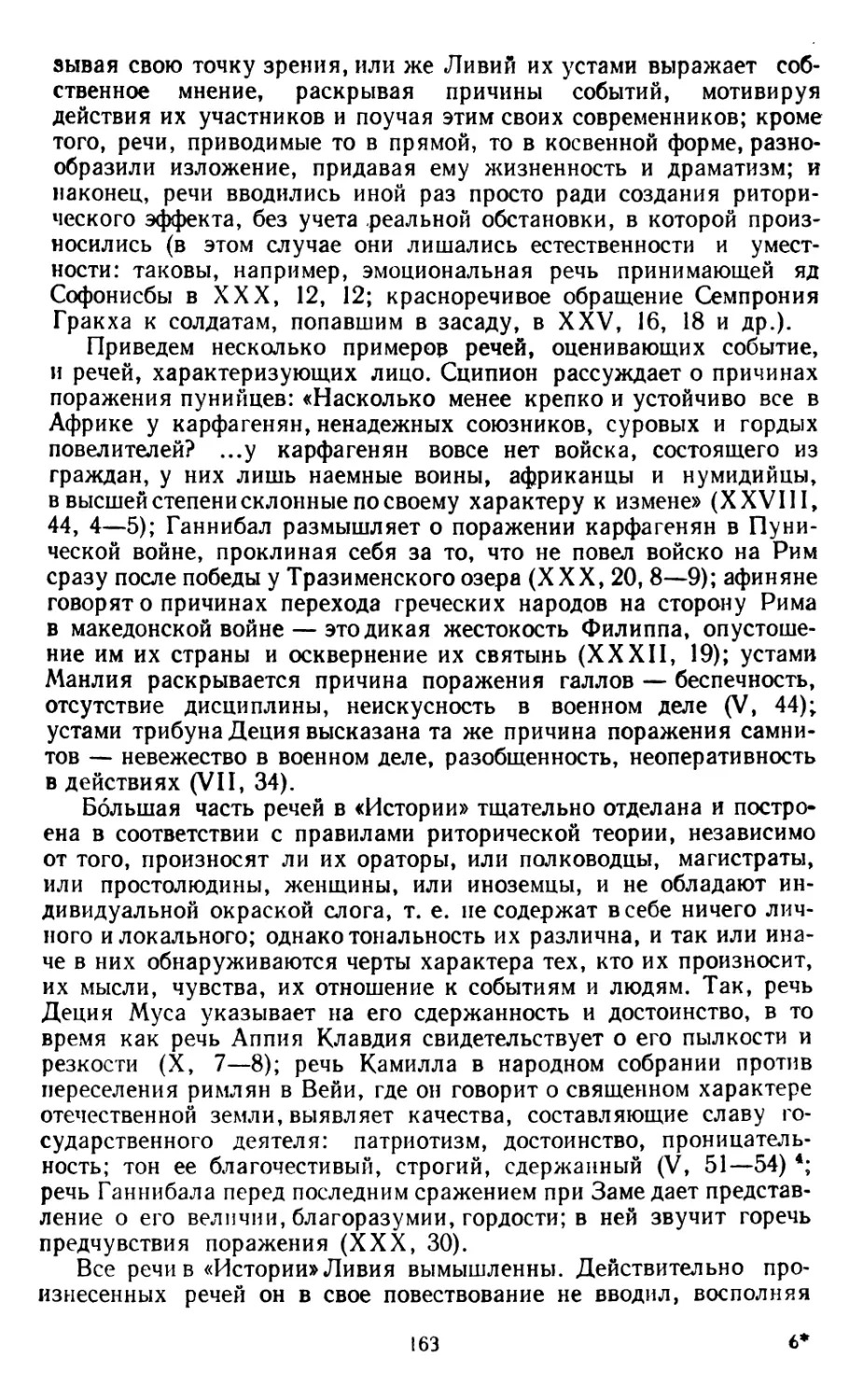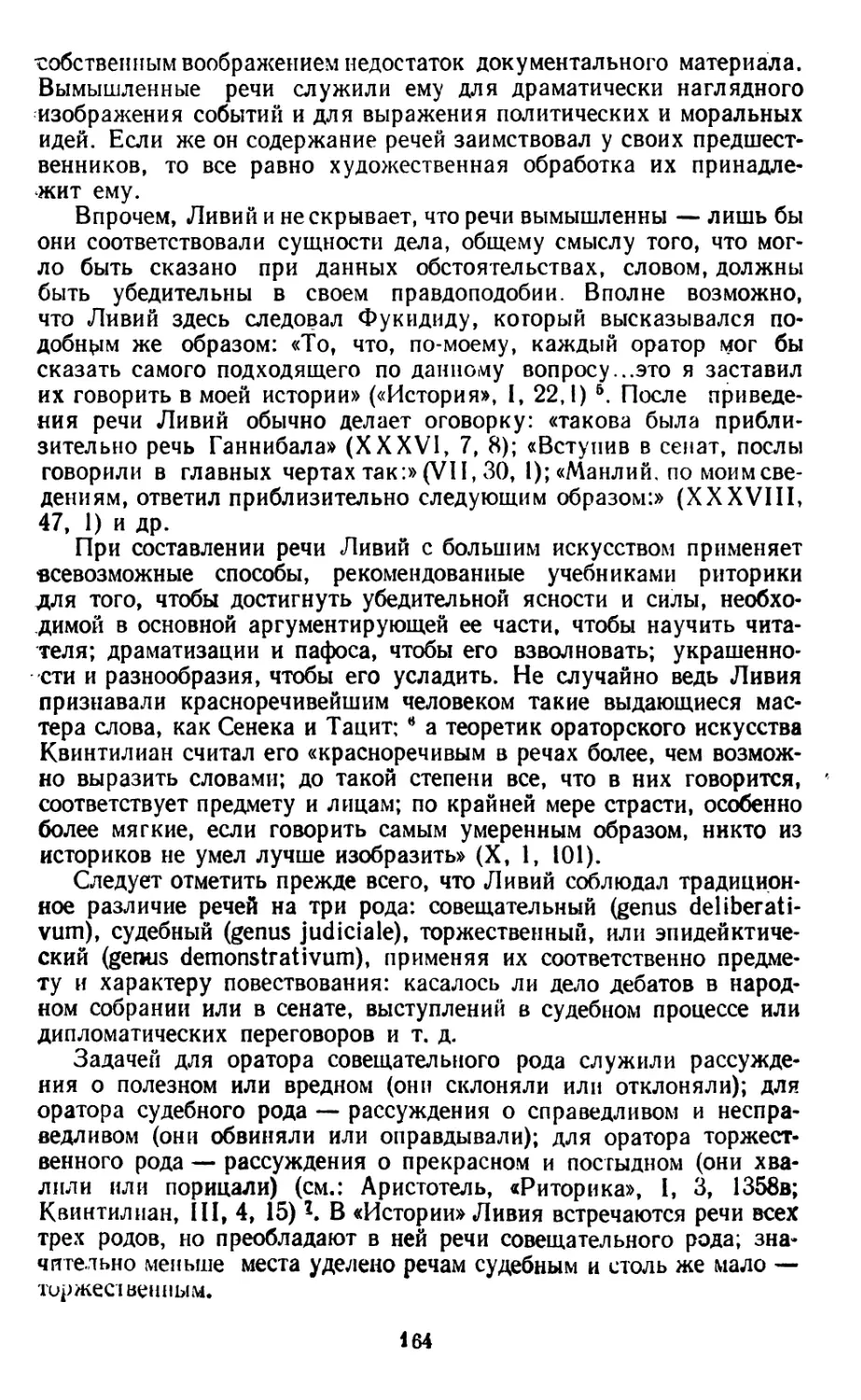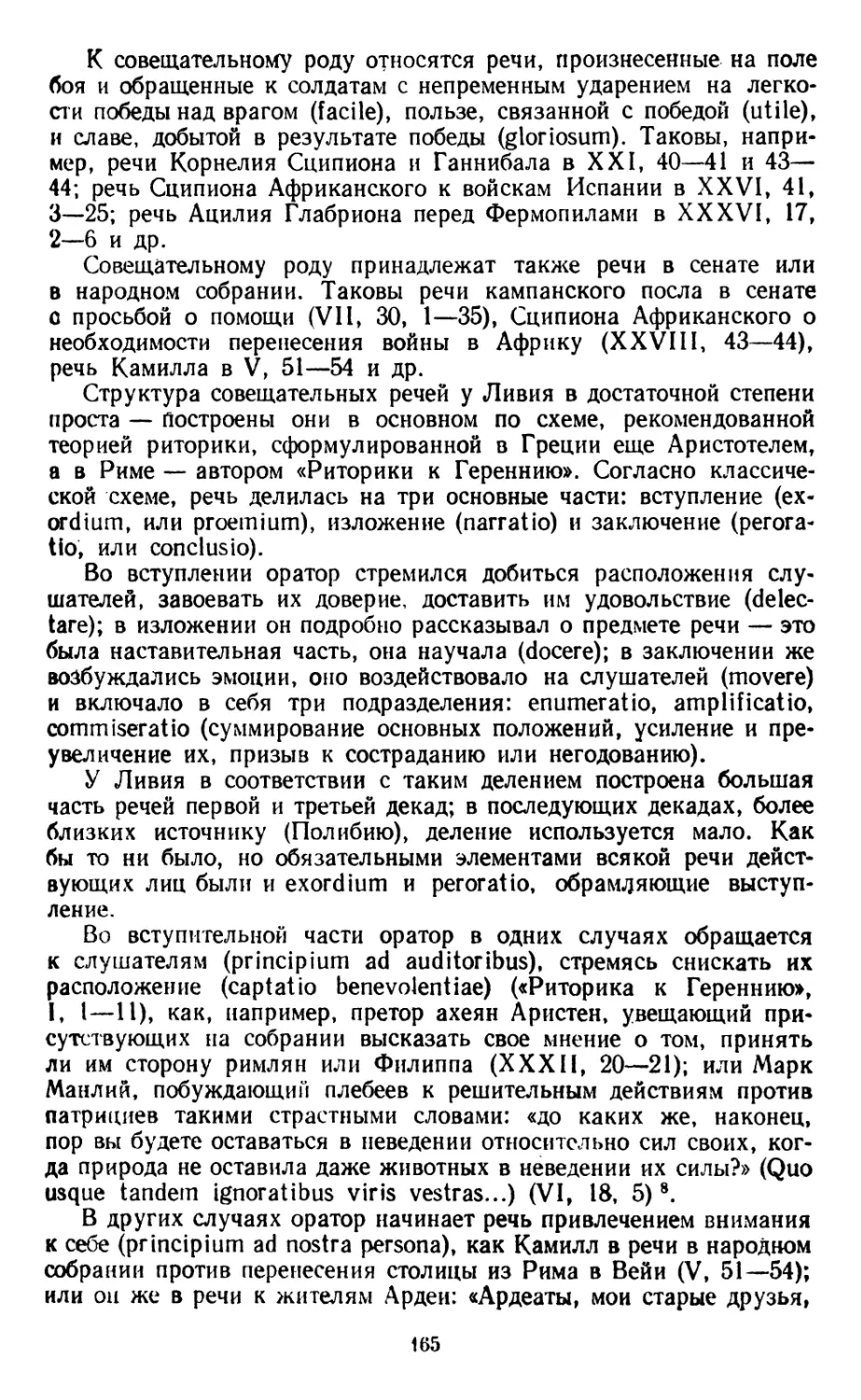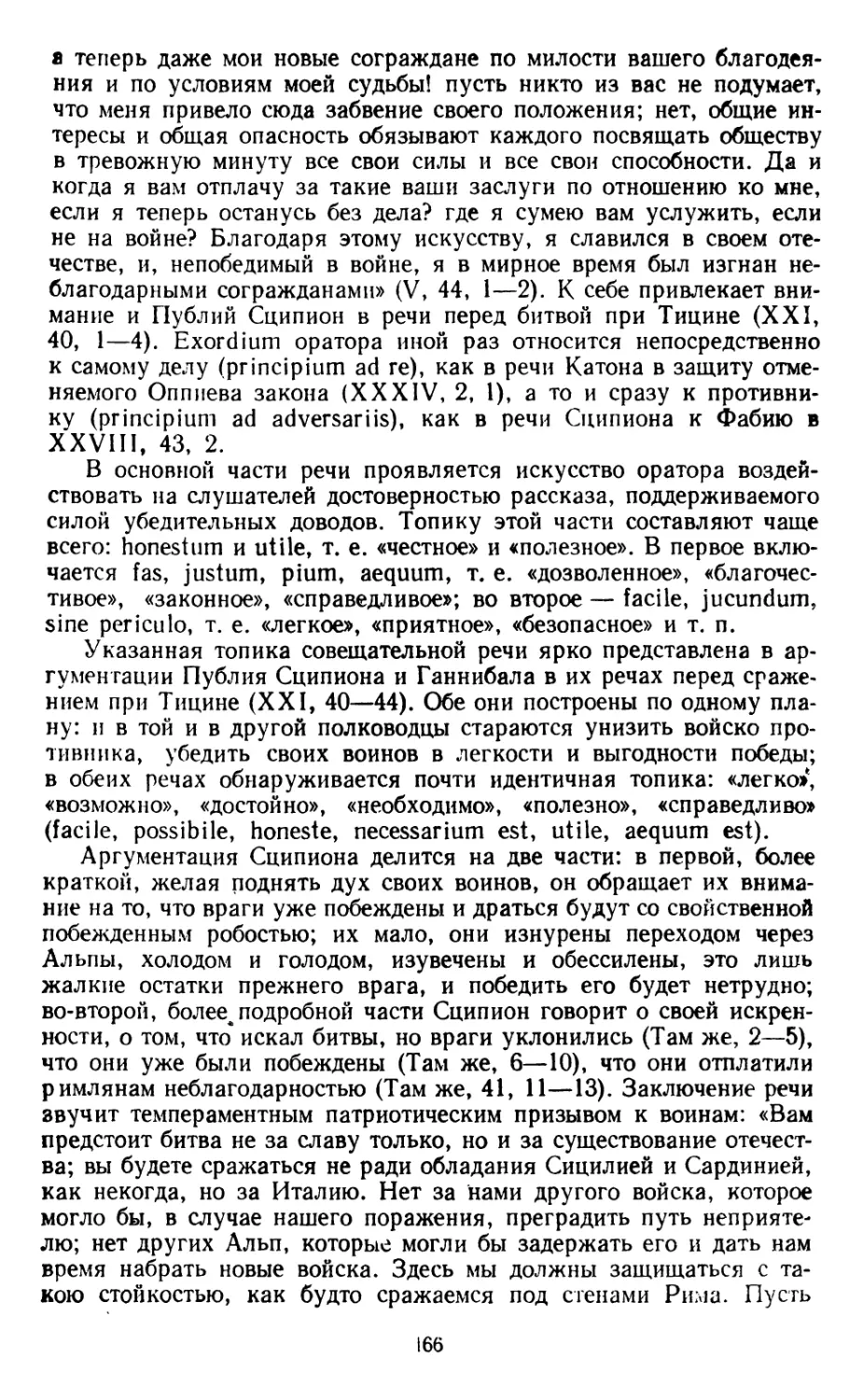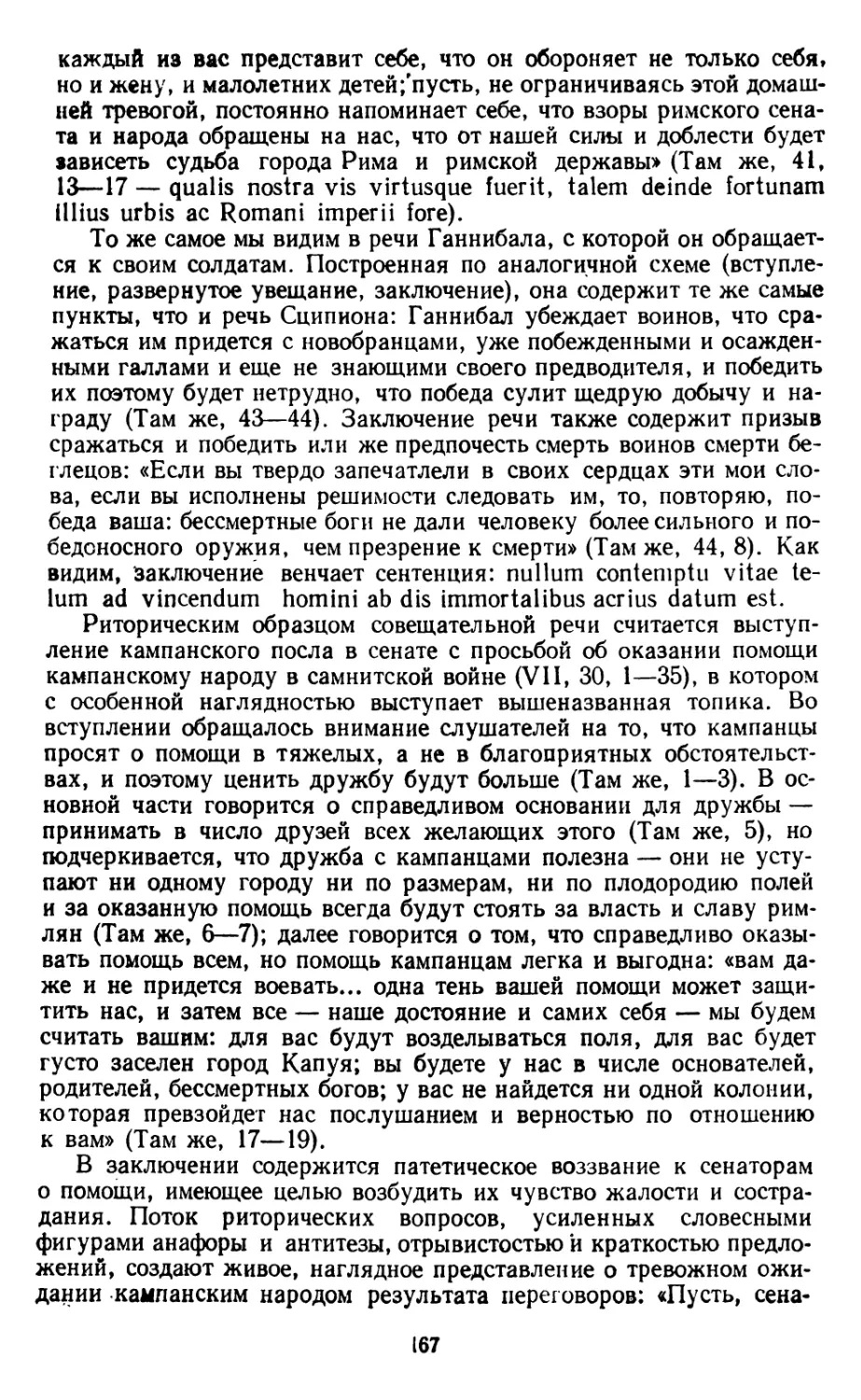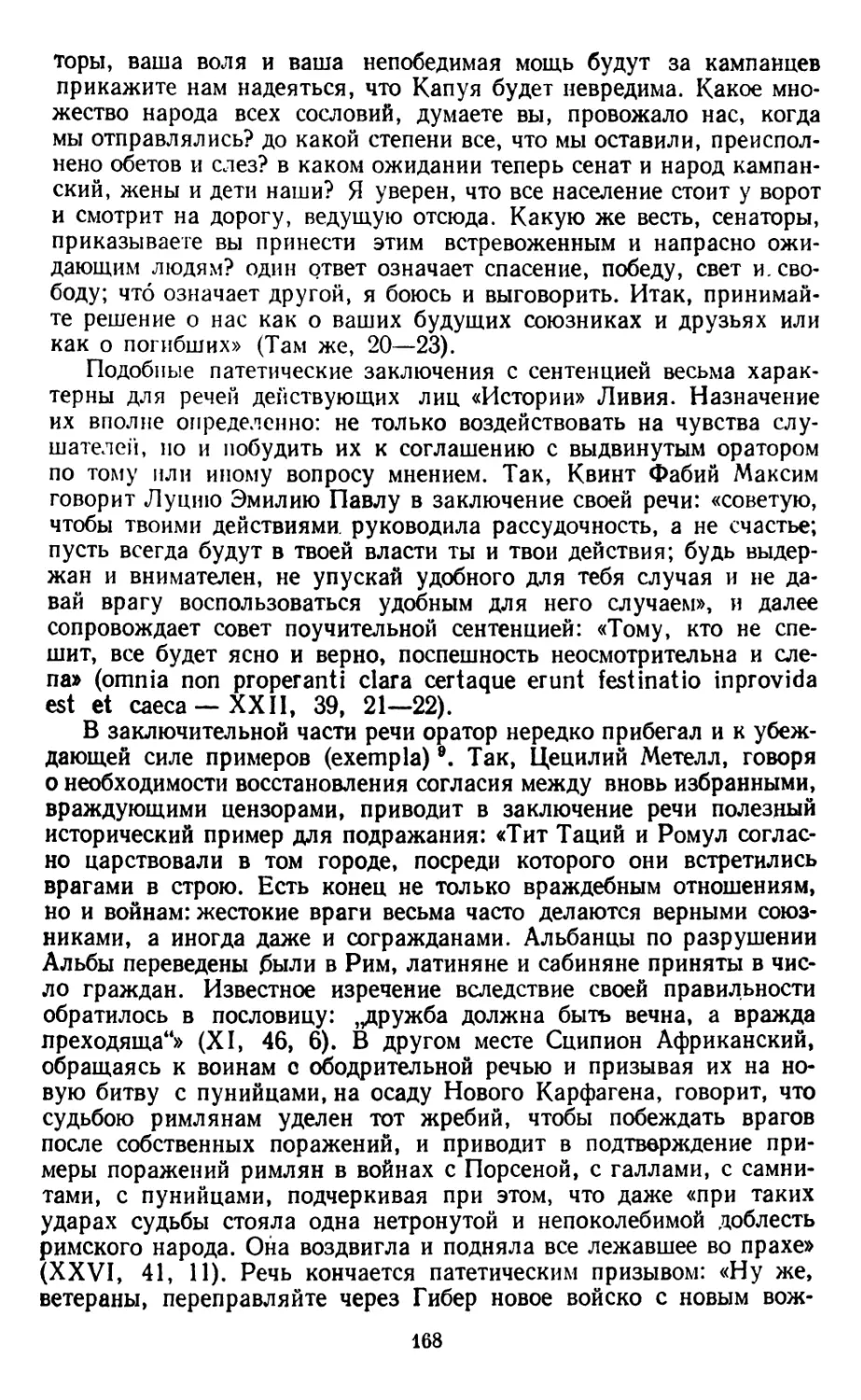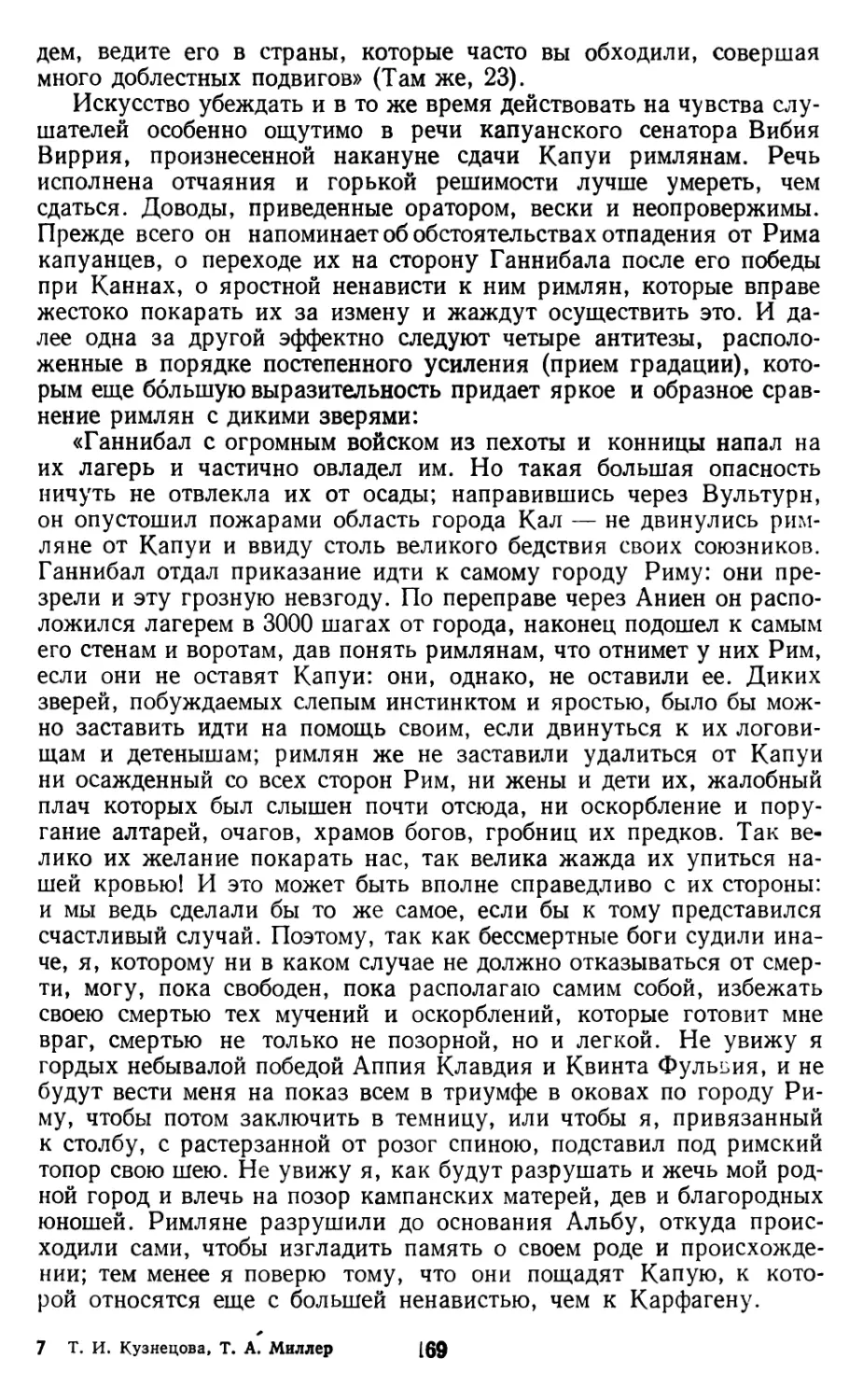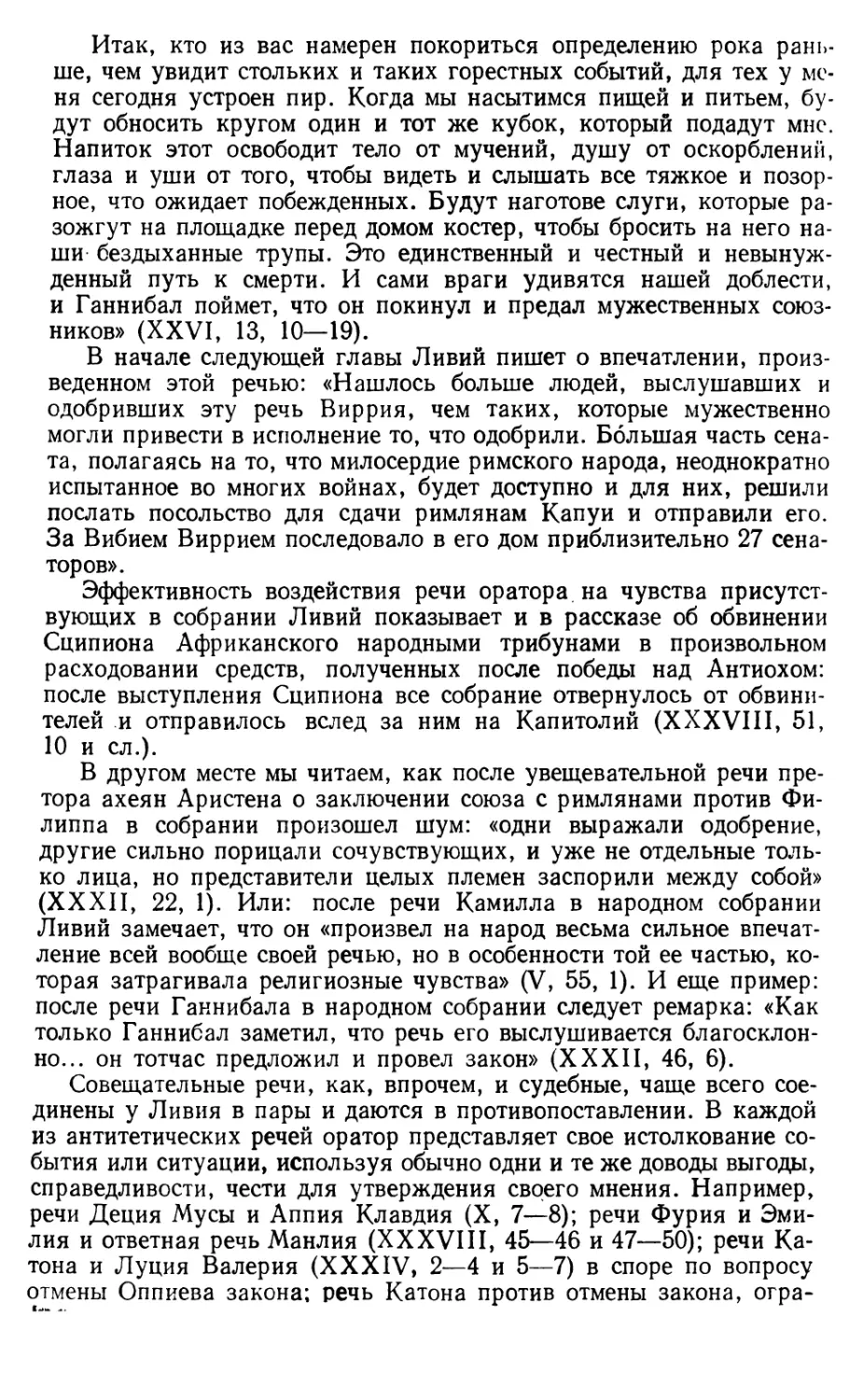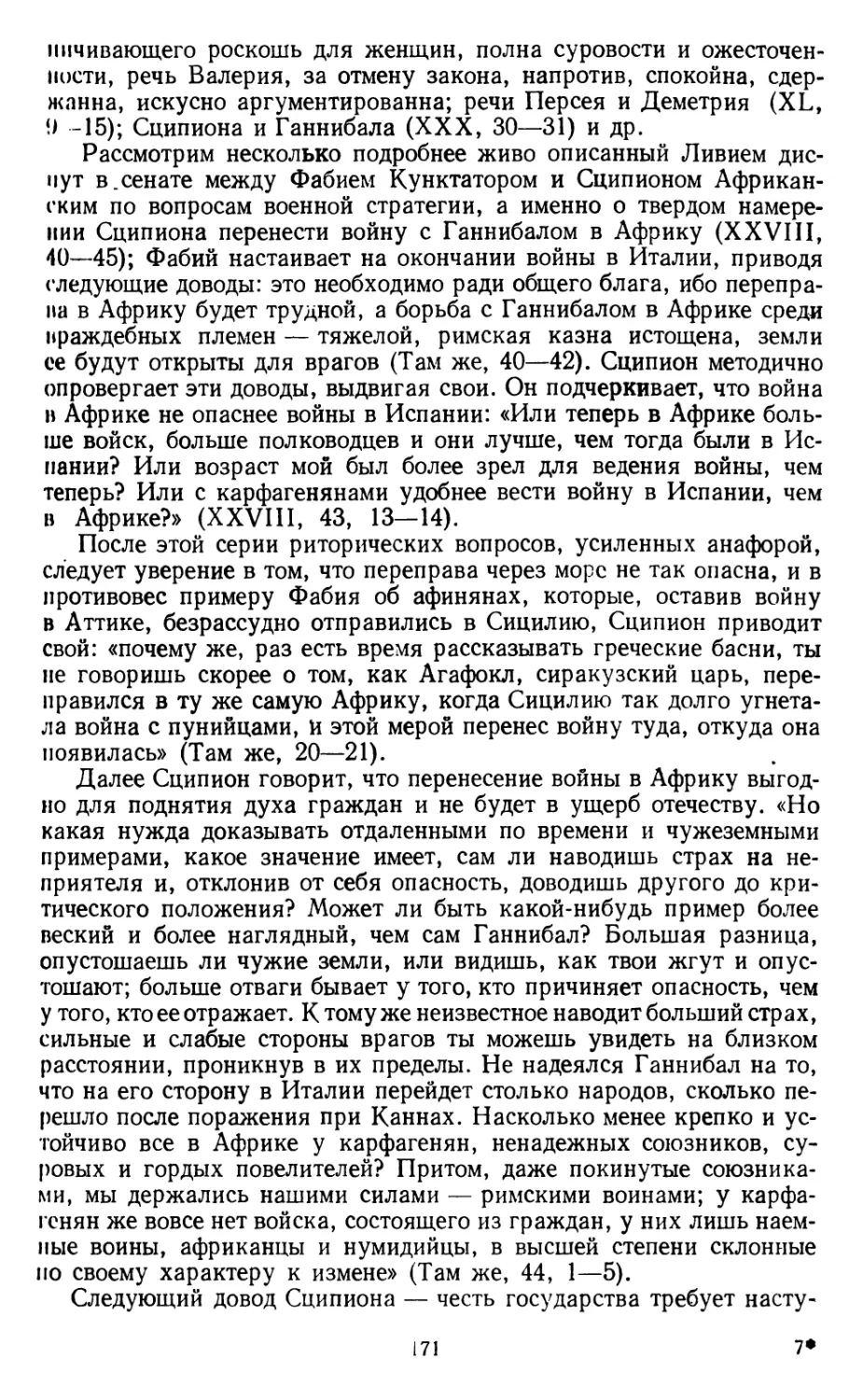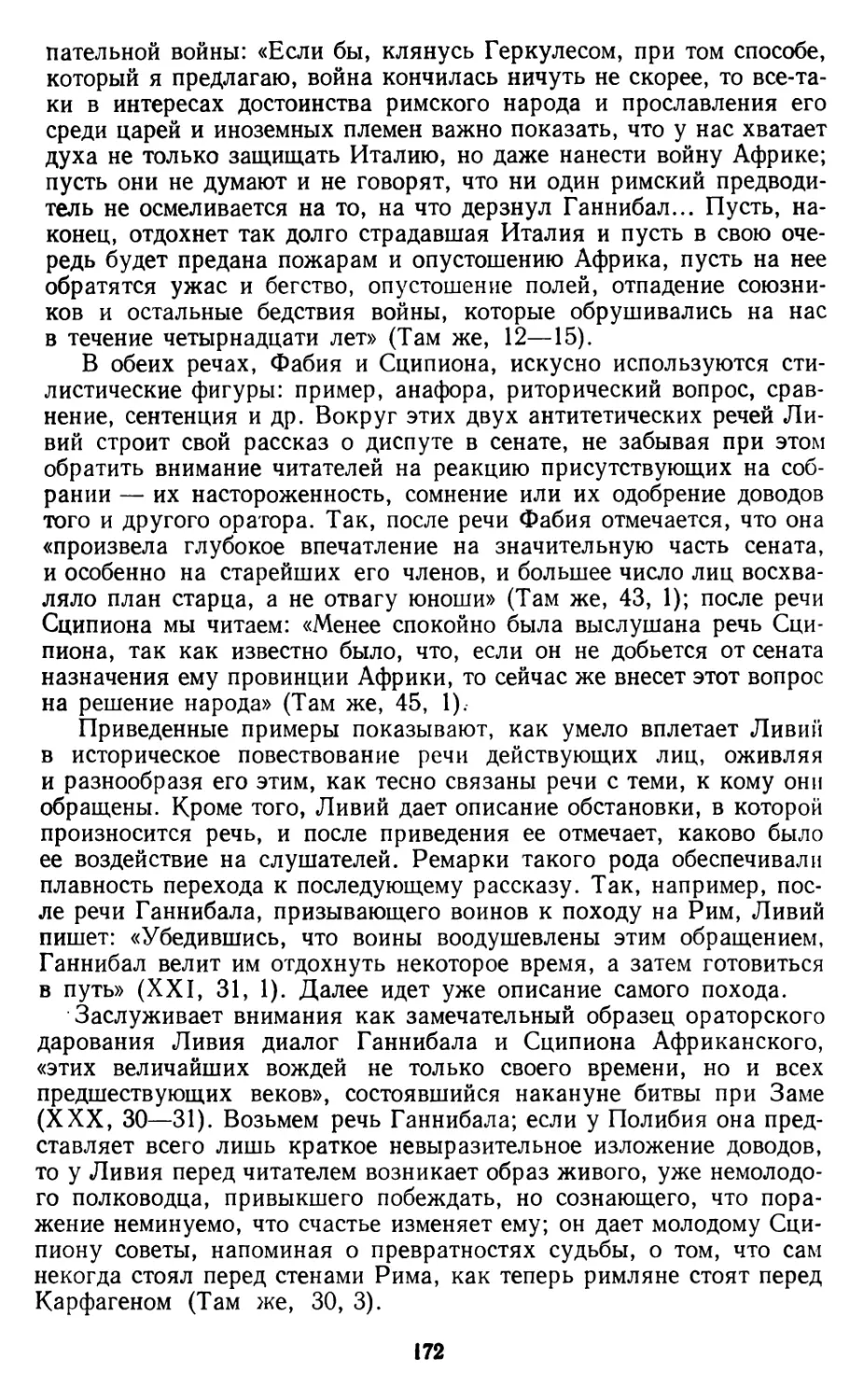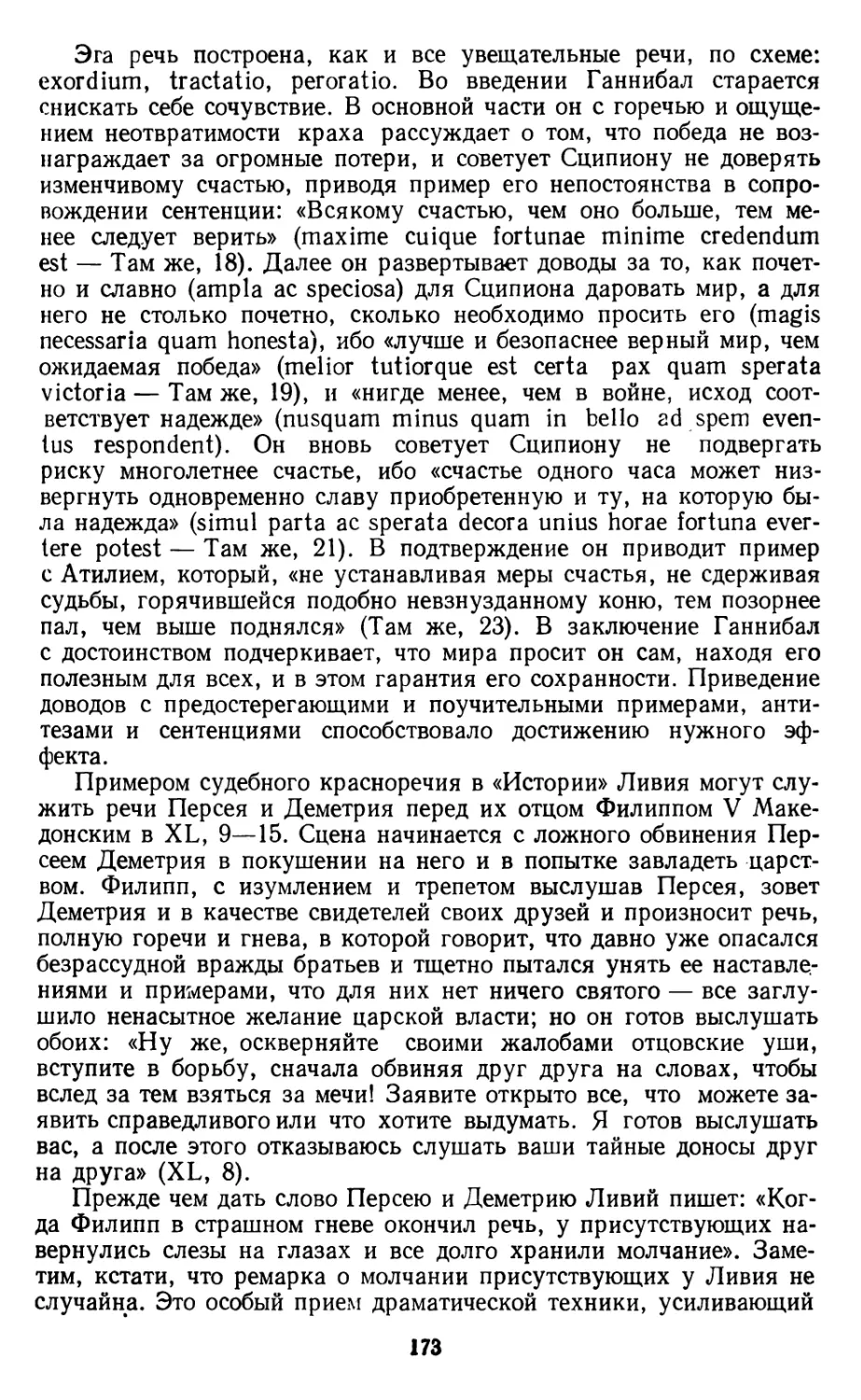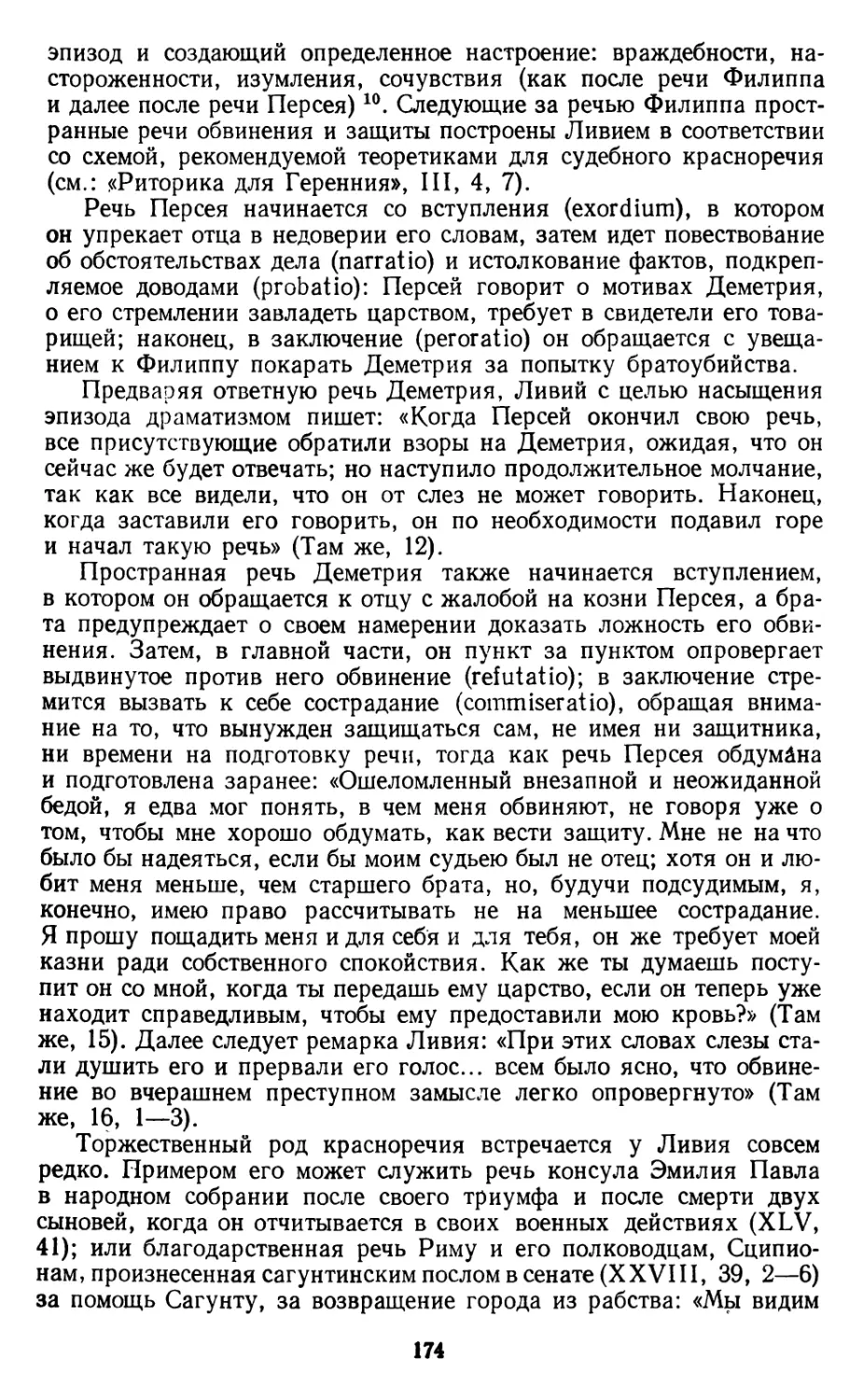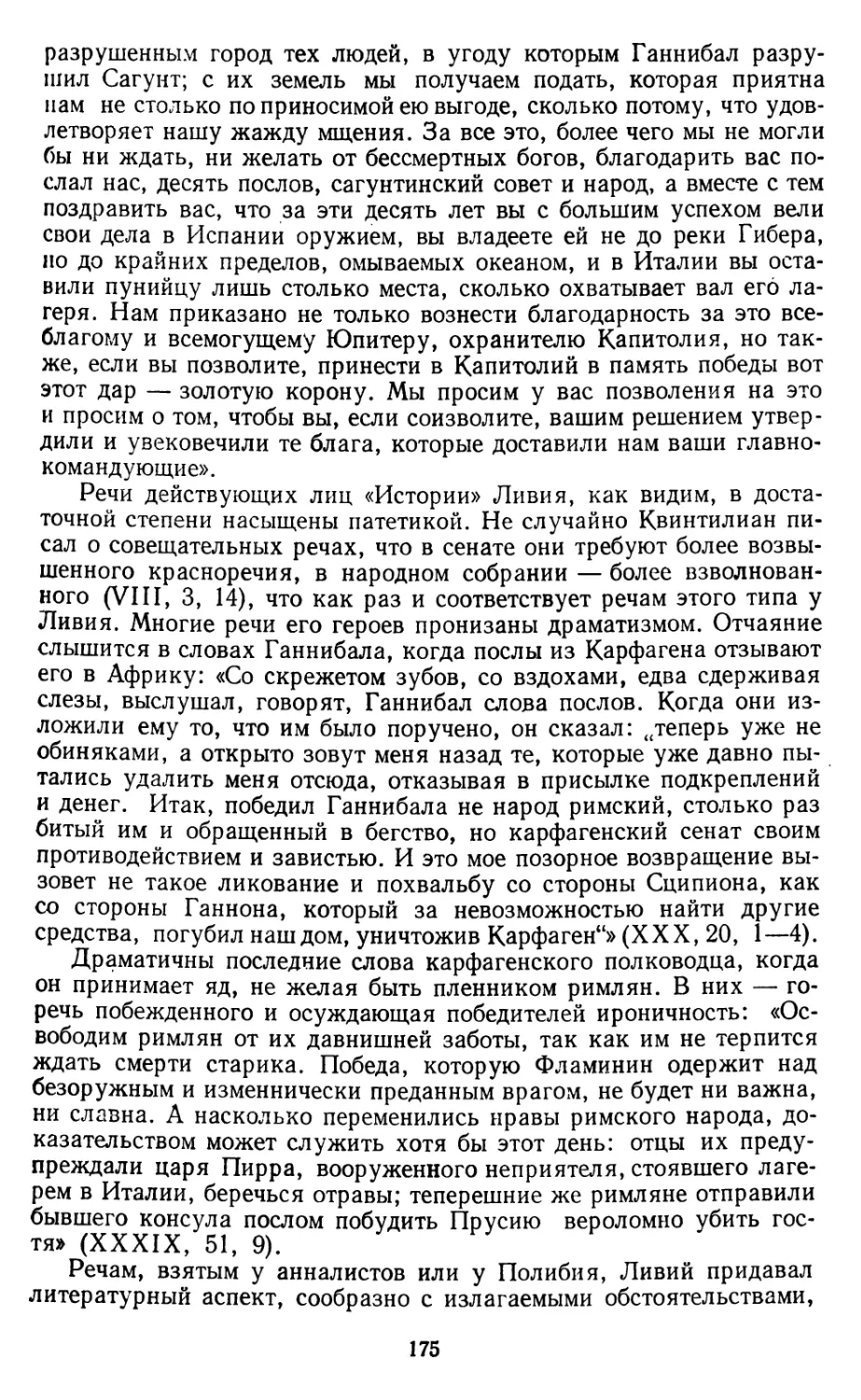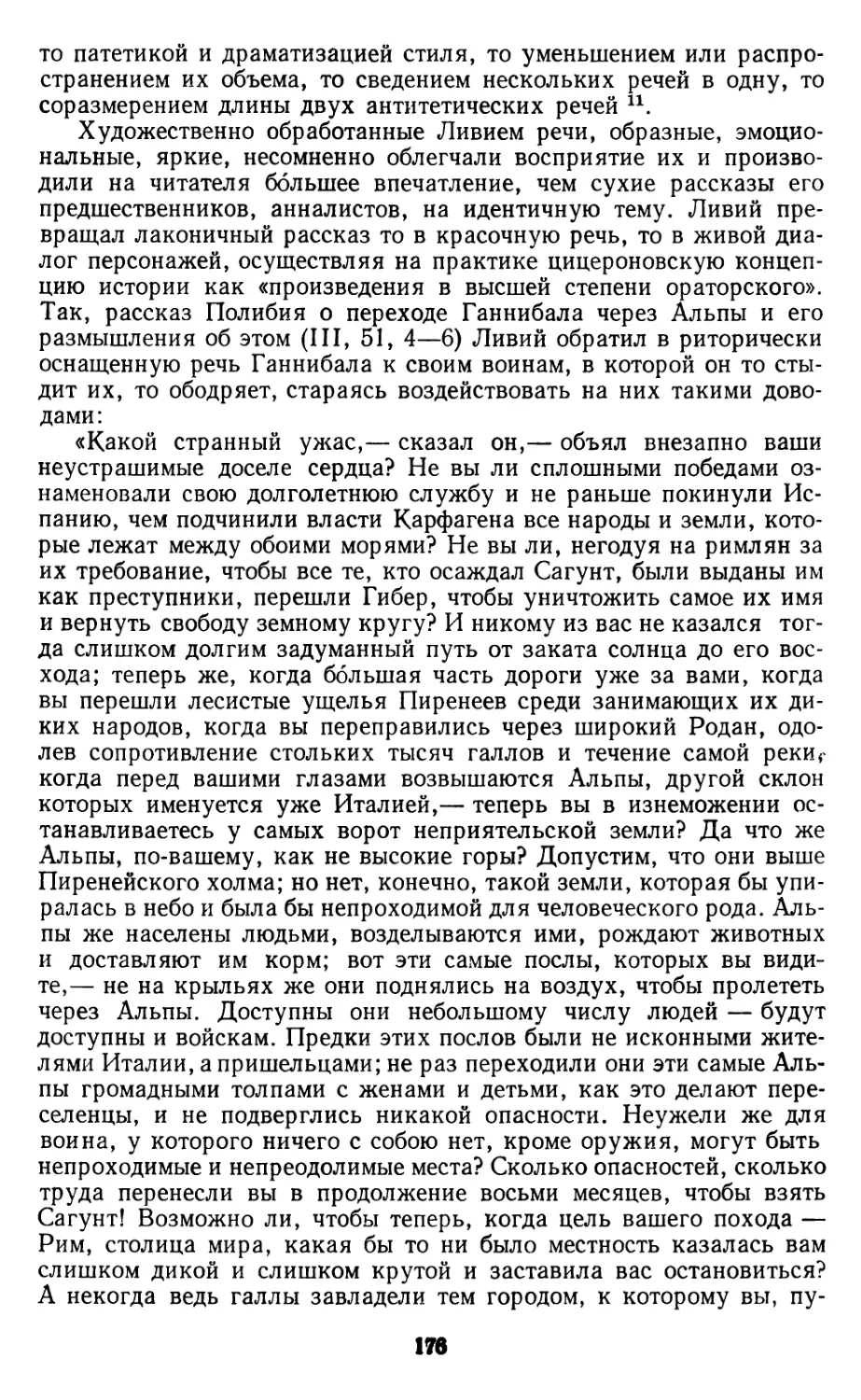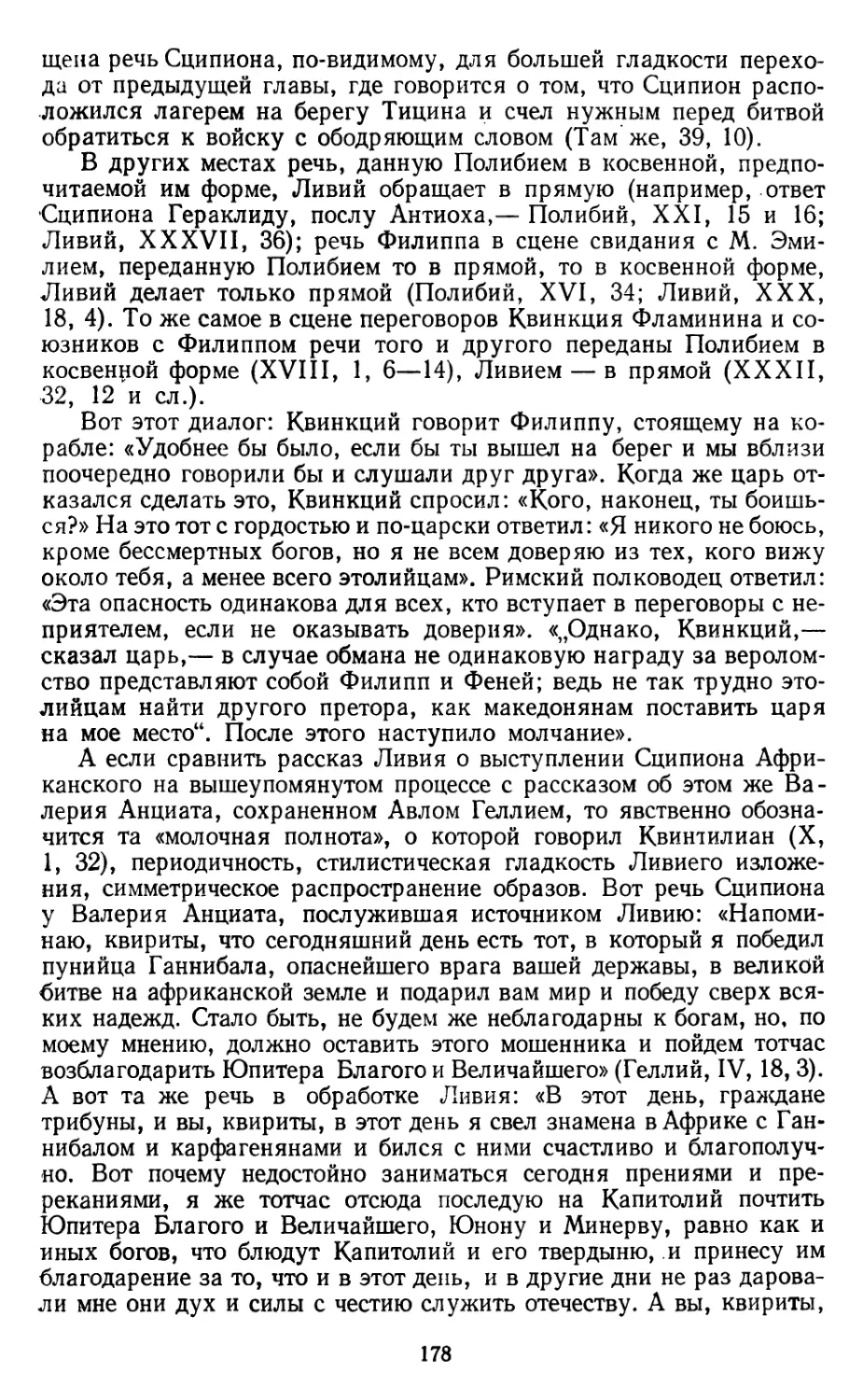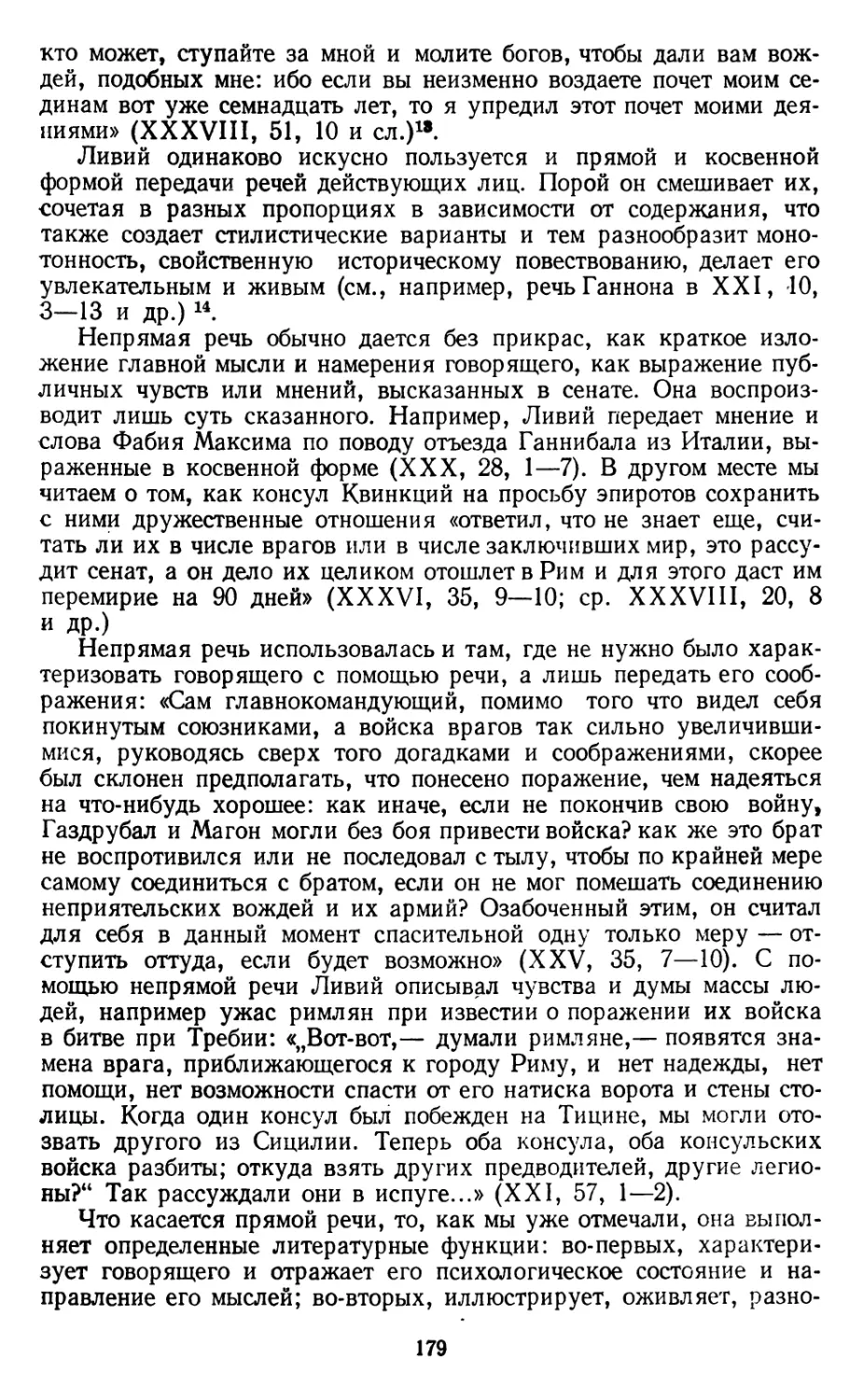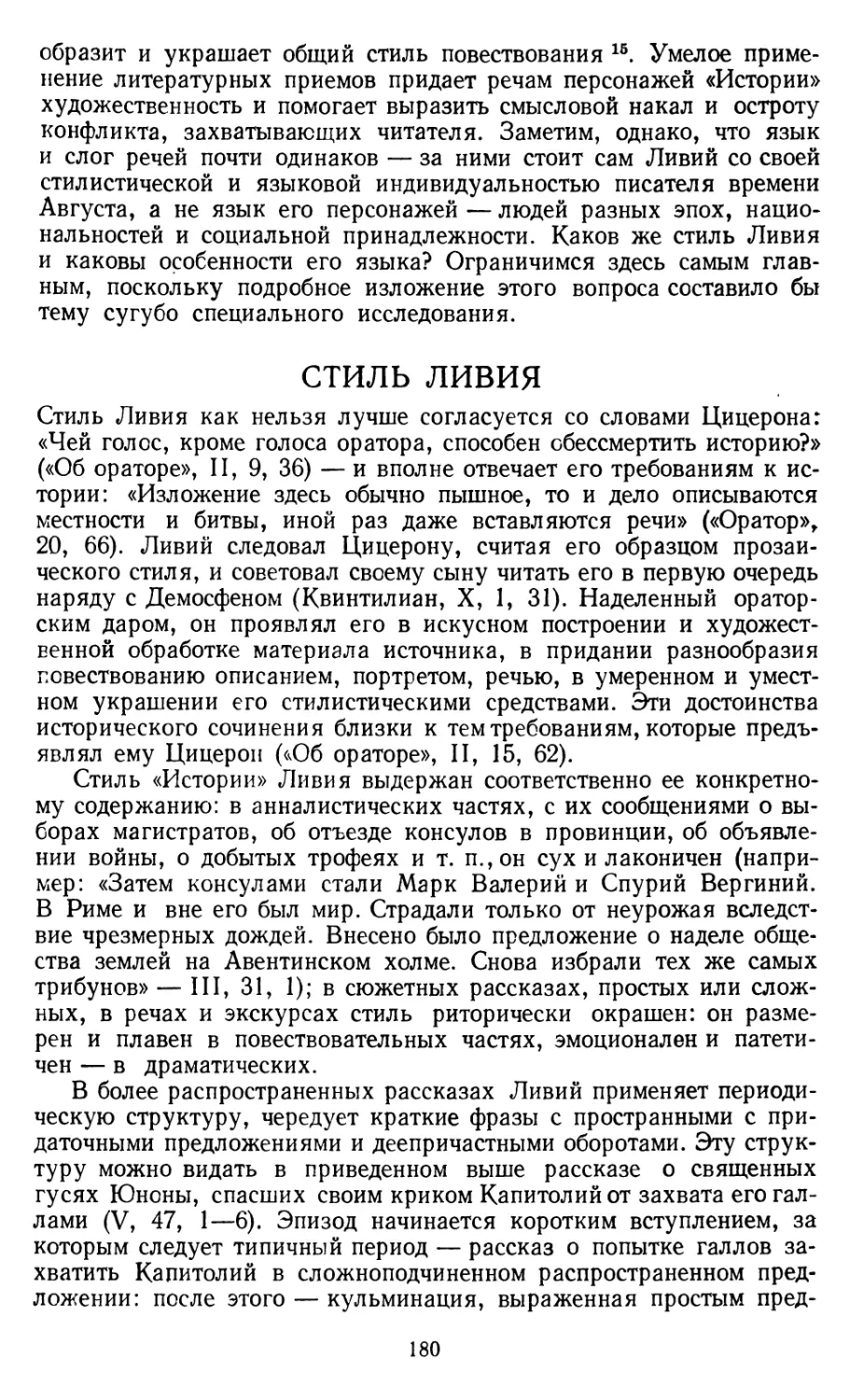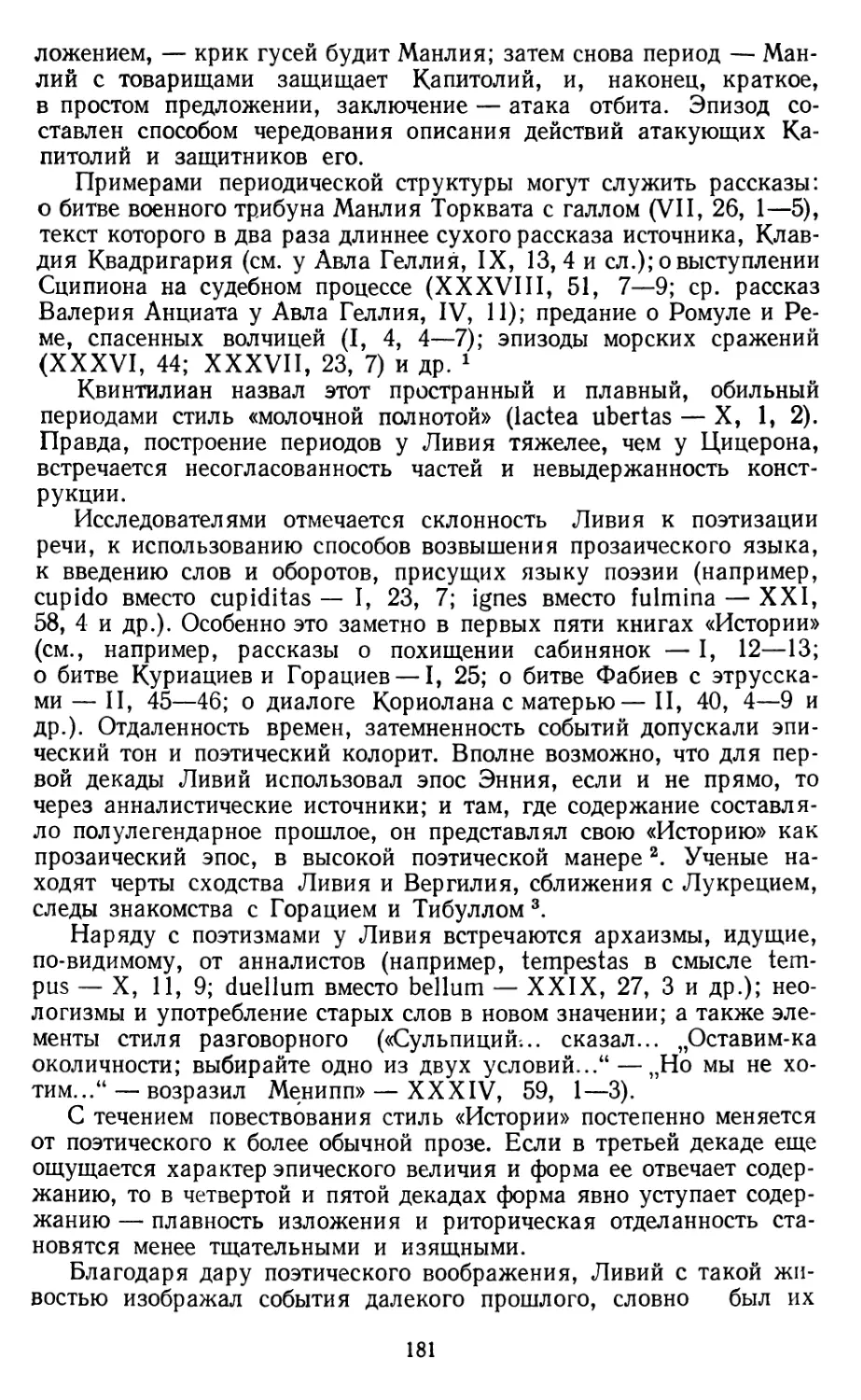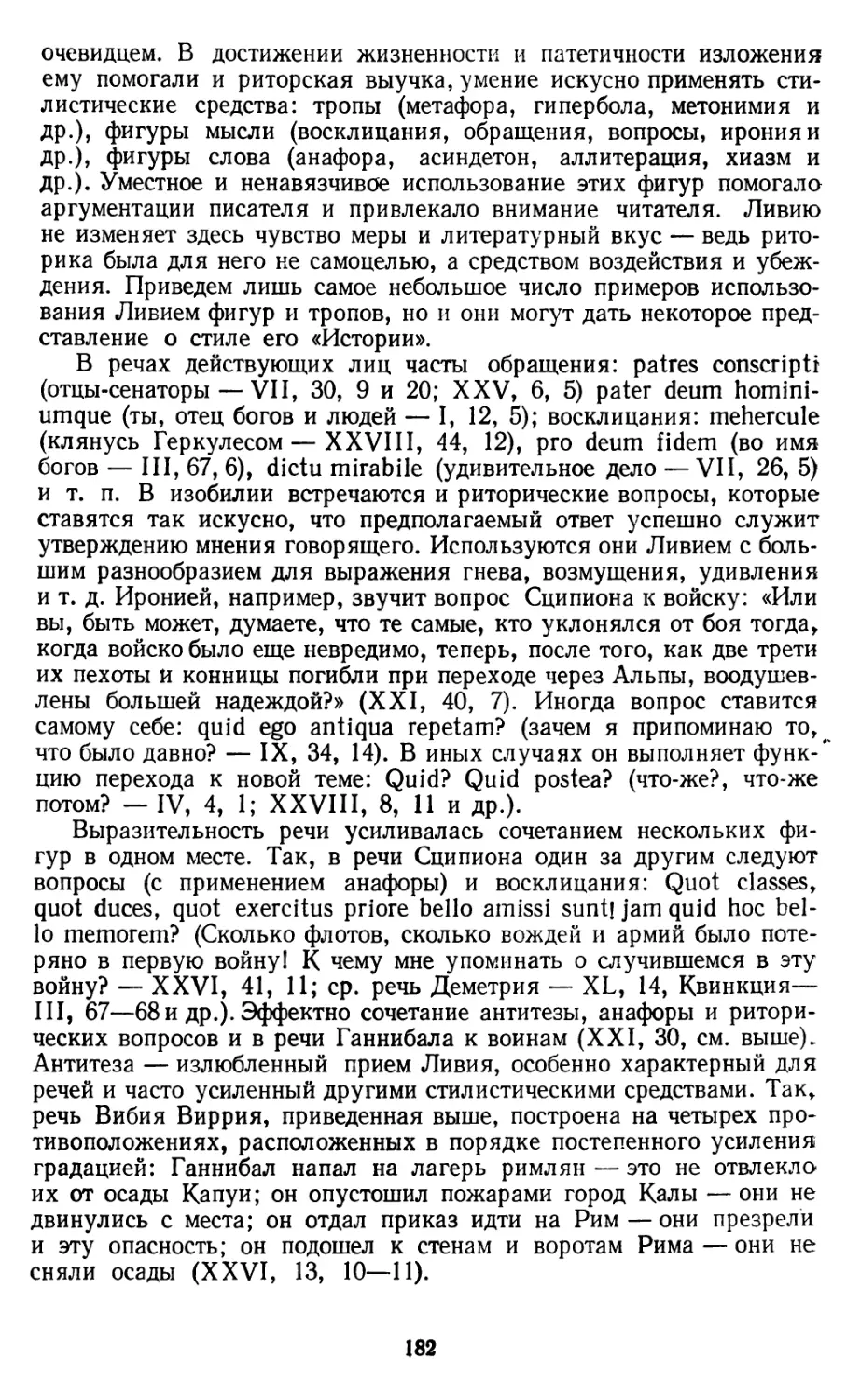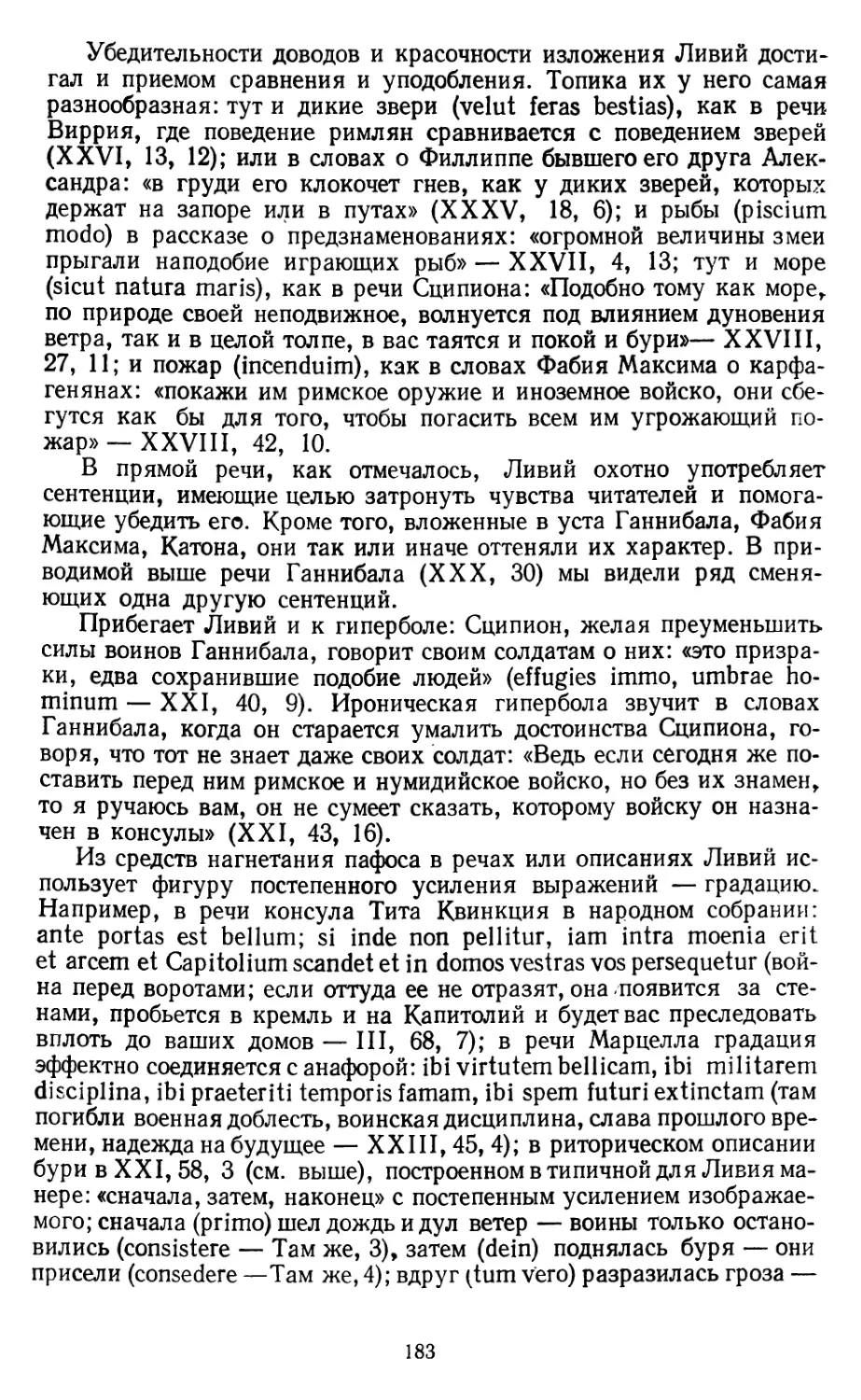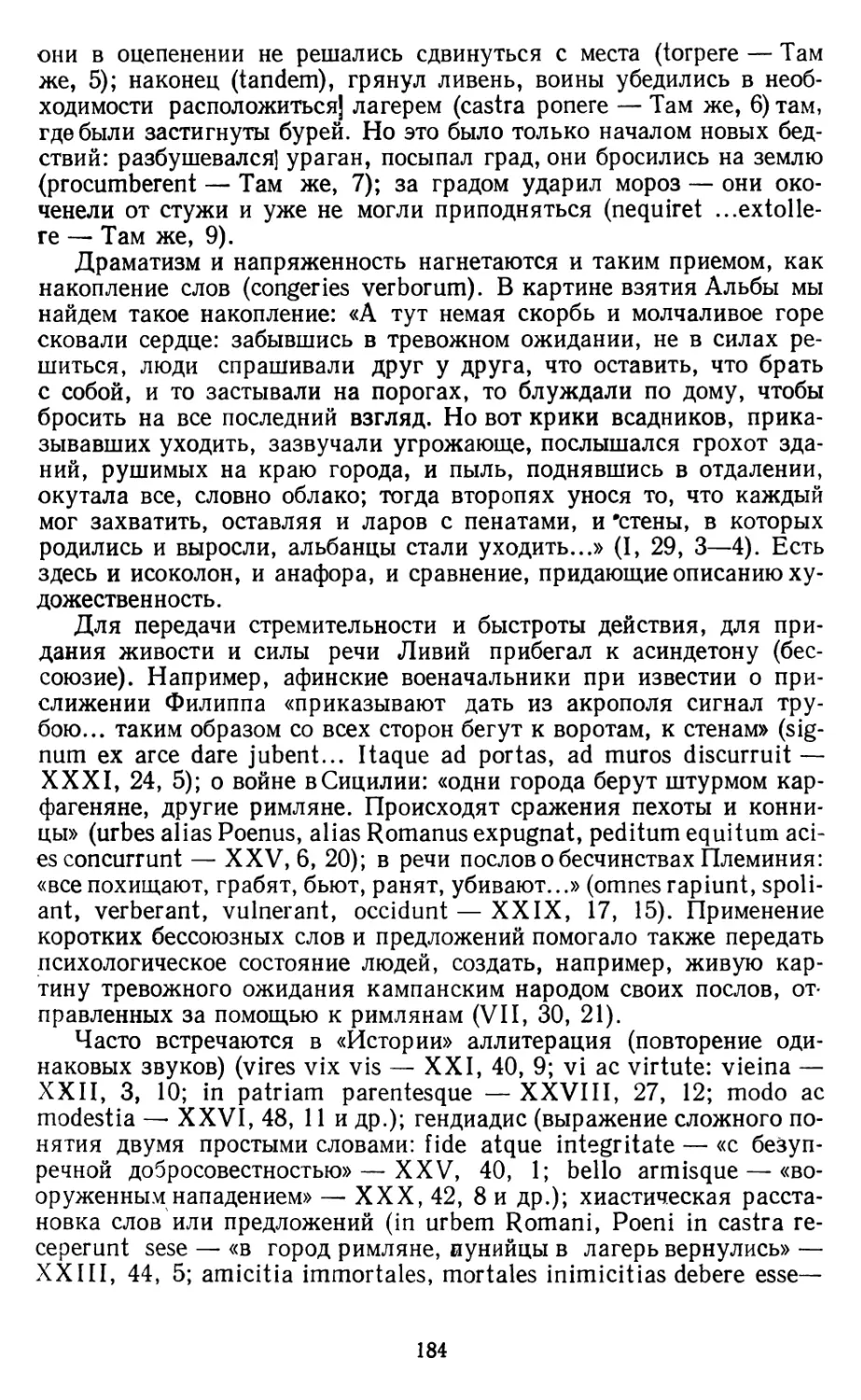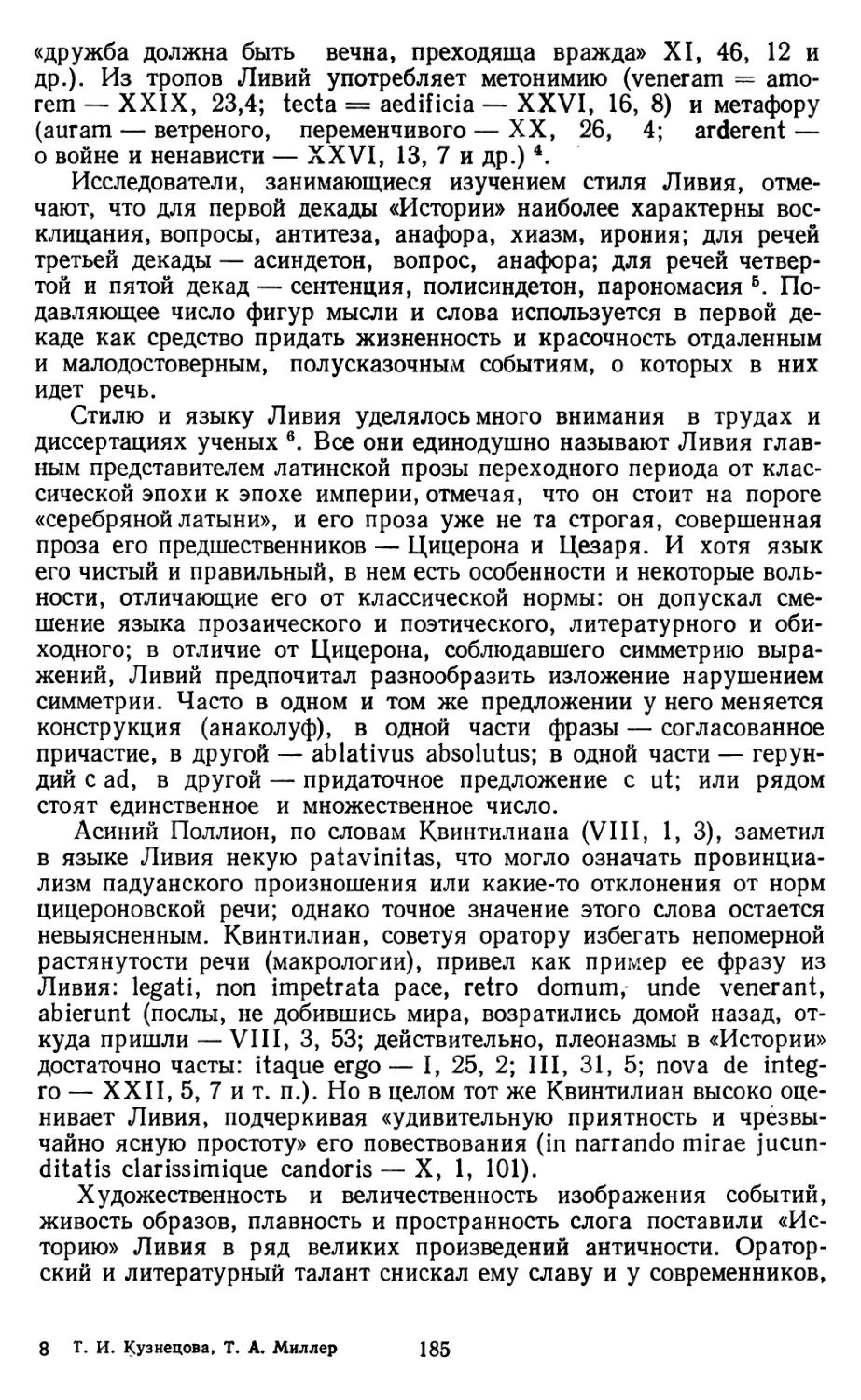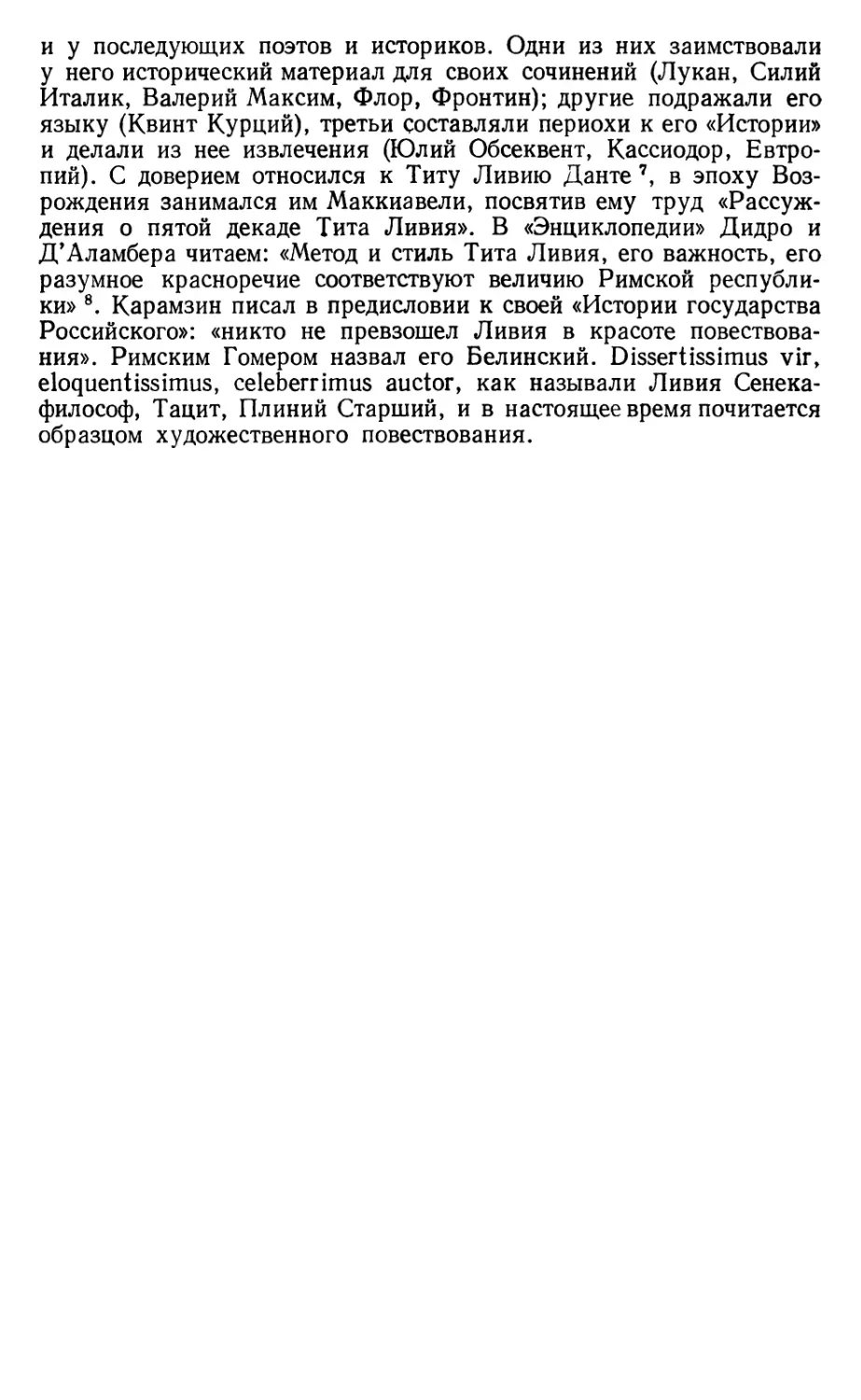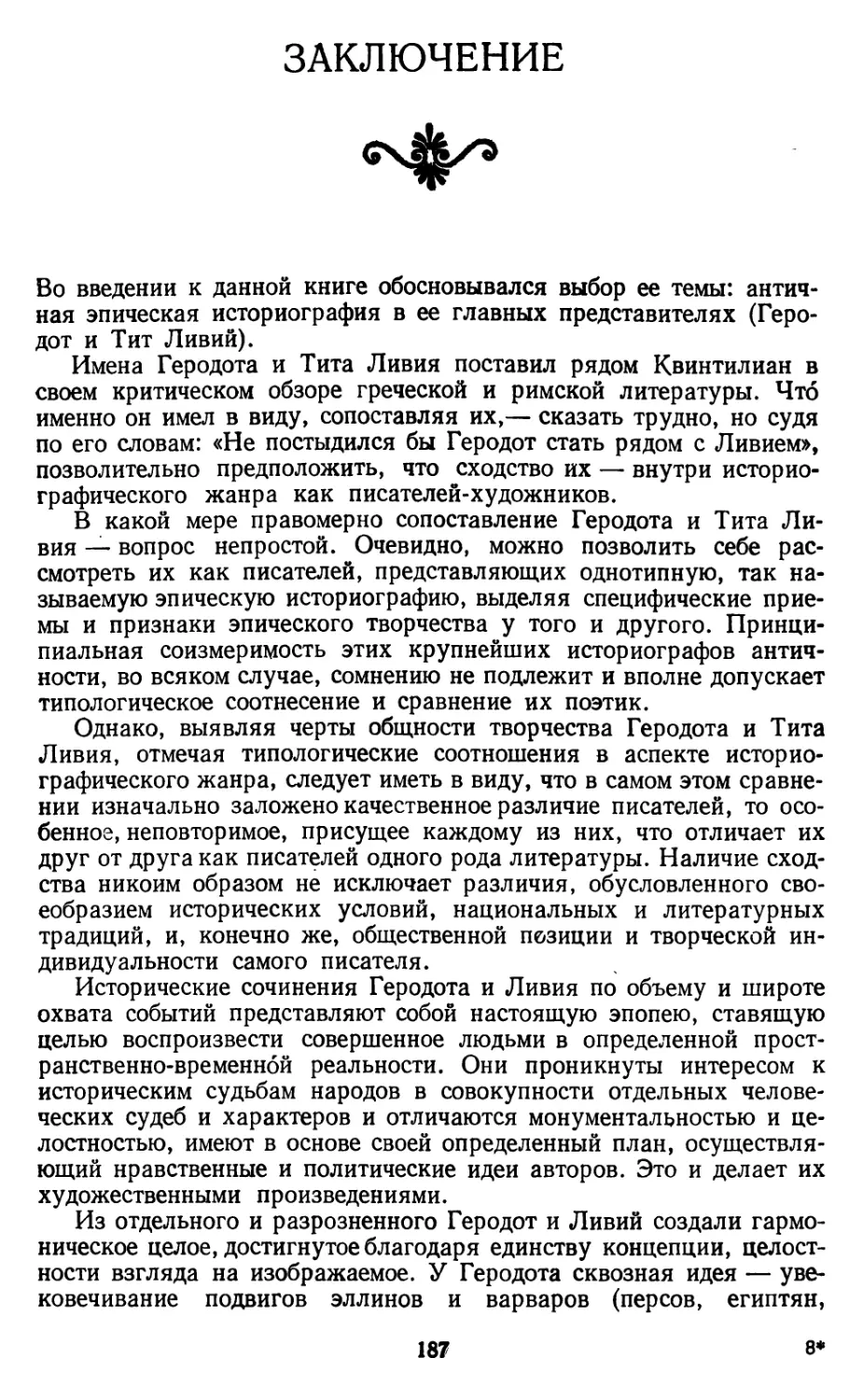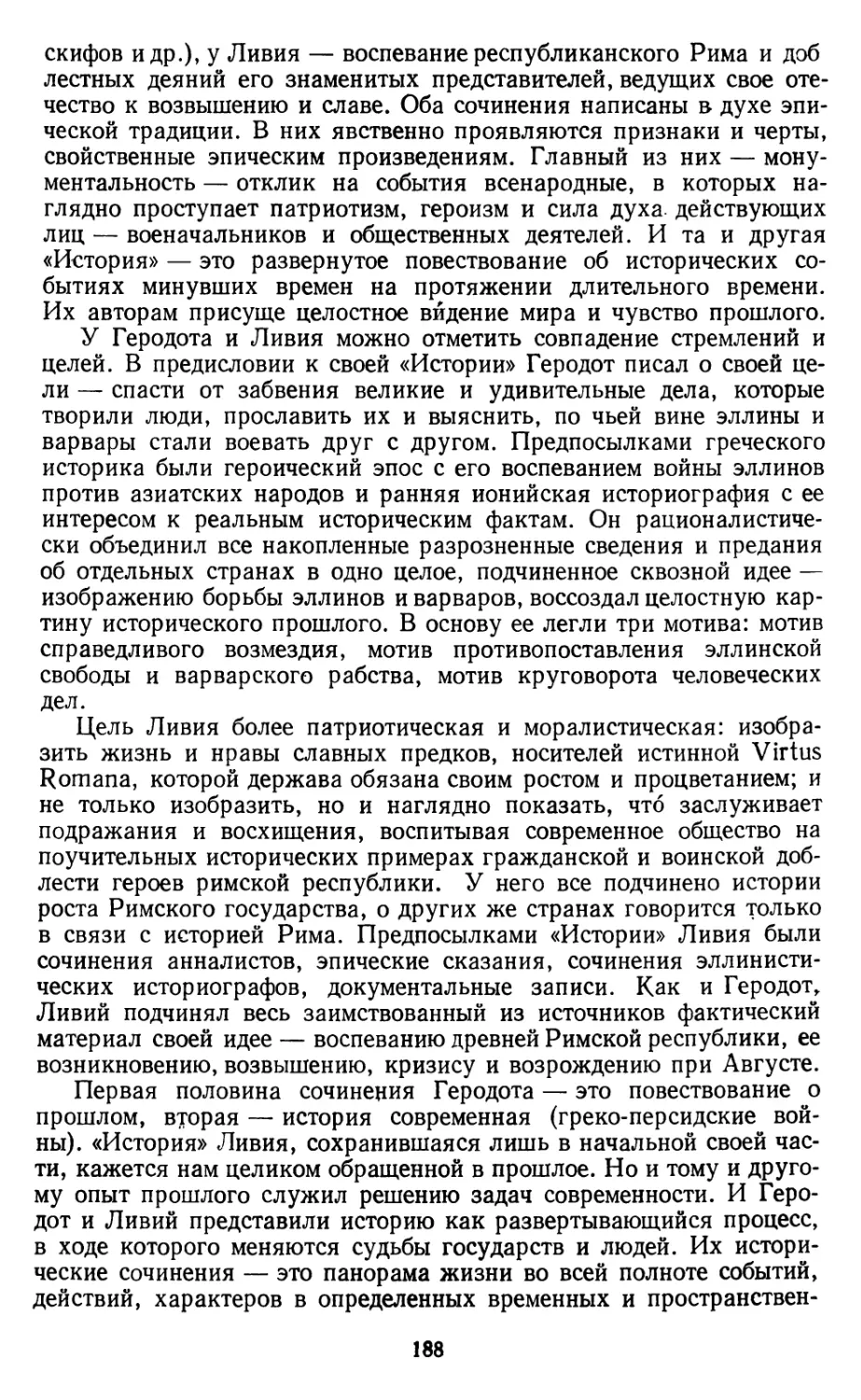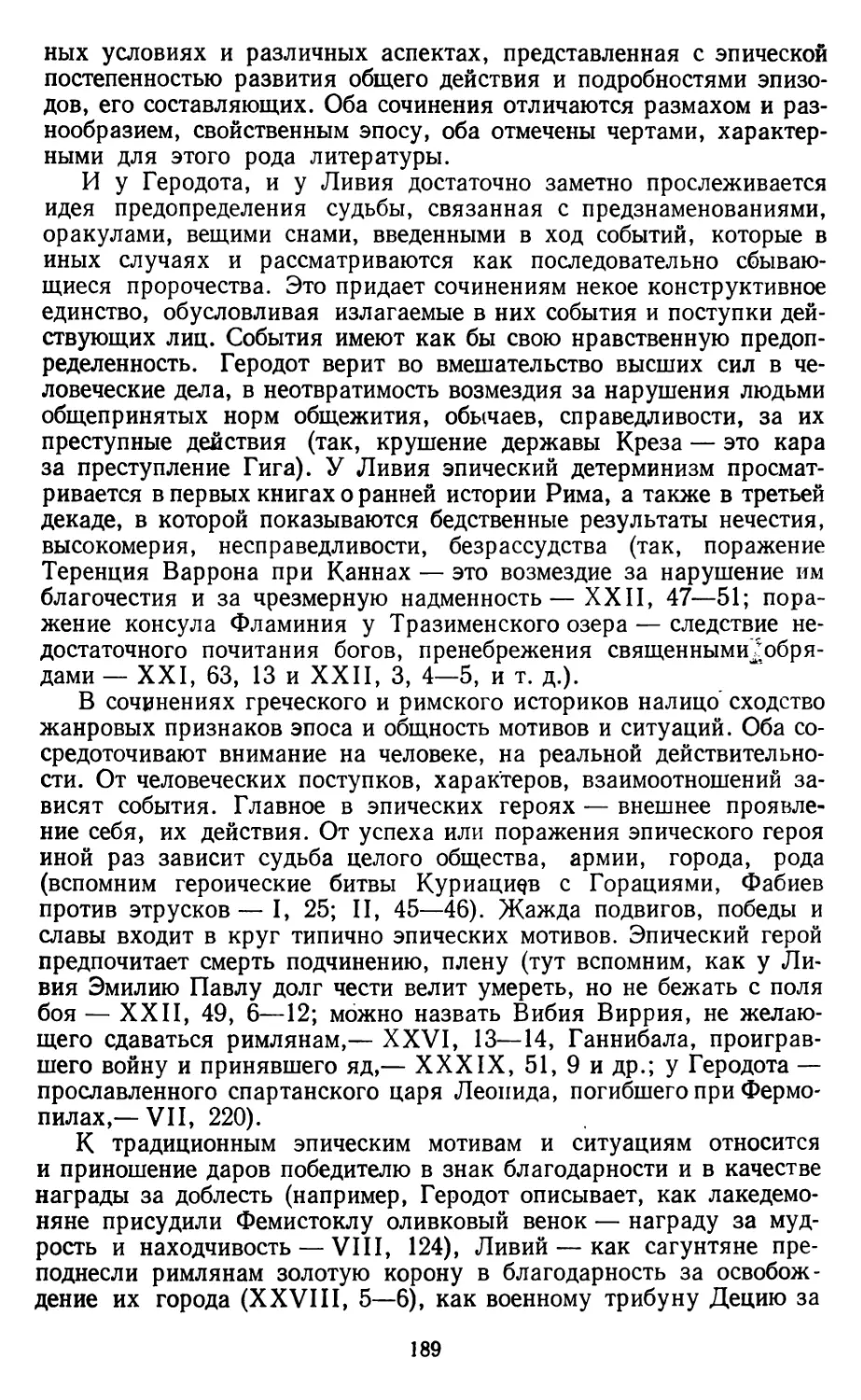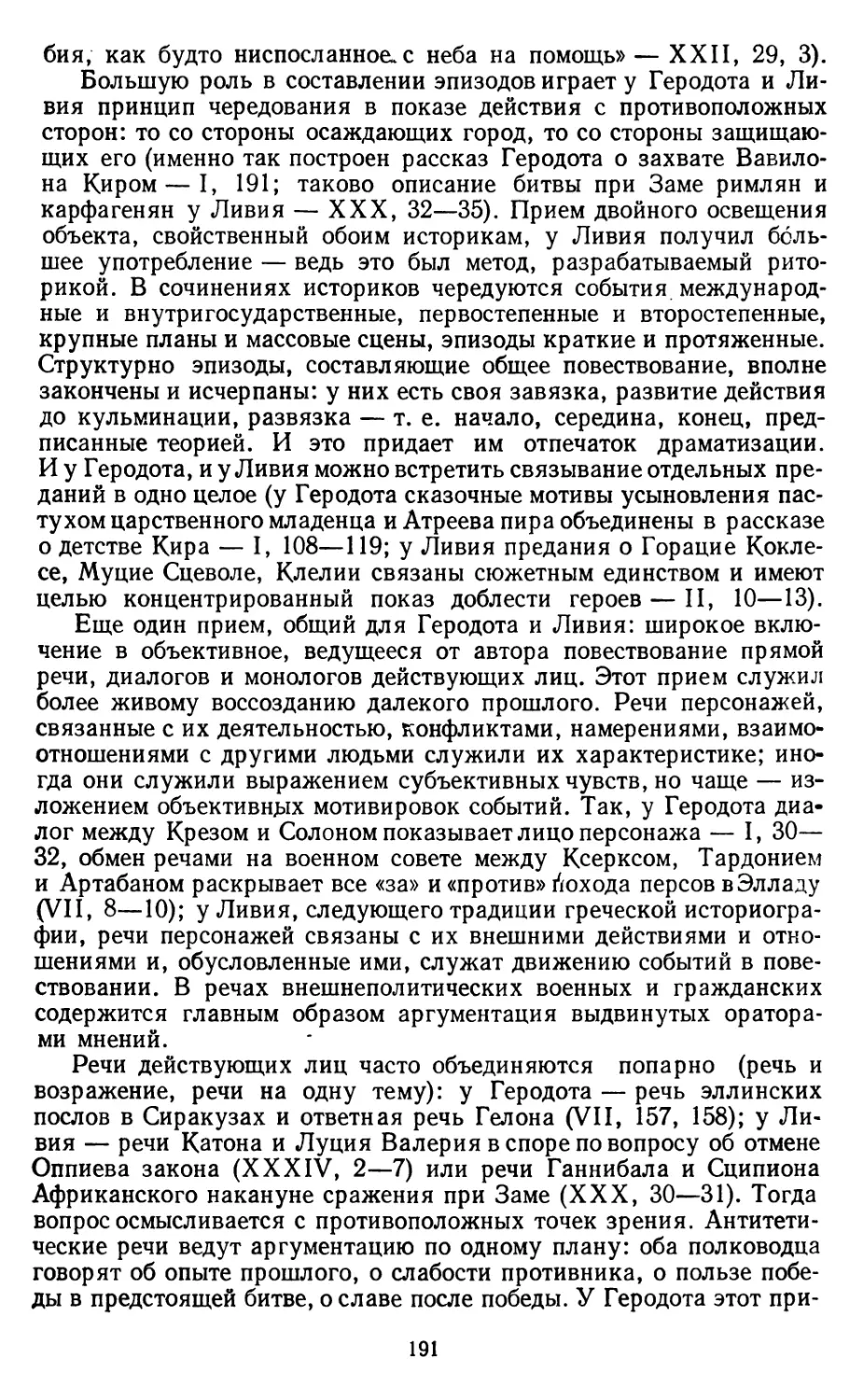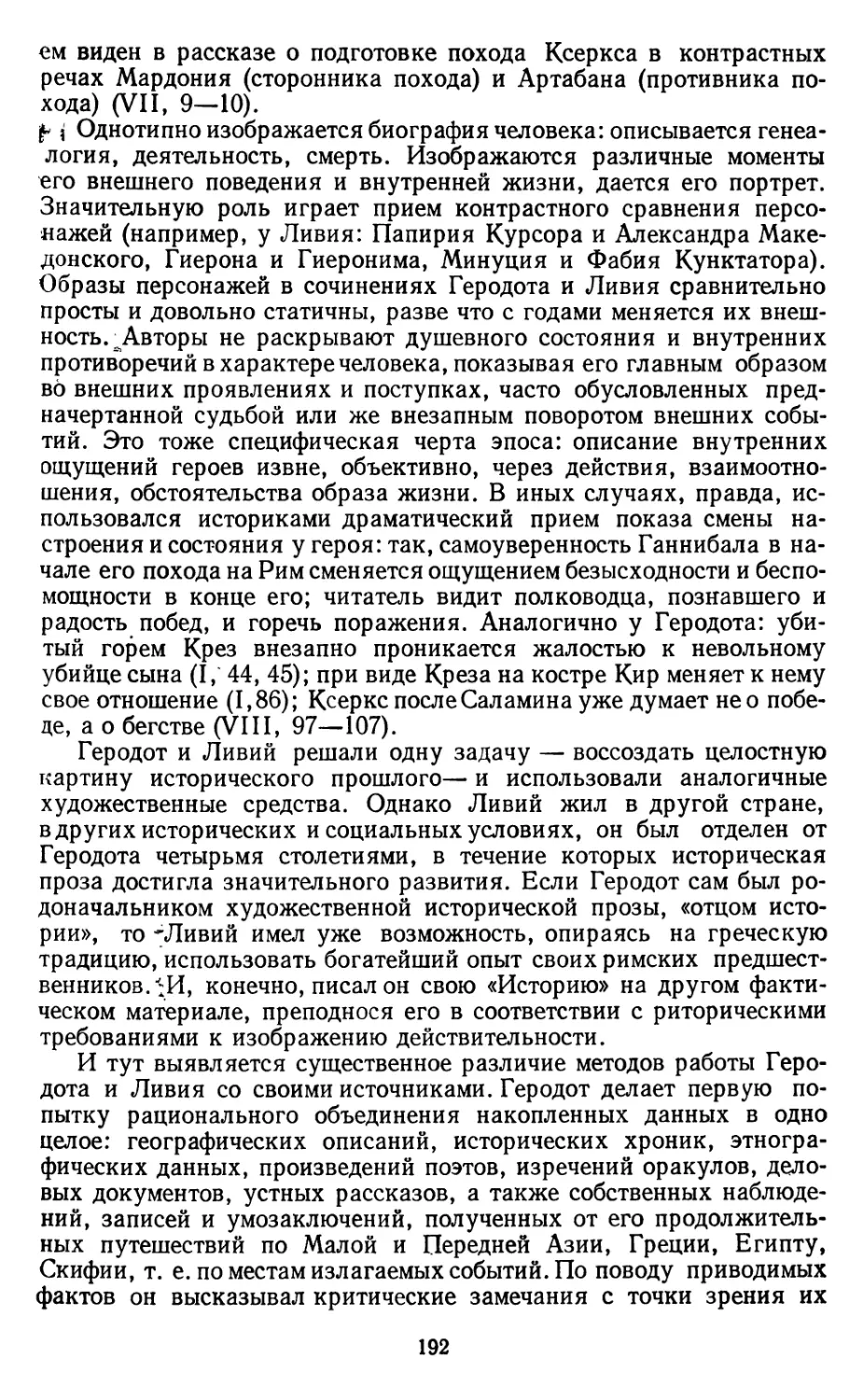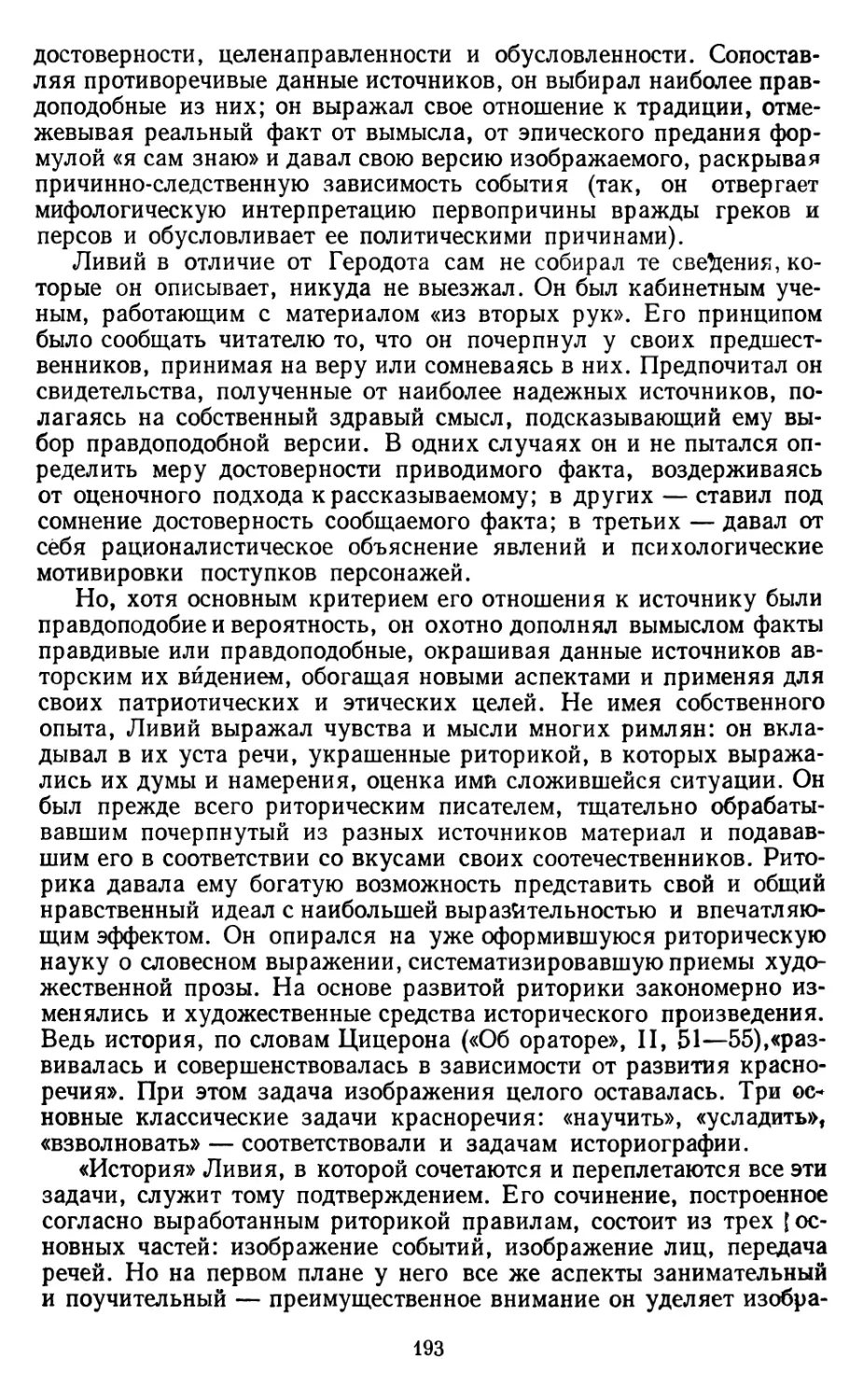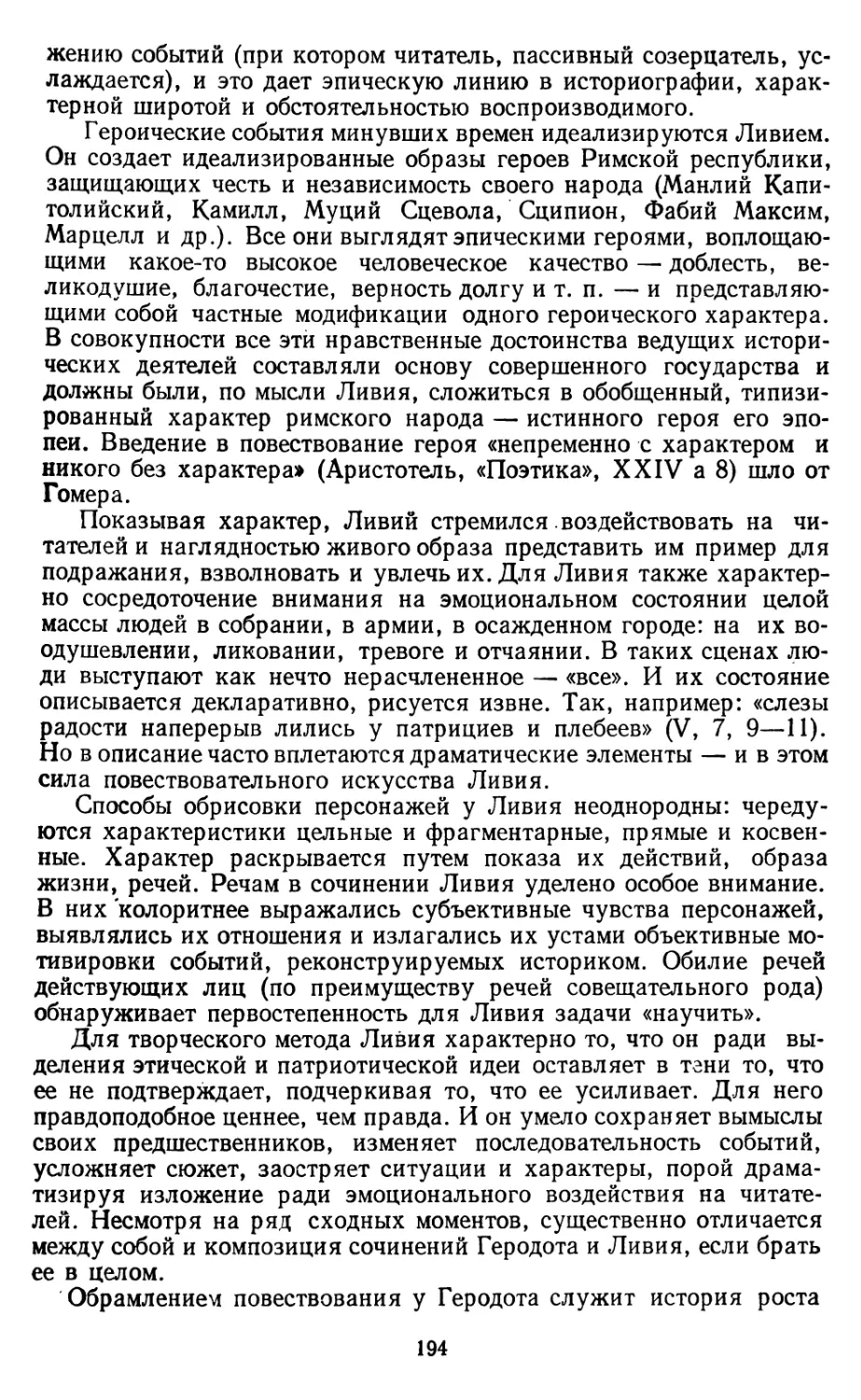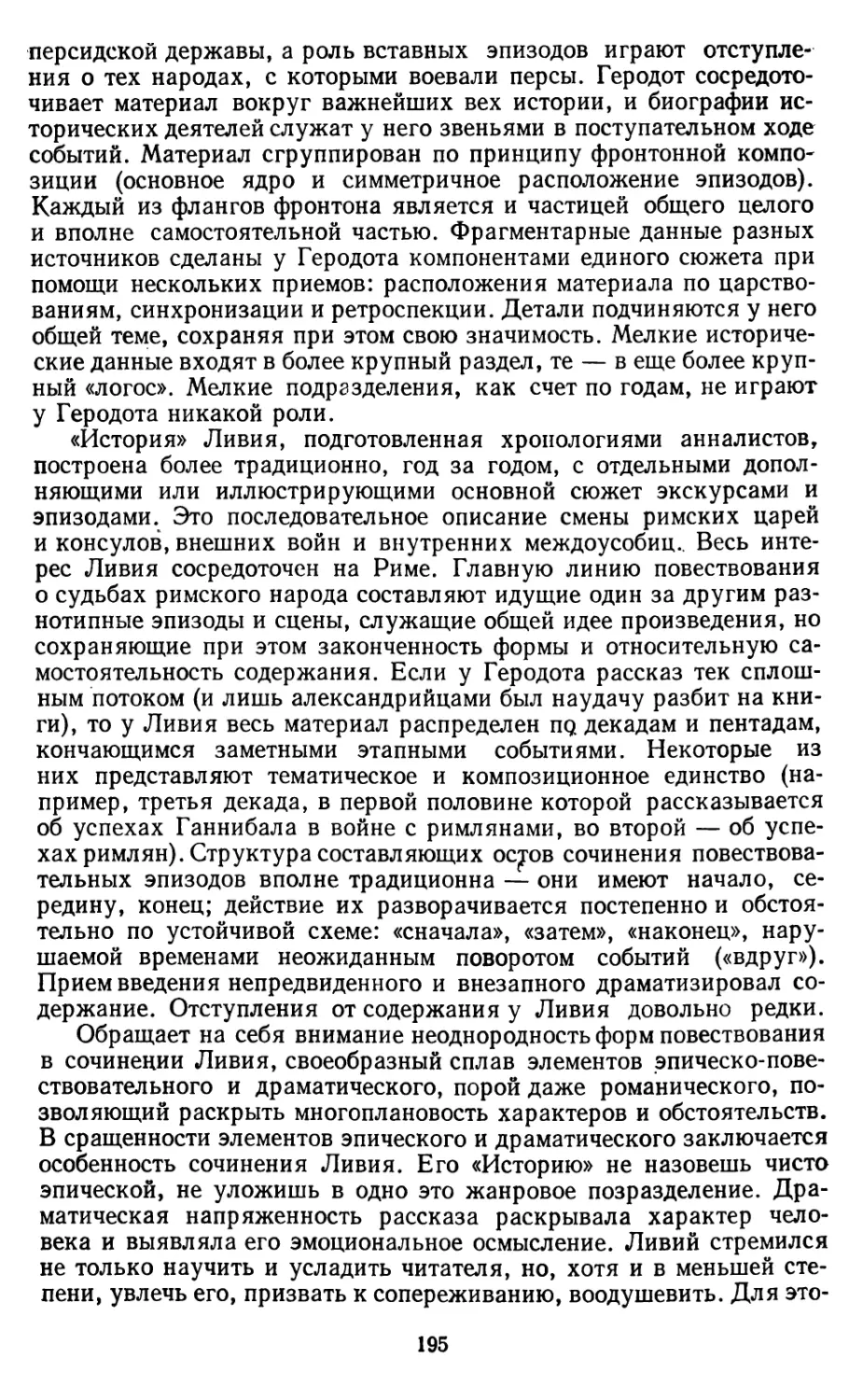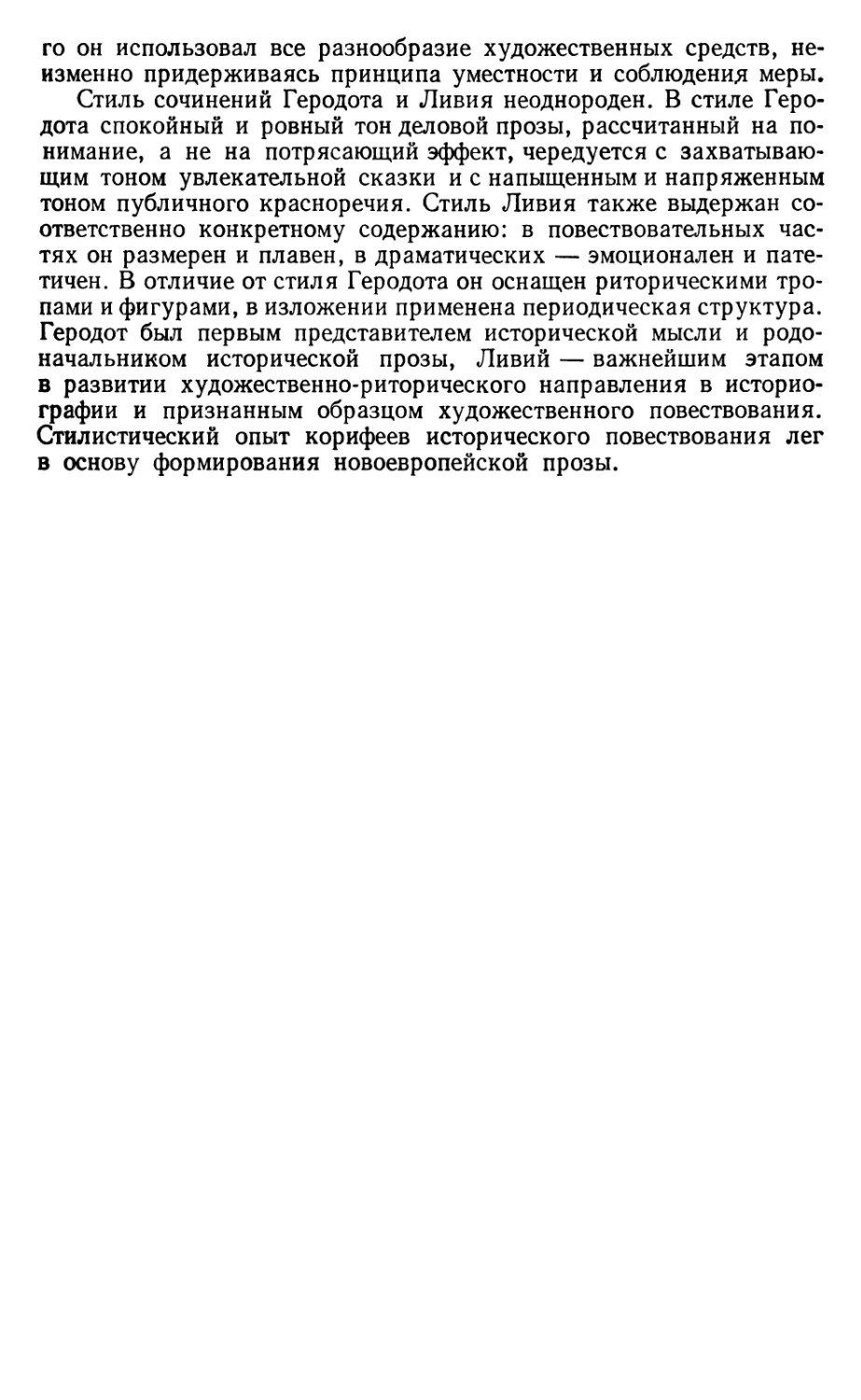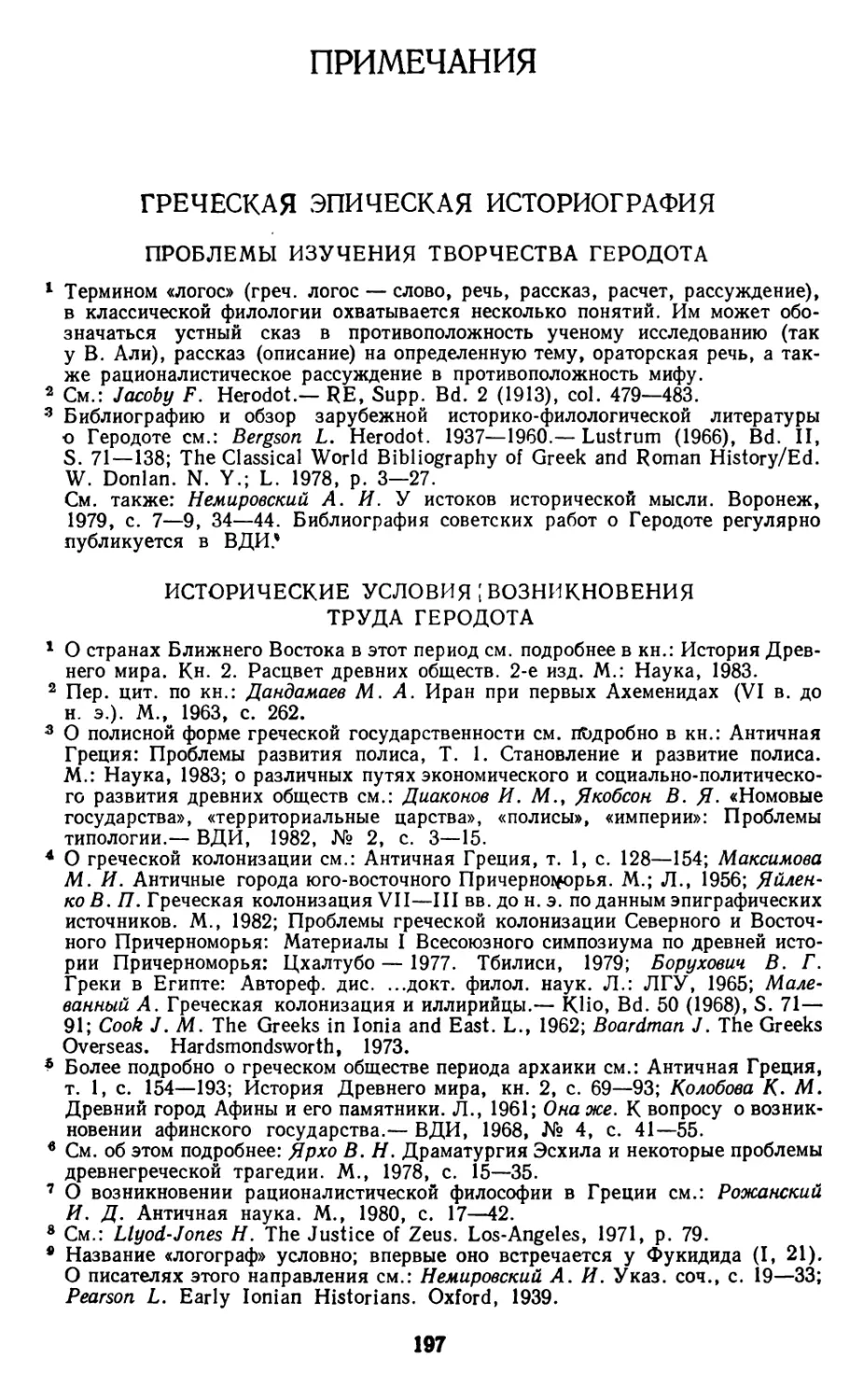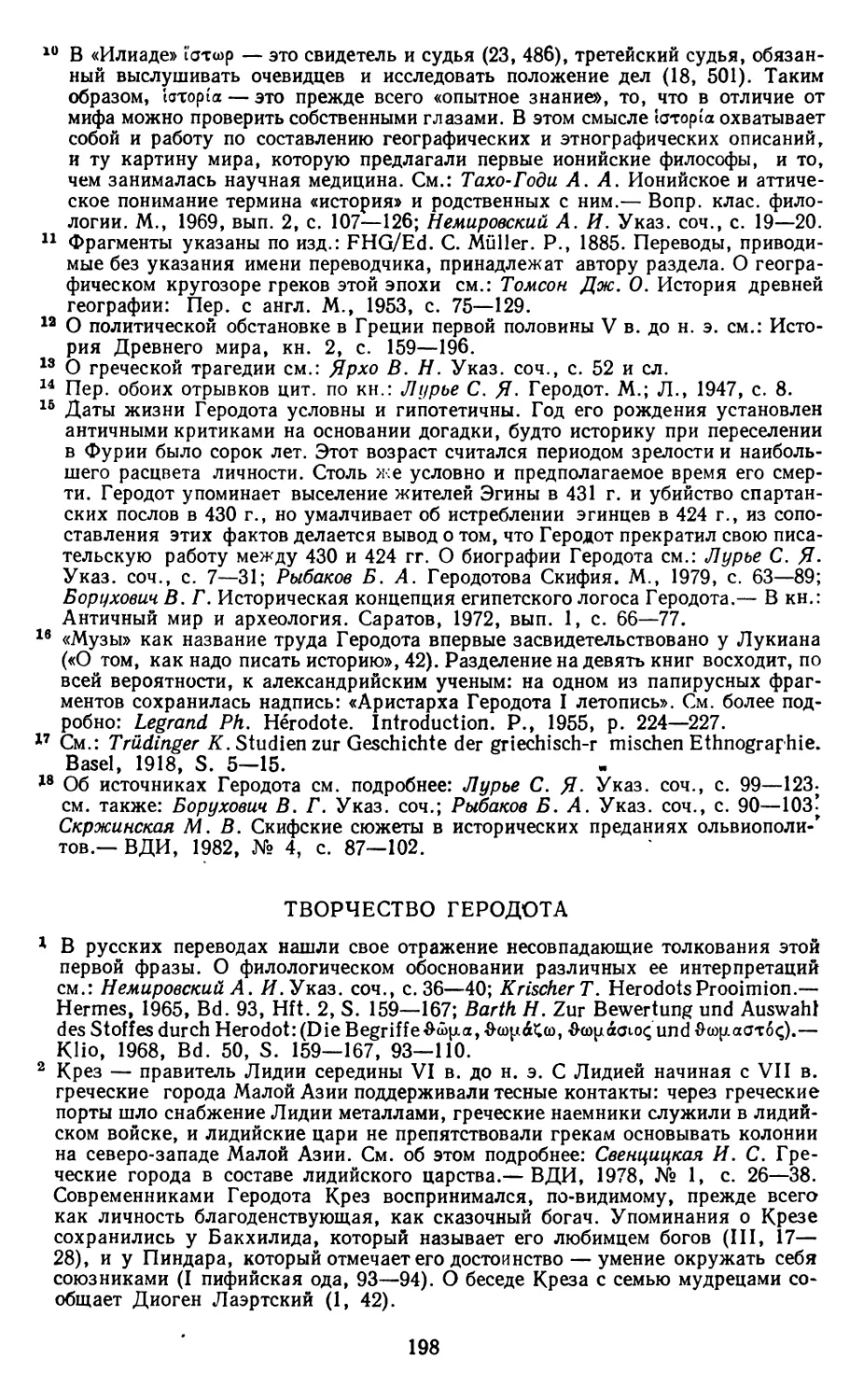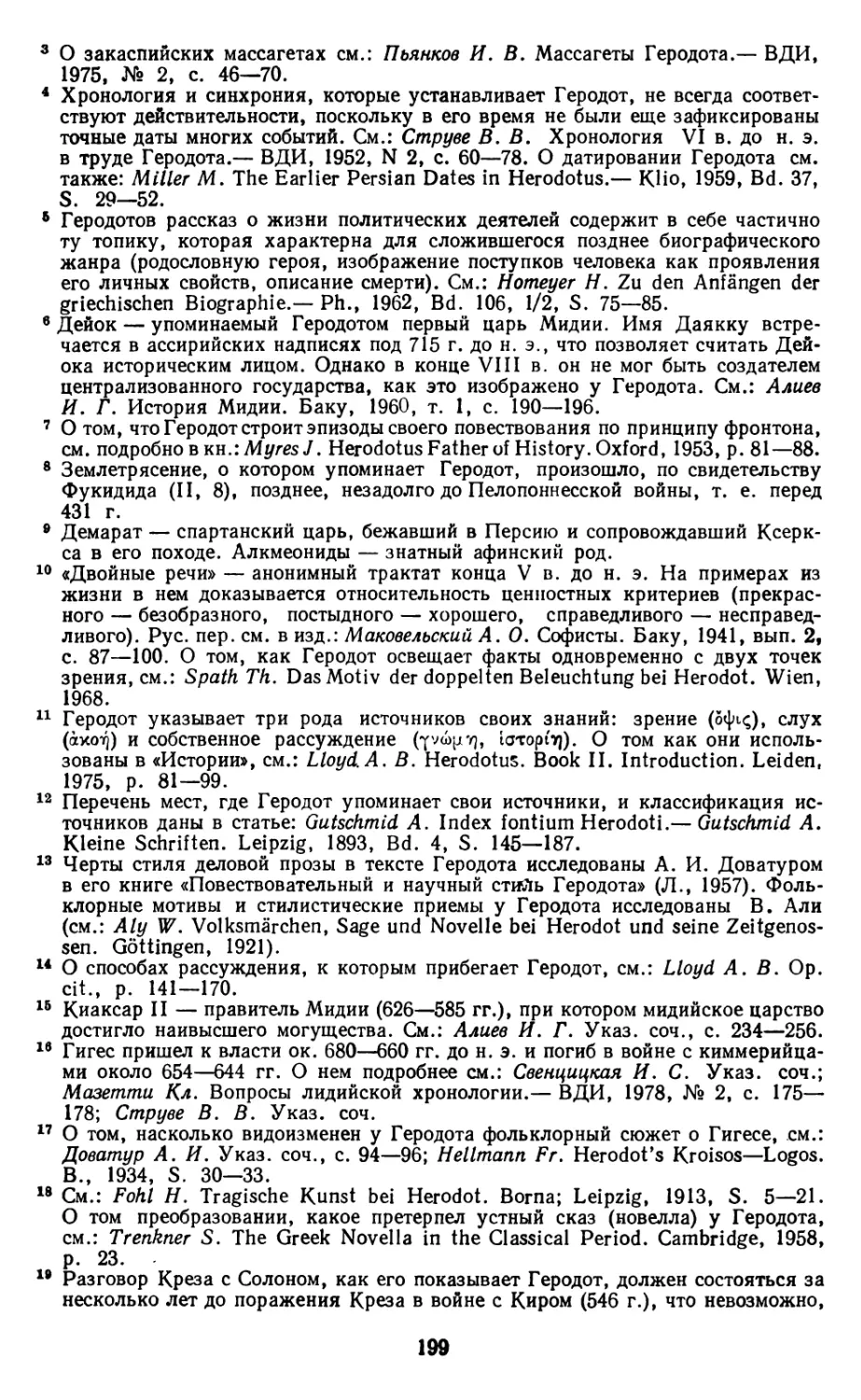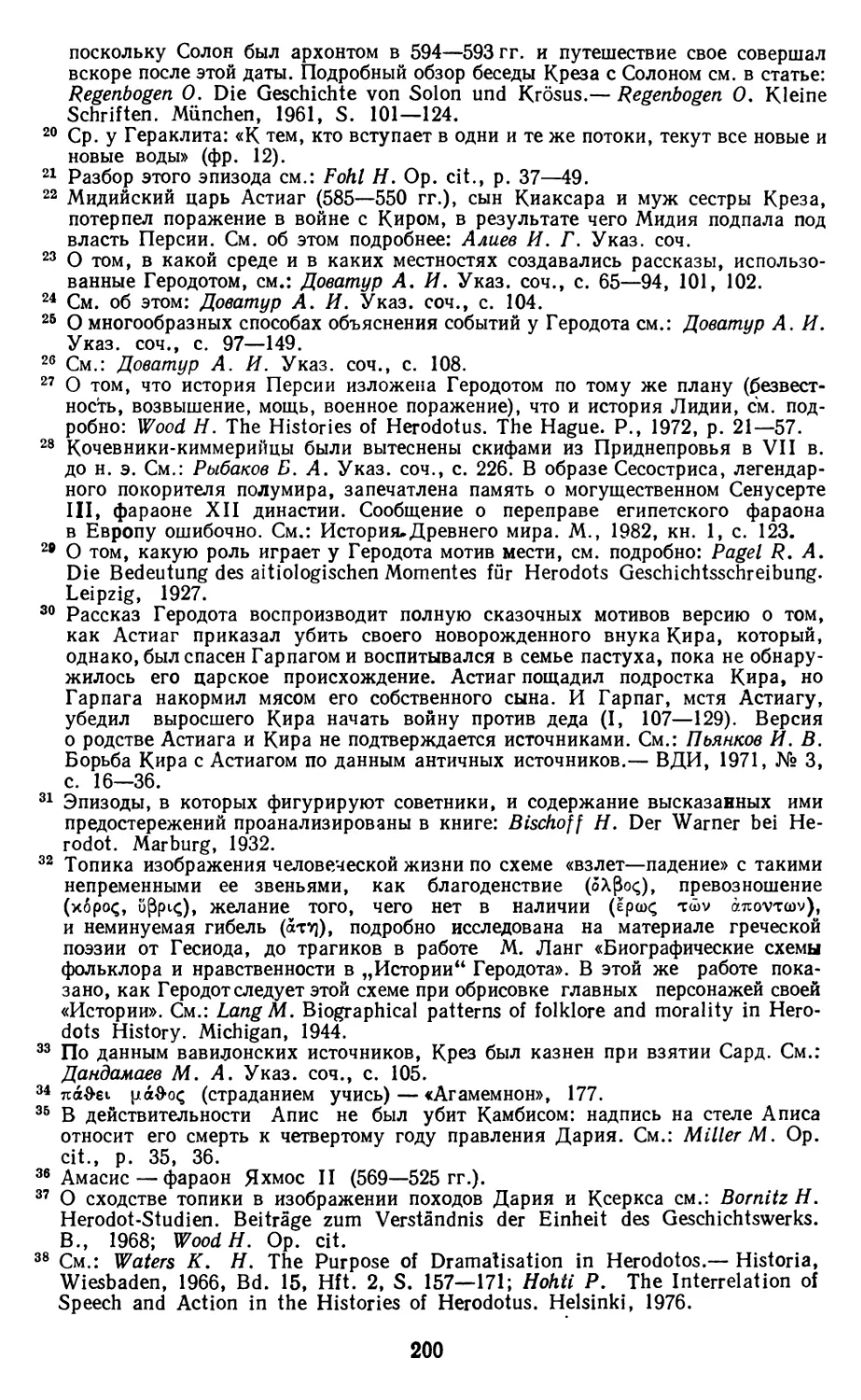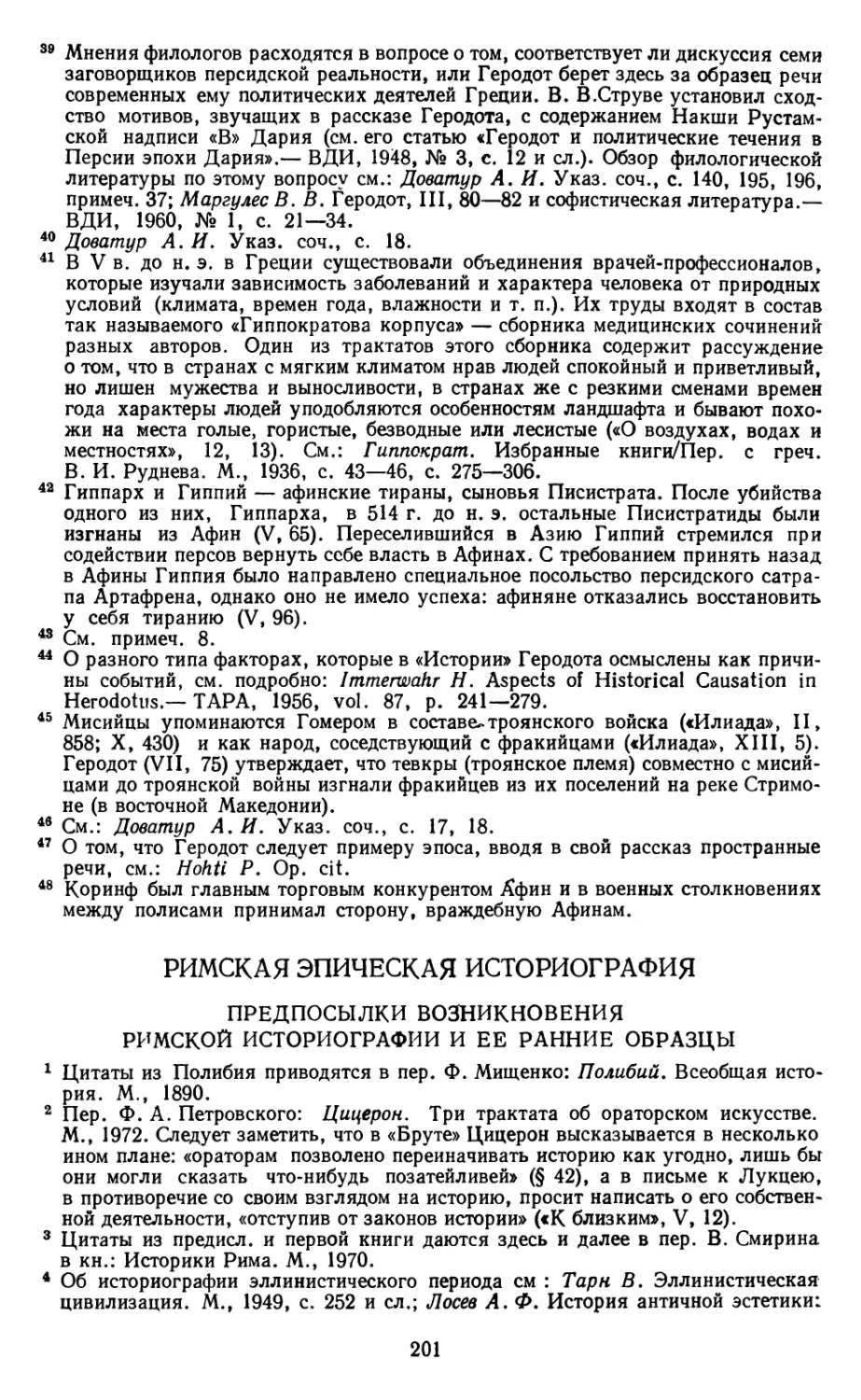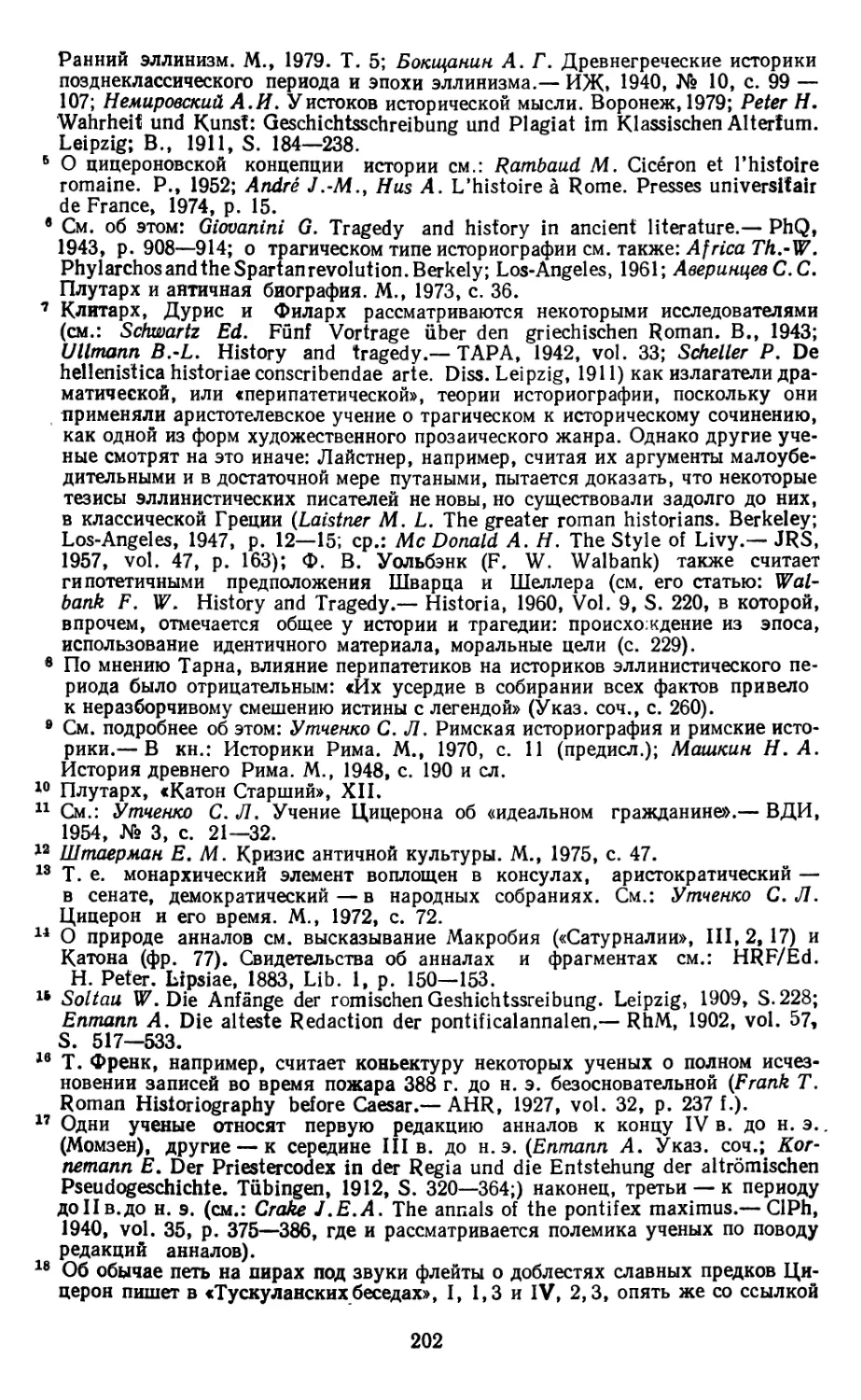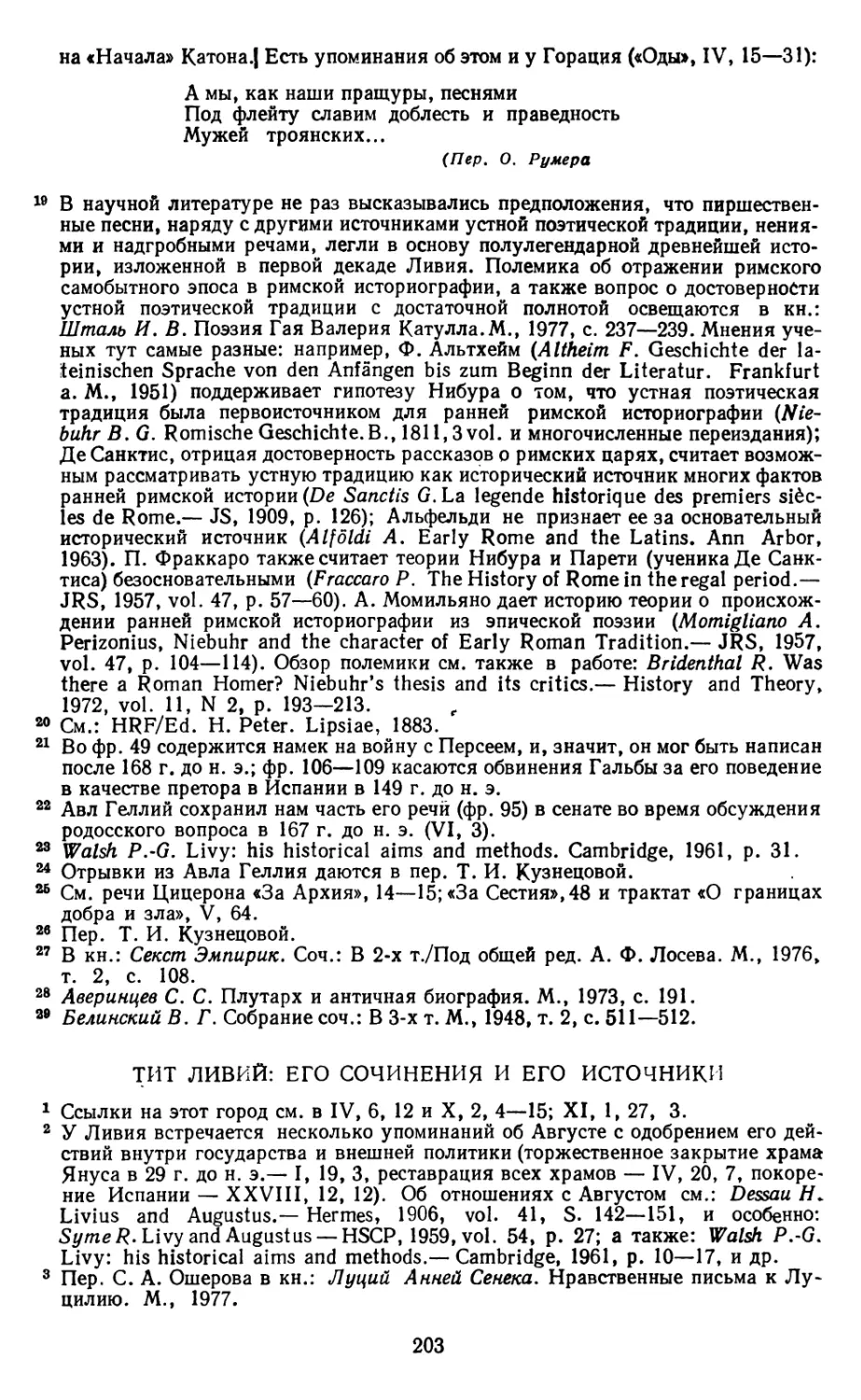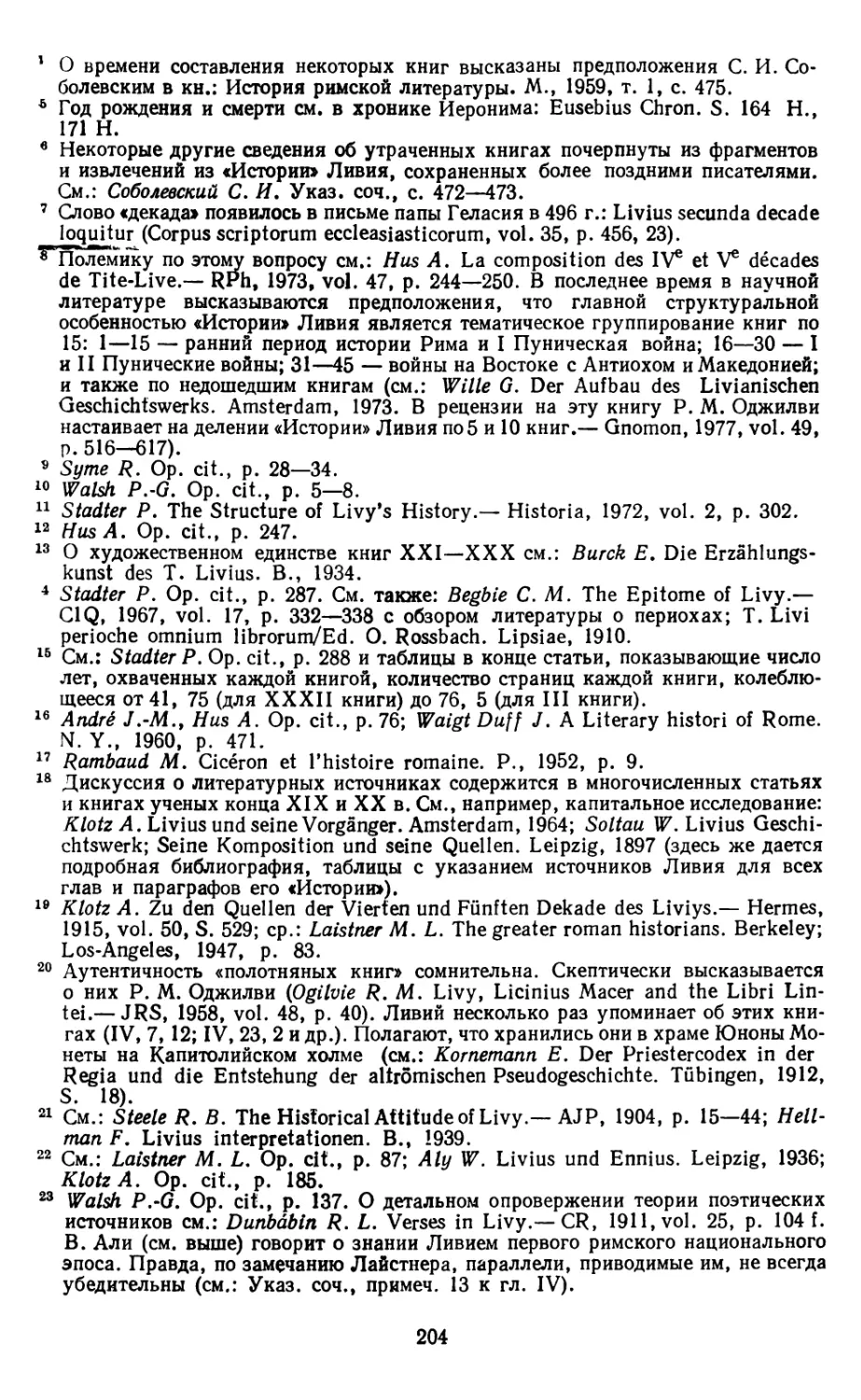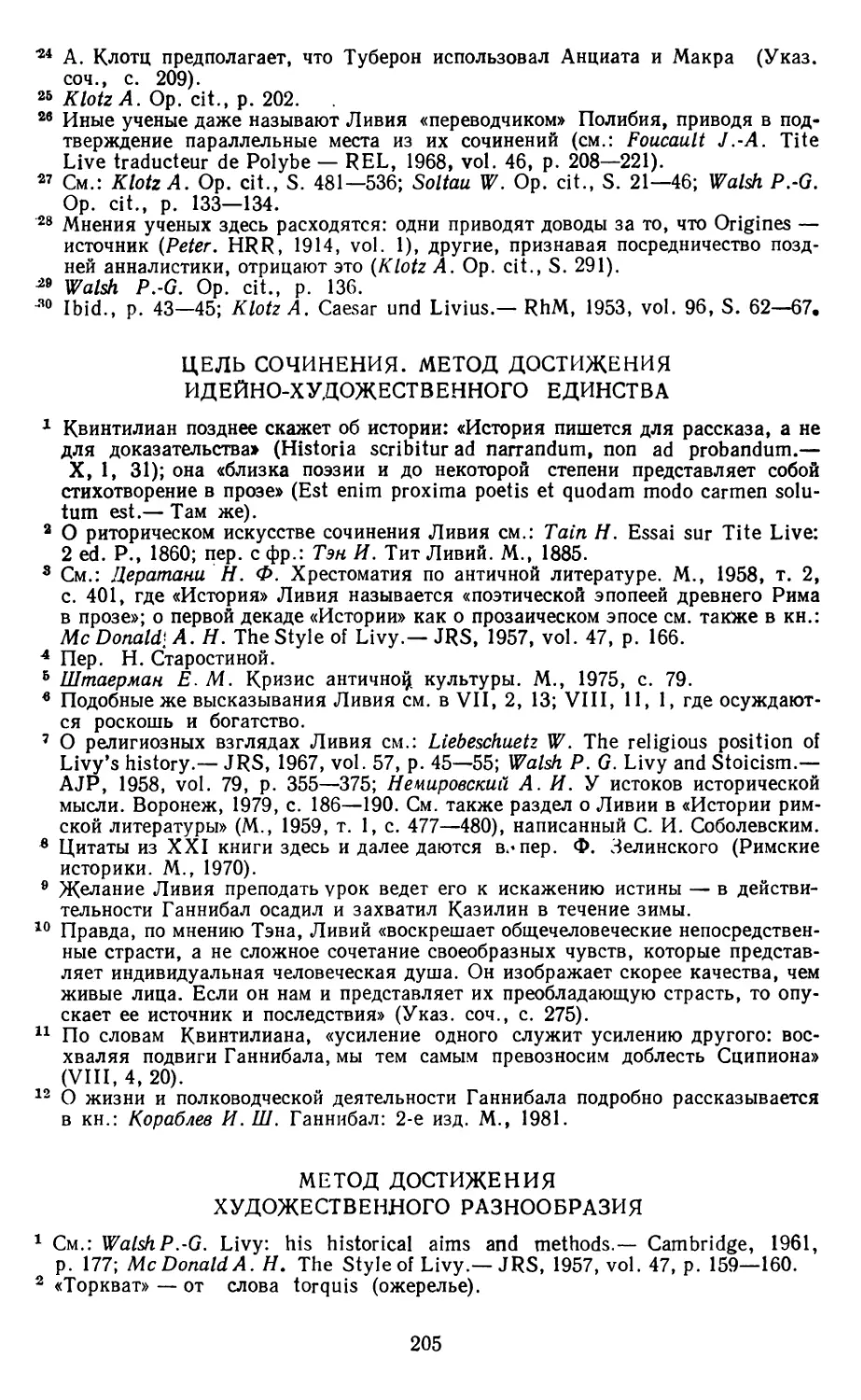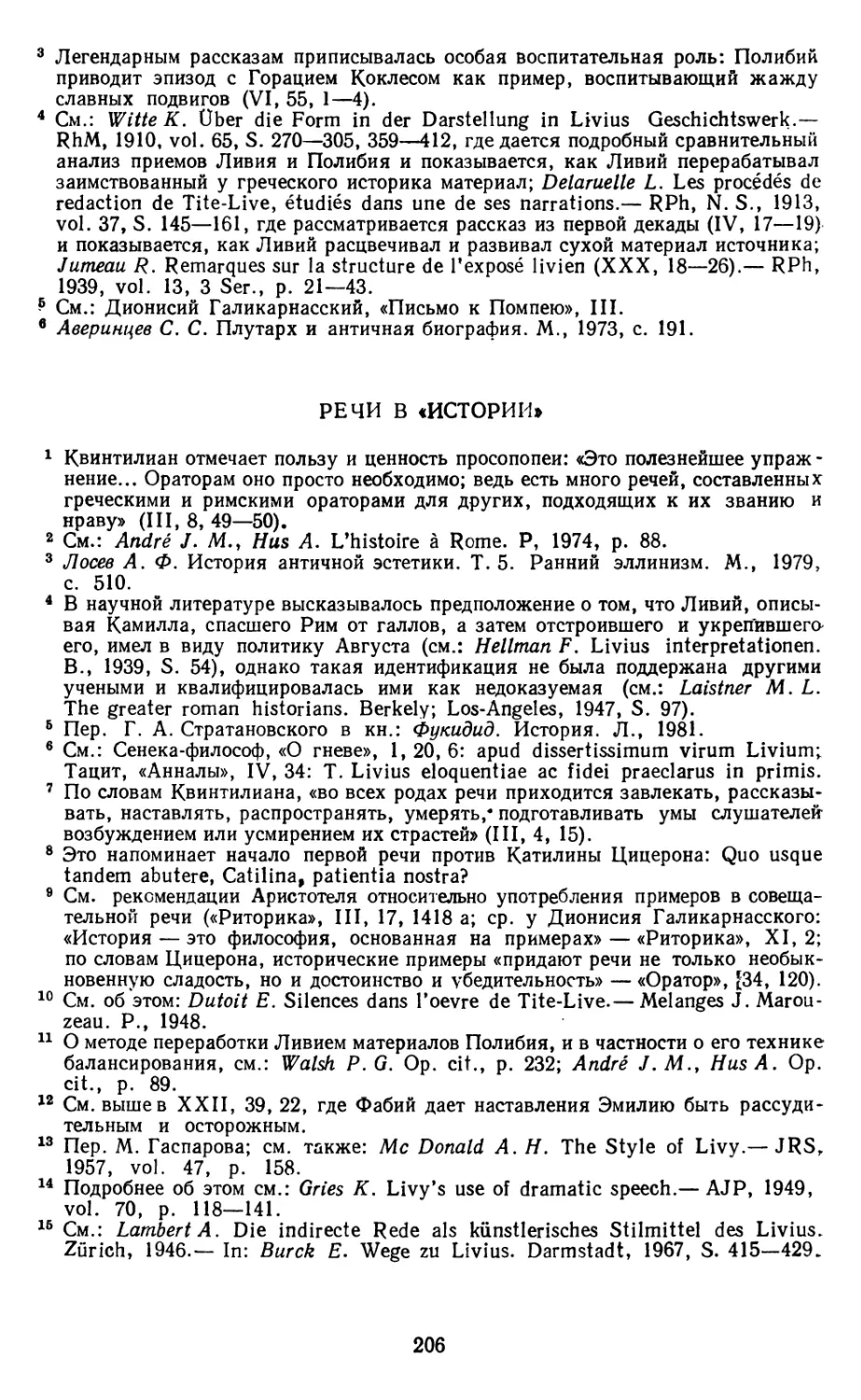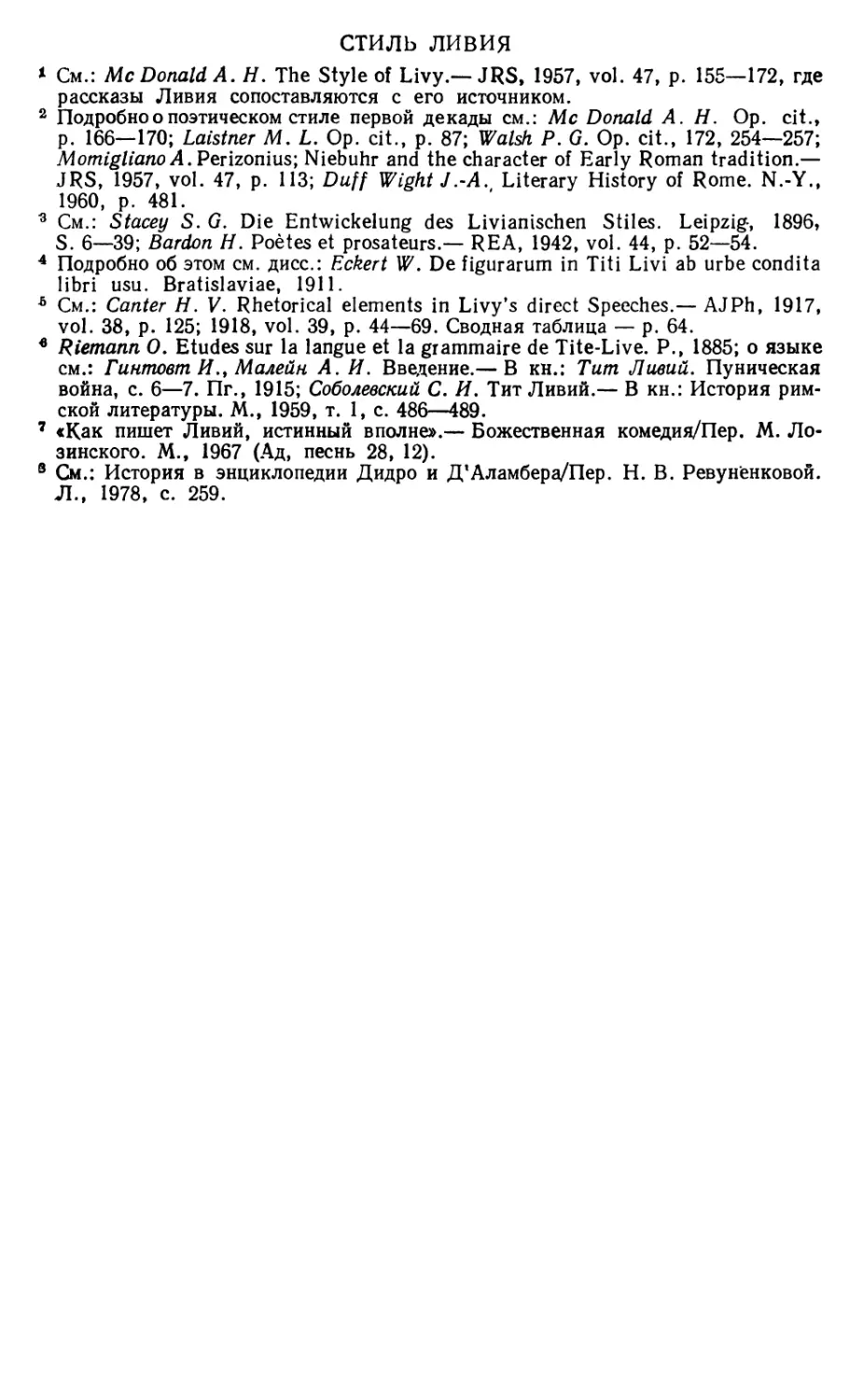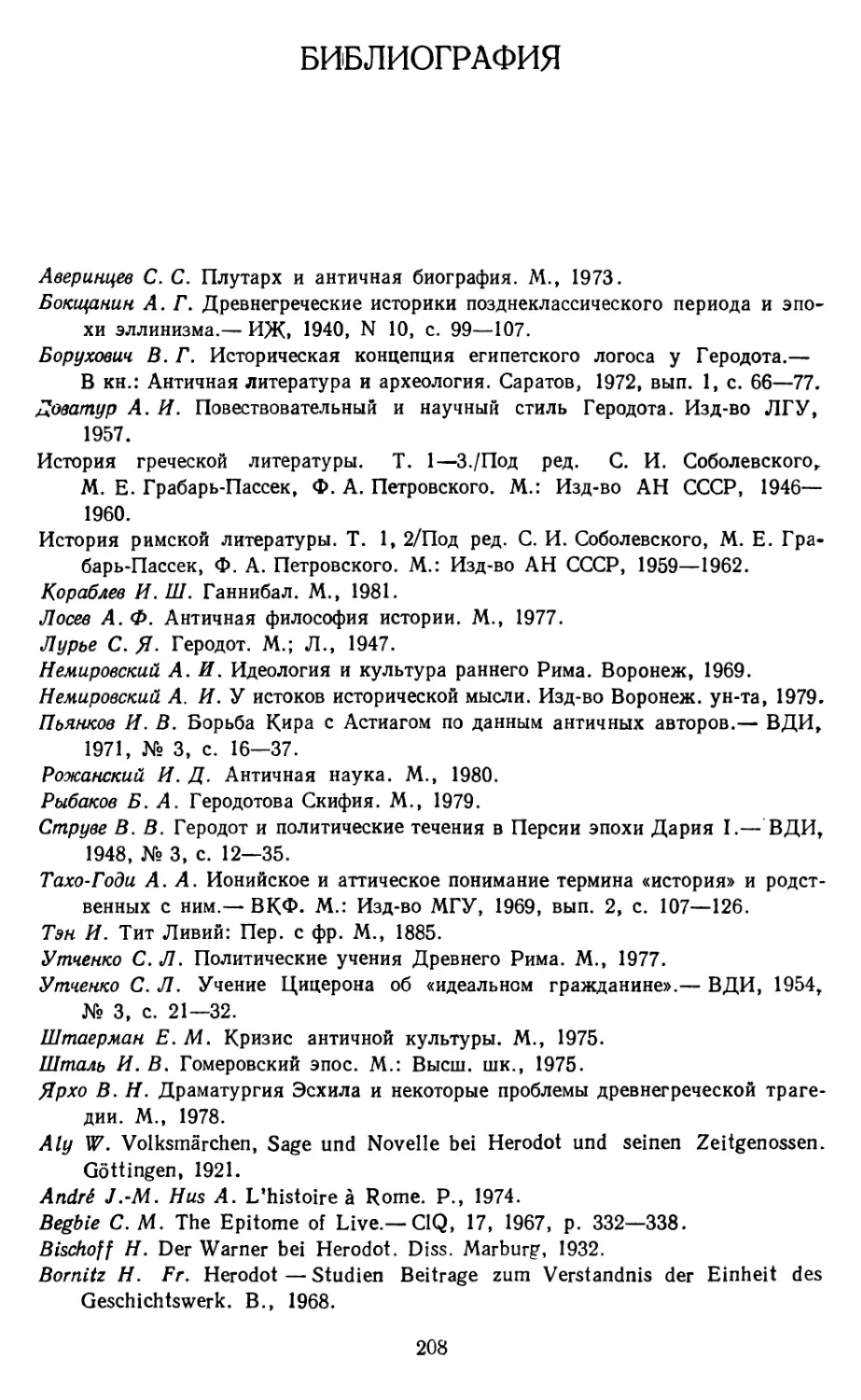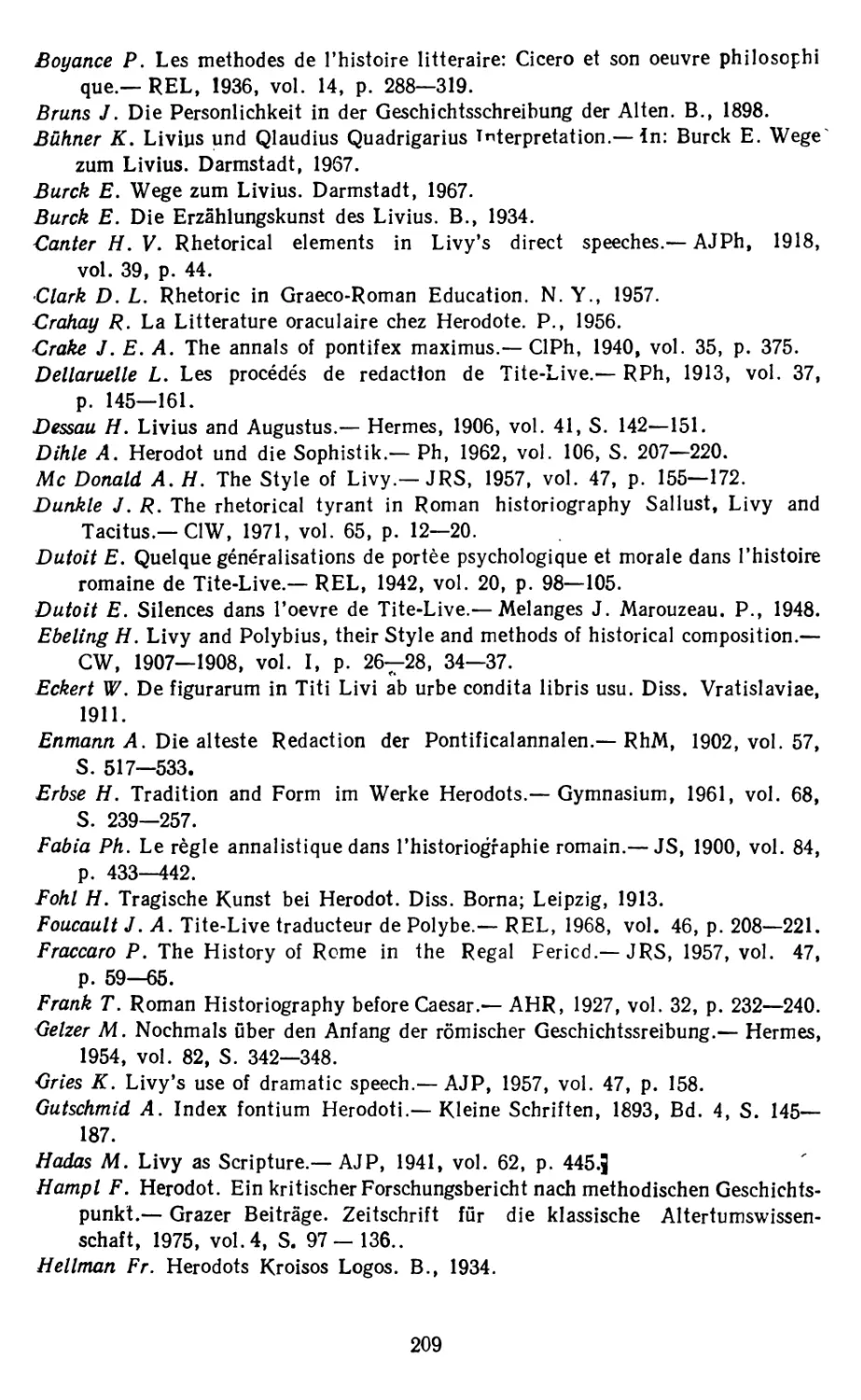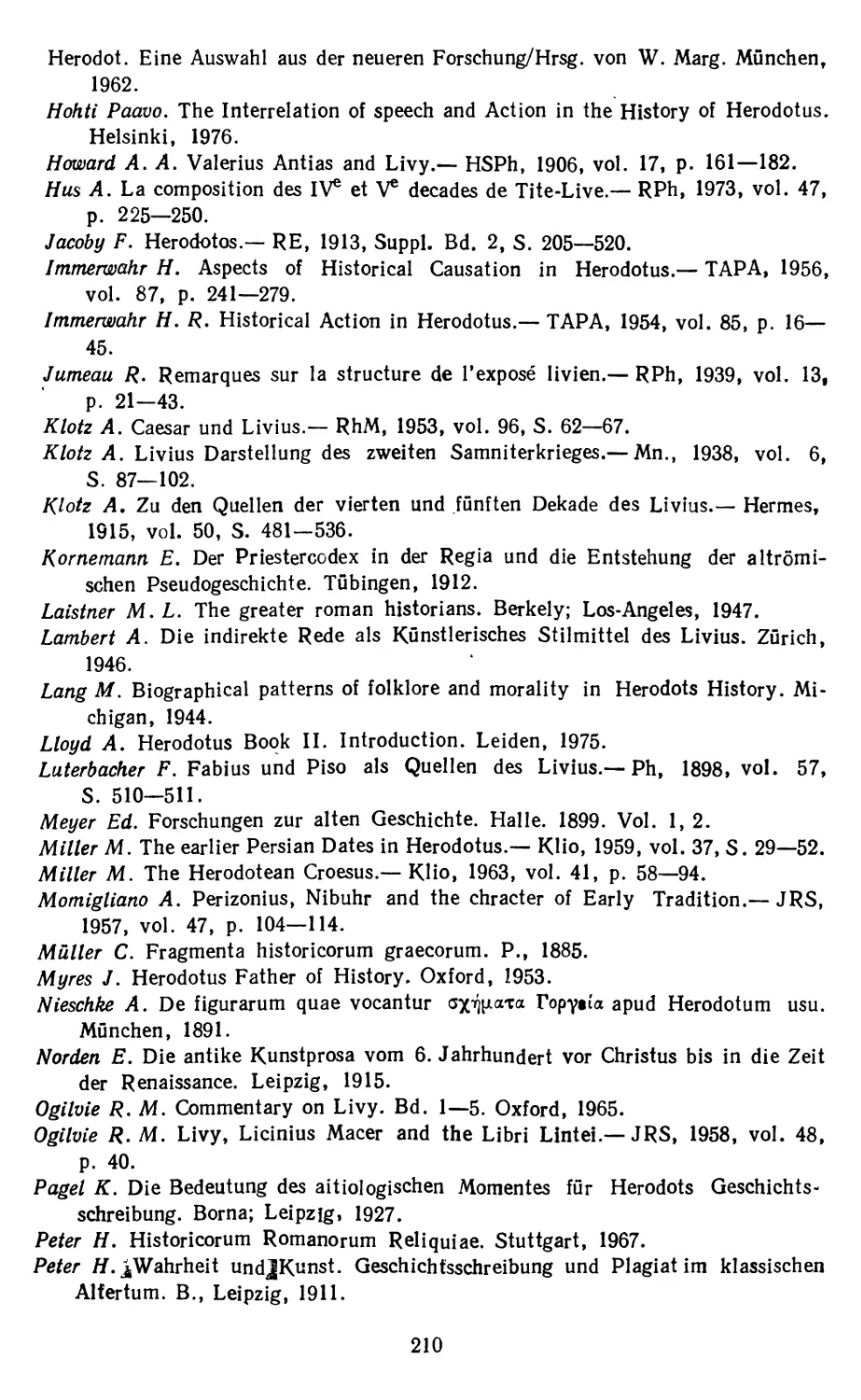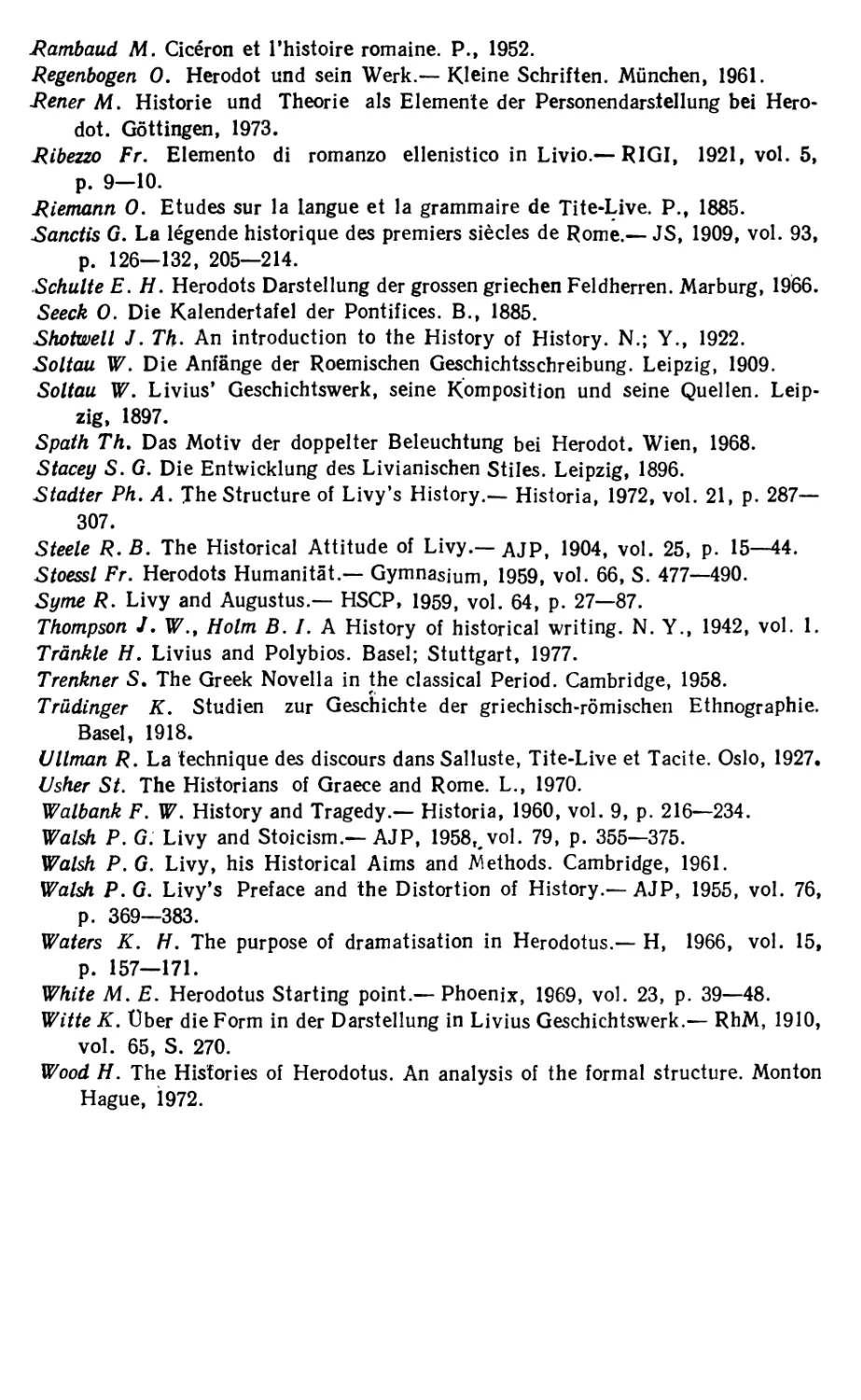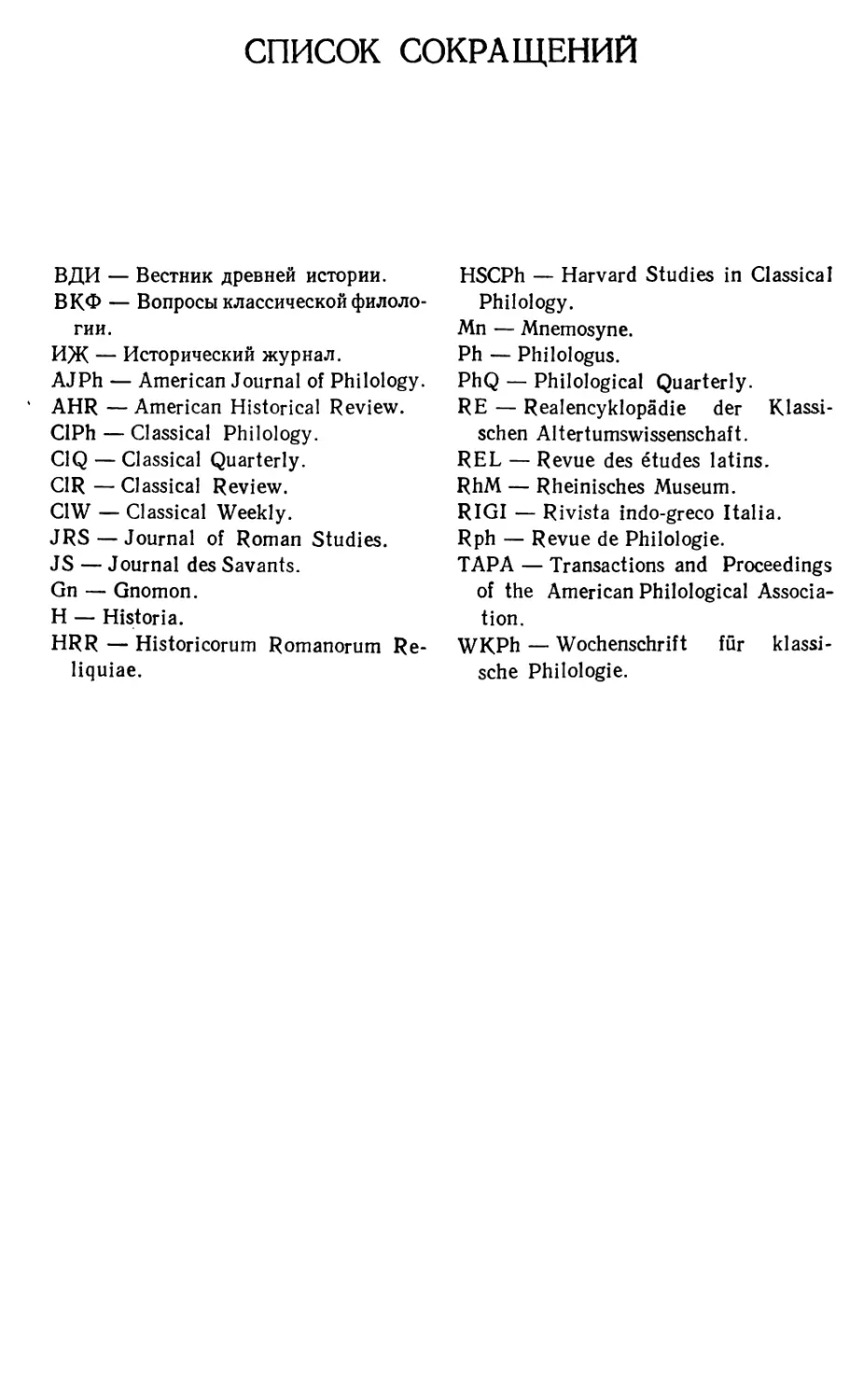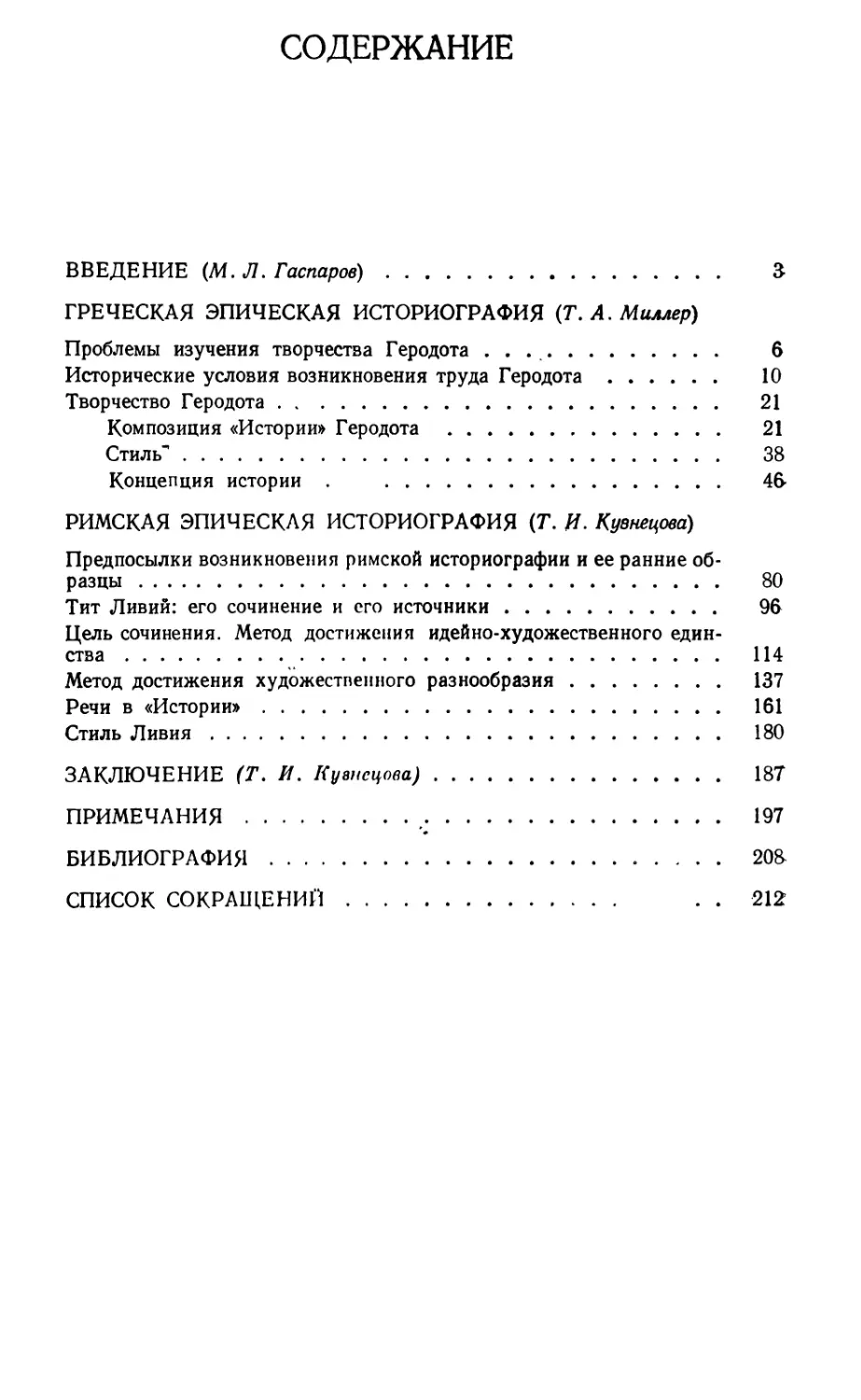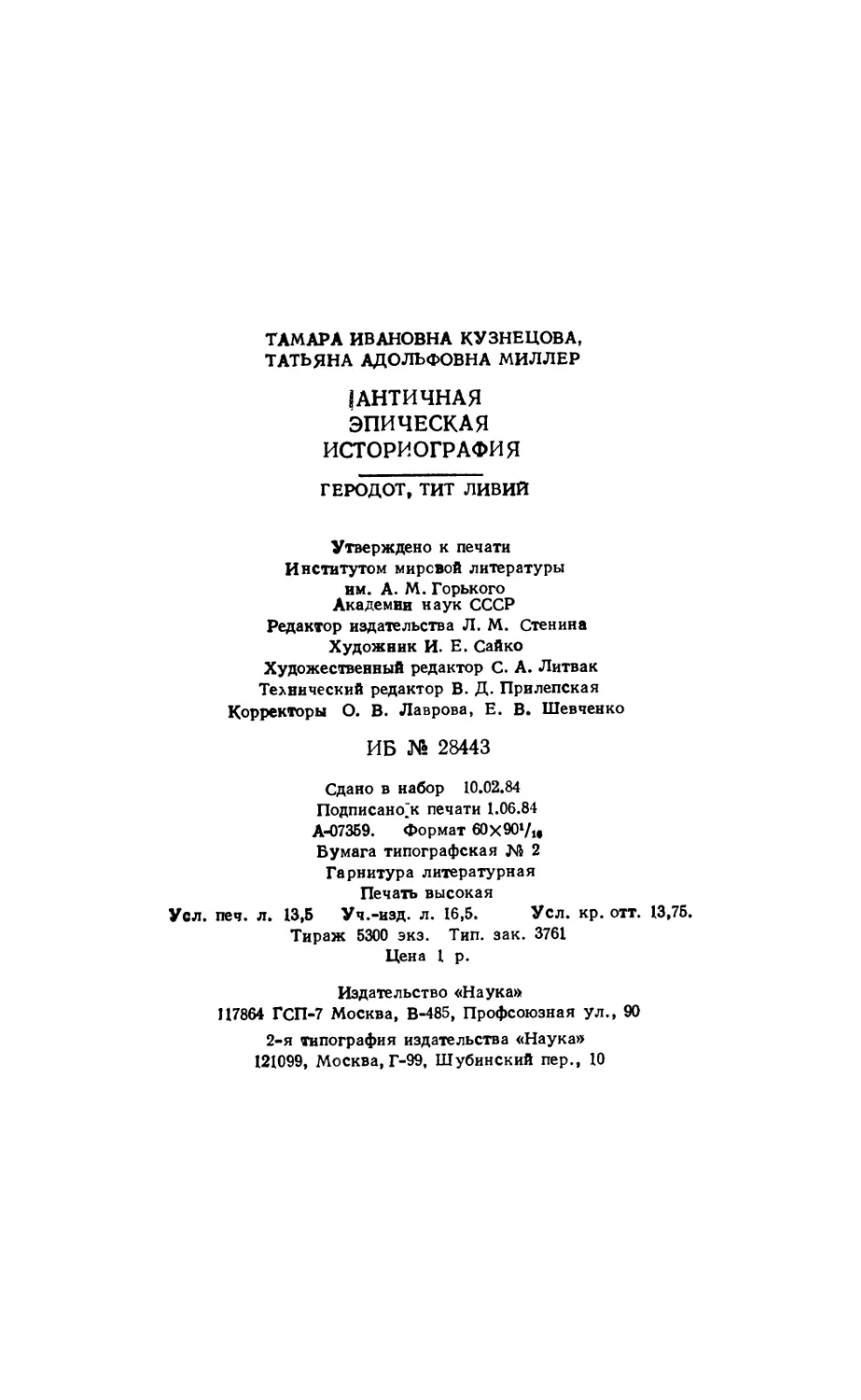Author: Кузнецова Т.И. Миллер Т.А.
Tags: историография история цивилизаций римская литература
Year: 1984
Text
T. И. КУЗНЕЦОВА, ТА МИППЕР
РИ ГР ИЯ
ГЕРОДОТ
ТИТ ЛИВИЙ
АКАДЕ.~!ИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО
~ И. KV3HELLOHA, тA. МИЛПЕГ
АН ИЧНЛЯ
ЭПИЧЕСКАЯ
ИСТОРИОГРАФИЯ
ГЕРОДОТ
ИТ ПИВИЙ
Ответственный редактор
М. Л. ГАСПАРОВ
ИЗДАТЕ ЛЬСТВО (<НАУ
МОСКВА 1984
В монографии исследуется проблема возникновения историо-
графии как первого жанра греческой художественной прозы, про-
слеживается развитие художественной прозы в Греции, где форми-
руются риторические требования к изображению действительности,
и показывается взаимодействие историографии и риторики в рим-
ской литературе.
Книга адресована историкам древности, литературоведам, ис-
торикам культуры и широкому кругу читателей, интересующихся
прошлым европейской цивилизации.
373. 84. I 11.
4603030000 — 235
042(02) — 84
© Издательство «Наука», 1984 г.
ВВЕДЕНИЕ
Современному читателю заглавие «Античная эпическая историогра-
фия» может показаться странным. В наше время история считается
наукой, а эпос — искусством; а у науки и искусства разные методы.
Наука устанавливает факты, выводит закономерности и обращает-
ся к разуму читателя; искусство изображает типическое, ищет не
правды фактов, а правдивости образов и обращается не к уму,
а к чувству читателя и зрителя. Античность тоже понимала эту
разницу: Аристотель в «Поэтике» формулирует ее уже очень похо-
жими понятиями. Однако это не мешало древнему ощущению, что
в основе это одно и то же и что Клио, муза истории,— родная сестра
Каллиопе, музе эпической поэзии. Это проявлялось как в содержа-
нии, так и в форме античной историографии.
В содержании главным было представление об историческом
факте. Устанавливать факты для историка в древности было так
же трудно, как в наше время. Если историк писал о свежих со-
бытиях, перед ним были десятки живых свидетелей, и у всех пока-
зания расходились; если о древних временах, то перед ним были
книги прежних сочинителей, и каждый из них чего-то не знал, что-
то замалчивал, а что-то преувеличивал в зависимости от своих
патриотических и политических пристрастий. Историк выбирал
из них наиболее убедительный вариант, т. е. согласовывавшийся
с его собственным представлением о событиях. Но это не значило,
что остальные варианты отменялись. Они должны были быть упо-
мянуты и объяснены хотя бы как выдумки таких-то и таких-то
заинтересованных лиц. Это было такое же отношение к факту, как
у поэта к мифу. Мифы существовали в разных вариантах: по од-
ним царь Эдип, по свершении своей судьбы, оставался в Фивах,
по другим — уходил в изгнание, и каждый вариант опирался
на какое-нибудь местное предание. Поэт был волен взять для тра-
гедии любой вариант, но должен был вставить намеки, объясняю-
щие существование и других вариантов. По существу, так работал
и историк.
В форме главным было создание впечатления убедительности.
Это достигалось наглядностью в описаниях внешней стороны со-
бытий и обнаженной логичностью в мотивировках внутренней сто-
роны событий. Наглядность выражалась в том, что описания
битв, осад, народных собраний, судебных заседаний и т. д. состав-
лялись из одних и тех же повторяющихся (иногда в очень сходных
словах) элементов, каждый из которых читатель представлял себе
с немногих слов почти автоматически, если не в силу жизненного
опыта, то хотя бы в силу своей начптапшол и. '! & t ~ кнчен ееб
такие элементы описания, чем легче они и~реи~ или~ ь из эпизода
в эпизод, тем это было выгоднее для историк;~. l«i неповторимое
(например, условия местности, определяющие х& t дкажд гос
жения) он старался опускать; нынешним читаплям-историкам
это крайне затрудняет реконструкцию подлинных событий, но
античные читатели этого не спрашивали, им нужна была картина
не достоверная, а убедительная. Логичность мотивировок собы-
тий-обнажалась в речах действующих лиц. Здесь каждый поступок
был представлен осознанным, продуманным и включенным в раз-
вернутую систему ценностей, в конечном счете совпадавшую с той,
которая предполагалась у читателя; и все это — в прямой речи, точ-
ными словами, хотя ни писатель, ни читатель не скрывали, что
документированы эти слова быть не могут. Разумеется, техника
таких исторических речей использовала весь опыт риторики, на-
копившийся от софистических и дософистических времен. Но сама
мысль представить побуждения действующих лиц в виде связной
и уравновешенной прямой речи восходит еще к эпосу, герои кото-
рого в трудные минуты обращаются с речами к собственной душе.
Эпическая формульность описаний, эпическая прямота рассужде-
ний — все это получает развитие в античной историографии.
Конечно, не только опыт эпоса, но и опыт драмы был исполь-
зован художественной историографией. Там, где преобладает
широкий охват событий, больше места было влиянию эпоса; там,
где действие сосредоточивалось в небольшом кругу деятелей,
легче была перекличка с драмой. На одном полюсе при этом ока-
зывались такие произведения, как «История» Флора (II в. н. э.),
где риторический пафос напоминает о поэмах Лукана или Клав-
диана; на другом — такие, как биографии Плутарха, которые не
были задуманы как история, но читались потом как история и
послужили источником для стольких исторических драм. Если
же искать выражения эпической историографии в наиболее чистом
виде, то среди греческих писателей это будет «отец истории» Геро-
дот (V в. до н. э.), а среди римских — Тит Ливий (конец I в. до
н. э. — начало 1 в. н. э.). Они и выбраны героями предлагаемой
монографии.
Геродот был автором истории греко-персидских войн с огромной
предысторией, охватывающей около двух веков жизни Греции и
Ближнего Востока; Тит Ливий был автором истории Рима «от
основания Города» до своего времени. История Геродота осталась,
по-видимому, недописанной; от истории Ливия сохранилась лишь
начальная часть. Они похожи друг на друга широтой взгляда и
спокойствием тона, вбирающими любые подробности и подчиняю-
щими их дальней общей цели. Но они представляют собой две раз-
ные стадии развития античной эпической историографии. Геродот
стоит у ее начала, Ливий подводит ее первые итоги. Геродот соби-
рает источники разрозненные и разнородные, в огромном боль-
шинстве — устные: рассказы современников и участников событий,
сообщения путешественников, воспоминания старожилов; он пер-
вый, кто пытается свести извлеченные из этого факты в единое
целое. Ливий берет материал уже из вторых рук, в его распоря-
жении — целый ряд (не дошедших до нас) исторических сочинений
его предшественников, он следует за ними, перерабатывая их и
гармонизируя. Геродот мерит время событиями: каждый эпизод
его истории выступает перед читателем пластически цельным и
законченным, но даже простая хронологическая соотнесенность
этих эпизодов остается расплывчатой. Ливий мерит событии временем:
он пишет, как летописец, по готовой росписи дат, эпизоды дробятся
по годам, и логическая связность вступает в сложное пересечение
с хронологической. Для Геродота главное — создание широкой
исторической концепции, которая охватила бы и связала всю
пестроту собранных им фактов. Ливий работает с уже готовой и
не новой концепцией исторической судьбы Рима, его призвания,
возвышения, кризиса и возрождения; его забота — оформить кар-
тины и портреты своей истории так, чтобы они лучше иллюстри-
ровали эту концепцию. Соответственно этому две части предла-
гаемой книги построены по-разному: в разделе о Геродоте главное
внимание уделено развертыванию его исторической концепции,
в разделе о Ливии — его художественным приемам. Это не непо-
следовательность, а необходимость, продиктованная материалом.
«История» Геродота переводилась на русский язык несколько
раз, последний перевод был издан в 1972 г. «История» Ливия пол-
ностью была переведена только один раз на рубеже ХХ в. и прак-
тически почти недоступна широкому кругу русских читателей.
Поэтому в разделе о Геродоте авторы считали себя вправе рас-
считывать на предварительное знакомство с сочинением Геродота,
а в разделе о Ливии вынуждены были сообщать больше первона-
чальных сведений, пересказов и цитат. Эти пространные цитаты
должны ближайшим образом дополнять и иллюстрировать анализ
художественной техники Ливия как классика античной эпической
историографии.
ГРЕЧЕСКАЯ
ЭПИЧЕСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА
ГЕРОДОТА
В том наследии, которое мировая культура восприняла от антич-
ной Греции V в. до н. э., рукописная традиция сохранила памят-
ники'уникальной ценности — трагедии Эсхила, Софокла, Еврипи-
да, комедии Аристофана, историческую прозу Геродота и Фуки-
дида, речи ораторов Антифонта и Лисия. Именно с них начинается
наше знакомство с каждым из названных жанров, поскольку они
первые дошли до нас в целостном, не фрагментарном виде. Отсюда
их роль родоначала, смысловой и художественной программы для
последующего развития словесного искусства.
Среди них труд Геродота занимает место, важность и значение
которого едва ли получили уже должное признание. За Геродотом
закрепился титул «отца истории». Эта формула идет от Цицерона
(«О законах», 1, 1, 5) и была высказана римским оратором как ха-
рактеристика стиля писателя («история» в смысле «рассказ»).
B историко-филологической науке XIX — ХХ вв. ее стали пони-
мать как синоним «родоначальника историографии», и анализ твор-
чества Геродота как первого историографа превратился в главную
задачу изучения его текста. На протяжении ста лет она решалась
по-разному в зависимости от того, в чем в тот или иной период
историческая наука находила главный предмет своих занятий.
Интерес ученых XIX — начала XX в. был сосредоточен на соби-
рании фактов, и в это время заслугой первого греческого историка
признавалось обилие сообщаемых им сведений. В 1913 г. Ф. Яко-
би в энциклопедической статье, подводившей итог изучению Геро-
дота наукой XIX в., усматривал основное достоинство отца исто-
рии в том, что он спасал от забвения память об исторических собы-
тиях и произведениях искусства и сохранял ходячее предание
(~«уел ~è Хв~о~~в~к — VII, 152) о прошлом своего народа, а не от-
дельного города. Якоби выдвинул гипотезу о двух стадиях автор-
ской работы историка. По мысли Якоби, Геродот начинал как гео-
граф и этнограф и составил в первый период своих занятий очерки
о различных странах, независимые друг от друга описания (так
называемые логосы), в дальнейшем же, побывав в Афинах и испы-
тав на себе влияние кружка Перикла, Геродот стал историком
в собственном смысле слова: он написал с проафинских позиций
историю греко-персидских войн и подключил к ней собранный ранее
материал.
Начиная с 20-х годов ХХ в. изучение творчества Геродота
получило существенно новую ориентацию. В противовес Якоби,
который расчленял процесс Геродотова творчества на две фазы,
в филологии 20-х и последующих годов преобладающим стал уни-
таристский подход к его тексту как к целому, в котором детали
подчинены общему замыслу. Если Якоби смотрел на Геродота
прежде всего как на историка и политического деятеля, то теперь
филологи увидели в нем мыслителя и художника слава. Вопрос
о том, как создавался труд Геродота, из вопроса о месте и времени
его написания превратился в вопрос об объединяющей его сквозной
идее, о способе ведения рассказа, о его зависимости от предшест-
вующей интеллектуальной и художественной традиции. Первым
фундаментальным исследованием, которое внутри самого текста
искало разгадку вопроса о его возникновении, была не утратившая
и по сей день ценности книга В. Али «Народные сказки, саги и
новеллы у Геродота и его современников» (1921 г.). Али выявил
две свойственные Геродоту манеры рассказывания, или два стиля
повествования: стиль новеллистический, фольклорный с присущими
устному сказу чертами — наглядностью, напряженностью, бессо-
юзием и частыми повторами слов — и стиль ученого исследования,
сухой и сжатый. Характерной чертой, делающей Геродота истори-
ком, Али признал соединение у него фольклорного сказа (логоса ')
с собственным исследованием.
Задав себе вопрос, случайно или нет труд Геродота дошел до
нас как первое произведение эллинской историографии, Али свел
его к вопросу о том, как создалось это сочинение. Представление
о неоднородности текста Геродота Али перенес на сам сюжет
исторического повествования и предположил, что в греческом
фольклоре предание жило вместе с обрамляющей повестью — ком-
позиционный прием, обычный для литератур Востока, — и Геродот,
переняв этот прием, смог объединить описания разных стран:
обрамлснием у него служит история персидской державы, а роль
вставных эпизодов играют отступления о тех народах, с какими
воевали персы.
Выявленная Али основная черта Геродота — способность объе-
динять разрозненные элементы в одно целое — стала главным
объектом изучения в науке о Геродоте конца 20-х и середины
30-х годов. Роль объединителя рассматривалась теперь как при-
знак отца истории, отделяющий его от прочих греческих хронистов
и дающий право признавать историческое мышление у греков.
В связи с этим особый интерес привлекло к себе мировоззрение
Геродота. О том, что в Х!Х в. отмечалось мимоходом как частное
и не главное для понимания Геродота, в 20-е годы начали говорить
как о лейтмотиве и организующем принципе его творчества. Так,
Геродотова религиозность толковалась Якоби в упоминавшейся
выше статье как препятствие, мешающее историку постичь при-
чинность происходящего ', в 20-е годы вней увидели то, что позво-
лило историку уловить определенную взаимосвязь в совокупности
событий и почувствовать круговорот человеческих дел.
Сквозную идею, на которой держится весь труд Геродота, иска-
ли в это время в трех звучащих во вступлении к нему (I, 1 — 5)
мотивах: в мотиве справедливого возмездия (К. Пагель. Значение
этиологического момента для историографии Геродота, 1927 г.),
в мотиве противопоставления эллинов варварам (Эд. Шварц. Исто-
риография и история у греков, 1928 г.), в мотиве круговорота че-
ловеческих дел (Ф. Гелльманн. Геродотов рассказ о Крезе, 1934 г.).
Концепция единого лейтмотива не могла осветить всех сторон
творчества Геродота и вела к явной модернизации, к приписыванию
ему понятий, возникших лишь в новое время. С наибольшей оче-
видностью эта тенденция антиисторизма обнаружила себя в книге
М. Поленца «Геродот» (1937 г.), в которой немецкий филолог воз-
водил к Геродоту идею исконной вражды Востока и Запада и
объявлял эту идею основным принципом, лежащим в основе всей
структуры Геродотова труда.
В последующие годы в науке о Геродоте появилось немало
исследований, освещающих отдельные стороны художественного
мастерства историка. Были опубликованы две советские моногра-
фии — «Геродот» (1947 r.) С. Я. Лурье и «Повествовательный и
научный стиль Геродота» (1957 r.) А. И. Доватура. Каждая из
них по-своему полемична и направлена против антиисторизма
в трактовке Геродотова творчества. Лурье ставит перед собой
задачу воссоздать целостный облик Геродота-историка и для этого,
опираясь на античные свидетельства, восстанавливает его жизнен-
ный путь, способ его работы и его понимание происходящего. Яля
Лурье Геродот — это прежде всего живая личность, принадлежа-
щая своей эпохе, и советский историктщательно показывает, какое
влияние духовной атмосферы своего времени испытал на себе
Геродот: этим влиянием объясняется и религиозность писателя,
и его восхищение Востоком, и даваемая им оценка демократии.
Совершенно иначе рассматривает Геродота автор второго ис-
следования. А. И. Доватур не реконструирует портрет Геродота,
а пристально изучает словесную ткань его труда, и детальный
анализ словоупотребления, стилистических приемов и мотивов
позволяет ученому заглянуть внутрь лаборатории писателя, уви-
деть генезис произведения. Книга советского филолога существен-
ным образом дополняет книгу В. Али и расширяет наше представ-
ление о художественной традиции, воспринятой Геродотом. На-
блюдения над всем текстом и богатый, чаще всего эпиграфический
материал, привлекаемый для сравнения, дают Доватуру возмож-
ность пролить свет на некоторые малоизученные стороны сочинения
и сделать бесспорные выводы о зависимости стиля исторического
повествования от стиля документальной и деловой прозы, о го-
родском происхождении многих новелл у Геродота и об отсутствии
у историка единого принципа объяснения событий.
Не менее радикальное открытие было сделано английским фило-
логом Яж. Майрсом в книге «Геродот — отец истории» (1953 г.).
В расположении крупных эпизодов внутри сочинения и в мелких
описаниях Геродот, по наблюдениям Майрса, придерживается
принципа, общепринятого в классическом искусстве: он распреде-
ляет свой материал так, как это делалось на фронтонах, т. е. чле-
нит экспозицию на три части, помещая в середине главный эпизод,
а до и после него — отрывки, симметрично уравновешивающие
друг друга.
Тенденция рассматривать творчество Геродота в связи с тем
опытом художественного творчества, какой уже был накоплен
эпохой, проявилась и в работах, освещающих его мировоззрение.
Здесь должен быть упомянут труд M. Ланг «Биографические схемы
фольклора и мораль в „Истории" Геродота» (1944 г.). На текстах
греческой поэзии от Гесиода до трагиков в нем прослежен генезис
и развитие того способа изображения человеческой жизни по схеме
«благоденствие, надменность, желание обладать большим, чем
имеется в наличии, надежда, самоуверенность, наказание», кото-
рый используется Геродотом в рассказах о политических деятелях.
Характерное для филологии 20-х годов стремление найти у Ге-
родота единый принцип освещения фактов уступило в послевоенные
годы место другому направлению — стремлению выявить приемы,
которые применяет историк, когда дает обоснование событиям и
человеческим поступкам. Разбор отдельных частей Геродотова
текста с этой точки зрения дан в книге 1О. Кирхберг «Функция
оракула в труде Геродота» (1965 г.), в книге Т. Спата «Мотив двой-
ного освещения у Геродота» (1968 г.), в статьях Г. Иммервера
и др. В книге Г. Ляшено «Мифология, религия и философия исто-
рии у Геродота» (1978 г.) предпринята попытка использовать ана-
лиз композиции некоторых эпизодов «Истории» для лучшего по-
нимания Геродотова отношения к событиям. Обращает на себя
инимание фрагментарность проводимых изысканий: объектом
исследования служат, как правило, либо небольшие куски текста,
лиГ&g ;оперсон жи«Истори » а непроизведе и вцел
Опыты сплошного разбора текста (не его пересказа) еще крайне
редки в филологической литературе, а между тем без такого раз-
бора не может быть раскрыта та целостная картина реальности,
которую рисует Геродот, не может быть понят ни Геродот-историк,
ни Геродот-художник. В зарубежной науке о Геродоте нить его
повествования и связь образующих ее эпизодов наиболее удачно
прослежена в книге Г. Вуда «История Геродота. Анализ формаль-
ной структуры» (1972 г.). Опираясь на наблюдение, что последова-
тельность Геродотова рассказа определяется не хронологией,
а смысловой зависимостью эпизодов друг от друга и что совокуп-
ность фактов не дробится здесь на дискретные моменты, а объеди-
няется в связное целое, Вуд показывает парадейгматический ха-
рактер очерка о Лидии, который играет роль смысловой модели
для последующего рассказа о Персии. Выявляя сходство топики
в разных контекстах, исследователь раскрывает те исторические
параллели, на которых построено повествование Геродота. В со-
ветской классической филологии работы подобного типа отсут-
ствуют '.
В предлагаемом вниманию читателя анализе Геродотова сочи-
нения автор ставит своей задачей хотя бы в малой мере прибли-
зиться к пониманию того, с помощью каких приемов создатель
греческой (а тем самым европейской) художественной прозы сумел
придать перечню фактов единство, наглядность и выразительность,
превратив его тем самым в грандиозную эпопею, и какую оценку
реальности он внес в воссозданную им картину событий. Исследо-
ванию текста предпосылается беглое описание той эпохи, о которой
в нем говорится.
ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ТРУДА ГЕРОДОТА
На протяжении VIII — V вв. до н. э. в Передней Азии утверждали
свое могущество крупные военные монархии, экспансия которых
простиралась на огромные территории от Средиземного моря до
Персидского залива, or долин Нила до гор Малой Азии. Первой
неимоверно возвысившейся державой была Ассирия, которая при
Тиглатпаласаре 111 (745 — 727 гг.) пробилась к Средиземному морю,
подчинив Сирию и Палестину, а при Ашурбанапале (668 — 627 гг.)
властвовала почти на всем Ближнем Востоке. В конце VI I в. на
развалинах Ассирии укрепились два новых политических центра:
Мидия и Вавилон. Мидия покорила северные области — Армению
и Каппадокию. Вавилон в соперничестве с Египтом завоевал все
Двуречье, Сирию, Финикию и Палестину. B середине VI в. на арену
политической борьбы вышло молодое персидское государство.
Его основатель, Кир II, в короткое время (550 — 538 гг.) захватил
Мидию, Армению, Каппадокию, Лидию и Вавилон. Он погиб
в 530 г. во время похода в Среднюю Азию '.
В начале V в. при Дарии 1 Гистаспе в персидскую державу уже
входили не только весь Ближний Восток, но и Хорезм, Бактрия,
Согдиана на северо-востоке и Египет на юге. Под контролем Пер-
сии находились важнейшие торговые пути, связывавшие Азию со
Средиземноморьем. Держава Дария приобрела черты централизо-
ванного государства со сложным бюрократическим аппаратом уп-
равления. B стране были налажены средства сообщения (сеть
дорог) и отработан механизм получения доходов. Вся территория
делилась на десятки сатрапий (областей), которые регулярно пла-
тили царской казне дань. Действовала единая денежная система.
Верховное руководство административной и политической жизнью,
а также войском осуществлялось царем как неограниченным
властителем. Царские указы имели силу закона; в ведении царя
находился огромный штат чиновников; царь возглавлял войско.
Свое величие он осмысливал как исключительное, не имеющее
предела. Дарий 1 именовался в надписях «царем царей», «царем
стран» и ставил себя в прямую связь с универсальным миропоряд-
ком, заявляя: «Эти страны мне достались милостью Аурамазды
(бог света и добра.— Т. М.). Они подчинены мне. Они приносили
мне дань. Что им от меня было сказано, будь это ночью, будь это
днем, они делали» (Бехистунская надпись, 17 — 20) '.
10
Жесткому централизму восточных монархий
форма государственности, развившаяся в эллинском мире H полу-
чившая в науке название полисной '. Эволюция общественных от-
ношений в Греции шла по пути не укрепления, а ослабления цар-
ской власти. )Кизнестойким здесь оказался тип небольшого автар-
кичного целого: община из нескольких сот или тысяч человек
удовлетворяла внутри себя нужды своих членов, ее хозяйство опи-
ралось на земледелие, ее политическая система предполагала неза-
висимость общества в целом и равенство всех свободных граждан.
Раздробленность Греции на множество мелких политических объ-
единений (полисов) определяла собой способ, каким IIQ мере увели-
чения населения и развития ремесла и рыночного обмена удовлет-
ворялись растущие потребности страны в пахотных угодьях, сырье
для ремесленного производства и т. п. Наиболее эффективно изыс-
канию экономических ресурсов в ~111 — Vl вв. (так называемый
иериод архаики) служила колонизация — освоение отдельными
иолисами хлебородных и близких к источникам металла районов
иа негреческих территориях Средиземноморья. 3а эти три столе-
тия, известных как «эпоха великой колонизации», берега Средизем-
и< g ;гоиЧ рного морейпок ылисьс тнями вновьосно анны
и ~1иих» полисов (аиойкий).
l~ Vill и. диижсиие переселенцев приняло первоначально два
иии[ц~илеиия: IIII восток и IIB запад. 13ыходцы из ионийских городов
ЛАплой Азии пытались обосноваться в Киликийской долине около
ТIIl>I' I. 13дел теОро тавозни лопоселе ие«Посейди н»(со
Лльмира), откуда в Грецию переправлялись металлические изде-
лии, слоновая кость и откуда, по всей вероятности, пришел алфа-
иит. Такое распространение эллинского влияния в глубь материка
было решительно пресечено Ассирией, хотя и сохранилась торговля
греков с Ближним Востоком. Меньше препятствий встречало освое-
иие запада. Первая волна эмигрантов потекла туда с о. Евбеи
и малоазийской Эолиды. B VII в. тяга на запад достигла таких раз-
меров, что на Аппенинском и Пиренейском полуостровах и примы-
кающих к ним островах, а также вдоль побережья Лигурийского
моря разместились десятки греческих форпостов. Отдельные гре-
ческие поселения, оказавшиеся недолговечными, возникали даже
иа африканском побережье Атлантики. )Кители Евбеи, Крита,
Родоса и Пелопоннеса, соревнуясь друг с другом в предприимчи-
вости, быстро осваивали берега Южной Италии и Сицилии. Коло-
нии сохраняли культовые и политические связи с метрополиями,
помогая им в войне, и вместе с тем удерживали за собой известную
самостоятельность. Греческие поселения на западе процветали
настолько, что делались сильнее метрополий и сами, в свою оче-
редь, насаждали собственные колонии: Массалия (совр. Марсель),
например, имела три опорных пункта в Лигурии, от италийских
Ким отпочковались четыре дочерних поселения, три колонии на
юго-востоке Сицилии принадлежали Сиракузам.
В том же VI I в. новым объектом экспансии греческих полисов
стали области на севере Балканского полуострова и районы Про-
11
понтиды (совр. Мраморного моря) и Понта Евксинского (совр.
Черного моря). Северные плацдармы обеспечивали товарообмен
со Скифией, поставляли рыбу, зерно, шкуры в Грецию и оберегали
Эгейский бассейн от вторжения северных народов. Причерйоморье
осваивалось преимущественно выходцами из Милета, крупнейшего
эллинского города Малой Азии. Колонизация началась с' проник-
новения в Геллеспонт (совр. Дарданеллы), когда в VII в. в ключе-
вом месте азиатского побережья этого пролива милетяне заселили
Абидос, а несколько севернее — Кизик. В тот же период ими были
организованы центры транзитной переправы товаров (Синопа на
юге Понта), закупок металла (Трапезунт к востоку от Синопы),
снабжения Греции зерном (Ольвия, т. е. «процветающая», основана
в Vl в. на р. Гипанисе при слиянии совр. Бугского и Днепровского
лиманов).
Не менее притягательным, чем север, был для малоазийских
купцов и юг Средиземноморья — Египет. Прерванные как эфиоп-
ским (VI II в.), так и ассирийским (VII в.) завоеваниями контакты
Египта с Грецией возобновились при основателе саисской династии
Псамметихе 1 (665 — 611 гг.), который с помощью греческих наем-
ников добился власти над всем Египтом и открыл в страну доступ
греческим купцам. Первыми прибыли в Египет на тридцати кораб-
лях милетяне и основали поселение в Болбинитском устье Нила,
затем в несколько ином месте — знаменитый торговый порт Навкра-
тис, сохранявший в течение трехсот лет свое значение главного
канала греко-египетской торговли. В том же Vl l в. выходцы
с о. Феры организовали колонию на западе Египта, в плодородных
окрестностях Кирены.
К VI в. морская торговля в бассейне Средиземного моря велась
преимущественно эллинскими силами. Караваны греческих судов
везли в Египет серебро, вино, масло и увозили папирус„, ткани,
изделия из фаянса. Натрий из Египта поступал в северное Причер-
номорье и там использовался для производства стекла. Пшеницей
с полей Скифии питалась Аттика. Мореходцы малоазийской Фокеи
запасались в Иберии оловом и другими металлами'.
4'
Расселение греков по всему бассейну Средиземноморья опреде-
лило характер экономического, социально-политического и духов-
ного развития Эллады. Для сохранения этнического и культурного
единства, для обеспечения себя товарами расширившийся эллин-
ский мир должен был иметь прочные и постоянные средства связи
в самых различных сферах жизни. Транспортные потребности
удовлетворялись судостроением: то один, то другой полис захва-
тывал господство на море. Куплю и продажу облегчало денежное
обращение: с VII в. полисы чеканили монету. Для письменных
контактов уже в VIII в. в ходу был доступный всем буквенный
алфавит, заимствованный у финикийцев, но приспособленный
к фонетике греческого языка. Единению в области культа, а также
музыкального, словесного и спортивного искусства способствовали
регулярные общегреческие празднества, установленные в VIII в.
в Олимпии, а с VI в. поочередно проводившиеся в четырех местах
12
Гре и. Тогда же значение своего рода международного «консуль-
тати ного» центра получило святилище Аполлона в Яель-
фах. ',
С укреплением межполисных связей подрывалась замкнутость
греческого общества и менялось соотношение социальных сил
в нем. Йысокий уровень развития ремесла, торговли, мореходства
имел своим следствием возникновение внутри полисов, прослойки
богачей, доходы которых не зависели от землепользования, и эта
новая система распределения богатства требовала перераспреде-
ления власти и ее модификации. На протяжении VII — VI вв.
и Греции вводилось письменное законодательство, и землевладель-
ческая знать, не без коллизий, утрачивала постепенно свое исклю-
чительное право на занятие выборных административных долж-
ностей, доступ к которым теперь открывался всем полноправным
гражданам полиса. Такая реорганизация системы управления при-
вела к результатам, сыгравшим огромную роль во всей дальнейшей
истории Средиземноморья. Благодаря выборности должностных
лиц в Греции не заняло привилегированного положения ни воен-
ное, ни чиновничье, ни жреческое сословие. Граждане поочередно
:>асед л всу а ине лидру иеобществен ыеповиннос и.
изрослое мужское население получало воинскую подготовку, что
превращало армию в народное ополчение. жрецы назначались по
жребию без посвятительных обрядов и без профессионального обу-
ч& t;п я, ни несозд лирелигиоз ойдогмат к и непредлаг личе
& t;формулирован ыхн рмнравственно ти
Религиозная мысль была слишком слаба, чтобы решить задачу
~&g ;<ре ценкикульт рногонас едия,нем нуемовста авшую
ц&g ;< гскимобщ ство VI I Ђ”Ч вв.,к то ое аэтист летия
и к< > гакт по тисо всемина о амиист анамиСредиземно
II<>:»<; « gt ìèëoñü сихбыто , культурой природным
»»Ilyi~»i гсбн пережило трансформацию политических форм от
уход»щего корнями в общинно-племенной строй господства родовой
:>п ти дора1»и ойрабовладельчес ойдемократ и. ляграж
нина полиса этой эпохи мир представал в гораздо более услож-
ценном и расчлененном виде, чем тем поколениям, самосознание
которых выразило себя в гомеровском эпосе. Современник и со-
участник великой колонизации обладал не только более широким
кругозором, чем его ахейский и дорийский предок, но и ббльшим
опытом взаимодействия с природой и обществом. Он был постоян-
ным свидетелем новшеств вокруг себя. Новые виды ремесленной
продукции заполняли рынки. Нововведениями наполнялась жизнь
всего социального организма. В Аттике на протяжении Vl в.
трижды менялась система правления. В начале века законодатель-
ство Солона отменило долговое рабство и открыло торгово-ремес-
ленной верхушке доступ к высшим должностям. В середине века
власть захватил тиран Писистрат (560 — 527 гг.). При нем укре-
пился регулярный товарообмен с Причерноморьем и развернулось
строительство величественных зданий в самих Афинах. В конце
VI в. тирания детей Писистрата была свергнута (510 г.), и в ско-
l3
ром времени реформы Клнсфена сведала гарантии против нарытое
восстановления тирании .
Стихия новшеств была всеобъемлющей: разрыв со старым на-
ступал не только в утилитарной сфере жизни, но и в облас~1«куль-
туры. Возникали новые формы художественного творчест, новые
способы осмысливания мира. И подобно тому как новый, ип прав-
ления не только порывал с традицией, но и использовал некоторые
ее элементы, культура, выращенная временем велике&g ;йколони
ции, явила себя не только соперницей, но и наследницей ценностей,
созданных до нее. I( этим ценностям должны быть прежде всего
отнесены: объяснение принципов мироустройства, умение анали-
зировать поступки человека, накопленный запас знаний об окру-
жающей человека действительности, разработанная техника худо-
жественной выразительности.
Существенно новыми стали в это время сами формы осмыслива-
ния мира. Если в эпосе жизнь человека, устройство космоса и
окружающая человека реальность освещались в рамках общего
мифологического сюжета и при помощи одних и тех же средств и
способов выражения, то теперь толкование и изучение этих аспек-
тов действительности стало делом обособленных видов знания и
искусства. Расчленение объектов мировосприятия было одновре-
менным появлением и нового принципа объяснения мира и новых
с.><о&l ;>сс ь&l ;хприемо ляр згов раонем. Сутьнов
л«< ' gt;иши осшемин е есекобыде ному:орие тиромтвор
<'ги. < > II lt;т lt; gt;,по лсжит и об чно жизни, ат
II& t;п &l ;ити <>т <к & t;><и«с тсисрьвп всед
l«>д> lt ,« lt;> lt;<, I<>I& t;Ill &l ;», «& t;с & t;дос
ской ><у& t;>ь1 р<ирии г<> и;<:&g ;ьиипь«ду
i'И1! М Ч ~Д4)М~.
II »<»> рсм> lt;р дилал о~м поэзия — ирика Эп
Jl<&g ;&l ; gt;&l ;.>«&g ;и gt;<»«, лиричс кийпоэт а ля
II& t;т lt;и lt;>(& t;>р а<ры< >а и т мноевосп
о<>ъ& t;«><& t;<л ч ловечес иесуд бы. элегия
попытка понять жизнь человека как обусловленную внутренними
причинами, истолковать события жизни как результат побуждений
человека. Точкой отталкивания для афинского законодателя-поэта
служило знакомое уже эпосу представление о действующем в мире
правопорядке («дикэ» — обычае, справедливости), в силу которого
преступление компенсируется наказанием. Мифология изображала
Яикэ дочерью Зевса, которая устрояет жизнь людей в коллективе.
Солон внес в общепризнанную концепцию возмездия мотив личной
ответственности человека. Он построил схему человеческой жизни
в двух ее вариантах: благополучном и неблагополучном. В центре
схемы стоит зажиточность (о~~о:): «деньги хочу я иметь» (фр. 1,
7). Но ценно не само богатство, а источники его приобретения.
Богатство, полученное справедливым путем, не покидает человека
(фр. I, 1 — 10), но если оно добыто бесчинством (<& t;<р'& t >)pc&
ми делами (~«xocz «рт<< са lt; ,то егожд тгибел Й~&g
(««z) Зевса настигает человека, а если не его, то его потомков
(ф~&g ; 1 Ђ” 2) Ђ”так вамор льСоло а Всти ахСол намр
ным~ асками показаны современные ему Афины: неправый разум
(>.&l ;> ~soоо )вожд йнар дагуби велик йг ро ,онинес
~<~ до(хо о; ), нипопир ютса ыеосн выДи э,кото аямо
и~'с види и со временем за все воздаст (фр. III, 5 — 16). В жалобах
<:ол н нбесчинс вадемаго овзвуч ло тотребова иеме ы,р
новесия, врздержания от излишеств, которое в виде формулы
«ничего сверх меры» (~~йч апач) было высечено на стене дельфий-
л< госвятили а. но жеб лополож н восн вунов й,демифо
гизированной, интерпретации мирового целого ".
Не отвергая полностью языка мифологии, мыслители VI в.
меняли сам принцип рассматривания космоса: там, где мифология
иидела произвол богов, они стремились раскрыть связь причин и
следствий и выявить рационально познаваемый источник всего
сущего '. Так возникала греческая философия, и первая попытка
установить взаимозависимость явлений природы была выражена
и понятиях компенсации. Наше знакомство с греческой наукой
начинается с фразы Анаксимандра (фр. 1), в которой представле-
ние о возмездии за несправедливость перенесено с человеческой
жизни на космос: разрушение существующих вещей, по утвержде-
нию Анаксимандра, приходит из того же источника, что и возник-
новение, и время заставляет их расплачиваться за их несправед-
ливость '. Принцип равновесия, симметрии, или круговорота ве-
щей служил отправной точкой при построении первых рационали-
стических моделей космоса: Анаксимандр учил о периодическом
ншвращении мира к своему исходному началу, Гераклит — о гар-
монии противоположностей. Лирики и философы VI в. загляды-
вали в глубины человека и природы, как никто до них. Не менее
радикальным и значительным было и третье новшество эпохи ду-
ховного скачка — использование письменной прозы в качестве
навыка мифографии, географии, историографии.
Сочинения в прозе с таким содержанием впервые стали состав-
ляться в Ионин, и их цель была сугубо практической: запись уст-
ных рассказов и фиксация реалий окружающей действительности.
Авторов, работавших в этом жанре, принято называть логографами"
(от греч. «логов& t; Ђ”расска ). От ихпроизведе ийдо лиотрыв
позволяющие судить о материале, тематике и стиле подобного рода
литературы. Логографы черпали сведения в письменных и устных
ил оч никах. Устными служили новеллы городского фольклора,
эпические предания и мифы о богах и героях, письменными—
погодные списки должностных лиц и победителей на играх, а также
описания путешествий на суше (периоды) и на море (периплы),
которые велись для нужд торговли и мореплавания. На их основе
логографы создавали труды более крупные по объему и более ши-
рокие по кругозору: рассказы разного происхождения объединя-
лись в них вокруг общей темы, будь то народ, страна, город или
генеалогия знатных родов.
Так, Кадму (VI в.) приписывалось сочинение «Об основании
Милета и всей Ионин», Гекатею (VI в.) принадлежали «Генеалогии»
и «Объезд земли», Акусилаю (VI — Ч вв.) — «Генгллогии» рону
(VI — Ч вв.) — «Персидские дела» и «Летопись Лампсака» анфу
(V в.) — «Лидийские дела». Если лирики и философы i овому
показывали человека и космос, то логографы заново вос давали
картину прошлого и той эмпирической действительности (географии
и этнографии), с которой соприкасались их современник . Отличи-
тельной чертой их писательского метода была фактогр ичность—
стремление снабдить читателя точными и достоверны и данными,
и этим определялся их способ обращения с материалом: механиче-
ское объединение вокруг одной темы разрозненных рассказов без
попыток их синтеза и без раскрытия внутренних связей между ними.
За этим направлением словесного и интеллектуального творчества,
впервые дававшего рационалистическую трактовку реальности, за-
крепилось название 1~тор1и (историа). Этот термин" не тождествен
современному слову «история», хотя и служит его родоначалом.
Ьтор1и происходит от корня Fid — «видеть» и этимологически
означает свидетельство очевидца, изыскание истины опытным путем.
Знакомство с поверхностью земли, с ее ландшафтом, очерта-
ниями и населенными объектами рождало потребность в системати-
зации накопленных знаний. И эта задача была выполнена двумя
путями: гражданин Милета философ Анаксимандр составил пер-
вую карту земли, а влиятельный политический деятель того же
Милета логограф Гекатей в своем «Объезде земли» (IIsp~jyqa~z yq=)
дал географическое описание трех различавшихся тогда частей
света — Европы, Азии, Ливии (под Ливией понималась Африка
западнее Нила). В сохранившихся фрагментах этого труда содер-
жатся указания на местонахождение стран, городов, рек и т. д.
Например: «Катанны — народ у Каспийского моря» (фр. 169);
«Кири — остров к северу от Япигии» (фр. 26); «Истры — народ
в Ионийском заливе» (фр. 59); «Лакмон — вершина горы Пинда,
с которой стекают реки Инах и Аянт» (фр. 70); «Фокида — страна
вокруг Парнаса» (фр. 84); «Сиракузы — самый большой город Си-
цилии» (фр. 45).
При географических названиях встречаются пояснения. Это
могут быть ссылки на мифы, на предысторию названий, как, на-
пример, в следующем фрагменте: «Мотня — город в Сицилии, по
имени женщины Матин, которая указала Гераклу на тех, кто угнал
его быков» (фр. 47). И это могут быть наблюдения над обычаями
жителей. Так, про египтян говорится, что они для питья размалы-
вают ячмень (фр. 29), а про жителей г. Иопы — что их одежда
схожа с пафлагонской (фр. 189) ".
Интерес логографов был направлен также на прошлое, которое
помогало объяснять современную им действительность — проис-
хождение знатных родов и целых государств и взаимные отношения
народов. Отправной точкой для реконструкции прошлого служили
мифы и эпос. Так, Акусилай перелагал «Теогонию» Гесиода,
а Гекатей в «Генеалогиях» — мифы о потомках Девкалиона. Про-
заическая запись традиционных преданий была при этом не толь-
ко их пересказом, но и их критикой — отбором и переосмыслива-
l6
кием~Так, свои «Генеалогии» Гекатей начинал декларативным заяв-
ление «Так говорит Гекатей из Милета: я пишу об этом, как мне
кажетс & t;истин о,пот му торасск зыэлли овмногочисле н
смешны»,(фр. 332). Недоверие вызывало чудесное, неправдоподоб-
ное, и, ч'лбы привести миф в согласие со здравым смыслом, лого-
графы толковали невероятное как иносказание. Тот же Гекатей,
рассказываф о подвигах Геракла, утверждал, что под псом Аида
подразумевается змея, от укусов которой люди умирали (фр. 346).
Послегекатеевским поколением логографов (их творчество про-
текало уже в V' в.) были созданы крупные произведения, объединя-
ющие рассказы о прошлом целых стран. Харон составил описание
Персии («Персик໠— дела персидские), Ксанф — описание Лидии
(«Лидиак໠— дела лидийские). Сочинения логографов сохраняли
особенности стиля их источников: словоупотребление эпоса, су-
хость языка деловой прозы и одновременно черты синтаксиса уст-
ной речи с его бессоюзием, простотой синтаксических конструкций
и частыми повторами одних и тех же слов. От фольклора к лого-
графам перешла любовь к наглядному, занимательному, из ряда
вон выходящему. Ксанф, например, упоминал про то, как лидий-
ский царь Камблет, страшный обжора, ночью съел свою жену,
а наутро, обнаружив во рту руку жены, покончил с собой (фр. 12)
Харон сообщал, что догадливый полководец заставил плясать кон-
ницу противника и тем выиграл бой (фр. 9).
Обобщающую характеристику метода работы этих первых ионий-
ских прозаиков мы находим у литературного критика 1 в. до н. э.
дионисия Галикарнасского: «Одни из них записывали греческие,
другие — варварские рассказы, не связывая их между собой, но
располагая по народам и городам и излагая отдельно один отдру-
гого. Преследовали они одну и ту же цель: сделать общеизвестными
все воспоминания, какие только сохранились у местных жителей
и были рассеяны по народам и городам, именно лежавшие в хра-
мах и других общественных зданиях записи в том самом виде,
в каком находили их, ничего к ним не прибавляя и ничего не убав-
ляя; в том числе были и некоторые мифы, пользовавшиеся дове-
рием благодаря своей древности, а также рассказы о патетических
происшествиях (оеоирс .ас ~счв~ у~врюйжас), кажущиеся слишком
наивными людям нашего времени» («О Фукидиде», 5; пер
С. Я. Лурье).
Эпоха великой колонизации VIII — Ч1 вв., когда полисы мало-
азийской и балканской Греции интенсивно расширяли. сферы своего
влияния, сменилась в V в. временем катастрофических столкнове-
ний с персидским царством, временем борьбы за независимост~ и
господство в Эгейском бассейне. Уже в первом десятилетии V в.
персы подвергли жестокому разорению Ионию, до основания раз-
рушив Милет, и предприняли два неудачных похода в материковую
Грецию. о 480 г. третье вторжение на Банаениж веаспавил сан
персидский царь, и в течение двух летжеитлнануетоаааи-Ъвауост-
ров и дважды захватывали Афины, однако не добились капжуля-
ции эллинских полисов, и два сраж~ция — Йф море 1~рн Салайнине
17
(480 г.) и на суше при Платеях (479 г.) — решили дал йший
исход борьбы в пользу греков. Греко-персидские войны несли
непоправимый урон восточным окраинам эллинского мир
собствовали возвышению Афин — нового центра поли с
экономической и духовной жизни Греции.
Афиняне одержали первую победу над персами при'Марафоне
(490 г.), и они же были инициаторами выигранной греками битвы
при Саламине. В целях антиперсидской обороны Афины возглави-
ли морской союз (477 г.), в который вошло около ста'полисов Эгей-
ского бассейна, и, распоряжаясь денежными взносами союзников,
содержали самый большой флот в Греции. В самих Афинах в 462 г.
реформой Эфиальта у знати были отняты ее политические привиле-
гии, и верховная власть в государстве была отдана народному со-
бранию. Эти особенности исторических условий афинской жизни
V в. — смена ситуаций смертельной опасности и торжествующей
победы, открытость города для международных контактов и уча-
стие всех его членов в несении общественных повинностей — опре-
делили собой те новые черты, какие приобрела эллинская культура
на аттической почве в этот период. Главная из них — создание
монументальных произведений искусства, обращенных к широкой
публике и отвечающих интересам всего полисного коллектива ".
Оратор в народном собрании и драматург в театре вели теперь
разговор с тысячами сограждан. Оратор ставил слушателей перед
необходимостью выбора и принятия решений, и его речь должна
была быть понятной и убедительной, чтобы заслужить поддержку
членов народного собрания. В практике красноречия вырабатыва-
-лис~ методы воздействия на интеллект и слух человека — особые
приемы логической аргументации и расстановки слов. Борьба
.мнений направляла политику государства, и политические деятели
изощрялись в подборе доводов за выдвигаемые предложения или
же против них, в умении давать противоположные оценки одной и
той же ситуации. Этот новый опыт полисной жизни, опыт стреми-
тельных перемен, упадка и возрождения, опыт управления общест-
ao~t и участия различных государств в общем деле способствовал
рождению и расцвету на афинской почве таких форм словесного
искусства, как драматургия и историческое повествование, в ко-
торых. факты современности и факты прошлого (сюда относятся и
мифы) были рассмотрены и оценены новыми глазами, с новых точек
зрения.
Трагедия изображала человека в страдании, в крушении вели-
чия и непрочности счастья, в конфликте с самим собой, в подчи-
ненности неминуемой доле и закону справедливого возмездия и
одновременно в свободном выборе своего поведения. Трагедия
искала объяснения человеческим судьбам и показывала неудовлет-
ворительность однозначных решений. В фокусе ее внимания стоял
н'.ожиданный, но вместе с тем и неслучайный перелом в судьбе
героя от счастья к несчастью и его личная ответственность за про-
исходящее с ним. На сцене афинского театра находили свой отклик
ужасы греко-персидских войн ". Вскоре после событий 494 г.
спо-
KOH
18
Фри х ставил трагедию «Взятие Милета», а в 476 г. он же напо-
мина о разгроме„"врага при Саламине в своих «Финикиянках»
(ии одй из его пьес не дошла до нас). Саламину же посвящена и
сохрани шаяся трагедия Эсхила «Персы» (472 г.), в которой дей-
ствие разыгрывается в Сузах и победа эллинов показана глазами
персов. Зритель видел жителей персидской столицы, охваченных
страхом и тревогой, узнавал о том, как шел бой у Саламина, слы-
шал суд, произнесенный над Ксерксом тенью его отца авария:
Ксеркс, перекинув мост через Геллеспонт, нарушил существующий
порядок в при оде и за это терпит кару Зевса. Однако тема совре-
менности не у оренилась в греческой трагедии и сюжеты, как
правило, брались в ней из мифов и эпических сказаний.
Осмысливание исторического опыта эпохи не в отдельных ее
эпизодах, а в совокупности многообразных фактов стало делом не
поэтов, а логографа, собирателя достоверных преданий. Младший
современник великих трагиков, уроженец малоазийского Галикар-
пасса, объехавший многие страны и накопивший о них массу све-
дсний письменных, устных, зрительных, Геродот был тем челове-
ком, который превратил ионийскую ~аторЪ'(собирание опытных
данных) в историческое повествование, объединяющее детали
в одно целое и раскрывающее связь между событиями.
Нам очень мало известно о событиях жизни этого историка.
Самые ранние сведения о его биографии мы находим у дионисия
Галикарнасского, который пишет следующее: «Геродот Галикар-
нассец родился незадолго до Персидских войн и прожил до Пело-
поннесской войны. Содержание его книги обширно и блестяще. Его
цель состояла не в том, чтобы написать историю какого-нибудь од-
ного города или племени; он хочет в одном сочинении описать мно-
гочисленные и разнообразные события из жизни Европы и Азии»
(«О Фукидиде», 5). Больше подробностей содержит статья о Геродо-
те в византийском словаре Суды, где о нем говорится так: «Геродот—
сын Ликса и Дрио, галикарнассец знатного происхождения, имел
брата Феодора. Из-за Лигдамида, третьего галикарнасского тирана
после Артемисии, Геродот переселился в Самос (сыном Артемисии
был Пасинделид, а сыном Пасинделида — Лигдамид). На Самосе
он научился ионийскому наречию и написал историю в девяти
книгах, которая начинается правлением Кира, персидского царя,
и Кандавла, лидийского царя. Он вернулся в Галикарнасс из из-
гнания и сам изгнал тирана, но, когда он после этого увидел, что
сограждане его ненавидят, он добровольно отправился в Фурии,
в колонию, основанную афинянами. Там он и скончался и похо-
ронен на агоре. Некоторые же утверждают, что он скончался в Пелле
(в Македонии). Его сочинение имеет название «Музы» ".
Яаты жизни Геродота точно неизвестны. Как предполагает
филологическая критика, он родился в 484 г. и около десяти лет
(455 — 447 гг.) путешествовал по странам, с которыми греки вели
торговлю, побывал в городах на Геллеспонте, в Скифии, Малой
Азии, Вавилоне, Сирии, Финикии, Египте, ознакомился также.
с Балканской Грецией и какое-то время жил в Дельфах. Геродот ие
19
знал языков, кроме греческого, и проникал лишь туда, где Находи-
лись греческие фактории, однако, если его интересы и были связа-
ны с торговлей, они не ограничивались только ею. С при альным
любопытством он собирал сведения о природных условия тех мест,
которые он посещал, об обычаях, образе жизни и исто и различ-
ных народов, вел наблюдения лично, расспрашива очевидцев,
выслушивал рассказы. Период странствий, насколь~о мы можем
реконструировать биографию Геродота, закончился его посещением
Афин. Сочинение Геродота свидетельствует о его хорошем знании
Афин и Аттики, а комедии Аристофана («Ахарняне», ст. 82 и сл.,
< т. 6 ис . итраге ииСофо ла(«Антигон », т. 0 ис .,«Э
в Колоне», ст. 337) — о том, что афиняне хорошо знали и помнили
Геродотов труд. Естественно допустить, что Геродот останавливался
в Афинах на несколько лет, читал там отдельные части своего труда
и сблизился с кружком Перикла. Последние годы его жизни про-
текали в Фуриях, общеэллинской колонии на юге Италии, которая
была основана в 444 — 443 гг. по инициативе Перикла. Умер Геродот
между 430 и 424 г. "
Из сочинений Геродота сохранилось произведение, текст кото-
рого в рукописях разделен на 9 книг и каждая книга обозначена
именем одной из муз. Ни название «Музы», ни деление на книжки не
принадлежат самому автору и восходят к эпохе поздней антично-
сти ". Неоднородность состава Геродотова сочинения бросается
в глаза: первая его половина заполнена очерками об отдельных
странах (Лидия, Персия, Вавилония, Египет, Скифия и другие,
более мелкие), вторая излагает ход греко-персидских войн. Очерки
о странах построены по однотипному плану и включают в себя рас-
сказ о прошлом народа, о природных условиях местности, об обы-
чаях, нравах и образе жизни населения и о диковинках страны. Мы
не имеем достоверных данных о том, где; когда и как Геродот рабо-
тал над своим материалом, и главным источником для решения
вопроса о предыстории ero труда служит сам текст.
Сходство общей схемы, лежащей в основе Геродотовых очерков,
заставляет думать, что историк следовал сложившемуся трафарету
географических и этнографических описаний. Яействительно, на-
сколько позволяют судить фрагменты, уже в Гекатеевом «Объезде»
материал группировался, по-видимому, по рубрикам: «природные
условия», «обычаи», «диковинки». Геродот продолжил эту традицию,
Но подключил к названным рубрикам еще одну — рассказ об исто-
рических событиях; тем самым сделав форму своего изложения
более емкой, объединяющей рассказы о любопытных происшест-
виях с перечнем этнографических и географических особенностей
страны ". Создание крупных единств, в которых приводились пол-
ные сведения об отдельных странах, было, по всей вероятности,
первой ступенью Геродотовой работы с материалом. Такие единства
принято называть логосами: мы говорим о египетском, вавилонском,
скифском и других логосах у Геродота. Историк включил в них
с~едения, полученные путем наблюдений и расспросов, а также
тексты Гекатея и других логографов, данные, почерпнутые у поэтов
20
4
и из зного ода источников — о ициальных док ментов типа
погод х списков должностных лиц, победителей на общегреческих
играх, о акульских изречений и т. п." Сюда же присоединялись
критичес е замечания и рассуждения самого Геродота.
Из со купности самостоятельных логосов Геродот создал
единое повествование, и в этом состояла вторая фаза его работы.
I>àçäðoáëåíí ôåлог сы онсвя ални ьюнепрерывающег сяр
сказа о походах персидских царей: сочинение открывается лидий-
ским логосом, в котором факты истории изложены в порядке
правления лидийских царей от Гигеса (VII в.), основателя дина-
<' иимермнад в, доКре а, рикото омЛи ияб лапокор на
ром (546 г.); к рассказу о завоевании Лидии персами присоединен
рассказ о Персии, и изложение персидских событий ведется здесь
ио тому же генеалогическому принципу, что и в очерке о Лидии,
и доведено до современного Геродоту Ксеркса; в повествование
и Персии включены логосы о странах, с которыми персы воевали,
и рассказы поданы в той последовательности, в какой персы сталки-
вались с народами этих стран, так что логосы об отдельных странах
превращены в часть рассказа о походах персидских царей, и
к этому гигантскому повествованию о Персии органически примы-
кает описание греко-персидских войн, полностью, однако, не за-
иершенное. Обзор событий прерван на эпизоде взятия афннянами
г. Сеста в 478 г. (греко-персидские войны длились до 449 г.), и
1>ослед яягл ва«Истор и»но итхарак ерпояснитель ойзамет
» не итогового заключения, что заставляет считать труд Геродота
недописанным и недоработанным до конца. О двухступенчатости
рождения «Муз» позволяют думать и те авторские ремарки, которы-
ми скрепляются части целого, и та несогласованность отдельных
мест в тексте, которая говорит о некогда изолированном существо-
вании логосов. Анализ последовательности текста должен раскрыть
перед нами секрет отца истории — новаторство его метода — уме-
ние подчинять части целому и сущность той интерпретации событий,
которая внесена нм в рассказ.
ТВОРЧЕСТВО ГЕРОДОТА
КОМПОЗИЦИЯ «ИСТОРИИ» ГЕРОДОТА
«Истории» Геродота предпослано вступление, в котором указаны
имя автора, цель труда, привлекаемый материал и принцип его
отбора. «Вот исследование, которое провел Геродот Галикарнас-
ский, — такими словами начинается разговор с читателем, — что-
Г&g ;ы товрем ни незабыл сь о, тоб л слюдь и,чт бывели
и дивные дела, свершенные эллинами и варварами, не остались
безвестными, между прочим, и то, по чьей вине они стали воевать
друг против друга» (&g ;, ).Ср дифилоло ов до нх ор етедино
шия в понимании этой первой фразы, которая допускает разные
варианты перевода: греч. «р~а — это и «дела» (подвиги, деяния)
и «изделня» (сооруження), греч. Bi'ò&g ;»ah qv Ђ” т и поч
21
вине» и «по какой причине» '. Однако неясность точного значения
слов не мешает уловить основную мысль автора: подобно ическо-
му певцу, писатель обещает вести речь о прошлом эллина и варва-
ров, не противопоставляя, а объединяя их друг с др гом. Яей-
ствительно, весь дальнейший рассказ его, как эпиче кая поэма,
повествует о событиях, сменяющих друг друга во времени. Вместе
с тем круг интересов Геродота отличен от эпоса, и о своем расхож-
дении с традицией он говорит тут же во вступлении (I, 1 — 5),
оправдывая и объясняя зачин, который им выбран.
Поставив перед собой задачу сохранить память о прошлом,
Геродот поднимает вопрос о хронологической границе этого прошло-
го или о том историческом периоде, с которого должен начинаться
рассказ, и в качестве отправной точки воссоздаваемого действия
полагает ту первую обиду или несправедливость, которая породила
вражду эллинов и варваров. Сразу же после вышеприведенной
фразы Геродот излагает мнения сведущих персов и финикийцев
о том, кто первый нанес обиду другой стороне. Эти мнения опи-
раются на мифологические источники и относят первый акт не-
справедливости к незапамятным временам. Под несправедливостью
в них 'понимается тайный увоз женщин в чужую землю: финикийцы
увезли Ио из греческого Аргоса, греки — Европу из финикийского
Тира и Медею из колхиды, Парис — Елену из Спарты. Геродот
ссылается на эти хорошо знакомые его современникам предания
(I, 1 — 3) не для того, чтобы согласиться с ними и вокруг них сосре-
доточить свое собственное исследование. Они нужны ему как кон-
трастный фон, оттеняющий его личный взгляд на вещи.
Упоминая версии заведомо негреческие, Геродот показывает,
для каких упреков дает повод традиционное понимание первой оби-
ды как умыкания женщин: оно позволяет варварам считать элли-
нов зачинщиками вражды и отрицать свою виновность. Вот как
воспроизводит Геродот точку зрения персов: «Похцщать женщин,
считают они,— дело людей неправых, стремиться мстить за похи-
щенных — дело безумцев, не обращать внимания на похищенных—
благоразумно. Ясно ведь, что не пожелай они того сами, их бы не
похитили. 1~огда из Азии умыкают женщин, то персы, по их соб-
ственному свидетельству, ни слова не говорят, эллины же из-за
лакедемонянки снарядили великий поход, вступили в Азию и раз-
рушили державу Приама. С тех пор, думают персы, эллины им
всегда враждебны» (1, 4). Геродот обращает внимание не только на
несостоятельность того нравственного критерия, который лежит
в основе мифологической концепции первовины, но и на недосто-
верность фактов: историю Ио, увезенной из Аргоса, финикийцы,
по его словам, рассказывают иначе, чем персы (1, 5).
Этим традиционным точкам зрения Геродот противопоставил
свою оценку фактов, по-новому истолковав саму виновность: ви-
новат не тот, кто первый оскорбил женщину, а тот, кто нанес ущерб
свободе эллинов: «Вот так рассказывают персы и финикийцы,—
пишет Геродот,— я же (в~й й) не стану говорить, было ли это
так или иначе, но укажу на того, про кого сам знаю (~ov Ы oi6a.
22
т<& t;; , тоон ервый началнеправыеде ствияпротивэл и ов,
1>&l ; 1дукдальн йшемурас ка у,нео ус аяниве ик х,ни
& t;<& t;ро ов,1~д еликие рошломвбо ьшинс весвоемпре
» малые, а те, что в мое время велики, прежде были малыми. На-
ученный тому, что человеческое счастье не бывает неизменным, буду
одинаково упоминать о тех и о других» (1, 5). Ответственность за
,»с1> уюнанесен уюоб дуГеро отвозло ил налидийск гоц
К1> за Ђ”личнос ь,хор шознако уюгре а Ч в. по емКрезо
дарам, которые можно было видеть в гвельфах, по намекам у поэ-
> о и порасска а ос мимудре ах '.Геро отпредста илКр
читателю как первого правителя, при котором греки стали под-
»ергаться не спорадическим набегам и грабежам, а систематиче-
~ кому обложению налогом.
Отвергнутая Геродотом интерпретация первовины несла в себе
идею кровнои мести и возводила истоки взаимной вражды к троян-
& t;к мупохо у,прида ая емса ымэ ойвра денаследствен
>«>р ктер. Новая точкаот чета,па аю аянацарств вание
делала период антагонизма значительно более коротким, обозримым
» обусловленным политическими причинами. Она снимала вину
<>ерв о идыс р ковивоз аг ла еенапра ителя идии.
п<& t;ние имени Крезапос ужи одляГе одотаза язко всей
.»> ии горасска а.«Кр з,лид ецрод м, ылсы омАлиа т
властителем народов по эту сторону Галиса... Крез, этот первый
из варваров, насколько мы знаем, одних из эллинов принудил
к дани, других побудил к союзу с ним... До власти Креза все эллины
были свободны. Ведь нашествие киммерийцев на Ионию еще преж-
де Креза было не подчинением городов, а набегом-ограблением
(l, 6)», — такими словами начиналось авторское повествование, и на-
мечались два центра тяжести воссоздаваемой картины: тема исто-
рии отдельных народов и тема греко-варварских конфликтов.
В отличие от эпоса новая реконструкция прошлого охватывала
период, сравнительно близкий автору, и опиралась на опыт появив-
шихся в Ч[ — V вв. прозаических сказов (логосов) о различных
странах (см. выше, с. 15--17). Повторяя топику сказов, Геродот
группировал материал в законченные единства по территориально-
му признаку и внутри таких единств описывал природные условия
местности, ее достопримечательности, нравы и обычаи народов,
военные походы, случаи из жизни царей и частных лиц. Концепция
первообиды как акта агрессии дала возможность объединить вместе
несколько таких логосов и сделать их составными частями одного
действия, одного события. Прием, позволивший писателю создать
столь сложную структуру, сводился к умению включать одно и
то же событие в два контекста и тем самым освещать его на пересече-
нии двух сюжетных линий. Этот метод применен уже в цитированной
нами фразе, где подчинение греков рассмотрено и как факт биогра-
фии Креза, и как этап в истории греко-варварских контактов. Ком-
позиционную технику, которую использует тут Геродот, можно
назвать «иллюстративной»: она состоит в том, что характеристика
.предмета дается путем показывания «вот он кто, вот что он сделал,
23
BOT что с ним было», т. е. в форме ответа на вопросы «кто pH:'òàêoB?»,
«как это случилось?»
/
Подобного рода ответ мог разрастаться в самостоятельный эпи-
зод, участники которого и сами получали аналогичную развернутую
характеристику, так что иллюстрация исходного объекта не знала
логического предела для обрастания дополнительными подробно-
cтями по схеме: А — это тот, кто оказал влияние на Б, а Б—
это тот, кто был знаком с В, а  — это тот, кому помогал Г, и т. д.
В этой схеме объекты Б, В, Г играют роль зависимых друг от дру-
га составных частей в характеристике объекта А, и они же суть
центры обособленных эпизодов. Эти эпизоды в каких-то своих
отрезках могут накладываться друг на друга, т. е. включать в себя
одних и тех же действующих лиц. Так, например, в приведенной
схеме эпизод Б имеет соприкосновение и с А и с В.
В тексте Геродота такой способ сочленения фактов подчеркивает-
ся словами-указками: «вот этот», «он, который», «вот так», «вот что»
и т. п. (ouzo&l ;,Ыч lt;« ot< < д>& t;и,& t а6в ои~
~рименение придает писательской манере две особенности:
автор подводит единичные детали к общему знаменателю и постоян-
но прерывает нить основного рассказа побочными вставками, тем
cBMbIM наполняя его изолированными зарисовками и сохраняя при
этом целостность изображения. Посредством такого метода Геродо-
ту удалось объединить собранные им сведения более чем о двадцати
греческих и негреческих племенах и народах. Опираясь на тради-
ционную форму логоса — замкнутого тематического единства,
и~~орик составил свое произведение по иерархическому принципу:
мелкие данные входят в нем в более крупный раздел, тот в свою
очередь — в еще более крупный логос, так что сочинение в целом
охватывает собой все множество приводимых подробностей, не ли-
шая их самостоятельности.
( вой разговор о прошлом Геродот начал с лидийскои ~eM~:
отталкиваясь от фигуры первообидчика, он восстановил ход истории
,Лидии до падения Сард в 54б г., после чего поместил обзоры о ВосВН-
тительных дарах Креза, о достопримечательностях страны «b~-
чаях народа. Главное место в этом очерке занимает характеристика
Креза, которая слагается из двух частей — родословной царя
(I, 7 — 25) и фактов его жизни (I, 2б — 92). Непосредственно вслед за
вышеприведенной фразой о Крезе Геродот указующим жестом пере-
вел внимание читателя на его предков: «...а от гераклидов власть
перешла к роду Креза вот таким образом» вЂ” «j «qy~[«vl~&g ;>
«рв~~в войаа 'НрахЛв<о ичв «> вч& t;>:~ lt; g ;К о&l ;
ким же «вот так» вЂ” подытожил весь рассказ о первообидчике:
«с державой Креза и первым покорением Ионии дело обстояло
80mmaK» — <о& t;а а вч z~~чK o& t;aovтв < lt;<рас р>&l
><атаа- poyjv вп,~в ou« »(I
Генеалогическое древо Креза обросло в Геродотовом изложении
микробиографиями правителей Лидии и приняло вид перечня собы-
тий в порядке царствований, так что переход от него к рассказу
о cBMQM Крезе воспринимается и как звено тянущейся цепи, и как
24
возврат к тому, о чем говорилось до того (1, 6). Подробности, введен-
ные посредством указывающих связей, содержат не только богатый
запас сведений о Лидии, но и данные о том, что происходило за ее
пределами: в рамки лидийской повести вместились, экскурсы из
греческой жизни. Так, например, именно здесь читатель узнает
о прославленном певце Арионе (1, 24), новелла о котором подключе-
на к рассказу о царствовании Алиатта третьей степенью логической
зависимости: Алиатт, отец Креза, имел дело с Фрасибулом, Фра-
сибулу помогал Периандр, а при Периандре, который был тираном
Коринфа, случилось чудо (9~;m) с Арионом.
Подобным образом и к описанию политических акций Креза
примыкает рассуждение об Афинах и Спарте (1, 59 — 68) как об
объектах его заинтересованности. Мысль автора движется зигза-
гообразно, переходя от затронутой темы к другим предметам, затем
снова возвращаясь к прежней теме и опять уклоняясь в сторону,
чтобы еще раз вернуться к главной линии и потом также отойти от
нее: упомянув в своем зачине поступки Креза (I, 6), Геродот ретро-
спективно спустился в глубь веков к его предшественникам, отсту-
пил тут от преднамеренной последовательности, перенеся место
.действия в Грецию (эпизод с Арионом — 1, 23 — 24), затем восста-
новил прерванную нить, довел ее до Креза (I, 26) и тем самым вер-
нулся к тому, о чем говорил в начале; продолжив основной рассказ,
еще раз пересек его вставкой об Афинах и Спарте (I, 56 — 68), после
чего довел ero до взятия Сард Киром, а затем опять перевел взгляд
на новые объекты (1, 92 — 94), и после них еще раз упомянул победу
Кира над Крезом (I, 95) чтобы сделать ее отправной точкой для
новой сюжетной линии. Эту повествовательную спираль можно изо-
бразить в виде следующей схемы:
Яоящания к схеме. Основная линия повествования: l,6 — Крез упомянут
как покоритель Ионии; l,26 — 91 — Крез от покорения Ионии до сдачи
Сарр Киру; I,95 — упоминание победы Кира над Крезом. Вставки:
I,7 — 25 — предки Креза; I,23 — 24 — эпизод с Арионом; I,59 — 68—
экскурс об Афинах и Спарте; 1,92 — 94 — вставка о дарах Креза, диковин-
ках и лидийских обычаях.
Такого типа сочленение деталей позволило Геродоту не только
сгруппировать факты по логосам, но и создать из них более крупное
целое, превратив локальные логосы в подчиненные этому целому
части. За «лидийскими делами» в «Истории» Геродота следуют «дела»
персидские, ионийские, вавилонские, массагетские, египетские,
самосские, скифские, ливийские, после чего речь идет об ионийском
25
восстании 499 г. и походах персов в Грецию. Примененный в исто-
рии Лидии принцип перечисления событий по царствованиям по-
вторен и здесь, так что огромный конгломерат сведений распределен.
по вехам правления мидийско-персидских властителей от первых
мидян до современного Геродоту Ксеркса. Зачин персидской исто-
рии напоминает зачин лидийского логоса: и там и тут отправной
точкой служит акт агрессии, в одном случае это подчинение ионин
Крезом, в другом — захват Сард Киром. В обоих случаях от этак
точки взор переносится в прошлое, к предкам царя (Креза, Кира),
затем по восходящей линии рассказ доводится до победы Кира над.
Крезом и включает в себя вставку об обычаях народов. Приступая
к персидской теме, писатель так определил свою задачу: «С этого
места речь у нас пойдет о том, что за человек был Кир, разгромив-
ший державу Креза, и о том, каким путем персы завладели Азией»
(1, 95).
Ответ на первый вопрос — это тот микрологос, который закан-
чивается вставкой об обычаях персов (1, 131 — 140). На второ@
вопрос Геродот ответил всем дальнейшим повествованием, перенеся
арену событий на просторы передней Азии и Средиземноморья. На
первый план теперь выступил интерес автора к политическому
соперничеству народов. Показанная им династическая преемствен-
ность — это сплошная цепь походов: жизнь Кира после Сард—
это война с ионянами, Вавилоном, массагетами ', жизнь его сына
Камбиса — это завоевание Египта и поход в Эфиопию, правление
,авария — это экспедиция против скифов, Самоса, ливийцев и греков,
жизнь Ксеркса — это борьба с материковой Грецией.
Материалом для обрисовки завоевательных акций на неперсид-
ских пространствах служат логосы о странах — объектах агрессии.
Выстраивая в ряд логосы, в которых говорилось о боях с персами,.
и окаймляя их ремарками и эпизодами из персидской политики,
Геродот вводил историю отдельных стран в контекст персидской
линии, тем самым события, имевшие место в разных концах земле
и в разное время, становились этапами одного общего действия. Так,
от пребывания Кира в Сардах протянута нить к ионийскому лого-
су-рассказу о первых греческих полисах в Малой Азии, их неудач-
ной борьбе с персами и колонизаиии на западе; авторскими замеча-
ниями о политике Кира обусловлен переход от ионийского логоса
к вавилонскому, а от него к массагетскому. В вавилонском логосе
описана царская династия, строительство и оборона города, его ок-
купация Киром, нравы и обычаи вавилонян. Эпизод осады — необхо-
димая часть структуры логоса, и в то же время он предуказан ав-
торской ремаркой о Кире и принадлежит персидским событиям.
Точно так же и битва Кира с массагетами — это и часть массагет-
ского логоса, и последняя страница биографии Кира.
При таком соподчинении локальных историй одному общему
рассказу достигалось не только просматривание фактов с разных
наблюдательных пунктов (сдача Вавилона — это и катастрофа его
жителей, и высшая точка могущества Кира), но и приравнивание
друг другу параллельных отрезков времени: события в Лидии син-
26
хронны мидийско-персидским событиям до взятия Сард, египетские
истории синхронны персидской истории вплоть до правления
Камбиса '. Вытянутые в ряд логосы с генеалогическими экскурсами
придавали повествованию вид ритмических чередующихся возвра-
тов от настоящего к прошлому и от прошлого к настоящему. От
1(реза взор читателя спускался к его предкам, от жх возвращался
опять к Крезу, от взятия Сард Киром он переносился к первым ми-
дийским царям, затем снова к Киру, от него — к первым ионий-
гким поселениям в Малой Азии, от них — еще раз к Киру, потом,
к предыстории Вавилона, от нее к Киру и т. д. В этом зигзагообраз-
ном движении мысли прошлое окаймлялось настоящим, а настоящее
нырастало из прошлого. Между прошлым и настоящим устанавли-
иалась нить генетической зависимости. В авторском изображении
пистоящее — это события лидийской истории, начиная от Креза,
и персидской, начиная с Кира. Эти события соотнесены с прошлым,
которое показано ретроспективно.
В то же время для самого писателя это условное настоящее
играет роль прошлого по отношению к его, писателя, собственной
чпохе. И это ощущение дистанции от изображаемого предмета и
~>дновремен ойсв з с имзаставл етГерод таосвещ тьэ
предмет еще и как начало современных ему, Геродоту, явлений. Его
текст полон ремарок о дальнейшей судьбе тех или иных упоминае-
мых им объектов, о том, что в его современности уходит корнями
и описываемую им эпоху. Так, рисуя картину заговора семи персов
и избиения магов, Геродот попутно указывает на знакомые ему даль-
ние отголоски этих событий — на популярный праздник и на права
дома Отака (111, 79, 84). От настоящего тем самым намечались вы-
ходы в прошлое и будущее. Такое соединение нитей в одном узле
и расположение узлов на одной линии расширяло кругозор вйдения
«обытий: в фокус внимания писателя попадали одновременно разные
»нохи, разные территории и лица, и это дало Геродоту возможность
подняться еще на одну ступень обобщения.
Геродот не только сделал эпизоды локальных историй частью
рассказа о персидских царях, а биографии этих правителей '
составной частью временной последовательности фактов, но и от-
метил еще более крупные вехи, расчленяющие ход истории. Роль
таких вех в ero глазах играют агрессивные акции варваров против
греков. Первая из них — это покорение ионян Крезом («Крез,
IlcpBbIH из известных нам варваров, одних эллинов покорил, обло-
жив данью, других сделал своими союзниками» вЂ” I, 6), вторая—
покорение ионян при Кире («вот так Иония вторично была обраще-
на в рабство» вЂ” I, 169), третья — разгром ионийского восстания
при Дарии («вот так ионяне в третий раз были обращены в рабст-
во — первый раз лидийцами и дважды после персами» вЂ” VI, 32) и,
наконец, последняя веха — греко-персидские войны, экспозиции
которых предпослана оценка: «этим чудом бог указывал людям на
грядущие беды, так как при Дарии, сыне Гистаспа, Ксерксе', сыне
авария, и Артаксерксе, сыне Ксеркса... Элладу постигло больше
бед, чем их испытало двадцать поколений до Дария» (VI, 98).
27
В воссозданной таким образом картине локальные логосы служили
фоном, на котором отчетливо выделялась тянущаяся цепь персид-
ских походов и фиксировались стадии греко-варварского конфликта,
который нашел свою кульминацию в выступлении персов на Балканы.
Войне греков с персами (499 — 478) посвящена вся вторая поло-
вина труда Геродота ф, 28 — IX). По сравнению с предшествующей
частью в этих книгах намного сужен временной и пространствен-
ный диапазон действия: оно почти все сосредоточено в пределах
греческого мира, и охваченный рассказом хронологический отрезок
персидской истории (Дарий, Ксеркс) значительно короче более ран-
него периода от Дейока ' до Дария. Взгляд писателя здесь более
приближен к своему объекту, в связи с чем иной стала его детализа-
ция: в поле зрения автора попали теперь не только яркие и крупныв
события, но и цепь мелких эпизодов. Отсюда и новый характер то-
пики. Неотъемлемыми от батальных сцен стали описания войско-
вых переходов, численности морских и сухопутных сил, техниче-
ских приготовлений, военных советов, дипломатических посольств,
перечни отличившихся воинов и упоминания о погребении павших.
Иным стал и способ воссоздания смены событий: нить последо-
вательности протянута тут не непосредственно от одного решающего
факта к другому (как, например, от вавилонского похода Кира
к массагетскому), а путем показа эпизодов, которые имели место
между ними. При этом персидская и греческая сюжетные линии
воссоздают развитие единого грандиозного события, и ход истории
обрисован чередованием кадров из жизни того и другого народа. Эти
кадры могут быть велики по объему, как, например, при описании
приготовлений Дария и Ксеркса к походу против Афин и самогс~
похода вплоть до Пиерии, города на границе Македонии и собствен-'
но Греции (VII, 1 — 132), и они воспроизводят тогда синхронию
персидских и греческих дел на больших территориях в течение дли-
тельного срока. Но кадры могут и сокращаться до минимума, пере-
водя глаз читателя с напряженной скоростью от объекта к объекту
и тем давая почувствовать динамику взаимодействия обеих сторон
Вот пример подобных зарисовок: «Из Икарийского моря персы
подошли к Наксосу (на этот остров они прежде всего решили напасть).
Наксосцы же, помня прежнюю осаду, не стали ждать нападения и
бежали в горы. Персы же обратили в рабство попавшихся в их руки
жителей и сожгли святилище и город, затем они отплыли к другим
островам.
Тем временем делосцы, так же как наксосцы, покинув свой
остров, поспешно бежали на Тенос. Когда персидский флот появил-
ся (у острова), Дамис, плывший впереди, приказал кораблям не
бросать якорей возле острова....» (VI, 96 — 97) (пер. Г. А. Страта-
новского).
От уменьшения дистанции между автором и наблюдаемой реаль-
ностью зависит и метод аккумуляции материала вокруг важнейших
вех истории. Воссоздаваемые ходом рассказа портреты полковод-
цев придают тематическое единство отдельным кускам повествова-
ния и делят текст на отрезки таким образом, что рубежами жизне-
28
су'дьба
- Аристагора
сопротивление Онесила
и киприотов
разгром
восстания
Ч, 116 — 123 2,5
V, 124 — 126 i,O'
V, 108 — 115
3,4
судьба
Гистиея
И, 26 — 30 2.0
деятельность Дно-
нисия. Морской бой
VI, 11 — 17
разгром
восс1 ания
VI, 18--25 3,4
3,4
театрефшчто, толсто ое тй явей Mucxa5dvuq ccpoq zoiq, uccupgouvc бо6Хои.-
l
крооенттрич-.о (их корабли подчинили фасосцев, даже не взявшихся
за оружие, их пехотинцы захватили македонян, пополнив тем:
число уже имеющихся в рабстве у них народов).
}~атастрофа персидского войска:
31
(VI, 44) о~ фч .'нто тйч Ьт~рит ЬерЭе~ромо ccîccN, Гфею~, ос й ccpoz тЫ
яетрж apccccrcrdxsvol' ос й осотй i чеесч о~х аяса;ва.о кхти тоэ-.о 5csy&aipo
(погибали те, на кого набрасывались хищные рыбы, те, кто разби-
вались о скалы; те же, кто не умели плавать, тоже погибали);
(V I, 45) хос афич яо),).оо~ cpovsuouac oi 13puyoc, Марбочсоч й шмоч
трьрштс~оэас (и многих из них Бриги убили, самого же Мардоник
ранили).
Распределяя отрезки текста в намеренном порядке и соблюдая
пропорции их длины, Геродот следовал тому же структурному прин-
ципу, которому подчинена и организация тематики его сочинения:
мелкие единства писатель вводил в большие комплексы так, что
дробные части не лишались отчетливости своего рисунка. Это дава-
ло Геродоту возможность выявлять смысловую зависимость в гро-
моздком скоплении фактов. Перечни сведений о народах и об от-
дельных лицах подводили материал под общий знаменатель, тех-
ника фронтона дифференцировала тот же материал по признаку его
сходства и несходства, большей или меньшей ценности и намечала
ядро повествования. Вершины мастерства Геродот достиг при со-
ставлении «макрофронтонов», или крупных единств, в которых
куски, образующие симметричный фронтон, сами имеют фронтонное
строение. Именно этот прием использован им в сообщении о греко-
персидских войнах для фиксации важнейших этапов и решающих
моментов.
Описание персидских нашествий на материковую Грецию при
Дарии окаймлено, как уже 'говорилось выше, данными о жизни
Мильтиада, благодаря чему оно воспринимается как единство, за-
ключенное в раму. Внутри этой рамы идет речь о двух походах про-
тив Аттики: первый из них возглавлялся Мардонием (492 г.), вто-
рой — Датисом и Артафреном (490 г.). Рассказ о походе полководца
Мардония в Европу занимает срединное место между соразмерными
отрывками и, будучи сам ядром большого фронтона, имеет также
фронтонное строение. Текст расчленяется на куски такого рода:
VI, 43 — 45
поход Мардония
в Европу — 48 строк
V&g ;, 43 Ђ”
VI 42
продвижение и успехи
т войска — 28 строк
административные 44
меры Артафрена в буря — 3 строки
онии — 14 ст ок > ~, 44 Ђ”
ущерб и поражение
войска — 17 строк
И, 46 — 48
экскурс
о рудниках
на о. Фасосе — 25 строк
VI, 102 — 140
марафонский бой,
«логосы» об Алкме-
онидах и Мильтиаде—
20 страниц, 11 строк
Рассказ о походе матиса и Артафрена построен сложнее: охват
событий в нем шире, и не один, а два фокуса притягивают к себе
внимание читателя: один из них — это зловещее землетрясение на
о. Делосе ', второй — победа в марафонской битве. Повествование
начинается с ультиматума авария греческим городам (VI, 48) и
оканчивается послесловием к смерти Мильтиада (VI, 137 — 140).
Этому отрезку текста придан вид большого фронтона: в центре здесь
стоит сообщение об аннексии персами эллинских островов и Эрет-
рии (Vl, 99 — 101), а роль боковых крыльев играют пространные
экспозиции того, что происходило в материковой Греции перед
вступлением персов (VI, 49 — 93) и после сдачи Эретрии (VI, 102—
140). Само ядро имеет форму малого фронтона: срединное место
в нем занимают авторские ремарки IIQ поводу землетрясения на
о. Яелосе, по одну сторону от него показаны события на островах,
,по другую — события в Эретрии. Приводим схему фронтона:
VI, 94 — 101
аннексия островов
и Эретри и — 3 стра-
ницы, 22 строки
VI, 49 — 93 VI, 94 — 98
война Афин с Эгиной начало похода, захват
островов — 52 строки
«логосы» о Клеомене Vi, 98
и Демарате— землетрясение иа о. Де-
-23 страницы
лосе — i7 строк
V&g ;, 99 Ђ”
оккупация Эретрии—
44 строки
Массивная конструкция, богатая сведениями о прославленных
политических деятелях, уводящая взор автора в глубь времен,
не дала затеряться коротенькой фразе с приговором Геродота: «При
,аварии, сыне Гистаспа, Ксерксе, сыне дария, и Артаксерксе, сыне
Ксеркса, за эти три поколения Элладу постигло больше бед, чем
за двадцать поколений до Яария: беды шли и от персов, и от
самих предводительствующих, боровшихся за власть» (VI, 98).
Фланги большого фронтона построены так, что каждый из них
воспринимается и как самостоятельный очерк, и как частица об-
щего целого. Замкнутость создается тематическим обрамлением:
первое крыло начинается и завершается мотивом войны Афин
с Эгиной, второе — мотивами биографии Мильтиада. Внутри этих
обособленных кусков детали одного фланга перекликаются с деталя-
.ми другого; схожие разделы тут равно удалены от центра фронтона
32
и в своей симметрии образуют «пояс» вокруг него. По краям фрш
она помещены экскуРсы в прошлое: в начале первого бокового от-
дела освещено прошлое Спарты (1Л, 52 60) в „„в
пелазгов на о. Лемносе (~11,
137 — 140). Ближе к основному
ядру стоят персонологические
1-е крыло: VI ' -49 — 51
52 — 60
«логосы» с родословной знатных
лиц: в первом случае это «логос»
о Демарате (VI, 61 — 70), во вто-
ром — об Алкмеонидах (VI, 121—
131) '. Еще ближе к центру урав-
61-70
73 — 84
— -85-93
:~-ф крыв; Я, 103 — 104
1
121-131
I
— 137-140
Т. И. Кузнецова, Т. А. Миллер
навешивают друг друга «логос»
о Клеомене(Ч1, 73 — 84) и эпизод
цен "p
марафонской битвы (VI, 105—
120). Изобразим это в виде схемы.
На фоне такого параллелизма
105-120
рисунок марафонского боя не
только'отчетливо просматривает-
ся, но и приобретает яркость бла-
годаря тому, что он составлен
по принципу фронтона: по обе
стороны от главного события (У1, 109 — 117) в нем помещены по три
малых эпизода, которые придают симметрию всему изображению.
Подводя слушателя к Марафону, Геродот показывал ему почти
одновременный ход действий в трех станах: в Спарте, куда прибыл
афинский скороход с просьбой о военной помощи (VI, 105 — 106),
в ставке Гиппия, который вел персов против эллинов (Vl, 107),
и в лагере платейцев, которые присоединились к афинянам (VI, 108).
Три объекта освещены Геродотом и после марафонского сражения:
матис видел сон и прибыл на о. Яелос (VI, 118); Яарий расселил
пленных эретрийцев в Азии (VI, 119), а в Афины прибыли 2000 ла-
кедемонян, которые не поспели к сражению (VI, 120). Обрамляю-
щим мотивом несостоявшейся спартанской помощи картине придана
законченная цельность.
Геродотово повествование достигло своей кульминации в книгах
VI I — IX, где крупным планом живописуется подготовка Ксеркса и
Мардония к завоеванию Европы и столь же величественно изобра-
жен отпор, оказанный персам греками. Как нигде более, автор са-
мим распределением деталей добивался здесь бьющей в глаза
яркости контраста и оттенял идею мирового господства мотивом
военной неудачи персов. В этих книгах воспроизведены два этапа
событий: 1) подготовительный — действия в персидском лагере,
пока персы еще не столкнулись с греческим сопротивлением, и
2) военный, когда обе стороны бились друг с другом. Подготови-
тельный включает в себя две фазы: 1) дворцовый совет Ксеркса и
его вельмож относительно предстоящего похода (Ч11, 8 — 19) и
2) продвижение Ксеркса с войском по азиатской и европейской тер-
ритории вплоть до Пиерии (VII, 20 — 132). Картина получает свою
выразительность благодаря эффекту светотени. В первой фазе его
создают речи Мардония (VII, 9) и Артабана (VII, 10), моделирую-
щие два несхожих варианта похода, контраст подчеркнут веде-
нием аргументации по одному и тому же плану: оба оратора выра-
жают опасение (8влб~), оба ссылаются на опыт прошлого, на харак-
тер противника и прогнозируют будущее. Мардоний страшится,
как бы персы, поработившие саков, индов, ассирийцев, эфиопов и
другие народы, не оставили безнаказанными провинившихся перед
ними греков. Эллины, по его словам,— плохие вояки, ведь сам он
не встретил с их стороны сопротивления. Ксерксу они сдадутся без
боя, пророчит Мардоний, а если и станут биться, то будут побежде-
ны. Вторая речь — прямая противоположность первой. Дядя царя,
Артабан, тоже боится, но совсем другого: его ужасает мысль о том,
что ждет Ксеркса, если враги разобьют персов на суше или на море
и разрушат затем мост через Геллеспонт. Он вспоминает, как афи-
няне уничтожили войско Датиса и Артафрена, и признает греков от-
важными смельчаками. В случае, если персы вторгнутся в Элладу,
Артабан предсказывает Мардонию гибель.
Этот прием двойного освещения объекта, вызывающий у нас
ассоциации с «двойными речами»" софистов, в несколько иной
форме использован и при обрисовке второй фазы приготовлений
Ксеркса. Экспрессия усилена здесь попеременным чередованием вы-
соких и низких тонов, или диссонансом между мотивами силы пер-
сов и надвигающегося ущерба. Принципу контраста подчинен и
выбор подробностей и их соединение друг с другом. Подготовитель-
ные технические работы и выступление Ксеркса из Каппадокии
создают впечатление исключительного могущества персидского
царя: тут упомянуты и рытье канала через Афонский перешеек,
предпринятое Ксерксом из пустого чванства, и гостеприимство,
оказанное ему во Фригии, и беспрепятственное продвижение войска
через Лидию, Мисию и другие области к Абидосу, где царь устроил
смотр войска и плакал от счастья (VII, 21 — 45).
Все тут благоприятствует Ксерксу, если не считать нескольких
мелких неприятных эпизодов, и весь марш к Абидосу окаймлен
победоносными мотивами. Рассказ о нем начат словами: «...это было
безусловно, самое большое войско из известных нам. С этим войском
не могло сравниться ни войско Дария [в походе] на скифов, ни скиф-
ское войско, когда скифы, преследуя по пятам киммерийцев, втор-
глись в Мидийскую землю... Действительно, какой только народ ни
привел Ксеркс из Азии в Элладу7» (VII, 20 — 21) (пер. Г. А. Стра-
тановского) — и закончен ремаркой: «Увидев, что весь Геллеспонт
целиком покрыт кораблями и все побережье и абидосская равнина
кишат людьми, Ксеркс возрадовался своему счастью, а затем пролил
слезы» (VII, 45) (пер. Г. А. Стратановского). Доведя звучание мо-
тива до этой высокой торжествующей ноты, Геродот резко снизил
тон, вставив в это место действия фигуру Артабана и вложив в его
уста предупреждение о грозящих Ксерксу опасностях на земле и
на море (VII, 46 — 29).
Пессимизмом Артабана не заглушается ликование Ксеркса,
и промелькнувший мрачный тон лишь способствует яркости всей
картины в целом. Мотив персидскои мощи продолжает нарастать
и окрашивает собой еще один узловой момент находа — переправу
войска в европу. И снова писатель прибегнул к соединению светлых
и темных тонов. 3а сценой переправы сразу же упоминается чудо,
предвещающее беду персам: «Когда, наконец, все переправились и
персы собирались уже следовать дальше, явилось им великое и чу-
десное знамение. Ксеркс не обратил на него, конечно, никакого вни-
мания, хотя объяснить знамение было нетрудно, кобыла родила
зайца. В данном случае истолковать ero было легко: Ксеркс поведет
свои полчища на Элладу, со всей пышностью и великолепием,
а возвратится в свою землю, спасаясь бегством (как заяц) (Vll, 57)»
(пер. Г. А. Стратановского).
И еще одно такое смешение красок приурочено к изображению
апогея персидского всесилия: перечень боевого состава Ксерксовой
армии сопровождается самонадеянным вопросом царя Демарату:
«Демарат! Мне угодно теперь задать тебе вопрос ... дерзнут ли
эллины поднять на меня руку? Ведь, мне думается, даже если бы
собрались все эллины и другие народы запада, то и тогда не могли
бы выдержать моего нападения, так как они не действуют заодно»
(VII, 101) (пер. Г. А. Стратановского). На это Ксеркс слышит не-
ожиданный для себя ответ: «... они никогда не примут твоих условий,
которые несут Элладе рабство ... не спрашивай, сколько у них
боеспособных воинов. Ведь если их выйдет в поход только тысяча
или около того, то все равно они будут сражаться!» (Vll, 102)
(пер. Г. А. Стратановского).
Сочленив в одном контексте противоположные мотивы, Геродот
разработал двуединую формулу для оценки персидских дел, суть
которой можно определить как «утверждение — отрицание» или
«могущество и обреченность на гибель». На первом этапе похода
раскрыта реальность первой половины этой формулы, на втором осве-
щена ее другая часть. Шествие Ксеркса до Пиерии показано как его
полный успех, но уже с первого столкновения с греками при Фер-
мопилах подбор деталей направлен на то, чтобы выявить убыток и
неудачи персов вплоть до их изгнания с греческой земли. Картина
краха Ксерксовой и Мардониевой стратегии близка к изображению
похода при Дарии (см. выше, с. 31): в обоих случаях перекликаю-
щиеся мотивы придают законченность описаниям этапов греко-
персидского противоборства, а симметричным расположением эпи-
зодов в тексте подчеркиваются смысловые аналогии и расставляют-
ся смысловые акценты. Так, уже говорилось, что военные действия
Ксеркса в Элладе окаймлены фрагментами рассказа о деятельности
Фемистокла. Разгром персов при Платеях (I X, 19 — 70) вызывает
в памяти пророческие слова Артабана перед началом похода
(Vll, 10). Гибель Мардония (IX, 63 — 64) связует собой все проме-
жуточные эпизоды, начиная от его первого провала (VI, 42 — 44).
Отыскивая центр тяжести рассматриваемых им событий, Ге-
родот сосредоточил внимание на пяти генеральных битвах и свой
рассказ построил так, что третья из них заняла срединное место
между двумя парными боями и приняла тем самым на себя роль
35
ядра гигантского фронтона. На его флангах по одну сторону ока-
зались сражения при Фермопилах и Артемисии, по другую—
битвы при Платеях и Микале. Саламинская морская схватка по-
казана автором во всей решающей значимости переломного момента
войны. Большой фронтон имеет такую форму:
VII I, 40 — 120
Саламин
I X 90 — 106
Мика ле
IX, 19 — 89
Платеи
УИ, 196 — 239
Фермопилы
V I I, [75 — V I I I, 25
Артем исий
36
Восстанавливая цепь эпизодов, которая образовала собой Са-
ламинское событие, Геродот построил еще один малый фронтон,
опоясав кризисную ситуацию (VIII, 70 — 96) симметричными от-
резками, благодаря чему контраст того, что было до и после битвы
получил предельную отчетливость. влетали, предшествующие Сала-
мину, это эвакуация женщин и детей из Аттики (VIII, 40 — 42),
состав греческого флота (У11I, 43 — 49), захват персами Афин
(VIII, 50 — 55), военный совет греков и спор афинянина Фемистокла
со спартанцем Еврибиадом (ЧП1, 56 — 64), зловещее для персов
знамение (1(111, 65), флот персов (VIII, 66), совещание у Ксеркса
и разумное, но безуспешное выступление на нем Артемисии, пра-
вительницы Галикарнасса (VIII, 67 — 69).
ПослеСаламина писатель вернулся к тем же лицам и ситуациям
и, дав их в новом освещении, показал, насколько иным стал те-
перь ход истории. Тот же Ксеркс уже думает не о победе, а о бег-
стве и охотно следует совету Артемисии (VIII, 97 — 107), а Феми-
стокл и Еврибиад опять обсуждают план действий, но это,уже не
план самообороны, а план изгнания врагов со своей земли (VIII,
108 — 110). И не персы разоряют Аттику, а Фемистокл осаждает
о. Андрос (VIII, 111, 112). Вновь мы видим беженцев, но не афинян,
а персов (VIII, 115).
Параллелизм боковых отрезков фронтона помог пролить яс-
ность на их содержание, и Геродот не только уравновесил истори-
ческие периоды, но и осмыслил их антитезу как компенсацию од-
ного другим. В малом саламинском фронтоне он заставил ощутить
это самим распределением эпизодов вокруг ядра. В большом фрон-
тоне мотивом «преступление — наказание» соотнесены два его
крайних крыла — Фермопилы и Платеи. И это сделано при помо-
щи небольшой сцены, вставленной в саламинское событие: когда
Ксеркс находился в Фессалии, к нему подошел глашатай из Спарты
и потребовал удовлетворения за Леонида, ибо таков был приказ
дельфийского оракула; Ксеркс же насмешливо сказал, что это
удовлетворение даст им Мардоний (VIII, 114). В битве при Платеях
спартанцы одолели персов и убили Мардония. И его смерть вос-
принимается как трагическая ирония, как исполнение обещания
Ксеркса глашатаю. Краткой ремаркой «так спартанцы получили
от Мардония предсказанное оракулом удовлетворение (й~) за
убийство Леонида» (IX, 64) Платеи и Фермопилы превращены во
взаимозависимые части общего целого. Красочно рисуя детали
платейской битвы, Геродот не позволил себе отрешиться от глав-
ного и, переведя взор с Мардония на Леонида, вписал малый эпи-
зод в большой сюжет греко-персидских войн. Такое умение любо-
ваться фрагментами реальности и одновременно видеть их в кон-
тексте целого была выработано писателем при обработке и синте-
зировании тех источников, на основе которых составлялось его
сочинение.
Протягивая сквозную сюжетную нить между малыми единст-
вами и подчиняя замкнутые куски большому целому, Геродот со-
здавал конструкцию, в которую вместился материал из крайне
неоднородных источников, разнохарактерных и по содержанию
и ro стилю. При всей невозможности восстановить переработанные
Геродотом оригиналы, тот тип словесности, к которому они принад-
лежали, поддается описанию. Историк сам много раз ссылается на
ходячие предания народов, о которых он пишет, делая заметки:
«так говорят персы (египтяне, греки, скифы и др.)». И в одном
месте следующим образом дифференцирует сообщаемые сведения:
«До сих пор я говорил то, что сам лично видел, думал, исследовал,
а теперь буду передавать рассказы египтян, какими я их слышал,
прибавляя к ним и то, что сам я наблюдал» (II, 99) ". Филологи-
ческая критика помогает значительно расширить это скупое само-
раскрытие авторского метода и проливает свет на тот субстрат, ко-
торый лежит в основе «Муз». Его образует не только личный опыт
рассказчика, не только те версии, на которые он ссылается, но и
многообразная культурная традиция его эпохи — искусство ло-
гографов, поэтов, ораторов. В укрупненном масштабе Геродот
продолжил то собирание реалий, которым занимались составители
обзоров об отдельных странах и народах: как и логографы, ок сле-
довал принципу максимальной емкости и усердно перелагал все то,
что слыло былью у его современников, заявляя, что его дело—
«пересказывать то, что говорят» (Маял ~а ).вторят — VII, 152).
Он воспринял от первых прозаиков их любопытство к факту
как таковому и их умение представить факт точно и ясно. Поэтому
в труде Геродота легко обнаружить и красочные эпизоды из жиз-
ни исторических лиц, заставляющие вспомнить о сочинениях
1(санфа Лидийского, и достоверные описания рельефов земной
поверхности и образа жизни различных народов, восходящие к
Гекатею или подражающие ему. В таком же поиске знаний о при-
роде и прошлом Геродот обращался и к поэтам. Он отмечал у Ге-
сиода и Гомера свидетельство о гипербореях (IV, 32), цитировал
Гомера ro ходу своих рассуждений о животном мире Скифии (!Ч,
29) и сопоставлял сообщения о северных народах в поэме Лрист& t
со скифскими преданиями (IV, 13) ". Вместе с тем заиптергг<
ность в сведениях служит для Геродота отправной точной, и&l ;>
как не исключительной целью его труда. Во вступипл~,»< I~ф
«Муз» наряду с задачей спасти от забвения то, что бил«i i ~»I~sr»i
и заставляет восхищаться ею, указан и сущсстш ию ~~~~я,1~1 ц ~~
тир авторских изысканий — исследовать, но пл II IIIIIII ° ч чн ~
варвары стали воевать друг против друп~ (I, I) I ll/Ill ~ ш ь °,
поставленной цели Геродот сочленил и при помощи опосредован-
ных связей ввел в один общий сюжет множество раздробленных
данных. Требование полноты материала, которое подразумевалось
у логографов, он при этом заменил требованием уделять внимание
малому наравне с великим и учитывать постоянную смену одного
другим. «Я поведу речь так, что не пропущу ни великих, ни малых
городов, потому что многие города, которые в старину были вели-
кими, потом стали малыми, а те, что в мое время были великими,
раньше были малыми. Зная, что человеческое благополучие не
пребывает неизменным, я буду одинаково упоминать и про те и
про другие»(1, 5) — такими словами Геродот предварял и откры-
вал воссоздаваемую им картину прошлого. Если ранние ионийские
прозаики добывали и устанавливали факты, то Геродот строил из
них концепцию истории.
СТИЛЬ
Задача раскрыть причину грандиозного военного конфликта со-
временности и показать комплекс событий как единство великого
и малого (взлета и падения) требовала от Геродота не только чет-
кой и сложной композиционной схемы, но и по-новому оформлен-
ной манеры рассказывания. Созданный Геродотом тип словесной
выразительности сделал «Историю» первым произведением грече-
ской художественной прозы. Новизна его стиля, как и новизна
композиции, заключалась во вместимости, или пестроте двоякого
рода. В тексте «Муз» соседствуют отрывки, написанные разными
способами и при этом в каждом отдельном отрывке нередко со-
вмещаются приемы, заимствованные из разных жанров., Источники
Геродота резко отличались друг от друга по стилю. Это были и но-
веллы, принадлежащие фольклору с обычными чертами устного
сказа, и сочинения деловой прозы. Экспрессия устной традиции
зиждилась на наглядности и напряженности. Наглядность дости-
галась изображением действия: передачей прямой речи, фикси-
рованием отдельных моментов происходящего в коротких фразах с
частым повторением одних и тех же слов, упоминанием зрительно
воспринимаемых предметов, чисел «три» и «семь». Напряженность
создавалась оппозицией героя и его антагониста, сценами ужасов,
фантастикой чудес, вещих снов, знамений и предсказаний, отне-
сением центра тяжести на конец. Стиль деловых описаний, на-
против, был рассчитан не на ошеломляющий эффект, а на адекватное
воспроизведение действительности и легкость понимания и sano-
минания. Его главнымя средствами были однотипность повторов в
перечислениях, отсутствие украшений, несложность синтаксиса.
Он сформировался на основе письменности документов и широко
использовался творцами ранней ионийской науки в географических
и этнографических обзорах типа Гекатеева «Объезда земли», в ге-
неалогических и им подобных списках.
В тексте Геродота нетрудно найти куски, иллюстрирующие тот
и другой способ показывания фактов и позволяющие судить об
использованном прототипе ", однако произведение в целом несет
в себе силу выразительности, не сводимую к простой комбинации
указанных выше стилей. Цель автора — не развлекательная, а
фактографическая и исследовательская. Труд преподносится чи-
тателю не только как набор фактов, но и как поиск ответа на воп-
рос, который писатель ставит перед самим собой. Отсюда личное
его вмешательство в свой рассказ, наполненный ремарками типа
«мне кажется», «я думаю&g ;, «янахож », «ядостове но незн ю
т. п. И отсюда же неослабность интереса, возбуждаемая не только
и не столько занимательными подробностями, сколько раскрытием
связей и контрастов между явлениями. Геродот не ограничивается
художественным опытом своих непосредственных предшественников
по жанру, но обогащает его словесной техникой, почерпнутой у
самых актуальных видов искусства своей современности — у атти-
ческой трагедии и публичного красноречия. У драматургов он заим-
ствует прием трагической иронии, у ораторов — их метод аргу-
ментации и звукового оформления речи и таким путем вводит в
фольклорные сказы новое содержание, новые мотивы и напряжен-
ность особого рода. Он расширяет и поприще делового стиля, пе-
релагая деловым языком ходовые предания, воспроизводя дейст-
вие в мелких эпизодах, сохраняя наглядность, но снижая патети-
ку. Новотворчество Геродота в области стиля этим не ограничивает-
ся. Он не только инсценирует и описывает факты, он их осмысли-
вает, анализирует, сопоставляет, вступает по поводу них в поле-
мику и строит гипотезы ", и он говорит об этом языком умозаклю-
чений, отражая в синтаксическом строении фраз аналитическую
работу ума. Попробуем показать на примере очерка о Лидии Геро-
дотову тенденцию в применении стилистических приемов.
Пестрота стиля дает о себе знать уже в зачине лидийской исто-
рии (I, 6), где слышен голос и рассказчика, и ученого, и полити-
ческого мыслителя. Назывной характер первой фразы «Крез был
лидиец родом, сын Алиатта, властитель народов...» заставляет вспом-
нить обычное начало сказок «жил-был царь...», однако зазвучав-
ший тон сразу обрывается, и указание имени Креза сопровождает-
ся развернутым определением: «живших по эту сторону реки Га-
лиса, которая, протекая с юга на север между (землями1 сирийцев
и пафлагонцев, впадает в море, называемое Евксинским». Конкрет-
ность понятий и несложность синтаксиса придают отрывку ту
непритязательную ясность, которая свойственна деловым описа-
ниям. После этого дан обзор внешней политики Kpesa, и тут пи-
сатель не только говорит о наличии фактов, но и соотносит их
друг с другом, классифицирует, противопоставляет илн ставит «
один ряд. Ионделает это средствами фонетики и синтаксиса, ии<
параллелизм членов предложения и созвучие конца слои. Ли<
ская речь приобретает такой вид: «Вот этот Крез, пернь«& t;и.««&
ров, кого мы знаем, одних из эллинов принудил к д.««&l ;,л~&l
побудил к союзу с ним. Принудил он ионийцев, .-«>л«& t;« &l
цев, тех, которые в Азии. А к союзу пой лил л«« л« «< »»
власти Креза все эллины были своболиь&l ;. )<««и««
39
рийцев на Ионию еще прежде Креза было не подчинением городов,
а набегом — ограблением» (I, 7).
дальнейший рассказ о Крезе делится на две части, из которых
первая объемлет собой историю его предков и события жизни до
войны с Киром (1,8 — 45), вторая — подготовку и ход этой войны
(1, 46 — 91). В обеих частях экспрессия повествования достигается
сочетанием стиля деловой прозы со стилем устного сказа.
Стилем деловой исторической фактографии написаны в первой
части четыре небольших отрывка (I, 7; 16 — 17; 25 — 26, 28), которые
образуют стержень повествования и охватывают период трех ли-
дийских династий от мифологических времен до Креза. Средством
выразительности в них служит ритм перечислений и те ясности,
которые создаются отсутствием подробностей и украшений. При-
мера ради приводим перевод одного из таких отрывков: «После того
как Ардий процарствовал 49 лет, ему наследовал Садиатт, сын Ар-
дия, и процарствовал 12 лет, Садиатту же — Алиатт. Он-то всту-
пил в войну с Киаксаром ", потомком Дейока, и с мидянами, из-
гнал киммерийцев из Азии, занял Смирну, основанную Колофо-
ном, напал 'на Клазомены; оттуда он отступил не так, как хотел,
но с большим уроном» (I, 16). Доля подобных отрывков в общем
объеме этой части текста чрезвычайно мала: ни один из них не
превышает 20 строк, и основное место в повествовании занято не
обзором эпохи, а воспроизведением эпизодов и отдельных событий,
в основу которого положена переработка устных преданий. Эта
переработка велась Геродотом с соблюдением разной степени сти-
листической близости к источникам: от почти полного сохранения
фольклорного стиля до почти полной утраты его черт.
Первый вставной эпизод — это легенда о Гигесе", родона-
чальнике Крезовой династии, который узурпировал власть лидии-
ского царя Кандавла. Во многом изменив традиционный сюжет,
Геродот оставил в неприкосновенности форму устного сказа (I, 8—
12) Речь рассказчика здесь льется неторопливо, он часто повто-
ряет одни и те же слова и продвигается вперед очень медленно, как
бы шаг за шагом, со ступеньки на ступеньку. Вот в каких словах
заводится разговор о Гигесе: «Этот Кандавл любовался своей же-
ной, а любуясь, мнил, что она всех краше, так вот мня это, а был
у него телохранитель любезный ему Гигес Даскилиец, этому вот
Гигесу поверял Кандавл великие дела и зрак жены своей хвалил»
(!, 8).
Персонажи показаны в интимной обстановке задушевной бесе-
ды. Царь Кандавл так обращается к Гигесу: «В горнице, где мы
почиваем, я поставлю тебя за отворенной дверью; когда я уже вой-
ду, станет и жена моя возле ложа» (I, 9). Действия героев рас-
членены на мелкие этапы и потому наглядны, ощутимы, но одновре-
менно они представлены в своей взаимосвязи как образующие в со-
вокупности один целостный поступок. Впечатление такого сложного
единства может достигаться при помощи причастных оборотов,
как, например, в описании замысла царицы: «Поняв содеянное
этим человеком, она не закричала, охваченная стыдом, и не пока-
40
зала виду, замышляя в уме, как бы отомстить Кандавлу» (1, 10). Его
могут создавать и выстроенные в ряд глаголы в личной форме,
когда последнее место в этом ряду занимает кульминационное
действие. О решении, которое принял Гигес, сообщается так:
«Гигес сперва изумился сказанному, потом молил, чтобы не при-
нуждала его делать такой выбор. Однако не убедил он ее, но видел,
что и впрямь настала нужда то ли господина погубить, то ли само-
му погибнуть; он выбрал самому остаться в живых» (1, 11).
Наглядность, медленный темп речи, противопоставление героя
его антагонисту (Кандавл — Гигес; царица — Гигес), прямая речь,
отнесение центра тяжести на конец (убийство Кандавла), отталки-
вание от бродячего сюжета (любовник царицы убивает царя и ов-
ладевает царством) — все эти черты фольклора находят место в
Геродотовой новелле о Гигесе и роднят ее с ним. Вместе с тем
фольклорный сценарий — это только канва, куда вплетены моти-
вы, навеянные писателю его современностью — высоким искусством
аттической трагедии. В «Государстве» (II, 359 Д) Платона до нас
дошел вероятный вариант той сказки, какую мог знать Геродот и
которую он переделал. В платоновской версии Гигес — это пастух,
обладатель чудесного перстня, превращающего человека в неви-
димку. С помощью перстня пастух стал любовником царицы и
убил паря. История дворцовой интриги, излагаемая Геродотом,
существенно отличается от этой занимательной повести и совершен-
но иначе освещает завязку события и роль его главных участников".
Гигес у Геродота не пастух, а вельможа, доверенное лицо Кандав-
ла, и он не инициатор действия, а жертва обстоятельств, пассивный
проводник чужой воли. Зачинщиком всего выведен Кандавл,
и царица теперь не пособница Гигеса, а его мстительница. Уже
Г. Фоль в диссертации «Трагическое искусство Геродота» (1913)
раскрыл связь этих новшеств с драматургией V в. Поддерживая
престиж дельфийского святилища, Геродот обелял фигуру его
щедрого дарителя Гигеса и одновременно наполнял трагическим
звучанием весь эпизод. Подобно герою трагедии, Кандавл усердст-
вует в предприятии, гибельном для него: его убивает лучший друг
и, как и в трагедии, с того самого места за дверью, с какого была
им учинена обида жене. Как и в драме, здесь нарушена хронологи-
ческая последовательность происшествий, и читатель узнает о них
раньше, чем они совершаются ".
В полярной противоположности к яркой экспрессии эпизода с
Гигесом стоит сглаженный стиль второго вставного эпизода — рас-
сказа о войне царя Алиатта с Милетом и присоединенного к нему
1)ассказа о греческом певце Арионе. Здесь отсутствует прямая речь,
и повествование ведется от авторского лица с применением харак-
терного для деловой прозы приема перечислений. Субстрат новел-
листического сказа дает о себе знать в отзвуках бродячих сюжетов
(наказание за преступление, спасение человека дельфином) и в
детализации предметов. Стиль, которым писатель перелагает тут
устное предание, не драматичен, как в эпизоде с Гигесом, посколь-
ку в нем нет обмена репликами, и не монументален, как в хронике
потому что упоминаются объекты не великие, а малые. Стиль этот
выразителен своей наглядностью, и его можно назвать «камерным».
Вот как рисует Геродот войну Алиатта с Милетом: «Всякий раз,
когда на поле поспевал урожай, [Алиатт] вваливался с войском:
войско он вел со свирелями, арфами, женскими и мужскими флей-
тами, а когда вступал на милетскую землю, на полях дома не гро-
мил, не жег, дверей не выламывал, но оставлял стоять на месте»
(1, 17). Картина возбуждает интерес не захватывающей напряжен-
ностью, а точностью описания. Слог автора приспосабливается
теперь к ровному и спокойному донесению о драматических собы-
ТИЯХ.
Стиль повествования еще раз меняется в третьей вставке (1, 27),
где инсценируется беседа Креза с одним из семи мудрецов (Биантом
или Питтаком). Беседа вставлена в рамку. Ее начало показано так:
«Одни говорят, что Биант из Приены, а другие, что Питтак из Ми-
тилены пришел в Сарды и, когда Крез спросил его, что нового в
Элладе, своим ответом прекратил строительство кораблей». И теми
- же словами подводится ее итог: «Крез был очень доволен таким
рассуждением и, повинуясь ему, ибо решил, что сказанное верно,
прекратил строительство кораблей». Обрамление придает очерку
замкнутый характер и тем усиливает экспрессию маленького от-
рывка, приковывая к нему внимание читателя; оно же сообщает
ему интимность: беседа подтверждает высказанную мысль и ли-
шена коллизий, прямая речь вставлена в косвенную, персонажи
не противопоставлены, а объединены друг с другом.
Особую роль Геродот отводит четвертому из вставных эпизо-
дов, объемлющему два предания о Крезе: беседу Креза с Салоном
(1, 29 — 33) и историю гибели Крезова сына Атиса (I, 34 — 45).
В обоих случаях устный прототип, повторяющий ходовые мотивы
(испытание мудреца посредством вопросов, охота на кабана, смерть
от руки друга), определил избранную автором форму новеллы с
характерной для нее прямой речью. Однако эта форма подверглась
двоякой переработке.
Патетикой убеждения наполнен весь эпизод встречи Креза с
Сольном, историческая невозможность которой не раз отмечалась
исследователями ". Отвечая на три вопроса царя о том, кто всех
счастливее, афинский мудрец ооосновывает свою мысль разного
типа доводами. Сначала он приводит конкретные примеры челове-
ческих жизней, и Геродот вкладывает в его уста два греческих пре-
дания (о Телле и о Клеобисе и Битоне), отводя им роль частных
случаев, подтверждающих общий тезис. В этих вставных новел-
лах писателю важен итог события — достойная смерть главных
персонажей, и он схожим образом изобразил ее в обоих очерках:
нагромождением глагольных форм в конце того и другого рассказа
внимание приковывается к последним действиям героев и постиг-
шей их участи. О Телле он говорит так: «Оказав помощь афинянам
в их битве с соседями при Элевсине и прогнав врагов, он умер прек-
расной смертью, и афиняне погребли его всем народом там, где он
пал, и почтили его высоко» (1, 30). А вот как представлена кончина
Клеобиса и Битона: «После этой молитвы, когда они совершили
жертвоприношение и насытили себя едой, юноши, заснув в этом
самом святилище, уже больше не встали, но приняли там свой ко-
нец» (I, 31). Особую выразительность этим отрывкам придает риф-
мованный параллелизм этих парных слов, которыми обозначены
поступки героев перед смертью. Для Телла это — (o~9~aa~ (ока-
зав помощь) Ы тро~rv ~о~тжс (и прогнав врагов), для Клеобиса
и Битона — вЭиаж~ (совершили жертвоприношение) -iNL я4<о~~тЭ~
(и насытили себя). Доказательство парадейгматическое (примеры
из жизни в двух первых ответах) дополнено в беседе доказатель-
ством логическим. Третий ответ Солона — это длинное монологи-
ческое выступление, в котором он прибегает к аргументации от
общего к частному и от частного к общему.
Мысль Солона проходит два пути: от созериання космического
порядка она спускается к самому Крезу, а затем от наблюдения
над ситуациями человеческой жизни поднимается до обобщающей
житейской морали. Исходное положение Солона «божество зави-
стливо и сеет раздоры» служит отправной точкой для констатации
изменчивости и множественности тех явлений, которые подчинены
потоку времени. Прибегая к поэтической анафоре и рифмуя окон-
чания, Солон возвышает свой голос, чтобы сказать: «ч уар тй
(~и~ра ~рбча ~оХХа [~em яатс Ов~ тх р j ~с~ аЭЙЛв, коО.а Й xai
~иЭвл (за длительное время многое можно увидеть такое, чего не
хочешь, многое можно и претерпеть). И затем кропотливо высчи-
тывает вероятное число дней человеческой жизни, чтобы на свой
лад выразить Гераклитову мысль ": «нз этих дней ни один не бы-
вает во всем подобен другому»,— и прийти к выводу: < акв
Крез, человек — это сплошное бедствие». Этот новый тезис под-
чиняет человека космической изменчивости и оправдывает утверж-
дение, что человека нельзя признать счастливым прежде смерти.
Утверждение звучит полемически, оно направлено против надмен-
ности всесильного властителя и обращено к нему лично. На вопрос
Креза Солон отвечает словами: «на вопрос твой я ничего не скажу,
пока не узнаю, что ты хорошо окончил свой век». Однако разговор
на этом не обрывается, и Солон продолжает убеждать царя теперь
уже доводами от человеческой жизни. Снова прибегая к анафоре
и рифме и усугубляя впечатление поэтическим словом ~а~Ломо~,
оп торжественно отдает предпочтение умеренности перед богатст-
вом: «многие и в большом достатке (~а~Лои;о~) жалки, а многие,
хотя и скромны (~я~р~в~ «~о~-.в:) в жизни, полны благ». Как и в
начале речи, он пускается затем в расчет, взвешивая преимущества
того и другого образа жизни. Подбирая прилагательные со схо-
жим звучанием в начале и в конце и равным числом слогов, соеди-
няя их без союзов, он убедительно говорит о привлекательных
чсртах умеренного человека: ~-.."rjpo: яхт~, avouaoc, м~аЭ~~ vaxv>
~" ~ис:, е~яМ~~ — «безущербен, безболезнен, безбеден, благодетен,
благообразен» (пер. М. Л. Гаспарова).
Конец речи перекликается с ее началом, повторяя ту же сен-
л ицию применительно к человеку: «во всяком деле надо смотреть
43
на его исход, во что оно выльется, ведь многим бог сначала явил
счастье, а потом сокрушил их до основания». Ее содержание—
пространная вариация той мысли, близкой современникам Геро-
дота, которую Эсхил выразил устами Агамемнона:
...И ТОТ, КТО КОНЧИТ ЖИЗНЬ
В благополучье, тот блажен поистине,—
(«Агамемион», ст. И~, ЖО; пер. С. Апта)
а Софокл — в заключительных строках «Царя Эдипа»:
Значит, смертным надо помнить о последнем нашем дне,
И назвать счастливым можно, без сомнения, лишь того,
Кто достиг предела жизни, в ней несчастий не познав.
(ст. 1488 — 1490; пер. С. В. Шервинского)
В последующих эпизодах из жизни Креза, в истории гибели его
сына Атиса, мы сталкиваемся с еще одной разновидностью «комби-
нированного» сюжета: повествование составлено из ситуаций,
восходящих к трем независимым друг от друга мотивам сказок,
и дополнено собственными добавками автора. Вещий сон, охота на
кабана (ср. «Илиада», IX, 527 и сл.), гибель на охоте от руки друга
(ср. Пиндар, фр. 48) — таковы идущие от фольклора компоненты
Геродотова рассказа. Для того чтобы слить их воедино, Геродот
ввел новый мотив гостеприимства, оказанного царем будущему
убийце сына. Выразительность эпизода построена на эффекте не-
ожиданности. Сцена самоубийства Адраста (I, 45), столь обычная
для концовок трагедии, завершает первую половину рассказа о
Крезе ".
Вторая его часть посвящена войне с Киром и подготовке к ней.
Как и в первой части, здесь имеется остов повествования, обуслов-
ливающий продвижение действия вперед, но это уже не сжатый
перечень событий типа хроники, в котором бегло обозревались
периоды многих лет, а ситуации, в которых раскрывается отноше-
ние героя к действительности и мотивируются его поступки. Со-
относя поведение героя с внутренними импульсами — волевым
и рассудочным, Геродот раскладывал сообщение о действии на
части, фиксируя то, что предшествовало явному акту, то, что со-
вершалось как бы за сценой, внутри героя. Аналитическими зари-
совками подобного рода разнохарактерные эпизоды отграничены
друг от друга и одновременно подведены под общий знаменатель,
а все событие в целом расчленено на этапы. Первый из них — это
рекогносцировка сил, когда лидийский царь вопрошает оракулов
и заключает союз с материковыми греками. Оба эпизода введены в
текст при помощи однотипных фраз с ключевым словом ypov«z
(забота). К рассказу об оракулах, данных Крезу, Геродот присту-
пает так: ~я;х Вя... «x оч Пяр~йю кр~7мата ио~ичбия~а лЬЭяо: [Йм
Кро7оои а~й~овае, av~Hqaa й й~ ypov:Ыа... иятх ач ~j~ ~са~осал ~mu~pv
шм(«а а~яквржсо туч иичс~[юч (после того, как... растущая мощь
персов заставила Креза забыть свое горе, он целиком ушел в за-
боту... и с этой мыслью тотчас же послал испытывать оракулов)
(I, 46). А вот как он переходит ко второму эпизоду: рета й ~àè~à
вррочч~в 1аторйю... Ьсорвюч о='- варя~в... (после этого он забот-
ливо исследовал... а исследуя, нашел...) (I, 56).
Второй этап — это начало войны, нарушение Крезом границы
по реке Галису. К этому акту Геродот подводит читателя троекрат-
ным указанием на его причины в трех аналитических предложе-
ниях с ключевым словом асра~~~~1 (поход); ими окаймлены два
новых вставных эпизода. Первое упоминание о походе звучит так:
«Крез же, неверно поняв предсказание, предпринял поход в Кап-
падокию, надеясь сокрушить Кира и мощь персов» (I, 71). И рез-
ким диссонансом к Крезовой надежде звучат напрасно обращенные
к царю слова мудрого Санданиса о невыгодах войны (1, 71), после
чего побуждения Креза еще раз и более развернуто выставляются
на вид: «В поход против Каппадокии Крез шел, горяжеланием при-
соединить земли к своим владениям, всецело веря предсказанию и
желая отомстить Киру за Астиага» (1, 73). Новый мотив личной
мести обосновывается историческим экскурсом об Астиаге и его
отце Киаксаре (I, 74) ". И опять внимание читателя заостряется
на чаяниях Креза: «Надеясь, что оракул на его стороне, он отпра-
вился походом в землю персов» (I, 75) — такова прелюдия к по-
вествованию о войне. Описание самой войны содержит новые
сложные синтаксические конструкции, освещающие повороты со-
бытий: отступление Креза к Сардам, начало боя под Сардами, воз-
ведение Креза на костер Киром.
В первом и последнем случае задний (внутренний) план дейст-
вия раскрыт при помощи одинакового ключевого выражения а~ v6~
«у< вч(и е вмысл х,задума ),кото оеобъедин етвок угс
развернутое изображение намерений и импульсов персонажа.
О Крезе говорится так: «Крез... отступил к Сардам, имея в мыслях
призвать египтян... послать за вавилонянами, сообщить и лаке-
демонянам, чтобы они прибыли в назначенное время; он намере-
вался, собрав их и присоединив к своему войску, переждав зиму,
выступить весной походом против персов. Рассуждая так, как
только он прибыл в Сарды, он послал вестников...» (1, 77). Анало-
гичной синтаксической конструкцией, в которой предикативные
причастия громоздятся вокруг глагола, Геродот раскрывает по-
доплеку той казни, на которую Кир обрекает Креза: «...он
1Кир) велел сложить большой костер и возвести на него Креза...
имея 8 мыслях то ли посвятить какому-либо богу жертву, то ли же-
лая исполнить обет, толи, ведая, что Крез — человек, угодный бо-
гам, он возвел его на костер, стремясь узнать, помешает ли какое-
нибудь божество сгореть ему живым» (I, 86).
Противопоставленные средствами синтаксиса в начале и в конце
«эпизода '. ард», Крез и Кир поставлены друг против друга и в ре-
шающей его точке при изображении завязки боя, когда контраст
двух полководцев держится на ключевом слове 8о«в (думаю, при-
нимаю решение): Кир принял решение (о1 Ио~в) и начал действо-
вать — Крез оказался в тупике, так как все произошло вопреки его
мнению (~ар~ <o'(x ), нет к, ак онду ал(хжтвйя ).Приво имте
этого зачина к описанию битвы: Юров й auriga а~вAauvovqoq Kpoiaou
рятсс ~jv uayqv -.jv yevo~à÷òð еч т~ И~ар~~, раЭйч eq a~s~gggq р~Лло~
Kpoiaoc бваа~ябач -оч aTpa~ov, (houXBUoQBvo& t;во~с ~ваЯ7 ма о~а
а~аочыч и~ оочапо ~а~ьата вкi ~а~ 2:ар@с~, spiv q ~o Bau~spov u>
Эоча~ тйч Либйч туч ~очарсч, и~ ов о~ тиоЪ Во~в, хЫ акопова ~ата
~а~о~ ааааа~ уар ~оч атра~оч в~ ~тч Лой~ч аоикб~ ауув& t; осKpo aek&
дав, вчЭаота Кро~ао~ е~ апорт",р коИ~~ч а~щмю~,и а о~ кира оо~ач <
~рч~7рита 7j и&g ;< x010$китв оквв ор ~тоМ 06094 6( jpер
«Крез только что отступил после битвы при Птерии, как, узнав,
что Крез намерен после отступления распустить войско, Кир, раз-
мысливая, нашел, что его задача — поскорее двинуться против
Сард, пока силы лидийцев не будут стянуты во второй раз. Когда
он решил так, то и выполнил это быстро. Продвинув войско B
Мидию, он сам пришел к Крезу вестником. Тогда Крез, пришедши
в крайне безысходное положение, потому что дела шли вопреки
тому, что он ожидал, повел тем не менее лидийцев в бой» (1, 79).
Указанными вехами вторая часть легенды о Крезе расчленена
на эпизоды, в известной мере симметричные первой части: экскур-
сы в прошлое Афин и Спарты (I, 59 — 69) и история Киаксара (I,
73 — 74) представляют собой такую же переработку устных сказов
слогом деловой прозы, как и предания об Алиатте и Арионе (1,
17 — 24), увещание Санданиса (I, 71) перекликается с назиданием
Бианта (Питтака) (I, 27), а в сцене Креза на костре искусно соче-
тается тоника фольклора (три вопроса, спасение в последний мо-
мент) с техникой драмы (прием ~ецз ех machina), как и в истории
Атиса.
КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИИ
1еродотов метод обработки источников — это сохранение связи с
прототипом в тонике и в стиле и одновременномодификация, ус-
ложнение того и другого, синтезирование черт разных прототипов
и авторское вмешательство в рассказ: этот метод обращения с част-
ностями определил собой специфику воссозданного Геродотом цело-
го — данную в рамках легенды о Крезе реконструкцию лидийской
истории. Фрагменты этой истории были хорошо известны грекам
V в.: в Дельфах красовались дары Гигеса и Креза, жило предание
о том, как пифия предрекла Гигесу кару в пятом потомке, а Крез
неверно истолковал слова оракула и погубил царство не Кира, а
свое собственное, благодаря чему исполнилось предречение, дан-
ное Гигесу; в ходу были рассказы о посещении Креза семью мудре-
цами, о гибели Крезова сына на охоте, о возведении Креза на кос-
тер, а также о догадливой уловке Фрасибула в войне с Алиаттом и
т.д. При объединении вместе этих рассказов, возникших в разных
областях Греции, Геродот" протягивал нить временной последо-
вательности и восстанавливал промежуточные звенья между
эпизодом Гигеса и эпизодом Креза на костре. Помещенные ря-
дом отрывки, написанные в разном стиле и почерпнутые из разных
источников, придавали повествованию прерывистый и ретарди-
рующий ритм: от беглого обзора больших исторических периодов
внимание читателя переключалось на подробности единичного со-
бытия или на интимную беседу одного дня. Предание ставило нес-
частье Креза в прямую зависимость от изречения пифии Гигесу,
и Геродот упорядочивал факты внутри этой причинно-следственной
схемы. От Гигеса до Креза он распределил события по царствова-
ниям в хронологическом порядке.
Однако для этапов биографии самого Креза такой внешний
ориентир отсутствовал, и, чтобы разместить здесь детали в опре-
деленной последовательности, Геродот связал их смысловыми ни-
тями. Характер причинных связей, введенных им в материал, был
достаточно традиционным для его эпохи. Надпись на стене дель-
фийского святилища гласила ~ничего сверх меры» (и~йч ауа~);
о справедливости, которая карает чрезмерно алчных, их самих и их
потомков, писал в своих элегиях Солон. О том, насколько понятен
был' публике мотив кровной мести, свидетельствует творчество
трагиков. Дельфийский оракул пользовался непререкаемым авто-
ритетом. Опираясь на эти знакомые всем представления, которы-
ми систематизировалась человеческая жизнь, Геродот создал свою
собственную легенду о Крезе. В новой авторской версии ситуация
крушения благополучного счастливца, угодного богам царя Ли-
дии получила дополнительную трактовку: схема фатальной не-
избежности (за убийство Кандавла пифия предрекла Гигесу на-
казание в пятом потомке, и этим потомком был Крез) осложнилась
новой мотивировкой, так что происшествия жизни Креза оказа-
лись взаимообусловленными.
Геродот ввел в свой рассказ мотив личной ответственности ге-
роя. Ради его иллюстрации беседа с Солоном приобрела вид ди-
дактического увещания, в котором прошлое (жизнь и смерть Тел-
ла, Клеобиса и Битона) толкуется как руководство для настоящего,
а будущее ставится в зависимость от общего для всех мирового
порядка и потому предугадывается. Геродот заставляет своего
Креза высокомерно пренебречь этими истинами и тем объясняет
его дальнейшую судьбу. Смерть сына показана непосредственно
вслед за беседой с Салоном как возмездие от бога (~аивак вх
Qso5) за то, что Крез почитал себя самым счастливым. И в сцене
на костре Крез гласно заявляет о правоте Солона. Мотив кары за
преступление Гигеса усугубляется мотивом собственно Крезовой
неправоты ". Падением Креза иллюстрируется не только непре-
ложность оракульского вещания, но и неустойчивость человече-
ского благоденствия, та взаимообратимость явлений, о которой
Геродот говорил в начале (I, 5) своего труда и которая устами Со-
лона (I, 30) обозначена как «зависть божества».
Однако отнюдь не только метафизический аспект судьбы Креза
привлек к себе внимание Геродота, для него в такой же мере ин-
тересна и ее политическая сторона. Изображение происшествий
как обусловленных умом, находчивостью человека и расчетами
политики было столь же свойственно устной словесной традиции,
как и мотив зависти богов и наказания за преступление. И Геродот
воспользовался подобной топикой ", чтобы представить ход войны
с Киром как цепь утилитарных причин и следствий. Ее начало
спровоцировано двумя факторами: политическим — конкуренцией
между государствами (стремлением к экспансии) и этическим—
желанием отомстить за обиду, нанесенную родственнику. Ее исход
решен догадливостью Кира, который по совету Гарпага пустил
против лидийской конницы верблюдов и тем обратил коней в бег-
ство (1, 80). Причины разного порядка сополагаются, но не синтези-
руются в картине, нарисованной Геродотом, и прав А. И. Яоватур,
назвавший его манеру рассказывания «кумулирующей» ". Вместе
с тем наблюдение А. И. Яоватура нуждается в дополнении. Геро-
дот не вводит однозначной причины для объяснения всех событий,
и ни одна из них не играет роли общего знаменателя во всем ходе
истории, но Геродот вырабатывает определенную топику для сис-
тематизации событий, и именно она должна помочь нам понять Ге-
родотову концепцию истории не только аналитически, нетолько в
ее происхождении и отдельных частях, кои в ее комплексном един-
стве, в ее сложном составе и связи с художественной техникой
автора.
Очерк о Лидии несет в себе ту модель изображения событий,
которая затем проигрывается на всем материале Геродотова пове-
ствования ". В рамках персидской истории рассматривается та же
тема внутригосударственных и внешнеполИтических отношений—
тема утверждения власти и захвата чужих территорий. И Геродот
оперирует здесь уже не только масштабами отдельных стран, но и
масштабами материков — Азии и Европы в целом. Он окидывает
взором внешнюю политику Персии от Кира до Ксеркса и видит в
ней два главных ориентира: сначала, при первом завоевателе Ки-
ре,— подчинение всей Азии, затем, при аварии и Ксерксе,— овла-
дение и Азией и Европой вместе; Сразу же после завершения раз-
дела о Лидии Геродот декларативно заявляет: «Отныне речь у нас
пойдет о том, что это за человек Кир, который сокрушил державу
Креза, и о том, каким путем персы покорили Азию» (I, 95). И по-
вторяет то же самое, когда рисует приход Кира к власти: «Вот так
Кир... низложив Креза, овладел всей Азией» (I, 130). Все даль-
нейшее изложение событий окрашено MQTHBoM господства персид-
ских царей над Азией и Европой. Впервые он звучит в вещем сне
Кира (1, 209), которому снится, что у Яария Гистаспа два крыла
распростерты над Азией и Европой, и получает свой резонанс пос-
ле Саламина в словах Фемистокла: «Боги и герои позавидовали и
не дали одному человеку воцариться над Азией и Европой» (VIII,
109).
Три звена — план завоевания Европы, переправа в Европу и
возвращение назад в Азию образуют собой ту схему, по которой
очерчен и скифский поход Яария и поход Ксеркса в Грецию.
В первом случае эти звенья намечены слабо и с минимальной дета-
лизацией: замысел Яария предуказан в сне Кира (см. выше), Яа-
рий переправляется в Европу по мосту, наведенному через Боспор
(IV, 83), а назад в Азию — через Сест на Херсонесе. Во втором
48
случае та же ситуация воспроизведена с предельной наглядно-
стью. Писатель инсценирует военный совет, на котором раздаются
голоса, зовущие к порабощению Европы (VII, 5, 8, 9), он неодно-
кратно упоминает о намерении персидского царя переправиться в
Европу (VII, 172 — 174) и покорить Европу (VII, 50, 54), о мосте
через Геллеспонт из Азии в Европу, который соединил оба конти-
нента (VII, 33); он красочно рисует саму переправу в Европу (VII,
56) и говорит о той опасности быть отрезанным и остаться в Евро-
пе, которая грозила царю (VII, 97, 108). И рассказ о греко-персид-
ских войнах Геродот обрывает на описании осады того самого Сес-
та, через который пролегал путь Яария, отступающего в Азию.
Яве предпринятые персами переправы через морские рубежи ма-
териков закончились одинаково: персы вернулись в свои преде-
лы — таков итог воссозданной Геродотом эпопеи.
Охватывая взором историю могущества персидской державы от
ее возвышения при Кире до поражения в греко-персидских вой-
нах, Геродот подчинял отбор и аккумуляцию материала тому на-
рочитому способу описания фактов, который указан им в начале
труда, когда он обещал говорить о великих и малых городах с
равным вниманием. Мотив неустойчивости человеческого счастья,
лежащий в основе избранного метода, определил собой характер
всей воссозданной картины. Геродот мыслит именами отдельных
лиц и целых государств; и его повествование о правлениях и пра-
вителях — это цепь рассказов о том, как в жизни людей и госу-
дарств взлети падение менялись местами. Это относится и к самой
Персии в целом: победоносному Киру наследует безумный Камбис,
великому аварию — неудачливый Ксеркс, а в жизни каждого из
них имеет место и успех и неуспех. Это относится и к грекам:
процветающий Милет терпит поражение; Афины, доведенные до
крайнего бедствия, одерживают победу над персами. Историче-
скими примерами Геродот иллюстрирует идею равновесия или кру-
говорота человеческих дел.
Приводимые писателем детали не только скреплены особым
образом и стилистически оформлены, они же и наделены особым
смыслом, который подчиняет их общей концепции. Ясность Геро-
дотова произведения — это не только отчетливость композицион-
ной линии и выразительность словесной манеры, это еще и тен-
денциозность содержания — намеренное стягивание деталей в один
узел. Яля того чтобы освещать события под нужным ему углом
зрения, Геродот применял два основных приема, соотнося факты
путем их сопоставления и схематизации и путем авторской оценки
их. Знакомый с картой Анаксимандра и с «Объездом земли» Гека-
тея, Геродот придавал географическую упорядоченность своему
историческому рассказу. Объединяя события вокруг правления
Кира, Камбиса, Яария и Ксеркса, он помещал их внутрь трех про-
странственных единств с четко очерченными контурами. Первое из
них соотнесено с походами Кира и Камбиса. Геродот рисует рост
персидских территорий, переводя взгляд с одного конца державы
на другой и сближая в фокусе внимания крайне удаленные друг
от друга объекты: из Лидийских Сард он переносит место действия
на восток — в Мидию и Персию, затем на запад — в Ионию, потом
еще раз на юго-восток — в Вавилон, после чего на северо-восток—
в землю массагетов, а от них на юго-запад — в Египет и снова воз-
вращается к западной части Азии на остров Самос.
Тот же принцип переноса действия на противостоящие друг
другу местности использован и при описании следующего этапа
персидской истории — консолидации сил при аварии. По срав-
нению с первым этапом действие здесь заметно сдвинуто на запад:
его основные точки — это Сузы, Самос, Западная Греция, снова
Самос, затем Вавилон на Востоке, Скифия на севере и Ливия на
юго-западе, после чего ареной конфликтов снова делается север-
ный район Эгейского бассейна и действие концентрируется в
материковой Греции. При такой распыленности событий и одновре-
менном включении их в одно действие понятия Европы и Азии иг-
рали роль общего знаменателя: круг явлений, который охватывал-
ся ими, в разной взаимосвязи тем самым получал свою однород-
ность и сопоставимость. В один смысловой контекст попадали такие
далекие друг от друга международные акции (помимо тех приме-
ров, которые приведены выше), как вытеснение скифами киммерий-
цев из Европы в Азию (I, 103) ", переправа фараона Сесостриса из
Азии в Европу (II, 103), изгнание пеонов Дарием из Европы в
Азию (V, 12), продвижение Мардония по Европе и его возвращение
в Азию (VI, 43), переселение фригийцев из Европы в Азию (VII,
73), имевшая место до Троянской войны переправа тевкров в Европу
(VII, 20), прибытие персидских разведчиков в Элладу из Азии
(VII, 138), отправка греческих соглядатаев в Азию и возвращение
их в Европу (VII, 145 — 148).
Приведенными примерами история дипломатии представлена
как уравновешивающее друг друга проникновение народов на тот
и другой континент. Значительно глубже и подробнее Геродот
раскрывает сбалансированность исторических событий внутри них
самих, в сходстве их структуры, в повторяемости одних и тех же
причин и результатов. Составные части ситуации Креза — пред-
решенность судьбы героя, его самоуверенность, два типа доводов,
которые приводят ему советники (довод метафизический и утили-
тарный), ошибочное толкование оракула, предвосхищение рассказ-
чиком дальнейших событий, мотивировка похода, самообман, про-
игрыш битвы, личная вина" героя — все это в различных вариациях
воспроизведено в обрисовке центральных фигур и эпизодов «Исто-
рии». Равнодействующая взлетов и падений получает у Геродота
причинное обоснование, и с этой целью он намеренно распределяет
детали, подбирает данные, усиливает экспрессию словесных при-
емов.
На магистральной линии исторических фактов решающие и
крупные события получают однотипное обоснование. Они, как
правило, бывают вызваны стремлением захватить власть, стремле-
нием расширить территорию и стремлением отомстить за обиду
(воздать равным за.,'равное) ". Власти домогается Дейок, ставший
первым царем Мидии. Из чувства мести Гарпаг провоцирует войну
Кира с Астиагом '~, к экспансии стремится Кир, Камбис, отправля-
ясь походом"в Египет, мстит за свою мать, жажда завоеваний и месть
толкают Дария на войну со скифами. Тираны Милета, Аристагор
и Гистией, из своекорыстного властолюбия подстрекают ионян вос-
стать против персов. Все три импульса стянуты вместе для объяс-
нения нашествия Ксеркса на Элладу: Мардоний хочет стать сатра-
пом Эллады, когда побуждает Ксеркса к войне, сам Ксеркс аргу-
ментирует вторжение доводами экспансии и мести. Не только
начало, но и ход, и итоговый конец предприятия получают свою мо-
тивировку.
Для того чтобы представить цепь детерминированных актов как
повторяющиеся периоды подъема и спада, Геродоту надо было фик-
сировать переломные моменты между ними. И писатель тщательно
разработал технику их изображения, воспользовавшись в качестве
главного средства приемом контраста. Изменение в судьбе героя
представлено Геродотом как неожиданный оборот действия от ожи-
даемого к непредвиденному. Непредугаданное героем событие рас-
полагается автором на общей линии мотивированных явлений, тя-
нущихся через всю историю. И оно получает двойное освещение:
герой не ведает о нем, но читатель гнает и ждет его. Соединить эти
два эффекта Геродоту помогает топика увещаний, советов", про-
роческих предзнаменований и авторских ремарок. Действие раз-
вертывается при постоянном заглядывании рассказчика вперед,
предуказании того, что будет. Оправдываются прогнозы одних,
и рушатся надежды других. Экспрессии этих коллизий служит
распределение и сочетание подробностей, образующих сюжет ос-
новного повествования. Обратимся к примерам.
Эскалацию завоевания Азии при Кире Геродот показывает в ее
территориальном размахе — от Ионии до Вавилона и в силе пре-
одолеваемых Киром препятствий. Из экспедиций, руководимых
лично Киром, представлены две — поход против Вавилона и против
массагетов. Военная догадливость Кира охарактеризована почти
так же, как при битве под Сардами, где о нем говорится: «Испу-
гавшись конницы, он по совету мидянина Гарпага сделал вот что»
(1, 80). При осаде Вавилона Кир, «находясь в безвыходном положе-
нии, то ли по чьему-то совету, то ли поняв сам, что ему надо делать,
стал делать вот что» (I, 191). Переводя взор с вавилонского похода
на массагетский, Геродот говорит о его причинах словами, напоми-
нающими тон персидских царских надписей: «много важных при-
чин побуждало и толкало его [к походу), во-первых, само рожде-
ние, он мнил себя сверхчеловеком (кХ«оч «uv&pu&g ;~ou),во-
успех, никогда не покидавший его в войнах, ведь куда бы ни шел
походом Кир, участь того народа была решена» (I, 204).
Низлагая затем своего героя с этой высоты ", Геродот тенден-
циозно реконструирует обстоятельства его гибели, сопровождая
~ вой рассказ ремаркой: «из всех преданий, которые передают о кон-
чине Кира, вот это, по-моему, самое убедительное» (I, 204). При-
веденная выше мотивировка похода служит той предельной точкой,
51
после которой меняется окраска событий: свет переходит в тень,
перестают звучать победоносные ноты. Кир теперь терпит неудачу
в сватовстве к массагетской царице. На военном совете, когда ре-
шается стратегия боя, Геродот делает советником при Кире умуд-
ренного жизнью Креза '». Этот «новый» Крез играет при Кире Tó же
реально немыслимую роль, какую в лидийской истории при нем
самом играли Солон и Санданис. Перефразируя известные слова
Эсхила '4, Крез напоминает об опыте истории, говоря, «мои горь-
кие страдания принесли мне знания» (сй Ы ко~ ~а& ш~а ~а]в
<х& t;р«&g ;~~фм~х т.' о~з) I, 207),и, повтор ялогику
ний Солона, ссылается на~ неизменно действующий круговорот
человеческих дел, лишая Кира ореола сверхчеловека: «если ты
мнишь себя и свое войско бессмертным, то мне не было бы нужды
высказывать тебе свое мнение. Но если ты познал, что и ты чело-
век и правишь такими же людьми, то уразумей прежде всего то,
что существует круговорот человеческих дел (moxa o: тй~ av-
dp >~ ~þв т1xpqy~i~io ) и он непозво итб тьудачлив мивсе
одним и тем же людям» (I, 207).
Наряду с этим метафизическим доводом он приводит и IIpaKTH-
ческий аргумент относительно места битвы, предупреждая царя
о возможности поражения. И последний штрих сгущающихся мрач-
ных красок — это авторское замечание по поводу вещего сна:
«Думая, что Дарий злоумышляет против него, Кир вел такую речь,
но этим сновидением божество предвещало то, что ему здесь пред-
стоит скончаться, а царство его перейдет к Дарию» (I, 210). Этой
ремаркой смерть Кира показана как неминуемая, однако, как
и в легенде о Крезе, мотив неизбежной участи соединен тут с моти-
вом личной ответственности: гибель Кира — это возмездие царицы
массагетов за его коварство. Делая затем Камбиса антиподом его
отцу, Геродот и в жизнеописание Кирова сына вносит ту же схему
развенчания своего героя. Камбис противопоставлен Киру — он
бездарный военачальник, и в походе против эфиопов его нерасчет-
ливость губит войско. Геродот делает по этому поводу такое заме-
чание: «Камбис отправился в поход на эфиопов, не дав распоряже-
ний о запасах хлеба и не дав себе отчета в том, что предстоитпоход
на край земли. Как сумасшедший и обезумевший он отправился
в поход лишь только услыхал рассказанное ихтиофагами... если бы
Камбис обращал на это внимание и отвел свое войско назад, то,
хотя и была с самого начала допущена ошибка, он проявил бы себя
человеком умным. Теперь же, ни с чем не считаясь, он продвигался
все вперед и вперед» (III, 25).
Если Кнр поставлен выше обычного человека, то его сын — ниже
нормальных людей. Геродот дает ему определение «безумец» и при-
водит факты, доказывающие невменяемость царя: убийство им соб-
ственных брата и сестры, убийство ребенка своего вельможи, надру-
гательство над священными обычаями египтян (убийство священного
быка Аписа", осквернение гробниц). И это дает писателю повод
заявить о своем уважении к обычаям всех народов как нравствен-
ной норме каждого из них: «Для меня совершенно ясно, что Камбис
62
ты в панораму развертывающихся эпизодов, и они создают ту на-
пряженность и контрастность, которыепозволяют писателю расстав-
лять необходимые акценты. Условность этих речей признается
филологической критикой ", и автор помещает их там, где его рас-
сказ проходит через поворотные и конфликтные точки. Главнейшие
из них такие: захват Дарием власти (III, 80 — 83), сопротивление
скифов (IV, 118 — 119, 126 — 127), подготовка Аристагором нонни-
ского восстания (V, 49), подготовка ионян к морской битве с пер-
сами (VI, 9, 11), решение дать бой при Марафоне (VI, 109).
Величие Дария освещено сменяющими друг друга кадрами,
в которых воспроизведены дискуссии политиков, фольклорные ска-
зы, сведения экономического характера, данные географии и этно-
графии. Первый кадр — это приход Дария к власти. Его основное
содержание — две инсценировки совета семи персов-заговорщи-
ков. На одном из них разрабатывался план захвата власти (III,
70 — 73), на втором — решался вопрос о будущей форме правления
(III, 80 — 83). B обоих случаях Дарий играет ведущую роль: в со-
перничестве с другими партнерами он развивает свою аргумента-
цию и добивается согласия остальных. Перед началом переворота
Геродот вкладывает в уста своего героя призыв к немедленному
действию и заставляет его манипулировать столь привычным для
аттического красноречия V в. доводом выгоды (.ярМ).
Драматизируя ситуацию, Геродот ставит Дария лицом к лицу
с осторожным Отаном и, воспроизведя пыл полемики, показывает
ту крайнюю точку беспринципности, какую оправдывает этот до-
вод, стирающий грани между истиной и ложью: «Где нужен обман,
пусть будет обман,— заявляет Дарий.— Ведь и когда обманываем,
и когда говорим правду, мы стремимся к одному — к выгоде. Те,
кто обманывает, поступают так, потому что намерены обманом до-
биться выгоды, а говорящие правду делают это для того, чтобы
правдивостью улучить еще большую выгоду. Разными путями Mb&
получаем одно и тоже. Если бы не шла речь о выгоде, то в равной
мере и правдивый мог бы стать обманщиком, и обманщик — прав-
дивым» (III, 72). Этотдовод служит той главной убеждающей силой,
которая толкает слушающих к действию. Мотив восстания против
магов усиливается двумя последующими фрагментарными зарисов-
ками. Действие переносится на улииы города: вельможа Прекасп пе-
ред народом разоблачает обман магов (III, 74, 75), не ведая об
этом, заговорщики, направляясь к цели, видят на небе вещее зна-
мение и толкуют его в свою пользу (III, 76).
После кровавой картины избиения магов Геродот (III, 77 — 79)
снова показывает совещание семи персов и Дария как протагониста
в нем. Вызвавший немало филологических толков ", этот спор
о типе государственной власти изображен в виде трех антитетиче-
ских монологов, восхваляющих демократию, олигархию, монар-
хию. Во всех трех случаях убеждение ведется способом порицания:
каждый из ораторов чернит одну из названных форм, живописуя ее
негодность (xaxo;q:), и советует выбрать противоположную. Так,
Отан начинает с обвинения монарха в разнузданности (l(p«), 3a-
54
висти (~Эою:), попрании отеческих законов (~олх~а ~а~р~а) и хва-
лит демократию (Ьоюи~~). В ответ ему Мегабиз соглашается с его
критикой монарха, но сам критикует также и народовластие, ин-
криминируя ему туже разнузданность (о~рк) и неразумие (~vsu voou),
он предлагает третью форму — правление аристократии, ссылаясь
на довод вероятности (ого): «решения лучших людей естественно
(olxo;) бывают наилучшими» (1 I, 81). Последним из всех говорит
Дарий: соглашаясь с критикой демократии, он указывает на зло,
таящееся в олигархии, и защищает монархию. Обращаясь к авто-
ритету персидской традиции, он призывает не отказываться от оте-
ческих обычаев (~u~pioo: чоро~:). Его мнение одерживает верх (III,
82 — 83). Патетика речей усиливается обилием поэтических слов
и ритмов, а также риторических фигур (риторических вопросов,
пареллелизмов и др.). Заключительный акт всего первого кадра—
избрание Дария на царство — подан в форме фольклорного сказа
о смекалистом (~оф~) конюхе, который устраивает дело в пользу
своего господина (I II, 84 — 86).
Напряженная динамика первого кадра резко контрастирует
с величественной статикой последующего отрывка (I I I, 90 — 95),
где автор показывает экономическую мощь Персии, перечисляя
доходы, получаемые с подвластных сатрапий. Если в первом кадре
захватывающая наглядность создается вводом прямой речи,
то здесь прозрачная ясность достигается точным подражанием слогу
документов. «Двадцать раз подряд читаются одинаковые фразы,—
пишет А. И. Доватур,— костяк которых строится по принципу
parallelismus тетЬгогит с небольшими вариациями. Схема этих
фраз следующая: название народов, глагол, характер и размер
дани, порядковый номер сатрапий» ". Перечень податей переносит
взгляд читателя с тесного пространства одного города на просторы
Азии, и Геродот продолжает расширять горизонты своих наблю-
дений вплоть до самых окраин ойкумены (обитаемой части земли),
вводя географические экскурсы о странах, откуда доставлялись
ценные товары (III, 97 — 116).
В таком же продвижении от малого к великому показана затем
и деятельность Дария-царя. Геродот начинает с рассказа о его
расправе с двумя вельможами за «превышение прав» (53р1.), расцве-
чивая эпизоды вставной новеллой о женщине, которая просит
оставить ей в живых не мужа, не сына, а брата (111, 119), и пере-
ложением легенды о Поликрате (I I I, 121 — 125). Переводя взор
с внутренней политики на внешнюю, с казни сановников на военные
походы, Геродот предваряет дальнейшее изложение событий свое-
образным прологом в форме анекдота о придворной интриге: плен-
ный грек, врач Демокед, вылечивает царя и царицу и в награду про-
сит царицу Атоссу внушить Дарию мысль о походе в Элладу, в слу-
чае которого он надеется вернуться на родину; хитрость удается,
Дарий посылает Демокеда вместе с соглядатаями на разведку,
и врач от них сбегает, а разведчики ни с чем возвращаются в Азию
(I I I, 129 — 138).
В этой новелле устами Атоссы и Дария Геродот определил новое
55
направление завоевательного курса персов как притязание на Гре-
цию. На слова Дария о том, что он намерен выступить против ски-
фов, Атосса возражает: «Оставь мысль о том, чтобы идти первым
походом против скифов: они будут твоими, стоит тебе только захо-
теть. Нет, ты ради меня снаряди поход против Эллады» (III, 134).
Эта предварительная наметка скифской и греческой темы вносила
целенаправленность в последующее непрерывное повествование.
Как уже говорилось, экспансия Дария повторяет географию аг-
рессии Кира: Геродот сначала упоминает о подчинении Самоса,
затем об усмирении Вавилона, после чего обращается к Скифии.
Эта последовательность воспроизводит постепенное нарастание
трудностей: осада Вавилона тяжелее войны с Самосом, поход про-
тив скифов менее успешен, чем захват Вавилона. Чем грандиоз-
нее объект, тем менее удачлив становится полководец. Война со
скифами привлекает особое внимание писателя: именно в ней он
видит смену счастья и несчастья в судьбе Дария. Ее начало моти-
вируется почти теми же причинами, что и поход Креза против Кира.
Вот как приступает Геродот к рассказу об этой войне: «После взя-
тия Вавилона был поход самого Дария на скифов. Азия ведь тогда
была в расцвете воинских сил, в страну текли великие доходы,
и Дарий захотел отомстить скифам за то, что они первые вторглись
в Мидию и, одолев противников в битве, первые нанесли обиду»
(IV, 1).
О скифах Геродот пишет как путешественник и ученый-исследо-
ватель. Ему знакома карта земли, и ему интересны не только се-
верные племена, но и земля в целом: он толкует о том, каковы очер-
тания трех материков, исправляет карту своих предшественников
и выражает недоумение по поводу того, что единая земля носит
три названия (т. е. названия трех материков) (1Ч, 36 — 45). B духе
современной ему медицины он объясняет характер Марода (непо-
бедимость скифов) его образом жизни и природными условиями
местности (IV, 46 — 47) ". В изображение скифской кампании Геро-
дот ввел уже использованную им топику царских «биографий»: мо-
тив предостерегающего и неуслышанного совета и символического
знамения. Поход привел к неудаче, но не к гибели Дария и не к кру-
шению державы, поэтому описание его лишено трагизма. Речь
советника, брата царя Артабана, не воспроизведена, а скупо пере-
сказана, и в ней нет метафизических доводов, а лишь упомянута не-
доступность скифов (IV, 83).
Начало похода оттенена двуединством мрачного и светлого тона.
Мрачный тон — это отказ Дария следовать благоразумному сове-
ту, светлый — это показанная тут же картина переправы Дария
через Боспор. В нее включены и величественное описание разме-
ров Понта, которым любуется Дарий, и цифровые данные о его
войске, высеченные на столбах, и зарисовка-памятник строитель-
ных работ по наведению моста, на котором изображен Дарий на
троне, и, наконец, путь следования войска в Европу (IV, 85 — 89).
Ход военного конфликта освещен со скифской точки зрения: Геро-
дот вводит читателя в лагерь жертв персидской агрессии и показы-
56
вает их инициативу — военный совет племенных вождей и плано-
мерную (~и ЗвЗоэ),я~ъЬа) тактику скифов. На совете сталкиваются
две оценки вражеского нашествия: послы скифов видят в нем безу-
держную экспансию, направленную против всего материка, и при-
зывают к объединенному отпору, их оппоненты, напротив, видят
в походе Дария лишь справедливую карательную акцию за при-
чиненную некогда скифами обиду и потому отказывают им в по-
мощи (IV, 118 — 119). Предоставленные самим себе, скифы замани-
вают персов в глубь страны.
Высшую точку напряжения Геродот воссоздает в словесном по-
единке между посланцем Дария и скифским царем Иданфирсом
(IV, 126 — 127). Дарий требует немедленно дать битву или покорить-
ся: признать его господином и дать землю и воду. Иданфирс наот-
рез отказывается и от того и от другого. Слово «рабство» невыносимо
для скифов, и они бросают вызов, посылая Дарию символические
дары и готовясь к битве. Гобрий верно разгадывает смысл даров,
и Дарий, согласившись с ним, отказывается от битвы и спасается
бегством (IV, 128 — 134). Величие царя унижено и умалено свободо-
любием скифов. Грандиозной переправе в Европу противопостав-
лено полное страха, едва удавшееся возвращение в Азию (IV, 140—
143). Событие оправдывает ту характеристику, которая дана ски-
фам в географическом очерке (IV, 46); своей победой они всецело
обязаны собственной активности.
На царствование Дария падает первое военное столкновение
персов с материковыми греками — участниками ионийского вос-
стания 499 г., и начиная с этой вехи Геродот подчиняет свой ма-
териал греческой теме. В его изложении восстание ионян — это
страшная катастрофа цветущего Милета и провал затеи двух
своекорыстных тиранов. Концепция «величия — падения» вынесе-
на как бы за скобки всего рассказа о восстании: он открывается
мотивом бедствий (наш), идущих от самых благополучных госу-
дарств Ионин, Наксоса и Милета (V, 28); мотив бедствий повторен
и там, где речь касается кораблей, посланных афинянами (V,97),
а описание жестоких мук, которым персы подвергли ионян, служит
финалом рассказа (VI, 32). Следуя схеме «низвержение с высоты»,
Геродот отвел роль превозносящих себя личностей зачинщикам
восстания Аристагору и Гистиею. Их деятельность представлена
как властолюбие и обман, а сам замысел восстания объяснен их ко-
рыстными интересами (V, 35).
Высшей точкой самовозвышения тирана сделана речь Ари-
стагора в Спарте, когда он пытается склонить на свою сторону
Клеомена и развивает пред ним доводы экспансионизма, живописуя
богатства азиатских народов и их военную слабость, и предлагает
завоевать всю Азию (V, 49). Антагонисты Аристагора — это лого-
граф Гекатей, который учитывает мощь персидского царя и отговари-
вает ионян от восстания (V, 36), и спартанский царь Клеомен, кото-
рый отказывает ему в помощи (V, 50). Унижение тиранов показано
не только в провале предприятия, но и в их жалкой смерти: Ари-
стагор малодушно покидает Милет и гибнет во Фракии (V, 124—
126), Гистией стремится спасти себе жизнь и подвергается позор-
ной казни (VI, 29 — 30). Это нарочитое развенчивание ионийских
тиранов находит себе объяснение в той тираноборческой интона-
ции, с которой автор в рамках очерка об ионийском восстании ос-
вещает положение дел в Афинах (V, 55 — 96).
Показывая обстановку, какую застал там Аристагор, прибыв-
ший за помощью, Геродот ввел исторический экскурс и построил
его в форме рассказа об освобождении Афин от тирании: он начал
его с убийства Гиппарха Аристогитоном и Гармодием и закончил от-
казом афинян принять к себе назад Гиппия ". Избавление от ти-
ранов осмыслено как прямая причина афинского могущества. Эпи-
зод изгнания Гиппия получает такого рода оценку: «Афины, и до
этого уже великий город, теперь, разделавшись с тиранами, стали
городом еще более великим» (V, 65). А в победе афинян над халки-
дянами автор видит явный результат их победы над тиранами. «Яс-
но,— пишет Геродот,— что равноправие для народа не только в од-
ном отношении, но и вообще,— драгоценное достояние. Ведь пока
афиняне были под властью тиранов, они не могли одолеть на войне
ни одного из своих соседей. А теперь, освободившись от тиранов,
они заняли безусловно первенствующее положение. Поэтому, оче-
видно, под гнетом тиранов афиняне не желали сражаться как рабы,
работающие на своего господина; теперь же после освобождения
каждый стал стремиться к собственному благополучию» (V, 78)
(пер. Г. А. Стратановского).
Мотив «освобождение от тиранов — основа военной мощи афи-
нян» повторен в третий раз для объяснения спартанско-афинского
соперничества: «лакедемоняне, видя, как афиняне идут в гору и не
намерены быть у них в подчинении, сообразили, что свободный ат-
тический народ может, пожалуй, стать могуч, как и они, а под вла-
стью тиранов он бессилен и готов повиноваться» (V, 91).'И провал
попыток Спарты сколотить антиафинскую коалицию служит исто-
рику поводом для полной дискредитации тирании как формы прав-
ления. Уничтожающий приговор ей произнесен устами коринфя-
нина Сосикла (V, 92), который выступает среди представителей гре-
ческих государств и опытом прошлого, примером тирании в Коринфе,
аргументирует тезис «нет на свете ничего несправедливее и гнус-
нее тирании». Свободолюбием афинян Геродот объясняет их участие
в войне с персами: отвергнув ультимативное требование сатрапа
вернуть в страну тирана Гиппия, они сделали для себя неизбежным
столкновение с персами (Ч, 96). При таком утверждении престижа
Афин портреты тиранов требовали мрачных красок, и поведение
Аристагора и Гистиея выставлено в не менее темных тонах, чем
жизнь Периандра Коринфского (Ч, 92).
Гибель милетских тиранов — лишь эпизод в той катастрофе,
какую принесло с собой восстание, и трагизм «взлета — падения»
с наибольшей яркостью раскрыт Геродотом в судьбе Милета. Наз-
вав его вначале (V, 28) самым процветающим городом (Майати Q,
~о~в ахрааиаи), он с тщательной точностью изобразил его плачевный
конец (VI, 18 — 20). Если инициатива восстания как начала зол
приписана двум тиранам, то его жуткий исход — разгром Милета
и опустошение прочих городов — поставлен в зависимость от по-
литики самих ионян. Геродот убежден в бессмысленности выступ-
ления ионян против такой силы, как Персия: об этом говорит ло-
гограф Гекатей (V, 36) и это имеет в виду сам автор, когда называет
«недомыслием» отказ ионян от капитуляции (Vl, 10), Но вместе
с тем Геродот возлагает на участников сопротивления достаточно
большую вину за их разгром.
Судьбу восстания окончательно решила морская битва при Ладе
на подступах к Милету. Поражение в ней Геродот рассматривает
не только как следствие персидского превосходства, но и как ре-
зультат ионийской неорганизованности. Эпизоду битвы (VI, 14, 15)
предпослан эпизод благоразумного совета (VI, 11): фокеец Диони-
сий ставит ионян перед дилеммой — «либо рабство, либо сво-
бод໠— и условием свободы полагает жесткую военную дисцип-
лину и учебу, ссылаясь при этом на справедливость богов (Жй~
~а Ьа va~ovnov). Ионяне сначала подчиняются Дионисию, но вскоре
бросают военные учения, и тем, как показывает историк, сами об-
рекают себя на рабство (VI, 42). Этим развалом дисциплины предре-
шен проигрыш морского боя и крушение Милета. Метафизический
фактор, вещание оракула, не забыт Геродотом и тут, но он упомянут
уже после события и играет роль не причины, а иллюстрации того,
'что произошло: слова пифии и факты, их подтверждающие, обра-
зуют собой картину бедствий, постигших Милет (VI, 18).
После ионийского восстания Геродот переносит место действия
в европейскую Грецию и подчиняет свой рассказ теме антиэллин-
ских персидских походов 492 — 491 гг. Сбывается то, о чем наме-
калось в вещем сне Кира (I, 209) и в разговоре Дария с Атоссой
(III, 134). Геродот заведомо расширяет масштабы и притязания
персидских вторжений. Если в скифской экспедиции размах Дарие-
вой агрессии далеко выходил за рамки «уравновешивающей» ка-
рательной меры, то теперь та же ситуация повторена на греческой
земле: Геродот неоднократно подчеркивает, что походы, организо-
ванные против Эретрии и Афин, полисов, примкнувших к ионий-
скому восстанию, в действительности ставили перед собой другие
цели — завоевание возможно большего числа городов вплоть до
всей Европы (VI, 44, 94; VII, 8). И мотив грандиозности и тяжести
происходящего усилен упоминанием зловещего знамения, которое
вопреки исторической правде" приурочено Геродотом к началу
войны с материковыми греками, служа своего рода прологом и оцен-
кой дальнейших событий. «...Датис отплыл со своими корабля-
ми,— пишет Геродот, —...сначала в Эретрию. На Делосе же после
его отплытия произошло землетрясение, первое и единственное, как
меня уверяли делосцы, до нашего времени. Быть может, этим зна-
мением бог желал указать людям на грядущие бедствия. Ведьза
время царствования Дария, сына Гистаспа, Ксеркса, сына Дария,
и Артаксеркса, сына Ксеркса, на протяжении этих трех поколений
Эллада испытала больше невзгод, чем за 20 поколений до Дария.
Эти невзгоды постигли Элладу отчасти по вине персов, отчасти же
б9
по вине главных эллинских городов, боровшихся за первенство»
(VI, 98) (пер. Г. А. Стратановского).
Освещение стратегических операций получает свою максималь-
ную напряженность благодаря варьированному эффекту контраста.
Контрастен сам ход истории: в персидском лагере самоуверенная
надежда терпит провал, в греческом — страх сменяется победой.
Контрастны и отдельные эпизоды. Автор прибегает для изображе-
ния этого к разнообразным приемам: он сополагает в близлежащих
контекстах светлые и темные тона, показывает противоположные
точки зрения на один и тот же предмет, противополагает фигуры
антагонистов, изображает событие в его неожиданном результате.
Персидская сторона представлена не только в размахе своих зах-
ватнических притязаний, но и в огромной силе своих материальных
ресурсов и одновременно — в обилии неблагоприятных знамений
и предостережений о зависти богов и неизбежном уравнивании ве-
ликого с малым; эллинский лагерь, напротив, страдает нехваткой
военных резервов, QH крепок своей любовью к свободе, к военному
искусству, и ему благоприятствуют природные стихии, оракуль-
ские предсказания и божественная справедливость — такова общая
топика, применяемая Геродотом в повествовании о греко-персид-
ских войнах. Первая вылазка персов в европейскую Грецию—
это поход Мардония при Дарии, закончившийся безуспешным воз-
вращением в Азию. В симметрично построенной картине этого по-
хода победоносное начало персидского шествия, величие флота и от-
сутствие сопротивления резко обрываются непредвиденной бурей
у афонского мыса и нападением бригов (VI, 44 — 45). Звучащий
здесь мотив персидского позора (о атбХо а1а~рй~ Rgt0v<oR[~B o~иясй
~Фg < j>'А 1~~~ (V ,45)пред аряет собойдаль ейшееи
ние событий.
Первое большое поражение персам наносят афиняне при Мара-
фоне. Подводя к нему читателя, Геродот двойным светом освещает
персидский лагерь: персы уже подчинили себе каристийцев и эрет-
рийцев и намерены сделать то же с афинянами (VI, 99 — 102), а в это
время находящийся в их стане Гиппий видит вещий сон и воскли-
цает: «Не наша это земля, мы не сможем завладеть ею!» (VI, 107).
Мотив надежды сочетается с мотивом провала. Победа греков полу-
чает свое рациональное объяснение: ее обеспечивают два фактора—
решение военного командования принять бой и умелая тактика
битвы. Геродот драматизирует сцену военного совета, ставя его
участников в критическую ситуацию ответственного выбора. Он
вкладывает в уста Мильтиаду речь, наполненную той же аргумен-
тацией, что и речь Дионисия перед ионянами (VI, 11) и речь Дария
перед заговорщиками (111, 71). Подобно Дионисию, он ставит стра-
тегов перед дилеммой — свобода и первенство Афин в Элладе или
их рабство — и подобно ему ссылается на справедливость богов
(Эвй~ ~а 1аж чяж~сич); подобно Дарию, он настаивает на немедлен-
ном действии, предвидя в случае задержки раздор среди афинян
(VI, 109).
Картину битвы (VI, 111 — 115) образуют три части: приведение
афинского войска в боевой порядок, схватка с персами, перечень
потерь и добычи афинян. Ход сражения показан одновременно гла-
зами греков и глазами персов (VI, 112 — 113). Персы воспринимают
нападение афинян как гибельное безумство (рая-~~~... QXB&pi
видя, что они ринулись в небольшом количестве без конницы и лу-
ков. Афинянам же благоприятствуют знамения, они здесь впервые
напали на врагов бегом и сомкнутыми рядами, сражались доблестно
(а~(и~ Хбуои); они первые выдержали вид персидской одежды, а до
этого эллинам было страшно даже слышать имя персов. Сама по-
беда показана в ее нарастании: сначала персы прорвали центр, за-
тем афиняне одержали победу на флангах, после чего сомкнули
два крыла и, победив врагов в центре, стали преследовать их вплоть
до кораблей. Особая выразительность создается частым повторе-
нием глагола Ыхич (победили).
Центральное место в «Музах» занимает изложение событий, свя-
занных с походами Ксеркса и Мардония в Элладу в 480 — 479 гг.
Этому периоду отведена треть всего труда (кн. VII — IX), и имен-
но в этих книгах достигает кульминации и напряженность словес-
ной экспрессии и острота авторской критики. Здесь в развернутом
виде применяется топика, уже ранее использованная Геродотом.
Теперь она позволяет писателю объединить множество мелких эпи-
зодов в одно общее событие. Война представлена в своих деталях
и одновременно как целое, с завязкой, вершиной и развязкой.
Как нигде раньше, Геродот прибегает тут к приему двойного осве-
щения фактов, добиваясь тем потрясающей силы эффекта. К пер-
вому столкновению греков с персами, битве при Фермопилах, исто-
рик подводит читателя двумя большими полотнами, рисуя поло-
жение дел сначала у персов, затем у греков. В персидском полот-
нище изображению величия, самоуверенности и великолепия Ксер-
кса навязчиво сопутствуют диссонирующие ноты. Этому служат
фигуры антагонистов царя (мудрых советников) и топика чудес-
ного — вещие сны, знамения и т. п. Действиям, в которых вопло-
щает себя политика Ксеркса, противопоставлены взгляды, ее обес-
ценивающие. Привычная для Геродота топика назидания доведена
тут до логического предела: увещание перерастает в рациональное
предвидение, в политический прогноз.
Замысел похода и его причины вызывают неравнодушное лю-
бопытство исследователя: писатель выдает свою взволнованность,
живописуя и осмысливая обстоятельства, которые предшество-
вали войне. Заглядывание за кулисы того, что было, именно в этой
части его сочинения становится особенно пристальным. Экспеди-
ция Ксеркса, дает понять Геродот, вызвана действием четырех фак-
торов ", которые по отдельности в других ситуациях уже отмеча-
лись историком. Как и Дарий при вторжении в Скифию, Ксеркс
движим чувством мести и жаждой завоеваний. Его военачальник
Мардоний, подобно Аристагору, стремится раздуть войну, домо-
гаясь власти для себя лично, и, как некогда Кандавл, Ксеркс пред-
принимает неотвратимое дело, губительное для него самого.
Рассказ о предыстории похода расчленен соответственно на че-
6}
тыре части. Намерение предпринять карательную экспедицию
против Эллады в отмщение за Сарды и Марафон приписано Дарию,
которому смерть помешала это сделать. Беглым взором охвачена
внутренняя политика Персии от Марафона до воцарения Ксеркса:
трехлетние сборы войска против Греции, антиперсидское восстание
в Египте, споры о престолонаследии, смерть Дария (VII, 1 — 4).
В следующей части (VII, 5 — 7) раскрыта первая стадия заговора
против греков. Главная ответственность за него возложена Hà Мар-
дония. Геродот говорит о его жажде перемен и желании стать сат-
рапом Эллады (~П, 6). Три силы, полагает Геродот, заставили
Ксеркса принять решение о походе: уговоры Мардония, козни Але-
вадов и Писистратидов и неточно переданные вещания ораку-
лов. Мардоний в рассказе Геродота обращается к царю с речью,
в которой пытается убедить его в необходимости похода, и главным
аргументом ему служит довод мести (возмездия афинянам) и доброй
славы (Х'> о.ш~хб ; идо одэкспанс и:Евр папрекра н ип
дородна, и только царь достоин владеть ею (VII, 5). Именно эта
двойная мотивировка вынесена писателем на первый план, и он
посвящает ей еще один эпизод — сцену военного совета при царе,
на котором она дискутируется в четырех воспроизводимых речах
Ксеркса — Мардония — Артабана — Ксеркса (VII, 8 — 11).
В первой из них устами Ксеркса с максимальной откровенно-
стью подведен итог тем оценкам военного курса Персии, которые
вставлялись до этого Геродотом в разных местах повествования.
То, что говорилось î Кире, Камбисе и Дарии, теперь суммировано
и представлено как общая, переходящая от правителя к правителю
линия безудержной агрессии, и готовящийся поход — ее необхо-
димое звено. Возмездие афинян должно стать лишь малой частью
крупнейшей операции, цель которой — сделать рабами виновных
и невиновных и превратить всю Европу в одну страну с Азией (VII,
8). Выдвинутая программа подлежит обсуждению. Геродот сталки-
вает вокруг нее две противоположные концепции: Мардоний все-
цело поддерживает царя, Артабан всячески противится походу.
Предвосхищая технику софистических рассуждений, которая
с одинаковой легкостью разрабатывала доводы «за» и «против»,
Геродот строит весь спор на обыгрывании одних и тех же доводов.
Среди них особенно важны: соображения престижа, личность про-
тивника, опыт прошлого, прогноз на будущее. Мардоний считает
ужасным (Ълоч) оставить эллинов безнаказанными, он говорит
об их слабости, напоминает о своем походе, когда ему удалось дой-
ти почти до Афин, и предсказывает в случае похода капитуляцию
эллинов без боя или победу над ними персов. Свой призыв к дей-
ствию он подкрепляет афоризмом житейской мудрости: «Дерзнем
на все! Само ничто не делается, но все приходит к людям, умеющим
дерзать» (VII, 9).
Этой речи, в которой Мардоний чернит греков и обещает царю
победу, противопоставлено в два раза более длинное выступление
Артабана. В нем соединены три темы: оценка ситуации самим Ар-
табаном, его совет царю и обращение к Мардонию. Геродот мыслит
историческими аналогиями и протягивает в этом контексте нить
от прошлого к будущему. Рассуждение Артабана опирается на довод
BBLU6v (ужасно), повторенный здесь трижды. Если для Мардония
ужасна безнаказанность греков, то для Артабана ужасен риск
строительства моста через Геллеспонт для похода в Европу. Геро-
дот обращает его взор назад, к скифской кампании Дария, и перед
читателем оживают уже знакомые ему уговоры Артабана, картина
наведения мостов через Боспор и Истр и то критическое положение
Дария, когда скифы убеждали ионян разрушить мост. Это прошлое
проецируется в будущее: греки разрушат мост, если победят Ксер-
кса в морской битве. Эту часть своей речи Артабан обрывает на вы-
сокой ноте жуткого предчувствия словами: «Ужасно даже слышать
о том, что от одного человека зависело, быть или не быть царю1»
(VII, 10).
Довод «от прошлого» дополнен в приводимой речи доводом «от
общепризнанного». Советуя царю еще раз обдумать свое решение и не
спешить, Артабан ссылается на ходячие общие мысли. Одна as
них — это сентенция о том, что правильное решение всегда ценно,
независимо от успеха дела, вторая — это уже звучавший в устах
Солона и Амасиса мотив зависти божества. Антагонистом неуемных
стремлений Ксеркса выведена мера, все себе подчиняющая в при-
роде и человеческой жизни. Величественной анафорой советник ука-
зывает царю на опыт повседневности: «Видишь, как бог молниями
разит верховные существа, если они тянутся ввысь, и не дает им
превозноситься, а малые оставляет нетронутыми? Видишь, как он
мечет стрелы в большие жилища и такие же деревья: ведь любит
бог уравнивать все выдающееся». И этот опыт, как и опыт скиф-
ской войны, содержит в себе намек на будущее: «Так и большое
войско,— продолжает Артабан,— терпит урон от малого по той же
причине, когда бог, позавидовав, посылает на него страх или
гром...» (~П, 10).
Обращаясь затем к Мардонию, Артабан опровергает всю его
речь: он реабилитирует греков, им униженных, и вместо посулов
победы Мардония предсказывает в случае похода верную гибель
на эллинской земле (VII, 10). Глазами спорящих сторон Геродот
смотрит в будущее и намечает взаимосвязь причин и следствий
внутри происходящего. Как и в истории Креза, здесь сплетены
в один узел агрессия, месть и заведомая уверенность в победе.
На противоположном полюсе поставлены все подчиняющая себе
мера и трезвый учет реальной силы противника. Дальнейшее по-
вествование должно показать, на чьей стороне правда. Остроту
контраста Геродот подчеркивает гневной ответной речью Ксеркса:
в ней еще резче звучат мотивы необходимой вражды к эллинам и
несомненной победы над ними (VII, 11).
Предания о греко-персидских войнах донесли до слуха Геро-
дота рассказ не только о военном совете царя, но и о зловещих снах,
толкавших его к походу. О сновидении Ксеркса говорила тень Да-
рия в «Персах» Эсхила (102). Геродот не пренебрег традиционной
версией: в драматизированной им предыстории похода ночное ви-
дение играет роль ее заключительного акта (VII, 12 — 18). B созна-
нии читателя этот отрывок не мог не возбуждать воспоминаний не
только о «Персах» Эсхила, но и о знаменитом сне Агамемнона
в «Илиаде» (!1, 1 — 75), и в то же время этот новый вариант «обман-
ного» сна существенно отличается от гомеровского прототипа. Если
в «Илиаде» Зевс намеренно обманывает греков, суля им победу, то
Геродотов призрак не обещает ничего, а лишь запрещает отсту-
паться от того, чему надо (Хрю~) свершиться. Ксеркс и Артабан
так же неверно толкуют его слова и заблуждаются, как и Крез,
получивший ответ пифии. Эту ситуацию самообмана, в которой на-
ходится персидский царь, Геродот поясняет еще одной деталью.
Завершая эпизод, он упоминает о вещем сне, который маги истол-
ковали в пользу Ксеркса: царь видит себя в венке из оливковых
ветвей, простершихся по всей земле, но венок потом исчезает (VII,
19).
Предпослав изображению войны этот пролог, Геродот отчетливо
и ясно расставил в нем смысловые акценты. Ожидаемое, реальное
и неотвратимое воспроизведено в доводах Ксеркса, Артабана и
призрака, и эти три рода факторов поданы с максимальной выгук-
лостью: притязания Ксеркса доведены до пределов возможного,
и устами Артабана им противопоставлен всеобъемлющий мировой
порядок, а всесилие необходимости персонифицировано в импера-
тивном тоне, которым говорит призрак. Герой (персидский царь)
ослеплен своей самоуверенностью (uj3phc), о чем ему напоминает его
советник (VII, 16), и обманут магами (~)!1, 19), о чем догадывается
читатель. Как и героя трагедии, дальнейшие действия персидского
царя приводят к неожиданной для него, однако причинно-обуслов-
ленной, развязке. Эта парадоксальная ситуация победы мало-
численных эллинов над далеко превосходящей по численности ар-
мией противника стоит в фокусе внимания историка Геродота. И она
освещена им в двух аспектах: в величественной грандиозности
(обилии составных деталей) и в своей жесткой логике, когда автор
раскрывает объективную мотивированность происходящего. От-
сюда специфика художественной манеры писателя: подбор под-
робностей для оттенения контраста между лагерем персов и греков
и фиксация движущих импульсов той и другой стороны.
Приступая к описанию самого похода, Геродот начинает с той же
сказочно-высокой ноты гиперболической исключительности, какая
звучала в программной речи Ксеркса в прологе. «Из походов, какие
мы знаем, этот был самым что ни на есть величайшим» вЂ” такими
словами открывается повествование, и оценка усиливается отри-
цательным сопоставлением с прошлым. Поход Яария на скифов,
скифов против киммерийцев, греков против троянцев, война ми-
сийцев и тевкров ",— ничто не идет в сравнение с походом Ксеркса
(VII, 20). Экспрессия усугубляется гиперболой риторических воп-
росов: «Какой только народ не привел Ксеркс из Азии в Элладу?
Разве не оказалось питьевой воды слишком мало для Ксерксова
войска всюду, кроме больших рек?» (VII, 21) (пер. Г. И. Страта-
новского).
(Vll, 50). Усилению боевой интонации способствуют упоминания
о призыве напрячь все силы, с которым Ксеркс обратился в это
время к вельможам, и о его молитве к солнцу об успехе дела (VII,
53, 54).
Сама переправа представлена торжественно и монументально.
Глаголом 6с«фисъоч (переправились) начинается и замыкается весь
отрывок. Экспрессия величия создается нагромождением сущест-
вительных — перечнем участников переправы. Двенадцать строк
текста содержат всего четыре глагола в личной форме. Заключи--
тельный аккорд всей сцены — сопоставление Ксеркса с Зевсом,
вложенное в уста случайного зрителя (VII, 56). И снова Геродот
прибегает к уже привычной для него топике: разоблачая самообман
героя и намекая на исход событий, он сообщает о чудесном знаме-
нии и поясняет его таким образом: «Лошадь родила зайца»,— это
легко было понять в том смысле, что Ксеркс двинется походом
на Элладу со всей пышностью и великолепием, а назад в свою стра-
ну вернется беглецом». Яля полноты эффекта сюда присоединено
еще одно чудо, и по поводу обоих сделано замечание: «не обратив
внимания ни на то, ни на другое, он продолжал свой путь впередЬ
(И I, 57).
Апогей Ксерксова величия — это осмотр боевых сил после пе-
реправы, когда Геродот перечисляет весь состав персидской армии
и флота (VII, 61 — 99). Длиннейший список народностей, восходя-
щий, вероятно, к письменным источникам ", теряет свою скучную
монотонность благодаря обилию деталей: Геродот расцвечивает его
экскурсами в прошлое народов, сравнениями с другими народами,
подробными сведениями об одеждах, вооружении и т. п. Представив
Ксеркса лицом к лицу с войском во всем его материальном могу-
ществе, Геродот в третий раз около Геллеспонта низвергает персид-
ского царя с его высоты, инсценируя тотчас же вслед за смотром
беседу Ксеркса с Демаратом: Ксеркс уверен в своей непобедимости
и, подобно Крезу, хочет, чтобы это удостоверил бывший спартан-
ский царь. Ответ Дамарата неожидан для него, и Ксеркс отказы-
вается верить, что греки станут сражаться. Демарат подкрепляет
свой ответ доводами этического порядка: «В Элладе бедность сущест-
вует искони,— говорит он,— а доблесть (йрвт~) приобретена бла-
годаря умелости (йK0 аор~~) и твердому закону... лакедемоняне,
когда сражаются по одному, ничуть не хуже других людей, а когда
воюют все вместе — они лучше всех. Будучи свободны, они сво-
бодны не во всем. Над ними есть властелин — закон, и его они боят-
ся гораздо больше, чем твои тебя. Они делают все, что он велит,
а велит он всегда одно и то же: он не позволяет отступать в битве
ни перед каким множеством врагов, но велит стоять в строю до по-
бедного или умереть» (VII, 101, 104) (пер. Г. А. Стратановского).
Ввод прямой речи, выступлений и реплик, дискутируюших ход
событий,— это один из приемов, которые давали автору возмож-
ность подняться выше незамысловатой фактографии его предшест-
венников и придать картине прошлого ту полноту, с которой мог
соперничать лишь эпос. Впервые писатель-прозаик сумел сделать
то, что до сих пор было прерогативой эпического поэта: в одном
всеохватывающем сюжете он объял взором реалии видимого мира,
жизни отдельных людей, судьбы народов и все подчиняющий себе
мировой порядок. Приемы, при помощи которых Геродот достиг
этой широты вйдения, были частично близки эпосу, а частью про-
тивостояли ему. «Историю» Геродота роднила с эпосом ее нагляд-
ность: вещи и сооружения показаны тут в их объеме (размерах),
количестве, материальной фактуре, географические объекты — в
их точном местоположении, поступки людей — в зрительно воспри-
нимаемых действиях и в передаче устных разговоров ".
Наглядность создавалась и топикой чудесного — рассказом о
вещих снах, знамениях, оракулах. Подобно эпическому певцу,
Геродот воспроизводил эпизоды в их «осязаемости» (вспомним убий-
ство магов — III, 76 — 79). Однако этой пластичности лишен у Ге-
родота метафизический мир: в «Музах» нет яркого гомеровского
антропоморфизма богов — красочных описаний «быта» олимпий-
цев, которые вершат судьбами людей. Имена богов Геродот назы-
вает редко, чаще других — Аполлона в связи с дельфийским ора-
кулом. Слова «бог», «боги», «божество» звучат у него так же абст-
рактно, как выражения «доля» (~~ipse, «возмездие» (~ià~~), «надо»,
«необходимо» (~а, 1~р~), указывающие на метафизическую обус-
ловленность явлений. Боги присутствуют в Геродотовой картине
мира, но безлико по сравнению с эпосом. И, напротив, в отличие
от эпоса, где поэт заявлял о своем «я» лишь обращением к богам
(«гнев, о богиня, воспой...») и воспевал факты без всякой личной
критики, Геродот на протяжении всего произведения ощущает себя
внутри текста и не скупится на авторские замечания. Особенно от-
четливо это дает о себе знать там, где он говорит о греческом сопро-
тивлении 480 — 479 гг., воспроизводя события по «живым следам»,
по рассказам современников и личным впечатлениям от тех мест,
где шли бои.
Описание того, что происходило в Элладе до прямых столкнове-
ний с противником, предварено таким же прологом, как и обзор
дел в персидском лагере. В отличие от персидской части Геродот
выступает здесь от первого лица и произносит приговор прошлому,
окидывая взором и то положение, какое война застала в Греции,
и то, что вывело страну из кризиса. Уже в предшествующих разде-
лах повествования Геродот отмечал роль политического единства
в истории народа (V, 3) и губительную силу несогласия в государ-
стве (VI, 100). Речь, вложенная в уста Мильтиада, аргументировала
необходимость срочной битвы опасением раздоров (VI, 109). Теперь
же эллинское единство оценивается историком как условие успеш-
ного сопротивления 1~серксу. Свой пролог Геродот начал с антите-
зы: глобальному походу царя, направленному против всей Эллады,
противопоставлено отсутствие единомыслия среди греков и их про-
персидские настроения (VII, 138). На фоне такого разъединения
и уступчивости резко оттенена решимость афинян не сдаваться.
Их морская победа толкуется как решающий фактор в сплочении
эллинских сил для отпора врагу.
67
Возражая неизвестным нам оппонентам, Геродот заявлял: «По-
этому я вынужден откровенно высказать свое мнение, которое, ко-
нечно, большинству придется не по душе. Однако я не хочу скры-
вать то, что признаю истиной. Если бы афиняне в страхе перед
грозной опасностью покинули свой город или, даже не покидая
его, сдались Ксерксу, то никто [из эллинов] не посмел бы оказать
сопротивления персам на море... потому-то не погрешишь против
истины, назвав афинян спасителями Эллады» (VI I, 139) (пер.
Г. А. Стратановского). Подобно тому как на военном совете персов
устами Артабана прогнозировались события, которые могут иметь
место в случае похода в Грецию, и сам царь поставлен был перед
выбором идти или не идти войной, Геродот, анализируя обстановку
в Греции, делает «прогноз в прошлое» и живописует то поражение,
какое понесли бы греки повсюду в случае капитуляции Афин. Он
приписывает поведение афинян их сознательному выбору и тем са-
мым оценивает их победу как результат намеренной человеческой
активности, что, впрочем, не мешает ему пользоваться привычной
формулой «с помощью богов» (рати уа ЭвоМ). «Ибо ход событий,—
пишет Геродот,— зависел исключительно от того, на чью сторону
склонятся афиняне. Но так как афиняне выбрали свободу Эллады,
то они вселили мужество к сопротивлению всем остальным эллинам,
поскольку те еще не перешли на сторону мидян, и с помощью богов
обратили царя в бегство. Не могли устрашить афинян даже гроз-
ные изречения дельфийского оракула и побудить их покинуть Эл-
ладу на произвол судьбы. Они спокойно стояли и мужественно жда-
ли нападения врага на их земли» (Там же).
Рассказ о выступлении Ксеркса открывается мотивом несрав-
ненной исключительности этого похода (VII, 120), изображение
греческого сопротивления — мотивом исключительной догадли-
вости афинян и Фемистокла: они отказываются верить толковате-
лям оракулов, которые советуют покинуть город, а Фемистокл ум-
но разгадывает смысл дельфийского изречения, как сулящего по-
беду при Саламине, и убеждает афинян готовиться к морской бит-
ве (VII, 140 — 144). Этим кратким эпизодом греческое полотно со-
бытий ориентировано с самого начала на победоносное Саламинское
сражение. Антитетическое освещение слабости разъединенных гре-
ков и обусловленности их победы противостоит тому контрасту
могущества Ксеркса и предсказаний неудачи, который скрепляет
собой картину персидских приготовлений к войне. Если, показы-
вая персидский лагерь, Геродот в яркие тона величия вводил от-
дельные мрачные штрихи, то теперь изменена пропорция красок:
он рисует тяжелое состояние Эллады и лишь намеками говорит
об успехе.,Яо столкновения с персами блок сопротивления ищет
поддержки у не присоединившихся к персам греческих полисов
(вспомним посольство скифских племен) и не находит ее. Драма-
тизм ситуации резче всего воспроизведен при описании дипломати-
ческой миссии в самое крупное греческое государство — к сиракуз-
скому тирану Гелону.
В трех речах посольства и трех ответных речах Гелона диску-
тируется вопрос о военной помощи (VII, 157 — 162), и сама безре-
зультатность этого предприятия использована историком для воз-
величения Афин. Первая речь послов (VII, 157) развивает концеп-
цию единства, которую уже высказывал автор. В этой речи обыгры-
вается понятие «вся Эллада» (хааа "Е>.i,è ):опаснос и,ка уюпо
царя несет всей Греции, противопоставлена мощь Эллады, если она
будет объединена, и, напротив, отсутствие помощи должно привес-
ти к ужасному итогу — подчинению всей Эллады персам. Этот до-
вод всеобщей опасности нужен оратору, чтобы убедить Гелона при-
нять сторону борцов за свободу. И неудача этой миссии представле-
на Геродотом не столько как отказ Гелона от предприятия, сколько
как сознательный отказ лакедемонян и афинян уступить командо-
вание сиракузскому тирану. Глядя на прошлое глазами своей эпо-
хи, историк устами афинянина обосновывает право Афин на мор-
ское господство (VII, 161). Перед лицом зловещей угрозы два глав-
ных полиса, противостоящих Ксерксу, не уступают никому своего
приоритета.
Изложение хода военных действий подано Геродотом как иллюст-
рация и осуществление приведенных им ранее прогнозов и пред-
сказаний. Сбывается все то, о чем предупреждали Ксеркса его со-
ветники Демарат и Артабан: спартанцы стоят насмерть при Фермо-
пилах, персидские корабли тонут в разбушевавшемся море, греки
после Саламина совещаются о том, разрушать ли им мост у Геллес-
понта, Мардоний гибнет на греческой земле, солдаты Ксеркса тяж-
ко страдают от голода. Морская победа афинян i одтверждает пра-
воту Фемистоклова толкования слов пифии. При этом события изоб-
ражаются таким образом, что их совокупность оправдывает и мета-
физическую и политическую концепцию автора, служа свидетельст-
вом и все уравновешивающей меры и дальнозоркой стратегии гре-
КОВ.
Восстанавливая подробности конфликта, Геродот подбором фак-
тов обрисовал две антитезы. Одна из них — это контраст персид-
ского и греческого лагеря, вторая — контраст двух возможных
вариантов эллинской обороны: афинского, который принес грекам
реальную победу, и пелопоннесского (укрепление Истма), который,
если бы был проведен в жизнь, то закончился бы разгромом. В этом
кульминационном разделе «Муз» Геродот по зовался все той же
разработанной ранее техникой экспрессии: немом трагической
иронии, игрой контрастами, топикой мудреца-советника и вещих
предсказаний.
Наибольшая напряженность и яркость вносятся писателем в
инсценировку битв при Фермопилах, Саламине и Платеях, где
Ксерксу и Мардонию противостоят греческие полководцы Леонид,
Фемистокл, Павсаний. Трагической иронией окрашены судьбы
Ксеркса и Мардония. Сражения при Саламине и Платеях освещены
не только в наглядных деталях боевых схваток, но и в плане психо-
логическом и стратегическом: обоим главнокомандующим противо-
поставлены советники, которые указывают на невыгоду этих битв
для персов и предлагают иной способ действий. Их устами повто-
69
рены уже высказанные автором (VII, 139) мысли о неизбежном под-
чинении Эллады персам в случае, если бы центром борьбы стал
Истм и единство греков пе было бы сохранено: Яемарат (VII, 235)
и Артемисия (VIII, 68) стремятся убедить Ксеркса в том, что ему
на руку разобщение греков, к которому приведет нападение пер-
сов на Пелопоннес, а советники Мардония, беотийцы (IX, 2) и Арта-
баз (1Х, 41) уже в иной ситуации признают непобедимость греков,
когда те единодушны. Ни Ксеркс, ни Мардоний не внемлют увеща-
ниям и своими действиями неожиданно для себя, но оправданной
логикой вещей сами навлекают на себя злую участь.
В своем вступительном обзоре (VII, 139) Геродот оценил итог
войны как победу афинян, одержанную в условиях, когда на кар-
ту была поставлена независимость Эллады. Соответственно при
изображении самой войны он старается выявить движущие силы
греческого сопротивления и очевидность провала персов. Внимание
писателя привлекает к себе парадоксальность происходящего:
страдающее от страха и бедное резервами греческое ополчение ока-
зывается в выигрышной позиции по сравнению с полчищами чуже-
земцев, которых ведут абсолютно уверенные в себе полководцы.
Объяснению этого парадокса подчинена последовательность и орга-
низация эпизодов в тексте.
Свое повествование Геродот членит здесь на небольшие кадры,
поочередно рисуя жизнь того и другого лагеря, так что читатель
не только улавливает синхронию событий, но и узнает, как греки
воспринимали Ксеркса, а Ксеркс — греков. Освещая как ту, так.,
и другую сторону, историк исполыовал привычные для него моти-.
вы вещих пророчеств, величия царя, все уравнивающей меры. Ес-
ли в предыдущих разделах «Муз» подобная толика встречалась
внутри какого-то одного контекста, то теперь она рассеяна по мел-
ким эпизодам, входящим и в персидский и в греческий контекст,
и служит для надстраивания над ними некоторого общего смысло-
вого «сверхконтекста». Он создается уже «на подступах» к Ферио-
пилам, когда автор начинает с греческой темы (VII, 175 — 178),
переходит к персидской (VI I, 179 — 201) и снова возвращается к гре-
ческой (Ч1I, 202 — 207).
В первом отрывке упомянуто дельфийское прорицание о том,
что ветры будут союзниками Эллады (Ч11, 178), во втором указана
численность персидского войска, которую Геродот измеряет коли-
чеством более чем в пять миллионов человек! Впечатление неслы-
ханного могущества вражеской армии усилено вступительной
фразой: «до этого места и Фермопил войско не испытало никаких
бед» (VII, 184),— и заключительным признанием: «из стольких
мириад людей никто не превосходил Ксеркса красотой и статностью
и не был более, чем он, достоин такого могущества» (VII, 187). И не-
посредственно вслед за этим апофеозом царя помещена картина бу-
ри и нанесенного ею ущерба персидскому флоту (VII, 188 — 191).
Связь стихийного бедствия со словами оракула (VII, 178) подчерк-
нута ссылкой на бытующее предание о том, что афиняне призвали
на помощь Борея (VII, 189). Зазвучавшая было высокая нота пер-
70
сидского всесилия резко снижается, и это снижение продолжено
в третьем эпизоде, где Ксеркс показан глазами греков, и призыв
к сопротивлению аргументируется доводом меры в такого рода вы-
ражениях: «Ведь на Элладу идет вопной вовсе не [какой-нибудь]
бог, а [просто] человек, и нет и не будет ни одного смертного, кото-
рого от рождения не постигло бы в жизни несчастье. И именно са-
мых великих из людсй и поражают самые страшнь:е бедствия»
(VII, 203) (пер. Г. А.:".тпатановского).
На материале трех изолированных ситуаций тут воспроизведе-
на в своих основных компонентах у> кезнако ая амсх маГеро
товой антропологии, которая раскрывае1ся в дальнейшей картине
событий. Если в этих дсфермопильских зарисовках указан стихий-
ный (ветры) и метафизический (подчиненность Ксеркса общейнор-
ме человеческого бытия) фактор, действующий в пользу греков, то
яркость Фермопильской битвы обусловлена решающей ролью в ней
личного фактора. Теперь впервые Ксеркс сталкивается с греками
лицом к лицу. Эта ситуация своеобпазнсй «очной ставки» подчерк-
нута обрамлением фермопильского эпизода: до битвы (VII, 203—
204) и в послесловии к ней (VII, 238) имена Ксеркса и Леонида упо-
минаются рядом.
Рассказ о самом сражении — это прежде всего разговор о Лео-
ниде, спартанском царе и командире греческого отряда, который
встал на пути персов через ущелье. Геродот называет Леонида «вы-
зывающим наибольшее удивление» (Sroyui;oy«vo«раЬата), перечис-
ляет его предков и обстоятельства воцарения, приписывает его лич-
ной инициативе решение не отступать от Фермопил (VII, 204 — 207).
Сама битва показана в двух ее этапах: до предательства Эпиальта
и после него. На первом из них историк раскрывает поведение Ксерк-
са, на втором — внутренний мир Леонида. Здесь на деле сбывает-
ся то, о чем предупреждал персидского царя Яемарат после пере-
правы через Геллеспонт. Яля большей выразительности Геродот
заставляет еще раз Ксеркса и QeMapaxa говорить на ту же тему уже
перед самим фермопильским ущельем, когда очевидна малочислен-
ность эллинов. Приводя беседу царя с его советником (VII, 209),
Геродот изображает сам факт отпора со стороны греков как совер-
шенно неожиданный для Ксеркса.
Перед битвой Ксеркс погон самоуверенности: в течение четырех
дней он ждет, что греки сдадутся, объясняя их упорство наглостью
и нерасчетливостью (вспомним ситуацию при Марафоне). Он посы-
лает лучшие отряды с приказом взять греков в плен. И тут историк
с лаконичной четкостью воспроизводит ход боевых действий: греки
имеют перевес над варварами благодаря своему вооружению и воен-
ному искусству, они, умелые, бьются с неумелыми и наносят им
урон, стоя в боевом строю по племенам и родам оружия (ита тй~и
тв ~ai, E9vaa .воортфмо~). Это зрелище наводит на царя страх за
свое войско, и лишь предатель Рпиальт выводит Ксеркса из его без-
выходного положения (VI I, 210 — 213) — таков итог первого столк-
новения персов с греками.
Объединяя детали по смыслу, Геродот нарушает хронологиче-
71
скую последовательность и пространно рассуждает о том наказании,
какое не миновало предателя, доказывая, почему он считает винов-
ным именно Эпиальта (VII, 213 — 214). С топографической точ-
ностью он прослеживает шествие персов по горной тропе (VII, 215—
218) и последний день неравного боя освещает как трагический
триумф обреченной на гибель горсточки (300 человек) спартанцев
во главе с Леонидом. Неизбежное физическое уничтожение всего
отряда персами историк интерпретировал как сознательное само-
пожертвование Леонида во имя славы и счастья родины. Смерть
спартанцев получила метафизическое обоснование как результат
не их слабости, а их добровольного выбора. С этой целью рассказ
начат с упоминания о дурных предзнаменованиях (VII, 219), кото-
рые делали заранее известным исход боя, и с объяснения автором
причин, по которым часть войска ушла в свои города, а часть во
главе с Леонидом осталась на месте. Геродот отверг версию о раз-
вале дисциплины в стане греков, настаивая на том, что Леонид сам
отослал союзников, для себя же и спартанцев счел неподобающим
покинуть строй. Это принесло ему громкую славу и не дало увять
счастью Спарты.
Метафорой и рифмованным параллелизмом (фчоч и оа ов;оо
«X«o".,Йта «),ai~nî хЫ q Хпшр~ч1~ вода~роюч1 оих «~фя~~в:о) Геродот
подчеркивал свою мысль, а ссылкой на прежде бывшее вещание пи-
фии связывал фермопильскую ситуацию с дилеммой: «либо Лакеде-
мон будет захвачен варварами, либо спартанский царь погибнет»,—
изображая поведение Леонида как сделанный им самим выбор (VI I,
220). Антитеза «Ксеркс — Леонид» усилена антитезой «персидское
войско — греческое войско». Последний смертный бой спартанцев
описан в форме двух контрастных зарисовок того, что совершалось
на той и другой стороне. Персидская экспозиция окрашена моти-
вом тяжелых потерь, греческая — мотивом отчаянной силы (VII,
223): «варвары падали в большом количестве... многие из них пада-
ли в море и погибали, а еще больше их живые топтали друг друга,
и никто не считал гибнущих. Эллины знали, что на них надвигается °
смерть со стороны тех, кто обошел гору, и они явили в схватке
с врагом небывалую силу...»
Заключительной концовкой всего эпизода сделана сцена «каз-
ни» трупа Леонида по приказу Ксеркса, который велит отрубить
ему голову и распять тело. Геродот дает ей свое истолкование и как
бы выносит моральный приговор обоим полководцам: Леонид в его
глазах — это грозный антагонист персидского царя, Ксеркс же—
нечестивец, нарушающий отеческие законы. «Мне ясно,— пишет
историк,— ... что царь Ксеркс при жизни больше всех был зол
на Леонида, иначе никогда бы он не обесчестил так его мертвого те-
ла, потому что персы из всех мне известных людей больше других
чтут доблестных воинов» (VII, 238).
После Фермопил Геродот рассматривает действия греческого
флота. Человек времени Перикла и эпохи афинского морского мо-
гущества, он преподносит морскую тему как тему афинскую по пре-
имуществу и, глядя на прошлое из своей современности, старается
72
дать объяснение тому, что в этом прошлом могло казаться унизи-
тельным для афинян — их подчиненность спартанскому командо-
ванию. «Морской» рассказ начат с ретроспекций, с того, как еще до
отправки послов в Сицилию решался вопрос о том, кто будет воз-
главлять флот. Тот факт, что командование не досталось афинянам,
истолкован Геродотом как благородный жест с их стороны, как
добровольный отказ ради устранения разногласий, которые погуби-
ли бы Элладу (VIII, 3).
Морские битвы при Артемисии и Саламине показаны с двумя
центрами напряженности. Один из них — это конфликт внутри
греческого лагеря, когда расходятся мнения о том, где именно на-
до давать битву. Второй — это столкновение греческого флота с пер-
сидским. Решение нанести удар персам при Артемисии и Саламине
показано Геродотом на фоне кризисной ситуации, когда из страха
перед персами греческие предводители стремились отступить к Ист-
му, и это решение представлено писателем как победа политики
греческого единства, одержанная смекалкой афинянина Фемисток-
ла (вспомним ситуацию Мильтиада). Если внутриполитическая по-
беда подана историком на фоне растерянности 'противоборствующей
стороны, то победа над персами оттенена картиной самоуверенности
противника, его надеждой на быстрый разгром эллинов. И эта по-
беда получает у Геродота свое метафизическое обоснование. Напря-
женность ситуации создается контрастом вражеских расчетов и эл-
линской реальности.,1~ля раскрытия «греческого парадокса» при
мысе Артемисий Геродот перед описанием боя следующим образом
освещает греков глазами персов: «Персы считали эллинов совершен-
но безумными и надеялись без труда захватить их корабли. И их
надежда была вполне обоснованна. Ведь персы видели, сколь мало
кораблей у эллинов и во сколько раз их собственный флот больше
и лучше на плаву. С таким-то чувством превосходства над против-
ником] персы стали окружать эллинов. Некоторые из ионян дума-
ли... что никто из эллинов уже не вернется домой» (VIII 10) (пер.
Г. А. Стр а таковского) .
Вслед за этой картиной, предвещающей неминуемое поражение
греков, помещено сухое, точное донесение о том, как эллины дви-
нулись на врага, как захватили 30 варварских кораблей (VIII, 11).
Эта голая фактография своим резким контрастом с предыдущим от-
рывком вносит в рассказ о битве победоносную интонацию, посколь-
ку ею опровергается надежда персов. И эта интонация победы и пре-
восходства над противником нарастает с особой силой в эпизоде
того буйства стихии, когда недавняя самонадеянность персов сме-
няется их страхом и ужасом, а мотив слабости эллинов — мотивом
персидских потерь. «С наступлением темноты [лето было в разгаре],—
пишет Геродот,— разразился страшный ливень на всю ночь... мерт-
вые же тела и обломки кораблей [течением] принесло к Афетам...
Люди на кораблях в Афетах, слышавшие шум, пришли в смятение,
думая, что при всех несчастьях им теперь уже не миновать гибели...
Такую ужасную ночь пришлось пережить персам!» (VIII, 12) (пер.
Г. А. Стратановского). Этому переходу могущества персов в свою
73
противоположность Герод",~ даст метафизическое объяснение, под-
водя событие под действ;и-. вс~ уравновешивающей меры: «все это
делалось богом для того, чтобы персидский флот сравнялся с эл-
линским и не оыл намного сильнее его» (VIII, 13).
Греки при Фермопилах и Артемисии — это равные по достоин-
ству партнеры персидского царя. Такими показал их Геродот. И по-
беда при Саламине в его трактовке — это высшая точка, когда фак-
торы, выгодные для эллинов, дают возможность не только встретить,
но и отразить натиск персов. Вся картина похода Ксеркса — Мар-
дония, как уже говорилось выше, объединена в одно целое техникой
композиции по типу фронтона, в центре которого — Саламинская
победа. Изобразив то, что было после Саламина как антитезу тому,
то совершилось до него, Геродот осмыслил и представил морскую
Г;итву как поворотную веху войны. И он приковал к ней внимание
читателя всеми ему доступными средствами экспрессии.
Разговор о Саламине начат как рассказ об афинянах (VIII, 40),
и в поле зрения истор:~ка стоит на первом плане победа афинской
политики единства. Ей отведена решающая роль в организации по-
беды на море. Яля того чтобы греки смогли одолеть флот Ксеркса,
командиры греческого флота должны были преодолеть свое неже-
лание сражаться при Саламине — такова мысль Геродота. Мотив
благоразумного совета, проходящий через все сочинение, поставлен
здесь'автором во главу угла, как нигде в другом месте. В эпизод
битвы введена уже не раз использованная топика: перечисление бое-
в tx сил (кораблей союзников), военное совещание и ход схватки
эллинов с варварами. При этом дебаты о том, где дать отпор врагу,
у Саламина или у Истма, занимают в тексте объем в три раза боль-
ший (VIII, 49 — 83), чем само сражение. Инсценировка дебатов раз-
бита на кадры, и в каждом из них очередной этап обсуждения подан
на фоне других событий в Греции. Здесь нарушается последова-
тельность действия, и фон этот нужен писателю для сгущения кра-
сок, для игры контрастами.
Первый кадр (VIII, 49 — 56) — самая мрачная фаза войны: Ат-
тика уже оставлена, и начальники флота, собравшегося у Саламина,
почти все высказываются за то, чтобы сразиться у Истма, а в слу-
чае неудачи — бежать в свои города (VIII, 49). Заставляя громче
звучать мотив поражения, Геродот в этом месте переносит взор чи-
тателя с Саламина на Аттику и ретроспективно живописует захват
персами Афин и самого акрополя (VIII, 50 — 55), после чего возвра-
щается к собранию стратегов и показывает царящую там сумятицу:
одни уже готовы разбрестись, другие хотят дать бой у Истма (VIII,
56). На этой низшей точке спада вдруг раздается призыв к победе:
если в",первом кадре бедствие Афин оправдывало пораженческое
настроение полководцев, то во втором кадре (VIII, 57 — 70) афиня-
нин Фемистокл поднимает боевой дух командиров флота и выводит
ситуацию из тупика.
Второй кадр раскрывает ту роль, которую, по мысли Геродота,
сыграла в судьбе страны афинская политика единства. Кадр состав-
лен из трех сцен: первая из них — это новый военный совет греков
(VI II, 57 — 64), вторая — разговор двух греков у Элевсина по пово-
ду чудесного знамения (VII I, 65), третья — военный совет Ксеркса
(VIII, 66 — 70); все три посвящены одной теме — морскому сраже-
нию при Саламине. Для перевода действия из пораженческого рус-
ла, каким оно было в первом кадре, в победоносное, каким оно ста-
ло во втором, Геродот использовал фигуру советника. В роли совет-
ников выступали Мильтиад перед Марафоном (VI, 109) и Дионисий
перед битвой у Лады (VI, 11). Мильтиад ссылался на необходимость
единства, Дионисий — призывал к военной выучке. Теперь, перед
Саламином, вводятся две фигуры советников, и оба довода, полити-
ческий и стратегический, включаются в один эпизод. О единстве
флота как условии, без которого Эллада погибнет, говорит Феми-
стоклу загадочный афинянин Мнесифил, убеждая любым путем
задержать корабли у Саламина. Слушаясь его, Фемистокл на но-
вом совещании стратегов призывает дать бой у Саламина, там, где
сама природа благоприятствует греческому флоту.
Инициатива Фемистокла, показывает Геродот, стала главным
~,: кторо;.. ьллигской победы. Фемистокл видит в битве при Салами-
не залог спасения Эллады и для большей убедительности подкреп-
ляет утилитарный довод (грекам выгодно сражаться в теснине) ме-
тафизическим, напоминая об оракуле, который обещал удачу при
Саламине (VI II, 60). По своей функции речь афинского военачальни-
ка находит себе параллель в выступлении Артабана на военном
совете Ксеркса перед походом (VII, 10). Обе речи прогнозируют бу-
дущее, исходя из реальных условий войны, обе опираются на авто-
ритет метафизического порядка, и обе подчеркивают важность ра-
зумного человеческого решения: Артабан утверждает, что правиль-
ное решение ценно и тогда, когда встречает на своем пути помеху,
а Фемистокл заканчивает свое обращение словами: «Когда люди
принимают разумные решения, то обычно все им удается. Если же
решение безрассудно, то и божество обыкновенно не помогает чело-
веческим начинаниям» (пер. Г. А. Стратановского).
В этой перекличке мотивов мы вправе расслышать голос автора.
Сба военных совета поставлены как 6bl в один ранг, но итог их пря-
мо противоположен: Артабану никто не внял, и персы понесли урон1
Фсмистокл убедил стратегов, и эллины одержали победу. Сцене
военного совета при Саламине придана проафинская интонация;
Если в первом кадре внимание было сосредоточено на беде Афин,
то теперь выставлена на вид их исключительная мощь. Как эллин
середины V в., Геродот устами Фемистокла противопоставляет Афи-
ны Коринфу ~', настаивая на их непобедимости среди греков (VIII,
61). Согласие Еврибиада дать бой у Саламина историк ставит в за-
висимость от угрозы Фемистокла, что афиняне переселятся на за-
пад. Без афинян, заключает Геродот, отпор врагу был бы невозмо-
жен (VIII, 62 — 63).
Надежда на победу, наполняющая речь Фемистокла, находит
себе подтверждение в двух последующих сценах, которые можно
объединить общей смысловой рубрикой «греки глазами персов».
Выражая одобрение Фемистокловой программе, Геродот придал
особую силу звучания мотиву победы эллинов, введя сразу после
него мотив поражения неприятеля. Осветив событие со стороны
греков, он тут же осветил его и со стороны персов. Греки ждут побе-
ды, варварам предсказывается разгром. Если в речи Фемистокла
утилитарный довод предшествовал метафизическому, то в персид-
ском эпизоде факты перечислены в обратной последовательности:
сначала рассказывается о чудесном знамении, которое предвещало
гибель флоту Ксеркса (VIII, 45), а затем уже о совещании в стане
Ксеркса, когда Артемисия отговаривала царя от сражения при Са-
ламине и советовала двинуться с войском на Пелопоннес (VII I, 68).
Речь правительницы Галикарнасса позволяет Геродоту поставить
в ситуацию трагической иронии как Ксеркса, так и греков и тем
придать всему эпизоду острую напряженность: не слушаясь Арте-
мисии, Ксеркс сам готовит себе беду, а греки, стремящиеся встре-
тить противника у Пелопоннеса, играют на руку персам, ибо имен-
но это, по словам Артемисии, отдаст всю Грецию во власть царя.
И чтобы подчеркнуть трагизм той ситуации, которую греки себе
готовили и из которой их вывел Фемистокл, Геродот, нарушая хро-
нологию, после выступления Артемисии живописует строительство
укреплений на Истме (VIII, 71 — 73) и обрамляет эту зарисовку со-
общением о страхе эллинов у Саламина и об их желании плыть
к Пелопоннесу (VI I I, 70, 74). На таком фоне показан третий военный
совет у Саламина (VIII, 74 — 81), когда Саламинская битва опять
ставилась под сомнение.
Преодоление кризиса вменено в заслугу хитрой уловке Феми-
стокла: обманным образом афинский стратег побуждает Ксеркса
первым начать бой и тем лишает греков возможности отступать
к Пелопоннесу. Сама же картина Саламинского сражения содержит
топику, уже встречавшуюся при описании Марафона и Фермопил:
дисциплина эллинов и их искусство в атаке противопоставлены пол-
ной неразберихе во вражеском лагере, где корабли давят друг дру-
га. «Эллины сражались с большим умением и в образцовом порядке.
Варвары же, напротив, действовали беспорядочно и необдуманно.
Поэтому-то исход битвы, конечно, не мог быть иным»,— пишет Ге-
родот и подробно рассказывает о приключении с Артемисией, ко-
торая, спасаясь от преследования, потопила два корабля из Ксерк-
сова флота, но выдала это за победу над эллинскими кораблями
и тем заслужила одобрение царя (VII I, 87, 88).
Фронтонная композиция позволила Геродоту представить Сала-
мин в роли поворотного момента истории, после которого ход собы-
тий изменил свое направление. Ксеркс до сих пор продвигался в
глубь материка, Саламин заставил его устремиться назад в Азию.
Второе крыло фронтона (действие после Саламина) не только про-
тивопоставляет то, что было после битвы, тому, что было до нее, но
и служит как бы ответным откликом на те доводы, которые звучали
в прелюдии к походу на военном совете у Ксеркса. Сбылось пред-
видение Артабана (VII, 10): среди греков нашлись желающие раз-
рушить мост через Геллеспонт, и царь спешит теперь спастись из
Греции. Такой перекличкой мотивов Геродот придал Саламину не
только общегреческое, но и всемирно-историческое и метафизиче-
ское значение. Победа на море не только спасла Элладу, но и свела
на нет претензии Ксеркса на мировое господство, о которых он заяв-
лял перед походом (VII, 8). Как и в контексте Фермопил и Артеми-
сия, Геродот осмысливает здесь событие в понятиях меры и устами
Фемистокла говорит о зависти богов, которые не допустили, чтобы
один человек воцарился над Европой и Азией (VIII, 109).
Бегство Ксеркса из Греции не положило конца войне. Описание
ее второго этапа, экспедиции Мардония в 479 г. с Платейской бит-
вой в центре, включено в структуру большого фронтона (см. выше)
как симметричная антитеза битве при Фермопилах. Гибель Леони-
да уравновешена гибелью Мардония. История эллинского сопро-
тивления Мардонию дает Геродоту новый материал для восхвале-
ния афинской политики единства и противопоставления ее спар-
танскому сепаратизму. Геродот подтверждает фактами высказанную
им ранее мысль (VIII, 139), что судьба Греции зависела от того,
примут или не примут афиняне сторону персов. Он ставит афинян
в критическую ситуацию выбора перед лицом персидской угрозы
и заманчивых посулов сатрапа. Если Марафон и Фермопилы раз-
рушили военный расчет персов, то теперь афиняне расстраивают
политический расчет Мардония. Сатрап надеется привлечь их к сою-
зу с персами и затем без труда одолеть греков на суше и на море
(VIII, 136).
Утверждая престиж Афин, Геродот в драматизированном виде
воспроизводит отказ афинян подчиниться Ксерксу. Историк живо-
писует политические дебаты в Афинах, когда посол Мардония,
Александр Македонский, в длинной речи говорит о всех невыгодах
отказа царю, а лакедемоняне просят афинян не изменять эллинам
(VIII, 140 — 142). Яоводы корысти и партикулярной безопасности
в устах Александра (VIII, 140) поставлены лицом к лицу с довода-
ми справедливости и свободы Эллады в устах спартанских послов
(VIII, 142). Острота коллизии подчеркнута мотивом сильного стра-
ха лакедемонян (VIII, 141). Тяжелое положение афинян признают
обе стороны. Эффект их отказа персам усилен тем, что Геродот при-
вел две ответные речи — обращение афинян к Александру. (Ч111,
143), а затем к спартанским послам (VIII, 144) — и этим дважды
заставил прозвучать мотив непоколебимой решимости защищать
эллинскую свободу.
Таким образом, поход Мардония представлен читателю не столь-
ко как результат военного превосходства персов, с ним ведь была
связана еще одна печальная страница афинской истории (новый
захват Афин персами), сколько как сознательный акт афинского
сопротивления. «Нет на свете столько золота, нет земли, столь
прекрасной и плодоносной, чтобы мы ради этих благ захотели пе-
рейти на сторону персов и предать Элладу в рабство» (пер.
Г. А. Стратановского) — так успокаивают афиняне послов Спар-
ты (VI I I, 144).
Геродотово изображение похода убеждало читателя в том, что
провал Мардония был неизбежен и что главную роль в организа-
ции сопротивления и на этом этапе сыграли афиняне. Мотив эллин-
ского согласия иышесен в зачин всего рассказа: он звучит уже в
первом упомянутом эпизоде — встрече Мардония с фиванцами
(IX, 2). Ссылаясь на то, что эллинов, когда они единомысленны
(о~~оуроч«ожив), нельзя одолеть, фиванцы советуют сатрапу дейст-
вовать путем подкупа и не продвигаться дальше. Геродот обращает
внимание на эту сцену, называя отказ Мардония от сделанного пред-
ложения безрассудным (IX, 3). Картина оккупированной Аттики
используется Геродотом для того, чтобы еще раз подчеркнуть пат-
риотизм афинян и провал надежд Мардония: лишенные родины,
собравшиеся на Саламине, афиняне и теперь отвергают его попыт-
ки привлечь их на сторону персов (IX, 5). И тут еще раз недобрым
словом упомянуты укрепления на Истме: лишь только они были
возведены, спартанцев перестала беспокоить судьба афинян (IX,
8). Участие спартанцев в союзном войске Геродот объясняет их опа-
сениями, как бы афиняне не приняли сторону персов (IX, 9 — 10),—
схожим доводом было обусловлено и решение Еврибиада вступить
в бой при Саламине (VIII, 63).
В свой рассказ о следовании персидского и греческого войска
к месту генерального сражения Геродот ввел два упоминания о ме-
тафизическом факторе, благоприятном для эллинов (хорошие зна-
мения — IX, 19) и неблагоприятном для персов (IX, 16). Мотив
предстоящей персам гибели здесь очень отчетлив и окрашен интона-
цией фатализма. Ради него Геродот отвлекается от военной темы
и переносит действие в дом фиванца Аттагина, где на пиру один из
гостей предается мрачным предчувствиям, убежденный в неспособ-
ности человека отвратить то, что должно произойти. «Видишь ли,—
обращается гость-перс к своему сотрапезнику,— пирующих здесь
персов и войско, которое оставлено нами в стане там на реке? От
всех этих людей [ты скоро увидишь] останется какая-нибудь горсть
воинов... Не может человек отвратить то, что должно совершиться
по божественной воле. Многие персы прекрасно знают свою участь,
но мы вынуждены подчиняться силе» (IX, 16) (пер. Г. А. Ствата-
новского).
Той же антитезой «согласие эллинов — обреченность Мардония»
скреплено изображение двух битв войска Мардония с греками (бит-
ва у Эрифр — I X, 20 — 23, и у Платей — IX, 26 — 65). Именно афи-
няне, не забывает отметить Геродот, в опасной ситуации боя прихо-
дят на помощь мегарцам (IX, 21), и они же готовы ради общего со-
гласия поступиться почетным местом в строю: эпизод платейского
сражения открывается словесным поединком тегейцев и афинян
(IX, 26, 27), во время которого афиняне превозносят свое достоин-
ство и заслугу при Марафоне, и тем величественнее выглядит их
жест, когда они дают согласие подчиниться приказу и стать, где
поставят (IX, 27). Мардонию же предвещается неуспех: знамения
неблагоприятны персам (IX, 37), и советник, теперь это Артабаз,
вновь предостерегает сатрапа от сражения с эллинами (IX, 41).
Смерть Мардония и победа Павсания истолкованы историком как
событие, уравновешивающее собой фермопильскую битву. «Так-то
78
Мардоний искупил убиение Леонида, согласно предсказанию ора-
кула спартанцам, и Павсаний, сын Клеомброта, внук Анаксандрида,
одержал самую блестящую победу из всех известных нам» (IX,
64) (пер. Г. А. Стратановского) — этими словами Геродот опреде-
лил место платейской битвы в круговороте человеческих дел: ги-
бель спартанского царя и победа персидского полководца находили
себе симметричную антитезу в гибели персидского полководца и по-
беде спартанского царя.
Рассмотренный нами материал позволяет подвести некоторые
итоги. Показывая развертывание исторических событий. Геродот
ставил перед собой две задачи — фактографическую и оценочную.
Решая первую, он протягивал нить последовательности от одного
правления к другому и устанавливал хронологическую дистанцию
между эпизодами. Решая вторую, он нарочито подбирал детали,
чтобы выявить и раскрыть тот принцип меры, которому подчинены
судьбы государств и отдельных людей. Если сама идея компенса-
ции как непреложной нормы всего существующего была традицион-
на и общепризнана в эпоху Геродота, то ее использование в качест-
ве отправной точки для расчленения хода истории на переломные
вехи было несомненной заслугой писателя. Толика этих поворот-
ных ситуаций позволяет уловить тенденцию авторского замысла.
Эпизод, иллюстрирующий схему «взлет — падение» (высокоме-
рие — наказание) предполагает у Геродота участие двоякого рода
факторов — метафизических (зависть богов, вещие знамения, про-
рочества оракулов и т. п.) и человеческих (этических и утилитар-
ных). В лидийском очерке, где данная схема воспроизведена с осо-
бенной яркостью, метафизический фактор (пророчество пифии о
наказании Креза) предваряет собой рассказ о самом событии, ко-
торое в силу этого воспринимается как неминуемое и неизбежное.
Однако по мере того как взор историка приближается к его совре-
менности, он все большее значение придает фактору человеческо-
му — личной инициативе персонажей, тонике благоразумных сове-
тов, ситуациям публичных совещаний, на которых решения прини-
маются людьми. Метафизический фактор не исчезает и тут, но полу-
чает функцию не направляющего двигателя, а подтверждающего до-
вода. Предвидение будущего в рисуемых художником сценах пере-
стает быть прерогативой. интуиции и делается функцией разума,
превращается в политический 'прогноз. Эта сторона Геродотовой
концепции была воспринята его младшим современником Фукиди-
дом, который построил свою модель исторического развития, учи-
тывая уже только утилитарные факторы.
РИМСКАЯ
ЭПИЧЕСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
РИМСКОИ ИСТОРИОГРАФИИ
И ЕЕ РАННИЕ ОБРАЗЦЫ
Вопрос о том, что такое история — произведение искусства или
наука, чего ждать от нее — удовольствия или пользы, занимал
многих писателей и теоретиков античности. Предмет истории ос-
мысливался ими как повествование о людях, об их активном учас-
тии в событиях общественной жизни и их судьбах, как процесс,
развертывающийся во времени и пространстве. Обсуждались цели
и методы истории, определялось ее основное назначение — настав-
лять и совершенствовать ум, служить руководством для государст-
венных деятелей и военачальников, содействовать нравственному
возвышению граждан.
В эллинистическое время вопросом о том, как должна писаться
история и каковы ее цели, занималась прагматическая (или науч-
ная) историография. Ее родоначальник, выдающийся греческий
историк Полибий, пытался осмыслить ход исторического развития,
анализировать причинные связи фактов и явлений, и единственной
целью истории считал правдивое изложение событий. Он верил,
что история приносит большую практическую пользу государст-
венным деятелям, обогащая их опыт, служа им примером и настав-
лением: «Если изъять из истории то, что может научить нас, то от
нее останется ничего не стоящее и совсем бесполезное» («Всеобщая
история», XII, 25,2; ср. IX, 2, 5; XXXVIII, 6,5) '. Высшей целью
исторического повествования он признавал истину: «если история
лишена истины, она обращается в бесполезное разглагольствование»
(1, 14,6); и далее: «от истории требуется дать людям любознатель-
ным непреходящие уроки и наставления правдивой записью деяний
и речей» (11, 56, 10 — 11).
Позднее, на закате римской республики, подобным же образом
высказывался Цицерон, требуя от исторического произведения
правдивости и беспристрастности и формулируя обязательные для
историка законы (Leges historiae): «...первый закон истории — ни
под каким видом не допускать лжи; затем — ни в коем случае не
бояться правды; не допускать ни тени пристрастия, ни тени злобы»
(«Об ораторе», I I, 15, 62) '. Цицерон особо подчеркивал этическую
функцию научной и правдивой истории — быть magistra vitae:
«История — свидетельница времен, свет истины, жизнь памяти,
учительница жизни, вестница старины» (Там же, I I, 9, 36).
80
В век принципата Августа Тит Ливий, вслед за Полибием и
1~ицероном, оценивал историю как предпочтительное средство
нравственного воспитания: «В том и состоит главная польза и луч-
ший плод знакомства с событиями минувшего, что видишь всякого
рода поучительные примеры в обрамленье величественного целого;
здесь и для себя и для государства ты найдешь, чему подражать,
здесь же — чего избегать» (Предисловие, 10) '.
В дни империи Тацит, продолжая традиции республиканской
историографии, требовал от историка «неколебимо держаться
истины» и обещал вести свой рассказ «без гнева и пристрастия»
(«История», I, 1; «Анналы», I, 1). Таково же требование Лукиана:
«Единственное дело историка — рассказывать все так, как оно было»,
ибо цель истории — «полезное, а оно может вытекать только из
истины» («1~ак писать историю», 39 и 9). Итак, истина и польза
считались главным смыслом исторического повествования и его
высшей целью. Понятно поэтому, что важнейшей задачей историо-
графов всегда была работа с источниками, обработка документаль-
ных материалов — т. е. собирание сведений о всякого рода событи-
ях, сопоставление их и исследование, отбор наиболее важных и ве-
роятных, оценка и толкование, представление в определенном
ракурсе и последовательности. Вовсем этом находили свое выраже-
ние метод историографа, его индивидуальная манера изображе-
ния жизни в соответствии с ее вйдением и восприятием.
У истоков историографии древние римские анналисты подряд
рассказывали о событиях, связанных только тем, что происходили
они в одно время, год за годом. Лишь постепенно стремление к
анализу событий и фактов привело к необходимости восстановления
не только временной их последовательности, но и логической, при-
чинной связи, классификации и критики, без чего трудно было
понять и структуру исторического целого и закономерности самой
ЭВОЛЮЦИИ.
Однако история осмысливалась древними не только как сугубо
научное занятие, целью которого было объяснять события и яв-
ления, наставлять государственных деятелей и полководцев и при-
носить им пользу. Она рассматривалась и как искусство, как одна
из форм художественно-прозаического сочинения, особый род
изящной словесности. Историография и литература были понятия-
ми нераздельными. Писание истории считалось видом литературно-
го творчества. Уже в IV в. до н. э. в связи с упадком греческой по-
лисной системы литературные задачи историографии начинают
преобладать над научными. Это было иное рассмотрение истории—
художественно-риторическое, когда содержанию и достоверности
информации придавалось меньше важности, чем форме, в которой
выражался идеал, волнующий писателя, и проявлялся его талант.
Здесь главным было произвести впечатление на читателя правдо-
подобным, живым и красочным рассказом, драматическим эпизодом,
ярким образом, искусным стилем. История сближалась с красноре-
чием. Историки решали те же проблемы, что и риторы, определяю-
щие три классические задачи красноречия: «убедить, взволновать,
81
случае познавательный элемент сохранял" значение опорного:
пункта.
Научная и художественная тенденции не были взаимоисключаю-
щими, но сосуществовали в историографии на всех этапах ее раз-
вития в различном соотношении и соразмерении трех основных
элементов. Научная тенденция в историографии, преобладающая
у греческого историка Фукидида, во II в. до н. э. была представле-
на у Полибия, который первый ввел понятие «прагматическая»
история как история государственная и политическая (VIII, 3, 8).
Он писал всемирную историю, полагая, что .только так можно
понять целое, а вместе с тем воспользоваться уроками истории
(I, 4, 11); только так можно изложить «последствия событий, со-
путствующие им обстоятельства и особенно причины их» (III, 32,
6). Он придавал большое значение наблюдениям очевидцев и по-
литическому и военному опыту историка.
Существенного развития эта тенденция в Риме не получила,
разве что наметилась у Семпрония Аселлиона да у Саллюстия,
идущего по стопам Фукидида. Ведь уже в эллинистическое время
историография, за исключением самого Полибия, сильно откло-
нилась от уровня изложения Фукидида с его стремлением к вскры-
тию причинной связи событий. Преимущественное развитие в Риме
получила вторая тенденция, распадавшаяся на две разновидности,—
эпическую и драматическую историографию'. Первой была свой-
ственна широта и обстоятельность воспроизводимого, второй—
глубина и напряженность.
В эпоху эллинизма в Греции писались труды и по всеобщей
истории, и по истории отдельных народов, составлялись геогра-
фические описания и биографии выдающихся исторических деяте-
лей. Ритор Тимей, знаменующий собой переход от IV в. до н. э. к
эллинистическому веку, изложил в своем сочинении (сохранив-
шемся лишь в отрывках) историю Сицилии с древнейших времен
в азиатском стиле с рассказами о чудесах, легендами, сновидения-
ми, предзнаменованиями. Ilagepoe назвал его самым образованным
из историков, сочинения которого отличались «замечательным бо-
гатством содержания, разнообразием мыслей и отделанной строй-
ностью слога» («Об ораторе», I, 14, 58). Полибий корил Тимея за
внесение в историю вымышленных речей, сновидений, чудес, не-
правдоподобных басен, грубого суеверия: «он сообщает не то, что
было сказано, или не так, как говорилось на самом деле, вместо
этого он предварительно решает, чтб должно быть сказано, и затем
все произнесенные речи и соображения о событиях дает в таком
виде, как будто сочинили их в школе... с целью показать свое уме-
ние, а не изложить то, что действительно было сказано» (XII,
25а, 5).
Не сохранились сочинения и других эллинистических истори-
ков, известных нам по небольшим фрагментам и извлечениям из
более поздних писателей, цитирующих их. Большинство из них
предпочитали ограниченные и современные исторические темы—
подвиги Александра Македонского, история монархий Птолемеев,
Селевкидов и др. Неарх, например, писал отчет-хронику о своем
возвращении из Индии с флотом Александра, Клитарх составил
полулегендарную «Историю Александра», украшенную чудесами
и занятными анекдотами, использовав, по-видимому, романическую
историю Каллисфена, участника походов Александра.
Все эти историки делали акцент на риторическом представле-
нии материала. Главной их целью было не наставление государ-
ственному деятелю, но увлекательность изложения, развлечение
и услаждение читателя живым описанием дальних стран, сказочны-
ми рассказами, картинами битв и осад городов, речами действую-
щих лиц, и, конечно же, различными эффектами стиля. Все это,
несомненно, связано с влиянием на историографию риторической
школы Исократа.
С другой стороны, эллинистическое историческое повествование
подвергалось, как полагают исследователи, воздействию драмати-
ческой, или так называемой перипатетической, школы ', представи-
тели которой (предположительно Феофраст и его ученик Праксифан)
переносили аристотелевское учение и положения о драмати-
ческой поэзии на историографию. По рецептам этой школы историо-
граф развивал рассказ как драматическую сцену, разрисовывац
действия и чувства героев живыми подробностями с целью воздей-
ствия на эмоции читателей, возбуждения в них чувства страха, жа-
лости, сострадания, гнева, удивления и т. п. '
Некоторые историки эллинистической эпохи применяли дра-
матические методы в изображении характеров персонажей. На-
пример, Дурис Самосский, ученик Феофраста, литературный кри-
тик и искусствовед, стремился сделать свою «Историю Агафокла»
(370 — 281 гг. до н. э.) интересной путем драматизации характеров
и мотивов, вводил в нее анекдоты и случаи из жизни выдающихся
людей, сказочные и любовные рассказы.
Другой историк, Филарх, продолжавший историческое сочине-
ние Дуриса до смерти Клеомена (272 — 220 гг. до н. э.), драматиче-
ски изображал женские характеры, любил нагнетать на читателей
ужас. Полибий, например, с неодобрением пишет о трагической
окраске его рассказа о покоренном городе Мантинее, о желании
автора разжалобить и тронуть читателя изображением плачущих
пленниц с распущенными волосами и обнаженной грудью, рыдаю-
щих мужчин, стариков и детей, попавших в рабство («Всеобщая
история», II, 56, 7). Он укоряет Филарха и за то, что, изображая
превратности судьбы, он не объясняет их причин (Там же, 10 — 13).
Следует иметь в виду, что различия между двумя вышеуказан-
ными методами не вполне четки, и, конечно, историографы могли
применять оба метода в зависимости от своих замыслов и в соот-
ветствии со своим характером и особенностями таланта. В целях
занимательности они, восполняя сухость или недостаточность под-
линных фактов, допускали определеннуюдолю вымысла, ограничи-
вающую правдивость повествования, но способдтвующую увлека-
тельности рассказа эпического или драматического характера,
и особенное внимание уделяли литературной отделке сочинения, ero
риторической окраске, или драматичности, или тому и другому
вместе. Историография в это время приблизилась к «эпидейктическо-
му» роду красноречия и стала, так сказать поэтическим произведе-
нием в прозе. И потому, по словам Квинтилиана, «чтобы не наводить
скуку, она пользуется и словами не совсем обыкновенными, и фи-
гурами речи вольными» («О воспитании оратора», Х, 1, 31).
С распространением эллинистической культуры в Риме в
111 — 1 в. до н. э. у римлян усиливается интерес к искусству крас-
норечия. От эллинистических историков они заимствуют литера-
турную, или, лучше сказать, «исократовскую» технику. Влияние
профессиональной риторики ощущается в частом вплетении в исто-
рический рассказ фиктивных речей исторических деятелей, дра-
матических сцен, описаний стран и народов, отступлений, не свя-
занных с главной темой, в стремлении к внешним стилистическим
красотам — словом, в использовании всего того, что могло разно-
образить повествование, привлечь и удержать внимание читателей.
Прием введения речей давал историку возможность колоритнее
обрисовать характер героев и, кроме того, высказать их устами
идеи, волновавшие его самого,— ведь в прошлое нередко перено-
сились острые вопросы и отношения современности. Задачи худо-
жественные переплетались здесь с публицистическими.
Но Исократ, преподаватель и теоретик риторики, стремился
воспитать молодых людей не только искусными ораторами, но и
добрыми гражданами. Эта этическая цель, найдя отклик в эллини-
стической историографии, проникла в римскую и укрепилась в ней;
и тут проявилось значительное влияние на Рим философии стоиков,
в частности Панетия. Задачу морального воспитания мы находим
и у Катона Старшего, определившего идеал оратора и граждани-
на как vir bonus (добропорядочный муж), в трактатах Цицерона и
Квинтилиана. Под влиянием школы Исократа большинство рим-
ских историографов, в том числе и Тит Ливий, также считали одной
из своих основных целей нравственное возвышение читателей,
воспитание их чувств, образа мыслей и характера. Эффект воздей-
ствия на читателя, естественно, усиливался, если повествование
строилось согласно определенным правилам, предъявляемым ху-
дожественному сочинению.
Процесс проникновения в Рим эллинистических влияний про-
исходил нелегко и непросто. На протяжении многих лет в римском
обществе шла упорная идеологическая и политическая борьба ста-
роримских традиций с иноземными влияниями. Рим впитывал в
себя особенности греческой культуры, лишь постепенно преодоле-
вая чуждые ему культурные тенденции '. С одной стороны, шло
усвоение традиций греческой культуры (и, как известно, большую
роль в распространении греческой культуры сыграл род Корнели-
ев Сципионов), с другой — возрастало национальное самосознание
римлян и их стремление к утверждению собственной оригинальной
духовной культуры. Римский консерватизм, составлявший харак-
терную черту римской идеологии, всячески противодействовал эл-
линистическим влияниям. Ярый противник эллинофильской семьи
Сципионов, цензор Катон Старший, ревнитель римской старины и
древнего благочестия, был убежден, что увлечение всем греческим
угрожает консервативной традиции, расшатывает древние нравы,
таит в себе опасность для нравственных ценностей римского мира '".
Эти нравственные ценности римлян состояли из набора добро-
детелей, образуя одно общее понятие — Virtus Romana, т. е. долж-
ное и достойное поведение идеального человека-гражданина: virtus,
прежде всего как «воинская доблесть», затем pietas (благочестие),
fides (верность), gravitas (важность), constantia (твердость), fru-
galitas (деловитость), dignitas (достоинство). Наградой за это были
laus (хвала) и gloria (слава), признание сограждан и потомков.
Высшую ценность для добропорядочного римского гражданина
представляло его отечество (patria), Рим, и его благо. Эта исконная
virtus выделяла римлян среди других народов ".
Под влиянием идей и обычаев эллинского мира представление
римлян о духовных ценностях гражданина обогащается понятия-
ми justitia (справедливость), clementia (милосердие), humanitas
(человечность). К числу добродетелей достойного римлянина до-
бавляется и образованность. Римляне все более и более стремятся
приобщиться к духовной культуре греков: овладеваютгреческим
языком, литературно-философским наследием греков, ихмифологи-
ей. Тот же Катон на склоне лет признал необходимость обогащения
духовным опытом Эллады исторических ценностей римской культу-
ры и идеологии и самого римского консерватизма. И Цицерон позд-
нее весьма недвусмысленно заявит: «если образцам добродетели
надо учиться у нас, то примерам образованности — у греков» («Об
ораторе», 111, 137).
Эллинская культура в конце концов соединилась с римскими
самобытными силами. Это был плодотворный сплав двух культур,
их взаимопроникновение и взаимообогащение, хотя римляне стре-
мились все же утвердить национальное своеобразие своей культуры
и, может быть, в чем-то даже превзойти греческие образцы. Так,
глубоко проникнутый сознанием величия Рима, Квинт Энний
(239 — 169 гг. до н. э.) создал первую национальную эпопею, опи-
сав в гексаметрах историю Рима от путешествия Энея до конца
первой Пунической войны. Главнойтемой его проникнутых патрио-
тизмом «Анналов» была римская virtus. И Катон Старший в своем
историческом сочинении «Начала» показал, что мощь и славу Риму
обеспечили доблести (virtutes) римского народа — его мужество,
стойкость, патриотизм.
Дух соперничества пронизал всю римскую культуру. Не слу-
чайно Квинтилиан в своем параллельном обзоре греческой и римской
словесности подчеркивает, что римляне не уступят грекам в истории
(Х, 1, 101), могут поспорить с ними в элегии (Там же, 191) и ори-
гинальны в жанре сатуры (Там же, 93). Вергилия он сравнивает с
Гомером, Саллюстия — с Фукидидом, Тита Ливия — с Геродотом
(Там же, 101), à Цицерона признает совершенством, идеалом ора-
тора, в речах которого сочетались «мощь Демосфена, обилие языка
Платона и обаяние Исократа» (Там же, 105).
Под влиянием греческой мысли получает развитие и обоснова-
ние сама идея Рима. Ведь Рим, римский народ, его история счи-
тались нормативом того, что есть и должно быть. Это был миф,
созданный римлянами, который повествовал о прошлом, обьяснял
настоящее и давал людям руководство к действию ". Полибий в
своей «Всеобщей истории» показал, что римские завоевания имеют
глубокие, оправдывающие их причины, что движущей силой рим-
ской истории и залогом успеха являются не одни только добродетели
римлян, но и совершенство созданного ими государственного строя,
т.е. та смешанная форма правления, которую он находил наилучшей:
разумное соединение монархического, аристократического и демо-
кратического начал (VI, 11 — 14) ".
Сила римского традиционализма особенно отчетливо проявилась
в историографии, которая всегда была для римлян предметом госу-
дарственной деятельности, делом высокой политики, а также и
важнейшей отраслью художественной прозы. Еще и не имея лите-
ратуры, они интересовались своим прошлым: «Не знать, что случи-
лось до твоего рождения — значит всегда оставаться ребенком.
В самом деле, что такое жизнь человека, если память одревних собы-
тиях не связывает ее с жизнью наших предков1» — говорит Цицерон
(«Оратор», 34, 120), убежденный в необходимости для оратора и го-
сударственного деятеля «знания исторических памятников и приме-
ров минувшего» («Об ораторе», I, 46, 201).
Первые римские историографы, деятельность которых относит-
ся ко времени Пунических войн, излагали сложившуюся до них
римскую историческую традицию. Они строили свое повествование
на собственно римском документальном материале, главным обра-
зом на сообщениях официальных архивов, и основывались на соб-
ственном опыте и свидетельствах очевидцев. Это были анналисты.
go анналистов, по свидетельству поздних римских писателей,
существовали лишь официальные сообщения, таблицы понтификов
(tabula pontificum). Цицерон, например, пишет: «История была не
более чем летописным сводом, который сохранял для общества па-
мять о событиях; и для того-то от начала Рима (аЬ initio гегит
Pomanorum) вплоть до понтифика Публия Муции великий понтифик
вел запись всех событий по годам, заносил ее на беленую скрижаль
и выставлял в своем доме для ознакомления с ней народа» («06
ораторе», II, 12, 52). И Квинтилиан говорит, что в истории раньше
анналов понтифика ничего не было (Х, 2, 7).
)Креческая коллегия вела записи (libri pontificalum), которые
содержали сведения самые разнообразные, но достопримечатель-
ные на взгляд понтификов; в их обязанность входил надзор за об-
щественными богослужениями, обрядами и празднествами, а также
ведение календаря (fasti). Тут были сведения о ценах на хлеб, об
энидемиях и стихийных бедствиях, о затмениях луны и солнца,
о засухе, о предзнаменованиях, требовавших искупительных
жертв, о6 освящении храмов и т. п. «И эту летопись называли вели-
кой по великим понтификам, которые ее составляли»,— сообщает
Сервий «' в комментариях к Вергилию.
13 погодных записях содержался перечень высших должностных
лиц — магистратов. Первые записи ученые относят ко второй по-
ловине IV в. до н. э.; позднее (в III в. до н. э.) стали появляться
сведения о заседаниях сената, о договорах и посольствах, о воен-
ных кампаниях и т. п. " Записи понтификов дополнялись и редак-
ти ровал ись.
После нашествия на Рим галлов и пожара в Риме ок. 388 г.
до н. э. большая часть архивов понтификов и других общественных
и частных документов погибла, как сообщает Тит Ливий (VI, 1,
1 — 3). Однако, по мнению исследователей, многие архивы могли
остаться, так как хранились в разных местах: в Капитолии, в хра-
мах, уцелевших от огня". Во II в., ок. 115 г. до н. э. по распоряже-
нию верховного понтифика Публия Муция Сцеволы было опублико-
вано собрание всех официальных записей понтификов, начиная
аЬ игЬе condita, составившее 80 книг под названием «Великая лето-
пись» (Annales maximi). Это была последняя редакция анналов ".
Но это еще не была история, а только ее зачатки, материал для исто-
рии на будущее, собрание примечательных календарных дат,
кратких и сухих сообщений о событиях, степень достоверности ко-
торых весьма неопределенна и спорна. Сведения, относящиеся
к III в. до н. э., ученые склонны все же признавать достоверными,
а к более ранним временам — сомнительными. Тем не менее они
послужили развитию литературной анналистнки, и в этом их польза.
Ранние римские историки (конец III в. до н. э.— первая поло-
вина II в. до н. э.) стали литературно обрабатывать документаль-
ный материал официальных летописей, облекая его в нарративную
форму. Они потому и получили название «анналистов», что излага-
ли историю по годам, в виде летописи. Анналисты обращались и к
частным, фамильным архивам, которые велись в знатных домах и
в которых прославлялись доблести отдельных членов фамилии и
указывались их служебные обязанности; а также к похвальным ре-
чам по умершим, входившим в состав погребального римского ри-
туала (laudationes funebres) и хранившимся в семейных архивах.
Похоронные речи считались средством воспитания граждан в духе
доблестных подвигов и добрых нравов предков (Полибий, VI, 54).
Такие воспоминания о достопамятных делах дедов и отцов зажига-
ли, по словам Саллюстия, дух римлян неудержимой тягой к доблес-
ти, ибо «память о былых подвигах поддерживает в сердцах великих
людей этот огонь и не дает ему угаснуть до тех пор, пока собствен-
ная их доблесть не сравняется со славою предков» («Югурта», IV).
Конечно, истинного положения дел похвальные слова не отра-
жалн из-за тенденциозного стремления знатных римлян возвысить
и прославить свой род и своих предков и, напротив, очернить и
унизить чужой. «Из-за этих похвальных слов даже наша история
полна ошибок,— сетует Цицерон,— так как в них написано мно-
гое, чего и не было: и вымышленные триумфы, и многочисленные
консульства, и даже мнимое родство» («Брут», 16,62; ср.: Ливий,
VIII, 40, 4). Вполне возможно, что первые римские историки ис-
пользовали в своих сочинениях и так называемые пиршественные
песни (carmina convivalia), о потере которых с сожалением говорит
Цицерон: «о если бы сохранились песни, которые, по словам Катона
в его «Началах», за много веков до него пелись на пирах во славу
знаменитых мужей» («Брут», 19, 75) ". Ученые предполагают, что
героями устных эпических сказаний могли быть Ромул, Кориолан,
Камилл, Гораций, Муций Сцевола.
Задача римских историков всегда была патриотической: изо-
бражать славные деяния своих предков, которые служили бы бу-
дущим поколениям примерами бескорыстия, доблести и гражданст-
венности. Легендарные и исторические рассказы о деятелях и ге-
роях Рима должны были оказывать благотворное воспитательное
воздействие на молодое поколение — ведь в образах героев вопло-
щались свойства идеального римского гражданина (vir bonus),
удовлетворявшего высоким требованиям морали. Все эти истори-
ческие и поэтические легенды о героях, носителях высших духов-
ных ценностей, не скопированы с греков, а взяты, как полагают
многие исследователи этого вопроса, из устной поэтической тра-
диции римского народа ".
Историческая проза римлян начала складываться в период
второй Пунической войны (219 — 202 гг. до н. э.), когда римская
литература особенно глубоко прониклась эллинизмом. Греческое
образование распространялось повсюду, греческое красноречие
оказывало влияние на все виды прозы, греческий язык считался
модным языком образованных людей. Может быть, поэтому первые
римские анналисты писали свои исторические труды по-гречески,
а, может, еще и потому, что предназначали их для читателей гре-
коязычного мира, желая познакомить их со славным прошлым
Рима и тем подчеркнуть возрастающее влияние римской власти.
Эго был как бы первый взгляд Рима на себя со стороны, необходи-
мый для исторического подхода к самому себе.
Первым занялся литературной обработкой римских хроник
Квинт Фабий Пиктор, сенатор и понтифик (конец III — начало
11 в. до н. э.), представитель одного из старинных и знатных родов,
>ич в,та имобраз м,тради июанналистичес ойисториограф
которую продолжили другие римские историки. Он составил «Ле-
топись» римлян от прибытия Энея в Италию до второй Пунической
>l(> HHbl,совреме никомк торо был.М адшийсовре енник
.~1уций Цинций Алимент, претор и полководец в Пунической войне,
>:& t;кжесо тавили то июотосн вания ор дадосовре енн
~ <> ыт й. анимс едуетс нат рГай ц лийи онс лАвл
мий Альбин. Все эти историки, обычно именуемые старшими анна-
листами, писали на греческом языкедля узкого круга образованных
читателей и для информации государственных деятелей.
Служили они практическим целям. Художественных задач себе
»& t;стави и. амизвес ныл шьмел иеразрознен ыефрагме
» & t; ихсочинен й и то поболь ейча т вупоминан я ицита
»&l ;>&g ;днейши а торов" П этому ылишеныво можност
в»> тьсодержа иеэ ихисторичес ихсочине и и ембо еео
пить меру их точности и достоверности. Но заслуга их уже в том,
что они положили начало развитию римской историографии и стали
источником мастеров этого жанра. Древними анналистами пользо-
вались и Полибий, и Тит Ливий, и,1~ионисий Галикарнасский, и
диодор Сицилийский и другие поздние историки и грамматики.
Среди историков этого поколения выделяется Катон Старший
(234 — 149 гг. до н. э.), консул и цензор, по праву признанный ро-
доначальником римской прозы: он первый стал писать историю
по-латыни. Его «Начала», очерк истории Рима и других италий-
ских общин были первой обработкой римской истории на латинском
языке. Сохранились они лишь во фрагментах и пересказах других
авторов. Написаны они, судя пофрагментам 49 и 106 — 109, в позд-
ние годы ". Это был труд во славу отечества и всего римского на-
рода, в котором события изложены без имен полководцев и государ-
ственных деятелей. 1~о словам цицерона, «Начала» Катона содержа-
ли «все цветы и все украшения красноречия» («Брут», 17, 66). Он
ввел в употребление прием внесения в хронику речей исторических
лиц и своих собственных, когда-то произнесенных им в сенате".
3а Катоном следуют так называемые средние анналисты: Кас-
сий Гемина, Кальпурний Пизон, Гней Геллий, Венноний, Гай
Фанний, Семпроний Тудитан (вторая половина I I в. до н. э.).
Эти писатели излагали в традиционной анналистической форме
события в их последовательности от древнейших времен до своего
времени, не заботясь о литературном достоинстве изложения. Их
рассказ был сухой, не претендовавшей на какую-либо художест-
венность информацией, составленной со слов очевидца событий или
по собственным воспоминаниям, или компиляцией из материалов
понтификов, сенаторских документов, фамильных архивов, а также
из преданий. Ilvuepoa, сравнивая этих анналистов с греческими
логографами, замечает: «они не знают, чем украшается речь (эти
украшения явились у нас недавно), они хотят лишь быть понятны-
ми и единственным достоинством речи считают краткость» («Об„
ораторе», II, 12, 53). От средних анналистов до нас дошло лишь не-
большое число мелких отрывков.
Представители младшей анналистики — Рутилий Руф, Квинт
Клавдий Квадригарий, Валерий Анциат, Луций Корнелий Сизен-
на, Гай Лициний Макр, Квинт Элий Туберон относятся к эпохе
Гракхов. Содержание их сочинений также известно только из упо-
минаний и цитат более поздних писателей. С усилением влия-
ния риторики на исторические произведения анналисты этого
времени, в отличие от своих предшественников, поддаются соб-
лазнам «исократовской» техники обработки материала: распола-
гают отдельные эпизоды согласно определенным риторическим пра-
вилам, добавляют речи и даже письма (например, Квадригарий,
фр. 41), рассказы о снах и предзнаменованиях, дающие возмож-
ность для риторического описания. Яля них характерны отступле-
ния, приукрашивающие события, а иногда и прямо их искажающие.
Исторические факты переплетаются у них с вымыслом, вводятся
риторические украшения. На первый план выступает внешняя
сторона изложения.
Таким образом, структура их летописи, воспроизводя форму
старых хроникальных записей, сочетает их с литературным по-
вествованием. Авл Геллий, например, одобряет патетичность рас-
сказа Квадригария о сражении Манлия с галлами в первой книге
его «Летописи», отмечает правдивость и силу этого волнующего
описания битвы (I X, 13, 4 и сл.); Фронтон говорит о его «изящном»
стиле.
Но уже в это время внимание некоторых историков сосредото-
чивается на изложении отдельных периодов недавнего прошлого.
Отступая от погодного способа представления материала, они пи-
шут исторические монографии в риторической или драматической
манере.
Так, например, Луций Целий Антипатр, современник Полибия,
пишет поэтизированным слогом труд о второй Пунической войне
в семи книгах уже не в форме летописи, а в форме исторической
монографии, что было новым жанром в Риме. Кроме того, у Целия
уже намечается критический подход к источникам. Он приводит,
например, различные версии какого-то рассказа и сам исследует
сообщаемое (фр. 29 из II книги — см. Ливий, XXVII, 27, 11).
В целях занимательности Антипатр вводит в повествование драма-
тические элементы, речи действующих лиц, считая, по-видимому,
что в историческом сочинении главное значение имеет сила эмоци-
онального воздействия на читателя, и она тем больше, чем выше
стилистическое искусство. По словам Цицерона, Антипатр был
«по тем временам блестящим писателем» («Брут», 26, 102), который
«придал истории более возвышенный тон, а все остальные писали
не художественную историю, а простой рассказ о событиях» («Об
ораторе», II, 12, 54). Правда, далее Цицерон с неодобрением говорит
о том, что «Целий не умел ни украсить историю разнообразием мыс-
лей, ни отгладить рассказ стройностью слов».
У младших анналистов история, таким образом, приобретала
черты художественности и в то же время служила им и средством
политической борьбы. Рассказы историков этого времени о прошлом
нередко созвучны социально-политическим взаимоотношениям со-
временности. В соответствии с волнующими их социально-полити-
ческими проблемами и в зависимости от своего литературного
мастерства историографы что-то опускали в изложении событий,
что-то усиливали или ослабляли, а то и просто искажали. И даже
документальные сообщения окрашивались в историческом сочине-
нии авторским восприятием. Валерий Анциат,.например, стремил-
ся сделать свою историю интересной за счет прямых вымыслов и
преувеличений, мотивированных желанием возвеличить отечество
и прославить род Валериев. Такой комплекс патриотического и
родового пристрастия становился «авторизованной версией»ран-
ней римской историографии ".
В это же время, как отмечалось, углубляется историческая и
политическая мысль, у писателей начинает пробуждаться интерес
к современной истории и ее концепции. Так, например, Семпроний
Аселлион был уже последователем строгого исторического, или
прагматического, метода повествования, начатого Полибием и про-
долженного Саллюстием. B сочинении «Res gestae» он описывает
только события своего времени, в которых сам принимал участие в
качестве военного трибуна в период Нумантийской войны (134 г.
до и. э.). Излагая внешние события и описывая внутреннюю жизнь
государства, он пытался установить причины событий, рациональ-
но объяснить связи между ними. У Авла Геллия сохранились фраг-
менты из первой книги исторической монографии Аселлиона, где
он высказывается о долге и назначении историка не только описы-
вать события прошлого, но и интерпретировать их: «Мне кажется,
недостаточно только рассказывать о происшедшем, но надо показать,
какова цель события и причина его». Семпроний Аселлион делает
ударение и на этической цели историографии: «Летопись не в состоя-
нии ни побудить кого-либо к более горячей защите отечества, ни
удержать от совершения дурных поступков. А писать, при каком
консуле началась война и при каком окончилась, кто с триумфом
вошел в город, и о том, что случилось на войне, не упоминая между
тем ни о постановлениях сената, ни о внесенных законопроектах,
ни о целях, руководивших этими событиями,— это значит расска-
зывать детям сказки, а не историю писать» (V, 18, 7 — 8) ". Таким
образом, цель его истории была и воспитательной — возбуждать
дух патриотизма в своих согражданах.
Среди историков этого периода выделяется и Сизенна, претор
76 г. до н. э., продолжавший, по-видимому, сочинение Аселлиоиа
до смерти Суллы. Большое внимание он уделял художественности
изложения: в его «Истории» содержатся и письма, и речи, и описа-
ния битв и осад, и рассказы о снах и предзнаменованиях. Не слу-
чайно Цицерон сказал о нем: «Можно подумать, что из греков он
читал одного 1<литар а» «Озакона », I, 2, ) вдру омме
он дал ему такую оценку: «И хоть его история далеко превосходит
все сочинения предыдущих историков, все же свидетельствует о.
том, как еще далек от совершенства этотродлатинской словесности
и как еще мало в нем блеска» («Брут», 64, 228). Сочинения анналистов
всех трех поколений до нас дошли в незначительных отрывках
цитирующих их авторов.
Рассматривая анналистов в целом, можно наметить и общие,
объединяющие их черты и отличающие их друг от друга особенности.
В целом содержание анналов включало: царский период, первые
два века республики, когда существовали некоторые архивные
материалы, период после 300 г. до н. э., когда архивные материалы
обрастали рассказами и воспоминаниями очевидцев событий.
Большинство анналистов сосредоточивали свое внимание на рас-
сказе о Пунических войнах.
Принято делить анналистов на три группы (старшие, средние
и младшие анналисты), принимая во внимание главным образом
временной фактор, т. е. время их творчества. Правда, деление это
в достаточной степени относительно, потому что не всегда точно
учитывает метод использования источников и подачи материала.
А он, как мы видели, был далеко не одинаковым. Старшие анналисты
92
все были государственными деятелями, которые просто сообщали
факты, излагая историю, как в летописи, с преимущественным
вниманием к описанию военных и внешнеполитических событий в их
хронологической последовательности. Они писали общую историю
аЬ urbe condita до своего времени для греческого читателя и пола-
гались больше на официальные и фамильные архивы. Римская
внутрипартийная полемика отступала здесь на второй план. В
центр внимания она выдвигалась у средних анналистов, писавших
для римского читателя.
Всякая летопись содержит информацию о событиях и имеет
свою композицию, но далеко не всякая ставит художественные
цели. Погодные записи старших и средних анналистов представля-
ли собой единичные факты, заслуживающие упоминания с точки
зрения летописца и не требующие развернутого изложения в форме
литературного рассказа. <с томо етб ть аксу о, ак сеони?»
говорит о них Е~ицерон («О законах», I, 2, 6).
Со времени Гракхов тон и цели историографии несколько ме-
няются. В нее привносятся демократические идеи, расширяется
круг ее читателей, ожидающих теперь от историков большей занима-
тельности и легкости изложения. Младшие анналисты, писавшие
уже после публикации архивных анналов, не были скованы необ-
ходимостью обращаться к прошлому и могли сосредоточиться на
событиях недавних и отдельных. Кроме того, влияние греческой и
эллинистической культуры пробуждало вкус к более расцвеченно-
му стилю, и анналисты шли навстречу этому вкусу, стараясь удов-
летворить его. Желая сделать свое историческое повествование
интересным и занимательным, они (преимущественно младшие ан-
налисты: Целий Антипатр, Валерий Анциат и др.) наполняли его
легендами о происхождении Рима, сновидениями, предсказаниями,
поэтическими описаниями, рассказами о чудесах, воспроизводя,
таким образом, риторическую манеру эллинистических историков.
Лишь немногие, поздние по времени, анналисты пытались крити-
чески осмыслить историю. Все они писали в интересах прославления
и возвеличения своего рода, своего отечества и его прошлого.
Тенденциозность их мировоззрения обусловливалась их принадлеж-
ностью к высшему, сенаторскому сословию. Исторический интерес
уступал здесь интересу политико-патриотическому и риторическому.
Развиваясь под влиянием греческой историографии, римская
историография сохраняла тем не менее свои специфические черты.
Если греческие историки обращались в своих трудах к настоящему
и ко всемирной истории, то римские — к прошлому и только к исто-
рии своего отечества (за исключением «Начал» Катона), подчеркивая
и выделяя именно римскоедаже и во всемирной истории, если слу-
чалось касаться ее так или иначе. Интерес к прошлому величию
Рима определял главную моралистическую функцию истории как
наставнищr, дающей уроки и побуждающей к размышлению. Рас-
сказ о жизни выдающихся деятелей истории должен был зажечь
читателя духом подражания их доблестям и отвращения к поро-
кам ".
Опыт анналистов проложил путь более зрелым достижениям
историографов, которые на их основе создали и свой собственный
метод исследования материала и форму его изложения. И все же
следует отметить, что даже в пору своей зрелости римская историо-
графия не могла полностью освободиться от специфических черт и
установок младшей анналистики, представляя собой лишь более
совершенную ее форму без принципиальных изменений. Патрио-
тизм, преимущественный интерес к Риму, морализаторский тон,
.временной принцип сцепления событий, наконец, обилие риторичес-
ких прикрас в изложении — все это в той или иной степени можно
найти и у последующих мастеров римского историографического
.жанра: у Тита Ливия, Тацита, Аммиака Марцеллина. Таким обра-
зом, мы видим, что римская историография лишь постепенно совер-
шенствовалась как историко-литературный жанр. Развитие шло
от анналов в собственном смысле, т. е. изложения событий в хро-
нологическом порядке «от самого начала», без внутренней связи
между ними, к историографии научного или художественного ха-
рактера.
Сами римляне, по-видимому, ощущали разницу между римским
-словом Annales и греческим Historia. Во всяком случае, ученый
грамматик времени Августа Веррий Флакк отличал «историю» от
«летописи» и писал в своем лексикографическом словаре: «Ь~орЫ по-
.гречески означает рассказ очевидца событий... летопись же... это
когда события многих лет излагаются непосредственно год за годом,
с соблюдением хронологического порядка» (Авл Геллий, V, 18).
Таким образом, historia соприкасается с современными событиями,
аппа1ез — с прошлым. Анналист ведет рассказ простой и неприкра-
шенный, историк создает уже произведение искусства. По мнению
Цицерона, выраженному устами Аттика, в Риме еще никто не осу-
-ществил этот идеал: Abest enim historia letteris nostris («О законах»,
11, 5).
Впрочем, нередко и у древних римлян слово «annales» употреб-
лялось как синоним слова «historia» (см., например, у Цицерона:
«К близким», Ч, 12). Это и понятно. Ведь для римских историков
изложение событий почти всегда оставалось анналистическим—
авторитет традиции у них играл огромную роль, и эта традиция
могла быть нарушена только путем замены историографического
жанра каким-то иным: биографией, монографией, мемуарами.
В конце П в. до н. э. в Риме наряду с анналами писались уже
и исторические монографии, и автобиографии, и мемуары (Эмилий
Скавр, Рутилий, Руф, Лутаций Катулл, Корнелий Сулла). Но этот
вид сочинений относится скорее к другой линии в развитии худо-
жественной историографии — драматической, иначе говоря, к дра-
матизированной прозе. Главная же задача эпической историогра-
фии, о которой мы здесь ведем речь, заключается в пространной,
подробной, последовательной обрисовке людей и событий, в рас-
сказе о том, что совершилось определенными людьми, когда и где
совершилось. Основой этого повествования является развернутое
:изображение человека, исторически существовавшего лица, его
поступков, ~ro характера, его чувств и стремлений, его взаимоот-
ношений с другими людьми.
У римских теоретиков встречаются интересные рассуждения
о разновидностях художественного повествования. По-видимому,
и эпоху позднего эллинизма существовала теория какого-то по-
иествовательного жанра, близкого то ли истории, то ли роману,
и которой они и примыкали. И анонимный автор «Риторики для
Геренния» (I в. до н. э.), и Цицерон в сочинении «О подборе мате-
риала» указывают на два вида художественного рассказа, которые
могут применяться оратором: это, во-первых, рассказ, основанный
на изображении событий (genus narrationis quod in negotiorum
expositione positum est), и, во-вторых, рассказ, связанный с изо-
бражением лиц (narratio quae versatur in personis). Первый вид
рассказа состоит из fabula, в которой содержатся вещи и не прав-
дивые, и не правдоподобные; historia, где речь идет о действитель-
ных событиях, отдаленных от нашего времени; и argumentum,
где изображается вымышленное событие, которое могло бы про-
изойти («Риторика для Геренния», 1, 12 — 13; Цицерон, «О подборе
материала», I, 27).
Подобным же образом и Квинтилиан делит повествование на
три категории, которые называет: fabula, argumen tum, h istori a:
«миф, содержание трагедий и поэм, далекий не только от действи-
тельности, но даже от ее; вымысел, как в комедиях, ко-
торый не правдив, но правдоподобен, история, которая излагает
то, что было» (Il, 4, 2) ". Греческие эквиваленты этих категорий
даны у Секста Эмпирика в трактате «Против ученых» (книга 1—
«Против грамматиков», 263): ф|о~, г),аари, 1а-,орЪ. Его опреде-
ления содержания этих терминов таковы: «история есть изложение
чего-нибудь истинного и фактически происшедшего... Вымысел
же есть изложение предметов, хотя и небывших, но представляемых
как бы бывшими, каковы, например, комические сюжеты и мимы.
Наконец, миф есть изложение предметов, не могущих возникнуть
И ЛОЖНЫХ...»
Второму типу повествования, по словам Цицерона, «должна
быть присуща значительная занятность, которую создают разно-
образие событий, несходство характеров, серьезность, легкомыслие,
надежда, страх, подозрение, тоска, притворство, ошибка, состра-
дание, перемена судьбы, нежданное бедствие, внезапная радость,
приятный исход событий» («О подборе материала», I, 27; ср.: «Ри-
торика для Геренния», I, 12 — 13).
Возможно, такое деление, в достаточной мере условное, приме-
нимо и к художественно-историческому повествованию, состоя-
щему из трех основных частей: изображение событий (описание),
изображение лиц, передача речей. Преимущественное внимание
изображению событий (при которых читатель является лишь пас-
сивным созерцателем — «услаждается» прежде всего) дает эпи-
ческую линию в историографии; преимущественное внимание.
изображению лиц (при которых читатель является уже отчасти
активным сопереживателем — «увлекается» прежде всего) дает
драматическую линию в историографии. Речи служат то выраже-
нием субъективных чувств изображаемых лиц, то изложением (их
устами) объективных мотивировок событий, реконструируемых
историком (т. е. «научают» читателя прежде всего). У каждого
историка эти три части, каждая из которых имела свои основные
задачи, соотносились и соразмерялись между собой по-разному.
1(аждый историк на свой лад подчинял одно другому, выделяя свое—
главное. Повествование могло быть более эпическим (как у Тита
Ливия) или более драматическим (как у Саллюстия и Тацита).
Но, повторяем, обе разновидности, или вариации, художествен-
ной историографии имеют между собой много общего как по сути,
так и по форме. Различия между ними не явственны, скорее даже
зыбки. Ведь и у историков эпической линии можно найти страницы
патетика-драматического характера, имеющие целью вызвать
у читателя сильные чувства, и у историков драматической линии—
черты, свойственные эпической историографии.
С наибольшей полнотой представил эпическую линию в исто-
риографии Тит Ливий. «Он преобразовал историографию в своего
рода национальный эпос»,— пишет С. C. Аверинцев ". И совсем не
случайна оценка, данная Титу Ливию В. Г. Белинским: «...рим-
ляне имели своего истинного и оригинального Гомера в лице Тита
Ливия, которого история есть национальная поэма и по содержа-
нию, и по духу, и по самой риторической форме своей» ".
Обратимся теперь к самому Титу Ливию, к той исторической
и литературной среде, в которой формировалось его творчество,
и к методу использования им источников.
ТИТ ЛИВИЙ:
ЕГО СОЧИНЕНИЕ И ЕГО ИСТОЧНИКИ
Сведений о жизни Тита Ливия совсем немного. Родился он, по
.данным хроники Иеронима, в 59 г. до н. э. в цисальпийском городе
Патавии (совр. Падуя), где получил хорошее образование. Патавий
был известен в древности строгостью и чистотой нравов, отличался
преданностью римскому сенату и республике и в войне Цезаря
с сенатом принял антицезаревскую сторону. Можно предполагать,
что настроения родного города оставили глубокий след в детском
сознании Ливия '. В 27 г. до н. э. Ливий уже жил в Риме. Граж-
данские войны к этому времени утихли. Наступил мир, к власти
пришел Август, объявивший себя «принцепсом». По словам Све-
тония, его даже предлагали назвать Ромулом, вторым основателем
Рима («Божественный Август», 7, 2). Может быть, таким он был
:и в глазах Тита Ливия, видевшего в режиме Августа восстановле-
ние республиканской древности, вместе с которой, казалось, дол-
жны были возродиться и древние римские добродетели. Он при-
нимал новую систему принципата, внешне сохранявшую все рес-
публиканские учреждения, хотя и не служил ей как официальный
историк. Из слов историка 1<рему ия1~ор а,приведен ыхТа
том, известно, что Ливий был в дружественных отношениях с Ав.
густом ', но не скрывал своего расположения и к Помпею, за что
в шутку был назван Августом «помпеянцем» («Анналы», IV, 34, 3).
< )и ылда ек отвся ойполитичес ойдеятельнос и,ника ойгр
данской, военной или дипломатической должности не занимал
н потому мог всецело посвятить себя литературным занятиям, со-
нершенствованию своего риторического и философского образова-
ния. Из сооо;цения Сенеки-философа известно, что Ливий писал
диалоги, «которые можно отнести столь же к философии, сколь и
к истории, и книги откровенно фило"офского содержания» («Нрав-
сгвенные письма к Луцилию», 100, 9) '. Но до нас они не дошли.
Сохранился только ero труд по истории Рима, да и то в неполном
виде, а лишь в четверти своего объема. Ливил писал его почти всю
свою жизнь '. После смерти Августа он вернулся в родной город и
умер там около 17 r. н. э. '
История Рима состояла из 142 книг, охватываю:цих период
в 740 лет, or основания города до 9 г. до н. э. Она была задумана
именно как национальная история: Ливий намеревался «касаться
иноземной истории лищь настолько, насколько она связана с рим-
ской» (ХХХ!Х, 48, 6). Точного названия сочинение Ливия не
имеет: может быть, ero заглавием было «АЬ игЬе condita» («От ос-
нования город໠— VI, 1, 1), а может быть, «Анналы» («АЙ meos
annales» — XLI I I, 13, 2).
Из огромного количества книг «Истории» сохранились лишь 35:
книги 1 — Х, излагаюцие события с древнейших времен- до 293 г.
до н. э., и книги XXI — XLV, охватывающие период с 218 по 168 r.
до н. э. Озычно сочинение Ливия делят на «декады» ', полагая, что
так оно и переписывалось. До нас дошли декады первая (I — Х),
третья (XXI — ХХХ), четвертая (XXXI — XL) и половина пятой
(ХЫ вЂ” XLV). Деление на декады объясняется, по-видимому, тем,
что Ливий старался кончать их заметными этапными событиями,
хотя это и не всегда удавалось: например, в книге XXXV нет
резкого отделения каким-либо важным событием от следующих
книг. Но, может быть, такое деление установлено позднее — с V в.
н. э. ', а сочинение делилось на полудекады и так, пятикнижиями,
публиковалось.
Потеря трех четвертей «Истории» препятствует решению вопроса
о структуре целого произведения. Тем не менее дчспуты на эту
тему продолжаются до сих пор '. Исследователи по-разному делят
сочинение Ливия: то по декадам, то по пентадам, а то и по пят-
надцатикнижиям, исходя главным образом из принципа художест-
венного единства книг. Но и это единство видится ими неодинаково.
Так, например, P. Сайм ', отвергая принцип строгого деления
сочинения на декады, предполагает намерение Ливия составлять
его группами по пять или по десять книг (до ХХХ книги). Он счи-
тает, что, если Ливий и хотел делить свое сочинение на декады, то
под давлением материала первоначальный план его изменился,
поскольку распределить материал строго по декадам было, по-
видимому, трудно: конец книги не всегда совпадал с концом изла-
гаемого события. Поздние книги, по мнению этого исследователя,
4 7. И. КУЗНЕЦОВа, Т. А. МИЛЛЕР
группировались Ливием иначе: например, он указывает на един-
ство восьми книг о гражданской войне в Риме (CIX — CXVI) ".
Совершенно иную позицию занимает в этом вопросе П. Уолш,
который настаивает на том, что Ливий писал свое сочинение груп-
пами по пять книг и издавал их так же, пентадами. В III äåêàäåон
усматривает деление на две части (XXI — ХХЧ и XXVI — ХХХ),
каждая из которых составляет свое композиционное единство.
В первой части преобладают успехи Ганнибала, во второй — успехи
римлян (победы у Капуи, Тарента, Нового Карфагена). Книги
XXXI — XLV он делит на три пентады: первая — война с Филип-
пом (XX X I — ХХ ХЧ), вторая — война с Антиохом (X X XVI—
XL), третья — война с Македонией и победа Эмилия Павла над.
Персеем (ХI.I — XLV). По его мнению, периохи продолжали тот
же порядок деления по пентадам. Большинство ученых сходятся
на том, что сочинение Ливия было построено по пентадам и декадам
с 1 по XLV книги, допуская с большей или меньшей долей уверен-
ности продолжение этой же системы организации материала и в
книгах с XLVI no СIХ ". В последующих книгах деление на дека-
ды уже не различается.
Жесткий принцип деления на декады вряд ли приемлем, хотя
некоторые группы книг составлены, по-видимому, именно по этому
принципу. Неоспоримо, например, единство содержания третьей
декады, целиком посвященной второй Пунической войне от первого
нападения Ганнибала до победы Сципиона. В то же время состав-
ляют тематическое единство книги XVI — ХХХ вЂ” о первой и вто-
рой Пунических войнах.
Видимо, следует согласиться с предложением различать проб-
лему составления сочинения и проблему издания книг". Если
в составлении сочинения преобладает принцип пентад, то принцип
издания был иным: публикация производилась постепенно группами
книг, законченных с точки зрения композиции, таких, как 1, I I — Ч,
XXI — ХХХ и далее декад четвертой и пятой (XXXI — XLV),
представляющих единство и похожих на монографию о войне
с Македонией. Ь
Некоторый свет на вопросы композиции сочинения Ливия мо-
гут пролить особые введения к отдельным книгам, начинающим
новую декаду или пентаду. Эти введения как бы отграничивают
определенный этап в развитии событий. О единстве первой книги.
свидетельствует, например, начало второй книги, где Ливий раз-
мышляет о царской власти, необходимой в ранние времена Рима,
и этим как бы подводит черту под содержанием первой книги,
вводя читателя в повесгвование о начале свободной римской рес-
публики: «Отсюда я намерен излагать мирную и военную историю
уже свободного народа» (Liberi iam hinc populi Romani res pace
belloque gestas... peragam — 11, 1, 1).
В коротком предисловии к VI книге Ливий говорит о недостат-
ке исторических документов, пропавших при сожжении Рима:
«В пяти книгах я изложил внешние войны и внутренние усобицы,
словом, все, что совершили римляне от основания города до взя-
98
хин ero галлами, находясь сперва под властью царей, затем кон-
сулоБ и диктаторов, децемвиров и трибунов с консульской властью.
('.обытия эти затемняет отдаленная древность... C большей ясностью
и достоверностью будут изложены последую;цие события из граж-
данской и военной жизни государства, возродившегося при вто-
ричном устроении его, подобно более пышным и живучим побегам,
которые пускает древесный пень» (Quinque libris ехрозш — VI,
1 — 3).
1<к ги VI Ђ Хуказыв ют нанач лоединст а,ко ецкотор
(Х! — ХХ) утерян. Предисловие к XXI книге предшествует по-
вествованию о второй Пунической войне. Оно ясно указывает на
то, что Ливий начинает новую часть истории: «Я приступаю к опи-
санию самой замечательной из войн всех времен — войны карфа-
генян под начальством Ганнибала с римским народом» (Bellum
maxime omnium memorabile, quae umquam gesta sint, me scrip-
turum quod Наппйа1е duce Carthaginienses сит populo Romano
gessere — XXI, 1, 1).
Вся третья декада, как отмечалось, составляет единство со-
держания ". Но внутренне она делится на две части, по пять книг:
книги XXI — XXV, охватывающие семь лет и рассказывающие
о наступлении и победах Ганнибала, и книги XXVI — ХХХ, охва-
тывающие 10,5 лет и содержащие рассказ о наступлении и победах
римлян.
В предисловии к XXXI книге есть указание и на единство
и третьей декады и последующей, повествующей о македонской
войне: «И мне приятно, что я дошел до конца Пунической войны,
как будто бы я сам принимал участие в труде и опасности» (Me
quoque juvat... ad finem belli Punici регчеп!ззе), и далее: «3а ми-
ром с пунийцами последовала Македонская война, которую никак
нельзя сравнивать с предшествующей ни по опасности, ни по доб-
лести вождя, ни по силе воинов, но которая чуть ли не славнее,
если принять во внимание блеск древних царей, давнишнюю славу
народа и величину государства, некогда покорившего оружием
много европейских областей и ббльшую часть Азии» (XXXI, 1, 6).
Здесь также различается деление на две части: первые пять книг
содержат изложение второй Македонской войны, вторые пять—
войны с Антиохом и этолийцами.
Об утраченных книгах «Истории» Ливия мы знаем по сохранив-
шимся периохам (краткому перечню содержания каждой книги),
составленным еще в древности неизвестным автором. Но они столь
кратки (от 3 до 30 строк), что не позволяют делать какие-либо
определенные заключения о структуре книг и дают лишь самое
общее их содержание. Периохи к книгам 136 и 137 до нас не дошли.
И все же попытки проникнуть в структуру утерянных книг пред-
принимаются. Есть предположения об организации в них мате-
риала декадами и пентадами ".
План исторического труда Ливия представляется в общем виде
следующим: книги 1 — Ч охватывают царский и республиканский
периоды до нашествия на Рим галлов в 390 г. до н. э.; книги VI—
ХЧ включают войны — самнитскую и с Тарентом (343 — 272 гг.
до н. э.); книги XVI — ХХ вЂ” первую Пуническую войну (264—
241 гг. до н. э.); книги XXI — ХХХ целиком посвящены второй
Пунической войне (218 — 201 гг. до н. э.); книги XXXI — XL—
восточным войнам с Филиппом и Антиохом (201 — 179 гг.); книги
Х1.1 — L — войне с Персеем и третьей Македонской войне, третьей
Пунической войне (167 — 148 гг. до н. э.); книги LI — LX излагали
события от взятия Карфагена, осады и взятия Нуманции до Грак-
хов (147 — 123 гг. до н. э.); LXI — LXX — от смерти Г. Гракха до
трибуната Яруза (122 — 91 гг. до н. э.); LXXI — LXXX — граждан-
скую войну до смертиМария(91 — 86гг.до н.э.); в книгах LXXXI—
ХС освещалось время диктаторства Суллы до его смерти (86—
78 гг. до н. э.); в книгах XCI — С вЂ” время Помпея (77 — 66 гг. до
н. э.); в книгах CI — СХ рассказывалось о событиях, связанных
с триумвиратом до похода Цезаря в Грецию (66 — 48 гг. до н. э.);
в книгах CXI — СХХ вЂ” о втором триумвирате до смерти Цезаря
(48 — 43 г. до н. э.). Книга CXXI была опубликована после смерти
Августа, т. е. после 14 г. н. э.
Далее деление на пентады и декады, по-видимому, не соблю-
далось. Последующие книги до CXLII охватывали события до 9 г.
до н. э. Последняякнигаосталась незаконченной. Число лет, охва-
ченных каждой книгой, неодинаково. Если, например, первая
книга охватывает период в 500 лет, то третья — 22 года ранней
римской истории, а книги XXXVI u XXXVII — по одному году
каждая. В дальнейшем изложении число лет в каждой из книг
колеблется от четверти года до пяти лет ". Отсюда видно, что исто-
рия древнейших времен изложена Ливнем коротко (первые три
декады охватывают период в 550 лет), а по мере приближения
к современности события излагаются подробнее (книги Х Х 1—
LXVIÏ охватывают100лет; LX1Х вЂ” СЧШ вЂ” 50лет; С1Х вЂ” СХI 1I—
42 года).
«История» дает панораму внешних войн и внутренних междо-
усобиц. Это главным образом битвы за установление власти Рима
в Италии и позднее над странами Средиземноморья. Военная тема
здесь преобладает: это и рассказы о передвижениях войск и сра-
жениях, описания осад и взятий городов, речи полководцев перед
войсками и политических деятелей в народном собрании. С другой
стороны, в «Истории» есть сообщения об официальных назначениях
магистратов и жрецов, описание всевозможных церемоний и празд-
неств, перечисление провинций, армий, наконец, рассказы о зна-
мениях и чудесах и искупительных жертвоприношениях, легенды
и предания, дошедшие от глубокой старины до первых историков,
у которых Ливий и почерпнул их.
Ливий рассказывает события год за годом от легендарного ос-
нования Рима, принимая материал анналистической традиции и
сохраняя анналистическую структуру и форму хроник. Он читал
историков, греческих и римских, принимая на веру их свидетель-
ства или сомневаясь в них, мало заботясь о привлечении подлин-
ных документов (текстов договоров и законов, декретов и протоко-
лов сената и т. п.) и проверке почерпнутых фактов. Все приводи-
мые им свидетельства — это не сообщения «из первых рук», не ре-
зультат его собственного познания материала путем исследования
первоисточников. Не имея военного и политического опыта, он
брал материал из трудов своих предшественников, доверяя на-
дежности свидетельств «из вторых рук». Исследователи его так и
называют: «историографом, работающим „из вторых рук"» ". Он
заимствовал сведения, собранные и оцененные другими, интер-
претируя традиционный материал по-своему и применяя его для
своих патриотических, этических и дидактических целей.
Следует, впрочем,' заметить, что такой метод работы был осо-
бенностью всей римской историографии и Ливий только следовал
традиции. Полагаясь на достоверность заимствованного у аннали-
стов исторического материала, он излагал его в литературной фор-
ме, представляя сухие рассказы своих предшественников в красно-
речивом, живом и привлекательном виде. И в пределах анналисти-
ческой структуры своего труда Ливий осуществляет принцип
риторического или исократовского идеала историка, по которому
главными достоинствами исторического рассказа являются ясность,
краткость и правдоподобие (см. Квинтилиан, 11, 5, 7). Почитатель
Цицерона, Ливий находился под влиянием его воззрений на исто-
рию, высказанных в сочинениях «О законах», «Об ораторе», «Ора-
тор», — она должна быть одновременно правдивой, поучительной
и литературно оформленной, ибо красноречие неотъемлемая черта
хорошего историка. Он, таким образом, «осуществил союз анна-
листической традиции и цицероновского красноречия» ".
Какими источниками пользовался Ливий, как подбирал мате-
риал из них, можно говорить только весьма предположительно.
По этому вопросу существует большая научная литература ".
Ученые, занимавшиеся исследованием проблемы источников Ли-
вия, к единому мнению не пришли, высказывая порой самые про-
тивоположные суждения: то они считали, что Ливий следовал,
главным образом, одному источнику, внушавшему ему наибольшее
доверие, и добавлял к его свидетельствам сведения из других
с целью проверки противоречивых данных, то — что он пользо-
вался многими источниками и приводил несколько разноречивых
версий одного и того же события или факта, когда возникали со-
мнения в достоверности их ".
Но, поскольку сочинения анналистов дошли до нас лишь в са-
мых незначительных отрывках, понятно, что этот вопрос может
быть решен разве что гипотетически и только при помощи и на
основании мест из сохранившихся частей источников, цитат из со-
чинений самого Ливия и из сообщений других писателей (Диодора,
Дионисия, Плутарха, Аппиана), из сличения которых можно уви-
деть использование одинаковых или же различных источников.
О методе использования Ливием источников и о его отношении
к материалу можно составить некоторое, весьма приблизительное,
представление по его собственным высказываниям и замечаниям
в сохранившейся части сочинения. По-видимому, он обращался
lOl
то к одному, то к другому источнику, и брал их не подряд, а с раз-
личием, выбирая тех писателей, которые давали ему наиболее пол-
ную информацию о каждом периоде, каждой проблеме, каждом
эпизоде даже в пределах одной книги, тех, кому он верил. И от-
бирал из этих источников то, что ему нужно было для его литера-
турных, этических и патриотических целей.
Ливий сопоставляет и сверяет избранных им авторов, осмысли-
вает их разноречивые версии и высказывает иной раз свое мнение,
дает им свою оценку. Метод работы Ливия с источниками, вернее,
метод выбора их будет нагляднее, если проследить его критичес-
кие замечания по поводу полученной от них информации, свиде-
тельствую:цие о его отношении к материалу. Вряд ли можно рекон-
струировать систему его работы с источниками по сохранившейся
четверти его сочинения, но все же мы получим какое-то представ-
ление, рассмотрев эти разнородные ремарки Ливия. Во всяком слу-
чае, отношение его к материалу источников будет более ясным.
Как Ливий принимает факт — с доверием и одобрением или
с сомнением и критикой; безусловно полагаясь на авторитет, или
порицая его за неправдоподобие и не принимая его сообщения?
Свое доверие сообщаемому факту Ливий выражает, когда мнения
писателей о нем сходятся: haud dubie inter scriptores est (XXVI,
11, 10), neque ambiquitur (II, 1, 3), quod inter отпез auctores
convenit (VI, 12, 6), id quod haud discrepat (XXII, 36; 5) и др.
Но, обнаруживая разногласия между источниками по тому или
иному вопросу, Ливий сообщает о расхождениях. При этом он
часто ничего не утверждает и не отрицает и даже признается в своем
незнании (nescio — XL III, 13, 2 и др.). Он просто приводит вариан-
ты свидетельств: «Другие греческие и римские писатели... расска-
зывают...» (ХХХ!1, 6, 8). Или сопоставляет несколько мнений
по поводу одного и того же факта: например, о битве с самнитянами
одни, по словам Ливия, говорят, что было две битвы, другие, что
одна, третьи вообще умалчивают об этом (VIII, 30, 9); сопостав-'
ляет мнения и о подробностях смерти Гракха (ХХЧ, ',7) и др.
Причины описываемого также приводятся в варйантах источников:
«Бедствия начались голодом, потому ли что был неурожайный год
или потому что пренебрегли обработкой полей из увлечения город-
ской жизнью на форуме» (IV, 12, 7).
Ливий неоднократно признается в своем затруднении решить,
при разногласиях источников, меру достоверности того или иного
сообщения, идет ли речь о численности и роде войск, и числе пав-
ших и пленных, об именах консулов, о датах и т. п. Он, например,
пишет: «Передают много других противоречивых известий, в осо-
бенности о последних днях Сципиона, о его процессе, смерти, по-
хоронах и гробнице, так что я не знаю, с каким преданием, с ка-
кими писателями мне согласиться» (XXXVIII, 56, 1).
Обнаруживая разногласия, Ливий не выражает желания в них
разбираться: «не хочется этому верить, и это позволительно
ввиду противоположности мнений» (пес liber credere et licet in
variis opinionibus — IV, 29, 5). Он предпочитает присоединиться
к мнению большинства: «Много мне пришлось бы ходить вокруг
и около одного предмета, если бы я пожелал разобраться во всех
разноречивых известиях, передаваемых о смерти Марцелла»,—
говорит он и приводит мнение Целия, предлагающего три версии.
А в заключение ссылается на мкение большинства (XXVII, 27,
12). То же в ряде других мест: «в пользу этого мнения и большин-
ство источников и народная молва» (XXI, 46, 10; XXXIX, 23, 5—
р1егщие opinantur и др.).
В иных случаях Ливий делает оговорку: «Большая же часть
анналистов, и притом таких, каким можно скорее поверить (под-
разумевается «чем Валерию Анциату».— Т. К.) передают...»вЂ”
plurium annales et quibus credidisse malis (XLII, 11, 1).
Здесь можно увидеть, что Ливий выбирает ту из версий, ко-
торую ему предлагают его авторитеты, т. е. те, которые ближе
стояли к описываемым событиям, были их современниками или
даже участниками: «Я охотно передал бы потомству свидетельство
ближайших к тем временам писателей» (XXIX, 14, 9).
Ливий твердо поддерживает мнение наиболее авторитетных
источников, в случае расхождения сведений: «мне хорошо извест-
но и другое мнение, по которому... однако, в изложении этого со-
бытия я следовал тем писателям, которые заслуживают большего
доверия...» (curn auctoribus hoc dedi quibus dignius credi est—
VIII, 26, 6). Отмечая, например, разногласие источников относи-
тельно численности войск Ганнибала после его прихода в Италию.
Ливий говорит: «Более всех поверил бы я Л. Цинцию Алименту,
который, по его собственному признанию, был взят в плен Ганни-
балом» (XXI, 38, 2). Или, сообщая данные о потерях римлян при
Тразименском озере, Ливий говорит: «Другие писатели передают,
что потери с той и другой стороны были еще значительнее', я, по-
мимо нежелания почерпнуть что-либо из недостоверных источни-
ков, к которымчересчурсклонны историки, руководствовался пре-
имущественно показанием Фабия, потому что он был современни-
ком этой войны» (XXII, 7, 4).
Древним авторам Ливий оказывал наибольшее доверие: «не
признавать этого за истину меня побуждает более древний анна-
лист Пизон (vetustior annalium auctor), который передает...»
(Х, 9, 12). Он чтит авторитет древних писателей настолько, что
едва решается освещать вопрос, о котором они умалчивают: «Если
древние писатели обходят этот вопрос молчанием, то что же могу
высказать я, кроме предположительного мнения, которое у каж-
дого может быть свое? Вот правдоподобные допущения...» (VI,
12, 3; ср. XXIII, 6, 8). Или: «за неимением никаких указаний на это
у более древних писателей я не решился бы это утверждать как
факт» (certum affirmare quia пи11а арий vetustiores scriptores eius
rei mentio est non ausim — III, 23, 7; ср. VIII, 18, 40; Х, 3, 5;
II, 18, 4 и др.).
Ливий решает разногласия между источниками, опираясь не
только на почтение к авторитетам и древним писателям, но и пре-
имущественно на свой здравый смысл. В таких случаях он не про-
103
сто констатирует разногласия, но и выражает свое к этому отно-
шение. Высказывает, например, предпочтение какому-то источ-
нику или факту: «что касается меня, то мне было бы приятнее,
если бы... оказалось достоверным» (malim... чегит est — XXI,
46, 10 и др.); удивляется, например, по поводу разногласий источ-
ников о выкупе пленных после поражения при 1~аннах: «Тут ско-
рее можно удивляться столь сильному разногласию между источ-
никами, чем различить, где истина» (XXII, 61, 10; ср. VI, 12, 2).
Ливий не только удивляется, он отмечает недоразумения и
ошибки в источниках и ставит под сомнение достоверность сооб-
щенного факта (IX, 15, 9 и др.). Следуя правилам Исократа и Ци-
церона, он руководствовался принципом достоверности при отборе
источников, старался избегать элементов неправдоподобия, за
исключением первых книг о глубокой старине, где сам легендарный
материал допускал домыслы. Так, в VIII, 6, 3, рассказывая
о мгновенной смерти претора Анния за презрительные слова по
отношению к Юпитеру, Ливий говорит: «Мне будет позволено оста-
вить этот вопрос нерешенным... ибо это настолько же может быть
действительно, насколько и удачно сочинено для изображения
гнева богов». В предисловии к VI книге он предупреждает чита-
теля, что не рассматривает события ранней истории как историчес-
кий факт, ибо их затемняет отдаленная древность, а «кроме того,
в те времена мало была развита и редко применялась письмен-
ность — единственный способ сохранить воспоминание о событиях,
а если что и было занесено в записи понтификов и другие государ-
ственные и частные памятники, то большая часть их погибла при
пожаре города. С большей ясностью и достоверностью будут из-
ложены события из гражданской и военной жизни государства,
возродившегося при вторичном устройстве его...» (VI, 2 — 3).
Неуверенность Ливия в отношении древних времен видна в его
предисловии к труду, где QH говорит, что рассказы о событиях, '
предшествующих оснэванию Рима, «приличны скорее творениям
поэтов, чем строгой истории, и того, что в них говорится, я не на-
мерен ни утверждать, ни опровергать» (еа nec affirmare nec refel-
lere in animo est — VI, 6); и в других местах. Рассказывая, напри-
мер, предание о героическом поступке молодого воина Курция,
который бросился в провал, образовавшийся посреди римского
форума, и принес себя в жертву родине, Ливий с сожалением за-
мечает, что не отказался бы от труда, если бы у него была какая-
нибудь возможность установить истину, «но теперь, когда древ-
ность делает невозможной несомненную достоверность, надо дер-
жаться преданий» (nunc fama гегит standum est, иЫ certam dero-
gat vetustas fidem — VII, 6, 6).
Ненадежность. традиции и свое сомнение в достоверности полу-
ченных из источников сведений Ливий обычно выражает так:
«неизвестно» (incertum est — IX, 44, 4), «нет никаких верных пока-
заний» (nihil certi est — VII, 26, 15), «едва ли вероятно» (vix cre-
dibile — IV, 16, 4), «трудно поверить» (difficile ad fidem est—
III, 5, 12), «невероятно» (гет incredibilem — IV, 17, 3). А иногда
'04
отмечает, что «предание умалчивает о том...» (id поп traditur—
I, 13, 7), что он не находит «точных данных, произошло ли это по...»
(II, 40, 1). Поэтому Ливий вынужден порой прибегать к предпо-
ложениям и догадкам: «Насколько это мне возможно при такой
отдаленности этой эпохи, я делаю такую догадку...» (111, 70, 14).
Он зависит от источников, но внести уточнение в их сообщения не
может и предупреждает читателя: «хронологические ошибки того
времени вносят такую путаницу вследствие различного распреде-
ления магистратов у разных писателей, что нельзя при такой отда-
ленности от нас не только событий, но и самих писателей обозна-
чить с точностью, какие кснсулы следовали за кем-нибудь и что
последовало в каждый год» (II, 21, 4); «кто о столь далеких временах
решится говорить с уверенностью?» (I, 3, 2).
В иных случаях Ливий высказывает свое собственнсе суждение
(ut ego arbitror — I, 43, 13; IV, 20, 11), свое несогласие с приводи-
мым источником, с традицией, которую он считает ложной. Обыч-
но он не обосновывает свое мнение, а просто делает общие замеча-
ния, говорит от себя: «я думаю», «по-мсему» (credo, геог, ut opinor).
Но за этими краткими credo стоит его отношение к материалу, как
бы личное к нему причастие, заинтересованность в нем.
Credo Ливия выражено в различных нюансах и вариациях. Он
предлагает читателю свое мнение, не навязывая его и не мотивируя,
а просто размышляя о ходе событий: о борьбе плебеев с патриция-
ми (IV, 9); о зависти (XXXV, 43, 1); о природе толпы (XXIV, 25,
8; ХХХI, 34, 3) и др. Часто это замечания общего характера:
«Можно было наперед предвидеть, куда клонится счастье» (IV,
37, 7); «Но, как обыкновенно бывает, что человека постигает не-
счастье, когда он старается его избежать, так и...» (VIII, 24, 4);
или краткие заключения: «Так часто важные события обусловли-
ваются маловажными причинами» (XXVII, 9, 1) и т. и. Это говорит
о небезразличном отношении Ливия к сообщаемому событию или
факту, о желании найти контакт с читателем и таким образом
влиять на него.
Есть у Ливия свой постоянный критерий, определяющий его
отношение к материалу источников, степень его доверия к нему.
Этот критерий — правдоподобное и вероятное. Сн высказывает
склонность верить факту или писателю. Так, например: «это я счи-
таю более правдоподобным...» (magis credo quam — Х, 3, 4; ср.
V, 46, 11 и др.); «у некоторых я нахожу более достоверное изве-
стие» (propius idem est — 11, 41, 11; ср. XL, 50, 7 и др.). Взвешивая,
насколько каждый факт заслуживает доверия, Ливий принимает
из разноречивых версий наиболее правдоподобную, более близкую
к истине: magis veri simile est — V I, 27, 9; proximum vero est—
II, 14, 3; similius чего est — Х, 2б, 13 и мн. др. И он прямо заяв-
ляет читателю, приводя легенду о Камилле: «раз дело касается
столь давних событий, я буду считать достаточным признавать за
истину то, что похоже на истину» (sed in rebus tarn antiquis si quae
similia veri sint pro veris accipiantur satis habeam — V, 21, 9).
В некоторых случаях Ливий избегал] строгой исторической
истины в целях повышения драматического или патетического
эффекта повествования, и тогда он выбирал из рассказов более
живой и интересный. Между фактами, из которых исторически
истинный лишал его возможности живописного рассказа, он.выби-
рал правдоподобный, который мог обеспечить ему такой рассказ.
Например, Ливий говорит: «Рассказывают не менее правдоподобно
(non minus simile) и о другом ликовании толпы, находившейся
в цирке...» (Х1.Ч, 1, 6). И он охотно принимает эту версию, которая
дает ему повод к живому рассказу о радости римского народа, по-
лучившего известие о победе над Македонией.
Ливий был прежде всего риторический писатель, и правдопо-
добие было для него ценней, чем правда. Он подчинял материал
своему замыслу, своим задачам: что-то опускал в свидетельствах
источников, что-то подчеркивал, одно расширял и усиливал, дру-
гое сокращал и ослаблял, руководствуясь патриотическими и эти-
ческими соображениями. Таким образом, он не просто продолжал
традицию анналистической историографии, передавая читателям
информацию, полученную из источников, но художественно ее об-
рабатывал. В ткань анналистической структуры он вводил опре-
деленные приемы и интонации, присущие литературным жанрам,
прибегал к домыслам и драматизации положения ради впечатляю-
щего эффекта эпизода.
Сочинение Ливия нельзя назвать критическим исследованием:
он почти не исправлял ошибки источников, их патриотические
или родовые искажения, а просто указывал их, отдавая предпоч-
тение более правдоподобным версиям. Иногда он мотивировал
свой выбор, иногда не высказывал никакого суждения. Яля нас
интереснее, конечно, те случаи, где Ливий дает какое-то рацио-
нальное объяснение, почему он склонен верить тому или иному
факту, тому или иному автору.
,ф,Что же чаще всего вызывает сомнение Ливиями Какие факты
требуют его суждения и объяснения? Из рассеянных по тексту со-
хранившихся книг кратких замечаний Ливия можно увидеть, что
оН сомневается в данных источников потому, что они кажутся ему
невероятными в силу отдаленности времен, или преувеличенными
и не свойственными человеку, или ошибочными и не соответствую-
щими действительному положенио вещей, или невозможными в
силу каких-то психологических причин, или, наконец, он подо-
зревает в сообщениях тенденциозное фамильное пристрастие. Здра-
вый смысл подсказывает Ливию выбор правдоподобной версии собы-
тия илифакта, и он старается озъяснить читателю мотивы выбора,
аргументировать его.
Посмотрим на примерах, каковы доводы, применяемые для
неприятия тех или иных свидетельств его источников. Прежде
всего довод отдаленности события, о чем говорилось выше. Сопо-
ставляя сведения Лициния Макра со сведениями Валерия Анциата
и Квинта Туберона об избрании консулов, Ливий говорит, что
Лициний Макр твердо держится авторитета «полотняных книг»",
Туберон подвергает сомнению правдивость этого известия, а сам
он делает такой вывод: «среди других вопросов, испорченнь|х
вследствие их древности, и этот вопрос остается для нас загадкой»
(sed inter cetera vetustate incomperta hoc quoque in incerto positum—
1Ч, 23, 2; ср. XXIX, 14, 9; II, 8, 8).
Яостаточно част довод преувеличенного количества потерь,
пленных, захваченных трсфеев — стрелометных машин, кораблей,
золота и т. п. «Некоторые своими преувеличениями превзошли меру
вероятия», — говорит Ливий (Х, 20, 4). Он сомневается, например,
относительно числа павших римлян при Гердонии: «у одних пи-
сателей я нахожу 13 тысяч, у других — не более 7 тысяч» (XXVII,
1, 3), и считает более правдоподобными средние цифры (media
simillima veri sunt — XXVI, 49, 6; ср. XXIII, 12, 1). В другом мес-
те он отмечает преувеличения и выдумки Валерия Анциата, по
сообщению которого «неприятелей было убито пять 1ь:сяч: это та-
кая большая цифра, что она или бесстыдно выдумана им, или по
небрежности пропущена другими историками» (XXX, 19, 12).
В случаях значительного расхождения числовых данных (inter
auctores discrepat. Alibi... à ibi... alibi invenio) Ливий охотно
приссединяется к писателям, всойце не называкщим числа, что
вполне соответствовало его задаче художественного изложения ма-
териала. Так, относительно числа воинов, взятых Сципионом в
Африке, он, ввиду неточности числовых данных, считает гораздо
более выразительным таксе описание Целием величины войска:
«От шума, поднятого воинами, птицы падали на землю, и на кораб-
ли село таксе множество народа, что казалась, ни одного человека
не остается ни в Италии, ни в Сицилии» (XXIX, 25, 1 — 4).
Иногда Ливий высказывает и свсе мнение о свидетельствах ис-
точников, поясняя его: «Это обстоятельство склоняет меня думать,
что и позже к Сциписну Массиниса пришел с незначительным,
а не с большим отрядом: ука=-ываемсе писателями большое число
приличествует царю, а это незначительное число соответствует
судьбе изгнанника» (XXIX, 33, 10). В I, 55, 8Ливий рассказывает,
что, по сведениям Пизона, на деньги, полученные от взятия Поме-
ции, решено было соорудить храм Юпитера, но их едра хватило
на закладку его основания. «По этой причине... я скорее поверил
бы Фабию, по чьим словам денег было только сорок талантов, не-
жели Пизону& t;кото ыйпиш т, то на тод лоб лоотлож но
тыреста тысяч фунтов серебра,— такие деньги немыслимо было
получить от добычи, захваченной в любом из тогдашних городов,
и к тому же их с избытком хватило бы даже на нынешнее пышное
сооружение».
Не менее част довод несвойственности человеку или непосиль-
ности для него чего-то. «Сообщают, что в то же лето Л. Постумий
в дальней Испании дважды блистательно сражался с вакцеями,
причем истребил до 35 тысяч врагов и взял их лагерь. Более же
правдоподобно (propius vero est) то, что он явился в провинцию
слишком поздно для того, чтобы в это лето совершить такие дела»
(XL, 50, 6). Или: «Марк Фурий Камилл сложил с себя диктатуру,
потому ли что, как свидетельствуют некоторые писатели, что он...
107
или потому... Но как характер самого мужа, так и немедленное
избрание диктатором на его место П. Манлия заставляют меня бо-
лее верить (ut potius credam...), что он испугался ауспиций...»
(VI, 38, 10).
В ряде случаев Ливий предпочитает одну версию другой, ру-
ководствуясь патриотическими соображениями. Например, с це-
лью возвышения Сципиона: «Завоевание Kapgareua, основываясь
на свидетельствах многих писателей, я отнес на этот год, хотя
хорошо знаю, что некоторые историки относят это событие к сле-
дующему году: мне кажется маловероятным, чтобы Сципион це-
лый год провел в Испании, ничего не делая» (quod mihi minus si-
mile veri visum est — XXVII, 7, 5). В XXXVIII, 55, 8 легко уви-
деть желание Ливия освободить Сципиона от упреков в нечестно-
сти. Речь здесь идет об осуждении Сципиона за то, что он получил
от Антиоха за более выгодный мир 6000 фунтов золота и 480 фун-
тов серебра и не все сдал в государственную казну: «Эти суммы
золота и серебра я нахожу у Валерия Анциата. Относительно
Л. Сципиона я, право, хотел бы лучше предположить ошибку пе-
реписчика в количестве золота и серебра, чем ложное сообщение
писателя. Ведь правдоподобнее...» (следует объяснение).
Из причин происхождения какого-либо закона или установле-
ния Ливий обычно выбирает более рациональную, как, например,
в этом случае, где он объясняет, почему Ромул завел 12 ликторов'.
«Иные полагают, что число это отвечает числу птиц, возвестивших
ему власть, для меня же убедительны суждения тех, кто считает,
что и весь этот род прислужников и само их число происходит от
соседей этрусков, у которых заимствованы и курульное кресло и
тога с каймой. А у этрусков так повелось оттого, что каждый из
12 городов, сообща избравших царя, давал ему по одному ликтору»
(I, 8, 3).
Иногда Ливий мотивирует невозможность какого-то факта
объективными природными условиями: «Некоторые анналисты со-
общают также и о морской битве с вейентами у Фиден, но это так
же трудно, как и невероятно, так как и теперь та речка недостаточ-
но широка для этой цели, а тогда, по свидетельству древних, она
была значительно уже. Вероятно, по обыкновению преувеличивали
столкновение нескольких барок при защите переправы через реку
и неосновательно присвоили этому громкое название морской
битвы» (IV, 34,6). Или другой пример рассуждения Ливия (приво-
дим цитату полностью): «Целий утверждает, что Магон с конницей
и испанской пехотой немедленно переплыл через реку, а сам Ган-
нибал перевел остальное войско вброд несколько выше, выстроив
слонов в один ряд, чтобы ослабить напор воды. Это вряд ли пока-
жется вероятным тем, кто знаком с этой речкой; неправдоподобно,
чтобы всадники без вреда для оружия и коней могли преодолеть
столь стремительную реку, даже если допустить, что все испанцы
переплыли ее на своих надутых мехах; а чтобы найти брод через
Пад, по которому можно было бы провести отягченное обозом вой-
ско, следовало сделать обход, на который, полагаю я, потребова-
лось бы немало дней. По моему мнению, гораздо более заслуживают
доверия те источники, по которым Ганнибал после двухдневных
поисков едва мог найти место для наведения моста через реку; по
мосту были посланы вперед всадники и легкие отряды испанцев.
11ока Ганнибал, который задержался у реки Пада, выслушивая
галльские посольства, переправлял тяжелую пехоту, Магон со
всадниками, оставивши мост и пройдя вперед вниз по реке на
расстояние одного пути, достиг Плаценции, где стояли враги.
11есколько дней спустя Ганнибал укрепился лагерем в шести ми-
лях от Плаценции, а на следующий день, выстроив войско в виду
неприятеля, предложил ему битву» (XXI, 47, 4 — 6).
В иных случаях Ливий относит ошибку в сведениях источника
за счет незнания правил оформления договоров: «Кавдинский мир
был заключен не на основании союзного от имени государства до-
говора, как обыкновенно думают и как пишет Клавдий, а на ос-
новании частного поручительства»,— говорит Ливий в IX, 5, 2 и
далее поясняет свою поправку: «Поручителями были консулы, ле-
гаты, военные трибуны, имена всех их налицо; в том же случае,
если бы дело было совершено на основании союзного от имени го-
сударства договора, то этих имен не было бы налицо, были бы
только имена двух фециалов» (Там же, 4). Или отмечает ошибки
из-за неверного толкования законов (I II, 55, 12) и обычаев (II,
14,2), из-за несоответствия имен консулов с событиями их консуль-
ства (XXI, 15,3). Не раз мотивировкой недоверия Ливия той или
иной версии служат психологические факторы: «Ближе к истине,
что поражение это было нанесено врагами галлами, а не умбрами;
ибо, как часто в другое время, как в особенности и в этом году, го-
сударство находилось в страхе от грозившего городу нашествия
галлов» (Х, 26, 3).
А вот примеры, когда Ливий подозревает в источниках тенден-
циозное родовое пристрастие, ведущее к искажению истины:
«Почти все летописи передают, что К. Фабий вел войну против
Ганнибала в звании диктатора; Целий даже пишет, что Фабий был
первым, кого народ избрал в диктаторы; но от внимания как Це-
.лия, так и других ускользнуло то обстоятельство, что право изб-
рания диктатора принадлежало одному только Гн. Сервилию, ко-
торый тогда находился в отдаленной провинции Галлии». И далее
он поясняет, что Фабий был только временным заместителем дик-
татора, но «ввиду подвигов и отменной славы этого полководца по-
томки, преувеличивая перечень титулов под изображениями его,
легко дошли до тога, что заместителя диктатора стали признавать
за диктатора» (XXII, 31, 9). Или Ливий пишет: «Макр Лициний
.свидетельствует, что диктатор был назначен для председательства
в комициях и притом консулом Лицииием... Но авторитет Лициния
ослабляется его стремлением прославить таким образом свой род»
(VII, 9, 4 — 5). Его отношение к тенденциозному искажению исто-
рических фактов анналистами достаточно ясно выражено в словах:
«Я полагаю, что история испорчена надгробными речами и лажны-
ми надписями под изображениями предков: каждый род при помощи
вводящей в заблуждение выдумки присваивает себе славу военных
подвигов и должностей. Поэтому-то, конечно, искажены KBK дея-
ния отдельных лиц, так и памятники государственных событий;
и нет ни одного современного той эпохе писателя, на свидетельстве
которого, как достаточно достоверном, можно было бы остановить-
ся» (VIII, 40,4).
По аналогии с приведенными примерами можно предположить,
что и в тех случаях, когда Ливий делает свой выбор немотивиро-
ванно, а просто, без подробностей и объяснений, пишет «credo», он
руководствуется тем, что считает более предпочтительным для
поставленных им задач. Очевидно, что он был склонен принимать
версии или более патриотические, или более патетические, или
более поучительные, но в любом случае наиболее правдоподобные.
Следуя историографической традиции, Ливий чаще всего не
называет свои источники, разве только в случае критики их или
приведения альтернативного или подтверждающего варианта опи-
сываемого факта. Его обычная формулировка, как мы видели,
такова: «Некоторые анналисты утверждают... другие говорят».
Кто именно за этим стоит, в большинстве случаев неясно. Иногда
Ливий говорит: ceteri graeci latinique auctores, имея в виду Поли-
бия и Клавдия (XXXII, б, 8 и др.); или: veterrimi auctores,
подразумевая только Фабия (II, 18, 5), а в IV, 20, 8 — veteres
annales — неизвестно кого. Он ограничивается весьма общим
обозначением источников — чаще всего мы читаем: traditur,
dicitur, proditum memoriae, fama est и т. п. B этом и заклю;
чается трудность установления конкретного источника, которому
следовал Ливий в том или ином месте, так же как трудность уста-
новления степени объективной вероятности его повествования[ в
разных частях. В первой декаде, например, информация столь
неопределенная, что исследователям остается только делать пред-
положения. B первых книгах об отдаленных временах особенно
часты общие фразы, выражающие сомнение и неуверенность, такие
как: «говорят», «по общему мнению», «по мнению авторитетов» и т. п.
Исследователями указываются как наиболее вероятные источ-
ники Ливия для первой декады: анналисты Валерий Анциат, Лици-
ний Макр, Элий Туберон ". В ряде мест цитируется Фабий Пиктор
(I, 55, 8; 11, 40, 10; VIII, 30, 9 и др.), начавший традицию анналисти-
ческой литературы и названный Ливнем «древнейшим» писателем
(I, 44, 2). Однако нет уверенности, что Ливий читал его непосред-
ственно, а не через писателей более позднего времени.
Кроме Фабия, Ливий обращается к Клавдию Квадригарию, ци-
тируя его для подтверждения или опровержения других сообще-
ний (VI,42, 5; V Ill,19, 3; I X, 5, 2 и др.); к Лицинию Макру (11, 19, 3—
20, 13; VI, 6, 4 и др.), цитаты из него ценны тем, что говорят об
источниках самого Макра — 11Ьг1lintei (IV, 7, 12; IV, 23, 2 и др.);
к Кальпурнию Пизону, сведениям которого он не всегда доверяет:
«Я склонен скорее верить Фабию... чем Пизону» — 1, 55, 8; ср. III,
32, 3), однако приводит его рассказ как дополнение к главному
рассказу или как вариант его (II, 58, 1; Х, 9, 12~~и др.).
30
В научной литературе высказывалось предположение, что для
первой декады Ливий также использовал, прямо или через посред-
ников, поэтические источники — исторический эпос Энния «Ан-
налы» с темой возвышения Рима от его основания и другие поэти-
ческие рассказы о прошлом Рима ". О влиянии Энния может сви-
детельствовать полупоэтическая манера выражения мыслей в пер-
вых книгах Ливия, где его проза порой приближается к ритму дак-
тилического гексаметра ". В первой декаде упоминаются также:
Элий Туберон, законовед и антиквар времени Августа, из которо-
го Ливий почерпнул многие формулы, касающиеся религии, воен-
.ного дела ", Цинций Алимент, у которого он консультировался по
специальным вопросам об обрядах этрусков (VII, 3, 7). В рассказе
о введении в Риме ludi scenici ученые видят влияние Варрона (VII,
2, 3). Экскурс о вторжении галлов в Италию в книге V, возможно,
взят из Корнелия Непота или Тимагена".
К слухам Ливий относился с недоверием, называл их «смутны-
ми» (fama obscurior — XXIII, 20, 2) и старался выбирать из них
более правдоподобные (XXIII, 12, 2). Но все же и молва служила
источником информации для Ливия (varia est fama...а1й...alii...
.. tradunt — VIII, 20,6; ср. 1, 1, 6), каквидноиз его слов: «не находя
свидетельства об этом слухе ни у какого другого историка, я не
могу ни подтвердить его собственным заключением, ни обойти
молчанием, как ни на чем не основанном» (quia neminem аlшт auc-
torem habeo, neque affirmata гез теа opinione sit nec pro чапа prae-
termissa — XXXVII, 48, 7).
С точки зрения достоверности наиболее высоко ценится третья
декада Ливия, поскольку здесь он располагал надежными источ-
никами: в начале декады — Целием Антипатром и Полибием (для
книг XXI — XXIII); далее, начиная с XXIV книги, главным для
всего, что касается Греции или Сицилии, а для ряда мест даже
единственным источником " становится Полибий, отличавшийся
большей научностью и рационализмом в подходе к истории, чем
другие источники Ливия. Он сам говорит, что при изложении мате-
риала опирался на сведения, полученные от участников событий
и на личном осмотре местности, где происходили события (Пол.,
III, 48, 12). Ливий оценивает его как «надежного повествователя и
вообще истории римлян, и в особенности тех деяний, которые со-
вершены ими в Греции», как писателя, «заслуживающего боль-
шого уважения» (XXXIII, 10, 11; 45, 5). Полибий был источником
Ливия в рассказах о6 итальянской и испанской кампаниях (XXI,
19, 2 — Пол., III, 29; XXII, 36, 2 — Пол., III, 107, 19; XXIV, 21, 1—
Пол., VIII, 3 и др.). В рассказе об осаде и взятии Ганнибалом Са-
гунта Ливий дает версию, близкую Полибиевой, но полнее и с
драматическими подробностями (XXI, 6 — 8, 9 — 15); или, описывая
битву при Таге по Полибию, он вводит дополнения и прикрасы
(Там же, 6, 16 — Пол., III, 14). Полибий был источником и для
Африканской кампании (в кн. XX IV, XXV, XXVI I — ХХХ).
Иногда Ливий дает свободный перевод Полибия (XXI, 52, 9 — Пол.,
1П, 69, 8; рассказ о походе Ганнибала через Альпы — XXI, 31—
111
38 — Пол., 111, 47 — 48; о единоборстве галльских пленных—
XXI,42 — Пол., III, 62 и др.). А иногда почти дословно переводит
отдельные места и выражения из Полибия (см. в XXI, 36 — Пол.,
III, 55; в XXI, 39 — Пол., III, 60 — 61; XXI, 43, 2 — Пол., III,
63,2 и др.}.
Целий Антипатр, современник Полибия, был главным источ-
ником Ливия до битвы при Каннах и для Испании, но он исполь-
зовался и в поздних книгах декады (XXVI, 11, 10 — о пути Ганни-
бала в Рим; XXVIII, 46, 14 — о захвате пунийских транспортных
судов у Сардинии и др.). Ливий приводит, например, из него три
различные версии смерти М. Марцелла Клавдия (одна традицион-
ная, переданная молвой, другая из хвалебной речи сына, который
был свидетелем этого, третья, основанная на его собственном ис-
следовании — XXVII, 27, 11). Из Целия же взят рассказ о пере-
праве римских воинов в Африку (XXIX, 25, 3; 27, 14), описание
дочери Газдрубала Софонисбы «такой выдающейся красоты, что
она обращала на себя взоры всех, где бы ни появлялась» (XXVI,
50, 1) и др.
B дополнение к Целию Антипатру привлекались поздние ан-
налисты — Валерий Анциат и Клавдий Квадригарий. Если Белий
был главным источником для испанской операции, то Анциат—
для описания итальянских дел. Иногда о событиях второй Пуни-
ческой войны рассказывается то по Целию, то по Анциату (XXI,
57, 5 — 14; 60 — 61, 4 и 61, 5 — 11). B качестве второстепенных источ-
ников используются Ливнем в этой декаде также Цинций Алимент
(XXI, 38, 3), Кальпурний Пизон (XXV, 39, 15), Фабий Пиктор
(ХХП, 7, 4). Для четвертой и пятой декад источники Ливия оп;
ределяются с большей долей точности. Это Полибий, Целий Анти-
патр, Клавдий Квадригарий, Валерий Анциат ".
Трудно сказать с уверенностью, обращался ли Ливий к «Нача-
лам» Катона в оригинале или через посредников — поздних анна-
листов. Во всяком случае, в четвертой декаде, где рассказывается
о деятельности самого Катона, возможно, использованы отрывки из
его сочинений 28
,Пля операций в Греции и Азии важнейшим источником был
Полибий. Информация о событиях в Италии получена главным
образом от Анциата (XXXI — XXXVIII) и Клавдия (с книги
XXXIX); оба автора используются и как дополнительный, подтвер-
ждающий источник (XL, 29, 8; XXXIX, 43, 1; XXXIII, 10, 17 и
др.). Имя Валерия Анциата встречается на страницах «Истории»
Ливия чаще других (в 36 местах). Правда, Ливий постоянно выс-
казывается о недостоверности его сообщений, критикует его за
ошибки и преувеличения, говорит, например, так: «Валерий Ан-
циат, который не читал речи Катона и поверил только сказке, не
основанной ни на чьем свидетельстве, передает другой рассказ...»
(XXXIX, 43, 1; ср. XLIV, 13, 12; XXXIII, 10, 8 и др.).
Есть предположение ", что после XLV книги Ливий продол-
жал брать материал у Полибия (и, может быть, у Посидония) и
поздних анналистов: для времени Суллы — у Сизенны, писавшем.
о событиях гражданской войны между Марием и Суллой, и из ме-
муаров самого Суллы, а для периода 60 — 42 гг. до н. э. — у Аси-
ния Поллиона. Возможно, что и непосредственные предшествен-
ники Ливия, крупнейшие историки с большим политическим и
военным опытом, Цезарь и Саллюстий, могли быть источниками
для утерянных книг его «Истории», посвященных последним пяти-
десяти годам республики. Во всяком случае, исследователи обна-
руживают кое-какие стилистические связи между Ливием и этими
awca~ezsM~ "
Вследствие комбинированного и недостаточно критического
использования источников Ливнем в его сочинении встречаются
анахронизмы (когда на глубокую древность переносятся черты
современного строя: например, борьба патрициев с плебеями сти-
лизована у него под гражданские войны 11 — 1 в. до н. э.); неяско-
сти и противоречия (например, в рассказе о требовании галлов вып-
латить им 1000 фунтов золота: то говорится, что это не было сде-
лано — V, 49,1, а то, что римляне откупились золотом — Х, 16, 6 к
XXII,59,7); повторения (например, в XXV, 21 и XXVII, 1—
о битве Фульвия с Ганнибалом у Гердонии; в XXXII, 29,3 н
XXXIV, 45,1 — о выводе римских колоний в приморскую область;
в XLII, 3, 1 и 10, 5 — о постройке храма Фортуны цензором Фуль-
вием Флакком и др.). Встречаются ошибки хронологические—
неточность и спутанность дат (когда одному и тому же событию
приписываются разные даты: например, в XXVIII, 10, 8 — изгна-
ние карфагенян из Испании датируется тринадцатым годом войны,
а затем в гл. XXXVIII, 12 — четырнадцатым; или посвящение
храма Юпитеру датируется 194 и 192 гг. до н. э. в XXXIV, 53,7
и XXXV,41,8); ошибки в описании техники ведения войны, про-
исходящие и от неимения опыта в военном деле, в деталях стра-
тегии и тактики, устройства армии (например, карфагенская армия
построена по подобию римской). Ливий дает обычно лишь прибли-
зительную картину дислокации войск, расстановки сил против-
ника, путей следования армий, упрощенное или, напротив, кар-
тинное описание военных операций (примеры см. ниже). Разуме-
ется, основную часть этих недостатков можно отнести за с'.ет ис-
точников, сообщений которых Ливий не изу ал, иногда по-своему
истолковывал, опускал важнь;е детали и часто смешивал в расска-
зе об одном и том же событии (а они нередко противоречили друг
другу в интересах прославления своего рода — Фабиев, Валериев,
Клавдиев).
Для самого Ливия характерео другое: у него встречаются ис-
кажения некоторых событий и фактов или умал иванне о них—
это погрешности, так сказать, патриоти:еского и эти:еского ха-
рактера. Патриотизм мешал ему быть беспристрастным и объектив-
ным в своих суждениях и океиках. Процветание и могуп„'ество
Рима Ливий по.итал высшим благом, он верил в неизменную пра-
воту Рима и опускал факты, представляющие его в невыгодном свете.
В «Истории» Ливия победы римлян обычно преувеличиваются,
а неудачи преуменьшаются (так, например, поражение Сагунта
113
датируется. 218 г. до н. э. вместо 219 г. до н. э., чтобы оправдать
римлян, у которых якобы не было времени оказать помощь союз-
ному городу; а захват Нового Карфагена относится к 210 г. до
н. э. вместо 209 г. до н. э.). И, напротив, поражения и потери вра-
гов преувеличиваются (например, число павших карфагенян у
реки Метавр у Ливия 56 тысяч — XXVII, 49,6 — 8, тогда как у
Полибия — всего 10 тысяч — XI, 3, 3).
КсТаТН сказать, такое пристрастное отношение к Риму, идущее
от Фабия Пиктора, Полибий считал недопустимым для историка,
«который должен превозносить и украшать своих врагов величай-
шими похвалами, когда поведение их того заслуживает, порицать
и беспощадно осуждать ближайших друзей своих, когда того тре-
буют ошибки в их поведении» (I, 14, 5). Этому критерию писателя-
историка Ливий в должной мере не отвечал. При всем том Ливий
сознательно стремился достичь того, чтобы история была тем, чем
хотел видеть ее Цицерон: «История — свидетельница времен, свет
истины, жизнь памяти, учительница жизни, вестница старины»
(testis temporum, 1их veritatis, vita тетопае, magistra vitae, nun-
tia vetustatis — «Об ораторе», II, 9, 36).
Такая история требовала литературного оформления. Это уда-
лось сделать Ливию, и именно здесь его талант проявился в полной
мере.
ЦЕЛЬ СОЧИНЕНИЯ. МЕТОД ДОСТИЖЕНИЯ
ИДЕИНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЕДИНСТВА
Метод писателя-историографа находит свое выражение как в оп-
ределенном подборе источников, так и в способе преподнесенйя
читателю заимствованного у них материала.
В этом последнем и заключается главная ценность Ливия как
описателя римской истории на протяжении восьми веков. Он был
историком-художником, а не историком-ученым в собственном
смысле этого слова и ставил себе задачей облечь достоверную исто-
рию в литературное обрамление, раскрыть перед читателем живую
картину величия прошлого Рима в связном изящном повествовании
о событиях и людях.
Цель Ливия состояла не в том, чтобы объяснить причинную
связь событий, а в том, чтобы показать их читателю и тем создать
у него определенное впечатление. Прежде всего он был художни-
ком, мастером живого рассказа о событиях и обрисовки характера
человека. Он уделял внимание психологии людей, описывал пове-
дение своих героев в трудных, порой драматических обстоятельст-
»х, рисовал патетические картины эмоционального состояния
людей, их чувства и отклики на события — ужас, смятение, тре-
вогу, ликование и т. п. Этот аспект был для него важнее точных
деталей повествования. ф
Нельзя забывать, что литературное дарование Ливия развива
лось под влиянием эллинистической историографии H ee достиже-
ний в области психологизма, а также и под влиянием римской
114
риторики. Ведь древние считали, что историограф должен был
быть столь же красноречивым, как и оратор, и от него ждали тако-
го же воздействия на чувства, какое оказывает поэзия '. Цицерон,.
как мы видели, требовал от историка неустанного внимания к воп-
росам литературной формы. Ливий, несомненно, разделял его
концепцию истории как особого вида риторики (opus oratorium
maxime), и ему удалось провести ее в жизнь с несравненным мас-
терством '. Ливий стремился выразить свой нравственный идеал
в возвышенном тоне для большего эмоционального воздействия на
читателей. В этом ему помогала риторика. По широте охвата со-
бытий историю Ливия можно сопоставлять с эпосом. Не случайно
ее называют своего рода «поэтической эпопеей»'.
древние восхищались писательским мастерством Ливия, его
искусством разнообразить рассказ, увлекательностью его изложе-
ния и красотой слога. Тацит назвал его «одним из первых по славе
красноречия» («Анналы», IV, 34); Сенека-философ — самым красно-
речивым человеком после Цицерона и Асиния Поллиона («Пись-
ма», 100, 9). О необычайной популярности у современников Тита
Ливия свидетельствует рассказ Плиния Младшего о том, как не-
кий почитатель его таланта прибыл из испанского города Гадеса
в Рим только затем, чтобы увидеть знаменитого историка («Письма»,
II, 3,8). Квинтилиан считал его «автором удивительно красноречи-
вым» (VIII, 1,3) и дал ему высокую оценку: «Но в истории мы не
уступим грекам. И я не побоюсь поставить Саллюстия против Фу-
кидида, как не постыдился бы Геродот стать рядом с Ливием, кото-
рый столь же удивительно приятный и на редкость ясный рассказ-
чик, сколь невыразимо красноречивый трибун, так что это даже
невозможно передать словами; и для всякого события и персонажа
в его повествовании найдено точно соответствующее выражение.
И никто из историков не оказал такой услуги (я стараюсь дать
самую осторожную оценку) в области чувств. Так, бессмертную
живость манеры Саллюстия Ливий восполняет разнообразием своих
достоинств» (Х, 1,101) '.
Конечно, за концепцией истории «как труда в высшей степени
ораторского» у Ливия скрывалась своя идеологическая позиция.
Литературно обрабатывая материал, собранный его предшествен-
никами, он стремился поведать современникам и потомкам об
отечественной древности в соответствии с собственным ее вйдением
и своим основным замыслом. Ливий писал свой труд в благоприят-
ной атмосфере восстановленного Августом мира и порядка, в об-
становке духовного подъема и надежд на возрождение древне-
римских республиканских нравов: строгости, благочестия, умерен-
ности и т. д. Он гордился римской историей и ее великими деяте-
лями — носителями тех высоких моральных качеств римского
характера, которые, по его убеждению, возвеличили Рим и спо-
собствовали его могуществу. Идея величия Рима, его вечности и
провиденциальной миссии господствовать над всеми народами бы-
ла во времена Ливия центральной '. В своем повествовании о пути
Рима к мировому владычеству Ливий выражал общий и сфици-
115
альный идеал правительства Августа. Ero интерес к древним вре-
менам совпадал с «реставрационной» политикой принцепса, вся-
чески поощрявшего такой интерес.
Преклонение перед древней республикой и ее деятелями и по-
будило Ливия писать монументальный исторический труд во славу
отечества от его начала и до современности.
Каковы были нравственные побуждения Ливия при написании
им истории Рима, как он понимал свою задачу историографа, яс-
но видно из его предисловия, где он говорит о деградации нравов
современного ему общества и о необходимости морального его оз-
доровления, восстановления былого образа жизни и суровых древ-
них укладов: «Мне бы хотелось, чтобы каждый читатель в меру
сил своих задумался над тем, какова была жизнь, каковы нравы,
каким людями какому образу действий — дома ли, на войне ли—
обязана держава своим зарождением и ростом; пусть он далее после-
дует мыслью за тем, как в нравах появился сперва разлад, как
потом они зашатались и, наконец, стали падать неудержимо, пока
не дошло до нынешних времен, когда мы ни пороков наших, ни
лекарств от них переносить не в силах! ...Впрочем, либо пристра-
стность к самому делу вводит меня в заблуждение, либо и впрямь
не было никогда государства более великого, более благочестивого,
более богатого добрыми примерами, куда алчность и роскошь
проникли бы так поздно, где так долго и так высоко чтили бы бед-
ность и бережливость» (Предисловие, 9) '.
Цель Ливия была одновременно патриотической и этической:
воспитывать личные и общественные добродетели своих соотечесч
венников. На всем протяжении своего огромного труда он старался
оказать воздействие на читателей — пробудить в них сочувствие
и сопереживание. Яостойные примеры гражданской и воинской
.доблести прошлого Рима были необходимы, по убеждению Ливия,
для роста и процветания государства, для достижения всеобщей
гармонии и согласия. Весь материал его истории должен был про-
славить доблестные гез gestae populi Romani и тем содействовать
укреплению гражданственности и патриотизма соотечественников:
«В том и состоит главная польза и лучший плод знакомства ссо-
бытиями минувшего, что видишь всякого рода поучительные
примеры в обрамленье величественного целого; здесь и для себя,
:и для государства ты найдешь, чему подражать, здесь же — чего
избегать: бесславные начала, бесславные концы» (Предисловие, 10).
Высокие моральные и духовные ценности, свойственные, в по-
:нимании Ливия, идеальному римскому гражданину, воплощались
в конкретных фигурах ведущих исторических деятелей — кон-
сулов, магистратов, полководцев. В описании их доблестных под-
вигов и достойного образа жизни эти ценности подчеркивались и
;высвечивались, часто путем сравнения и контраста. «Если бы су-
ществовало какое-либо государство мудрецов, которое философы
скорее рисуют в своем воображении, чем знают в действительности,
я, конечно, не думал бы, чтобы в нем могли явиться мужи, про-
никнутые большими нравственными достоинствами и менее жаж-
дущими власти, или народа с лучшими свойствами характера»
(XXVI, 22, 14 — 15). Эти лучшие качества развились, по убеждению
Ливия, во времена древней республики, которую он всячески идеа-
лизирует, противопоставляя достойное прошлое недостойному
настоящему. Он искал и для себя награды в том, чтобы хоть на
время отрешиться от зрелища зол, свидетелем которого столько лет
было его поколение (Предисловие, 5).
Яо нас дошла только часть первой половины труда Ливия,
в которой содержатся примеры римской доблести, предназначенные
для воспитания и поучения. Примеры, которым ненадоследовать,
Ливий представлял, по-видимому, во второй половине своего по-
вествования о поздних временах, к сожалению несохранившейся.
Одним из главных достоинств всякого художественного произве-
дения является единство его нравственных и политических идей,
так же как и единство плана, в котором они осуществляются.
Истор и я Ливи я вполне удовлетвор яет этому требованию. Автор
держит в поле зрения весь свой труд, которому старается придать
единую концепцию и целостность. Концепция истории, ее вйдение
основывались у Ливия на определенных нравственных и рели-
гиозных убеждениях, высказанных или им самим, или, чаще, уста-
ми его героев. По воззрениям он был близок к господствующей
идеологии Рима — стоицизму. Возможно, он следовал стоикам и
B своей вере в активное участие,' божества в человеческих делах,
в то, что мировой закон предрешил судьбу римлян и определил их
блестящие успехи, и потому они должны быть достойны этого—
в целом они должны обладать всеми добродетелями, требуемыми
римской гражданской традицией и утверждаемыми философией
этического стоицизма: pietas — благочестием, fides — верностью,
concordia — согласием, ratio — здравым смыслом, prudentia—
предусмотрительностью, clementia — милосердием, virtus — доб-
лестью, frugalitas — деловитостью, dignitas — достоинством,
vitas — серьезностью и дрЛ
Идеализируя римлян старого поколения, Ливий наделял их
этими высокими качествами, которым могли бы подражать и со-
временники, желая обеспечить преуспевание своего государства
как во внешней, так и во внутренней политике. Наличие их в
людях способствует победе и успеху, отсутствие ведет к пораже-
нию и неудаче. В наборе эти'качества составляли основу совершен-
ного государства. Благодаря им Рим стал могучей державой,
с убыванием их Рим приходит в упадок.
Эта основная мысль пронизывает всю «Историю» и иллюстри-
руется множеством примеров. Она отчетливо выступает в единстве
образов, показанных в их активном участии в событиях обществен-
ной жизни и влияющих на ход исторических событий. Ливий строит
свое повествование вокруг личностей и делает их символами вы-
дающихся моральных качеств, создавших в своей совокупности
национальное величие Рима. В образах его главных героев выстав-
лены лучшие стороны римского характера, сведены все достоин-
ства идеального римского гражданина, отвечающего требованиям
традиционной республиканской идеологии: одних отличают одно-
значные качества, других многозначные. Римский народ в целом
в изображении Ливия владеет всеми указанными добродетелями.
Ливий неоднократно подчеркивает, что зарождение' Рима было
предопределено свыше, что развитие и возвышение римского народа
шло под покровительством божественного провидения, при вме-
шательстве «рока» и «случая» (fatum и fortuna), под справедли-
востью в управлении ходом событий. Ссылки на fatum, особенно
частые в первой декаде (I, 4, 1; I, 7, 11 и 15; V, 36, 6;~ 37, 1 I X,
33,3 и др.), выдают влияние на Ливия стоицизма с его провйден-
циализмом и фатализмом. Об этом же свидетельствует вера в пред-
знаменования и чудесные явления природы как выражение высшей
воли. Ливий сам говорит о своих ощущениях: «При описании древ-
них событий я не знаю, как и у меня образ мыслей становится древ-
ним и какое-то чувство благоговения препятствует мне считать не
стоящим занесения в мсю летопись того, что мудрейшие M)'жи
признавали заслуживающим внимания государства» (XI., 13,2) .
Тесно связанные с темой «судьбы» прорицания, предзнаменова-
ния и даже вещие сны придают сочинению Ливия некое конструк-
тивное единство, соединяя и предвосхищая события и поступки
героев. Боги благосклонны к тем, считает Ливий, кто проявляет
pietas u fides. В религиозности и благочестии он видит одно из
главных свойств римского характера. Pietas утверждается как одна
из основ могущества государства. Недостаток ее или отсутствие
ведет к бедствиям: так, захват Рима галлами объясняется у него
нечестивосчью отдельных римлян, пренебрежением их к предуп-
реждениям богов о приближении врага (I, 32,6); поражение кон-.
сула Фламиния в битве с пунийцами при Тразименском озере—
самонадеянностью, безрассудством, пренебрежением священными
обрядами: «Консул гордился первым консульством и не только не
боялся величия законов и сенаторов, но даже и богов; это его врож-
денное безрассудство судьба усилила, даровав ему счастливый успех
в гражданских и военных делах. Поэтому было очевидно, что он
во всем будет действовать самонадеянно и весьма поспешно, не
спрашивая совета ни у богов, ни у людей»(ХХ11, 3, 4 — 5; ср. XXII,
9, 7; XXI, 63, 13). Та же мысль заключена в словах Камилла: «По-
смотрите на ряд удач и неудач за эти последние годы, и вы увидите,
что все кончалось удачно тогда, когда мы следовали указаниям бо-
гов, и неудачно, когда мы ими пренебрегали» (~, 51, 2 — 10), то же
и в речи Лппия Клавдия Красса в народном ссбрании (Vl, 41, 4;
и 7 — 8).
Ливий показывает, что успех римскому народу обеспечивает
соблюдение ими pietas к богам и fides u justitia по отношению
к людям. 0 честности и справедливости римлян говорит Камилл в
ответ на предательские действия одного фалиска: «Мы умеем вое-
вать справедливо (juste) не менее чем мужественно (fortiter)» (V, 27,
6). 0 верности римлян союзникам идетречь в VII, 31, 1: «Верность
была ценнее великой выгоды» (tanta utilitate fides antiquior fuit).
Ливий подчеркивает, что благодаря справедливому и разумному
ll8
правлению римлян союзники сохранили им верность в войне с
Ганнибалом (XXII, 13, 11); он отмечает справедливость римлян в
отношении к побежденным карфагенянам (XLII, 24), их друже-
л~обие к союзникам (V, 35, 6), их внимание к жалобам на Филиппа
от племен, живущих близ Македонии (XXXIX, 46, 7), их беско-
рыстие (XLV, 42). От лица освобожденных народов Греции Ливий
говорит о римлянах так: «Есть на земле некий народ, который,
подвергаясь трудам и опасностям, ведет войны за свободу других
и делает это не для соседей или близко живущих, даже не для оби-
тателей одного и того же материка, но переплывает моря с тем, чтобы
нигде на земном шаре не было несправедливой власти, чтобы везде
было царство справедливости, естественного права и закона»
(XXXIII, 33). Правда, он указывает, что отношения с союзниками
иногда все же нарушались по вине римлян. Так, например, взятие
Сагунта Ганнибалом Ливий объясняет тем, что римляне не со-
хранили верности союзникам. Укор римлянам вложен в уста ста-
рейшины волцианов: «для испанских народов развалины Сагунта
будут грустным, но внушительным уроком, чтобы никто не пола-
гался на римскую верность и дружбу» (XXI, 19, 9 — 10) '.
Учение о гармонии, тоже идущее от стоиков, особенно видно
в ранних книгах «Истории». Ливий говорит о необходимости со-
гласия граждан (concordia populi) и одобряет меры, ведущие к до-
стижению политической гармонии отношений между патрициями и
плебеями: пополнение сената людьми всаднического сословия,
уступки плебсу — освобождение его от пошлин и подати, право
апелляции перед народным собранием против решений магистра-
тов, принятие закона о свободе брака между патрициями и плебея-
ми и др. (II, 8,2; II, 9,6;1П,34; IV, 1 и др.);и, напротив, оносуж-
дает все, что ведет к нарушению согласия между людьми, к раздо-
рам между консулами и трибунами, к разногласиям между сосло-
виями (II, 40,11; III, 20,3). Он упрекает патрициев за отказ бед-
някамдаже внепригодныхдля обработки землях (II, 23; II, 30, 1 — 2;
111, 11,9; III, 37, 7 — 8), занезаконноевладение государственными
землями (IV, 51, 5; IV, 53, 6); с другой стороны, он корит и плебеев
за возбуждение несправедливой, по его словам, ненависти к пат-
рициям (II, 41, 3; II, 52, 2; IV, 48 и др.).
Ливий показывает, сколь важна твердая дисциплина как на
войне, так и в мирное время. Раздор между военными трибунами и
зависть их друг к другу служат причиной неудач (IV, 46; V,8,4);
мужество, терпение, военная дисциплина даруют успех и победу
(IV,37,5 — 6). Ливий с одобрением говорит о тех деятелях, которые
государственные интересы ставят выше личных или родственных
отношений, таких, например, как Квинт Фабий (XXIV, 8, 11;
ХХ Х, 26, 7 — 9) или Тиберий Гракх, «поставивший общественное
дело выше личной вражды» (XXXVIII, 53); о тех, кто беспреко-
словно повинуется приказу командования: Тит Манлий вышел на
единоборство с галлом только с согласия своего командира (VII,
10, 2; ср. XXIII, 46, 12 и версию Клавдия Квадригария у Авла
Геллия — IX, 13, в которой об этом не говорится); консул Луций
Минуций безропотно подчиняется приказу 1~инцинната сложить с
себя консульскую власть и быть легатом (111,23, 3);консул Брут
казнит своих сыновей за измену (11, 5, 5 и сл.). Фабий Максим доб-
poBoJIbHQ подчиняется власти сына, вновь избранного консула, в
качестве легата, забыв свое прежнее величие (XXIV, 44, 9 — 10; ср.
у Клавдия Квадригария, где говорится о нежелании отца подчи-
ниться сыну — Авл Геллий, II,2, 13). MbI видим здесь, как Ливий
видоизменяет рассказ источника, желая сохранить цельность ха-
рактера персонажа. Как образец неумолимой дисциплины представ-
лен в «Истории» консул Манлий. Ливий рассказывает, каксын
Манлия, ослушавшись приказа отца, вступил в единоборство с
противником вне строя и победил его, однако отец счел это нару-
шением воинской дисциплины, «на которой до сих пор держалось
римское государство», и предал его казни через обезглавливание
(И11, 7, 2; 8, 3).
На всем протяжении своего повествования Ливий показывает,
что благоразумие, осмотрительность, здравый смысл полководцев
обеспечивают псбеду Риму (таков Фабий Максим — обладатель
всех этих качеств — XXIV, 44,9 — 10; XXII,9,7; 12,2 — 6 и др.).
Напротив, недостаток их ведет к поражениям и бедам: Марцелл
был убит в засаде Ганнибалом из-за своей неосторожности: вопреки
благоразумию, «неосмотрительно он подверг такой большой опас-
ности себя, своего товарища и даже почти все государство» (XXVII,
27, 11).
Ливий всюду подчеркивает, что к беде ведет опрометчивость и
высокомерие: именно они были причиной поражения консула Ти-
берия Семпрония при Требии (XXI,53,,1 — 7), Теренция Варрона
при Каннах (XXII, 47 — 50; 51, 1 — 4). Эмилий Павел, обращаясь„
к Варрону, говорит ему перед сражением, что предпочитает осто-
рожность и обдуманные действия опрометчивости, ибо, по его мне-
нию, самонадеянность, помимо того, что она глупа, до сих пор
приводила еще и к несчастиям (XXII,38, 12). Безрассудство и не-
опытность Публия и Гая Манлия были, по словам Ливия, причи-
ной неудачной битвы с вольсками (VI,30,6); высокомерный отказ
римлян от мира с самнитянами, пытавшимися искупить нарушение
союзного договора, привели к поражению близ Кавдинского
ущелья (IX, 1, 3 — 11; IX, 6 и 7). Ливий рассказывает об унижении
римлян, проведенных под ярмом: «Почти полуобнаженные консулы
первые прошли под ярмом; затем подверглись позору остальные,
как они следовали друг за другом по чину, и, наконец, один за
другим легионы каждый отдельно. Кругом, издеваясь и насмехаясь
над ними, стояли вооруженные неприятели» (IX, 6, 1).
Ливий не упускает возможности отметить милосердие, прису-
щее римлянам. Сн рассказывает, как римский сенат приказал кон-
сулу Попиллию возвратить сдавшимся лигурам свободу, владения,
имущество и оружие (XIII, 8, 8; ср. XXXIX, 3, 2 — 3); как фесса-
лийцы призывают Филиппа подражать римскому народу, который
«предпочитает привлекать к себе союзников лкбовью, а не страхом»
(XXXIX,25, 15). Он отмечает, что после поражения'.при Каннах
120
«lllëèêîäóøèå римского государства было столь велико, что много-
людные толпы вышли навстречу возвращавшемуся консулу после
с1опь страшного поражения, понесенного главным образом по его
иипс, и благодарили его за то, что он неотчаялся в спасении госу-
дарства; будь он вождем карфагенян — он понес бы самое страшное
и;~казание» (XXII, 61, 14 — 15). В XXXIII, 12, 17 Тит Квинкций
Фламинин говорит о «древнейшем обычае римлян щадить поОежден-
Ill,lx» и обходиться с ними кротко. Символом римского милосердия
II величия души выступает в «Истории» Сципион Африканский:
он добр к заложникам (XXVI, 49), великодушен к пленным (XXVII,
I!), 8), радушен и снисходителен к послам (XXXVII, 34; ХХХ~11,
(> ); ондар етжи ньиспан амМандо и иИндиби у,несмо ря
их вероломство (XXVII, 17; XXVIII, 34, 3) и многое другое.
Ливий негодует против того, что противоречит его нравственным
требованиям: против жестокости, алчности, несправедливости, кото-
рые сурово осуждает как в римлянах, так и в их противниках.
Он рассказывает, например, о недостойном поведении легата Пле-
миния, оставленного Сципионом для защиты Локр, и его солдат,
«применивших к горожанам все жестокости, когозыа заставляют
слабого ненавидеть могущество более сильного; небывалому поруга-
нию подверглись сами локрийцы, их дети и жены, а корыстолюбие
не воздержалось даже от ограбления святилищ, и были осквернены
не только все прочие храмы, но и сокровищница Прозерпины»
(ХХIХ, 8 — 9; 16 — 22). С одинаковым возмущением он говорит и
об убийстве римских пленных (VII, 15, 10), и о казни в Риме залож-
ников Тарента и Турии (XXV, 8 и 15); или рассказывает о жесто-
кой казни альбанского полководца Меттия за измену и вероломство:
тело его привязали к двум колесницам и погнали лошадей в разные
стороны. Правда, в заключение рассказа Ливий не преминул за-
метить, что «у римлян это был первый и последний пример казни,
когда забыли о чувстве гуманности. Вообще же мы можем по-
хвастаться, что ни один народ не назначал болеемягкого наказания,
чем наш» (I, 28, 6 — 11).
С почтением Ливий говорит о frugalitas — деловитой простоте
древних римлян, приводя в пример почетную бедность консула
Публия Валерия, «выдающегося по своей военной и мирной полити-
ке, и, несмотря на такую громкую славу, средства которого были
так ограниченны, что их не хватало для похоронных издержек, и
он был похоронен на государственный счет» (II, 16, 7). Он описывает
простую, трудовую жизнь в деревне Луция Квинкция Цинцинната,
победителя вольсков, который в критический момент наступления
на Рим эквов и сабинян, по зову отечества, выполняя свой долг,
оставляет полевые работы и принимает высшую государственную
должность — диктатора и одерживает победу (III, 26 и 27).
Любовь к роскоши Ливий считает гибельнол для об.цества и
отдельного человека. Он видит в этом главную причину поражения
Ганнибала во второй Пунической войне, войско которого в течение
зимы предавалось пьянству, разгулу, бездель.о и оОессилело физиче-
ски и нравственно (XXI I, 18, 11 — 16) '. Типичными качествами
римского гражданина, по Ливию, являются gravitas u dignitas.
Символом серьезности и цельности служит Фламинин, который даже
шуткой не желает умалить и ущемить величие римского характера
(ХХХ, 34, 2). Воплощением мудрости, доблести и уравновешенности
служит в «Истории» Ливия Марк Фурий Камилл (~)1, 27, 1), fatalis
dux, «роком намеченный полководец для разрушения того города
[Вей] и ...спасения отечества» (V, 19, 12), расчету и предусмотри-
тельности которого сопутствовало и счастье (Там же). Носителем
ряда староримских добродетелей — благоразумия, благочестия,
дисциплинированности — является Квинт Фабий Максим, достой-
ный противник Ганнибала, умело ведущий тактику изматывания
врага (ХХ11 кн.). Pudicitia римлян представлена в рассказах о са-
моубийстве обесчещенной Секстом Тарквинием Лукреции (I, 57
9 — 58); об убийстве Луцием Виргинием своей дочери ради сохране-
ния ее свободы и чести (III, 44 — 48). )Кенское целомудрие uðnð»-
нивается Ливием к мужской доблести: Вергиния обращается к Ма
тронам с призывом к соревнованию в целомудрии так, «как сорев-
нуются в нашем государстве среди мужчин в доблести» (Х, 23, 7 — 8).
В каждом из персонажей, легендарном или историческом, про-
являются те или иные доминирующие в нем черты характера.
В каждом из них Ливий видел частицу общей для всех Vi«us по-
тапа, которая обеспечила блага римскому народу и привела Рим
к могуществу (I, 9, 4; IX, 31, 13). Так, например, демонстрацией
римской virtus в ее компонентах fides u audacia являются легендар-
ные рассказы во второй книге о Горации Коклесе, Муции Сцеволе,
Клелии, связанные по своему содержанию внутренним единством.
Гораций Коклес в битве с этруссками прикрыл с двумя товарищами
отступление по мосту остальных римлян и один сражался с множе-
ством врагов, а после разрушения свайного моста переплыл Тибр
в полном вооружении. «Счастье римского народа пслучило в нем
в тот день опору»,— пишет Ливий (II, 10, 2).
Муций проник в лагерь этрусского царя Порсены с целью убить
его, но был схвачен; под угрозой пытки, не желая выдать товари-
щей, он в доказательство твердости духа простер над костром руку
и жег ее, как будто не чувствуя боли, и произнес: «Римляне умеют
геройски действовать и геройски страдать... Вот тебе для того,
чтобы ты знал, как ничтожно тело для тех, кто видит перед собой
громкую славу» (11, 12, 9 — 12). И когда Порсена, оценив егодоб-
лесть, отпустил его, сказал: «Раз ты уважаешь доблесть, то узнай
от меня по милости то, чего угрозами узнать не мог. Мы, триста
знатных римских юношей, составили заговор, чтобы покуситься
на тебя... Первый жребий выпал мне; прочие немедленно придут
в свою очередь... пока счастье не даст удобного против тебя момента»
(Там же, 15). После этого Порсена предложил римлянам мир. «Та-
кое уважение к героизму побудило также и женщин к подвигам во
имя государства»,— говорит далее Ливий и рассказывает о подвиге
знатной римлянки, Клелии, заложнице Порсены, которая, обманув
стражу, переплыла Тибр к своим; сенат, не желая нарушать договор,
.вернул ее Порсене, а он, почтив ее доблесть, отпустил домой с дру-
ll«IH заложницами. «По возобновлении мира римляне наградили
<r lt;~rнеб вал й ещевж нщинег роизм собым родомпоч
««««ой статуей. В верхней части sacra via было поставлено изобра-
и«иие девицы Клелии, верхом сидящей на коне» (Там же, 13,
li — 11).
В этой же книге Ливий приводит рассказ о патриотическом по-
<"< 'упке атериКори лана,Ве урии,высту ив ейна ащит
«< gt;roг р да:с ж нойималол тними етьмиКор ола аона
и лагерь Кориолана и осудила его за выступление против Рима;
упорство его было сломлено, и он отступил от Рима с войском воль-
& t; ов П, 0, ) Вдру омме те мычит е оконс лесец и,кото
«& t; ойсв ейжи ниотк ылМанл ю,колл ге поконсульст у,п
«победе над латинянами при Везувии (VIII, 9).
Обобщенный образ римлянина складывается из всех этих нрав-
<твен ыхдостоинс в: тосуров й,мужествен ыйв и ипатри
благочестивый, гордый, здравомыслящий гражданин, отличающий-
ся скромностью образа жизни, серьезностью, великодушием, уме-
нием повиноваться дисциплине и умением руководить. Различие
между отдельными лицами обусловливается различным сочетанием
этих неизменных качеств, присущих идеальному герою римской
республики. Общая оценка римского народа содержится в словах
Сципиона: «до сего дня нельзя назвать на земле ни одного народа,
который бы внушал тебе более сильное желание иметь его другом
для себя и своих близких и более сильное нежелание иметь его
врагом»'(ХХЧ1, 50, 7 — 8). Та же мысль о превосходстве римлян над
другими народами звучит в словах консула Ацилия: «чтобы весь
род людской чтил первым после богов всего более имя римское»
(XXXVI, 17).
'IyacTao чйсти и долга для римлян превыше всего — так счи-
Т."& t;Лив й,рассказыв я, акстарей иесенат рывысказываю
за справедливую и честную войну без коварства, притворного бег-
ства и неожиданного, без объявления войны, нападения: «таков
истинно римский образ действий наших предков, не похожий на
вероломство пунийцев и хитрость греков, у которых, может быть,
считается более похвальным обмануть неприятеля, чем одолеть его
силой» (XLII, 47). Ливий склонен идеализировать поведение рим-
ских предводителей, он старается смягчить их недостойные действия,
умолчать о том, что может их унизить. Так, в описании поединка
Манлия Торквата с галлом у Клавдия Квадригария сказано, что он
убил галла и отрубил ему голову (см. у Геллия — IX, 13); Ливий
же умалчивает о последнем и рисует Манлия более милосердным,
говоря, что он не надругался над телом, а только снял с него
обрызганное кровью ожерелье и надел его себе на шею (VII, 10, 11).
Или, например, Полибий рассказывает о грабеже римлянами
македонского лагеря и столицы (XVIII, 27, 4), о людях, «оцепенев-
ших от страха» (Там же, 26, 11); Ливий опускает эту подробность и
дает менее жестокую картину битвы при Киноскефалах (ХХХ111,
10, 5). В другом месте мы читаем у Полибия, что после битвы
у Тразименского озера римляне обратились за помощью к Гиерону,
123
который и послал им отряд в 1500 человек (Пол., III, 75, 7). По
Ливию, предложение о помощи римлянам исходило от самого Гие-
рона, и, таким образом, унижение их снималось (XXII, 37, 1).
Даже осознавая вину римлян, Ливий старается как-то их оправ-
дать. Например, об обидах, нанесенных локрийцам Племинием,
он устами Квинта Фабия говорит, что «причинены они против жела-
ния сената и народа римского» (XXIX, 19, 7). Порицание римлянам
он высказывает не от себя, а устами действующих лиц (таков его
литературный прием): например, осуждение римлян за наруше-
ние ими клятвы при Кавдинском ущелье вложено в уста самнит-
ского вождя (IX, 11), за вторжение в Азию — в уста Антиоха
(ХХХ~11, 25, 4), порицание за жестокость — в уста испанского
старейшины (XXI, 19, 9), Вибия Виррия, руководителя капуан-
ского восстания против римлян (XXVI, 13, 4). Недостатки римлян
в представлении Ливия — это всего лишь единичные действия от-
дельных людей, проистекающие или из их непочтения к богам,
от пренебрежения обычаями и мнениями сената, или от самонадеян-
ности и безрассудства. В целом же римский народ обладает высоки-
ми нравственными достоинствами и наделен лучшими свойствами
характера (XXVI, 22, 14 — 15).
Однако, с любовью описывая эти свойства римлян древнего
времени, Ливий отмечает, как постепенно ухудшаются моральные
устои общества и его представителей. Сущность его истории сводит-
ся к тому, что быт и нравы римлян, сначала безукоризненные,
~особствовали созданию римского величия, но постепенно стали
изменяться и Рим приходит в упадок: «Где можно теперь найти хотя
бы в одном человеке такую воздержанность, справедливость и
великодушие, которое проявил тогда целый народ?» (IV, 6, 12).
Ливий размышляет о том, что мощь римского войска уменьшается и
что «весь рост наш идет в то, о чем мы заботимся,— в богатства и.
роскошь!» (VII, 25, 9). В предисловии к «Истории» Ливий сетует:
«чем меньше было имущество, тем меньше была и жадность; лишь
недавно богатство привело за собой корыстолюбие, а избыток
удовольствий — готовность погубить все ради роскоши и телесных
утех» (Там же, 11). Завоевания развратили Рим и погубили нравы:
«Азиатские воины принесли в Рим начало чужеземной роскоши,
столы с бронзовыми ножками, дорогие ковры, занавеси. Тогда по-
явились певицы, играющие на арфе и дмитре, и другие развлечения
для забавы пирующих... это было лишь зародышем будучей роско-
ши» (XXXIX, 6, 7). Ливий рассказывает о случаях разграбления
провинций, об истреблении жителей целого города после его сдачи,
о неповиновении солдат, о разлагающем влиянии новых обрядов
(например, вакханалий — XXXIX, 8).
Древнеримской доблести Ливий противопоставляет дурные ка-
чества других народов. Победы римлян он объясняет не только их
силой, но и слабостью побежденных. Это противопоставление про-
низывает всю историю. Устами Сиипиона Ливий сравнивает римлян
и карфагенян: «Насколько менее крепко и устойчиво все в Африке
у карфагенян, ненадежных союзников, суровых и гордых повели-
324
svsivA? .. Мы же, даже покинутые союзниками, держались своими
~шами — римскими воинами; у карфагенян же вовсе нет войска,
и>стоящ го изгражд н у ихл шьнаем ыевоево ы,африка
и иумидийцы, в высшей степени склонные по своему характеру
к измене» (XXVIII, 44, 4 — 5).
Ливий дает общие портреты самнитам, этрускам, карфагенянам,
~рекам, галлам и другим, говорит об их склонностях, привычках,
образе жизни. Карфагеняне у него вероломны, жестоки, хвастливы,
надменны; все, что они делают, противопоставляется староримским
добродетелям — верности, благочестию, великодушию и т. д. (см.
и речи Ганнона — XXI, 10; ср. XXVI, 17, 6; XXI, 4, 9; XXII, 6,
12; XXXIII, 12, 17; ХХХ, 22 — 23 и др.); нумидийцы — ненадеж-
ны и изменчивы (XXVIII, 44, 5; XXIX, 23, 4); этолийцы — «народ
неукротимый и неуживчивый», неверны в обещаниях, недисципли-
пированны в войне (ХХХИ1, 1, 7; ХХХ1П, 10; ХХ1Х, 12, 4;
X XXI, 43; XXXVII, 49, 2 — 3); галлы — «племена дикие и неукро-
~имые, надменные, нетерпеливые», в сражении они несут с собой
более ужаса, чем силы» (V, 44; VIII, 14, 9; Х, 10, 12; VII, 24, 5;
V, 48, 1 — 3; Х, 28, 3; XXII, 2, 4; XXVII, 48, 16) — этими качест-
вами консул Манлий объясняет причину поражения галлов: «Нх
иысокий рост, длинные и рыжие волосы, громадные щиты, длинные
мечи, кроме того, их пение при начале сражения и завывания и
пляски и страшный стук оружия, когда они покакому-то обычаю
своих отцов ударяют в щиты,— все это рассчитано на то, чтобы
внушить ужас». Но римлянам известно их ничтожество,— говорит
далее-Манлий, ибо они из-за пылкого характера и слепого гнева
истрачиваютсвоисилы в первом натиске и ослабевают от усталости:
«нх изнеженные тела и дуди, теряющие энергию, лишь только уля-
жется их гнев, изнемогают от солнца, пыли и жажды» (X X XVI I I, 17).
В рассказе о единоборстве Мгнлия и Марка Валерия с галлами
(VII, 10 и 26) Ливий показывает, насколько римская доблесть пре-
восходит галльское бешенство. Сирийцы, по словам Квинкция,
«по рабскому образу мыслей более походят на племя невольников,
чем на воинов» (XXXVi 49).
Что касается италийских народов, то кампанцы горды, изнежен-
ны,склонны к роскоши (VII, 29,5;40, 17; XXIII, 5,1;8, 6; XXV,2);
самниты — суровы, грубы, недисциплинированны Р~11, 29, 1
и 5; IX, 13, 7; Х, 31, 11); вольски — воинственны, коварны, без-
рассудны (11, 22, 3; 37, 4). Впрочем, Ливий отдает должное народам,
отвечающим его идеалу: например, сабинянам,.отличающимся стро-
гой и суровой нравственностью (, 18, 4); он отмечает чувство долга,
дисциплины и верности союзникам, заставившее сагунтян сражаться
с пунийцами на смерть, лишь бы не попасть к ним в плен (XXI, 7, 3).
Обобщенный образ римского народа составляют вполне конкрет-
ные его представители, воплсщакщие одну или несколько доброде-
телей. Ливий показывает, как одни и те же достоинства по-разному
сочетаются в разных людях и как эти достоинства проявляются в их
действиях и речах. Одним персонажам свойственно какое-то одно-
преобладающее свойство, другим — несколько (как, например„
Фабию Максиму). Одни обладают только положительными качест-
вами, другие положительными и отрицательными. По существу,
вся история раскрывается в личностях, ведущих деятелях государ-
ства. Яля каждого периода у Ливия есть свои герои, которые на-
правляют ход событий. Вокруг них и сосредоточивается изложение—
описываются их образ жизни, характер, поступки, намерения, раз-
мышления,~ приводятся их речи и диалоги. «История» Ливия пред-
ставляет собой богатейшую коллекцию примеров для подражания
современникам и потомкам. )Кивые образы исторических и леген-
дарных героев иллюстрируют и конкретизируют основную идею
труда и одновременно служат ее источником. Камилл, Катон, Эми-
лий Павел, Сципизн Африканский, Фабий Максим, Марцелл вызы-
вают особенное восхищение. Акцент делается на моральных досто-
инствах этих доблестных представителей древней республики, уве-
личивших, как, например, Марцелл, «не только славу своего имени,
но и величие римского народа» (ХХЧ, 40, 1). Большое внимание
уделено в «Истории» и противникам римлян — Ганнибалу, Филиппу
Македонскому, Персею и др. Ливий рисует их портрет, нрав, по-
ступки.
В изображении характеров литературный талант Ливия про-
явился'достаточно ярко. Он писал как оратор, и цель его не огра-
,ничивалась простым показом характера исторического героя—
он стремился воздействовать на чувства слушателей и наглядностью
живого образа представить им пример для подражания". Ливий был
национальным историком, но он ценил и в противниках римлян то,
что отвечало его представлению о высокой нравственности гражда-
нина и о доблести воина. Сильный и достойный противник внушал
мысль о еще более сильном победителе в случае победы римлян и
в какой-то степени оправдывал их в случае поражения. Противнии
недостойный оттенял нравственные качества римлян.
Как же создавался образ героя в ходе изложения истории?
Каковы методы характеристики Тита Ливия? Прежде всего следует
отметить, что одни характеристики у Ливия цельные, подаваемые
им сразу и в одном месте так, чтобы образ запечатлелся в памяти
чигателя и вспоминался без труда даже после долгого перерыва;
другие характеристики — фрагментарные, вкрапливаемые своими
частями в действие, в поступки, в речь, в оценку персонажей и рас-
сеянные по разным местам сочинения, чтобы образ героя удержи-
вался в памяти читателя напоминаниями о нем время от времени.
Примером цельной характеристики может служить характери-
стика Марка Порция Катона в XXXIX книге и Папирия Курсора
в IX книге. Примером фрагментарной — характеристики Ганниба-
.ла, Сципиона, Фабия Максима, Филиппа Македонского. Приведем
характеристику Катона: «Этот муж обладал такой силой духа и
ума, что он, по-видимому, сам составил бы свою карьеру, какого
бы он ни был происхождения. У него не было недостатка в искус-
стве вести частные дела и деревенское хозяйство... На войне он был
храбрейшим воином и отличился во многих славных битвах, достиг-
нув же высших почестей, оН выказал себя величайшим полководцем;
в мирное время это был опытнейший законовед, если спрашивали
у него совета в судебном деле, и красноречивейший оратор, если
приходилось вести процесс; и он был не из тех ораторов, красноре-
чие которых блистало только при жизни их, не оставив по себе
никаких памятников; напротив, его красноречие живет и про-
цветает, будучи увековечено сочинениями разного рода. От него
осталось много речей как в защиту себя и других, так и много об-
винительных речей. Он утомлял своих противников, не только об-
виняя их, но даже защищаясь. Чрезвычайно многочисленные поли-
тические враги преследовали его так же, как и он их, и трудно
сказать, более ли теснила его знать, или он не давал ей покоя.
Нельзя отрицать, что это был человек сурового характера, но
страсти не овладели его душой; он был человеком строгой честности,
презирал и благосклонность и богатство. Бережливый и выносливый
в трудах и опасностях, он обладал почти железным телом и
духом; его не сокрушила даже всеослабляющая старость, так как на
86 году от роду он, ведя процесс, сам защищал свое дело и написал
защитительную речь, а на 90 году потребовал на суд Сервия Гальбу»
(XXXIX, 40, 4 и сл.). Но Ливий отмечает и недостатки, присущие
Катону: «он был человеком, которого оскорбляли весьма многие и
который сам был охотник оскорбить» (XXXIX, 41). А в XLV, 252
Ливий дает дополнительные штрихи и портрету Катона, говорит,
что Катон более всего помог делу родосцев, несмотря на суровый
нрав он показал себя милостивым и снисходительным сенатором.
В IX, 16, 12 — 19 читатель найдет цельную характеристику
Папирия Курсора, героя второй самнитской войны; «Папирий был
человек, без сомнения, достойный всякой славы, отличающийся не
только силою духа, но и физической силой; особенно же замечатель-
на была в нем быстрота ног, от которой он и получил свое прозвище
(cursor — бегун)... Громадная также была в этом человеке способ-
ность повелевать как союзниками, так и согражданами... В нем
видели вождя, равного по мужеству Александру Македонскому».
Фабий, однако, порицал в нем высокомерие и жестокость (VIII, 32).
Пользуясь методом прямой характеристики, Ливий~мог выска-
зать свое суждение о личности и свое субъективное ее понимание
Прямые характеристики дает он Ганнибалу (XXI,& t; 4 исл
Павлу Эмилию (XLV, 41), Антиоху Эпифану и др. Вот, например,
характеристика последнему: «...Антиох Эпифан имел обыкновение,.
сидя по римскому обычаю на кресле из слоновой кости, творить суд.
и разбирать споры даже из-за самых маловажных дел. Он до того
мало имел склонности к какому-нибудь определенному образу жиз-
ни, обращаясь то к одному, то к другому, что ни сам он, ни другие
не знали хорошенько, что он за человек. С друзьями он не разго-
варивал, а людям, едва знакомым, приветливо улыбался; неравно-
мерной щедростью он делал и себя и других посмешищем: иным
почтенным людям, которые были высокого мнения о себе, он делал
детские подарки, других, которые ничего не ожидали, он обогащал.
Поэтому одни говорили, что он сам не знает, чего хочет, другие—
что он занимается глупыми шутками, третьи — что он, несомненно,
127
сумасшедший. Впрочем, в двух великих и достойных уважения
делах он обнаруживал истинно царский дух: в подарках городам
и в почитании богов... и роскошью всякого рода зрелищ он превос-
ходил всех прздыдущих царей» (XL, 1, 20).
Встречаются у Ливия характеристики типа краткого очерка
жизни персонажа.
Мы знаем слова Сенеки-ритора о таком обычае историков пред-
ставлять краткий очерк жизни великих людей после рассказа о5 их
смерти и произносить как бы похвальное надгробное слово (е1о-
gium): «Так раза два поступил Фукидид, так в отношении очень
немногих людей делал Саллю тий; но щедрее на это был для всех
великих мужей Т. Ливий» (hoc...Т. Livius benignis omnibus magnis
viris praestitit — «Свазории», VI, 21).
Взгляд издалека на исторического героя позволял Ливию ох-
ватить единым взором всю его жизнь до смерти и дать нравственную
оценку его действиям, в которых проявлялся его «этос», т. е.
совокупность природных моральных качеств. Иногда Ливий уста-
навливал хронологические детали жизни. Приведе~и несколько
примеров элогии: М. Фурию Камиллу — «это был поистине един-
ственный муж во всех положениях, первый во время войны и мира,
до изгнания, еще более прославился он в изгнании, как вследствие
то=ки по нем государства, которое, попав в плен, умоляло отсутст-
вую;цего о помощи, так и вследствие счастья, с которым он, будучи
возвращен отечеству, одновременно восстановил и его вместе с со-
бой; затем в течение 25 лет — столько лет прожил он еще—
М. Фурий оставался на высоте столь великой славы и признан был
достойным считаться вторым после Ромула основателем города
Рима» (VII, 1, 9 — 10); Сервию Туллию: «Сервий Туллий царствоваЛ
сорок четыре года так, что с ним трудно было соперничать даже
с честной и уравновешенной натурой преемнику престола. Впрочем,
слава его увеличилась еще и тем, что с ним вместе прекратились
справедливые и законные царствования» (I, 48, 8 — 9). Или вот
элогия Фабию Максиму: «В этом же году умер Кв. Фзбий Максим
в преклонном возрасте, если только верно, что он был 62 года ав-
гуром, как свидетельствуют некоторые историки. Несомненно
только, что муж этот был достоин такого почетного прозвища
(«Максим» значит «Величайший») даже и в том случае, если бы оно
принадлежало ему первому. Отца он превзошел почестями, с дедом
сравнялся. Однако же он был скорее о".торожен, ч.м предприимчив;
и хотя трудно решить, по врожденному ли характеру он был
медлителен, или же этого требовали особенности войны, которую
тогда вели, но, во всяком случае, нет ничего более верного, как то,
что один человек своею медлительностью спас нам государство»
(XXX, 26, 7 — 9).
Встречаются у Ливия и совсем краткие прячьте характеристики
действую:цих лиц, но преимущественно второстепенных, когда 0333-
качается наиболее отличигельное их свойство. Напрлмер, о Ме-
нении Агриппе говорится: «красноречивый человек и дорогой пле-
беям из-за своего плебейского происхождения» (II, 32, 8), и назы-
вается он «выразителем и посредником примирения граждан»
(II, 33, 11); Гней Марций характеризуется как находчивый и отваж-
ный юноша, геройством затмивший славу консула при взятии горо-
да вольсков Кориол (II, 33, 5 — 9); о Пакувии Калавии Ливий го-
ворит: «человек знатный и в то же время любимец народа, достигший,
впрочем, могущества дурными средствами» (XXIII, 2, 2); о сеции
Магии: «он обладал всеми качествами, нужными для решительного
влияния на течение государственных дел» (XXIII, 7, 4); а об Аппии
Клавдии — «энергичный юноша, уже с самой колыбели всосавший
ненависть к трибунам и плебеям» (IV, 36, 4), обладающий «природ-
ным плавным красноречием» (V, 3, 1).
Наиболее предпочтительным у Ливия был непрямой и фрагмен-
тарный способ подачи образа. Косвенный способ обрисовки лично-
сти позволял ему хвалить или осуждать персонаж не самому,
а с помощью других персонажей. Их устами он выражал свое
отношение к герою или событию или на основании их суждений,
порой разноречивых, предоставлял читателю самому составить
о нем впечатление. Помимо того, характер персонажей Ливий
раскрывал путем показа их действий, поступков, взаимоотношений.
Наконец, Ливий влагал в уста самих героев речи, в которых очер-
чивался их характер, выявлялись убеждения и чувства. Такой тип
характеристики лица через его собственную речь был традиционным
для античной историографической литературы, так же как тип
характеристики через описание их действий, поступков, обстоя-
тельств образа жизни. Ливий здесь следовал методу греческой
историографии, в частности Геродота и Фукидида, которые ввели
обычай вставлять в повествование речи и диалоги действующих
ЛИЦ.
Значительную роль у Ливия играет художественный прием
сравнения и противопоставления действующих лиц по их досто-
инствам. На контрастирующем фоне положительные персонажи
вырисовывались ярче. Например, Фабий Кунктатор сравнивается
то с Минуцием, то с Марцеллом, то со Сципионом. Его благоразумие
и осмотрительность противопоставляются самонадеянности и стре-
мительности Минуция (он уговаривал Минуция не губить свои вой-
ска и не следовать примеру Семпрония и Фламиния (XXII, 18, 8—
10; ср. XXII, 28, 1). Но именно эти качества Фабия обеспечили
победу римлянам над Ганнибалом, который вынужден был признать,
что он «победил Минуция, но побежден Фабием» (XXII, 29, 6).
Милосердие и великодушие Фабия противопоставляются жестокости
Марцелла после взятия Тарента (XXVII, 16, 8), и у Казилина
(XXIV, 19, 9). С другой стороны, его нерешительности и сомнению
противопоставляется вера Сципиона в судьбу римского народа.
Фабия высоко ценят и Сципион и Ганнибал, равняя его с собой.
Первый, обращаясь к Фабию, говорит: «Я не скрываю... своего же-
лания не только достигнуть твоей славы, но даже...если возможно,
превзойти ее» (XXVIII, 43); второй признает: «И римляне имеют
своего Ганнибала: та же хитрость, при помощи которой мы взяли
Тарент, отняла его у нас» (XXVII, 16, 10).
5 Т. И. Кузнецова, 7. А. Миллер
129
Ливий умел ценить достоинства, отвечающие его идеалу, не
только римлян. Сравнивая, например, нумидийца Сифака и Маси-
ниссу, он у первого отмечает недостаток fides (XXVIII, 17, 6),
у второго constantissima fides в отношении Рима (XXVIII, 16, 1);.
он благочестив (Х Х I Х, 30, 9), предусмотрителен и отважен
(XXIX, 35, 8; XXIX, 32, 12). Ливий сравнивает Гиерона с его вну-
ком. Гиеронимом Сиракузским: популярность Гиерона у сограждан„
доброе отношение к римлянам (XXI, 50, 8; XXII, 37; XXIV, 4)
противопоставляются высокомерию Гиеронима, его жестокому отно-
шению к своему народу, надменному и насмешливому — к римля-
нам, после их поражения при Каннах, его неверности союзу с рим-
лянами (XXIV, 5 и 6). «Даже доброму и не злоупотреблявшему
властью царю при вступлении на престол после столь любимого
Гиерона не легко было бы приобрести расположение; но Гиеронии
точно желал своими пороками вызвать сожаление о деде и при
первом же своем появлении в народе показал, насколько все изме-
нилось. В то время как раньше не замечали никакой разницы между
Гиероном, сыном его Гелоном и прочими гражданами в одеждеи
каких-либо других знаках отличия, теперь видели пурпур, диадему,
вооруженных телохранителей и даже четверку белых коней, на:
которой Гиероним иногда выезжал из дворца по примеру тирана
Дионисия. Такой блестящей и гордой внешности его соответство-
вали его презрение ко всем, его гордость во время аудиенций, его
оскорбительные речи, редкий прием не только чужих, но и опеку-
нов, невиданные страсти,бесчеловечная жестокость»(ХХ1Ч,5,1 — 5).
Ливий обычно чередует приемы подачи образа, как это можно
увидеть, например, на характеристике Филиппа V Македонского:
она и прямая и косвенная, начатая с XXXI книги и законченная
в XL, где описывается его смерть. Ливий ценит Филиппа как до-
стойного и умного противника римлян (XXXI, 16, 1; 18, 3 — 4),
подчеркивает его энергию на войне (XXXI, 1, 9 — 10; XXXIII,.
7 — 8). Но в то же время отмечает его жестокость, которой он в ма-
кедонской войне склонил Грецию на сторону Рима (XXXI, 30;:
XXXIX, 34, 3). Жестокость Филиппа иллюстрируется драматиче-
ским рассказом о Феоксене и ее детях (XL, 4, см. ниже). Ливий пи-
шет, что Филипп «от природы более злоречив, чем прилично царю,
и даже в серьезных делах не всегда воздерживался от насмешки»
(Х Х Х I I, 34, 3).
Лучше всего прямой и непрямой методы характеристики Ливия
видны в обрисовке образов Сципиона и Ганнибала. Рассмотрим их.
подробнее.
Сципион Африканский наиболее соответствовал представлению"
Ливия об идеальном римлянине: патриот, мужественный полково-
дец, достойный гражданин, он отвечал нравственно-этическим:
принципам героев Рима. Это был dux fatalis («судьбой назначен--
ный быть вождем этой [второй Пунической] войны» (XXII, 53, 6).
По словам Ливия, «это тот самый юноша, который прославился.
завершением этой войны и был назван «Африканским» за блиста--
тельную победу над Ганнибалом и пунийцами» (XXI, 46, 8). Ливий.
130
приводит предание о его чудесном происхождении от змея, сравни-
вая его со сказанием о подобном же рождении Александра Македон-
ского. Согласно преданию, в спальне его матери часто замечали
облик этого чудовища, которое при появлении людей внезапно ска-
тывалось с ложа и исчезало (XXVI, 19, 7). При этом Ливий добав-
ляет, что Сципион не отрицал подобных слухов, однако и не уверял
в их действительности (Там же, 10).
В этой же главе Ливий дает прямую характеристику Сципиону:
«Сципион не только возбуждал удивление действительными свои-
ми доблестями, но и обладал с юношеских лет особым умением
выставлять их на вид, действуя во многих случаях на глазах
толпы, или по указанию бывших ему ночных видений, или как бы по
внушению свыше, потому ли что и сам он был до некоторой степени
суеверен или же для того чтобы немедленно приводились в испол-
нение его предначертания и планы, как бы внушенные изречением.
оракула» (XXVI, 19, 3 — 5). Ливий рассказывает, что он, 24-летний
юноша, мужественно принял верховную власть в Испании после
гибели там его отца и дяди (XXVI, 18, 6 — 7). Здесь же он хвалит
сдержанность Сципиона: например, говорит, что в разговоре с по-
слами он проявил достоинство, вытекавшее из уверенности в своих
доблестях, «но у него не сорвалось ни одного заносчивого слова,
н все, что он ни говорил, обнаруживало величиеегодуха и возбуж-
дало к нему доверие» (XXVI, 19, 20).
В других местах Ливий оценивает Сципиона как человека
«благородного образа мыслей» (XXXVIII, 52, 2), «с ненасытной
жаждой к подвигам и истинной славе» (XXVII. 17, 2). В XXXVIII,
50, 10 Ливий рассказывает, как Сципион на процессе «произнес
-блистательную речь о своих деяниях, и не подлежало никакому
сомнению, что никогда никого не хвалили ни лучше, ни справед-
ливее. Ведь говорил он о своих деяниях с той же энергией и с тем
.же талантом, с какими их совершал, и слушали его весьма охотно,
т. е. он распространялся о них с целью отвратить опасность, а нес
целью самовосхваления». 1~ак бы заключая характеристику Сципио-
.на, Ливий после похвальной речи ему Семпрония Гракха пишет:
«Рассказывают, что, умирая в деревне, он велел похоронить себя
там же и там же воздвигнуть памятник, чтобы погребение его не
состоялось в неблагодарном отечестве. Замечательный муж! Одна-
ко более замечателен он своими доблестями на военном поприще,
чем в мирное время... Он один стяжал необычайную славу оконча-
ния Пунической войны, значительнее и опаснее которой римляне не
вели ни одной войны» (XXXVIII, 53, 9 и сл.). Ливий отмечает по-
пулярность Сципиона у народа: «Сходились на комиции со всех
сторон не только для того, чтобы подать голос, но и для того,
чтобы взглянуть на Сципиона», твердо веря в то, что он положит
конец Пунической войне и что «как изгнал он карфагенян из всей
Испании, так же изгонит их и из Италии» (XXVIII, 38, 8 — 9; ср.
XXXVIII, 50, 10).
В характеристике Сципиона Ливий широко использует и непря-
мой метод. Он заставляет Сципиона говорить о себе: о своем патрио-
тизме — «клянусь, что как сам я не изменю отечеству, так и дру-
гого римского юношу не допущу до этого» (XXII, 53, 10); о своей
скромности и сдержанности (XXVIII, 44, 18); о своей дисциплини-
рованности: в ответ на предложение Сифака о переговорах с Газ-
друбалом он заявил, что вступать в какие бы то ни было переговоры
по государственным вопросам без приказания сената не может
(XXXVIII, 18, б — 8). В другом месте Сципион с достоинством
отвечает на просьбу пленной жены Мандония, знатной испанки,
защитить честь молодых пленниц: «уже ради военной дисциплины
народа римского, соблюдаемой мною, не допустил бы я оскорблять
у нас ничего, считающегося где-либо священным. Теперь же за-
ставляет меня еще тщательнее заботиться об этом и ваша добрсде-
тель и достоинство, так как вы даже среди несчастий не позабыли
о своей женской чести» (XXVI, 49, 14 — 15). «В римском государстве
много людей, подобных нам [Сципионам1» — с гордостью заявляет
он (XXVI, 50, 7 и сл.). С сознанием собственного достоинства он
напоминает присутствующим на судебном процессе о своих подви-
гах: «...молите богов, чтобы дали вам вождей, подобных мне», и
сам благодарит богов за то, что они даровали ему дух и силы
с честью служить отечеству (XXXVIII, 51, 10 и сл.).
K непрямому методу обрисовки характера относится и оценка
Сципиона современниками, друзьями или врагами. В их уста
вложена похвала ему или укор и порицание. Вот, например, слова
Аллуция, которому Сципион вернул пленницу, его невесту, сохра-
нив ее честь: «Он похож на богов и побеждает все как силой оружия,
так и своей добротой и благодеяниями» (XXVI, 50, 13); или слова
Публия Сципиона Назики: «П. Африканский настолько превзошел
славу своих предков, что заставил верить в свое происхождение не
от человеческой крови, а от божественной» (XXXVIII, 58, 5).
В речи Семпрония Гракха содержится перечисление подвигов
Сципиона, напоминание о них. Похвала из его уст возвышала
Сципиона тем более, что они были в ссоре: «П. Сципион своими под-
вигами и почестями, оказанными ему римским народом по воле бо-
гов и с согласия людей, достиг такого высокого положения, что не
столько для него самого, сколько для римского народа позорно,
если он будет стоять в качестве подсудимого у кафедры и слушать
издевательства молодых людей» (XXXVIII. 52, 10). Наконец, са-
гунтинские послы говорят в сенате о Сципионе: «Мы считаем себя
счастливейшими, так как видели его, всю нашу надежду и спасение,
провозглашенным консулом» (XXVIII, 39, 9).
С другой стороны, говоря о недостатках Сципиона, Ливий при-
водит мнение„высказанное о нем членами сената при обсуждении
событий в Локрах, которые укоряли его за склонность к греческо-
му, за внешность «не только не римскую, но и не военную; в гре-
ческом плаще и в сандалиях он гуляет по гимнасии, занимается
книжками и гимнастическими упражнениями; вся свита наслаж-
дается приятностью жизни в Сиракузах, проводя время среди
такой же бездеятельности и изнеженности» (XXIX, 19, 12). Его
обвиняли за события в Локрах, хотя злодеяния совершены были без
132
приказания и без согласия Сципиона, и он только слишком доверял
Племинию (XXIX, 21, 10). По мнению Ливия, обвиняли «более на
основании подозрений, чем опираясь надоказательства» (XXXVIII,
51, 1). Тем не менее упреки ему высказали 1~винт Метелл за тер-
пимость, с которой он помиловал легата, совершившего преступле-
ние в его отсутствие (XXIX, 20); Фабий — за то, что он «то потвор-
ствует своеволию воинов, то свирепо расправляется с ними»
(XXIX, 19, 3 — 4).
достоинства Сципиона особенно подчеркивались похвалой или
одобрением со стороны противника. Ливий пишет: «Сципион обла-
дал такой обходительностью, таким природным тактом во всем, что
своей приятной беседой привлек к себе не только Сифака, варвара,
незнакомого с римскими обычаями, но даже и заклятого врага
Газдрубала. Последний говорил, что этот человек при личном сви-
дании вызвал в нем большее удивление, чем своими военными под-
вигами, и что он уже не сомневается в переходе Сифака и его царства
во власть римлян: таким искусством привлекать к себе человеческие
сердца владеет этот муж» (ХЧ111, 35, 5 — 7). Ганнибал говорит
о «величайшей отваге» Сципиона, о его «необыкновенной славе
в высшей степени доблестного и почтительного человека» (ХХХ, 30,
12 — 13). И даже портрет Сципиона Ливий рисует как бы по пред-
ставлению и впечатлению Масиниссы: «Уже раньше слава военных
подвигов Сципиона внушила нумидийцу удивление этим мужем,
и он представлял себе также и наружность его величественною
и прекрасною. Но еще большим благоговением проникся он при
виде его. Яействительно, помимо дарованной ему самой природой
величавости, в Сципионе поражали длинные волосы и вся его осан-
ка, не прикрашенная нарядами, но приличная истинному мужу и
воину, и возраст его в полном расцвете сил, которым как бы возро-
дившаяся после болезни юность придавала блеск и красоту»
(XXVIII, 35, 5 — 7).
Личность Сципиона начинает вырисовываться с XXVI книги
и постепенно раскрывается в XXXIX книге. Черты его характера
разбросаны по разным местам повествования и не составляют
какого-либо преобладающего свойства. О нем нельзя сказать, что
он призван иллюстрировать какой-то определенный авторский
тезис — и только, как другие персонажи. Этот персонаж много-
гранен. Черты его характера и образа жизни проявляются в его от-
ношениях с другими лицами, в его действиях и поступках. Так,
патриотизм проявляется в его отношениях с Антиохом, когда он
гордо отвергает предложенные им условия мира (XXXVII, 36);
искусство полководца — в XXVIII,2, 14 и XXVIII, 3; XXVIII,4,
2; XXVI, 19; его энергия показывается в XXVI, 51; XXIX, 22 — 25;
XXVIII, 19, 16; смелость — в XXVIII, 18, 10; милосердие—
в XXVI, 19, 2; XXVIII, 34, 3.
На протяжении длительного времени, заключенного во многих
книгах «Истории», встречаются краткие ссылки на Сципиона, свя-
зывающие предыдущее и последующее и не дающие читателю за-
быть о нем, такие, например: «Это тот самый юноша, который
133
прославился приведением к концу этой войны и был назван „Аф-
риканским" за блистательную победу над Ганнибалом и пунийца-
ми» (XXI, 46, 8). А в XXV, 2, 6 снова напоминание о Сципионе:
«Курульным эдилом в тот год был Корнелий Сципион, которому
впоследствии дано было прозвище „Африканский" ».
Подобным же образом строится й образ Ганнибала. И его и
Сципиона Ливий называл «величайшими вождями не только своего
времени, но и всех предшествующих веков, равными любому царю
или главнокомандующему всех народов» (ХХХ, 30, 1). Он дает
ему прямую характеристику, от себя, приводит суждения о нем
других лиц, показывает егов поступках, выявляющих хорошие и
дурные черты его характера.
Ливий отдает должное военному таланту, мужеству и силе духа
Ганнибала: «Не знаю, не более ли он заслуживает удивления в не-
счастье, чем в счастье: ведя войну в течение 13 лет в неприятельской
стране, так далекоот родины, с переменным счастьем, с войском,
состоявшим не из своих граждан, но представлявшим сброд всех
племен без общих законов, обычаев, языка, различавшихся друг
от друга и по наружности, и по одежде, и по оружию, и по обрядам
и религиозным верованиям и имевших почти различных богов, всех
их он так удивительно сумел связать общими узами, что не прояви-
лось несогласия между ними самими, не произошло возмущения
против полководца; а между тем и денег часто не хватало на жа-
лованье воинам, и не находилось провианта в неприятельской стра-
не» (XXVIII, 12, 3 — 5).
Ливий ценит смелость, выдержку, рассудительность, неутоми-
мость, неприхотливость Ганнибала, простоту и умеренность его,
жизни; пишет о его авторитете у воинов; посланный в Испанию
Ганнибал, едва появившись, привлек к себе внимание всего войска:
«старым воинам показалось, что к ним вернулся молодой Гамилькар,
каким он был в лучшие свои годы: то же мощкое слово, тот же
повелительный взгляд, то же выражение, те же черты лица» (XXI,
4, 2).
Яалее дается' цельнйй портрет Ганнибала: «Никогда еще душа
одного человека не была так равномерно приспособлена к обеим,
столь разнородным обязанностям, повелеванию и повиновению;
и поэтому трудно было различить, кто им более дорожил — глав-
нокомандующий или войско. Никого Газдрубал не назначал охотнее
начальником отряда, которому поручалось дело, требующее от-
ваги и стойкости; но и воины ни под чьим начальством не были более
уверены в себе и более храбры. Насколько он был смел, бросаясь
в опасность, настолько же бывал осмотрителен в самой опасности. Не
было такого труда, от которого бы он уставал телом или падал
духом. И зной, и мороз он переносил с равным терпением; ел и пил
ровно столько, сколько требовала природа, а не ради удовольствия;
выбирал время для бодрствования и сна, не обращая внимания
i а день и ночь,— покою уделял лишь те часы, которые оставались
у него свободными от работы; притом он не пользовался мягкой
постелью н не требовал тишины, чтобы легче заснуть; часто видели,
как он, завернувшись в военный плащ, спит на голой земле среди
караульных или часовых. Одеждой он ничуть не отличался от ро-
весников; только по вооружению, да по коню его можно было уз-
нать. Как в конниие, так и в пехоте он далеко оставлял за собою
прочих; первым устремлялся в бой, последним оставлял поле сра-
жения». Но тут же Ливий спешит добавить,что наряду с достоин-
ствами Ганнибал обладал и ужасными пороками: «Его жестокость
доходила до бесчеловечности, его вероломство превосходило даже
пресловутое пунийское вероломство. Он не знал ни правды, ни
добродетели, не боялся богов, не соблюдал клятвы, не уважал свя-
тыни. Будучи одарен этими хорошими и дурными качествами, он
в течение своей трехлетней службы под начальствованием Газдру-
бала с величайшим рвением исполнял все, присматривался ко все-
му, что могло развить в нем свойства великого полководца» (XXI,
4, 3 — 10).
По ходу повествования эти черты характера Ганнибала под-
тверждаются его действиями и поступками. Ливий показывает же-
стокость Ганнибала, проявленную им к жителям захваченных го-
родов, например города Виктумулы: «Ни одно из бедствий... не
миновало жителей: все, что только могли придумать своево-
лие, жестокость и бесчеловечная надменность, обрушилось на этих
несчастных» (XXI, 57, 14); отмечает его вероломство, коварство,
хитрость (XXVI, 38, 3; XXII, 23, 4; XXVII, 26, 2; ХХ1Ч, 45, 13
и др.), способность устраивать засады, прибегать к уловкам. Так,
в XXII, 41, 6 — 9 рассказывается о том, как Ганнибал, спрятав за
горами пехотинцев и всадников, оставил в лагере горящие костры,
чтобы у римлян была уверенность, будто лагерь покинут и карфа-
геняне бежали (ср. XXVII, 26, 6 и сл.). Ливий показывает, как
в результате военной хитрости Ганнибала был разбит Семпроний,
погибли Фламиний и Марцелл (XXVII, 27, 11); как в победе при
Таге Ганнибал навязал врагу сражение в наиболее выгодных для
себя условиях, обнаружив тем своим тактические способности, уме-
ние принимать смелые решения, учитывать особенности местности
(XXI, 5, 16). Тактика разведки Ганнибала показана в XXII, 3,2 — 5,
где он разузнает о планах и настроении Фламиния, о дорогах, о спо-
собах заготовки провианта и обо всем, о чем полезно иметь сведе-
ния (ср. XXII, 28, 1). Ливий рассказывает, как после победы Ганни-
бала при Каннах (XXII, 51, 1 — 4) к нему примкнули многие союз-
ники римлян, уверовавшие в его силу и потерявшие надежду на сох-
ранение римской власти (ХХЦ, 61, 10 — 12).
Заслуги Ганнибала как полководца признавали и римл яне:
Сципион говорил о его искусстве построения войска (XXX, 35,
5 — 10); Фабий Максим называл его «храбрейшим вождем, вскорм-
ленным и воспитанным среди оружия, который некогда, будучи
мальчиком, стал воином, а едва вступив в юношеский возраст, глав-
нокомандующим, который состарился среди побед и наполнил па-
мятниками своих великих подвигов Испанию, Галлию, Италию»
(ХХХ, 28, 4). Все эти качества талантливого и умного вражеского
полководца выделялись Ливием, чтобы еще более усугубить труд-
135
ность борьбы с ним римлян, и увеличить славу его победителя,
Сципиона Африканского ".
Образ Ганнибала неоднозначен: он показан и в пору своего тор-
жества, и в минуты отчаяния при сознании своего поражения:
«Редко, говорят, кто другой, покидая свое отечество, чтобы отпра-
виться в изгнание, уходил таким печальным, как Ганнибал, уда-
ляясь из неприятельской земли. Часто он оглядывался на берега
Италии и, обвиняя богов и людей, призывал проклятия на себя и на
свою собственную голову за то, что не повел обагренных кровью
воинов в Рим после победы при Каннах. Ведь Сципион, рассуждал
он, который в должности консула даже не видел врага пунийца
в Италии, тем не менее осмелился пойти на Карфаген; а он, избив
сотню тысяч воинов при Тразимене и при Каннах, растратил свои
силы около Казилина, Кум и Нолы» (XXX, 20, 2; 8 — 9).
Горечь сознания своего поражения Ганнибалом хорошо переда-
на в следующем рассказе: «Когда в Карфагене первый взнос денег
представлялся затруднительным для граждан, истощенных про-
должительной войной, в курии господствовала печаль и поднялся
плач, то Ганнибала, говорят, видели смеющимся. Когда Газдру-
бал Гед стал порицать его смех при скорби государства, называя
его виновником слез, он сказал: „Если бы душу так же можно было
видеть, как видно выражение лица, то вы ясно поняли бы, что этот
порицаемый -тобою смех исходит из обезумевшей от несчастий
души; во всяком случае он не так неуместен, как эти ваши нелепые
и дикие слезы. Тогда надо было плакать, когда у вас отняли ору-
жие, сожгли корабли, запретили вам внешние войны; ведь эта рана
погубила нас... Конечно, к общественным бедствиям мы чувстви-
тельны настолько, насколько они касаются частных интересов,
и ничто в них не затрагивает так, как потеря денег. Поэтому, когда
с побежденного Карфагена стаскивали доспехи, когда вы видели,
что его оставляют безоружным и почти нагим среди стольких во-
оруженных племен Африки, никто не рыдал; теперь, так как надо
делать взнос из частных средств, вы плачете, точно хороните госу-
дарство!"» (ХХХ, 44, 4 и сл.).
Черты характера Ганнибала выявляются и в его речи: чувство
достоинства и величия и в то же время ощущение непостоянства
счастья и неизбежности своего поражения. Он говорит об иронии
судьбы, которая дала ему в противники отца Сципиона, а потом
привела его к сыну, чтобы просить у него мира. Но он не унижает
себя, помня, что когда-то стоял перед стенами Рима, как теперь
римляне — перед Карфагеном, и спокойно говорит: «мои годы, мои
неудачи и удачи так уж воспитали меня, что я предпочитаю следо-
вать руководству рассудка, а не счастья» (XXX, 30, 11).
Он понимает необходимость заключения мира и настаивает на
этом. Ливий рассказывает в ХХХ, 37, 7 — 10 о народном собрании
Карфагена, где речь шла о принятии мирных условий, предложен-
ных римскими послами, и один оратор, Гизгон, выступил против
мира, «Ганнибал вознегодовал, схватил Гизгона и собственноручно
стащил его с трибуны. Когда это необычайное в свободном государ-
стве зрелище вызвало в народе ропот, он, военныЙ человек, сму
щенный городской свободой, сказал: „уехав от вас девяти лет, я вер
нулся 1'.оез 36 лет; военное искусство, которому с детства учило
меня положение мое, как частного человека и как государственного
деятеля, я, кажется, хорошо знаю; правам же, законам и обычаям
города и форума вы должны научить меня". Извинившись за свой
необдуманный поступок, он рассуждал, насколько мир невыгоден
и в то же время необходим» ".
Таким образом, мы видим, что Ливий применял разнообразные
средства обрисовки своих героев: он давал им и прямую, авторскую
характеристику, и приводил оценку их другими лицами, описывал
их действия, поступки, привычки, вкусы, давал им и внешнюю пор-
третную характеристику. Особенности их характера он то сосредо-
точивал в одном месте сочинения, то, чаще, рассеивал по разным
местам. Применял он и традиционнв|й метод сравнения и контра-
стирования персонажей.
Ораторское дарование позволило Ливию представить читателю
наглядный образ героев древности — консулов, преторов, полко-
водцев: обрисовать их портрет, их нравственный облик. Кроме того,
Ливий влагал в их уста вымышленные им и мастерски построенные
речи, в характере и духе которых отражались их взгляды на собы-
тия и убеждения, обнаруживались их чувства, выявлялись их от-
ношения с другими действующими лицами «Истории»..К речам
мы еще вернемся; а теперь обратимся к повествовательному искус-
ству Ливия, ибо сила его заключается главным образом в способ-
ности к художественному изложению исторического материала,
к живописному и порой драматическому рассказу. Именно здесь
ему удалось осуществить принцип Цицерона: «В истории рассказ
ведется украшенно» («Оратор», 20, 60).
В Предисловии (2) к своей «Истории» Ливий говорит: «Являются
все новые писатели, которые уверены, что либо в изложении собы-
тий подойдут ближе к истине, либо превзойдут неискусную древ-
ность в умении писать». В этом последнем Ливий преуспел более
других.
МЕТОД ДОСТИЖЕНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗНООБРАЗИЯ
Художественный метод Ливия выявляется и в композиции его со-
чинения, в определенной организации материала, почерпнутого из
источников: в построении всего сочинения и его частей — цикла
книг или отдельной книги, наконец, отдельного эпизода и сцены.
Как и другие римские историографы, Ливий не мог порвать
с традиционной погодной формой изложения истории. Связанный
жанровой структурой анналистического произведения, он в каж-
дом году был вынужден рассказывать о выборах и вступлении
в должность новых магистратов, о военных кампаниях, о полити-
ческих дебатах, о религиозных церемониях, о посольствах и о раз-
ных других достопримечательных событиях жизни римлян, а также
приводить сообщения, обязательные для анналистического жан-
ра,— о необычайных явлениях природы, предзнаменованиях,
молебствиях, празднествах и т. п. Но в пределах этой структуры
он всеми способами старался сделать свое изложение интереснее
и разнообразнее, применяя литературные приемы и интонации,
присущие другим жанрам, и в частности художественной историо-
графии.
Ливий строил свое повествование на фактах, извлеченных из
источников. Выбор главного источника для подробного следования
придавал форму композиционному расположению материала '. Но
это не мешало ему художественно оформлять заимствованный мате-
риал уже независимо от источника согласно с правилами построе-
ния и украшения прозаического сочинения (exaedificatio и exor-
natio), высказанными Цицероном в трактате «Об ораторе»: «Харак-
тер содержания требует держаться последовательности времени
и давать картину обстановки; кроме того, так как в рассказе о ве-
ликих и достопамятных событиях читатель хочет узнать сначала
о замыслах, затем о действиях и, наконец, об их исходе, то необхо-
димо, говоря о замыслах, дать понять, что в них писатель одобря-
ет; говоря о действиях — показать не только что, но и как было
сделано или сказано; говоря об исходе событий — раскрыть все его
причины, будь то случайность, или благоразумие, или безрассуд-
ство; наконец, говоря о людях — не только перечислить их подвиги,
но и сказать о жизни и; характере каждого,кто отличился и про-
славился» (II, 15, 63). Таким образом, Цицерон требовал хронологи-
ческого порядка изложения, показа событий и результата исследо-
вания причин их, оценки выдающихся лиц с биографическими
подрооностями.
Ливий близко подошел к осуществлению этих рекомендаций,
построив свое произведение как художественное, а не как научное.
Мы видим в нем не нанизанные на хронологический стержень раз-
розненные события истории, а цепь последовательных во времени
событий, порой даже драматических, наглядное изображение по-
ведения и поступков действующих лиц, в которых обнаруживаются
их свойства и душевное состояние. Из совокупности разнородных
событий Ливию удалось создать целостное полотно, пронизанное
общей идеей, достигающей эмоционального воздействия воплоще-
нием в конкретные человеческие характеры. Отдельные эпизоды
истории складываются в его произведении в единую картину истории
древнего Рима, главный герой~которой — доблестный, мужествен-
ный, благочестивый народ — ведет свое отечество к возвышению
и славе.
Ливий представляет себе весь труд целиком. В предисловии
к XXXI, 1, 2 он говорит о плане сочинения как «целой римской
истории» (res omnes Рощапез). Он обращается к читателю, расска-
зывает ему о своих целях и намерениях, указывая, что уже изло-
жено, а что еще предстоит изложить, посвящает его в компози-
ционное решение своего труда, заинтересовывает дальнейшим из-
ложением или же напоминает о предыдущем. Это как бы связывает
138
части труда в одно целое, соединяет разные временные плоскости—
прошлое с настоящим и будущим.
Формы переходов от изложения одного события к другому
у Ливия весьма разнообразны и искусны: то указывается перемена
места действия — страны, города и т. д., то как бы подводится итог
предыдущему рассказу и перекидывается мост к изложению после-
дующих событий, то эпизоды сочленяются хронологически. Напри-
мер: «Итак, они выплыли в открытое море» (XXI, 50, 1); «Таково
было положение дел в Италии и Испании. В Греции...» (XXXIV,
22, 3); «Пока это происходило под Беневентом, Ганнибал, опустошив
окрестности Неаполя, двинулся к Ноле» (XXIV, 17, 1); «Таким обра-
зом, сухопутная война остановилась на берегах Требии; тем вре-
менем флот действовал на море около Сицилии...» (XXI, 49, 1);
«В то же время, когда происходили эти события, в Рим приехали
послы из Этолии» (XLII, 4; ср. XXXIX, 54,1; XLIV, 23, 1 и др.).
Рисуя широкие полотна, такие, как нашествие на Рим галлов,
поход Ганнибала в Италию, военные операции Марцелла по захва-
ту Сиракуз и др., Ливий разбивал повествование на серию корот-
ких эпизодов, композиционно вполне законченных, которые поз-
воляли ему разнообразить и оживлять изложение истории Рима.
Может быть, здесь он следовал известному аристотелевскому
принципу построения эпической поэмы: «сказания в ней следует
складывать драматичные — вокруг одного действия, целого и за-
конченного, т. е. имеющего начало, середину и конец, чтобы вызы-
вать свойственное ей удовольствие» («Поэтика», гл. XXIII, 59a,
18. Пер. М. Гаспарова). Таких сюжетно законченных эпизодов,
представляющих композиционную целостность и имеющих свое
начало, свой конец, своих героев, встретится немало в «Истории»
Ливия. И обычно они не выпадают из основного хода изложения,
и так или иначе служат общей идее произведения и задачам автора.
Композиция рассказа Ливия примерно такова: вступление, изло-
жение основного материала, разрастание основной темы, концовка.
Иногда вплетается в рассказ отступление. Примером может служить
рассказ о священных гусях Юноны, разбудивших стражу и спасших
Капитолий от захвата его галлами (V, 47): «Одновременно с этими
событиями в Вейях кремль и Капитолий в Риме подверглись боль-
шой опасности. Именно потому ли, что бросались в глаза челове-
ческие следы на месте прохода вестника из Вей, или потому, что
галлы сами заметили у храма Карменты легкий подъем на скалы,
они в довольно светлую ночь сначала выслали вперед безоружного
человека исследовать дорогу, затем передавали оружие на недс-
ступных местах, попеременно опирались, взаимно поддержива я
себя и таща друг друга согласно с требованиями местности, и так
тихо пробрались на вершину, что не только не были замечены стра-
жами, но даже не разбудили собак, столь чутких животных к ма-
лейшему ночному шуму. Но зато они встревожили гусей, посвя-
щенных Юнаке, которых щадили даже при столь крайней нужде
в пище. Это-то обстоятельство и спасло Рим. Именно их криком
и ударом крыльев был разбужен Марк Манлий, бывший три года
тому назад консулом, герой войны. Он-то схватил оружие, в то
же время призывая к оружию всех прочих, бросился вперед и при
общем смятении римлян ударом щита сбросил вниз одного галла,
который уже стоял на вершине. Падение покатившегося галла ва-
лило близлежащих к нему, и в это время Манлий рубил прочих
врагов, которые в страхе бросили оружие и руками ухватились за
скалы, прильнув к ним. Тогда и другие римляне собрались и своими
стрелами и метательными камнями сбили оттуда врагов, и при па-
дении весь отряд покатился и полетел в пропасть. Затем, по пре-
кращении этой тревоги, остальную часть ночи посвятили отдыху,
насколько это возможно было при расстроенном спокойствии и при
волнении еще от минувшей опасности. На рассвете солдаты были
трубою созваны на собрание пред трибунами, так как следовало
воздать за славное и позорное поведение». В этом рассказе есть
и связка, и вступление, и развитие темы, и заключение.
В «Истории» Ливия легко различается несколько типов эпи-
зодов, главные из которых: осады и взятия городов, битвы на полях
сражений, собрания и дебаты в сенате, драматические ситуации,
в которых оказываются отдельные персонажи. Ливий не останавли-
вается подробно на описании технических деталей проведения во-
енных операций, средств нападения или защиты — здесь он пре-
дельно краток. Но зато он с сочувствием говорит о защитниках го-
родов и крепостей, будь это римляне или их противники (см.,
например, рассказ об осаде Гераклеи римлянами и защите города
этолийцами — XXXVI, 23 — 24, или об осаде города Кастулона
в Испании Сципионом Африканским — XXVIII, 19, 9 — 15). Цель
Ливия, как отмечалось выше, заключалась не только в том, чтобы
научить и воспитать читателя примерами истории, но и в том, чтобы
заинтересовать его ясным и легким изложением, сосредоточить его
внимание на человеческих эмоциях и побудить к сопереживанию.
Он всячески стремился разнообразить стереотипные и порой по-
хожие один на другой описания битв, осад и взятий городов, вводя
в них выразительные детали и драматические эффекты.
Иногда о захвате города просто упоминается или коротко сооб-
щается, как, например, о захвате Фиден: «В городе была не мень-
шая резня, чем на поле битвы, пока враги не бросили оружия и не
сдались диктатору, прося себе жизни» (1~, 34, 3); о захвате Викту-
мул Ганнибалом и жестокой расправе с его жителями: «На сле-
дующий день город сдался и приняЛ в свои стены пунийский отряд.
Горожанам было велено выдать оружие; они тотчас повиновались;
вдруг раздался сигнал грабить город, как будто победители взяли
его с боя. Ни одно из бедствий, которые летописцы в подобных слу-
чаях считают достойным упоминания, не миновало жителей; все, что
только могли придумать своеволие, жестокость и бесчеловечная
надменность, обрушилось на этих несчастных» (XXI, 57, 13 — 14).
Захват города описывается чаще всего последовательно по такой
варьируемой схеме: «сначала», «затем», «наконец»; например,
в XXXVI, 9, ll захват Антиохом города Феры: «Первый приступ
атакующих жители Феры выдержали довольно стойко; далее, когда
140
многие из защитников стали погибать и получать раны, мужество
начало ослабевать; но затем упреки старейшин снова вызвали
в них упорство в своем решении, и они, покинув наружную стену,
так как уже войска не хватало, удалились во внутреннюю часть
города, где круг укреплений был уже; наконец, сломленные бед-
ствиями, они сдались...»; или захват римлянами Вей с помощью под-
копа: «Из подкопа, наполненного тогда отборными солдатами,
неожиданно вышли вооруженные люди посреди храма Юноны, нахо-
дившегося в вейентском кремле. Одни из них сзади напали на вра-
гов, стоявших на стенах, другие вырвали засовы в воротах, а третьи
поджигали крыши, откуда женщины и рабы бросали камни и че-
репки. Все огласилось гулом из нестройных криков угрозы и страха
и смешанного вопля иен и детей. В один момент защитники во всех
пунктах были сброшены со стены, открылись ворота, римляне стали
врываться толпой и взбираться на покинутые стены, и тогда город
наполнился врагами и везде стали сражаться; затем, уже после
продолжительной резни, утих бой, и диктатор через герольдов ве-
лел объявить распоряжение щадить безоружных, что и прекратило
кровопролитие. Тогда безоружные стали сдаваться, а солдаты
с позволения диктатора разбежались для грабежа» (V, 21, 10 — 12).
1~роме таких кратких, у Ливия есть и более распространенные
описания осад и взятий городов, как, например, захват Сутрика
дважды в один день: сначала этруссками, потом 1~амиллом (VI, 3).
Протяженные во времени события, не помещаясь в одном эпизоде,
как бы расчленяются и попадают в различные части сочинения—
Ливий делит событие на отдельные сцены и развивает их до куль-
минации. Таково блестящее описание взятия Сагунта и азиатского
города Абида, разделенное на действия. Ливий излагает осаду
и взятие Сагунта обстоятельно и с большим драматизмом. Чита-
телю преподносится картина военной операции не целиком, а по
частям; и при этом вводятся события, не относящиеся непосред-
ственно к осаде. Так, в части первой рассказывается о начале атаки
города, о первых стычках карфагенян и сагунтинцев и ранении
Ганнибала; далее идет рассказ о второй атаке карфагенян, ворвав-
шихся в город, и об упорном сопротивлении сагунтян, прогнавших
врага за городскую стену и соорудивших новую стену (Х Х I, 7 — 9, 2).
Здесь Ливий дает вставку, сообщая о переговорах между Ри-
мом и карфагеном, о прибытии римского посольства к Ганнибалу,
об отказе его принять послов и об отправлении их в карфаген, где,
несмотря на совет Ганнона, послам было отказано в выдаче Ган-
нибала для наказания за нарушение договора (Там же, 9, 3 — 11, 2).
В части второй рассказывается о новой, третьей атаке Сагун-
та: Ганнибал окружает город и, разрушив внутреннюю стену, за-
владевает окраиной города; сагунтинцы возводят еще одну стену,
примыкающую к кремлю (Там же, 11, 3 — 10). И снова здесь пере-
рыв в описании приступов: сообщается о походе Ганнибала на ус-
мирение мятежа двух испанских племен. Магарбал тем временем
ведет осаду Сагунта и тараном разрушает часть стены (TaM же,
11, 10 — 12, 3). По возвращении Ганнибал через пролом в стене за-
141
х
ватывает часть кремля. Сагунтинцы возводят третью внутреннюю
стену. Алорк предлагает сагунтинцам условия мира (Там же
12, 3 — 13, 9). Наконец, в заключительной фазе осады рассказы-
вается о падении Сагунта: разрушив башню, Ганнибал проникает.
в кремль и захватывает город; жители города предпочитают доб-
лестную смерть постыдному миру (Там же, 14, 1 — 15, 2).
Построение рассказа о затяжных осадах в эпизодах усиливало
драматизм события, почерпнутого Ливием из источника. Действие
операции развивалось как бы в отдельных актах, и таким посте-
пенным описанием удерживался интерес читателя. При этом, из-
лагая внешние действия, Ливий старался привлечь внимание чи-
тателей к людям, особенно осаждаемым, рисуя их тревогу; страх
и отчаяние во время осады города и заставляя проникнуться к нии
жалостью и состраданием. Рассказы такого типа часто похо> киод
на другой.
Так, можно отметить сходство между описанием захвата азиат-
ского города Абида Филиппом и захватом испанского города Аста-
пы, союзного карфагенянам, Марцеллом (XXXI, 17 и XXVIII, 23),
или между рассказами об осаде Абида и Сагунта. Не случайно сам
Ливий в рассказе об Абиде замечает, что жители его «по примеру
ожесточившихся сагунтинцев приказали всех благородных женщин
запереть в храм Дианы, всех благородных мальчиков и девочек,
даже грудных детей с кормилицами, заключить в гимнасий, вынести
на площадь золото и серебро, отнести драгоценные одежды на ро-
досский и кизикский корабли, стоящие в гавани, привести жрецов
и жертвенных животных и поставить на середине площади жерт-
венники. Тут прежде всего были выбраны лица, которые, увидев,
что войско их, сражающееся перед разрушенной стеной, все пере-
бито, тотчас должны были умертвить жен и детей, побросать в море
золото, серебро и одежду, которая была на кораблях, поджечь
как можно больше общественных и частных зданий. Их заставили,
повторяя слова за жрецами, дать страшную клятву, что они ис-
полнят это. Затем все годные к военной службе поклялись, что они
только в случае победы выйдут из битвы живыми. Эти последние,
помня о богах, сражались так упорно, что, когда ночь должна была
прервать сражение, царь первый прекратил его, испуганный их
исступлением».
квинтилиан позднее выскажется о' топике в описании захва-
ченных городов, подчеркивая, что описание складывается из ряда.
подробностей, придающих изображаемому наглядность (Ьаруиа),.
«при которой слова рисуют как бы цельную картину» (VII I, 3, 61 — 65):
«Бесспорно, слова „город захвачен" содержат все, что приносит
подобная участь, но такая краткая весть мало затрагивает чувства.
Если же развернуть то, что заключено в одном слове, будут видны
охваченные пламенем дома и храмы, слышен треск рушившихся
кровель и разноголосые вопли, слившиеся в единый звук, пред-
ставятся люди, бегущие неведомо куда, другие — сжимающие
в последнем объятии своих близких; плач женщин и детей и стена-
ния стариков, волею злой судьбы доживших до такого дня; грабеж
мирских и священных мест, откуда выносят добычу и вновь бегут
ф ней; пленники, закованные в цепи, гонимые своими похитите-
.лями; матери, цепляющиеся за детей, и победители, дерущиеся
за большую добычу. И хотя все это; как сказано, заключается
в понятии „город взят", здесь не так важно это сказать, как пере-
числить. И если только перечисление будет правдоподобно, мы до-
стигнем убедительности; можно даже кое-что присочинить, что
обычно бывает в таких случаях» (Там же, 68 — 70).
Подобные картины во множестве вариантов можно встретить
у Ливия. Представляется, что именно его имел в виду квинтилиан
в этом своем рассуждении о средствах достижения убедительности
и наглядности описания, что, по его словам, было «высшим из ора-
торских достоинств» (Там же, 71).
Батальные сцены строятся у Ливия чаще всего по такой же вре-
меннбй схеме, как осада и взятие городов, где последовательность
различных этапов сражения подчеркивается словами: primo, de-
inde, postremo (сначала, затем, наконец). Например: «Тут враг
сперва дрогнул, затем отступил и наконец обратился в несомнен-
ное бегство» (VII, 8, 3).
Некоторая эскизность и однотипность описаний массового сра-
жения вознаграждается в «Истории» Ливия сценами поединков во-
инов или вождей с той и другой стороны. При этом Ливий рисует
не только сам поединок, но показывает живых людей с их ощуще-
ниями и особенностями. Примером может служить красочная сцена
.поединка Манлия Торквата с галлом за обладание мостом, нахо-
дящимся между лагерями противников: «Из-за обладания этим мо-
стом происходило много сражений, но неизвестность, на чьей сто-
роне перевес сил, не позволяла решить, кому владеть им; тогда на
пустой мост выступил галл огромного роста и закричал так громко,
как только мог: „ну-ка, пусть выходит на бой тот муж, которого
Рим считает самйм храбрым, и пусть судьба нас двоих покажет,
который народ выше на войне". Долго знатнейшие юноши хранили
молчание, как потому, что боялись отказаться от сражения, так
и потому, что избегали желать столь опасного жребия» (VII, 9,
7 — 10, 1).
Тогда Манлий, получив позволение диктатора вступить в бой,
«берет щит пехотинца и препоясывается испанским мечом, удоб-
ным для рукопашного боя; когда он был таким образом вооружен
и снаряжен, его выводят против галла, который глупо ликовал
и даже,— древние писатели сочли достойным упомянуть и об
.этом! — издеваясь, высовывал язык. Затем все вернулись на свои
места, а посредине остались два единоборца, вооруженных скорее
для театрального представления, чем по требованиям войны, и, по
мнению присутствующих, далеко не одинаковых по своему внеш-
нему виду; один был огромного роста, в разноцветной одежде, ору-
жие его было изукрашено и сверкало золотыми насечками; другой
был среднего роста, и оружие его, более удобное, чем красивое,
не бросалось в глаза. Он не пел, не ликовал, не бряцал оружием
,попусту, но сердце его, полное мужества и молчаливого гнева, об
143
/
наружило всю стремительность лишь в самый решительный момент
боя.
Когда они стали между двух армий, и столько окружавших их
людей колебались между страхом и надеждой, галл, подобно вы-
сящемуся колоссу, протянув левою рукою щит против оружия на-
ступающего врага, со страшным шумом нанес удар мечом сверху,
но безуспешно; римлянин, держа меч вверх, ударился щитом
о нижний край щита противника и, укрывшись им от опасности
быть раненым, проскользнул между телом врага и его оружием
и несколькими ударами подряд пронзил ему живот и пах; огром-
ный враг, падая, растянулся на большое пространство. Затем, не
ругаясь над телом, Манлий снял с него только обрызганное кровью
ожерелье и надел его себе на шею. Страх, смешанный с удивлением,
поверг галлов в оцепенение; римляне же, весело выступив со своих
мест навстречу своему воину, поздравляя и восхваляя его, привели
его к диктатору. Среди нескладных солдатских острот, похожих на
стихи, слышалось прозвище „Торкват"'; повторялось оно и после
и стало почетным именем для потомков и всего рода Манлиев. дик-
татор поднес ему в подарок золотой венок и в собрании превознес
величайшими похвалами этот поединок» (Там же, 10, 5 — 14).
В приведенном отрывке ясно проступает типичная черта эпо-
са — единоборство воинов, выставленных воюющими сторонами,
воспевание подвига победителя, решившего своим мужеством ис-
ход битвы, и увенчание его золотым венком. Манлий соединяет
в себе доблесть, чувство гражданского долга, дисциплинирован-
ность, воинскую ловкость, великодушие — черты, присущие иде-
альному римскому гражданину, каким хотел видеть его Ливий.
Облик римского героя подчеркивается здесь и его скромным одея-
нием и достойной манерой поведения в противоположность кри-
чащей одежде и вызывающе дерзкому поведению галла. По срав-
нению с почти статическим рассказом источника (Клавдий Квадри-
гарий у Авла Геллия, IX, 3, 4) рассказ Ливия полон движения,
он более патетичен и эмоционален.
Следует отметить, что в описание битв и осад Ливий часто вво-
дит прием неожиданности, чьего-то непредвиденного и внезапного
вмешательства, изменившего ход событий и спасающего положе-
ние, драматизируя тем самым сцену. Например: «В то время как
одни большей частью были избиты, а другие озирались, куда бе-
жать, вдруг показалось войско Фабия, как будто ниспосланное
с неба на помощь» (XXII, 29, 3); или в рассказе об атаке Локр:
«Ганнибал... уже подступал к стенам, как вдруг, открыв ворота, на
него бросились римляне» (XXIX, 7,8; ср. 11,50, 6; XXI, 9, 1 и др.).
Искусство повествования Ливия признано его современниками
и потомками. Именно здесь его талант наиболее ощутим и нагля-
ден. Ливий не столько сообщает о событии, сколько рассказывает
о нем, и даже изображает его, живым описанием стремясь произве-
сти впечатление на читателей, воздействовать на их чувства, воз-
будить их ответную реакцию на показываемые события, внушить
им сострадание, гордость, ненависть, презрение, восхищение. Он
144
ос едоточивает внимание на д аматическом аспекте со ытия, опи-
с ~вает эмоциональное состояние действующего лица, а чаще массы
л дей или даже всего народа: гнев или радость, страх или вооду-
шевление, унижение или гордость, отчаяние или надежду, скорбь
или ликование. В таких сценах и эпизодах, сочетающих описатель-
ные и драматические элементы, более всего проявляется сила по-
вествовательного искусства Ливия.
Примеров для иллюстрации можно привести множество, но ог-
раничимся несколькими, взятыми из разных книг первой, третьей
и четвертой декад «Истории». Вот изображение состояния рим-
ских солдат, попавших в западню при Кавдинском ущелье во вто-
рой Самнитской войне и униженно проведенных под ярмом, состав-
ленным из двух воткнутых в землю копий и третьего, положенного
на них сверху (IX, 5 — 6): «Воины смотрели друг на друга, смотрели
на оружие, которое скоро должны были выдать, на свои правые
руки, которые будут обезоружены, на тела, которые скоро будут
во власти неприятеля. Воочию представляли они сами себе неприя-
тельское ярмо, насмешки победителя, надменные взгляды, шествие
безоружных сквозь ряды вооруженных, потом печальный путь опо-
зоренного войска через города союзников и возвращение в отечество
к родителям, куда сами они и их предки часто являлись с триум-
фом. „Одни мы,— говорили воины римские,— побеждены, не по-
лучив ран, без помощи меча и не побывав в сражении; нам не по-
зволили обнажить мечей, не позволили схватиться с неприятелем;
напрасно внушено нам мужество!"
Пока они так роптали, наступил роковой час позора, который
в действительности должен был сделать все более печальным, чем
они предполагали: сначала им было приказано в одних рубашках
без оружия выйти за вал, и первыми были выданы заложники
и уведены под стражу; затем ликторы получили приказание оста-
вить консулов, а с этих последних были совлечены плащи. Среди
тех самых воинов, которые немного раньше проклинали консу-
лов, готовы были предать и' растерзать их, это возбудило такое
сострадание, что каждый, забыв о собственном положении, отвра-
щал глаза от такого поругания величия консулов, как от гнусного
зрелища. Почти полуобнаженные консулы первые прошли под яр-
мом; затем подверглись позору остальные в том же порядке, как они
следовали друг за другом по чину, и, наконец, один за другим ле-
гионы каждый отдельно. Кругом, издеваясь и насмехаясь над ни-
ми, стояли вооруженные неприятели; многим они грозили мечами,
а некоторых ранили и убили, если выражение их лица, слишком
свирепое вследствие недостойного обращения, оскорбляла победи-
телей. Таким образом римляне были проведены под ярмом; когда
же они — что, пожалуй, было еще тяжелее — на глазах врагов
вышли из ущелья, то хотя и казалось, что они, как бы вырвавшись
из преисподней, впервые увидели дневной свет, однако самый свет
этот, при взгляде на войско, так опозоренное, был ужаснее всякой
смерти» (IX, 5, 8 — 14; б, 1 — 3).
145
Расценивая этот позор римлян как наказание за их высокомер-
ный отказ от мира с самнитами, Ливий тем не менее дает вполне
реальное объяснение, как римляне попали в засаду, описав Кав-
ди«кое ущелье: «природа местности здесь такова: два глубоких
ущелья, узких и покрытых лесом, соединяются между собой непре-
рывными, вокруг идущими горными хребтами; между ними лежит
довольно обширная, богатая растительностью и водою равнина,
посредине которой пролегает дорога. Но, прежде чем дойти до этой
поляны, нужно войти в первое ущелье или возвратиться обратно
по той же дороге, по которой пробрался туда, или, если продол-
жать идти далее, выйти через другое еще более узкое и еще труд-
нее проходимое ущелье. Римляне спустили свое войско в эту рав-
нину по другой дороге, через скалистый проход, но когда они нап-
равились дальше к другому ущелью, то нашли его загражденным
срубленными деревьями и множеством огромных, наваленных друг
на друга камней. Когда, таким образом, открылось коварство вра-
гов, римляне заметили и неприятельский отряд на вершине гор-
ного хребта. Поспешно они стали отступать по той дороге, по кото-
рой пришли, но и ее нашли также загороженною засекой и воору-
женными людьми. Затем они без всякого приказания остановились;
остолбенели все, и как будто какое-то необыкновенное оцепенение
охватило их члены: посматривая друг на друга и каждый предпо-
»< & t;aB ругом болеепрису стви ухаиблагора уми ,они
оставались неподвижными и молчали» (IX, 2, 7 — 11).
Достойна внимания нарисованная Ливнем картина смятения
H ужаса римлян при известии о приближении к Риму Ганнибала:
«Беготня людей, присочинивших ложь к тому, что они слышали,
подняла на ноги весь город, производя еще больше смятения, чем
само известие. Не только из частных домов слышны были вопли
женщин, но повсюду устремились на улицы матроны; они перебе-
~àïH от одного храма к другому и на коленях, покрывая ступени
алтарей своими распущенными волосами, вздымали к небожителям
свои руки с мольбой о том, чтобы те вырвали из рук врага город
римлян и сохранили невредимыми римских матерей и малолетних
детей» (ХХЧ1, 9, 6 — 8).
~ другом месте'Ливий лишь упоминает о панике, произведенной
в Риме сообщением об истреблении и уничтожении военной силы
Римлян в бит~е приjgaHHax, затрудняясь даже описать ее: «Ни-
когда, пока Рим был цел, в стенах его не было такого ужаса и смя-
Поэтому я не возьму на себя этого труда и не стану расска-
»»ать о том, что при подробном изложении могу изобразить сла-
бее действительности» (XXII, 54,8). Однако тут же он не упускает
случая подчеркнуть, что никакой другой народ не вынес бы бреме-
ни столь тяжкого поражения; напротив, он показывает, что в рим-
сКОМ народе появилась небывалая твердость и дисциплина, прекра-
T>&l ;~H<b раздоры римля ерешилип одолж т войнусп
и победить их или умереть; были набраны войска из союзников
с привлечением рабов, власть была сосредоточена в руках одного
диктат~ра Марка 1Ония (XXII, 54 — 57).
146
Несколькими главами ранее Ливий нарисовал страшную, пол-
ную выразительных деталей картину жестокости карфагенян, по-
бедивших в 1~аннском сражении и собирающих добычу на поле боя,
где лежали тысячи убитых и раненых римских солдат, «пехотинцы
и всадники вперемешку, кого с кем соединил случай, или сражение,
или бегство. Некоторые, приведенные в чувство вызванной утрен-
ним холодом болью ран, окровавленные приподнимались из груды
трупов, но враги их добивали. Некоторых карфагеняне нашли еще
живыми, лежащими с перерубленными бедрами и голенями; они
обнажали шею и горло и просили лишить их последней крови. Не-
которых нашли с зарытыми в землю головами; очевидно было, что
они сами вырывали для себя ямы и, засыпая лицо валившейся
сверху землей, душили себя» (Там же, 51, 6 — 8).
Не менее впечатляюща красноречиво изложенная сцена пора-
жения римлян у Тразименского озера и их бегства: «как ослеплен-
ные, устремляются они через все теснины и стремнины, оружие
и люди валятся стремглав друг на друга; значительная часть, не
видя места для бегства, шла в воду по ближайшим отмелям болота
и входила в нее по плечи и даже по шею. Некоторых безрассудных
страх побудил искать спасения даже вплавь, но так как такое бег-
ство было беспредельно и безнадежно, то они, выбившись из сил„
были поглощены пучиною или, напрасно утомившись, с величай-
шим трудом снова возвращались к отмелям и там повсюду были
избиваемы вражескими всадниками, которые вошли в воду» (XXI I,
6, 5 — 7).
А в следующей главе Ливий описывает тревожное состояние
римлян при известии о поражении их армии у Тразименского озера:
«При первом известии об этом поражении в Риме народ в большом
страхе и замешательстве сбежался на форум. Женщины, блуждая
по улицам, спрашивали встречных, что это за известие о внезапном
поражении и какова участь войска... Сколько бедствий выпало на
долю побежденного войска, столько же забот терзало умы тех, род-
ственники которых служили под начальством консула Фламиния,
так как они не знали, какова участь каждого из их близких, и никто
достоверно не знал, на что надеяться или чего бояться. На дру'гой
день и в течение нескольких последующих дней у ворот города сто-
яла толпа, состоявшая больше из женщин, чем из мужчин, ожидая
или кого-нибудь из своих, или вестей о них. Они обступали со всех
сторон встречных, расспрашивая их, и не могли оторваться особенно
от знакомых, прежде чем не узнают обо всем по порядку. Здесь мож-
но было заметить различные выражения на лицах тех, которые
удалялись от вестников, сообразно с тем, радостная или печальная
весть была сообщена, а при возвращении домой их окружали или
поздравляющие, или утешающие; особенно необыкновенны были
радость и печаль женщин. Говорят, одна, встретив у самых ворот
своего сына невредимым, внезапно умерла в его объятиях, другая,
которой ложно сообщили о смерти сына, печально сидела дома и,
как только увидела возвращающегося сына, испустила дух от чрез-
вычайной радости» (XXII, 7, 6 и 10 — 13).
147
Подобных описаний эмоционального состояния людей немало
и в более поздних книгах. Ливий рисует, например, картину паники
в этолийском лагере при неожиданном появлении Филиппа (XXXI,
41, 10), страха македонских воинов и самого царя перед сражением
с римлянами (XXXI, 34, 3); пишет об опасении Антиоха, как бы
римское войско не нашло пути для перехода через горы у Фермо-
пил, как некогда персы обошли лакедемонян, а в недавнее время
римляне Филиппа (XXXVI, L6, 6).
Состояние и действия масс Ливий показывает через типичные
формулы: ali i... alii (одни... другие — Х Х Х1, 39,8), partim...
partim (частью... частью — XXXI, 3, 5), пипс... пипс (то... то—
XXXI, 35, 5) и т. п. Вот, например, живописная сцена беспорядоч-
ного бегства римских моряков, находящихся на берегу, при изве-
стии о наступлении флота противника: «Происходит смятение, по-
добное тому, какое бывает при внезапном пожаре или при взятии
города: одни бежали в город звать своих назад, другие из города
бегом спешили на корабли, и, наконец, среди неопределенных
криков, заглушаемых при этом еще звуками труб, не зная, кого
слушать, все сбежались на корабли. От сумятицы каждый с трудом
только мог узнать свой корабль и пробраться к нему» (ХХХИ1,
29, 4).
«История» Ливия полна красочных описаний военных операций,
засад и битв, поражений и побед римлян. Живописны рассказы
о войне с Веями и о падении Вей (V, Уи 20), о сражении армий Сци-
пиона и Ганнибала при Заме (ХХХ, 32 — 38), о героических дей-
ствиях храброго и искусного полководца Марка Марцелла под
Нолой и при взятии Сиракуз (XXIII, 41 — 46; XXIV, 17, 7; XXV,
23 — 31) и др.
Литературными достоинствами отличается рассказ о нашествии
на Рим галлов (V, 39 — 42), где перед читателем развертывается вол-
нующая картина тревоги и смятения жителей Рима, томительное
ожидание ими атаки галлов, уход большинства римлян на Капи-
толий, наконец, вступление галлов в опустевший, безлюдный го-
род, учиняемые ими убийства стариков-сенаторов, оставшихся дома,
грабежи, пожары: «Римляне, видя с кремля наполненный неприя-
телями город, их беспорядочное брожение по всем улицам и воз-
никновение в различных местах все новых разорений, не только
не могли ничего соображать, но даже вполне владеть своим слухом
и зрением. Куда только ни привлекал их крик врагов, вопли жен-
щин и детей, треск пламени и шум рушившихся зданий, они
с дрожью на все обращали свое внимание, мысли и взоры, точно
судьба поставила их перед картиной гибели их отечества и преду-
готовила в них защитников не' своего благосостояния, а только
жизни; они более, чем когда-либо другие осажденные, достойны
были сожаления, потому что они под осадой находились вне род-
ных очагов и видели все свое имущество во власти врагов. Этот
столь трагически проведенный день сменился столь же тревожной
ночью, и наконец за беспокойной ночью последовало утро, но ни
одна минута не проходила без зрелища какого-нибудь нового не-
148
счастья. Нодаже под бременем и давлением стольких бедствий и при
виде, что все огнем и мечом сравнена с землей, римляне все же были
непоколебимы в своем намерении доблестью защищать занимаемый
ими холм, правда бедный и небольшой, это последнее убежище их
свободы. Ввиду ежедневного возобновления тех же бедствий, к ним
искоре отчасти привыкли и сделались нечувствительными к поте-
рям: только на свое оружие, на мечи в руках они все смотрели,
видя в них единственную, последнюю надежду» (V, 42, 3 — 8).
Не менее живы описания радости и ликования народа по случаю
победы. Так, в XXVII, 50 Ливий рассказывает о восторге жителей
Рима, получивших радостную весть о поражении Газдрубала при
Метавре от послов консула: «люди всех возрастов бросились им
навстречу, каждый стремился первым увидеть их собственными
глазами и первым услышать такую радостную весть. Сплошная
масса народа дошла вплоть до Мульвиева моста. Послы Ветурий
Филон, Лициний Варий, Цецилий Метелл, окруженные огромною
толпой всякого звания людей, из которых одни расспрашивали
о происшедшем их лично, а другиеих спутников, достигли форума.
Каждый, лишь только узнавал, что войско врагов разбито и глав-
нокомандующий погиб, а римские легионы невредимы и здравству-
ют, тотчас же спешил сообщить эту радостную весть другим. С тру-
дом добрались послы до курии, еще труднее было сдержать толпу,
чтобы она не проникла вместе с сенаторами в курию. Сначала пись-
мо было прочитано в сенате, а затем послы были переведены в на-
родное собрание. Здесь Л. Ветурий, прочитав письмо, гораздо
подробнее изложил сам, как все происходило — сначала при воз-
гласах одобрения, наконец, с трудом постигаемое чувство радости
выразилось общими криками всего собрания. Отсюда одни броси-
лись к храмам богов принести благодарение, другие домой, чтобы
поделитьсятакимрадостнымизвестием сженами и детьми; а сенат,
ввиду того что консулы Ливий и Клавдий, сохранив свои войска,
истребили неприятельские легионы вместе с вождем, назначил бла-
годарственное молебствие в течение трех дней, о чем объявил пре-
тор Гостилий. Празднествобыло совершено торжественно, при уча-
стии мужчин и женщин: все храмы в течение трех дней были оди-
наково полны народом; матроны в прекрасной одежде с детьми
воссылали богам благодарственные молитвы, без всякого опасения
за будущее, как будто война уже окончена» (Там же, 51, 2—
10).
В другом месте Ливий описывает радость и веселье воинов, ко-
торым Тиберий Гракх объявил свободу после их успешной битвы
с пунийцами, а жители устроили им пир: «Воины, несшие и гнав-
шие перед собой добычу, шутя и балагуря, с таким весельем вер-
нулись в Беневент, что можно было думать, будто они возвращались
с пира в торжественный для них день, а не с поля битвы. )Кители
Беневента толпами вышли навстречу воинам, обнимали, поздрав-
ляли их с победой и приглашали в гости. У всех в атриумах было
приготовлено угощение. Приглашая воинов к себе, жители проси-
ли у Гракха на то разрешения. Гракх дозволил, но с условием,
149
чтобы все пировали на улицах. Все выставили свои угощения перед
дверьми домов» (XXIV, 16, 14 — 17).
Как отмечалось, Ливий ограничивает свою «Историю», опуская
или сокращая в заимствованном материале то, что не имело прямого
отношения к Риму и что не соответствовало его задачам. Повествуя,
например, о действиях родосцев, он делает такую оговорку: «Не
стоило подробно следить за тем, как происходили в этих местах
отдельные события, так как у меня едва хватает сил на то, что ка-
сается собственно войны римлян» (XXXIII, 20, 13). Или, рассказы-
вая о событиях в Греции, замечает, что сделал это «не потому, что
стоило их описывать, но потому, что они были причиною войны с
Антиохом» (X XXV, 40, 1). Но он с большой охотой включает.в свой
труд драматические эпизоды, имея в виду их этический, патриоти-
ческий или литературный интерес, даже если они касаются и не
римлян. В XXXIX,48, 6, рассказывая о войне ахеян, он говорит:
«Если я пожелал бы изложить причины и ход этой войны, тоябы
уклонился от своего решения — касаться иноземной истории лишь
настолько, насколько она связана с римской».
Однако тут же добавляет, что конец этой войны достоин внима-
ния, и рассказывает далее о пленении и смерти Филопомена, вож-
дя ахеян (Там же, 49 — 50). И здесь Ливий, пользуясь удобным
случаем, делает риторически искусное сравнение смерти трех вели-
ких вождей разных народов — Сципиона, Ганнибала, Филопомена,
«которые пользовались величайшей славой каждый у своего наро-
да, столько же потому, что они умерли в одно и то же время, сколько
потому, что кончина их не соответствовала славе их жизни. Преж-
де всего все трое умерли и похоронены не в родной земле. Ганнибал
и Филопомен погибли от яда; Ганнибал, находясь в изгнании, был
предан приютившим его хозяином, а Филопомен, взятый в плен,
окончил жизнь в темнице и в оковах. Сципион же хотя и не был ни
изгнан, ни осужден, но был привлечен к суду и, не явившись в на-
значенный срок, и будучи вызван, несмотря на то что его не было,
сам добровольно наложил изгнание на себя не только при жизни,
но и по смерти» (XXXIX, 52, 7 — 9). Такое сравнение служило к
тому же своеобразным заключением к характеристикам Сципиона
и Ганнибала, принятым в античной историографии.
В «Истории» Ливия немало рассказов, которые носят патетико-
драматический, героический или романический характер. Надо по-
лагать, здесь сказалось влияние эллинистических драматических
методов. Рассказами такого типа особенно богата первая декада,
в книгах которой содержится полулегендарный материал из древней
истории Рима: о Тарквиниях, о Курции, Горации Коклесе, Муции
Сцеволе, Клелии, Вергинии (о них речь шла выше)».
Патетичен хорошо известный рассказ о Лукреции, жене Колла-
тина, в 1, 58, обесчещенной Секстом Тарквинием, об ее отчаянии и
самоубийстве. А началось все с возникшего во время обеда у Секста.
Тарквиния разговора о целомудрии жен — каждый хвалил свою.
«Тогда в пылу спора Коллатин и говорит: к чему, мол, слова—
всего несколько часов, и можно убедиться, сколь выше прочих его
150
Лукреция. „Отчего ж, если мы молоды и бодры, не вскочить нам
тотчас на коней и не посмотреть своими глазами, каковы наши же-
ны? Неожиданный приезд мужа покажет это любому из нас лучше
всего". Подогретые вином, все в ответ: „Едем." И во весь опор унес-
лись в Рим. Прискакав туда в сгущавшихся сумерках, они двину-
лись дальше в Коллацию, где поздней ночью застали Лукрецию
ва прядением шерсти. Совсем не похожая на царских невесток,
которых нашли проводящими время на пышном пирусреди сверстниц,
сидела она посреди покоя в кругу прислужниц, работавших при
огне. В состязании жен первенство осталось за Лукрецией. При-
ехавшие муж и Тарквиний находят радушный прием: победивший
в споре супруг дружески приглашает к себе царских сыновей.
Тут-то и охватывает Секста Тарквиния грязное желание насилием
обесчестить Лукрецию. И красота возбуждает его, и несомненная
добродетель. Но пока что, после ночного своего развлечения, мо-
лодежь возвращается в лагерь.
Несколько дней спустя, втайне от Коллатина, Секст Тарквиний
с единственным спутником прибыл в Коллацию. Он был радушно
принят не подозревавшими о его замыслах хозяевами; после обеда
его проводили в спальню для гостей, но, едва показалось ему, что
вокруг достаточно тихо и все спят, он, распаленный страстью,
входит с обнаженным мечом к спящей Лукреции и, придавив ее
грудь левой рукой, говорит: „Молчи, Лукреция, я Секст Таркви-
ний, в руке моей меч, умрешь, если крикнешь". В трепете, осво-
бождаясь от сна, женщина видит: помощи нет, рядом — грозящая
смерть; а Тарквиний начинает объясняться в любви, уговаривать,
с мольбами мешает угрозы, со всех сторон ищет доступа в женскую
душу. Видя, что Лукреция непреклонна, что ее не поколебать даже
страхом смерти, он, чтобы устрашить ее еще сильнее, пригрозил
ей позором: к ней-де мертвой в постель он подбросит, прирезав, на-
гого раба — пусть говорят, что она убита в грязном прелюбодеянии.
Этой ужасной угрозой он одолел ее непреклонное целомудрие.
Похоть как будто бы одержала верх, и Тарквиний вышел, упоенный
победой над женской честью.
Лукреция, сокрушенная горем, посылает вестника в Рим к отцу
и в Ардею к мужу, чтобы прибыли с немногими верными друзьями:
есть нужда в них, пусть поторопятся, случилось страшное дело.
Спурий Лукреций прибывает с Публием Валерием, сыном Волезия,
Коллатин с Луцием Юнием Брутом — случайно вместе с ним воз-
вращался он в Рим, когда был встречен вестником. Лукрецию они
застают в спальне, сокрушенную горем. При виде своих на глазах
женщины выступают слезы; на вопрос мужа: „Хорошо ли жи-
вешь?" — она отвечает: „Как нельзя хуже. Что хорошего остается
в женщине с потерею целомудрия? Следы чужого мужчины на ложе
твоем, Коллатин; впрочем, тело одно подверглось позору — душа
невинна, да будет мне свидетелем смерть. Но поклянитесь друг
другу, что не останется прелюбодей без возмездия. Секст Таркви-
ний — вот кто прошлой ночью вошел гостем, а оказался врагом; во-
оруженный, насильем похитил он здесь гибельную для меня, но и
151
для него — если вы мужчины — усладу". Все по порядку клянутся,
утешают отчаявшуюся, отводя обвинение от жертвы насилия, об-
виняя преступника: грешит мысль — не тело, у кого не было умысла,
нет на том и вины. „Вам,— отвечает она,— рассудить, что причита-
ется ему, а себя я, хоть в грехе не виню, от кары не освобождаю;
и пусть никакой распутнице пример Лукреции не сохранит жизнь".
Под одеждою у нее был спрятан нож, вонзив его себе в сердце, на-
легает она на нож и падает мертвой. Громко взывают к ней муж
и отец» (Там же, 58, 1 — 12).
Драматическая ситуация здесь налицо: неистовая страсть,
с одной стороны, непреклонность — с другой, поруганная честь и
непереносимый стыд, самоубийство и клятва отмщения; налицо
и характерное сочетание повествовательных элементов с драмати-
ческими: действия с прямой речью.
Подобные мотивы есть и в рассказе о прекрасной пленнице, жене
князя Оргиагонта, над которой надругался центурион Манлий и
которая, мстя за оскорбленное целомудрие, приказала своему род-
ственнику убить центуриона и сама отнесла его голову мужу как
свидетельство своей верности. Противопоставляя красоту и чистоту
принцессы страсти и алчности центуриона, Ливий заключает эпи-
зод словами: «Благодаря беспорочности и строгости своей остальной
жизни она до своей кончины сохранила славу этого достойного мат-
роны подвига» (XXXVIII, 24, 3).
Нельзя не вспомнить и романтического рассказа о Софонисбе
(XXX, 12 — 15). Вот его краткое содержание: для закрепления дру-
жественного союза пунийский главнокомандующий Газдрубал
выдает свою дочь Софонисбу за нумидийского царя Сифака й
убеждает его направить послов к Сципиону с тем, чтобы тот не
высаживался в Африке — иначе Сифаку придется сражаться sa
свою родину и за родину супруги. Сципион убеждает Сифака не
нарушать заключенного союза и, направляясь в Африку, печется
о восстановлении прежней дружбы. Но Сифак по-прежнему пред-
лагает условия мира с карфагенянами. Происходит сражение,
в котором римляне с Массинисой наносят поражение Сифаку с кар-
фагенянами: Сифака берут в плен, овладевают столицей и царским
дворцом. Софонисба молит Массинису о милосердии: «не допусти,
чтобы какой-нибудь римлянин распоряжался мною с надменностью
и жестокостью. Будь я лишь женою Сифака, то и тогда предпочла
бы предать себя на волю нумидийцу, уроженцу той же Африки, как
и я, чем инородцу и чужеземцу; но ты сам понимаешь, чего должна
ожидать от римлянина карфагенянка, да еще дочь Газдрубала1
Если нет в твоей власти никакого иного средства, то умоляю и
заклинаю тебя — убей меня и тем самым спаси от произвола рим-
Л ЯН».
Сраженный красотой пленницы Массиниса обещает исполнить
ее просьбу, и, не находя другого решения, поспешно женится на
ней, вызывая общее неодобрение. Сципион вразумляет Массинису
и настаивает на том, чтобы Софонисба предстала перед сенатом и
народом для вынесения приговора, ибо она оттолкнула от Рима
152
царя союзника. Помня свои обязательства перед Софонисбой и не
желая нарушить волю главнокомандующего, Массиниса посылает
ей яд, передавая при этом, что сильные люди отнимают у него воз-
Мо?KHocTb исполнить свои обещания по отношению к жене, но он
не хочет, чтобы она живой попала в руки римлян. Софонисба, по-
лучив яд, говорит: «„Я принимаю брачный подарок и притом с
благодарностью, если муж ничего больше не мог сделать для своей
жены; однако же передай царю, что мне лучше было бы умереть,
если бы я не выходила замуж, раз уж мне грозила смерть". С такой
же твердостью сказала она эти слова, с каким бесстрашием,'без
малейших признаков волнения, приняла кубок и выпила его»
(Тамже, 15,7 — 9).Сципион, боясь новых необдуманных поступков
Массинисы, осыпал его похвалами и богатыми дарами, назвав царем.
Почести успокоили царя, и в нем возросла надежда вскоре овладеть
всей Нумидией.
Не менее живы и наглядны рассказы героического характера.
В XL, 4 мы читаем о героизме Феоксены, дочери фессалийского
вождя, убитого Филиппом, которая пыталась бежать на корабле
из Македонии на остров Эвбею с мужем и детьми. Но тщетно:
преследователи нагоняли их, и тогда ожесточенная женщина, по-
казывая своим детям кубок с ядом и обнажив меч, сказала: «смерть
единственное спасение; вот два средства умереть; спасайтесь от
царской жестокости тем средством, какой кому по душе; ну, мои
юноши, прежде всего старшие, берите мечь или пейте яд, если
предпочитаете более медленную смерть!» С одной стороны при-
ближались враги, с другой — побуждала умереть мать; выбрав
тот или другой вид смерти, они полуживыми бросились с корабля.
Затем и сама мать, обняв мужа, вместе с ним ринулась в море.
Царская стража овладела пустым кораблем». Такие сюжеты,
вставленные в летописный остов труда Ливия, оживляли основное
историческое повествование и делали его похожим на роман.
Особым драматизмом проникнуты рассказы о смерти героев,
например о смерти капуанского аристократа Вибия Виррия и еще
27 сенаторов, не пожелавших сдаться римлянам и принявших яд
(XXVI, 13 — 14); о смерти Марцелла, попавшего в засаду и пронзен-
ного копьем вражеского всадника (X XVII, 27, 11), а также о смерти
Ганнибала (XXXIX, 51, 9), консула Фламиния (XXII, 6, 3), убий-
стве Яеметрия (XL, 23 — 24) и др.
В изложение событий Ливий часто вставляет экскурсы и опи-
сания, разнообразя такими вставками летописное повествование.
И хотя он предупреждает читателя, что «с самого начала этого
труда я не имел никакого желания отступать более, чем это позво-
лительно, от порядка событий, и вовсе не стремился к тому, чтобы,
украшая свой труд введением в него отдельных разнообразных
предметов, дать таким образом и читателям приятные, как бы стоя-
щие вне связи с текстом рассказы и душе своей отдохновение» (IX,
17, 1); однако сделанное им сравнение Папирия Курсора с Александ-
ром Македонским вызвало в нем раздумья и желание исследовать,
какова была бы судьба римского государства, случись ему вое-
153
вать с Александром: «Наибольшее значение на войне имеет, по-
видимому, многочисленность и доблесть воинов, искусство полко-
водцев и счастье, играющее важную роль во всех человеческих де-
лах, в особенности же в делах, касающихся войны. Если рассмотреть
эти условия и каждое порознь и все вместе, то на основании их легко
поручиться за то, что римское государство, не побежденное дру-
гими царями и народами, не было бы побеждено и Александром»
(Там же, 2 — 5).
Считая, что «римлян, равных Александру и по славе, и по ве-
личию, и по подвигам, было много» (IX, 18, 19), Ливий уверенно
заявляет о непобедимости своего отечества: «Никогда мы не уступим
ни конному, ни пешему врагу, ни в открытом бою, ни на месте,
представляющем одинаковые условия для нас и для врагов наших,
в особенности же на позиции, выгодной для Hacl Обремененный
оружием воин может бояться всадника, стрел, непроходимых гор,
местностей, недоступных для подвоза провианта; но он прогонял
и будет прогонять тысячи войск и сильнее, чем войско македонян
и Александра, только бы вечно пребывала любовь к тому миру,
в котором мы живем, и забота о гражданском согласии!» (IX, 19,
15 — 17). Вводя в повествование отступление, Ливий иногда мотиви-
рует его. В XXIX, 29, 5 он говорит о Массинисе: «Так как он
был величайший из всех современных царей и весьма много содей-
ствовал римским интересам, то представляется целесообразным
сделать небольшое отступление (excedere paulum), чтобы изложить,
какие превратности счастья изведал он, теряя и возвращая отцов-
ское царство». Далее следует рассказ.
Частые описания суровой природы, непогоды, болезней служат
усугублением тягот и опасностей описываемых';военных действий.
Так, например, рассказ о труднейшем переходе Ганнибала с ар-
мией через Альпы в XXI, 32 — 37 Ливий начинает с описания ду-
шевного состояния воинов, оцепеневших от ужаса перед грома-
дой снежных вершин: «воины, хотя они и были заранее подготов-
лены молвой, обыкновенно преувеличивающей то, о чем человек
не имеет ясного понятия, все-таки были вторично поражены ужа-
сом, видя вблизи эти громадные горы, эти ледники, почти сливаю-
щиеся с небесным сводом, эти безобразные хижины, разбросанные
по скалам, эту скотину, которой стужа, казалось, даже расти не
давала, этих людей, обросших волосами и одетых в лохмотья. Вся
природа, как одушевленная, так и неодушевленная, казалась око-
ченевшей от мороза, все производило удручающее впечатление, не
поддающееся описанию» (Там же, 7).
В самом рассказе о восхождении на Альпы Ливий сосредоточи-
вает внимание сначала на борьбе Ганнибала с горцами, затем на
неимоверных природных трудностях, преодолеваемых войском при
схождении с гор, подчеркивая этим, что пунийцам пришлось одно-
временно бороться и с врагами, и с неблагоприятной местностью
(Там же, 33, 6 — 8). Люди, лошади, вьючные животные со своей
поклажей скатывались в пропасть, как лавина. Войско было в от-
чаянии и ужасе, часто сбивалось с дороги, пролагая путь по непро-
154
ходимой местности. «Спуск был гораздо затруднительнее восхожде-
ния, так как альпийские долины почти повсеместно на италийской
стороне короче, но зато и круче. Почти на всем протяжении тропин-
ка была крута, узка и скользка, так что воину трудно было не
поскользнуться, а раз, хотя и слегка, поскользнувшись,— удержать-
ся на ногах. Таким образом, одни падали на других, животные
на людей» (Там же, 35, 11 — 12).
«Но вот они дошли до скалы, где тропинка еще более суживалась,
а крутизна была такой, что даже воин налегке только после долгих
усилий мог бы спуститься, цепляясь руками за кусты H выступав-
шие там и сям корни. Скала эта и раньше, по природе своей, была
крута; теперь же, вследствие недавнего обвала, она уходила от-
весной стеной на глубину приблизительно тысячи футов. Придя
к этому месту, всадники остановились, не видя далее перед собой
тропинки, и когда удивленный,'Ганнибалспросил, зачем эта оста-
новка, ему сказали,1 что."'перед1 войском — неприступная скала.
Тогда он сам отправился осматривать местность и пришел к заклю-
чению, что, несмотря на большую трату времени, следует провести
войско в обход по местам, где це было ни тропинки, ни следа че-
ловеческих ног. Но этот путь оказался решительно невозможным.
Сначала, пока старый снег был покрыт достаточно толстым слоем
нового, ноги идущих легко находили себе в нем опору, вследствие
его рыхлости и умеренной глубины. Но, когда под ногами столь-
ких людей и животных его не стало, им пришлось ступать по голо-
му льду и жидкому месиву полурастаявшего снега. Страшно было
смотреть на их усилия: нога даже следа не оставляла на скользком
льду и совсем не могла держаться на покатом склоне, а если кто,
упав, старался подняться, опираясь на руку или колено, то и эта
опора скользила, и он падал вторично. Не было кругом ни колод, ни
корней, о которые они могли бы опереться ногой или рукой;
в своей беспомощной борьбе они ничего вокруг себя не видели,
кроме голого льда и тающего снега. Животные подчас вбивали копы-
тадажевнижний слой; тогда они падали и, усиленно работая ко-
пытами, чтобы подняться, вовсе его пробивали, так что многие из
них оставались на месте, завязши в твердом и насквозь заледенев-
шем снегу, как в капкане» (Там же, 36).
Яостаточно сравнить описание трудностей перехода у Поли-
бия, чтобы увидеть, насколько описание Ливия обстоятельнее,
нагляднее и красочнее. Полибий пишет, что карфагеняне «понесли
большие потери особенно в лошадях и вьючном скоте, не столько,
впрочем, от нападающего врага, сколько из-за трудностей перехо-
да. Яело в том, что подъем на гору был не только узок и неровен,
но и крут, а потому при малейшем колебании и замешательстве
многие животные вместе с поклажею падали в пропасть. Но наиболь-
шее замешательство производили раненые лошади: одни из них
в ярости от боли кидались на вьючный скот спереди, другие в
стремительном движении вперед теснили все, попадавшееся им на
пути в узком проходе, и тем производили большой беспорядок»
(«Всеобщая история», III, 51, 4 — 6),4.
155
И всюду, где бы ни проводить сравнение подобных описаний,
разница манеры Ливия и Полибия очевидна. Но это и понятно:
Ливий был историком-художником, Полибий — историком-ученым.
Обрабатывая материал источника, Ливий стремился к живопис-
ности повествования: вставлял выразительные детали, придающие
предмету или ситуации наглядность. Например, в сцене перед
битвой у Киноскефал он рисует картину ненастья, мешающего
военным действиям: «На третий день сначала проливной дождь,
а затем мрак, весьма похожий на ночь, задержал римлян, бояв-
шихся засады. Нисколько не испугавшись того, что после дождя
облака спустились на землю, Филипп, ради ускорения пути, при-
казал поднять знамена. Но дневной свет был закутан таким густым
мраком, что ни знаменосцы не могли видеть дорогу, ни воины
знамена, и все войско, как бы заблудившееся ночью, пришло в
беспорядок, направляясь на неопределенные крики» (XXXIII, 5,
6 — 7, ! — 2; ср. Пол., XVIII, 20, 7).
Красочное изображение природы характерно для творческой
манеры Ливия. Особенно любит он описывать явления мрачные и
грозные. Вот, например, картина разбушевавшейся стихии во вре-
мя перехода войска Ганнибала через Апеннины (XXI, 58, 3 — 10):
«Во время перехода через Апеннины его застигла такая страшная
буря, что в сравнении с ней даже ужасы Альп показались ничем.
Дождь и ветер хлестали пунийцев прямо в лицо с такой силой,
что они были принуждены бросать оружие, или же, если пытались
сопротивляться, сами падали наземь, пораженные силой вьюги.
На первых порах они только остановились. Затем, чувствуя, что
ветер захватывает им дыхание и щемит грудь, они присели, повер-
нувшись к нему спиною. Вдруг над их головами застонало, зареве-
ло, раздались ужасающие раскаты грома, засверкали молнии; пока
они, оглушенные и ослепленные, от страха не решались двинуться
с места, грянул ливень, а ветер подул еще сильнее. Тут они наконец
убедились в необходимости расположиться лагерем на том самом
месте, где были застигнуты непогодой. Но это оказалось лишь
началом новых бедствий. Нельзя было ни развернуть полотнище,
ни водрузить столбы, а если и удавалось раскинуть палатку, то
она не оставалась на месте: все разрывал и уносил ураган. А тут
еще тучи, занесенные ветром повыше холодных вершин гор, замерзли
и стали сыпать градом в таком количестве, что воины, махнув рукой
на все, бросились на землю, скорее погребенные под своими палатка-
ми, чем прикрытые ими; за градом последовал такой сильный мороз,
что, если кто в этой жалкой куче людей и животных хотел припод-
няться и встать, он долго не мог этого сделать, так как жилы око-
ченели от стужи и суставы едва могли сгибаться».
Страшно в своей натуралистичности описание чумы в Сираку-
зах, во время осады которых погибло множество людей: «Присо-
единилось еще общее бедствие — чума, которая естественным об-
разом отвлекла внимание обеих сторон от военных планов. Дейст-
вительно, в осеннее время, в местности с нездоровым климатом
нестерпимая жара подействовала на всех почти воинов в обоих
156
лагерях, однако в гораздо большей степени вне города, чем в
городе. Сначала болезнь и смертность появлялись от неблагопри-
ятных условий времени и места. Затем самый уход за больными и
прикосновение к ним распространяли болезнь. Поэтому -заболев-
шие или умирали, покинутые на произвол судьбы, или заражали
болезнью в одинаковой с собой степени неусыпно ухаживающих
за ними лиц и увлекали их за собой; ежедневные похоронные про-
цессии и смерть были на глазах у всех; повсюду днем и ночью раз-
давались стоны. В конце концов, привыкши к беде, сердца настоль-
ко очерствели, что не только не провожали мертвых со слезами н
плачем, но даже не выносили и не погребали покойников, и безды-
ханные тела валялись распростертыми на виду у людей, ожидав-
ших подобной же смерти. Мертвецы губили больных, больные здо-
ровых, каквнушая страх, так и распространяя пагубное зловоние,
происходившее от разложения. Некоторые, предпочитая смерть
от оружия, в одиночку нападали на неприятельские посты. Однако
зараза с гораздо большей силой действовала на карфагенский ла-
герь, чем на римский, ибо вследствие продолжительного обложения
Сиракуз римские воины больше привыкли к климату и воде. Видя,
что вследствие неблагоприятных климатических условий болезнь
распространяется, находившиеся в неприятельском лагере сици-
лийцы разбежались каждый в свой ближайший город, а не имевшие
нигде убежища карфагеняне погибли окончательно все вместе с
самими вождями» (XXV, 26, 7 — 14; ср. XLI, 21).
Принцип разнообразия, воспринятый Ливнем от эллинистиче-
ской историографии, осуществлялся и введением в сочинение от-
ступлений, не имеющих прямого отношения к излагаемому материа-
лу. Таково, например, отступление о ранних формах римской
драмы, представляющее большой литературный интерес. Ливий
рассказывает, что для избавления от моровой язвы в 365 г. до н. э.
римляне учредили сценические игры, на которые пригласили этрус-
ских актеров. Отсюда и шло, по его мнению, развитие римского
театра, которое прошло 5 стадий: «приглашенные из Этрурии акте-
ры, танцуя под аккомпанемент флейты, исполняли по этрусскому
обычаю довольно красивые телодвижения, не сопровождая их ни
текстом, ни жестами, соответственно содержанию текста. Затем
им начали подражать молодые люди, перекидываясь шутками в не-
складных стихах и вместе с тем жестикулируя соответственно
тому, что они говорили. Таким образом, обычай этот был введен
и, благодаря частому повторению, усовершенствовался. доморо-
щенные артисты получили название гистрионов, так как актер по-
этрусски называется ister; теперь уже актеры не перекидывались
друг с другом попеременно, как ранее, нескладными и грубыми
стихами-экспромтами, подобными фесценинским, но исполняли са-
туры, положенные на музыку, причем пение сопровождалось игрой
на флейте и соответствующими жестами.
По преданию, несколько лет спустя, Ливий [Андроник] первый
решился вместо сатуры поставить драму с определенным заранее
содержанием; будучи, как и все в то время, и актером для собствен-
157
н:.~х произведений, и потеряв от частых повторений голос, он вы-
просил себе позволения ставить перед флейтистом мальчика для
пения, сам же сопровождал его пение гораздо более сильными
телодвижениями, так как напряжение голоса при этом не мешало
ему. Затем жесты гистрионов стали сопровождаться пением, а для
них самих оставлен был только диалог. После того как это прави-
ло стало лишать драматические представления комического и раз-
нузданного характера и шутка мало-помалу начала превращаться
в искусство, молодые люди, предоставив гистрионам играть пьесы,
стали между собой перекидываться по древнему обычаю шутками
в стихотворной форме; эти представления впоследствии названы
были exodia и соединились преимущественно с ателланскими
пьесами» (VII, 2, 4 — 12).
Весьма характерны для «Истории» Ливия сообщения о всякого
рода стихийных бедствиях, необычных явлениях природы и пред-
знаменованиях (prodigia), которые по представлениям древних
были знамением высшей воли и свидетельствовали о гневе богов:
для умилостивления их назначалось молебствие у храмов и жертво-
приношения. Этим Ливий разнообразил форму своего повествования
и вместе с тем отдавал дань анналистической традиции: «Описывая
древние события, я не знаю, каким образом усваиваю себе старинный
образ мыслей, и за грех ставлю считать не стоящими занесения в
мою историю того, что мудрейшие мужи признавали заслуживаю-
щим внимания государства» (XLIII, 13, 2).
Например, он пишет о тревожных знамениях в Риме и его окрест-
ностях: «передают, будто шестимесячный ребенок свободных роди-
телей на Овощном рынке крикнул: „Триумф.'; на Бычьем рынке
бык сам собою взобрался на третий этаж и бросился оттуда, ис-
пуганный тревогой, которую подняли жильцы; на небе показались
огненные изображения кораблей; в храм Надежды, что на Овощном
рынке, ударила молния; в Ланувии копье шевельнулось, и ворон
влетел в храм Юноны и сел как раз на ложе богини; в окрестностях
Амитерна во многих местах показывались издали призраки в белой
одежде, но ни с кем не повстречались; в Цере вещие дощечки утон-
чились; в Галлии волк выхватил у караульного меч из ножен и
унес его» (XXI, 62, 1 — 4); или: «В Вейентской области родился маль-
чик с двумя головами, а в Синуессе — с одною только рукой, в
Авксиме — девочка с зубами; затем видели днем при ясном небе
радугу над храмом Сатурна на Римском форуме, и одновременно
сияло три солнца; в ту же ночь упало с неба несколько факелов
в Ланувийской области. Яители Цере утверждали, что в их городе
появился дракон с гривой, усеянной золотистыми пятнами. осто-
верно было известно, что в Кампании бык заговорил» (XLI, 21).
В других местах сообщается о кровавом дожде, о рождении же-
ребенка с пятью ногами, поросенка с двумя головами, о статуях
Юноны и Аполлона, проливающих слезы, о молочной реке и т. и.
чудесах (XXXVII, 3; XXXIX, 22; XLIII, 13; XL, 2; XXXII,
1; XXXIV, 45). А в ХХ1, 22, 6 — 9 рассказывается о сне Ганнибала,
предвещающем ему победу: «привиделся ему во сне юноша божест-
158
венной наружности; сказав, что он посланный ему Юпитером про-
водник в Италию, он велел Ганнибалу идти за ним без оглядки.
Объятый ужасом, Ганнибал повиновался и вначале не глядел ни
назад, ни по сторонам, 'но мало-помалу, по врожденному человеку
любопытству, его стала тревожить мысль, что бы это могло быть
такое, на что ему запрещено оглянуться; под конец он не выдержал.
Тогда он увидел змея чудовищной величины, который полз за ним,
сокрушая на огромном пространстве деревья и кустарники, а за
змеем двигалась туча, оглашавшая воздух раскатами грома. На
его вопрос, что значит это чудовище и все это явление, он получил
ответ, что это — опустошение„-'Италии; вместе с тем ему было ска-
зано, чтобы он шел дальше, не задавая вопросов и не пытаясь сор-
вать завесу с решений рока». Элементы чудесного и сказочного,
вплетаемые в реальные действия «Истории», придавали ей занима-
тельность и усиливали интерес к ней читателя.
Разнообразилось сочинение Ливия также описаниями городов
(Патавия, например, в Х, 2, 4 — 15) и местностей (например, Фермо-
пильского ущелья в XXXVI, 15 с объяснением его названия: «мес-
то это, знаменитое более геройскою смертью спартанцев, чем бит-
вой их с персами, называется Пилами, а некоторыми даже Ферь:о-
пилами, потому что в самом ущелье находятся источники горячей
воды»).
Краткие пояснения или замечания к излагаемым событиям,
особенно политическим (например, пояснение процедуры рассмот-
рения дел в народном собрании Афин — XXXI, 15) и военным (на-
пример, размышления о причинах неослабеваемой военной силе воль-
сков в VI, 2, 2 — 6), придавали сочинению Ливия оттенок докумен-
тального повествования, так же как приведение речей историчес-
ких деятелей в собрании: о принятии и отмене законов или по
вопросам военной стратегии, или об условиях заключения мира и
т. д. А кроме того, подробное перечисление захваченных трофеев
в описании триумфального шествия или, наконец, цитирование
архаических формул обетов, молитв при описании религиозных
церемоний и ритуалов: например, молитва авгура Юпитеру о нис-
послании знамения, быть ли царем Нуме Помпилию — 1, 18, 8; обет
консула Манлия Ацилия дать Великие игры в честь Юпитера в
случае победы в войне с Антиохом — XXXVI, 2, 3 — 5; молебствие
Сципиона перед походом в Африку: «боги и богини, населяющие
моря и землю, вас я молю и прошу, чтобы все,совершенное, со-
вершаемое и имеющее впоследствии совершиться под моим началь-
ством, обратилось на благо мне, римскому народу,и плебеям, союз-
никам и латинскому племени, которые следуют по стопам народа
римского и моим, которые на суше и на море подчиняются нашему
предводительству и главному начальствованию, и чтобы всем
этим предприятиям вы оказали ваше милостивое содействие и
благословили их добрым успехом; чтобы воинов вы вернули мне
со мной здоровыми и невредимыми, одержавшими над врагами
верх, украшенными доспехами, обремененными'добычею и праздную-
щими триумф; чтобы вы дали возможность римскому народу явить
159
иа карфагенском государстве примеры того, что народ карфаген-
ский замыслил совершить против нашего государства» (ХХ! Х, 27,
1 — 4).
Как отмечалось, Ливий в интересах достижения разнообразия
перемежает в своем повествовании события внешние с внутренни-
ми — военные действия с гражданскими делами, а также чередует
события первостепенные и второстепенные. Так, в четвертой декаде:
значительные события — Македонская война (XXXI — XXXIII) и
Сирийская война (XXXVI — XXXVII) идут вперемежку с события-
ми менее значительными в военном отношении, зато важными в пла-
не гражданском (защита Катоном отменяемого закона Оппия в
XXXIV книге, дело о Вакханалиях и цензура Катона в XXXIX
книге). Заметим, кстати, что изложение дела о возникновении в
Риме культа Вакха, обнаружение вакханалий и меры по их запре-
щению и устранению, принятые консулом, оформлены в виде сю-
жетного рассказа о любви Гиспалы и Эбутия, об усилиях Гипса-
лы спасти своего возлюбленного от посвящения его в таинства
Вакха (XXXIX, 9 — 18).
Таким образом, Ливий воплощал принцип разнообразия спосо-
бом чередования в «Истории» повествовательных, драматических
и романических эпизодов и сказаний, красочных картин природы,
описаний обрядов, сообщений о предсказаниях и чудесах, соб-
ственных пояснительных и критических замечаний. Но все эти,
казалось бы, разрозненные фрагменты согласовываются, связы-
ваются в гармоническое целое; выполняли ли они служебную роль
подтверждения авторской мысли и иллюстрации ее или жепред-
ставляли самостоятельную литературно-эстетическую ценность,
они были подчинены единой, в сущности своей, теме — истории
римского народа, отраженной в совокупности человеческих дей-
ствий и характеров.
Такое единое по содержанию и разнообразное по форме со-
чинение отвечало требованиям современной поэтики ', соответ-
ствовало задаче автора и удовлетворяло запросы эпохи. С. С. Аве-
ринцев дал предельно четкую оценку творчеству Тита Ливия:
«Он преобразовал историографию в своего рода национальный
эпос, в котором гармонически сочетаются как спокойный, широ-
кий, «объективный» и намеренно наивный ритм повествования,
отвечающий идеалу старозаветной gravitas (важности), так и сен-
тиментальная, «субъективная» патетика, всецело связанная с ду-
хом поздней, индивидуалистической культуры, но обращаемая
опять-таки в русло благонамеренного патриотизма» '.
вшивость, убедительность, драматичность «Истории» Тита Ли-
вия в значительной степени достигались введением в нее речей
действующих лиц, прямых и косвенных, монологов, диалогов,
реплик, к которым мы теперь и переходим.
160
историки Геродот и Фукидид любили вставлять в свои «Исто-
рии» речи и диалоги действующих лиц применительно к их пред-
полагаемому характеру и в соответствии с конкретным положе-
нием дела. Ливий, следуя им, в совершенстве овладел техникой
ввода речей в повествование; в речах не менее, чем в рассказах и
описаниях, нашло выражение его отменное мастерство писателя-
ритора. В имеющихся книгах «Истории» насчитывается 407 речей,
что составляет 12~/о текста '. Размер их неодинаков: то несколько
строк, то несколько страниц. Различаются они также своим содер-
жанием, характером и формой.
Ливий влагает речи в уста римлян и иностранцев, военачаль-
ников и царей, сенаторов и дипломатов, в уста частных лиц, которые
произносят их по разным поводам: внешнеполитическим, внутри-
политическим, военным, личным. В каждой книге «Истории» в
соответствии с ее содержанием преобладают речи или гражданские,
или военные, или посольские, или частные. Так, в книгах
XХ! — ХХХ, повествующих о второй Пунической войне, больше
всего речей военного характера, в книге XXXIX много речей
внешнеполитического характера, в книге ! — речей частного ха-
рактера. Речи произносятся в сенате и в народном собрании, на
.поле боя перед битвой или после нее, во время дипломатических
переговоров и в суде, при различных частных обстоятельствах;
они произносятся в минуту радости и торжества, или отчаяния
и опасности, и даже перед лицом смерти. Важно отметить, что
Ливий неограничивается приведением речи действующего лица, но
показывает и результат ее воздействия на чувства тех, к кому она
обращена, будь тосенаторы или народ, воины или послы.
Характер речей одновременно исторический и психологический,
ибо они, рисуя историческую обстановку и конкретную ситуацию,
вместе с тем представляют говорящего. По справедливому замеча-
нию А. Ф. Лосева, «то, что в нашей исторической науке является
характеристикой героев, то в античности уступает место речам,
и в этих речах все — критика данным историком тех или иных
документов и анализ источников и синтетическая характеристика
героя или эпох»».
~ак отмечалось выше, цели историографов соответствовали
~рем основным целям оратора: «научить» (docere), «усладить» (de-
lectate), «увлечь» (точеге). Если изображение событий по пре-
.имуществу служило услаждению читателя, а изображение лиц
побуждало его к сопереживанию, «увлекало» его, то речи изобра-
жаемых лиц, выражая их субъективные чувства или же объектив-
ные мотивировки событий, «научали» читателя, давали комментарий
и делали выводы из представленных событий.
Такимже целям. служили и речи действующих лиц в «Истории»
Ливия — интереснейшая и поучительная ее часть. Органически
вплетаясь в повествование, они обусловливали дальнейшие собы-
тия, открывали простор для более полного и красочного изображе-
ния характера исторических героев: в речах, монологах или диа-
логах они или сами рассуждают о событиях,' оценивая их и выска-
l62
вывая свою точку зрения, или же Ливий их устами выражает соб-
ственное мнение, раскрывая причины событий, мотивируя
действия их участников и поучая этим своих современников; кроме
того, речи, приводимые то в прямой, то в косвенной форме, разно-
образили изложение, придавая ему жизненность и драматизм; и
наконец, речи вводились иной раз просто ради создания ритори-
ческого эффекта, без учета, реальной обстановки, в которой произ-
носились (в этом случае они лишались естественности и умест-
ности: таковы, например, эмоциональная речь принимающей яд
Софонисбы в ХХХ, 12, 12; красноречивое обращение Семпрония
Гракха к солдатам, попавшим в засаду, в XXV, 16, 18 и др.).
Приведем несколько примеров речей, оценивающих событие,
и речей, характеризующих лицо. Сципион рассуждает о причинах
поражения пунийцев: «Насколько менее крепко и устойчиво все в
Африке у карфагенян, ненадежных союзников, суровых и гордых
повелителей1 ...y карфагенян вовсе нет войска, состоящего из
граждан, у них лишь наемные воины, африканцы и нумидийцы,
в высшейстепенисклонные посвоему характеру к измене» (XXVII I,
44, 4 — 5); Ганнибал размышляет о поражении карфагенян в Пуни-
ческой войне, проклиная себя за то, что не повел войско на Рим
сразу после победы у Тразименского озера (X Х Х, 20, 8 — 9); афиняне
говорято причинах перехода греческих народов на сторону Рима
в македонской войне — этодикая жестокость Филиппа, опустоше-
ние им их страны и осквернение их святынь (ХХХ11, 19); устамв
Манлия раскрывается причина поражения галлов — беспечность,
отсутствие дисциплины, неискусность в военном деле (V, 44);
устами трибунаЯеция высказана та же причина поражения самнн-
тов — невежество в военном деле, разобщенность, неоперативность
в действиях (VII, 34).
Большая часть речей в «Истории» тщательно отделана и постро-
ена в соответствии с правилами риторической теории, независимо
от того, произносят ли их ораторы, или полководцы, магистраты,
или простолюдины, женщины, или иноземцы, и не обладают ин-
дивидуальной окраской слога, т. е. пе содержат в себе ничего лич-
ного и локального; однакотональность их различна, и так или ина-
че в них обнаруживаются черты характера тех, кто нх произносит,
их мысли, чувства, их отношение к событиям и людям. Так, речь
меция Муса указывает на его сдержанность и достоинство, в то
время как речь Аппия Клавдия свидетельствует о его пылкости и
резкости (Х, 7 — 8); речь Камилла в народном собрании против
переселения римлян в Вейн, где он говорит о священном характере
отечественной земли, выявляет качества, составляющие славу го-
сударственного деятеля: патриотизм, достоинство, проницатель-
ность; тон ее благочестивый, строгий, сдержанный (V, 51 — 54) ';
речь Ганнибала перед последним сражением при Заме дает представ-
ление о его величии, благоразумии, гордости; в ней звучит горечь
предчувствия поражения (ХХХ, 30).
Все речи в «Истории» Ливия вымышленны.,Яействительно про-
изнесенных речей он в свое повествование не вводил, восполняя
f63
обственным воображением недостаток документального материала.
Вымышленные речи служили ему для драматически наглядного
:изображения событий и для выражения политических и моральных
идей. Если же он содержание речей заимствовал у своих предшест-
венников, то все равно художественная обработка их принадле-
жит ему.
Впрочем, Ливий и не скрывает, что речи вымышленны — лишь бы
они соответствовали сущности дела, общему смыслу того, что мог-
ло быть сказано при данных обстоятельствах, словом, должны
быть убедительны в своем правдоподобии. Вполне возможно,
что Ливий здесь следовал Фукидиду, который высказывался по-
добнь~м же образом: «То, что, по-моему, каждый оратор мог бы
сказать самого подходящего по данному вопросу...это я заставил
их говорить в моей истории» («История», 1, 22,1) '. После приведе-
ния речи Ливий обычно делает оговорку: «такова была прибли-
зительно речь Ганнибала» (XXXVI, 7, 8); «Вступив в сенат, послы
говорили в главных чертах так:»(VII,ЗО, 1); «Манлий. по моимсве-
дениям, ответил приблизительно следуюшим образом: » (XXXVIII,
47, 1) и др.
При составлении речи Ливий с большим искусством применяет
всевозможные способы, рекомендованные учебниками риторики
для того, чтобы достигнуть убедительной ясности и силы, необхо-
.димой в основной аргументирующей ее части, чтобы научить чита-
теля; драматизации и пафоса, чтобы его взволновать; украшенно-
"стн н разнообразия, чтобы его усладить. Не случайно ведь Ливия
признавали красноречивейшим человеком такие выдающиеся мас-
тера слова, как Сенека и Тацит; " а теоретик ораторского искусства
Квинтилиан считал его «красноречивым в речах более, чем возмож-
но выразить словами; до такой степени все, что в них говорится,
соответствует предмету и лицам; по крайней мере страсти, особенно
более мягкие, если говорить самым умеренным образом, никто из
историков не умел лучше изобразить» (Х, 1, 101).
Следует отметить прежде всего, что Ливий соблюдал традицион-
ное различие речей на три рода: совещательный (genus deliberati-
vum), судебный (genus judiciale), торжественный, или эпидейктиче-
ский (genus demonstrativum), применяя их соответственно предме-
ту и характеру повествования: касалось ли дело дебатов в народ-
ном собрании или в сенате, выступлений в судебном процессе или
дипломатических переговоров и т. д.
Задачей для оратора совещательного рода служили рассужде-
ния о полезном или вредном (они склоняли или отклоняли); для
оратора судебного рода — рассуждения о справедливом и неспра-
ведливом (они обвиняли или оправдывали); для оратора торжест-
венного рода — рассуждения о прекрасном и постыдном (они хва-
лили или порицали) (см.: Аристотель, «Риторика», 1, 3, 1358в;
Квинтилиан, lll, 4, 15) &l ; В«Истор и»Ли иявстречаю сяр чив
трех родов, но преобладают в ней речи совещательного рода; зна-
чительно меньше места уделено речам судебным и столь же малов
тор жес1иЕш~ым.
К совещательному роду относятся речи, произнесенные на поле
боя и обращенные к солдатам с непременным ударением на легко-
сти победы над врагом (facile), пользе, связанной с победой (utile),
и славе, добытой в результате победы (gloriosum). Таковы, напри-
мер, речи Корнелия Сципиона и Ганнибала в XXI, 40 — 41 и 43—
44; речь Сципиона Африканского к войскам Испании в XXVI, 41,
3 — 25; речь Ацилия Глабриона перед Фермопилами в XXXVI, 17,
2 — 6 и др.
Совещательному роду принадлежат также речи в сенате или
в народном собрании. Таковы речи кампанского посла в сенате
о просьбой о помощи (Vll, 30, 1 — 35), Сципиона Африканского о
необходимости перенесения войны в Африку (XXVI I I, 43 — 44),
речь Камилла в V, 51 — 54 и др.
Структура совещательных речей у Ливия в достаточной степени
проста — построены они в основном по схеме, рекомендованной
теорией риторики, сформулированной в Греции еще Аристотелем,
а в Риме — автором «Риторики к Гереннию». Согласно классиче-
ской схеме, речь делилась на три основные части: вступление (ех-
огйит, или proemium), изложение (narratio) и заключение (perora-
tlo, или conclusio).
Во вступлении оратор стремился добиться расположения слу-
шателей, завоевать их доверие, доставить им удовольствие (delec-
tare); в изложении он подробно рассказывал о предмете речи — это
была наставительная часть, она научала (docere); в заключении же
возбуждались эмоции, оно воздействовало на слушателей (точеге)
и включало в себя три подразделения: enumeratio, amplificatio,
commiseratio (суммирование основных положений, усиление и пре-
увеличение их, призыв к состраданию или негодованию).
У Ливия в соответствии с таким делением построена большая
часть речей первой и третьей декад; в последующих декадах, более
близких источнику (Полибию), деление используется мало. Как
бы то ни было, но обязательными элементами всякой речи дейст-
вующих лиц были и exordium и peroratio, обрамляющие выступ-
ление.
Во вступительной части оратор в одних случаях обращается
к слушателям (principium ad auditoribus), стремясь снискать нх
расположение (cap tat io benevolent iae) («Риторика к Гереннию»,
I, 1 — 11), как, например, претор ахеян Аристен, увещающий при-
сутствующих на собрании высказать свое мнение о том, принять
ли им сторону римлян или Филиппа (XXXII, 20 — 21); или Марк
Манлий, побуждающий плебеев к решительным действиям против
патрициев такими страстными словами: «до каких же, наконец,
пор вы будете оставаться в неведении относительно сил своих, ког-
да природа не оставила даже животных в неведении их силы?» (Quo
usque andem ignoratibus viris vestras...) (VI, !8, 5)
В других случаях оратор начинает речь привлечением внимания
к себе (principium а4 nostra persona), как Камилл в речи в народном
собрании против перенесения столицы из Рима в Вейн (V, 51 — 54);
или он же в речи к жителям Арден: «Ардеаты, мои старые друзья,
а теперь даже мои новые сограждане по милости вашего благодея-
ния и по условиям моей судьбы! пусть никто из вас не подумает,
что меня привело сюда забвение своего положения; нет, общие ин-
тересы и общая опасность обязывают каждого посвящать обществу
в тревожную минуту все свои силы и все свои способности. Да и
когда я вам отплачу за такие ваши заслуги по отношению ко мне,
если я теперь останусь без дела? где я сумею вам услужить, если
не на войне? Благодаря этому искусству, я славился в своем оте-
честве, и, непобедимый в войне, я в мирное время был изгнан не-
благодарными согражданами» (V, 44, 1 — 2). К себе привлекает вни-
мание и Публий Сципион в речи перед битвой при Тицине (XX!,
40, 1 — 4). Exordium оратора иной раз относится непосредственно
к самому делу (principium ad re), как в речи Катона в защиту отме-
няемого Оппиева закона (XXXIV, 2, 1), а то и сразу к противни-
ку (principium ad adversariis), как в речи Сципиона к Фабию в
XXVIII, 43, 2.
В основной части речи проявляется искусство оратора воздей-
ствовать на слушателей достоверностью рассказа, поддерживаемого
силой убедительных доводов. Толику этой части составляют чаще
всего: honestum и utile, т. е. «честное» и «полезное». В первое вклю-
чается fas, justum, pium, aequum, т. е. «дозволенное», «благочес-
тивое», «законное», «справедливое»; во второе — facile, jucundum,
sine periculo, т. е. «легкое», «приятное», «безопасиое» и т. п.
Указанная толика совещательной речи ярко представлена в ар-
гументации Публия Сципиона и Ганнибала в их речах перед сраже-
нием при Тицине (XXI, 40 — 44). Обе они построены по одному пла-
ну: и в той и в другой полководцы стараются унизить войско про-
тивника, убедить своих воинов в легкости и выгодности победы;
в обеих речах обнаруживается почти идентичная толика: «легко»',
«возможно», «достойно», «необходимо», «полезно», «справедливо»
(facile, possibile, honeste, necessarium est, utile, aequum est).
Аргументация Сципиона делится на две части: в первой, более
краткой, желая поднять дух своих воинов, он обращает их внима-
ние на то, что враги уже побеждены и драться будут со свойственной
побежденным робостью; их мало, они изнурены переходом через
Альпы, холодом и голодом, изувечены и обессилены, это лишь
жалкие остатки прежнего врага, и победить его будет нетрудно;
во-второй, более подробной части Сципион говорит о своей искрен-
ности, о том, что искал битвы, но враги уклонились (Там же, 2 — 5),
что они уже были побеждены (Там же, 6 — 10), что они отплатили
римлянам неблагодарностью (Там же, 41, 11 — 13). Заключение речи
звучит темпераментным патриотическим призывом к воинам: «Вам
предстоит битва не за славу только, но и за существование отечест-
ва; вы будете сражаться не ради обладания Сицилией и Сардинией,
как некогда, но за Италию. Нет за нами другого войска, которое
могло бы, в случае нашего поражения, преградить путь неприяте-
лю; нет других Альп, которы могли бы задержать его и дать нам
время набрать новые войска. Здесь мы должны защищаться с та-
кою стойкостью, как будто сражаемся под стенами Рима. Пусть
каждый ив вас представит себе, что он обороняет не только себя,
но и жену, и малолетних детейпусть, не ограничиваясь этой домаш-
ней тревогой, постоянно напоминает себе, что взоры римского сена-
та и народа обращены на нас, что от нашей силы и доблести будет
зависеть судьба города Рима и римской державы» (Там же, 41,
1 — 17 — qualis nos га vis virtusque fuerit, talem deinde fortunam
illius urbis ac Romani imperii fore).
То же самое мы видим в речи Ганнибала, с которой он обращает-
ся к своим солдатам. Построенная по аналогичной схеме (вступле-
ние, развернутое увещание, заключение), она содержит те же самые
пункты, что и речь Сципиона: Ганнибал убеждает воинов, что сра-
жаться им придется с новобранцами, уже побежденными и осажден-
ными галлами и еще не знающими своего предводителя, и победить
их поэтому будет нетрудно, что победа сулит щедрую добычу и на-
граду (Там же, 43 — 44). Заключение речи также содержит призыв
сражаться и победить или же предпочесть смерть воинов смерти бе-
глецов: «Если вы твердо запечатлели в своих сердцах эти мои сло-
ва, если вы исполнены решимости следовать им, то, повторяю, по-
беда ваша: бессмертные боги не дали человеку более сильного и по-
бедоносного оружия, чем презрение к смерти» (Там же, 44, 8). Как
видим, заключение венчает сентенция: пи11ит contemptu vitae te-
!ит ad vincendum homini ab dis immortalibus acrius datum est.
Риторическим образцом совещательной речи считается выступ-
ление кампанского посла в сенате с просьбой об оказании помощи
кампанскому народу в самнитской войне (Vlf, 30, 1 — 35), в котором
с особенной наглядностью выступает вышеназванная топика. Во
вступлении обращалось внимание слушателей на то, что кампанцы
просят о помощи в тяжелых, а не в благоприятных обстоятельст-
вах, и поэтому ценить дружбу будут больше (Там же, 1 — 3). В ос-
новной части говорится о справедливом основании для дружбы—
принимать в число друзей всех желающих этого (Там же, 5), но
подчеркивается, что дружба с кампанцами полезна — они не усту-
пают ни одному городу ни по размерам, ни по плодородию полей
и за оказанную помощь всегда будут стоять за власть и славу рим-
лян (Там же, 6 — 2); далее говорится о том, что справедливо оказы-
вать помощь всем, но помощь кампанцам легка и выгодна: ~вам да-
же и не придется воевать... одна тень вашей помощи может защи-
тить нас, и затем все — наше достояние и самих себя — мы будем
считать вашим: для вас будут возделываться поля, для вас будет
густо заселен город сапун; вы будете у нас в числе основателей,
родителей, бессмертных богов; у вас не найдется ни одной колонии,
которая превзойдет нас послушанием и верностью по отношению
к вам» (Там же, 17 — 19).
В заключении содержится патетическое воззвание к сенаторам
о помощи, имеющее целью возбудить их чувство жалости и состра-
дания. Поток риторических вопросов, усиленных словесными
фигурами анафоры и антитезы, QTpbIBHcTocTblo è краткостью предло-
жений, создают живое, наглядное представление о тревожном ожи-
дании .кампанским народом результата переговоров: «Пусть, сена-
(67
торы, ваша воля и ваша непобедимая мощь будут за кампанцев
прикажите нам надеяться, что Капуя будет невредима. Какое мно-
жество народа всех сословий, думаете вы, провожало нас, когда
мы отправлялись? до какой степени все, что мы оставили, преиспол-
нено обетов и слез? в каком ожидании теперь сенат и народ кампан-
ский, жены и дети наши? Я уверен, что все население стоит у ворот
и смотрит на дорогу, ведущую отсюда. Какую же весть, сенаторы,
приказываете вы принести этим встревоженным и напрасно ожи-
дающим людям? один ответ означает спасение, победу, свет и. сво-
боду; что означает другой, я боюсь и выговорить. Итак, принимай-
те решение о нас как о ваших будущих союзниках и друзьях или
как о погибши~» (Там же, 20 — 23).
Подо6иые патетические заключения с сентенцией весьма харак-
терны для речей действующих лиц «Истории» Ливия. Назначение
их вполне определенно: не только воздействовать на чувства слу-
шателей, но и побудить их к соглашению с выдвинутым оратором
по тому или иному вопросу мнением. Так, Квинт Фабий Максим
говорит Луцию Эмилию Павлу в заключение своей речи: «советую,
чтобы твоими действиями руководила рассудочность, а не счастье;
пусть всегда будут в твоей власти ты и твои действия; будь выдер-
жан и внимателен, не упускай удобного для тебя случая и не да-
вай врагу воспользоваться удобным для него случаем», и далее
сопровождает совет поучительной сентенцией: «Тому, кто не спе-
шит, все будет ясно и верно, поспешность неосмотрительна и сле-
па» (omnia non properanti clara certaque erunt festinatio inprovida
est et саеса — XXII, 39, 21 — 22).
В заключительной части речи оратор нередко прибегал и к убеж-
дающей силе примеров (ехетр1а) '. Так, Цецилий Метелл, говоря
о необходимости восстановления согласия между вновь избранными,
враждующими цензорами, приводит в заключение речи полезный
исторический пример для подражания: «Тит Таций и Ромул соглас-
но царствовали в том городе, посреди которого они встретились
врагами в строю. Есть конец не только враждебным отношениям,
но и войнам: жестокие враги весьма часто делаются верными союз-
никами, а иногда даже и согражданами. Альбанцы по разрушении
Альбы переведены были в Рим, латиняне и сабиняне приняты в чис-
ло граждан. Известное изречение вследствие своей правильности
обратилось в пословицу: „дружба должна быть вечна, а вражда
преходяща"» (XI, 46, 6). В другом месте Сципион Африканский,
обращаясь к воинам а ободрительной речью и призывая их на но-
вую битву с пунийцами, на осаду Нового Карфагена, говорит, что
судьбою римлянам уделен тот жребий, чтобы побеждать врагов
после собственных поражений, и приводит в подтвврждение при-
меры поражений римлян в войнах с Порсеной, с галлами, с самни-
тами, с пунийцами, подчеркивая при этом, что даже «при таких
ударах судьбы стояла одна нетронутой и непоколебимой доблесть
римского народа. Она воздвигла и подняла все лежавшее во прахе»
(XXVI, 41, 11). Речь кончается патетическим призывом: «Ну же,
ветераны, переправляйте через Гибер новое войско с новым вож-
168
дем, ведите его в страны, которые часто вы обходили, совершая
много доблестных подвигов» (Там же, 23).
Искусство убеждать и в то же время действовать на чувства слу-
шателей особенно ощутимо в речи капуанского сенатора Вибия
Виррия, произнесенной накануне сдачи Капуи римлянам. Речь
исполнена отчаяния и горькой решимости лучше умереть, чем
сдаться.,Яоводы, приведенные оратором, вески и неопровержимы.
Прежде всего он напоминаетобобстоятельствахотпадения от Рима
капуанцев, о переходе их на сторону Ганнибала после его победы
при Каннах, о яростной ненависти к ним римлян, которые вправе
жестоко покарать их за измену и жаждут осуществить это. И да-
лее одна за другой эффектно следуют четыре антитезы, располо-
женные в порядке постепенного усиления (прием градации), кото-
рым еще большую выразительность придает яркое и образное срав-
нение римлян с дикими зверями:
«Ганнибал с огромным войском из пехоты и конницы напал на
их лагерь и частично овладел им. Но такая большая опасность
ничуть не отвлекла их от осады; направившись через Вультурн,
он опустошил пожарами область города Кал — не двинулись рим-
ляне от Капуи и ввиду столь великого бедствия своих союзников.
Ганнибал отдал приказание идти к самому городу Риму: они пре-
зрели и эту грозную невзгоду. По переправе через Аниен он распо-
ложился лагерем в 3000 шагах от города, наконец подошел к самым
ero стенам и воротам, дав понять римлянам, что отнимет у них Рим,
если они не оставят Капуи: они, однако, не оставили ее. диких
зверей, побуждаемых слепым инстинктом и яростью, было бы мож-
но заставить идти на помощь своим, если двинуться к их логови-
щам и детенышам; римлян же не заставили удалиться от Капуи
ни осажденный со всех сторон Рим, ни жены и дети их, жалобный
плач которых был слышен почти отсюда, ни оскорбление и пору-
гание алтарей, очагов, храмов богов, гробниц их предков. Так ве-
лико их желание покарать нас, так велика жажда их упиться на-
шей KpoBblo! И это может быть вполне справедливо с их стороны:
и мы ведь сделали бы то же самое, если бы к тому представился
счастливый случай. Поэтому, так как бессмертные боги судили ина-
че, я, которому ни в каком случае не должно отказываться от смер-
ти, могу, пока свободен, пока располагаю самим собой, избежать
своею смертью тех мучений и оскорблений, которые готовит мне
враг, смертью не только не позорной, но и легкой. Не увижу я
гордых небывалой победой Аппия Клавдия и Квинта Фульвия, и не
будут вести меня на показ всем в триумфе в оковах по городу Ри-
му, чтобы потом заключить в темницу, или чтобы я, привязанный
к столбу, с растерзанной от розог спиною, подставил под римский
топор свою шею. Не увижу я, как будут разрушать и жечь мой род-
ной город и влечь на позор кампанских матерей, дев и благородных
юношей. Римляне разрушили до основания Альбу, откуда проис-
ходили сами, чтобы изгладить память о своем роде и происхожде-
нии; тем менее я поверю тому, что они пощадят Капую, к кото-
рой относятся еще с большей ненавистью, чем к Карфагену.
г
7 т. и. Кузнецова, т. А. Миллер
!69
Итак, кто из вас намерен покориться определению рока рань-
ше, чем увидит стольких и таких горестных событий, для тех у мс-
ня сегодня устроен пир. Когда мы насытимся пищей и питьем, бу-
дут обносить кругом один и тот же кубок, который подадут мнс.
Напиток этот освободит тело от мучений, душу от оскорблений,
глаза и уши от того, чтобы видеть и слышать все тяжкое и позор-
ное, что ожидает побежденных. Будут наготове слуги, которые ра-
зожгут на площадке перед домом костер, чтобы бросить на него на-
ши бездыханные трупы. Это единственный и честный и невынуж-
денный путь к смерти. И сами враги удивятся нашей доблести,
и Ганнибал поймет, что он покинул и предал мужественных союз-
ников» (XXVI, 13, 10 — 19).
B начале следующей главы Ливий пишет о впечатлении, произ-
веденном этой речью: «Нашлось больше людей, выслушавших и
одобривших эту речь Виррия, чем таких, которые мужественно
могли привести в исполнение то, что одобрили. Большая часть сена-
та, полагаясь на то, что милосердие римского народа, неоднократно
испытанное во многих войнах, будет доступно и для них, решили
послать посольство для сдачи римлянам Капуи и отправили его.
За Вибием Виррием последовало в его дом приблизительно 27 сена-
торов».
Эффективность воздействия речи оратора на чувства присутст-
вующих в собрании Ливий показывает и в рассказе об обвинении
Сципиона Африканского народными трибунами в произвольном
расходовании средств, полученных после победы над Антиохом:
после выступления Сципиона все собрание отвернулось от обвини-
телей и отправилось вслед за ним на Капитолий (XXXVIII, 51,
10 и сл.).
В другом месте мы читаем, как после увещевательной речи пре-
тора ахеян Аристена о заключении союза с римлянами против Фи-
липпа в собрании произошел шум: «одни выражали одобрение,
другие сильно порицали сочувствующих, и уже не отдельные толь-
ко лица, но представители целых племен заспорили между собой»
(XXXII, 22, 1). Или: после речи Камилла в народном собрании
Ливий замечает, что он «произвел на народ весьма сильное впечат-
ление всей вообще своей речью, но в особенности той ее частью, ко-
торая затрагивала религиозные чувства» (V, 55, 1). И еще пример:
после речи Ганнибала в народном собрании следует ремарка: «Как
только Ганнибал заметил, что речь его выслушивается благосклон-
но... он тотчас предложил и провел закон» (XXXII, 46, 6).
Совещательные речи, как, впрочем, и судебные, чаще всего сое-
динены у Ливия в пары и даются в противопоставлении. В каждой
из антитетических речей оратор представляет свое истолкование со-
бытия или ситуации, используя обычно одни и те же доводы выгоды,
справедливости, чести для утверждения своего мнения. Например,
речи меция Мусы и Аппия Клавдия (Х, 7 — 8); речи Фурия и Эми-
лия и ответная речь Манлия (XXXVIII, 45 — 46 и 47 — 50); речи Ка-
тона и Луция Валерия (XXXIV, 2 — 4 и 5 — 7) в споре по вопросу
отмены Оппиева закона; речь Катона против отмены закона, огра-
й и
пичивающего роскошь для женщин, полна суровости и ожесточен-
ности, речь Валерия, за отмену закона, напротив, спокойна, сдер-
жанна, искусно аргументированна; речи Персея и Деметрия (XL,
!& t;-1 );Сципи н иГанниб ла(Х Х, 30 Ђ” 1 и
Рассмотрим несколько подробнее живо описанный Ливием дис-
пут в сенате между Фабием Кунктатором и Сципионом Африкан-
ским по вопросам военной стратегии, а именно о твердом намере-
нии Сципиона перенести войну с Ганнибалом в Африку (XXVIII,
40 — 45); Фабий настаивает на окончании войны в Италии, приводя
следующие доводы: это необходимо ради общего блага, ибо перепра-
иа в Африку будет трудной, а борьба с Ганнибалом в Африке среди
враждебных племен — тяжелой, римская казна истощена, земли
се будут открыты для врагов (Там же, 40 — 42). Сципион методично
опровергает эти доводы, выдвигая свои. Он подчеркивает, что война
и Африке не опаснее войны в Испании: «Или теперь в Африке боль-
ше войск, больше полководцев и они лучше, чем тогда были в Ис-
пании? Или возраст мой был более зрел для ведения войны, чем
теперь? Или с карфагенянами удобнее вести войну в Испании, чем
в Африке?» (XXVIII, 43, 13 — 14).
После этой серии риторических вопросов, усиленных анафорой,
следует уверение в том, что переправа через морс не так опасна, и в
противовес примеру Фабия об афинянах, которые, оставив войну
в Аттике, безрассудно отправились в Сицилию, Сципион приводит
свой: «почему же, раз есть время рассказывать греческие басни, ты
пе говоришь скорее о том, как Агафокл, сиракузский царь, пере-
правился в ту же самую Африку, когда Сицилию так долго угнета-
ла война с пунийцами, и этой мерой перенес войну туда, откуда она
появилась» (Там же, 20 — 21).
Яалее Сципион говорит, что перенесение войны в Африку выгод-
но для поднятия духа граждан и не будет в ущерб отечеству. «Но
какая нужда доказывать отдаленными по времени и чужеземными
примерами, какое значение имеет, сам ли наводишь страх на не-
приятеля и, отклонив от себя опасность, доводишь другого до кри-
тического положения? Может ли быть какой-нибудь пример более
веский и более наглядный, чем сам Ганнибал? Большая разница,
опустошаешь ли чужие земли, или видишь, как твои жгут и опус-
тошают; больше отваги бывает у того, кто причиняет опасность, чем
у того, кто ее отражает. К тому же неизвестное наводит больший страх,
сильные и слабые стороны врагов ты можешь увидеть на близком
расстоянии, проникнув в их пределы. Не надеялся Ганнибал на то,
что на его сторону в Италии перейдет столько народов, сколько пе-
решло после поражения при Каннах. Насколько менее крепко и ус-
тойчиво все в Африке у карфагенян, ненадежных союзников, су-
ровых и гордых повелителей? Притом, даже покинутые союзника-
ми, мы держались нашими силами — римскими воинами; у карфа-
генян же вовсе нет войска, состоящего из граждан, у них лишь наем-
ные воины, африканцы и нумидийцы, в высшей степени склонные
по своему характеру к измене» (Там же, 44, 1 — 5).
Следующий довод Сципиона — честь государства требует насту-
!71
7б
пательной войны: «Если бы, клянусь Геркулесом, при том способе,
который я предлагаю, война кончилась ничуть не скорее, то все-та-
ки в интересах достоинства римского народа и прославления его
среди царей и иноземных племен важно показать, что у нас хватает
духа не только защищать Италию, но даже нанести войну Африке;
пусть они не думают и не говорят, что ни один римский предводи-
тель не осмеливается на то, на что дерзнул Ганнибал... Пусть, на-
конец, отдохнет так долго страдавшая Италия и пусть в свою оче-
редь будет предана пожарам и опустошению Африка, пусть на нее
обратятся ужас и бегство, опустошение полей, отпадение союзни-
ков и остальные бедствия войны, которые обрушивались на нас
в течение четырнадцати лет» (Там же, 12 — 15).
В обеих речах, Фабия и Сципиона, искусно используются сти-
листические фигуры: пример, анафора, риторический вопрос, срав-
нение, сентенция и др. Вокруг этих двух антитетических речей Ли-
вий строит свой рассказ о диспуте в сенате, не забывая при этом
обратить внимание читателей на реакцию присутствующих на соб-
рании — их настороженность, сомнение или их одобрение доводов
того и другого оратора. Так, после речи Фабия отмечается, что она
«произвела глубокое впечатление на значительную часть сената,
и особенно на старейших его членов, и большее число лиц восхва-
ляло план старца, а не отвагу юноши» (Там же, 43, 1); после речи
Сципиона мы читаем: «Менее спокойно была выслушана речь Сци-
пиона, так как известно было, что, если он не добьется от сената
назначения ему провинции Африки, то сейчас же внесет этот вопрос
на решение народа» (Там же, 45, 1):
Приведенные примеры показывают, как умело вплетает Ливий
в историческое повествование речи действующих лиц, оживляя
и разнообразя его этим, как тесно связаны речи с теми, к кому они
обращены. Кроме того, Ливий дает описание обстановки, в которой
произносится речь, и после приведения ее отмечает, каково было
ее воздействие на слушателей. Ремарки такого рода обеспечивали
плавность перехода к последующему рассказу. Так, например, пос-
ле речи Ганнибала, призывающего воинов к походу на Рим, Ливий
пишет: «Убедившись, что воины воодушевлены этим обращением,
Ганнибал велит им отдохнуть некоторое время, а затем готовиться
в путь» (XXI, 31, 1). Далее идет уже описание самого похода.
Заслуживает внимания как замечательный образец ораторского
дарования Ливия диалог Ганнибала и Сципиона Африканского,
«этих величайших вождей не только своего времени, но и всех
предшествующих веков», состоявшийся накануне битвы при Заме
(ХХХ, 30 — 31). Возьмем речь Ганнибала; если у Полибия она пред-
ставляет всего лишь краткое невыразительное изложение доводов,
то у Ливия перед читателем возникает образ живого, уже немолодо-
го полководца, привыкшего побеждать, но сознающего, что пора-
жение неминуемо, что счастье изменяет ему; он дает молодому Сци-
пиону советы, напоминая о превратностях судьбы, о том, что сам
некогда стоял перед стенами Рима, как теперь римляне стоят перед
Карфагеном (Там же, 30, 3).
l72
Эга речь построена, как и все увещательные речи, по схеме:
exordium, tractatio, peroratio. Во введении Ганнибал старается
снискать себе сочувствие. В основной части он с горечью и ощуще-
нием неотвратимости краха рассуждает о том, что победа не воз-
награждает за огромные потери, и советует Сципиону не доверять
изменчивому счастью, приводя пример его непостоянства в сопро-
вождении сентенции: «Всякому счастью, чем оно больше, тем ме-
нее следует верить» (maxime cuique fortunae minime credendum
est — Там же, 18). Яалее он развертывает доводы за то, как почет-
но и славно (атр1а ас speciosa) для Сципиона даровать мир, а для
него не столько почетно, сколько необходимо просить его (magis
necessaria quam honesta), ибо «лучше и безопаснее верный мир, чем
ожидаемая победа» (melior tutiorque est certa pax quam sperata
victoria — Там же, 19), и «нигде менее, чем в войне, исход соот-
ветствует надежде» (nusquam minus quam in bello ad spem even-
tus respondent). Он вновь советует Сципиону не подвергать
риску многолетнее счастье, ибо «счастье одного часа может низ-
вергнуть одновременно славу приобретенную и ту, на которую бы-
ла надежда» (simul parta ac sperata decora unius horae fortuna ever-
tere potest — Там же, 21). В подтверждение он приводит пример
с Атилием, который, «не устанавливая меры счастья, не сдерживая
судьбы, горячившейся подобно невзнузданному коню, тем позорнее
пал, чем выше поднялся» (Там же, 23). В заключение Ганнибал
с достоинством подчеркивает, что мира просит он сам, находя его
полезным для всех, и в этом гарантия его сохранности. Приведение
доводов с предостерегающими и поучительными примерами, анти-
тезами и сентенциями способствовало достижению нужного эф-
фекта.
Примером судебного красноречия в «Истории» Ливия могут слу-
жить речи Персея и Деметрия перед их отцом Филиппом V Маке-
донским в XL, 9 — 15. Сцена начинается с ложного обвинения Пер-
сеем Яеметрия в покушении на него и в попытке завладеть царст.-
вом. Филипп, с изумлением и трепетом выслушав Персея, зовет
Яеметрия и в качестве свидетелей своих друзей и произносит речь,
полную горечи и гнева, в которой говорит, что давно уже опасался
безрассудной вражды братьев и тщетно пытался унять ее наставле-
ниями и примерами, что для них нет ничего святого — все заглу-
шило ненасытное желание царской власти; но он готов выслушать
обоих: «Ну же, оскверняйте своими жалобами отцовские уши,
вступите в борьбу, сначала обвиняя друг друга на словах, чтобы
вслед за тем взяться за мечи! Заявите открыто все, что можете за-
явить справедливого или что хотите выдумать. Я готов выслушать
вас, а после этого отказываюсь слушать ваши тайные доносы друг
на друга» (XL, 8).
Прежде чем дать слово Персею и Яеметрию Ливий пишет: «Ког-
да Филипп в страшном гневе окончил речь, у присутствующих на-
вернулись слезы на глазах и все долго хранили молчание». Заме-
тим, кстати, что ремарка о молчании присутствующих у Ливия не
случайна. Это особый прием драматической техники, усиливающий
173
эпизод и создающий определенное настроение: враждебности, на-
стороженности, изумления, сочувствия (как после речи Филиппа
и далее после речи Персея) ". Следующие за речью Филиппа прост-
ранные речи обвинения и защиты построены Ливнем в соответствии
со схемой, рекомендуемой теоретиками для судебного красноречия
(см.: «Риторика для Геренния», 111, 4, 7).
Речь Персея начинается со вступления (exordium), в котором
он упрекает отца в недоверии его словам, затем идет повествование
об обстоятельствах дела (narratio) и истолкование фактов, подкреп-
ляемое доводами (probatio): Персей говорит о мотивах Деметрия,
о его стремлении завладеть царством, требует в свидетели его това-
рищей; наконец, в заключение (peroratio) он обращается с увеща-
нием к Филиппу покарать Деметрия за попытку братоубийства.
Предваряя ответную речь Яеметрия, Ливий с целью насыщения
эпизода драматизмом пишет: «Когда Персей окончил свою речь,
все присутствующие обратили взоры на Деметрия, ожидая, что он
сейчас же будет отвечать; но наступило продолжительное молчание,
так как все видели, что он от слез не может говорить. Наконец,
когда заставили его говорить, он по необходимости подавил горе
и начал такую речь» (Там же, 12).
Пространная речь Деметрия также начинается вступлением,
в котором он обращается к отцу с жалобой на козни Персея, а бра-
та предупреждает о своем намерении доказать ложность его обви-
нения. Затем, в главной части, он пункт за пунктом опровергает
выдвинутое против него обвинение (refutatio); в заключение стре-
мится вызвать к себе сострадание (commiseratio), обращая внима-
ние на то, что вынужден защищаться сам, не имея ни защитника,
ни времени на подготовку речи, тогда как речь Персея обдумана
и подготовлена заранее: «Ошеломленный внезапной и неожиданной
бедой, я едва мог понять, в чем меня обвиняют, не говоря уже о
том, чтобы мне хорошо обдумать, как вести защиту. Мне не на что
было бы надеяться, если бы моим судьею был не отец; хотя он и лю-
бит меня меньше, чем старшего брата, но, будучи подсудимым, я,
конечно, имею право рассчитывать не на меньшее сострадание.
Я прошу пощадить меня и для себя и для тебя, он же требует моей
казни ради собственного спокойствия. Как же ты думаешь посту-
пит он со мной, когда ты передашь ему царство, если он теперь уже
находит справедливым, чтобы ему предоставили мою кровь?» (Там
же, 15). Яалее следует ремарка Ливия: «При этих словах слезы ста-
ли душить его и прервали его голос... всем было ясно, что обвине-
ние во вчерашнем преступном замысле легко опровергнуто» (Там
же, 16, 1 — 3).
Торжественный род красноречия встречается у Ливия совсем
редко. Нрнмером его может служить речь консула Эмилия Павла
в народном собрании после своего триумфа и после смерти двух
сыновей, когда он отчитывается в своих военных действиях (XLV,
41); или благодарственная речь Риму и его полководцам, Сципио-
нам, произнесенная сагунтинским послом в сенате (XXVI I I, 39, 2 — 6)
за помощь Сагунту, за возвращение города из рабства: «Мы видим
174
разрушенным город тех людей, в угоду которым Ганнибал разру-
шил Сагунт; с их земель мы получаем подать, которая приятна
нам не столько по приносимой ею выгоде, сколько потому, что удов-
летворяет нашу жажду мщения. За все это, более чего мы не могли
бы ни ждать, ни желать от бессмертных богов, благодарить вас по-
слал нас, десять послов, сагунтинский совет и народ, а вместе с тем
поздравить вас, что за эти десять лет вы с большим успехом вели
свои дела в Испании оружием, вы владеете ей не до реки Гибера,
~«до крайних пределов, омываемых океаном, и в Италии вы оста-
BHzn пунийцу лишь столько места, сколько охватывает вал его ла-
геря. Нам приказано не только вознести благодарность за это все-
благому и всемогущему Юпитеру, охранителю Капитолия, но так-
же, если вы позволите, принести в Капитолий в память победы вот
этот дар — золотую корону. Мы просим у вас позволения на это
и просим о том, чтобы вы, если соизволите, вашим решением утвер-
дили и увековечили те блага, которые доставили нам ваши главно-
командующие».
Речи действующих лиц «Истории» Ливия, как видим, в доста-
точной степени насыщены патетикой. Не случайно Квинтилиан пи-
сал о совещательных речах, что в сенате они требуют более возвы-
шенного красноречия, в народном собрании — более взволнован-
Норо (VIII, 3, 14), что как раз и соответствует речам этого типа у
Ливия. Многие речи его героев пронизаны драматизмом. Отчаяние
слышится в словах Ганнибала, когда послы из Карфагена отзывают
его в Африку: «Со скрежетом зубов, со вздохами, едва сдерживая
слезы, выслушал, говорят, Ганнибал слова послов. Когда они из-
ложили ему то, что им было поручено, он сказал: „теперь уже не
обиняками, а открыто зовут меня назад те, которые уже давно пы-
тались удалить меня отсюда, отказывая в присылке подкреплений
и денег. Итак, победил Ганнибала не народ римский, столько раз
битый им и обращенный в бегство, но карфагенский сенат своим
противодействием и завистью. И это мое позорное возвращение вы-
зовет не такое ликование и похвальбу со стороны Сципиона, как
со стороны Ганнона, который за невозможностью найти другие
средства, погубил наш дом, уничтожив Карфаген" » (ХХХ, 20, 1 — 4).
Драматичны последние слова карфагенского полководца, когда
он принимает яд, не желая быть пленником римлян. В них — го-
речь побежденного и осуждающая победителей ироничность: «Ос-
вободим римлян от их давнишней заботы, так как им не терпится
ждать смерти старика. Победа, которую Фламинин одержит над
безоружным и изменнически преданным врагом, не будет ни важна,
ни славна. А насколько переменились нравы римского народа, до-
казательством может служить хотя бы этот день: отцы их преду-
преждали царя Пирра, вооруженного неприятеля, стоявшего лаге-
рем в Италии, беречься отравы; теперешние же римляне отправили
бывшего консула послом побудить Прусию вероломно убить гос-
тя» (ХХХ!Х, 51, 9).
Речам, взятым у анналистов или у Полибия, Ливий придавал
литературный аспект, сообразно с излагаемыми обстоятельствами,
175
то патетикой и драматизацией стиля, то уменьшением или распро-
странением их объема, то сведением нескольких речей в одну, то
соразмерением длины двух антитетических речей ".
Художественно обработанные Ливием речи, образные, эмоцио-
нальные, яркие, несомненно облегчали восприятие их и произво-
дили на читателя большее впечатление, чем сухие рассказы его
предшественников, анналистов, на идентичную тему. Ливий пре-
вращал лаконичный рассказ то в красочную речь, то в живой диа-
лог персонажей, осуществляя на практике цицероновскую концеп-
цию истории как «произведения в высшей степени ораторского».
Так, рассказ Полибия о переходе Ганнибала через Альпы и его
размышления об этом (111, 51, 4 — 6) Ливий обратил в риторически
оснащенную речь Ганнибала к своим воинам, в которой он то сты-
дит их, то ободряет, стараясь воздействовать на них такими дово-
дами:
«Какой странный ужас,— сказал он,— объял внезапно ваши
неустрашимые доселе сердца? Не вы ли сплошными победами оз-
наменовали свою долголетнюю службу и не раньше покинули Ис-
панию, чем подчинили власти Карфагена все народы и земли, кото-
рые лежат между обоими морями? Не вы ли, негодуя на римлян за
их требование, чтобы все те, кто осаждал Сагунт, были выданы им
как преступники, перешли Гибер, чтобы уничтожить самое их имя
и вернуть свободу земному кругу? И никому из вас не казался тог-
да слишком долгим задуманный путь от заката солнца до его вос-
хода; теперь же, когда большая часть дороги уже за вами, когда
вы перешли лесистые ущелья Пиренеев среди занимающих их ди-
ких народов, когда вы переправились через широкий Родан, одо-
лев сопротивление стольких тысяч галлов и течение самой реки;
когда перед вашими глазами возвышаются Альпы, другой склон
которых именуется уже Италией,— теперь вы в изнеможении ос-
танавливаетесь у самых ворот неприятельской земли? Яа что же
Альпы, по-вашему, как не высокие горы? Допустим, что они выше
Пиренейского холма; но нет, конечно, такой земли, которая бы упи-
ралась в небо и была бы непроходимой для человеческого рода. Аль-
пы же населены людьми, возделываются ими, рождают животных
и доставляют им корм; вот эти самые послы, которых вы види-
те,— не на крыльях же они поднялись на воздух, чтобы пролететь
через Альпы. доступны они небольшому числу людей — будут
доступны и войскам. Предки этих послов были не исконными жите-
лями Италии, а пришельцами; не раз переходили они эти самые Аль-
пы громадными толпами с женами и детьми, как это делают пере-
селенцы, и не подверглись никакой опасности. Неужели же для
воина, у которого ничего с собою нет, кроме оружия, могут быть
непроходимые и непреодолимые места? Сколько опасностей, сколько
труда перенесли вы в продолжение восьми месяцев, чтобы взять
Сагунт! Возможно ли, чтобы теперь, когда цель вашего похода—
Рим, столица мира, какая бы то ни было местность казалась вам
слишком дикой и слишком крутой и заставила вас остановиться?
А некогда ведь галлы завладели тем городом, к которому вы, пу-
нийцы, не считаете возможным даже подойти. Выбирайте поэтому
одно из двух: или сознайтесь, что вы уступаете отвагой и доблестью
тому племени, которое вы столько раз в это последнее время побеж-
дали, или же вдохновитесь решимостью признать поход кончен-
ным не раньше, чем вы будете стоять на той равнине, что между
Тибром и стенами Рима1» (XXI, 30). Здесь мы видим и антитезы,
и риторические вопросы, и примеры, и анафору.
Можно сравнить короткий рассказ Полибия о решении Тиберия
Семпрония дать Ганнибалу решительный бой при Требии, несмотря
на несогласие второго консула, Корнелия Сципиона, с рассказом
об этом у Ливия, оживленным увещательной речью Семпрония, так-
же исполненной пафоса (Полибий, III, 70, 1; Ливий, XXI, 53, 2)
и др. Вот, например, сообщение Полибия о смерти консула Луция
Эмилия: «В это самое время пал в схватке тяжело раненный Луций
Эмилий, человек всегда, до последней минуты, честно служившии
отечеству» (III, 116, 9).
У Ливия эти несколько строк превратились в драматический рас-
сказ-разговор консула с военным трибуном Гнеем Корнелием Лен-
тулом. Смертельно раненный Эмилий предпочитает умереть, но не
бежать с поля сражения; проезжающий верхом мимо окровавлен-
ного консула, Гней Лентул сказал: «боги должны были бы позабо-
титься о тебе, Луций Эмилий, так как ты один только неповинен
в сегодняшнем поражении; возьми моего коня, пока у тебя есть
еще сколько-нибудь сил, и я, сопровождая тебя, могу поддержать
и защитить тебя. Не допусти, чтобы это сражение было еще омраче-
но смертью консула: и без того достаточно слез и горя». На это кон-
сул ответил: «Хвала тебе, Гней Корнелий, за твою доблесть; но в на-
прасном сострадании не потеряй того ничтожно малого времени,
которое остается тебе, чтобы уйти из рук врагов! Иди, возвести се-
наторам всенародно, пусть они укрепляют город Рим и обезопасят
его гарнизонами прежде, чем придет победоносный враг, а в част-
ности, Квинту Фабию передай, что Эмилий и жил и умирает, помня
его наставления "; мне же позволь умереть среди этих моих павших
воинов, чтобы мне не пришлось из консулов стать снова обвиняе-
мым, или же явиться обвинителем товарища, чтобы обвинением
другого прикрыть свою невинность». Пока они вели этот разговор,
сначала нахлынула толпа бегущих сограждан, потом враги: они за-
сыпали консула стрелами, не зная, кто он, а Лентула среди замеша-
тельства унес конь» (XXII, 49, 6 — 12).
А если сравнить речи Ганнибала и Публия Сципиона (отца Сци-
пиона Африканского) перед солдатами у Полибия (III, 62 — 64)
и у Ливия (XXI, 40 — 44), то можно заметить, что у Полибия речи
этих полководцев кратки, но речь Сципиона несколько короче;
Ганнибал говорит первым, и слова его передаются в косвенной фор-
ме (oratio оЬ1щиа). Это скорее рассказ о речи, чем сама речь. Слова
Сципиона передаются частично косвенной речью, частично прямой
(oratio recta), вперемежку. У Ливия после переработки обе речи
стали одинаковыми по размеру за счет распространения речи Сци-
пиона. Кроме того, у него изменился порядок речей: первой поме-
177
щена речь Сципиона, по-видимому, для большей гладкости перехо-
да от предыдущей главы, где говорится о том, что Сципион распо-
ложился лагерем на берегу Тицина и счел нужным перед битвой
обратиться к войску с ободряющим словом (Там же, 39, 10).
В других местах речь, данную Полибием в косвенной, предпо-
читаемой им форме, Ливий обращает в прямую (например, ответ
Сципиона Гераклиду, послу Антиоха,— Полибий, XXI, 5 и 16;
Ливий, XXXVII, 36); речь Филиппа в сцене свидания с М. Эми-
лием, переданную Полибием то в прямой, то в косвенной форме,
Ливий делает только прямой (Полибий, XVI, 34; Ливий, ХХХ,
18, 4). То же самое в сцене переговоров Квинкция Фламинина и со-
юзников с Филиппом речи того и другого переданы Полибием в
косвенной форме (XVIII, 1, 6 — 14), Ливием — в прямой (XXXII,
32, 12 и сл.).
Вот этот диалог: Квинкций говорит Филиппу, стоящему на ко-
рабле: «Удобнее бы было, если бы ты вышел на берег и мы вблизи
поочередно говорили бы и слушали друг друга». Когда же царь от-
казался сделать это, Квинкций спросил: «Кого, наконец, ты боишь-
ся?» На это тот с гордостью и по-царски ответил: «Я никого не боюсь,
кроме бессмертных богов, но я не всем доверяю из тех, кого вижу
около тебя, а менее всего этолийцам». Римский полководец ответил:
«Эта опасность одинакова для всех, кто вступает в переговоры с не-
приятелем, если не оказывать доверия». «„ Однако, Квинкций,—
сказал царь,— в случае обмана не одинаковую награду за веролом-
ство представляют собой Филипп и Феней; ведь не так трудно это-
лийцам найти другого претора, как македонянам поставить царя
на мое место". После этого наступило молчание».
А если сравнить рассказ Ливия о выступлении Сципиона Афри-
канского на вышеупомянутом процессе с рассказом об этом же Ва-
лерия Анциата, сохраненном Авлом Геллием, то явственно обозна-
чится та «молочная полнота», о которой говорил Квинтилиан (Х,
1, 32), периодичность, стилистическая гладкость Ливиего изложе-
ния, симметрическое распространение образов. Вот речь Сципиона
у Валерия Анциата, послужившая источником Ливию: «Напоми-
наю, квириты, что сегодняшний день есть тот, в который я победил
пунийца Ганнибала, опаснейшего врага вашей державы, в великой
битве на африканской земле и подарил вам мир и победу сверх вся-
ких надежд. Стало быть, не будем же неблагодарны к богам, но, по
моему мнению, должно оставить этого мошенника и пойдем тотчас
возблагодарить Юпитера Благого и Величайшего» (Геллий, IV, 18, 3).
А вот та же речь в обработке Ливия: «В этот день, граждане
трибуны, и вы, квириты, в этот день я свел знамена в Африке с Ган-
нибалом и карфагенянами и бился с ними счастливо и благополуч-
но. Вот почему недостойно заниматься сегодня прениями и пре-
реканиями, я же тотчас отсюда последую на Капитолий почтить
Юпитера Благого и Величайшего, Юнону и Минерву, равно как и
иных богов, что блюдут Капитолий и его твердыню,.и принесу им
благодарение за то, что и в этот день, и в другие дни не раз дарова-
ли мне они дух и силы с честию служить отечеству. А вы, квириты,
178
кто может, ступайте за мной и молите богов, чтобы дали вам вож-
дей, подобных мне: ибо если вы неизменно воздаете почет моим се-
динам вот уже семнадцать лет, то я упредил этот почет моими дея-
ниями» (XXXVIII, 51, 10 и сл.)'~.
Ливий одинаково искусно пользуется и прямой и косвенной
формой передачи речей действующих лиц. Порой он смешивает их,
сочетая в разных пропорциях в зависимости от содержания, что
также создает стилистические варианты и тем разнообразит моно-
тонность, свойственную историческому повествованию, делает его
увлекательным и живым (см., например, речь Ганнона в XXI, 10,
3 — 13 и др.) 14.
Непрямая речь обычно дается без прикрас, как краткое изло-
жение главной мысли и намерения говорящего, как выражение пуб-
личных чувств или мнений, высказанных в сенате. Она воспроиз-
водит лишь суть сказанного. Например, Ливий передает мнение и
слова Фабия Максима по поводу отъезда Ганнибала из Италии, вы-
раженные в косвенной форме (ХХХ, 28, 1 — 7). В другом месте мы
читаем о том, как консул Квинкций на просьбу эпиротов сохранить
с ними дружественные отношения «ответил, что не знает еще, счи-
тать ли их в числе врагов или в числе заключивших мир, это рассу-
дит сенат, а он дело их целиком отошлет в Рим и для этого даст им
перемирие на 90 дней» (XXXVI, 35, 9 — 10; ср. XXXVIII, 20, 8
и др.)
Непрямая речь использовалась и там, где не нужно было харак-
теризовать говорящего с помощью речи, а лишь передать его сооб-
ражения: «Сам главнокомандующий, помимо того что видел себя
покинутым союзниками, а войска врагов так сильно увеличивши-
мися, руководясь сверх того догадками и соображениями, скорее
был склонен предполагать, что понесено поражение, чем надеяться
на что-нибудь хорошее: как иначе, если не покончив свою войну,
Газдрубал и Магон могли без боя привести войска? как же это брат
не воспротивился или не последовал с тылу, чтобы по крайней мере
самому соединиться с братом, если он не мог помешать соединению
неприятельских вождей и их армий? Озабоченный этим, он считал
для себя в данный момент спасительной одну только меру — от-
ступить оттуда, если будет возможно» (XXV, 35, 7 — 10). С по-
мощью непрямой речи Ливий описывал чувства и думы массы лю-
дей, например ужас римлян при известии о поражении их войска
в битве при Требии: «„Вот-вот,— думали римляне,— появятся зна-
мена врага, приближающегося к городу Риму, и нет надежды, нет
помощи, нег возможности спасти от его натиска ворота и стены сто-
лицы. Когда один консул был побежден на Тицине, мы могли ото-
звать другого из Сицилии. Теперь оба консула, оба консульских
войска разбиты; откуда взять других предводителей, другие легио-
ны?" Так рассуждали они в испуге...» (XXI, 57, 1 — 2).
Что касается прямой речи, то, как мы уже отмечали, она выпол-
няет определенные литературные функции: во-первых, характери-
зует говорящего и отражает его психологическое состояние и на-
правление его мыслей; во-вторых, иллюстрирует, оживляет, разно-
179
образит и украшает общий стиль повествования ". Умелое приме-
нение литературных приемов придает речам персонажей «Истории»
художественность и помогает выразить смысловой накал и остроту
конфликта, захватывающих читателя. Заметим, однако, что язык
и слог речей почти одинаков — за ними стоит сам Ливий со своей
стилистической и языковой индивидуальностью писателя времени
Августа, а не язык его персонажей — людей разных эпох, нацио-
нальностей и социальной принадлежности. Каков же стиль Ливия
и каковы особенности его языка? Ограничимся здесь самым глав-
ным, поскольку подробное изложение этого вопроса составило бы
тему сугубо специального исследования.
СТИЛЬ ЛИВИЯ
Стиль Ливия как нельзя лучше согласуется со словами Цицерона:
«Чей голос, кроме голоса оратора, способен обессмертить историю?»
(«Об ораторе», 11, 9, 36) — и вполне отвечает его требованиям к ис-
тории: «Изложение здесь обычно пышное, то и дело описываются
местности и битвы, иной раз даже вставляются речи» («Оратор»,
20, 66). Ливий следовал Цицерону, считая его образцом прозаи-
ческого стиля, и советовал своему сыну читать его в первую очередь
наряду с Яемосфеном (Квинтилиан, Х, 1, 31). Наделенный оратор-
ским даром, он проявлял его в искусном построении и художест-
венной обработке материала источника, в придании разнообразия
говествованию описанием, портретом, речью, в умеренном и умест-
ном украшении его стилистическими средствами. Эти достоинства
исторического сочинения близки к темтребованиям, которые предь-
являл ему Цицерон («Об ораторе», II, 15, 62).
Стиль «Истории» Ливия выдержан соответственно ее конкретно-
му содержанию: в анналистических частях, с их сообщениями о вы-
борах магистратов, об отъезде консулов в провинции, об объявле-
нии войны, о добытых трофеях и т. п., он сух и лаконичен (напри-
мер: «Затем консулами стали Марк Валерий и Спурий Вергиний.
В Риме и вне его был мир. Страдали только от неурожая вследст-
вие чрезмерных дождей. Внесено было предложение о наделе обще-
ства землей на Авентинском холме. Снова избрали тех же самых
трибуно⻠— III, 31, 1); в сюжетных рассказах, простых или слож-
ных, в речах и экскурсах стиль риторически окрашен: он разме-
рен и плавен в повествовательных частях, эмоционален и патети-
чен — в драматических.
В более распространенных рассказах Ливий применяет периоди-
ческую структуру, чередует краткие фразы с пространными с при-
даточными предложениями и деепричастными оборотами. Эту струк-
туру можно видать в приведенном выше рассказе о священных
гусях Юноны, спасших своим криком Капитолий от захвата его гал-
лами (V, 47, 1 — 6). Эпизод начинается коротким вступлением, за
которым следует типичный период — рассказ о попытке галлов за-
хватить Капитолий в сложноподчиненном распространенном пред-
ложении: после этого — кульминация, выраженная простым пред-
180
ложением, — крик гусей будит Манлия; затем снова период — Ман-
лий с товарищами защищает Капитолий, и, наконец, краткое,
в простом предложении, заключение — атака отбита. Эпизод со-
ставлен способом чередования описания действий атакующих Ка-
питолий и защитников его.
Примерами периодической структуры могут служить рассказы:
о битве военного трибуна Манлия Торквата с галлом (VII, 26, 1 — 5),
текст которого в два раза длиннее сухого рассказа источника, Клав-
дия Квадригария (см. у Авла Геллия, IX, 13, 4 и сл.); о выступлении
Сципиона на судебном процессе (XXXVIII, 51, 7 — 9; ср. рассказ
Валерия Анциата у Авла Геллия, IV, 11); предание о Ромуле и Ре-
ме, спасенных волчицей (I, 4, 4 — 7); эпизоды морских сражений
(XXXVI, 44; XXXVII, 23, 7) и др. '
Квинтилиан назвал этот пространный и плавный, обильный
периодами стиль «молочной полнотой» (lactea ubertas — Х, 1, 2).
Правда, построение периодов у Ливия тяжелее, чем у Цицерона,
встречается несогласованность частей и невыдержанность конст-
рукции.
Исследователями отмечается склонность Ливия к поэтизации
речи, к использованию способов возвышения прозаического языка,
к введению слов и оборотов, присущих языку поэзии (например,
cupido вместо cupiditas — I, 23, 7; ignes вместо fulmina — XXI,
58, 4 и др.). Особенно это заметно в первых пяти книгах «Истории»
(см., например, рассказы о похищении сабинянок — I, 12 — 13;
о битве Куриациев и Горациев — I, 25; о битве Фабиев с этрусска-
ми — II, 45 — 46; о диалоге Кориолана с матерью — II, 40, 4 — 9 и
др.). Отдаленность времен, затемненность событий допускали эпи-
ческий тон и поэтический колорит. Вполне возможно, что для пер-
вой декады Ливий использовал эпос Энния, если и не прямо, то
через анналистические источники; и там, где содержание составля-
ло полулегендарное прошлое, он представлял свою «Историю» как
прозаический эпос, в высокой поэтической манере'. Ученые на-
ходят черты сходства Ливия и Вергилия, сближения с Лукрецием,
следы знакомства с Горацием и Тибуллом '.
Наряду с поэтизмами у Ливия встречаются архаизмы, идущие,
по-видимому, от анналистов (например, tempestas в смысле tem-
pus — Х, 11, 9; duellum вместо bellum — XXIX, 27, 3 и др.); нео-
логизмы и употребление старых слов в новом значении; а также эле-
менты стиля разговорного («Сульпиций: .. сказал... „Оставим-ка
околичности; выбирайте одно из двух условий..." — „Но мы не хо-
тим..." — возразил Менипп» вЂ” XXX IV, 59, 1 — 3).
С течением повествования стиль «Истории» постепенно меняется
от поэтического к более обычной прозе. Если в третьей декаде еще
ощущается характер эпического величия и форма ее отвечает содер-
жанию, то в четвертой и пятой декадах форма явно уступает содер-
жанию — плавность изложения и риторическая отделанность ста-
новятся менее тщательными и изящными.
Благодаря дару поэтического воображения, Ливий с такой жи-
востью изображал события далекого прошлого, словно был Нх
181
очевидцем. В достижении жизненности и патетичности изложения
ему помогали и риторская выучка, умение искусно применять сти-
листические средства: тропы (метафора, гипербола, метонимия и
др.), фигуры мысли (восклицания, обращения, вопросы, иронияи
др.), фигуры слова (анафора, асиндетон, аллитерация, хиазм и
др.). Уместное и ненавязчивое использование этих фигур помогало
аргументации писателя и привлекало внимание читателя. Ливию
не изменяет здесь чувство меры и литературный вкус — ведь рито-
рика была для него не самоцелью, а средством воздействия и убеж-
дения. Приведем лишь самое небольшое число примеров использо-
вания Ливнем фигур и трапов, но и они могут дать некоторое пред-
ставление о стиле его «Истории».
В речах действующих лиц часты обращения: patres conscripti
(отцы-сенаторы — VII, 30, 9 и 20; XXV, 6, 5) pater deum homini-
umque (ты, отец богов и людей — I, 12, 5); восклицания: mehercule
(клянусь Геркулесом — XXVIII, 44, 12), pro deum fidem (во имя
богов — 111, 67, 6), dictu mirabile (удивительное дело — VII, 26, 5)
и т. п. В изобилии встречаются и риторические вопросы, которые
ставятся так искусно, что предполагаемый ответ успешно служит
утверждению мнения говорящего. Используются они Ливнем с боль-
шим разнообразием для выражения гнева, возмущения, удивления
и т. д. Иронией, например, звучит вопрос Сципиона к войску: «Или
вы, быть может, думаете, что те самые, кто уклонялся от боя тогда,
когда войско было еще невредимо, теперь, после того, как две трети
их пехоты и конницы погибли при переходе через Альпы, воодушев-
лены большей надеждой?» (XXI, 40, 7). Иногда вопрос ставится
самому себе: quid ego antiqua repetam? (зачем я припоминаю то,
что было давно? — IX, 34, 14). В иных случаях он выполняет функ-
цию перехода к новой теме: Quid? Quid postea? (что-же?, что-же
потом? — IV, 4, 1; XXVIII, 8, 11 и др.).
Выразительность речи усиливалась сочетанием нескольких фи-
гур в одном месте. Так, в речи Сципиона один за другим следуют
вопросы (с применением анафоры) и восклицания: Quot classes,
quot duces, quot exercitus priore bello amissi sunt! jam quid hoc bel-
lo тетогет? (Сколько флотов, сколько вождей и армий было поте-
ряно в первую войну! К чему мне упоминать о случившемся в эту
войну? — XXVI, 41, 11; ср. речь |~еметрия — XL, 14, Квинкция—
III, 67 — 68и др.). Эффектно сочетание антитезы, анафоры и ритори-
ческих вопросов и в речи Ганнибала к воинам (XXI, 30, см. выше).
Антитеза — излюбленный прием Ливия, особенно характерный для
речей и часто усиленный другими стилистическими средствами. Так,
речь Вибия Виррия, приведенная выше, построена на четырех про-
тивоположениях, расположенных в порядке постепенного усиления
градацией: Ганнибал напал на лагерь римлян — это не отвлекло
их от осады Капуи; он опустошил пожарами город Калы — они не
двинулись с места; он отдал приказ идти на Рим — они презрели
и эту опасность; он подошел к стенам и воротам Рима — они не
сняли осады (XXVI, 13, 10 — 11).
182
Убедительности доводов и красочности изложения Ливий дости-
гал и приемом сравнения и уподобления. Толика их у него самая
разнообразная: тут и дикие звери (velut feras bestias), как в речи
Виррия, где поведение римлян сравнивается с поведением зверей
(XXVI, 13, 12); или в словах о Филлиппе бывшего его друга Алек-
сандра: «в груди его клокочет гнев, как у диких зверей, которых
держат на запоре или в путах» (XXXV, 18, 6); и рыбы (piscium
modo) в рассказе о предзнаменованиях: «огромной величины змеи
прыгали наподобие играющих рыỠ— XXVII, 4, 13; тут и море
(sicut natura maris), как в речи Сципиона: «Подобно тому как море,
по природе своей неподвижное, волнуется под влиянием дуновения
ветра, так и в целой толпе, в вас таятся и покой и бури» вЂ” XXVIII,
27, 11; и пожар (incenduim), как в словах Фабия Максима о карфа-
генянах: «покажи им римское оружие и иноземное войско, они сбе-
гутся как бы для того, чтобы погасить всем им угрожающий по-
жар» — XXVIII, 42, 10.
В прямой речи, как отмечалось, Ливий охотно употребляет
сентенции, имеющие целью затронуть чувства читателей и помога-
ющие убедить его. Кроме того, вложенные в уста Ганнибала, Фабия
Максима, Катона, они так или иначе оттеняли их характер. В при-
водимой выше речи Ганнибала (ХХХ, 30) мы видели ряд сменя-
ющих одна другую сентенций.
Прибегает Ливий и к гиперболе: Сципион, желая преуменьшить
силы воинов Ганнибала, говорит своим солдатам о них: «это призра-
ки, едва сохранившие подобие людей» (effugies immo, umbrae ho-
minum — XXI, 40, 9). Ироническая гипербола звучит в словах
Ганнибала, когда он старается умалить достоинства Сципиона, го-
воря, что тот не знает даже своих солдат: «Ведь если сегодня же по-
ставить перед ним римское и нумидийское войско, но без их знамен,
то я ручаюсь вам, он не сумеет сказать, которому войску он назна-
чен в консулы» (XXI, 43, 16).
Из средств нагнетания пафоса в речах или описаниях Ливий ис-
пользует фигуру постепенного усиления выражений — градацию
Например, в речи консула Тита Квинкция в народном собрании:
ante portas est bellum; si inde поп pellitur, iam intra moenia crit
et агсет et Capitolium scandet et in domos vestras vos persequetur (вой-
на перед воротами; если оттуда ее не отразят, она,появится за сте-
нами, пробьется в кремль и на Капитолий и будетвас преследовать
вплоть до ваших домов — III, 68, 7); в речи Марцелла градация
эффектно соединяется с анафорой: ibi virtutem bellicam, ibi militarem
Й-ciplina, ibi praeteriti temporis famam, ibi врет futuri extinctam (там
погибли военная доблесть, воинская дисциплина, слава прошлого вре-
мени, надежда на будущее — XX I I I, 45, 4); в риторическом описании
бури B XXI, 58, 3 (см. выше), построенном в типичной для Ливия ма-
нере: «сначала, затем, наконец» с постепенным усилением изображае-
мого; сначала (primo) шел дождь и дул ветер — воины только остано-
вились (consistere — Там же, 3), затем (dein) поднялась буря — они
присели (consedere — Там же, 4); вдруг 11ит чего) разразилась гроза—
они в оцепенении не решались сдвинуться с места (torpere — Там
же, 5); наконец (tandem), грянул ливень, воины убедились в необ-
ходимости расположиться] лагерем (castra ponere — Там же, 6) там,
где были застигнуты бурей. Но это было только началом новых бед-
ствий: разбушевался) ураган, посыпал град, они бросились на землю
(procumberent — Там же, 7); за градом ударил мороз — они око-
ченели от стужи и уже не могли приподняться (nequiret ...extolle-
re — Там же, 9).
Драматизм и напряженность нагнетаются и таким приемом, как
накопление слов (congeries чегЬогит). В картине взятия Альбы мы
найдем такое накопление: «А тут немая скорбь и молчаливое горе
сковали сердце: забывшись в тревожном ожидании, не в силах ре-
шиться, люди спрашивали друг у друга, что оставить, что брать
с собой, и то застывали на порогах, то блуждали по дому, чтобы
бросить на все последний взгляд. Но вот крики всадников, прика-
зывавших уходить, зазвучали угрожающе, послышался грохот зда-
ний, рушимых на краю города, и пыль, поднявшись в отдалении,
окутала все, словно облако; тогда второпях унося то, что каждый
мог захватить, оставляя и ларов с пенатами, и'стены, в которых
родились и выросли, альбанцы стали уходить...» (1, 29, 3 — 4). Есть
здесь и исоколон, и анафора, и сравнение, придающие описанию ху-
дожественность.
Для передачи стремительности и быстроты действия, для при-
дания живости и силы речи Ливий прибегал к асиндетону (бес-
союзие). Например, афинские военачальники при известии о при-
слижении Филиппа «приказывают дать из акрополя сигнал тру-
бою... таким образом со всех сторон бегут к воротам, к стенам» (sig-
пит ех агсе dare jubent... Itaque ad portas, ad тигоз discurruit—
XXXI, 24, 5); о войне в Сицилии: «одни города берут штурмом кар-
фагеняне, другие римляне. Происходят сражения пехоты и конни-
цы» (игЬез alias Роепиз, alias Romanus expugnat, peditum equitum aci-
es concurrunt — XXV, 6, 20); в речи послов о бесчинствах Племиния:
«все похищают, грабят, бьют, ранят, убивают...» (omnes rapiunt, spoli-
ant, verberant, vulnerant, occidunt — XXIX, 17, 15). Применение
коротких бессоюзных слов и предложений помогало также передать
психологическое состояние людей, создать, например, живую кар-
тину тревожного ожидания кампанским народом своих послов, от.
правленных за помощью к римлянам (VII, 30, 21).
Часто встречаются в «Истории» аллитерация (повторение оди-
наковых звуков) (vires vix vis — XXI, 40, 9; vi ас virtute: vieina—
XXII, 3, 10; in patriam parentesque — XXVIII, 27, 12; modo ac
modestia — XXVI, 48, 11 и др.); гендиадис (выражение сложного по-
нятия двумя простыми словами: fide atque integritate — «с безуп-
речной добросовестностью» — XXV, 40, 1; bello armisque — «во-
оруженным нападением» вЂ” ХХ Х, 42, 8 и др.); хиастическая расста-
новка слов или предложений (in urbem Romani, Poeni in castra re-
ceperunt sese — «в город римляне, иунийцы в лагерьвернулись»вЂ”
XXIII, 44, 5; amicitia immortales, mortales inimicitias debere esse—
184
«дружба должна быть вечна, преходяща вражда» XI, 46, 12 и
др.). Из трапов Ливий употребляет метонимию (чепегат = ато-
гет — XXIX, 23,4; tecta = aedificia — XXVI, 16, 8) и метафору
(аигат — ветреного, переменчивого — ХХ, 26, 4; arderent—
о войне и ненависти — XXVI, 13, 7 и др.) '.
Исследователи, занимающиеся изучением стиля Ливия, отме-
чают, что для первой декады «Истории» наиболее характерны вос-
клицания, вопросы, антитеза, анафора, хиазм, ирония; для речей
третьей декады — асиндетон, вопрос, анафора; для речей четвер-
той и пятой декад — сентенция, полисиндетон, парономасия '. По-
давляющее число фигур мысли и слова используется в первой де-
каде как средство придать жизненность и красочность отдаленным
и малодостоверным, полусказочным событиям, о которых в них
идет речь.
Стилю и языку Ливия уделялосьмного внимания в трудах и
диссертациях ученых '. Все они единодушно называют Ливия глав-
ным представителем латинской прозы переходного периода от клас-
сической эпохи к эпохе империи, отмечая, что он стоит на пороге
«серебряной латыни», и ero проза уже не та строгая, совершенная
проза его предшественников — Цицерона и Цезаря. И хотя язык
его чистый и правильный, в нем есть особенности и некоторые воль-
ности, отличающие ero от классической нормы: он допускал сме-
шение языка прозаического и поэтического, литературного и оби-
ходного; в отличие от Цицерона, соблюдавшего симметрию выра-
жений, Ливий предпочитал разнообразить изложение нарушением
симметрии. Часто в одном и том же предложении у него меняется
конструкция (анаколуф), в одной части фразы — согласованное
причастие, в другой — ablativus absolutus; в одной части — герун-
дий с ad, в другой — придаточное предложение с ut; или рядом
стоят единственное и множественное число.
Асиний Поллион, по словам Квинтилиана (VIII, 1, 3), заметил
в языке Ливия некую patavinitas, что могло означать провинциа-
лизм падуанского произношения или какие-то отклонения от норм
цицероновской речи; однако точное значение этого слова остается
невыясненным. Квинтилиан, советуя оратору избегать непомерной
растянутости речи (макрологии), привел как пример ее фразу из
Ливия: legati, поп impetrata расе, retro domum; unde venerant,
abierunt (послы, не добившись мира, возратились домой назад, от-
куда пришли — VIII, 3, 53; действительно, плеоназмы в «Истории»
достаточно часты: Нацие ergo — I, 25, 2; III, 31, 5; nova de integ-
ro — XXII, 5, 7 и т. п.). Ho в целом тот же Квинтилиан высоко оце-
нивает Ливия, подчеркивая «удивительную приятность и чрезвы-
чайно ясную простоту» ero повествования (in narrando mirac jucun-
ditatis clarissimique candoris — Х, 1, 101).
Художественность и величественность изображения событий,
живость образов, плавность и пространность слога поставили «Ис-
торию» Ливия в ряд великих произведений античности. Оратор-
ский и литературный талант снискал ему славу и у современников,
8 Т. И. Кузнецова, Т. А. Миллер
185
и у последующих поэтов и историков. Одни из них заимствовали
у него исторический материал для своих сочинений (Лукан, Силий
Италик, Валерий Максим, Флор, Франтик); другие подражали его
языку (Квинт Курций), третьи составляли периохи к его «Истории»
и делали из нее извлечения (Юлий Обсеквент, Кассиодор, Евтро-
пий). С доверием относился к Титу Ливию Данте', в эпоху Воз-
рождения занимался им Маккиавели, посвятив ему труд «Рассуж-
дения о пятой декаде Тита Ливия». В «Энциклопедии» Дидро и
,Я'Аламбера читаем: «Метод и стиль Тита Ливия, его важность, его
разумное красноречие соответствуют величию Римской республи-
ки» '. Карамзин писал в предисловии к своей «Истории государства
Российского»: «никто не превзошел Ливия в красоте повествова-
ния». Римским Гомером назвал его Белинский. Dissertissimus vir,
eloquentissimus, celeberrimus auctor, как называли Ливия Сенека-
философ, Тацит, Плиний Старший, и в настоящеевремя почитается
образцом художественного повествования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Во введении к данной книге обосновывался выбор ее темы: антич-
ная эпическая историография в ее главных представителях (Геро-
дот и Тит Ливий).
Имена Геродота и Тита Ливия поставил рядом Квинтилиан в
своем критическом обзоре греческой и римской литературы. Что
именно он имел в виду, сопоставляя их, — сказать трудно, но судя
по ero словам: «Не постыдился бы Геродот стать рядом с Ливием»,
позволительно предположить, что сходство их — внутри историо-
графического жанра как писателей-художников.
В какой мере правомерно сопоставление Геродота и Тита Ли-
вия — вопрос непростой. Очевидно, можно позволить себе рас-
смотреть их как писателей, представляющих однотипную, так на-
зываемую эпическую историографию, выделяя специфические прие-
мы и признаки эпического творчества у того и другого. Принци-
пиальная соизмеримость этих крупнейших историографов антич-
ности, во всяком случае, сомнению не подлежит и вполне допускает
типологическое соотнесение и сравнение их поэтик.
Однако, выявляя черты общности творчества Геродота и Тита
Ливия, отмечая типологические соотношения в аспекте историо-
графического жанра, следует иметь в виду, что в самом этом сравне-
нии изначально заложенокачественноеразличие писателей, то осо-
бенное, неповторимое, присущее каждому из них, что отличает их
друг от друга как писателей одного рода литературы. Наличие сход-
ства никоим образом не исключает различия, обусловленного сво-
еобразием исторических условий, национальных и литературных
традиций, и, конечно же, общественной пбзиции и творческой ин-
дивидуальности самого писателя.
Исторические сочинения Геродота и Ливия по объему и широте
охвата событий представляют собой настоящую эпопею, ставящую
целью воспроизвести совершенное людьми в определенной прост-
ранственно-временной реальности. Они проникнуты интересом к
историческим судьбам народов в совокупности отдельных челове-
ческих судеб и характеров и отличаются монументальностью и це-
лостностью, имеют в основе своей определенный план, осуществля-
ющий нравственные и политические идеи авторов. Это и делает их
художественными произведениями.
Из отдельного и разрозненного Геродот и Ливий создали гармо-
ническое целое, достигнутоеблагодаря единству концепции, целост-
ности взгляда на изображаемое. У Геродота сквозная идея — уве-
ковечивание подвигов эллинов и варваров (персов, египтян,
скифов и др.), у Ливия — воспевание республиканского Рима и доб
лестных деяний его знаменитых представителей, ведущих свое оте-
чество к возвышению и славе. Оба сочинения написаны в духе эпи-
ческой традиции. В них явственно проявляются признаки и черты,
свойственные эпическим произведениям. Главный из них — мону-
ментальность — отклик на события всенародные, в которых на-
глядно проступает патриотизм, героизм и сила духа действующих
лиц — военачальников и общественных деятелей. И та и другая
«История» — это развернутое повествование об исторических со-
бытиях минувших времен на протяжении длительного времени.
Их авторам присуще целостное вйдение мира и чувство прошлого.
У Геродота и Ливия можно отметить совпадение стремлений и
целей. В предисловии к своей «Истории» Геродот писал о своей це-
ли — спасти от забвения великие и удивительные дела, которые
творили люди, прославить их и выяснить, по чьей вине эллины и
варвары стали воевать друг с другом. Предпосылками греческого
историка были героический эпос с его воспеванием войны эллинов
против азиатских народов и ранняя ионийская историография с ее
интересом к реальным историческим фактам. Он рационалистиче-
ски объединил все накопленные разрозненные сведения и предани~
об отдельных странах в одно целое, подчиненное сквозной идее—
изображению борьбы эллинов и варваров, воссоздал целостную кар-
тину исторического прошлого. В основу ее легли три мотива: мотив
справедливого возмездия, мотив противопоставления эллинской
свободы и варварского рабства, мотив круговорота человеческих
дел.
Цель Ливия более патриотическая и моралистическая: изобра-
зить жизнь и нравы славных предков, носителей истинной Vir из
потапа, которой держава обязана своим ростом и процветанием; и
не только изобразить, но и наглядно показать, что заслуживает
подражания и восхищения, воспитывая современное общество на
поучительных исторических примерах гражданской и воинской доб-
лести героев римской республики. У него все подчинено истории
роста Римского государства, о других же странах говорится только
в связи с историей Рима. Предпосылками «Истории» Ливия были
сочинения анналистов, эпические сказания, сочинения эллинисти-
ческих историографов, документальные записи. Как и Геродот,
Ливий подчинял весь заимствованный из источников фактический
материал своей идее — воспеваниюдревней Римской республики, ее
возникновению, возвышению, кризису и возрождению при Августе.
Первая половина сочинения Геродота — это повествование о
прошлом, вторая — история современная (греко-персидские вой-
ны). «История» Ливия, сохранившаяся лишь в начальной своей час-
ти, кажется нам целиком обращенной в прошлое. Но и тому и друго-
му опыт прошлого служил решению задач современности. И Геро-
дот и Ливий представили историю как развертывающийся процесс,
в ходе которого меняются судьбы государств и людей. Их истори-
ческие сочинения — это панорама жизни во всей полноте событий,
действий, характеров в определенных временных и пространствен-
ных условиях и различных аспектах, представленная с эпической
постепенностью развития общего действия и подробностями эпизо-
дов, его составляющих. Оба сочинения отличаются размахом и раз-
нообразием, свойственным эпосу, оба отмечены чертами, характер-
ными для этого рода литературы.
И у Геродота, и у Ливия достаточно заметно прослеживается
идея предопределения судьбы, связанная с предзнаменованиями,
оракулами, вещими снами, введенными в ход событий, которые в
иных случаях и рассматриваются как последовательно сбываю-
щиеся пророчества. Это придает сочинениям некое конструктивное
единство, обусловливая излагаемые в них события и поступки дей-
ствующих лиц. События имеют как бы свою нравственную предоп-
ределенность. Геродот верит во вмешательство высших сил в че-
ловеческие дела, в неотвратимость возмездия за нарушения людьми
общепринятых норм общежития, обычаев, справедливости, за их
преступные действия (так, крушение державы Креза — это кара
за преступление Гига). У Ливия эпический детерминизм просмат-
ривается в первых книгах о ранней истории Рима, а также в третьей
декаде, в которой показываются бедственные результаты нечестия,
высокомерия, несправедливости, безрассудства (так, поражение
Теренция Варрона при Каннах — это возмездие за нарушение им
благочестия и за чрезмерную надменность — XXII, 47 — 51; пора-
жение консула Фламиния у Тразименского озера — следствие не-
достаточного почитания богов, пренебрежения священными,:.'.обря-
дами — XXI, 63, 13 и XXII, 3, 4 — 5, и т. д ).
В сочинениях греческого и римского историков налицо сходство
жанровых признаков эпоса и общность мотивов и ситуаций. Оба со-
средоточивают внимание на человеке, на реальной действительно-
сти. От человеческих поступков, характеров, взаимоотношений за-
висят события. Главное в эпических героях — внешнее проявле-
ние себя, их действия. От успеха или поражения эпического героя
иной раз зависит судьба целого общества, армии, города, рода
(вспомним героические битвы Куриациав с Горациями, Фабиев
против этрусков — I, 25; П, 45 — 46). Жажда подвигов, победы и
славы входит в круг типично эпических мотивов. Эпический герой
предпочитает смерть подчинению, плену (тут вспомним, как у Ли-
вия Эмилию Павлу долг чести велит умереть, но не бежать с поля
боя — XXII, 49, 6 — 12; можно назвать Вибия Виррия, не желаю-
щего сдаваться римлянам,— XXVI, 13 — 14, Ганнибала, проиграв-
шего войну и принявшего яд,— XXXIX, 51, 9 и др.; у Геродота—
прославленного спартанского царя Леопида, погибшегопри Фермо-
пилах,— VI I, 220).
К традиционным эпическим мотивам и ситуациям относится
и приношение даров победителю в знак благодарности и в качестве
награды за доблесть (например, Геродот описывает, как лакедемо-
няне присудили Фемистоклу оливковый венок — награду за муд-
рость и находчивость — VIII, 124), Ливий — как сагунтяне пре-
поднесли римлянам золотую корону в благодарность за освобож-
дение их города (XXVIII, 5 — 6), как военному трибуну Яецию за
189
его подвиги в самнитской войне подарили сто быков и золотой ве-
нок (VII, 37, 1 — 3), как золотым венком был увенчан Манлий за
победу в единоборстве с галлом (VII, 9, 7 — 10). Заметим, кстати, что
единоборство воинов с той и другой стороны, решающее исход боя,
столь же характерный для эпического предания мотив, бережно со-
храняемый историком.
Специфичен для эпоса прием гиперболизации образа и описания
(один герой может сражаться с целым отрядом воинов — напри-
мер, у Ливия Гораций Коклес), преувеличения количества захва-
ченных трофеев, плененных врагов, погибших воинов в батальных
сценах (так, у Геродота говорится, что воды в реке было мало для
персидского войска и река иссякла (VII, 58), у Ливия — что от
шума, поднятого воинами, птицы падали на землю (XXIX, 25, 1).
Особенностью эпоса является смесь историческогоивымышлен-
ного, равно принимаемого за действительность. И у Геродота, и у
Ливия немало такого фиктивного материала: сказочные описания
жизни царей; мотивы чудесного рождения героя (у Ливия — преда-
ние о чудесном происхождении СципионаАфриканского от змея—
XXVI, 19, 7, у Геродота — предание о том, что Мелесу — царю
Сард, наложница родила львенка — 1, 84); вещие сны (сны Ксеркса
у Геродота — VII, 12 — 19; сон Ганнибала у Ливия, предвещавший
ему победу,— XXI, 22, 6 — 9); зловещие предзнаменования и чуде-
са (у Геродота — кобыла родила зайца — VII, 57; у Ливия — гово-
рящий бык, кровавый дождь, ворон, влетевший в храм Юноны,
плачущая статуя — XXI, 62, 1 — 4 и др.).
Черты эпоса проявляются и в композиционных приемах исто-
риков. Повествование развертывается неторопливо, замедляясь
на отдельных стадиях вставными побочными эпизодами, которые
как бы приостанавливают действие.
В сочинениях Геродота и Ливия использован огромный запас
сведений, фактов, исторических данных. Их отличительная черта—
многоплановость. Способы включения в текст обширного материа-
ла разнообразны, как и положено эпопее. Наряду с повествова-
тельными (динамическими) формами изложения используются опи-
сательные (статические): описания городов, местностей, обычаев
и нравов, одежды, вооружения, обрядов и т. п. Эти отступления
с наглядным представлением деталей, будучи частями единого це-
лого, не теряют самостоятельного характера и имеют лишь ослаб-
ленную связанность с основным сюжетом (у Геродота таковы, на-
пример, описания даров Креза в Дельфах — I, 92, сооружений на
Самосе — III, 60, Каспийского моря и Кавказских гор — I, 203—
204; у Ливия — описание чумы в Сиракузах — XXV, 26, 7 — 14).
Сюжетные звенья повествования согласовываются друг с другом
причинно-временной связью. Но часто сюжетное положение меняет-
ся внезапным вмешательством в ход событий спасительной силы—
прием, характерный для эпического произведения (так, у Геродота
царя Креза, находящегося на пылающем костре, чудесным образом
спасает от гибели бог Аполлон — I, 87, у Ливия осажденное пуний-
цами римское войско спасает Фабий: «вдруг показалось войско Фа-
190
бия, как будто ниспосланное с неба на помощь» — XXII, 29, 3).
Большую роль в составлении эпизодов играет у Геродота и Ли-
вия принцип чередования в показе действия с противоположных
сторон: то со стороны осаждающих город, то со стороны защищаю-
щих его (именно так построен рассказ Геродота о захвате Вавило-
на Киром — I, 191; таково описание битвы при Заме римлян и
карфагенян у Ливия — ХХХ, 32 — 35). Прием двойного освещения
объекта, свойственный обоим историкам, у Ливия получил боль-
шее употребление — ведь это был метод, разрабатываемый рито-
рикой. В сочинениях историков чередуются события международ-
ные и внутригосударственные, первостепенные и второстепенные,
крупные планы и массовые сцены, эпизоды краткие и протяженные.
Структурно эпизоды, составляющие общее повествование, вполне
закончены и исчерпаны: у них есть своя завязка, развитие действия
до кульминации, развязка — т. е. начало, середина, конец, пред-
писанные теорией. И это придает им отпечаток драматизации.
И у Геродота, и у Ливия можно встретить связывание отдельных пре-
даний в одно целое (у Геродота сказочные мотивы усыновления пас-
тухом царственного младенца и Атреева пира объединены в рассказе
о детстве Кира — 1, 108 — 119; у Ливия предания о Горацие Кокле-
се, Муцие Сцеволе, Клелии связаны сюжетным единством и имеют
целью концентрированный показ доблести героев — II, 10 — 13).
Еще один прием, общий для Геродота и Ливия: широкое вклю-
чение в объективное, ведущееся от автора повествование прямой
речи, диалогов и монологов действующих лиц. Этот прием служил
более живому воссозданию далекого прошлого. Речи персонажей,
связанные с их деятельностью, конфликтами, намерениями, взаимо-
отношениями с другими людьми служили их характеристике; ино-
гда они служили выражением субъективных чувств, но чаще — из-
ложением объективных мотивировок событий. Так, у Геродота диа-
лог между Крезом и Солоном показывает лицо персонажа — I, 30—
32, обмен речами на военном совете между Ксерксом, Тардонием
и Артабаном раскрывает все «за» и «против» йохода персов в Элладу
(VI, 8 — 10); у Ливия, следующего традиции греческой историогра-
фии, речи персонажей связаны с их внешними действиями и отно-
шениями и, обусловленные ими, служат движению событий в пове-
ствовании. В речах внешнеполитических военных и гражданских
содержится главным образом аргументация выдвинутых оратора-
ми мнений.
Речи действующих лиц часто объединяются попарно (речь и
возражение, речи на одну тему): у Геродота — речь эллинских
послов в Сиракузах и ответная речь Гелона (VII, 57, 158); у Ли-
вия — речи Катона и Луция Валерия в споре по вопросу об отмене
Оппиева закона (XXXIV, 2 — 7) или речи Ганнибала и Сципиона
Африканского накануне сражения при Заме (ХХХ, 30 — 31). Тогда
вопрос осмысливается с противоположных точек зрения. Антитети-
ческие речи ведут аргументацию по одному плану: оба полководца
говорят об опыте прошлого, о слабости противника, о пользе побе-
ды в предстоящей битве, о славе после победы. У Геродота этот при-
191
ем виден в рассказе о подготовке похода Ксеркса в контрастных
речах Мардония (сторонника похода) и Артабана (противника по-
хода) (VII, 9 — 10).
~ ~ Однотипно изображается биография человека: описывается генеа-
логия, деятельность, смерть. Изображаются различные моменты
его внешнего поведения и внутренней жизни, дается его портрет.
Значительную роль играет прием контрастного сравнения персо-
нажей (например, у Ливия: Папирия Курсора и Александра Маке-
донского, Гиерона и Гиеронима, Минуция и Фабия Кунктатора).
Образы персонажей в сочинениях Геродота и Ливия сравнительно
просты и довольно статичны, разве что с годами меняется их внеш-
ность. Авторы не раскрывают душевного состояния и внутренних
противоречий в характеречеловека, показывая его главным образом
во внешних проявлениях и поступках, часто обусловленных пред-
начертанной судьбой или же внезапным поворотом внешних собы-
тий. Это тоже специфическая черта эпоса: описание внутренних
ощущений героев извне, объективно, через действия, взаимоотно-
шения, обстоятельства образа жизни. В иных случаях, правда, ис-
пользовался историками драматический прием показа смены на-
строения и состояния у героя: так, самоуверенность Ганнибала в на-
чале его похода на Рим сменяется ощущением безысходности и беспо-
мощности в конце его; читатель видит полководца, познавшего и
радость побед, и горечь поражения. Аналогично у Геродота: уби-
тый горем Крез внезапно проникается жалостью к невольному
убийце сына (I,' 44, 45); при виде Креза на костре Кир меняет к нему
свое отношение (I,86); Ксеркс после Саламина уже думает не о побе-
де, а о бегстве (VIII, 97 — 07).
Геродот и Ливий решали одну задачу — воссоздать целостную
нартину исторического прошлого — и использовали аналогичные
художественные средства. Однако Ливий жил в другой стране,
вдругих исторических исоциальныхусловиях, он был отделен от
Геродота четырьмя столетиями, в течение которых историческая
проза достигла значительного развития. Если Геродот сам был ро-
доначальником художественной исторической прозы, «отцом исто-
рии», то -Ливий имел уже возможность, опираясь на греческую
традицию, использовать богатейший опыт своих римских предшест-
венников.'.И, конечно, писал он свою «Историю» на другом факти-
ческом материале, преподнося его в соответствии с риторическими
требованиями к изображению действительности.
И тут выявляется существенное различие методов работы Геро-
дота и Ливия со своими источниками. Геродот делает первую по-
пытку рационального объединения накопленных данных в одно
целое: географических описаний, исторических хроник, этногра-
фических данных, произведений поэтов, изречений оракулов, дело-
вых документов, устных рассказов, а также собственных наблюде-
ний, записей и умозаключений, полученных от его продолжитель-
ных путешествий по Малой и Передней Азии, Греции, Египту,
Скифии, т. е. по местам излагаемых событий. По поводу приводимых
фактов он высказывал критические замечания с точки зрения их
192
достоверности, целенаправленности и обусловленности. Сопостав-
ляя противоречивые данные источников, он выбирал наиболее прав-
доподобные из них; он выражал свое отношение к традиции, отме-
жевывая реальный факт от вымысла, от эпического предания фор-
мулой «я сам знаю» и давал свою версию изображаемого, раскрывая
причинно-следственную зависимость события (так, он отвергает
мифологическую интерпретацию первопричины вражды греков и
персов и обусловливает ее политическими причинами).
Ливий в отличие от Геродота сам не собирал те све~ения, ко-
торые он описывает, никуда не выезжал. Он был кабинетным уче-
ным, работающим с материалом «из вторых рук». Его принципом
было сообщать читателю то, что он почерпнул у своих предшест-
венников, принимая на веру или сомневаясь в них. Предпочитал он
свидетельства, полученные от наиболее надежных источников, по-
лагаясь на собственный здравый смысл, подсказывающий ему вы-
бор правдоподобной версии. В одних случаях он и не пытался оп-
ределить меру достоверности приводимого факта, воздерживаясь
от оценочного подхода к рассказываемому; в других — ставил под
сомнение достоверность сообщаемого факта; в третьих — давал от
себя рационалистическое объяснение явлений и психологические
мотивировки поступков персонажей.
Но, хотя основным критерием ero отношения к источнику были
правдоподобие и вероятность, он охотно дополнял вымыслом факты
правдивые или правдоподобные, окрашивая данные источников ав-
торским их вйдением, обогащая новыми аспектами и применяя для
своих патриотических и этических целей. Не имея собственного
опыта, Ливий выражал чувства и мысли многих римлян: он вкла-
дывал в их уста речи, украшенные риторикой, в которых выража-
лись их думы и намерения, оценка ими сложившейся ситуации. Он
был прежде всего риторическим писателем, тщательно обрабаты-
вавшим почерпнутый из разных источников материал и подавав-
шим его в соответствии со вкусами своих соотечественников. Рито-
рика давала ему богатую возможность представить свой и общий
нравственный идеал с наибольшей выразительностью и впечатляю-
щим эффектом. Он опирался на уже оформившуюся риторическую
науку о словесном выражении, систематизировавшую приемы худо-
жественной прозы. На основе развитой риторики закономерно из-
менялись и художественные средства исторического произведения.
Ведь история, по словам Е~ицерона («Об ораторе», П, 51 — 55),«раз-
вивалась и совершенствовалась в зависимости от развития красно-
речия». При этом задача изображения целого оставалась. Три ос-
новные классические задачи красноречия: «научить», «усладить»,
«взволновать» — соответствовали и задачам историографии.
«История» Ливия, в которой сочетаются и переплетаются все эти
задачи, служит тому подтверждением. Его сочинение, построенное
согласно выработанным риторикой правилам, состоит из трех [ос-
новных частей: изображение событий, изображение лиц, передача
речей. Но на первом плане у него все же аспекты занимательный
и поучительный — преимущественное внимание он уделяет изобра-
жению событий (при котором читатель, пассивный созерцатель, ус-
лаждается), и это дает эпическую линию в историографии, харак-
терной широтой и обстоятельностью воспроизводимого.
Героические события минувших времен идеализируются Ливием.
Он создает идеализированные образы героев Римской республики,
защищающих честь и независимость своего народа (Манлий Капи-
толийский, Камилл, Муций Сцевола, Сципион, Фабий Максим,
Марцелл и др.). Все они выглядят эпическими героями, воплощаю-
щими какое-то высокое человеческое качество — доблесть, ве-
ликодушие, благочестие, верность долгу и т. п. — и представляю-
щими собой частные модификации одного героического характера.
В совокупности все эти нравственные достоинства ведущих истори-
ческих деятелей составляли основу совершенного государства и
должны были, по мысли Ливия, сложиться в обобщенный, типизи-
рованный характер римского народа — истинного героя его эпо-
пеи. Введение в повествование героя «непременно с характером и
никого без характера» (Аристотель, «Поэтика», XXIV а 8) шло от
Гомера.
Показывая характер, Ливий стремился. воздействовать на чи-
тателей и наглядностью живого образа представить им пример для
подражания, взволновать и увлечь их. Яля Ливия также характер-
но сосредоточение внимания на эмоциональном состоянии целой
массы людей в собрании, в армии, в осажденном городе: на их во-
одушевлении, ликовании, тревоге и отчаянии. В таких сценах лю-
ди выступают как нечто нерасчлененное — «все». И их состояние
описывается декларативно, рисуется извне. Так, например: «слезы
радости наперерыв лились у патрициев и плебеев» (V, 7, 9 — 11).
Но B описание часто вплетаются драматические элементы — и в этом
сила повествовательного искусства Ливия.
Способы обрисовки персонажей у Ливия неоднородны: череду-
ются характеристики цельные и фрагментарные, прямые и косвен-
ные. Характер раскрывается путем показа их действий, образа
жизни, речей. Речам в сочинении Ливия уделено особое внимание.
В них колоритнее выражались субъективные чувства персонажей,
выявлялись их отношения и излагались их устами объективные мо-
тивировки событий, реконструируемых историком. Обилие речей
действующих лиц (по преимуществу речей совещательного рода)
обнаруживает первостепенность для Ливия задачи «научить».
Яля творческого метода Ливия характерно то, что он ради вы-
деления этической и патриотической идеи оставляет в тани то, что
ее не подтверждает, подчеркивая то, что ее усиливает. Для него
правдоподобное ценнее, чем правда. И он умело сохраняет вымыслы
своих предшественников, изменяет последовательность событий,
усложняет сюжет, заостряет ситуации и характеры, порой драма-
тизируя изложение ради эмоционального воздействия на читате-
лей. Несмотря на ряд сходных моментов, существенно отличается
между собой и композиция сочинений Геродота и Ливия, если брать
ее в целом.
' Обрамлением повествования у Геродота служит история роста
194
персидской державы, а роль вставных эпизодов играют отступле-
ния о тех народах, с которыми воевали персы. Геродот сосредото-
чивает материал вокруг важнейших вех истории, и биографии ис-
торических деятелей служат у него звеньями в поступательном ходе
событий. Материал сгруппирован по принципу фронтонной компо-
зиции (основное ядро и симметричное расположение эпизодов).
1~аждый из флангов фронтона является и частицей общего целого
и вполне самостоятельной частью. Фрагментарные данные разных
источников сделаны у Геродота компонентами единого сюжета при
помощи нескольких приемов: расположения материала по царство-
ваниям, синхронизации и ретроспекции. Детали подчиняются у него
общей теме, сохраняя при этом свою значимость. Мелкие историче-
ские данные входят в более крупный раздел, те — в еще более круп-
ный «логос». Мелкие подразделения, как счет по годам, не играют
у Геродота никакой роли.
«История» Ливия, подготовленная хронологиями анналистов,
построена более традиционно, год за годом, с отдельными допол-
няющими или иллюстрирующими основной сюжет экскурсами и
эпизодами. Это последовательное описание смены римских царей
и консулов, внешних войн и внутренних междоусобиц. Весь инте-
рес Ливия сосредоточен на Риме. Главную линию повествования
о судьбах римского народа составляют идущие один за другим раз-
нотипные эпизоды и сцены, служащие общей идее произведения, но
сохраняющие при этом законченность формы и относительную са-
мостоятельность содержания. Если у Геродота рассказ тек сплош-
ным потоком (и лишь александрийцами был наудачу разбит на кни-
ги), то у Ливия весь материал распределен по декадам и пентадам,
кончающимся заметными этапными событиями. Некоторые из
них представляют тематическое и композиционное единство (на-
пример, третья декада, в первой половине которой рассказывается
об успехах Ганнибала в войне с римлянами, во второй — об успе-
хах римлян). Структура составляющих остов сочинения повествова-
тельных эпизодов вполне традиционна — они имеют начало, се-
редину, конец; действие их разворачивается постепенно и обстоя-
тельно по устойчивой схеме: «сначала», «затем», «наконец», нару-
шаемой временами неожиданным поворотом событий («вдруг»).
Прием введения непредвиденного и внезапного драматизировал со-
держание. Отступления от содержания у Ливия довольно редки.
Обращает на себя внимание неоднородность форм повествования
в сочинеции Ливия, своеобразный сплав элементов эпическо-пове-
ствовательного и драматического, порой даже романического, по-
зволяющий раскрыть многоплановость характеров и обстоятельств.
В сращенности элементов эпического и драматического заключается
особенность сочинения Ливия. Его «Историю» не назовешь чисто
эпической, не уложишь в одно это жанровое позразделение. дра-
матическая напряженность рассказа раскрывала характер чело-
века и выявляла его эмоциональное осмысление. Ливий стремился
не только научить и усладить читателя, но, хотя и в меньшей сте-
пени, увлечь его, призвать к сопереживанию, воодушевить.,1~ля ~«-
195
го он использовал все разнообразие художественных средств, не-
изменно придерживаясь принципа уместности и соблюдения меры.
Стиль сочинений Геродота и Ливия неоднороден. В стиле Геро-
дота спокойный и ровный тон деловой прозы, рассчитанный на по-
нимание, а не на потрясающий эффект, чередуется с захватываю-
щим тоном увлекательной сказки и с напыщенным и напряженным
тоном публичного красноречия. Стиль Ливия также выдержан со-
ответственно конкретному содержанию: в повествовательных час-
тях он размерен и плавен, в драматических — эмоционален и пате-
тичен. В отличие от стиля Геродота он оснащен риторическими тро-
пами и фигурами, в изложении применена периодическая структура.
Геродот был первым представителем исторической мысли и родо-
начальником исторической прозы, Ливий — важнейшим этапом
в развитии художественно-риторического направления в историо-
графии и признанным образцом художественного повествования.
Стилистический опыт корифеев исторического повествования лег
в основу формирования новоевропейской прозы.
ПРИМЕЧАНИЯ
ГРЕЧЕСКАЯ ЭПИЧЕСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА ГЕРОДОТА
& t;Терми ом«лог с»(гр ч.ло ос Ђ”сло о,ре ь,расск з,расч т,рассуждени
в классической филологии охватывается несколько понятий. Им может обо-
значаться устный сказ в противоположность ученому исследованию (так
у В. Али), рассказ (описание) на определенную тему, ораторская речь, а так-
же рационалистическое рассуждение в противоположность мифу.
з См.: УасоЬу F. Herodot.— RE, $ирр. Bd. 2 (1913), col. 479 — 483.
а Библиографию и обзор зарубежной историко-филологической литературы
о Геродоте см.: Bergson L. Herodot. 1937 — 1960.— Lustrum (1966), В4. II,
S. 71 — 138; The Classical World Bibliography of Greek and Roman History/Ed.
W. Donlan. N. Y.; L. 1978, р. 3 — 27.
См. также: Немировский А. И. У истоков исторической мысли. Воронеж,
1979, с. 7 — 9, 34 — 44. Библиография советских работ о Геродоте регулярно
публикуется в ВДИ.'
ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,' ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ТРУДА ГЕРОДОТА
1 О странах Ближнего Востока в этот период см. подробнее в кн.: История Древ-
него мира. Кн. 2. Расцвет древних обществ. 2-е изд. М.: Наука, 1983.
з Пер. цит. по кн.: Дандамаев М. А. Иран при первых Ахеменидах (VI в. до
н. э.). М., 1963, с. 262.
а О полисной форме греческой государственности см. ~к>дро н вк .:Антич
Греция: Проблемы развития полиса, Т. 1. Становление и развитие полиса.
М.: Наука, 1983; о различных путях экономического и социально-политическо-
го развития древних обществ см.: Диаконов О. М., Якобсон В. Я. «Номовые
государства», «территориальные царства», «полисы», «империи». Проблемы
типологии. — ВДИ, 1982, № 2, с. 3 — 15.
4 О греческой колонизации см.: Античная Греция, т. 1, с. 128 — 154; Максимова
М. И. Античные города юго-восточного Причерноморья. М.; Л., 1956; Яйлен-
ко В. П. Греческая колонизация VII — III вв. до н. э. по данным эпиграфических
источников. М., 1982; Проблемы греческой колонизации Северного и Восточ-
ного Причерноморья: Материалы I Всесоюзного симпозиума по древней исто-
рии Причерноморья: Цхалтубо — 1977. Тбилиси, 1979; Боруховин В. Г.
Греки в Египте: Автореф. дис....докт. филол. наук. Л.: ЛГУ, 1965; Мале-
ванный А . Греческая колонизация и иллирийцы. — К11о, Bd. 50 (1968), S. 71—
91; Соотг J. М. The Greeks in Ionia and East. Ь., 1962; Boardman J. The Greeks
Overseas. Hardsmondsworth, 1973.
Более подробно о греческом обществе периода архаики см.: Античная Греция,
т. 1, с. 154 — 193; История Древнего мира, кн. 2, с. 69 — 93; Колобова К. М.
Древний город Афины и его памятники. Л., 1961; Она же. К вопросу о возник-
новении афинского государства.— ВДИ, 1968, № 4, с. 41 — 55.
~ См. об этом подробнее: Ярхо В. Н. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы
древнегреческой трагедии. М., 1978, с. 15 — 35.
т О возникновении рационалистической философии в Греции см.: Рожанский
И. Д. Античная наука. М., 1980, с. 17 — 42.
~ См.: Llyod-Jones Н. The Justice of Zeus. Los-Angeles, 1971, р. 79.
в Название «логограф» условно; впервые оно встречается у Фукидида (1, 21).
О писателях этого направления см.: Немировский А. И. Указ. соч., с. 19 — 33;
Pearson L. Early Ionian Historians. Oxford, 1939.
197
'" В «Илиаде» 1атир — это свидетель и судья (23, 486), третейский судья, обязан-
ный выслушивать очевидцев и исследовать положение дел (18, 501). Таким
образом, Ь~ор~~ — это прежде всего «опытное знаниеэ, то, что в отличие от
мифа можно проверить собственными глазами. В этом смысле 1атор(а охватывает
собой и работу по составлению географических и этнографических описаний,
и ту картину мира, которую предлагали первые ионийские философы, и то,
чем занималась научная медицина. См.: Тахо-Годи А. А. Ионийское и аттиче-
ское понимание термина «история» и родственных с ним.— Вопр. клас. фило-
логии. М., 1969, вып. 2, с. 107 — 126; Немировский А. И. Указ. соч., с. 19 — 20.
»' Фрагменты указаны по изд.: FHG/Ed. С. Muller. P., 1885. Переводы, приводи-
мые без указания имени переводчика, принадлежат автору раздела. 0 геогра-
фическом кругозоре греков этой эпохи см.: Томсон Дж. 0. История древней
географии: Пер. с англ. М., 1953, с. 75 — 129.
~~ 0 политической обстановке в Греции первой половины V в. до н. э. см.: Исто-
рия Древнего мира, кн. 2, с. 159 — 196.
~з 0 греческой трагедии см.: Ярхо В. Н. Указ. соч., с. 52 и сл.
~4 Пер. обоих отрывков цит. по кн.: Лурье С. Я. Геродот. М.; JI., 1947, с. 8.
'~ Даты жизни Геродота условны и гипотетичны. Год его рождения установлен
античными критиками на основании догадки, будто историку при переселении
в Фурии было сорок лет. Этот возраст считался периодом зрелости и наиболь-
шего расцвета личности. Столь > «еусло н ипредполагае оевр мя госм
ти. Геродот упоминает выселение жителей Эгины в 431 г. и убийство спартан-
ских послов в 430 г., но умалчивает об истреблении эгинцев в 424 r., из сопо-
ставления этих фактов делается вывод о том, что Геродот прекратил свою писа-
тельскую работу между 430 и 424 гг. О биографии Геродота см.: Лурье С. Я.
Указ. соч., с. 7 — 31; Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия. М., 1979, с. 63 — 89;
Борцхович В. Г. Историческая концепция египетского логоса Геродота.— В кн.:
Античный мир и археология. Саратов, 1972, вып. 1, с. 66 — 77.
16 «Музьв как название труда Геродота впервые засвидетельствовано у Лукиана
(«О том, как надо писать историю», 42). Разделение на девять книг восходит, по
всей вероятности, к александрийским ученым: на одном из папирусных фраг-
ментов сохранилась надпись: «Аристарха Геродота I летопись~. См. более под-
робно: Legrand Ph. Herodote. Introduction. P., 1955, р. 224 — 227.
1~ См.: Trudinger К. Studien zur Geschichte der griechisch-r mischen EthnograI'hie.
Basel, 1918, $. 5 — 15.
~8 Об источниках Геродота см. подробнее: Лурье С. Я. Указ. соч., с. 99 — 123.
см. также: Борухович В. Г. Указ. соч.; Рыбаков Б. А. Указ. соч., с. 90 — 103
Скржинская М. В. Скифские сюжеты в исторических преданиях ольвиополи-
тов.— ВДИ, 1982, № 4, с. 87 — 102.
ТВОРЧЕСТВО ГЕРОДОТА
~ В русских переводах нашли свое отражение несовпадающие толкования этой
первой фразы. О филологическом обосновании различных ее интерпретаций
см.: Немировский А. И. Указ. соч., с. 36 — 40; Krischer Т. Herodots Prooimion.—
Hermes, 1965, Bd. 93, НИ. 2, $. 159 — 167; Ваяй Н. Zur Bewertung und Auswahi
des Stoffes durch Herodot: (Die Begriffe &&l ;op.а, ирйСи,Э рйа осundЭир.аат
Klio, 1968, Bd. 50, S. 159 — 167, 93 — 110.
~ Крез — правитель Лидии середины VI в. до н. э. C Лидией начиная с VII в.
греческие города Малой Азии поддерживали тесные контакты: через греческие
порты шло снабжение Лидии металлами, греческие наемники служили в лидий-
ском войске, и лидийские цари не препятствовали грекам основывать колонии
на северо-западе Малой Азии. См. об этом подробнее: Свенцицкая И. С. Гре-
ческие города в составе лидийского царства.— BQH, 19?8, № 1, с. 26 — 38.
Современниками Геродота Крез воспринимался, по-видимому, прежде всего
как личность благоденствующая, как сказочный богач. Упоминания о Крезе
сохранились у Бакхилида, который называет его любимцем богов (111, 17—
28), и у Пиндара, который отмечает его достоинство — умение окружать себя
союзниками (1 пифийская ода, 93 — 94). О беседе Креза с семью мудрецами со-
общает Диоген Лаэртский (1, 42).
198
поскольку Солон был архонтом в 594 — 593гг. и путешествие свое совершал
вскоре после этой даты. Подробный обзор беседы Креза с Солоном см. в статье:
Regenbogen О. Die Geschichte чоп Solon und Krosus.— Regenbogen О. К1е1пе
Schriften. Miinchen, 1961, S. 101 — 124.
~о Ср. у Гераклита: «К тем, кто вступает в одни и те же потоки, текут все новые и
новые воды» (фр. 12).
'1 Разбор этого эпизода см.: РоЫ H. Op. cit., р. 37 — 49.
'» Мидийский царь Астиаг (585 — 550 гг.), сын Киаксара и муж сестры Креза,
потерпел поражение в войне с Киром, в результате чего Мидия подпала под
власть Персии. См. об этом подробнее: Алиев И. Г. Указ. соч.
'з 0 том, в какой среде и в каких местностях создавались рассказы, использо-
ванные Геродотом, см.: Доватур А. Н. Указ. соч., с. 65 — 94, 101, 102.
'4 См. об этом: Доватур А. О. Указ. соч., с. 104.
»' О многообразных способах объяснения событий у Геродота см.: Доватур А. О.
Указ. соч., с. 97 — 149 °
" См.: Яоватур А. И. Указ. соч., с. 108.
" О том, что история Персии изложена Геродотом по тому же плану (безвест-
ность, возвышение, мощь, военное поражение), что и история Лидии, см. под-
робно: Wood Н. The Histories of Herodotus. The Hague. P., 1972, р. 21 — 57.
'» Кочевники-киммерийцы были вытеснены скифами из Приднепровья в VII в.
до н. э. См.: Рыбаков Б. А. Указ. соч., с. 226. В образе Сесостриса, легендар-
ного покорителя полумира, запечатлена память о могущественном Сенусерте
III, фараоне XII династии. Сообщение о переправе египетского фараона
в Европу ошибочно. См.: История. Древнего мира. М., 1982, кн. 1, с. 123.
'9 0 том, какую роль играет у Геродота мотив мести, см. подробно: Page[ R. А.
Die Bedeutung des aitiologischen Momentes Иг Herodots Geschichtsschreibung.
Lei pzig, 1927.
зо Рассказ Геродота воспроизводит полную сказочных мотивов версию о том,
как Астиаг приказал убить своего новорожденного внука Кира, который,
однако, был спасен Гарпагом и воспитывался в семье пастуха, пока не обнару-
жилось его царское происхождение. Астиаг пощадил подростка Кира, но
Гарпага накормил мясом его собственного сына. И Гарпаг, мстя Астиагу,
убедил выросшего Кира начать войну против деда (I, 107 — 129). Версия
о родстве Астиага и Кира не подтверждается источниками. См.: Пьянков И. В.
Борьба Кира с Астиагом по данным античных источников.— ВДИ, 1971, № 3,
с. 16 — 36.
" Эпизоды, в которых фигурируют советники, и содержание высказанных ими
предостережений проанализированы в книге: Bischoff Н. Der Warner bei He-
rodot. Marburg, 1932.
~~ Топика изображения человеческой жизни по схеме «взлет — падение» с такими
непременными ее звеньями, как благоденствие (оХ~ог), превозношение
(хорог„a()pic), желание того, чего нет в наличии («pu&g ;q йчю«~о~то
и неминуемая гибель (~»т»1), подробно исследована на материале греческой
поэзии от Гесиода, до трагиков в работе М. Ланг «Биографические схемы
фольклора и нравственности в „Истории" Геродота». В этой же работе пока-
зано, как Геродотследует этой схеме при обрисовке главных персонажей своей
«Истории». См.: Lang М. Biographical patterns of folklore and morality in Hero-
dots НЫогу. Michigan, 1944.
зз По данным вавилонских источников, Крез был казнен при взятии Сард. См.:
Дандамаев М. А. Указ. соч., с. 105.
»«па&««ра amp;ог,(ст адание уч сь)—«Ага емно
з' В действительности Апис не был убит Камбисом: надпись на стеле Аписа
относит его смерть к четвертому году правления Дария. См.: Miller М. Ор.
cit., р. 35, 36.
»' Амасис — фараон Яхмос II (569 — 525 гг.).
" 0 сходстве топики в изображении походов Дария и Ксеркса см.: Bornitz Н.
Herodot-Studien. Beitrage zum Verstandnis der Einheit des Geschichtswerks.
В., 1968; Wood Н. Ор. cit.
" CM.: Ра1егз К. H. The Purpose of Dramatisation in Herodotos.— Historia,
Wiesbaden, 1966, Bd. 15, Hft. 2, S. 157 — 171; НоЬИ P. The Interrelation of
Speech and Action in the Histories of Herodotus. Helsinki, 1976.
200
»» Мнения филологов расходятся в вопросе о том, соответствует ли дискуссия семи
заговорщиков персидской реальности, или Геродот берет здесь за образец речи
современных ему политических деятелей Греции. В. В.Струве установил сход-
ство мотивов, звучащих в рассказе Геродота, с содержанием Накши Рустам-
ской надписи «В» Дария (см. его статью «Геродот и политические течения в
Персии эпохи Дария».— ВДИ, 1948, № 3, с. 12 и сл.). Обзор филологической
литературы по этому вопросу cM.: Доватур А. И. Указ. соч., с. 140, 195, 196,
примеч. 37; Маргулес В. B. Геродот, III, 80 — 82 и софистическая литература.—
ВДИ, 1960, № 1, с. 21 — 34.
4О Яоватур А. И. Указ. соч., с. 18.
«1 В V в. до н. э. в Греции существовали объединения врачей-профессионалов,
которые изучали зависимость заболеваний и характера человека от природных
условий (климата, времен года, влажности и т. п.). Их труды входят в состав
так называемого «Гиппократова корпус໠— сборника медицинских сочинений
разных авторов. Один из трактатов этого сборника содержит рассуждение
о том, что в странах с мягким климатом нрав людей спокойный и приветливый,
но лишен мужества и выносливости, в странах же с резкими сменами времен
года характеры людей уподобляются особенностям ландшафта и бывают похо-
жи на места голые, гористые, безводные или лесистые («О воздухах, водах и
местностях», 12, 13). См.: Гиппократ. Избранные книги/Пер. с греч.
В. И. Руднева. М., 1936, с. 43 — 46, с. 275 — 306.
«» Гнппарх и Гиппий — афинские тираны, сыновья Писистрата. После убийства
одного из них, Гиппарха, в 514 г. до н. э. остальные Писистратиды были
изгнаны из Афин (Ч, 65). Переселившийся в Азию Гиппий стремился при
содействии персов вернуть себе власть в Афинах. С требованием принять назад
в Афины Гиппия было направлено специальное посольство персидского сатра-
па Артафрена, однако оно не имело успеха: афиняне отказались восстановить
у себя тиранию (Ч, 96).
4З См. примеч. 8.
««О разного типа факторах, которые в «Истории» Геродота осмыслены как причи-
ны событий, см. подробно: Immernuahr Н. Aspects of Historical Causation in
Herodotus. ТАРА, 1956, vol. 87, р. 241 — 279.
«' Мисийцы упоминаются Гомером в составе троянского войска («Илиада», 11,
858; Х, 430) и как народ, соседствующий с фракийцами («Илиада», ХШ, 5).
Геродот (Ч11, 75) утверждает, что тевкры (троянское племя) совместно с мисий-
цами до троянской войны изгнали фракийцев из их поселений на реке Стримо-
не (в восточной Македонии).
4е См.: Доватур А. И. Указ. соч., с. 17, 18.
4' О том, что Геродот следует примеру эпоса, вводя в свой рассказ пространные
речи, см.: Hohti P. Op. cit.
«' Коринф был главным торговым конкурентом Афин и в военных столкновениях
между полисами принимал сторону, враждебную Афинам.
РИМСКАЯ ЭПИЧЕСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
РИМСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ И ЕЕ РАННИЕ ОБРАЗЦЫ
1 Цитаты из Полибия приводятся в пер. Ф. Мищенко: Полибий. Всеобщая исто-
рия. М., 1890.
» Пер. Ф. А. Петровского: Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве.
М., 1972. Следует заметить, что в «Бруте» Цицерон высказывается в несколько
ином плане: «ораторам позволено переиначивать историю как угодно, лишь бы
они могли сказать что-нибудь позатейливей» (g 42), а в письме к Лукцею,
в противоречие со своим взглядом на историю, просит написать о его собствен-
ной деятельности, «отступив от законов истории» («К близким», V, 12).
з Цитаты из предисл. и первой книги даются здесь и далее в пер. В. Смирина
в кн.: Историки Рима. М., 1970.
«06 историографии эллинистического периода см: Тарн В. Эллинистическая
цивилизация. М.,; Лосев A. ф. История античной эстетики:
201
Ранний эллинизм. M., 1979. T. 5; Боащанин А. Г. Древнегреческие историки
позднеклассического периода и эпохи эллинизма.— ИЯ, 1940, № 10, с. 99—
107; Немировский А.И. У истоков исторической мысли. Воронеж,1979; Peter Н.
%аЬгйеИ und guns': Geschichtsschreibung und Plagiat im Klassischen Alterfum.
Leipzig; В., 1911, $. 184 — 238.
' О цицероновской концепции истории см.: gambaud М. Ciceron et Гhisfoire
romaine. P., 1952; Andre J.-M., Hus 4. L'histoire a gome. Presses ип1чегзИа1г
de France, 1974, р. 15.
«См. об этом: Ойюап(пс G. Tragedy and histoãó in ancient literature.— PhQ,
1943, р. 908 — 914; о трагическом типе историографии см. также: Africa Th.-W.
Phylarchos and the Spartanrevolution. Berkely; Los-Angeles, 1961; Аверинцев С. С.
Плутарх и античная биография. М., 1973, с. 36.
т Клитарх, gypac и Филарх рассматриваются некоторыми исследователями
(см.: Schwartz Ей. Funf Vortrage йЬег den griechischen Roman. В., 1943;
Ullmann В.-L. History and tragedy. ТАРА, 1942, vol. 33; Scheller P. De
hellenistica historiae conscribendae arte. Diss. Leipzig, 1911) как излагатели дра-
матической, или «пернпатетнческой», теории историографии, поскольку они
применяли аристотелевское учение о трагическом к историческому сочинению,
как одной из форм художественного прозаического жанра. Однако другие уче-
ные смотрят на это иначе: Лайстнер, например, считая их аргументы малоубе-
дительными и в достаточной мере путаными, пытается доказать, что некоторые
тезисы эллинистических писателей неновы, но существовали задолго до них,
в классической Греции (Laistner М. L. The greater готап historians. Berkeley;
Los-Angeles, 1947, р. 12 — 15; ср.: Mc Donald А. Н. The Style of Livy.— Л~$,
1957, vol. 47, р. 163); Ф. В. Уольбэнк (F. W. Walbank) также считает
гипотетичными предположения Шварца и Шеллера (см. его статью: Wal-
ban& t; Р. '.Hist ry ndTragedy. €”Histor a,19 0,V l. 9, $.2 0 вкотор
впрочем, отмечается общее у истории и трагедии: происхо;кдение из эпоса,
использование идентичного материала, моральные цели (с. 229}.
~ По мнению Тарна, влияние перипатетиков на историков эллинистического пе-
риода было отрицательным: «Их усердие в собирании всех фактов привело
к неразборчивому смешению истины с легендой» (Указ. соч., с. 260).
» См. подробнее об этом: Утченко С. Л. Римская историография и римские исто-
рики.— В кн.: Историки Рима. М., 1970, с. 11 (предисл.); Маикин Н. A.
История древнего Рима. М., 1948, с. 190 и сл.
~о Плутарх, «Катон Старший», XII.
11 См.: Утченко С. Л. Учение Цицерона об «идеальном гражданине».— ВЯИ,
1954, № 3, с. 21 — 32.
~~ Штаерман Е. и. Кризис античной культуры. М., 1975, с. 47.
~з Т. е. монархический элемент воплощен в консулах, аристократический—
в сенате, демократический — в народных собраниях. См.: Утченко С. Л.
Циперон и его время. М., 1972, с. 72.
1' О природе анналов см. высказывание Макробня («Сатурналии», 111,2, 17) и
Катона (фр. 77). Свидетельства об анналах н фрагментах см.: HRF/Ed.
Н. Peter. Lipsiae, 1883, Lib. 1, р. 150 — 153.
'~ Яойаи 5'. Die Anfange der romischen Geshichtssreibung. Leipzig, 1909, S.228;
Елтапй А. Die alteste Redaction der pontificalannalen,— ЯЬМ, 1902, vol. 57,
$. 517 — 533.
" Т. Френк, например, считает коньектуру некоторых ученых о полном исчез-
новении записей Во время пожара 388 г. до н. э. безосновательной (Frank Т.
Roman Historiography before Саезаг.— AHR, 1927, vol. 32, р. 237 f.}.
" Одни ученые относят первую редакцию анналов к концу IV в. до н. э..
(Момзен), другие — к середине Ш в. до н. э. (Ептапп А. Указ. соч.; Eor-
ne®««. Der Priestercodex in der regia und die Entstehung der altromischen
Pseudogeschichte. Tiibingen, 1912, S. 320 — 364;) наконец, третьи — к периоду
до11в.до н. э. (см.: Спйе,/.Е.А. ТЛе anrals of the pontifex maximus.— ClPh,
1940, vol. 35, р. 375 — 3%, где и рассматривается полемика ученых по поводу
редакций анналов).
1' Об обычае петь на пирах под звуки флейты о доблестях славных предков Ци-
церон пишет в «Тускулавскихбеседах», I, 1,3 и IQ, 2,3, опять же со ссылкой
202
~4 А. Клотц предполагает, что Туберон использовал Анциата и Макра (Указ.
соч., с. 209).
2~ Klotz A. Op. cit., р. 202.
~~ Иные ученые даже называют Ливия «переводчиком» Полибия, приводя в под-
тверждение параллельные места из их сочинений (см.: Роисаий J.-А. Tite
Live traducteur de Polybe — REL, 1968, vol. 46, р. 208 — 221).
~' См.: Klotz А. Ор. cit., S. 481 — 536; Soltau И~. Ор. cit., $. 21 — 46; LValsh P.-G.
Ор. cit., р. 133 — 134.
28 Мнения ученых здесь расходятся: одни приводят доводы за то, что Origines—
источник (Peter. HRR, 1914, vol. 1), другие, признавая посредничество позд-
ней анналистики, отрицают это (Klotz А. Ор. cit., S. 291).
'® Walsh P.-G. Op. cit., р. 136.
-'о Ibid., p. 43 — 45; Klotz А. Caesar und Livius.— РЬМ, 1953, чо1. 96, $. 62 — 67.
ЦЕЛЬ СОЧИНЕНИЯ. МЕТОД ДОСТИ)КЕНИЯ
ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЕДИНСТВА
~ Квинтилиан позднее скажет об истории: «История пишется для рассказа, а не
для доказательства» (Historia зсг!Ь11иг ad narrandum, поп ad probandum.—
Х, 1, 31); она «близка поэзии и до некоторой степени представляет собой
стихотворение в прозе» (Est enim proxima poetis et quodam modo сагтеп зо1и-
turn est.— Там же).
~ О риторическом искусстве сочинения Ливия см.: Tain Н. Essai зцг Tite Live:
2 ed. P., 1860; пер. с фр.: Тэн И. Тит Ливий. М., 1885.
з См.: Дератани H. Ф. Хрестоматия по античной литературе, M., 1958, т. 2,
с. 401, где «История» Ливия называется «поэтической эпопеей древнего Рима
в прозе»; о первой декаде «Истории» как о прозаическом эпосе см. также в кн.:
Мс Donald,' А. H. The Style of Livy.— Л~$, 1957, vol. 47, р. 166.
4 Пер. Н. Старостиной.
~ Штаерман Е. М. Кризис античной культуры. М., 1975, с. 79.
~ Подобные же высказывания Ливия см. в VII, 2, 13; VIII, 11, 1, где осуждают-
ся роскошь и богатство.
~ О религиозных взглядах Ливия см.: Liebeschuetz И~. The religious position of
Livy's history.— JRS, 1967, vol. 57, р. 45 — 55; Уайй P. G. Livy and Stoicism.—
AJP, 1958, vol. 79, р. 355 — 375; Немировскиа А. И. У истоков исторической
мысли. Воронеж, 1979, с. 186 — 190. См. также раздел о Ливии в «Истории рим-
ской литературы» (М., 1959, т. 1, с. 477 — 480), написанный С. И. Соболевским.
а Цитаты из XXI книги здесь и далее даются в. пер. Ф. Зелинского (Римские
историки. М., 1970).
~ Яелание Ливия преподать ~рок ведет ero к искажению истины — в действи-
тельности Ганнибал осадил и захватил Казилин в течение зимы.
~о Правда, по мнению Тэна, Ливий «воскрешает общечеловеческие непосредствен-
ные страсти, а не сложное сочетание своеобразных чувств, которые представ-
ляет индивидуальная человеческая душа. Он изображает скорее качества, чем
живые лица. Если он нам и представляет их преобладающую страсть, то опу-
скает ее источник и последствия» (Указ. соч., с. 275).
~1 По словам Квинтилиана, «усиление одного служит усилению другого: вос-
хваляя подвиги Ганнибала, мы тем самым превозносим доблесть Сципиона»
(VIII, 4, 20).
1'- 0 жизни и полководческой деятельности Ганнибала подробно рассказывается
в кн.: Кораблев И. Ш. Ганнибал: 2-е изд. М., 1981.
М Е ТОД ДОСТИ)КЕ Н И Я
ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗНООБРАЗИЯ
CM.: ФаЬЬ P.-G. Livy: his historical aims and methods.— Cambridge, 1961,
р. 177; МсDonaldА. Н. The Style of Livy.— JRS, 1957, vol. 47, р. 159 — 160.
2 «Торкват» — от слова torquis (ожерелье).
205
3 Легендарным рассказам приписывалась особая воспитательная роль: Полибий
приводит эпизод с Горацием Коклесом как пример, воспитывающий жажду
славных подвигов (VI, 55, 1 — 4).
4 См.: 5'Ие К. Uber die Form in der Darstellung in Livius Geschichtswerk.—
RhM, 1910, vol. 65, S. 270 — 305, 359 — 412, где дается подробный сравнительный
анализ приемов Ливия и Полибия и показывается, как Ливий перерабатывал
заимствованный у греческого историка материал; Ре1агиейе L. Les procides de
redaction de Tite-Live, etudies dans une de ses narrations.— QPh, N. S., 1913,
vol. 37, S. 145 — 161, где рассматривается рассказ из первой декады (IV, 17 — 19)
и показывается, как Ливий расцвечивал и развивал сухой материал источника;
Jumeau R. Remarques зиг la structure de 1'expose livien (ХХХ, 18 — 26).— RPh,
1939, vol. 13, 3 Ser., р. 21 — 43.
5 См.: Дионисий Галикарнасский, «Письмо к Помпею», III.
6 Аверинцев С. С. Плутарх и античная биография. М., 1973, с. 191.
PE ЧИ В «HGTOPHH»
1 Квинтилиан отмечает пользу и ценность просопопеи: «3то полезнейшее упраж-
нение... Ораторам оно просто необходимо; ведь есть много речей, составленных
греческими и римскими ораторами для других, подходящих к их званию
нраву» (III, 8, 49 — 50).
~ См.: Andre J. М., Низ А. L'histoire à P,ome. P, 1974, р. 88.
3 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т. 5. Ранний эллинизм. М., 1979,
с. 510.
4 В научной литературе высказывалось предположение о том, что Ливий, описы-
вая Камилла, спасшего Рим от галлов, а затем отстроившего и укрепившего
его, имел в виду политику Августа (см.: Hellman F. Livius interpretationen.
В., 1939, $. 54), однако такая идентификация не была поддержана другими
учеными и квалифицировалась ими как недоказуемая (см.: Laistner М. L.
The greater roman historians. Berkely; Los-Angeles, 1947, S. 97).
~ Пер. Г. А. Стратановского в кн.: Фукидид. История. Л., 1981.
См.: Сенека-философ, «О гневе», 1, 20, 6: ариЙ dissertissimum virum Livium;
Тацит, «Анналы», IV, 34: Т. Livius eloquentiae ac fidei praeclarus in primis.
' По словам Квинтилиана, «во всех родах речи приходится завлекать, рассказы-
вать, наставлять, распространять, умерять, подготавливать умы слушателей
возбуждением илн усмирением их страстей» (111, 4, 15).
» Это напоминает начало первой речи против Катилины Цицерона: Quo usque
tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
' См. рекомендации Аристотеля относительно употребления примеров в совеща-
тельной речи («Риторика», III, 17, 1418 а; ср. у Дионисия Галикарнасского:
«История — это философия, основанная на примерах» — «Риторика», Х1, 2;
по словам Цииерона, исторические примеры «придают речи не только необык-
новенную сладость, но и достоинство и убедительность» — «Оратор»,[34, 120).
'о См. об этом: Dutoi;t Е. Silences dans Гoevre de Tite-Live.— Melanges J. Marou-
zeau. P., 1948.
'1 О методе переработки Ливием материалов Полибия, и в частности î ero технике
балансирования, см.: ЖаЬЬ P. G. Op. cit., р. 232; Andre J. М., Hus А. Ор.
сй., р. 89.
~2 CM. вышев ХХП, 39, 22, где Фабий дает наставления Эмилию быть рассуди-
тельным и осторожным.
1З Пер. М. Гаспарова; см. также: Мс Donald А. H. The Style of Livy.— ЛК$,
1957, vol. 47, р. 158.
'4 Подробнее об этом см.: Gries Х. Livy's use of dramatic speech.— AJP, 1949,
vol. 70, р. 118 — 141.
15 См.: Lambert A. Die indirecte Rede als kiinstlerisches Stilmittel des Livius.
Жг!сй, 1946.— In: Burck E. Wege zu Livius. Darmstadt, 1967, $. 415 — 429.
206
СТИЛЬ ЛИВИЯ
~ См.: Мс Donald А. Н. The Style of Livy.— JRS, 1957, vol. 47, р. 155 — 172, где
рассказы Ливия сопоставляются с ero источником.
2 Подробноо поэтическом стиле первой декады см.: Мс Donald А. Н. Ор. cit.,
р. 166 — 170; Laistner М. L. Op. cit., р. 87; Walsh P. G. Op. cit., 172, 254 — 257;
Momigliano А. Perizonius; Niebuhr and the character of Еаг1у Roman tradition.—
JRS, 1957, чо1. 47, р. 113; Duff Wight/.-А. Literary History of Rome. N.-Y.,
1960, р. 481.
См.: Stacey S. G. Die Entwickelung des Livianischen Stiles. Leipzig., 1896,
$. 6 — 39; Bardon Н. Poetes et prosateurs.— ЯЕА, 1942, vol. 44, р. 52 — 54.
Подробно об этом см. дисс.: Fckert W. De figurarum in Titi Livi аЬ urbe condita
libri usu. Bratislaviae, 1911.
5 См.: Canter Н. V. Rhetorical elements in Livy's direct Speeches.— AJPh, 1917,
vol. 38, р. 125; 1918, vol. 39, р. 44 — 69. Сводная таблица — р. 64.
~ Riemann О. Etudes sur la langue et la grammaire de Tite-Live. P., 1885; о языке
см.: Гинтовт И., Малейн А. И. Введение.— В кн.: Тит Ливий. Пуническая
война, с. 6 — 7. Пг., 1915; Соболевский С. И. Тит Ливий.— В кн.: История рим-
ской литературы. М., 1959, т. 1, с. 486 — 489.
1 «Как пишет Ливий, истинный вполне».— Божественная комедия/Пер. М. Ло-
зинского. М., 1967 (Ад, песнь 28, 12).
а См.: История в энциклопедии Дидро и Д'Аламоера/Пер. Н. В. Ревуненковой.
Л., 1978, с. 259.
БИ|БЛИОГРАФИЯ
Аверинцев С. С. Плутарх и античная биография. М., 1973.
Бокщанин А. Г. Древнегреческие историки позднеклассического периода и эпо-
хи эллинизма.— И)К, 1940, N 10, с. 99 — 107.
Борухович В. Г. Историческая концепция египетского логоса у Геродота.—
В кн.: Античная литература и археология. Саратов, 1972, вып. 1, с. 66 — 77.
~,овапгур А. H. Повествовательный и научный стиль Геродота. Изд-во ЛГУ,
1957.
История греческой литературы. Т. 1 — 3./Под ред. С. И. Соболевского,
М. E. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. М.: Изд-во АН СССР, 1946—
1960.
История римской литературы. Т. 1, 2/Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Гра-
барь-Пассек, Ф. А. Петровского. М.: Изд-во АН СССР, 1959 — 1962.
Кораблев И. Ш. Ганнибал. М., 1981.
Лосев А. Ф. Античная философия истории. М., 1977.
Лурье С. Я. Геродот. М.; Л., 1947.
Немировский А. N. Идеология и культура раннего Рима. Воронеж, 1969.
Немировский А. И. У истоков исторической мысли. Изд-во Воронеж. ун-та, 1979.
Пьянков H. В. Борьба Кира с Астиагом по данным античных авторов.— ВДИ,
1971, № 3, с. 16 — 37.
Рожанский И. Д. Античная наука. М., 1980.
Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия. М., 1979.
Струве В. В. Геродот и политические течения в Персии эпохи Дария 1.— ВДИ,
1948, № 3, с. 12 — 35.
Тахо-Годи А. А. Ионийское и аттическое понимание термина «история» и родст-
венных с ним.— ВКФ. М.: Изд-во МГУ, 1969, вып. 2, с. 107 — 126.
Тэн И. Тит Ливий: Пер. с фр. М., 1885.
Утченко С. J7. Политические учения Древнего Рима. М., 1977.
Утченко С. Л. Учение Цицерона об «идеальном гражданине».— BPH, 1954,
№ 3, с. 21 — 32.
Штаерман Е. М. Кризис античной культуры. М., 1975.
Штал~ И. В. Гомеровский эпос. М.: Высш. шк., 1975.
Ярхо В. Н. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой траге-
дии. М., 1978.
А&l ;у '.Volksmarch n,S ge ndNove le eiHero ot ndsei enZeitgenoss
Gottingen, 1921.
Ап~Ы J.-М. Hus А. L'histoire а P,ome. P., 1974.
Begbie С. М. The Epitome of Live.— CIQ, 17, 1967, р. 332 — 338.
Bischoff H. Der Warner bei Herodot. Diss. Marbnrg, 1932.
Bornitz Н. Fr. Herodot — Studien Beitrage zurn Verstandnis der Einheit des
Geschichtswerk. В., 1968.
208
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВДИ вЂ” Вестник древней истории.
ВКФ вЂ” Вопросы классической филоло-
гии.
И)К вЂ” Исторический журнал.
AJPh — American Journal of Philology.
АНЯ вЂ” American Historical P eview.
C1Ph — Classical Philology.
CIQ — Classical Quarterly.
С٠— Classical Review.
C1W — Cl assical Weekly.
JRS — Journal of Roman Studies.
JS — Journal des Savants.
Gn — Gnomon.
Н вЂ” Histor i a.
НБ',Б', — Historicorum Romanorum Re-
liquiae.
HSCPh — Harvard Studies in Classical
Philology.
Мп — Mnemosyne.
Ph — РИ lologus.
PhQ — Philological Quarterly.
R Š— Real encyklopadie der K»ss&l
schen АИег1цтяч1ззепзсЬай.
REL — Revue des etudes latins.
ЯЬМ вЂ” Rheinisches Museum.
RIGI — Rivista indo-greco Italia.
Rph — Revue de Philologie.
ТАРА — Transactions and Proceedings
of the American Philological Associa-
tion.
®К٠— Wochenschrif t fQr kl assi-
sche Philologie.
СОДЕРЖАНИЕ
° ° ° °
Геродота
80
96
114
137
161
180
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Т. Н. Кувпсцова)............... 18Т
ПРИМЕЧАНИЯ ........................ 197
БИБЛИОГРАФИЯ ....................... 208
СПИСОК СОКРЛЦ!ЕНИЙ
212
ВВЕДЕНИЕ (М. Л. Гаспаров)
ГРЕЧЕСКАЯ ЭПИЧЕСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ (Т. А. Миллер)
Проблемы изучения творчества Геродота
Исторические условия возникновения труда
Творчество Геродота ..
Композиция «Истории» Геродота
С ТИЛЬ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Концепция истории
РИМСКАЯ ЭПИЧЕСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ (Т. И. Кувкецова)
Предпосылки возникновения римской историографии и ее ранние оо-
P азцы
Тит Ливий: его сочинение и его источники
Цель сочинения. Метод достижения идейно-художественного един-
ст ва
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
\ Ь
Метод достижения художественного разнообразия
Речи в «Истории»
С тиль Ливия е е в е е е е
6
10
21
21
38
46
ТАМАРА ИВАНОВНА КУЗНЕЦОВА,
ТАТЬЯНА АДОЛЬФОВНА МИЛЛЕР
~АНТИЧНАЯ
ЭПИЧЕСКАЯ
ИСТОРР ОГРАФИ Я
ГЕРОДОТ, ТИТ ЛИВИЙ
Утверждено к печати
Институтом мировой литературы
им. А. М. Горького
Академии наук СССР
Редактор издательства Л. М. Стенина
Художник И. Е. Сайко
Художественный редактор С. А. Литвак
Телнический редактор В. Д. Прилепская
Корректоры О. В. Лаврова, Е. В. Шевченко
ИБ М 28443
Сдано в набор 10.02.84
Подписано к печати 1.06.84
АО7369. Формат 60Х90'/16
Бумага типографская J4 2
Га рнитура литературная
Печать высокая
Уел. печ. л. l3,5 Уч.-изд. л. 16,5. Усл. кр. on. 13,76.
Тираж 6300 экз. Тип. зак. 3761
Бена 1 р.
Издательство «Наука»
J)7864 ГСП-7 Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90
2-я аюпография издательства «Наука»
12[099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 1О