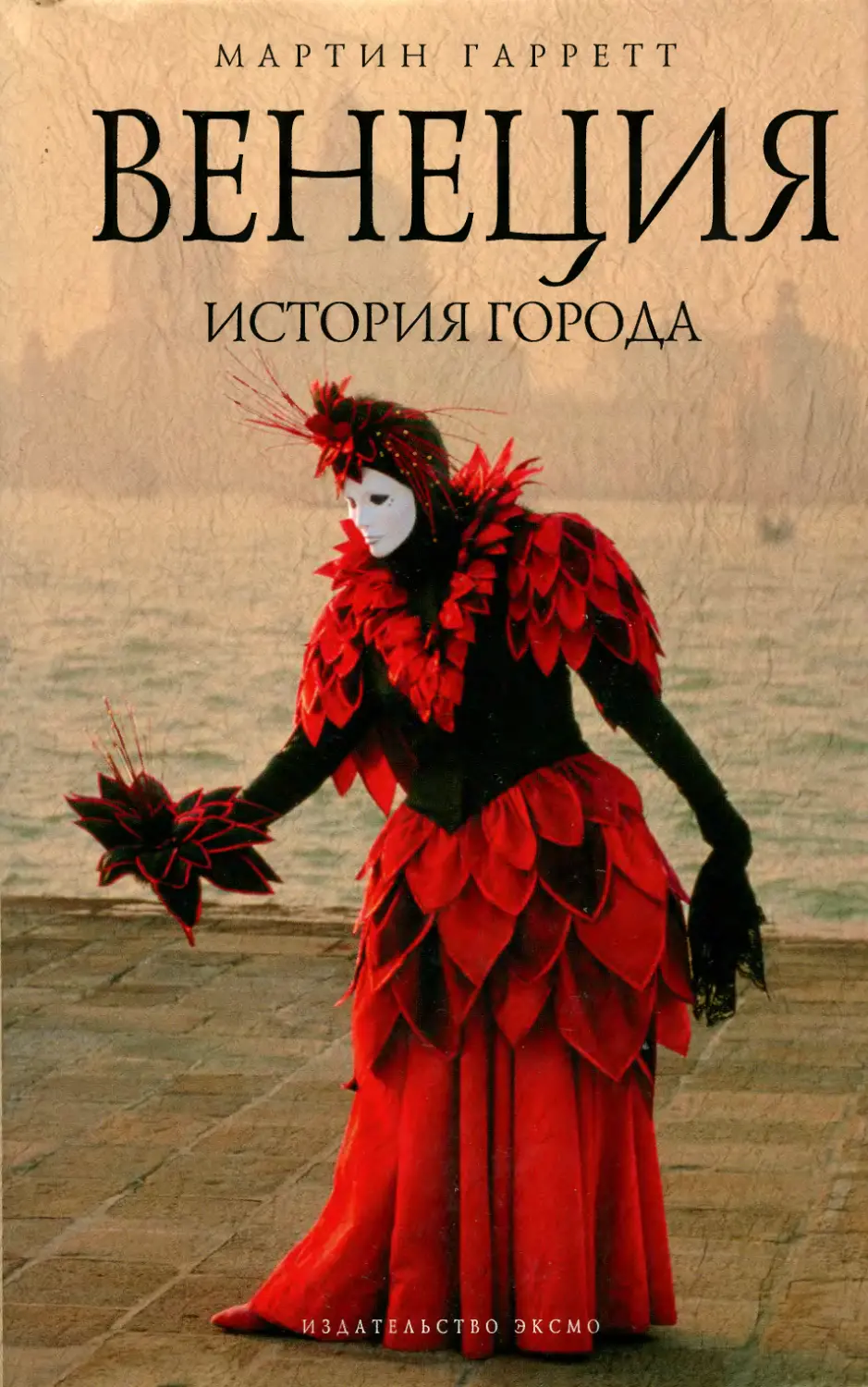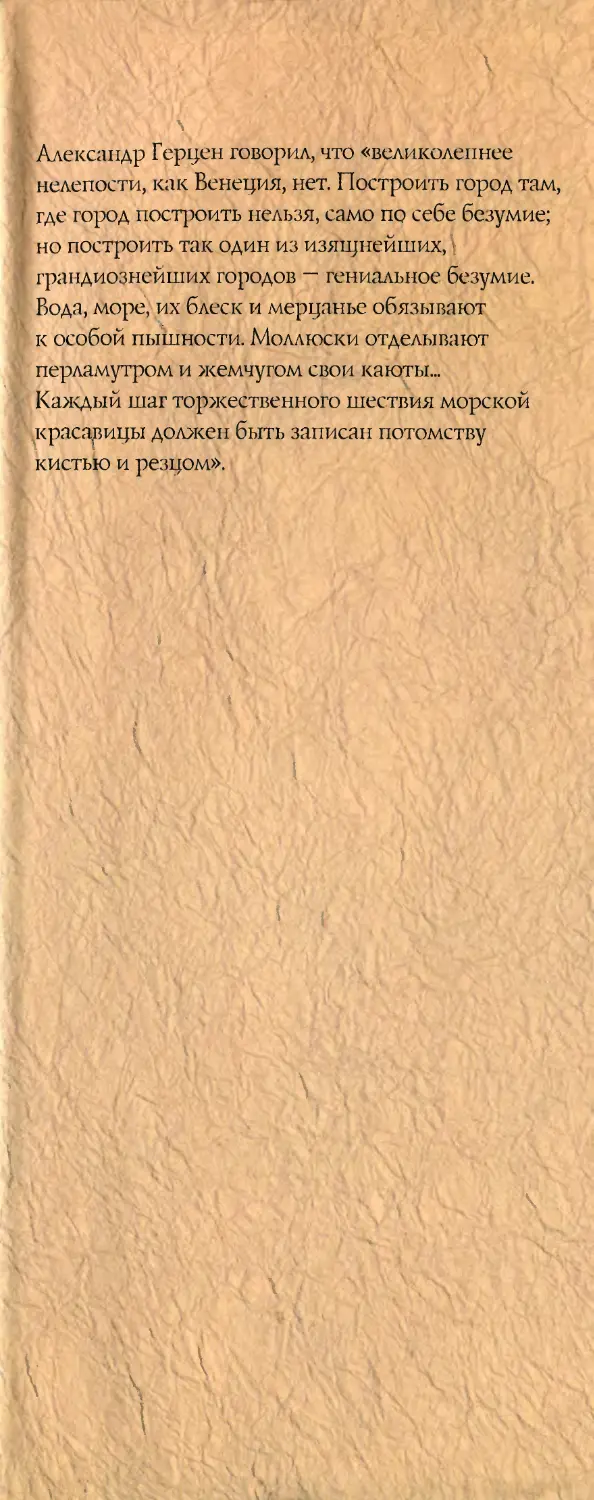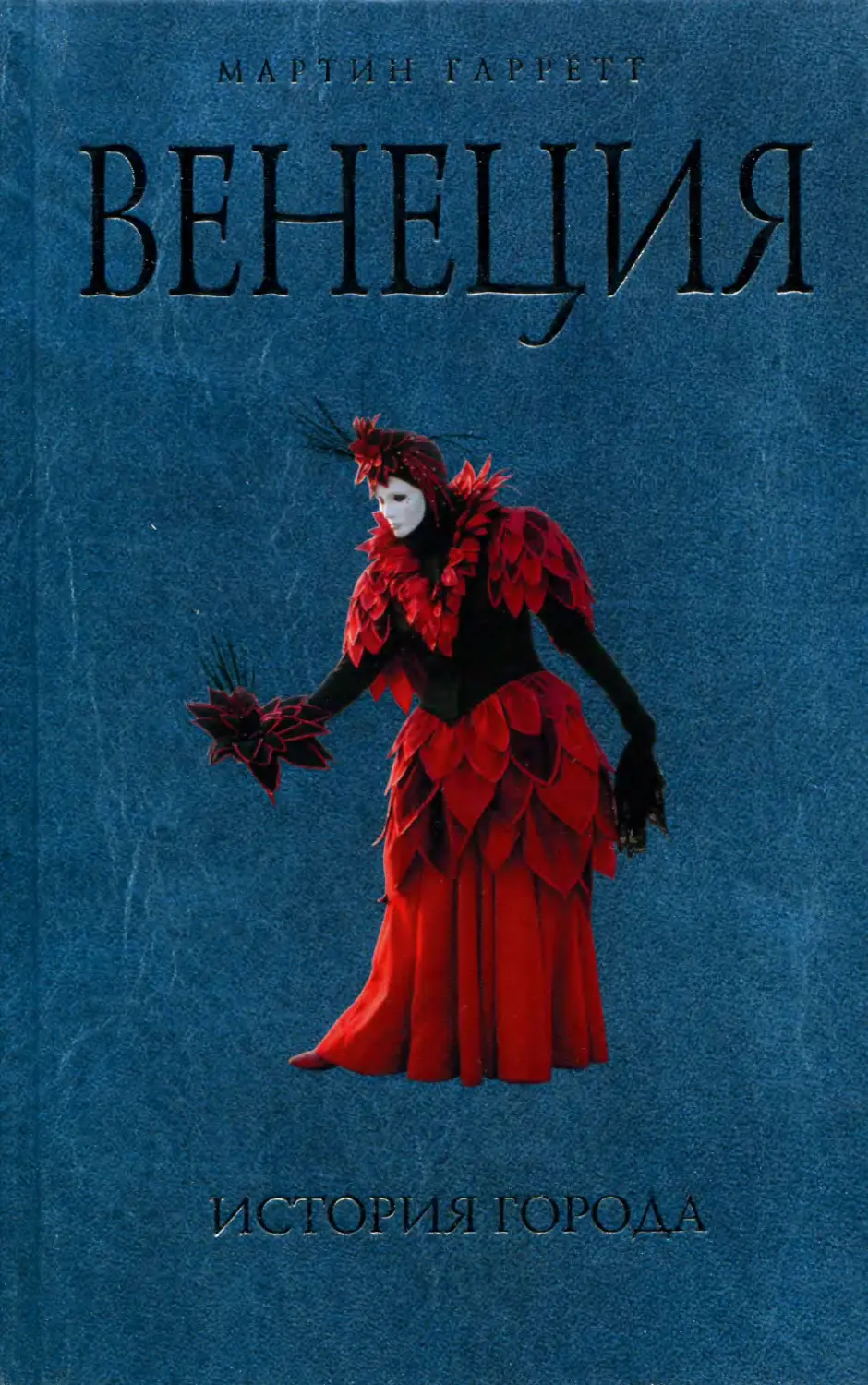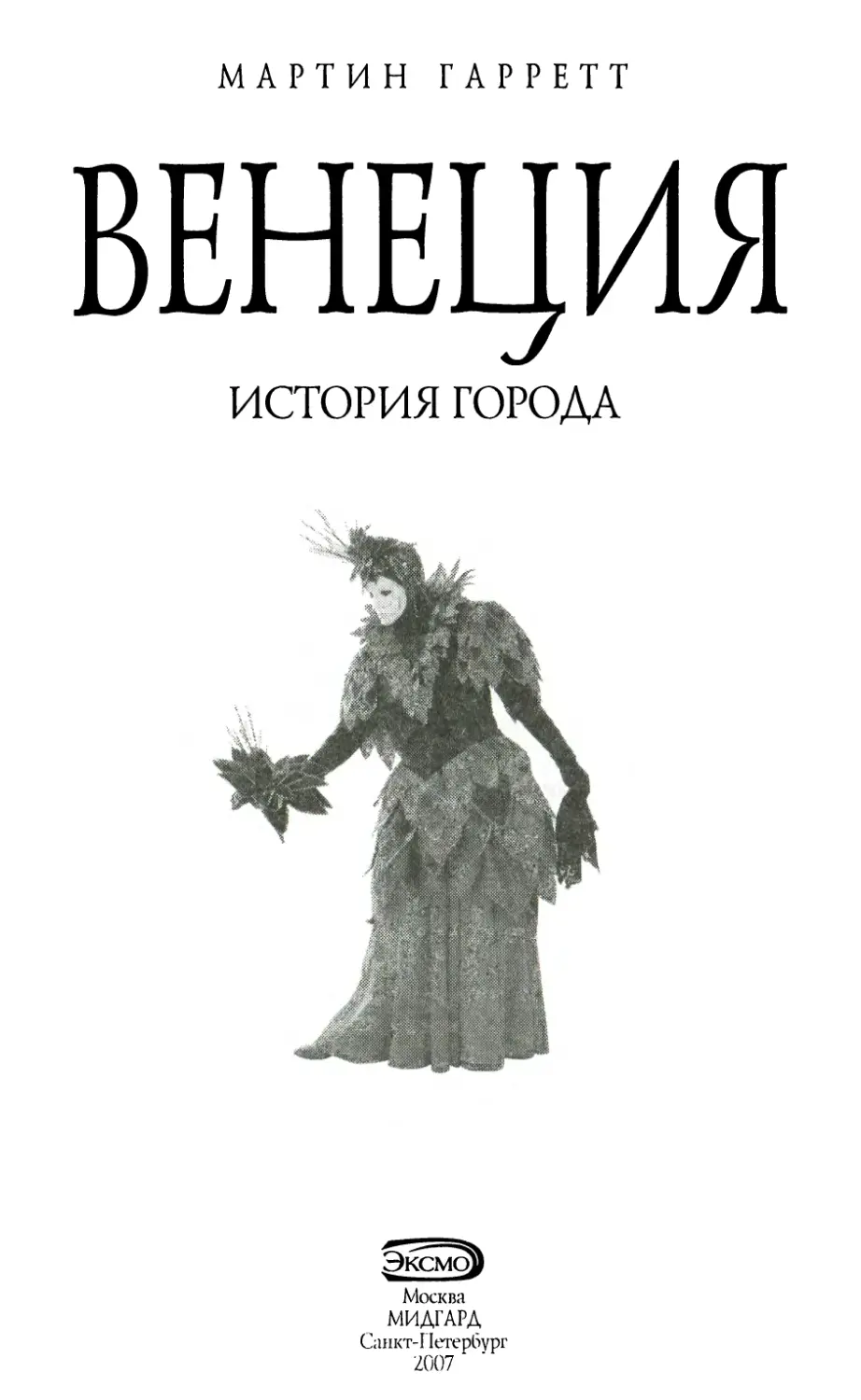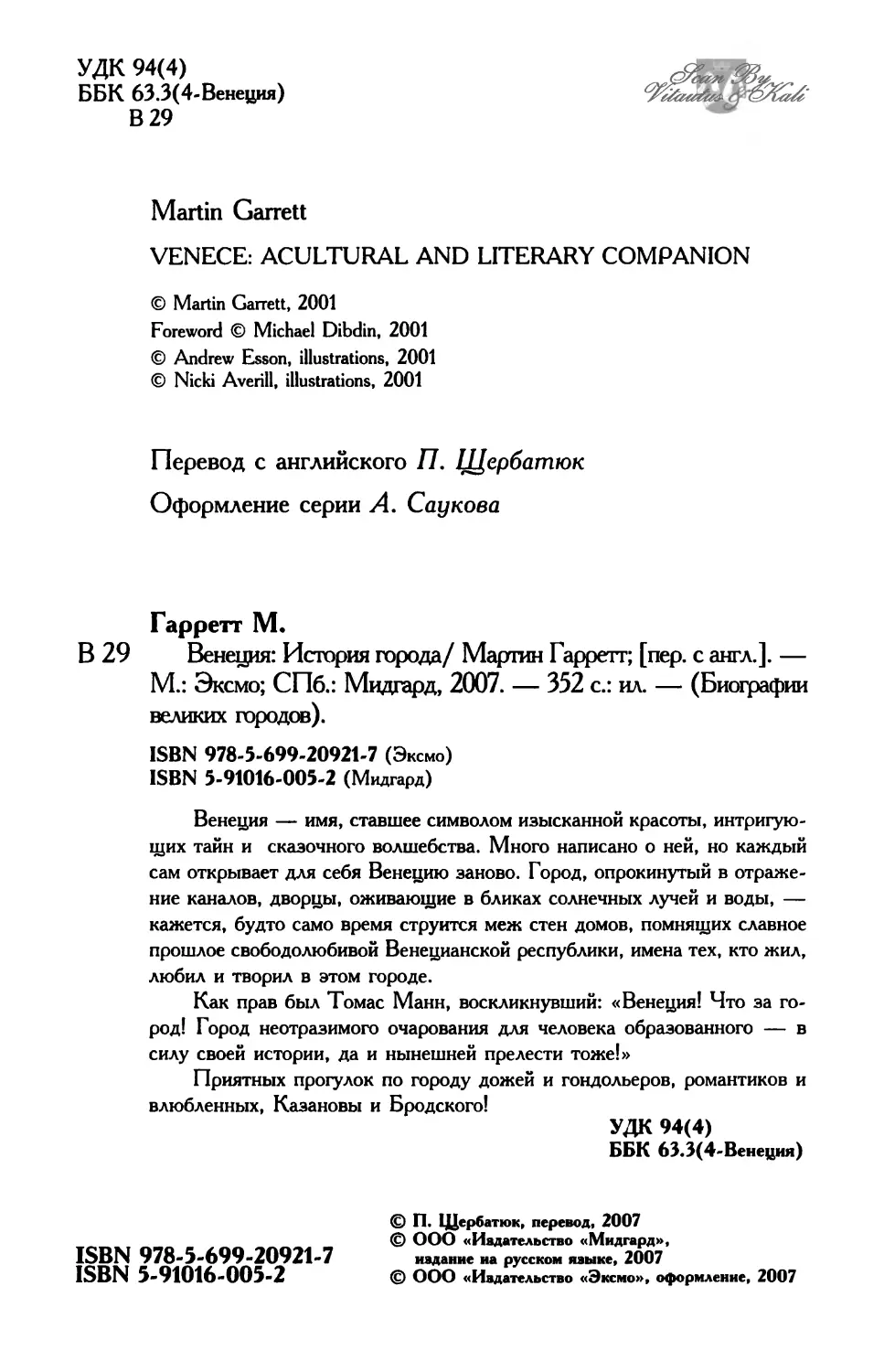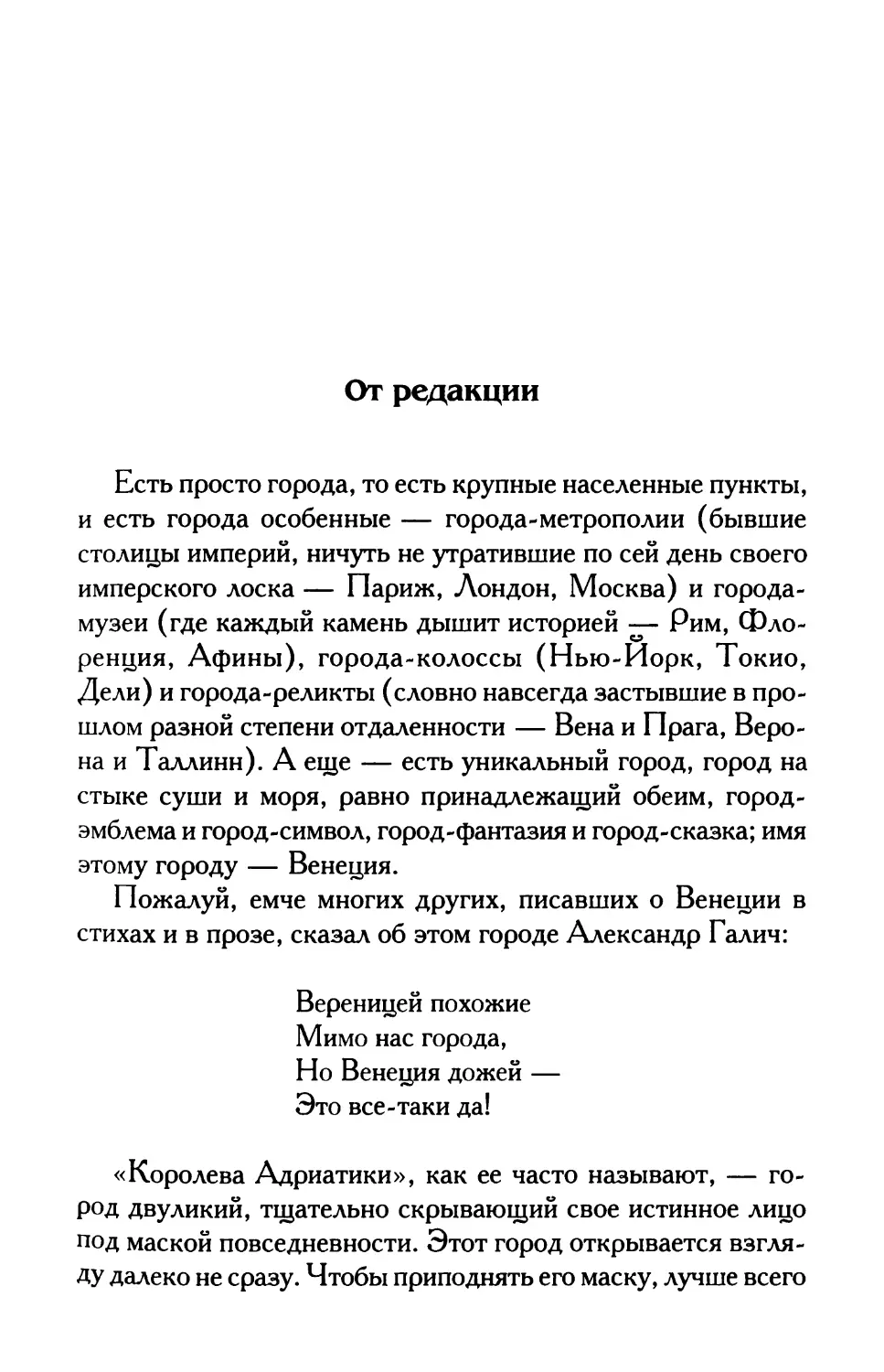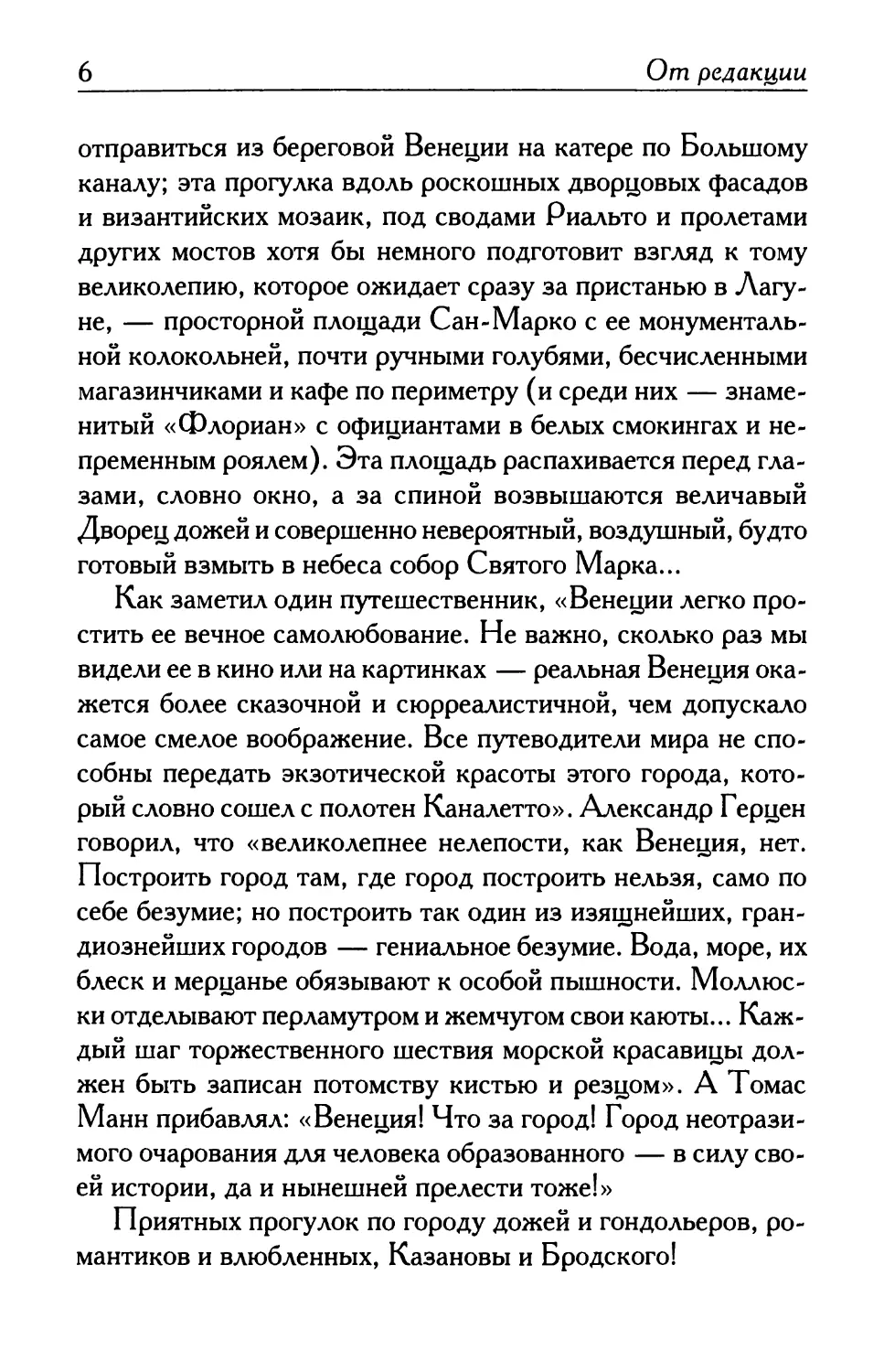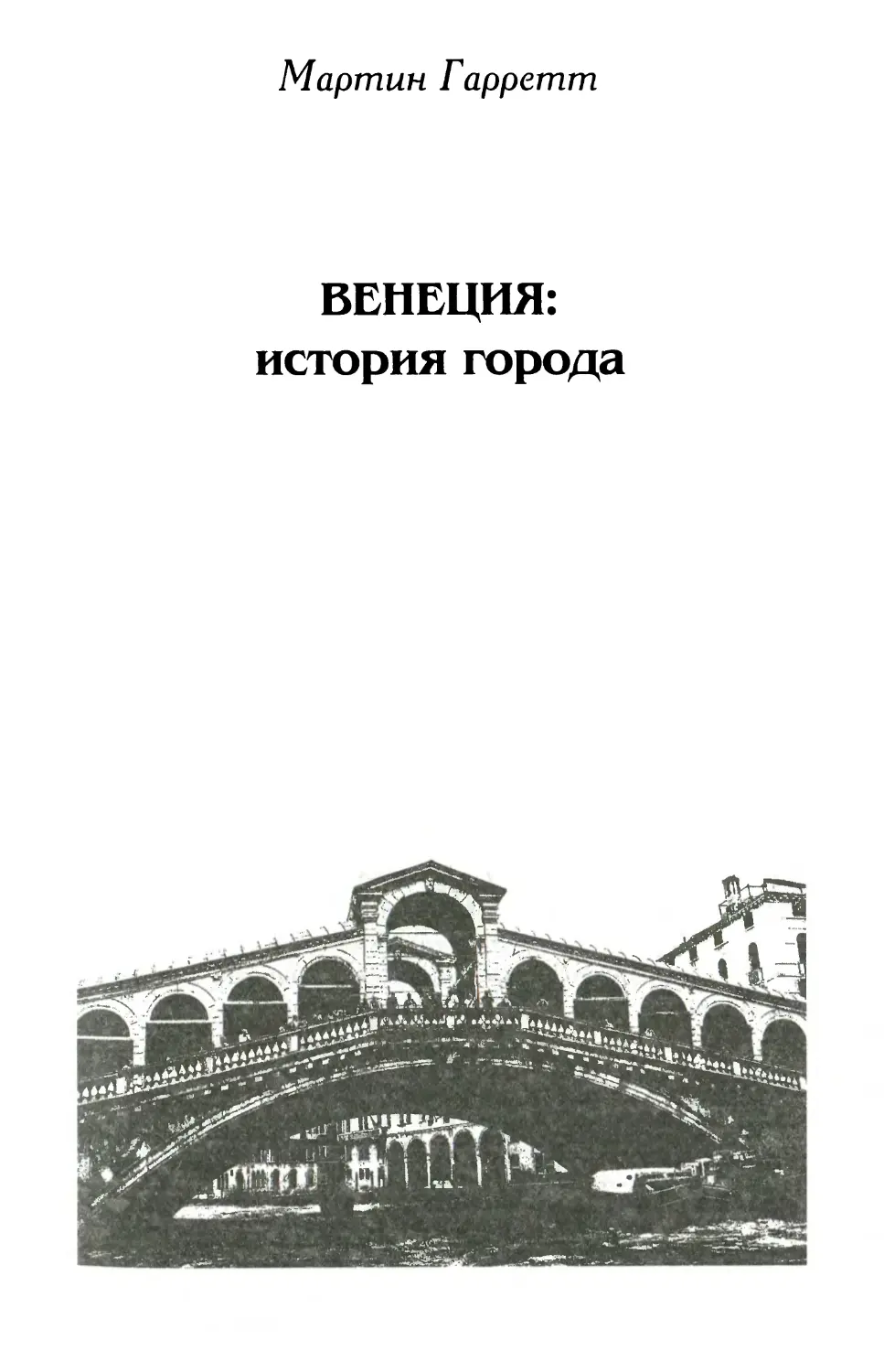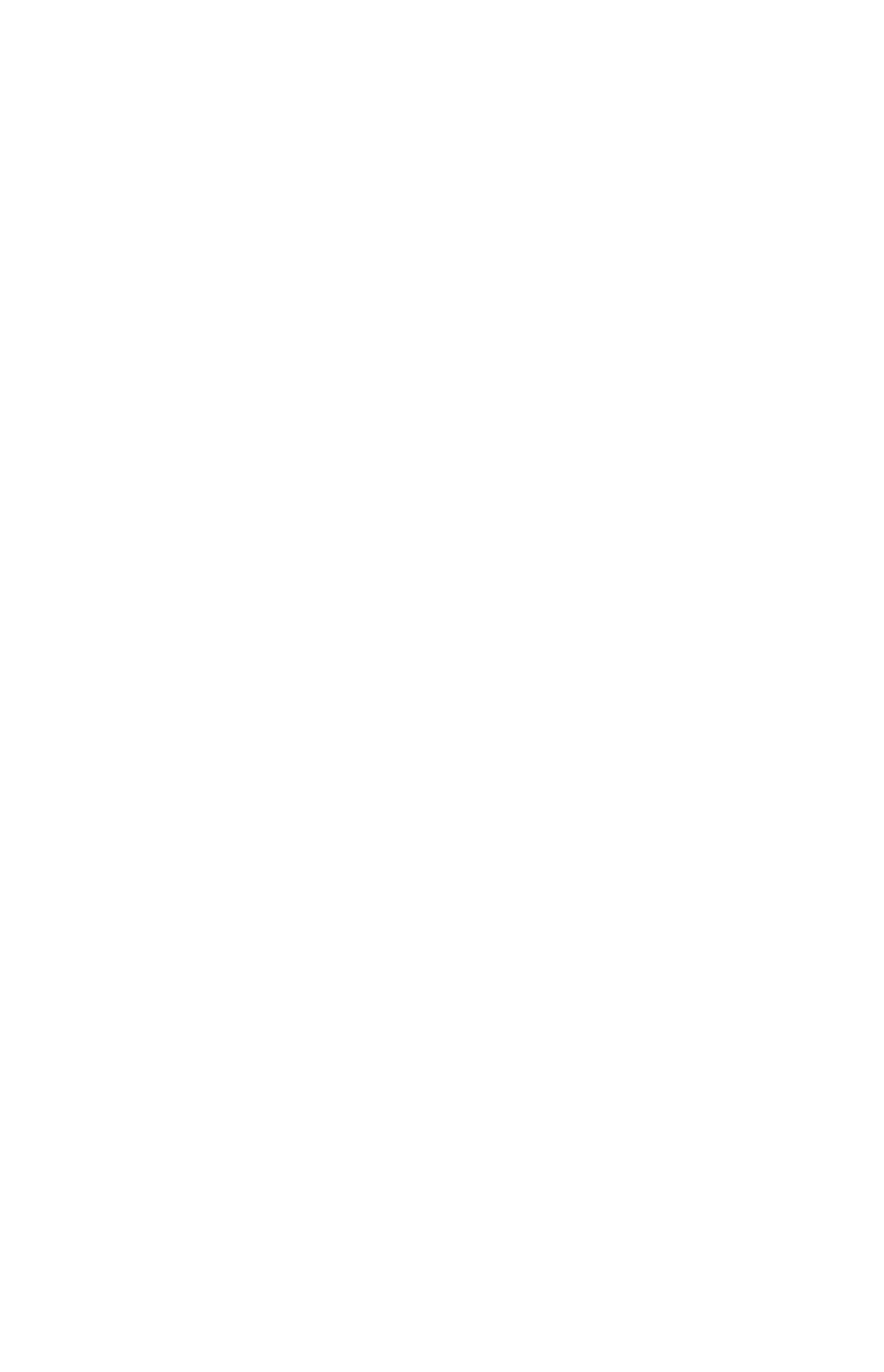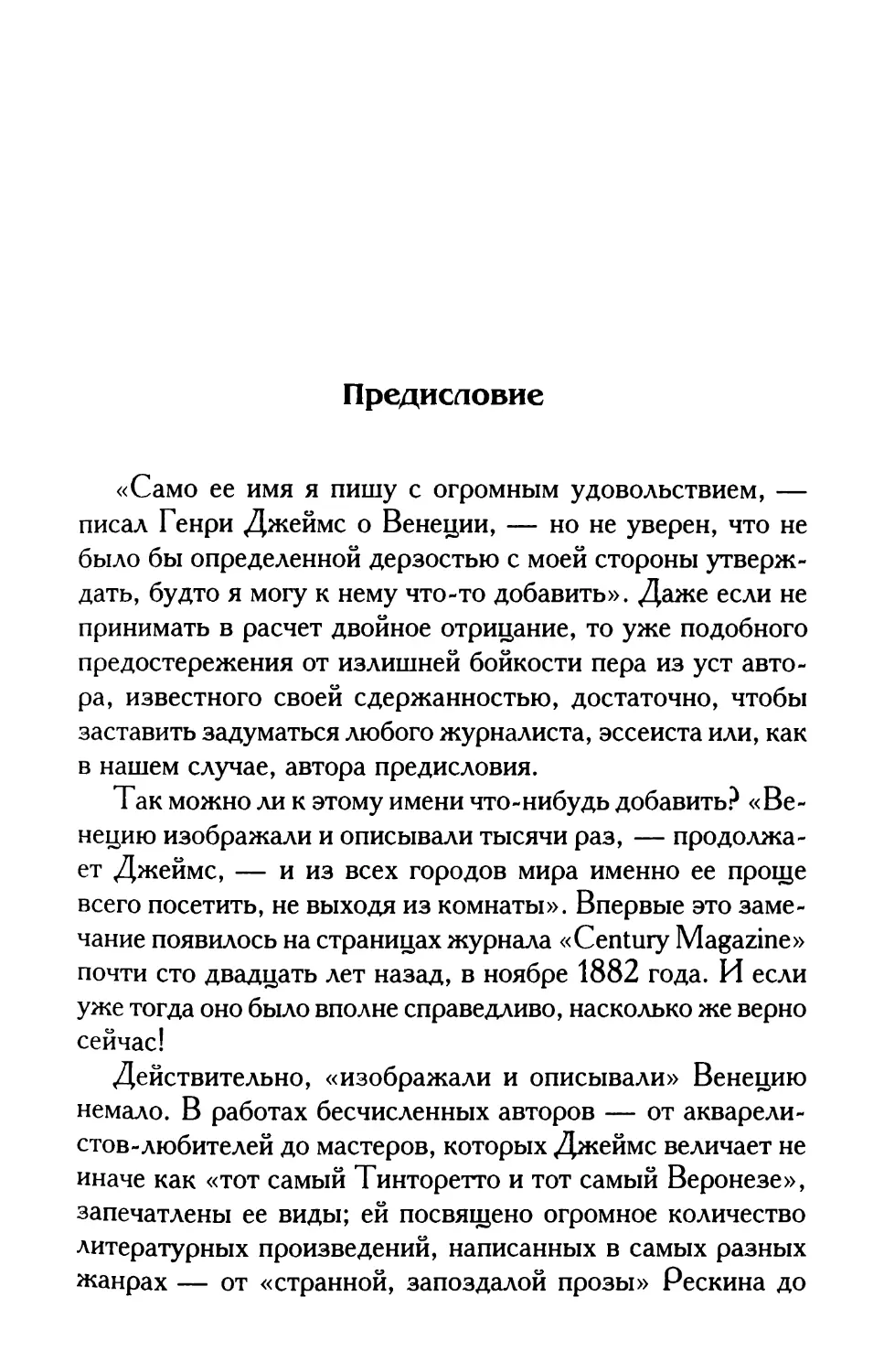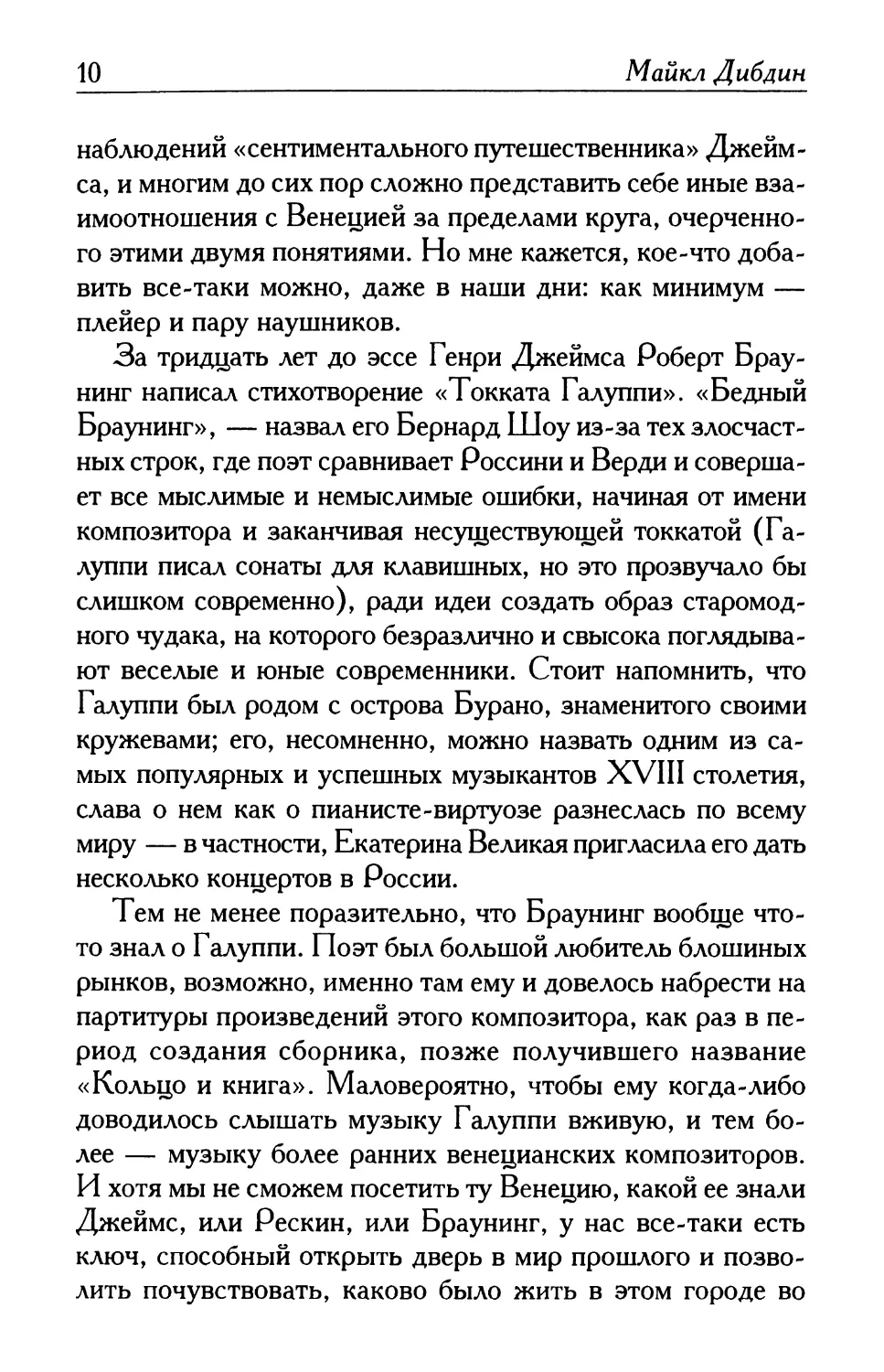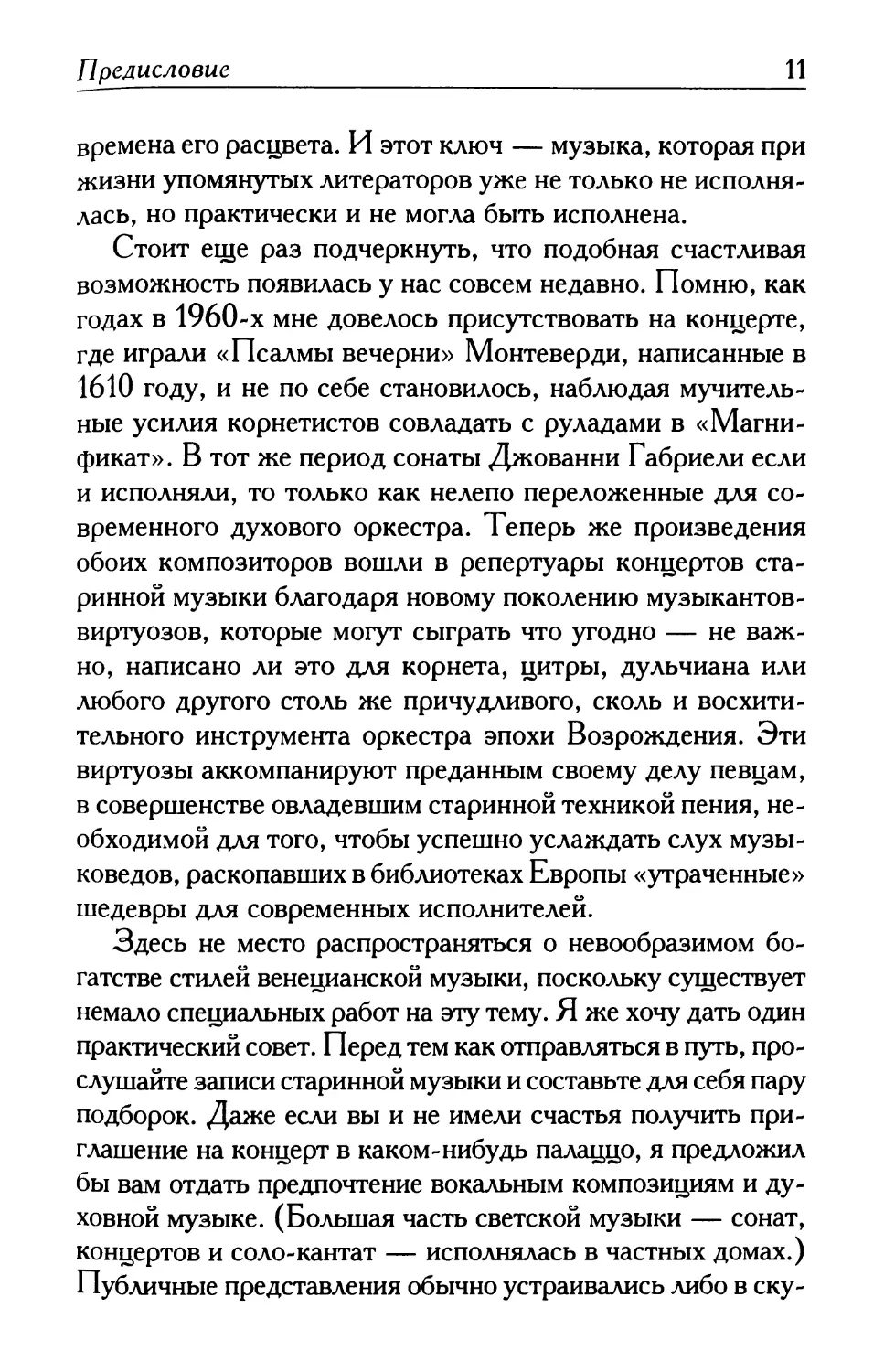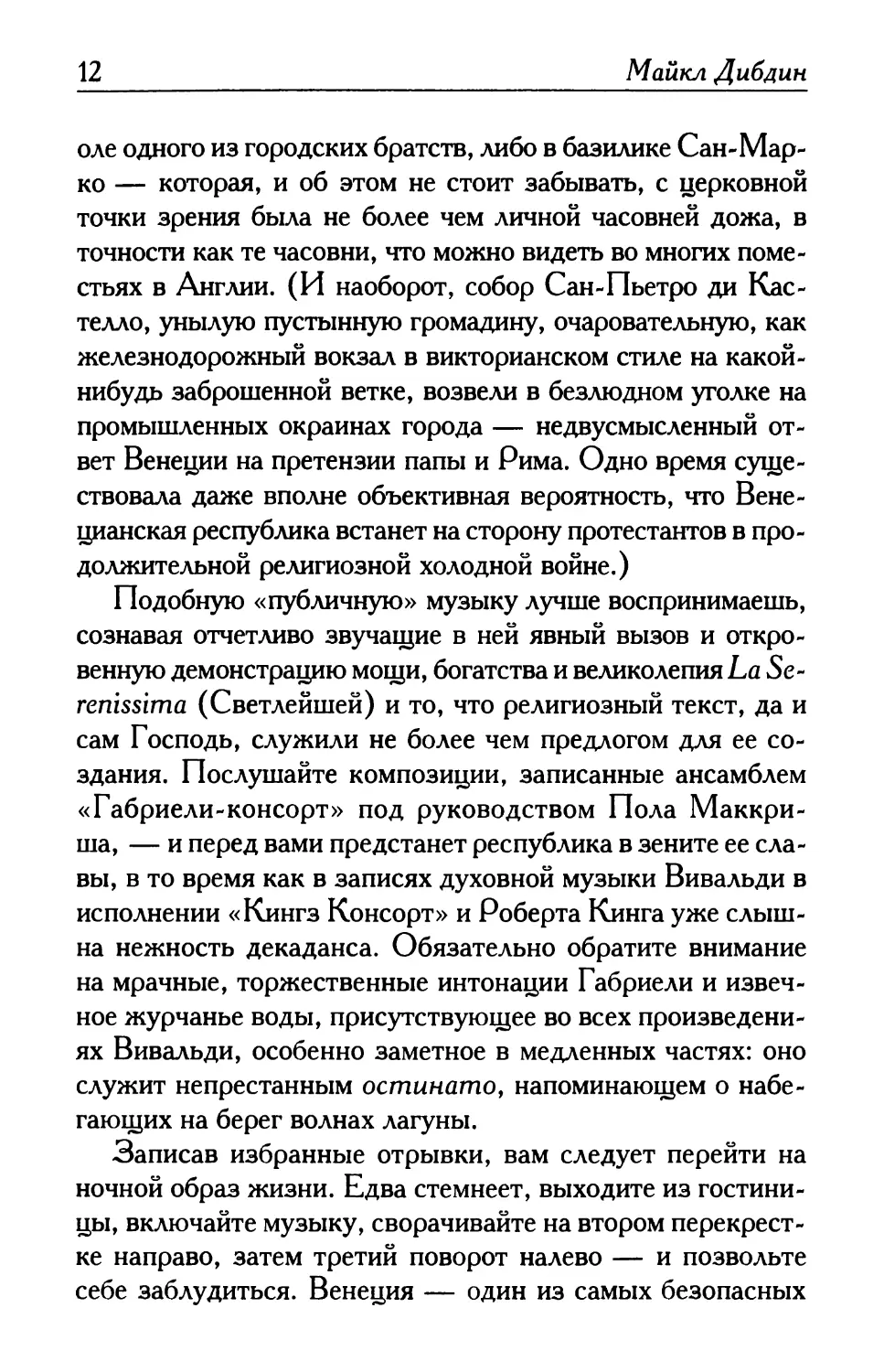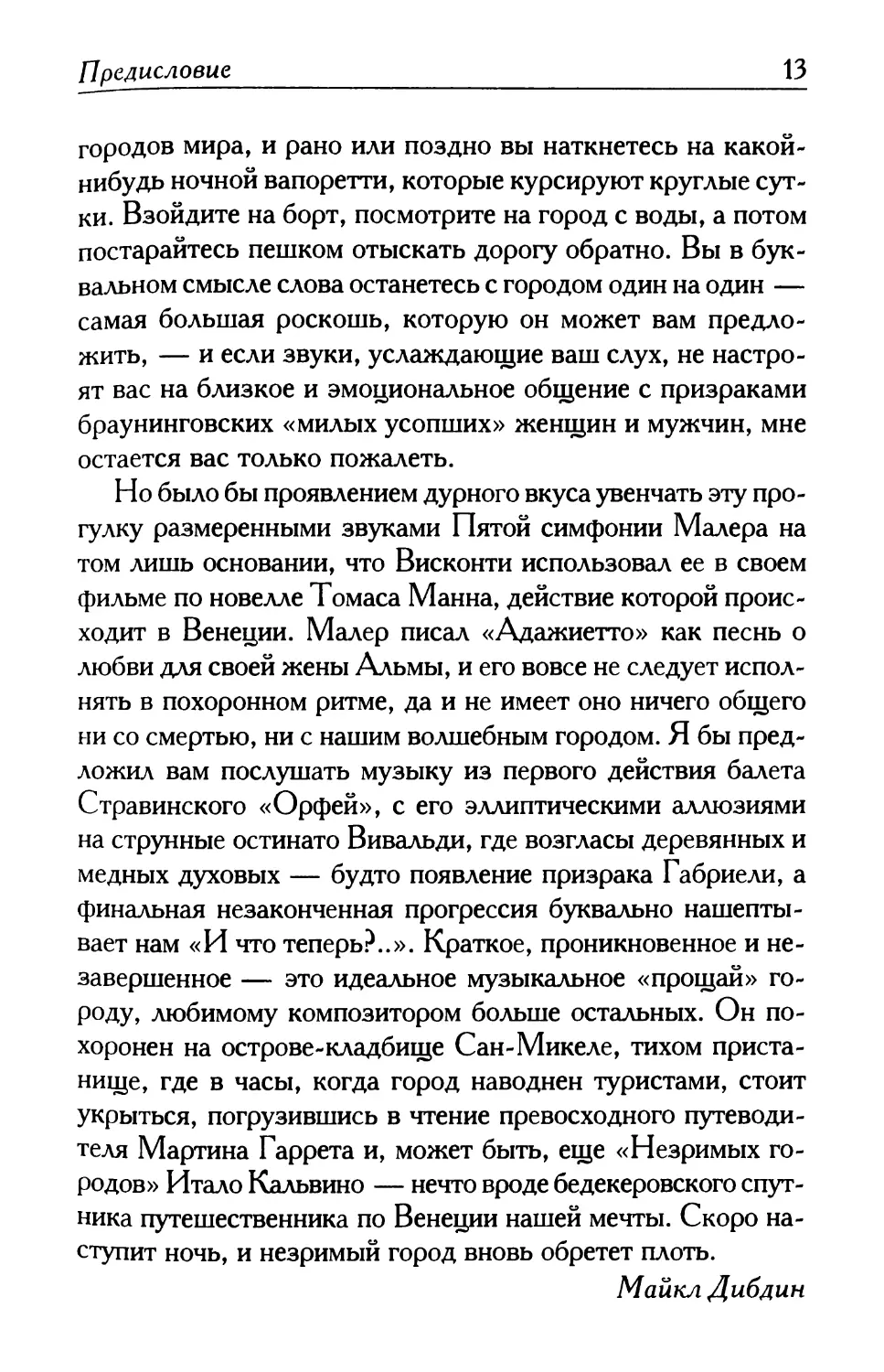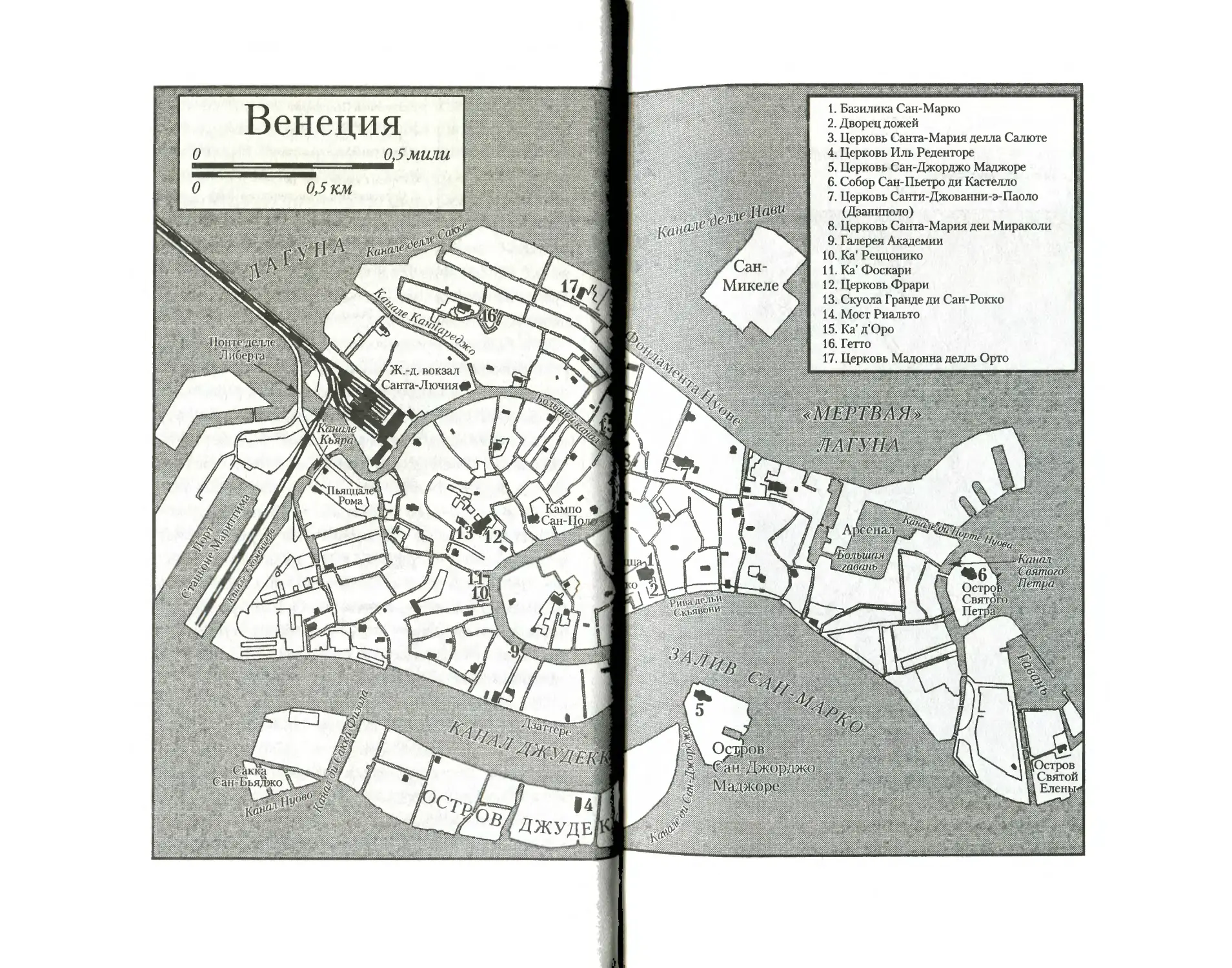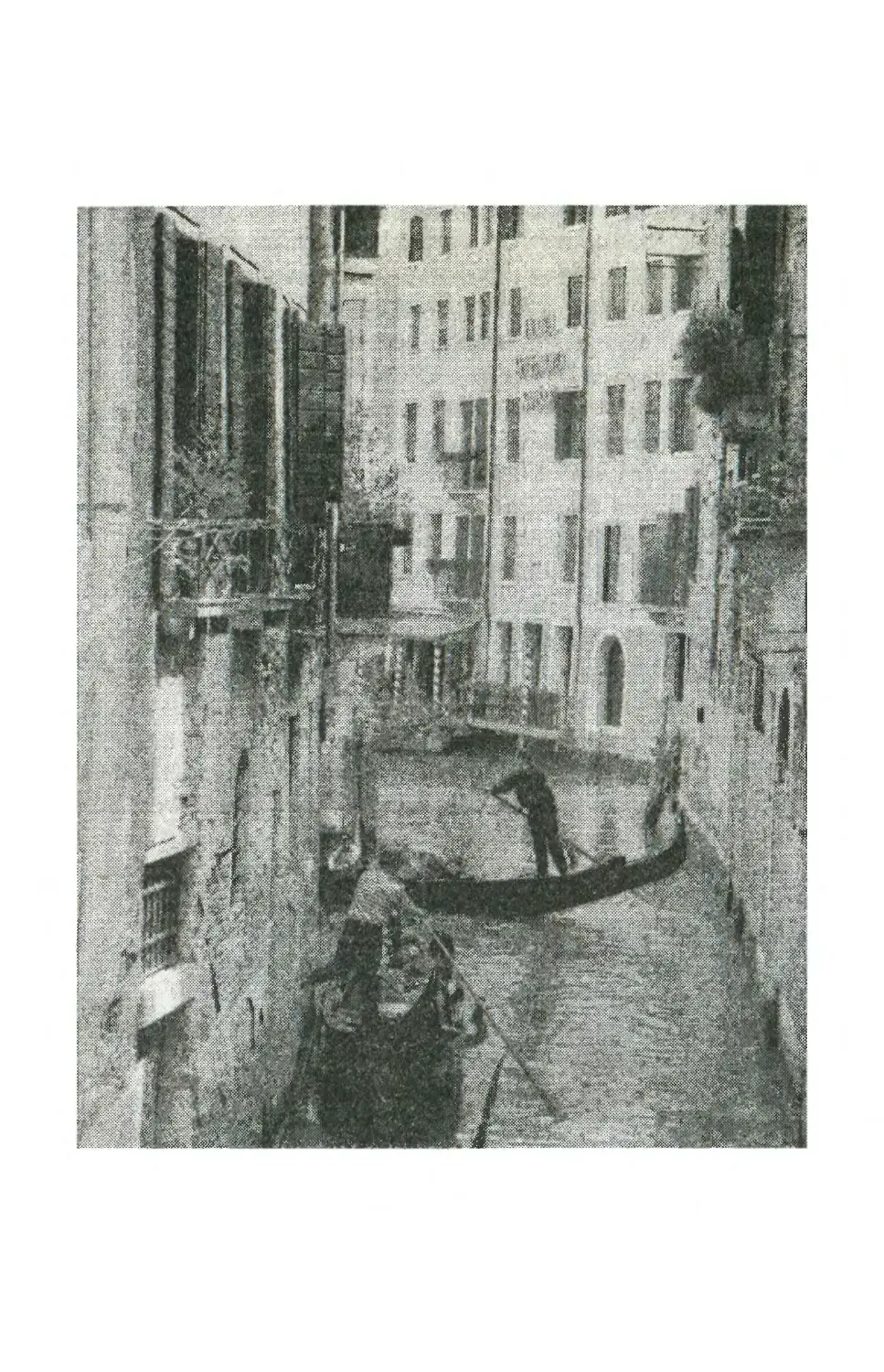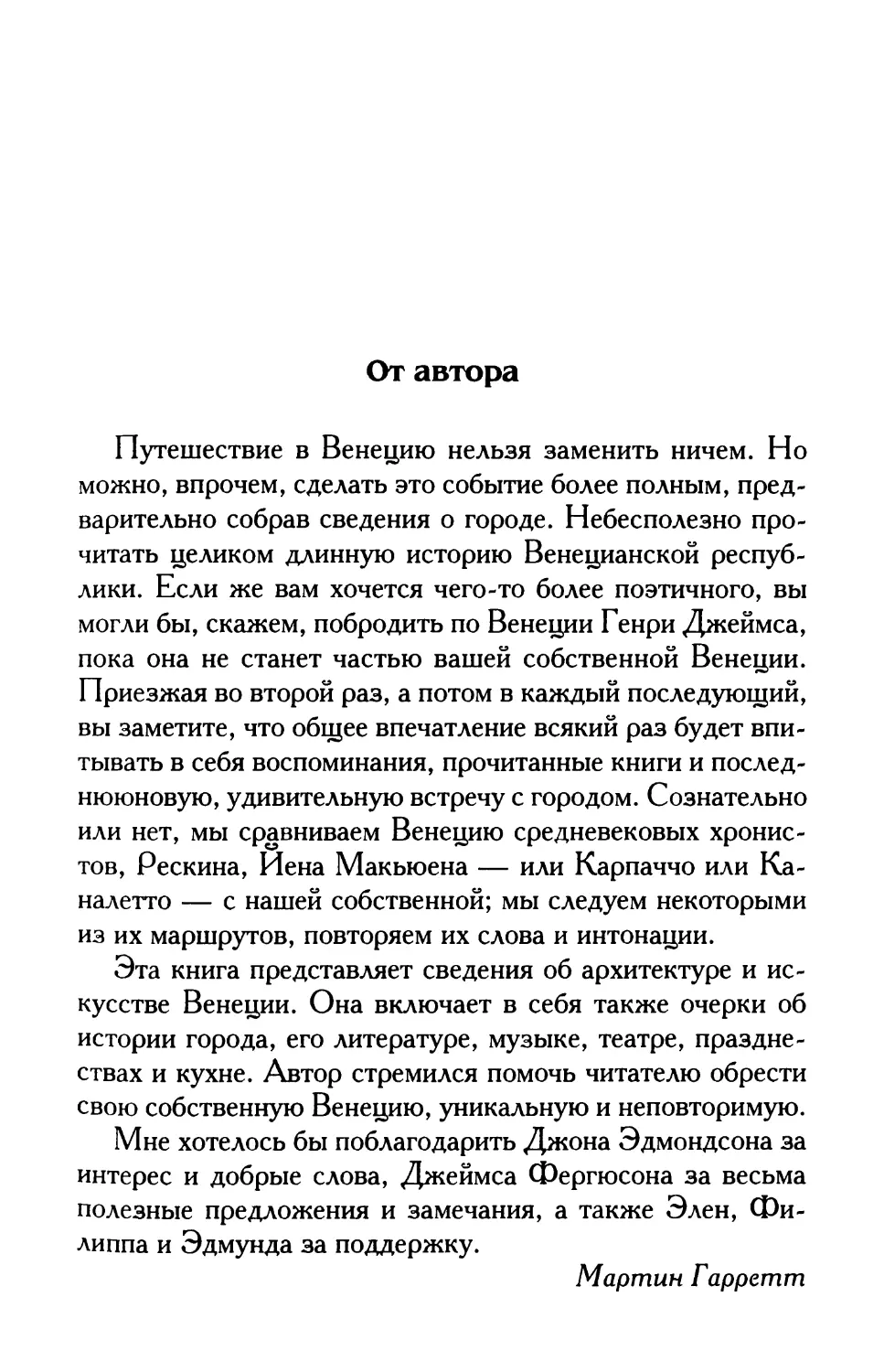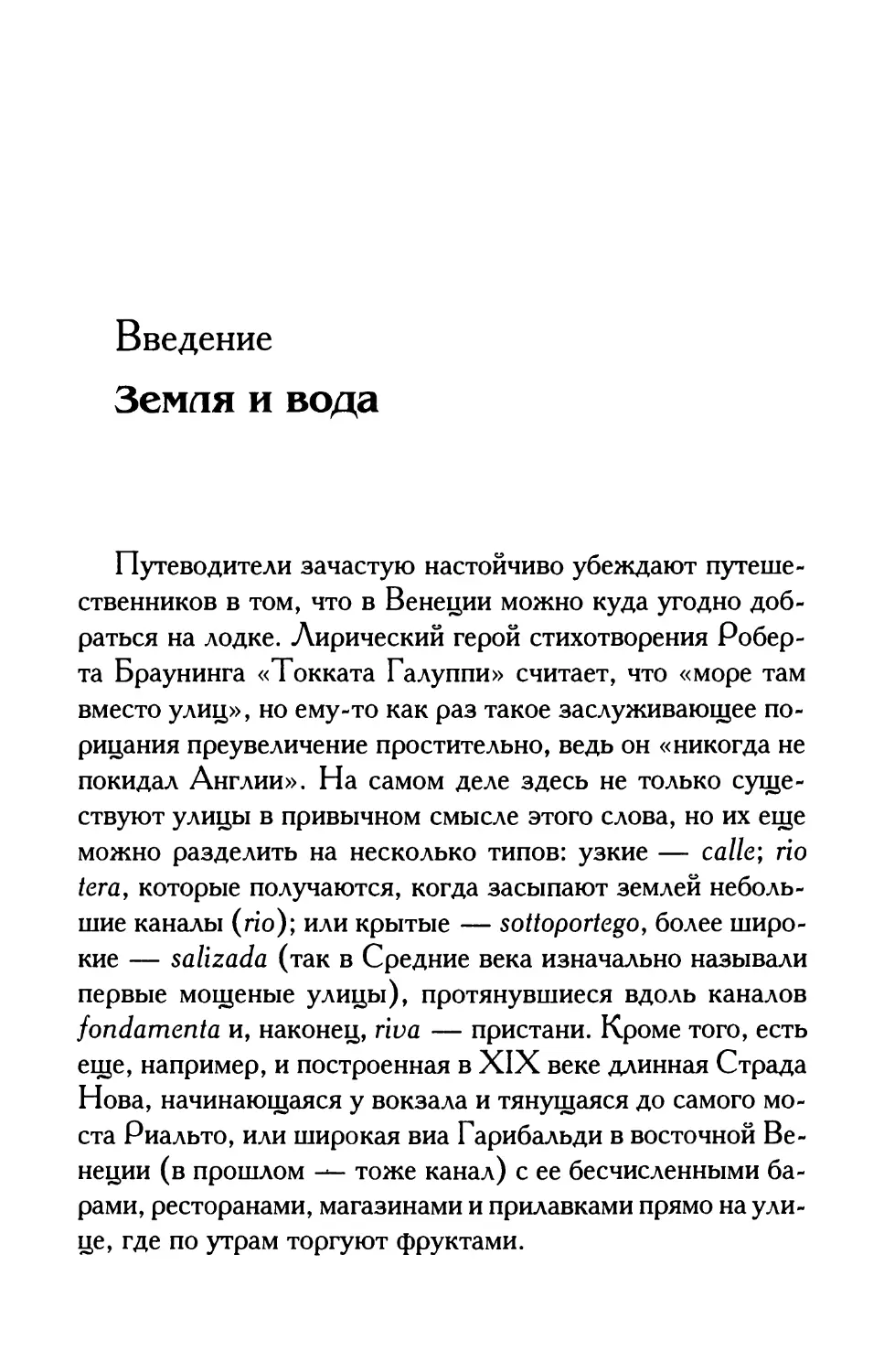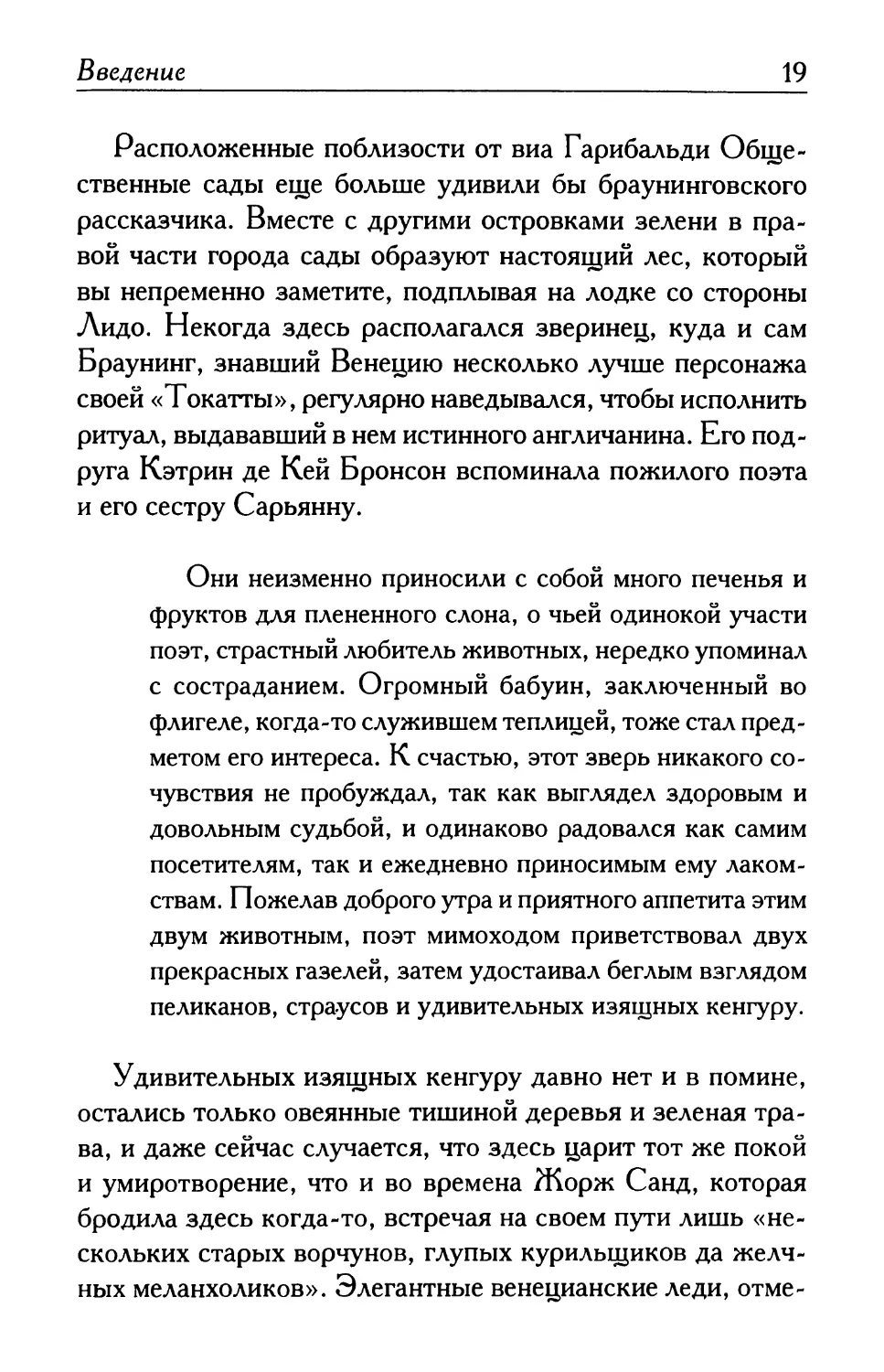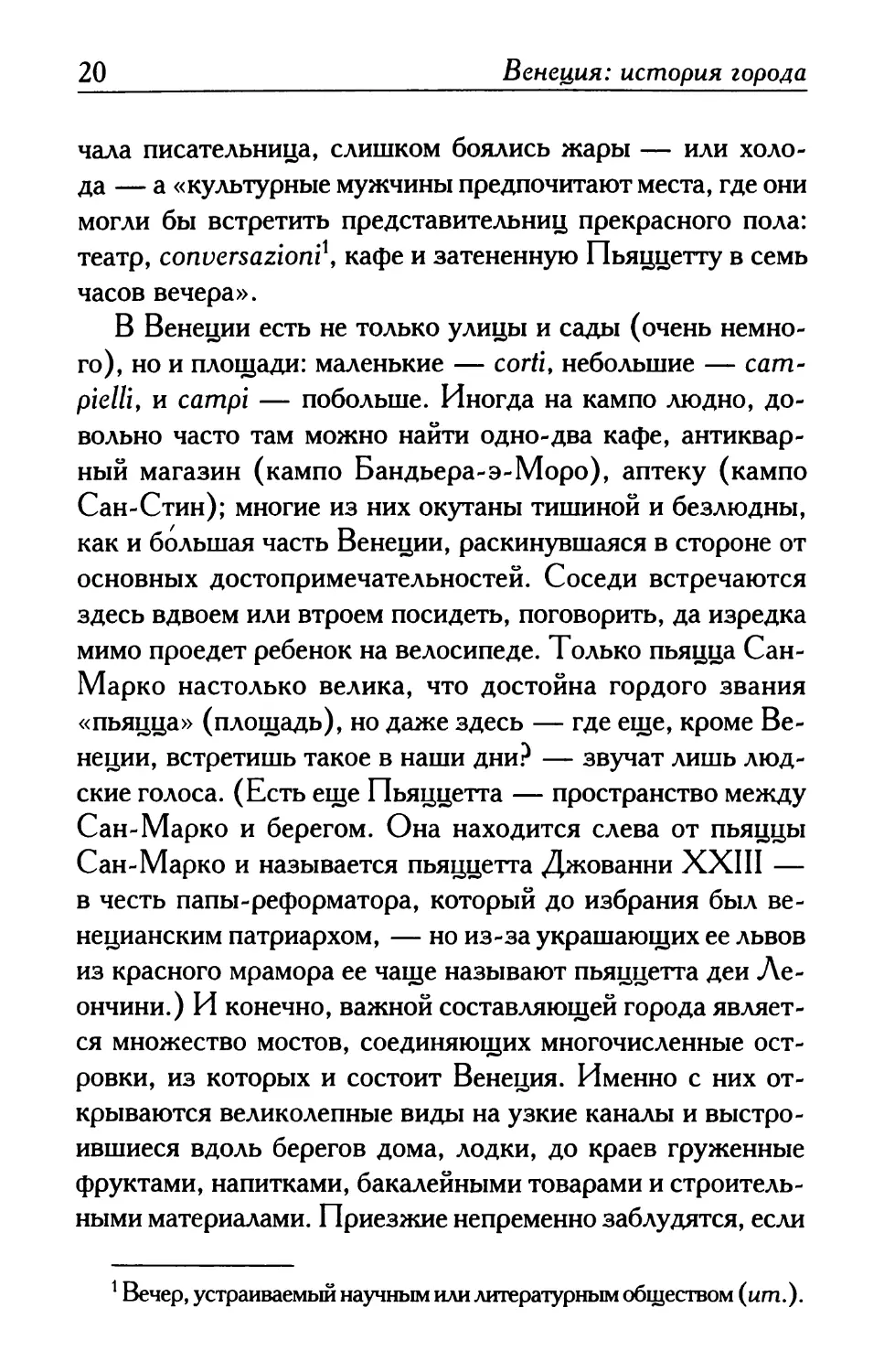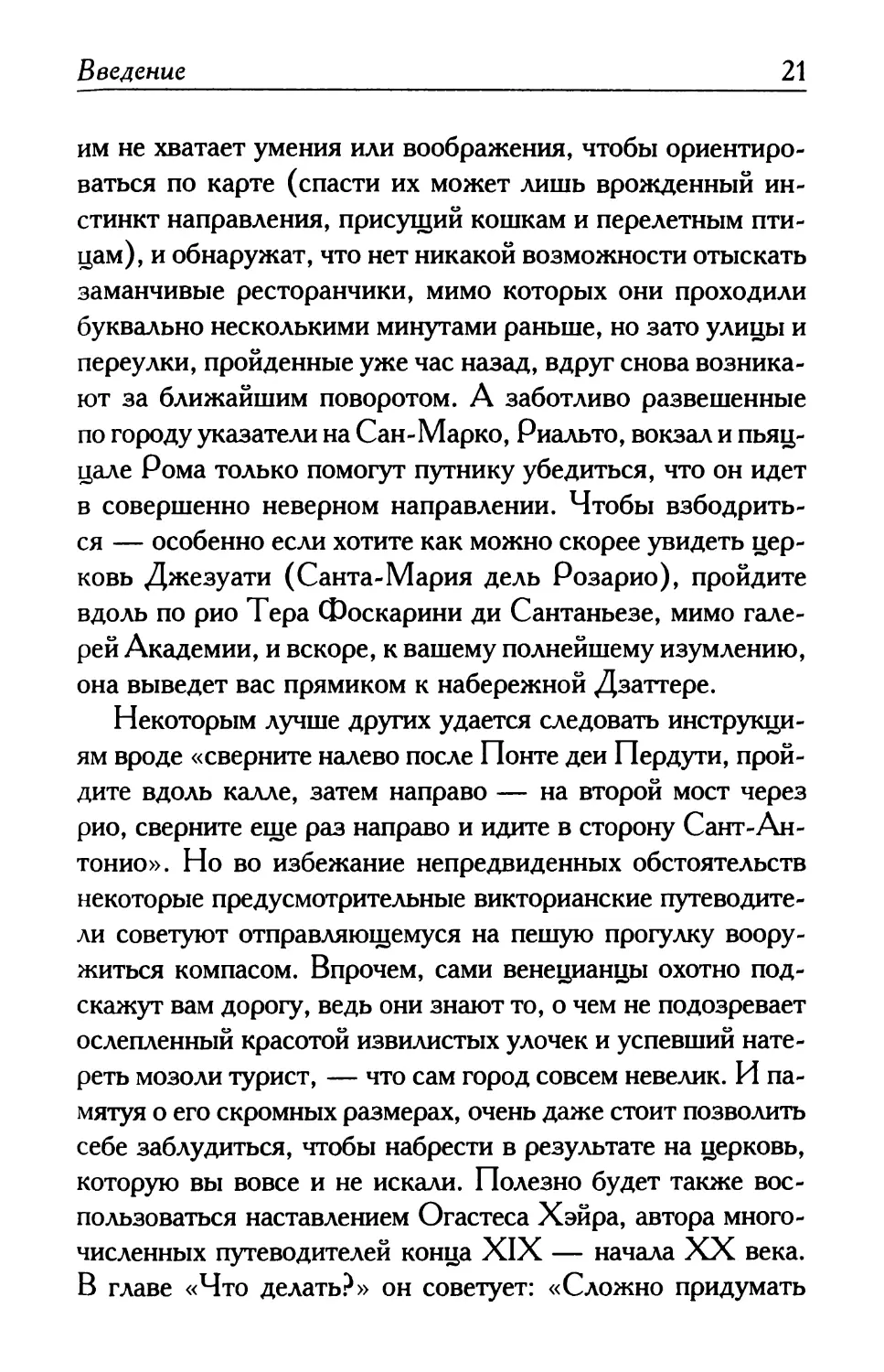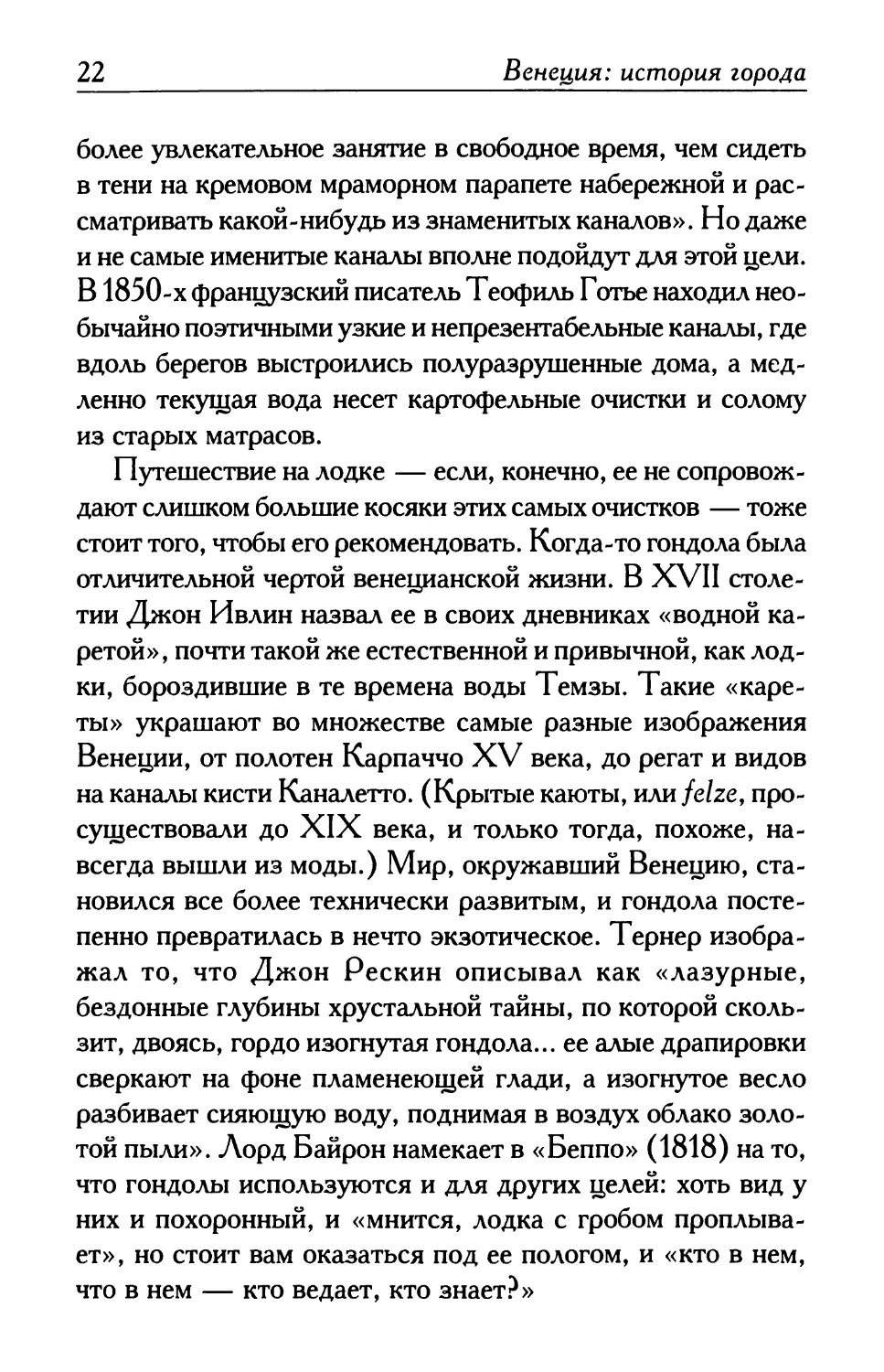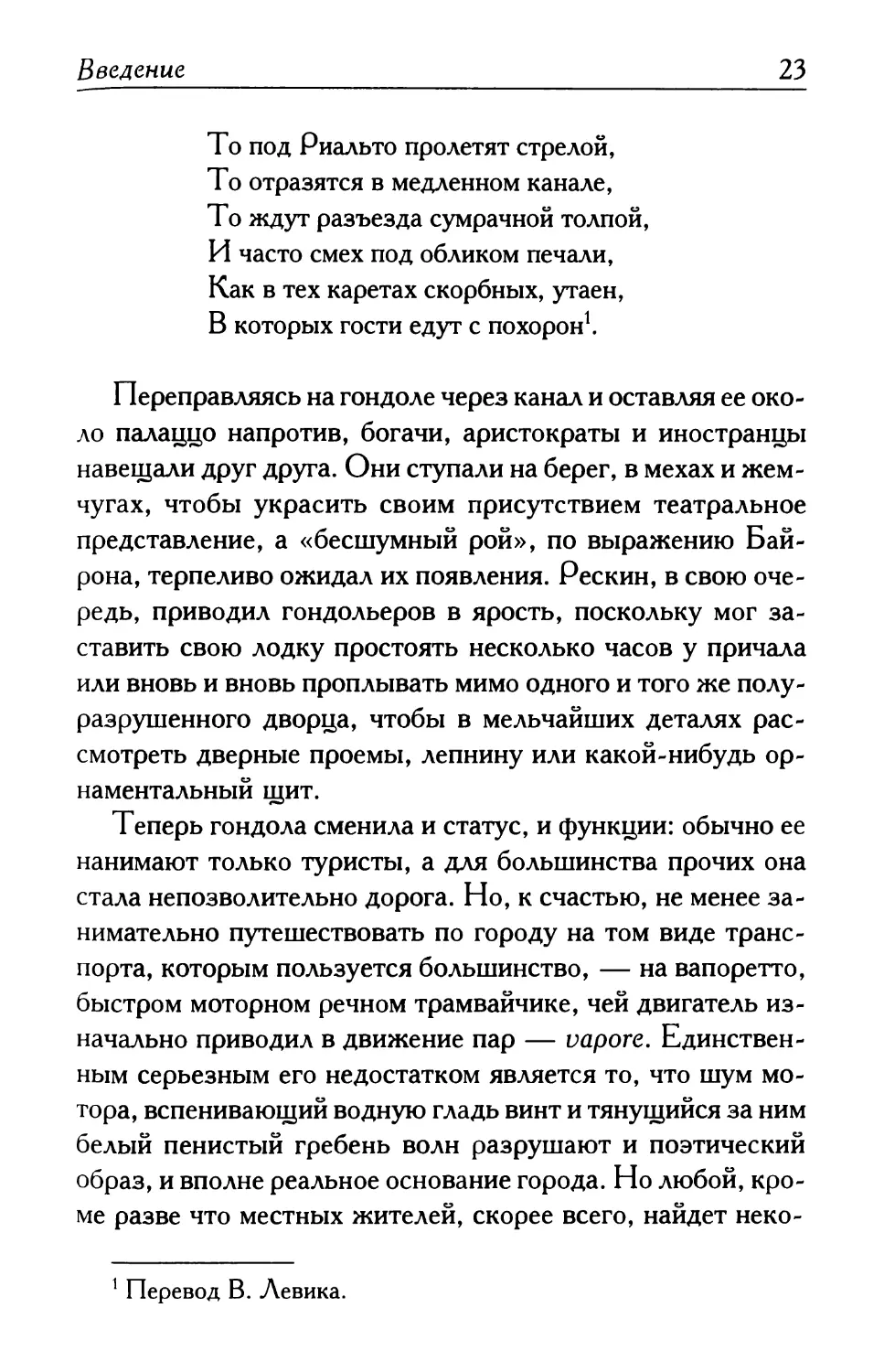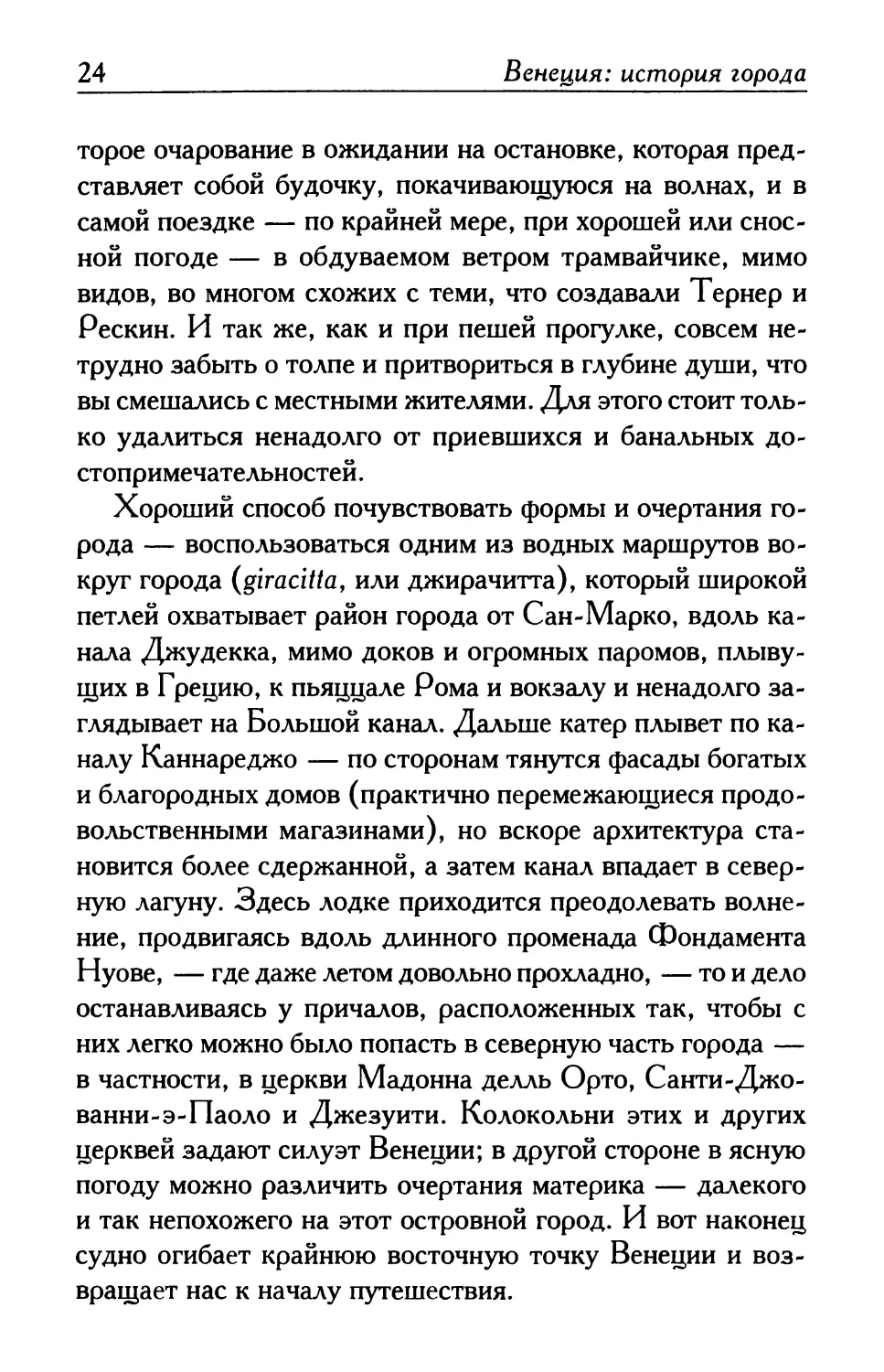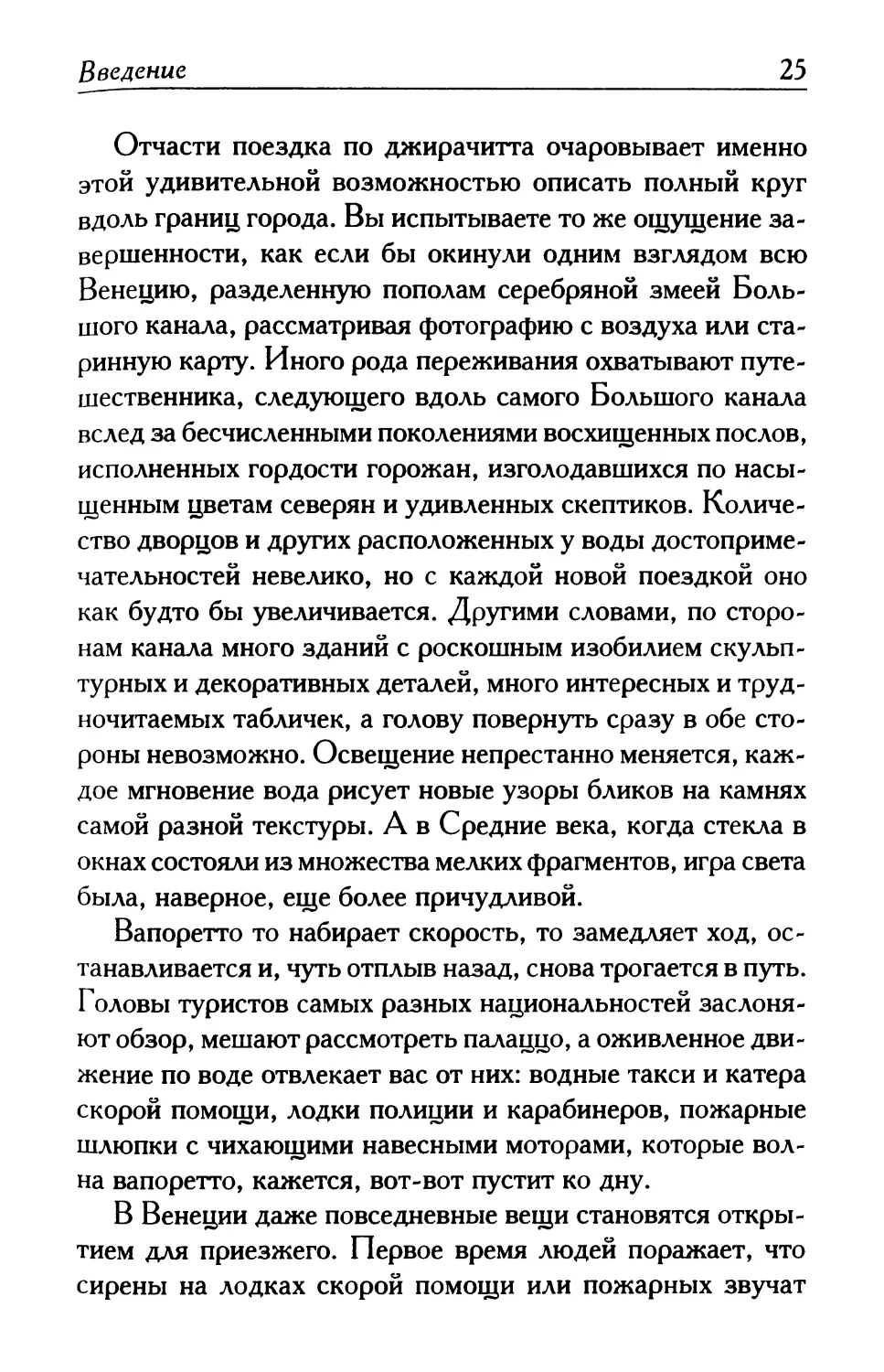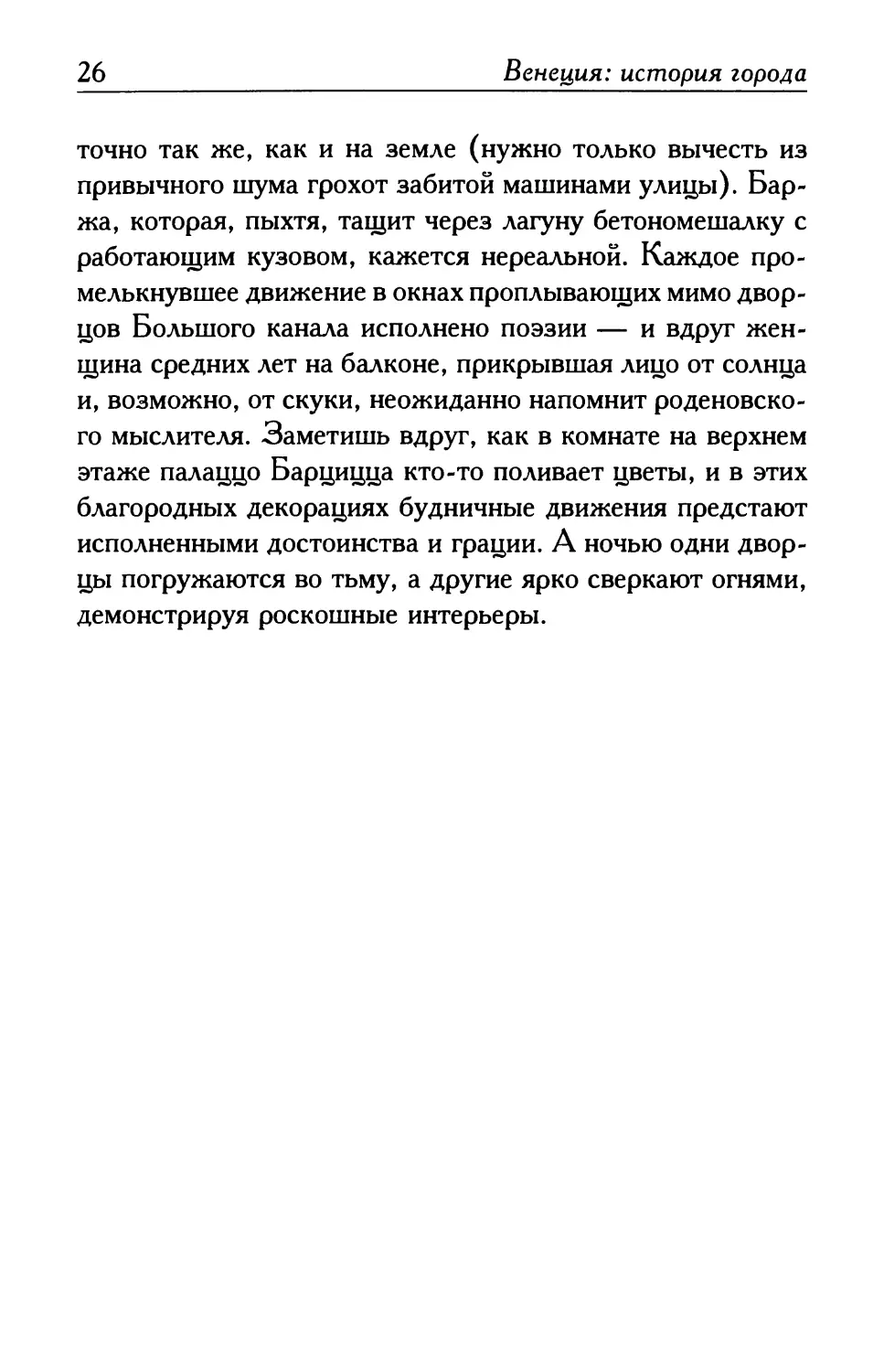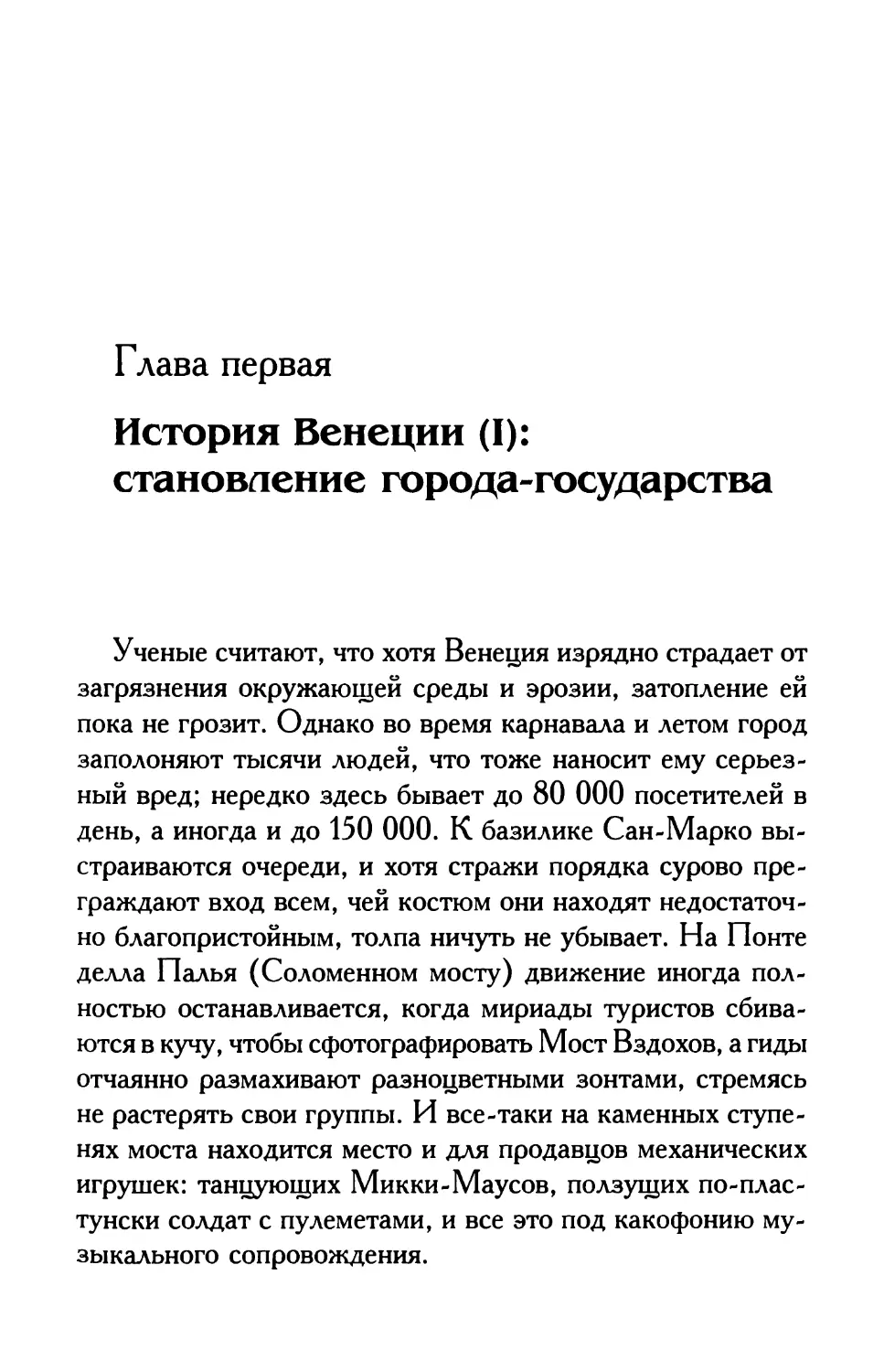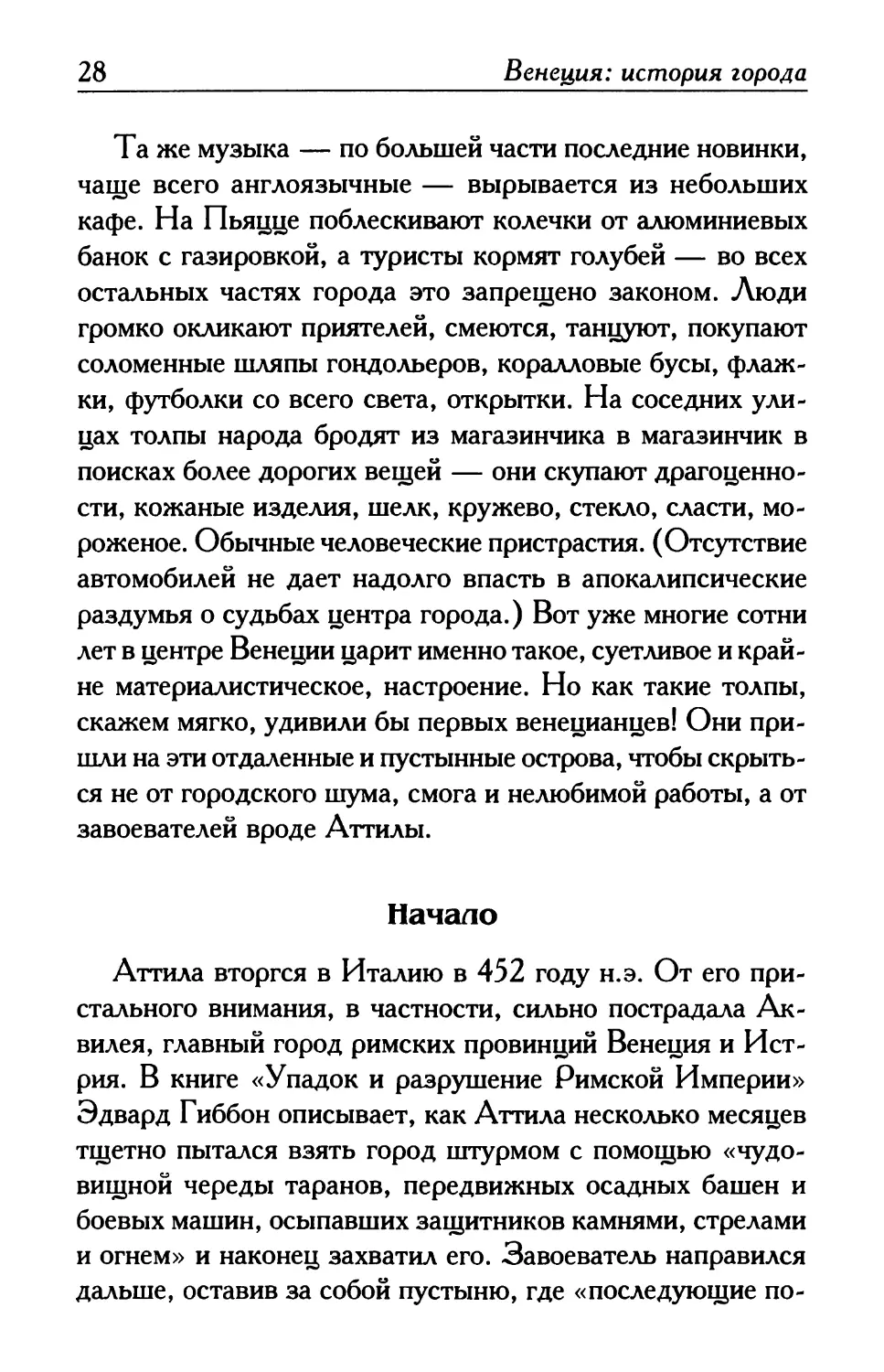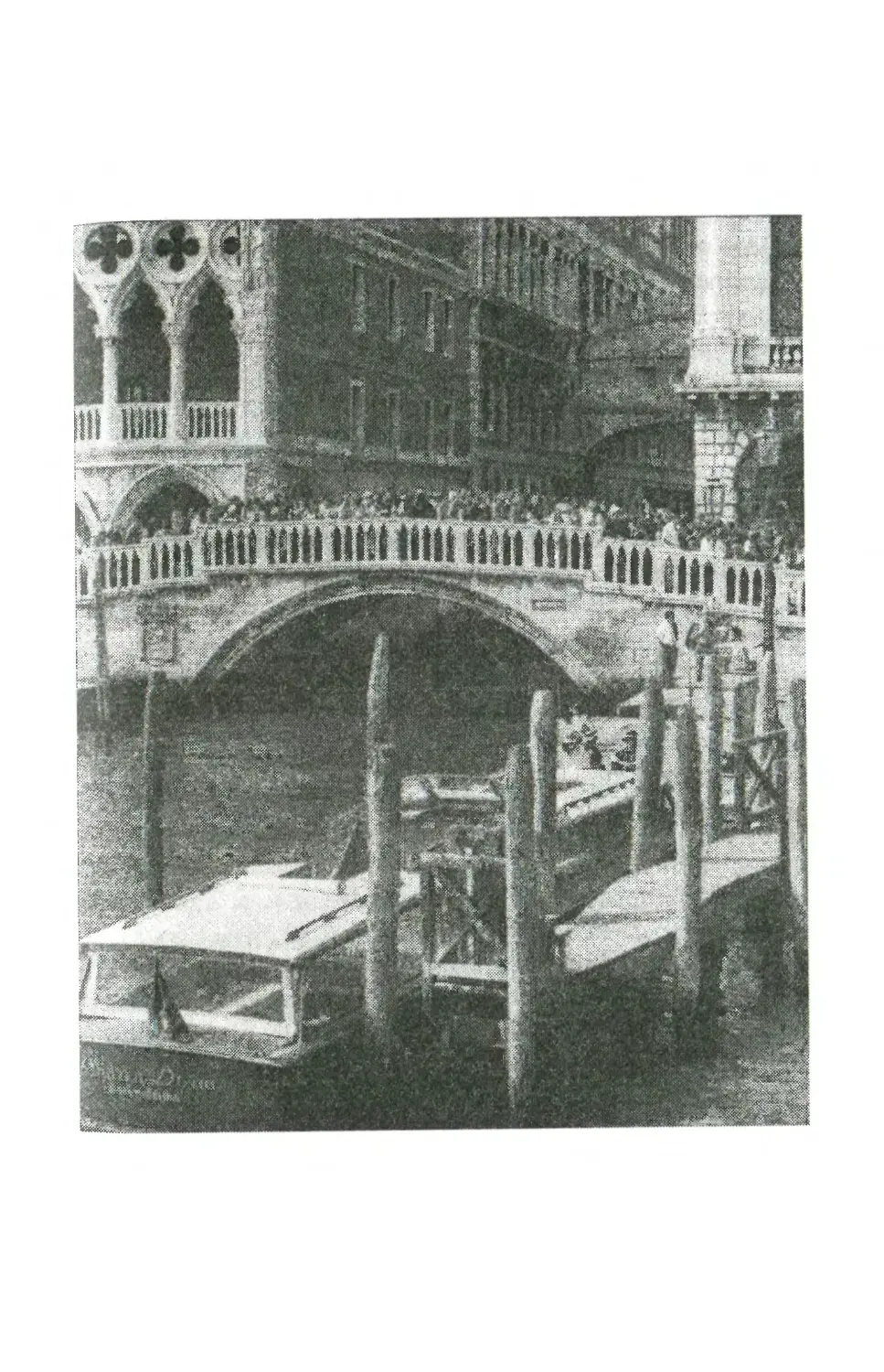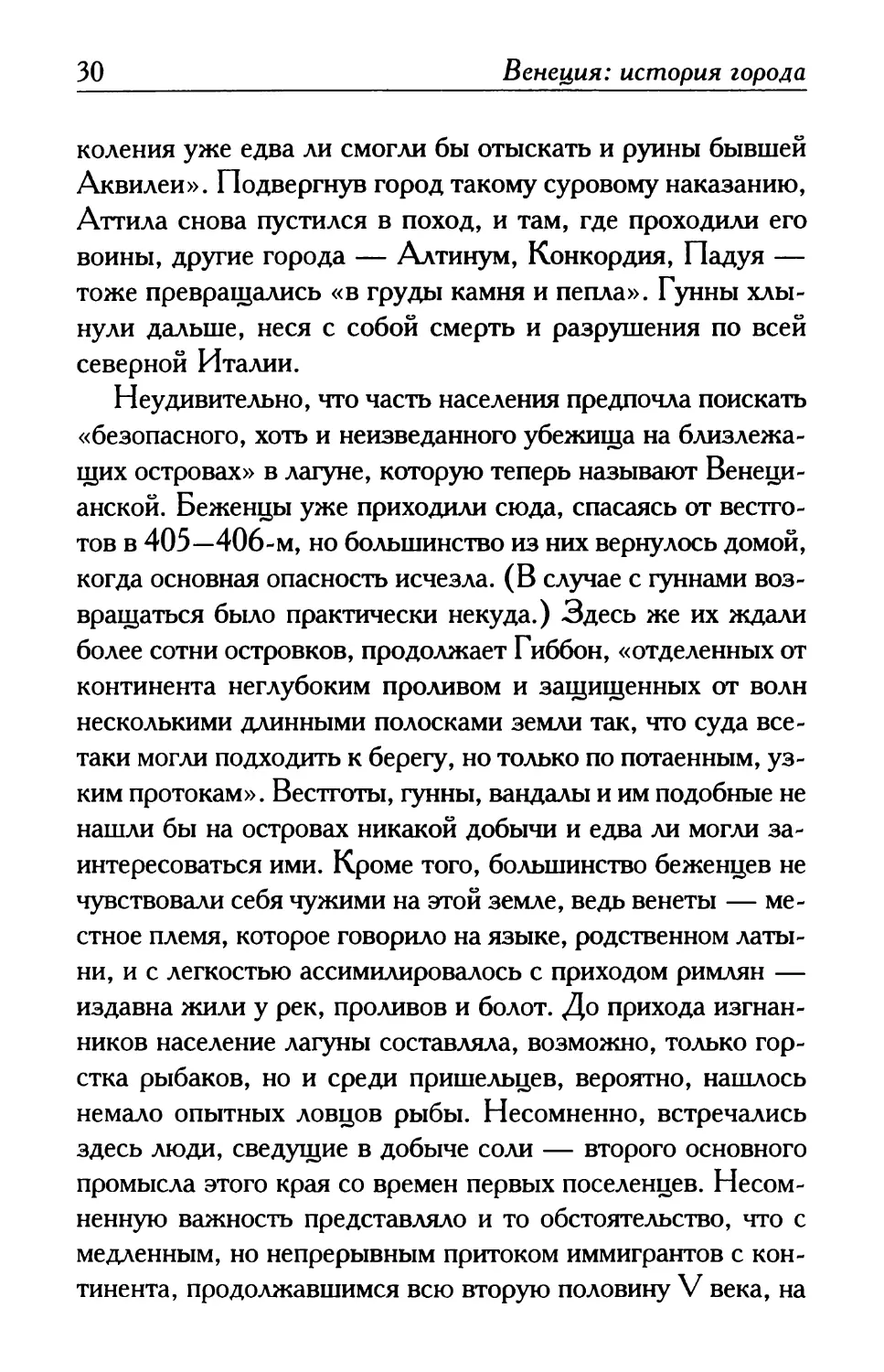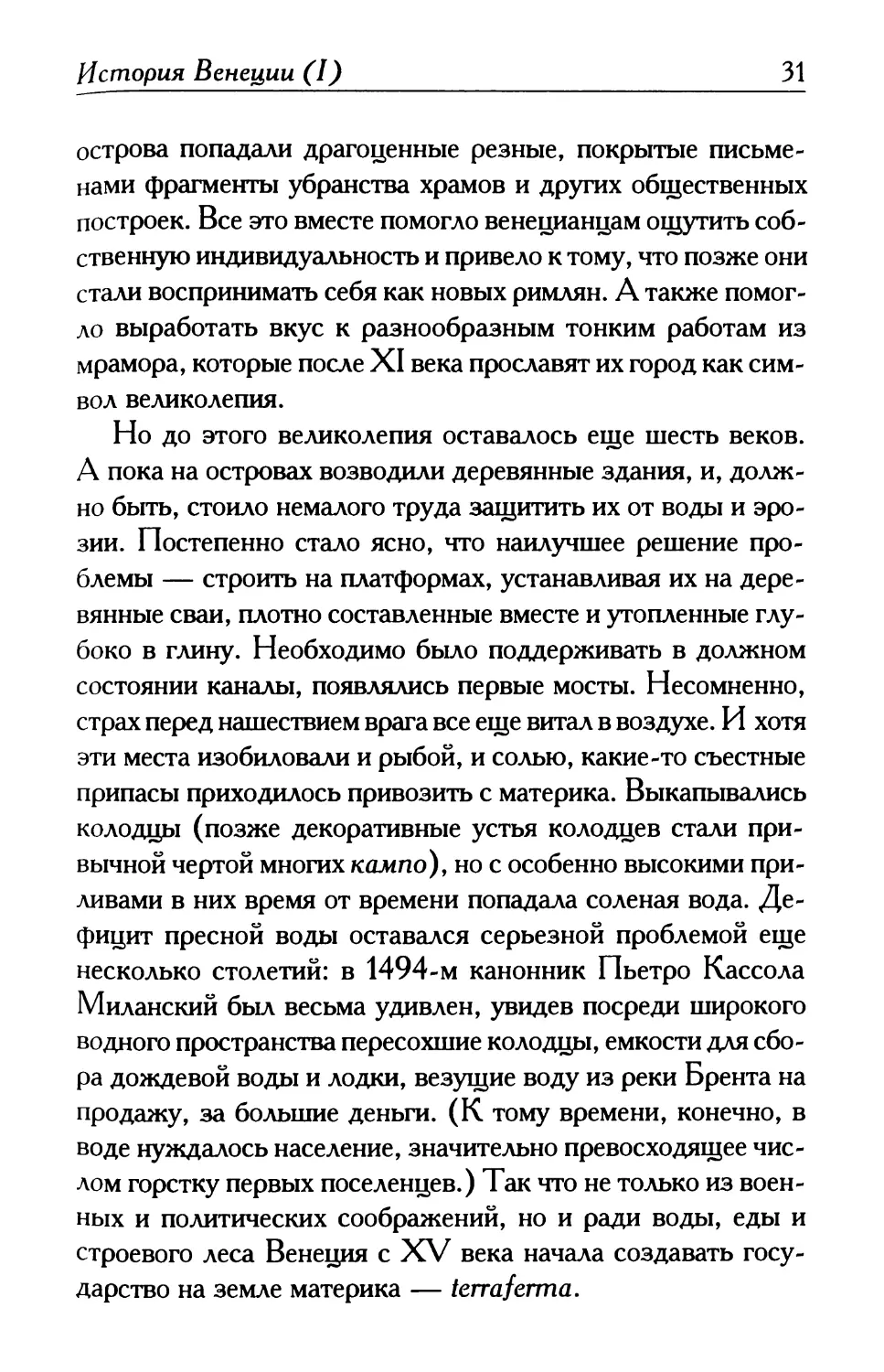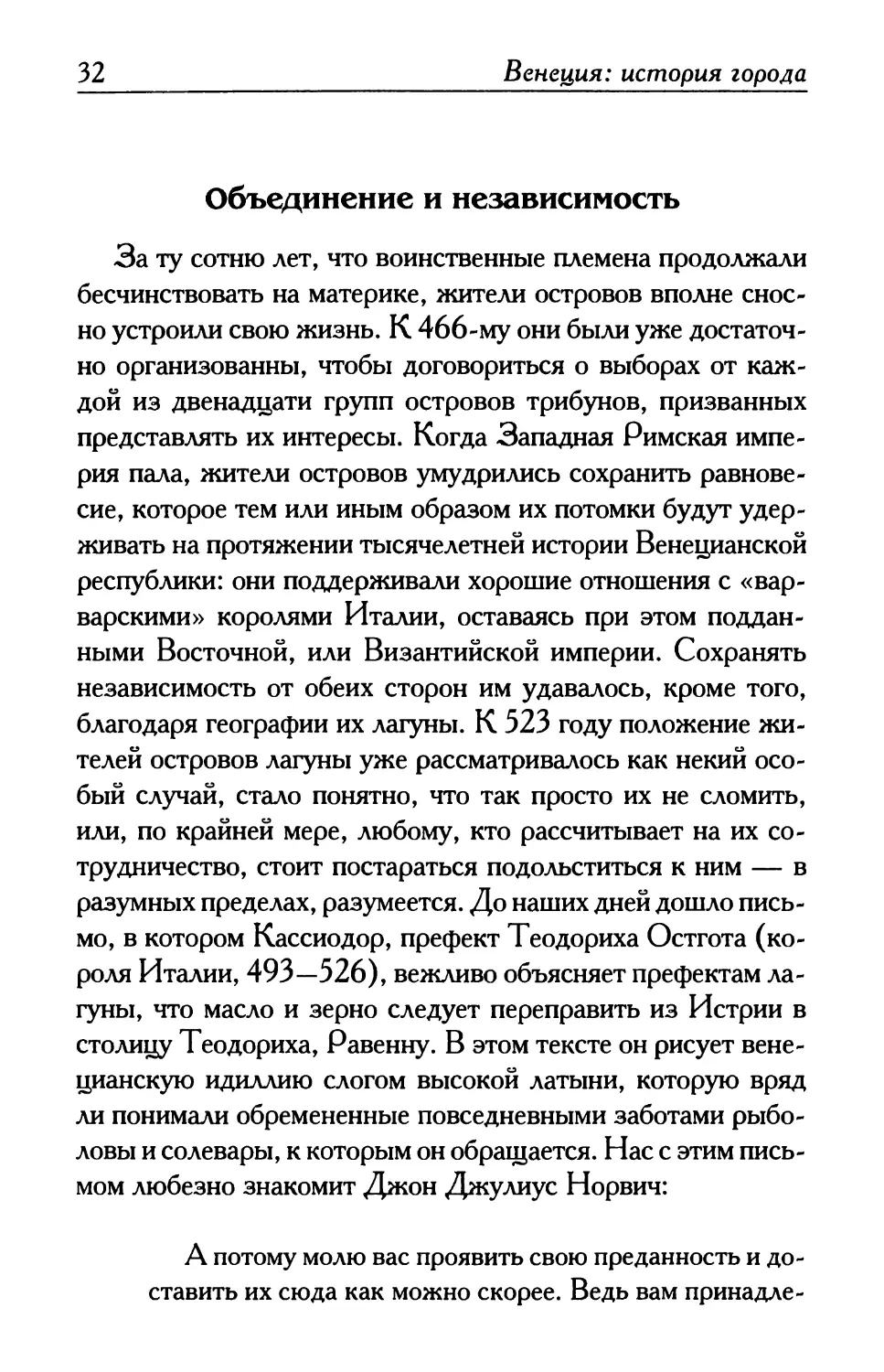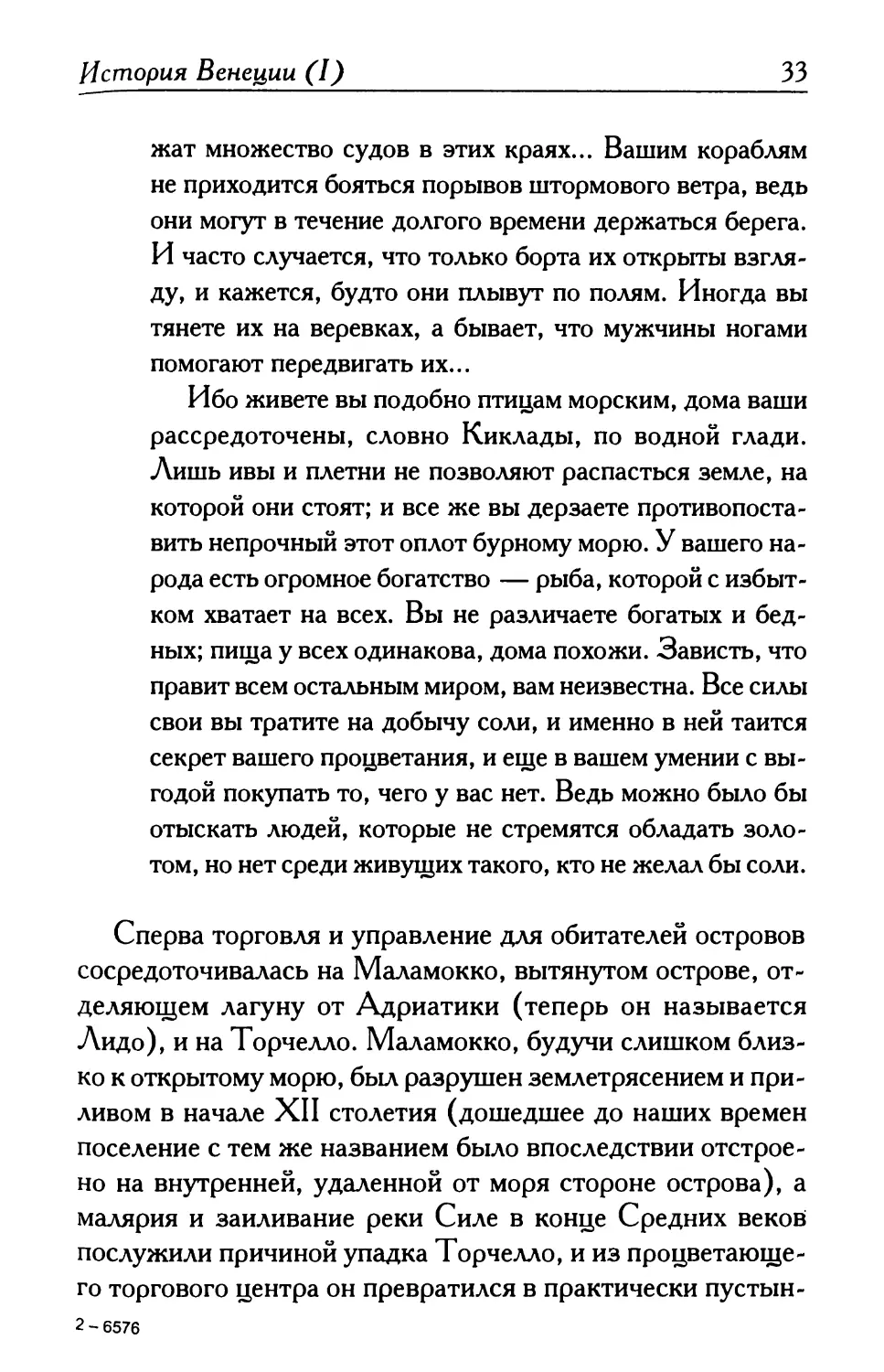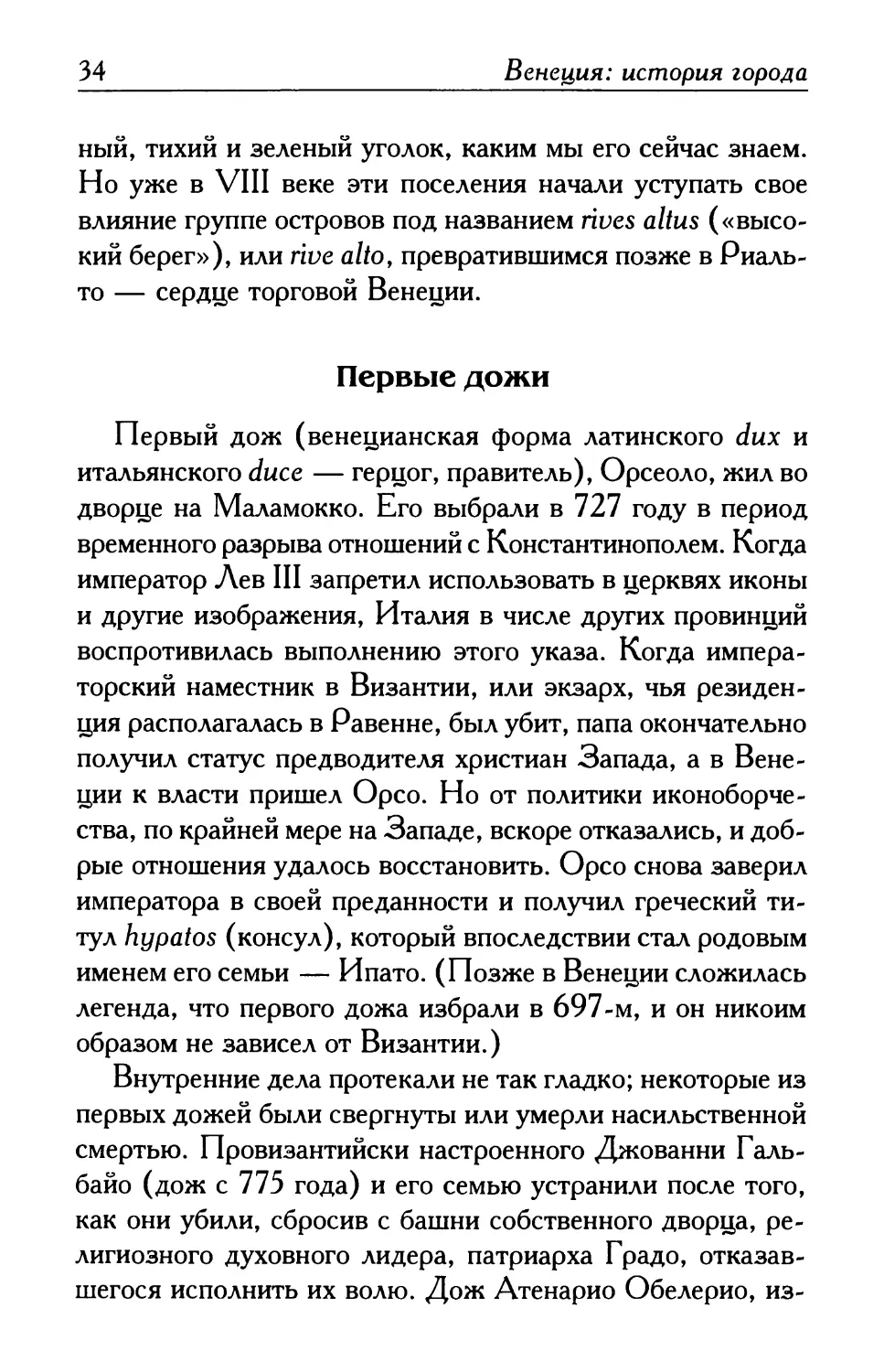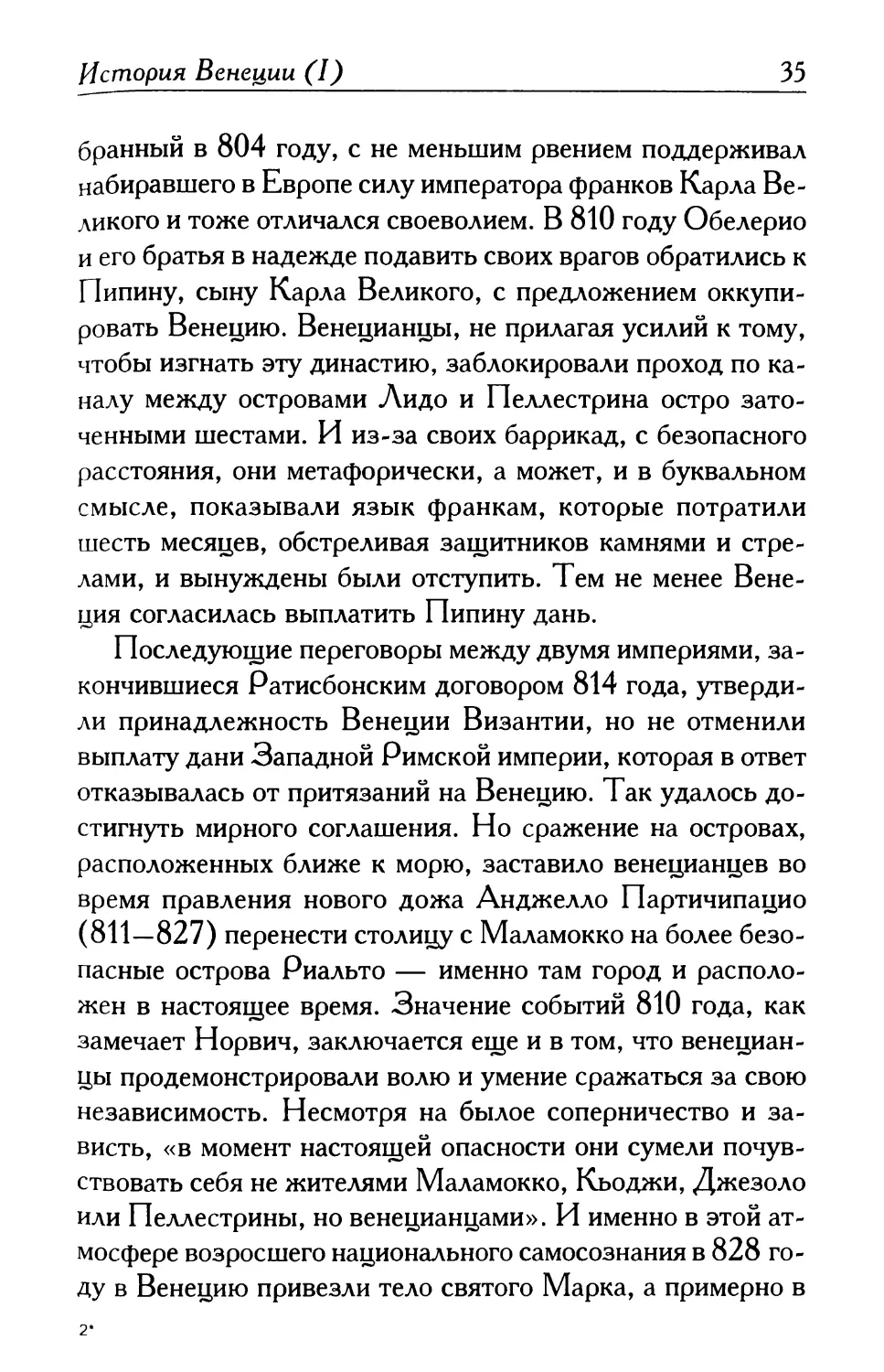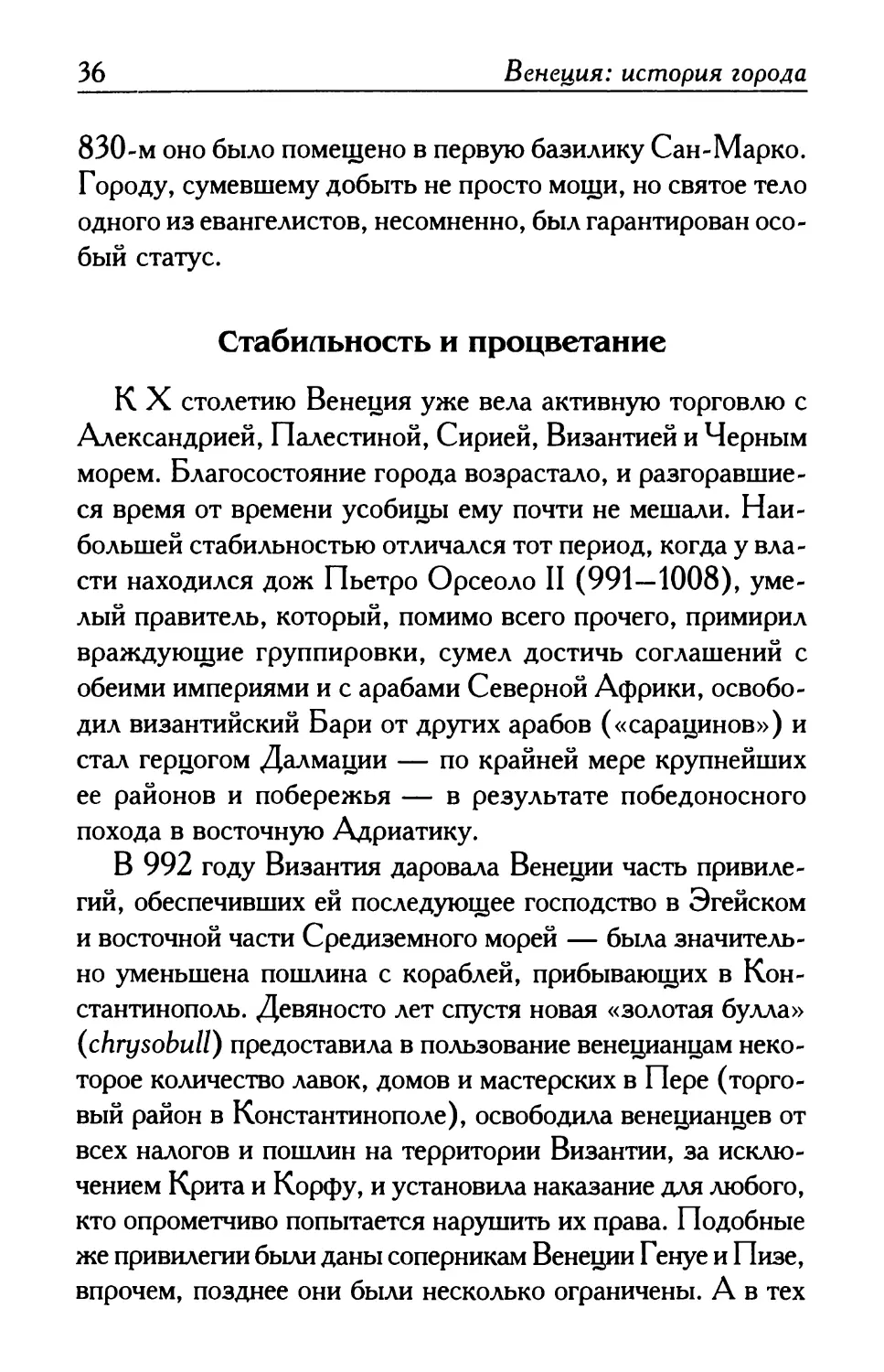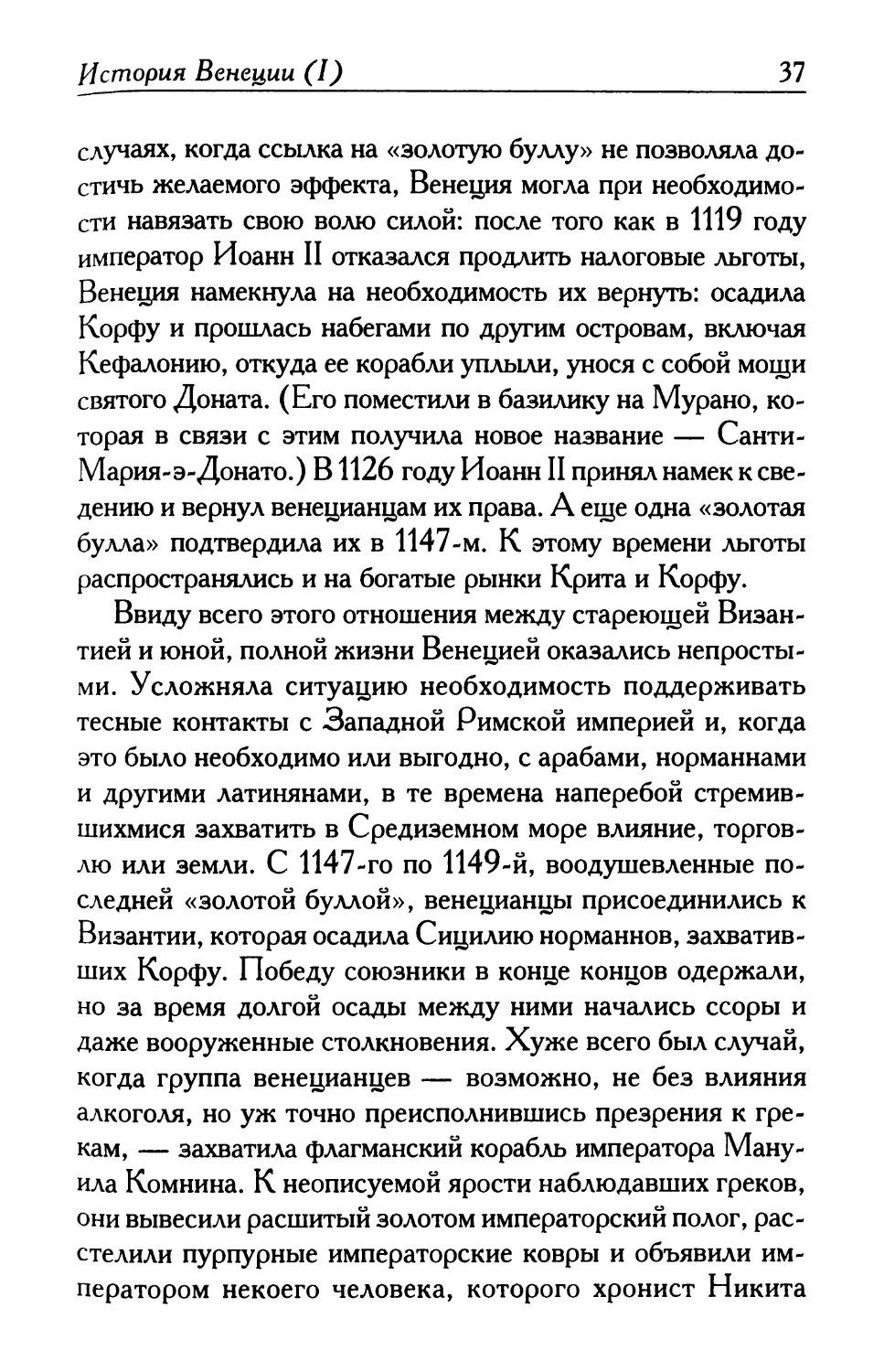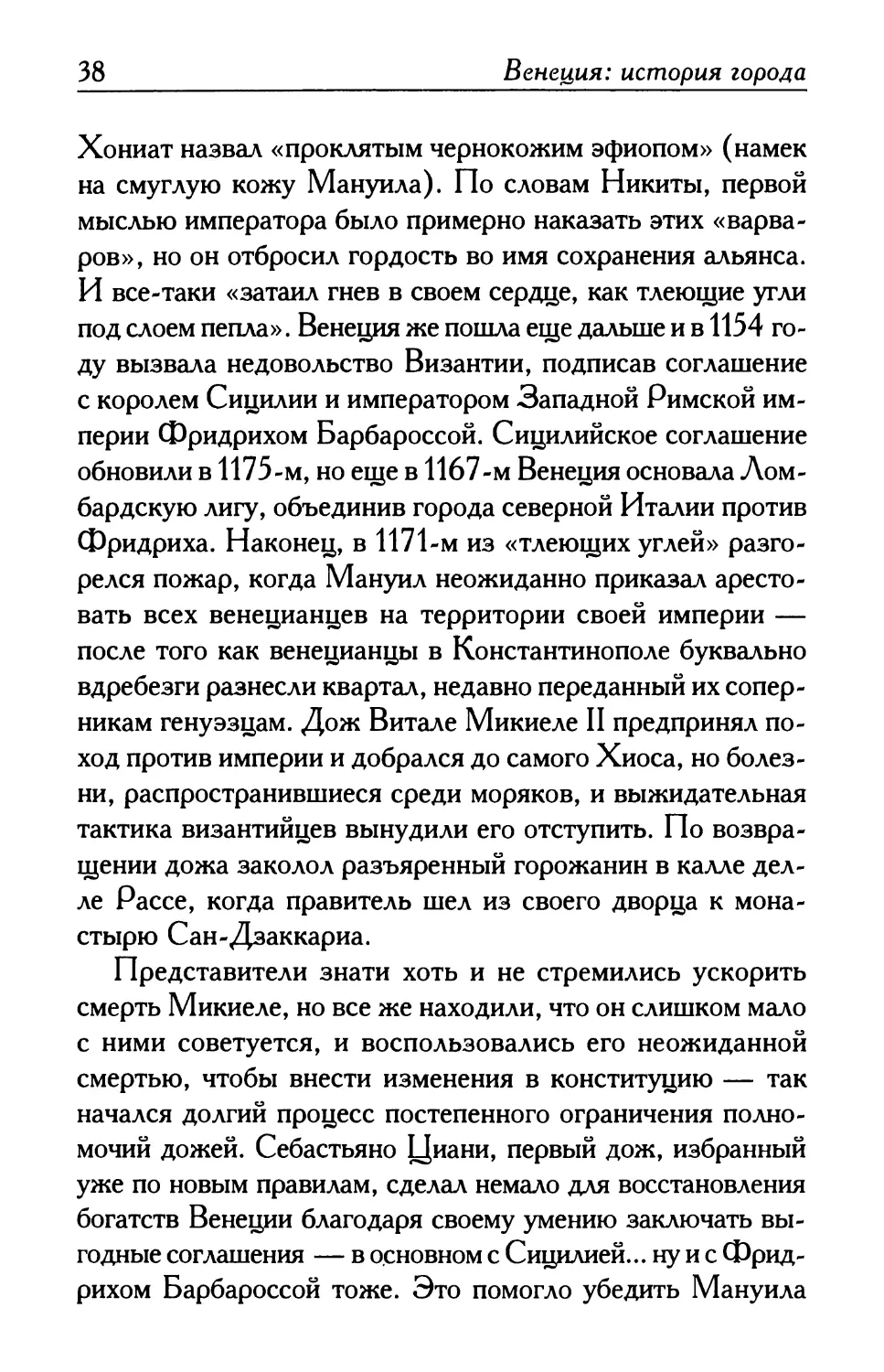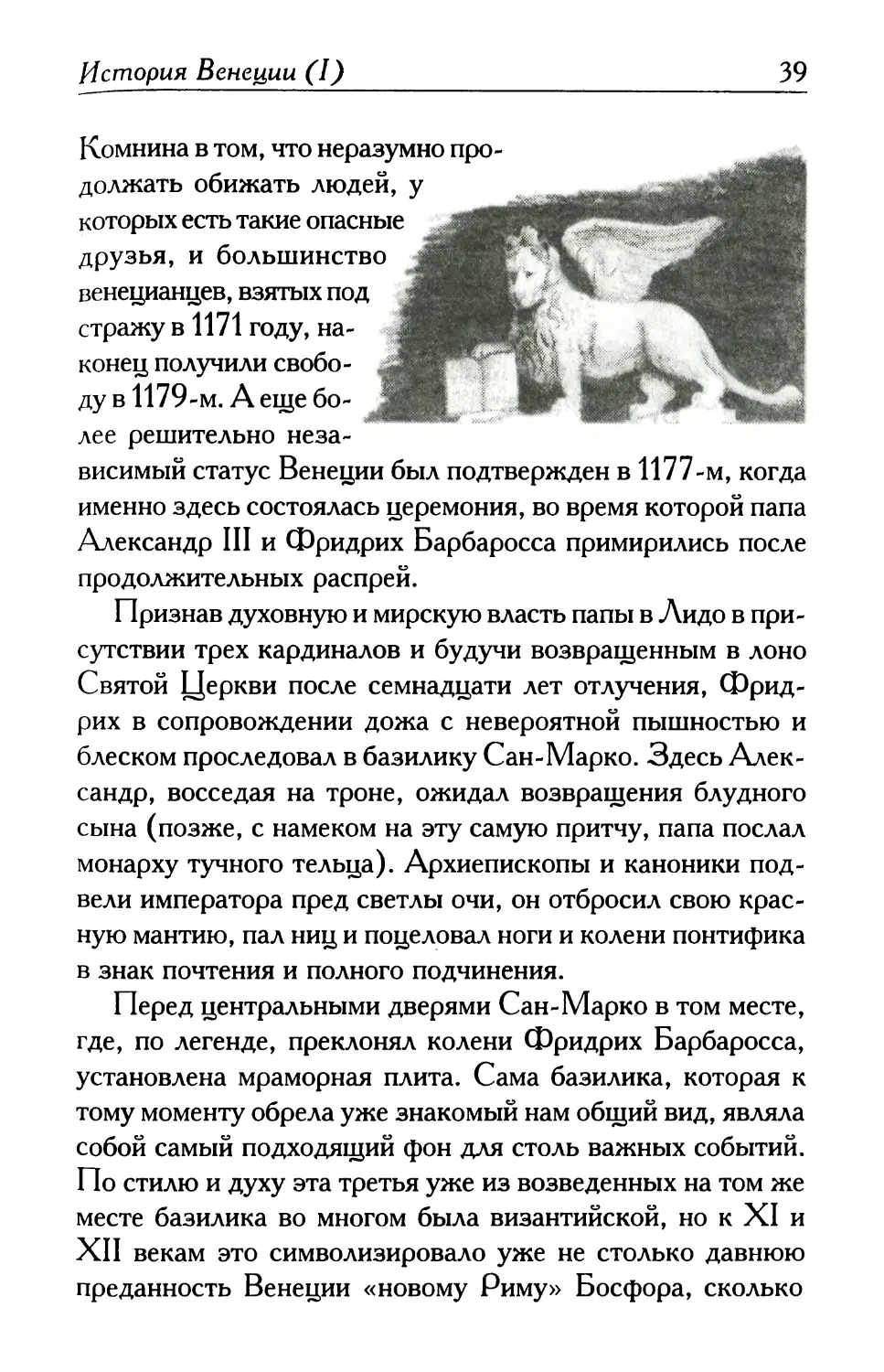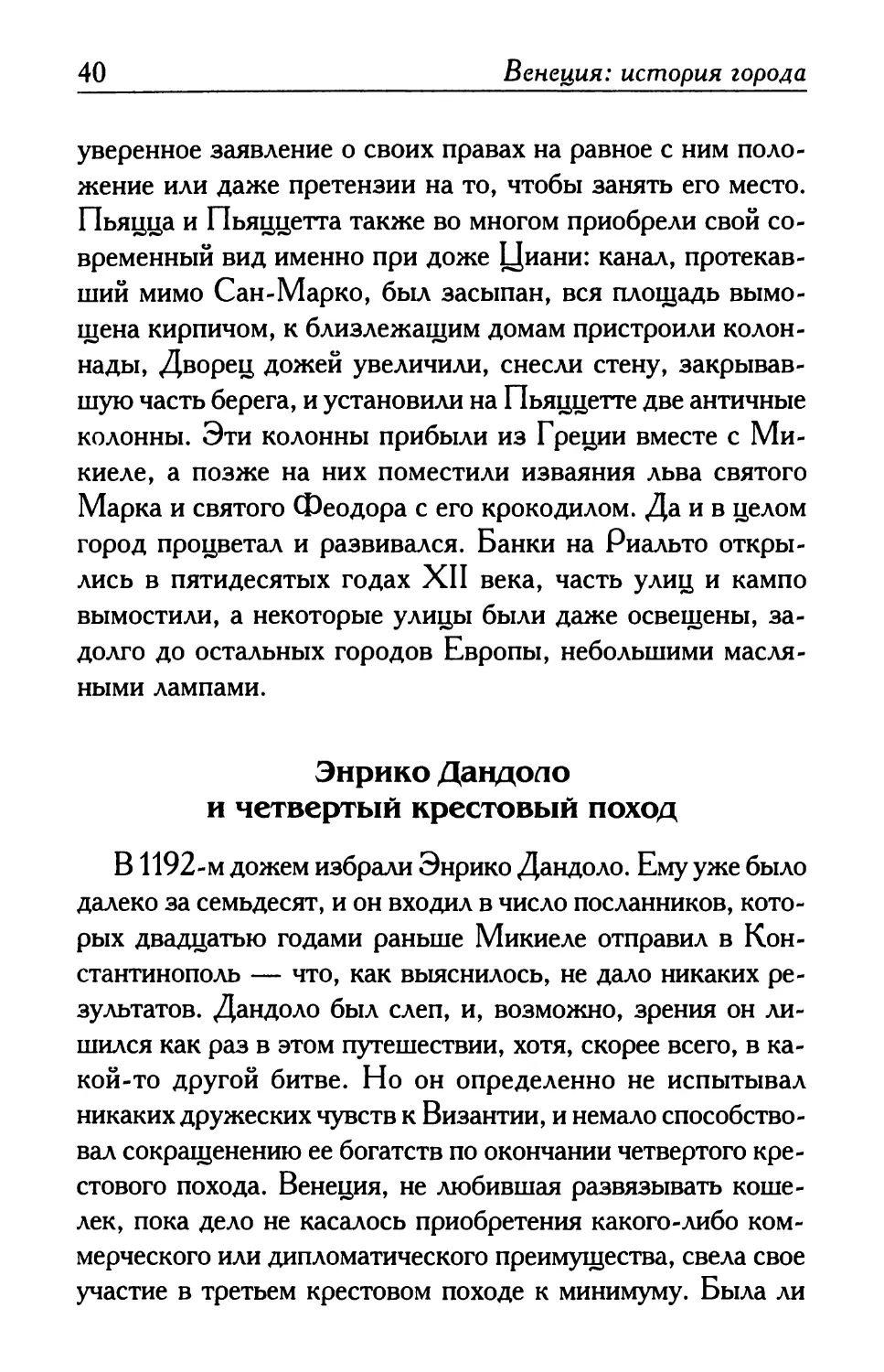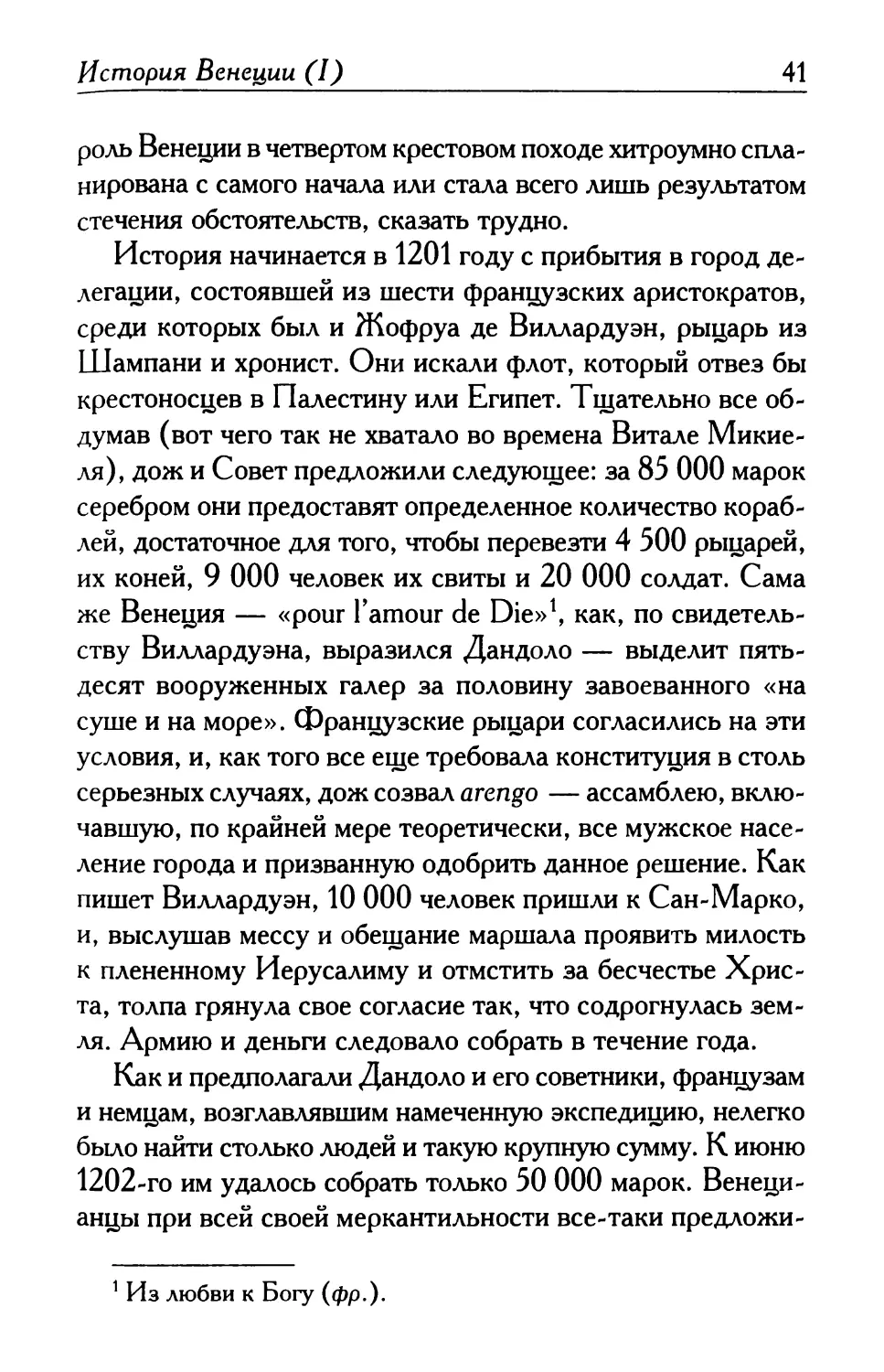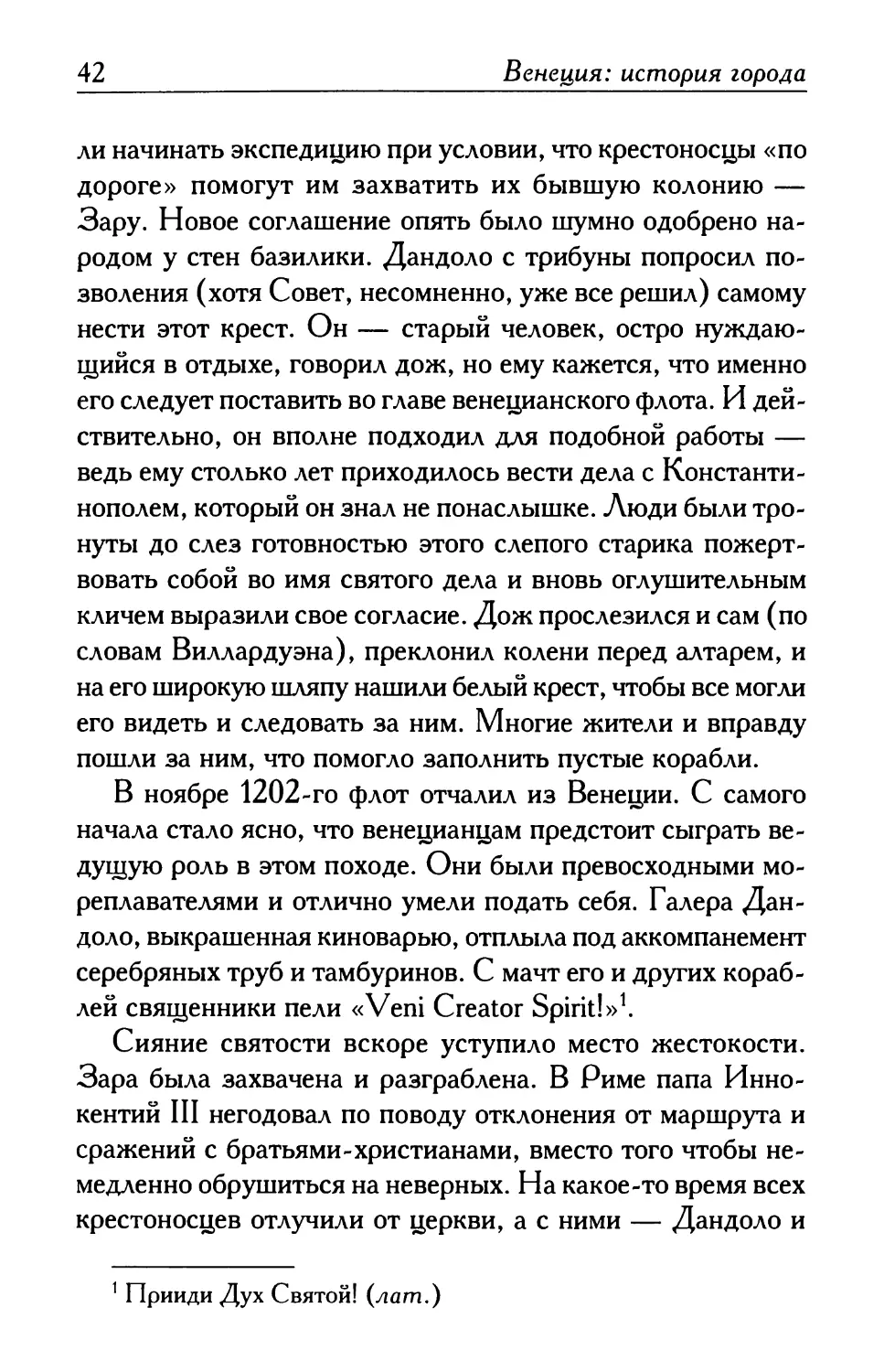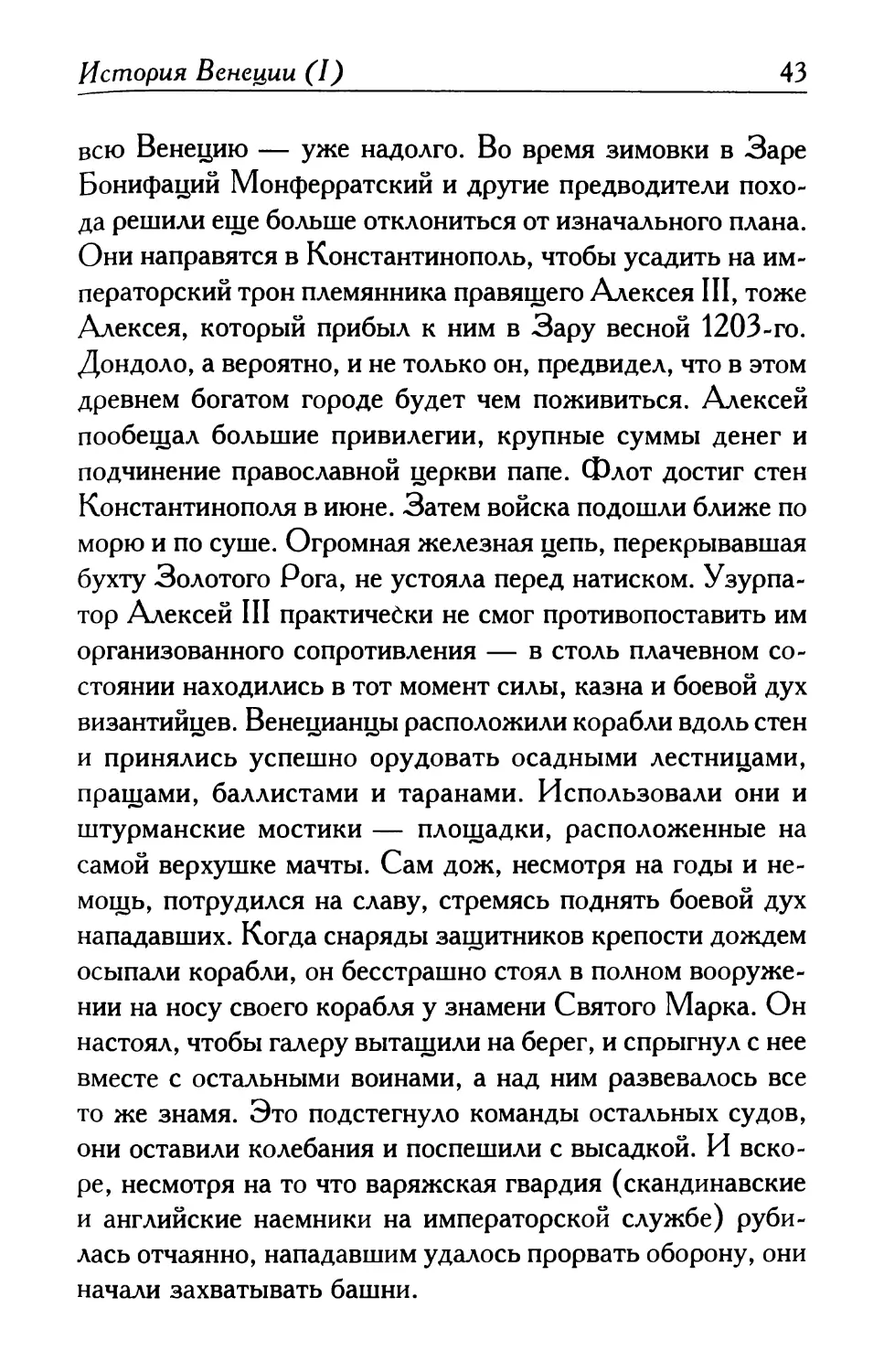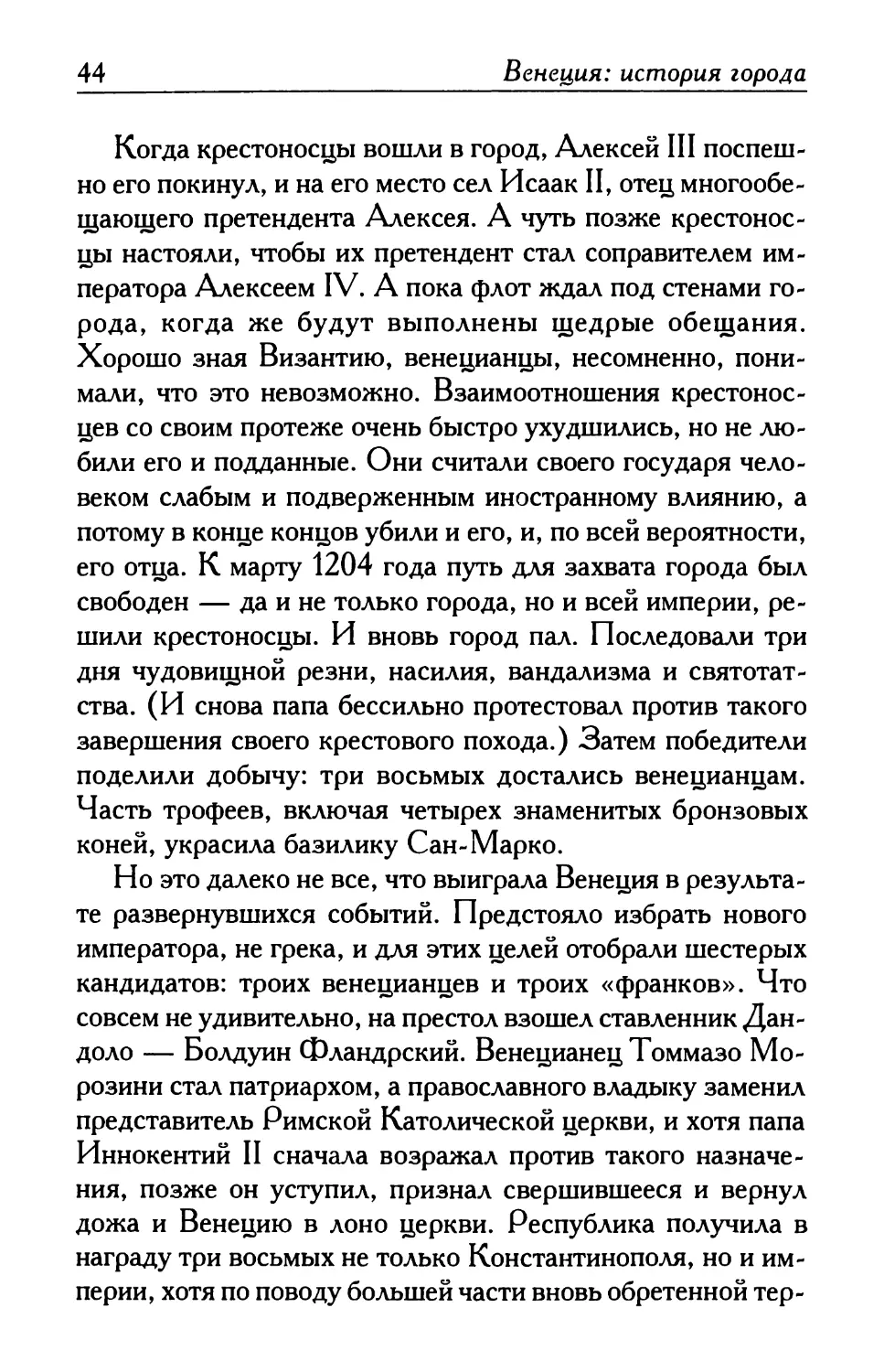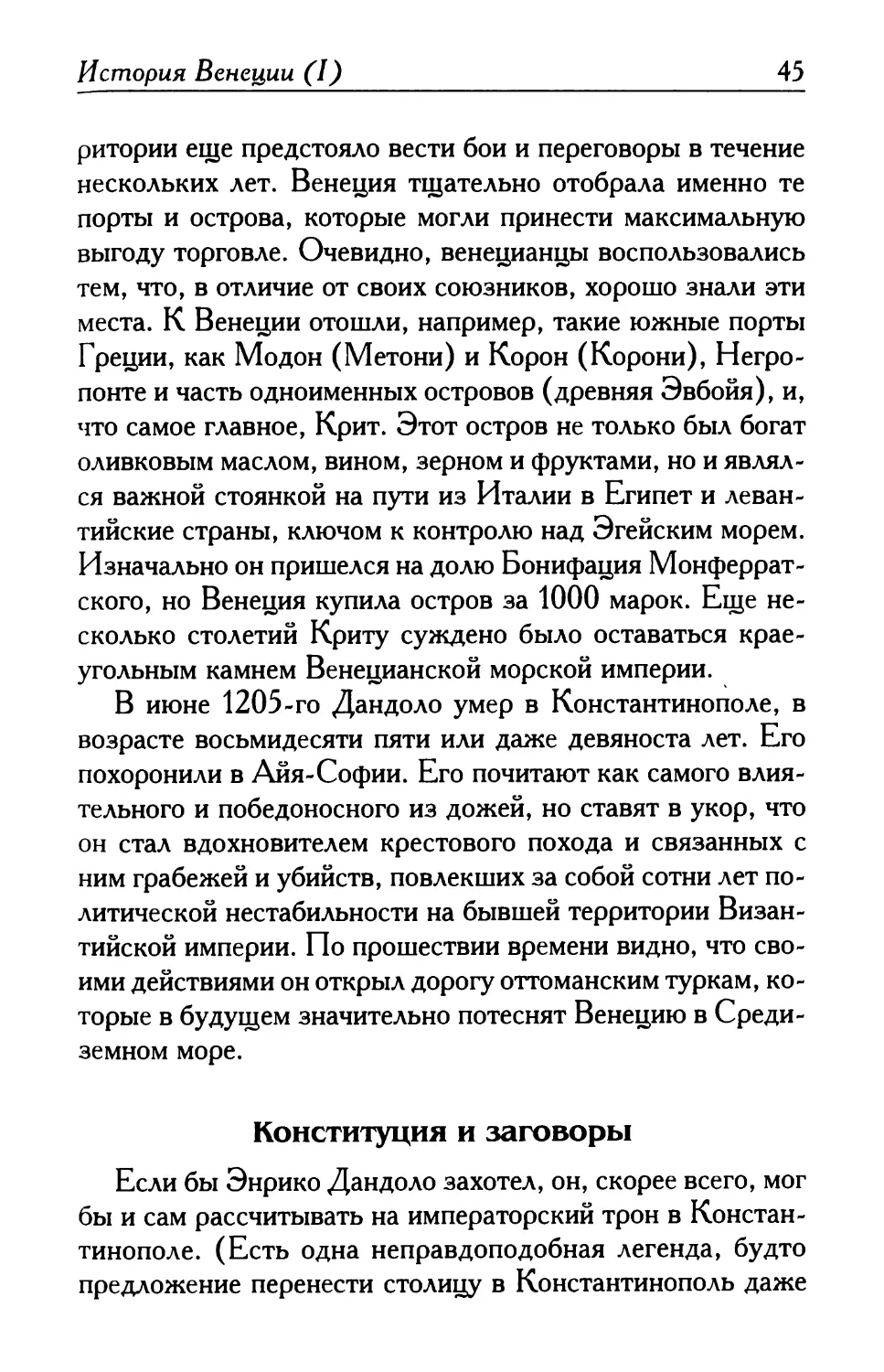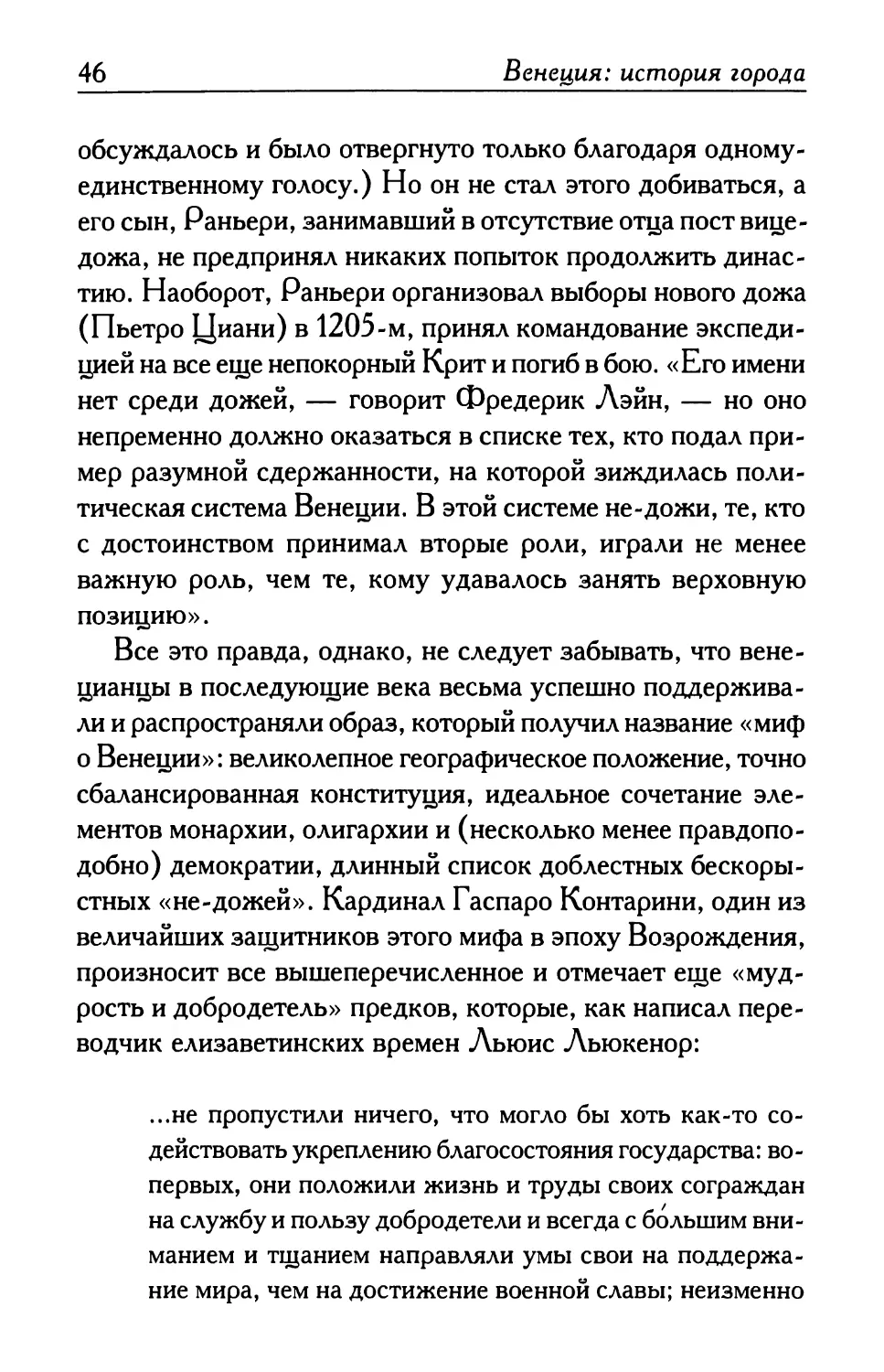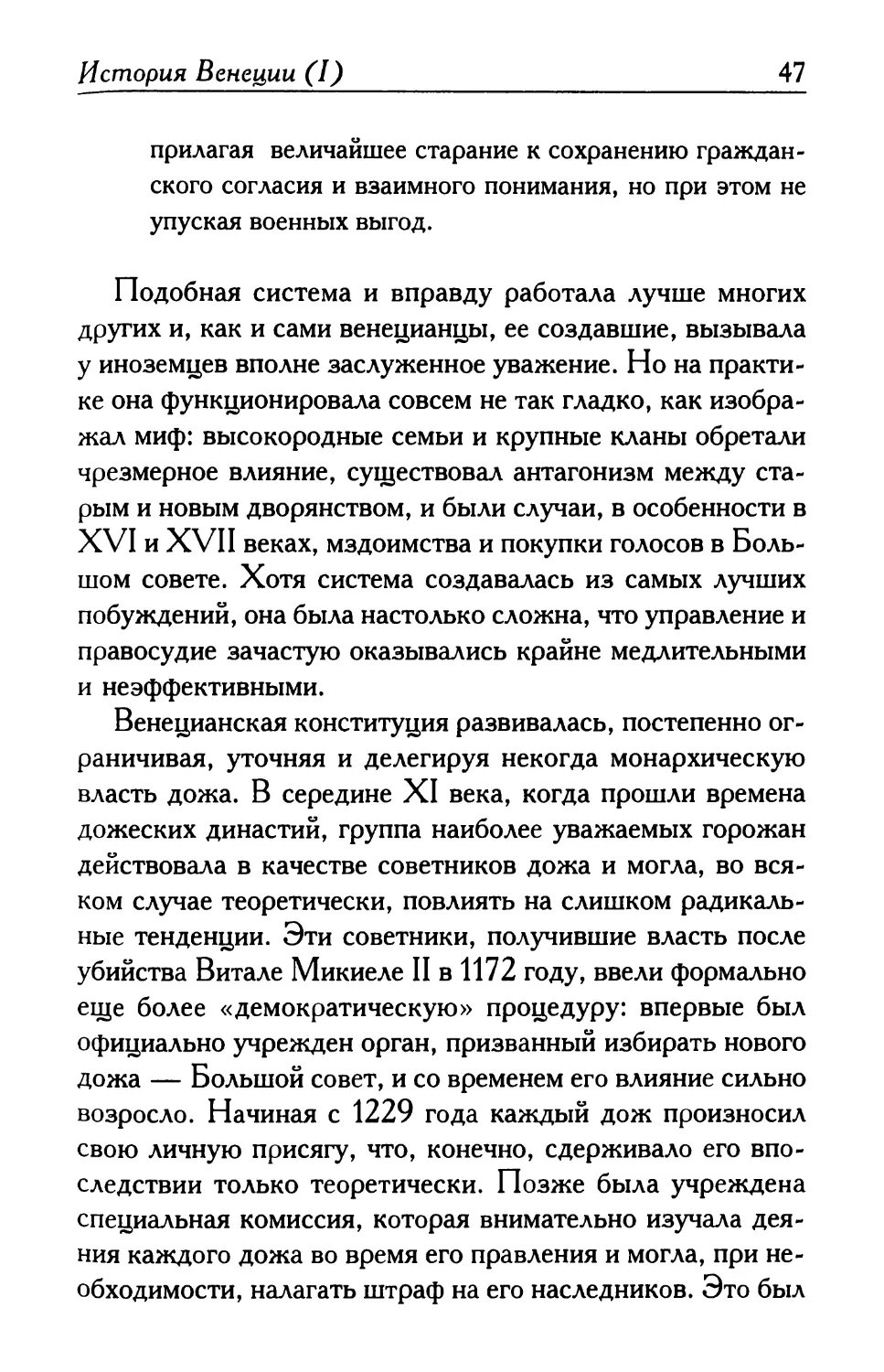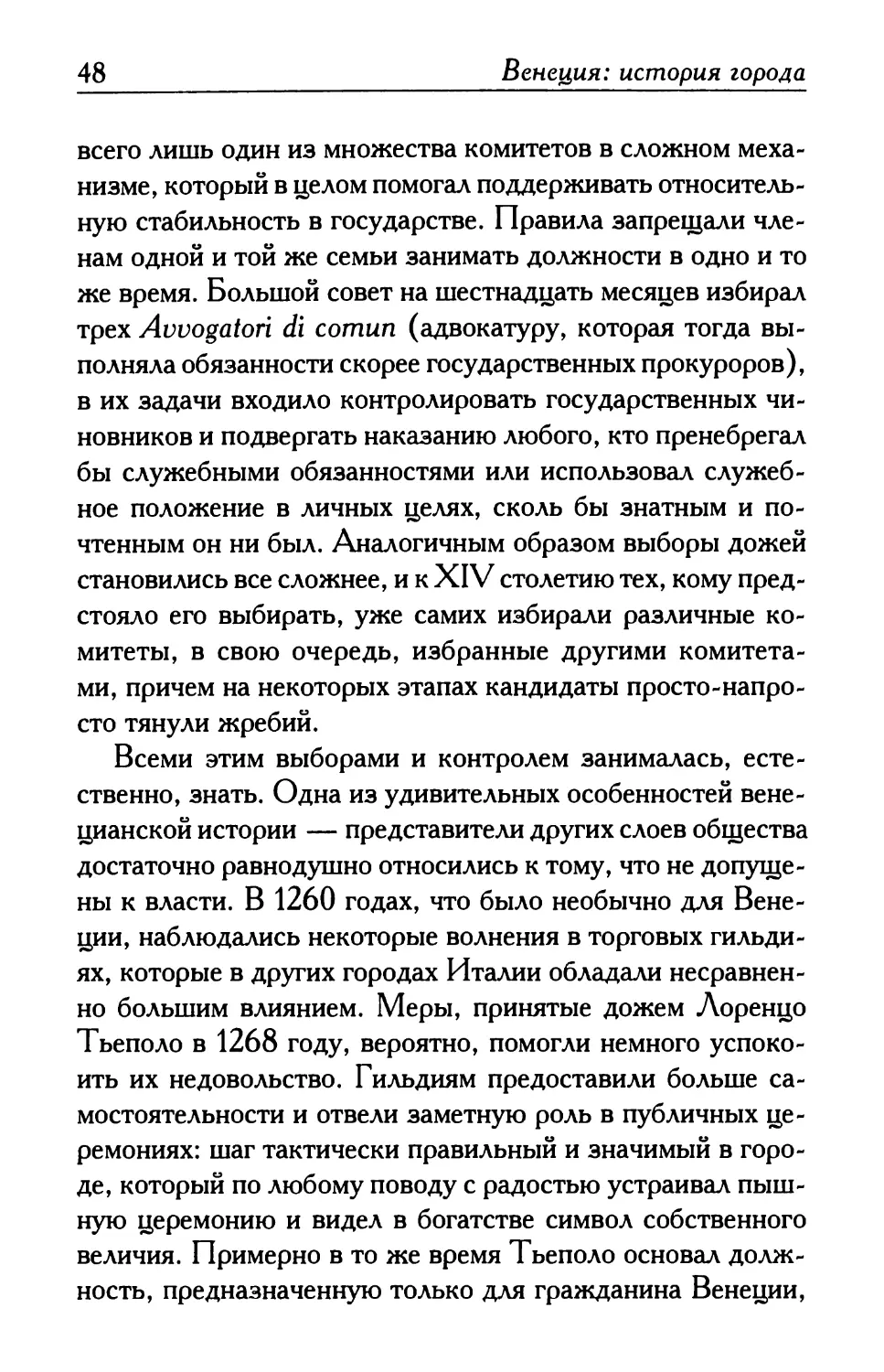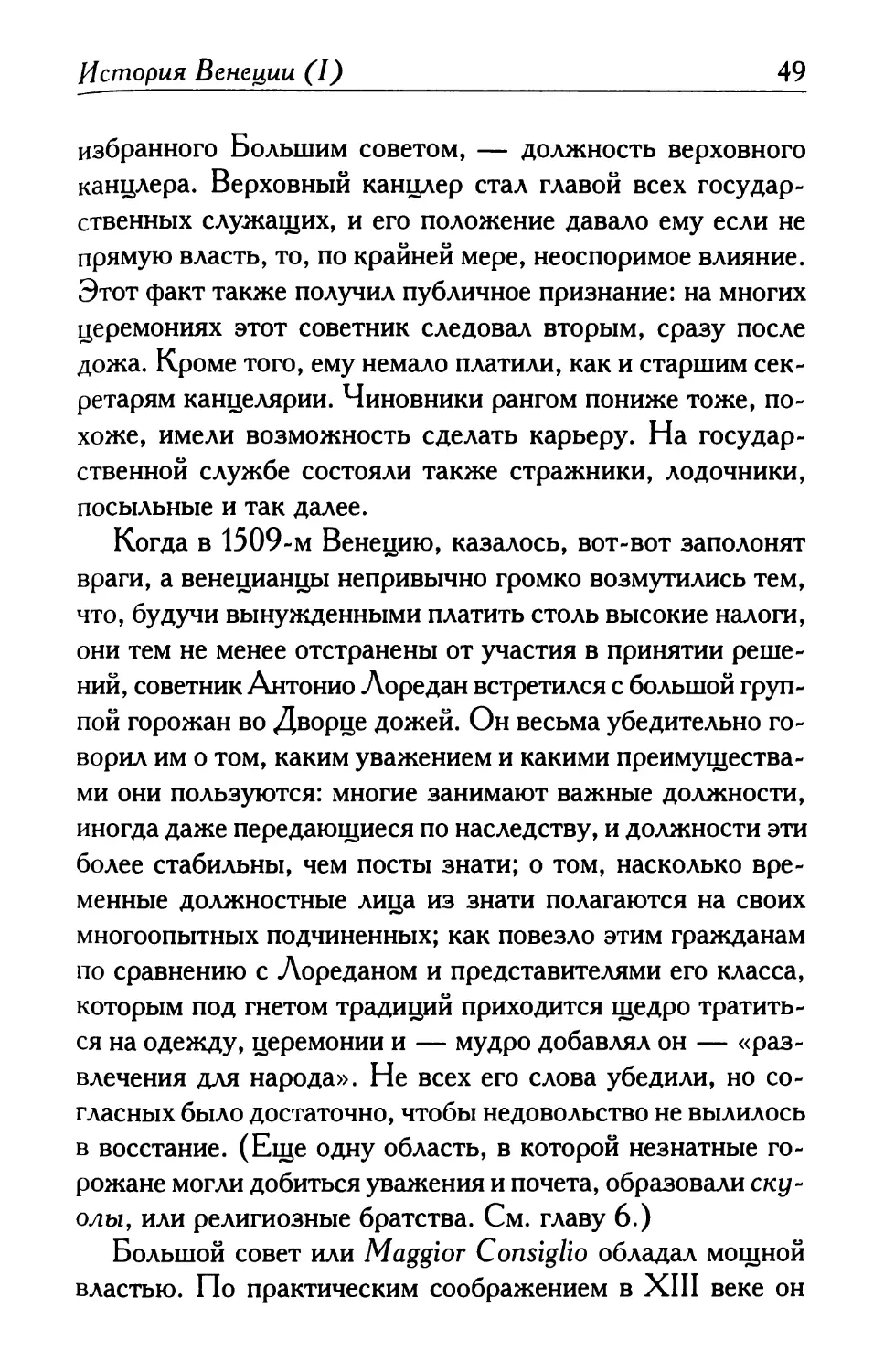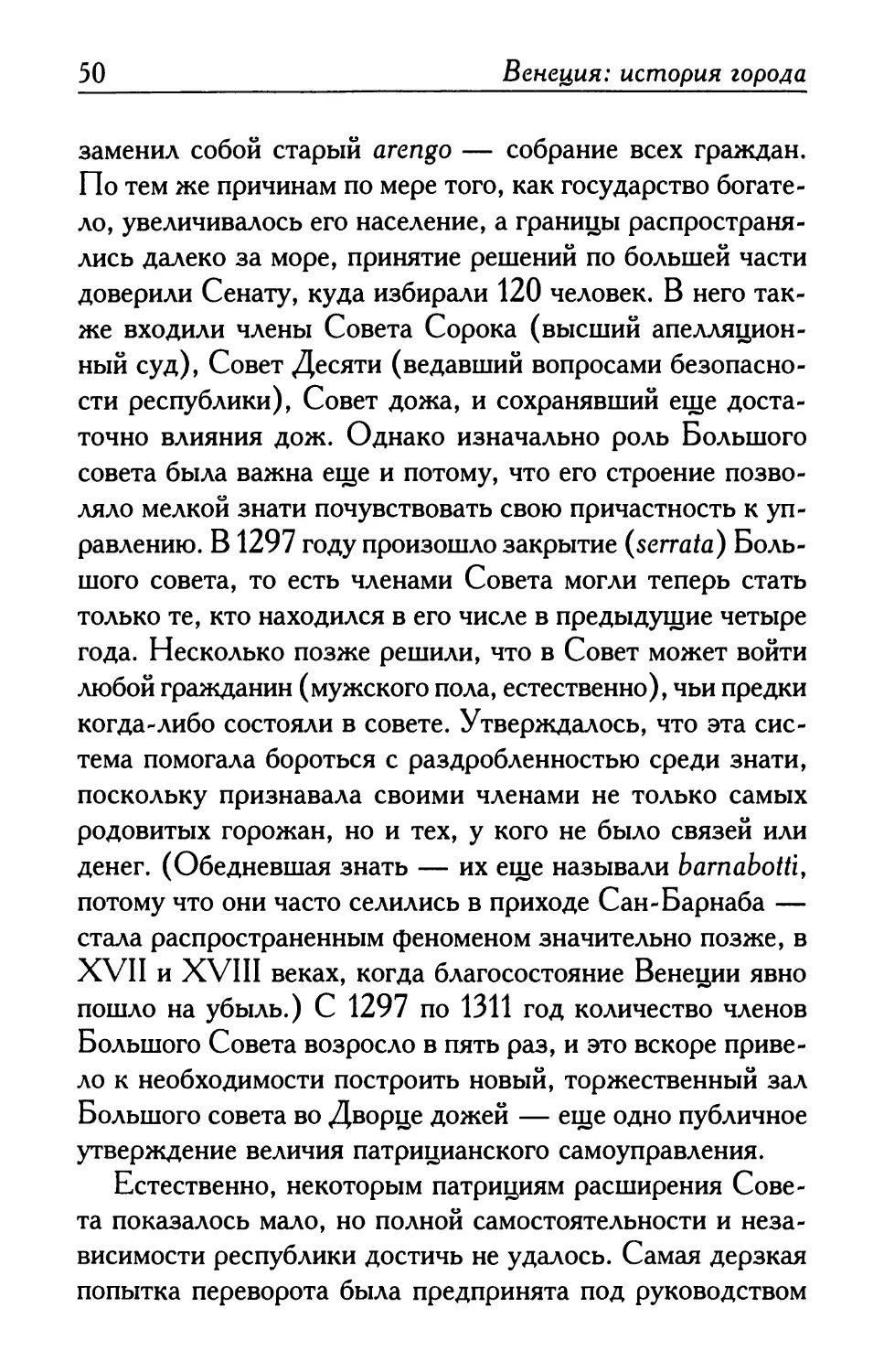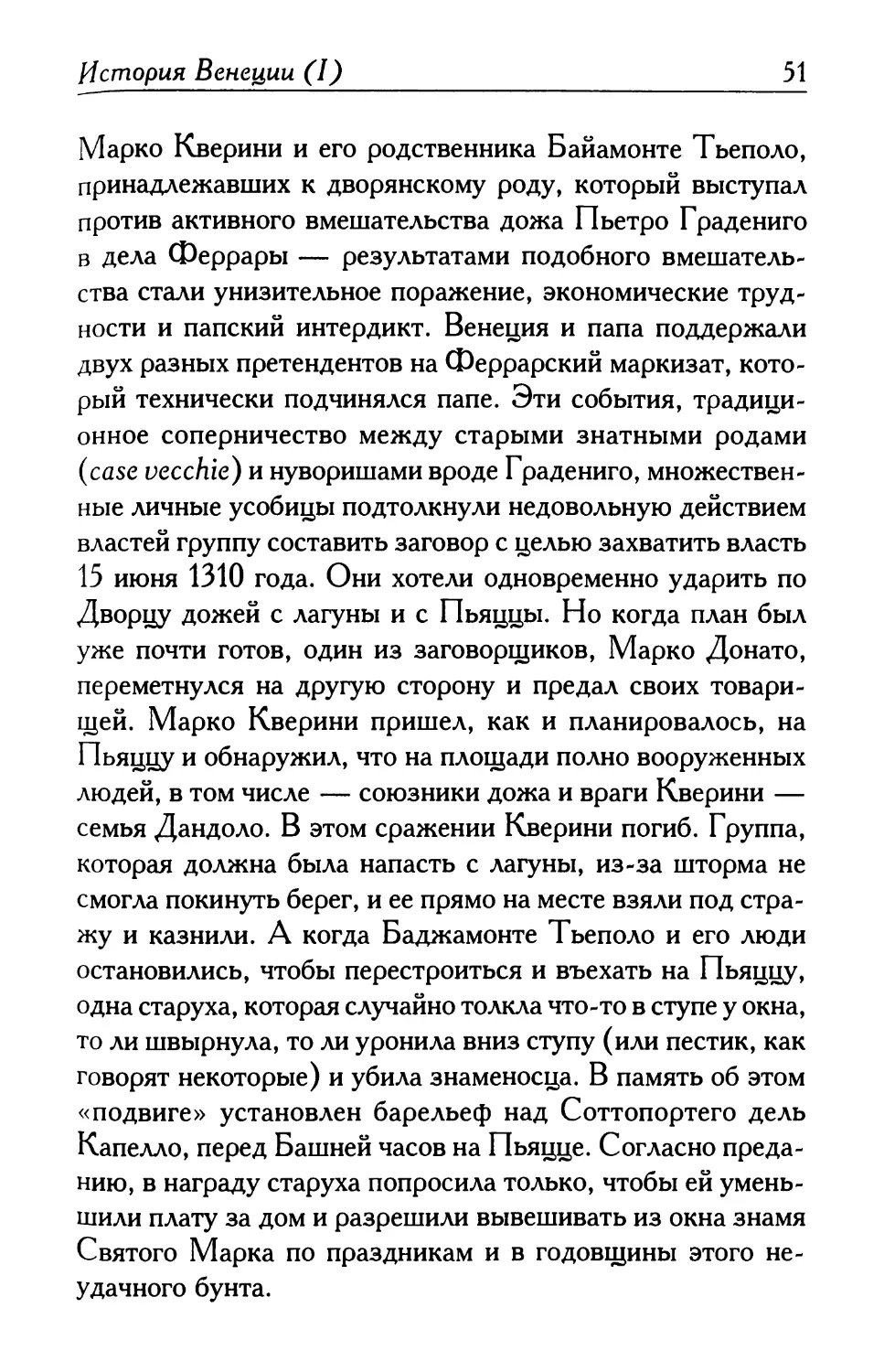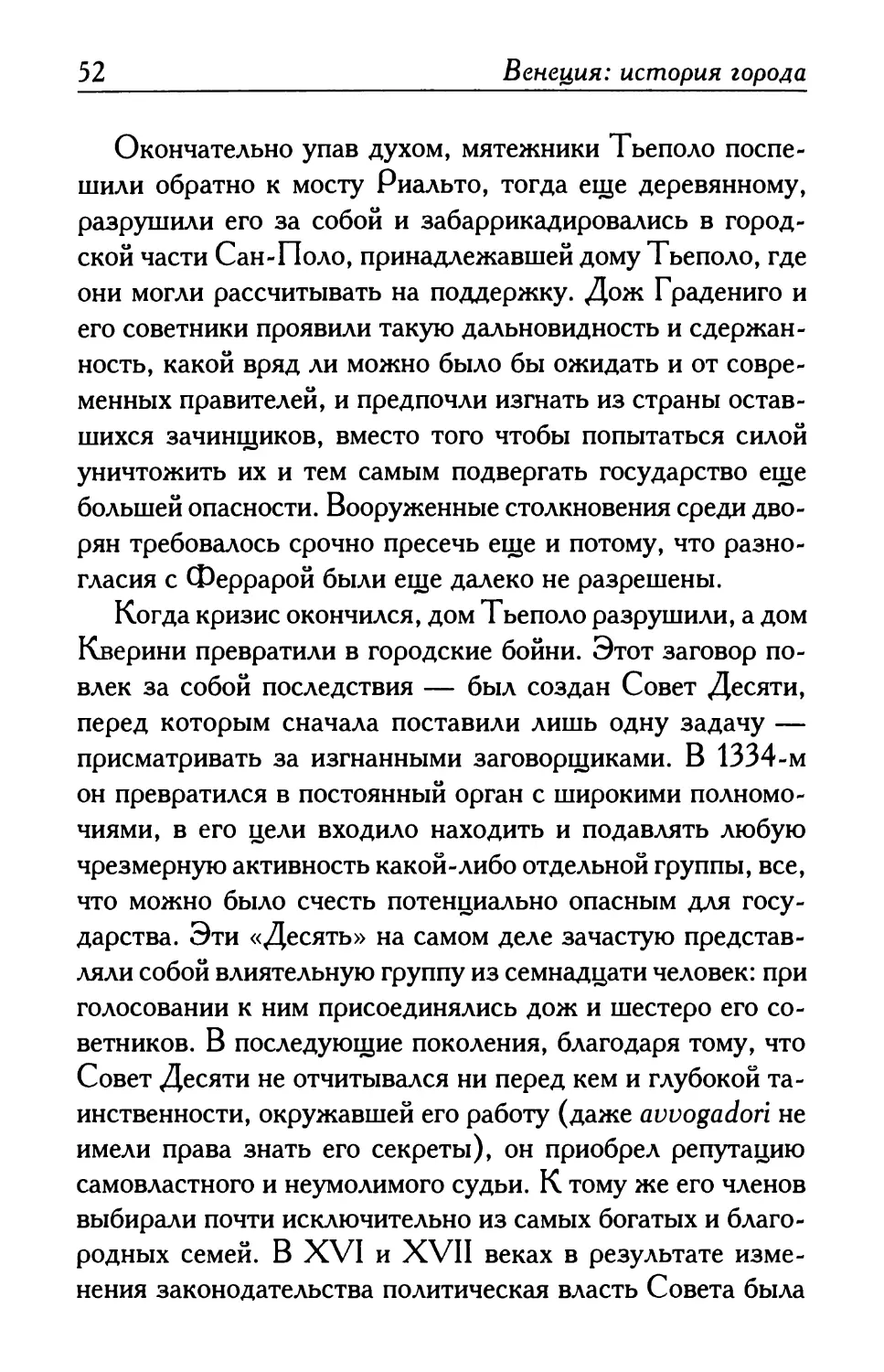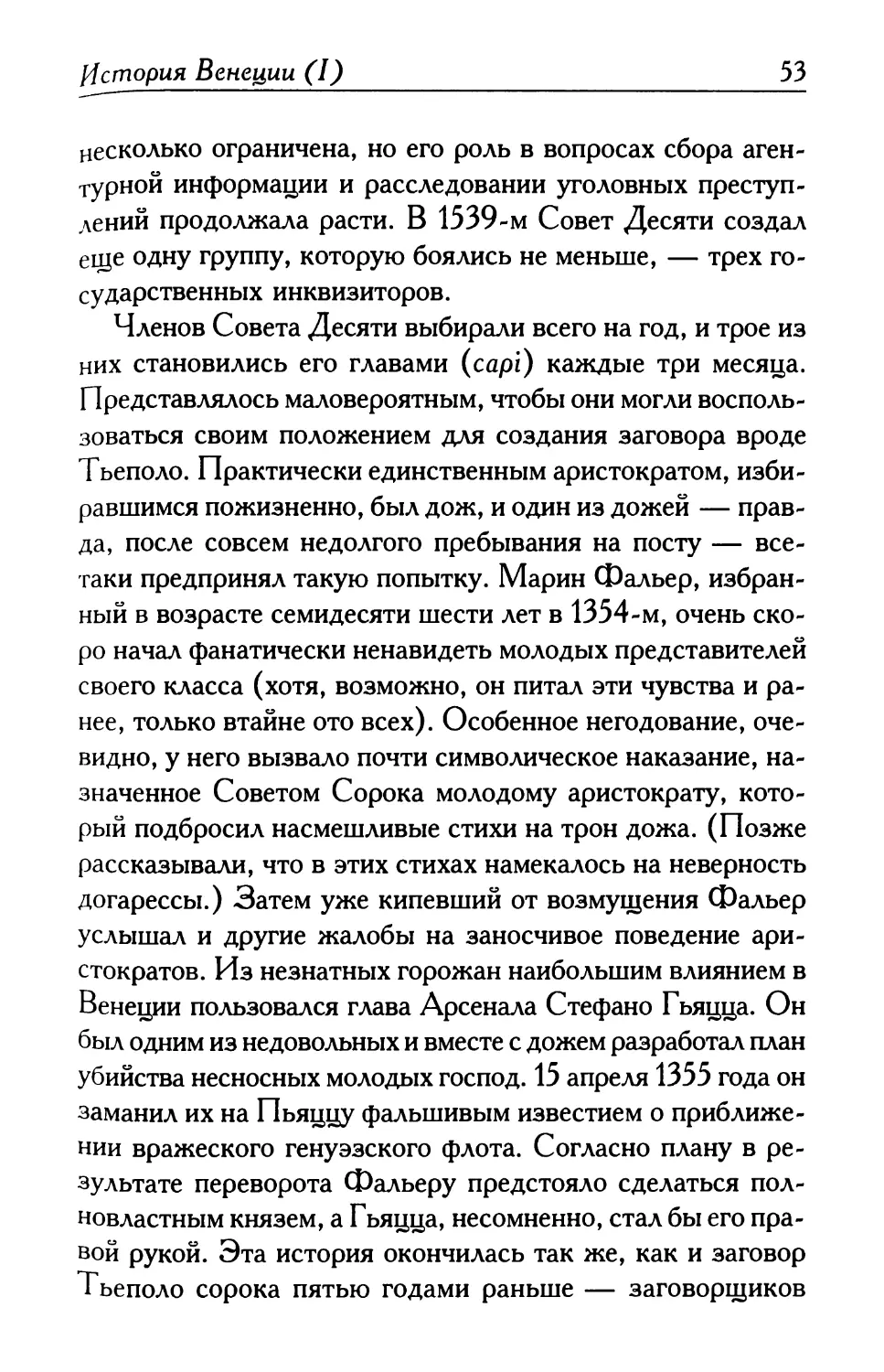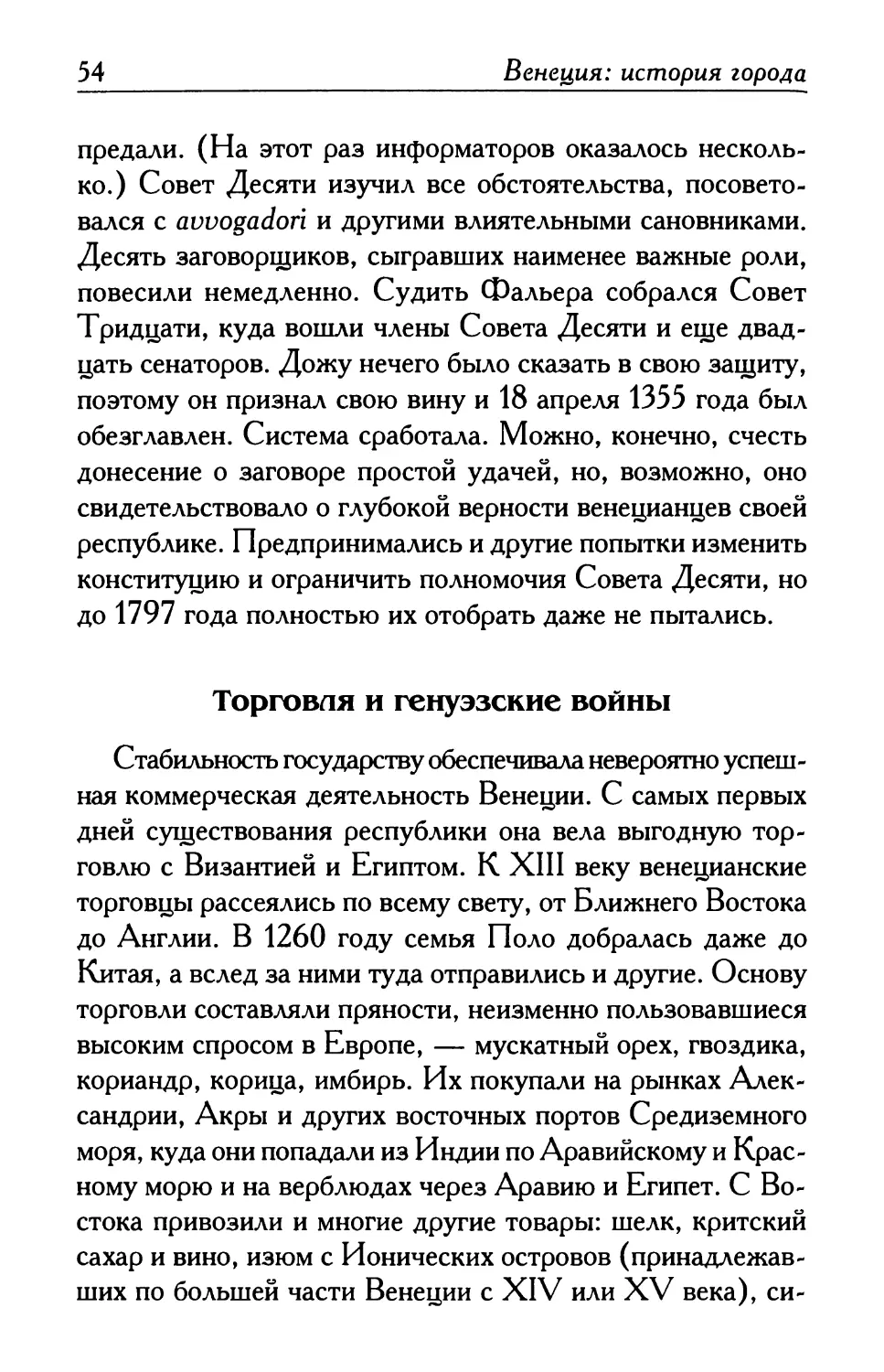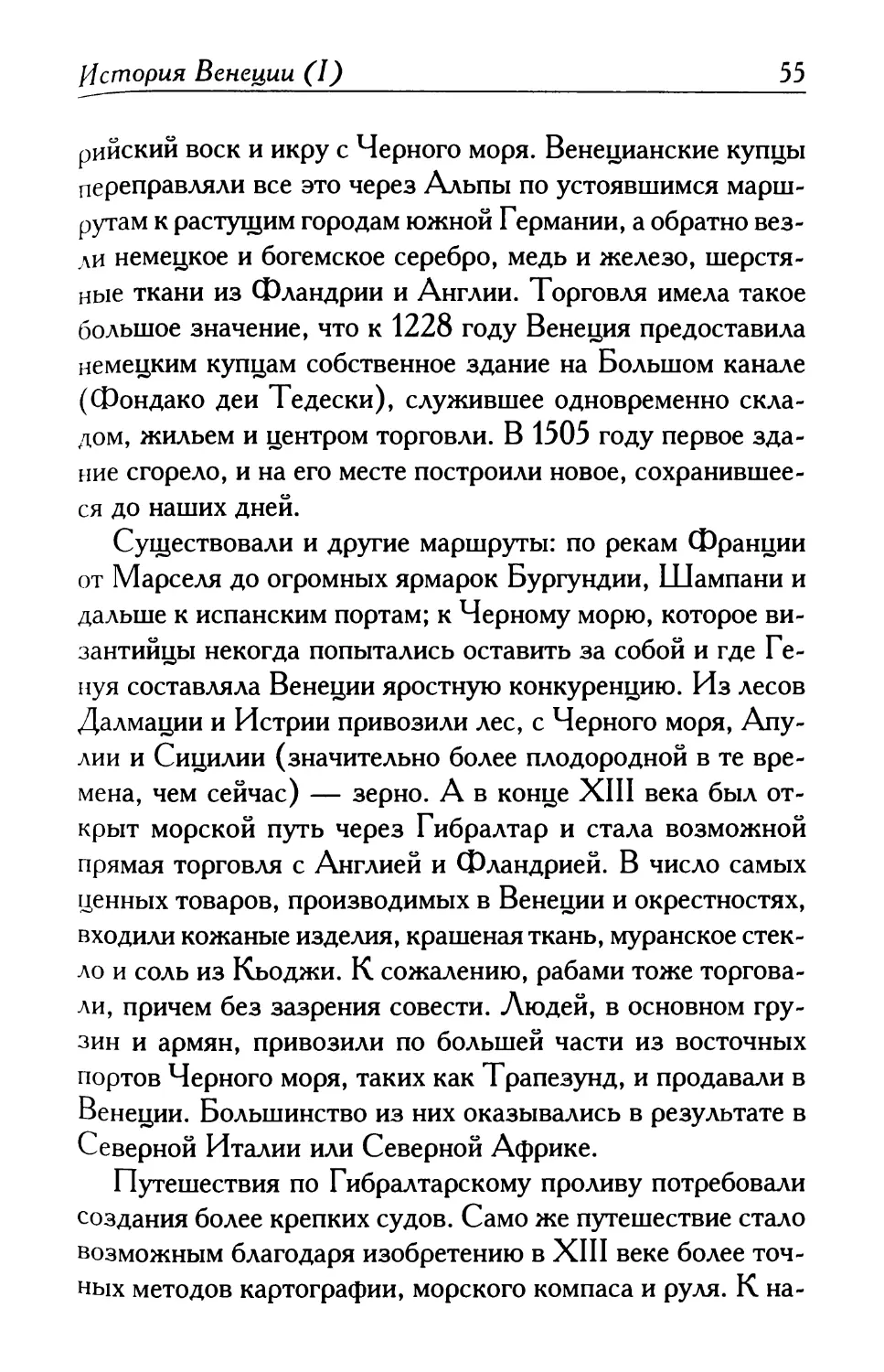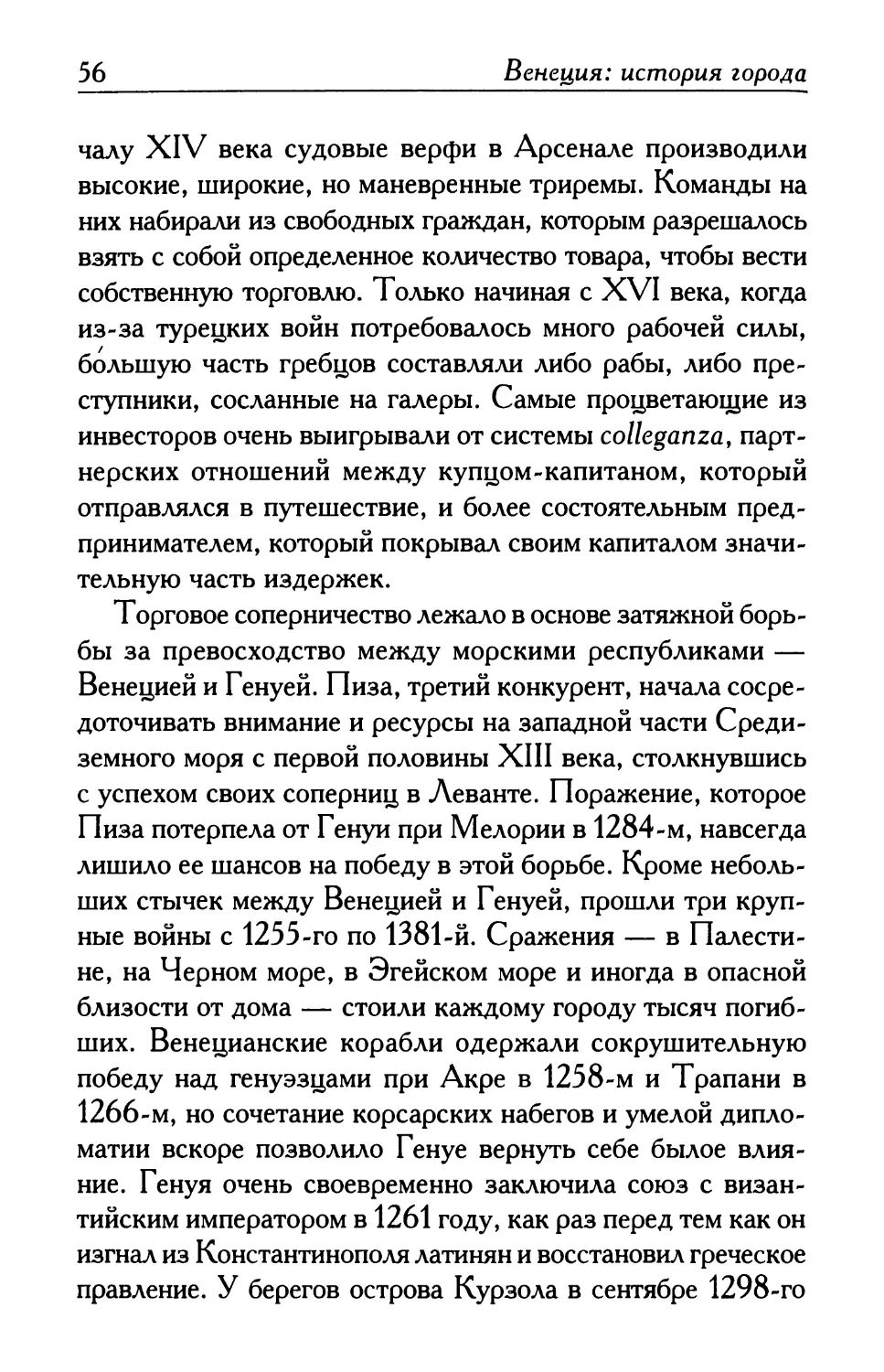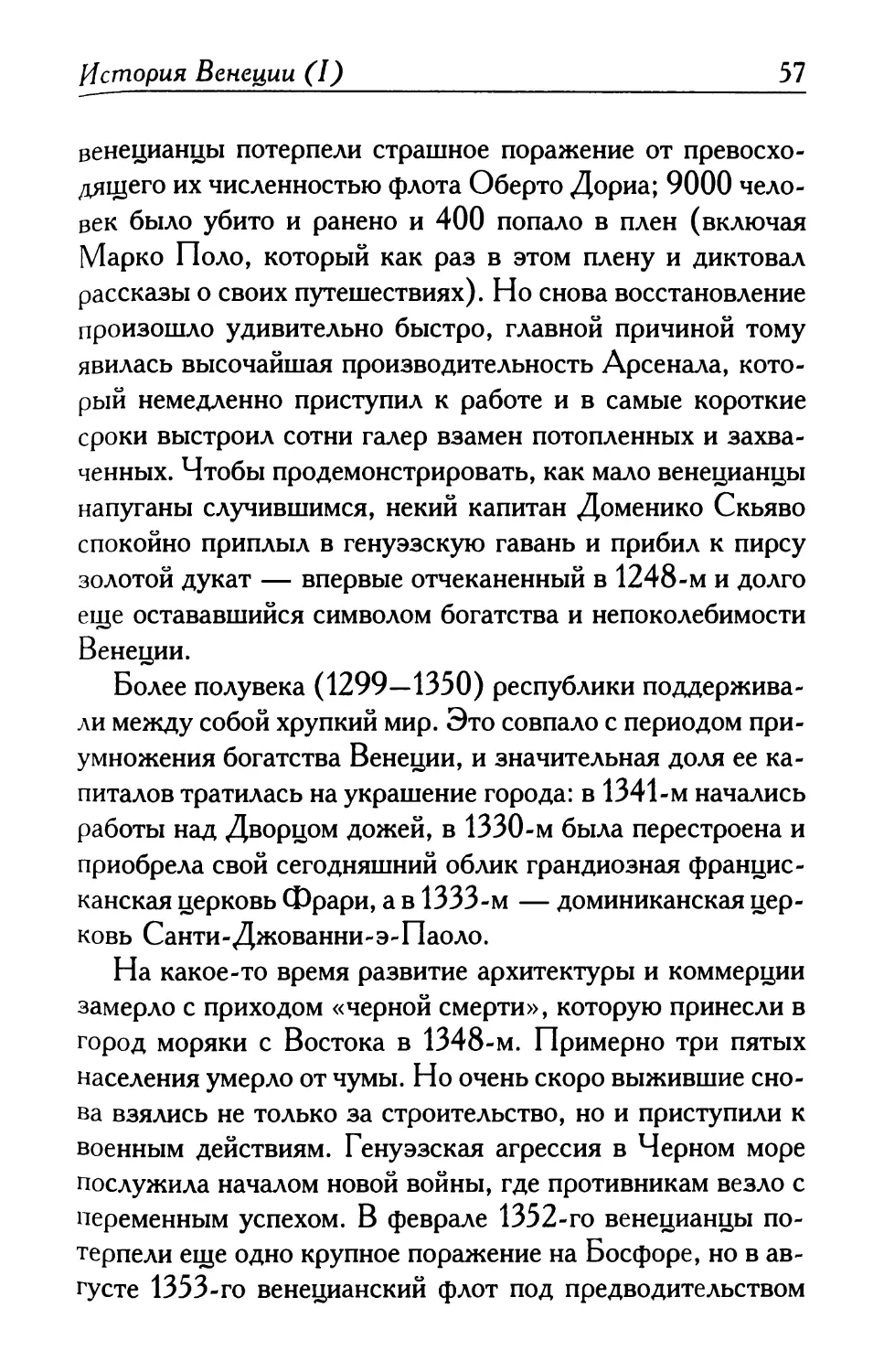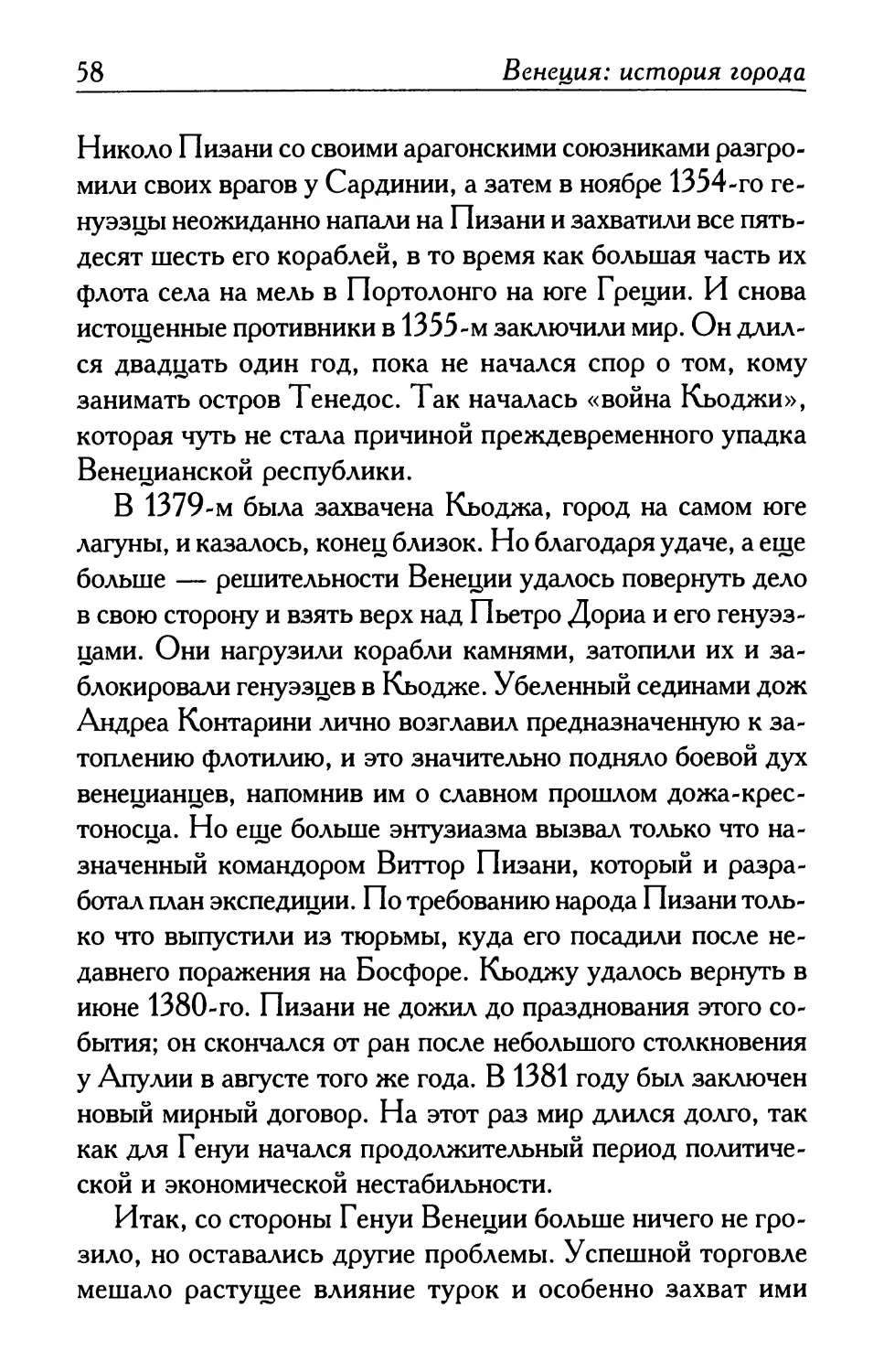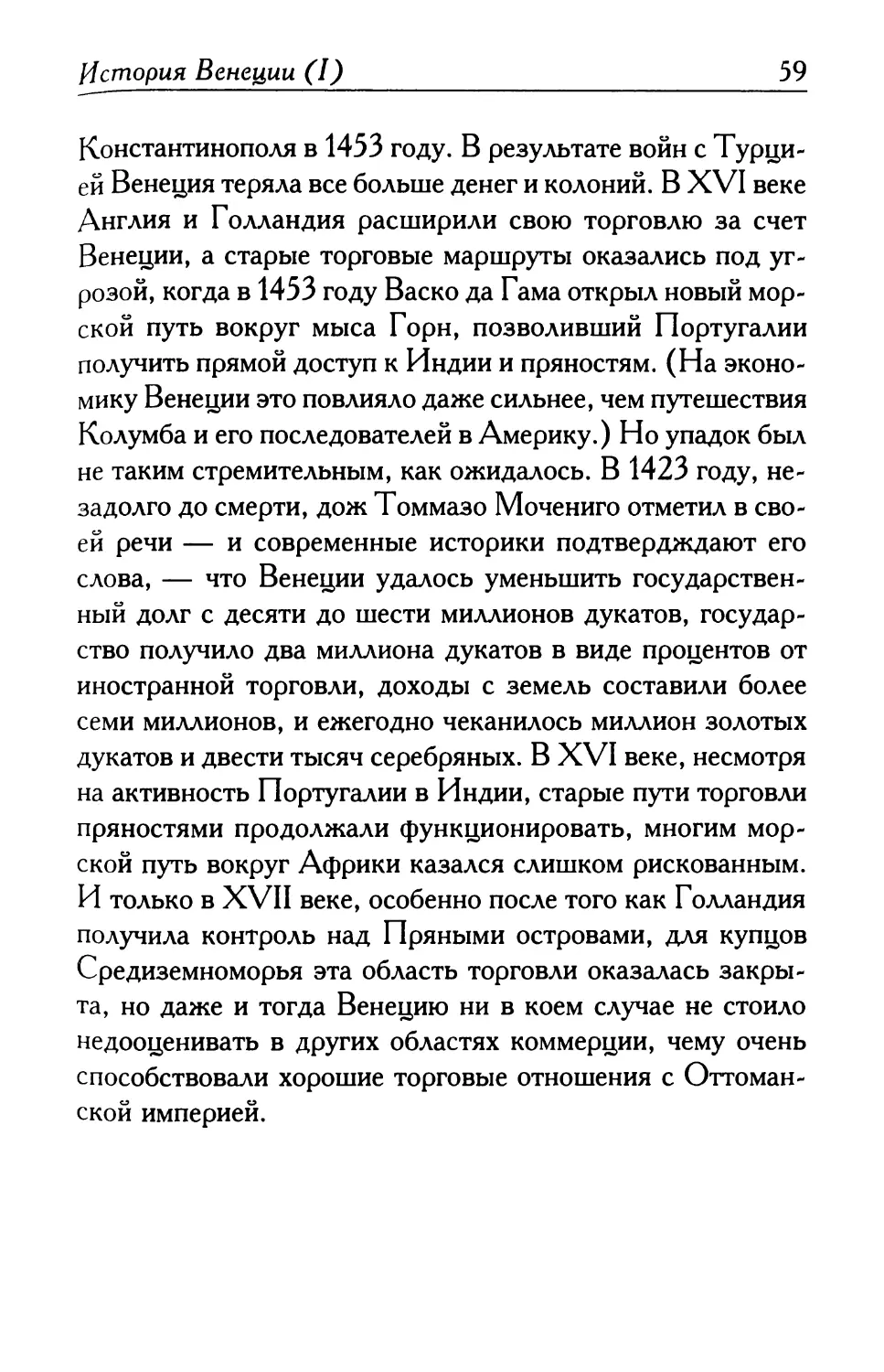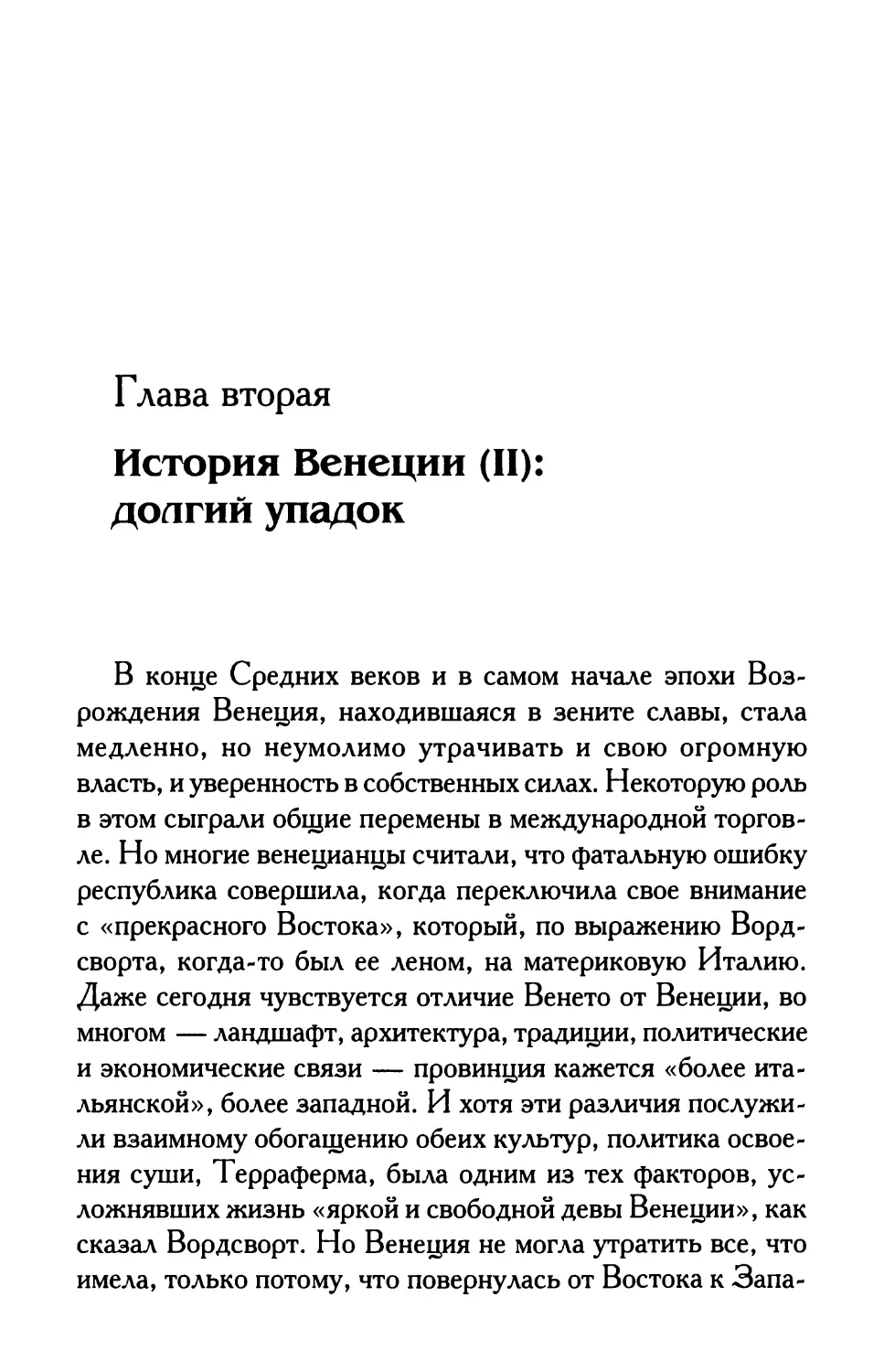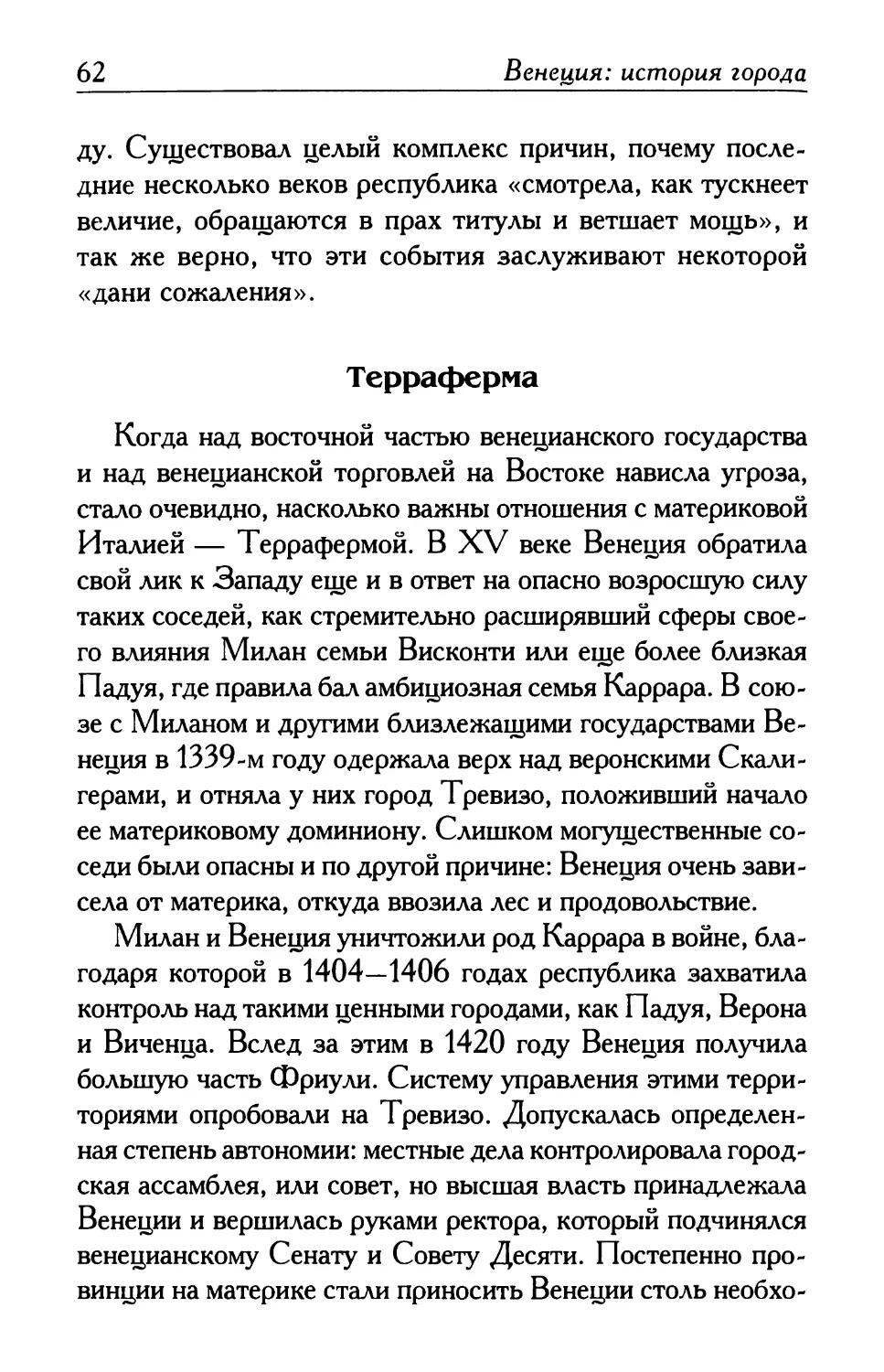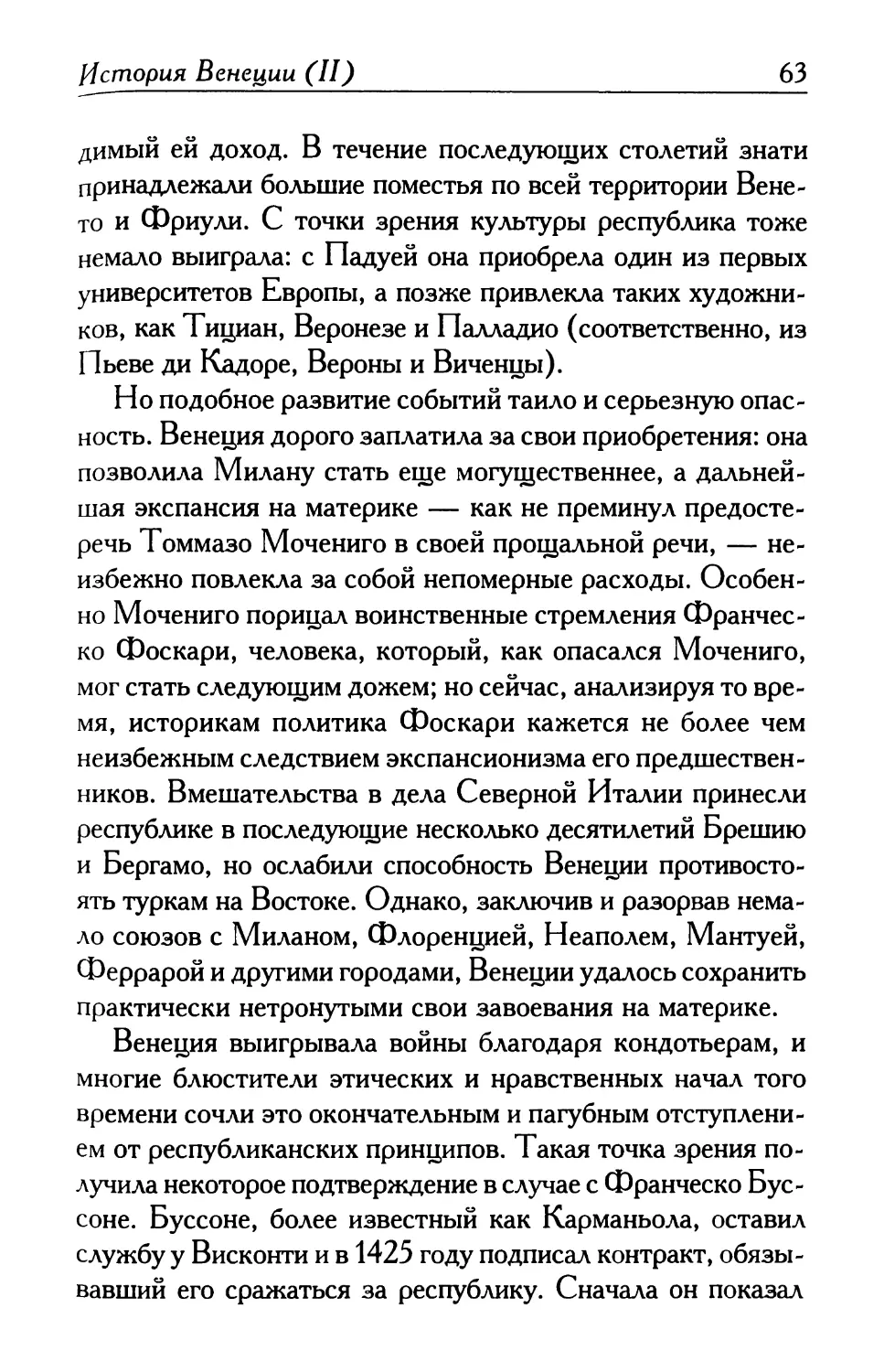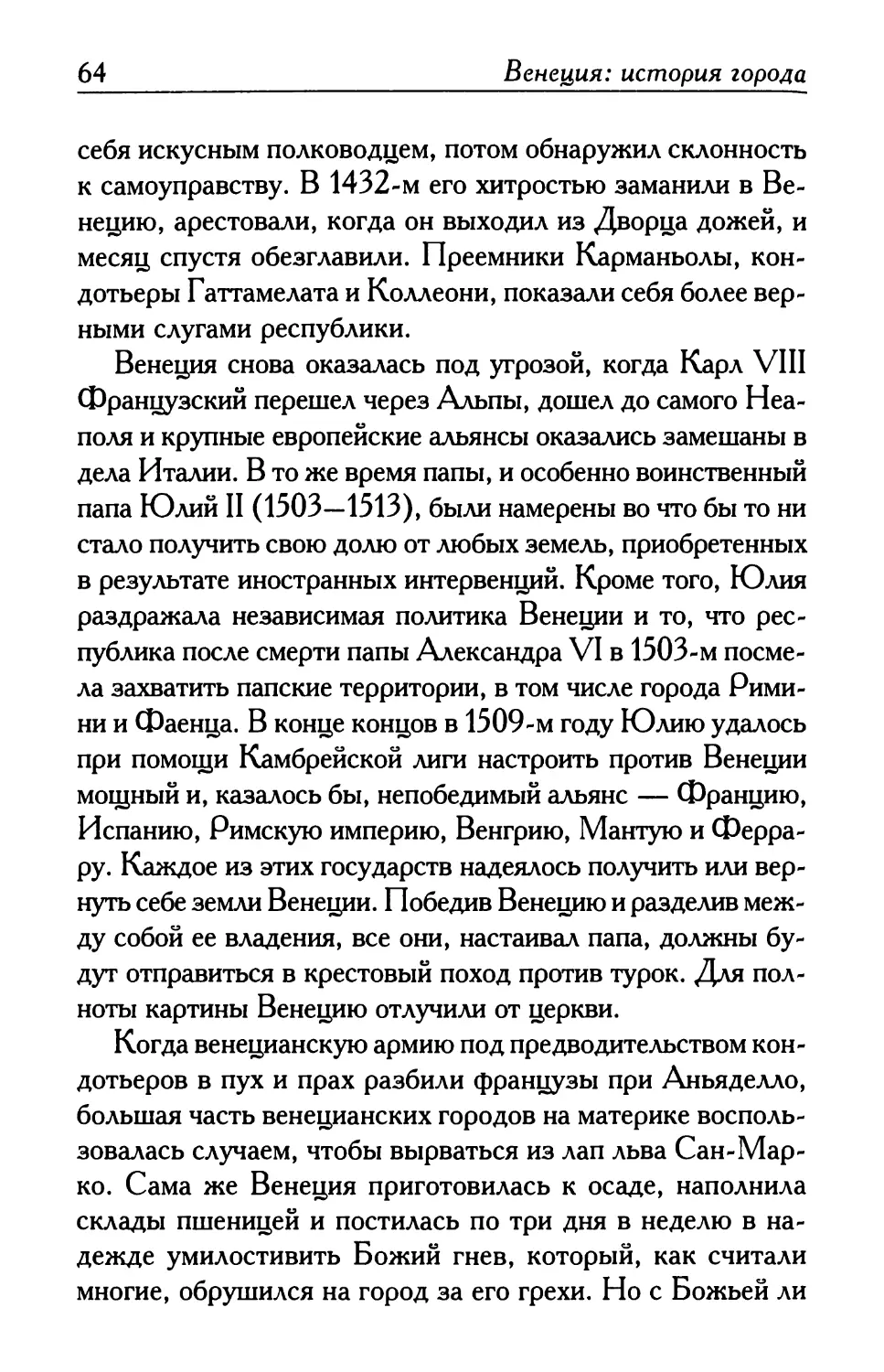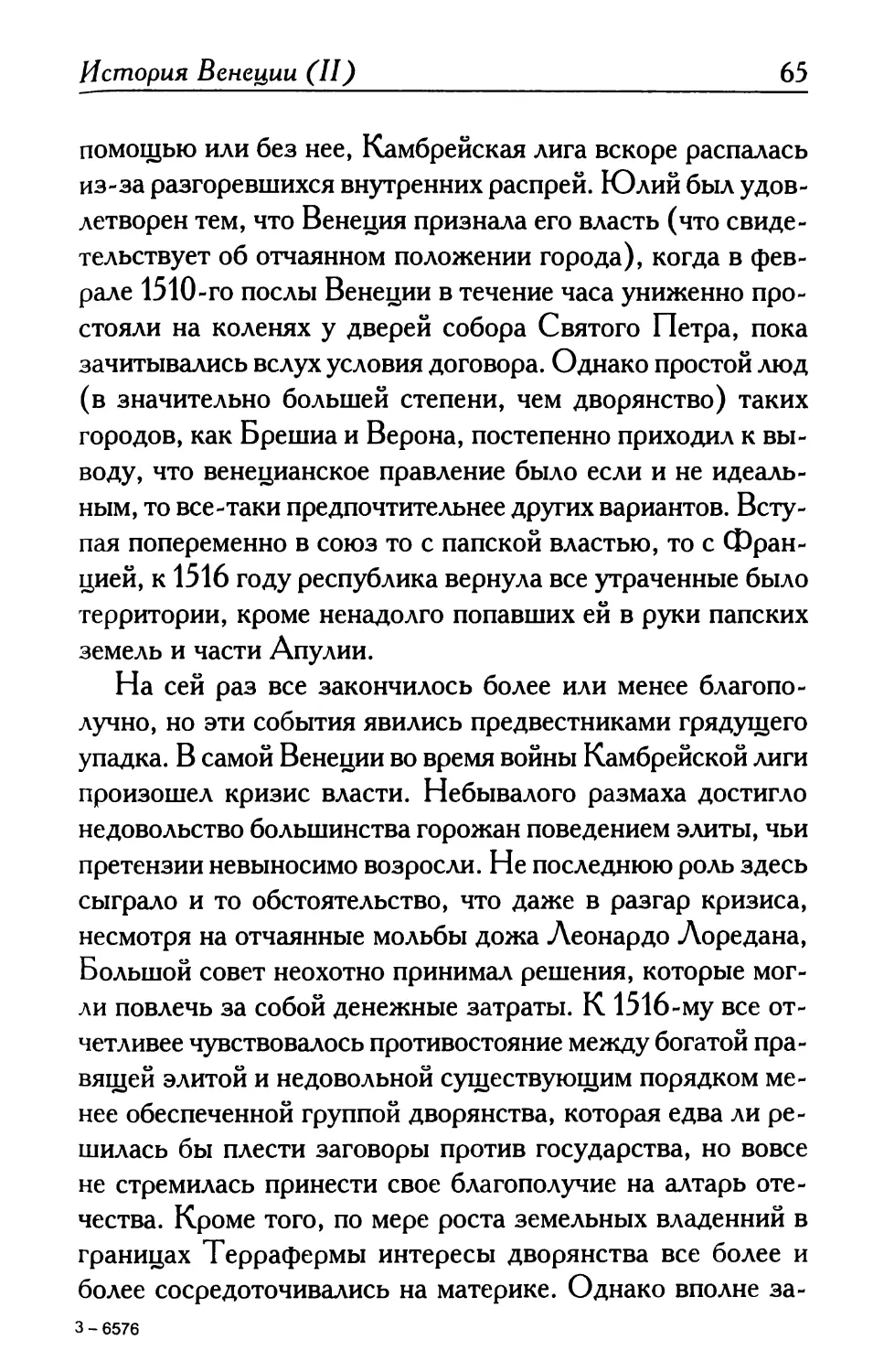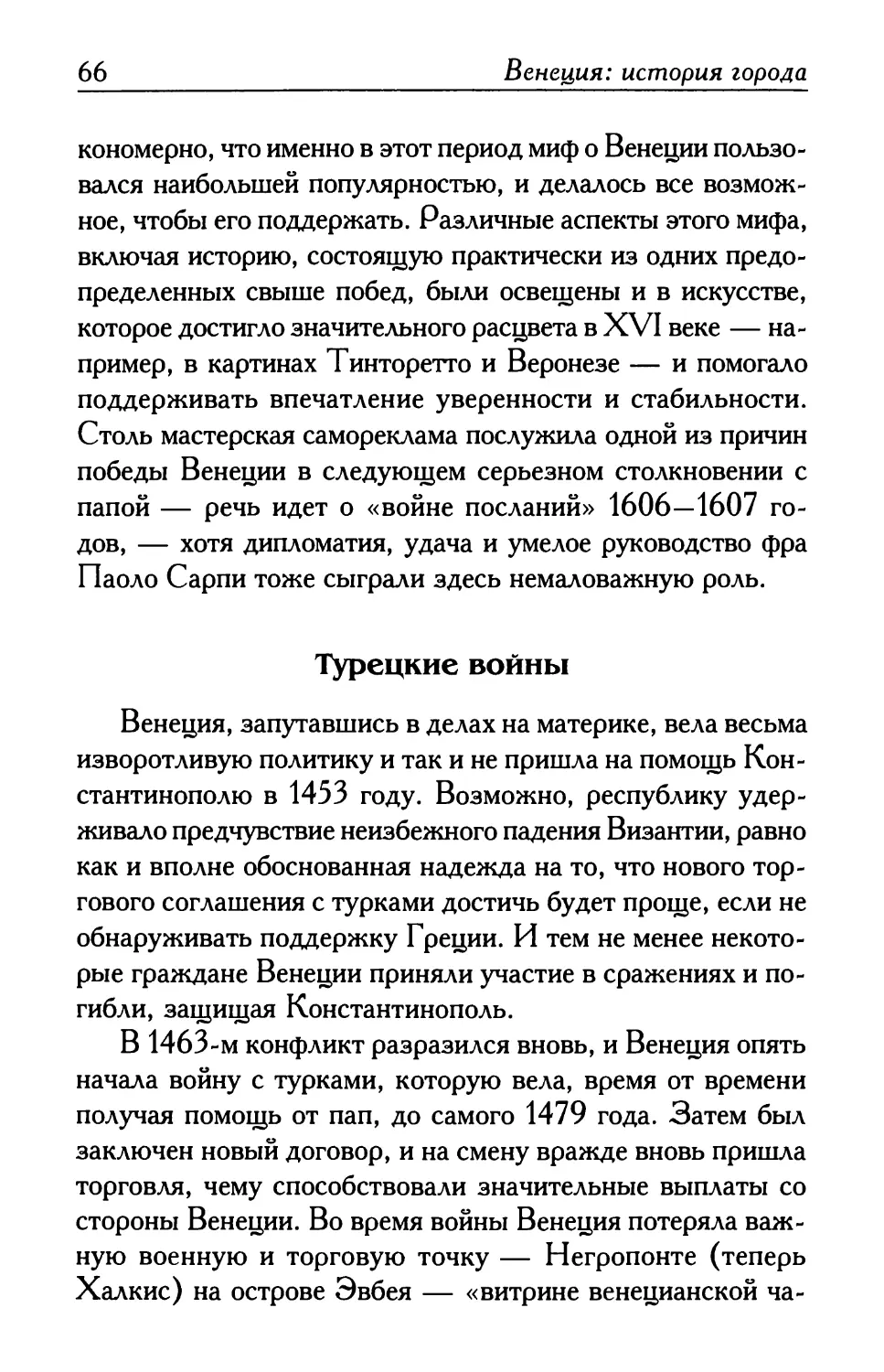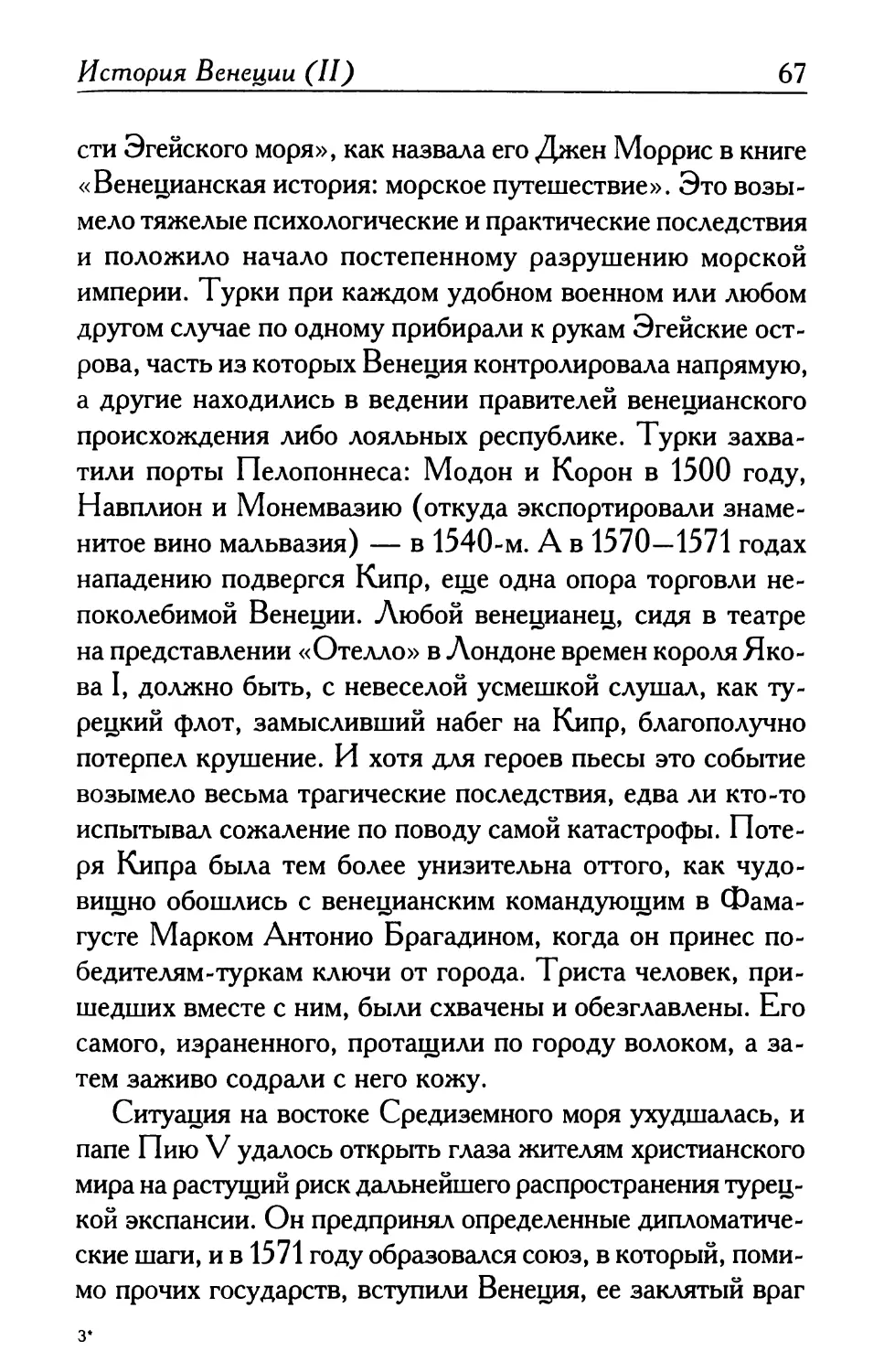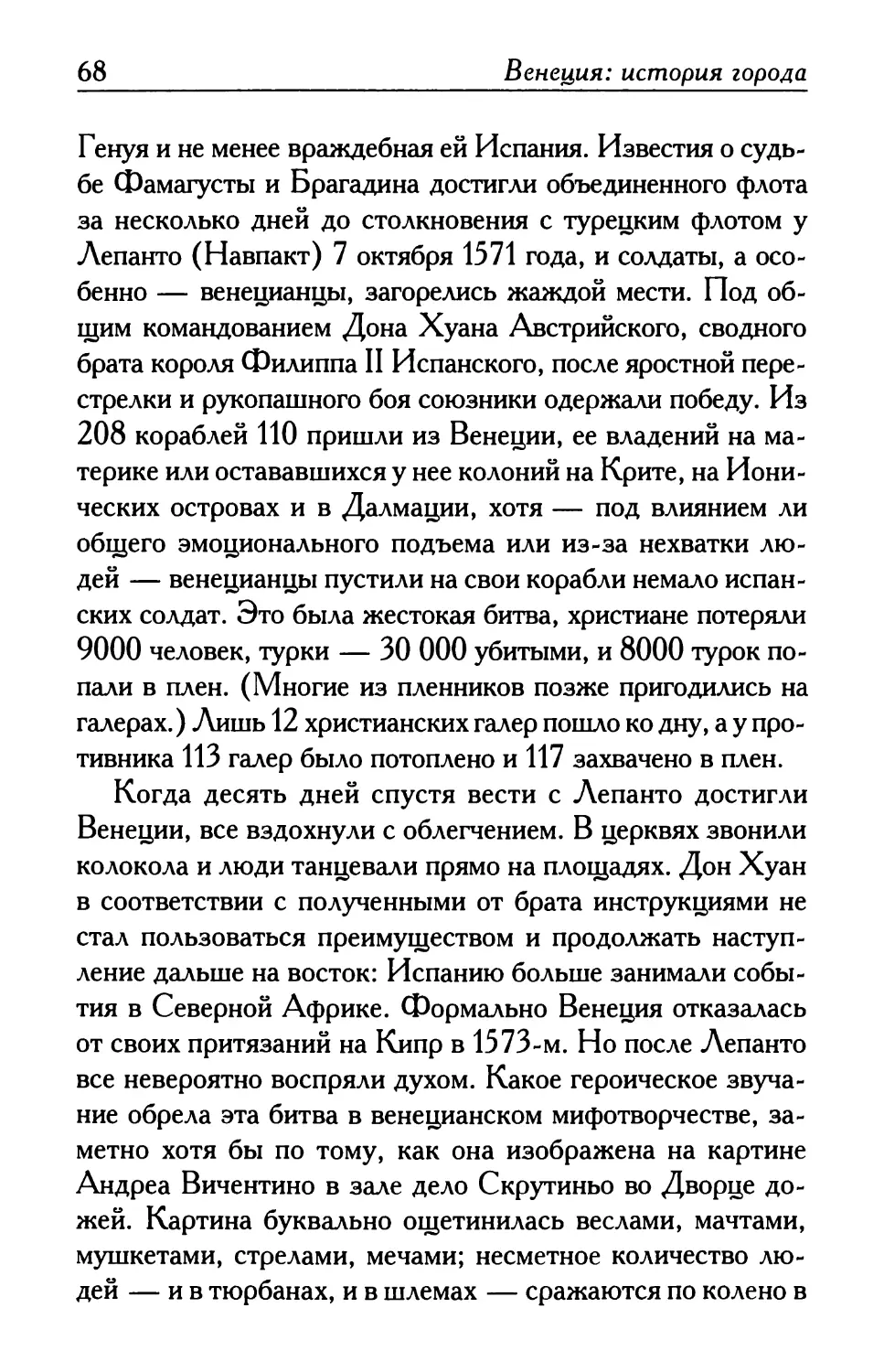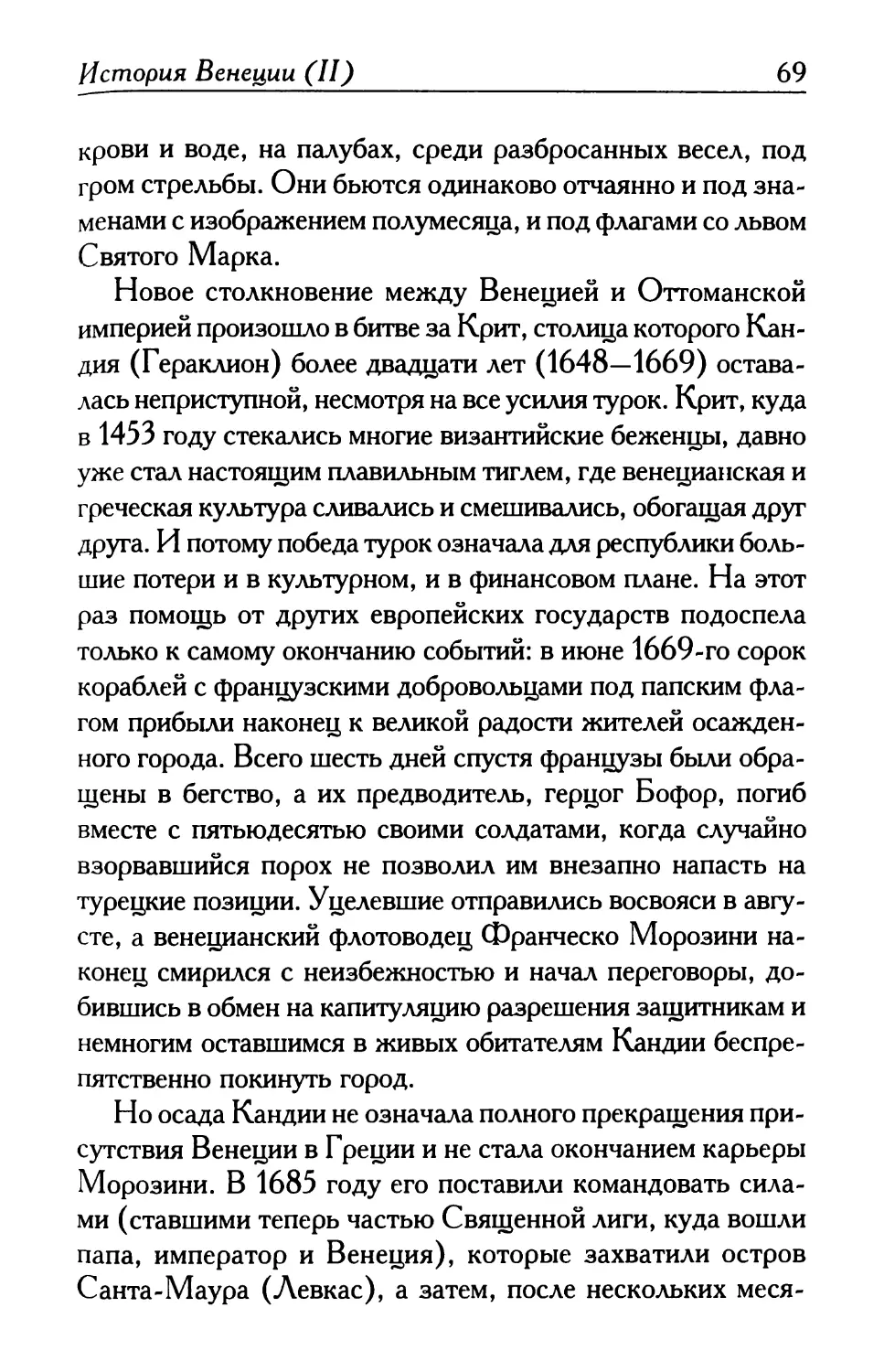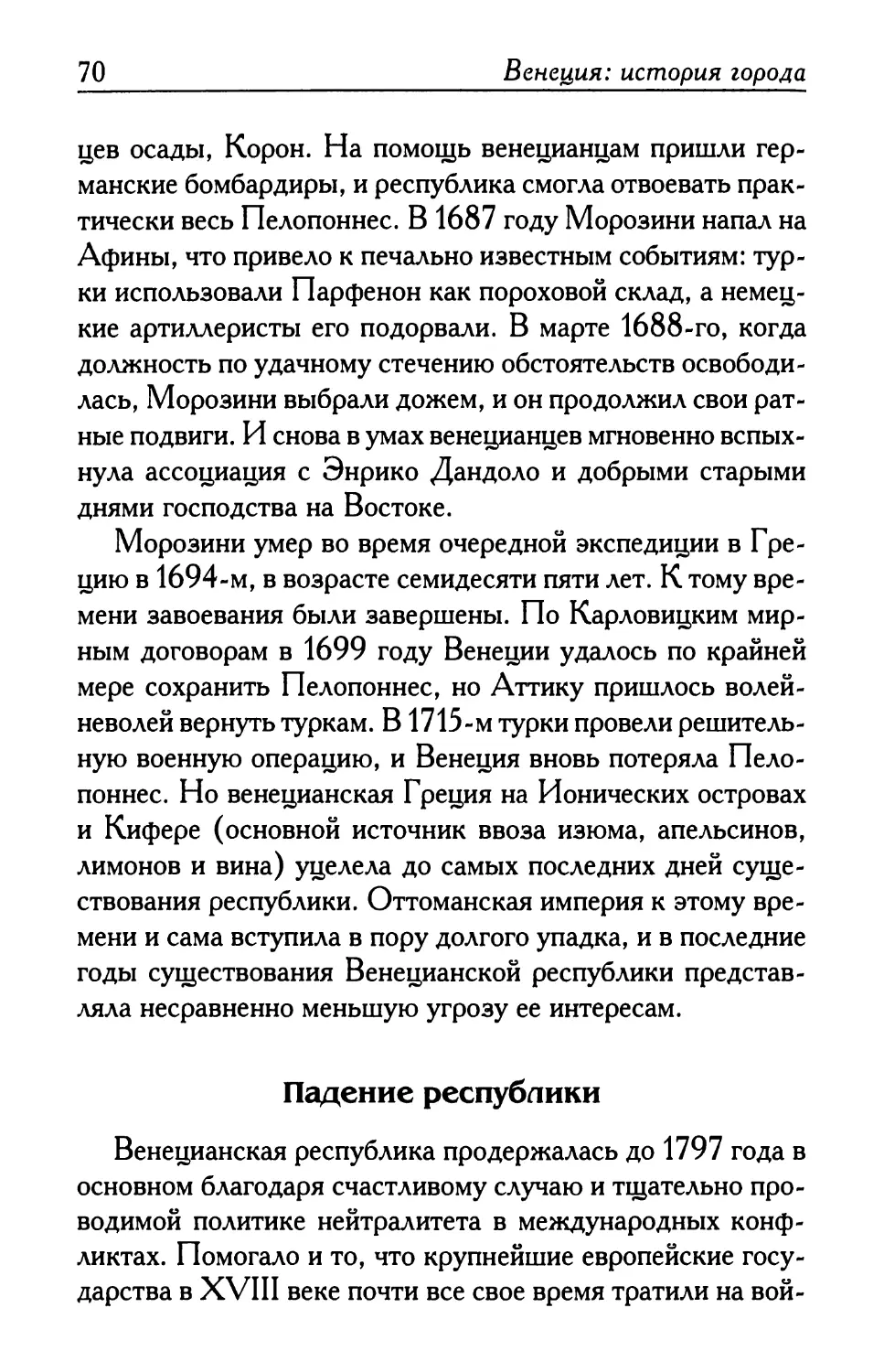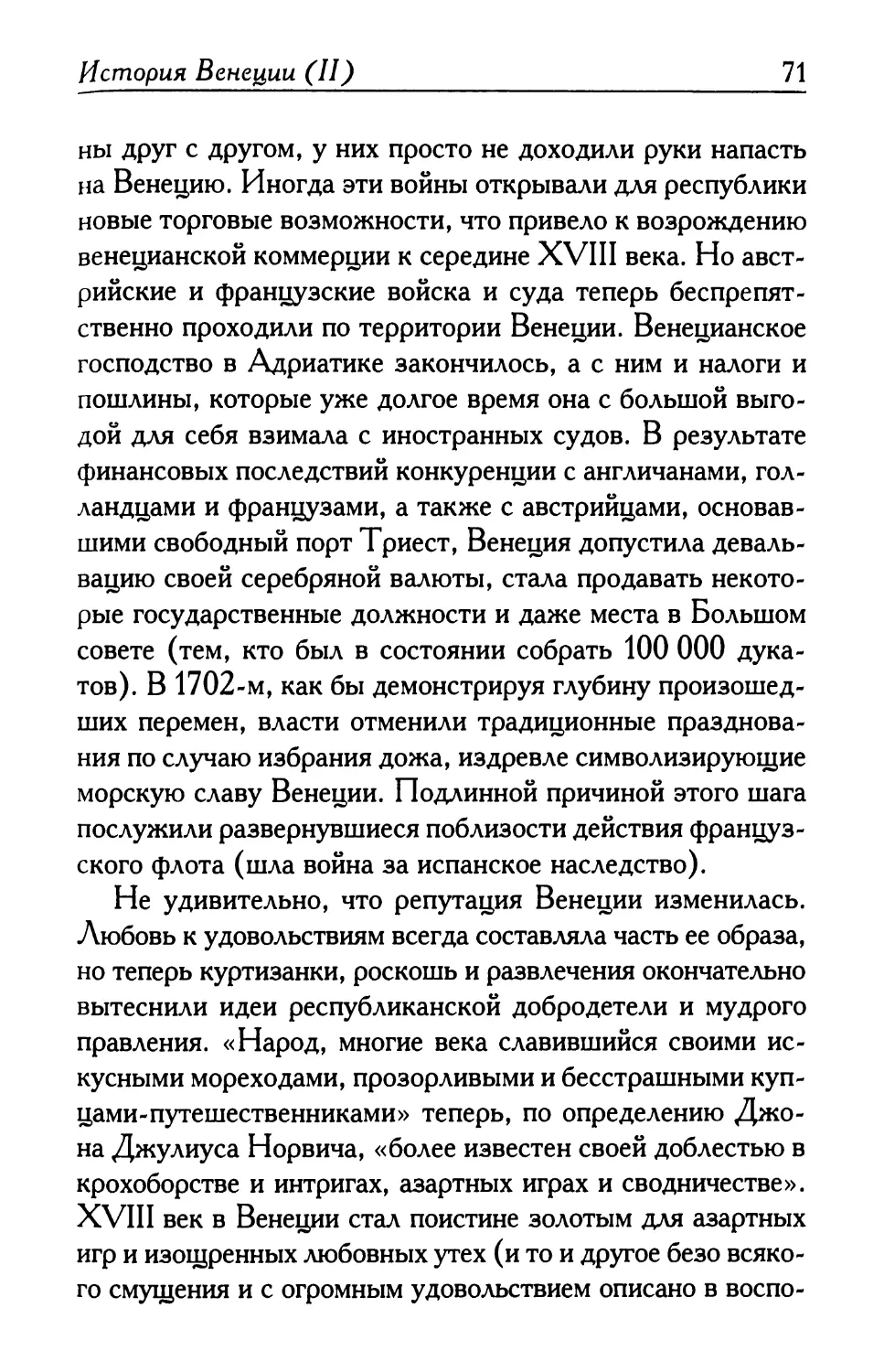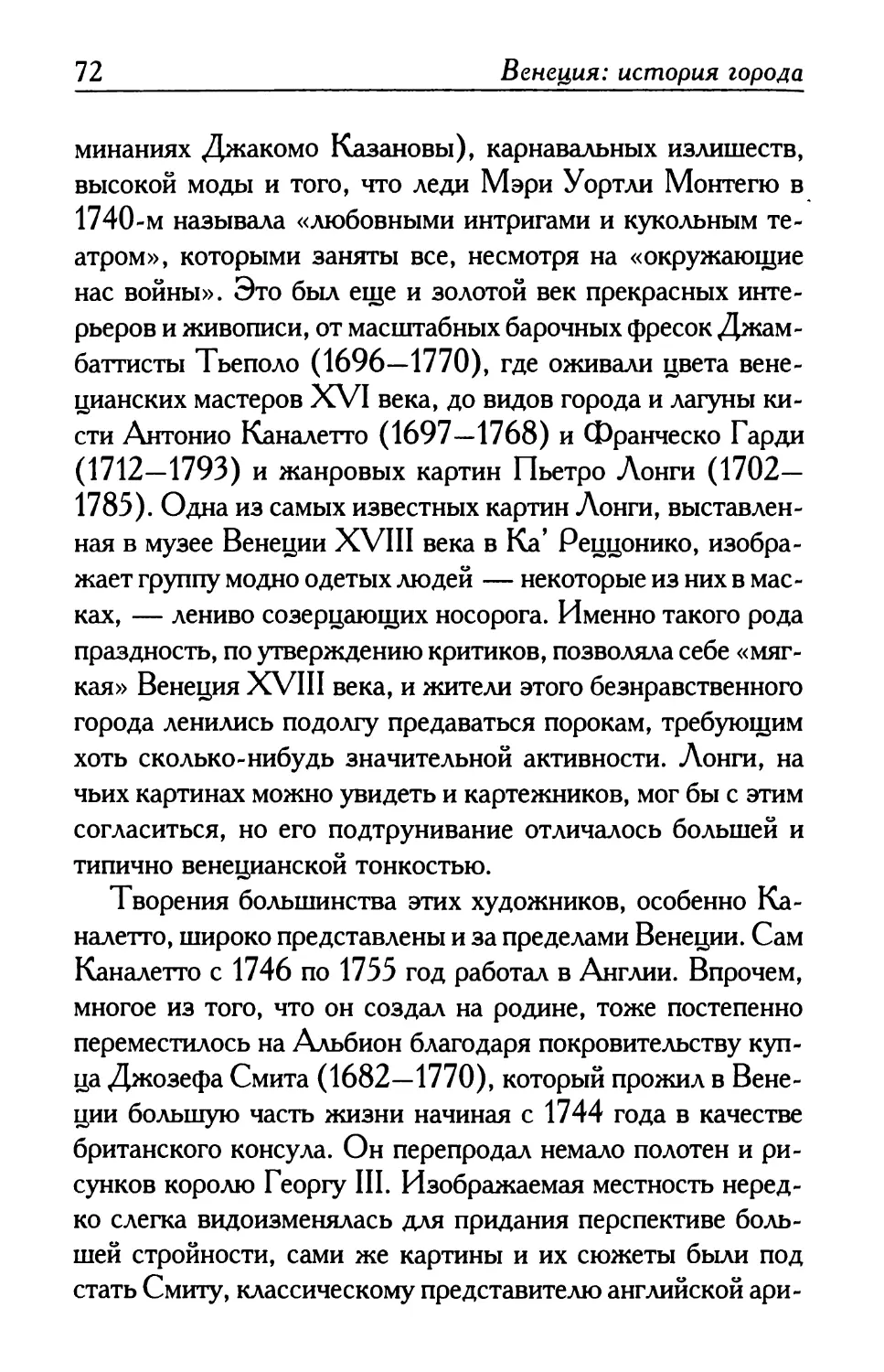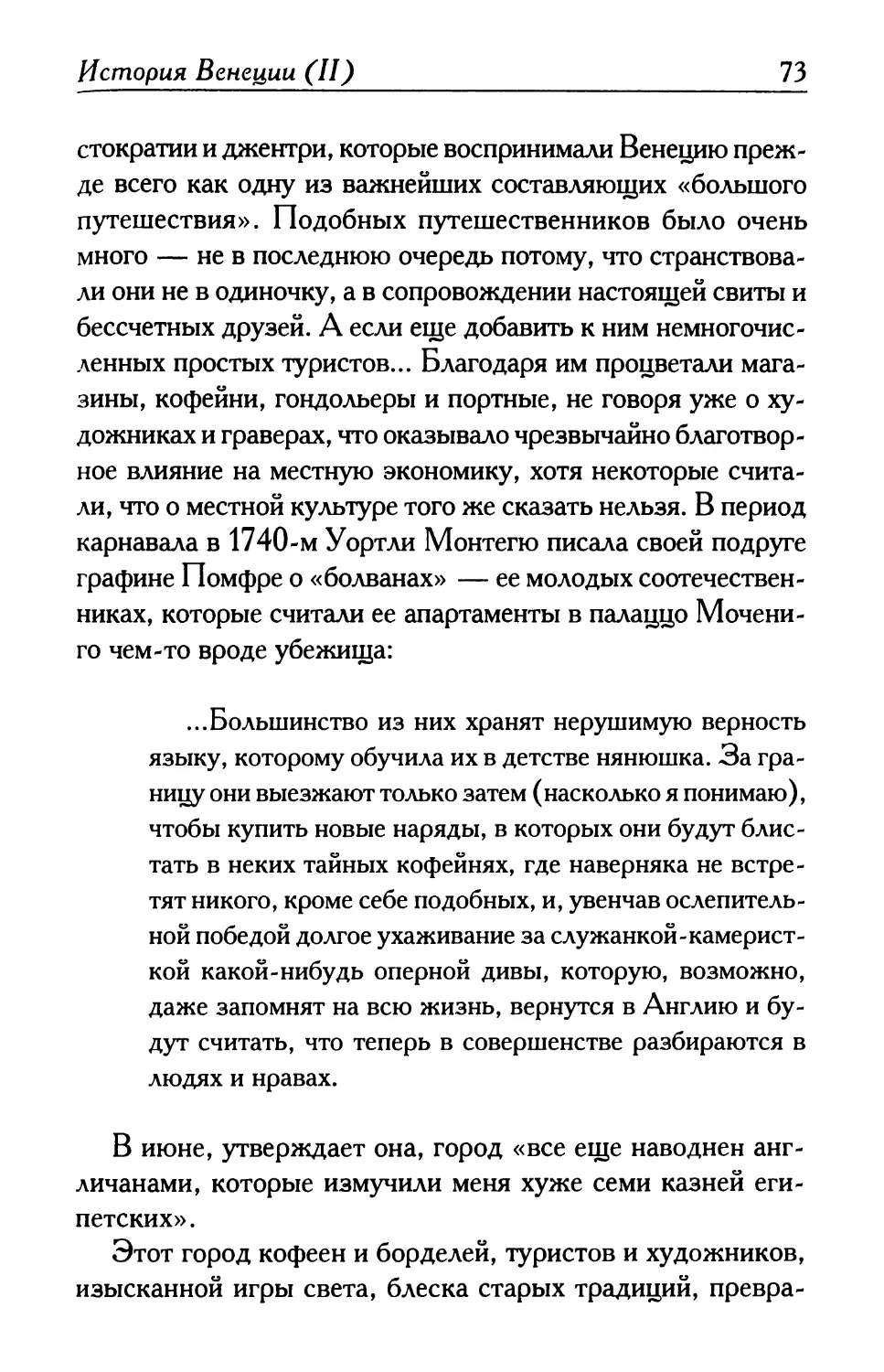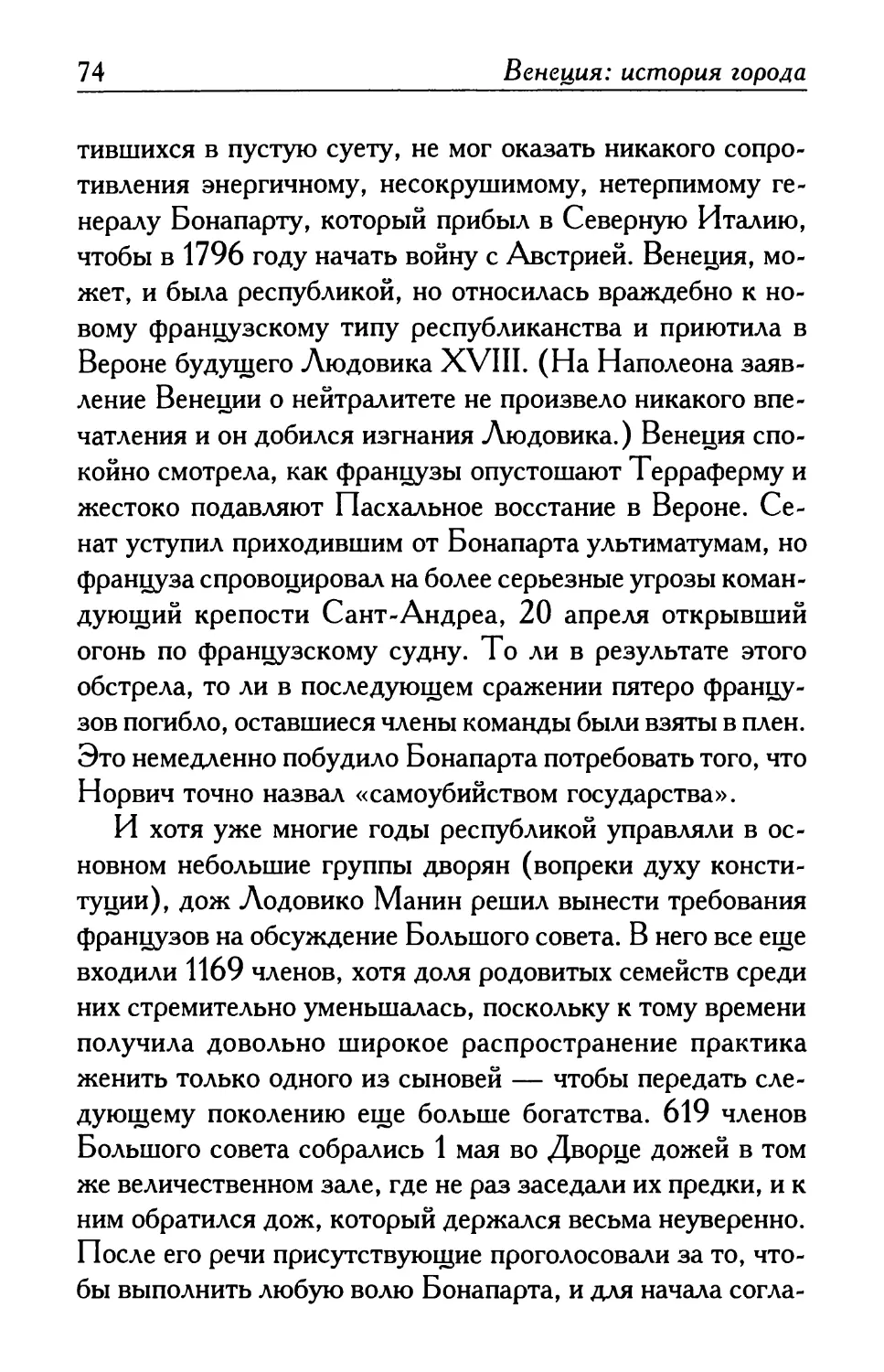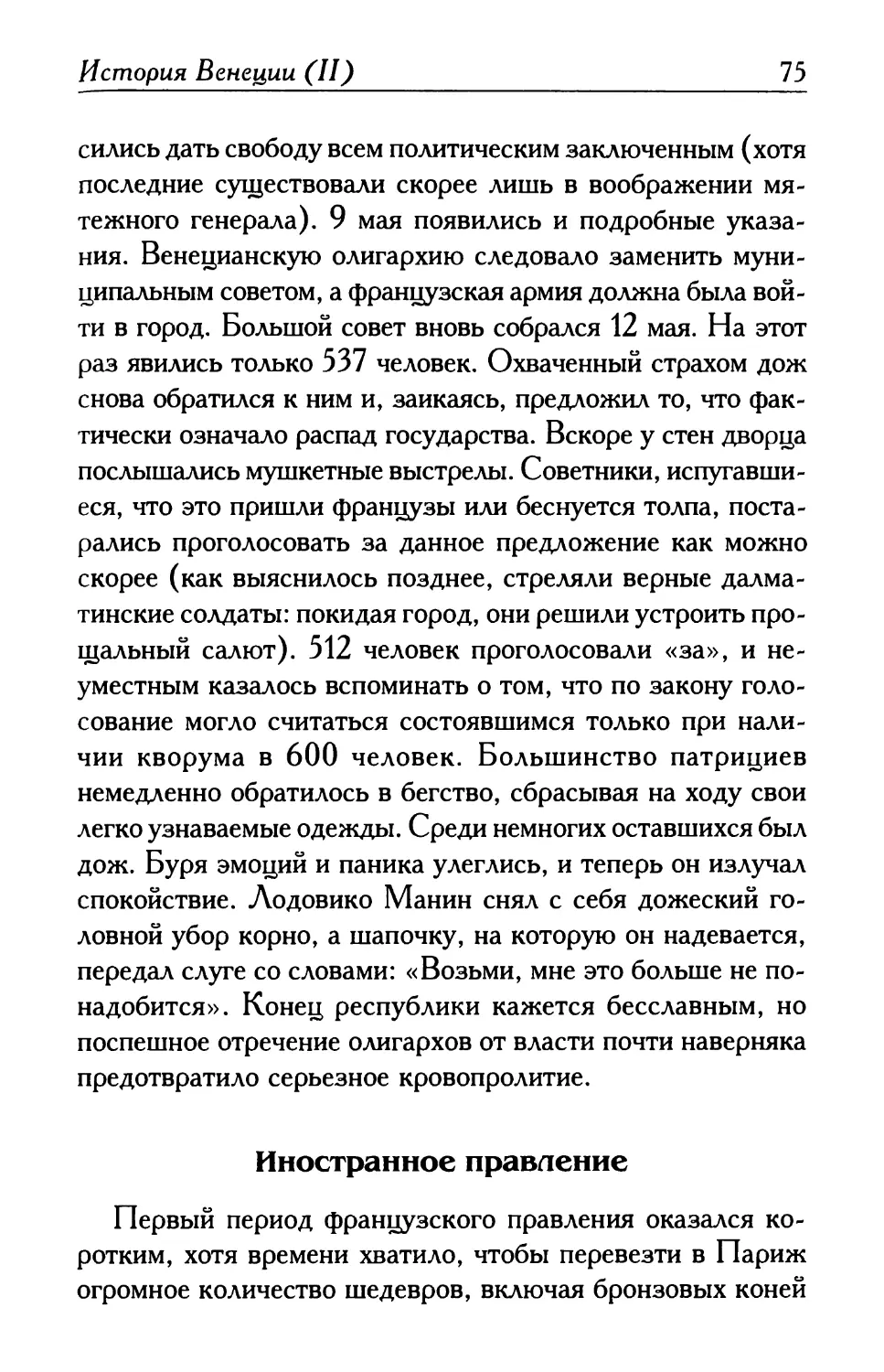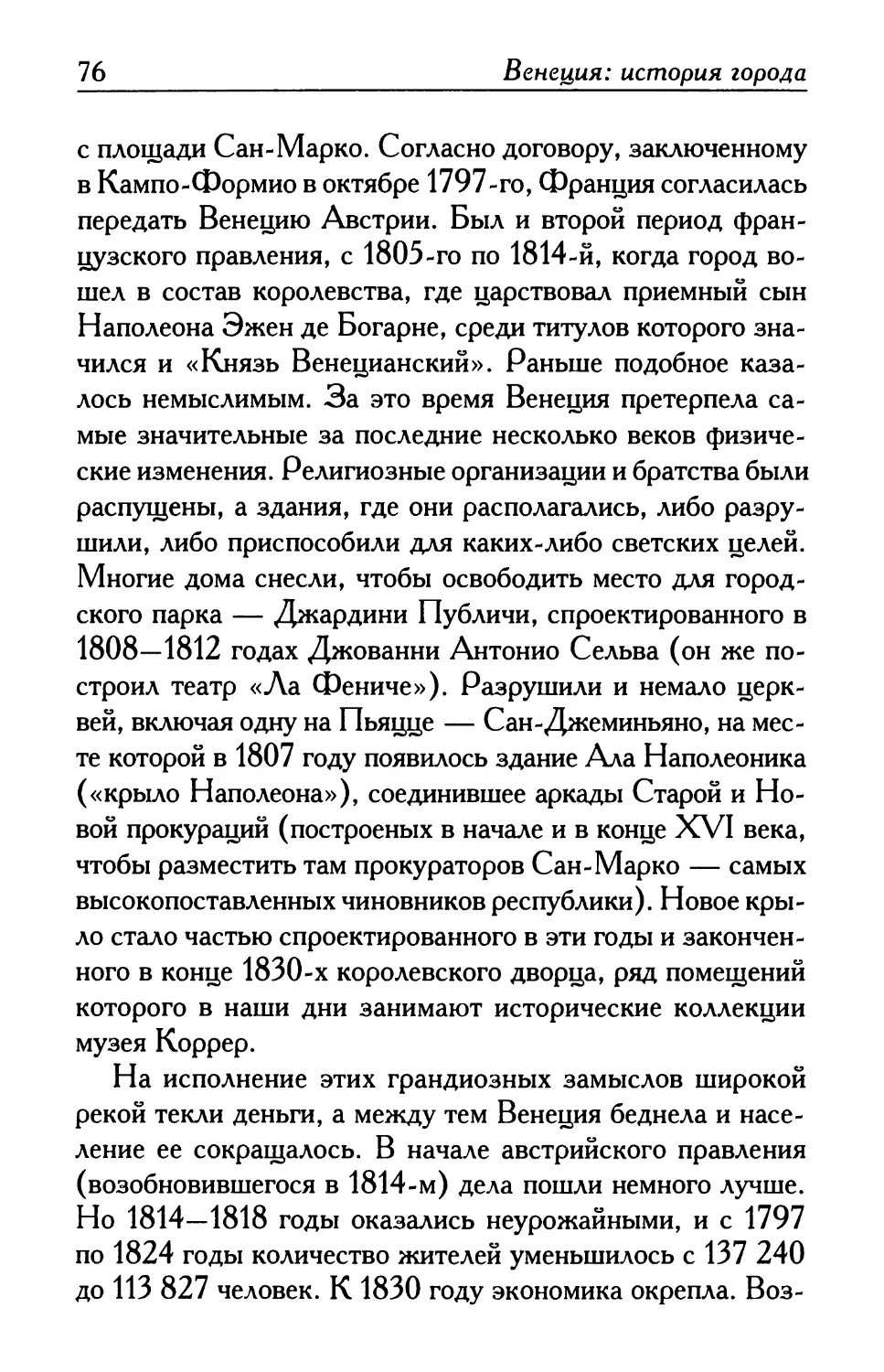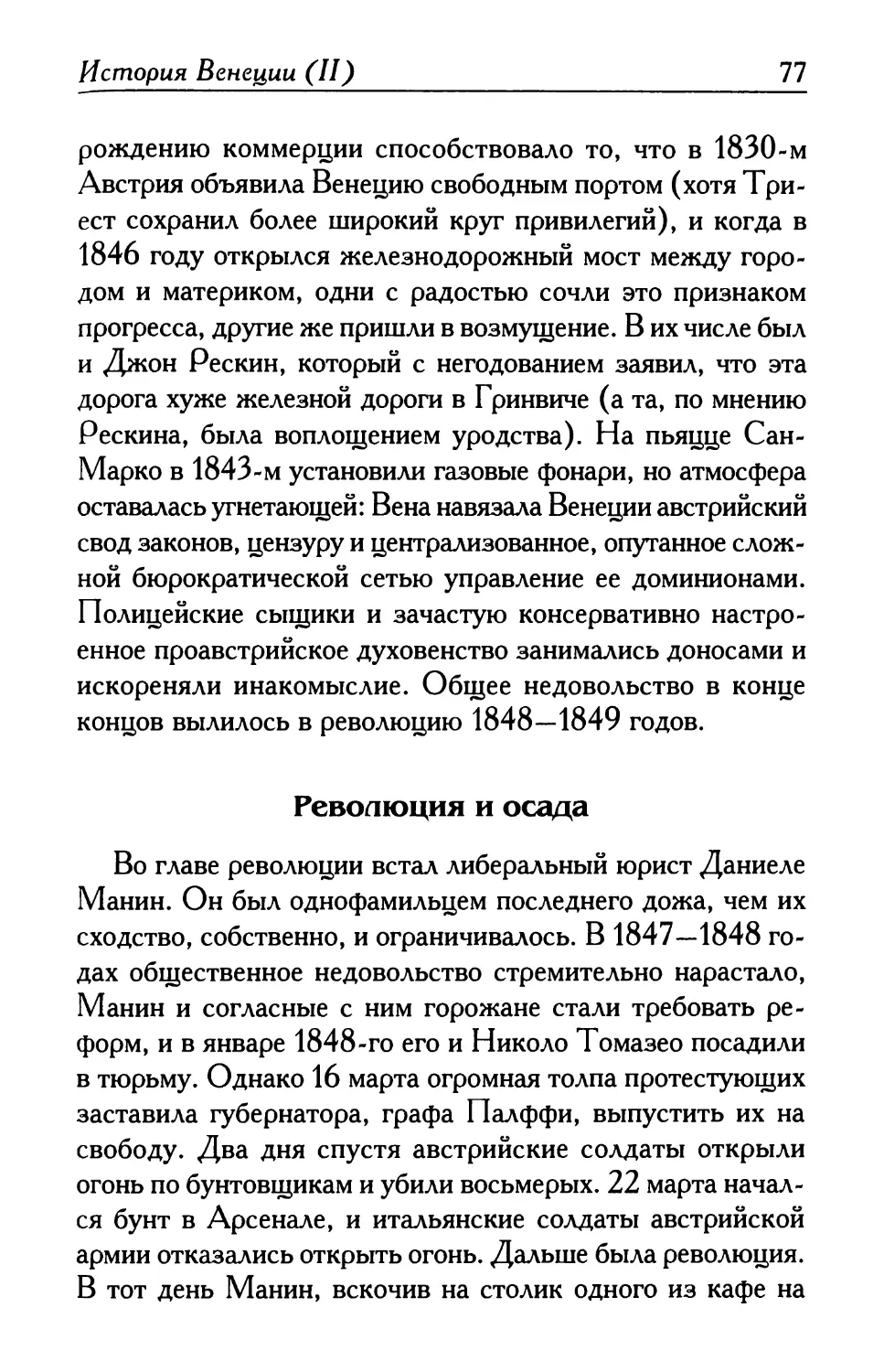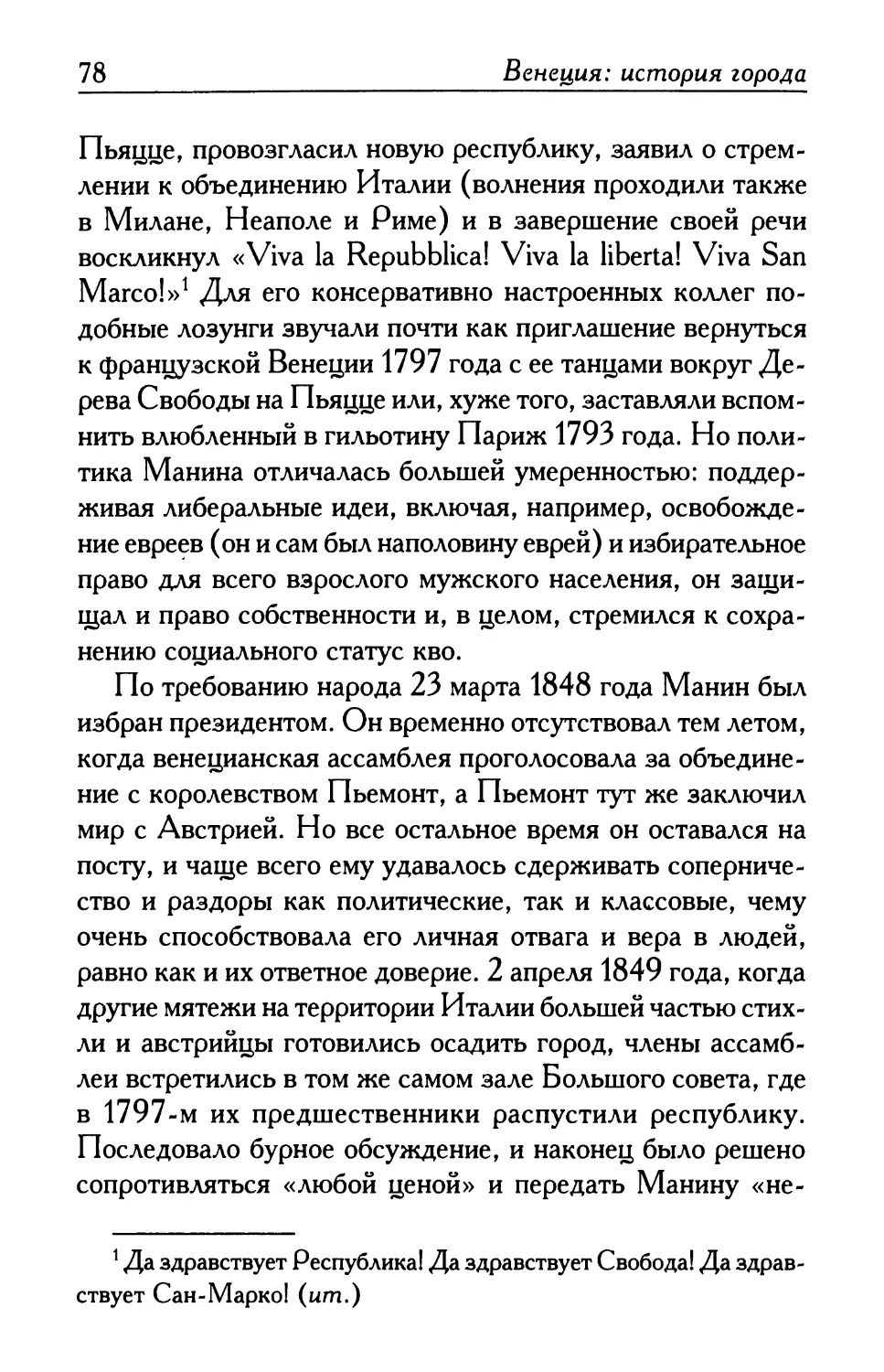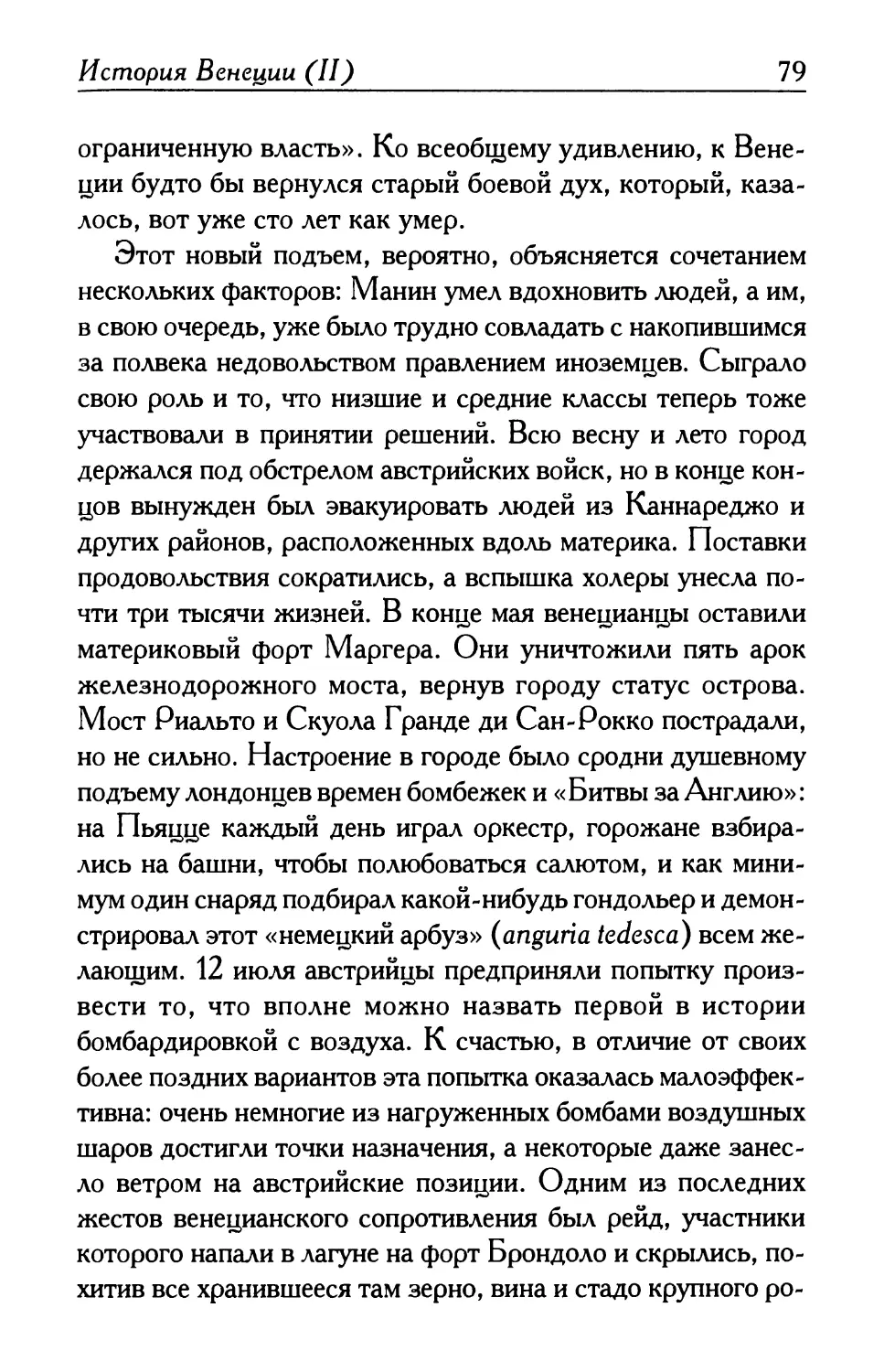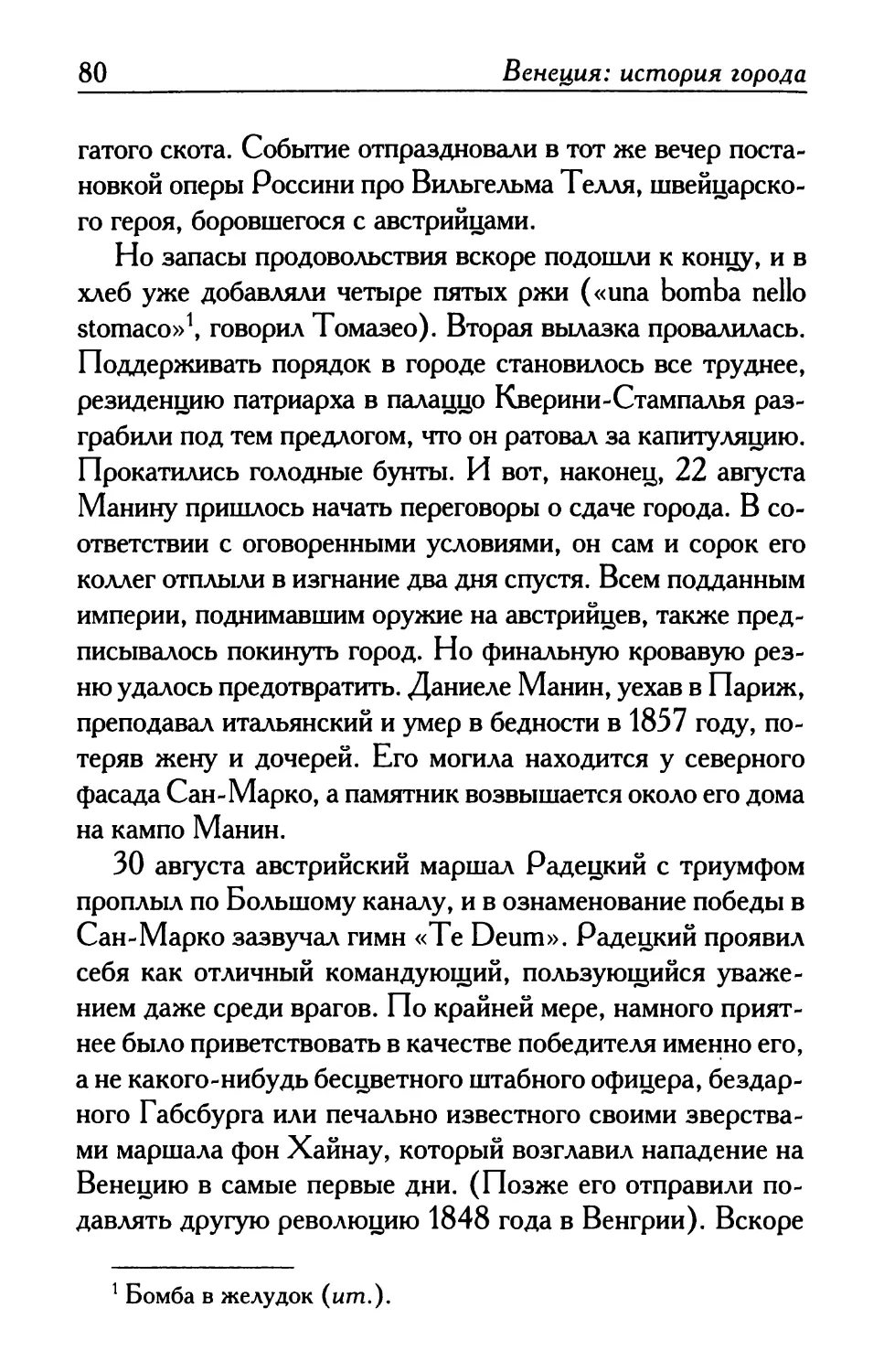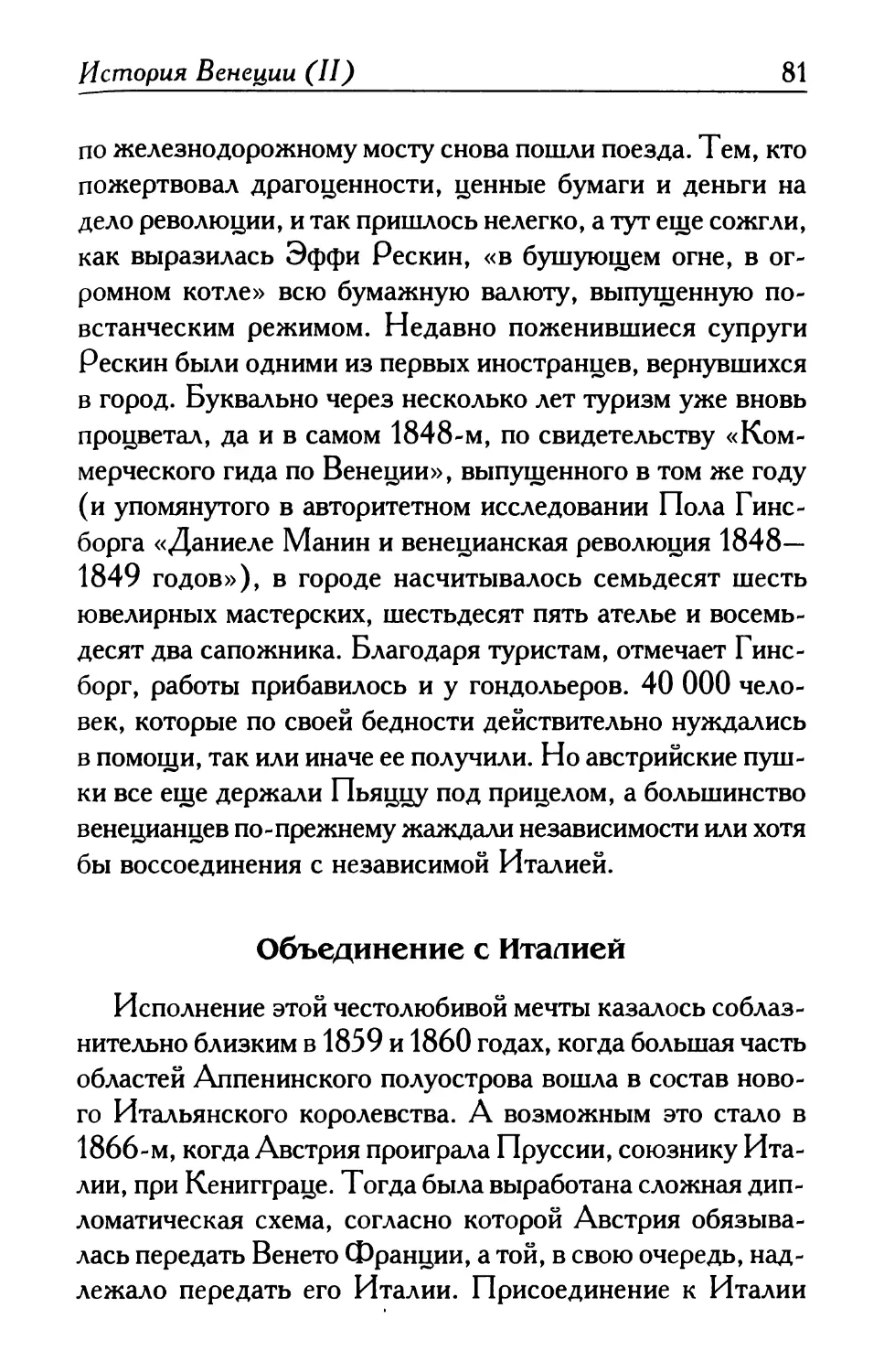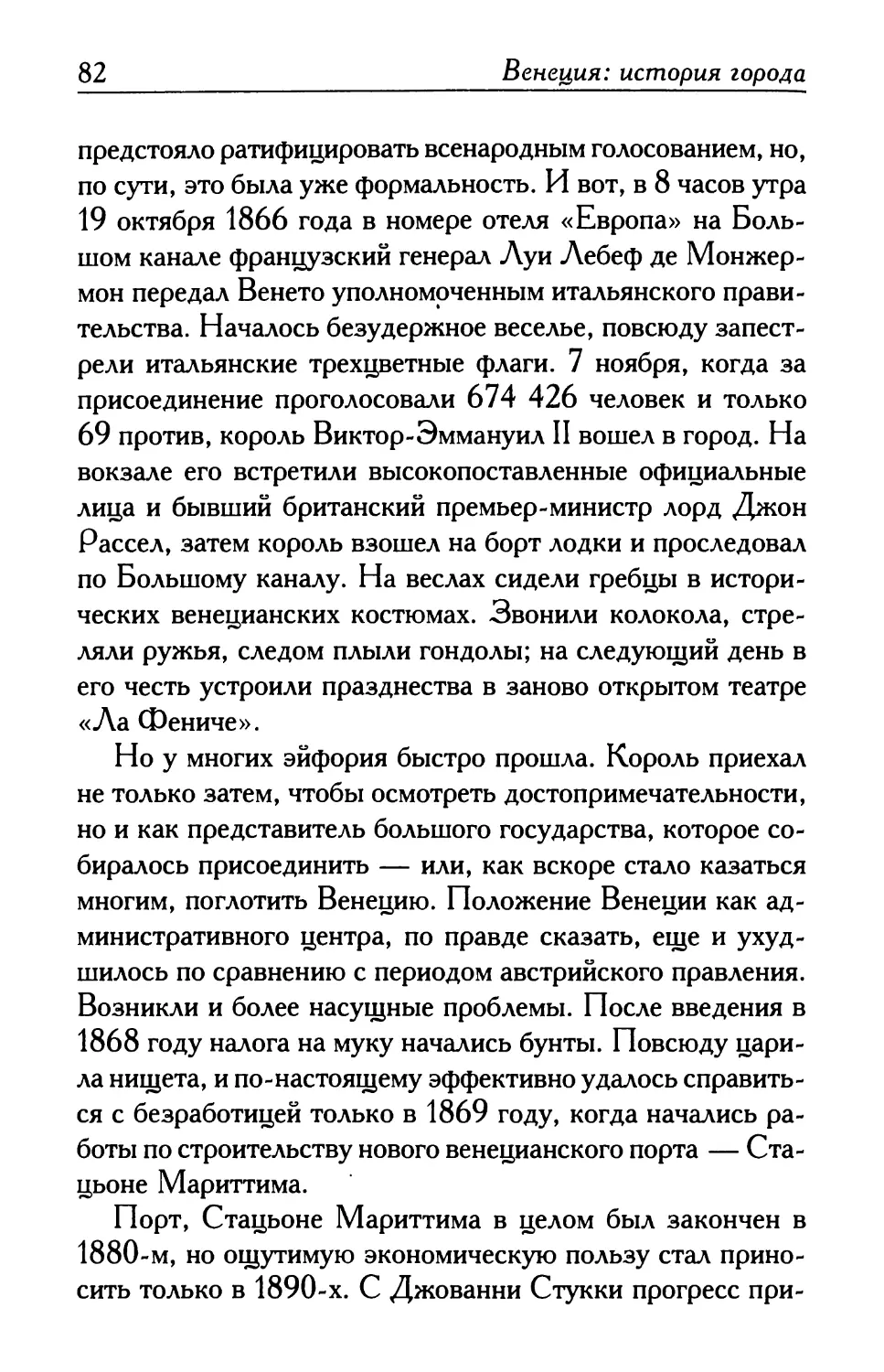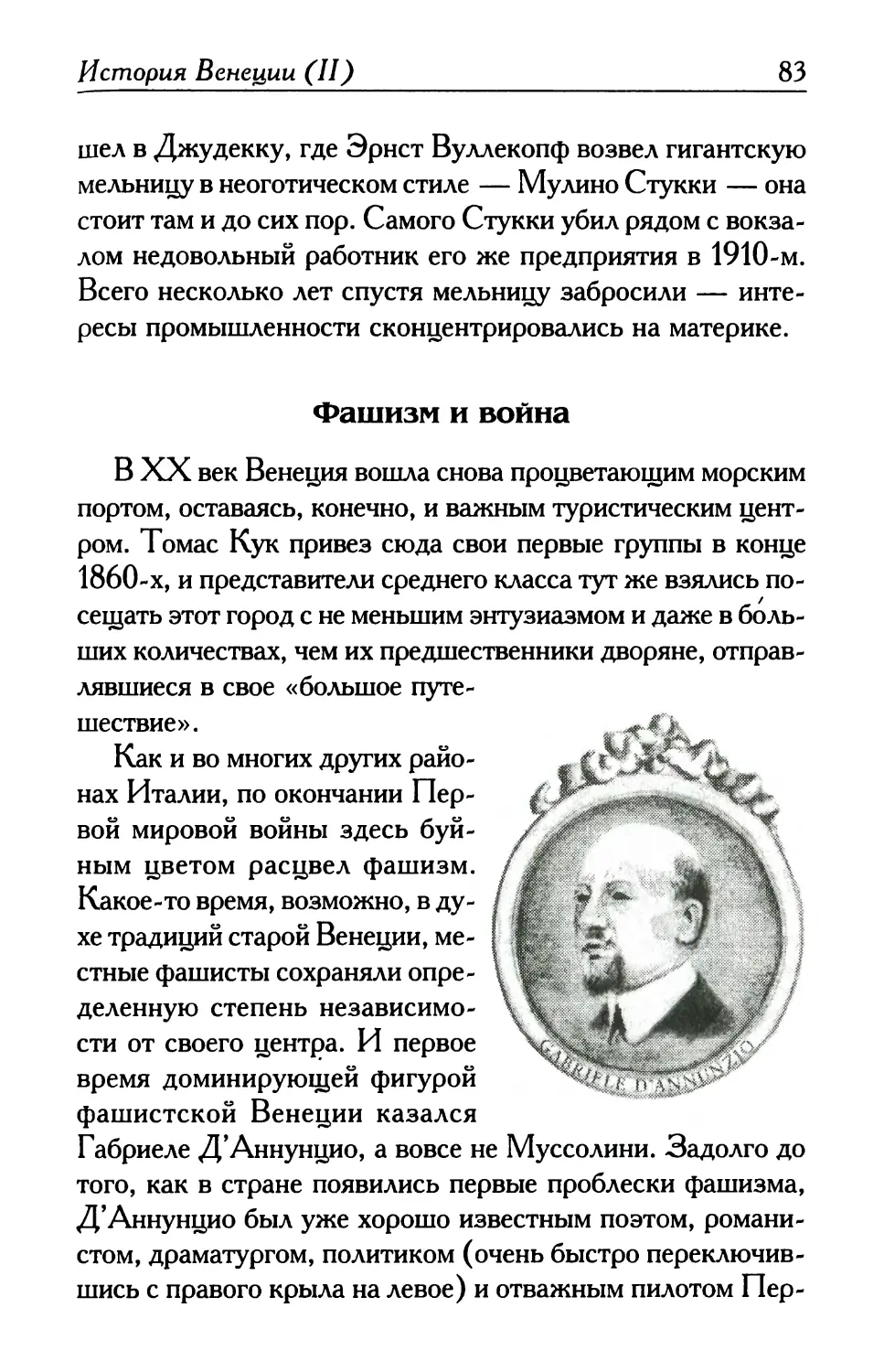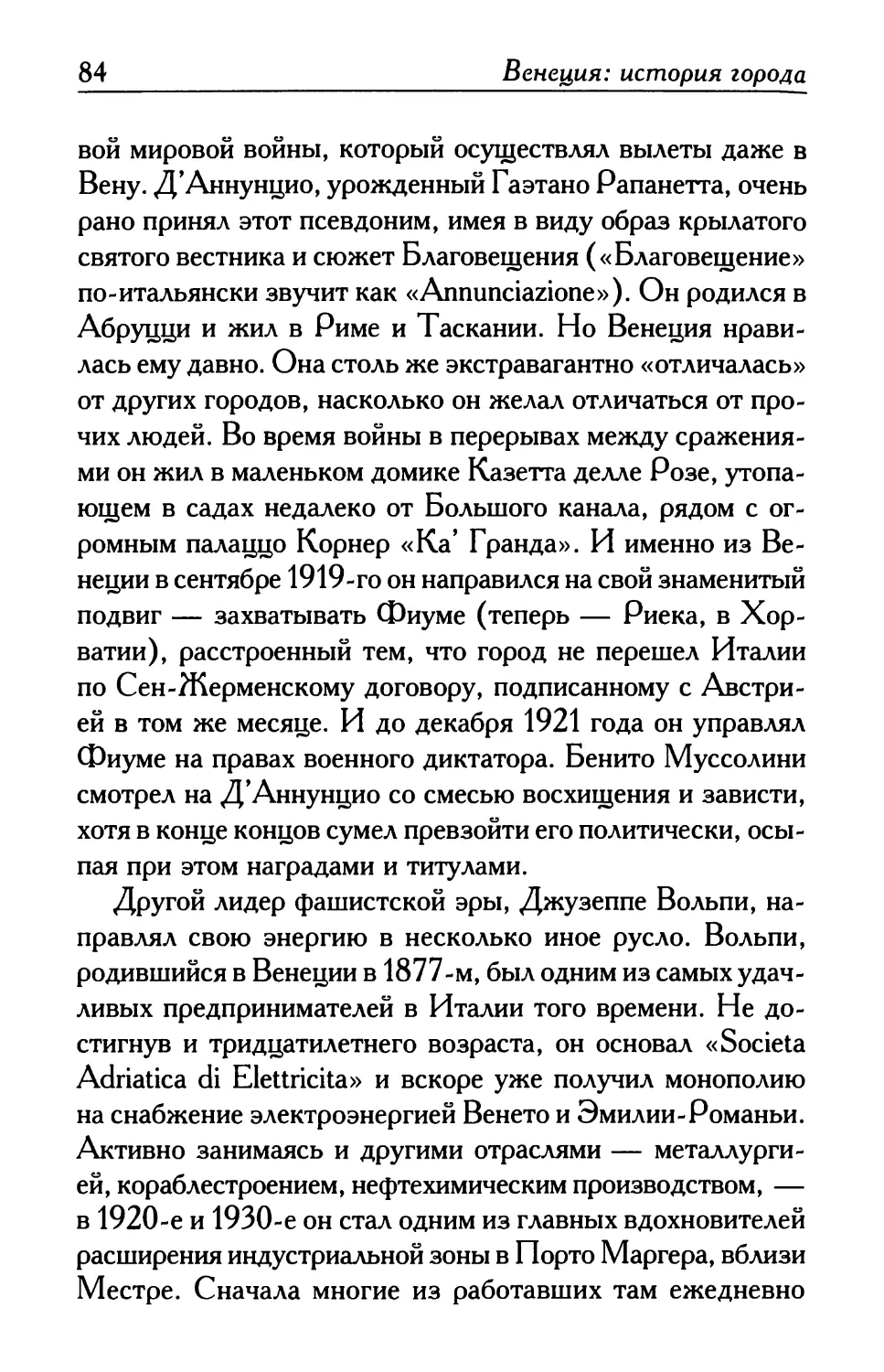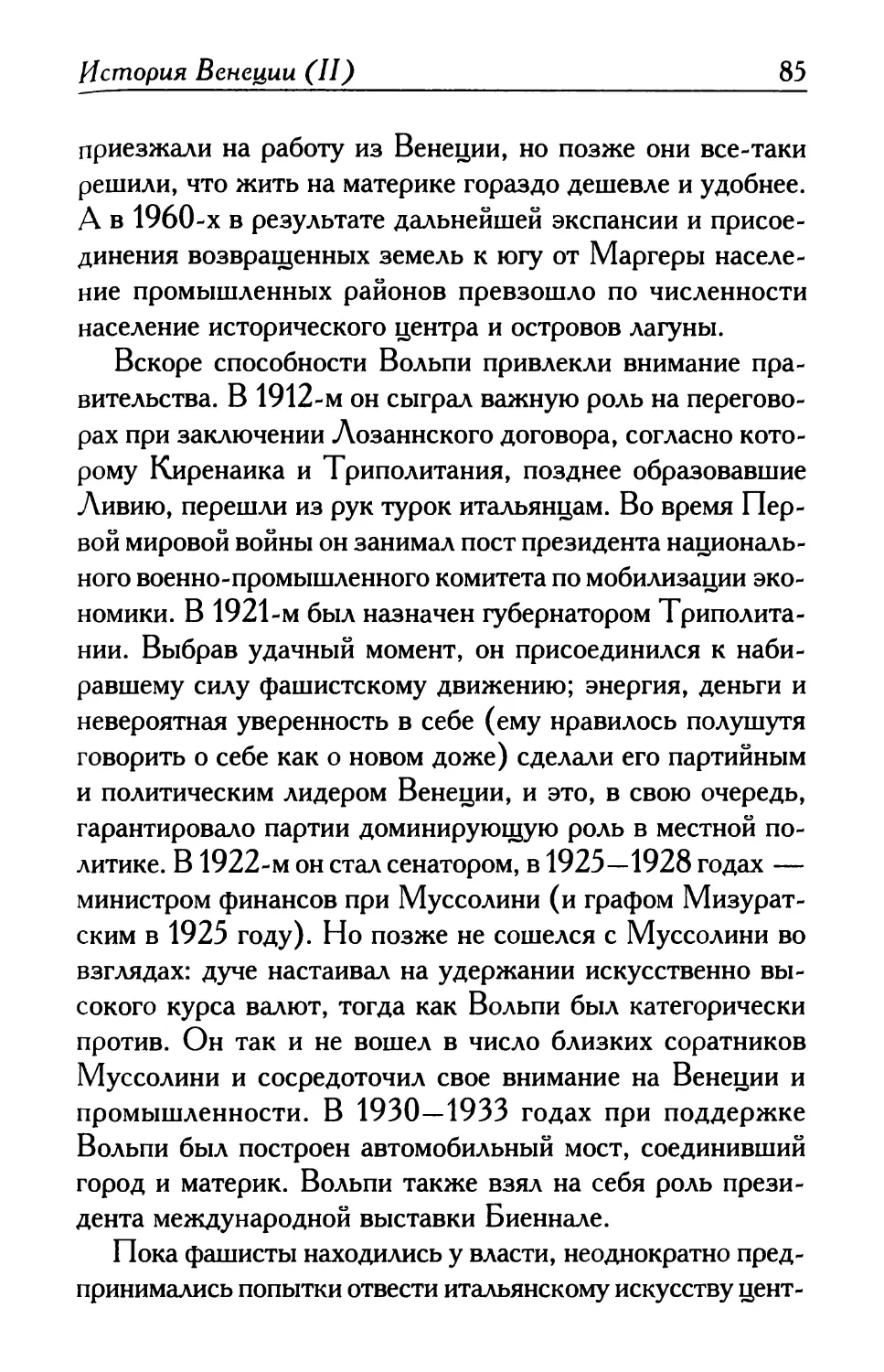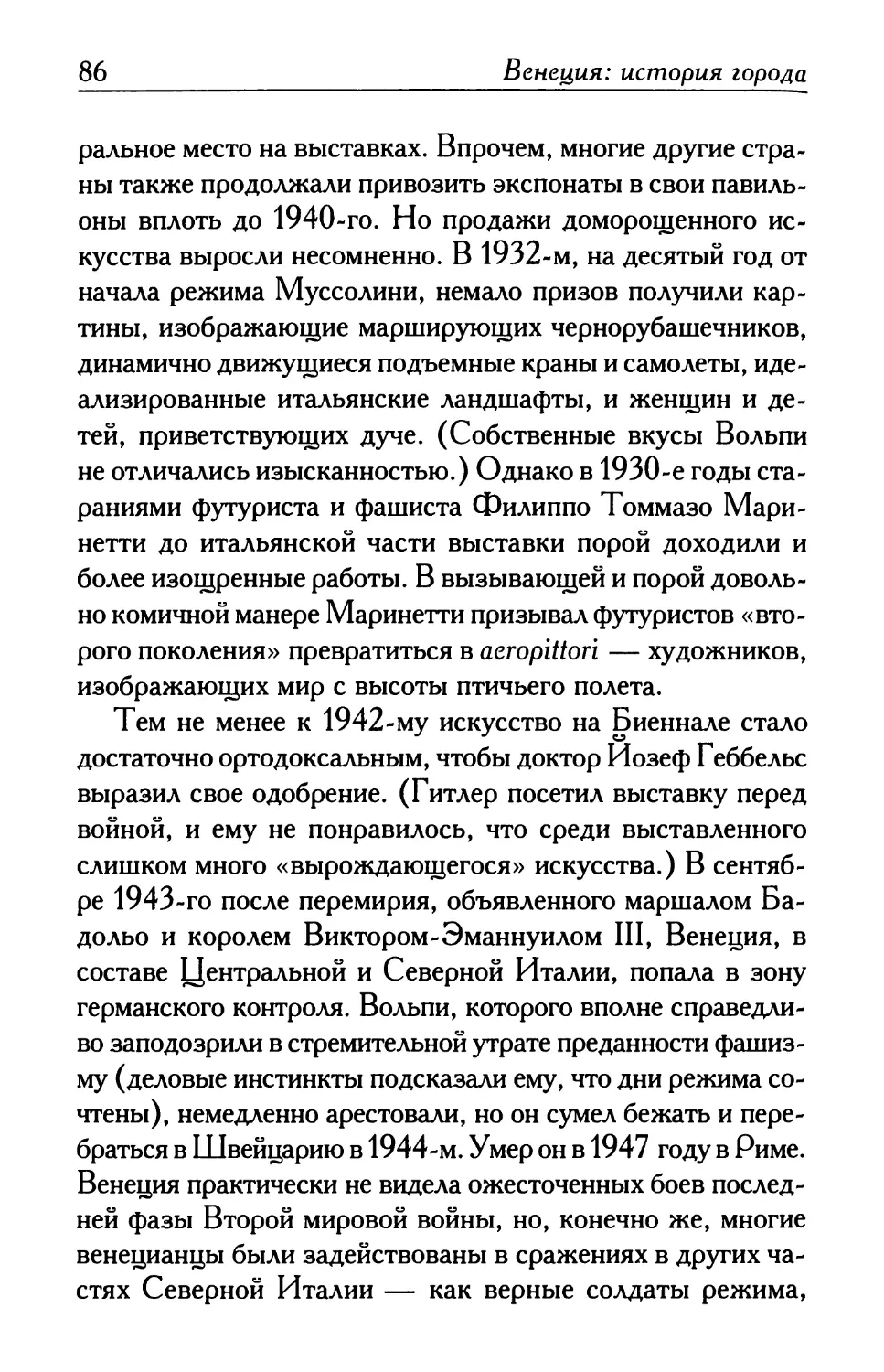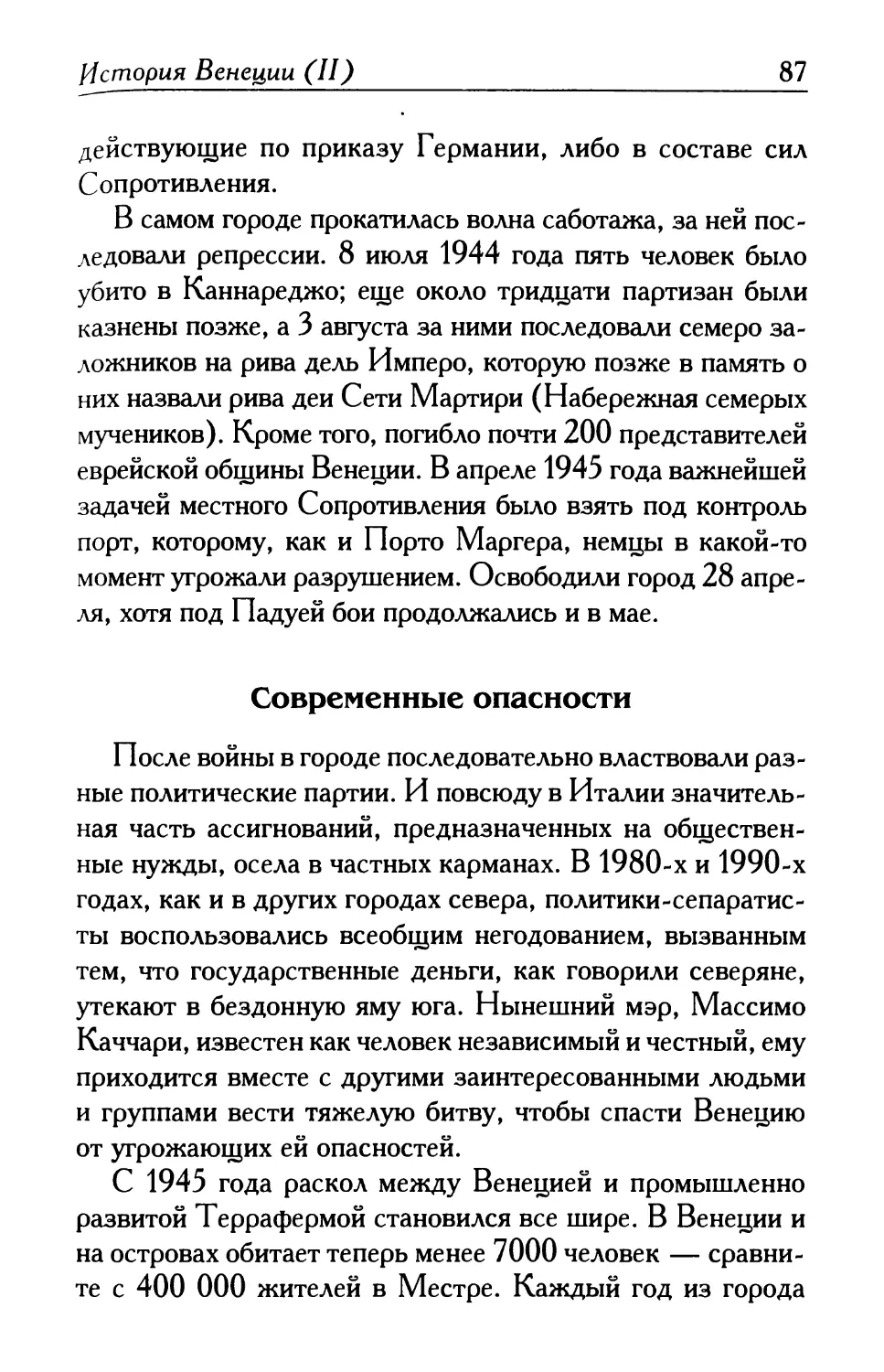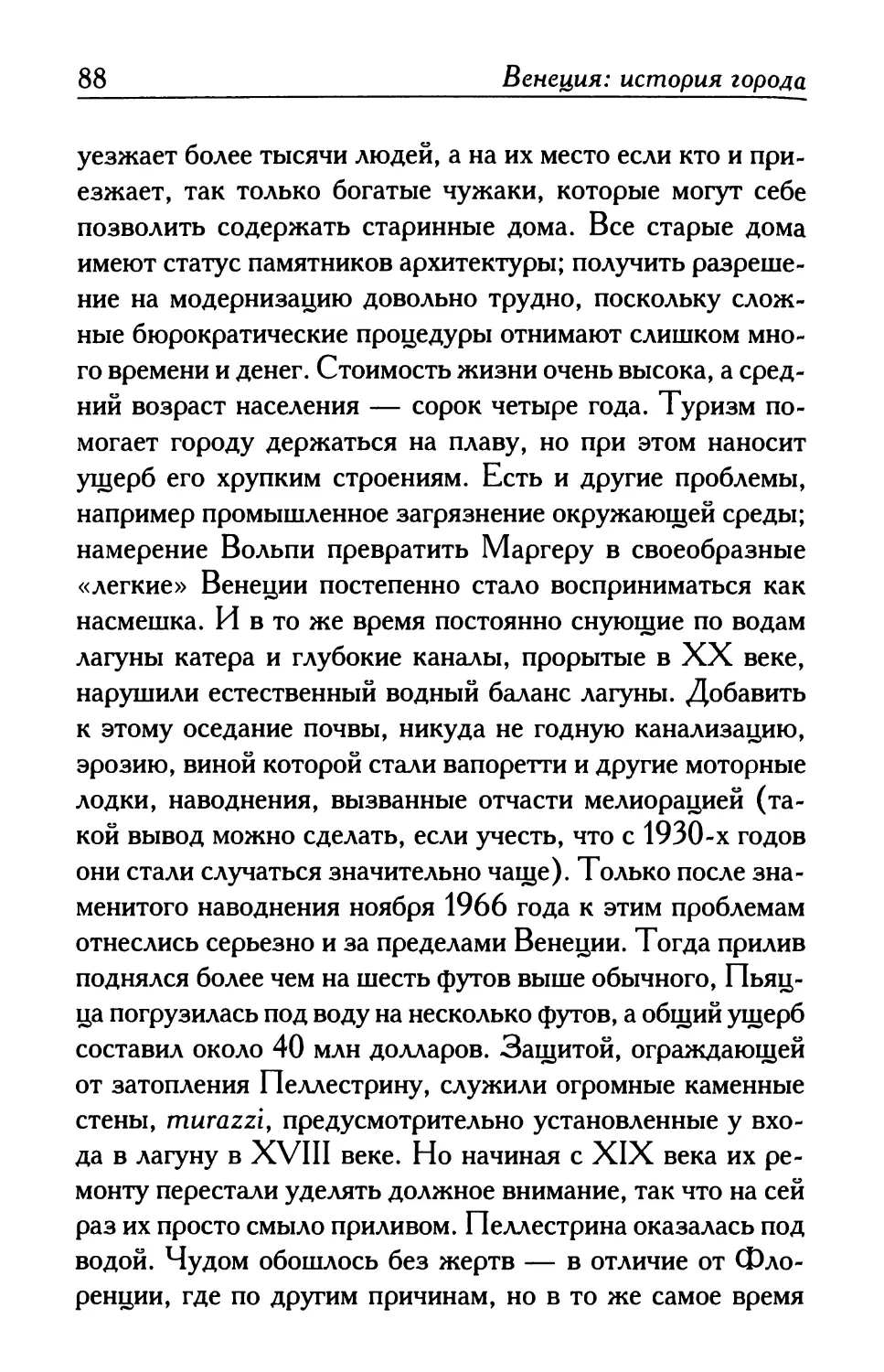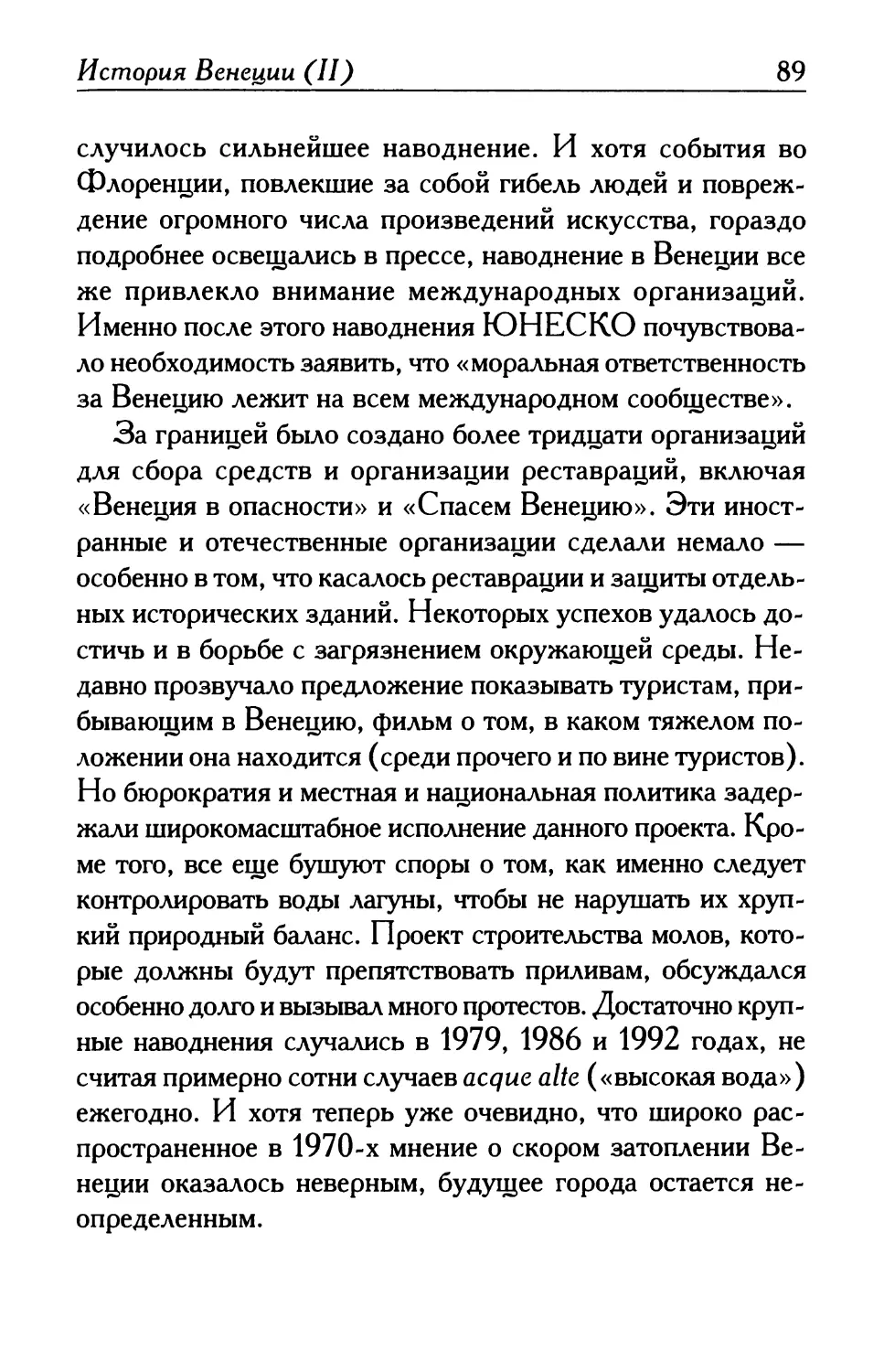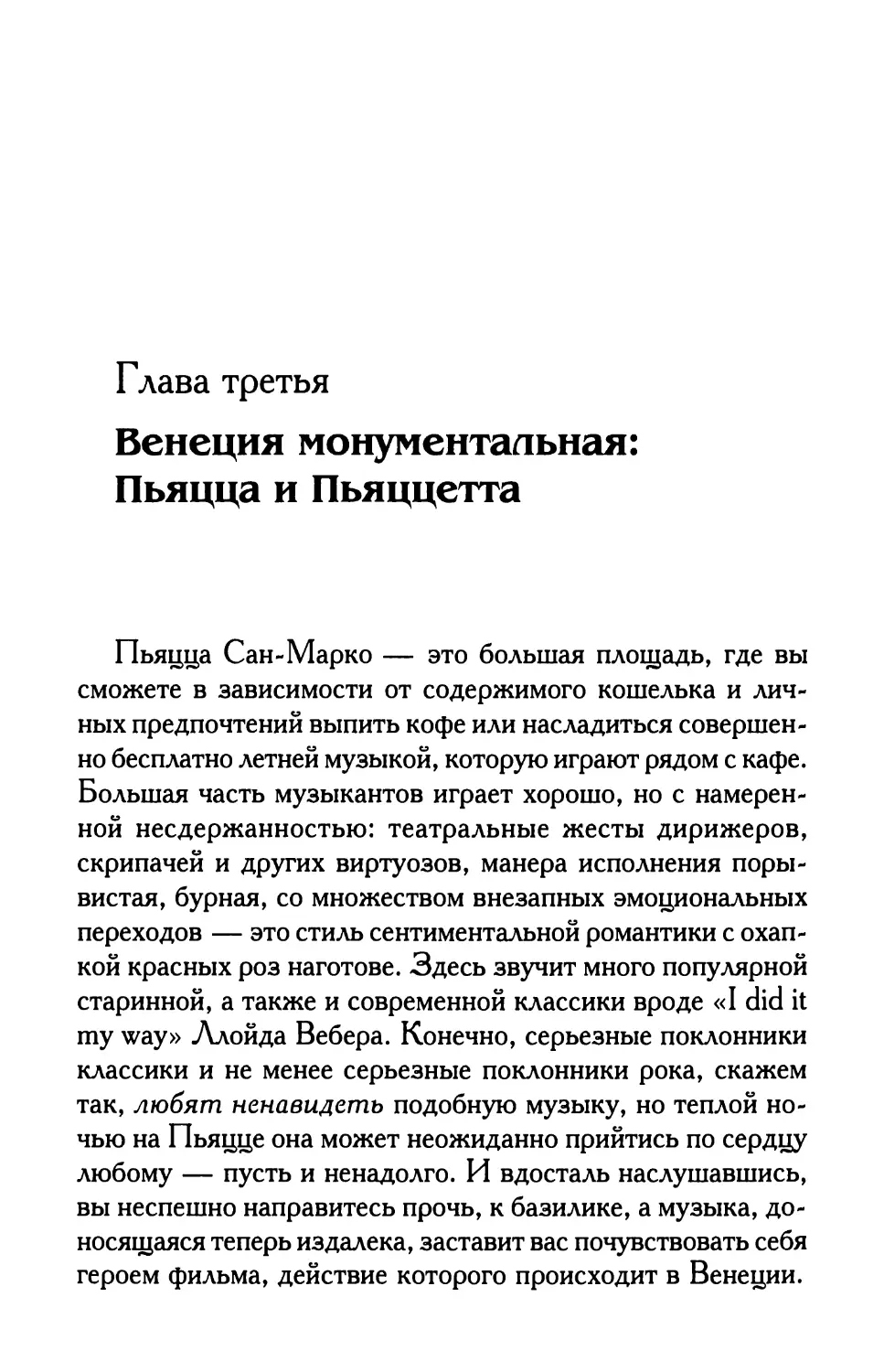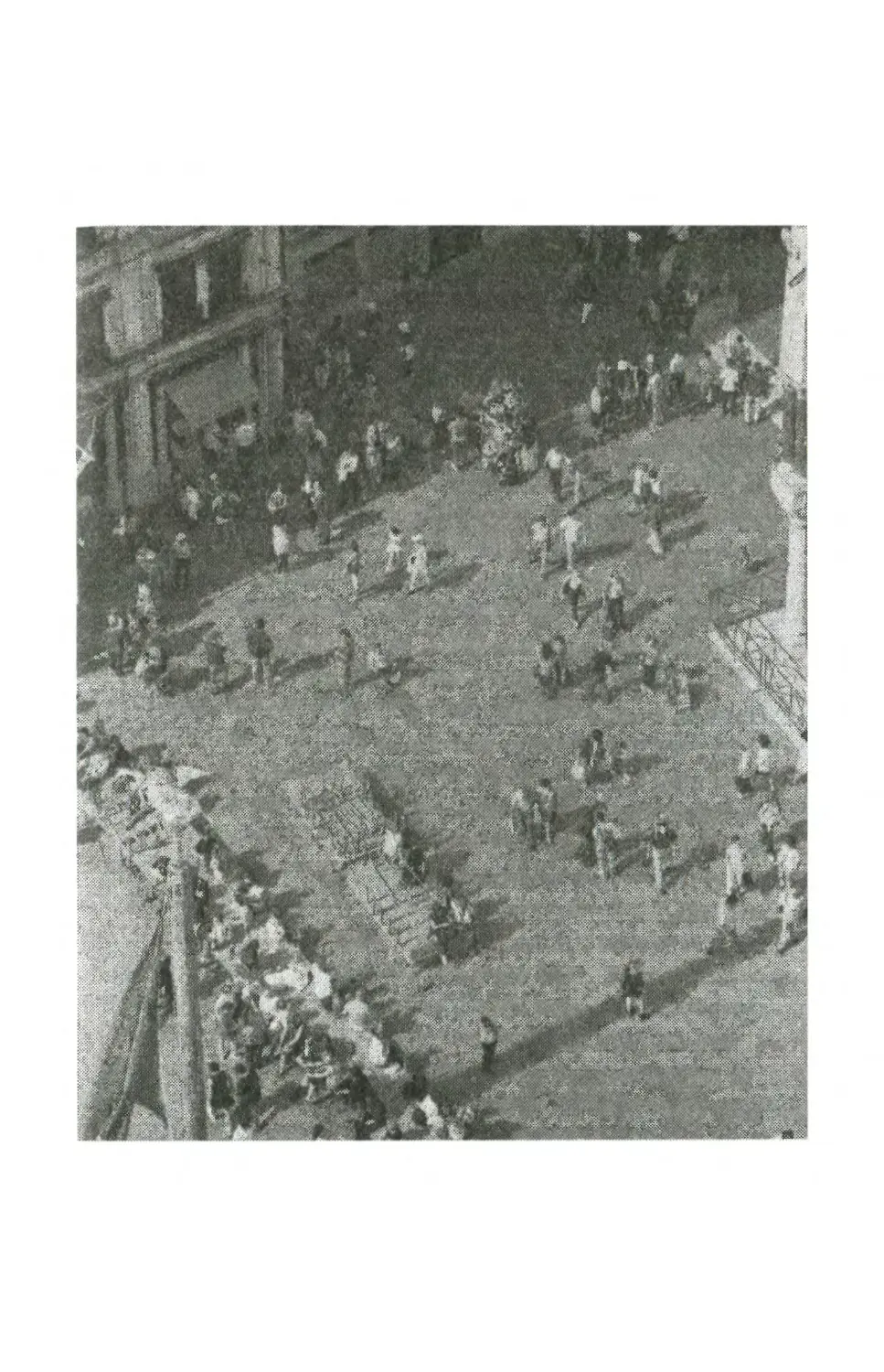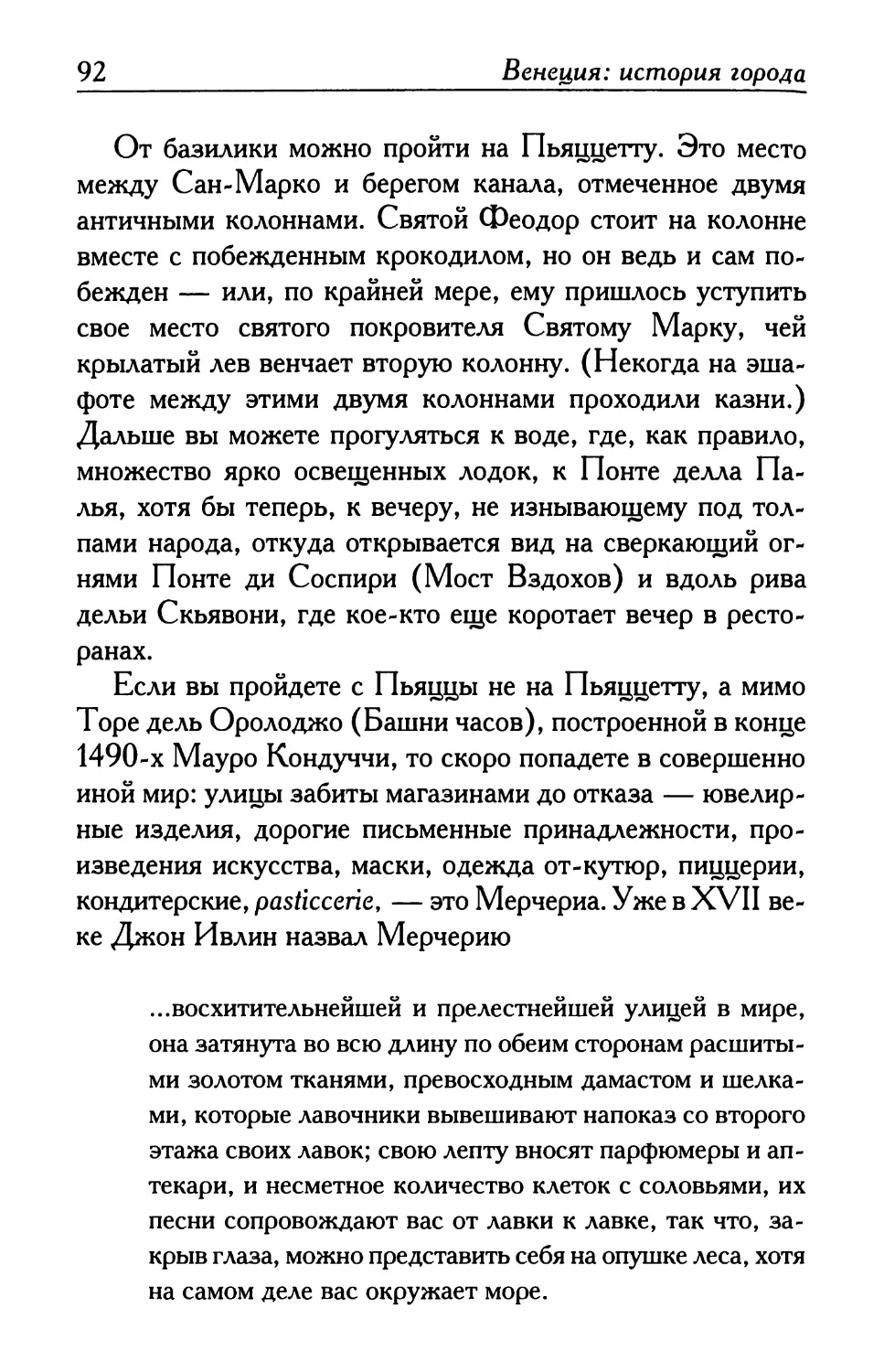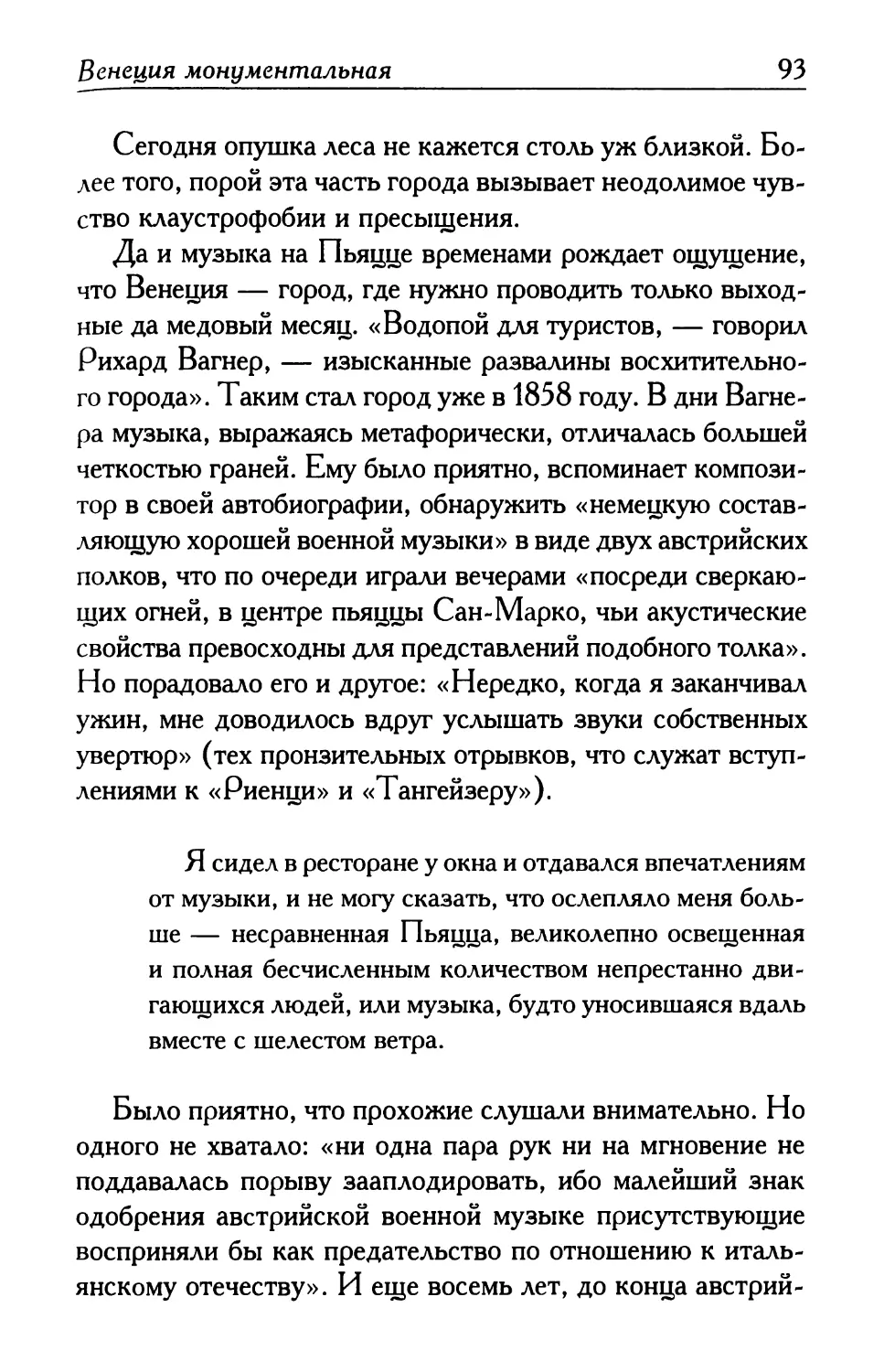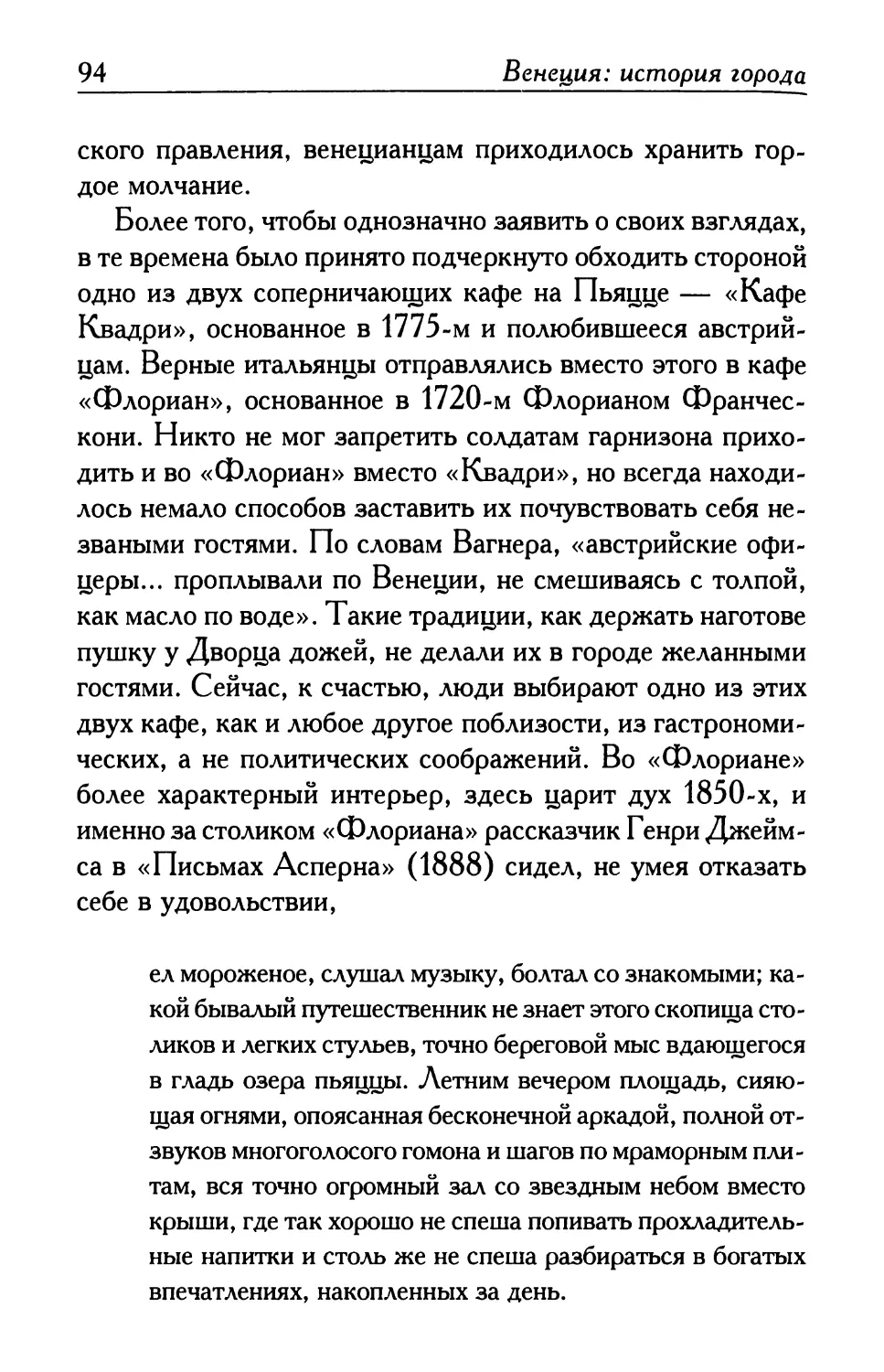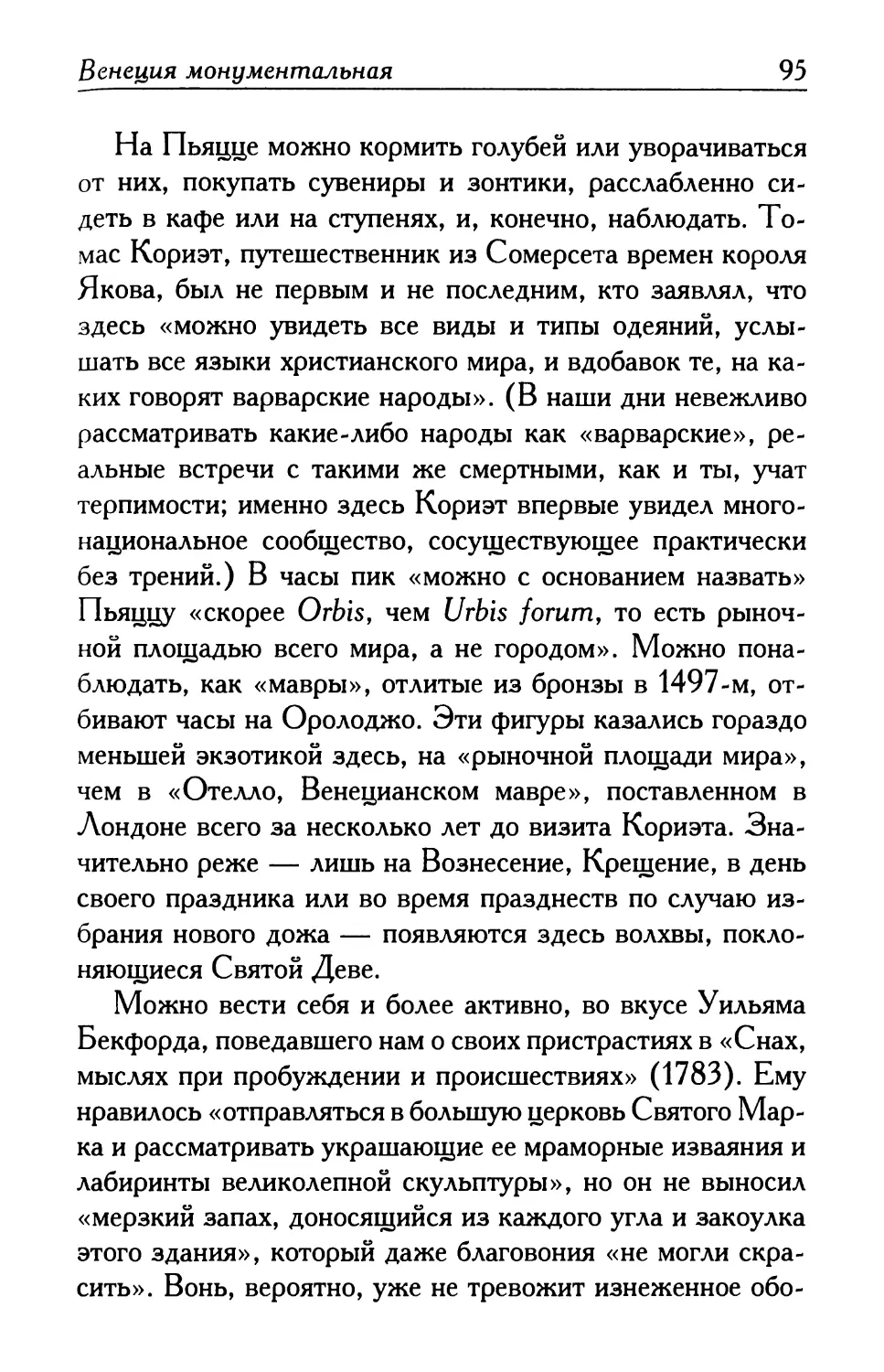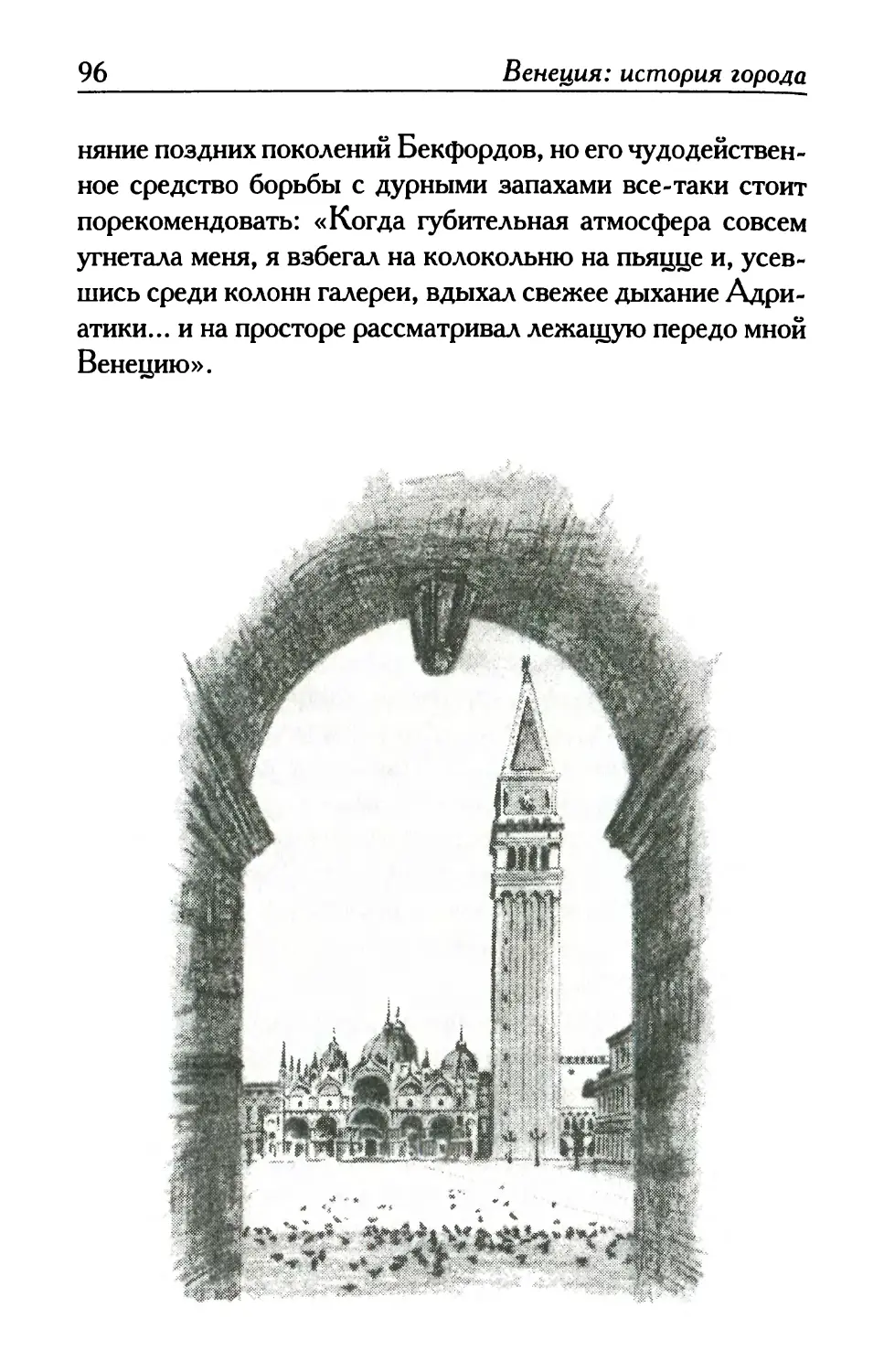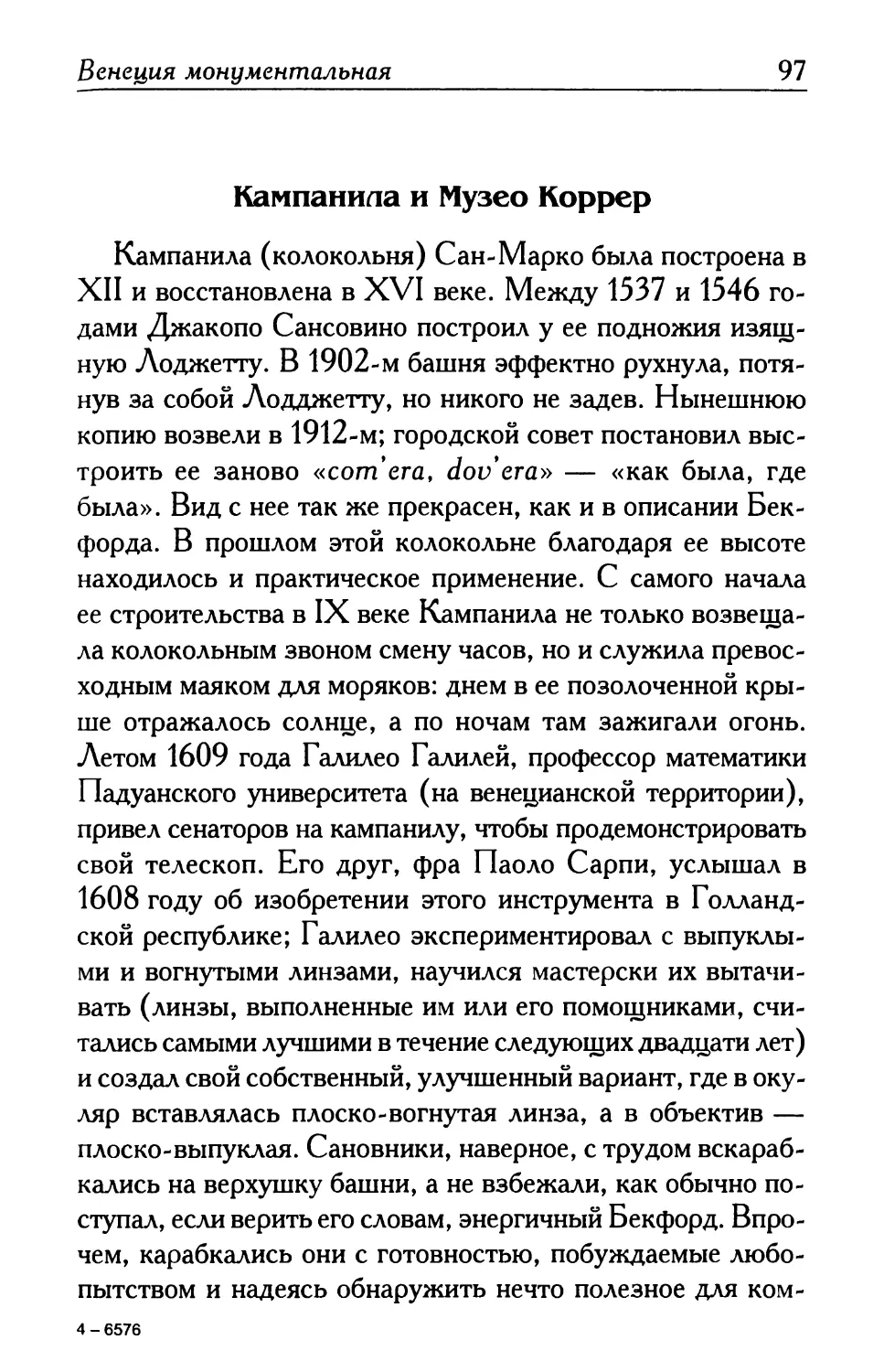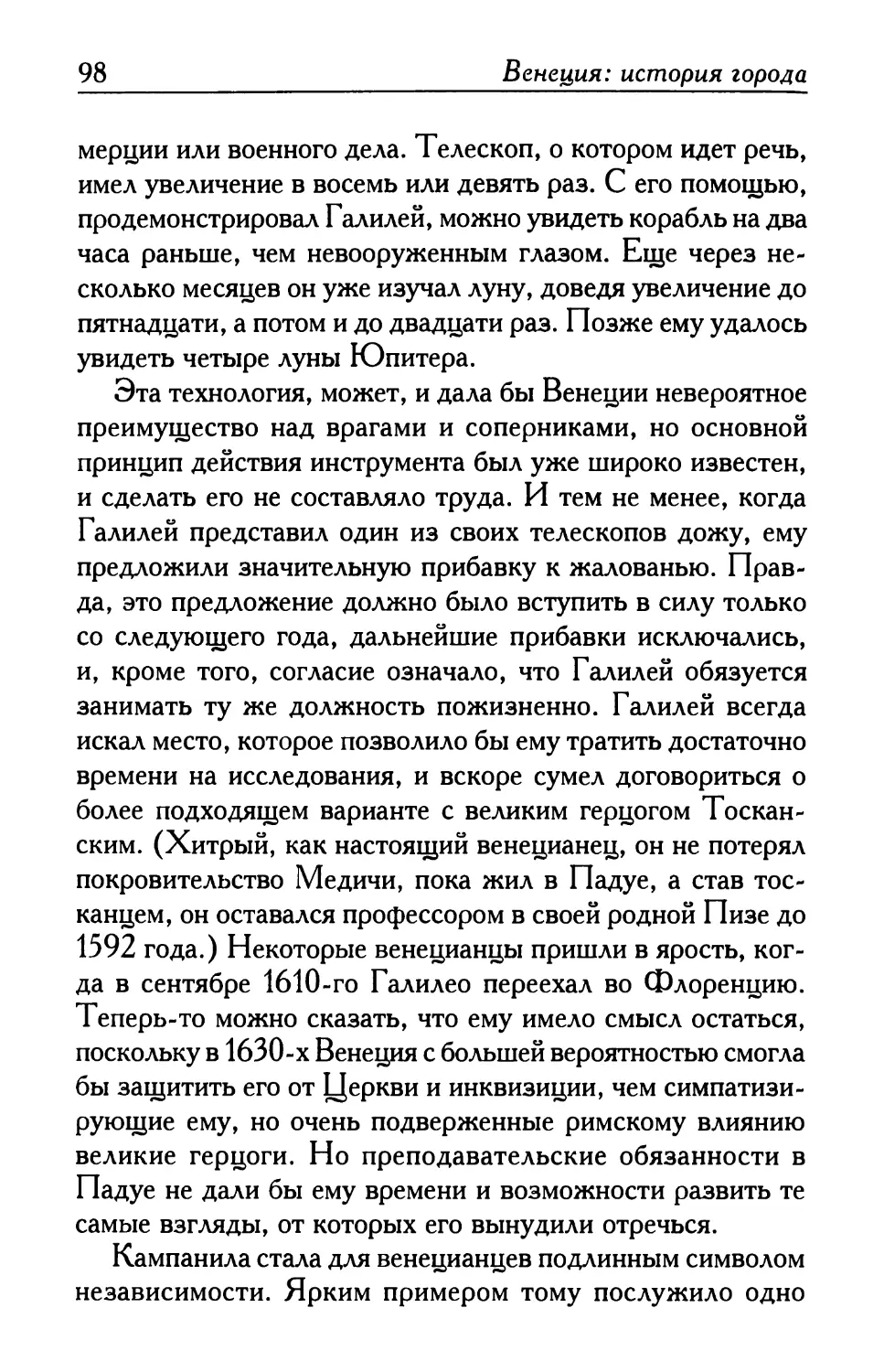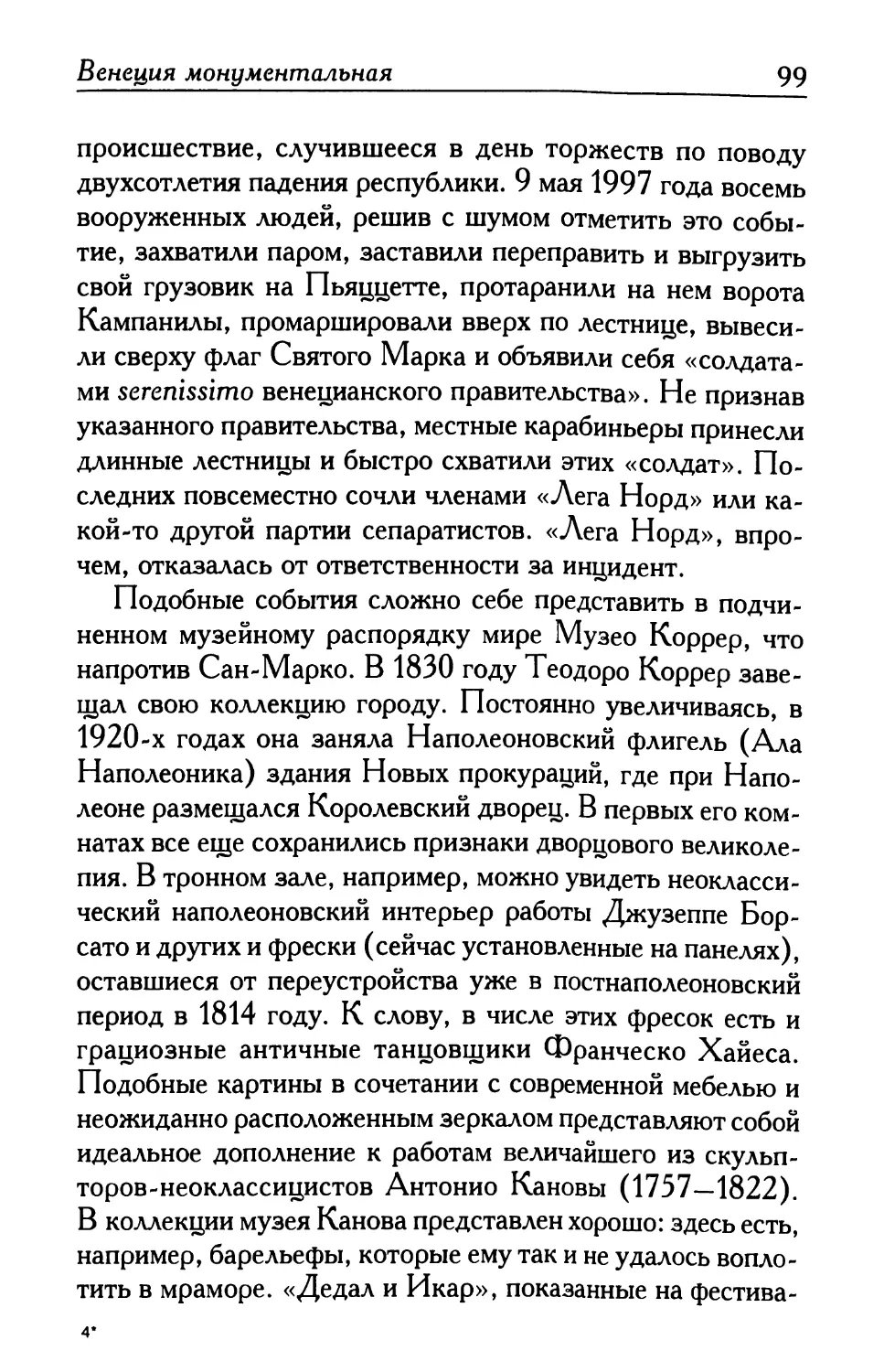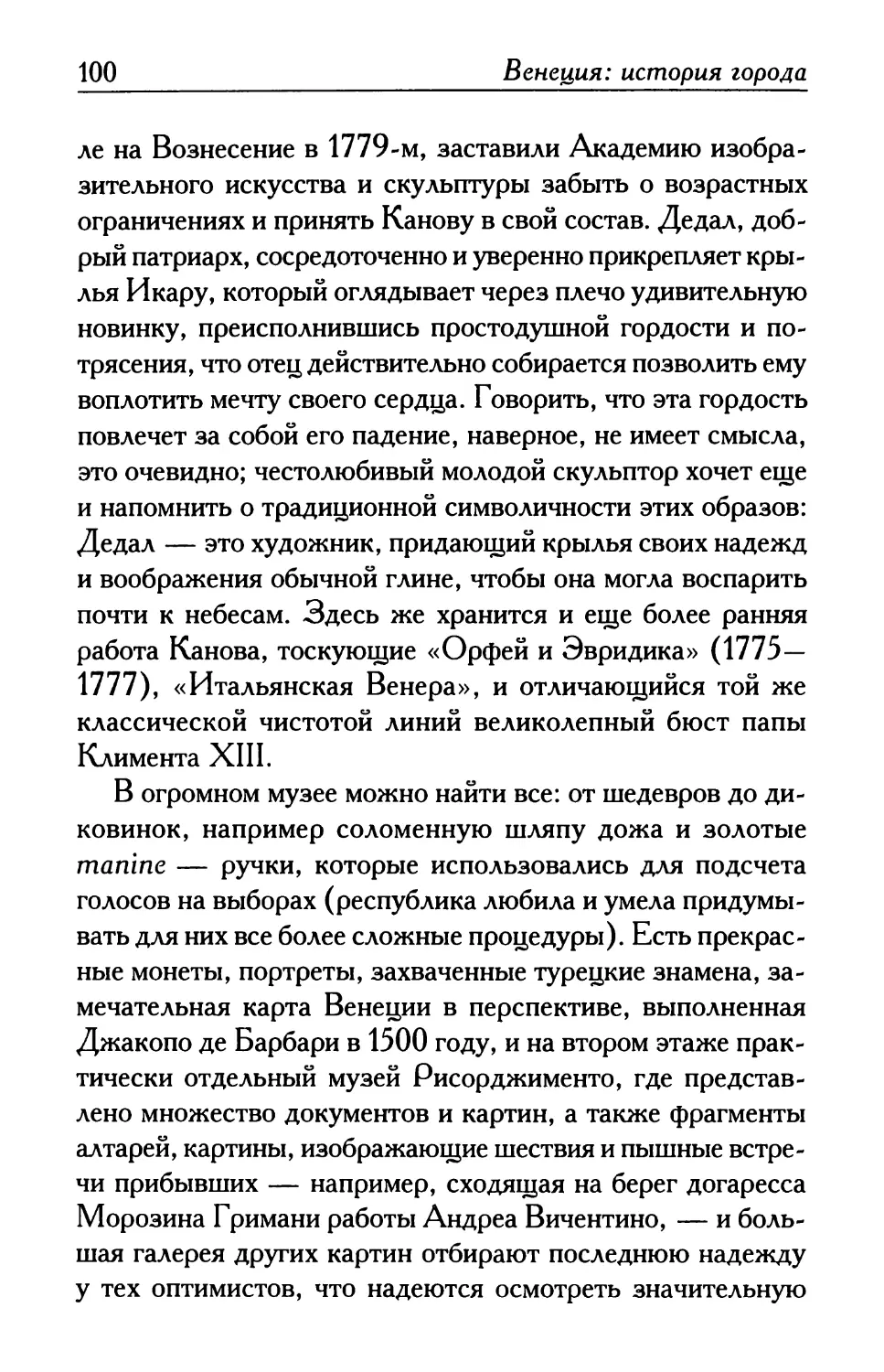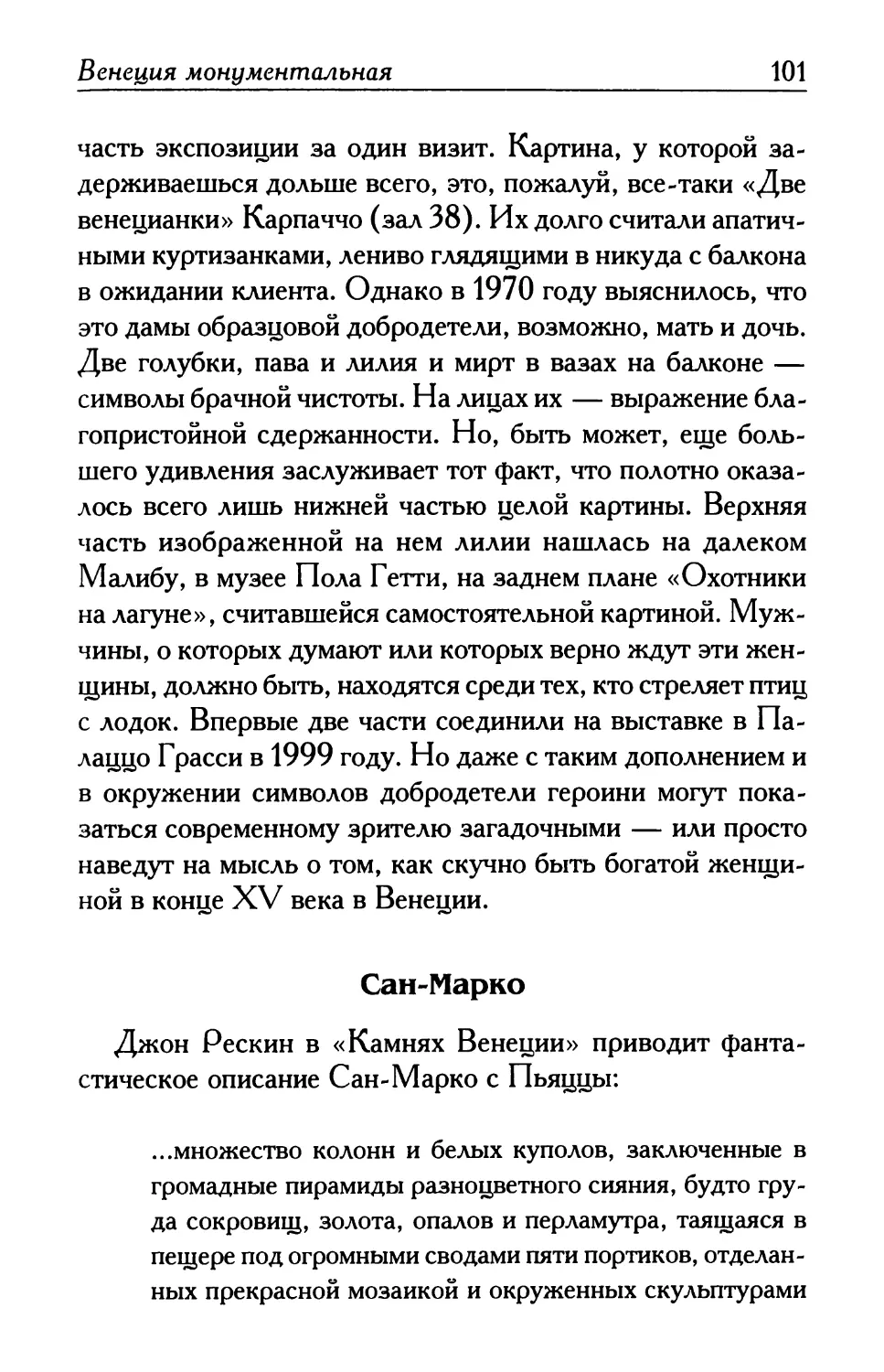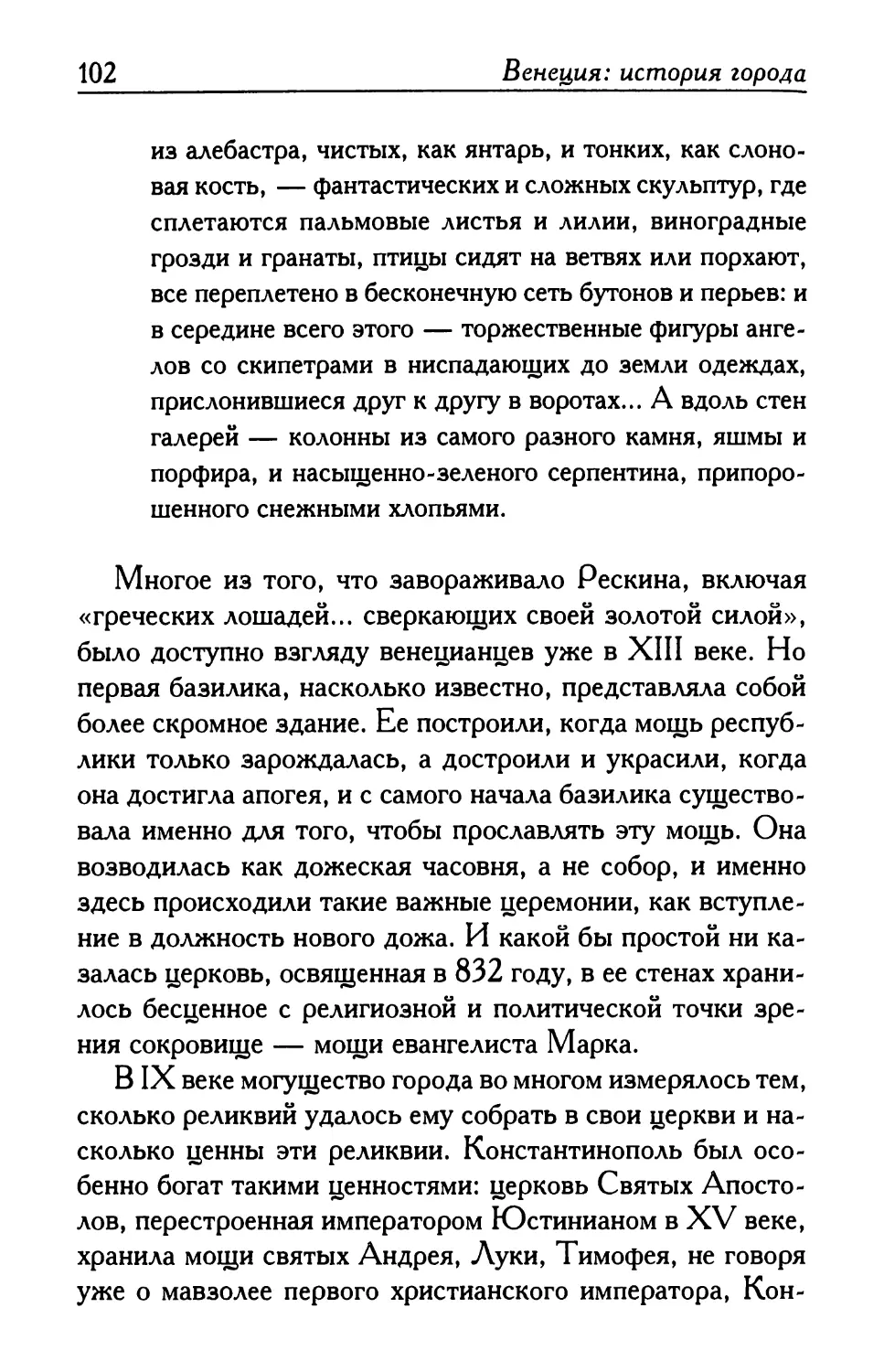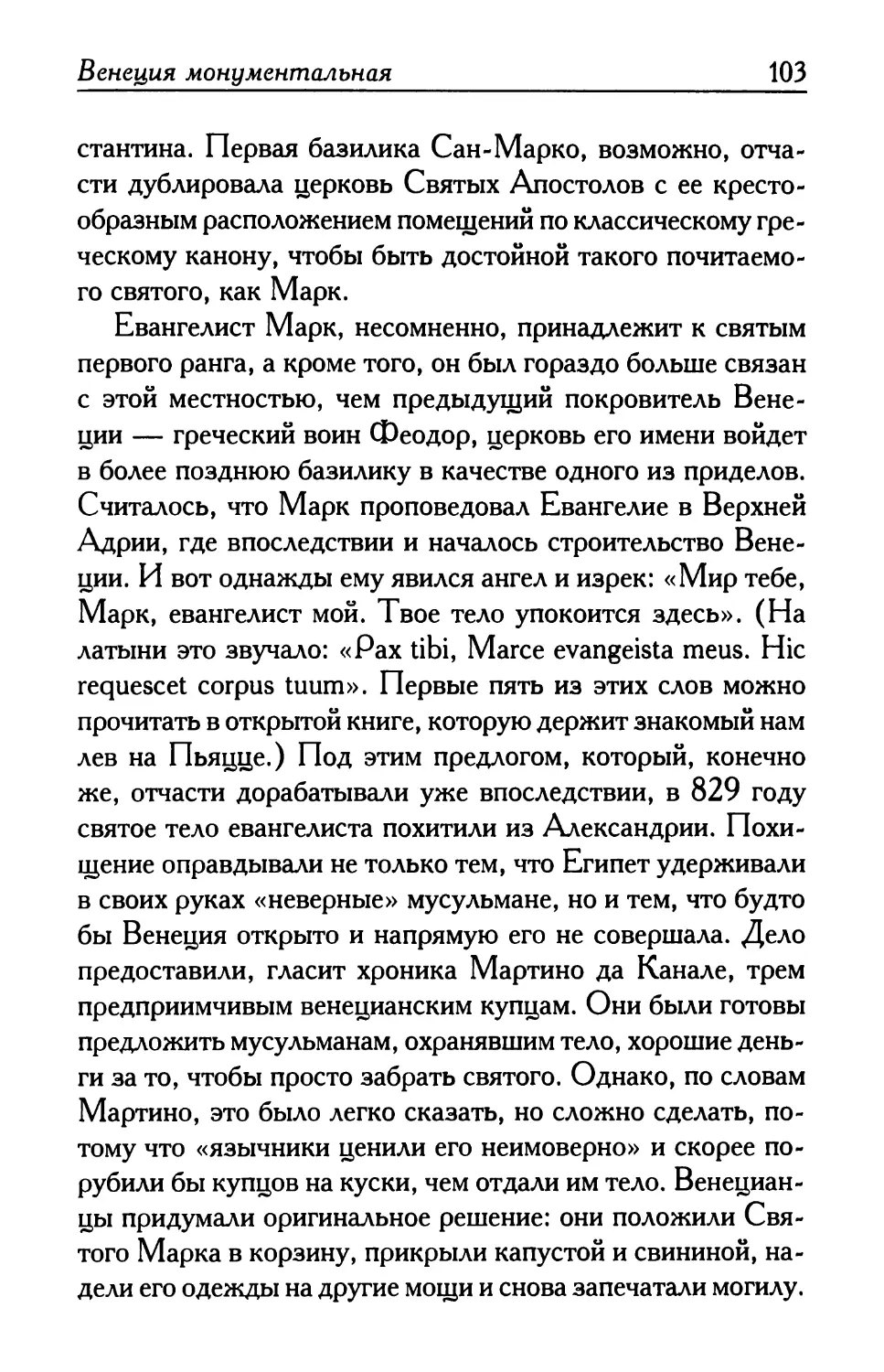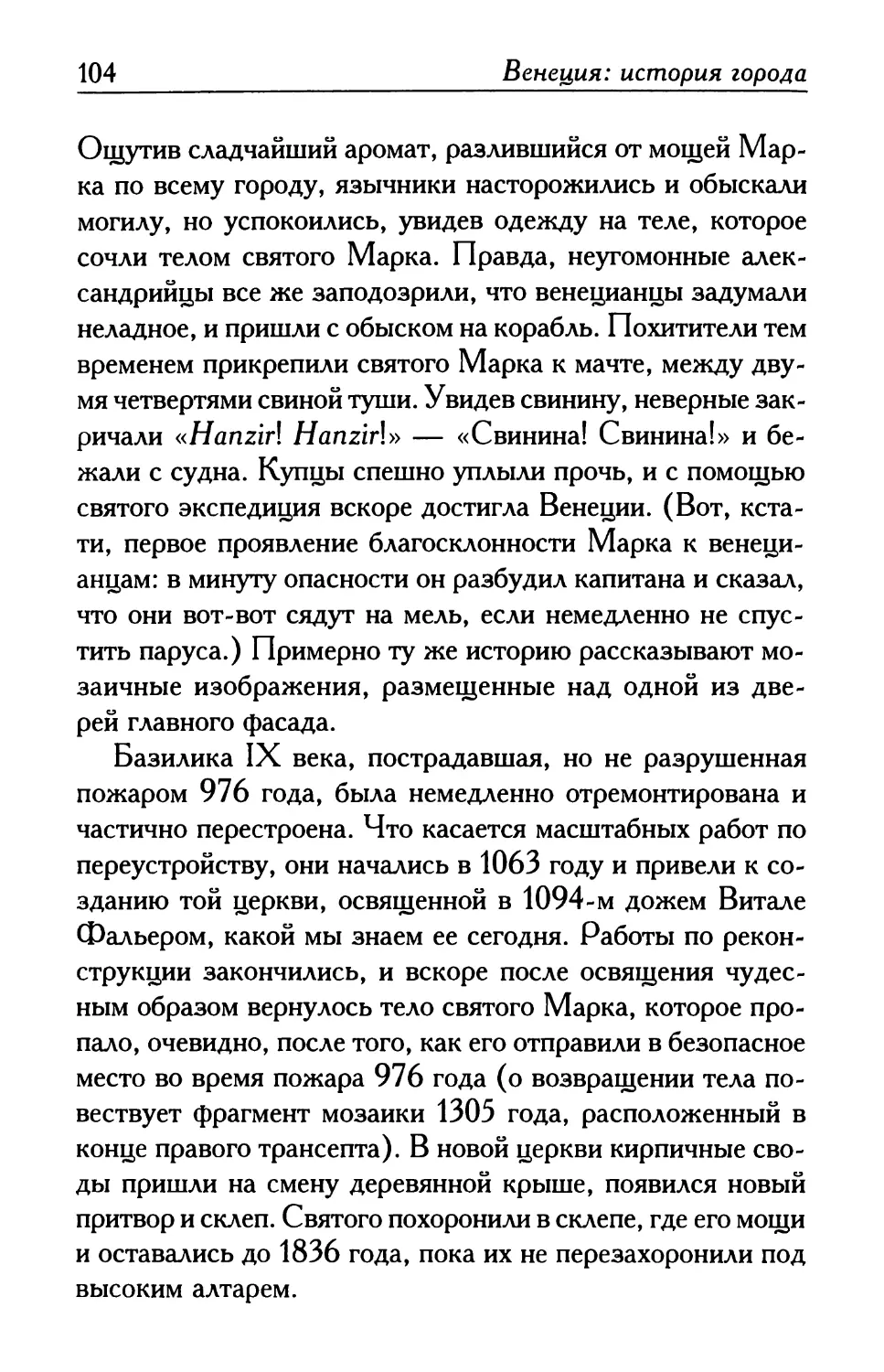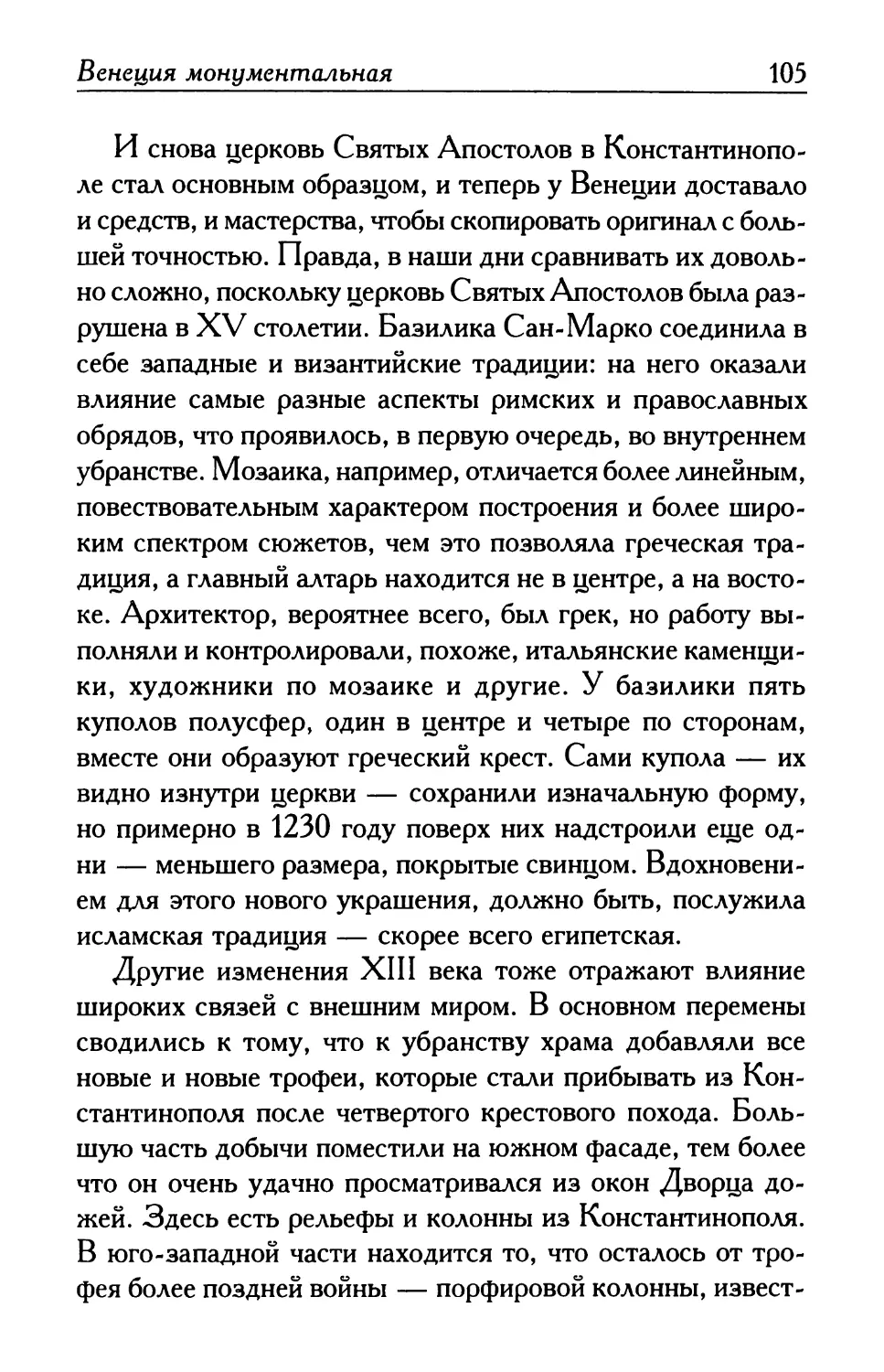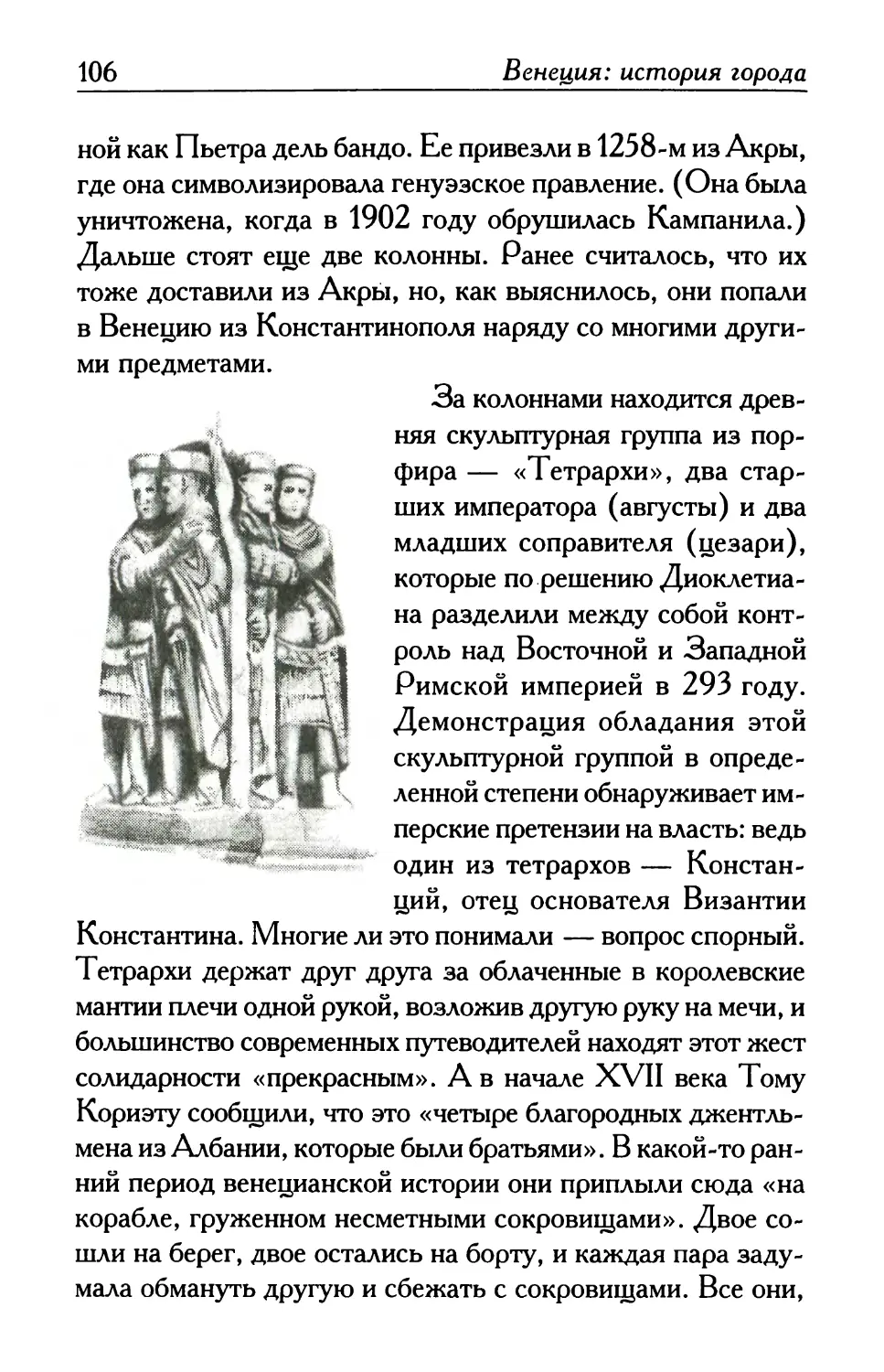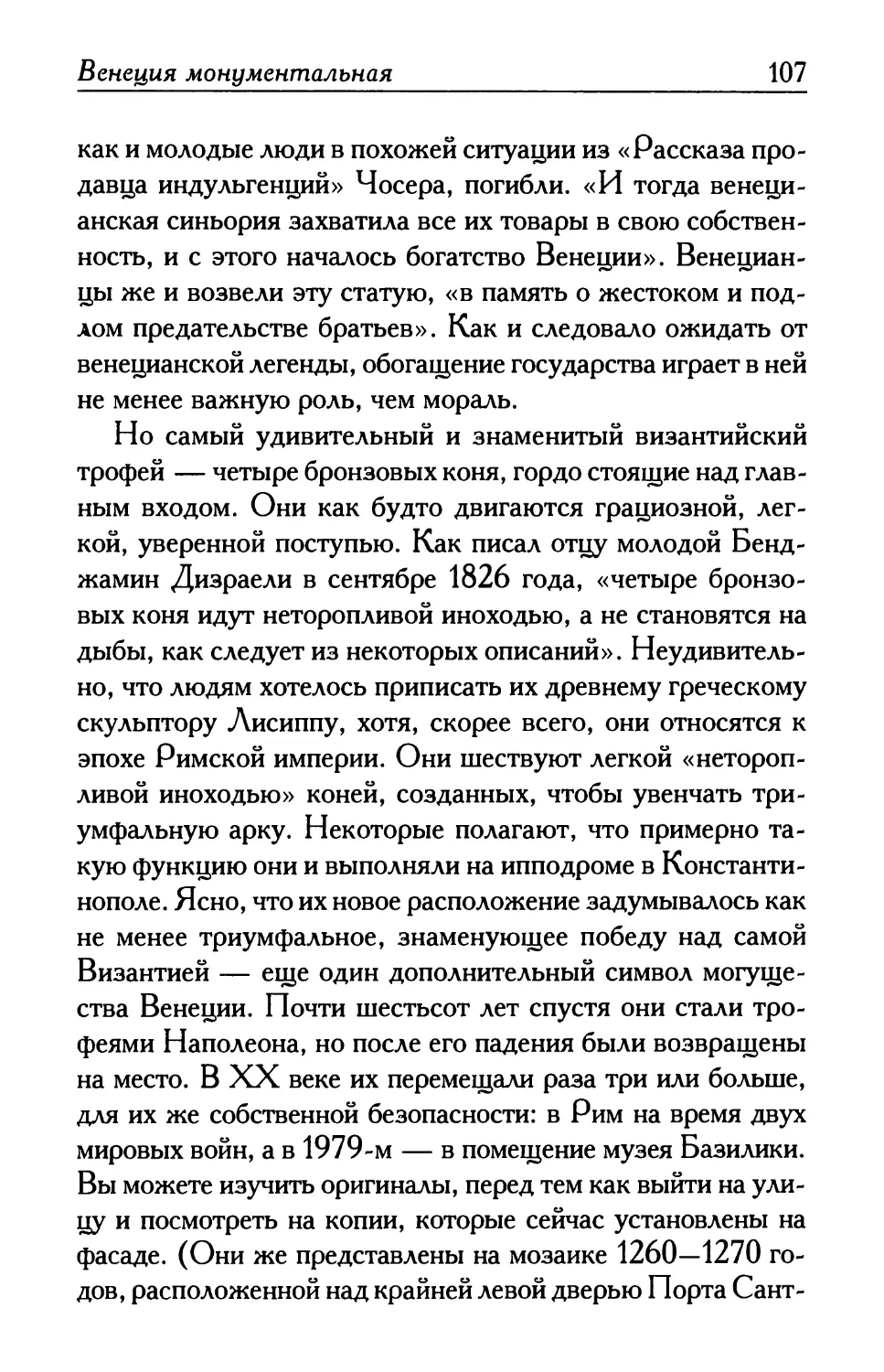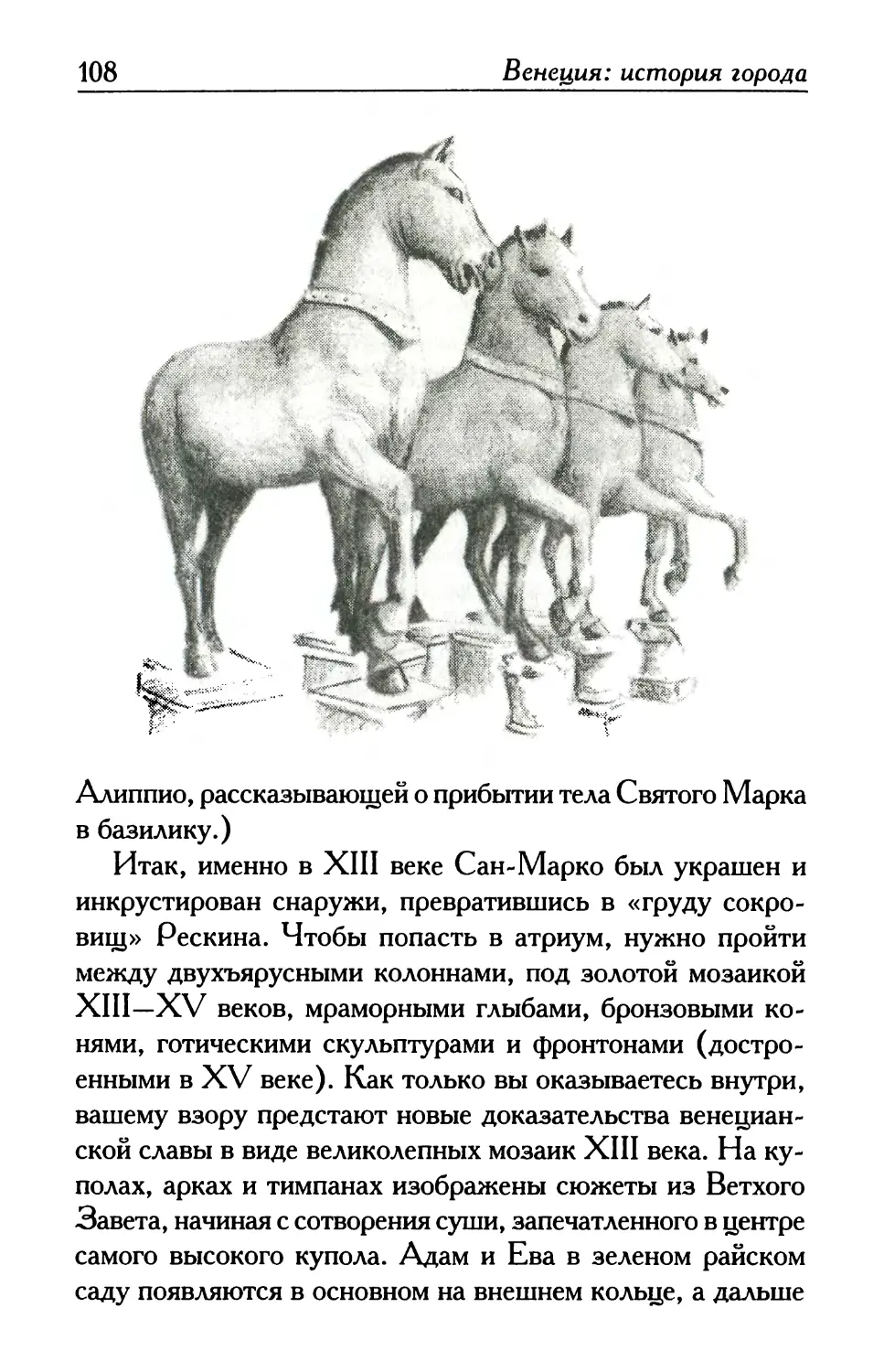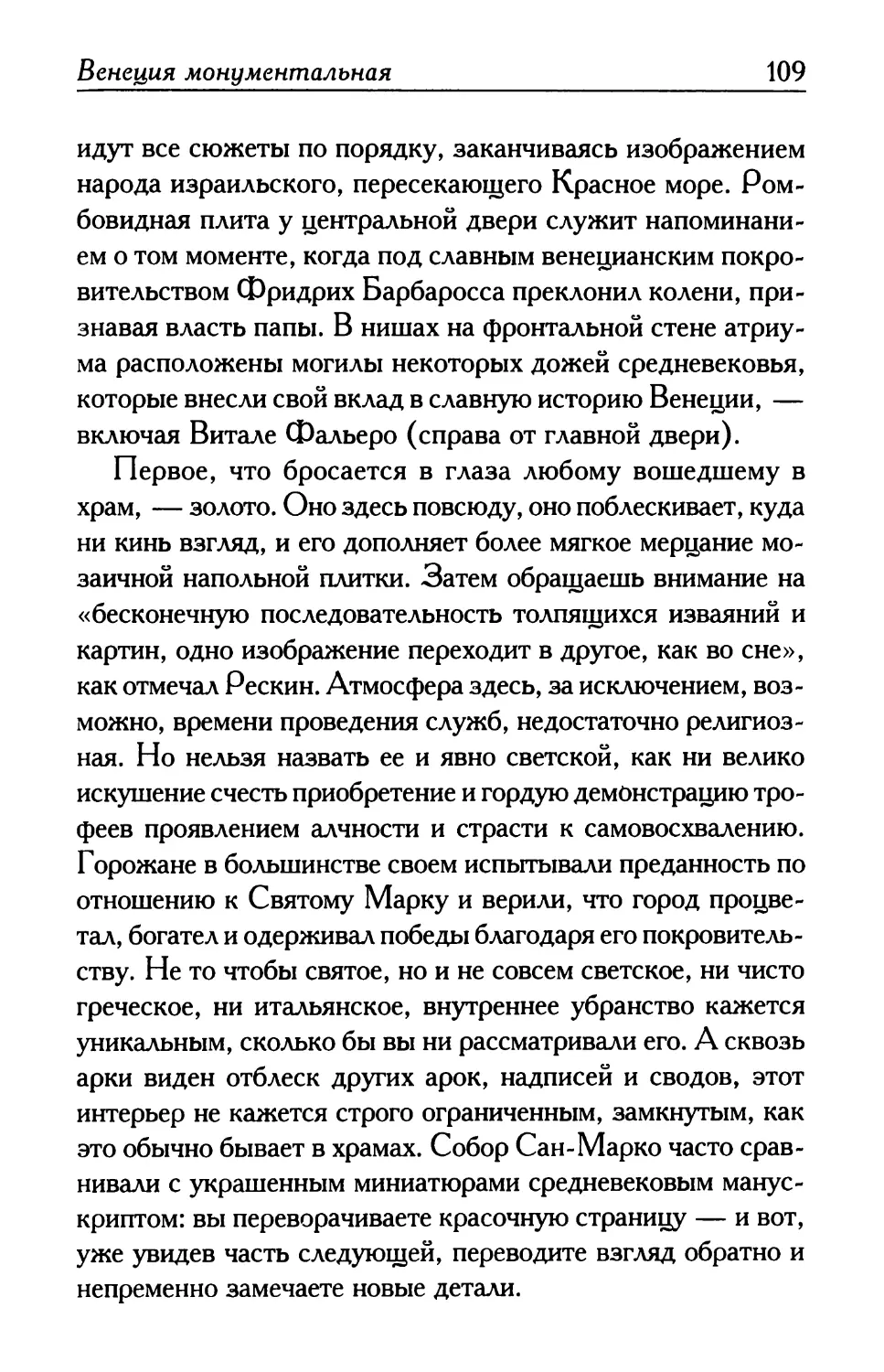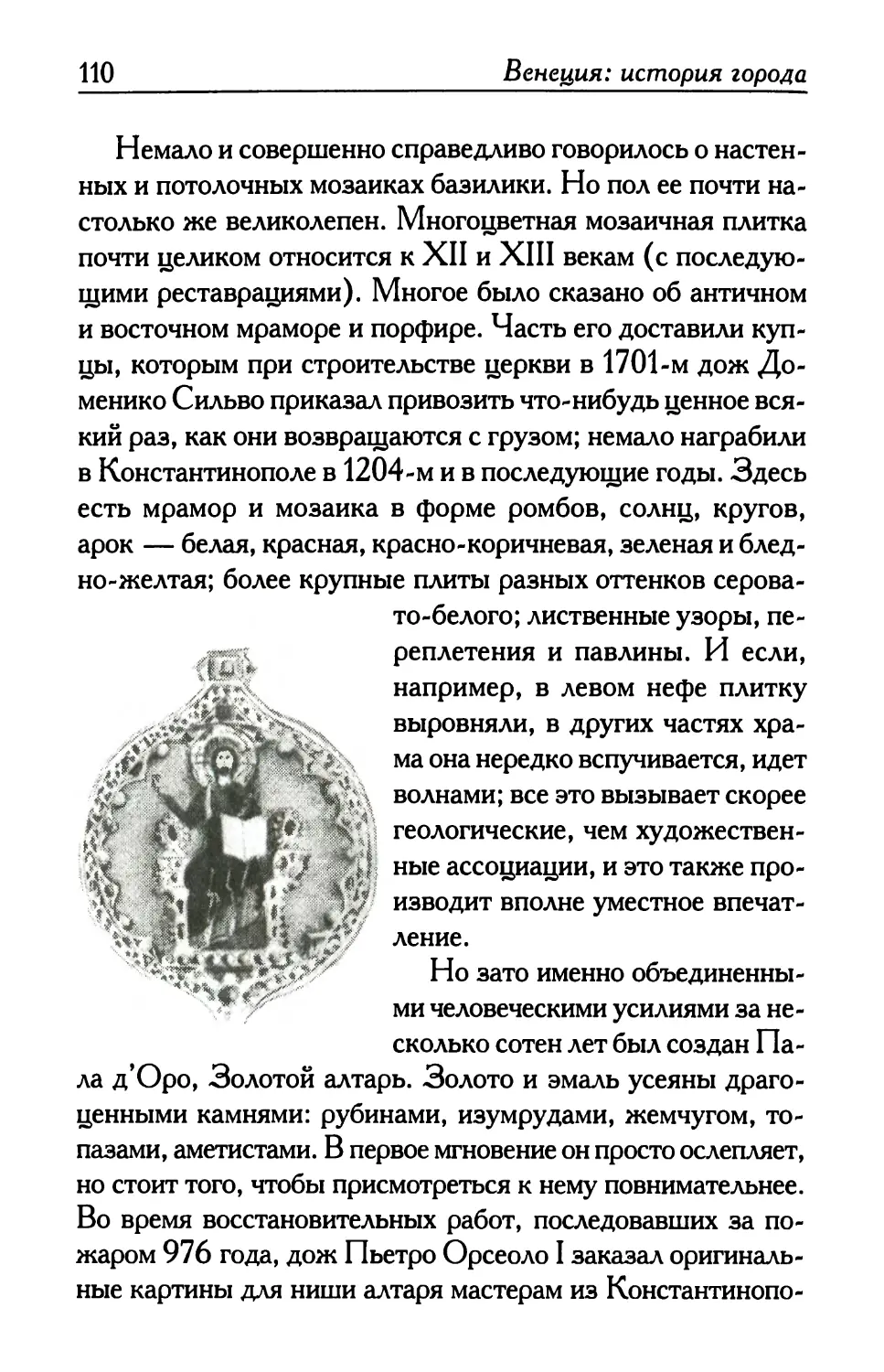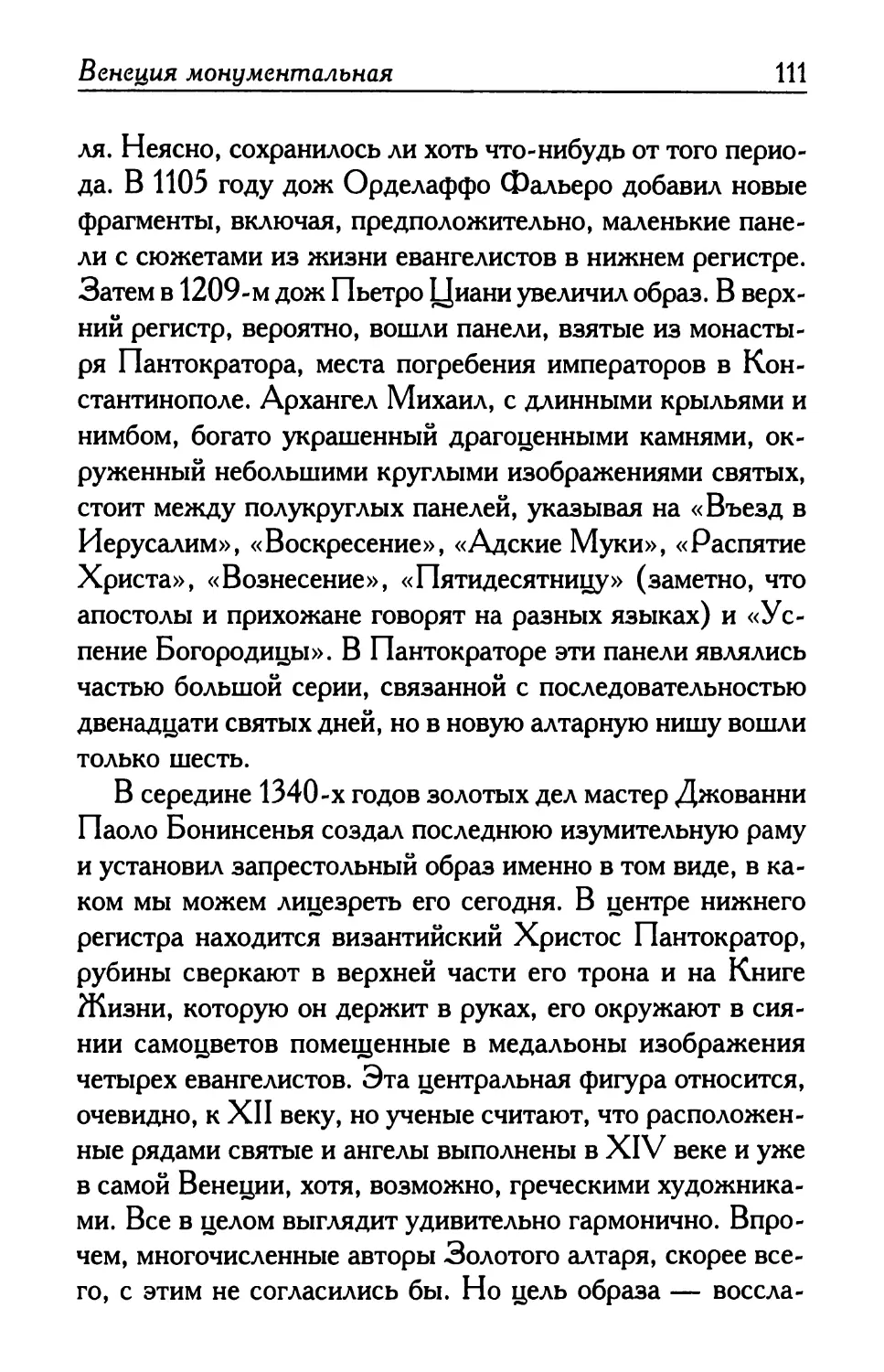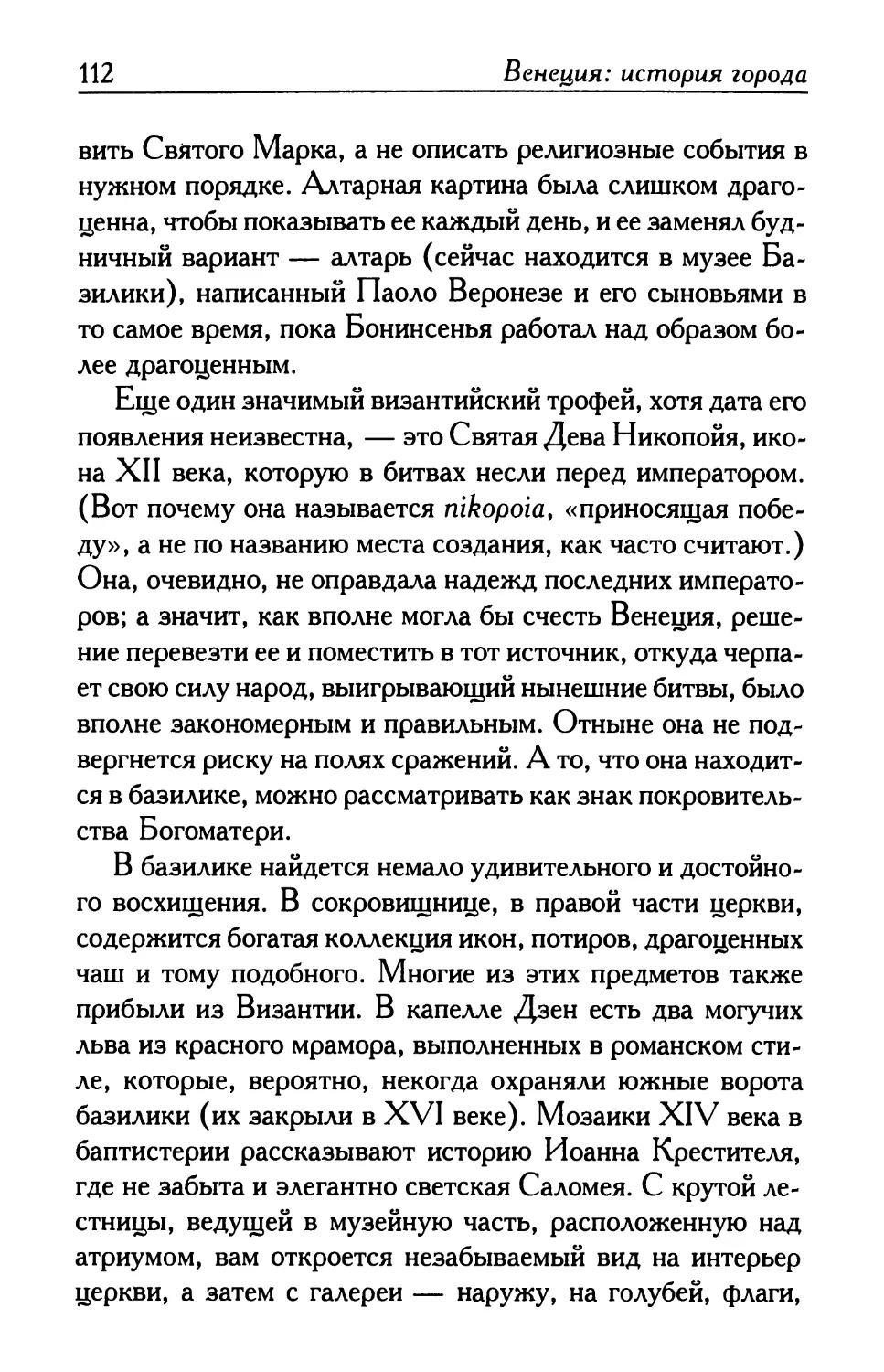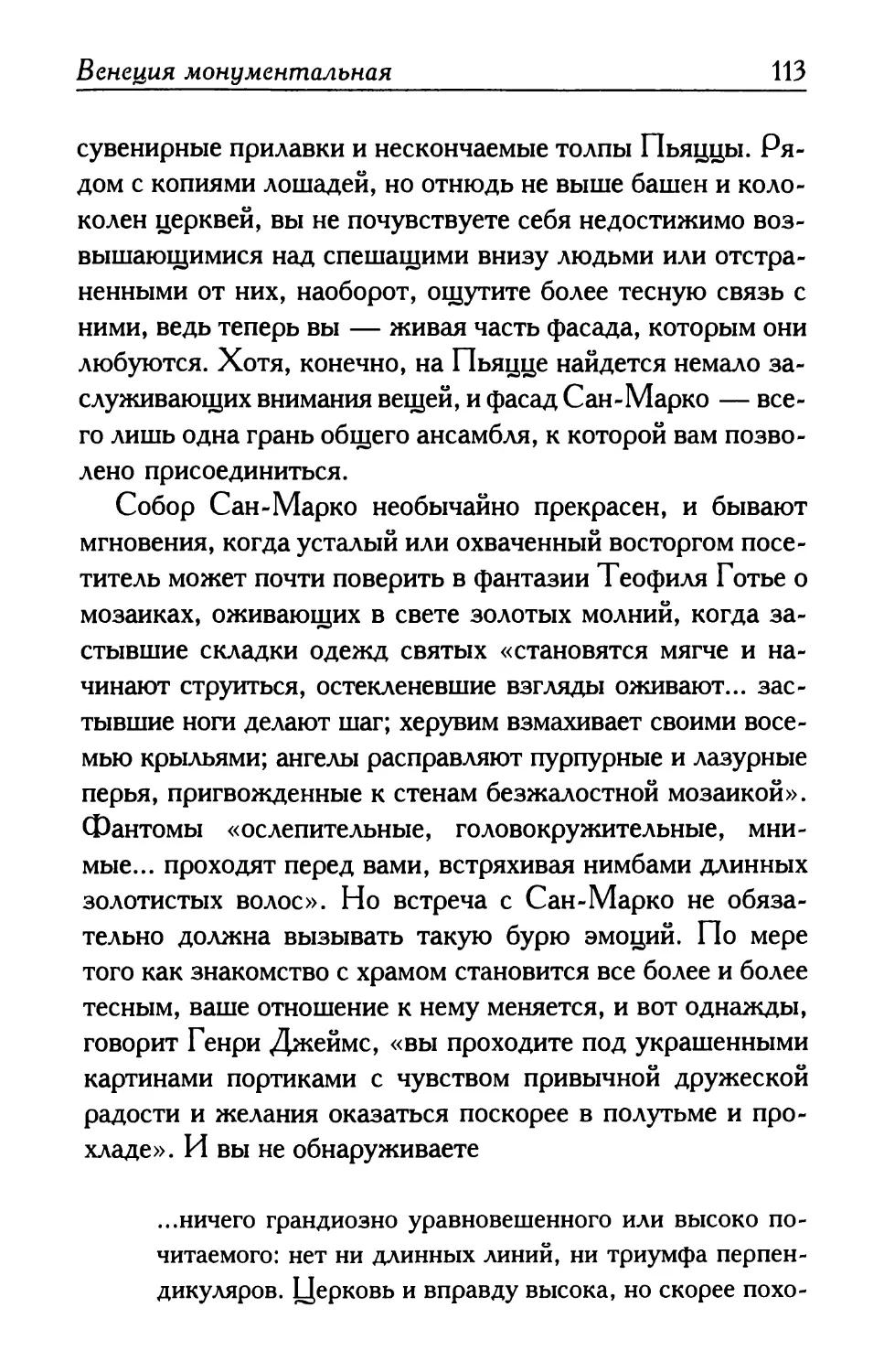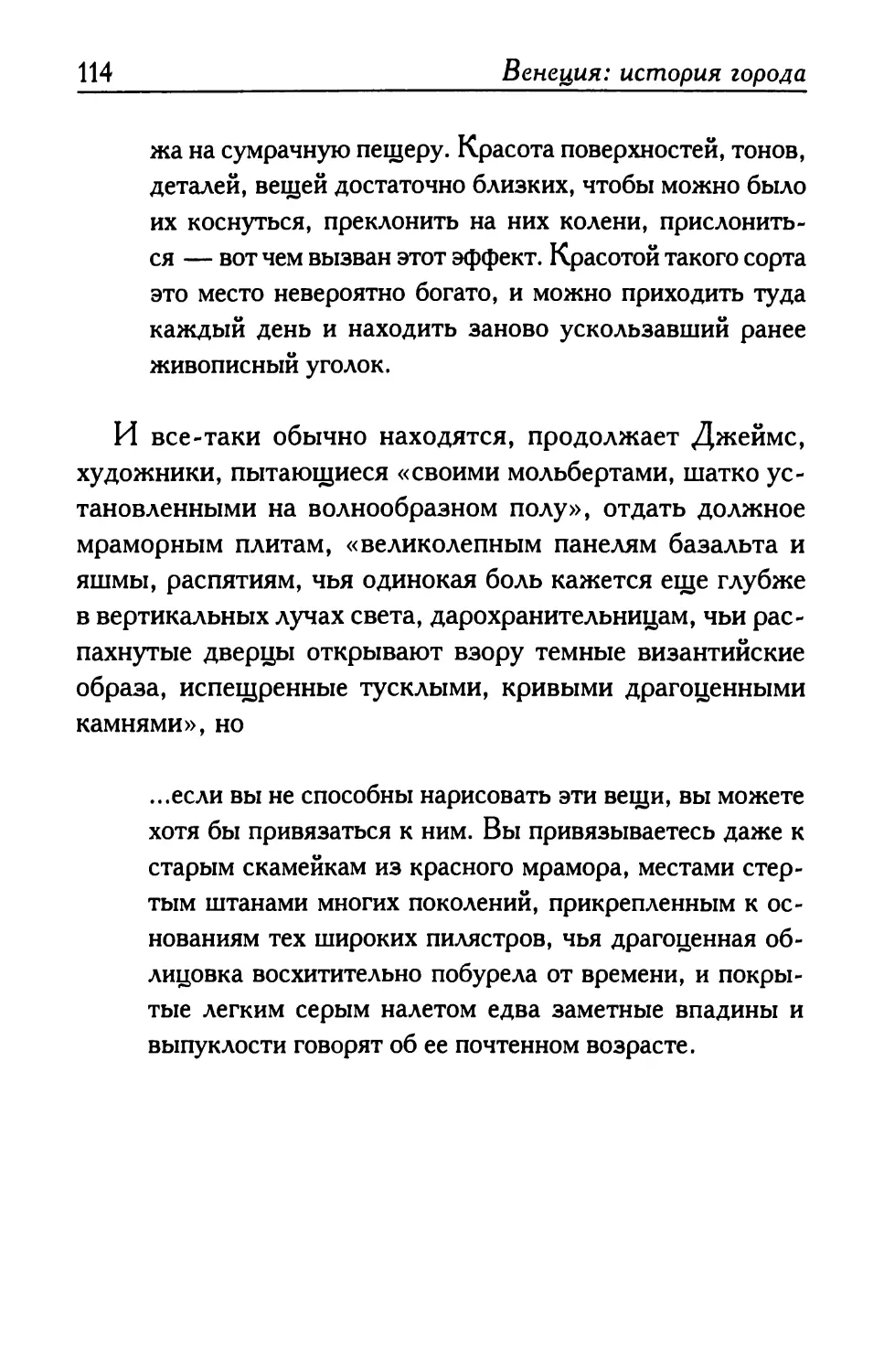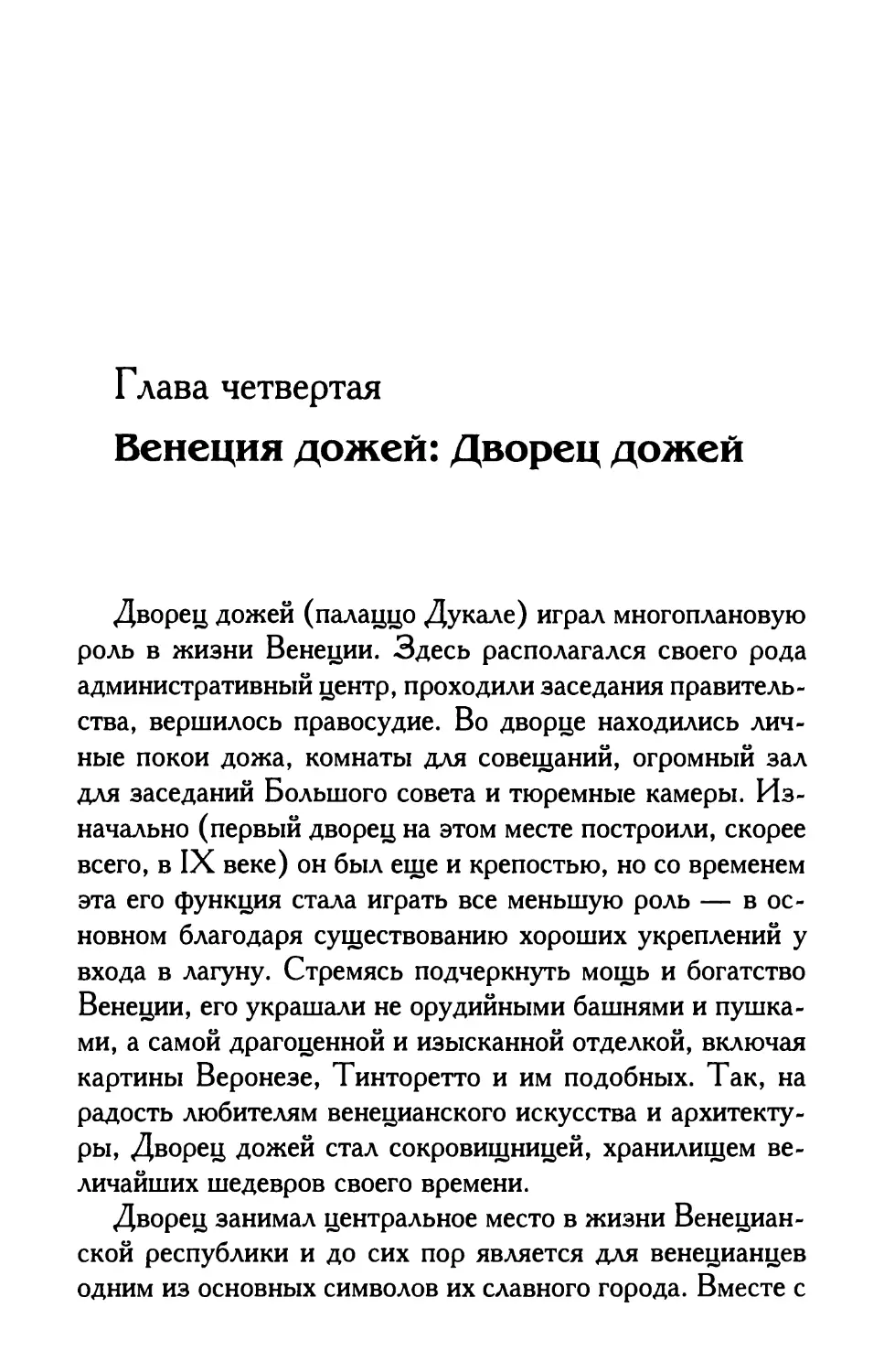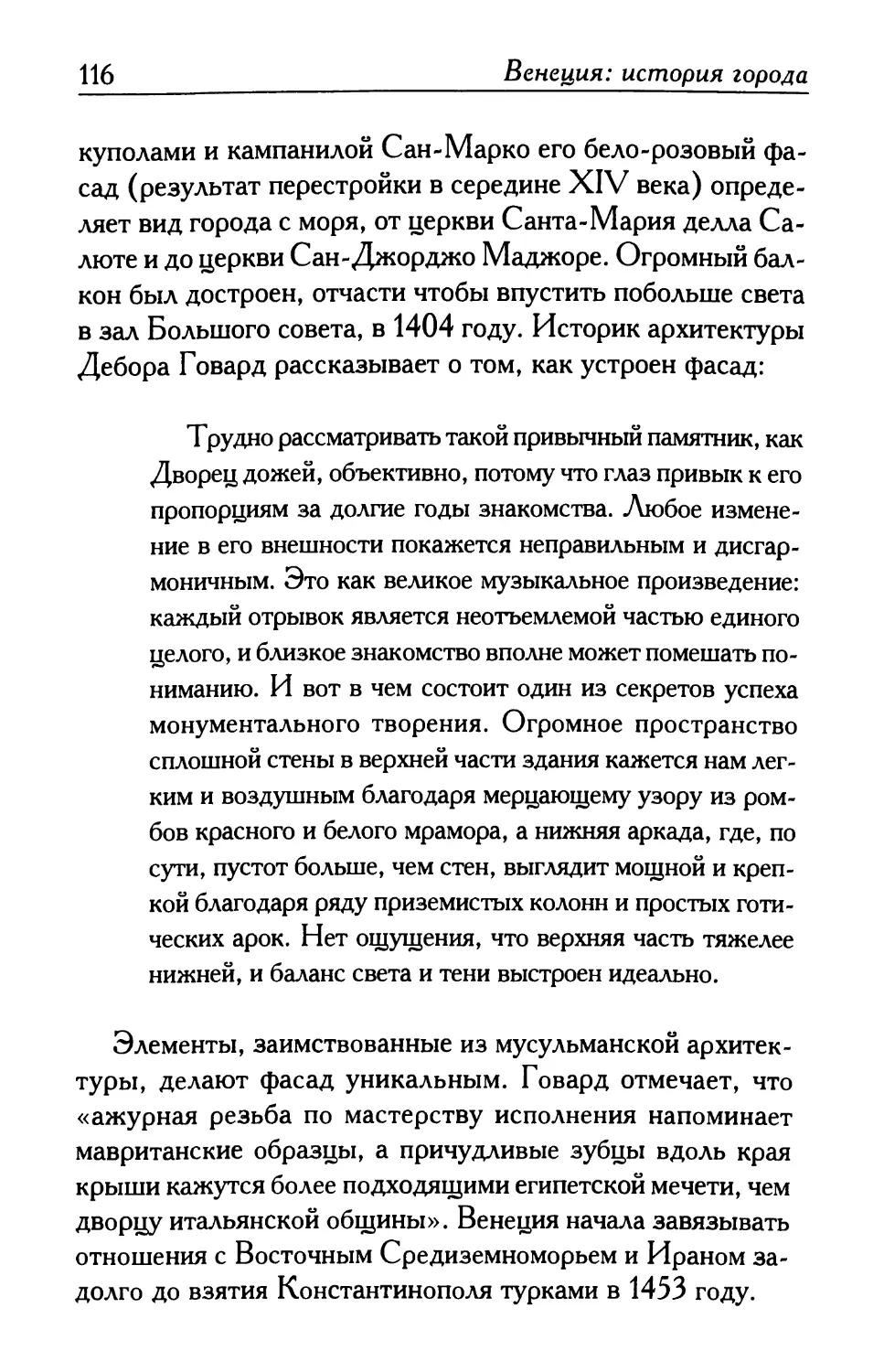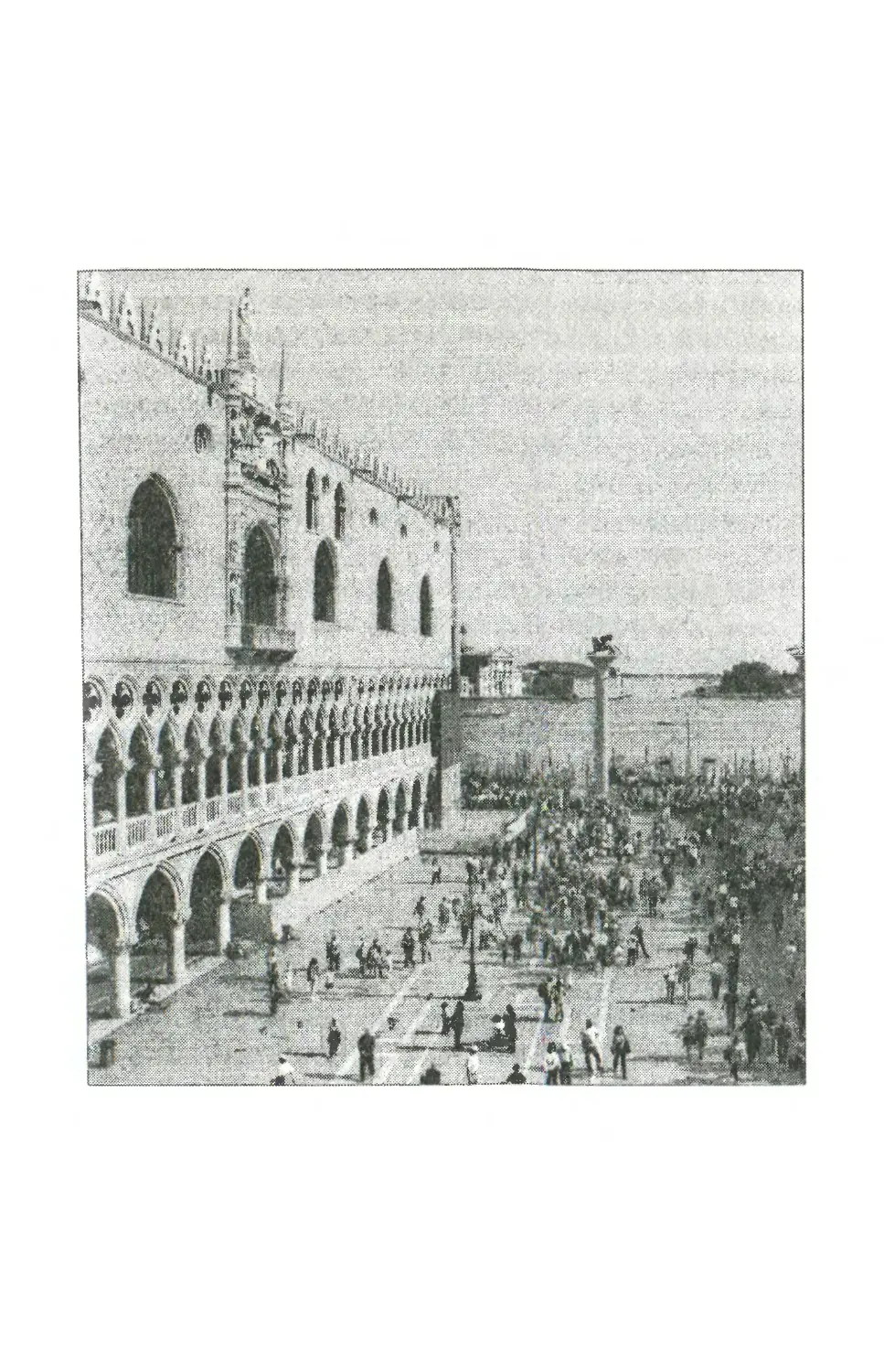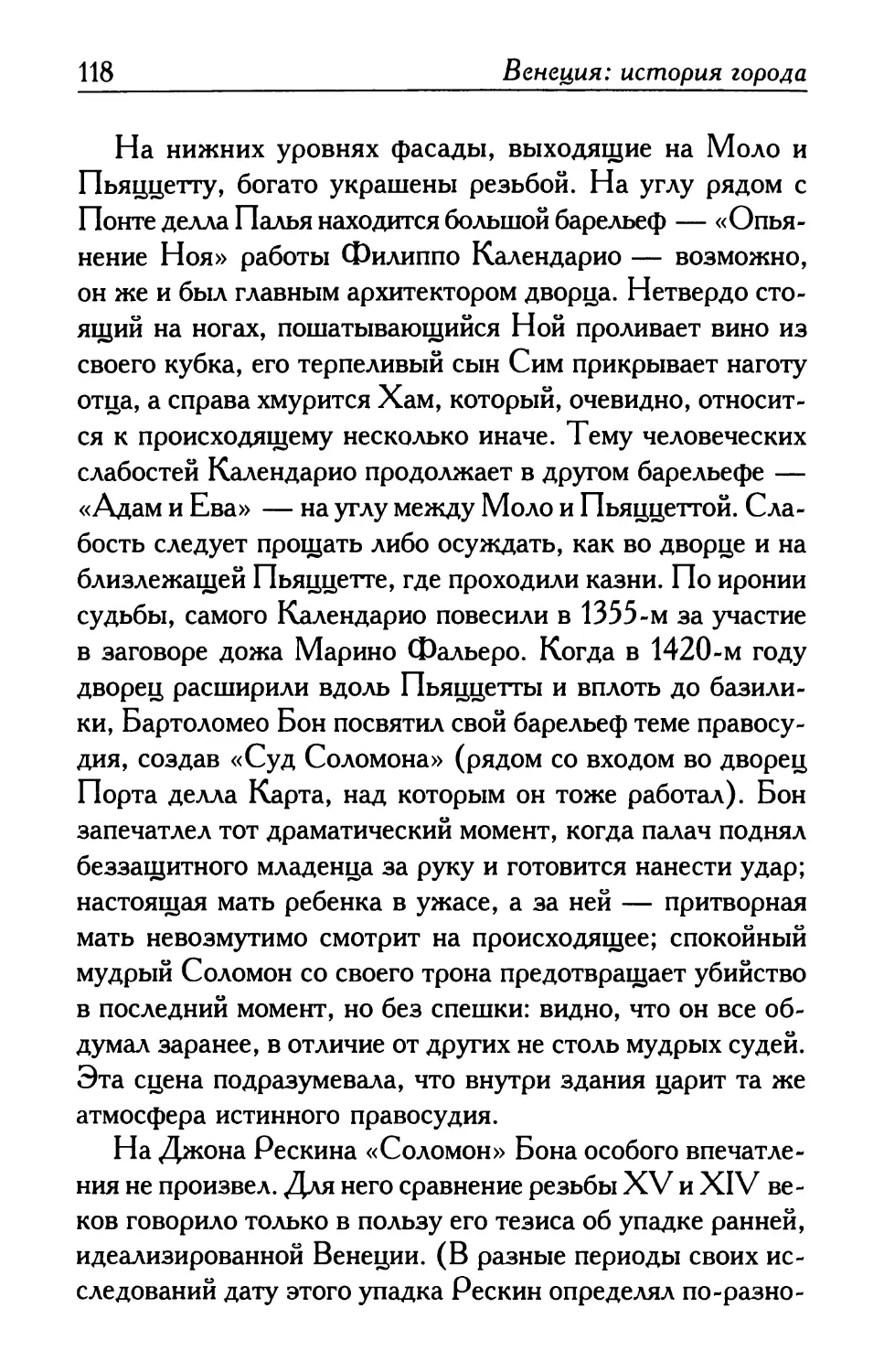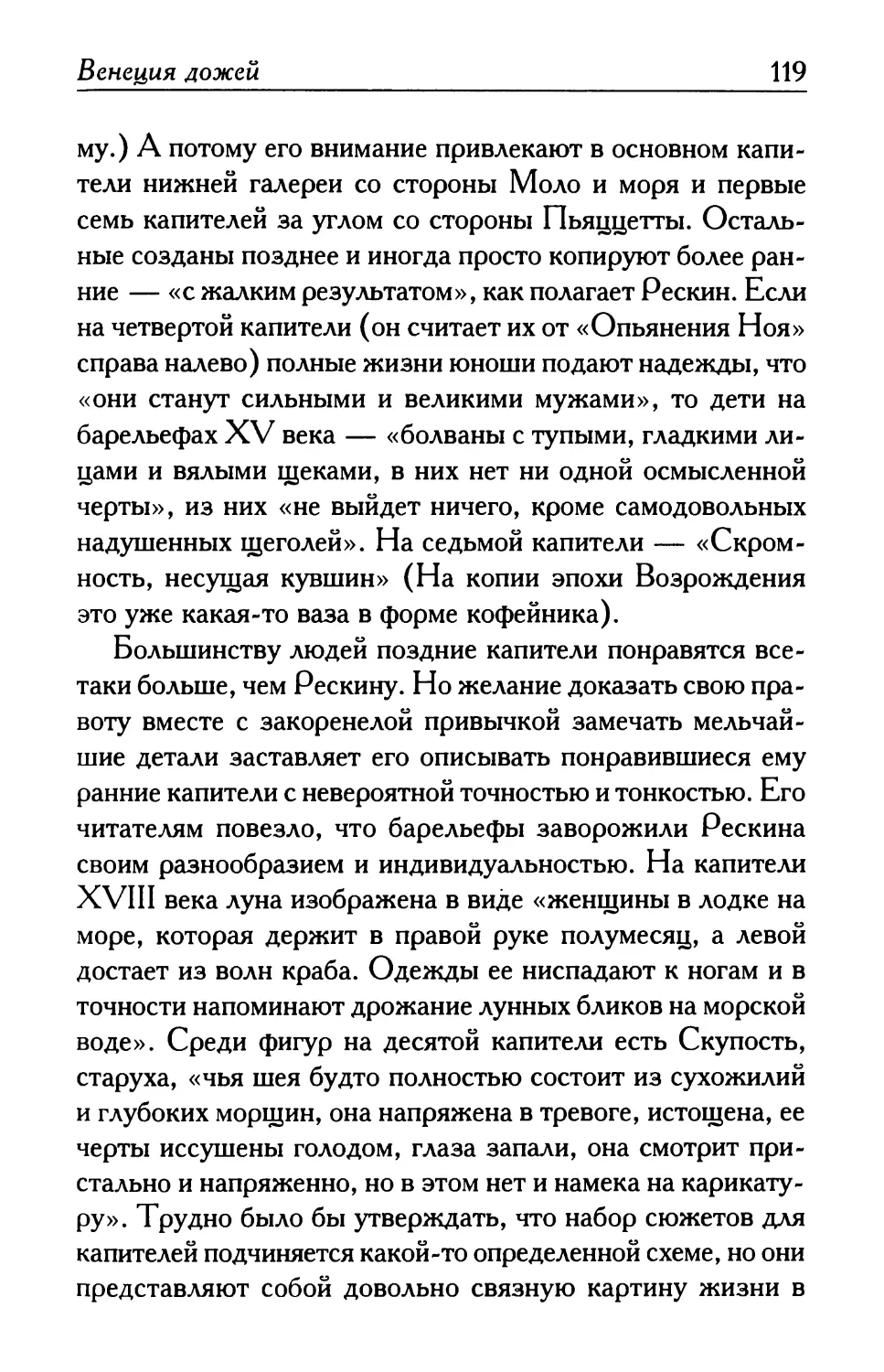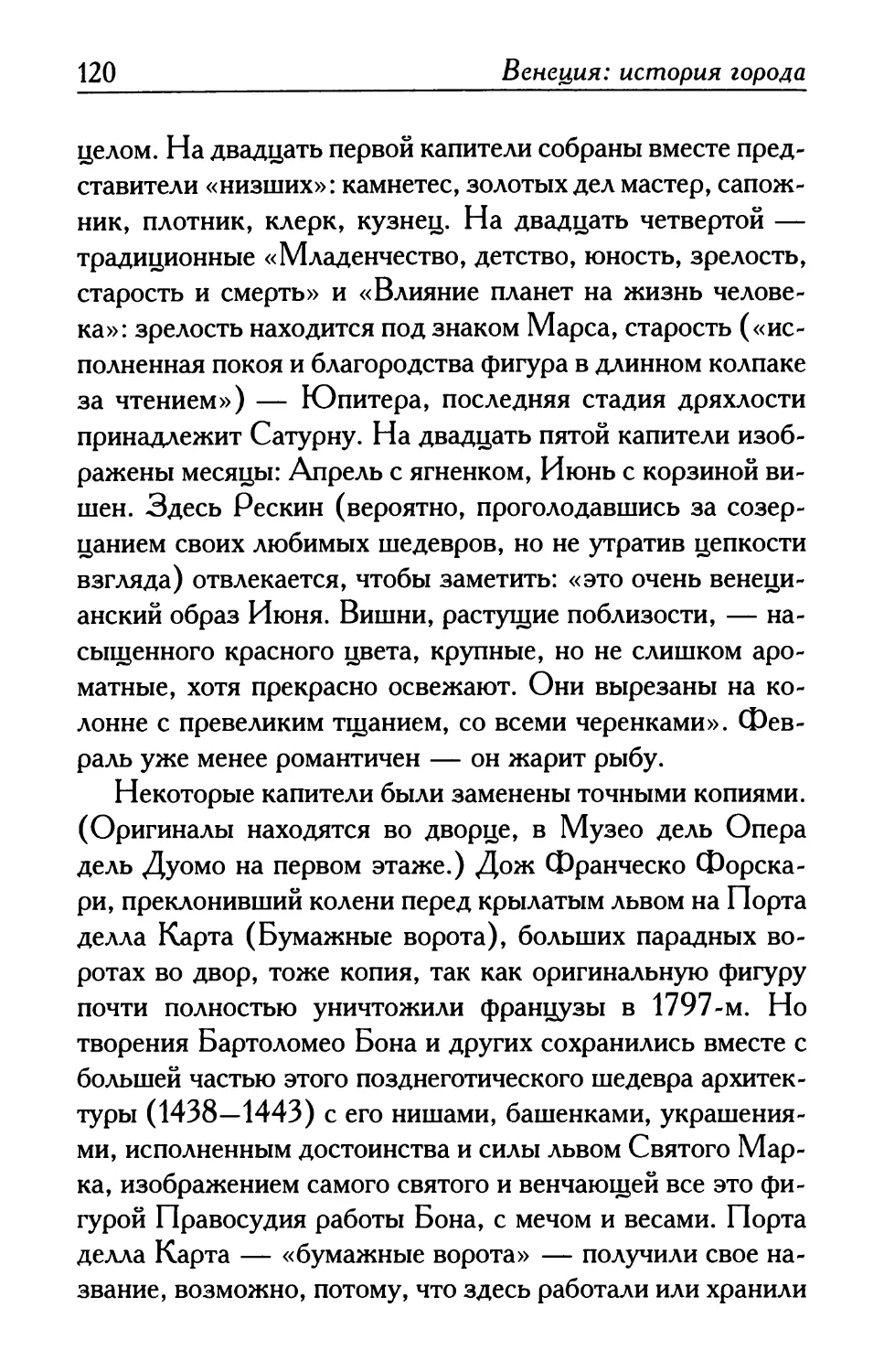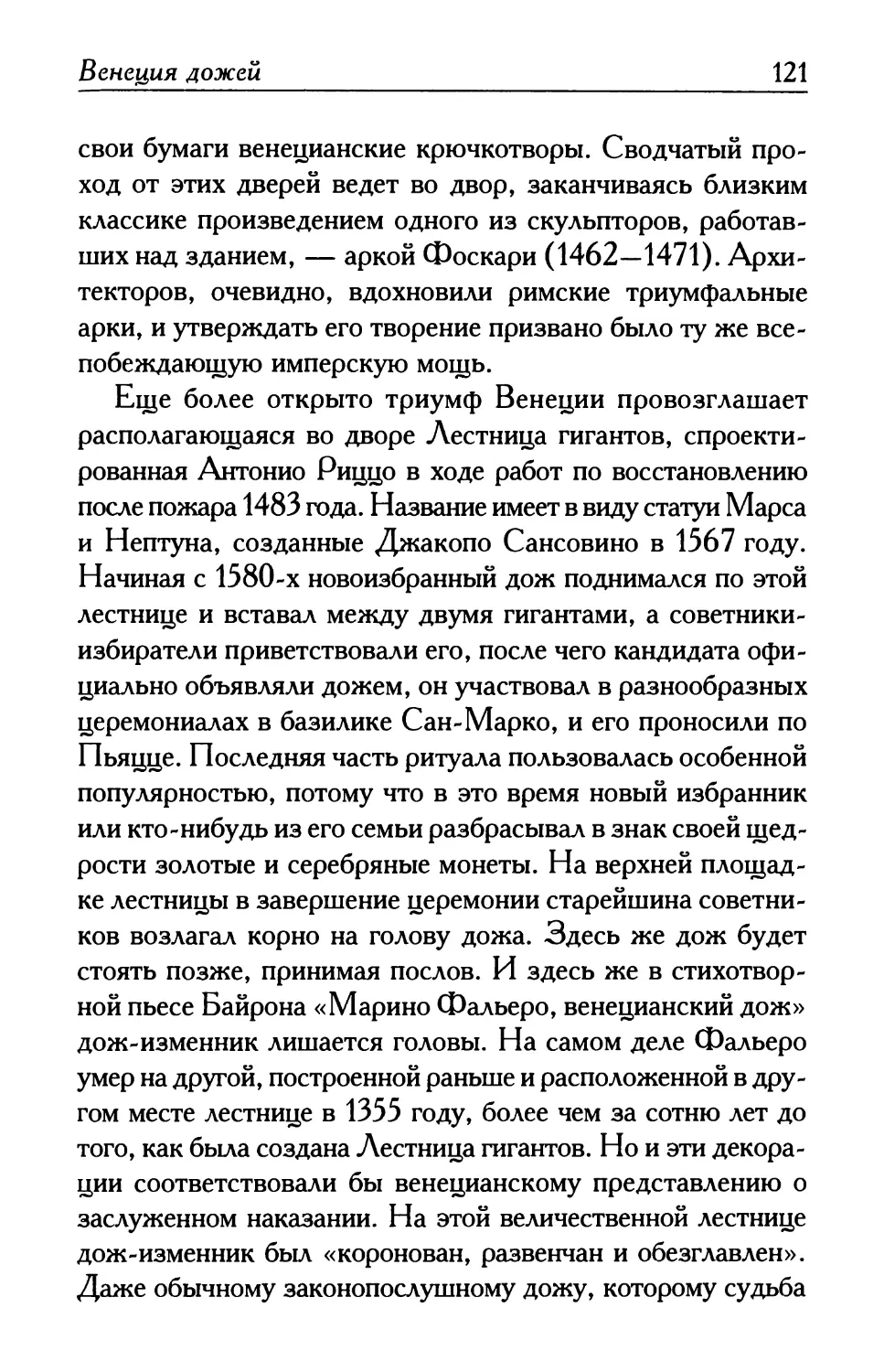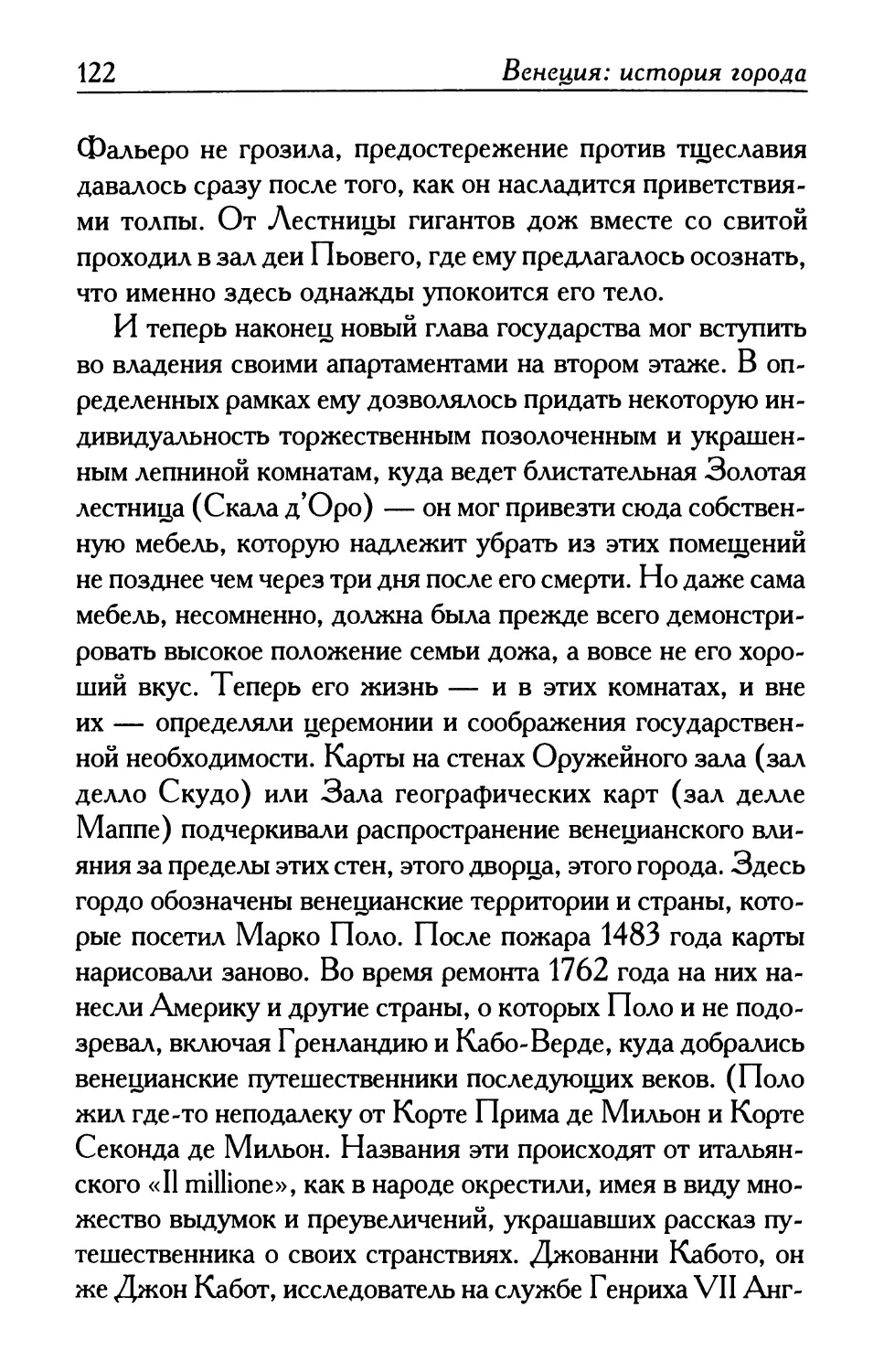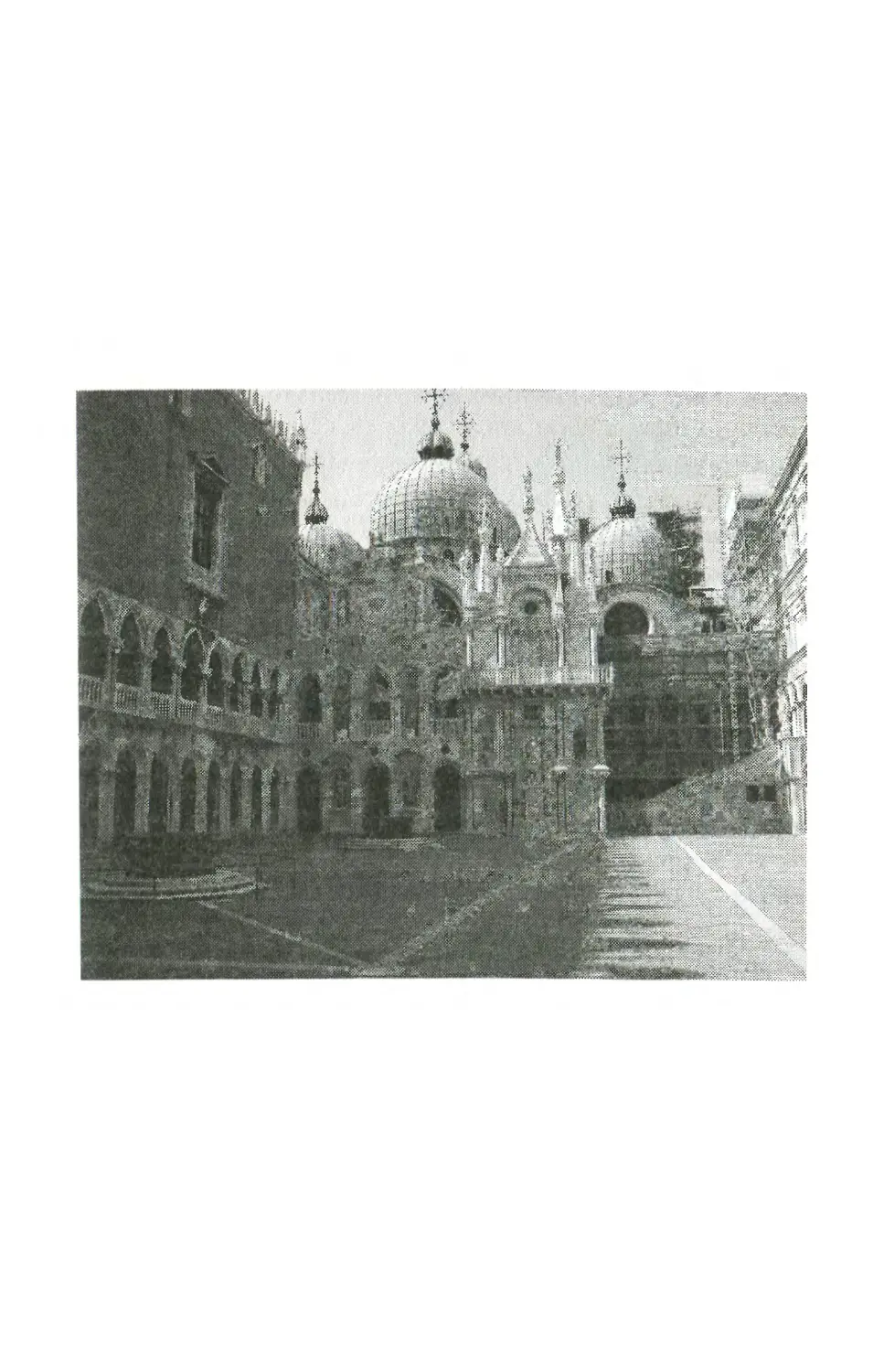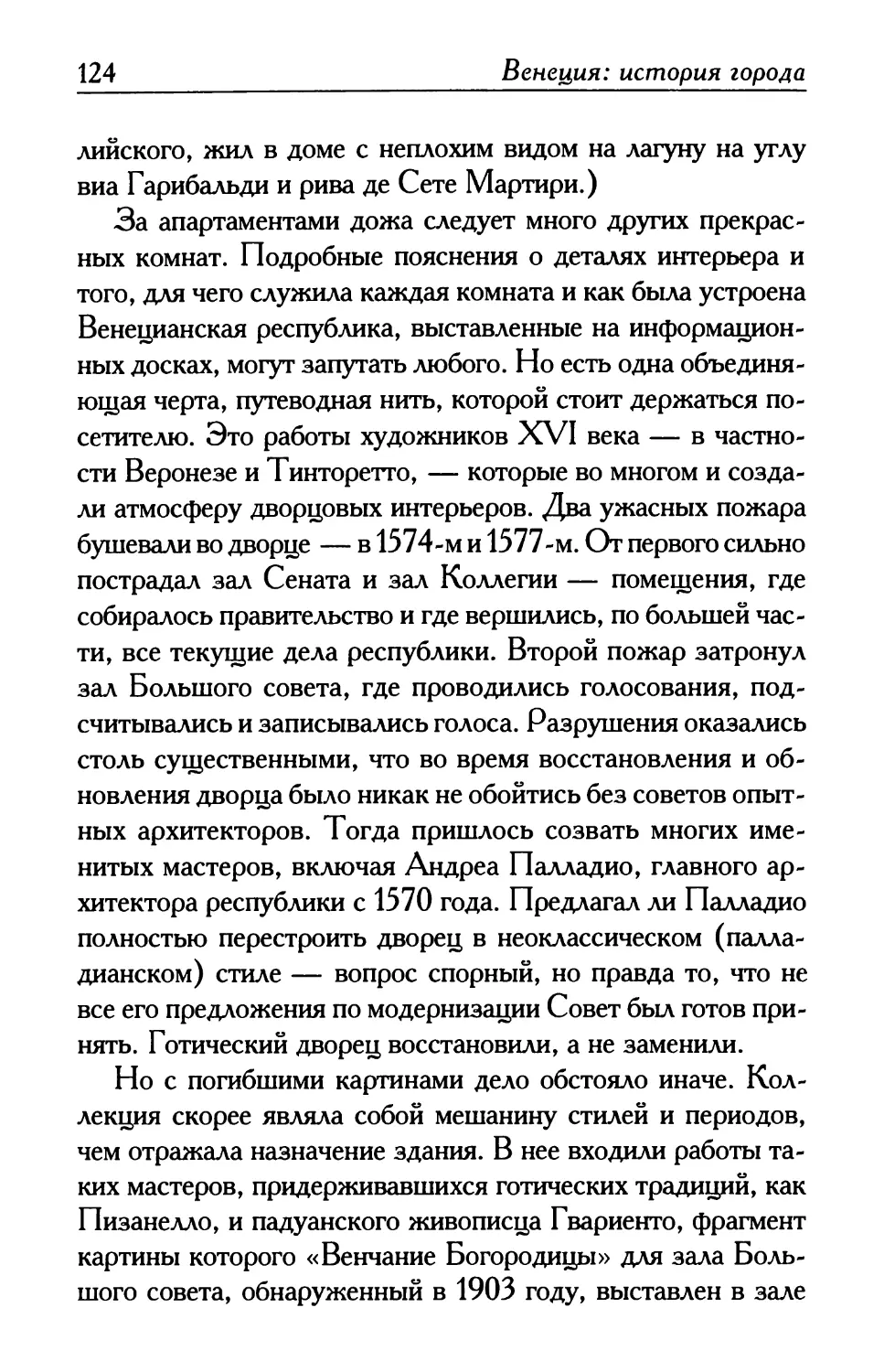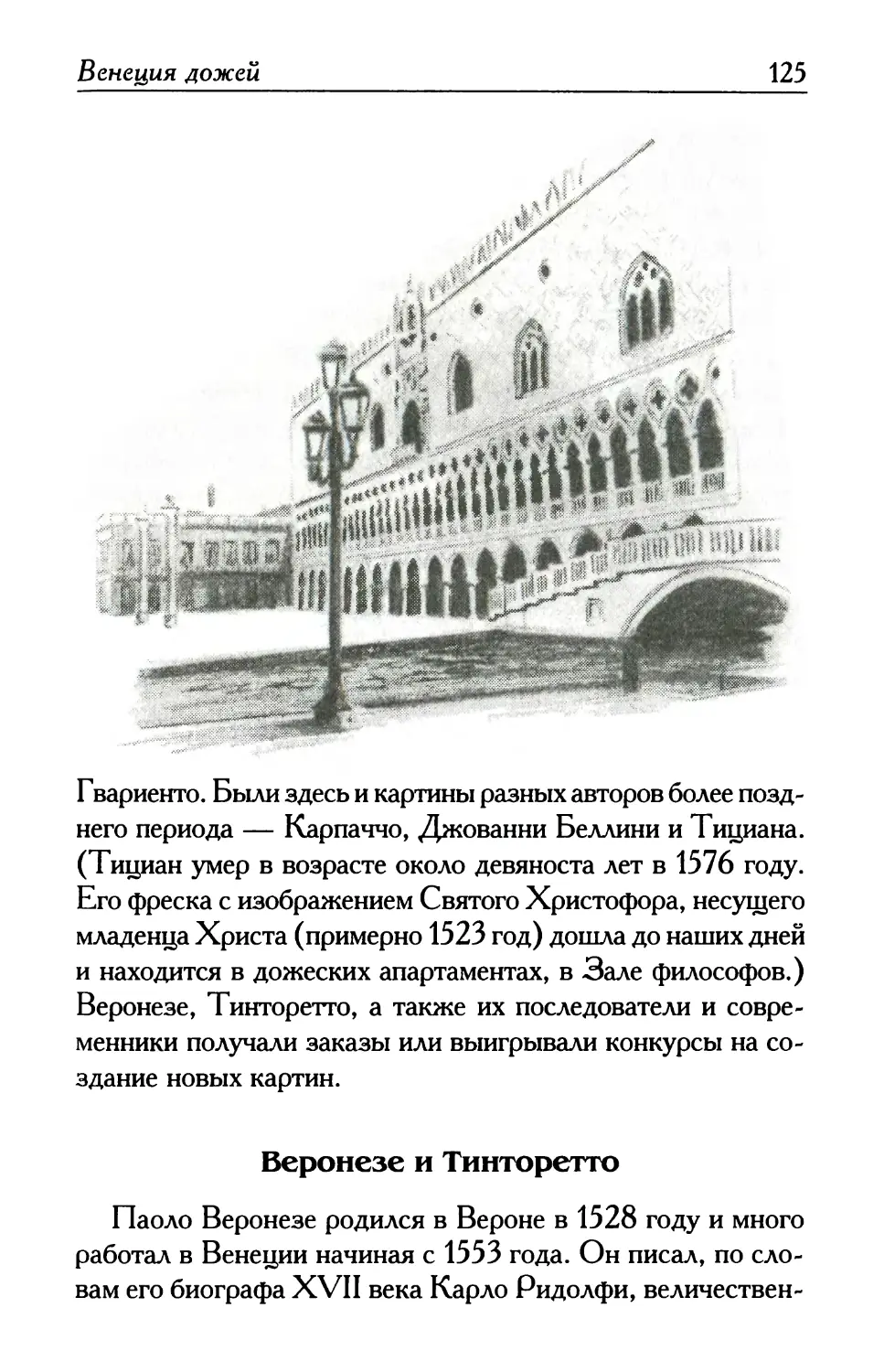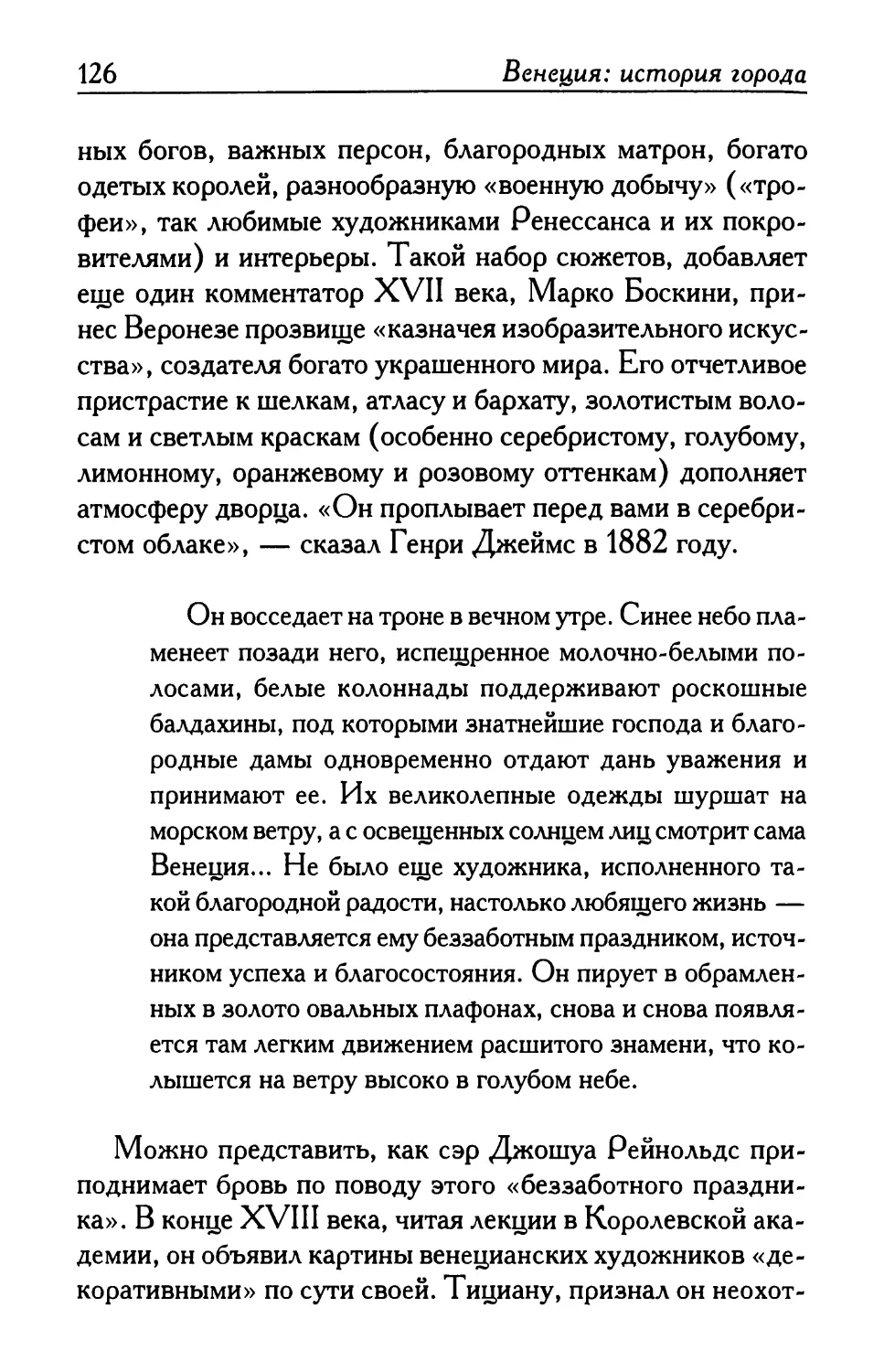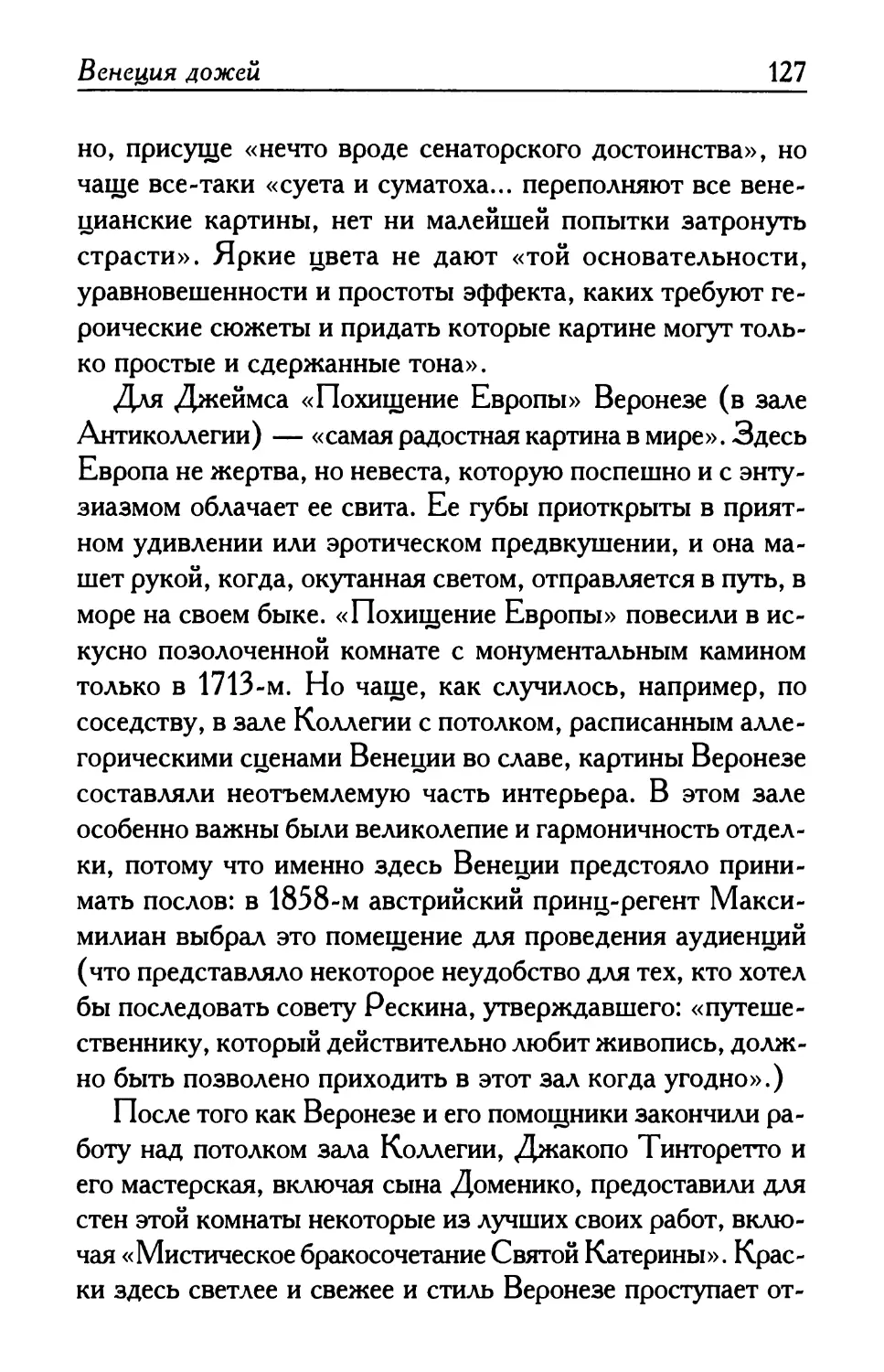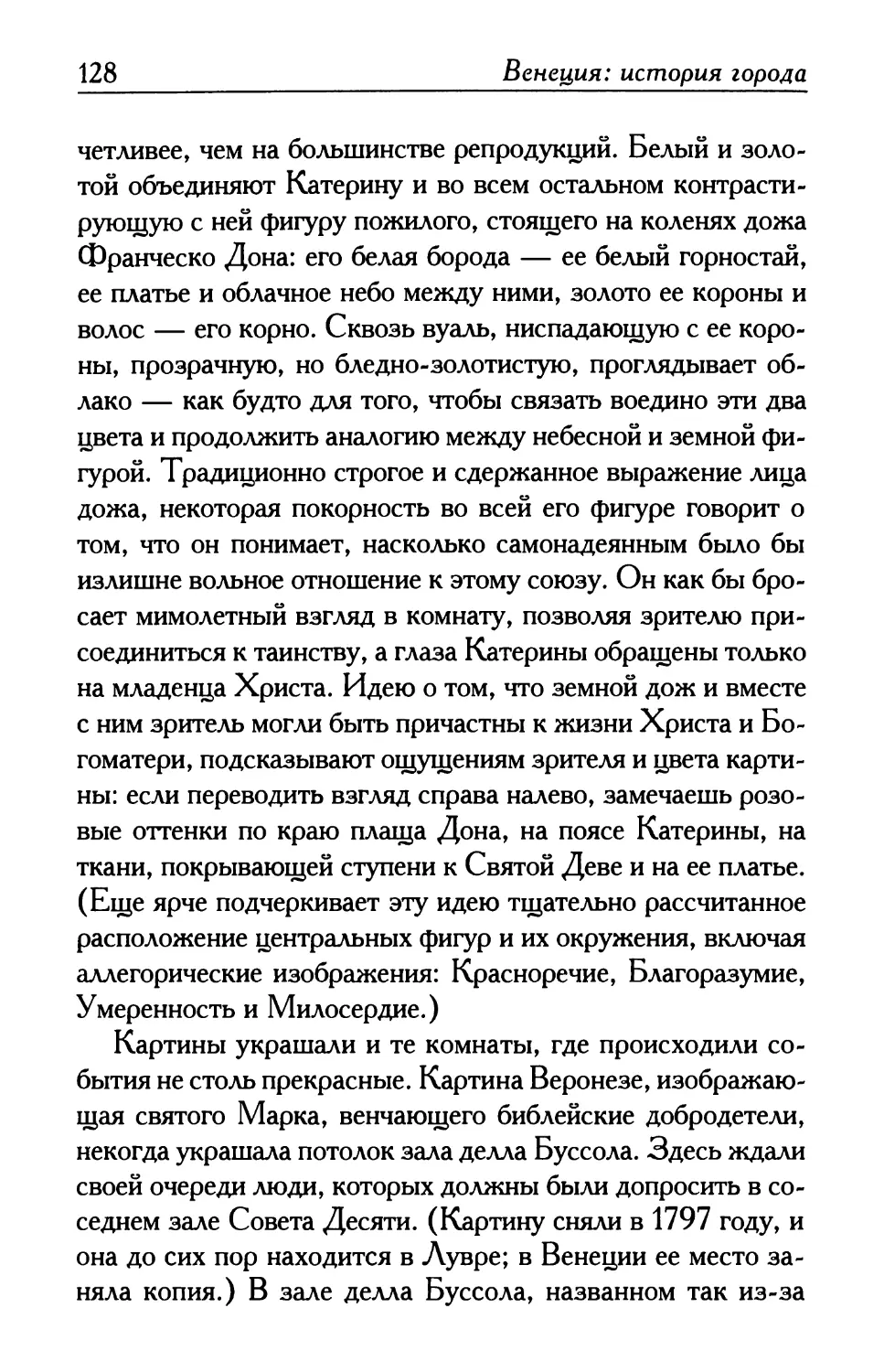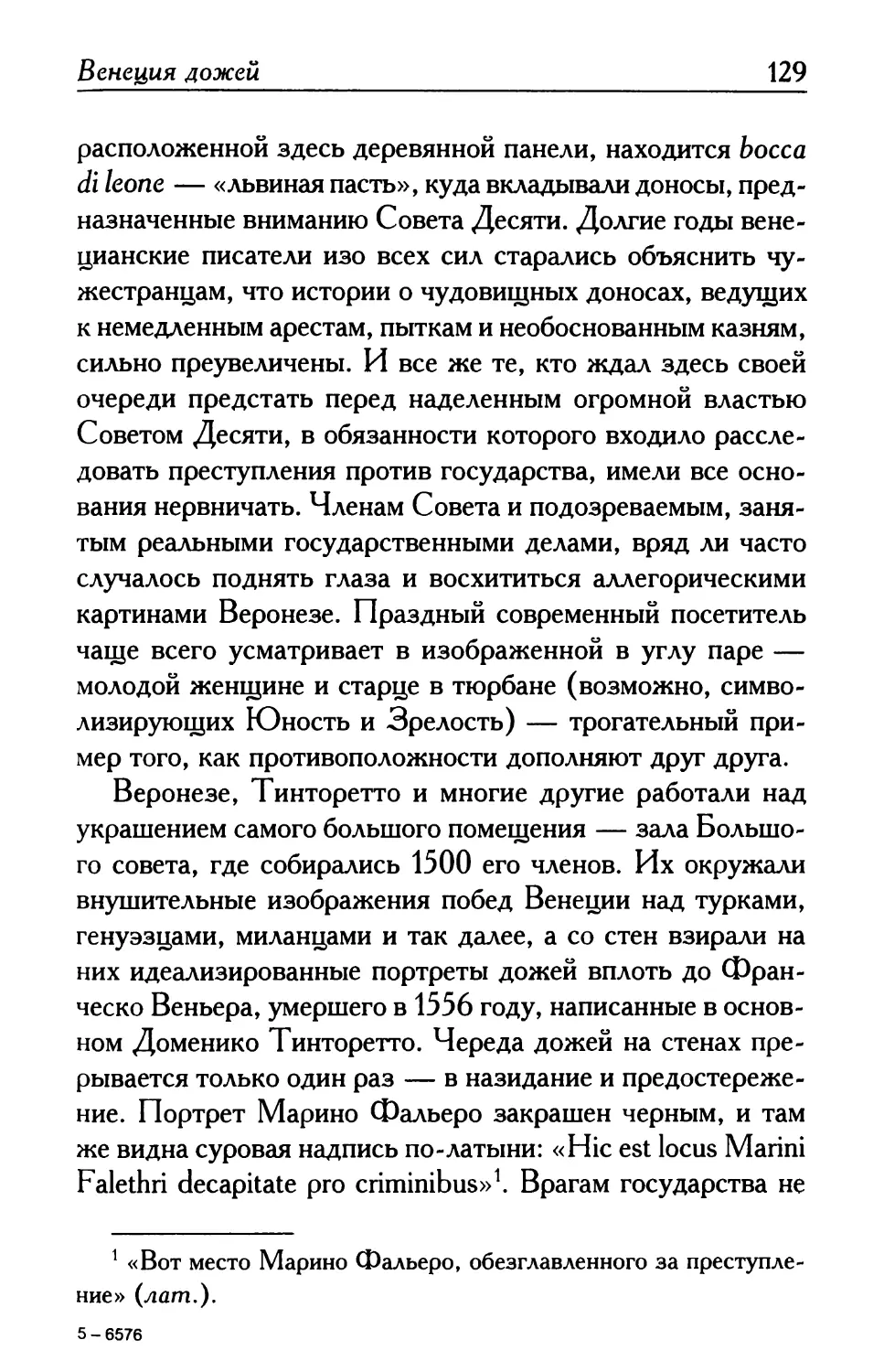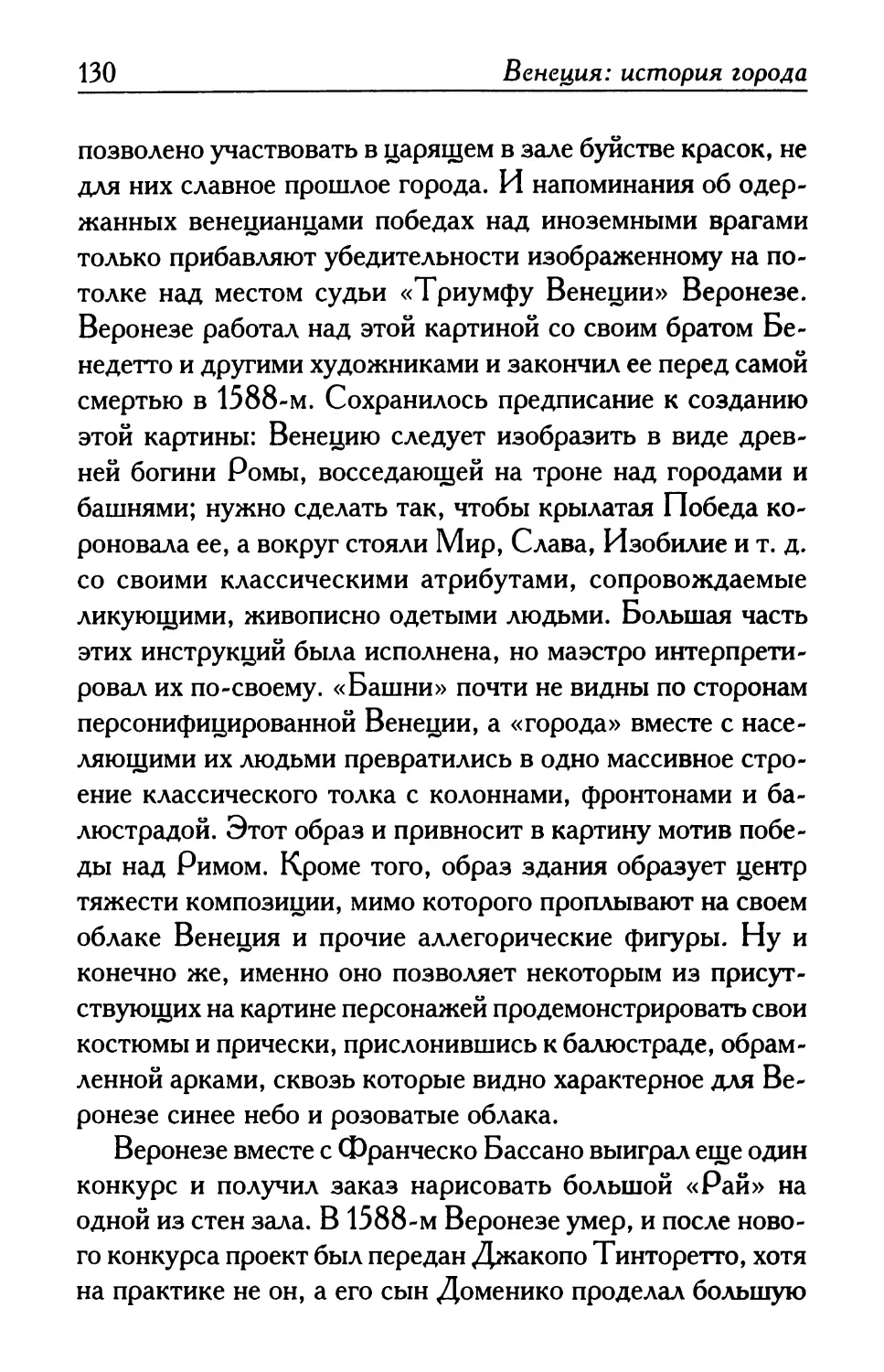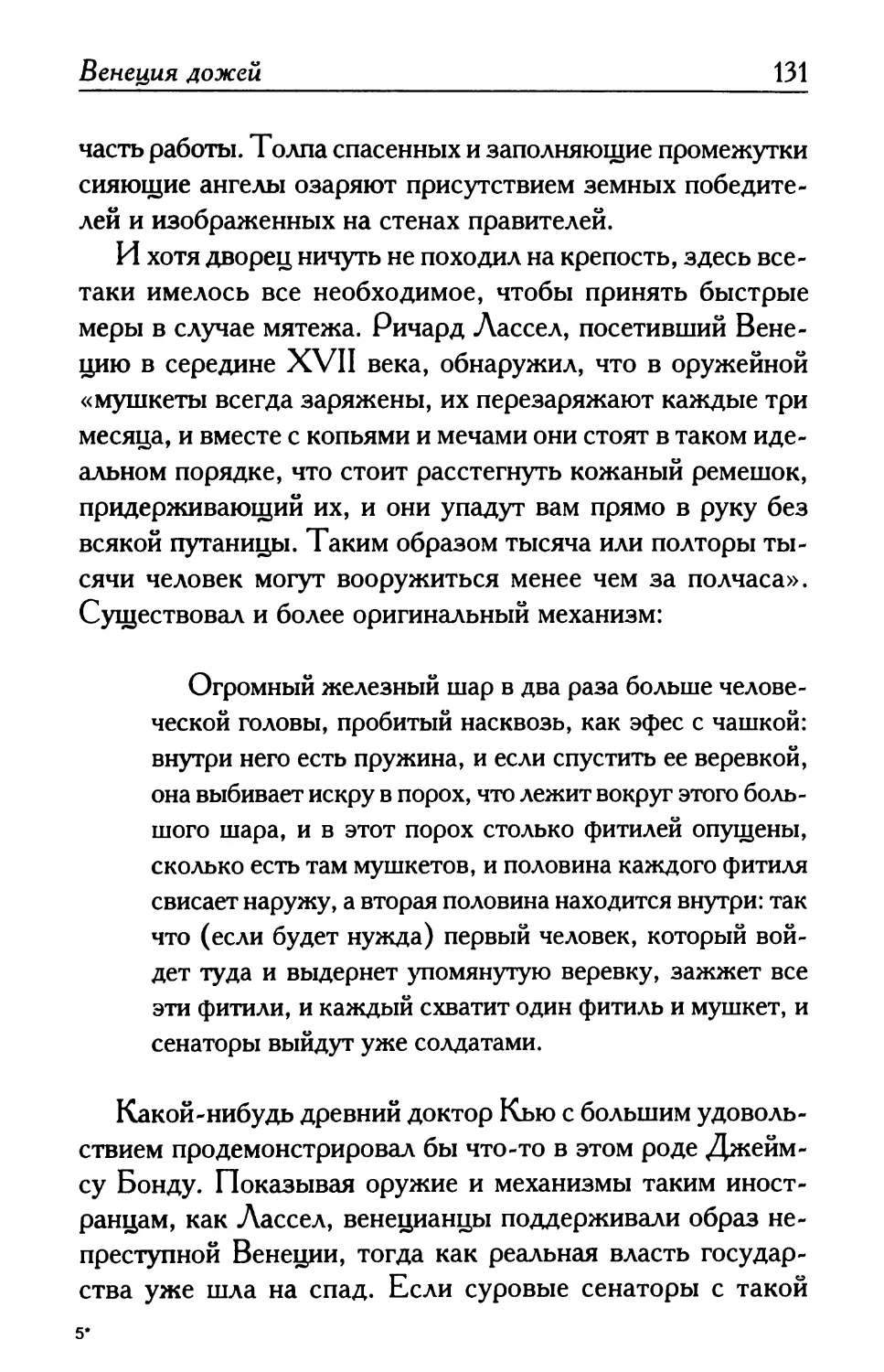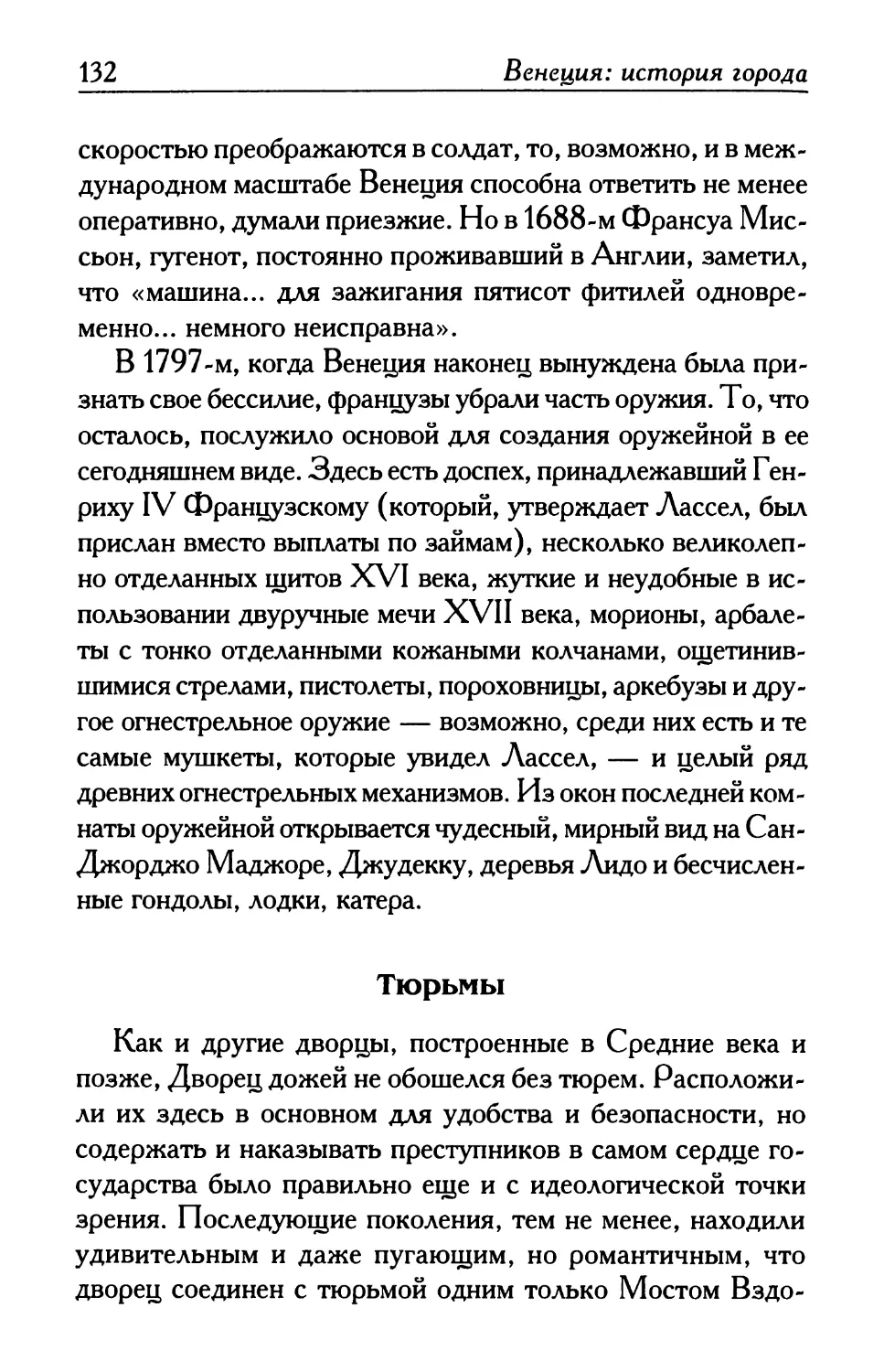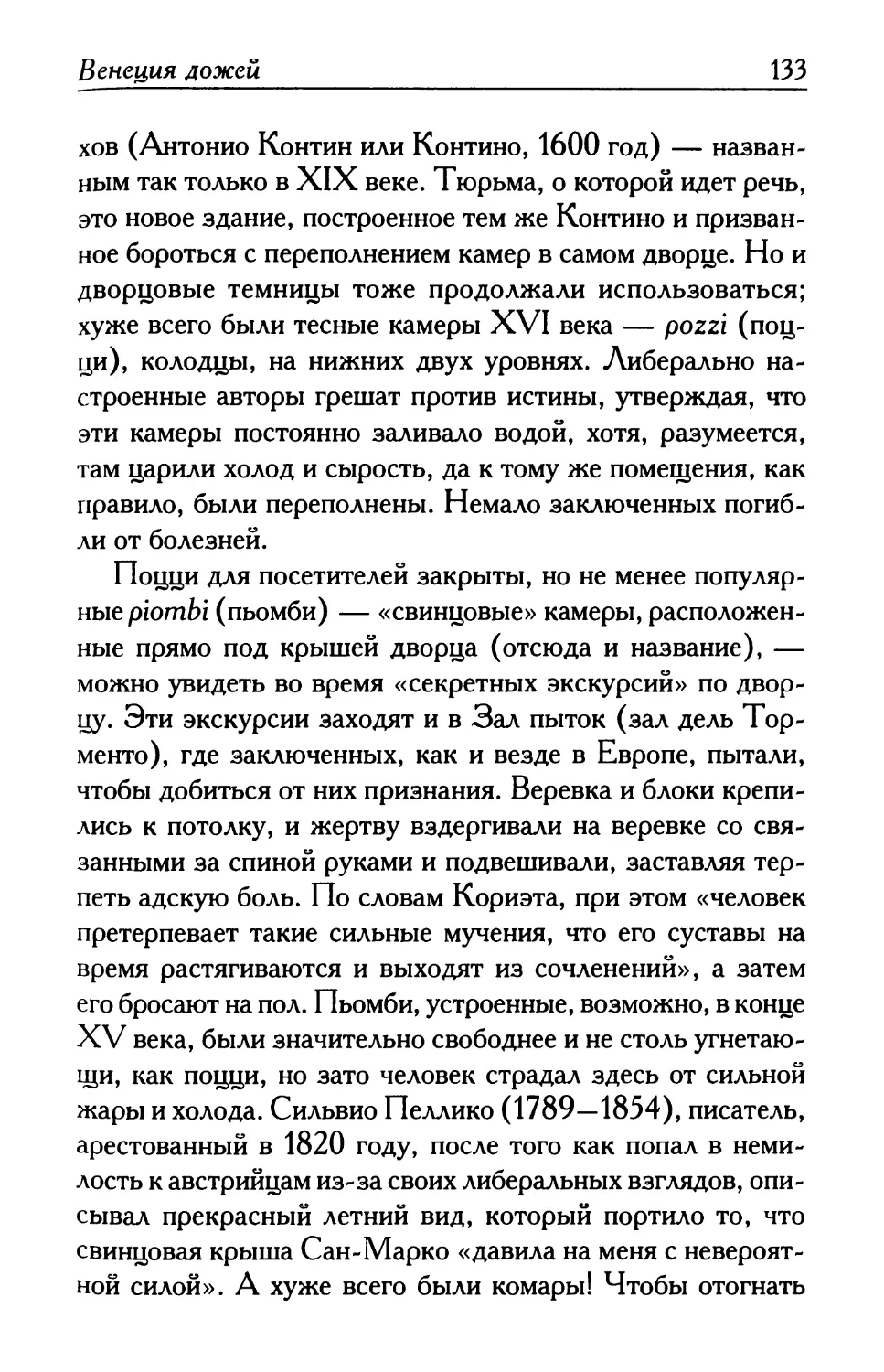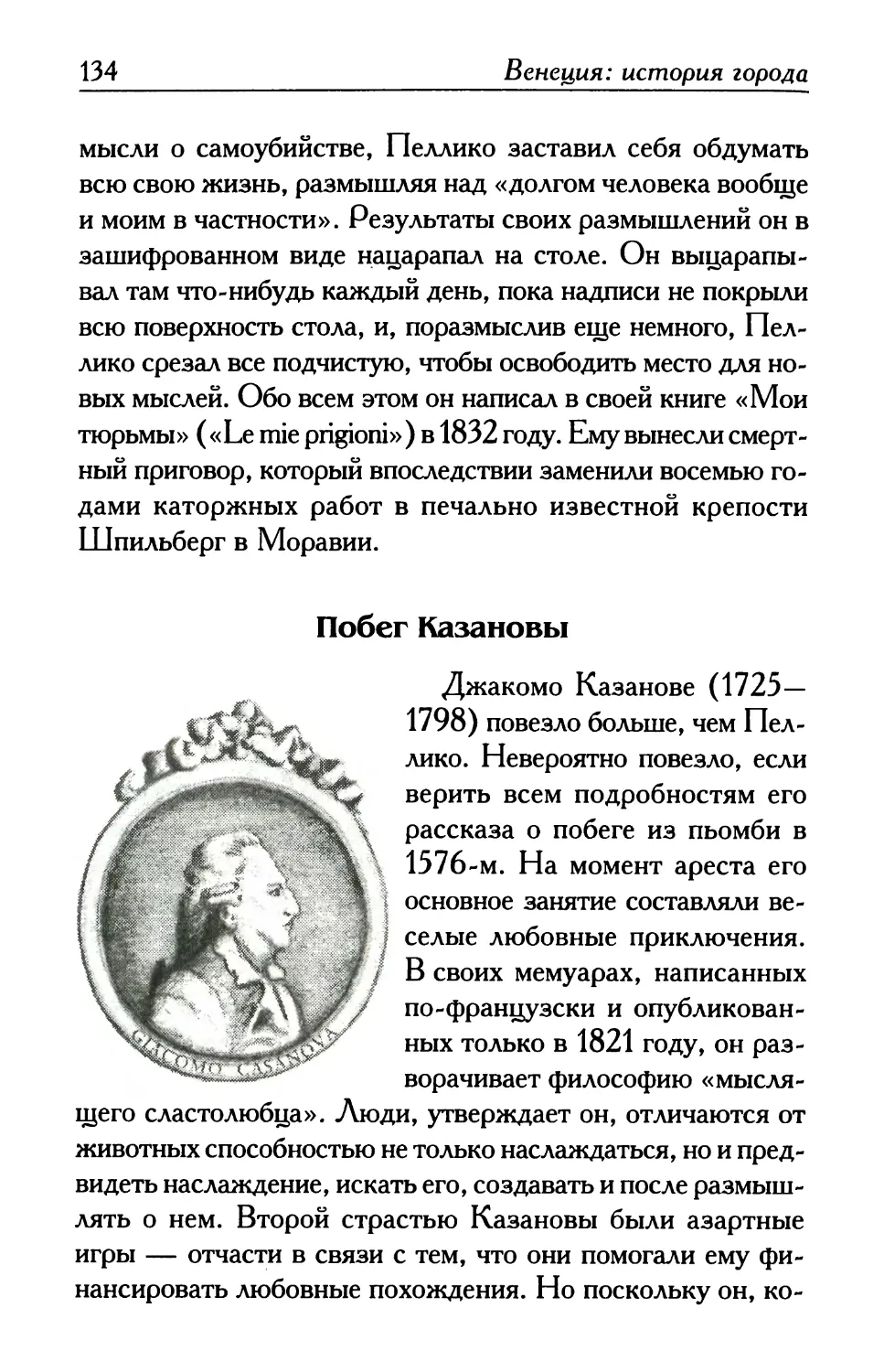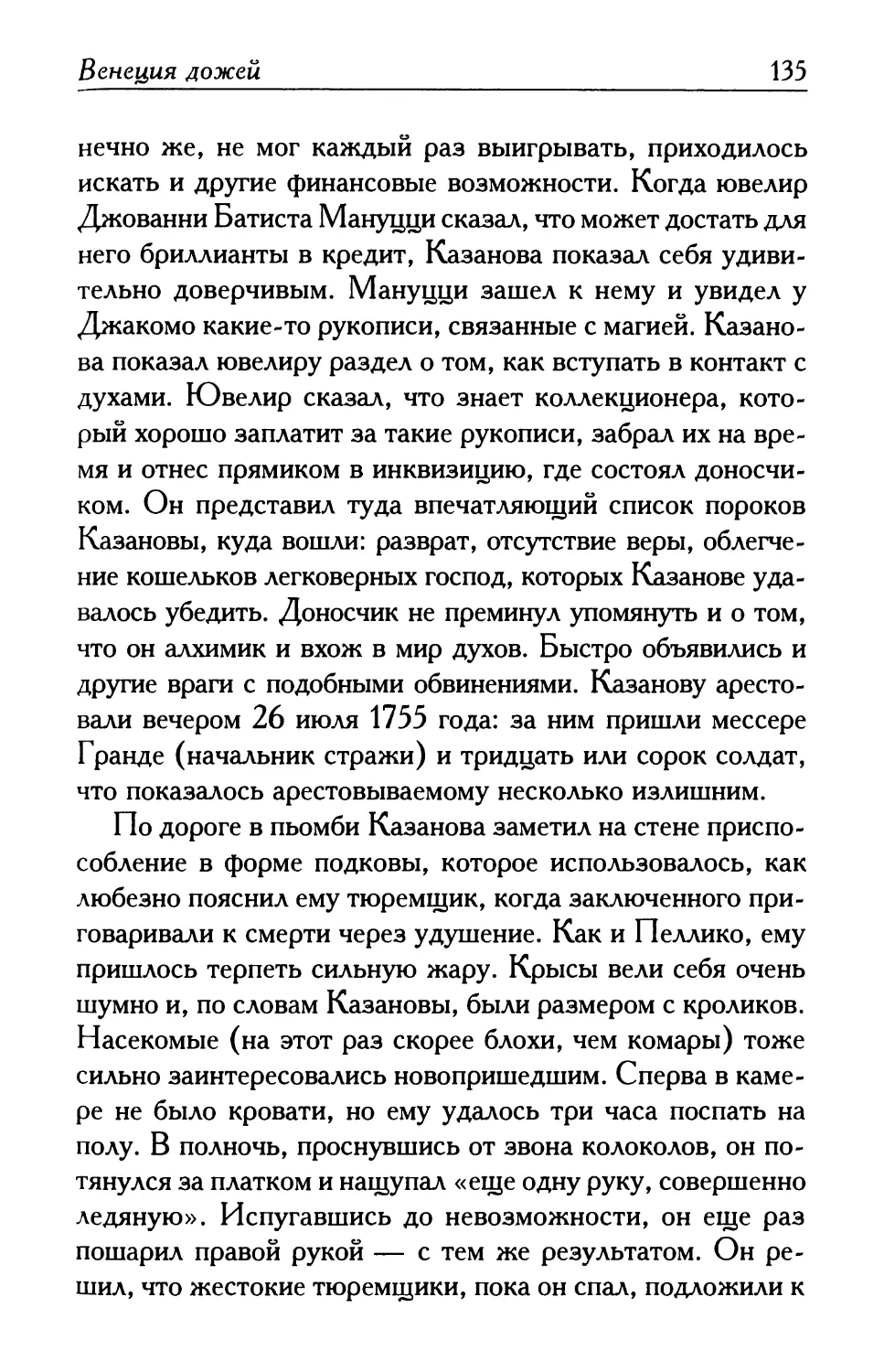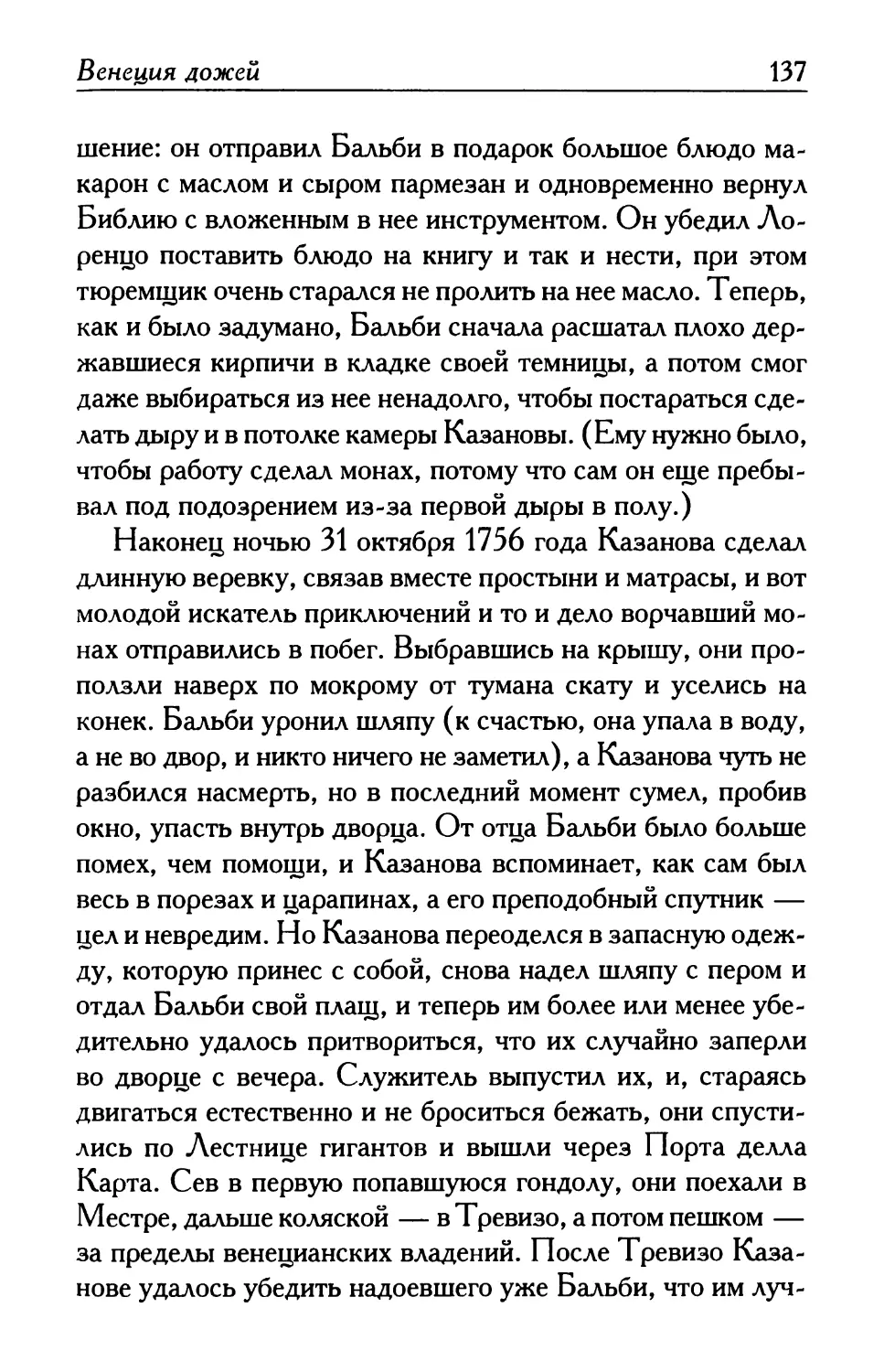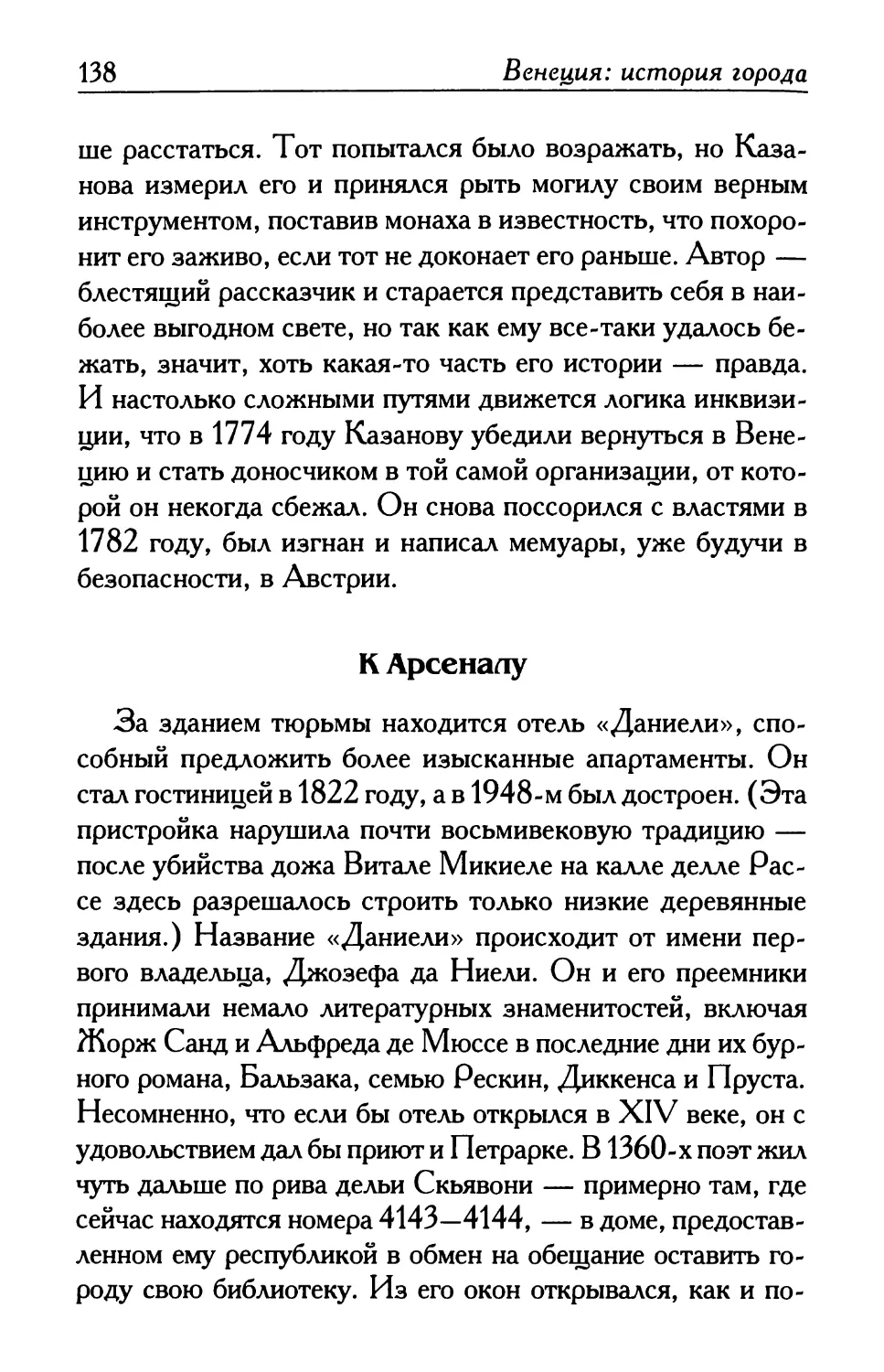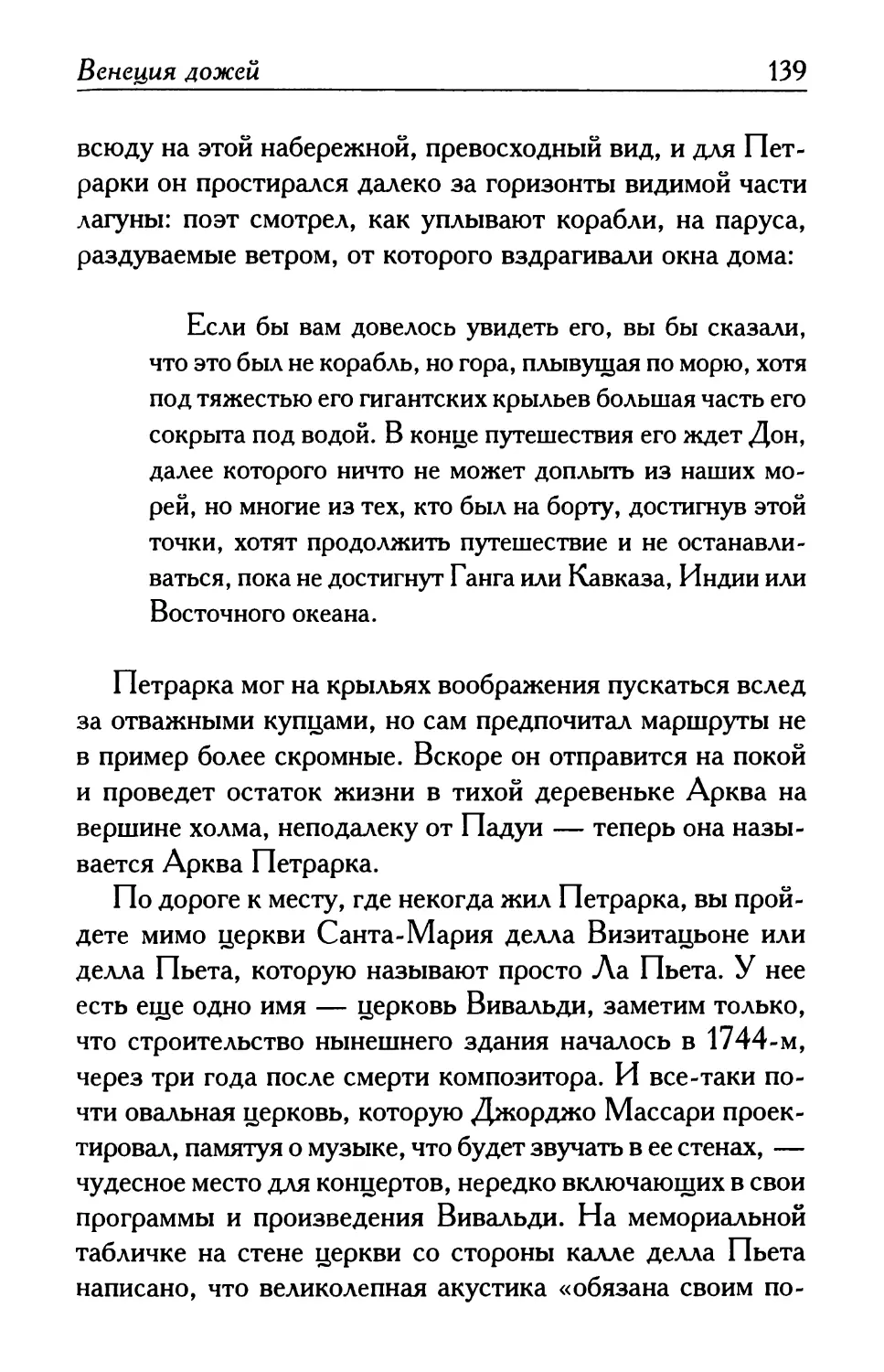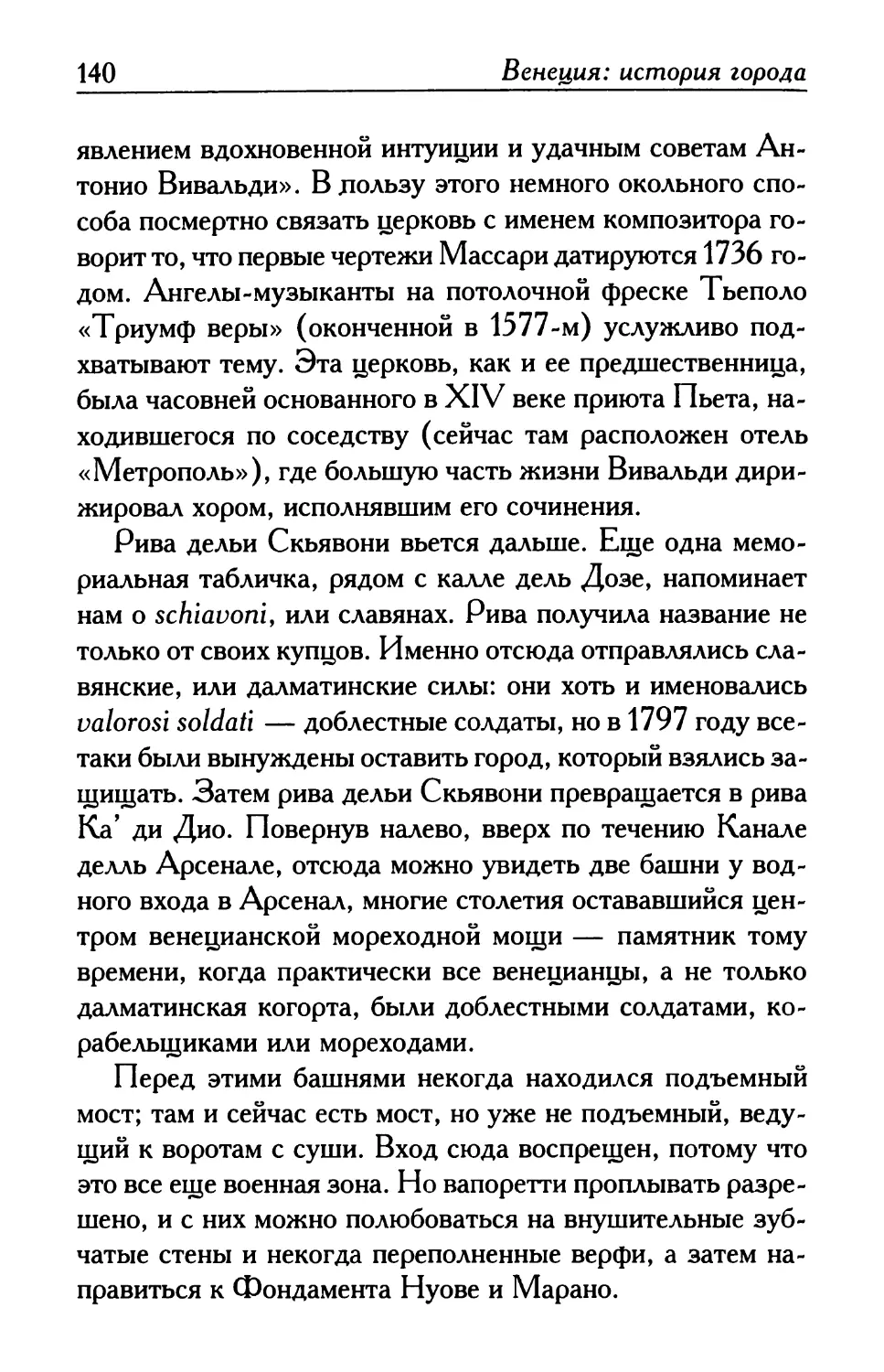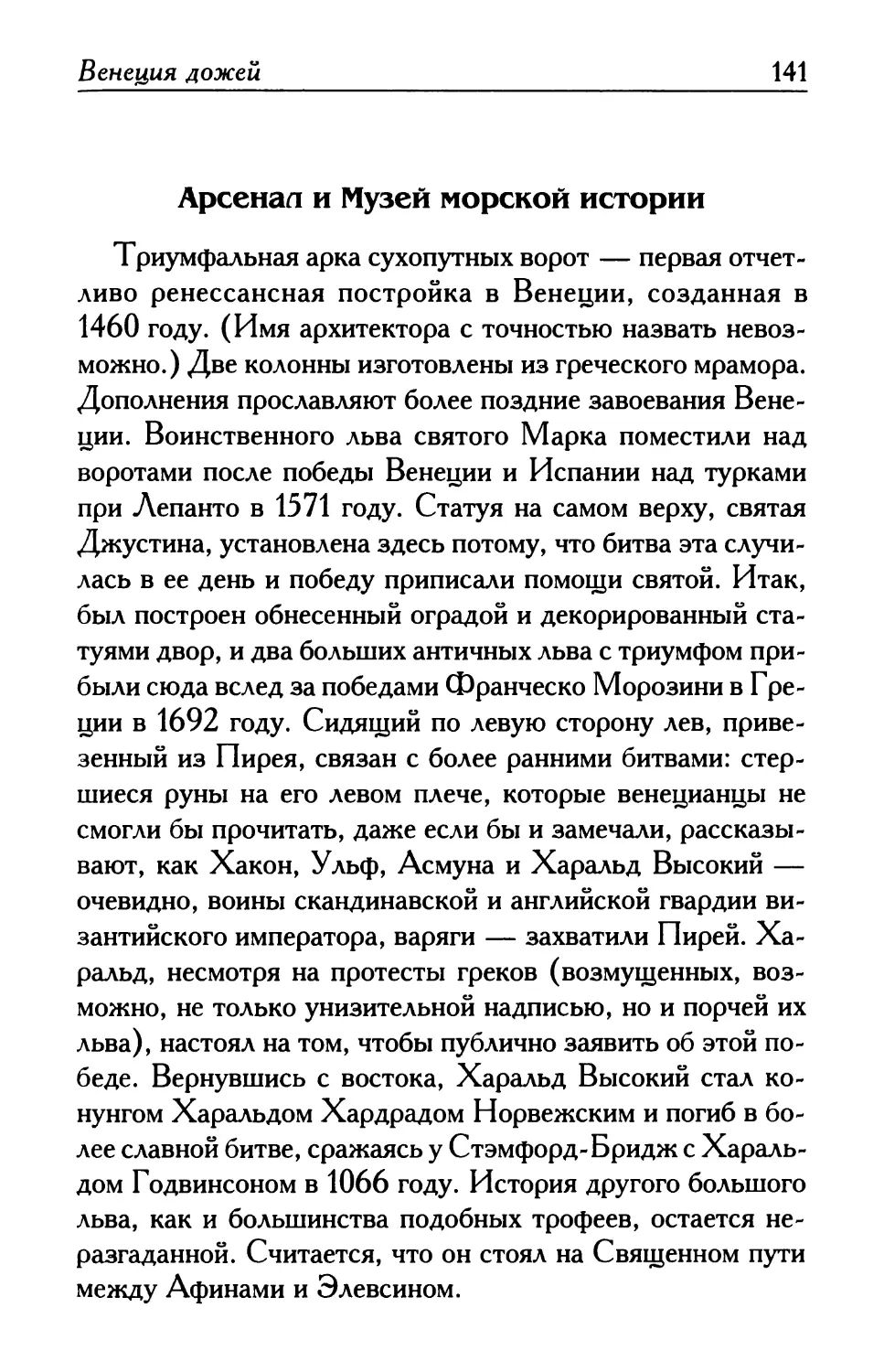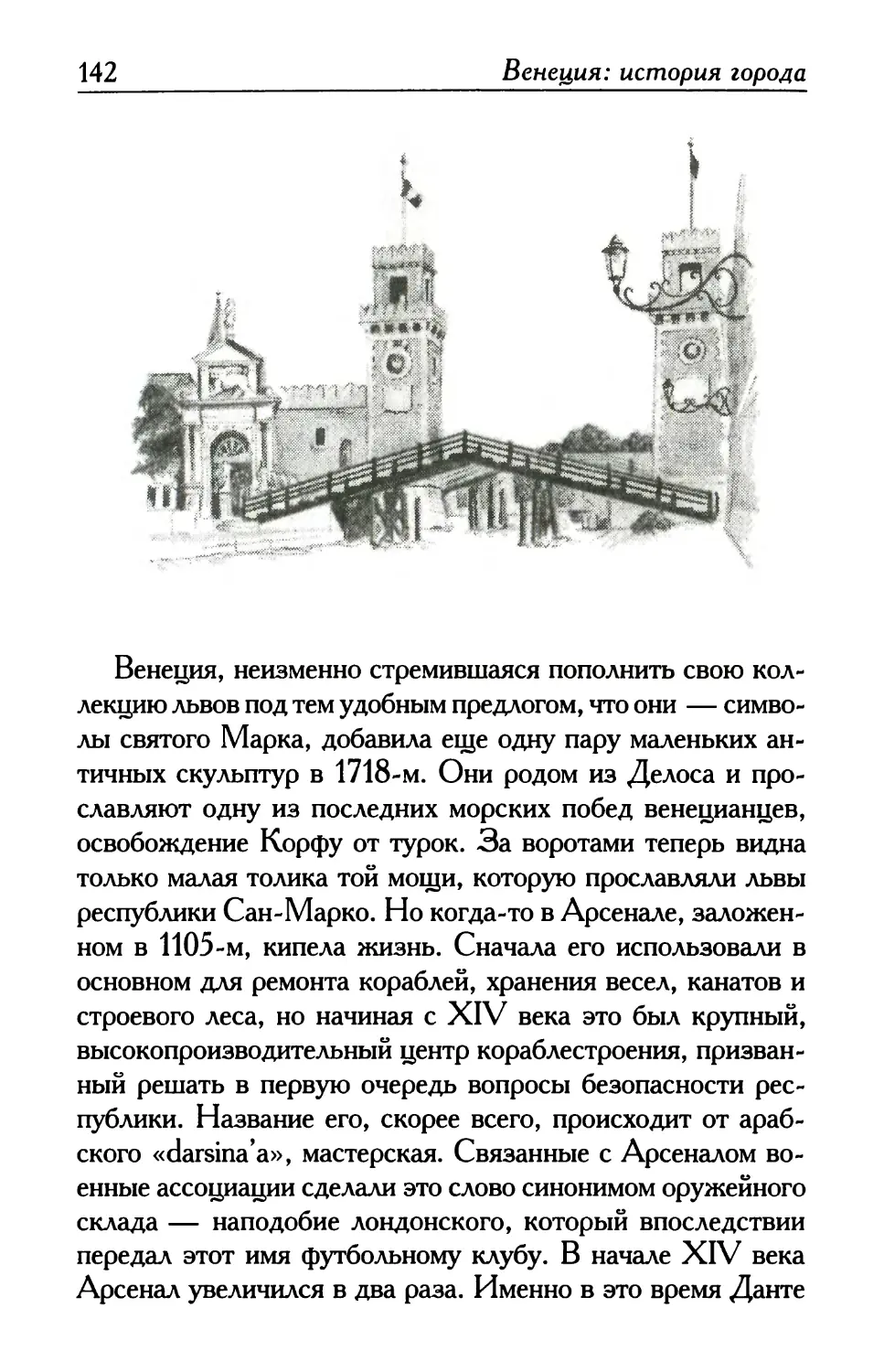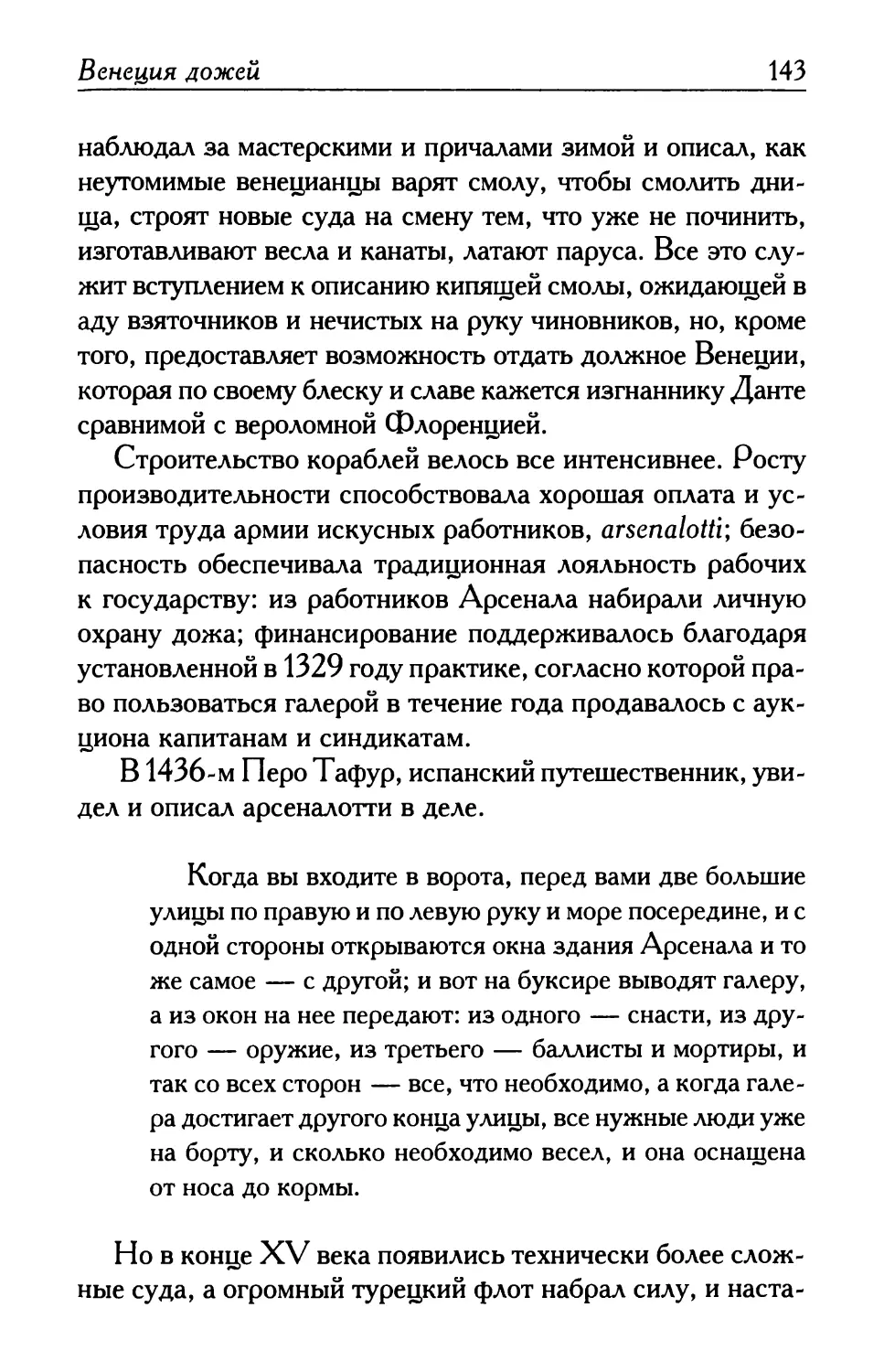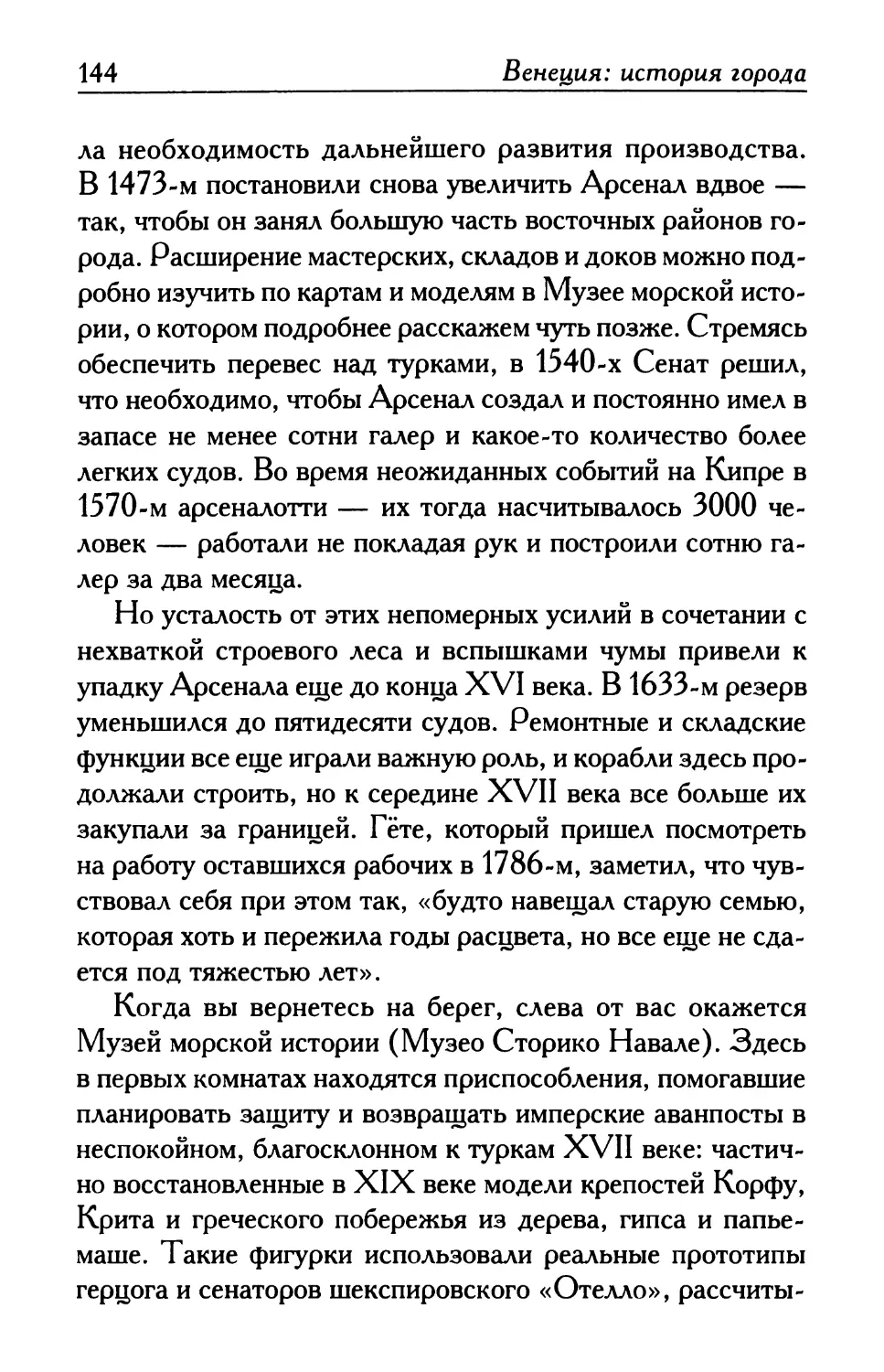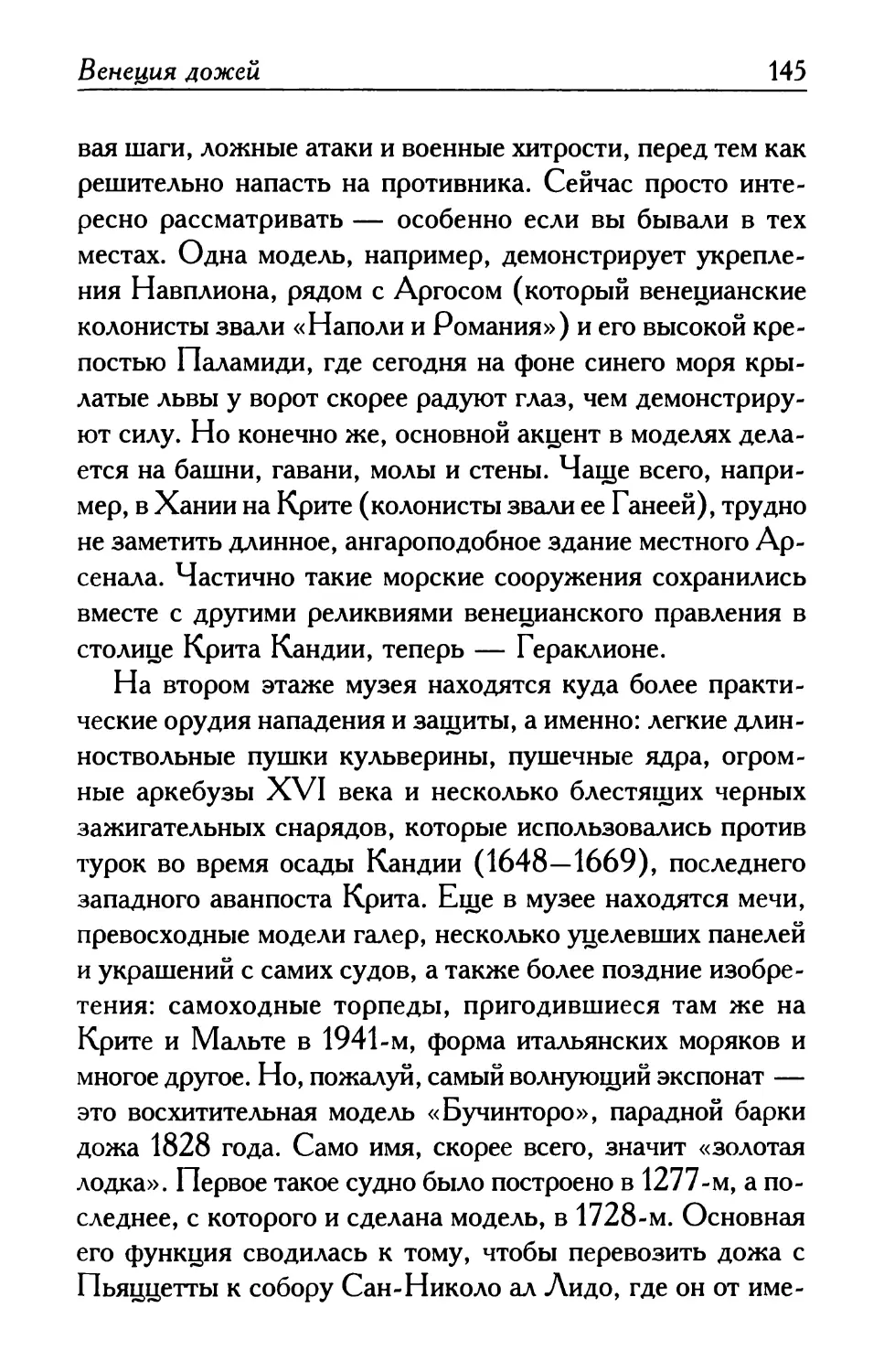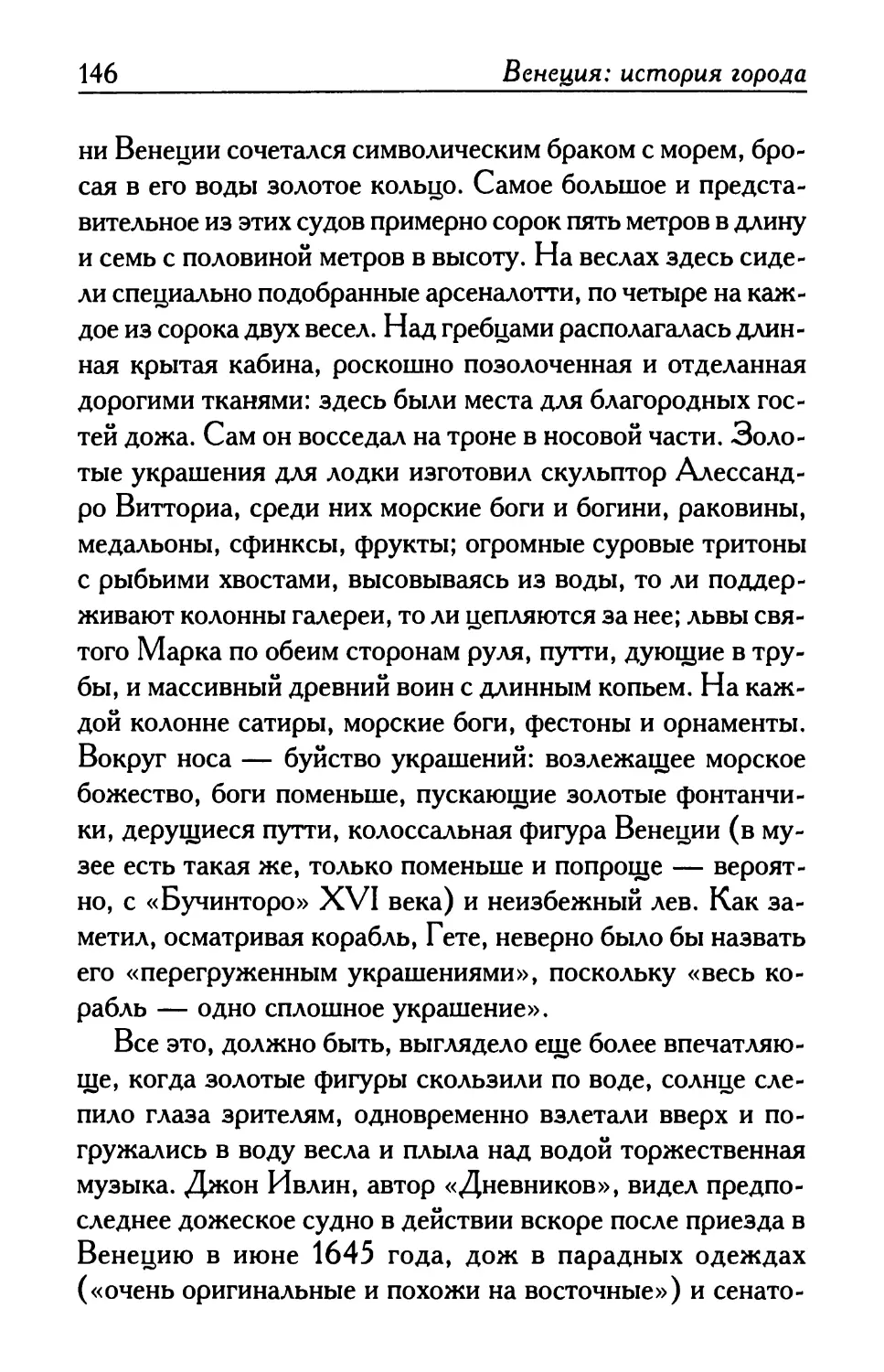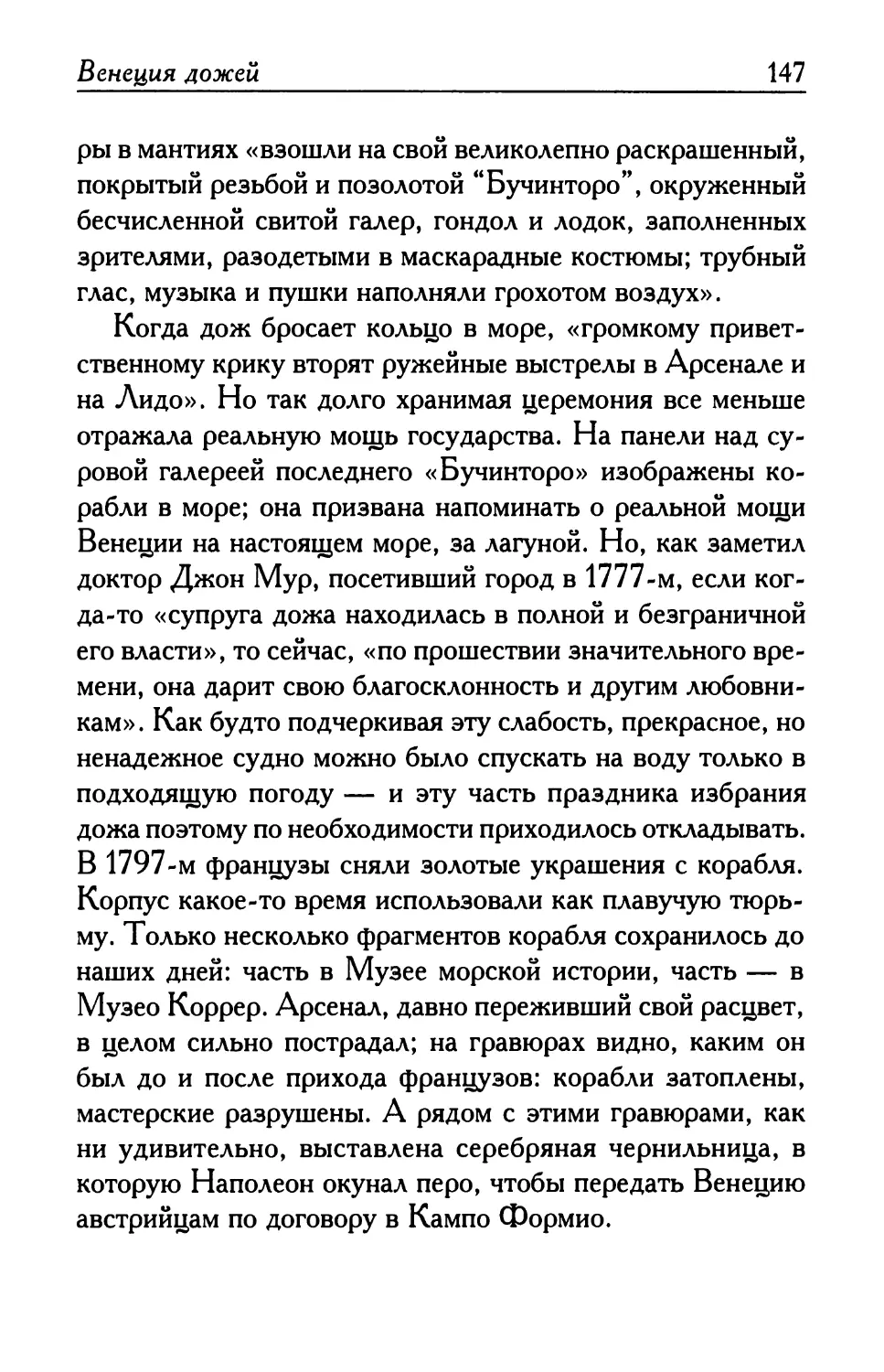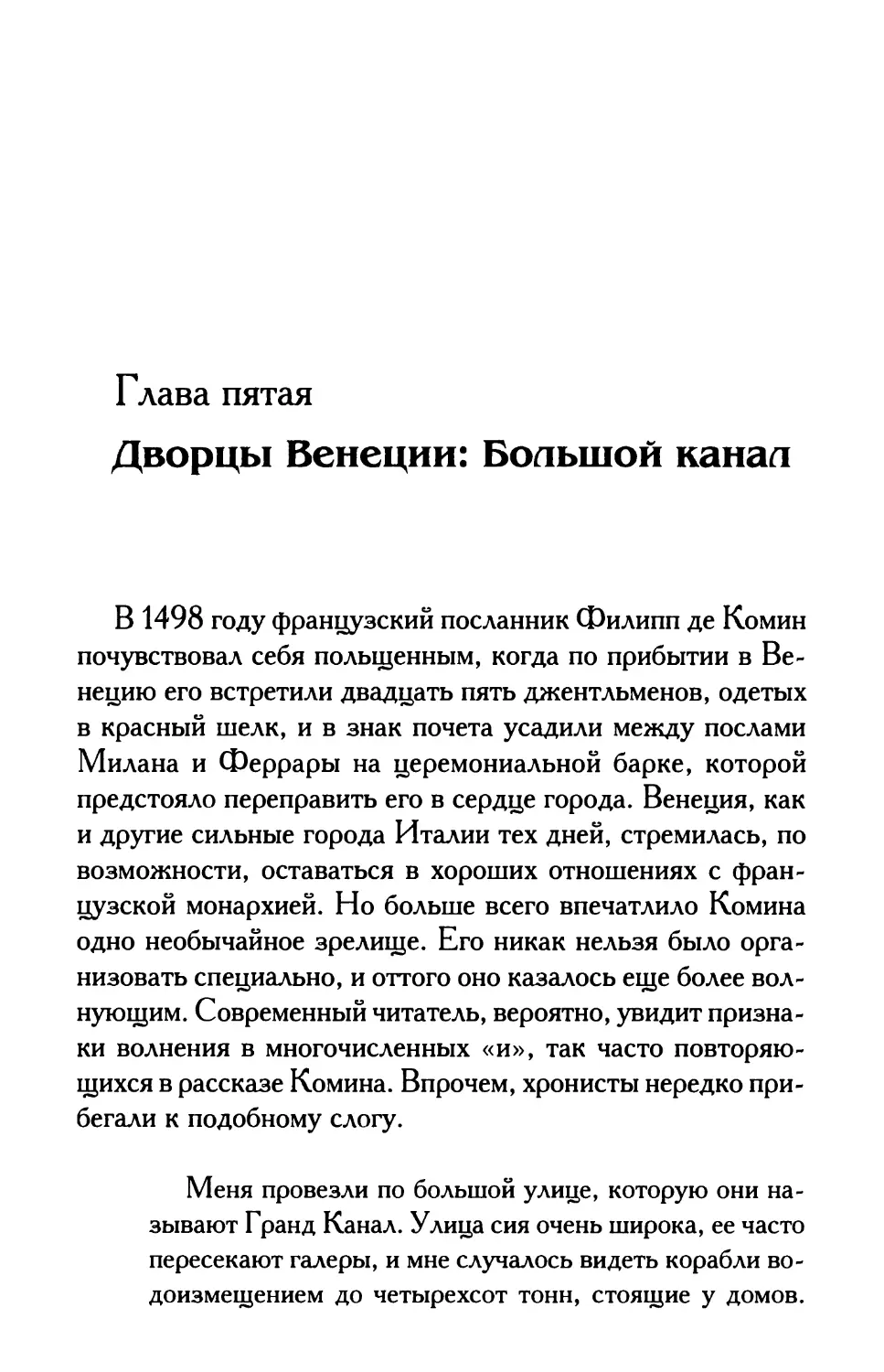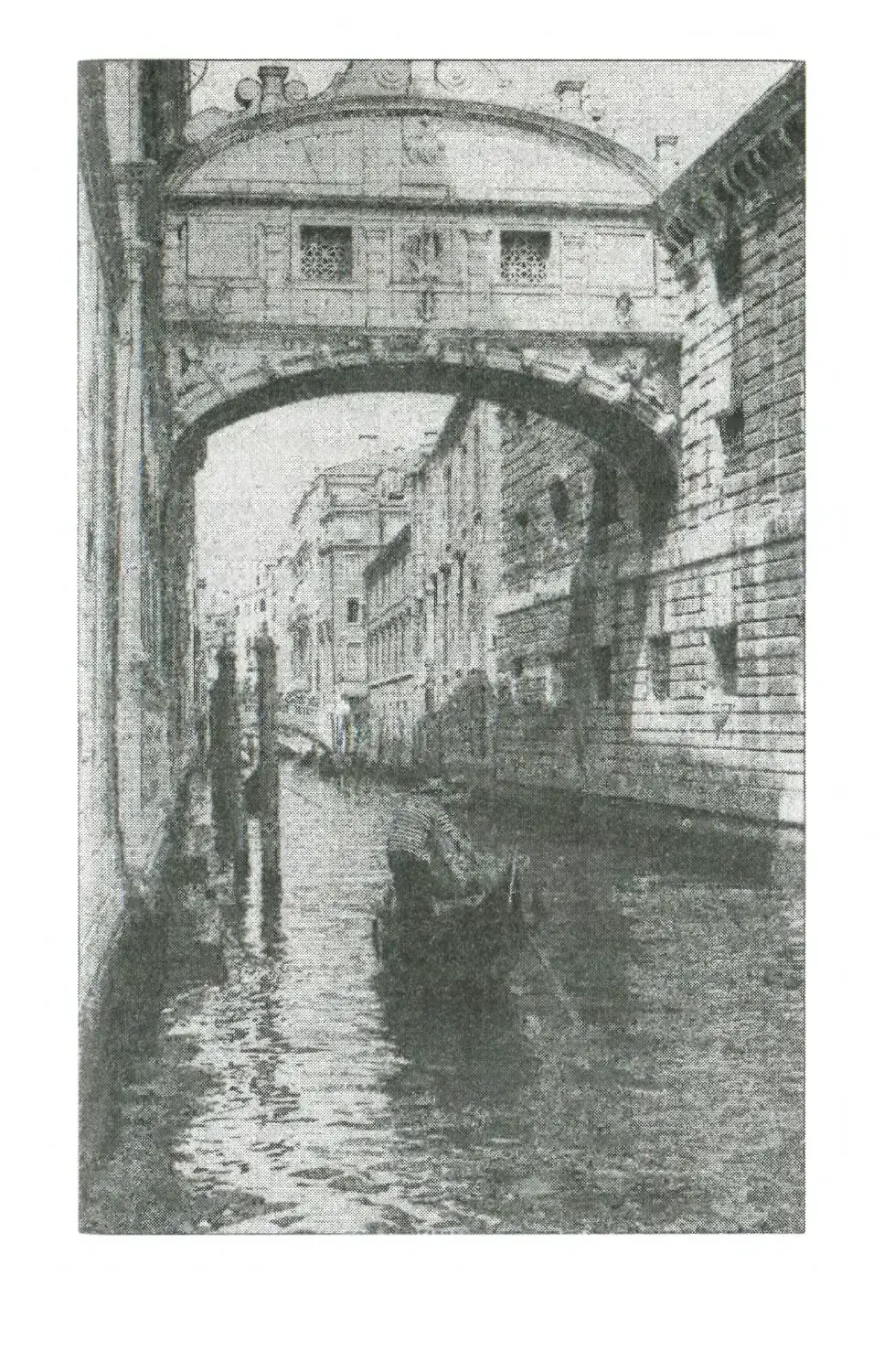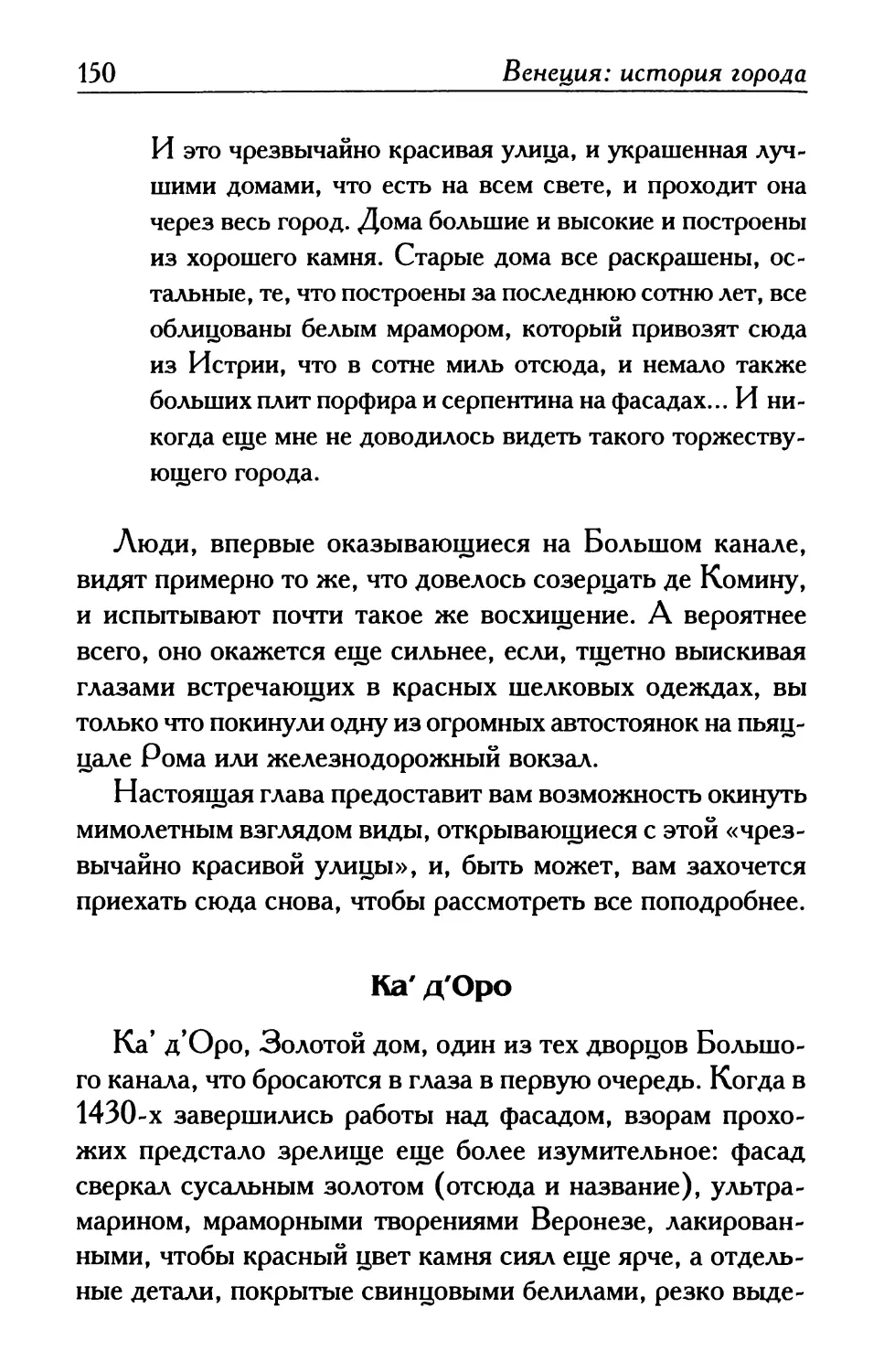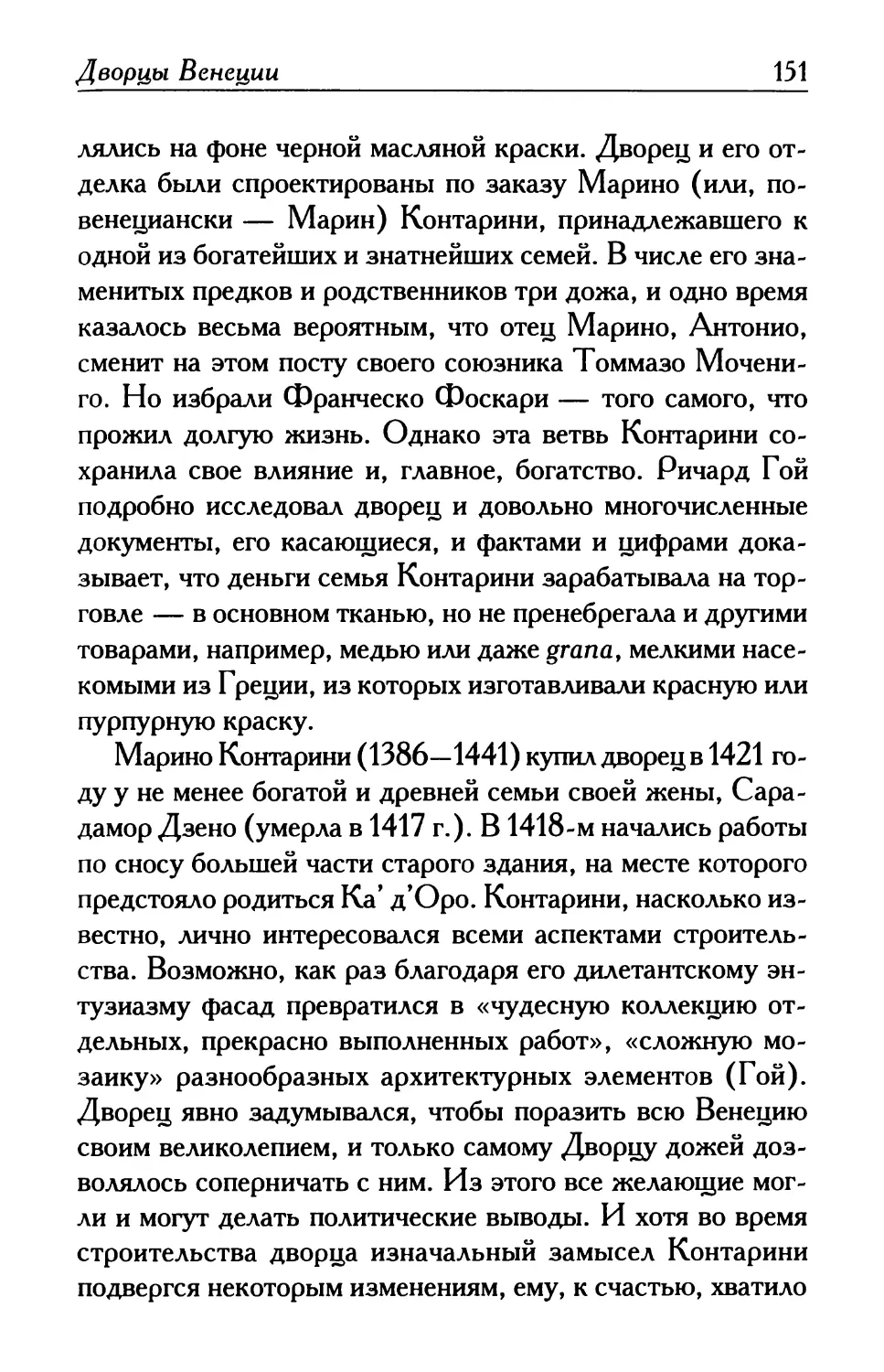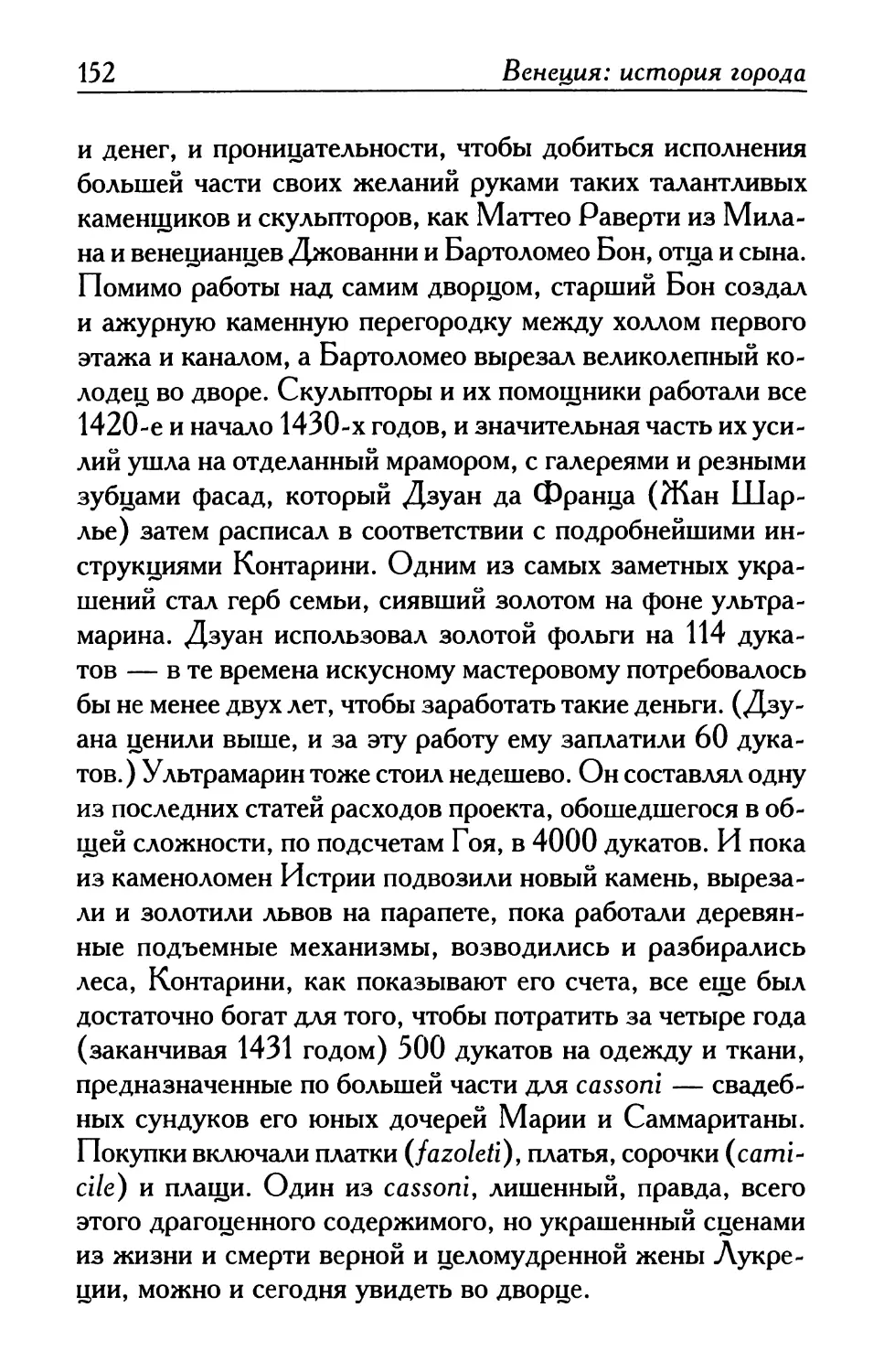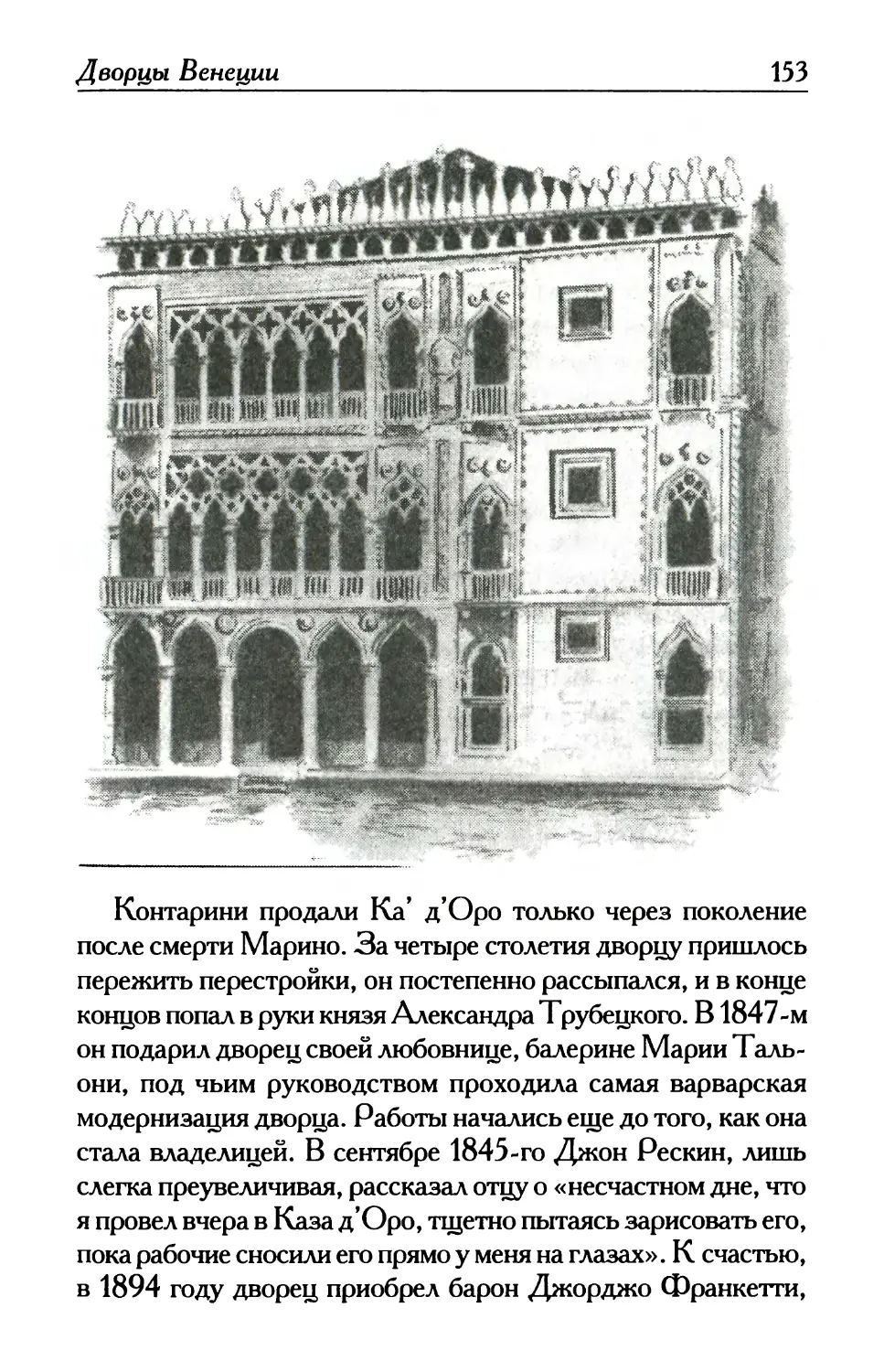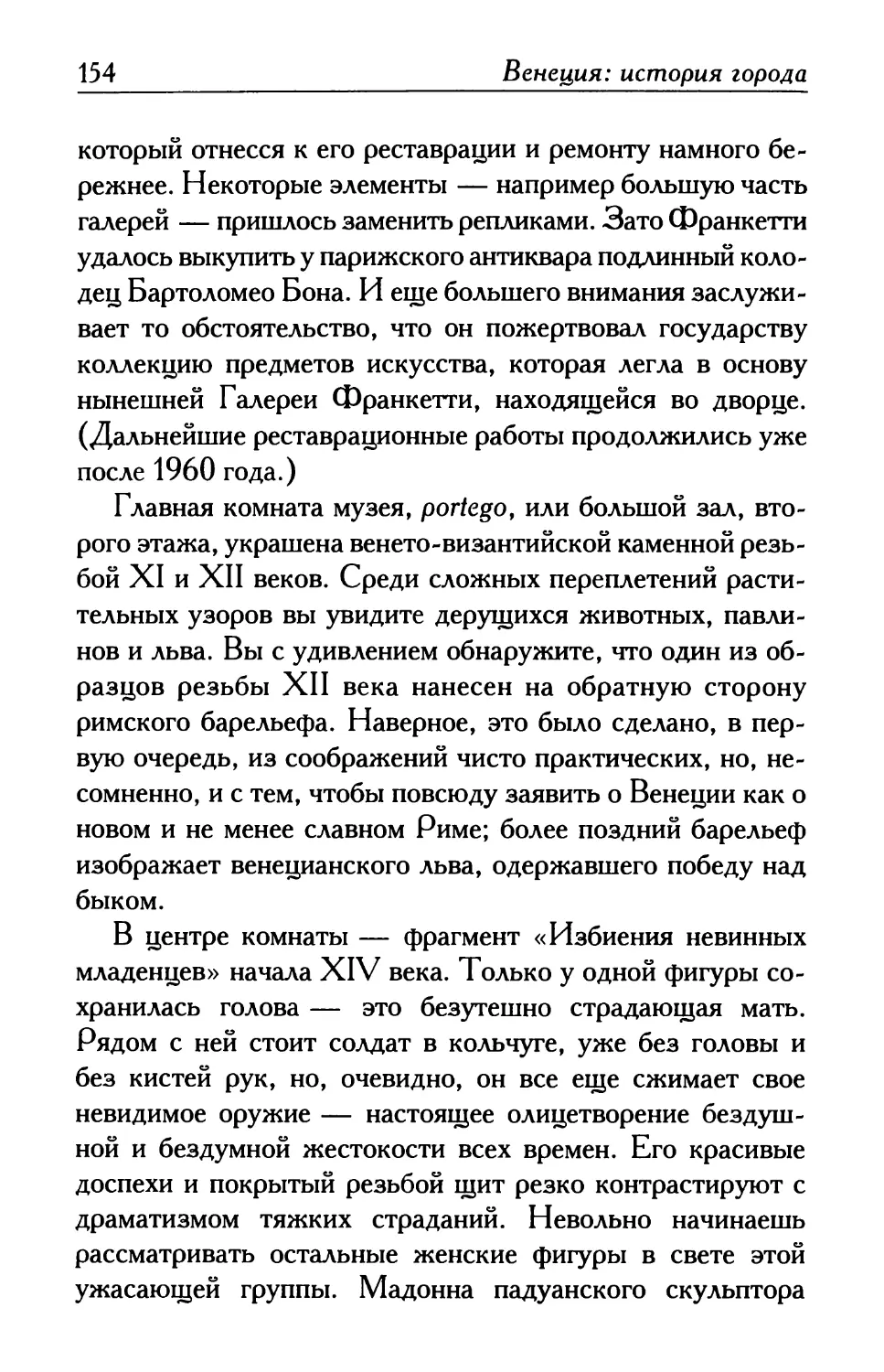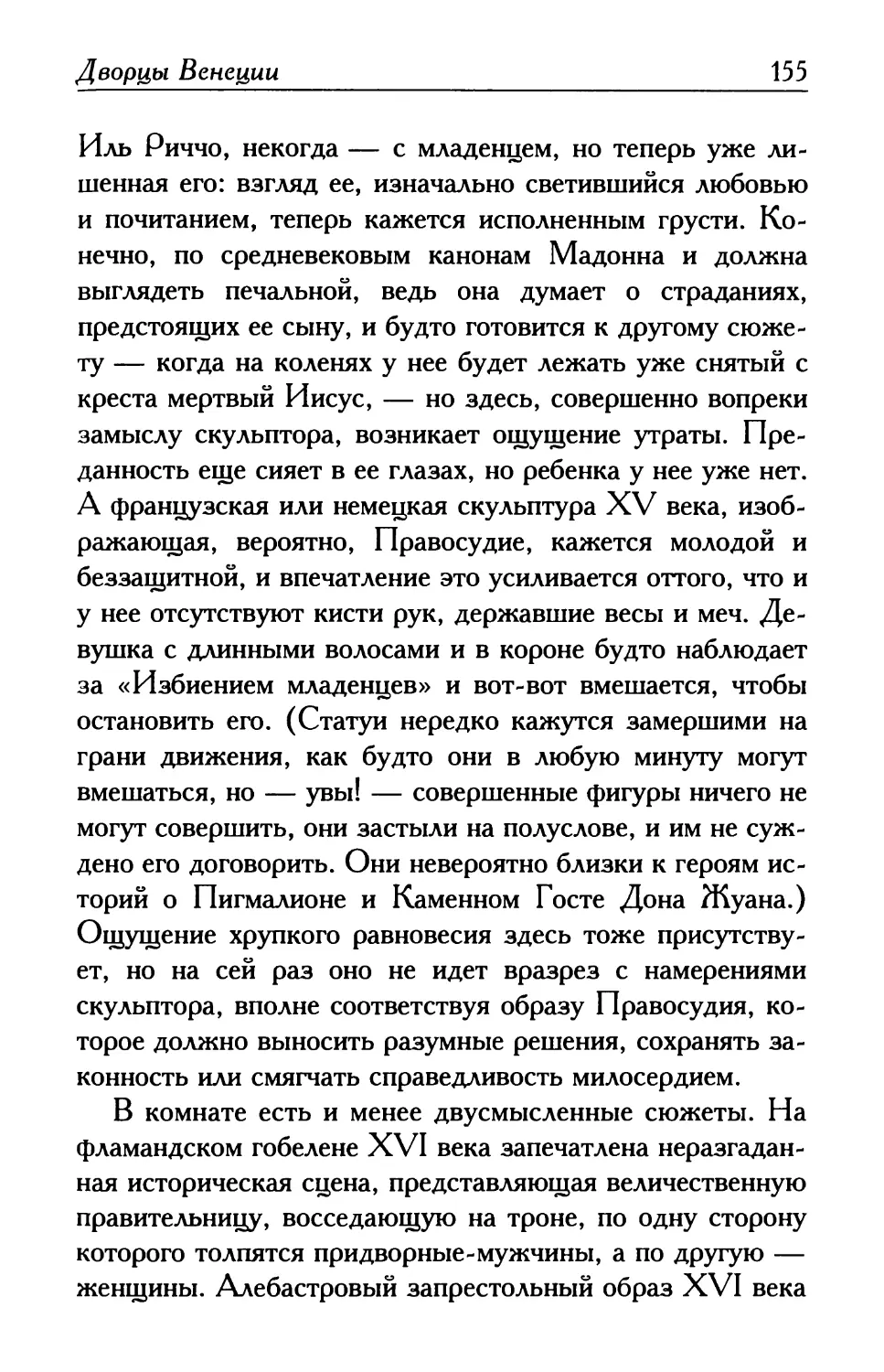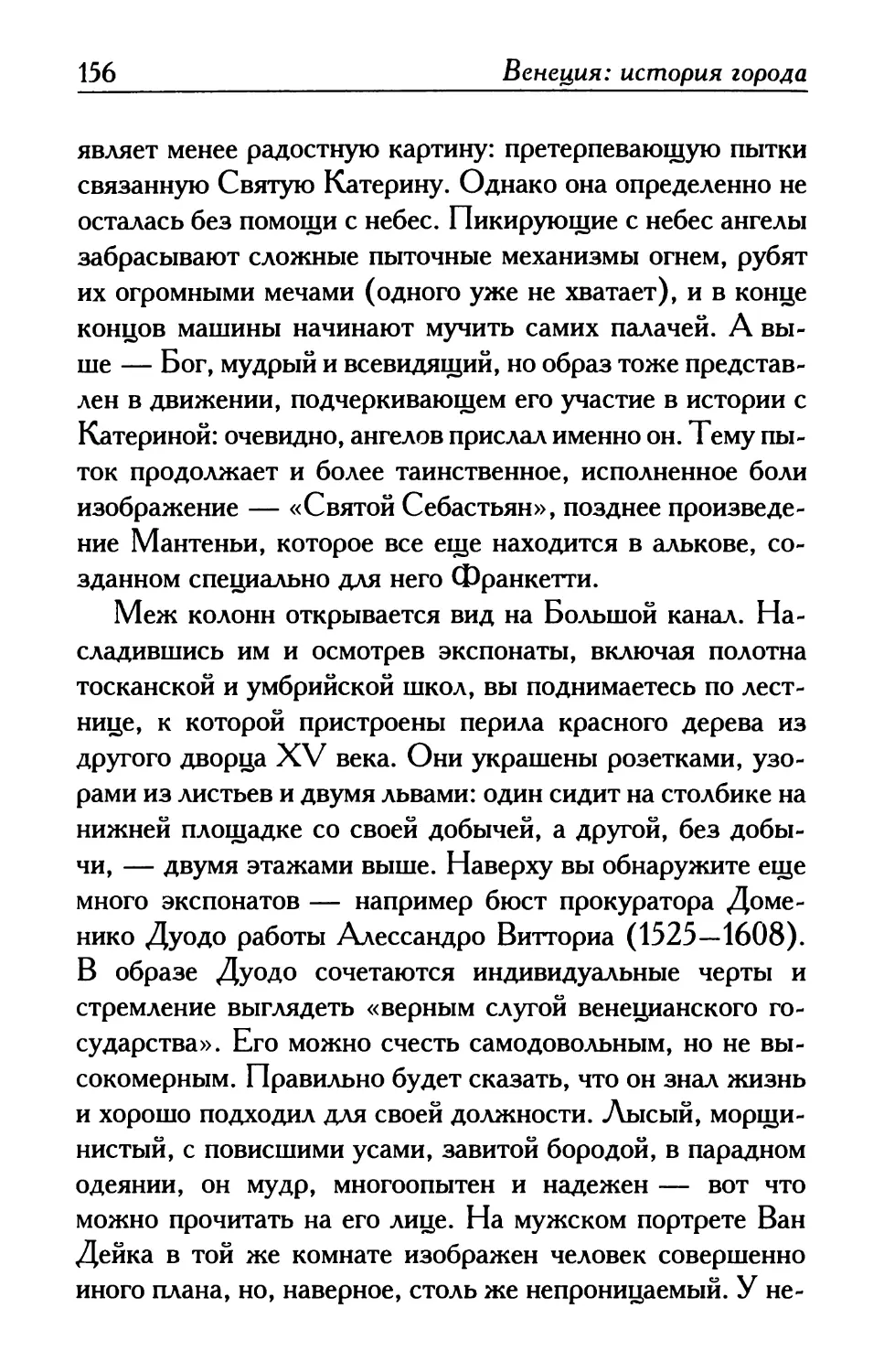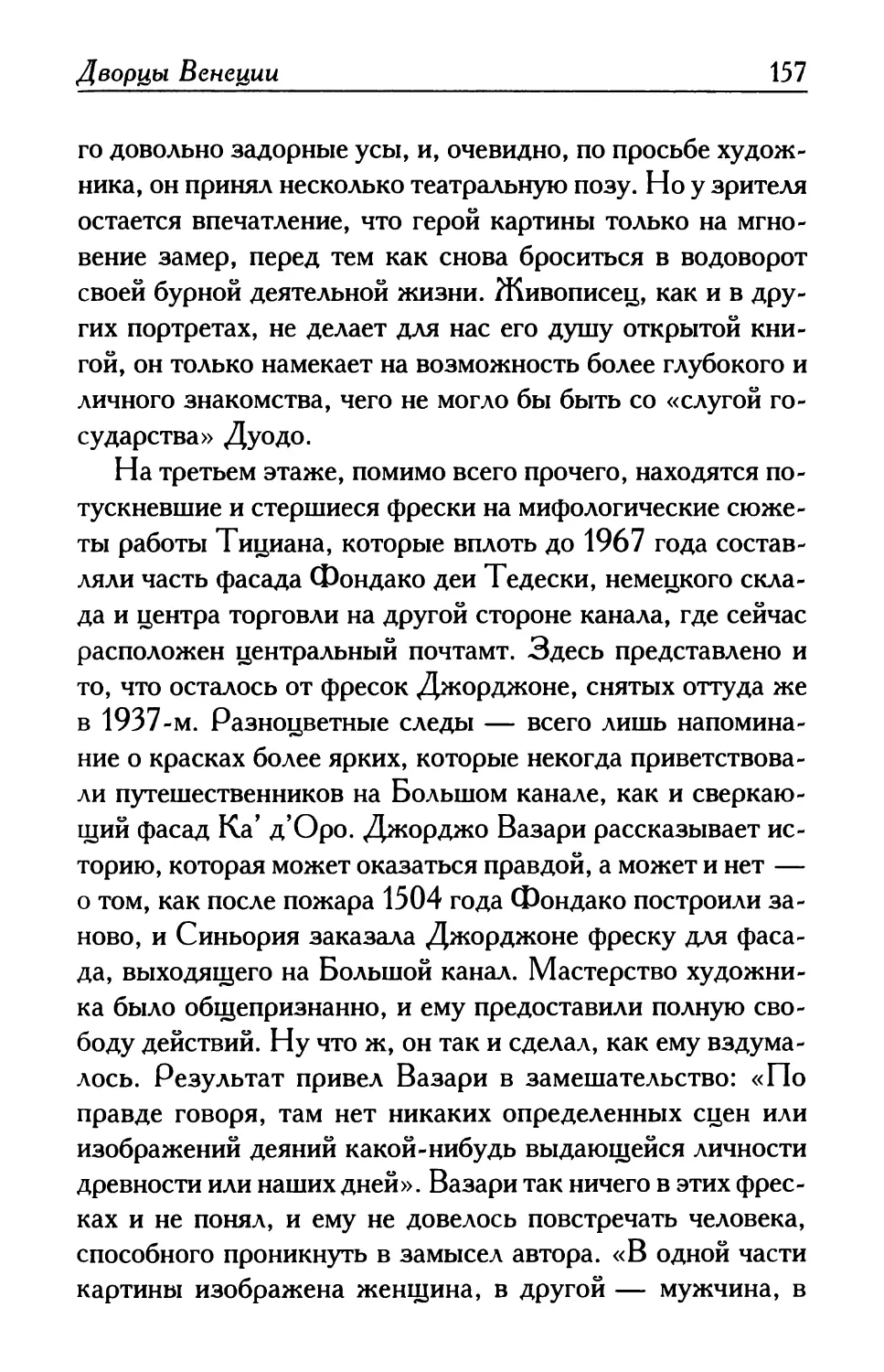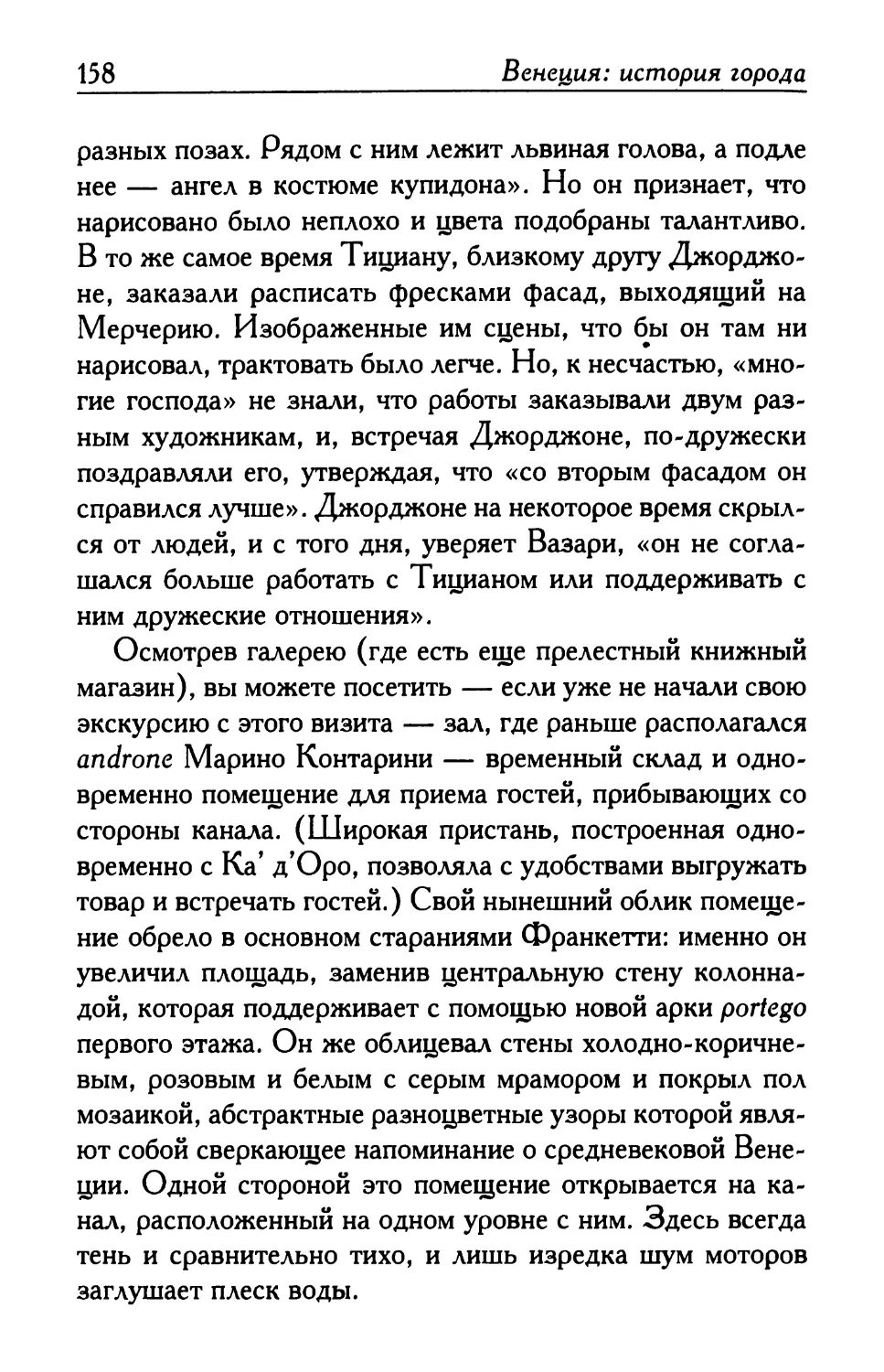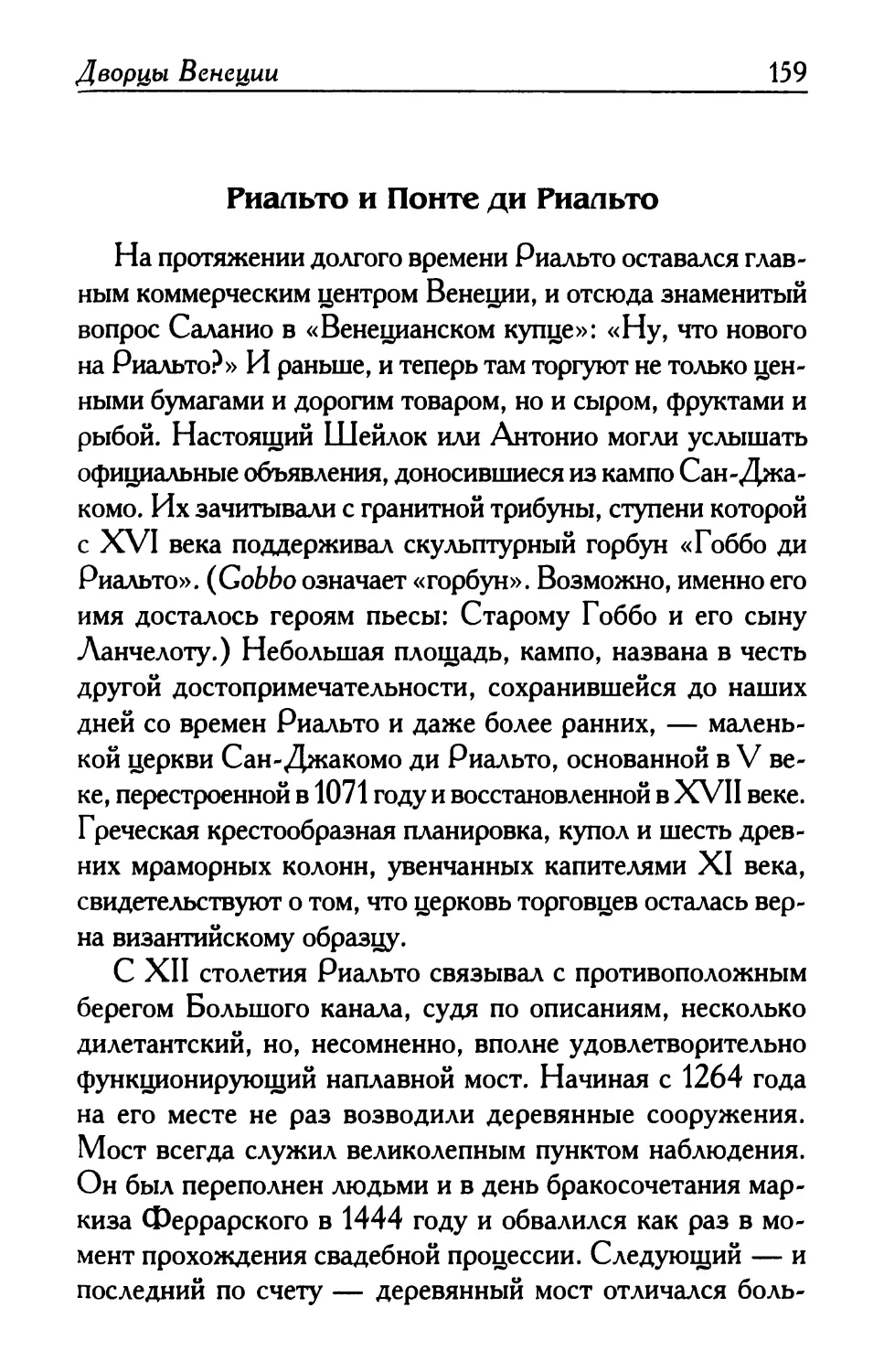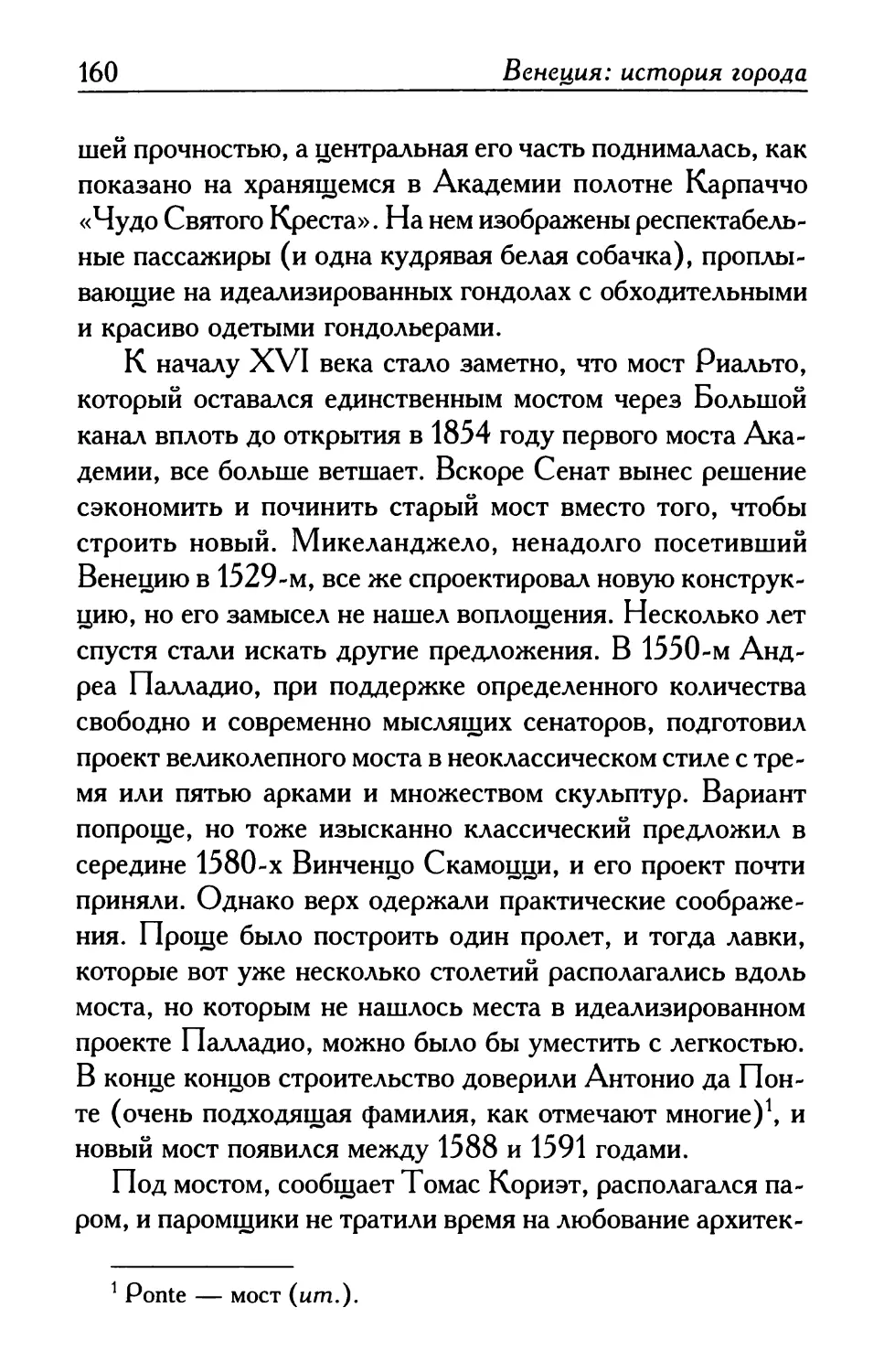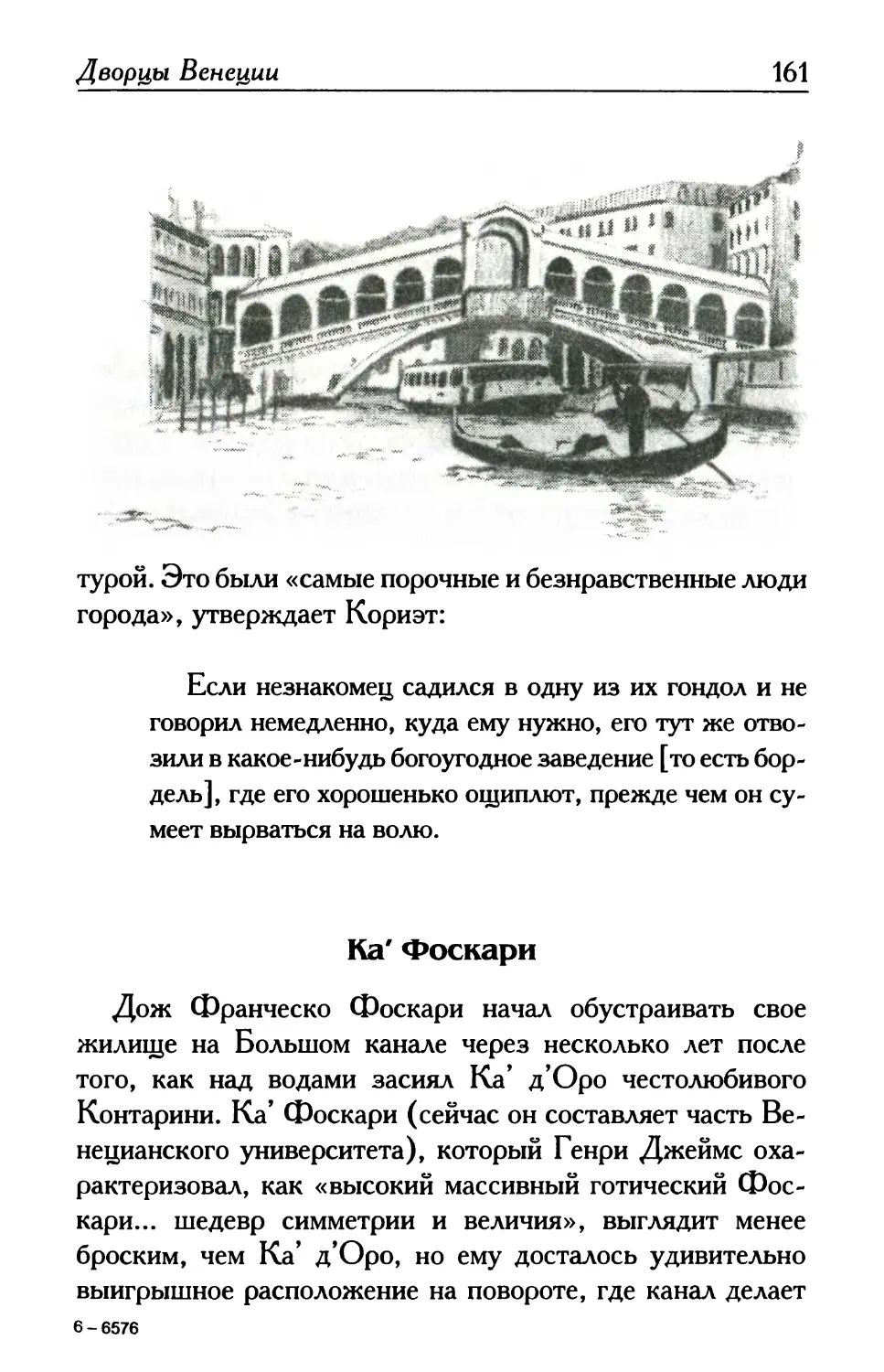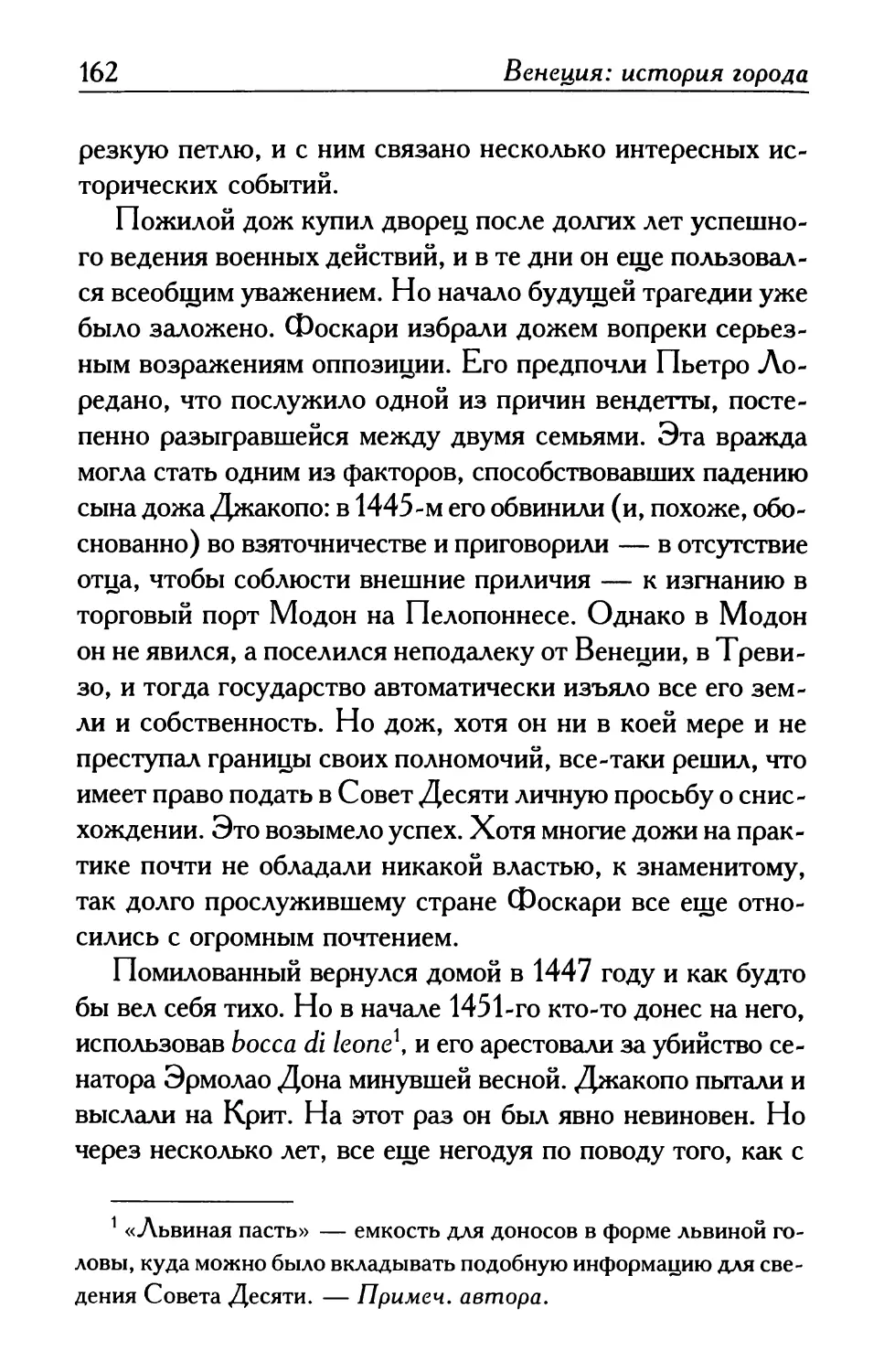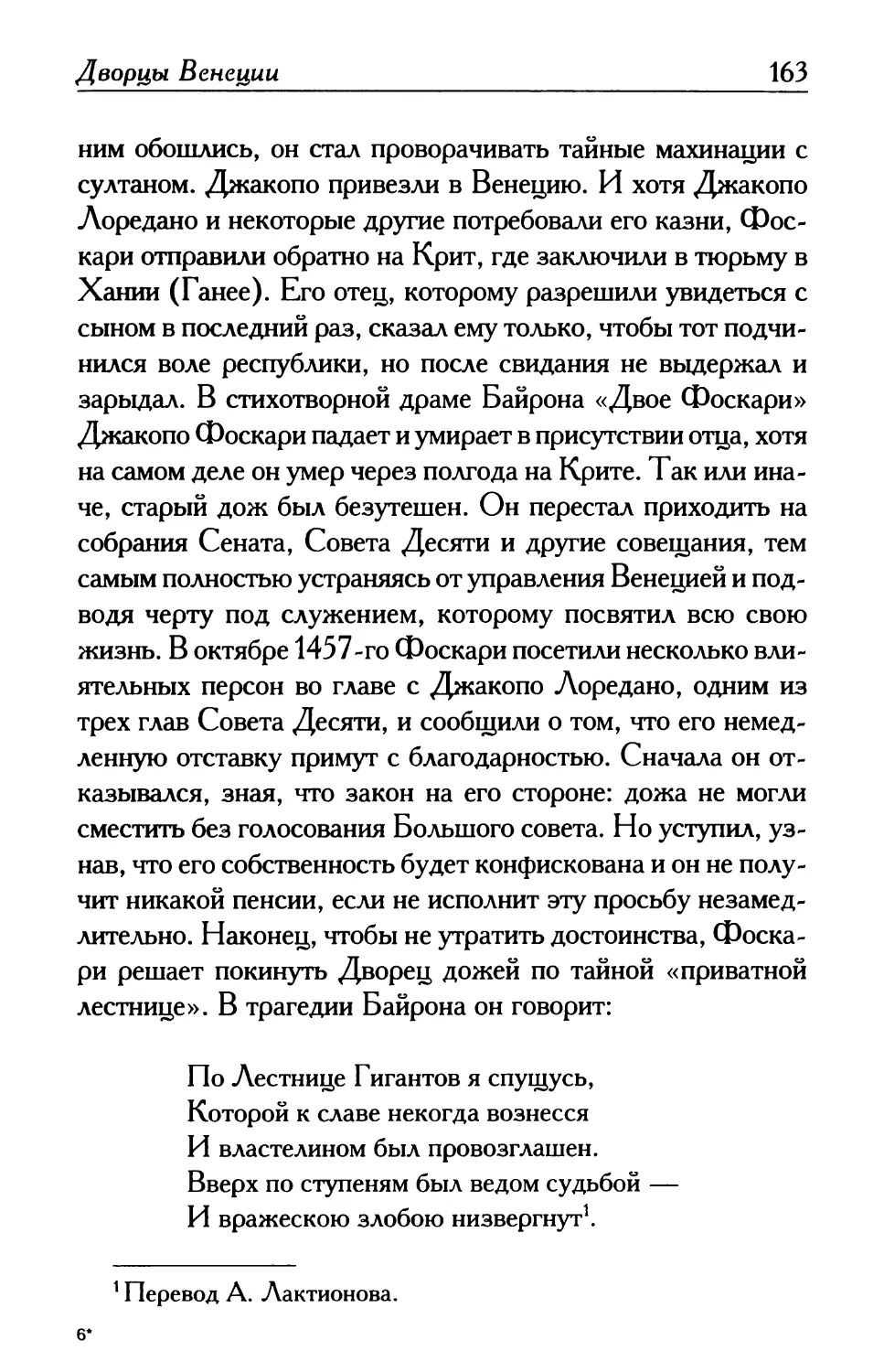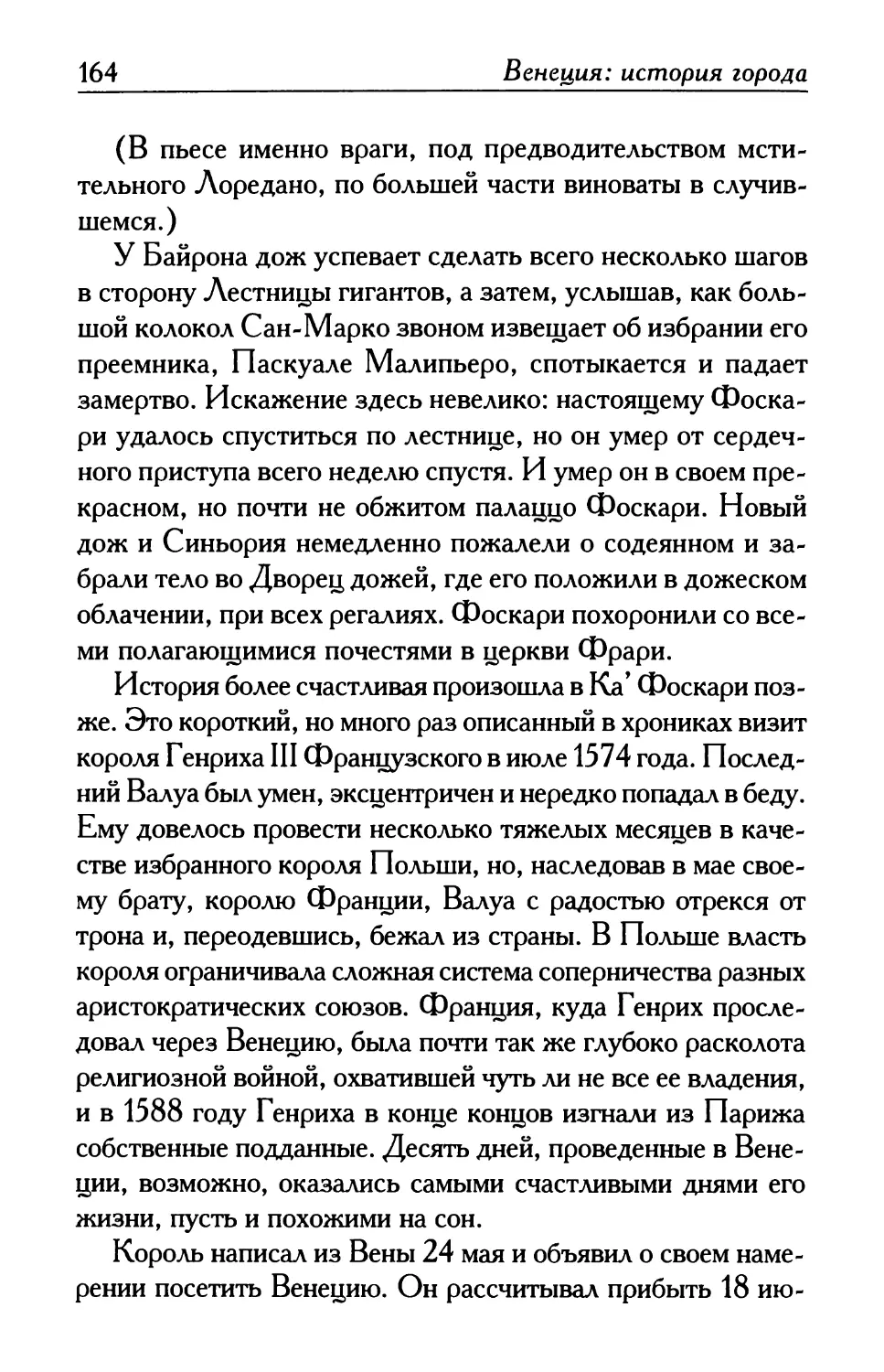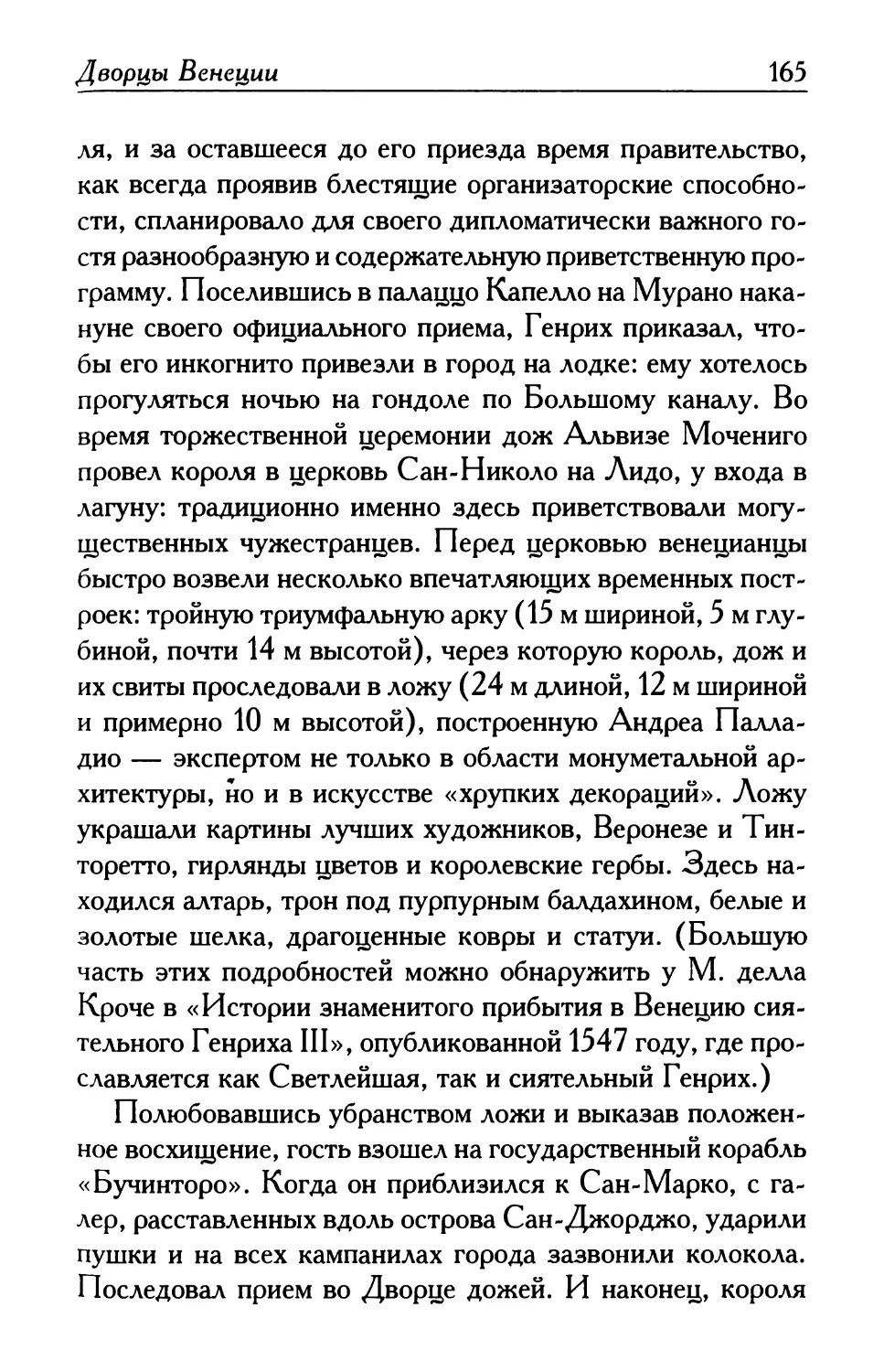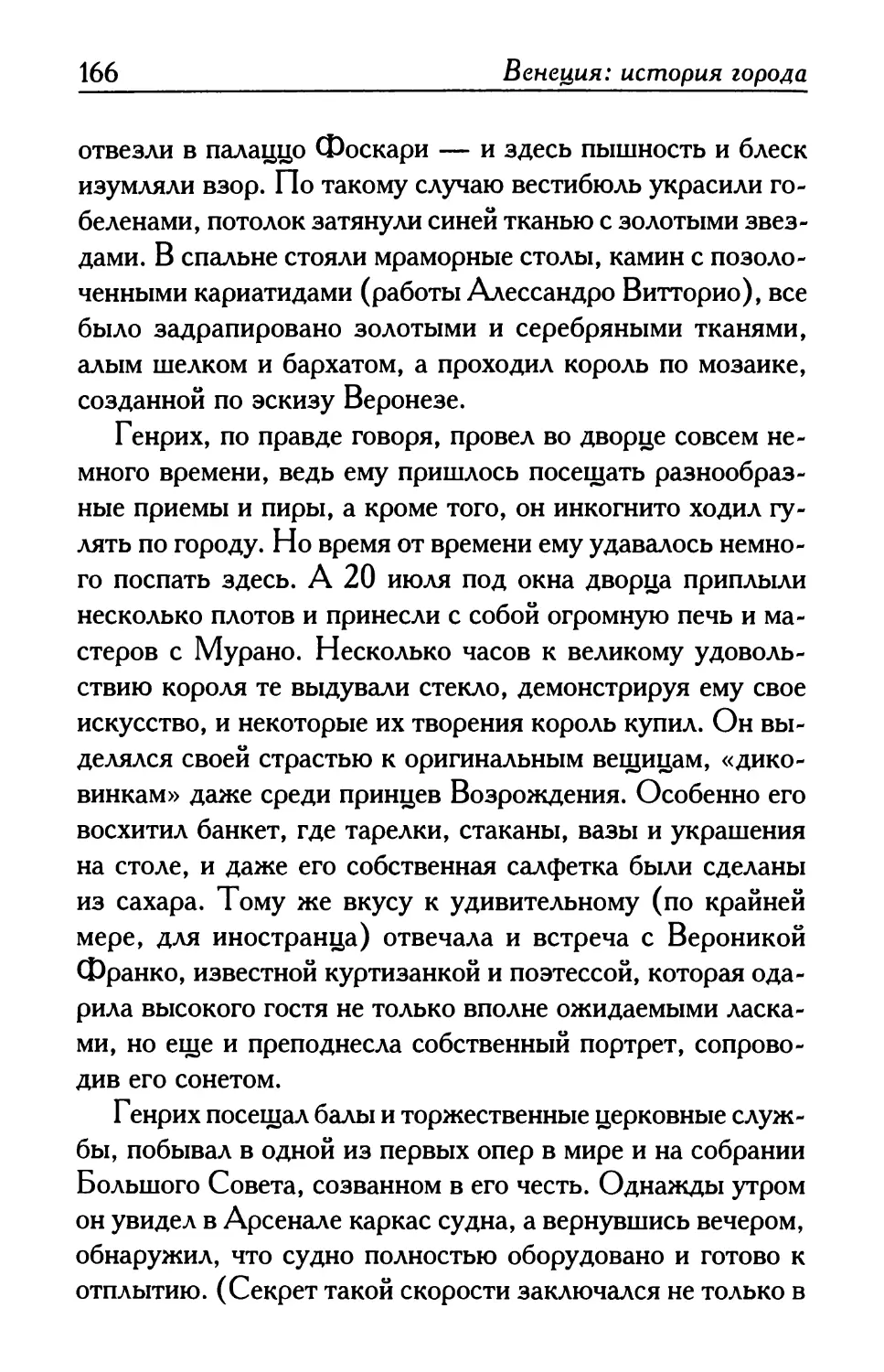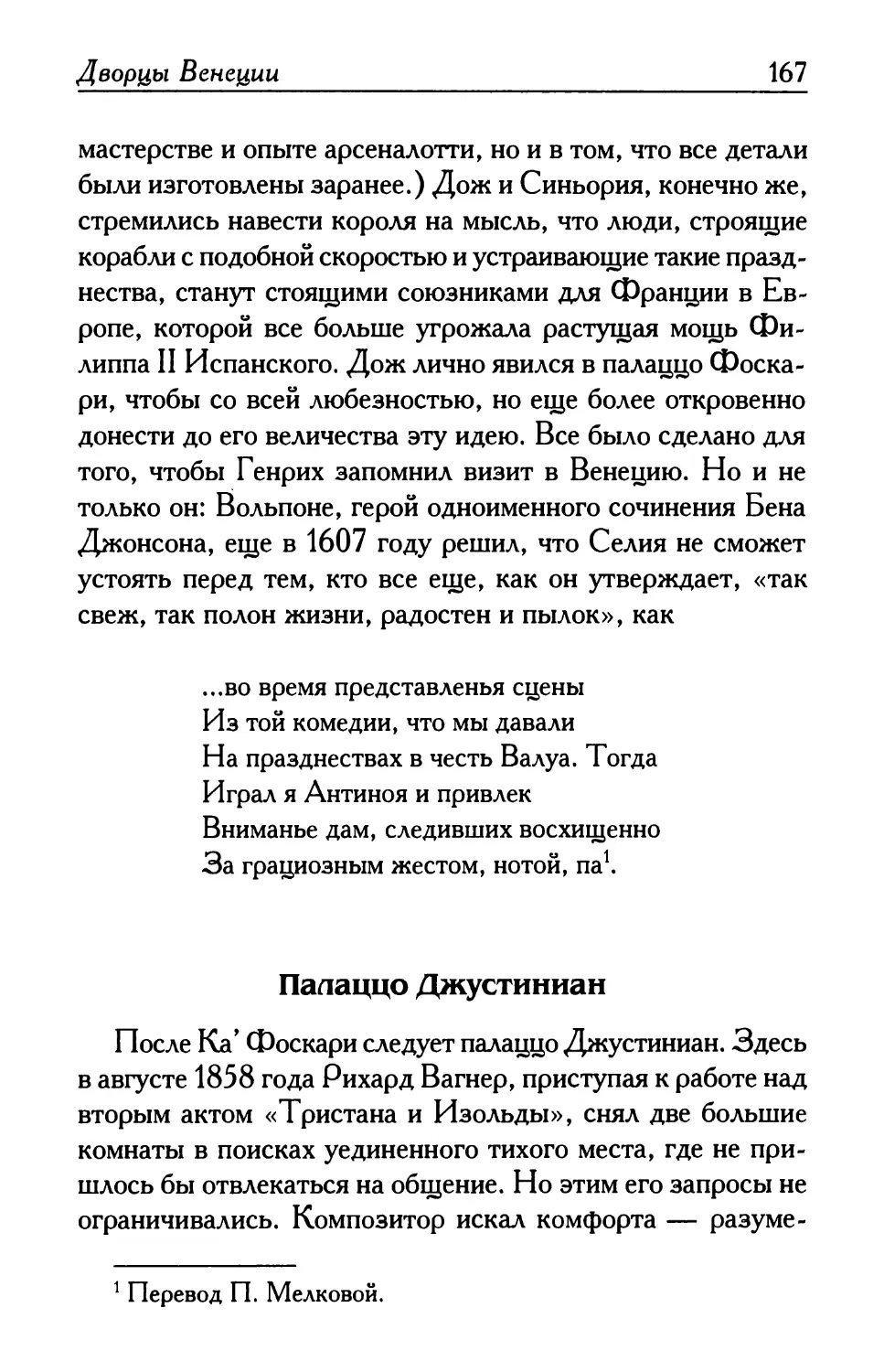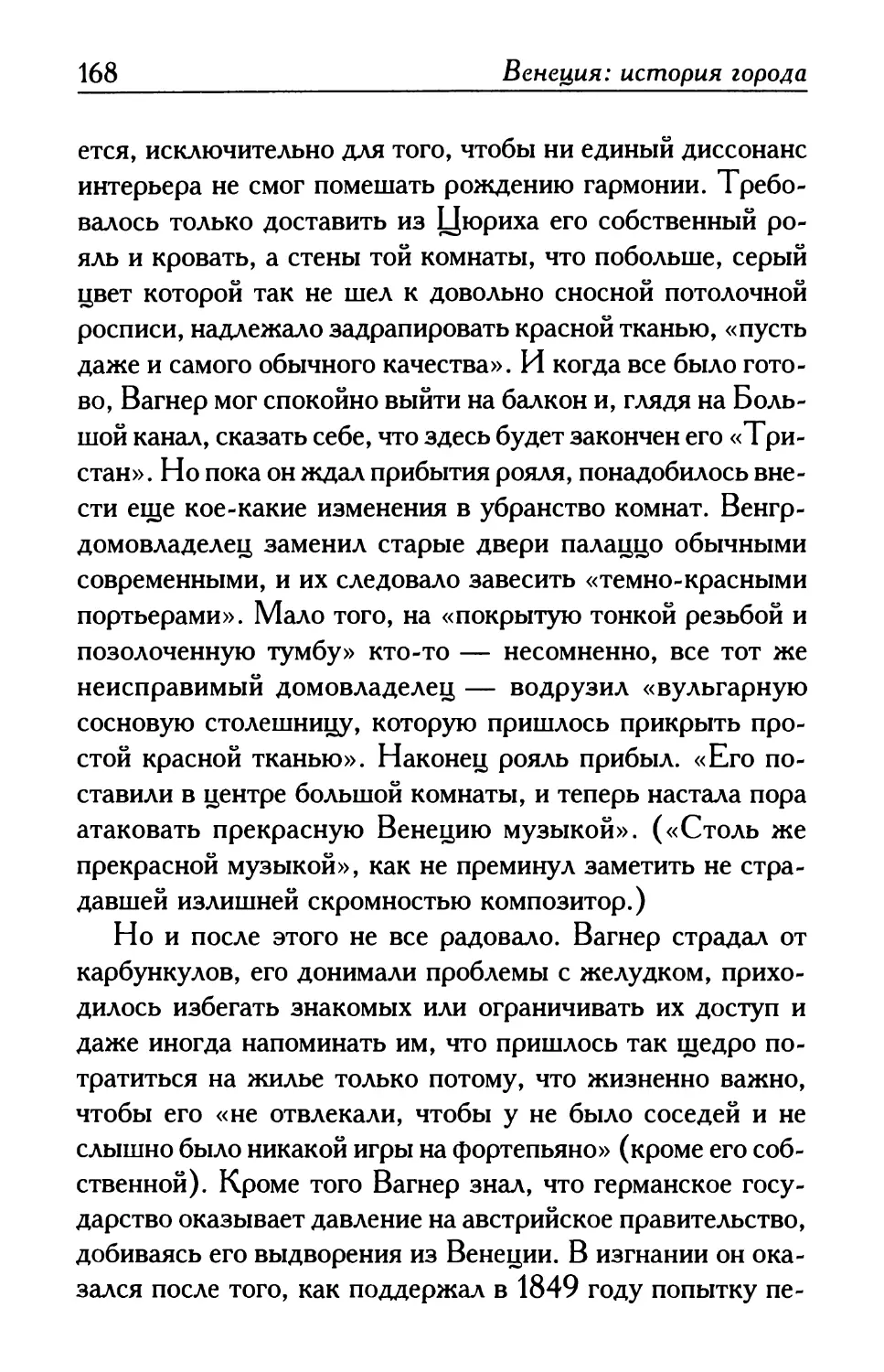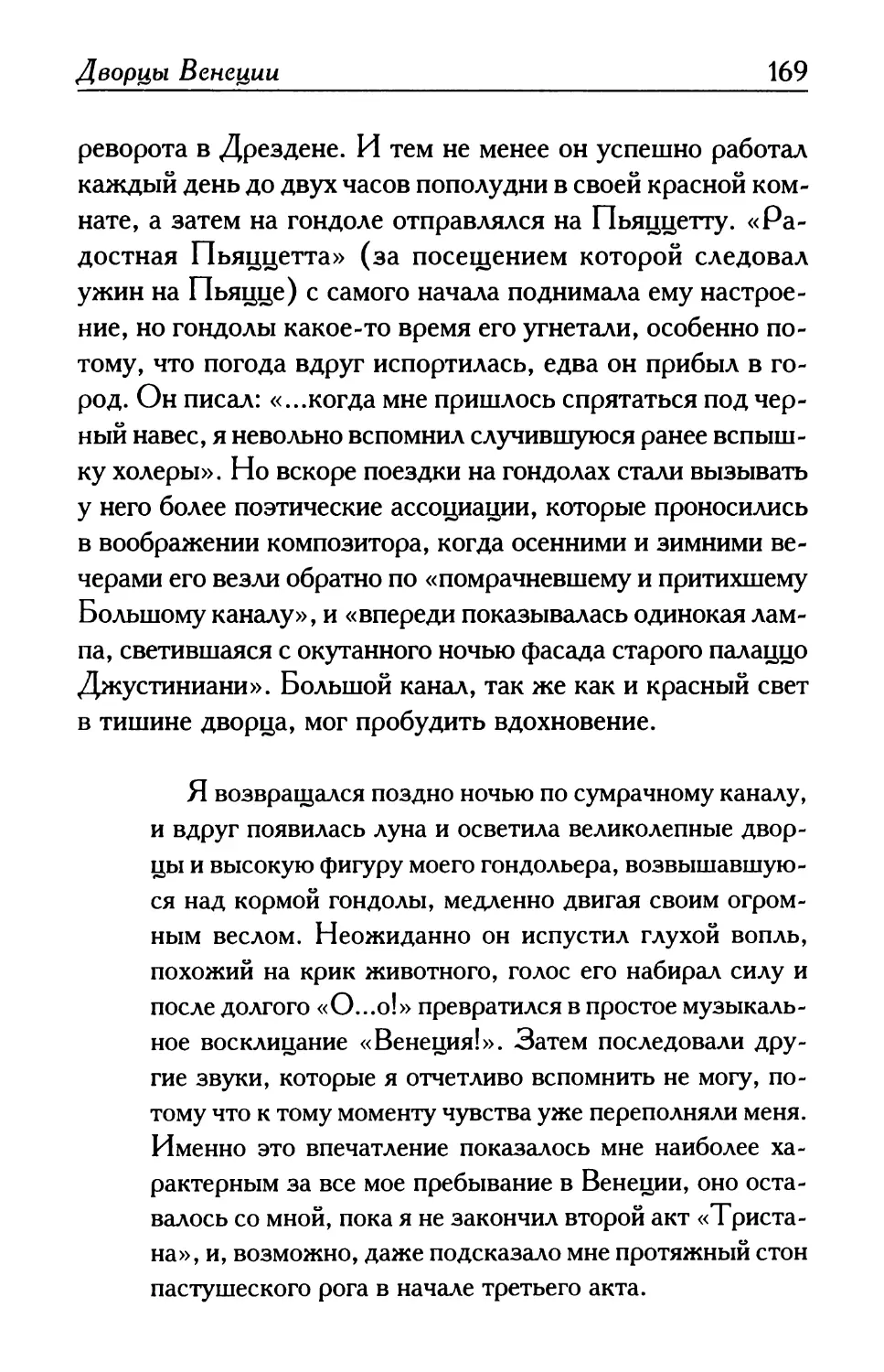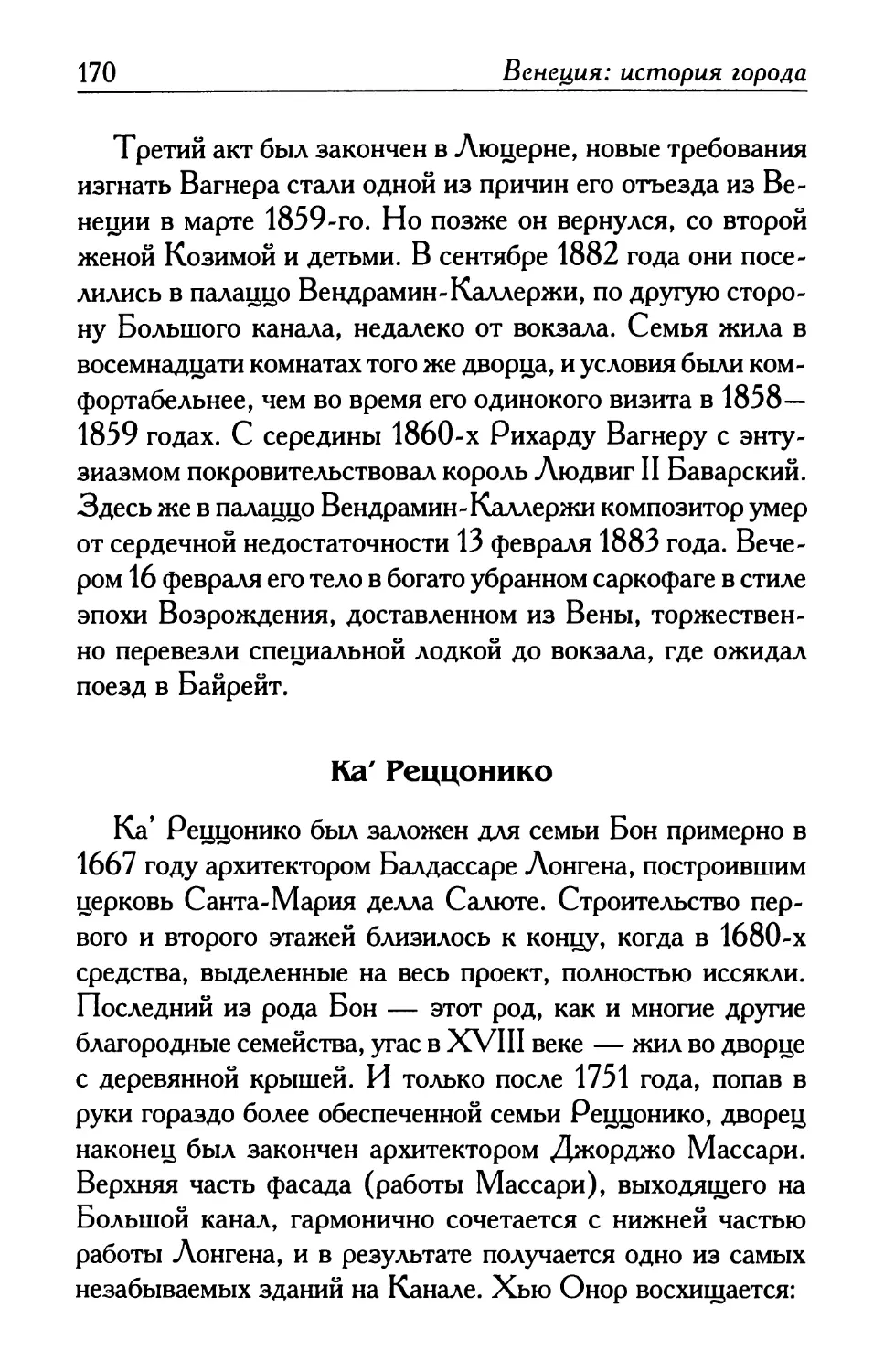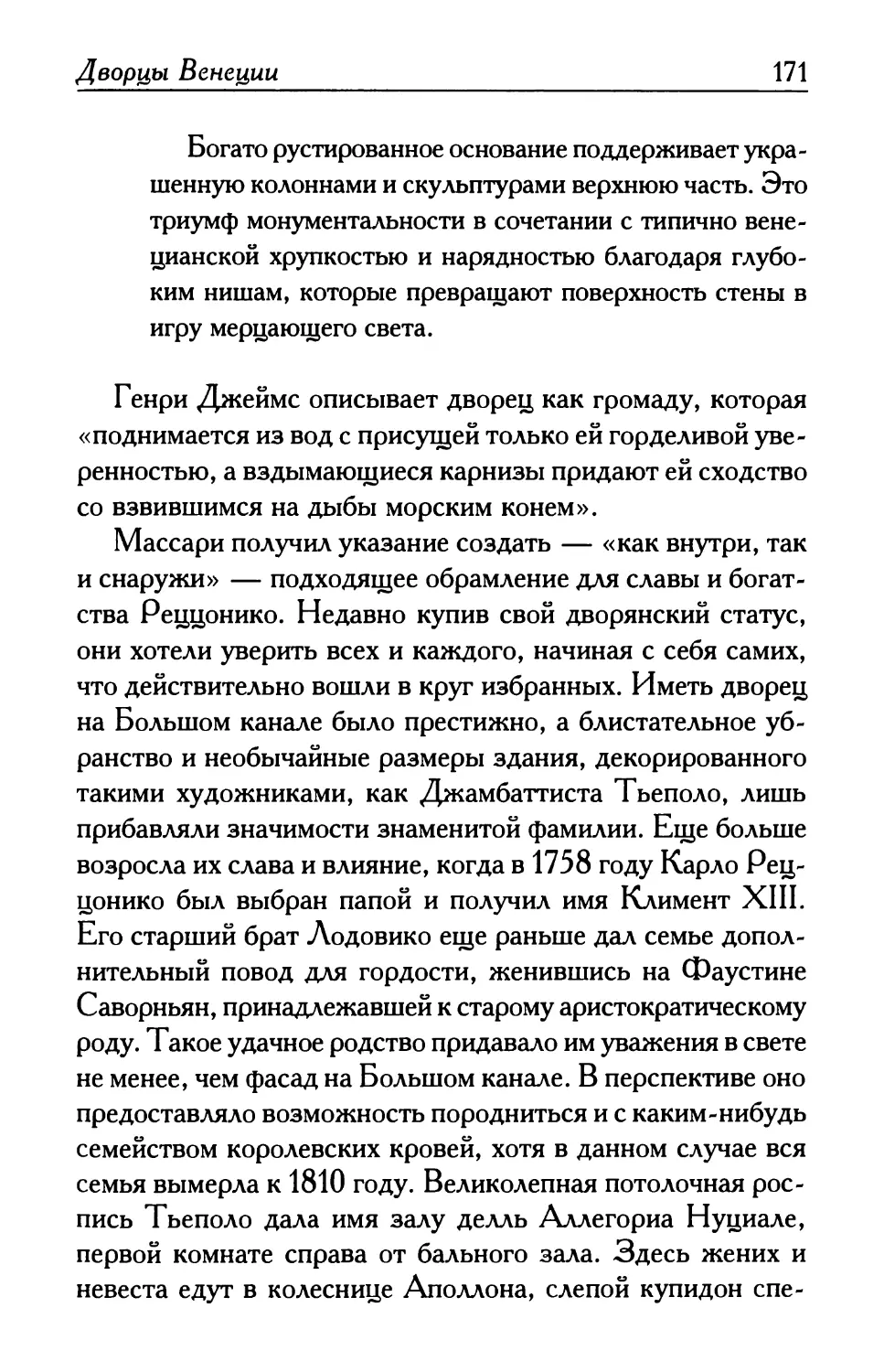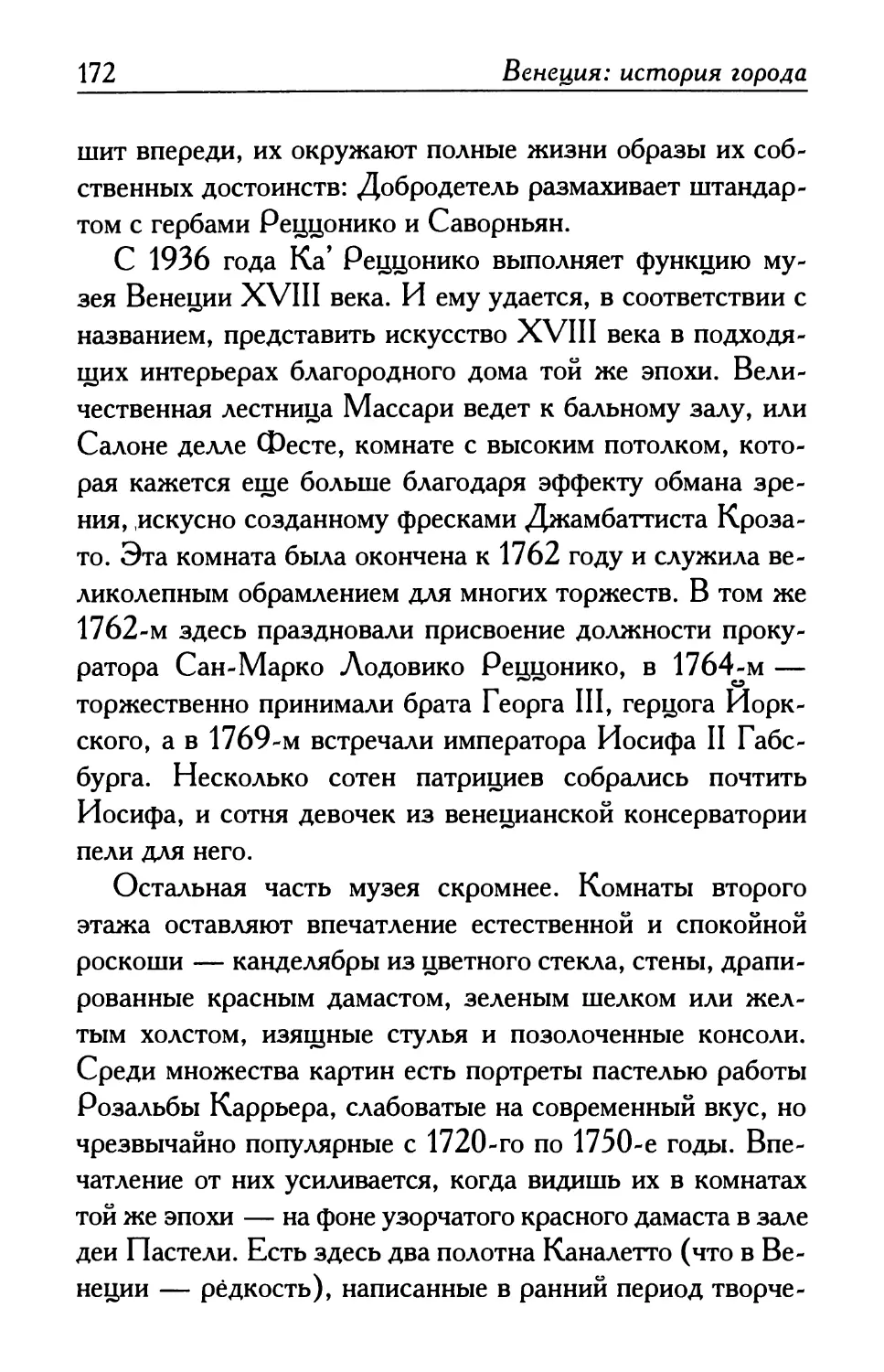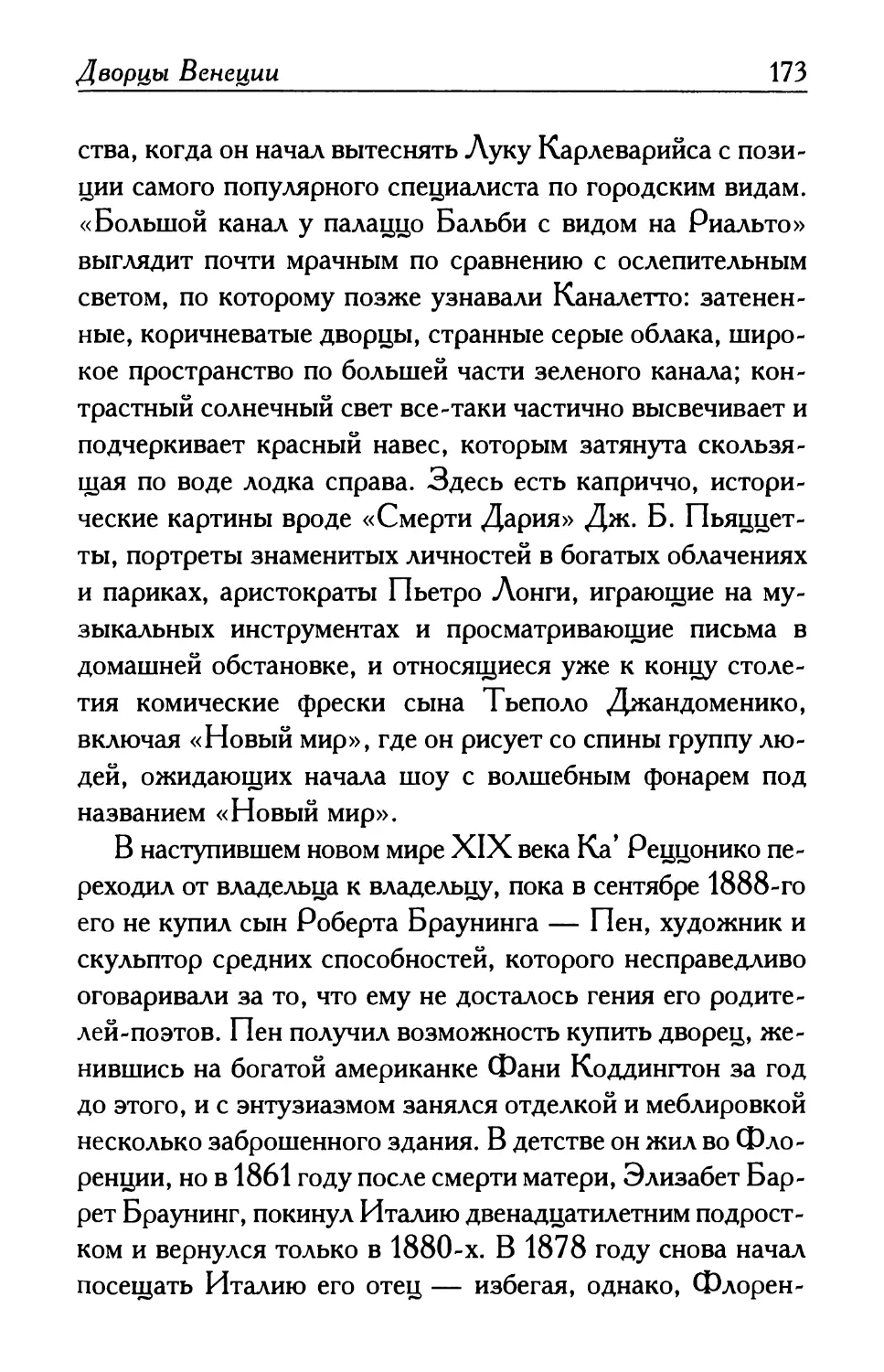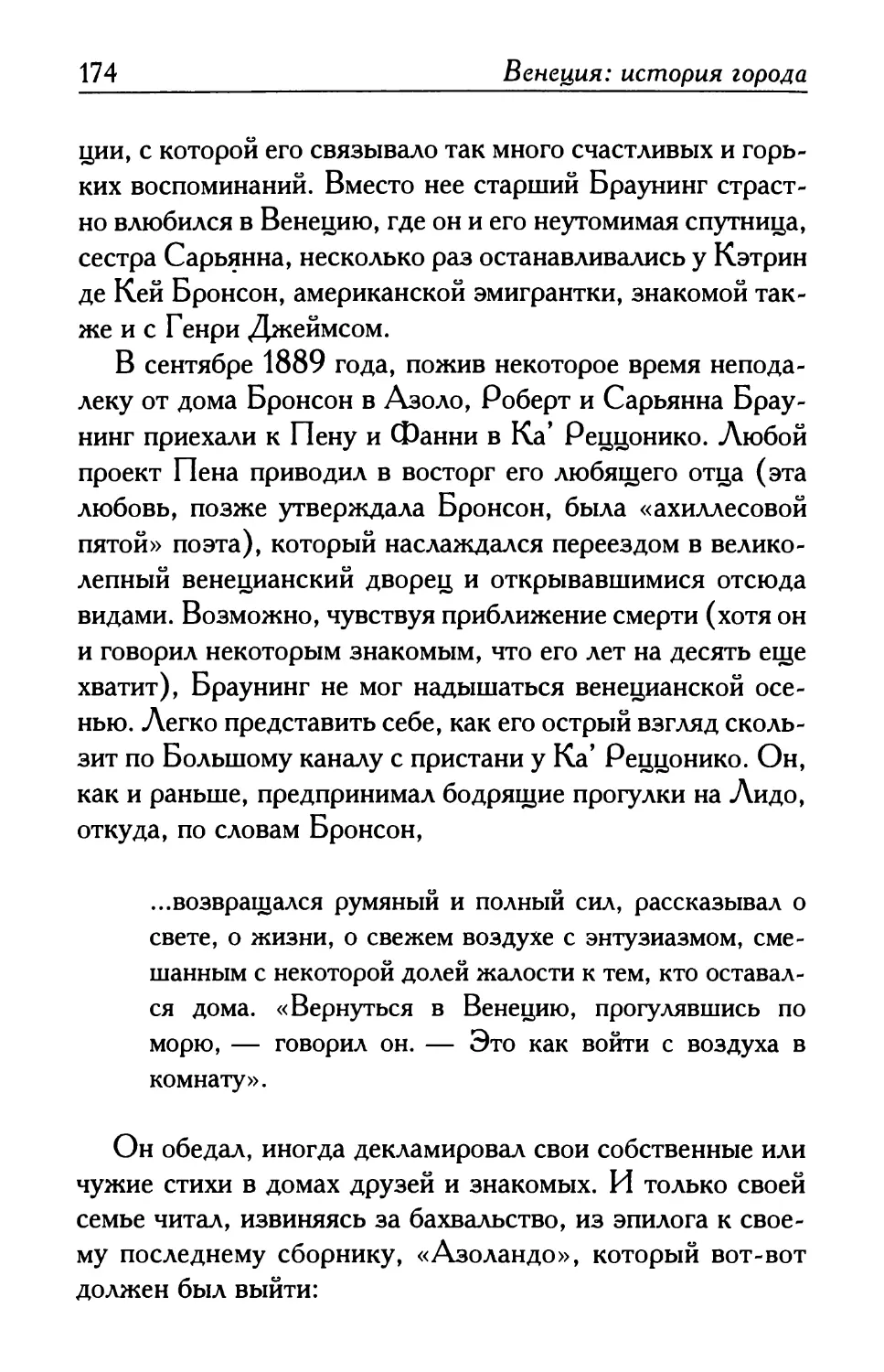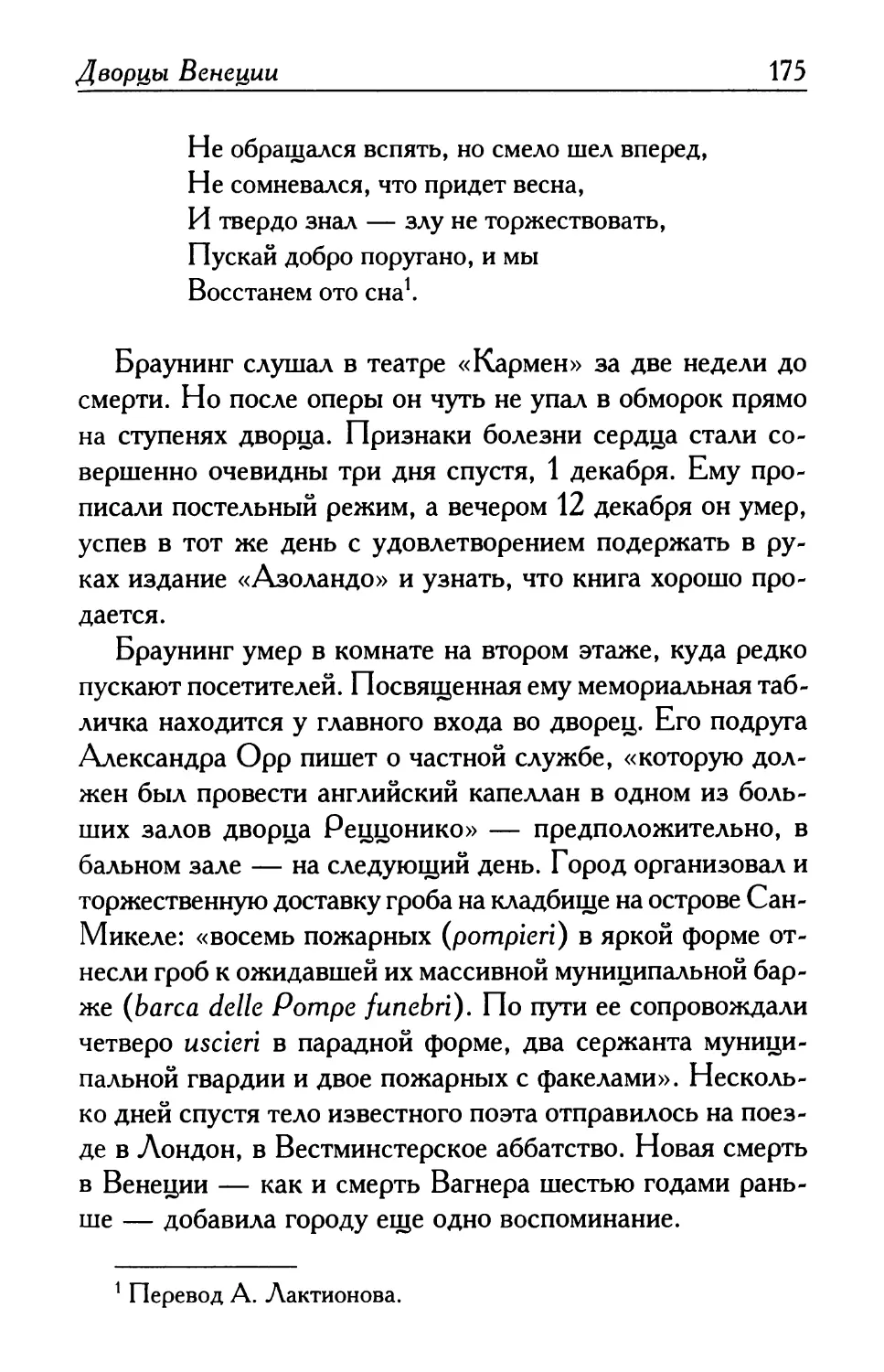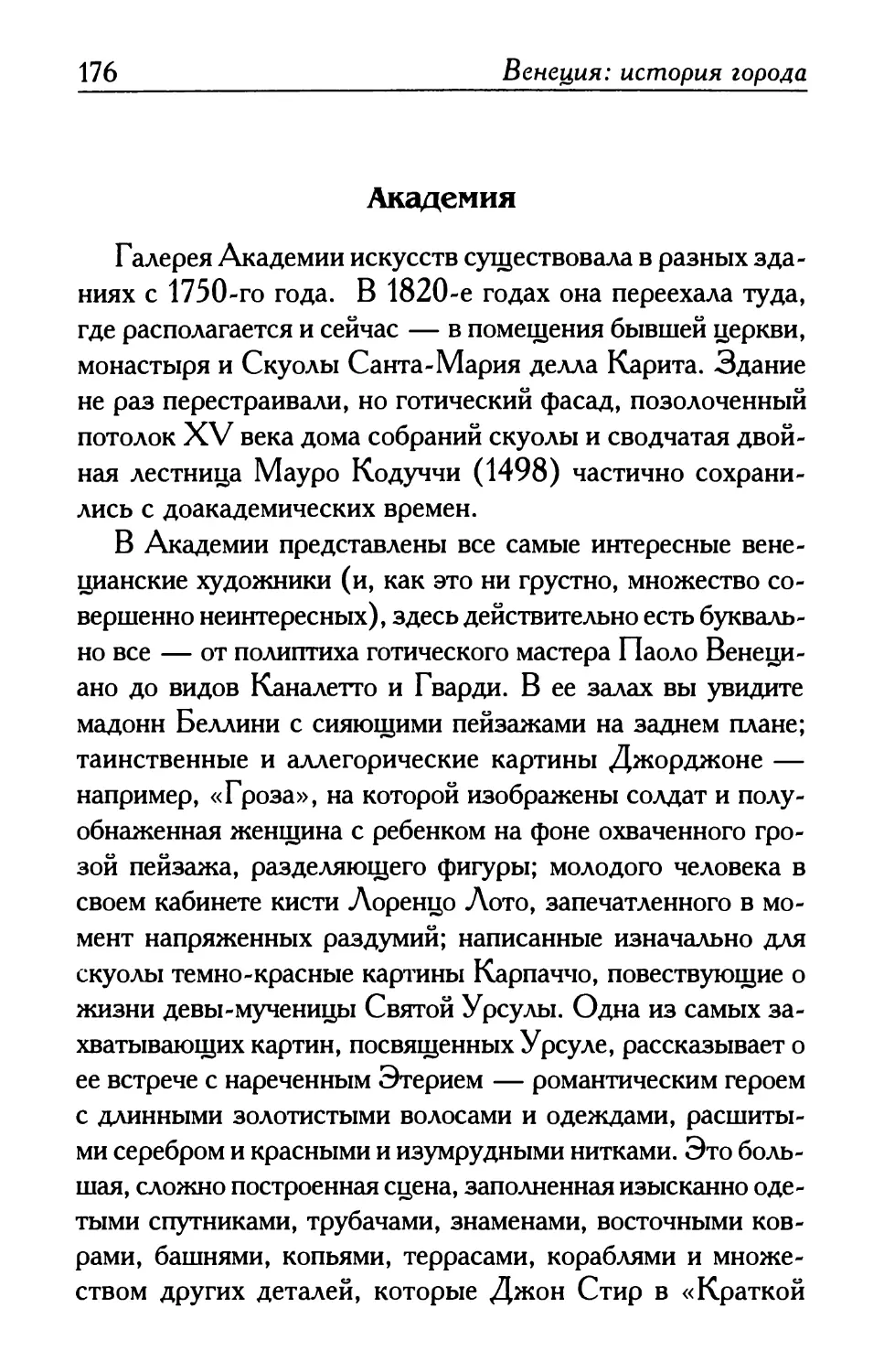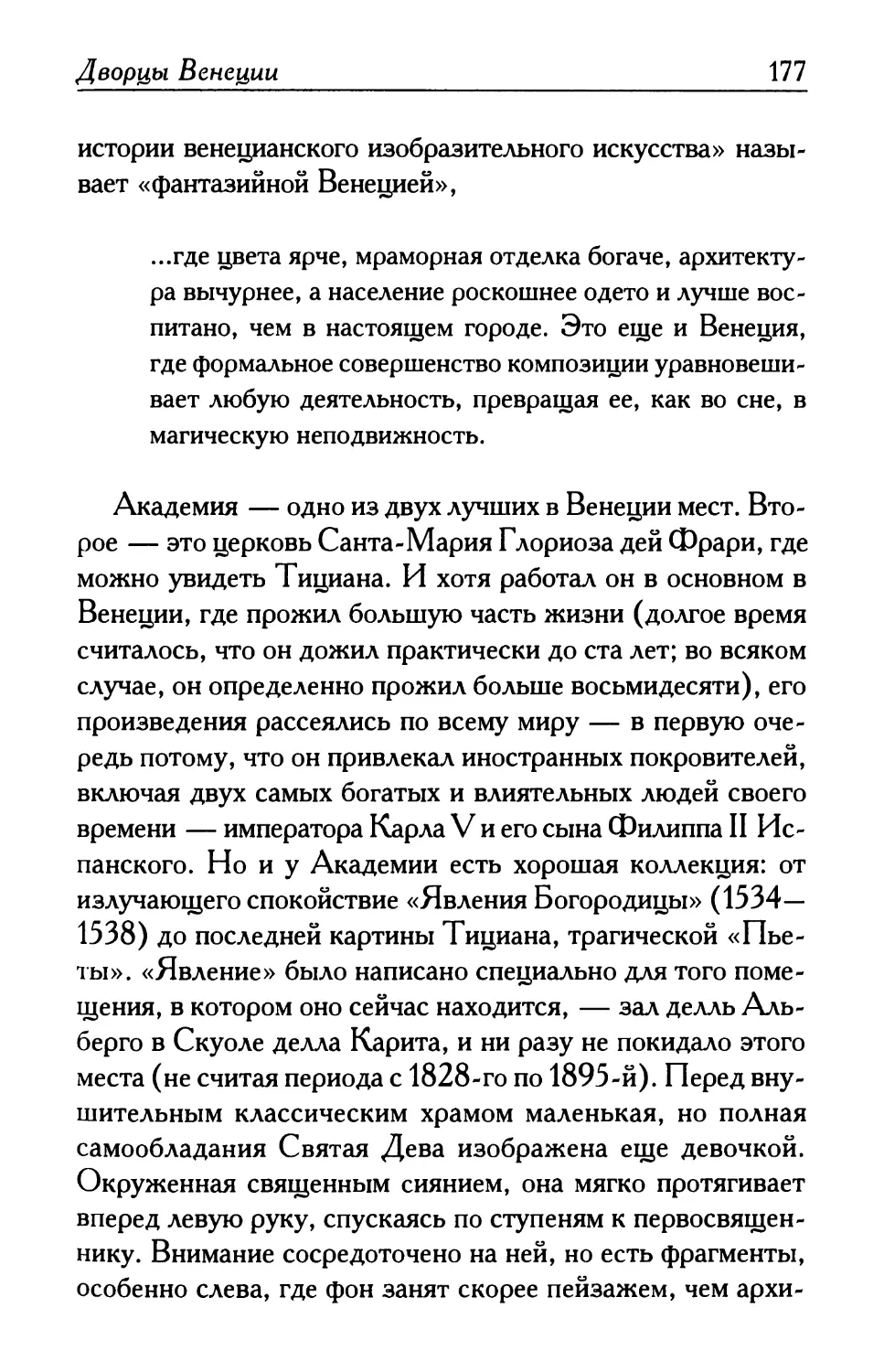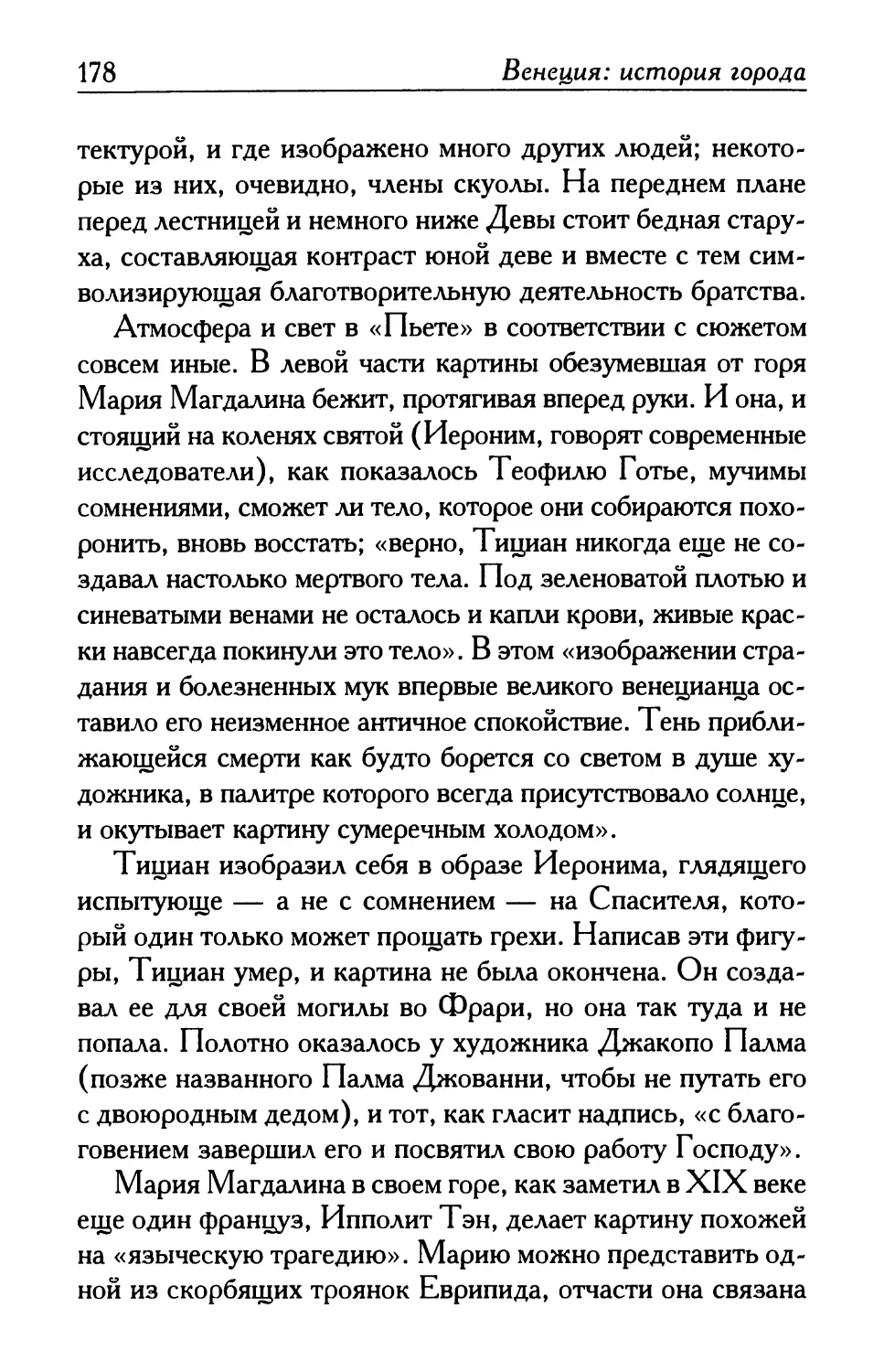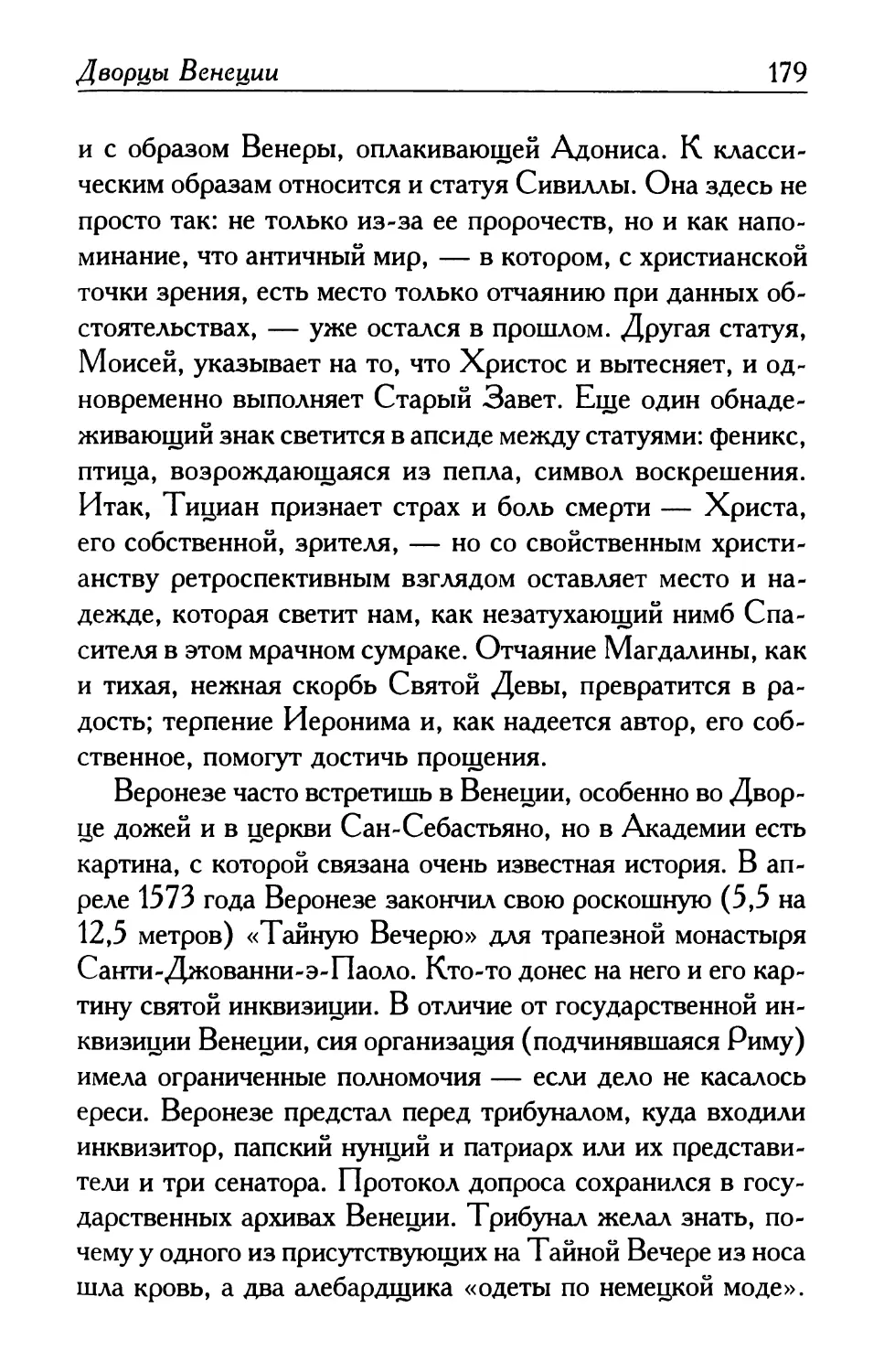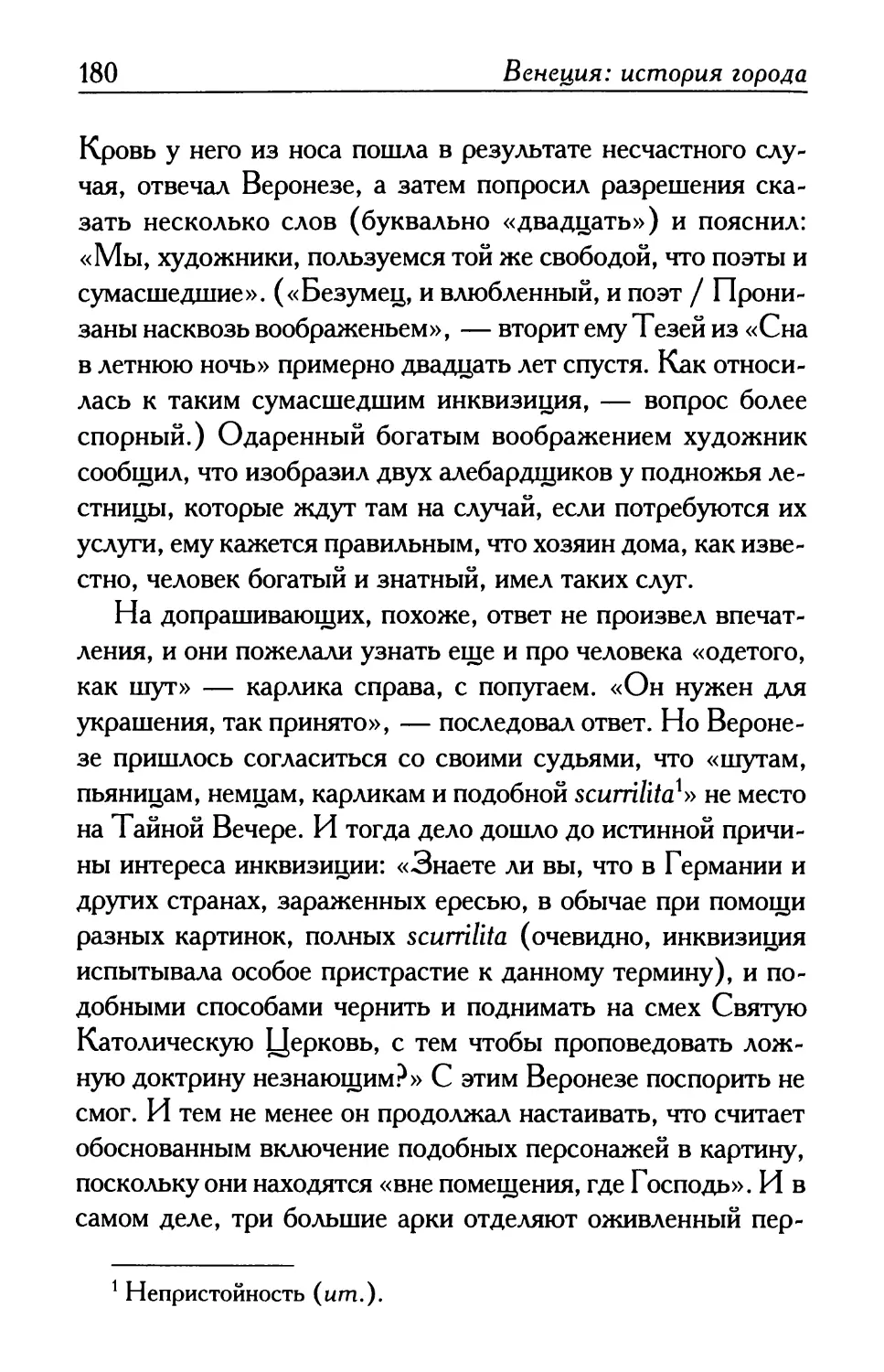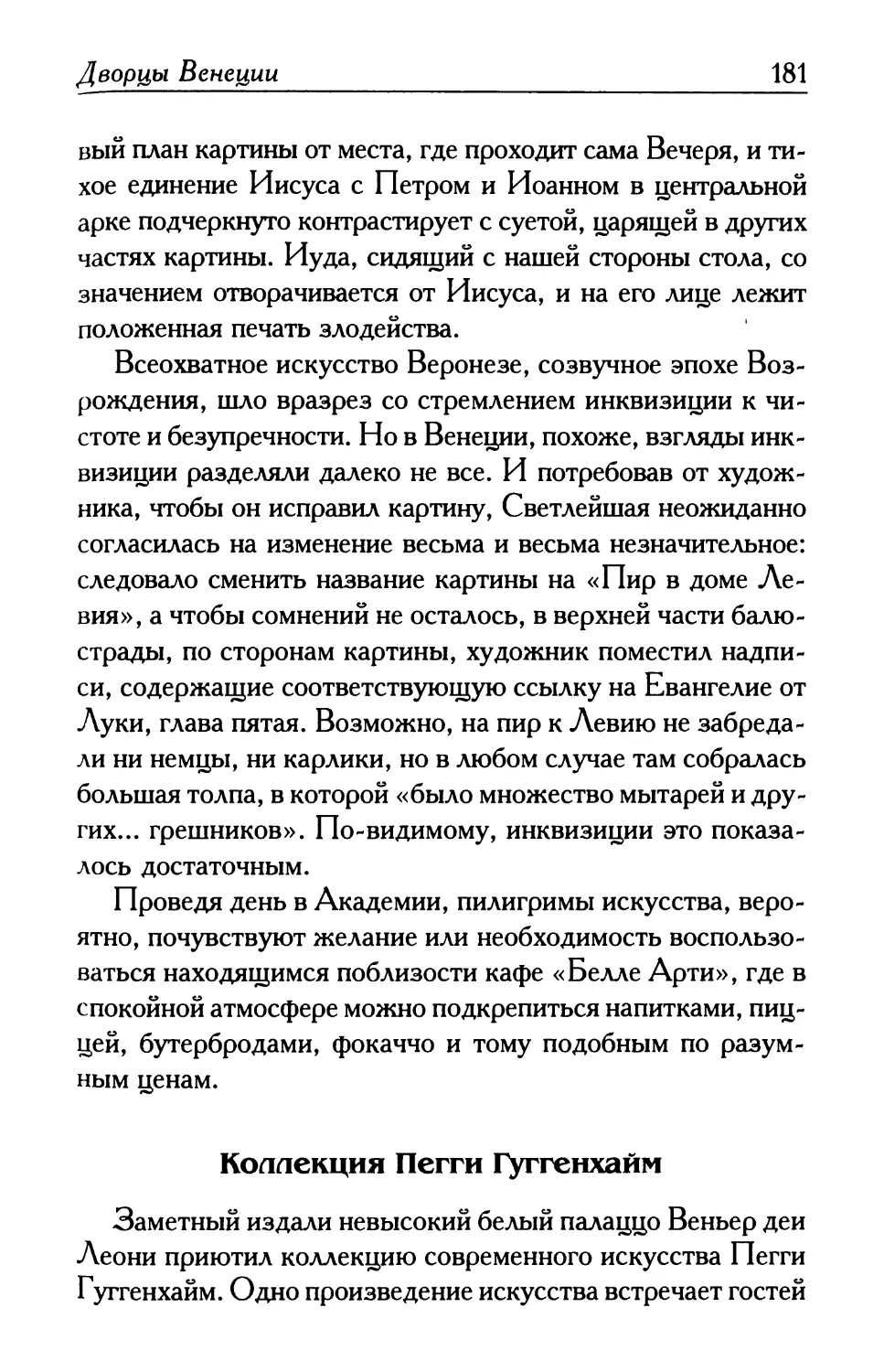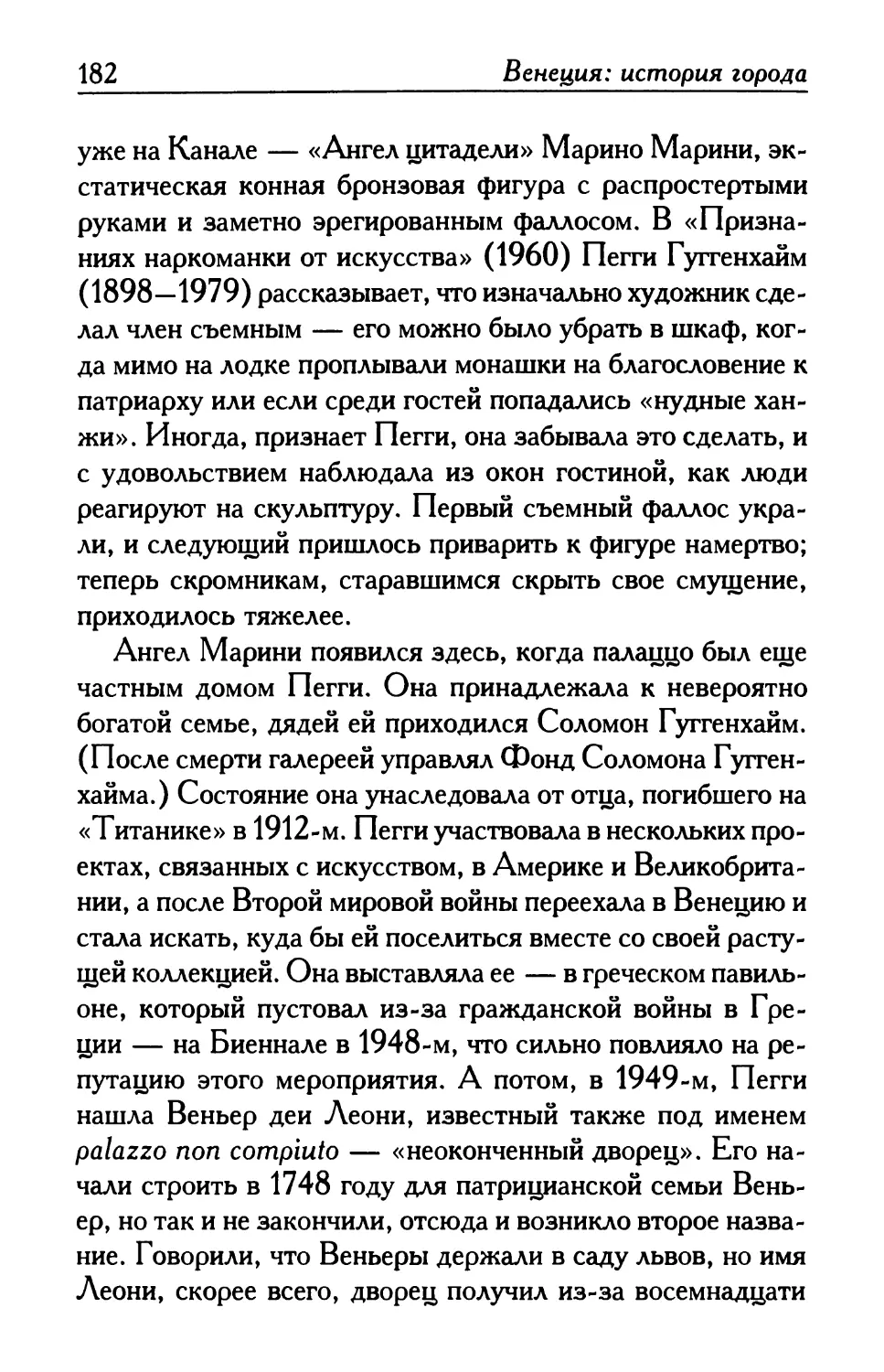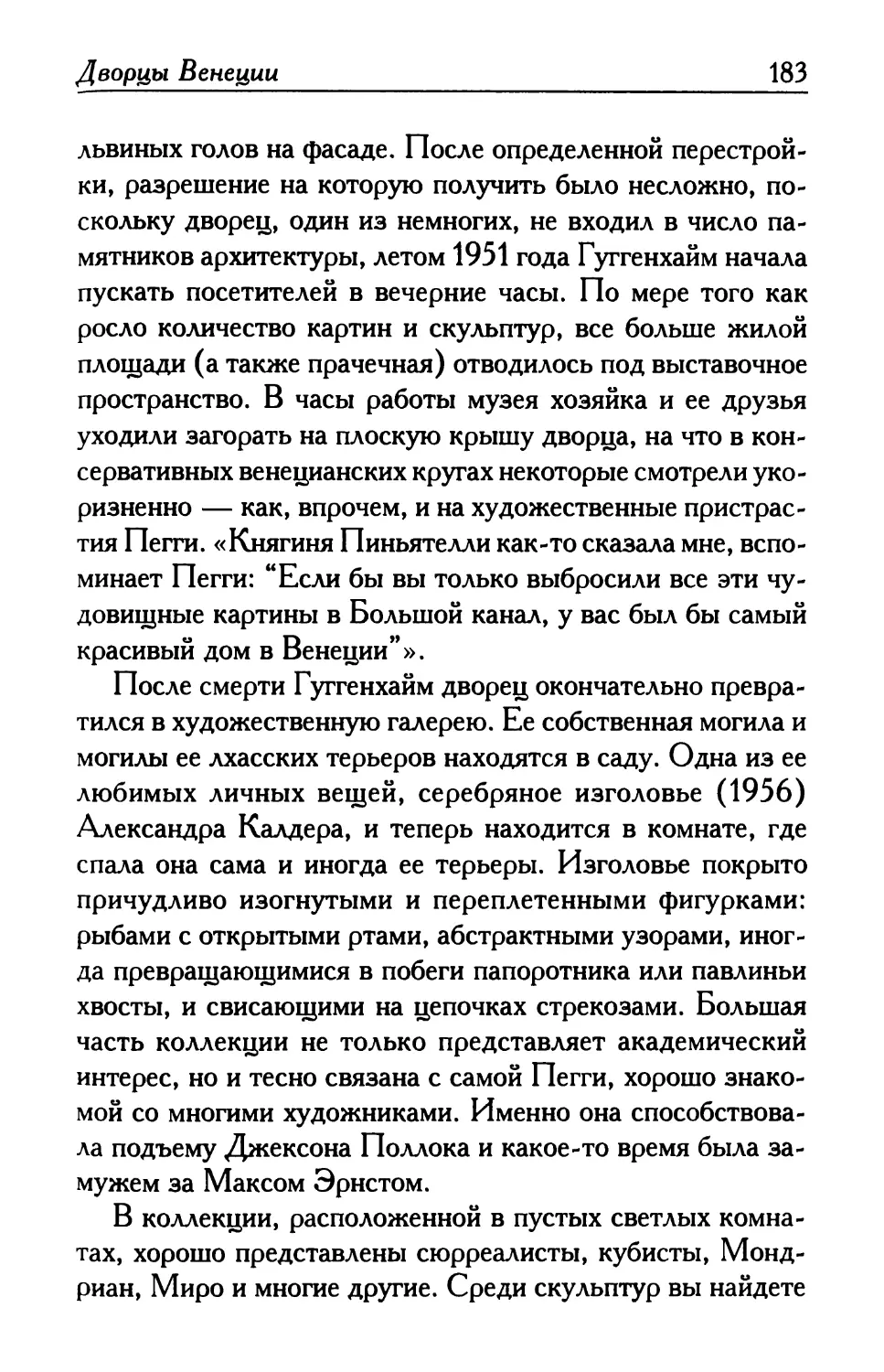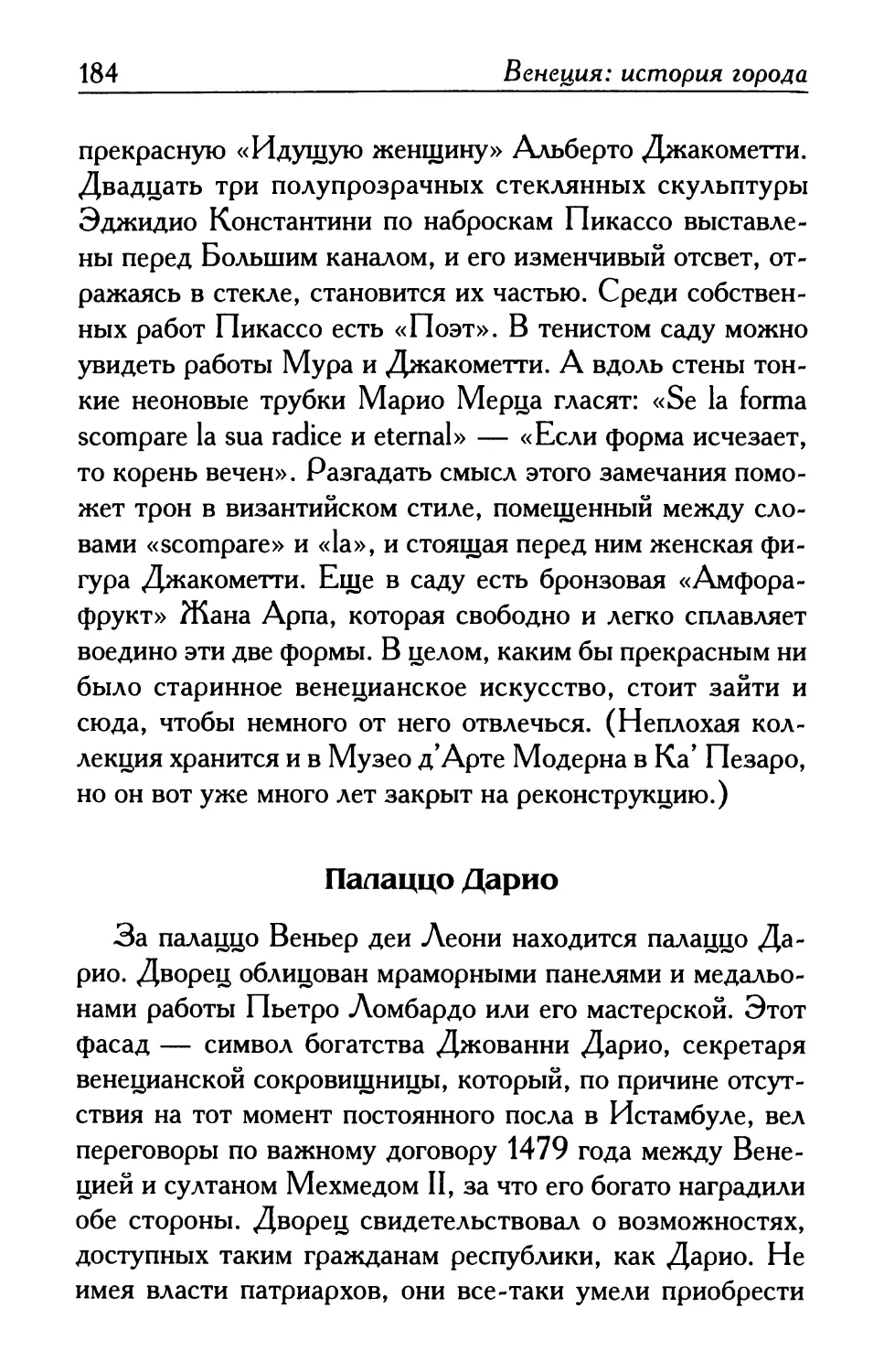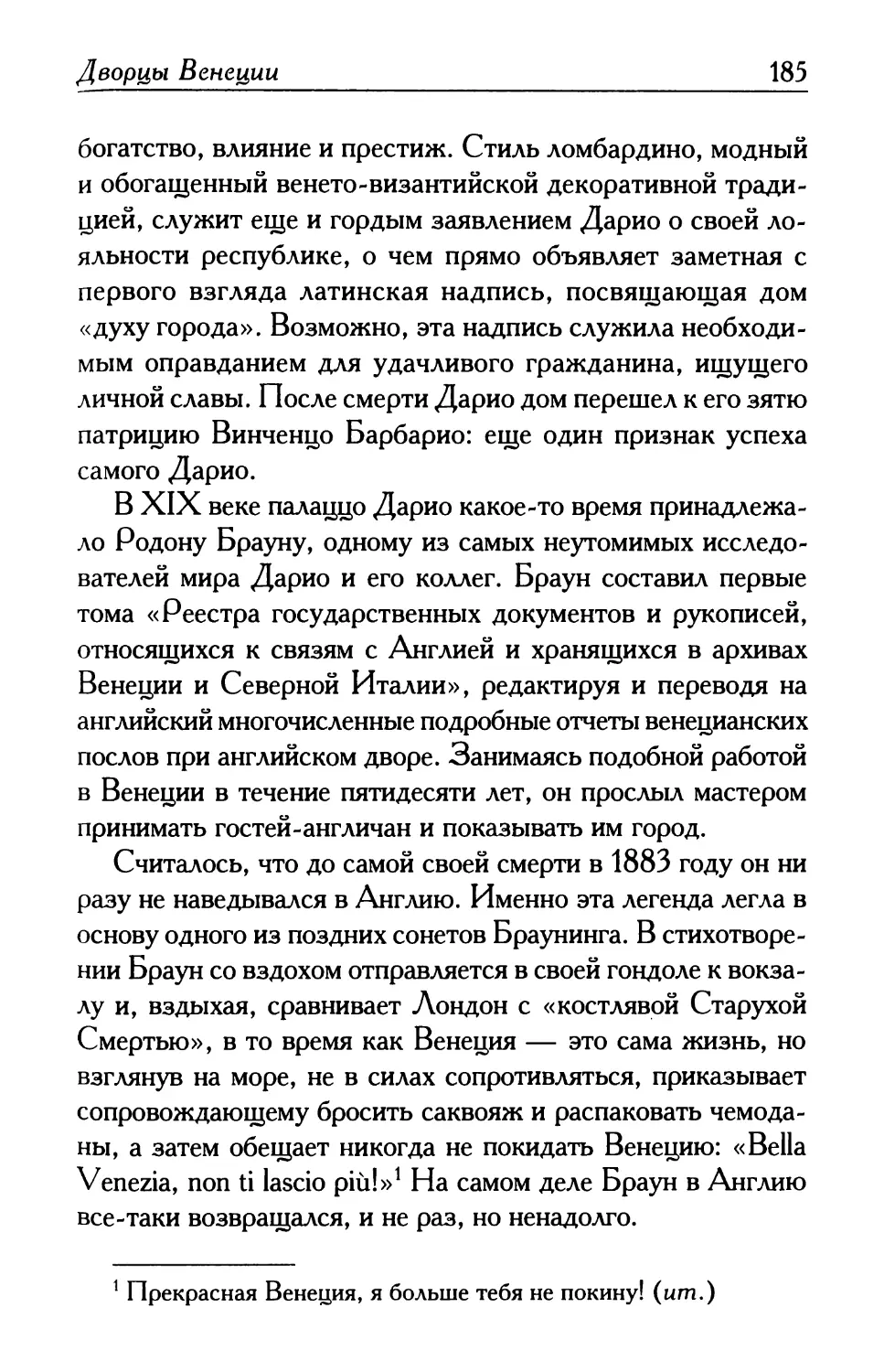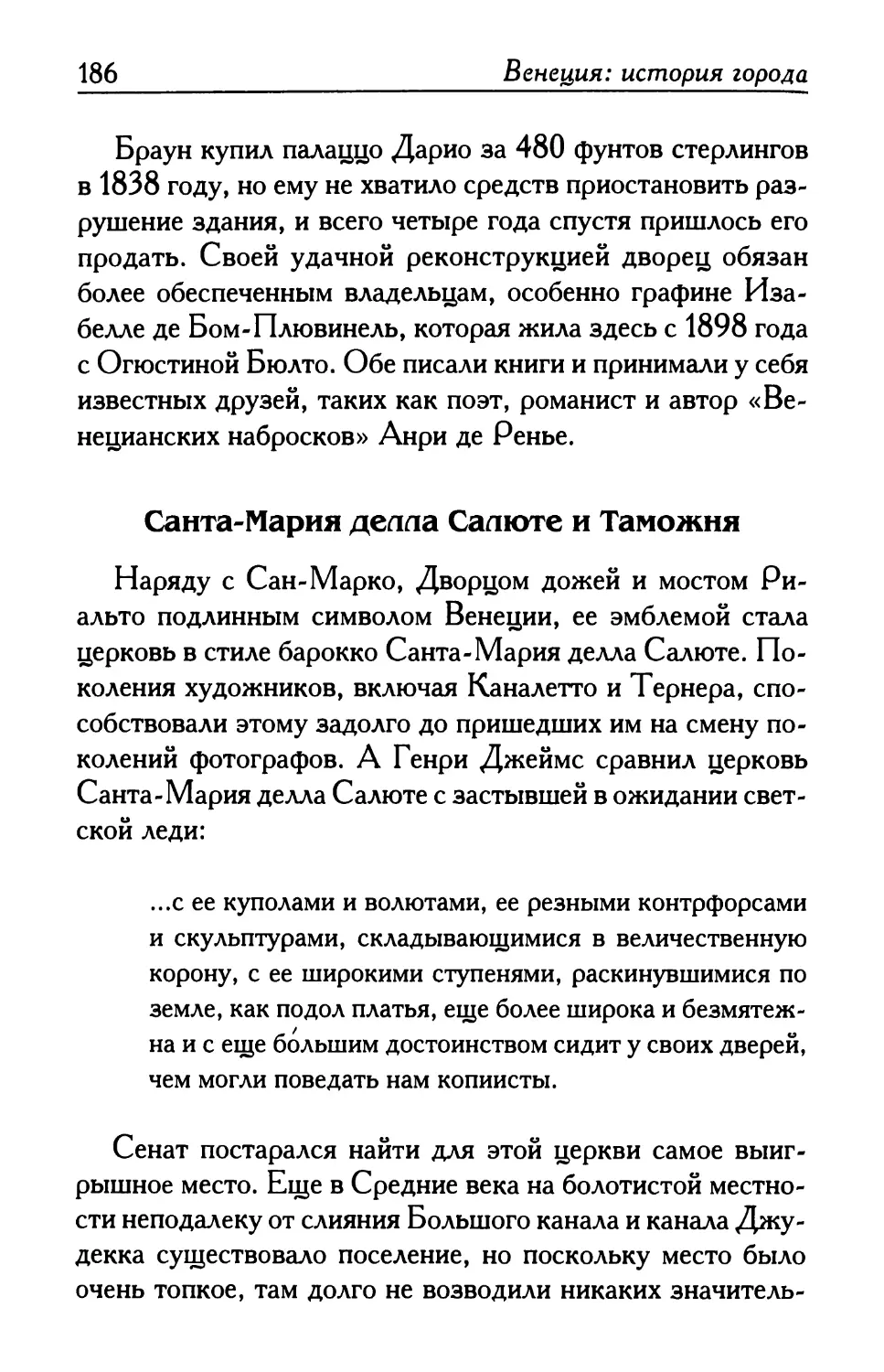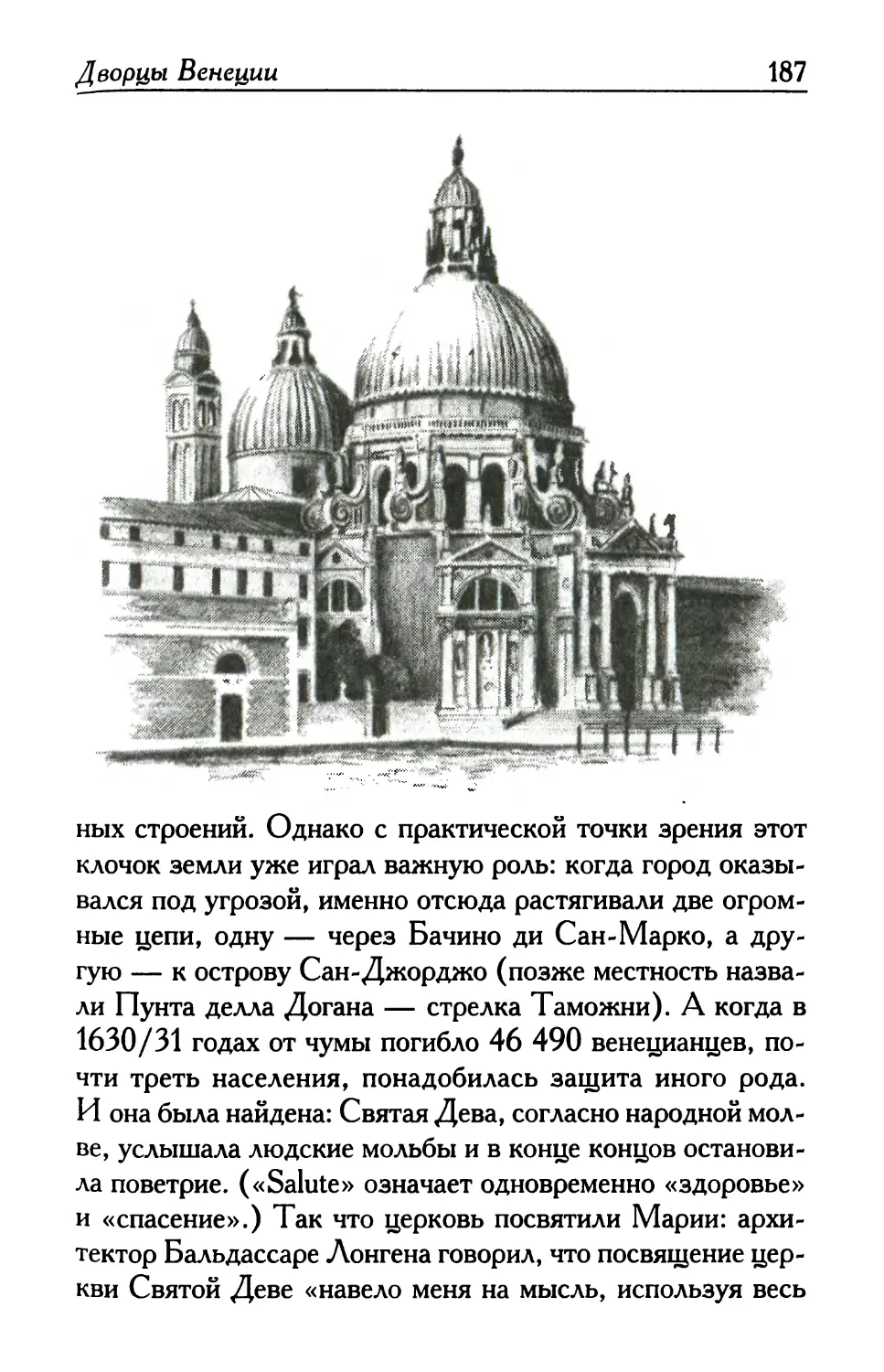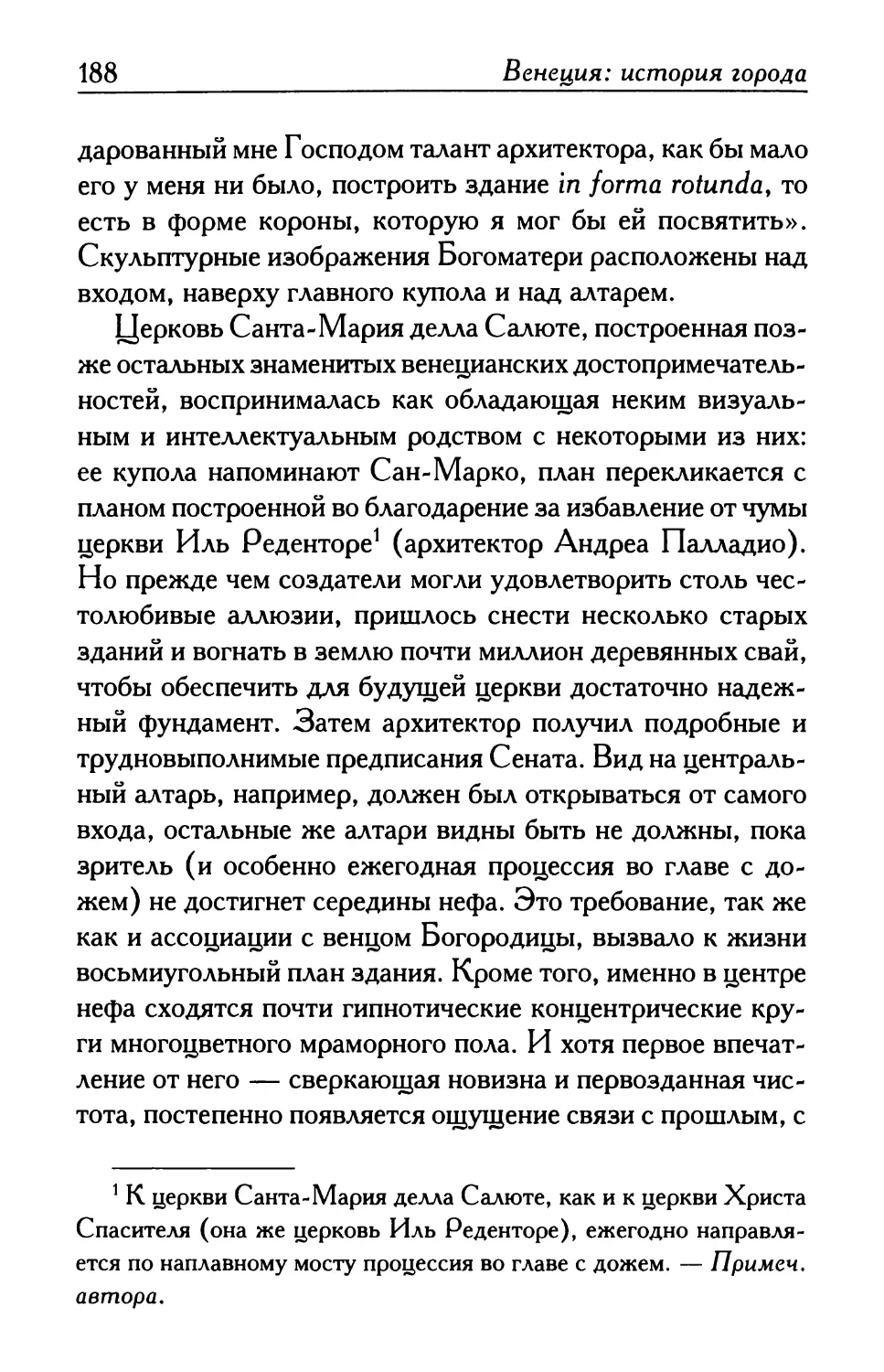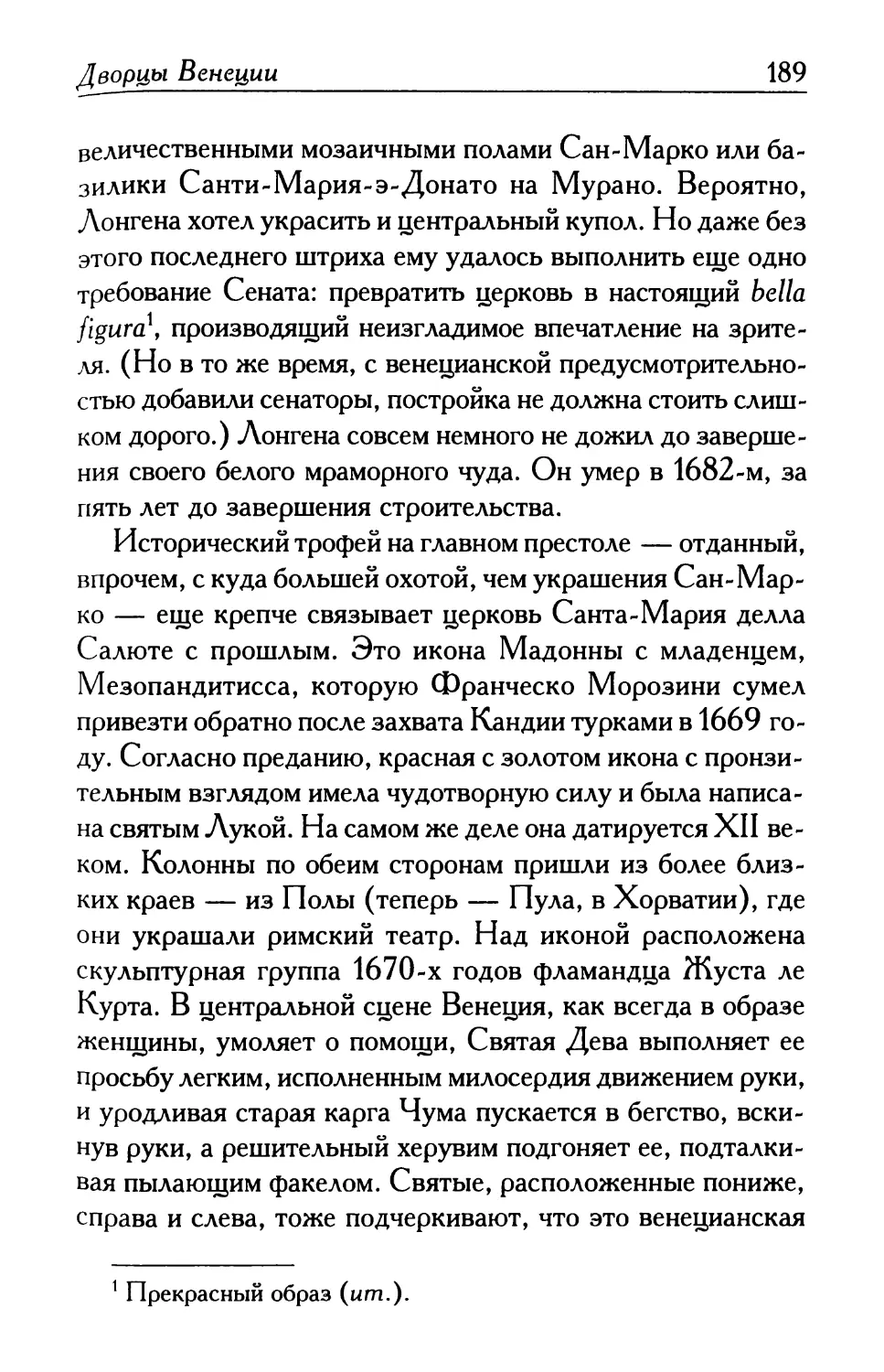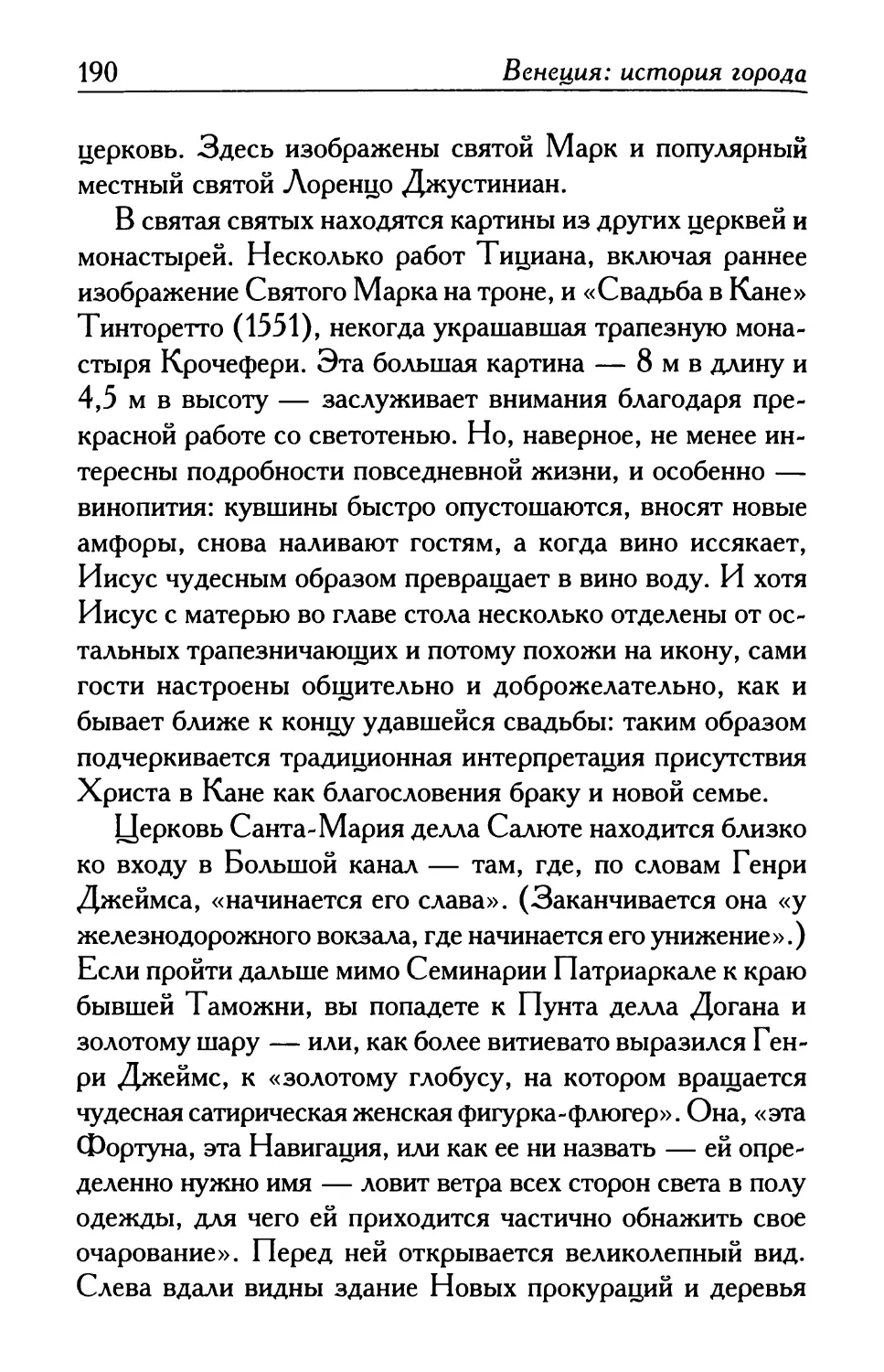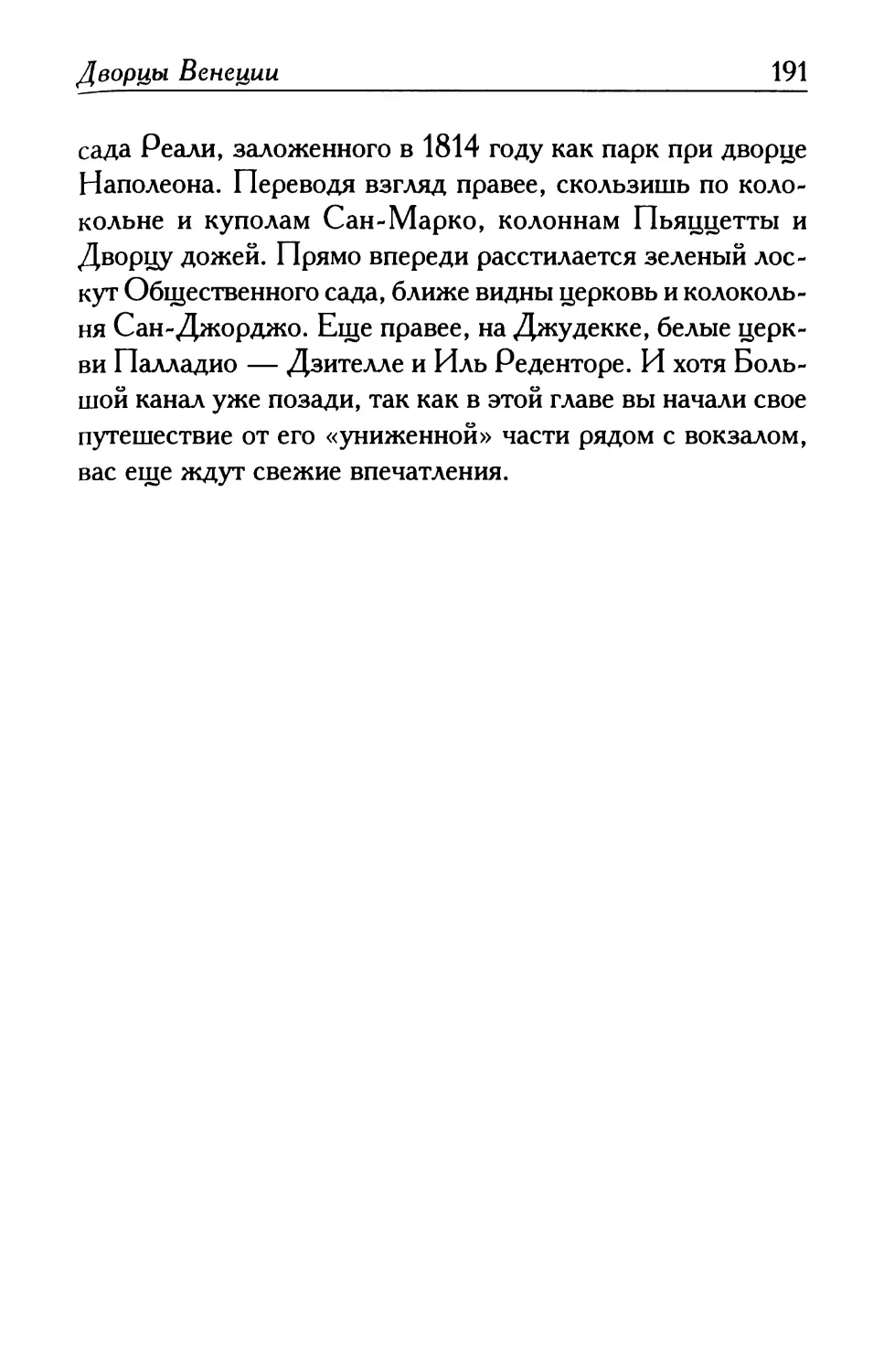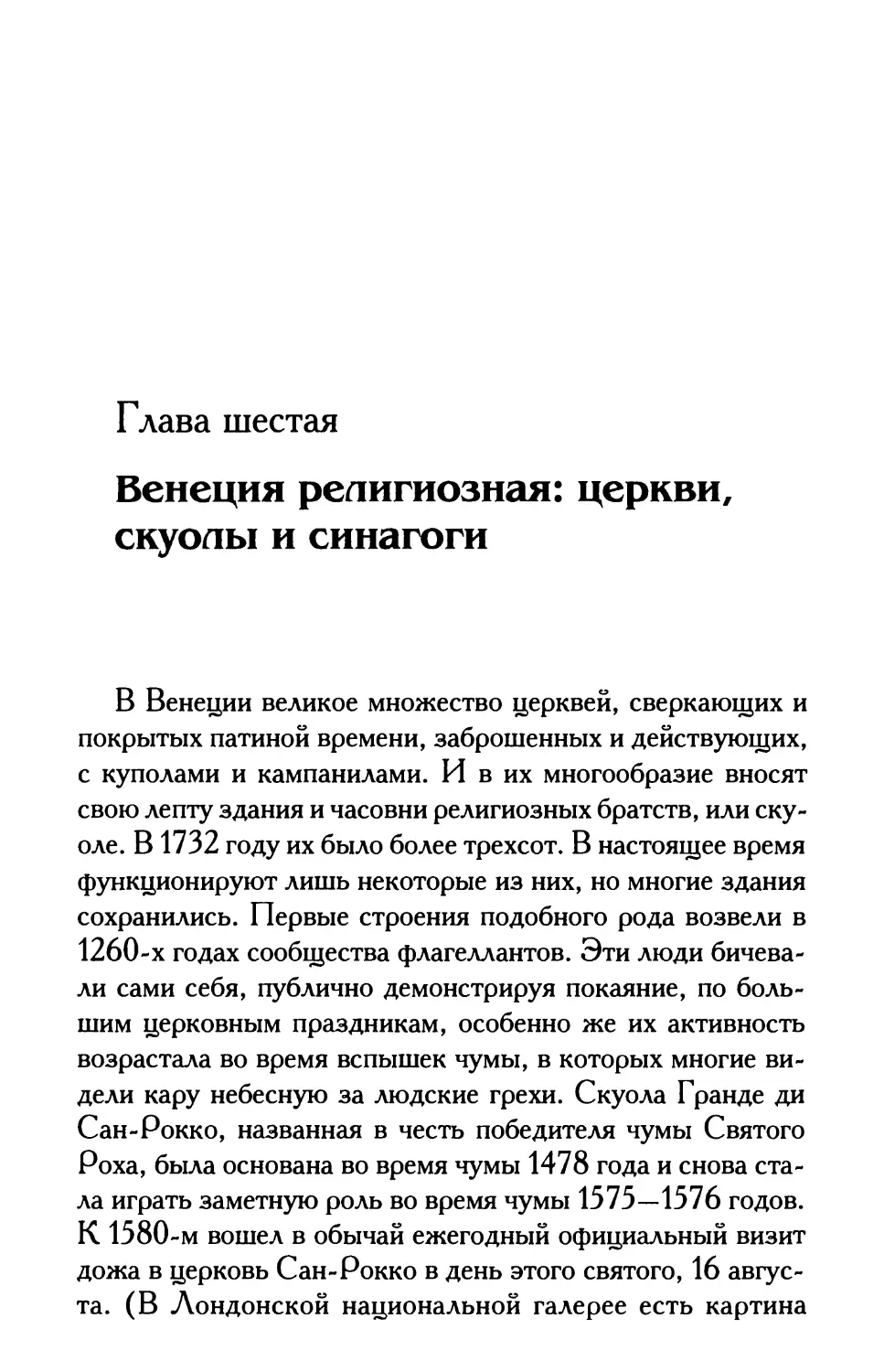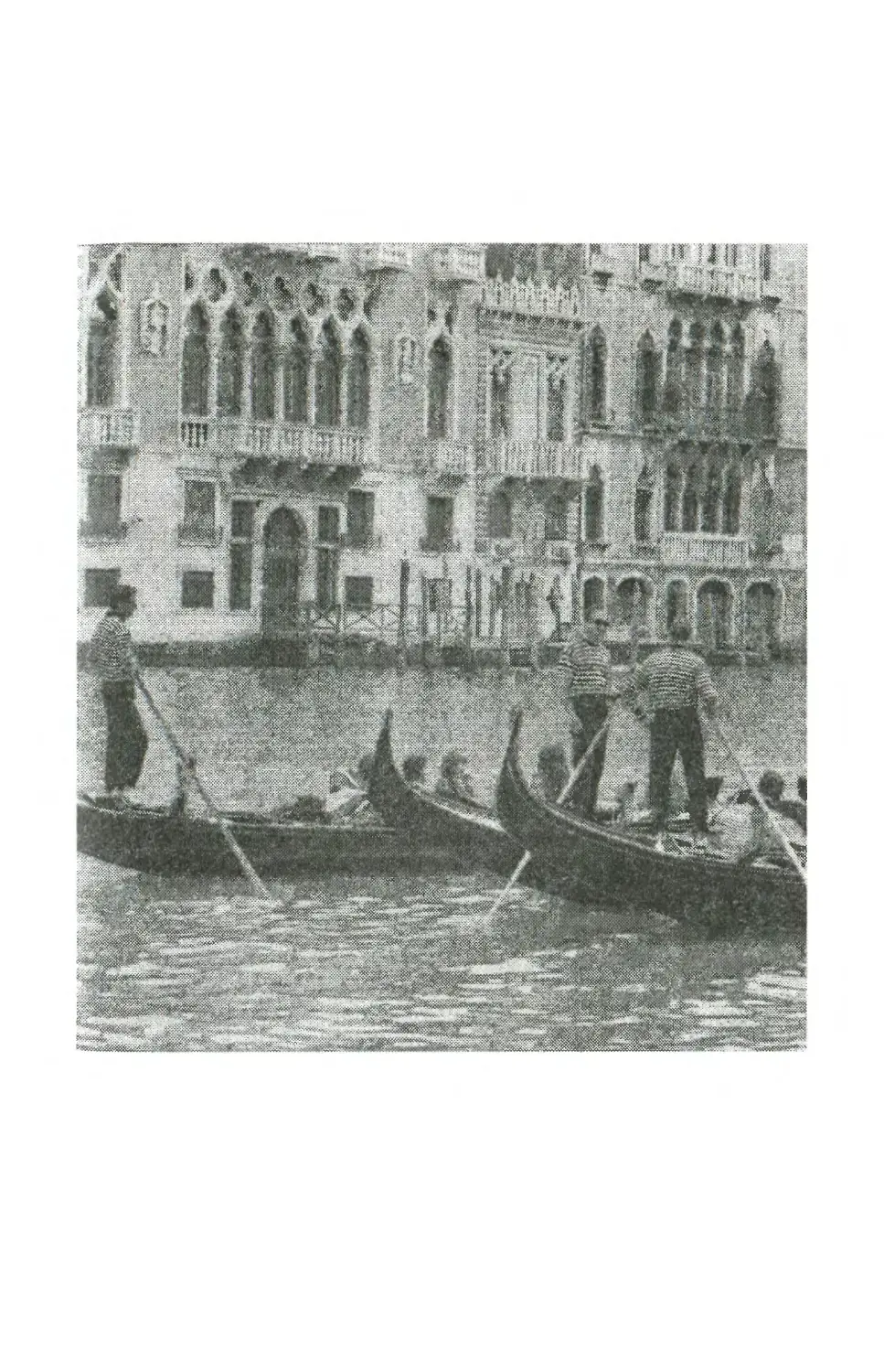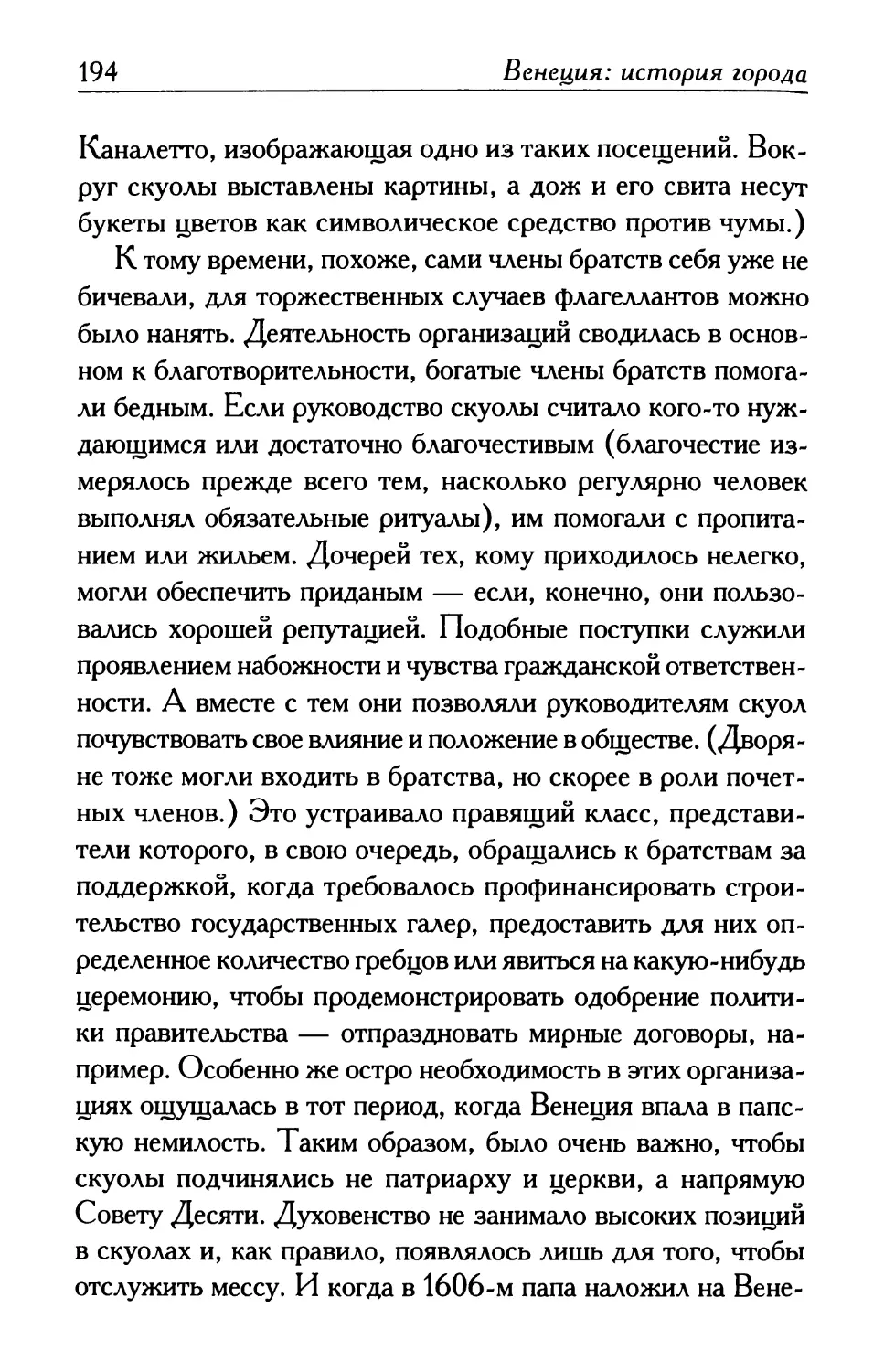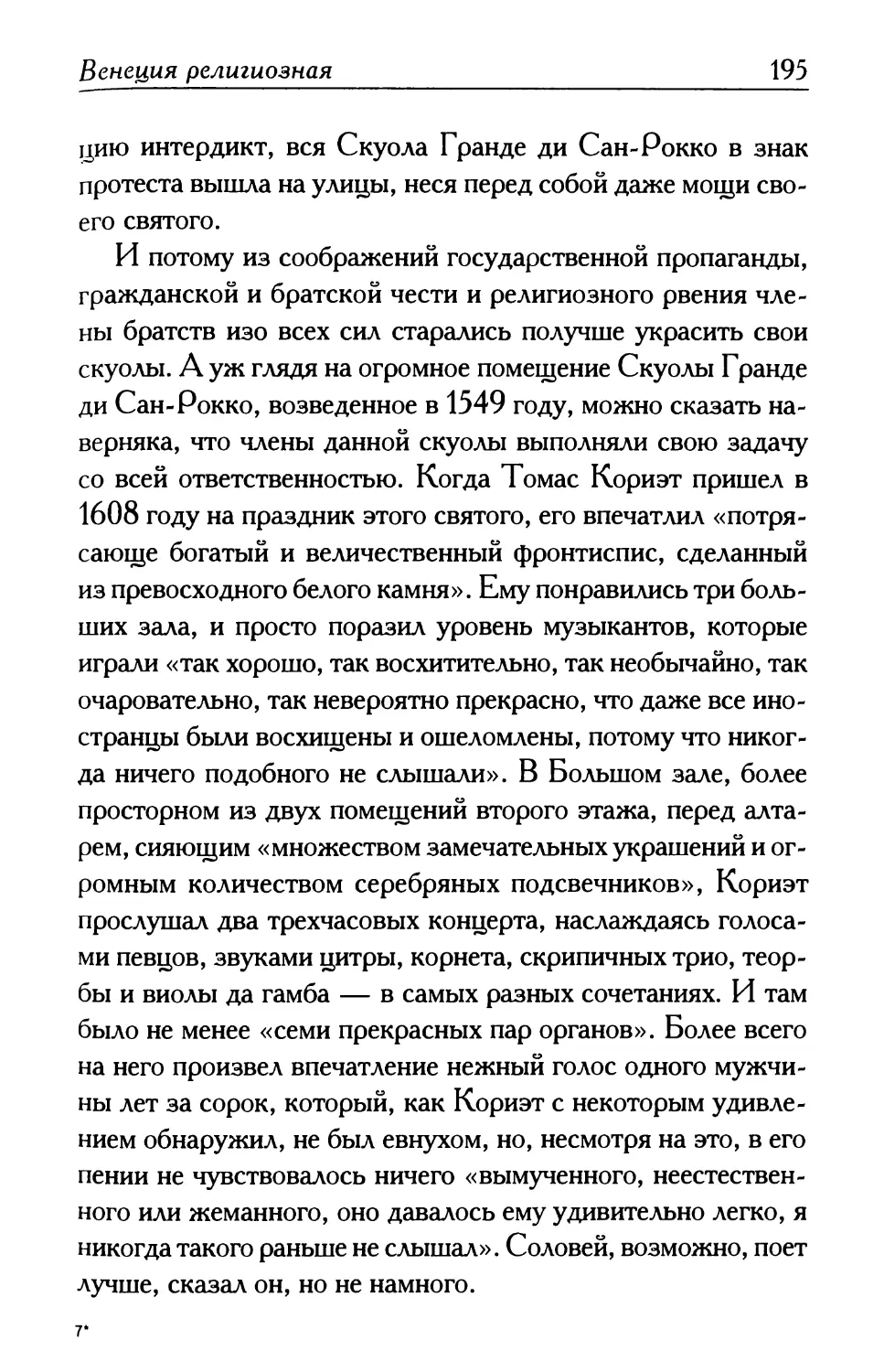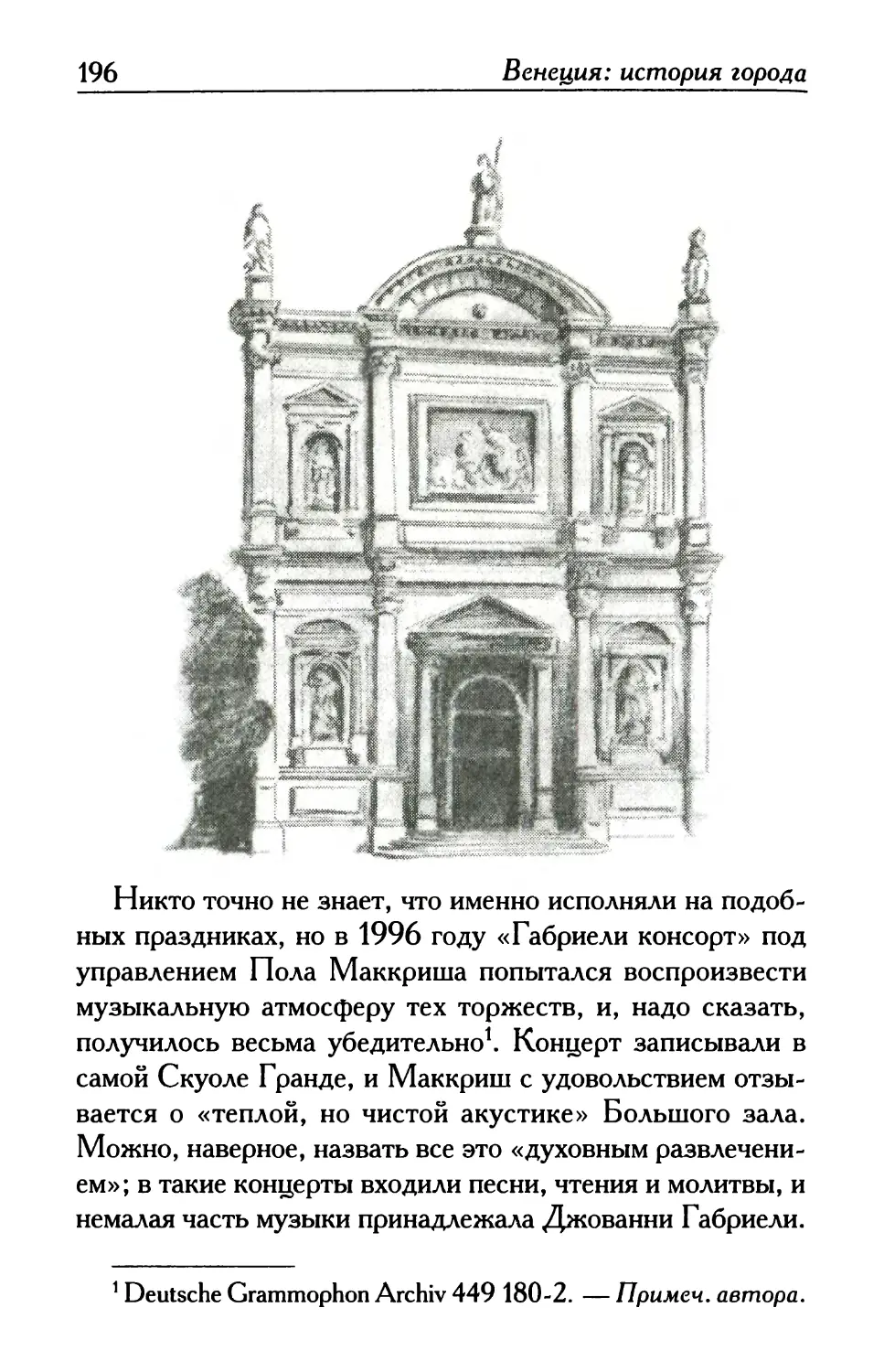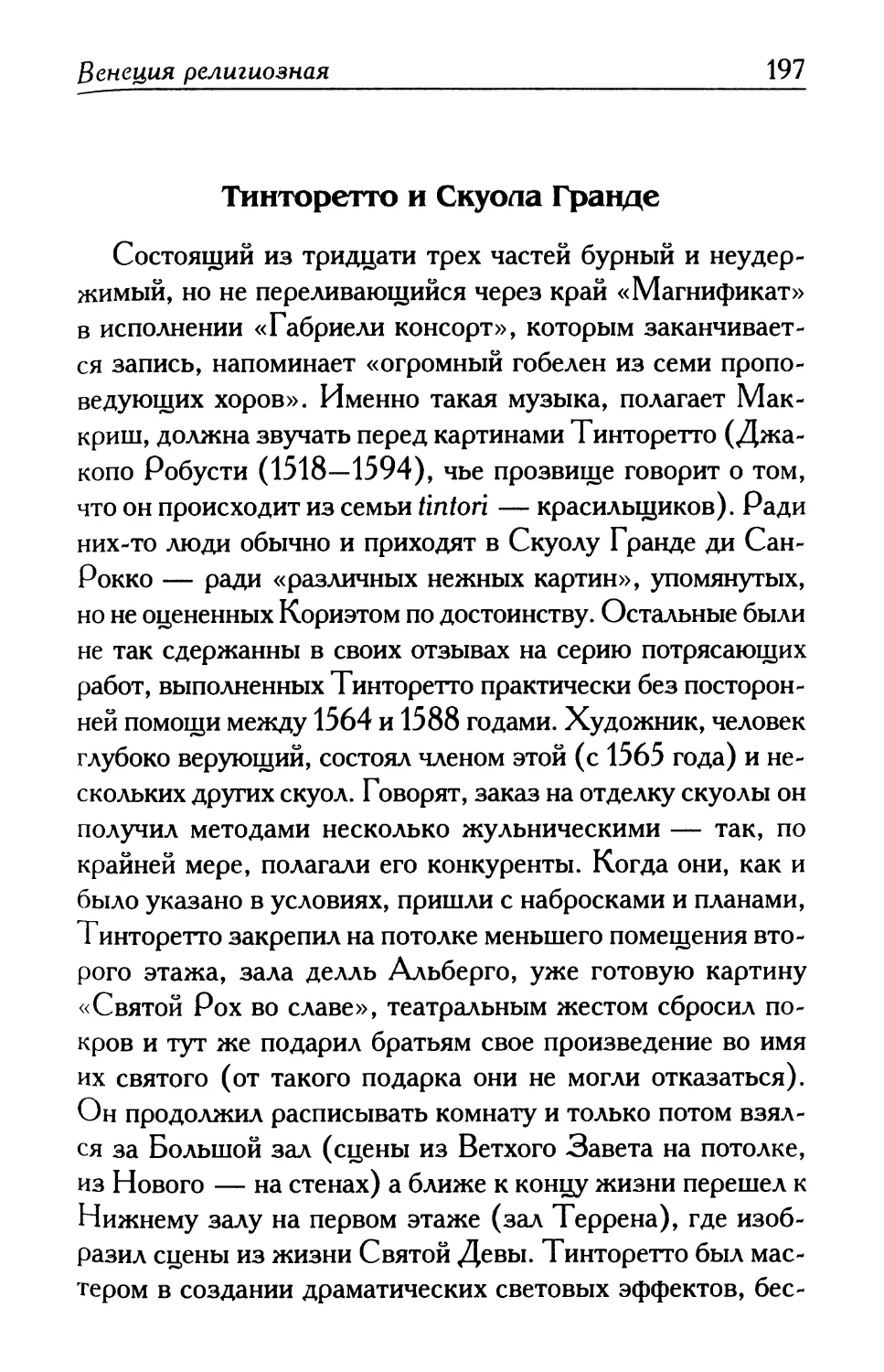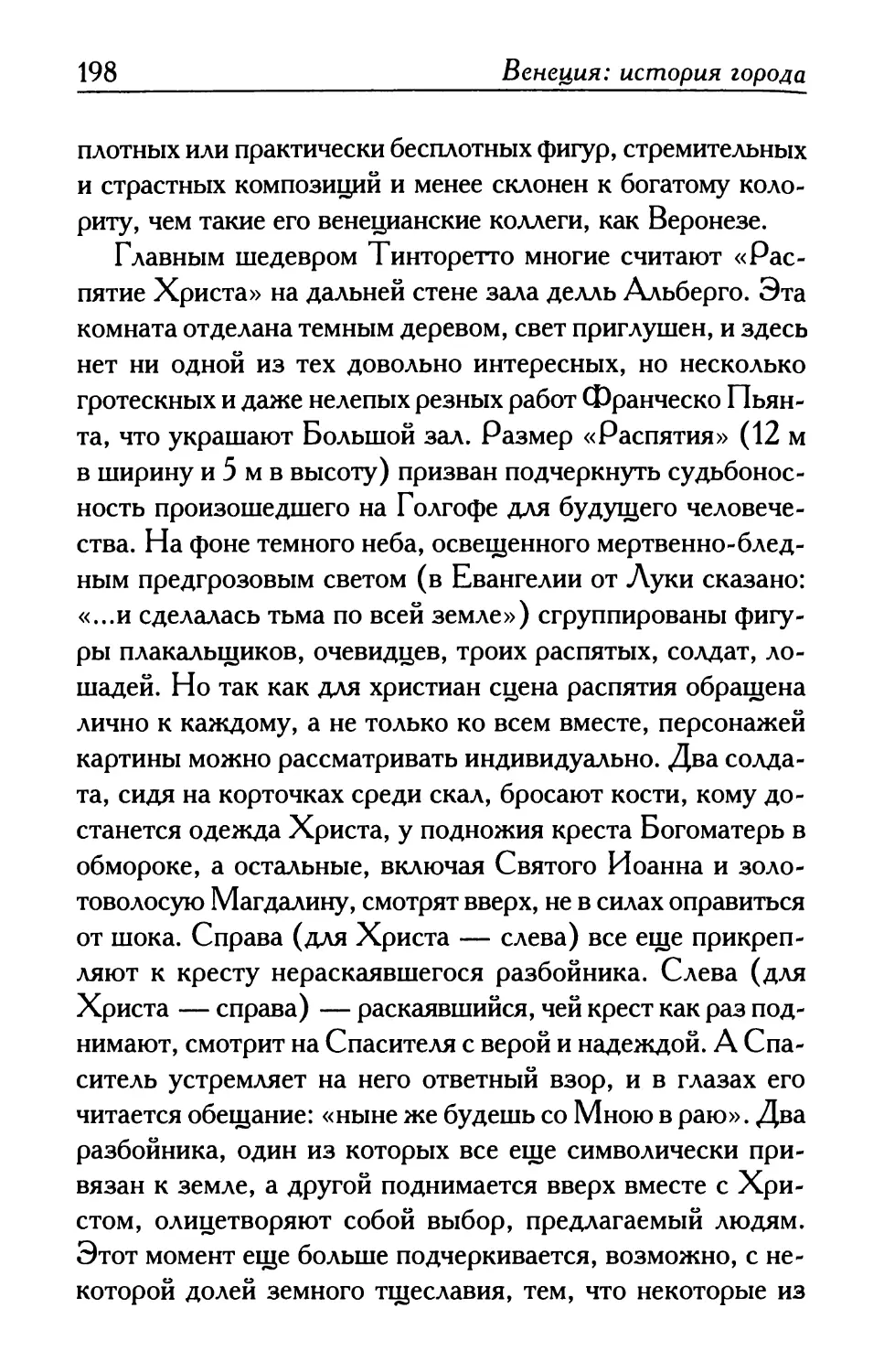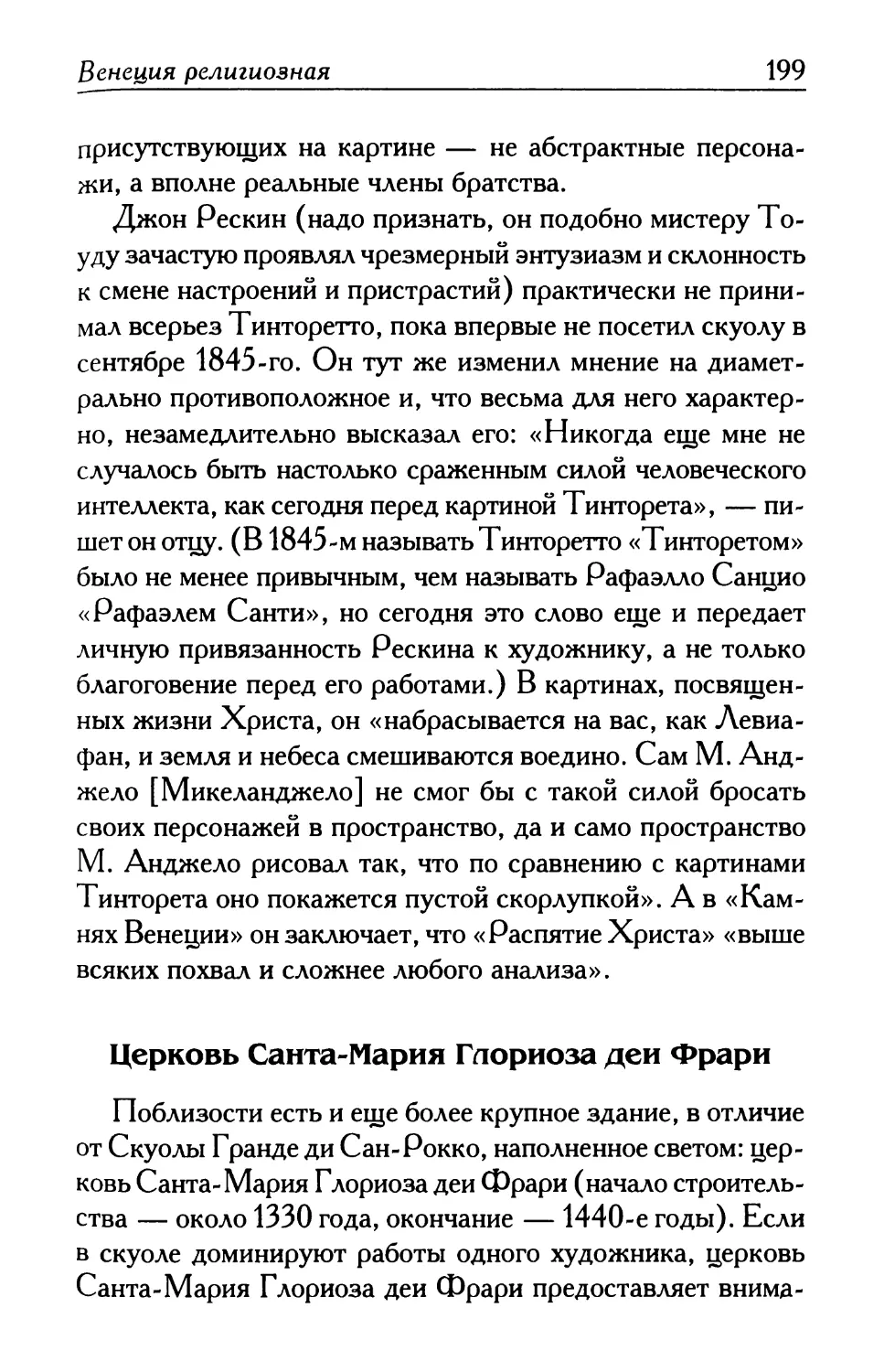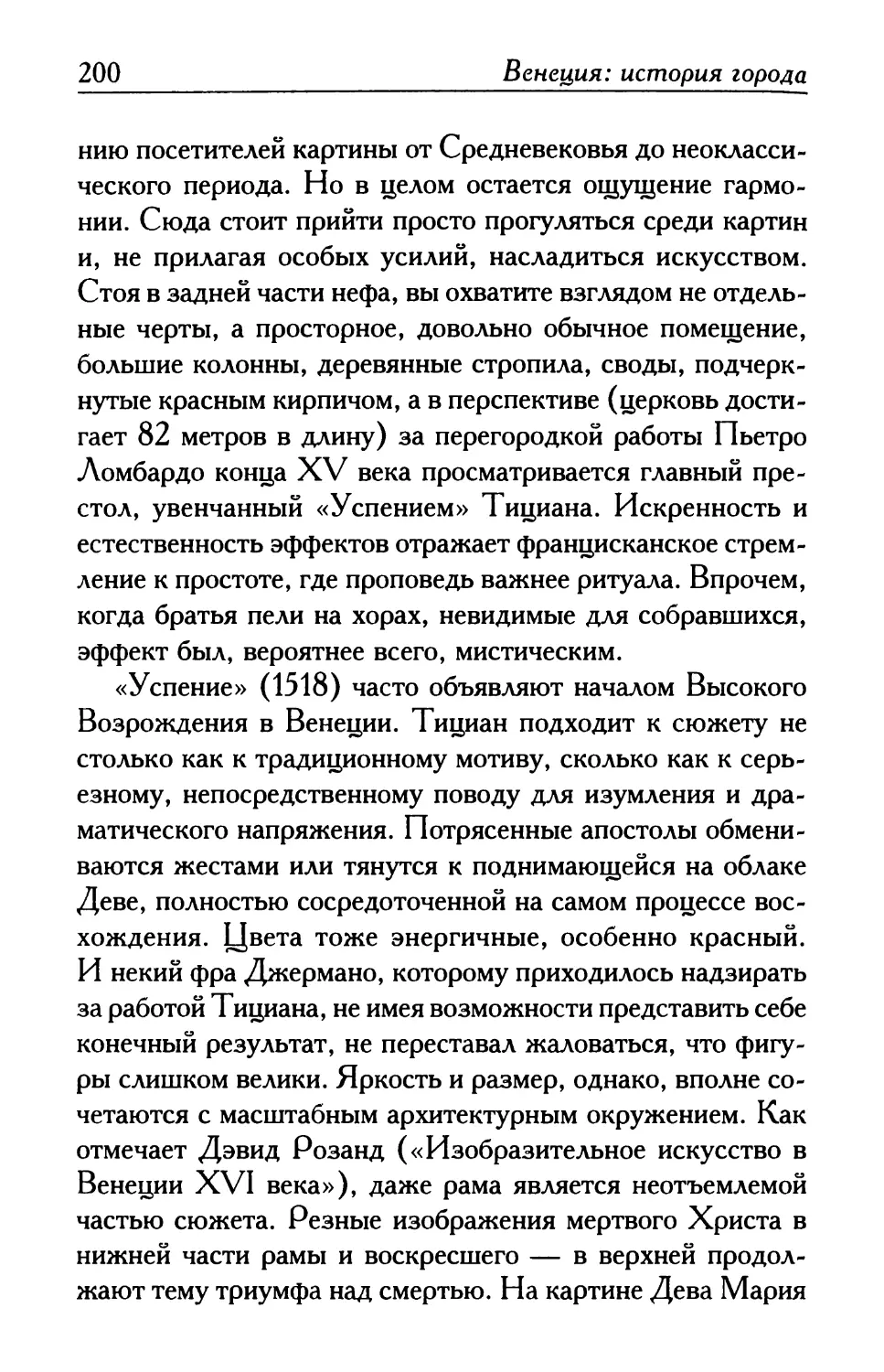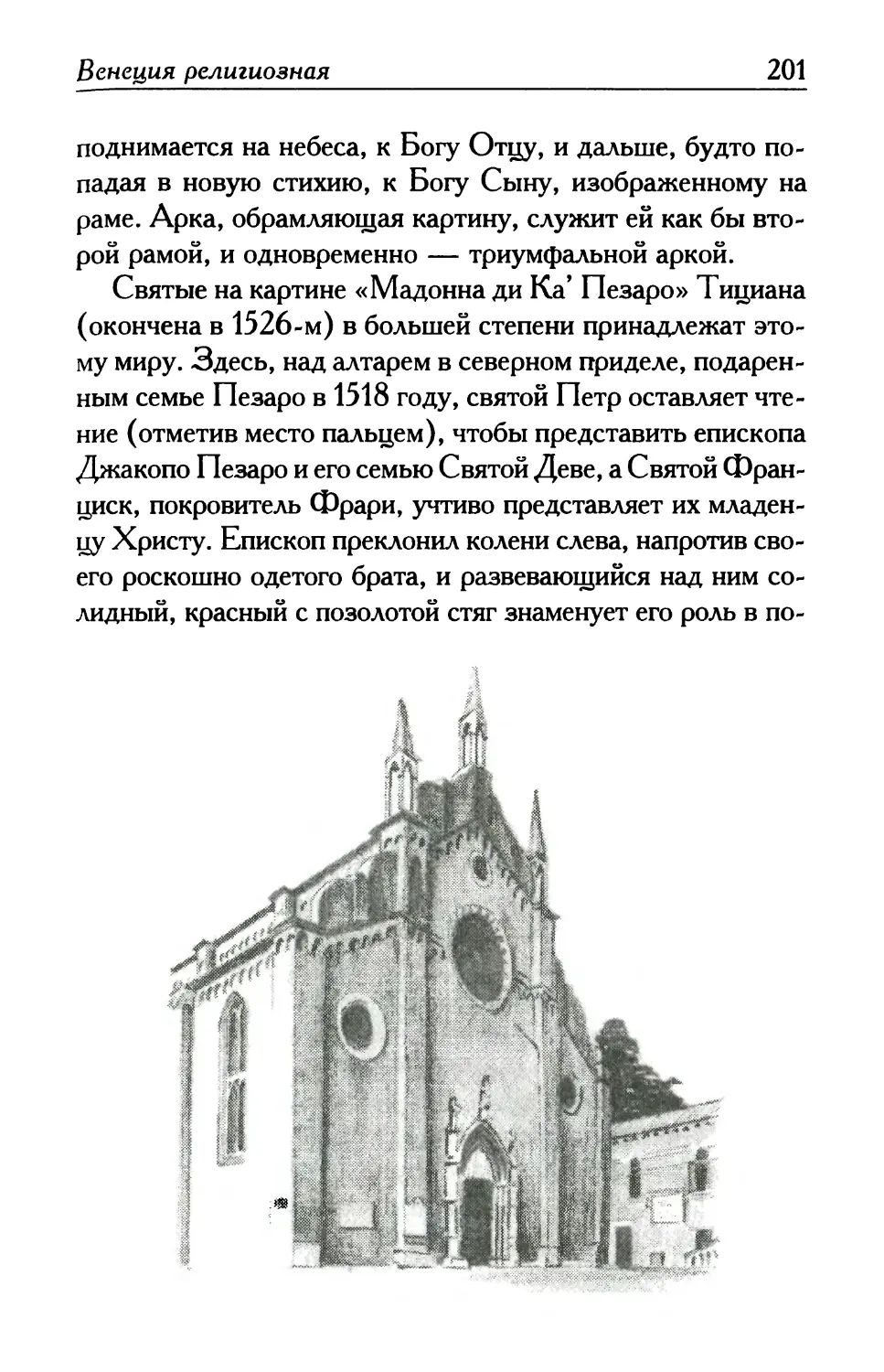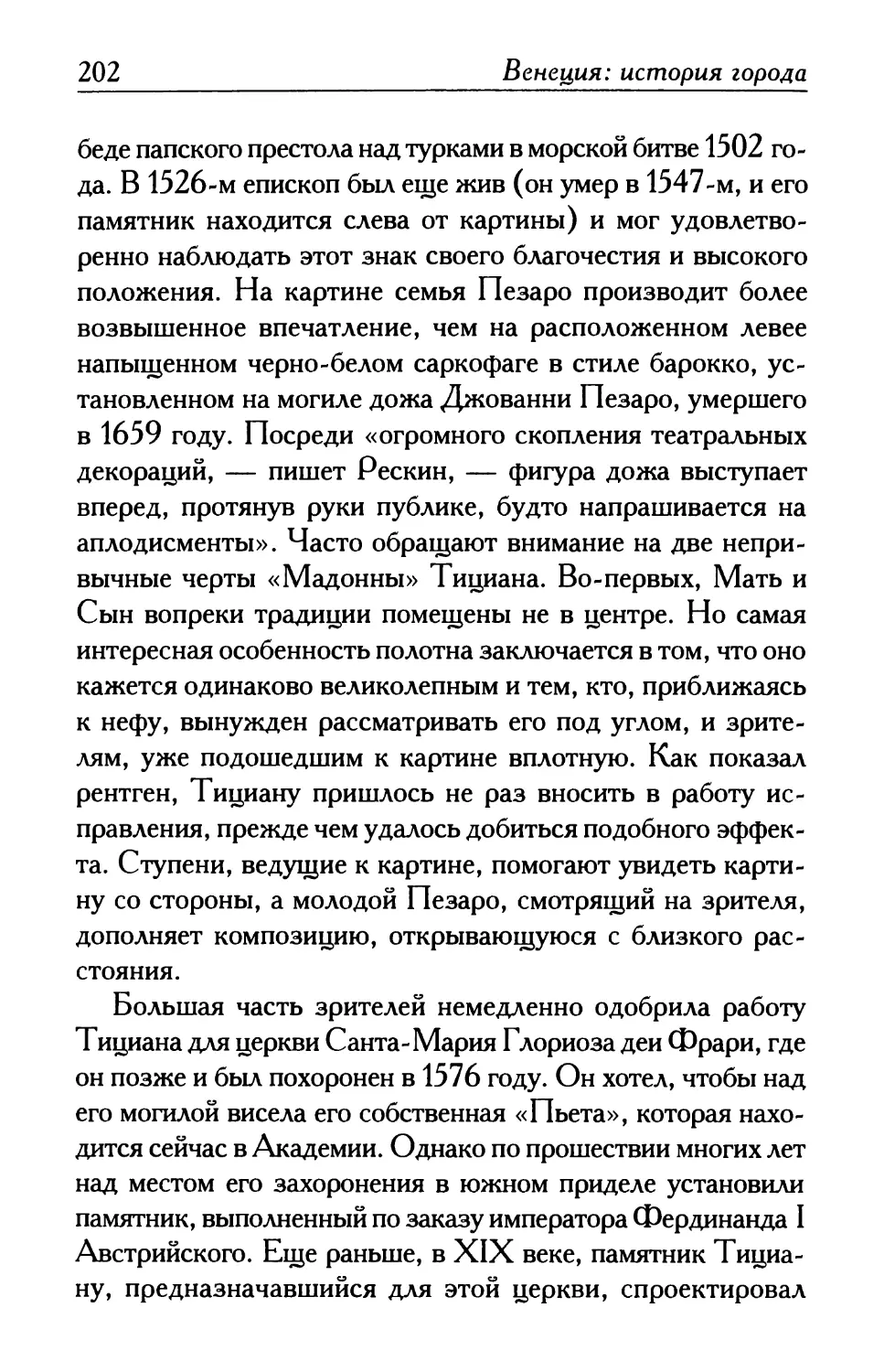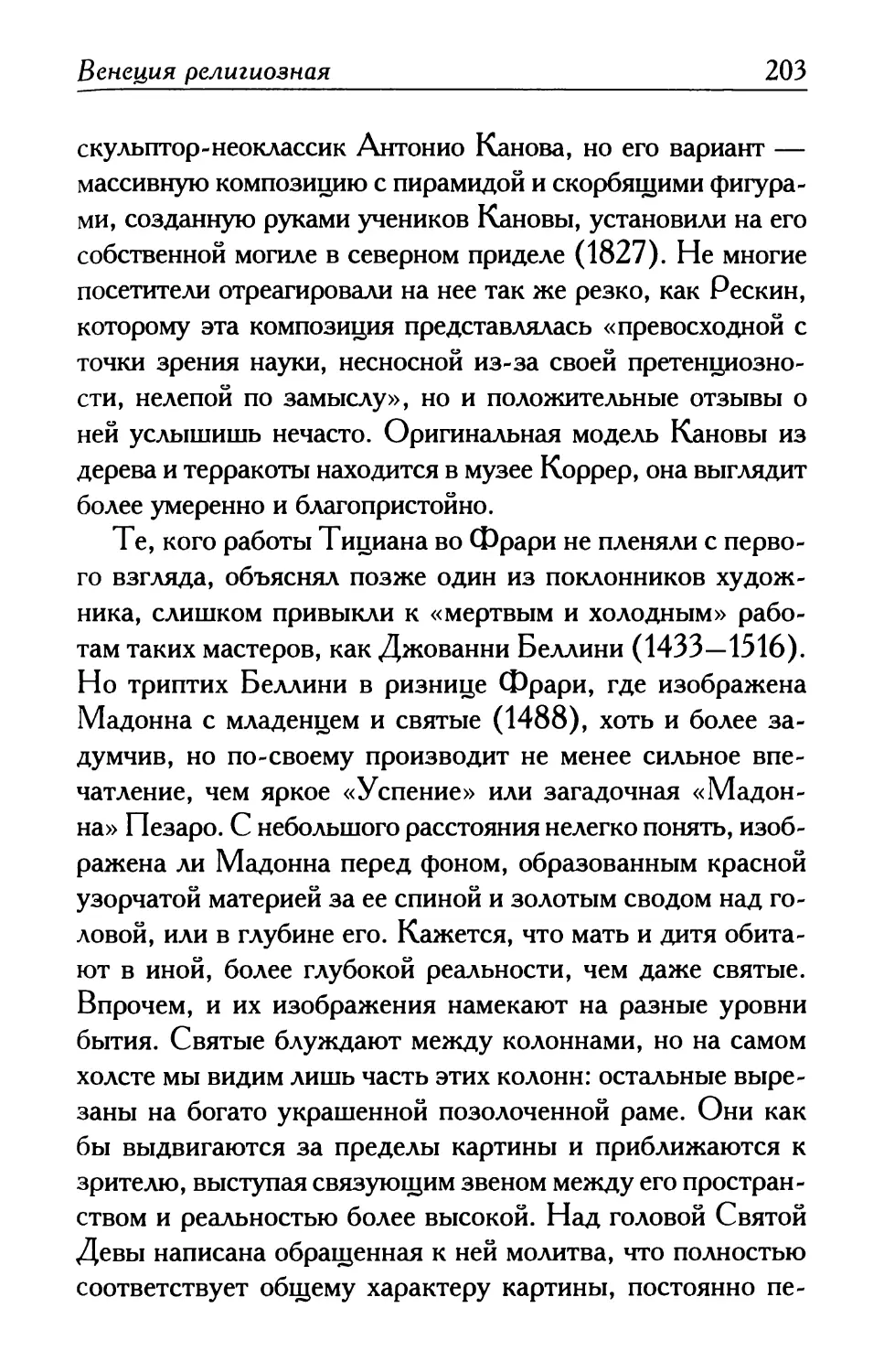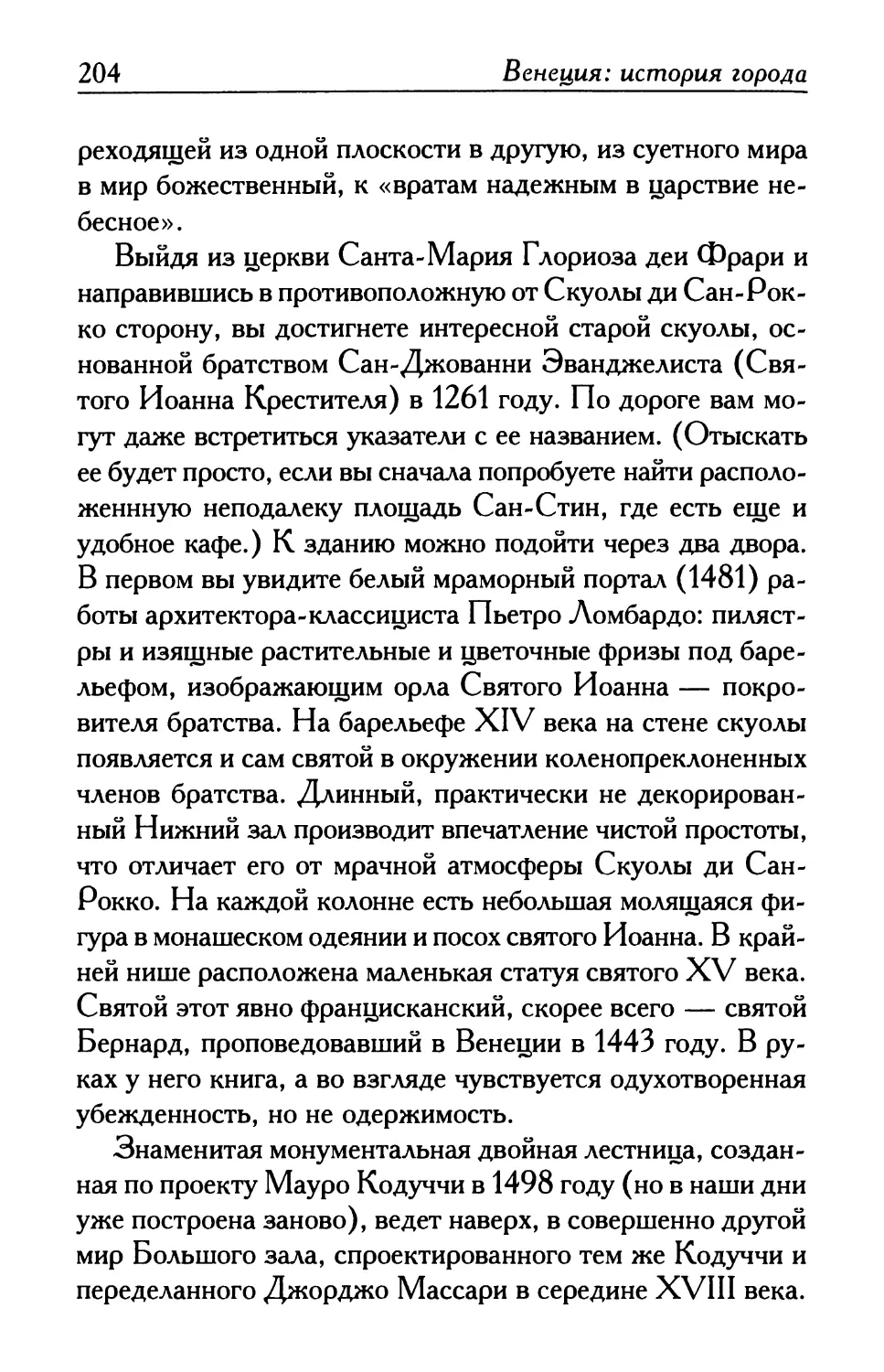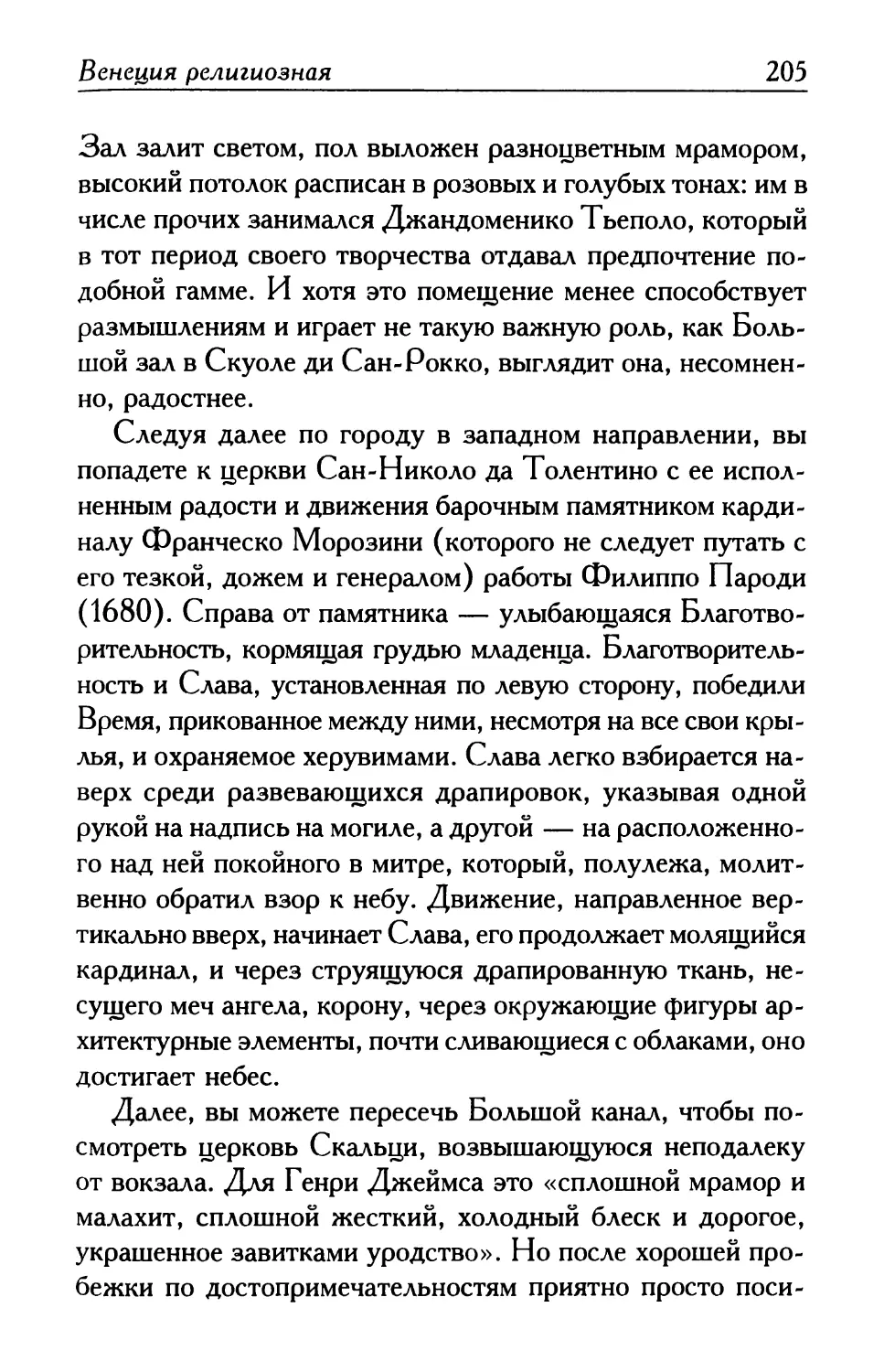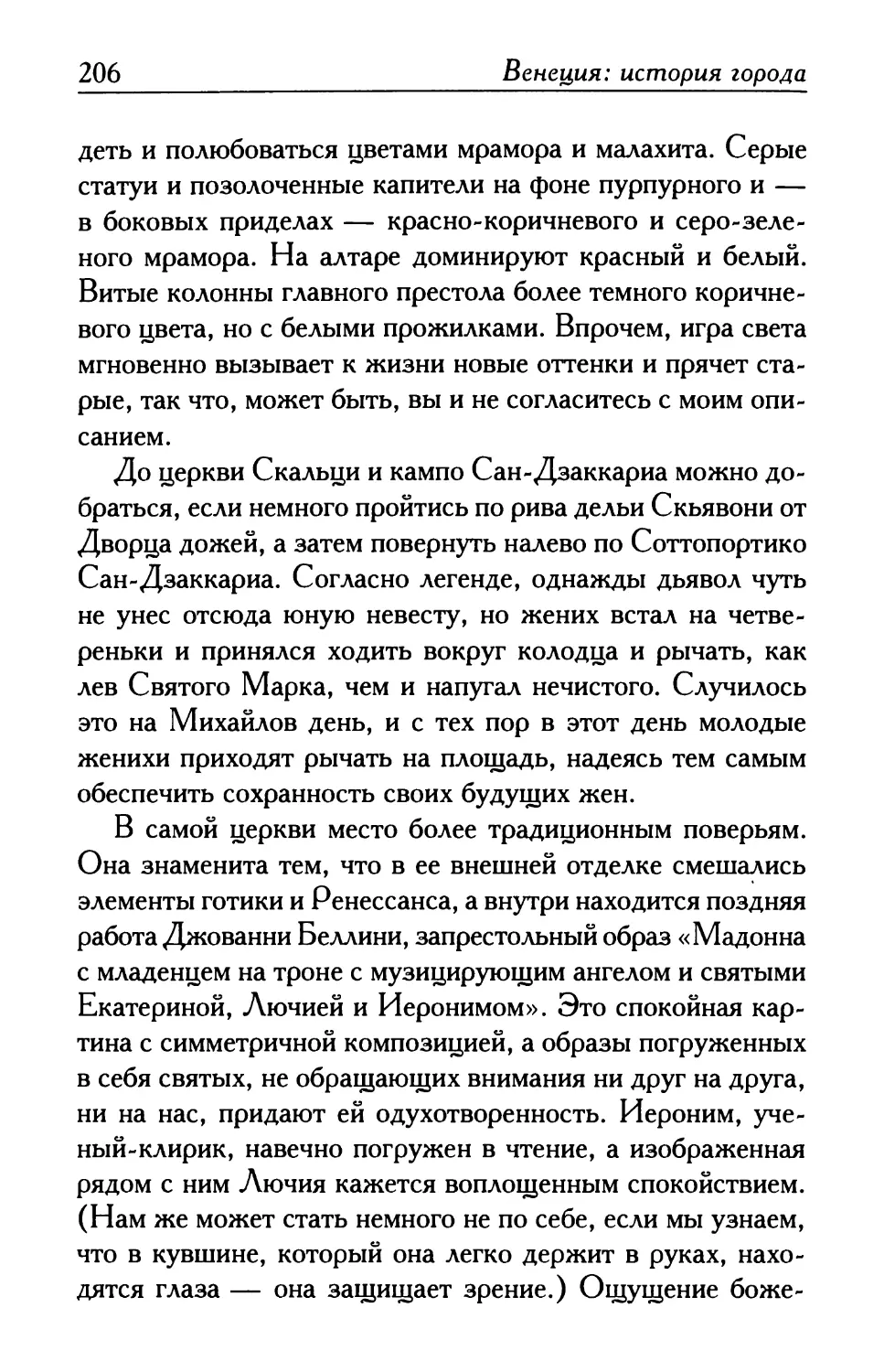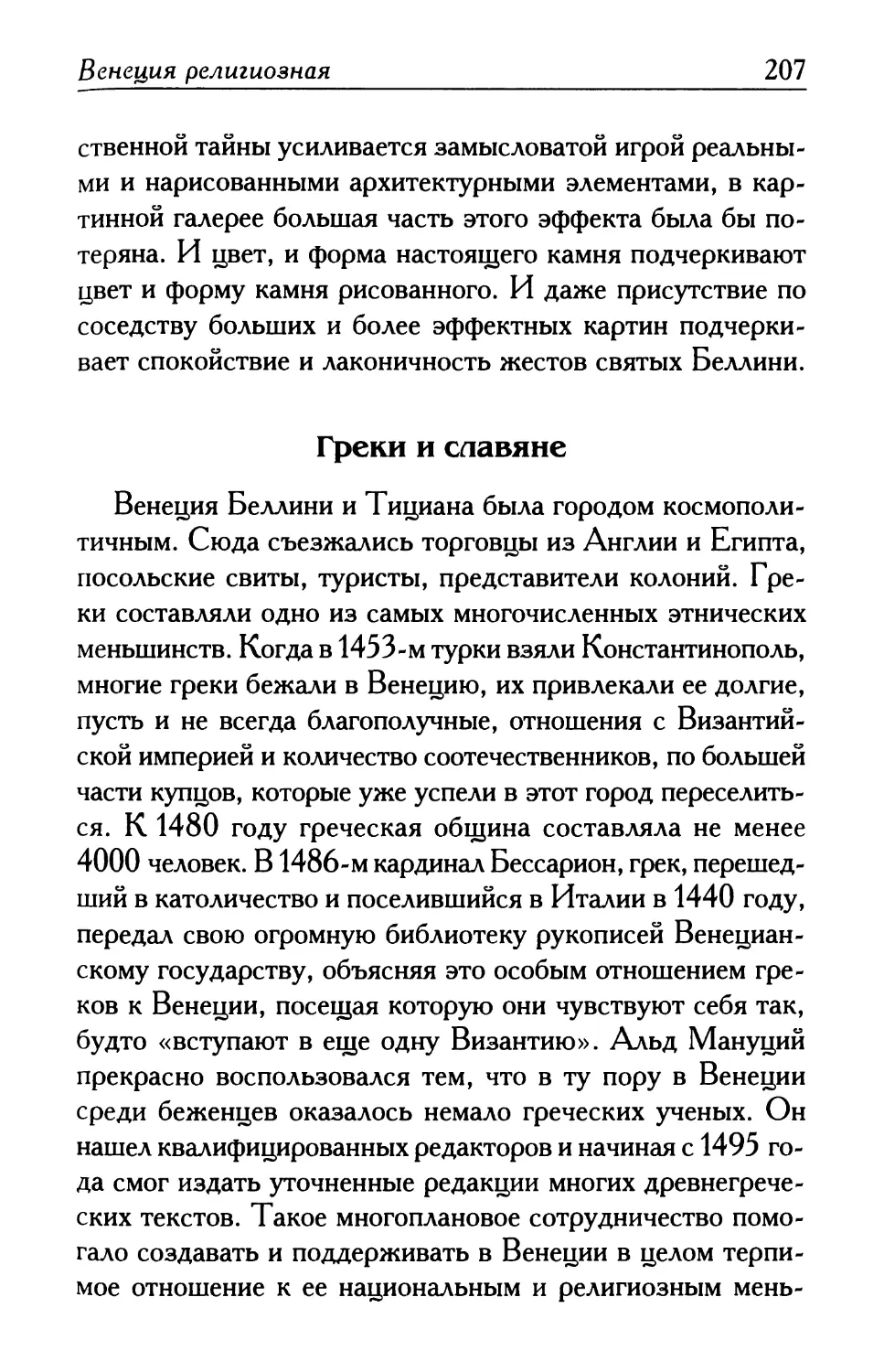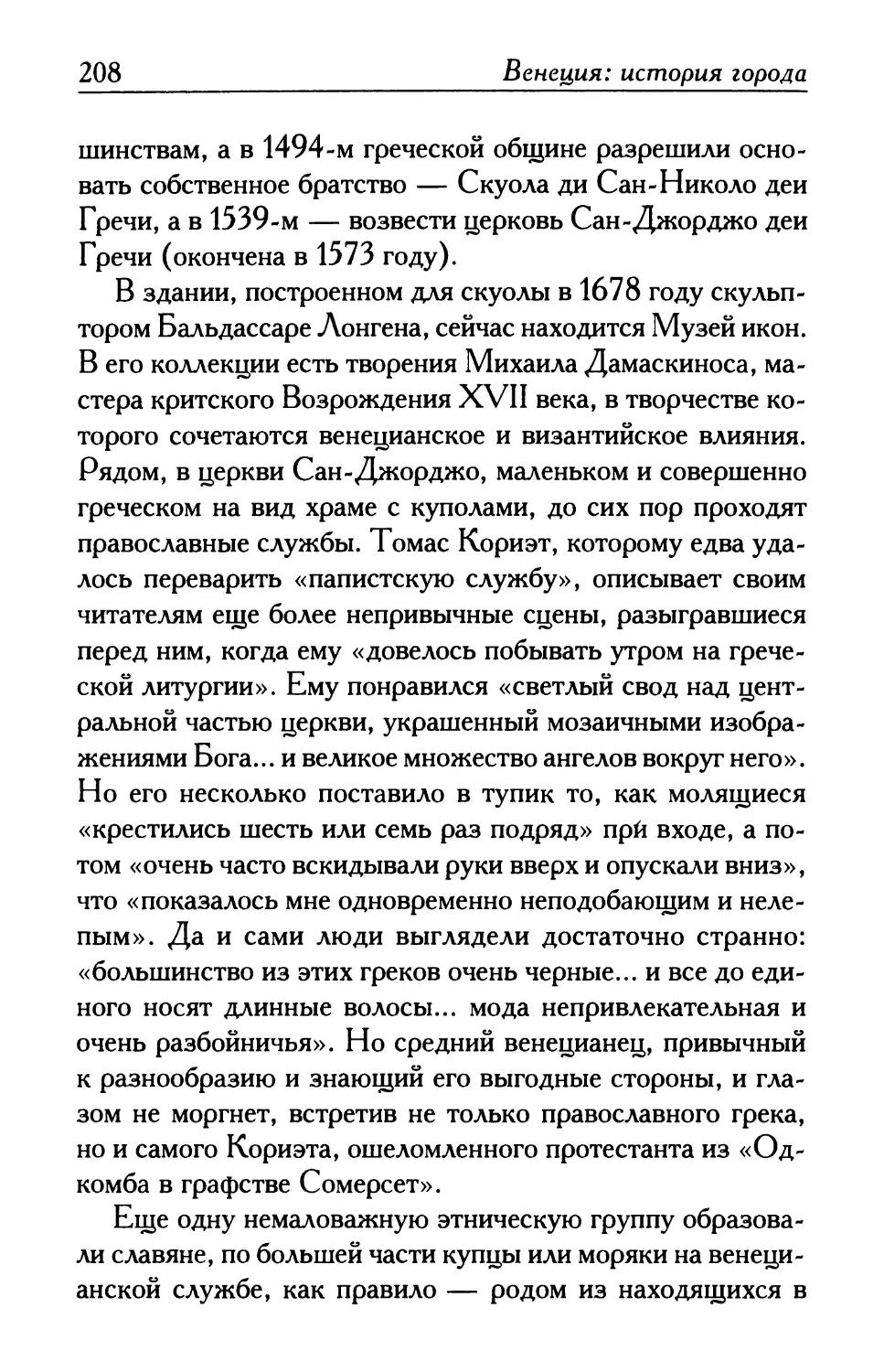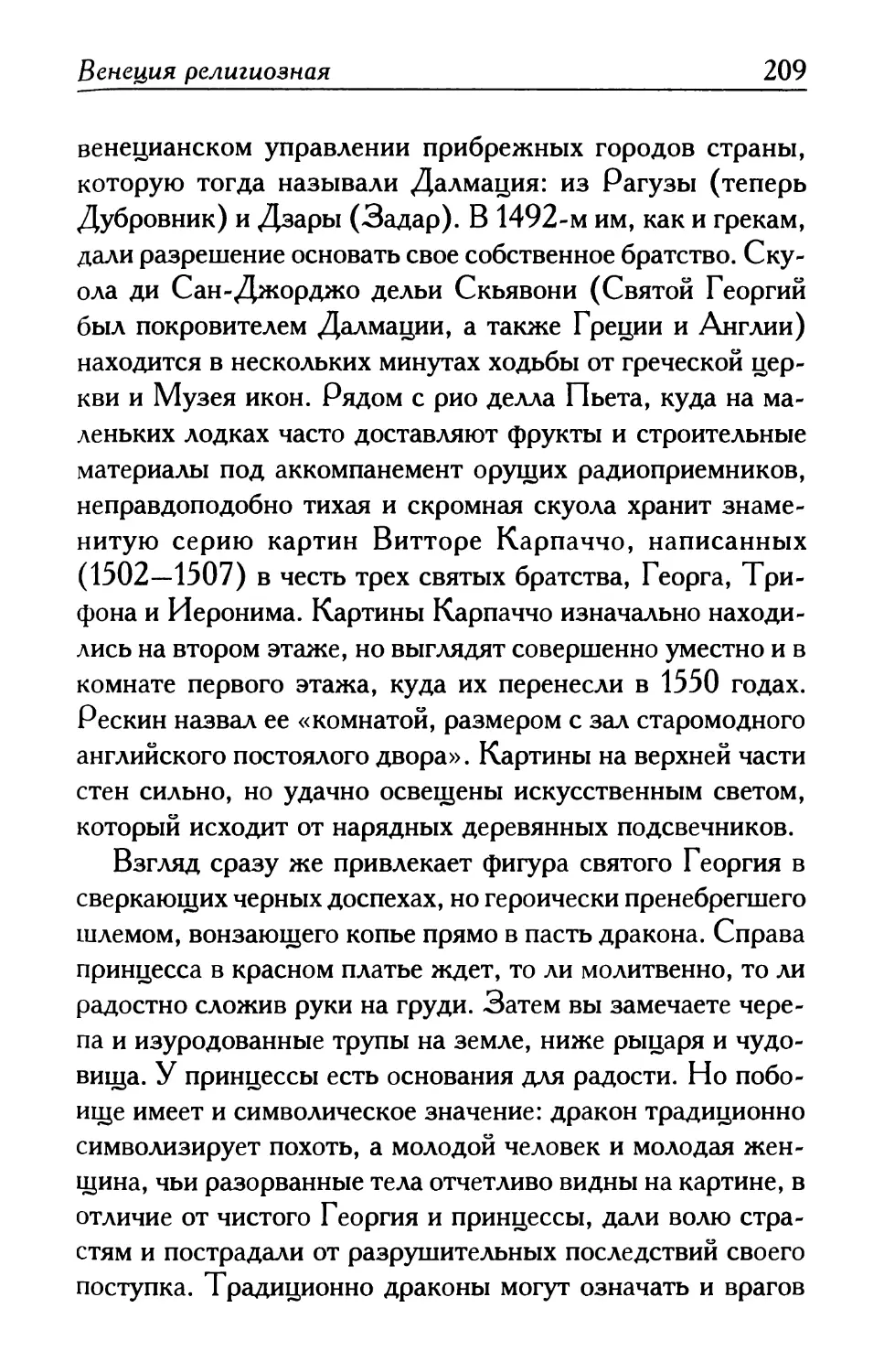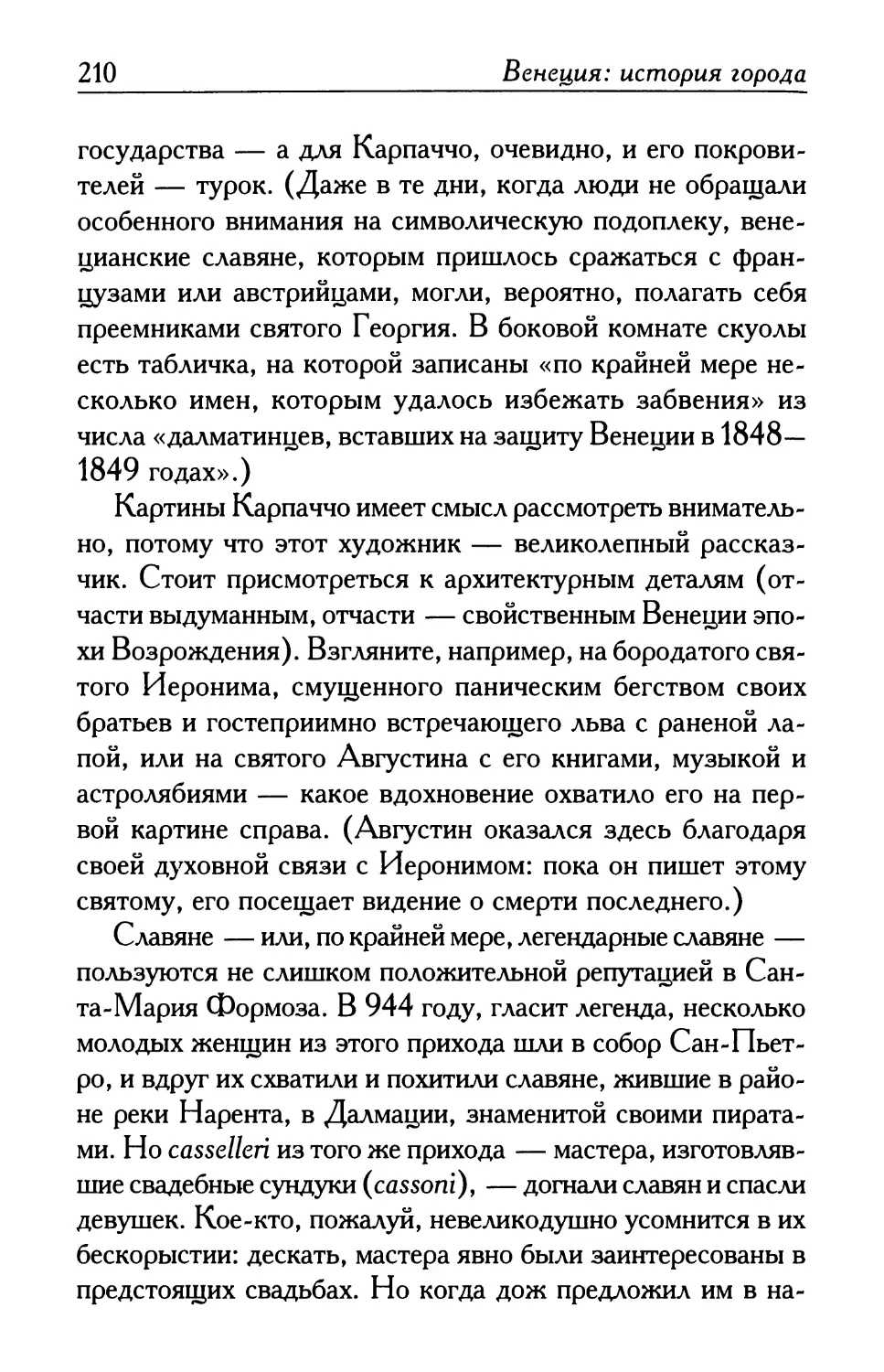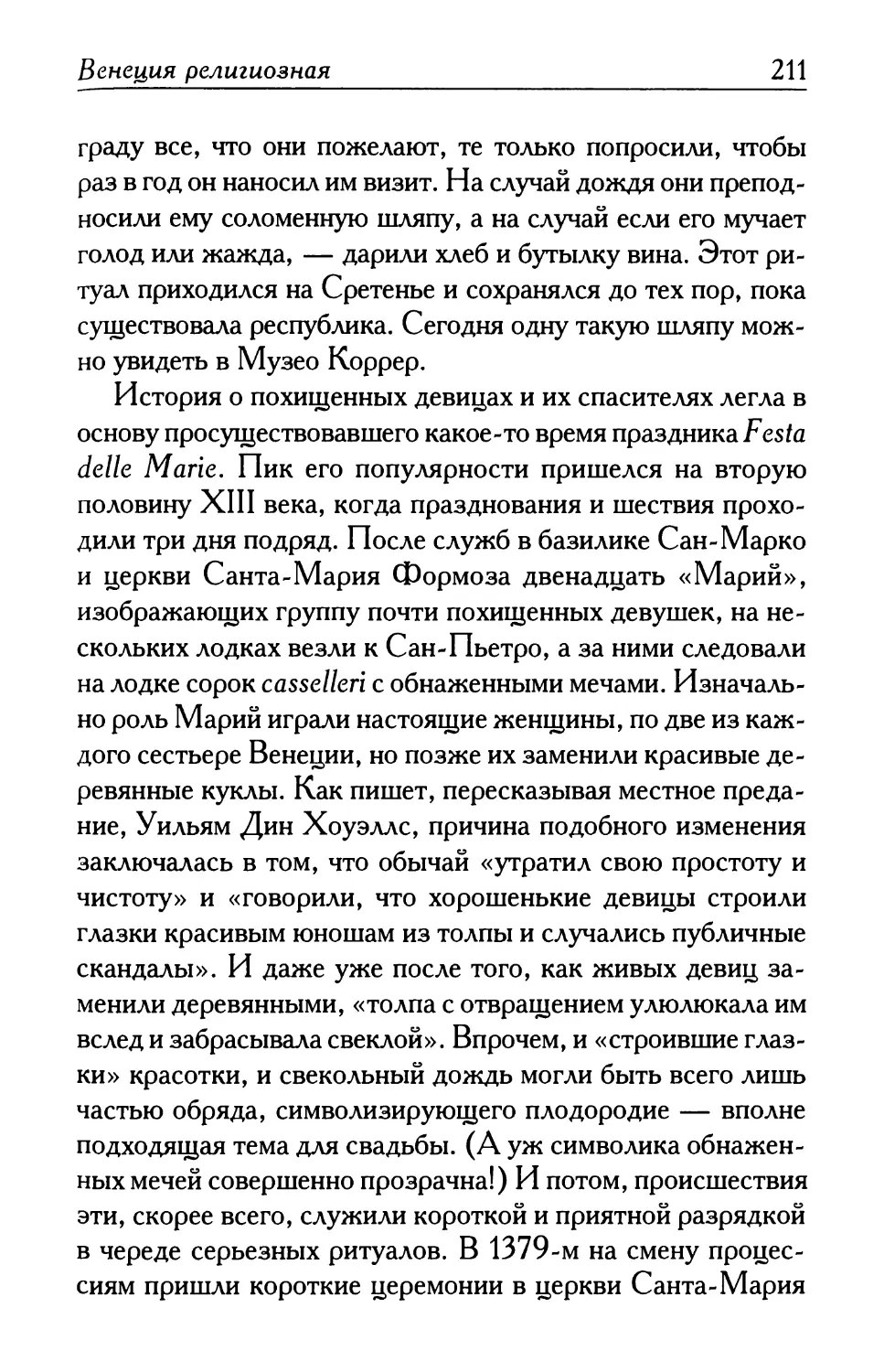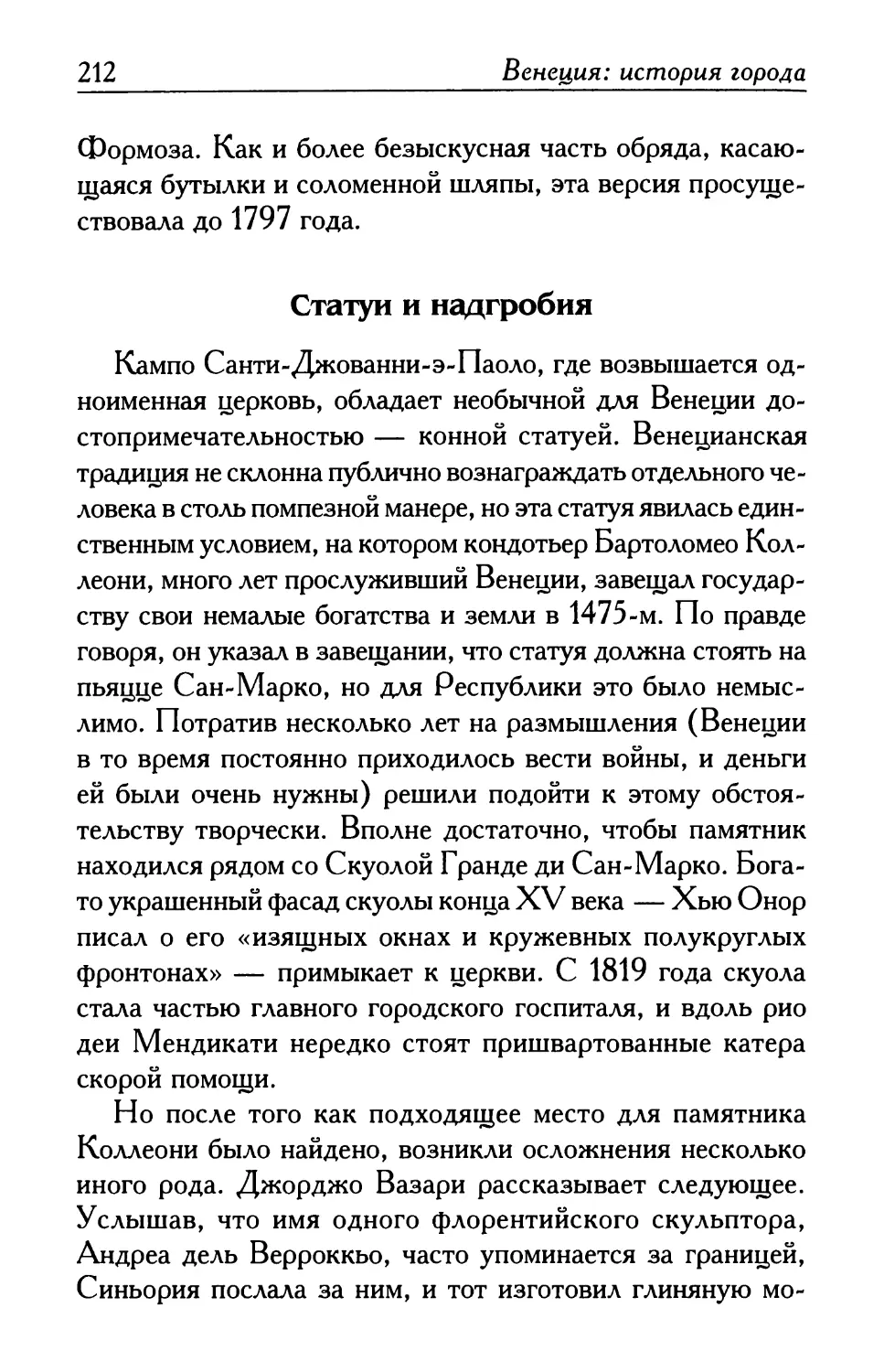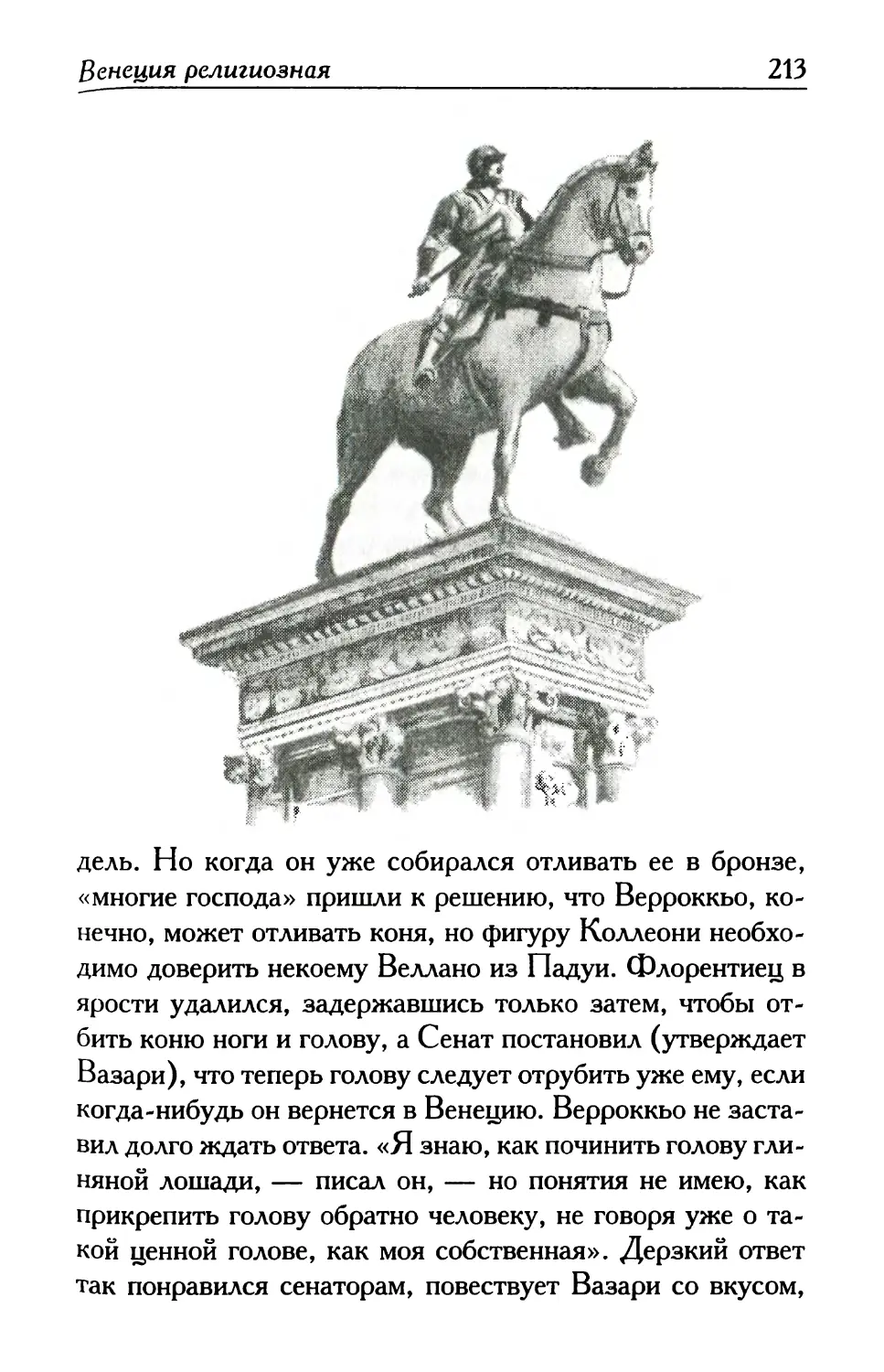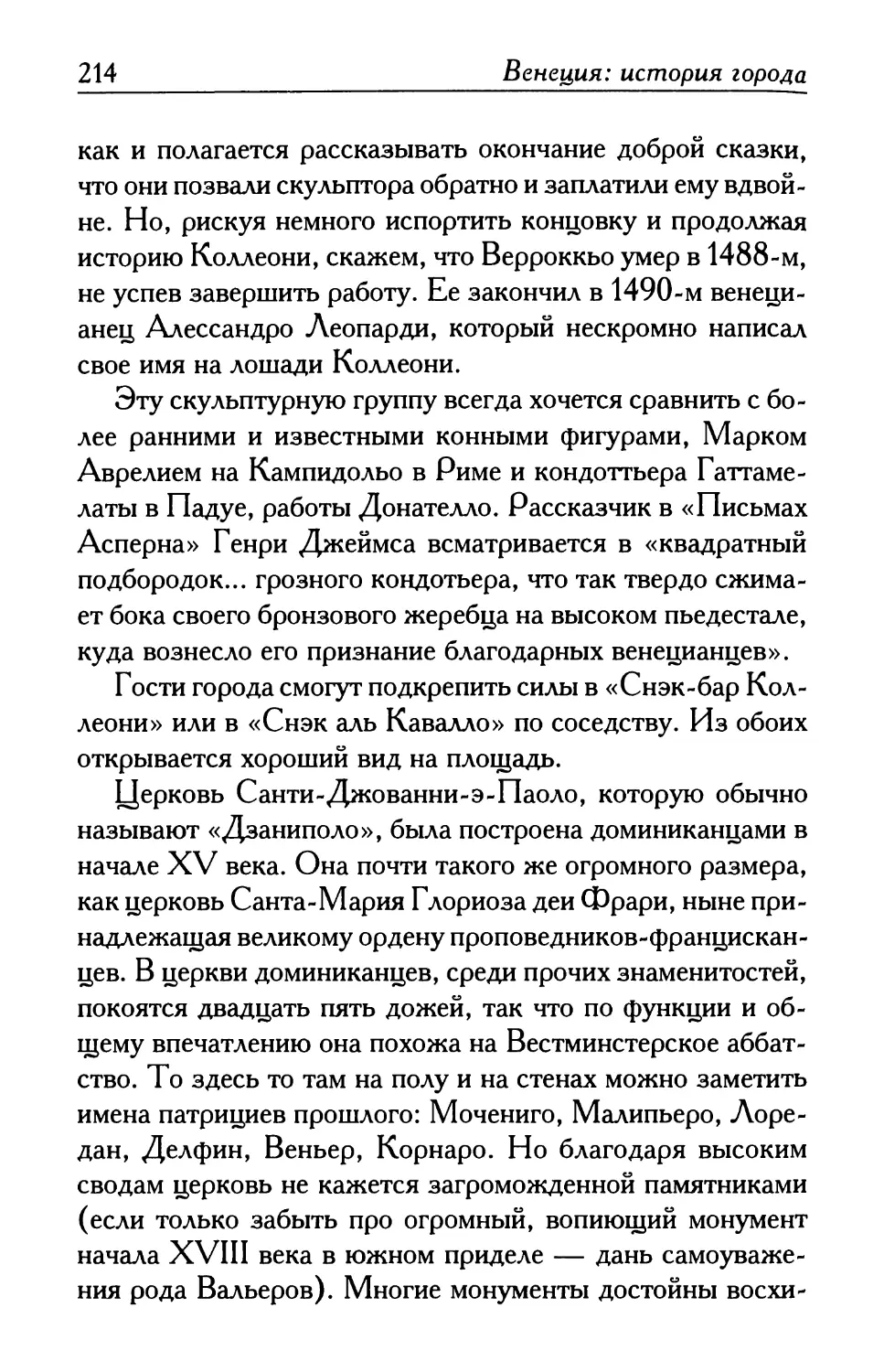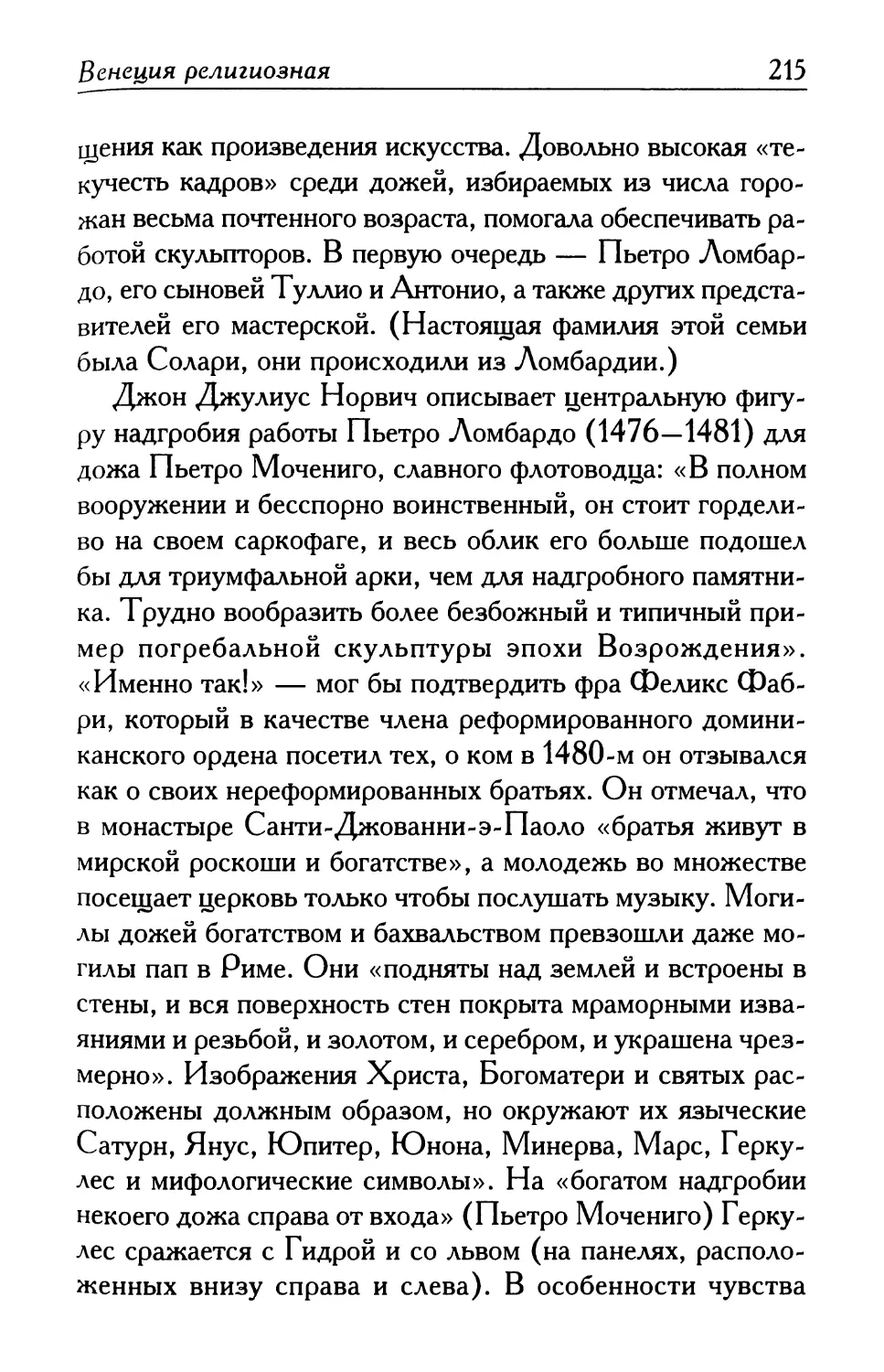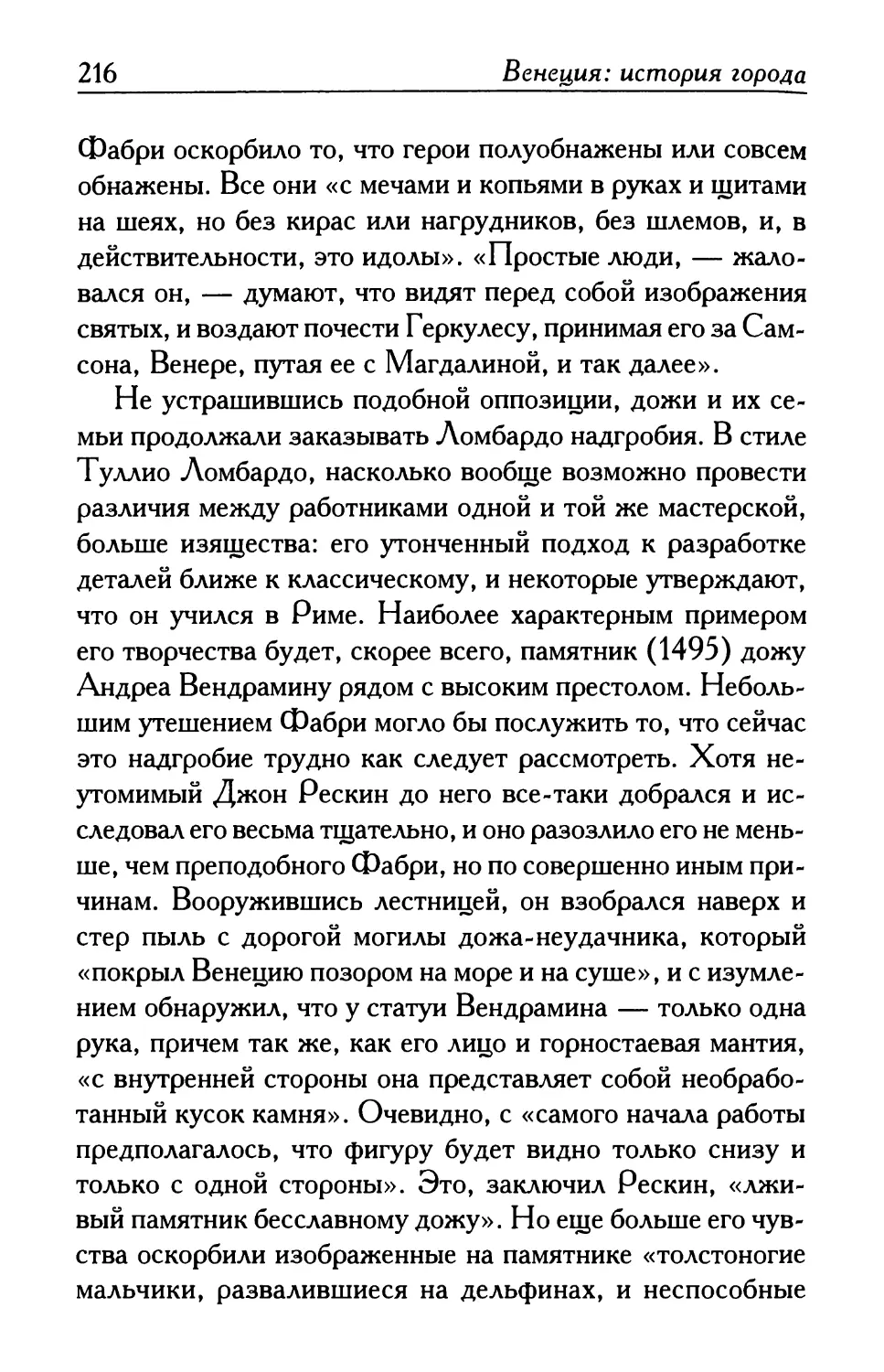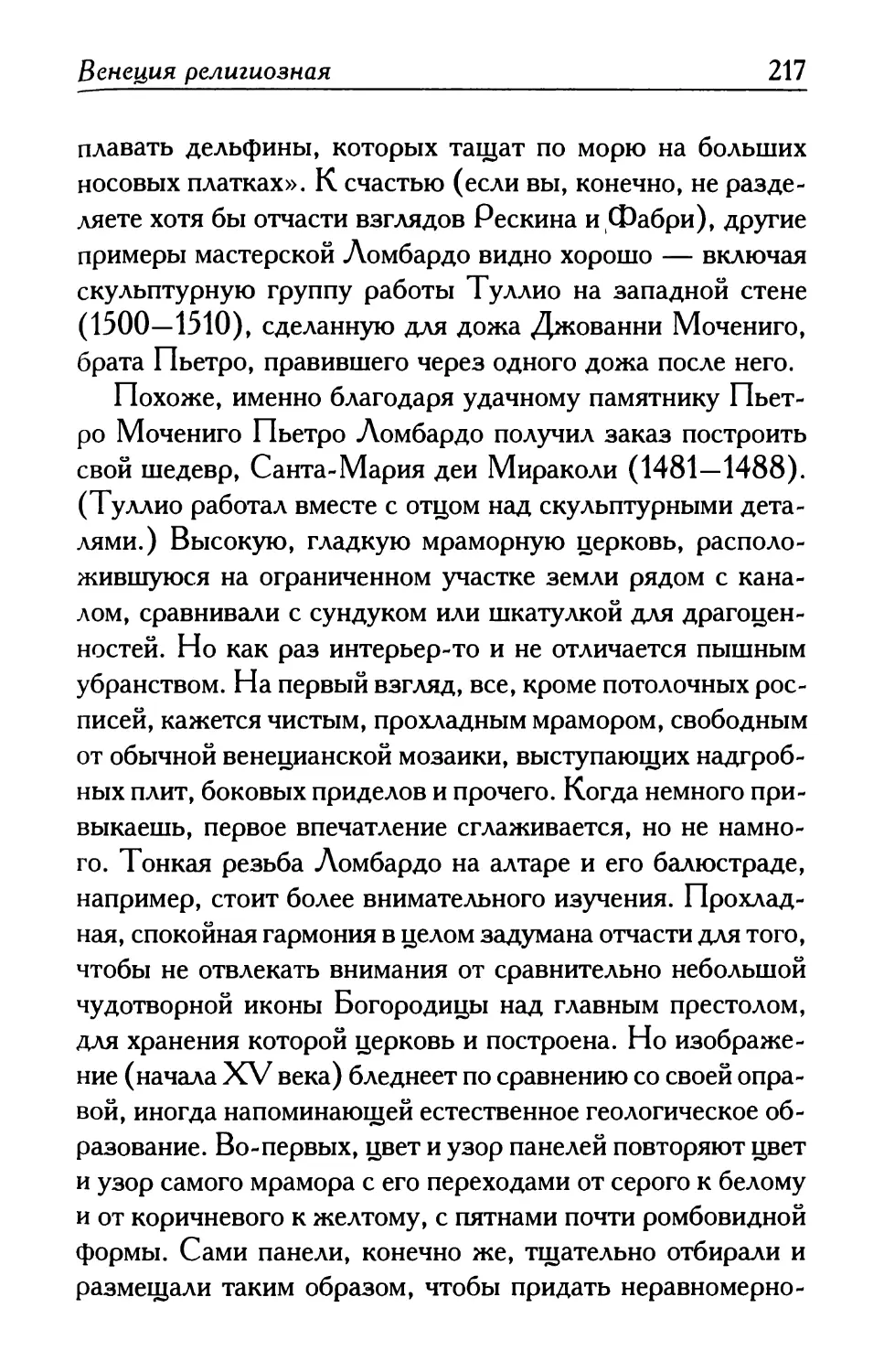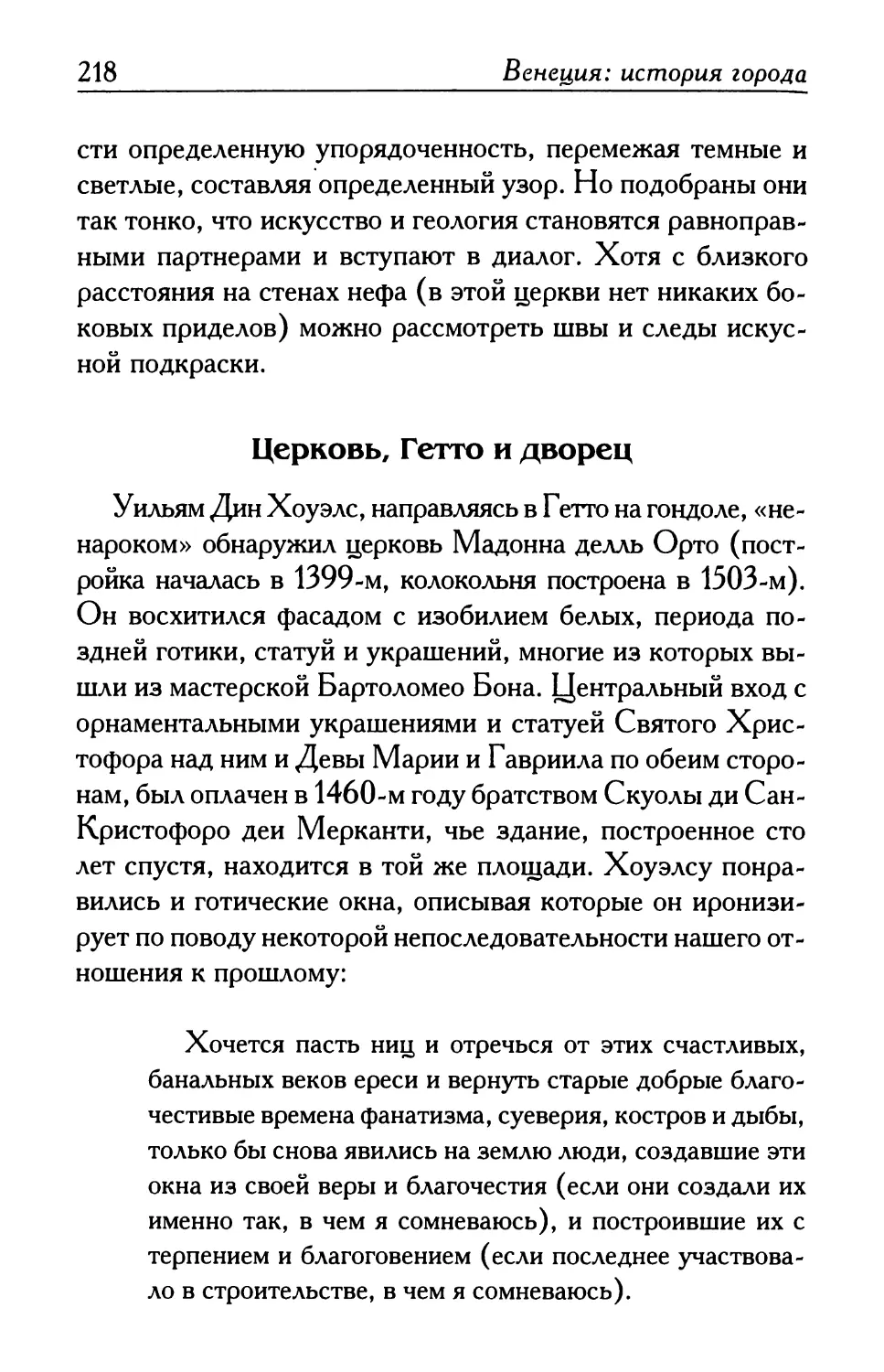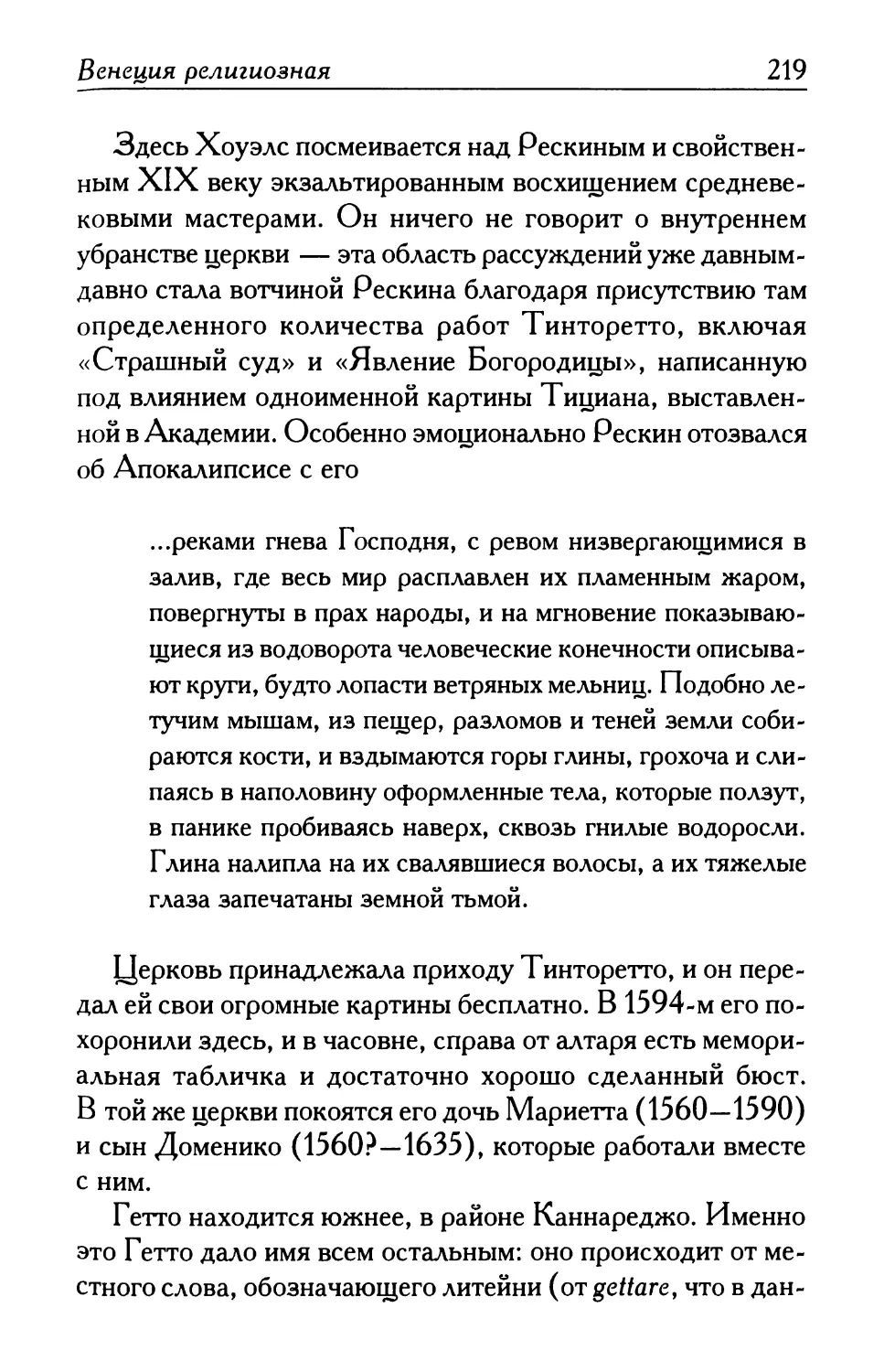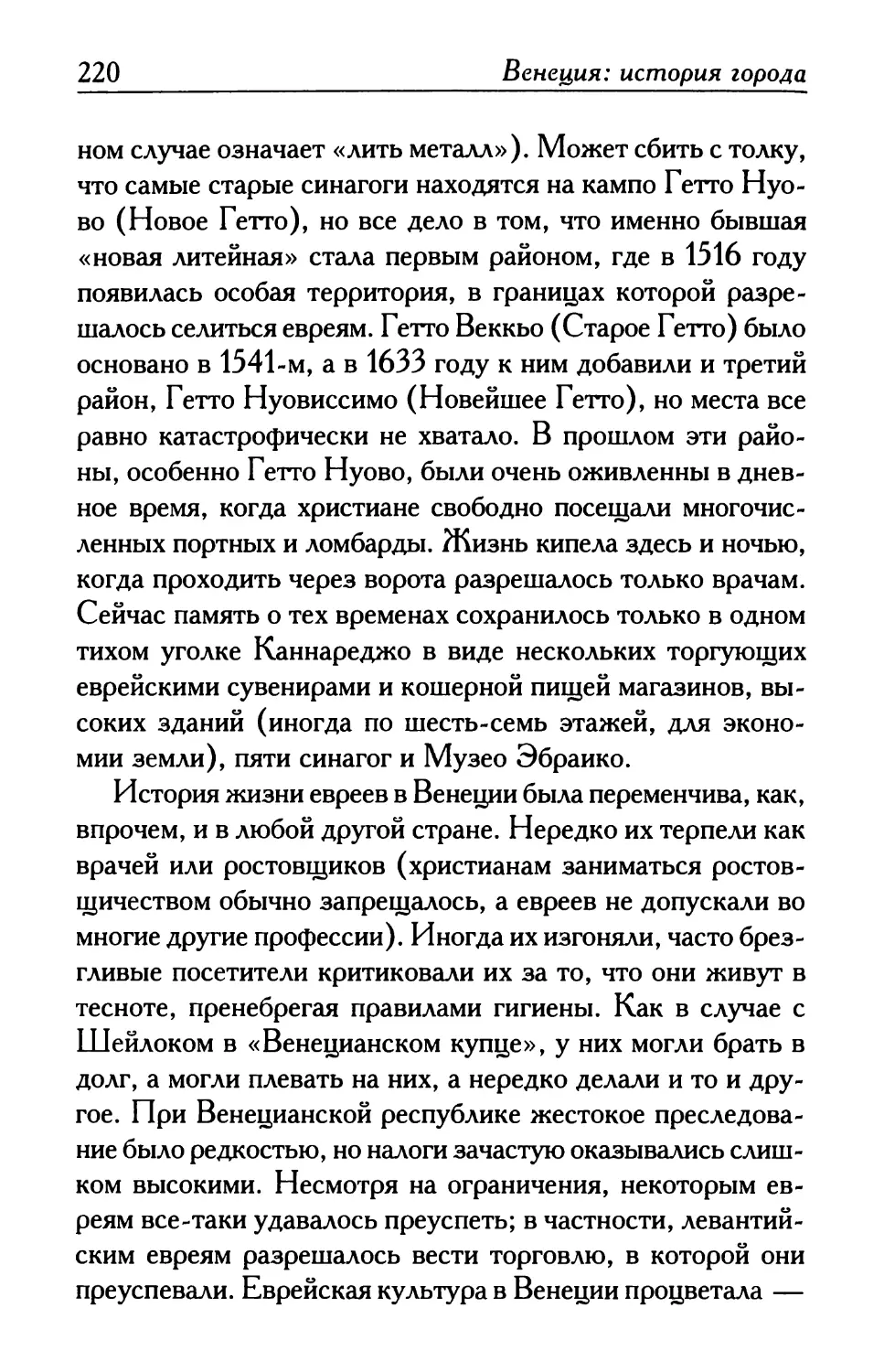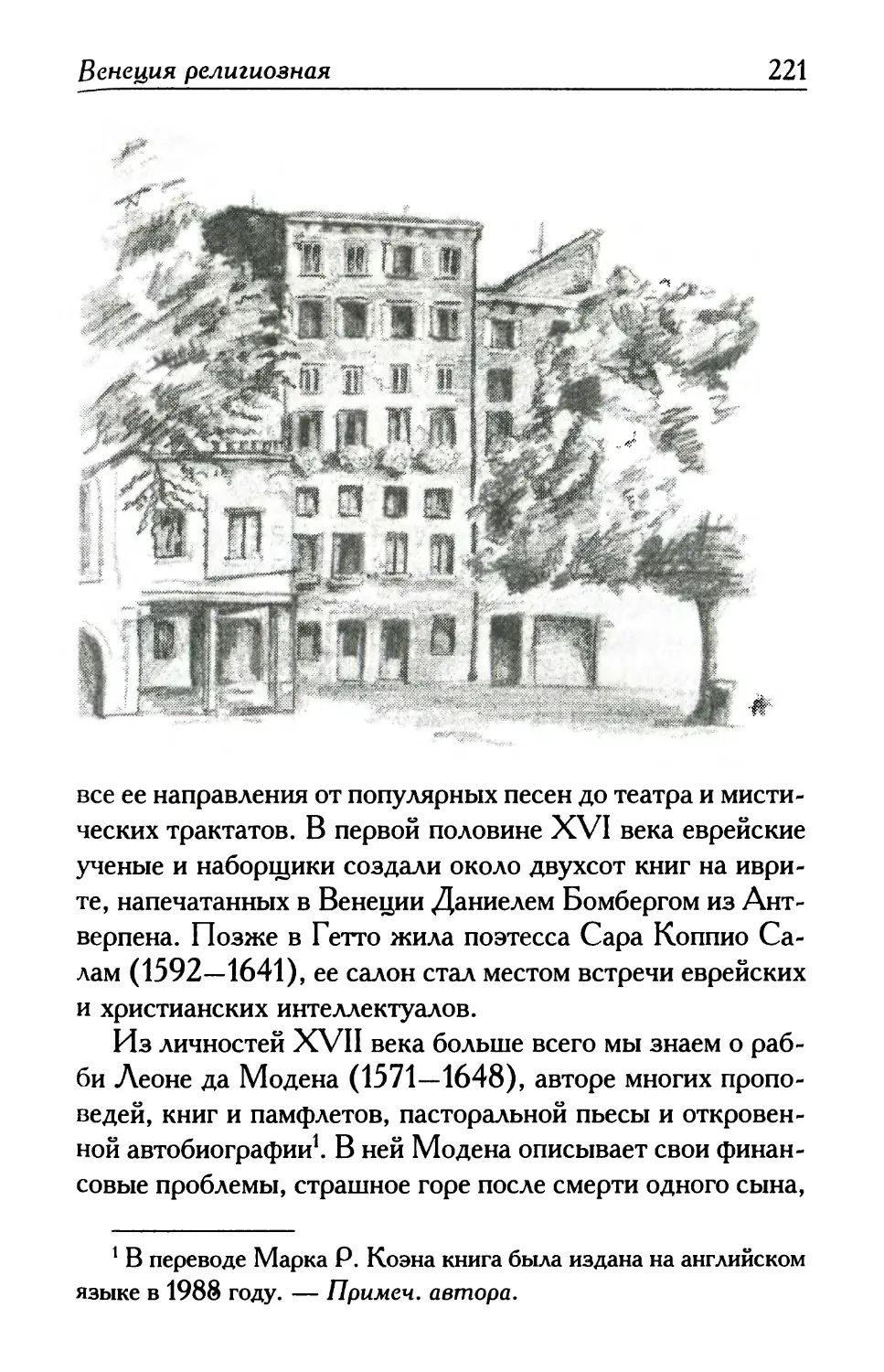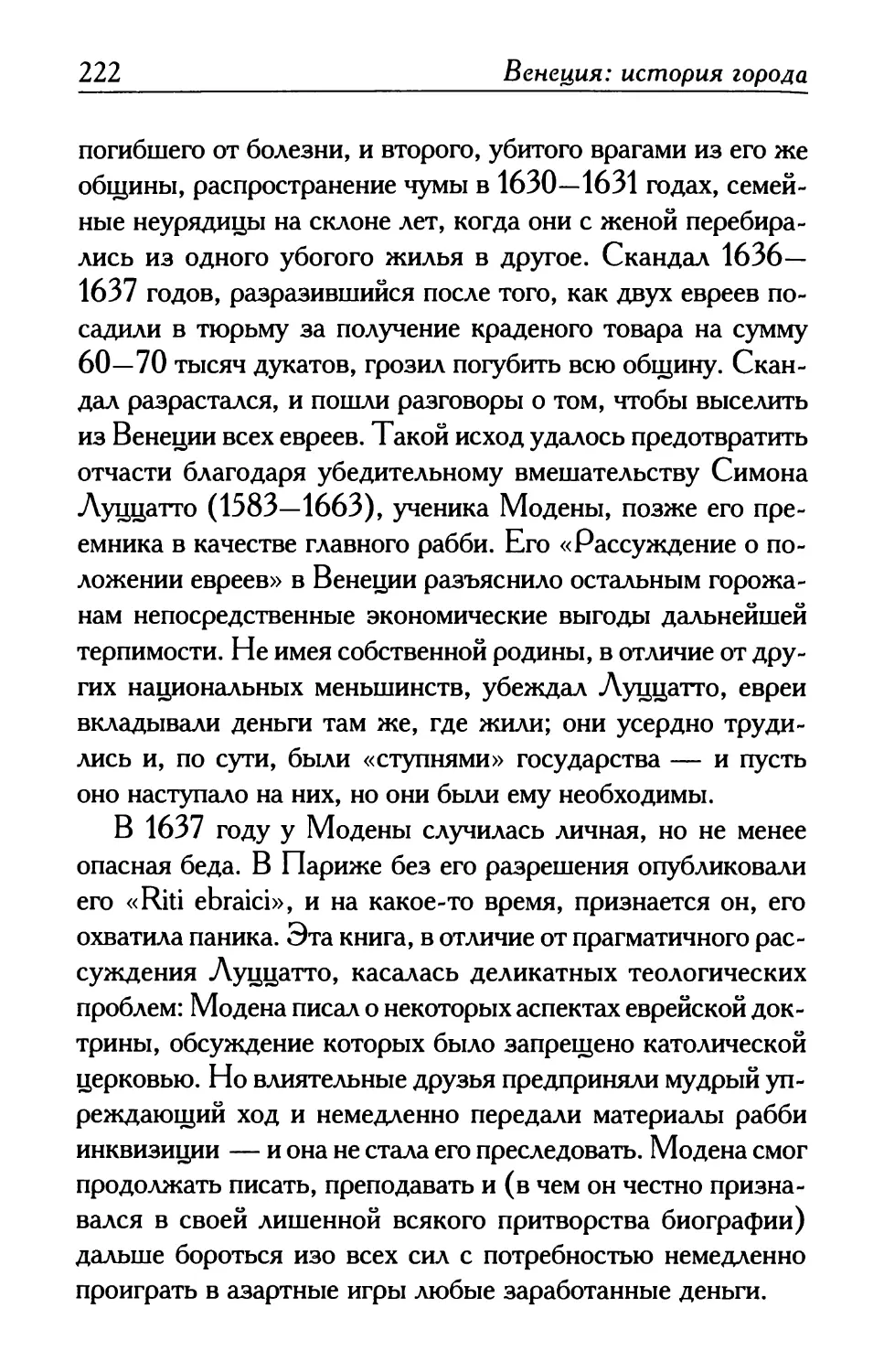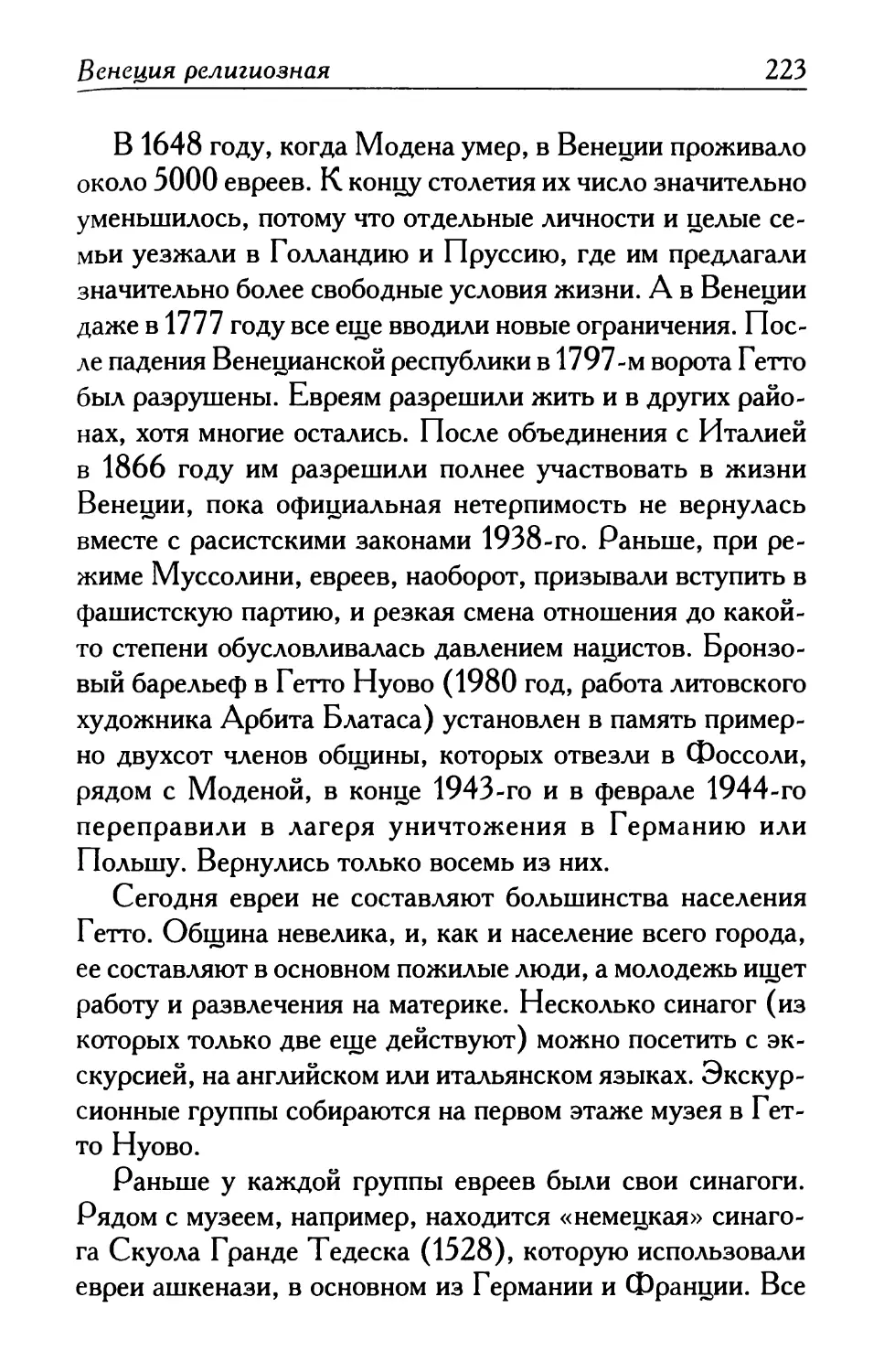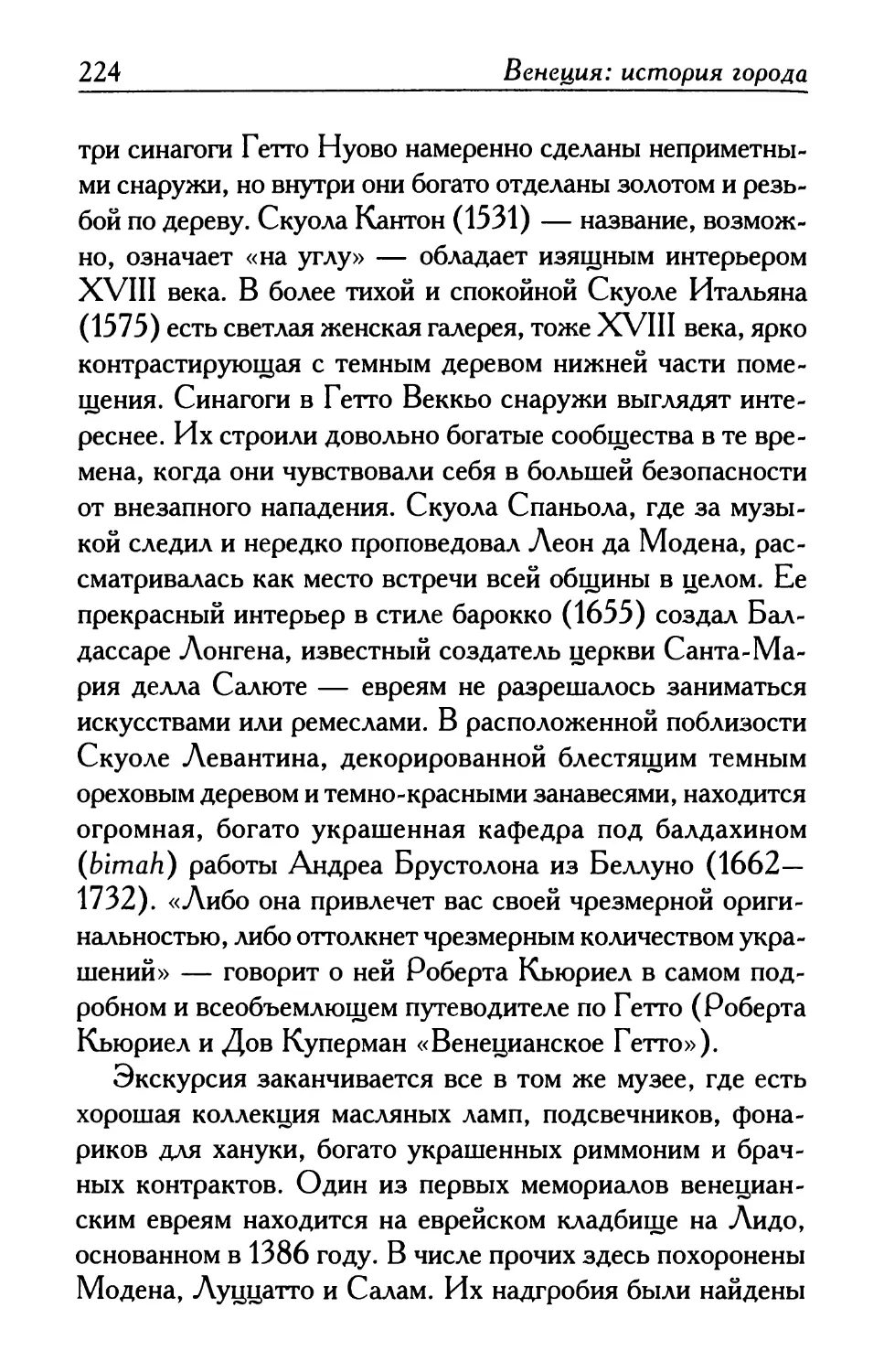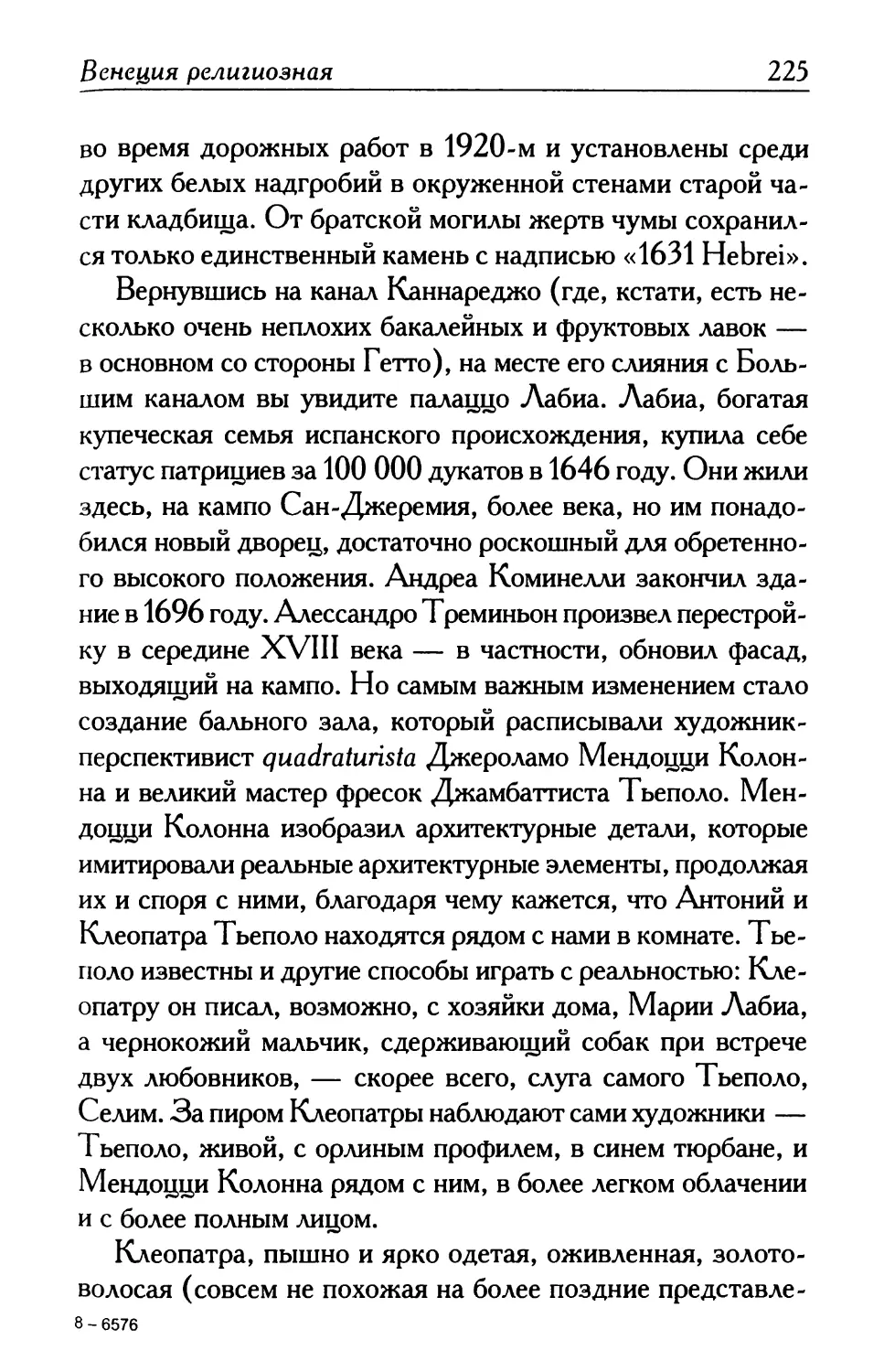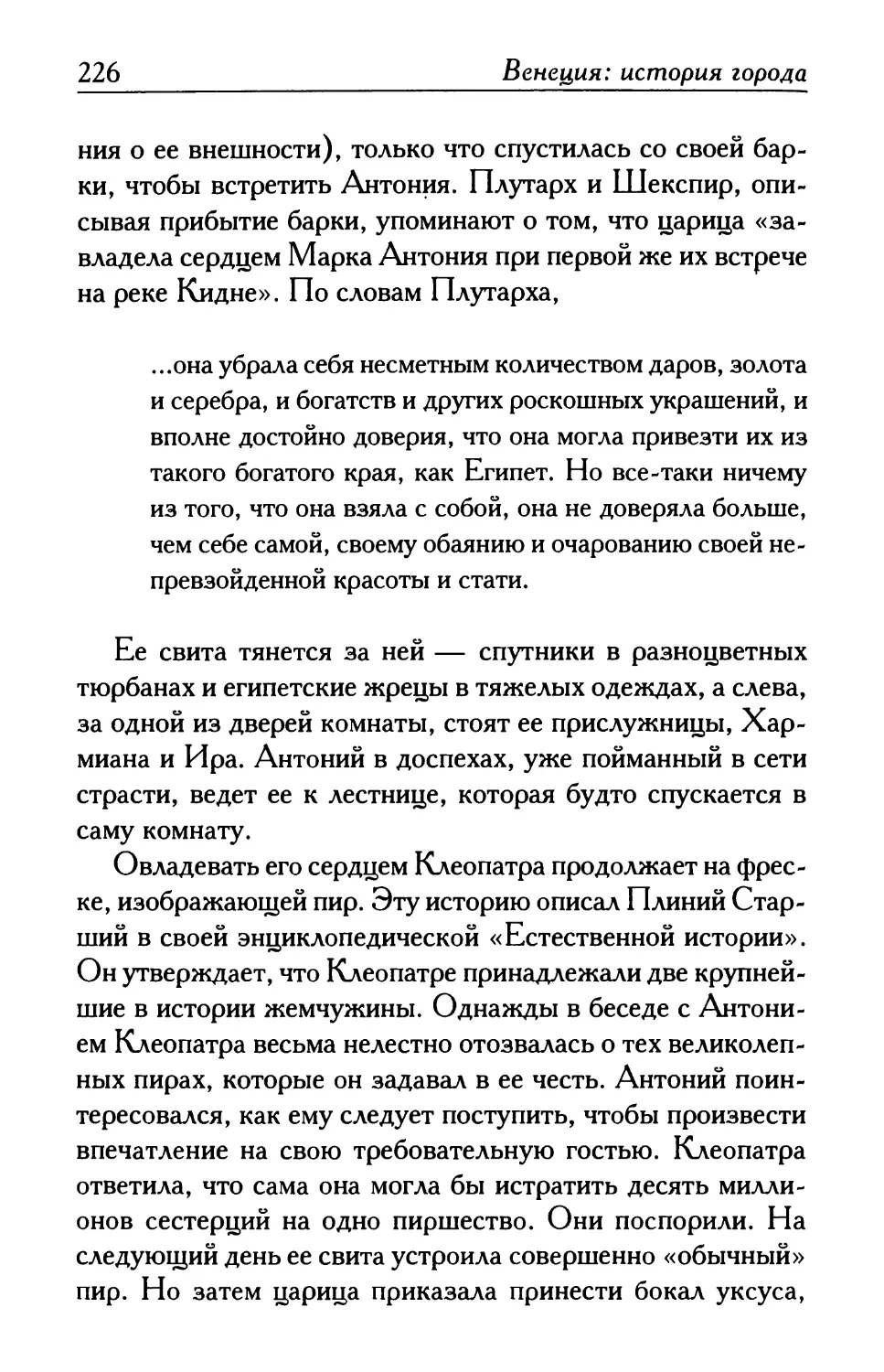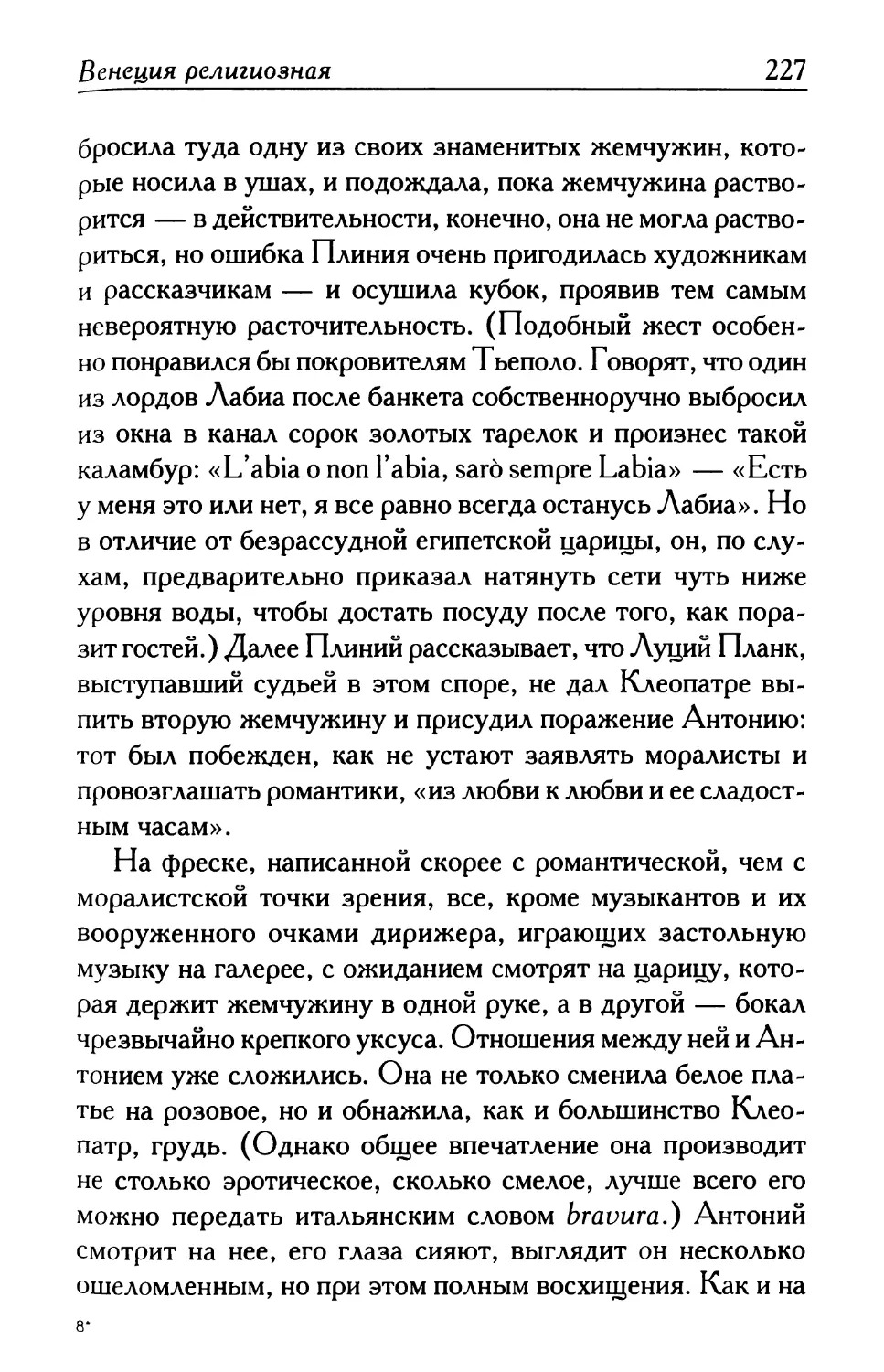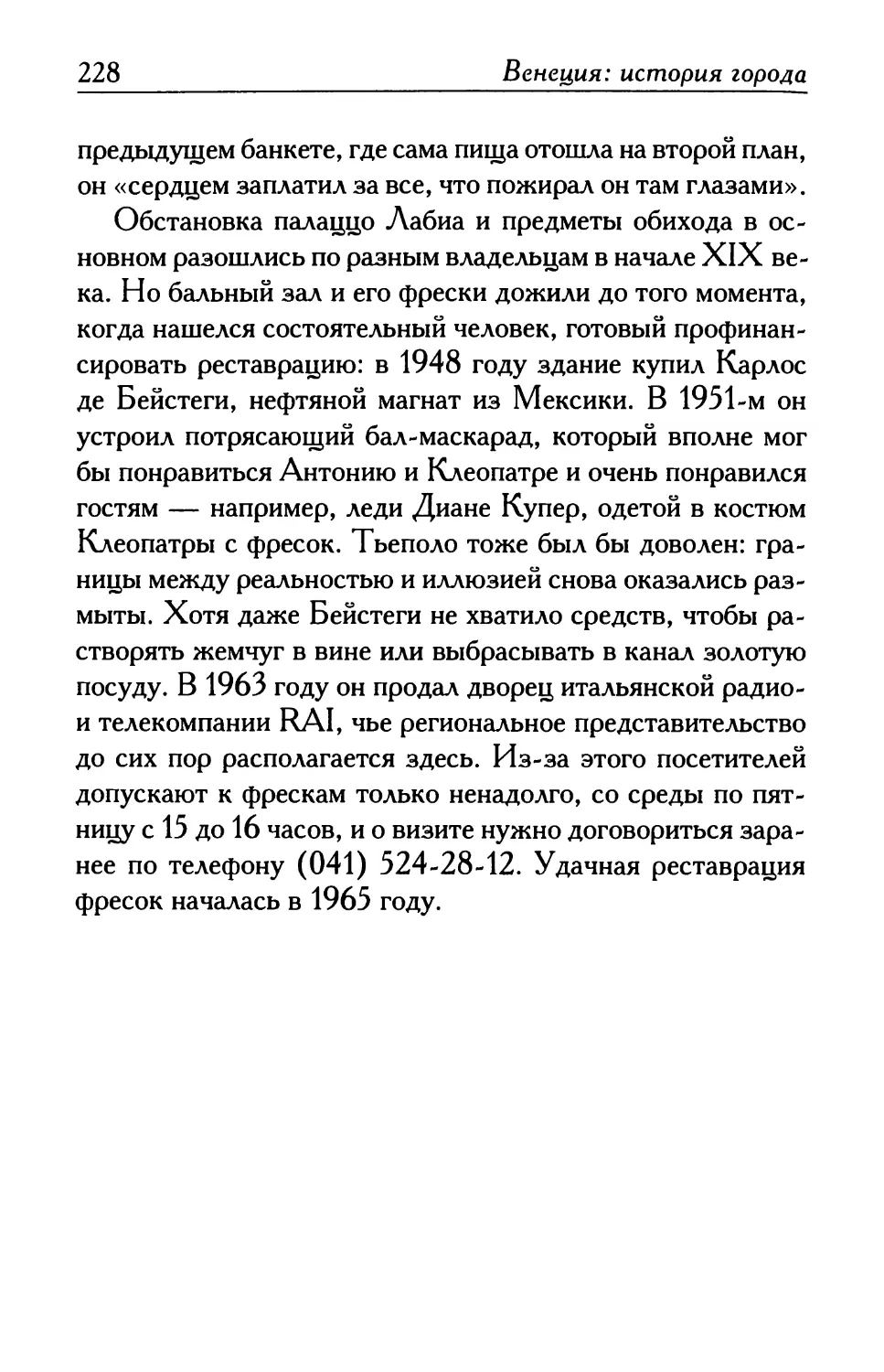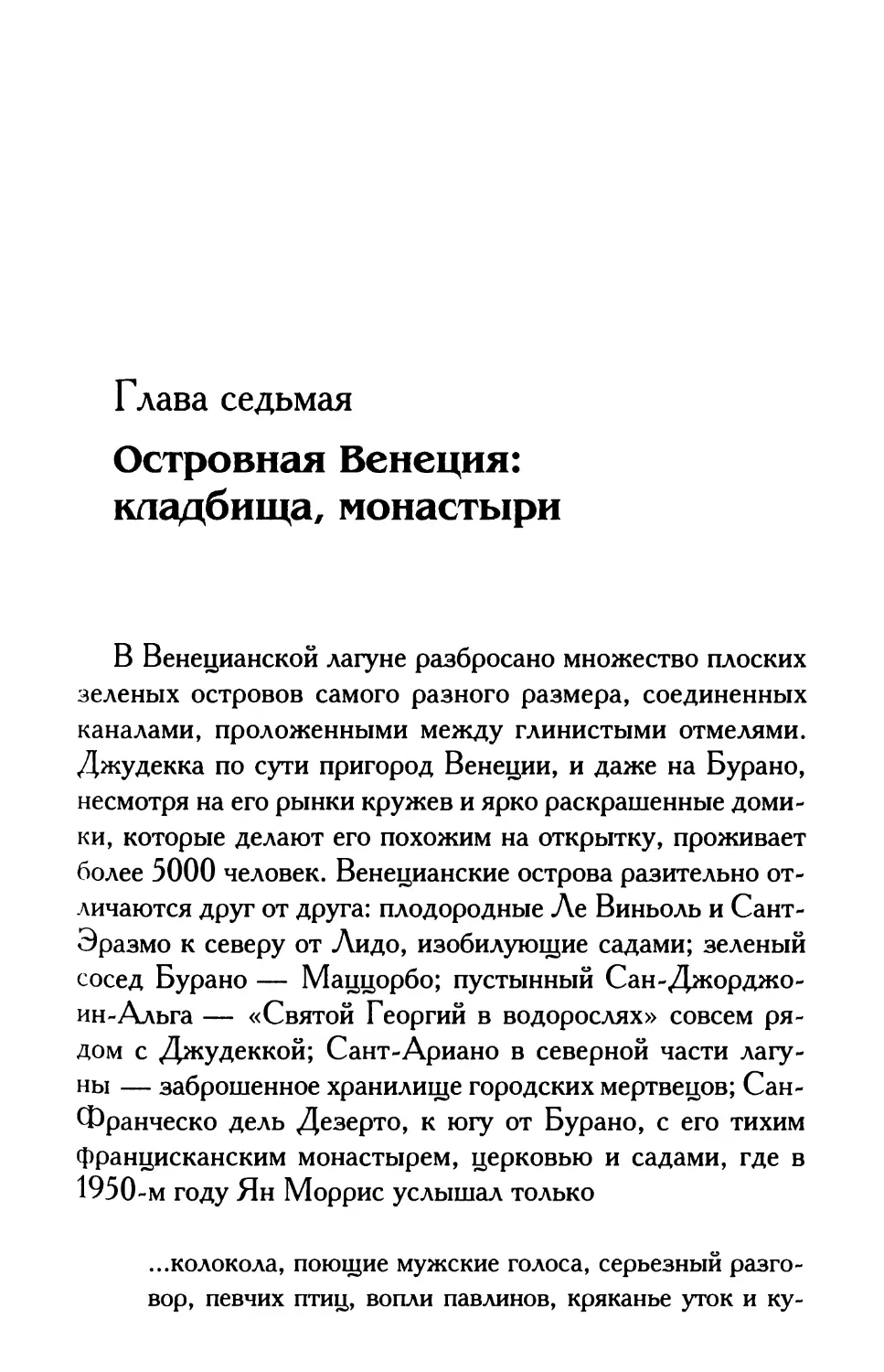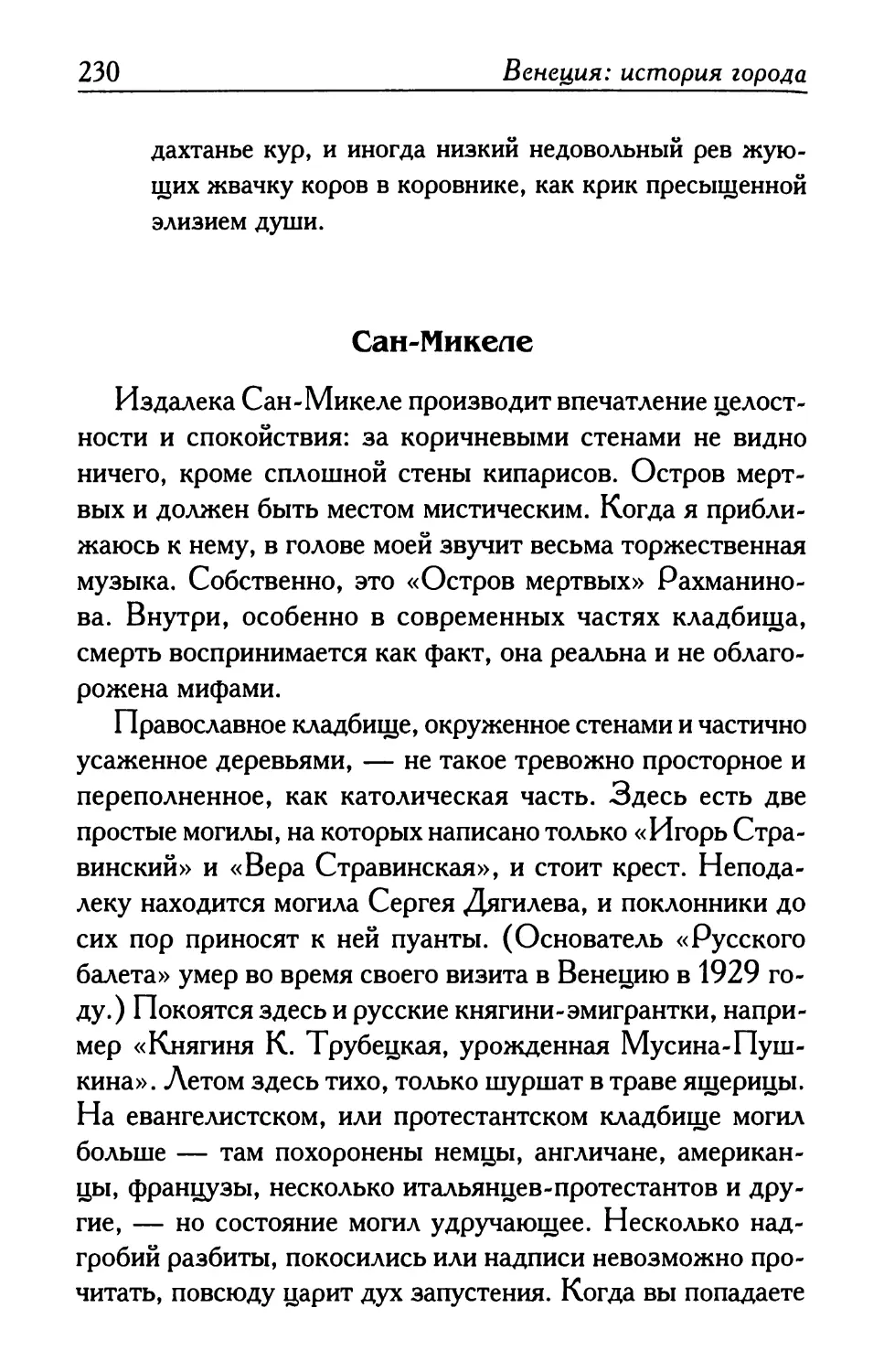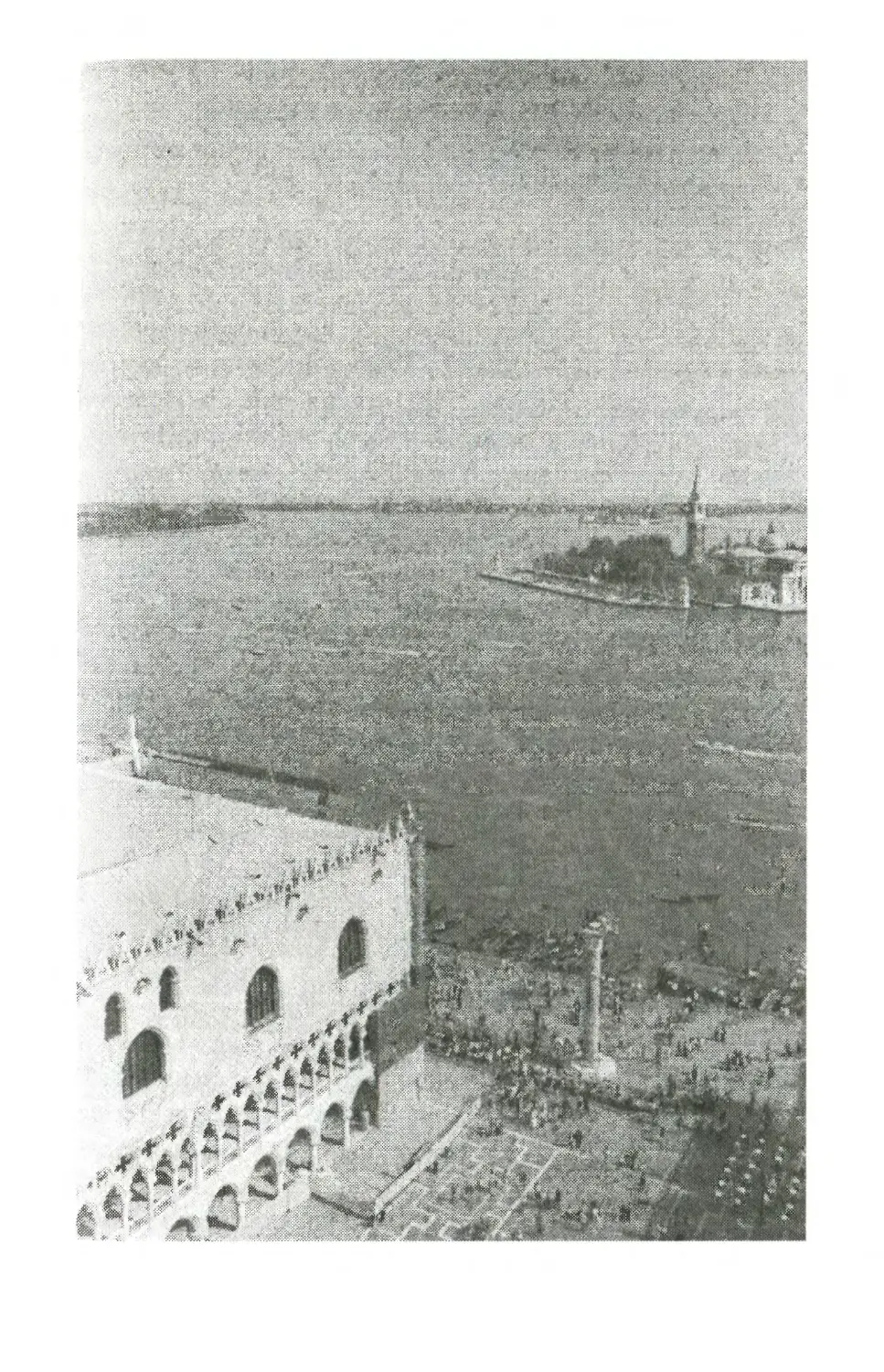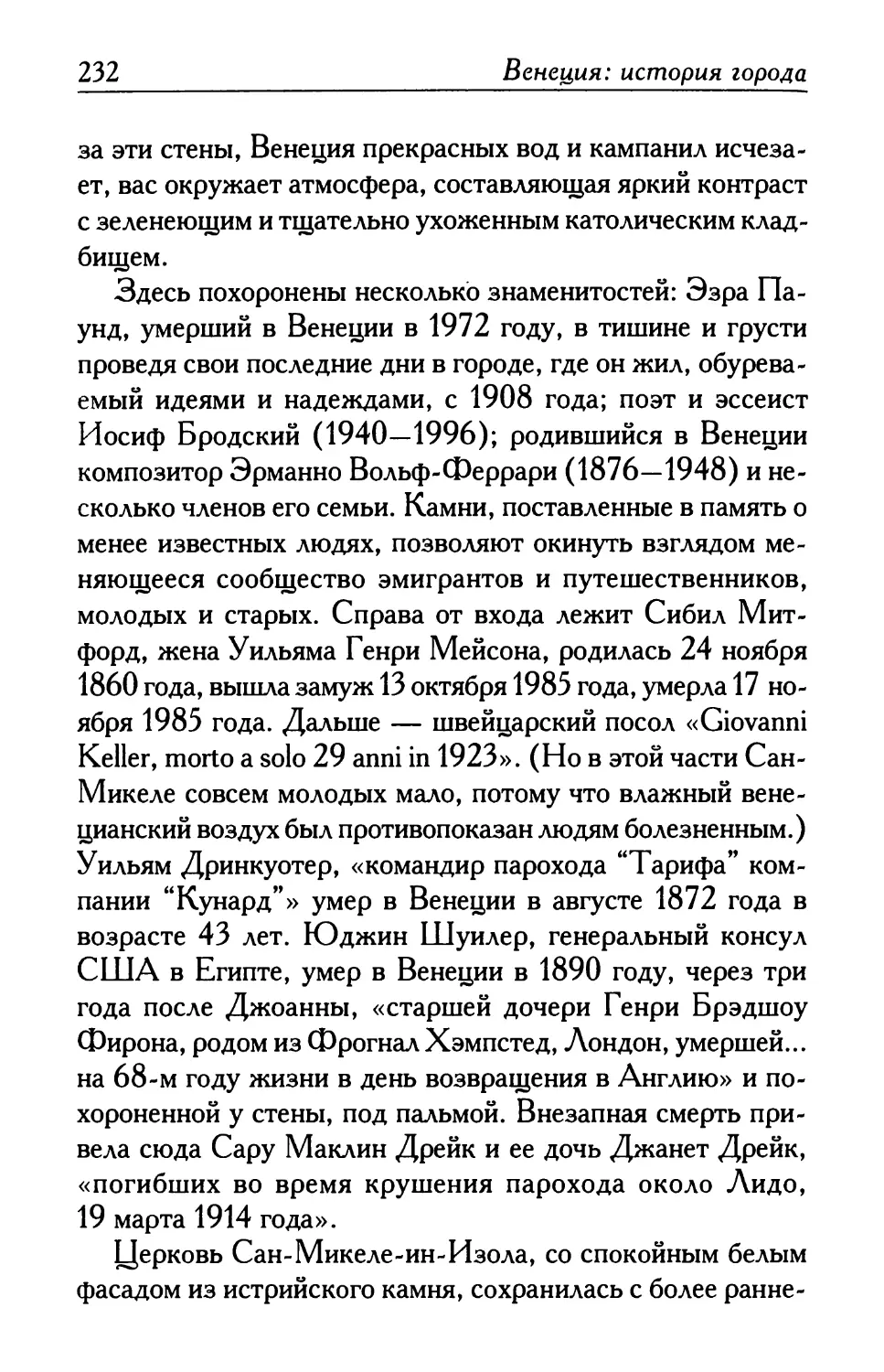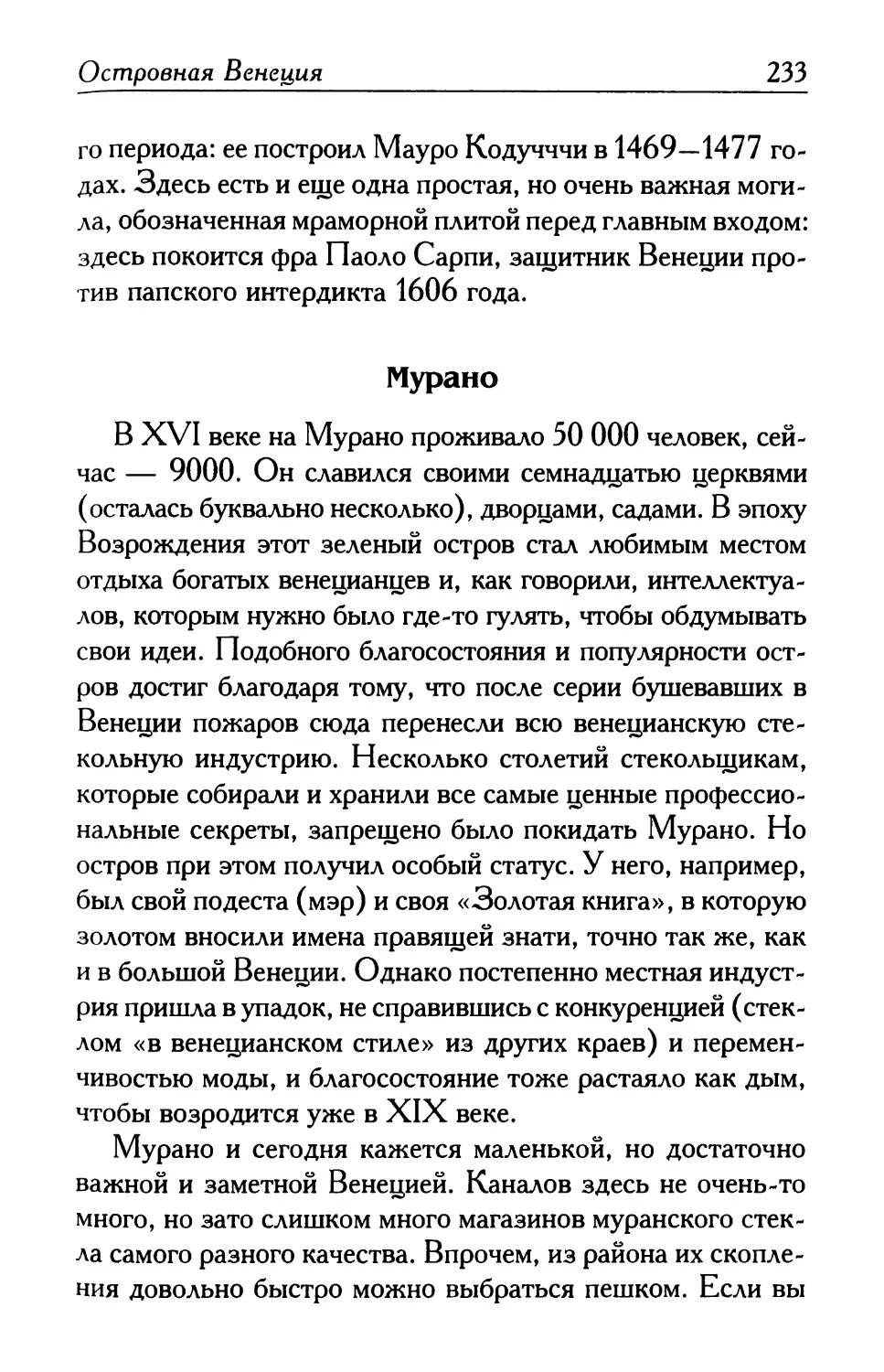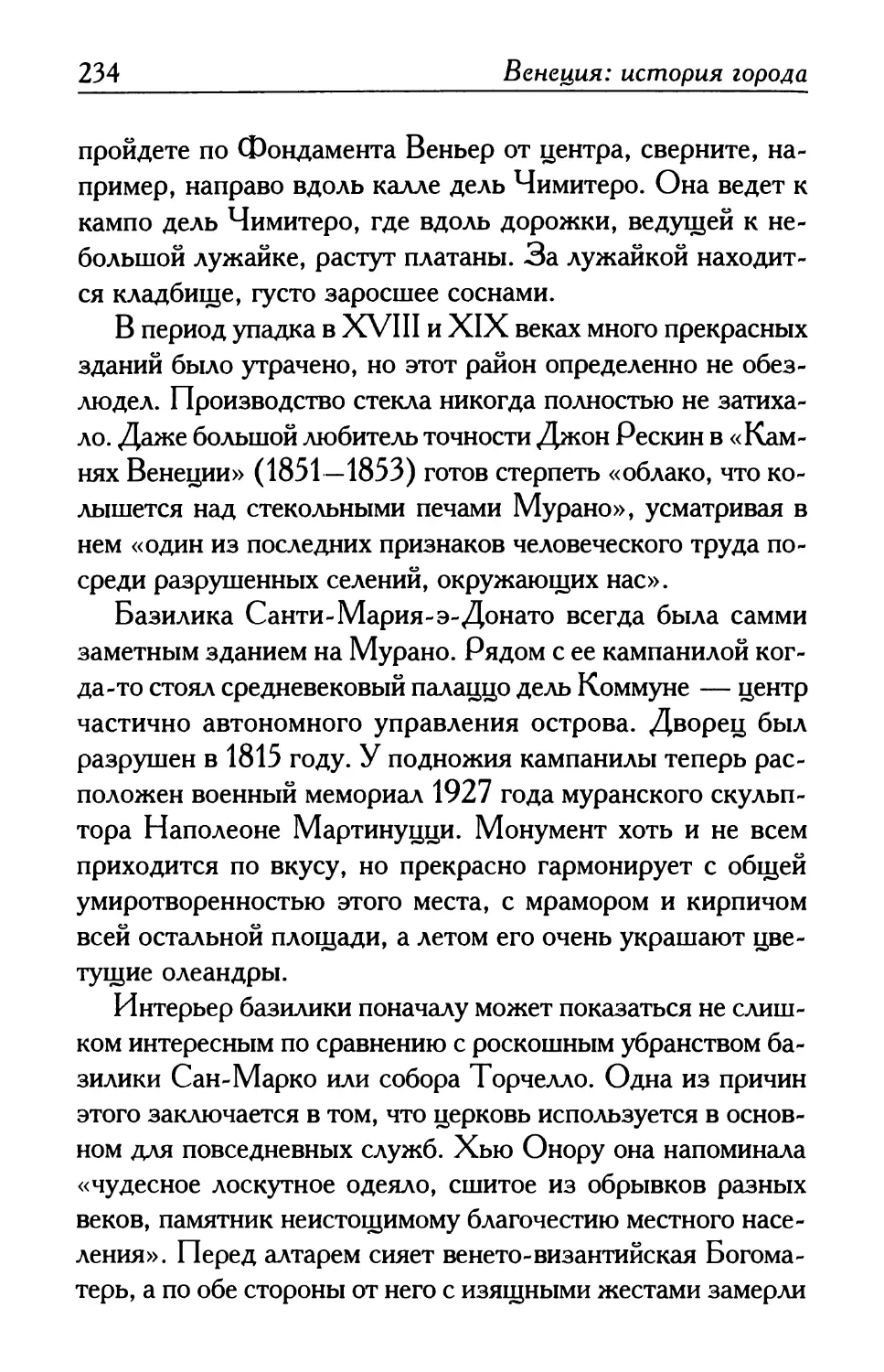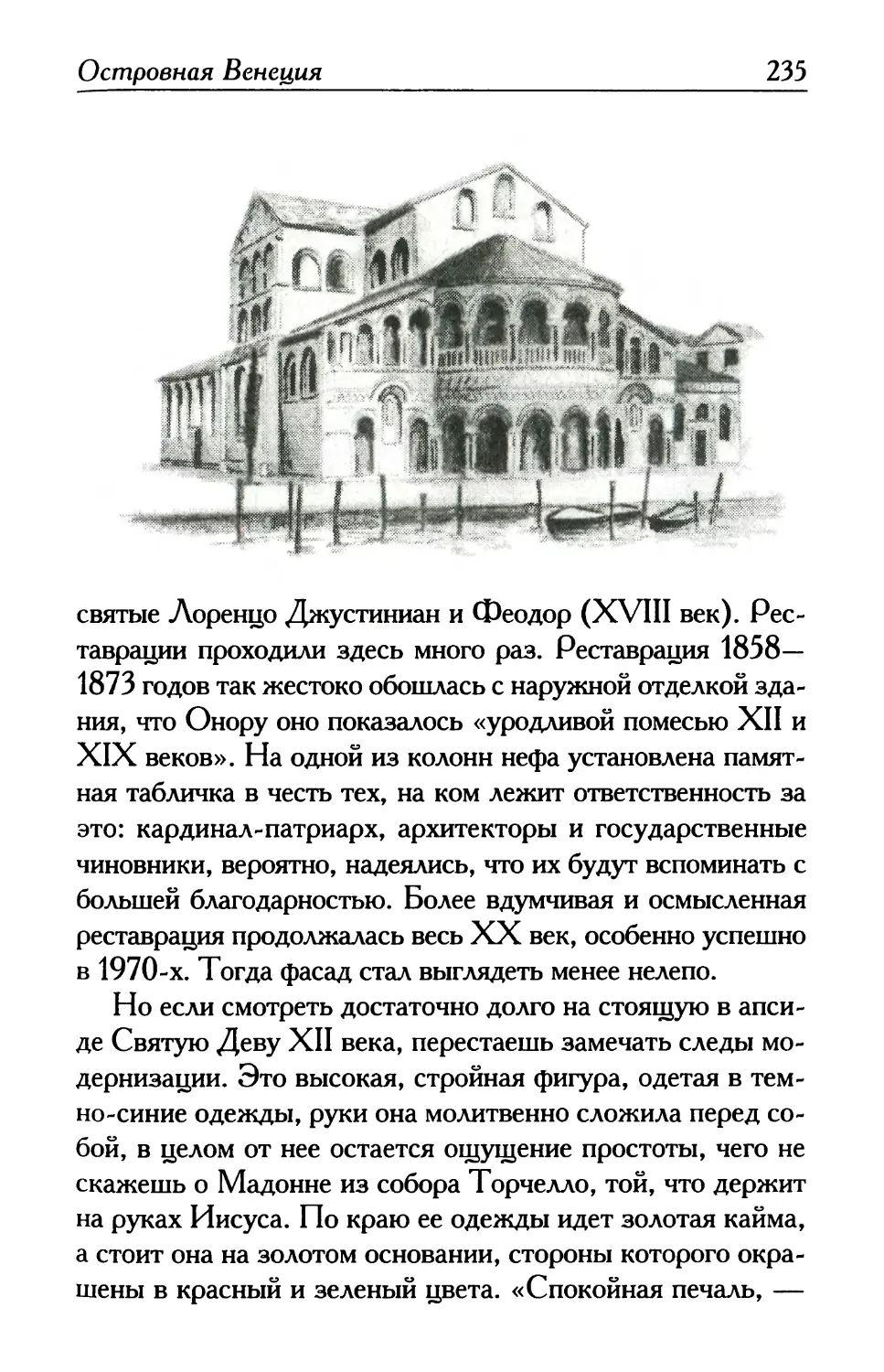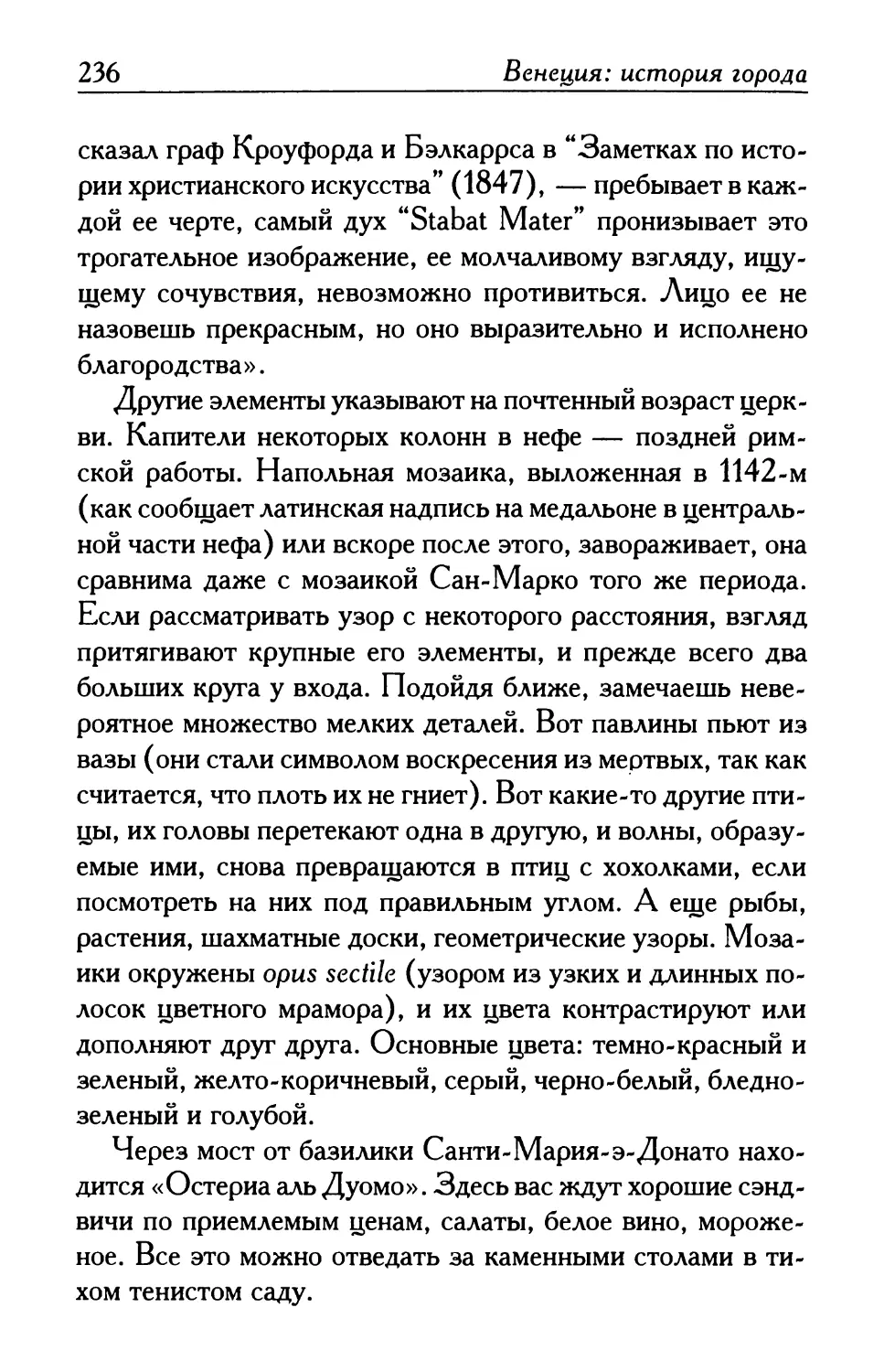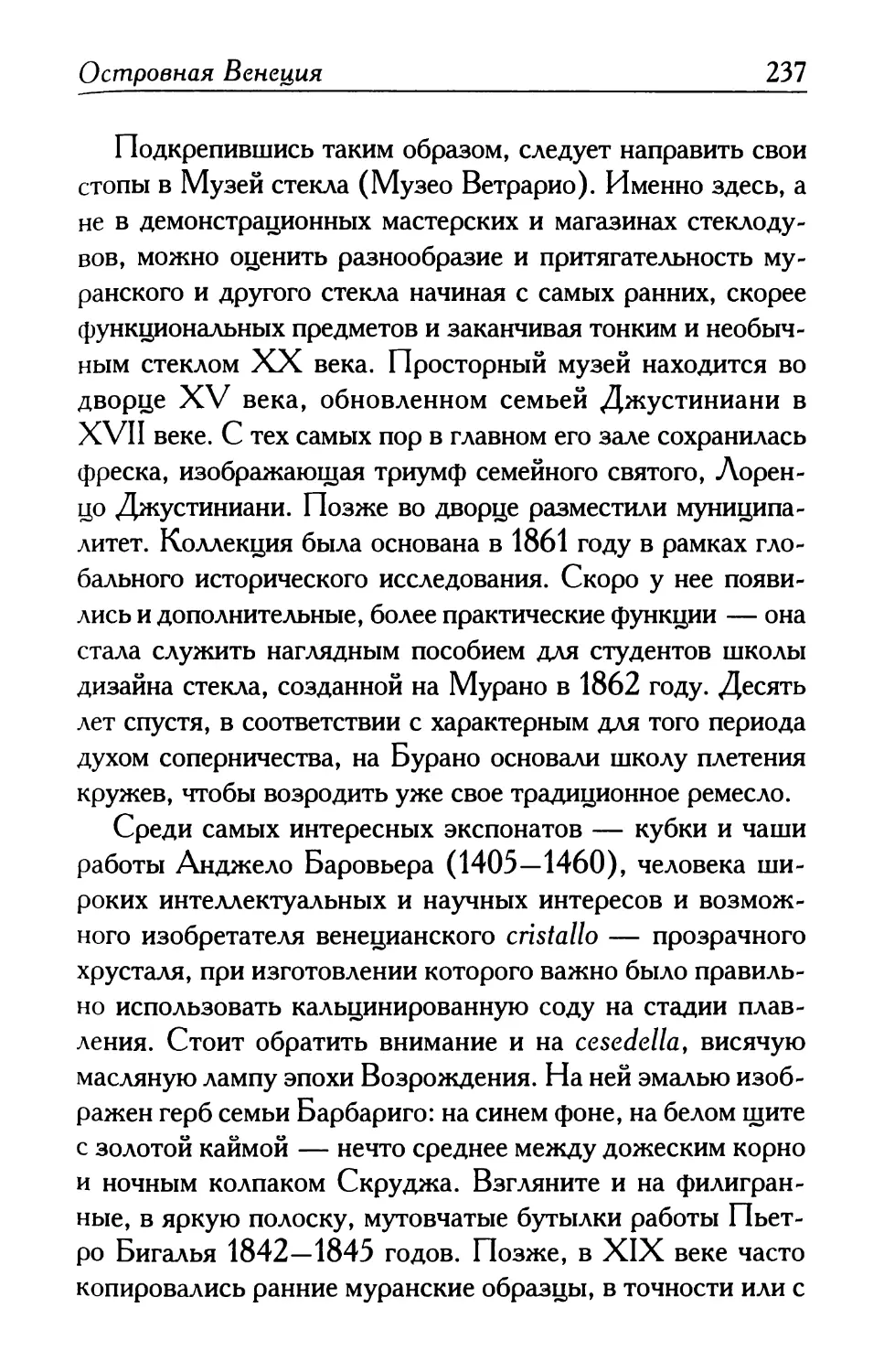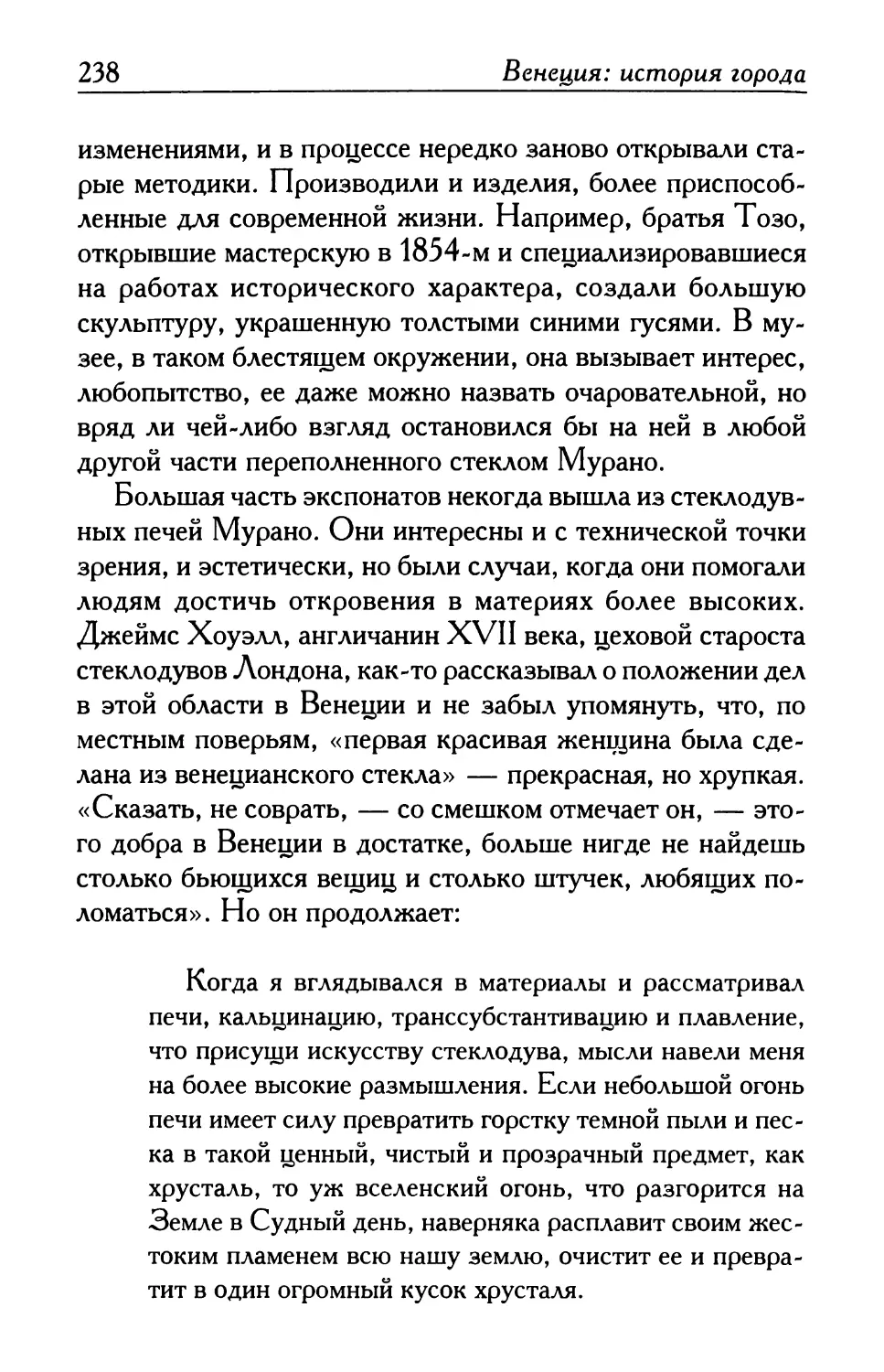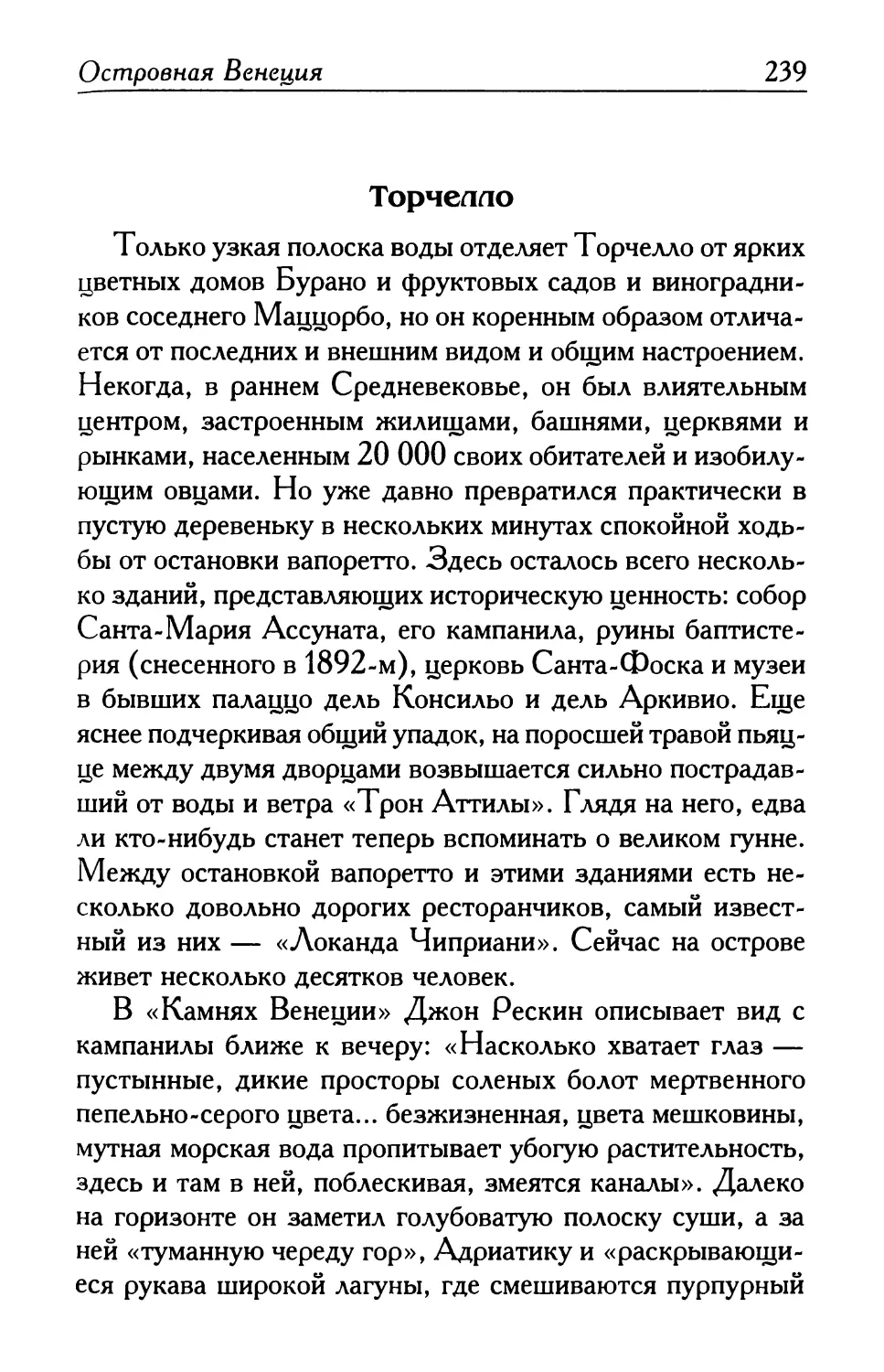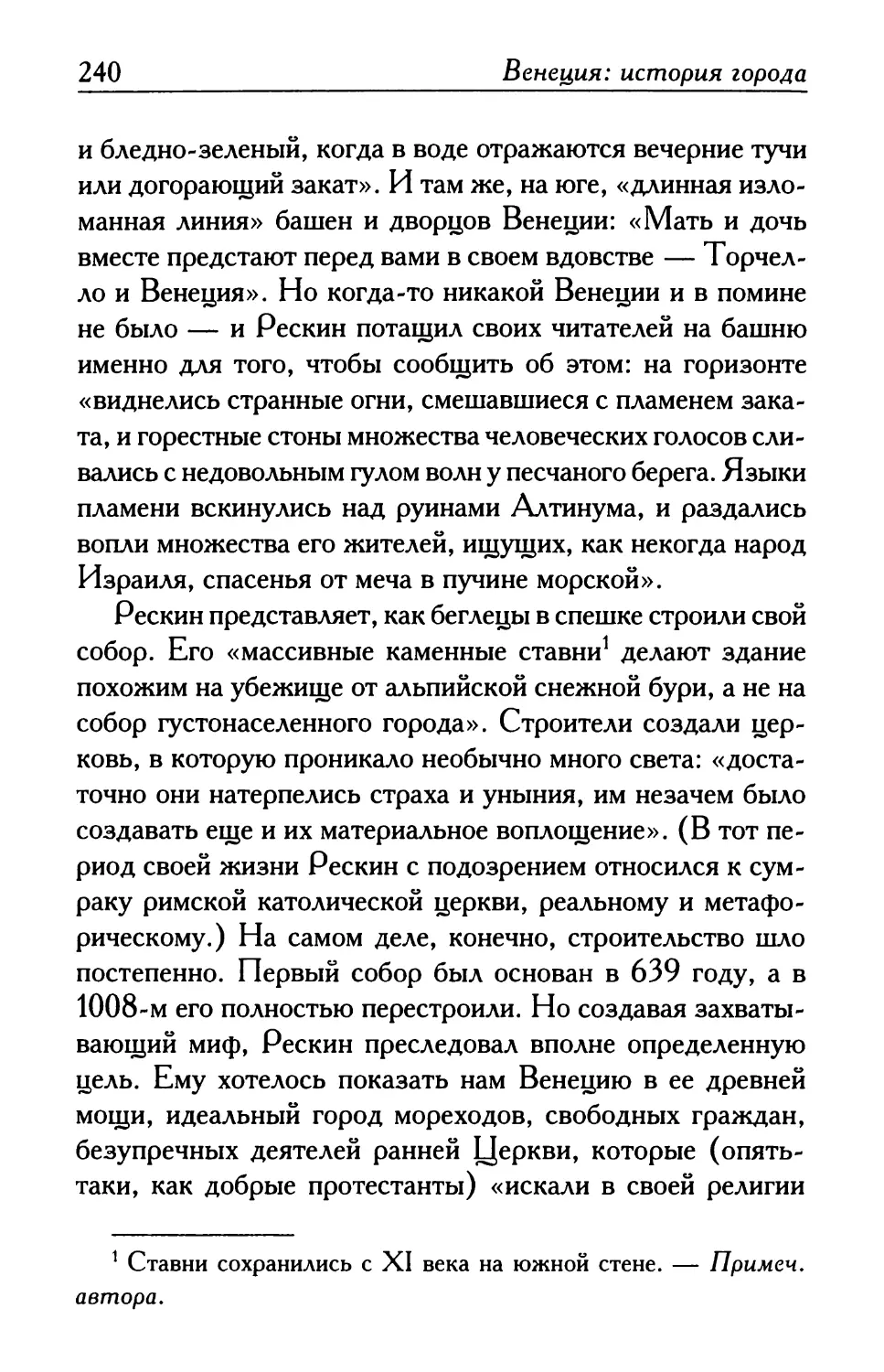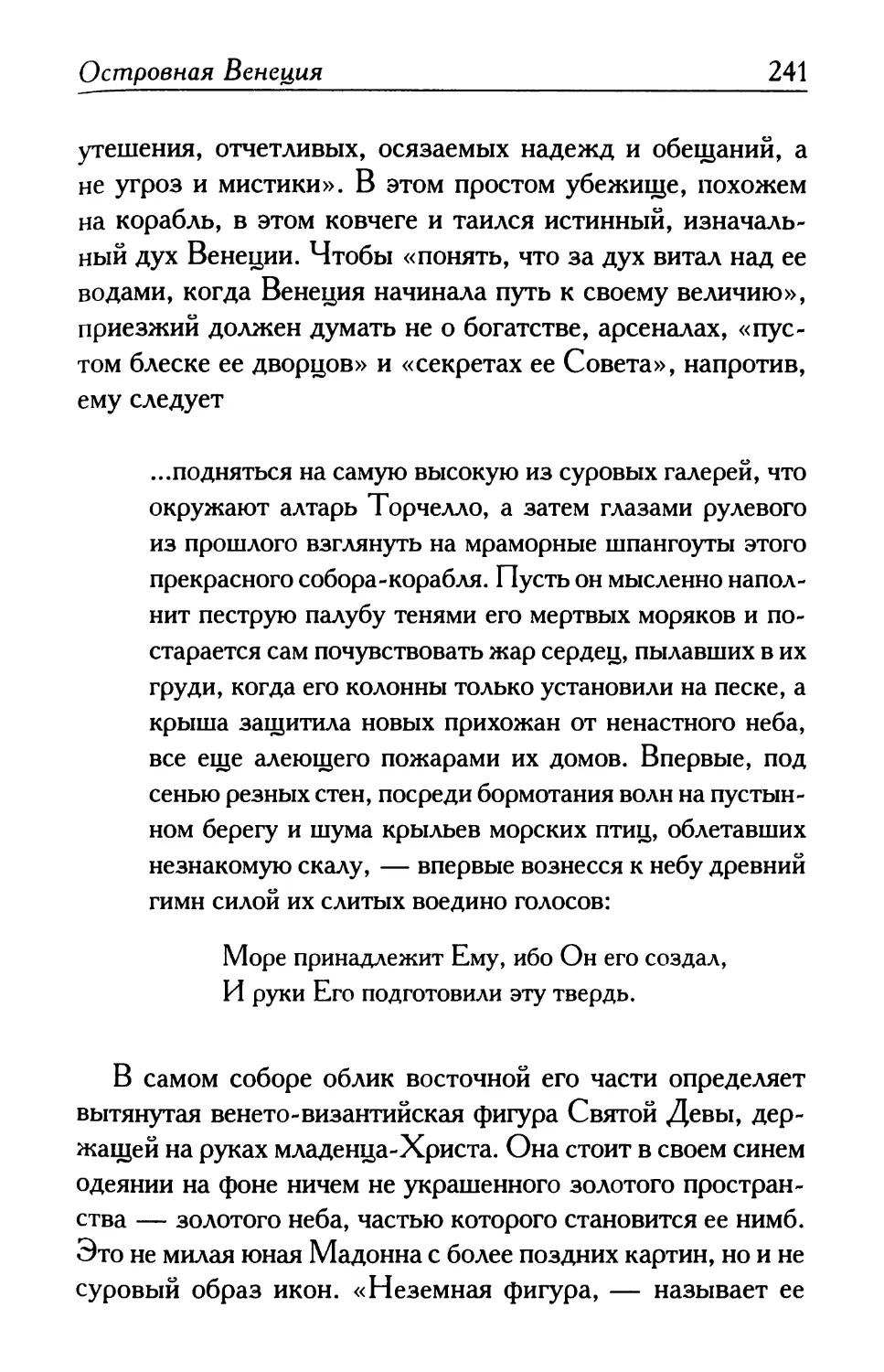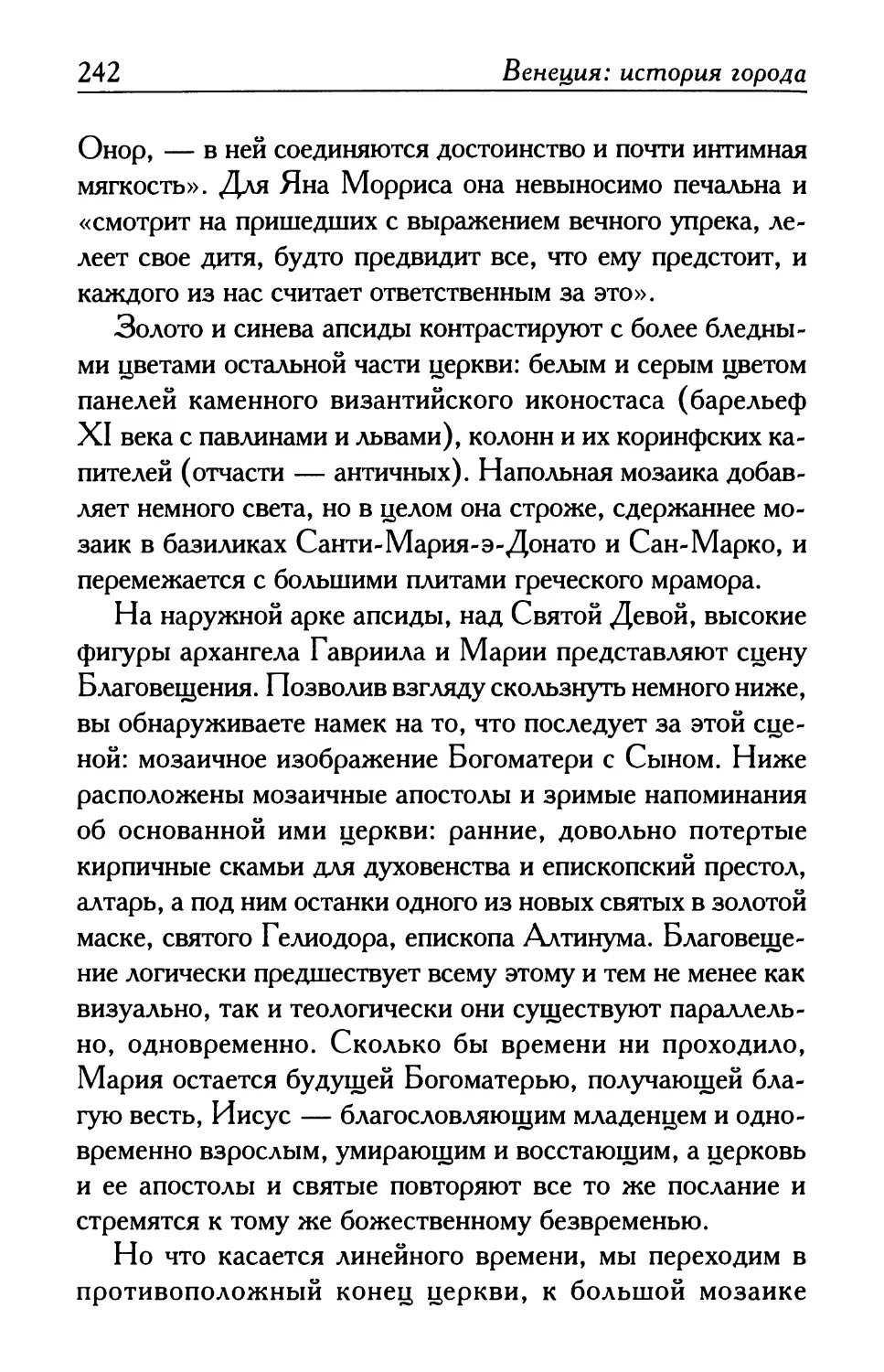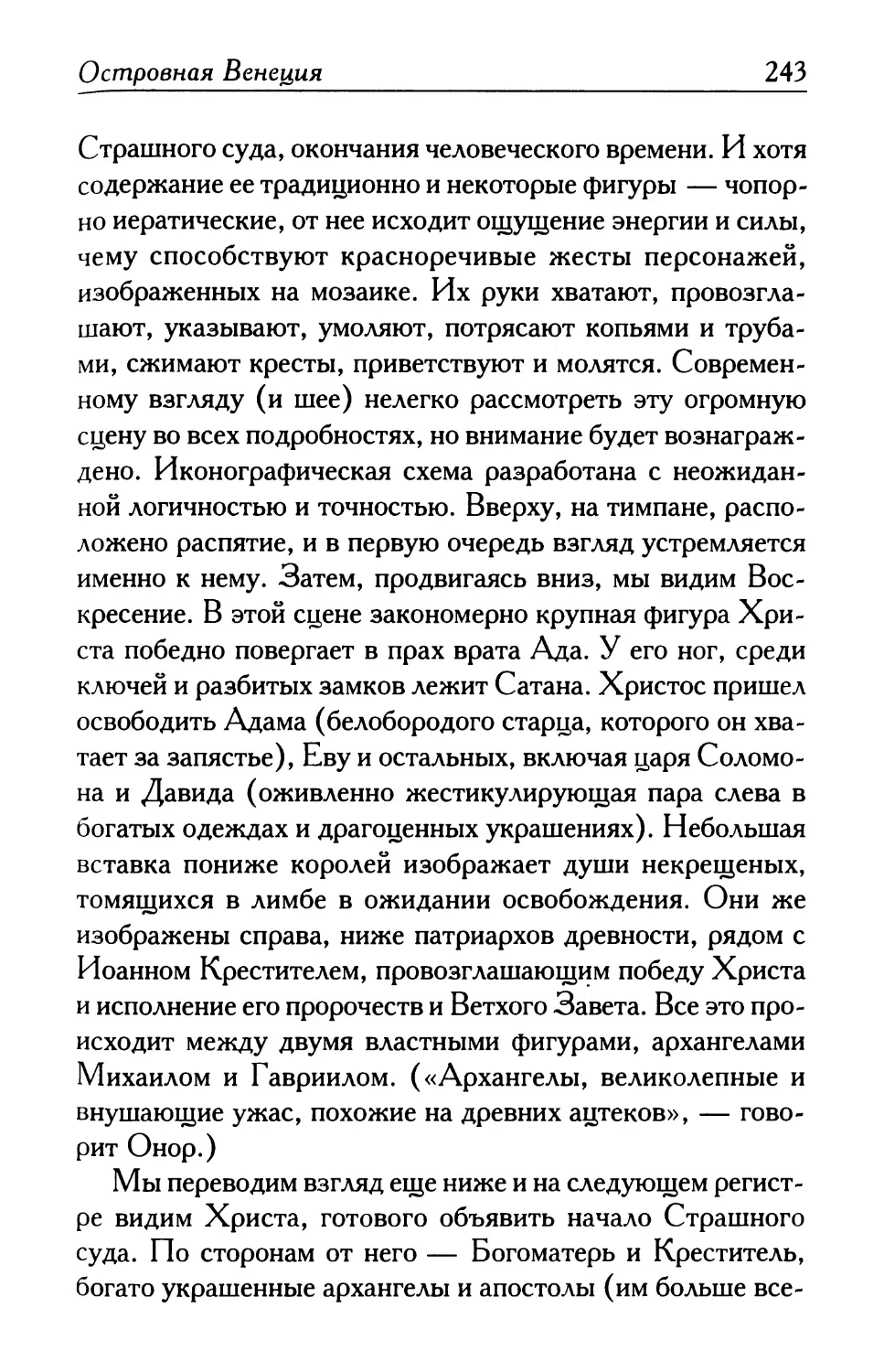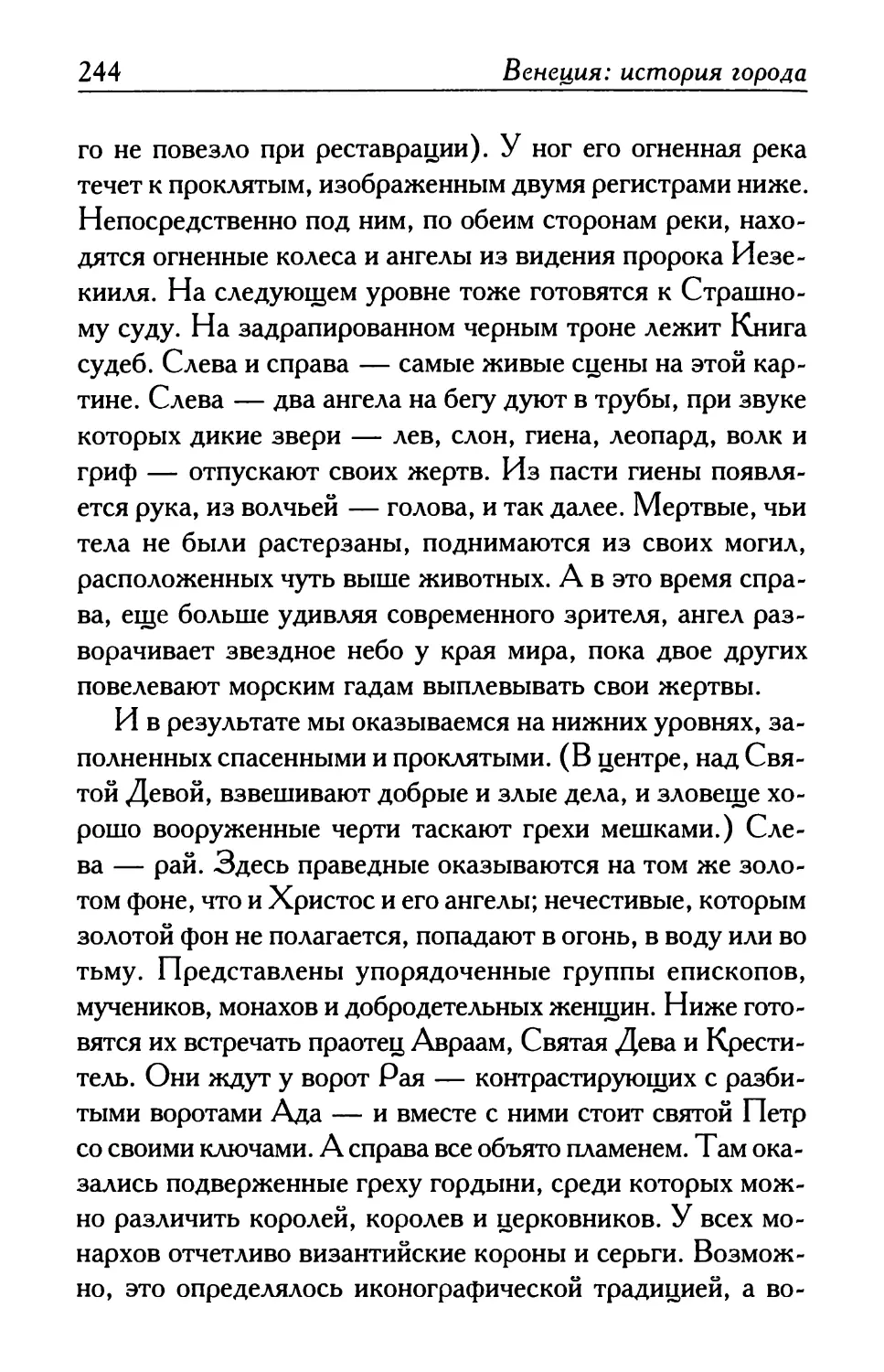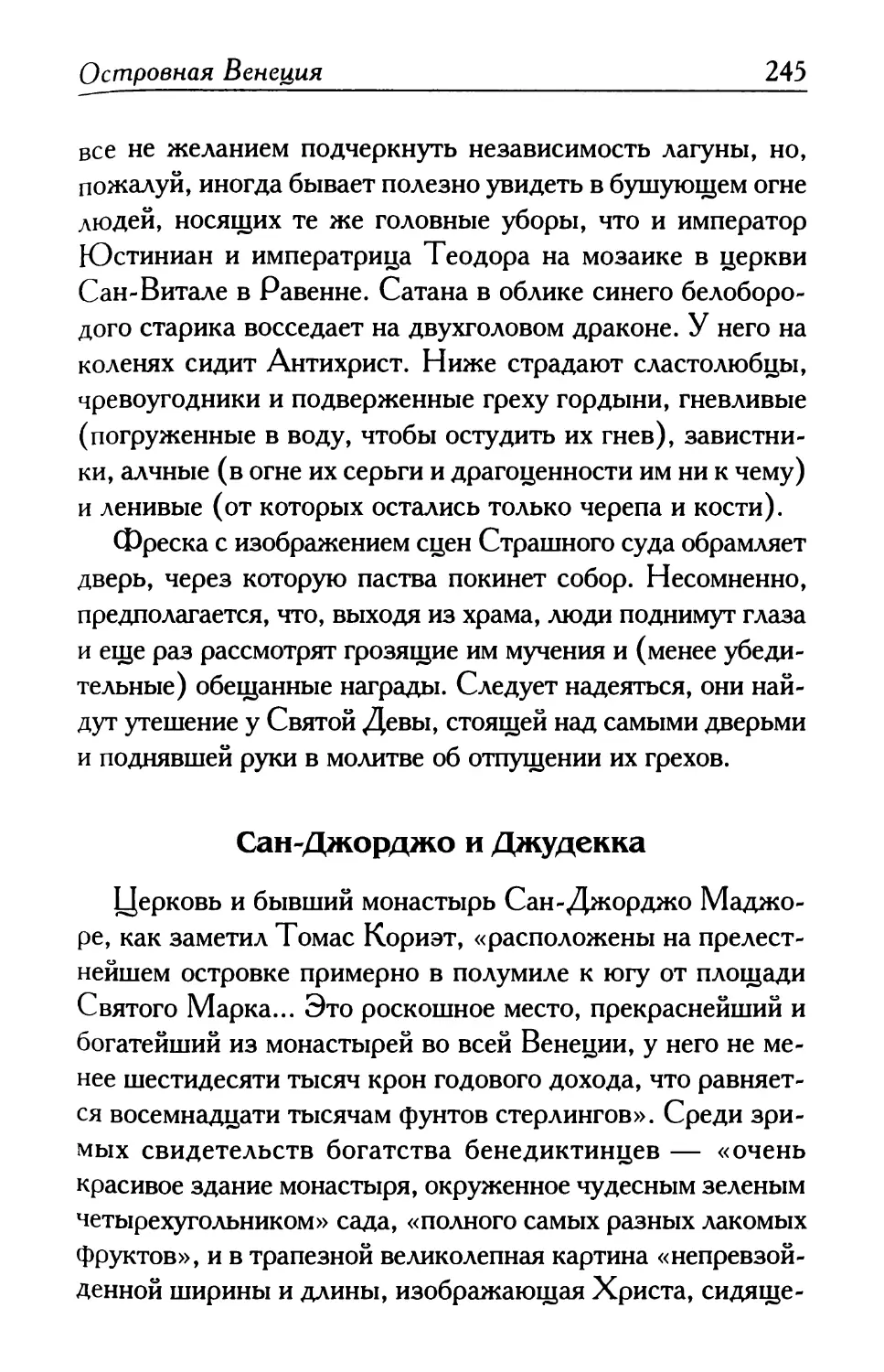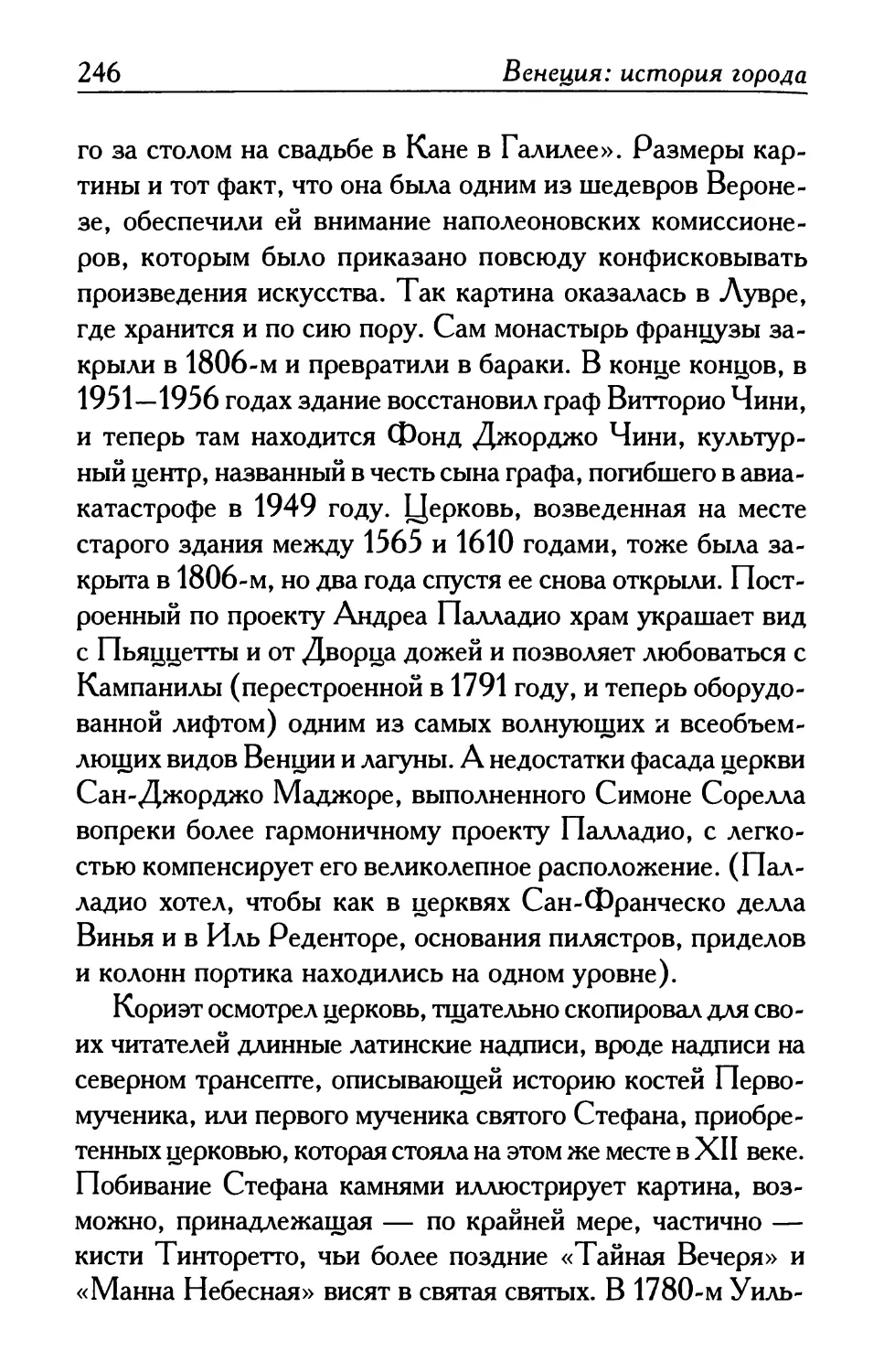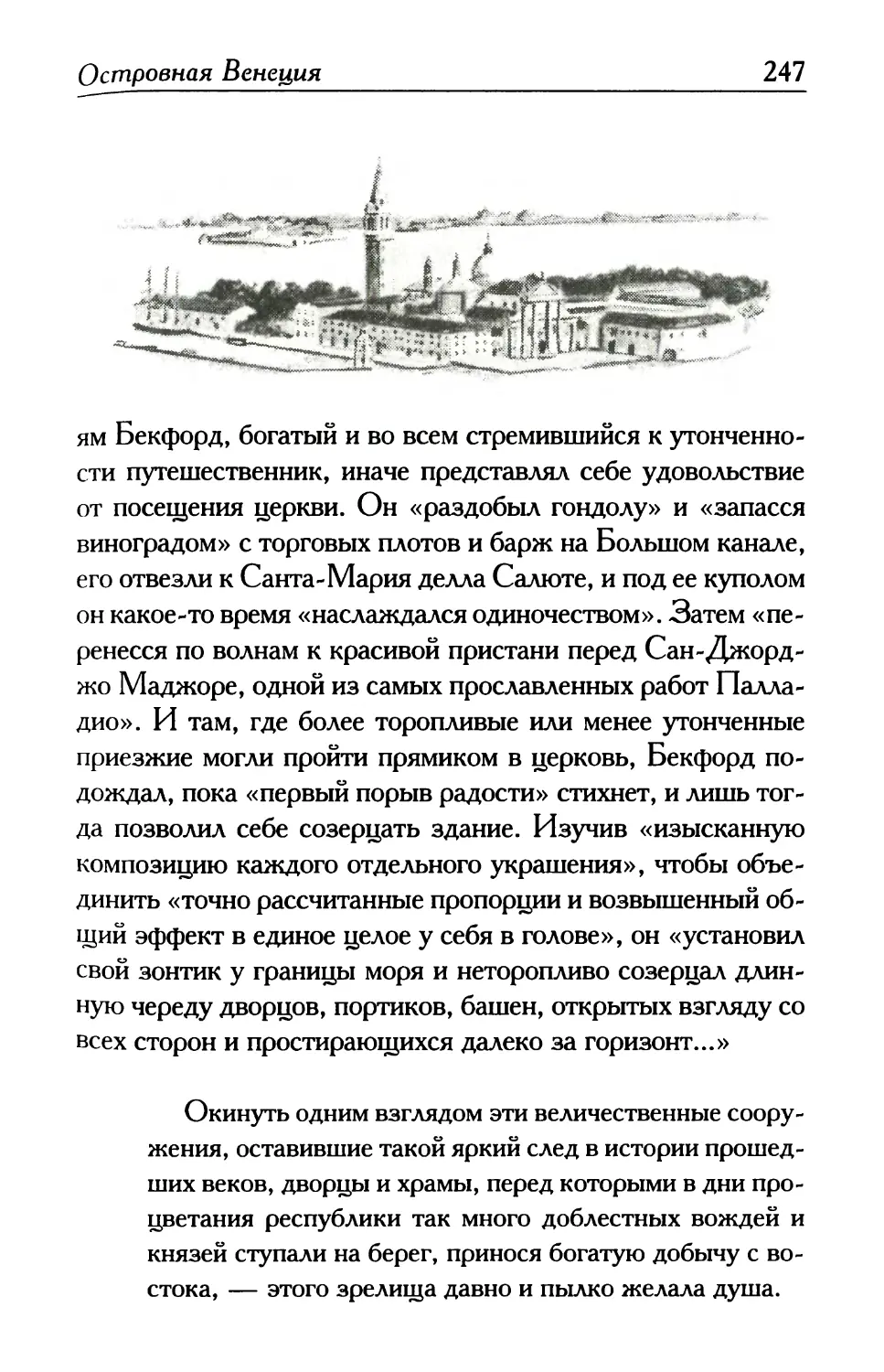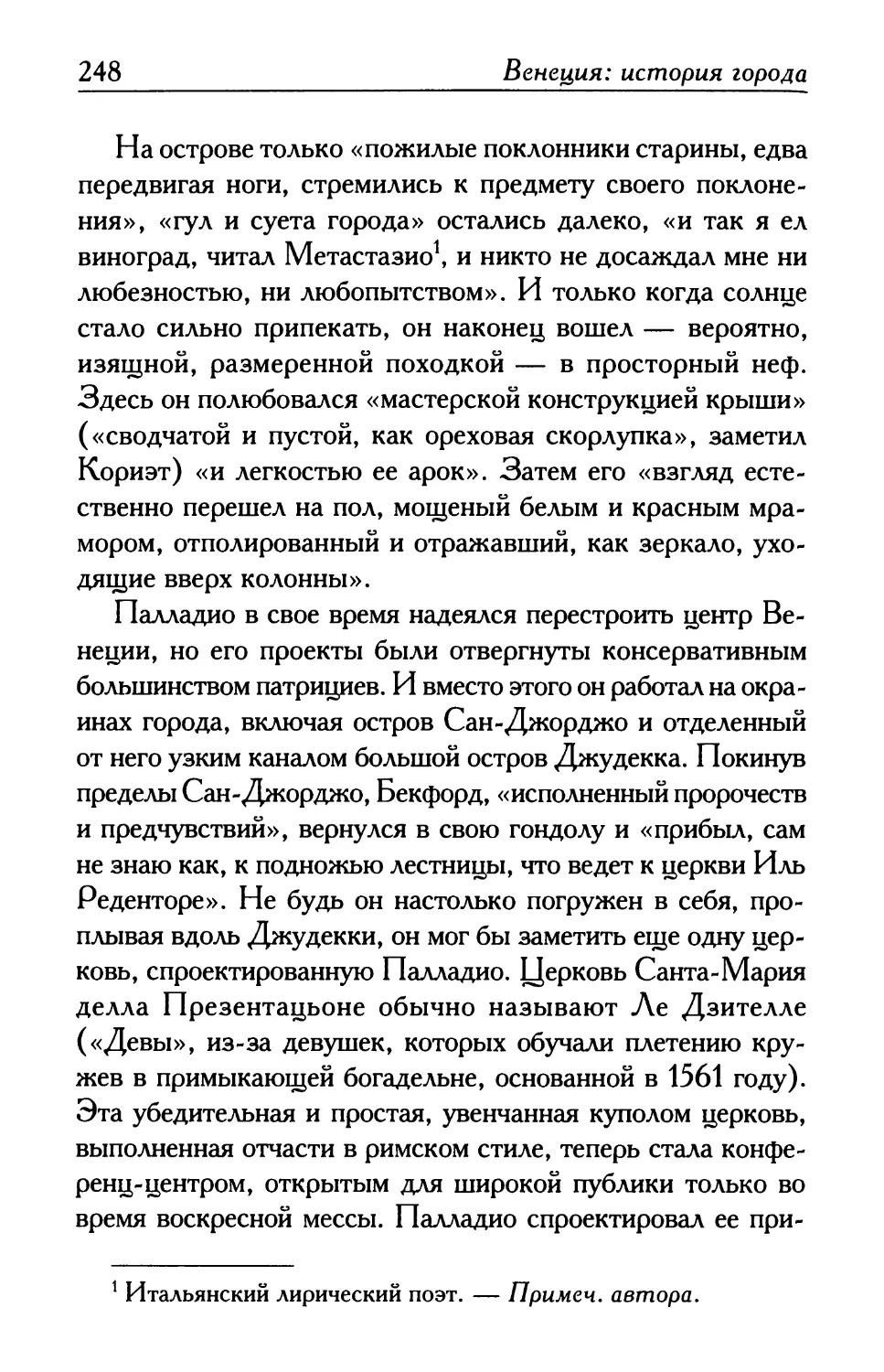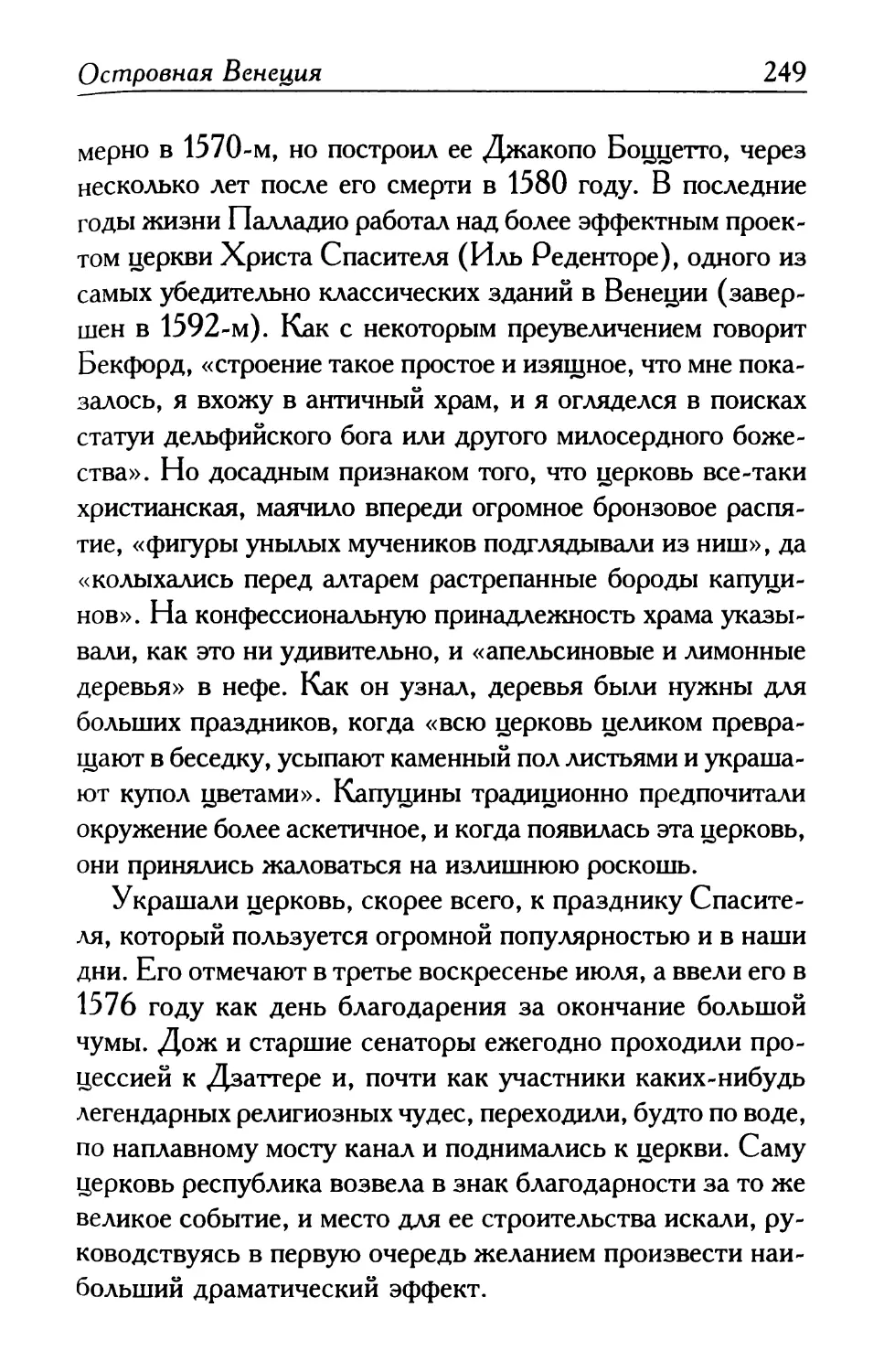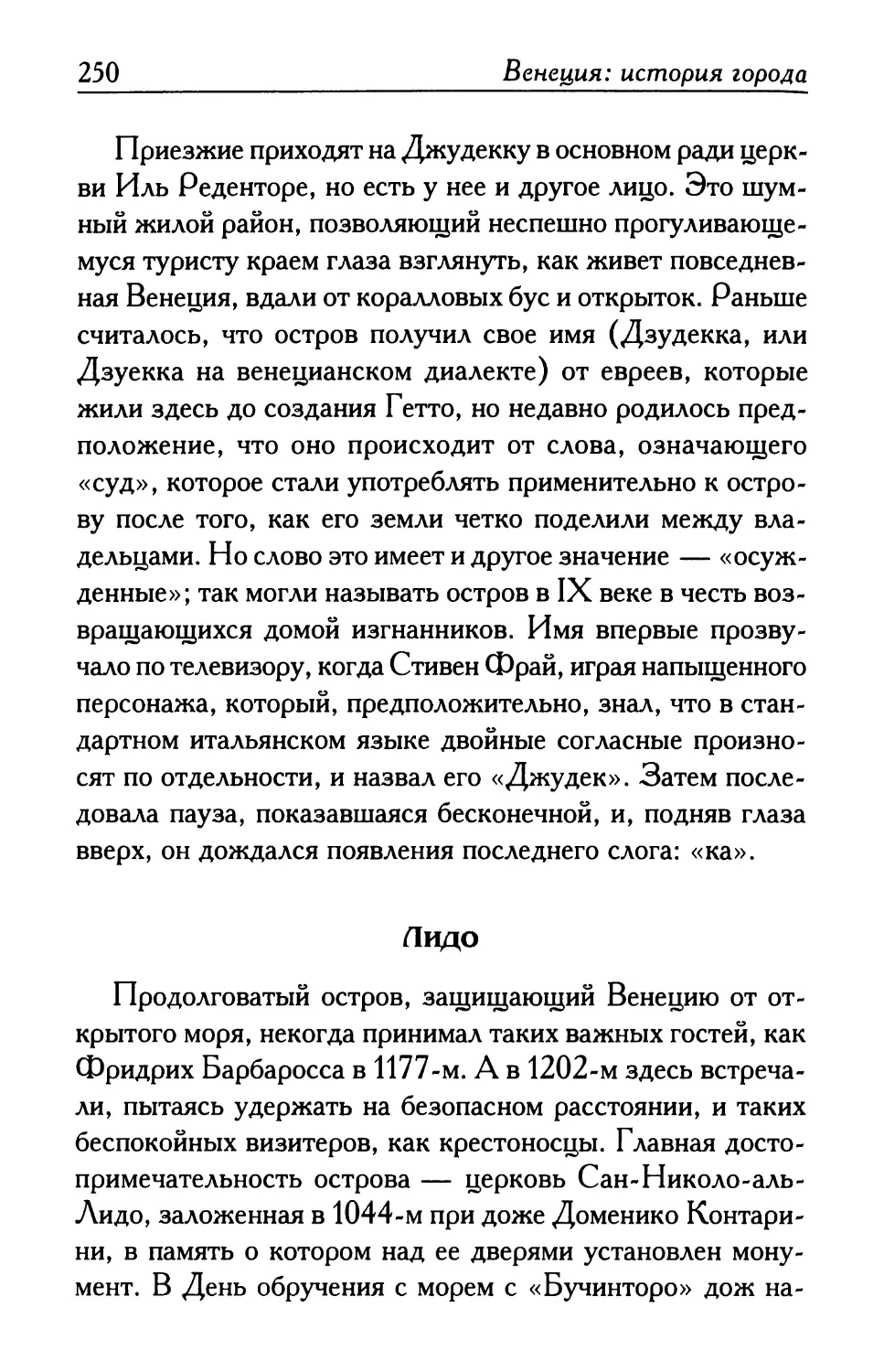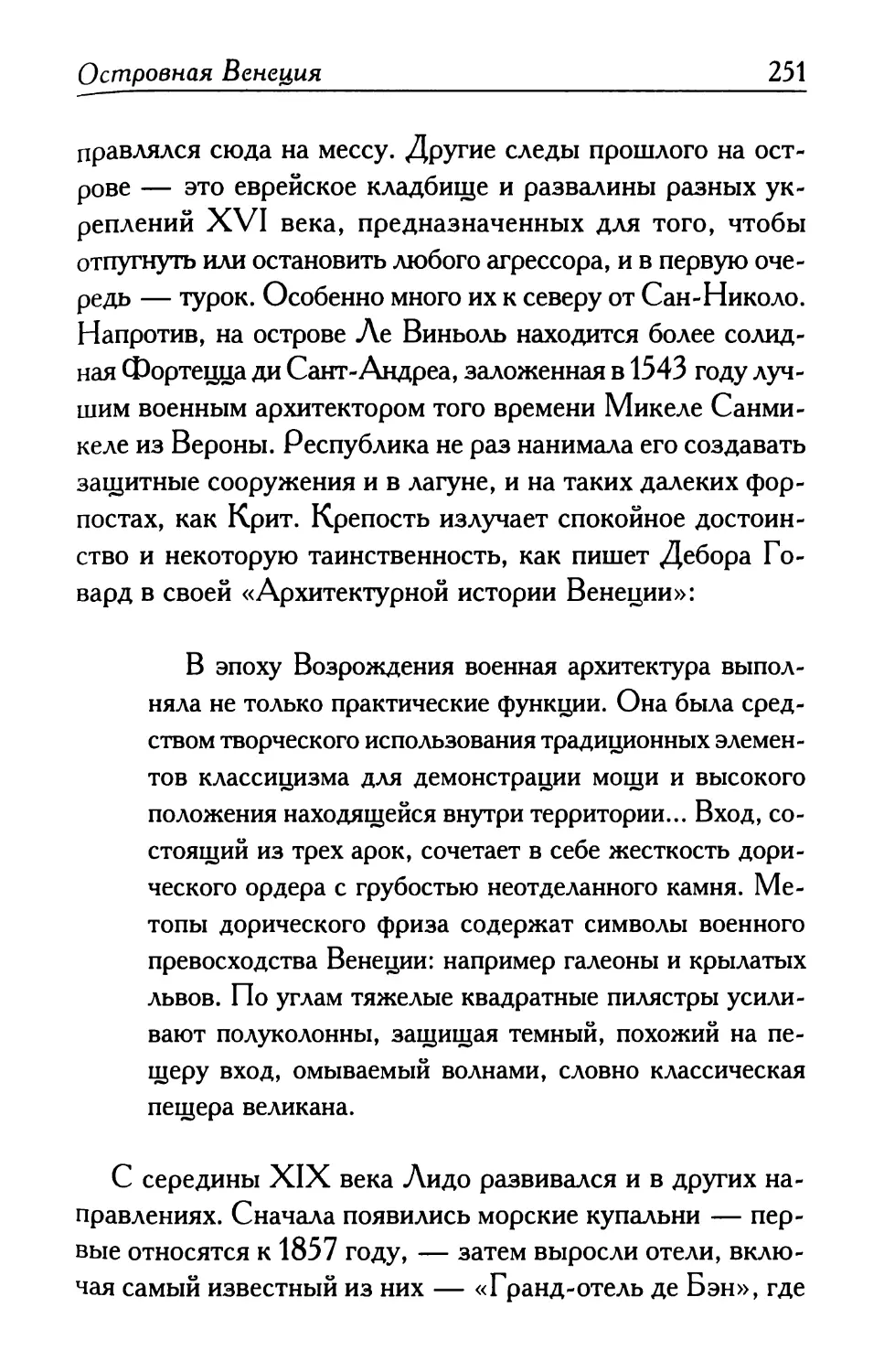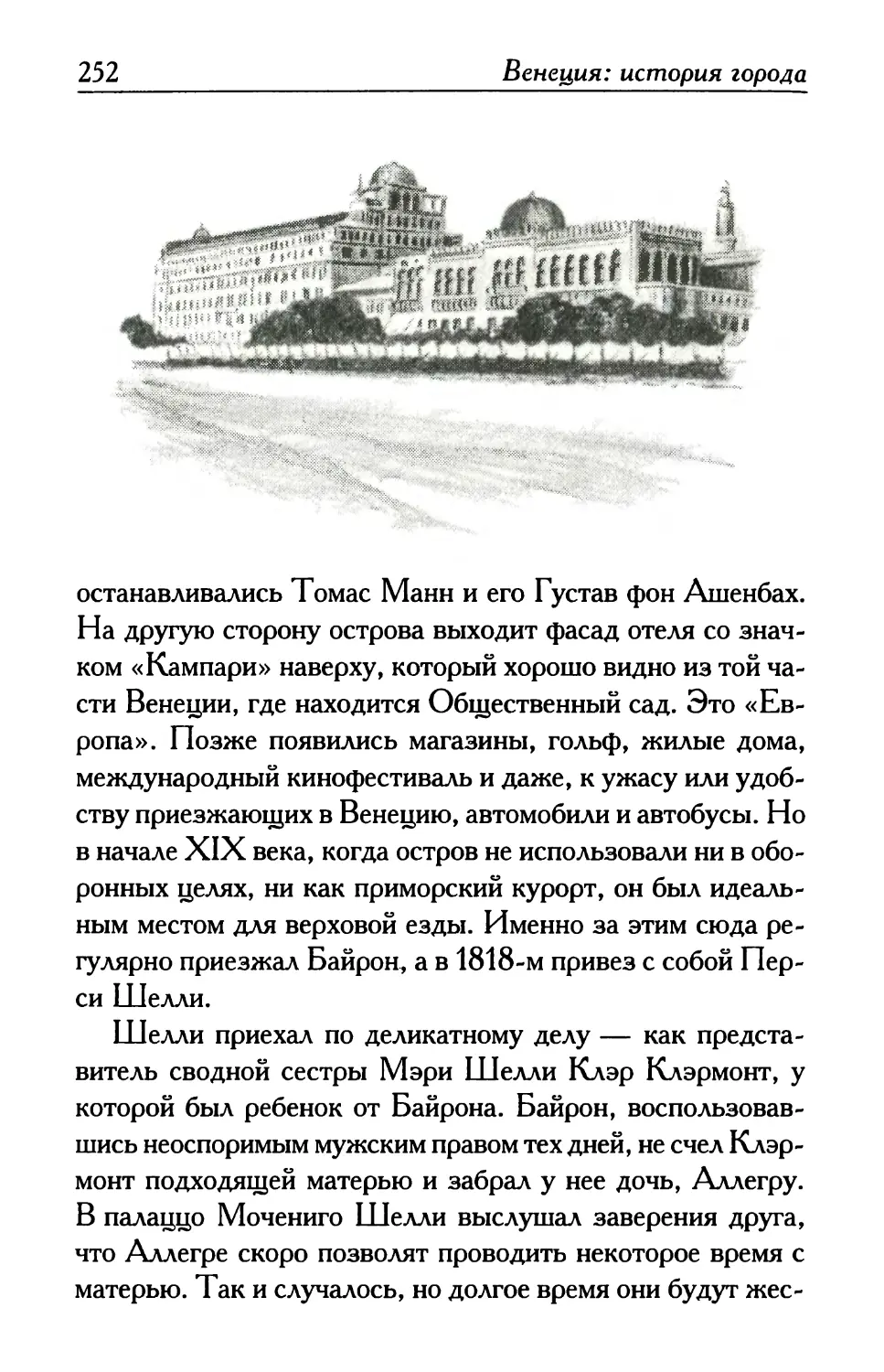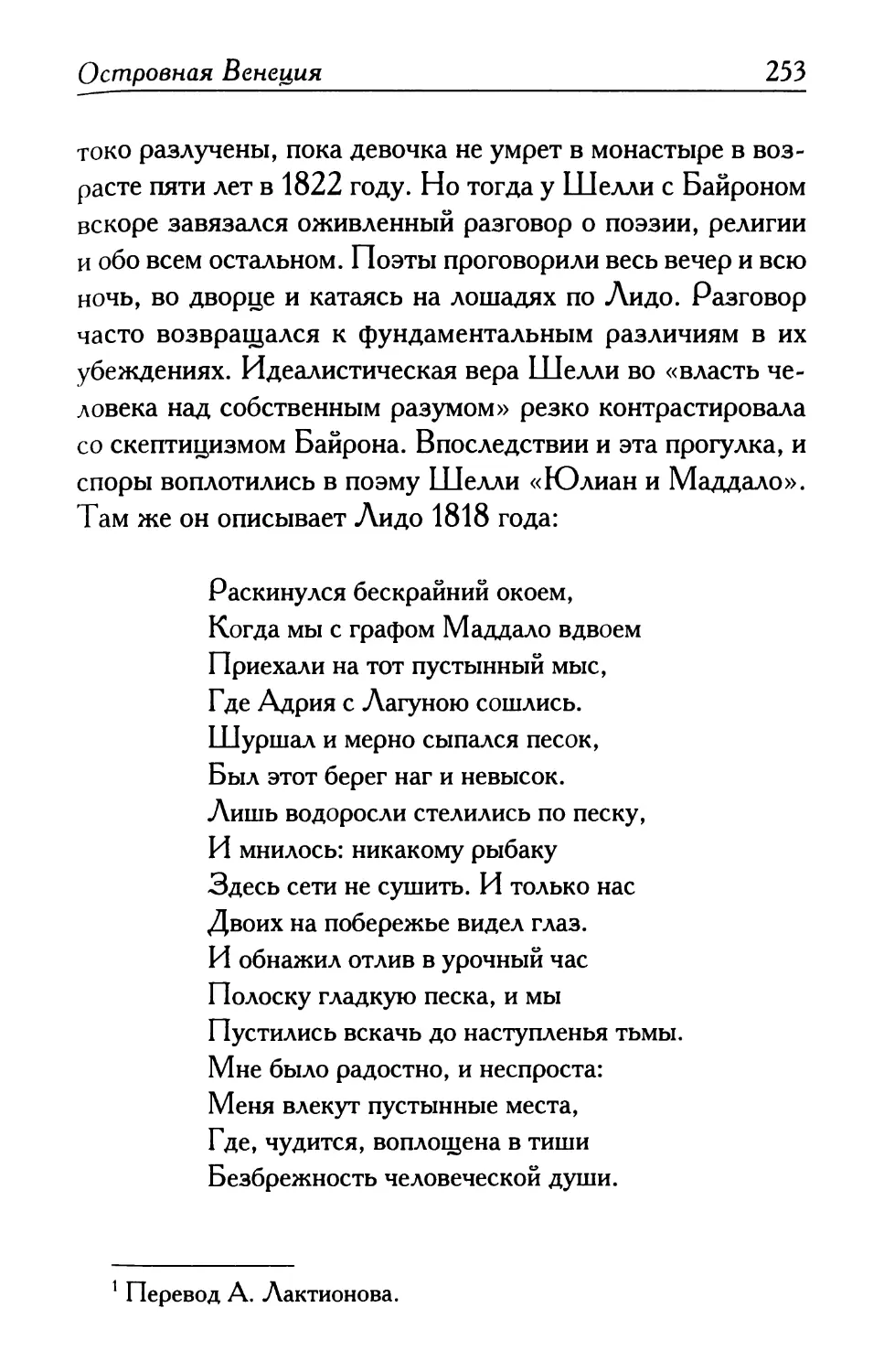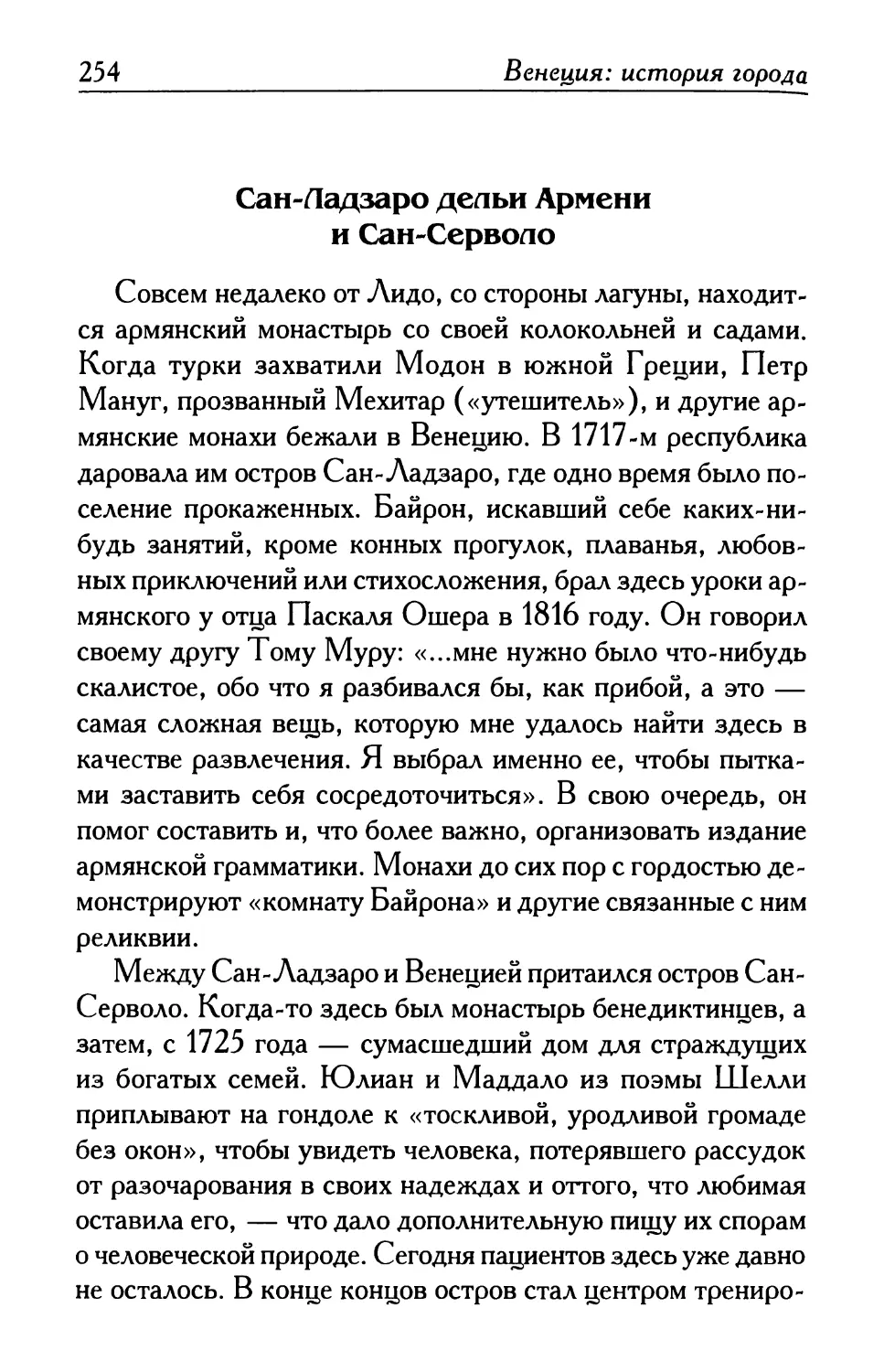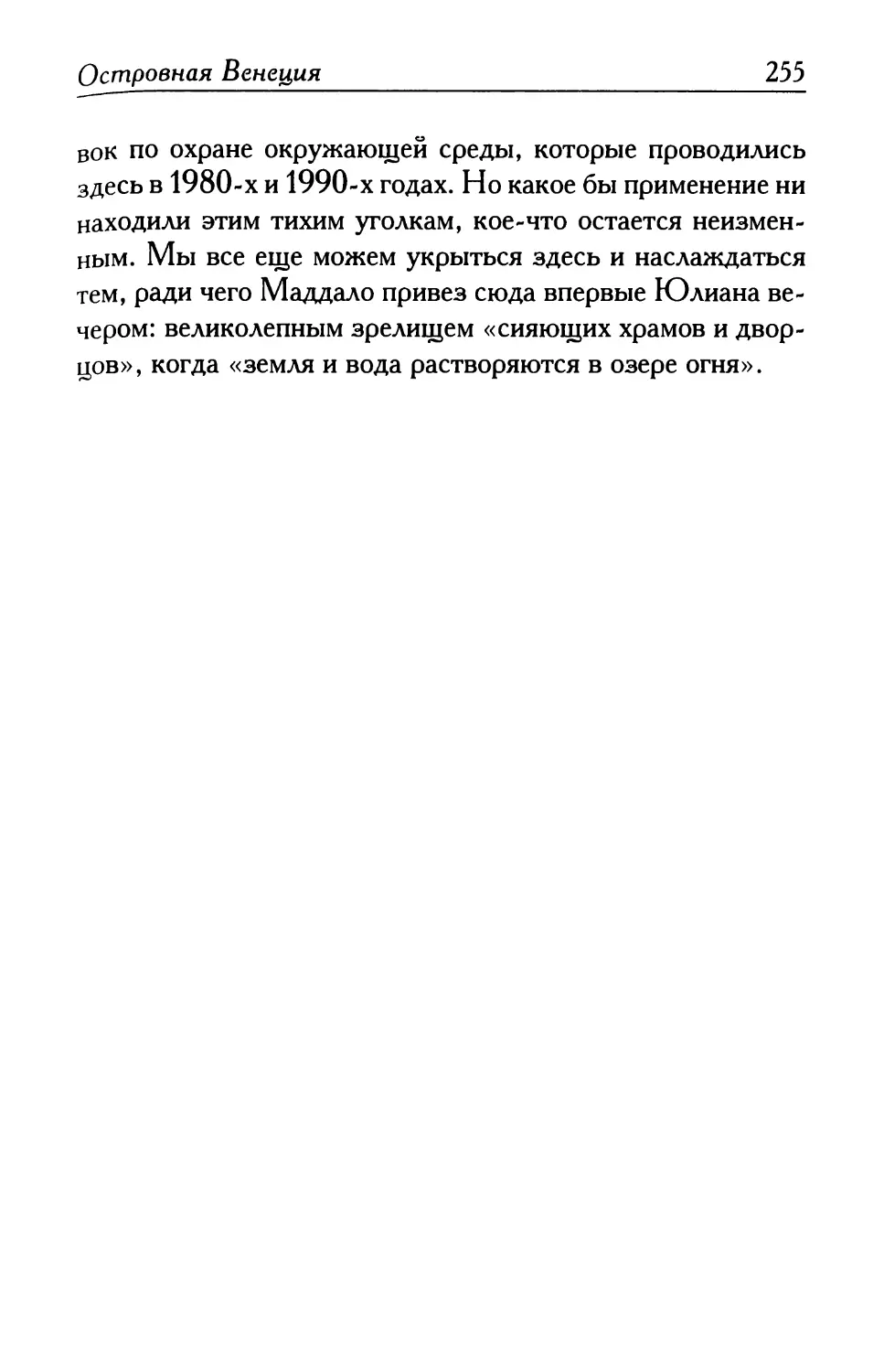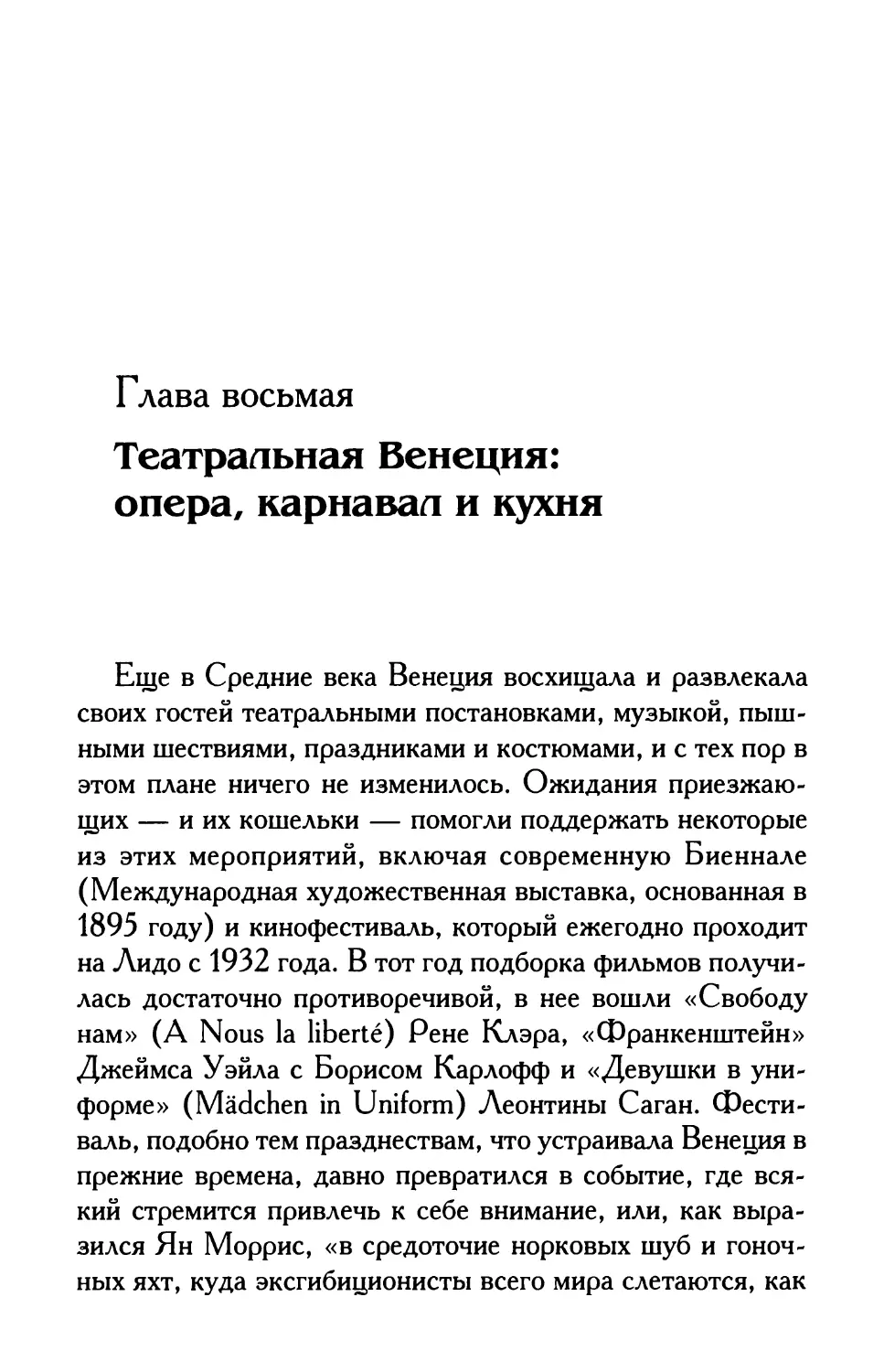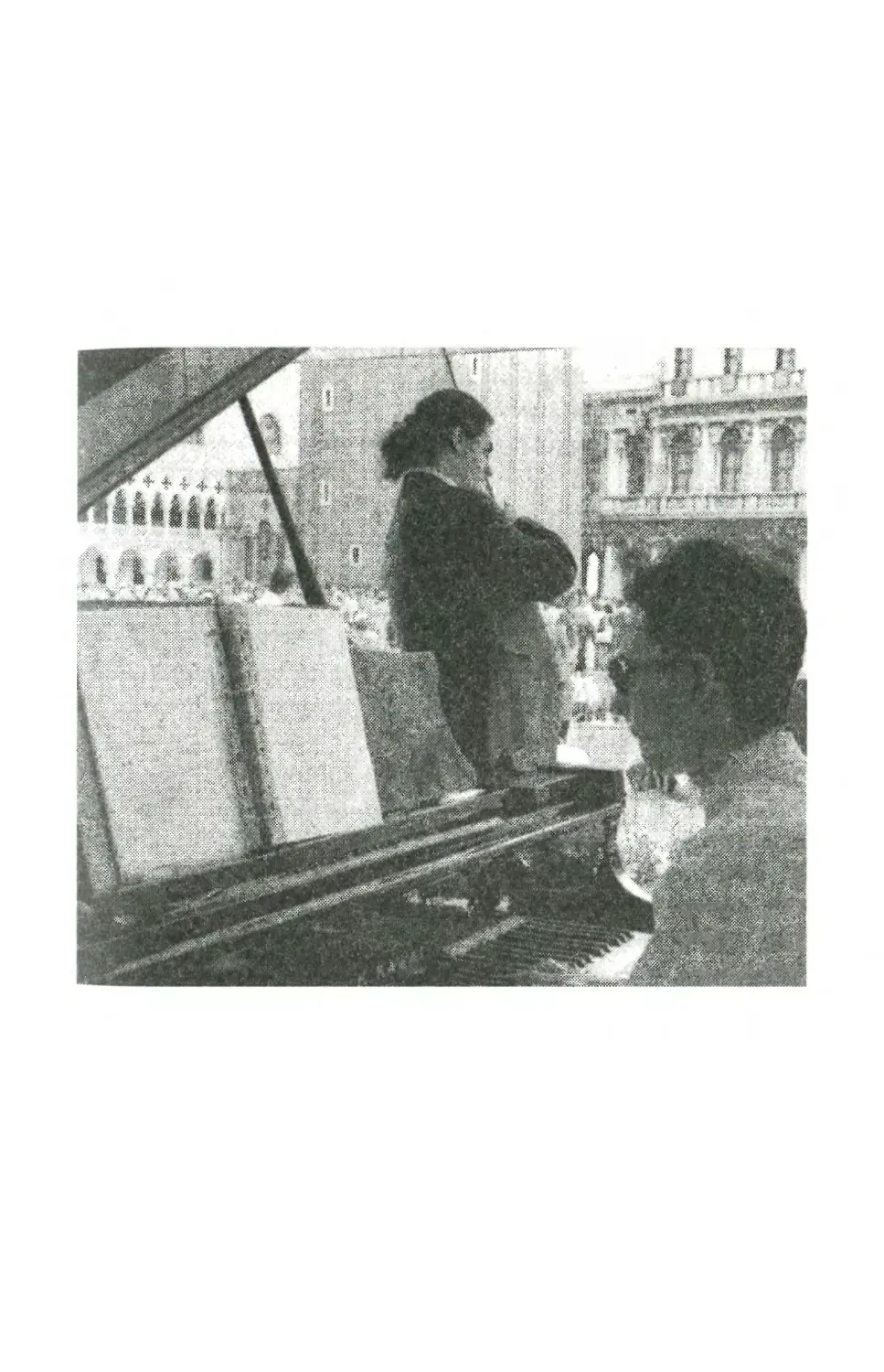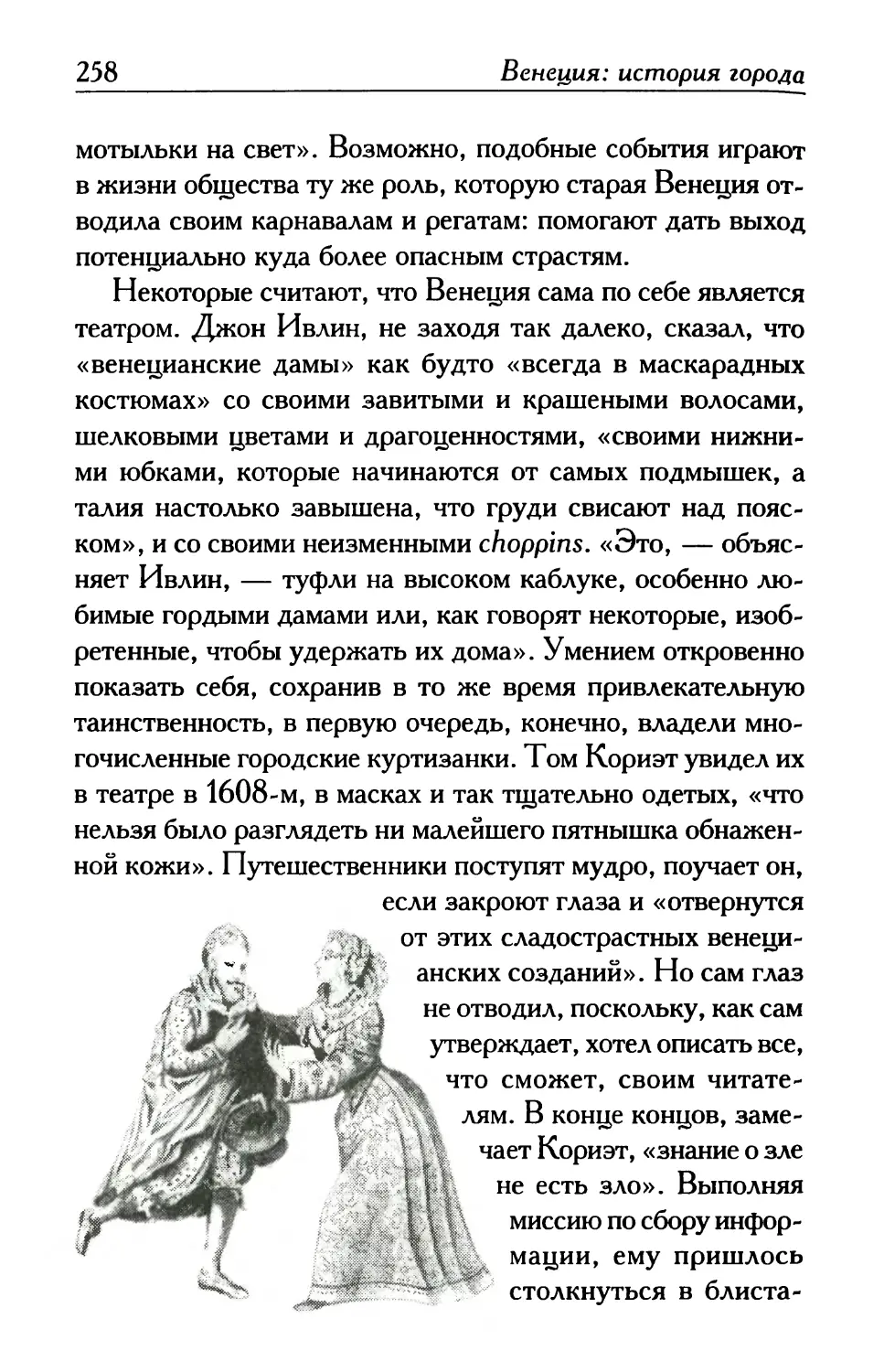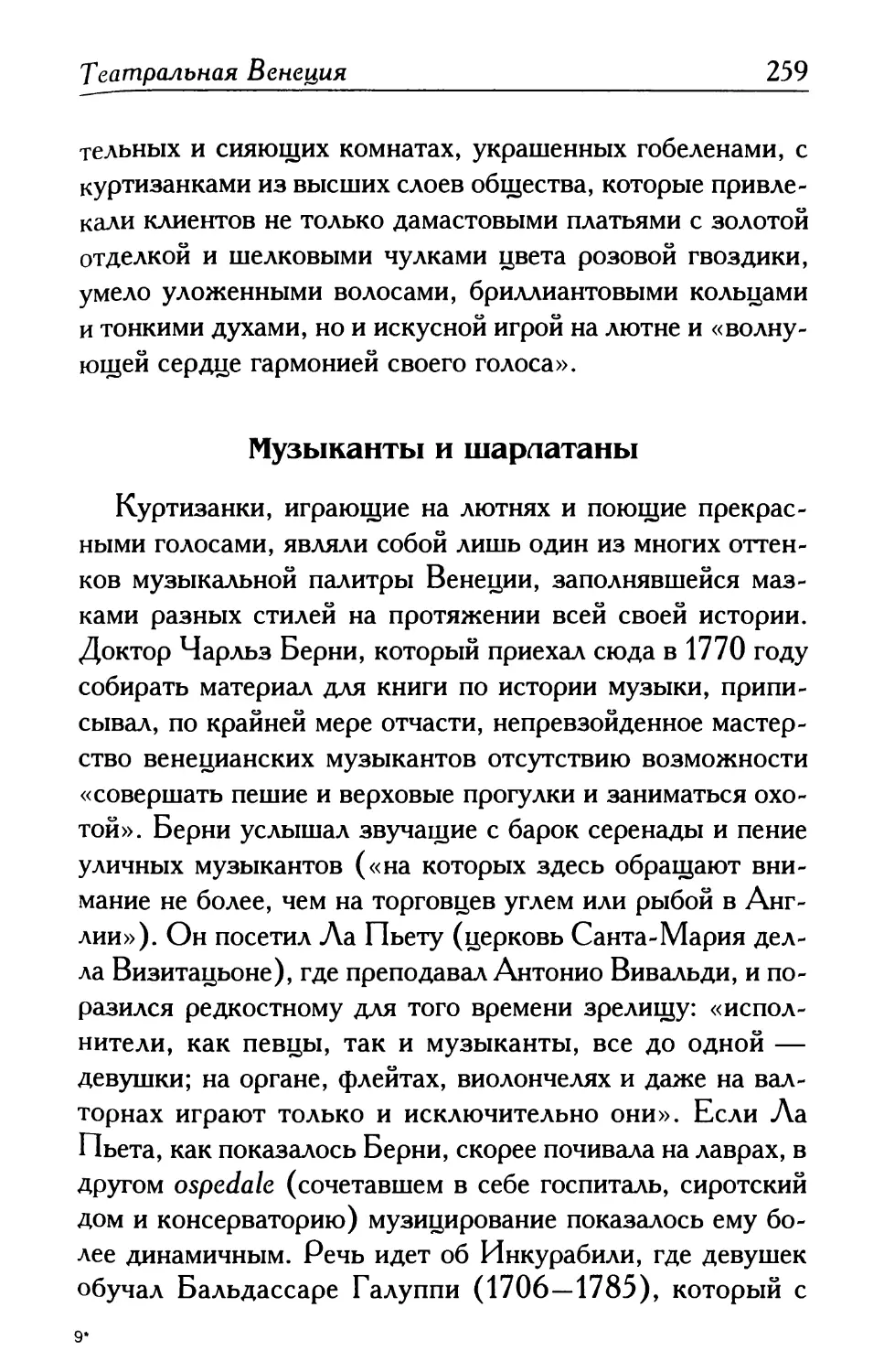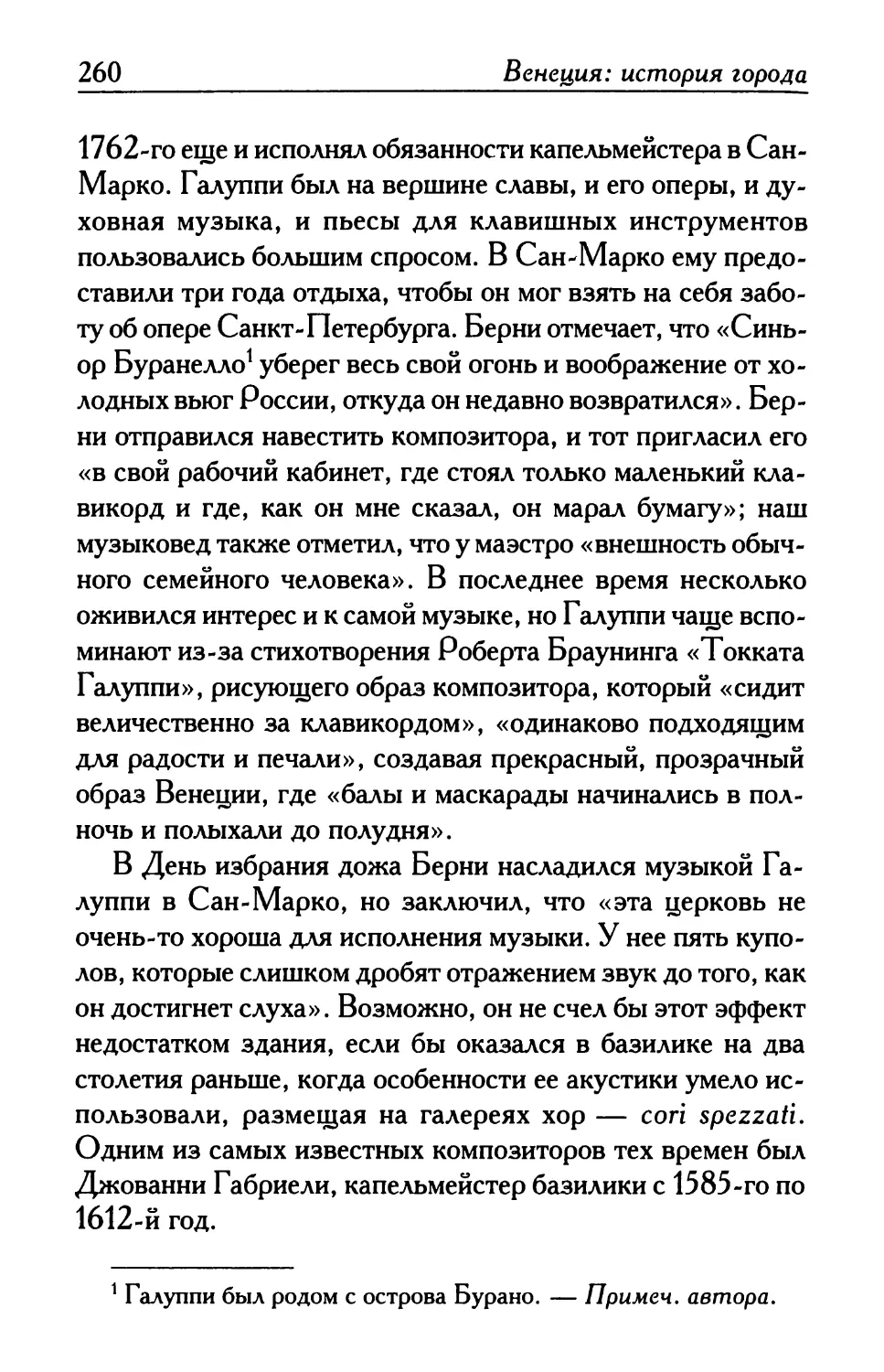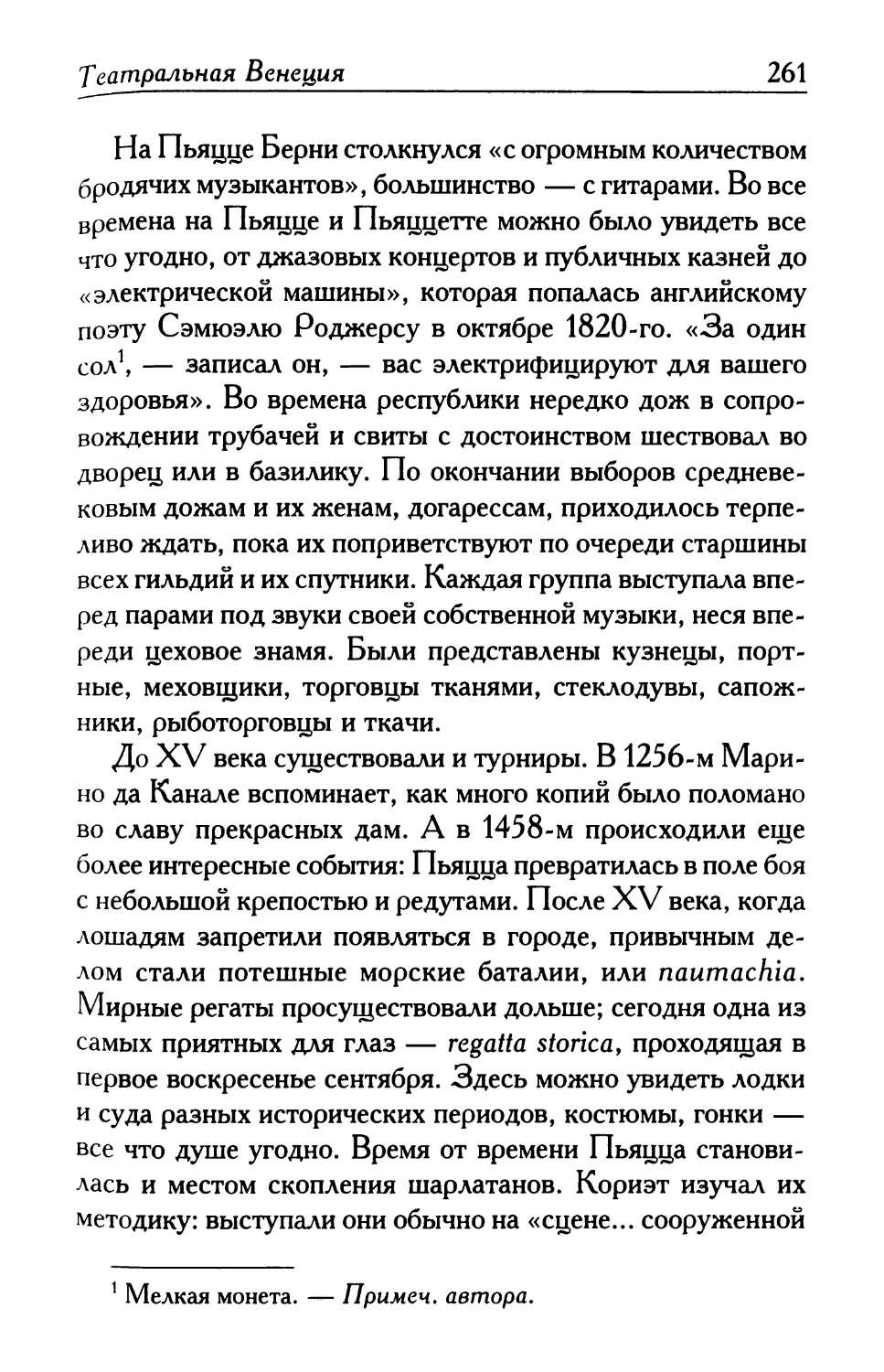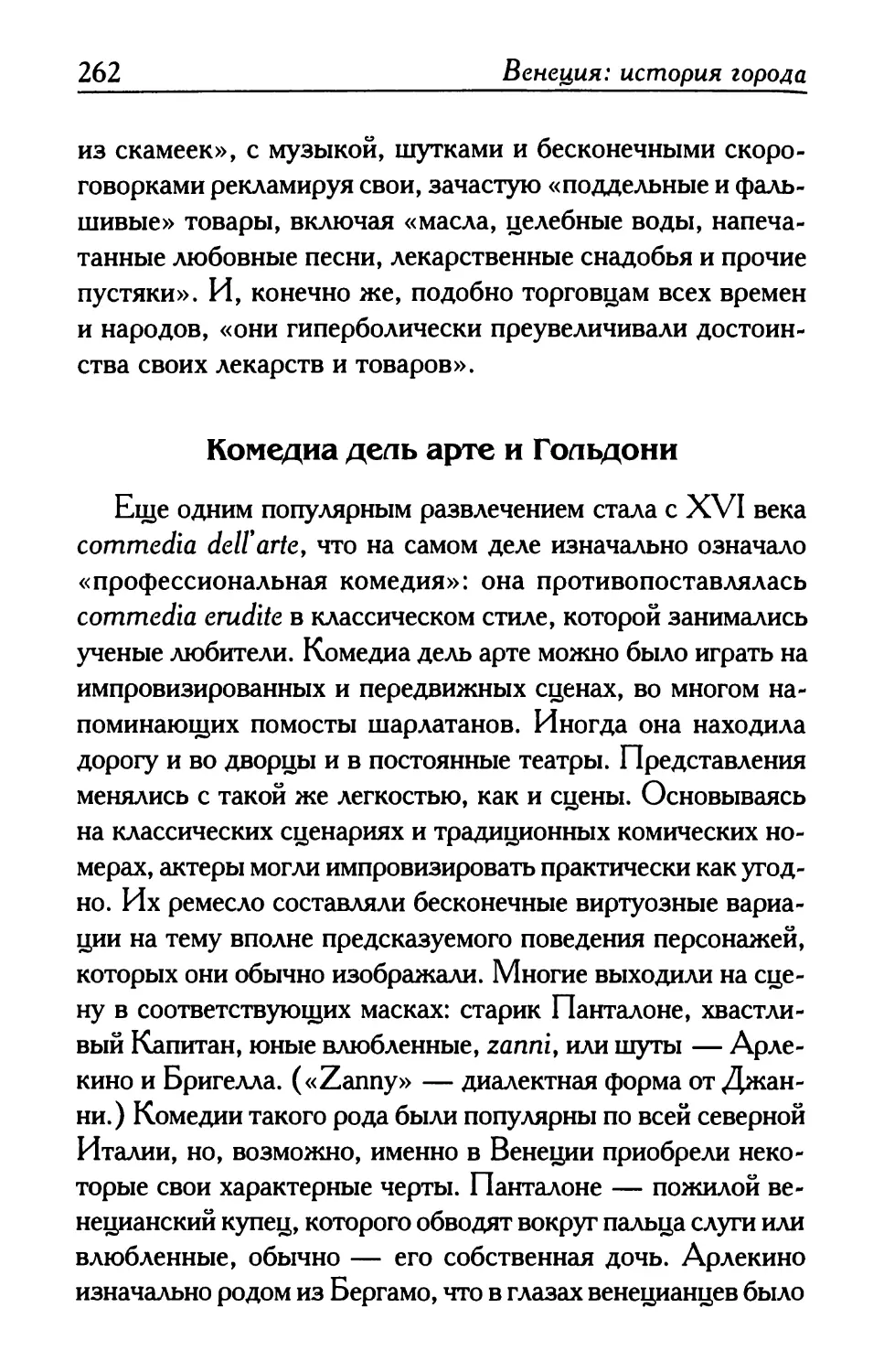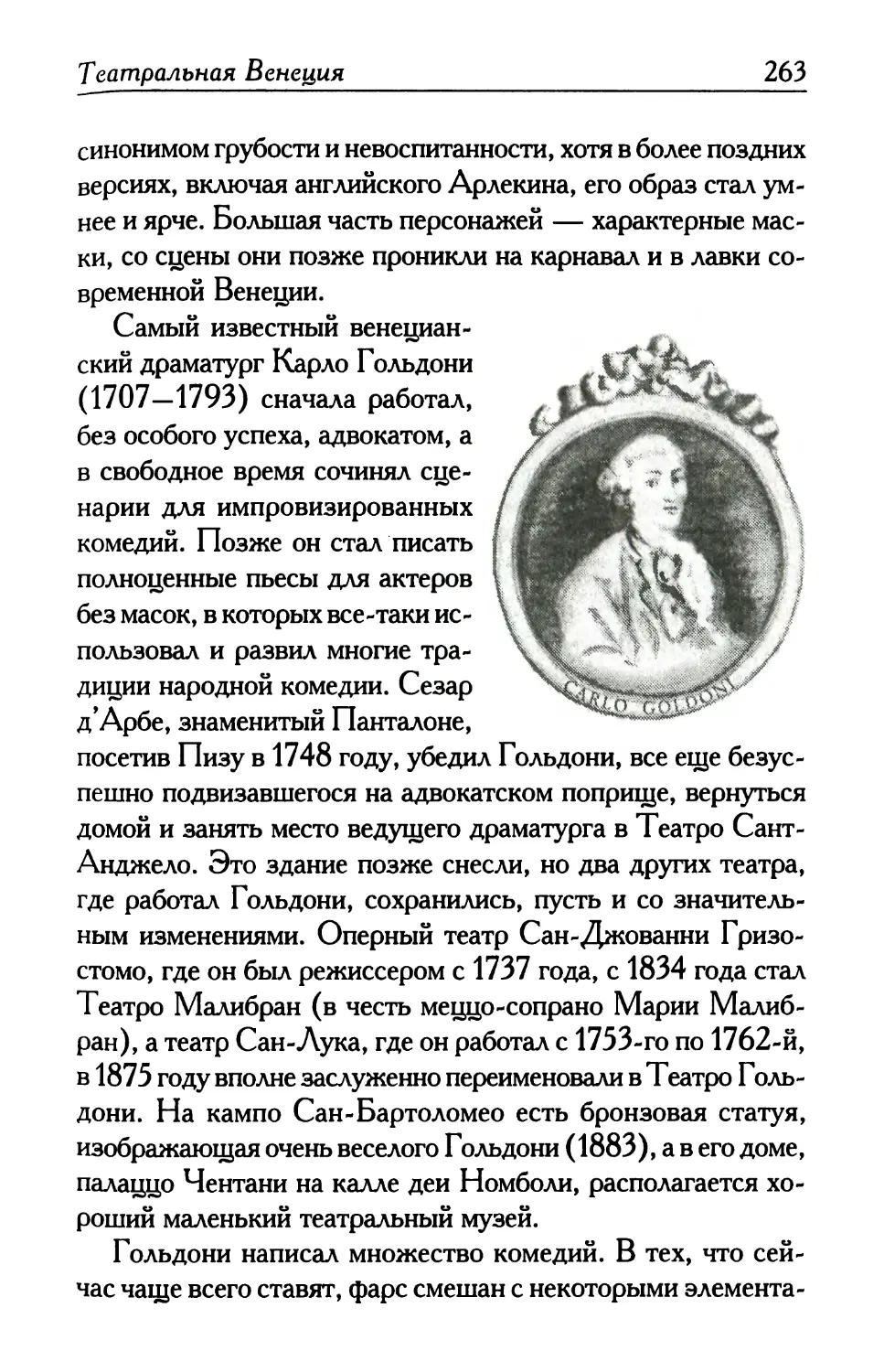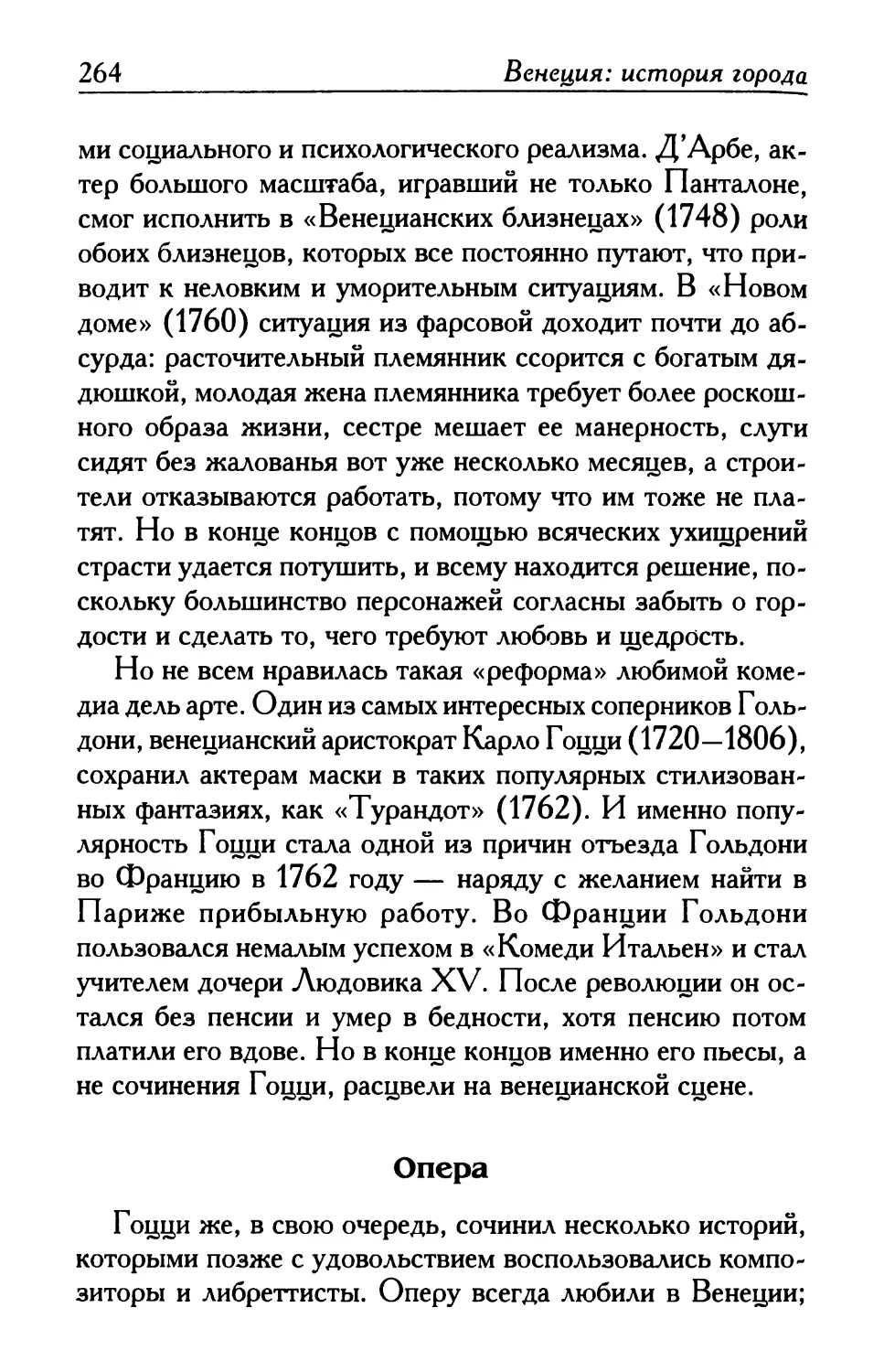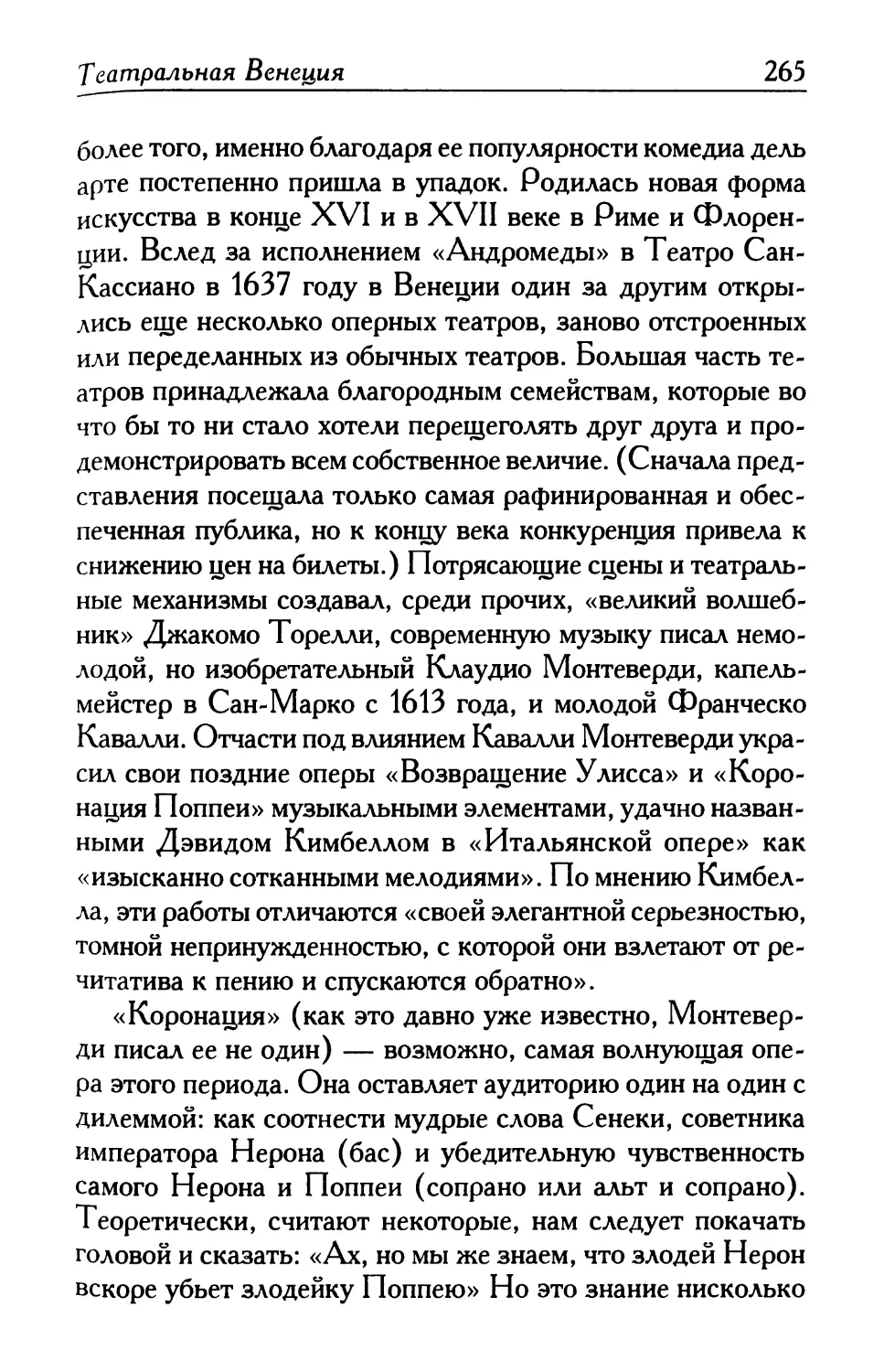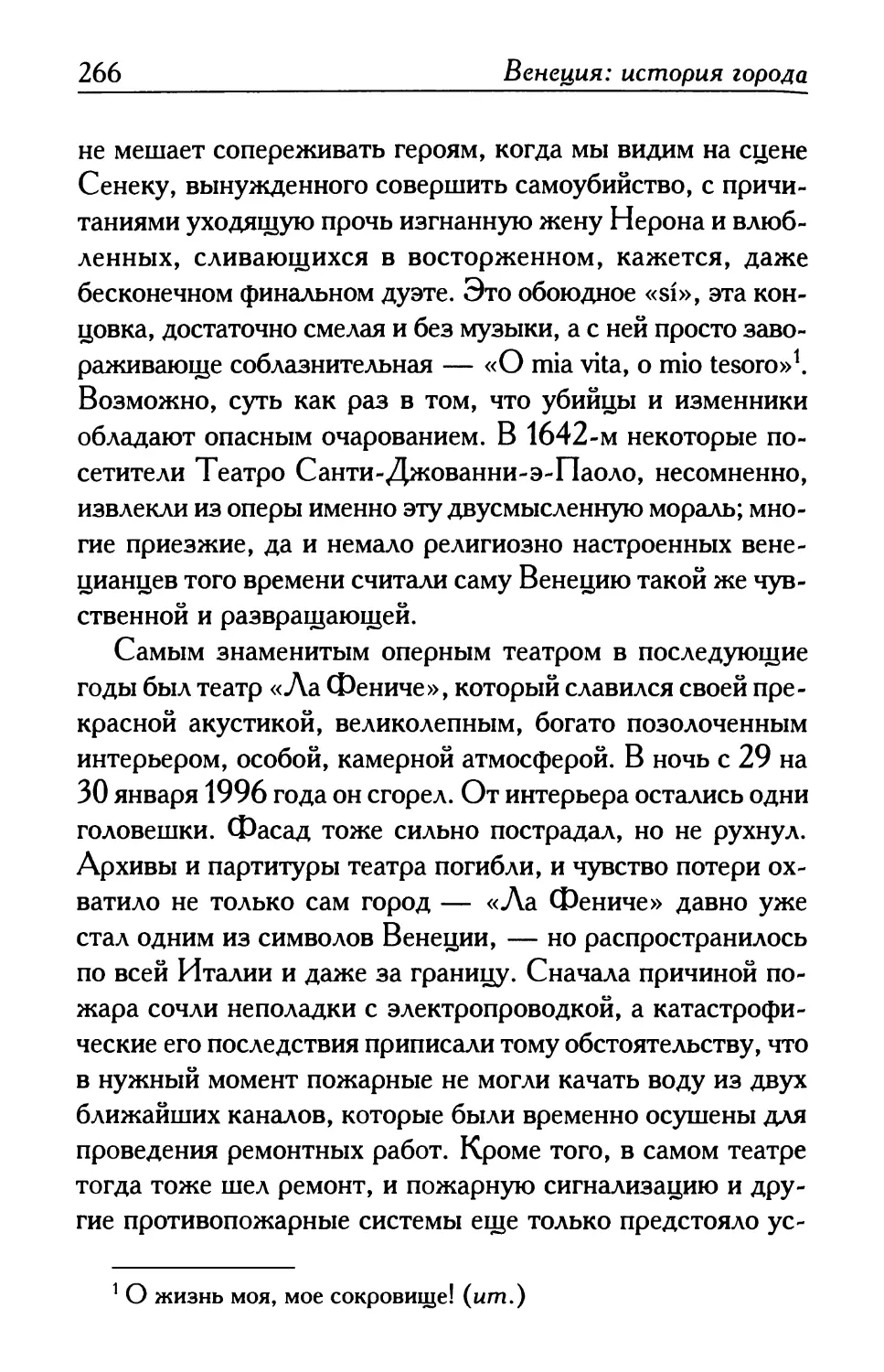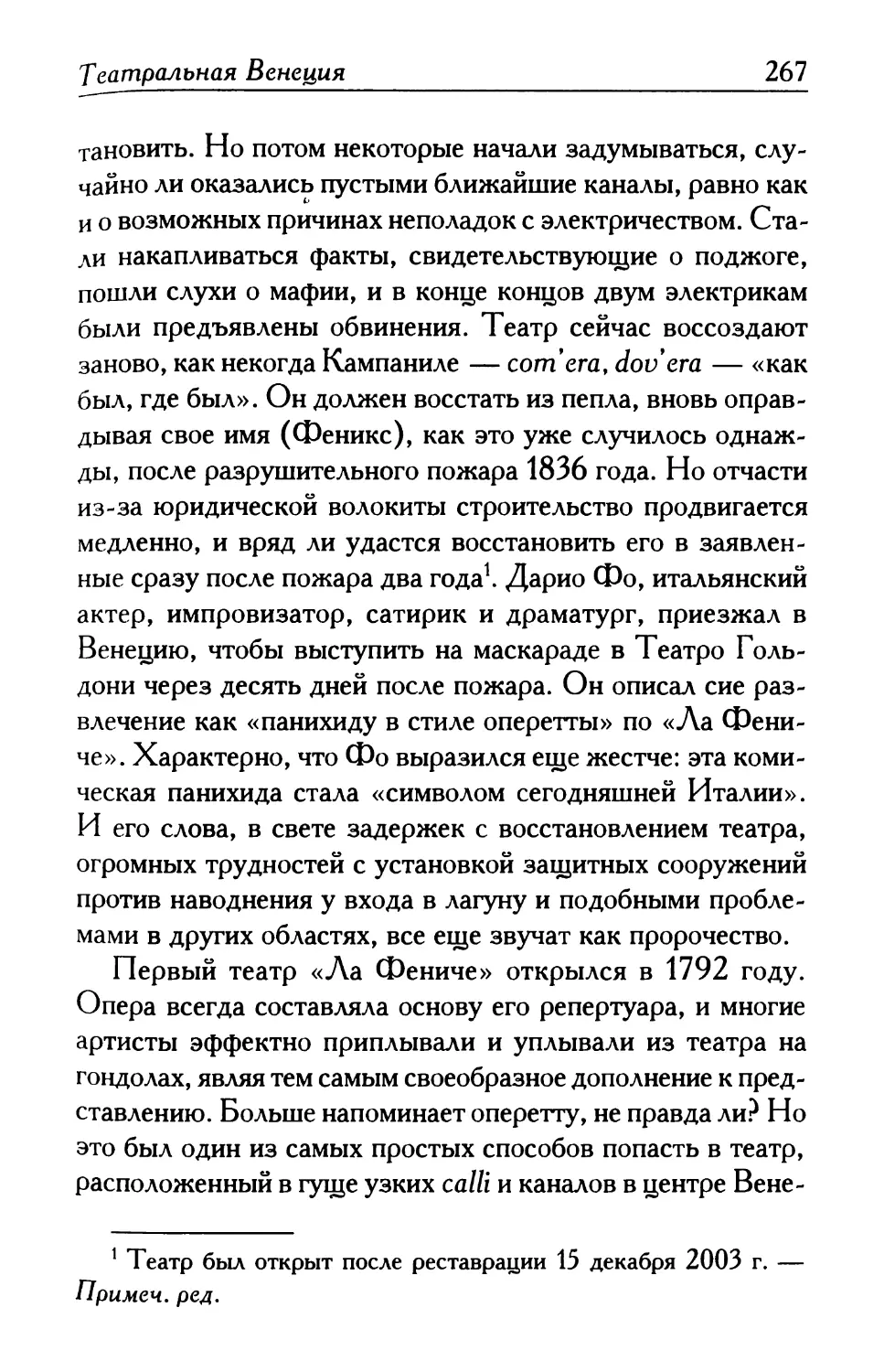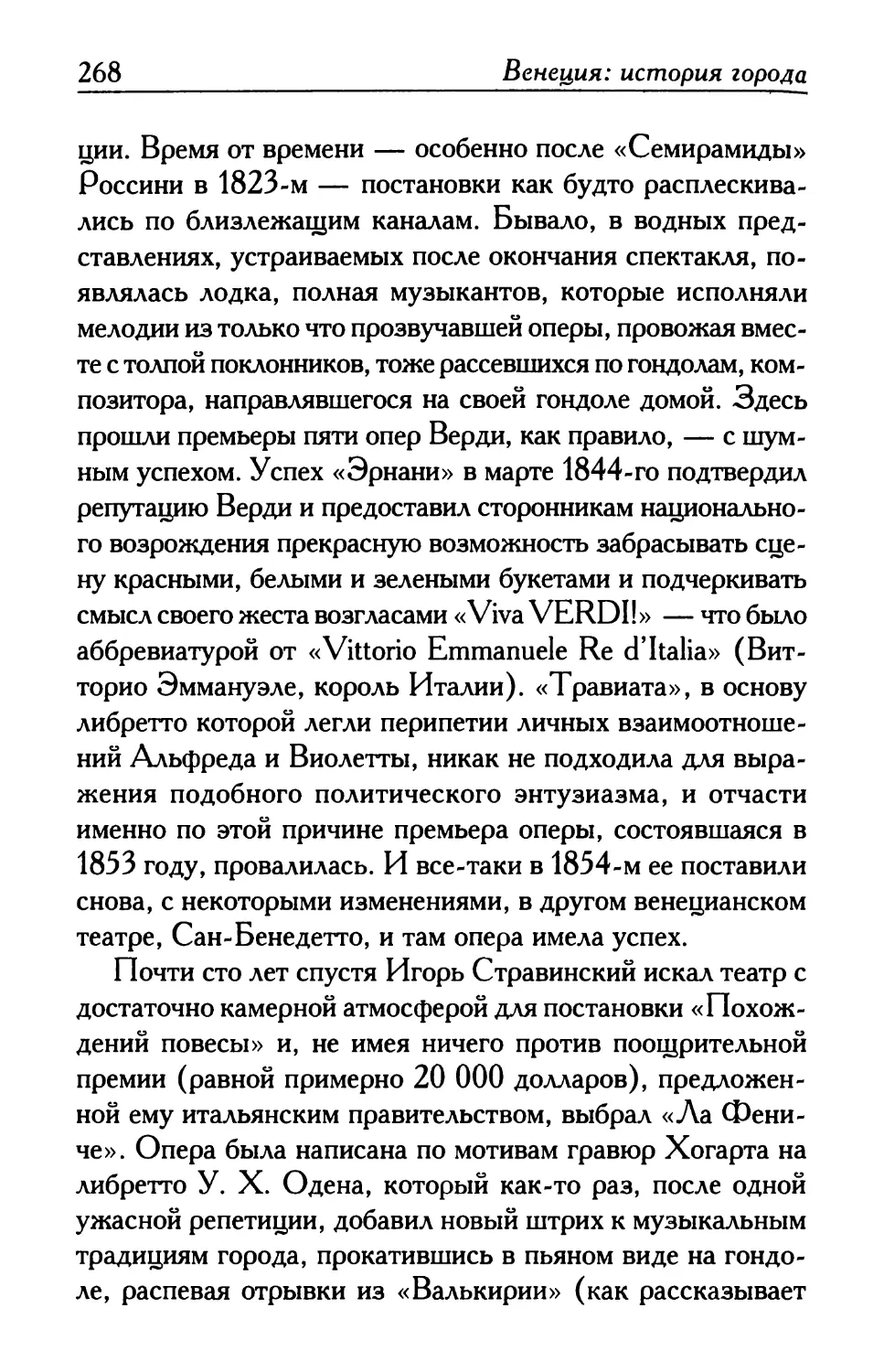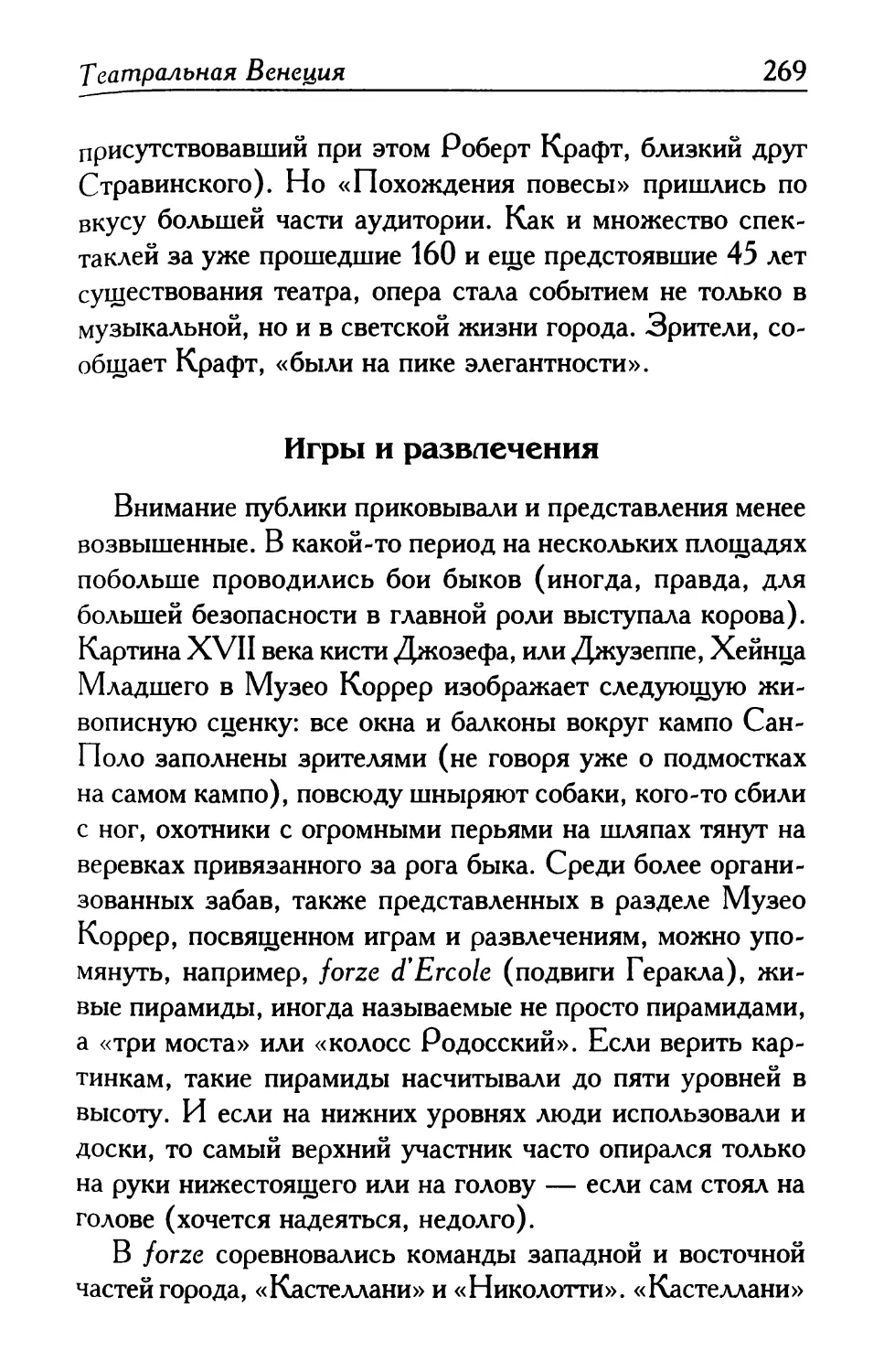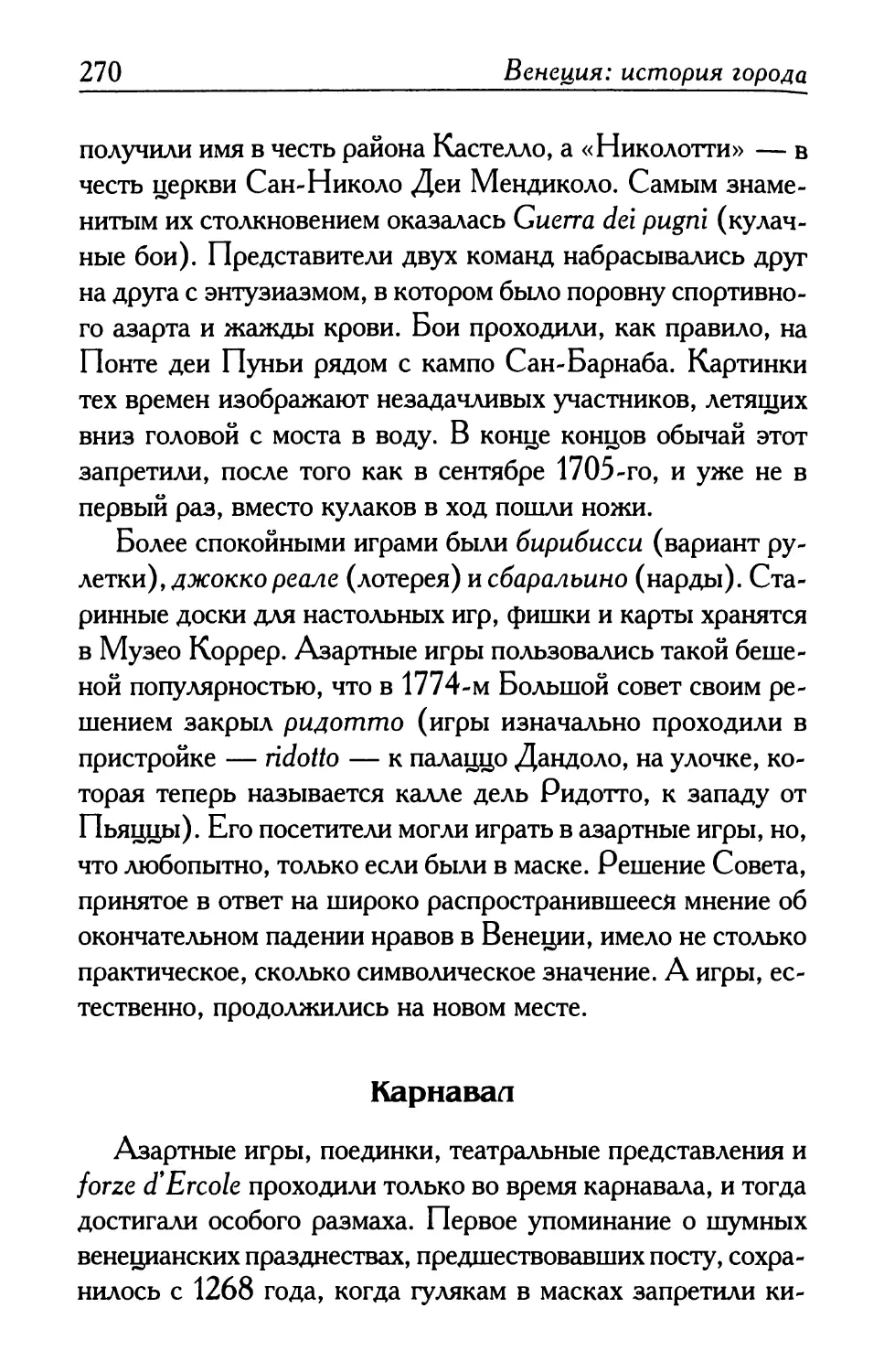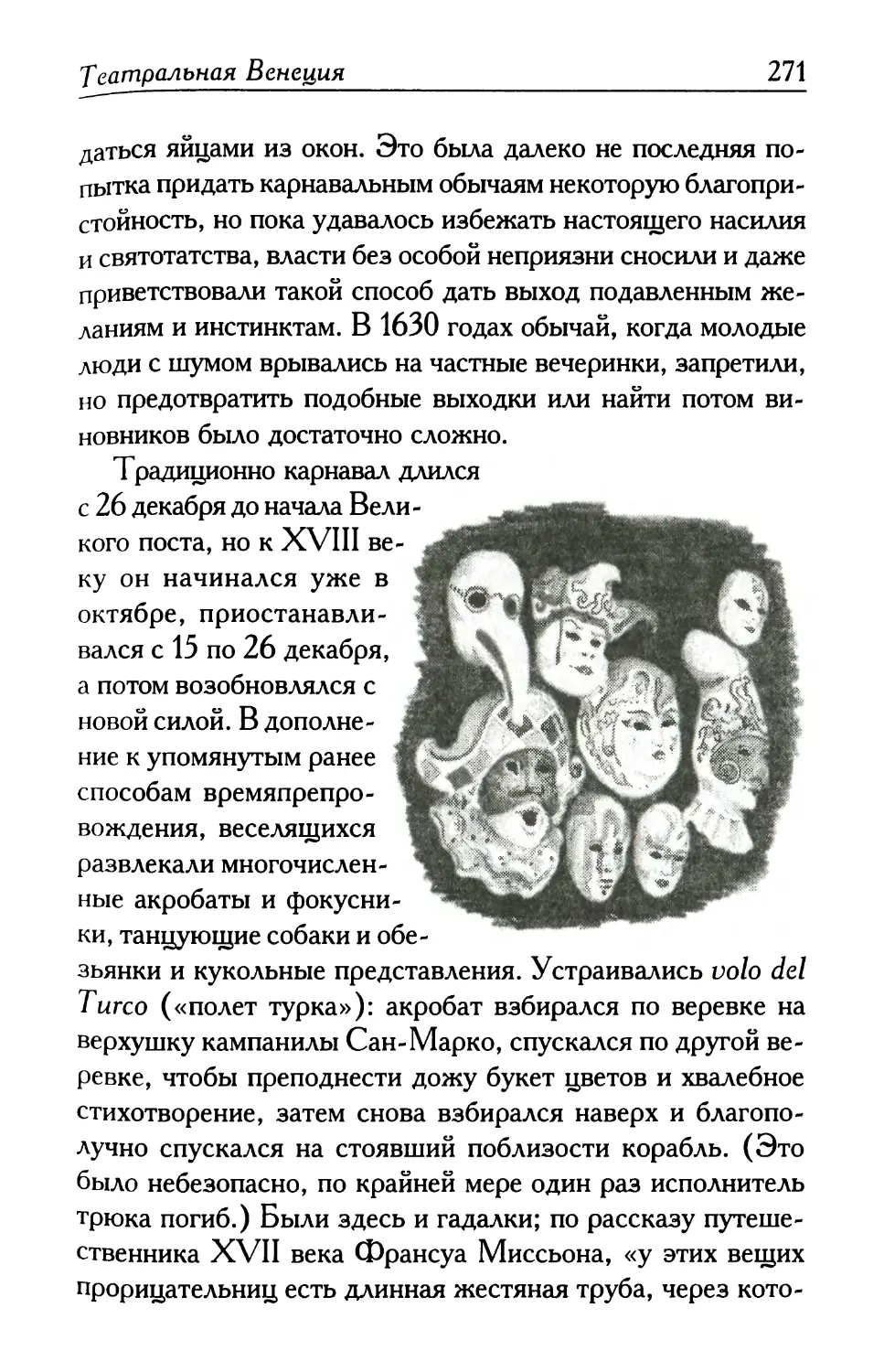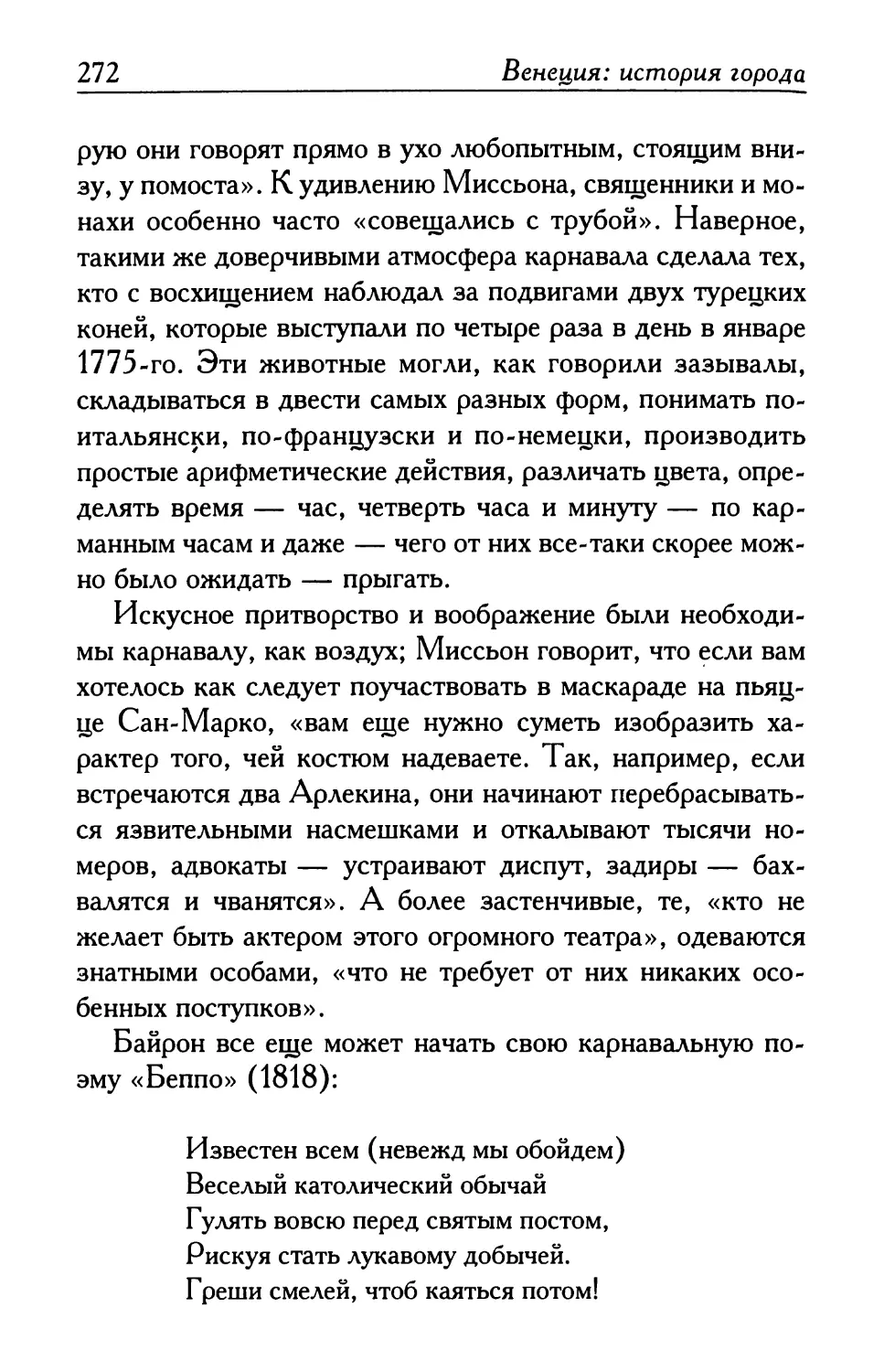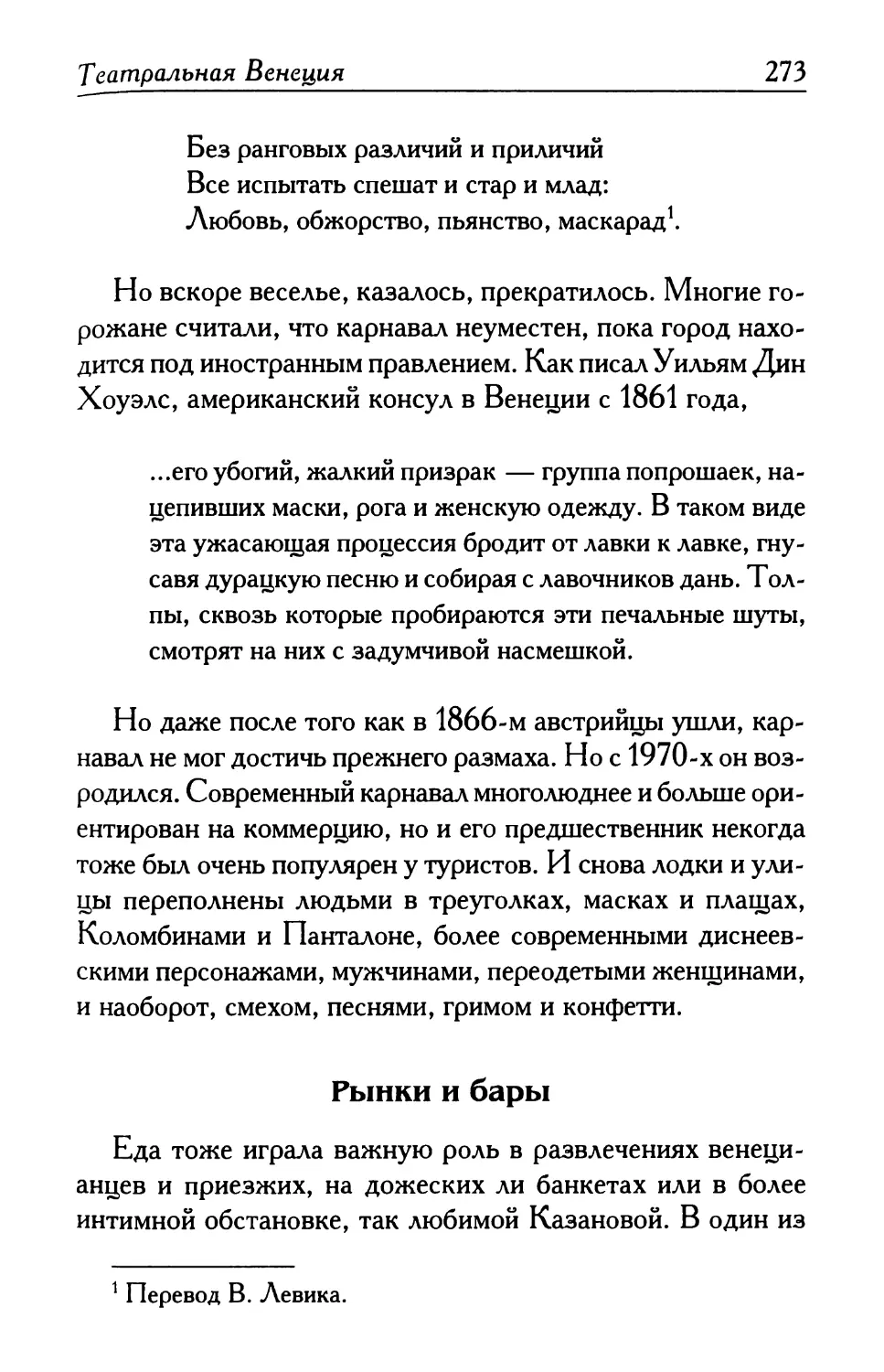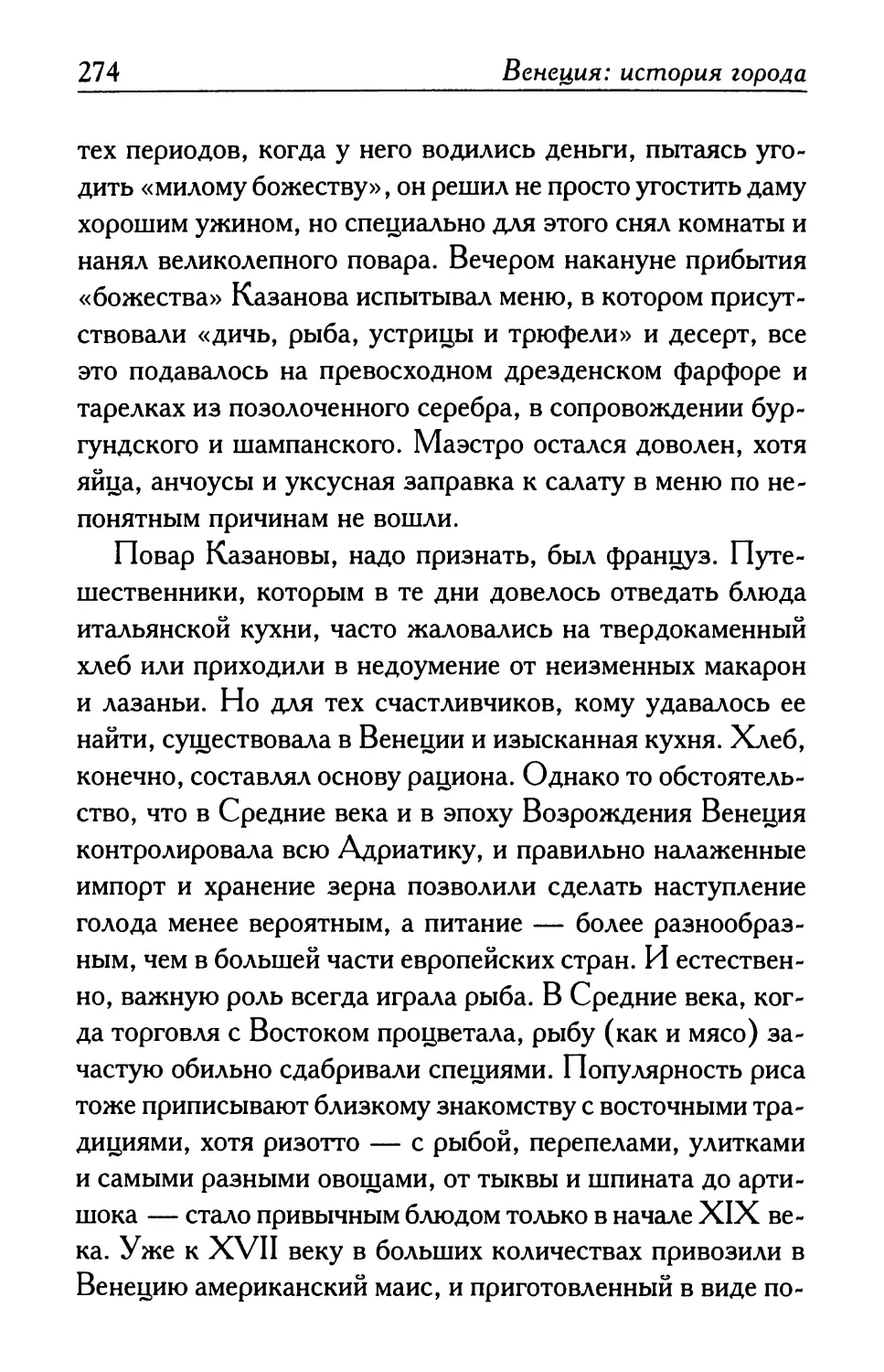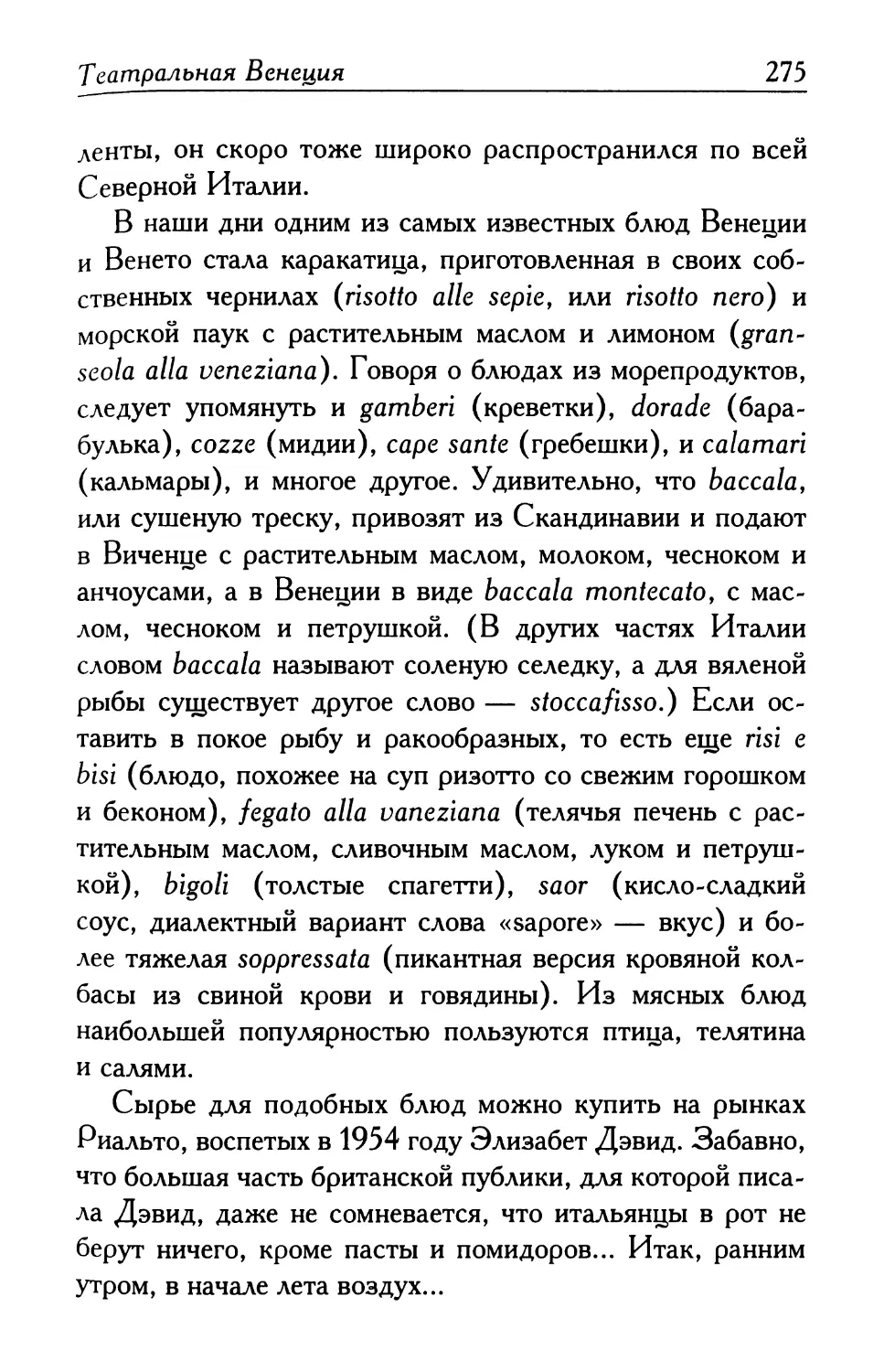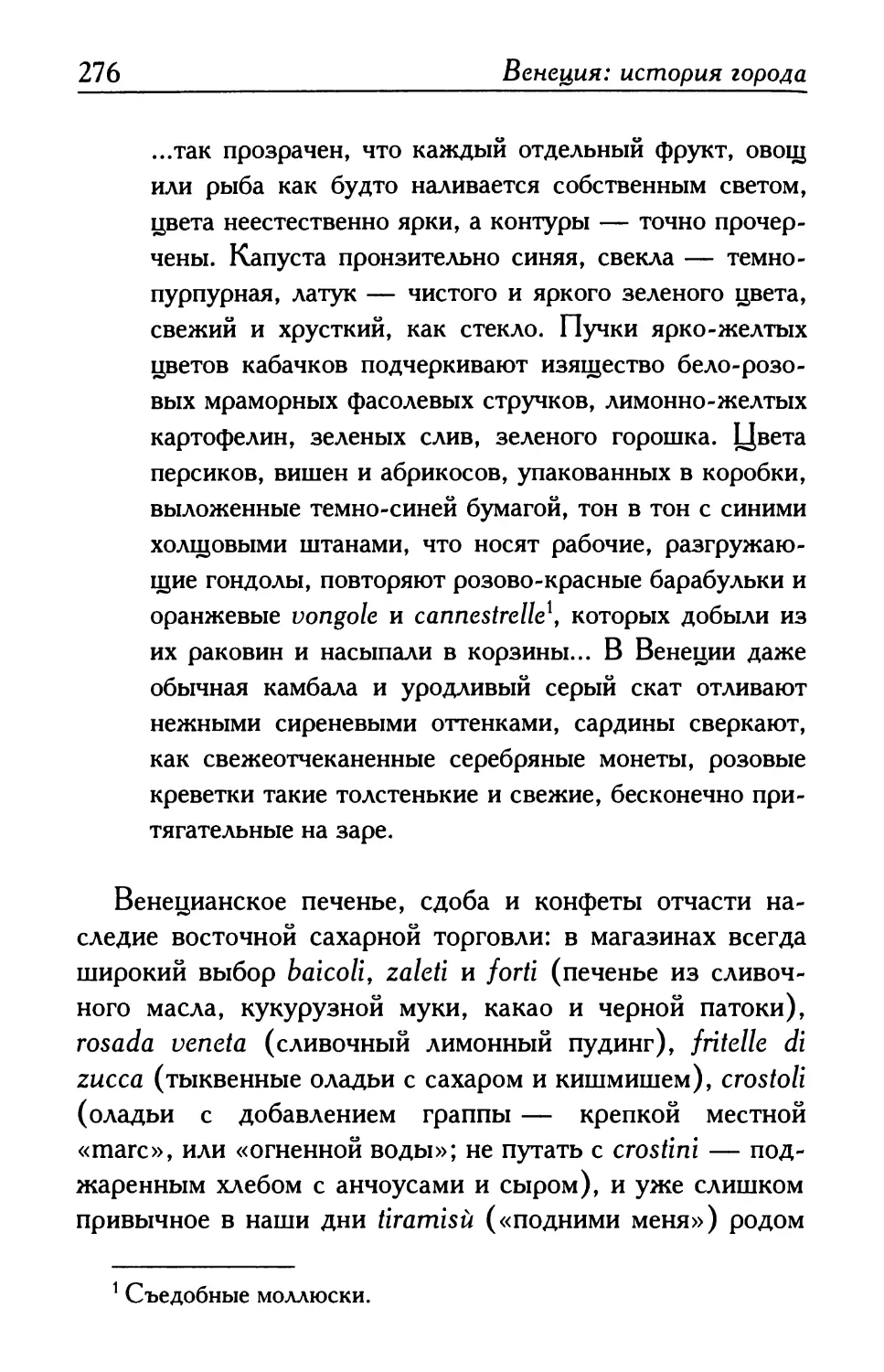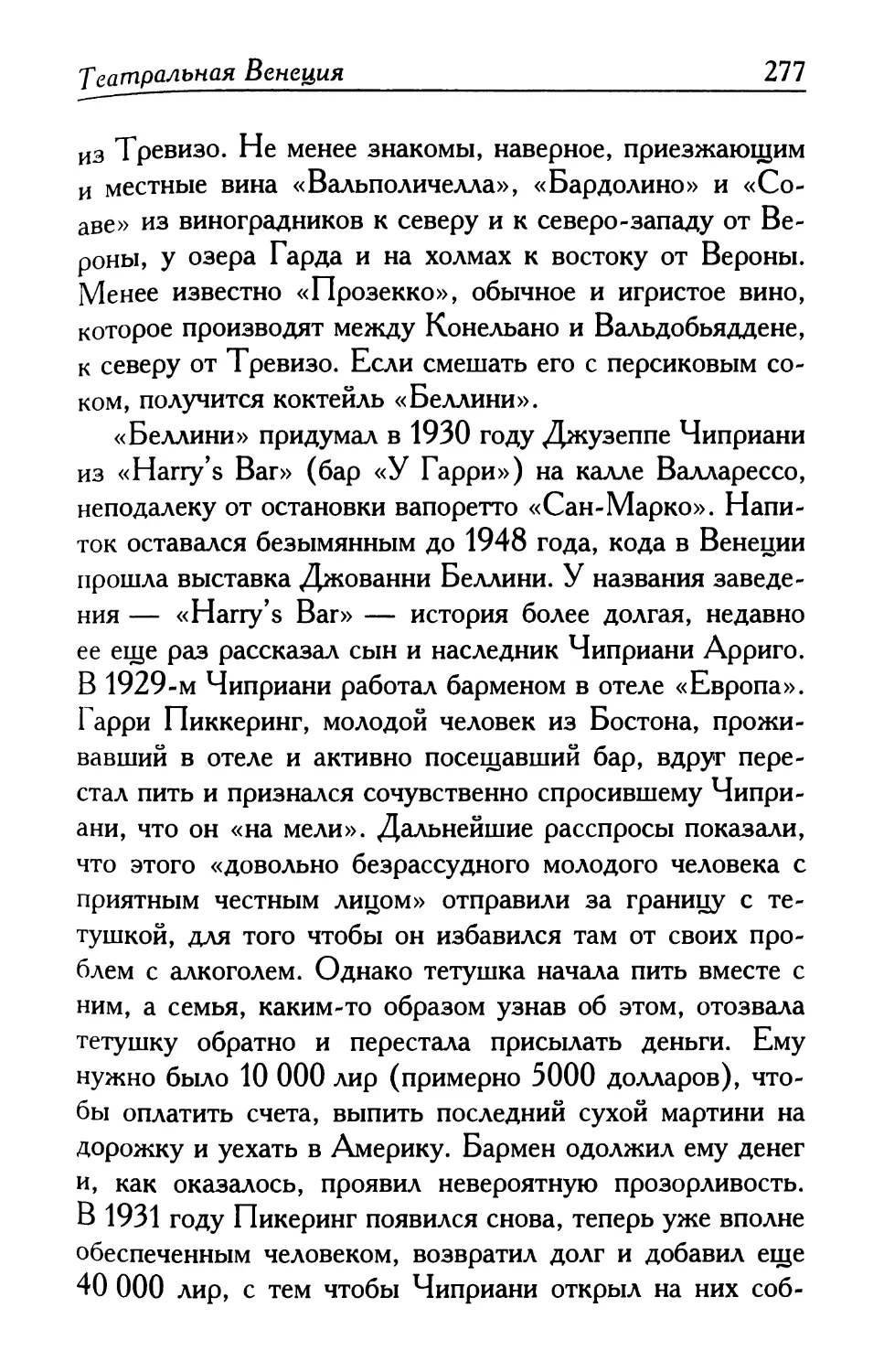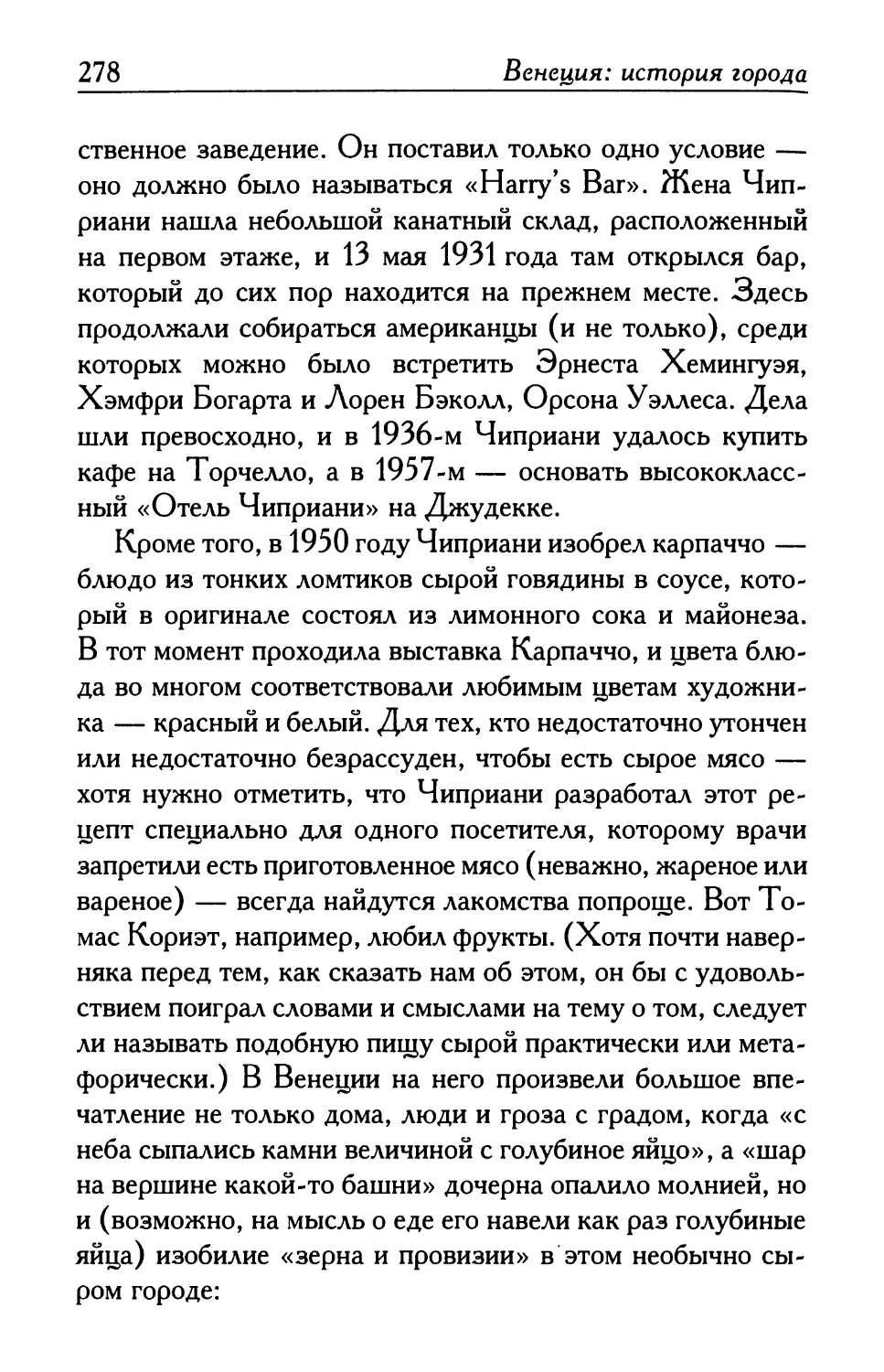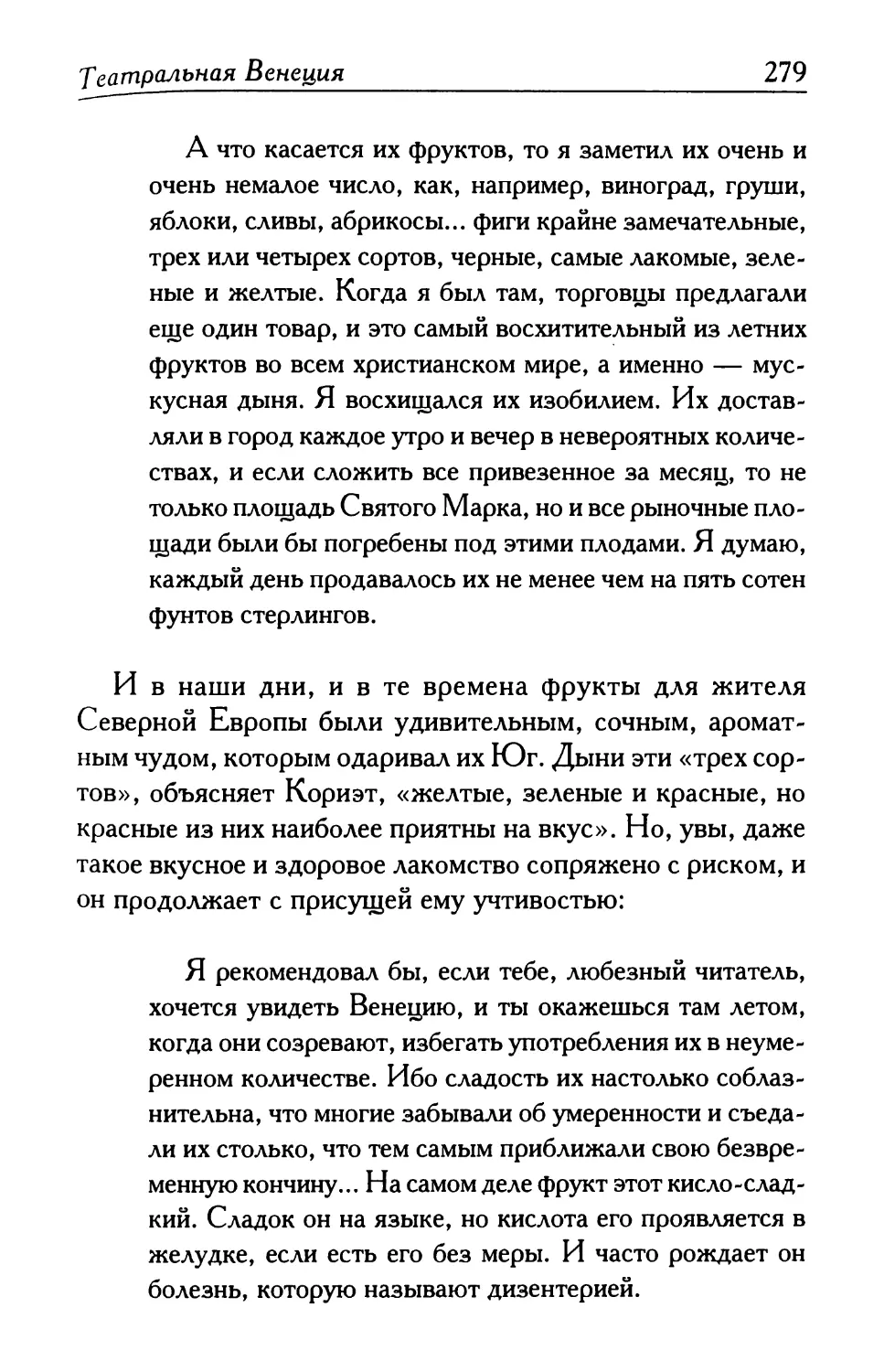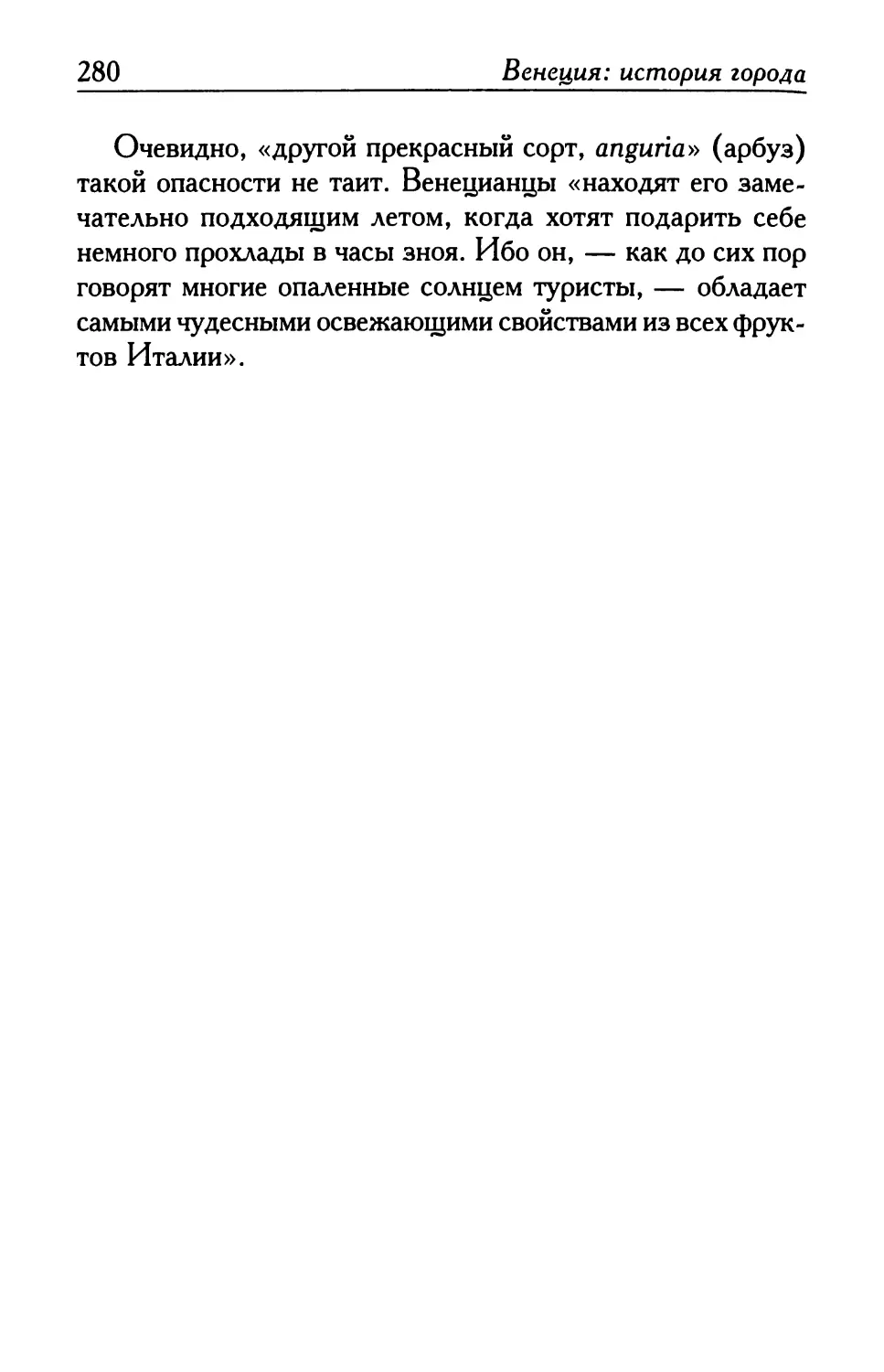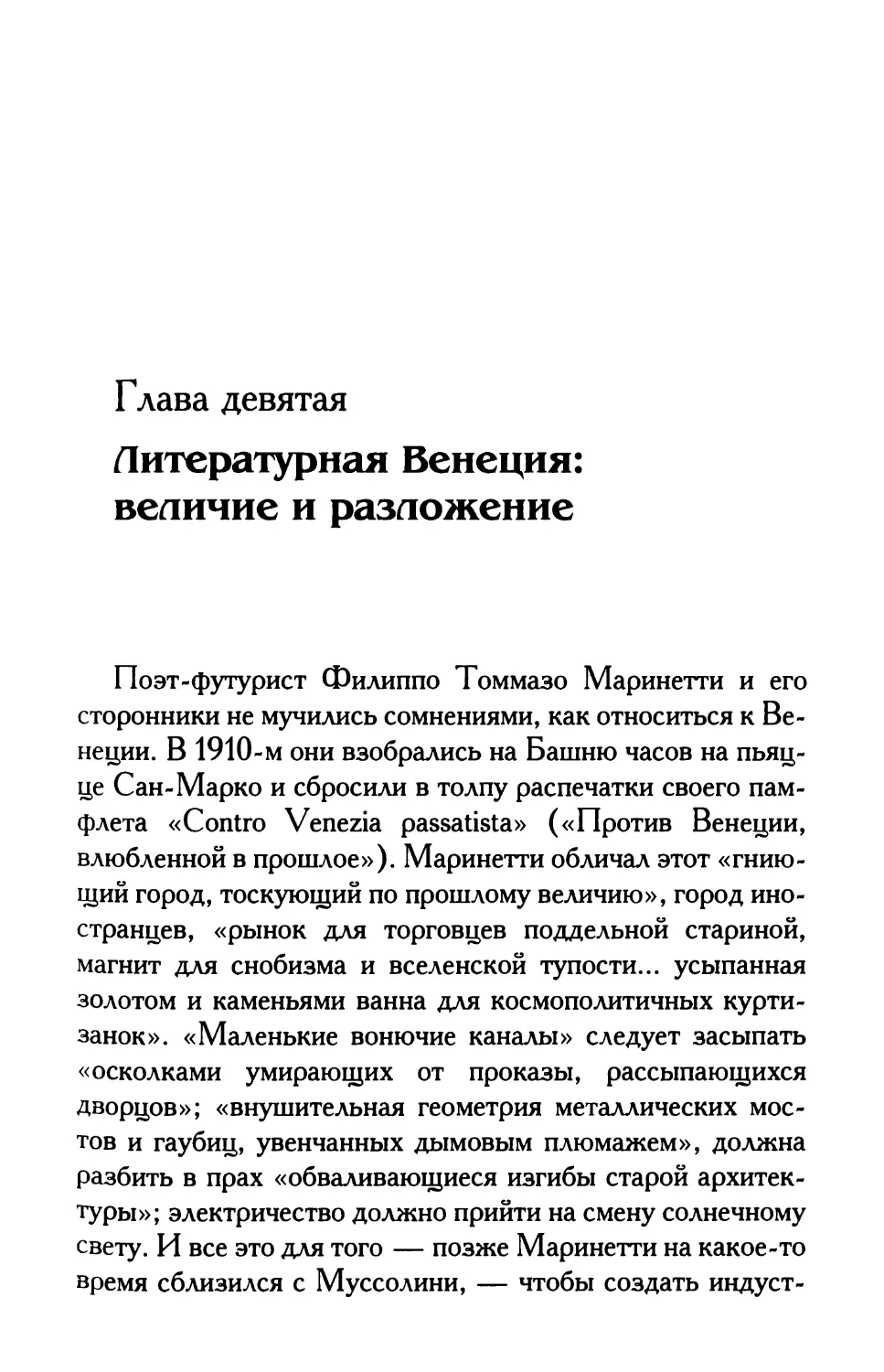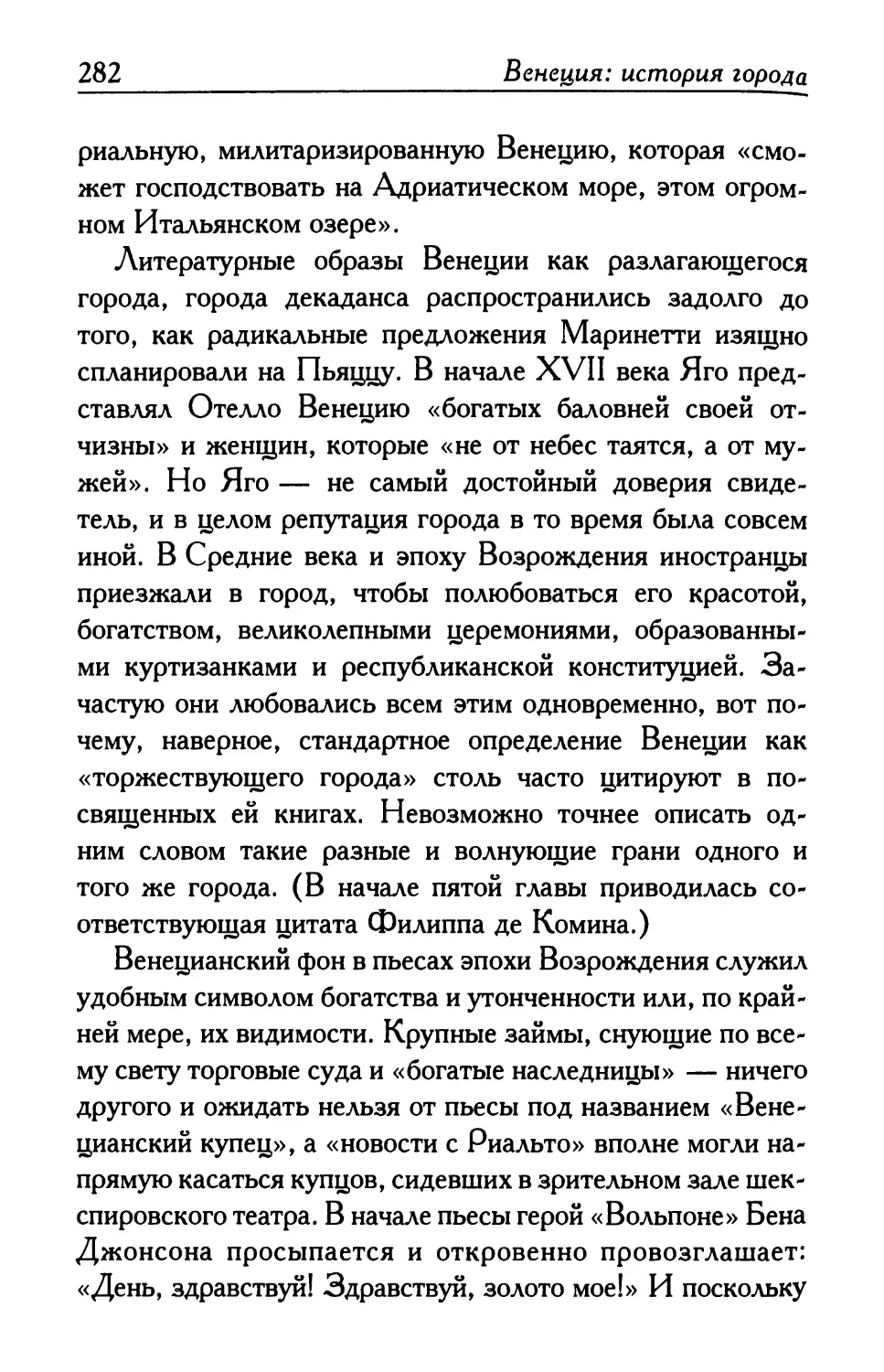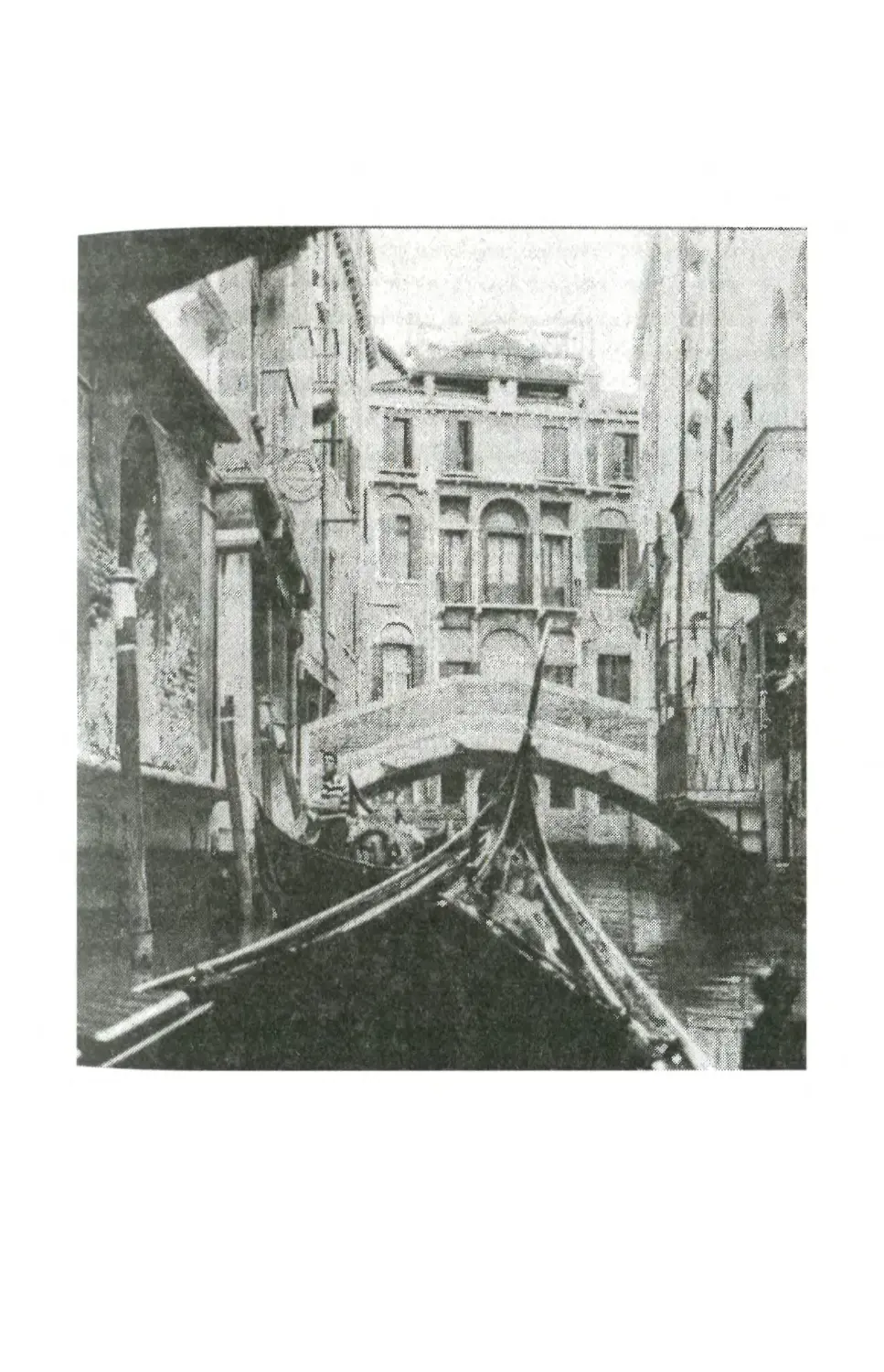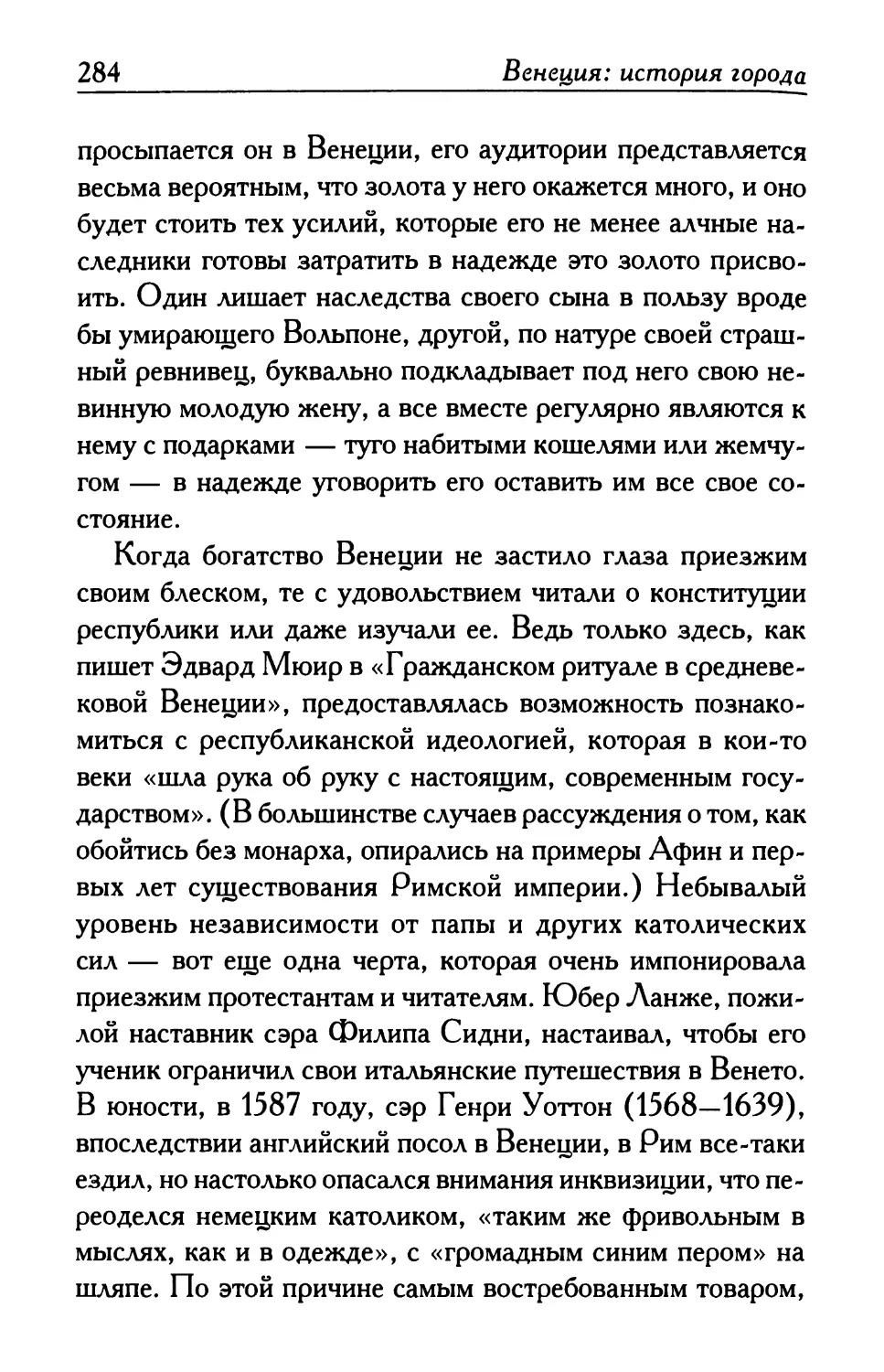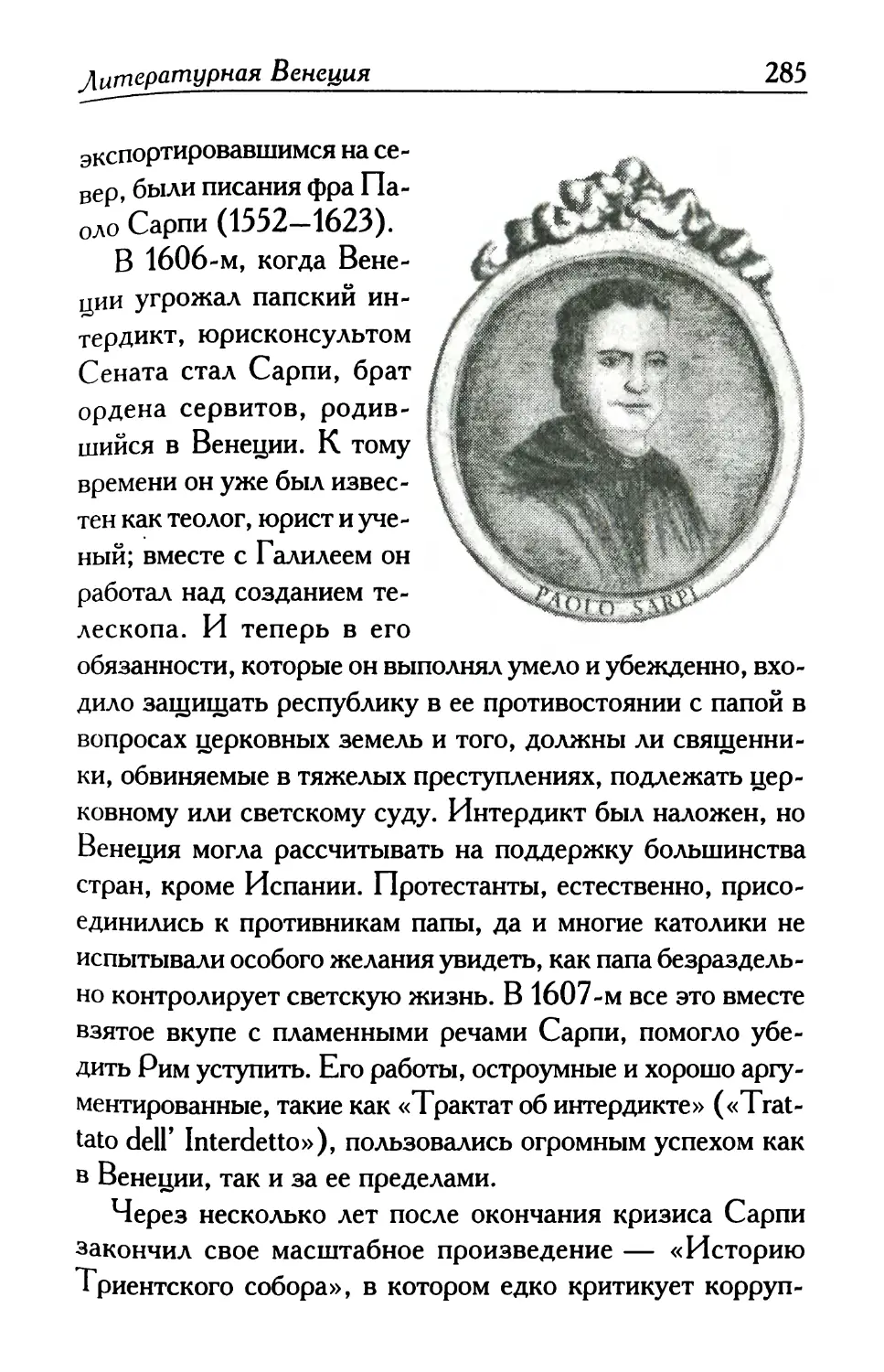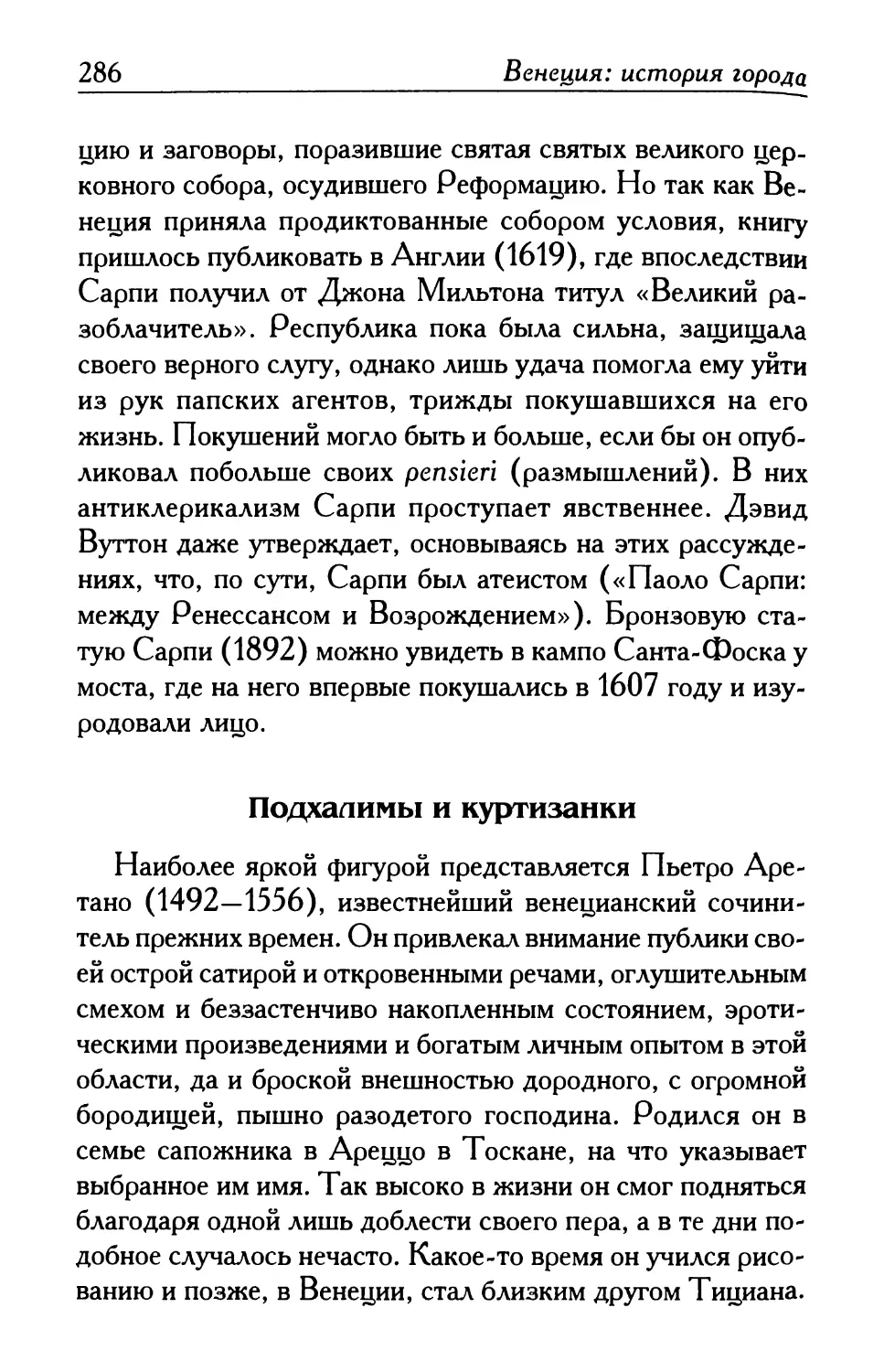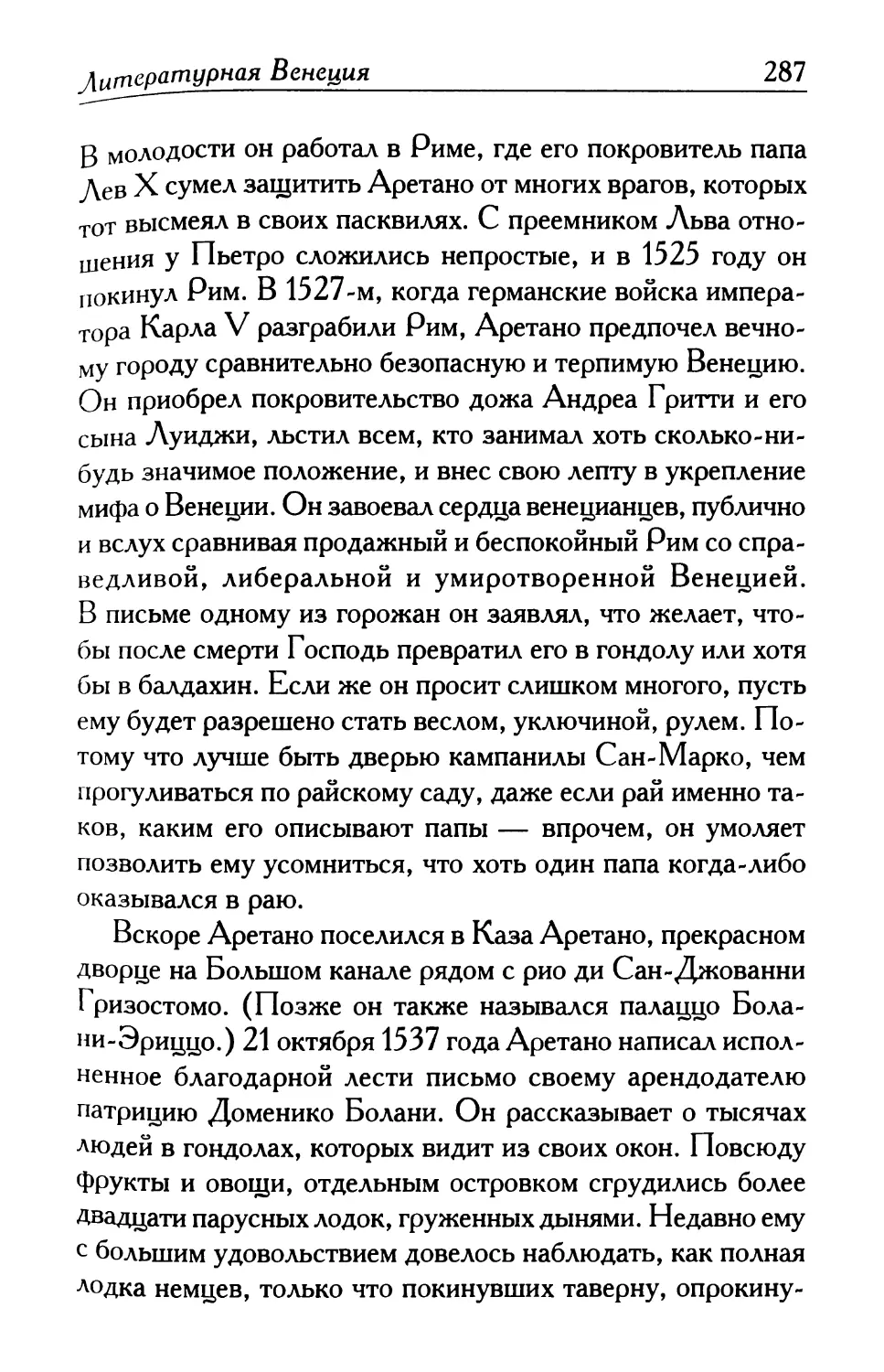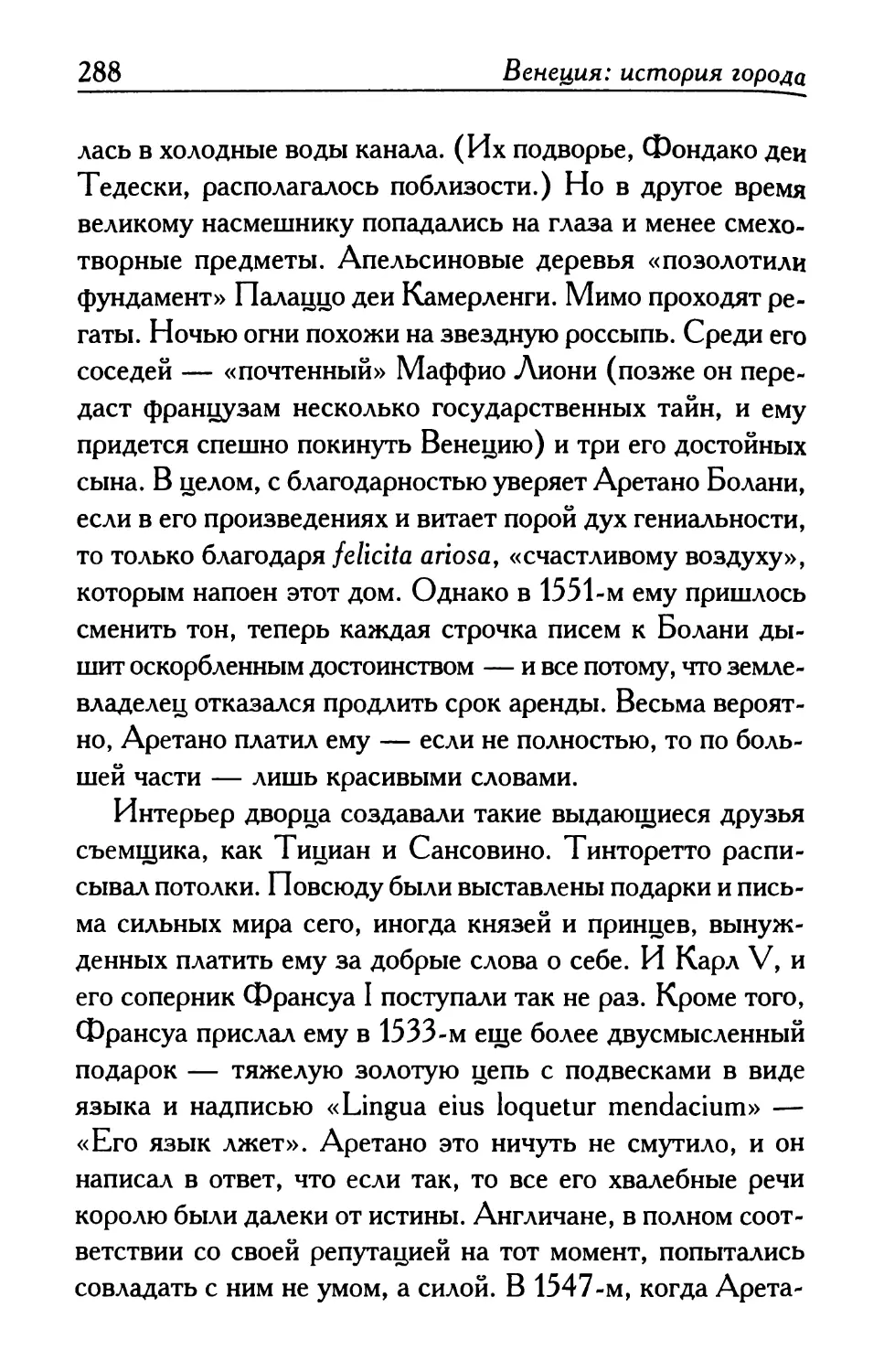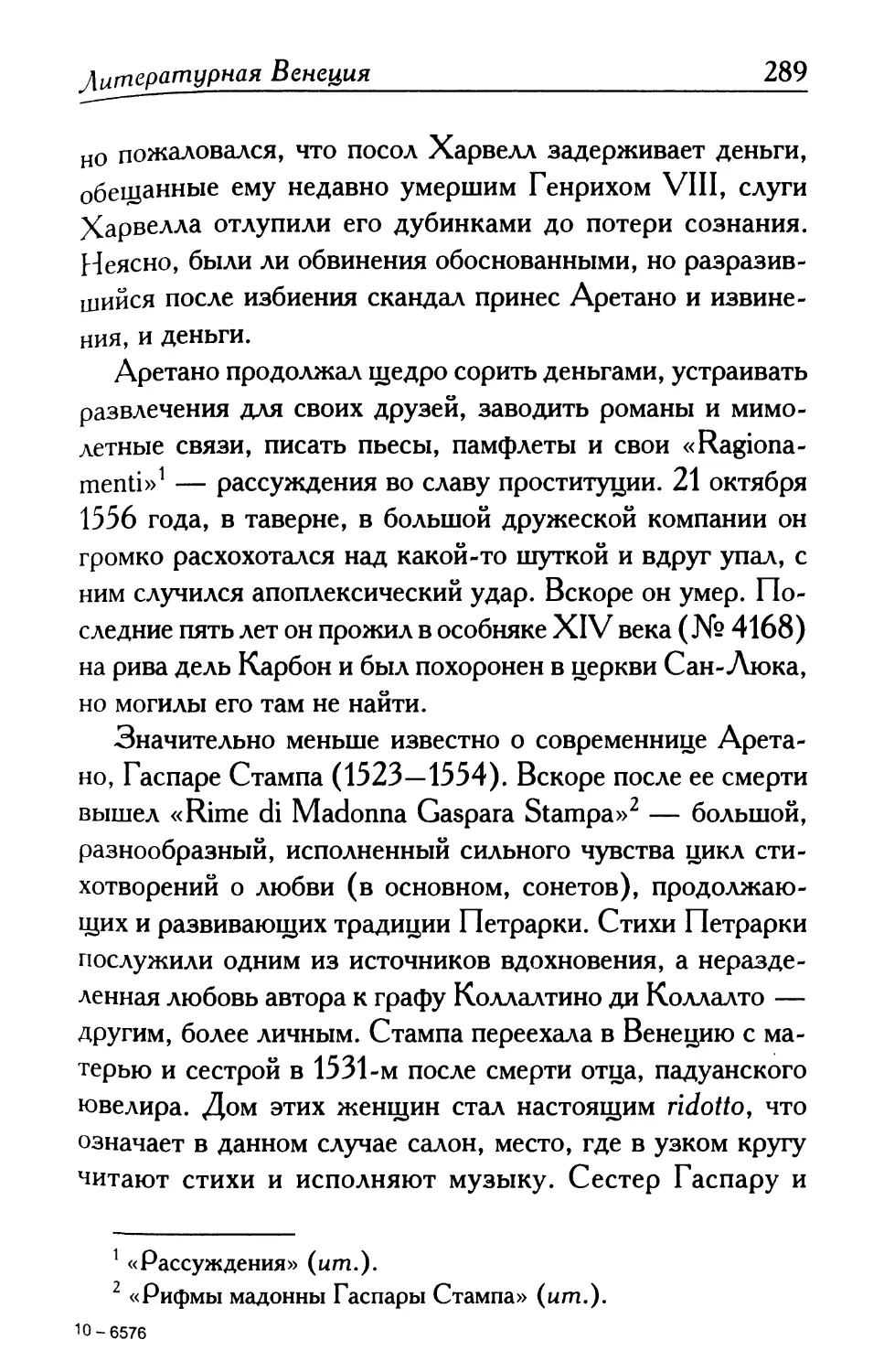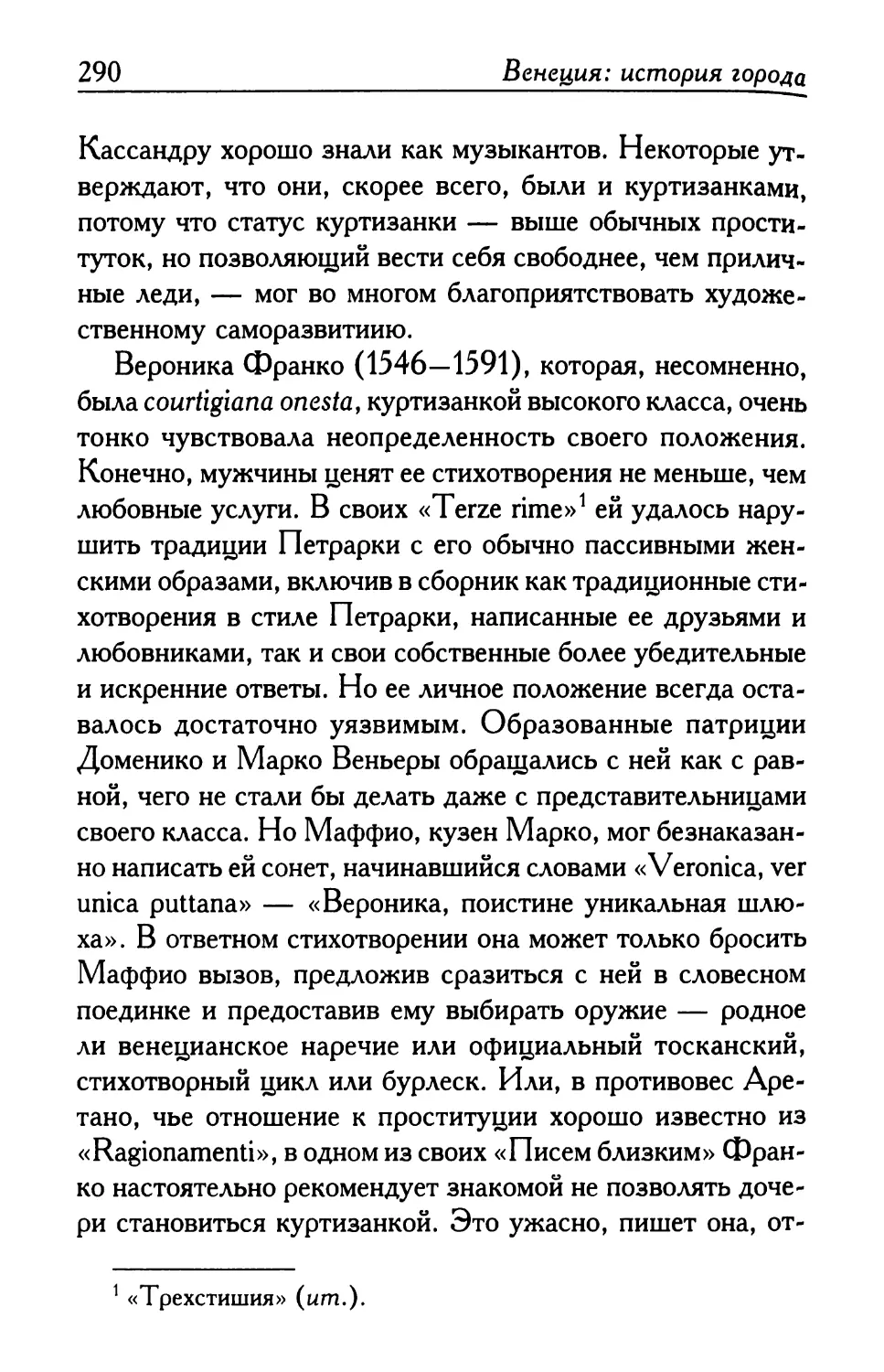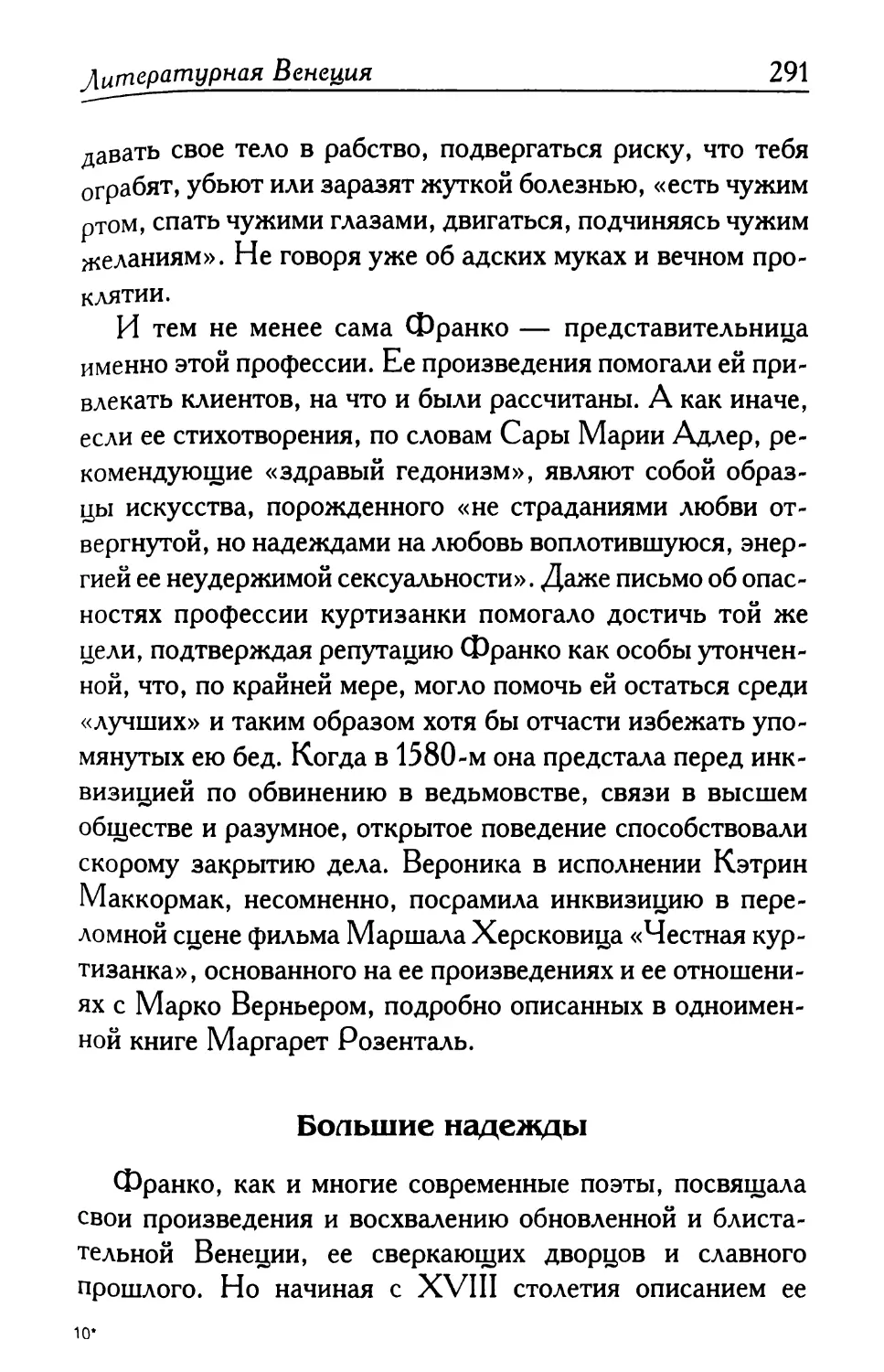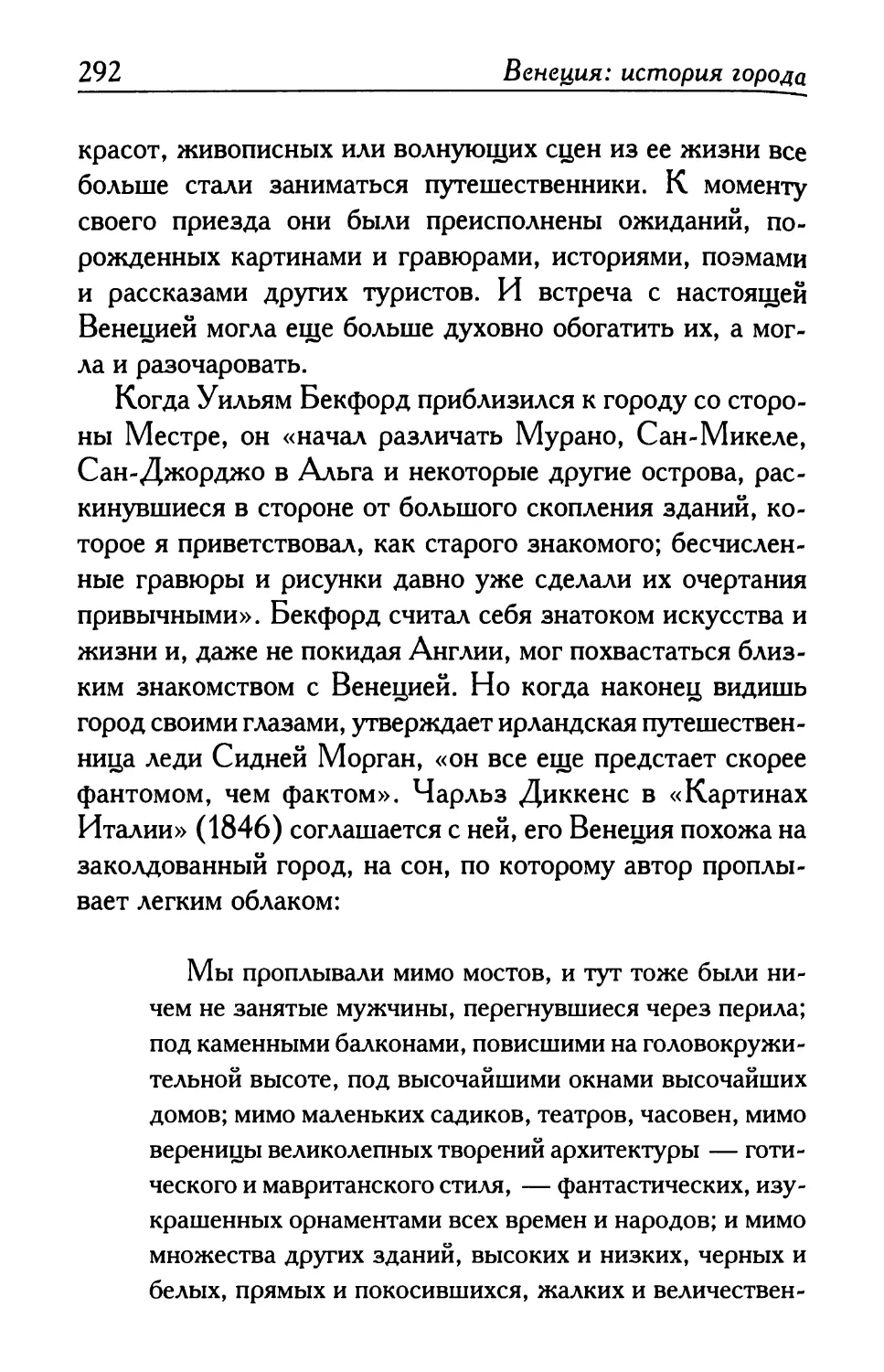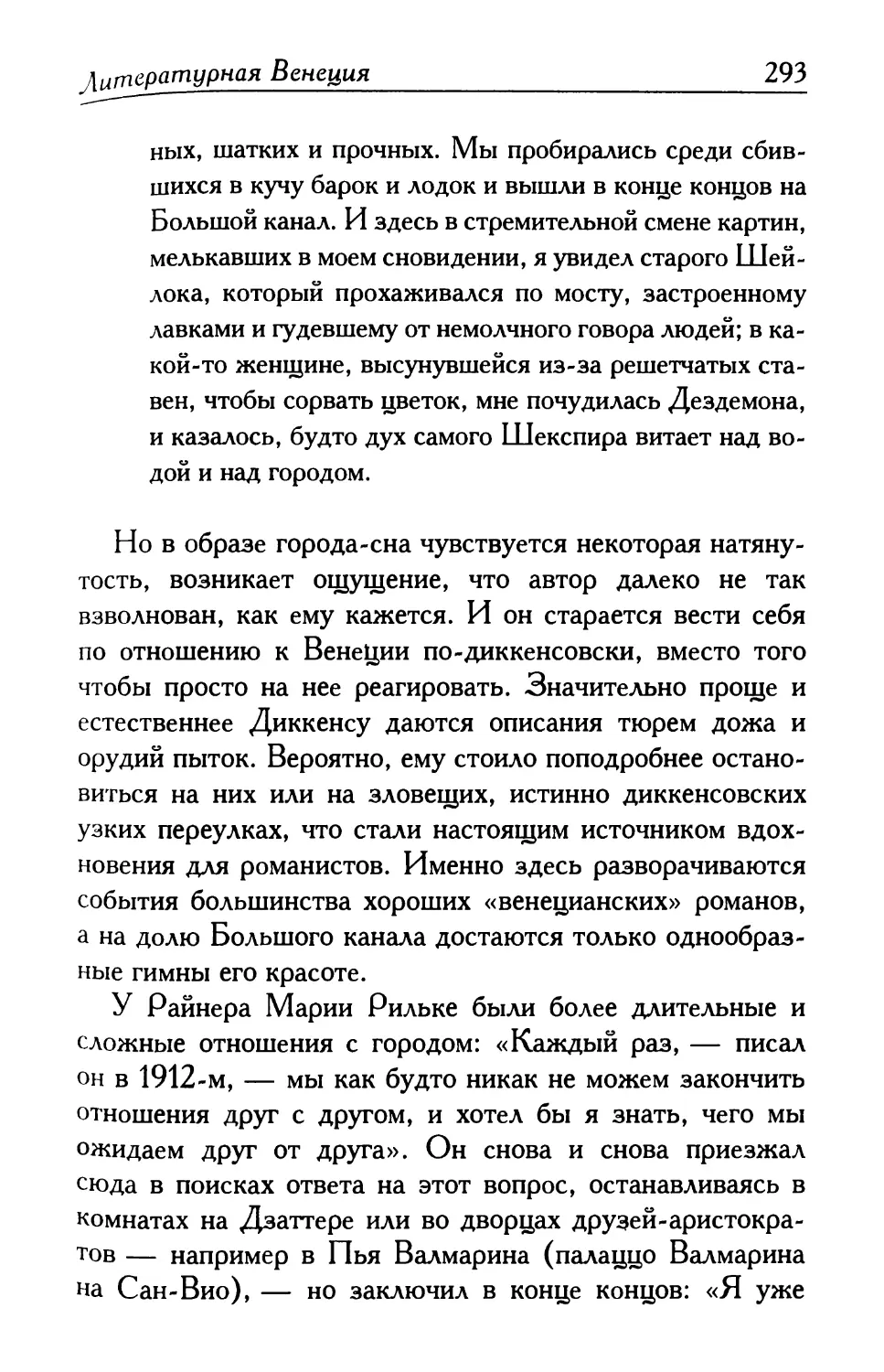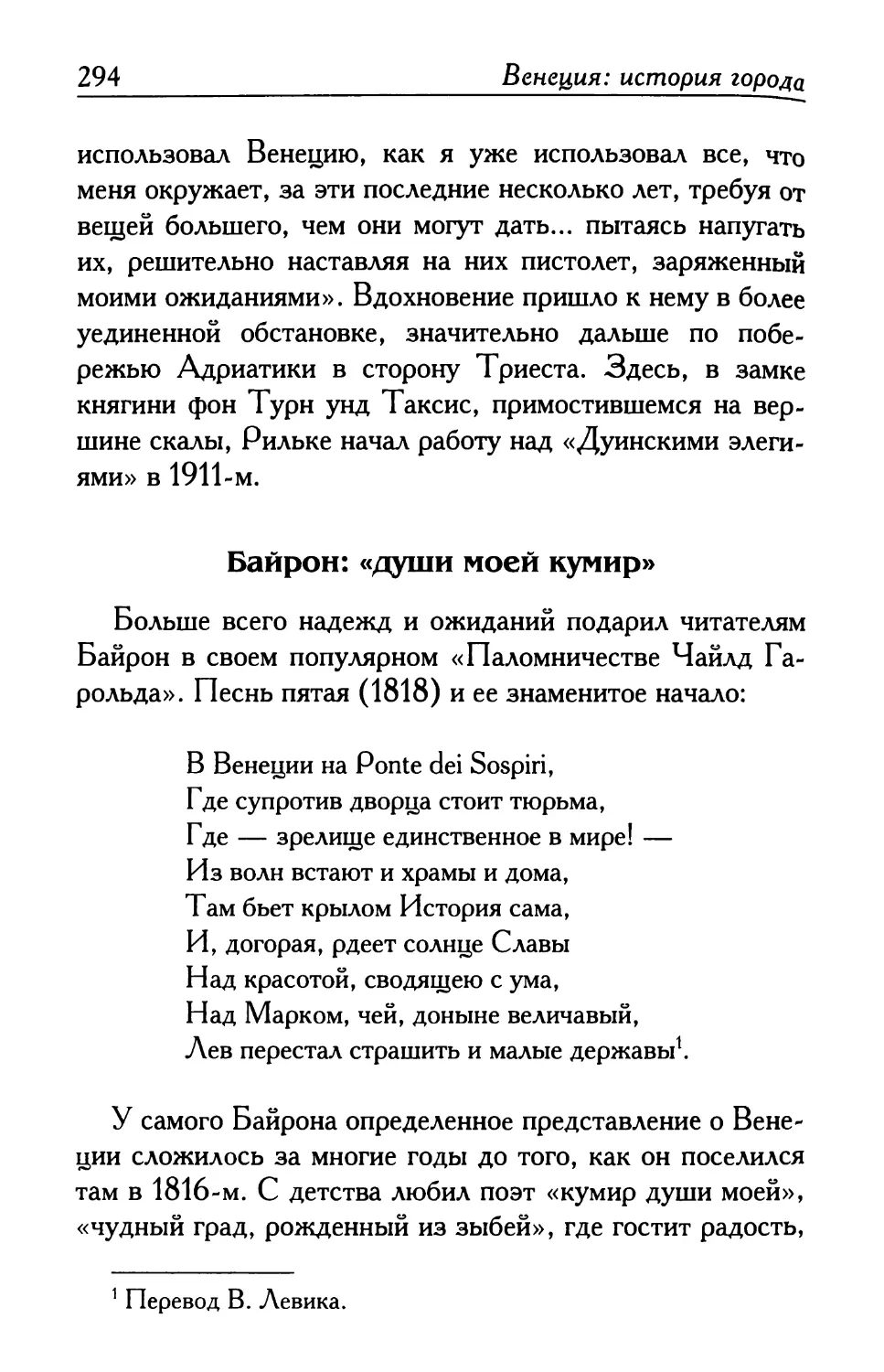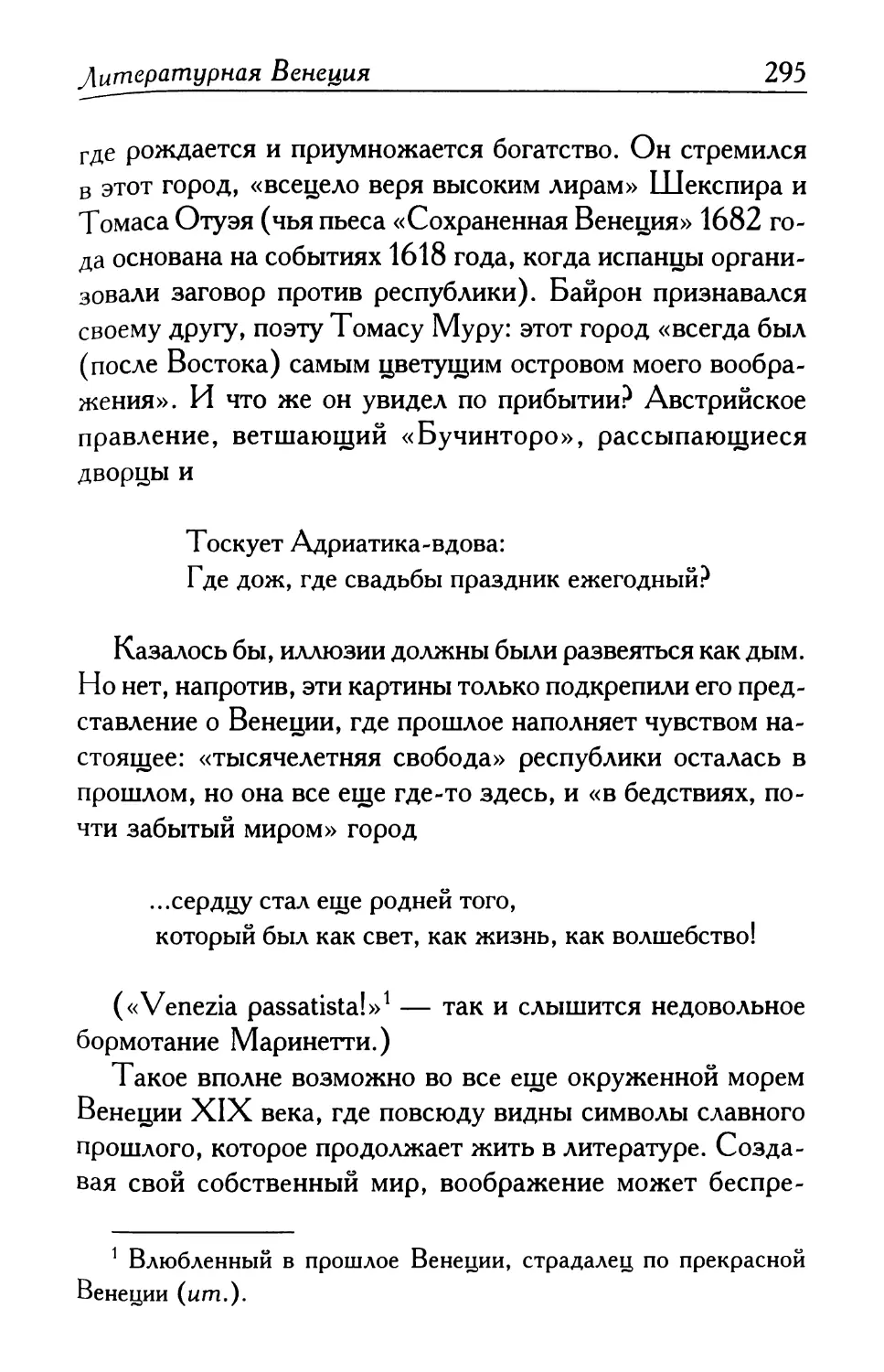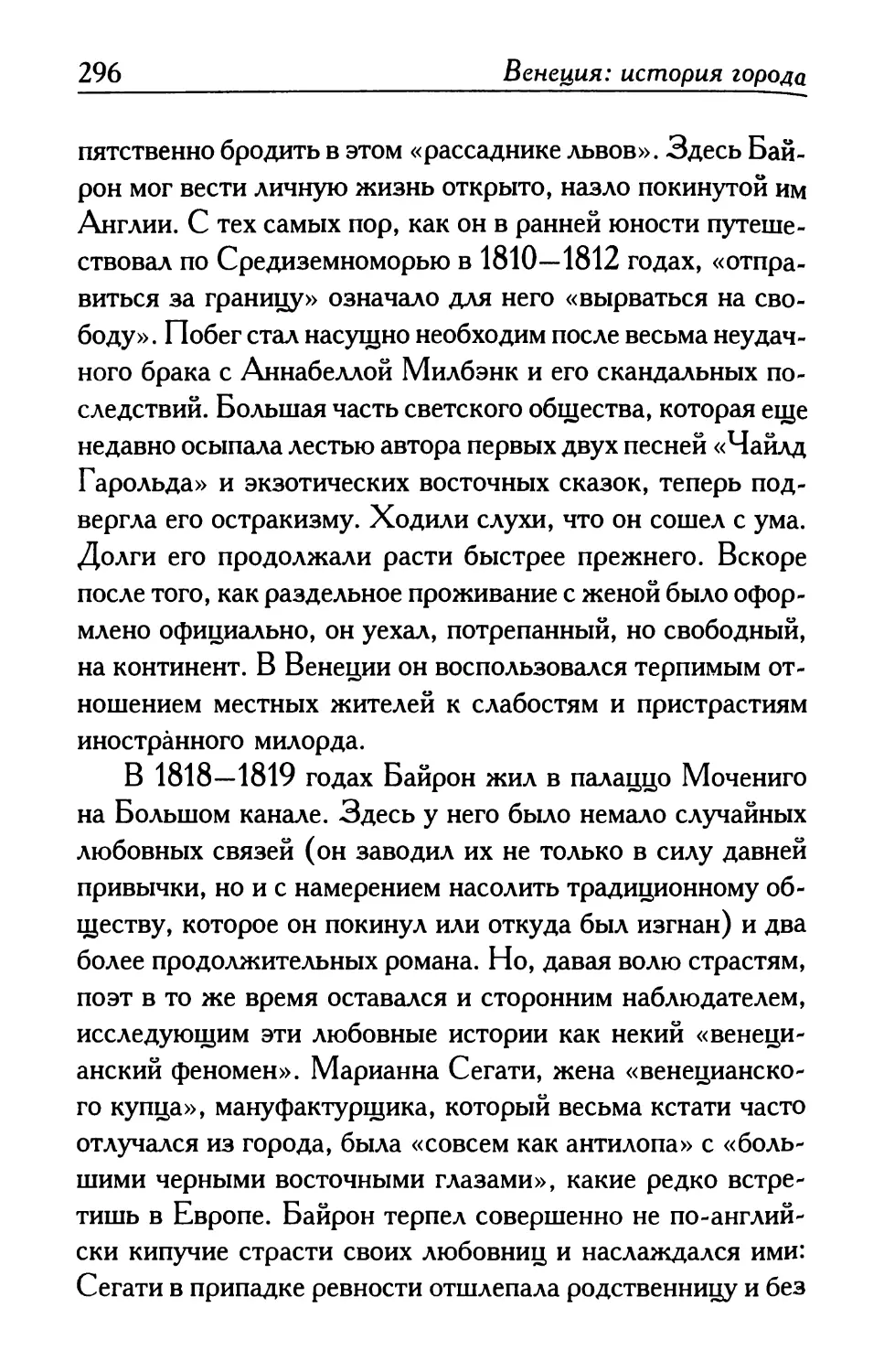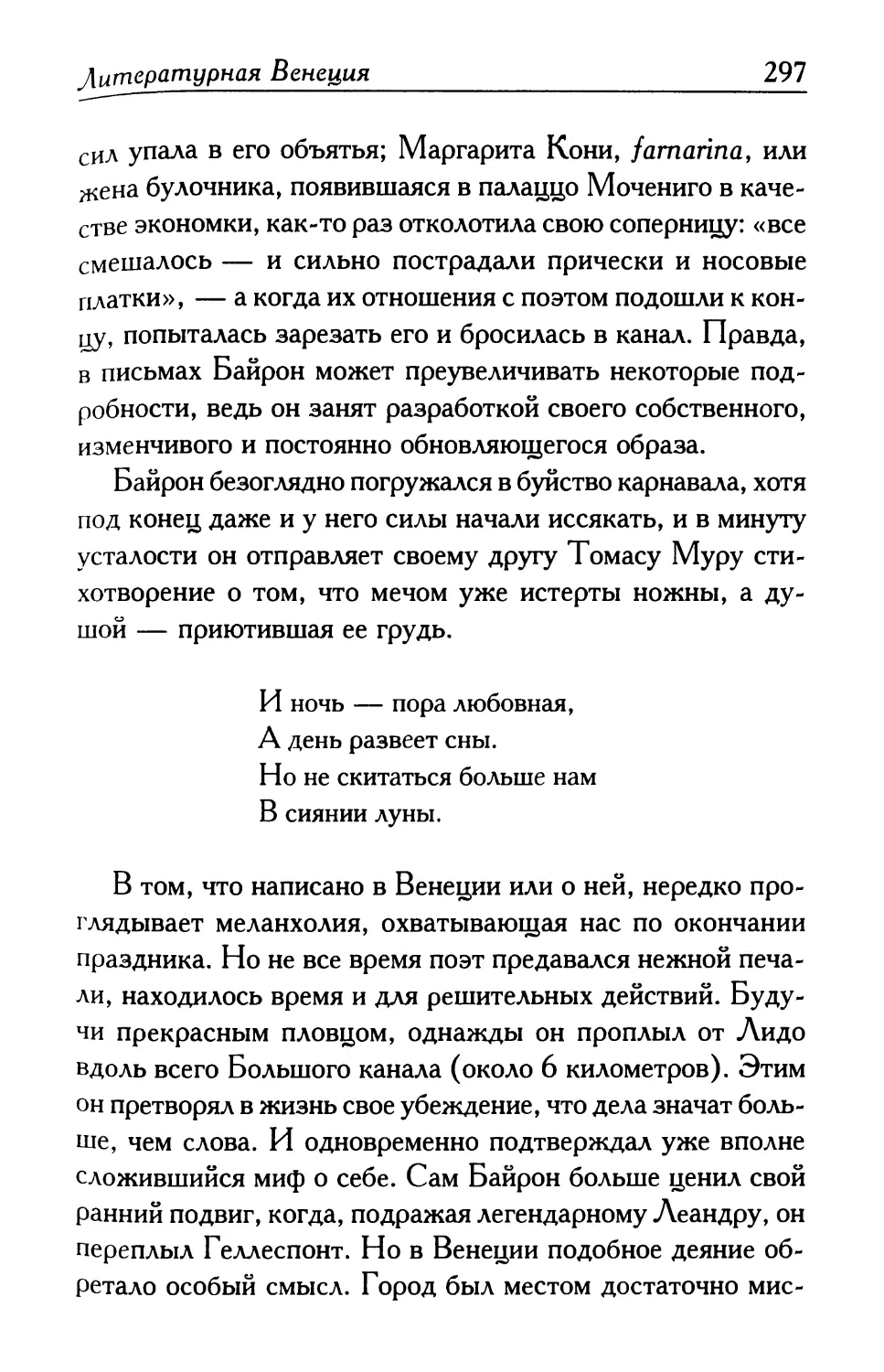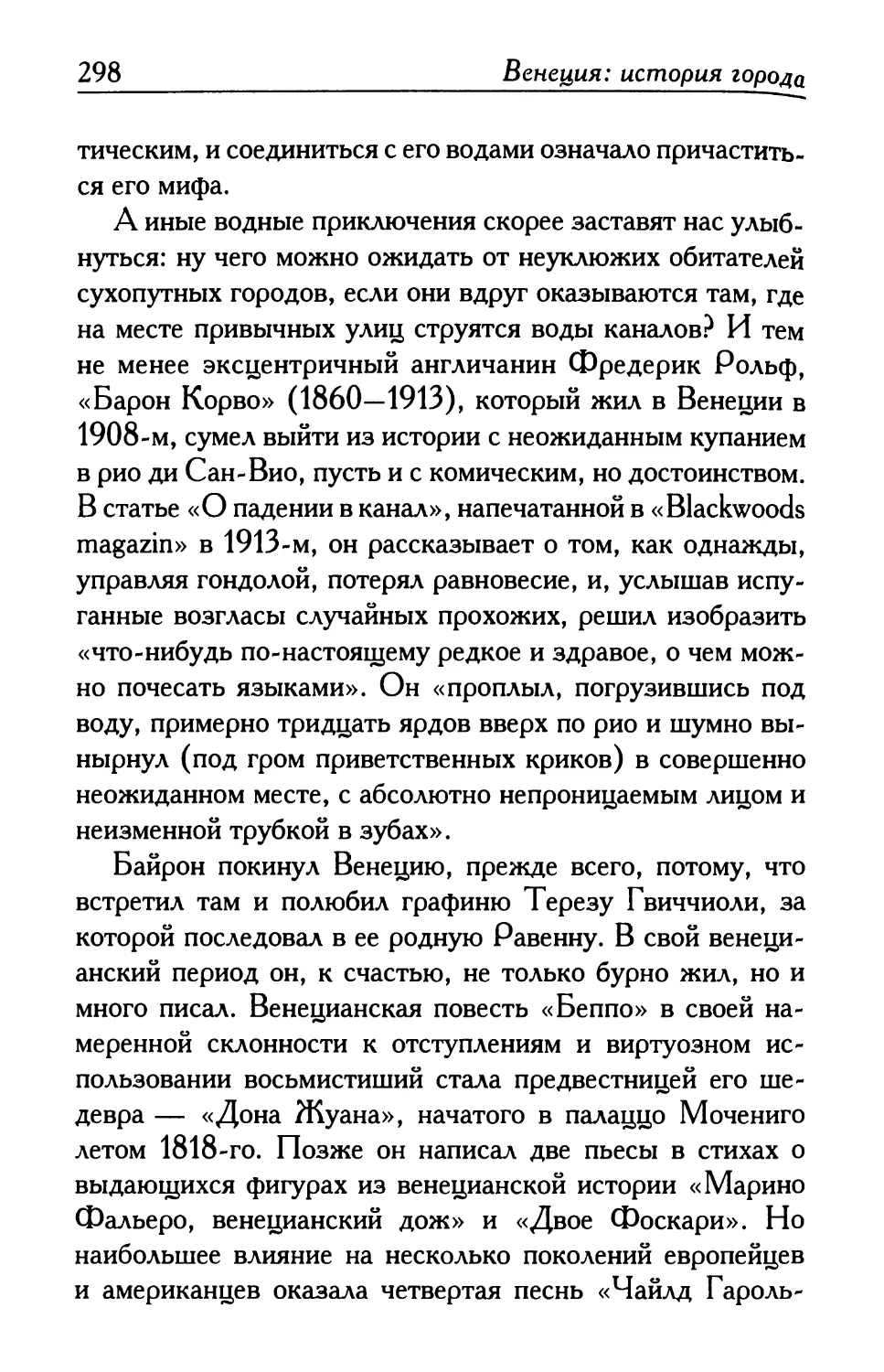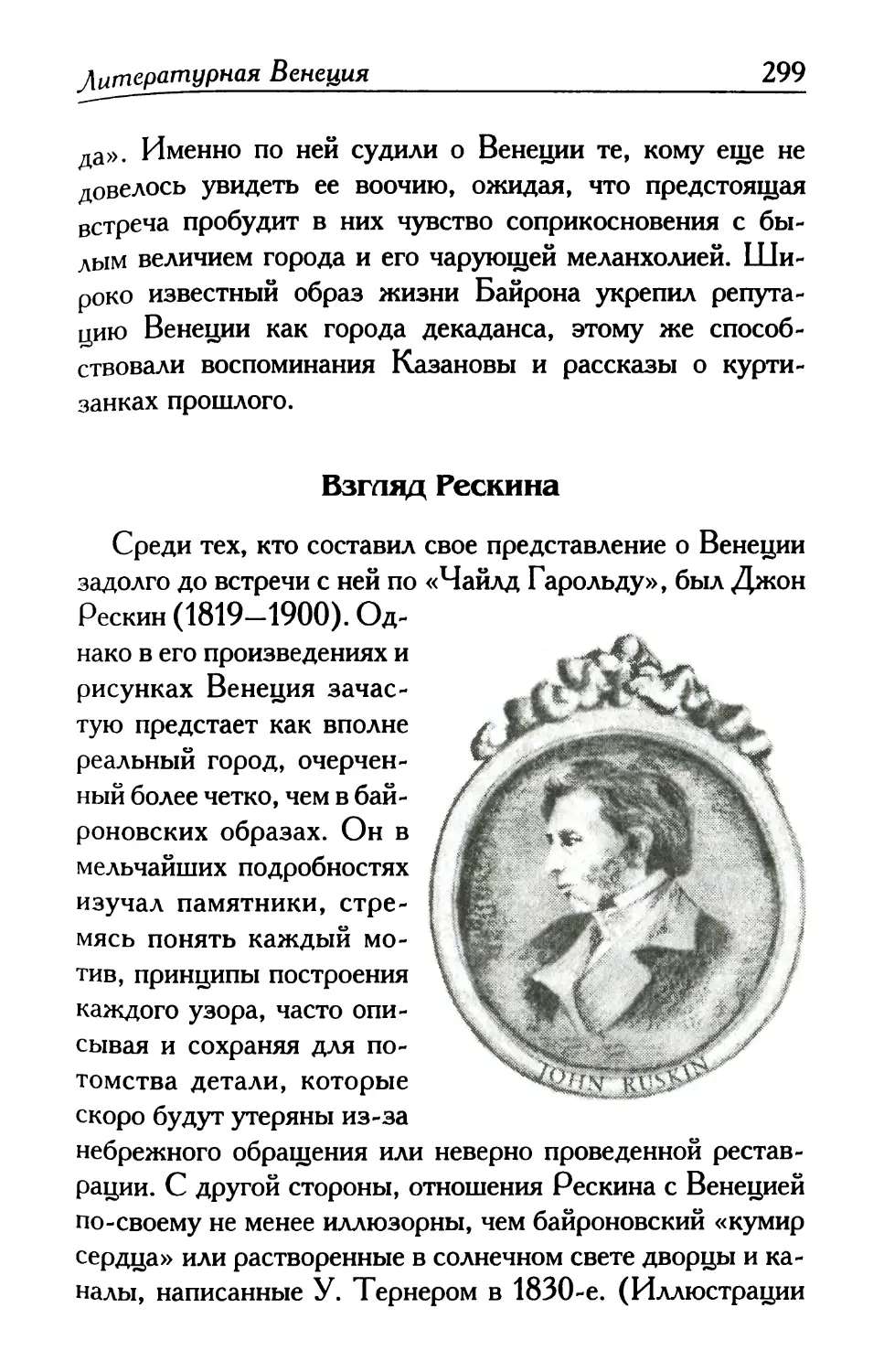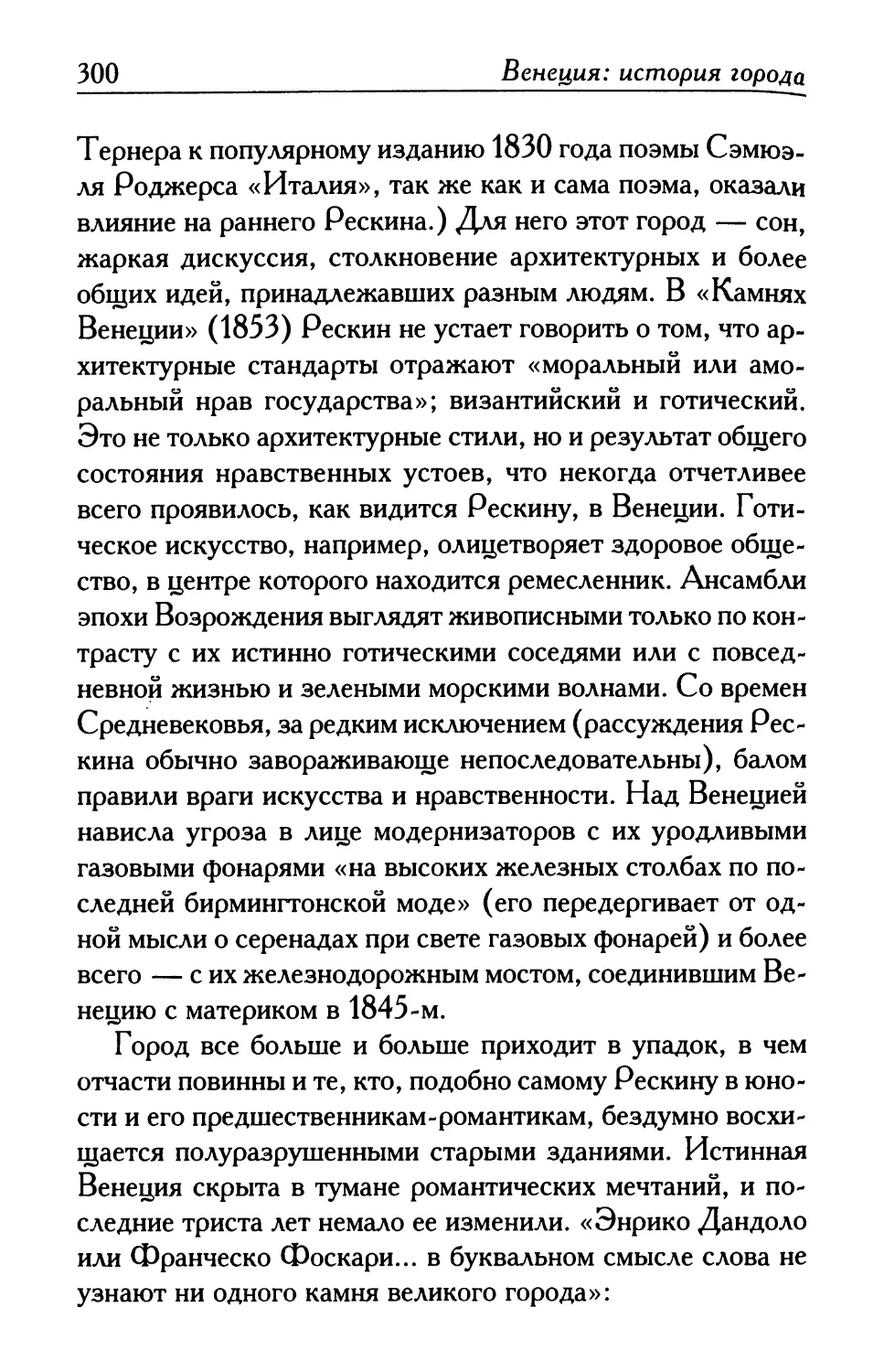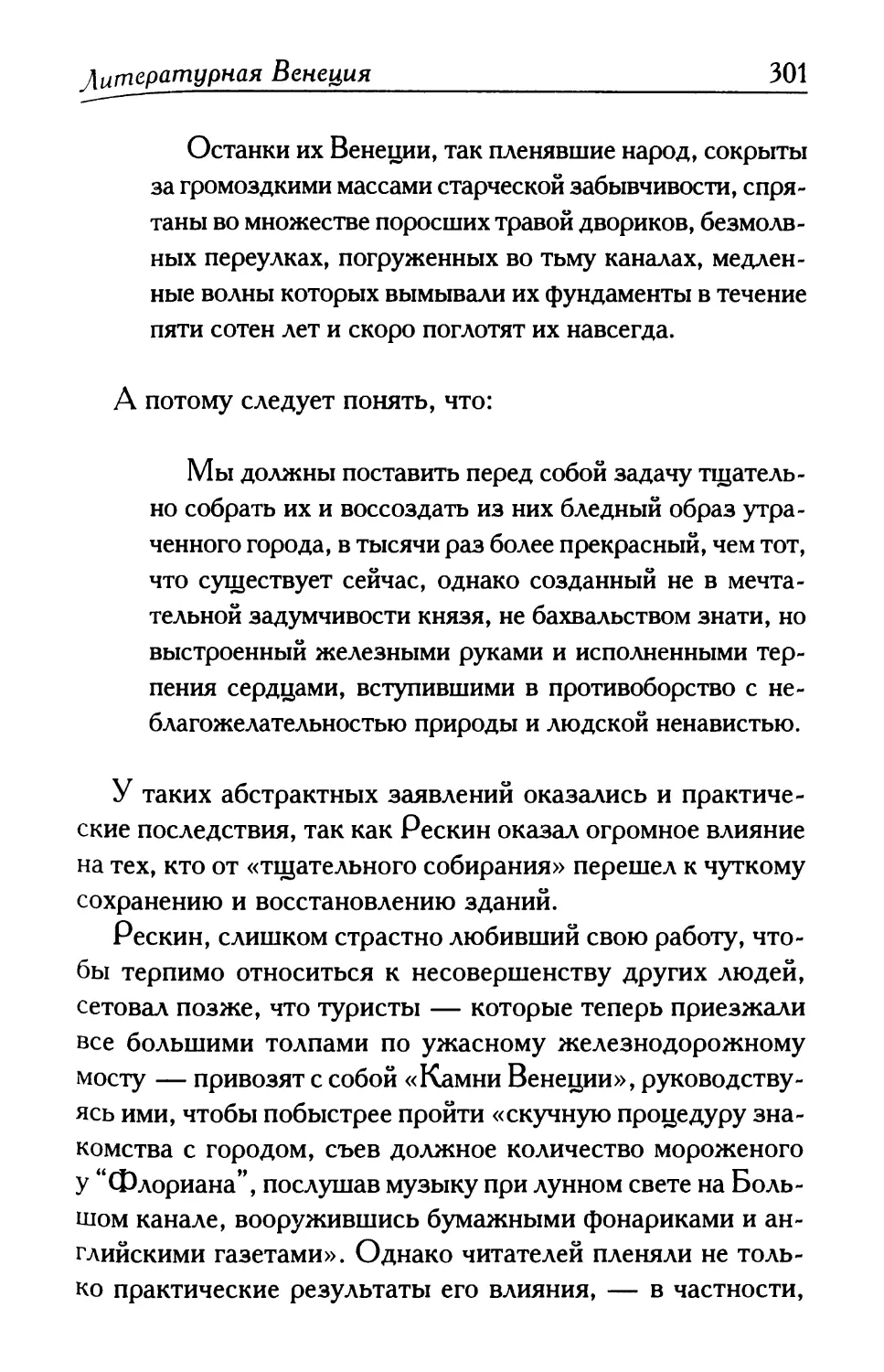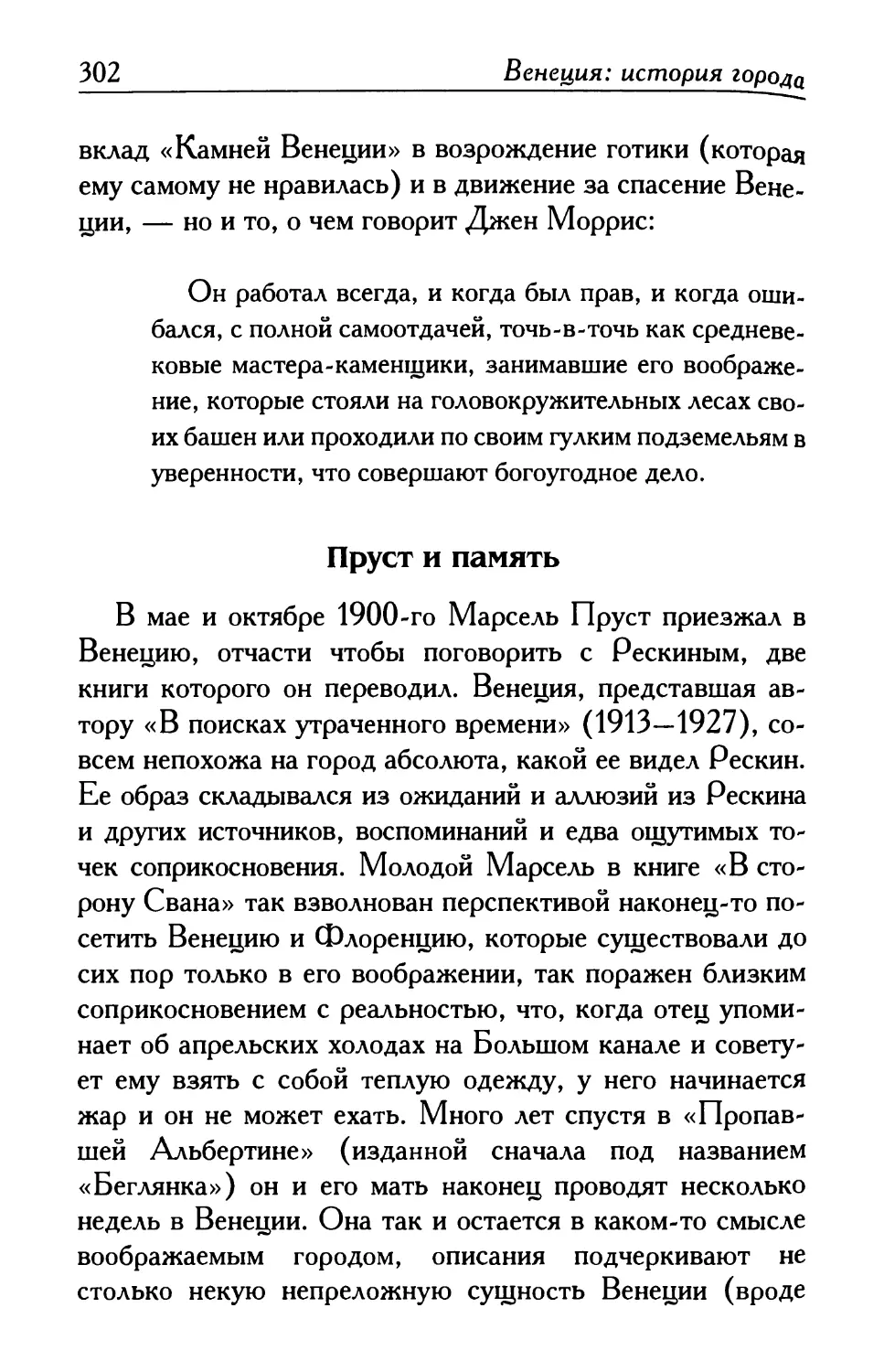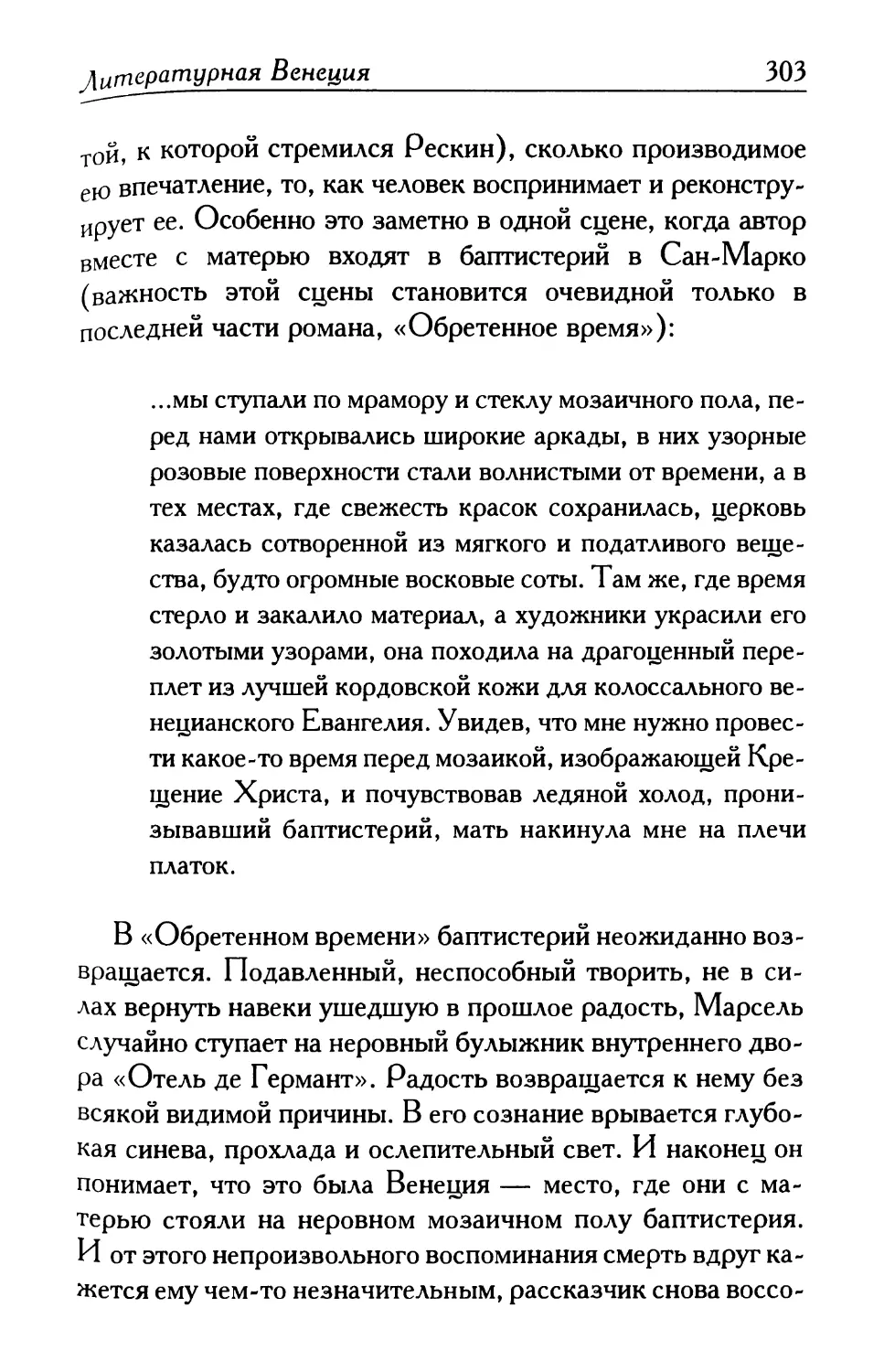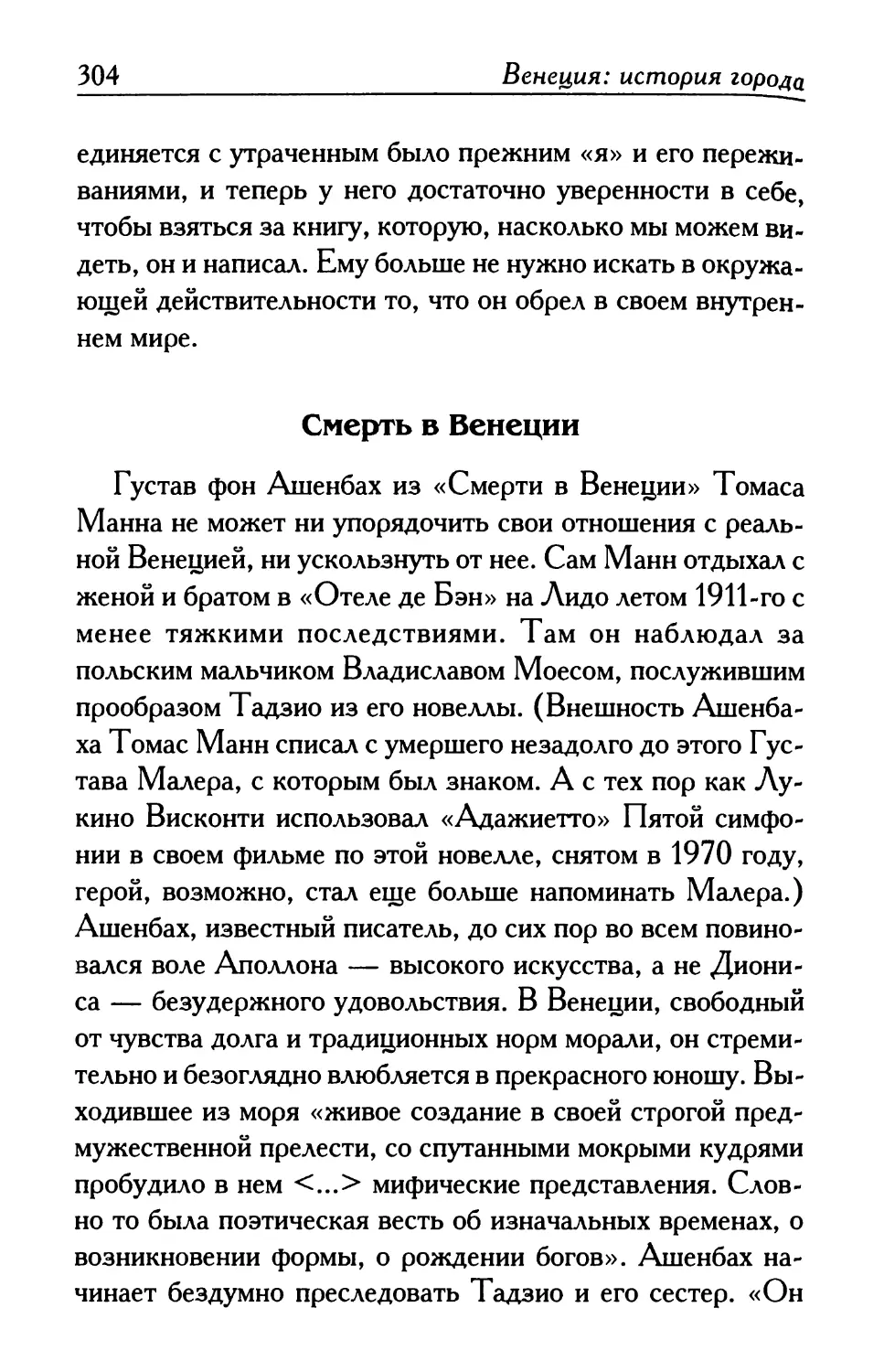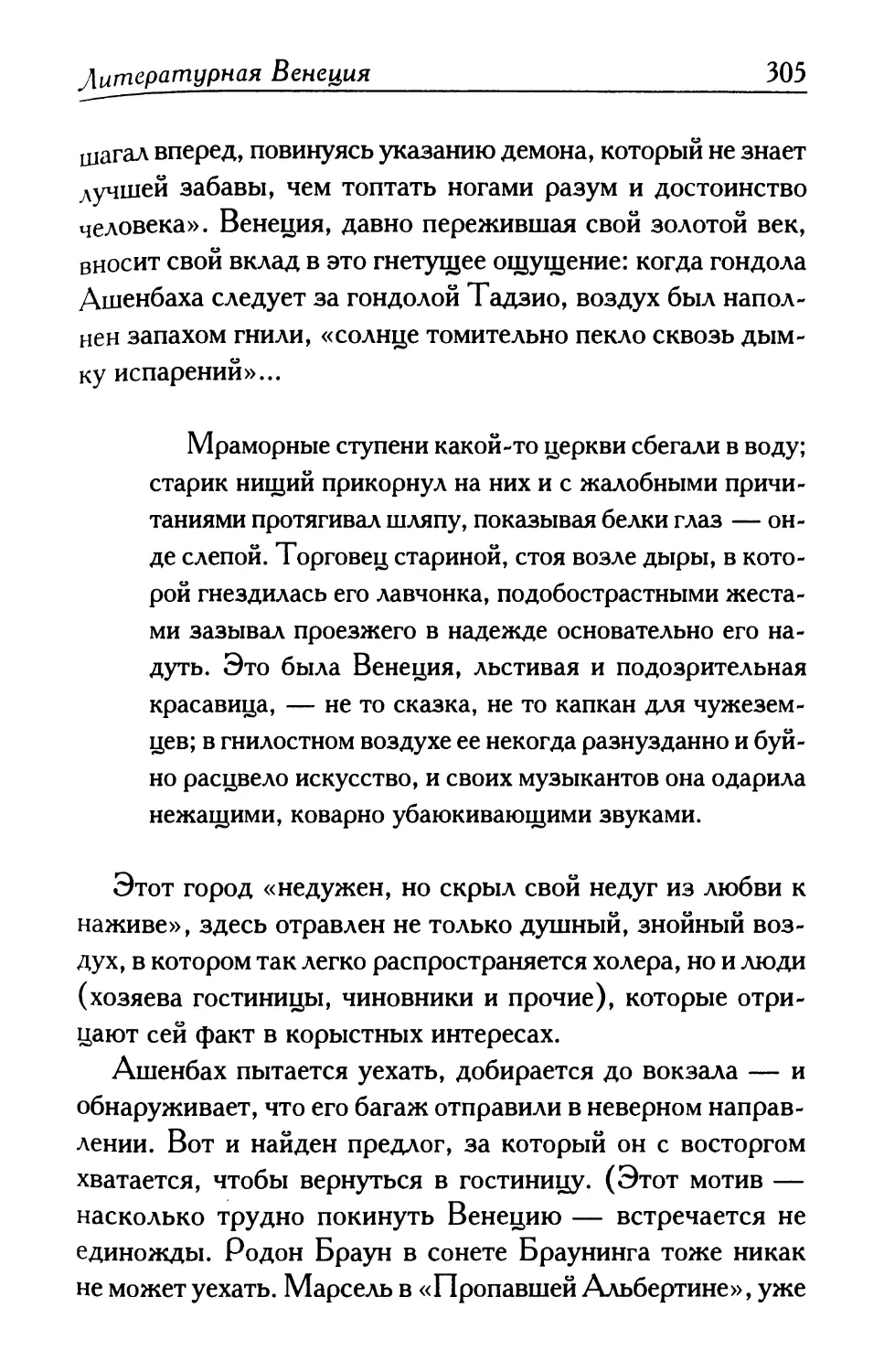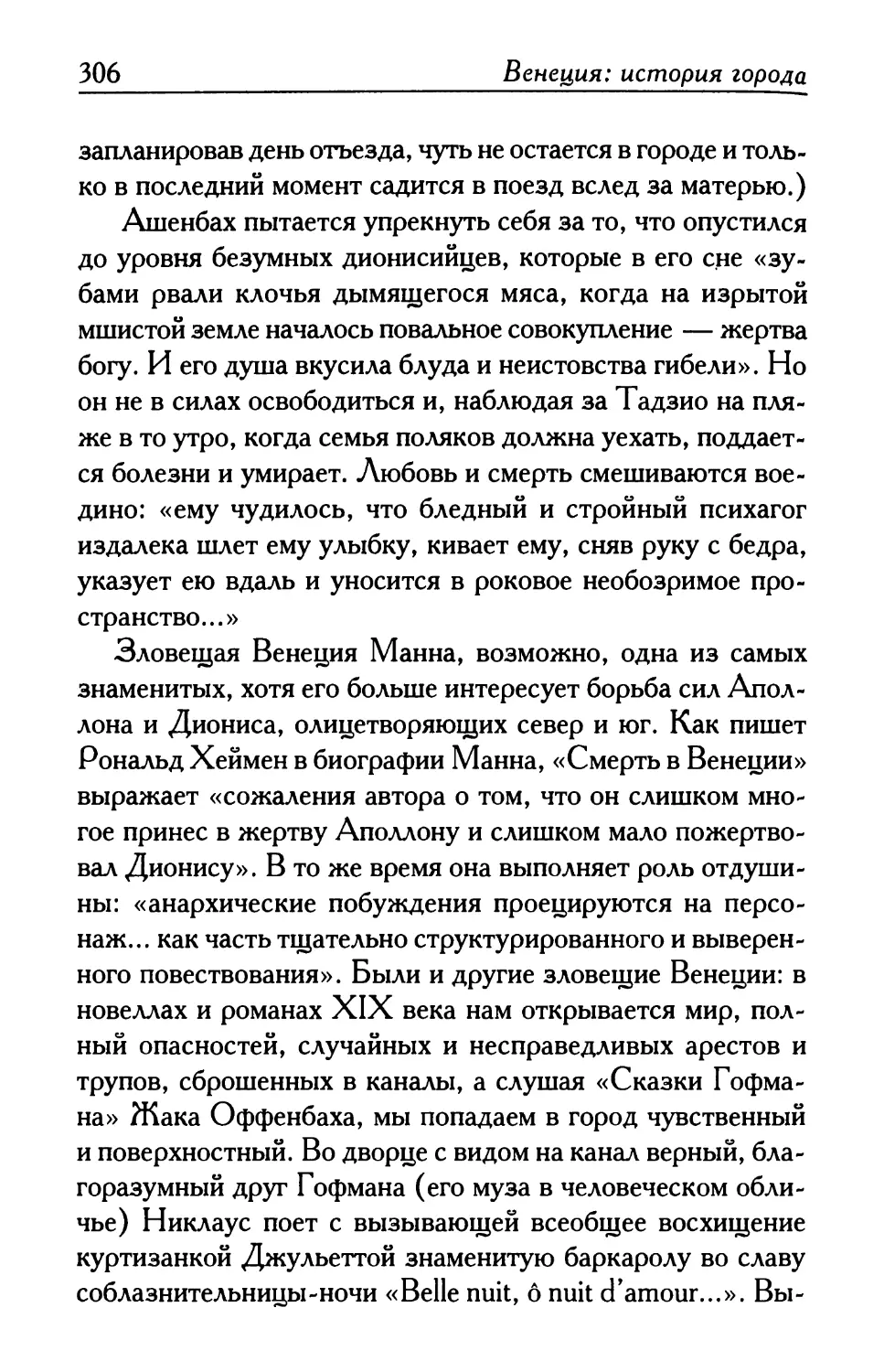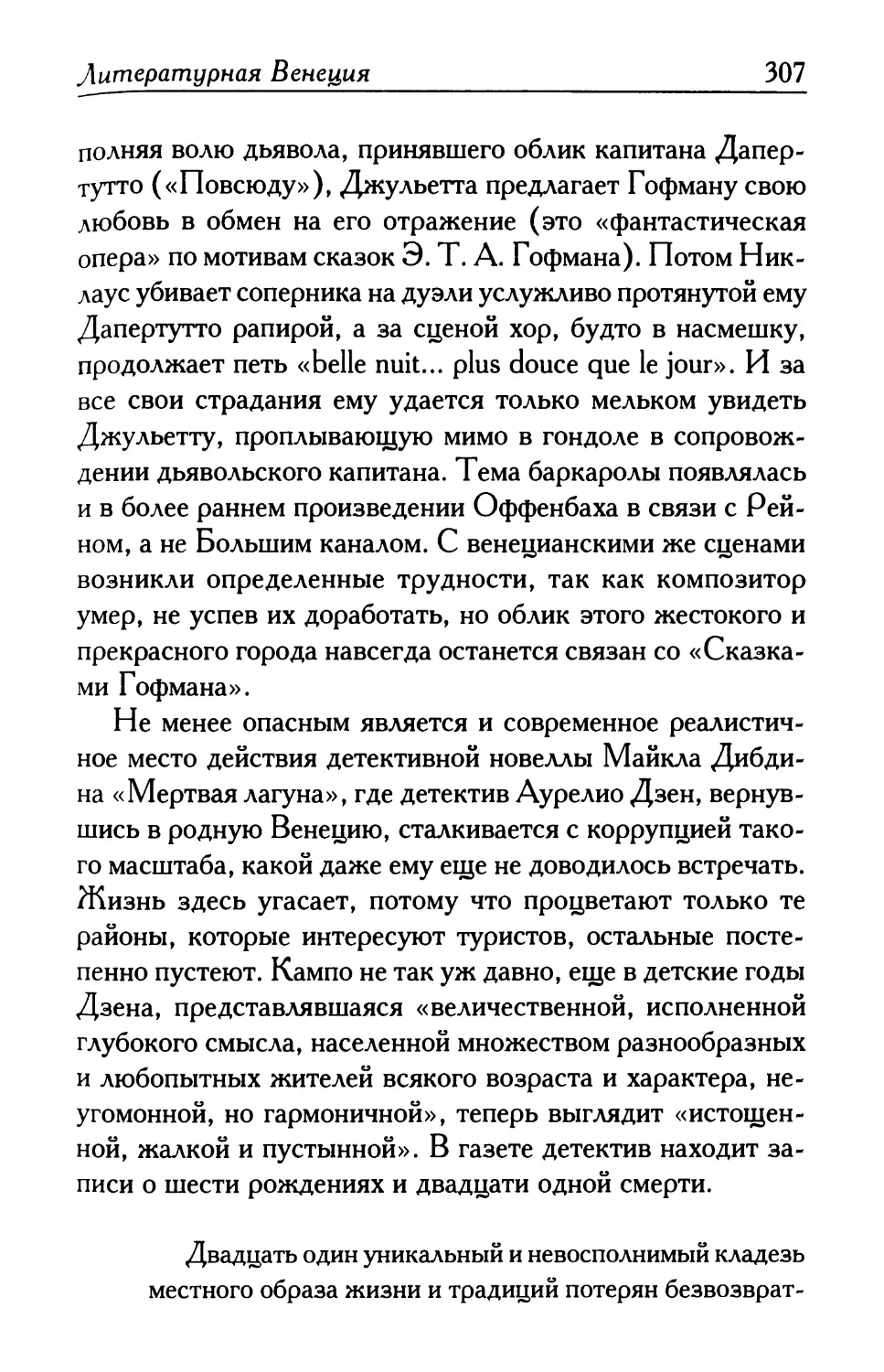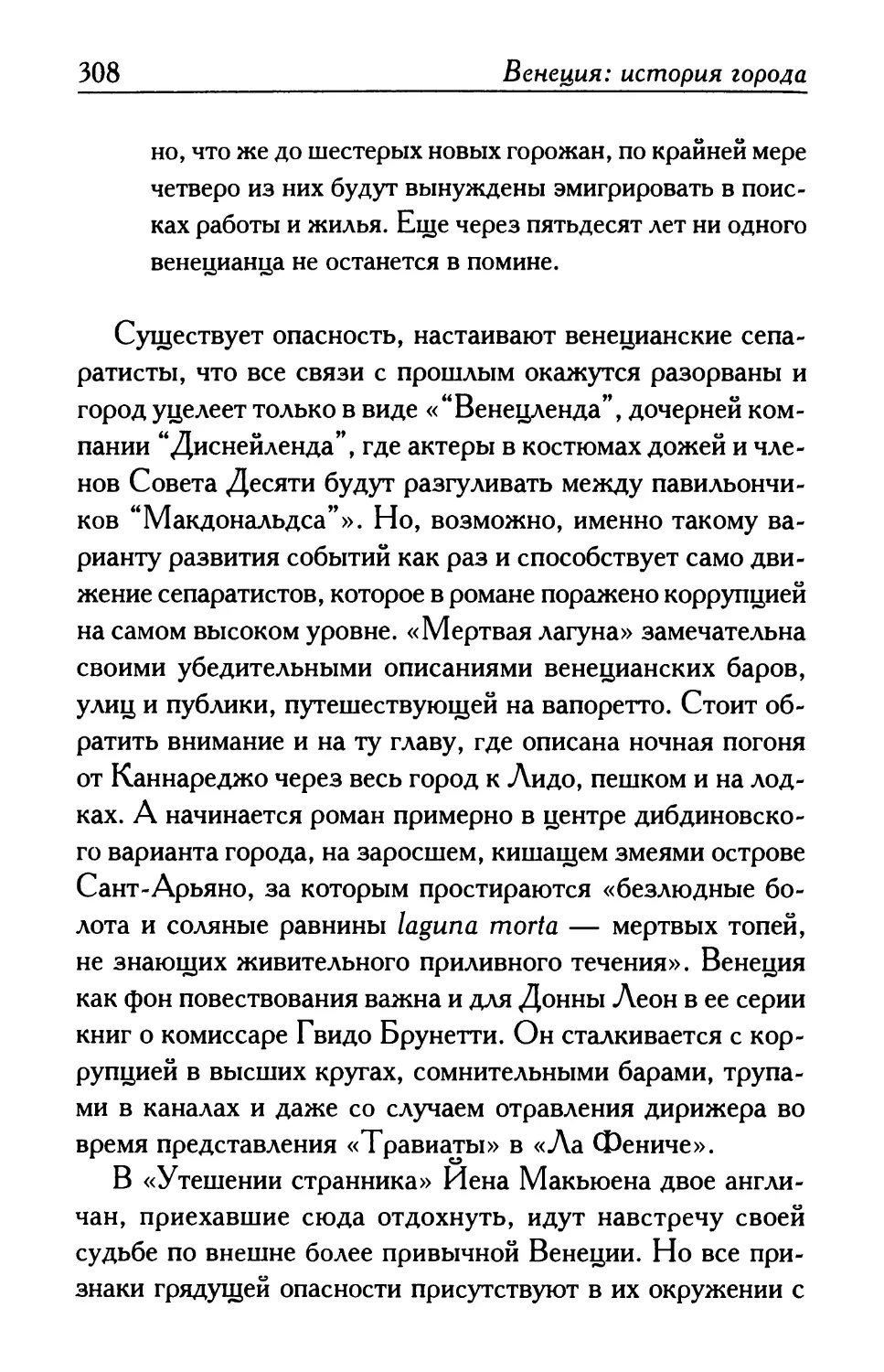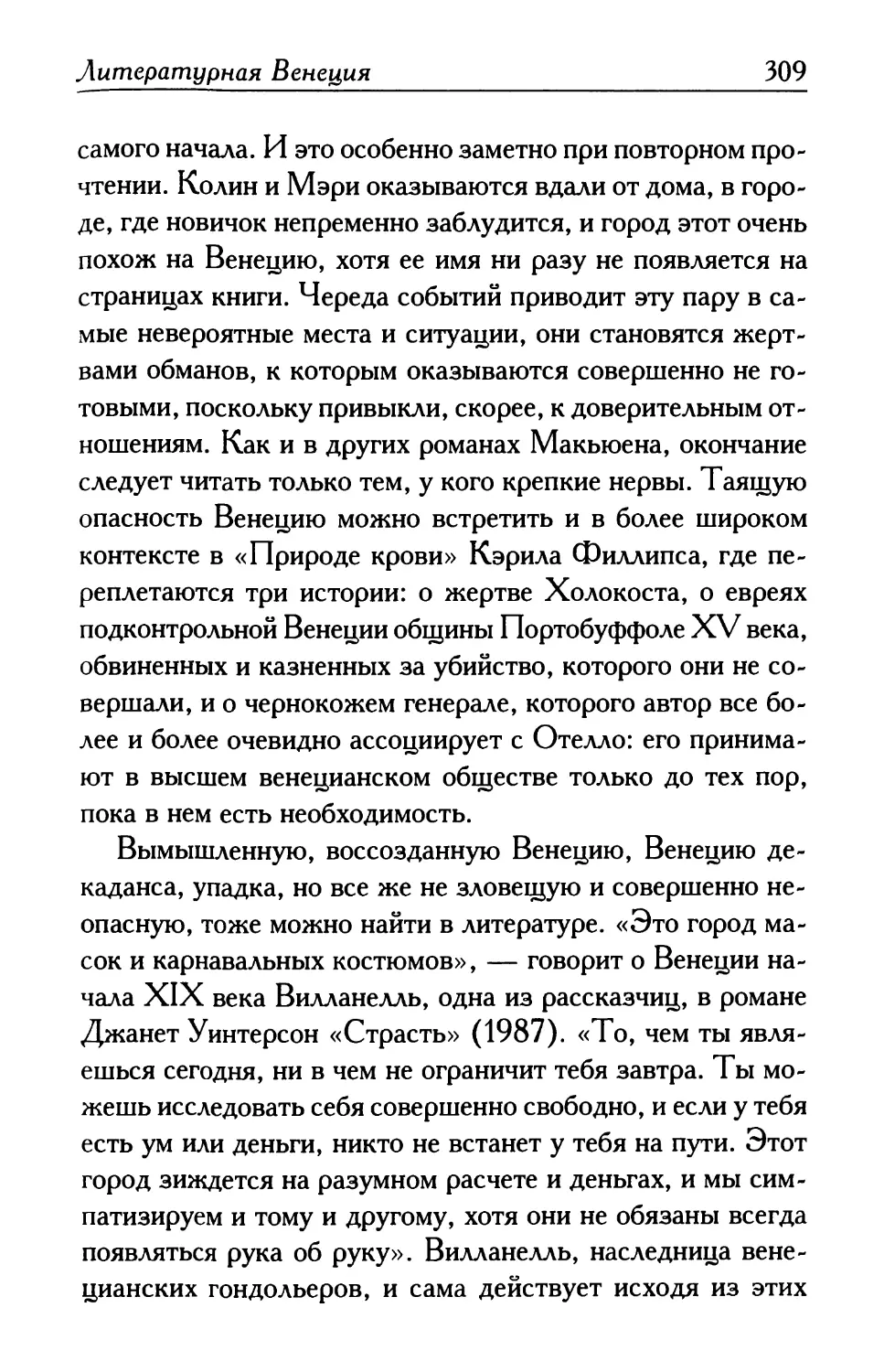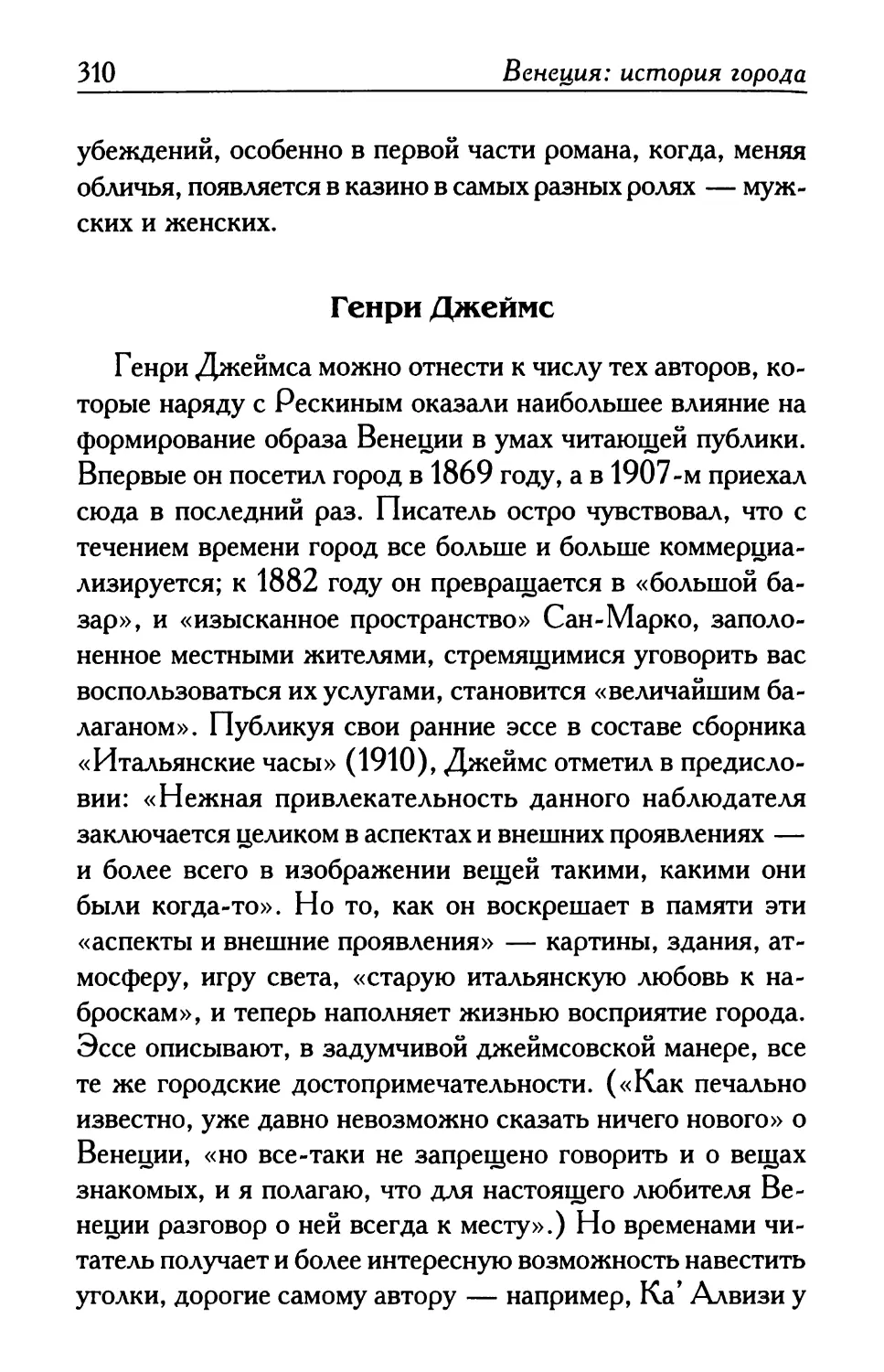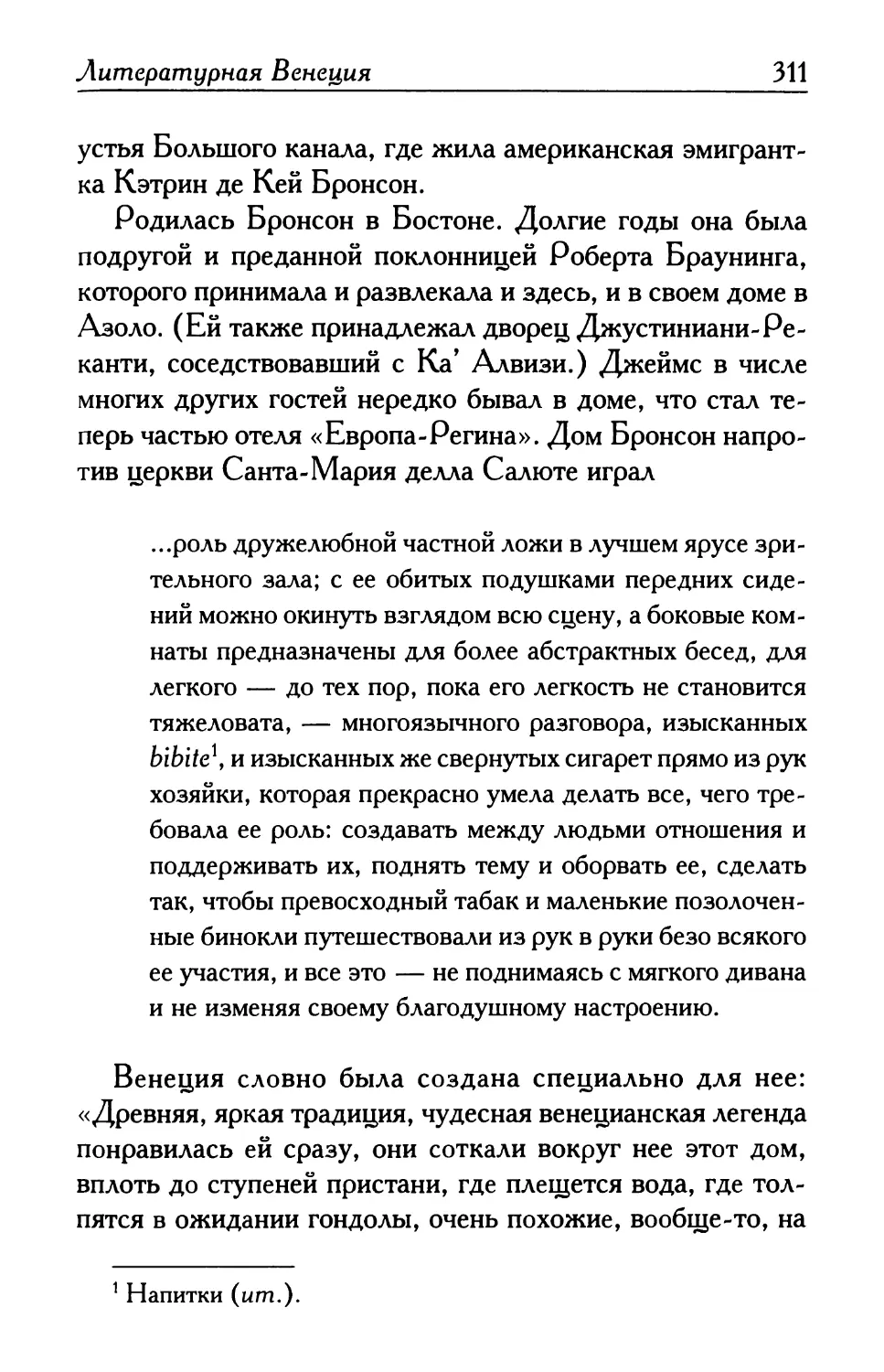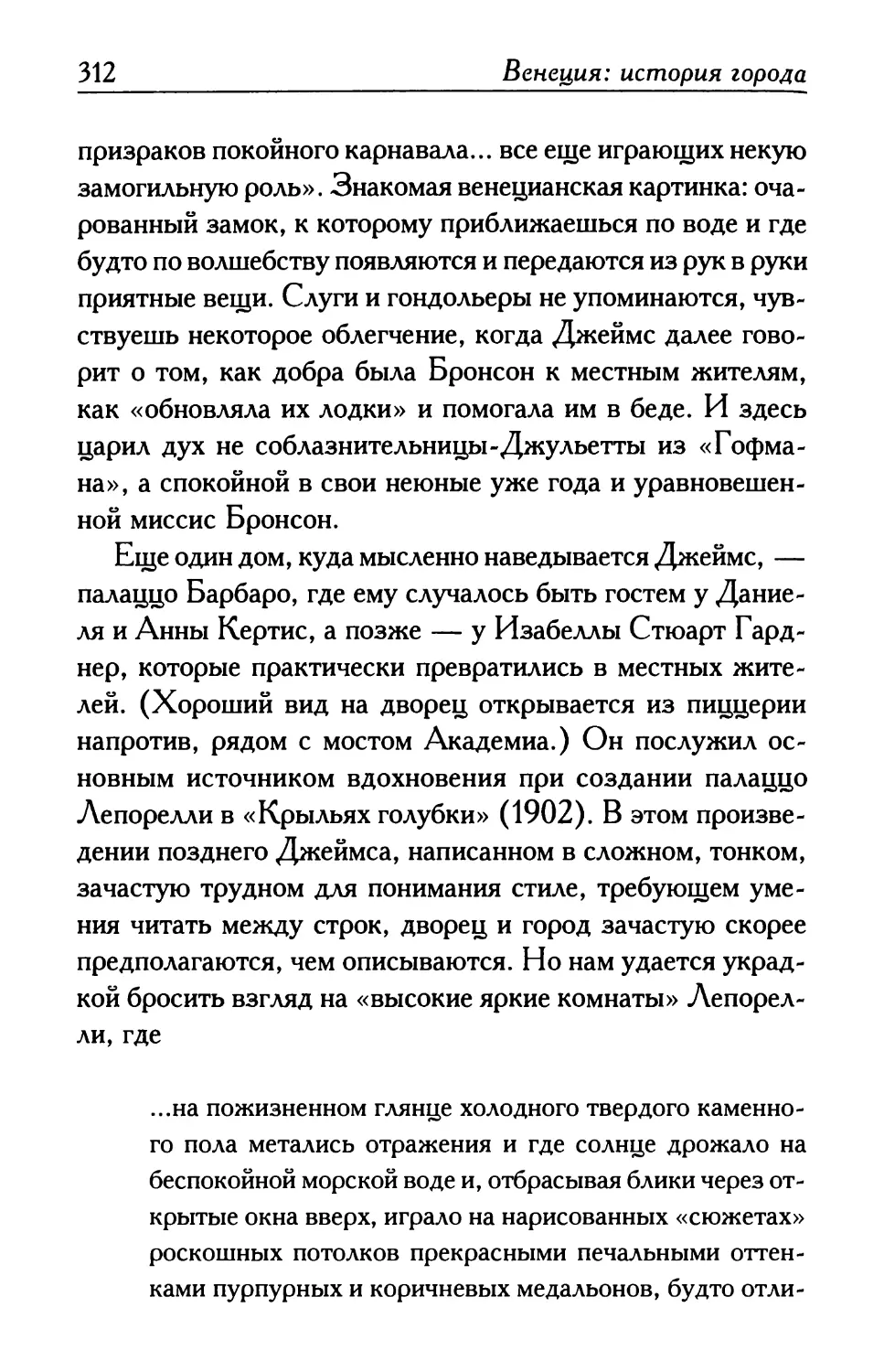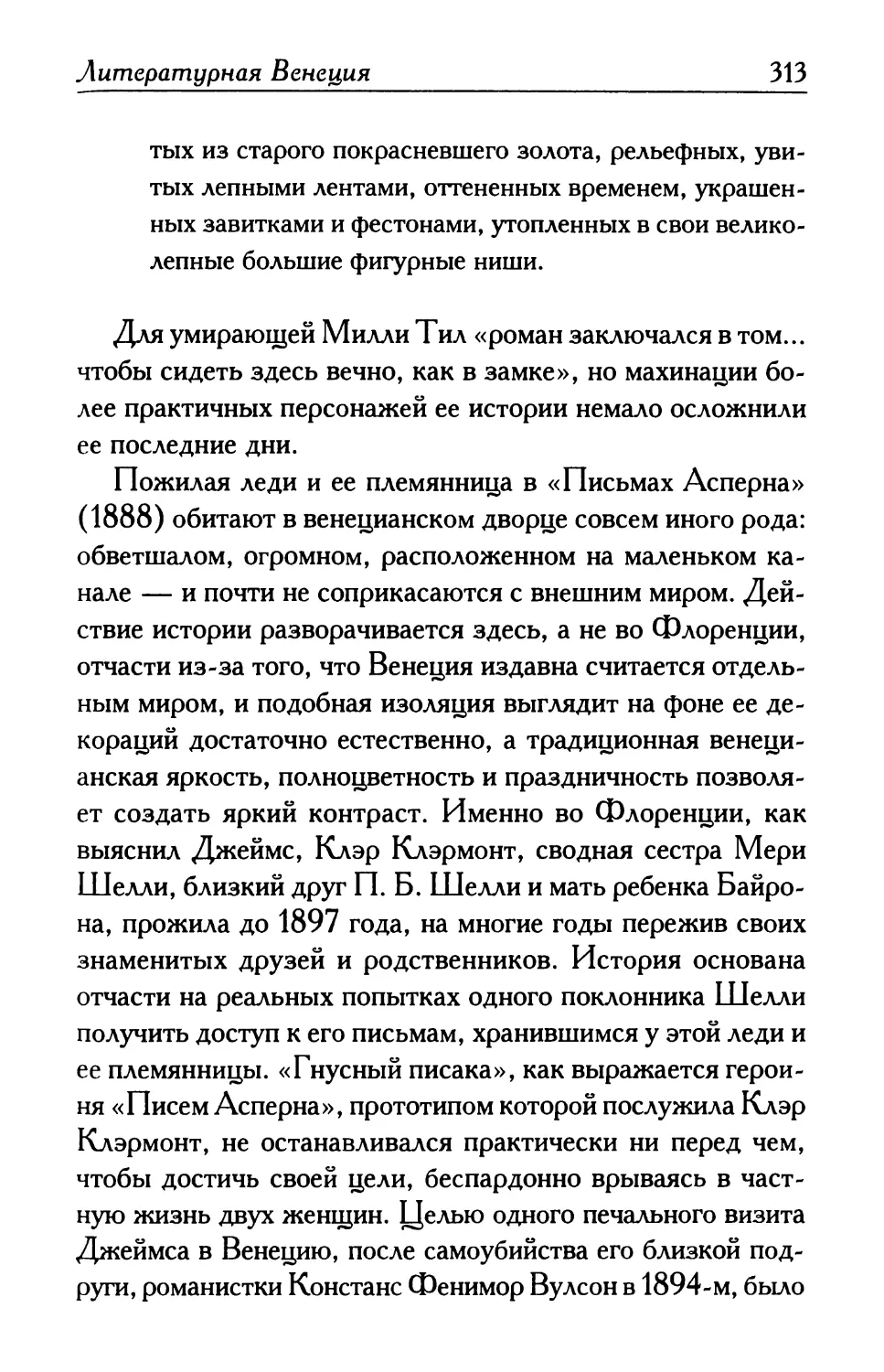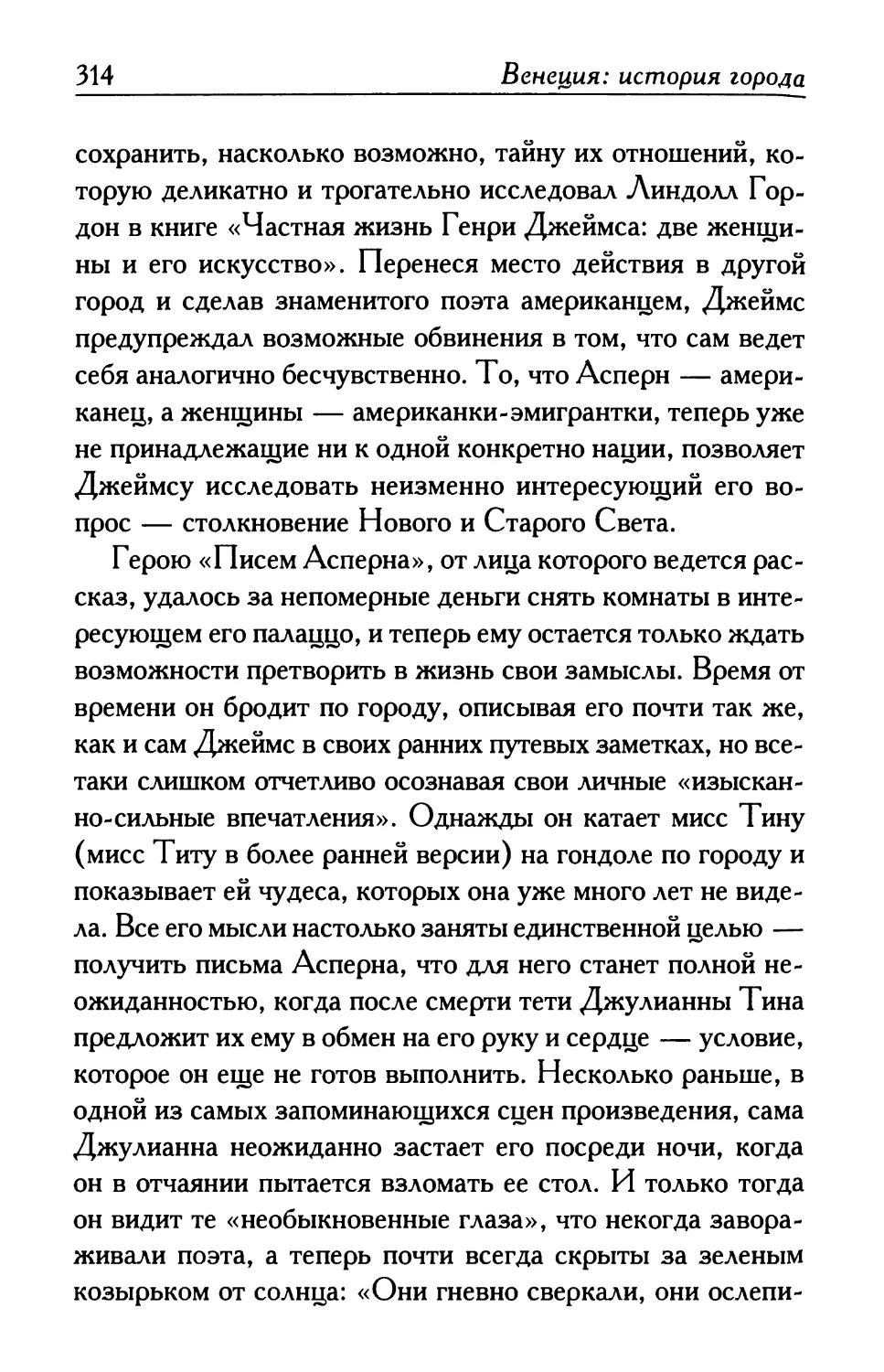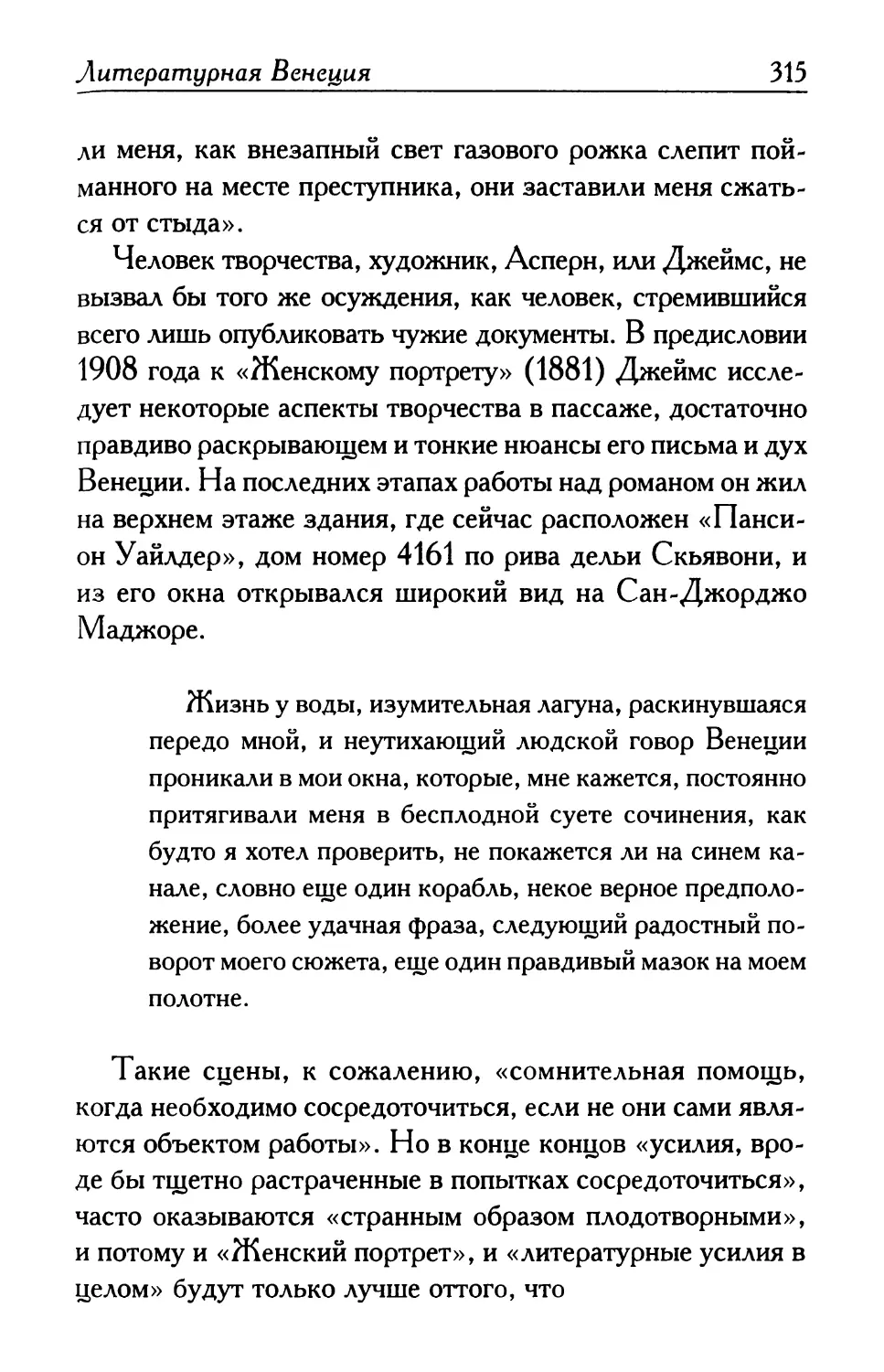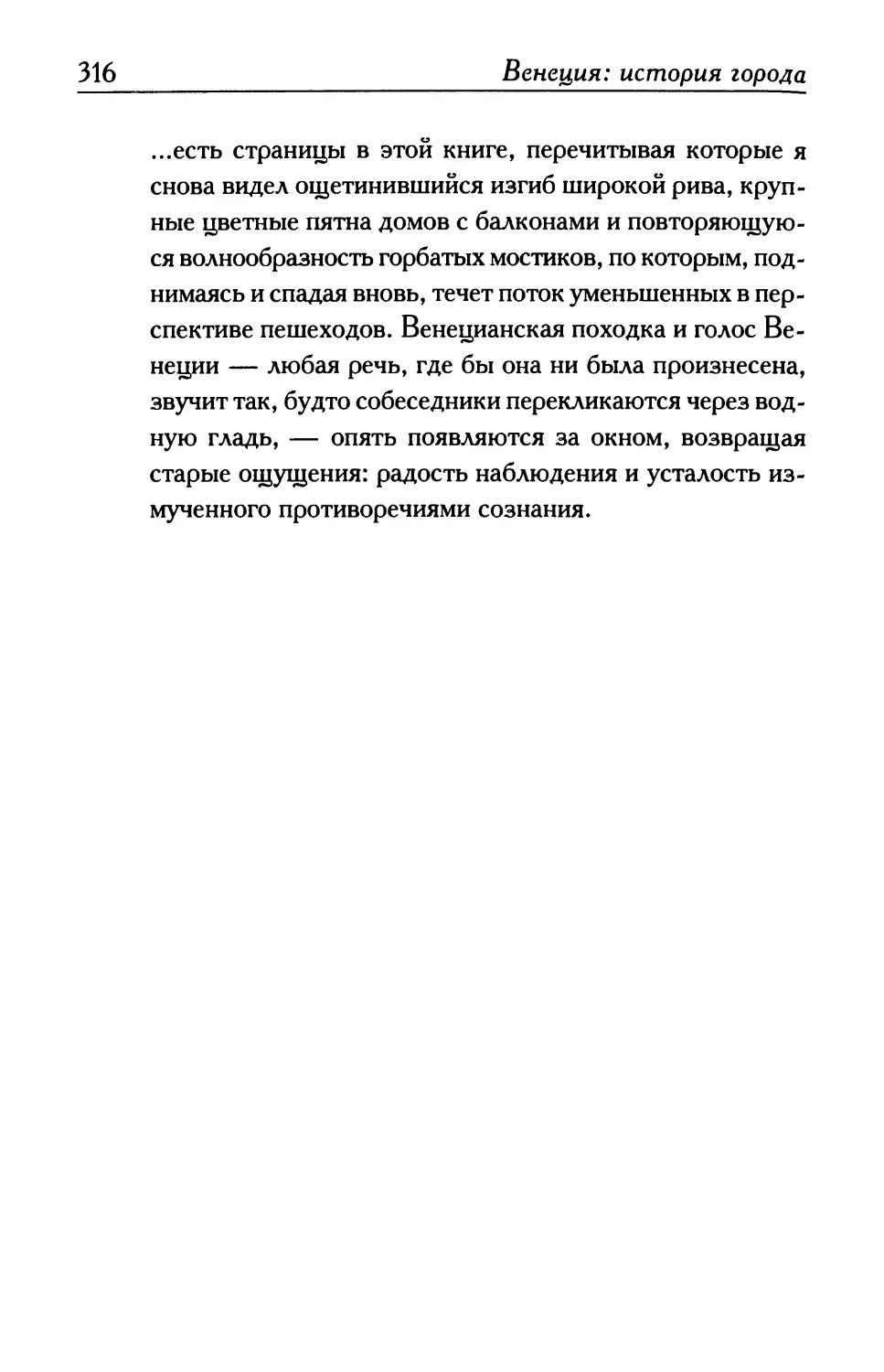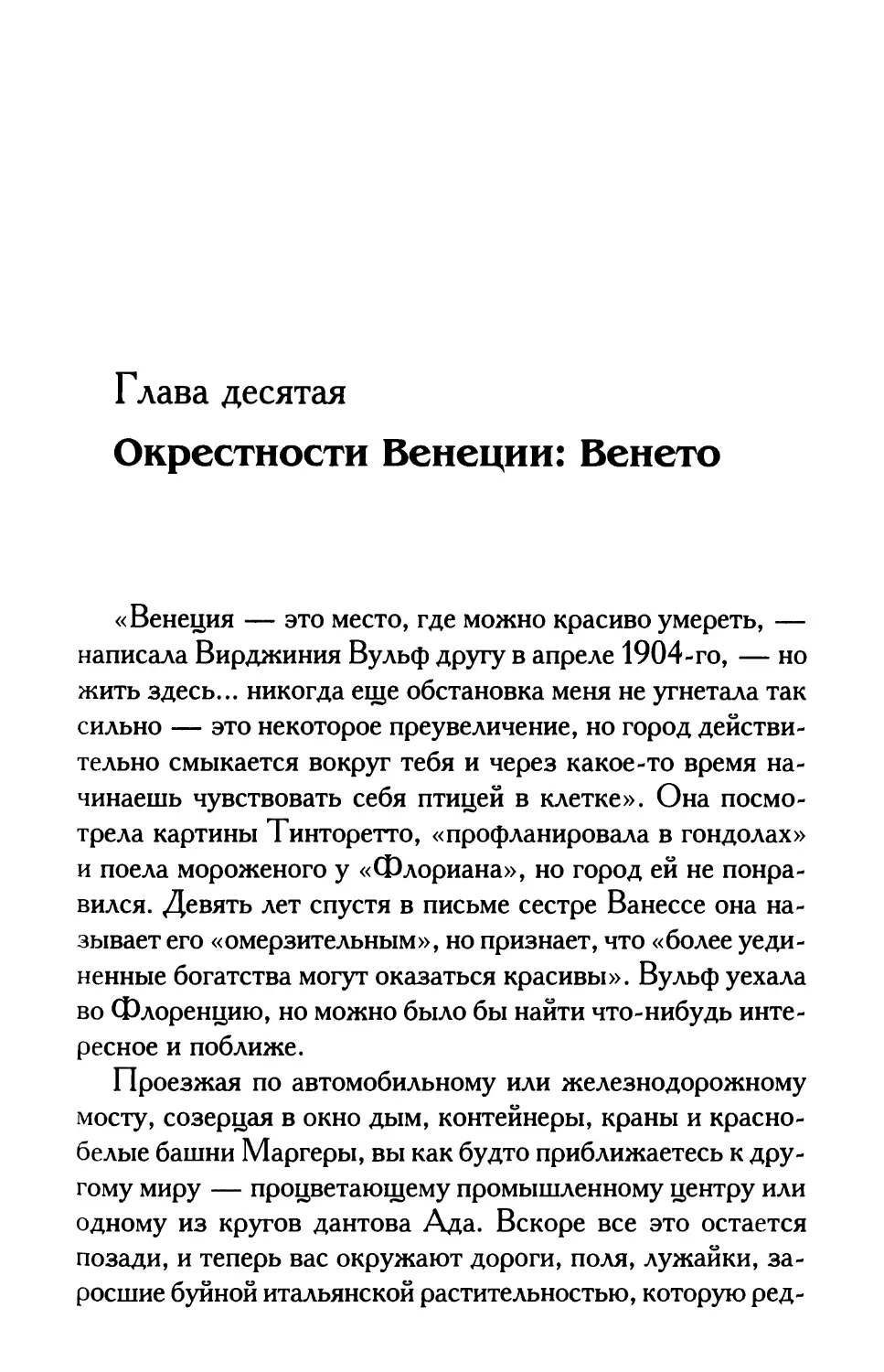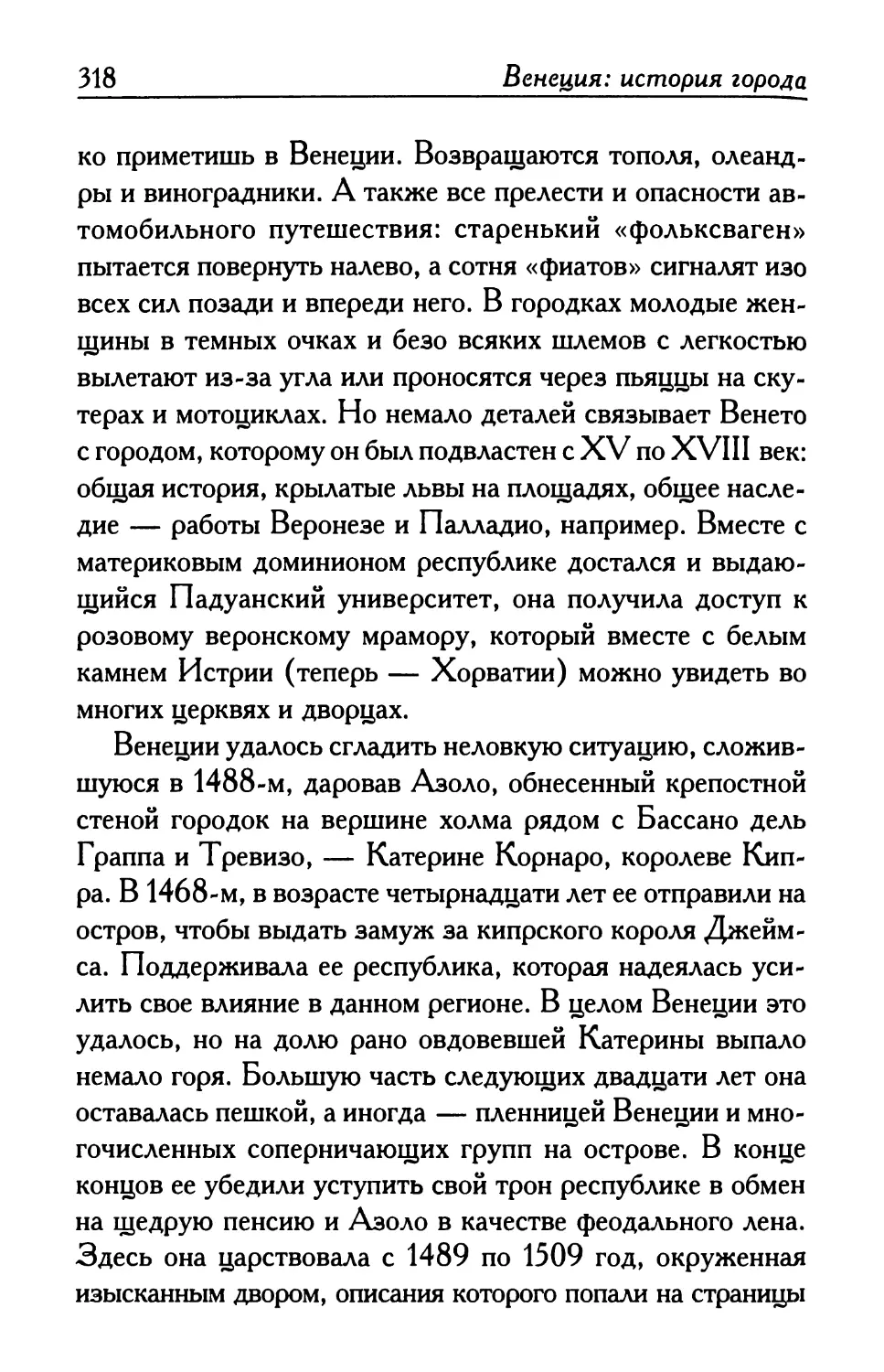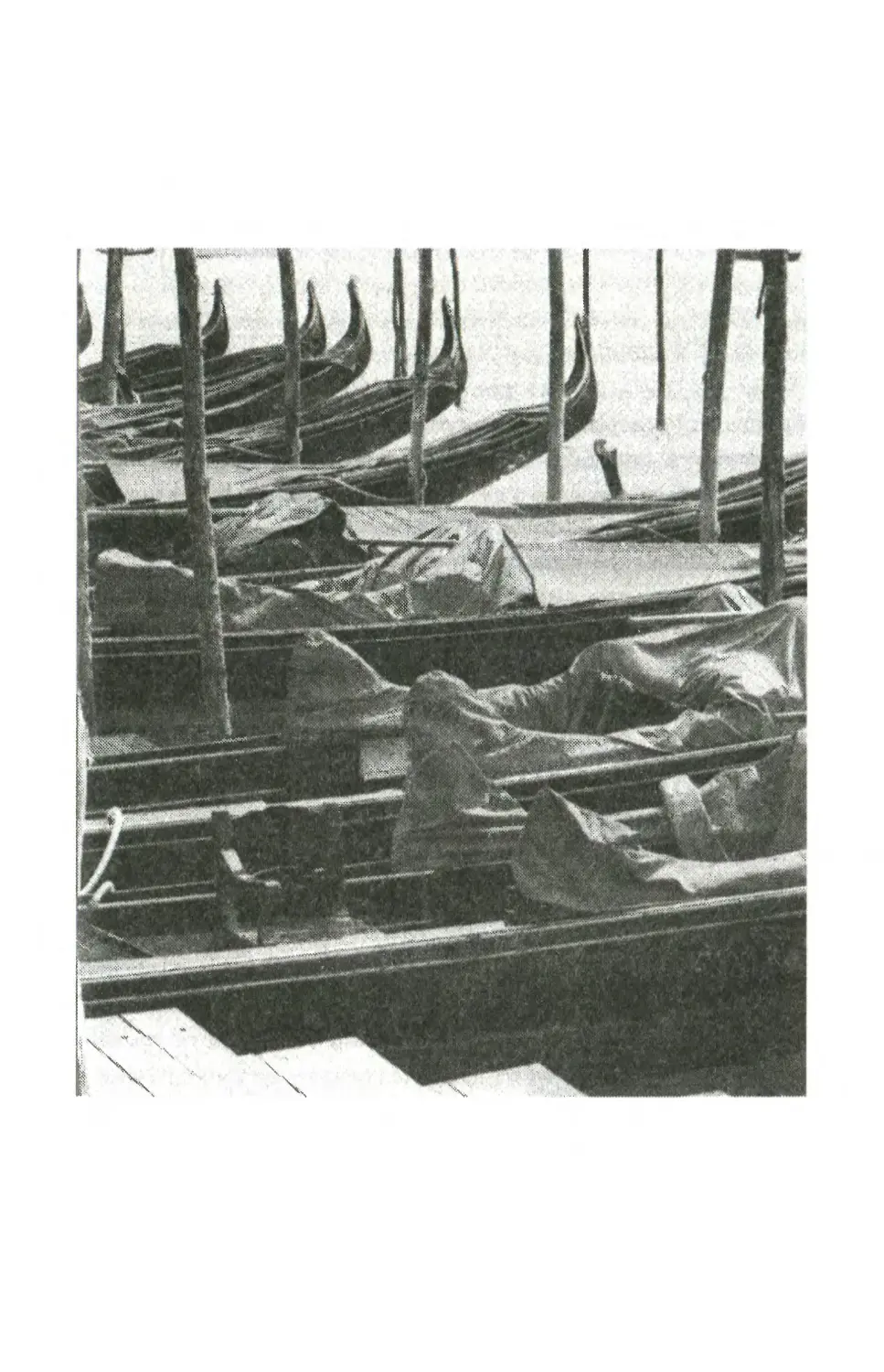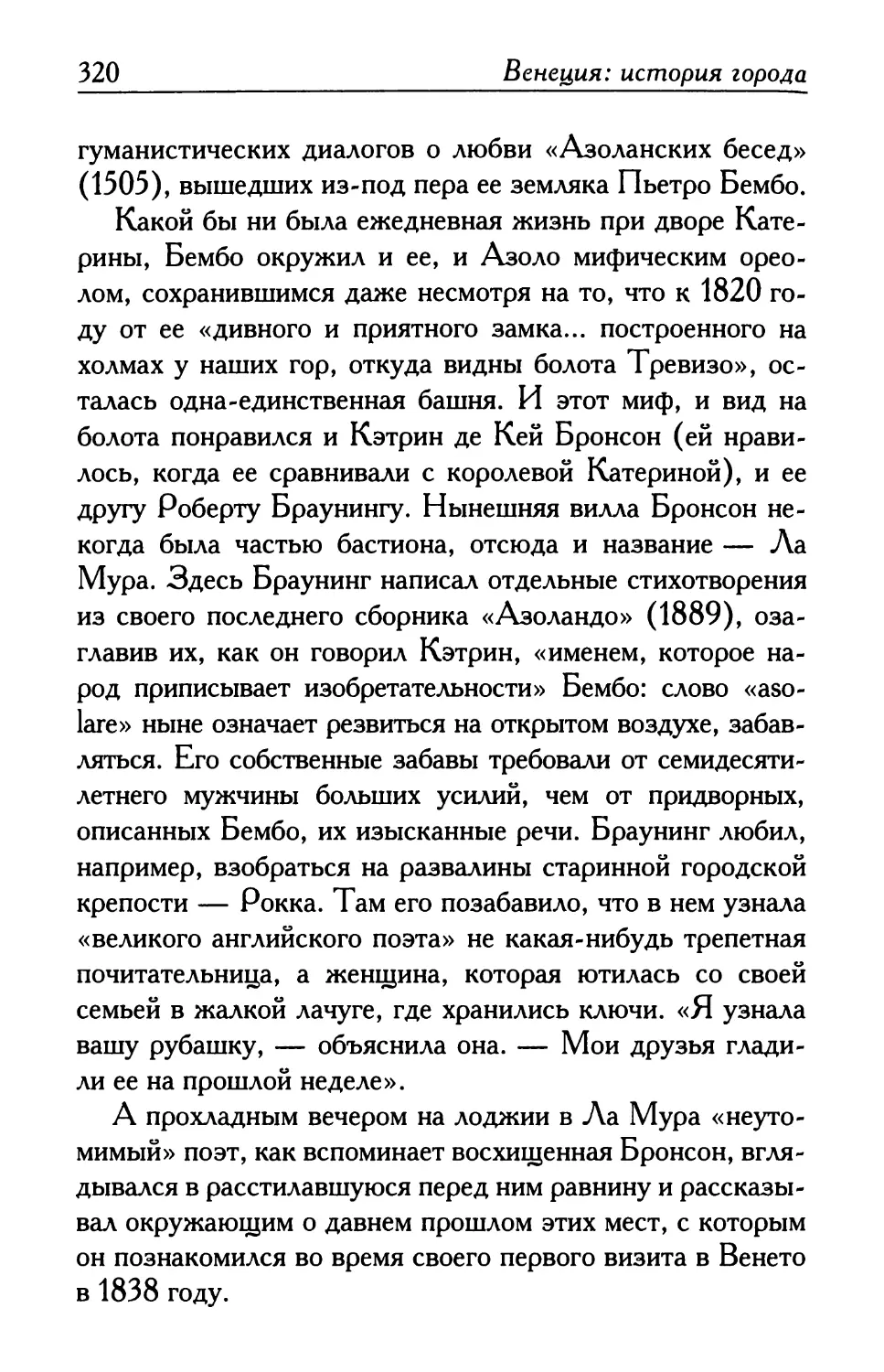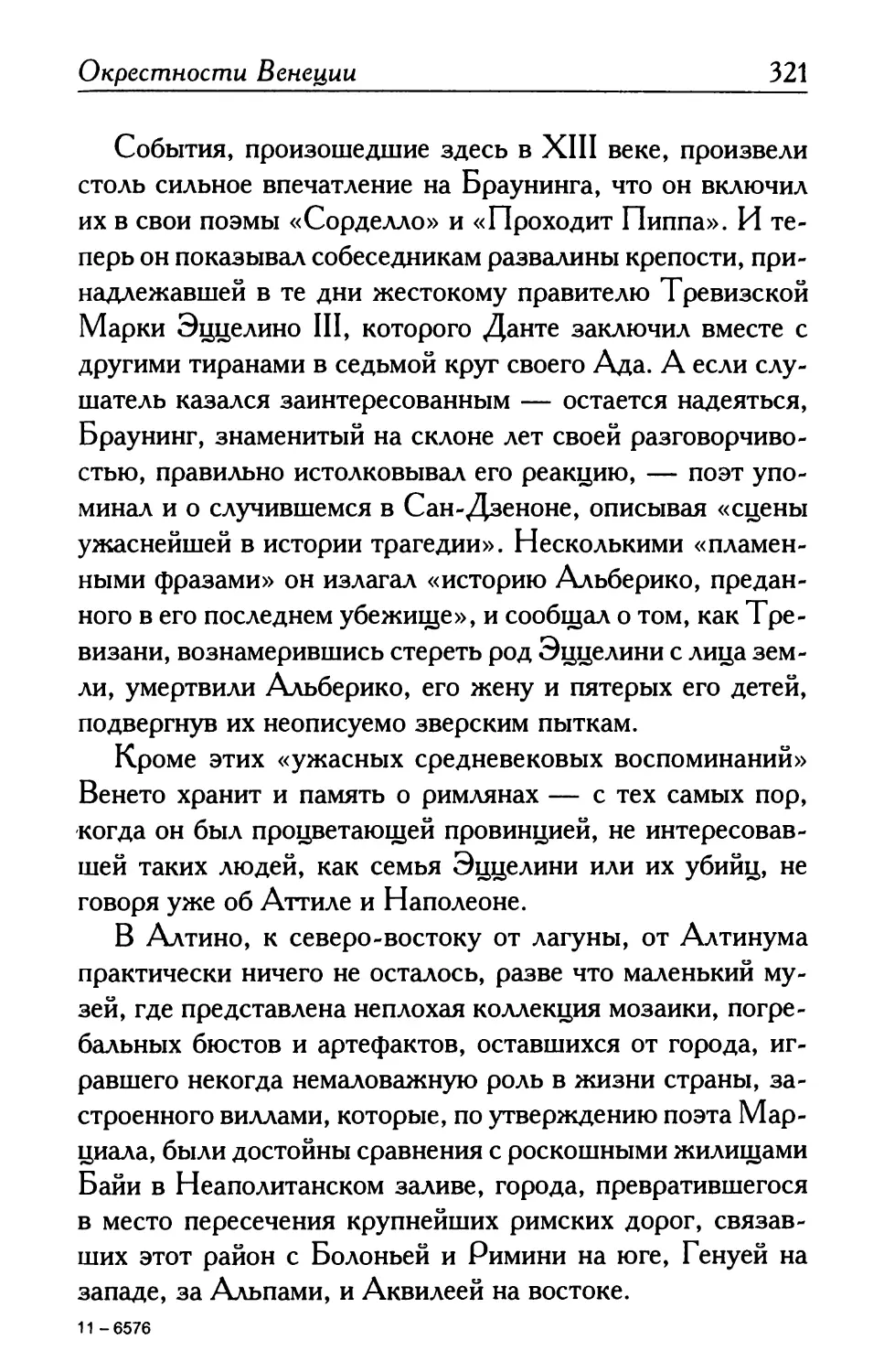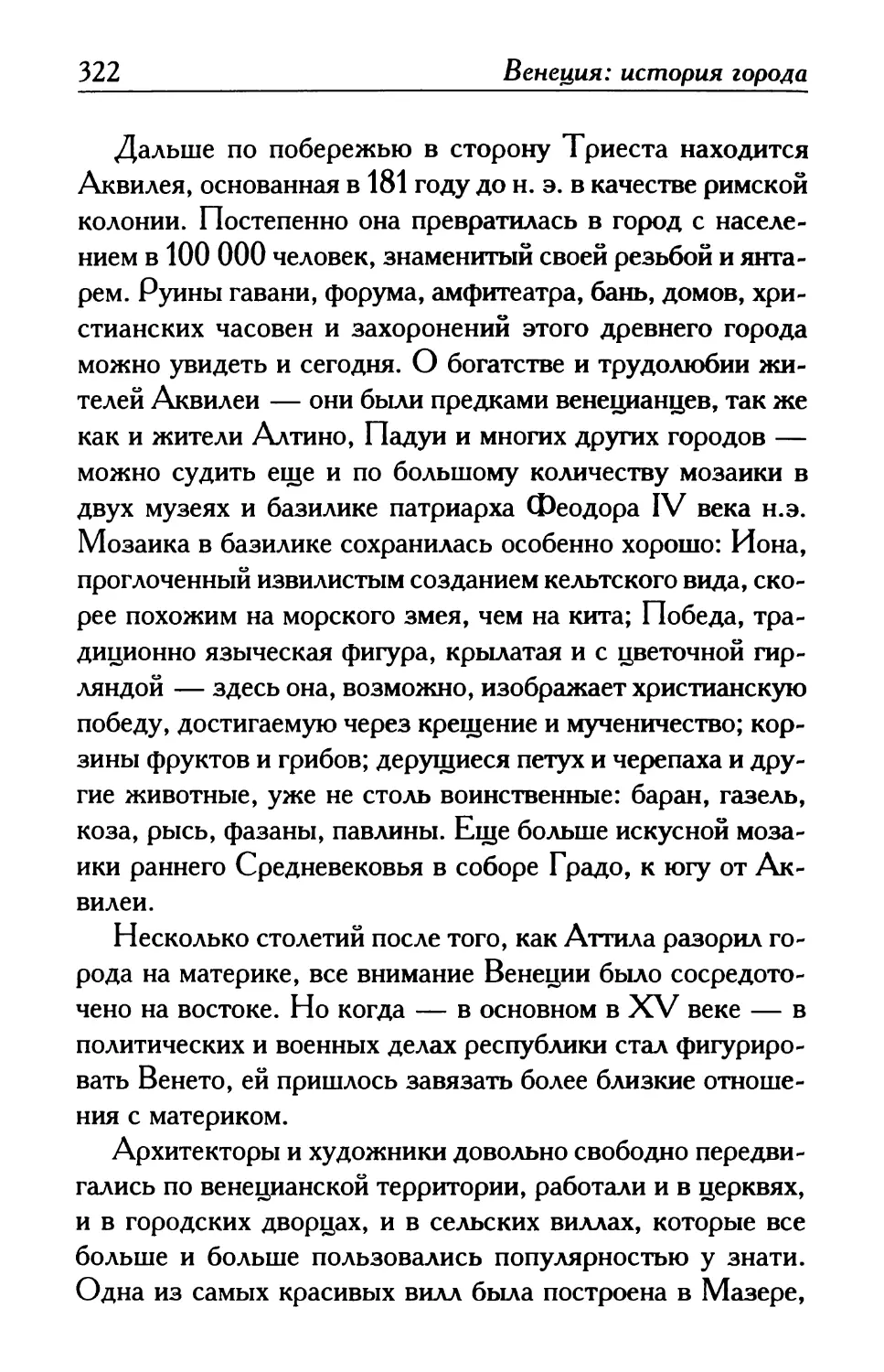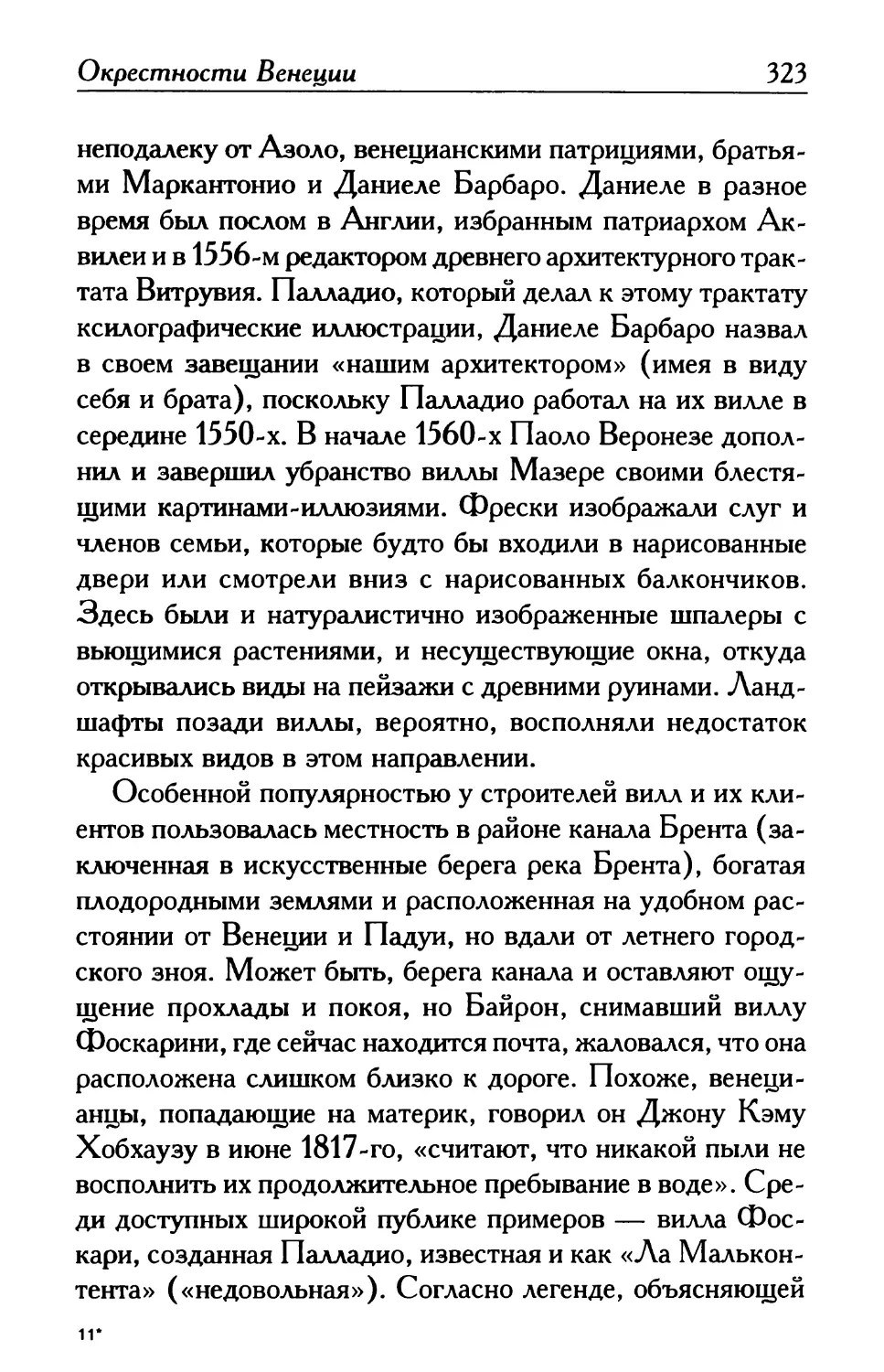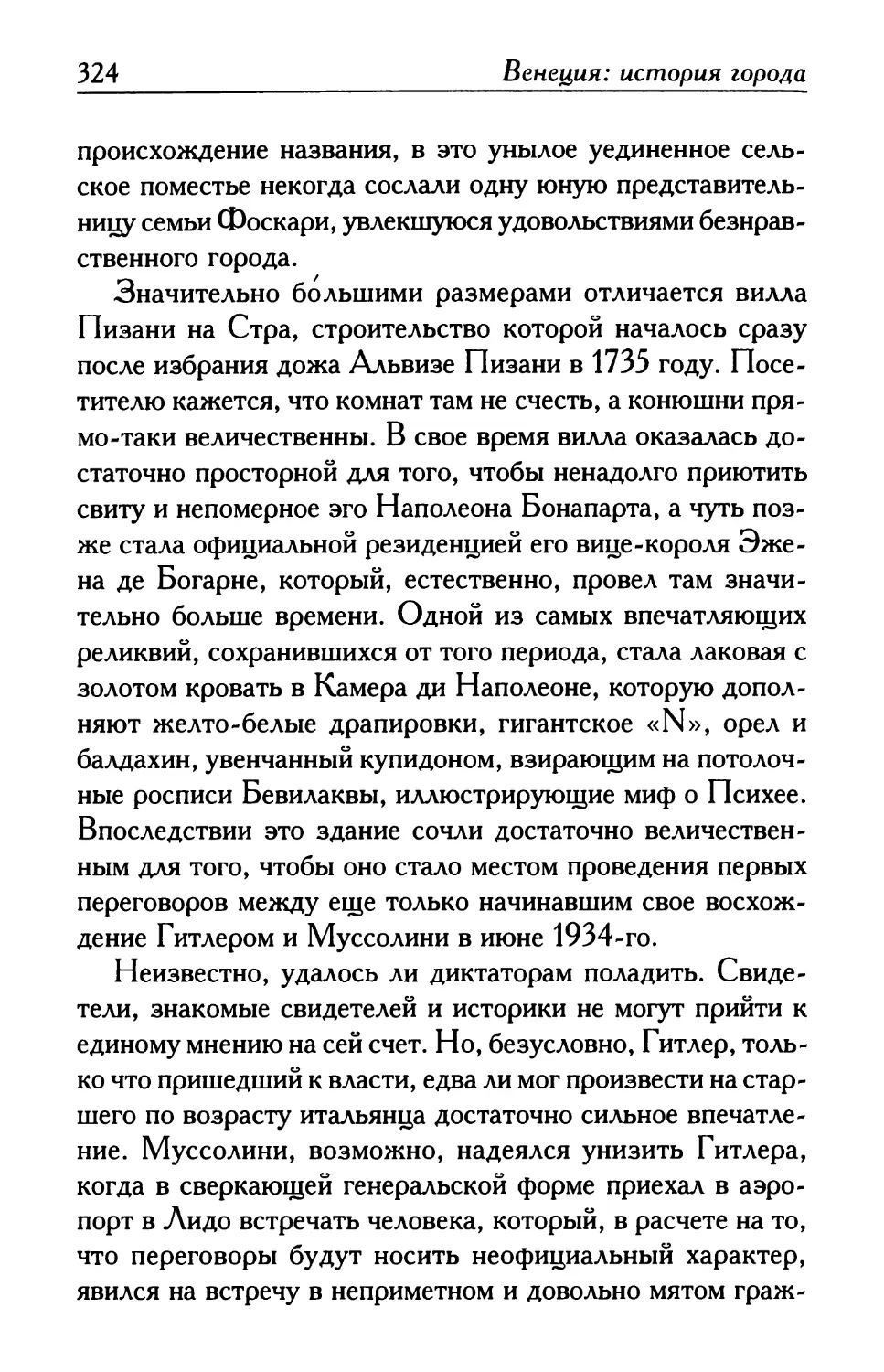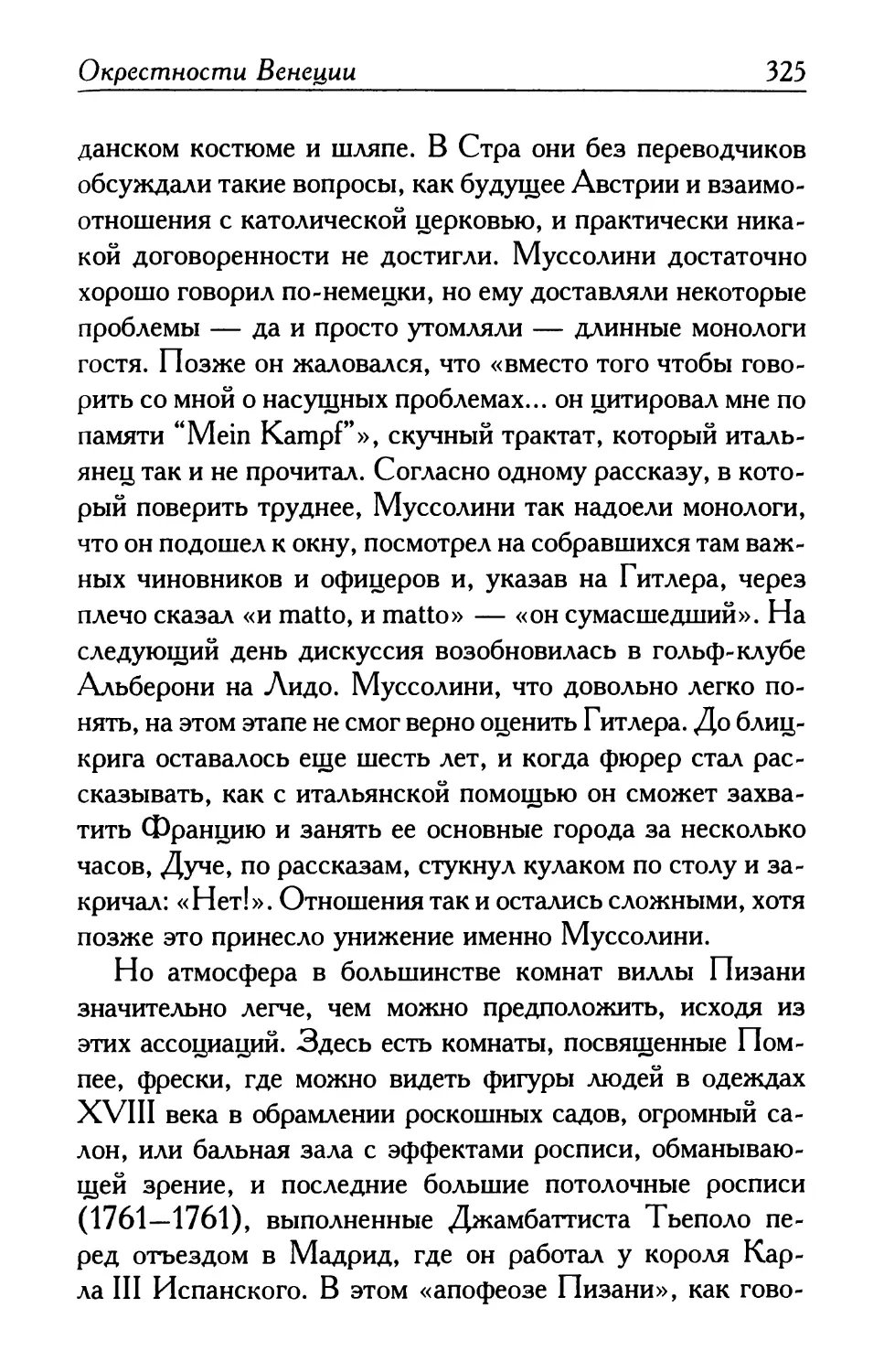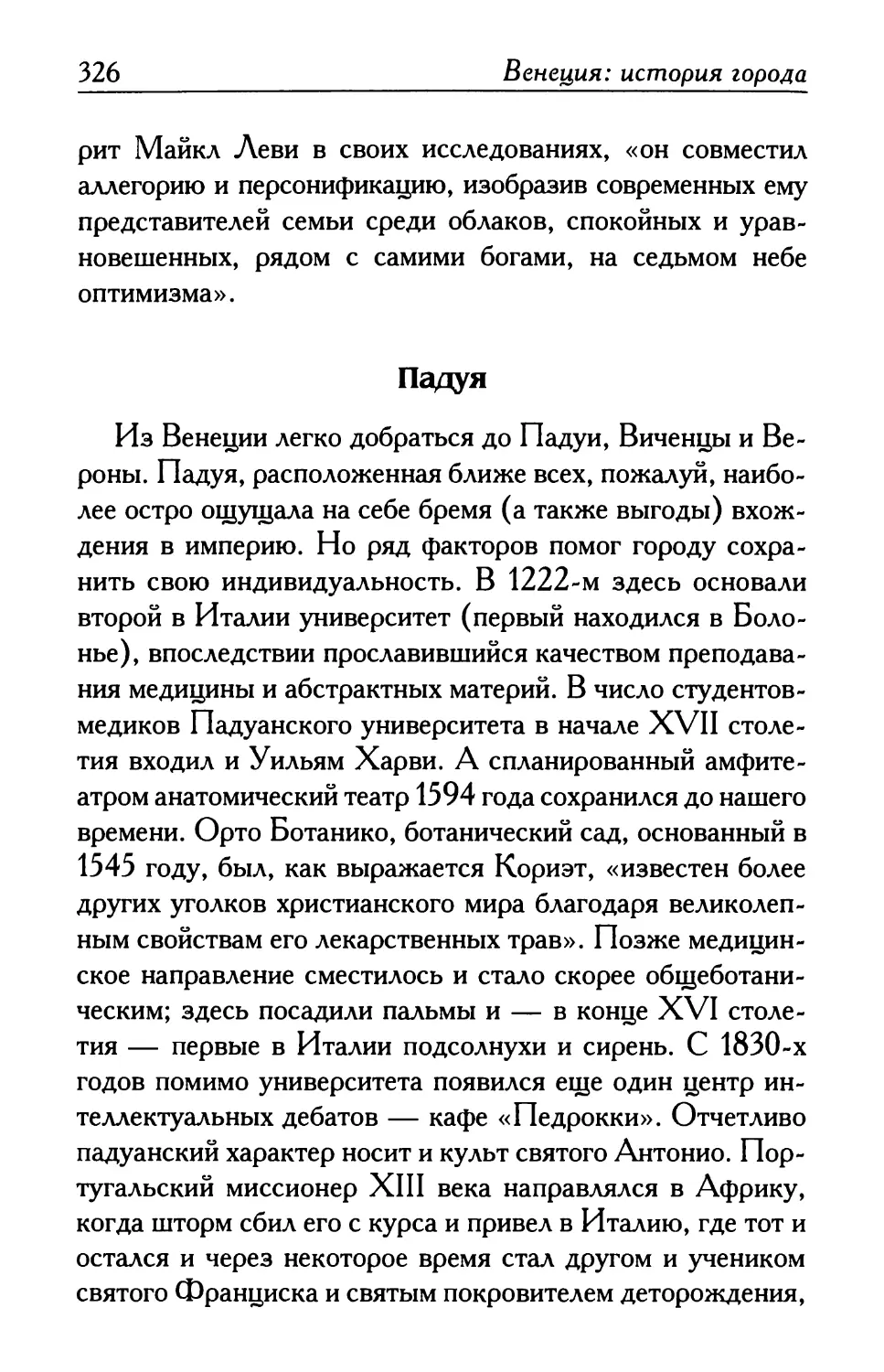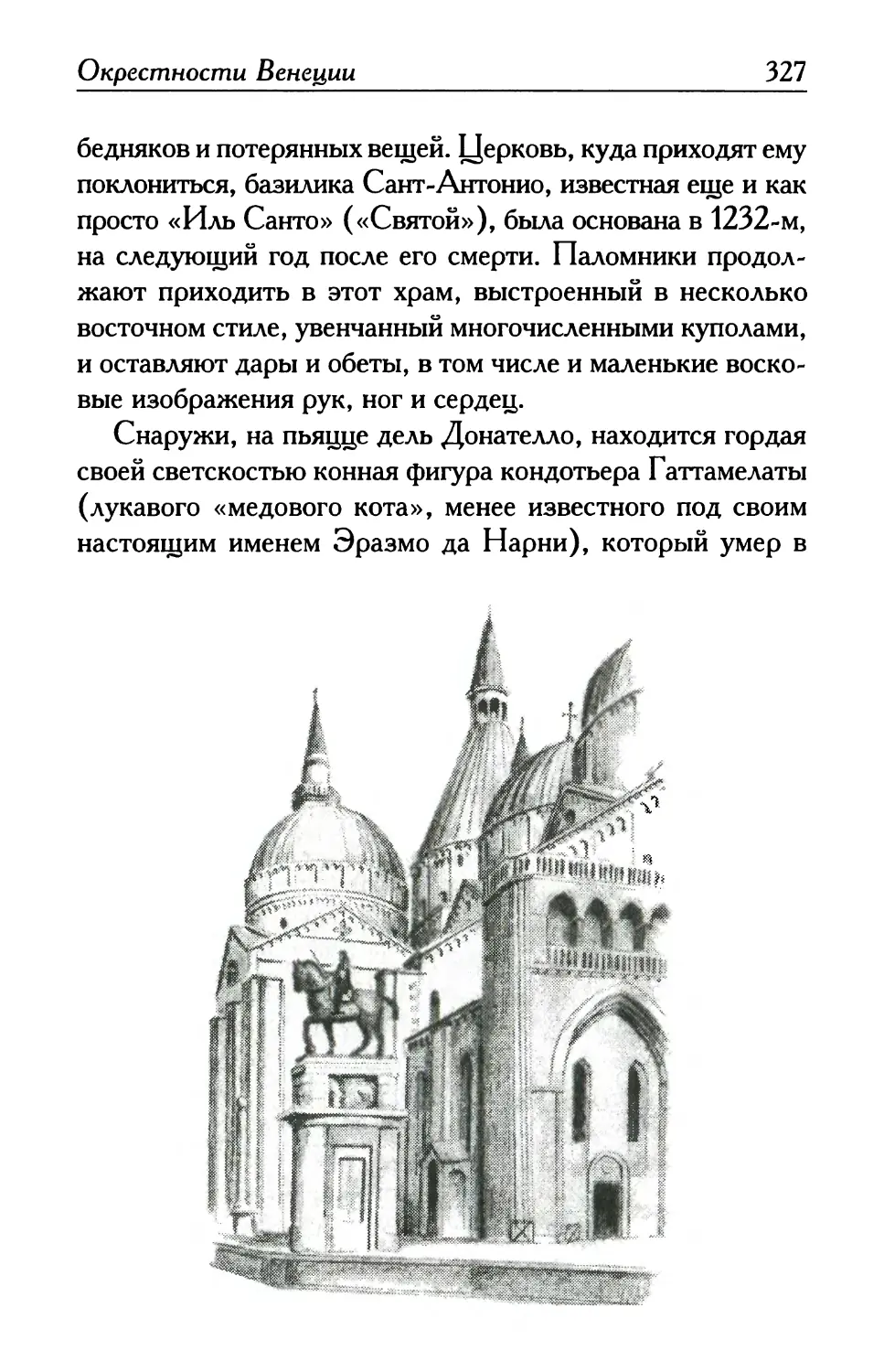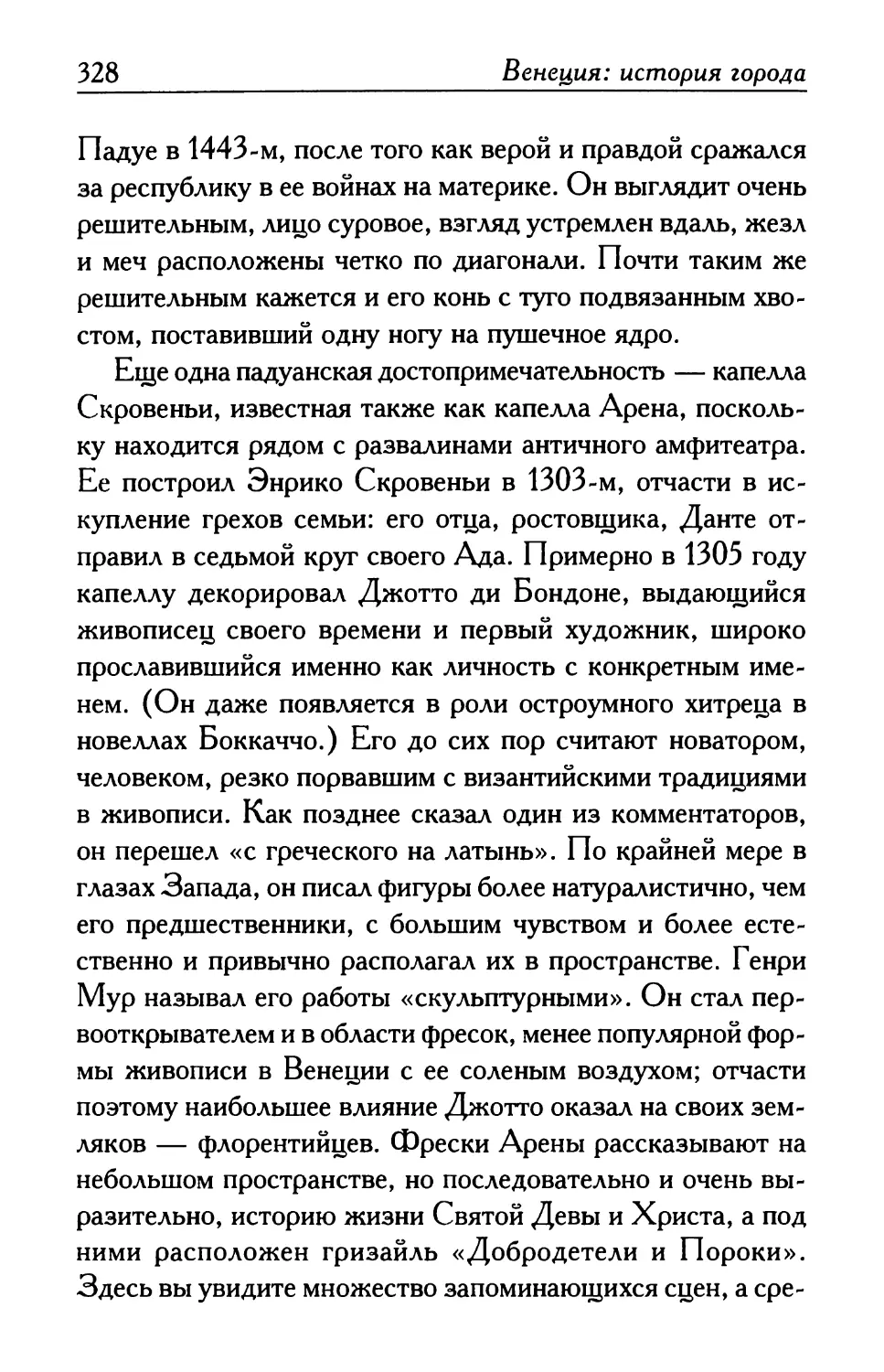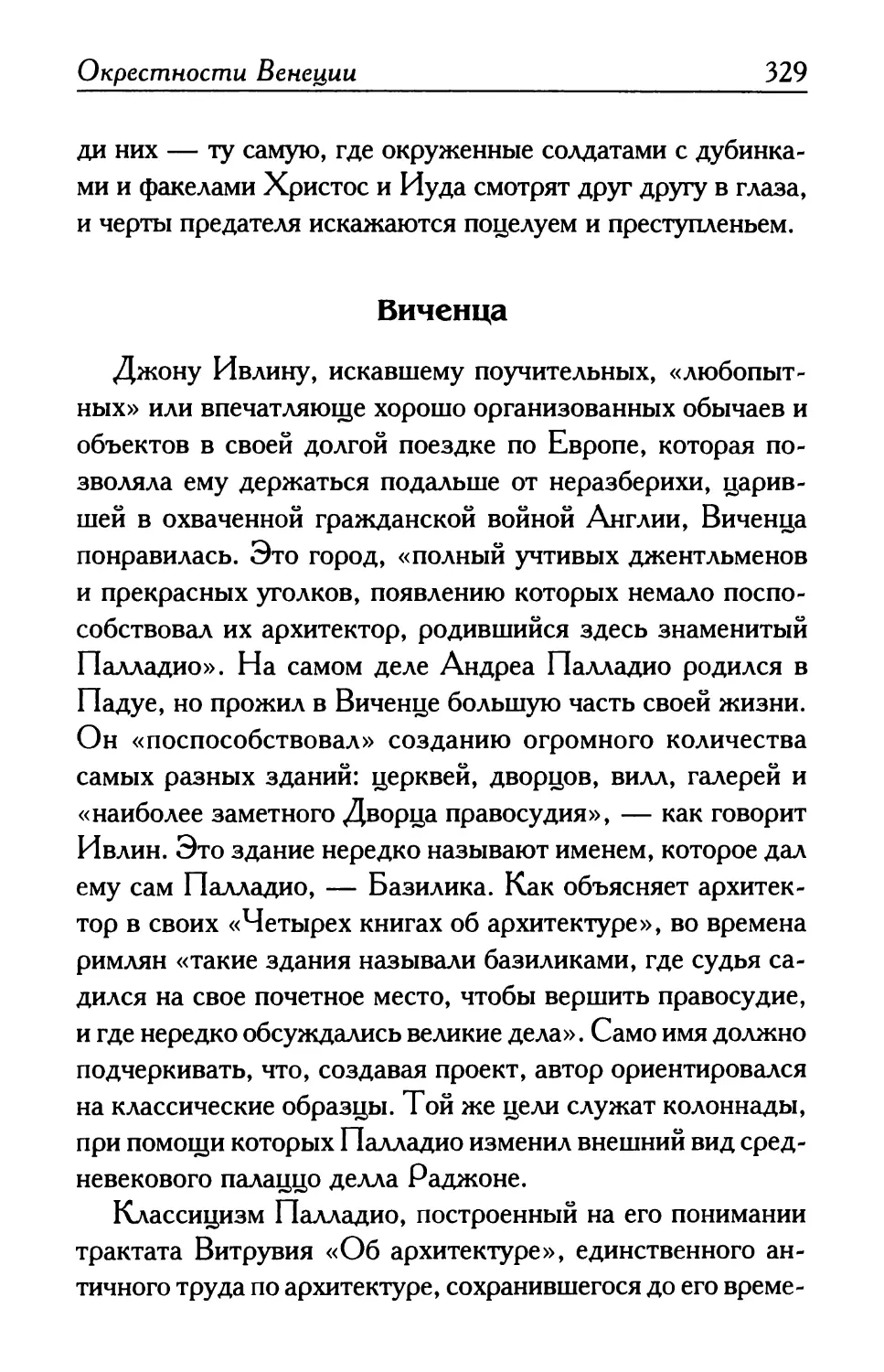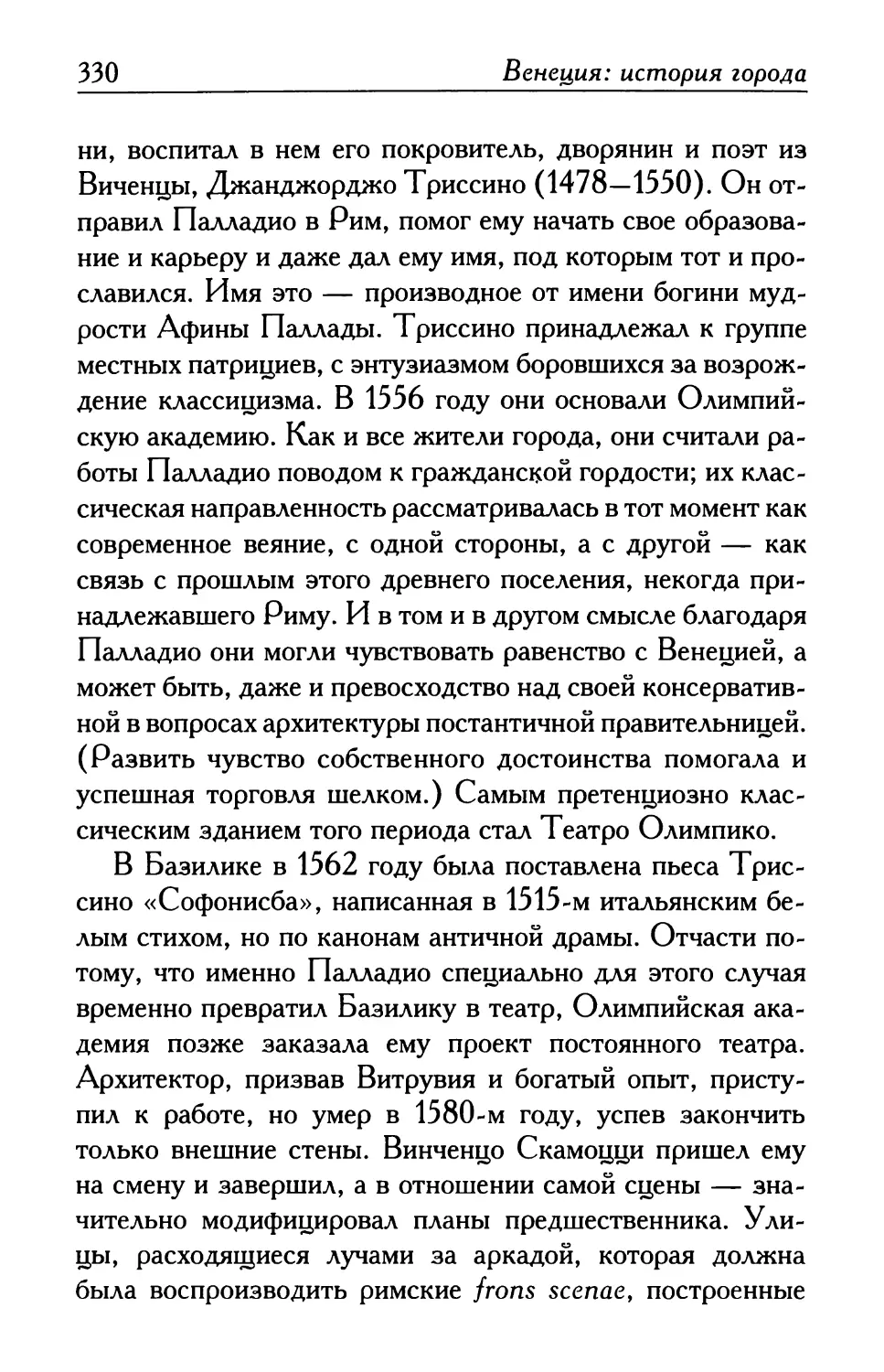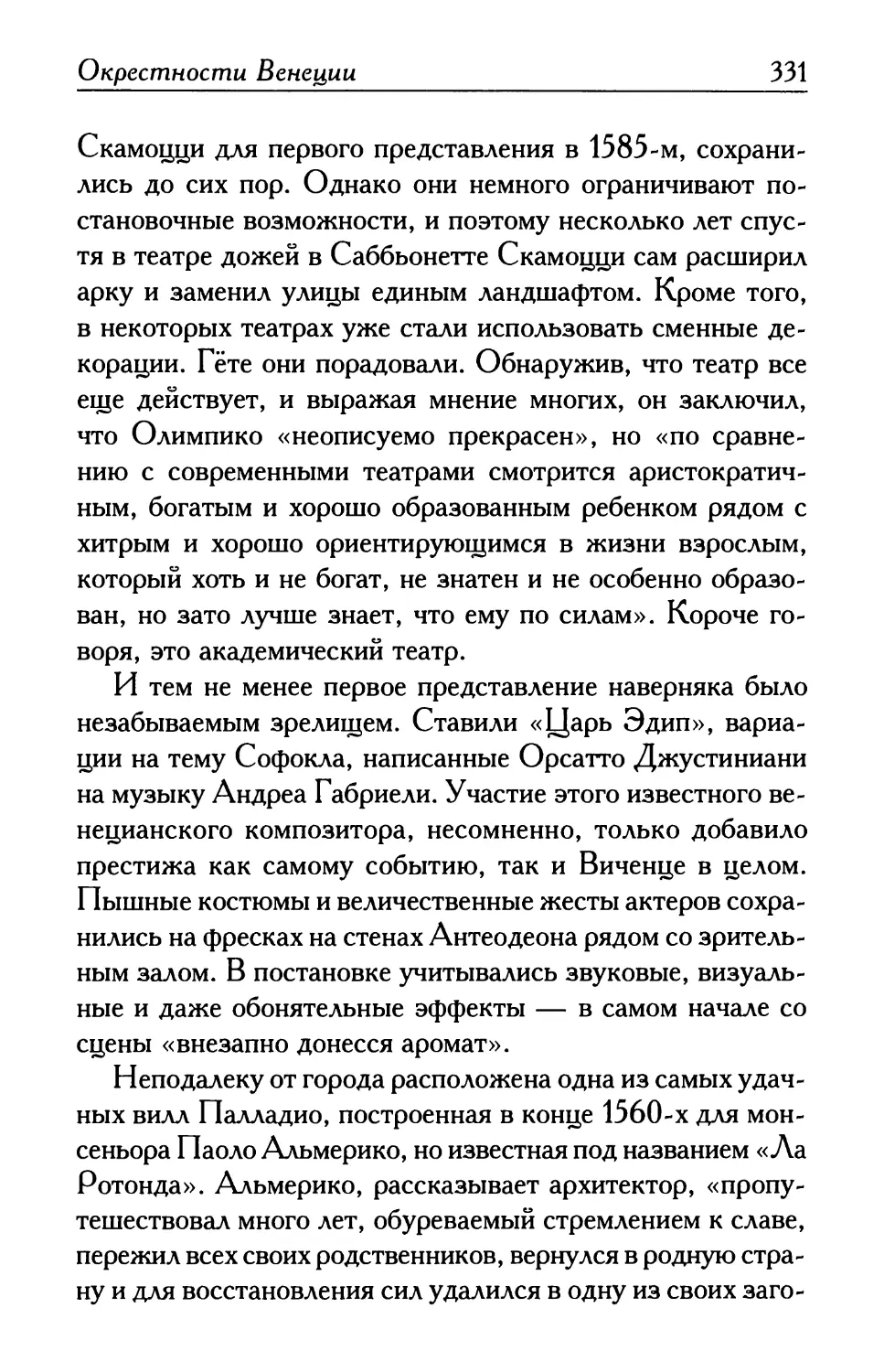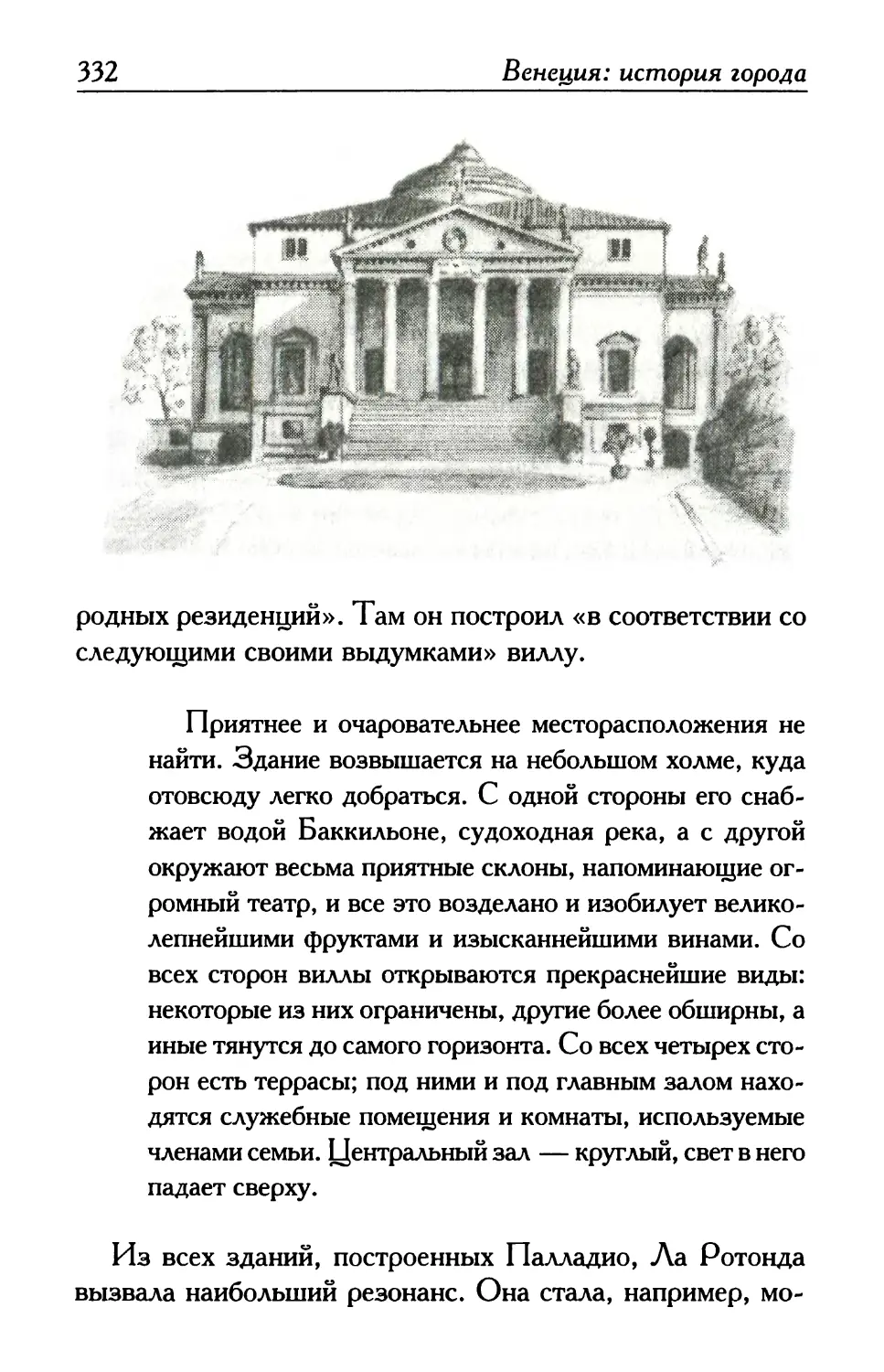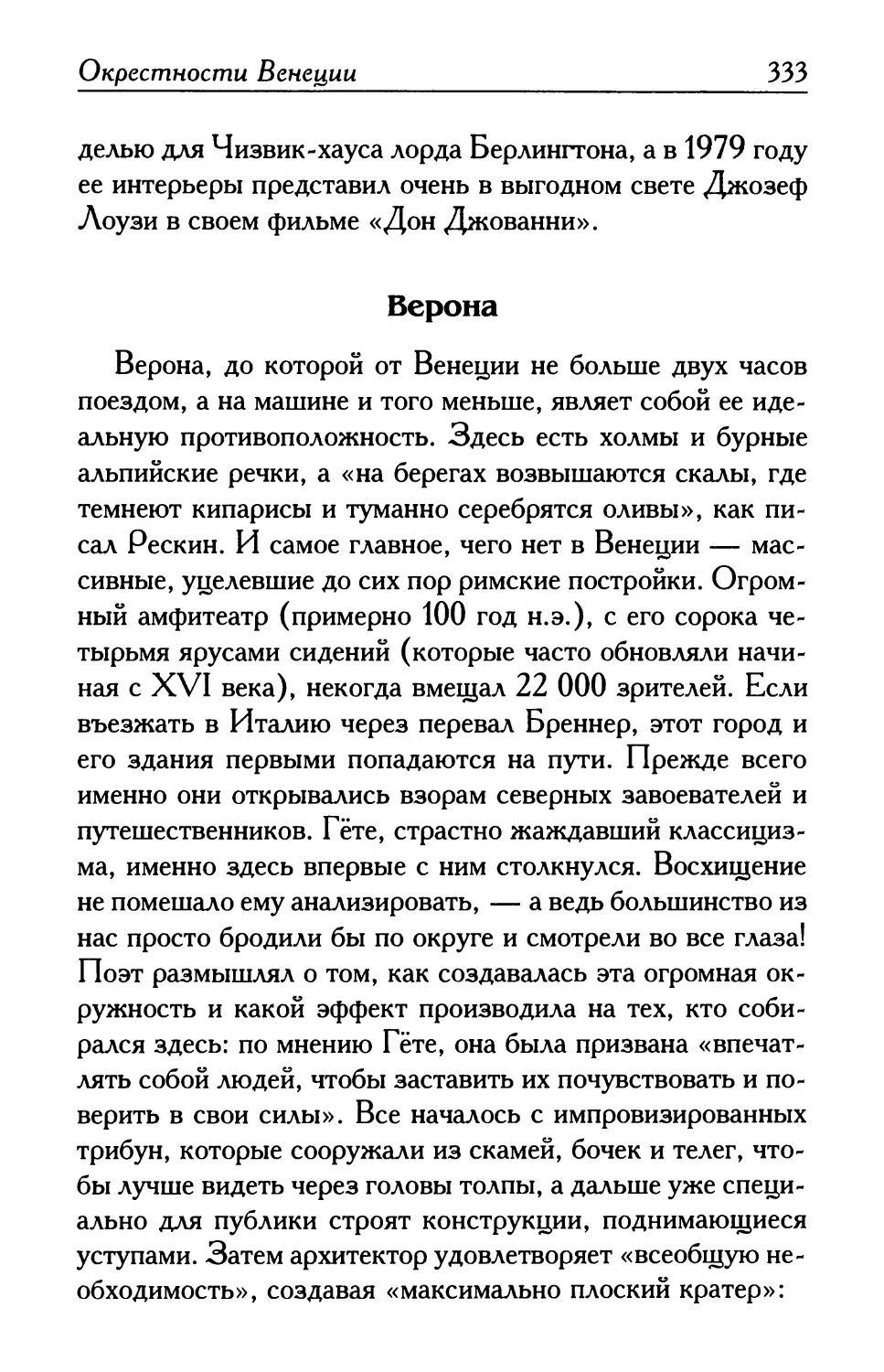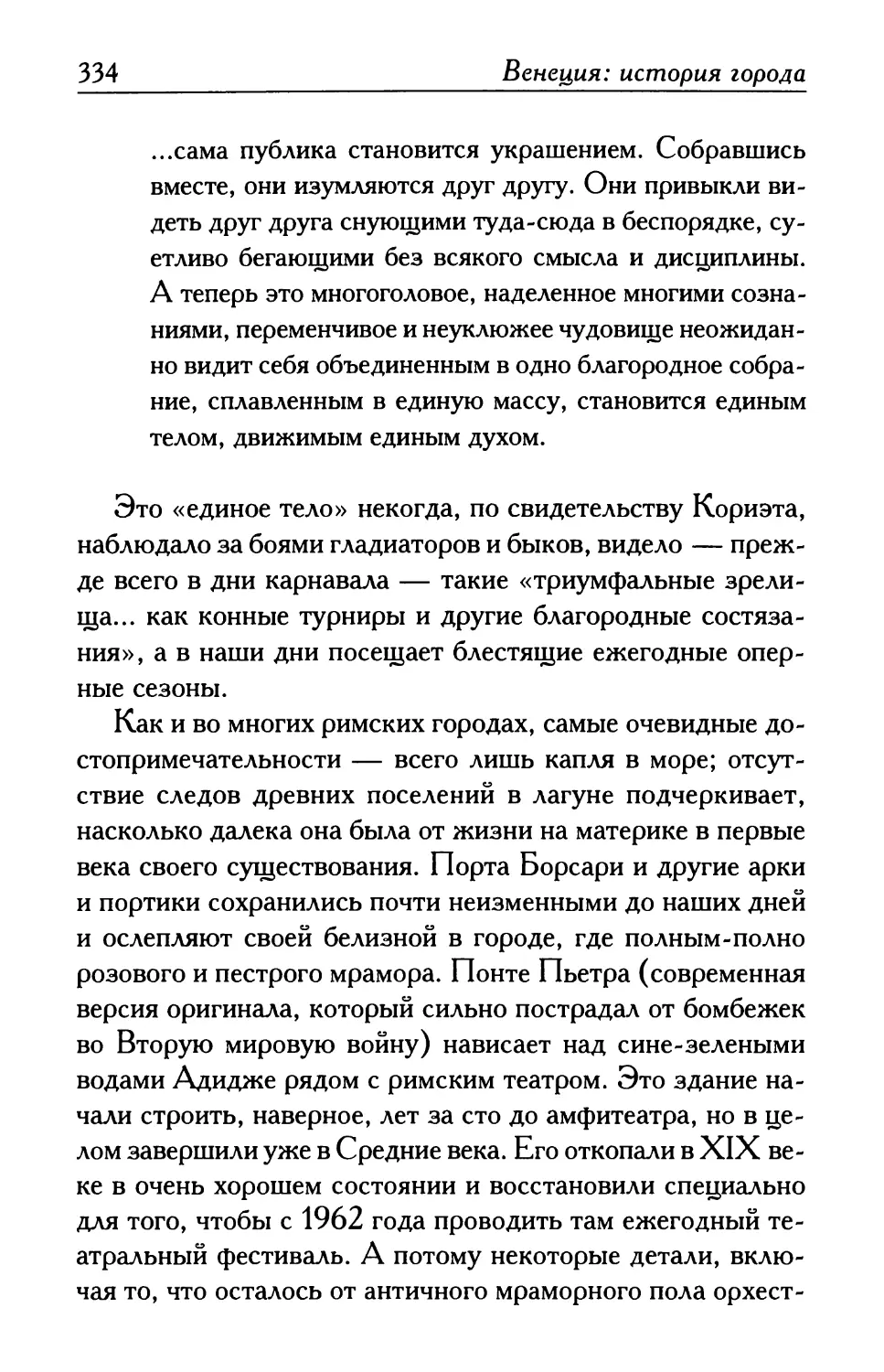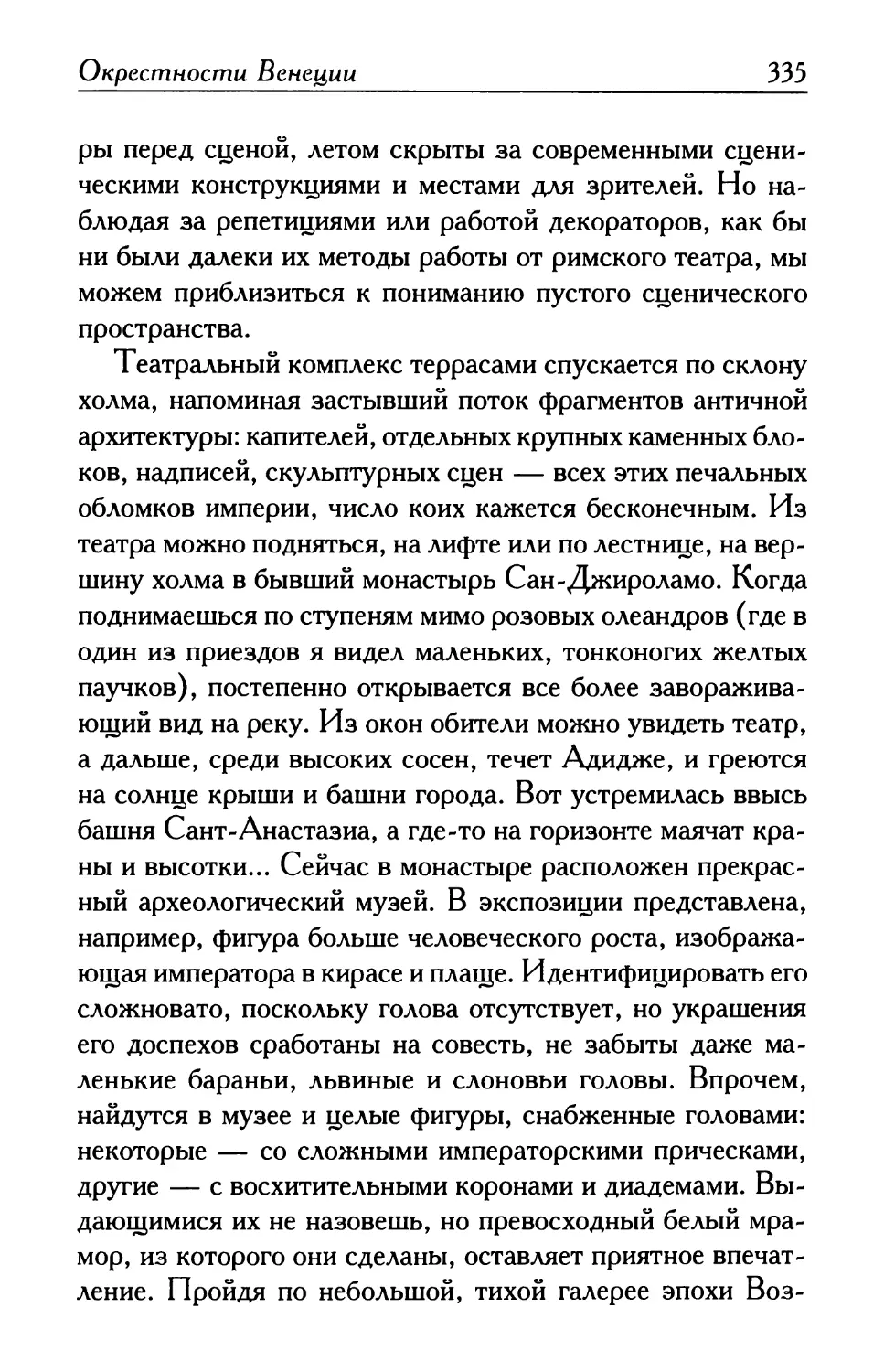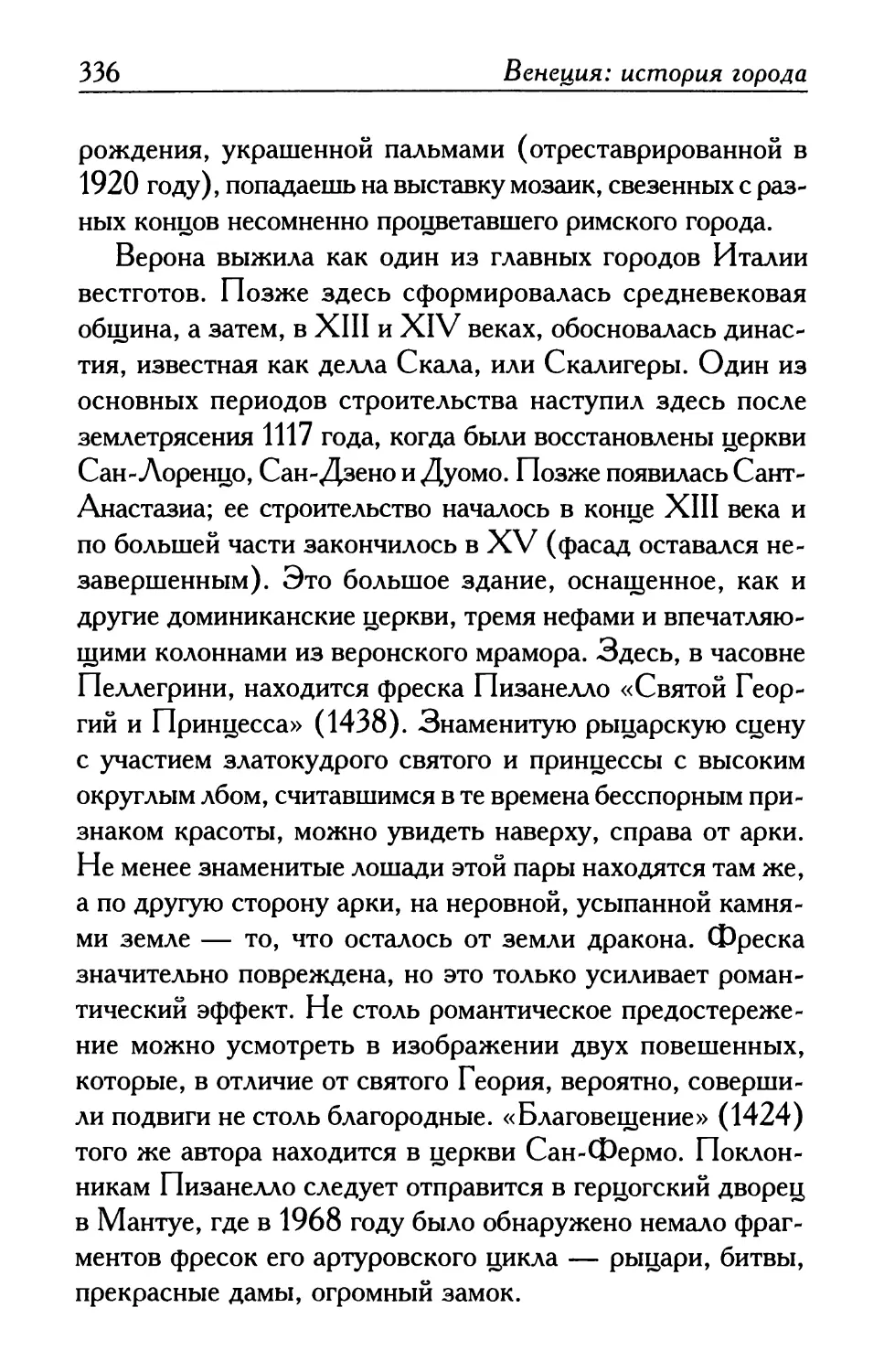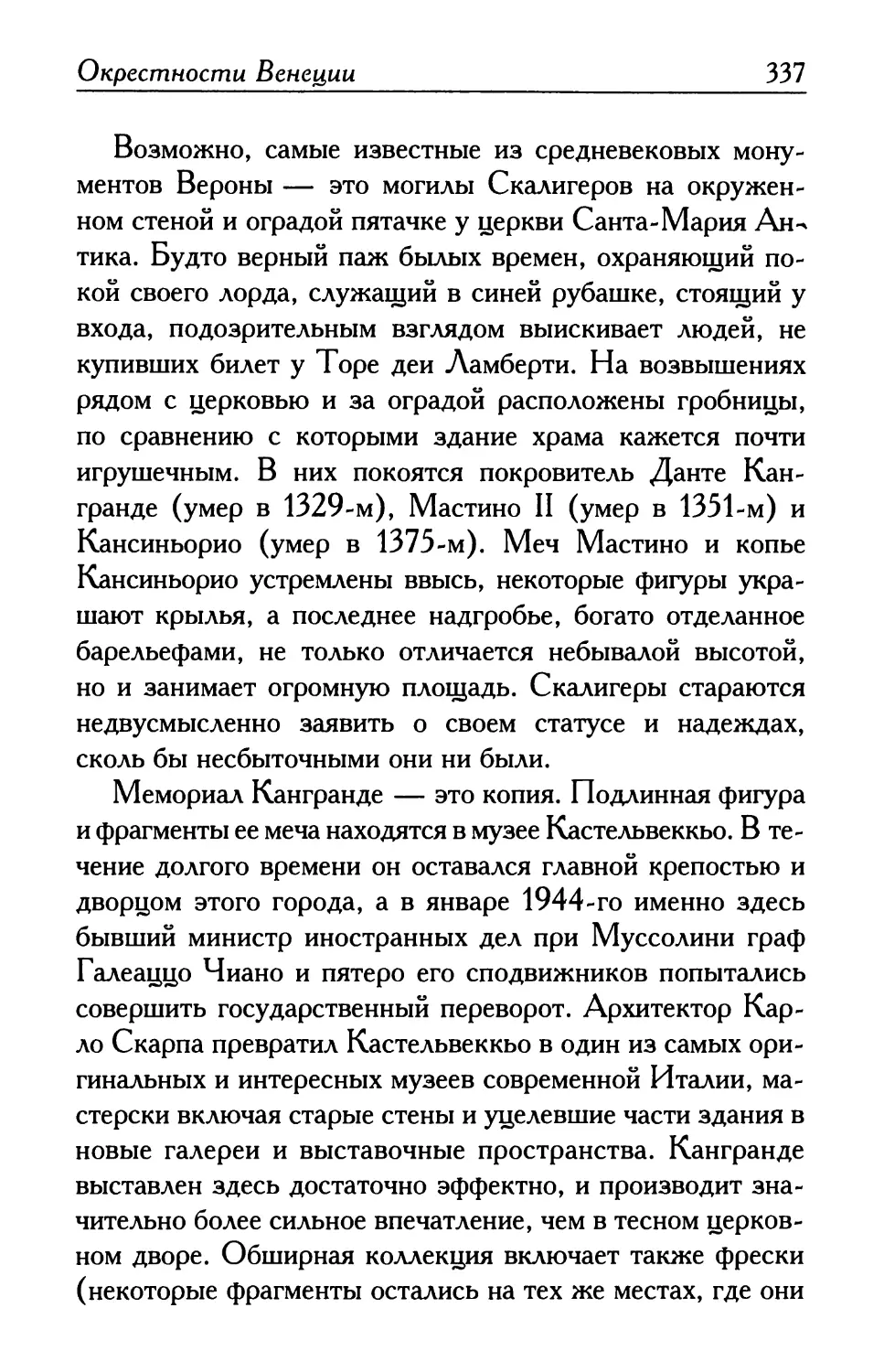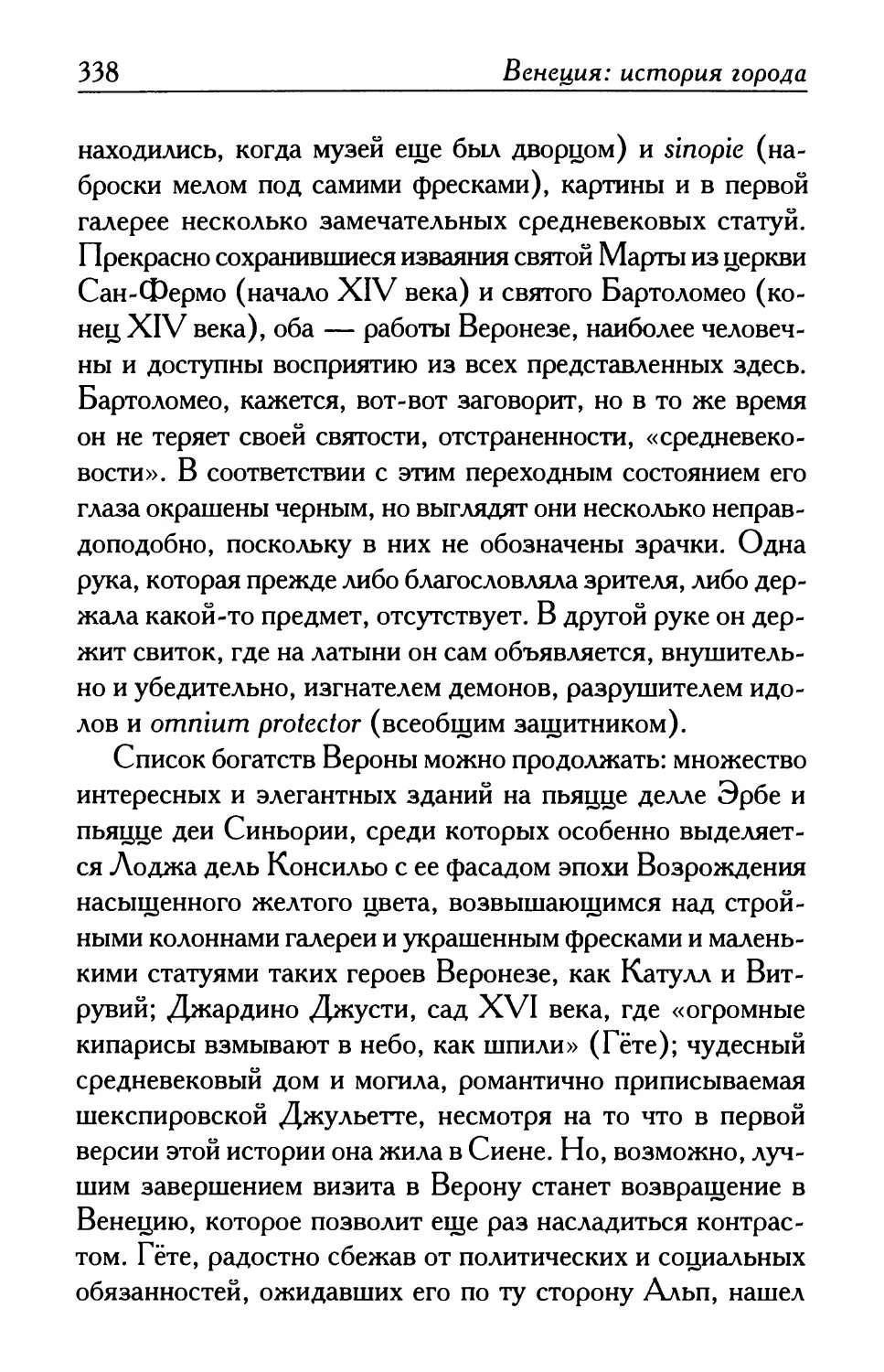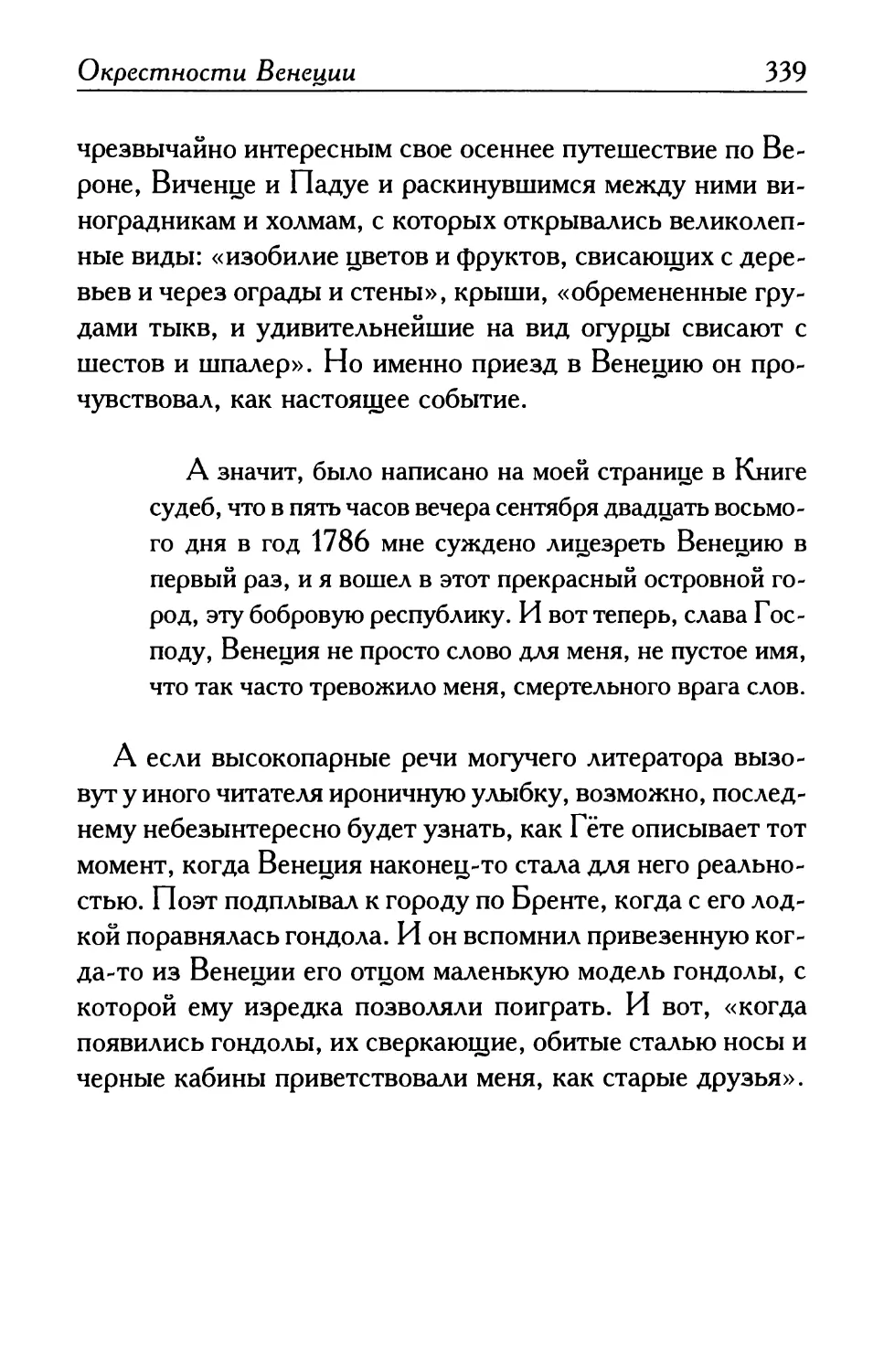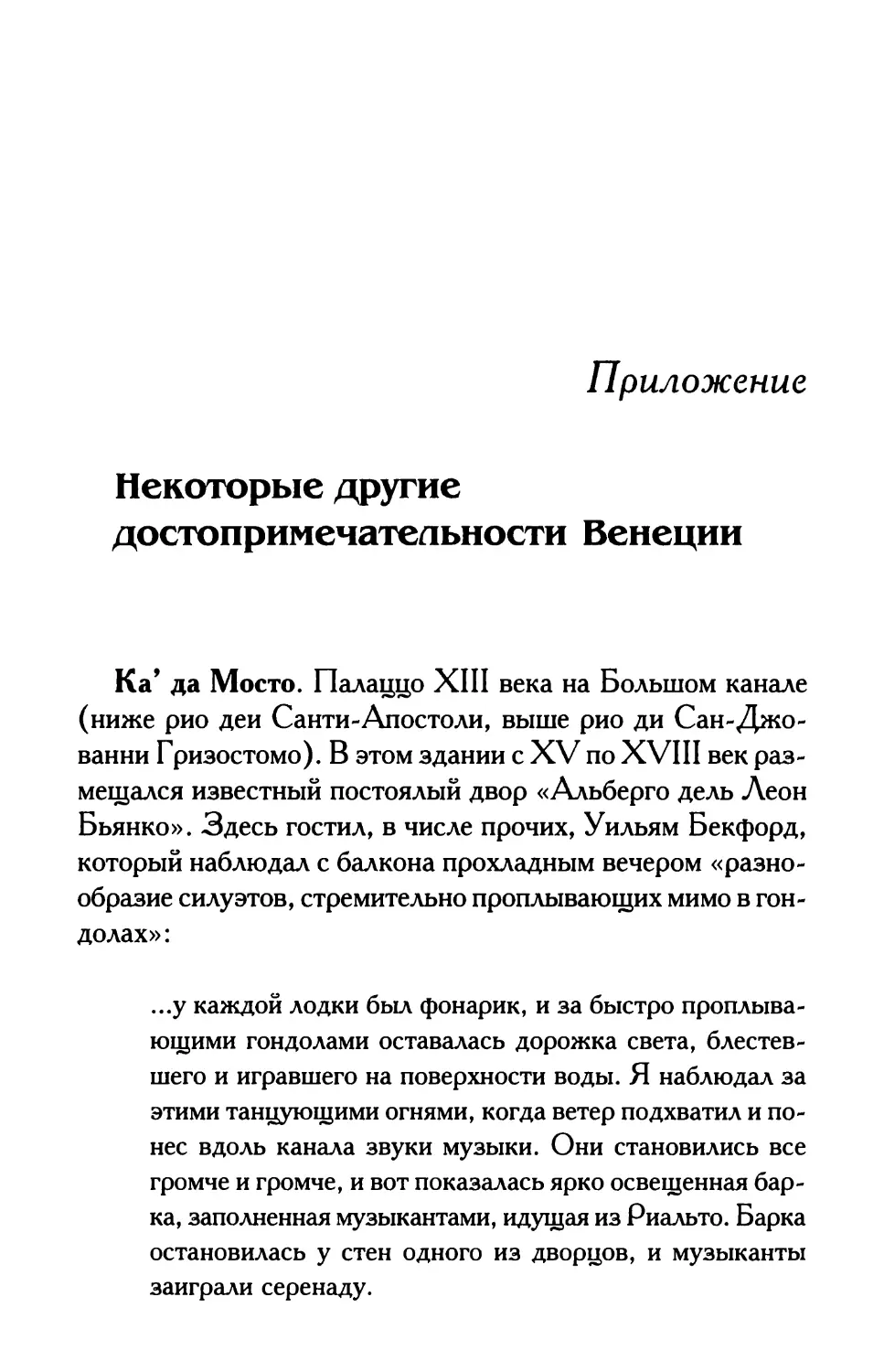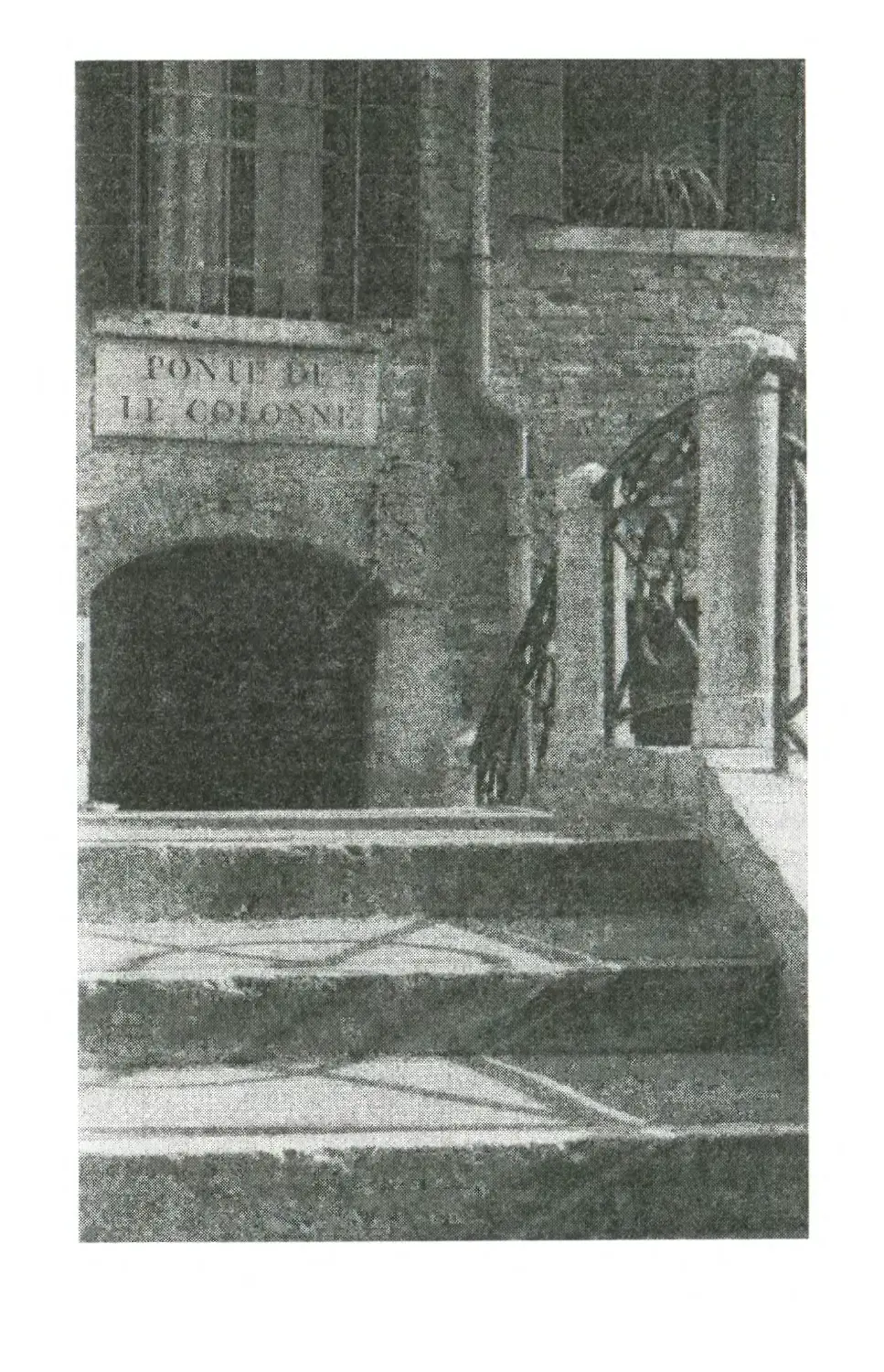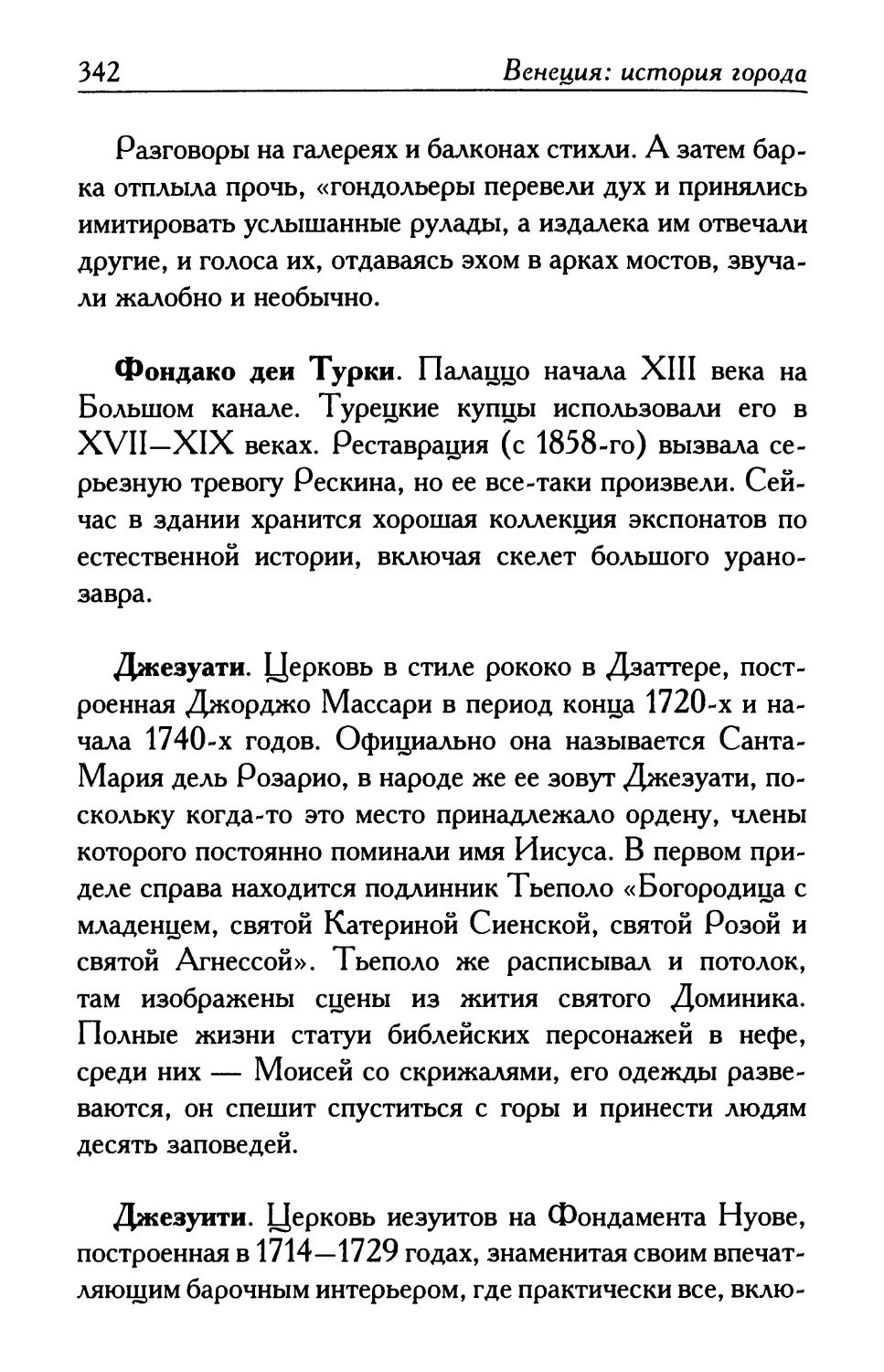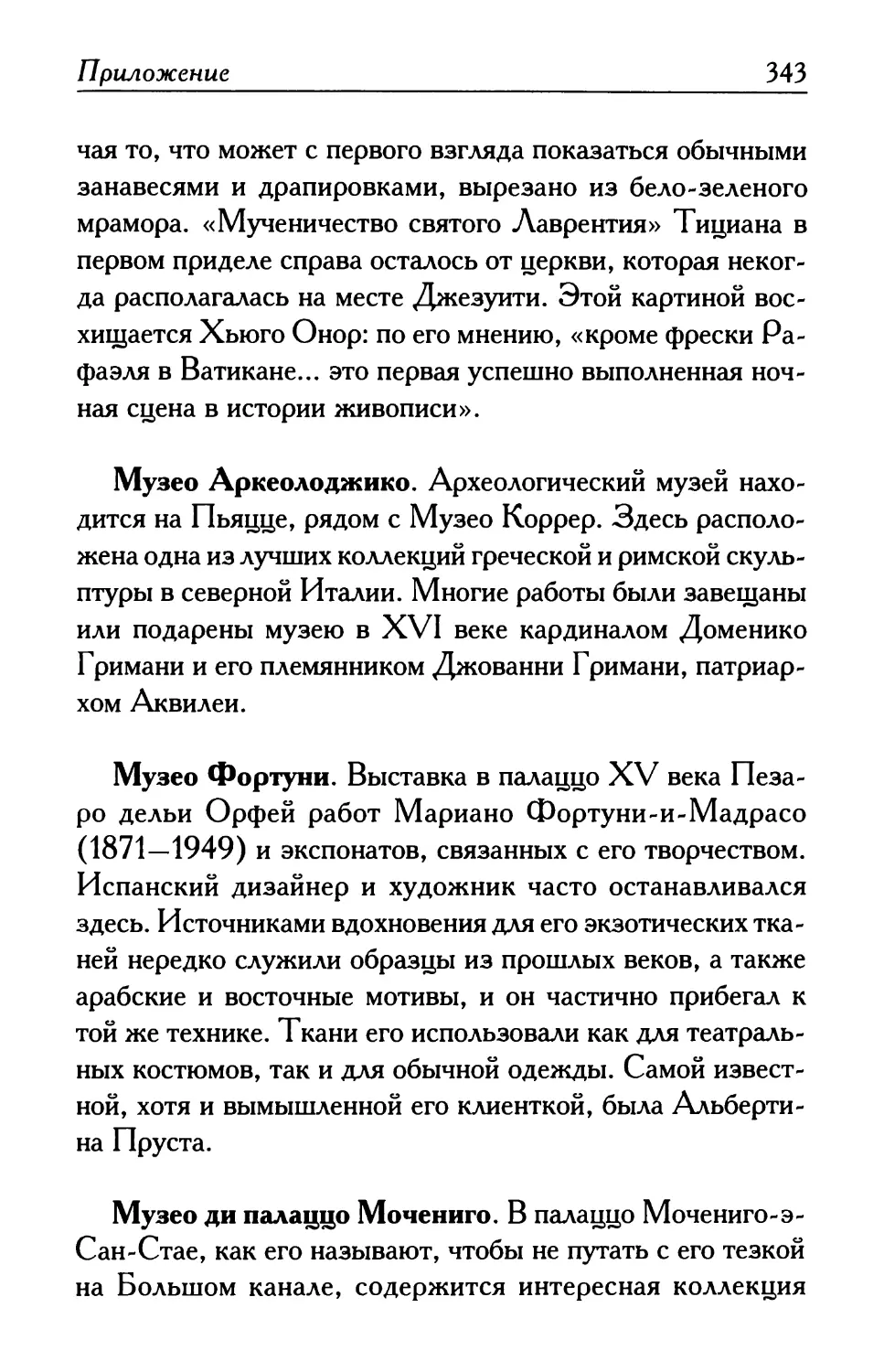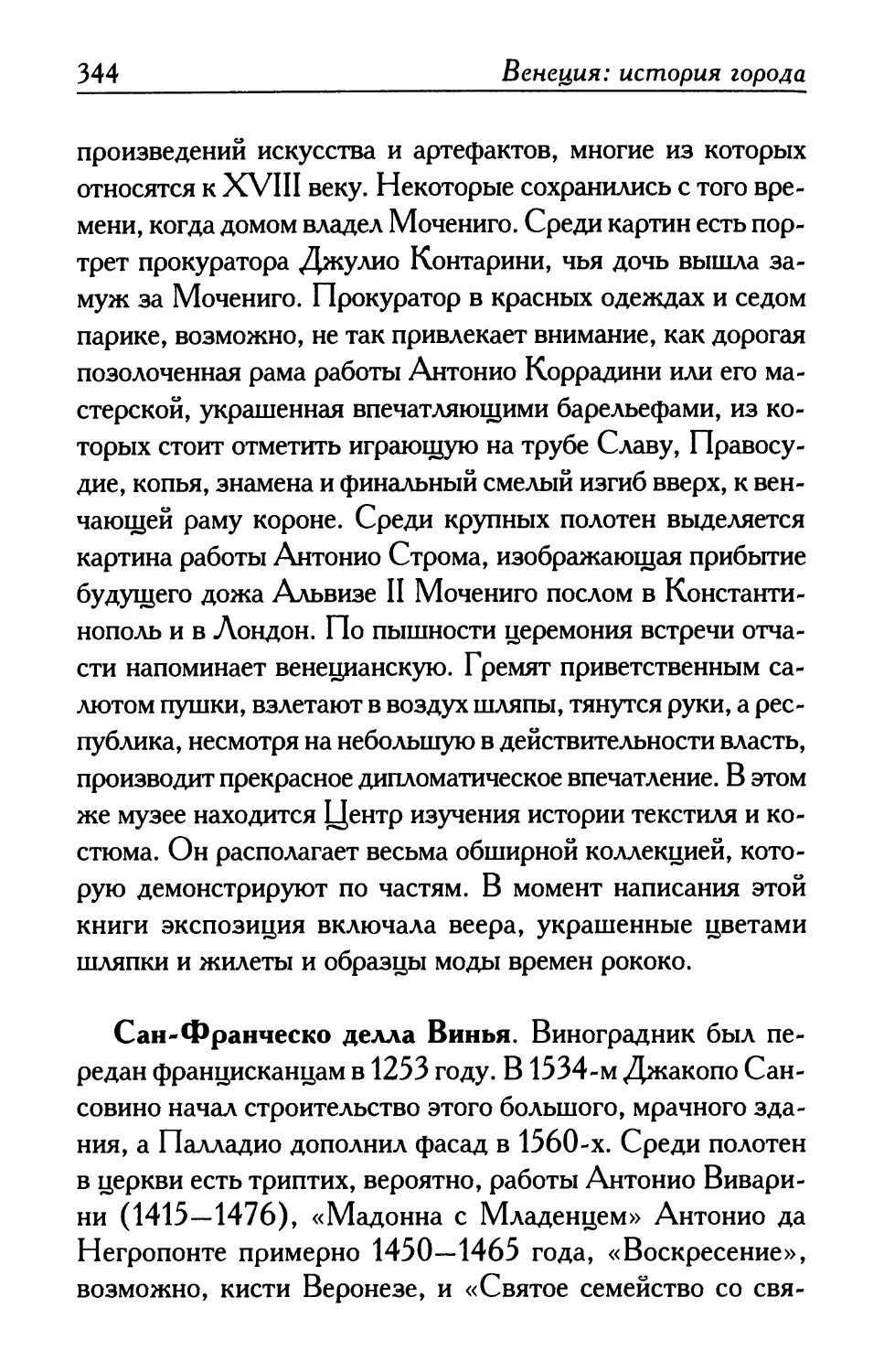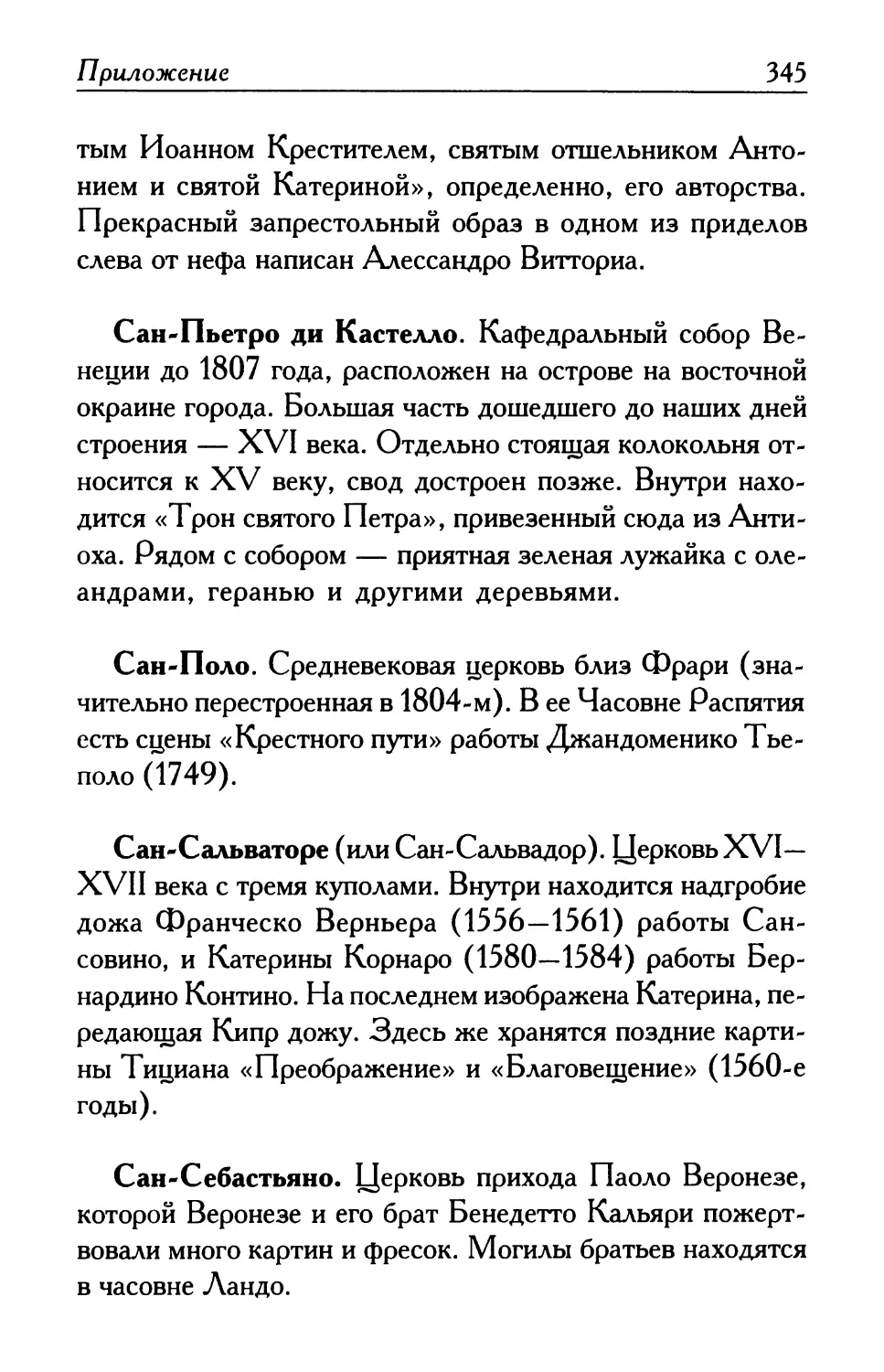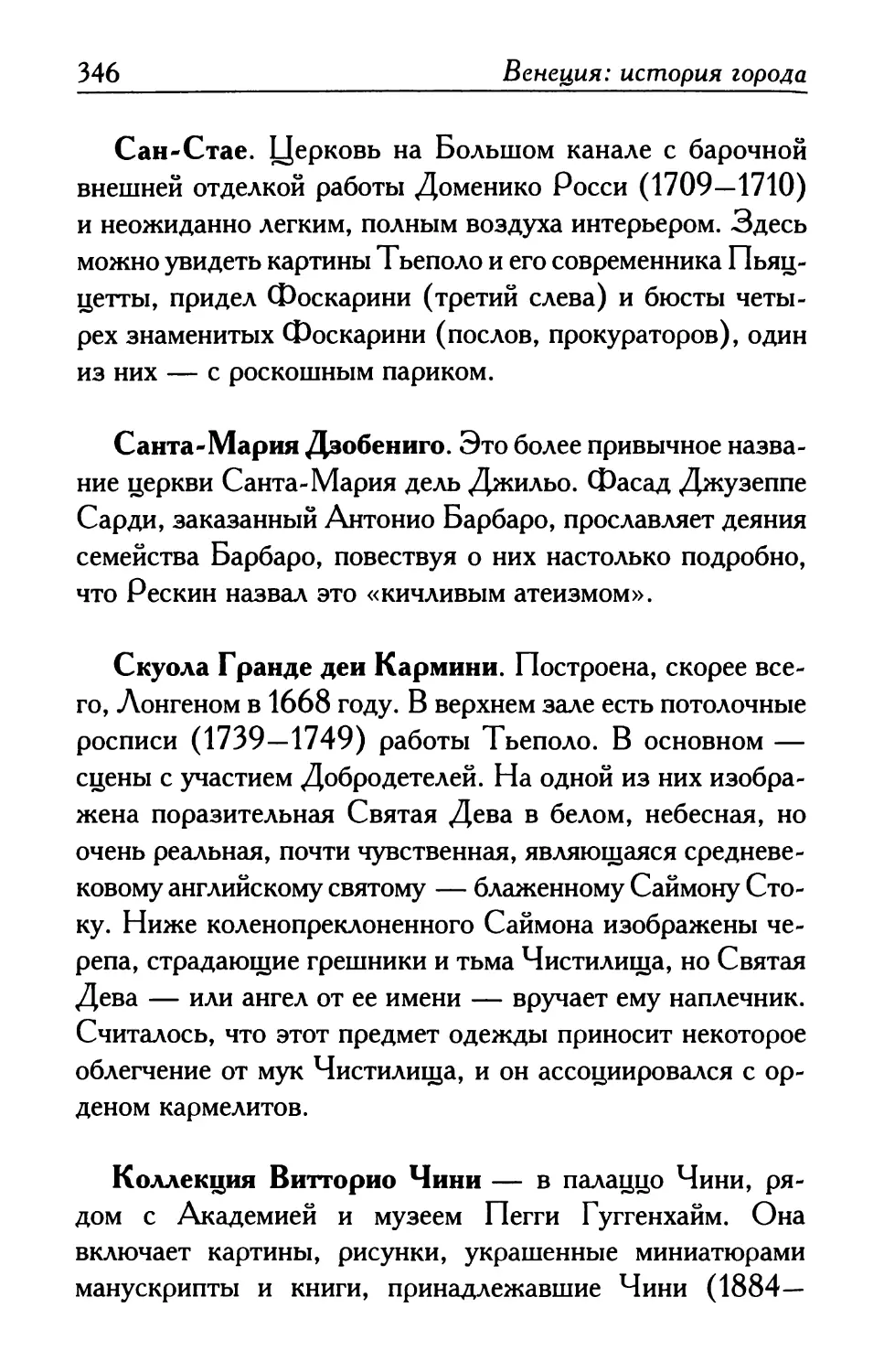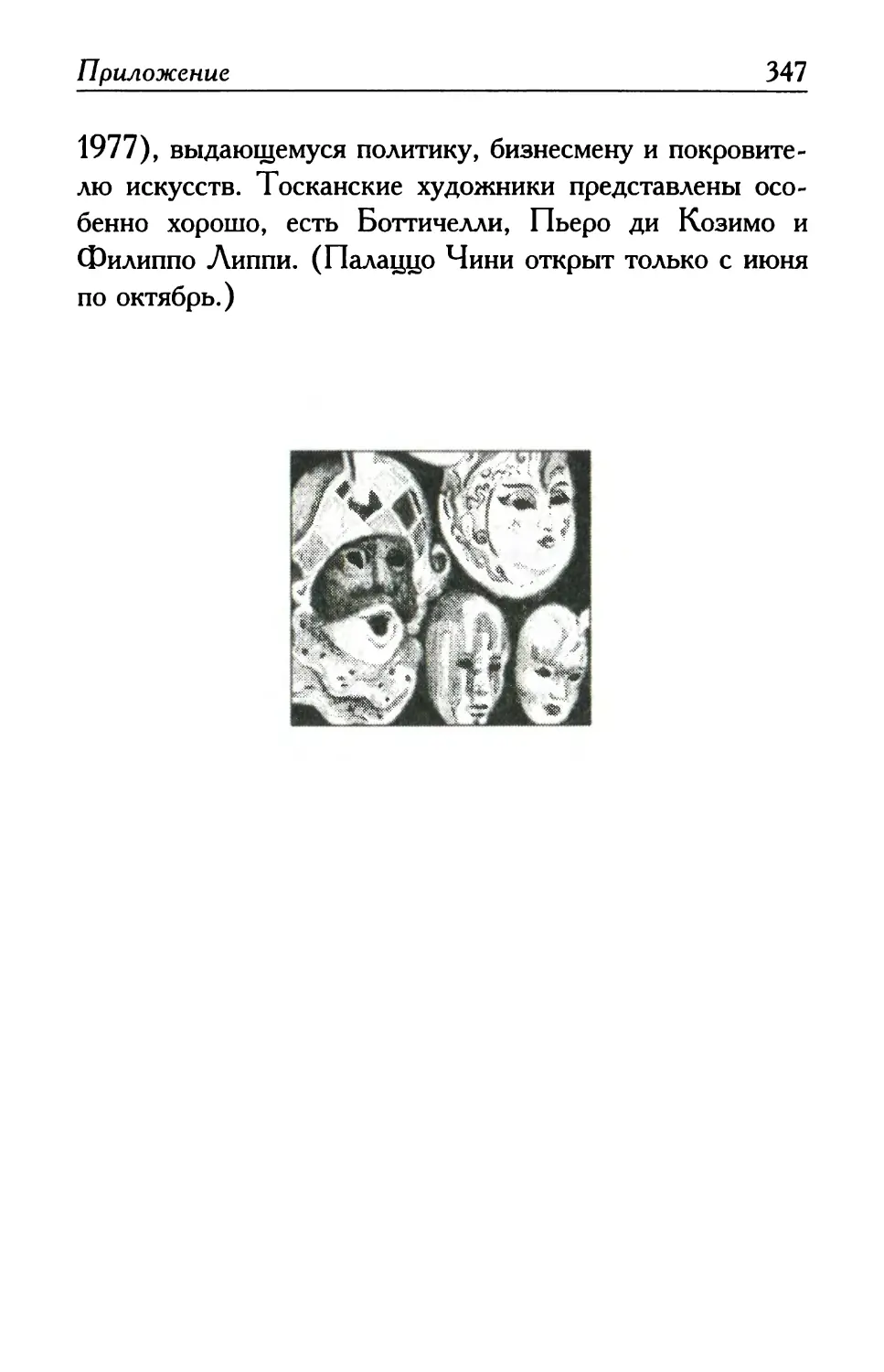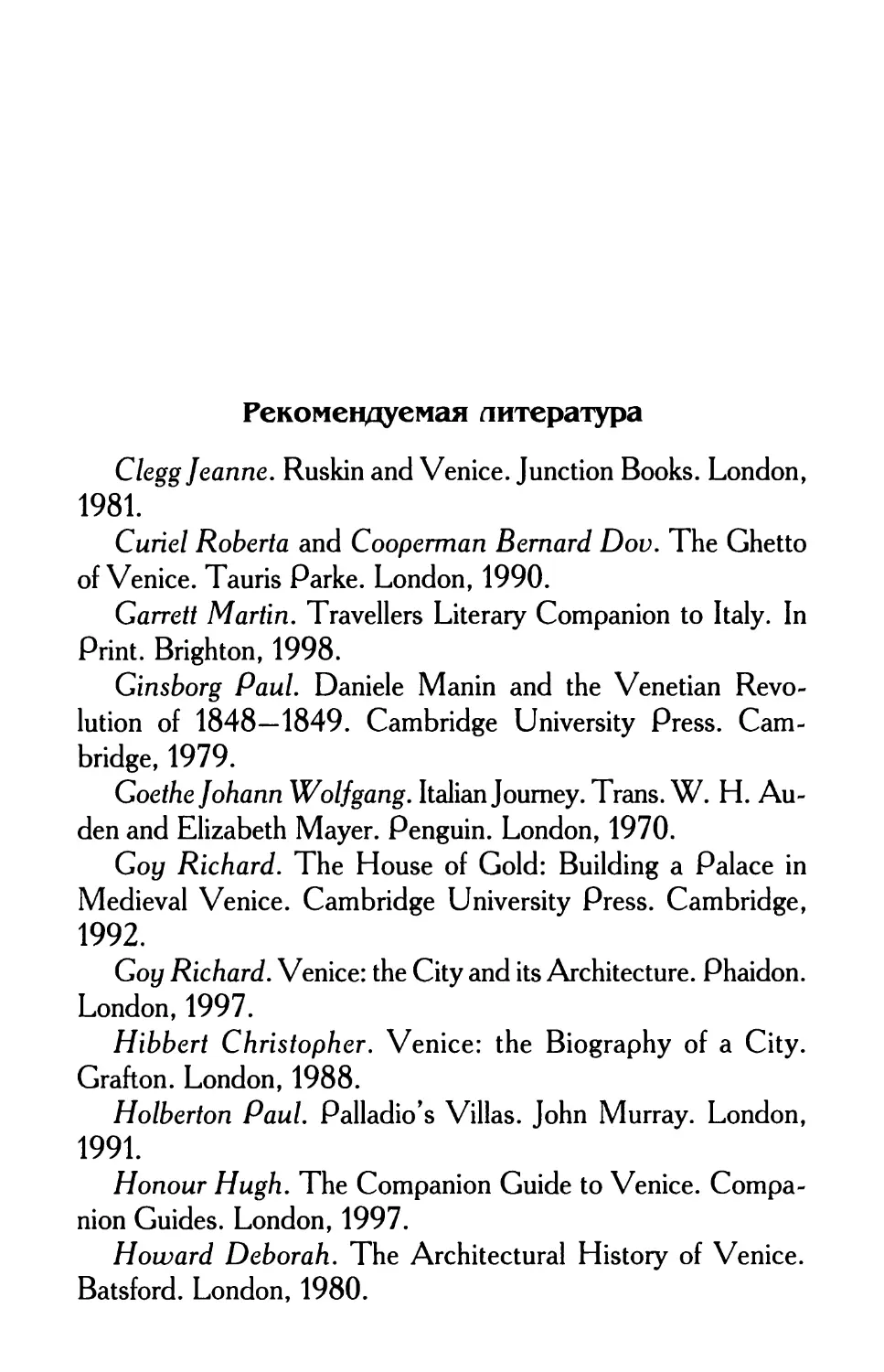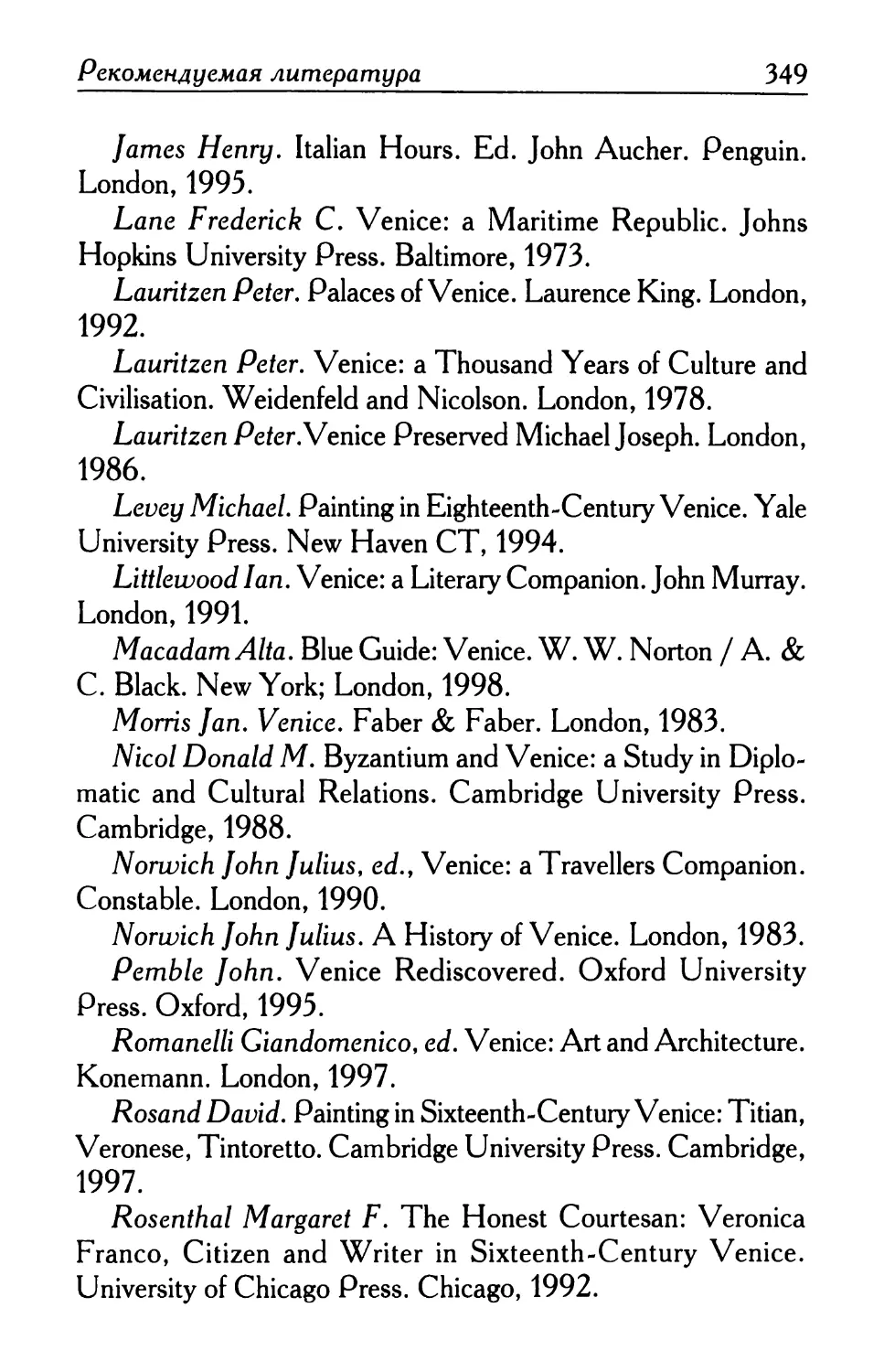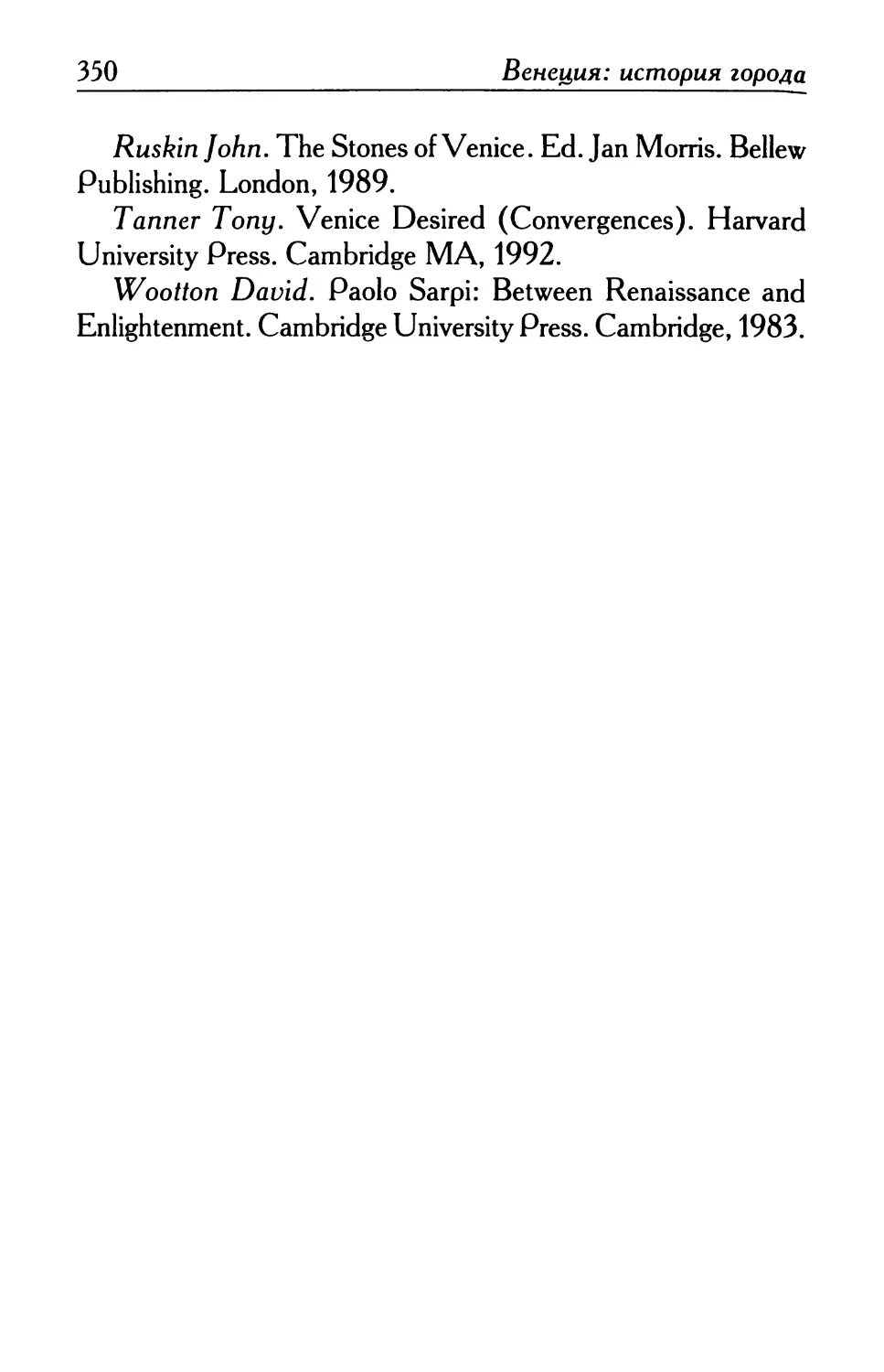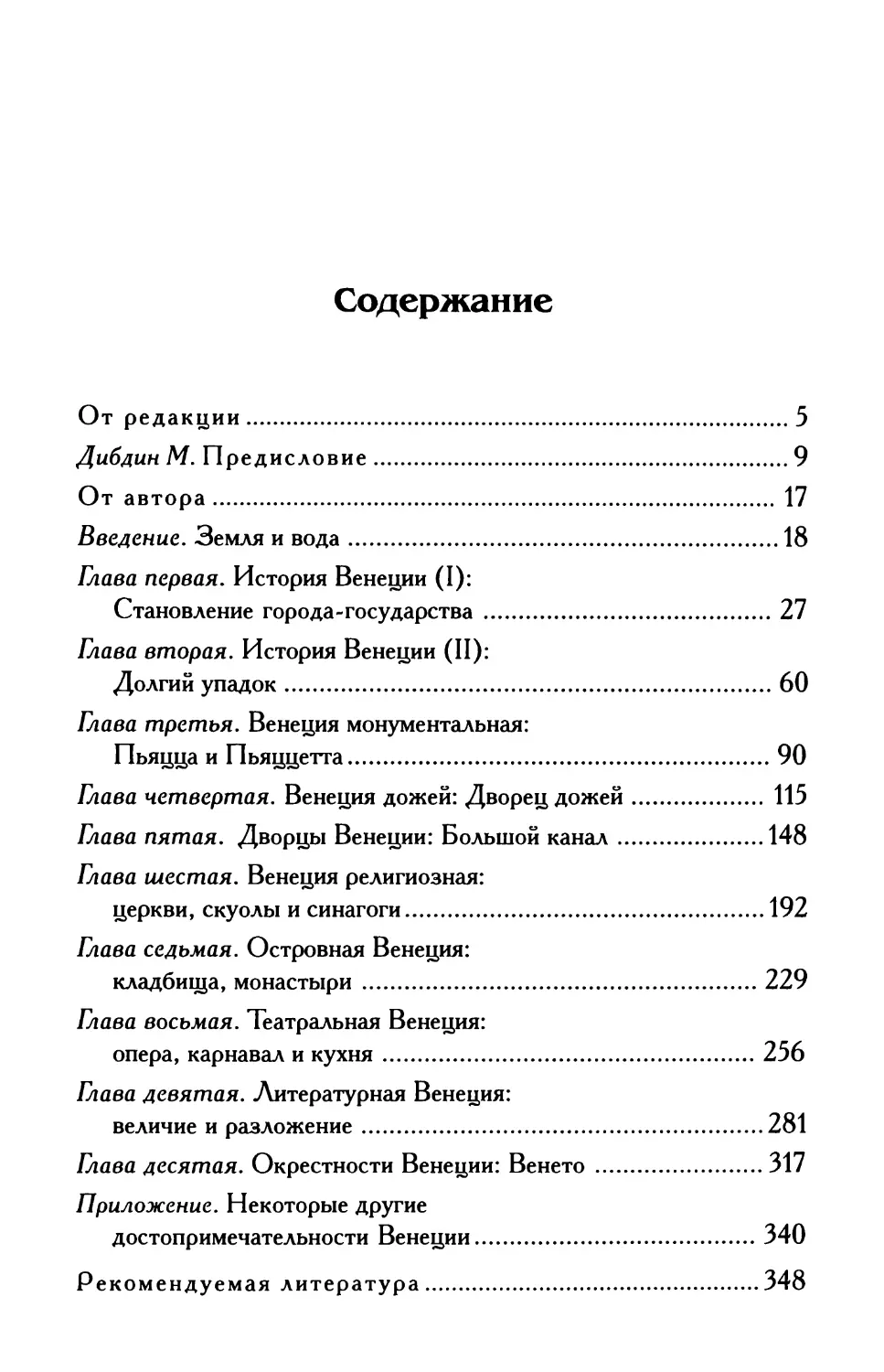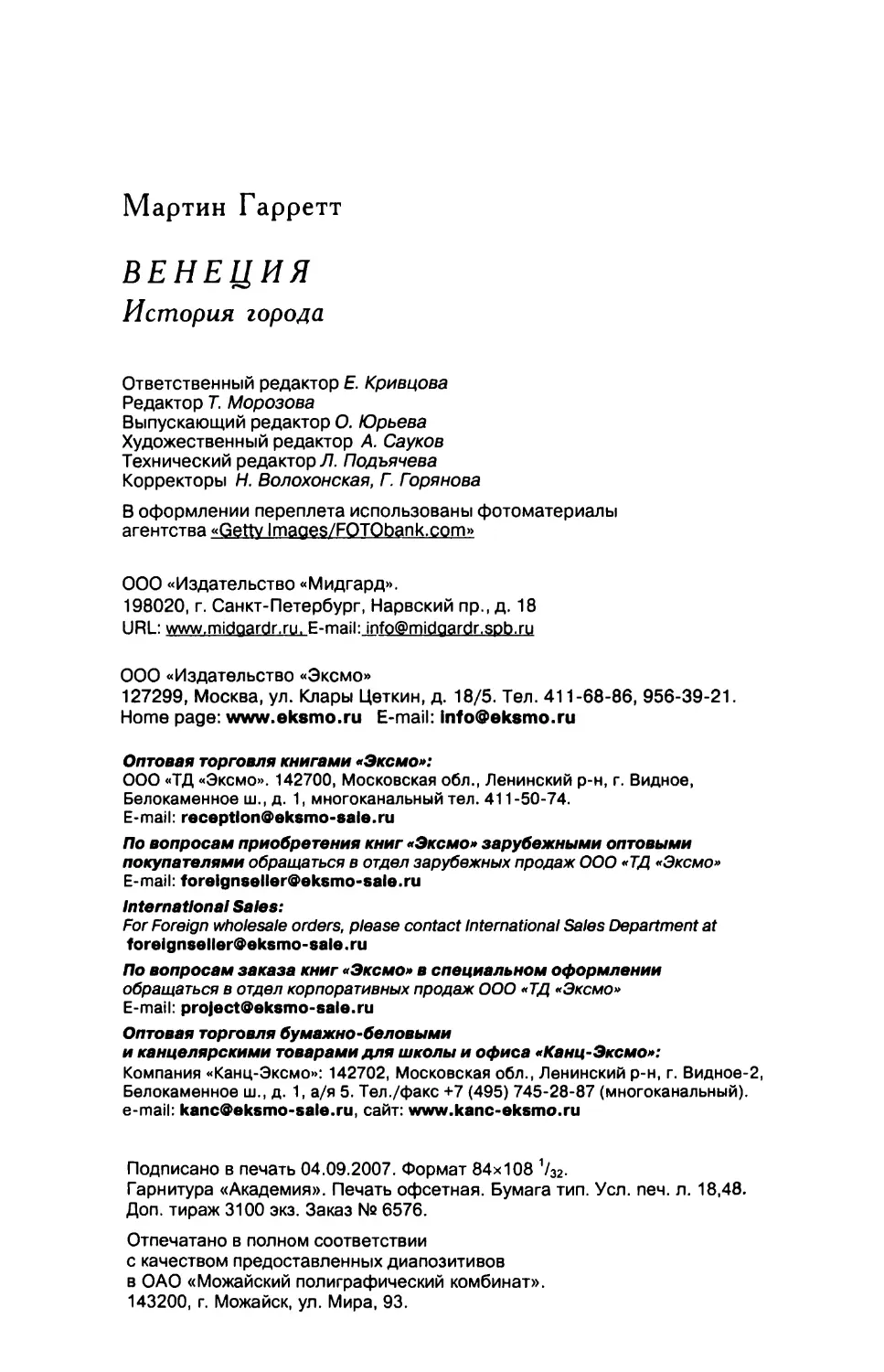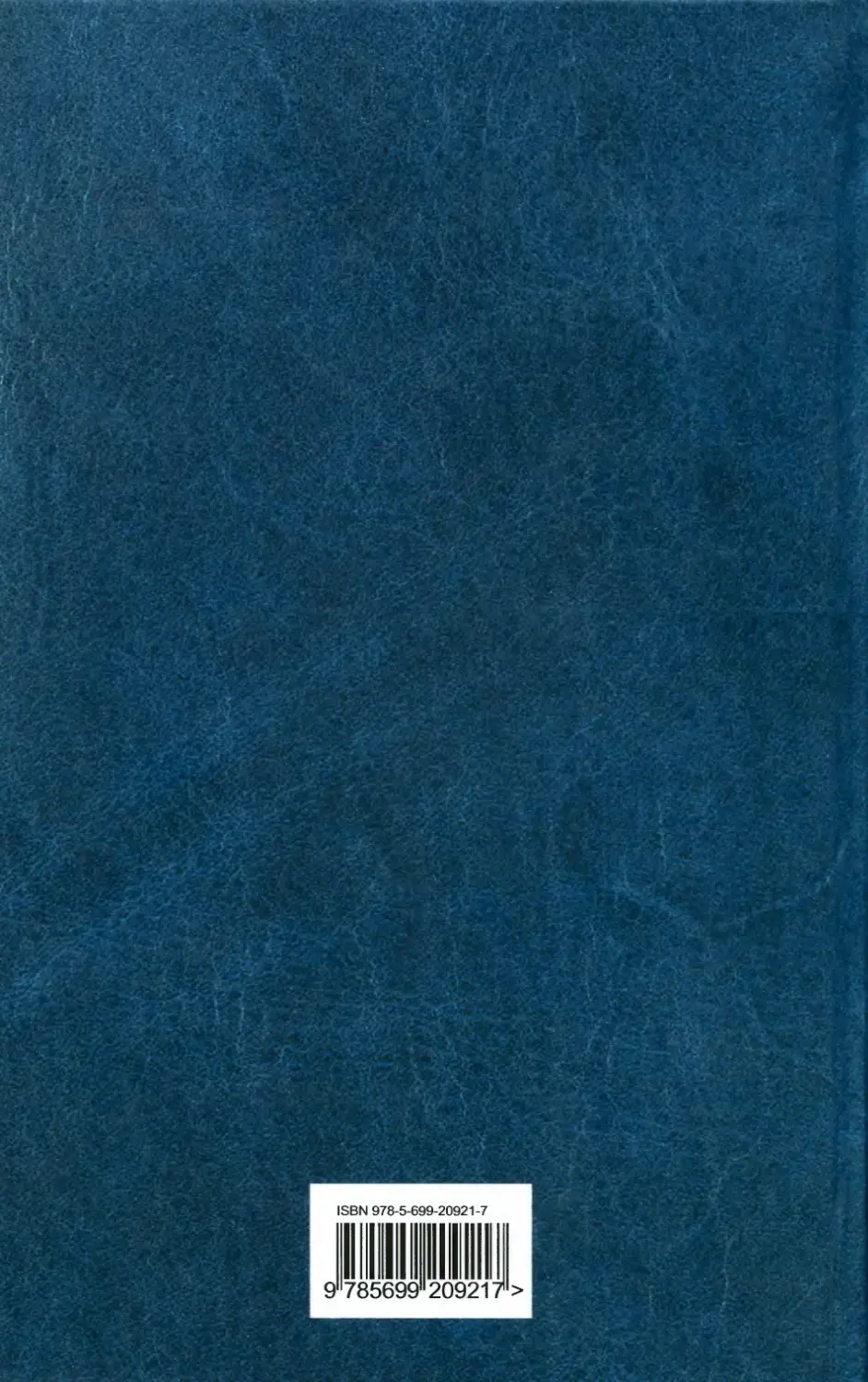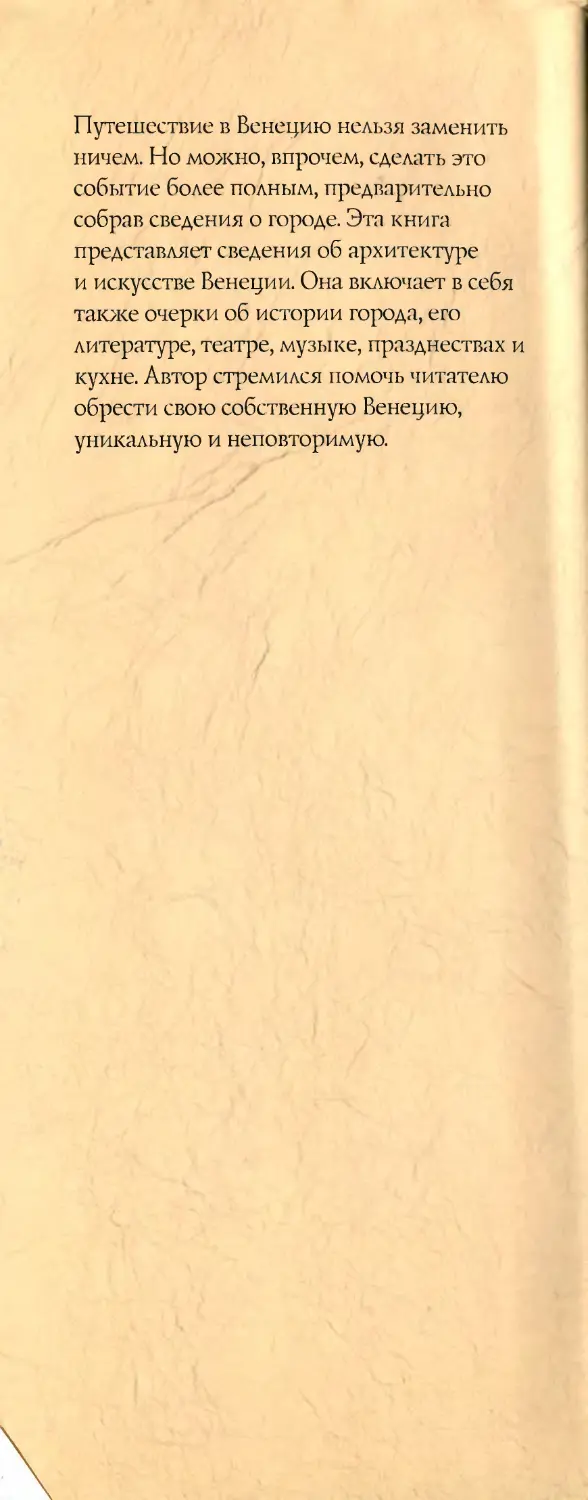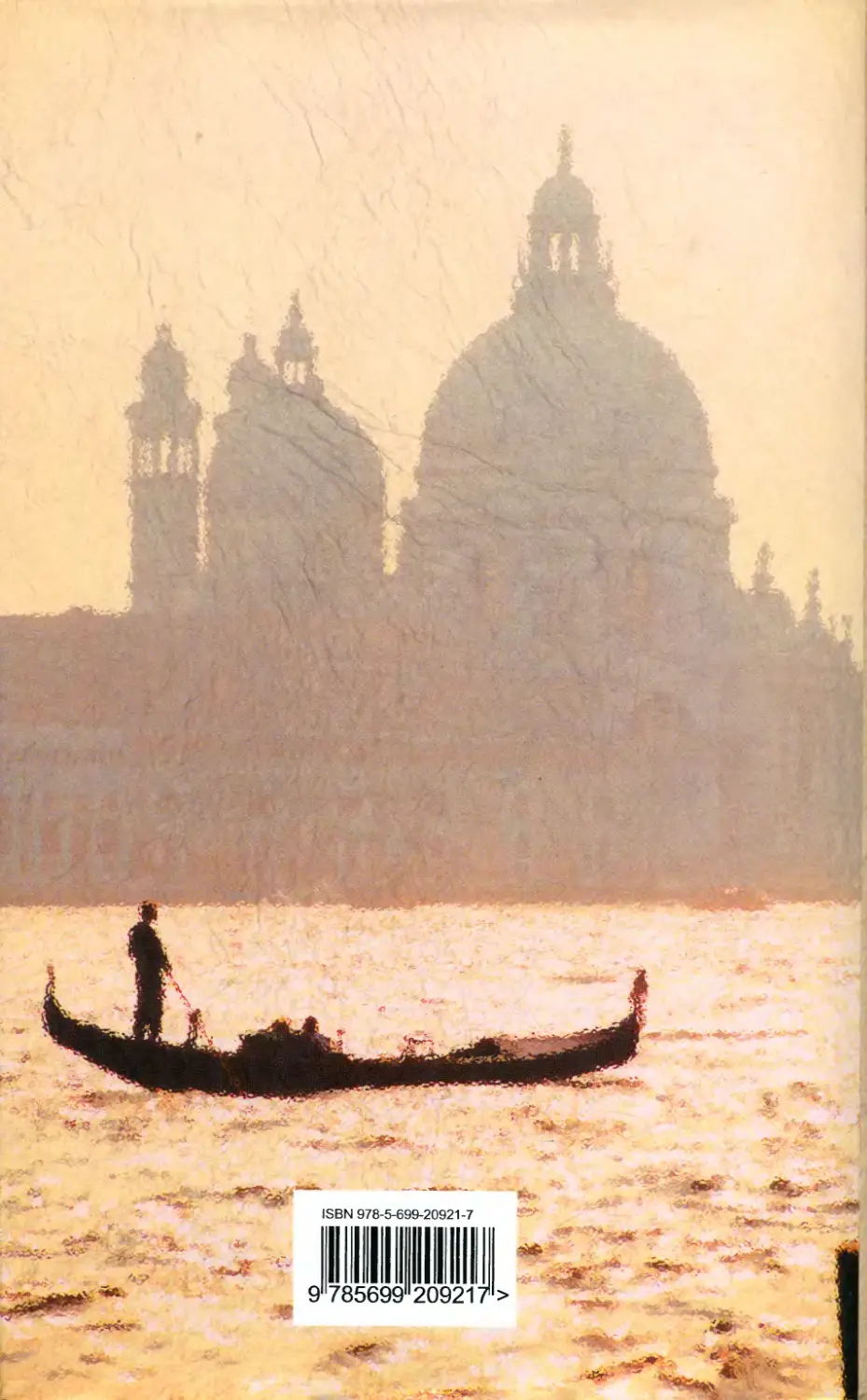Text
МАРТИН ГАРРЕТТ
ВЕНЕЦИЯ
ИСТОРИЯ ГОРОДА
Александр Герцен говорил, что «великолепнее
. нелепости, как Венеция, нет. Построить город там,
f где город построить нельзя, само по себе безумие;
но построить так один из изящнейших,
грандиознейших городов — гениальное безумие.
Вода, море, их блеск и мерцанье обязывают
к особой пышности. Моллюски отделывают
перламутром и жемчугом свои каюты...
Каждый шаг торжественного шествия морской
красавицы должен быть записан потомству
кистью и резцом».
БИОГРАФИИ
ВЕЛИКИХ ГОРОДОВ
МАРТИН ГАРРЕТТ
ВЕНЕЦИЯ
ИСТОРИЯ ГОРОДА
Эксмо
Москва
МИДГАРД
Санкт-Петербург
2007
УДК 94(4)
ББК 63.3(4-Венеция)
В 29
Martin Garrett
VENECE: ACULTURAL AND LITERARY COMPANION
© Martin Garrett, 2001
Foreword © Michael Dibdin, 2001
© Andrew Esson, illustrations, 2001
© Nicki Averill, illustrations, 2001
Перевод с английского П. Щербатюк
Оформление серии А. Саукова
Гарретт М.
В 29 Венеция: История города/ Мартин Гарретт; [пер. с англ.]. —
М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2007. — 352 с.: ил. — (Бисирафии
великих городов).
ISBN 978-5-699-20921-7 (Эксмо)
ISBN 5-91016-005-2 (Мидгард)
Венеция — имя, ставшее символом изысканной красоты, интригую-
щих тайн и сказочного волшебства. Много написано о ней, но каждый
сам открывает для себя Венецию заново. Город, опрокинутый в отраже-
ние каналов, дворцы, оживающие в бликах солнечных лучей и воды, —
кажется, будто само время струится меж стен домов, помнящих славное
прошлое свободолюбивой Венецианской республики, имена тех, кто жил,
любил и творил в этом городе.
Как прав был Томас Манн, воскликнувший: «Венеция! Что за го-
род! Город неотразимого очарования для человека образованного — в
силу своей истории, да и нынешней прелести тоже!»
Приятных прогулок по городу дожей и гондольеров, романтиков и
влюбленных, Казановы и Бродского!
УДК 94(4)
ББК 63.3(4-Венеция)
ISBN 978-5-699-20921-7
ISBN 5-91016-005-2
© П. Щербатюк, перевод, 2007
© ООО «Издательство «Мидгард»,
издание на русском языке, 2007
© ООО «Издательство «Эксмо», оформление, 2007
От редакции
Есть просто города, то есть крупные населенные пункты,
и есть города особенные — города-метрополии (бывшие
столицы империй, ничуть не утратившие по сей день своего
имперского лоска — Париж, Лондон, Москва) и города-
музеи (где каждый камень дышит историей — Рим, Фло-
ренция, Афины), города-колоссы (Нью-Йорк, Токио,
Дели) и города-реликты (словно навсегда застывшие в про-
шлом разной степени отдаленности — Вена и Прага, Веро-
на и Таллинн). А еще — есть уникальный город, город на
стыке суши и моря, равно принадлежащий обеим, город-
эмблема и город-символ, город-фантазия и город-сказка; имя
этому городу — Венеция.
Пожалуй, емче многих других, писавших о Венеции в
стихах и в прозе, сказал об этом городе Александр Галич:
Вереницей похожие
Мимо нас города,
Но Венеция дожей —
Это все-таки да!
«Королева Адриатики», как ее часто называют, — го-
род двуликий, тщательно скрывающий свое истинное лицо
под маской повседневности. Этот город открывается взгля-
ду далеко не сразу. Чтобы приподнять его маску, лучше всего
6
От редакции
отправиться из береговой Венеции на катере по Большому
каналу; эта прогулка вдоль роскошных дворцовых фасадов
и византийских мозаик, под сводами Риальто и пролетами
других мостов хотя бы немного подготовит взгляд к тому
великолепию, которое ожидает сразу за пристанью в Лагу-
не, — просторной площади Сан-Марко с ее монументаль-
ной колокольней, почти ручными голубями, бесчисленными
магазинчиками и кафе по периметру (и среди них — знаме-
нитый «Флориан» с официантами в белых смокингах и не-
пременным роялем). Эта площадь распахивается перед гла-
зами, словно окно, а за спиной возвышаются величавый
Дворец дожей и совершенно невероятный, воздушный, будто
готовый взмыть в небеса собор Святого Марка...
Как заметил один путешественник, «Венеции легко про-
стить ее вечное самолюбование. Не важно, сколько раз мы
видели ее в кино или на картинках — реальная Венеция ока-
жется более сказочной и сюрреалистичной, чем допускало
самое смелое воображение. Все путеводители мира не спо-
собны передать экзотической красоты этого города, кото-
рый словно сошел с полотен Каналетто». Александр Герцен
говорил, что «великолепнее нелепости, как Венеция, нет.
Построить город там, где город построить нельзя, само по
себе безумие; но построить так один из изящнейших, гран-
диознейших городов — гениальное безумие. Вода, море, их
блеск и мерцанье обязывают к особой пышности. Моллюс-
ки отделывают перламутром и жемчугом свои каюты... Каж-
дый шаг торжественного шествия морской красавицы дол-
жен быть записан потомству кистью и резцом». А Томас
Манн прибавлял: «Венеция! Что за город! Город неотрази-
мого очарования для человека образованного — в силу сво-
ей истории, да и нынешней прелести тоже!»
Приятных прогулок по городу дожей и гондольеров, ро-
мантиков и влюбленных, Казановы и Бродского!
Мартин Гарретт
ВЕНЕЦИЯ:
история города
Предисловие
«Само ее имя я пишу с огромным удовольствием, —
писал Генри Джеймс о Венеции, — но не уверен, что не
было бы определенной дерзостью с моей стороны утверж-
дать, будто я могу к нему что-то добавить». Даже если не
принимать в расчет двойное отрицание, то уже подобного
предостережения от излишней бойкости пера из уст авто-
ра, известного своей сдержанностью, достаточно, чтобы
заставить задуматься любого журналиста, эссеиста или, как
в нашем случае, автора предисловия.
Так можно ли к этому имени что-нибудь добавить? «Ве-
нецию изображали и описывали тысячи раз, — продолжа-
ет Джеймс, — и из всех городов мира именно ее проще
всего посетить, не выходя из комнаты». Впервые это заме-
чание появилось на страницах журнала «Century Magazine»
почти сто двадцать лет назад, в ноябре 1882 года. И если
уже тогда оно было вполне справедливо, насколько же верно
сейчас!
Действительно, «изображали и описывали» Венецию
немало. В работах бесчисленных авторов — от акварели-
стов-любителей до мастеров, которых Джеймс величает не
иначе как «тот самый Тинторетто и тот самый Веронезе»,
запечатлены ее виды; ей посвящено огромное количество
литературных произведений, написанных в самых разных
жанрах — от «странной, запоздалой прозы» Рескина до
10
Майкл Дибдин
наблюдений «сентиментального путешественника» Джейм-
са, и многим до сих пор сложно представить себе иные вза-
имоотношения с Венецией за пределами круга, очерченно-
го этими двумя понятиями. Но мне кажется, кое-что доба-
вить все-таки можно, даже в наши дни: как минимум —
плейер и пару наушников.
За тридцать лет до эссе Генри Джеймса Роберт Брау-
нинг написал стихотворение «Токката Галуппи». «Бедный
Браунинг», — назвал его Бернард Шоу из-за тех злосчаст-
ных строк, где поэт сравнивает Россини и Верди и соверша-
ет все мыслимые и немыслимые ошибки, начиная от имени
композитора и заканчивая несуществующей токкатой (Га-
луппи писал сонаты для клавишных, но это прозвучало бы
слишком современно), ради идеи создать образ старомод-
ного чудака, на которого безразлично и свысока поглядыва-
ют веселые и юные современники. Стоит напомнить, что
Галуппи был родом с острова Бурано, знаменитого своими
кружевами; его, несомненно, можно назвать одним из са-
мых популярных и успешных музыкантов XVIII столетия,
слава о нем как о пианисте-виртуозе разнеслась по всему
миру — в частности, Екатерина Великая пригласила его дать
несколько концертов в России.
Тем не менее поразительно, что Браунинг вообще что-
то знал о Галуппи. Поэт был большой любитель блошиных
рынков, возможно, именно там ему и довелось набрести на
партитуры произведений этого композитора, как раз в пе-
риод создания сборника, позже получившего название
«Кольцо и книга». Маловероятно, чтобы ему когда-либо
доводилось слышать музыку Галуппи вживую, и тем бо-
лее — музыку более ранних венецианских композиторов.
И хотя мы не сможем посетить ту Венецию, какой ее знали
Джеймс, или Рескин, или Браунинг, у нас все-таки есть
ключ, способный открыть дверь в мир прошлого и позво-
лить почувствовать, каково было жить в этом городе во
Предисловие
И
времена его расцвета. И этот ключ — музыка, которая при
жизни упомянутых литераторов уже не только не исполня-
лась, но практически и не могла быть исполнена.
Стоит еще раз подчеркнуть, что подобная счастливая
возможность появилась у нас совсем недавно. Помню, как
годах в 1960-х мне довелось присутствовать на концерте,
где играли «Псалмы вечерни» Монтеверди, написанные в
1610 году, и не по себе становилось, наблюдая мучитель-
ные усилия корнетистов совладать с руладами в « Магни-
фикат». В тот же период сонаты Джованни Габриели если
и исполняли, то только как нелепо переложенные для со-
временного духового оркестра. Теперь же произведения
обоих композиторов вошли в репертуары концертов ста-
ринной музыки благодаря новому поколению музыкантов-
виртуозов, которые могут сыграть что угодно — не важ-
но, написано ли это для корнета, цитры, дульчиана или
любого другого столь же причудливого, сколь и восхити-
тельного инструмента оркестра эпохи Возрождения. Эти
виртуозы аккомпанируют преданным своему делу певцам,
в совершенстве овладевшим старинной техникой пения, не-
обходимой для того, чтобы успешно услаждать слух музы-
коведов, раскопавших в библиотеках Европы «утраченные»
шедевры для современных исполнителей.
Здесь не место распространяться о невообразимом бо-
гатстве стилей венецианской музыки, поскольку существует
немало специальных работ на эту тему. Я же хочу дать один
практический совет. Перед тем как отправляться в путь, про-
слушайте записи старинной музыки и составьте для себя пару
подборок. Даже если вы и не имели счастья получить при-
глашение на концерт в каком-нибудь палаццо, я предложил
бы вам отдать предпочтение вокальным композициям и ду-
ховной музыке. (Большая часть светской музыки — сонат,
концертов и соло-кантат — исполнялась в частных домах.)
Публичные представления обычно устраивались либо в ску-
12
Майкл Дибдин
оле одного из городских братств, либо в базилике Сан-Мар-
ко — которая, и об этом не стоит забывать, с церковной
точки зрения была не более чем личной часовней дожа, в
точности как те часовни, что можно видеть во многих поме-
стьях в Англии. (И наоборот, собор Сан-Пьетро ди Кас-
телло, унылую пустынную громадину, очаровательную, как
железнодорожный вокзал в викторианском стиле на какой-
нибудь заброшенной ветке, возвели в безлюдном уголке на
промышленных окраинах города — недвусмысленный от-
вет Венеции на претензии папы и Рима. Одно время суще-
ствовала даже вполне объективная вероятность, что Вене-
цианская республика встанет на сторону протестантов в про-
должительной религиозной холодной войне.)
Подобную «публичную» музыку лучше воспринимаешь,
сознавая отчетливо звучащие в ней явный вызов и откро-
венную демонстрацию мощи, богатства и великолепия La Se-
renissima (Светлейшей) и то, что религиозный текст, да и
сам Господь, служили не более чем предлогом для ее со-
здания. Послушайте композиции, записанные ансамблем
«Габриели-консорт» под руководством Пола Маккри-
ша, — и перед вами предстанет республика в зените ее сла-
вы, в то время как в записях духовной музыки Вивальди в
исполнении «Кингз Консорт» и Роберта Кинга уже слыш-
на нежность декаданса. Обязательно обратите внимание
на мрачные, торжественные интонации Габриели и извеч-
ное журчанье воды, присутствующее во всех произведени-
ях Вивальди, особенно заметное в медленных частях: оно
служит непрестанным остинато, напоминающем о набе-
гающих на берег волнах лагуны.
Записав избранные отрывки, вам следует перейти на
ночной образ жизни. Едва стемнеет, выходите из гостини-
цы, включайте музыку, сворачивайте на втором перекрест-
ке направо, затем третий поворот налево — и позвольте
себе заблудиться. Венеция — один из самых безопасных
Предисловие 13
городов мира, и рано или поздно вы наткнетесь на какой-
нибудь ночной вапоретти, которые курсируют круглые сут-
ки. Взойдите на борт, посмотрите на город с воды, а потом
постарайтесь пешком отыскать дорогу обратно. Вы в бук-
вальном смысле слова останетесь с городом один на один —
самая большая роскошь, которую он может вам предло-
жить, — и если звуки, услаждающие ваш слух, не настро-
ят вас на близкое и эмоциональное общение с призраками
браунинговских «милых усопших» женщин и мужчин, мне
остается вас только пожалеть.
Но было бы проявлением дурного вкуса увенчать эту про-
гулку размеренными звуками Пятой симфонии Малера на
том лишь основании, что Висконти использовал ее в своем
фильме по новелле Томаса Манна, действие которой проис-
ходит в Венеции. Малер писал «Адажиетто» как песнь о
любви для своей жены Альмы, и его вовсе не следует испол-
нять в похоронном ритме, да и не имеет оно ничего общего
ни со смертью, ни с нашим волшебным городом. Я бы пред-
ложил вам послушать музыку из первого действия балета
Стравинского «Орфей», с его эллиптическими аллюзиями
на струнные остинато Вивальди, где возгласы деревянных и
медных духовых — будто появление призрака Габриели, а
финальная незаконченная прогрессия буквально нашепты-
вает нам «И что теперь?..». Краткое, проникновенное и не-
завершенное — это идеальное музыкальное «прощай» го-
роду, любимому композитором больше остальных. Он по-
хоронен на острове-кладбище Сан-Микеле, тихом приста-
нище, где в часы, когда город наводнен туристами, стоит
укрыться, погрузившись в чтение превосходного путеводи-
теля Мартина Гаррета и, может быть, еще «Незримых го-
родов» Итало Кальвино — нечто вроде бедекеровского спут-
ника путешественника по Венеции нашей мечты. Скоро на-
ступит ночь, и незримый город вновь обретет плоть.
Майкл Дибдин
Арсен:
^4
гавань i
:Рйва;:Лсл;?^.
Скьявони.
Остров<>**
Святого:.:*’.
Петра^ЛЦ
[Остров
JСвятой
| Елены-*
><**
Сая-
Микеле
1. Базилика Сан-Марко
2. Дворец дожей
3. Церковь Санта-Мария делла Салюте
4. Церковь Иль Реденторе
5. Церковь Сан-Джорджо Маджоре
6. Собор Сан-Пьетро ди Кастелло
7. Церковь Санти-Джованни-э-Паоло
(Дзаниполо)
8. Церковь Санта-Мария деи Мираколи
9. Галерея Академии
10. Ка’ Реццонико
И. Ка’ Фоскари
12. Церковь Фрари
13. Скуола Гранде ди Сан-Рокко
14. Мост Риальто
15. Ка’ д'Оро
16. Гетто
17. Церковь Мадонна делль Орто
11....-.
ТЕР ТВ А > ч
От автора
Путешествие в Венецию нельзя заменить ничем. Но
можно, впрочем, сделать это событие более полным, пред-
варительно собрав сведения о городе. Небесполезно про-
читать целиком длинную историю Венецианской респуб-
лики. Если же вам хочется чего-то более поэтичного, вы
могли бы, скажем, побродить по Венеции Генри Джеймса,
пока она не станет частью вашей собственной Венеции.
Приезжая во второй раз, а потом в каждый последующий,
вы заметите, что общее впечатление всякий раз будет впи-
тывать в себя воспоминания, прочитанные книги и послед-
нююновую, удивительную встречу с городом. Сознательно
или нет, мы сравниваем Венецию средневековых хронис-
тов, Рескина, Иена Макьюена — или Карпаччо или Ка-
налетто — с нашей собственной; мы следуем некоторыми
из их маршрутов, повторяем их слова и интонации.
Эта книга представляет сведения об архитектуре и ис-
кусстве Венеции. Она включает в себя также очерки об
истории города, его литературе, музыке, театре, праздне-
ствах и кухне. Автор стремился помочь читателю обрести
свою собственную Венецию, уникальную и неповторимую.
Мне хотелось бы поблагодарить Джона Эдмондсона за
интерес и добрые слова, Джеймса Фергюсона за весьма
полезные предложения и замечания, а также Элен, Фи-
липпа и Эдмунда за поддержку.
Мартин Гарретт
Введение
Земля и вода
Путеводители зачастую настойчиво убеждают путеше-
ственников в том, что в Венеции можно куда угодно доб-
раться на лодке. Лирический герой стихотворения Робер-
та Браунинга «Токката Галуппи» считает, что «море там
вместо улиц», но ему-то как раз такое заслуживающее по-
рицания преувеличение простительно, ведь он «никогда не
покидал Англии». На самом деле здесь не только суще-
ствуют улицы в привычном смысле этого слова, но их еще
можно разделить на несколько типов: узкие — calle; rio
leva, которые получаются, когда засыпают землей неболь-
шие каналы (по); или крытые — sottoportego, более широ-
кие — salizada (так в Средние века изначально называли
первые мощеные улицы), протянувшиеся вдоль каналов
fondamenta и, наконец, riva — пристани. Кроме того, есть
еще, например, и построенная в XIX веке длинная Страда
Нова, начинающаяся у вокзала и тянущаяся до самого мо-
ста Риальто, или широкая виа Гарибальди в восточной Ве-
неции (в прошлом тоже канал) с ее бесчисленными ба-
рами, ресторанами, магазинами и прилавками прямо на ули-
це, где по утрам торгуют фруктами.
Введение
19
Расположенные поблизости от виа Гарибальди Обще-
ственные сады еще больше удивили бы браунинговского
рассказчика. Вместе с другими островками зелени в пра-
вой части города сады образуют настоящий лес, который
вы непременно заметите, подплывая на лодке со стороны
Лидо. Некогда здесь располагался зверинец, куда и сам
Браунинг, знавший Венецию несколько лучше персонажа
своей «Токатты», регулярно наведывался, чтобы исполнить
ритуал, выдававший в нем истинного англичанина. Его под-
руга Кэтрин де Кей Бронсон вспоминала пожилого поэта
и его сестру Сарьянну.
Они неизменно приносили с собой много печенья и
фруктов для плененного слона, о чьей одинокой участи
поэт, страстный любитель животных, нередко упоминал
с состраданием. Огромный бабуин, заключенный во
флигеле, когда-то служившем теплицей, тоже стал пред-
метом его интереса. К счастью, этот зверь никакого со-
чувствия не пробуждал, так как выглядел здоровым и
довольным судьбой, и одинаково радовался как самим
посетителям, так и ежедневно приносимым ему лаком-
ствам. Пожелав доброго утра и приятного аппетита этим
двум животным, поэт мимоходом приветствовал двух
прекрасных газелей, затем удостаивал беглым взглядом
пеликанов, страусов и удивительных изящных кенгуру.
Удивительных изящных кенгуру давно нет и в помине,
остались только овеянные тишиной деревья и зеленая тра-
ва, и даже сейчас случается, что здесь царит тот же покой
и умиротворение, что и во времена Жорж Санд, которая
бродила здесь когда-то, встречая на своем пути лишь «не-
скольких старых ворчунов, глупых курильщиков да желч-
ных меланхоликов». Элегантные венецианские леди, отме-
20
Венеция: история города
чала писательница, слишком боялись жары — или холо-
да — а «культурные мужчины предпочитают места, где они
могли бы встретить представительниц прекрасного пола:
театр, conversazioni1, кафе и затененную Пьяццетту в семь
часов вечера».
В Венеции есть не только улицы и сады (очень немно-
го), но и площади: маленькие — corti, небольшие — cam-
pielli, и campi — побольше. Иногда на кампо людно, до-
вольно часто там можно найти одно-два кафе, антиквар-
ный магазин (кампо Бандьера-э-Моро), аптеку (кампо
Сан-Стин); многие из них окутаны тишиной и безлюдны,
как и большая часть Венеции, раскинувшаяся в стороне от
основных достопримечательностей. Соседи встречаются
здесь вдвоем или втроем посидеть, поговорить, да изредка
мимо проедет ребенок на велосипеде. Только пьяцца Сан-
Марко настолько велика, что достойна гордого звания
«пьяцца» (площадь), но даже здесь — где еще, кроме Ве-
неции, встретишь такое в наши дни? — звучат лишь люд-
ские голоса. (Есть еще Пьяццетта — пространство между
Сан-Марко и берегом. Она находится слева от пьяццы
Сан-Марко и называется пьяццетта Джованни XXIII —
в честь папы-реформатора, который до избрания был ве-
нецианским патриархом, — но из-за украшающих ее львов
из красного мрамора ее чаще называют пьяццетта деи Ле-
ончини.) И конечно, важной составляющей города являет-
ся множество мостов, соединяющих многочисленные ост-
ровки, из которых и состоит Венеция. Именно с них от-
крываются великолепные виды на узкие каналы и выстро-
ившиеся вдоль берегов дома, лодки, до краев груженные
фруктами, напитками, бакалейными товарами и строитель-
ными материалами. Приезжие непременно заблудятся, если
1 Вечер, устраиваемый научным или литературным обществом (ит.).
Введение
21
им не хватает умения или воображения, чтобы ориентиро-
ваться по карте (спасти их может лишь врожденный ин-
стинкт направления, присущий кошкам и перелетным пти-
цам), и обнаружат, что нет никакой возможности отыскать
заманчивые ресторанчики, мимо которых они проходили
буквально несколькими минутами раньше, но зато улицы и
переулки, пройденные уже час назад, вдруг снова возника-
ют за ближайшим поворотом. А заботливо развешенные
по городу указатели на Сан-Марко, Риальто, вокзал и пьяц-
цале Рома только помогут путнику убедиться, что он идет
в совершенно неверном направлении. Чтобы взбодрить-
ся — особенно если хотите как можно скорее увидеть цер-
ковь Джезуати (Санта-Мария дель Розарио), пройдите
вдоль по рио Тера Фоскарини ди Сантаньезе, мимо гале-
рей Академии, и вскоре, к вашему полнейшему изумлению,
она выведет вас прямиком к набережной Дзаттере.
Некоторым лучше других удается следовать инструкци-
ям вроде «сверните налево после Понте деи Пердути, прой-
дите вдоль калле, затем направо — на второй мост через
рио, сверните еще раз направо и идите в сторону Сант-Ан-
тонио». Но во избежание непредвиденных обстоятельств
некоторые предусмотрительные викторианские путеводите-
ли советуют отправляющемуся на пешую прогулку воору-
житься компасом. Впрочем, сами венецианцы охотно под-
скажут вам дорогу, ведь они знают то, о чем не подозревает
ослепленный красотой извилистых улочек и успевший нате-
реть мозоли турист, — что сам город совсем невелик. И па-
мятуя о его скромных размерах, очень даже стоит позволить
себе заблудиться, чтобы набрести в результате на церковь,
которую вы вовсе и не искали. Полезно будет также вос-
пользоваться наставлением Огастеса Хэйра, автора много-
численных путеводителей конца XIX — начала XX века.
В главе «Что делать?» он советует: «Сложно придумать
22
Венеция: история города
более увлекательное занятие в свободное время, чем сидеть
в тени на кремовом мраморном парапете набережной и рас-
сматривать какой-нибудь из знаменитых каналов». Но даже
и не самые именитые каналы вполне подойдут для этой цели.
В 1850-х французский писатель Теофиль Готье находил нео-
бычайно поэтичными узкие и непрезентабельные каналы, где
вдоль берегов выстроились полуразрушенные дома, а мед-
ленно текущая вода несет картофельные очистки и солому
из старых матрасов.
Путешествие на лодке — если, конечно, ее не сопровож-
дают слишком большие косяки этих самых очистков — тоже
стоит того, чтобы его рекомендовать. Когда-то гондола была
отличительной чертой венецианской жизни. В XVII столе-
тии Джон Ивлин назвал ее в своих дневниках «водной ка-
ретой», почти такой же естественной и привычной, как лод-
ки, бороздившие в те времена воды Темзы. Такие «каре-
ты» украшают во множестве самые разные изображения
Венеции, от полотен Карпаччо XV века, до регат и видов
на каналы кисти Каналетто. (Крытые каюты, или felze, про-
существовали до XIX века, и только тогда, похоже, на-
всегда вышли из моды.) Мир, окружавший Венецию, ста-
новился все более технически развитым, и гондола посте-
пенно превратилась в нечто экзотическое. Тернер изобра-
жал то, что Джон Рескин описывал как «лазурные,
бездонные глубины хрустальной тайны, по которой сколь-
зит, двоясь, гордо изогнутая гондола... ее алые драпировки
сверкают на фоне пламенеющей глади, а изогнутое весло
разбивает сияющую воду, поднимая в воздух облако золо-
той пыли». Лорд Байрон намекает в «Беппо» (1818) на то,
что гондолы используются и для других целей: хоть вид у
них и похоронный, и «мнится, лодка с гробом проплыва-
ет», но стоит вам оказаться под ее пологом, и «кто в нем,
что в нем — кто ведает, кто знает?»
Введение
23
То под Риальто пролетят стрелой,
То отразятся в медленном канале,
То ждут разъезда сумрачной толпой,
И часто смех под обликом печали,
Как в тех каретах скорбных, утаен,
В которых гости едут с похорон1.
Переправляясь на гондоле через канал и оставляя ее око-
ло палаццо напротив, богачи, аристократы и иностранцы
навещали друг друга. Они ступали на берег, в мехах и жем-
чугах, чтобы украсить своим присутствием театральное
представление, а «бесшумный рой», по выражению Бай-
рона, терпеливо ожидал их появления. Рескин, в свою оче-
редь, приводил гондольеров в ярость, поскольку мог за-
ставить свою лодку простоять несколько часов у причала
или вновь и вновь проплывать мимо одного и того же полу-
разрушенного дворца, чтобы в мельчайших деталях рас-
смотреть дверные проемы, лепнину или какой-нибудь ор-
наментальный щит.
Теперь гондола сменила и статус, и функции: обычно ее
нанимают только туристы, а для большинства прочих она
стала непозволительно дорога. Но, к счастью, не менее за-
нимательно путешествовать по городу на том виде транс-
порта, которым пользуется большинство, — на вапоретто,
быстром моторном речном трамвайчике, чей двигатель из-
начально приводил в движение пар — vapore. Единствен-
ным серьезным его недостатком является то, что шум мо-
тора, вспенивающий водную гладь винт и тянущийся за ним
белый пенистый гребень волн разрушают и поэтический
образ, и вполне реальное основание города. Но любой, кро-
ме разве что местных жителей, скорее всего, найдет неко-
1 Перевод В. Левика.
24
Венеция: история города
торое очарование в ожидании на остановке, которая пред-
ставляет собой будочку, покачивающуюся на волнах, и в
самой поездке — по крайней мере, при хорошей или снос-
ной погоде — в обдуваемом ветром трамвайчике, мимо
видов, во многом схожих с теми, что создавали Тернер и
Рескин. И так же, как и при пешей прогулке, совсем не-
трудно забыть о толпе и притвориться в глубине души, что
вы смешались с местными жителями. Для этого стоит толь-
ко удалиться ненадолго от приевшихся и банальных до-
стопримечательностей.
Хороший способ почувствовать формы и очертания го-
рода — воспользоваться одним из водных маршрутов во-
круг города (giracitta, или джирачитта), который широкой
петлей охватывает район города от Сан-Марко, вдоль ка-
нала Джудекка, мимо доков и огромных паромов, плыву-
щих в Грецию, к пьяццале Рома и вокзалу и ненадолго за-
глядывает на Большой канал. Дальше катер плывет по ка-
налу Каннареджо — по сторонам тянутся фасады богатых
и благородных домов (практично перемежающиеся продо-
вольственными магазинами), но вскоре архитектура ста-
новится более сдержанной, а затем канал впадает в север-
ную лагуну. Здесь лодке приходится преодолевать волне-
ние, продвигаясь вдоль длинного променада Фондамента
Нуове, — где даже летом довольно прохладно, — то и дело
останавливаясь у причалов, расположенных так, чтобы с
них легко можно было попасть в северную часть города —
в частности, в церкви Мадонна делль Орто, Санти-Джо-
ванни-э-Паоло и Джезуити. Колокольни этих и других
церквей задают силуэт Венеции; в другой стороне в ясную
погоду можно различить очертания материка — далекого
и так непохожего на этот островной город. И вот наконец
судно огибает крайнюю восточную точку Венеции и воз-
вращает нас к началу путешествия.
Введение
25
Отчасти поездка по джирачитта очаровывает именно
этой удивительной возможностью описать полный круг
вдоль границ города. Вы испытываете то же ощущение за-
вершенности, как если бы окинули одним взглядом всю
Венецию, разделенную пополам серебряной змеей Боль-
шого канала, рассматривая фотографию с воздуха или ста-
ринную карту. Иного рода переживания охватывают путе-
шественника, следующего вдоль самого Большого канала
вслед за бесчисленными поколениями восхищенных послов,
исполненных гордости горожан, изголодавшихся по насы-
щенным цветам северян и удивленных скептиков. Количе-
ство дворцов и других расположенных у воды достоприме-
чательностей невелико, но с каждой новой поездкой оно
как будто бы увеличивается. Другими словами, по сторо-
нам канала много зданий с роскошным изобилием скульп-
турных и декоративных деталей, много интересных и труд-
ночитаемых табличек, а голову повернуть сразу в обе сто-
роны невозможно. Освещение непрестанно меняется, каж-
дое мгновение вода рисует новые узоры бликов на камнях
самой разной текстуры. А в Средние века, когда стекла в
окнах состояли из множества мелких фрагментов, игра света
была, наверное, еще более причудливой.
Вапоретто то набирает скорость, то замедляет ход, ос-
танавливается и, чуть отплыв назад, снова трогается в путь.
Головы туристов самых разных национальностей заслоня-
ют обзор, мешают рассмотреть палаццо, а оживленное дви-
жение по воде отвлекает вас от них: водные такси и катера
скорой помощи, лодки полиции и карабинеров, пожарные
шлюпки с чихающими навесными моторами, которые вол-
на вапоретто, кажется, вот-вот пустит ко дну.
В Венеции даже повседневные вещи становятся откры-
тием для приезжего. Первое время людей поражает, что
сирены на лодках скорой помощи или пожарных звучат
26
Венеция: история города
точно так же, как и на земле (нужно только вычесть из
привычного шума грохот забитой машинами улицы). Бар-
жа, которая, пыхтя, тащит через лагуну бетономешалку с
работающим кузовом, кажется нереальной. Каждое про-
мелькнувшее движение в окнах проплывающих мимо двор-
цов Большого канала исполнено поэзии — и вдруг жен-
щина средних лет на балконе, прикрывшая лицо от солнца
и, возможно, от скуки, неожиданно напомнит роденовско-
го мыслителя. Заметишь вдруг, как в комнате на верхнем
этаже палаццо Барцицца кто-то поливает цветы, и в этих
благородных декорациях будничные движения предстают
исполненными достоинства и грации. А ночью одни двор-
цы погружаются во тьму, а другие ярко сверкают огнями,
демонстрируя роскошные интерьеры.
Глава первая
История Венеции (I):
становление города-государства
Ученые считают, что хотя Венеция изрядно страдает от
загрязнения окружающей среды и эрозии, затопление ей
пока не грозит. Однако во время карнавала и летом город
заполоняют тысячи людей, что тоже наносит ему серьез-
ный вред; нередко здесь бывает до 80 000 посетителей в
день, а иногда и до 150 000. К базилике Сан-Марко вы-
страиваются очереди, и хотя стражи порядка сурово пре-
граждают вход всем, чей костюм они находят недостаточ-
но благопристойным, толпа ничуть не убывает. На Понте
делла Палья (Соломенном мосту) движение иногда пол-
ностью останавливается, когда мириады туристов сбива-
ются в кучу, чтобы сфотографировать Мост Вздохов, а гиды
отчаянно размахивают разноцветными зонтами, стремясь
не растерять свои группы. И все-таки на каменных ступе-
нях моста находится место и для продавцов механических
игрушек: танцующих Микки-Маусов, ползущих по-плас-
тунски солдат с пулеметами, и все это под какофонию му-
зыкального сопровождения.
28
Венеция: история города
Та же музыка — по большей части последние новинки,
чаще всего англоязычные — вырывается из небольших
кафе. На Пьяцце поблескивают колечки от алюминиевых
банок с газировкой, а туристы кормят голубей — во всех
остальных частях города это запрещено законом. Люди
громко окликают приятелей, смеются, танцуют, покупают
соломенные шляпы гондольеров, коралловые бусы, флаж-
ки, футболки со всего света, открытки. На соседних ули-
цах толпы народа бродят из магазинчика в магазинчик в
поисках более дорогих вещей — они скупают драгоценно-
сти, кожаные изделия, шелк, кружево, стекло, сласти, мо-
роженое. Обычные человеческие пристрастия. (Отсутствие
автомобилей не дает надолго впасть в апокалипсические
раздумья о судьбах центра города.) Вот уже многие сотни
лет в центре Венеции царит именно такое, суетливое и край-
не материалистическое, настроение. Но как такие толпы,
скажем мягко, удивили бы первых венецианцев! Они при-
шли на эти отдаленные и пустынные острова, чтобы скрыть-
ся не от городского шума, смога и нелюбимой работы, а от
завоевателей вроде Аттилы.
Начало
Аттила вторгся в Италию в 452 году н.э. От его при-
стального внимания, в частности, сильно пострадала Ак-
вилея, главный город римских провинций Венеция и Ист-
рия. В книге «Упадок и разрушение Римской Империи»
Эдвард Гиббон описывает, как Аттила несколько месяцев
тщетно пытался взять город штурмом с помощью «чудо-
вищной череды таранов, передвижных осадных башен и
боевых машин, осыпавших защитников камнями, стрелами
и огнем» и наконец захватил его. Завоеватель направился
дальше, оставив за собой пустыню, где «последующие по-
30
Венеция: история города
коления уже едва ли смогли бы отыскать и руины бывшей
Аквилеи». Подвергнув город такому суровому наказанию,
Аттила снова пустился в поход, и там, где проходили его
воины, другие города — Алтинум, Конкордия, Падуя —
тоже превращались «в груды камня и пепла». Гунны хлы-
нули дальше, неся с собой смерть и разрушения по всей
северной Италии.
Неудивительно, что часть населения предпочла поискать
«безопасного, хоть и неизведанного убежища на близлежа-
щих островах» в лагуне, которую теперь называют Венеци-
анской. Беженцы уже приходили сюда, спасаясь от вестго-
тов в 405—406-м, но большинство из них вернулось домой,
когда основная опасность исчезла. (В случае с гуннами воз-
вращаться было практически некуда.) Здесь же их ждали
более сотни островков, продолжает Гиббон, «отделенных от
континента неглубоким проливом и защищенных от волн
несколькими длинными полосками земли так, что суда все-
таки могли подходить к берегу, но только по потаенным, уз-
ким протокам». Вестготы, гунны, вандалы и им подобные не
нашли бы на островах никакой добычи и едва ли могли за-
интересоваться ими. Кроме того, большинство беженцев не
чувствовали себя чужими на этой земле, ведь венеты — ме-
стное племя, которое говорило на языке, родственном латы-
ни, и с легкостью ассимилировалось с приходом римлян —
издавна жили у рек, проливов и болот. До прихода изгнан-
ников население лагуны составляла, возможно, только гор-
стка рыбаков, но и среди пришельцев, вероятно, нашлось
немало опытных ловцов рыбы. Несомненно, встречались
здесь люди, сведущие в добыче соли — второго основного
промысла этого края со времен первых поселенцев. Несом-
ненную важность представляло и то обстоятельство, что с
медленным, но непрерывным притоком иммигрантов с кон-
тинента, продолжавшимся всю вторую половину V века, на
История Венеции (I)
31
острова попадали драгоценные резные, покрытые письме-
нами фрагменты убранства храмов и других общественных
построек. Все это вместе помогло венецианцам ощутить соб-
ственную индивидуальность и привело к тому, что позже они
стали воспринимать себя как новых римлян. А также помог-
ло выработать вкус к разнообразным тонким работам из
мрамора, которые после XI века прославят их город как сим-
вол великолепия.
Но до этого великолепия оставалось еще шесть веков.
А пока на островах возводили деревянные здания, и, долж-
но быть, стоило немалого труда защитить их от воды и эро-
зии. Постепенно стало ясно, что наилучшее решение про-
блемы — строить на платформах, устанавливая их на дере-
вянные сваи, плотно составленные вместе и утопленные глу-
боко в глину. Необходимо было поддерживать в должном
состоянии каналы, появлялись первые мосты. Несомненно,
страх перед нашествием врага все еще витал в воздухе. И хотя
эти места изобиловали и рыбой, и солью, какие-то съестные
припасы приходилось привозить с материка. Выкапывались
колодцы (позже декоративные устья колодцев стали при-
вычной чертой многих кампо), но с особенно высокими при-
ливами в них время от времени попадала соленая вода. Де-
фицит пресной воды оставался серьезной проблемой еще
несколько столетий: в 1494-м канонник Пьетро Кассола
Миланский был весьма удивлен, увидев посреди широкого
водного пространства пересохшие колодцы, емкости для сбо-
ра дождевой воды и лодки, везущие воду из реки Брента на
продажу, за большие деньги. (К тому времени, конечно, в
воде нуждалось население, значительно превосходящее чис-
лом горстку первых поселенцев.) Так что не только из воен-
ных и политических соображений, но и ради воды, еды и
строевого леса Венеция с XV века начала создавать госу-
дарство на земле материка — terraferma.
32
Венеция: история города
Объединение и независимость
За ту сотню лет, что воинственные племена продолжали
бесчинствовать на материке, жители островов вполне снос-
но устроили свою жизнь. К 466-му они были уже достаточ-
но организованны, чтобы договориться о выборах от каж-
дой из двенадцати групп островов трибунов, призванных
представлять их интересы. Когда Западная Римская импе-
рия пала, жители островов умудрились сохранить равнове-
сие, которое тем или иным образом их потомки будут удер-
живать на протяжении тысячелетней истории Венецианской
республики: они поддерживали хорошие отношения с «вар-
варскими» королями Италии, оставаясь при этом поддан-
ными Восточной, или Византийской империи. Сохранять
независимость от обеих сторон им удавалось, кроме того,
благодаря географии их лагуны. К 523 году положение жи-
телей островов лагуны уже рассматривалось как некий осо-
бый случай, стало понятно, что так просто их не сломить,
или, по крайней мере, любому, кто рассчитывает на их со-
трудничество, стоит постараться подольститься к ним — в
разумных пределах, разумеется. До наших дней дошло пись-
мо, в котором Кассиодор, префект Теодориха Остгота (ко-
роля Италии, 493—526), вежливо объясняет префектам ла-
гуны, что масло и зерно следует переправить из Истрии в
столицу Теодориха, Равенну. В этом тексте он рисует вене-
цианскую идиллию слогом высокой латыни, которую вряд
ли понимали обремененные повседневными заботами рыбо-
ловы и солевары, к которым он обращается. Нас с этим пись-
мом любезно знакомит Джон Джулиус Норвич:
А потому молю вас проявить свою преданность и до-
ставить их сюда как можно скорее. Ведь вам принадле-
История Венеции (I)
33
жат множество судов в этих краях... Вашим кораблям
не приходится бояться порывов штормового ветра, ведь
они могут в течение долгого времени держаться берега.
И часто случается, что только борта их открыты взгля-
ду, и кажется, будто они плывут по полям. Иногда вы
тянете их на веревках, а бывает, что мужчины ногами
помогают передвигать их...
Ибо живете вы подобно птицам морским, дома ваши
рассредоточены, словно Киклады, по водной глади.
Лишь ивы и плетни не позволяют распасться земле, на
которой они стоят; и все же вы дерзаете противопоста-
вить непрочный этот оплот бурному морю. У вашего на-
рода есть огромное богатство — рыба, которой с избыт-
ком хватает на всех. Вы не различаете богатых и бед-
ных; пища у всех одинакова, дома похожи. Зависть, что
правит всем остальным миром, вам неизвестна. Все силы
свои вы тратите на добычу соли, и именно в ней таится
секрет вашего процветания, и еще в вашем умении с вы-
годой покупать то, чего у вас нет. Ведь можно было бы
отыскать людей, которые не стремятся обладать золо-
том, но нет среди живущих такого, кто не желал бы соли.
Сперва торговля и управление для обитателей островов
сосредоточивалась на Маламокко, вытянутом острове, от-
деляющем лагуну от Адриатики (теперь он называется
Лидо), и на Торчелло. Маламокко, будучи слишком близ-
ко к открытому морю, был разрушен землетрясением и при-
ливом в начале XII столетия (дошедшее до наших времен
поселение с тем же названием было впоследствии отстрое-
но на внутренней, удаленной от моря стороне острова), а
малярия и заиливание реки Силе в конце Средних веков
послужили причиной упадка Торчелло, и из процветающе-
го торгового центра он превратился в практически пустын-
2 - 6576
34
Венеция: история города
ный, тихий и зеленый уголок, каким мы его сейчас знаем.
Но уже в VIII веке эти поселения начали уступать свое
влияние группе островов под названием rives altus («высо-
кий берег»), или rive alto, превратившимся позже в Риаль-
то — сердце торговой Венеции.
Первые дожи
Первый дож (венецианская форма латинского dux и
итальянского duce — герцог, правитель), Орсеоло, жил во
дворце на Маламокко. Его выбрали в 727 году в период
временного разрыва отношений с Константинополем. Когда
император Лев III запретил использовать в церквях иконы
и другие изображения, Италия в числе других провинций
воспротивилась выполнению этого указа. Когда импера-
торский наместник в Византии, или экзарх, чья резиден-
ция располагалась в Равенне, был убит, папа окончательно
получил статус предводителя христиан Запада, а в Вене-
ции к власти пришел Орео. Но от политики иконоборче-
ства, по крайней мере на Западе, вскоре отказались, и доб-
рые отношения удалось восстановить. Орео снова заверил
императора в своей преданности и получил греческий ти-
тул hypatos (консул), который впоследствии стал родовым
именем его семьи — Ипато. (Позже в Венеции сложилась
легенда, что первого дожа избрали в 697-м, и он никоим
образом не зависел от Византии.)
Внутренние дела протекали не так гладко; некоторые из
первых дожей были свергнуты или умерли насильственной
смертью. Провизантийски настроенного Джованни Галь-
байо (дож с 775 года) и его семью устранили после того,
как они убили, сбросив с башни собственного дворца, ре-
лигиозного духовного лидера, патриарха Градо, отказав-
шегося исполнить их волю. Дож Атенарио Обелерио, из-
История Венеции (I)
35
бранный в 804 году, с не меньшим рвением поддерживал
набиравшего в Европе силу императора франков Карла Ве-
ликого и тоже отличался своеволием. В 810 году Обелерио
и его братья в надежде подавить своих врагов обратились к
Пипину, сыну Карла Великого, с предложением оккупи-
ровать Венецию. Венецианцы, не прилагая усилий к тому,
чтобы изгнать эту династию, заблокировали проход по ка-
налу между островами Лидо и Пеллестрина остро зато-
ченными шестами. И из-за своих баррикад, с безопасного
расстояния, они метафорически, а может, и в буквальном
смысле, показывали язык франкам, которые потратили
шесть месяцев, обстреливая защитников камнями и стре-
лами, и вынуждены были отступить. Тем не менее Вене-
ция согласилась выплатить Пипину дань.
Последующие переговоры между двумя империями, за-
кончившиеся Ратисбонским договором 814 года, утверди-
ли принадлежность Венеции Византии, но не отменили
выплату дани Западной Римской империи, которая в ответ
отказывалась от притязаний на Венецию. Так удалось до-
стигнуть мирного соглашения. Но сражение на островах,
расположенных ближе к морю, заставило венецианцев во
время правления нового дожа Анджелло Партичипацио
(811—827) перенести столицу с Маламокко на более безо-
пасные острова Риальто — именно там город и располо-
жен в настоящее время. Значение событий 810 года, как
замечает Норвич, заключается еще и в том, что венециан-
цы продемонстрировали волю и умение сражаться за свою
независимость. Несмотря на былое соперничество и за-
висть, «в момент настоящей опасности они сумели почув-
ствовать себя не жителями Маламокко, Кьоджи, Джезоло
или Пеллестрины, но венецианцами». И именно в этой ат-
мосфере возросшего национального самосознания в 828 го-
ду в Венецию привезли тело святого Марка, а примерно в
2*
36
Венеция: история города
830-м оно было помещено в первую базилику Сан-Марко.
Городу, сумевшему добыть не просто мощи, но святое тело
одного из евангелистов, несомненно, был гарантирован осо-
бый статус.
Стабильность и процветание
К X столетию Венеция уже вела активную торговлю с
Александрией, Палестиной, Сирией, Византией и Черным
морем. Благосостояние города возрастало, и разгоравшие-
ся время от времени усобицы ему почти не мешали. Наи-
большей стабильностью отличался тот период, когда у вла-
сти находился дож Пьетро Орсеоло II (991—1008), уме-
лый правитель, который, помимо всего прочего, примирил
враждующие группировки, сумел достичь соглашений с
обеими империями и с арабами Северной Африки, освобо-
дил византийский Бари от других арабов («сарацинов») и
стал герцогом Далмации — по крайней мере крупнейших
ее районов и побережья — в результате победоносного
похода в восточную Адриатику.
В 992 году Византия даровала Венеции часть привиле-
гий, обеспечивших ей последующее господство в Эгейском
и восточной части Средиземного морей — была значитель-
но уменьшена пошлина с кораблей, прибывающих в Кон-
стантинополь. Девяносто лет спустя новая «золотая булла»
(chrysobull) предоставила в пользование венецианцам неко-
торое количество лавок, домов и мастерских в Пере (торго-
вый район в Константинополе), освободила венецианцев от
всех налогов и пошлин на территории Византии, за исклю-
чением Крита и Корфу, и установила наказание для любого,
кто опрометчиво попытается нарушить их права. Подобные
же привилегии были даны соперникам Венеции Генуе и Пизе,
впрочем, позднее они были несколько ограничены. А в тех
История Венеции (I)
37
случаях, когда ссылка на «золотую буллу» не позволяла до-
стичь желаемого эффекта, Венеция могла при необходимо-
сти навязать свою волю силой: после того как в 1119 году
император Иоанн II отказался продлить налоговые льготы,
Венеция намекнула на необходимость их вернуть: осадила
Корфу и прошлась набегами по другим островам, включая
Кефалонию, откуда ее корабли уплыли, унося с собой мощи
святого Доната. (Его поместили в базилику на Мурано, ко-
торая в связи с этим получила новое название — Санти-
Мария-э-Донато.) В1126 году Иоанн II принял намек к све-
дению и вернул венецианцам их права. А еще одна «золотая
булла» подтвердила их в 1147-м. К этому времени льготы
распространялись и на богатые рынки Крита и Корфу.
Ввиду всего этого отношения между стареющей Визан-
тией и юной, полной жизни Венецией оказались непросты-
ми. Усложняла ситуацию необходимость поддерживать
тесные контакты с Западной Римской империей и, когда
это было необходимо или выгодно, с арабами, норманнами
и другими латинянами, в те времена наперебой стремив-
шихмися захватить в Средиземном море влияние, торгов-
лю или земли. С 1147-го по 1149-й, воодушевленные по-
следней «золотой буллой», венецианцы присоединились к
Византии, которая осадила Сицилию норманнов, захватив-
ших Корфу. Победу союзники в конце концов одержали,
но за время долгой осады между ними начались ссоры и
даже вооруженные столкновения. Хуже всего был случай,
когда группа венецианцев — возможно, не без влияния
алкоголя, но уж точно преисполнившись презрения к гре-
кам, — захватила флагманский корабль императора Ману-
ила Комнина. К неописуемой ярости наблюдавших греков,
они вывесили расшитый золотом императорский полог, рас-
стелили пурпурные императорские ковры и объявили им-
ператором некоего человека, которого хронист Никита
38
Венеция: история города
Хониат назвал «проклятым чернокожим эфиопом» (намек
на смуглую кожу Мануила). По словам Никиты, первой
мыслью императора было примерно наказать этих «варва-
ров», но он отбросил гордость во имя сохранения альянса.
И все-таки «затаил гнев в своем сердце, как тлеющие угли
под слоем пепла». Венеция же пошла еще дальше и в 1154 го-
ду вызвала недовольство Византии, подписав соглашение
с королем Сицилии и императором Западной Римской им-
перии Фридрихом Барбароссой. Сицилийское соглашение
обновили в 1175-м, но еще в 1167-м Венеция основала Лом-
бардскую лигу, объединив города северной Италии против
Фридриха. Наконец, в 1171-м из «тлеющих углей» разго-
релся пожар, когда Мануил неожиданно приказал аресто-
вать всех венецианцев на территории своей империи —
после того как венецианцы в Константинополе буквально
вдребезги разнесли квартал, недавно переданный их сопер-
никам генуэзцам. Дож Витале Микиеле II предпринял по-
ход против империи и добрался до самого Хиоса, но болез-
ни, распространившиеся среди моряков, и выжидательная
тактика византийцев вынудили его отступить. По возвра-
щении дожа заколол разъяренный горожанин в калле дел-
ле Рассе, когда правитель шел из своего дворца к мона-
стырю Сан-Дзаккариа.
Представители знати хоть и не стремились ускорить
смерть Микиеле, но все же находили, что он слишком мало
с ними советуется, и воспользовались его неожиданной
смертью, чтобы внести изменения в конституцию — так
начался долгий процесс постепенного ограничения полно-
мочий дожей. Себастьяно Циани, первый дож, избранный
уже по новым правилам, сделал немало для восстановления
богатств Венеции благодаря своему умению заключать вы-
годные соглашения — в основном с Сицилией... ну и с Фрид-
рихом Барбароссой тоже. Это помогло убедить Мануила
История Венеции (I)
39
Комнина в том, что неразумно про-
должать обижать людей, у
которых есть такие опасные
друзья, и большинство
венецианцев, взятых под
стражу в 1171 году, на-
конец получили свобо-
ду в 1179-м. А еще бо-
лее решительно неза-
висимый статус Венеции был подтвержден в 1177-м, когда
именно здесь состоялась церемония, во время которой папа
Александр III и Фридрих Барбаросса примирились после
продолжительных распрей.
Признав духовную и мирскую власть папы в Лидо в при-
сутствии трех кардиналов и будучи возвращенным в лоно
Святой Церкви после семнадцати лет отлучения, Фрид-
рих в сопровождении дожа с невероятной пышностью и
блеском проследовал в базилику Сан-Марко. Здесь Алек-
сандр, восседая на троне, ожидал возвращения блудного
сына (позже, с намеком на эту самую притчу, папа послал
монарху тучного тельца). Архиепископы и каноники под-
вели императора пред светлы очи, он отбросил свою крас-
ную мантию, пал ниц и поцеловал ноги и колени понтифика
в знак почтения и полного подчинения.
Перед центральными дверями Сан-Марко в том месте,
где, по легенде, преклонял колени Фридрих Барбаросса,
установлена мраморная плита. Сама базилика, которая к
тому моменту обрела уже знакомый нам общий вид, являла
собой самый подходящий фон для столь важных событий.
По стилю и духу эта третья уже из возведенных на том же
месте базилика во многом была византийской, но к XI и
XII векам это символизировало уже не столько давнюю
преданность Венеции «новому Риму» Босфора, сколько
40
Венеция: история города
уверенное заявление о своих правах на равное с ним поло-
жение или даже претензии на то, чтобы занять его место.
Пьяцца и Пьяццетта также во многом приобрели свой со-
временный вид именно при доже Циани: канал, протекав-
ший мимо Сан-Марко, был засыпан, вся площадь вымо-
щена кирпичом, к близлежащим домам пристроили колон-
нады, Дворец дожей увеличили, снесли стену, закрывав-
шую часть берега, и установили на Пьяццетте две античные
колонны. Эти колонны прибыли из Греции вместе с Ми-
киеле, а позже на них поместили изваяния льва святого
Марка и святого Феодора с его крокодилом. Да и в целом
город процветал и развивался. Банки на Риальто откры-
лись в пятидесятых годах XII века, часть улиц и кампо
вымостили, а некоторые улицы были даже освещены, за-
долго до остальных городов Европы, небольшими масля-
ными лампами.
Энрико Дандоло
и четвертый крестовый поход
В 1192-м дожем избрали Энрико Дандоло. Ему уже было
далеко за семьдесят, и он входил в число посланников, кото-
рых двадцатью годами раньше Микиеле отправил в Кон-
стантинополь — что, как выяснилось, не дало никаких ре-
зультатов. Дандоло был слеп, и, возможно, зрения он ли-
шился как раз в этом путешествии, хотя, скорее всего, в ка-
кой-то другой битве. Но он определенно не испытывал
никаких дружеских чувств к Византии, и немало способство-
вал сокращенению ее богатств по окончании четвертого кре-
стового похода. Венеция, не любившая развязывать коше-
лек, пока дело не касалось приобретения какого-либо ком-
мерческого или дипломатического преимущества, свела свое
участие в третьем крестовом походе к минимуму. Была ли
История Венеции (I)
41
роль Венеции в четвертом крестовом походе хитроумно спла-
нирована с самого начала или стала всего лишь результатом
стечения обстоятельств, сказать трудно.
История начинается в 1201 году с прибытия в город де-
легации, состоявшей из шести французских аристократов,
среди которых был и Жофруа де Вилларду эн, рыцарь из
Шампани и хронист. Они искали флот, который отвез бы
крестоносцев в Палестину или Египет. Тщательно все об-
думав (вот чего так не хватало во времена Витале Микие-
ля), дож и Совет предложили следующее: за 85 000 марок
серебром они предоставят определенное количество кораб-
лей, достаточное для того, чтобы перевезти 4 500 рыцарей,
их коней, 9 000 человек их свиты и 20 000 солдат. Сама
же Венеция — «pour Гашоиг de Die»1, как, по свидетель-
ству Виллардуэна, выразился Дандоло — выделит пять-
десят вооруженных галер за половину завоеванного «на
суше и на море». Французские рыцари согласились на эти
условия, и, как того все еще требовала конституция в столь
серьезных случаях, дож созвал arengo — ассамблею, вклю-
чавшую, по крайней мере теоретически, все мужское насе-
ление города и призванную одобрить данное решение. Как
пишет Виллардуэн, 10 000 человек пришли к Сан-Марко,
и, выслушав мессу и обещание маршала проявить милость
к плененному Иерусалиму и отмстить за бесчестье Хрис-
та, толпа грянула свое согласие так, что содрогнулась зем-
ля. Армию и деньги следовало собрать в течение года.
Как и предполагали Дандоло и его советники, французам
и немцам, возглавлявшим намеченную экспедицию, нелегко
было найти столько людей и такую крупную сумму. К июню
1202-го им удалось собрать только 50 000 марок. Венеци-
анцы при всей своей меркантильности все-таки предложи-
1 Из любви к Богу (фр.).
42
Венеция: история города
ли начинать экспедицию при условии, что крестоносцы «по
дороге» помогут им захватить их бывшую колонию —
Зару. Новое соглашение опять было шумно одобрено на-
родом у стен базилики. Дандоло с трибуны попросил по-
зволения (хотя Совет, несомненно, уже все решил) самому
нести этот крест. Он — старый человек, остро нуждаю-
щийся в отдыхе, говорил дож, но ему кажется, что именно
его следует поставить во главе венецианского флота. И дей-
ствительно, он вполне подходил для подобной работы —
ведь ему столько лет приходилось вести дела с Константи-
нополем, который он знал не понаслышке. Люди были тро-
нуты до слез готовностью этого слепого старика пожерт-
вовать собой во имя святого дела и вновь оглушительным
кличем выразили свое согласие. Дож прослезился и сам (по
словам Виллардуэна), преклонил колени перед алтарем, и
на его широкую шляпу нашили белый крест, чтобы все могли
его видеть и следовать за ним. Многие жители и вправду
пошли за ним, что помогло заполнить пустые корабли.
В ноябре 1202-го флот отчалил из Венеции. С самого
начала стало ясно, что венецианцам предстоит сыграть ве-
дущую роль в этом походе. Они были превосходными мо-
реплавателями и отлично умели подать себя. Галера Дан-
доло, выкрашенная киноварью, отплыла под аккомпанемент
серебряных труб и тамбуринов. С мачт его и других кораб-
лей священники пели «Veni Creator Spirit!»1.
Сияние святости вскоре уступило место жестокости.
Зара была захвачена и разграблена. В Риме папа Инно-
кентий III негодовал по поводу отклонения от маршрута и
сражений с братьями-христианами, вместо того чтобы не-
медленно обрушиться на неверных. На какое-то время всех
крестоносцев отлучили от церкви, а с ними — Дандоло и
1 Прииди Дух Святой! (лат.)
История Венеции (I)
43
всю Венецию — уже надолго. Во время зимовки в Заре
Бонифаций Монферратский и другие предводители похо-
да решили еще больше отклониться от изначального плана.
Они направятся в Константинополь, чтобы усадить на им-
ператорский трон племянника правящего Алексея III, тоже
Алексея, который прибыл к ним в Зару весной 1203-го.
Дондоло, а вероятно, и не только он, предвидел, что в этом
древнем богатом городе будет чем поживиться. Алексей
пообещал большие привилегии, крупные суммы денег и
подчинение православной церкви папе. Флот достиг стен
Константинополя в июне. Затем войска подошли ближе по
морю и по суше. Огромная железная цепь, перекрывавшая
бухту Золотого Рога, не устояла перед натиском. Узурпа-
тор Алексей III практически не смог противопоставить им
организованного сопротивления — в столь плачевном со-
стоянии находились в тот момент силы, казна и боевой дух
византийцев. Венецианцы расположили корабли вдоль стен
и принялись успешно орудовать осадными лестницами,
пращами, баллистами и таранами. Использовали они и
штурманские мостики — площадки, расположенные на
самой верхушке мачты. Сам дож, несмотря на годы и не-
мощь, потрудился на славу, стремясь поднять боевой дух
нападавших. Когда снаряды защитников крепости дождем
осыпали корабли, он бесстрашно стоял в полном вооруже-
нии на носу своего корабля у знамени Святого Марка. Он
настоял, чтобы галеру вытащили на берег, и спрыгнул с нее
вместе с остальными воинами, а над ним развевалось все
то же знамя. Это подстегнуло команды остальных судов,
они оставили колебания и поспешили с высадкой. И вско-
ре, несмотря на то что варяжская гвардия (скандинавские
и английские наемники на императорской службе) руби-
лась отчаянно, нападавшим удалось прорвать оборону, они
начали захватывать башни.
44
Венеция: история города
Когда крестоносцы вошли в город, Алексей III поспеш-
но его покинул, и на его место сел Исаак II, отец многообе-
щающего претендента Алексея. А чуть позже крестонос-
цы настояли, чтобы их претендент стал соправителем им-
ператора Алексеем IV. А пока флот ждал под стенами го-
рода, когда же будут выполнены щедрые обещания.
Хорошо зная Византию, венецианцы, несомненно, пони-
мали, что это невозможно. Взаимоотношения крестонос-
цев со своим протеже очень быстро ухудшились, но не лю-
били его и подданные. Они считали своего государя чело-
веком слабым и подверженным иностранному влиянию, а
потому в конце концов убили и его, и, по всей вероятности,
его отца. К марту 1204 года путь для захвата города был
свободен — да и не только города, но и всей империи, ре-
шили крестоносцы. И вновь город пал. Последовали три
дня чудовищной резни, насилия, вандализма и святотат-
ства. (И снова папа бессильно протестовал против такого
завершения своего крестового похода.) Затем победители
поделили добычу: три восьмых достались венецианцам.
Часть трофеев, включая четырех знаменитых бронзовых
коней, украсила базилику Сан-Марко.
Но это далеко не все, что выиграла Венеция в результа-
те развернувшихся событий. Предстояло избрать нового
императора, не грека, и для этих целей отобрали шестерых
кандидатов: троих венецианцев и троих «франков». Что
совсем не удивительно, на престол взошел ставленник Дан-
доло — Болдуин Фландрский. Венецианец Томмазо Мо-
розини стал патриархом, а православного владыку заменил
представитель Римской Католической церкви, и хотя папа
Иннокентий II сначала возражал против такого назначе-
ния, позже он уступил, признал свершившееся и вернул
дожа и Венецию в лоно церкви. Республика получила в
награду три восьмых не только Константинополя, но и им-
перии, хотя по поводу большей части вновь обретенной тер-
История Венеции (I)
45
ритории еще предстояло вести бои и переговоры в течение
нескольких лет. Венеция тщательно отобрала именно те
порты и острова, которые могли принести максимальную
выгоду торговле. Очевидно, венецианцы воспользовались
тем, что, в отличие от своих союзников, хорошо знали эти
места. К Венеции отошли, например, такие южные порты
Греции, как Модон (Метони) и Корон (Корони), Негро-
понте и часть одноименных островов (древняя Эвбойя), и,
что самое главное, Крит. Этот остров не только был богат
оливковым маслом, вином, зерном и фруктами, но и являл-
ся важной стоянкой на пути из Италии в Египет и леван-
тийские страны, ключом к контролю над Эгейским морем.
Изначально он пришелся на долю Бонифация Монферрат-
ского, но Венеция купила остров за 1000 марок. Еще не-
сколько столетий Криту суждено было оставаться крае-
угольным камнем Венецианской морской империи.
В июне 1205-го Дандоло умер в Константинополе, в
возрасте восьмидесяти пяти или даже девяноста лет. Его
похоронили в Айя-Софии. Его почитают как самого влия-
тельного и победоносного из дожей, но ставят в укор, что
он стал вдохновителем крестового похода и связанных с
ним грабежей и убийств, повлекших за собой сотни лет по-
литической нестабильности на бывшей территории Визан-
тийской империи. По прошествии времени видно, что сво-
ими действиями он открыл дорогу оттоманским туркам, ко-
торые в будущем значительно потеснят Венецию в Среди-
земном море.
Конституция и заговоры
Если бы Энрико Дандоло захотел, он, скорее всего, мог
бы и сам рассчитывать на императорский трон в Констан-
тинополе. (Есть одна неправдоподобная легенда, будто
предложение перенести столицу в Константинополь даже
46
Венеция: история города
обсуждалось и было отвергнуто только благодаря одному-
единственному голосу.) Но он не стал этого добиваться, а
его сын, Раньери, занимавший в отсутствие отца пост вице-
дожа, не предпринял никаких попыток продолжить динас-
тию. Наоборот, Раньери организовал выборы нового дожа
(Пьетро Циани) в 1205-м, принял командование экспеди-
цией на все еще непокорный Крит и погиб в бою. «Его имени
нет среди дожей, — говорит Фредерик Лэйн, — но оно
непременно должно оказаться в списке тех, кто подал при-
мер разумной сдержанности, на которой зиждилась поли-
тическая система Венеции. В этой системе не-дожи, те, кто
с достоинством принимал вторые роли, играли не менее
важную роль, чем те, кому удавалось занять верховную
позицию».
Все это правда, однако, не следует забывать, что вене-
цианцы в последующие века весьма успешно поддержива-
ли и распространяли образ, который получил название «миф
о Венеции»: великолепное географическое положение, точно
сбалансированная конституция, идеальное сочетание эле-
ментов монархии, олигархии и (несколько менее правдопо-
добно) демократии, длинный список доблестных бескоры-
стных «не-дожей». Кардинал Гаспаро Контарини, один из
величайших защитников этого мифа в эпоху Возрождения,
произносит все вышеперечисленное и отмечает еще «муд-
рость и добродетель» предков, которые, как написал пере-
водчик елизаветинских времен Льюис Льюкенор:
...не пропустили ничего, что могло бы хоть как-то со-
действовать укреплению благосостояния государства: во-
первых, они положили жизнь и труды своих сограждан
на службу и пользу добродетели и всегда с большим вни-
манием и тщанием направляли умы свои на поддержа-
ние мира, чем на достижение военной славы; неизменно
История Венеции (I)
47
прилагая величайшее старание к сохранению граждан-
ского согласия и взаимного понимания, но при этом не
упуская военных выгод.
Подобная система и вправду работала лучше многих
других и, как и сами венецианцы, ее создавшие, вызывала
у иноземцев вполне заслуженное уважение. Но на практи-
ке она функционировала совсем не так гладко, как изобра-
жал миф: высокородные семьи и крупные кланы обретали
чрезмерное влияние, существовал антагонизм между ста-
рым и новым дворянством, и были случаи, в особенности в
XVI и XVII веках, мздоимства и покупки голосов в Боль-
шом совете. Хотя система создавалась из самых лучших
побуждений, она была настолько сложна, что управление и
правосудие зачастую оказывались крайне медлительными
и неэффективными.
Венецианская конституция развивалась, постепенно ог-
раничивая, уточняя и делегируя некогда монархическую
власть дожа. В середине XI века, когда прошли времена
дожеских династий, группа наиболее уважаемых горожан
действовала в качестве советников дожа и могла, во вся-
ком случае теоретически, повлиять на слишком радикаль-
ные тенденции. Эти советники, получившие власть после
убийства Витале Микиеле II в 1172 году, ввели формально
еще более «демократическую» процедуру: впервые был
официально учрежден орган, призванный избирать нового
дожа — Большой совет, и со временем его влияние сильно
возросло. Начиная с 1229 года каждый дож произносил
свою личную присягу, что, конечно, сдерживало его впо-
следствии только теоретически. Позже была учреждена
специальная комиссия, которая внимательно изучала дея-
ния каждого дожа во время его правления и могла, при не-
обходимости, налагать штраф на его наследников. Это был
48
Венеция: история города
всего лишь один из множества комитетов в сложном меха-
низме, который в целом помогал поддерживать относитель-
ную стабильность в государстве. Правила запрещали чле-
нам одной и той же семьи занимать должности в одно и то
же время. Большой совет на шестнадцать месяцев избирал
трех Avvogatori di сотип (адвокатуру, которая тогда вы-
полняла обязанности скорее государственных прокуроров),
в их задачи входило контролировать государственных чи-
новников и подвергать наказанию любого, кто пренебрегал
бы служебными обязанностями или использовал служеб-
ное положение в личных целях, сколь бы знатным и по-
чтенным он ни был. Аналогичным образом выборы дожей
становились все сложнее, и к XIV столетию тех, кому пред-
стояло его выбирать, уже самих избирали различные ко-
митеты, в свою очередь, избранные другими комитета-
ми, причем на некоторых этапах кандидаты просто-напро-
сто тянули жребий.
Всеми этим выборами и контролем занималась, есте-
ственно, знать. Одна из удивительных особенностей вене-
цианской истории — представители других слоев общества
достаточно равнодушно относились к тому, что не допуще-
ны к власти. В 1260 годах, что было необычно для Вене-
ции, наблюдались некоторые волнения в торговых гильди-
ях, которые в других городах Италии обладали несравнен-
но большим влиянием. Меры, принятые дожем Лоренцо
Тьеполо в 1268 году, вероятно, помогли немного успоко-
ить их недовольство. Гильдиям предоставили больше са-
мостоятельности и отвели заметную роль в публичных це-
ремониях: шаг тактически правильный и значимый в горо-
де, который по любому поводу с радостью устраивал пыш-
ную церемонию и видел в богатстве символ собственного
величия. Примерно в то же время Тьеполо основал долж-
ность, предназначенную только для гражданина Венеции,
История Венеции (I)
49
избранного Большим советом, — должность верховного
канцлера. Верховный канцлер стал главой всех государ-
ственных служащих, и его положение давало ему если не
прямую власть, то, по крайней мере, неоспоримое влияние.
Этот факт также получил публичное признание: на многих
церемониях этот советник следовал вторым, сразу после
дожа. Кроме того, ему немало платили, как и старшим сек-
ретарям канцелярии. Чиновники рангом пониже тоже, по-
хоже, имели возможность сделать карьеру. На государ-
ственной службе состояли также стражники, лодочники,
посыльные и так далее.
Когда в 1509-м Венецию, казалось, вот-вот заполонят
враги, а венецианцы непривычно громко возмутились тем,
что, будучи вынужденными платить столь высокие налоги,
они тем не менее отстранены от участия в принятии реше-
ний, советник Антонио Лоредан встретился с большой груп-
пой горожан во Дворце дожей. Он весьма убедительно го-
ворил им о том, каким уважением и какими преимущества-
ми они пользуются: многие занимают важные должности,
иногда даже передающиеся по наследству, и должности эти
более стабильны, чем посты знати; о том, насколько вре-
менные должностные лица из знати полагаются на своих
многоопытных подчиненных; как повезло этим гражданам
по сравнению с Лореданом и представителями его класса,
которым под гнетом традиций приходится щедро тратить-
ся на одежду, церемонии и — мудро добавлял он — «раз-
влечения для народа». Не всех его слова убедили, но со-
гласных было достаточно, чтобы недовольство не вылилось
в восстание. (Еще одну область, в которой незнатные го-
рожане могли добиться уважения и почета, образовали ску-
олы, или религиозные братства. См. главу 6.)
Большой совет или Maggior Consiglio обладал мощной
властью. По практическим соображением в XIII веке он
50
Венеция: история города
заменил собой старый arertgo — собрание всех граждан.
По тем же причинам по мере того, как государство богате-
ло, увеличивалось его население, а границы распространя-
лись далеко за море, принятие решений по большей части
доверили Сенату, куда избирали 120 человек. В него так-
же входили члены Совета Сорока (высший апелляцион-
ный суд), Совет Десяти (ведавший вопросами безопасно-
сти республики), Совет дожа, и сохранявший еще доста-
точно влияния дож. Однако изначально роль Большого
совета была важна еще и потому, что его строение позво-
ляло мелкой знати почувствовать свою причастность к уп-
равлению. В1297 году произошло закрытие (serrata) Боль-
шого совета, то есть членами Совета могли теперь стать
только те, кто находился в его числе в предыдущие четыре
года. Несколько позже решили, что в Совет может войти
любой гражданин (мужского пола, естественно), чьи предки
когда-либо состояли в совете. Утверждалось, что эта сис-
тема помогала бороться с раздробленностью среди знати,
поскольку признавала своими членами не только самых
родовитых горожан, но и тех, у кого не было связей или
денег. (Обедневшая знать — их еще называли barnabotti,
потому что они часто селились в приходе Сан-Барнаба —
стала распространенным феноменом значительно позже, в
XVII и XVIII веках, когда благосостояние Венеции явно
пошло на убыль.) С 1297 по 1311 год количество членов
Большого Совета возросло в пять раз, и это вскоре приве-
ло к необходимости построить новый, торжественный зал
Большого совета во Дворце дожей — еще одно публичное
утверждение величия патрицианского самоуправления.
Естественно, некоторым патрициям расширения Сове-
та показалось мало, но полной самостоятельности и неза-
висимости республики достичь не удалось. Самая дерзкая
попытка переворота была предпринята под руководством
История Венеции (I)
51
Марко Кверини и его родственника Байамонте Тьеполо,
принадлежавших к дворянскому роду, который выступал
против активного вмешательства дожа Пьетро Градениго
в дела Феррары — результатами подобного вмешатель-
ства стали унизительное поражение, экономические труд-
ности и папский интердикт. Венеция и папа поддержали
двух разных претендентов на Феррарский маркизат, кото-
рый технически подчинялся папе. Эти события, традици-
онное соперничество между старыми знатными родами
(case vecchie) и нуворишами вроде Градениго, множествен-
ные личные усобицы подтолкнули недовольную действием
властей группу составить заговор с целью захватить власть
15 июня 1310 года. Они хотели одновременно ударить по
Дворцу дожей с лагуны и с Пьяццы. Но когда план был
уже почти готов, один из заговорщиков, Марко Донато,
переметнулся на другую сторону и предал своих товари-
щей. Марко Кверини пришел, как и планировалось, на
Пьяццу и обнаружил, что на площади полно вооруженных
людей, в том числе — союзники дожа и враги Кверини —
семья Дандоло. В этом сражении Кверини погиб. Группа,
которая должна была напасть с лагуны, из-за шторма не
смогла покинуть берег, и ее прямо на месте взяли под стра-
жу и казнили. А когда Баджамонте Тьеполо и его люди
остановились, чтобы перестроиться и въехать на Пьяццу,
одна старуха, которая случайно толкла что-то в ступе у окна,
то ли швырнула, то ли уронила вниз ступу (или пестик, как
говорят некоторые) и убила знаменосца. В память об этом
«подвиге» установлен барельеф над Соттопортего дель
Капелло, перед Башней часов на Пьяцце. Согласно преда-
нию, в награду старуха попросила только, чтобы ей умень-
шили плату за дом и разрешили вывешивать из окна знамя
Святого Марка по праздникам и в годовщины этого не-
удачного бунта.
52
Венеция: история города
Окончательно упав духом, мятежники Тьеполо поспе-
шили обратно к мосту Риальто, тогда еще деревянному,
разрушили его за собой и забаррикадировались в город-
ской части Сан-Поло, принадлежавшей дому Тьеполо, где
они могли рассчитывать на поддержку. Дож Градениго и
его советники проявили такую дальновидность и сдержан-
ность, какой вряд ли можно было бы ожидать и от совре-
менных правителей, и предпочли изгнать из страны остав-
шихся зачинщиков, вместо того чтобы попытаться силой
уничтожить их и тем самым подвергать государство еще
большей опасности. Вооруженные столкновения среди дво-
рян требовалось срочно пресечь еще и потому, что разно-
гласия с Феррарой были еще далеко не разрешены.
Когда кризис окончился, дом Тьеполо разрушили, а дом
Кверини превратили в городские бойни. Этот заговор по-
влек за собой последствия — был создан Совет Десяти,
перед которым сначала поставили лишь одну задачу —
присматривать за изгнанными заговорщиками. В 1334-м
он превратился в постоянный орган с широкими полномо-
чиями, в его цели входило находить и подавлять любую
чрезмерную активность какой-либо отдельной группы, все,
что можно было счесть потенциально опасным для госу-
дарства. Эти «Десять» на самом деле зачастую представ-
ляли собой влиятельную группу из семнадцати человек: при
голосовании к ним присоединялись дож и шестеро его со-
ветников. В последующие поколения, благодаря тому, что
Совет Десяти не отчитывался ни перед кем и глубокой та-
инственности, окружавшей его работу (даже avvogadori не
имели права знать его секреты), он приобрел репутацию
самовластного и неумолимого судьи. К тому же его членов
выбирали почти исключительно из самых богатых и благо-
родных семей. В XVI и XVII веках в результате изме-
нения законодательства политическая власть Совета была
История Венеции (I)
53
несколько ограничена, но его роль в вопросах сбора аген-
турной информации и расследовании уголовных преступ-
лений продолжала расти. В 1539-м Совет Десяти создал
еще одну группу, которую боялись не меньше, — трех го-
сударственных инквизиторов.
Членов Совета Десяти выбирали всего на год, и трое из
них становились его главами (capi) каждые три месяца.
Представлялось маловероятным, чтобы они могли восполь-
зоваться своим положением для создания заговора вроде
Тьеполо. Практически единственным аристократом, изби-
равшимся пожизненно, был дож, и один из дожей — прав-
да, после совсем не долгого пребывания на посту — все-
таки предпринял такую попытку. Марин Фальер, избран-
ный в возрасте семидесяти шести лет в 1354-м, очень ско-
ро начал фанатически ненавидеть молодых представителей
своего класса (хотя, возможно, он питал эти чувства и ра-
нее, только втайне ото всех). Особенное негодование, оче-
видно, у него вызвало почти символическое наказание, на-
значенное Советом Сорока молодому аристократу, кото-
рый подбросил насмешливые стихи на трон дожа. (Позже
рассказывали, что в этих стихах намекалось на неверность
догарессы.) Затем уже кипевший от возмущения Фальер
услышал и другие жалобы на заносчивое поведение ари-
стократов. Из незнатных горожан наибольшим влиянием в
Венеции пользовался глава Арсенала Стефано Гьяцца. Он
был одним из недовольных и вместе с дожем разработал план
убийства несносных молодых господ. 15 апреля 1355 года он
заманил их на Пьяццу фальшивым известием о приближе-
нии вражеского генуэзского флота. Согласно плану в ре-
зультате переворота Фальеру предстояло сделаться пол-
новластным князем, а Гьяцца, несомненно, стал бы его пра-
вой рукой. Эта история окончилась так же, как и заговор
Тьеполо сорока пятью годами раньше — заговорщиков
54
Венеция: история города
предали. (На этот раз информаторов оказалось несколь-
ко.) Совет Десяти изучил все обстоятельства, посовето-
вался с avvogadori и другими влиятельными сановниками.
Десять заговорщиков, сыгравших наименее важные роли,
повесили немедленно. Судить Фальера собрался Совет
Тридцати, куда вошли члены Совета Десяти и еще двад-
цать сенаторов. Дожу нечего было сказать в свою защиту,
поэтому он признал свою вину и 18 апреля 1355 года был
обезглавлен. Система сработала. Можно, конечно, счесть
донесение о заговоре простой удачей, но, возможно, оно
свидетельствовало о глубокой верности венецианцев своей
республике. Предпринимались и другие попытки изменить
конституцию и ограничить полномочия Совета Десяти, но
до 1797 года полностью их отобрать даже не пытались.
Торговля и генуэзские войны
Стабильность государству обеспечивала невероятно успеш-
ная коммерческая деятельность Венеции. С самых первых
дней существования республики она вела выгодную тор-
говлю с Византией и Египтом. К XIII веку венецианские
торговцы рассеялись по всему свету, от Ближнего Востока
до Англии. В 1260 году семья Поло добралась даже до
Китая, а вслед за ними туда отправились и другие. Основу
торговли составляли пряности, неизменно пользовавшиеся
высоким спросом в Европе, — мускатный орех, гвоздика,
кориандр, корица, имбирь. Их покупали на рынках Алек-
сандрии, Акры и других восточных портов Средиземного
моря, куда они попадали из Индии по Аравийскому и Крас-
ному морю и на верблюдах через Аравию и Египет. С Во-
стока привозили и многие другие товары: шелк, критский
сахар и вино, изюм с Ионических островов (принадлежав-
ших по большей части Венеции с XIV или XV века), си-
История Венеции (I) 55
рийский воск и икру с Черного моря. Венецианские купцы
переправляли все это через Альпы по устоявшимся марш-
рутам к растущим городам южной Германии, а обратно вез-
ли немецкое и богемское серебро, медь и железо, шерстя-
ные ткани из Фландрии и Англии. Торговля имела такое
большое значение, что к 1228 году Венеция предоставила
немецким купцам собственное здание на Большом канале
(Фондако деи Тедески), служившее одновременно скла-
дом, жильем и центром торговли. В 1505 году первое зда-
ние сгорело, и на его месте построили новое, сохранившее-
ся до наших дней.
Существовали и другие маршруты: по рекам Франции
от Марселя до огромных ярмарок Бургундии, Шампани и
дальше к испанским портам; к Черному морю, которое ви-
зантийцы некогда попытались оставить за собой и где Ге-
нуя составляла Венеции яростную конкуренцию. Из лесов
Далмации и Истрии привозили лес, с Черного моря, Апу-
лии и Сицилии (значительно более плодородной в те вре-
мена, чем сейчас) — зерно. А в конце XIII века был от-
крыт морской путь через Гибралтар и стала возможной
прямая торговля с Англией и Фландрией. В число самых
ценных товаров, производимых в Венеции и окрестностях,
входили кожаные изделия, крашеная ткань, муранское стек-
ло и соль из Кьоджи. К сожалению, рабами тоже торгова-
ли, причем без зазрения совести. Людей, в основном гру-
зин и армян, привозили по большей части из восточных
портов Черного моря, таких как Трапезунд, и продавали в
Венеции. Большинство из них оказывались в результате в
Северной Италии или Северной Африке.
Путешествия по Гибралтарскому проливу потребовали
создания более крепких судов. Само же путешествие стало
возможным благодаря изобретению в XIII веке более точ-
ных методов картографии, морского компаса и руля. К на-
56
Венеция: история города
чалу XIV века судовые верфи в Арсенале производили
высокие, широкие, но маневренные триремы. Команды на
них набирали из свободных граждан, которым разрешалось
взять с собой определенное количество товара, чтобы вести
собственную торговлю. Только начиная с XVI века, когда
из-за турецких войн потребовалось много рабочей силы,
большую часть гребцов составляли либо рабы, либо пре-
ступники, сосланные на галеры. Самые процветающие из
инвесторов очень выигрывали от системы colleganza, парт-
нерских отношений между купцом-капитаном, который
отправлялся в путешествие, и более состоятельным пред-
принимателем, который покрывал своим капиталом значи-
тельную часть издержек.
Торговое соперничество лежало в основе затяжной борь-
бы за превосходство между морскими республиками —
Венецией и Генуей. Пиза, третий конкурент, начала сосре-
доточивать внимание и ресурсы на западной части Среди-
земного моря с первой половины XIII века, столкнувшись
с успехом своих соперниц в Леванте. Поражение, которое
Пиза потерпела от Генуи при Мелории в 1284-м, навсегда
лишило ее шансов на победу в этой борьбе. Кроме неболь-
ших стычек между Венецией и Генуей, прошли три круп-
ные войны с 1255-го по 1381-й. Сражения — в Палести-
не, на Черном море, в Эгейском море и иногда в опасной
близости от дома — стоили каждому городу тысяч погиб-
ших. Венецианские корабли одержали сокрушительную
победу над генуэзцами при Акре в 1258-м и Трапани в
1266-м, но сочетание корсарских набегов и умелой дипло-
матии вскоре позволило Генуе вернуть себе былое влия-
ние. Генуя очень своевременно заключила союз с визан-
тийским императором в 1261 году, как раз перед тем как он
изгнал из Константинополя латинян и восстановил греческое
правление. У берегов острова Курзола в сентябре 1298-го
История Венеции (I)
57
венецианцы потерпели страшное поражение от превосхо-
дящего их численностью флота Оберто Дориа; 9000 чело-
век было убито и ранено и 400 попало в плен (включая
Марко Поло, который как раз в этом плену и диктовал
рассказы о своих путешествиях). Но снова восстановление
произошло удивительно быстро, главной причиной тому
явилась высочайшая производительность Арсенала, кото-
рый немедленно приступил к работе и в самые короткие
сроки выстроил сотни галер взамен потопленных и захва-
ченных. Чтобы продемонстрировать, как мало венецианцы
напуганы случившимся, некий капитан Доменико Скьяво
спокойно приплыл в генуэзскую гавань и прибил к пирсу
золотой дукат — впервые отчеканенный в 1248-м и долго
еще остававшийся символом богатства и непоколебимости
Венеции.
Более полувека (1299—1350) республики поддержива-
ли между собой хрупкий мир. Это совпало с периодом при-
умножения богатства Венеции, и значительная доля ее ка-
питалов тратилась на украшение города: в 1341-м начались
работы над Дворцом дожей, в 1330-м была перестроена и
приобрела свой сегодняшний облик грандиозная францис-
канская церковь Фрари, а в 1333-м — доминиканская цер-
ковь Санти-Джованни-э-Паоло.
На какое-то время развитие архитектуры и коммерции
замерло с приходом «черной смерти», которую принесли в
город моряки с Востока в 1348-м. Примерно три пятых
населения умерло от чумы. Но очень скоро выжившие сно-
ва взялись не только за строительство, но и приступили к
военным действиям. Генуэзская агрессия в Черном море
послужила началом новой войны, где противникам везло с
переменным успехом. В феврале 1352-го венецианцы по-
терпели еще одно крупное поражение на Босфоре, но в ав-
густе 1353 -го венецианский флот под предводительством
58
Венеция: история города
Николо Пизани со своими арагонскими союзниками разгро-
мили своих врагов у Сардинии, а затем в ноябре 1354-го ге-
нуэзцы неожиданно напали на Пизани и захватили все пять-
десят шесть его кораблей, в то время как большая часть их
флота села на мель в Портолонго на юге Греции. И снова
истощенные противники в 1355-м заключили мир. Он длил-
ся двадцать один год, пока не начался спор о том, кому
занимать остров Тенедос. Так началась «война Кьоджи»,
которая чуть не стала причиной преждевременного упадка
Венецианской республики.
В 1379-м была захвачена Кьоджа, город на самом юге
лагуны, и казалось, конец близок. Но благодаря удаче, а еще
больше — решительности Венеции удалось повернуть дело
в свою сторону и взять верх над Пьетро Дориа и его генуэз-
цами. Они нагрузили корабли камнями, затопили их и за-
блокировали генуэзцев в Кьодже. Убеленный сединами дож
Андреа Контарини лично возглавил предназначенную к за-
топлению флотилию, и это значительно подняло боевой дух
венецианцев, напомнив им о славном прошлом дожа-крес-
тоносца. Но еще больше энтузиазма вызвал только что на-
значенный командором Виттор Пизани, который и разра-
ботал план экспедиции. По требованию народа Пизани толь-
ко что выпустили из тюрьмы, куда его посадили после не-
давнего поражения на Босфоре. Кьоджу удалось вернуть в
июне 1380-го. Пизани не дожил до празднования этого со-
бытия; он скончался от ран после небольшого столкновения
у Апулии в августе того же года. В 1381 году был заключен
новый мирный договор. На этот раз мир длился долго, так
как для Генуи начался продолжительный период политиче-
ской и экономической нестабильности.
Итак, со стороны Генуи Венеции больше ничего не гро-
зило, но оставались другие проблемы. Успешной торговле
мешало растущее влияние турок и особенно захват ими
История Венеции (I)
59
Константинополя в 1453 году. В результате войн с Турци-
ей Венеция теряла все больше денег и колоний. В XVI веке
Англия и Голландия расширили свою торговлю за счет
Венеции, а старые торговые маршруты оказались под уг-
розой, когда в 1453 году Васко да Гама открыл новый мор-
ской путь вокруг мыса Горн, позволивший Португалии
получить прямой доступ к Индии и пряностям. (На эконо-
мику Венеции это повлияло даже сильнее, чем путешествия
Колумба и его последователей в Америку.) Но упадок был
не таким стремительным, как ожидалось. В 1423 году, не-
задолго до смерти, дож Томмазо Мочениго отметил в сво-
ей речи — и современные историки подтвердждают его
слова, — что Венеции удалось уменьшить государствен-
ный долг с десяти до шести миллионов дукатов, государ-
ство получило два миллиона дукатов в виде процентов от
иностранной торговли, доходы с земель составили более
семи миллионов, и ежегодно чеканилось миллион золотых
дукатов и двести тысяч серебряных. В XVI веке, несмотря
на активность Португалии в Индии, старые пути торговли
пряностями продолжали функционировать, многим мор-
ской путь вокруг Африки казался слишком рискованным.
И только в XVII веке, особенно после того как Голландия
получила контроль над Пряными островами, для купцов
Средиземноморья эта область торговли оказалась закры-
та, но даже и тогда Венецию ни в коем случае не стоило
недооценивать в других областях коммерции, чему очень
способствовали хорошие торговые отношения с Оттоман-
ской империей.
Глава вторая
История Венеции (II):
долгий упадок
В конце Средних веков и в самом начале эпохи Воз-
рождения Венеция, находившаяся в зените славы, стала
медленно, но неумолимо утрачивать и свою огромную
власть, и уверенность в собственных силах. Некоторую роль
в этом сыграли общие перемены в международной торгов-
ле. Но многие венецианцы считали, что фатальную ошибку
республика совершила, когда переключила свое внимание
с «прекрасного Востока», который, по выражению Ворд-
сворта, когда-то был ее леном, на материковую Италию.
Даже сегодня чувствуется отличие Венето от Венеции, во
многом — ландшафт, архитектура, традиции, политические
и экономические связи — провинция кажется «более ита-
льянской», более западной. И хотя эти различия послужи-
ли взаимному обогащению обеих культур, политика освое-
ния суши, Терраферма, была одним из тех факторов, ус-
ложнявших жизнь «яркой и свободной девы Венеции», как
сказал Вордсворт. Но Венеция не могла утратить все, что
имела, только потому, что повернулась от Востока к Запа-
62
Венеция: история города
ду. Существовал целый комплекс причин, почему после-
дние несколько веков республика «смотрела, как тускнеет
величие, обращаются в прах титулы и ветшает мощь», и
так же верно, что эти события заслуживают некоторой
«дани сожаления».
Терраферма
Когда над восточной частью венецианского государства
и над венецианской торговлей на Востоке нависла угроза,
стало очевидно, насколько важны отношения с материковой
Италией — Террафермой. В XV веке Венеция обратила
свой лик к Западу еще и в ответ на опасно возросшую силу
таких соседей, как стремительно расширявший сферы свое-
го влияния Милан семьи Висконти или еще более близкая
Падуя, где правила бал амбициозная семья Каррара. В сою-
зе с Миланом и другими близлежащими государствами Ве-
неция в 1339-м году одержала верх над веронскими Скали-
герами, и отняла у них город Тревизо, положивший начало
ее материковому доминиону. Слишком могущественные со-
седи были опасны и по другой причине: Венеция очень зави-
села от материка, откуда ввозила лес и продовольствие.
Милан и Венеция уничтожили род Каррара в войне, бла-
годаря которой в 1404—1406 годах республика захватила
контроль над такими ценными городами, как Падуя, Верона
и Виченца. Вслед за этим в 1420 году Венеция получила
большую часть Фриули. Систему управления этими терри-
ториями опробовали на Тревизо. Допускалась определен-
ная степень автономии: местные дела контролировала город-
ская ассамблея, или совет, но высшая власть принадлежала
Венеции и вершилась руками ректора, который подчинялся
венецианскому Сенату и Совету Десяти. Постепенно про-
винции на материке стали приносить Венеции столь необхо-
История Венеции (II) 63
димый ей доход. В течение последующих столетий знати
принадлежали большие поместья по всей территории Вене-
то и Фриули. С точки зрения культуры республика тоже
немало выиграла: с Падуей она приобрела один из первых
университетов Европы, а позже привлекла таких художни-
ков, как Тициан, Веронезе и Палладио (соответственно, из
Пьеве ди Кадоре, Вероны и Виченцы).
Но подобное развитие событий таило и серьезную опас-
ность. Венеция дорого заплатила за свои приобретения: она
позволила Милану стать еще могущественнее, а дальней-
шая экспансия на материке — как не преминул предосте-
речь Томмазо Мочениго в своей прощальной речи, — не-
избежно повлекла за собой непомерные расходы. Особен-
но Мочениго порицал воинственные стремления Франчес-
ко Фоскари, человека, который, как опасался Мочениго,
мог стать следующим дожем; но сейчас, анализируя то вре-
мя, историкам политика Фоскари кажется не более чем
неизбежным следствием экспансионизма его предшествен-
ников. Вмешательства в дела Северной Италии принесли
республике в последующие несколько десятилетий Брешию
и Бергамо, но ослабили способность Венеции противосто-
ять туркам на Востоке. Однако, заключив и разорвав нема-
ло союзов с Миланом, Флоренцией, Неаполем, Мантуей,
Феррарой и другими городами, Венеции удалось сохранить
практически нетронутыми свои завоевания на материке.
Венеция выигрывала войны благодаря кондотьерам, и
многие блюстители этических и нравственных начал того
времени сочли это окончательным и пагубным отступлени-
ем от республиканских принципов. Такая точка зрения по-
лучила некоторое подтверждение в случае с Франческо Бус-
соне. Буссоне, более известный как Карманьола, оставил
службу у Висконти и в 1425 году подписал контракт, обязы-
вавший его сражаться за республику. Сначала он показал
64
Венеция: история города
себя искусным полководцем, потом обнаружил склонность
к самоуправству. В 1432-м его хитростью заманили в Ве-
нецию, арестовали, когда он выходил из Дворца дожей, и
месяц спустя обезглавили. Преемники Карманьолы, кон-
дотьеры Гаттамелата и Коллеони, показали себя более вер-
ными слугами республики.
Венеция снова оказалась под угрозой, когда Карл VIII
Французский перешел через Альпы, дошел до самого Неа-
поля и крупные европейские альянсы оказались замешаны в
дела Италии. В то же время папы, и особенно воинственный
папа Юлий II (1503—1513), были намерены во что бы то ни
стало получить свою долю от любых земель, приобретенных
в результате иностранных интервенций. Кроме того, Юлия
раздражала независимая политика Венеции и то, что рес-
публика после смерти папы Александра VI в 1503-м посме-
ла захватить папские территории, в том числе города Рими-
ни и Фаенца. В конце концов в 1509-м году Юлию удалось
при помощи Камбрейской лиги настроить против Венеции
мощный и, казалось бы, непобедимый альянс — Францию,
Испанию, Римскую империю, Венгрию, Мантую и Ферра-
ру. Каждое из этих государств надеялось получить или вер-
нуть себе земли Венеции. Победив Венецию и разделив меж-
ду собой ее владения, все они, настаивал папа, должны бу-
дут отправиться в крестовый поход против турок. Для пол-
ноты картины Венецию отлучили от церкви.
Когда венецианскую армию под предводительством кон-
дотьеров в пух и прах разбили французы при Аньяделло,
большая часть венецианских городов на материке восполь-
зовалась случаем, чтобы вырваться из лап льва Сан-Мар-
ко. Сама же Венеция приготовилась к осаде, наполнила
склады пшеницей и постилась по три дня в неделю в на-
дежде умилостивить Божий гнев, который, как считали
многие, обрушился на город за его грехи. Но с Божьей ли
История Венеции (II)
65
помощью или без нее, Камбрейская лига вскоре распалась
из-за разгоревшихся внутренних распрей. Юлий был удов-
летворен тем, что Венеция признала его власть (что свиде-
тельствует об отчаянном положении города), когда в фев-
рале 1510-го послы Венеции в течение часа униженно про-
стояли на коленях у дверей собора Святого Петра, пока
зачитывались вслух условия договора. Однако простой люд
(в значительно большей степени, чем дворянство) таких
городов, как Брешиа и Верона, постепенно приходил к вы-
воду, что венецианское правление было если и не идеаль-
ным, то все-таки предпочтительнее других вариантов. Всту-
пая попеременно в союз то с папской властью, то с Фран-
цией, к 1516 году республика вернула все утраченные было
территории, кроме ненадолго попавших ей в руки папских
земель и части Апулии.
На сей раз все закончилось более или менее благопо-
лучно, но эти события явились предвестниками грядущего
упадка. В самой Венеции во время войны Камбрейской лиги
произошел кризис власти. Небывалого размаха достигло
недовольство большинства горожан поведением элиты, чьи
претензии невыносимо возросли. Не последнюю роль здесь
сыграло и то обстоятельство, что даже в разгар кризиса,
несмотря на отчаянные мольбы дожа Леонардо Лоредана,
Большой совет неохотно принимал решения, которые мог-
ли повлечь за собой денежные затраты. К 1516-му все от-
четливее чувствовалось противостояние между богатой пра-
вящей элитой и недовольной существующим порядком ме-
нее обеспеченной группой дворянства, которая едва ли ре-
шилась бы плести заговоры против государства, но вовсе
не стремилась принести свое благополучие на алтарь оте-
чества. Кроме того, по мере роста земельных владенний в
границах Террафермы интересы дворянства все более и
более сосредоточивались на материке. Однако вполне за-
3 - 6576
66
Венеция: история города
кономерно, что именно в этот период миф о Венеции пользо-
вался наибольшей популярностью, и делалось все возмож-
ное, чтобы его поддержать. Различные аспекты этого мифа,
включая историю, состоящую практически из одних предо-
пределенных свыше побед, были освещены и в искусстве,
которое достигло значительного расцвета в XVI веке — на-
пример, в картинах Тинторетто и Веронезе — и помогало
поддерживать впечатление уверенности и стабильности.
Столь мастерская самореклама послужила одной из причин
победы Венеции в следующем серьезном столкновении с
папой — речь идет о «войне посланий» 1606—1607 го-
дов, — хотя дипломатия, удача и умелое руководство фра
Паоло Сарпи тоже сыграли здесь немаловажную роль.
Турецкие войны
Венеция, запутавшись в делах на материке, вела весьма
изворотливую политику и так и не пришла на помощь Кон-
стантинополю в 1453 году. Возможно, республику удер-
живало предчувствие неизбежного падения Византии, равно
как и вполне обоснованная надежда на то, что нового тор-
гового соглашения с турками достичь будет проще, если не
обнаруживать поддержку Греции. И тем не менее некото-
рые граждане Венеции приняли участие в сражениях и по-
гибли, защищая Константинополь.
В 1463-м конфликт разразился вновь, и Венеция опять
начала войну с турками, которую вела, время от времени
получая помощь от пап, до самого 1479 года. Затем был
заключен новый договор, и на смену вражде вновь пришла
торговля, чему способствовали значительные выплаты со
стороны Венеции. Во время войны Венеция потеряла важ-
ную военную и торговую точку — Негропонте (теперь
Халкис) на острове Эвбея — «витрине венецианской ча-
История Венеции (II)
67
сти Эгейского моря», как назвала его Джен Моррис в книге
«Венецианская история: морское путешествие». Это возы-
мело тяжелые психологические и практические последствия
и положило начало постепенному разрушению морской
империи. Турки при каждом удобном военном или любом
другом случае по одному прибирали к рукам Эгейские ост-
рова, часть из которых Венеция контролировала напрямую,
а другие находились в ведении правителей венецианского
происхождения либо лояльных республике. Турки захва-
тили порты Пелопоннеса: Модон и Корон в 1500 году,
Навплион и Монемвазию (откуда экспортировали знаме-
нитое вино мальвазия) — в 1540-м. А в 1570—1571 годах
нападению подвергся Кипр, еще одна опора торговли не-
поколебимой Венеции. Любой венецианец, сидя в театре
на представлении «Отелло» в Лондоне времен короля Яко-
ва I, должно быть, с невеселой усмешкой слушал, как ту-
рецкий флот, замысливший набег на Кипр, благополучно
потерпел крушение. И хотя для героев пьесы это событие
возымело весьма трагические последствия, едва ли кто-то
испытывал сожаление по поводу самой катастрофы. Поте-
ря Кипра была тем более унизительна оттого, как чудо-
вищно обошлись с венецианским командующим в Фама-
густе Марком Антонио Брагадином, когда он принес по-
бедителям-туркам ключи от города. Триста человек, при-
шедших вместе с ним, были схвачены и обезглавлены. Его
самого, израненного, протащили по городу волоком, а за-
тем заживо содрали с него кожу.
Ситуация на востоке Средиземного моря ухудшалась, и
папе Пию V удалось открыть глаза жителям христианского
мира на растущий риск дальнейшего распространения турец-
кой экспансии. Он предпринял определенные дипломатиче-
ские шаги, и в 1571 году образовался союз, в который, поми-
мо прочих государств, вступили Венеция, ее заклятый враг
з*
68
Венеция: история города
Генуя и не менее враждебная ей Испания. Известия о судь-
бе Фамагусты и Брагадина достигли объединенного флота
за несколько дней до столкновения с турецким флотом у
Лепанто (Навпакт) 7 октября 1571 года, и солдаты, а осо-
бенно — венецианцы, загорелись жаждой мести. Под об-
щим командованием Дона Хуана Австрийского, сводного
брата короля Филиппа II Испанского, после яростной пере-
стрелки и рукопашного боя союзники одержали победу. Из
208 кораблей 110 пришли из Венеции, ее владений на ма-
терике или остававшихся у нее колоний на Крите, на Иони-
ческих островах и в Далмации, хотя — под влиянием ли
общего эмоционального подъема или из-за нехватки лю-
дей — венецианцы пустили на свои корабли немало испан-
ских солдат. Это была жестокая битва, христиане потеряли
9000 человек, турки — 30 000 убитыми, и 8000 турок по-
пали в плен. (Многие из пленников позже пригодились на
галерах.) Лишь 12 христианских галер пошло ко дну, а у про-
тивника ИЗ галер было потоплено и 117 захвачено в плен.
Когда десять дней спустя вести с Лепанто достигли
Венеции, все вздохнули с облегчением. В церквях звонили
колокола и люди танцевали прямо на площадях. Дон Хуан
в соответствии с полученными от брата инструкциями не
стал пользоваться преимуществом и продолжать наступ-
ление дальше на восток: Испанию больше занимали собы-
тия в Северной Африке. Формально Венеция отказалась
от своих притязаний на Кипр в 1573-м. Но после Лепанто
все невероятно воспряли духом. Какое героическое звуча-
ние обрела эта битва в венецианском мифотворчестве, за-
метно хотя бы по тому, как она изображена на картине
Андреа Вичентино в зале дело Скрутиньо во Дворце до-
жей. Картина буквально ощетинилась веслами, мачтами,
мушкетами, стрелами, мечами; несметное количество лю-
дей — ив тюрбанах, и в шлемах — сражаются по колено в
История Венеции (II)
69
крови и воде, на палубах, среди разбросанных весел, под
гром стрельбы. Они бьются одинаково отчаянно и под зна-
менами с изображением полумесяца, и под флагами со львом
Святого Марка.
Новое столкновение между Венецией и Оттоманской
империей произошло в битве за Крит, столица которого Кан-
дия (Гераклион) более двадцати лет (1648—1669) остава-
лась неприступной, несмотря на все усилия турок. Крит, куда
в 1453 году стекались многие византийские беженцы, давно
уже стал настоящим плавильным тиглем, где венецианская и
греческая культура сливались и смешивались, обогащая друг
друга. И потому победа турок означала для республики боль-
шие потери и в культурном, и в финансовом плане. На этот
раз помощь от других европейских государств подоспела
только к самому окончанию событий: в июне 1669-го сорок
кораблей с французскими добровольцами под папским фла-
гом прибыли наконец к великой радости жителей осажден-
ного города. Всего шесть дней спустя французы были обра-
щены в бегство, а их предводитель, герцог Бофор, погиб
вместе с пятьюдесятью своими солдатами, когда случайно
взорвавшийся порох не позволил им внезапно напасть на
турецкие позиции. Уцелевшие отправились восвояси в авгу-
сте, а венецианский флотоводец Франческо Морозини на-
конец смирился с неизбежностью и начал переговоры, до-
бившись в обмен на капитуляцию разрешения защитникам и
немногим оставшимся в живых обитателям Кандии беспре-
пятственно покинуть город.
Но осада Кандии не означала полного прекращения при-
сутствия Венеции в Греции и не стала окончанием карьеры
Морозини. В 1685 году его поставили командовать сила-
ми (ставшими теперь частью Священной лиги, куда вошли
папа, император и Венеция), которые захватили остров
Санта-Маура (Левкас), а затем, после нескольких меся-
70
Венеция: история города
цев осады, Корон. На помощь венецианцам пришли гер-
манские бомбардиры, и республика смогла отвоевать прак-
тически весь Пелопоннес. В 1687 году Морозини напал на
Афины, что привело к печально известным событиям: тур-
ки использовали Парфенон как пороховой склад, а немец-
кие артиллеристы его подорвали. В марте 1688-го, когда
должность по удачному стечению обстоятельств освободи-
лась, Морозини выбрали дожем, и он продолжил свои рат-
ные подвиги. И снова в умах венецианцев мгновенно вспых-
нула ассоциация с Энрико Дандоло и добрыми старыми
днями господства на Востоке.
Морозини умер во время очередной экспедиции в Гре-
цию в 1694-м, в возрасте семидесяти пяти лет. К тому вре-
мени завоевания были завершены. По Карловицким мир-
ным договорам в 1699 году Венеции удалось по крайней
мере сохранить Пелопоннес, но Аттику пришлось волей-
неволей вернуть туркам. В 1715-м турки провели решитель-
ную военную операцию, и Венеция вновь потеряла Пело-
поннес. Но венецианская Греция на Ионических островах
и Кифере (основной источник ввоза изюма, апельсинов,
лимонов и вина) уцелела до самых последних дней суще-
ствования республики. Оттоманская империя к этому вре-
мени и сама вступила в пору долгого упадка, и в последние
годы существования Венецианской республики представ-
ляла несравненно меньшую угрозу ее интересам.
Падение республики
Венецианская республика продержалась до 1797 года в
основном благодаря счастливому случаю и тщательно про-
водимой политике нейтралитета в международных конф-
ликтах. Помогало и то, что крупнейшие европейские госу-
дарства в XVIII веке почти все свое время тратили на вой-
История Венеции (И)
71
ны друг с другом, у них просто не доходили руки напасть
на Венецию. Иногда эти войны открывали для республики
новые торговые возможности, что привело к возрождению
венецианской коммерции к середине XVIII века. Но авст-
рийские и французские войска и суда теперь беспрепят-
ственно проходили по территории Венеции. Венецианское
господство в Адриатике закончилось, а с ним и налоги и
пошлины, которые уже долгое время она с большой выго-
дой для себя взимала с иностранных судов. В результате
финансовых последствий конкуренции с англичанами, гол-
ландцами и французами, а также с австрийцами, основав-
шими свободный порт Триест, Венеция допустила деваль-
вацию своей серебряной валюты, стала продавать некото-
рые государственные должности и даже места в Большом
совете (тем, кто был в состоянии собрать 100 000 дука-
тов). В 1702-м, как бы демонстрируя глубину произошед-
ших перемен, власти отменили традиционные празднова-
ния по случаю избрания дожа, издревле символизирующие
морскую славу Венеции. Подлинной причиной этого шага
послужили развернувшиеся поблизости действия француз-
ского флота (шла война за испанское наследство).
Не удивительно, что репутация Венеции изменилась.
Любовь к удовольствиям всегда составляла часть ее образа,
но теперь куртизанки, роскошь и развлечения окончательно
вытеснили идеи республиканской добродетели и мудрого
правления. «Народ, многие века славившийся своими ис-
кусными мореходами, прозорливыми и бесстрашными куп-
цами-путешественниками» теперь, по определению Джо-
на Джулиуса Норвича, «более известен своей доблестью в
крохоборстве и интригах, азартных играх и сводничестве».
XVIII век в Венеции стал поистине золотым для азартных
игр и изощренных любовных утех (и то и другое безо всяко-
го смущения и с огромным удовольствием описано в воспо-
72
Венеция: история города
минаниях Джакомо Казановы), карнавальных излишеств,
высокой моды и того, что леди Мэри Уортли Монтегю в
1740-м называла «любовными интригами и кукольным те-
атром», которыми заняты все, несмотря на «окружающие
нас войны». Это был еще и золотой век прекрасных инте-
рьеров и живописи, от масштабных барочных фресок Джам-
баттисты Тьеполо (1696—1770), где оживали цвета вене-
цианских мастеров XVI века, до видов города и лагуны ки-
сти Антонио Каналетто (1697—1768) и Франческо Гарди
(1712—1793) и жанровых картин Пьетро Лонги (1702—
1785). Одна из самых известных картин Лонги, выставлен-
ная в музее Венеции XVIII века в Ка’ Реццонико, изобра-
жает группу модно одетых людей — некоторые из них в мас-
ках, — лениво созерцающих носорога. Именно такого рода
праздность, по утверждению критиков, позволяла себе «мяг-
кая» Венеция XVIII века, и жители этого безнравственного
города ленились подолгу предаваться порокам, требующим
хоть сколько-нибудь значительной активности. Лонги, на
чьих картинах можно увидеть и картежников, мог бы с этим
согласиться, но его подтрунивание отличалось большей и
типично венецианской тонкостью.
Творения большинства этих художников, особенно Ка-
налетто, широко представлены и за пределами Венеции. Сам
Каналетто с 1746 по 1755 год работал в Англии. Впрочем,
многое из того, что он создал на родине, тоже постепенно
переместилось на Альбион благодаря покровительству куп-
ца Джозефа Смита (1682—1770), который прожил в Вене-
ции большую часть жизни начиная с 1744 года в качестве
британского консула. Он перепродал немало полотен и ри-
сунков королю Георгу III. Изображаемая местность неред-
ко слегка видоизменялась для придания перспективе боль-
шей стройности, сами же картины и их сюжеты были под
стать Смиту, классическому представителю английской ари-
История Венеции (II)
73
стократии и джентри, которые воспринимали Венецию преж-
де всего как одну из важнейших составляющих «большого
путешествия». Подобных путешественников было очень
много — не в последнюю очередь потому, что странствова-
ли они не в одиночку, а в сопровождении настоящей свиты и
бессчетных друзей. А если еще добавить к ним немногочис-
ленных простых туристов... Благодаря им процветали мага-
зины, кофейни, гондольеры и портные, не говоря уже о ху-
дожниках и граверах, что оказывало чрезвычайно благотвор-
ное влияние на местную экономику, хотя некоторые счита-
ли, что о местной культуре того же сказать нельзя. В период
карнавала в 1740-м Уортли Монтегю писала своей подруге
графине Помфре о «болванах» — ее молодых соотечествен-
никах, которые считали ее апартаменты в палаццо Мочени-
го чем-то вроде убежища:
...Большинство из них хранят нерушимую верность
языку, которому обучила их в детстве нянюшка. За гра-
ницу они выезжают только затем (насколько я понимаю),
чтобы купить новые наряды, в которых они будут блис-
тать в неких тайных кофейнях, где наверняка не встре-
тят никого, кроме себе подобных, и, увенчав ослепитель-
ной победой долгое ухаживание за служанкой-камерист-
кой какой-нибудь оперной дивы, которую, возможно,
даже запомнят на всю жизнь, вернутся в Англию и бу-
дут считать, что теперь в совершенстве разбираются в
людях и нравах.
В июне, утверждает она, город «все еще наводнен анг-
личанами, которые измучили меня хуже семи казней еги-
петских».
Этот город кофеен и борделей, туристов и художников,
изысканной игры света, блеска старых традиций, превра-
74
Венеция: история города
тившихся в пустую суету, не мог оказать никакого сопро-
тивления энергичному, несокрушимому, нетерпимому ге-
нералу Бонапарту, который прибыл в Северную Италию,
чтобы в 1796 году начать войну с Австрией. Венеция, мо-
жет, и была республикой, но относилась враждебно к но-
вому французскому типу республиканства и приютила в
Вероне будущего Людовика XVIII. (На Наполеона заяв-
ление Венеции о нейтралитете не произвело никакого впе-
чатления и он добился изгнания Людовика.) Венеция спо-
койно смотрела, как французы опустошают Терраферму и
жестоко подавляют Пасхальное восстание в Вероне. Се-
нат уступил приходившим от Бонапарта ультиматумам, но
француза спровоцировал на более серьезные угрозы коман-
дующий крепости Сант-Андреа, 20 апреля открывший
огонь по французскому судну. То ли в результате этого
обстрела, то ли в последующем сражении пятеро францу-
зов погибло, оставшиеся члены команды были взяты в плен.
Это немедленно побудило Бонапарта потребовать того, что
Норвич точно назвал «самоубийством государства».
И хотя уже многие годы республикой управляли в ос-
новном небольшие группы дворян (вопреки духу консти-
туции), дож Лодовико Манин решил вынести требования
французов на обсуждение Большого совета. В него все еще
входили 1169 членов, хотя доля родовитых семейств среди
них стремительно уменьшалась, поскольку к тому времени
получила довольно широкое распространение практика
женить только одного из сыновей — чтобы передать сле-
дующему поколению еще больше богатства. 619 членов
Большого совета собрались 1 мая во Дворце дожей в том
же величественном зале, где не раз заседали их предки, и к
ним обратился дож, который держался весьма неуверенно.
После его речи присутствующие проголосовали за то, что-
бы выполнить любую волю Бонапарта, и для начала согла-
История Венеции (II) 75
сились дать свободу всем политическим заключенным (хотя
последние существовали скорее лишь в воображении мя-
тежного генерала). 9 мая появились и подробные указа-
ния. Венецианскую олигархию следовало заменить муни-
ципальным советом, а французская армия должна была вой-
ти в город. Большой совет вновь собрался 12 мая. На этот
раз явились только 537 человек. Охваченный страхом дож
снова обратился к ним и, заикаясь, предложил то, что фак-
тически означало распад государства. Вскоре у стен дворца
послышались мушкетные выстрелы. Советники, испугавши-
еся, что это пришли французы или беснуется толпа, поста-
рались проголосовать за данное предложение как можно
скорее (как выяснилось позднее, стреляли верные далма-
тинские солдаты: покидая город, они решили устроить про-
щальный салют). 512 человек проголосовали «за», и не-
уместным казалось вспоминать о том, что по закону голо-
сование могло считаться состоявшимся только при нали-
чии кворума в 600 человек. Большинство патрициев
немедленно обратилось в бегство, сбрасывая на ходу свои
легко узнаваемые одежды. Среди немногих оставшихся был
дож. Буря эмоций и паника улеглись, и теперь он излучал
спокойствие. Лодовико Манин снял с себя дожеский го-
ловной убор корно, а шапочку, на которую он надевается,
передал слуге со словами: «Возьми, мне это больше не по-
надобится». Конец республики кажется бесславным, но
поспешное отречение олигархов от власти почти наверняка
предотвратило серьезное кровопролитие.
Иностранное правление
Первый период французского правления оказался ко-
ротким, хотя времени хватило, чтобы перевезти в Париж
огромное количество шедевров, включая бронзовых коней
76
Венеция: история города
с площади Сан-Марко. Согласно договору, заключенному
в Кампо-Формио в октябре 1797-го, Франция согласилась
передать Венецию Австрии. Был и второй период фран-
цузского правления, с 1805-го по 1814-й, когда город во-
шел в состав королевства, где царствовал приемный сын
Наполеона Эжен де Богарне, среди титулов которого зна-
чился и «Князь Венецианский». Раньше подобное каза-
лось немыслимым. За это время Венеция претерпела са-
мые значительные за последние несколько веков физиче-
ские изменения. Религиозные организации и братства были
распущены, а здания, где они располагались, либо разру-
шили, либо приспособили для каких-либо светских целей.
Многие дома снесли, чтобы освободить место для город-
ского парка — Джардини Публичи, спроектированного в
1808—1812 годах Джованни Антонио Сельва (он же по-
строил театр «Ла Фениче»). Разрушили и немало церк-
вей, включая одну на Пьяцце — Сан-Джеминьяно, на мес-
те которой в 1807 году появилось здание Ала Наполеоника
(«крыло Наполеона»), соединившее аркады Старой и Но-
вой прокураций (построеных в начале и в конце XVI века,
чтобы разместить там прокураторов Сан-Марко — самых
высокопоставленных чиновников республики). Новое кры-
ло стало частью спроектированного в эти годы и закончен-
ного в конце 1830-х королевского дворца, ряд помещений
которого в наши дни занимают исторические коллекции
музея Коррер.
На исполнение этих грандиозных замыслов широкой
рекой текли деньги, а между тем Венеция беднела и насе-
ление ее сокращалось. В начале австрийского правления
(возобновившегося в 1814-м) дела пошли немного лучше.
Но 1814—1818 годы оказались неурожайными, и с 1797
по 1824 годы количество жителей уменьшилось с 137 240
до ИЗ 827 человек. К 1830 году экономика окрепла. Воз-
История Венеции (II) 77
рождению коммерции способствовало то, что в 1830-м
Австрия объявила Венецию свободным портом (хотя Три-
ест сохранил более широкий круг привилегий), и когда в
1846 году открылся железнодорожный мост между горо-
дом и материком, одни с радостью сочли это признаком
прогресса, другие же пришли в возмущение. В их числе был
и Джон Рескин, который с негодованием заявил, что эта
дорога хуже железной дороги в Гринвиче (а та, по мнению
Рескина, была воплощением уродства). На пьяцце Сан-
Марко в 1843-м установили газовые фонари, но атмосфера
оставалась угнетающей: Вена навязала Венеции австрийский
свод законов, цензуру и централизованное, опутанное слож-
ной бюрократической сетью управление ее доминионами.
Полицейские сыщики и зачастую консервативно настро-
енное проавстрийское духовенство занимались доносами и
искореняли инакомыслие. Общее недовольство в конце
концов вылилось в революцию 1848—1849 годов.
Революция и осада
Во главе революции встал либеральный юрист Даниеле
Манин. Он был однофамильцем последнего дожа, чем их
сходство, собственно, и ограничивалось. В 1847—1848 го-
дах общественное недовольство стремительно нарастало,
Манин и согласные с ним горожане стали требовать ре-
форм, и в январе 1848-го его и Николо Томазео посадили
в тюрьму. Однако 16 марта огромная толпа протестующих
заставила губернатора, графа Палффи, выпустить их на
свободу. Два дня спустя австрийские солдаты открыли
огонь по бунтовщикам и убили восьмерых. 22 марта начал-
ся бунт в Арсенале, и итальянские солдаты австрийской
армии отказались открыть огонь. Дальше была революция.
В тот день Манин, вскочив на столик одного из кафе на
78
Венеция: история города
Пьяцце, провозгласил новую республику, заявил о стрем-
лении к объединению Италии (волнения проходили также
в Милане, Неаполе и Риме) и в завершение своей речи
воскликнул «Viva la Repubblica! Viva la liberta! Viva San
Marco!»1 Для его консервативно настроенных коллег по-
добные лозунги звучали почти как приглашение вернуться
к французской Венеции 1797 года с ее танцами вокруг Де-
рева Свободы на Пьяцце или, хуже того, заставляли вспом-
нить влюбленный в гильотину Париж 1793 года. Но поли-
тика Манина отличалась большей умеренностью: поддер-
живая либеральные идеи, включая, например, освобожде-
ние евреев (он и сам был наполовину еврей) и избирательное
право для всего взрослого мужского населения, он защи-
щал и право собственности и, в целом, стремился к сохра-
нению социального статус кво.
По требованию народа 23 марта 1848 года Манин был
избран президентом. Он временно отсутствовал тем летом,
когда венецианская ассамблея проголосовала за объедине-
ние с королевством Пьемонт, а Пьемонт тут же заключил
мир с Австрией. Но все остальное время он оставался на
посту, и чаще всего ему удавалось сдерживать соперниче-
ство и раздоры как политические, так и классовые, чему
очень способствовала его личная отвага и вера в людей,
равно как и их ответное доверие. 2 апреля 1849 года, когда
другие мятежи на территории Италии большей частью стих-
ли и австрийцы готовились осадить город, члены ассамб-
леи встретились в том же самом зале Большого совета, где
в 1797-м их предшественники распустили республику.
Последовало бурное обсуждение, и наконец было решено
сопротивляться «любой ценой» и передать Манину «не-
1 Да здравствует Республика! Да здравствует Свобода! Да здрав-
ствует Сан-Марко! (ит.)
История Венеции (И)
79
ограниченную власть». Ко всеобщему удивлению, к Вене-
ции будто бы вернулся старый боевой дух, который, каза-
лось, вот уже сто лет как умер.
Этот новый подъем, вероятно, объясняется сочетанием
нескольких факторов: Манин умел вдохновить людей, а им,
в свою очередь, уже было трудно совладать с накопившимся
за полвека недовольством правлением иноземцев. Сыграло
свою роль и то, что низшие и средние классы теперь тоже
участвовали в принятии решений. Всю весну и лето город
держался под обстрелом австрийских войск, но в конце кон-
цов вынужден был эвакуировать людей из Каннареджо и
других районов, расположенных вдоль материка. Поставки
продовольствия сократились, а вспышка холеры унесла по-
чти три тысячи жизней. В конце мая венецианцы оставили
материковый форт Маргера. Они уничтожили пять арок
железнодорожного моста, вернув городу статус острова.
Мост Риальто и Скуола Гранде ди Сан-Рокко пострадали,
но не сильно. Настроение в городе было сродни душевному
подъему лондонцев времен бомбежек и «Битвы за Англию»:
на Пьяцце каждый день играл оркестр, горожане взбира-
лись на башни, чтобы полюбоваться салютом, и как мини-
мум один снаряд подбирал какой-нибудь гондольер и демон-
стрировал этот «немецкий арбуз» (anguria tedesca) всем же-
лающим. 12 июля австрийцы предприняли попытку произ-
вести то, что вполне можно назвать первой в истории
бомбардировкой с воздуха. К счастью, в отличие от своих
более поздних вариантов эта попытка оказалась малоэффек-
тивна: очень немногие из нагруженных бомбами воздушных
шаров достигли точки назначения, а некоторые даже занес-
ло ветром на австрийские позиции. Одним из последних
жестов венецианского сопротивления был рейд, участники
которого напали в лагуне на форт Брондоло и скрылись, по-
хитив все хранившееся там зерно, вина и стадо крупного ро-
80
Венеция: история города
гатого скота. Событие отпраздновали в тот же вечер поста-
новкой оперы Россини про Вильгельма Телля, швейцарско-
го героя, боровшегося с австрийцами.
Но запасы продовольствия вскоре подошли к концу, и в
хлеб уже добавляли четыре пятых ржи («una bomba nello
stomaco»1, говорил Томазео). Вторая вылазка провалилась.
Поддерживать порядок в городе становилось все труднее,
резиденцию патриарха в палаццо Кверини-Стампалья раз-
грабили под тем предлогом, что он ратовал за капитуляцию.
Прокатились голодные бунты. И вот, наконец, 22 августа
Манину пришлось начать переговоры о сдаче города. В со-
ответствии с оговоренными условиями, он сам и сорок его
коллег отплыли в изгнание два дня спустя. Всем подданным
империи, поднимавшим оружие на австрийцев, также пред-
писывалось покинуть город. Но финальную кровавую рез-
ню удалось предотвратить. Даниеле Манин, уехав в Париж,
преподавал итальянский и умер в бедности в 1857 году, по-
теряв жену и дочерей. Его могила находится у северного
фасада Сан-Марко, а памятник возвышается около его дома
на кампо Манин.
30 августа австрийский маршал Радецкий с триумфом
проплыл по Большому каналу, и в ознаменование победы в
Сан-Марко зазвучал гимн «Те Deum». Радецкий проявил
себя как отличный командующий, пользующийся уваже-
нием даже среди врагов. По крайней мере, намного прият-
нее было приветствовать в качестве победителя именно его,
а не какого-нибудь бесцветного штабного офицера, бездар-
ного Габсбурга или печально известного своими зверства-
ми маршала фон Хайнау, который возглавил нападение на
Венецию в самые первые дни. (Позже его отправили по-
давлять другую революцию 1848 года в Венгрии). Вскоре
1 Бомба в желудок (urn.).
История Венеции (II)
81
по железнодорожному мосту снова пошли поезда. Тем, кто
пожертвовал драгоценности, ценные бумаги и деньги на
дело революции, и так пришлось нелегко, а тут еще сожгли,
как выразилась Эффи Рескин, «в бушующем огне, в ог-
ромном котле» всю бумажную валюту, выпущенную по-
встанческим режимом. Недавно поженившиеся супруги
Рескин были одними из первых иностранцев, вернувшихся
в город. Буквально через несколько лет туризм уже вновь
процветал, да и в самом 1848-м, по свидетельству «Ком-
мерческого гида по Венеции», выпущенного в том же году
(и упомянутого в авторитетном исследовании Пола Гинс-
борга «Даниеле Манин и венецианская революция 1848—
1849 годов»), в городе насчитывалось семьдесят шесть
ювелирных мастерских, шестьдесят пять ателье и восемь-
десят два сапожника. Благодаря туристам, отмечает Гинс-
борг, работы прибавилось и у гондольеров. 40 000 чело-
век, которые по своей бедности действительно нуждались
в помощи, так или иначе ее получили. Но австрийские пуш-
ки все еще держали Пьяццу под прицелом, а большинство
венецианцев по-прежнему жаждали независимости или хотя
бы воссоединения с независимой Италией.
Объединение с Италией
Исполнение этой честолюбивой мечты казалось соблаз-
нительно близким в 1859 и 1860 годах, когда большая часть
областей Аппенинского полуострова вошла в состав ново-
го Итальянского королевства. А возможным это стало в
1866-м, когда Австрия проиграла Пруссии, союзнику Ита-
лии, при Кенигграце. Тогда была выработана сложная дип-
ломатическая схема, согласно которой Австрия обязыва-
лась передать Венето Франции, а той, в свою очередь, над-
лежало передать его Италии. Присоединение к Италии
82
Венеция: история города
предстояло ратифицировать всенародным голосованием, но,
по сути, это была уже формальность. И вот, в 8 часов утра
19 октября 1866 года в номере отеля «Европа» на Боль-
шом канале французский генерал Луи Лебеф де Монжер-
мон передал Венето уполномоченным итальянского прави-
тельства. Началось безудержное веселье, повсюду запест-
рели итальянские трехцветные флаги. 7 ноября, когда за
присоединение проголосовали 674 426 человек и только
69 против, король Виктор-Эммануил II вошел в город. На
вокзале его встретили высокопоставленные официальные
лица и бывший британский премьер-министр лорд Джон
Рассел, затем король взошел на борт лодки и проследовал
по Большому каналу. На веслах сидели гребцы в истори-
ческих венецианских костюмах. Звонили колокола, стре-
ляли ружья, следом плыли гондолы; на следующий день в
его честь устроили празднества в заново открытом театре
«Ла Фениче».
Но у многих эйфория быстро прошла. Король приехал
не только затем, чтобы осмотреть достопримечательности,
но и как представитель большого государства, которое со-
биралось присоединить — или, как вскоре стало казаться
многим, поглотить Венецию. Положение Венеции как ад-
министративного центра, по правде сказать, еще и ухуд-
шилось по сравнению с периодом австрийского правления.
Возникли и более насущные проблемы. После введения в
1868 году налога на муку начались бунты. Повсюду цари-
ла нищета, и по-настоящему эффективно удалось справить-
ся с безработицей только в 1869 году, когда начались ра-
боты по строительству нового венецианского порта — Ста-
цьоне Мариттима.
Порт, Стацьоне Мариттима в целом был закончен в
1880-м, но ощутимую экономическую пользу стал прино-
сить только в 1890-х. С Джованни Стукки прогресс при-
История Венеции (II)
83
шел в Джудекку, где Эрнст Вуллекопф возвел гигантскую
мельницу в неоготическом стиле — Мулино Стукки — она
стоит там и до сих пор. Самого Стукки убил рядом с вокза-
лом недовольный работник его же предприятия в 1910-м.
Всего несколько лет спустя мельницу забросили — инте-
ресы промышленности сконцентрировались на материке.
Фашизм и война
В XX век Венеция вошла снова процветающим морским
портом, оставаясь, конечно, и важным туристическим цент-
ром. Томас Кук привез сюда свои первые группы в конце
1860-х, и представители среднего класса тут же взялись по-
сещать этот город с не меньшим энтузиазмом и даже в боль-
ших количествах, чем их предшественники дворяне, отправ-
лявшиеся в свое «большое путе-
шествие».
Как и во многих других райо-
нах Италии, по окончании Пер-
вой мировой войны здесь буй-
ным цветом расцвел фашизм.
Какое-то время, возможно, в ду-
хе традиций старой Венеции, ме-
стные фашисты сохраняли опре-
деленную степень независимо-
сти от своего центра. И первое
время доминирующей фигурой
фашистской Венеции казался
Габриеле Д’Аннунцио, а вовсе не Муссолини. Задолго до
того, как в стране появились первые проблески фашизма,
Д’Аннунцио был уже хорошо известным поэтом, романи-
стом, драматургом, политиком (очень быстро переключив-
шись с правого крыла на левое) и отважным пилотом Пер-
84
Венеция: история города
вой мировой войны, который осуществлял вылеты даже в
Вену. Д’Аннунцио, урожденный Гаэтано Рапанетта, очень
рано принял этот псевдоним, имея в виду образ крылатого
святого вестника и сюжет Благовещения («Благовещение»
по-итальянски звучит как «Annunciazione»). Он родился в
Абруцци и жил в Риме и Таскании. Но Венеция нрави-
лась ему давно. Она столь же экстравагантно «отличалась»
от других городов, насколько он желал отличаться от про-
чих людей. Во время войны в перерывах между сражения-
ми он жил в маленьком домике Казетта делле Розе, утопа-
ющем в садах недалеко от Большого канала, рядом с ог-
ромным палаццо Корнер «Ка’ Гранда». И именно из Ве-
неции в сентябре 1919-го он направился на свой знаменитый
подвиг — захватывать Фиуме (теперь — Риека, в Хор-
ватии), расстроенный тем, что город не перешел Италии
по Сен-Жерменскому договору, подписанному с Австри-
ей в том же месяце. И до декабря 1921 года он управлял
Фиуме на правах военного диктатора. Бенито Муссолини
смотрел на Д’Аннунцио со смесью восхищения и зависти,
хотя в конце концов сумел превзойти его политически, осы-
пая при этом наградами и титулами.
Другой лидер фашистской эры, Джузеппе Вольпи, на-
правлял свою энергию в несколько иное русло. Вольпи,
родившийся в Венеции в 1877-м, был одним из самых удач-
ливых предпринимателей в Италии того времени. Не до-
стигнув и тридцатилетнего возраста, он основал «Societa
Adriatica di Elettricita» и вскоре уже получил монополию
на снабжение электроэнергией Венето и Эмилии-Романьи.
Активно занимаясь и другими отраслями — металлурги-
ей, кораблестроением, нефтехимическим производством, —
в 1920-е и 1930-е он стал одним из главных вдохновителей
расширения индустриальной зоны в Порто Маргера, вблизи
Местре. Сначала многие из работавших там ежедневно
История Венеции (II)
85
приезжали на работу из Венеции, но позже они все-таки
решили, что жить на материке гораздо дешевле и удобнее.
А в 1960-х в результате дальнейшей экспансии и присое-
динения возвращенных земель к югу от Маргеры населе-
ние промышленных районов превзошло по численности
население исторического центра и островов лагуны.
Вскоре способности Вольпи привлекли внимание пра-
вительства. В 1912-м он сыграл важную роль на перегово-
рах при заключении Лозаннского договора, согласно кото-
рому Киренаика и Триполитания, позднее образовавшие
Ливию, перешли из рук турок итальянцам. Во время Пер-
вой мировой войны он занимал пост президента националь-
ного военно-промышленного комитета по мобилизации эко-
номики. В 1921-м был назначен губернатором Триполита-
нии. Выбрав удачный момент, он присоединился к наби-
равшему силу фашистскому движению; энергия, деньги и
невероятная уверенность в себе (ему нравилось полушутя
говорить о себе как о новом доже) сделали его партийным
и политическим лидером Венеции, и это, в свою очередь,
гарантировало партии доминирующую роль в местной по-
литике. В 1922-м он стал сенатором, в 1925—1928 годах —
министром финансов при Муссолини (и графом Мизурат-
ским в 1925 году). Но позже не сошелся с Муссолини во
взглядах: дуче настаивал на удержании искусственно вы-
сокого курса валют, тогда как Вольпи был категорически
против. Он так и не вошел в число близких соратников
Муссолини и сосредоточил свое внимание на Венеции и
промышленности. В 1930—1933 годах при поддержке
Вольпи был построен автомобильный мост, соединивший
город и материк. Вольпи также взял на себя роль прези-
дента международной выставки Биеннале.
Пока фашисты находились у власти, неоднократно пред-
принимались попытки отвести итальянскому искусству цент-
86
Венеция: история города
ральное место на выставках. Впрочем, многие другие стра-
ны также продолжали привозить экспонаты в свои павиль-
оны вплоть до 1940-го. Но продажи доморощенного ис-
кусства выросли несомненно. В 1932-м, на десятый год от
начала режима Муссолини, немало призов получили кар-
тины, изображающие марширующих чернорубашечников,
динамично движущиеся подъемные краны и самолеты, иде-
ализированные итальянские ландшафты, и женщин и де-
тей, приветствующих дуче. (Собственные вкусы Вольпи
не отличались изысканностью.) Однако в 1930-е годы ста-
раниями футуриста и фашиста Филиппо Томмазо Мари-
нетти до итальянской части выставки порой доходили и
более изощренные работы. В вызывающей и порой доволь-
но комичной манере Маринетти призывал футуристов «вто-
рого поколения» превратиться в aeropittori — художников,
изображающих мир с высоты птичьего полета.
Тем не менее к 1942-му искусство на Биеннале стало
достаточно ортодоксальным, чтобы доктор Иозеф Геббельс
выразил свое одобрение. (Гитлер посетил выставку перед
войной, и ему не понравилось, что среди выставленного
слишком много «вырождающегося» искусства.) В сентяб-
ре 1943-го после перемирия, объявленного маршалом Ба-
дольо и королем Виктором-Эманнуилом III, Венеция, в
составе Центральной и Северной Италии, попала в зону
германского контроля. Вольпи, которого вполне справедли-
во заподозрили в стремительной утрате преданности фашиз-
му (деловые инстинкты подсказали ему, что дни режима со-
чтены), немедленно арестовали, но он сумел бежать и пере-
браться в Швейцарию в 1944-м. Умер он в 1947 году в Риме.
Венеция практически не видела ожесточенных боев послед-
ней фазы Второй мировой войны, но, конечно же, многие
венецианцы были задействованы в сражениях в других ча-
стях Северной Италии — как верные солдаты режима,
История Венеции (II)
87
действующие по приказу Германии, либо в составе сил
Сопротивления.
В самом городе прокатилась волна саботажа, за ней пос-
ледовали репрессии. 8 июля 1944 года пять человек было
убито в Каннареджо; еще около тридцати партизан были
казнены позже, а 3 августа за ними последовали семеро за-
ложников на рива дель Имперо, которую позже в память о
них назвали рива деи Сети Мартири (Набережная семерых
мучеников). Кроме того, погибло почти 200 представителей
еврейской общины Венеции. В апреле 1945 года важнейшей
задачей местного Сопротивления было взять под контроль
порт, которому, как и Порто Маргера, немцы в какой-то
момент угрожали разрушением. Освободили город 28 апре-
ля, хотя под Падуей бои продолжались и в мае.
Современные опасности
После войны в городе последовательно властвовали раз-
ные политические партии. И повсюду в Италии значитель-
ная часть ассигнований, предназначенных на обществен-
ные нужды, осела в частных карманах. В 1980-х и 1990-х
годах, как и в других городах севера, политики-сепаратис-
ты воспользовались всеобщим негодованием, вызванным
тем, что государственные деньги, как говорили северяне,
утекают в бездонную яму юга. Нынешний мэр, Массимо
Каччари, известен как человек независимый и честный, ему
приходится вместе с другими заинтересованными людьми
и группами вести тяжелую битву, чтобы спасти Венецию
от угрожающих ей опасностей.
С 1945 года раскол между Венецией и промышленно
развитой Террафермой становился все шире. В Венеции и
на островах обитает теперь менее 7000 человек — сравни-
те с 400 000 жителей в Местре. Каждый год из города
88
Венеция: история города
уезжает более тысячи людей, а на их место если кто и при-
езжает, так только богатые чужаки, которые могут себе
позволить содержать старинные дома. Все старые дома
имеют статус памятников архитектуры; получить разреше-
ние на модернизацию довольно трудно, поскольку слож-
ные бюрократические процедуры отнимают слишком мно-
го времени и денег. Стоимость жизни очень высока, а сред-
ний возраст населения — сорок четыре года. Туризм по-
могает городу держаться на плаву, но при этом наносит
ущерб его хрупким строениям. Есть и другие проблемы,
например промышленное загрязнение окружающей среды;
намерение Вольпи превратить Маргеру в своеобразные
«легкие» Венеции постепенно стало восприниматься как
насмешка. И в то же время постоянно снующие по водам
лагуны катера и глубокие каналы, прорытые в XX веке,
нарушили естественный водный баланс лагуны. Добавить
к этому оседание почвы, никуда не годную канализацию,
эрозию, виной которой стали вапоретти и другие моторные
лодки, наводнения, вызванные отчасти мелиорацией (та-
кой вывод можно сделать, если учесть, что с 1930-х годов
они стали случаться значительно чаще). Только после зна-
менитого наводнения ноября 1966 года к этим проблемам
отнеслись серьезно и за пределами Венеции. Тогда прилив
поднялся более чем на шесть футов выше обычного, Пьяц-
ца погрузилась под воду на несколько футов, а общий ущерб
составил около 40 млн долларов. Защитой, ограждающей
от затопления Пеллестрину, служили огромные каменные
стены, murazzi, предусмотрительно установленные у вхо-
да в лагуну в XVIII веке. Но начиная с XIX века их ре-
монту перестали уделять должное внимание, так что на сей
раз их просто смыло приливом. Пеллестрина оказалась под
водой. Чудом обошлось без жертв — в отличие от Фло-
ренции, где по другим причинам, но в то же самое время
История Венеции (II)
89
случилось сильнейшее наводнение. И хотя события во
Флоренции, повлекшие за собой гибель людей и повреж-
дение огромного числа произведений искусства, гораздо
подробнее освещались в прессе, наводнение в Венеции все
же привлекло внимание международных организаций.
Именно после этого наводнения ЮНЕСКО почувствова-
ло необходимость заявить, что «моральная ответственность
за Венецию лежит на всем международном сообществе».
За границей было создано более тридцати организаций
для сбора средств и организации реставраций, включая
«Венеция в опасности» и «Спасем Венецию». Эти иност-
ранные и отечественные организации сделали немало —
особенно в том, что касалось реставрации и защиты отдель-
ных исторических зданий. Некоторых успехов удалось до-
стичь и в борьбе с загрязнением окружающей среды. Не-
давно прозвучало предложение показывать туристам, при-
бывающим в Венецию, фильм о том, в каком тяжелом по-
ложении она находится (среди прочего и по вине туристов).
Но бюрократия и местная и национальная политика задер-
жали широкомасштабное исполнение данного проекта. Кро-
ме того, все еще бушуют споры о том, как именно следует
контролировать воды лагуны, чтобы не нарушать их хруп-
кий природный баланс. Проект строительства молов, кото-
рые должны будут препятствовать приливам, обсуждался
особенно долго и вызывал много протестов. Достаточно круп-
ные наводнения случались в 1979, 1986 и 1992 годах, не
считая примерно сотни случаев acque alte («высокая вода»)
ежегодно. И хотя теперь уже очевидно, что широко рас-
пространенное в 1970-х мнение о скором затоплении Ве-
неции оказалось неверным, будущее города остается не-
определенным.
Глава третья
Венеция монументальная:
Пьяцца и Пьяццетта
Пьяцца Сан-Марко — это большая площадь, где вы
сможете в зависимости от содержимого кошелька и лич-
ных предпочтений выпить кофе или насладиться совершен-
но бесплатно летней музыкой, которую играют рядом с кафе.
Большая часть музыкантов играет хорошо, но с намерен-
ной несдержанностью: театральные жесты дирижеров,
скрипачей и других виртуозов, манера исполнения поры-
вистая, бурная, со множеством внезапных эмоциональных
переходов — это стиль сентиментальной романтики с охап-
кой красных роз наготове. Здесь звучит много популярной
старинной, а также и современной классики вроде «I did it
my way» Ллойда Вебера. Конечно, серьезные поклонники
классики и не менее серьезные поклонники рока, скажем
так, любят ненавидеть подобную музыку, но теплой но-
чью на Пьяцце она может неожиданно прийтись по сердцу
любому — пусть и ненадолго. И вдосталь наслушавшись,
вы неспешно направитесь прочь, к базилике, а музыка, до-
носящаяся теперь издалека, заставит вас почувствовать себя
героем фильма, действие которого происходит в Венеции.
92
Венеция: история города
От базилики можно пройти на Пьяццетту. Это место
между Сан-Марко и берегом канала, отмеченное двумя
античными колоннами. Святой Феодор стоит на колонне
вместе с побежденным крокодилом, но он ведь и сам по-
бежден — или, по крайней мере, ему пришлось уступить
свое место святого покровителя Святому Марку, чей
крылатый лев венчает вторую колонну. (Некогда на эша-
фоте между этими двумя колоннами проходили казни.)
Дальше вы можете прогуляться к воде, где, как правило,
множество ярко освещенных лодок, к Понте делла Па-
лья, хотя бы теперь, к вечеру, не изнывающему под тол-
пами народа, откуда открывается вид на сверкающий ог-
нями Понте ди Соспири (Мост Вздохов) и вдоль рива
дельи Скьявони, где кое-кто еще коротает вечер в ресто-
ранах.
Если вы пройдете с Пьяццы не на Пьяццетту, а мимо
Торе дель Оролоджо (Башни часов), построенной в конце
1490-х Мауро Кондуччи, то скоро попадете в совершенно
иной мир: улицы забиты магазинами до отказа — ювелир-
ные изделия, дорогие письменные принадлежности, про-
изведения искусства, маски, одежда от-кутюр, пиццерии,
кондитерские, pasticcerie, — это Мерчериа. Уже в XVII ве-
ке Джон Ивлин назвал Мерчерию
...восхитительнейшей и прелестнейшей улицей в мире,
она затянута во всю длину по обеим сторонам расшиты-
ми золотом тканями, превосходным дамастом и шелка-
ми, которые лавочники вывешивают напоказ со второго
этажа своих лавок; свою лепту вносят парфюмеры и ап-
текари, и несметное количество клеток с соловьями, их
песни сопровождают вас от лавки к лавке, так что, за-
крыв глаза, можно представить себя на опушке леса, хотя
на самом деле вас окружает море.
Венеция монументальная
93
Сегодня опушка леса не кажется столь уж близкой. Бо-
лее того, порой эта часть города вызывает неодолимое чув-
ство клаустрофобии и пресыщения.
Да и музыка на Пьяцце временами рождает ощущение,
что Венеция — город, где нужно проводить только выход-
ные да медовый месяц. «Водопой для туристов, — говорил
Рихард Вагнер, — изысканные развалины восхитительно-
го города». Таким стал город уже в 1858 году. В дни Вагне-
ра музыка, выражаясь метафорически, отличалась большей
четкостью граней. Ему было приятно, вспоминает компози-
тор в своей автобиографии, обнаружить «немецкую состав-
ляющую хорошей военной музыки» в виде двух австрийских
полков, что по очереди играли вечерами «посреди сверкаю-
щих огней, в центре пьяццы Сан-Марко, чьи акустические
свойства превосходны для представлений подобного толка».
Но порадовало его и другое: «Нередко, когда я заканчивал
ужин, мне доводилось вдруг услышать звуки собственных
увертюр» (тех пронзительных отрывков, что служат вступ-
лениями к «Риенци» и «Тангейзеру»).
Я сидел в ресторане у окна и отдавался впечатлениям
от музыки, и не могу сказать, что ослепляло меня боль-
ше — несравненная Пьяцца, великолепно освещенная
и полная бесчисленным количеством непрестанно дви-
гающихся людей, или музыка, будто уносившаяся вдаль
вместе с шелестом ветра.
Было приятно, что прохожие слушали внимательно. Но
одного не хватало: «ни одна пара рук ни на мгновение не
поддавалась порыву зааплодировать, ибо малейший знак
одобрения австрийской военной музыке присутствующие
восприняли бы как предательство по отношению к италь-
янскому отечеству». И еще восемь лет, до конца австрий-
94
Венеция: история города
ского правления, венецианцам приходилось хранить гор-
дое молчание.
Более того, чтобы однозначно заявить о своих взглядах,
в те времена было принято подчеркнуто обходить стороной
одно из двух соперничающих кафе на Пьяцце — «Кафе
Квадри», основанное в 1775-м и полюбившееся австрий-
цам. Верные итальянцы отправлялись вместо этого в кафе
«Флориан», основанное в 1720-м Флорианом Франчес-
кони. Никто не мог запретить солдатам гарнизона прихо-
дить и во «Флориан» вместо «Квадри», но всегда находи-
лось немало способов заставить их почувствовать себя не-
зваными гостями. По словам Вагнера, «австрийские офи-
церы... проплывали по Венеции, не смешиваясь с толпой,
как масло по воде». Такие традиции, как держать наготове
пушку у Дворца дожей, не делали их в городе желанными
гостями. Сейчас, к счастью, люди выбирают одно из этих
двух кафе, как и любое другое поблизости, из гастрономи-
ческих, а не политических соображений. Во «Флориане»
более характерный интерьер, здесь царит дух 1850-х, и
именно за столиком «Флориана» рассказчик Генри Джейм-
са в «Письмах Асперна» (1888) сидел, не умея отказать
себе в удовольствии,
ел мороженое, слушал музыку, болтал со знакомыми; ка-
кой бывалый путешественник не знает этого скопища сто-
ликов и легких стульев, точно береговой мыс вдающегося
в гладь озера пьяццы. Летним вечером площадь, сияю-
щая огнями, опоясанная бесконечной аркадой, полной от-
звуков многоголосого гомона и шагов по мраморным пли-
там, вся точно огромный зал со звездным небом вместо
крыши, где так хорошо не спеша попивать прохладитель-
ные напитки и столь же не спеша разбираться в богатых
впечатлениях, накопленных за день.
Венеция монументальная
95
На Пьяцце можно кормить голубей или уворачиваться
от них, покупать сувениры и зонтики, расслабленно си-
деть в кафе или на ступенях, и, конечно, наблюдать. То-
мас Кориэт, путешественник из Сомерсета времен короля
Якова, был не первым и не последним, кто заявлял, что
здесь «можно увидеть все виды и типы одеяний, услы-
шать все языки христианского мира, и вдобавок те, на ка-
ких говорят варварские народы». (В наши дни невежливо
рассматривать какие-либо народы как «варварские», ре-
альные встречи с такими же смертными, как и ты, учат
терпимости; именно здесь Кориэт впервые увидел много-
национальное сообщество, сосуществующее практически
без трений.) В часы пик «можно с основанием назвать»
Пьяццу «скорее Orbis, чем Urbis forum, то есть рыноч-
ной площадью всего мира, а не городом». Можно пона-
блюдать, как «мавры», отлитые из бронзы в 1497-м, от-
бивают часы на Оролоджо. Эти фигуры казались гораздо
меньшей экзотикой здесь, на «рыночной площади мира»,
чем в «Отелло, Венецианском мавре», поставленном в
Лондоне всего за несколько лет до визита Кориэта. Зна-
чительно реже — лишь на Вознесение, Крещение, в день
своего праздника или во время празднеств по случаю из-
брания нового дожа — появляются здесь волхвы, покло-
няющиеся Святой Деве.
Можно вести себя и более активно, во вкусе Уильяма
Бекфорда, поведавшего нам о своих пристрастиях в «Снах,
мыслях при пробуждении и происшествиях» (1783). Ему
нравилось «отправляться в большую церковь Святого Мар-
ка и рассматривать украшающие ее мраморные изваяния и
лабиринты великолепной скульптуры», но он не выносил
«мерзкий запах, доносящийся из каждого угла и закоулка
этого здания», который даже благовония «не могли скра-
сить». Вонь, вероятно, уже не тревожит изнеженное обо-
96
Венеция: история города
няние поздних поколений Бекфордов, но его чудодействен-
ное средство борьбы с дурными запахами все-таки стоит
порекомендовать: «Когда губительная атмосфера совсем
угнетала меня, я взбегал на колокольню на пьяцце и, усев-
шись среди колонн галереи, вдыхал свежее дыхание Адри-
атики... и на просторе рассматривал лежащую передо мной
Венецию».
Венеция монументальная
97
Кампанила и Музео Коррер
Кампанила (колокольня) Сан-Марко была построена в
XII и восстановлена в XVI веке. Между 1537 и 1546 го-
дами Джакопо Сансовино построил у ее подножия изящ-
ную Лоджетту. В 1902-м башня эффектно рухнула, потя-
нув за собой Лодджетту, но никого не задев. Нынешнюю
копию возвели в 1912-м; городской совет постановил выс-
троить ее заново «сот era, dov'era» — «как была, где
была». Вид с нее так же прекрасен, как и в описании Бек-
форда. В прошлом этой колокольне благодаря ее высоте
находилось и практическое применение. С самого начала
ее строительства в IX веке Кампанила не только возвеща-
ла колокольным звоном смену часов, но и служила превос-
ходным маяком для моряков: днем в ее позолоченной кры-
ше отражалось солнце, а по ночам там зажигали огонь.
Летом 1609 года Галилео Галилей, профессор математики
Падуанского университета (на венецианской территории),
привел сенаторов на кампанилу, чтобы продемонстрировать
свой телескоп. Его друг, фра Паоло Сарпи, услышал в
1608 году об изобретении этого инструмента в Голланд-
ской республике; Галилео экспериментировал с выпуклы-
ми и вогнутыми линзами, научился мастерски их вытачи-
вать (линзы, выполненные им или его помощниками, счи-
тались самыми лучшими в течение следующих двадцати лет)
и создал свой собственный, улучшенный вариант, где в оку-
ляр вставлялась плоско-вогнутая линза, а в объектив —
плоско-выпуклая. Сановники, наверное, с трудом вскараб-
кались на верхушку башни, а не взбежали, как обычно по-
ступал, если верить его словам, энергичный Бекфорд. Впро-
чем, карабкались они с готовностью, побуждаемые любо-
пытством и надеясь обнаружить нечто полезное для ком-
4 - 6576
98
Венеция: история города
мерции или военного дела. Телескоп, о котором идет речь,
имел увеличение в восемь или девять раз. С его помощью,
продемонстрировал Галилей, можно увидеть корабль на два
часа раньше, чем невооруженным глазом. Еще через не-
сколько месяцев он уже изучал луну, доведя увеличение до
пятнадцати, а потом и до двадцати раз. Позже ему удалось
увидеть четыре луны Юпитера.
Эта технология, может, и дала бы Венеции невероятное
преимущество над врагами и соперниками, но основной
принцип действия инструмента был уже широко известен,
и сделать его не составляло труда. И тем не менее, когда
Галилей представил один из своих телескопов дожу, ему
предложили значительную прибавку к жалованью. Прав-
да, это предложение должно было вступить в силу только
со следующего года, дальнейшие прибавки исключались,
и, кроме того, согласие означало, что Галилей обязуется
занимать ту же должность пожизненно. Галилей всегда
искал место, которое позволило бы ему тратить достаточно
времени на исследования, и вскоре сумел договориться о
более подходящем варианте с великим герцогом Тоскан-
ским. (Хитрый, как настоящий венецианец, он не потерял
покровительство Медичи, пока жил в Падуе, а став тос-
канцем, он оставался профессором в своей родной Пизе до
1592 года.) Некоторые венецианцы пришли в ярость, ког-
да в сентябре 1610-го Галилео переехал во Флоренцию.
Теперь-то можно сказать, что ему имело смысл остаться,
поскольку в 1630-х Венеция с большей вероятностью смогла
бы защитить его от Церкви и инквизиции, чем симпатизи-
рующие ему, но очень подверженные римскому влиянию
великие герцоги. Но преподавательские обязанности в
Падуе не дали бы ему времени и возможности развить те
самые взгляды, от которых его вынудили отречься.
Кампанила стала для венецианцев подлинным символом
независимости. Ярким примером тому послужило одно
Венеция монументальная
99
происшествие, случившееся в день торжеств по поводу
двухсотлетия падения республики. 9 мая 1997 года восемь
вооруженных людей, решив с шумом отметить это собы-
тие, захватили паром, заставили переправить и выгрузить
свой грузовик на Пьяццетте, протаранили на нем ворота
Кампанилы, промаршировали вверх по лестнице, вывеси-
ли сверху флаг Святого Марка и объявили себя «солдата-
ми serenissimo венецианского правительства». Не признав
указанного правительства, местные карабиньеры принесли
длинные лестницы и быстро схватили этих «солдат». По-
следних повсеместно сочли членами «Лега Норд» или ка-
кой-то другой партии сепаратистов. «Лега Норд», впро-
чем, отказалась от ответственности за инцидент.
Подобные события сложно себе представить в подчи-
ненном музейному распорядку мире Музео Коррер, что
напротив Сан-Марко. В 1830 году Теодоро Коррер заве-
щал свою коллекцию городу. Постоянно увеличиваясь, в
1920-х годах она заняла Наполеоновский флигель (Ала
Наполеоника) здания Новых прокураций, где при Напо-
леоне размещался Королевский дворец. В первых его ком-
натах все еще сохранились признаки дворцового великоле-
пия. В тронном зале, например, можно увидеть неокласси-
ческий наполеоновский интерьер работы Джузеппе Бор-
сато и других и фрески (сейчас установленные на панелях),
оставшиеся от переустройства уже в постнаполеоновский
период в 1814 году. К слову, в числе этих фресок есть и
грациозные античные танцовщики Франческо Хайеса.
Подобные картины в сочетании с современной мебелью и
неожиданно расположенным зеркалом представляют собой
идеальное дополнение к работам величайшего из скульп-
торов-неоклассицистов Антонио Кановы (1757—1822).
В коллекции музея Канова представлен хорошо: здесь есть,
например, барельефы, которые ему так и не удалось вопло-
тить в мраморе. «Дедал и Икар», показанные на фестива-
4*
100
Венеция: история города
ле на Вознесение в 1779-м, заставили Академию изобра-
зительного искусства и скульптуры забыть о возрастных
ограничениях и принять Канову в свой состав. Дедал, доб-
рый патриарх, сосредоточенно и уверенно прикрепляет кры-
лья Икару, который оглядывает через плечо удивительную
новинку, преисполнившись простодушной гордости и по-
трясения, что отец действительно собирается позволить ему
воплотить мечту своего сердца. Говорить, что эта гордость
повлечет за собой его падение, наверное, не имеет смысла,
это очевидно; честолюбивый молодой скульптор хочет еще
и напомнить о традиционной символичности этих образов:
Дедал — это художник, придающий крылья своих надежд
и воображения обычной глине, чтобы она могла воспарить
почти к небесам. Здесь же хранится и еще более ранняя
работа Канова, тоскующие «Орфей и Эвридика» (1775—
1777), «Итальянская Венера», и отличающийся той же
классической чистотой линий великолепный бюст папы
Климента XIII.
В огромном музее можно найти все: от шедевров до ди-
ковинок, например соломенную шляпу дожа и золотые
manine — ручки, которые использовались для подсчета
голосов на выборах (республика любила и умела придумы-
вать для них все более сложные процедуры). Есть прекрас-
ные монеты, портреты, захваченные турецкие знамена, за-
мечательная карта Венеции в перспективе, выполненная
Джакопо де Барбари в 1500 году, и на втором этаже прак-
тически отдельный музей Рисорджименто, где представ-
лено множество документов и картин, а также фрагменты
алтарей, картины, изображающие шествия и пышные встре-
чи прибывших — например, сходящая на берег догаресса
Морозина Гримани работы Андреа Вичентино, — и боль-
шая галерея других картин отбирают последнюю надежду
у тех оптимистов, что надеются осмотреть значительную
Венеция монументальная
101
часть экспозиции за один визит. Картина, у которой за-
держиваешься дольше всего, это, пожалуй, все-таки «Две
венецианки» Карпаччо (зал 38). Их долго считали апатич-
ными куртизанками, лениво глядящими в никуда с балкона
в ожидании клиента. Однако в 1970 году выяснилось, что
это дамы образцовой добродетели, возможно, мать и дочь.
Две голубки, пава и лилия и мирт в вазах на балконе —
символы брачной чистоты. На лицах их — выражение бла-
гопристойной сдержанности. Но, быть может, еще боль-
шего удивления заслуживает тот факт, что полотно оказа-
лось всего лишь нижней частью целой картины. Верхняя
часть изображенной на нем лилии нашлась на далеком
Малибу, в музее Пола Гетти, на заднем плане «Охотники
на лагуне», считавшейся самостоятельной картиной. Муж-
чины, о которых думают или которых верно ждут эти жен-
щины, должно быть, находятся среди тех, кто стреляет птиц
с лодок. Впервые две части соединили на выставке в Па-
лаццо Грасси в 1999 году. Но даже с таким дополнением и
в окружении символов добродетели героини могут пока-
заться современному зрителю загадочными — или просто
наведут на мысль о том, как скучно быть богатой женщи-
ной в конце XV века в Венеции.
Сан-Марко
Джон Рескин в «Камнях Венеции» приводит фанта-
стическое описание Сан-Марко с Пьяццы:
...множество колонн и белых куполов, заключенные в
громадные пирамиды разноцветного сияния, будто гру-
да сокровищ, золота, опалов и перламутра, таящаяся в
пещере под огромными сводами пяти портиков, отделан-
ных прекрасной мозаикой и окруженных скульптурами
102
Венеция: история города
из алебастра, чистых, как янтарь, и тонких, как слоно-
вая кость, — фантастических и сложных скульптур, где
сплетаются пальмовые листья и лилии, виноградные
грозди и гранаты, птицы сидят на ветвях или порхают,
все переплетено в бесконечную сеть бутонов и перьев: и
в середине всего этого — торжественные фигуры анге-
лов со скипетрами в ниспадающих до земли одеждах,
прислонившиеся друг к другу в воротах... А вдоль стен
галерей — колонны из самого разного камня, яшмы и
порфира, и насыщенно-зеленого серпентина, припоро-
шенного снежными хлопьями.
Многое из того, что завораживало Рескина, включая
«греческих лошадей... сверкающих своей золотой силой»,
было доступно взгляду венецианцев уже в XIII веке. Но
первая базилика, насколько известно, представляла собой
более скромное здание. Ее построили, когда мощь респуб-
лики только зарождалась, а достроили и украсили, когда
она достигла апогея, и с самого начала базилика существо-
вала именно для того, чтобы прославлять эту мощь. Она
возводилась как дожеская часовня, а не собор, и именно
здесь происходили такие важные церемонии, как вступле-
ние в должность нового дожа. И какой бы простой ни ка-
залась церковь, освященная в 832 году, в ее стенах храни-
лось бесценное с религиозной и политической точки зре-
ния сокровище — мощи евангелиста Марка.
В IX веке могущество города во многом измерялось тем,
сколько реликвий удалось ему собрать в свои церкви и на-
сколько ценны эти реликвии. Константинополь был осо-
бенно богат такими ценностями: церковь Святых Апосто-
лов, перестроенная императором Юстинианом в XV веке,
хранила мощи святых Андрея, Луки, Тимофея, не говоря
уже о мавзолее первого христианского императора, Кон-
Венеция монументальная
103
стантина. Первая базилика Сан-Марко, возможно, отча-
сти дублировала церковь Святых Апостолов с ее кресто-
образным расположением помещений по классическому гре-
ческому канону, чтобы быть достойной такого почитаемо-
го святого, как Марк.
Евангелист Марк, несомненно, принадлежит к святым
первого ранга, а кроме того, он был гораздо больше связан
с этой местностью, чем предыдущий покровитель Вене-
ции — греческий воин Феодор, церковь его имени войдет
в более позднюю базилику в качестве одного из приделов.
Считалось, что Марк проповедовал Евангелие в Верхней
Адрии, где впоследствии и началось строительство Вене-
ции. И вот однажды ему явился ангел и изрек: «Мир тебе,
Марк, евангелист мой. Твое тело упокоится здесь». (На
латыни это звучало: «Pax tibi, Магсе evangeista meus. Hie
requescet corpus tuum». Первые пять из этих слов можно
прочитать в открытой книге, которую держит знакомый нам
лев на Пьяцце.) Под этим предлогом, который, конечно
же, отчасти дорабатывали уже впоследствии, в 829 году
святое тело евангелиста похитили из Александрии. Похи-
щение оправдывали не только тем, что Египет удерживали
в своих руках «неверные» мусульмане, но и тем, что будто
бы Венеция открыто и напрямую его не совершала. Дело
предоставили, гласит хроника Мартино да Канале, трем
предприимчивым венецианским купцам. Они были готовы
предложить мусульманам, охранявшим тело, хорошие день-
ги за то, чтобы просто забрать святого. Однако, по словам
Мартино, это было легко сказать, но сложно сделать, по-
тому что «язычники ценили его неимоверно» и скорее по-
рубили бы купцов на куски, чем отдали им тело. Венециан-
цы придумали оригинальное решение: они положили Свя-
того Марка в корзину, прикрыли капустой и свининой, на-
дели его одежды на другие мощи и снова запечатали могилу.
104
Венеция: история города
Ощутив сладчайший аромат, разлившийся от мощей Мар-
ка по всему городу, язычники насторожились и обыскали
могилу, но успокоились, увидев одежду на теле, которое
сочли телом святого Марка. Правда, неугомонные алек-
сандрийцы все же заподозрили, что венецианцы задумали
неладное, и пришли с обыском на корабль. Похитители тем
временем прикрепили святого Марка к мачте, между дву-
мя четвертями свиной туши. Увидев свинину, неверные зак-
ричали «Hanzirl Hanziri» — «Свинина! Свинина!» и бе-
жали с судна. Купцы спешно уплыли прочь, и с помощью
святого экспедиция вскоре достигла Венеции. (Вот, кста-
ти, первое проявление благосклонности Марка к венеци-
анцам: в минуту опасности он разбудил капитана и сказал,
что они вот-вот сядут на мель, если немедленно не спус-
тить паруса.) Примерно ту же историю рассказывают мо-
заичные изображения, размещенные над одной из две-
рей главного фасада.
Базилика IX века, пострадавшая, но не разрушенная
пожаром 976 года, была немедленно отремонтирована и
частично перестроена. Что касается масштабных работ по
переустройству, они начались в 1063 году и привели к со-
зданию той церкви, освященной в 1094-м дожем Витале
Фальером, какой мы знаем ее сегодня. Работы по рекон-
струкции закончились, и вскоре после освящения чудес-
ным образом вернулось тело святого Марка, которое про-
пало, очевидно, после того, как его отправили в безопасное
место во время пожара 976 года (о возвращении тела по-
вествует фрагмент мозаики 1305 года, расположенный в
конце правого трансепта). В новой церкви кирпичные сво-
ды пришли на смену деревянной крыше, появился новый
притвор и склеп. Святого похоронили в склепе, где его мощи
и оставались до 1836 года, пока их не перезахоронили под
высоким алтарем.
Венеция монументальная
105
И снова церковь Святых Апостолов в Константинопо-
ле стал основным образцом, и теперь у Венеции доставало
и средств, и мастерства, чтобы скопировать оригинал с боль-
шей точностью. Правда, в наши дни сравнивать их доволь-
но сложно, поскольку церковь Святых Апостолов была раз-
рушена в XV столетии. Базилика Сан-Марко соединила в
себе западные и византийские традиции: на него оказали
влияние самые разные аспекты римских и православных
обрядов, что проявилось, в первую очередь, во внутреннем
убранстве. Мозаика, например, отличается более линейным,
повествовательным характером построения и более широ-
ким спектром сюжетов, чем это позволяла греческая тра-
диция, а главный алтарь находится не в центре, а на восто-
ке. Архитектор, вероятнее всего, был грек, но работу вы-
полняли и контролировали, похоже, итальянские каменщи-
ки, художники по мозаике и другие. У базилики пять
куполов полусфер, один в центре и четыре по сторонам,
вместе они образуют греческий крест. Сами купола — их
видно изнутри церкви — сохранили изначальную форму,
но примерно в 1230 году поверх них надстроили еще од-
ни — меньшего размера, покрытые свинцом. Вдохновени-
ем для этого нового украшения, должно быть, послужила
исламская традиция — скорее всего египетская.
Другие изменения XIII века тоже отражают влияние
широких связей с внешним миром. В основном перемены
сводились к тому, что к убранству храма добавляли все
новые и новые трофеи, которые стали прибывать из Кон-
стантинополя после четвертого крестового похода. Боль-
шую часть добычи поместили на южном фасаде, тем более
что он очень удачно просматривался из окон Дворца до-
жей. Здесь есть рельефы и колонны из Константинополя.
В юго-западной части находится то, что осталось от тро-
фея более поздней войны — порфировой колонны, извест-
106
Венеция: история города
ной как Пьетра дель бандо. Ее привезли в 1258-м из Акры,
где она символизировала генуэзское правление. (Она была
уничтожена, когда в 1902 году обрушилась Кампанила.)
Дальше стоят еще две колонны. Ранее считалось, что их
тоже доставили из Акры, но, как выяснилось, они попали
в Венецию из Константинополя наряду со многими други-
ми предметами.
За колоннами находится древ-
няя скульптурная группа из пор-
фира — «Тетрархи», два стар-
ших императора (августы) и два
младших соправителя (цезари),
которые по решению Диоклетиа-
на разделили между собой конт-
роль над Восточной и Западной
Римской империей в 293 году.
Демонстрация обладания этой
скульптурной группой в опреде-
ленной степени обнаруживает им-
перские претензии на власть: ведь
один из тетрархов — Констан-
ций, отец основателя Византии
Константина. Многие ли это понимали — вопрос спорный.
Тетрархи держат друг друга за облаченные в королевские
мантии плечи одной рукой, возложив другую руку на мечи, и
большинство современных путеводителей находят этот жест
солидарности «прекрасным». Ав начале XVII века Тому
Кориэту сообщили, что это «четыре благородных джентль-
мена из Албании, которые были братьями». В какой-то ран-
ний период венецианской истории они приплыли сюда «на
корабле, груженном несметными сокровищами». Двое со-
шли на берег, двое остались на борту, и каждая пара заду-
мала обмануть другую и сбежать с сокровищами. Все они,
Венеция монументальная
107
как и молодые люди в похожей ситуации из «Рассказа про-
давца индульгенций» Чосера, погибли. «И тогда венеци-
анская синьория захватила все их товары в свою собствен-
ность, и с этого началось богатство Венеции». Венециан-
цы же и возвели эту статую, «в память о жестоком и под-
лом предательстве братьев». Как и следовало ожидать от
венецианской легенды, обогащение государства играет в ней
не менее важную роль, чем мораль.
Но самый удивительный и знаменитый византийский
трофей — четыре бронзовых коня, гордо стоящие над глав-
ным входом. Они как будто двигаются грациозной, лег-
кой, уверенной поступью. Как писал отцу молодой Бенд-
жамин Дизраели в сентябре 1826 года, «четыре бронзо-
вых коня идут неторопливой иноходью, а не становятся на
дыбы, как следует из некоторых описаний». Неудивитель-
но, что людям хотелось приписать их древнему греческому
скульптору Лисиппу, хотя, скорее всего, они относятся к
эпохе Римской империи. Они шествуют легкой «нетороп-
ливой иноходью» коней, созданных, чтобы увенчать три-
умфальную арку. Некоторые полагают, что примерно та-
кую функцию они и выполняли на ипподроме в Константи-
нополе. Ясно, что их новое расположение задумывалось как
не менее триумфальное, знаменующее победу над самой
Византией — еще один дополнительный символ могуще-
ства Венеции. Почти шестьсот лет спустя они стали тро-
феями Наполеона, но после его падения были возвращены
на место. В XX веке их перемещали раза три или больше,
для их же собственной безопасности: в Рим на время двух
мировых войн, а в 1979-м — в помещение музея Базилики.
Вы можете изучить оригиналы, перед тем как выйти на ули-
цу и посмотреть на копии, которые сейчас установлены на
фасаде. (Они же представлены на мозаике 1260—1270 го-
дов, расположенной над крайней левой дверью Порта Сант-
108
Венеция: история города
Алиппио, рассказывающей о прибытии тела Святого Марка
в базилику.)
Итак, именно в XIII веке Сан-Марко был украшен и
инкрустирован снаружи, превратившись в «груду сокро-
вищ» Рескина. Чтобы попасть в атриум, нужно пройти
между двухъярусными колоннами, под золотой мозаикой
XIII—XV веков, мраморными глыбами, бронзовыми ко-
нями, готическими скульптурами и фронтонами (достро-
енными в XV веке). Как только вы оказываетесь внутри,
вашему взору предстают новые доказательства венециан-
ской славы в виде великолепных мозаик XIII века. На ку-
полах, арках и тимпанах изображены сюжеты из Ветхого
Завета, начиная с сотворения суши, запечатленного в центре
самого высокого купола. Адам и Ева в зеленом райском
саду появляются в основном на внешнем кольце, а дальше
Венеция монументальная
109
идут все сюжеты по порядку, заканчиваясь изображением
народа израильского, пересекающего Красное море. Ром-
бовидная плита у центральной двери служит напоминани-
ем о том моменте, когда под славным венецианским покро-
вительством Фридрих Барбаросса преклонил колени, при-
знавая власть папы. В нишах на фронтальной стене атриу-
ма расположены могилы некоторых дожей средневековья,
которые внесли свой вклад в славную историю Венеции, —
включая Витале Фальеро (справа от главной двери).
Первое, что бросается в глаза любому вошедшему в
храм, — золото. Оно здесь повсюду, оно поблескивает, куда
ни кинь взгляд, и его дополняет более мягкое мерцание мо-
заичной напольной плитки. Затем обращаешь внимание на
«бесконечную последовательность толпящихся изваяний и
картин, одно изображение переходит в другое, как во сне»,
как отмечал Рескин. Атмосфера здесь, за исключением, воз-
можно, времени проведения служб, недостаточно религиоз-
ная. Но нельзя назвать ее и явно светской, как ни велико
искушение счесть приобретение и гордую демонстрацию тро-
феев проявлением алчности и страсти к самовосхвалению.
Горожане в большинстве своем испытывали преданность по
отношению к Святому Марку и верили, что город процве-
тал, богател и одерживал победы благодаря его покровитель-
ству. Не то чтобы святое, но и не совсем светское, ни чисто
греческое, ни итальянское, внутреннее убранство кажется
уникальным, сколько бы вы ни рассматривали его. А сквозь
арки виден отблеск других арок, надписей и сводов, этот
интерьер не кажется строго ограниченным, замкнутым, как
это обычно бывает в храмах. Собор Сан-Марко часто срав-
нивали с украшенным миниатюрами средневековым манус-
криптом: вы переворачиваете красочную страницу — и вот,
уже увидев часть следующей, переводите взгляд обратно и
непременно замечаете новые детали.
110
Венеция: история города
Немало и совершенно справедливо говорилось о настен-
ных и потолочных мозаиках базилики. Но пол ее почти на-
столько же великолепен. Многоцветная мозаичная плитка
почти целиком относится к XII и XIII векам (с последую-
щими реставрациями). Многое было сказано об античном
и восточном мраморе и порфире. Часть его доставили куп-
цы, которым при строительстве церкви в 1701-м дож До-
менико Сильво приказал привозить что-нибудь ценное вся-
кий раз, как они возвращаются с грузом; немало награбили
в Константинополе в 1204-м и в последующие годы. Здесь
есть мрамор и мозаика в форме ромбов, солнц, кругов,
арок — белая, красная, красно-коричневая, зеленая и блед-
но-желтая; более крупные плиты разных оттенков серова-
то-белого; лиственные узоры, пе-
реплетения и павлины. И если,
например, в левом нефе плитку
выровняли, в других частях хра-
ма она нередко вспучивается, идет
волнами; все это вызывает скорее
геологические, чем художествен-
ные ассоциации, и это также про-
изводит вполне уместное впечат-
ление.
Но зато именно объединенны-
ми человеческими усилиями за не-
сколько сотен лет был создан Па-
ла д’Оро, Золотой алтарь. Золото и эмаль усеяны драго-
ценными камнями: рубинами, изумрудами, жемчугом, то-
пазами, аметистами. В первое мгновение он просто ослепляет,
но стоит того, чтобы присмотреться к нему повнимательнее.
Во время восстановительных работ, последовавших за по-
жаром 976 года, дож Пьетро Орсеоло I заказал оригиналь-
ные картины для ниши алтаря мастерам из Константинопо-
Венеция монументальная
111
ля. Неясно, сохранилось ли хоть что-нибудь от того перио-
да. В 1105 году дож Орделаффо Фальеро добавил новые
фрагменты, включая, предположительно, маленькие пане-
ли с сюжетами из жизни евангелистов в нижнем регистре.
Затем в 1209-м дож Пьетро Циани увеличил образ. В верх-
ний регистр, вероятно, вошли панели, взятые из монасты-
ря Пантократора, места погребения императоров в Кон-
стантинополе. Архангел Михаил, с длинными крыльями и
нимбом, богато украшенный драгоценными камнями, ок-
руженный небольшими круглыми изображениями святых,
стоит между полукруглых панелей, указывая на «Въезд в
Иерусалим», «Воскресение», «Адские Муки», «Распятие
Христа», «Вознесение», «Пятидесятницу» (заметно, что
апостолы и прихожане говорят на разных языках) и «Ус-
пение Богородицы». В Пантократоре эти панели являлись
частью большой серии, связанной с последовательностью
двенадцати святых дней, но в новую алтарную нишу вошли
только шесть.
В середине 1340-х годов золотых дел мастер Джованни
Паоло Бонинсенья создал последнюю изумительную раму
и установил запрестольный образ именно в том виде, в ка-
ком мы можем лицезреть его сегодня. В центре нижнего
регистра находится византийский Христос Пантократор,
рубины сверкают в верхней части его трона и на Книге
Жизни, которую он держит в руках, его окружают в сия-
нии самоцветов помещенные в медальоны изображения
четырех евангелистов. Эта центральная фигура относится,
очевидно, к XII веку, но ученые считают, что расположен-
ные рядами святые и ангелы выполнены в XIV веке и уже
в самой Венеции, хотя, возможно, греческими художника-
ми. Все в целом выглядит удивительно гармонично. Впро-
чем, многочисленные авторы Золотого алтаря, скорее все-
го, с этим не согласились бы. Но цель образа — воссла-
112
Венеция: история города
вить Святого Марка, а не описать религиозные события в
нужном порядке. Алтарная картина была слишком драго-
ценна, чтобы показывать ее каждый день, и ее заменял буд-
ничный вариант — алтарь (сейчас находится в музее Ба-
зилики), написанный Паоло Веронезе и его сыновьями в
то самое время, пока Бонинсенья работал над образом бо-
лее драгоценным.
Еще один значимый византийский трофей, хотя дата его
появления неизвестна, — это Святая Дева Никопойя, ико-
на XII века, которую в битвах несли перед императором.
(Вот почему она называется nikopoia, «приносящая побе-
ду», а не по названию места создания, как часто считают.)
Она, очевидно, не оправдала надежд последних императо-
ров; а значит, как вполне могла бы счесть Венеция, реше-
ние перевезти ее и поместить в тот источник, откуда черпа-
ет свою силу народ, выигрывающий нынешние битвы, было
вполне закономерным и правильным. Отныне она не под-
вергнется риску на полях сражений. А то, что она находит-
ся в базилике, можно рассматривать как знак покровитель-
ства Богоматери.
В базилике найдется немало удивительного и достойно-
го восхищения. В сокровищнице, в правой части церкви,
содержится богатая коллекция икон, потиров, драгоценных
чаш и тому подобного. Многие из этих предметов также
прибыли из Византии. В капелле Дзен есть два могучих
льва из красного мрамора, выполненных в романском сти-
ле, которые, вероятно, некогда охраняли южные ворота
базилики (их закрыли в XVI веке). Мозаики XIV века в
баптистерии рассказывают историю Иоанна Крестителя,
где не забыта и элегантно светская Саломея. С крутой ле-
стницы, ведущей в музейную часть, расположенную над
атриумом, вам откроется незабываемый вид на интерьер
церкви, а затем с галереи — наружу, на голубей, флаги,
Венеция монументальная
ИЗ
сувенирные прилавки и нескончаемые толпы Пьяццы. Ря-
дом с копиями лошадей, но отнюдь не выше башен и коло-
колен церквей, вы не почувствуете себя недостижимо воз-
вышающимися над спешащими внизу людьми или отстра-
ненными от них, наоборот, ощутите более тесную связь с
ними, ведь теперь вы — живая часть фасада, которым они
любуются. Хотя, конечно, на Пьяцце найдется немало за-
служивающих внимания вещей, и фасад Сан-Марко — все-
го лишь одна грань общего ансамбля, к которой вам позво-
лено присоединиться.
Собор Сан-Марко необычайно прекрасен, и бывают
мгновения, когда усталый или охваченный восторгом посе-
титель может почти поверить в фантазии Теофиля Готье о
мозаиках, оживающих в свете золотых молний, когда за-
стывшие складки одежд святых «становятся мягче и на-
чинают струиться, остекленевшие взгляды оживают... зас-
тывшие ноги делают шаг; херувим взмахивает своими восе-
мью крыльями; ангелы расправляют пурпурные и лазурные
перья, пригвожденные к стенам безжалостной мозаикой».
Фантомы «ослепительные, головокружительные, мни-
мые... проходят перед вами, встряхивая нимбами длинных
золотистых волос». Но встреча с Сан-Марко не обяза-
тельно должна вызывать такую бурю эмоций. По мере
того как знакомство с храмом становится все более и более
тесным, ваше отношение к нему меняется, и вот однажды,
говорит Генри Джеймс, «вы проходите под украшенными
картинами портиками с чувством привычной дружеской
радости и желания оказаться поскорее в полутьме и про-
хладе». И вы не обнаруживаете
...ничего грандиозно уравновешенного или высоко по-
читаемого: нет ни длинных линий, ни триумфа перпен-
дикуляров. Церковь и вправду высока, но скорее похо-
114
Венеция: история города
жа на сумрачную пещеру. Красота поверхностей, тонов,
деталей, вещей достаточно близких, чтобы можно было
их коснуться, преклонить на них колени, прислонить-
ся — вот чем вызван этот эффект. Красотой такого сорта
это место невероятно богато, и можно приходить туда
каждый день и находить заново ускользавший ранее
живописный уголок.
И все-таки обычно находятся, продолжает Джеймс,
художники, пытающиеся «своими мольбертами, шатко ус-
тановленными на волнообразном полу», отдать должное
мраморным плитам, «великолепным панелям базальта и
яшмы, распятиям, чья одинокая боль кажется еще глубже
в вертикальных лучах света, дарохранительницам, чьи рас-
пахнутые дверцы открывают взору темные византийские
образа, испещренные тусклыми, кривыми драгоценными
камнями», но
...если вы не способны нарисовать эти вещи, вы можете
хотя бы привязаться к ним. Вы привязываетесь даже к
старым скамейкам из красного мрамора, местами стер-
тым штанами многих поколений, прикрепленным к ос-
нованиям тех широких пилястров, чья драгоценная об-
лицовка восхитительно побурела от времени, и покры-
тые легким серым налетом едва заметные впадины и
выпуклости говорят об ее почтенном возрасте.
Глава четвертая
Венеция дожей: Дворец дожей
Дворец дожей (палаццо Дукале) играл многоплановую
роль в жизни Венеции. Здесь располагался своего рода
административный центр, проходили заседания правитель-
ства, вершилось правосудие. Во дворце находились лич-
ные покои дожа, комнаты для совещаний, огромный зал
для заседаний Большого совета и тюремные камеры. Из-
начально (первый дворец на этом месте построили, скорее
всего, в IX веке) он был еще и крепостью, но со временем
эта его функция стала играть все меньшую роль — в ос-
новном благодаря существованию хороших укреплений у
входа в лагуну. Стремясь подчеркнуть мощь и богатство
Венеции, его украшали не орудийными башнями и пушка-
ми, а самой драгоценной и изысканной отделкой, включая
картины Веронезе, Тинторетто и им подобных. Так, на
радость любителям венецианского искусства и архитекту-
ры, Дворец дожей стал сокровищницей, хранилищем ве-
личайших шедевров своего времени.
Дворец занимал центральное место в жизни Венециан-
ской республики и до сих пор является для венецианцев
одним из основных символов их славного города. Вместе с
116
Венеция: история города
куполами и кампанилой Сан-Марко его бело-розовый фа-
сад (результат перестройки в середине XIV века) опреде-
ляет вид города с моря, от церкви Санта-Мария делла Са-
люте и до церкви Сан-Джорджо Маджоре. Огромный бал-
кон был достроен, отчасти чтобы впустить побольше света
в зал Большого совета, в 1404 году. Историк архитектуры
Дебора Говард рассказывает о том, как устроен фасад:
Трудно рассматривать такой привычный памятник, как
Дворец дожей, объективно, потому что глаз привык к его
пропорциям за долгие годы знакомства. Любое измене-
ние в его внешности покажется неправильным и дисгар-
моничным. Это как великое музыкальное произведение:
каждый отрывок является неотъемлемой частью единого
целого, и близкое знакомство вполне может помешать по-
ниманию. И вот в чем состоит один из секретов успеха
монументального творения. Огромное пространство
сплошной стены в верхней части здания кажется нам лег-
ким и воздушным благодаря мерцающему узору из ром-
бов красного и белого мрамора, а нижняя аркада, где, по
сути, пустот больше, чем стен, выглядит мощной и креп-
кой благодаря ряду приземистых колонн и простых готи-
ческих арок. Нет ощущения, что верхняя часть тяжелее
нижней, и баланс света и тени выстроен идеально.
Элементы, заимствованные из мусульманской архитек-
туры, делают фасад уникальным. Говард отмечает, что
«ажурная резьба по мастерству исполнения напоминает
мавританские образцы, а причудливые зубцы вдоль края
крыши кажутся более подходящими египетской мечети, чем
дворцу итальянской общины». Венеция начала завязывать
отношения с Восточным Средиземноморьем и Ираном за-
долго до взятия Константинополя турками в 1453 году.
118
Венеция: история города
На нижних уровнях фасады, выходящие на Моло и
Пьяццетту, богато украшены резьбой. На углу рядом с
Понте делла Палья находится большой барельеф — «Опья-
нение Ноя» работы Филиппо Календарио — возможно,
он же и был главным архитектором дворца. Нетвердо сто-
ящий на ногах, пошатывающийся Ной проливает вино из
своего кубка, его терпеливый сын Сим прикрывает наготу
отца, а справа хмурится Хам, который, очевидно, относит-
ся к происходящему несколько иначе. Тему человеческих
слабостей Календарио продолжает в другом барельефе —
«Адам и Ева» — на углу между Моло и Пьяццеттой. Сла-
бость следует прощать либо осуждать, как во дворце и на
близлежащей Пьяццетте, где проходили казни. По иронии
судьбы, самого Календарио повесили в 1355-м за участие
в заговоре дожа Марино Фальеро. Когда в 1420-м году
дворец расширили вдоль Пьяццетты и вплоть до базили-
ки, Бартоломео Бон посвятил свой барельеф теме правосу-
дия, создав «Суд Соломона» (рядом со входом во дворец
Порта делла Карта, над которым он тоже работал). Бон
запечатлел тот драматический момент, когда палач поднял
беззащитного младенца за руку и готовится нанести удар;
настоящая мать ребенка в ужасе, а за ней — притворная
мать невозмутимо смотрит на происходящее; спокойный
мудрый Соломон со своего трона предотвращает убийство
в последний момент, но без спешки: видно, что он все об-
думал заранее, в отличие от других не столь мудрых судей.
Эта сцена подразумевала, что внутри здания царит та же
атмосфера истинного правосудия.
На Джона Рескина «Соломон» Бона особого впечатле-
ния не произвел. Для него сравнение резьбы XV и XIV ве-
ков говорило только в пользу его тезиса об упадке ранней,
идеализированной Венеции. (В разные периоды своих ис-
следований дату этого упадка Рескин определял по-разно-
Венеция дожей
119
му.) А потому его внимание привлекают в основном капи-
тели нижней галереи со стороны Моло и моря и первые
семь капителей за углом со стороны Пьяццетты. Осталь-
ные созданы позднее и иногда просто копируют более ран-
ние — «с жалким результатом», как полагает Рескин. Если
на четвертой капители (он считает их от «Опьянения Ноя»
справа налево) полные жизни юноши подают надежды, что
«они станут сильными и великими мужами», то дети на
барельефах XV века — «болваны с тупыми, гладкими ли-
цами и вялыми щеками, в них нет ни одной осмысленной
черты», из них «не выйдет ничего, кроме самодовольных
надушенных щеголей». На седьмой капители — «Скром-
ность, несущая кувшин» (На копии эпохи Возрождения
это уже какая-то ваза в форме кофейника).
Большинству людей поздние капители понравятся все-
таки больше, чем Рескину. Но желание доказать свою пра-
воту вместе с закоренелой привычкой замечать мельчай-
шие детали заставляет его описывать понравившиеся ему
ранние капители с невероятной точностью и тонкостью. Его
читателям повезло, что барельефы заворожили Рескина
своим разнообразием и индивидуальностью. На капители
XVIII века луна изображена в виде «женщины в лодке на
море, которая держит в правой руке полумесяц, а левой
достает из волн краба. Одежды ее ниспадают к ногам и в
точности напоминают дрожание лунных бликов на морской
воде». Среди фигур на десятой капители есть Скупость,
старуха, «чья шея будто полностью состоит из сухожилий
и глубоких морщин, она напряжена в тревоге, истощена, ее
черты иссушены голодом, глаза запали, она смотрит при-
стально и напряженно, но в этом нет и намека на карикату-
ру». Трудно было бы утверждать, что набор сюжетов для
капителей подчиняется какой-то определенной схеме, но они
представляют собой довольно связную картину жизни в
120
Венеция: история города
целом. На двадцать первой капители собраны вместе пред-
ставители «низших»: камнетес, золотых дел мастер, сапож-
ник, плотник, клерк, кузнец. На двадцать четвертой —
традиционные «Младенчество, детство, юность, зрелость,
старость и смерть» и «Влияние планет на жизнь челове-
ка»: зрелость находится под знаком Марса, старость («ис-
полненная покоя и благородства фигура в длинном колпаке
за чтением») — Юпитера, последняя стадия дряхлости
принадлежит Сатурну. На двадцать пятой капители изоб-
ражены месяцы: Апрель с ягненком, Июнь с корзиной ви-
шен. Здесь Рескин (вероятно, проголодавшись за созер-
цанием своих любимых шедевров, но не утратив цепкости
взгляда) отвлекается, чтобы заметить: «это очень венеци-
анский образ Июня. Вишни, растущие поблизости, — на-
сыщенного красного цвета, крупные, но не слишком аро-
матные, хотя прекрасно освежают. Они вырезаны на ко-
лонне с превеликим тщанием, со всеми черенками». Фев-
раль уже менее романтичен — он жарит рыбу.
Некоторые капители были заменены точными копиями.
(Оригиналы находятся во дворце, в Музео дель Опера
дель Дуомо на первом этаже.) Дож Франческо Форска-
ри, преклонивший колени перед крылатым львом на Порта
делла Карта (Бумажные ворота), больших парадных во-
ротах во двор, тоже копия, так как оригинальную фигуру
почти полностью уничтожили французы в 1797-м. Но
творения Бартоломео Бона и других сохранились вместе с
большей частью этого позднеготического шедевра архитек-
туры (1438—1443) с его нишами, башенками, украшения-
ми, исполненным достоинства и силы львом Святого Мар-
ка, изображением самого святого и венчающей все это фи-
гурой Правосудия работы Бона, с мечом и весами. Порта
делла Карта — «бумажные ворота» — получили свое на-
звание, возможно, потому, что здесь работали или хранили
Венеция дожей
121
свои бумаги венецианские крючкотворы. Сводчатый про-
ход от этих дверей ведет во двор, заканчиваясь близким
классике произведением одного из скульпторов, работав-
ших над зданием, — аркой Фоскари (1462—1471). Архи-
текторов, очевидно, вдохновили римские триумфальные
арки, и утверждать его творение призвано было ту же все-
побеждающую имперскую мощь.
Еще более открыто триумф Венеции провозглашает
располагающаяся во дворе Лестница гигантов, спроекти-
рованная Антонио Риццо в ходе работ по восстановлению
после пожара 1483 года. Название имеет в виду статуи Марса
и Нептуна, созданные Джакопо Сансовино в 1567 году.
Начиная с 1580-х новоизбранный дож поднимался по этой
лестнице и вставал между двумя гигантами, а советники-
избиратели приветствовали его, после чего кандидата офи-
циально объявляли дожем, он участвовал в разнообразных
церемониалах в базилике Сан-Марко, и его проносили по
Пьяцце. Последняя часть ритуала пользовалась особенной
популярностью, потому что в это время новый избранник
или кто-нибудь из его семьи разбрасывал в знак своей щед-
рости золотые и серебряные монеты. На верхней площад-
ке лестницы в завершение церемонии старейшина советни-
ков возлагал корно на голову дожа. Здесь же дож будет
стоять позже, принимая послов. И здесь же в стихотвор-
ной пьесе Байрона «Марино Фальеро, венецианский дож»
дож-изменник лишается головы. На самом деле Фальеро
умер на другой, построенной раньше и расположенной в дру-
гом месте лестнице в 1355 году, более чем за сотню лет до
того, как была создана Лестница гигантов. Но и эти декора-
ции соответствовали бы венецианскому представлению о
заслуженном наказании. На этой величественной лестнице
дож-изменник был «коронован, развенчан и обезглавлен».
Даже обычному законопослушному дожу, которому судьба
122
Венеция: история города
Фальеро не грозила, предостережение против тщеславия
давалось сразу после того, как он насладится приветствия-
ми толпы. От Лестницы гигантов дож вместе со свитой
проходил в зал деи Пьовего, где ему предлагалось осознать,
что именно здесь однажды упокоится его тело.
И теперь наконец новый глава государства мог вступить
во владения своими апартаментами на втором этаже. В оп-
ределенных рамках ему дозволялось придать некоторую ин-
дивидуальность торжественным позолоченным и украшен-
ным лепниной комнатам, куда ведет блистательная Золотая
лестница (Скала д’Оро) — он мог привезти сюда собствен-
ную мебель, которую надлежит убрать из этих помещений
не позднее чем через три дня после его смерти. Но даже сама
мебель, несомненно, должна была прежде всего демонстри-
ровать высокое положение семьи дожа, а вовсе не его хоро-
ший вкус. Теперь его жизнь — ив этих комнатах, и вне
их — определяли церемонии и соображения государствен-
ной необходимости. Карты на стенах Оружейного зала (зал
делло Скудо) или Зала географических карт (зал делле
Маппе) подчеркивали распространение венецианского вли-
яния за пределы этих стен, этого дворца, этого города. Здесь
гордо обозначены венецианские территории и страны, кото-
рые посетил Марко Поло. После пожара 1483 года карты
нарисовали заново. Во время ремонта 1762 года на них на-
несли Америку и другие страны, о которых Поло и не подо-
зревал, включая Гренландию и Кабо-Верде, куда добрались
венецианские путешественники последующих веков. (Поло
жил где-то неподалеку от Корте Прима де Мильон и Корте
Секонда де Мильон. Названия эти происходят от итальян-
ского «II millione», как в народе окрестили, имея в виду мно-
жество выдумок и преувеличений, украшавших рассказ пу-
тешественника о своих странствиях. Джованни Кабото, он
же Джон Кабот, исследователь на службе Генриха VII Анг-
124
Венеция: история города
лийского, жил в доме с неплохим видом на лагуну на углу
виа Гарибальди и рива де Сете Мартири.)
За апартаментами дожа следует много других прекрас-
ных комнат. Подробные пояснения о деталях интерьера и
того, для чего служила каждая комната и как была устроена
Венецианская республика, выставленные на информацион-
ных досках, могут запутать любого. Но есть одна объединя-
ющая черта, путеводная нить, которой стоит держаться по-
сетителю. Это работы художников XVI века — в частно-
сти Веронезе и Тинторетто, — которые во многом и созда-
ли атмосферу дворцовых интерьеров. Два ужасных пожара
бушевали во дворце — в 1574-м и 1577-м. От первого сильно
пострадал зал Сената и зал Коллегии — помещения, где
собиралось правительство и где вершились, по большей час-
ти, все текущие дела республики. Второй пожар затронул
зал Большого совета, где проводились голосования, под-
считывались и записывались голоса. Разрушения оказались
столь существенными, что во время восстановления и об-
новления дворца было никак не обойтись без советов опыт-
ных архитекторов. Тогда пришлось созвать многих име-
нитых мастеров, включая Андреа Палладио, главного ар-
хитектора республики с 1570 года. Предлагал ли Палладио
полностью перестроить дворец в неоклассическом (палла-
дианском) стиле — вопрос спорный, но правда то, что не
все его предложения по модернизации Совет был готов при-
нять. Готический дворец восстановили, а не заменили.
Но с погибшими картинами дело обстояло иначе. Кол-
лекция скорее являла собой мешанину стилей и периодов,
чем отражала назначение здания. В нее входили работы та-
ких мастеров, придерживавшихся готических традиций, как
Пизанелло, и падуанского живописца Гвариенто, фрагмент
картины которого «Венчание Богородицы» для зала Боль-
шого совета, обнаруженный в 1903 году, выставлен в зале
Венеция дожей
125
Гвариенто. Были здесь и картины разных авторов более позд-
него периода — Карпаччо, Джованни Беллини и Тициана.
(Тициан умер в возрасте около девяноста лет в 1576 году.
Его фреска с изображением Святого Христофора, несущего
младенца Христа (примерно 1523 год) дошла до наших дней
и находится в дожеских апартаментах, в Зале философов.)
Веронезе, Тинторетто, а также их последователи и совре-
менники получали заказы или выигрывали конкурсы на со-
здание новых картин.
Веронезе и Тинторетто
Паоло Веронезе родился в Вероне в 1528 году и много
работал в Венеции начиная с 1553 года. Он писал, по сло-
вам его биографа XVII века Карло Ридолфи, величествен-
126
Венеция: история города
ных богов, важных персон, благородных матрон, богато
одетых королей, разнообразную «военную добычу» («тро-
феи», так любимые художниками Ренессанса и их покро-
вителями) и интерьеры. Такой набор сюжетов, добавляет
еще один комментатор XVII века, Марко Боскини, при-
нес Веронезе прозвище «казначея изобразительного искус-
ства», создателя богато украшенного мира. Его отчетливое
пристрастие к шелкам, атласу и бархату, золотистым воло-
сам и светлым краскам (особенно серебристому, голубому,
лимонному, оранжевому и розовому оттенкам) дополняет
атмосферу дворца. «Он проплывает перед вами в серебри-
стом облаке», — сказал Генри Джеймс в 1882 году.
Он восседает на троне в вечном утре. Синее небо пла-
менеет позади него, испещренное молочно-белыми по-
лосами, белые колоннады поддерживают роскошные
балдахины, под которыми знатнейшие господа и благо-
родные дамы одновременно отдают дань уважения и
принимают ее. Их великолепные одежды шуршат на
морском ветру, а с освещенных солнцем лиц смотрит сама
Венеция... Не было еще художника, исполненного та-
кой благородной радости, настолько любящего жизнь —
она представляется ему беззаботным праздником, источ-
ником успеха и благосостояния. Он пирует в обрамлен-
ных в золото овальных плафонах, снова и снова появля-
ется там легким движением расшитого знамени, что ко-
лышется на ветру высоко в голубом небе.
Можно представить, как сэр Джошуа Рейнольдс при-
поднимает бровь по поводу этого «беззаботного праздни-
ка». В конце XVIII века, читая лекции в Королевской ака-
демии, он объявил картины венецианских художников «де-
коративными» по сути своей. Тициану, признал он неохот-
Венеция дожей
127
но, присуще «нечто вроде сенаторского достоинства», но
чаще все-таки «суета и суматоха... переполняют все вене-
цианские картины, нет ни малейшей попытки затронуть
страсти». Яркие цвета не дают «той основательности,
уравновешенности и простоты эффекта, каких требуют ге-
роические сюжеты и придать которые картине могут толь-
ко простые и сдержанные тона».
Для Джеймса «Похищение Европы» Веронезе (в зале
Антиколлегии) — «самая радостная картина в мире». Здесь
Европа не жертва, но невеста, которую поспешно и с энту-
зиазмом облачает ее свита. Ее губы приоткрыты в прият-
ном удивлении или эротическом предвкушении, и она ма-
шет рукой, когда, окутанная светом, отправляется в путь, в
море на своем быке. «Похищение Европы» повесили в ис-
кусно позолоченной комнате с монументальным камином
только в 1713-м. Но чаще, как случилось, например, по
соседству, в зале Коллегии с потолком, расписанным алле-
горическими сценами Венеции во славе, картины Веронезе
составляли неотъемлемую часть интерьера. В этом зале
особенно важны были великолепие и гармоничность отдел-
ки, потому что именно здесь Венеции предстояло прини-
мать послов: в 1858-м австрийский принц-регент Макси-
милиан выбрал это помещение для проведения аудиенций
(что представляло некоторое неудобство для тех, кто хотел
бы последовать совету Рескина, утверждавшего: «путеше-
ственнику, который действительно любит живопись, долж-
но быть позволено приходить в этот зал когда угодно».)
После того как Веронезе и его помощники закончили ра-
боту над потолком зала Коллегии, Джакопо Тинторетто и
его мастерская, включая сына Доменико, предоставили для
стен этой комнаты некоторые из лучших своих работ, вклю-
чая «Мистическое бракосочетание Святой Катерины». Крас-
ки здесь светлее и свежее и стиль Веронезе проступает от-
128
Венеция: история города
четливее, чем на большинстве репродукций. Белый и золо-
той объединяют Катерину и во всем остальном контрасти-
рующую с ней фигуру пожилого, стоящего на коленях дожа
Франческо Дона: его белая борода — ее белый горностай,
ее платье и облачное небо между ними, золото ее короны и
волос — его корно. Сквозь вуаль, ниспадающую с ее коро-
ны, прозрачную, но бледно-золотистую, проглядывает об-
лако — как будто для того, чтобы связать воедино эти два
цвета и продолжить аналогию между небесной и земной фи-
гурой. Традиционно строгое и сдержанное выражение лица
дожа, некоторая покорность во всей его фигуре говорит о
том, что он понимает, насколько самонадеянным было бы
излишне вольное отношение к этому союзу. Он как бы бро-
сает мимолетный взгляд в комнату, позволяя зрителю при-
соединиться к таинству, а глаза Катерины обращены только
на младенца Христа. Идею о том, что земной дож и вместе
с ним зритель могли быть причастны к жизни Христа и Бо-
гоматери, подсказывают ощущениям зрителя и цвета карти-
ны: если переводить взгляд справа налево, замечаешь розо-
вые оттенки по краю плаща Дона, на поясе Катерины, на
ткани, покрывающей ступени к Святой Деве и на ее платье.
(Еще ярче подчеркивает эту идею тщательно рассчитанное
расположение центральных фигур и их окружения, включая
аллегорические изображения: Красноречие, Благоразумие,
Умеренность и Милосердие.)
Картины украшали и те комнаты, где происходили со-
бытия не столь прекрасные. Картина Веронезе, изображаю-
щая святого Марка, венчающего библейские добродетели,
некогда украшала потолок зала делла Буссола. Здесь ждали
своей очереди люди, которых должны были допросить в со-
седнем зале Совета Десяти. (Картину сняли в 1797 году, и
она до сих пор находится в Лувре; в Венеции ее место за-
няла копия.) В зале делла Буссола, названном так из-за
Венеция дожей
129
расположенной здесь деревянной панели, находится Ьосса
di leone — «львиная пасть», куда вкладывали доносы, пред-
назначенные вниманию Совета Десяти. Долгие годы вене-
цианские писатели изо всех сил старались объяснить чу-
жестранцам, что истории о чудовищных доносах, ведущих
к немедленным арестам, пыткам и необоснованным казням,
сильно преувеличены. И все же те, кто ждал здесь своей
очереди предстать перед наделенным огромной властью
Советом Десяти, в обязанности которого входило рассле-
довать преступления против государства, имели все осно-
вания нервничать. Членам Совета и подозреваемым, заня-
тым реальными государственными делами, вряд ли часто
случалось поднять глаза и восхититься аллегорическими
картинами Веронезе. Праздный современный посетитель
чаще всего усматривает в изображенной в углу паре —
молодой женщине и старце в тюрбане (возможно, симво-
лизирующих Юность и Зрелость) — трогательный при-
мер того, как противоположности дополняют друг друга.
Веронезе, Тинторетто и многие другие работали над
украшением самого большого помещения — зала Большо-
го совета, где собирались 1500 его членов. Их окружали
внушительные изображения побед Венеции над турками,
генуэзцами, миланцами и так далее, а со стен взирали на
них идеализированные портреты дожей вплоть до Фран-
ческо Веньера, умершего в 1556 году, написанные в основ-
ном Доменико Тинторетто. Череда дожей на стенах пре-
рывается только один раз — в назидание и предостереже-
ние. Портрет Марино Фальеро закрашен черным, и там
же видна суровая надпись по-латыни: «Hie est locus Marini
Falethri decapitate pro criminibus»1. Врагам государства не * 5
1 «Вот место Марино Фальеро, обезглавленного за преступле-
ние» (лат.).
5 - 6576
130
Венеция: история города
позволено участвовать в царящем в зале буйстве красок, не
для них славное прошлое города. И напоминания об одер-
жанных венецианцами победах над иноземными врагами
только прибавляют убедительности изображенному на по-
толке над местом судьи «Триумфу Венеции» Веронезе.
Веронезе работал над этой картиной со своим братом Бе-
недетто и другими художниками и закончил ее перед самой
смертью в 1588-м. Сохранилось предписание к созданию
этой картины: Венецию следует изобразить в виде древ-
ней богини Ромы, восседающей на троне над городами и
башнями; нужно сделать так, чтобы крылатая Победа ко-
роновала ее, а вокруг стояли Мир, Слава, Изобилие и т. д.
со своими классическими атрибутами, сопровождаемые
ликующими, живописно одетыми людьми. Большая часть
этих инструкций была исполнена, но маэстро интерпрети-
ровал их по-своему. «Башни» почти не видны по сторонам
персонифицированной Венеции, а «города» вместе с насе-
ляющими их людьми превратились в одно массивное стро-
ение классического толка с колоннами, фронтонами и ба-
люстрадой. Этот образ и привносит в картину мотив побе-
ды над Римом. Кроме того, образ здания образует центр
тяжести композиции, мимо которого проплывают на своем
облаке Венеция и прочие аллегорические фигуры. Ну и
конечно же, именно оно позволяет некоторым из присут-
ствующих на картине персонажей продемонстрировать свои
костюмы и прически, прислонившись к балюстраде, обрам-
ленной арками, сквозь которые видно характерное для Ве-
ронезе синее небо и розоватые облака.
Веронезе вместе с Франческо Бассано выиграл еще один
конкурс и получил заказ нарисовать большой «Рай» на
одной из стен зала. В 1588-м Веронезе умер, и после ново-
го конкурса проект был передан Джакопо Тинторетто, хотя
на практике не он, а его сын Доменико проделал большую
Венеция дожей
131
часть работы. Толпа спасенных и заполняющие промежутки
сияющие ангелы озаряют присутствием земных победите-
лей и изображенных на стенах правителей.
И хотя дворец ничуть не походил на крепость, здесь все-
таки имелось все необходимое, чтобы принять быстрые
меры в случае мятежа. Ричард Лассел, посетивший Вене-
цию в середине XVII века, обнаружил, что в оружейной
«мушкеты всегда заряжены, их перезаряжают каждые три
месяца, и вместе с копьями и мечами они стоят в таком иде-
альном порядке, что стоит расстегнуть кожаный ремешок,
придерживающий их, и они упадут вам прямо в руку без
всякой путаницы. Таким образом тысяча или полторы ты-
сячи человек могут вооружиться менее чем за полчаса».
Существовал и более оригинальный механизм:
Огромный железный шар в два раза больше челове-
ческой головы, пробитый насквозь, как эфес с чашкой:
внутри него есть пружина, и если спустить ее веревкой,
она выбивает искру в порох, что лежит вокруг этого боль-
шого шара, и в этот порох столько фитилей опущены,
сколько есть там мушкетов, и половина каждого фитиля
свисает наружу, а вторая половина находится внутри: так
что (если будет нужда) первый человек, который вой-
дет туда и выдернет упомянутую веревку, зажжет все
эти фитили, и каждый схватит один фитиль и мушкет, и
сенаторы выйдут уже солдатами.
Какой-нибудь древний доктор Кью с большим удоволь-
ствием продемонстрировал бы что-то в этом роде Джейм-
су Бонду. Показывая оружие и механизмы таким иност-
ранцам, как Лассел, венецианцы поддерживали образ не-
преступной Венеции, тогда как реальная власть государ-
ства уже шла на спад. Если суровые сенаторы с такой
5*
132
Венеция: история города
скоростью преображаются в солдат, то, возможно, и в меж-
дународном масштабе Венеция способна ответить не менее
оперативно, думали приезжие. Но в 1688-м Франсуа Мис-
сьон, гугенот, постоянно проживавший в Англии, заметил,
что «машина... для зажигания пятисот фитилей одновре-
менно... немного неисправна».
В 1797-м, когда Венеция наконец вынуждена была при-
знать свое бессилие, французы убрали часть оружия. То, что
осталось, послужило основой для создания оружейной в ее
сегодняшнем виде. Здесь есть доспех, принадлежавший Ген-
риху IV Французскому (который, утверждает Лассел, был
прислан вместо выплаты по займам), несколько великолеп-
но отделанных щитов XVI века, жуткие и неудобные в ис-
пользовании двуручные мечи XVII века, морионы, арбале-
ты с тонко отделанными кожаными колчанами, ощетинив-
шимися стрелами, пистолеты, пороховницы, аркебузы и дру-
гое огнестрельное оружие — возможно, среди них есть и те
самые мушкеты, которые увидел Лассел, — и целый ряд
древних огнестрельных механизмов. Из окон последней ком-
наты оружейной открывается чудесный, мирный вид на Сан-
Джорджо Маджоре, Джудекку, деревья Лидо и бесчислен-
ные гондолы, лодки, катера.
Тюрьмы
Как и другие дворцы, построенные в Средние века и
позже, Дворец дожей не обошелся без тюрем. Расположи-
ли их здесь в основном для удобства и безопасности, но
содержать и наказывать преступников в самом сердце го-
сударства было правильно еще и с идеологической точки
зрения. Последующие поколения, тем не менее, находили
удивительным и даже пугающим, но романтичным, что
дворец соединен с тюрьмой одним только Мостом Вздо-
Венеция дожей
133
хов (Антонио Контин или Контино, 1600 год) — назван-
ным так только в XIX веке. Тюрьма, о которой идет речь,
это новое здание, построенное тем же Контино и призван-
ное бороться с переполнением камер в самом дворце. Но и
дворцовые темницы тоже продолжали использоваться;
хуже всего были тесные камеры XVI века — pozzi (поц-
ци), колодцы, на нижних двух уровнях. Либерально на-
строенные авторы грешат против истины, утверждая, что
эти камеры постоянно заливало водой, хотя, разумеется,
там царили холод и сырость, да к тому же помещения, как
правило, были переполнены. Немало заключенных погиб-
ли от болезней.
Поцци для посетителей закрыты, но не менее популяр-
ные piombi (пьомби) — «свинцовые» камеры, расположен-
ные прямо под крышей дворца (отсюда и название), —
можно увидеть во время «секретных экскурсий» по двор-
цу. Эти экскурсии заходят и в Зал пыток (зал дель Тор-
менто), где заключенных, как и везде в Европе, пытали,
чтобы добиться от них признания. Веревка и блоки крепи-
лись к потолку, и жертву вздергивали на веревке со свя-
занными за спиной руками и подвешивали, заставляя тер-
петь адскую боль. По словам Кориэта, при этом «человек
претерпевает такие сильные мучения, что его суставы на
время растягиваются и выходят из сочленений», а затем
его бросают на пол. Пьомби, устроенные, возможно, в конце
XV века, были значительно свободнее и не столь угнетаю-
щи, как поцци, но зато человек страдал здесь от сильной
жары и холода. Сильвио Пеллико (1789—1854), писатель,
арестованный в 1820 году, после того как попал в неми-
лость к австрийцам из-за своих либеральных взглядов, опи-
сывал прекрасный летний вид, который портило то, что
свинцовая крыша Сан-Марко «давила на меня с невероят-
ной силой». А хуже всего были комары! Чтобы отогнать
134
Венеция: история города
мысли о самоубийстве, Пеллико заставил себя обдумать
всю свою жизнь, размышляя над «долгом человека вообще
и моим в частности». Результаты своих размышлений он в
зашифрованном виде нацарапал на столе. Он выцарапы-
вал там что-нибудь каждый день, пока надписи не покрыли
всю поверхность стола, и, поразмыслив еще немного, Пел-
лико срезал все подчистую, чтобы освободить место для но-
вых мыслей. Обо всем этом он написал в своей книге «Мои
тюрьмы» ( «Le mie prigioni» ) в 1832 году. Ему вынесли смерт-
ный приговор, который впоследствии заменили восемью го-
дами каторжных работ в печально известной крепости
Шпильберг в Моравии.
Побег Казановы
Джакомо Казанове (1725—
1798) повезло больше, чем Пел-
лико. Невероятно повезло, если
верить всем подробностям его
рассказа о побеге из пьомби в
1576-м. На момент ареста его
основное занятие составляли ве-
селые любовные приключения.
В своих мемуарах, написанных
по-французски и опубликован-
ных только в 1821 году, он раз-
ворачивает философию «мысля-
щего сластолюбца». Люди, утверждает он, отличаются от
животных способностью не только наслаждаться, но и пред-
видеть наслаждение, искать его, создавать и после размыш-
лять о нем. Второй страстью Казановы были азартные
игры — отчасти в связи с тем, что они помогали ему фи-
нансировать любовные похождения. Но поскольку он, ко-
Венеция дожей
135
нечно же, не мог каждый раз выигрывать, приходилось
искать и другие финансовые возможности. Когда ювелир
Джованни Батиста Мануцци сказал, что может достать для
него бриллианты в кредит, Казанова показал себя удиви-
тельно доверчивым. Мануцци зашел к нему и увидел у
Джакомо какие-то рукописи, связанные с магией. Казано-
ва показал ювелиру раздел о том, как вступать в контакт с
духами. Ювелир сказал, что знает коллекционера, кото-
рый хорошо заплатит за такие рукописи, забрал их на вре-
мя и отнес прямиком в инквизицию, где состоял доносчи-
ком. Он представил туда впечатляющий список пороков
Казановы, куда вошли: разврат, отсутствие веры, облегче-
ние кошельков легковерных господ, которых Казанове уда-
валось убедить. Доносчик не преминул упомянуть и о том,
что он алхимик и вхож в мир духов. Быстро объявились и
другие враги с подобными обвинениями. Казанову аресто-
вали вечером 26 июля 1755 года: за ним пришли мессере
Гранде (начальник стражи) и тридцать или сорок солдат,
что показалось арестовываемому несколько излишним.
По дороге в пьомби Казанова заметил на стене приспо-
собление в форме подковы, которое использовалось, как
любезно пояснил ему тюремщик, когда заключенного при-
говаривали к смерти через удушение. Как и Пеллико, ему
пришлось терпеть сильную жару. Крысы вели себя очень
шумно и, по словам Казановы, были размером с кроликов.
Насекомые (на этот раз скорее блохи, чем комары) тоже
сильно заинтересовались новопришедшим. Сперва в каме-
ре не было кровати, но ему удалось три часа поспать на
полу. В полночь, проснувшись от звона колоколов, он по-
тянулся за платком и нащупал «еще одну руку, совершенно
ледяную». Испугавшись до невозможности, он еще раз
пошарил правой рукой — с тем же результатом. Он ре-
шил, что жестокие тюремщики, пока он спал, подложили к
136
Венеция: история города
нему труп; в его воображении всплыл и инструмент для
удушения. Может быть, это тело какого-то «невинного
жалкого неудачника», или, даже, может быть, кого-то из
его друзей? Или судьба сотворила это, чтобы предосте-
речь его? Он в третий раз ощупал руку, на сей раз она ожила
и отдернулась —> и только тогда он понял, что это была его
собственная, просто онемевшая рука.
Утром Казанова наконец смог послать за кроватью и
едой. Но вскоре твердо решил бежать. С большим трудом
ему удалось заострить кусок железа и проделать с его по-
мощью дыру в полу — он намеревался спуститься в зал
делла Буссола в праздничный день, когда там никого не
будет. Но в это время Казанову перевели в более удобную
камеру, этажом ниже и в другом крыле здания. Вид на ла-
гуну и Лидо Казанову не успокоил, он все ждал, что дыру
обнаружат. Но когда тюремщик Лоренцо явился и в яро-
сти набросился на него, Джакомо хладнокровно ответил,
что если тот даст делу ход, он просто заявит, что получил
инструменты от тюремщика, а потом ему же их и вернул.
И хотя при переезде мебель заключенного обыскали, тот
самый инструмент, спрятанный в кресле, не нашли. Мож-
но было снова строить планы.
На этот раз продвинуться Казанове помогли книги. Он
уговорил Лоренцо разрешить ему обмениваться книгами с
заключенным, сидевшим этажом выше, монахом Марино
Бальби, который оказался в пьомби не столько потому, что
у него родились три дочери, сколько потому, что попытал-
ся их узаконить. Передавая книги, заключенные тайком
обменялись письмами. Казанова вскоре понял, что монах
глуп и на него нельзя положиться, но больше ему обратиться
было не к кому. Обнаружив, что самодельный инструмент
слишком велик, чтобы спрятать его в большую Библию,
Казанова сначала приуныл, а потом придумал хитрое ре-
Венеция дожей
137
шение: он отправил Бальби в подарок большое блюдо ма-
карон с маслом и сыром пармезан и одновременно вернул
Библию с вложенным в нее инструментом. Он убедил Ло-
ренцо поставить блюдо на книгу и так и нести, при этом
тюремщик очень старался не пролить на нее масло. Теперь,
как и было задумано, Бальби сначала расшатал плохо дер-
жавшиеся кирпичи в кладке своей темницы, а потом смог
даже выбираться из нее ненадолго, чтобы постараться сде-
лать дыру и в потолке камеры Казановы. (Ему нужно было,
чтобы работу сделал монах, потому что сам он еще пребы-
вал под подозрением из-за первой дыры в полу.)
Наконец ночью 31 октября 1756 года Казанова сделал
длинную веревку, связав вместе простыни и матрасы, и вот
молодой искатель приключений и то и дело ворчавший мо-
нах отправились в побег. Выбравшись на крышу, они про-
ползли наверх по мокрому от тумана скату и уселись на
конек. Бальби уронил шляпу (к счастью, она упала в воду,
а не во двор, и никто ничего не заметил), а Казанова чуть не
разбился насмерть, но в последний момент сумел, пробив
окно, упасть внутрь дворца. От отца Бальби было больше
помех, чем помощи, и Казанова вспоминает, как сам был
весь в порезах и царапинах, а его преподобный спутник —
цел и невредим. Но Казанова переоделся в запасную одеж-
ду, которую принес с собой, снова надел шляпу с пером и
отдал Бальби свой плащ, и теперь им более или менее убе-
дительно удалось притвориться, что их случайно заперли
во дворце с вечера. Служитель выпустил их, и, стараясь
двигаться естественно и не броситься бежать, они спусти-
лись по Лестнице гигантов и вышли через Порта делла
Карта. Сев в первую попавшуюся гондолу, они поехали в
Местре, дальше коляской — в Тревизо, а потом пешком —
за пределы венецианских владений. После Тревизо Каза-
нове удалось убедить надоевшего уже Бальби, что им луч-
138
Венеция: история города
ше расстаться. Тот попытался было возражать, но Каза-
нова измерил его и принялся рыть могилу своим верным
инструментом, поставив монаха в известность, что похоро-
нит его заживо, если тот не доконает его раньше. Автор —
блестящий рассказчик и старается представить себя в наи-
более выгодном свете, но так как ему все-таки удалось бе-
жать, значит, хоть какая-то часть его истории — правда.
И настолько сложными путями движется логика инквизи-
ции, что в 1774 году Казанову убедили вернуться в Вене-
цию и стать доносчиком в той самой организации, от кото-
рой он некогда сбежал. Он снова поссорился с властями в
1782 году, был изгнан и написал мемуары, уже будучи в
безопасности, в Австрии.
К Арсеналу
За зданием тюрьмы находится отель «Даниели», спо-
собный предложить более изысканные апартаменты. Он
стал гостиницей в 1822 году, а в 1948-м был достроен. (Эта
пристройка нарушила почти восьмивековую традицию —
после убийства дожа Витале Микиеле на калле делле Рас-
се здесь разрешалось строить только низкие деревянные
здания.) Название «Даниели» происходит от имени пер-
вого владельца, Джозефа да Ниели. Он и его преемники
принимали немало литературных знаменитостей, включая
Жорж Санд и Альфреда де Мюссе в последние дни их бур-
ного романа, Бальзака, семью Рескин, Диккенса и Пруста.
Несомненно, что если бы отель открылся в XIV веке, он с
удовольствием дал бы приют и Петрарке. В 1360-х поэт жил
чуть дальше по рива дельи Скьявони — примерно там, где
сейчас находятся номера 4143—4144, — в доме, предостав-
ленном ему республикой в обмен на обещание оставить го-
роду свою библиотеку. Из его окон открывался, как и по-
Венеция дожей
139
всюду на этой набережной, превосходный вид, и для Пет-
рарки он простирался далеко за горизонты видимой части
лагуны: поэт смотрел, как уплывают корабли, на паруса,
раздуваемые ветром, от которого вздрагивали окна дома:
Если бы вам довелось увидеть его, вы бы сказали,
что это был не корабль, но гора, плывущая по морю, хотя
под тяжестью его гигантских крыльев большая часть его
сокрыта под водой. В конце путешествия его ждет Дон,
далее которого ничто не может доплыть из наших мо-
рей, но многие из тех, кто был на борту, достигнув этой
точки, хотят продолжить путешествие и не останавли-
ваться, пока не достигнут Ганга или Кавказа, Индии или
Восточного океана.
Петрарка мог на крыльях воображения пускаться вслед
за отважными купцами, но сам предпочитал маршруты не
в пример более скромные. Вскоре он отправится на покой
и проведет остаток жизни в тихой деревеньке Арква на
вершине холма, неподалеку от Падуи — теперь она назы-
вается Арква Петрарка.
По дороге к месту, где некогда жил Петрарка, вы прой-
дете мимо церкви Санта-Мария делла Визитацьоне или
делла Пьета, которую называют просто Ла Пьета. У нее
есть еще одно имя — церковь Вивальди, заметим только,
что строительство нынешнего здания началось в 1744-м,
через три года после смерти композитора. И все-таки по-
чти овальная церковь, которую Джорджо Массари проек-
тировал, памятуя о музыке, что будет звучать в ее стенах, —
чудесное место для концертов, нередко включающих в свои
программы и произведения Вивальди. На мемориальной
табличке на стене церкви со стороны калле делла Пьета
написано, что великолепная акустика «обязана своим по-
140
Венеция: история города
явлением вдохновенной интуиции и удачным советам Ан-
тонио Вивальди». В дользу этого немного окольного спо-
соба посмертно связать церковь с именем композитора го-
ворит то, что первые чертежи Массари датируются 1736 го-
дом. Ангелы-музыканты на потолочной фреске Тьеполо
«Триумф веры» (оконченной в 1577-м) услужливо под-
хватывают тему. Эта церковь, как и ее предшественница,
была часовней основанного в XIV веке приюта Пьета, на-
ходившегося по соседству (сейчас там расположен отель
«Метрополь»), где большую часть жизни Вивальди дири-
жировал хором, исполнявшим его сочинения.
Рива дельи Скьявони вьется дальше. Еще одна мемо-
риальная табличка, рядом с калле дель Дозе, напоминает
нам о schiavoni, или славянах. Рива получила название не
только от своих купцов. Именно отсюда отправлялись сла-
вянские, или далматинские силы: они хоть и именовались
valorosi soldati — доблестные солдаты, но в 1797 году все-
таки были вынуждены оставить город, который взялись за-
щищать. Затем рива дельи Скьявони превращается в рива
Ка’ ди Дио. Повернув налево, вверх по течению Канале
делль Арсенале, отсюда можно увидеть две башни у вод-
ного входа в Арсенал, многие столетия остававшийся цен-
тром венецианской мореходной мощи — памятник тому
времени, когда практически все венецианцы, а не только
далматинская когорта, были доблестными солдатами, ко-
рабельщиками или мореходами.
Перед этими башнями некогда находился подъемный
мост; там и сейчас есть мост, но уже не подъемный, веду-
щий к воротам с суши. Вход сюда воспрещен, потому что
это все еще военная зона. Но вапоретти проплывать разре-
шено, и с них можно полюбоваться на внушительные зуб-
чатые стены и некогда переполненные верфи, а затем на-
правиться к Фондамента Нуове и Марано.
Венеция дожей
141
Арсенал и Музей морской истории
Триумфальная арка сухопутных ворот — первая отчет-
ливо ренессансная постройка в Венеции, созданная в
1460 году. (Имя архитектора с точностью назвать невоз-
можно.) Две колонны изготовлены из греческого мрамора.
Дополнения прославляют более поздние завоевания Вене-
ции. Воинственного льва святого Марка поместили над
воротами после победы Венеции и Испании над турками
при Лепанто в 1571 году. Статуя на самом верху, святая
Джустина, установлена здесь потому, что битва эта случи-
лась в ее день и победу приписали помощи святой. Итак,
был построен обнесенный оградой и декорированный ста-
туями двор, и два больших античных льва с триумфом при-
были сюда вслед за победами Франческо Морозини в Гре-
ции в 1692 году. Сидящий по левую сторону лев, приве-
зенный из Пирея, связан с более ранними битвами: стер-
шиеся руны на его левом плече, которые венецианцы не
смогли бы прочитать, даже если бы и замечали, рассказы-
вают, как Хакон, Ульф, Асмуна и Харальд Высокий —
очевидно, воины скандинавской и английской гвардии ви-
зантийского императора, варяги — захватили Пирей. Ха-
ральд, несмотря на протесты греков (возмущенных, воз-
можно, не только унизительной надписью, но и порчей их
льва), настоял на том, чтобы публично заявить об этой по-
беде. Вернувшись с востока, Харальд Высокий стал ко-
нунгом Харальдом Хардрадом Норвежским и погиб в бо-
лее славной битве, сражаясь у Стэмфорд-Бридж с Хараль-
дом Годвинсоном в 1066 году. История другого большого
льва, как и большинства подобных трофеев, остается не-
разгаданной. Считается, что он стоял на Священном пути
между Афинами и Элевсином.
142
Венеция: история города
Венеция, неизменно стремившаяся пополнить свою кол-
лекцию львов под тем удобным предлогом, что они — симво-
лы святого Марка, добавила еще одну пару маленьких ан-
тичных скульптур в 1718-м. Они родом из Делоса и про-
славляют одну из последних морских побед венецианцев,
освобождение Корфу от турок. За воротами теперь видна
только малая толика той мощи, которую прославляли львы
республики Сан-Марко. Но когда-то в Арсенале, заложен-
ном в 1105-м, кипела жизнь. Сначала его использовали в
основном для ремонта кораблей, хранения весел, канатов и
строевого леса, но начиная с XIV века это был крупный,
высокопроизводительный центр кораблестроения, призван-
ный решать в первую очередь вопросы безопасности рес-
публики. Название его, скорее всего, происходит от араб-
ского «darsina’a», мастерская. Связанные с Арсеналом во-
енные ассоциации сделали это слово синонимом оружейного
склада — наподобие лондонского, который впоследствии
передал этот имя футбольному клубу. В начале XIV века
Арсенал увеличился в два раза. Именно в это время Данте
Венеция дожей
143
наблюдал за мастерскими и причалами зимой и описал, как
неутомимые венецианцы варят смолу, чтобы смолить дни-
ща, строят новые суда на смену тем, что уже не починить,
изготавливают весла и канаты, латают паруса. Все это слу-
жит вступлением к описанию кипящей смолы, ожидающей в
аду взяточников и нечистых на руку чиновников, но, кроме
того, предоставляет возможность отдать должное Венеции,
которая по своему блеску и славе кажется изгнаннику Данте
сравнимой с вероломной Флоренцией.
Строительство кораблей велось все интенсивнее. Росту
производительности способствовала хорошая оплата и ус-
ловия труда армии искусных работников, arsenalotti, безо-
пасность обеспечивала традиционная лояльность рабочих
к государству: из работников Арсенала набирали личную
охрану дожа; финансирование поддерживалось благодаря
установленной в 1329 году практике, согласно которой пра-
во пользоваться галерой в течение года продавалось с аук-
циона капитанам и синдикатам.
В 1436-м Перо Тафур, испанский путешественник, уви-
дел и описал арсеналотти в деле.
Когда вы входите в ворота, перед вами две большие
улицы по правую и по левую руку и море посередине, и с
одной стороны открываются окна здания Арсенала и то
же самое — с другой; и вот на буксире выводят галеру,
а из окон на нее передают: из одного — снасти, из дру-
гого — оружие, из третьего — баллисты и мортиры, и
так со всех сторон — все, что необходимо, а когда гале-
ра достигает другого конца улицы, все нужные люди уже
на борту, и сколько необходимо весел, и она оснащена
от носа до кормы.
Но в конце XV века появились технически более слож-
ные суда, а огромный турецкий флот набрал силу, и наста-
144
Венеция: история города
ла необходимость дальнейшего развития производства.
В 1473-м постановили снова увеличить Арсенал вдвое —
так, чтобы он занял большую часть восточных районов го-
рода. Расширение мастерских, складов и доков можно под-
робно изучить по картам и моделям в Музее морской исто-
рии, о котором подробнее расскажем чуть позже. Стремясь
обеспечить перевес над турками, в 1540-х Сенат решил,
что необходимо, чтобы Арсенал создал и постоянно имел в
запасе не менее сотни галер и какое-то количество более
легких судов. Во время неожиданных событий на Кипре в
1570-м арсеналотти — их тогда насчитывалось 3000 че-
ловек — работали не покладая рук и построили сотню га-
лер за два месяца.
Но усталость от этих непомерных усилий в сочетании с
нехваткой строевого леса и вспышками чумы привели к
упадку Арсенала еще до конца XVI века. В 1633-м резерв
уменьшился до пятидесяти судов. Ремонтные и складские
функции все еще играли важную роль, и корабли здесь про-
должали строить, но к середине XVII века все больше их
закупали за границей. Гёте, который пришел посмотреть
на работу оставшихся рабочих в 1786-м, заметил, что чув-
ствовал себя при этом так, «будто навещал старую семью,
которая хоть и пережила годы расцвета, но все еще не сда-
ется под тяжестью лет».
Когда вы вернетесь на берег, слева от вас окажется
Музей морской истории (Музео Сторико Навале). Здесь
в первых комнатах находятся приспособления, помогавшие
планировать защиту и возвращать имперские аванпосты в
неспокойном, благосклонном к туркам XVII веке: частич-
но восстановленные в XIX веке модели крепостей Корфу,
Крита и греческого побережья из дерева, гипса и папье-
маше. Такие фигурки использовали реальные прототипы
герцога и сенаторов шекспировского «Отелло», рассчиты-
Венеция дожей
145
вая шаги, ложные атаки и военные хитрости, перед тем как
решительно напасть на противника. Сейчас просто инте-
ресно рассматривать — особенно если вы бывали в тех
местах. Одна модель, например, демонстрирует укрепле-
ния Навплиона, рядом с Аргосом (который венецианские
колонисты звали «Наполи и Романия») и его высокой кре-
постью Палами ди, где сегодня на фоне синего моря кры-
латые львы у ворот скорее радуют глаз, чем демонстриру-
ют силу. Но конечно же, основной акцент в моделях дела-
ется на башни, гавани, молы и стены. Чаще всего, напри-
мер, в Хании на Крите (колонисты звали ее Ганеей), трудно
не заметить длинное, ангароподобное здание местного Ар-
сенала. Частично такие морские сооружения сохранились
вместе с другими реликвиями венецианского правления в
столице Крита Кандии, теперь — Гераклионе.
На втором этаже музея находятся куда более практи-
ческие орудия нападения и защиты, а именно: легкие длин-
ноствольные пушки кульверины, пушечные ядра, огром-
ные аркебузы XVI века и несколько блестящих черных
зажигательных снарядов, которые использовались против
турок во время осады Кандии (1648—1669), последнего
западного аванпоста Крита. Еще в музее находятся мечи,
превосходные модели галер, несколько уцелевших панелей
и украшений с самих судов, а также более поздние изобре-
тения: самоходные торпеды, пригодившиеся там же на
Крите и Мальте в 1941-м, форма итальянских моряков и
многое другое. Но, пожалуй, самый волнующий экспонат —
это восхитительная модель «Бучинторо», парадной барки
дожа 1828 года. Само имя, скорее всего, значит «золотая
лодка». Первое такое судно было построено в 1277-м, а по-
следнее, с которого и сделана модель, в 1728-м. Основная
его функция сводилась к тому, чтобы перевозить дожа с
Пьяццетты к собору Сан-Николо ал Лидо, где он от име-
146
Венеция: история города
ни Венеции сочетался символическим браком с морем, бро-
сая в его воды золотое кольцо. Самое большое и предста-
вительное из этих судов примерно сорок пять метров в длину
и семь с половиной метров в высоту. На веслах здесь сиде-
ли специально подобранные арсеналотти, по четыре на каж-
дое из сорока двух весел. Над гребцами располагалась длин-
ная крытая кабина, роскошно позолоченная и отделанная
дорогими тканями: здесь были места для благородных гос-
тей дожа. Сам он восседал на троне в носовой части. Золо-
тые украшения для лодки изготовил скульптор Алессанд-
ро Витториа, среди них морские боги и богини, раковины,
медальоны, сфинксы, фрукты; огромные суровые тритоны
с рыбьими хвостами, высовываясь из воды, то ли поддер-
живают колонны галереи, то ли цепляются за нее; львы свя-
того Марка по обеим сторонам руля, путти, дующие в тру-
бы, и массивный древний воин с длинным копьем. На каж-
дой колонне сатиры, морские боги, фестоны и орнаменты.
Вокруг носа — буйство украшений: возлежащее морское
божество, боги поменьше, пускающие золотые фонтанчи-
ки, дерущиеся путти, колоссальная фигура Венеции (в му-
зее есть такая же, только поменьше и попроще — вероят-
но, с «Бучинторо» XVI века) и неизбежный лев. Как за-
метил, осматривая корабль, Гете, неверно было бы назвать
его «перегруженным украшениями», поскольку «весь ко-
рабль — одно сплошное украшение».
Все это, должно быть, выглядело еще более впечатляю-
ще, когда золотые фигуры скользили по воде, солнце сле-
пило глаза зрителям, одновременно взлетали вверх и по-
гружались в воду весла и плыла над водой торжественная
музыка. Джон Ивлин, автор «Дневников», видел предпо-
следнее дожеское судно в действии вскоре после приезда в
Венецию в июне 1645 года, дож в парадных одеждах
(«очень оригинальные и похожи на восточные») и сенате-
Венеция дожей
147
ры в мантиях «взошли на свой великолепно раскрашенный,
покрытый резьбой и позолотой “Бучинторо”, окруженный
бесчисленной свитой галер, гондол и лодок, заполненных
зрителями, разодетыми в маскарадные костюмы; трубный
глас, музыка и пушки наполняли грохотом воздух».
Когда дож бросает кольцо в море, «громкому привет-
ственному крику вторят ружейные выстрелы в Арсенале и
на Лидо». Но так долго хранимая церемония все меньше
отражала реальную мощь государства. На панели над су-
ровой галереей последнего «Бучинторо» изображены ко-
рабли в море; она призвана напоминать о реальной мощи
Венеции на настоящем море, за лагуной. Но, как заметил
доктор Джон Мур, посетивший город в 1777-м, если ког-
да-то «супруга дожа находилась в полной и безграничной
его власти», то сейчас, «по прошествии значительного вре-
мени, она дарит свою благосклонность и другим любовни-
кам». Как будто подчеркивая эту слабость, прекрасное, но
ненадежное судно можно было спускать на воду только в
подходящую погоду — и эту часть праздника избрания
дожа поэтому по необходимости приходилось откладывать.
В 1797-м французы сняли золотые украшения с корабля.
Корпус какое-то время использовали как плавучую тюрь-
му. Только несколько фрагментов корабля сохранилось до
наших дней: часть в Музее морской истории, часть — в
Музео Коррер. Арсенал, давно переживший свой расцвет,
в целом сильно пострадал; на гравюрах видно, каким он
был до и после прихода французов: корабли затоплены,
мастерские разрушены. А рядом с этими гравюрами, как
ни удивительно, выставлена серебряная чернильница, в
которую Наполеон окунал перо, чтобы передать Венецию
австрийцам по договору в Кампо Формио.
Глава пятая
Дворцы Венеции: Большой канал
В 1498 году французский посланник Филипп де Комин
почувствовал себя польщенным, когда по прибытии в Ве-
нецию его встретили двадцать пять джентльменов, одетых
в красный шелк, и в знак почета усадили между послами
Милана и Феррары на церемониальной барке, которой
предстояло переправить его в сердце города. Венеция, как
и другие сильные города Италии тех дней, стремилась, по
возможности, оставаться в хороших отношениях с фран-
цузской монархией. Но больше всего впечатлило Комина
одно необычайное зрелище. Его никак нельзя было орга-
низовать специально, и оттого оно казалось еще более вол-
нующим. Современный читатель, вероятно, увидит призна-
ки волнения в многочисленных «и», так часто повторяю-
щихся в рассказе Комина. Впрочем, хронисты нередко при-
бегали к подобному слогу.
Меня провезли по большой улице, которую они на-
зывают Гранд Канал. Улица сия очень широка, ее часто
пересекают галеры, и мне случалось видеть корабли во-
доизмещением до четырехсот тонн, стоящие у домов.
150
Венеция: история города
И это чрезвычайно красивая улица, и украшенная луч-
шими домами, что есть на всем свете, и проходит она
через весь город. Дома большие и высокие и построены
из хорошего камня. Старые дома все раскрашены, ос-
тальные, те, что построены за последнюю сотню лет, все
облицованы белым мрамором, который привозят сюда
из Истрии, что в сотне миль отсюда, и немало также
больших плит порфира и серпентина на фасадах... И ни-
когда еще мне не доводилось видеть такого торжеству-
ющего города.
Люди, впервые оказывающиеся на Большом канале,
видят примерно то же, что довелось созерцать де Комину,
и испытывают почти такое же восхищение. А вероятнее
всего, оно окажется еще сильнее, если, тщетно выискивая
глазами встречающих в красных шелковых одеждах, вы
только что покинули одну из огромных автостоянок на пьяц-
цале Рома или железнодорожный вокзал.
Настоящая глава предоставит вам возможность окинуть
мимолетным взглядом виды, открывающиеся с этой «чрез-
вычайно красивой улицы», и, быть может, вам захочется
приехать сюда снова, чтобы рассмотреть все поподробнее.
Ка' д'Оро
Ка’ д’Оро, Золотой дом, один из тех дворцов Большо-
го канала, что бросаются в глаза в первую очередь. Когда в
1430-х завершились работы над фасадом, взорам прохо-
жих предстало зрелище еще более изумительное: фасад
сверкал сусальным золотом (отсюда и название), ультра-
марином, мраморными творениями Веронезе, лакирован-
ными, чтобы красный цвет камня сиял еще ярче, а отдель-
ные детали, покрытые свинцовыми белилами, резко выде-
Дворцы Венеции
151
лялись на фоне черной масляной краски. Дворец и его от-
делка были спроектированы по заказу Марино (или, по-
венециански — Марин) Контарини, принадлежавшего к
одной из богатейших и знатнейших семей. В числе его зна-
менитых предков и родственников три дожа, и одно время
казалось весьма вероятным, что отец Марино, Антонио,
сменит на этом посту своего союзника Томмазо Мочени-
го. Но избрали Франческо Фоскари — того самого, что
прожил долгую жизнь. Однако эта ветвь Контарини со-
хранила свое влияние и, главное, богатство. Ричард Гой
подробно исследовал дворец и довольно многочисленные
документы, его касающиеся, и фактами и цифрами дока-
зывает, что деньги семья Контарини зарабатывала на тор-
говле — в основном тканью, но не пренебрегала и другими
товарами, например, медью или даже grana, мелкими насе-
комыми из Греции, из которых изготавливали красную или
пурпурную краску.
Марино Контарини (1386—1441) купил дворец в 1421 го-
ду у не менее богатой и древней семьи своей жены, Сара-
дамор Дзено (умерла в 1417 г.). В 1418-м начались работы
по сносу большей части старого здания, на месте которого
предстояло родиться Ка’ д’Оро. Контарини, насколько из-
вестно, лично интересовался всеми аспектами строитель-
ства. Возможно, как раз благодаря его дилетантскому эн-
тузиазму фасад превратился в «чудесную коллекцию от-
дельных, прекрасно выполненных работ», «сложную мо-
заику» разнообразных архитектурных элементов (Гой).
Дворец явно задумывался, чтобы поразить всю Венецию
своим великолепием, и только самому Дворцу дожей доз-
волялось соперничать с ним. Из этого все желающие мог-
ли и могут делать политические выводы. И хотя во время
строительства дворца изначальный замысел Контарини
подвергся некоторым изменениям, ему, к счастью, хватило
152
Венеция: история города
и денег, и проницательности, чтобы добиться исполнения
большей части своих желаний руками таких талантливых
каменщиков и скульпторов, как Маттео Раверти из Мила-
на и венецианцев Джованни и Бартоломео Бон, отца и сына.
Помимо работы над самим дворцом, старший Бон создал
и ажурную каменную перегородку между холлом первого
этажа и каналом, а Бартоломео вырезал великолепный ко-
лодец во дворе. Скульпторы и их помощники работали все
1420-е и начало 1430-х годов, и значительная часть их уси-
лий ушла на отделанный мрамором, с галереями и резными
зубцами фасад, который Дзуан да Франца (Жан Шар-
лье) затем расписал в соответствии с подробнейшими ин-
струкциями Контарини. Одним из самых заметных укра-
шений стал герб семьи, сиявший золотом на фоне ультра-
марина. Дзуан использовал золотой фольги на 114 дука-
тов — в те времена искусному мастеровому потребовалось
бы не менее двух лет, чтобы заработать такие деньги. (Дзу-
ана ценили выше, и за эту работу ему заплатили 60 дука-
тов.) Ультрамарин тоже стоил недешево. Он составлял одну
из последних статей расходов проекта, обошедшегося в об-
щей сложности, по подсчетам Гоя, в 4000 дукатов. И пока
из каменоломен Истрии подвозили новый камень, выреза-
ли и золотили львов на парапете, пока работали деревян-
ные подъемные механизмы, возводились и разбирались
леса, Контарини, как показывают его счета, все еще был
достаточно богат для того, чтобы потратить за четыре года
(заканчивая 1431 годом) 500 дукатов на одежду и ткани,
предназначенные по большей части для cassoni — свадеб-
ных сундуков его юных дочерей Марии и Саммаританы.
Покупки включали платки (fazoleti), платья, сорочки (cami-
cile) и плащи. Один из cassoni, лишенный, правда, всего
этого драгоценного содержимого, но украшенный сценами
из жизни и смерти верной и целомудренной жены Лукре-
ции, можно и сегодня увидеть во дворце.
Дворцы Венеции
153
Контарини продали Ка’ д’Оро только через поколение
после смерти Марино. За четыре столетия дворцу пришлось
пережить перестройки, он постепенно рассыпался, и в конце
концов попал в руки князя Александра Трубецкого. В1847-м
он подарил дворец своей любовнице, балерине Марии Таль-
они, под чьим руководством проходила самая варварская
модернизация дворца. Работы начались еще до того, как она
стала владелицей. В сентябре 1845-го Джон Рескин, лишь
слегка преувеличивая, рассказал отцу о «несчастном дне, что
я провел вчера в Каза д’Оро, тщетно пытаясь зарисовать его,
пока рабочие сносили его прямо у меня на глазах». К счастью,
в 1894 году дворец приобрел барон Джорджо Франкетти,
154
Венеция: история города
который отнесся к его реставрации и ремонту намного бе-
режнее. Некоторые элементы — например большую часть
галерей — пришлось заменить репликами. Зато Франкетти
удалось выкупить у парижского антиквара подлинный коло-
дец Бартоломео Бона. И еще большего внимания заслужи-
вает то обстоятельство, что он пожертвовал государству
коллекцию предметов искусства, которая легла в основу
нынешней Галереи Франкетти, находящейся во дворце.
(Дальнейшие реставрационные работы продолжились уже
после 1960 года.)
Главная комната музея, portego, или большой зал, вто-
рого этажа, украшена венето-византийской каменной резь-
бой XI и XII веков. Среди сложных переплетений расти-
тельных узоров вы увидите дерущихся животных, павли-
нов и льва. Вы с удивлением обнаружите, что один из об-
разцов резьбы XII века нанесен на обратную сторону
римского барельефа. Наверное, это было сделано, в пер-
вую очередь, из соображений чисто практических, но, не-
сомненно, и с тем, чтобы повсюду заявить о Венеции как о
новом и не менее славном Риме; более поздний барельеф
изображает венецианского льва, одержавшего победу над
быком.
В центре комнаты — фрагмент «Избиения невинных
младенцев» начала XIV века. Только у одной фигуры со-
хранилась голова — это безутешно страдающая мать.
Рядом с ней стоит солдат в кольчуге, уже без головы и
без кистей рук, но, очевидно, он все еще сжимает свое
невидимое оружие — настоящее олицетворение бездуш-
ной и бездумной жестокости всех времен. Его красивые
доспехи и покрытый резьбой щит резко контрастируют с
драматизмом тяжких страданий. Невольно начинаешь
рассматривать остальные женские фигуры в свете этой
ужасающей группы. Мадонна падуанского скульптора
Дворцы Венеции
155
Иль Риччо, некогда — с младенцем, но теперь уже ли-
шенная его: взгляд ее, изначально светившийся любовью
и почитанием, теперь кажется исполненным грусти. Ко-
нечно, по средневековым канонам Мадонна и должна
выглядеть печальной, ведь она думает о страданиях,
предстоящих ее сыну, и будто готовится к другому сюже-
ту — когда на коленях у нее будет лежать уже снятый с
креста мертвый Иисус, — но здесь, совершенно вопреки
замыслу скульптора, возникает ощущение утраты. Пре-
данность еще сияет в ее глазах, но ребенка у нее уже нет.
А французская или немецкая скульптура XV века, изоб-
ражающая, вероятно, Правосудие, кажется молодой и
беззащитной, и впечатление это усиливается оттого, что и
у нее отсутствуют кисти рук, державшие весы и меч. Де-
вушка с длинными волосами и в короне будто наблюдает
за «Избиением младенцев» и вот-вот вмешается, чтобы
остановить его. (Статуи нередко кажутся замершими на
грани движения, как будто они в любую минуту могут
вмешаться, но — увы! — совершенные фигуры ничего не
могут совершить, они застыли на полуслове, и им не суж-
дено его договорить. Они невероятно близки к героям ис-
торий о Пигмалионе и Каменном Госте Дона Жуана.)
Ощущение хрупкого равновесия здесь тоже присутству-
ет, но на сей раз оно не идет вразрез с намерениями
скульптора, вполне соответствуя образу Правосудия, ко-
торое должно выносить разумные решения, сохранять за-
конность или смягчать справедливость милосердием.
В комнате есть и менее двусмысленные сюжеты. На
фламандском гобелене XVI века запечатлена неразгадан-
ная историческая сцена, представляющая величественную
правительницу, восседающую на троне, по одну сторону
которого толпятся придворные-мужчины, а по другую —
женщины. Алебастровый запрестольный образ XVI века
156
Венеция: история города
являет менее радостную картину: претерпевающую пытки
связанную Святую Катерину. Однако она определенно не
осталась без помощи с небес. Пикирующие с небес ангелы
забрасывают сложные пыточные механизмы огнем, рубят
их огромными мечами (одного уже не хватает), и в конце
концов машины начинают мучить самих палачей. А вы-
ше — Бог, мудрый и всевидящий, но образ тоже представ-
лен в движении, подчеркивающем его участие в истории с
Катериной: очевидно, ангелов прислал именно он. Тему пы-
ток продолжает и более таинственное, исполненное боли
изображение — «Святой Себастьян», позднее произведе-
ние Мантеньи, которое все еще находится в алькове, со-
зданном специально для него Франкетти.
Меж колонн открывается вид на Большой канал. На-
сладившись им и осмотрев экспонаты, включая полотна
тосканской и умбрийской школ, вы поднимаетесь по лест-
нице, к которой пристроены перила красного дерева из
другого дворца XV века. Они украшены розетками, узо-
рами из листьев и двумя львами: один сидит на столбике на
нижней площадке со своей добычей, а другой, без добы-
чи, — двумя этажами выше. Наверху вы обнаружите еще
много экспонатов — например бюст прокуратора Доме-
нико Дуодо работы Алессандро Витториа (1525—1608).
В образе Дуодо сочетаются индивидуальные черты и
стремление выглядеть «верным слугой венецианского го-
сударства». Его можно счесть самодовольным, но не вы-
сокомерным. Правильно будет сказать, что он знал жизнь
и хорошо подходил для своей должности. Лысый, морщи-
нистый, с повисшими усами, завитой бородой, в парадном
одеянии, он мудр, многоопытен и надежен — вот что
можно прочитать на его лице. На мужском портрете Ван
Дейка в той же комнате изображен человек совершенно
иного плана, но, наверное, столь же непроницаемый. У не-
Дворцы Венеции
157
го довольно задорные усы, и, очевидно, по просьбе худож-
ника, он принял несколько театральную позу. Но у зрителя
остается впечатление, что герой картины только на мгно-
вение замер, перед тем как снова броситься в водоворот
своей бурной деятельной жизни. Живописец, как и в дру-
гих портретах, не делает для нас его душу открытой кни-
гой, он только намекает на возможность более глубокого и
личного знакомства, чего не могло бы быть со «слугой го-
сударства» Дуодо.
На третьем этаже, помимо всего прочего, находятся по-
тускневшие и стершиеся фрески на мифологические сюже-
ты работы Тициана, которые вплоть до 1967 года состав-
ляли часть фасада Фондако деи Тедески, немецкого скла-
да и центра торговли на другой стороне канала, где сейчас
расположен центральный почтамт. Здесь представлено и
то, что осталось от фресок Джорджоне, снятых оттуда же
в 1937-м. Разноцветные следы — всего лишь напомина-
ние о красках более ярких, которые некогда приветствова-
ли путешественников на Большом канале, как и сверкаю-
щий фасад Ка’ д’Оро. Джорджо Вазари рассказывает ис-
торию, которая может оказаться правдой, а может и нет —
о том, как после пожара 1504 года Фондако построили за-
ново, и Синьория заказала Джорджоне фреску для фаса-
да, выходящего на Большой канал. Мастерство художни-
ка было общепризнанно, и ему предоставили полную сво-
боду действий. Ну что ж, он так и сделал, как ему вздума-
лось. Результат привел Вазари в замешательство: «По
правде говоря, там нет никаких определенных сцен или
изображений деяний какой-нибудь выдающейся личности
древности или наших дней». Вазари так ничего в этих фрес-
ках и не понял, и ему не довелось повстречать человека,
способного проникнуть в замысел автора. «В одной части
картины изображена женщина, в другой — мужчина, в
158
Венеция: история города
разных позах. Рядом с ним лежит львиная голова, а подле
нее — ангел в костюме купидона». Но он признает, что
нарисовано было неплохо и цвета подобраны талантливо.
В то же самое время Тициану, близкому другу Джорджо-
не, заказали расписать фресками фасад, выходящий на
Мерчерию. Изображенные им сцены, что бы он там ни
нарисовал, трактовать было легче. Но, к несчастью, «мно-
гие господа» не знали, что работы заказывали двум раз-
ным художникам, и, встречая Джорджоне, по-дружески
поздравляли его, утверждая, что «со вторым фасадом он
справился лучше». Джорджоне на некоторое время скрыл-
ся от людей, и с того дня, уверяет Вазари, «он не согла-
шался больше работать с Тицианом или поддерживать с
ним дружеские отношения».
Осмотрев галерею (где есть еще прелестный книжный
магазин), вы можете посетить — если уже не начали свою
экскурсию с этого визита — зал, где раньше располагался
androne Марино Контарини — временный склад и одно-
временно помещение для приема гостей, прибывающих со
стороны канала. (Широкая пристань, построенная одно-
временно с Ка’ д’Оро, позволяла с удобствами выгружать
товар и встречать гостей.) Свой нынешний облик помеще-
ние обрело в основном стараниями Франкетти: именно он
увеличил площадь, заменив центральную стену колонна-
дой, которая поддерживает с помощью новой арки portego
первого этажа. Он же облицевал стены холодно-коричне-
вым, розовым и белым с серым мрамором и покрыл пол
мозаикой, абстрактные разноцветные узоры которой явля-
ют собой сверкающее напоминание о средневековой Вене-
ции. Одной стороной это помещение открывается на ка-
нал, расположенный на одном уровне с ним. Здесь всегда
тень и сравнительно тихо, и лишь изредка шум моторов
заглушает плеск воды.
Дворцы Венеции
159
Риальто и Понте ди Риальто
На протяжении долгого времени Риальто оставался глав-
ным коммерческим центром Венеции, и отсюда знаменитый
вопрос Саланио в «Венецианском купце»: «Ну, что нового
на Риальто?» И раньше, и теперь там торгуют не только цен-
ными бумагами и дорогим товаром, но и сыром, фруктами и
рыбой. Настоящий Шейлок или Антонио могли услышать
официальные объявления, доносившиеся из кампо Сан-Джа-
комо. Их зачитывали с гранитной трибуны, ступени которой
с XVI века поддерживал скульптурный горбун «Гоббо ди
Риальто». (Gobbo означает «горбун». Возможно, именно его
имя досталось героям пьесы: Старому Гоббо и его сыну
Ланчелоту.) Небольшая площадь, кампо, названа в честь
другой достопримечательности, сохранившейся до наших
дней со времен Риальто и даже более ранних, — малень-
кой церкви Сан-Джакомо ди Риальто, основанной в V ве-
ке, перестроенной в 1071 году и восстановленной в XVII веке.
Греческая крестообразная планировка, купол и шесть древ-
них мраморных колонн, увенчанных капителями XI века,
свидетельствуют о том, что церковь торговцев осталась вер-
на византийскому образцу.
С XII столетия Риальто связывал с противоположным
берегом Большого канала, судя по описаниям, несколько
дилетантский, но, несомненно, вполне удовлетворительно
функционирующий наплавной мост. Начиная с 1264 года
на его месте не раз возводили деревянные сооружения.
Мост всегда служил великолепным пунктом наблюдения.
Он был переполнен людьми и в день бракосочетания мар-
киза Феррарского в 1444 году и обвалился как раз в мо-
мент прохождения свадебной процессии. Следующий — и
последний по счету — деревянный мост отличался боль-
160
Венеция: история города
шей прочностью, а центральная его часть поднималась, как
показано на хранящемся в Академии полотне Карпаччо
«Чудо Святого Креста». На нем изображены респектабель-
ные пассажиры (и одна кудрявая белая собачка), проплы-
вающие на идеализированных гондолах с обходительными
и красиво одетыми гондольерами.
К началу XVI века стало заметно, что мост Риальто,
который оставался единственным мостом через Большой
канал вплоть до открытия в 1854 году первого моста Ака-
демии, все больше ветшает. Вскоре Сенат вынес решение
сэкономить и починить старый мост вместо того, чтобы
строить новый. Микеланджело, ненадолго посетивший
Венецию в 1529-м, все же спроектировал новую конструк-
цию, но его замысел не нашел воплощения. Несколько лет
спустя стали искать другие предложения. В 1550-м Анд-
реа Палладио, при поддержке определенного количества
свободно и современно мыслящих сенаторов, подготовил
проект великолепного моста в неоклассическом стиле с тре-
мя или пятью арками и множеством скульптур. Вариант
попроще, но тоже изысканно классический предложил в
середине 1580-х Винченцо Скамоцци, и его проект почти
приняли. Однако верх одержали практические соображе-
ния. Проще было построить один пролет, и тогда лавки,
которые вот уже несколько столетий располагались вдоль
моста, но которым не нашлось места в идеализированном
проекте Палладио, можно было бы уместить с легкостью.
В конце концов строительство доверили Антонио да Пон-
те (очень подходящая фамилия, как отмечают многие)1, и
новый мост появился между 1588 и 1591 годами.
Под мостом, сообщает Томас Кориэт, располагался па-
ром, и паромщики не тратили время на любование архитек-
1 Ponte — мост (urn.).
Дворцы Венеции
161
турой. Это были «самые порочные и безнравственные люди
города», утверждает Кориэт:
Если незнакомец садился в одну из их гондол и не
говорил немедленно, куда ему нужно, его тут же отво-
зили в какое-нибудь богоугодное заведение [то есть бор-
дель], где его хорошенько ощиплют, прежде чем он су-
меет вырваться на волю.
Ка' Фоскари
Дож Франческо Фоскари начал обустраивать свое
жилище на Большом канале через несколько лет после
того, как над водами засиял Ка’ д’Оро честолюбивого
Контарини. Ка’ Фоскари (сейчас он составляет часть Ве-
нецианского университета), который Генри Джеймс оха-
рактеризовал, как «высокий массивный готический Фос-
кари... шедевр симметрии и величия», выглядит менее
броским, чем Ка’ д’Оро, но ему досталось удивительно
выигрышное расположение на повороте, где канал делает
6-6576
162
Венеция: история города
резкую петлю, и с ним связано несколько интересных ис-
торических событий.
Пожилой дож купил дворец после долгих лет успешно-
го ведения военных действий, и в те дни он еще пользовал-
ся всеобщим уважением. Но начало будущей трагедии уже
было заложено. Фоскари избрали дожем вопреки серьез-
ным возражениям оппозиции. Его предпочли Пьетро Ло-
редано, что послужило одной из причин вендетты, посте-
пенно разыгравшейся между двумя семьями. Эта вражда
могла стать одним из факторов, способствовавших падению
сына дожа Джакопо: в 1445-м его обвинили (и, похоже, обо-
снованно) во взяточничестве и приговорили — в отсутствие
отца, чтобы соблюсти внешние приличия — к изгнанию в
торговый порт Модон на Пелопоннесе. Однако в Модон
он не явился, а поселился неподалеку от Венеции, в Треви-
зо, и тогда государство автоматически изъяло все его зем-
ли и собственность. Но дож, хотя он ни в коей мере и не
преступал границы своих полномочий, все-таки решил, что
имеет право подать в Совет Десяти личную просьбу о снис-
хождении. Это возымело успех. Хотя многие дожи на прак-
тике почти не обладали никакой властью, к знаменитому,
так долго прослужившему стране Фоскари все еще отно-
сились с огромным почтением.
Помилованный вернулся домой в 1447 году и как будто
бы вел себя тихо. Но в начале 1451-го кто-то донес на него,
использовав bocca di 1еопе\ и его арестовали за убийство се-
натора Эрмолао Дона минувшей весной. Джакопо пытали и
выслали на Крит. На этот раз он был явно невиновен. Но
через несколько лет, все еще негодуя по поводу того, как с
1 «Львиная пасть» — емкость для доносов в форме львиной го-
ловы, куда можно было вкладывать подобную информацию для све-
дения Совета Десяти. — Примеч. автора.
Дворцы Венеции
163
ним обошлись, он стал проворачивать тайные махинации с
султаном. Джакопо привезли в Венецию. И хотя Джакопо
Лоредано и некоторые другие потребовали его казни, Фос-
кари отправили обратно на Крит, где заключили в тюрьму в
Хании (Ганее). Его отец, которому разрешили увидеться с
сыном в последний раз, сказал ему только, чтобы тот подчи-
нился воле республики, но после свидания не выдержал и
зарыдал. В стихотворной драме Байрона «Двое Фоскари»
Джакопо Фоскари падает и умирает в присутствии отца, хотя
на самом деле он умер через полгода на Крите. Так или ина-
че, старый дож был безутешен. Он перестал приходить на
собрания Сената, Совета Десяти и другие совещания, тем
самым полностью устраняясь от управления Венецией и под-
водя черту под служением, которому посвятил всю свою
жизнь. В октябре 1457-го Фоскари посетили несколько вли-
ятельных персон во главе с Джакопо Лоредано, одним из
трех глав Совета Десяти, и сообщили о том, что его немед-
ленную отставку примут с благодарностью. Сначала он от-
казывался, зная, что закон на его стороне: дожа не могли
сместить без голосования Большого совета. Но уступил, уз-
нав, что его собственность будет конфискована и он не полу-
чит никакой пенсии, если не исполнит эту просьбу незамед-
лительно. Наконец, чтобы не утратить достоинства, Фоска-
ри решает покинуть Дворец дожей по тайной «приватной
лестнице». В трагедии Байрона он говорит:
По Лестнице Гигантов я спущусь,
Которой к славе некогда вознесся
И властелином был провозглашен.
Вверх по ступеням был ведом судьбой —
И вражескою злобою низвергнут1.
1 Перевод А. Лактионова.
6*
164
Венеция: история города
(В пьесе именно враги, под предводительством мсти-
тельного Лоредано, по большей части виноваты в случив-
шемся.)
У Байрона дож успевает сделать всего несколько шагов
в сторону Лестницы гигантов, а затем, услышав, как боль-
шой колокол Сан-Марко звоном извещает об избрании его
преемника, Паскуале Малипьеро, спотыкается и падает
замертво. Искажение здесь невелико: настоящему Фоска-
ри удалось спуститься по лестнице, но он умер от сердеч-
ного приступа всего неделю спустя. И умер он в своем пре-
красном, но почти не обжитом палаццо Фоскари. Новый
дож и Синьория немедленно пожалели о содеянном и за-
брали тело во Дворец дожей, где его положили в дожеском
облачении, при всех регалиях. Фоскари похоронили со все-
ми полагающимися почестями в церкви Фрари.
История более счастливая произошла в Ка’ Фоскари поз-
же. Это короткий, но много раз описанный в хрониках визит
короля Генриха III Французского в июле 1574 года. Послед-
ний Валуа был умен, эксцентричен и нередко попадал в беду.
Ему довелось провести несколько тяжелых месяцев в каче-
стве избранного короля Польши, но, наследовав в мае свое-
му брату, королю Франции, Валуа с радостью отрекся от
трона и, переодевшись, бежал из страны. В Польше власть
короля ограничивала сложная система соперничества разных
аристократических союзов. Франция, куда Генрих просле-
довал через Венецию, была почти так же глубоко расколота
религиозной войной, охватившей чуть ли не все ее владения,
и в 1588 году Генриха в конце концов изгнали из Парижа
собственные подданные. Десять дней, проведенные в Вене-
ции, возможно, оказались самыми счастливыми днями его
жизни, пусть и похожими на сон.
Король написал из Вены 24 мая и объявил о своем наме-
рении посетить Венецию. Он рассчитывал прибыть 18 ию-
Дворцы Венеции
165
ля, и за оставшееся до его приезда время правительство,
как всегда проявив блестящие организаторские способно-
сти, спланировало для своего дипломатически важного го-
стя разнообразную и содержательную приветственную про-
грамму. Поселившись в палаццо Капелло на Мурано нака-
нуне своего официального приема, Генрих приказал, что-
бы его инкогнито привезли в город на лодке: ему хотелось
прогуляться ночью на гондоле по Большому каналу. Во
время торжественной церемонии дож Альвизе Мочениго
провел короля в церковь Сан-Николо на Лидо, у входа в
лагуну: традиционно именно здесь приветствовали могу-
щественных чужестранцев. Перед церковью венецианцы
быстро возвели несколько впечатляющих временных пост-
роек: тройную триумфальную арку (15 м шириной, 5 м глу-
биной, почти 14 м высотой), через которую король, дож и
их свиты проследовали в ложу (24 м длиной, 12 м шириной
и примерно 10 м высотой), построенную Андреа Палла-
дио — экспертом не только в области монуметальной ар-
хитектуры, но и в искусстве «хрупких декораций». Ложу
украшали картины лучших художников, Веронезе и Тин-
торетто, гирлянды цветов и королевские гербы. Здесь на-
ходился алтарь, трон под пурпурным балдахином, белые и
золотые шелка, драгоценные ковры и статуи. (Большую
часть этих подробностей можно обнаружить у М. делла
Кроче в «Истории знаменитого прибытия в Венецию сия-
тельного Генриха III», опубликованной 1547 году, где про-
славляется как Светлейшая, так и сиятельный Генрих.)
Полюбовавшись убранством ложи и выказав положен-
ное восхищение, гость взошел на государственный корабль
«Бучинторо». Когда он приблизился к Сан-Марко, с га-
лер, расставленных вдоль острова Сан-Джорджо, ударили
пушки и на всех кампанилах города зазвонили колокола.
Последовал прием во Дворце дожей. И наконец, короля
166
Венеция: история города
отвезли в палаццо Фоскари — и здесь пышность и блеск
изумляли взор. По такому случаю вестибюль украсили го-
беленами, потолок затянули синей тканью с золотыми звез-
дами. В спальне стояли мраморные столы, камин с позоло-
ченными кариатидами (работы Алессандро Витторио), все
было задрапировано золотыми и серебряными тканями,
алым шелком и бархатом, а проходил король по мозаике,
созданной по эскизу Веронезе.
Генрих, по правде говоря, провел во дворце совсем не-
много времени, ведь ему пришлось посещать разнообраз-
ные приемы и пиры, а кроме того, он инкогнито ходил гу-
лять по городу. Но время от времени ему удавалось немно-
го поспать здесь. А 20 июля под окна дворца приплыли
несколько плотов и принесли с собой огромную печь и ма-
стеров с Мурано. Несколько часов к великому удоволь-
ствию короля те выдували стекло, демонстрируя ему свое
искусство, и некоторые их творения король купил. Он вы-
делялся своей страстью к оригинальным вещицам, «дико-
винкам» даже среди принцев Возрождения. Особенно его
восхитил банкет, где тарелки, стаканы, вазы и украшения
на столе, и даже его собственная салфетка были сделаны
из сахара. Тому же вкусу к удивительному (по крайней
мере, для иностранца) отвечала и встреча с Вероникой
Франко, известной куртизанкой и поэтессой, которая ода-
рила высокого гостя не только вполне ожидаемыми ласка-
ми, но еще и преподнесла собственный портрет, сопрово-
див его сонетом.
Генрих посещал балы и торжественные церковные служ-
бы, побывал в одной из первых опер в мире и на собрании
Большого Совета, созванном в его честь. Однажды утром
он увидел в Арсенале каркас судна, а вернувшись вечером,
обнаружил, что судно полностью оборудовано и готово к
отплытию. (Секрет такой скорости заключался не только в
Дворцы Венеции
167
мастерстве и опыте арсеналотти, но и в том, что все детали
были изготовлены заранее.) Дож и Синьория, конечно же,
стремились навести короля на мысль, что люди, строящие
корабли с подобной скоростью и устраивающие такие празд-
нества, станут стоящими союзниками для Франции в Ев-
ропе, которой все больше угрожала растущая мощь Фи-
липпа II Испанского. Дож лично явился в палаццо Фоска-
ри, чтобы со всей любезностью, но еще более откровенно
донести до его величества эту идею. Все было сделано для
того, чтобы Генрих запомнил визит в Венецию. Но и не
только он: Вольпоне, герой одноименного сочинения Бена
Джонсона, еще в 1607 году решил, что Селия не сможет
устоять перед тем, кто все еще, как он утверждает, «так
свеж, так полон жизни, радостен и пылок», как
...во время представленья сцены
Из той комедии, что мы давали
На празднествах в честь Валуа. Тогда
Играл я Антиноя и привлек
Вниманье дам, следивших восхищенно
За грациозным жестом, нотой, па1.
Палаццо Джустиниан
После Ка’ Фоскари следует палаццо Джустиниан. Здесь
в августе 1858 года Рихард Вагнер, приступая к работе над
вторым актом «Тристана и Изольды», снял две большие
комнаты в поисках уединенного тихого места, где не при-
шлось бы отвлекаться на общение. Но этим его запросы не
ограничивались. Композитор искал комфорта — разуме-
1 Перевод П. Мелковой.
168
Венеция: история города
ется, исключительно для того, чтобы ни единый диссонанс
интерьера не смог помешать рождению гармонии. Требо-
валось только доставить из Цюриха его собственный ро-
яль и кровать, а стены той комнаты, что побольше, серый
цвет которой так не шел к довольно сносной потолочной
росписи, надлежало задрапировать красной тканью, «пусть
даже и самого обычного качества». И когда все было гото-
во, Вагнер мог спокойно выйти на балкон и, глядя на Боль-
шой канал, сказать себе, что здесь будет закончен его «Три-
стан». Но пока он ждал прибытия рояля, понадобилось вне-
сти еще кое-какие изменения в убранство комнат. Венгр-
домовладелец заменил старые двери палаццо обычными
современными, и их следовало завесить «темно-красными
портьерами». Мало того, на «покрытую тонкой резьбой и
позолоченную тумбу» кто-то — несомненно, все тот же
неисправимый домовладелец — водрузил «вульгарную
сосновую столешницу, которую пришлось прикрыть про-
стой красной тканью». Наконец рояль прибыл. «Его по-
ставили в центре большой комнаты, и теперь настала пора
атаковать прекрасную Венецию музыкой». («Столь же
прекрасной музыкой», как не преминул заметить не стра-
давшей излишней скромностью композитор.)
Но и после этого не все радовало. Вагнер страдал от
карбункулов, его донимали проблемы с желудком, прихо-
дилось избегать знакомых или ограничивать их доступ и
даже иногда напоминать им, что пришлось так щедро по-
тратиться на жилье только потому, что жизненно важно,
чтобы его «не отвлекали, чтобы у не было соседей и не
слышно было никакой игры на фортепьяно» (кроме его соб-
ственной). Кроме того Вагнер знал, что германское госу-
дарство оказывает давление на австрийское правительство,
добиваясь его выдворения из Венеции. В изгнании он ока-
зался после того, как поддержал в 1849 году попытку пе-
Дворцы Венеции
169
реворота в Дрездене. И тем не менее он успешно работал
каждый день до двух часов пополудни в своей красной ком-
нате, а затем на гондоле отправлялся на Пьяццетту. «Ра-
достная Пьяццетта» (за посещением которой следовал
ужин на Пьяцце) с самого начала поднимала ему настрое-
ние, но гондолы какое-то время его угнетали, особенно по-
тому, что погода вдруг испортилась, едва он прибыл в го-
род. Он писал: «...когда мне пришлось спрятаться под чер-
ный навес, я невольно вспомнил случившуюся ранее вспыш-
ку холеры». Но вскоре поездки на гондолах стали вызывать
у него более поэтические ассоциации, которые проносились
в воображении композитора, когда осенними и зимними ве-
черами его везли обратно по «помрачневшему и притихшему
Большому каналу», и «впереди показывалась одинокая лам-
па, светившаяся с окутанного ночью фасада старого палаццо
Джустиниани». Большой канал, так же как и красный свет
в тишине дворца, мог пробудить вдохновение.
Я возвращался поздно ночью по сумрачному каналу,
и вдруг появилась луна и осветила великолепные двор-
цы и высокую фигуру моего гондольера, возвышавшую-
ся над кормой гондолы, медленно двигая своим огром-
ным веслом. Неожиданно он испустил глухой вопль,
похожий на крик животного, голос его набирал силу и
после долгого «О...о!» превратился в простое музыкаль-
ное восклицание «Венеция!». Затем последовали дру-
гие звуки, которые я отчетливо вспомнить не могу, по-
тому что к тому моменту чувства уже переполняли меня.
Именно это впечатление показалось мне наиболее ха-
рактерным за все мое пребывание в Венеции, оно оста-
валось со мной, пока я не закончил второй акт «Триста-
на», и, возможно, даже подсказало мне протяжный стон
пастушеского рога в начале третьего акта.
170
Венеция: история города
Третий акт был закончен в Люцерне, новые требования
изгнать Вагнера стали одной из причин его отъезда из Ве-
неции в марте 1859-го. Но позже он вернулся, со второй
женой Козимой и детьми. В сентябре 1882 года они посе-
лились в палаццо Вендрамин-Каллержи, по другую сторо-
ну Большого канала, недалеко от вокзала. Семья жила в
восемнадцати комнатах того же дворца, и условия были ком-
фортабельнее, чем во время его одинокого визита в 1858—
1859 годах. С середины 1860-х Рихарду Вагнеру с энту-
зиазмом покровительствовал король Людвиг II Баварский.
Здесь же в палаццо Вендрамин-Каллержи композитор умер
от сердечной недостаточности 13 февраля 1883 года. Вече-
ром 16 февраля его тело в богато убранном саркофаге в стиле
эпохи Возрождения, доставленном из Вены, торжествен-
но перевезли специальной лодкой до вокзала, где ожидал
поезд в Байрейт.
Ка' Реццонико
Ка’ Реццонико был заложен для семьи Бон примерно в
1667 году архитектором Балдассаре Лонгена, построившим
церковь Санта-Мария делла Салюте. Строительство пер-
вого и второго этажей близилось к концу, когда в 1680-х
средства, выделенные на весь проект, полностью иссякли.
Последний из рода Бон — этот род, как и многие другие
благородные семейства, угас в XVIII веке — жил во дворце
с деревянной крышей. И только после 1751 года, попав в
руки гораздо более обеспеченной семьи Реццонико, дворец
наконец был закончен архитектором Джорджо Массари.
Верхняя часть фасада (работы Массари), выходящего на
Большой канал, гармонично сочетается с нижней частью
работы Лонгена, и в результате получается одно из самых
незабываемых зданий на Канале. Хью Онор восхищается:
Дворцы Венеции
171
Богато рустированное основание поддерживает укра-
шенную колоннами и скульптурами верхнюю часть. Это
триумф монументальности в сочетании с типично вене-
цианской хрупкостью и нарядностью благодаря глубо-
ким нишам, которые превращают поверхность стены в
игру мерцающего света.
Генри Джеймс описывает дворец как громаду, которая
«поднимается из вод с присущей только ей горделивой уве-
ренностью, а вздымающиеся карнизы придают ей сходство
со взвившимся на дыбы морским конем».
Массари получил указание создать — «как внутри, так
и снаружи» — подходящее обрамление для славы и богат-
ства Реццонико. Недавно купив свой дворянский статус,
они хотели уверить всех и каждого, начиная с себя самих,
что действительно вошли в круг избранных. Иметь дворец
на Большом канале было престижно, а блистательное уб-
ранство и необычайные размеры здания, декорированного
такими художниками, как Джамбаттиста Тьеполо, лишь
прибавляли значимости знаменитой фамилии. Еще больше
возросла их слава и влияние, когда в 1758 году Карло Рец-
цонико был выбран папой и получил имя Климент XIII.
Его старший брат Лодовико еще раньше дал семье допол-
нительный повод для гордости, женившись на Фаустине
Саворньян, принадлежавшей к старому аристократическому
роду. Такое удачное родство придавало им уважения в свете
не менее, чем фасад на Большом канале. В перспективе оно
предоставляло возможность породниться и с каким-нибудь
семейством королевских кровей, хотя в данном случае вся
семья вымерла к 1810 году. Великолепная потолочная рос-
пись Тьеполо дала имя залу делль Аллегориа Нуциале,
первой комнате справа от бального зала. Здесь жених и
невеста едут в колеснице Аполлона, слепой купидон спе-
172
Венеция: история города
шит впереди, их окружают полные жизни образы их соб-
ственных достоинств: Добродетель размахивает штандар-
том с гербами Реццонико и Саворньян.
С 1936 года Ка’ Реццонико выполняет функцию му-
зея Венеции XVIII века. И ему удается, в соответствии с
названием, представить искусство XVIII века в подходя-
щих интерьерах благородного дома той же эпохи. Вели-
чественная лестница Массари ведет к бальному залу, или
Салоне делле Фесте, комнате с высоким потолком, кото-
рая кажется еще больше благодаря эффекту обмана зре-
ния, искусно созданному фресками Джамбаттиста Кроза-
то. Эта комната была окончена к 1762 году и служила ве-
ликолепным обрамлением для многих торжеств. В том же
1762-м здесь праздновали присвоение должности проку-
ратора Сан-Марко Лодовико Реццонико, в 1764-м —
торжественно принимали брата Георга III, герцога Йорк-
ского, а в 1769-м встречали императора Иосифа II Габс-
бурга. Несколько сотен патрициев собрались почтить
Иосифа, и сотня девочек из венецианской консерватории
пели для него.
Остальная часть музея скромнее. Комнаты второго
этажа оставляют впечатление естественной и спокойной
роскоши — канделябры из цветного стекла, стены, драпи-
рованные красным дамастом, зеленым шелком или жел-
тым холстом, изящные стулья и позолоченные консоли.
Среди множества картин есть портреты пастелью работы
Розальбы Каррьера, слабоватые на современный вкус, но
чрезвычайно популярные с 1720-го по 1750-е годы. Впе-
чатление от них усиливается, когда видишь их в комнатах
той же эпохи — на фоне узорчатого красного дамаста в зале
деи Пастели. Есть здесь два полотна Каналетто (что в Ве-
неции — редкость), написанные в ранний период творче-
Дворцы Венеции
173
ства, когда он начал вытеснять Луку Карлеварийса с пози-
ции самого популярного специалиста по городским видам.
«Большой канал у палаццо Бальби с видом на Риальто»
выглядит почти мрачным по сравнению с ослепительным
светом, по которому позже узнавали Каналетто: затенен-
ные, коричневатые дворцы, странные серые облака, широ-
кое пространство по большей части зеленого канала; кон-
трастный солнечный свет все-таки частично высвечивает и
подчеркивает красный навес, которым затянута скользя-
щая по воде лодка справа. Здесь есть каприччо, истори-
ческие картины вроде «Смерти Дария» Дж. Б. Пьяццет-
ты, портреты знаменитых личностей в богатых облачениях
и париках, аристократы Пьетро Лонги, играющие на му-
зыкальных инструментах и просматривающие письма в
домашней обстановке, и относящиеся уже к концу столе-
тия комические фрески сына Тьеполо Джандоменико,
включая «Новый мир», где он рисует со спины группу лю-
дей, ожидающих начала шоу с волшебным фонарем под
названием «Новый мир».
В наступившем новом мире XIX века Ка’ Реццонико пе-
реходил от владельца к владельцу, пока в сентябре 1888-го
его не купил сын Роберта Браунинга — Пен, художник и
скульптор средних способностей, которого несправедливо
оговаривали за то, что ему не досталось гения его родите-
лей-поэтов. Пен получил возможность купить дворец, же-
нившись на богатой американке Фани Коддингтон за год
до этого, и с энтузиазмом занялся отделкой и меблировкой
несколько заброшенного здания. В детстве он жил во Фло-
ренции, но в 1861 году после смерти матери, Элизабет Бар-
рет Браунинг, покинул Италию двенадцатилетним подрост-
ком и вернулся только в 1880-х. В 1878 году снова начал
посещать Италию его отец — избегая, однако, Флорен-
174
Венеция: история города
ции, с которой его связывало так много счастливых и горь-
ких воспоминаний. Вместо нее старший Браунинг страст-
но влюбился в Венецию, где он и его неутомимая спутница,
сестра Сарьянна, несколько раз останавливались у Кэтрин
де Кей Бронсон, американской эмигрантки, знакомой так-
же и с Генри Джеймсом.
В сентябре 1889 года, пожив некоторое время непода-
леку от дома Бронсон в Азоло, Роберт и Сарьянна Брау-
нинг приехали к Пену и Фанни в Ка’ Реццонико. Любой
проект Пена приводил в восторг его любящего отца (эта
любовь, позже утверждала Бронсон, была «ахиллесовой
пятой» поэта), который наслаждался переездом в велико-
лепный венецианский дворец и открывавшимися отсюда
видами. Возможно, чувствуя приближение смерти (хотя он
и говорил некоторым знакомым, что его лет на десять еще
хватит), Браунинг не мог надышаться венецианской осе-
нью. Легко представить себе, как его острый взгляд сколь-
зит по Большому каналу с пристани у Ка’ Реццонико. Он,
как и раньше, предпринимал бодрящие прогулки на Лидо,
откуда, по словам Бронсон,
...возвращался румяный и полный сил, рассказывал о
свете, о жизни, о свежем воздухе с энтузиазмом, сме-
шанным с некоторой долей жалости к тем, кто оставал-
ся дома. «Вернуться в Венецию, прогулявшись по
морю, — говорил он. — Это как войти с воздуха в
комнату».
Он обедал, иногда декламировал свои собственные или
чужие стихи в домах друзей и знакомых. И только своей
семье читал, извиняясь за бахвальство, из эпилога к свое-
му последнему сборнику, «Азоландо», который вот-вот
должен был выйти:
Дворцы Венеции
175
Не обращался вспять, но смело шел вперед,
Не сомневался, что придет весна,
И твердо знал — злу не торжествовать,
Пускай добро поругано, и мы
Восстанем ото сна1.
Браунинг слушал в театре «Кармен» за две недели до
смерти. Но после оперы он чуть не упал в обморок прямо
на ступенях дворца. Признаки болезни сердца стали со-
вершенно очевидны три дня спустя, 1 декабря. Ему про-
писали постельный режим, а вечером 12 декабря он умер,
успев в тот же день с удовлетворением подержать в ру-
ках издание «Азоландо» и узнать, что книга хорошо про-
дается.
Браунинг умер в комнате на втором этаже, куда редко
пускают посетителей. Посвященная ему мемориальная таб-
личка находится у главного входа во дворец. Его подруга
Александра Орр пишет о частной службе, «которую дол-
жен был провести английский капеллан в одном из боль-
ших залов дворца Реццонико» — предположительно, в
бальном зале — на следующий день. Город организовал и
торжественную доставку гроба на кладбище на острове Сан-
Микеле: «восемь пожарных (pompieri) в яркой форме от-
несли гроб к ожидавшей их массивной муниципальной бар-
же (barca delle Pompe funebri). По пути ее сопровождали
четверо uscieri в парадной форме, два сержанта муници-
пальной гвардии и двое пожарных с факелами». Несколь-
ко дней спустя тело известного поэта отправилось на поез-
де в Лондон, в Вестминстерское аббатство. Новая смерть
в Венеции — как и смерть Вагнера шестью годами рань-
ше — добавила городу еще одно воспоминание.
1 Перевод А. Лактионова.
176
Венеция: история города
Академия
Галерея Академии искусств существовала в разных зда-
ниях с 1750-го года. В 1820-е годах она переехала туда,
где располагается и сейчас — в помещения бывшей церкви,
монастыря и Скуолы Санта-Мария делла Карита. Здание
не раз перестраивали, но готический фасад, позолоченный
потолок XV века дома собраний скуолы и сводчатая двой-
ная лестница Мауро Кодуччи (1498) частично сохрани-
лись с доакадемических времен.
В Академии представлены все самые интересные вене-
цианские художники (и, как это ни грустно, множество со-
вершенно неинтересных), здесь действительно есть букваль-
но все — от полиптиха готического мастера Паоло Венеци-
ано до видов Каналетто и Гварди. В ее залах вы увидите
мадонн Беллини с сияющими пейзажами на заднем плане;
таинственные и аллегорические картины Джорджоне —
например, «Гроза», на которой изображены солдат и полу-
обнаженная женщина с ребенком на фоне охваченного гро-
зой пейзажа, разделяющего фигуры; молодого человека в
своем кабинете кисти Лоренцо Лото, запечатленного в мо-
мент напряженных раздумий; написанные изначально для
скуолы темно-красные картины Карпаччо, повествующие о
жизни девы-мученицы Святой Урсулы. Одна из самых за-
хватывающих картин, посвященных Урсуле, рассказывает о
ее встрече с нареченным Этерием — романтическим героем
с длинными золотистыми волосами и одеждами, расшиты-
ми серебром и красными и изумрудными нитками. Это боль-
шая, сложно построенная сцена, заполненная изысканно оде-
тыми спутниками, трубачами, знаменами, восточными ков-
рами, башнями, копьями, террасами, кораблями и множе-
ством других деталей, которые Джон Стир в «Краткой
Дворцы Венеции
177
истории венецианского изобразительного искусства» назы-
вает «фантазийной Венецией»,
...где цвета ярче, мраморная отделка богаче, архитекту-
ра вычурнее, а население роскошнее одето и лучше вос-
питано, чем в настоящем городе. Это еще и Венеция,
где формальное совершенство композиции уравновеши-
вает любую деятельность, превращая ее, как во сне, в
магическую неподвижность.
Академия — одно из двух лучших в Венеции мест. Вто-
рое — это церковь Санта-Мария Глориоза дей Фрари, где
можно увидеть Тициана. И хотя работал он в основном в
Венеции, где прожил большую часть жизни (долгое время
считалось, что он дожил практически до ста лет; во всяком
случае, он определенно прожил больше восьмидесяти), его
произведения рассеялись по всему миру — в первую оче-
редь потому, что он привлекал иностранных покровителей,
включая двух самых богатых и влиятельных людей своего
времени — императора Карла V и его сына Филиппа II Ис-
панского. Но и у Академии есть хорошая коллекция: от
излучающего спокойствие «Явления Богородицы» (1534—
1538) до последней картины Тициана, трагической «Пье-
ты». «Явление» было написано специально для того поме-
щения, в котором оно сейчас находится, — зал делль Аль-
берго в Скуоле делла Карита, и ни разу не покидало этого
места (не считая периода с 1828-го по 1895-й). Перед вну-
шительным классическим храмом маленькая, но полная
самообладания Святая Дева изображена еще девочкой.
Окруженная священным сиянием, она мягко протягивает
вперед левую руку, спускаясь по ступеням к первосвящен-
нику. Внимание сосредоточено на ней, но есть фрагменты,
особенно слева, где фон занят скорее пейзажем, чем архи-
178
Венеция: история города
тектурой, и где изображено много других людей; некото-
рые из них, очевидно, члены скуолы. На переднем плане
перед лестницей и немного ниже Девы стоит бедная стару-
ха, составляющая контраст юной деве и вместе с тем сим-
волизирующая благотворительную деятельность братства.
Атмосфера и свет в «Пьете» в соответствии с сюжетом
совсем иные. В левой части картины обезумевшая от горя
Мария Магдалина бежит, протягивая вперед руки. И она, и
стоящий на коленях святой (Иероним, говорят современные
исследователи), как показалось Теофилю Готье, мучимы
сомнениями, сможет ли тело, которое они собираются похо-
ронить, вновь восстать; «верно, Тициан никогда еще не со-
здавал настолько мертвого тела. Под зеленоватой плотью и
синеватыми венами не осталось и капли крови, живые крас-
ки навсегда покинули это тело». В этом «изображении стра-
дания и болезненных мук впервые великого венецианца ос-
тавило его неизменное античное спокойствие. Тень прибли-
жающейся смерти как будто борется со светом в душе ху-
дожника, в палитре которого всегда присутствовало солнце,
и окутывает картину сумеречным холодом».
Тициан изобразил себя в образе Иеронима, глядящего
испытующе — а не с сомнением — на Спасителя, кото-
рый один только может прощать грехи. Написав эти фигу-
ры, Тициан умер, и картина не была окончена. Он созда-
вал ее для своей могилы во Фрари, но она так туда и не
попала. Полотно оказалось у художника Джакопо Палма
(позже названного Палма Джованни, чтобы не путать его
с двоюродным дедом), и тот, как гласит надпись, «с благо-
говением завершил его и посвятил свою работу Господу».
Мария Магдалина в своем горе, как заметил в XIX веке
еще один француз, Ипполит Тэн, делает картину похожей
на «языческую трагедию». Марию можно представить од-
ной из скорбящих троянок Еврипида, отчасти она связана
Дворцы Венеции 179
и с образом Венеры, оплакивающей Адониса. К класси-
ческим образам относится и статуя Сивиллы. Она здесь не
просто так: не только из-за ее пророчеств, но и как напо-
минание, что античный мир, — в котором, с христианской
точки зрения, есть место только отчаянию при данных об-
стоятельствах, — уже остался в прошлом. Другая статуя,
Моисей, указывает на то, что Христос и вытесняет, и од-
новременно выполняет Старый Завет. Еще один обнаде-
живающий знак светится в апсиде между статуями: феникс,
птица, возрождающаяся из пепла, символ воскрешения.
Итак, Тициан признает страх и боль смерти — Христа,
его собственной, зрителя, — но со свойственным христи-
анству ретроспективным взглядом оставляет место и на-
дежде, которая светит нам, как незатухающий нимб Спа-
сителя в этом мрачном сумраке. Отчаяние Магдалины, как
и тихая, нежная скорбь Святой Девы, превратится в ра-
дость; терпение Иеронима и, как надеется автор, его соб-
ственное, помогут достичь прощения.
Веронезе часто встретишь в Венеции, особенно во Двор-
це дожей и в церкви Сан-Себастьяно, но в Академии есть
картина, с которой связана очень известная история. В ап-
реле 1573 года Веронезе закончил свою роскошную (5,5 на
12,5 метров) «Тайную Вечерю» для трапезной монастыря
Санти-Джованни-э-Паоло. Кто-то донес на него и его кар-
тину святой инквизиции. В отличие от государственной ин-
квизиции Венеции, сия организация (подчинявшаяся Риму)
имела ограниченные полномочия — если дело не касалось
ереси. Веронезе предстал перед трибуналом, куда входили
инквизитор, папский нунций и патриарх или их представи-
тели и три сенатора. Протокол допроса сохранился в госу-
дарственных архивах Венеции. Трибунал желал знать, по-
чему у одного из присутствующих на Тайной Вечере из носа
шла кровь, а два алебардщика «одеты по немецкой моде».
180
Венеция: история города
Кровь у него из носа пошла в результате несчастного слу-
чая, отвечал Веронезе, а затем попросил разрешения ска-
зать несколько слов (буквально «двадцать») и пояснил:
«Мы, художники, пользуемся той же свободой, что поэты и
сумасшедшие». («Безумец, и влюбленный, и поэт / Прони-
заны насквозь воображеньем», — вторит ему Тезей из «Сна
в летнюю ночь» примерно двадцать лет спустя. Как относи-
лась к таким сумасшедшим инквизиция, — вопрос более
спорный.) Одаренный богатым воображением художник
сообщил, что изобразил двух алебардщиков у подножья ле-
стницы, которые ждут там на случай, если потребуются их
услуги, ему кажется правильным, что хозяин дома, как изве-
стно, человек богатый и знатный, имел таких слуг.
На допрашивающих, похоже, ответ не произвел впечат-
ления, и они пожелали узнать еще и про человека «одетого,
как шут» — карлика справа, с попугаем. «Он нужен для
украшения, так принято», — последовал ответ. Но Вероне-
зе пришлось согласиться со своими судьями, что «шутам,
пьяницам, немцам, карликам и подобной scurrilita^» не место
на Тайной Вечере. И тогда дело дошло до истинной причи-
ны интереса инквизиции: «Знаете ли вы, что в Германии и
других странах, зараженных ересью, в обычае при помощи
разных картинок, полных scurrilita (очевидно, инквизиция
испытывала особое пристрастие к данному термину), и по-
добными способами чернить и поднимать на смех Святую
Католическую Церковь, с тем чтобы проповедовать лож-
ную доктрину незнающим?» С этим Веронезе поспорить не
смог. И тем не менее он продолжал настаивать, что считает
обоснованным включение подобных персонажей в картину,
поскольку они находятся «вне помещения, где Господь». И в
самом деле, три большие арки отделяют оживленный пер-
1 Непристойность (ит.).
Дворцы Венеции
181
вый план картины от места, где проходит сама Вечеря, и ти-
хое единение Иисуса с Петром и Иоанном в центральной
арке подчеркнуто контрастирует с суетой, царящей в других
частях картины. Иуда, сидящий с нашей стороны стола, со
значением отворачивается от Иисуса, и на его лице лежит
положенная печать злодейства.
Всеохватное искусство Веронезе, созвучное эпохе Воз-
рождения, шло вразрез со стремлением инквизиции к чи-
стоте и безупречности. Но в Венеции, похоже, взгляды инк-
визиции разделяли далеко не все. И потребовав от худож-
ника, чтобы он исправил картину, Светлейшая неожиданно
согласилась на изменение весьма и весьма незначительное:
следовало сменить название картины на «Пир в доме Ле-
вия», а чтобы сомнений не осталось, в верхней части балю-
страды, по сторонам картины, художник поместил надпи-
си, содержащие соответствующую ссылку на Евангелие от
Луки, глава пятая. Возможно, на пир к Левию не забреда-
ли ни немцы, ни карлики, но в любом случае там собралась
большая толпа, в которой «было множество мытарей и дру-
гих... грешников». По-видимому, инквизиции это показа-
лось достаточным.
Проведя день в Академии, пилигримы искусства, веро-
ятно, почувствуют желание или необходимость воспользо-
ваться находящимся поблизости кафе «Белле Арти», где в
спокойной атмосфере можно подкрепиться напитками, пиц-
цей, бутербродами, фокаччо и тому подобным по разум-
ным ценам.
Коллекция Пегги Гуггенхайм
Заметный издали невысокий белый палаццо Веньер деи
Леони приютил коллекцию современного искусства Пегги
Гуггенхайм. Одно произведение искусства встречает гостей
182
Венеция: история города
уже на Канале — «Ангел цитадели» Марино Марини, эк-
статическая конная бронзовая фигура с распростертыми
руками и заметно эрегированным фаллосом. В «Призна-
ниях наркоманки от искусства» (1960) Пегги Гуггенхайм
(1898—1979) рассказывает, что изначально художник сде-
лал член съемным — его можно было убрать в шкаф, ког-
да мимо на лодке проплывали монашки на благословение к
патриарху или если среди гостей попадались «нудные хан-
жи». Иногда, признает Пегги, она забывала это сделать, и
с удовольствием наблюдала из окон гостиной, как люди
реагируют на скульптуру. Первый съемный фаллос укра-
ли, и следующий пришлось приварить к фигуре намертво;
теперь скромникам, старавшимся скрыть свое смущение,
приходилось тяжелее.
Ангел Марини появился здесь, когда палаццо был еще
частным домом Пегги. Она принадлежала к невероятно
богатой семье, дядей ей приходился Соломон Гуггенхайм.
(После смерти галереей управлял Фонд Соломона Гугген-
хайма.) Состояние она унаследовала от отца, погибшего на
«Титанике» в 1912-м. Пегги участвовала в нескольких про-
ектах, связанных с искусством, в Америке и Великобрита-
нии, а после Второй мировой войны переехала в Венецию и
стала искать, куда бы ей поселиться вместе со своей расту-
щей коллекцией. Она выставляла ее — в греческом павиль-
оне, который пустовал из-за гражданской войны в Гре-
ции — на Биеннале в 1948-м, что сильно повлияло на ре-
путацию этого мероприятия. А потом, в 1949-м, Пегги
нашла Веньер деи Леони, известный также под именем
palazzo non compiuto — «неоконченный дворец». Его на-
чали строить в 1748 году для патрицианской семьи Вень-
ер, но так и не закончили, отсюда и возникло второе назва-
ние. Говорили, что Веньеры держали в саду львов, но имя
Леони, скорее всего, дворец получил из-за восемнадцати
Дворцы Венеции 183
львиных голов на фасаде. После определенной перестрой-
ки, разрешение на которую получить было несложно, по-
скольку дворец, один из немногих, не входил в число па-
мятников архитектуры, летом 1951 года Гуггенхайм начала
пускать посетителей в вечерние часы. По мере того как
росло количество картин и скульптур, все больше жилой
площади (а также прачечная) отводилось под выставочное
пространство. В часы работы музея хозяйка и ее друзья
уходили загорать на плоскую крышу дворца, на что в кон-
сервативных венецианских кругах некоторые смотрели уко-
ризненно — как, впрочем, и на художественные пристрас-
тия Пегги. «Княгиня Пиньятелли как-то сказала мне, вспо-
минает Пегги: “Если бы вы только выбросили все эти чу-
довищные картины в Большой канал, у вас был бы самый
красивый дом в Венеции”».
После смерти Гуггенхайм дворец окончательно превра-
тился в художественную галерею. Ее собственная могила и
могилы ее лхасских терьеров находятся в саду. Одна из ее
любимых личных вещей, серебряное изголовье (1956)
Александра Калдера, и теперь находится в комнате, где
спала она сама и иногда ее терьеры. Изголовье покрыто
причудливо изогнутыми и переплетенными фигурками:
рыбами с открытыми ртами, абстрактными узорами, иног-
да превращающимися в побеги папоротника или павлиньи
хвосты, и свисающими на цепочках стрекозами. Большая
часть коллекции не только представляет академический
интерес, но и тесно связана с самой Пегги, хорошо знако-
мой со многими художниками. Именно она способствова-
ла подъему Джексона Поллока и какое-то время была за-
мужем за Максом Эрнстом.
В коллекции, расположенной в пустых светлых комна-
тах, хорошо представлены сюрреалисты, кубисты, Монд-
риан, Миро и многие другие. Среди скульптур вы найдете
184
Венеция: история города
прекрасную «Идущую женщину» Альберто Джакометти.
Двадцать три полупрозрачных стеклянных скульптуры
Эджидио Константини по наброскам Пикассо выставле-
ны перед Большим каналом, и его изменчивый отсвет, от-
ражаясь в стекле, становится их частью. Среди собствен-
ных работ Пикассо есть «Поэт». В тенистом саду можно
увидеть работы Мура и Джакометти. А вдоль стены тон-
кие неоновые трубки Марио Мерца гласят: «Se la forma
scompare la sua radice и eternal» — «Если форма исчезает,
то корень вечен». Разгадать смысл этого замечания помо-
жет трон в византийском стиле, помещенный между сло-
вами «scompare» и «1а», и стоящая перед ним женская фи-
гура Джакометти. Еще в саду есть бронзовая «Амфора-
фрукт» Жана Арпа, которая свободно и легко сплавляет
воедино эти две формы. В целом, каким бы прекрасным ни
было старинное венецианское искусство, стоит зайти и
сюда, чтобы немного от него отвлечься. (Неплохая кол-
лекция хранится и в Музео д’Арте Модерна в Ка’ Пезаро,
но он вот уже много лет закрыт на реконструкцию.)
Палаццо Дарио
За палаццо Веньер деи Леони находится палаццо Да-
рио. Дворец облицован мраморными панелями и медальо-
нами работы Пьетро Ломбардо или его мастерской. Этот
фасад — символ богатства Джованни Дарио, секретаря
венецианской сокровищницы, который, по причине отсут-
ствия на тот момент постоянного посла в Истамбуле, вел
переговоры по важному договору 1479 года между Вене-
цией и султаном Мехмедом II, за что его богато наградили
обе стороны. Дворец свидетельствовал о возможностях,
доступных таким гражданам республики, как Дарио. Не
имея власти патриархов, они все-таки умели приобрести
Дворцы Венеции 185
богатство, влияние и престиж. Стиль ломбардино, модный
и обогащенный венето-византийской декоративной тради-
цией, служит еще и гордым заявлением Дарио о своей ло-
яльности республике, о чем прямо объявляет заметная с
первого взгляда латинская надпись, посвящающая дом
«духу города». Возможно, эта надпись служила необходи-
мым оправданием для удачливого гражданина, ищущего
личной славы. После смерти Дарио дом перешел к его зятю
патрицию Винченцо Барбарио: еще один признак успеха
самого Дарио.
В XIX веке палаццо Дарио какое-то время принадлежа-
ло Родону Брауну, одному из самых неутомимых исследо-
вателей мира Дарио и его коллег. Браун составил первые
тома «Реестра государственных документов и рукописей,
относящихся к связям с Англией и хранящихся в архивах
Венеции и Северной Италии», редактируя и переводя на
английский многочисленные подробные отчеты венецианских
послов при английском дворе. Занимаясь подобной работой
в Венеции в течение пятидесяти лет, он прослыл мастером
принимать гостей-англичан и показывать им город.
Считалось, что до самой своей смерти в 1883 году он ни
разу не наведывался в Англию. Именно эта легенда легла в
основу одного из поздних сонетов Браунинга. В стихотворе-
нии Браун со вздохом отправляется в своей гондоле к вокза-
лу и, вздыхая, сравнивает Лондон с «костлявой Старухой
Смертью», в то время как Венеция — это сама жизнь, но
взглянув на море, не в силах сопротивляться, приказывает
сопровождающему бросить саквояж и распаковать чемода-
ны, а затем обещает никогда не покидать Венецию: «Bella
Venezia, non ti lascio piii!»1 На самом деле Браун в Англию
все-таки возвращался, и не раз, но ненадолго.
1 Прекрасная Венеция, я больше тебя не покину! (ит.)
186
Венеция: история города
Браун купил палаццо Дарио за 480 фунтов стерлингов
в 1838 году, но ему не хватило средств приостановить раз-
рушение здания, и всего четыре года спустя пришлось его
продать. Своей удачной реконструкцией дворец обязан
более обеспеченным владельцам, особенно графине Иза-
белле де Бом-Плювинель, которая жила здесь с 1898 года
с Огюстиной Бюлто. Обе писали книги и принимали у себя
известных друзей, таких как поэт, романист и автор «Ве-
нецианских набросков» Анри де Ренье.
Санта-Мария делла Салюте и Таможня
Наряду с Сан-Марко, Дворцом дожей и мостом Ри-
альто подлинным символом Венеции, ее эмблемой стала
церковь в стиле барокко Санта-Мария делла Салюте. По-
коления художников, включая Каналетто и Тернера, спо-
собствовали этому задолго до пришедших им на смену по-
колений фотографов. А Генри Джеймс сравнил церковь
Санта-Мария делла Салюте с застывшей в ожидании свет-
ской леди:
...с ее куполами и волютами, ее резными контрфорсами
и скульптурами, складывающимися в величественную
корону, с ее широкими ступенями, раскинувшимися по
земле, как подол платья, еще более широка и безмятеж-
на и с еще большим достоинством сидит у своих дверей,
чем могли поведать нам копиисты.
Сенат постарался найти для этой церкви самое выиг-
рышное место. Еще в Средние века на болотистой местно-
сти неподалеку от слияния Большого канала и канала Джу-
декка существовало поселение, но поскольку место было
очень топкое, там долго не возводили никаких значитель-
Дворцы Венеции
187
ных строений. Однако с практической точки зрения этот
клочок земли уже играл важную роль: когда город оказы-
вался под угрозой, именно отсюда растягивали две огром-
ные цепи, одну — через Бачино ди Сан-Марко, а дру-
гую — к острову Сан-Джорджо (позже местность назва-
ли Пунта делла Догана — стрелка Таможни). А когда в
1630/31 годах от чумы погибло 46 490 венецианцев, по-
чти треть населения, понадобилась защита иного рода.
И она была найдена: Святая Дева, согласно народной мол-
ве, услышала людские мольбы и в конце концов останови-
ла поветрие. («Salute» означает одновременно «здоровье»
и «спасение».) Так что церковь посвятили Марии: архи-
тектор Бальдассаре Лонгена говорил, что посвящение цер-
кви Святой Деве «навело меня на мысль, используя весь
188
Венеция: история города
дарованный мне Господом талант архитектора, как бы мало
его у меня ни было, построить здание in forma rotunda, то
есть в форме короны, которую я мог бы ей посвятить».
Скульптурные изображения Богоматери расположены над
входом, наверху главного купола и над алтарем.
Церковь Санта-Мария делла Салюте, построенная поз-
же остальных знаменитых венецианских достопримечатель-
ностей, воспринималась как обладающая неким визуаль-
ным и интеллектуальным родством с некоторыми из них:
ее купола напоминают Сан-Марко, план перекликается с
планом построенной во благодарение за избавление от чумы
церкви Иль Реденторе1 (архитектор Андреа Палладио).
Но прежде чем создатели могли удовлетворить столь чес-
толюбивые аллюзии, пришлось снести несколько старых
зданий и вогнать в землю почти миллион деревянных свай,
чтобы обеспечить для будущей церкви достаточно надеж-
ный фундамент. Затем архитектор получил подробные и
трудновыполнимые предписания Сената. Вид на централь-
ный алтарь, например, должен был открываться от самого
входа, остальные же алтари видны быть не должны, пока
зритель (и особенно ежегодная процессия во главе с до-
жем) не достигнет середины нефа. Это требование, так же
как и ассоциации с венцом Богородицы, вызвало к жизни
восьмиугольный план здания. Кроме того, именно в центре
нефа сходятся почти гипнотические концентрические кру-
ги многоцветного мраморного пола. И хотя первое впечат-
ление от него — сверкающая новизна и первозданная чис-
тота, постепенно появляется ощущение связи с прошлым, с
1 К церкви Санта-Мария делла Салюте, как и к церкви Христа
Спасителя (она же церковь Иль Реденторе), ежегодно направля-
ется по наплавному мосту процессия во главе с дожем. — Примеч.
автора.
Дворцы Венеции 189
величественными мозаичными полами Сан-Марко или ба-
зилики Санти-Мария-э-Донато на Мурано. Вероятно,
Лонгена хотел украсить и центральный купол. Но даже без
этого последнего штриха ему удалось выполнить еще одно
требование Сената: превратить церковь в настоящий bella
figura\ производящий неизгладимое впечатление на зрите-
ля. (Но в то же время, с венецианской предусмотрительно-
стью добавили сенаторы, постройка не должна стоить слиш-
ком дорого.) Лонгена совсем немного не дожил до заверше-
ния своего белого мраморного чуда. Он умер в 1682-м, за
пять лет до завершения строительства.
Исторический трофей на главном престоле — отданный,
впрочем, с куда большей охотой, чем украшения Сан-Мар-
ко — еще крепче связывает церковь Санта-Мария делла
Салюте с прошлым. Это икона Мадонны с младенцем,
Мезопандитисса, которую Франческо Морозини сумел
привезти обратно после захвата Кандии турками в 1669 го-
ду. Согласно преданию, красная с золотом икона с пронзи-
тельным взглядом имела чудотворную силу и была написа-
на святым Лукой. На самом же деле она датируется XII ве-
ком. Колонны по обеим сторонам пришли из более близ-
ких краев — из Полы (теперь — Пула, в Хорватии), где
они украшали римский театр. Над иконой расположена
скульптурная группа 1670-х годов фламандца Жуста ле
Курта. В центральной сцене Венеция, как всегда в образе
женщины, умоляет о помощи, Святая Дева выполняет ее
просьбу легким, исполненным милосердия движением руки,
и уродливая старая карга Чума пускается в бегство, вски-
нув руки, а решительный херувим подгоняет ее, подталки-
вая пылающим факелом. Святые, расположенные пониже,
справа и слева, тоже подчеркивают, что это венецианская
1 Прекрасный образ (ит.).
190
Венеция: история города
церковь. Здесь изображены святой Марк и популярный
местный святой Лоренцо Джустиниан.
В святая святых находятся картины из других церквей и
монастырей. Несколько работ Тициана, включая раннее
изображение Святого Марка на троне, и «Свадьба в Кане»
Тинторетто (1551), некогда украшавшая трапезную мона-
стыря Крочефери. Эта большая картина — 8 м в длину и
4,5 м в высоту — заслуживает внимания благодаря пре-
красной работе со светотенью. Но, наверное, не менее ин-
тересны подробности повседневной жизни, и особенно —
винопития: кувшины быстро опустошаются, вносят новые
амфоры, снова наливают гостям, а когда вино иссякает,
Иисус чудесным образом превращает в вино воду. И хотя
Иисус с матерью во главе стола несколько отделены от ос-
тальных трапезничающих и потому похожи на икону, сами
гости настроены общительно и доброжелательно, как и
бывает ближе к концу удавшейся свадьбы: таким образом
подчеркивается традиционная интерпретация присутствия
Христа в Кане как благословения браку и новой семье.
Церковь Санта-Мария делла Салюте находится близко
ко входу в Большой канал — там, где, по словам Генри
Джеймса, «начинается его слава». (Заканчивается она «у
железнодорожного вокзала, где начинается его унижение».)
Если пройти дальше мимо Семинарии Патриаркале к краю
бывшей Таможни, вы попадете к Пунта делла Догана и
золотому шару — или, как более витиевато выразился Ген-
ри Джеймс, к «золотому глобусу, на котором вращается
чудесная сатирическая женская фигурка-флюгер». Она, «эта
Фортуна, эта Навигация, или как ее ни назвать — ей опре-
деленно нужно имя — ловит ветра всех сторон света в полу
одежды, для чего ей приходится частично обнажить свое
очарование». Перед ней открывается великолепный вид.
Слева вдали видны здание Новых прокураций и деревья
Дворцы Венеции
191
сада Реали, заложенного в 1814 году как парк при дворце
Наполеона. Переводя взгляд правее, скользишь по коло-
кольне и куполам Сан-Марко, колоннам Пьяццетты и
Дворцу дожей. Прямо впереди расстилается зеленый лос-
кут Общественного сада, ближе видны церковь и колоколь-
ня Сан-Джорджо. Еще правее, на Джудекке, белые церк-
ви Палладио — Дзителле и Иль Реденторе. И хотя Боль-
шой канал уже позади, так как в этой главе вы начали свое
путешествие от его «униженной» части рядом с вокзалом,
вас еще ждут свежие впечатления.
Глава шестая
Венеция религиозная: церкви,
скуолы и синагоги
В Венеции великое множество церквей, сверкающих и
покрытых патиной времени, заброшенных и действующих,
с куполами и кампанилами. И в их многообразие вносят
свою лепту здания и часовни религиозных братств, или ску-
оле. В 1732 году их было более трехсот. В настоящее время
функционируют лишь некоторые из них, но многие здания
сохранились. Первые строения подобного рода возвели в
1260-х годах сообщества флагеллантов. Эти люди бичева-
ли сами себя, публично демонстрируя покаяние, по боль-
шим церковным праздникам, особенно же их активность
возрастала во время вспышек чумы, в которых многие ви-
дели кару небесную за людские грехи. Скуола Гранде ди
Сан-Рокко, названная в честь победителя чумы Святого
Роха, была основана во время чумы 1478 года и снова ста-
ла играть заметную роль во время чумы 1575—1576 годов.
К 1580-м вошел в обычай ежегодный официальный визит
дожа в церковь Сан-Рокко в день этого святого, 16 авгус-
та. (В Лондонской национальной галерее есть картина
194
Венеция: история города
Каналетто, изображающая одно из таких посещений. Вок-
руг скуолы выставлены картины, а дож и его свита несут
букеты цветов как символическое средство против чумы.)
К тому времени, похоже, сами члены братств себя уже не
бичевали, для торжественных случаев флагеллантов можно
было нанять. Деятельность организаций сводилась в основ-
ном к благотворительности, богатые члены братств помога-
ли бедным. Если руководство скуолы считало кого-то нуж-
дающимся или достаточно благочестивым (благочестие из-
мерялось прежде всего тем, насколько регулярно человек
выполнял обязательные ритуалы), им помогали с пропита-
нием или жильем. Дочерей тех, кому приходилось нелегко,
могли обеспечить приданым — если, конечно, они пользо-
вались хорошей репутацией. Подобные поступки служили
проявлением набожности и чувства гражданской ответствен-
ности. А вместе с тем они позволяли руководителям скуол
почувствовать свое влияние и положение в обществе. (Дворя-
не тоже могли входить в братства, но скорее в роли почет-
ных членов.) Это устраивало правящий класс, представи-
тели которого, в свою очередь, обращались к братствам за
поддержкой, когда требовалось профинансировать строи-
тельство государственных галер, предоставить для них оп-
ределенное количество гребцов или явиться на какую-нибудь
церемонию, чтобы продемонстрировать одобрение полити-
ки правительства — отпраздновать мирные договоры, на-
пример. Особенно же остро необходимость в этих организа-
циях ощущалась в тот период, когда Венеция впала в папс-
кую немилость. Таким образом, было очень важно, чтобы
скуолы подчинялись не патриарху и церкви, а напрямую
Совету Десяти. Духовенство не занимало высоких позиций
в скуолах и, как правило, появлялось лишь для того, чтобы
отслужить мессу. И когда в 1606-м папа наложил на Вене-
Венеция религиозная
195
цию интердикт, вся Скуола Гранде ди Сан-Рокко в знак
протеста вышла на улицы, неся перед собой даже мощи сво-
его святого.
И потому из соображений государственной пропаганды,
гражданской и братской чести и религиозного рвения чле-
ны братств изо всех сил старались получше украсить свои
скуолы. А уж глядя на огромное помещение Скуолы Гранде
ди Сан-Рокко, возведенное в 1549 году, можно сказать на-
верняка, что члены данной скуолы выполняли свою задачу
со всей ответственностью. Когда Томас Кориэт пришел в
1608 году на праздник этого святого, его впечатлил «потря-
сающе богатый и величественный фронтиспис, сделанный
из превосходного белого камня». Ему понравились три боль-
ших зала, и просто поразил уровень музыкантов, которые
играли «так хорошо, так восхитительно, так необычайно, так
очаровательно, так невероятно прекрасно, что даже все ино-
странцы были восхищены и ошеломлены, потому что никог-
да ничего подобного не слышали». В Большом зале, более
просторном из двух помещений второго этажа, перед алта-
рем, сияющим «множеством замечательных украшений и ог-
ромным количеством серебряных подсвечников», Кориэт
прослушал два трехчасовых концерта, наслаждаясь голоса-
ми певцов, звуками цитры, корнета, скрипичных трио, теор-
бы и виолы да гамба — в самых разных сочетаниях. И там
было не менее «семи прекрасных пар органов». Более всего
на него произвел впечатление нежный голос одного мужчи-
ны лет за сорок, который, как Кориэт с некоторым удивле-
нием обнаружил, не был евнухом, но, несмотря на это, в его
пении не чувствовалось ничего «вымученного, неестествен-
ного или жеманного, оно давалось ему удивительно легко, я
никогда такого раньше не слышал». Соловей, возможно, поет
лучше, сказал он, но не намного.
7*
196
Венеция: история города
Никто точно не знает, что именно исполняли на подоб-
ных праздниках, но в 1996 году «Габриели консорт» под
управлением Пола Маккриша попытался воспроизвести
музыкальную атмосферу тех торжеств, и, надо сказать,
получилось весьма убедительно1. Концерт записывали в
самой Скуоле Гранде, и Маккриш с удовольствием отзы-
вается о «теплой, но чистой акустике» Большого зала.
Можно, наверное, назвать все это «духовным развлечени-
ем»; в такие концерты входили песни, чтения и молитвы, и
немалая часть музыки принадлежала Джованни Габриели.
1 Deutsche Grammophon Archiv 449 180-2. — Примеч. автора.
Венеция религиозная
197
Тинторетто и Скуола Гранде
Состоящий из тридцати трех частей бурный и неудер-
жимый, но не переливающийся через край «Магнификат»
в исполнении «Габриели консорт», которым заканчивает-
ся запись, напоминает «огромный гобелен из семи пропо-
ведующих хоров». Именно такая музыка, полагает Мак-
криш, должна звучать перед картинами Тинторетто (Джа-
копо Робусти (1518—1594), чье прозвище говорит о том,
что он происходит из семьи tintori — красильщиков). Ради
них-то люди обычно и приходят в Скуолу Гранде ди Сан-
Рокко — ради «различных нежных картин», упомянутых,
но не оцененных Кориэтом по достоинству. Остальные были
не так сдержанны в своих отзывах на серию потрясающих
работ, выполненных Тинторетто практически без посторон-
ней помощи между 1564 и 1588 годами. Художник, человек
глубоко верующий, состоял членом этой (с 1565 года) и не-
скольких других скуол. Говорят, заказ на отделку скуолы он
получил методами несколько жульническими — так, по
крайней мере, полагали его конкуренты. Когда они, как и
было указано в условиях, пришли с набросками и планами,
Тинторетто закрепил на потолке меньшего помещения вто-
рого этажа, зала делль Альберго, уже готовую картину
«Святой Рох во славе», театральным жестом сбросил по-
кров и тут же подарил братьям свое произведение во имя
их святого (от такого подарка они не могли отказаться).
Он продолжил расписывать комнату и только потом взял-
ся за Большой зал (сцены из Ветхого Завета на потолке,
из Нового — на стенах) а ближе к концу жизни перешел к
Нижнему залу на первом этаже (зал Террена), где изоб-
разил сцены из жизни Святой Девы. Тинторетто был мас-
тером в создании драматических световых эффектов, бес-
198
Венеция: история города
плотных или практически бесплотных фигур, стремительных
и страстных композиций и менее склонен к богатому коло-
риту, чем такие его венецианские коллеги, как Веронезе.
Главным шедевром Тинторетто многие считают «Рас-
пятие Христа» на дальней стене зала делль Альберго. Эта
комната отделана темным деревом, свет приглушен, и здесь
нет ни одной из тех довольно интересных, но несколько
гротескных и даже нелепых резных работ Франческо Пьян-
та, что украшают Большой зал. Размер «Распятия» (12 м
в ширину и 5 м в высоту) призван подчеркнуть судьбонос-
ность произошедшего на Голгофе для будущего человече-
ства. На фоне темного неба, освещенного мертвенно-блед-
ным предгрозовым светом (в Евангелии от Луки сказано:
«...и сделалась тьма по всей земле») сгруппированы фигу-
ры плакальщиков, очевидцев, троих распятых, солдат, ло-
шадей. Но так как для христиан сцена распятия обращена
лично к каждому, а не только ко всем вместе, персонажей
картины можно рассматривать индивидуально. Два солда-
та, сидя на корточках среди скал, бросают кости, кому до-
станется одежда Христа, у подножия креста Богоматерь в
обмороке, а остальные, включая Святого Иоанна и золо-
товолосую Магдалину, смотрят вверх, не в силах оправиться
от шока. Справа (для Христа — слева) все еще прикреп-
ляют к кресту нераскаявшегося разбойника. Слева (для
Христа — справа) — раскаявшийся, чей крест как раз под-
нимают, смотрит на Спасителя с верой и надеждой. А Спа-
ситель устремляет на него ответный взор, и в глазах его
читается обещание: «ныне же будешь со Мною в раю». Два
разбойника, один из которых все еще символически при-
вязан к земле, а другой поднимается вверх вместе с Хри-
стом, олицетворяют собой выбор, предлагаемый людям.
Этот момент еще больше подчеркивается, возможно, с не-
которой долей земного тщеславия, тем, что некоторые из
Венеция религиозная
199
присутствующих на картине — не абстрактные персона-
жи, а вполне реальные члены братства.
Джон Рескин (надо признать, он подобно мистеру То-
уду зачастую проявлял чрезмерный энтузиазм и склонность
к смене настроений и пристрастий) практически не прини-
мал всерьез Тинторетто, пока впервые не посетил скуолу в
сентябре 1845-го. Он тут же изменил мнение на диамет-
рально противоположное и, что весьма для него характер-
но, незамедлительно высказал его: «Никогда еще мне не
случалось быть настолько сраженным силой человеческого
интеллекта, как сегодня перед картиной Тинторета», — пи-
шет он отцу. (В 1845-м называть Тинторетто «Тинторетом»
было не менее привычным, чем называть Рафаэлло Санцио
«Рафаэлем Санти», но сегодня это слово еще и передает
личную привязанность Рескина к художнику, а не только
благоговение перед его работами.) В картинах, посвящен-
ных жизни Христа, он «набрасывается на вас, как Левиа-
фан, и земля и небеса смешиваются воедино. Сам М. Анд-
жело [Микеланджело] не смог бы с такой силой бросать
своих персонажей в пространство, да и само пространство
М. Анджело рисовал так, что по сравнению с картинами
Тинторета оно покажется пустой скорлупкой». А в «Кам-
нях Венеции» он заключает, что «Распятие Христа» «выше
всяких похвал и сложнее любого анализа».
Церковь Санта-Мария Глориоза деи Фрари
Поблизости есть и еще более крупное здание, в отличие
от Скуолы Гранде ди Сан-Рокко, наполненное светом: цер-
ковь Санта-Мария Глориоза деи Фрари (начало строитель-
ства — около 1330 года, окончание — 1440-е годы). Если
в скуоле доминируют работы одного художника, церковь
Санта-Мария Глориоза деи Фрари предоставляет внимд-
200
Венеция: история города
нию посетителей картины от Средневековья до неокласси-
ческого периода. Но в целом остается ощущение гармо-
нии. Сюда стоит прийти просто прогуляться среди картин
и, не прилагая особых усилий, насладиться искусством.
Стоя в задней части нефа, вы охватите взглядом не отдель-
ные черты, а просторное, довольно обычное помещение,
большие колонны, деревянные стропила, своды, подчерк-
нутые красным кирпичом, а в перспективе (церковь дости-
гает 82 метров в длину) за перегородкой работы Пьетро
Ломбардо конца XV века просматривается главный пре-
стол, увенчанный «Успением» Тициана. Искренность и
естественность эффектов отражает францисканское стрем-
ление к простоте, где проповедь важнее ритуала. Впрочем,
когда братья пели на хорах, невидимые для собравшихся,
эффект был, вероятнее всего, мистическим.
«Успение» (1518) часто объявляют началом Высокого
Возрождения в Венеции. Тициан подходит к сюжету не
столько как к традиционному мотиву, сколько как к серь-
езному, непосредственному поводу для изумления и дра-
матического напряжения. Потрясенные апостолы обмени-
ваются жестами или тянутся к поднимающейся на облаке
Деве, полностью сосредоточенной на самом процессе вос-
хождения. Цвета тоже энергичные, особенно красный.
И некий фра Джермано, которому приходилось надзирать
за работой Тициана, не имея возможности представить себе
конечный результат, не переставал жаловаться, что фигу-
ры слишком велики. Яркость и размер, однако, вполне со-
четаются с масштабным архитектурным окружением. Как
отмечает Дэвид Розанд («Изобразительное искусство в
Венеции XVI века»), даже рама является неотъемлемой
частью сюжета. Резные изображения мертвого Христа в
нижней части рамы и воскресшего — в верхней продол-
жают тему триумфа над смертью. На картине Дева Мария
Венеция религиозная
201
поднимается на небеса, к Богу Отцу, и дальше, будто по-
падая в новую стихию, к Богу Сыну, изображенному на
раме. Арка, обрамляющая картину, служит ей как бы вто-
рой рамой, и одновременно — триумфальной аркой.
Святые на картине «Мадонна ди Ка’ Пезаро» Тициана
(окончена в 1526 -м) в большей степени принадлежат это-
му миру. Здесь, над алтарем в северном приделе, подарен-
ным семье Пезаро в 1518 году, святой Петр оставляет чте-
ние (отметив место пальцем), чтобы представить епископа
Джакопо Пезаро и его семью Святой Деве, а Святой Фран-
циск, покровитель Фрари, учтиво представляет их младен-
цу Христу. Епископ преклонил колени слева, напротив сво-
его роскошно одетого брата, и развевающийся над ним со-
лидный, красный с позолотой стяг знаменует его роль в по-
202
Венеция: история города
беде папского престола над турками в морской битве 1502 го-
да. В 1526-м епископ был еще жив (он умер в 1547-м, и его
памятник находится слева от картины) и мог удовлетво-
ренно наблюдать этот знак своего благочестия и высокого
положения. На картине семья Пезаро производит более
возвышенное впечатление, чем на расположенном левее
напыщенном черно-белом саркофаге в стиле барокко, ус-
тановленном на могиле дожа Джованни Пезаро, умершего
в 1659 году. Посреди «огромного скопления театральных
декораций, — пишет Рескин, — фигура дожа выступает
вперед, протянув руки публике, будто напрашивается на
аплодисменты». Часто обращают внимание на две непри-
вычные черты «Мадонны» Тициана. Во-первых, Мать и
Сын вопреки традиции помещены не в центре. Но самая
интересная особенность полотна заключается в том, что оно
кажется одинаково великолепным и тем, кто, приближаясь
к нефу, вынужден рассматривать его под углом, и зрите-
лям, уже подошедшим к картине вплотную. Как показал
рентген, Тициану пришлось не раз вносить в работу ис-
правления, прежде чем удалось добиться подобного эффек-
та. Ступени, ведущие к картине, помогают увидеть карти-
ну со стороны, а молодой Пезаро, смотрящий на зрителя,
дополняет композицию, открывающуюся с близкого рас-
стояния.
Большая часть зрителей немедленно одобрила работу
Тициана для церкви Санта-Мария Глориоза деи Фрари, где
он позже и был похоронен в 1576 году. Он хотел, чтобы над
его могилой висела его собственная «Пьета», которая нахо-
дится сейчас в Академии. Однако по прошествии многих лет
над местом его захоронения в южном приделе установили
памятник, выполненный по заказу императора Фердинанда I
Австрийского. Еще раньше, в XIX веке, памятник Тициа-
ну, предназначавшийся для этой церкви, спроектировал
Венеция религиозная
203
скульптор-неоклассик Антонио Канова, но его вариант —
массивную композицию с пирамидой и скорбящими фигура-
ми, созданную руками учеников Кановы, установили на его
собственной могиле в северном приделе (1827). Не многие
посетители отреагировали на нее так же резко, как Рескин,
которому эта композиция представлялась «превосходной с
точки зрения науки, несносной из-за своей претенциозно-
сти, нелепой по замыслу», но и положительные отзывы о
ней услышишь нечасто. Оригинальная модель Кановы из
дерева и терракоты находится в музее Коррер, она выглядит
более умеренно и благопристойно.
Те, кого работы Тициана во Фрари не пленяли с перво-
го взгляда, объяснял позже один из поклонников худож-
ника, слишком привыкли к «мертвым и холодным» рабо-
там таких мастеров, как Джованни Беллини (1433—1516).
Но триптих Беллини в ризнице Фрари, где изображена
Мадонна с младенцем и святые (1488), хоть и более за-
думчив, но по-своему производит не менее сильное впе-
чатление, чем яркое «Успение» или загадочная «Мадон-
на» Пезаро. С небольшого расстояния нелегко понять, изоб-
ражена ли Мадонна перед фоном, образованным красной
узорчатой материей за ее спиной и золотым сводом над го-
ловой, или в глубине его. Кажется, что мать и дитя обита-
ют в иной, более глубокой реальности, чем даже святые.
Впрочем, и их изображения намекают на разные уровни
бытия. Святые блуждают между колоннами, но на самом
холсте мы видим лишь часть этих колонн: остальные выре-
заны на богато украшенной позолоченной раме. Они как
бы выдвигаются за пределы картины и приближаются к
зрителю, выступая связующим звеном между его простран-
ством и реальностью более высокой. Над головой Святой
Девы написана обращенная к ней молитва, что полностью
соответствует общему характеру картины, постоянно пе-
204
Венеция: история города
реходящей из одной плоскости в другую, из суетного мира
в мир божественный, к «вратам надежным в царствие не-
бесное».
Выйдя из церкви Санта-Мария Глориоза деи Фрари и
направившись в противоположную от Скуолы ди Сан-Рок-
ко сторону, вы достигнете интересной старой скуолы, ос-
нованной братством Сан-Джованни Эванджелиста (Свя-
того Иоанна Крестителя) в 1261 году. По дороге вам мо-
гут даже встретиться указатели с ее названием. (Отыскать
ее будет просто, если вы сначала попробуете найти располо-
женнную неподалеку площадь Сан-Стин, где есть еще и
удобное кафе.) К зданию можно подойти через два двора.
В первом вы увидите белый мраморный портал (1481) ра-
боты архитектора-классициста Пьетро Ломбардо: пиляст-
ры и изящные растительные и цветочные фризы под баре-
льефом, изображающим орла Святого Иоанна — покро-
вителя братства. На барельефе XIV века на стене скуолы
появляется и сам святой в окружении коленопреклоненных
членов братства. Длинный, практически не декорирован-
ный Нижний зал производит впечатление чистой простоты,
что отличает его от мрачной атмосферы Скуолы ди Сан-
Рокко. На каждой колонне есть небольшая молящаяся фи-
гура в монашеском одеянии и посох святого Иоанна. В край-
ней нише расположена маленькая статуя святого XV века.
Святой этот явно францисканский, скорее всего — святой
Бернард, проповедовавший в Венеции в 1443 году. В ру-
ках у него книга, а во взгляде чувствуется одухотворенная
убежденность, но не одержимость.
Знаменитая монументальная двойная лестница, создан-
ная по проекту Мауро Кодуччи в 1498 году (но в наши дни
уже построена заново), ведет наверх, в совершенно другой
мир Большого зала, спроектированного тем же Кодуччи и
переделанного Джорджо Массари в середине XVIII века.
Венеция религиозная
205
Зал залит светом, пол выложен разноцветным мрамором,
высокий потолок расписан в розовых и голубых тонах: им в
числе прочих занимался Джандоменико Тьеполо, который
в тот период своего творчества отдавал предпочтение по-
добной гамме. И хотя это помещение менее способствует
размышлениям и играет не такую важную роль, как Боль-
шой зал в Скуоле ди Сан-Рокко, выглядит она, несомнен-
но, радостнее.
Следуя далее по городу в западном направлении, вы
попадете к церкви Сан-Николо да Толентино с ее испол-
ненным радости и движения барочным памятником карди-
налу Франческо Морозини (которого не следует путать с
его тезкой, дожем и генералом) работы Филиппо Пароди
(1680). Справа от памятника — улыбающаяся Благотво-
рительность, кормящая грудью младенца. Благотворитель-
ность и Слава, установленная по левую сторону, победили
Время, прикованное между ними, несмотря на все свои кры-
лья, и охраняемое херувимами. Слава легко взбирается на-
верх среди развевающихся драпировок, указывая одной
рукой на надпись на могиле, а другой — на расположенно-
го над ней покойного в митре, который, полулежа, молит-
венно обратил взор к небу. Движение, направленное вер-
тикально вверх, начинает Слава, его продолжает молящийся
кардинал, и через струящуюся драпированную ткань, не-
сущего меч ангела, корону, через окружающие фигуры ар-
хитектурные элементы, почти сливающиеся с облаками, оно
достигает небес.
Далее, вы можете пересечь Большой канал, чтобы по-
смотреть церковь Скальци, возвышающуюся неподалеку
от вокзала. Для Генри Джеймса это «сплошной мрамор и
малахит, сплошной жесткий, холодный блеск и дорогое,
украшенное завитками уродство». Но после хорошей про-
бежки по достопримечательностям приятно просто поси-
206
Венеция: история города
деть и полюбоваться цветами мрамора и малахита. Серые
статуи и позолоченные капители на фоне пурпурного и —
в боковых приделах — красно-коричневого и серо-зеле-
ного мрамора. На алтаре доминируют красный и белый.
Витые колонны главного престола более темного коричне-
вого цвета, но с белыми прожилками. Впрочем, игра света
мгновенно вызывает к жизни новые оттенки и прячет ста-
рые, так что, может быть, вы и не согласитесь с моим опи-
санием.
До церкви Скальци и кампо Сан-Дзаккариа можно до-
браться, если немного пройтись по рива дельи Скьявони от
Дворца дожей, а затем повернуть налево по Соттопортико
Сан-Дзаккариа. Согласно легенде, однажды дьявол чуть
не унес отсюда юную невесту, но жених встал на четве-
реньки и принялся ходить вокруг колодца и рычать, как
лев Святого Марка, чем и напугал нечистого. Случилось
это на Михайлов день, и с тех пор в этот день молодые
женихи приходят рычать на площадь, надеясь тем самым
обеспечить сохранность своих будущих жен.
В самой церкви место более традиционным поверьям.
Она знаменита тем, что в ее внешней отделке смешались
элементы готики и Ренессанса, а внутри находится поздняя
работа Джованни Беллини, запрестольный образ «Мадонна
с младенцем на троне с музицирующим ангелом и святыми
Екатериной, Лючией и Иеронимом». Это спокойная кар-
тина с симметричной композицией, а образы погруженных
в себя святых, не обращающих внимания ни друг на друга,
ни на нас, придают ей одухотворенность. Иероним, уче-
ный-клирик, навечно погружен в чтение, а изображенная
рядом с ним Лючия кажется воплощенным спокойствием.
(Нам же может стать немного не по себе, если мы узнаем,
что в кувшине, который она легко держит в руках, нахо-
дятся глаза — она защищает зрение.) Ощущение боже-
Венеция религиозная
207
ственной тайны усиливается замысловатой игрой реальны-
ми и нарисованными архитектурными элементами, в кар-
тинной галерее большая часть этого эффекта была бы по-
теряна. И цвет, и форма настоящего камня подчеркивают
цвет и форму камня рисованного. И даже присутствие по
соседству больших и более эффектных картин подчерки-
вает спокойствие и лаконичность жестов святых Беллини.
Греки и славяне
Венеция Беллини и Тициана была городом космополи-
тичным. Сюда съезжались торговцы из Англии и Египта,
посольские свиты, туристы, представители колоний. Гре-
ки составляли одно из самых многочисленных этнических
меньшинств. Когда в 1453-м турки взяли Константинополь,
многие греки бежали в Венецию, их привлекали ее долгие,
пусть и не всегда благополучные, отношения с Византий-
ской империей и количество соотечественников, по большей
части купцов, которые уже успели в этот город переселить-
ся. К 1480 году греческая община составляла не менее
4000 человек. В 1486-м кардинал Бессарион, грек, перешед-
ший в католичество и поселившийся в Италии в 1440 году,
передал свою огромную библиотеку рукописей Венециан-
скому государству, объясняя это особым отношением гре-
ков к Венеции, посещая которую они чувствуют себя так,
будто «вступают в еще одну Византию». Альд Мануций
прекрасно воспользовался тем, что в ту пору в Венеции
среди беженцев оказалось немало греческих ученых. Он
нашел квалифицированных редакторов и начиная с 1495 го-
да смог издать уточненные редакции многих древнегрече-
ских текстов. Такое многоплановое сотрудничество помо-
гало создавать и поддерживать в Венеции в целом терпи-
мое отношение к ее национальным и религиозным мень-
208
Венеция: история города
шинствам, а в 1494-м греческой общине разрешили осно-
вать собственное братство — Скуола ди Сан-Николо деи
Гречи, а в 1539-м — возвести церковь Сан-Джорджо деи
Гречи (окончена в 1573 году).
В здании, построенном для скуолы в 1678 году скульп-
тором Бальдассаре Лонгена, сейчас находится Музей икон.
В его коллекции есть творения Михаила Дамаскиноса, ма-
стера критского Возрождения XVII века, в творчестве ко-
торого сочетаются венецианское и византийское влияния.
Рядом, в церкви Сан-Джорджо, маленьком и совершенно
греческом на вид храме с куполами, до сих пор проходят
православные службы. Томас Кориэт, которому едва уда-
лось переварить «папистскую службу», описывает своим
читателям еще более непривычные сцены, разыгравшиеся
перед ним, когда ему «довелось побывать утром на грече-
ской литургии». Ему понравился «светлый свод над цент-
ральной частью церкви, украшенный мозаичными изобра-
жениями Бога... и великое множество ангелов вокруг него».
Но его несколько поставило в тупик то, как молящиеся
«крестились шесть или семь раз подряд» прй входе, а по-
том «очень часто вскидывали руки вверх и опускали вниз»,
что «показалось мне одновременно неподобающим и неле-
пым». Да и сами люди выглядели достаточно странно:
«большинство из этих греков очень черные... и все до еди-
ного носят длинные волосы... мода непривлекательная и
очень разбойничья». Но средний венецианец, привычный
к разнообразию и знающий его выгодные стороны, и гла-
зом не моргнет, встретив не только православного грека,
но и самого Кориэта, ошеломленного протестанта из «Од-
комба в графстве Сомерсет».
Еще одну немаловажную этническую группу образова-
ли славяне, по большей части купцы или моряки на венеци-
анской службе, как правило — родом из находящихся в
Венеция религиозная
209
венецианском управлении прибрежных городов страны,
которую тогда называли Далмация: из Рагузы (теперь
Дубровник) и Дзары (Задар). В 1492-м им, как и грекам,
дали разрешение основать свое собственное братство. Ску-
ола ди Сан-Джорджо дельи Скьявони (Святой Георгий
был покровителем Далмации, а также Греции и Англии)
находится в нескольких минутах ходьбы от греческой цер-
кви и Музея икон. Рядом с рио делла Пьета, куда на ма-
леньких лодках часто доставляют фрукты и строительные
материалы под аккомпанемент орущих радиоприемников,
неправдоподобно тихая и скромная скуола хранит знаме-
нитую серию картин Витторе Карпаччо, написанных
(1502—1507) в честь трех святых братства, Георга, Три-
фона и Иеронима. Картины Карпаччо изначально находи-
лись на втором этаже, но выглядят совершенно уместно и в
комнате первого этажа, куда их перенесли в 1550 годах.
Рескин назвал ее «комнатой, размером с зал старомодного
английского постоялого двора». Картины на верхней части
стен сильно, но удачно освещены искусственным светом,
который исходит от нарядных деревянных подсвечников.
Взгляд сразу же привлекает фигура святого Георгия в
сверкающих черных доспехах, но героически пренебрегшего
шлемом, вонзающего копье прямо в пасть дракона. Справа
принцесса в красном платье ждет, то ли молитвенно, то ли
радостно сложив руки на груди. Затем вы замечаете чере-
па и изуродованные трупы на земле, ниже рыцаря и чудо-
вища. У принцессы есть основания для радости. Но побо-
ище имеет и символическое значение: дракон традиционно
символизирует похоть, а молодой человек и молодая жен-
щина, чьи разорванные тела отчетливо видны на картине, в
отличие от чистого Георгия и принцессы, дали волю стра-
стям и пострадали от разрушительных последствий своего
поступка. Традиционно драконы могут означать и врагов
210
Венеция: история города
государства — а для Карпаччо, очевидно, и его покрови-
телей — турок. (Даже в те дни, когда люди не обращали
особенного внимания на символическую подоплеку, вене-
цианские славяне, которым пришлось сражаться с фран-
цузами или австрийцами, могли, вероятно, полагать себя
преемниками святого Георгия. В боковой комнате скуолы
есть табличка, на которой записаны «по крайней мере не-
сколько имен, которым удалось избежать забвения» из
числа «далматинцев, вставших на защиту Венеции в 1848—
1849 годах».)
Картины Карпаччо имеет смысл рассмотреть вниматель-
но, потому что этот художник — великолепный рассказ-
чик. Стоит присмотреться к архитектурным деталям (от-
части выдуманным, отчасти — свойственным Венеции эпо-
хи Возрождения). Взгляните, например, на бородатого свя-
того Иеронима, смущенного паническим бегством своих
братьев и гостеприимно встречающего льва с раненой ла-
пой, или на святого Августина с его книгами, музыкой и
астролябиями — какое вдохновение охватило его на пер-
вой картине справа. (Августин оказался здесь благодаря
своей духовной связи с Иеронимом: пока он пишет этому
святому, его посещает видение о смерти последнего.)
Славяне — или, по крайней мере, легендарные славяне —
пользуются не слишком положительной репутацией в Сан-
та-Мария Формоза. В 944 году, гласит легенда, несколько
молодых женщин из этого прихода шли в собор Сан-Пьет-
ро, и вдруг их схватили и похитили славяне, жившие в райо-
не реки Нарента, в Далмации, знаменитой своими пирата-
ми. Но casselleri из того же прихода — мастера, изготовляв-
шие свадебные сундуки (cassoni), — догнали славян и спасли
девушек. Кое-кто, пожалуй, невеликодушно усомнится в их
бескорыстии: дескать, мастера явно были заинтересованы в
предстоящих свадьбах. Но когда дож предложил им в на-
Венеция религиозная
211
граду все, что они пожелают, те только попросили, чтобы
раз в год он наносил им визит. На случай дождя они препод-
носили ему соломенную шляпу, а на случай если его мучает
голод или жажда, — дарили хлеб и бутылку вина. Этот ри-
туал приходился на Сретенье и сохранялся до тех пор, пока
существовала республика. Сегодня одну такую шляпу мож-
но увидеть в Музео Коррер.
История о похищенных девицах и их спасителях легла в
основу просуществовавшего какое-то время праздника Festa
delle Marie, Пик его популярности пришелся на вторую
половину XIII века, когда празднования и шествия прохо-
дили три дня подряд. После служб в базилике Сан-Марко
и церкви Санта-Мария Формоза двенадцать «Марий»,
изображающих группу почти похищенных девушек, на не-
скольких лодках везли к Сан-Пьетро, а за ними следовали
на лодке сорок casselleri с обнаженными мечами. Изначаль-
но роль Марий играли настоящие женщины, по две из каж-
дого сестьере Венеции, но позже их заменили красивые де-
ревянные куклы. Как пишет, пересказывая местное преда-
ние, Уильям Дин Хоуэлле, причина подобного изменения
заключалась в том, что обычай «утратил свою простоту и
чистоту» и «говорили, что хорошенькие девицы строили
глазки красивым юношам из толпы и случались публичные
скандалы». И даже уже после того, как живых девиц за-
менили деревянными, «толпа с отвращением улюлюкала им
вслед и забрасывала свеклой». Впрочем, и «строившие глаз-
ки» красотки, и свекольный дождь могли быть всего лишь
частью обряда, символизирующего плодородие — вполне
подходящая тема для свадьбы. (А уж символика обнажен-
ных мечей совершенно прозрачна!) И потом, происшествия
эти, скорее всего, служили короткой и приятной разрядкой
в череде серьезных ритуалов. В 1379-м на смену процес-
сиям пришли короткие церемонии в церкви Санта-Мария
212
Венеция: история города
Формоза. Как и более безыскусная часть обряда, касаю-
щаяся бутылки и соломенной шляпы, эта версия просуще-
ствовала до 1797 года.
Статуи и надгробия
Кампо Санти-Джованни-э-Паоло, где возвышается од-
ноименная церковь, обладает необычной для Венеции до-
стопримечательностью — конной статуей. Венецианская
традиция не склонна публично вознаграждать отдельного че-
ловека в столь помпезной манере, но эта статуя явилась един-
ственным условием, на котором кондотьер Бартоломео Кол-
леони, много лет прослуживший Венеции, завещал государ-
ству свои немалые богатства и земли в 1475-м. По правде
говоря, он указал в завещании, что статуя должна стоять на
пьяцце Сан-Марко, но для Республики это было немыс-
лимо. Потратив несколько лет на размышления (Венеции
в то время постоянно приходилось вести войны, и деньги
ей были очень нужны) решили подойти к этому обстоя-
тельству творчески. Вполне достаточно, чтобы памятник
находился рядом со Скуолой Гранде ди Сан-Марко. Бога-
то украшенный фасад скуолы конца XV века — Хью Онор
писал о его «изящных окнах и кружевных полукруглых
фронтонах» — примыкает к церкви. С 1819 года скуола
стала частью главного городского госпиталя, и вдоль рио
деи Мендикати нередко стоят пришвартованные катера
скорой помощи.
Но после того как подходящее место для памятника
Коллеони было найдено, возникли осложнения несколько
иного рода. Джорджо Вазари рассказывает следующее.
Услышав, что имя одного флорентийского скульптора,
Андреа дель Верроккьо, часто упоминается за границей,
Синьория послала за ним, и тот изготовил глиняную мо-
Венеция религиозная
213
дель. Но когда он уже собирался отливать ее в бронзе,
«многие господа» пришли к решению, что Верроккьо, ко-
нечно, может отливать коня, но фигуру Коллеони необхо-
димо доверить некоему Веллано из Падуи. Флорентиец в
ярости удалился, задержавшись только затем, чтобы от-
бить коню ноги и голову, а Сенат постановил (утверждает
Вазари), что теперь голову следует отрубить уже ему, если
когда-нибудь он вернется в Венецию. Верроккьо не заста-
вил долго ждать ответа. «Я знаю, как починить голову гли-
няной лошади, — писал он, — но понятия не имею, как
прикрепить голову обратно человеку, не говоря уже о та-
кой ценной голове, как моя собственная». Дерзкий ответ
так понравился сенаторам, повествует Вазари со вкусом,
214
Венеция: история города
как и полагается рассказывать окончание доброй сказки,
что они позвали скульптора обратно и заплатили ему вдвой-
не. Но, рискуя немного испортить концовку и продолжая
историю Коллеони, скажем, что Верроккьо умер в 1488-м,
не успев завершить работу. Ее закончил в 1490-м венеци-
анец Алессандро Леопарди, который нескромно написал
свое имя на лошади Коллеони.
Эту скульптурную группу всегда хочется сравнить с бо-
лее ранними и известными конными фигурами, Марком
Аврелием на Кампидольо в Риме и кондоттьера Гаттаме-
латы в Падуе, работы Донателло. Рассказчик в «Письмах
Асперна» Генри Джеймса всматривается в «квадратный
подбородок... грозного кондотьера, что так твердо сжима-
ет бока своего бронзового жеребца на высоком пьедестале,
куда вознесло его признание благодарных венецианцев».
Гости города смогут подкрепить силы в «Снэк-бар Кол-
леони» или в «Снэк аль Кавалло» по соседству. Из обоих
открывается хороший вид на площадь.
Церковь Санти-Джованни-э-Паоло, которую обычно
называют «Дзаниполо», была построена доминиканцами в
начале XV века. Она почти такого же огромного размера,
как церковь Санта-Мария Глориоза деи Фрари, ныне при-
надлежащая великому ордену проповедников-францискан-
цев. В церкви доминиканцев, среди прочих знаменитостей,
покоятся двадцать пять дожей, так что по функции и об-
щему впечатлению она похожа на Вестминстерское аббат-
ство. То здесь то там на полу и на стенах можно заметить
имена патрициев прошлого: Мочениго, Малипьеро, Лоре-
дан, Делфин, Веньер, Корнаро. Но благодаря высоким
сводам церковь не кажется загроможденной памятниками
(если только забыть про огромный, вопиющий монумент
начала XVIII века в южном приделе — дань самоуваже-
ния рода Вальеров). Многие монументы достойны восхи-
Венеция религиозная
215
щения как произведения искусства. Довольно высокая «те-
кучесть кадров» среди дожей, избираемых из числа горо-
жан весьма почтенного возраста, помогала обеспечивать ра-
ботой скульпторов. В первую очередь — Пьетро Ломбар-
до, его сыновей Туллио и Антонио, а также других предста-
вителей его мастерской. (Настоящая фамилия этой семьи
была Солари, они происходили из Ломбардии.)
Джон Джулиус Норвич описывает центральную фигу-
ру надгробия работы Пьетро Ломбардо (1476—1481) для
дожа Пьетро Мочениго, славного флотоводца: «В полном
вооружении и бесспорно воинственный, он стоит гордели-
во на своем саркофаге, и весь облик его больше подошел
бы для триумфальной арки, чем для надгробного памятни-
ка. Трудно вообразить более безбожный и типичный при-
мер погребальной скульптуры эпохи Возрождения».
«Именно так!» — мог бы подтвердить фра Феликс Фаб-
ри, который в качестве члена реформированного домини-
канского ордена посетил тех, о ком в 1480-м он отзывался
как о своих переформированных братьях. Он отмечал, что
в монастыре Санти-Джованни-э-Паоло «братья живут в
мирской роскоши и богатстве», а молодежь во множестве
посещает церковь только чтобы послушать музыку. Моги-
лы дожей богатством и бахвальством превзошли даже мо-
гилы пап в Риме. Они «подняты над землей и встроены в
стены, и вся поверхность стен покрыта мраморными изва-
яниями и резьбой, и золотом, и серебром, и украшена чрез-
мерно». Изображения Христа, Богоматери и святых рас-
положены должным образом, но окружают их языческие
Сатурн, Янус, Юпитер, Юнона, Минерва, Марс, Герку-
лес и мифологические символы». На «богатом надгробии
некоего дожа справа от входа» (Пьетро Мочениго) Герку-
лес сражается с Гидрой и со львом (на панелях, располо-
женных внизу справа и слева). В особенности чувства
216
Венеция: история города
Фабри оскорбило то, что герои полуобнажены или совсем
обнажены. Все они «с мечами и копьями в руках и щитами
на шеях, но без кирас или нагрудников, без шлемов, и, в
действительности, это идолы». «Простые люди, — жало-
вался он, — думают, что видят перед собой изображения
святых, и воздают почести Геркулесу, принимая его за Сам-
сона, Венере, путая ее с Магдалиной, и так далее».
Не устрашившись подобной оппозиции, дожи и их се-
мьи продолжали заказывать Ломбардо надгробия. В стиле
Туллио Ломбардо, насколько вообще возможно провести
различия между работниками одной и той же мастерской,
больше изящества: его утонченный подход к разработке
деталей ближе к классическому, и некоторые утверждают,
что он учился в Риме. Наиболее характерным примером
его творчества будет, скорее всего, памятник (1495) дожу
Андреа Вендрамину рядом с высоким престолом. Неболь-
шим утешением Фабри могло бы послужить то, что сейчас
это надгробие трудно как следует рассмотреть. Хотя не-
утомимый Джон Рескин до него все-таки добрался и ис-
следовал его весьма тщательно, и оно разозлило его не мень-
ше, чем преподобного Фабри, но по совершенно иным при-
чинам. Вооружившись лестницей, он взобрался наверх и
стер пыль с дорогой могилы дожа-неудачника, который
«покрыл Венецию позором на море и на суше», и с изумле-
нием обнаружил, что у статуи Вендрамина — только одна
рука, причем так же, как его лицо и горностаевая мантия,
«с внутренней стороны она представляет собой необрабо-
танный кусок камня». Очевидно, с «самого начала работы
предполагалось, что фигуру будет видно только снизу и
только с одной стороны». Это, заключил Рескин, «лжи-
вый памятник бесславному дожу». Но еще больше его чув-
ства оскорбили изображенные на памятнике «толстоногие
мальчики, развалившиеся на дельфинах, и неспособные
Венеция религиозная
217
плавать дельфины, которых тащат по морю на больших
носовых платках». К счастью (если вы, конечно, не разде-
ляете хотя бы отчасти взглядов Рескина и Фабри), другие
примеры мастерской Ломбардо видно хорошо — включая
скульптурную группу работы Туллио на западной стене
(1500—1510), сделанную для дожа Джованни Мочениго,
брата Пьетро, правившего через одного дожа после него.
Похоже, именно благодаря удачному памятнику Пьет-
ро Мочениго Пьетро Ломбардо получил заказ построить
свой шедевр, Санта-Мария деи Мираколи (1481—1488).
(Туллио работал вместе с отцом над скульптурными дета-
лями.) Высокую, гладкую мраморную церковь, располо-
жившуюся на ограниченном участке земли рядом с кана-
лом, сравнивали с сундуком или шкатулкой для драгоцен-
ностей. Но как раз интерьер-то и не отличается пышным
убранством. На первый взгляд, все, кроме потолочных рос-
писей, кажется чистым, прохладным мрамором, свободным
от обычной венецианской мозаики, выступающих надгроб-
ных плит, боковых приделов и прочего. Когда немного при-
выкаешь, первое впечатление сглаживается, но не намно-
го. Тонкая резьба Ломбардо на алтаре и его балюстраде,
например, стоит более внимательного изучения. Прохлад-
ная, спокойная гармония в целом задумана отчасти для того,
чтобы не отвлекать внимания от сравнительно небольшой
чудотворной иконы Богородицы над главным престолом,
для хранения которой церковь и построена. Но изображе-
ние (начала XV века) бледнеет по сравнению со своей опра-
вой, иногда напоминающей естественное геологическое об-
разование. Во-первых, цвет и узор панелей повторяют цвет
и узор самого мрамора с его переходами от серого к белому
и от коричневого к желтому, с пятнами почти ромбовидной
формы. Сами панели, конечно же, тщательно отбирали и
размещали таким образом, чтобы придать неравномерно-
218
Венеция: история города
сти определенную упорядоченность, перемежая темные и
светлые, составляя определенный узор. Но подобраны они
так тонко, что искусство и геология становятся равноправ-
ными партнерами и вступают в диалог. Хотя с близкого
расстояния на стенах нефа (в этой церкви нет никаких бо-
ковых приделов) можно рассмотреть швы и следы искус-
ной подкраски.
Церковь, Гетто и дворец
Уильям Дин Хоуэле, направляясь в Гетто на гондоле, «не-
нароком» обнаружил церковь Мадонна делль Орто (пост-
ройка началась в 1399-м, колокольня построена в 1503-м).
Он восхитился фасадом с изобилием белых, периода по-
здней готики, статуй и украшений, многие из которых вы-
шли из мастерской Бартоломео Бона. Центральный вход с
орнаментальными украшениями и статуей Святого Хрис-
тофора над ним и Девы Марии и Гавриила по обеим сторо-
нам, был оплачен в 1460-м году братством Скуолы ди Сан-
Кристофоро деи Мерканти, чье здание, построенное сто
лет спустя, находится в той же площади. Хоуэлсу понра-
вились и готические окна, описывая которые он иронизи-
рует по поводу некоторой непоследовательности нашего от-
ношения к прошлому:
Хочется пасть ниц и отречься от этих счастливых,
банальных веков ереси и вернуть старые добрые благо-
честивые времена фанатизма, суеверия, костров и дыбы,
только бы снова явились на землю люди, создавшие эти
окна из своей веры и благочестия (если они создали их
именно так, в чем я сомневаюсь), и построившие их с
терпением и благоговением (если последнее участвова-
ло в строительстве, в чем я сомневаюсь).
Венеция религиозная
219
Здесь Хоуэле посмеивается над Рескиным и свойствен-
ным XIX веку экзальтированным восхищением средневе-
ковыми мастерами. Он ничего не говорит о внутреннем
убранстве церкви — эта область рассуждений уже давным-
давно стала вотчиной Рескина благодаря присутствию там
определенного количества работ Тинторетто, включая
«Страшный суд» и «Явление Богородицы», написанную
под влиянием одноименной картины Тициана, выставлен-
ной в Академии. Особенно эмоционально Рескин отозвался
об Апокалипсисе с его
...реками гнева Господня, с ревом низвергающимися в
залив, где весь мир расплавлен их пламенным жаром,
повергнуты в прах народы, и на мгновение показываю-
щиеся из водоворота человеческие конечности описыва-
ют круги, будто лопасти ветряных мельниц. Подобно ле-
тучим мышам, из пещер, разломов и теней земли соби-
раются кости, и вздымаются горы глины, грохоча и сли-
паясь в наполовину оформленные тела, которые ползут,
в панике пробиваясь наверх, сквозь гнилые водоросли.
Глина налипла на их свалявшиеся волосы, а их тяжелые
глаза запечатаны земной тьмой.
Церковь принадлежала приходу Тинторетто, и он пере-
дал ей свои огромные картины бесплатно. В 1594-м его по-
хоронили здесь, и в часовне, справа от алтаря есть мемори-
альная табличка и достаточно хорошо сделанный бюст.
В той же церкви покоятся его дочь Мариетта (1560—1590)
и сын Доменико (1560?—1635), которые работали вместе
с ним.
Гетто находится южнее, в районе Каннареджо. Именно
это Гетто дало имя всем остальным: оно происходит от ме-
стного слова, обозначающего литейни (от gettare, что в дан-
220
Венеция: история города
ном случае означает «лить металл»). Может сбить с толку,
что самые старые синагоги находятся на кампо Гетто Нуо-
во (Новое Гетто), но все дело в том, что именно бывшая
«новая литейная» стала первым районом, где в 1516 году
появилась особая территория, в границах которой разре-
шалось селиться евреям. Гетто Веккьо (Старое Гетто) было
основано в 1541-м, а в 1633 году к ним добавили и третий
район, Гетто Нуовиссимо (Новейшее Гетто), но места все
равно катастрофически не хватало. В прошлом эти райо-
ны, особенно Гетто Нуово, были очень оживлении в днев-
ное время, когда христиане свободно посещали многочис-
ленных портных и ломбарды. Жизнь кипела здесь и ночью,
когда проходить через ворота разрешалось только врачам.
Сейчас память о тех временах сохранилось только в одном
тихом уголке Каннареджо в виде нескольких торгующих
еврейскими сувенирами и кошерной пищей магазинов, вы-
соких зданий (иногда по шесть-семь этажей, для эконо-
мии земли), пяти синагог и Музео Эбраико.
История жизни евреев в Венеции была переменчива, как,
впрочем, и в любой другой стране. Нередко их терпели как
врачей или ростовщиков (христианам заниматься ростов-
щичеством обычно запрещалось, а евреев не допускали во
многие другие профессии). Иногда их изгоняли, часто брез-
гливые посетители критиковали их за то, что они живут в
тесноте, пренебрегая правилами гигиены. Как в случае с
Шейлоком в «Венецианском купце», у них могли брать в
долг, а могли плевать на них, а нередко делали и то и дру-
гое. При Венецианской республике жестокое преследова-
ние было редкостью, но налоги зачастую оказывались слиш-
ком высокими. Несмотря на ограничения, некоторым ев-
реям все-таки удавалось преуспеть; в частности, левантий-
ским евреям разрешалось вести торговлю, в которой они
преуспевали. Еврейская культура в Венеции процветала —
Венеция религиозная
221
все ее направления от популярных песен до театра и мисти-
ческих трактатов. В первой половине XVI века еврейские
ученые и наборщики создали около двухсот книг на иври-
те, напечатанных в Венеции Даниелем Бомбергом из Ант-
верпена. Позже в Гетто жила поэтесса Сара Коппио Са-
лам (1592—1641), ее салон стал местом встречи еврейских
и христианских интеллектуалов.
Из личностей XVII века больше всего мы знаем о раб-
би Леоне да Модена (1571—1648), авторе многих пропо-
ведей, книг и памфлетов, пасторальной пьесы и откровен-
ной автобиографии1. В ней Модена описывает свои финан-
совые проблемы, страшное горе после смерти одного сына,
1 В переводе Марка Р. Коэна книга была издана на английском
языке в 1988 году. — Примеч. автора.
222
Венеция: история города
погибшего от болезни, и второго, убитого врагами из его же
общины, распространение чумы в 1630—1631 годах, семей-
ные неурядицы на склоне лет, когда они с женой перебира-
лись из одного убогого жилья в другое. Скандал 1636—
1637 годов, разразившийся после того, как двух евреев по-
садили в тюрьму за получение краденого товара на сумму
60—70 тысяч дукатов, грозил погубить всю общину. Скан-
дал разрастался, и пошли разговоры о том, чтобы выселить
из Венеции всех евреев. Такой исход удалось предотвратить
отчасти благодаря убедительному вмешательству Симона
Луццатто (1583—1663), ученика Модены, позже его пре-
емника в качестве главного рабби. Его «Рассуждение о по-
ложении евреев» в Венеции разъяснило остальным горожа-
нам непосредственные экономические выгоды дальнейшей
терпимости. Не имея собственной родины, в отличие от дру-
гих национальных меньшинств, убеждал Луццатто, евреи
вкладывали деньги там же, где жили; они усердно труди-
лись и, по сути, были «ступнями» государства — и пусть
оно наступало на них, но они были ему необходимы.
В 1637 году у Модены случилась личная, но не менее
опасная беда. В Париже без его разрешения опубликовали
его «Riti ebraici», и на какое-то время, признается он, его
охватила паника. Эта книга, в отличие от прагматичного рас-
суждения Луццатто, касалась деликатных теологических
проблем: Модена писал о некоторых аспектах еврейской док-
трины, обсуждение которых было запрещено католической
церковью. Но влиятельные друзья предприняли мудрый уп-
реждающий ход и немедленно передали материалы рабби
инквизиции — и она не стала его преследовать. Модена смог
продолжать писать, преподавать и (в чем он честно призна-
вался в своей лишенной всякого притворства биографии)
дальше бороться изо всех сил с потребностью немедленно
проиграть в азартные игры любые заработанные деньги.
Венеция религиозная
223
В 1648 году, когда Модена умер, в Венеции проживало
около 5000 евреев. К концу столетия их число значительно
уменьшилось, потому что отдельные личности и целые се-
мьи уезжали в Голландию и Пруссию, где им предлагали
значительно более свободные условия жизни. А в Венеции
даже в 1777 году все еще вводили новые ограничения. Пос-
ле падения Венецианской республики в 1797-м ворота Гетто
был разрушены. Евреям разрешили жить и в других райо-
нах, хотя многие остались. После объединения с Италией
в 1866 году им разрешили полнее участвовать в жизни
Венеции, пока официальная нетерпимость не вернулась
вместе с расистскими законами 1938-го. Раньше, при ре-
жиме Муссолини, евреев, наоборот, призывали вступить в
фашистскую партию, и резкая смена отношения до какой-
то степени обусловливалась давлением нацистов. Бронзо-
вый барельеф в Гетто Нуово (1980 год, работа литовского
художника Арбита Блатаса) установлен в память пример-
но двухсот членов общины, которых отвезли в Фоссоли,
рядом с Моденой, в конце 1943-го и в феврале 1944-го
переправили в лагеря уничтожения в Германию или
Польшу. Вернулись только восемь из них.
Сегодня евреи не составляют большинства населения
Гетто. Община невелика, и, как и население всего города,
ее составляют в основном пожилые люди, а молодежь ищет
работу и развлечения на материке. Несколько синагог (из
которых только две еще действуют) можно посетить с эк-
скурсией, на английском или итальянском языках. Экскур-
сионные группы собираются на первом этаже музея в Гет-
то Нуово.
Раньше у каждой группы евреев были свои синагоги.
Рядом с музеем, например, находится «немецкая» синаго-
га Скуола Гранде Тедеска (1528), которую использовали
евреи ашкенази, в основном из Германии и Франции. Все
224
Венеция: история города
три синагоги Гетто Нуово намеренно сделаны неприметны-
ми снаружи, но внутри они богато отделаны золотом и резь-
бой по дереву. Скуола Кантон (1531) — название, возмож-
но, означает «на углу» — обладает изящным интерьером
XVIII века. В более тихой и спокойной Скуоле Итальяна
(1575) есть светлая женская галерея, тоже XVIII века, ярко
контрастирующая с темным деревом нижней части поме-
щения. Синагоги в Гетто Веккьо снаружи выглядят инте-
реснее. Их строили довольно богатые сообщества в те вре-
мена, когда они чувствовали себя в большей безопасности
от внезапного нападения. Скуола Спаньола, где за музы-
кой следил и нередко проповедовал Леон да Модена, рас-
сматривалась как место встречи всей общины в целом. Ее
прекрасный интерьер в стиле барокко (1655) создал Бал-
дассаре Лонгена, известный создатель церкви Санта-Ма-
рия делла Салюте — евреям не разрешалось заниматься
искусствами или ремеслами. В расположенной поблизости
Скуоле Левантина, декорированной блестящим темным
ореховым деревом и темно-красными занавесями, находится
огромная, богато украшенная кафедра под балдахином
(bimah) работы Андреа Брустолона из Беллуно (1662—
1732). «Либо она привлечет вас своей чрезмерной ориги-
нальностью, либо оттолкнет чрезмерным количеством укра-
шений» — говорит о ней Роберта Кьюриел в самом под-
робном и всеобъемлющем путеводителе по Гетто (Роберта
Кьюриел и Дов Куперман «Венецианское Гетто»).
Экскурсия заканчивается все в том же музее, где есть
хорошая коллекция масляных ламп, подсвечников, фона-
риков для хануки, богато украшенных риммоним и брач-
ных контрактов. Один из первых мемориалов венециан-
ским евреям находится на еврейском кладбище на Лидо,
основанном в 1386 году. В числе прочих здесь похоронены
Модена, Луццатто и Салам. Их надгробия были найдены
Венеция религиозная
225
во время дорожных работ в 1920-м и установлены среди
других белых надгробий в окруженной стенами старой ча-
сти кладбища. От братской могилы жертв чумы сохранил-
ся только единственный камень с надписью «1631 Hebrei».
Вернувшись на канал Каннареджо (где, кстати, есть не-
сколько очень неплохих бакалейных и фруктовых лавок —
в основном со стороны Гетто), на месте его слияния с Боль-
шим каналом вы увидите палаццо Лабиа. Лабиа, богатая
купеческая семья испанского происхождения, купила себе
статус патрициев за 100 000 дукатов в 1646 году. Они жили
здесь, на кампо Сан-Джеремия, более века, но им понадо-
бился новый дворец, достаточно роскошный для обретенно-
го высокого положения. Андреа Коминелли закончил зда-
ние в 1696 году. Алессандро Треминьон произвел перестрой-
ку в середине XVIII века — в частности, обновил фасад,
выходящий на кампо. Но самым важным изменением стало
создание бального зала, который расписывали художник-
перспективист quadraturista Джероламо Мендоцци Колон-
на и великий мастер фресок Джамбаттиста Тьеполо. Мен-
доцци Колонна изобразил архитектурные детали, которые
имитировали реальные архитектурные элементы, продолжая
их и споря с ними, благодаря чему кажется, что Антоний и
Клеопатра Тьеполо находятся рядом с нами в комнате. Тье-
поло известны и другие способы играть с реальностью: Кле-
опатру он писал, возможно, с хозяйки дома, Марии Лабиа,
а чернокожий мальчик, сдерживающий собак при встрече
двух любовников, — скорее всего, слуга самого Тьеполо,
Селим. За пиром Клеопатры наблюдают сами художники —
Тьеполо, живой, с орлиным профилем, в синем тюрбане, и
Мендоцци Колонна рядом с ним, в более легком облачении
и с более полным лицом.
Клеопатра, пышно и ярко одетая, оживленная, золото-
волосая (совсем не похожая на более поздние представле-
8 - 6576
226
Венеция: история города
ния о ее внешности), только что спустилась со своей бар-
ки, чтобы встретить Антония. Плутарх и Шекспир, опи-
сывая прибытие барки, упоминают о том, что царица «за-
владела сердцем Марка Антония при первой же их встрече
на реке Кидне». По словам Плутарха,
...она убрала себя несметным количеством даров, золота
и серебра, и богатств и других роскошных украшений, и
вполне достойно доверия, что она могла привезти их из
такого богатого края, как Египет. Но все-таки ничему
из того, что она взяла с собой, она не доверяла больше,
чем себе самой, своему обаянию и очарованию своей не-
превзойденной красоты и стати.
Ее свита тянется за ней — спутники в разноцветных
тюрбанах и египетские жрецы в тяжелых одеждах, а слева,
за одной из дверей комнаты, стоят ее прислужницы, Хар-
миана и Ира. Антоний в доспехах, уже пойманный в сети
страсти, ведет ее к лестнице, которая будто спускается в
саму комнату.
Овладевать его сердцем Клеопатра продолжает на фрес-
ке, изображающей пир. Эту историю описал Плиний Стар-
ший в своей энциклопедической «Естественной истории».
Он утверждает, что Клеопатре принадлежали две крупней-
шие в истории жемчужины. Однажды в беседе с Антони-
ем Клеопатра весьма нелестно отозвалась о тех великолеп-
ных пирах, которые он задавал в ее честь. Антоний поин-
тересовался, как ему следует поступить, чтобы произвести
впечатление на свою требовательную гостью. Клеопатра
ответила, что сама она могла бы истратить десять милли-
онов сестерций на одно пиршество. Они поспорили. На
следующий день ее свита устроила совершенно «обычный»
пир. Но затем царица приказала принести бокал уксуса,
Венеция религиозная 227
бросила туда одну из своих знаменитых жемчужин, кото-
рые носила в ушах, и подождала, пока жемчужина раство-
рится — в действительности, конечно, она не могла раство-
риться, но ошибка Плиния очень пригодилась художникам
и рассказчикам — и осушила кубок, проявив тем самым
невероятную расточительность. (Подобный жест особен-
но понравился бы покровителям Тьеполо. Говорят, что один
из лордов Лабиа после банкета собственноручно выбросил
из окна в канал сорок золотых тарелок и произнес такой
каламбур: «L’abia о non 1’abia, sard sempre Labia» — «Есть
у меня это или нет, я все равно всегда останусь Лабиа». Но
в отличие от безрассудной египетской царицы, он, по слу-
хам, предварительно приказал натянуть сети чуть ниже
уровня воды, чтобы достать посуду после того, как пора-
зит гостей.) Далее Плиний рассказывает, что Луций Планк,
выступавший судьей в этом споре, не дал Клеопатре вы-
пить вторую жемчужину и присудил поражение Антонию:
тот был побежден, как не устают заявлять моралисты и
провозглашать романтики, «из любви к любви и ее сладост-
ным часам».
На фреске, написанной скорее с романтической, чем с
моралистской точки зрения, все, кроме музыкантов и их
вооруженного очками дирижера, играющих застольную
музыку на галерее, с ожиданием смотрят на царицу, кото-
рая держит жемчужину в одной руке, а в другой — бокал
чрезвычайно крепкого уксуса. Отношения между ней и Ан-
тонием уже сложились. Она не только сменила белое пла-
тье на розовое, но и обнажила, как и большинство Клео-
патр, грудь. (Однако общее впечатление она производит
не столько эротическое, сколько смелое, лучше всего его
можно передать итальянским словом bravura.) Антоний
смотрит на нее, его глаза сияют, выглядит он несколько
ошеломленным, но при этом полным восхищения. Как и на
8*
228
Венеция: история города
предыдущем банкете, где сама пища отошла на второй план,
он «сердцем заплатил за все, что пожирал он там глазами».
Обстановка палаццо Лабиа и предметы обихода в ос-
новном разошлись по разным владельцам в начале XIX ве-
ка. Но бальный зал и его фрески дожили до того момента,
когда нашелся состоятельный человек, готовый профинан-
сировать реставрацию: в 1948 году здание купил Карлос
де Бейстеги, нефтяной магнат из Мексики. В 1951-м он
устроил потрясающий бал-маскарад, который вполне мог
бы понравиться Антонию и Клеопатре и очень понравился
гостям — например, леди Диане Купер, одетой в костюм
Клеопатры с фресок. Тьеполо тоже был бы доволен: гра-
ницы между реальностью и иллюзией снова оказались раз-
мыты. Хотя даже Бейстеги не хватило средств, чтобы ра-
створять жемчуг в вине или выбрасывать в канал золотую
посуду. В 1963 году он продал дворец итальянской радио-
и телекомпании RAI, чье региональное представительство
до сих пор располагается здесь. Из-за этого посетителей
допускают к фрескам только ненадолго, со среды по пят-
ницу с 15 до 16 часов, и о визите нужно договориться зара-
нее по телефону (041) 524-28-12. Удачная реставрация
фресок началась в 1965 году.
Глава седьмая
Островная Венеция:
кладбища, монастыри
В Венецианской лагуне разбросано множество плоских
зеленых островов самого разного размера, соединенных
каналами, проложенными между глинистыми отмелями.
Джудекка по сути пригород Венеции, и даже на Бурано,
несмотря на его рынки кружев и ярко раскрашенные доми-
ки, которые делают его похожим на открытку, проживает
более 5000 человек. Венецианские острова разительно от-
личаются друг от друга: плодородные Ле Виньоль и Сант-
Эразмо к северу от Лидо, изобилующие садами; зеленый
сосед Бурано — Маццорбо; пустынный Сан-Джорджо-
ин-Альга — «Святой Георгий в водорослях» совсем ря-
дом с Джудеккой; Сант-Ариано в северной части лагу-
ны — заброшенное хранилище городских мертвецов; Сан-
Франческо дель Дезерто, к югу от Бурано, с его тихим
францисканским монастырем, церковью и садами, где в
1950-м году Ян Моррис услышал только
...колокола, поющие мужские голоса, серьезный разго-
вор, певчих птиц, вопли павлинов, кряканье уток и ку-
230
Венеция: история города
дахтанье кур, и иногда низкий недовольный рев жую-
щих жвачку коров в коровнике, как крик пресыщенной
элизием души.
Сан-Микеле
Издалека Сан-Микеле производит впечатление целост-
ности и спокойствия: за коричневыми стенами не видно
ничего, кроме сплошной стены кипарисов. Остров мерт-
вых и должен быть местом мистическим. Когда я прибли-
жаюсь к нему, в голове моей звучит весьма торжественная
музыка. Собственно, это «Остров мертвых» Рахманино-
ва. Внутри, особенно в современных частях кладбища,
смерть воспринимается как факт, она реальна и не облаго-
рожена мифами.
Православное кладбище, окруженное стенами и частично
усаженное деревьями, — не такое тревожно просторное и
переполненное, как католическая часть. Здесь есть две
простые могилы, на которых написано только «Игорь Стра-
винский» и «Вера Стравинская», и стоит крест. Непода-
леку находится могила Сергея Дягилева, и поклонники до
сих пор приносят к ней пуанты. (Основатель «Русского
балета» умер во время своего визита в Венецию в 1929 го-
ду.) Покоятся здесь и русские княгини-эмигрантки, напри-
мер «Княгиня К. Трубецкая, урожденная Мусина-Пуш-
кина». Летом здесь тихо, только шуршат в траве ящерицы.
На евангелистском, или протестантском кладбище могил
больше — там похоронены немцы, англичане, американ-
цы, французы, несколько итальянцев-протестантов и дру-
гие, — но состояние могил удручающее. Несколько над-
гробий разбиты, покосились или надписи невозможно про-
читать, повсюду царит дух запустения. Когда вы попадаете
232
Венеция: история города
за эти стены, Венеция прекрасных вод и кампанил исчеза-
ет, вас окружает атмосфера, составляющая яркий контраст
с зеленеющим и тщательно ухоженным католическим клад-
бищем.
Здесь похоронены несколько знаменитостей: Эзра Па-
унд, умерший в Венеции в 1972 году, в тишине и грусти
проведя свои последние дни в городе, где он жил, обурева-
емый идеями и надеждами, с 1908 года; поэт и эссеист
Иосиф Бродский (1940—1996); родившийся в Венеции
композитор Эрманно Вольф-Феррари (1876—1948) и не-
сколько членов его семьи. Камни, поставленные в память о
менее известных людях, позволяют окинуть взглядом ме-
няющееся сообщество эмигрантов и путешественников,
молодых и старых. Справа от входа лежит Сибил Мит-
форд, жена Уильяма Генри Мейсона, родилась 24 ноября
1860 года, вышла замуж 13 октября 1985 года, умерла 17 но-
ября 1985 года. Дальше — швейцарский посол «Giovanni
Keller, morto a solo 29 anni in 1923». (Но в этой части Сан-
Микеле совсем молодых мало, потому что влажный вене-
цианский воздух был противопоказан людям болезненным.)
Уильям Дринкуотер, «командир парохода “Тарифа” ком-
пании “Кунард”» умер в Венеции в августе 1872 года в
возрасте 43 лет. Юджин Шуйлер, генеральный консул
США в Египте, умер в Венеции в 1890 году, через три
года после Джоанны, «старшей дочери Генри Брэдшоу
Фирона, родом из ФрогналХэмпстед, Лондон, умершей...
на 68-м году жизни в день возвращения в Англию» и по-
хороненной у стены, под пальмой. Внезапная смерть при-
вела сюда Сару Маклин Дрейк и ее дочь Джанет Дрейк,
«погибших во время крушения парохода около Лидо,
19 марта 1914 года».
Церковь Сан-Микеле-ин-Изола, со спокойным белым
фасадом из истрийского камня, сохранилась с более ранне-
Островная Венеция
233
го периода: ее построил Мауро Кодучччи в 1469—1477 го-
дах. Здесь есть и еще одна простая, но очень важная моги-
ла, обозначенная мраморной плитой перед главным входом:
здесь покоится фра Паоло Сарпи, защитник Венеции про-
тив папского интердикта 1606 года.
Мурано
В XVI веке на Мурано проживало 50 000 человек, сей-
час — 9000. Он славился своими семнадцатью церквями
(осталась буквально несколько), дворцами, садами. В эпоху
Возрождения этот зеленый остров стал любимым местом
отдыха богатых венецианцев и, как говорили, интеллектуа-
лов, которым нужно было где-то гулять, чтобы обдумывать
свои идеи. Подобного благосостояния и популярности ост-
ров достиг благодаря тому, что после серии бушевавших в
Венеции пожаров сюда перенесли всю венецианскую сте-
кольную индустрию. Несколько столетий стекольщикам,
которые собирали и хранили все самые ценные профессио-
нальные секреты, запрещено было покидать Мурано. Но
остров при этом получил особый статус. У него, например,
был свой подеста (мэр) и своя «Золотая книга», в которую
золотом вносили имена правящей знати, точно так же, как
и в большой Венеции. Однако постепенно местная индуст-
рия пришла в упадок, не справившись с конкуренцией (стек-
лом «в венецианском стиле» из других краев) и перемен-
чивостью моды, и благосостояние тоже растаяло как дым,
чтобы возродится уже в XIX веке.
Мурано и сегодня кажется маленькой, но достаточно
важной и заметной Венецией. Каналов здесь не очень-то
много, но зато слишком много магазинов муранского стек-
ла самого разного качества. Впрочем, из района их скопле-
ния довольно быстро можно выбраться пешком. Если вы
234
Венеция: история города
пройдете по Фондамента Веньер от центра, сверните, на-
пример, направо вдоль калле дель Чимитеро. Она ведет к
кампо дель Чимитеро, где вдоль дорожки, ведущей к не-
большой лужайке, растут платаны. За лужайкой находит-
ся кладбище, густо заросшее соснами.
В период упадка в XVIII и XIX веках много прекрасных
зданий было утрачено, но этот район определенно не обез-
людел. Производство стекла никогда полностью не затиха-
ло. Даже большой любитель точности Джон Рескин в «Кам-
нях Венеции» (1851—1853) готов стерпеть «облако, что ко-
лышется над стекольными печами Мурано», усматривая в
нем «один из последних признаков человеческого труда по-
среди разрушенных селений, окружающих нас».
Базилика Санти-Мария-э-Донато всегда была самми
заметным зданием на Мурано. Рядом с ее кампанилой ког-
да-то стоял средневековый палаццо дель Коммуне — центр
частично автономного управления острова. Дворец был
разрушен в 1815 году. У подножия кампанилы теперь рас-
положен военный мемориал 1927 года муранского скульп-
тора Наполеоне Мартинуцци. Монумент хоть и не всем
приходится по вкусу, но прекрасно гармонирует с общей
умиротворенностью этого места, с мрамором и кирпичом
всей остальной площади, а летом его очень украшают цве-
тущие олеандры.
Интерьер базилики поначалу может показаться не слиш-
ком интересным по сравнению с роскошным убранством ба-
зилики Сан-Марко или собора Торчелло. Одна из причин
этого заключается в том, что церковь используется в основ-
ном для повседневных служб. Хью Онору она напоминала
«чудесное лоскутное одеяло, сшитое из обрывков разных
веков, памятник неистощимому благочестию местного насе-
ления». Перед алтарем сияет венето-византийская Богома-
терь, а по обе стороны от него с изящными жестами замерли
Островная Венеция
235
святые Лоренцо Джустиниан и Феодор (XVIII век). Рес-
таврации проходили здесь много раз. Реставрация 1858—
1873 годов так жестоко обошлась с наружной отделкой зда-
ния, что Онору оно показалось «уродливой помесью XII и
XIX веков». На одной из колонн нефа установлена памят-
ная табличка в честь тех, на ком лежит ответственность за
это: кардинал-патриарх, архитекторы и государственные
чиновники, вероятно, надеялись, что их будут вспоминать с
большей благодарностью. Более вдумчивая и осмысленная
реставрация продолжалась весь XX век, особенно успешно
в 1970-х. Тогда фасад стал выглядеть менее нелепо.
Но если смотреть достаточно долго на стоящую в апси-
де Святую Деву XII века, перестаешь замечать следы мо-
дернизации. Это высокая, стройная фигура, одетая в тем-
но-синие одежды, руки она молитвенно сложила перед со-
бой, в целом от нее остается ощущение простоты, чего не
скажешь о Мадонне из собора Торчелло, той, что держит
на руках Иисуса. По краю ее одежды идет золотая кайма,
а стоит она на золотом основании, стороны которого окра-
шены в красный и зеленый цвета. «Спокойная печаль, —
236
Венеция: история города
сказал граф Кроуфорда и Бэлкаррса в ‘"Заметках по исто-
рии христианского искусства” (1847), — пребывает в каж-
дой ее черте, самый дух “Stabat Mater” пронизывает это
трогательное изображение, ее молчаливому взгляду, ищу-
щему сочувствия, невозможно противиться. Лицо ее не
назовешь прекрасным, но оно выразительно и исполнено
благородства».
Другие элементы указывают на почтенный возраст церк-
ви. Капители некоторых колонн в нефе — поздней рим-
ской работы. Напольная мозаика, выложенная в 1142-м
(как сообщает латинская надпись на медальоне в централь-
ной части нефа) или вскоре после этого, завораживает, она
сравнима даже с мозаикой Сан-Марко того же периода.
Если рассматривать узор с некоторого расстояния, взгляд
притягивают крупные его элементы, и прежде всего два
больших круга у входа. Подойдя ближе, замечаешь неве-
роятное множество мелких деталей. Вот павлины пьют из
вазы (они стали символом воскресения из мертвых, так как
считается, что плоть их не гниет). Вот какие-то другие пти-
цы, их головы перетекают одна в другую, и волны, образу-
емые ими, снова превращаются в птиц с хохолками, если
посмотреть на них под правильным углом. А еще рыбы,
растения, шахматные доски, геометрические узоры. Моза-
ики окружены opus sectile (узором из узких и длинных по-
лосок цветного мрамора), и их цвета контрастируют или
дополняют друг друга. Основные цвета: темно-красный и
зеленый, желто-коричневый, серый, черно-белый, бледно-
зеленый и голубой.
Через мост от базилики Санти-Мария-э-Донато нахо-
дится «Остериа аль Дуомо». Здесь вас ждут хорошие сэнд-
вичи по приемлемым ценам, салаты, белое вино, мороже-
ное. Все это можно отведать за каменными столами в ти-
хом тенистом саду.
Островная Венеция
237
Подкрепившись таким образом, следует направить свои
стопы в Музей стекла (Музео Ветрарио). Именно здесь, а
не в демонстрационных мастерских и магазинах стеклоду-
вов, можно оценить разнообразие и притягательность му-
райского и другого стекла начиная с самых ранних, скорее
функциональных предметов и заканчивая тонким и необыч-
ным стеклом XX века. Просторный музей находится во
дворце XV века, обновленном семьей Джустиниани в
XVII веке. С тех самых пор в главном его зале сохранилась
фреска, изображающая триумф семейного святого, Лорен-
цо Джустиниани. Позже во дворце разместили муниципа-
литет. Коллекция была основана в 1861 году в рамках гло-
бального исторического исследования. Скоро у нее появи-
лись и дополнительные, более практические функции — она
стала служить наглядным пособием для студентов школы
дизайна стекла, созданной на Мурано в 1862 году. Десять
лет спустя, в соответствии с характерным для того периода
духом соперничества, на Бурано основали школу плетения
кружев, чтобы возродить уже свое традиционное ремесло.
Среди самых интересных экспонатов — кубки и чаши
работы Анджело Баровьера (1405—1460), человека ши-
роких интеллектуальных и научных интересов и возмож-
ного изобретателя венецианского cristallo — прозрачного
хрусталя, при изготовлении которого важно было правиль-
но использовать кальцинированную соду на стадии плав-
ления. Стоит обратить внимание и на cesedella, висячую
масляную лампу эпохи Возрождения. На ней эмалью изоб-
ражен герб семьи Барбариго: на синем фоне, на белом щите
с золотой каймой — нечто среднее между дожеским корно
и ночным колпаком Скруджа. Взгляните и на филигран-
ные, в яркую полоску, мутовчатые бутылки работы Пьет-
ро Бигалья 1842—1845 годов. Позже, в XIX веке часто
копировались ранние муранские образцы, в точности или с
238
Венеция: история города
изменениями, и в процессе нередко заново открывали ста-
рые методики. Производили и изделия, более приспособ-
ленные для современной жизни. Например, братья Тозо,
открывшие мастерскую в 1854-м и специализировавшиеся
на работах исторического характера, создали большую
скульптуру, украшенную толстыми синими гусями. В му-
зее, в таком блестящем окружении, она вызывает интерес,
любопытство, ее даже можно назвать очаровательной, но
вряд ли чей-либо взгляд остановился бы на ней в любой
другой части переполненного стеклом Мурано.
Большая часть экспонатов некогда вышла из стеклодув-
ных печей Мурано. Они интересны и с технической точки
зрения, и эстетически, но были случаи, когда они помогали
людям достичь откровения в материях более высоких.
Джеймс Хоуэлл, англичанин XVII века, цеховой староста
стеклодувов Лондона, как-то рассказывал о положении дел
в этой области в Венеции и не забыл упомянуть, что, по
местным поверьям, «первая красивая женщина была сде-
лана из венецианского стекла» — прекрасная, но хрупкая.
«Сказать, не соврать, — со смешком отмечает он, — это-
го добра в Венеции в достатке, больше нигде не найдешь
столько бьющихся вещиц и столько штучек, любящих по-
ломаться». Но он продолжает:
Когда я вглядывался в материалы и рассматривал
печи, кальцинацию, транссубстантивацию и плавление,
что присущи искусству стеклодува, мысли навели меня
на более высокие размышления. Если небольшой огонь
печи имеет силу превратить горстку темной пыли и пес-
ка в такой ценный, чистый и прозрачный предмет, как
хрусталь, то уж вселенский огонь, что разгорится на
Земле в Судный день, наверняка расплавит своим жес-
токим пламенем всю нашу землю, очистит ее и превра-
тит в один огромный кусок хрусталя.
Островная Венеция
239
Торчелло
Только узкая полоска воды отделяет Торчелло от ярких
цветных домов Бурано и фруктовых садов и виноградни-
ков соседнего Маццорбо, но он коренным образом отлича-
ется от последних и внешним видом и общим настроением.
Некогда, в раннем Средневековье, он был влиятельным
центром, застроенным жилищами, башнями, церквями и
рынками, населенным 20 000 своих обитателей и изобилу-
ющим овцами. Но уже давно превратился практически в
пустую деревеньку в нескольких минутах спокойной ходь-
бы от остановки вапоретто. Здесь осталось всего несколь-
ко зданий, представляющих историческую ценность: собор
Санта-Мария Ассуната, его кампанила, руины баптисте-
рия (снесенного в 1892-м), церковь Санта-Фоска и музеи
в бывших палаццо дель Консильо и дель Аркивио. Еще
яснее подчеркивая общий упадок, на поросшей травой пьяц-
це между двумя дворцами возвышается сильно пострадав-
ший от воды и ветра «Трон Аттилы». Глядя на него, едва
ли кто-нибудь станет теперь вспоминать о великом гунне.
Между остановкой вапоретто и этими зданиями есть не-
сколько довольно дорогих ресторанчиков, самый извест-
ный из них — «Локанда Чиприани». Сейчас на острове
живет несколько десятков человек.
В «Камнях Венеции» Джон Рескин описывает вид с
кампанилы ближе к вечеру: «Насколько хватает глаз —
пустынные, дикие просторы соленых болот мертвенного
пепельно-серого цвета... безжизненная, цвета мешковины,
мутная морская вода пропитывает убогую растительность,
здесь и там в ней, поблескивая, змеятся каналы». Далеко
на горизонте он заметил голубоватую полоску суши, а за
ней «туманную череду гор», Адриатику и «раскрывающи-
еся рукава широкой лагуны, где смешиваются пурпурный
240
Венеция: история города
и бледно-зеленый, когда в воде отражаются вечерние тучи
или догорающий закат». И там же, на юге, «длинная изло-
манная линия» башен и дворцов Венеции: «Мать и дочь
вместе предстают перед вами в своем вдовстве — Торчел-
ло и Венеция». Но когда-то никакой Венеции и в помине
не было — и Рескин потащил своих читателей на башню
именно для того, чтобы сообщить об этом: на горизонте
«виднелись странные огни, смешавшиеся с пламенем зака-
та, и горестные стоны множества человеческих голосов сли-
вались с недовольным гулом волн у песчаного берега. Языки
пламени вскинулись над руинами Алтинума, и раздались
вопли множества его жителей, ищущих, как некогда народ
Израиля, спасенья от меча в пучине морской».
Рескин представляет, как беглецы в спешке строили свой
собор. Его «массивные каменные ставни1 делают здание
похожим на убежище от альпийской снежной бури, а не на
собор густонаселенного города». Строители создали цер-
ковь, в которую проникало необычно много света: «доста-
точно они натерпелись страха и уныния, им незачем было
создавать еще и их материальное воплощение». (В тот пе-
риод своей жизни Рескин с подозрением относился к сум-
раку римской католической церкви, реальному и метафо-
рическому.) На самом деле, конечно, строительство шло
постепенно. Первый собор был основан в 639 году, а в
1008-м его полностью перестроили. Но создавая захваты-
вающий миф, Рескин преследовал вполне определенную
цель. Ему хотелось показать нам Венецию в ее древней
мощи, идеальный город мореходов, свободных граждан,
безупречных деятелей ранней Церкви, которые (опять-
таки, как добрые протестанты) «искали в своей религии
1 Ставни сохранились с XI века на южной стене. — Примеч.
автора.
Островная Венеция
241
утешения, отчетливых, осязаемых надежд и обещаний, а
не угроз и мистики». В этом простом убежище, похожем
на корабль, в этом ковчеге и таился истинный, изначаль-
ный дух Венеции. Чтобы «понять, что за дух витал над ее
водами, когда Венеция начинала путь к своему величию»,
приезжий должен думать не о богатстве, арсеналах, «пус-
том блеске ее дворцов» и «секретах ее Совета», напротив,
ему следует
...подняться на самую высокую из суровых галерей, что
окружают алтарь Торчелло, а затем глазами рулевого
из прошлого взглянуть на мраморные шпангоуты этого
прекрасного собора-корабля. Пусть он мысленно напол-
нит пеструю палубу тенями его мертвых моряков и по-
старается сам почувствовать жар сердец, пылавших в их
груди, когда его колонны только установили на песке, а
крыша защитила новых прихожан от ненастного неба,
все еще алеющего пожарами их домов. Впервые, под
сенью резных стен, посреди бормотания волн на пустын-
ном берегу и шума крыльев морских птиц, облетавших
незнакомую скалу, — впервые вознесся к небу древний
гимн силой их слитых воедино голосов:
Море принадлежит Ему, ибо Он его создал,
И руки Его подготовили эту твердь.
В самом соборе облик восточной его части определяет
вытянутая венето-византийская фигура Святой Девы, дер-
жащей на руках младенца-Христа. Она стоит в своем синем
одеянии на фоне ничем не украшенного золотого простран-
ства — золотого неба, частью которого становится ее нимб.
Это не милая юная Мадонна с более поздних картин, но и не
суровый образ икон. «Неземная фигура, — называет ее
242
Венеция: история города
Онор, — в ней соединяются достоинство и почти интимная
мягкость». Для Яна Морриса она невыносимо печальна и
«смотрит на пришедших с выражением вечного упрека, ле-
леет свое дитя, будто предвидит все, что ему предстоит, и
каждого из нас считает ответственным за это».
Золото и синева апсиды контрастируют с более бледны-
ми цветами остальной части церкви: белым и серым цветом
панелей каменного византийского иконостаса (барельеф
XI века с павлинами и львами), колонн и их коринфских ка-
пителей (отчасти — античных). Напольная мозаика добав-
ляет немного света, но в целом она строже, сдержаннее мо-
заик в базиликах Санти-Мария-э-Донато и Сан-Марко, и
перемежается с большими плитами греческого мрамора.
На наружной арке апсиды, над Святой Девой, высокие
фигуры архангела Гавриила и Марии представляют сцену
Благовещения. Позволив взгляду скользнуть немного ниже,
вы обнаруживаете намек на то, что последует за этой сце-
ной: мозаичное изображение Богоматери с Сыном. Ниже
расположены мозаичные апостолы и зримые напоминания
об основанной ими церкви: ранние, довольно потертые
кирпичные скамьи для духовенства и епископский престол,
алтарь, а под ним останки одного из новых святых в золотой
маске, святого Гелиодора, епископа Алтинума. Благовеще-
ние логически предшествует всему этому и тем не менее как
визуально, так и теологически они существуют параллель-
но, одновременно. Сколько бы времени ни проходило,
Мария остается будущей Богоматерью, получающей бла-
гую весть, Иисус — благословляющим младенцем и одно-
временно взрослым, умирающим и восстающим, а церковь
и ее апостолы и святые повторяют все то же послание и
стремятся к тому же божественному безвременью.
Но что касается линейного времени, мы переходим в
противоположный конец церкви, к большой мозаике
Островная Венеция
243
Страшного суда, окончания человеческого времени. И хотя
содержание ее традиционно и некоторые фигуры — чопор-
но иератические, от нее исходит ощущение энергии и силы,
чему способствуют красноречивые жесты персонажей,
изображенных на мозаике. Их руки хватают, провозгла-
шают, указывают, умоляют, потрясают копьями и труба-
ми, сжимают кресты, приветствуют и молятся. Современ-
ному взгляду (и шее) нелегко рассмотреть эту огромную
сцену во всех подробностях, но внимание будет вознаграж-
дено. Иконографическая схема разработана с неожидан-
ной логичностью и точностью. Вверху, на тимпане, распо-
ложено распятие, и в первую очередь взгляд устремляется
именно к нему. Затем, продвигаясь вниз, мы видим Вос-
кресение. В этой сцене закономерно крупная фигура Хри-
ста победно повергает в прах врата Ада. У его ног, среди
ключей и разбитых замков лежит Сатана. Христос пришел
освободить Адама (белобородого старца, которого он хва-
тает за запястье), Еву и остальных, включая царя Соломо-
на и Давида (оживленно жестикулирующая пара слева в
богатых одеждах и драгоценных украшениях). Небольшая
вставка пониже королей изображает души некрещеных,
томящихся в лимбе в ожидании освобождения. Они же
изображены справа, ниже патриархов древности, рядом с
Иоанном Крестителем, провозглашающим победу Христа
и исполнение его пророчеств и Ветхого Завета. Все это про-
исходит между двумя властными фигурами, архангелами
Михаилом и Гавриилом. («Архангелы, великолепные и
внушающие ужас, похожие на древних ацтеков», — гово-
рит Онор.)
Мы переводим взгляд еще ниже и на следующем регист-
ре видим Христа, готового объявить начало Страшного
суда. По сторонам от него — Богоматерь и Креститель,
богато украшенные архангелы и апостолы (им больше все-
244
Венеция: история города
го не повезло при реставрации). У ног его огненная река
течет к проклятым, изображенным двумя регистрами ниже.
Непосредственно под ним, по обеим сторонам реки, нахо-
дятся огненные колеса и ангелы из видения пророка Иезе-
кииля. На следующем уровне тоже готовятся к Страшно-
му суду. На задрапированном черным троне лежит Книга
судеб. Слева и справа — самые живые сцены на этой кар-
тине. Слева — два ангела на бегу дуют в трубы, при звуке
которых дикие звери — лев, слон, гиена, леопард, волк и
гриф — отпускают своих жертв. Из пасти гиены появля-
ется рука, из волчьей — голова, и так далее. Мертвые, чьи
тела не были растерзаны, поднимаются из своих могил,
расположенных чуть выше животных. А в это время спра-
ва, еще больше удивляя современного зрителя, ангел раз-
ворачивает звездное небо у края мира, пока двое других
повелевают морским гадам выплевывать свои жертвы.
И в результате мы оказываемся на нижних уровнях, за-
полненных спасенными и проклятыми. (В центре, над Свя-
той Девой, взвешивают добрые и злые дела, и зловеще хо-
рошо вооруженные черти таскают грехи мешками.) Сле-
ва — рай. Здесь праведные оказываются на том же золо-
том фоне, что и Христос и его ангелы; нечестивые, которым
золотой фон не полагается, попадают в огонь, в воду или во
тьму. Представлены упорядоченные группы епископов,
мучеников, монахов и добродетельных женщин. Ниже гото-
вятся их встречать праотец Авраам, Святая Дева и Крести-
тель. Они ждут у ворот Рая — контрастирующих с разби-
тыми воротами Ада — и вместе с ними стоит святой Петр
со своими ключами. А справа все объято пламенем. Там ока-
зались подверженные греху гордыни, среди которых мож-
но различить королей, королев и церковников. У всех мо-
нархов отчетливо византийские короны и серьги. Возмож-
но, это определялось иконографической традицией, а во-
Островная Венеция
245
все не желанием подчеркнуть независимость лагуны, но,
пожалуй, иногда бывает полезно увидеть в бушующем огне
людей, носящих те же головные уборы, что и император
Юстиниан и императрица Теодора на мозаике в церкви
Сан-Витале в Равенне. Сатана в облике синего белоборо-
дого старика восседает на двухголовом драконе. У него на
коленях сидит Антихрист. Ниже страдают сластолюбцы,
чревоугодники и подверженные греху гордыни, гневливые
(погруженные в воду, чтобы остудить их гнев), завистни-
ки, алчные (в огне их серьги и драгоценности им ни к чему)
и ленивые (от которых остались только черепа и кости).
Фреска с изображением сцен Страшного суда обрамляет
дверь, через которую паства покинет собор. Несомненно,
предполагается, что, выходя из храма, люди поднимут глаза
и еще раз рассмотрят грозящие им мучения и (менее убеди-
тельные) обещанные награды. Следует надеяться, они най-
дут утешение у Святой Девы, стоящей над самыми дверьми
и поднявшей руки в молитве об отпущении их грехов.
Сан-Джорджо и Джудекка
Церковь и бывший монастырь Сан-Джорджо Маджо-
ре, как заметил Томас Кориэт, «расположены на прелест-
нейшем островке примерно в полумиле к югу от площади
Святого Марка... Это роскошное место, прекраснейший и
богатейший из монастырей во всей Венеции, у него не ме-
нее шестидесяти тысяч крон годового дохода, что равняет-
ся восемнадцати тысячам фунтов стерлингов». Среди зри-
мых свидетельств богатства бенедиктинцев — «очень
красивое здание монастыря, окруженное чудесным зеленым
четырехугольником» сада, «полного самых разных лакомых
фруктов», и в трапезной великолепная картина «непревзой-
денной ширины и длины, изображающая Христа, сидяще-
246
Венеция: история города
го за столом на свадьбе в Кане в Галилее». Размеры кар-
тины и тот факт, что она была одним из шедевров Вероне-
зе, обеспечили ей внимание наполеоновских комиссионе-
ров, которым было приказано повсюду конфисковывать
произведения искусства. Так картина оказалась в Лувре,
где хранится и по сию пору. Сам монастырь французы за-
крыли в 1806-м и превратили в бараки. В конце концов, в
1951—1956 годах здание восстановил граф Витторио Чини,
и теперь там находится Фонд Джорджо Чини, культур-
ный центр, названный в честь сына графа, погибшего в авиа-
катастрофе в 1949 году. Церковь, возведенная на месте
старого здания между 1565 и 1610 годами, тоже была за-
крыта в 1806-м, но два года спустя ее снова открыли. Пост-
роенный по проекту Андреа Палладио храм украшает вид
с Пьяццетты и от Дворца дожей и позволяет любоваться с
Кампанилы (перестроенной в 1791 году, и теперь оборудо-
ванной лифтом) одним из самых волнующих и всеобъем-
лющих видов Венции и лагуны. А недостатки фасада церкви
Сан-Джорджо Маджоре, выполненного Симоне Сорелла
вопреки более гармоничному проекту Палладио, с легко-
стью компенсирует его великолепное расположение. (Пал-
ладио хотел, чтобы как в церквях Сан-Франческо делла
Винья и в Иль Реденторе, основания пилястров, приделов
и колонн портика находились на одном уровне).
Кориэт осмотрел церковь, тщательно скопировал для сво-
их читателей длинные латинские надписи, вроде надписи на
северном трансепте, описывающей историю костей Перво-
мученика, или первого мученика святого Стефана, приобре-
тенных церковью, которая стояла на этом же месте в XII веке.
Побивание Стефана камнями иллюстрирует картина, воз-
можно, принадлежащая — по крайней мере, частично —
кисти Тинторетто, чьи более поздние «Тайная Вечеря» и
«Манна Небесная» висят в святая святых. В 1780-м Уиль-
Островная Венеция
247
ям Бекфорд, богатый и во всем стремившийся к утонченно-
сти путешественник, иначе представлял себе удовольствие
от посещения церкви. Он «раздобыл гондолу» и «запасся
виноградом» с торговых плотов и барж на Большом канале,
его отвезли к Санта-Мария делла Салюте, и под ее куполом
он какое-то время «наслаждался одиночеством». Затем «пе-
ренесся по волнам к красивой пристани перед Сан-Джорд-
жо Маджоре, одной из самых прославленных работ Палла-
дио». И там, где более торопливые или менее утонченные
приезжие могли пройти прямиком в церковь, Бекфорд по-
дождал, пока «первый порыв радости» стихнет, и лишь тог-
да позволил себе созерцать здание. Изучив «изысканную
композицию каждого отдельного украшения», чтобы объе-
динить «точно рассчитанные пропорции и возвышенный об-
щий эффект в единое целое у себя в голове», он «установил
свой зонтик у границы моря и неторопливо созерцал длин-
ную череду дворцов, портиков, башен, открытых взгляду со
всех сторон и простирающихся далеко за горизонт...»
Окинуть одним взглядом эти величественные соору-
жения, оставившие такой яркий след в истории прошед-
ших веков, дворцы и храмы, перед которыми в дни про-
цветания республики так много доблестных вождей и
князей ступали на берег, принося богатую добычу с во-
стока, — этого зрелища давно и пылко желала душа.
248
Венеция: история города
На острове только «пожилые поклонники старины, едва
передвигая ноги, стремились к предмету своего поклоне-
ния», «гул и суета города» остались далеко, «и так я ел
виноград, читал Метастазио1, и никто не досаждал мне ни
любезностью, ни любопытством». И только когда солнце
стало сильно припекать, он наконец вошел — вероятно,
изящной, размеренной походкой — в просторный неф.
Здесь он полюбовался «мастерской конструкцией крыши»
(«сводчатой и пустой, как ореховая скорлупка», заметил
Кориэт) «и легкостью ее арок». Затем его «взгляд есте-
ственно перешел на пол, мощеный белым и красным мра-
мором, отполированный и отражавший, как зеркало, ухо-
дящие вверх колонны».
Палладио в свое время надеялся перестроить центр Ве-
неции, но его проекты были отвергнуты консервативным
большинством патрициев. И вместо этого он работал на окра-
инах города, включая остров Сан-Джорджо и отделенный
от него узким каналом большой остров Джудекка. Покинув
пределы Сан-Джорджо, Бекфорд, «исполненный пророчеств
и предчувствий», вернулся в свою гондолу и «прибыл, сам
не знаю как, к подножью лестницы, что ведет к церкви Иль
Реденторе». Не будь он настолько погружен в себя, про-
плывая вдоль Джудекки, он мог бы заметить еще одну цер-
ковь, спроектированную Палладио. Церковь Санта-Мария
делла Презентацьоне обычно называют Ле Дзителле
(«Девы», из-за девушек, которых обучали плетению кру-
жев в примыкающей богадельне, основанной в 1561 году).
Эта убедительная и простая, увенчанная куполом церковь,
выполненная отчасти в римском стиле, теперь стала конфе-
ренц-центром, открытым для широкой публики только во
время воскресной мессы. Палладио спроектировал ее при-
1 Итальянский лирический поэт. — Примеч. автора.
Островная Венеция
249
мерно в 1570-м, но построил ее Джакопо Боццетто, через
несколько лет после его смерти в 1580 году. В последние
годы жизни Палладио работал над более эффектным проек-
том церкви Христа Спасителя (Иль Реденторе), одного из
самых убедительно классических зданий в Венеции (завер-
шен в 1592 -м). Как с некоторым преувеличением говорит
Бекфорд, «строение такое простое и изящное, что мне пока-
залось, я вхожу в античный храм, и я огляделся в поисках
статуи дельфийского бога или другого милосердного боже-
ства». Но досадным признаком того, что церковь все-таки
христианская, маячило впереди огромное бронзовое распя-
тие, «фигуры унылых мучеников подглядывали из ниш», да
«колыхались перед алтарем растрепанные бороды капуци-
нов». На конфессиональную принадлежность храма указы-
вали, как это ни удивительно, и «апельсиновые и лимонные
деревья» в нефе. Как он узнал, деревья были нужны для
больших праздников, когда «всю церковь целиком превра-
щают в беседку, усыпают каменный пол листьями и украша-
ют купол цветами». Капуцины традиционно предпочитали
окружение более аскетичное, и когда появилась эта церковь,
они принялись жаловаться на излишнюю роскошь.
Украшали церковь, скорее всего, к празднику Спасите-
ля, который пользуется огромной популярностью и в наши
дни. Его отмечают в третье воскресенье июля, а ввели его в
1576 году как день благодарения за окончание большой
чумы. Дож и старшие сенаторы ежегодно проходили про-
цессией к Дзаттере и, почти как участники каких-нибудь
легендарных религиозных чудес, переходили, будто по воде,
по наплавному мосту канал и поднимались к церкви. Саму
церковь республика возвела в знак благодарности за то же
великое событие, и место для ее строительства искали, ру-
ководствуясь в первую очередь желанием произвести наи-
больший драматический эффект.
250
Венеция: история города
Приезжие приходят на Джудекку в основном ради церк-
ви Иль Реденторе, но есть у нее и другое лицо. Это шум-
ный жилой район, позволяющий неспешно прогуливающе-
муся туристу краем глаза взглянуть, как живет повседнев-
ная Венеция, вдали от коралловых бус и открыток. Раньше
считалось, что остров получил свое имя (Дзудекка, или
Дзуекка на венецианском диалекте) от евреев, которые
жили здесь до создания Гетто, но недавно родилось пред-
положение, что оно происходит от слова, означающего
«суд», которое стали употреблять применительно к остро-
ву после того, как его земли четко поделили между вла-
дельцами. Но слово это имеет и другое значение — «осуж-
денные»; так могли называть остров в IX веке в честь воз-
вращающихся домой изгнанников. Имя впервые прозву-
чало по телевизору, когда Стивен Фрай, играя напыщенного
персонажа, который, предположительно, знал, что в стан-
дартном итальянском языке двойные согласные произно-
сят по отдельности, и назвал его «Джудек». Затем после-
довала пауза, показавшаяся бесконечной, и, подняв глаза
вверх, он дождался появления последнего слога: «ка».
Лидо
Продолговатый остров, защищающий Венецию от от-
крытого моря, некогда принимал таких важных гостей, как
Фридрих Барбаросса в 1177-м. А в 1202-м здесь встреча-
ли, пытаясь удержать на безопасном расстоянии, и таких
беспокойных визитеров, как крестоносцы. Главная досто-
примечательность острова — церковь Сан-Николо-аль-
Лидо, заложенная в 1044-м при доже Доменико Контари-
ни, в память о котором над ее дверями установлен мону-
мент. В День обручения с морем с «Бучинторо» дож на-
Островная Венеция
251
правлялся сюда на мессу. Другие следы прошлого на ост-
рове — это еврейское кладбище и развалины разных ук-
реплений XVI века, предназначенных для того, чтобы
отпугнуть или остановить любого агрессора, и в первую оче-
редь — турок. Особенно много их к северу от Сан-Николо.
Напротив, на острове Ле Виньоль находится более солид-
ная Фортецца ди Сант-Андреа, заложенная в 1543 году луч-
шим военным архитектором того времени Микеле Санми-
келе из Вероны. Республика не раз нанимала его создавать
защитные сооружения и в лагуне, и на таких далеких фор-
постах, как Крит. Крепость излучает спокойное достоин-
ство и некоторую таинственность, как пишет Дебора Го-
вард в своей «Архитектурной истории Венеции»:
В эпоху Возрождения военная архитектура выпол-
няла не только практические функции. Она была сред-
ством творческого использования традиционных элемен-
тов классицизма для демонстрации мощи и высокого
положения находящейся внутри территории... Вход, со-
стоящий из трех арок, сочетает в себе жесткость дори-
ческого ордера с грубостью неотделанного камня. Ме-
топы дорического фриза содержат символы военного
превосходства Венеции: например галеоны и крылатых
львов. По углам тяжелые квадратные пилястры усили-
вают полуколонны, защищая темный, похожий на пе-
щеру вход, омываемый волнами, словно классическая
пещера великана.
С середины XIX века Лидо развивался и в других на-
правлениях. Сначала появились морские купальни — пер-
вые относятся к 1857 году, — затем выросли отели, вклю-
чая самый известный из них — «Гранд-отель де Бэн», где
252
Венеция: история города
останавливались Томас Манн и его Густав фон Ашенбах.
На другую сторону острова выходит фасад отеля со знач-
ком «Кампари» наверху, который хорошо видно из той ча-
сти Венеции, где находится Общественный сад. Это «Ев-
ропа». Позже появились магазины, гольф, жилые дома,
международный кинофестиваль и даже, к ужасу или удоб-
ству приезжающих в Венецию, автомобили и автобусы. Но
в начале XIX века, когда остров не использовали ни в обо-
ронных целях, ни как приморский курорт, он был идеаль-
ным местом для верховой езды. Именно за этим сюда ре-
гулярно приезжал Байрон, а в 1818-м привез с собой Пер-
си Шелли.
Шелли приехал по деликатному делу — как предста-
витель сводной сестры Мэри Шелли Клэр Клэрмонт, у
которой был ребенок от Байрона. Байрон, воспользовав-
шись неоспоримым мужским правом тех дней, не счел Клэр-
монт подходящей матерью и забрал у нее дочь, Аллегру.
В палаццо Мочениго Шелли выслушал заверения друга,
что Аллегре скоро позволят проводить некоторое время с
матерью. Так и случалось, но долгое время они будут жес-
Островная Венеция
253
токо разлучены, пока девочка не умрет в монастыре в воз-
расте пяти лет в 1822 году. Но тогда у Шелли с Байроном
вскоре завязался оживленный разговор о поэзии, религии
и обо всем остальном. Поэты проговорили весь вечер и всю
ночь, во дворце и катаясь на лошадях по Лидо. Разговор
часто возвращался к фундаментальным различиям в их
убеждениях. Идеалистическая вера Шелли во «власть че-
ловека над собственным разумом» резко контрастировала
со скептицизмом Байрона. Впоследствии и эта прогулка, и
споры воплотились в поэму Шелли «Юлиан и Маддало».
Там же он описывает Лидо 1818 года:
Раскинулся бескрайний окоем,
Когда мы с графом Маддало вдвоем
Приехали на тот пустынный мыс,
Где Адрия с Лагуною сошлись.
Шуршал и мерно сыпался песок,
Был этот берег наг и невысок.
Лишь водоросли стелились по песку,
И мнилось: никакому рыбаку
Здесь сети не сушить. И только нас
Двоих на побережье видел глаз.
И обнажил отлив в урочный час
Полоску гладкую песка, и мы
Пустились вскачь до наступленья тьмы.
Мне было радостно, и неспроста:
Меня влекут пустынные места,
Где, чудится, воплощена в тиши
Безбрежность человеческой души.
1 Перевод А. Лактионова.
254
Венеция: история города
Сан-Ладзаро дельи Армени
и Сан-Серволо
Совсем недалеко от Лидо, со стороны лагуны, находит-
ся армянский монастырь со своей колокольней и садами.
Когда турки захватили Модон в южной Греции, Петр
Мануг, прозванный Мехитар («утешитель»), и другие ар-
мянские монахи бежали в Венецию. В 1717-м республика
даровала им остров Сан-Ладзаро, где одно время было по-
селение прокаженных. Байрон, искавший себе каких-ни-
будь занятий, кроме конных прогулок, плаванья, любов-
ных приключений или стихосложения, брал здесь уроки ар-
мянского у отца Паскаля Ошера в 1816 году. Он говорил
своему другу Тому Муру: «...мне нужно было что-нибудь
скалистое, обо что я разбивался бы, как прибой, а это —
самая сложная вещь, которую мне удалось найти здесь в
качестве развлечения. Я выбрал именно ее, чтобы пытка-
ми заставить себя сосредоточиться». В свою очередь, он
помог составить и, что более важно, организовать издание
армянской грамматики. Монахи до сих пор с гордостью де-
монстрируют «комнату Байрона» и другие связанные с ним
реликвии.
Между Сан-Ладзаро и Венецией притаился остров Сан-
Серволо. Когда-то здесь был монастырь бенедиктинцев, а
затем, с 1725 года — сумасшедший дом для страждущих
из богатых семей. Юлиан и Маддало из поэмы Шелли
приплывают на гондоле к «тоскливой, уродливой громаде
без окон», чтобы увидеть человека, потерявшего рассудок
от разочарования в своих надеждах и оттого, что любимая
оставила его, — что дало дополнительную пищу их спорам
о человеческой природе. Сегодня пациентов здесь уже давно
не осталось. В конце концов остров стал центром трениро-
Островная Венеция
255
вок по охране окружающей среды, которые проводились
здесь в 1980-х и 1990-х годах. Но какое бы применение ни
находили этим тихим уголкам, кое-что остается неизмен-
ным. Мы все еще можем укрыться здесь и наслаждаться
тем, ради чего Маддало привез сюда впервые Юлиана ве-
чером: великолепным зрелищем «сияющих храмов и двор-
цов», когда «земля и вода растворяются в озере огня».
Глава восьмая
Театральная Венеция:
опера, карнавал и кухня
Еще в Средние века Венеция восхищала и развлекала
своих гостей театральными постановками, музыкой, пыш-
ными шествиями, праздниками и костюмами, и с тех пор в
этом плане ничего не изменилось. Ожидания приезжаю-
щих — и их кошельки — помогли поддержать некоторые
из этих мероприятий, включая современную Биеннале
(Международная художественная выставка, основанная в
1895 году) и кинофестиваль, который ежегодно проходит
на Лидо с 1932 года. В тот год подборка фильмов получи-
лась достаточно противоречивой, в нее вошли «Свободу
нам» (A Nous la liberte) Рене Клэра, «Франкенштейн»
Джеймса Уэйла с Борисом Карлофф и «Девушки в уни-
форме» (Madchen in Uniform) Леонтины Саган. Фести-
валь, подобно тем празднествам, что устраивала Венеция в
прежние времена, давно превратился в событие, где вся-
кий стремится привлечь к себе внимание, или, как выра-
зился Ян Моррис, «в средоточие норковых шуб и гоноч-
ных яхт, куда эксгибиционисты всего мира слетаются, как
258
Венеция: история города
мотыльки на свет». Возможно, подобные события играют
в жизни общества ту же роль, которую старая Венеция от-
водила своим карнавалам и регатам: помогают дать выход
потенциально куда более опасным страстям.
Некоторые считают, что Венеция сама по себе является
театром. Джон Ивлин, не заходя так далеко, сказал, что
«венецианские дамы» как будто «всегда в маскарадных
костюмах» со своими завитыми и крашеными волосами,
шелковыми цветами и драгоценностями, «своими нижни-
ми юбками, которые начинаются от самых подмышек, а
талия настолько завышена, что груди свисают над пояс-
ком», и со своими неизменными choppins. «Это, — объяс-
няет Ивлин, — туфли на высоком каблуке, особенно лю-
бимые гордыми дамами или, как говорят некоторые, изоб-
ретенные, чтобы удержать их дома». Умением откровенно
показать себя, сохранив в то же время привлекательную
таинственность, в первую очередь, конечно, владели мно-
гочисленные городские куртизанки. Том Кориэт увидел их
в театре в 1608-м, в масках и так тщательно одетых, «что
нельзя было разглядеть ни малейшего пятнышка обнажен-
ной кожи». Путешественники поступят мудро, поучает он,
если закроют глаза и «отвернутся
от этих сладострастных венеци-
анских созданий». Но сам глаз
не отводил, поскольку, как сам
утверждает, хотел описать все,
что сможет, своим читате-
лям. В конце концов, заме-
чает Кориэт, «знание о зле
не есть зло». Выполняя
миссию по сбору инфор-
мации, ему пришлось
столкнуться в блиста-
Театральная Венеция
259
тельных и сияющих комнатах, украшенных гобеленами, с
куртизанками из высших слоев общества, которые привле-
кали клиентов не только дамастовыми платьями с золотой
отделкой и шелковыми чулками цвета розовой гвоздики,
умело уложенными волосами, бриллиантовыми кольцами
и тонкими духами, но и искусной игрой на лютне и «волну-
ющей сердце гармонией своего голоса».
Музыканты и шарлатаны
Куртизанки, играющие на лютнях и поющие прекрас-
ными голосами, являли собой лишь один из многих оттен-
ков музыкальной палитры Венеции, заполнявшейся маз-
ками разных стилей на протяжении всей своей истории.
Доктор Чарльз Берни, который приехал сюда в 1770 году
собирать материал для книги по истории музыки, припи-
сывал, по крайней мере отчасти, непревзойденное мастер-
ство венецианских музыкантов отсутствию возможности
«совершать пешие и верховые прогулки и заниматься охо-
той». Берни услышал звучащие с барок серенады и пение
уличных музыкантов («на которых здесь обращают вни-
мание не более, чем на торговцев углем или рыбой в Анг-
лии»). Он посетил Ла Пьету (церковь Санта-Мария дел-
ла Визитацьоне), где преподавал Антонио Вивальди, и по-
разился редкостному для того времени зрелищу: «испол-
нители, как певцы, так и музыканты, все до одной —
девушки; на органе, флейтах, виолончелях и даже на вал-
торнах играют только и исключительно они». Если Ла
Пьета, как показалось Берни, скорее почивала на лаврах, в
другом ospedale (сочетавшем в себе госпиталь, сиротский
дом и консерваторию) музицирование показалось ему бо-
лее динамичным. Речь идет об Инкурабили, где девушек
обучал Бальдассаре Галуппи (1706—1785), который с
9*
260
Венеция: история города
1762-го еще и исполнял обязанности капельмейстера в Сан-
Марко. Галуппи был на вершине славы, и его оперы, и ду-
ховная музыка, и пьесы для клавишных инструментов
пользовались большим спросом. В Сан-Марко ему предо-
ставили три года отдыха, чтобы он мог взять на себя забо-
ту об опере Санкт-Петербурга. Берни отмечает, что «Синь-
ор Буранелло1 уберег весь свой огонь и воображение от хо-
лодных вьюг России, откуда он недавно возвратился». Бер-
ни отправился навестить композитора, и тот пригласил его
«в свой рабочий кабинет, где стоял только маленький кла-
викорд и где, как он мне сказал, он марал бумагу»; наш
музыковед также отметил, что у маэстро «внешность обыч-
ного семейного человека». В последнее время несколько
оживился интерес и к самой музыке, но Галуппи чаще вспо-
минают из-за стихотворения Роберта Браунинга «Токката
Галуппи», рисующего образ композитора, который «сидит
величественно за клавикордом», «одинаково подходящим
для радости и печали», создавая прекрасный, прозрачный
образ Венеции, где «балы и маскарады начинались в пол-
ночь и полыхали до полудня».
В День избрания дожа Берни насладился музыкой Га-
луппи в Сан-Марко, но заключил, что «эта церковь не
очень-то хороша для исполнения музыки. У нее пять купо-
лов, которые слишком дробят отражением звук до того, как
он достигнет слуха». Возможно, он не счел бы этот эффект
недостатком здания, если бы оказался в базилике на два
столетия раньше, когда особенности ее акустики умело ис-
пользовали, размещая на галереях хор — cori spezzati.
Одним из самых известных композиторов тех времен был
Джованни Габриели, капельмейстер базилики с 1585-го по
1612-й год.
1 Галуппи был родом с острова Бурано. — Примеч. автора.
Театральная Венеция 261
На Пьяцце Берни столкнулся «с огромным количеством
бродячих музыкантов», большинство — с гитарами. Во все
времена на Пьяцце и Пьяццетте можно было увидеть все
что угодно, от джазовых концертов и публичных казней до
«электрической машины», которая попалась английскому
поэту Сэмюэлю Роджерсу в октябре 1820-го. «За один
сол1, — записал он, — вас электрифицируют для вашего
здоровья». Во времена республики нередко дож в сопро-
вождении трубачей и свиты с достоинством шествовал во
дворец или в базилику. По окончании выборов средневе-
ковым дожам и их женам, догарессам, приходилось терпе-
ливо ждать, пока их поприветствуют по очереди старшины
всех гильдий и их спутники. Каждая группа выступала впе-
ред парами под звуки своей собственной музыки, неся впе-
реди цеховое знамя. Были представлены кузнецы, порт-
ные, меховщики, торговцы тканями, стеклодувы, сапож-
ники, рыботорговцы и ткачи.
До XV века существовали и турниры. В 1256-м Мари-
но да Канале вспоминает, как много копий было поломано
во славу прекрасных дам. А в 1458-м происходили еще
более интересные события: Пьяцца превратилась в поле боя
с небольшой крепостью и редутами. После XV века, когда
лошадям запретили появляться в городе, привычным де-
лом стали потешные морские баталии, или naumachia.
Мирные регаты просуществовали дольше; сегодня одна из
самых приятных для глаз — regatta stofica, проходящая в
первое воскресенье сентября. Здесь можно увидеть лодки
и суда разных исторических периодов, костюмы, гонки —
все что душе угодно. Время от времени Пьяцца станови-
лась и местом скопления шарлатанов. Кориэт изучал их
методику: выступали они обычно на «сцене... сооруженной
1 Мелкая монета. — Примеч. автора.
262
Венеция: история города
из скамеек», с музыкой, шутками и бесконечными скоро-
говорками рекламируя свои, зачастую «поддельные и фаль-
шивые» товары, включая «масла, целебные воды, напеча-
танные любовные песни, лекарственные снадобья и прочие
пустяки». И, конечно же, подобно торговцам всех времен
и народов, «они гиперболически преувеличивали достоин-
ства своих лекарств и товаров».
Комедиа дель арте и Гольдони
Еще одним популярным развлечением стала с XVI века
commedia dell'arte, что на самом деле изначально означало
«профессиональная комедия»: она противопоставлялась
commedia erudite в классическом стиле, которой занимались
ученые любители. Комедиа дель арте можно было играть на
импровизированных и передвижных сценах, во многом на-
поминающих помосты шарлатанов. Иногда она находила
дорогу и во дворцы и в постоянные театры. Представления
менялись с такой же легкостью, как и сцены. Основываясь
на классических сценариях и традиционных комических но-
мерах, актеры могли импровизировать практически как угод-
но. Их ремесло составляли бесконечные виртуозные вариа-
ции на тему вполне предсказуемого поведения персонажей,
которых они обычно изображали. Многие выходили на сце-
ну в соответствующих масках: старик Панталоне, хвастли-
вый Капитан, юные влюбленные, zanni, или шуты — Арле-
кино и Бригелла. («Zanny» — диалектная форма от Джан-
ни.) Комедии такого рода были популярны по всей северной
Италии, но, возможно, именно в Венеции приобрели неко-
торые свои характерные черты. Панталоне — пожилой ве-
нецианский купец, которого обводят вокруг пальца слуги или
влюбленные, обычно — его собственная дочь. Арлекино
изначально родом из Бергамо, что в глазах венецианцев было
Театральная Венеция
263
синонимом грубости и невоспитанности, хотя в более поздних
версиях, включая английского Арлекина, его образ стал ум-
нее и ярче. Большая часть персонажей — характерные мас-
ки, со сцены они позже проникли на карнавал и в лавки со-
временной Венеции.
Самый известный венециан-
ский драматург Карло Гольдони
(1707—1793) сначала работал,
без особого успеха, адвокатом, а
в свободное время сочинял сце-
нарии для импровизированных
комедий. Позже он стал писать
полноценные пьесы для актеров
без масок, в которых все-таки ис-
пользовал и развил многие тра-
диции народной комедии. Сезар
д’Арбе, знаменитый Панталоне,
посетив Пизу в 1748 году, убедил Гольдони, все еще безус-
пешно подвизавшегося на адвокатском поприще, вернуться
домой и занять место ведущего драматурга в Театро Сант-
Анджело. Это здание позже снесли, но два других театра,
где работал Гольдони, сохранились, пусть и со значитель-
ным изменениями. Оперный театр Сан-Джованни Гризо-
стомо, где он был режиссером с 1737 года, с 1834 года стал
Театро Малибран (в честь меццо-сопрано Марии Малиб-
ран), а театр Сан-Лука, где он работал с 1753-го по 1762-й,
в 1875 году вполне заслуженно переименовали в Театро Голь-
дони. На кампо Сан-Бартоломео есть бронзовая статуя,
изображающая очень веселого Гольдони (1883), а в его доме,
палаццо Чентани на калле деи Номболи, располагается хо-
роший маленький театральный музей.
Гольдони написал множество комедий. В тех, что сей-
час чаще всего ставят, фарс смешан с некоторыми элемента-
264
Венеция: история города
ми социального и психологического реализма. Д’Арбе, ак-
тер большого масштаба, игравший не только Панталоне,
смог исполнить в «Венецианских близнецах» (1748) роли
обоих близнецов, которых все постоянно путают, что при-
водит к неловким и уморительным ситуациям. В «Новом
доме» (1760) ситуация из фарсовой доходит почти до аб-
сурда: расточительный племянник ссорится с богатым дя-
дюшкой, молодая жена племянника требует более роскош-
ного образа жизни, сестре мешает ее манерность, слуги
сидят без жалованья вот уже несколько месяцев, а строи-
тели отказываются работать, потому что им тоже не пла-
тят. Но в конце концов с помощью всяческих ухищрений
страсти удается потушить, и всему находится решение, по-
скольку большинство персонажей согласны забыть о гор-
дости и сделать то, чего требуют любовь и щедрость.
Но не всем нравилась такая «реформа» любимой коме-
диа дель арте. Один из самых интересных соперников Голь-
дони, венецианский аристократ Карло Гоцци (1720—1806),
сохранил актерам маски в таких популярных стилизован-
ных фантазиях, как «Турандот» (1762). И именно попу-
лярность Гоцци стала одной из причин отъезда Гольдони
во Францию в 1762 году — наряду с желанием найти в
Париже прибыльную работу. Во Франции Гольдони
пользовался немалым успехом в «Комеди Итальен» и стал
учителем дочери Людовика XV. После революции он ос-
тался без пенсии и умер в бедности, хотя пенсию потом
платили его вдове. Но в конце концов именно его пьесы, а
не сочинения Гоцци, расцвели на венецианской сцене.
Опера
Гоцци же, в свою очередь, сочинил несколько историй,
которыми позже с удовольствием воспользовались компо-
зиторы и либреттисты. Оперу всегда любили в Венеции;
Театральная Венеция
265
более того, именно благодаря ее популярности комедиа дель
арте постепенно пришла в упадок. Родилась новая форма
искусства в конце XVI и в XVII веке в Риме и Флорен-
ции. Вслед за исполнением «Андромеды» в Театро Сан-
Кассиано в 1637 году в Венеции один за другим откры-
лись еще несколько оперных театров, заново отстроенных
или переделанных из обычных театров. Большая часть те-
атров принадлежала благородным семействам, которые во
что бы то ни стало хотели перещеголять друг друга и про-
демонстрировать всем собственное величие. (Сначала пред-
ставления посещала только самая рафинированная и обес-
печенная публика, но к концу века конкуренция привела к
снижению цен на билеты.) Потрясающие сцены и театраль-
ные механизмы создавал, среди прочих, «великий волшеб-
ник» Джакомо Торелли, современную музыку писал немо-
лодой, но изобретательный Клаудио Монтеверди, капель-
мейстер в Сан-Марко с 1613 года, и молодой Франческо
Кавалли. Отчасти под влиянием Кавалли Монтеверди укра-
сил свои поздние оперы «Возвращение Улисса» и «Коро-
нация Поппеи» музыкальными элементами, удачно назван-
ными Дэвидом Кимбеллом в «Итальянской опере» как
«изысканно сотканными мелодиями». По мнению Кимбел-
ла, эти работы отличаются «своей элегантной серьезностью,
томной непринужденностью, с которой они взлетают от ре-
читатива к пению и спускаются обратно».
«Коронация» (как это давно уже известно, Монтевер-
ди писал ее не один) — возможно, самая волнующая опе-
ра этого периода. Она оставляет аудиторию один на один с
дилеммой: как соотнести мудрые слова Сенеки, советника
императора Нерона (бас) и убедительную чувственность
самого Нерона и Поппеи (сопрано или альт и сопрано).
Теоретически, считают некоторые, нам следует покачать
головой и сказать: «Ах, но мы же знаем, что злодей Нерон
вскоре убьет злодейку Поппею» Но это знание нисколько
266
Венеция: история города
не мешает сопереживать героям, когда мы видим на сцене
Сенеку, вынужденного совершить самоубийство, с причи-
таниями уходящую прочь изгнанную жену Нерона и влюб-
ленных, сливающихся в восторженном, кажется, даже
бесконечном финальном дуэте. Это обоюдное «si», эта кон-
цовка, достаточно смелая и без музыки, а с ней просто заво-
раживающе соблазнительная — «О mia vita, о mio tesoro»1.
Возможно, суть как раз в том, что убийцы и изменники
обладают опасным очарованием. В 1642-м некоторые по-
сетители Театро Санти-Джованни-э-Паоло, несомненно,
извлекли из оперы именно эту двусмысленную мораль; мно-
гие приезжие, да и немало религиозно настроенных вене-
цианцев того времени считали саму Венецию такой же чув-
ственной и развращающей.
Самым знаменитым оперным театром в последующие
годы был театр «Ла Фениче», который славился своей пре-
красной акустикой, великолепным, богато позолоченным
интерьером, особой, камерной атмосферой. В ночь с 29 на
30 января 1996 года он сгорел. От интерьера остались одни
головешки. Фасад тоже сильно пострадал, но не рухнул.
Архивы и партитуры театра погибли, и чувство потери ох-
ватило не только сам город — «Ла Фениче» давно уже
стал одним из символов Венеции, — но распространилось
по всей Италии и даже за границу. Сначала причиной по-
жара сочли неполадки с электропроводкой, а катастрофи-
ческие его последствия приписали тому обстоятельству, что
в нужный момент пожарные не могли качать воду из двух
ближайших каналов, которые были временно осушены для
проведения ремонтных работ. Кроме того, в самом театре
тогда тоже шел ремонт, и пожарную сигнализацию и дру-
гие противопожарные системы еще только предстояло ус-
1 О жизнь моя, мое сокровище! (um.)
Театральная Венеция 267
тановить. Но потом некоторые начали задумываться, слу-
чайно ли оказались пустыми ближайшие каналы, равно как
и о возможных причинах неполадок с электричеством. Ста-
ли накапливаться факты, свидетельствующие о поджоге,
пошли слухи о мафии, и в конце концов двум электрикам
были предъявлены обвинения. Театр сейчас воссоздают
заново, как некогда Кампаниле — corn era, dov’era — «как
был, где был». Он должен восстать из пепла, вновь оправ-
дывая свое имя (Феникс), как это уже случилось однаж-
ды, после разрушительного пожара 1836 года. Но отчасти
из-за юридической волокиты строительство продвигается
медленно, и вряд ли удастся восстановить его в заявлен-
ные сразу после пожара два года1. Дарио Фо, итальянский
актер, импровизатор, сатирик и драматург, приезжал в
Венецию, чтобы выступить на маскараде в Театро Голь-
дони через десять дней после пожара. Он описал сие раз-
влечение как «панихиду в стиле оперетты» по «Ла Фени-
че». Характерно, что Фо выразился еще жестче: эта коми-
ческая панихида стала «символом сегодняшней Италии».
И его слова, в свете задержек с восстановлением театра,
огромных трудностей с установкой защитных сооружений
против наводнения у входа в лагуну и подобными пробле-
мами в других областях, все еще звучат как пророчество.
Первый театр «Ла Фениче» открылся в 1792 году.
Опера всегда составляла основу его репертуара, и многие
артисты эффектно приплывали и уплывали из театра на
гондолах, являя тем самым своеобразное дополнение к пред-
ставлению. Больше напоминает оперетту, не правда ли? Но
это был один из самых простых способов попасть в театр,
расположенный в гуще узких calli и каналов в центре Вене-
1 Театр был открыт после реставрации 15 декабря 2003 г. —
Примеч. ред.
268
Венеция: история города
ции. Время от времени — особенно после «Семирамиды»
Россини в 1823-м — постановки как будто расплескива-
лись по близлежащим каналам. Бывало, в водных пред-
ставлениях, устраиваемых после окончания спектакля, по-
являлась лодка, полная музыкантов, которые исполняли
мелодии из только что прозвучавшей оперы, провожая вмес-
те с толпой поклонников, тоже рассевшихся по гондолам, ком-
позитора, направлявшегося на своей гондоле домой. Здесь
прошли премьеры пяти опер Верди, как правило, — с шум-
ным успехом. Успех «Эрнани» в марте 1844-го подтвердил
репутацию Верди и предоставил сторонникам национально-
го возрождения прекрасную возможность забрасывать сце-
ну красными, белыми и зелеными букетами и подчеркивать
смысл своего жеста возгласами «Viva VERDI!» — что было
аббревиатурой от «Vittorio Emmanuele Re d’Italia» (Вит-
торио Эммануэле, король Италии). «Травиата», в основу
либретто которой легли перипетии личных взаимоотноше-
ний Альфреда и Виолетты, никак не подходила для выра-
жения подобного политического энтузиазма, и отчасти
именно по этой причине премьера оперы, состоявшаяся в
1853 году, провалилась. И все-таки в 1854-м ее поставили
снова, с некоторыми изменениями, в другом венецианском
театре, Сан-Бенедетто, и там опера имела успех.
Почти сто лет спустя Игорь Стравинский искал театр с
достаточно камерной атмосферой для постановки «Похож-
дений повесы» и, не имея ничего против поощрительной
премии (равной примерно 20 000 долларов), предложен-
ной ему итальянским правительством, выбрал «Ла Фени-
че». Опера была написана по мотивам гравюр Хогарта на
либретто У. X. Одена, который как-то раз, после одной
ужасной репетиции, добавил новый штрих к музыкальным
традициям города, прокатившись в пьяном виде на гондо-
ле, распевая отрывки из «Валькирии» (как рассказывает
Театральная Венеция
269
присутствовавший при этом Роберт Крафт, близкий друг
Стравинского). Но «Похождения повесы» пришлись по
вкусу большей части аудитории. Как и множество спек-
таклей за уже прошедшие 160 и еще предстоявшие 45 лет
существования театра, опера стала событием не только в
музыкальной, но и в светской жизни города. Зрители, со-
общает Крафт, «были на пике элегантности».
Игры и развлечения
Внимание публики приковывали и представления менее
возвышенные. В какой-то период на нескольких площадях
побольше проводились бои быков (иногда, правда, для
большей безопасности в главной роли выступала корова).
Картина XVII века кисти Джозефа, или Джузеппе, Хейнца
Младшего в Музео Коррер изображает следующую жи-
вописную сценку: все окна и балконы вокруг кампо Сан-
Поло заполнены зрителями (не говоря уже о подмостках
на самом кампо), повсюду шныряют собаки, кого-то сбили
с ног, охотники с огромными перьями на шляпах тянут на
веревках привязанного за рога быка. Среди более органи-
зованных забав, также представленных в разделе Музео
Коррер, посвященном играм и развлечениям, можно упо-
мянуть, например, forze d'Ercole (подвиги Геракла), жи-
вые пирамиды, иногда называемые не просто пирамидами,
а «три моста» или «колосс Родосский». Если верить кар-
тинкам, такие пирамиды насчитывали до пяти уровней в
высоту. И если на нижних уровнях люди использовали и
доски, то самый верхний участник часто опирался только
на руки нижестоящего или на голову — если сам стоял на
голове (хочется надеяться, недолго).
В forze соревновались команды западной и восточной
частей города, «Кастеллани» и «Николотти». «Кастеллани»
270
Венеция: история города
получили имя в честь района Кастелло, а «Николотти» — в
честь церкви Сан-Николо Деи Мендиколо. Самым знаме-
нитым их столкновением оказалась Guerra del pugni (кулач-
ные бои). Представители двух команд набрасывались друг
на друга с энтузиазмом, в котором было поровну спортивно-
го азарта и жажды крови. Бои проходили, как правило, на
Понте деи Пуньи рядом с кампо Сан-Барнаба. Картинки
тех времен изображают незадачливых участников, летящих
вниз головой с моста в воду. В конце концов обычай этот
запретили, после того как в сентябре 1705-го, и уже не в
первый раз, вместо кулаков в ход пошли ножи.
Более спокойными играми были бирибисси (вариант ру-
летки), джоккореале (лотерея) и сбаралъино (нарды). Ста-
ринные доски для настольных игр, фишки и карты хранятся
в Музео Коррер. Азартные игры пользовались такой беше-
ной популярностью, что в 1774-м Большой совет своим ре-
шением закрыл ридотто (игры изначально проходили в
пристройке — ridotto — к палаццо Дандоло, на улочке, ко-
торая теперь называется калле дель Ридотто, к западу от
Пьяццы). Его посетители могли играть в азартные игры, но,
что любопытно, только если были в маске. Решение Совета,
принятое в ответ на широко распространившееся мнение об
окончательном падении нравов в Венеции, имело не столько
практическое, сколько символическое значение. А игры, ес-
тественно, продолжились на новом месте.
Карнавал
Азартные игры, поединки, театральные представления и
forze d’Ercole проходили только во время карнавала, и тогда
достигали особого размаха. Первое упоминание о шумных
венецианских празднествах, предшествовавших посту, сохра-
нилось с 1268 года, когда гулякам в масках запретили ки-
Театральная Венеция
271
даться яйцами из окон. Это была далеко не последняя по-
пытка придать карнавальным обычаям некоторую благопри-
стойность, но пока удавалось избежать настоящего насилия
и святотатства, власти без особой неприязни сносили и даже
приветствовали такой способ дать выход подавленным же-
ланиям и инстинктам. В 1630 годах обычай, когда молодые
люди с шумом врывались на частные вечеринки, запретили,
но предотвратить подобные выходки или найти потом ви-
новников было достаточно сложно.
Традиционно карнавал длился
с 26 декабря до начала Вели
кого поста, но к XVIII ве-
ку он начинался уже в
октябре, приостанавли-
вался с 15 по 26 декабря,
а потом возобновлялся с
новой силой. В дополне-
ние к упомянутым ранее
способам времяпрепро-
вождения, веселящихся
развлекали многочислен-
ные акробаты и фокусни-
ки, танцующие собаки и обе-
зьянки и кукольные представления. Устраивались volo del
Turco ( «полет турка»): акробат взбирался по веревке на
верхушку кампанилы Сан-Марко, спускался по другой ве-
ревке, чтобы преподнести дожу букет цветов и хвалебное
стихотворение, затем снова взбирался наверх и благопо-
лучно спускался на стоявший поблизости корабль. (Это
было небезопасно, по крайней мере один раз исполнитель
трюка погиб.) Были здесь и гадалки; по рассказу путеше-
ственника XVII века Франсуа Миссьона, «у этих вещих
прорицательниц есть длинная жестяная труба, через кото-
272
Венеция: история города
рую они говорят прямо в ухо любопытным, стоящим вни-
зу, у помоста». К удивлению Миссьона, священники и мо-
нахи особенно часто «совещались с трубой». Наверное,
такими же доверчивыми атмосфера карнавала сделала тех,
кто с восхищением наблюдал за подвигами двух турецких
коней, которые выступали по четыре раза в день в январе
1775-го. Эти животные могли, как говорили зазывалы,
складываться в двести самых разных форм, понимать по-
итальянски, по-французски и по-немецки, производить
простые арифметические действия, различать цвета, опре-
делять время — час, четверть часа и минуту — по кар-
манным часам и даже — чего от них все-таки скорее мож-
но было ожидать — прыгать.
Искусное притворство и воображение были необходи-
мы карнавалу, как воздух; Миссьон говорит, что если вам
хотелось как следует поучаствовать в маскараде на пьяц-
це Сан-Марко, «вам еще нужно суметь изобразить ха-
рактер того, чей костюм надеваете. Так, например, если
встречаются два Арлекина, они начинают перебрасывать-
ся язвительными насмешками и откалывают тысячи но-
меров, адвокаты — устраивают диспут, задиры — бах-
валятся и чванятся». А более застенчивые, те, «кто не
желает быть актером этого огромного театра», одеваются
знатными особами, «что не требует от них никаких осо-
бенных поступков».
Байрон все еще может начать свою карнавальную по-
эму «Беппо» (1818):
Известен всем (невежд мы обойдем)
Веселый католический обычай
Гулять вовсю перед святым постом,
Рискуя стать лукавому добычей.
Греши смелей, чтоб каяться потом!
Театралъная Венеция 273
Без ранговых различий и приличий
Все испытать спешат и стар и млад:
Любовь, обжорство, пьянство, маскарад1.
Но вскоре веселье, казалось, прекратилось. Многие го-
рожане считали, что карнавал неуместен, пока город нахо-
дится под иностранным правлением. Как писал Уильям Дин
Хоуэле, американский консул в Венеции с 1861 года,
...его убогий, жалкий призрак — группа попрошаек, на-
цепивших маски, рога и женскую одежду. В таком виде
эта ужасающая процессия бродит от лавки к лавке, гну-
савя дурацкую песню и собирая с лавочников дань. Тол-
пы, сквозь которые пробираются эти печальные шуты,
смотрят на них с задумчивой насмешкой.
Но даже после того как в 1866-м австрийцы ушли, кар-
навал не мог достичь прежнего размаха. Но с 1970-х он воз-
родился. Современный карнавал многолюднее и больше ори-
ентирован на коммерцию, но и его предшественник некогда
тоже был очень популярен у туристов. И снова лодки и ули-
цы переполнены людьми в треуголках, масках и плащах,
Коломбинами и Панталоне, более современными диснеев-
скими персонажами, мужчинами, переодетыми женщинами,
и наоборот, смехом, песнями, гримом и конфетти.
Рынки и бары
Еда тоже играла важную роль в развлечениях венеци-
анцев и приезжих, на дожеских ли банкетах или в более
интимной обстановке, так любимой Казановой. В один из
1 Перевод В. Левика.
274
Венеция: история города
тех периодов, когда у него водились деньги, пытаясь уго-
дить «милому божеству», он решил не просто угостить даму
хорошим ужином, но специально для этого снял комнаты и
нанял великолепного повара. Вечером накануне прибытия
«божества» Казанова испытывал меню, в котором присут-
ствовали «дичь, рыба, устрицы и трюфели» и десерт, все
это подавалось на превосходном дрезденском фарфоре и
тарелках из позолоченного серебра, в сопровождении бур-
гундского и шампанского. Маэстро остался доволен, хотя
яйца, анчоусы и уксусная заправка к салату в меню по не-
понятным причинам не вошли.
Повар Казановы, надо признать, был француз. Путе-
шественники, которым в те дни довелось отведать блюда
итальянской кухни, часто жаловались на твердокаменный
хлеб или приходили в недоумение от неизменных макарон
и лазаньи. Но для тех счастливчиков, кому удавалось ее
найти, существовала в Венеции и изысканная кухня. Хлеб,
конечно, составлял основу рациона. Однако то обстоятель-
ство, что в Средние века и в эпоху Возрождения Венеция
контролировала всю Адриатику, и правильно налаженные
импорт и хранение зерна позволили сделать наступление
голода менее вероятным, а питание — более разнообраз-
ным, чем в большей части европейских стран. И естествен-
но, важную роль всегда играла рыба. В Средние века, ког-
да торговля с Востоком процветала, рыбу (как и мясо) за-
частую обильно сдабривали специями. Популярность риса
тоже приписывают близкому знакомству с восточными тра-
дициями, хотя ризотто — с рыбой, перепелами, улитками
и самыми разными овощами, от тыквы и шпината до арти-
шока — стало привычным блюдом только в начале XIX ве-
ка. Уже к XVII веку в больших количествах привозили в
Венецию американский маис, и приготовленный в виде по-
Театральная Венеция
275
ленты, он скоро тоже широко распространился по всей
Северной Италии.
В наши дни одним из самых известных блюд Венеции
и Венето стала каракатица, приготовленная в своих соб-
ственных чернилах (risotto alle sepie, или risotto пего) и
морской паук с растительным маслом и лимоном (gran-
seola alia veneziana). Говоря о блюдах из морепродуктов,
следует упомянуть и gamberi (креветки), dorade (бара-
булька), cozze (мидии), cape sante (гребешки), и calamari
(кальмары), и многое другое. Удивительно, что baccala,
или сушеную треску, привозят из Скандинавии и подают
в Виченце с растительным маслом, молоком, чесноком и
анчоусами, а в Венеции в виде baccala montecato, с мас-
лом, чесноком и петрушкой. (В других частях Италии
словом baccala называют соленую селедку, а для вяленой
рыбы существует другое слово — stoccafisso.) Если ос-
тавить в покое рыбу и ракообразных, то есть еще risi е
bisi (блюдо, похожее на суп ризотто со свежим горошком
и беконом), fegato alia vaneziana (телячья печень с рас-
тительным маслом, сливочным маслом, луком и петруш-
кой), bigoli (толстые спагетти), saor (кисло-сладкий
соус, диалектный вариант слова «sapore» — вкус) и бо-
лее тяжелая soppressata (пикантная версия кровяной кол-
басы из свиной крови и говядины). Из мясных блюд
наибольшей популярностью пользуются птица, телятина
и салями.
Сырье для подобных блюд можно купить на рынках
Риальто, воспетых в 1954 году Элизабет Дэвид. Забавно,
что большая часть британской публики, для которой писа-
ла Дэвид, даже не сомневается, что итальянцы в рот не
берут ничего, кроме пасты и помидоров... Итак, ранним
утром, в начале лета воздух...
276
Венеция: история города
...так прозрачен, что каждый отдельный фрукт, овощ
или рыба как будто наливается собственным светом,
цвета неестественно ярки, а контуры — точно прочер-
чены. Капуста пронзительно синяя, свекла — темно-
пурпурная, латук — чистого и яркого зеленого цвета,
свежий и хрусткий, как стекло. Пучки ярко-желтых
цветов кабачков подчеркивают изящество бело-розо-
вых мраморных фасолевых стручков, лимонно-желтых
картофелин, зеленых слив, зеленого горошка. Цвета
персиков, вишен и абрикосов, упакованных в коробки,
выложенные темно-синей бумагой, тон в тон с синими
холщовыми штанами, что носят рабочие, разгружаю-
щие гондолы, повторяют розово-красные барабульки и
оранжевые vongole и cannestrelle1, которых добыли из
их раковин и насыпали в корзины... В Венеции даже
обычная камбала и уродливый серый скат отливают
нежными сиреневыми оттенками, сардины сверкают,
как свежеотчеканенные серебряные монеты, розовые
креветки такие толстенькие и свежие, бесконечно при-
тягательные на заре.
Венецианское печенье, сдоба и конфеты отчасти на-
следие восточной сахарной торговли: в магазинах всегда
широкий выбор baicoli, zaleti и forti (печенье из сливоч-
ного масла, кукурузной муки, какао и черной патоки),
rosada veneta (сливочный лимонный пудинг), fritelle di
zucca (тыквенные оладьи с сахаром и кишмишем), crostoli
(оладьи с добавлением граппы — крепкой местной
«шаге», или «огненной воды»; не путать с crostini — под-
жаренным хлебом с анчоусами и сыром), и уже слишком
привычное в наши дни tiramisu («подними меня») родом
1 Съедобные моллюски.
Театральная Венеция
277
из Тревизо. Не менее знакомы, наверное, приезжающим
и местные вина «Вальполичелла», «Бардолино» и «Со-
аве» из виноградников к северу и к северо-западу от Ве-
роны, у озера Гарда и на холмах к востоку от Вероны.
Менее известно «Прозекко», обычное и игристое вино,
которое производят между Конельано и Вальдобьяддене,
к северу от Тревизо. Если смешать его с персиковым со-
ком, получится коктейль «Беллини».
«Беллини» придумал в 1930 году Джузеппе Чиприани
из «Harry’s Ваг» (бар «У Гарри») на калле Валларессо,
неподалеку от остановки вапоретто «Сан-Марко». Напи-
ток оставался безымянным до 1948 года, кода в Венеции
прошла выставка Джованни Беллини. У названия заведе-
ния — «Harry’s Ваг» — история более долгая, недавно
ее еще раз рассказал сын и наследник Чиприани Арриго.
В 1929-м Чиприани работал барменом в отеле «Европа».
Гарри Пиккеринг, молодой человек из Бостона, прожи-
вавший в отеле и активно посещавший бар, вдруг пере-
стал пить и признался сочувственно спросившему Чипри-
ани, что он «на мели». Дальнейшие расспросы показали,
что этого «довольно безрассудного молодого человека с
приятным честным лицом» отправили за границу с те-
тушкой, для того чтобы он избавился там от своих про-
блем с алкоголем. Однако тетушка начала пить вместе с
ним, а семья, каким-то образом узнав об этом, отозвала
тетушку обратно и перестала присылать деньги. Ему
нужно было 10 000 лир (примерно 5000 долларов), что-
бы оплатить счета, выпить последний сухой мартини на
дорожку и уехать в Америку. Бармен одолжил ему денег
и, как оказалось, проявил невероятную прозорливость.
В 1931 году Пикеринг появился снова, теперь уже вполне
обеспеченным человеком, возвратил долг и добавил еще
40 000 лир, с тем чтобы Чиприани открыл на них соб-
278
Венеция: история города
ственное заведение. Он поставил только одно условие —
оно должно было называться «Harry’s Ваг». Жена Чип-
риани нашла небольшой канатный склад, расположенный
на первом этаже, и 13 мая 1931 года там открылся бар,
который до сих пор находится на прежнем месте. Здесь
продолжали собираться американцы (и не только), среди
которых можно было встретить Эрнеста Хемингуэя,
Хэмфри Богарта и Лорен Бэколл, Орсона Уэллеса. Дела
шли превосходно, и в 1936-м Чиприани удалось купить
кафе на Торчелло, а в 1957-м — основать высококласс-
ный «Отель Чиприани» на Джудекке.
Кроме того, в 1950 году Чиприани изобрел карпаччо —
блюдо из тонких ломтиков сырой говядины в соусе, кото-
рый в оригинале состоял из лимонного сока и майонеза.
В тот момент проходила выставка Карпаччо, и цвета блю-
да во многом соответствовали любимым цветам художни-
ка — красный и белый. Для тех, кто недостаточно утончен
или недостаточно безрассуден, чтобы есть сырое мясо —
хотя нужно отметить, что Чиприани разработал этот ре-
цепт специально для одного посетителя, которому врачи
запретили есть приготовленное мясо (неважно, жареное или
вареное) — всегда найдутся лакомства попроще. Вот То-
мас Кориэт, например, любил фрукты. (Хотя почти навер-
няка перед тем, как сказать нам об этом, он бы с удоволь-
ствием поиграл словами и смыслами на тему о том, следует
ли называть подобную пищу сырой практически или мета-
форически.) В Венеции на него произвели большое впе-
чатление не только дома, люди и гроза с градом, когда «с
неба сыпались камни величиной с голубиное яйцо», а «шар
на вершине какой-то башни» дочерна опалило молнией, но
и (возможно, на мысль о еде его навели как раз голубиные
яйца) изобилие «зерна и провизии» в этом необычно сы-
ром городе:
Театральная Венеция 279
.—-----
А что касается их фруктов, то я заметил их очень и
очень немалое число, как, например, виноград, груши,
яблоки, сливы, абрикосы... фиги крайне замечательные,
трех или четырех сортов, черные, самые лакомые, зеле-
ные и желтые. Когда я был там, торговцы предлагали
еще один товар, и это самый восхитительный из летних
фруктов во всем христианском мире, а именно — мус-
кусная дыня. Я восхищался их изобилием. Их достав-
ляли в город каждое утро и вечер в невероятных количе-
ствах, и если сложить все привезенное за месяц, то не
только площадь Святого Марка, но и все рыночные пло-
щади были бы погребены под этими плодами. Я думаю,
каждый день продавалось их не менее чем на пять сотен
фунтов стерлингов.
И в наши дни, и в те времена фрукты для жителя
Северной Европы были удивительным, сочным, аромат-
ным чудом, которым одаривал их Юг. Дыни эти «трех сор-
тов», объясняет Кориэт, «желтые, зеленые и красные, но
красные из них наиболее приятны на вкус». Но, увы, даже
такое вкусное и здоровое лакомство сопряжено с риском, и
он продолжает с присущей ему учтивостью:
Я рекомендовал бы, если тебе, любезный читатель,
хочется увидеть Венецию, и ты окажешься там летом,
когда они созревают, избегать употребления их в неуме-
ренном количестве. Ибо сладость их настолько соблаз-
нительна, что многие забывали об умеренности и съеда-
ли их столько, что тем самым приближали свою безвре-
менную кончину... На самом деле фрукт этот кисло-слад-
кий. Сладок он на языке, но кислота его проявляется в
желудке, если есть его без меры. И часто рождает он
болезнь, которую называют дизентерией.
280
Венеция: история города
Очевидно, «другой прекрасный сорт, anguria» (арбуз)
такой опасности не таит. Венецианцы «находят его заме-
чательно подходящим летом, когда хотят подарить себе
немного прохлады в часы зноя. Ибо он, — как до сих пор
говорят многие опаленные солнцем туристы, — обладает
самыми чудесными освежающими свойствами из всех фрук-
тов Италии».
Глава девятая
Литературная Венеция:
величие и разложение
Поэт-футурист Филиппо Томмазо Маринетти и его
сторонники не мучились сомнениями, как относиться к Ве-
неции. В 1910-м они взобрались на Башню часов на пьяц-
це Сан-Марко и сбросили в толпу распечатки своего пам-
флета «Contro Venezia passatista» («Против Венеции,
влюбленной в прошлое»). Маринетти обличал этот «гнию-
щий город, тоскующий по прошлому величию», город ино-
странцев, «рынок для торговцев поддельной стариной,
магнит для снобизма и вселенской тупости... усыпанная
золотом и каменьями ванна для космополитичных курти-
занок». «Маленькие вонючие каналы» следует засыпать
«осколками умирающих от проказы, рассыпающихся
дворцов»; «внушительная геометрия металлических мос-
тов и гаубиц, увенчанных дымовым плюмажем», должна
разбить в прах «обваливающиеся изгибы старой архитек-
туры»; электричество должно прийти на смену солнечному
свету. И все это для того — позже Маринетти на какое-то
время сблизился с Муссолини, — чтобы создать индуст-
282
Венеция: история города
риальную, милитаризированную Венецию, которая «смо-
жет господствовать на Адриатическом море, этом огром-
ном Итальянском озере».
Литературные образы Венеции как разлагающегося
города, города декаданса распространились задолго до
того, как радикальные предложения Маринетти изящно
спланировали на Пьяццу. В начале XVII века Яго пред-
ставлял Отелло Венецию «богатых баловней своей от-
чизны» и женщин, которые «не от небес таятся, а от му-
жей». Но Яго — не самый достойный доверия свиде-
тель, и в целом репутация города в то время была совсем
иной. В Средние века и эпоху Возрождения иностранцы
приезжали в город, чтобы полюбоваться его красотой,
богатством, великолепными церемониями, образованны-
ми куртизанками и республиканской конституцией. За-
частую они любовались всем этим одновременно, вот по-
чему, наверное, стандартное определение Венеции как
«торжествующего города» столь часто цитируют в по-
священных ей книгах. Невозможно точнее описать од-
ним словом такие разные и волнующие грани одного и
того же города. (В начале пятой главы приводилась со-
ответствующая цитата Филиппа де Комина.)
Венецианский фон в пьесах эпохи Возрождения служил
удобным символом богатства и утонченности или, по край-
ней мере, их видимости. Крупные займы, снующие по все-
му свету торговые суда и «богатые наследницы» — ничего
другого и ожидать нельзя от пьесы под названием «Вене-
цианский купец», а «новости с Риальто» вполне могли на-
прямую касаться купцов, сидевших в зрительном зале шек-
спировского театра. В начале пьесы герой «Вольпоне» Бена
Джонсона просыпается и откровенно провозглашает:
«День, здравствуй! Здравствуй, золото мое!» И поскольку
284
Венеция: история города
просыпается он в Венеции, его аудитории представляется
весьма вероятным, что золота у него окажется много, и оно
будет стоить тех усилий, которые его не менее алчные на-
следники готовы затратить в надежде это золото присво-
ить. Один лишает наследства своего сына в пользу вроде
бы умирающего Вольпоне, другой, по натуре своей страш-
ный ревнивец, буквально подкладывает под него свою не-
винную молодую жену, а все вместе регулярно являются к
нему с подарками — туго набитыми кошелями или жемчу-
гом — в надежде уговорить его оставить им все свое со-
стояние.
Когда богатство Венеции не застило глаза приезжим
своим блеском, те с удовольствием читали о конституции
республики или даже изучали ее. Ведь только здесь, как
пишет Эдвард Мюир в «Гражданском ритуале в средневе-
ковой Венеции», предоставлялась возможность познако-
миться с республиканской идеологией, которая в кои-то
веки «шла рука об руку с настоящим, современным госу-
дарством». (В большинстве случаев рассуждения о том, как
обойтись без монарха, опирались на примеры Афин и пер-
вых лет существования Римской империи.) Небывалый
уровень независимости от папы и других католических
сил — вот еще одна черта, которая очень импонировала
приезжим протестантам и читателям. Юбер Ланже, пожи-
лой наставник сэра Филипа Сидни, настаивал, чтобы его
ученик ограничил свои итальянские путешествия в Венето.
В юности, в 1587 году, сэр Генри Уоттон (1568—1639),
впоследствии английский посол в Венеции, в Рим все-таки
ездил, но настолько опасался внимания инквизиции, что пе-
реоделся немецким католиком, «таким же фривольным в
мыслях, как и в одежде», с «громадным синим пером» на
шляпе. По этой причине самым востребованным товаром,
Литературная Венеция
285
экспортировавшимся на се-
вер, были писания фра Па-
оло Сарпи (1552—1623).
В 1606-м, когда Вене-
ции угрожал папский ин-
тердикт, юрисконсультом
Сената стал Сарпи, брат
ордена сервитов, родив-
шийся в Венеции. К тому
времени он уже был извес-
тен как теолог, юрист и уче-
ный; вместе с Галилеем он
работал над созданием те-
лескопа. И теперь в его
обязанности, которые он выполнял умело и убежденно, вхо-
дило защищать республику в ее противостоянии с папой в
вопросах церковных земель и того, должны ли священни-
ки, обвиняемые в тяжелых преступлениях, подлежать цер-
ковному или светскому суду. Интердикт был наложен, но
Венеция могла рассчитывать на поддержку большинства
стран, кроме Испании. Протестанты, естественно, присо-
единились к противникам папы, да и многие католики не
испытывали особого желания увидеть, как папа безраздель-
но контролирует светскую жизнь. В 1607-м все это вместе
взятое вкупе с пламенными речами Сарпи, помогло убе-
дить Рим уступить. Его работы, остроумные и хорошо аргу-
ментированные, такие как «Трактат об интердикте» («Trat-
tato dell’ Interdetto»), пользовались огромным успехом как
в Венеции, так и за ее пределами.
Через несколько лет после окончания кризиса Сарпи
закончил свое масштабное произведение — «Историю
Триентского собора», в котором едко критикует корруп-
286
Венеция: история города
цию и заговоры, поразившие святая святых великого цер-
ковного собора, осудившего Реформацию. Но так как Ве-
неция приняла продиктованные собором условия, книгу
пришлось публиковать в Англии (1619), где впоследствии
Сарпи получил от Джона Мильтона титул «Великий ра-
зоблачитель». Республика пока была сильна, защищала
своего верного слугу, однако лишь удача помогла ему уйти
из рук папских агентов, трижды покушавшихся на его
жизнь. Покушений могло быть и больше, если бы он опуб-
ликовал побольше своих pensieri (размышлений). В них
антиклерикализм Сарпи проступает явственнее. Дэвид
Вуттон даже утверждает, основываясь на этих рассужде-
ниях, что, по сути, Сарпи был атеистом («Паоло Сарпи:
между Ренессансом и Возрождением»). Бронзовую ста-
тую Сарпи (1892) можно увидеть в кампо Санта-Фоска у
моста, где на него впервые покушались в 1607 году и изу-
родовали лицо.
Подхалимы и куртизанки
Наиболее яркой фигурой представляется Пьетро Аре-
тано (1492—1556), известнейший венецианский сочини-
тель прежних времен. Он привлекал внимание публики сво-
ей острой сатирой и откровенными речами, оглушительным
смехом и беззастенчиво накопленным состоянием, эроти-
ческими произведениями и богатым личным опытом в этой
области, да и броской внешностью дородного, с огромной
бородищей, пышно разодетого господина. Родился он в
семье сапожника в Ареццо в Тоскане, на что указывает
выбранное им имя. Так высоко в жизни он смог подняться
благодаря одной лишь доблести своего пера, а в те дни по-
добное случалось нечасто. Какое-то время он учился рисо-
ванию и позже, в Венеции, стал близким другом Тициана.
Литературная Венеция 287
g молодости он работал в Риме, где его покровитель папа
Дев X сумел защитить Аретано от многих врагов, которых
тот высмеял в своих пасквилях. С преемником Льва отно-
шения у Пьетро сложились непростые, и в 1525 году он
покинул Рим. В 1527-м, когда германские войска импера-
тора Карла V разграбили Рим, Аретано предпочел вечно-
му городу сравнительно безопасную и терпимую Венецию.
Он приобрел покровительство дожа Андреа Гритти и его
сына Луиджи, льстил всем, кто занимал хоть сколько-ни-
будь значимое положение, и внес свою лепту в укрепление
мифа о Венеции. Он завоевал сердца венецианцев, публично
и вслух сравнивая продажный и беспокойный Рим со спра-
ведливой, либеральной и умиротворенной Венецией.
В письме одному из горожан он заявлял, что желает, что-
бы после смерти Господь превратил его в гондолу или хотя
бы в балдахин. Если же он просит слишком многого, пусть
ему будет разрешено стать веслом, уключиной, рулем. По-
тому что лучше быть дверью кампанилы Сан-Марко, чем
прогуливаться по райскому саду, даже если рай именно та-
ков, каким его описывают папы — впрочем, он умоляет
позволить ему усомниться, что хоть один папа когда-либо
оказывался в раю.
Вскоре Аретано поселился в Каза Аретано, прекрасном
дворце на Большом канале рядом с рио ди Сан-Джованни
Гризостомо. (Позже он также назывался палаццо Бола-
ни-Эриццо.) 21 октября 1537 года Аретано написал испол-
ненное благодарной лести письмо своему арендодателю
патрицию Доменико Болани. Он рассказывает о тысячах
людей в гондолах, которых видит из своих окон. Повсюду
Фрукты и овощи, отдельным островком сгрудились более
Двадцати парусных лодок, груженных дынями. Недавно ему
с большим удовольствием довелось наблюдать, как полная
лодка немцев, только что покинувших таверну, опрокину-
288
Венеция: история города
лась в холодные воды канала. (Их подворье, Фондако деи
Тедески, располагалось поблизости.) Но в другое время
великому насмешнику попадались на глаза и менее смехо-
творные предметы. Апельсиновые деревья «позолотили
фундамент» Палаццо деи Камерленги. Мимо проходят ре-
гаты. Ночью огни похожи на звездную россыпь. Среди его
соседей — «почтенный» Маффио Лиони (позже он пере-
даст французам несколько государственных тайн, и ему
придется спешно покинуть Венецию) и три его достойных
сына. В целом, с благодарностью уверяет Аретано Болани,
если в его произведениях и витает порой дух гениальности,
то только благодаря felicita ariosa, «счастливому воздуху»,
которым напоен этот дом. Однако в 1551-м ему пришлось
сменить тон, теперь каждая строчка писем к Болани ды-
шит оскорбленным достоинством — и все потому, что земле-
владелец отказался продлить срок аренды. Весьма вероят-
но, Аретано платил ему — если не полностью, то по боль-
шей части — лишь красивыми словами.
Интерьер дворца создавали такие выдающиеся друзья
съемщика, как Тициан и Сансовино. Тинторетто распи-
сывал потолки. Повсюду были выставлены подарки и пись-
ма сильных мира сего, иногда князей и принцев, вынуж-
денных платить ему за добрые слова о себе. И Карл V, и
его соперник Франсуа I поступали так не раз. Кроме того,
Франсуа прислал ему в 1533-м еще более двусмысленный
подарок — тяжелую золотую цепь с подвесками в виде
языка и надписью «Lingua eius loquetur mendacium» —
«Его язык лжет». Аретано это ничуть не смутило, и он
написал в ответ, что если так, то все его хвалебные речи
королю были далеки от истины. Англичане, в полном соот-
ветствии со своей репутацией на тот момент, попытались
совладать с ним не умом, а силой. В 1547-м, когда Арета-
Литературная Венеция
289
но пожаловался, что посол Харвелл задерживает деньги,
обещанные ему недавно умершим Генрихом VIII, слуги
Харвелла отлупили его дубинками до потери сознания.
Неясно, были ли обвинения обоснованными, но разразив-
шийся после избиения скандал принес Аретано и извине-
ния, и деньги.
Аретано продолжал щедро сорить деньгами, устраивать
развлечения для своих друзей, заводить романы и мимо-
летные связи, писать пьесы, памфлеты и свои «Ragiona-
menti»1 — рассуждения во славу проституции. 21 октября
1556 года, в таверне, в большой дружеской компании он
громко расхохотался над какой-то шуткой и вдруг упал, с
ним случился апоплексический удар. Вскоре он умер. По-
следние пять лет он прожил в особняке XIV века (№ 4168)
на рива дель Карбон и был похоронен в церкви Сан-Люка,
но могилы его там не найти.
Значительно меньше известно о современнице Арета-
но, Гаспаре Стампа (1523—1554). Вскоре после ее смерти
вышел «Rime di Madonna Gaspara Stampa»2 — большой,
разнообразный, исполненный сильного чувства цикл сти-
хотворений о любви (в основном, сонетов), продолжаю-
щих и развивающих традиции Петрарки. Стихи Петрарки
послужили одним из источников вдохновения, а неразде-
ленная любовь автора к графу Коллалтино ди Коллалто —
другим, более личным. Стампа переехала в Венецию с ма-
терью и сестрой в 1531-м после смерти отца, падуанского
ювелира. Дом этих женщин стал настоящим ridotto, что
означает в данном случае салон, место, где в узком кругу
читают стихи и исполняют музыку. Сестер Гаспару и
1 «Рассуждения» (um.).
2 «Рифмы мадонны Гаспары Стампа» (ит.).
Ю-6576
290
Венеция: история города
Кассандру хорошо знали как музыкантов. Некоторые ут-
верждают, что они, скорее всего, были и куртизанками,
потому что статус куртизанки — выше обычных прости-
туток, но позволяющий вести себя свободнее, чем прилич-
ные леди, — мог во многом благоприятствовать художе-
ственному саморазвитиию.
Вероника Франко (1546—1591), которая, несомненно,
была courtigiana onesta, куртизанкой высокого класса, очень
тонко чувствовала неопределенность своего положения.
Конечно, мужчины ценят ее стихотворения не меньше, чем
любовные услуги. В своих «Terze rime»1 ей удалось нару-
шить традиции Петрарки с его обычно пассивными жен-
скими образами, включив в сборник как традиционные сти-
хотворения в стиле Петрарки, написанные ее друзьями и
любовниками, так и свои собственные более убедительные
и искренние ответы. Но ее личное положение всегда оста-
валось достаточно уязвимым. Образованные патриции
Доменико и Марко Веньеры обращались с ней как с рав-
ной, чего не стали бы делать даже с представительницами
своего класса. Но Маффио, кузен Марко, мог безнаказан-
но написать ей сонет, начинавшийся словами «Veronica, ver
unica puttana» — «Вероника, поистине уникальная шлю-
ха». В ответном стихотворении она может только бросить
Маффио вызов, предложив сразиться с ней в словесном
поединке и предоставив ему выбирать оружие — родное
ли венецианское наречие или официальный тосканский,
стихотворный цикл или бурлеск. Или, в противовес Аре-
тано, чье отношение к проституции хорошо известно из
«Ragionamenti», в одном из своих «Писем близким» Фран-
ко настоятельно рекомендует знакомой не позволять доче-
ри становиться куртизанкой. Это ужасно, пишет она, от-
1 «Трехстишия» (um.).
Литературная Венеция 291
' - — —— — — ——
давать свое тело в рабство, подвергаться риску, что тебя
ограбят, убьют или заразят жуткой болезнью, «есть чужим
ртом, спать чужими глазами, двигаться, подчиняясь чужим
деланиям». Не говоря уже об адских муках и вечном про-
клятии.
И тем не менее сама Франко — представительница
именно этой профессии. Ее произведения помогали ей при-
влекать клиентов, на что и были рассчитаны. А как иначе,
если ее стихотворения, по словам Сары Марии Адлер, ре-
комендующие «здравый гедонизм», являют собой образ-
цы искусства, порожденного «не страданиями любви от-
вергнутой, но надеждами на любовь воплотившуюся, энер-
гией ее неудержимой сексуальности». Даже письмо об опас-
ностях профессии куртизанки помогало достичь той же
цели, подтверждая репутацию Франко как особы утончен-
ной, что, по крайней мере, могло помочь ей остаться среди
«лучших» и таким образом хотя бы отчасти избежать упо-
мянутых ею бед. Когда в 1580-м она предстала перед инк-
визицией по обвинению в ведьмовстве, связи в высшем
обществе и разумное, открытое поведение способствовали
скорому закрытию дела. Вероника в исполнении Кэтрин
Маккормак, несомненно, посрамила инквизицию в пере-
ломной сцене фильма Маршала Херсковица «Честная кур-
тизанка», основанного на ее произведениях и ее отношени-
ях с Марко Верньером, подробно описанных в одноимен-
ной книге Маргарет Розенталь.
Большие надежды
Франко, как и многие современные поэты, посвящала
свои произведения и восхвалению обновленной и блиста-
тельной Венеции, ее сверкающих дворцов и славного
прошлого. Но начиная с XVIII столетия описанием ее
10-
292
Венеция: история города
красот, живописных или волнующих сцен из ее жизни все
больше стали заниматься путешественники. К моменту
своего приезда они были преисполнены ожиданий, по-
рожденных картинами и гравюрами, историями, поэмами
и рассказами других туристов. И встреча с настоящей
Венецией могла еще больше духовно обогатить их, а мог-
ла и разочаровать.
Когда Уильям Бекфорд приблизился к городу со сторо-
ны Местре, он «начал различать Мурано, Сан-Микеле,
Сан-Джорджо в Альга и некоторые другие острова, рас-
кинувшиеся в стороне от большого скопления зданий, ко-
торое я приветствовал, как старого знакомого; бесчислен-
ные гравюры и рисунки давно уже сделали их очертания
привычными». Бекфорд считал себя знатоком искусства и
жизни и, даже не покидая Англии, мог похвастаться близ-
ким знакомством с Венецией. Но когда наконец видишь
город своими глазами, утверждает ирландская путешествен-
ница леди Сидней Морган, «он все еще предстает скорее
фантомом, чем фактом». Чарльз Диккенс в «Картинах
Италии» (1846) соглашается с ней, его Венеция похожа на
заколдованный город, на сон, по которому автор проплы-
вает легким облаком:
Мы проплывали мимо мостов, и тут тоже были ни-
чем не занятые мужчины, перегнувшиеся через перила;
под каменными балконами, повисшими на головокружи-
тельной высоте, под высочайшими окнами высочайших
домов; мимо маленьких садиков, театров, часовен, мимо
вереницы великолепных творений архитектуры — готи-
ческого и мавританского стиля, — фантастических, изу-
крашенных орнаментами всех времен и народов; и мимо
множества других зданий, высоких и низких, черных и
белых, прямых и покосившихся, жалких и величествен-
Литературная Венеция
293
ных, шатких и прочных. Мы пробирались среди сбив-
шихся в кучу барок и лодок и вышли в конце концов на
Большой канал. И здесь в стремительной смене картин,
мелькавших в моем сновидении, я увидел старого Шей-
лока, который прохаживался по мосту, застроенному
лавками и гудевшему от немолчного говора людей; в ка-
кой-то женщине, высунувшейся из-за решетчатых ста-
вен, чтобы сорвать цветок, мне почудилась Дездемона,
и казалось, будто дух самого Шекспира витает над во-
дой и над городом.
Но в образе города-сна чувствуется некоторая натяну-
тость, возникает ощущение, что автор далеко не так
взволнован, как ему кажется. И он старается вести себя
по отношению к Венеции по-диккенсовски, вместо того
чтобы просто на нее реагировать. Значительно проще и
естественнее Диккенсу даются описания тюрем дожа и
орудий пыток. Вероятно, ему стоило поподробнее остано-
виться на них или на зловещих, истинно диккенсовских
узких переулках, что стали настоящим источником вдох-
новения для романистов. Именно здесь разворачиваются
события большинства хороших «венецианских» романов,
а на долю Большого канала достаются только однообраз-
ные гимны его красоте.
У Райнера Марии Рильке были более длительные и
сложные отношения с городом: «Каждый раз, — писал
он в 1912-м, — мы как будто никак не можем закончить
отношения друг с другом, и хотел бы я знать, чего мы
ожидаем друг от друга». Он снова и снова приезжал
сюда в поисках ответа на этот вопрос, останавливаясь в
комнатах на Дзаттере или во дворцах друзей-аристокра-
тов — например в Пья Валмарина (палаццо Валмарина
на Сан-Вио), — но заключил в конце концов: «Я уже
294
Венеция: история города
использовал Венецию, как я уже использовал все, что
меня окружает, за эти последние несколько лет, требуя от
вещей большего, чем они могут дать... пытаясь напугать
их, решительно наставляя на них пистолет, заряженный
моими ожиданиями». Вдохновение пришло к нему в более
уединенной обстановке, значительно дальше по побе-
режью Адриатики в сторону Триеста. Здесь, в замке
княгини фон Турн унд Таксис, примостившемся на вер-
шине скалы, Рильке начал работу над «Дуинскими элеги-
ями» в 1911-м.
Байрон: «души моей кумир»
Больше всего надежд и ожиданий подарил читателям
Байрон в своем популярном «Паломничестве Чайлд Га-
рольда». Песнь пятая (1818) и ее знаменитое начало:
В Венеции на Ponte dei Sospiri,
Где супротив дворца стоит тюрьма,
Где — зрелище единственное в мире! —
Из волн встают и храмы и дома,
Там бьет крылом История сама,
И, догорая, рдеет солнце Славы
Над красотой, сводящею с ума,
Над Марком, чей, доныне величавый,
Лев перестал страшить и малые державы1.
У самого Байрона определенное представление о Вене-
ции сложилось за многие годы до того, как он поселился
там в 1816-м. С детства любил поэт «кумир души моей»,
«чудный град, рожденный из зыбей», где гостит радость,
1 Перевод В. Левика.
Литературная Венеция 295
--_---------------------------------------. — . - .
где рождается и приумножается богатство. Он стремился
в этот город, «всецело веря высоким лирам» Шекспира и
Томаса Отуэя (чья пьеса «Сохраненная Венеция» 1682 го-
да основана на событиях 1618 года, когда испанцы органи-
зовали заговор против республики). Байрон признавался
своему другу, поэту Томасу Муру: этот город «всегда был
(после Востока) самым цветущим островом моего вообра-
жения». И что же он увидел по прибытии? Австрийское
правление, ветшающий «Бучинторо», рассыпающиеся
дворцы и
Тоскует Адриатика-вдова:
Где дож, где свадьбы праздник ежегодный?
Казалось бы, иллюзии должны были развеяться как дым.
Но нет, напротив, эти картины только подкрепили его пред-
ставление о Венеции, где прошлое наполняет чувством на-
стоящее: «тысячелетняя свобода» республики осталась в
прошлом, но она все еще где-то здесь, и «в бедствиях, по-
чти забытый миром» город
...сердцу стал еще родней того,
который был как свет, как жизнь, как волшебство!
(«Venezia passatista!»1 — так и слышится недовольное
бормотание Маринетти.)
Такое вполне возможно во все еще окруженной морем
Венеции XIX века, где повсюду видны символы славного
прошлого, которое продолжает жить в литературе. Созда-
вая свой собственный мир, воображение может беспре-
1 Влюбленный в прошлое Венеции, страдалец по прекрасной
Венеции (ит.).
296
Венеция: история города
пятственно бродить в этом «рассаднике львов». Здесь Бай-
рон мог вести личную жизнь открыто, назло покинутой им
Англии. С тех самых пор, как он в ранней юности путеше-
ствовал по Средиземноморью в 1810—1812 годах, «отпра-
виться за границу» означало для него «вырваться на сво-
боду». Побег стал насущно необходим после весьма неудач-
ного брака с Аннабеллой Милбэнк и его скандальных по-
следствий. Большая часть светского общества, которая еще
недавно осыпала лестью автора первых двух песней «Чайлд
Гарольда» и экзотических восточных сказок, теперь под-
вергла его остракизму. Ходили слухи, что он сошел с ума.
Долги его продолжали расти быстрее прежнего. Вскоре
после того, как раздельное проживание с женой было офор-
млено официально, он уехал, потрепанный, но свободный,
на континент. В Венеции он воспользовался терпимым от-
ношением местных жителей к слабостям и пристрастиям
иностранного милорда.
В 1818—1819 годах Байрон жил в палаццо Мочениго
на Большом канале. Здесь у него было немало случайных
любовных связей (он заводил их не только в силу давней
привычки, но и с намерением насолить традиционному об-
ществу, которое он покинул или откуда был изгнан) и два
более продолжительных романа. Но, давая волю страстям,
поэт в то же время оставался и сторонним наблюдателем,
исследующим эти любовные истории как некий «венеци-
анский феномен». Марианна Сегати, жена «венецианско-
го купца», мануфактурщика, который весьма кстати часто
отлучался из города, была «совсем как антилопа» с «боль-
шими черными восточными глазами», какие редко встре-
тишь в Европе. Байрон терпел совершенно не по-англий-
ски кипучие страсти своих любовниц и наслаждался ими:
Сегати в припадке ревности отшлепала родственницу и без
Литературная Венеция 297
.—----
сил упала в его объятья; Маргарита Кони, famarina, или
ткена булочника, появившаяся в палаццо Мочениго в каче-
стве экономки, как-то раз отколотила свою соперницу: «все
смешалось — и сильно пострадали прически и носовые
платки», — а когда их отношения с поэтом подошли к кон-
цу, попыталась зарезать его и бросилась в канал. Правда,
в письмах Байрон может преувеличивать некоторые под-
робности, ведь он занят разработкой своего собственного,
изменчивого и постоянно обновляющегося образа.
Байрон безоглядно погружался в буйство карнавала, хотя
под конец даже и у него силы начали иссякать, и в минуту
усталости он отправляет своему другу Томасу Муру сти-
хотворение о том, что мечом уже истерты ножны, а ду-
шой — приютившая ее грудь.
И ночь — пора любовная,
А день развеет сны.
Но не скитаться больше нам
В сиянии луны.
В том, что написано в Венеции или о ней, нередко про-
глядывает меланхолия, охватывающая нас по окончании
праздника. Но не все время поэт предавался нежной печа-
ли, находилось время и для решительных действий. Буду-
чи прекрасным пловцом, однажды он проплыл от Лидо
вдоль всего Большого канала (около 6 километров). Этим
он претворял в жизнь свое убеждение, что дела значат боль-
ше, чем слова. И одновременно подтверждал уже вполне
сложившийся миф о себе. Сам Байрон больше ценил свой
ранний подвиг, когда, подражая легендарному Леандру, он
переплыл Геллеспонт. Но в Венеции подобное деяние об-
ретало особый смысл. Город был местом достаточно мис-
298
Венеция: история города
тическим, и соединиться с его водами означало причастить-
ся его мифа.
А иные водные приключения скорее заставят нас улыб-
нуться: ну чего можно ожидать от неуклюжих обитателей
сухопутных городов, если они вдруг оказываются там, где
на месте привычных улиц струятся воды каналов? И тем
не менее эксцентричный англичанин Фредерик Рольф,
«Барон Корво» (1860—1913), который жил в Венеции в
1908-м, сумел выйти из истории с неожиданным купанием
в рио ди Сан-Вио, пусть и с комическим, но достоинством.
В статье «О падении в канал», напечатанной в «Blackwoods
magazin» в 1913-м, он рассказывает о том, как однажды,
управляя гондолой, потерял равновесие, и, услышав испу-
ганные возгласы случайных прохожих, решил изобразить
«что-нибудь по-настоящему редкое и здравое, о чем мож-
но почесать языками». Он «проплыл, погрузившись под
воду, примерно тридцать ярдов вверх по рио и шумно вы-
нырнул (под гром приветственных криков) в совершенно
неожиданном месте, с абсолютно непроницаемым лицом и
неизменной трубкой в зубах».
Байрон покинул Венецию, прежде всего, потому, что
встретил там и полюбил графиню Терезу Гвиччиоли, за
которой последовал в ее родную Равенну. В свой венеци-
анский период он, к счастью, не только бурно жил, но и
много писал. Венецианская повесть «Беппо» в своей на-
меренной склонности к отступлениям и виртуозном ис-
пользовании восьмистиший стала предвестницей его ше-
девра — «Дона Жуана», начатого в палаццо Мочениго
летом 1818-го. Позже он написал две пьесы в стихах о
выдающихся фигурах из венецианской истории «Марино
Фальеро, венецианский дож» и «Двое Фоскари». Но
наибольшее влияние на несколько поколений европейцев
и американцев оказала четвертая песнь «Чайлд Гароль-
Литературная Венеция
299
да». Именно по ней судили о Венеции те, кому еще не
довелось увидеть ее воочию, ожидая, что предстоящая
встреча пробудит в них чувство соприкосновения с бы-
лым величием города и его чарующей меланхолией. Ши-
роко известный образ жизни Байрона укрепил репута-
цию Венеции как города декаданса, этому же способ-
ствовали воспоминания Казановы и рассказы о курти-
занках прошлого.
Взгляд Рескина
Среди тех, кто составил свое представление о Венеции
задолго до встречи с ней по «Чайлд Гарольду», был Джон
Рескин (1819—1900). Од-
нако в его произведениях и
рисунках Венеция зачас-
тую предстает как вполне
реальный город, очерчен-
ный более четко, чем в бай-
роновских образах. Он в
мельчайших подробностях
изучал памятники, стре-
мясь понять каждый мо-
тив, принципы построения
каждого узора, часто опи-
сывая и сохраняя для по-
томства детали, которые
скоро будут утеряны из-за
небрежного обращения или неверно проведенной рестав-
рации. С другой стороны, отношения Рескина с Венецией
по-своему не менее иллюзорны, чем байроновский «кумир
сердца» или растворенные в солнечном свете дворцы и ка-
налы, написанные У. Тернером в 1830-е. (Иллюстрации
300
Венеция: история города
Тернера к популярному изданию 1830 года поэмы Сэмюэ-
ля Роджерса «Италия», так же как и сама поэма, оказали
влияние на раннего Рескина.) Для него этот город — сон,
жаркая дискуссия, столкновение архитектурных и более
общих идей, принадлежавших разным людям. В «Камнях
Венеции» (1853) Рескин не устает говорить о том, что ар-
хитектурные стандарты отражают «моральный или амо-
ральный нрав государства»; византийский и готический.
Это не только архитектурные стили, но и результат общего
состояния нравственных устоев, что некогда отчетливее
всего проявилось, как видится Рескину, в Венеции. Готи-
ческое искусство, например, олицетворяет здоровое обще-
ство, в центре которого находится ремесленник. Ансамбли
эпохи Возрождения выглядят живописными только по кон-
трасту с их истинно готическими соседями или с повсед-
невной жизнью и зелеными морскими волнами. Со времен
Средневековья, за редким исключением (рассуждения Рес-
кина обычно завораживающе непоследовательны), балом
правили враги искусства и нравственности. Над Венецией
нависла угроза в лице модернизаторов с их уродливыми
газовыми фонарями «на высоких железных столбах по по-
следней бирмингтонской моде» (его передергивает от од-
ной мысли о серенадах при свете газовых фонарей) и более
всего — с их железнодорожным мостом, соединившим Ве-
нецию с материком в 1845-м.
Город все больше и больше приходит в упадок, в чем
отчасти повинны и те, кто, подобно самому Рескину в юно-
сти и его предшественникам-романтикам, бездумно восхи-
щается полуразрушенными старыми зданиями. Истинная
Венеция скрыта в тумане романтических мечтаний, и по-
следние триста лет немало ее изменили. «Энрико Дандоло
или Франческо Фоскари... в буквальном смысле слова не
узнают ни одного камня великого города»:
Литературная Венеция 301
-----—
Останки их Венеции, так пленявшие народ, сокрыты
за громоздкими массами старческой забывчивости, спря-
таны во множестве поросших травой двориков, безмолв-
ных переулках, погруженных во тьму каналах, медлен-
ные волны которых вымывали их фундаменты в течение
пяти сотен лет и скоро поглотят их навсегда.
А потому следует понять, что:
Мы должны поставить перед собой задачу тщатель-
но собрать их и воссоздать из них бледный образ утра-
ченного города, в тысячи раз более прекрасный, чем тот,
что существует сейчас, однако созданный не в мечта-
тельной задумчивости князя, не бахвальством знати, но
выстроенный железными руками и исполненными тер-
пения сердцами, вступившими в противоборство с не-
благожелательностью природы и людской ненавистью.
У таких абстрактных заявлений оказались и практиче-
ские последствия, так как Рескин оказал огромное влияние
на тех, кто от «тщательного собирания» перешел к чуткому
сохранению и восстановлению зданий.
Рескин, слишком страстно любивший свою работу, что-
бы терпимо относиться к несовершенству других людей,
сетовал позже, что туристы — которые теперь приезжали
все большими толпами по ужасному железнодорожному
мосту — привозят с собой «Камни Венеции», руководству-
ясь ими, чтобы побыстрее пройти «скучную процедуру зна-
комства с городом, съев должное количество мороженого
У “Флориана”, послушав музыку при лунном свете на Боль-
шом канале, вооружившись бумажными фонариками и ан-
глийскими газетами». Однако читателей пленяли не толь-
ко практические результаты его влияния, — в частности,
302 Венеция: история города
--------------------------------------------------—
вклад «Камней Венеции» в возрождение готики (которая
ему самому не нравилась) и в движение за спасение Вене-
ции, — но и то, о чем говорит Джен Моррис:
Он работал всегда, и когда был прав, и когда оши-
бался, с полной самоотдачей, точь-в-точь как средневе-
ковые мастера-каменщики, занимавшие его воображе-
ние, которые стояли на головокружительных лесах сво-
их башен или проходили по своим гулким подземельям в
уверенности, что совершают богоугодное дело.
Пруст и память
В мае и октябре 1900-го Марсель Пруст приезжал в
Венецию, отчасти чтобы поговорить с Рескиным, две
книги которого он переводил. Венеция, представшая ав-
тору «В поисках утраченного времени» (1913—1927), со-
всем непохожа на город абсолюта, какой ее видел Рескин.
Ее образ складывался из ожиданий и аллюзий из Рескина
и других источников, воспоминаний и едва ощутимых то-
чек соприкосновения. Молодой Марсель в книге «В сто-
рону Свана» так взволнован перспективой наконец-то по-
сетить Венецию и Флоренцию, которые существовали до
сих пор только в его воображении, так поражен близким
соприкосновением с реальностью, что, когда отец упоми-
нает об апрельских холодах на Большом канале и совету-
ет ему взять с собой теплую одежду, у него начинается
жар и он не может ехать. Много лет спустя в «Пропав-
шей Альбертине» (изданной сначала под названием
«Беглянка») он и его мать наконец проводят несколько
недель в Венеции. Она так и остается в каком-то смысле
воображаемым городом, описания подчеркивают не
столько некую непреложную сущность Венеции (вроде
Литературная Венеция 303
той, к которой стремился Рескин), сколько производимое
ею впечатление, то, как человек воспринимает и реконстру-
ирует ее. Особенно это заметно в одной сцене, когда автор
вместе с матерью входят в баптистерий в Сан-Марко
(важность этой сцены становится очевидной только в
последней части романа, «Обретенное время»):
...мы ступали по мрамору и стеклу мозаичного пола, пе-
ред нами открывались широкие аркады, в них узорные
розовые поверхности стали волнистыми от времени, а в
тех местах, где свежесть красок сохранилась, церковь
казалась сотворенной из мягкого и податливого веще-
ства, будто огромные восковые соты. Там же, где время
стерло и закалило материал, а художники украсили его
золотыми узорами, она походила на драгоценный пере-
плет из лучшей кордовской кожи для колоссального ве-
нецианского Евангелия. Увидев, что мне нужно провес-
ти какое-то время перед мозаикой, изображающей Кре-
щение Христа, и почувствовав ледяной холод, прони-
зывавший баптистерий, мать накинула мне на плечи
платок.
В «Обретенном времени» баптистерий неожиданно воз-
вращается. Подавленный, неспособный творить, не в си-
лах вернуть навеки ушедшую в прошлое радость, Марсель
случайно ступает на неровный булыжник внутреннего дво-
ра «Отель де Германт». Радость возвращается к нему без
всякой видимой причины. В его сознание врывается глубо-
кая синева, прохлада и ослепительный свет. И наконец он
понимает, что это была Венеция — место, где они с ма-
терью стояли на неровном мозаичном полу баптистерия.
И от этого непроизвольного воспоминания смерть вдруг ка-
жется ему чем-то незначительным, рассказчик снова воссо-
304
Венеция: история города
единяется с утраченным было прежним «я» и его пережи-
ваниями, и теперь у него достаточно уверенности в себе,
чтобы взяться за книгу, которую, насколько мы можем ви-
деть, он и написал. Ему больше не нужно искать в окружа-
ющей действительности то, что он обрел в своем внутрен-
нем мире.
Смерть в Венеции
Густав фон Ашенбах из «Смерти в Венеции» Томаса
Манна не может ни упорядочить свои отношения с реаль-
ной Венецией, ни ускользнуть от нее. Сам Манн отдыхал с
женой и братом в «Отеле де Бэн» на Лидо летом 1911-го с
менее тяжкими последствиями. Там он наблюдал за
польским мальчиком Владиславом Моесом, послужившим
прообразом Тадзио из его новеллы. (Внешность Ашенба-
ха Томас Манн списал с умершего незадолго до этого Гус-
тава Малера, с которым был знаком. А с тех пор как Лу-
кино Висконти использовал «Адажиетто» Пятой симфо-
нии в своем фильме по этой новелле, снятом в 1970 году,
герой, возможно, стал еще больше напоминать Малера.)
Ашенбах, известный писатель, до сих пор во всем повино-
вался воле Аполлона — высокого искусства, а не Диони-
са — безудержного удовольствия. В Венеции, свободный
от чувства долга и традиционных норм морали, он стреми-
тельно и безоглядно влюбляется в прекрасного юношу. Вы-
ходившее из моря «живое создание в своей строгой пред-
мужественной прелести, со спутанными мокрыми кудрями
пробудило в нем <...> мифические представления. Слов-
но то была поэтическая весть об изначальных временах, о
возникновении формы, о рождении богов». Ашенбах на-
чинает бездумно преследовать Тадзио и его сестер. «Он
Литературная Венеция 305
шагал вперед, повинуясь указанию демона, который не знает
лучшей забавы, чем топтать ногами разум и достоинство
человека». Венеция, давно пережившая свой золотой век,
вносит свой вклад в это гнетущее ощущение: когда гондола
Ашенбаха следует за гондолой Тадзио, воздух был напол-
нен запахом гнили, «солнце томительно пекло сквозь дым-
ку испарений»...
Мраморные ступени какой-то церкви сбегали в воду;
старик нищий прикорнул на них и с жалобными причи-
таниями протягивал шляпу, показывая белки глаз — он-
де слепой. Торговец стариной, стоя возле дыры, в кото-
рой гнездилась его лавчонка, подобострастными жеста-
ми зазывал проезжего в надежде основательно его на-
дуть. Это была Венеция, льстивая и подозрительная
красавица, — не то сказка, не то капкан для чужезем-
цев; в гнилостном воздухе ее некогда разнузданно и буй-
но расцвело искусство, и своих музыкантов она одарила
нежащими, коварно убаюкивающими звуками.
Этот город «недужен, но скрыл свой недуг из любви к
наживе», здесь отравлен не только душный, знойный воз-
дух, в котором так легко распространяется холера, но и люди
(хозяева гостиницы, чиновники и прочие), которые отри-
цают сей факт в корыстных интересах.
Ашенбах пытается уехать, добирается до вокзала — и
обнаруживает, что его багаж отправили в неверном направ-
лении. Вот и найден предлог, за который он с восторгом
хватается, чтобы вернуться в гостиницу. (Этот мотив —
насколько трудно покинуть Венецию — встречается не
единожды. Родон Браун в сонете Браунинга тоже никак
не может уехать. Марсель в «Пропавшей Альбертине», уже
306
Венеция: история города
запланировав день отъезда, чуть не остается в городе и толь-
ко в последний момент садится в поезд вслед за матерью.)
Ашенбах пытается упрекнуть себя за то, что опустился
до уровня безумных дионисийцев, которые в его сне «зу-
бами рвали клочья дымящегося мяса, когда на изрытой
мшистой земле началось повальное совокупление — жертва
богу. И его душа вкусила блуда и неистовства гибели». Но
он не в силах освободиться и, наблюдая за Тадзио на пля-
же в то утро, когда семья поляков должна уехать, поддает-
ся болезни и умирает. Любовь и смерть смешиваются вое-
дино: «ему чудилось, что бледный и стройный психагог
издалека шлет ему улыбку, кивает ему, сняв руку с бедра,
указует ею вдаль и уносится в роковое необозримое про-
странство...»
Зловещая Венеция Манна, возможно, одна из самых
знаменитых, хотя его больше интересует борьба сил Апол-
лона и Диониса, олицетворяющих север и юг. Как пишет
Рональд Хеймен в биографии Манна, «Смерть в Венеции»
выражает «сожаления автора о том, что он слишком мно-
гое принес в жертву Аполлону и слишком мало пожертво-
вал Дионису». В то же время она выполняет роль отдуши-
ны: «анархические побуждения проецируются на персо-
наж... как часть тщательно структурированного и выверен-
ного повествования». Были и другие зловещие Венеции: в
новеллах и романах XIX века нам открывается мир, пол-
ный опасностей, случайных и несправедливых арестов и
трупов, сброшенных в каналы, а слушая «Сказки Гофма-
на» Жака Оффенбаха, мы попадаем в город чувственный
и поверхностный. Во дворце с видом на канал верный, бла-
горазумный друг Гофмана (его муза в человеческом обли-
чье) Никлаус поет с вызывающей всеобщее восхищение
куртизанкой Джульеттой знаменитую баркаролу во славу
соблазнительницы-ночи «Belle nuit, 6 nuit d’amour...». Вы-
Литературная Венеция 307
полняя волю дьявола, принявшего облик капитана Дапер-
тутто («Повсюду»), Джульетта предлагает Гофману свою
любовь в обмен на его отражение (это «фантастическая
опера» по мотивам сказок Э. Т. А. Гофмана). Потом Ник-
лаус убивает соперника на дуэли услужливо протянутой ему
Дапертутто рапирой, а за сценой хор, будто в насмешку,
продолжает петь «belle nuit... plus douce que le jour». И за
все свои страдания ему удается только мельком увидеть
Джульетту, проплывающую мимо в гондоле в сопровож-
дении дьявольского капитана. Тема баркаролы появлялась
и в более раннем произведении Оффенбаха в связи с Рей-
ном, а не Большим каналом. С венецианскими же сценами
возникли определенные трудности, так как композитор
умер, не успев их доработать, но облик этого жестокого и
прекрасного города навсегда останется связан со «Сказка-
ми Гофмана».
Не менее опасным является и современное реалистич-
ное место действия детективной новеллы Майкла Дибди-
на «Мертвая лагуна», где детектив Аурелио Дзен, вернув-
шись в родную Венецию, сталкивается с коррупцией тако-
го масштаба, какой даже ему еще не доводилось встречать.
Жизнь здесь угасает, потому что процветают только те
районы, которые интересуют туристов, остальные посте-
пенно пустеют. Кампо не так уж давно, еще в детские годы
Дзена, представлявшаяся «величественной, исполненной
глубокого смысла, населенной множеством разнообразных
и любопытных жителей всякого возраста и характера, не-
угомонной, но гармоничной», теперь выглядит «истощен-
ной, жалкой и пустынной». В газете детектив находит за-
писи о шести рождениях и двадцати одной смерти.
Двадцать один уникальный и невосполнимый кладезь
местного образа жизни и традиций потерян безвозврат-
308
Венеция: история города
но, что же до шестерых новых горожан, по крайней мере
четверо из них будут вынуждены эмигрировать в поис-
ках работы и жилья. Еще через пятьдесят лет ни одного
венецианца не останется в помине.
Существует опасность, настаивают венецианские сепа-
ратисты, что все связи с прошлым окажутся разорваны и
город уцелеет только в виде «“Венецленда”, дочерней ком-
пании “Диснейленда”, где актеры в костюмах дожей и чле-
нов Совета Десяти будут разгуливать между павильончи-
ков “Макдональдса”». Но, возможно, именно такому ва-
рианту развития событий как раз и способствует само дви-
жение сепаратистов, которое в романе поражено коррупцией
на самом высоком уровне. «Мертвая лагуна» замечательна
своими убедительными описаниями венецианских баров,
улиц и публики, путешествующей на вапоретто. Стоит об-
ратить внимание и на ту главу, где описана ночная погоня
от Каннареджо через весь город к Лидо, пешком и на лод-
ках. А начинается роман примерно в центре дибдиновско-
го варианта города, на заросшем, кишащем змеями острове
Сант-Арьяно, за которым простираются «безлюдные бо-
лота и соляные равнины laguna morta — мертвых топей,
не знающих живительного приливного течения». Венеция
как фон повествования важна и для Донны Леон в ее серии
книг о комиссаре Гвидо Брунетти. Он сталкивается с кор-
рупцией в высших кругах, сомнительными барами, трупа-
ми в каналах и даже со случаем отравления дирижера во
время представления «Травиаты» в «Ла Фениче».
В «Утешении странника» Иена Макьюена двое англи-
чан, приехавшие сюда отдохнуть, идут навстречу своей
судьбе по внешне более привычной Венеции. Но все при-
знаки грядущей опасности присутствуют в их окружении с
Литературная Венеция
309
самого начала. И это особенно заметно при повторном про-
чтении. Колин и Мэри оказываются вдали от дома, в горо-
де, где новичок непременно заблудится, и город этот очень
похож на Венецию, хотя ее имя ни разу не появляется на
страницах книги. Череда событий приводит эту пару в са-
мые невероятные места и ситуации, они становятся жерт-
вами обманов, к которым оказываются совершенно не го-
товыми, поскольку привыкли, скорее, к доверительным от-
ношениям. Как и в других романах Макьюена, окончание
следует читать только тем, у кого крепкие нервы. Таящую
опасность Венецию можно встретить и в более широком
контексте в «Природе крови» Кэрила Филлипса, где пе-
реплетаются три истории: о жертве Холокоста, о евреях
подконтрольной Венеции общины Портобуффоле XV века,
обвиненных и казненных за убийство, которого они не со-
вершали, и о чернокожем генерале, которого автор все бо-
лее и более очевидно ассоциирует с Отелло: его принима-
ют в высшем венецианском обществе только до тех пор,
пока в нем есть необходимость.
Вымышленную, воссозданную Венецию, Венецию де-
каданса, упадка, но все же не зловещую и совершенно не-
опасную, тоже можно найти в литературе. «Это город ма-
сок и карнавальных костюмов», — говорит о Венеции на-
чала XIX века Вилланелль, одна из рассказчиц, в романе
Джанет Уинтерсон «Страсть» (1987). «То, чем ты явля-
ешься сегодня, ни в чем не ограничит тебя завтра. Ты мо-
жешь исследовать себя совершенно свободно, и если у тебя
есть ум или деньги, никто не встанет у тебя на пути. Этот
город зиждется на разумном расчете и деньгах, и мы сим-
патизируем и тому и другому, хотя они не обязаны всегда
появляться рука об руку». Вилланелль, наследница вене-
цианских гондольеров, и сама действует исходя из этих
310
Венеция: история города
убеждений, особенно в первой части романа, когда, меняя
обличья, появляется в казино в самых разных ролях — муж-
ских и женских.
Генри Джеймс
Генри Джеймса можно отнести к числу тех авторов, ко-
торые наряду с Рескиным оказали наибольшее влияние на
формирование образа Венеции в умах читающей публики.
Впервые он посетил город в 1869 году, а в 1907-м приехал
сюда в последний раз. Писатель остро чувствовал, что с
течением времени город все больше и больше коммерциа-
лизируется; к 1882 году он превращается в «большой ба-
зар», и «изысканное пространство» Сан-Марко, заполо-
ненное местными жителями, стремящимися уговорить вас
воспользоваться их услугами, становится «величайшим ба-
лаганом». Публикуя свои ранние эссе в составе сборника
«Итальянские часы» (1910), Джеймс отметил в предисло-
вии: «Нежная привлекательность данного наблюдателя
заключается целиком в аспектах и внешних проявлениях —
и более всего в изображении вещей такими, какими они
были когда-то». Но то, как он воскрешает в памяти эти
«аспекты и внешние проявления» — картины, здания, ат-
мосферу, игру света, «старую итальянскую любовь к на-
броскам», и теперь наполняет жизнью восприятие города.
Эссе описывают, в задумчивой джеймсовской манере, все
те же городские достопримечательности. («Как печально
известно, уже давно невозможно сказать ничего нового» о
Венеции, «но все-таки не запрещено говорить и о вещах
знакомых, и я полагаю, что для настоящего любителя Ве-
неции разговор о ней всегда к месту».) Но временами чи-
татель получает и более интересную возможность навестить
уголки, дорогие самому автору — например, Ка’ Алвизи у
Литературная Венеция
311
устья Большого канала, где жила американская эмигрант-
ка Кэтрин де Кей Бронсон.
Родилась Бронсон в Бостоне. Долгие годы она была
подругой и преданной поклонницей Роберта Браунинга,
которого принимала и развлекала и здесь, и в своем доме в
Азоло. (Ей также принадлежал дворец Джустиниани-Ре-
канти, соседствовавший с Ка’ Алвизи.) Джеймс в числе
многих других гостей нередко бывал в доме, что стал те-
перь частью отеля «Европа-Регина». Дом Бронсон напро-
тив церкви Санта-Мария делла Салюте играл
...роль дружелюбной частной ложи в лучшем ярусе зри-
тельного зала; с ее обитых подушками передних сиде-
ний можно окинуть взглядом всю сцену, а боковые ком-
наты предназначены для более абстрактных бесед, для
легкого — до тех пор, пока его легкость не становится
тяжеловата, — многоязычного разговора, изысканных
bibite\ и изысканных же свернутых сигарет прямо из рук
хозяйки, которая прекрасно умела делать все, чего тре-
бовала ее роль: создавать между людьми отношения и
поддерживать их, поднять тему и оборвать ее, сделать
так, чтобы превосходный табак и маленькие позолочен-
ные бинокли путешествовали из рук в руки безо всякого
ее участия, и все это — не поднимаясь с мягкого дивана
и не изменяя своему благодушному настроению.
Венеция словно была создана специально для нее:
«Древняя, яркая традиция, чудесная венецианская легенда
понравилась ей сразу, они соткали вокруг нее этот дом,
вплоть до ступеней пристани, где плещется вода, где тол-
пятся в ожидании гондолы, очень похожие, вообще-то, на
1 Напитки (ит.).
312
Венеция: история города
призраков покойного карнавала... все еще играющих некую
замогильную роль». Знакомая венецианская картинка: оча-
рованный замок, к которому приближаешься по воде и где
будто по волшебству появляются и передаются из рук в руки
приятные вещи. Слуги и гондольеры не упоминаются, чув-
ствуешь некоторое облегчение, когда Джеймс далее гово-
рит о том, как добра была Бронсон к местным жителям,
как «обновляла их лодки» и помогала им в беде. И здесь
царил дух не соблазнительницы-Джульетты из «Гофма-
на», а спокойной в свои неюные уже года и уравновешен-
ной миссис Бронсон.
Еще один дом, куда мысленно наведывается Джеймс, —
палаццо Барбаро, где ему случалось быть гостем у Дание-
ля и Анны Кертис, а позже — у Изабеллы Стюарт Гард-
нер, которые практически превратились в местных жите-
лей. (Хороший вид на дворец открывается из пиццерии
напротив, рядом с мостом Академиа.) Он послужил ос-
новным источником вдохновения при создании палаццо
Лепорелли в «Крыльях голубки» (1902). В этом произве-
дении позднего Джеймса, написанном в сложном, тонком,
зачастую трудном для понимания стиле, требующем уме-
ния читать между строк, дворец и город зачастую скорее
предполагаются, чем описываются. Но нам удается украд-
кой бросить взгляд на «высокие яркие комнаты» Лепорел-
ли, где
...на пожизненном глянце холодного твердого каменно-
го пола метались отражения и где солнце дрожало на
беспокойной морской воде и, отбрасывая блики через от-
крытые окна вверх, играло на нарисованных «сюжетах»
роскошных потолков прекрасными печальными оттен-
ками пурпурных и коричневых медальонов, будто отли-
Литературная Венеция
313
тых из старого покрасневшего золота, рельефных, уви-
тых лепными лентами, оттененных временем, украшен-
ных завитками и фестонами, утопленных в свои велико-
лепные большие фигурные ниши.
Для умирающей Милли Тил «роман заключался в том...
чтобы сидеть здесь вечно, как в замке», но махинации бо-
лее практичных персонажей ее истории немало осложнили
ее последние дни.
Пожилая леди и ее племянница в «Письмах Асперна»
(1888) обитают в венецианском дворце совсем иного рода:
обветшалом, огромном, расположенном на маленьком ка-
нале — и почти не соприкасаются с внешним миром. Дей-
ствие истории разворачивается здесь, а не во Флоренции,
отчасти из-за того, что Венеция издавна считается отдель-
ным миром, и подобная изоляция выглядит на фоне ее де-
кораций достаточно естественно, а традиционная венеци-
анская яркость, полноцветность и праздничность позволя-
ет создать яркий контраст. Именно во Флоренции, как
выяснил Джеймс, Клэр Клэрмонт, сводная сестра Мери
Шелли, близкий друг П. Б. Шелли и мать ребенка Байро-
на, прожила до 1897 года, на многие годы пережив своих
знаменитых друзей и родственников. История основана
отчасти на реальных попытках одного поклонника Шелли
получить доступ к его письмам, хранившимся у этой леди и
ее племянницы. «Гнусный писака», как выражается герои-
ня «Писем Асперна», прототипом которой послужила Клэр
Клэрмонт, не останавливался практически ни перед чем,
чтобы достичь своей цели, беспардонно врываясь в част-
ную жизнь двух женщин. Целью одного печального визита
Джеймса в Венецию, после самоубийства его близкой под-
руги, романистки Констанс Фенимор Вулсон в 1894-м, было
314
Венеция: история города
сохранить, насколько возможно, тайну их отношений, ко-
торую деликатно и трогательно исследовал Линдолл Гор-
дон в книге «Частная жизнь Генри Джеймса: две женщи-
ны и его искусство». Перенеся место действия в другой
город и сделав знаменитого поэта американцем, Джеймс
предупреждал возможные обвинения в том, что сам ведет
себя аналогично бесчувственно. То, что Асперн — амери-
канец, а женщины — американки-эмигрантки, теперь уже
не принадлежащие ни к одной конкретно нации, позволяет
Джеймсу исследовать неизменно интересующий его во-
прос — столкновение Нового и Старого Света.
Герою «Писем Асперна», от лица которого ведется рас-
сказ, удалось за непомерные деньги снять комнаты в инте-
ресующем его палаццо, и теперь ему остается только ждать
возможности претворить в жизнь свои замыслы. Время от
времени он бродит по городу, описывая его почти так же,
как и сам Джеймс в своих ранних путевых заметках, но все-
таки слишком отчетливо осознавая свои личные «изыскан-
но-сильные впечатления». Однажды он катает мисс Тину
(мисс Титу в более ранней версии) на гондоле по городу и
показывает ей чудеса, которых она уже много лет не виде-
ла. Все его мысли настолько заняты единственной целью —
получить письма Асперна, что для него станет полной не-
ожиданностью, когда после смерти тети Джулианны Тина
предложит их ему в обмен на его руку и сердце — условие,
которое он еще не готов выполнить. Несколько раньше, в
одной из самых запоминающихся сцен произведения, сама
Джулианна неожиданно застает его посреди ночи, когда
он в отчаянии пытается взломать ее стол. И только тогда
он видит те «необыкновенные глаза», что некогда завора-
живали поэта, а теперь почти всегда скрыты за зеленым
козырьком от солнца: «Они гневно сверкали, они ослепи-
Литературная Венеция
315
ли меня, как внезапный свет газового рожка слепит пой-
манного на месте преступника, они заставили меня сжать-
ся от стыда».
Человек творчества, художник, Асперн, или Джеймс, не
вызвал бы того же осуждения, как человек, стремившийся
всего лишь опубликовать чужие документы. В предисловии
1908 года к «Женскому портрету» (1881) Джеймс иссле-
дует некоторые аспекты творчества в пассаже, достаточно
правдиво раскрывающем и тонкие нюансы его письма и дух
Венеции. На последних этапах работы над романом он жил
на верхнем этаже здания, где сейчас расположен «Панси-
он Уайлдер», дом номер 4161 по рива дельи Скьявони, и
из его окна открывался широкий вид на Сан-Джорджо
Маджоре.
Жизнь у воды, изумительная лагуна, раскинувшаяся
передо мной, и неутихающий людской говор Венеции
проникали в мои окна, которые, мне кажется, постоянно
притягивали меня в бесплодной суете сочинения, как
будто я хотел проверить, не покажется ли на синем ка-
нале, словно еще один корабль, некое верное предполо-
жение, более удачная фраза, следующий радостный по-
ворот моего сюжета, еще один правдивый мазок на моем
полотне.
Такие сцены, к сожалению, «сомнительная помощь,
когда необходимо сосредоточиться, если не они сами явля-
ются объектом работы». Но в конце концов «усилия, вро-
де бы тщетно растраченные в попытках сосредоточиться»,
часто оказываются «странным образом плодотворными»,
и потому и «Женский портрет», и «литературные усилия в
целом» будут только лучше оттого, что
316
Венеция: история города
...есть страницы в этой книге, перечитывая которые я
снова видел ощетинившийся изгиб широкой рива, круп-
ные цветные пятна домов с балконами и повторяющую-
ся волнообразность горбатых мостиков, по которым, под-
нимаясь и спадая вновь, течет поток уменьшенных в пер-
спективе пешеходов. Венецианская походка и голос Ве-
неции — любая речь, где бы она ни была произнесена,
звучит так, будто собеседники перекликаются через вод-
ную гладь, — опять появляются за окном, возвращая
старые ощущения: радость наблюдения и усталость из-
мученного противоречиями сознания.
Глава десятая
Окрестности Венеции: Венето
«Венеция — это место, где можно красиво умереть, —
написала Вирджиния Вульф другу в апреле 1904-го, — но
жить здесь... никогда еще обстановка меня не угнетала так
сильно — это некоторое преувеличение, но город действи-
тельно смыкается вокруг тебя и через какое-то время на-
чинаешь чувствовать себя птицей в клетке». Она посмо-
трела картины Тинторетто, «профланировала в гондолах»
и поела мороженого у «Флориана», но город ей не понра-
вился. Девять лет спустя в письме сестре Ванессе она на-
зывает его «омерзительным», но признает, что «более уеди-
ненные богатства могут оказаться красивы». Вульф уехала
во Флоренцию, но можно было бы найти что-нибудь инте-
ресное и поближе.
Проезжая по автомобильному или железнодорожному
мосту, созерцая в окно дым, контейнеры, краны и красно-
белые башни Маргеры, вы как будто приближаетесь к дру-
гому миру — процветающему промышленному центру или
одному из кругов дантова Ада. Вскоре все это остается
позади, и теперь вас окружают дороги, поля, лужайки, за-
росшие буйной итальянской растительностью, которую ред-
318
Венеция: история города
ко приметишь в Венеции. Возвращаются тополя, олеанд-
ры и виноградники. А также все прелести и опасности ав-
томобильного путешествия: старенький «фольксваген»
пытается повернуть налево, а сотня «фиатов» сигналят изо
всех сил позади и впереди него. В городках молодые жен-
щины в темных очках и безо всяких шлемов с легкостью
вылетают из-за угла или проносятся через пьяццы на ску-
терах и мотоциклах. Но немало деталей связывает Венето
с городом, которому он был подвластен с XV по XVIII век:
общая история, крылатые львы на площадях, общее насле-
дие — работы Веронезе и Палладио, например. Вместе с
материковым доминионом республике достался и выдаю-
щийся Падуанский университет, она получила доступ к
розовому веронскому мрамору, который вместе с белым
камнем Истрии (теперь — Хорватии) можно увидеть во
многих церквях и дворцах.
Венеции удалось сгладить неловкую ситуацию, сложив-
шуюся в 1488-м, даровав Азоло, обнесенный крепостной
стеной городок на вершине холма рядом с Бассано дель
Траппа и Тревизо, — Катерине Корнаро, королеве Кип-
ра. В 1468-м, в возрасте четырнадцати лет ее отправили на
остров, чтобы выдать замуж за кипрского короля Джейм-
са. Поддерживала ее республика, которая надеялась уси-
лить свое влияние в данном регионе. В целом Венеции это
удалось, но на долю рано овдовевшей Катерины выпало
немало горя. Большую часть следующих двадцати лет она
оставалась пешкой, а иногда — пленницей Венеции и мно-
гочисленных соперничающих групп на острове. В конце
концов ее убедили уступить свой трон республике в обмен
на щедрую пенсию и Азоло в качестве феодального лена.
Здесь она царствовала с 1489 по 1509 год, окруженная
изысканным двором, описания которого попали на страницы
320
Венеция: история города
гуманистических диалогов о любви «Азоланских бесед»
(1505), вышедших из-под пера ее земляка Пьетро Бембо.
Какой бы ни была ежедневная жизнь при дворе Кате-
рины, Бембо окружил и ее, и Азоло мифическим орео-
лом, сохранившимся даже несмотря на то, что к 1820 го-
ду от ее «дивного и приятного замка... построенного на
холмах у наших гор, откуда видны болота Тревизо», ос-
талась одна-единственная башня. И этот миф, и вид на
болота понравился и Кэтрин де Кей Бронсон (ей нрави-
лось, когда ее сравнивали с королевой Катериной), и ее
другу Роберту Браунингу. Нынешняя вилла Бронсон не-
когда была частью бастиона, отсюда и название — Ла
Мура. Здесь Браунинг написал отдельные стихотворения
из своего последнего сборника «Азоландо» (1889), оза-
главив их, как он говорил Кэтрин, «именем, которое на-
род приписывает изобретательности» Бембо: слово «aso-
1аге» ныне означает резвиться на открытом воздухе, забав-
ляться. Его собственные забавы требовали от семидесяти-
летнего мужчины больших усилий, чем от придворных,
описанных Бембо, их изысканные речи. Браунинг любил,
например, взобраться на развалины старинной городской
крепости — Рокка. Там его позабавило, что в нем узнала
«великого английского поэта» не какая-нибудь трепетная
почитательница, а женщина, которая ютилась со своей
семьей в жалкой лачуге, где хранились ключи. «Я узнала
вашу рубашку, — объяснила она. — Мои друзья глади-
ли ее на прошлой неделе».
А прохладным вечером на лоджии в Ла Мура «неуто-
мимый» поэт, как вспоминает восхищенная Бронсон, вгля-
дывался в расстилавшуюся перед ним равнину и рассказы-
вал окружающим о давнем прошлом этих мест, с которым
он познакомился во время своего первого визита в Венето
в 1838 году.
Окрестности Венеции
321
События, произошедшие здесь в XIII веке, произвели
столь сильное впечатление на Браунинга, что он включил
их в свои поэмы «Сорделло» и «Проходит Пиппа». И те-
перь он показывал собеседникам развалины крепости, при-
надлежавшей в те дни жестокому правителю Тревизской
Марки Эццелино III, которого Данте заключил вместе с
другими тиранами в седьмой круг своего Ада. А если слу-
шатель казался заинтересованным — остается надеяться,
Браунинг, знаменитый на склоне лет своей разговорчиво-
стью, правильно истолковывал его реакцию, — поэт упо-
минал и о случившемся в Сан-Дзеноне, описывая «сцены
ужаснейшей в истории трагедии». Несколькими «пламен-
ными фразами» он излагал «историю Альберико, предан-
ного в его последнем убежище», и сообщал о том, как Тре-
визани, вознамерившись стереть род Эццелини с лица зем-
ли, умертвили Альберико, его жену и пятерых его детей,
подвергнув их неописуемо зверским пыткам.
Кроме этих «ужасных средневековых воспоминаний»
Венето хранит и память о римлянах — с тех самых пор,
когда он был процветающей провинцией, не интересовав-
шей таких людей, как семья Эццелини или их убийц, не
говоря уже об Аттиле и Наполеоне.
В Алтино, к северо-востоку от лагуны, от Алтинума
практически ничего не осталось, разве что маленький му-
зей, где представлена неплохая коллекция мозаики, погре-
бальных бюстов и артефактов, оставшихся от города, иг-
равшего некогда немаловажную роль в жизни страны, за-
строенного виллами, которые, по утверждению поэта Мар-
циала, были достойны сравнения с роскошными жилищами
Байи в Неаполитанском заливе, города, превратившегося
в место пересечения крупнейших римских дорог, связав-
ших этот район с Болоньей и Римини на юге, Генуей на
западе, за Альпами, и Аквилеей на востоке.
11 -6576
322
Венеция: история города
Дальше по побережью в сторону Триеста находится
Аквилея, основанная в 181 году до н. э. в качестве римской
колонии. Постепенно она превратилась в город с населе-
нием в 100 000 человек, знаменитый своей резьбой и янта-
рем. Руины гавани, форума, амфитеатра, бань, домов, хри-
стианских часовен и захоронений этого древнего города
можно увидеть и сегодня. О богатстве и трудолюбии жи-
телей Аквилеи — они были предками венецианцев, так же
как и жители Алтино, Падуи и многих других городов —
можно судить еще и по большому количеству мозаики в
двух музеях и базилике патриарха Феодора IV века н.э.
Мозаика в базилике сохранилась особенно хорошо: Иона,
проглоченный извилистым созданием кельтского вида, ско-
рее похожим на морского змея, чем на кита; Победа, тра-
диционно языческая фигура, крылатая и с цветочной гир-
ляндой — здесь она, возможно, изображает христианскую
победу, достигаемую через крещение и мученичество; кор-
зины фруктов и грибов; дерущиеся петух и черепаха и дру-
гие животные, уже не столь воинственные: баран, газель,
коза, рысь, фазаны, павлины. Еще больше искусной моза-
ики раннего Средневековья в соборе Градо, к югу от Ак-
вилеи.
Несколько столетий после того, как Аттила разорил го-
рода на материке, все внимание Венеции было сосредото-
чено на востоке. Но когда — в основном в XV веке — в
политических и военных делах республики стал фигуриро-
вать Венето, ей пришлось завязать более близкие отноше-
ния с материком.
Архитекторы и художники довольно свободно передви-
гались по венецианской территории, работали и в церквях,
и в городских дворцах, и в сельских виллах, которые все
больше и больше пользовались популярностью у знати.
Одна из самых красивых вилл была построена в Мазере,
Окрестности Венеции
323
неподалеку от Азоло, венецианскими патрициями, братья-
ми Маркантонио и Даниеле Барбаро. Даниеле в разное
время был послом в Англии, избранным патриархом Ак-
вилеи и в 1556-м редактором древнего архитектурного трак-
тата Витрувия. Палладио, который делал к этому трактату
ксилографические иллюстрации, Даниеле Барбаро назвал
в своем завещании «нашим архитектором» (имея в виду
себя и брата), поскольку Палладио работал на их вилле в
середине 1550-х. В начале 1560-х Паоло Веронезе допол-
нил и завершил убранство виллы Мазере своими блестя-
щими картинами-иллюзиями. Фрески изображали слуг и
членов семьи, которые будто бы входили в нарисованные
двери или смотрели вниз с нарисованных балкончиков.
Здесь были и натуралистично изображенные шпалеры с
вьющимися растениями, и несуществующие окна, откуда
открывались виды на пейзажи с древними руинами. Ланд-
шафты позади виллы, вероятно, восполняли недостаток
красивых видов в этом направлении.
Особенной популярностью у строителей вилл и их кли-
ентов пользовалась местность в районе канала Брента (за-
ключенная в искусственные берега река Брента), богатая
плодородными землями и расположенная на удобном рас-
стоянии от Венеции и Падуи, но вдали от летнего город-
ского зноя. Может быть, берега канала и оставляют ощу-
щение прохлады и покоя, но Байрон, снимавший виллу
Фоскарини, где сейчас находится почта, жаловался, что она
расположена слишком близко к дороге. Похоже, венеци-
анцы, попадающие на материк, говорил он Джону Кэму
Хобхаузу в июне 1817-го, «считают, что никакой пыли не
восполнить их продолжительное пребывание в воде». Сре-
ди доступных широкой публике примеров — вилла Фос-
кари, созданная Палладио, известная и как «Ла Малькон-
тента» («недовольная»). Согласно легенде, объясняющей
и*
324
Венеция: история города
происхождение названия, в это унылое уединенное сель-
ское поместье некогда сослали одну юную представитель-
ницу семьи Фоскари, увлекшуюся удовольствиями безнрав-
ственного города.
Значительно большими размерами отличается вилла
Пизани на Стра, строительство которой началось сразу
после избрания дожа Альвизе Пизани в 1735 году. Посе-
тителю кажется, что комнат там не счесть, а конюшни пря-
мо-таки величественны. В свое время вилла оказалась до-
статочно просторной для того, чтобы ненадолго приютить
свиту и непомерное эго Наполеона Бонапарта, а чуть поз-
же стала официальной резиденцией его вице-короля Эже-
на де Богарне, который, естественно, провел там значи-
тельно больше времени. Одной из самых впечатляющих
реликвий, сохранившихся от того периода, стала лаковая с
золотом кровать в Камера ди Наполеоне, которую допол-
няют желто-белые драпировки, гигантское «N», орел и
балдахин, увенчанный купидоном, взирающим на потолоч-
ные росписи Бевилаквы, иллюстрирующие миф о Психее.
Впоследствии это здание сочли достаточно величествен-
ным для того, чтобы оно стало местом проведения первых
переговоров между еще только начинавшим свое восхож-
дение Гитлером и Муссолини в июне 1934-го.
Неизвестно, удалось ли диктаторам поладить. Свиде-
тели, знакомые свидетелей и историки не могут прийти к
единому мнению на сей счет. Но, безусловно, Гитлер, толь-
ко что пришедший к власти, едва ли мог произвести на стар-
шего по возрасту итальянца достаточно сильное впечатле-
ние. Муссолини, возможно, надеялся унизить Гитлера,
когда в сверкающей генеральской форме приехал в аэро-
порт в Лидо встречать человека, который, в расчете на то,
что переговоры будут носить неофициальный характер,
явился на встречу в неприметном и довольно мятом граж-
Окрестности Венеции
325
данском костюме и шляпе. В Стра они без переводчиков
обсуждали такие вопросы, как будущее Австрии и взаимо-
отношения с католической церковью, и практически ника-
кой договоренности не достигли. Муссолини достаточно
хорошо говорил по-немецки, но ему доставляли некоторые
проблемы — да и просто утомляли — длинные монологи
гостя. Позже он жаловался, что «вместо того чтобы гово-
рить со мной о насущных проблемах... он цитировал мне по
памяти “Mein Kampf”», скучный трактат, который италь-
янец так и не прочитал. Согласно одному рассказу, в кото-
рый поверить труднее, Муссолини так надоели монологи,
что он подошел к окну, посмотрел на собравшихся там важ-
ных чиновников и офицеров и, указав на Гитлера, через
плечо сказал «и matto, и matto» — «он сумасшедший». На
следующий день дискуссия возобновилась в гольф-клубе
Альберони на Лидо. Муссолини, что довольно легко по-
нять, на этом этапе не смог верно оценить Гитлера. До блиц-
крига оставалось еще шесть лет, и когда фюрер стал рас-
сказывать, как с итальянской помощью он сможет захва-
тить Францию и занять ее основные города за несколько
часов, Дуче, по рассказам, стукнул кулаком по столу и за-
кричал: «Нет!». Отношения так и остались сложными, хотя
позже это принесло унижение именно Муссолини.
Но атмосфера в большинстве комнат виллы Пизани
значительно легче, чем можно предположить, исходя из
этих ассоциаций. Здесь есть комнаты, посвященные Пом-
пее, фрески, где можно видеть фигуры людей в одеждах
XVIII века в обрамлении роскошных садов, огромный са-
лон, или бальная зала с эффектами росписи, обманываю-
щей зрение, и последние большие потолочные росписи
(1761—1761), выполненные Джамбаттиста Тьеполо пе-
ред отъездом в Мадрид, где он работал у короля Кар-
ла III Испанского. В этом «апофеозе Пизани», как гово-
326
Венеция: история города
рит Майкл Леви в своих исследованиях, «он совместил
аллегорию и персонификацию, изобразив современных ему
представителей семьи среди облаков, спокойных и урав-
новешенных, рядом с самими богами, на седьмом небе
оптимизма».
Падуя
Из Венеции легко добраться до Падуи, Виченцы и Ве-
роны. Падуя, расположенная ближе всех, пожалуй, наибо-
лее остро ощущала на себе бремя (а также выгоды) вхож-
дения в империю. Но ряд факторов помог городу сохра-
нить свою индивидуальность. В 1222-м здесь основали
второй в Италии университет (первый находился в Боло-
нье), впоследствии прославившийся качеством преподава-
ния медицины и абстрактных материй. В число студентов-
медиков Падуанского университета в начале XVII столе-
тия входил и Уильям Харви. А спланированный амфите-
атром анатомический театр 1594 года сохранился до нашего
времени. Орто Ботанико, ботанический сад, основанный в
1545 году, был, как выражается Кориэт, «известен более
других уголков христианского мира благодаря великолеп-
ным свойствам его лекарственных трав». Позже медицин-
ское направление сместилось и стало скорее общеботани-
ческим; здесь посадили пальмы и — в конце XVI столе-
тия — первые в Италии подсолнухи и сирень. С 1830-х
годов помимо университета появился еще один центр ин-
теллектуальных дебатов — кафе «Педрокки». Отчетливо
падуанский характер носит и культ святого Антонио. Пор-
тугальский миссионер XIII века направлялся в Африку,
когда шторм сбил его с курса и привел в Италию, где тот и
остался и через некоторое время стал другом и учеником
святого Франциска и святым покровителем деторождения,
Окрестности Венеции
327
бедняков и потерянных вещей. Церковь, куда приходят ему
поклониться, базилика Сант-Антонио, известная еще и как
просто «Иль Санто» («Святой»), была основана в 1232-м,
на следующий год после его смерти. Паломники продол-
жают приходить в этот храм, выстроенный в несколько
восточном стиле, увенчанный многочисленными куполами,
и оставляют дары и обеты, в том числе и маленькие воско-
вые изображения рук, ног и сердец.
Снаружи, на пьяцце дель Донателло, находится гордая
своей светскостью конная фигура кондотьера Гаттамелаты
(лукавого «медового кота», менее известного под своим
настоящим именем Эразмо да Нарни), который умер в
328
Венеция: история города
Падуе в 1443-м, после того как верой и правдой сражался
за республику в ее войнах на материке. Он выглядит очень
решительным, лицо суровое, взгляд устремлен вдаль, жезл
и меч расположены четко по диагонали. Почти таким же
решительным кажется и его конь с туго подвязанным хво-
стом, поставивший одну ногу на пушечное ядро.
Еще одна падуанская достопримечательность — капелла
Скровеньи, известная также как капелла Арена, посколь-
ку находится рядом с развалинами античного амфитеатра.
Ее построил Энрико Скровеньи в 1303-м, отчасти в ис-
купление грехов семьи: его отца, ростовщика, Данте от-
правил в седьмой круг своего Ада. Примерно в 1305 году
капеллу декорировал Джотто ди Бондоне, выдающийся
живописец своего времени и первый художник, широко
прославившийся именно как личность с конкретным име-
нем. (Он даже появляется в роли остроумного хитреца в
новеллах Боккаччо.) Его до сих пор считают новатором,
человеком, резко порвавшим с византийскими традициями
в живописи. Как позднее сказал один из комментаторов,
он перешел «с греческого на латынь». По крайней мере в
глазах Запада, он писал фигуры более натуралистично, чем
его предшественники, с большим чувством и более есте-
ственно и привычно располагал их в пространстве. Генри
Мур называл его работы «скульптурными». Он стал пер-
вооткрывателем и в области фресок, менее популярной фор-
мы живописи в Венеции с ее соленым воздухом; отчасти
поэтому наибольшее влияние Джотто оказал на своих зем-
ляков — флорентийцев. Фрески Арены рассказывают на
небольшом пространстве, но последовательно и очень вы-
разительно, историю жизни Святой Девы и Христа, а под
ними расположен гризайль «Добродетели и Пороки».
Здесь вы увидите множество запоминающихся сцен, а сре-
Окрестности Венеции
329
ди них — ту самую, где окруженные солдатами с дубинка-
ми и факелами Христос и Иуда смотрят друг другу в глаза,
и черты предателя искажаются поцелуем и преступленьем.
Виченца
Джону Ивлину, искавшему поучительных, «любопыт-
ных» или впечатляюще хорошо организованных обычаев и
объектов в своей долгой поездке по Европе, которая по-
зволяла ему держаться подальше от неразберихи, царив-
шей в охваченной гражданской войной Англии, Виченца
понравилась. Это город, «полный учтивых джентльменов
и прекрасных уголков, появлению которых немало поспо-
собствовал их архитектор, родившийся здесь знаменитый
Палладио». На самом деле Андреа Палладио родился в
Падуе, но прожил в Виченце большую часть своей жизни.
Он «поспособствовал» созданию огромного количества
самых разных зданий: церквей, дворцов, вилл, галерей и
«наиболее заметного Дворца правосудия», — как говорит
Ивлин. Это здание нередко называют именем, которое дал
ему сам Палладио, — Базилика. Как объясняет архитек-
тор в своих «Четырех книгах об архитектуре», во времена
римлян «такие здания называли базиликами, где судья са-
дился на свое почетное место, чтобы вершить правосудие,
и где нередко обсуждались великие дела». Само имя должно
подчеркивать, что, создавая проект, автор ориентировался
на классические образцы. Той же цели служат колоннады,
при помощи которых Палладио изменил внешний вид сред-
невекового палаццо делла Раджоне.
Классицизм Палладио, построенный на его понимании
трактата Витрувия «Об архитектуре», единственного ан-
тичного труда по архитектуре, сохранившегося до его време-
330
Венеция: история города
ни, воспитал в нем его покровитель, дворянин и поэт из
Виченцы, Джанджорджо Триссино (1478—1550). Он от-
правил Палладио в Рим, помог ему начать свое образова-
ние и карьеру и даже дал ему имя, под которым тот и про-
славился. Имя это — производное от имени богини муд-
рости Афины Паллады. Триссино принадлежал к группе
местных патрициев, с энтузиазмом боровшихся за возрож-
дение классицизма. В 1556 году они основали Олимпий-
скую академию. Как и все жители города, они считали ра-
боты Палладио поводом к гражданской гордости; их клас-
сическая направленность рассматривалась в тот момент как
современное веяние, с одной стороны, а с другой — как
связь с прошлым этого древнего поселения, некогда при-
надлежавшего Риму. И в том и в другом смысле благодаря
Палладио они могли чувствовать равенство с Венецией, а
может быть, даже и превосходство над своей консерватив-
ной в вопросах архитектуры постантичной правительницей.
(Развить чувство собственного достоинства помогала и
успешная торговля шелком.) Самым претенциозно клас-
сическим зданием того периода стал Театро Олимпико.
В Базилике в 1562 году была поставлена пьеса Трис-
сино «Софонисба», написанная в 1515-м итальянским бе-
лым стихом, но по канонам античной драмы. Отчасти по-
тому, что именно Палладио специально для этого случая
временно превратил Базилику в театр, Олимпийская ака-
демия позже заказала ему проект постоянного театра.
Архитектор, призвав Витрувия и богатый опыт, присту-
пил к работе, но умер в 1580-м году, успев закончить
только внешние стены. Винченцо Скамоцци пришел ему
на смену и завершил, а в отношении самой сцены — зна-
чительно модифицировал планы предшественника. Ули-
цы, расходящиеся лучами за аркадой, которая должна
была воспроизводить римские frons scenae, построенные
Окрестности Венеции
331
Скамоцци для первого представления в 1585-м, сохрани-
лись до сих пор. Однако они немного ограничивают по-
становочные возможности, и поэтому несколько лет спус-
тя в театре дожей в Саббьонетте Скамоцци сам расширил
арку и заменил улицы единым ландшафтом. Кроме того,
в некоторых театрах уже стали использовать сменные де-
корации. Гёте они порадовали. Обнаружив, что театр все
еще действует, и выражая мнение многих, он заключил,
что Олимпико «неописуемо прекрасен», но «по сравне-
нию с современными театрами смотрится аристократич-
ным, богатым и хорошо образованным ребенком рядом с
хитрым и хорошо ориентирующимся в жизни взрослым,
который хоть и не богат, не знатен и не особенно образо-
ван, но зато лучше знает, что ему по силам». Короче го-
воря, это академический театр.
И тем не менее первое представление наверняка было
незабываемым зрелищем. Ставили «Царь Эдип», вариа-
ции на тему Софокла, написанные Орсатто Джустиниани
на музыку Андреа Габриели. Участие этого известного ве-
нецианского композитора, несомненно, только добавило
престижа как самому событию, так и Виченце в целом.
Пышные костюмы и величественные жесты актеров сохра-
нились на фресках на стенах Антеодеона рядом со зритель-
ным залом. В постановке учитывались звуковые, визуаль-
ные и даже обонятельные эффекты — в самом начале со
сцены «внезапно донесся аромат».
Неподалеку от города расположена одна из самых удач-
ных вилл Палладио, построенная в конце 1560-х для мон-
сеньора Паоло Альмерико, но известная под названием «Ла
Ротонда». Альмерико, рассказывает архитектор, «пропу-
тешествовал много лет, обуреваемый стремлением к славе,
пережил всех своих родственников, вернулся в родную стра-
ну и для восстановления сил удалился в одну из своих заго-
332
Венеция: история города
родных резиденций». Там он построил «в соответствии со
следующими своими выдумками» виллу.
Приятнее и очаровательнее месторасположения не
найти. Здание возвышается на небольшом холме, куда
отовсюду легко добраться. С одной стороны его снаб-
жает водой Баккильоне, судоходная река, а с другой
окружают весьма приятные склоны, напоминающие ог-
ромный театр, и все это возделано и изобилует велико-
лепнейшими фруктами и изысканнейшими винами. Со
всех сторон виллы открываются прекраснейшие виды:
некоторые из них ограничены, другие более обширны, а
иные тянутся до самого горизонта. Со всех четырех сто-
рон есть террасы; под ними и под главным залом нахо-
дятся служебные помещения и комнаты, используемые
членами семьи. Центральный зал — круглый, свет в него
падает сверху.
Из всех зданий, построенных Палладио, Ла Ротонда
вызвала наибольший резонанс. Она стала, например, мо-
Окрестности Венеции
333
делью для Чизвик-хауса лорда Берлингтона, а в 1979 году
ее интерьеры представил очень в выгодном свете Джозеф
Лоузи в своем фильме «Дон Джованни».
Верона
Верона, до которой от Венеции не больше двух часов
поездом, а на машине и того меньше, являет собой ее иде-
альную противоположность. Здесь есть холмы и бурные
альпийские речки, а «на берегах возвышаются скалы, где
темнеют кипарисы и туманно серебрятся оливы», как пи-
сал Рескин. И самое главное, чего нет в Венеции — мас-
сивные, уцелевшие до сих пор римские постройки. Огром-
ный амфитеатр (примерно 100 год н.э.), с его сорока че-
тырьмя ярусами сидений (которые часто обновляли начи-
ная с XVI века), некогда вмещал 22 000 зрителей. Если
въезжать в Италию через перевал Бреннер, этот город и
его здания первыми попадаются на пути. Прежде всего
именно они открывались взорам северных завоевателей и
путешественников. Гёте, страстно жаждавший классициз-
ма, именно здесь впервые с ним столкнулся. Восхищение
не помешало ему анализировать, — а ведь большинство из
нас просто бродили бы по округе и смотрели во все глаза!
Поэт размышлял о том, как создавалась эта огромная ок-
ружность и какой эффект производила на тех, кто соби-
рался здесь: по мнению Гёте, она была призвана «впечат-
лять собой людей, чтобы заставить их почувствовать и по-
верить в свои силы». Все началось с импровизированных
трибун, которые сооружали из скамей, бочек и телег, что-
бы лучше видеть через головы толпы, а дальше уже специ-
ально для публики строят конструкции, поднимающиеся
уступами. Затем архитектор удовлетворяет «всеобщую не-
обходимость», создавая «максимально плоский кратер»:
334
Венеция: история города
...сама публика становится украшением. Собравшись
вместе, они изумляются друг другу. Они привыкли ви-
деть друг друга снующими туда-сюда в беспорядке, су-
етливо бегающими без всякого смысла и дисциплины.
А теперь это многоголовое, наделенное многими созна-
ниями, переменчивое и неуклюжее чудовище неожидан-
но видит себя объединенным в одно благородное собра-
ние, сплавленным в единую массу, становится единым
телом, движимым единым духом.
Это «единое тело» некогда, по свидетельству Кориэта,
наблюдало за боями гладиаторов и быков, видело — преж-
де всего в дни карнавала — такие «триумфальные зрели-
ща... как конные турниры и другие благородные состяза-
ния», а в наши дни посещает блестящие ежегодные опер-
ные сезоны.
Как и во многих римских городах, самые очевидные до-
стопримечательности — всего лишь капля в море; отсут-
ствие следов древних поселений в лагуне подчеркивает,
насколько далека она была от жизни на материке в первые
века своего существования. Порта Борсари и другие арки
и портики сохранились почти неизменными до наших дней
и ослепляют своей белизной в городе, где полным-полно
розового и пестрого мрамора. Понте Пьетра (современная
версия оригинала, который сильно пострадал от бомбежек
во Вторую мировую войну) нависает над сине-зелеными
водами Адидже рядом с римским театром. Это здание на-
чали строить, наверное, лет за сто до амфитеатра, но в це-
лом завершили уже в Средние века. Его откопали в XIX ве-
ке в очень хорошем состоянии и восстановили специально
для того, чтобы с 1962 года проводить там ежегодный те-
атральный фестиваль. А потому некоторые детали, вклю-
чая то, что осталось от античного мраморного пола орхест-
Окрестности Венеции
335
ры перед сценой, летом скрыты за современными сцени-
ческими конструкциями и местами для зрителей. Но на-
блюдая за репетициями или работой декораторов, как бы
ни были далеки их методы работы от римского театра, мы
можем приблизиться к пониманию пустого сценического
пространства.
Театральный комплекс террасами спускается по склону
холма, напоминая застывший поток фрагментов античной
архитектуры: капителей, отдельных крупных каменных бло-
ков, надписей, скульптурных сцен — всех этих печальных
обломков империи, число коих кажется бесконечным. Из
театра можно подняться, на лифте или по лестнице, на вер-
шину холма в бывший монастырь Сан-Джироламо. Когда
поднимаешься по ступеням мимо розовых олеандров (где в
один из приездов я видел маленьких, тонконогих желтых
паучков), постепенно открывается все более заворажива-
ющий вид на реку. Из окон обители можно увидеть театр,
а дальше, среди высоких сосен, течет Адидже, и греются
на солнце крыши и башни города. Вот устремилась ввысь
башня Сант-Анастазиа, а где-то на горизонте маячат кра-
Сейчас в монастыре расположен прекрас-
ны и высотки...
ный археологический музей. В экспозиции представлена,
например, фигура больше человеческого роста, изобража-
ющая императора в кирасе и плаще. Идентифицировать его
сложновато, поскольку голова отсутствует, но украшения
его доспехов сработаны на совесть, не забыты даже ма-
ленькие бараньи, львиные и слоновьи головы. Впрочем,
найдутся в музее и целые фигуры, снабженные головами:
некоторые — со сложными императорскими прическами,
другие — с восхитительными коронами и диадемами. Вы-
дающимися их не назовешь, но превосходный белый мра-
мор, из которого они сделаны, оставляет приятное впечат-
ление. Пройдя по небольшой, тихой галерее эпохи Воз-
336
Венеция: история города
рождения, украшенной пальмами (отреставрированной в
1920 году), попадаешь на выставку мозаик, свезенных с раз-
ных концов несомненно процветавшего римского города.
Верона выжила как один из главных городов Италии
вестготов. Позже здесь сформировалась средневековая
община, а затем, в XIII и XIV веках, обосновалась динас-
тия, известная как делла Скала, или Скалигеры. Один из
основных периодов строительства наступил здесь после
землетрясения 1117 года, когда были восстановлены церкви
Сан-Лоренцо, Сан-Дзено и Дуомо. Позже появилась Сант-
Анастазиа; ее строительство началось в конце XIII века и
по большей части закончилось в XV (фасад оставался не-
завершенным). Это большое здание, оснащенное, как и
другие доминиканские церкви, тремя нефами и впечатляю-
щими колоннами из веронского мрамора. Здесь, в часовне
Пеллегрини, находится фреска Пизанелло «Святой Геор-
гий и Принцесса» (1438). Знаменитую рыцарскую сцену
с участием златокудрого святого и принцессы с высоким
округлым лбом, считавшимся в те времена бесспорным при-
знаком красоты, можно увидеть наверху, справа от арки.
Не менее знаменитые лошади этой пары находятся там же,
а по другую сторону арки, на неровной, усыпанной камня-
ми земле — то, что осталось от земли дракона. Фреска
значительно повреждена, но это только усиливает роман-
тический эффект. Не столь романтическое предостереже-
ние можно усмотреть в изображении двух повешенных,
которые, в отличие от святого Теория, вероятно, соверши-
ли подвиги не столь благородные. «Благовещение» (1424)
того же автора находится в церкви Сан-Фермо. Поклон-
никам Пизанелло следует отправится в герцогский дворец
в Мантуе, где в 1968 году было обнаружено немало фраг-
ментов фресок его артуровского цикла — рыцари, битвы,
прекрасные дамы, огромный замок.
Окрестности Венеции
337
Возможно, самые известные из средневековых мону-
ментов Вероны — это могилы Скалигеров на окружен-
ном стеной и оградой пятачке у церкви Санта-Мария Ан->
тика. Будто верный паж былых времен, охраняющий по-
кой своего лорда, служащий в синей рубашке, стоящий у
входа, подозрительным взглядом выискивает людей, не
купивших билет у Торе деи Ламберти. На возвышениях
рядом с церковью и за оградой расположены гробницы,
по сравнению с которыми здание храма кажется почти
игрушечным. В них покоятся покровитель Данте Кан-
гранде (умер в 1329-м), Мастино II (умер в 1351-м) и
Кансиньорио (умер в 1375-м). Меч Мастино и копье
Кансиньорио устремлены ввысь, некоторые фигуры укра-
шают крылья, а последнее надгробье, богато отделанное
барельефами, не только отличается небывалой высотой,
но и занимает огромную площадь. Скалигеры стараются
недвусмысленно заявить о своем статусе и надеждах,
сколь бы несбыточными они ни были.
Мемориал Кангранде — это копия. Подлинная фигура
и фрагменты ее меча находятся в музее Кастельвеккьо. В те-
чение долгого времени он оставался главной крепостью и
дворцом этого города, а в январе 1944-го именно здесь
бывший министр иностранных дел при Муссолини граф
Галеаццо Чиано и пятеро его сподвижников попытались
совершить государственный переворот. Архитектор Кар-
ло Скарпа превратил Кастельвеккьо в один из самых ори-
гинальных и интересных музеев современной Италии, ма-
стерски включая старые стены и уцелевшие части здания в
новые галереи и выставочные пространства. Кангранде
выставлен здесь достаточно эффектно, и производит зна-
чительно более сильное впечатление, чем в тесном церков-
ном дворе. Обширная коллекция включает также фрески
(некоторые фрагменты остались на тех же местах, где они
338
Венеция: история города
находились, когда музей еще был дворцом) и sinople (на-
броски мелом под самими фресками), картины и в первой
галерее несколько замечательных средневековых статуй.
Прекрасно сохранившиеся изваяния святой Марты из церкви
Сан-Фермо (начало XIV века) и святого Бартоломео (ко-
нец XIV века), оба — работы Веронезе, наиболее человеч-
ны и доступны восприятию из всех представленных здесь.
Бартоломео, кажется, вот-вот заговорит, но в то же время
он не теряет своей святости, отстраненности, «средневеко-
вое™». В соответствии с этам переходным состоянием его
глаза окрашены черным, но выглядят они несколько неправ-
доподобно, поскольку в них не обозначены зрачки. Одна
рука, которая прежде либо благословляла зрителя, либо дер-
жала какой-то предмет, отсутствует. В другой руке он дер-
жит свиток, где на латыни он сам объявляется, внушитель-
но и убедительно, изгнателем демонов, разрушителем идо-
лов и omnium protector (всеобщим защитником).
Список богатств Вероны можно продолжать: множество
интересных и элегантных зданий на пьяцце делле Эрбе и
пьяцце деи Синьории, среди которых особенно выделяет-
ся Лоджа дель Консильо с ее фасадом эпохи Возрождения
насыщенного желтого цвета, возвышающимся над строй-
ными колоннами галереи и украшенным фресками и малень-
кими статуями таких героев Веронезе, как Катулл и Вит-
рувий; Джардино Джусти, сад XVI века, где «огромные
кипарисы взмывают в небо, как шпили» (Гёте); чудесный
средневековый дом и могила, романтично приписываемая
шекспировской Джульетте, несмотря на то что в первой
версии этой истории она жила в Сиене. Но, возможно, луч-
шим завершением визита в Верону станет возвращение в
Венецию, которое позволит еще раз насладиться контрас-
том. Гёте, радостно сбежав от политических и социальных
обязанностей, ожидавших его по ту сторону Альп, нашел
Окрестности Венеции
339
чрезвычайно интересным свое осеннее путешествие по Ве-
роне, Виченце и Падуе и раскинувшимся между ними ви-
ноградникам и холмам, с которых открывались великолеп-
ные виды: «изобилие цветов и фруктов, свисающих с дере-
вьев и через ограды и стены», крыши, «обремененные гру-
дами тыкв, и удивительнейшие на вид огурцы свисают с
шестов и шпалер». Но именно приезд в Венецию он про-
чувствовал, как настоящее событие.
А значит, было написано на моей странице в Книге
судеб, что в пять часов вечера сентября двадцать восьмо-
го дня в год 1786 мне суждено лицезреть Венецию в
первый раз, и я вошел в этот прекрасный островной го-
род, эту бобровую республику. И вот теперь, слава Гос-
поду, Венеция не просто слово для меня, не пустое имя,
что так часто тревожило меня, смертельного врага слов.
А если высокопарные речи могучего литератора вызо-
вут у иного читателя ироничную улыбку, возможно, послед-
нему небезынтересно будет узнать, как Гёте описывает тот
момент, когда Венеция наконец-то стала для него реально-
стью. Поэт подплывал к городу по Бренте, когда с его лод-
кой поравнялась гондола. И он вспомнил привезенную ког-
да-то из Венеции его отцом маленькую модель гондолы, с
которой ему изредка позволяли поиграть. И вот, «когда
появились гондолы, их сверкающие, обитые сталью носы и
черные кабины приветствовали меня, как старые друзья».
Приложение
Некоторые другие
достопримечательности Венеции
Ка’ да Мосто. Палаццо XIII века на Большом канале
(ниже рио деи Санти-Апостоли, выше рио ди Сан-Джо-
ванни Гризостомо). В этом здании с XV по XVIII век раз-
мещался известный постоялый двор «Альберто дель Леон
Бьянко». Здесь гостил, в числе прочих, Уильям Бекфорд,
который наблюдал с балкона прохладным вечером «разно-
образие силуэтов, стремительно проплывающих мимо в гон-
долах»:
...у каждой лодки был фонарик, и за быстро проплыва-
ющими гондолами оставалась дорожка света, блестев-
шего и игравшего на поверхности воды. Я наблюдал за
этими танцующими огнями, когда ветер подхватил и по-
нес вдоль канала звуки музыки. Они становились все
громче и громче, и вот показалась ярко освещенная бар-
ка, заполненная музыкантами, идущая из Риальто. Барка
остановилась у стен одного из дворцов, и музыканты
заиграли серенаду.
342
Венеция: история города
Разговоры на галереях и балконах стихли. А затем бар-
ка отплыла прочь, «гондольеры перевели дух и принялись
имитировать услышанные рулады, а издалека им отвечали
другие, и голоса их, отдаваясь эхом в арках мостов, звуча-
ли жалобно и необычно.
Фондако деи Турки. Палаццо начала XIII века на
Большом канале. Турецкие купцы использовали его в
XVII—XIX веках. Реставрация (с 1858-го) вызвала се-
рьезную тревогу Рескина, но ее все-таки произвели. Сей-
час в здании хранится хорошая коллекция экспонатов по
естественной истории, включая скелет большого урано-
завра.
Джезуати. Церковь в стиле рококо в Дзаттере, пост-
роенная Джорджо Массари в период конца 1720-х и на-
чала 1740-х годов. Официально она называется Санта-
Мария дель Розарио, в народе же ее зовут Джезуати, по-
скольку когда-то это место принадлежало ордену, члены
которого постоянно поминали имя Иисуса. В первом при-
деле справа находится подлинник Тьеполо «Богородица с
младенцем, святой Катериной Сиенской, святой Розой и
святой Агнессой». Тьеполо же расписывал и потолок,
там изображены сцены из жития святого Доминика.
Полные жизни статуи библейских персонажей в нефе,
среди них — Моисей со скрижалями, его одежды разве-
ваются, он спешит спуститься с горы и принести людям
десять заповедей.
Джезуити. Церковь иезуитов на Фондамента Нуове,
построенная в 1714—1729 годах, знаменитая своим впечат-
ляющим барочным интерьером, где практически все, вклю-
Приложение
343
чая то, что может с первого взгляда показаться обычными
занавесями и драпировками, вырезано из бело-зеленого
мрамора. «Мученичество святого Лаврентия» Тициана в
первом приделе справа осталось от церкви, которая неког-
да располагалась на месте Джезуити. Этой картиной вос-
хищается Хьюго Онор: по его мнению, «кроме фрески Ра-
фаэля в Ватикане... это первая успешно выполненная ноч-
ная сцена в истории живописи».
Музео Аркеолоджико. Археологический музей нахо-
дится на Пьяцце, рядом с Музео Коррер. Здесь располо-
жена одна из лучших коллекций греческой и римской скуль-
птуры в северной Италии. Многие работы были завещаны
или подарены музею в XVI веке кардиналом Доменико
Гримани и его племянником Джованни Гримани, патриар-
хом Аквилеи.
Музео Фортуни. Выставка в палаццо XV века Пеза-
ро дельи Орфей работ Мариано Фортуни-и-Мадрасо
(1871—1949) и экспонатов, связанных с его творчеством.
Испанский дизайнер и художник часто останавливался
здесь. Источниками вдохновения для его экзотических тка-
ней нередко служили образцы из прошлых веков, а также
арабские и восточные мотивы, и он частично прибегал к
той же технике. Ткани его использовали как для театраль-
ных костюмов, так и для обычной одежды. Самой извест-
ной, хотя и вымышленной его клиенткой, была Альберти-
на Пруста.
Музео ди палаццо Мочениго. В палаццо Мочениго-э-
Сан-Стае, как его называют, чтобы не путать с его тезкой
на Большом канале, содержится интересная коллекция
344
Венеция: история города
произведений искусства и артефактов, многие из которых
относятся к XVIII веку. Некоторые сохранились с того вре-
мени, когда домом владел Мочениго. Среди картин есть пор-
трет прокуратора Джулио Контарини, чья дочь вышла за-
муж за Мочениго. Прокуратор в красных одеждах и седом
парике, возможно, не так привлекает внимание, как дорогая
позолоченная рама работы Антонио Коррадини или его ма-
стерской, украшенная впечатляющими барельефами, из ко-
торых стоит отметить играющую на трубе Славу, Правосу-
дие, копья, знамена и финальный смелый изгиб вверх, к вен-
чающей раму короне. Среди крупных полотен выделяется
картина работы Антонио Строма, изображающая прибытие
будущего дожа Альвизе II Мочениго послом в Константи-
нополь и в Лондон. По пышности церемония встречи отча-
сти напоминает венецианскую. Гремят приветственным са-
лютом пушки, взлетают в воздух шляпы, тянутся руки, а рес-
публика, несмотря на небольшую в действительности власть,
производит прекрасное дипломатическое впечатление. В этом
же музее находится Центр изучения истории текстиля и ко-
стюма. Он располагает весьма обширной коллекцией, кото-
рую демонстрируют по частям. В момент написания этой
книги экспозиция включала веера, украшенные цветами
шляпки и жилеты и образцы моды времен рококо.
Сан-Франческо делла Винья. Виноградник был пе-
редан францисканцам в 1253 году. В 1534-м Джакопо Сан-
совино начал строительство этого большого, мрачного зда-
ния, а Палладио дополнил фасад в 1560-х. Среди полотен
в церкви есть триптих, вероятно, работы Антонио Вивари-
ни (1415—1476), «Мадонна с Младенцем» Антонио да
Негропонте примерно 1450—1465 года, «Воскресение»,
возможно, кисти Веронезе, и «Святое семейство со свя-
Приложение
345
тым Иоанном Крестителем, святым отшельником Анто-
нием и святой Катериной», определенно, его авторства.
Прекрасный запрестольный образ в одном из приделов
слева от нефа написан Алессандро Витториа.
Сан-Пьетро ди Кастелло. Кафедральный собор Ве-
неции до 1807 года, расположен на острове на восточной
окраине города. Большая часть дошедшего до наших дней
строения — XVI века. Отдельно стоящая колокольня от-
носится к XV веку, свод достроен позже. Внутри нахо-
дится «Трон святого Петра», привезенный сюда из Анти-
оха. Рядом с собором — приятная зеленая лужайка с оле-
андрами, геранью и другими деревьями.
Сан-Поло. Средневековая церковь близ Фрари (зна-
чительно перестроенная в 1804-м). В ее Часовне Распятия
есть сцены «Крестного пути» работы Джандоменико Тье-
поло (1749).
Сан-Сальваторе (или Сан-Сальвадор). Церковь XVI—
XVII века с тремя куполами. Внутри находится надгробие
дожа Франческо Верньера (1556—1561) работы Сан-
совино, и Катерины Корнаро (1580—1584) работы Бер-
нардино Контино. На последнем изображена Катерина, пе-
редающая Кипр дожу. Здесь же хранятся поздние карти-
ны Тициана «Преображение» и «Благовещение» (1560-е
годы).
Сан-Себастьяно. Церковь прихода Паоло Веронезе,
которой Веронезе и его брат Бенедетто Кальяри пожерт-
вовали много картин и фресок. Могилы братьев находятся
в часовне Ландо.
346
Венеция: история города
Сан-Стае. Церковь на Большом канале с барочной
внешней отделкой работы Доменико Росси (1709—1710)
и неожиданно легким, полным воздуха интерьером. Здесь
можно увидеть картины Тьеполо и его современника Пьяц-
цетты, придел Фоскарини (третий слева) и бюсты четы-
рех знаменитых Фоскарини (послов, прокураторов), один
из них — с роскошным париком.
Санта-Мария Дзобениго. Это более привычное назва-
ние церкви Санта-Мария дель Джильо. Фасад Джузеппе
Сарди, заказанный Антонио Барбаро, прославляет деяния
семейства Барбаро, повествуя о них настолько подробно,
что Рескин назвал это «кичливым атеизмом».
Скуола Гранде деи Кармини. Построена, скорее все-
го, Лонгеном в 1668 году. В верхнем зале есть потолочные
росписи (1739—1749) работы Тьеполо. В основном —
сцены с участием Добродетелей. На одной из них изобра-
жена поразительная Святая Дева в белом, небесная, но
очень реальная, почти чувственная, являющаяся средневе-
ковому английскому святому — блаженному Саймону Сто-
ку. Ниже коленопреклоненного Саймона изображены че-
репа, страдающие грешники и тьма Чистилища, но Святая
Дева — или ангел от ее имени — вручает ему наплечник.
Считалось, что этот предмет одежды приносит некоторое
облегчение от мук Чистилища, и он ассоциировался с ор-
деном кармелитов.
Коллекция Витторио Чини — в палаццо Чини, ря-
дом с Академией и музеем Пегги Гуггенхайм. Она
включает картины, рисунки, украшенные миниатюрами
манускрипты и книги, принадлежавшие Чини (1884—
Приложение
347
1977), выдающемуся политику, бизнесмену и покровите-
лю искусств. Тосканские художники представлены осо-
бенно хорошо, есть Боттичелли, Пьеро ди Козимо и
Филиппо Липпи. (Палаццо Чини открыт только с июня
по октябрь.)
Рекомендуемая литература
С/egg Jeanne. Ruskin and Venice. Junction Books. London,
1981.
Curiel Roberta and Cooperman Bernard Dov. The Ghetto
of Venice. Tauris Parke. London, 1990.
Garrett Martin. Travellers Literary Companion to Italy. In
Print. Brighton, 1998.
Ginsborg Paul. Daniele Manin and the Venetian Revo-
lution of 1848—1849. Cambridge University Press. Cam-
bridge, 1979.
Goethe Johann Woljgang. Italian Journey. Trans. W. H. Au-
den and Elizabeth Mayer. Penguin. London, 1970.
Goy Richard. The House of Gold: Building a Palace in
Medieval Venice. Cambridge University Press. Cambridge,
1992.
Goy Richard. Venice: the City and its Architecture. Phaidon.
London, 1997.
Hibbert Christopher. Venice: the Biography of a City.
Grafton. London, 1988.
Holberton Paul. Palladio’s Villas. John Murray. London,
1991.
Honour Hugh. The Companion Guide to Venice. Compa-
nion Guides. London, 1997.
Howard Deborah. The Architectural History of Venice.
Batsford. London, 1980.
Рекомендуемая литература
349
James Henry. Italian Hours. Ed. John Aucher. Penguin.
London, 1995.
Lane Frederick C. Venice: a Maritime Republic. Johns
Hopkins University Press. Baltimore, 1973.
Lauritzen Peter. Palaces of Venice. Laurence King. London,
1992.
Lauritzen Peter. Venice: a Thousand Years of Culture and
Civilisation. Weidenfeld and Nicolson. London, 1978.
Lauritzen Peter. Venice Preserved Michael Joseph. London,
1986.
Levey Michael. Painting in Eighteenth-Century Venice. Yale
University Press. New Haven CT, 1994.
Littlewood Ian. Venice: a Literaiy Companion. John Murray.
London, 1991.
Macadam Alta. Blue Guide: Venice. W. W. Norton / A. &
C. Black. New York; London, 1998.
Morris Jan. Venice. Faber & Faber. London, 1983.
Nicol Donald M. Byzantium and Venice: a Study in Diplo-
matic and Cultural Relations. Cambridge University Press.
Cambridge, 1988.
Norwich John Julius, ed., Venice: a Travellers Companion.
Constable. London, 1990.
Norwich John Julius. A History of Venice. London, 1983.
Pemble John. Venice Rediscovered. Oxford University
Press. Oxford, 1995.
Romanelli Giandomenico, ed. Venice: Art and Architecture.
Konemann. London, 1997.
Rosand David. Painting in Sixteenth-Century Venice: Titian,
Veronese, Tintoretto. Cambridge University Press. Cambridge,
1997.
Rosenthal Margaret F. The Honest Courtesan: Veronica
Franco, Citizen and Writer in Sixteenth-Century Venice.
University of Chicago Press. Chicago, 1992.
350
Венеция: история города
Ruskin John. The Stones of Venice. Ed. Jan Morris. Bellew
Publishing. London, 1989.
Tanner Tony. Venice Desired (Convergences). Harvard
University Press. Cambridge MA, 1992.
Wootton David. Paolo Sarpi: Between Renaissance and
Enlightenment. Cambridge University Press. Cambridge, 1983.
Содержание
От редакции............................................5
Дибдин М. Предисловие..................................9
От автора............................................ 17
Введение. Земля и вода................................18
Глава первая. История Венеции (I):
Становление города-государства .....................27
Глава вторая. История Венеции (II):
Долгий упадок.......................................60
Глава третья. Венеция монументальная:
Пьяцца и Пьяццетта..................................90
Глава четвертая. Венеция дожей: Дворец дожей........ 115
Глава пятая. Дворцы Венеции: Большой канал...........148
Глава шестая. Венеция религиозная:
церкви, скуолы и синагоги..........................192
Глава седьмая. Островная Венеция:
кладбища, монастыри ...............................229
Глава восьмая. Театральная Венеция:
опера, карнавал и кухня............................256
Глава девятая. Литературная Венеция:
величие и разложение...............................281
Глава десятая. Окрестности Венеции: Венето ..........317
Приложение. Некоторые другие
достопримечательности Венеции......................340
Рекомендуемая литература............................ 348
Мартин Гарретт
ВЕНЕЦИЯ
История города
Ответственный редактор Е. Кривцова
Редактор Т. Морозова
Выпускающий редактор О. Юрьева
Художественный редактор А. Сауков
Технический редактор Л. Подъячева
Корректоры Н. Волохонская, Г. Горянова
В оформлении переплета использованы фотоматериалы
агентства «Getty Imaqes/FOTObank.com»
ООО «Издательство «Мидгард».
198020, г. Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 18
URL: www.midqardr.ru. E-mail: info@midaardr.sDb.ru
ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home раде: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Оптовая торговля книгами «Эксмо»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: receptlon@eksmo-8ale.ru
По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ООО «ТД «Эксмо»
E-mail: foreignseller@eksmo~sale.ru
International Sales:
For Foreign wholesale orders, please contact International Sales Department at
foreignseller@eksmo-sale.ru
По вопросам заказа книг «Эксмо» в специальном оформлении
обращаться в отдел корпоративных продаж ООО «ТД «Эксмо»
E-mail: project@eksmo-sale.ru
Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:
Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru
Подписано в печать 04.09.2007. Формат 84x108 1/32.
Гарнитура «Академия». Печать офсетная. Бумага тип. Усл. печ. л. 18,48.
Доп. тираж 3100 экз. Заказ № 6576.
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
Путешествие в Венецию нельзя заменить
ничем. Но можно, впрочем, сделать это
событие более полным, предварительно
собрав сведения о городе. Эта книга
представляет сведения об архитектуре
и искусстве Венеции. Она включает в себя
также очерки об истории города, его
литературе, театре, музыке, празднествах и
кухне. Автор стремился помочь читателю
обрести свою собственную Венецию,
уникальную и неповторимую.