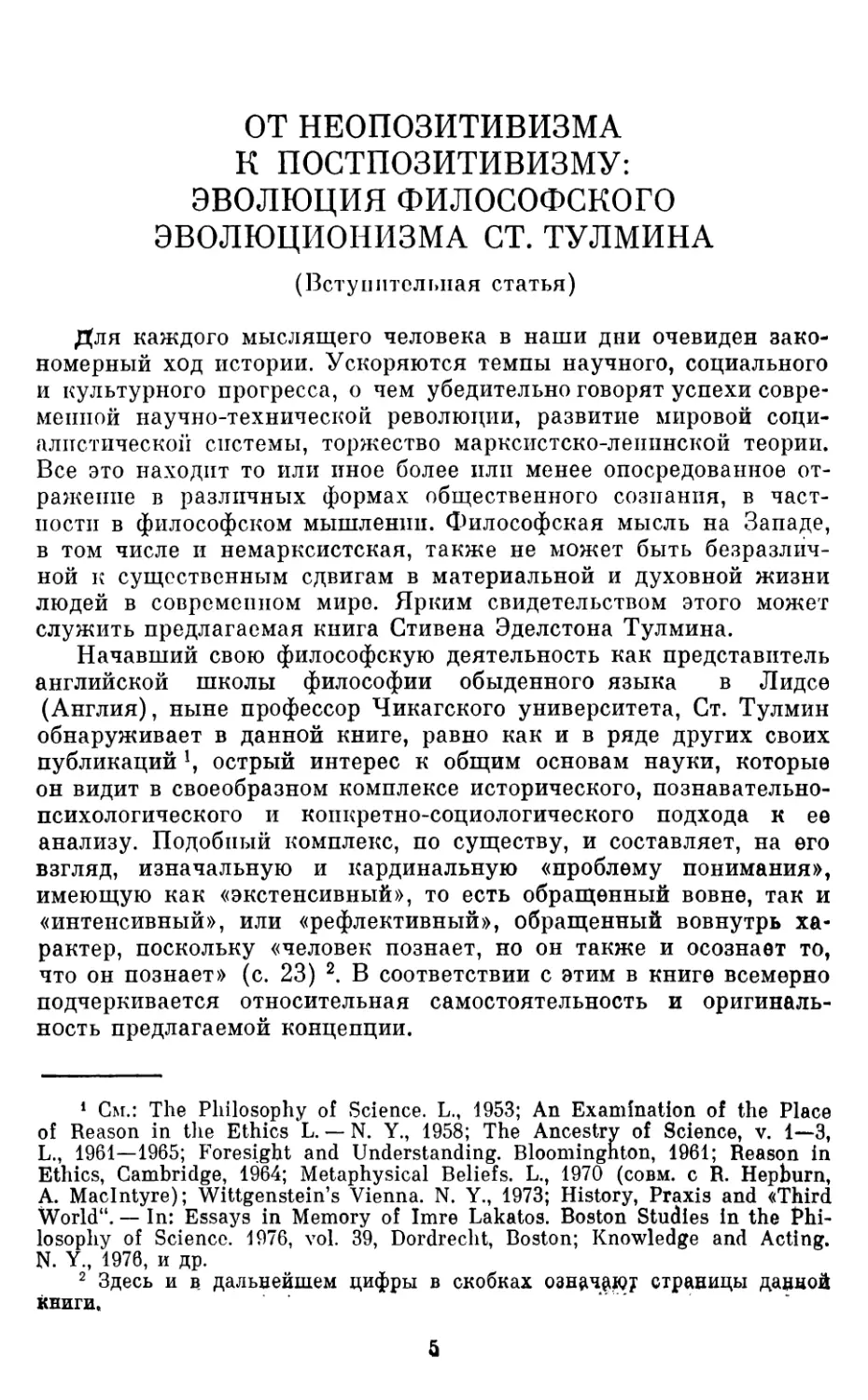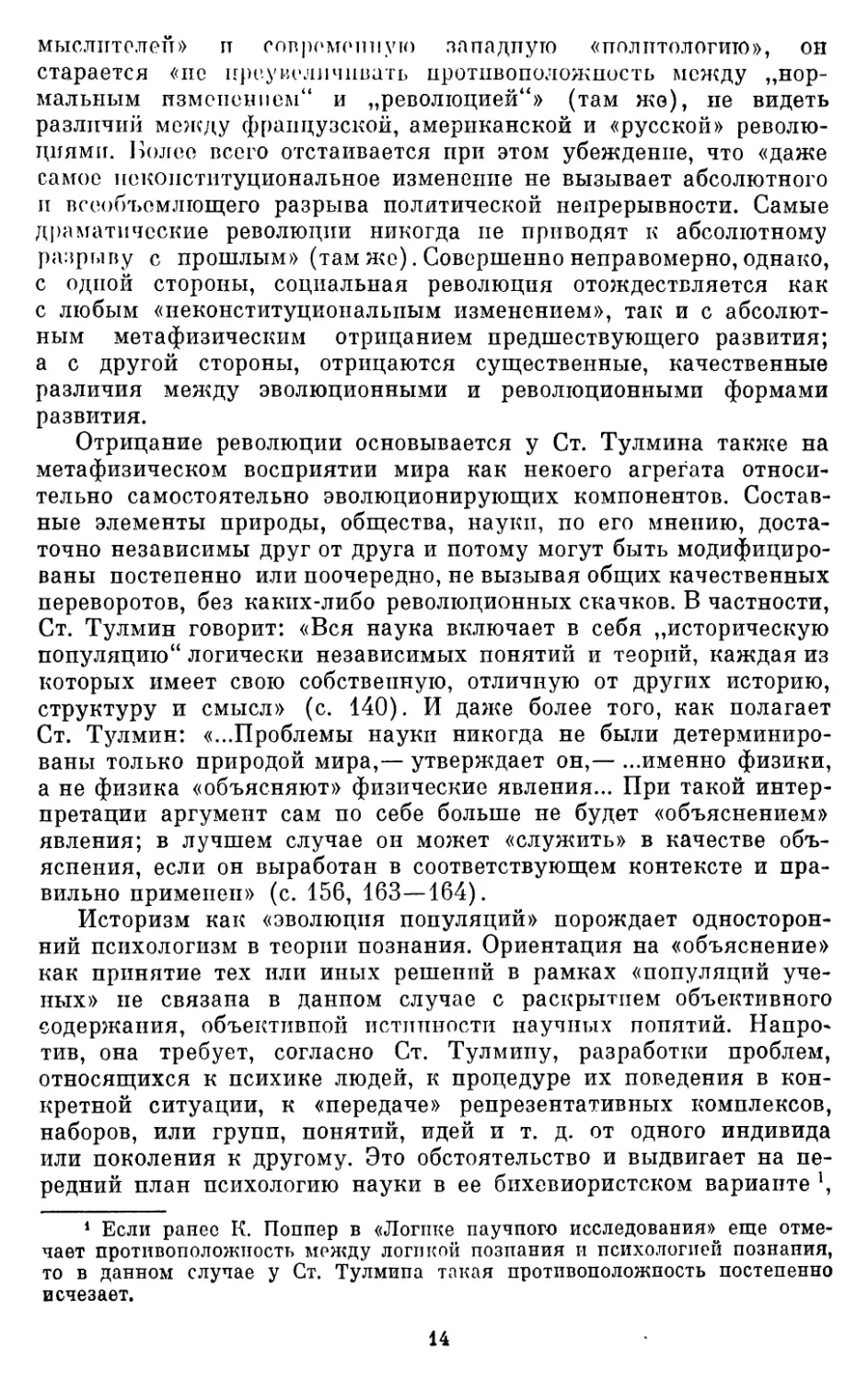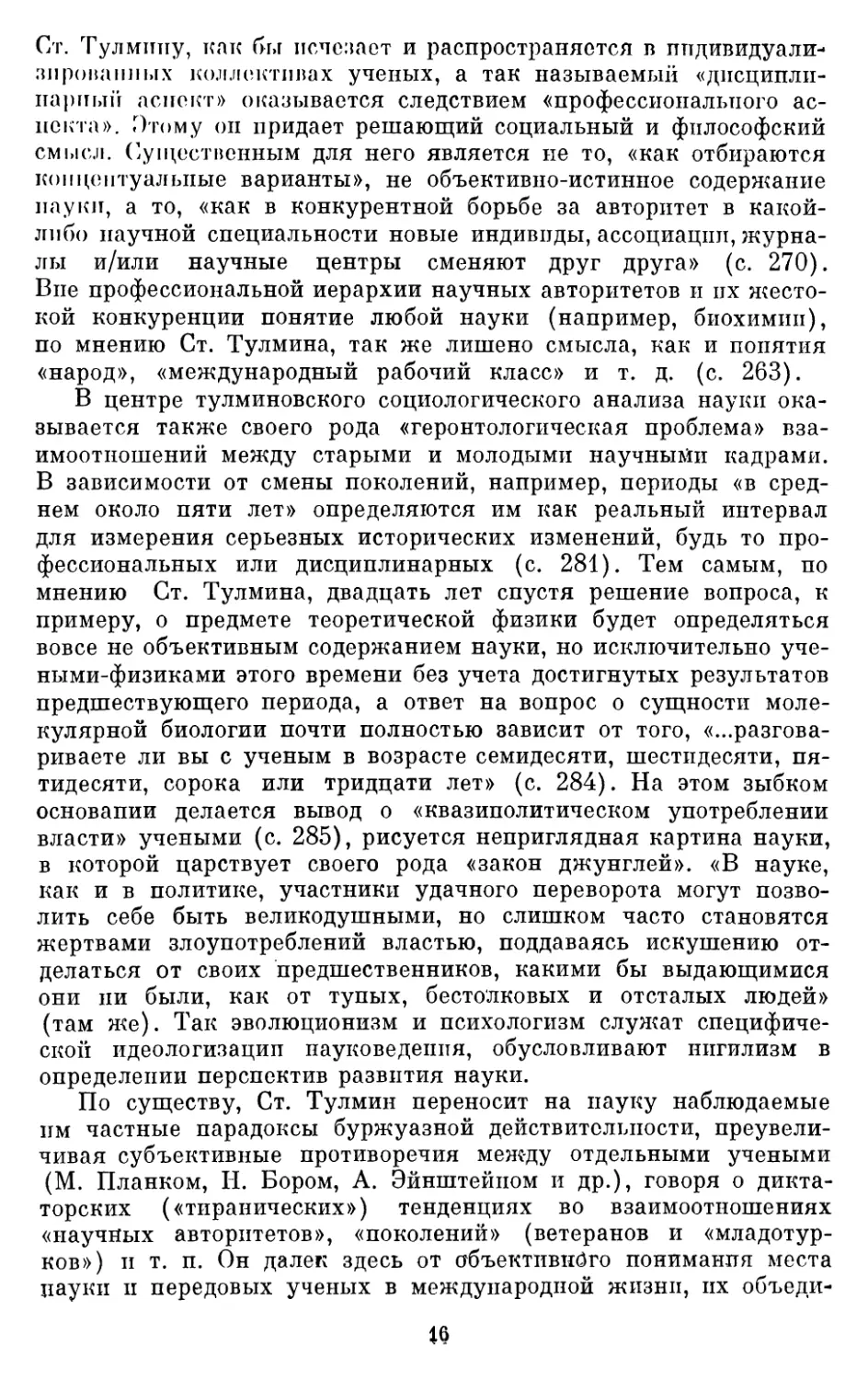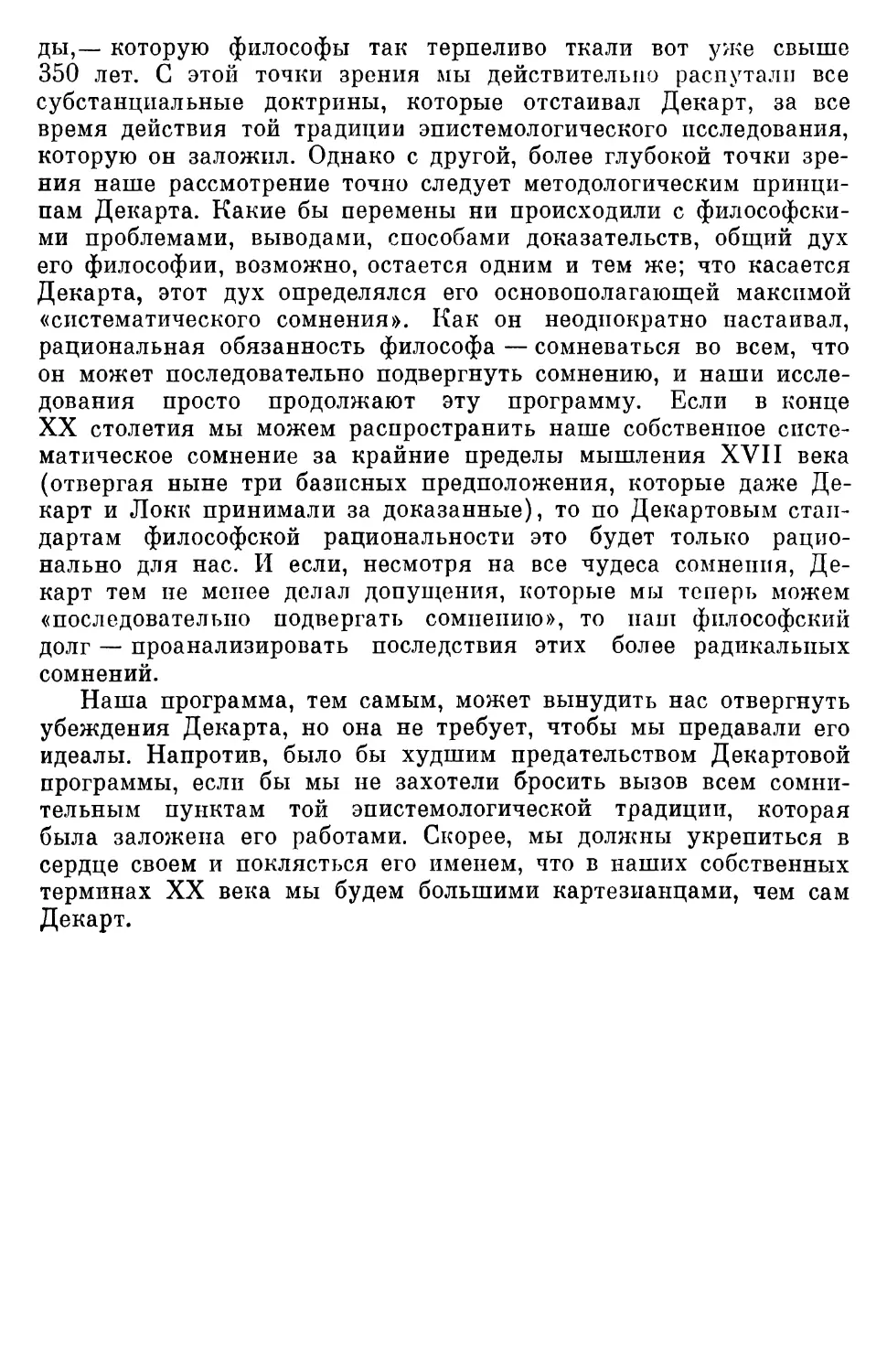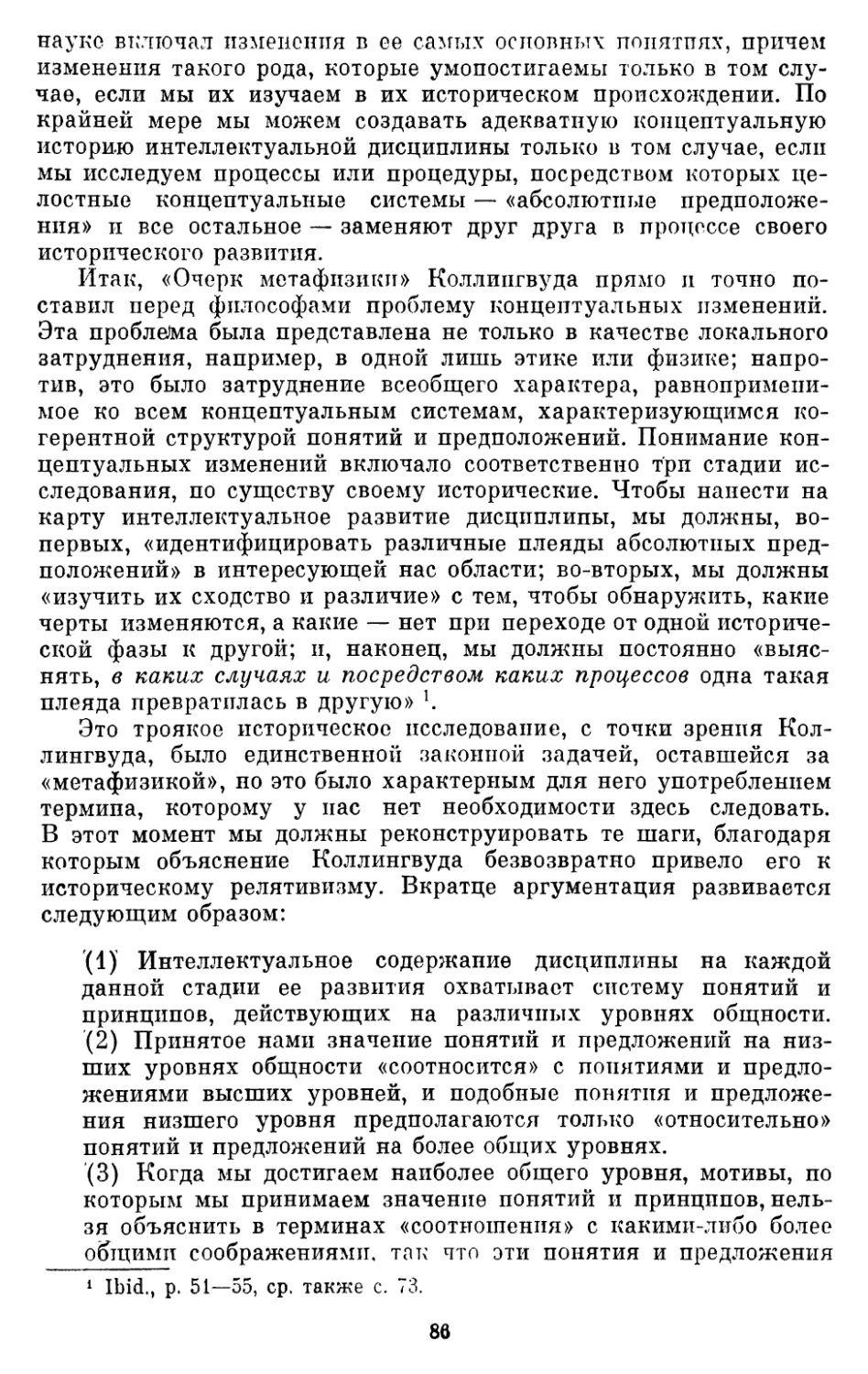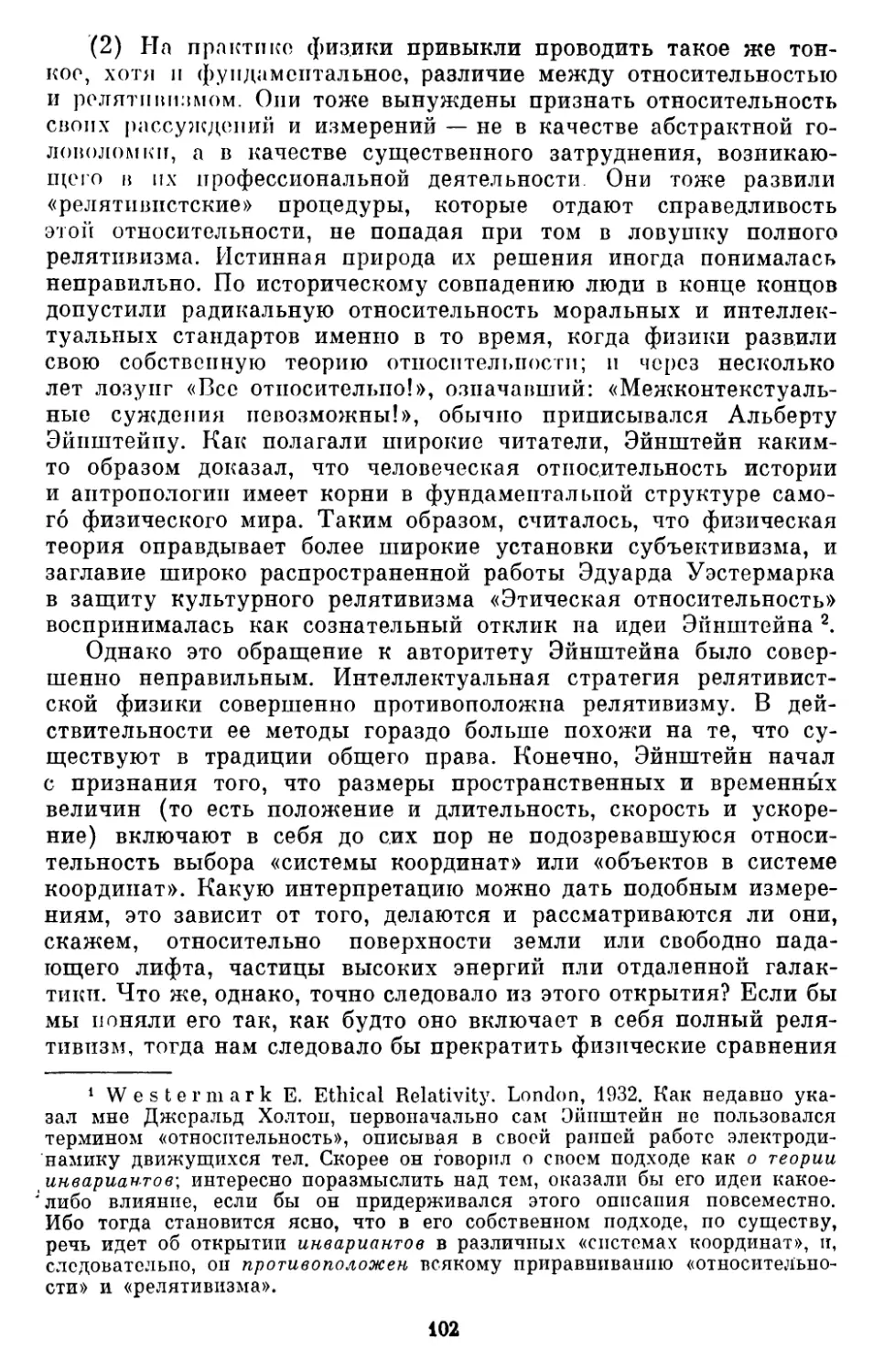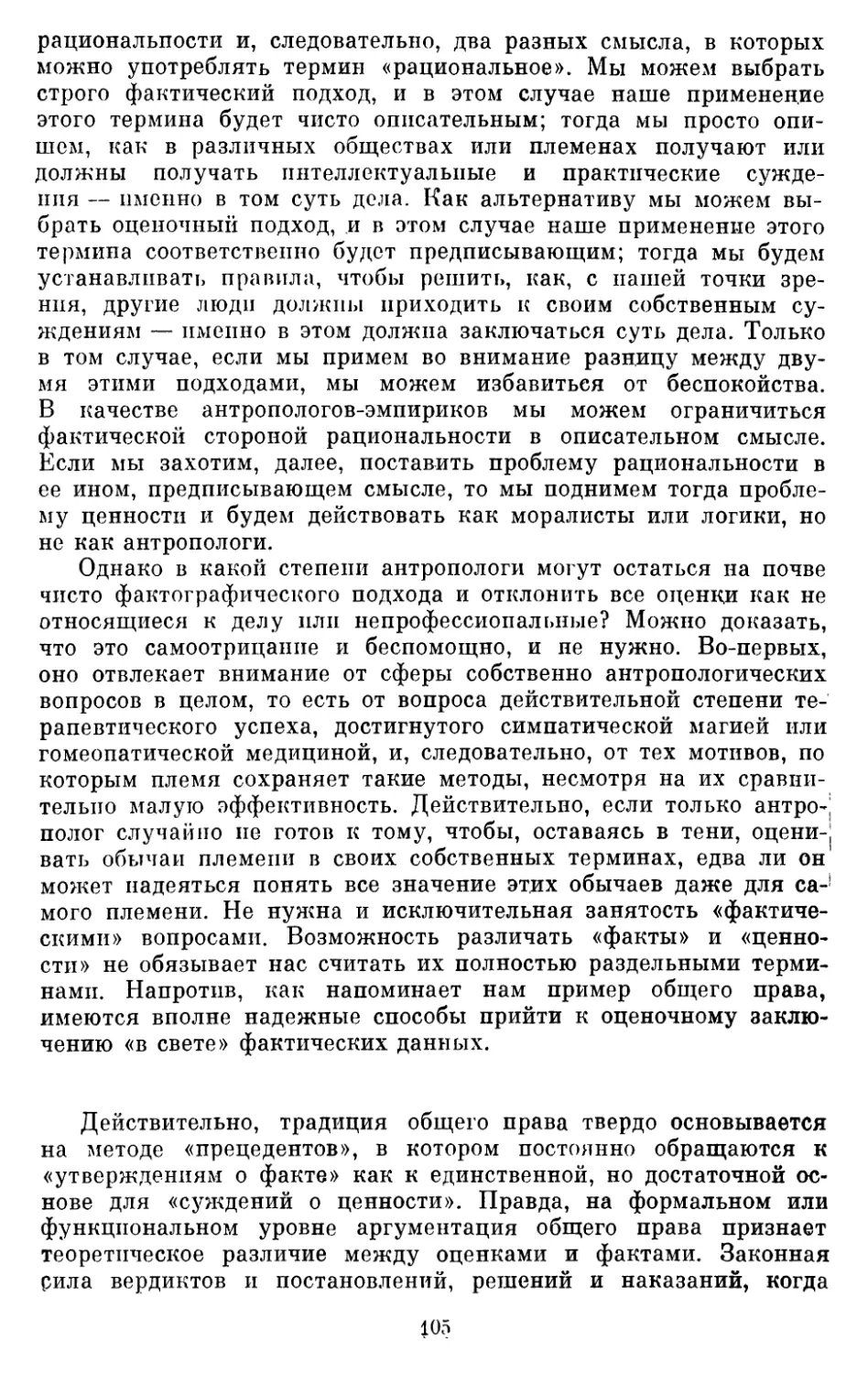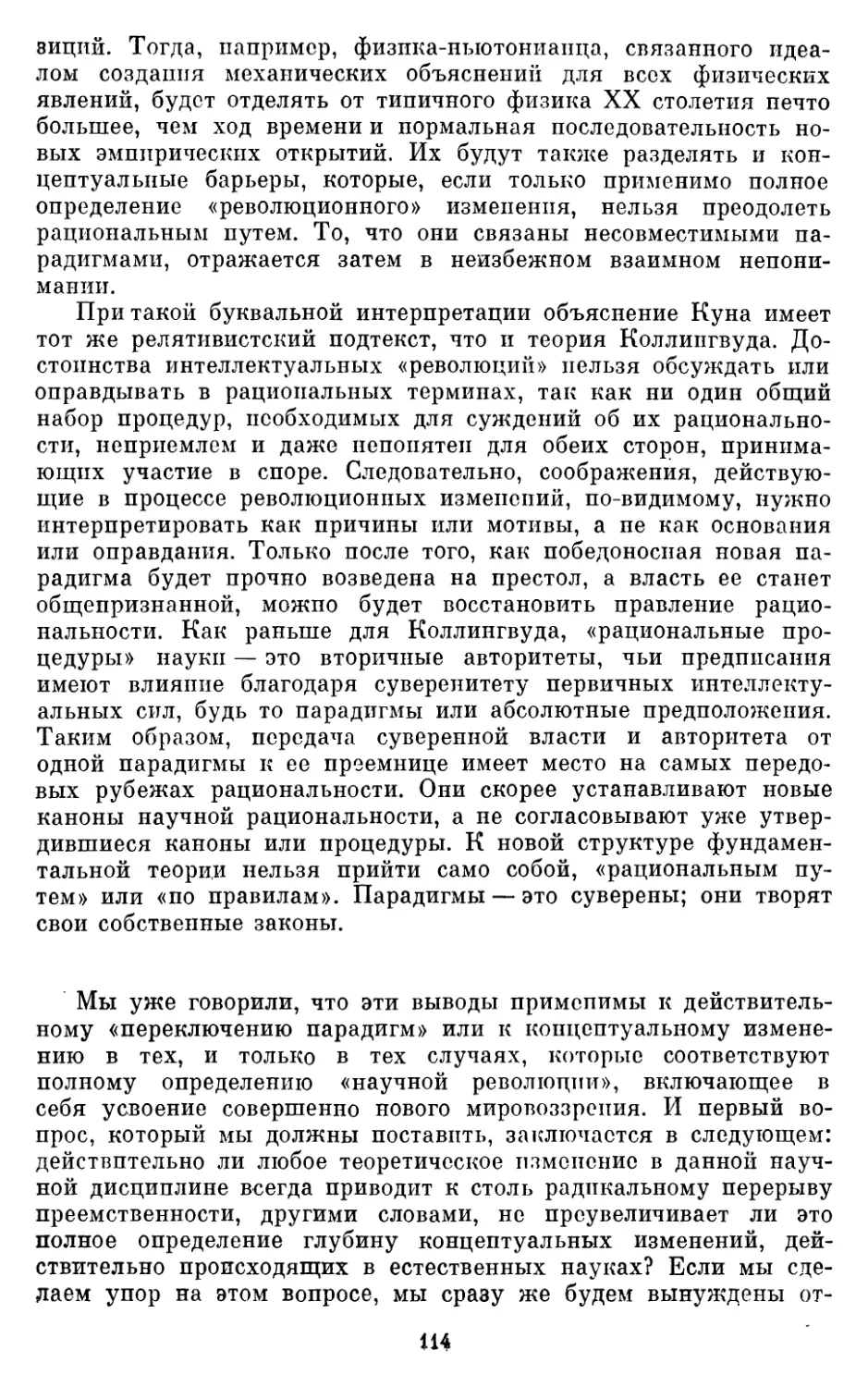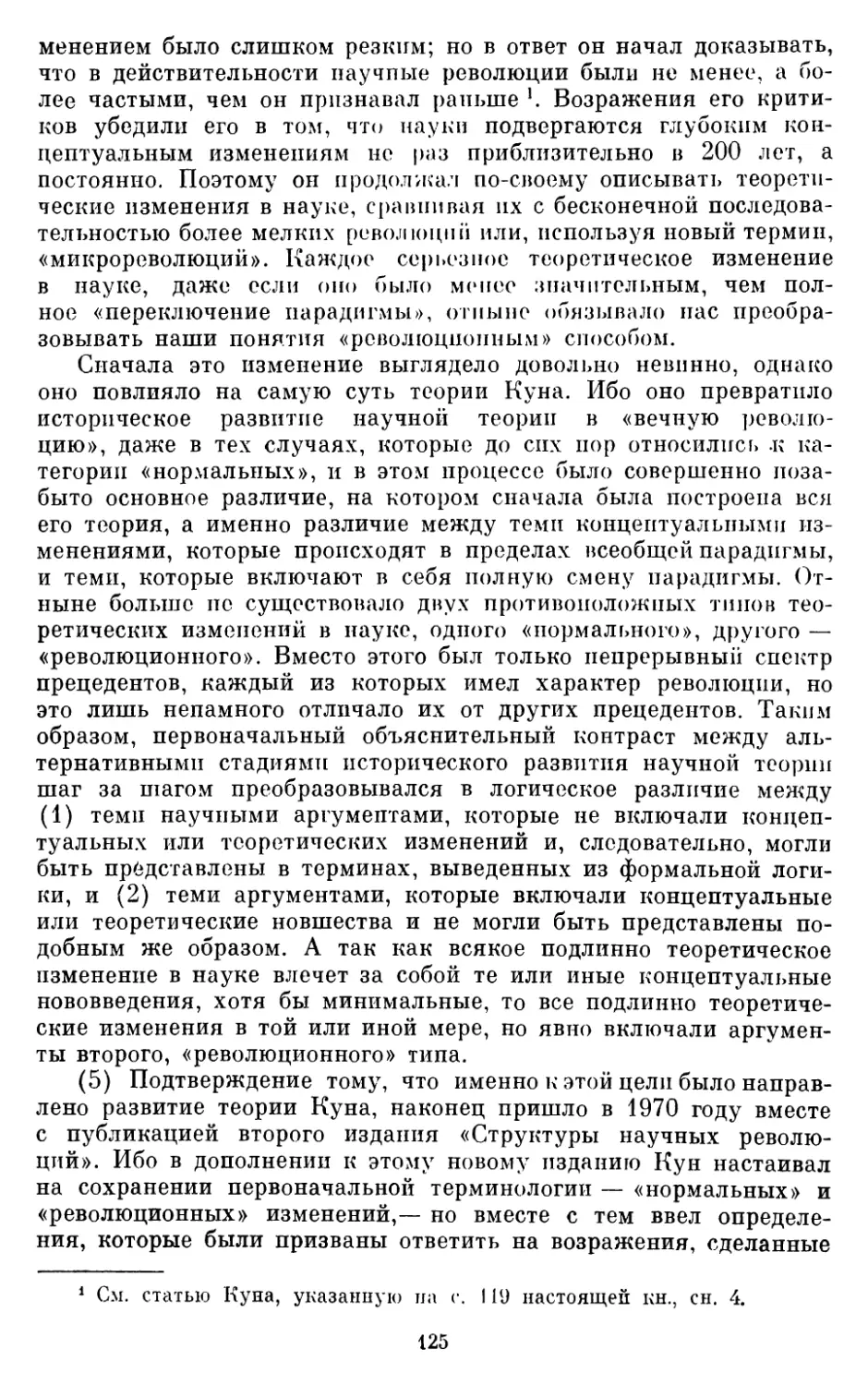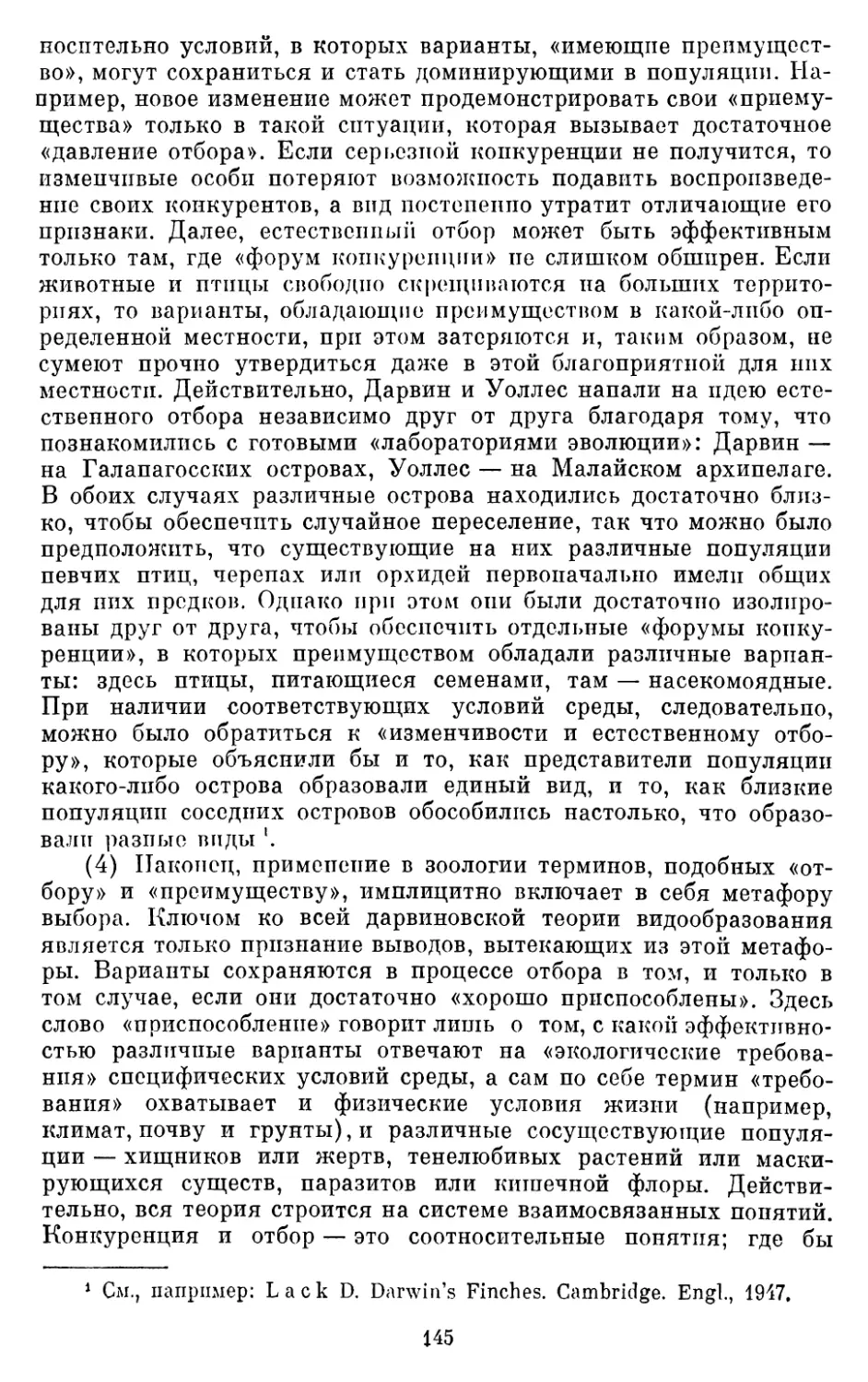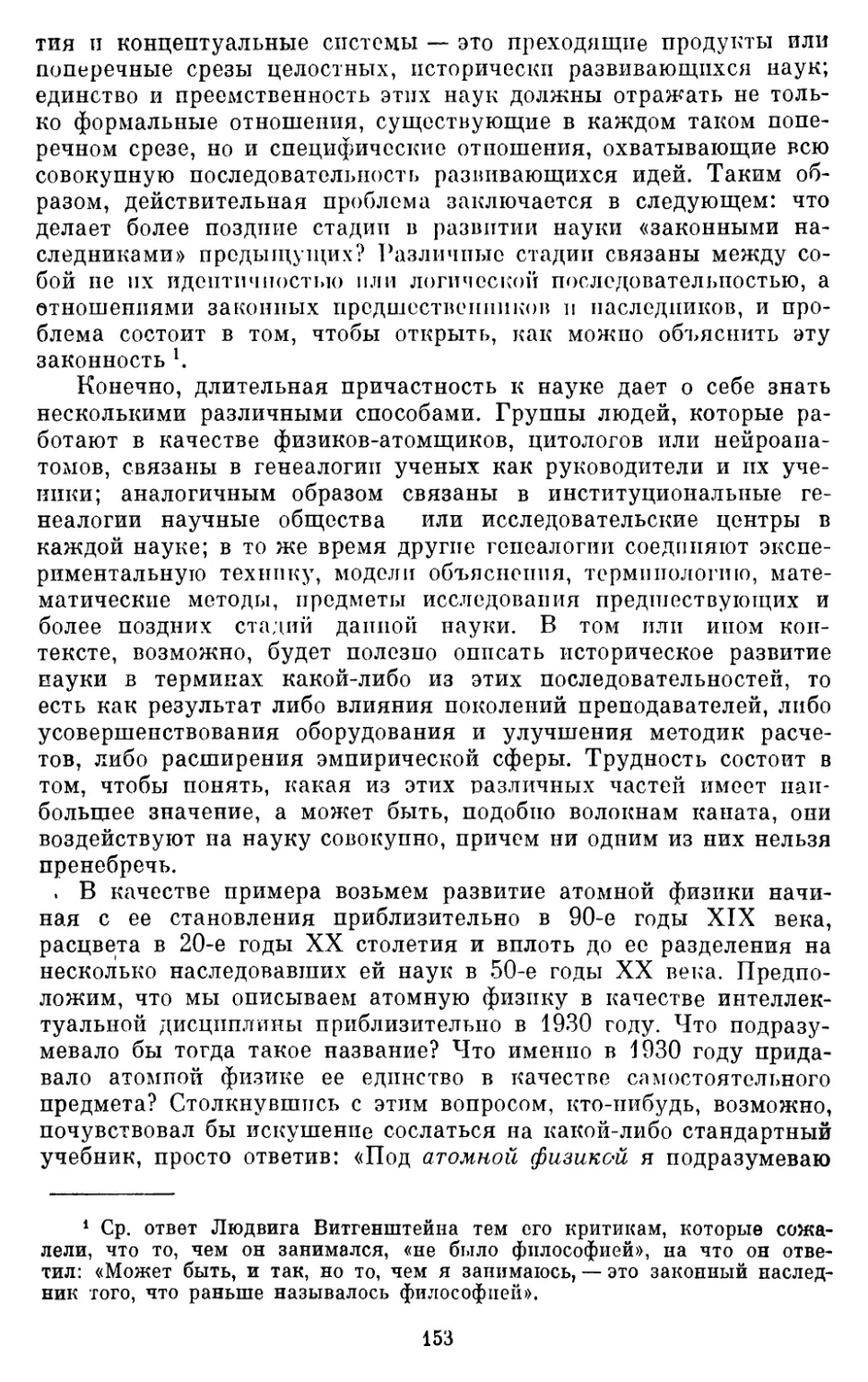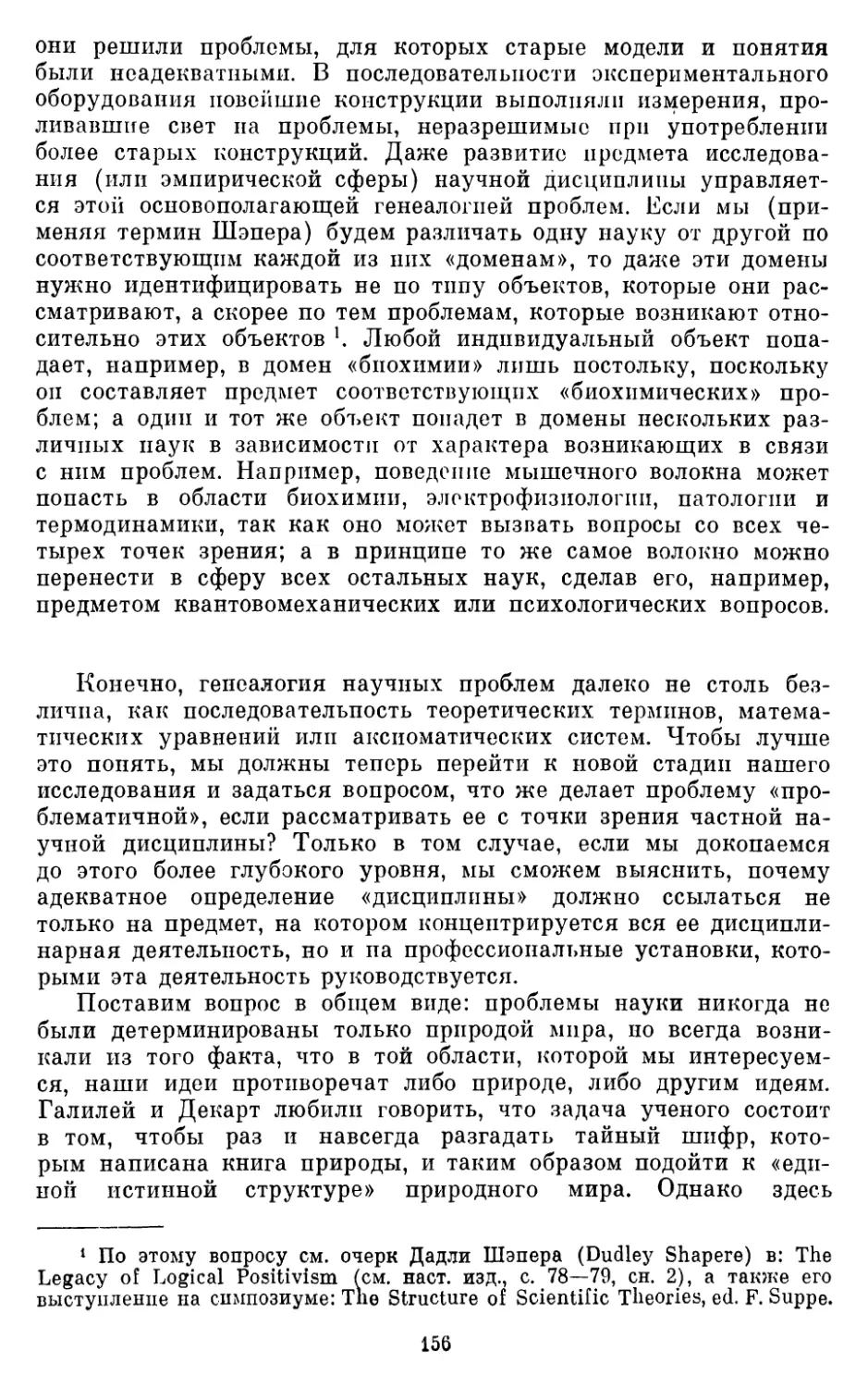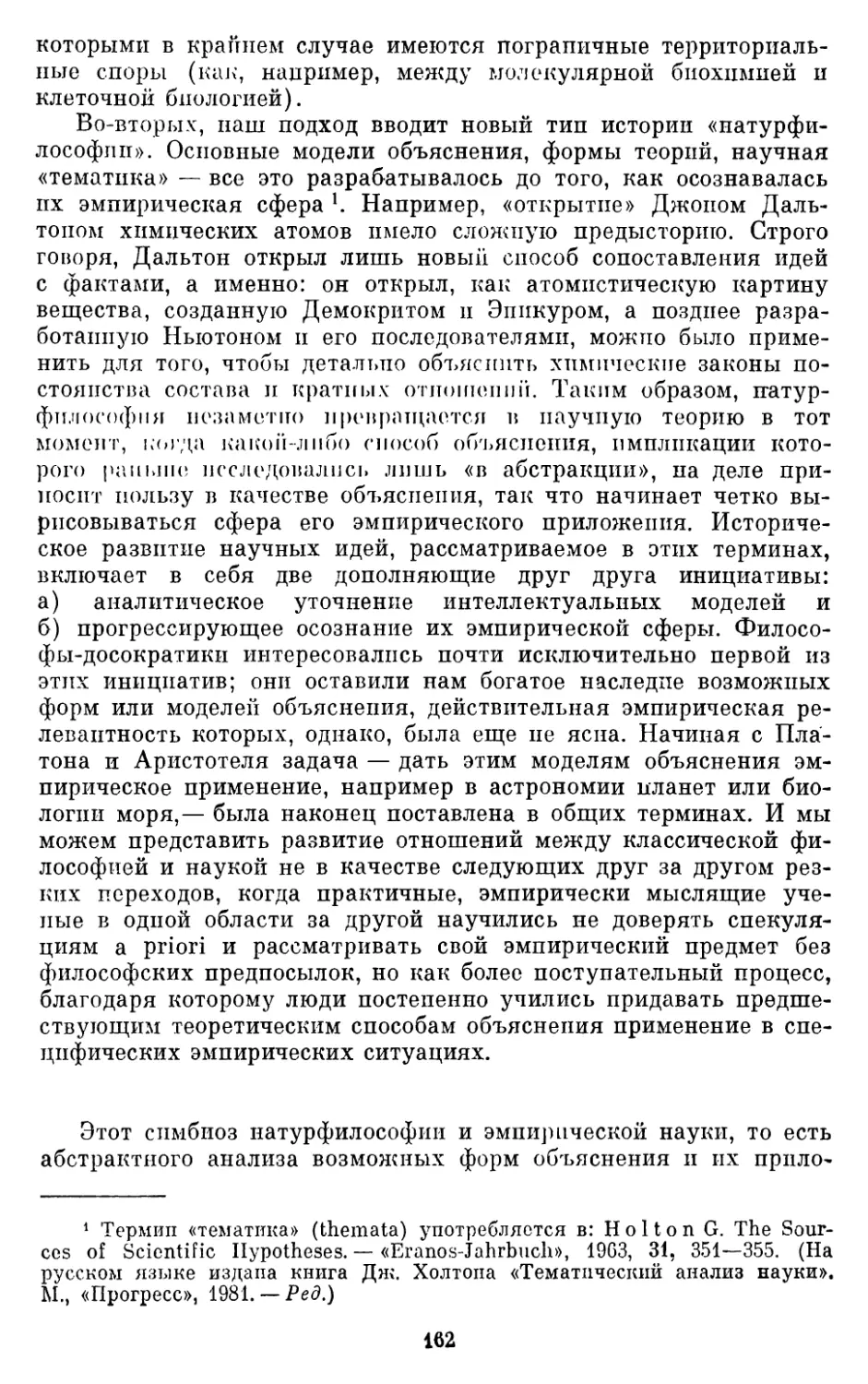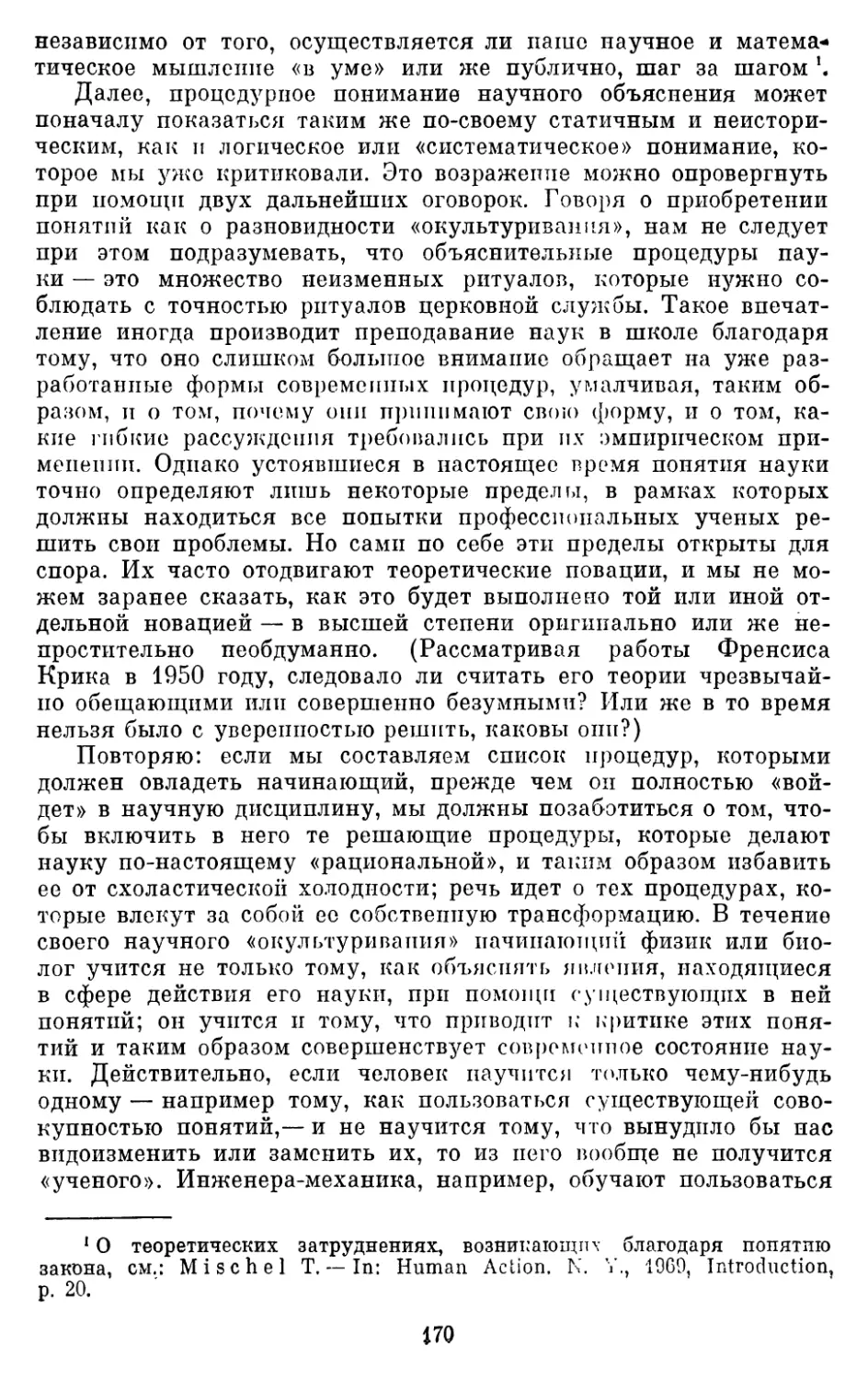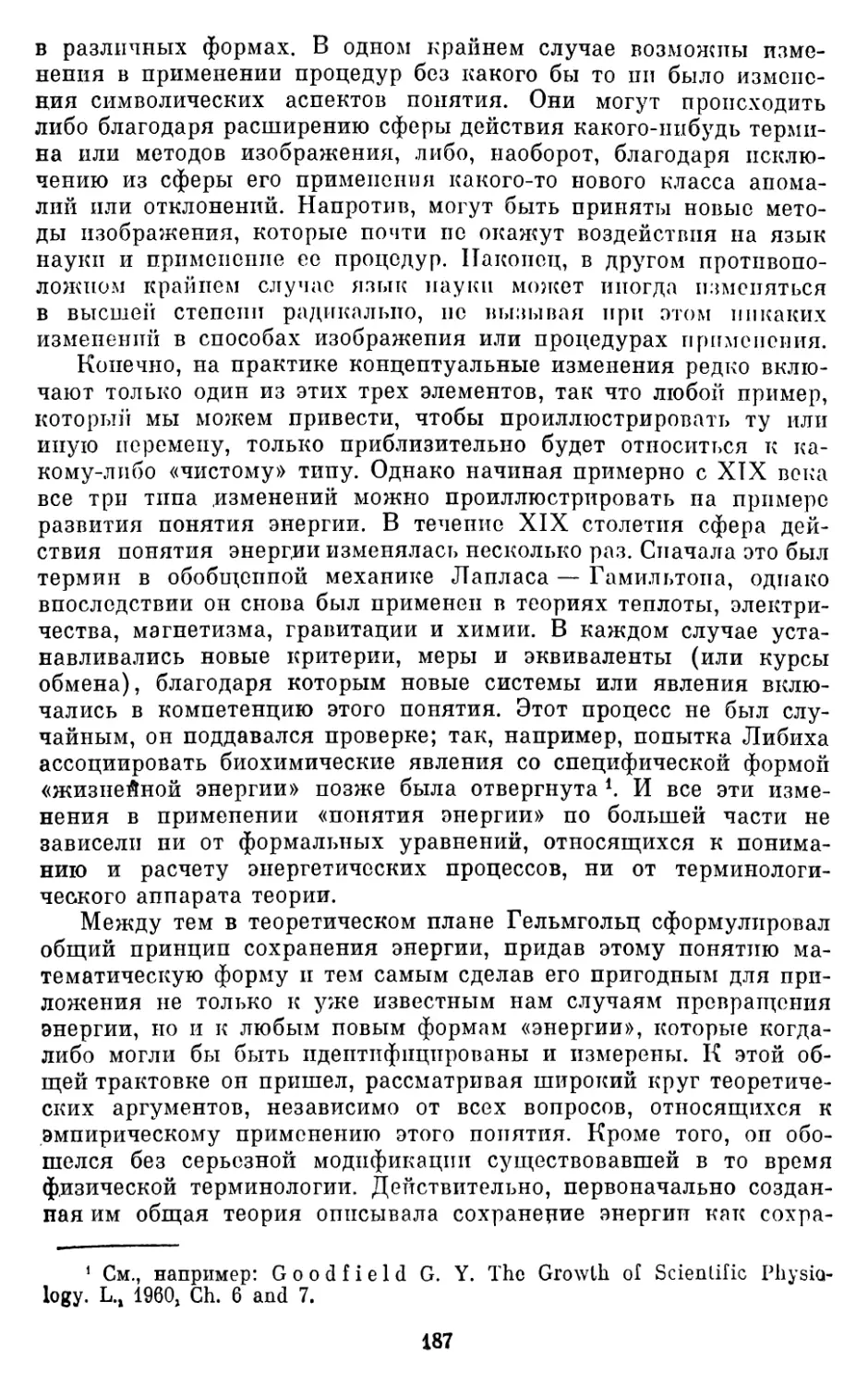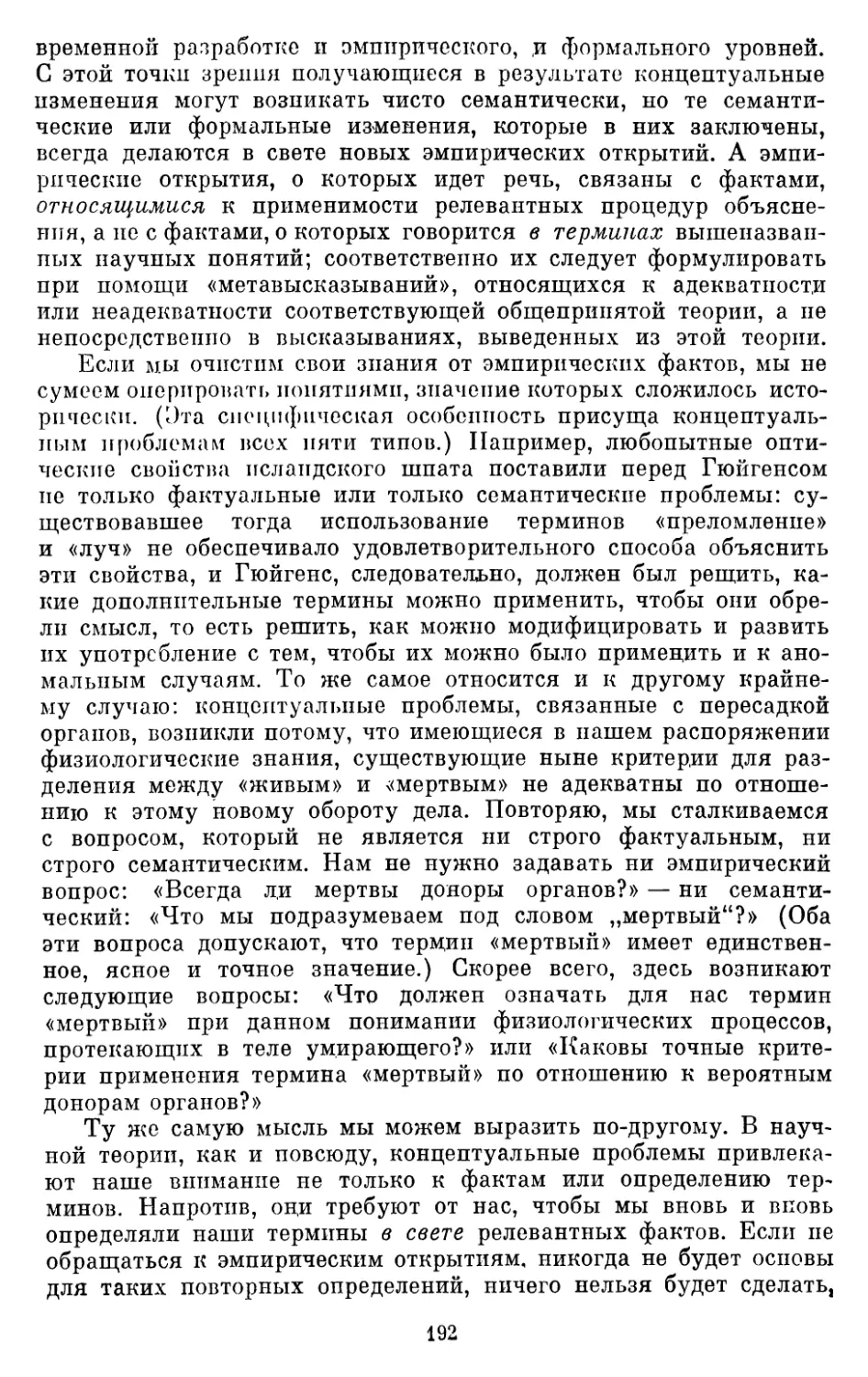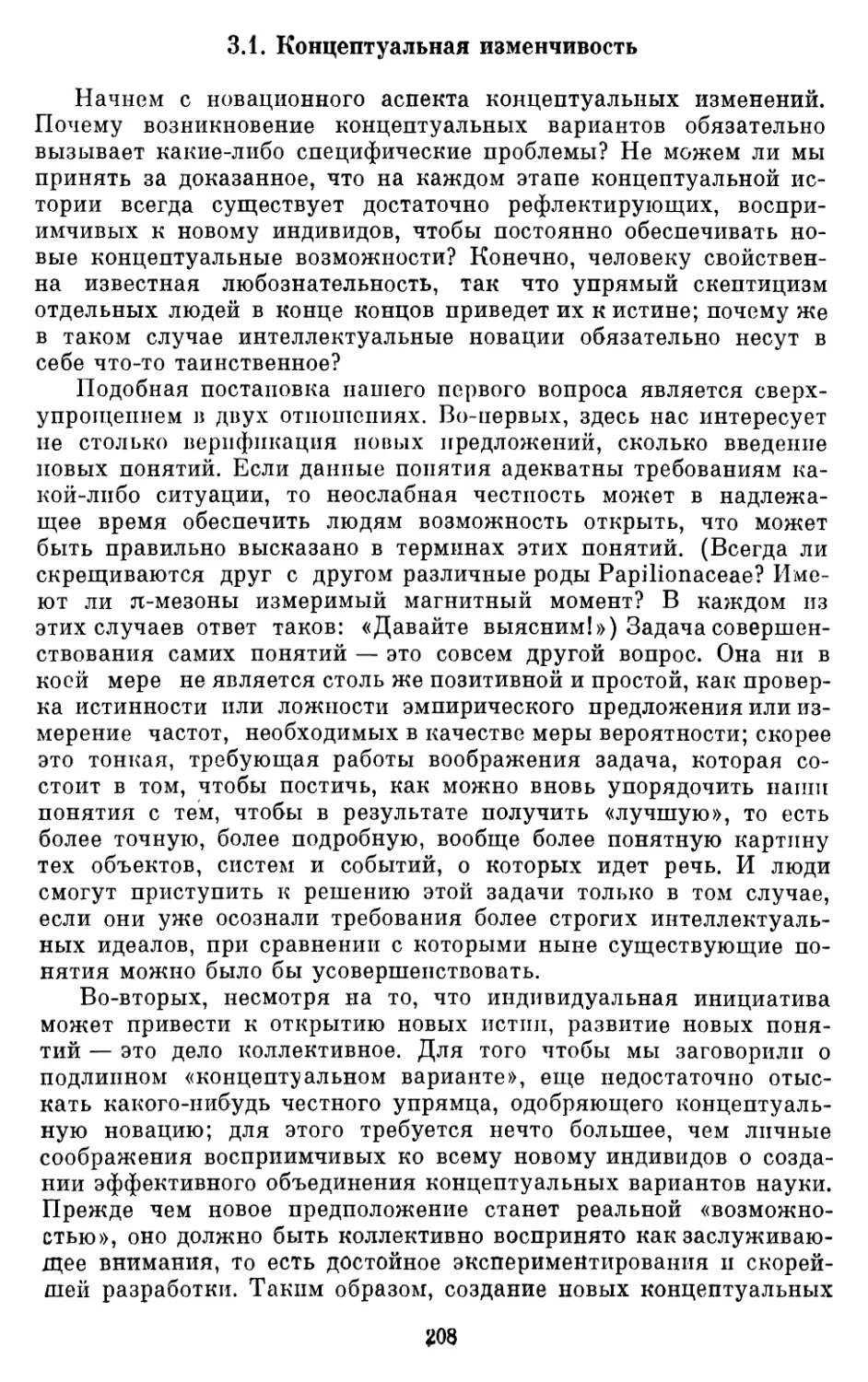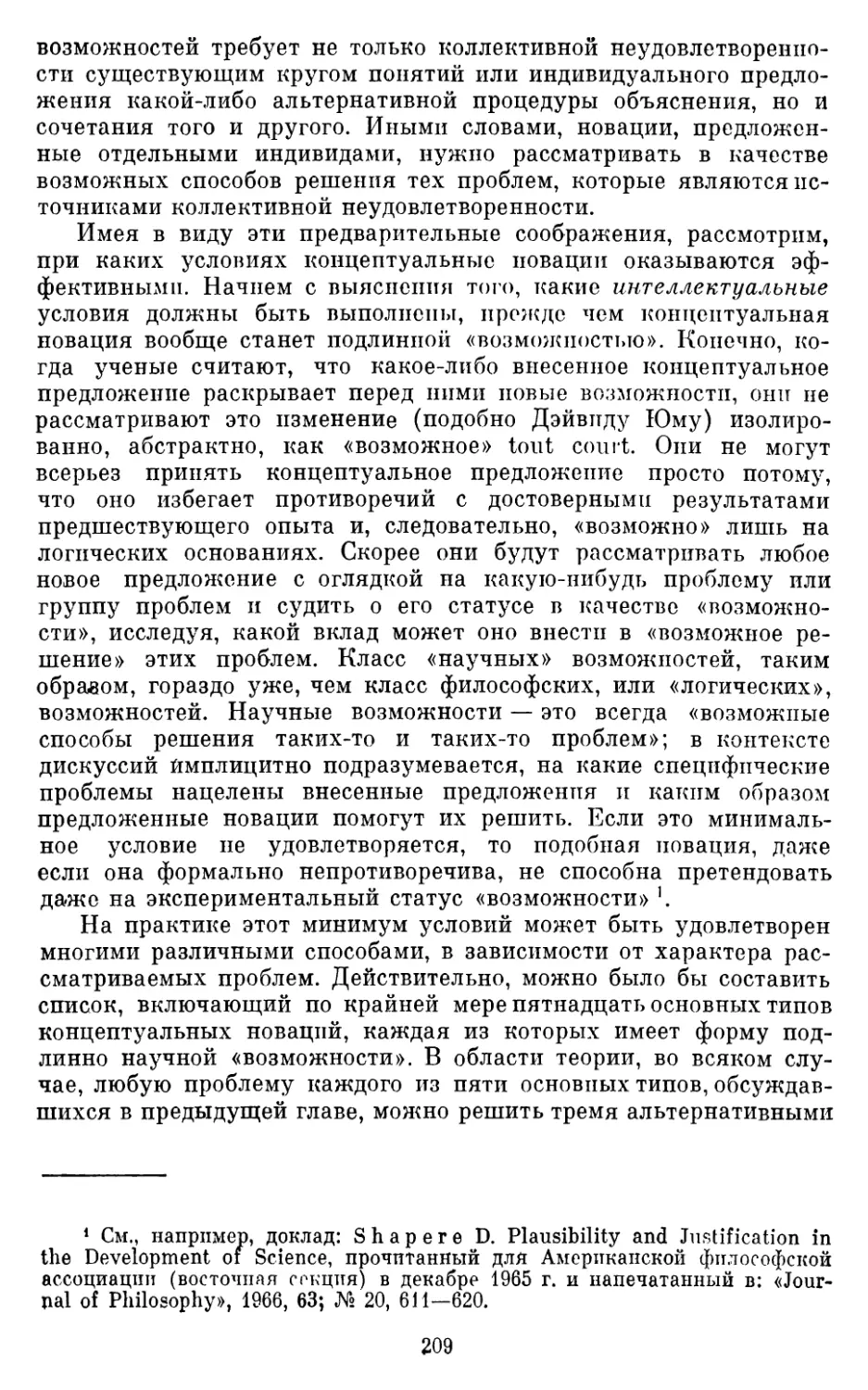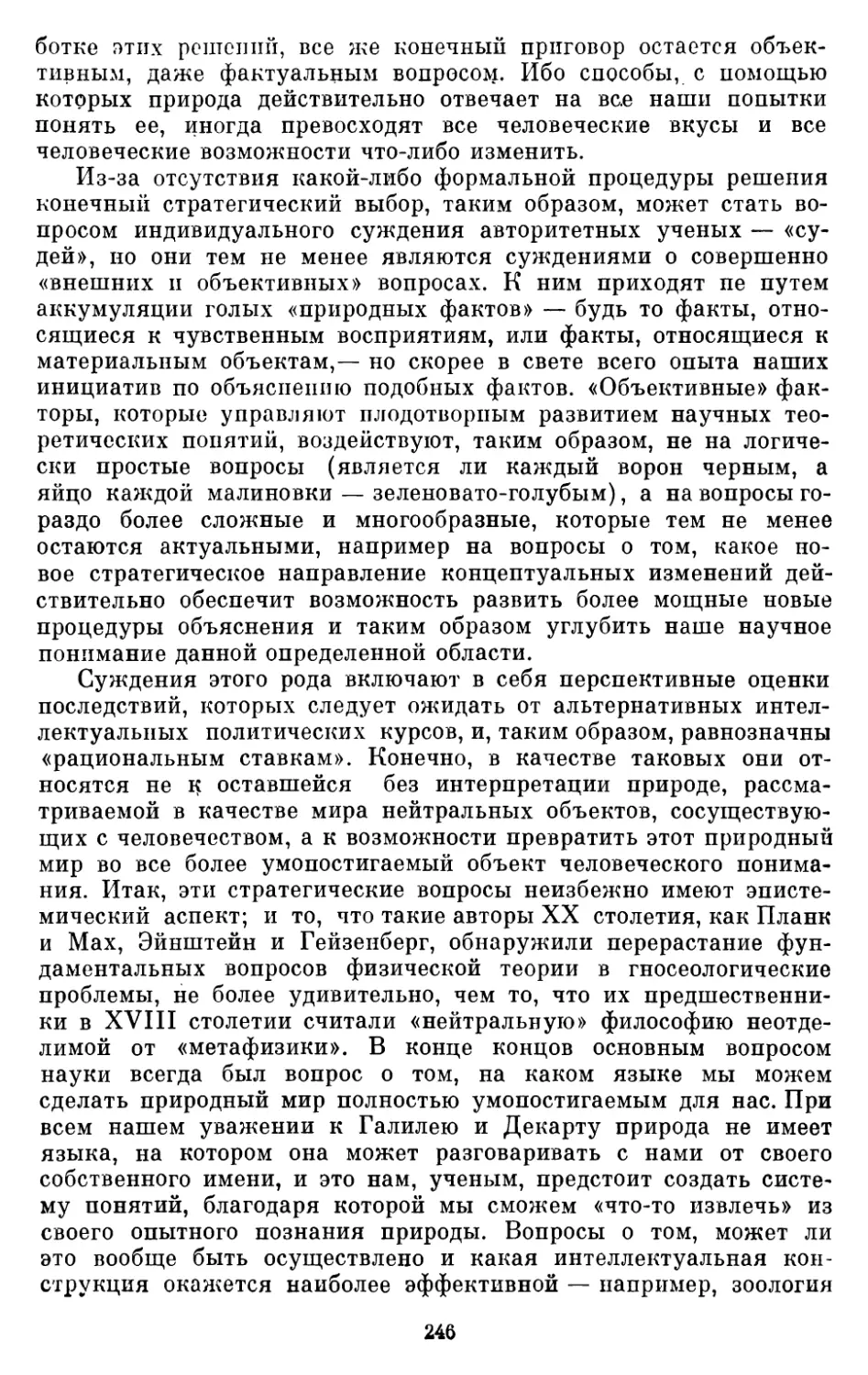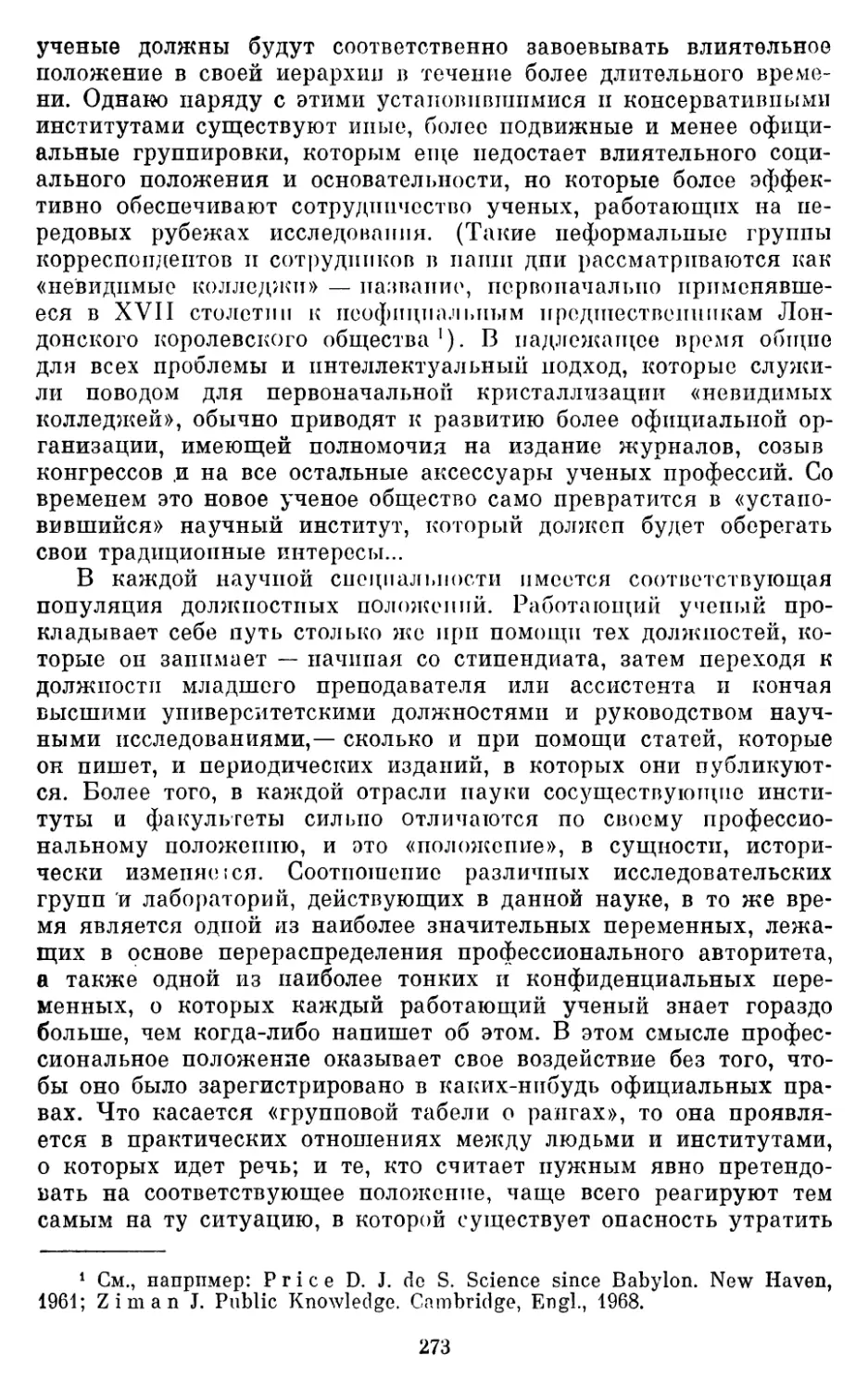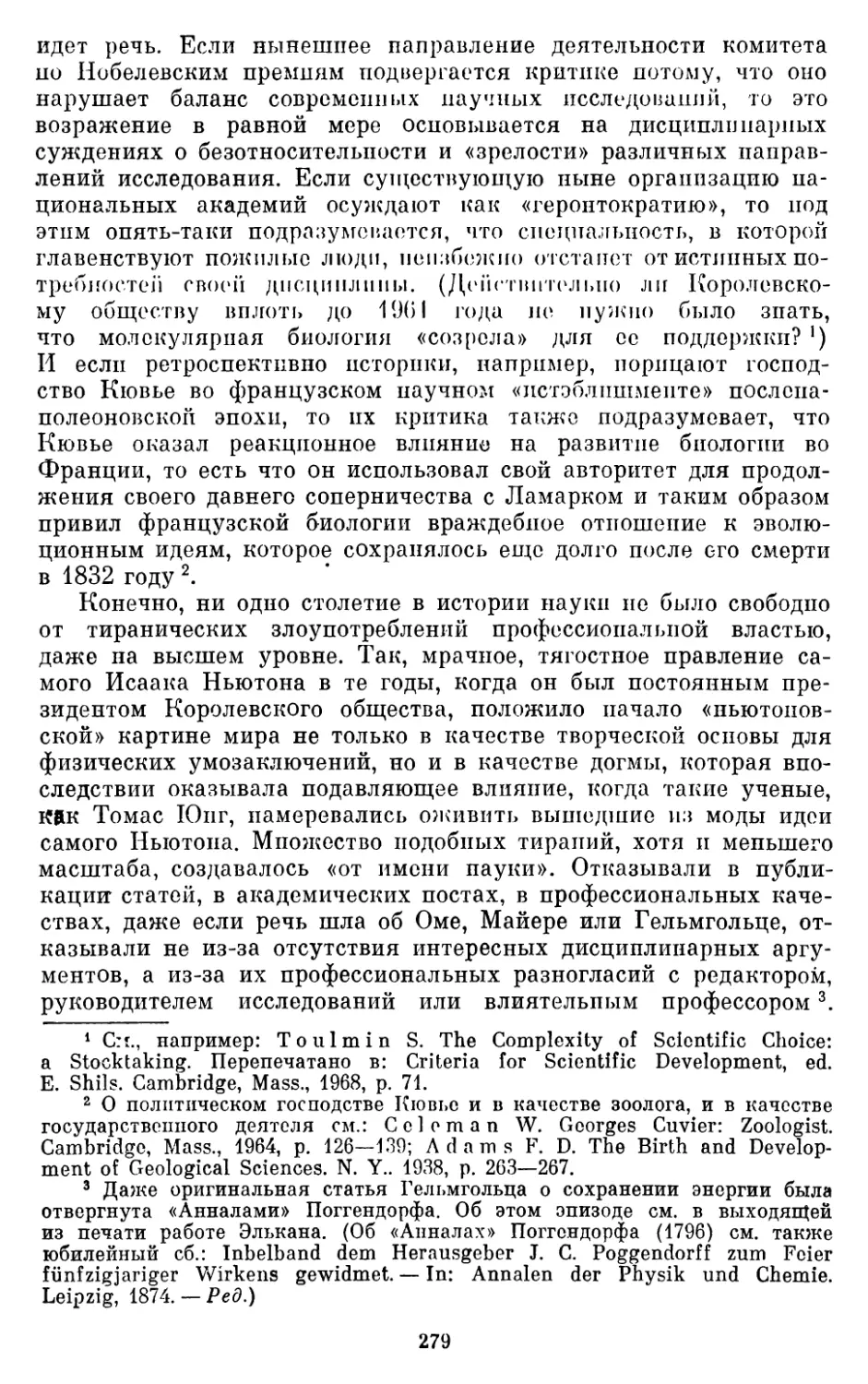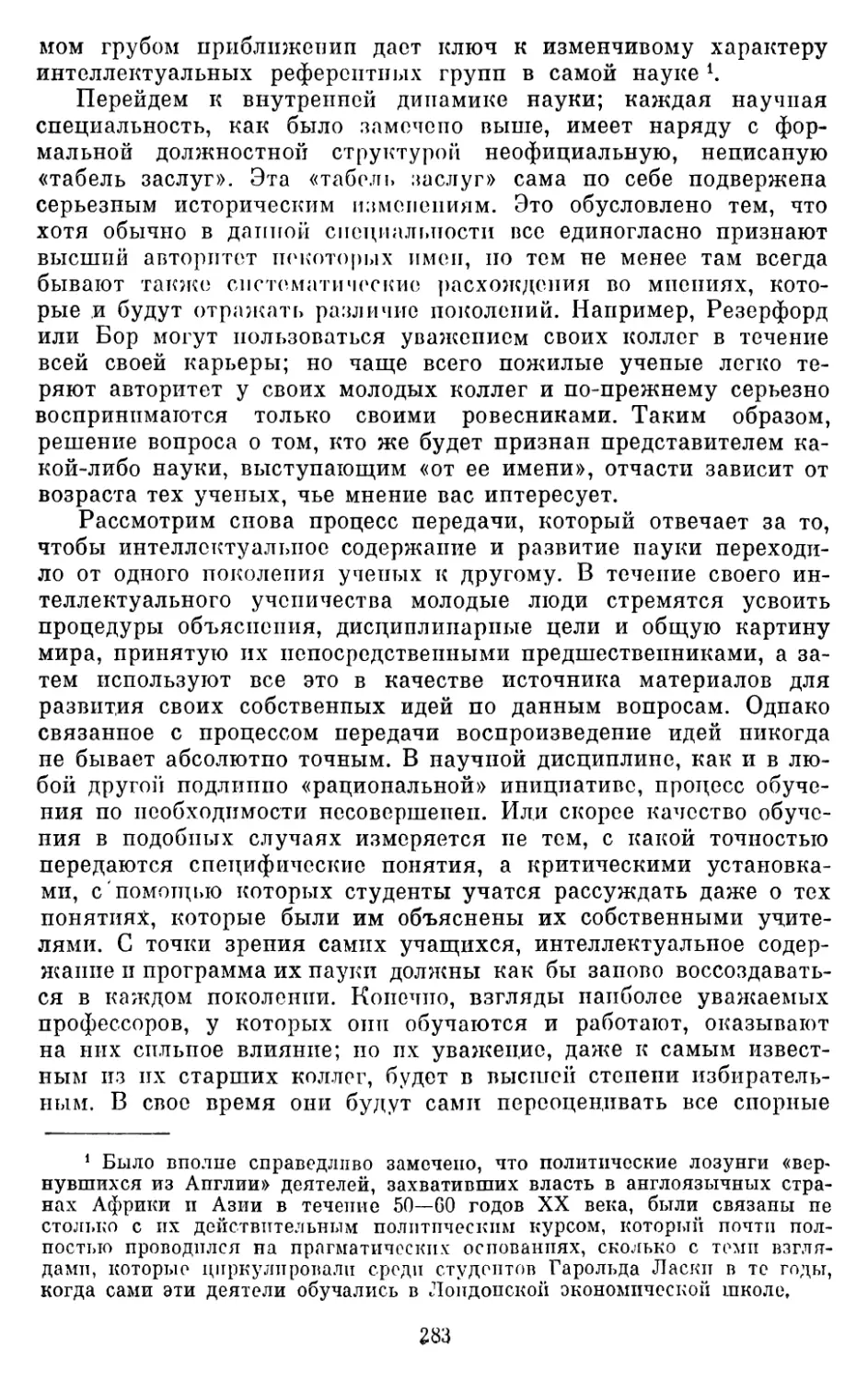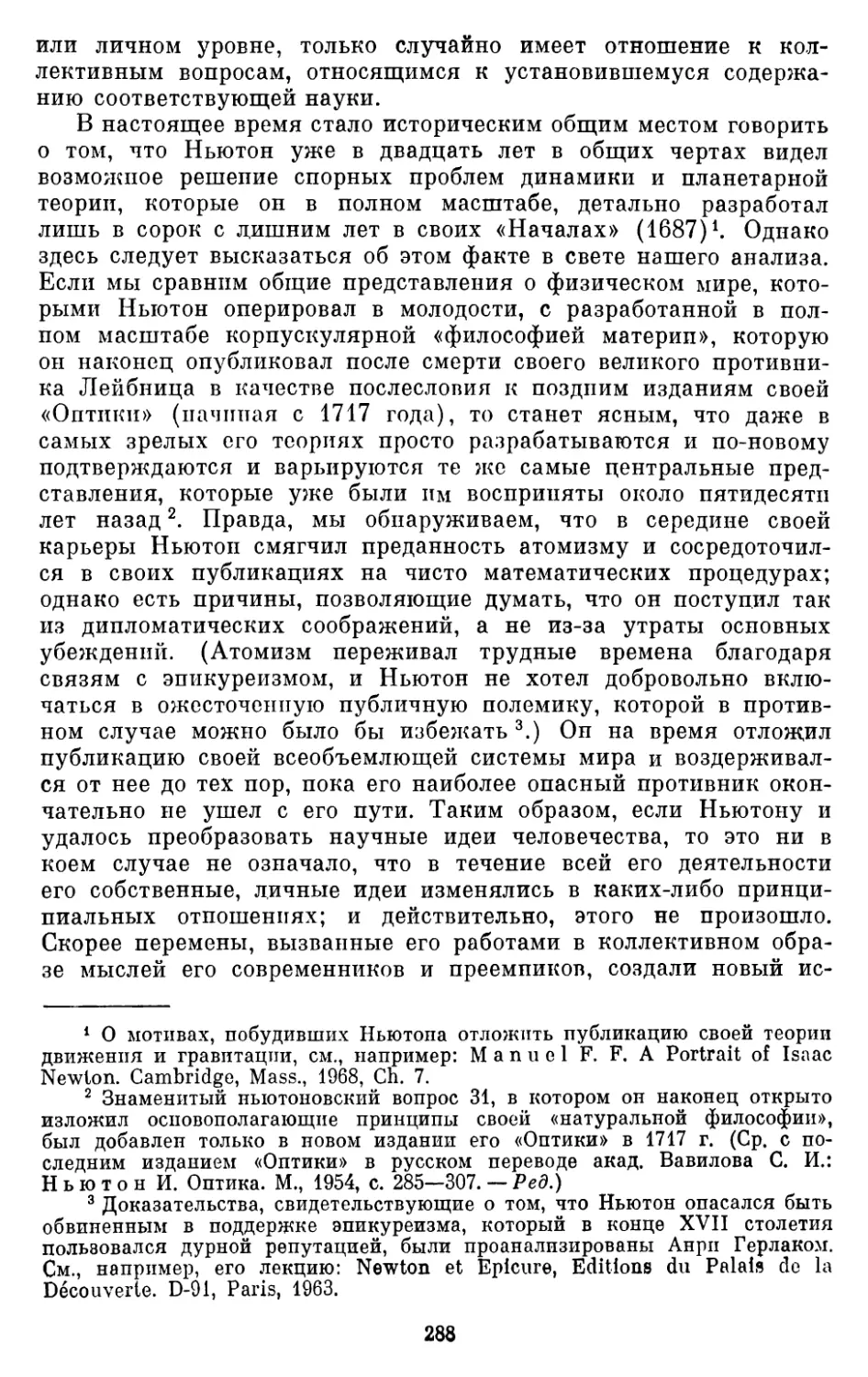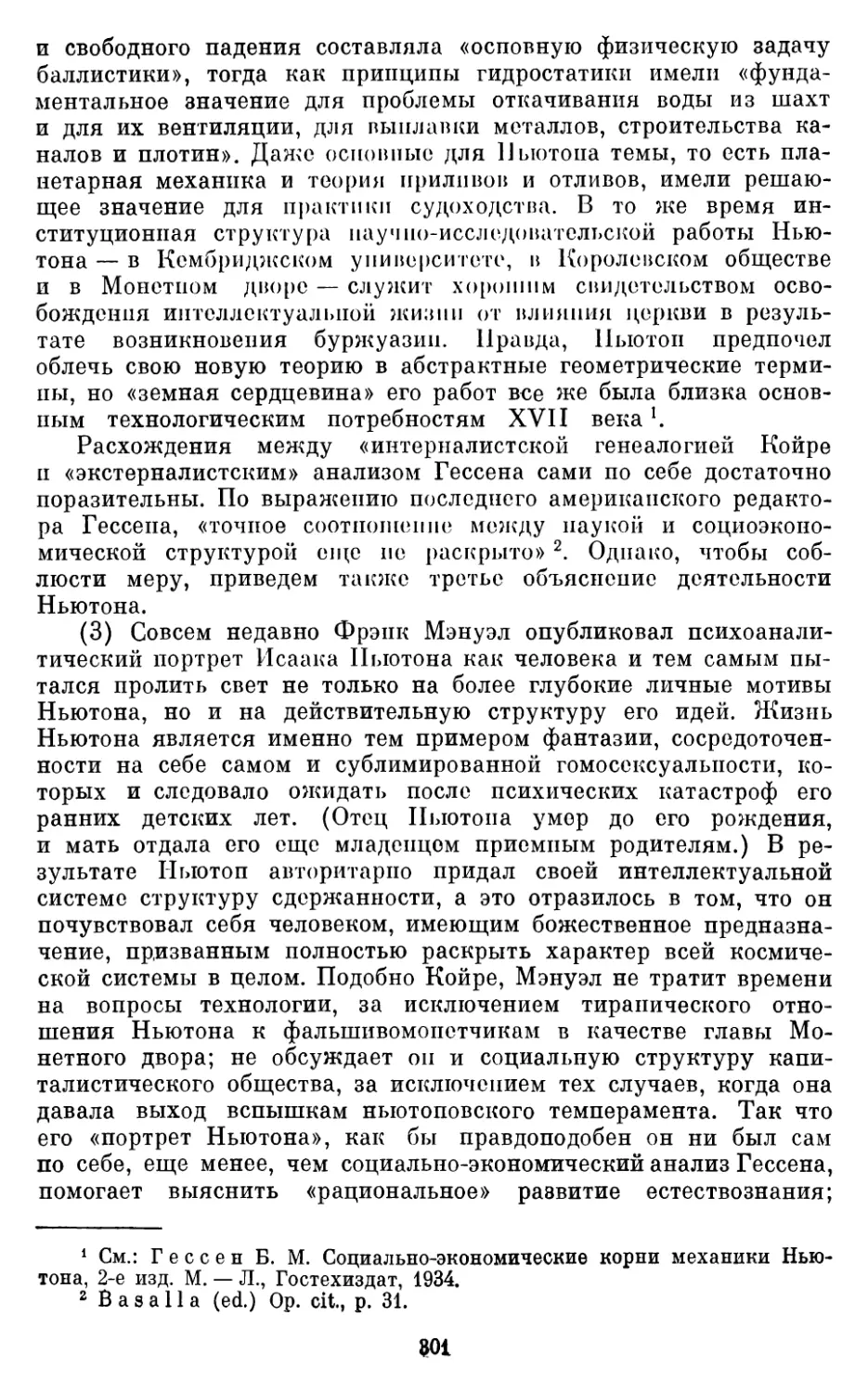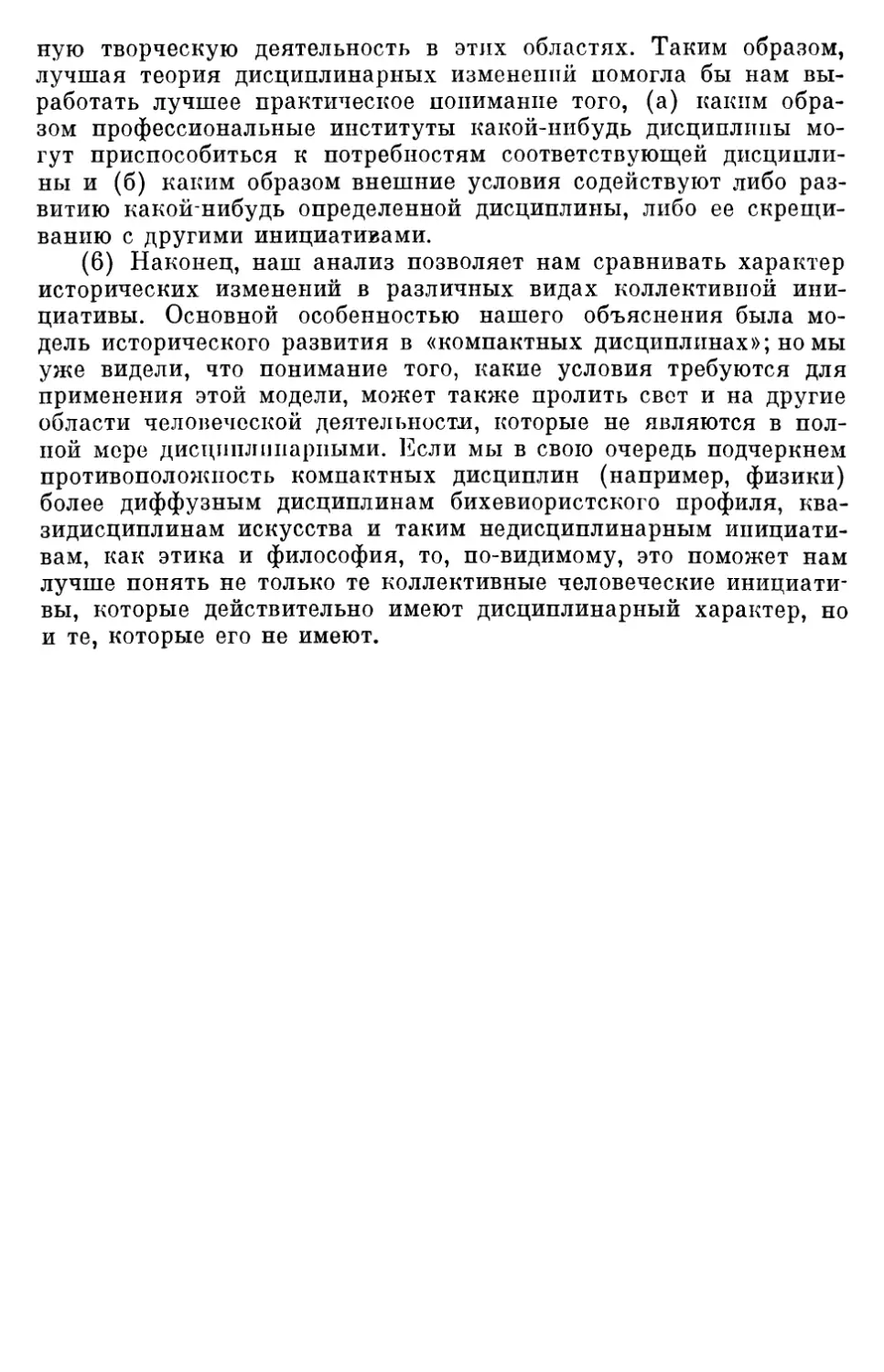Text
СТ.ТУЛМИН
ЧЕ I ID ВЕЧ f С UDE
ПОНИМАНИЕ
1
Stephen Toulmin
HUMAN
UNDERSTANDING
Princeton University Press
PRINCETON, NEW JERSEY
1972
Для научных библиотек
СТ.ТУЛМИН
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
ПОНИМАНИЕ
Перевод с английского 3. В. КАГАНОВОЙ
Общая редакция
и вступительная статья
д-ра философских паук
проф. П. Е СПВОКОНЯ
МОСКВА
«ПРОГРЕСС»
1984
Редактор ЛЕОНТЬЕВ В. М.
Редакция литературы
по философии и лингвистике
© Перевод на русский язык с сокращениями и вступительная статья»
«Прогресс», 1984
т 0302000000—623 6_84
006 (01)-84
ОТ НЕОПОЗИТИВИЗМА
К ПОСТПОЗИТИВИЗМУ:
ЭВОЛЮЦИЯ ФИЛОСОФСКОГО
ЭВОЛЮЦИОНИЗМА СТ. ТУЛМИНА
(Вступительная статья)
Для каждого мыслящего человека в наши дни очевиден зако-
номерный ход истории. Ускоряются темпы научного, социального
и культурного прогресса, о чем убедительно говорят успехи совре-
менной научно-технической революции, развитие мировой соци-
алистической системы, торжество марксистско-ленинской теории.
Все это находит то или иное более пли менее опосредованное от-
ражение в различных формах общественного сознания, в част-
ности в философском мышлении. Философская мысль на Западе,
в том числе и немарксистская, также не может быть безразлич-
ной к существенным сдвигам в материальной и духовной жизни
людей в современном мире. Ярким свидетельством этого может
служить предлагаемая книга Стивена Эделстона Тулмина.
Начавший свою философскую деятельность как представитель
английской школы философии обыденного языка в Лидсе
(Англия), ныне профессор Чикагского университета, Ст. Тулмин
обнаруживает в данной книге, равно как и в ряде других своих
публикаций !, острый интерес к общим основам науки, которые
он видит в своеобразном комплексе исторического, познавательно-
психологического и конкретно-социологического подхода к ее
анализу. Подобный комплекс, по существу, и составляет, на его
взгляд, изначальную и кардинальную «проблему понимания»,
имеющую как «экстенсивный», то есть обращенный вовне, так и
«интенсивный», или «рефлективный», обращенный вовнутрь ха-
рактер, поскольку «человек познает, но он также и осознает то,
что он познает» (с. 23) 1 2. В соответствии с этим в книге всемерно
подчеркивается относительная самостоятельность и оригиналь-
ность предлагаемой концепции.
1 См.: The Philosophy of Science. L., 1953; An Examination of the Place
of Reason in the Ethics L. — N. Y., 1958; The Ancestry of Science, v. 1—3,
L., 1961—1965; Foresight and Understanding. Bloominghton, 1961; Reason in
Ethics, Cambridge, 1964; Metaphysical Beliefs. L., 1970 (совм. c R. Hepburn,
A. MacIntyre); Wittgenstein’s Vienna. N. Y., 1973; History, Praxis and «Third
World“. — In: Essays in Memory of Imre Lakatos. Boston Studies in the Phi-
losophy of Science. 1976, vol. 39, Dordrecht, Boston; Knowledge and Acting.
N. Y, 1976, и др.
2 Здесь и в дальнейшем цифры в скобках означав?? страницы данной
книги.
Какова ценность исторических, гносеологических и социологи-
ческих установок автора? В какой мере они могут претендовать
на самостоятельность и оригинальность?
Что касается предлагаемого в данном случае Ст. Тулминым
историзма, то он имеет свою историю. До определенного периода
буржуазная философия XIX—XX веков, как правило, игнориро-
вала актуальную общественно-историческую проблематику. Она,
по выражению В. И. Ленина, «...особенно специализировалась на
гносеологии и, усваивая в односторонней и искаженной форме
некоторые составные части диалектики (например, релятивизм),
преимущественное внимание обращала на защиту или восста-
новление идеализма внизу, а не идеализма вверху. По крайней
мере позитивизм вообще и махизм в частности гораздо больше
занимались тонкой фальсификацией гносеологии, подделываясь
под материализм, пряча идеализм за якобы материалистическую
фразеологию, — и мало сравнительно обращали внимания па фи-
лософию истории» \
В настоящее время на Западе наметился поворот к опреде-
ленному социальному осмыслению исторического процесса. Идеи
историзма, социализации науки и т. п. так или иначе пробивают
себе путь в общетеоретических концепциях и системах. Вопрос,
однако, заключается в том, каков объективный, истинный смысл
подобного историзма или концепций социализации, в какой свя-
зи они находятся с научным мировоззрением.
Весьма поучительным в этом отношении оказывается послед-
ний, заключительный этап развития неопозитивизма и особенно
возникновение его постпозитивистской критики, одним из вырази-
телей которой, несомненно, является автор данной книги.
Возникновение постпозитивизма представляет собой сложный
диалектический процесс. Свою роль сыграли здесь разрушитель-
ные тенденции внутри различных позитивитских и неопозити-
вистских концепций, возникшие в результате их последовательной
естественнонаучной и марксистско-ленинской критики, а также
под воздействием современного культурного и общественного
прогресса.
В конце 40-х —начале 50-х годов нашего века крах неопози-
тивизма во всех его программных и существенных проявлениях —
в эмпирицистских (Э. Мах и др.), в логико-семантических
(М. Шлик, Р. Карнап, Л. Витгенштейн, Б. Рассел и др.) и т. п.—
становится бесспорным1 2. Объективный научный марксистско-
ленинский анализ философской несостоятельности позитивист-
ских идей шел всегда рука об руку со всей прогрессивной наукой,
современным теоретическим и экспериментальным естествознани-
ем. В частности, с позиций стихийного естественноисторического
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 18, с. 350.
2 См. об этом: Нар с кий И. С. Современный позитивизм. М., 1961;
Хилл Т. И. Современные теории познания. М., ИЛ, 1965; Ш в ы р е в В. С,
Неопозитивизм и проблемы эмпирического обоснования науки, М., 1966»
6
материализма выдающийся ученый нашего времени А. Эйнштейн
отвергал махизм (эмпириокритицизм), критиковал неопозитивизм,
искавший прибежище в Копенгагенской школе квантовой меха-
ники (Н. Бор, В. Гейзенберг и др.). Как и В. И. Ленин1, он ви-
дел философские источники подобного позитивизма в берклианст-
ве. А. Эйнштейн писал своим противникам: «Что мне не нравится
в подобного рода аргументации — это, по моему мнению, общая
позитивистская позиция, которая, с моей точки зрения, является
несостоятельной и которая, по моему мнению, ведет к тому же
самому, что и принцип Беркли — esse est percipi» 1 2. Ставший
после второй мировой войны фактом официальный отказ основа-
телей квантовой механики от принципов позитивизма свиде-
тельствовал, в сущности, о глубоком кризисе последнего, хотя
на развалинах прошлого и продолжают еще жить идеи модерни-
зированного прагматического, инструменталистского плана («ан-
глосаксонского стиля мышления»).
Развившийся кризис ознаменовался возникновением интереса
к историзму прежде всего среди зарубежных ученых и филосо-
фов, далеких от неопозитивизма. К «идее истории» обратился
представитель английского неогегельянства (Оксфордской шко-
лы) историк Р. Дж. Коллингвуд3; к истории естествознания
обращается американский физик Т. Кун — автор известной книги
«Структура научных революций» 4. Очень скоро идеи историчес-
кого подхода возникают в качестве своеобразной лояльной оппози-
ции к отмирающему неопозитивизму как те или иные формы
постпозитивизма. Отрицая позитивизм как целое, они наследуют
от своего предшественника релятивизм и скептицизм по отноше-
нию к материальной действительности, к объективному содержа-
нию научных знаний и их достоверности. Зачинателем такого
постпозитивизма, во всяком случае одним из наиболее известных
его представителей, можно считать К. Поппера 5, а его весьма
заметным и плодовитым деятелем, несомненно, явился Ст. Тул-
мин.
Не отрицая истины как «соответствия фактам», К. Поппер
считал своим отправным моментом традиционный неопозитивист-
ский (в том числе и неокантианский) тезис об изначалыюсти ана-
лиза суждений, положений, идей и т. п., которые и представляют
собой объект, или предмет, науки. «Что же касается логики по-
знания — в отличие от психологии познания,— утверждал он
1 См.: Лепин В. И. Материализм и эмпириокритицизм.—В: Поли. собр.
соч., т. 18, с. 13—32 и др.
2 Эйнштейн А. Ответ на критику.— В: Философские вопросы совре-
менной физики. Изд. АН СССР. М., 1959, с. 227.
3 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., «Наука»,
1980.
4 Ку и Т. Структура научных революций. М., «Прогресс», 1977.
5 См. об этом также: Панин А. В. Диалектический материализм и
постпозитивизм. М., 1981, с. 22—69.
7
в своей программной работе «Логика научного исследования»,—
то я буду исходить из предпосылки, что она состоит исключитель-
но в исследовании методов, используемых при тех системати-
ческих проверках, которым следует подвергнуть любую новую
идею, если она, конечно, заслуживает серьезного отношения к се-
бе» L В дальнейшем под влиянием социального и научного
прогресса он обращается к концепции эволюции мышления как
«открытой системы» от одной теории (концепции) к другой
посредством их непрерывно!! «фальсификации» («принцип фаль-
сифицируемости»). В результате у него наука и культура соста-
вили как бы особый, относительно автономный третий мир, отлич-
ный-от мира духовных состояний («мира 2») и тем более от мира
Вселенной, или мира физических сущностей («мира 1»). Высту-
пая против марксизма как бесперспективного, по его мнению
«историцизма» 1 2, он предлагает также «переформулировать» уче-
ние Ч. Дарвина по типу американского прагматического «инстру-
ментализмма», согласно которому, как известно, утверждается оп-
ределенная «органичность» мира, а «организм... живет посредством
среды» 3, представляющей собой не что иное, как «ситуацию»
или «проблематичную ситуацию». Вместо показа объективных за-
кономерностей развития природы, общества и мышления выдви-
гается эволюция «проверок», задач, проблем посредством «проб
и ошибок», стихийного отбора и т. п., а рост научных знаний
представлется следствием процесса, подобного дарвиновскому
естественному отбору. Вместе с тем подвергается критике безду-
ховный эмпиризм и логицизм предшествующего позитивизма.
Впоследствии логическая разработка фальсификационизма
(«методология исследовательских программ») более всего связана
с именем И. Лакатоса, а критицизм в общей социологии науки —
с П. Фейерабендом и его «критическим плюрализмом».
Подобного рода постпозитивистские умонастроения не облада-
ют строгой научной последовательностью, оказываются легко-
уязвимыми и спорными. Они сталкиваются с внутренне неразре-
шимыми противоречиями релятивизма (Коллингвуд, Фейерабенд)
и формализма (Лакатос), социально-психологического субъекти-
визма (Кун) и т. п. Может быть, именно поэтому Ст. Тулмин
фактически не разделяет в полной мере ни одного из данных
направлений. Оставаясь постпозитивистом, свою задачу он, скорее
всего, видит в критике подавляющего большинства как позити-
вистских, так и постпозитивистских концепций с целью определе-
ния проблем, требующих дальнейшего решения в основаниях нау-
ки. Его самостоятельная концепция может быть определена как
1 Поппер К. Логика научного исследования.— В: Поппер К. Ло-
гика и рост научного знания. М., «Прогресс», 1983, с. 51.
2 См.: Popper К. The Open Society and its Enemies. L., 1966, vol. 2,
p. 269.
3 Dewey J. Logic: The Theory of Inquiry. N. Y., 1938, p. 25.
8
понимание науки в качестве особого рода деятельности, и в этом
отношении она близка к идее Дж. Бернала — наука как «то,
что делают ученые» L В развитии этой своей идеи Бернал, как
известно, приходит к марксистско-ленинскому философскому ми-
ропониманию. Этого нельзя, однако, сказать об авторе «Чело-
веческого понимания».
Ст. Тулмин сознательно основывается на исходных позициях
К. Поппера и таких его сторонников, как И. Лакатос. При этом
он считает, однако, что применяет свою «рациональную критику»
более последовательно: по только к словам ученых, но и к по-
лученным ими результатам, что, по его мнению, «расширяет
сферу действия попперовского „третьего мира“» 1 2.
«Рациональная критика» составляет наиболее существенное
ядро тулминовской концепции, которая заключается в утверж-
дении примата отдельного и индивидуального перед общим и кон-
цептуальным в процессе познания. «На своем самом глубоком
уровне концептуальные точки зрения рассматривают вопрос о за-
кономерностях отдельного случая, а не вопрос о кодексе законов,
то есть занимаются прецедентами, а не принципами» 3,— писал
Ст. Тулмин в бостонских—по^ философии науки.
И хотя отсюда, как справедливо замечал одиггшГ его ошгонеитов,
«трудно попять, говорит ли он об истории пауки или о философии
науки» 4, идея «прецедента, а не принципа» оказалась ведущей
в дальнейших работах автора. На этой своей доктрине он
настаивает как в «Человеческом понимании» (1972), так и в пос-
ледующих публикациях. При этом все более акцентируется праг-
матический, деятельностный характер науки и научного зна-
ния5 6. В сборнике, посвященном памяти И. Лакатоса (1976), он
подчеркивает: «Если интеллектуальное содержание любой под-
линной естественной науки охватывает, помимо всего прочего, не
только предложепия, но и практику, не только теоретические ут-
верждения, но практические процедуры их эмпирического приме-
нения, то ни ученые, ни философы не могут ограничивать свое
«рациональное», или «критическое», внимание формальной иде-
ализацией своих теорий» ®.
Противоречия между постпозитивизмом и позитивизмом от-
нюдь не антагонистичны. По сути дела, Ст. Тулмин не считает
1 Б е р п а л Дж. Наука в истории общества. М., ИЛ, 1956, с. 19.
2 Т о и 1 m i и S. History. Praxis and «Third World». — In: Essays in Me-
mory of Imre Lakatos. — «Boston Studies in Philosophy of Science». 1976,
Dordrecht, Boston, Vol. 39, p. 665.
3 Тулмин С. Концептуальные революции в науке. — В: Структура и
развитие науки. М., «Прогресс», 1978, с. 189.
4 Минк Л. Комментарии к статье С. Тулмина. — Там же, с. 198.
5 См.: Той Im in S. Knowledge and Acting. An Invitation to Philosophy.
N. Y. — L., 1976.
6 Ton Im in S. History, Praxis and «Third World».—In: Essay in Me-
mory of Imre Lacatos. — «Boston Studies in Philosophy of Science». 1976,
Vol. 39, p. 665.
9
поппоровскпii фальспфпкациопизм несовместимым с классическим,
в том числе логическим, неопозитивизмом. «Что касается меня,—
замечает он,— извлекшего серьезные уроки нз Витгенштейна
и Поппера, равно как и из Коллингвуда, то я не могу считать эту
пару венских философов пребывающими в неразрешимом кон-
фликте»
Уже в ранней работе с традиционным неопозитивистским наз-
ванием «Философия науки» он подвергает, однако, критике абсо-*
лютизацию логических (как дедуктивистских, так и индуктивист-*
скпх) методов анализа языка науки, неопозитивистские представ-
ления об анализе и синтезе, допускает отдельные критические
замечания в адрес традиционно-позитивистских концепций науки,
как «почти не соприкасающихся с практической работой в облас-
ти физики» 1 2. Очень скоро он приобретает известность ниспровер-
гателя формально-логических схем, систем и моделей и заслужи-
вает наименование «представителя антппозптпвистского течения
в англо-американской философии», выдвинувшего «наиболее ра-
дикальные возражения» против неопозитивистской программы 3.
В его арсенале при этом сохраняются неопозитивистские (в том
числе логико-семантические) идеи, направленные против призна-
ния объективной истины и материальности электрона, реальности
классовой борьбы и рабочего класса и т. д. (см. с. 243, 254, 263
и др.), против так называемой «аксиомы Парменида» 4.
В своих философских поисках Ст. Тулмин идет от неопозити-
визма, махизма к модернизированному гносеологическому эволю-
ционизму. Отрекаясь от вульгарно-биологической трактовки «ин-
теллектуальной эволюции» Э. Маха, Ст. Тулмин, по его мнению,
придерживается «более скромной гипотезы» о том, что «попу-
ляционная теория ,,изменчивости и естественного отбора44 Дар-
вина — это одна из иллюстраций более общей формы истори-
ческого объяснения и что при соответствующих условиях та же
самая модель применима также и к историческим объектам
и иным популяциям» (с. 143). Другими словами, дарвиновская
эволюция видов «переформулируется» в соответствии с поппе-
ровскими постпозитивистскими канонами и приобретает достаточ-
но конформистский характер, сохраняя родимые пятна вульгар-
ного биологизма и позитивизма.
Книга «Человеческое понимание» Ст. Тулмина представляет
определенный итог пережитой им эволюции. По своему замыслу
и исполнению это одна из наиболее фундаментальных работ
современного постпозитивизма, своеобразный парафраз к неопо-
1 Ibid., р. 657.
2 То u ] m in S. The Philosophy of Science. L., 1953, p. 10.
3 См.: Философский энциклопедический словарь. M., 1983, с. 697; По-
ру с В. Н., Черткова Е. Л. «Эволюциоппо-биологическая» модель науки
С. Тулмина. — В: В поисках теории развития пауки. М., 1982, с. 260, и др.
4 Toulm i n St. The End of the Parmenidian Era» — In: «The Interaction
between Science and Philosophy. Ed. by Y. Elkanra. N. Y., 1974, p. 171—184.
10
зитивистскому кредо Б. Рассела в его работе «Человеческое поз-
нание, его афера и границы»: «Все человеческое знание недосто-
верно, неточно и частично» L Ст. Тулмин пытается как бы все-
мерно обосновать данный вывод, но не столько логически, сколь-
ко эволюционно-исторически, социально-психологически. Проблема
«понимания» исторически как бы противопоставляется Ст. Тул-
мипом в данном случае формально-логической традиции, которая,
по его мнению, имеет свои корпи в объективно-идеалистической,
или «платоновской», концепции мира. Неформальное же (чело-
веческое) понимай по берет свое начало, по мнению Ст. Тул-
мипа, в локковском сенсуализме и декартовском рационализме,
а затем (XIX—XX вв.) исподволь находит выражение в эписте-
мических идеях лингвистической философии (Дж. Мур) и логи-
ческого эмпиризма (Б. Рассел) без достаточного, однако, по его
мнению, социально-прагматического обоснования. Свою задачу
здесь Ст. Тулмин видит в том, чтобы «...составить новый «эписте-
мический автопортрет», то есть заново объяснить способности,
процессы и деятельность, благодаря которым человек обретает
понимание природы, а природа в свою очередь становится доступ-
ной разуму человека» (с. 45). И тогда, считает Ст. Тулмин,
в «...терминах XX века мы будем большими картезианцами, чем
сам Декарт» (с. 49). Таким образом, в отличие от возрождающей-
ся в наши дин па Западе традиционной схоластической герме-
невтики Ст. Тулмин более склонен все же к аналитическому под-
ходу, унаследованному от неопозитивизма.
Что же заставляет автора «Человеческого понимания» высту-
пать против логического формализма, в защиту весьма своеоб-
разного истолкования социологических оснований научного зна-
ния «в терминах XX века»? Каковы результаты этого истолкова-
ния, его философские корпи?
Предметом подлинно исследовательского интереса автора слу-
жат идеи, которые действительно представляют собой важные
стимулы современного общественного и научного прогресса. К их
числу следует отнести идеи историзма и научной революции, от-
носительной самостоятельности науки в системе общественного
сознания и культуры^ ее интеграции и дифференциации, социали-
зации и гуманизаци. Общий круг внимания Ст. Тулмина необы-
чайно обширен и универсален, включая успехи биологии и пси-
хологии, социологии научных коллективов и др. Комплексное
рассмотрение возникающих здесь проблем весьма актуально. Оно
составляет первоочередную задачу и для научного мировоззрения,
основывающегося на прочном фундаменте марксистско-ленинской
теории. На пути своих творческих поисков Ст. Тулмин,
однако, не обнаруживает понимания основ диалектического ма-
териализма. Исторический материализм все еще представляется
1 Рассел Б. Человеческое познание, его сфера и границы. М., ИЛ,
1957, с, 540,
11
ему чем-то «неясным» (с. 95), а в иных случаях он со-
вершенно безосновательно считает, будто «Маркс попросту
использовал аргументы Гоббса в защиту монархии и мотивы
Гегеля в защиту крупного государства для пролетарской рево-
люции» L
При изучении социальных функций сознания Ст. Тулмин чаще
всего оперирует такими отвлеченными понятиями, как «равно-
весие сил», «равновесие принципов» и т. п. В тех же отдельных
случаях, когда непосредственно обращается к марксизму, он не
склонен отличать его политическое содержание от философских,
гносеологических критериев и оценок. Так, ленинский лозунг
периода диктатуры пролетариата «кто кого?» используется им
применительно к борьбе мнений в научном познании (с. 59).
Совершенно неправомерно выводы, относящиеся к конкретной
ситуации в расстановке классовых сил, выдвигать в качестве норм
раучного исследования и при этом ссылаться на авторитет клас-
сика марксизма-ленинизма.
Ст. Тулмин хорошо видит тесную взаимосвязь философии, нау-
ки и морали в общем процессе истории мировой культуры.
При рассмотрении этого процесса он обнаруживает своеобразную
«трудность» определения достаточно адекватной интерпретации
научных норм («рациональных стандартов») поведения и мышле-
ния. Автор резко возражает против излишнего абсолютизма
и формализма в этой связи, выразителем которых может служить
здесь «математизированный» представитель платоновской тради-
ции Г. Фреге. При этом Ст. Тулмин обосновывает по существу
релятивистский подход, который, однако, не должен быть, по его
мнению, столь крайним, как у Р. Дж. Коллингвуда, отвергавше-
го-де любую попытку беспристрастно судить о тех или иных куль-
турах, эпохах, периодах и т. п., что, на наш взгляд, не В' полной
мере соответствует действительности, поскольку Коллингвуд воз-
ражал лишь против деления на «плохие» и «хорошие», «прими-
тивные» и «декадентские периоды», но не выступал против исто-
рической периодизации вообще1 2. Возникают, таким образом,
попеки «среднего пути» (с. 69), а затем в качестве «более после-
довательной» и «лишенной односторонности» концепции предла-
гается тулминовская идея «интеллектуальной инициативы»
в ходе исторического развития науки.
Тулминовский историзм в качестве центральной идеи его «че-
ловеческого понимания» приобретает здесь чрезвычайно узкий,
прагматический характер на уровне «идентификации» возникаю-
щих проблем, «интеллектуальных инициатив», традиционного
«коллективного опыта» и т. п. «Нашим исходным пунктом бу-
дут живые, исторически развивающиеся интеллектуальные ини-
циативы,— предлагает Ст. Тулмин,— в которых понятия находят
1 Т о u 1 m i n S. Reason in Ethics. Cambridge. 1964, p. 198.
2 Коллингвуд P. Дж. Идея истории. Автобиография, с. 313.
12
свое коллективное применение; паши результаты должны быть
направлены на утверждение к нашему опыту в этих исторических
инициативах» (с. 97—98). Тавдя постановка вопроса Ст. Тулмином
приводит его к неоправданным сопоставлениям гносеологи-
ческого порядка. В интересах прагматического переосмысливания
процесса познания, в частности, им проводятся далеко идущие
аналогии между юриспруденцией, физикой, антропологией; под-
черкивается сомнительное «преимущество» ясности, четкости
и согласованности юрисдикции по отношению к науке и особенно
обществоведению и историческим исследованиям (с. 100—101
и др.) Подобного рода «историзм» используется затем Ст. Тул-
мином для всемерного подчеркивания роли «понимания» («чело-
веческого понимания») в познании мира. По существу, речь
идет здесь, однако, не о всеобъемлющем процессе познания,
основанном на объективной общественно-исторической практике,
а либо о рассмотрении индивидуальных «прецедентов», либо
в лучшем случае об «анализе коллективного понимания и его
исторической эволюции» (с. 315). Основополагающие аргументы
данной концепции познания как «понимания» замыкаются, сле-
довательно, по преимуществу на микроуровне социальной дейст-
вительности пауки, подобно так называемой «понимающей со-
циологии» Макса Вебера L
Существенным и важным для замысла книги является, далее,
рассмотрение «научных революций» и в этой связи дискуссия
Ст. Тулмипа с Т. Куном. Обнаруживая обширную эрудицию
в вопросах возникновения, формирования и последовательной
эволюции куновской концепции, в том числе ее программной ка-
тегории — «парадигмы», Ст. Тулмин считает одной из главных
своих задач развенчание понятия революции вообще. Он полага-
ет, что употребление этого термина применительно к «концепту-
альным изменениям» оказывается «чисто риторическим преувели-
чением» (с. 117) и лишено смысла. Вопреки истории мировой
науки отрицается тем самым факт революции в физике начала
XX века, получившей всесторонний философский и социологи-
ческий анализ в известном произведении В. И. Ленина «Материа-
лизм и эмпириокритицизм».
Следуя по избранному пути, Ст. Тулмин выступает против об-
щей, имеющей, по его мнению, «несчастливую судьбу», идеи ре-
волюции, против самого термина «революция», применимого «толь-
ко в качестве классификационного термина, лишенного объясни-
тельной силы» (с. 128). Анализируя понятие социальной револю-
ции, Ст. Тулмин ориентируется на «либерально-демократических
1 В советской литературе проблема понимания служит предметом ком-
плексного исследования, как психологического, так и философского (ло-
гико-гносеологического, семантического). См.: Выготский Л. С. Мышле-
ние и речь. — В: Собр. соч., т. II. М., 1982; Понимание как логико-гносео-
логическая проблема. Киев, 1982; Филатов В. П. К типологии ситуации
понимания. — «Вопросы философии», 1983, № 10, с. 71—78; и др.
13
мыслителен» и современную западную «политологию», он
старается «ио преувеличивать противоположность между „нор-
мальным изменением" и „революцией"» (там же), не видеть
различий между французской, американской и «русской» револю-
циями. Более всего отстаивается при этом убеждение, что «даже
самое неконституциональное изменение не вызывает абсолютного
и всеобъемлющего разрыва политической непрерывности. Самые
драматические революции никогда не приводят к абсолютному
разрыву с прошлым» (там же). Совершенно неправомерно, однако,
с одной стороны, социальная революция отождествляется как
с любым «неконституциональпым изменением», так и с абсолют-
ным метафизическим отрицанием предшествующего развития;
а с другой стороны, отрицаются существенные, качественные
различия между эволюционными и революционными формами
развития.
Отрицание революции основывается у Ст. Тулмина также на
метафизическом восприятии мира как некоего агрегата относи-
тельно самостоятельно эволюционирующих компонентов. Состав-
ные элементы природы, общества, науки, по его мнению, доста-
точно независимы друг от друга и потому могут быть модифициро-
ваны постепенно или поочередно, не вызывая общих качественных
переворотов, без каких-либо революционных скачков. В частности,
Ст. Тулмин говорит: «Вся наука включает в себя „историческую
популяцию" логически независимых понятий и теорий, каждая из
которых имеет свою собственную, отличную от других историю,
структуру и смысл» (с. 140). И даже более того, как полагает
Ст. Тулмин: «...Проблемы науки никогда не были детерминиро-
ваны только природой мира,— утверждает он,— ...именно физики,
а не физика «объясняют» физические явления... При такой интер-
претации аргумент сам по себе больше не будет «объяснением»
явления; в лучшем случае он может «служить» в качестве объ-
яснения, если он выработан в соответствующем контексте и пра-
вильно применен» (с. 156, 163—164).
Историзм как «эволюция популяций» порождает односторон-
ний психологизм в теории познания. Ориентация на «объяснение»
как принятие тех или иных решений в рамках «популяций уче-
ных» не связана в данном случае с раскрытием объективного
содержания, объективной истинности научных понятий. Напро-
тив, она требует, согласно Ст. Тулмипу, разработки проблем,
относящихся к психике людей, к процедуре их поведения в кон-
кретной ситуации, к «передаче» репрезентативных комплексов,
наборов, или групп, понятий, идей и т. д. от одного индивида
или поколения к другому. Это обстоятельство и выдвигает на пе-
редний план психологию науки в ее бихевиористском варианте 1,
1 Если ранее К. Поппер в «Логике научного исследования» еще отме-
чает противоположность между логикой познания и психологией познания,
то в данном случае у Ст. Тулмина такая противоположность постепенно
исчезает.
14
то есть в известном соединении стимула и реакции (S — R) без
учета существенного содержания личности как системы общест-
венных отношений. С этих позиций выработка научных понятий
определяется как «процедурное понимание научного объяснения»,
в котором нет места существенным и решающим принципам, хотя
в интересах собственной концепции и признается все же необхо-
димость «решающих процедур» (с. 170).
В дальнейшем своем анализе проблем развития науки
Ст. Тулмин обращается к рассмотрению деятельности научных
коллективов, учреждений, организаций. При этом он своеобразно
социализирует процесс познания, утверждая, что «каждое по-
нятие— это интеллектуальный микроинститут» (с. 171). Данный
афоризм служит ему как бы трамплином, пользуясь которым он
вновь прибегает к аналогии между политикой и наукой (естество-
знанием),— аналогии, нередко граничащей с их отождествлени-
ем. «...Социальные и политические понятия в принципе ничем не
отличаются от понятий естественных наук... В обеих областях
понятия приобретают смысл благодаря тому, что они служат че-
ловеческим целям в реальных практических ситуациях»,— за-
являет он в соответствии с основным прагматическим духом сво-
их философских убеждений (с. 173).
Яркие выступления Ст. Тулмина против платонизма, абсо-
лютизации логического формализма, утопических всеобъемлющих
аксиоматических систем в защиту реалистического понимания
действительных целей и методов науки, его призывы «... лучше
понять те цели, к которым действительно стремятся люди, созда-
вая различные образы жизни и мышления, и те проблемы, с ко-
торыми они при этом сталкиваются» (с. 231), звучат весьма об-
надеживающе и подкупающо. Смысл тулминовского реализма
обнаруживается, однако, тотчас же, как только он обращается
к понятию объективного, включая в него как формулировку пред-
ложений и понятий, так и «изобретение плодотворных новых стра-
тегий» (с. 243) и т. п. Именно здесь, в основном вопросе
философии, дают знать традиционные связи автора с пози-
тивизмом.
Изучение науки в гносеологическом плане представляет собой,
по мнению Ст. Тулмина, «дисциплинарный аспект», или «попу-
ляцию понятий», в то время как исследование ее в социальном
плане есть «профессиональный аспект», то есть речь идет о «по-
пуляции ученых». Реальные п достаточно сложные ситуации,
возникающие в зарубежной пауке, осмысливаются им в обобщаю-
щих умозаключениях, исполненных горькой иронии и пессимиз-
ма, в выводах о том, что «...ни одно столетие в истории науки
не было свободно от тиранических злоупотреблений профессио-
нальной властью, даже на высшем уровне. ...Изменчивый харак-
тер науки воплощается прежде всего в изменяющихся установ-
ках ученых...» (с. 279, 281), п т. п. Наука как целое, согласно
15
Ст. Тулмттпу, как бы исчезает и распространяется в пттдивидуали-
зпрованиых коллективах ученых, а так называемый «дисципли-
нарный аспект» оказывается следствием «профессионального ас-
пекта». Этому он придает решающий социальный и философский
смысл. Существенным для него является не то, «как отбираются
концептуальные варианты», не объективно-истинное содержание
пауки, а то, «как в конкурентной борьбе за авторитет в какой-
либо научной специальности новые индивиды, ассоциации, журна-
лы и/или научные центры сменяют друг друга» (с. 270).
Вне профессиональной иерархии научных авторитетов и их жесто-
кой конкуренции понятие любой науки (например, биохимии),
по мнению Ст. Тулмина, так же лишено смысла, как и понятия
«народ», «международный рабочий класс» и т. д. (с. 263).
В центре тулминовского социологического анализа науки ока-
зывается также своего рода «геронтологическая проблема» вза-
имоотношений между старыми и молодыми научными кадрами.
В зависимости от смены поколений, например, периоды «в сред-
нем около пяти лет» определяются им как реальный интервал
для измерения серьезных исторических изменений, будь то про-
фессиональных или дисциплинарных (с. 281). Тем самым, по
мнению Ст. Тулмина, двадцать лет спустя решение вопроса, к
примеру, о предмете теоретической физики будет определяться
вовсе не объективным содержанием науки, но исключительно уче-
ными-физиками этого времени без учета достигнутых результатов
предшествующего периода, а ответ на вопрос о сущности моле-
кулярной биологии почти полностью зависит от того, «...разгова-
риваете ли вы с ученым в возрасте семидесяти, шестидесяти, пя-
тидесяти, сорока или тридцати лет» (с. 284). На этом зыбком
основании делается вывод о «квазиполитическом употреблении
власти» учеными (с. 285), рисуется неприглядная картина науки,
в которой царствует своего рода «закон джунглей». «В науке,
как и в политике, участники удачного переворота могут позво-
лить себе быть великодушными, но слишком часто становятся
жертвами злоупотреблений властью, поддаваясь искушению от-
делаться от своих предшественников, какими бы выдающимися
они ни были, как от тупых, бестолковых и отсталых людей»
(там же). Так эволюционизм и психологизм служат специфиче-
ской идеологизации науковедения, обусловливают нигилизм в
определении перспектив развития науки.
По существу, Ст. Тулмин переносит на пауку наблюдаемые
нм частные парадоксы буржуазной действительности, преувели-
чивая субъективные противоречия между отдельными учеными
(М. Планком, И. Бором, А. Эйнштейном и др.), говоря о дикта-
торских («тиранических») тенденциях во взаимоотношениях
«научных авторитетов», «поколений» (ветеранов и «младотур-
ков») и т. п. Он далек здесь от объективного понимания места
пауки и передовых ученых в международной жизни, их объеди-
16
нсппых усилий в борьбе за мир, за предотвращение ядерной ка-
тастрофы.
Нельзя отрицать, разумеется, большое значение обсуждаемой
Ст. Тулмином проблемы взаимосвязи поколений в науке и в об-
щественной жизни, однако здесь нет оснований для пессимизма.
Вовсе не обязательно старшее поколение должно быть консерва-
тивным, а новое — нигилистическим или разрушительным. Об этом
свидетельствует мировая история науки и культуры, особенно
опыт мировой социалистической системы. «Ветераны,— говорил
Ю. В. Андропов па встрече с ветеранами партии,— носители уни-
кального опыта строительства новой жизни, обогатившего чело-
вечество. Исторический диапазон этого опыта охватывает сверше-
ния нескольких поколений. А новые поколения не воспроизво-
дятся, подобно копиям на ротапринте. Каждое из них, неизбежно
опираясь па опыт предыдущего, оценивает и осваивает мир на
свой лад, привнося в созидательную деятельность новые приемы
и средства, приноравливаясь к условиям и обстановке своего вре-
мени» !.
Реалистичной и весьма продуктивной позицией Тулмина в его
«Человеческом понимании» могла бы оказаться идея относитель-
ной самостоятельности пауки, идея, о которой мы уже упоминали,
но при этом следует оказать, что в его объективном смысле прин-
цип относительной самостоятельности как общественного, так
и индивидуального сознания, в том числе научного и философско-
го мышления, впервые был определен основателями марксизма.
Согласно этому принципу, «...сознание человека не только отра-
жает объективный мир, но и творит его» 1 2, а задача философов
и ученых состоит не только в том, чтобы различным образом
объяснять мир, но «...дело заключается в том, чтобы изменить
его» 3. Применительно к пауке социальную основу такого прин-
ципа Ф. Энгельс видел в том, что ученые «...принадлежат... к осо-
бым областям разделения труда, и им кажется, что они разраба-
тывают независимую область. И поскольку они образуют самосто-
ятельную группу внутри общественного разделения труда, по-
стольку их произведения, включая и их ошибки, оказывают
обратное влияние на все общественное развитие, даже на эконо-
мическое. Но при всем этом они сами опять-таки находятся
под господствующим влиянием экономического развития» 4. От-
сюда вовсе не следует какая-либо абсолютизация относительного
в релятивистском духе.
Относительная самостоятельность науки используется Ст. Тул-
мином главны*м образом при разработке им общих подходов к изу-
чению «институциональных условий», необходимых для эффек-
1 «Правда», 16 августа 1983 г., с. 1.
а Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 194.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 4.
4 М а р к с К., Энгельс Ф. Соч., т. 34, с. 419.
17
тпвного интеллектуального развития науки, где подчеркивается
важность двух аспектов: внутреннего, или индивиду а лыю-коллек-
тивпстского (иптерналистското), и внешнего, или социокультур-
ного (экстерпалистского). Ст. Тулмин справедливо отмечает ог-
раниченность и односторонность каждого из таких аспектов в от-
дельности, поскольку ни интернализм, ни экстернализм сами
по себе не могут быть исчерпывающими концепциями. Непреодо-
лимая для Ст. Тулмина трудность, однако, заключается в том, что
ап не видит достаточно общих и решающих мировоззренчески-
мстодологических принципов и оснований исследования пауки.
Предлагается поэтому «компромиссное» решение, основанное
на признании взаимной дополнительности интерналпстских и
экстерналистских аспектов, или контекстов, являющихся в дан-
ном случае как бы различными концами «непрерывного спектра»
(с. 303), где возможны, однако, различные нюансы и переходы.
С известной долей скептического компромисса, понимается
Ст. Тулмином и решающая для науки диалектическая взаимо-
связь «причин» и «оснований». Это довольно деликатный, по его
выражению, вопрос, поскольку «граница, отделяющая основания
от причин, в некоторых пунктах становится очень тонкой»
(с. 305). И тем не менее «основания» не могут иметь всеобщего
философско-методологического значения в системе Ст. Тулмина
потому, что они, по существу, не являются здесь причинными.
Если причины, по его мнению, связаны, как правило, с профес-
сиональными сторонами науки, то концептуальные основания
в большей мере обусловлены ее дисциплинарными аспектами.
Из суждений Ст. Тулмина следует, что те самые основания, к ко-
торым обращаются ученые, оправдывая свои концептуальные из-
менения, в то же время не являются «„причинами", на языке
которых мы сами должны объяснить эти изменения» (там же).
Абсолютизация относительной самостоятельности научного зна-
ния вновь приводит здесь автора к релятивистским истокам, ко-
торым он следует в своем «Человеческом понимании».
Базирующийся на «интеллектуальных инициативах» «проце-
дурный» релятивизм Ст. Тулмина не лишен определенного своеоб-
разия, что обнаруживается в понимании им объективности науки,
устойчивости научных традиций. В частности, для классического
релятивистского конвенционализма А. Пуанкаре объективность,
по существу, тождественна общезначимости: «Что объективно
должно быть общо многим умам и, значит, должно иметь спо-
собность передаваться от одного к другому; а так как эта пере-
дача может происходить лишь дискурсивным путем... то мы
вынуждепы сделать заключение: без дискурсивности нет объек-
тивности» !. Тулмин, не скрывая своей симпатии к воззрениям
А. Пуанкаре, однако, приходит к иным заключениям. Он прида-
ет аналогичной аргументации биосоциально-психологический ха-
1 Пуанкаре А. Ценность науки. М., 1906, с. 184,
18
рактер, говоря либо о «передаче» как наследовании, либо о «про-
цессах, благодаря которым профессиональные полномочия пере-
даются от одной референтной группы к другой» (с. 319). Заме-
ченные нюансы не меняют существа дела. Процедурный реляти-
визм Ст. Тулмина не в меньшей степени ведет к отрицанию
объективной истины, к ограничению объективных научных крите-
риев в теории познания. Таковы гносеологические корни и его
иронии, и его скепсиса, и неуверенности в собственных выводах,
и отсутствия достаточно определенных или однозначных решений
в развиваемой им концепции человеческого понимания.
Некоторые из предлагаемых Ст. Тулмипом вопросов, прежде
всего связанных с биологической терминологией («популяции»,
«интеллектуальная экология», «локусы», «экологические ниши
в пауке» и т. п.), вообще говоря, малосодержательны, а выдвину-
тые им проблемы, которые действительно могут стать предметом
исследования (комплексный экстерналистский и интерналпстскпй
подход в науковедении, институционализация науки, социология
научных коллективов, научные инициативы и др.), не находят
принципиальных обоснований и решений в его книге. Но Ст. Тул-
мин, собственно, и не претендует на решение подобного рода
вопросов, а лишь предлагает, по его собственному выражению,
«альтернативные подходы» (с. 316) к их решению. Равным обра-
зом он не дает разработки и определенного научного метода
для такого решения.
В конечном итоге Ст. Тулмину присуще отрицание возмож-
ности самого существования общенаучного метода, хотя, может
быть, и не в столь крайней и категорической форме, как, напри-
мер, у П. Фейерабенда, отвергающего всякую теорию и метод,
низводящего их до уровня мифологии, теологии и т. п. Аргу-
ментация Ст. Тулмина может быть сведена к следующему:
1) отсутствие единой пауки и паличпе множества частных облас-
тей знания свидетельствует о нецелесообразности общенаучных
методов и средств; 2) непрестанное развитие науки обусловлива-
ет преходящий характер научных подходов в исследовании;
3) концептуальные (дисциплинарные) и процедурпо-детерми-
пгстские (профессиональные) аспекты пауки несовместимы
в полной мере, что обусловливает отсутствие единства науки как
целого; 4) современная наука включается в многообразные со-
циокультурные контексты, вне которых пет достаточно общих
критериев рациональности, и поиски общенаучных оснований
оказываются бессмысленными; 5) исчезает «демаркационная ли-
ния» между наукой и иными формами рациональности (полити-
кой, этикой, искусством и т. д.), что не позволяет отделить науч-
ную истину от заблуждений, слухов, фантазий, предрассудков и пр.
1 См.: Feierabend Р. К. Against Method. Outline of an Anarchistic
Theory of Knowledge. L., 1975, p. 11.
19
Аргументы подобного рода основываются па метафизическом
противопоставлении конкретного, специфического и относитель-
ного общему, абстрактному, абсолютному в процессе познания.
Но именно история науки, к которой так часто обращается
Ст. Тулмин, свидетельствует о том, что освобожденное от мета-
физических ограничений, построенное на базе материалистической
диалектики понятие научного метода не только правомерно, по
и необходимо. Общенаучный характер имеют законы, категории
и принципы диалектики. Определенный круг общенаучных по-
нятий и методов, концепций и принципов сложился в фундамен-
тальных областях исследования. В частности, к числу наиболее
важных общенаучных методов относится экспериментально-теоре-
тический и структурно-функциональный подходы в их диалекти-
ческой взаимосвязи, а к числу наиболее общих принципов нау-
ки — сохранение и превращение энергии, причинность, постоянст-
во скорости света и др.
Анализ книги «Человеческое понимание» убеждает в том, что
как в историческом, так и в гносеологическом плане в отношении
Ст. Тулмина к естествознанию и обществоведению обнаружи-
вается его определенная идейная и социальная ориентация, ко-
торая не совпадает с естественноисторическим развитием общест-
ва, науки, культуры и несовместима с научным философским ми-
ропониманием.
В чем же, однако, заключается действительная ценность дан-
ной книги Ст. Тулмина? Что делает ее интересной и поучитель-
ной для советского читателя? Что привлекает к Ст. Тулмину
внимание философской общественности?
Ст. Тулмин занимает особое место в западной постпозитивист-
ской философии. В отличие от своих предшественников и сорат-
ников (К. Поппер, И. Лакатос и др.) он существенное внимание
уделяет субъективным факторам науки, диалектике субъекта и
объекта в процессе познания. В рамках зарубежной философии
и социологии ему принадлежит определенный приоритет систем-
ного рассмотрения феномена пауки в структуре общественного
сознания, в контексте идеологии и культуры.
Необычайно широкая информативность работ Ст. Тулмипа
также придает большую притягательность его личности как
исследователя. В качестве сложившегося университетского ученого
Ст. Тулмин вопреки определенной социально-классовой ограни-
ченности его взглядов стремится к универсальности знаний
в избранной им области, в достаточной мере анализируя фило-
софские школы и направления как прошлого, так и настоящего,
охватывая широкий круг мировой, а отчасти также и нашей оте-
чественной, советской науки (Л. С. Выготский и др.). Несомнен-
ным достоинством данной книги в этой связи служит, как было
замечено, постановка ряда проблем, требующих своего настоятель-
ного решения. И здесь, очевидно, следует согласиться с автором:
«...Наш анализ поставил новые вопросы в таких далеких об-
20
ластях, как история пауки и социология искусств, теоретическая
лингвистика и моральная философия» (с. 316).
В анализе таких существенно важных вопросов современного
науковедения, как культурологический подход к науке, психоло-
гия научного творчества, познание и понимание, научное знание
и научные организации, научные коллективы и т. д., Ст. Тулмин
постоянно полемизирует со своими не только материалисти-
ческими, но также и отдельными идеалистическими противника-
ми, обнаруживая высокую культуру философского мышления,
а в этом случае, как говорил В. И. Ленин, «когда один идеалист
критикует основы идеализме! другого идеалиста, от этого всегда
выигрывает материализм» L Вот почему пет сомнения в необхо-
димости марксистского переосмысления полученных автором
результатов при разработке аналогичных проблем, в критическом
использовании этих результатов для получения объективного,
истинного знания о природе человеческого мышления и современ-
ного научного познания мира.
Объективно тулминовская идея анализа «прецедентов» вместо
«принципов» не столь уж разительно отличается от традиционных
неопозитивистских поисков в этом направлении. Ни эволюция
неопозитивистского мировоззрения, ни отрицание его новейшим
«постпозитивизмом» вовсе не означают еще революционного раз-
рыва с позитивизмом, с его мировоззренческой ограниченностью.
В этой связи весьма кстати вспомнить высказывание В. И. Ле-
нина: «Марксизм отвергает не то, чем отличается один позити-
вист от другого, а то, что есть у них общего, то, что делает фи-
лософа позитивистом в отличие от материалиста» 1 2. Вместе с тем
на примере Ст. Тулмина очевидна важность всестороннего
изучения современных западных направлений научной, философ-
ской и общественной мысли.
Обращение Ст. Тулмина к историзму, к гносеологии и социо-
логии понимания, выдвигаемые им проблемы и аргументы в ана-
лизе научных коллективов, обширный и недостаточно известный
научный материал книги — все это представляет существенный
интерес (как положительный, так и критический) для читателя
и исследователя.
В итоге следует заметить, что общий кризис буржуазного
строя, его идеологии и философии на современном этапе отнюдь
не означает крушения мировой культуры или прекращения ее
прогрессивного развития. Здесь нет оснований для пессимизма
и скептицизма, которым подвержены многие зарубежные интел-
лектуалы, и среди них в известной мере также и автор «Челове-
ческого понимания». В силу объективной диалектики истории
кризисные явления неотделимы от величайших социальных пре-
образований и новых успехов научно-технической революции,
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 265.
2 Ленин В. II. Поли. собр. соч., т. 18, с. 214.
21
достижений материальной и духовной культуры. В этой сложной
и противоречивой обстановке, как видно из нашего рассмотре-
ния, возникают гносеологические и социальные проблемы, не по-
лучающие своего решения с позиций ограниченного буржуазного
сознания. К таким проблемам необходимо в первую очередь от-
нести социализацию п гуманизацию пауки как формы обществен-
ного сознания и феномена культуры, относительную самостоя-
тельность и определенную институализацию ее развития. Партий-
ная ориентация марксистско-ленинской философии на всесторонне
обоснованную критику наиболее влиятельных буржуазных кон-
цепций науки и культуры становится, таким образом, сущест-
венным компонентом в разработке актуальных вопросов научного
мировоззрения — незыблемой основы коммунистического образова-
ния и воспитания.
П. Сивоконъ
ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ
1. Теория и практика познания
Проблема человеческого понимания имеет двоякий характер.
Человек познает, но он также и осознает то, что он познает.
Мы приобретаем знания, обладаем ими и используем их; по в то
же время мы сознаем свою собственную деятельность как субъек-
тов познания. Следовательно, человеческое понимание историче-
ски развивалось двумя путями, дополняющими друг друга: оно
росло п в то же время углублялось, становясь, таким образом,
и все более экстенсивным, и все более рефлективным. Глядя
«вовне самих себя» и решая проблемы, поставленные перед нами
тем миром, в котором мы живем, мы расширяем паше понимание:
вглядываясь «внутрь» и рассматривая, как именно мы решаем эти
проблемы, мы углубляем его. Па протяжении всей истории мысли
эти два рода деятельности всегда осуществлялись параллельно.
Отношения между «взглядом вовне» и «взглядом внутрь»
изменялись от одного периода интеллектуальной истории к дру-
гому, и с самого начала рационального мышления эта двойствен-
ность была источником и возможностей, и трудностей познания.
Бывали времена — включая некоторые наиболее плодотворные
периоды в истории мысли,— когда оба эти рода деятельности ка-
зались внутренне связанными, когда естествоиспытатели считали
своим долгом раздвигать границы нашего понимания, пытаясь
в то же время лучше познать и проанализировать природу ин-
теллектуальных процессов и тех процедур, которые они сами вы-
полняли. Бывали другие времена — в том числе наш собственный
XX век,— когда эти два рода деятельности считались совершенно
независимыми друг от друга, составляя предмет различных видов
интеллектуального труда. В эти времена естествоиспытатели об-
ращали свои взоры исключительно вовне, чтобы не оказаться во-
влеченными в философские словопрения; в то же время профес-
сиональные философы были погружены в свои собственные авто-
номные аналитические споры и проходили мимо новых открытий
науки, считая их чисто эмпирическими. И здесь мы поставим
только один вопрос — не заходит ли слишком далеко существую-
щий в наше время разрыв между практикой познания и его
теорией, между «естествознанием» и «эпистемологией», между
учеными и философами? Действительно, существуют серьезные
Исторические и субстанциальные основания для того, чтобы
23
восстановить связи между расширением научных знаний и их ре-
флективным анализом, чтобы рассматривать самих себя как
субъектов познания в свете нынешнего расширения реального
^содержания наших знаний.
Это отношение между нашим познанием природы и нашим
самопознанием всегда представляло собой загадку, которую необ-
ходимо описывать и обсуждать. Пространственные метафоры,
подразумеваемые в таких терминах, как «интроспекция» или
«внешний мир», нужно истолковывать чрезвычайно тщательно:
если мы воспримем их слишком буквально, то легко можем не-
правильно понять отношение между содержанием наших знаний
и его осознанием. Соответственно этому признание человеком
своего собственного статуса как субъекта познания всегда имело
тенденцию помешать ему познать самого себя. Цена, которую мы
платим за уточнение нашего морального опыта добра и зла, была
определена издревле в мифе об Эдеме; и в философии мы по-
стоянно рискуем оказаться в интеллектуальном зале зеркал, чьи
многочисленные отражения нарушат доверие к нашему собствен-
ному положению и способностям.
В принципе надлежащее схватывание нашей познавательной
ситуации должно укреплять доверие к наиболее обоснованным
нашим убеждениям; на практике оно часто оставляет нас в со-
стоянии полного скептицизма. Однако этой ловушки можпо из-
бежать. На всех конструктивных стадиях человеческого мышле-
ния реалистическая оценка человеческого понимания часто была
инструментом для его систематического улучшения. Так, в осно-
вах естествознания, особенно там, где физики-теоретики работают
у самой границы физического познания, увеличение знаний часто
достигается благодаря рефлекторной переоценке убеждений
и принципов, ранее провозглашавшихся как «известные». (Не-
смотря на то что XX век провозглашает самостоятельность фи-
лософской эпистемологии, люди, подобные Эйнштейну и Гейзен-
бергу, неизбежно вторгались в теорию познания.) И в более об-
щем плане, всякий раз, когда нам выпадал случай спокойно
посидеть и подумать, каким должен быть наш образ мыслей,
рефлективный анализ нашего познания часто служил ступенью
к его улучшению.
Эти две крайности — скептицизм и прагматизм — определяют
границы той области, где философски мыслящий человек должен
конструировать адекватную теорию человеческого понимания.
Даже в естествознании стандарты для переоценки существующих
в настоящее время идей отнюдь не самоочевидны; скорее, прак-
тический выбор интеллектуальных стандартов показывает, что мы
чувствуем, какие результаты требуют своего теоретического обо-
снования в нашей интеллектуальной деятельности по отношению
к внешнему миру и какие недостатки мы готовы признать в на-
ших современных идеях — короче говоря, какие концепции мы
действительно вырабатываем в пашей познавательной ситуации.
24
Реалистическое понимание этой ситуации — лучшая защита
от морального или интеллектуального головокружения. Оно же
является тем более глубоким фундаментом, на который должен
опираться всякий хорошо обоснованный критицизм.
Следовательно, мы должны рассматривать практические идеа-
лы интеллектуального метода в свете теоретических идей относи-
тельно интеллектуальной деятельности и более высоких умствен-
ных функций мышления. Выясняя аргументы, лежащие в основе
интеллектуальных устремлений и неудовлетворенности человека,
мы проявляем его собственный эпистемический автопортрет — осо-
бого рода активного, мыслящего человеческого существа, которое
направляет свой разум навстречу объектам человеческого пони-
мания. Действительно, общая проблема человеческого понимания
состоит в том, чтобы нарисовать эпистемический автопортрет,
который является одновременно и хорошо обоснованным, и досто-
верным, который эффективен, потому что его теоретическая осно-
ва реалистична, и реалистичен, потому что его практическое при-
менение эффективно. Рассматриваемые таким образом наши
практические стандарты рациональных суждений образуют одну
сторону медали; другую ее сторону образует философия. Практи-
ческая задача («взгляд вовне») заключается в том, чтобы на ос-
нове этих стандартов суждения решить, какие идеи, понятия пли
точки зрения больше всего претендуют па интеллектуальный
авторитет в пашем мышлении и деятельности. Теоретическая
задача («взгляд вовнутрь») состоит в том, чтобы аналитически
объяснить те соображения, на основе которых должно быть вы-
несено суждение относительно авторитетности самих этих
стандартов.
Таким образом, интеллектуальные процедуры, которые фи-
лософы подвергают теоретическому анализу, находят свое прак-
тическое применение в пауке и вообще повсюду. Правда, эта
конвергенция редко бывает полной. Практическое усовершенство-
вание паших рациональных процедур и теоретический анализ их
статуса приводят к общей цели только в конце долгого пути.
Однако если бы когда-нибудь наш теоретический анализ чело-
веческого понимания стал полным, точным и ясным, то можно
было бы рассматривать критические процедуры науки и любую
рациональную деятельность как практическое применение тех
самых принципов объяснения, которые были выявлены этой тео-
рией. Между тем всякое чрезмерное разделение теории познания
и практики познающего субъекта должно побуждать нас спро-
сить: «Неужели ученые перестают размышлять? Неужели фило-
софы теряют чувство реальности?»
Поиск адекватной теории понимания имеет свою историю, та-
кую же долгую, как история самого критического разума. Физи-
ка и метафизика изначально возникли совместно. Рационалисти-
25
ческие космологические концепции, сложившиеся к VI в. до и. э.
в Поппи, и их предшественники — мифы Среднего Востока
о сотворении мира — имели двойное значение: они относились не
только к Природе, по и к Интеллигибельной Природе — не только
к тому миру, который человек мог или не мог понять, но и к это-
му же миру как объекту человеческого понимания. В Афинах
в IV воке до и. э. эта связь между теорией и практикой позна-
ния стала совершенно очевидной. Для Платона и Аристотеля лю-
бой йехафизпческий тезис имел методологическое значение,
а каждая максима научного метода имела свое оправдание в фи-
лософии. Доказывая существование независимых форм, Платон
тем самым по-своему разрабатывал физическую теорию, базирую-
щуюся на абстрактных математических принципах; оспаривая
существование независимых форм, Аристотель развивал естество-
знание, объяснительные концепции которого были скорее эмпи-
рическими и таксономическими, чем абстрактными, и геометри-
ческими L Развивая свою концепцию «истинного знания» как
продукта науки, то есть решая, какой должна быть завершенная
теория Природы, каждый из этих двух натурфилософов вместе
с тем связывал себя с соответствующей концепцией «истинного
познания» научной деятельности, то есть с объяснением того,
из чего складывается понимание Природы. Их теории объясне-
ния, или теории идеальных форм, основывались на совершенно
различных способах понимания. Процесс и результат соответст-
вовали друг другу.
В Европе XVII века теория и практика познания тоже были
гармонично связаны друг с другом. Те ожидания, которые люди
связывали с наукой, соответствовали их представлениям о сво-
ей собственной эпистемической ситуации, идее об «истинном зна-
нии» — представлениям о статусе человека как «субъекта по-
знания». В качестве конечных элементов своей физики Рене
Декарт избрал некоторые мельчайшие геометрические фигуры,
лишенные плотности, цвета п других иогеометрических по своему
существу свойств; поступил же он так потому, что его философ-
ский идеал истинного знания тоже был выведен из геометрии.
Научные понятия могут быть фундаментально достоверны только
в том случае, если им свойственны ясность и определенность по-
нятий евклидовой математики. Аналогичным образом Исаак Нью-
тон и Джон Локк считали чувственные импульсы, передаваемые
в глубине мозга, конечными источниками нашего познания при-
роды; они поступали так потому, что для них физическая струк-
1 Что касается связи между философской доктриной Платона и его
взглядами на научную методологию, см. его аргументы относительно связи
математических теорий и тех явлений, которые они объясняют, то есть
«Государство», кн. VII, 521с — 531с и «Тимей» 27с — 29d. Что касается
Аристотеля, см.: Randall J. И. jr. Aristotle. N. Y., 1960, особенно гл. 4,
8, 10 и 11, в которых рассматривается отношение биологических теорий
к аристотелевской философской теории «сущности».
26
тура материального мира в своей основе была также корпуску-
лярной L Адекватное объяснение человеческого познания должно
было соответствовать корпускулярной картине известного мира.
В рационализме Декарта, как и в эмпиризме Локка, эксплицит-
ные идеалы суждений о результатах интеллектуального исследо-
вания были связаны с эксплицитными идеями о том, каким
образом были получены эти результаты. Люди с доверием отно-
сились и к науке, и к философии именно потому, что у них
была единая концепция человеческого знания и человеческого по-
знания.
Итак, философы-ученые античной Греции и Европы XVII ве-
ка столкнулись с центральными эпистемическими проблемами
соответствующих культур, причем они не считали эти проблемы
чисто философскими или чисто научными п относили их ко всем
областям мышления. Принималось во внимание и то, что человек
знает, и то, что он должен познать. Это было одновременно
и объяснением тех интеллектуальных процедур, благодаря кото-
рым добываются знания; мира природы как совокупного объекта
познания и мира человека как субъекта познания; мира языка,
понятий, концепций и идей, в которых выражается и кристалли-
зуется человеческое познание.
Поскольку таковы были эппстемические проблемы двух самых
основополагающих начальных периодов человеческого мышления,
они могут послужить пам и еще раз, чтобы определить «пробле-
му человеческого понимания» в наши дни. В соответствии
со стандартами XX столетия, эппстемические аргументы Платона
и Декарта, Аристотеля и Локка могут, по-видимому, относиться
к какой-либо полдюжине академических дисциплин п в то же вре-
мя не принадлежать пи к одной из них в частности. Эти мысли-
тели черпали свои аргументы из психологических идей своего
времени, по эти аргументы не были «психологическими гипотеза-
ми». Они объясняли физические свойства материальных тел, по
не были «физическими теориями». Они имели прямые связи
с неврологией, лингвистикой, формальной логикой своего времени,
но никогда не становились подчиненными частями этих дисцип-
лин. Их сферы не были также, если говорить на нашем собствен-
ном языке, узко «эпистемологическими». Они не производи-
ли анализа наших знаний о мире исключительно посредством
1 Более полное обсуждение связей между существовавшей в XVII воке
концепцией «механистического» объяснения и сенсуалистической теорией
позпанпя см.: Т о u 1 m i n S. Neuroscience and Human Understanding.— In:
The Neurosciences, ed. by G. C. Quarton et. al. New York, 1967, p. 822 ff.
Джон Локк неоднократно раскрывает связь между своими эпистемологи-
ческими аргументами и «корпускулярной» точкой зрения в своем «Опыте
О человеческом разуме» (см.: Локк Д. Избр. филос. произв. М., Соцэкгиз,
Т. 1, 1960). Точку зрения Ньютона см. в заключительном параграфе Общего
комментария, приложенного в качестве заключения ко второму (1713) пз-
Йанию его «Начал» (см.: Математические начала натуральной философии. —
>: Крылов А. Н. Собр. трудов, т. 7, М.-Л., 1936).
27
«логических конструкций»; вместо этого они составляли концепции
познания, стараясь понять, насколько это возможно, все связан-
ные с ним области исследования. Получаемые в результате кар-
тины могли быть неполными, но любая из них делала лучшее
из того, па что она была способна. Ибо как мог человек адекват-
но судить об интеллектуальном авторитете своих собственных
идей, понятий и точек зрения, если бы он не был готов исполь-
зовать отдельные, фрагментарные сведения, поступающие по всем
доступным направлениям?
Итак, предшествующие поколения обычно включали в рацио-
нальную оценку человеческого понимания многие дисциплины,
причем она не «входила» ни в одну из них и не «исходила» из
них. Таким образом, если мы серьезно намерены возродить эту
центральную задачу философии, мы должны игнорировать совре-
менные попытки разделить многообразные эпистемические дисци-
плины академическими границами с профессиональными погра-
ничными пунктами. По самой своей природе проблема человече-
ского понимания — проблема осознания основы интеллектуального
авторитета — не может быть ограничена рамками какой-либо еди-
ничной методики или дисциплины. Ибо границы между различны-
ми академическими дисциплинами сами являются следствием со-
временного разделения интеллектуального авторитета, и справед-
ливость этого разделения — сама по себе одна из главных проб-
лем, которые нужно поставить заново.
Подобно космогонии и теории вещества, область познания
с необходимостью является сферой междисциплинарного иссле-
дования. Полдюжины дисциплин имеют эпистемические аспекты,
разделы или применение, как, например, физиология восприятия,
социология познания, психология образования понятий. Подобно
космогонии и учению о веществе, познание также представляет
собой чрезвычайно древний предмет изучения. На протяжении
двадцати пяти столетий нас занимала проблема человеческого по-
нимания — неизменная особенность человеческого спекулятивно-
го мышления, разветвляющаяся во многих направлениях, но всег-
да сохраняющая узнаваемое единство и непрерывность. Каждое
новое поколение переформулировало частные, специфические
вопросы познания в своих собственных терминах; но централь-
ные, ведущие проблемы всегда оставались одними и теми же.
Что же мы познаем? Какой может быть определенность
наших знаний? Как мы овладеваем знанием иди понятиями в
тех терминах, в которых они выражены? И какую роль игра-
ют в этом процессе данные наших чувств?
Насколько паши понятия — даже самые основные — выво-
дятся из чувственного опыта? Должны ли наши требования
к познанию в каждой своей детали опираться на чувственные
данные? Или, скорее, наши понятия и категории предопреде-
ляют наши способности к восприятию и осознанию? Или
28
же люди с разными понятиями и языками видят мир по-раз-
ному?
Каким образом мы можем сравнивать достоинства сопер-
ничающих понятий? И как в свою очередь могут быть оп-
равданы и оценены наши требования — моральные или мате-
матические, научные пли практические — к познанию?
Эти центральные вопросы, хотя и сформулированные заново
во множестве различных терминологий, оставались живыми всег-
да и продолжают стоять перед нами в наше время.
Насколько эти проблемы далеки от определенного решения,
станет ясно, если мы в данный момент рассмотрим решающий
термин, в котором мы, естественно, их выражаем. Термин поня-
тие относится к тем, которые употребляют все и никто не объяс-
няет, тем более не определяет. С одной стороны, это слово очень
распространено в истории и социологии XX столетия, а также
в психологии и философии. Действительно, для многих философов
XX века понятия составляют центральный предмет исследования,
обеспечивают им хлеб насущный. Они ставят вопросы относитель-
но понятия добро, понятия число или даже относительно понятия
красное\ они признают, что благодаря нашим понятиям мы пони-
маем некоторую необходимость и невозможность и выделяют
особый результирующий класс «концептуальных» истин; они
описывают структуру естествознания, сравнивая его с рядом
«концептуальных систем», которые могут быть более или менее
адекватно представлены формальными или аксиоматическими
системами; размышляют они и о происхождении обычного
«каркаса» понятий, заключающих в себе повседневные знания
о мире. Многие из них даже описали бы центральную задачу
философии как задачу концептуального анализа. Однако, не-
смотря на то, что они чрезвычайно заботятся о практическом при-
менении концептуального анализа, точное значение терминов
«понятие» и «понятийный» выявляется редко и часто остается
совершенно темным. Для них дело с понятием обстоит так же,
как для св. Августина обстояло дело со временем: они очень
хорошо знают, что такое понятие — знают как раз до тех пор,
пока кто-нибудь не попросит их это высказать. Понятие?.. Оно
должно что-то делать, когда мы пользуемся языком или создаем
структуру нашего опыта, или при помощи категорий описываем
объект, с которым имеем дело... Что-то... но теперь мы должны
настаивать на вопросе — что именно?
Предположим, что за объяснением понятий мы обращаемся
К профессионалам-психологам. Мы обнаружим, что они оставят
нас почти в такой же темноте. Психологи тоже изучают образо-
вание понятий в процессе интеллектуального развития детей,
или роль, которую играет концептуальная интеграция в том, что
мы воспринимаем в той или иной ситуации; они тоже признают,
что приобретение и употребление понятий тесно связано — но не
29
тождественно — с обученном и употреблением языка; и они тоже
размышляют о возможности того, что некоторые попятил, или
по крайней мере некоторые концептуальные способности, могут
быть врожденной частью нашей генетической программы, дейст-
вующей через наследственные структуры мозга. Нейрофизиологи
в свою очередь поднимают сходные вопросы — не могут ли в моз-
ге существовать отдельные «центры», служащие соответственно
и как хранилище языка, и как вместилище концептуальной ин-
формации, или мышления? «Со временем в мозге образуется
ганглиозный/ эквивалент слова и ганглиозный эквивалент поня-
тия» *. Одйако психологи и физиологи, так же как и философы,
склоняются к тому, чтобы допустить, что для практических це-
лей мы уже знаем, что такое понятия и чем они отличаются
от слов, с одной стороны, и от разумного невербального поведе-
ния — с другой. Опп тоже довольствуются тем, что считают этот
термин чем-то само собой разумеющимся, и не беспокоятся о том,
чтобы дать ему какое-нибудь формальное определение.
Возможно, инстинкт их не обманывает. Для строго научных
целей современное разговорное употребление терминов, подоб-
ных «понятиям» и «концептуальному», может быть достаточно
ясным, чтобы продолжать ими пользоваться; так что па совре-
менном этапе бесполезно настаивать на более точных определе-
ниях и различиях. Но для наших целей требуется нечто большее.
Термин «понятие» находится в опасности, становясь безнадежно
неясным хитросплетением, по тем же самым причинам, что и его
предвестники «впечатление» и «идея», «представление», «сущ-
ность» и «субстанция». Даже если предположить, что мы остав-
ляем в стороне распространенные злоупотребления этим терми-
ном, например «новое понятие упаковки», оно уже несет такую
большую интеллектуальную нагрузку, какую только может вы-
нести с безопасностью для себя, а может быть, и еще большую.
Между понятиями, которые обсуждаются в психологии развития
(Пиаже, Выготский, Брунер) или в кибернетике (Винер и Ро-
зенблют), в истории физики (Мах, Койре, Холтон) или в основа-
ниях математики («Grundgesetze» Фреге); между понятиями, ко-
торые рассматриваются как в качестве образующих мышление
отдельных индивидов, так и в качестве общественного достояния
сообществ, которые ими пользуются; между понятиями, которые
либо связаны воедино в концептуальных системах индуктивной
логики Венской школы, либо образуют концептуальный каркас
дескриптивной метафизики Стросона, либо порождают концепту-
альные вопросы логической грамматики Витгенштейна... Какую
связанную систему отношений между всем этим можно выделить
и описать? Мы можем ответить на этот вопрос только на основе,
обеспеченной систематически повторяющимся анализом проблем
1 Р е n f i е 1 (1 W. and Roberts L. Speech and Brain-Mechanismusk
Princeton, 1959, p. 230.
30
человеческого понимания п роли понятии в росте п выражении
знания, то есть только снова соотнеся наш философский анализ
понятий с историческими и научными открытиями в области
концептуальной эволюции и индивидуального концептуального
развития людей и, таким образом, давая нашим интеллектуаль-
ным суждениям реалистический базис.
С философской точки зрения решающей является следующая
проблема. В какой шкале можно дать оценку нашим собственным
понятиям и суждениям? Центральные проблемы философии поз-
нания — оправдание и оценка, суждение и критика— никогда
не были связаны только с фактическим содержанием. Вопросы
относительно процессов, процедур и механизмов, посредством ко-
торых наши понятия развиваются, приобретаются, употребляются
й/или совершенствуются, могут быть предметом обсуждения
специальных наук или дисциплин — нейрофизиологии, экспери-
ментальной психологии или логики, культурной антропологии или
социологии науки. Напротив, философская проблема познания —
это вопрос о том, из каких источников в конечном итоге происхо-
дит интеллектуальный авторитет наших понятий. Подобно ко-
нечному источнику морального и политического авторитета, этот
вопрос остается предметом суждения и оценки, так же как п
фактическое знание. Точно так же, несмотря па то, что природа
и происхождение интеллектуального авторитета сами по себе
никогда пе могут быть чисто фактическими вопросами, каждое
поколение людей всегда рассматривало их в свете своих наиболее
полных фактических знаний; и в этом отношении мы, люди кон-
ца XX столетия, не слишком отличаемся от наших предшествен-
ников. Предположим, мы хотим развить свое понимание и того
мира, с которым мы должны иметь дело, и наших собственных
действий относительно этого мира; п предположим, что мы хотим
делать это по размышлении и при помощи самосознания. В этом
случае для нас будет недостаточно без раздумий сослаться на
ныне существующие понятия — такие, каковы они есть, или
слегка модифицированные. Нам потребуется, кроме того, подойти
к этим терминам с позиций нашего собственного интеллекта: по-
нять, для чего они нужны, и снова обратиться к центральным
проблемам познания — суждению и оценке, но уже в терминах,
действующих в наше время, в современном контексте.
Вопрос, который Уоррен Маккаллох задавал относительно чис-
ла, мы должны задать относительно мира
Что такое человек, раз он может понять мир? И что такое
мир, раз человек может его понять?
1 McCulloch W. S. What is a Number that a Man may know It, and
ft Man may that he may know a Number? — «General Semantics Bulletin»,
1961, p. 7—18; перепечатано в: Embodiments of Mind. Cambridge, Mass., 1963,
p. 1-18.
31
Чтобы сосредоточить внимание на центральном элементе челове-
ческого понимания, мы должны, в частности, спросить:
Каковы навыки или традиции, деятельность, процедуры
или инструменты интеллектуальной жизни и воображения че-
ловека — словом, каковы понятия, в которых достигается
п выражается человеческое понимание?
Соответственно этому конечная философская цель, которую
преследуют исследования, заключается в том, чтобы дать
адекватное объяснение интеллектуального авторитета наших поня-
тий, в терминах которого мы можем попять критерии, по кото-
рым их можно оценивать. «Согласно каким стандартам?» — мож-
но задать ^вопрос, и здесь будут существенны два соображения.
Во-первых, наша философская оценка должна относиться к фак-
тически существующей практике рациональной критики. Мы не
можем быть удовлетворены составлением канонов интеллектуаль-
ной оценки как предмета абстрактной эпистемологической теории,
без того чтобы не задать вопрос, какое отношение они имеют
к практическим задачам, с которыми критический интеллект
сталкивается в настоящее время. Во-вторых, она должна быть
дана в терминах, действенных в свете всех наших нынешних
знаний. Нас не должно беспокоить решение эмпирических вопро-
сов, на которые уже можно получить хорошо обоснованные от-
веты в эпистемических разделах других дисциплин, независимо
от того, должны ли они осветить историческую эволюцию поня-
тий в различных видах общественной деятельности или их при-
обретение и применение в жизни и опыте индивида. Действитель-
но, наше объяснение должно быть разработано, насколько возмож-
но, в свете этого эмпирического понимания и этих ответов,
а будучи сформулированным, оно должно пользоваться термина-
ми, которые соответствуют терминам всех связанных с этими
вопросами отраслей. И если мы вступим в эти отрасли, то просто
потому, что наши собственные философские проблемы взаимо-
связаны с этими предметами и эти взаимосвязи не принадлежат
исключительно ни одной из дисциплин.
Центральный вопрос всех наших последующих аргументов
можно сформулировать в трех частях, и каждая из них в свою
очередь будет решена тремя последовательными группами иссле-
дований.
Предположим, что мы рассматриваем, во-первых, наши
современные идеи исторической эволюции человеческого зна-
ния и понимания, то есть рост понятий, и, во-вторых, идеи
развития такого понимания на протяжении жизни челове-
ческого индивида, то есть усвоение понятий,— что мы тогда
сможем в конечном счете узнать о ценности понятий, то есть
32
об основаниях, на которых покоится их интеллектуальный
авторитет, и о стандартах, но которым их можно оценивать?
На первой стадии нашей аргументации мы рассмотрим по-
нятия, которые входят в концептуальные агрегаты, системы, или
популяции, используемые па коллективной основе сообществами
«потребителей понятий». Нас могут заинтересовать такие образ-
цы событий, в которых агрегаты понятий возникают, проходят
путь исторического развития и перестают употребляться; мы мо-
жем также задать вопрос, в каких отношениях конечные измене-
ния — исторические пли социальные, антропологические или
какие-либо иные — связаны с интеллектуальным авторитетом по-
нятий. На второй стадии аргументации мы рассмотрим навыки
и способности, благодаря которым человек обнаруживает свое
индивидуальное восприятие понятий. Нас могут заинтересовать
такие образцы событий, при которых подобные концептуальные
способности приобретаются, применяются и утрачиваются; мы
можем также задать вопрос, в каких отношениях конечные изме-
нения — физиологические или психологические, лингвистические
или какие-либо иные — позволяют оценить сами понятия. На
двух этих первых стадиях мы реконструируем контуры действи-
тельной эмпирической матрицы, па основе которой действует
человеческое понимание, и притом такой картины, которая
представляет собой попытку получить полное объяснение совре-
менных изменений в нашем знании этой матрицы. На конечной
стадии аргументации мы вернемся к лежащим в их основе про-
блемам суждения и оценки и точно сформулируем вопрос, какое
общее объяснение интеллектуального авторитета или рациональ-
ной критики совместимо с нашей современной картиной понятий
и понимания как общественпого, так и индивидуального. Только
когда это будет выполнено, мы ясно поймем, в какой малой сте-
пени философская эпистемология может претендовать на полную
интеллектуальную автономию и насколько обеднили себя фило-
софы, провозглашая свою независимость от всех естественных
и гуманитарных наук.
Однако, как только мы достигнем этого пункта, мы сразу же
освободимся от искушения считать эпистемологию подлинной,
самостоятельной дисциплиной, имеющей свое собственное аутен-
тичное содержание и только ей свойственные проблемы. Напро-
тив, гордая независимость философской эпистемологии окажется
в действительности признаком ее полной неуместности. Если
эпистемологи XX века обсуждали вопросы, к которым естество-
знание и человеческая история не имели никакого отношения, то
только по одной причине. Рефлективная, философская теория
познания, интерпретированная в качестве таковой, потеряла
соприкосновение с научными и историческими процедурами, по-
средством которых расширяется наше практическое знание. Чисто
2 Зак. 21
33
эпистемологические вопросы перестали действовать за пределами
формальной философии, потому что их интеллектуальные источ-
ники в человеческом мышлении полностью иссякли.
2. Три аксиомы в традициях XVII столетия
Если эпистемологии XX века так много недостает органи-
ческой связи с естественными и гуманитарными науками, то это
отнюдь не признак эмансипации от эмпирических предпосылок.
Истина гораздо- более курьезпа. Если мы вкратце напомним себе,
как философская теория познания разошлась в первую оче-
редь с максимами интеллектуальной деятельности, мы оценим
подлинную иронию нынешней ситуации и освободим себе руки,
чтобы заняться логически вытекающими отсюда проблемами.
Ибо эпистемологические проблемы XX века все еще покоятся
на научных и исторических предпосылках. Эти предпосылки уже
устарели лет на триста. Ныне философские идеи относительно
человеческого понимания молчаливо формируются на основе
аксиом, сложившихся в научных и исторических дискуссиях
XVII века.
Рене Декарт и Джон Локк были искренними и критически
мыслящими людьми, однако они были людьми своего времени,
которые обсуждали принципы человеческого познания в свете
современных им идей о естественном материальном порядке (то
есть в свете физики) и об умственных и телесных способностях
человека (то есть в свете психологии и физиологии). Их теории
человеческого понимания тщательно учитывали лучшие научные
мнения того времени, и, будучи «натурфилософами», эти мыслите-
ли едва ли могли удовлетвориться чем-то меньшим. Они и их
последователи в области эпистемологии принимали за доказанное,
в частности, три банальных предположения, которые кратко
можно сформулировать в следующем виде.
(1) Естественный порядок устойчив и стабилен, и разум чело-
века приобретает интеллектуальное господство над ним, раз-
мышляя в соответствии с принципами понимания, которые
также устойчивы и универсальны Ч
(2) Материя, по существу, инертна, и активным источником,
или внутренним вместилищем рациональной, самопроизвольной
деятельности является абсолютно отличный от нее дух, или
сознание, в котором локализуются все высшие интеллектуаль-
ные функции1 2.
1 Toulmin S. and Goodfield J. The Discovery of Time, L., N. Y.,
1965, особенно гл. 4. В дальнейших ссылках обозначается как Discovery.
2 Toulmin S. and Goodfield J. The Architecture of Matter. L., N. Y.,
1963, особенно гл. 14. В дальнейших ссылках обозначаются как Archite-
cture.
34
(3) Геометрическое знание обеспечивает исчерпывающий
стандарт не требующей поправок точности, по которой можно
судить обо всех остальных требованиях к познанию!.
Для большинства мыслителей XVII столетия эти три акс,иомы
казались общепринятыми, даже воплощением «здравого смысла»,
и сторонники «новой механической философии» именно их счита-
ли не вызывающими сомнений. В то время те немногие, кто бро-
сил им вызов, не смогли создать достаточно убедительных контр-
аргументов, чтобы подвергнуть их серьезным сомнениям, а тем
более оказать влияние на эти убеждения. И прежде чем их со-
мнения стали серьезными и действенными, эпистемология напра-
вилась по главной дороге, которая привела прямо в настоящее
столетие. Ныне ее первоначальный каркас исторических, науч-
ных и математических предпосылок, возможно, уже распался.
Однако вопросы, находящиеся в центре эпистемологических спо-
ров, даже сегодня слишком часто остаются прямыми потомками
тех проблем, которые Декарт и Локк пустили в обращение в со-
вершенно ином, уже позабытом интеллектуальном контексте.
(1) Во-первых, рассмотрим, как влияет на эпистемологию
вера в неизменный естественный порядок. Почти до 1800 года
большинство учащихся и ученых были ограничены рамками вне-
исторического мировоззрения, которое без всякого неудобства
стыковалось с философскими доктринами, унаследованными от
древних греков, и с ортодоксальной шкалой времени, основываю-
щейся на Священном писании. Какими бы передовыми они ни
выглядели, все — рационалисты и эмпирики, сторонники корпу-
скулярных взглядов и теории вихрей — считали невозможным
разрушить эту внеисторическую оболочку. Попавшись в ло-
вушку тысячелетней библейской традиции, они были не
в состоянии понять подлинную древность естественного мира;
это обстоятельство в свою очередь скрывало от них все многооб-
разие природных тел. Там, где мы видим, что вся природа нахо-
дится в состоянии медленного, но непрерывного изменения, там
в их глазах она обладала постоянным и неизменным порядком,
установленным при сотворении мира всего лишь несколько тысяч
лет тому назад 1 2. Люди могли спорить о деталях творения; напри-
мер, Декарт и Лейбниц отвергали корпускулярную веру в «ато-
мы». Но никто из ведущих мыслителей XVII столетия всерьез
не усомнился ни в существовании неизменных физических зако-
нов, ни в существовании физического движения, ни в суще-
ствовании неизменных принципов понимания в эпистемологии.
1 Это было одно из главных заимствований Декарта у Платона, и в
нпшр время оно сохранено у Бертрана Рассела.
2 Discovery, ch. 4, 6 and б.
2*
85
В особенности для протестантов это были две единственные черты
более обширного, данного богом порядка, который охватывал так-
же систему плапет, физиологические структуры человека и жи-
вотных и даже число, форму и распределение элементарных «ато-
мов», или «частиц». Только эпикурейцы всерьез подвергали со-
мнению допущение о том, что порядок, или структура, природы
неизменен; по эпикуреизм, будучи связанным с атеизмом, не
имел серьезных последователей в Европе XVII века.
До тех пор пока люди не привыкли к шкале времени в мил-
лионы лет, функциональные модели данного состояния природы
оставались неопровержимым свидетельством неизменного поряд-
ка. В свою очередь этот порядок интерпретировался как проявле-
ние разумности и предвидения творца, потому что как можно
было его понять, если не в качестве воплощения обдуманного за-
мысла? Итак, первой обязанностью благочестивого ученого (или
«христианского ученого») было создавать неизменные законы
природы. Таким образом, четыре различные концепции сходились
в одном пункте научной веры: моральная законность научного
исследования покоилась на открытии рациональных законов при-
роды, а сотворение мира богом было постоянным доказательством
его исторической неизменности.
Приняв за данное этот неизменный естественный порядок,
включающий наряду с остальным материальным миром тело и
мозг человека, было легко допустить, что человеческая природа
точно так же неизменна и постоянна. Итак, фундаментальный
эпистемологический вопрос был прост:
Благодаря каким принципам или процессам человеческий
разум приобретает интеллектуальное господство над есте-
ственным порядком?
Так как предполагается, что оба члена этого отношения —
разум человека и постигаемая разумом природа — действуют на
основе устойчивых, неизменных принципов, то и отношение
между ними тоже предполагается устойчивым и неизменным.
В таком случае задача философа заключалась в том, чтобы ана-
лизировать и объяснять неизменные и универсальные принципы
человеческого понимания, согласно которым формировались идеи
и которые управляли человеческим мышлением. Еще раз отме-
тим, что могли быть разногласия по частным вопросам, но в
основном пункте все философы были едины. Неизменный разум
господствует над неизменной природой согласно неизменным
принципам. Реальным был лишь вопрос: «Каковы эти неизмен-
ные принципы?»
(2) Рассмотрим, далее, концепцию материи, составляющую
сердцевину физики XVII века. Материя по своей внутренней
сущности была инертной, а ее существенные свойства, согласно
взглядам большинства, были либо геометрическими, либо меха-
ническими, либо теми и другими вместе. Все материальные объ-
36
окты включали в себя небольшие трехмерные части, имеющие
различную геометрическую форму; они находились в состоянии
движения, обмениваясь движением тогда, и только тогда, когда
они соприкасались или сталкивались друг с другом. Некоторое
первоначальное количество движения было сообщено материаль-
ному миру при его сотворении. Помимо этого, типы активности,
доступные материальным вещам, ограничивались тремя: кон-
такт, столкновение, обмен движением и ничего более L Напри-
мер, казалось очень проблематичным, могла ли материя сама по
себе поддерживать жизнь. Конечно, она была неспособна к ум-
ственной или рациональной деятельности, поскольку эта послед-
няя включала отличительные черты, знаки выбора или спонтанно-
сти, которые должны были быть произведены «нематериальными»
агентами. Всякое предположение о том, что материальные тела
достаточной степени сложности могли обнаруживать подлинную
разумность или рациональность, отбрасывалось как смехотвор-
ное, даже богохульное. Так как материя определялась как про-
тяженная и инертная, духовная деятельность и свойства разума
можно было объяснить только в иных, несоизмеримых с ней тер-
минах.
Но это было только начало. Вера в материю, инертную по
своей вл утренней сущности, привела мыслителей XVII века так-
же к физиологической модели центральной нервной системы, го-
раздо более строгой и «централизованной», чем это подтвержда-
лось имеющимися доказательствами. Таким образом, трудные, но
подлинные вопросы относительно познания и восприятия преоб-
разовались в неразрешимые загадки о взаимодействии между
этими двумя раздельными «субстанциями» — духом и материей.
Ибо как могла нервная система, построенная из причинно взаи-
мосвязанных материальных компонентов, выполнять функции,
которые являются, по крайней мере у людей, сознательными или
рациональными? 1 2
Чтобы защитить фундаментальное различие духовных функ-
ций и материальных структур, стыки между духом и материей
должны быть сведены до абсолютного минимума. Так, все под-
линно рациональные функции замыкались в ограниченном уча-
стке внутри мозга, и нематериальное царство духа, или сознания,
изгонялось во «внутреннее общее чувствилище» (sensorium com-
mune). (Декарт размышлял, не могло ли это место находиться
в шишковидной железе.) В результате физика XVII века толкала
философов к централизованной модели, которая полностью от-
деляла эпистемологические проблемы от эмпирических фактов
нейрофизиологии. Предполагалось, что все вопросы восприятия и
мышления относятся к явлениям сознания, то есть «внутреннего,
духовного мира» (сенсориума), а не к явлениям «внешнего, мате-
риального мира» нервной системы.
1 Architecture, ch. 7, 8 and 14.
® Ibid., р. 5, n. 1.
37
Эта централизованная модель еще не совсем потеряла свое
философское влияние. Например, Бертран Рассел описывал, как
он сам пришел в философию. Этот процесс был чисто картезиан-
ским. В возрасте пятнадцати лет, рассказывает Рассел, он «убе-
дился, что движение материи... происходит полностью в соответ-
ствии с законами динамики», так что «человеческое тело есть ма-
шина»; приняв это во внимание, «я пришел к заключению, что
сознание — это данное, которое нельзя отрицать, и, следователь-
но, чистый материализм невозможен» Однако в восьмидесятые
годы XIX века, когда Рассел был ребенком, господствующее воз-
зрение на материю все еще было представлено механикой Ньюто-
на и химией Дальтона; поэтому, отвергая материализм, он все же
принимал за доказанное существенную инертность материи. По
этому пункту взгляды Рассела никогда не подвергались ради-
кальным изменениям. Такой была его позиция в 1914 году, ко-
гда в своих лекциях «Наше познание внешнего мира» он поста-
вил центральные эпистемологические проблемы перед своими
многочисленными последователями. И в его последних работах
та же самая централизованная нейрофизиология все еще при-
нималась за доказанное. Одна цитата из «Анализа материи»
(1927) достаточно подтвердит это: «То, что видит физиолог, ко-
гда он заглядывает в мозг, есть часть его собственного мозга, а
не того, который он исследует... Восприятие должно... быть бли-
же органу чувств, чем физическому объекту, ближе нерву, чем
органу чувств, ближе церебральному концу нерва, чем противо-
положному» 1 2.
Как видим, Рассел все еще разыскивает «внутреннее вмести-
лище» сознания, восприятия и познания в причинной цепи от
чувствительных нервов до ее предполагаемого «нематериального»
пункта.
(3) Третьим из предположений XVII века была евклидова мо-
дель точности. Декарт надеялся защитить епистемические при-
тязания естественных наук от скептиков таким же образом, как
и Платон двумя тысячами лет раньше. Мишель Монтень сомне-
вался, что люди когда-нибудь смогут иметь рациональные осно-
вания для того, чтобы сделать выбор между противоположными
физическими теориями, и, подобно Сократу, ограничил наше по-
нимание вопросами человеческого опыта и заботы — доброде-
телью и дружбой, красотой и искусством управлять государ-
ством 3. Декарт не был готов к тому, чтобы смириться с науч-
1 R u s s е 1 В. Autobiography, vol. 1. L., 1967, р. 47.
2 Russel В. The Analysis of Matter. L., 1927, p. 383.
3 Что касается Монтеня, см.: Апология Раймонда Сабупяского.
В: Монтень М. Опыты в трех кн. Кн. 1 и 2. М., 1979, с. 380—535
(опыт 12); что касается Декарта, см. его Начала, кн. III, 3. О связи между
Монтенем и Декартом см.: Lovejoy А. О. The Creat Chain of Being. Cam-
bridge, Mass., 1936, ch. 4, а также Введение А. Койре в: Descartes R,
Philosophical Writings, ed. Geach and Anscombe. Edinburgh, 1964.
38
ным поражением. В юности вдохновленный Галилеем, он встре-
тил вызов Монтеня тем же самым девизом, который Платон
обычно противопоставлял космологическому скептицизму Сокра-
та. Законные требования разума в научной теории могли быть
удовлетворены, но дорогой ценой. Система научных понятий,
сформулированная надлежащим образом, могла претендовать на
интеллектуальный авторитет при условии, что он измерялся по
стандартам строгости и точности, принятым в геометрии.
Вскоре эпистемологи уже принимали этот идеал как несо-
мненный. Было множество споров вокруг вопроса о том, в каких
отношениях паше эмпирическое знание природы могло дости-
гнуть геометрической точности. По этому предмету рационали-
сты — последователи Декарта резко отличались от эмпириков —
последователей Джона Локка. Однако идеал сам по себе сохра-
нял свою привлекательность; и большинство философов-эписте-
мологов продолжало рассматривать математическую необходи-
мость как экстракт зпания и точности. Требования познания
должны быть поддержаны или не нуждающимися в исправлении
самоочевидными данными, или такими же полными и строгими
доказательствами, как доказательства чистой математики, а луч-
ше всего — тем и другим. В свою очередь кажущаяся недостаточ-
ность эмпирических знаний вызывала недоумения, колебания и
скептицизм — иногда вплоть до крайнего солипсизма. Рассматри-
ваемое в этих терминах знание, которому не хватало математи-
ческой точности, было — говоря философски — не лучше, чем не-
вежество. Не признаваясь во всеобщем невежестве, эпистемологи
пытались открыть общие условия, при которых другие виды зна-
ний могли достигнуть интеллектуального авторитета, сравнимого
с авторитетом «формальных, доказательных наук». Действитель-
но, с течением времени это для многих стало самой определяю-
щей задачей эпистемологии. Ныне на повестку дня встали поис-
ки дополнительных принципов или предпосылок, которые могли
бы довести доказательства, существующие в основных областях
исследования — научном, историческом или этическом,— до ма-
тематического идеала. Альтернативный курс — бросить вызов са-
мому формальному идеалу — казался им предательством филосо-
фии, поскольку он отказывался от всяких философских притяза-
ний на «совершенную разумность» и открывал ворота скеп-
тикам
Предательство, отказ, открытие ворот... это больше уже не
язык чистой, стерильной, нейтральной по отношению к ценно-
стям науки. Ни Декарт, ни Локк не применяли сложившуюся
структуру науки для того, чтобы определить эмпирическую
1 Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы. М., ИЛ,
1957, с. 432.
89
матрицу их теории, исходя исключительно из почтения к «новей-
шим научным фактам». Наоборот, каждое базисное предположе-
ние защищало казавшееся существенным философское требова-
ние. Вера во всеобщие принципы человеческого знания определя-
ла точку зрепия, согласно которой люди, исходящие из различных
предпосылок, могли прийти к беспристрастным рациональным
суждениям. В мире, где материальные процессы рабски под-
чинялись причинным законам, разделение материи и духа, мозга
и сознания защищало также рациональные притязания высших
мыслительных процедур. И между прочим, геометрический идеал
познания обеспечивал универсальный критерий, который нужен
для того, чтобы поддержать наше рациональное доверие ко всем
отраслям практики.
Предположения, которые были приняты прежде всего потому,
что они удовлетворяли этим философским требованиям, выжили
в силу отсутствия каких бы то ни было альтернатив. .Казалось, что
без соответствующих гарантий авторитет рационального мышления
должен серьезно пострадать. Если па достаточно глубоком уров-
не принципы человеческого понимания не имеют всеобщего при-
менения, то как можно сравнивать содержание идей различных
эпох или контекстов? Если не удастся получить этих гарантий,
то нам, очевидно, будет угрожать интеллектуальный релятивизм,
которого следовало бы избегать. Итак, всегда казалось, что исто-
рическая инвариантность рациональности, то есть существование
универсальных принципов человеческого понимания, является
предпосылкой рационального суждения, без которого непонятно
любое сравнение между различными культурами и историческими
периодами. Кроме того, как только было принято пред-
ставление об инертной материи, то оказалось едва ли возможным
утверждать, а тем более защищать, всеобъемлющее материали-
стическое объяснение рациональной деятельности. Процесс
«мышления» и операции «машин» казались решительно несоиз-
меримыми. Уолластон иронически выразил суть дела в своем от-
вете Пристли: «Кто может вообразить, что материя приводится в
движение аргументами, или когда-нибудь располагал силлогиз-
мы и доказательства среди рычагов и блоков?»1 В отсутствие
центрального сенсориума, абсолютно отличного от материи, какое
помещение для концептуального мышления и рациональных
суждений можно найти в мире, как мы его знаем? Люди XVII
столетия задавали этот вопрос чисто риторически, будучи уве-
ренными, что никакой реальной альтернативы не существует.
Что касается геометрического идеала познания, то, согласно
ему — если даны «ясные и четкие» понятия, соответствующие
вневременным и самодостаточным математическим принципам,—
можно избежать скептицизма и гарантировать определенную
1 Цит. по: Priestly J. Disquisitions relating to Matter and Spirit. L.,
1777. Sect. VII, Obj. III.
40
основу для рационального соглашения. Если этот конечный и
бесспорный критерий окажется неудачным, то какой рационально
оправдываемый заменитель может быть найден вместо него ради
той удобной точности, которую он ранее обеспечивал?
Более широкие предпосылки философии XVII века, возможно,
сохранили бы свое влияние в силу отсутствия альтернативы, но
в естественных и гуманитарных науках положение изменилось
коренным образом. Здесь устаревшие аксиомы уже давно подвер-
гались сомнению, и их значение упало.
(1) За последние 250 лет физика разорвала свои былые свя-
зи с теологией, и никто больше не думал, что знакомое научное
выражение «законы природы» подразумевает «суверенную
волю» творца. Отныне даже долгосрочная инвариантность этих
законов — это лишь рабочее допущение. Между тем другие
структурные инварианты картины мира, существовавшей в
XVII веке, разрушились при соприкосновении с историей и пре-
вратились в исторические переменные. Все аспекты природы —
от конечных неизменных материальных частиц, планетных си-
стем и видов животных вплоть до вневременных императивов мо-
рали и социальной жизни — рассматриваются теперь как истори-
чески развивающиеся, или «эволюционирующие». Если теория
человеческого понимания должна следовать остальным наукам и
истории XX века, тогда oiici должна основываться не па неиз-
менных принципах и гарантиях, а на исторических взаимодей-
ствиях между человеком, его понятиями и миром, в котором он
живет. Человеческая изменчивость ограничена только медленно
изменяющимися пределами нашей генетической конституции и
культурного опыта. Проблема человеческого понимания в XX ве-
ке — это уже не аристотелевская проблема, в которой познава-
тельная задача человека состоит в том, чтобы понять неизмен-
ные природные сущности; это и не гегелевская проблема, в кото-
рой исторически развивается только человеческий разум в про-
тивоположность составляющей статический фон природе. Скорее
всего, эта проблема требует теперь, чтобы мы пришли к терми-
нам развивающихся взаимодействий между миром человеческих
идей и миром природы, причем ни один из них не является ин-
вариантным. Вместо неизменного разума, получающего команды
от неизменной природы посредством неизменных принципов, мы
хотели бы найти изменчивые познавательные отношения между
изменяющимся человеком и изменяющейся природой.
(2) В то же самое время физика раскрыла содержание тех
«существенных» свойств, которые, как считали ученые ранее, от-
рывают материю и ее причинные процессы от разума и его ра-
циональной деятельности. Вместо ясных геометрических границ,
непроницаемости, строго локализованных воздействий и чисто
механического взаимодействия современные фундаментальные
частицы приобрели свойства, напоминающие не столько демокри-
товские атомы, сколько активную «гармонию» в стоической
41
картине природы. Аналогично этому в физиологии централизован-
ные модели нервной системы также поступились своим значе-
нием в пользу более новых системных концепций. Высшая мыс-
лительная деятельность человека теперь не строго локализуется
в нематериальном сенсориуме, а приводит в действие сложные
физиологические системы, включая взаимодействие этих систем с
соответствующими элементами «внешней» среды. Эти перемены
еще раз сдвинули философский центр тяжести в доказательствах.
С самого начала радикальные критики Декарта и Локка видели,
что любой эффективный вызов их теориям должен подвергнуть
сомнению определение материи, принятое всеми новыми механи-
стически мыслящими философами \ Однако в настоящее вре-
мя научная основа теории сенсориума уже полностью разрушена,
и ограничения, которые она ранее накладывала на размышления
о познании, отброшены. Современные нейрологические идеи ста-
вят проблемы человеческого понимания совершенно иначе, чем
идеи, с которыми сталкивалась Декарт и Локк. Это не должно
означать, что идеи Декарта во всех отношениях несовместимы с
наукой XX века: отделив дуализм от его корней в физике
XVII столетия, мы должны по крайней мере переформулировать
его центральные пункты в менее драматической форме. Освобож-
денная от этой смирительной рубашки, всякая смягченная форма
картезианского дуализма с необходимостью будет резко отли-
чаться от догматических дуалистических систем, распространен-
ных в последекартовский период.
(3) В самой математике евклидовский идеал уже к концу
XVIII века сдал свои позиции. Очарование евклидовой геомет-
рии как наивысшего образца рационального понимания происхо-
дило из убеждения, что греческие геометры успешно выполнили
эффектный двойной подвиг, что они, иными словами, в одно и
то же время установили строгую логическую сеть дедукций, а
также дали правильное описание действительного мира природы.
Два прошлых века стали свидетелями смертельного удара, нане-
сенного подобным убеждениям. За тщетной попыткой Саккери
доказать математическую уникальность евклидовой системы пу-
тем reductio ad absurdum последовало создание неевклидовых
систем, начиная с Ламберта и Гаусса1 2. Однако как только неев-
клидовы геометрии по всем формальным стандартам стали таки-
ми же приемлемыми, как евклидова, был вбит клин между дву-
мя половинами греческой геометрии, то есть между вопросами о
формальной структуре и вопросами эмпирической релевантности.
При наличии альтернативных формальных систем простран-
ственных или квазипространственных отношений необходимо
было решать, какова действительная степень релевантности и
1 См.: Priestley. Op. cit., sect. Ill and IV.
2 Cm.: Martin G. Kant’s Metaphysics and Theory of Science. Manche-
ster. 1955, особенно гл. I, разд. 2—5, с. 18.
42
применимости любой формальной «геометрической» системы к
действительному опыту и практике. Проблема эмпирической гео-
метрии была одним из исходных пунктов для критических иссле-
дований Иммануила Канта. В молодые годы оп считал несо-
мненным, что эмпирическая релевантность систем Евклида и
Ньютона строго доказана. Избавившись от этой идеи отчасти бла-
годаря его дружбе с Ламбертом, отчасти благодаря чтению Юма,
оп должен был найти какой-нибудь другой источник, чтобы оправ-
дать особые притязания евклидовой геометрии и ньютоновой
динамики на власть над нашим интеллектом. Если мы рассмат-
риваем сегодня геометрию как формальную систему, наша уве-
ренность в этом в значительной мере, если не полностью, про-
истекает из того факта, что она является нашим собственным
созданием. Ее строгость — это внутренняя четкость сделанного
человеком расчета, тогда как ее практическое применение отра-
жает не вербальные определения, а наши практические процеду-
ры по идентификации «прямых линий», «окружностей» и всех
остальных объектов и фигур реального мира.
Выражение Джамбаттиста Вико certum quod factum —
«действующий может полностью понимать только то, что он сде-
лал сам», очевидно, применимо также к чистой геометрии и фор-
мальной логике Ч Многие из аргументов, которыми Вико тщет-
но пытался сдержать напор картезианства, были интегрированы
мыслью XX столетия. В наше время за границами формальной
философии можно требовать картезианского познания и точности
только от имени наших собственных интеллектуальных артефак-
тов, и вне пределов созданных человеком продуктов чистой ма-
тематики теперь возникает вопрос, не было ли в требовании
формальных доказательств чего-то неуловимого. Может быть,
идея неизменных вечных стандартов, применимых к доказа-
тельствам вообще, при абстрагировании от их практического кон-
текста всегда была (как заявлял Вико) картезианской иллюзией.
Сверхнадежность модели евклидовой геометрии до сих пор заво-
дила философию в тупик; так как сами математики произвели
переоценку статуса своих знаний, философы тоже должны пере-
смотреть свои собственные стандарты точности.
Мы увидели, как благодаря предположениям, существовав-
шим в XVII столетии, на философию была наложена определен-
ная картина познания, в которой человек — рациональный
субъект познания — сталкивался с природой — неизменным объ-
ектом познания, и, таким образом, возможности выбора, которыми
1 См.: Berlin I. The Philosophical Ideas of Giambattista Vico.— In: Art
and Ideas in Eighteen-Century Italy. Rome. 1960; Giambattista Vico: An In-
ternal ional Symposium, ed G. Tagliacozzo and H. V. White. Baltimore, 1969,
Part. IV.
43
могли располагать эпистемологи, были ограничены. Эти пред-
положения, конечно, были «аксиоматическими» только в ши-
роком смысле; то есть это были убеждения слишком фунда-
ментальные, чтобы их можно было подвергать сомнению. Соот-
ветственно, если мы хотим соотнести теорию познания конца
XX столетия с современными идеями в других областях, то за-
дача состоит в том, чтобы заменить старый эпистемический авто-
портрет новым и таким образом вновь открыть интеллектуальные
возможности, закрытые со времен расцвета картезианской эпи-
стемологии.
В данный момент, однако, все еще немногие современные фи-
лософы усматривают свою эпистемическую задачу именно в
этом. С устаревшим эпистемическнм автопортретом сразу же зна-
комятся тр; кто углубляется в университетскую философию, по
иронии судьбы именуемую «современной»; им продолжают
руководствоваться и многие профессиональные философы даже
в XX столетии. В начале «Самого длинного путешествия»
Э. М. Форстер знакомит пас с группой кембриджских студентов-
выпускников, беседующих поздно ночью. Они обсуждают корову
в поле: «Существует ли она реально? Можем ли мы знать, что
она существует? Если да, то каким образом мы это знаем? Кро-
ме того, как мы можем доказать, что она существует?..» Здесь
Форстер тонко схватывает споры выпускников, своих кембридж-
ских сверстников, особенно Бертрана Рассела и Дж. Э. Мура, о
таких предметах, как чувственные данные и материальные объ-
екты, внутреннее сознание и внешний мир. Вкратце эти вопросы
можно выразить следующим образом:
Как человек может получить достоверное понимание при-
роды? Благодаря каким постоянным принципам человек-на-
блюдатель (то есть разум), выглядывая из своего наблюда-
тельного пункта, расположенного глубоко в теле (то есть в
материи), может преступить пределы тех внутренних ощуще-
ний, которые одни только и служат ему доказательствами,
и в дальних точках своих чувственных рецепторов получить
аутентичные знания о внешнем мире? И как могут эмпириче-
ские свидетельства, полученные человеком относительно внеш-
него мира, когда-либо обладать строгостью и точностью, на
которые ему дают право формальная логика и математика?
Таким образом, в начале XX века Рассел и Мур поставили
перед английскими философами эпистемологические вопросы,
основанные непосредственно на традиционном эпистемическом
автопортрете. Они считали, что человеческий разум подходит к
внешнему миру в исторически неизменном состоянии, что он
противостоит ему через посредство или через противодействие
пяти чувств и что он требует для всех своих аргументов не мень-
ше строгости и точности, чем в евклидовой математике. С тех
44
пор стали понятны многие слабости их анализа, и уже никто не
принял бы их изложения эпистемологических проблем именно в
этой форме. И все же задача очищения философии от всех по-
следствий принятых в XVII столетии допущений, очевидно, вы-
нудит пас срезать многие напластования почти до самой сердце-
вины. В этой ситуации мы располагаем двумя возможностями.
Мы можем принять новый старт, не отвлекая своего внимания
па наследие XVII столетия, и попытаться разработать проблемы
нашей собственной теории человеческого понимания в рамках
сложившихся к концу XX века убеждений относительно человека
и истории, идей и природы; это будет означать, что мы отказы-
ваемся от философской автономии эпистемологии и вновь откры-
ваем закрытые двери между формальной философией и более не-
зависимыми дисциплинами. Или же мы можем отступиться от
этой всеобъемлющей задачи и вернуться к философской тради-
ции, которая возникла, если говорить откровенно, в интеллекту-
альном контексте, совершенно отличном от нашего собственного.
Однако в этом последнем случае следует поставить вопрос: «Чего
мы достигнем на этом пути, кроме того, чтобы свет в комнатах,
где живут студенты, горел заполночь?»
3. Программа новой теории человеческого понимания
Позвольте мне суммировать задачи, которые предстанут перед
нами в последующих исследованиях. Общая цель — составить но-
вый «эпистемический автопортрет», то есть заново объяснить
способности, процессы и деятельность, благодаря которым чело-
век обретает понимание природы, а природа в свою очередь ста-
новится доступной разуму человека. Это объяснение должно так
же хорошо объяснять проблемы, концепции и банальные идеи
мышления XX столетия, как и более старые эппстемические пор-
треты Декарта и Локка — идеи XVII века. Соответственно оно
должно быть убедительным не только в пределах формальной
философии, но и во всех остальных дисциплинах, которые имеют
дело с восприятием и мышлением, познанием и идеями. Быть
убедительным по двум причинам. Мы будем работать в
такой области, в какой эмпирические соображения в лучшем слу-
чае могут лишь наметить направления, по которым могли бы про-
двигаться и наука, и философия; и мы никогда не сможем пол-
ностью разделить научные и философские аспекты человеческого
понимания.
Даже теперь «научные факты» философски двусмысленны, и
нам предстоит щекотливая задача — скорректировать их. В то
время как мы пересматриваем традиционные философские про-
блемы в свете современных научных идей, равным образом мы
можем обнаружить, что результаты нашей переоценки в некото-
рых отношениях оказывают обратное воздействие на сами науки.
45
Таким образом, философское объяснение концептуального позна-
ния всегда вводит какие-нибудь предположения (хотя и неразра-
ботанные) о тех механизмах, благодаря которым «чувственные
импульсы» «протекают» в нервной системе; однако нейрофизио-
логия в свою очередь должна иметь в виду, что функции цен-
тральной нервной системы являются инструментом совершен-
ствования познания *. Точно так же мы можем ясно понять ин-
теллектуальный авторитет наших понятий только в том случае,
если мы имеем в виду социально-исторические процессы, благо-
даря которым они развиваются в жизни культуры или сообще-
ства; однако более ясный анализ этого интеллектуального авто-
ритета в свою очередь дает нам средства для развития более точ-
ных идей о самих этих процессах 1 2.
Этой заключительной характеристикой наша повестка дня за-
вершается, и мы можем видеть, как ее элементы согласуются
друг с другом, чтобы образовать единую последовательность
проблем и аргументов. Центральная тема части I — эволюция
человеческого-"понимания, как она представлена в историче-
ском росте понятий. Ее содержание — изменение популяций по-
нятий и процедур, характеризующих коллективную интеллекту-
альную деятельность, способ их функционирования в сообще-
ствах и различные факторы, принимающие участие в процессе
концептуальных изменений. В позитивных терминах эта первая
группа исследований сконцентрируется вокруг следующего во-
проса:
Благодаря каким социально-историческим процессам и
интеллектуальным процедурам изменяются и развиваются,
передаваясь от поколения к поколению, популяции понятий
и концептуальных систем — методы и инструменты коллек-
тивного понимания?
Ставя эту проблему, мы должны тщательно позаботиться о
том, чтобы не замыкаться в традиционном круге эпистемологиче-
ских проблем. Наш первый шаг будет заключаться в том, чтобы
выйти за рамки проблемы XVII века —«какие универсальные
принципы понимания управляют действиями человеческого
разума, перед которым стоит задача господства над неизменным
естественным порядком?» — и таким образом вновь открыть фи-
лософские возможности, скрываемые традиционным подходом. Но
этот шаг дорого нам обойдется. Ибо мы сразу же столкнемся со
следующим вопросом:
1 См., например: L е 11 v i n J. et al. What the Frog’s Eye tells the Frog’s
Brain. — «Proc. Inst. Radio Engineers», 1959, 47, 1940—1951.
2 Ср. ниже спорные проблемы в ч. I, гл. 4.
46
Как можно рационально сравнивать интеллектуальное со-
стояние или аргументы, существующие в различных исто-
рических и культурных контекстах, при отсутствии неизмен-
ных принципов человеческого понимания?
Цель первой группы наших исследований будет состоять в
том, чтобы показать, что на этот второй, философский вопрос
можно удовлетворительно ответить только в свете первого, эмпи-
рического вопроса, точно разместив в пределах социоисториче-
ской матрицы человеческого понимания те пункты, в которых
рациональная оценка и критицизм могут найти свои оперативные
пиши.
Центральная тема II части 1 — развитие человеческого пони-
мания, выражающегося в психологическом восприятии понятий.
Ее предмет составят изменения навыков и способностей, благодаря
которым индивиды приобретают и развивают это восприятие,
то есть способ функционирования этих способностей в жизни от-
дельных потребителей понятий и различные факторы, которые
играют роль в их приобретении и употреблении. В позитивных
терминах эта вторая группа исследований сконцентрируется во-
круг вопроса:
Благодаря каким физиологическим процессам, в какой по-
следовательности концептуальные навыки и способности —
методы и инструменты индивидуального понимания — приоб-
ретаются, используются, а иногда теряются на протяжении ин-
дивидуальной жизни потребителей понятий?
Ставя этот вопрос, мы опять-таки должны игнорировать огра-
ничения традиционной эпистемологии. Мы начнем с того, что ре-
шительно отвергнем устаревший вопрос — «как воспринимающий
разум, чей наблюдательный пункт расположен в глубине мозга,
приобретает информацию о внешнем мире?» — и, таким образом,
вйовь обнаружим позабытые возможности. Но при этом мы вновь
Встретимся еще с одним вопросом:
Если мы серьезно отнесемся к результатам нейрологии XX
столетия, то как мы сможем охарактеризовать рациональное
мышление в терминах, совместимых с нашим причинным по-
ниманием физиологии мозга и психологии?
В этой второй части мы вновь зададимся целью показать, что
па философский вопрос можно ответить удовлетворительно толь-
ко в свете первичного эмпирического вопроса, точно локализуя
1 Настоящая книга содержит лишь часть I задуманного автором труда.
Части II и III Ст. Тулмином еще не опубликованы.—
47
в психофизиологической матрице человеческого понимания те
пункты, в которых рациональное мышление и суждение находят
свои функциональные корреляты.
В III части мы непосредственно возьмемся за философское
решение вытекающих отсюда вопросов. Нашими центральными
темами станут рациональная оценка человеческого понимания и
интеллектуальная ценность понятий. Всякий эпистемический ав-
топортрет, который является убедительным для других современ-
ных наук, должен к тому же давать нам глубокое понимание па-
шей эпистемической ситуации и, таким образом, понимание над-
лежащих канонов рационального критицизма. Следовательно, в
позитивных терминах последняя группа исследований скон-
центрируется вокруг вопроса:
Если даны оперативные ниши и функциональные корреляты
понятий в коллективных и индивидуальных матрицах чело-
веческого понимания, то как должны мы анализировать, срав-
нивать и, таким образом, объяснять критическую уверенность
в наших собственных наиболее обоснованных понятиях и
убеждениях, во всяком случае для нашего поколения?
Приступая к решению этого последнего философского вопро-
са, мы отвергнем евклидовские идеалы точности и рационально-
сти и, таким образом, проигнорируем философские ограничения,
наложенные традиционным требованием, согласно которому
истинное знание должно быть несомненным и пеисправляемым.
В свою очередь, однако, мы должны во всеоружии приступить к
решению последующего вопроса:
Если евклидовский идеал абсолютной точности потерпел по-
ражение, то каковы альтернативные стандарты, по которым
мы можем решить, чему следует интеллектуально доверять?
Следовательно, мы поставим перед нашей конечной группой
исследований две связанные с ней цели. Первая заключается в
том, чтобы соотнести рациональность и связанные с ней катего-
рии с теми действительными нишами, в которых практически
осуществляется рациональная оценка; вторая состоит в том, что-
бы показать, как интеллектуальный авторитет наших понятий
находит свой конечный источник в эмпирических матрицах само-
го понимания.
* * *
Последнее замечание позволит сформулировать историческую
перспективу всей работы в целом. С одной точки зрения наша
программа предназначена для того, чтобы, подобно Пенелопе,
распустить всю ткань эпистемологии —проблемы, а также мето-
48
ды,— которую философы так терпеливо ткали вот уже свыше
350 лет. С этой точки зрения мы действительно распутали все
субстанциальные доктрины, которые отстаивал Декарт, за все
время действия той традиции эпистемологического исследования,
которую он заложил. Однако с другой, более глубокой точки зре-
ния наше рассмотрение точно следует методологическим принци-
пам Декарта. Какие бы перемены ни происходили с философски-
ми проблемами, выводами, способами доказательств, общий дух
его философии, возможно, остается одним и тем же; что касается
Декарта, этот дух определялся его основополагающей максимой
«систематического сомнения». Как он неоднократно настаивал,
рациональная обязанность философа — сомневаться во всем, что
он может последовательно подвергнуть сомнению, и наши иссле-
дования просто продолжают эту программу. Если в конце
XX столетия мы можем распространить наше собственное систе-
матическое сомнение за крайние пределы мышления XVII века
(отвергая ныне три базисных предположения, которые даже Де-
карт и Локк принимали за доказанные), то по Декартовым стан-
дартам философской рациональности это будет только рацио-
нально для нас. И если, несмотря на все чудеса сомнения, Де-
карт тем не менее делал допущения, которые мы теперь можем
«последовательно подвергать сомнению», то наш философский
долг — проанализировать последствия этих более радикальных
сомнений.
Наша программа, тем самым, может вынудить нас отвергнуть
убеждения Декарта, но она не требует, чтобы мы предавали его
идеалы. Напротив, было бы худшим предательством Декартовой
программы, если бы мы не захотели бросить вызов всем сомни-
тельным пунктам той эпистемологической традиции, которая
была заложена его работами. Скорее, мы должны укрепиться в
сердце своем и поклясться его именем, что в наших собственных
терминах XX века мы будем большими картезианцами, чем сам
Декарт.
ЧАСТЬ I
КОЛЛЕКТИВНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ
И ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЙ
Раздел А:
Рациональность и концептуальное многообразие
ВВЕДЕНИЕ
Мысли каждого из нас принадлежат только нам самим; наши
понятия мы разделяем с другими людьми. За паши убеждения
мы несем ответственность как индивиды; но язык, на котором
выражены наши убеждения, является общественным достоянием.
Чтобы понять, что такое понятия и какую роль они играют в на-
шей жизни, мы должны заняться самыми важными связями:
между нашими мыслями и убеждениями, которые являются лич-
ными, или индивидуальными, и нашим лингвистическим и кон-
цептуальным наследством, которое является коллективным (com-
munal) .
В этом отпошепии проблема человеческого понимания (про-
блема объяснения того интеллектуального авторитета, которым
наши коллективные методы мышления пользуются у мыслящих
индивидов) обнаруживает некоторые до сих пор мало замечае-
мые параллели с центральной проблемой социальной и политиче-
ской теории, а именно с проблемой объяснения соответствующего
авторитета, который наши моральные правила и обычаи, наши
коллективные законы и установления имеют у индивидуальных
членов общества. Эти параллели имплицитно содержатся в аргу-
ментах философов-идеалистов. Строго говоря, они доказывали,
что пользование личными правами предполагает существование
общества и возможно только в рамках социальных институтов;
и в равной степени, могли бы мы добавить, членораздельное вы-
ражение индивидуальных мыслей предполагает существование
языка и возможно только в рамках разделяемых с другими
людьми понятий. Таким образом, парадокс политической свободы,
провозглашаемой Жан Жаком Руссо, также обращает нас к обла-
сти познания. «Человек рождается свободным, но повсюду он в око-
вах» ь, однако при более близком рассмотрении оказывается, что
эти оковы — необходимый инструмент эффективной политической
свободы. Интеллектуально человек также рождается со способно-
стью к оригинальному мышлению, но повсюду эта оригинальность
ограничивается пределами специфического концептуального
наследства; при более близком рассмотрении оказывается,
однако, что эти понятия представляют собой также необходимые
инструменты эффективного мышления.
1 Руссо Ж. Ж. Трактаты. М., «Наука», 1969, с. 152.
51
Следовательно, было бы довольно легко обсуждать философ-
ские проблемы рациональности в терминах квазинолитических
представлений. Индивидуалисты или анархисты будут рассмат-
ривать разделяемые с другими людьми понятия, которые суть
инструменты нашего мышления, и общий язык, на котором мы
выражаем паши мысли, в качестве уз и оков, наложенных тира-
нической коллективностью, которая, таким образом, уродует
свободное сознание самостоятельного, творческого индивида. Кол-
лективисты возразят, и притом столь же правдоподобно, что уна-
следованные индивидом понятия не представляют собой ни тюрь-
мы, ни оков. Скорее опи образуют интеллектуальную структуру,
пли платформу, возвысившуюся над кровавым, иррациональным
хаосом животного существования, благодаря которой индивид
только и может жить подлинно человеческой жизнью. Он обязан
этой платформой усилиям своих предков, и его собственное
истинное творчество состоит в том, чтобы ответственно и эффек-
тивно работать над ее совершенствованием ради своих потомков.
Однако в любом случае живописные образы «оков», «платформ»
и т. д. в конце концов будут приемлемы только в качестве преди-
словия к более серьезному, в буквальном смысле умственному
анализу. Их единственное достоинство состоит в том, что они
концентрируют внимание на тех сложных отношениях, которые
должны получить свое объяснение в любом убедительном эписте-
мическом автопортрете. Понятия играют свою роль в жизни ин-
дивидов, и едва ли они обладают какой-либо реальностью помимо
этой роли. В то же время индивидуальные потребители понятий
приобретают понятия, которыми они пользуются, в социальном
контексте, а системы понятий, которые они употребляют, играют
идентифицируемые роли и в жизни человеческих сообществ,
будь то общества, конгрегации или профессии. В интеллектуаль-
ной сфере, как и в сфере политической, инициатива индивида—
либо социальная, либо концептуальная — является выражением
его личпых размышлений над коллективными проблемами.
О концептуальных нововведениях отдельных физиков, скажем,
судят по их отношению к коллективным идеям, которые опи
разделяют с остальными представителями этой профессии; и фи-
зик мыслит творчески в том случае, когда он вносит свой вклад
в совершенствование этой коллективной «физики».
В области интеллекта, следовательно, как и в области полити-
ки, даже самобытность личности имеет социальное или коллек-
тивное измерение. И к тому же эти две роли явно коррелятивны.
Коллективное понимание реализуется в интеллектуальной дея-
тельности индивидов; в понимании индивида применяются поня-
тия, полученные из коллективного арсенала, либо они модифици-
руются такими способами, которые олицетворяют потенциальное
совершенствование этого арсенала. Итак, эпистемический авто-
портрет, который должен быть создан в этом исследовании,
прежде всего нужно изображать с двух различных точек зрения,
52
п двух раздельных измерениях (одном индивидуальном, дру-
гом — коллективном), но впоследствии обе полученные в резуль-
тате картины должны быть совмещены в надлежащей перспек-
тиве. Каким из этих измерений мы займемся в первую очередь?
В принципе можно анализировать оба эмпирических аспекта по-
нимания совершенно независимо друг от друга, но мы получим
некоторые преимущества, если рассмотрим сначала коллектив-
ный аспект. Начать с того, что он опрокидывает обычную про-
цедуру. От Локка до Рассела, от Декарта до Хомского эпистемо-
логи-ортодоксы считали, что проблема познания требует от них
прежде всего объяснить, как индивидуальный мыслитель или на-
блюдатель может без посторонней помощи дойти до имеющих
силу идей, истин пли грамматических форм; и этот выбор прио-
ритетов порождал серьезные затруднения, отвлекая внимание от
общественного характера языка и коллективных критериев пра-
вильности. Только недавно, например в поздних работах Людви-
га Витгенштейна, чаша весов решительно качнулась в другую
сторону, раскрывая перед нами основополагающие связи между
процессом приобретения понятий и «окультуриванием». (Забе-
гая вперед, замечу: многие современные представители психоло-
гии развития, например Ж ап Пиаже и Джером Брунер, также
упустили из виду все значения этой связи.) 1
Есть и другая причина рассматривать вначале коллективные
аспекты понятий. Я умышленно говорил о «личных» и «коллек-
тивных» аспектах понятий, а не о «частных» и «общественных».
Традиционно представление о частном ассоциировалось со взгля-
дами, с которыми мы должны обращаться с величайшей осторож-
ностью, а именно с точкой зрения, согласно которой состояние
И процессы мышления по своему существу являются «внут-
ренними» и, следовательно, «потаенными». Едва ли нужно под-
черкивать, что именно дихотомия «внутренний разум — внешний
мир» играла решающую роль в формировании проблем ортодок-
сальной эпистемологии. Следовательно, здесь имеет смысл поду-
мать, как далеко мы можем зайти в нашем собственном иссле-
довании, не обращаясь ни к одной из знакомых пространствен-
ных метафор, которые приравнивают физическое к «внешнему»,
а духовное — к «внутреннему». Решив начать с рассмотрения кол-
лективного аспекта понятий, мы получим возможность отодви-
нуть как можно дальше всю сложную проблему «мышления» как
«внутренней жизни».
Объясняя свое решение, мы должны сделать только одну ого-
ворку. Наше обсуждение (в части I) научных дисциплин и тому
подобных рациональных попыток порывает с практикой людей,
подобных Эрнсту Маху и Бертрану Расселу, еще в одном отно-
шении. Они считали специфическую задачу оправдания научных
1 Что касается Брунера, см. отчет о его экспериментах по «консерва-
ЦВИ» в: Bruner J. S. et al. A Study of Thinking. N. Y., 1956.
53
теорий просто частным случаем более общей философской пробле-
мы, а именно проблемы объяснения «нашего познания внешнего
мира» в общих терминах L Для Маха и Рассела, как ранее для
Локка и Юма, центральным был следующий вопрос: «Как можем
мы проникнуть сквозь внутреннюю пелену или завесу личного
опыта, с тем чтобы описать, вывести п/илн логически сконструи-
ровать за его пределами впешний мир общедоступных объектов?»
В своем исследовании я попытаюсь разрушить связь между эти-
ми двумя проблемами, рассматривая коллективное употребление
понятий — в научных теориях и во всех остальных случаях —
отдельно от всех проблем достоверности чувственного восприя-
тия. Моя идея состоит не в том, чтобы оспаривать решение всех
основных вопросов, данное Махом и ему подобными; самое боль-
шее, я постараюсь показать, насколько непродуманным было его
уравнивание этих двух проблем. Таким образом, чтобы достичь
целей, поставленных в части I, мы можем решать проблемы, свя-
занные с коллективным аспектом употребления понятий, незави-
симо от всех вопросов о роли понятий в индивидуальных ощуще-
ниях и восприятиях. Правда, в части II я собираюсь продол-
жить критику любого допущения, согласно которому «чувствен-
ный опыт» как-то «становится между» сознанием и внешним
миром. Но в данный момент я только хочу показать, сколько по-
лезного мы можем добиться, даже не принимая во внимание
этот спорный вопрос.
Кроме того, мы приобретаем наше понимание языка и концеп-
туального мышления в процессе образования и развития, а спе-
цифические системы понятий, которые мы получаем, отражают
формы жизни и мышления, понимание и обороты речи, распро-
страненные в нашем обществе. Совершенно очевидно, что в не-
которых отношениях возникшие таким способом образцы — про-
дукт истории и предыстории культуры. Они отличаются от стра-
ны к стране, они могут совершенно поразительно изменяться
за несколько лет, и всякий нормальный человек охотно учит или
переучивает их в характерных для них местных формах. В этих
отношениях наше концептуальное наследие снова воссоздается в
каждом новом поколении благодаря процессам окультуривания,
будь то имитация или взаимодействие, обучение или формальное
образование. Конечно, в других отношениях сами эти формы жиз-
ни и мышления суть просто выражение в культуре способностей
и чувственных восприятий, общих для людей или даже для всех
1 Что касается Маха, см.: Mach Е. Beitrage zur Analyse der Empfin-
dungen. Jena. 1886, или английский вариант, The Analysis of Sensations.
Chicago, 1914 (Русск. перев.: Max Э. Анализ ощущений и отношение фи-
зического к психическому. М., 1908.-Ред.). Популяризировано в Англии
Карлом Пирсоном: The Grammar of Science. L., 1892. Ср. также: Russel В.
Our Knowledge of the External World. L., 1914.
54
высших животных,— свойств, «встроенных» в человеческий мозг
п тело в течение эволюции нашего вида от его прародителей.
Во всех этих отношениях нашему концептуальному искус-
ству, возможно, все еще нужно учиться, точно так же как нужно
учиться ходить, но цель этого обучения состоит в том, чтобы про-
сто вызвать или развить способности, первоначально основываю-
щиеся на физиологическом базисе. Последующие модели будут
отличаться друг от друга в разных культурах или обществах
лишь мелкими деталями и соответственно будут устойчивы к из-
менениям.
Сегодня остается открытым вопрос, какие именно свойства
нашего концептуального наследства имеют преимущественно фи-
зиологическую или генетическую основу, а какие требуют своего
объяснения по преимуществу в терминах культуры или образо-
вания. Несомненно, до некоторой степени каждая сторона кол-
лективного интеллекта имеет и физиологический, и культурный
аспекты, причем различные культуры представляют собой аль-
тернативное выражение «природных способностей», широко рас-
пространенных или даже универсальных для всего человеческого
вида. Таким образом, общая способность к речи, по-видимому,
является «специфически видовой» способностью человека, требу-
ющей специальной системы пейроапатомических и физиологиче-
ских коррелятов, тогда как развитие отдельных языков пред-
ставляет множество альтернативных выражений этой общечело-
веческой способности. В нашем собственном поколении задача
выяснения вклада генетического наследства (природа, природные
способности) и окружения (воспитание, окультуривание) в ин-
теллектуальное поведение человека обещает быть такой же слож-
ной, как и соответствующая задача, стоявшая перед нашими де-
дами в области общей физиологии и медицины.
Прежде всего, однако, это частное затруднение пе должно
препятствовать нашему анализу понятий, языка и коллективно-
го понимания. Нам нужно только понять, что концептуальные
способности, которые мы проявляем, будучи взрослыми, изна-
чально представляют собой то, что мы унаследовали; и для мно-
гих целей (в определенных пределах) не имеет значения, в какой
море это наследие передается физиологически, а в какой — через
окультуривание. Мы можем, например, критиковать определен-
ные формы жизни и понимания, в которых мы выросли, пытаясь
усовершенствовать их и за их пределами проложить себе дорогу
к лучшим формам; таким образом, наше индивидуальное, реф-
лексивное мышление может обновлять, модифицировать и в кон-
це концов заменять эти унаследованные понятия. В этом случае
И первоначальные понятия, и те, что пришли им на смену,—
1то не просто продукт культуры, по также и выражение наших
природных способностей. Однако в данном случае эта двойствен-
ность безразлична для оперативных вопросов, в частности для
Иоироса о том, какие соображения играют роль в концептуальных
55
нововведениях и как следует судить о новых концептуаль-
ных вариантах. С этой целью более ранние формы понятия оста-
ются исходной точкой для всех последующих нововведений, а
новые «реформированные» понятия, равно как и предшествующие
им, потенциально станут достоянием всех наших собратьев.
Ни старые, ни новые понятия не служат проявлением только
универсальных генетических свойств или только нашего личного
опыта. Итак, мы возвращаемся к нашему первому пункту, кото-
рого нельзя избежать. Наши личные убеждения находят свое вы-
ражение только через употребление коллективных понятий. Но-
вые формы, в которые отливаются наши индивидуальные мысли,
приобретают определенные очертания только тогда, когда они
становятся (во всяком случае, потенциально) коллективными ин-
теллектуальными инструментами соответствующего сообщества.
В соответствии с этим коллективные аспекты понимания со-
ставляют общую тему части I. Индивидуальные аспекты употре-
бления понятий будут интересовать нас главным образом в ча-
сти II. Мы можем отложить до части III нашу атаку на специ-
альные философские проблемы, которые возникают, когда мы
сопоставляем друг с другом личные и коллективные аспекты упо-
требления понятий и подвергаем переоценке интеллектуальный
авторитет наших понятий в рамках интегрального объяснения
человеческого понимания.
50
Г Л А В A 1
ПРОБЛЕМА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
1.1. Признание концептуального многообразия
Некоторые даты в истории человечества приобретают ре-
троспективное значение, которое никто не мог осознать в свое
время. Оглядываясь назад из более позднего времени, мы видим
в этих датах те пункты, в которых в процессе исторического раз-
вития вступали в действие — неощутимо, но необратимо — новые
факторы, влияния или идеи. В человеческие души вживлялись
семена, чей рост можно проследить с самого начала, которое
было слишком незаметным, чтобы его можно было в свое время
увидеть. Одной из таких дат является 13 апреля 1769 года.
В этот день капитан Джеймс Кук на судне «Индевор» при-
был па Таити, завершив, таким образом, первую половину кру-
госветного путешествия L Кругосветное плавание планировалось
как научная экспедиция: с Куком ехали Джозеф Бэнкс и группа
ученых, собранная при поддержке Королевского общества.
Остров Таити был выбран как удобный наблюдательный пункт
на далекой от Гринвича части земного шара, чтобы описать про-
хождение планеты Венеры через солнечный диск, которое
должно было состояться 3 июня 1769 года. Итак, прибыв на ост-
ров, Кук прежде всего позаботился о выборе подходящего ме-
ста (названного в честь планеты мысом Венеры), на котором
можно было установить необходимые астрономические инстру-
менты. Наблюдения этого прохождения были нужны для того,
чтобы в результате получить последнюю, существенную деталь,
которой до того недоставало в ортодоксальной ньютоновской кар-
тине божественного астрономического сотворения. Сравнивая
промежутки времени, за которые Венера проходила через Солн-
це, и полученные при наблюдении с целого ряда различных
пунктов, рассеянных по лицу Земли, астрономы надеялись рас-
считать наконец абсолютную меру, действительные размеры пла-
нетарных орбит, производя триангуляцию небес точно таким же
образом, каким мореплаватель производит триангуляцию океана,
а топограф — суши.
Эта заранее обдуманная часть поставленных перед экспеди-
цией задач была тонкой, но сравнительно простой, и она была
1 См.: Первое кругосветное плавание Д. Кука. Плавание на «Индевре»
> 1768—1771 гг. М., 1960. Woolf Н. The Transits of Venus: a study of
Eighteenth Century Science. Princeton, 1959.
57
выполнена полностью без каких-либо серьезных препятствий.
Однако по возвращении в 1771 году судна домой путешествие
«Иидевора» стало предметом разговоров но всей Европе по со-
вершенно иным, непредвиденным причинам. Проблема астроно-
мических расстояний могла поразить воображение ученых и
теологов, по большинство образованных европейцев разделяло
убеждение Александра Попа — «предметом, достойным того,
чтобы его изучало человечество, является человек». Итак, наибо-
лее яркое впечатление, оставленное отчетами экспедиции, было
произведено не ее преднамеренными астрономическими результа-
тами, но скорее некоторыми любопытными антропологическими
побочными продуктами. Обычаи таитян оказались гораздо более
интригующими, чем расстояния между планетами. Жизнь на
Таити, хотя и довольно спокойная, была удивительно свободной
и легкой: обитатели острова жили счастливо, хотя они не
придавали никакого значения многим запретам и заповедям, счи-
тавшимся в Европе существенными элементами божественного
порядка. Европейцы XVIII века читали отчеты экспедиции со сме-
шанным чувством удивления и зависти. Привлекательность таи-
тянских женщин вошла в поговорки, а название мыса Вейеры выз-
вало совершенно непредвиденные ассоциации. Новый, романти-
ческий идеал благородного дикаря как воплощения человеческой
природы, не изуродованной требованиями общества, условностями
и предрассудками, казалось, воплотился в жизнь на островах
в южной части Тихого океана.
Это сопоставление было лишь одним из показателей конфлик-
та между традиционными допущениями философии и теологии
и фактами исторического и культурного многообразия, который
за последующие 200 лет только обострился. Путешествие Кука
должно было окончательно установить вечную структуру боже-
ственного сотворения; вместо этого его результатом была кон-
центрация внимания на многообразии и явной изменчивости че-
ловеческих нравов, культур и идей. Начиная с этого момента
стало все труднее сообразовать фактические знания людей о тео-
риях и практике их собственных собратьев с общепринятыми
взглядами на беспристрастную точку зрения, в соответствии с ко-
торой нужно производить рациональное суждение и оценку.
Оглядываясь назад, мы можем увидеть, что эти общеприня-
тые взгляды складывались из нескольких самостоятельных требо-
ваний, и непосредственный результат новых открытий в истории
и антропологии заключался в том, что они вбили клин между эти-
ми требованиями. В качестве теоретической проблемы исследова-
ние «беспристрастной рациональной точки зрения» было одним
из исходных пунктов всей традиции западной философии. Если
свидетельства чувств относятся, как настаивал Гераклит, только
к частным моментам и положениям, то для того, чтобы судить о
противоречиях в этих свидетельствах, мы нуждаемся в каких-то
58
более постоянных теоретических принципах. Если к тому же та-
кая же изменчивость и случайность подрубают основы языка,
как вслед за ним делал вывод Кратил, то мы вдобавок нуждаем-
ся в каких-то более постоянных критериях, чтобы гарантировать
общепринятые значения слов. И если только «справедливость» не
была просто наименованием для «воли политически более силь-
ного», как доказывал Фрасимах в «Государстве» Платона, то фи-
лософы должны были показать, как можно решать социальные и
политические разногласия, обращаясь к общим принципам, а не
прибегая к голому насилию.
Действительно, единственным значением истины, согласно
Сократу, было значение «продолжения разговора», причем про-
должения разговора в таких терминах, которые в принципе не
дискриминируют ни одну из партий ни в одном из спорных во-
просов. Следовательно, с самого начала проблема рациональности
была эквивалентна проблеме сохранения человека «открытым
разуму». Это означало установление как беспристрастного фору-
ма, или суда разума, перед которым все люди находились в оди-
наковом интеллектуальном положении, так и беспристрастных
методов и процедур, одинаковое действие которых все они могли
одинаково признать L
Альтернативой было то, что Сократ называл мисологией,
то есть пренебрежением к рациональному спору. Если бы не уда-
лось найти беспристрастного форума и процедур, рациональность
должна была бы в конце концов пойти тем же путем, что и пра-
восудие. Истина уступила бы место самым громогласным верова-
ниям, здравый смысл — наиболее респектабельным идеям, обосно-
ванность — наиболее убедительным интеллектуальным методам.
В теории, как и па практике, разногласия должны были бы раз-
решаться равновесием сил, а не равновесием принципов; поиски
же хорошо обоснованных позиций были бы заменены словесной
перепалкой — вопросом, по острому выражению Ленина, «кто
кого» 1 2. Будучи сформулированной в этих терминах, проблема
идентификации и характеристики беспристрастной точки зрения
для рациональной дискуссии, сравнения и суждения была посто-
янным занятием философии. И препятствия рациональному ре-
шению человеческих разногласий — которые являются и симпто-
мами мисологии, и мерой практических затруднений по ее пре-
одолению — сегодня те же самые, что и во времена Сократа: отказ
прислушаться к доводам вашего оппонента, навязчивая идея си-
лы, а не принципов и желание навязать посредством насилия или
угроз те мнения, которые не смогли оказаться достаточно убеди-
тельными.
1 Что касается идеи «суда разума», то я считаю, что опа родилась
И моих разговорах с Питером Хербстом в Оксфорде в начале 50-х годов.
2 Здесь автор прибегает к искажению марксизма-ленинизма, к под-
мене его гносеологических принципов политическими. См. дополнительно
ЦО этому поводу Вступительную статью. — Ред,
5У
Однако с глубокой древности все философские теории, пред-
лагавшиеся в качестве решения этой проблемы, начали разви-
ваться в единственном направлении. Потребность в беспристраст-
ном форуме и процедурах была понята как требование только
одной неизменной и единственно авторитетной системы идей и
убеждений. Первый образец такой универсальной и авторитетной
системы был найден в новых абстрактных сетях логики и геомет-
рии. На этом пути «объективность» в смысле беспристрастности
была приравнена к «объективности» вечных истин; рациональ-
ные достоинства интеллектуальной позиции идентифицировались
с ее логической последовательностью, а для философа мерой че-
ловеческой рациональности стала способность признавать без
дальнейших аргументов законность аксиом, формальных выводов
и логической необходимости, от которых зависели требования ав-
торитетных систем. Однако это специфическое направление раз-
вития, которое приравнивало рациональность к логичности, ни-
когда не было обязательным. Напротив (как мы вскоре увидим),
принятие этого уравнения сделало неизбежным конечный кон-
фликт с историей и антропологией.
Однако временно это уравнивание удерживало свои позиции;
и до тех пор, пока дела обстояли таким образом, оно ограничива-
ло возможности, принимавшиеся во внимание в философском
споре. Считалось, что беспристрастный форум разума требует не-
изменной системы аксиом, или принципов; спорным был только
вопрос, как следует объяснить источник этих универсальных
принципов. Платон и Аквинат, Декарт и Кант — каждый из них
искал свой конечный источник, или основание, в различных на-
правлениях. Для Платона рациональность в конечном итоге ас-
социировалась с некоторыми «идеями», внешними по отношению
к человеческому разуму, обоснованность которых не зависела от
наших индивидуальных мнений, но которые мы, так сказать,
могли сделать «видимыми» для «очей» разума. Философ помогал
людям пользоваться их интеллектом таким образом, чтобы «веч-
ные истины», касающиеся этих идей, сделались для них интуи-
тивно очевидными. В средние века объективное основание рацио-
нального познания скорее заключалось в божественном разуме.
Проникновение людей в постоянные принципы рациональности
полагалось на милосердие бога, а не на мастерство людей. Де-
карт объединил эти две позиции: конечное основание для дове-
рия неизменным принципам рациональности для него заключа-
лось в гармонии (или соответствии), установленной богом между
теми идеями, которые человеческий разум счел совершенно
«ясными и четкими» (например, основными понятиями евклидо-
вой геометрии), и теми структурами внешнего мира, которым
они предположительно соответствовали. Для Канта этот компро-
мисс был недостаточно хорош. Как мы могли бы когда-либо с не-
избежностью установить подобный изоморфизм между нашими
«ясными и четкими» идеями и какой-либо «внешней реаль-
60
ностыо»? В крайнем случае реально все мы могли бы с уверен-
ностью претендовать лишь на познание самих идей. Наше до-
верие к их рациональным требованиям должно быть внутренним,
заключенным в рациональной организации самого мышления, и
именно благодаря принципам рациональности мы сами придаем
структуру нашему опыту... Итак, спор продолжался.
И все же, несмотря на разногласия в деталях, все эти философы
работали в рамках одних и тех же налагавшихся ими на самих
себя общих ограничений. Каков бы ни был конечный источник
рациональности, все те, кто работал в этой области, допускали,
что его принципы были — и должны были быть — исторически
инвариантными. Для Канта эта инвариантность была особенно
важна. В его время философы начинали осознавать растущий
вызов со стороны исторических и антропологических откры-
тий, и Кант позаботился о том, чтобы оградить себя от неверного
истолкования. Принципы человеческого понимания (настаивал
он) как раз и не могли быть эмпирическими обобщениями дей-
ствительного склада мышления человеческих существ в прошлом
и настоящем; они не были вопросом одной только «чистой антро-
пологии». Универсальность в действительном смысле не могла бы
придать рациональным принципам человеческого познания ин-
теллектуальный авторитет*, на этой основе они никогда не смогли
бы стать, по выражению Канта, «аподиктическими». Скорее эф-
фективная критика разума и суждения должна была обнаружить
источник своих принципов a priori в такой форме, которая могла
налагаться на всех, кто рационально мыслит, независимо от их
культурных и исторических различий. Следовательно, несмотря
на свою коперникианскую революцию в философии, Кант кончил
тем, что вновь сделал ударение на культурно-исторической инва-
риантности всех имеющих силу рациональных процедур; и он до-
шел до того, что потребовал для всей ньютоновской механики
(включая даже закон, согласно которому сила тяготения обратно
пропорциональна квадрату расстояния) такого же уникального
рационального статуса, который первоначально принадлежал толь-
ко логике и геометрии h Итак, по Канту и по Платону, о
рациональности человеческих мыслей все еще нужно было су-
дить благодаря универсальным, априорным принципам; для Кан-
та, как и для Платона, только одна натуральная философия имела
смысл и по форме и по содержанию; и для Канта, как и для
Платона, высшее интеллектуальное достоинство этой натураль-
ной философии заключалось в ее систематичности и последова-
тельности. Именно эта приверженность единой универсальной
системе рациональных по своему существу принципов довела до
критической точки противоречия с открытиями истории и антро-
пологии.
1 К а н т II. Пролегомены ко всякой будущей метафизике. Особенно
§ 38. — В: Кант И. Соч. в шести томах. Т. 4, ч. I, М., 1965, с. 140—142.
61
Уже издревле, одпако, эта доминирующая традиция в филосо-
фии превратилась в средство достижения интеллектуального ав-
торитаризма, а не подлинной беспристрастности. Здесь, как и
везде, вера в «универсально действующие» и «интуитивно само-
очевидные» принципы поддерживала известное самодовольство и
ограниченность. Когда эллины противопоставляли себя варварам
или когда европейцы ХА(111 века гордились своим превосходством
над древними бриттами и другими «первобытными» народами,
они вряд ли могли избежать предположения, что конечные, един-
ственно законные истины, оказывается, поддерживают их соб-
ственные основные концепции и методы мышления. Следователь-
но, первоначальное влияние исторических и географических от-
крытий было до некоторой степени приглушено.
Кроме того, па определенном уровне абсолютное разнообра-
зие человеческих вкусов, привычек и социальных структур было
знакомо европейским мыслителям еще задолго до 70-х годов
XVIII века; и чтобы осознать все его значение, потребовалось не-
которое время. Монтескьё в своем трактате «О духе законов»
противопоставлял народы и культуры, существующие в различ-
ных географических средах, с различным климатом и почвами,
ресурсами и традициями, и использовал эти различные среды,
чтобы объяснить, почему исследуемые общества соответственно
завершались как различными системами законов, институтов,
экономическими структурами, так и различными национальными
темпераментами и художественными вкусами Ч Однако для
Монтескьё эти различия имели все же меньшее значение, чем
полная несовместимость. Они все еще представляли множество
выражений одних и тех же постоянных социальных законов и
принципов, основывающихся на одной и той же неизменной
«природе вещей», или же, альтернативно, они представляли мно-
жество структурных вариаций на одну и ту же тему, отражаю-
щих различные состояния равновесия между соответствующими
условиями социальной жизни. И даже такой либеральный и не-
ортодоксальный писатель, как Вольтер, мог обращаться с разно-
образием человеческих обычаев как с чем-то внешним, за кото-
рым основополагающие требования разума и природы остаются
такими же постоянными и неотвратимыми, как всегда: «Есть
только одна мораль, как и одна геометрия» Л
Монтескьё и Вольтер, однако, мало знали о культуре и обще-
стве за пределами традиций Ближнего Востока и Европы. Китай
1 Что касается Монтескьё (см.: О духе законов. — В: Монтескьё Ш.
Избр. произв. М., Госполитиздат, 1955, с. 159—235), то данный им анализ
заложил традицию статических, структурных идей, которые сохранили
свое влияние во Франции вплоть до настоящего времени, о чем свидетель-
ствует, например, «Структурная антропология» (Париж, 1958) Клода Леви-
Стросса (L£vi-Strauss С. Structural Antropology. Engl, transl. by C. Jacob-
son and В. I. Scheop. N. Y., 1963). См. также: Discovery, Ch. 5.
2 Voltaire. Dictonnaire Philosophique, 1767, s. v. «Morale», ed. J. Ben-
da, Vol. II. Paris, 1943, p. 160—162.
62
и Индия едва выделились из царства мифов; племеппые обще-
ства Центральной Африки и Северной Америки еще можно было
игнорировать как варварские и первобытные, тогда как свиде-
тельства .испанских конкистадоров о погибших цивилизациях ин-
ков и ацтеков были и отрывочными, и подозрительными. Име-
лись адекватные свидетельства о классических римлянах, греках
и персах, о различных европейских народностях и в меньшей
степени о евреях и мусульманах; все культуры этих народов
были сравнительно однородны, одинаково основываясь либо на
культуре Средиземноморья, либо па культурных традициях Биб-
лии. Следовательно, вплоть до самого начала XIX вока внешнее
разнообразие законов, обычаев и практики, обнаруженное в изве-
стных человеческих обществах, все еще можно было интерпрети-
ровать как различные проявления единой статичной человеч-
ской природы, повсюду действующей согласно одним и тем же
постоянным квазигеометрическим принципам.
Потребовались кругосветные путешествия таких людей, как
Кук и Бугенвиль, и доклады европейских путешественников по
Южной и Восточной Азии, чтобы открыть последние, самые от-
даленные части земного шара, обнаружившие, таким образом,
весь спектр человеческого многообразия. Стимул, который зооло-
гические и ботанические открытия дали теориям таксономии и
происхождения органических видов, последующие антропологи-
ческие наблюдения дали также теориям морали и происхождения
общества. В решающих аргументах Дарвина в пользу органиче-
ской изменчивости доказательства нынешнего географического
распространения видов должны были соответствовать геологиче-
ским и палеонтологическим доказательствам относительно про-
шлого. Точно так же, где-то в начале XIX века этнографические
и антропологические открытия вместе с более глубоким понима-
нием исторического прошлого соединились в сильный аргумент
в пользу культурной изменчивости, а последовавшие в XIX сто-
летии события только усилили этот аргумент.
Начиная с того момента, когда люди осознали всю сферу и
разнообразие обычаев и моральных идей, принятых в различных
культурах и эпохах, они больше не могли вполне правдоподобно
рассматривать их всего лишь как альтернативные следствия веч-
ных и универсальных причцн, альтернативные выражения стати-
ческих социальных законов или альтернативные решения вечных
социальных уравнений. Скорее, возникло искушение воспарить в
противоположном, релятивистском направлении и прийти к выво-
ду, что моральные идеи и практика, подобно сводам законов и
административным процедурам,— это вопрос локального выбора;
так что о моральных принципах тоже можно сказать: cujus regio,
ejus lex — каково царство, таков и закон. Первоначально, одна-
ко, призывы релятивизма ограничивались вопросами практиче-
ского поведения, например, вопросами нравственности. Казалось,
в общественном строе Таити свободная любовь и детоубийство
63
так же общеприняты и респектабельны, как моногамия и роди-
тельская любовь в Европе XVIII века; и эти очевидные различия
вызывали сомнение, не являются ли все подобные установления
совершенно произвольными Ч Но в то время как обычаи и нра-
вы островптяп Тихого океана могли бросать вызов этническим
предположениям европейцев, казалось, вначале не было еще со-
ответствующих причин считать, например, систему счисления, ко-
смологию и анимистические верования австралийских аборигенов
подлинными альтернативами европейских математики, астрономии
и физики. Поэтому в течение приблизительно 100—150 лет люди
избегали распространять аргументы в пользу этического реляти-
визма на математические и научные дисциплины или понятия.
Интеллектуальные претензии евклидовой геометрии и ньютонов-
ской физики, которые Кант пытался обосновать трансценденталь-
ными аргументами a priori, все еще ставили их в умах людей за
пределы всего остального европейского мышления и протонауч-
ных идей других культур.
Правда, несколько философов-идеалистов принимали истори-
ческие изменения и разнообразие достаточно серьезно, чтобы до-
казывать, что все основные категории человеческого мышления
и теорий — математических и физических, так же как и этиче-
ских и телеологических,— были современными результатами
исторической последовательности, а не «универсальными и апо-
диктическими» чертами «чистого разума». Однако большинство
людей XIX столетия не находило этот аргумент бесспорным.
Только в XX веке, особенно после 1905 года, стало наконец оче-
видным, что интеллектуальные суждения и понятия подвержены
культурно-историческому разнообразию, или относительности,
уподобляясь в этом отношении юридической практике, мораль-
ным убеждениям и общественным институтам. Как мы теперь
понимаем, операции с числами, наименования цветов1 2, космого-
ния и производство в различных обществах основываются на
принципах, которые различаются так же радикально, как и те,
что лежат в основе различных моральных позиций и социальных
организаций. Между тем в самой цитадели физической науки
классическая система Евклид — Ньютон больше не претендует
на уникальный интеллектуальный авторитет, который опа сохра-
няла почти па всем протяжении XIX столетия. Таким образом,
главное препятствие для распространения релятивистских аргу-
ментов от практического поведения до интеллектуальных поня-
1 См.: Первое кругосветное плавание Д. Кука. Плавание на «Индевре»
в 1768—1771 гг., М., I960. Как должна была позже показать работа Морен-
хаута, действительное положение дел на Таити было сложнее, чем пред'
полагали первые доклады: оказалось, что скандальное, но вызывающее лю-
бопытство поведение, которое щекотало воображение европейцев XVIII века,
характерно главным образом для единственной узкой подгруппы таитян,
выполняющей полужреческие функции.
2 В данном случае речь идет о цвете как о физическом свойстве. —
Ред.
64
тий было устранено. Ныне вызов культурно-исторического раз-
нообразия так же решительно брошен нам в интеллектуальной
жизни, как и в жизни практической.
В результате мы находимся ныне в новой и усложненной си-
туации. Если XVIII век в конце концов надеялся на разум или
природу, а XIX обретал свою интеллектуальную уверенность в
провиденциальной деятельности истории, то XX столетие обеспо-
коено нерешенной проблемой относительности. В течение послед-
них семидесяти лет люди наконец стали сознавать, что относи-
тельность человеческих суждений действует не только в морали,
религии и личных отношениях, но также и во всех остальных
типах понятий, включая даже наши самые фундаментальные на-
учные идеи. И эта относительность имеет силу не только для
культур, разделенных расстояниями (Рим и Флоренция, Китай
и Япония, Северная Америка и Южная Азия), но и для различ-
ных сообществ и индивидов в пределах одного города. Она отде-
ляет не только людей и эпохи, разделенные во времени (XIX сто-
летие от XVIII, современное общество от средневекового, XX век
н. э. от VIII века до п. э.), но и людей в последовательности де-
сятилетий и поколений. Какими понятиями человек пользуется,
какие стандарты рационального суждения он признает, как он
организует свою жизнь и интерпретирует свой опыт — все это, ока-
зывается, зависит не от свойств универсальной «человеческой
природы», не от одной только интуитивной самоочевидности ос-
новных человеческих идей, но и от того, когда человеку пришлось
родиться и где ему довелось жить.
Это открытие ставит нас в затруднительное положение. Если
все человеческие понятия, интерпретации и рациональные стан-
дарты — в морали или в практической жизни, в естествознания
или даже в математике — исторически и культурно изменчивы,
так что наш привычный образ мыслей в той же мере служит от-
ражением нашего особого времени и места, что и наши привыч-
ные способы социального поведения, то в каждом случае возни-
кают одни и те же фундаментальные проблемы. Какие твердые
притязания на нашу интеллектуальную лояльность может предъ-
явить любое понятие и образ мыслей? Если каждая культура име-
ет свои собственные фундаментальные идеи и все ее суждения
следует интерпретировать в свете этих специфических концепций,
то не будет ли в значительной мере анахронизмом или непони-
манием судить об интеллектуальных убеждениях и понятиях или
об одной культуре либо эпохе полностью с точки зрения другой
так же, как в случае их моральных и социальных позиций? Как
в этом случае мы должны решать, какие понятия пользуются у
нас подлинным авторитетом или имеют серьезные права на наше
внимание? Действительно, какое значение в этой новой ситуации
может иметь для нас идея «рационального авторитета» за
3 Зак. 21
65
пределами моральных и проходящих притязаний какого-либо одно-
го сообщества и эпохи? Неудивительно, чю пат вок стал свидете-
лем роста здравого политического скептицизма относительно аб-
солютных претензий па^^нацпоналытый суверенитет и идеоло-
гию однако в то же время сама быстрота научного развития
побуждает многих из тех, кто не является учеными, умалять и
недооценивать даже тот квалифицированный интеллектуальный
авторитет, на который эти иден соответственно имеют право (ко-
нечно, лишь в том смысле, в каком мы теперь размышляем о
мире?). Таким образом, древняя сократовская проблема — оты-
скать «беспристрастную точку зрения» для рационального суж-
дения — сегодня возникает в новой, труднее поддающейся трак-
товке форме.
Мы воспитываемся па определенных представлениях об об-
ществе и .морали, геометрии и алгебре, материи и вселенной; мы
учимся рассматривать некоторые методы исследования и типы
аргументов в качестве рациональных или научных, а другие —
в качестве предрассудков или бессмысленности, и это только для
того, чтобы обнаружить, что в других местах и в другие времена
совершенно иные идеи, методы и аргументы обладали равной
убедительностью и авторитетом. Тогда какие же претензии, кроме
претензий обычая, могут быть предъявлены от имени, скажем,
геометрических идей Евклида, Римана или Минковского по
сравнению с пространственными концепциями австралийских
аборигенов или древних китайцев? На каких рациональных осно-
ваниях можем мы отдать предпочтение политическим теориям
Локка или Маркузе, а не ацтеков или Бисмарка, или де Местра?
И какое место отводится технологии, эстетике и социальному
мышлению для рациональных суждений о наших вкусах, выборе
и образе жизни? В каждой сфере признание концептуального
многообразия придает проблемам рациональности и авторитета
ошеломляющую остроту.
В одном отношении, однако, в XX столетии складывается со-
вершенно новая ситуация. К этому времени факты истории и
антропологии наконец вбили клин между сократовской пробле-
мой и ее платоновским решением. Рациональная потребность в
беспристрастной точке зрения остается настоятельной и закон-
ной. Выбор все еще остается выбором между применением пре-
восходящей силы и уважением к нелицеприятной дискуссии,
между авторитарным навязыванием мнений и внутренним авто-
ритетом хорошо обоснованных аргументов. Но мы больше не
можем позволить себе допустить, чтобы наши рациональные
процедуры, хотя бы и беспристрастные, находили свои гарантии
в неизменных принципах, обязательных для всех, кто рациональ^
1 Нельзя не отметить в данном случае явную неправомерность по-
пытки Ст. Тулмина распространить свою релятивистскую концепцию на
вопросы национального суверенитета и на идеологические позиции того
пли иного класса. — Ред.
но мыслит, а тем более в какой-либо единственно достоверной си-
стеме естественной и моральной философии.
Вера в то, что человеческое познание должно управляться
неизменными принципами, может сохранять некоторую привле-
кательность как философская мечта; но, когда дело доходит до
понимания п оценки действительной основы наших требований к
познанию, эта вера больше нс оказывает нам никакой помощи.
По словам Кьеркегора (1841), «понятия, как и индивиды, имеют
свою историю и точно так же неспособны противостоять разру-
шительному действию времени, как и индивиды» Ч Наше при-
знание интеллектуального разнообразия делает для нас не-
возможным игнорировать в дальнейшем современную версию
сократовской проблемы. Сформулируем проблему в единственном
предложении:
Если гарантии, которые прежде обеспечивались благодаря
допущению о неизменных принципах человеческого понима-
ния, потеряли силу, то как еще беспристрастный форум
рациональности с его беспристрастными процедурами для
сравнения альтернативных систем понятий и методов мышле-
ния может найти философское основание, которое является
общепринятым в свете наших остальных идей XX столетия?
1.2. Фреге, Коллингвуд и культ систематичности
Следовательно, со времен древних греков и вплоть до XVIII ве-
ка каждая философская реставрация была вызвана сходными за-
труднениями, и эти затруднения в каждом случае были поводом
для сходной критики. В этом отношении проблема XX века —
согласование требования рациональной беспристрастности с мно-
гообразием действительных человеческих способов мышления —
представляет собой обострившуюся версию дилеммы, уже знако-
мой Сократу и Монтеню. Все же каждый раз, как философия
завершала этот интеллектуальный ronde, вопросы, составлявшие
предмет спора, становились понемногу все более конкретными и
точными; здесь особенно интересно рассмотреть реакцию фило-
софов XX столетия на эту специфическую дилемму.
Признание концептуального и интеллектуального разнообра-
зия действительно оказало сильное поляризующее воздействие на
позиции XX века. Большинство философов реагировало так, как
будто бы перед нами открылись только две прямо противопо-
ложные возможности. И мы можем многому научиться, как зада-
вая вопрос, почему эти частные альтернативы нередко ка-
жутся единственно возможными, так и исследуя каждую из
1 Kierkegaard S. The Concept of Irony, 1841, Engl, transl. L., N. Y.,
1966, Introduction, § 2. Эта книга была фактически докторской диссертацией
Кьеркегора.
3*
67
позиций в отдельности. Как это часто случается с противопо-
ложными крайностями, мы обнаружим, что при всей своей внеш-
ней несовместимости обе позиции объединяются одной общей пред-
посылкой. Обо они все еще'принимают знакомое допущение, со-
гласно которому рациональность должна быть приравнена к ло-
гичности и различные понятия и убеждения можно сравнить
«рационально» только постольку, поскольку все они могут быть
соотнесены с единой «логической системой».
Две доминирующие реакции должны, во-первых, отрицать ис-
торию, а во-вторых, склоняться перед ней. С одной стороны, есть
такие философы, которые признают факты концептуального и
исторического разнообразия просто как факты, по не допускают
их связи с центральными вопросами философии. Напротив, воз-
ражают они, чем больше разнообразие реально существующих
человеческих понятий и убеждений, тем важнее определить «объ-
ективную» точку зрения в терминах «абсолютных» стандартов ра-
ционального суждения; предпочтительно, чтобы эти стандарты
были сформулированы в абстрактных общих терминах даже ценой
потери соприкосновения с действительной сложностью историче-
ских изменений. С другой стороны, имеются и такие философы,
на которых реально существующее многообразие человеческих
идей произвело столь глубокое впечатление, что они впадают
в другую крайность, отвергая всякое требование универсаль-
ной, объективной точки зрения как более непригодной и скаты-
ваясь к локальным, временным или «релятивным» стандартам.
Первая, абсолютистская реакция повторяет в терминах XX века
то же самое движение к абстрактному формализму, имевшее в
качестве своей модели математику, благодаря которому Платон
обошел сократовскую проблему, а Декарт избежал скептицизма
Монтеня. Абсолютист обращается с реально существующим раз-
нообразием человеческих понятий и убеждений как с чем-то
внешним, за которым философ должен отыскать твердые и посто-
янные принципы рациональности, отражающие чистые, идеали-
зированные формы понятий. Напротив, релятивист воспринимает
культурно-историческое разнообразие понятий слишком серьезно.
Вместо того чтобы игнорировать разнообразие концептуальных
систем, он полностью ему поддается, отвергает любую попытку
беспристрастно судить о различных культурах или эпохах и об-
ращается с понятием рациональности, как будто оно имеет всего
лишь локальное, временное применение.
Рассмотрим позицию, занятую каким-либо признанным пред-
ставителем каждого подхода, и используем аргументы обоих, что-
бы продемонстрировать общие черты и общие допущения проти-
воборствующих позиций. Нашим представителем абсолютизма
будет Готлоб Фреге, работы которого сделали максимум возмож-
ного, чтобы оживить «математизированный» подход платонист-
ской традиции в самом начале XX века, причем в них этот под-
ход совершенно явно использовался как средство защиты фило-
68
софии от подчинения фактам истории и психологии. Нашим ре-
лятивистом будет Р. Дж. Коллингвуд, философ, обладающий та-
лантом и энтузиазмом, который писал также первоклассные про-
фессиональные исторические работы, но который позволил себе
впасть в искушение релятивизма — цена, которая должна была
быть заплачена, чтобы спасти философию от несоответствия ис-
тории, к чему ее приводил каждый успех Фреге.
К счастью, ни Фреге, ни Коллингвуд не восприняли бы себя
как философских союзников, и внешне их основные тезисы прямо
противоречили друг другу. Однако даже противоречивые утверж-
дения имели между собой нечто общее: они оба считали закон-
ным вопрос, на который они давали или подразумевали несовме-
стимые ответы. Следовательно, рассматривая аргументы Фреге и
Коллингвуда, мы должны особенно позаботиться об идентифика-
ции общего для них обоих вопроса, который они решали с про-
тивоположных позиций. Если мы сможем выяснить этот вопрос
и те допущения, на которых он основывается, то мы сможем оты-
скать средний путь, который отсекает эти допущения и избегает
тех стеснительных последствий, к которым нас приводят и абсо-
лютизм, и релятивизм.
Начнем с абсолютистского аргумента: предположим, что Де-
карт рассказывал о космологии австралийским аборигенам или о
геометрии — древним китайцам. Какое влияние это оказало бы
на его собственную философскую позицию? Ответ таков: ника-
кого. В глазах Декарта история имела не большее интеллектуаль-
ное значение, чем заграничное путешествие,— она расширяла
сферу человеческого опыта, но не укрепляла разум. Абсолют-
ное разнообразие правильных и неправильных человеческих
представлений не делало их сколько-нибудь интереснее в фило-
софском отношении. Хотя разнообразие человеческих заблужде-
ний было беспредельным, истина была единой и неделимой, и за-
дача философа состояла в том, чтобы за всеми этими вариациями
увидеть ту внутреннюю суть рациональности, которая объединя-
ет всех людей. «Способность правильно рассуждать и отличать
истину от заблуждеция — что, собственно говоря, и составляет,
как принято выражаться, здравомыслие или разум — от природы
одинакова у всех людей» *. Только лишь применение этой уни-
версальной, данной богом способности придает интеллектуальный
авторитет ее продуктам, и, собственно, мы можем говорить о ра-
циональности только там, где этот универсальный разум был при-
веден в действие. В результате стандарты рационального сужде-
ния должны формироваться в вечных, неисторических терминах и
быть равно уместными в любом историческом и культурном кон-
тексте.
1 Декарт Р. Рассуждение о методе. М., 1953, ч. I, Предложение 2
(с. 10).
69
В конце XIX столетия платонистские черты в философии Де-
карта были возрождены Готлобом Фреге, который в своих «Ос-
новных законах арифметики» провозгласил оригинальную про-
грамму «концептуального анализа». В течение XIX века, дока-
зывал в 1892 году Фреге, спор о понятиях стал нестерпимо запу-
танным, потому что философам не удалось выяснить, должен ли
их интерес к понятиям распространяться на необходимые логиче-
ские отношения или просто на эмпирические соображения. В ре-
зультате философы стали употреблять слово «понятия» в несколь-
ких несовместимых смыслах: «иногда его смысл психологический,
иногда логический, иногда смешанный»
Сам Фреге особенно возмущался тенденцией смешивать фор-
мальные и обязательные «законы мысли», которые были специфи-
ческим делом логики, с эмпирическими и описательными «закона-
ми мышления», которые были делом когнитивной психологии; и
огонь его критики был направлен против любого объяснения
логики и математики, которое могло бы сделать эти выдающиеся
рациональные дисциплины зависимыми от эмпирических законов,
управляющих реально существующими «интеллектуальными про-
цессами». Его оппозиция подмене философии психологией, рас-
пространялась также на историю. Отделив философский (или ло-
гический) анализ понятий от психологического (или эмпириче-
ского) изучения процесса мышления он так же резко перешел к
отделению философии от истории идей.
«Исторический подход, имеющий своей целью проследить, как
что-либо возникает, и переходящий от происхождения к знанию
прцроды вещей, конечно, является вполне законным; но он также
имеет свои пределы. Если бы все находилось в состоянии посто-
янного изменения и ничто не сохранялось бы постоянным во вре-
мени, то не было бы никакой возможности получать знания о ми-
ре и все смешалось бы» 1 2.
Фреге трудно было бы сделать свой, по существу, платонизм
(его убеждение, что все истинное знание должно основываться в
конце концов на неизменных, внеисторических свойствах, отно-
шениях или принципах) более явным, чем он делает это по-
следними словами.
В качестве философов, продолжает Фреге, мы должны игно-
рировать все чисто эмпирические открытия, относящиеся и к раз-
витию понимания в уме индивида, и к исторической эволюции на-
шего коллективного понимания.
«По-видимому, мы полагаем, что понятия растут в уме
индивида, как листья на дереве, и мы рассчитываем открыть их
1 Frege G. On Concept and Object. Engl, transl. — In: Translations from
the Philisophical Writings of Gottlob Frege, ed. P. Geach and M. Blaik.
Oxford. 1966, p. 42.
2 Frege G. The Foundations of Arithmetic. Breslau, 1884, tr. J. L. Austin.
Oxford, 1950, p. vii. (Курсив в этой и двух последующих цитатах мой.
Ст. Г.)
70
природу, изучая их рост; мы пытаемся определить их психологи-
чески, в терминах четовсческого интеллекта. Но это объяснение
все делает субъективным, и если мы будем следовать ему до кон-
ца, то порвем с истиной. То, что известно как история понятий,
на самом деле есть либо история нашего познания понятий, либо
история значений слов» 1.
Философы должны интересоваться «понятиями» только как
вечными интеллектуальными идеалами, к которым ум человече-
ский пробивается в лучшем случае болезненно и постепенно. «Ча-
сто только после неимоверных интеллектуальных усилий, кото-
рые, возможно, длились столетиями, человечеству наконец удает-
ся достичь знания понятия в его чистой форме, снимая все
посторонние наслоения, которые скрывают его от очей разума» 1 2.
Для платоника, подобного Фреге, как ранее для Декарта, реально
существующие «концепции», распространенные в каком-либо су-
ществующем сообществе, имеют философское значение только в
качестве приближения к вечной системе идеальных «понятий».
Философские проблемы рациональности, интеллектуальной зави-
симости и авторитета возникают только в терминах этой идеаль-
ной системы понятий, а всякая реально существующая историче-
ская система концепций имеет на нас законные интеллектуаль-
ные притязания только в той мере, в какой она приближается к
этому идеалу.
Так как Фреге первоначально занимался философией чистой
математики, его подход отнюдь не был неразумным и вскоре при-
вел к некоторым значительным математическим результатам. Он
поставил перед собой задачу определения фундаментального поня-
тия арифметики, то есть числа, в таких терминах, которым удалось
бы «снять» все «посторонние наслоения, которые скрывают его от
очей разума», и таким образом выявить его «в чистой форме».
Для его целей не нужно было задаваться вопросом, как шло ис-
торическое развитие действительно применявшихся людьми кон-
цепций числа или какие различия были обнаружены антрополо-
гами в методах счета и обозначения, применявшихся в различ-
ных цивилизациях; подобные фактические исследования просто
отмечали изменение значений символов числа в наших историче-
ских поисках полностью адекватной, или «чистой», концепции
числа. Напротив, рационально обоснованная арифметика должна
заниматься идеальной и конечной системой числовых понятий, и
это обеспечит уникальный интеллектуальный стандарт, или шаб-
лон, для суждения обо всех более древних и незрелых произведени-
ях протоарифметики, созданных людьми. Таким образом, анализ
понятий числа следует предпринимать только с использова-
нием инструментов логики. Это требует построения и интерпрета-
ции строгой сети формальных определений и отношений, чтобы
1 Ibid.
2 Ibid.
71
дополнить аксиоматическую систему, ужо разработанную италь-
янским математиком Пеано.
«Основные законы арифметики» Фреге послужили тем фило-
софским примером, которому вскоре последовали другие. Про-
грамма, которую он впервые провозгласил в 90-с годы XIX века,
стала моделью для работ Бертрана Рассела по философии логики
и для полувековых исследований по философии науки, особенно
в Вене и США. Нам не нужно рассматривать здесь, как именно
последователи Фреге детально разработали его философский за-
мысел; достаточно продемонстрировать, как они постоянно связы-
вали себя его новыми абсолютистскими принципами. Что каса-
ется Рассела, это не трудно сделать. Начиная с его ранней статьи
«Об обозначении», далее в «Principia Mathematica» и вплоть до его
классических лекций «Философия логического атомизма», Рассел
понимал свою философскую задачу в терминах, полностью укла-
дывавшихся в точку зрения, первоначально изложенную
Фреге Он определял эту задачу, обращаясь к цент-
ральному различию между «грамматическими формами» предло-
жений, употребляемых в различных «естественных» или истори-
чески существующих языках — которые могли, но гораздо чаще
не могли, выявить общее значение, для выражения чего эти раз-
личные предложения и были предназначены,— и «логической
формой» лежащих в ,их основе утверждений, которые и выступа-
ли подлинными носителями этого значения. Задача философии
заключалась в том, чтобы очистить наше мышление от всей той
неразберихи, которую в нем произвели характерные черты грам-
матических форм и привычка, наложенные на мышление, и ос-
ветить лежащие в основе утверждения, чьи логические формы и
отношения одни только и имеют недвусмысленное значение.
Следовательно, в своих ранних сочинениях Рассел объяснял,
что «посторонние наслоения» Фреге производятся вводящими в
заблуждение аспектами обыденного языка и повседневного его
употребления. Это объяснение добавляло одну подробность к по-
зиции Фреге, не изменяя ее по существу. Для раннего Рассела,
как и для Фреге, понятия и утверждения оставались идеальными,
вечными сущностями, которые были захвачены (в лучшем случае
не полностью) аморфными словами и предложениями, употреб-
ляемыми в тот или иной исторический момент. Истинный харак-
тер этих вечных сущностей можно было раскрыть только в логи-
ческих терминах как системе необходимых отношений; это озна-
чало, что философы должны развивать логический символизм и
исчисление, чтобы посредством этого распространить данную Фре-
ге и Пеано трактовку арифметических понятий сначала на мате-
1 Russel В. On Denoting. — «Mind», 1903, 14, 479—493. The Philosophy
of Logical Atomism. — «Monist», 1918, 28, 495—527, and 1919, 29, 32—63,
190—222. 345—380. Russel B. and Whitehead A.-N. Principia Mathema-
tica, Cambridge. Engl., 1910, 1912, 1913.
72
матику в целом, а затем на остальные понятия естественных наук
и практической жизни. Таким образом можно было наконец отде-
лить философский анализ соответствующих понятий, который
стремился создать формальную систему необходимых отношений,
и от исторического исследования изменений наших коллективных
концепций и значений слов, и от психологического исследования
интеллектуального развития индивида. Только таким образом мы
могли быть уверены, что избежим двойной ереси — и «психоло-
гизма», и «генетического заблуждения».
Конечно, в своем полном объеме задача реализации интеллек-
туальной программы Фреге оказалась слишком сложной, чтобы
ее могли выполнить он сам и Рассел. Все же их работа обеспе-
чила первое необходимое основание, и формальные исчисления
«Begriffsschift» Фреге и «Principia Mathematica» Рассела и
Уайтхеда вскоре приобрели в философии математики такой же
абсолютный авторитет, каким евклидова геометрия обладала для
Декарта. Пределом их желаний, их философской целью было, да-
лее, интегрировать все позитивное научное знание: в 20—30-е го-
ды XX столетия об этой цели упоминалось как об единой нау-
ке. Там, где Клейн внес чистую геометрию в арифметику, где
Пеано и Рассел обосновывали чистую математику чистой логи-
кой, где Гамильтон и Герц преобразовали физическую динамику
в рациональную механику,— там сторонники движения за еди-
ную науку планировали превратить все естествознание в единую
логическую систему. Добавив, кроме того, к символической логи-
ке Рассела основные термины, постулаты и правила соответствия,
они надеялись включить все подлинные отрасли науки в полу-
чающееся в результате аксиоматическое сооружение; а так как
существенные математические части этого сооружения лучше
всего проявлялись в ныне существующем логическом формализ-
ме, особенно в так называемом «функциональном исчислении пре-
дикатов первого порядка», то ту же самую символику следовало
распространить и приспособить, чтобы она служила целому.
В результате символизм математической логики, как ранее идеи
евклидовой геометрии, стал обязательным средством истолкова-
ния последовательной и единой научной теории или картины
мира Ч
Вот сколько сказано о программах и манифестах; однако ко-
гда замысел универсальной квазиматематической системы «чис-
тых» понятий, принадлежащий Фреге, начал проводиться в
жизнь, он столкнулся с затруднениями. Анализируя наши
стандарты рационального суждения в абстрактных терминах, мы
1 См.: Toulmin S. A. From Logical Systems to Conceptual Popula-
tion. — In: «Boston Studies in Philosophy of Science», vol. VIII, ed. R.—S. Cq-
hen and R. Buck, Dordrecht and New York, 1972.
73
избегаем (это верно) непосредственной проблемы исторического
релятивизма; по это удастся пам только ценой се замены про-
блемой исторической релевантности. Чтобы увидеть, как возника-
ют эти трудности, мы должны начать с того, чтобы вывести раз-
личия, которые сами последователи Фреге не всегда имеют в
виду, между следующими вопросами:
(1) подходят ли вообще понятия в любой области исследова-
ния к стилю формального анализа Фреге, и
(2) как этот формальный анализ освещает рациональность
интеллектуальных изменений в соответствующей области.
Разделяя преданность Фреге математизации философии, Рас-
сел и Венский кружок философов, естественно, восприняли также
и традиционную платонистскую веру в особую ценность логиче-
ских отношений и логической систематичности. Демонстрация
формальной возможности анализа любого набора понятий посред-
ством логического символизма казалась им всем необходимым до-
казательством того, что получающаяся в результате система
применима на практике. Они недостаточно учитывали вопрос, как
может самоутверждаться любая абстракция или как она может
гарантировать свою собственную релевантность. В чистой мате-
матике, где вопросы эмпирической релевантности являются по-
бочными, этот подход опять-таки имел какое-то оправдание. Од-
нако как только мы выходим за пределы избранного самим Фре-
ге царства арифметики, мы должны снова задаться вопросом,
насколько этот метод полезен в действительности. Если на минуту
оставить в стороне математику, безопасно ли распространять этот
платонистский подход на понятия, используемые в других обла-
стях? Не подавлено ли в этих других областях интеллектуальной
деятельности историческое и культурное разнообразие кон-
цепций и суждений, стандартов и критериев благодаря универ-
сальным, абстрактным, формализованным идеям? Может ли фи-
лософ и в этих случаях иметь надежду соскоблить «посторонние
наслоения» с историко-антропологического разнообразия локаль-
ных концепций ,и таким образом обнажить в «чистом виде»
идеальные вечные понятия, имеющие одинаковую силу для всех
человеческих существ, независимо от их культурного уровня, про-
фессиональных интересов и занятий? Нет ли стремления распро-
странить метод Фреге за пределы арифметических иллюзий?
Видимо, нечто подобное можно предпринять в фигурах фор-
мальной логики, но на то есть особые причины. Хотя различные
словосочетания облачают свои логические операции в контрасти-
рующие лингвистические одеяния, все языки содержат какие-ли-
бо обороты речи, интонации и другие средства, функции которых
заключаются в том, чтобы отрицать, соединять и т. д. Следова-
тельно, в этом случае разумно за различиями в применении
искать стандартные формы операций, которые каждый раз
74
воплощают в себе одни и те же универсальные «законы дедук-
ции». Так как даже простейшее человеческие языки принимают
во внимание некоторые элементарные логические и арифметиче-
ские операции, можно понять, почему Фреге и его последователи
могли рассматривать человеческие исторические концепции отри-
цания или числа как нащупывание окончательной формулировки
«чистых понятий», и почувствовать, что в этих случаях они могли
с уверенностью игнорировать сложность исторических и антро-
пологических фактов.
За пределами логики и чистой математики эту олимпийскую
позицию не так легко поддерживать, а истории не так легко из-
бежать. Рассмотрим, например, физику и политическую теорию.
Скажем, мы хотим сравнить динамические концепции Буридана,
Аристотеля и Эйнштейна или политические идеи Макиавелли,
Платона и Маркса. Если мы это сделаем, то станет очень сомни-
тельно, имеют ли еще фундаментальные допущения Фреге хоть
какую-нибудь релевантность; ибо как мы теперь сможем противо-
поставлять простые исторические факты локального и временного
«познания понятий» истинно философскому авторитету «понятий
в их чистой форме»? В таких самостоятельных и развиваю-
щихся областях исследования, как динамика и политическая тео-
рия, центральная задача философа заключается уже не в том,
чтобы узнавать, как «после неимоверных интеллектуальных уси-
лий» человечество наконец «соскоблило все посторонние наслое-
ния» с исследуемых «чистых понятий» и таким образом прибли-
зилось к совершенным идеализациям, которые одни только имеют
философский интерес или авторитет. Скорее она состоит в том,
чтобы последовательно осознавать соображения, которые оправ-
дывают замену одной системы теоретических концепций другими
в исторической последовательности {веса и импульса — массой
и моментом, полиса — национальным государством, сословия —
классом), и отыскать беспристрастные процедуры для сравнения
достоинств тех понятий, которые в действительности употребля-
ются в различных контекстах.
Для этих целей, а именно для сравнения достоинств альтерна-
тивных понятий в их исторической последовательности, метод
формальной идеализации действительно не имеет большой цен-
ности даже в самой арифметике. Предположим, мы следуем в та-
ком случае рекомендациям Фреге: сосредоточим свое внимание на
«чистой форме» понятия числа и отвлечемся от всех действитель-
но существующих процедур счета как простого исторического на-
щупывания, неуместного для философии. Это помешает нам
даже поставить вопрос о рациональной адекватности (или неадек-
ватности) последовательных ступеней такого предварительного
«нащупывания». Однако это вполне разумная постановка вопро-
са. Вопрос о том, были ли и в каком отношении усовершенствова-
ны процедуры счета у древних греков по Сравнению с египетскими
или методы исчисления у современных европейцев по сравнению
75
со средневековыми, имеет такое же значение, как и соответ-
ствующие вопросы о физических и политических понятиях.
Сосредоточиваясь исключительно на внутренней структуре
идеализированных логических систем, метод Фреге, кроме того,
отвлекает нас не только от процесса концептуальных изменений,
но также и от вопроса о внешнем применении концептуальных си-
стем, так как он имеет практическое назначение. Даже если пред-
положить, что мы могли бы отыскать, например, элегантный и не-
противоречивый способ представить стандарты интеллектуальных
суждений, применяемые в естественных науках, в виде вечной
идеальной системы, как того надеялись добиться последователи
Фреге (логические эмпирики) в своей «индуктивной логике», то
все же формальная конструкция подобной абстрактной схемы
была бы лишь первым шагом в решении более трудной задачи.
Кроме того, мы должны показать, как конечные внеисторические
стандарты влияют на действительную профессиональную деятель-
ность ученых, работающих во всех тех разнообразных областях
и средах обитания, где претендует на авторитет эта индуктивная
логика. Словом, генерализация абстрактного, платонистского
подхода Фреге не освобождает нас от проблемы культурно-исто-
рической релевантности; мы настаиваем на том, чтобы нам ска-
зали, как подобный формальный анализ применяется к аргумен-
там реальной жизни, выраженным в исторически существующих
понятиях, причем эта проблема все время остается в силе. Дей-
ствительно ли динамические или зоологические аргументы всех
культур и эпох разделяют общую основополагающую квазимате-
матическую формулу, несмотря на все их очевидное многообра-
зие и различие? Кроме того, как эта универсальная абстрактная
форма разъясняет вопрос, скажем, о специфическом переходе от
Буридана и аль-Хорезми к Галилею и Ньютону или о разли-
чиях между динамическими концепциями средневековой Ев-
ропы и классического Китая? Едва ли можно ожидать, что мы
без всякой проверки примем за доказанное универсальную
применимость подхода Фреге; конечно же, она должна быть
продемонстрирована явно, с богатыми историческими иллюстра-
циями.
Столкнувшись с этой проблемой, последователи Фреге посто-
янно отворачивались от нее. Там, где ученые, подобно Галилею
и Ньютону, Герцу и Эйнштейну, признавали, что эмпирическая
сфера и релевантность их абстрактных теоретических систем
должны быть показаны, логические эмпирики принимали при-
менимость своих формальных артефактов за доказанное. На-
пример, система индуктивной логики Рудольфа Карнапа была
изложена не в терминах реально существующих научных приме-
ров, а при помощи формализованного логического символизма,
релевантность которого по отношению к действительным науч-
ным языкам всегда допускалась, но никогда не демонстрирова-
лась. Когда хорошо осведомленные в паучном отношении читате-
76
ли жаловались, что итоговая формальная система слишком общая
и абстрактная, чтобы обнаружить какое-нибудь влияние па пред-
меты, используемые, скажем, в современной теоретической физи-
ке, ответ Карнапа был бескомпромиссным. Если дела обстояли
таким образом, отвечал он, то потому, что квантовая механика
никогда не формулировалась согласно строгим стандартам совре-
менной логики,— ответ, который игнорировал, в чем заключается
реальная суть доказательств 1.
Подобным образом Карл Гемпель разработал формальный
анализ подтверждения научпой теории и говорил, что этот анализ
выражен на «языке пауки». По он дополнительно разъяснял,
что он имел в виду в этом последнем случае: «Функциональное
исчисление предикатов первого порядка при помощи индиви-
дуальных констант... универсальных кванторов для индивидуаль-
ных переменных и соединительных символов отрицания, конъюк-
ции, чередования и импликации»1 2. Снова философская версия
«языка пауки», оказывается, является не способом рассуждения,
когда-либо применявшимся в действительной работе профессио-
нальных ученых, а тем самым символизмом формальной логики
XX века, релевантность которого нужно доказать.
Теперь мы можем выжать из этого пункта все, что возможно.
Абстрактная, вечная система «рациональных стандартов» может
претендовать на универсальный авторитет только в том случае,
если сначала будет показано, на каких основаниях покоится этот
универсальный и неограниченный авторитет; но никакая фор-
мальная схема сама по себе не может доказать своей собствен-
ной применимости. До тех пор пока мы не имеем дело с пробле-
мой авторитета, наша способность конструировать альтернатив-
ные логические системы ограничена только нашей формальной
изобретательностью 3. Получив эти альтернативы, мы должны за-
тем поставить дополнительный вопрос: «Почему мы должны
принять этот формальный анализ, а не тот?» — вопрос, который,
достаточно очевидно, относится не столько к внутренней логично-
сти соперничающих систем, сколько к их способности разъяснять
достоинства субстантивных аргументов. Здесь становится очевид-
ной вся ирония ситуации, сложившейся в XX веке. Философские
последователи Фреге неоднократно делали выбор между соперни-
чающими системами стандартов не на основе их внешней релевант-
ности, а по соображениям столь же формальным и абстрактным,
1 См.: Carnap R. Logical Foundations of Probability. L., 1950, p. 243:
«Структура новой физической теории... так обширна и сложна, что ни один
физик ни на одной стадии ее развития не дал ее полной и точной форму-
лировки согласно строгим стандартам современной логики...»
2 Hempel С. G. Studies in the Logic of Confirmation. — «Mind», 1945,
54; перепечатано в: Aspects of Scientific Explanation. N. Y., 1965, p. 35, 44.
8 См. мой обмен письмами с Эрнстом Нагелем («Scientific American»,
April, 1966), вызванный моим обзором «Аспектов» Гемпеля (см. предыду-
щее прим.) в февральском выпуске 1966 г.
77
как п сами системы, и, кроме того, исходя из их подчинен-
ности «прозрачному символизму», разработанному Фреге и Рас-
селом для целей математической логики. Полностью основывать
чей-то анализ «рациональности» на формальном иди эстетическом
предпочтения, например, символизма функционального исчисле-
ния предикатов первого порядка — в действительности значит
принять украшения интеллектуального авторитета за его сущ-
ность!
Па этой стадии мы можем наконец обнаружить фатальную
слабость Фреге в отношении к истории и психологии. Нужно было
показать, что абстрактный неизменный анализ критериев рацио-
нальности применим пе просто к суждениям в данном семействе
понятий, но и к сравнению различных наборов понятий ,или кон-
цептуальных систем. Там, где наша задача состоит в том, чтобы
судить об альтернативных гипотезах в сфере единой научной тео-
рии, там формальные процедуры логики и теории вероятностей
(сигнификативные тесты, методика диаграмм и т. д.) могут хоро-
шо служить нам; но в тот момент, когда мы должны сравнивать
гипотезы, сформулированные в терминах различных теорий, мы
выходим за пределы этих процедур L Всякая попытка судить о
концептуальных новообразованиях в науке или в своих сравне-
ниях переступать интеллектуальные границы соперничающих
теорий очень скоро выводит нас за пределы чисто формального
анализа.
Весьма немногие современные логики пытались согласовать
свою позицию с этим центральным различием — различием меж-
ду формальными (или «логическими») соображениями, релевант-
ными в данной теоретической системе, и неформальными (или
«диалектическими») соображениями, релевантными в последова-
тельности теорий. Например, Уиллард ван Ормен Куайн обра-
щается с этим различием по-своему, ограничивая «логическое»
формальными отношениями в данных системах понятий и пред-
ложений: в тот момент, когда он начинает рассматривать, напри-
мер, как мы оправдываем замену одного набора терминов или по-
нятий другим, он оставляет математические идиомы символиче-
ской логики ради прагматических идиом целесообразности. На-
пример, какие «сущности» мы примем в своем объяснении мира,
зависит от того, какой формальный язык мы решим применить
для его описания (в этом смысле мы обречены на «онтологический
релятивизм»), но к своему наилучшему выбору мы никогда не
приходим только на «логических» основаниях, то есть путем фор-
мального вывода. Он может быть оправдан только неформально, в
1 См.: То ulmin S. Critical Notice of R. Carnap «Logical Foundations
of Probability». — «Mind», 1953, 62, 86—99.
2 Cm.: Quine W. V. On What there Is. — In: From a Logical Point of
View. Cambridge, Mass., 1953, особенно c. 18—19; Ontological Relativity.
N. Y., 1969, особенно c. 89—90. Что касается более стереотипной формали-
стической реакции, которая находит убежище от угрозы релятивизма
78
утилитарных терминах, на основании экономии, простоты и удоб-
ства 2. Однако, как известно каждому историку идей, этот прагма-
тический подход к концептуальным изменениям в лучшем случае
является уступкой грубому упрощению сложного хода познания.
Прагматисты и позитивисты, возможно, скажут нам, что теория
движения планет Коперника вытеснила теорию Птолемея, по-
тому что она была «проще» или «удобнее», но эти слова не от-
дают справедливости спорным проблемам, с которыми действитель-
но сталкивались астрономы эпохи Возрождения. Если Кеплер и
Галилей предпочли новую гелиостатическую систему Коперника,
то причины, по которым они это сделали, были гораздо более спе-
цифическими, разнообразными и усложненными, чем те, кото-
рые скрываются за такими неопределенными терминами, как
«простота» и «удобство»; в действительности теория Коперника,
особенно вначале, по многим тестам была по существу гораздо
менее простой пли удобной, чем традиционный птолемеевский ана-
лиз. Следовательно, когда мы рассматриваем, например, концеп-
туальные изменения в последовательности физических теорий, ра-
циональность, которой мы интересуемся, не является ни чисто фор-
мальным вопросом, наподобие внутренних связей в математиче-
ской системе, ни чисто прагматическим вопросом простой утили-
тарности пли удобства. Скорее мы можем попять, па чем она ос-
новывается, только в том случае, если рассмотрим, как практи-
чески следующие друг за другом теории и наборы понятий сна-
чала применяются, а потом видоизменяются в процессе истори-
ческого развития релевантной интеллектуальной деятельности.
Таким образом, абсолютистская реакция на многообразие на-
ших понятий освобождается от сложности истории и антрополо-
гии только ценой иррелевантности. Даже там, где идеализирован-
ная система служит шаблоном для критики более ранних концеп-
ций, как в арифметике, подобный анализ может рассказать нам
только то, что о формальных недостатках более ранних идей мы
судим с более поздней, высшей точки зрения: оп все же не объ-
ясняет рациональной адекватности тех индивидуальных шагов,
которыми люди постепенно приближаются к идеализированной си-
стеме. Прогрессивную историческую трансформацию наших идей,
включая замещение одной протоарифметической, физической тео-
рии или политической доктрины другой, остается проанализиро-
вать и обсудить в других, менее формальных терминах; а о том,
каковы могли бы быть эти термины, абсолютистский анализ
Фреге рассказать не может.
в квазиматематическом абсолютизме, см.: Scheffler I. Science and Sub-
jectivity. N. Y., 1967, Ch. I. Objectivity Under Attack; Hesse M. B. Positi-
vism and the Logic of Scientific Theories. — In: The Legacy of Logical Posi-
tivism, ed. P. Achinstein and S. F. Barker, Baltimore, 1969, p. 114, где стано-
вится кристально ясио, что автор рассматривает «логику научных теорий»
в качестве единственно возможной альтернативы «своего рода историче-
скому релятивизму, в котором теоретический вывод рассматривается как
иррациональный в своей основе».
79
Теперь мы можем обратиться к аргументам Р. Дж. Коллинг-
вуда, которые иллюстируют противоположную, релятивистскую
реакцию на факты концептуального разнообразия. Этот подход
тщательно заботится о том, чтобы избежать недостатков истори-
ческой иррелевантности, но при этом, как мы увидим, оп впадает в
те же трудности, сам отрицая всякую беспристрастную позицию в
рациональном суждении.
С нашей точки зрения, «Очерк метафизики» Коллингвуда, впер-
вые опубликованный в 1940 году, обладает выдающимися досто-
инствами, и мы исследуем аргументы в пользу релятивизма, кото-
рые представлены в этой книге Ч В последние десятилетия фило-
софский релятивизм того или иного рода был чрезвычайно попу-
лярен, однако никто не представил доводы в пользу этой пози-
ции в такой явной и общей форме, так тщательно, как Колинг-
вуд в этом «Очерке». При всей неопределенности терминов
релятивизм в течение некоторого времени имел очевидную привле-
кательность. В этике отрицание абсолютизма первоначально при-
вело к признанию множественности моральных авторитетов, каж-
дый из которых претендовал па то, чтобы иметь силу закона в
своей области. Таким образом, понятия «справедливость» и «не-
справедливость» стали зависеть от культуры, и, казалось, больше
не было возражений против коллективных моральных стандартов
специфического времени и места (когда речь идет о Риме VII ве-
ка, можно только одобрять или не одобрять то, что делали в этом
столетии римляне). Впоследствии аргументы экзистенциалистов
сделали моральный выбор еще более дробным, причем этические
суждения индивида приобрели верховный авторитет за счет лю-
бого коллективного кодекса. С этой точки зрения единственный
по-настоящему оправдываемый выбор — это тот, при котором ин-
дивидуальный агент противостоит исторически уникальной ситуа-
ции, делая лучшее, что для него возможно в силу его характера и
способностей, и принимает все, что подразумевается в последую-
щем, «агонизирующем» выборе, на свою личную ответственность.
Каждый из нас, пока жив, должен выполнять принятые им пра-
вила.
Однако важно признать, как это сделал Коллингвуд, что осно-
вополагающие аргументы в пользу релятивизма не придают ни-
какого значения ни субъективизму, пи септимептальному харак-
теру этики или эстетики — тем чертам, па которых традиционно
основывалось различие этих сфер выбора, например, от математи-
ки и естествознания. Скорее эти аргументы возникают непосред-
ственно из фактов концептуального разнообразия, и в качестве
таковых они равнопрпменимы ко всем областям мышления и дея-
1 Аргумент, обсуждаемый здесь, взят в той форме, в какой он представ-
лен в кн.: Collingwood R. G. Essay on Metaphysics. Oxford, 1940. См.
также: Mandelbaum M. The Problem of Historical Knowledge. N. Y.,
1938; Shalom A., Collingwood R. G. Philosophe et Historien. Paris,
49G7; Mink L. 0. Mind, History and Dialectic. Bloomington, Ind., 1969.
«0
тельности. Как бы ни «окультуривало» нас наше воспитание, мы
думаем и действуем в терминах интеллектуальных и моральных
предположений, характерных для нашей собственной культуры;
эти предположения определяют не только то, какие виды поведе-
ния мы считаем правильными и неправильными, но также и то, ка-
кие виды явлений мы считаем загадочными или самоочевидными, в
какой логичной или авторитетной картине мира мы обычно ин-
терпретируем свой опыт, какие типы научных аргументов и до-
казательств мы находим убедительными или правдоподобными,
и т. д. А поскольку интеллектуальные стандарты людей изменя-
лись в различной исторической п культурной среде точно так же,
как и их этические и эстетические предпочтения, мы столкнулись
с неизбежным вопросом: на какой авторитет может в принципе
претендовать тот, а не иной набор стандартов? В самом деле, как
может какой-либо рациональный стандарт иметь влияние вообще,
вне своего первоначального контекста? Единственно надежная по-
зиция для релятивиста — это в любой среде признавать конеч-
ный авторитет за специфическими интеллектуальными стандар-
тами, распространенными в ней, отрицая в то же время за ними
какую-либо релевантность или авторитет вне пределов их перво-
начального контекста. Таким образом, обобщенный релятивизм
отвергает поиски абсолютной точки зрения не только по субъек-
тивным проблемам этики и эстетики, но и по интеллектуальным
вопросам. Как мы мыслим или что мы можем понять — это за-
висит полностью от общих предпосылок, в которых мы воспита-
ны; искать рациональность, выходящую за пределы специфиче-
ской сферы обитания,— значит преследовать нечто неуловимое.
Не так давно аналогичные аргументы проникли в самое сердце
философии благодаря теории языка. Притязания Канта на уни-
версальный авторитет «чистого и практического разума» почти
сразу же были подвергнуты сомнению Гердером, который пред-
положил, что наши фундаментальные категории относятся к спе-
цифической культурно-исторической среде, а теперь результатив-
ная критика позиции Канта доведена до самого конца1. Ибо
если философская позиция позднего Витгенштейна вообще явля-
ется здравой, это значит, что тот самый язык, благодаря которому
достигается наше окультуривание, сам умопостигаем только для
тех людей, которые в достаточной степени разделяют наш собст-
венный образ жизни. Любой специфический «естественный язык»,
доказывает он, содержит разнообразные «языковые игры», значе-
ние которых выводится из «форм жизни» тех сообществ, в кото-
рых учатся исследуемому языку, говорят па пем, используют его
на практике. В отсутствие разделяемых с другими людьми «форм
жизни» лингвистическая коммуникация должна разрушаться:
«За данное следует принять, можно сказать, именно формы
1 См. очерк А. Лавджоя о Гердере: Lo\ . joy А. О.— In: Essays in
the History of Ideas. Baltimor, 1948, p. 169—170.
81
* I
жизни» L Таким образом, лингвистическая философия становится
частью более широкой «естественной истории» человека. Мы най-
дем универсальные понятия и категории, представленные во всех
языках и умопостигаемые людьми любой культуры только в той
мере, в какой такие же универсальные модели жизни, мышления
и поведения обеспечивают разделяемое и другими людьми об-
рамление для их использования. А действительное существова-
ние таких универсальных моделей жизни не может быть философ-
ски гарантировано.
Так много сказав об основах релятивизма, рассматриваемого в
качестве общей позиции, мы должны затем проникнуть в то, как
его представляет себе Коллингвуд1 2. Чтобы оценить силу его ар-
гументов, мы сначала должны взглянуть на характерное для него
объяснение формальных отношений, имеющих силу в кон-
цептуальных системах, то есть логических связей между различ-
ными терминами, проблемами и предложениями научной теории.
В любой такой теории или системе, говорит нам Коллингвуд,
наиболее емкие принципы локализованы на вершине логической
иерархии или структуры, тогда как все более специфические
предложения, которые от них зависят, последовательно занимают
низшие уровни; и вплоть до этого пункта в его объяснении нет
ничего необычного. Однако за пределами этого пункта его объяс-
нение неортодоксально в одном существенном аспекте. Большин-
ство современных философов считало, что наши понятия органи-
зованы в «аксиоматические» системы, то есть в такие системы, в
которых истинность общих принципов подразумевает истинность
специфических предложений, выводимых из них, и в свою оче-
редь подкрепляется ею. (Согласно эмпирику, истина течет пер-
воначально «вверх», от отдельных эмпирических высказываний
к общим теоретическим высказываниям, которые они подтверж-
дают; тогда как, согласно рационалисту, она течет «вниз», от
общих законов и принципов к отдельным высказываниям, кото-
рым они обеспечивают интерпретацию, но в обоих объяснениях
рассматриваемые отношения были отношениями истины 3.) Кол-
лингвуд одинаково отверг все подобные взгляды. Формализован-
ная аксиоматическая структура, доказывал он, уместна только в
тех отраслях чистой математики, в которых основные понятия
были установлены по определению, что наиболее типично для
таких закосневших в интеллектуальном отношении систем, как
евклидова геометрия. Где-нибудь в другом месте специфические
высказывания и проблемы зависят от более общих по-иному.
Наши понятия образуют не аксиоматические системы, а системы
1 Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Oxford, 1953, p. 226.
Ср. также с. 82: «Общее поведение человечества — это система отношений,
посредством которых мы интерпретируем неизвестный язык», и § 241, с. 88.
2 Collingwood. Metaphysics. Ch. 4 and 5.
3 Lakatos J. Criticism and Methodology of Scientific Research Program
mes. — «Proceeding of Aristotelian Society», 1968, 69, 149—186.
«предположений»; п логические отношения между предложения-
ми на различных уровнях общности — это не отношения истин-
ности, а отношения значения. Таким образом, специфические про-
блемы либо «возникают», либо «не возникают» в зависимости от
того, что допускают более общие принципы, а более общие ут-
верждения связаны с более узкими не как аксиомы с теоремами,
но скорее как предположения с вытекающими ,из них вопросами.
Таким образом, истинность общих принципов совершенно не де-
терминирует истинность отдельных высказываний и не детерми-
нируется ею; вместо этого специфические высказывания полага-
ются па законную силу н применимость более общих доктрин
по самому их значению. (По терминологии Коллингвуда, «логи-
ческая сила» более узких, более специфических понятий соотно-
сится и зависит от «логической силы» более широких, более об-
щих понятий. Или же, если сформулировать этот пункт в наших
собственных терминах, более узкие и специфические понятия и
проблемы действенны только там, где релевантны и применимы
более общие понятия и принципы.)
Эта логическая структура, доказывал Коллингвуд, характери-
зует логические системы во всех их частях и на всех уровнях;
так что каждый специфический элемент в «системе предположе-
ний» в крайнем случае действует вообще только при условии, что
его наиболее общие принципы уместны и применимы. В естест-
венных науках, например, в физике, наиболее общие прин-
ципы определяют, какой стиль мышления применяется для по-
нимания и интерпретации физических явлений; и при этом они
детерминируют также те вопросы, которые считаются действен-
ными в этой области исследования. Таким образом, классическая
физика XIX века полагалась на целый ряд молчаливо подразуме-
ваемых допущений, например, что движение неживых тел обычно
можно объяснить совершенно независимо от их цвета и запаха и
что детерминирующие действия или силы можно идентифициро-
вать с объяснением всех изменений момента движений. Если эти
предположения не считаются хорошими, специфические понятия
и вопросы классической физики больше не действуют; в этом смы-
сле само их значение зависит от законности этих предположений.
И конечно, с точки зрения историка, такое объяснение хорошо
освещает ньютоновскую механику. Ибо к какому результату при-
вел бы полный отказ от общих аксиом ньютоновской динамики?
Поступить таким образом значило бы не просто фальсифициро-
вать многочисленные высказывания о «силах» и их воздействии
на «моменты» тел, которые раньше предполагались верными.
В действительности это лишило бы данные термины их значения,
так что те высказывания, в которых они применялись, не могли
бы возникнуть, действовать или даже иметь смысл.
В этом центральном пункте своей аргументации Коллингвуд
вводит удобную и привлекательную пару технических терминов.
В системе предположений понятия и проблемы связаны с другими
83
понятиями и проолемами на соседних уровнях — сверху и снпзу —
таким образом, что их логическая сила на цаждом уровне зави-
сит от логической силы понятий и проблем на следующем, более
общем уровне 1. Таким образом, физические проблемы оптиче-
ской дисперсии получат определенное значепие только в сфере бо-
лее широкого понятия «показатель преломления». Наше употреб-
ление термина «оптическая дисперсия», так сказать, предполагает
релевантность и применимость обычных законов рефракции. (Это
потому, что дисперсность прозрачной среды определяется как спо-
соб изменения ее показателя преломления при изменении длины
световых волн, подвергающихся рефракции.) Однако, по термино-
логии Коллингвуда, это предположение остается только «относи-
тельным». Ибо понятия «рефракция» и «показатель преломления»
в свою очередь предполагают применимость других, еще более
широких понятий, например «световой луч». Проблемы рефракции
имеют точное значение только применительно к оптическим яв-
лениям, которые могут быть точно описаны в терминах световых
лучей; так что вся терминология рефракции предполагает в свою
очередь еще более общие идеи. Таким образом, те же самые по-
нятия, которые на одном уровне являются предположениями, на
другом уровне будут зависеть от еще более общих предположений.
(Именно это и делает их, согласно Коллингвуду, лишь относи-
тельными предположениями.)
Когда мы добираемся до вершины концептуальной иерархии,
мы сталкиваемся с семейством, или плеядой, общих предположе-
ний, которые не зависят от других, еще более общих предполо-
жений. На этом конечном уровне наши понятия и принципы об-
разуют то, что Коллингвуд называет «абсолютными» предположе-
ниями, и правильность всего образа мыслей может зависеть от ре-
левантности и применимости подобных общих принципов. Тогда
как относительные предположения связаны логическими отноше-
ниями в обоих направлениях, абсолютные предположения совер-
шенно независимы. Как только аргументация достигает этого ко-
нечного уровня, уже нельзя вводить более основополагающих до-
пущений. Отказ от набора абсолютных предположений означает
отказ от соответствующего образа мыслей в целом. Коллингвуд
доказывает, что это различие между абсолютными и относитель-
ными предположениями существенно для надлежащего понима-
ния той роли, которую концептуальные системы играют и в си-
стематических науках, и в философии, и в истории мышления.
В каждой области мудрость начинается с понимания того, как в
характере концептуальных изменений отражается предположи-
тельная структура концептуальных систем; и каждая интеллек-
туальная дисциплина развивается через последовательность раз-
личных исторических фаз, которые характеризуются различными
1 Collingwood. Metaphysics, р. 27.
84
наборами понятий, проблем и предложений и образуют самодов-
леющую иерархию предположений.
Если данную Коллингвудом картину концептуальной истории
принять за общую точку зрения, то мы можем сделать ее при-
влекательной и правдоподобной; однако если на него нажать в не-
которых пунктах, возникают трудности интерпретации. Напри-
мер, каждый может увидеть, что термин, подобный «световому
лучу», служит фундаментальным понятием для всей геометриче-
ской оптики, так что отказ от этого понятия будет означать, что
мы обходимся без геометрической оптики, как мы ее знаем. (Точ-
но так же трудно будет вообразить динамику, в которой полно-
стью отсутствует понятие инерции.) Однако когда мы проверяем
объяснение Коллингвуда в деталях, становится неясно, на каком
именно уровне в конце концов наши предположения практически
перестанут быть «относительными», то есть зависимыми от дру-
гих, еще более широких принципов, и вместо этого станут
«абсолютными», или самостоятельными. Что именно считает Кол-
лингвуд специфическим примером абсолютного предположения?
В решении этого вопроса его собственные иллюстрации не очень
нам помогают. Например, он создал в высшей степени индивиду-
альную концепцию развития физики в период между 1680—
1930 годами, в которой это развитие разделено на три последова-
тельные стадии; по его словам, они соответственно регулировались
ньютоновским предположением относительно следствия («Некото-
рые события имеют причины»), кантовским предположением от-
носительно следствия («Все события имеют причины») и предпо-
ложением Эйнштейна относительно следствия («Никакие события
не имеют причин»1). Конечно же, понятие причины играло су-
щественно различающиеся роли в физике на разных этапах в те-
чение последних трех столетий, но формула трех стадий Коллинг-
вуда лишь очень приближенно отдает должное этой истории; и
в общем, его собственное применение теории предположений к
концептуальным изменениям в естествознании приносит его делу
скорее ущерб, чем пользу.
И все-таки нельзя допускать, чтобы плохие иллюстрации от-
вратили нас от основной особенности объяснения Коллингвуда.
Когда он доказывал, что некоторые фундаментальные понятия,
так сказать, являются конститутивными для тех наук, в которых
они применяются, его позиции были крепкими. Без понятий «све-
товой луч» и «инерция» геометрическая оптика и динамика в той
форме, как мы их знаем, были бы уничтожены. Другие соседние
дисциплины, возможно, вступили бы в их пределы и заняли бы
их область исследования как побочные наследники и потомки этих
более древних наук; но это уже другой вопрос. Коллингвуд зани-
мал также сильные позиции, когда предъявлял следующие тре-
бования, а именно: чтобы решающий интелектуальный выбор в
1 Ibid., р. 51—55, ср. также, с. 325, 328, 333.
85
науке включал изменения в ее самых основных понятиях, причем
изменения такого рода, которые умопостигаемы только в том слу-
чае, если мы их изучаем в их историческом происхождении. По
крайней мере мы можем создавать адекватную концептуальную
историю интеллектуальной дисциплины только в том случае, если
мы исследуем процессы или процедуры, посредством которых це-
лостные концептуальные системы — «абсолютные предположе-
ния» и все остальное — заменяют друг друга в процессе своего
исторического развития.
Итак, «Очерк метафизики» Коллингвуда прямо и точно по-
ставил перед философами проблему концептуальных изменений.
Эта проблема была представлена не только в качестве локального
затруднения, например, в одной лишь этике или физике; напро-
тив, это было затруднение всеобщего характера, равнопримепи-
мое ко всем концептуальным системам, характеризующимся ко-
герентной структурой понятий и предположений. Понимание кон-
цептуальных изменений включало соответственно три стадии ис-
следования, по существу своему исторические. Чтобы нанести на
карту интеллектуальное развитие дисциплины, мы должны, во-
первых, «идентифицировать различные плеяды абсолютных пред-
положений» в интересующей нас области; во-вторых, мы должны
«изучить их сходство и различие» с тем, чтобы обнаружить, какие
черты изменяются, а какие — нет при переходе от одной историче-
ской фазы к другой; и, наконец, мы должны постоянно «выяс-
нять, в каких случаях и посредством каких процессов одна такая
плеяда превратилась в другую» L
Это троякое историческое исследование, с точки зрения Кол-
лингвуда, было единственной законной задачей, оставшейся за
«метафизикой», но это было характерным для него употреблением
термина, которому у пас нет необходимости здесь следовать.
В этот момент мы должны реконструировать те шаги, благодаря
которым объяснение Коллингвуда безвозвратно привело его к
историческому релятивизму. Вкратце аргументация развивается
следующим образом:
(1) Интеллектуальное содержание дисциплины на каждой
данной стадии ее развития охватывает систему понятий и
принципов, действующих на различных уровнях общности.
(2) Принятое нами значение понятий и предложений на низ-
ших уровнях общности «соотносится» с понятиями и предло-
жениями высших уровней, и подобные понятия и предложе-
ния низшего уровня предполагаются только «относительно»
понятий и предложений на более общих уровнях.
(3) Когда мы достигаем наиболее общего уровня, мотивы, по
которым мы принимаем значение понятий и принципов, нель-
зя объяснить в терминах «соотношения» с какими-либо более
общими соображениями, так что эти понятия и предложения
1 Ibid., р. 51—55, ср. также с. 73.
86
высшего уровня предполагаются не относительно, а «абсо-
лютно».
(4) На каждой стадии развития дисциплины раличпые поня-
тия и предложения можно рационально сравнивать в той
мере, в какой опи оперативно «соотносятся» с той же самой
плеядой абсолютных предположений.
(5) Но в нашем распоряжении нет никаких общих, согласо-
ванных принципов пли процедур суждения для сравнения
предложений или понятий, «соотносительных» с различными
плеядами абсолютных предположений, или для сравнения
различных плеяд абсолютных предположений в целом.
(6) Следовательно, предложения и понятия можно рациональ-
но оценивать только «относительно» одной определенной
плеяды абсолютных предположений, а именно той, в которой
они являются оперативными; и как только мы покидаем
сферу одной определенной системы, мы покидаем также
сферу рационального сравнения и суждения.
По мере развития этой аргументации тот несомненный факт,
что наши рациональные стандарты частично зависят от историче-
ского контекста суждений (то, что мы назвали «многообразием»
или «относительностью» понятий), принимается как основание
для того, чтобы ограничить рациональное сравнение одним опре-
деленным историческим контекстом. Словом, принимается, что
историческая относительность влечет за собой исторический ре-
лятивизм; необходимость в том, чтобы помнить о различиях меж-
ду интеллектуальными контекстами, когда производишь сравне-
ние между ними, превращается в основание для того, чтобы огра-
ничивать рациональное суждение отношениями, имеющими сплу
внутри единичного контекста.
Итак, там, где Фреге заменяет традиционную метафизику фор-
мальным анализом «чистых понятий», Коллингвуд заменяет ее
историческим анализом «абсолютных предположений». Однако
когда мы пытаемся осуществить его новую программу, мы скоро
приходим к затруднениям столь же серьезным, как и те, с кото-
рыми столкнулась программа Фреге. Эти затруднения возникают,
что весьма замечательно, в том же самом пункте, что и ранее, а
именно в проблеме концептуальных изменений. В частности, ко-
гда дело доходит до объяснения рациональных соображений, оп-
равдывающих действительные переходы людей от одного набора
основных понятий (абсолютных предположений /моделей объяс-
нения/ процедур расчета) к его историческому преемнику, никто
не может дать нам критических инструментов, в которых мы нуж-
даемся. Фреге отделывался от всех подобных исторических проб-
лем как от «чисто эмпирических» и интересовался только «чис-
тыми понятиями» в их конечных, совершенных формах. Коллинг-»
вуд со своей стороны признает важность этого вопроса, но не
оставляет себе возможности ответить на него.
Его затруднения в этом отношении возникают на двух раз-
личных уровнях. Внешне они отражают некоторую неопределен-
ность его индивидуальной терминологии. Сама строгость его ди-
хотомии между абсолютными и относительными предположения-
ми — его собственный абсолютизм, как могли бы мы сказать,—
лишает его рациональных стандартов, в которых он нуждается,
чтобы оценивать изменения наших фундаментальных понятий.
Однако на более глубоком уровне этот абсолютизм возникает от-
того, что он связывает себя тем же самым идеалом логической
систематичности, который помешал последователям Фреге рас-
смотреть проблемы концептуальных изменений.
Сначала о специфических затруднениях, созданных термино-
логией Коллингвуда: текст «Очерка метафизики» в точных терми-
нах формулирует проблему, которая будет интересовать нас са-
мих в последующих главах, а именно «динамику» концептуаль-
ных изменений и выбора. Сформулируем ее в наших собственных
терминах: «В каких случаях и посредством каких процессов и
процедур фундаментальные понятия или плеяды предположений,
характерные для образа мыслей, дискредитировались и отверга-
лись в пользу других, приходящих им на смену понятий или
предположений?» 1 Коллингвуду удалось поставить этот вопрос,
но отвечает на него он несколько необычно. Сформулировав цент-
ральную проблему, он останавливается. В остальной части «Очер-
ка» описывается ряд статичных исторических средств в развитии
научной и философской мысли, но проблема концептуальной ди-
намики остается совершенно нерешенной. О тех обстоятельствах,
при которых «плеяды предположений» сменяют друг друга, Кол-
лингвуд кое-что говорит, хотя и не очень много. О процессах и
процедурах, посредством которых одна плеяда «превращается в
другую», он совсем ничего не говорит.
Этот пробел в аргументации Коллингвуда настолько бросался
в глаза, что его коллега, которому он показал свою черновую ру-
копись, посоветовал Коллингвуду объяснить, как последний пони-
мает такие превращения: «Я намекнул... что абсолютные предпо-
ложения изменяются. Мой друг думает, что читатели могут при-
писать мне мнение, будто такие изменения суть просто «перемены
моды», а в противном случае попросят меня объяснить, чем, по-
моему, они являются» 2. Ответ Коллингвуда на это возражение,
добавленный к тексту в существенном подстрочном примечании,
заслуживает того, чтобы процитировать его полностью:
«„Перемены моды“ — это внешнее изменение, возможно яв-
ляющееся симптомом более глубоких и важных перемен, но само
по себе неглубокое и неважное. Человек принимает их просто по-
тому, что так делают другие, или потому, что газетные рекламы,
1 Ibid., р. 73.
4 Ibid., р. 48, прим.
торговцы и т. д. внушают ему это. Формула моего друга: „Если
нам нравится пускаться на новые хитрости, то это можно де-
лать44 — очень хорошо описывает тот несколько легковесный тип
сознания, при помощи которого мы принимаем или производим
эти поверхностные перемены. Но абсолютное предположение —
это не „ухищрение44, а люди, которые „дают начало44 новому,
делают это не потому, что им так „нравится44.
Люди обычно не осознают своих абсолютных предположений
и, следовательно, не осознают их изменений, поэтому такое изме-
нение не может быть делом выбора. Нет в нем и ничего поверх-
ностного и легковесного. Это самая радикальная перемена, какую
может вынести человек, и она влечет за собой отказ от всех его
наиболее твердо устоявшихся навыков и стандартов мышления и
деятельности. „Почему происходят такие перемены?44 — спраши-
вает мой друг. Вкратце, они происходят потому, что абсолютные
предположения каждого данного общества на каждом данном
этапе его истории образуют структуру, испытывающую „напряже-
ния44 большей или меньшей интенсивности, которые „принима-
ются44 различными способами, но никогда не исчезают. Если на-
пряжения слишком велики, структура разрушается и заменяется
другой, которая образует модификацию старой структуры после
того как будут устранены деструктивные напряжения; модифика-
ция не изобретается сознательно, а создается в процессе бессозна-
тельного мышления» L
Этот ответ многое говорит нам о собственной позиции Кол-
лингвуда, однако он обходит центральный вопрос и оставляет не-
решенным основное затруднение. Ибо он дается полностью в ме-
тафорических терминах, и, как это всегда бывает с метафорами,
мы можем интерпретировать их буквально альтернативными спо-
собами. Конечно, мы можем говорить о системе предположений
как о «структуре, испытывающей напряжения», но только при од-
ном условии, что мы уже готовы объяснить, чем об-
наруживают себя эти «напряжения» и по каким критериям мы
можем понять, когда «устраняется» их «деструктивное» воздей-
ствие. Однако когда настаиваешь на этих вопросах, Коллингвуд
уклоняется от прямого ответа. Он неловко колеблется между дву-
мя возможными ответами и не в состоянии со спокойной совестью
последовательно рассматривать эти вопросы одним из этих двух
способов. Осуществляем ли мы замену одной плеяды абсолютных
предположений другой потому, что у нас есть основания делать
это? Или же мы поступаем так потому, что нас к этому вынуж-
дают некоторые причины? Нужно ли решать проблемы «модифи-
кации» наших интеллектуальных «структур» в терминах основа-
ний, соображений, аргументов и оправданий, то есть на языке
«рациональных» категорий? Или же, напротив, их следует решать
в терминах сил, причин, принуждения, то есть на языке «причин-
ных» категорий?
1 Ibid., р. 48, прим.
Ранее данная Коллингвудом аргументация в пользу каждого
из этих ответив не может полностью удовлетворить его самого.
Оп не может дать ответ последовательно в рациональных терми-
нах, потому что его собственный анализ запрещает это. Если для
того, чтобы оправдать замену одной плеяды абсолютных предпо-
ложений другой, мы выдвинем «основания», то о правильности
всей дальнейшей аргументации тогда нужно будет судить в тер-
минах некоторых еще более общих принципов. Это будет означать
прежде всего, что нп одна пз плеяд не является полностью «абсо-
лютной», пли не требующей своего подтверждения извне; сле-
довательно, мы должны продолжать и ввести «сверхабсолютнос»
предположение, чтобы решить, когда переход от одного набора
предположений к другому «рационально оправдывается»; п оба
соперничающих набора предположений — хотя первоначально по-
лагалось, что они являются «абсолютными»,— будут тогда «от-
носительными» для этого нового, сверхабсолютного предположе-
ния. На этой схеме элиминация «напряжений концептуальной
структуры» снова становится стандартной интеллектуальной опе-
рацией внутри единственной, неизменной в своих основах теории.
Следовательно, мы можем объяснять концептуальные изменения
на фудаментальном уровне в терминах, которые Коллингвуд мо-
жет принять как «рациональные» только ценой отказа от своего
центрального тезиса, согласно которому «абсолютные предположе-
ния» самостоятельны п служат последней инстанцией в апелля-
ции к суду разума. Подобная интерпретация влечет за собой от-
рицание отличительного вклада Коллингвуда в философскую ар-
гументацию.
Однако какова же альтернатива? Под давлением Коллинг-
вуд намекает, хотя и не утверждает этого открыто, что мы долж-
ны полностью отказаться от попыток описать «устранение напря-
жений» в рациональных терминах. Однако он явно чувствует себя
несчастным от этой перспективы. Если не остается никакой воз-
можности оправдать такие переходы рационально, мы вынужде-
ны объяснять их осуществление причинно, а тогда какое отноше-
ние к этому имеет «мышление»? Даже в решающем примечании
Коллингвуд уже пытается избежать этого вывода, когда он дока-
зывает, что, так как люди «обычно не осознают» изменений сво-
их абсолютных предположений, эти изменения «пе могут быть де-
лом (рационального) выбора»; но все же оп приписывает подоб-
ные модификации — на квазирациопальпом языке — «процессу
бессознательного мышления». В других местах «Очерка» он идет
еще дальше в сторону причинности. Например, он уподобляет
«напряжения» концептуальных систем «социальным напряжени-
ям», которые возникают в культуре, обществе или цивилизации;
и он предполагает, что интеллектуальные «напряжения» в систе-
мах идей иногда могут ассоциироваться с более широкими социаль-
но-историческими кризисами и, возможно, даже быть их эпифе-
номенами. Так, он описывает историю паровой машины от
90
Джеймса Уатта до Даймлера и Парсонса «как притчу времени»,
и находит в ней прямую параллель с «историей английской пар-
ламентарной системы, разработанной Джоном Локком в конце
XVII столетия»: «Эта теория... стала официальной доктриной
европейской политики в XIX веке, когда парламентарные кон-
ституции по модели Локка создавались с такой же регулярностью и
самоудовлетворением, как и паровые машины по модели Уатта» L
Конечно, если мы рассмотрим все развитие собственной пози-
ции Коллингвуда, то сможем увидеть, что либеральная форма «ис-
торического материализма»1 2 была естественным следствием его
более раннего философского идеализма. Однако Коллингвуд ни-
когда не делает последнего шага, чтобы полностью заменить ос-
нования причинами. На уровне абсолютного концептуальные пе-
ремены, возможно, происходят благодаря «бессознательному»
мышлению; но они остаются предметом «мышления», а не безы-
мянных «сил», или «принуждения». Тогда нам остается спросить:
какова настоящая природа этого «бессознательного мышления» и
как, предположительно, оно воздействует на нас? (Так как Кол-
лингвуд открыто презирал психологию, кажется невероятным,
чтобы он имел в виду идеи Фрейда; однако какую же альтерна-
тивную интерпретацию должны мы дать этой фразе?) Насколь-
ко «мышление», которое происходит па этом абсолютном уровне,
аналогично рациональной аргументации, имеющей место на более
низких уровнях в системе предположений, и насколько оно дейст-
вует скорее как своего рода причинный агент? ... Тщетно мы за-
даем эти вопросы.
Для Коллингвуда было особенно мучительно впадать в мол-
чание. Однако именно его колебание между рациональным и при-
чинным объяснением концептуальных изменений само по себе
лучше всего раскрывает всю его аргументацию. Такова цепа, ко-
торую он платит за то, чтобы сохранить системы предположений
в различные исторические эпохи самодовлеющими и самодоста-
точными: как только он связывает себя сохранением этой абстракт-
ной самодостаточности, он впадает в релятивизм, из которого не
может выбраться. Если бы он был немного менее увлекающимся
историком, он, возможно, действительно сделал бы что-нибудь,
чтобы ослабить абсолютизм своих взглядов, и таким образом из-
бежал бы этих невыносимых затруднений. Он мог бы, например,
занять промежуточную позицию между антиисторическим, аб-
страктным подходом Фреге и явным релятивизмом, которым он
фактически кончает, доказывая, что каждая область исследования,
или дисциплина, принимает за доказанное некоторые основные
понятия, принципы или предположения, но что они характерны
1 Ibid., р. 94.
2 Ibid., гл. 9, особенно с. 118; см также: Collingwood. The Prin-
ciples of Art. Oxford, 1938, p. 62—64, 77 n. Понятие «исторический материа-
лизм» использовано автором здесь и в других местах кпигн в связи с Кол-
лингвудом совершенно безосновательно. — Ред,
01
не столько для определенной эпохи или для определенного
среза в ее развитии, сколько для всей дисциплины. На уровне
субстанциальной теории интеллектуальное содержание таких
дисциплин могло, следовательно, изменяться прерывным об-
разом, причем одно семейство понятий заменялось другим, осно-
ванным на противоположных и даже несовместимых теоретиче-
ских принципах. Но на более глубоком методологическом уровне
все наши интеллектуальные дисциплины обнаружили бы гораздо
большую непрерывность; какими бы радикальными ни были из-
менения в их интеллектуальном содержании, аргументация после
каждой такой трансформации, методологически говоря, продол-
жала бы действовать таким же образом, что и прежде.
Даже предложив эту ослабленную версию позиции Коллинг-
вуда, в некоторых случаях все же было бы невозможно отыскать
теоретические принципы, оправдывающие замену одной завер-
шенной теории другой, но при этом не нужно исключать возмож-
ности оправдать этот шаг апелляцией к более общим дисципли-
нарным основаниям. Ибо в подобном споре партии — и те, что
остаются верными более старым теориям, и те, что выдвигают
более новые,— все же разделяют какую-то общую основу: может
быть, не всю совокупность теоретических представлений, но ско-
рее некоторые разделяемые ими обеими дисциплинарные концеп-
ции, отражающие их коллективные интеллектуальные устремле-
ния и рациональные методы, процедуры отбора и критерии адек-
ватности. Словом, обе стороны в споре состояли бы из физиков,
действующих как «физики», из нейрофизиологов, действующих
как «нейрофизиологи», или из ученых-юристов, имеющих общее
отношение к общим целям и процедурам закона.
Следовательно, многое в формальной аргументации Коллинг-
вуда все же считалось бы хорошим, если бы она применялась
не к основным теоретическим принципам, распространенным в
науке в какое-нибудь определенное время, а к долгосрочным дис-
циплинарным принципам, конституирующим такую науку. Если
бы он оставил эту последнюю аргументацию открытой, если бы
он посчитал, что абсолютные предположения определяют интел-
лектуальные границы между различными интеллектуальными
дисциплинами, а не между различными историческими эпохами
в одной и той же дисциплине, он действительно кончил бы го-
раздо менее ущербной позицией. К несчастью, его собственные
примеры исключают эту интерпретацию. Вспомним, например,
контрастное сопоставление физики 80-х годов XVII века, 70-х го-
дов XVIII века и самого начала XX века, которая будто бы
управляется предположениями, несовместимыми относительно
причинности. Возможно, Ньютон, Кант и Эйнштейн соответствен-
но организовывали свои объяснения вокруг различных принци-
пов, но, конечно, физика как целое развивалась непрерывно в те-
чение всего периода с 80-х годов XVII века до 10-х годов
XX века. Все трое, так сказать, принимали участие в одном не-
прерывном рациональном споре, и различия между их предполо-
жениями не были рационально непреодолимыми (как подразуме-
вал Коллингвуд).
Таким образом, мы можем спасти подлинно философскую
проницательность Коллингвуда, только отрицая его наиболее ре-
шительное требование, а именно чтобы каждая отдельная эпоха
организовывала свое мышление вокруг различных самодовлеющих
и самодостаточных «плеяд предположений». То есть мы можем
избежать того, чтобы нас полностью втянули на путь фи-
лософского релятивизма, только ослабив введенное Коллингву-
дом различие между абсолютными и относительными предполо-
жениями и сочетая его с историческим процессом концептуаль-
ных изменений более сложным способом. Единственное, чего мы
не можем сделать,— это заплатить полную цену, которую настоя-
тельно требует подлинная аргументация Коллингвуда, а именно
отказаться от всякой надежды отыскать рациональные процеду-
ры для сравнения понятий и убеждений, распространенных в
различные исторические эпохи, и ограничиться обсуждением кон-
цептуальных изменений только в терминах причин и следствий.
Рассмотрев Фреге и Коллингвуда — наших представителей
абсолютизма и релятивизма — независимо друг от друга, мы мо-
жем теперь сопоставить их друг с другом и идентифицировать
тот общий для них вопрос, на который они дают противополож-
ные ответы. Как мы видели, центральный вопрос в рассуждениях
каждого из них — это вопрос о рациональном авторитете опреде-
ленной концептуальной системы или систем. Согласно математи-
чески мыслящему Фреге, конечным авторитетом обладает един-
ственная, идеальная концептуальная система, к которой можно
подойти, очистив все реально существующие системы от «ирре-
левантностей», или «наслоений». Следовательно, концепции, рас-
пространенные в любом культурно-историческом контексте, будут
обладать подлинным авторитетом только по мере приближе-
ния к этой уникальной системе «чистых» понятий. Напротив, со-
гласно исторически мыслящему Коллингвуду, идеализированные
формальные системы не имеют внутренне присущего им сувере-
нитета над действительно существующими продуктами концепту-
альной истории, и каждая существующая система абсолютных
предположений может претендовать на суверенный авторитет в
своем собственном культурно-историческом контексте. Таким об-
разом, интеллектуальная история разделяется па последователь-
ность отдельных фаз, и в каждой из них конечный рациональный
авторитет принадлежит различным плеядам понятий.
Однако за пределами этой прямой противоположности Фреге
и Коллингвуд полностью согласны в одном более фундаменталь-
ном пункте. И абсолютист, п релятивист обращается с пробле-
мой рациональности так, как будто опа требует, чтобы мы при-
дали конечный интеллектуальный авторитет той или другой
93
логической системе — либо аксиоматической системе предложе-
ний, либо образующей предположения системе понятий. То есть
они оба полагают, что наши понятия и предложения связаны по
способам логических систем; они не согласны только в одном во-
просе — какая специфическая система имеет рациональный авто-
ритет. В философии Фреге важность систематичности довольно
очевидна, а, зная, что Фреге больше всего интересовался арифмети-
кой, это и понятно. Гораздо менее очевидно и необходимо согла-
сие Коллингвуда с той же традиционной точкой зрения. Однако,
как мы видели, Коллингвуд представляет всю свою аргумента-
цию не в терминах «агрегатов» или «популяций» понятий и пред-
положений, а в терминах «систем» предположений. Он описывает
эти системы как иерархии, в которых внутренние отношения по-
своему так же строго логичны, как дедуктивные связи аксиома-
тической системы. Вместо того чтобы бросить вызов этому
антиисторическому допущению, согласно которому понятия и
предложения могут иметь рациональный авторитет только в том
случае, если они образуют «логическую систему», оп просто пред-
лагает альтернативное объяснение логических отношений, кото-
рые связывают воедино элементы концептуальных систем.
Этот факт имел для Коллингвуда два различных следствия.
С одной стороны, он спасал его от своего рода тайного жарго-
на, типичного для философов-идеалистов, которые так сильно
влияли па него в его молодые годы. Столкнувшись с переходом
от эмпиризма XVIII столетия к историзму XIX столетия, Кол-
лингвуд, как и Ф. Г. Брэдли, его непосредственный предшествен-
ник в Оксфорде, остановился перед последним барьером. В то
время как классические немецкие идеалисты, например Гегель,
сглаживали различия между синхроническими логическими отно-
шениями (имеющими силу в концептуальных системах какой-
либо одной эпохи) и диахроническими диалектическими отноше-
ниями (имеющими силу в последовательности систем) до такой
степени, что описывали историю как процесс, в котором разум
прогрессивно развертывает свою собственную логику, Коллинг-
вуд не мог присоединиться к этому риторическому стилю. Его
длительное знакомство с Локком, Беркли и Юмом имело свои
следствия:
Он желал, само собой,
Жить всегда в стране любой,
Но остался он британцем \
Каковы бы ни были его чувства как историка, в качестве фило-
софа оп уклонился от этого приглашения сложить логику и исто-
рию в единую «историческую диалектику». Вместо этого он со-
гласился со своими предшественниками эмпириками в том, что
логика должна быть ограничена внутренней структурой концеп-
1 Слова популярной в начале XX века песенки пз мюзикла У. С. Гиль-
берта «Крейсер „Малютка"». — Ред.
04
туальпых систем. В результате для него логические или рацио-
нальные отношения оставались в силе только синхронически, в
теориях данной эпохи относительно ее специфических плеяд
предположений. Это исключало обсуждение концептуальных из-
менений на квазилогическом гегелевском жаргоне, в терминах
Внутренней Рациональности Истории. К сожалению, в то же
время это исключало и всякое диахроническое обсуждение кон-
цептуальных систем на уровне «абсолютных предположений» в
терминах «оснований» и «рациональности», даже если они начи-
наются с маленькой буквы, и пе оставляло ему никакой альтер-
нативной теории концептуальных изменений, кроме неясного
исторического материализма, который объяснял их в терминах
квазппричинных метафор — «процессов бессознательного мышле-
ния», социокультурных «напряжений» и т. п.
Кроме того, допущение систематичности имело для Коллинг-
вуда второстепенное значение. Без него он никак не мог оправ-
дать свое разделение интеллектуальной истории на отдельные
последовательные «фразы». Если бы последовательные «плеяды
абсолютных предположений» четко не различались, не было бы
процедур, чтобы отличить один исторический «период» от сле-
дующего за ним, или рассказать о том, где именно надо по-
ставить надлежащие пределы рациональной дискуссии. И дей-
ствительно, не имея четких критериев для того, чтобы разли-
чать, скажем, ньютоновскую, кантианскую и эйнштейновскую
«системы» физики в качестве абсолютных и самодостаточных,
исторический релятивист не имеет ясных оснований для того,
чтобы различать свои исторические эпохи. Если бы Коллингвуд
перестал допускать логическую систематичность, он разрушил бы
свой единственный критерий, позволяющий отделить одну фазу
концептуальной истории вместе с характерными для нее поня-
тиями и доктринами от другой, более поздней фазы, имеющей
свои собственные отличительные иде,и и убеждения, несоизмери-
мые с идеями и убеждениями предшествующей фазы. Сделав это,
он не имел бы даже слов, в которых можно выразить релятивист-
ский вывод, который он доказывал. Имея различные историче-
ские «временные пласты», каждый из которых обладает своей
собственной «системой предположений», Коллингвуд по крайней
мере мог признавать суверенный авторитет за этими преходящи-
ми системами, даже отрицая при этом претензии любой универ-
сальной или «абсолютной» системы. Если бы границы между по-
следовательными фазами считались произвольными, то больше
не было бы четко различающихся эпох, для которых интеллек-
туальные стандарты и понятия были бы «относительными». То-
гда исторический релятивизм потерял бы свой эталонный объект.
Без этого последовательность интеллектуальных фаз, каждая из
которых определялась своей собственной специфической плеядой,
низвергалась бы в исторический поток, в котором понятия и
95
предложения изменялись по систематически, а калейдоскопиче-
ски; п проблема поиска источника рационального авторитета сно-
ва осталась бы открытой.
Действительно, именно таким и должно быть наше собствен-
ное заключение. Проблема концептуальных изменений не подда-
ется ни Фреге, ни Коллингвуду именно потому, что оба они при-
соединились к философскому культу систематичности, то есть к
убеждению, что понятия должны образовывать «логические си-
стемы», и, следовательно, приравняли «рациональное» к «логиче-
скому». Это относится и ко многим другим философам: когда бы
ни возникла рациональная проблема концептуальных изменений
на фундаментальном уровне, всякий, кто принимает эти «систе-
матические» допущения, не сможет справиться с нею. Какой бы
тип систематичности он ни предпочитал, независимо от того, ин-
терпретирует ли он «логикорациональные» отношения между со-
существующими понятиями и предложениями как таксономиче-
ские или аксиоматические, как гипотетико-дедуктивные или
предположительные,— в каждом случае будет одна и та же нераз-
решимая проблема. Он может позволить себе вопросы оправда-
ния, интеллектуального достоинства и рациональности только по-
стольку, поскольку оци возникают в сфере какой-либо одной спе-
цифической «логической системы», так что «дать основание для
р» включает соотношение р с остальной частью той же самой си-
стемы. В пунктах перехода от одной замкнутой системы к дру-
гой он будет вынужден отложить все проблемы оправдания и ра-
циональности. Интеллектуальные меры, влекущие за собой такие
переходы, не могут быть рационально оправданы в терминах, вы-
веденных из одной только системы; а это — данное приравнива-
ние рациональности к логичности — будет для него означать, что
их вообще нельзя оправдать.
* * *
Следовательно, на более глубоком уровне и абсолютизм Фре-
ге, и релятивизм Коллингвуда истолковывают требование универ-
сальной беспристрастной точки зрения в рациональном сужде-
нии как требование системы объективных или абсолютных стан-
дартов рационального критицизма. Абсолютист утверждает, что
на достаточно абстрактном квазиматзматическом уровне такие
стандарты все же могут быть сформулированы как «вечные
принципы», тогда как релятивист просто утверждает, что подоб-
ная точка зрения не может быть действительно универсальной.
Но это общее для них допущение мешает им обоим подойти к
терминам рациональности концептуальных изменений.
Как же, следовательно, мы должны избежать затруднений,
встающих перед этими двумя противоположными позициями?
Первый шаг состоит в том, чтобы перестать связывать себя логи-
ческой систематичностью, которая заставляет видеть в абсолю-
96
тпзме и релятивизме единственные имеющиеся в наличии альтер-
нативы. Это решение вводит нас в самое существо дела. Ибо в
действительности всегда было ошибкой идентифицировать рацио-
нальность и логичность, то есть полагать, что рациональные цели
любой исторически развивающейся интеллектуальной деятельно-
сти можно полностью понять в терминах пропозициональных
или концептуальных систем, в которых ее интеллектуальное со-
держание может быть выражено в то или другое время. Пробле-
мы «рациональности» в точном смысле слова связаны не со спе-
цифическими интеллектуальными доктринами, которые человек
или профессиональная группа принимает на каждом данном эта-
пе времени, но скорее с темп условиями и образом действий, ко-
торые подготавливают его к критике и изменению этих доктрин,
когда наступает время. Например, рациональность науки вопло-
щается не в теоретических системах, распространенных в опреде-
ленный период времени, а в процедурах научного открытия и
концептуальных изменений, действующих на всем протяжении
времени. Формальная логика — с чем согласны Куайн и Кол-
лингвуд — интересуется просто внутренней четкостью формули-
ровок в тех интеллектуальных системах, у которых основные по-
нятия в настоящее время не подвергаются сомнению; подобные
логические отношения можно считать либо имеющими место в
какое-то определенное время, либо вечными. В этом смысле, ко-
нечно, нет ничего «логического» в открытии новых понятий. Но
это ни в коей мере не влечет за собой того, чтобы концептуаль-
ные изменения в науке не происходили «рационально», то есть
по достаточным или недостаточным основаниям. Это приводит
только к тому, что «рациональность» научного открытия — ин-
теллектуальных процедур, при помощи которых ученые догова-
риваются о хорошо подготовленных концептуальных измене-
ниях,— обязательно ускользает от анализа и оценки в одних
лишь «логических» терминах.
Соответственно с этой точки зрения мы должны отвергнуть
традиционный культ систематичности и вернуть наш анализ по-
нятий в науке и в других областях к его надлежащему исходно-
му пункту. Интеллектуальное содержание любой рациональной
деятельности не образует ни единственной логической системы,
ни временной последовательности таких систем. Скорее оно пред-
ставляет собой интеллектуальную инициативу, рациональность
которой заключается в процедурах, управляющих его историче-
ским развитием и эволюцией. Для определенных ограниченных
целей мы можем найти полезным представить предварительный
результат такой инициативы в форме «пропозициональной систе-
мы», но она останется абстракцией. Система, полученная таким
образом, не является первичной реальностью; подобно понятию
геометрической точки, она будет фикцией или артефактом, соз-
данным нами самими. Поэтому во всех последующих исследова-
ниях нашим исходным пунктом будут живые, исторически разви-
4 Зак. 21
97
вающиеся интеллектуальные инициативы, в которых понятия
находят свое коллективное применение; наши результаты должны
быть направлены па утверждение к нашему опыту в этих истори-
ческих инициативах.
Это изменение подхода обязывает пас отказаться от того ста-
тического, «фотографического» анализа, при помощи которого
философы так долго обсуждали понятия, распространенные в
естественных науках п других видах интеллектуальной деятельно-
сти. Вместо этого мы должны дать более историческое, «кинемато-
графическое» объяснение наших интеллектуальных инициатив
и процедур, при помощи которых мы наконец можем наде-
яться понять историческую динамику концептуальных измене-
ний и таким образом понять природу и источники их «рацио-
нальности» \ С этой повой точки зрения никакая система поня-
тий и/или предложений не может быть рациональной по своей
«внутренней сущности» или претендовать на суверенный и обя-
зательный авторитет и требовать от нас интеллектуальной зави-
симости. Вместо этого отныне мы должны попытаться понять
исторические процессы, при помощи которых новые семейства
понятий и убеждений порождаются, применяются и видоизменя-
ются в эволюции наших интеллектуальных инициатив, а также
понять, каким образом основания для сравнения адекватности
различных понятий или убеждений соответственно отражают ту
роль, которую они играют в интересующих нас интеллектуаль-
ных инициативах.
1.3. Рациональность и ее юрисдикция
Проблему человеческого понимания и рациональности можно
обсуждать в одном из двух контекстов — либо теоретически, либо
практически. Сосредоточиваясь исключительно на теоретических
трудностях, мы превращаем эти проблемы в вопросы «чистой»
философии, требующие анализа, определений и формальных раз-
личий. («Является ли термин «рациональное» описательным или
предписывающим?», «Как может «одно и то же» понятие
действовать в двух «различных» концептуальных системах?») Со-
средоточиваясь скорее на их практическом применении, мы обра-
щаемся с ними как с методологическими проблемами, требующими
индексов, критериаев и/или прагматических оценок. («На каком
расстоянии от среднего статистического значения эксперимен-
тальное прочтение становится «значительным» отклонением от
ожидаемого?», «По каким тестам английский суд решит, что ка-
кое-то советское юридическое понятие выражает то же самое, что
и, скажем, понятие «преступная небрежность» в общем праве?»)
Мы намерены обсуждать наши проблемы, рассматривая, на-
1 См.: Causey R. in the collection: The Structure of Scientific Theories,
ed. F. Suppe. Urbana, 1974.
98
сколько это возможно, сразу оба контекста, полагаясь на
практический опыт действительно существовавших инициатив,
чтобы предложить, как можно усовершенствовать наш философ-
ский анализ, и, используя этот усовершенствованный анализ, от-
точить наше практическое понимание действительных проблем.
Переформулируя наши теоретические проблемы коллективной
роли понятий в исторически развивающихся инициативах, мы,
следовательно, можем начать с вопроса: что можно узнать о них
из тех практических действий, в которых осуществляются наши
рациональные предприятия, и каким образом трудности, с кото-
рыми мы столкнулись здесь в чисто теоретических терминах,
разрешаются в реальных практических ситуациях? Производя
отбор из огромного многообразия возможных областей, рассмот-
рим примеры, взятые из законодательства, физики и антропо-
логии.
(1) Начнем с законодательства. В истории законодательства
юристы, судьи и профессора юриспруденции постоянно имели
дело с проблемами практической процедуры, которые стали пред-
метом философского анализа только позднее. Солон, практиче-
ский создатель афинской юриспруденции, был предшественником
Сократа, абстрактного философа справедливости. Люди, подоб-
ные Бодену и Селдену, развивали в контексте закона те методи-
ки сравнительного анализа, па которые впоследствии полагались
академические историки, развивающие методы современной исто-
риографии. Точно так же наша собственная центральная пробле-
ма — произвести рациональное сравнение между понятиями и
стандартами в различных культурно-исторических средах обита-
ния — имеет длинную историю на уровне практики, в процеду-
рах юрисдикции обычного права. В каждом случае острая прак-
тическая необходимость обеспечивала материал для последующе-
го теоретического анализа больше, чем что-либо другое.
Рассмотрим вкратце термин «юрисдикция», который в прак-
тике законодательства больше всего соответствует понятию исто-
рической или культурной «среды» в нашей собственной пробле-
матике. Между идеями юрисдикции и среды имеются два важных
различия. Юрисдикция имеет хорошо определенные грани-
цы, чего культурно-историческая среда в известном смысле не
имеет; и существуют ясные правила для того, чтобы привлекать
в одной юрисдикции аргументы, возникшие в другой. Юристам
и судьям как-то удалось выработать свой практический способ
решения тех проблем, для которых философы еще не сформули-
ровали какого-либо последовательного или удовлетворительного
теоретического решения. Таким образом, если мы зададим вопрос
о точных критериях различения последовательных и, предполо-
жительно, отличных друг от друга «периодов» интеллектуальной
истории, философы будут стремиться либо ответить на него про-
извольно, либо считать его решенным, либо то и другое вме:сте.
Выражения вроде «век Перикла», «расцвет средневековья» и
4*
99
«Просвещен не» заведомо неопределенные; однако любая методо-
логическая попытка уточнить их границы вскоре отодвинет пас
на уровень всеобщности, релевантность которого по отношению к
действительным примерам далеко не ясна («Когда «предположе-
ние» становится подлинно «абсолютным»?»). То же самое получа-
ется, если мы настаиваем на точных антропологических крите-
риях для того, чтобы различать одну культуру от другой. Куль-
тура Испании, несомненно, отличается от культуры Финляндии,
ио что можно сказать о Галисии и Кастилии, Каталонии и Рус-
сильоне? Сталкиваемся ли мы там со многими различными куль-
турами или, скорее, со многими вариантами одной культуры?
Очевидно, ни «культуры», ни «периоды» нельзя разделять с пол-
ной теоретической точностью, а «культурно-историческая сре-
да» — вдвойне плохое определение, соединяющее в себе неяс-
ность их обоих.
Напротив, границы между юрисдикциями обычно ясные, чет-
кие и согласованные по той достаточной, хотя п прагматической
причине, что мы не можем позволить себе оставить их неопреде-
ленными. Географически или тематически любая такая неопре-
деленность быстро привела бы к ситуации, в которой сопернича-
ющие суды претендовали бы на законный авторитет на одной и
той же территории пли в одном и том же случае, нанося, таким
образом, ущерб действительному авторитету обоих судов. Поэтому,
несмотря на то, что многие шотландские националисты или за-
щитники прав штатов могли бы приветствовать законодательное
перераспределение закона, вопрос о том, является ли в Амери-
ке определенное преступление оскорблением федерации или шта-
та, ,или о том, подпадает ли определенное гражданское дело под
действие шотландского или английского закона, относится к тем,
которые, будучи вопросами практической необходимости, тре-
буют недвусмысленного ответа.
Соответственно суды развили практические процедуры для
разделения юрисдикций и сравнения их соответствующих поня-
тий, аргументов и стандартов судебных решений, которые обхо-
дят затруднения философской теории. Например, по традиции,
существующей в общем праве, более рагтипе решения всегда
можно представить на пересмотр и можно ссылаться на то, что
прецеденты в области одной юрисдикции имеют отношение к ны-
нешнему делу, которое разбирается в суде, подчиняющемся дру-
гой юрисдикции. Таким образом, верховные суды Соединенного
Королевства имеют постоянное право рассматривать, скажем, в
70-е годы XX века решения, поступившие к ним в любое пред-
шествующее десятилетие; они даже могут заявить, что судьи, от-
ветственные за какое-нибудь прежнее решение, «ошиблись», как
бы хорошо это судебное решение ни обосновывалось принятыми
в свое время аргументами. Есл,и подходящего прецедента не су-
ществует в самом Соединенном Королевстве, они точно так же
имеют постоянную дополнительную возможность — принять или
100
сопоставить прецеденты из других юрисдикций общего права,
например в штате Нью-Йорк или в Содружестве Австралии. Ко-
нечно, используя эти возможности, судьи всегда учитывают отно-
сительность юридических норм и решений. Древние судебные по-
становления и решения из отдаленных юрисдикций рассматрива-
ются особенно тщательно, прежде чем допустить, что они имеют
отношение к тому делу, которое должно быть решено здесь и сей-
час. Однако существование границ между различными юрисдик-
циями никогда не элиминируется при рассмотрении судебных
прецедентов, взятых из более старых дел или из других стран.
Так сказать, благородное уважение к судебной относительности
никогда не доводится в судах до простого судебного релятивиз-
ма. Напротив, судебный опыт всего человечества сохраняется в
их распоряжении в качестве резерва, к которому суды могут об-
ращаться при надлежащем внимании к историческим и культур-
ным различиям именно при решении современных дел.
Задача отыскать беспристрастные рациональные процедуры
для сравнения миопий в различных средах обитания аналогична;
и параллель с законом может помочь нам понять наш собствен-
ный средний путь между абсолютизмом и релятивизмом, концен-
трируя наше внимание па том практическом методе, при помощи
которого понятия используются в действительно осуществляемых
интеллектуальных инициативах. При этом очень важно не спу-
тать подлинные трудности с полной невозможностью или аутен-
тичные проблемы с неразрешимыми парадоксами. Хотя относи-
тельность законодательных стандартов в специфических юрис-
дикциях может по-настоящему затруднить сравнение дел из раз-
личных юрисдикций и хотя эти трудности тем больше, чем более
отдалены юрисдикции друг от друга, эта трудность ни в коем
случае пе равнозначна абсолютной невозможности. При надлежа-
щей осторожности, предусмотрительности и достаточном внима-
нии к относящимся к делу различиям мы можем сделать все со-
ответствующие допущения. С другой стороны, при полном юри-
дическом релятивизме такие сравнения исключались бы с самого
начала. Тогда каждая юрисдикция была бы единственным и су-
веренным блюстителем своих собственных законодательных по-
нятий, критериев и стандартов судебных решений, и для тех, кто
наблюдал бы за ними с точки зрения других юрисдикций, они
имели бы только исторический или антропологический инте-
рес *. В более общем плане наша собственная задача тоже будет
заключаться в том, чтобы сделать должные допущения в пользу
относительности рациональных стандартов в различных усло-
виях существования, не впадая при этом в заблуждение и не счи-
тая сравнение сред обитания совершенно невозможным.
1 По этому вопросу в целом см. превосходную монографию: Le v i Е. Н.
An Introduction to Legal Reasoning. — «University of Chicago Review», 1948,
15, № 3, 501—574.
101
(2) На практике физики привыкли проводить такое же тон-
кое, хотя и фундаментальное, различие между относительностью
и релятивизмом. Они тоже вынуждены признать относительность
своих рассуждений и измерений — не в качестве абстрактной го-
ловоломки, а в качестве существенного затруднения, возникаю-
щего в их профессиональной деятельности. Они тоже развили
«релятивистские» процедуры, которые отдают справедливость
этой относительности, не попадая при том в ловушку полного
релятивизма. Истинная природа их решения иногда понималась
неправильно. По историческому совпадению люди в конце концов
допустили радикальную относительность моральных и интеллек-
туальных стандартов именно в то время, когда физики развили
свою собственную теорию относительности; н через несколько
лет лозунг «Все относительно!», означавший: «Межконтекстуаль-
ные суждения невозможны!», обычно приписывался Альберту
Эйнштейну. Как полагали широкие читатели, Эйнштейн каким-
то образом доказал, что человеческая относительность истории
и антропологии имеет корни в фундаментальной структуре само-
го физического мира. Таким образом, считалось, что физическая
теория оправдывает более широкие установки субъективизма, и
заглавие широко распространенной работы Эдуарда Уэстермарка
в защиту культурного релятивизма «Этическая относительность»
воспринималась как сознательный отклик на идеи Эйнштейна 2.
Однако это обращение к авторитету Эйнштейна было совер-
шенно неправильным. Интеллектуальная стратегия релятивист-
ской физики совершенно противоположна релятивизму. В дей-
ствительности ее методы гораздо больше похожи на те, что су-
ществуют в традиции общего права. Конечно, Эйнштейн начал
с признания того, что размеры пространственных и временных
величин (то есть положение и длительность, скорость и ускоре-
ние) включают в себя до сих пор не подозревавшуюся относи-
тельность выбора «системы координат» или «объектов в системе
координат». Какую интерпретацию можно дать подобным измере-
ниям, это зависит от того, делаются и рассматриваются ли они,
скажем, относительно поверхности земли или свободно пада-
ющего лифта, частицы высоких энергий пли отдаленной галак-
тики. Что же, однако, точно следовало из этого открытия? Если бы
мы поняли его так, как будто оно включает в себя полный реля-
тивизм, тогда нам следовало бы прекратить физические сравнения
1 Westermark Е. Ethical Relativity. London, 1932. Как недавно ука-
зал мне Джеральд Холтон, первоначально сам Эйнштейн пе пользовался
термином «относительность», описывая в своей раппей работе электроди-
намику движущихся тел. Скорее он говорил о своем подходе как о теории
инвариантов; интересно поразмыслить над тем, оказали бы его идеи какое-
-либо влияние, если бы он придерживался этого описания повсеместно.
Ибо тогда становится ясно, что в его собственном подходе, по существу,
речь идет об открытии инвариантов в различных «системах координат», и,
следовательно, он противоположен всякому приравниванию «относительно-
сти» и «релятивизма».
102
различных систем координат как бессмысленные. Однако заклю-
чение Эйнштейна состояло ио в этом. Напротив, оп намеревался
установить общие беспристрастные процедуры, чтобы производить
именно эти сравнения *.
В конце концов Эйнштейн был физиком. Он никогда не смог
бы относиться к пространственно-временным величинам таким
образом, как будто их можно сравнивать только в одной системе
координат, ибо это означало бы отказ от его основополагающих
обязательств как натурфилософа. Вместо этого он разработал но-
вые уравнения для того, чтобы преобразовать в соответствии с
требованиями одной «системы» измерения прежние, первоначаль-
но сделанные относительно различных систем координат. В ре-
зультате теперь пространственно-временные су/кдения, сделанные
в различных системах, можно с уверенностью «преобразовы-
вать», не сталкиваясь с теоретическими затруднениями, которые
начали причинять такое беспокойство более ранним, «галилеев-
ским» преобразованиям. Таким образом, несмотря на то, что дей-
ствительное содержание наших пространственно-временных су-
ждений зависело от определенной системы, к которой они отно-
сились, были созданы рациональные процедуры для того, чтобы
сравнивать величины относительно различных систем.
Наша собственная проблема, по существу, имеет тот же са-
мый вид. Несмотря на то что все понятия и суждения следует
рассматривать «относительно» проблем и традиций соответству-
ющих им сред обитания, нет никаких причин впадать в реляти-
визм или отвергать межконтекстуальные суждения как бессмы-
сленные. Еще раз подчеркну, что мы не должны смешивать серь-
езное затруднение с формальной невозможностью, потому что,
отказываясь от нашей проблемы как от принципиально неразре-
шимой, мы тем самым будем пренебрегать своими собственными
обязательствами, которые мы взяли па себя в качестве филосо-
фов. Практический пример деятельности Эйнштейна, как и по-
вседневные юридические процедуры, скорее должен вдохновить
нас на то, чтобы рассмотреть, какие рациональные процедуры
обойдут те реальные практические затруднения, с которыми мы
сталкиваемся из-за различий в культурных и исторических сре-
дах обитания. Конечно, мы не должны ожидать слишком много-
го. Некоторые из суждений различных сред обитания, несомнен-
но, окажутся по-настоящему несовместимыми, тогда как другие
сравнения могут быть отброшены как искусственные или непра-
вильные. («Был ли характер Брута более благородным или менее
благородным по сравнению с глубиной научной проницательно-
сти Кеплера?») Вполне достаточно будет показать, что иногда и
при соответствующих обстоятельствах рациональные пере-
крестные сравнения могут быть осмысленными. Конечно, вопре-
ки этому существуют «рациональные инициативы», в которых
1 См.: Эйнштейн А. и Ипфельд Л. Эволюция физики, ч. III.
103
идеи различных эпох и культур могут быть описаны совершенно
правильно как более или менее хорошо «установленные», «аде-
кватные», «отличительные», «истинные» или «рационально обо-
снованные»; опи могут быть описаны в этих терминах, не превра-
щаясь при этом в простую рационализацию того узкого пред-
почтения, которое мы отдаем нашим собственным современным
стандартам. Если мы сможем понять — в общих терминах,— как
нужно делать такие сравнения хотя бы в одном случае, этого
было бы достаточно, чтобы продемонстрировать, что относитель-
ность наших понятий и рассуждений является источником суще-
ственных, но разрешимых проблем, а не абстрактных и неизбеж-
ных парадоксов.
1 (3) Даже сегодня релятивизм остается весьма привлекатель-
ным в одной самостоятельной области интеллектуального иссле-
дования, а именно в самой антропологии. Ибо работающий антро-
полог в каждом действительном случае должен решать, насколько
ему следует в преходящих суждениях о рациональной аде-
кватности действий и обычаев племен уделять внимание своим
собственным идеям рациональности, а насколько — тем сообра-
жениям, которые считались рациональными в племени, которое
он изучает. Если племя с давней традицией симпатической ма-
гии настаивает на применении гомеопатической медицины, пред-
почитая ее аллопатическим лекарствам, должен ли антрополог с
।необходимостью принять это в качестве «рационального» поведе-
ния? Несомненно, члены племени предложат собственные основа-
ния своего поведения — основания, которые кажутся им хороши-
ми и достаточными,— однако какую позицию должен занять сам
антрополог, обсуждая адекватность этих процедур? Сталкиваясь
с этим вопросом, антропологи в течение длительного времени
испытывали искушение переменить тему разговора. Легче было
выбрать релятивистский путь — рассматривать только то, что
считалось рациональным в каком-то определенном племени, и из-
бегать вопроса о том, была ли эта позиция здравой или нет, хо-
рошо обоснованной или безосновательной. Следовательно, в тече-
ние долгого времени этот вопрос отклоняли как незаконный или,
во всяком случае, как не имеющий никакого отношения к антро-
пологии. Действительно, только недавно антропологи-профессио-
налы стали обсуждать эту проблему эксплицитно и аналитиче-
ски, различая разнообразные контексты и цели, в которых и ради
которых можно поставить проблему рациональности
Повторяю, элементарный философский ход, на первый взгляд,
обещает избавить нас от нашей проблемы. Конечно, можно дока'
зать, что мы должны различать два разных подхода к проблеме
1 См.: Rationality, ed. В. R. Wilson, Oxford, 1970, особенно гл. 9 «Неко-
торые проблемы рациональности», написанную Стивеном Лукесом и пер-
воначально опубликованную в: «Archives Europeennes de Sociologie», 1967,
VIII, 247-264.
104
рациональности и, следовательно, два разных смысла, в которых
можно употреблять термин «рациональное». Мы можем выбрать
строго фактический подход, и в этом случае наше применение
этого термина будет чисто описательным; тогда мы просто опи-
шем, как в различных обществах или племенах получают или
должны получать интеллектуальные и практические сужде-
ния — именно в том суть дела. Как альтернативу мы можем вы-
брать оценочный подход, и в этом случае наше применение этого
термина соответственно будет предписывающим; тогда мы будем
устанавливать правила, чтобы решить, как, с пашей точки зре-
ния, другие люди должны приходить к своим собственным су-
ждениям — именно в этом должна заключаться суть дела. Только
в том случае, если мы примем во внимание разницу между дву-
мя этими подходами, мы можем избавиться от беспокойства.
В качестве антропологов-эмпириков мы можем ограничиться
фактической стороной рациональности в описательном смысле.
Если мы захотим, далее, поставить проблему рациональности в
ее ином, предписывающем смысле, то мы поднимем тогда пробле-
му ценности и будем действовать как моралисты или логики, но
не как антропологи.
Однако в какой степени антропологи могут остаться на почве
чисто фактографического подхода и отклонить все оценки как не
относящиеся к делу пли непрофессиональные? Можно доказать,
что это самоотрицание и беспомощно, и не нужно. Во-первых,
оно отвлекает внимание от сферы собственно антропологических
вопросов в целом, то есть от вопроса действительной степени те-
рапевтического успеха, достигнутого симпатической магией или
гомеопатической медициной, и, следовательно, от тех мотивов, по
которым племя сохраняет такие методы, несмотря на их сравни-
тельно малую эффективность. Действительно, если только антро-
полог случайно не готов к тому, чтобы, оставаясь в тени, оцени-1
вать обычаи племени в своих собственных терминах, едва ли он
может надеяться понять все значение этих обычаев даже для са-!
мого племени. Не нужна и исключительная занятость «фактиче-
скими» вопросами. Возможность различать «факты» и «ценно-
сти» не обязывает нас считать их полностью раздельными терми-
нами. Напротив, как напоминает нам пример общего права,
имеются вполне надежные способы прийти к оценочному заклю-
чению «в свете» фактических данных.
Действительно, традиция общего права твердо основывается
на методе «прецедентов», в котором постоянно обращаются к
«утверждениям о факте» как к единственной, но достаточной ос-
нове для «суждений о ценности». Правда, на формальном или
функциональном уровне аргументация общего права признает
теоретическое различие между оценками и фактами. Законная
рила вердиктов и постановлений, решений и наказаний, когда
105
опп провозглашаются впервые, недвусмысленно является предпи-
сывающей: в таких случаях их цель заключается именно в том,
чтобы возложить па кого-либо вину или ответственность и пред-
писать взыскания и наказания. Однако впоследствии те же са-
мые решения становятся пунктами судебного протокола, которые
впоследствии приводятся как исторические «факты». В качестве
таковых их обсуждают и критикуют, на них ссылаются, их ком-
ментируют, если пользоваться дескриптивными идиомами. Так,
когда ссылаются на законодательные прецеденты, которые имеют
отношение к какому-нибудь современному делу, их обычно пред-
ставляют в форме декларативной идиомы: «Апелляционный уго-
ловный суд в 1935 году постановил то-то и то-то»,— несмотря на
то, что непосредственная функция этих «фактуальных» высказы-
ваний нормативная, направляющая суд к определенному ре-
шению Ч
В этой двойственности пет ничего таинственного. В конце
концов какова центральная цель «обращения к прецедентам»?
Она состоит в том, чтобы вводить судебный опыт прошлого та-
ким образом, чтобы оп направлял судебную практику в настоя-
щем. Конечно, в аргументах обычного права фактуальные выска-
зывания никогда не приравниваются к нормативным. Не будет
никакого внутреннего противоречия, если мы скажем: «Это реша-
лось таким-то образом в параллельном случае, но в настоящем
деле это должно решаться по-другому». Скорее историческая ре-
гистрация прошлых решений создает прочную презумпцию на
будущее. Критическое сравнение с прошлыми решениями уста-
навливает правила презумпции для будущих решений в анало-
гичных случаях; и эти правила отвергаются только тогда, когда
можно выдвинуть специфические основания для опровержения
созданных таким образом презумпций. Действительно, в судах
именно это приводит к тому, что аргументы общего права при-
обретают обязательную силу, что фактические соображения ста-
новятся юридически релевантными, а исторически более ранние
судебные решения в целом начинают служить в качестве пре-
цедента.
Позвольте в заключение сформулировать положение, к кото-
рому мы еще должны будем вернуться в дальнейшем. Основания
сравнительной законодательной аргументации с особенной глуби-
ной были проанализированы Оливером Уэпделлом Холмсом в его
книге «Общее право». Холмс доказывает, что вплоть до опре-
деленного пункта юридическая аргументация действует в полном
смысле слова рутинно, постоянно обращаясь к установленным
правилам и прецедентам. Однако на более глубоком уровне ее
характер радикально изменяется. Когда опа подходит к грани-
цам принятых правил, судебная аргументация приобретает но-
1 Ср.: Gottlieb G. The Logic of Choice. L., 1968; Hart H. L. A. The
Concept of Law. Oxford, 1961.
100
вый, более «функциональный» характер. Несмотря па опасность
анахронизма, можно даже описать данное Холмсом объяснение
самых глубоких оснований судебной аргументации, которое изла-
гает своего рода «юридическую экологию» *. Как только мы вы-
ходим за пределы компетенции современных принципов и мето-
дов, спрашивает он, что еще нам остается делать, если не рас-
сматривать, как при изменении социальной и исторической си-
туации то или иное расширение современных процедур лучше
всего послужит истинным целям права? А природа происходяще-
го в результате исторического процесса — того способа, которым
юридические понятия возникают, развиваются и в конце концов
отвергаются благодаря повторному применению и развитию про-
цедур в новых, непредвиденных ситуациях,— подробно подтвер-
ждается документами в таких книгах, как, например, книга
Эдуарда Леви «Введение в юридическую аргументацию» 1 2.
Наш собственный общий анализ рациональной аргументации
последует в сходном направлении. Мы будем доказывать, что ра-
циональность имеет свои собственные «суды», в которых все
здравомыслящие люди с соответствующим опытом правомочны
действовать как судьи или присяжные. В различных культурах п
эпохах аргументация может действовать по разным методам и
принципам, так что различные среды обитания представляют, так
сказать, параллели «юрисдикций» рациональности. Но это проис-
ходит потому, что они разделяют интересы с общими «рацио-
нальными предприятиями» точно так же, как юрисдикции —
с общими судебными предприятиями. Следовательно, если мы
поймем, как в рациональных предприятиях, которые являются
локусами концептуального критицизма и изменений, новые поня-
тия вводятся, исторически развиваются и доказывают свою цен-
ность, то мы можем надеяться идентифицировать более глубокие
соображения, из которых подобные концептуальные изменения
выводят свою «рациональность». Как и в юриспруденции Хол-
мса, наш анализ концептуального развития сосредоточится на
«экологических» отношениях между коллективными понятиями
1 См.: Commager Н. S. The American Mind, New Haven, 1950, гл. 18,
особенно с. 376, 378 и 386—388, где он часто ссылается на: Holmes О. W.
The Common Law. Кроме того, обратите внимание на мудрое замечание
судьи Холмса: «Настоящее время имеет право па самоуправление, на-
сколько это возможно... Историческая преемствепная связь с прошлым —
это не долг, а только необходимость» (Collected Legal Papers. New York,
1920, p. 139. — In: American Constitucional Law: Historical Essays, ed. Le-
vy L. W. N. Y., 1966, p. 3). Если бы мы должны были прочитать слово
«необходимость» из этой цитаты в традиционном философском смысле, оно
произвело бы впечатление совершенно неуместной иронии, подобно извест-
ному описанию ситуации в распадающейся Австро-Венгерской империи как
«отчаянной, но несерьезной». Мы снова рассмотрим в пашей работе смысл
данного Холмсом понятия «необходимость» гораздо позже, в части III.
2 См. выше, с. 101, си. 1; об отношении между антропологией и законом
см. также симпозиум: Law in Culture and Society, ed. Laura Mader. Chicago,
1969.
107
людей и изменениями ситуаций, в которых эти понятия должны
быть введены в действие; для этого мы охарактеризуем общие
процессы, благодаря которым концептуальные популяции разви-
ваются исторически, точно так же, как историки общего права
характеризовали историческое развитие правовых понятий. Дав
достаточно полный анализ этих процессов, мы попытаемся пока-
зать и то, как в действительности принимаются практические
критерии суждений, принятые в различных предприятиях, п в
то же время — как этй критерии получают свою обязательную
силу, от которой зависит их авторитет.
1.4. Революционная иллюзия
Отказавшись от философского предположения, что человече-
ское понимание неизбежно и универсально должно функциониро-
вать в соответствии с некой системой неизменных принципов,
мы теперь переместили центр тяжести в своих доказательствах.
Почти во всей .интеллектуальной истории устойчивость и универ-
сальность наших фундаментальных форм мышления считалась
надлежащей и естественной; тем феноменом, который нужно или
доказать, или оправдать, были интеллектуальные изменения.
Наша нынешняя позиция меняет ситуацию. Интеллектуальный
поток, а не интеллектуальная неизменность — вот то, чего сле-
дует ожидать теперь; любые постоянные, устойчивые или уни-
версальные черты, которые можно обнаружить в действительно
существующих моделях мышления, становятся теперь теми «яв-
лениями», которые требуют объяснения. Центр тяжести в оправ-
дании сместился настолько, что действительно сомнительной в
нашем коллективном человеческом понимании становится воз-
можность того, что некоторые .интеллектуальные формы, структу-
ры и процедуры в самом деле оказываются универсальными.
Ноэм Хомский, например, утверждал, что все человеческое
мышление и язык обнаруживают определенные универсальные
модели грамматических структур, но это допущение уже не мо-
жет производить на нас впечатление естественного, не требую-
щего доказательств объяснения *. Напротив, это должно быть в
высшей степени удивительным. В то время как философы пред-
шествующих столетий могли видеть неизменные и необходимые
«виды суждения» во всем рациональном мышлении, для нас по-
добная устойчивость не менее таинственна, чем изменчивость.
Следовательно, мы должны не только интересоваться тем, ка-
кие факторы объясняют действительные изменения понятий и
категорий, которые являются культурно-историческими перемен-
1 Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass., 1965;
см. также: Levi-Strauss C. Structural Antropology, Engl, transl. N. Y.,
1963.
108
ними, но и рассматривать, как эти понятия и категории, которые,
как оказывается^ представляют собой лишь культурно-историче-
ские универсалии, могут в конечном счете становиться действи-
тельно всеобщими. Что может избавить эти универсалии от той
изменчивости, которая теперь является общим правилом? Отны-
не всякое допущение об универсальной и инвариантной структу-
ре мышления ,или грамматики требует дальнейшего научного или
исторического объяснения, которое, вероятно, можно дать либо в
нейроанатомическпх терминах, либо путем обращения к их эво-
люционному происхождению, либо в виде отражения общих тре-
бований всей человеческой жизни или же комбинируя все эти
три способа.
Это требование, согласно которому с концептуальной инва-
риантностью и концептуальной изменчивостью нужно обращать-
ся на равных, вынуждает нас порвать со всей кантовской тради-
цией так же резко, как сам Кант порвал с идеями своих предше-
ственников. И именно это заставляет нас с необходимостью отме-
жеваться от всех тех кантианских допущений, которые сохра-
няют свое влияние и по сей день в форме «структурализма» Кло-
да Леви-Стросса, в «необходимых операциях» психологии Пиаже
и во многих других обличьях. Для самого Канта произведенная
им переформулировка проблемы человеческого понимания имела
ту же радикальную простоту и очарование, что и переход к ко-
перниканской астрономии. Неразрешимые задачи традиционной
метафизики в конце концов оказались побочными следствиями
плохо выбранной интеллектуальной точки зрения: из-за непра-
вильной идентификации истинного локуса, или «центра» рацио-
нальности, на философов оказывало давление столько птолемеев-
ских эпициклов, что их можно было рассеять только в том слу-
чае, если бы люди сконцентрировали свой анализ вокруг нового
центра. Однако при всей своей оригинальности и плодотворности
новый «критический метод» Канта, как и всегда, оставлял фило-
софов связанными «неизменными и универсальными» принципа-
ми понимания. Он просто по-новому объяснил происхождение
этих принципов.
В этом отношении Кант совершенно справедливо сравнивал
себя с Коперником, а не с Галилеем или Ньютоном. Ибо в гла-
зах XX столетия его позиция имеет нечто от той же атмосферы
древности, что и система Коперника. Например, его постоянное
допущение, что существование «инвариантных форм разума»
вполне естественно и самоочевидно, напоминает постоянное
допущение Коперника, что традиционные круговые орбиты в пла-
нитарной астрономии совершенны и не требуют дальнейших объ-
яснений. Напротив, ныне настоятельная необходимость евклидо-
вой геометрии и категорического императива самоочевидна не бо-
лее, чем естественное совершенство покоя Земли или вращение
неба. Но параллель между двумя этими учеными заходит гораздо
дальше. Ибо есть основание полагать, что позиция Канта была
109
не более окончательной, чем позиция Коперника. Подобно тому
как Галилей шел дальше Коперника, демонстрируя, что одни и
те же общие кинематические правила управляют и движением, и
покоем, а Ньютон соответственно объяснил их как альтернатив-
ные следствия сходных динамических причин, так и позиция
Канта сейчас нуждается в том, чтобы ее дополнили и завершили
соответствующие теории концептуальной устойчивости и измен-
чивости, кинематики и динамики.
Начиная с XVII века адекватная теория механики должна
была объяснить и движение, и покой в одних и тех же терми-
нах. Поэтому и адекватная теория концептуального развития от-
ныне тоже должна была объяснять и концептуальную устойчи-
вость, и концептуальные изменения при помощи одних и тех же
терминов. В философии интеллекта (познания) у пас имеется не
больше оснований, чем в натурфилософии (физике) считать не-
подвижность самоочевидной, а устойчивость — более «естествен-
ной» или «умопостигаемой», чем изменчивость. Скорее нам нуж-
но показать, как единственный набор факторов и соображений,
взаимодействующих самым различным образом, может быть ис-
пользован для того, чтобы объяснить, почему «формы нашего
мышления и восприятия» — понятия, стандарты рационального
суждения, априорные принципы и прочее — в некоторых слу-
чаях, ситуациях и условиях быстро изменяются, а также для
того, чтобы объяснить, как в других случаях, ситуациях и усло-
виях они действительно могут остаться неизменными.
В целях развиваемой нами в настоящий момент аргументации
этот критерий является решающим, и именно он полностью от-
сутствует в том объяснении концептуального развития, которо-
му отдается самое широкое предпочтение. Это объяснение стро-
ится на различии исторических стадий двух противоположных
типов, которые соответственно рассматриваются как «нормаль-
ная» и «революционная»; наиболее убедительно оно изложено в
книге Т. С. Куна «Структура научных революций», опубликован-
ной в 1962 году4. Эта теория «интеллектуальных революций»
объясняет процессы, происходящие на двух различных стадиях,
в совершенно различных терминах; различие между ними столь
велико, что противоположность между нормальным и револю-
ционным изменением приобрела нечто от той же ложной абсо-
лютности, что и средневековая противоположность между покоем
и движением.
Теорию научных революций в той форме, какую ей придал
Кун, можно считать ответом на вопрос, который был поставлен
Р. Дж. Коллингвудом более двадцати лет назад, но остался не-
1 См.: Кун Т. Структура научных революций, 2-е изд. М., «Прогресс»,
1977.
НО
решенным, а именно: «В каких случаях и посредством каких про-
цессов один набор фундаментальных понятий, или плеяда абсо-
лютных предположений, заменяется другим?» В 50-е годы
XX века этот вопрос снова был поднят и широко обсуждался как
историками и социологами, так и философами. Н. Р. Хэнсон по-
пытался разрешить его в эксплицитных философских терминах в
своей книге «Модели открытия» *; этот вопрос был также темой
моих собственных Пауэлловских лекций в Университете Индиа-
ны в 1960 году, опубликованных в виде книги «Предвидение и
понимание» 1 2, имплицитно оп содержался во многих современ-
ных работах по социологии пауки, например в трудах Роберта
Мертона 3, Бернарда Барбера 4 и Джозефа Беп-Дэвида 5. Однако
здесь будет удобно взять в качестве объекта изучения позицию
Купа, и тогда изменения этой позиции, последовавшие в те-
чение 60-х годов, будут в высшей степени показательны. Именно
эти изменения послужат тому, чтобы подчеркнуть важность
одного более раннего нашего заключения, что выбор между абсо-
лютизмом и релятивизмом кажется неизбежным только в том
случае, если мы принимаем сверхсистематическую точку зрения
на концептуальные отношения в современном интеллектуальном
содержании науки.
Нет прямых доказательств того, что теория Купа была заду-
мана в качестве явного преемника теории Коллингвуда; однако
в любом случае сходные допущения в конце концов вполне
разумно привели к аналогичным выводам. Действительно, пози-
ция Куна в ее наиболее знакомой нам форме обнаруживает такие
близкие параллели с позицией Коллингвуда, что можно составить
словарь для перевода одной из этих теорий на язык другой.
Начнем с Коллингвуда: он проводит фундаментальное различие
между синхроническими (или логическими) отношениями, соеди-
няющими предположения какой-либо одной определенной куль-
туры, стадии или эпохи, и диахроническими (или исторически-
ми) отношениями, существующими между предположениями по-
следовательно сменяющих друг друга культур, стадий или эпох.
В данной среде обитания люди обычно разделяют своеобразную
плеяду предположений и на фундаментальном уровне действуют
в пределах общей для них концептуальной системы; например,
они могут обсуждать свои разногласия в точных рациональных
терминах. Тогда их совместная задача будет состоять в том, что-
бы сравнивать вспомогательные допущения, от которых зависят
эти разногласия; и именно потому, что более фундаментальные
1 Н a n s о n N. R. Patterns of Discovery. Cambridge, Eng]., 1958.
2 Toulmin S. Foresight and Understanding. London and Bloomington,
Indiana, 1961. (В дальнейших ссылках упоминается как Foresight.)
3 См., например: Merton R. К. Social Theory and Social Structure, rev.
ed. N. Y., 1957, part V.
4 См., например: Barber B. Science and the Social Order. N. Y., 1952.
5 См., например: Ben-Da vid J. The Scientific Role: Conditions of its
Establishment.— «Minerva», 1965, 4, 15—54.
Ш
понятия принадлежат им всем, у них будет общий словарный за-
пас для споров и общие процедуры для решения своих разногла-
сий. Напротив, в моменты перехода от одной интеллектуальной
эпохи к другой данная система мышления уже не может выно-
сить внутренние напряжения и нуждается в замене. Когда это
происходит, абсолютные предположения данной эпохи сами под-
вергаются сомнению и нормальные рациональные споры стано-
вятся невозможными. Больше нет согласованных процедур, что-
бы улаживать разногласия, пли общего словарного запаса, чтобы
их обсуждать. До тех пор пока новая плеяда предположений не
установит своего авторитета, а основные напряжения не будут
элиминированы, нормальные процедуры рационального спора не
будут иметь силы. На этом фундаментальном уровне концепту-
альные изменения можно обсуждать только в терминах бессозна-
тельного мышления, социально-экономических влияний и тому
подобных причинных процессов.
Все эти выводы можно найти — хотя они выражены там дру-
гими словами — в «Структуре научных революций» Куна. Кун,
так же как и Коллингвуд, придает большое значение противопо-
ложности между двумя альтернативными способами концепту-
альных изменений, В течение длительных периодов «нормаль-
ной» науки общепринятые идеи, скажем, в физике, формируются
и становятся доминирующими благодаря авторитету всеобщей
господствующей теории, или «парадигмы». Принимая такую па-
радигму, ученые па время определяют круг интеллектуальных
интересов и рациональные стандарты своей специфической обла-
сти исследования — какие вопросы поднимут, какие формы объ-
яснения будут приняты, какие интерпретации будут считаться
законными. В этом отношении парадигма играет ту же самую ло-
гическую роль, что и плеяда абсолютных предположений. Уче-
ные, подчиняющиеся в своей работе интернациональному автори-
тету какой-либо парадигмы, затем образуют школу, очень похо-
жую на художественную. В научной школе этот разделяемый
всеми каркас идей обеспечивает общепринятый словарный запас
для выражения теоретических разногласий и согласованные про-
цедуры для их решения до тех пор, пока эти разногласия не
углубятся до такой степени, чтобы бросить вызов авторитету са-
мой парадигмы. Следовательно, большинство научных изменений
осуществляется путем консолидации, контролируемой в конечном
итоге авторитетом самой принятой парадигмы. Но совершенно
случайно это нормальное развитие прерывается периодом кризи-
са. В такие периоды общепринятым парадигмам сначала бросают
вызов, а потом отбрасывают их. В результате суверенная интел-
лектуальная власть переходит от одной всеобщей господствую-
щей теории, например от системы механики, установленной Га-
лилеем и Ньютоном, к преемнику, например к механике Эйн-
штейна и Гейзенберга; а разрешение подобного кризиса, по тер-
минологии Куна, представляет собой научную «революцию».
112
Только некоторые из примеров, обсуждаемых Куном в его
книге 1962 года и именуемых «переключениями парадигмы»,
полностью соответствуют модели в духе Коллингвуда; другие
имеют к ней не столь явное отношение. Однако именно они явля-
ются и всеобъемлющими, и катастрофическими в рациональном
отношении по своим следствиям; и Кун посвящает целую главу
обсуждению соперничающих парадигм как «альтернативных
взглядов на мир» *. На этом фундаментальном уровне научная
революция включает в себя полную смену интеллектуального
гардероба. Ес воздействие столь глубоко, что ученый, подчиняю-
щийся авторитету новой парадигмы, не разделяет никаких теоре-
тических представлений с тем, кто все же сохраняет интеллек-
туальную лояльность по отношению к своему предшественнику.
Так как ученым в данном случае недостает общего словарного
запаса, они не могут ни общаться друг с другом по поводу
своих разногласий, ни формулировать общие теоретические темы
для обсуждения и исследования. Каждый человек в конце концов
«видит» мир так, как это согласуется с его собственной схемой,
или гештальтом. Ибо то, что он «видит», когда, скажем, смотрит
в микроскоп, будет управляться не только структурой его глаз и
инструментов, но ,и его специфической теоретической парадиг-
мой; именно она определит, «как видится» какой-либо отдельный
образец, скажем, увидит ли его соответствующий ученый как ткань
или как глобулу, как пузырчатый мешочек или как клетку с яд-
ром.1 2 Таким образом, идеалистическая теория познания побу-
ждает Куна принять также и идеалистическую теорию вос-
приятия.
Следовательно, с классической революционной точки зрения
«нормальный» научный рост и «революционное» изменение пол-
ностью противоположны. Нормальная наука не включает неиз-
бежного понимания между соперничающими учеными, не при-
водит она и к радикальным изменениям гештальта нашего
чувственного опыта. Ее задачи, по существу, сводятся к консоли-
дации всех ученых, относящихся к определенной школе, действу-
ющих согласно общей системе рациональных основополагающих
правил. С другой стороны, в подлинной научной революции за-
мена одной фундаментальной парадигмы другой представляет со-
бой абсолютную и полную смену. В таком случае новая мысль
полностью изгоняет старую; если дела обстоят именно таким об-
разом, то основания замены старой мысли новой нельзя объяс-
нить на языке ни одной из систем. Подобно людям, связанным
различными плеядами абсолютных предположений, новый и ста-
рый мыслители не имеют общего словарного запаса для сравне-
ния рациональных претензий соответствующих теоретических по-
1 См.: Кун. Цит. соч., гл. X.
2 См.: Architecture, особенно с. 342 и далее, и связанный с книгой
фильм: «The Perfection of Life».
ИЗ
зицпй. Тогда, например, физпка-ныотонианца, связанного идеа-
лом создания механических объяснений для всех физических
явлений, будет отделять от типичного физика XX столетия нечто
большее, чем ход времени и нормальная последовательность но-
вых эмпирических открытий. Их будут также разделять и кон-
цептуальные барьеры, которые, если только применимо полное
определение «революционного» изменения, нельзя преодолеть
рациональным путем. То, что они связаны несовместимыми па-
радигмами, отражается затем в неизбежном взаимном непони-
мании.
При такой буквальной интерпретации объяснение Куна имеет
тот же релятивистский подтекст, что и теория Коллингвуда. До-
стоинства интеллектуальных «революций» нельзя обсуждать или
оправдывать в рациональных терминах, так как ни один общий
набор процедур, необходимых для суждений об их рационально-
сти, неприемлем и даже непонятен для обеих сторон, принима-
ющих участие в споре. Следовательно, соображения, действую-
щие в процессе революционных изменений, по-видимому, нужно
интерпретировать как причины или мотивы, а не как основания
или оправдания. Только после того, как победоносная новая па-
радигма будет прочно возведена на престол, а власть ее станет
общепризнанной, можно будет восстановить правление рацио-
нальности. Как раньше для Коллингвуда, «рациональные про-
цедуры» науки — это вторичные авторитеты, чьи предписания
имеют влияние благодаря суверенитету первичных интеллекту-
альных сил, будь то парадигмы или абсолютные предположения.
Таким образом, передача суверенной власти и авторитета от
одной парадигмы к ее преемнице имеет место на самых передо-
вых рубежах рациональности. Они скорее устанавливают новые
каноны научной рациональности, а не согласовывают уже утвер-
дившиеся каноны или процедуры. К новой структуре фундамен-
тальной теории нельзя прийти само собой, «рациональным пу-
тем» или «по правилам». Парадигмы — это суверены; они творят
свои собственные законы.
Мы уже говорили, что эти выводы применимы к действитель-
ному «переключению парадигм» или к концептуальному измене-
нию в тех, и только в тех случаях, которые соответствуют
полному определению «научной революции», включающее в
себя усвоение совершенно нового мировоззрения. И первый во-
прос, который мы должны поставить, заключается в следующем:
действительно ли любое теоретическое изменение в данной науч-
ной дисциплине всегда приводит к столь радикальному перерыву
преемственности, другими словами, не преувеличивает ли это
полное определение глубину концептуальных изменений, дей-
ствительно происходящих в естественных науках? Если мы сде-
лаем упор на этом вопросе, мы сразу же будем вынуждены от-
114
носительно доктрины интеллектуальных революций, рассматри-
ваемой в качестве теории концептуальных изменений, сделать
те же оговорки, которые мы раньше делали по отношению к док-
трине абсолютных предположений Коллингвуда, рассматривае-
мых в качестве объяснения структуры концептуальных систем.
Какие примеры могли бы мы выбрать в качестве возможных
иллюстраций таких тотальных изменений в научном мировоззре-
нии? Двумя многообещающими кандидатурами являются: пере-
ключение с докоперпиковской астрономии на новую науку Гали-
лея и Ньютона, которое было темой первой, исторической книги
Куна \ и более современное переключение с классической физи-
ки Ньютона и Максвелла на релятивистскую и квантовую физи-
ку Эйнштейна, Гейзенберга и их преемников, на котором Кун
также построил обширное историческое исследование1 2. Однако
ни в одном из этих случаев разработанная революционная схема
не соответствует фактам. Например, изображение переключения
с ньютоновской физики на физику Эйнштейна как полного пере-
рыва рациональной преемственности выглядит карикатурно.
Даже поверхностный обзор влияния Эйнштейна на физику пока-
жет, в какой малой степени его достижения служат примером
настоящей научной революции. В такой высокоорганизованной
науке, как физика, каждая предложенная модификация, как бы
фундаментально опа пи угрожала изменить концептуальную
структуру субъекта, обсуждается, оспаривается, обосновывается
и критикуется очень долго, прежде чем ей доверят и включат ее
в устоявшееся ядро этой дисциплины. Действительно, чем более
радикальными и всеобъемлющими являются предложенные тео-
ретические изменения, тем более тщательным и продолжитель-
ным обычно бывает это обсуждение. Задолго до того, как физики,
связанные различными парадигмами, совсем перестанут пони-
мать друг друга,— а именно такое состояние дел, как полагают,
является характерной чертой развившегося «революционного
кризиса» в пауке,— такие фундаментальные преобразования, как
преобразования Эйнштейна, должны быть оправданы более серь-
езными соображениями, чем те, которые действуют в интеллек-
туальном мире там, где на карту поставлено гораздо меньше.
Именно этот пункт является решающим. Вспомним: согласно
разработанному объяснению подлинной научной революции, обе
затронутые партии (то есть физики-ныотопиапцы и физики-
эйнштейнианцы) не имеют ни общего языка для теоретических
дискуссий, ни согласованных процедур для сравнения результа-
тов. Однако о чем же свидетельствуют действительные факты?
Профессиональная карьера многих физиков-теоретиков охваты-
1 Kuhn Т. S. The Copernican Revolution. Cambridge, Mass., 1957, осо-
бенно гл. 5, 6.
2 См. записанные Куном беседы с рядом ведущих физиков XX века,
депонированные в архивах Американского института физики.
115
вала период с 90-х годов XIX века до 30-х годов XX века, и эти
люди жили в то время, когда имело место обсуждаемое переклю-
чение. Если бы действительно имелся какой-нибудь перерыв в их
общении, что-то вроде того, что ожидается в подлинно научной
революции, то мы могли бы документально подтвердить это, ис-
ходя из показаний этих физиков. Что же мы находим? Если та-
кая революция была, то любопытно, что люди, непосредственно
затронутые ею, не сознавали этого ’. После того как это случи-
лось, многие из них четко объясняли, какие соображения побу-
дили их переключиться с классической позиции на релятивист-
скую; и в их сообщениях эти соображения служат основаниями,
которые оправдывали изменение их позиций, а не просто моти-
вами, которые их обусловили. Ретроспективно они не считали
переключение простой интеллектуальной переменой фронта, ко-
торую следует описывать, пожимая плечами и декламируя свое
отречение: «Я больше не могу видеть природу такой, какой ви-
дел ее раньше...» Не считали они это и результатом нерацио-
нальных, или причинных, влияний: «Эйнштейн был весьма прин-
ципиален, утверждая...» либо: «Я обнаружил, что изменяюсь, сам
не зная почему...», либо: «Моя работа заслуживала именно это-
го...» Скорее они представили аргументы, которые санкциониро-
вали изменение их теоретической точки зрения.
Очевидно, в таком случае, что переключение от физики
Ньютона на физику Эйнштейна было чем-то большим, чем про-
цесс бессознательного мышления или радикальный переход к со-
вершенно новому мировоззрению. Следовательно, тот пример
научной революции, которому Кун придает наибольшее значе-
ние, не может служить иллюстрацией его определения. Не лучше
иллюстрирует развитую революционную спецификацию и дей-
ствительное историческое описание переключения с докоперни-
канской физики па ньютоновскую. Правда, ученый XIV века, по-
добный Брэдуардину, первоначально счел бы очень трудным
установить интеллектуальный контакт с астрономом-ньютониан-
цем XVIII века, подобным Лапласу. Совокупный результат кон-
цептуальных изменений, происходивших в физике и астрономии
на протяжении 450 лет, прежде всего сделал бы затруднитель-
ным понимание вопросов, стоявших перед каждым из них, не го-
воря уже о соответствующих ответах. Однако означает ли это,
что пропасть между их теоретическими позициями непреодолима
рационально? Были ли Коперник и Галилей, Кеплер и Ньютон
авторами совершенно новой и всеобъемлющей парадигмы, чье
новое мировоззрение порвало все интеллектуальные связи с фи-
1 См., например: Plank М. A Scientific Autobiography. L., 1950.
Б о р п М. Физика в жизни моего поколения. М., ИЛ, 1963, а также интел-
лектуальную автобиографию Эйнштейна в: Albert Einstein, Philosopher-
Scientist, ed. P. A. Schilp. Evanston, Ill., 1949. (Русск. перев.: Эйнштейн и
современная физика. М., ИЛ, 1963. — Ред.)
116
зпкой более ранних эпох? Повторяю, это карикатура на дей-
ствительные факты.
В этом вопросе труды Т. С. Куна-историка служат лучшим
комментарием к теориям Т. С. Куна-философа и социолога. Kai;
выясняется в его историческом анализе, так называемой «копер
нпканской революции» потребовалось для своего завершения
полтора столетия, причем каждый шаг этого пути оспаривался.
Правда, мировоззрение, которое сложилось в результате этих
споров, имело мало общего с более ранними докоперниканскими
концепциями. Однако какими бы радикальными пи были конеч-
ные изменения физических и астрономических идей и теорий,
они представляли собой результат непрерывной рациональной
дискуссии и не подразумевали несоизмеримости интеллектуаль-
ных методов физики и астрономии. Если люди в XVI—XVII ве-
ках изменили свое мнение о структуре планетарных систем, их к
этому не вынуждали, не побуждали и не склоняли; у них появи-
лись основания поступить именно таким образом. Словом, они не
были вынуждены обратиться к коперниканской астрономии; их
должны были убедить аргументы.
Далее, строгое определение «интеллектуальной революции» в
науке, если его принять за чистую монету, сталкивается с теми
же парадоксами, что и теория абсолютных предположений Кол-
лингвуда. Соответственно, если мы хотим, чтобы теория парадигм
и революций соответствовала действительным историческим дан-
ным, мы можем добиться этого лишь при одном условии. Нам не-
обходимо учесть, что переключение парадигмы никогда не бывает
таким полным, как это подразумевает строгое определение; что
в действительности соперничающие парадигмы никогда не равно-
сильны альтернативным мировоззрениям в их полном объеме и
что за интеллектуальным перерывом постепенности на теорети-
ческом уровне науки скрывается основополагающая непрерыв-
ность на более глубоком, методологическом уровне. В заключение
мы должны задаться вопросом, не является ли само по себе упо-
требление термина «революция» применительно к таким концеп-
туальным изменениям чисто риторическим преувеличением?
Два ключевых понятия в объяснении Куна — «парадигма» и
«революция» — в действительности разделены и независимы друг
от друга и по своему смыслу, и по своему историческому проис-
хождению. Первоначально те, кто поддерживал доктрину пара-
дигм, ни в коем случае не придерживался революционных взгля-
дов на переключение парадигм; вся теория интеллектуальных
революций будет навязана нам только в том случае, если мы ис-
толкуем термин «парадигма» как эквивалент выражения «концеп-
туальная система», понимаемого в «логическом смысле» тради-
ционной философии.
117
Аналитическая идея, согласно которой сеть объяснений в фи-
зике строится вокруг некоторых фундаментальных моделей объ-
яснения (paradeigmata), в действительности весьма древняя.
Георг Христоф Лихтенберг, который был профессором натураль-
ной философии в Гёттингене в середине XVIII века, ввел тер-
мин paradeigma именно в этих целях. (Это был период, когда за-
кладывались также основы современного грамматического анали-
за, и этот термин параллельно использовался в лингвистике, ко-
гда говорили о стандартных формах спряжения глаголов, склоне-
ния существительных и т. д.) Лихтенберг доказывал, что в фи-
зике мы объясняем загадочные явления, соотнося их с некоторой
стандартной формой процесса, или парадигмой, которую мы го-
товы принять в данный момент в качестве не требующей объяс-
нения. В период расцвета кантианской и гегелевской философии
эта идея временно ушла в тень, по была воскрешена в конце
XIX столетия, когда работа Лихтенберга оказала такое же осво-
бодительное влияние на гсрмапоязычных философов, как работа
Дэйвида Юма — на англоязычных. Например, Эрнст Мах считал,
что Лихтенберг оказал решающее влияние на его собственную
эмпирическую теорию восприятия ь, в то же время термин «па-
радигма» был возрожден Людвигом Витгенштейном, который
применил его и согласно его первоначальному назначению в фи-
лософии науки, и в более общем плане — как ключ к пониманию
того, каким образом философские модели, или стереотипы, дей-
ствуют в качестве шаблонов или, говоря на языке инженеров,
«зажимов», формирующих и направляющих наше мышление в
предопределенных, а иногда и в совершенно неподходящих на-
правлениях 1 2. В этой форме термин «парадигма» включился в
общую философскую дискуссию сначала в Британии, а затем и в
Соединенных Штатах, куда он проник в начале 50-х годов
XX века.
В философии науки теория парадигм исследовалась в 30-е го-
ды XX века учеником Витгенштейна У. Г. Уотсоном в его книге
«О понимающей физике» 3, а позже — Хэнсоном и мною. (На-
пример, этот термин часто фигурировал в «Предвидении и пони-
мании», где я связывал его с близким ему понятием «идеалов
естественного порядка», к которому мы еще вернемся в последу-
ющих очерках.) Однако ни в одном из этих контекстов не под-
разумевалось, что изменения парадигмы с необходимостью про-
исходят резко, с перерывом постепенности, или «революцион-
1 См. интеллектуальную автобиографию Маха в: Die Leitgedanken meh
пег naturwissenschaftlicher Erkenntnislehre. — «Physikalischer Zeitschrift»,
1910, 11, 599—606, перепечатано в: Physical Reality, ed. Stephen Toulmin.
N. Y., 1970, особенно c. 38, ch. 6.
2 Этот термин постоянно повторялся в его Кембриджских лекциях
(1938—1947); см. например, заметки: Rhees R. — «Philosophical Review»,
1968, 77, 271—320, особенно с. 274.
3 W a t s о n W. Н. On Understanding Physics. Cambridge, Engl., 1938.
118
ным» путем. Напротив, все интересующиеся этим вопросом фило-
софы отвергали этот вывод; было совершенно очевидно, что для
таких изменений можно дать разумные обоснования, и ничего бо-
лее теория парадигм не должна была подразумевать. Таким обра-
зом, теория научных революций совершенно не зависима от тео-
рии парадигм. Именно она, а по термин «парадигма» является
отличительной чертой анализа Куна, и мы должны гораздо вни-
мательнее изучить те изменения, которые Кун вносил в употре-
бление термина «революция» в своих последующих объяснениях
перемен в науке.
Применение им этого термина прошло пять различных ста-
дий. Хронологически они представлены следующим образом:
(1) его исторической работой «Коперниканская революция»
(2) первым публичным раскрытием тайн теории революций, при-
нятой в качестве теории объяснения, в Уорчестер-колледже,
Оксфорд, летом 1961 года1 2; (3) первым изданием «Структуры
научных революций», в значительной своей части написанной
раньше, но опубликованной только в 1962 году 3; (4) рядом про-
межуточных статей, написанных в ответ на критику его теории
и опубликованных между 1965—1969 годами4; (5) его послед-
ними переработанными и исправленными взглядами, представ-
ленными в сделанном им дополнении ко второму изданию
«Структуры» 5 и в его «Размышлениях по поводу моих крити-
ков», опубликованных в материалах симпозиума «Критицизм и
рост знаний» 6 (обе публикации появились в 1970 году).
(1) На первой исторической стадии Кун употреблял слово
«революция» чисто описательно, и его смысл в большинстве слу-
чаев заключался в профилактике. Называя революцией переклю-
чение с докоперниканской науки на ньютонианскую, он совсем
не объяснял пи того, как имеппо происходило это переключение,
ни того, какие интеллектуальные процессы оно вызвало. Дей-
ствительно, па этой стадии термин «революция» не претендовал
на объясняющее значение. Он просто отмечал глубокие перемены
в интеллектуальной лояльности людей на теоретическом уровне
1 The Copernican Revolution. Cambridge, Mass.. 1957.
2 The Function of Dogma in Scientific Research. — In: Scientific Change,
ed. A. C. Crombie. L., 1963, p. 347 ff.
3 The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, 1962. (Русск. перев.:
К у н T. Структура научных революций, 2-е изд. М., «Прогресс», 1977.—
Ред.)
* См., например, статью Logic of Discovery or Psychology of Research,
первоначально подготовленную для сб.: The Philosophy of Karl Popper
и доложеппую в Бедфорд-колледже, Лондон, лотом 1965 г.; опубликована
в переработанном виде в: Criticism and the Growth of Knowledge, ed I. La-
catos and A. Musgrave. Cambridge, Engl., 1970, p. 1—23, а также статью,
доложенную Куном на симпозиуме «Структура научных теорий», состо-
явшемся в Иллинойсском университете в 1969 г. (The Structure of Scien-
tific Theories, ed. F. Suppe, Urbana, 1974).
5 Структура научных революций. Дополнение.
®Lacatos and Musgrave (ods.). Op. cit.. p. 231—278.
119
и подвергал сомнению любое «униформистское» допущение, со-
гласно которому интеллектуальный прогресс в пауке всегда зави-
сит, причем так это и должно быть, от применения рутинного
научного метода. Как ранее настаивал Герберт Баттерфилд, одно
лишь эмпирическое наблюдение никогда не привело бы к призна-
нию теории Коперника: для этого нужны были «новые мыслите-
ли» Выбранное Куном название соответствовало этому требо-
ванию.
Следовательно, первоначально описание, скажем, Коперника
и Галилея, Ньютона и Лавуазье, Дальтона и Максвелла, Дарви-
на и Эйнштейна как ученых, осуществлявших революцию в опре-
деленной науке, подразумевало только то, что результатом их
работы была утрата доверия к более старой установившейся си-
стеме теоретических концепций и замена ее другой, основанной
иа новых принципах. Оно нс претендовало на то, чтобы дать от-
вет на те вопросы, которые не смог разрешить Коллингвуд, а
именно на вопросы о том, каким образом (в каких случаях и по-
средством каких процессов) осуществлялся подобный переход.
(2) В докладе, сделанном в Уорчестер-колледже, и в первом
издании «Структуры научных революций» Куп использовал тер-
мин «революция» совершенно по-другому. На этой стадии он
описывал концептуальные изменения как «революционные» яв-
ления, которые соответственно влекут за собой необходимость
дать «революционное» объяснение того, как они осуществляются.
Когда наши научные идеи должны быть перестроены вплоть до
самых основ, доказывал он, действительные процессы изменения
приобретают форму, совершенно отличную от той, которая обна-
руживается в процессе нормальных научных изменений. И по
случаю первого публичного представления своих работ он под-
черкивал это различие, говоря о парадигмах как о «догмах» 1 2.
Роль парадигмы, диктующей неоспоримые принципы, на которых
организуется интеллектуальная лояльность школы ученых, срав-
нивалась с ролью системы теологических догм, на которых стро-
ится лояльность духовных лиц; а переключение парадигмы,
включающее в себя перенос лояльности, или интеллектуальную
конверсию, сравнивалось с таким переключением, которое вклю-
чает в себя низвержение или модификацию теологической догмы.
Это сравнение было провокационным, и провокация удалась.
Но ее можно было сделать привлекательной лишь ценой дву-
смысленности как статуса всей теории Куна, так и его объясне-
ния парадигм. Выдвинул ли он философский тезис об интеллек-
туальной роли парадигм в оправдании рационального основания
нового научного понимания или же он предложил историко-
социологическую гипотезу об убеждающей роли парадигм, со-
действующей их принятию? Соответственно использовал ли он
1 Butterfield Н. The Origins of Modern Science. L., 1957, p. 35.
2 Cm.: Crombie (ed.). Op. cit., p. 347 ff.
120
термин «парадигма» относительно рациональной модели некото-
рых форм теоретического объяснения, чей интеллектуальный ав-
торитет выводится из его собственных проверенных объяснитель-
ных достоинств, или же, скорее, этот термин относится к некото-
рому стандартному представлению о данной теории, изложенному
в классической работе или монографии, чей авторитет выводится
из чьих-то слов, из личного авторитета того человека, который ее
разработал? Неясность в этом пункте сделала доклад Куна в
Уорчестер-колледже излишне парадоксальным, и даже его рито-
рическое сравнение научных парадигм с теологическими догмами
сумело внушить доверие только благодаря утверждению о стира-
нии таких различий.
Если мы достаточно позаботимся о том, чтобы различать, с
одной стороны, авторитет, внутренне присущий упрочившейся
научной теории, а с другой — повелительный авторитет велико-
го ученого, то сравнение парадигм с догмами сразу же теряет
свое очарование. Например, описывая роль ньютоновских идей
в формировании круга интересов физиков XVIII века, Кун в
своих представлениях не делает различий между влиянием, во-
первых, ньютоновских «Начал», которые были основополагаю-
щим документом классической механики, а во-вторых, ньютонов-
ской «Оптики», которая оказала преобладающее влияние глав-
ным образом на физическую мысль XVIII века. Взяв прежде все-
го «Начала», мы можем воспользоваться ими, чтобы проиллю-
стрировать интересный философский вопрос, а именно вопрос о
том, что единственная функция установившейся концептуальной
схемы заключается в определении того, какие модели теории по-
лезны, какие вопросы осмысленны и какие интерпретации прием-
лемы для физика, работающего, скажем, в традициях ньютонов-
ской механики; иными словами, пока теория Ньютона сохра-
няла свой интеллектуальный авторитет, ее принципы могли
служить теоретическим судом последней инстанции, то есть были
«парадигмами». Повторяю, однако, что это был философский во-
прос, отражающий методический характер научных процедур; он
не имел ничего общего с поддержкой любых претензий на то, что
«догма» играет какую-либо роль в науке. Напротив, в период
между 1700 и 1880 годами физики действовали совершенно
разумно и отнюдь не догматически, принимая ньютоновскую ди-
намику в качестве своего предварительного исходного пункта;
тогда, как и теперь, у них всегда была возможность бросить вы-
зов интеллектуальному авторитету фундаментальных ньютонов-
ских понятий. (Это постоянное право на вызов, как настаивает
Карл Поппер ’, является одной пз особенностей, отличающих
интеллектуальные процедуры как подлинно «научные».)
1 См., например: Поппер К. Логика и рост научного знания,
с. 290—324.
121
В альтерпатпвпом плане, если мы в качестве примера возь-
мем «Оптику» Пыотона, мы можем воспользоваться ею, чтобы
проиллюстрировать совсем другой, социологический вопрос, а
именно вопрос о том, что в исторической действительности вто-
ричные или производные ученые, подобные ныотонианцам
XVIII века, стремились увидеть в целостной картине гораздо
меньше, чем изначальные, оригинальные деятели, которые были
их наставниками и вдохновляли их. Хорошо известно, что после-
дователи стремятся ограничить свой интеллект, допуская в каче-
стве имеющих смысл лишь те вопросы и законные интерпретации,
а в качестве приемлемого — лишь тот образ мыслей, которые,
как они считают (верно или неверно), санкционированы приме-
ром того мыслителя, в чьей «школе» они работают. Если гово-
рить в историческом плане, этот недостаток может оказаться
преимуществом, так как он дает великому ученому, например
Ньютону, возможность проявить свой авторитет и, таким обра-
зом, обеспечивает ориентиры, которые надлежащим образом огра-
ничивают людей меньшего масштаба. Однако, повторяю, это во-
прос социологический, а не философский; и мы можем с пользой
обсудить функцию догмы в научном исследовании только на этом
социологическом уровне. Таким образом, в то время как теории
ньютоновской динамики сохраняли свой собственный интеллекту-
альный авторитет вплоть до 80-х годов XIX века и даже позд-
нее, влияние «Оптики» стало уменьшаться уже в конце XVIII
столетия. Действительно, в самом начале XIX века сохранивший-
ся авторитет «Оптики» представлял собой всего лишь влияние
великого ума на умы более заурядные, и то, как ученые-пыото-
нианцы обращались к этому авторитету, все больше напоминало
догматизм. (Нужно только вспомнить, как респектабельные
ньютонианцы реагировали на волновую теорию света Юнга, кото-
рую они отвергали только из уважения к корпускулярным взгля-
дам, разъясняемым Ньютоном, и настаивали на этом даже
после того, как она получила существенное экспериментальное
подтверждение \)
Следовательно, сама по себе практика обоснования теорий па-
радигмами ни в коей мере не является догматической. Если для
того, чтобы проиллюстрировать единую теорию изменений в науке
мы сошлемся и на «Начала», и на «Оптику», мы должны будем
признать, что они служили парадигмами в существенно раз-
личном смысле; и мы должны позаботиться о том, чтобы ува-
жать различие между двумя соответственными видами авторите-
та — интеллектуальным авторитетом, внутренне присущим утвер-
дившейся концептуальной схеме, и повелительным или институ-
циональным авторитетом, которым пользуется господствующий
индивид или школа. И если мы так поступим, мы сразу же уви-
1 Ср.: Whittaker Е. A History of Theories of Aether and Electricity,
revised edn., Vol. I, Edinburgh, 1951, p. 100 ff.
122
дим, что допущение Куна, согласно которому ученые неизбежно
придерживаются своих парадигм в духе догматизма, взятое в его
философском смысле, было в лучшем случае риторическим пре-
увеличением. А это в свою очередь неизбежно ставит вопрос о
том, не было ли описание переключения парадигм как револю-
ций само по себе с самого начала тоже риторическим преувели-
чением?
(3) Знаменательно, что в 1962 году, когда вместе с публика-
цией «Структуры научных революций» состоялось представление
теории Купа в ее полпом выражении, уже не было никаких упо-
минаний о сравнении парадигм с догмами. По-видимому, Кун вы-
брал эту аналогию, когда работал над докладом для Уорчестер-
колледжа, чтобы она послужила «трайлером», прокладывающим
путь для развернутого объяснения его теории. Во всех остальных
отношениях книга имела то же самое направление, что и доклад,
и обнаруживала ту же самую неопределенность. На этой стадии
Кун уже не делал никаких оговорок относительно противопостав-
ления «нормальных» и «революционных» изменений в науке. Со-
ответственно различия между двумя типами затронутых истори-
ческих процессов были ясными, четкими и хорошо определенны-
ми. В периоды «нормальных» изменений все ученые какой-либо
данной школы работали под влиянием общепринятой парадигмы
и были заинтересованы в теоретической консолидации; при этом
они все более расширяли применение одной и той же общей схе-
мы объяснения в своей области исследования в соответствии с
процедурами и моделями теоретизирования, рациональность ко-
торых имела общую для них форму. Напротив, в течение «рево-
люционного» периода ни одна парадигма не пользовалась автори-
тетом, и наука, о которой идет речь, временно находилась в со-
стоянии кризиса; при этом ожидалось появление новых процедур
и моделей понимания, обеспечивающих тот центр, вокруг кото-
рого могла бы образоваться новая научная школа.
Первое, консолидирующее состояние было нормальным, по-
следнее — революционным; и такая авторитетная наука, как фи-
зика, подвергалась научным революциям в полном смысле слова
лишь в совершенно исключительных случаях. Переключение с
докоперниканской науки на новую науку Галилея и Ньютона,
как полагал Кун или как заключали его читатели, было одним
таким изменением, а переключение с классической физики на ре-
лятивистскую квантовую механику — другим. Предполагалось,
что, помимо этих редких и глубоких революционных преобразо-
ваний, отделенных друг от друга двумя пли тремя веками, кон-
цептуальные изменения в физике осуществлялись «нормальным»
способом, руководствуясь какой-либо единственной парадигмой —
аристотелевской, ньютоновской или эйнштейновской. В ре-
зультате изменение в науке, будучи «нормальным» в техниче-
ском смысле, который Кун придавал этому термину, предполага-
лось нормальным также и в другом, более знакомом «обычном»
123
или «привычном» смысле. По-видимому, непрерывный интеллек-
туальный прогресс прерывался «революциями» только в немно-
гих, редких случаях.
(4) В 1962--1965 годах критики Куна делали упор на одном,
главном возражении против его теории. Оно подвергало сомне-
нию применимость этого центрального различия. Ибо действи-
тельно, было ли когда-либо изменение в науке столь революцион-
ным, как доказывал Кун? Если бы его определения применялись
строго, можно ли было вообще найти подлинные примеры «науч-
ных революций»? Потенциально этот вопрос был источником за-
труднений; если бы ни одно действительное теоретическое изме-
нение в науке нельзя было полностью определить термином Куна
«научная революция», то этот факт поставил бы его в затрудни-
тельное положение. Конечно, с течением времени постепенные
изменения в научной теории, аккумулируясь, могут в совокупно-
сти привести к результатам столь глубоким, что ретроспективно
их следует описывать как «революционные», так что не нужно
делать вывод, что в отсутствие резких, четких «революций» все
изменения в пауке, следовательно, были «нормальными» (в спе-
циальном смысле термина Куна). Однако как можно было полу-
чить такие революционные результаты, если их не произвели
«революции»? Такой вывод поставил Куна перед трудным выбо-
ром. Ибо в этом случае он должен был полностью отказаться от
своего объяснения подлинных научных революций или модифи-
цировать его по частям, с тем чтобы первоначальное резкое раз-
граничение между «нормальным» и «революционным» измене-
нием постепенно стиралось.
Впоследствии споры продолжались почти до конца 60-х годов,
и в 1965 году центр тяжести в объяснении Куна переместился.
Вместо того чтобы концентрировать внимание на тех редких слу-
чаях, когда физическая теория реконструировалась полностью,
до самых основ, Кун скорее стал обращать внимание на те слу-
чаи, которые включали не столь резкие концептуальные измене-
ния. Ибо при более близком рассмотрении оказалось, что даже
революции, произведенные Коперником и Эйнштейном, были не
совсем «революционными» в специальном смысле этого термина,
как его употребляет Кун. Таким образом, его теоретическому
объяснению подлинной научной революции пе удалось опередить
действительный опыт затронутых ею наук даже на тех стадиях,
которые приводили к наиболее «революционным» результатам в
привычном, описательном смысле этого слова.
Если бы Кун увидел это противоречие, он, возможно, предпо-
чел бы отказаться от своей первоначальной претензии — объяс-
нить изменения в науке, и заменил бы ее менее радикальной
теорией, в которой научные революции не играли бы никакой
роли. Вместо этого он предпочел идти в противоположном на-
правлении. В 1965 году ему указали на то, что его первоначаль-
ное разграничение между «нормальным» и «революционным» из-
124
менением было слишком резким; но в ответ он начал доказывать,
что в действительности научные революции были не менее, а бо-
лее частыми, чем он признавал раньше *. Возражения его крити-
ков убедили его в том, что науки подвергаются глубоким кон-
цептуальным изменениям не раз приблизительно в 200 лет, а
постоянно. Поэтому он продолжал по-своему описывать теорети-
ческие изменения в науке, сравнивая их с бесконечной последова-
тельностью более мелких революции или, используя новый термин,
«микрореволюций». Каждое серьезное теоретическое изменение
в науке, даже если оно было менее значительным, чем пол-
ное «переключение парадигмы», отныне обязывало пас преобра-
зовывать наши понятия «революционным» способом.
Сначала это изменение выглядело довольно невинно, однако
оно повлияло на самую суть теории Куна. Ибо оно превратило
историческое развитие научной теории в «вечную револю-
цию», даже в тех случаях, которые до сих пор относилисг> .к ка-
тегории «нормальных», и в этом процессе было совершенно поза-
быто основное различие, на котором сначала была построена вся
его теория, а именно различие между темп концептуальными из-
менениями, которые происходят в пределах всеобщей парадигмы,
и теми, которые включают в себя полную смену парадигмы. От-
ныне больше не существовало двух противоположных типов тео-
ретических изменений в науке, одного «нормального», другого —
«революционного». Вместо этого был только непрерывный спектр
прецедентов, каждый из которых имел характер революции, но
это лишь ненамного отличало их от других прецедентов. Таким
образом, первоначальный объяснительный контраст между аль-
тернативными стадиями исторического развития научной теории
шаг за шагом преобразовывался в логическое различие между
(1) темп научными аргументами, которые не включали концеп-
туальных или теоретических изменений и, следовательно, могли
быть представлены в терминах, выведенных из формальной логи-
ки, и (2) теми аргументами, которые включали концептуальные
или теоретические новшества и не могли быть представлены по-
добным же образом. А так как всякое подлинно теоретическое
изменение в науке влечет за собой те или иные концептуальные
нововведения, хотя бы минимальные, то все подлинно теоретиче-
ские изменения в той или иной мере, но явно включали аргумен-
ты второго, «революционного» типа.
(5) Подтверждение тому, что именно к этой цели было направ-
лено развитие теории Куна, наконец пришло в 1970 году вместе
с публикацией второго издания «Структуры научных револю-
ций». Ибо в дополнении к этому новому изданию Кун настаивал
на сохранении первоначальной терминологии — «нормальных» и
«революционных» изменений,— но вместе с тем ввел определе-
ния, которые были призваны ответить на возражения, сделанные
1 См. статью Куна, указанную па с. 119 настоящей кн., сн. 4.
125
в те годы, которые прошли со времени его первых публикаций;
при этом оп явственно раскрыл логический базис, лежащий в ос-
нове его терминологии.
Многие из его читателей (жаловался теперь Кун) слишком
серьезно и буквально восприняли описание переключения пара-
дигмы в его первом издании как «изменение мировоззрения», что
в результате должно было привести к абсолютной рациональной
несоизмеримости научных аргументов. Он никогда не собирался
внушать (протестовал он), что взаимное непонимание между
учеными разных поколений когда-либо было полным; он никогда
не собирался отрицать того, что ученые принимали новую
концептуальную схему, или парадигму, вместо старой, имея на
то серьезные основания. Смена парадигмы была названа «рево-
люцией» только для того, чтобы подчеркнуть, что падежные осно-
вания, выдвинутые в поддержку концептуальных изменений, «не
могут быть облечены в форму, которая полностью была бы иден-
тична логическому или математическому доказательству» 1.
Что же, любой автор волен давать новую интерпретацию за-
явлениям, сделанным им десять лет назад, в свете недоумений
своих читателей. Но в данном случае революционная теория на-
учных изменений, которая ранее была настолько «не понята» Ку-
ном, что стала нуждаться в защите, была гораздо интереснее,
чем это допускает теперь его новая интерпретация, а если бы
именно эта новая интерпретация была справедливой, то его пер-
воначальный выбор термина «революция» стал бы не просто ри-
торическим преувеличением, а чем-то худшим. Ибо это послед-
нее объяснение сводит различие между «нормальными» и «рево-
люционными» изменениями к различию между пропозициональ-
ными изменениями, которые не включают в себя концептуальных
новшеств и, таким образом, прибегают к какому-либо дедуктив-
ному или квазидедуктивному оправданию, и концептуальными
изменениями, которые выходят за пределы всех чисто формаль-
ных или дедуктивных процедур. Интерпретированное подобным
образом любое изменение в науке, каким бы оно ни было, конеч-
но, будет, как правило, иметь в себе и нечто «нормальное», и
нечто «революционное». И если бы этим действительно исчерпы-
валось все, что когда-либо имел в виду Куп, применяя выраже-
ние «научная революция», то выбор этого выражения был бы в
высшей степени дезориентирующим, ибо он просто переодел бы
знакомое (но вневременное) логическое различие в неподходящее
для него фантастическое историческое одеяние. Вместо того чтобы
признавать два исторических типа научных изменений, он просто
указывал на два различных логических аспекта любого теоретиче-
ского изменения в науке.
1 Кун Т. Структура научных революций, с. 259. (В тексте Куна речь
идет не об основаниях концептуальных изменений, а о «вопросе относи-
тельно выбора теории». — Пер.)
126
В таком случае даваемое Купом объяснение научных револю-
ций через несколько лет стало не менее, а более неопределенным.
Подобно Коллингвуду, он начал с признания недостатков тради-
ционной индуктивной логики, которую никогда нельзя было ра-
стягивать настолько, чтобы она охватывала глубокие теоретиче-
ские преобразования, подобные тем, которые были вызваны появ-
лением теории Коперника; па этой стадии термин «революция»
был просто описательной исторической этикеткой. Затем, чтобы
объяснить процессы изменений в пауке, оп предложил историко-
социологическую гипотезу, которая основывалась на фундамен-
тальной противоположности между радикальными (пли «револю-
ционными») и «нормальными» (или консолидирующими) процес-
сами; на этой стадии термин «революция» возвысился до уровня
объяснительной категории. Под давлением противоположных
примеров он постепенно так сильно варьировал свое объяснение,
что в конце концов все подлинно теоретические изменения
можно было охарактеризовать как революционные, лишив, таким
образом, этот термин специфической для него объяснительной
ценности. В своих же окончательных выводах он объяснял, что
противоположность между «нормальным» и «революционным»
подразумевает всего лишь логическое различие между теми за-
ключениями, которым можно дать «дедуктивное оправдание», и
теми, которым нельзя его дать.
Для некоторых читателей эта неопределенность только сдела-
ла аргументы Куна более привлекательными, так как она вынуж-
дала нас уделить больше внимания, чем раньше, отношениям
между естественнонаучными идеями и теми людьми, которые по-
стигали (или оспаривали) эти идеи с тем, чтобы их принять (или
отвергнуть). Как показал Кун, исчерпывающее объяснение кон-
цептуального развития не должно рассматривать понятия чисто
абстрактно, изолированно от тех людей, которые постигают и при-
меняют их; оно должно также соотносить историю идей с исто-
рией людей, включая, таким образом, развитие наших концепту-
альных традиций в эволюцию той деятельности, благодаря кото-
рой эти традиции сохраняются. В то время, когда Кун только
начал писать, большинство представителей философии науки
чрезвычайно опасалось генетических и психологических ошибок.
Работая в качестве историка науки, он мог сделать полезное дело,
заново подчеркнув тесную связь между социоисторическим разви-
тием научных школ, профессий, институтов и интеллектуальным
развитием самих научных теорий.
И все-таки одно дело — восстановить связи, которыми раньше
пренебрегали,— связи между концептуальными изменениями и их
социоисторическими контекстами; и совсем другое дело — полно-
стью идентифицировать интеллектуальные, а тем более логиче-
ские проблемы с социоисторическими. Действительно, чем более
остро осознается взаимная зависимость понятий и их контекстов,
тем более неизбежными становятся некоторые различия, например
127
различия между авторитетом идеи, внутренне им присущим,
и диктаторским авторитетом книг, людей и институтов или раз-
личия между методическим принятием понятий, достоинства
которых уже доказаны, и догматическим принятием понятий, до-
стоинства которых недоказуемы. К сожалению, свойственный Ку-
ну акцент па социологии науки, во-первых, отвлек его от этих не-
обходимых различий, а в конце концов сделал все представление
об «интеллектуальных революциях» совершенно непоследователь-
ным. Четко сформулируем основное затруднение: если мы серьез-
но воспримем последние заявления Куна и построим различие
между «нормальными» п «революционными» научными аргумен-
тами в логических терминах, это будет иметь одно в высшей сте-
пени ошеломляющее следствие. В последней интерпретации Ку-
на его теория «научных революций» основывается на логическом
трюизме п в качестве такового вообще не является больше теори-
ей концептуальных изменений.
Возможно, эти затруднения можно было предвидеть. Ибо в
других областях исследования идея революций имела несчастли-
вую судьбу, и беглый обзор этих старых затруднений проливает
свет на более глубокое значение изменений позиции Куна — сна-
чала на его переход от революции к микрореволюциям, а в ко-
нечном итоге — к логическому объяснению изменений в науке.
В других исторических науках, например в политической теории,
геологии и палеонтологии, соображения, которые вынудили Куна
изменить свою позицию, были известны уже давно. Например,
специалисты в области политической теории уже много лет назад
убедились на своем горьком опыте, что с термином «революция»
нужно обращаться с величайшей осторожностью, а в настоящее
время они признали, что его можно применять только в качестве
классификационного термина, лишенного объяснительной силы.
Первоначально либерально-демократические мыслители испыты-
вали искушение придавать этому термину гораздо большее значе-
ние. По их мнению, постепенные конституциональные изменения
представляли собой «рационально умопостигаемую...» политиче-
скую непрерывность; напротив, политические революции были
перерывами «нормальности», которые вводили историческую пре-
рывность, не поддающуюся анализу в нормальных рациональных
терминах. Ныне, однако, политологи скорее стараются не
преувеличивать противоположность между «нормальным из-
менением» и «революцией». Даже самое неконституциональ-
ное изменение не вызывает абсолютного и всеобъемлющего
разрыва политической непрерывности. Самые драматические ре-
волюции никогда не приводят к абсолютному разрыву с прошлым.
Непрерывность закона, обычая, управления всегда выживает, а
нередко имеет большее влияние на модели политической власти
и подчинения, чем революция. Рассмотрим ли мы французскую
128
систему публичного управления пли американскую правовую тра-
дицию -- все они пережили политическую революцию с очень ма-
лыми изменениями. В каждом из этих случаев революция в обла-
сти основной политической лояльности воздействовала на многие
другие институты лишь по периферии. В результате постреволю-
ционное состояние каждой из этих стран в этих аспектах гораздо
больше соответствовало их собственному дореволюционному
состоянию, чем постреволюцпоипому состоянию других стран.
Таким образом, осуществление «революции» отнюдь не осво-
бождает историка-политолога от того, чтобы давать более глубо-
кий и точный исторический анализ. Напротив, просто заявить:
«А зачем произошла революция?» — как будто она была чем-то
вроде божественного вмешательства — значило бы уклониться от
задачи историка в собственном смысле слова. (Такой подход при-
надлежит миру «Тысячи и одной ночи» и имеет мало общего со
сложными фактами реальных исторических изменений.) Следова-
тельно, высказывания относительно политических революций при-
емлемы для современного историка только в том случае, если они
ставят более глубокие вопросы, вопросы Коллингвуда: «в каких
случаях» и «посредством каких процессов» верховная власть пе-
редается из рук в руки революционным путем. В историографии
конца XX века термин «революция» все еще может быть полезен
в качестве описательного обозначения, указывающего на перенос
политической власти, который осуществляется более глубоко и
стремительно, чем обычно. Но на уровне объяснения, оказывает-
ся, различия между нормальными и революционными изменения-
ми не имеют большого, реального теоретического значения.
То же самое справедливо и для историографии науки. Всякое
предположение о том, что полное переключение парадигмы влечет
за собой концептуальные изменения, полностью отличные от тех,
которые имеют место в пределах единой всеобщей парадигмы, что
они представляют собой нечто вроде «разрыва рациональной пре-
емственности» и ведут к неизбежному непониманию, является со-
вершенно ошибочным. Два типа концептуальных изменений са-
мое большее отличаются лишь по степени, а в крайнем случае,
конечно, их следует объяснять в терминах одной и той же систе-
мы факторов и соображений. Допущение, что «нормальные» на-
учные изменения можно объяснить в исторических терминах, ко-
торые тем или иным образом прекращают действовать в редких
научных «революциях», повторяю, привело бы нас к созданию са-
мой наивной историографии.
Мы сможем еще лучше понять источник затруднений Куна,
если вспомним развитие геологии и палеонтологии в период меж-
ду 1820 и 1860 годами1. В начале XIX столетия несколько че-
ловек уже были убеждены, что история Земли отличалась глубо-
1 Более полное обсуждение этого вопроса см.: Gillispie С. С. Gene-
sis and Geology. Cambridge, Mass., 1951, Ch. IV; Discovery, Ch. 7, p. 159 ff.
5 Зак. 21
129
кими геологическими и зоологическими изменениями. И все же
общепринятые теории геологического и палеонтологического раз-
вития, получившие свое наивысшее выражение в первых изда-
ниях «Основ геологии» Чарлза Лайеля, оставались «уппформист-
скими». Согласно этим теориям, одни и те же природные факто-
ры, как неорганические (вода, ветер и т. д.), так и органические
(растепия, животные и т. д.), действовали на каждой стадии ис-
тории Земли точно так же, как мы можем наблюдать это и в нас-
тоящее время. В противовес этим сверхупрощенпым допущениям
Жорж Кювье выдвинул конкурирующую с ними теорию геологи-
ческих «катастроф». Исходным пунктом этой теории был досто-
верный факт, действительно имеющий значение для геологии, а
именно отсутствие постепенных переходов между соседними слоя-
ми, наблюдаемыми в настоящее время в земной коре, что на пер-
вый взгляд нельзя объяснить спокойным, непрерывным отложе-
нием осадков или сжатием. Объяснение этих стратиграфических
перерывов постепенности, предложенное Кювье, было наивпо «ре-
волюционным». По его мнению, они пе укладывались в категории
нормального геологического изменения; оп доказывал, что пре-
рывность следствий должна быть результатом столь же прерыв-
ных причин \ Таким образом, если их вообще можно было объ-
яснить, их следовало интерпретировать как результат божествен-
ного вмешательства. «Нормальные» процессы естественных изме-
нений прерывались редкими сверхъестественными «революция-
ми», или «катастрофами».
Почти тридцать лет, начиная с 20-х годов XIX века, теории
«униформизма» и «катастроф» оставались в тупике. Униформи-
сты отвергали обращение Кювье к теологии как незаконное с точ-
ки зрения науки и удваивали своп усилия, чтобы объяснить все
свойства земной коры в терминах естественных причин, дейст-
вующих уже известным нам образом. Однако трудности, с кото-
рыми столкнулись обе партии, оставались непреодолимыми, и в
конце концов выход из тупика был найден только благодаря по-
стоянной эрозии обеих крайностей. С одной стороны, униформи-
сты были вынуждены признать, что естественные изменения про-
грессивно увеличиваются. Так, в 1835 году почитатель Лайеля
Чарлз Дарвин наблюдал землетрясение, которое в одно мгнове-
ние перевернуло соседние страты на побережье Чили на двадцать
футов1 2. В результате подобных изменений естественные причи-
ны, принимаемые униформистами, стали гораздо более «катаст-
рофическими» по своим следствиям. С другой стороны, катаст-
рофисты, подобно Луи Агассису из Гарвардского университета,
1 Обзор доказательств, которыми Кювье обосновывал свое убеждение
в разных исторических перерывах постепенности в истории Земли, содер-
жится, например: в: Cuvier G. Discurs sur les Revolutions de la Surface
du Globe, 3rd edn. Paris, 1825.
2 См.: Дарвин Ч. Путешествие натуралиста вокруг света. — Соч.,
т. I. М. — Л., 1935, гл. XIV,
130
обнаружили, что они должны вводить все больше гипотетических
катастроф в свое объяснение истории Земли (например, для объ-
яснения последовательности ледниковых периодов) и что при
этом «редкие и необъяснимые» явления соответственно становят-
ся все более мелкими по своему масштабу В конечном итоге
геологические микрокатастрофы перестали быть «всемирно-исто-
рическими событиями», сравнимыми по своему теологическому
значению со всемирным потопом. Вместо этого их стали класси-
фицировать как новые типы естественных явлений, обнаружи-
вающих свое собственное признанное единообразие. Конкурирую-
щие геологические теории, еще различаясь по своим доктринам,
все больше сближались па практике. Как только единообразные
причины Лайеля стали довольно радикальными, а катастрофы
Агассиса- довольно единообразными, первоначальный критерий
разделения между нормальными (или «естественными») измене-
ниями и катастрофическими (или «сверхъестественными») исчез.
Обратим внимание на то, что в этой последовательности от
Кювье и Агассиса до окончательного примирения с униформиста-
ми термин «катастрофа» подвергся ряду новых интерпретаций,
аналогичных тем, какие претерпел употребляемый Куном термин
«революция». Началось с того, что геологи-катастрофисты оказа-
лись просто заинтересованными в том, чтобы привлечь внимание
к определенному классу явлений (например, к стратиграфической
прерывности), который, очевидно, не имел объяснений в терми-
нах «нормальных» или «естественных» геологических процессов;
на этой стадии термин применялся только для того, чтобы опи-
сать резкие переходы как «катастрофические» по своим послед-
ствиям.
На второй стадии Кювье заявил, что исторические причины
стратиграфической непрерывности и прерывности абсолютно раз-
ные; непрерывность — следствие нормальных естественных про-
цессов, прерывность — ненормальных и сверхъестественных «ка-
тастроф». Под давлением критики настойчивые утверждения
Кювье относительно этого абсолютного противопоставления были
впоследствии отвергнуты в пользу менее радикального тезиса:
каждое крупное геологическое изменение содержит в себе нечто
«катастрофическое», а допущение, что каждое такое изменение
является «божественным актом», было отброшено без всякого об-
суждения.
Так же обстояло дело с изменением теорий концептуального
развития начиная с 30-х годов XX века; произведенное Коллинг-
вудом жесткое разделение интеллектуальной истории на отдель-
ные фазы, управляемые несовместимыми плеядами абсолютных
предположений, обладало теми же достоинствами, что и теория
Кювье в геологии. Оно привлекло внимание к действительно
1 См., например: L и г i е Е. Louis Agassiz, A Life in Science. Chicago,
1960, p. 94—106.
5*
131
глубоким концептуальным изменениям и бросило вызов ортодок-
сальному допущению, согласно которому интеллектуальный прог-
ресс всегда и повсюду является результатом единственного всеоб-
щего и единообразного «метода». Если Коллингвуд был Кювье
интеллектуальной истории, то Кун в таком случае становится ее
Агассисом. Хотя изначальные акценты данной теории поставили
Купа очень близко к Кювье и Коллингвуду, в его последующих
объяснениях микрореволюции оказались столь же мелкими и мно-
гочисленными, как и конечные микрокатастрофы Агассиса. Дейст-
вительно, отныне любое концептуальное изменение, каким бы оно
ни было, считается микрореволюцией; в отличие от интеллекту-
альных революций, которые являются антитезой нормальных кон-
цептуальных изменении, новые мпкрореволюцип становятся еди-
ницами п нормальных, и революционных изменений. Таким обра-
зом, гиперрациональные аспекты «революций» Куна, подобно
сверхъестественным чертам «катастроф» Кювье, исчезли, а вме-
сте с ними исчез и первоначальный критерий разделения нормаль-
ных и революционных изменений. У пас не осталось ничего более
радикального и революционного, чем последовательность концеп-
туальных изменений, отличающихся друг от друга по скорости и
глубине, причем процессы, процедуры и/или механизмы, лежа-
щие в их основе, остаются, как и всегда, без объяснения.
Следовательно, после нашей погони за революционным зай-
цем мы вернулись туда же, откуда ее начали. Адекватная теория
концептуальных изменений должна ответить па вопросы, постав-
ленные Коллингвудом, а именно: «В каких случаях и посредством
каких процессов и процедур один основной набор коллективных
понятий — в науке или где бы то ни было еще — начинает сме-
няться другим?» Она должна ответить на эти вопросы таким обра-
зом, чтобы один и тот же набор терминов объяснял и то, почему
в некоторых областях способы мышления действительно в тече-
ние длительного времени остаются неизменными, и то, почему в
других областях они иногда меняются быстро и радикально.
И наконец, она должна ответить на них таким образом, чтобы ста-
ло ясно, какую роль в ее историческом развитии соответственно
играют, с одной стороны, «рациональные процедуры», с другой —
«причинные процессы». Следовательно, мы нуждаемся именно в
таком объяснении концептуального развития, которое может со-
гласовать изменения любой глубины, по при этом объясняет по-
степенные и резкие изменения как альтернативные результаты
одних и тех же факторов, действующих совокупно, по по-разному.
Следовательно, вместо революционного объяснения интеллекту-
альных изменений, которое задается целью показать, как целые
«концептуальные системы» сменяют друг друга, нам нужно со-
здать эволюционное объяснение, которое объясняет, как постепен-
но трансформируются «концептуальные популяции».
Сделав этот дальнейший шаг, мы должны иметь в виду одно
различие, которого не принимает во внимание Кун. «Мпкрорево-
132
люции», характерные для его четвертого объяснения изменений
в науке, двусмысленны в одном отношении: остается невыяснен-
ным, ссылается ли он на (1) класс новых теоретических допу-
щений, которые всегда имеются в данной науке,— новообразо-
ваний, которые могут циркулировать в течение нескольких не-
дель, месяцев или лет, прежде чем их окончательно примут или
отвергнут, или же он ссылается (2) па более узкий подкласс но-
вообразований, которые действительно завоевывают место в обще-
принятой совокупности теорий и тем самым модифицируют кон-
цептуальную традицию. Отныне мы сами должны позаботиться
о том, чтобы различать, как это сделал Дарвин в своем объясне-
нии органической эволюции,
(а) единицы изменчивости, то есть пробные концептуальные
варианты, циркулирующие в данной дисциплине в любой
определенный период времени, и
(б) единицы эффективной модификации, то есть концептуаль-
ные изменения, которые действительно включаются в кол-
лективную традицию данной дисциплины.
Соответственно мы должны обсуждать развитие наших коллек-
тивных понятий в двух разных терминах:
(а) нововведения — если мы задаемся вопросом, какие факто-
ры и/или соображения приводят носителей интеллекту-
альной традиции к тому, чтобы предложить какие-то спо-
собы продвижения вперед по сравнению с занимаемыми в
настоящее время позициями, и
(б) отбор — если мы задаемся вопросом, какие факторы
и/или соображения приводят их к тому, чтобы принять
некоторые из этих нововведений, доказавших, что они
предпочтительнее других, и, таким образом, модифициро-
вать коллективную концептуальную традицию.
В каждом из этих случаев вопрос: «Какие факторы и/или со-
ображения привели носителей интеллектуальной традиции к
тому, чтобы предложить (или принять) ее?..» будет означать сле-
дующее: «Какие виды оснований и/или причин релевантны наше-
му пониманию того, что они предлагают и принимают?» То есть,
повторяю, наш вопрос является столь же рациональным пли ис-
торическим, сколь и социологическим или психологическим. Сле-
довательно, развитие наших понятий можно правильно понять
только в том случае, если мы обнаружим, каким образом и социо-
исторические (то есть причинные) процессы, и интеллектуальные
пли дисциплинарные (то есть рациональные) процедуры прини-
мают участие в той исторической последовательности, благодаря
которой интеллектуальные варианты в науке сначала предлага-
ются, а потом избирательно сохраняются.
13?
Прежде чем мы закончим это обсуждение теории интеллек-
туальных революций, стоит сделать два дополнительных замеча-
ния. Первое следует отнести к различию между двумя видами
принципов плп предположений, благодаря которому теория пара-
дигм Купа слишком легко может привести нас в замешательство.
Второе связывает результат настоящего анализа с теми заключе-
ниями, к которым мы уже пришли ранее; оно показывает, что
идея парадигм имеет «революционный» смысл только в том слу-
чае, если структура наших парадигм сама по себе мыслится в
сверхсистемных терминах.
(1) Основной парадокс классической теории научных револю-
ций состоит в следующем: она подразумевает, что между теми,
кто поддерживает различные парадигмы, неизбежно взаимное
непонимание. Этого заключения нельзя избежать до тех пор, пока
мы рассматриваем парадигмы, или плеяды абсолютных предполо-
жений в качестве единых и неделимых. На практике, однако, нам
нужно провести еще одно различие, которого ни Коллингвуд, ни
Кун не выражают достаточно ясно. В каждой существующей в
настоящее время науке мы можем выделить два различных типа
понятий и принципов. С одной стороны, имеются основные «тео-
ретические» принципы науки, например принцип всемирного тя-
готения Ньютона, генетические принципы расхождения признаков
и комбинирования наследственных факторов Менделя. С другой
стороны, существуют «дисциплинарные» принципы (например:
все физиологические функции следует объяснять в химических
терминах), которые определяют основные интеллектуальные цели
науки и придают ей хорошо различимое единство и непрерыв-
ность. Основной парадокс выглядит совершенно по-иному в том
случае, когда научная парадигма определяется только в терми-
нах общепринятых теоретических принципов, и в том, когда она
относится к системе теоретических и дисциплинарных принципов,
взятых в их совокупности, комплексно.
Если мы примем во внимание только теоретические принципы,
то, конечно, переключение парадигмы не обязательно приведет к
непониманию, и можно совершенно спокойно, без каких-либо пе-
рерывов преемственности вводить в науку новые понятия. Таким
образом, например, теоретические понятия релятивистской фи-
зики Эйнштейна, возможно, несовместимы с понятиями класси-
ческих теорий Ньютона в этом первом смысле; однако сторонники
этих двух позиций имели достаточно много общих для них спе-
циальных дисциплинарных целей, которые они могли обсуждать
при помощи словарного запаса, общего для обеих сторон, причем
каждая из двух теорий «улучшала объяснительную деятельность»
в теоретической физике.
Однако это не означает, что полного непонимания вообще ни-
когда не бывает. То есть скорее это означает, что оно становится
реальной проблемой только в том случае, когда мы рассматриваем
разногласия, которые включают в себя границы между различны-
134
ми научными дисциплинами и в которых, следовательно, пересе-
каются цели и общетеоретического, и специфически дисциплинар-
ного уровней. Наиболее известным примером из реальной жизни
является, пожалуй, пример «Учения о цвете» (Farbenlehre)
Гёте. Работая над теорией цвета, Гёте осудил оптические теории
Ньютона на том основании, что они представили в совершенно
искаженном виде факты, очевидные для нашего непосредственно-
го восприятия цвета. Вместо того чтобы принять предложенное
отношение между видимым цветом предметов и длиной исходя-
щих от них световых волн, Гёте отверг весь подход Ньютона к
оптике со вздохом сожаления о том, что страсть к математике
ввела такого талантливого человека в заблуждение. Вместо нью-
тоновской оптики оп задумал теорию цвета, построенную на со-
вершенно иных принципах, которая пренебрежительно оценива-
ла теорию Ньютона как временное помрачнение человеческого
ума \
При поверхностном рассмотрении аргумент Гёте выглядит как
желание осуществить еще одну научную попытку, которая отли-
чалась от попыток Коперника и Эйнштейна только тем, что была
безрезультатной. У нас, возможно, появится искушение сделать
вывод, что «Учение о цвете» предложило оптике новую парадиг-
му, которая должна была принять верховную интеллектуальную
власть от целого спектра теорий, выдвинутых Ньютоном столети-
ем раньше. При более близком рассмотрении, однако, оказывает-
ся, что эти случаи совершенно не похожи друг па друга. Гёте
претендовал на то, чтобы объяснить не физические явления, а
только психологические: теория, о которой он мечтал, была не
столько физической теорией световых лучей, или световых волн,
рассматриваемых как «материальные носители» цвета, сколько
психологической теорией видимого света, рассматриваемого как
«непосредственный объект» цветовых восприятий. То есть он от-
верг теорию Ньютона не потому, что она давала неадекватное
решение тех проблем, с которыми он столкнулся сам, а потому,
что для его целей решения Ньютона не подходили.
Таким образом, расхождение между Гёте и Ньютоном отнюдь
не было простым разногласием в пределах одной, общей для них
дисциплины, так как в действительности интересы этих двух лю-
дей пересекались лишь на периферии. В то время как между
электромагнитными теориями Максвелла и Гейзенберга, напри-
мер, существует прямой интеллектуальный конфликт, теории
цвета Гёте и Ньютона отличались друг от друга главным образом
противоположными целями. Ньютон прежде всего интересовался
физикой света, и его экскурсы в области восприятия (например,
1 См., например: Sherrington С. Goethe on Nature and on Science.
Cambridge, Engl., 1949, p. 13 ff. (См. также доклад советского физика
Т. П. Кравсца (1932).— «Труды Ин-та истории естествознания и техники»,
т. 19. М., Изд-во АН СССР, 1957. - Ред.)
135
теория трех цветов Ньютона — Юнга) были чисто случайными
но отношению к этой первичной цели, а Гёте интересовался пси-
хологией восприятия п никогда серьезно не сталкивался с физи-
ческими проблемами, на которых построена «Оптика» Ньютона.
(Истинными последователями Гёте были не физики, как Макс-
велл и Гейзенберг, а физиологи и психологи, например Гельм-
гольц и Леттвин.) 1 Соответственно не было никакой реальной на-
дежды, что Гёте и Ньютон будут иметь общую дисциплинар-
ную точку зрения на то, чем должна быть «теория цвета», или
преследовать общую для них цель. Их интеллектуальные цели бы-
ли столь несоизмеримы, что их теориям цвета неизбежно недоста-
вало каких-то общих теоретических концептов. В этом отношении
нападки Гёте на Ньютона отражали основополагающие расхожде-
ния в целях.
Теперь мы можем увидеть, каким образом, различая теорети-
ческие и дисциплинарные соображения, мы получаем возможность
избежать парадоксов классической революционной точки зрения.
Вполне возможно, ни одно предложение в теоретической физике
Эйнштейна нельзя точно перевести на язык ньютоновских терми-
нов или наоборот, однако, само по себе это обстоятельство не на-
вязывает науке никакого «перерыва рациональной непрерывно-
сти». Напротив, когда две научные позиции имеют сходные ин-
теллектуальные цели и попадают в сферу одной и той же дис-
циплины, исторический переход от одной из них к другой всегда
можно обсудить в «рациональных» терминах даже в том случае,
если их сторонники соответственно не имеют общих теоретиче-
ских понятий. Принципиальное непонимание неизбежно только в
том случае, когда обе партии в споре не имеют пичего общего в
своих дисциплинарных устремлениях. Если же имеется хотя бы
минимальная преемственность дисциплинарных целей, то ученые
с совершенно несовместимыми теоретическими идеями в общем
все же получат основу для сравнения достоинств соответствую-
щих объяснений, и конкурирующие парадигмы или предположе-
ния, даже если они несовместимы на теоретическом уровне, все
же останутся рационально соизмеримыми в качестве альтерна-
тивных способов решения общего круга «дисциплинарных» задач.
(2) Другое различие, которое мы должны здесь отметить,—
это различие между «пропозициональными системами» и «кон-
цептуальными популяциями» Развитие аргументации Куна ни в
коей мере не освещает его, потому что оно демонстрирует связь
между ультрасистемным объяснением научной теории и ультра-
революционным объяснением концептуальных изменений в науке.
Когда Кун впервые выступил по этому вопросу, в американской
философии науки в течение почти сорока лет господствовал са-
1 Гельмгольц Г. О зрении. СПБ, 1896, т. 2, особенно гл. 1 и 20;
а также лекции по теории восприятия цвета, прочитанные Дж. В. Летт-
вином в Американском музее естественной истории в 1969 г.
136
модовольныи, антиисторический логический эмпиризм, унаследо-
ванный от Венского кружка; и единственное реальное достоинст-
во его работы состояло в том, что опа подчеркнула необходимость
более исторического и менее формального подхода к науке \
Аргументы, относящиеся к изменению парадигмы, очевидно, нель-
зя было описать в тривиальных терминах современной индуктив-
ной ^логики; соответственно аргументация Куна постоянно имела
антиформалистическую направленность. «Революционные» изме-
нения научных понятий слишком глубоки, чтобы их можно было
анализировать в терминах, выведенных из одной только формаль-
ной логики.
Вначале, однако, Кун бросал вызов общепринятому анализу
научных аргументов только в тех случаях, в которых целостные
парадигмы, или «системы теорий», подходили для его обозрения.
Напротив, в «нормальной» науке, по его предположениям, ученые
все еще были связаны формальными требованиями специфиче-
ской «системы», о которой идет речь, и этих требований можно
было избежать только ценой ниспровержения всей «системы» в
целом. Возможно, в периоды «нормальной» науки концептуаль-
ные изменения управлялись какими-либо формальными индуктив-
ными принципами, по «революционные» или нелогическпо изме-
нения были связаны с ниспровержением парадигмы в целом. При
таком понимании его книгу следовало бы назвать не «Структу-
рой научных революций», а «Революциями научной структуры».
Всеобъемлющие и радикальные революции вызывали замену
одной целостной систематической теоретической «структуры» дру-
гой, но сами эти революции, возможно, не имели структуры.
Последние объяснения Куна значительно отличались от этого,
ибо они признавали, что научная теория в ее полном объеме
(например, ньютоновская физика) не является единственной по-
следовательной логической системой, которую можно принять или
отвергнуть в целом, по скорее представляет собой нечто такое, в
чем мы можем производить радикальные изменения по частям.
До тех пор пока переключение альтернативных парадигм рассмат-
ривалось как смена целостных «систематических структур» поня-
тий и предположений, на нас по-прежнему оказывало воздействие
классическое разделение научных изменений на революционную и
нормальную стадии, со всеми его парадоксальными последствия-
ми. Однако, как только мы отказываемся от этого допущения, нам
уже не нужно связывать себя ни строго «системным» объяснени-
ем концептуальной структуры естественных паук, пи строго «ре-
волюционным» объяснением смены последовательных парадигм.
Мораль этой истории, повторяю, заключается в том, что очень
важно различать «логичность» пропозициональных систем, напри-
мер, в чистой математике, и «рациональность» концептуальных из-
1 См.: мою рецензию на: Hempel С. С. Aspects о! Scientific Explana-
tion. — «Scientific American», Febr., 1966.
137
менопий в естественных науках или где-либо еще. Интеллекту-
альному содержанию науки в целом обычно недостает единооб-
разной структуры, характерной для какого-либо единичного тео-
ретического расчета, применяемого в этой науке, а обсуждение
их обоих в одних и тех же терминах может привести только к
философской путанице. В некоторых случаях, возможно, мы су-
меем представить содержание какой-либо единичной теории, или
«концептуальной системы», в форме «логической системы», как
это сделал Герц, когда он представил классическую механику в
аксиоматической форме. Но даже в этих случаях ошибочно счи-
тать, что форма полученной в результате логической системы пол-
ностью охватывает научное содержание концептуальной системы,
которое опа обычно выражает. (Систематичность концептуальной
системы не является формальной или синтаксической, скорее она
представляет собой систематичность расчлененной семантической
области.) Таким образом, интеллектуальное содержание науки в
целом можно представить в строгой «логической» форме только
при совершенно исключительных условиях. Гораздо типичнее
ситуация, когда наука включает в себя многочисленные сосуще-
ствующие, но логически независимые теории или концептуальные
системы, и тем не менее это будет вполне «научно».
Следовательно, мы будем рассматривать содержание естест-
венной науки не как связную и последовательную логическую
систему, а как концептуальный агрегат, или «популяцию», в кото-
ром в большинстве случаев локализованы логически систематизи-
рованные участки. Если рассматривать проблему научной рацио-
нальности в этом свете, то ее можно будет сформулировать
по-новому. Многие независимые объяснительные процедуры, поня-
тия, методы изображения обычно принимаются как средства для
выполнения миссии, свойственной какой-либо отдельной науке.
Между некоторыми из этих понятий и процедур будут существо-
вать формальные, или «логические», связи, подобные тем, кото-
рые имеются, например, между ньютоновскими понятиями силы,
массы и момента. Наряду с этими систематически связанными по-
нятиями и процедурами обычно могут быть и другие, которые ло-
гически не зависят друг от друга и даже противоречат друг дру-
гу. В таком случае адекватный анализ «разумности» ученых и
«рациональности» научных процедур потребует, чтобы мы рас-
смотрели:
(а) различные неформальные связи между сосуществующими
понятиями, объяснительными процедурами и методами
изображения, распространенными в различных науках;
(б) способы, при помощи которых в каждой отдельной обла-
сти науки концептуальные проблемы возникают и при-
знаются в качестве таковых, и
(в) природу тех рациональных соображений, в свете которых
13Ь
в развитии науки происходит модификация и/или смена
понятий и методов объяснения.
Следовательно, крайне «революционная» точка зрения сохра-
няет свою привлекательность только в том случае, если мы делаем
двойную ошибку — приравниваем «рациональность» к «логич-
ности» и предполагаем, что паука в целом имеет ту же самую ло-
гическую последовательность, что и, например, евклидова геомет-
рия или ньютоновская механика. Таким образом, идея системно-
сти и идея интеллектуальных революций близки и коррелятивны.
Те, кто допускает, что паука в целом с необходимостью образует
единую, когерентную интеллектуальную систему, справедливо
будут делать вывод, что «радикальные» изменения в ее интел-
лектуальном содержании также должны быть «революционными».
В этом отношении проблемы, возникающие перед объяснением
изменений в науке, которое дал Кун, имеют важные параллели
в социологии, да и повсюду. Например, убежденность в том, что
общество как целое образует единую когерентную функциональ-
ную «социальную систему», хорошо сочетается с убежденностью
в том, что и физика как целое образует когерентную «логическую
систему». Действительно, надсистемный апализ социальной
структуры господствовал в большинстве социологических теорий
почти так же долго, как его логический эквивалент — в филосо-
фии науки; и в каждом из этих случаев революционные взгляды
являются вполне понятной реакцией на это господство.
Однако в обоих случаях эта революционная реакция имеет
одни и те же недостатки. Мы можем считать, что общество в це-
лом образует единую функциональную «систему» только в том
случае, если нам не удается отделить более свободные социаль-
ные и политические связи между различными общественными ин-
ститутами от более тесных и более формальных отношений,
существующих в отдельно взятых институтах. В каждом институ-
те вполне возможны жесткие функциональные связи между раз-
личными ролями — например, между председателем правления и
генеральным директором или между главнокомандующим и на-
чальником штаба. Но строить отношения, скажем, между арми-
ей и индустрией, церковью и законодательными учреждениями по
одной и той же системной модели было бы столь же ошибоч-
но, как и считать отношения между механикой и оптикой жест-
кими логическими отношениями, сравнимыми с теми, которые су-
ществуют в самой механике. В каждом случае эта ошибка вызы-
вает один и тот же отклик. Если составные элементы общества
в целом (или науки в целом) так тесно связаны между собой, как
подразумевает эта точка зрения, то в таком случае их нельзя
будет модифицировать постепенно или по-одному; единственная
возможность осуществить радикальные перемепы будет состоять
в том, чтобы отвергнуть всю «систему» в целом и начать все сна-
чала.
139
Напротив, единственный безопасный способ избежать этого
заключения — одним ударом разбить и ультраспстемную, и ульт-
рареволюционную точки зрения. В случае с наукой это означает
осознание того, что различные понятия научных дисциплин свя-
заны более свободно, чем это допускали философы. Различные
понятия и теории вводятся в науку не все сразу в одно и то же
время в виде единой логической системы, имеющей единую науч-
ную цель, а независимо друг от друга, в разное время и для раз-
ных целей. Если они все еще выживают в настоящее время, то,
возможно, потому, что они все же выполняют свои первоначаль-
ные интеллектуальные функции, или же потому, что со временем
они приобрели иные, отличные от первоначальных функции; и
мы вольны в будущем сменить, модифицировать пли дополнить
эти понятия независимо друг от друга, как того потребуют закон-
ные научные основания. Это означает осознание того, что вся
наука включает в себя «историческую популяцию» логически не-
зависимых понятий и теорий, каждая из которых имеет свою
собственную, отличную от других историю, структуру и смысл.
Подобно этому, в социологии различные общественные инсти-
туты связаны более свободно, чем это недавно допускалось. Вме-
сто того чтобы считать их умопостпжимыми только при изучении
их в целом, в виде единой интегрированной «социальной систе-
мы», их нужно рассматривать с более исторической точки зрения,
так как первоначально они были установлены в разное время и
при этом имелись в виду многообразные цели. Если они все же
выжили в настоящее время, это, повторяю, возможно, потому, что
они все еще выполняют те функции, для которых они первона-
чально были установлены, или же потому, что со временем они
приобрели другие, отличные от них функции; и, повторяю, мы
вольны в будущем сменить, модифицировать или дополнить паши
институты самостоятельно, как того потребуют наши законные со-
циальные основания. Это означает также, что мы выходим за пре-
делы системной теории социальной структуры и ее антитезы —
революционной теории социальных изменений и допускаем, что
общества в целом состоят пз «исторических популяций» институ-
тов, каждый из которых имеет свою собственную историю и внут-
реннюю структуру. Позже мы еще вернемся к этому в своих ис-
следованиях и посмотрим, какие вопросы поставит такая «популя-
ционная» теория социальных изменений. Т1о в настоящий момент
наша непосредственная задача состоит в том, чтобы развить со-
ответствующее «популяционное» объяснение концептуальных из-
менений в интеллектуальных дисциплинах, п к выполнению имен-
но этой задачи мы должны теперь обратиться.
Раздел Б:
Рациональные инициативы и их эволюция
ВВЕДЕНИЕ
Теперь мы готовы заняться конструктивной частью настояще-
го исследования. Если сначала поэтапно суммировать, каким об-
разом мы достигли этого пункта, аргументы выстроятся в сле-
дующем порядке.
(1) В основе исторического и культурного многообразия че-
ловеческих идей лежит потребность в беспристрастном исход-
ном пункте рациональных суждений; и на первый взгляд ка-
жется, что он может быть обеспечен только в абстрактных ло-
гических терминах, претендующих па абсолютную и универ-
сальную рациональную власть над понятиями и суждениями во
всех областях.
(2) Однако в тот момент, когда мы выходим за пределы чи-
стой математики и формальной логики, любая попытка иден-
тифицировать такой исходный пункт сталкивается с пробле-
мой исторической релевантности, которая оставляет нам толь-
ко одну очевидную альтернативу — отказаться от нашей по-
пытки и впасть в исторический или культурный релятивизм.
(3) Но и абсолютистская, и релятивистская точки зрения,
оказывается, основываются па общем для них ошибочном до-
пущении, согласно которому «рациональность» должна быть
атрибутом какой-то определенной логической или концептуаль-
ной «системы»; они различаются только тем, что помещают
исходный пункт рациональности в одном случае в идеализиро-
ванную абстрактную систему, а в другом — в какую-либо дей-
ствительно существующую, но произвольно выбранную си-
стему.
(4) Следовательно, мы должны начать с осознания того, что
рациональность — это атрибут не логической или концепту-
альной системы как таковой, а атрибут человеческих действий
или инициатив, в которых временно пересекаются отдельные
наборы понятий, в особенности тех процедур, благодаря кото-
рым понятия, суждения и формальные системы, широко рас-
пространенные в этих инициативах, критикуются и сменяются.
(5) Однако, когда мы обращаемся к изучению процесса кон-
цептуальных изменений, сходная дилемма вновь возникает на
историческом уровне: оказывается, теперь мы вынуждены вы-
бирать между уппформистским объяснением, которое допу-
141
скает универсальную релевантность единственного набора
рациональных методов, и революционным объяснением, кото-
рое относится к концептуальным изменениям как к последо-
вательности радикальных переключений рационально несоиз-
меримых точек зрения.
(6) Но этой второй дилеммы также можно избежать, если мы
осознаем два дополнительных различия: а) различие между
теоретическими понятиями и принципами данной дисципли-
ны, которые могут, а возможно, и меняются скачкообразно,
и дисциплинарными понятиями, из которых в данное время
складывается эта дисциплина и которые меняются более по-
степенно; б) различие между специфическими теориями
какой-либо дисциплины, каждая из которых имеет свое соб-
ственное отдельное семейство и/пли систему понятий, и ин-
теллектуальным содержанием всего предмета, которое включа-
ет в себя изменяющуюся «популяцию» понятий и такие се-
мейства понятий, которые вообще логически не зависят друг
от друга.
Наш анализ коллективных аспектов применения понятий
соответственно будет концентрировать свое внимание на «рацио-
нальных инициативах» и их историческом развитии. Исходя из
того что интеллектуальное содержание подобных инициатив об-
разует «концептуальные популяции», он должен тем самым объ-
яснить в одно и то же время и в одних и тех же терминах и их
преемственность, и смену. Развитие этих популяций (и здесь, и
вообще повсюду) будет рассматриваться как выражение равнове-
сия между факторами двух видов: факторами новообразования,
ответственными за возникновение изменений в соответствующей
популяции, и факторами отбора, которые модифицируют ее, по-
стоянно сохраняя варианты, имеющие определенные преимуще-
ства. В свою очередь рациональность этих инициатив будет под-
тверждаться идентификацией находящихся в них специфических
локусов, в которых концептуальные варианты подвергаются кри-
тическому отбору, а обращение к «рациональным соображениям»
играет важную роль в их развитии.
Два ключевых выражения явно указывают па форму стоя-
щей перед нами проблемы. Выражения «концептуальные популя-
ции» и «избирательное сохранение вариантов» подразумевают, что
наш анализ должен быть «эволюционным», причем не в том ши-
роком смысле, согласно которому он просто не является револю-
ционным, а в совершенно точном и строгом значении этого тер-
мина. Ибо природа смены популяций, рассматриваемая в каче-
стве общего типа исторического процесса, хорошо понята в одном
специальном случае, а именно в случае органических видов. И мы
сильно упростим нашу собственную аргументацию, если, ставя
вопросы, которые должен решить наш анализ концептуальной
эволюции, мы будем готовы принять популяционный анализ ор-
142
ганической эволюции в качестве эталона или стандарта для срав-
нения.
При этом совсем не нужно будет допускать, как это, к сожа-
лению, сделал Эрнст Мах, что интеллектуальная эволюция имеет
в себе нечто «биологическое» или даже что процессы концепту-
альных изменений в пауке обнаруживают какое-либо существен-
ное сходство с процессами органической изменчивости. Мы будем
придерживаться более скромной гипотезы, а именно гипотезы о
том, что популяционная теория «изменчивости и естественного
отбора» Дарвина — это одна пз иллюстраций более общей формы
исторического объяснения 1 и что при соответствующих условиях
та же самая модель применима также к историческим объектам
и иным популяциям. В конце этого раздела мы еще раз вер-
немся к этой гипотезе и покажем более определенно, какие усло-
вия нужно иметь в виду, чтобы популяционный способ объясне-
ния без каких-либо катастрофических последствий мог быть при-
менен к историческим объектам, а не к органическим видам.
Общую модель исторического объяснения, подразумеваемую в
эволюционной зоологии, можно сжато выразить в виде четырех
основных тезисов, или положений, каждое из которых имеет свое
подобие в фактах концептуальной эволюции 1 2.
(1) Начнем с того, что в зоологии так же трудно понять, по-
чему вообще имеются виды, как и объяснить, почему эти виды
изменяются именно так, а не иначе. Теория Дарвина, по его сло-
вам, в такой же мере представляла собой объяснение происхож-
дения видов, как и их эволюции. Почти вплоть до XIX века ор-
ганические виды рассматривались двумя различными способами,
ни один пз которых не был историческим. Многие натуралисты
были зоологическими «реалистами», полагавшими, что вся сово-
купность популяций живых существ, обитающих на нашей Зем-
ле, а возможно и еще где-либо, подразделялась на различные от-
дельные виды, каждый из которых сохранялся неизменным бла-
годаря тому, что производил точно такое же потомство. Напротив,
многие зоологи-радикалы стремились быть «номиналистами», до-
казывая, что живые существа подразделяются на отдельные виды
только благодаря нашим собственным произвольным интеллекту-
альным решениям. (Как заметил Бюффон в своем раннем очерке,
«реально не существует ничего, кроме особей».) 3 Ни в одном пз
этих случаев пе возникает вопроса об исторической изменчивости
органических видов: если таксономическая классификация сама
1 См.: G hi sei in М. Т. The Triumph of the Darwinian Method. Berk-
eley, 1969. Я имел полезную беседу с Марком Адамсом, который незави-
симо от меня исследовал аналогичный образ мышления.
2 См., например: Майр Э. Популяцпп, виды и эволюция. М., «Мир»,
1974; Hamilton Т. Н. Process and Pattern in Evolution. N. Y., 1967;
Stebbins G. L. Processes of Organic Evolution. Englewood. Cliffs, 1968*;
Smith J. M. The Theory of Evolution. L., 1958.
3 Buffon. Histoire Naturello, Vol. I. Paris, 1749, p. 38.
143
по себе была искусственно создана людьми, то можно задаваться
вопросом об истории понятия «вид», но вряд ли — об истории
самих органических видов L
Современная позиция — промежуточная. Биологи наших
дней — нп настойчивые реалисты, ни явные номиналисты. Скорее
они полагают, что, хотя органические формы неоднократно изме-
нялись и все еще изменяются, действительный ряд форм, сущест-
вующих в каких-либо определенных условиях времени или места,
не является ни постоянным, ни неограниченным. Любая локали-
зованная среда обычно содержит определенные и дискретные по-
пуляции. Из всего возможного спектра животных и растений бу-
дут существовать лишь некоторые, и они обычно распадаются на
различные «виды». Следовательно, мы должны объяснить и то,
почему в непрерывно изменяющихся популяциях живых существ
вообще находятся столь определенные и дискретные виды, и то,
как виды, существующие в одну и ту же эпоху, вместо того, что-
бы утрачивать своп первоначальные различия, могут трансформи-
роваться в другие, столь же различные формы пли же разделять-
ся на отдельные сменяющие друг друга популяции, имеющие все
отличительные признаки различных видов.
(2) Основу дарвинизма составило понимание того обстоятель-
ства, что оба эти факта — и преемственность органических ви-
дов, и способ их изменения — можно объяснить в терминах еди-
ного двустороннего процесса — изменчивости и сохранения в про-
цессе отбора. Каждое поколение содержит больше особей, чем их
выживает и воспроизводится; и каждое поколение включает в се-
бя особей, имеющих изменчивые формы или черты, причем только
некоторые из них передают эти новые черты последующим
популяциям. Выражение Дарвина «естественный отбор» просто
суммировало эти процессы, которые ставят большинство новых ва-
риантов в невыгодное положение в борьбе за воспроизведение и
тем самым в общем поддерживают устойчивый характер вида;
но случайно эти процессы могут вызвать полезные новшества,
которые закрепляются в органической популяции, производя в
ней, таким образом, медленные изменения всеобъемлющего ха-
рактера.
(3) Совокупное действие изменчивости и естественного отбо-
ра приводит к возникновению аутентичных новых видов только в
случаях, удовлетворяющих некоторым дополнительным условиям.
Сам Дарвин просто допускал, что систематические изменения на-
следуются; ныне мы располагаем генетическими соображениями
(которых не было у Дарвина), для того чтобы считать это допу-
щение хорошо обоснованным. Теперь следует поставить вопрос от-
1 Ср.: Lovejoy А. О. The Great Chain of Being. Cambridge, 1936, Ch. 8;
Buffon and the Problem of Species. — In: Forerunners of Darwin, 1745—1859,
ed. B. Glass et al. Baltimore, 1959, p. 84 ff.
144
посительно условии, в которых варианты, «имеющие преимущест-
во», могут сохраниться и стать доминирующими в популяции. На-
пример, новое изменение может продемонстрировать свои «приему-
щества» только в такой ситуации, которая вызывает достаточное
«давление отбора». Если серьезной конкуренции не получится, то
изменчивые особи потеряют возможность подавить воспроизведе-
ние своих конкурентов, а вид постепенно утратит отличающие его
признаки. Далее, естественный отбор может быть эффективным
только там, где «форум конкуренции» не слишком обширен. Если
животные и птицы свободно скрещиваются па больших террито-
риях, то варианты, обладающие преимуществом в какой-либо оп-
ределенной местности, при этом затеряются и, таким образом, не
сумеют прочно утвердиться даже в этой благоприятной для них
местности. Действительно, Дарвин и Уоллес напали на идею есте-
ственного отбора независимо друг от друга благодаря тому, что
познакомились с готовыми «лабораториями эволюции»: Дарвин —
на Галапагосских островах, Уоллес — на Малайском архипелаге.
В обоих случаях различные острова находились достаточно близ-
ко, чтобы обеспечить случайное переселение, так что можно было
предположить, что существующие на них различные популяции
певчих птиц, черепах или орхидей первоначально имели общих
для них предков. Однако при этом опи были достаточно изолиро-
ваны друг от друга, чтобы обеспечить отдельные «форумы конку-
ренции», в которых преимуществом обладали различные вариан-
ты: здесь птицы, питающиеся семенами, там — насекомоядные.
При наличии соответствующих условий среды, следовательно,
можно было обратиться к «изменчивости и естественному отбо-
ру», которые объяснили бы и то, как представители популяции
какого-либо острова образовали единый вид, и то, как близкие
популяции соседних островов обособились настолько, что образо-
вали разные виды ’.
(4) Наконец, применение в зоологии терминов, подобных «от-
бору» и «преимуществу», имплицитно включает в себя метафору
выбора. Ключом ко всей дарвиновской теории видообразования
является только признание выводов, вытекающих из этой метафо-
ры. Варианты сохраняются в процессе отбора в том, и только в
том случае, если они достаточно «хорошо приспособлены». Здесь
слово «приспособление» говорит лишь о том, с какой эффективно-
стью различные варианты отвечают на «экологические требова-
ния» специфических условий среды, а сам по себе термин «требо-
вания» охватывает и физические условия жизни (например,
климат, почву и грунты), и различные сосуществующие популя-
ции — хищников или жертв, тенелюбивых растений или маски-
рующихся существ, паразитов или кишечной флоры. Действи-
тельно, вся теория строится на системе взаимосвязанных понятий.
Конкуренция и отбор — это соотносительные понятия; где бы
1 См., например: Lack D. Darwin’s Finches. Cambridge. Engl., 1947.
145
особи пи «конкурировали» между собой, подразумевается какая-
нибудь сравнительная мера «успеха», причем «победитель» доби-
вается более полного успеха, чем «побежденный». В дарвиновской
борьбе за существование такой мерой является размножение;
формы, «добивающиеся успеха», имеют наибольшее число пред-
ставителей в последующих поколениях. Соответственно экологиче-
ские требования среды определяют локальные требования к эво-
люционному «успеху»: термин «требования» концентрирует вни-
мание на тех факторах, которые воздействуют на способность
каждого нового варианта дать потомство в последующих поколе-
ниях. Новое изменение может сделать своих обладателей более
или менее видимыми для хищников, более или менее подвержен-
ными эндемическим болезням, более или менее зависимыми от
регулярного водопоя, более пли мопсе пригодными для спарива-
ния... а каждый из этих факторов может ускорять или подавлять
распространение этого изменения в соответствующей популяции.
Все эти факторы подразумевают, что имеются «требования», кото-
рым лучше всего «отвечают» «удачливые» формы, обгоняющие
своих конкурентов по размножению.
Дарвиновский способ объяснения, если его рассматривать как
вклад в историографию природы, имел некоторые замечательные
черты. Он объяснял и постоянство, и изменчивость в развитии
видов в одних и тех же терминах уже известного нам «давле-
ния», или «требований», того образа жизни, который ведут в при-
роде живые популяции. Он показал, как в одних ситуациях эти
«требования» содействуют сохранению существующих видов, а в
других — созданию новых. Оп указывал па то, какие условия
нужно соблюдать в том случае, если бы преобладающие экологи-
ческие требования и давления должны были привести к постоян-
ной изменчивости. И в этом отношении он обеспечил теории такой
каркас, который связал три группы дотоле не связанных понятий
в одно последовательное объяснение, а именно: (а) долго-
срочные исторические модели органических изменений, (б) крат-
косрочное давление, которое оказывает на популяцию непосредст-
венная окружающая среда, и (в) устойчивые условия средней
длительности, которые обеспечивают необходимые «рычаги», если
это непосредственное давление должно привести к долгосрочным
следствиям. Для тех целей, которые стоят перед нами в настоя-
щее время, эти историографические черты метода Дарвина более
важны, чем какое-либо специфически биологическое детальное ис-
следование, например мутаций или естественного отбора. Для
того чтобы увидеть, как можно распространить популяционные
категории па другие исторические процессы, например па процес-
сы концептуальных изменений, мы не должны входить в обсуж-
дение генетики или хищников, или водопоев. Скорее нас заинте-
ресуют общие отношения, которые можно обнаружить в этих ис-
торических процессах, как, напрпмер, отношения (а) между
долгосрочными моделями концептуальных изменений, (б) между
146
повседневными действиями потребителей понятий, (в) между по-
стоянными условиями, при которых непосредственные решения
потребителей понятий определяют их долгосрочные последствия.
Л теперь переформулируем рассмотренные выше четыре ос-
новных положения в терминах, применимых к концептуальному
развитию:
(1) В любой специфической культуре и эпохе интеллектуаль-
ные инициативы людей не образуют неупорядоченного контину-
ума. Напротив, они распадаются па более или менее разделенные,
хорошо определенные «дисциплины», каждая из которых харак-
теризуется своей собственной совокупностью понятий, методов и
фундаментальных целей. Интеллектуальное содержание такой
дисциплины, если его обозревать за достаточно длительный пери-
од времени, может изменяться очень радикально; то же самое,
хотя и гораздо медленнее, может произойти с ее интеллектуаль-
ными методами и целями. Однако, несмотря на то, что каждая
дисциплина может резко изменяться, обычно опа обнаруживает
явную преемственность, особенно в факторах отбора, которые уп-
равляют изменениями ее содержания. Соответственно этому эво-
люционное объяснение концептуального развития должно объяс-
нить две различные черты: с одной стороны, последовательность
и непрерывность, благодаря которым мы идентифицируем отдель-
ные дисциплины, а с другой — глубокие длительные изменения,
благодаря которым они трансформируются или сменяются дру-
гими.
(2) И преемственность, и изменения включают один и тот же
двусторонний процесс. В каждой живой дисциплине интеллекту-
альные нововведения всегда пополняют общепринятую совокуп-
ность идей и методик, уже готовую для обсуждения, но только
немногие из этих нововведений завоюют прочное место в соответ-
ствующей дисциплине и перейдут к следующему поколению ра-
ботников. Таким образом, непрерывное возникновение интеллек-
туальных нововведений уравновешивается непрерывным процес-
сом критического отбора. Некоторые концептуальные варианты
отбирают и включают, другие — удаляют или игнорируют; однако
в соответствующих условиях один и тот же процесс может объяс-
нять либо постоянную устойчивость определенной дисциплины,
либо ее быструю трансформацию в нечто новое и иное.
(3) Этот двусторонний процесс может производить заметные
концептуальные изменения только при наличии некоторых допол-
нительных условий. Мы допускаем, что в каждый данный период
времени существует достаточное количество людей, обладающих
природной изобретательностью и любознательностью, чтобы под-
держивать поток интеллектуальных новообразований, или «вари-
антов». В таком случае следует задаться вопросом — при каких
условиях подобные новшества могут доказать свои «преимущест-
ва» и, таким образом, занять свое место в соответствующей со-
вокупности идей? Повторяю, должны существовать подходящие
147
«форумы конкуренции», в которых интеллектуальные нововве-
дения могут выжить в течение достаточно длительного време-
ни, чтобы обнаружить свои достоинства и недостатки; но именно
в это время их довольно сурово критикуют и удаляют, чтобы со-
хранить последовательный характер дисциплины. Таким образом,
данное Карлом Поппером сжатое описание научного метода как
диалектической последовательности «гипотез» п «опровержений»
сразу же можно вновь интерпретировать в эволюционных терми-
нах: оно устанавливает, в какой экологической ситуации только
изменчивость и отбор могут привести к эффективным научным
изменениям.
(4) Наконец, эволюционный анализ интеллектуального разви-
тия вновь затрагивает набор взаимосвязанных понятий, которым
определяется «интеллектуальная экология» любой частной исто-
рической и культурной ситуации. В любой проблемной ситуации
дисциплинарный отбор «признает» те из «конкурирующих» но-
вовведений, которые лучите всего отвечают «требованиям» мест-
ной «интеллектуальной среды». Эти «требования» охватывают как
те проблемы, которые каждый концептуальный вариант непосред-
ственно предназначен решать, так и другие упрочившиеся поня-
тия, с которыми он должен сосуществовать. Повторяю, такие тер-
мины, как «конкуренция» и «достоинства», «требования» и успех»,
выражают такое соотношение представлений, которое можно
правильно попять только в том случае, если рассматривать их в
качестве многочисленных аспектов целостного исторического про-
цесса концептуальной изменчивости и дисциплинарного отбора.
Соответственно этому и в случае зоологии, и в случае интеллекта
историческую преемственность и изменения можно рассматривать
как альтернативные результаты изменчивости и сохранения в
процессе отбора, в которых отражается, насколько успешно раз-
личные варианты отвечают предъявляемым им требованиям. Та-
ким образом, историческое развитие интеллектуальных дисциплин
связано с иными популяционными процессами отнюдь не при по-
мощи специфически биологических аналогий, а просто через об-
щую модель развития посредством новообразований и отбора.
Если интеллектуальные дисциплины содержат исторически
развивающиеся популяции понятий, подобно тому как органиче-
ские виды содержат популяции организмов, то в таком случае мы
можем рассмотреть, как взаимодействие факторов новообразова-
ния и отбора поддерживает характерное для пих единство и пре-
емственность. Точно так же как органические популяции образу-
ют определенные виды, а не бесструктурную совокупность отдель-
ных организмов именно потому, что пригодные для них «экологи-
ческие ниши» в достаточной мере импонируют популяции своим
единством и целостностью, несмотря на постоянное разнообразие
особей, так и в данном случае равновесие между интеллектуаль-
ным нововведением и критическим отбором подразделяет всю со-
вокупность понятий на хорошо различаемые «наборы», характер-
148
ные для отдельных дисциплин, несмотря на постоянное появле-
ние интеллектуальных новшеств в каждом отдельном наборе.
Однако популяционный подход лишает нас права давать постоян-
ные определения образующимся в результате дисциплинам, раз-
деляющим различные области исследования стационарными гра-
ницами, в терминах гипотетически неизменных «существенных
признаков», будь то методы или проблемы, теории или понятия,
методики или предметы исследования. «Физика» или «био-
химия» на каждой стадии своего развития не складываются —
абсолютно и вечно — пз одних п тех же свойств; научные
дисциплины, как и органические виды,— ото эволюционирую-
щие, «исторические сущности», а не «вечные существа».
В интеллектуальной истории, как и в истории природы, древ-
ний философский идеал «неизменных сущностей», которые, по
существу, остаются идентичными на всем протяжении сменяю-
щих друг друга «случайных» исторических перемен, ныне может
быть заменен более жизненным и менее таинственным представ-
лением, а именно понятием «исторические сущности», которые
хотя и не обладают абсолютно неизменными свойствами, тем не
менее в достаточной степени сохраняют свое единство и преем-
ственность, чтобы их можно было различать н понимать при пере-
ходе от одной эпохи к другой. Папример, работы Бурпдапа и Га-
лилея, Максвелла и Фейнмана превратились в последовательно
сменяющие друг друга вклады в одну и ту же дисциплину совсем
не из-за их общей приверженности какой-то единой, постоянной в
неизменной, или сущностной, «физике». Просто их общая интел-
лектуальная инициатива сохранила свойственное ей единство и
целостность, несмотря на все перемены, которые произошли на
протяжении 600 лет.
Мы изложим свое объяснение концептуальной эволюции в
двух аспектах. Всякая хорошо структурированная рациональная
инициатива, если ее рассматривать как исторически развиваю-
щуюся человеческую деятельность, имеет два лица. Мы можем
считать ее дисциплиной, охватывающей общий круг традицион-
ных процедур и методик для решения теоретических или практи-
ческих проблем; или же мы можем рассматривать ее в качестве
профессии, охватывающей организованную систему институтов,
ролей и людей, чье дело состоит в том, чтобы применять или
улучшать эти процедуры и методики. Эти два лица представляют
собой альтернативные аспекты одних и тех же исторических из-
менений, как они видны с различных точек зрения. Если мы бу-
дем рассматривать рациональные инициативы в дисциплинарных
терминах, их развитие во времени составит предмет истории идей.
В таком случае задача историка состоит в том, чтобы исследо-
вать, например, как понятия естественных наук совершают свой
жизненный путь, как из-за недостаточной базы опытного исследо-
149
вания природы они сначала были совершенно спекулятивными,
потом постепенно приобрели такую базу и стали, таким образом,
хорошо обоснованными, а в конце концов утратили весь свой ин-
теллектуальный авторитет и7 были отнесены к категории простых
приближений и даже преДрассудков. Альтернативно, если мы
рассмотрим ту же самую инициативу в терминах профессии, ее
развитие во времени станет предметом истории научных органи-
заций, институтов и процедур. В таком случае задача историка
будет состоять в том, чтобы продемонстрировать, как изменялась
деятельность отдельных ученых и научных групп, как некоторые
профессиональные группы или методические процедуры, которые
первоначально не имели устойчивости или авторитета, впослед-
ствии приобрели авторитет и укоренились среди членов данной
профессии, но только для того, чтобы на более поздних стадиях
быть отодвинутыми па вторые роли и даже утратить всякое до-
верие.
До тех пор пока интеллектуальное содержание науки, напри-
мер, конструировалось в виде «логической системы», историю на-
учных идей еще можно было отделять от истории научных инсти-
тутов и деятельности, а их итоги — описывать независимо друг
от друга. Ибо в таком случае, по-видимому, не существует
общего элемента, связующего последовательность концепту-
альных или пропозициональных «систем», которые образуют
«внутреннюю» субстанцию научной дисциплины, и социальных,
экономических и политических структур, которые обеспечивают
им «внешний» профессиональный каркас. Успех новых идей в
большинстве случаев, возможно, бывал поводом для создания но-
вых институтов, тогда как научные организации служили челове-
ческим выражениям научных идей. Развитие научных понятий,
таким образом, привело к возникновению независимого самоуп-
равляемого процесса, которому в большинстве случаев могли со-
действовать или мешать институциональные и социополитические
факторы. Но как только мы начинаем рассматривать развитие
дисциплин и профессий в качестве альтернативных аспектов одно-
го и того же популяционного процесса, эта автономия должна
быть подвергнута сомнению, а две параллельные истории этой
инициативы уже не могут быть совершенно независимыми друг
от друга. Например, продемонстрировав, что какое-либо новое по-
нятие заняло прочное место в научной дисциплине, мы должны об-
ратить внимание на те процедуры отбора, которые применялись
при оценке интеллектуальных достоинств каждого нового поня-
тия, а сами эти процедуры должны быть связаны с деятельно-
стью людей, которые в данное время образуют авторитетную
«референтную группу» той профессии, о которой идет речь. Мы
обнаружим, что дисциплинарная или интеллектуальная история
этой инициативы в значительной мере взаимодействует с ее про-
фессиональной или социологической историей, и мы можем от-
делить «внутреннее» жизнеописание идей от «внешних» биогра-
150
фий людей, которым принадлежат эти идеи, только за счет сверх-
упрощепий.
Подходя к нашим проблемам с этой популяционистской точки
зрения, мы можем выделить шесть основных групп вопросов:
(1) Чем определяются пределы интеллектуальной дисципли-
ны и почему вообще существуют различные дисциплины?
(2) Какова природа концептуальной изменчивости и каким
образом общепринятая совокупность концептуальных
вариантов обеспечивает материал для дисциплинарных
изменений?
(3) Каким процессам и процедурам интеллектуального отбора
подвергается такая совокупность?
(4) По каким каналам передачи и сохранения отобранные ва-
рианты включаются в какую-либо дисциплину с тем, что-
бы модифицировать ее устоявшееся содержание?
(5) Каким образом различия в степени изоляции и конкурен-
ции воздействуют на влияние интеллектуального отбора,
а следовательно, и на единство, характер и развитие самих
интеллектуальных дисциплин?
(6) В каких условиях среды действуют интеллектуальные
дисциплины, как устойчивые требовапия этой среды воз-
действуют на то процессы и процедуры, по которым судят
о концептуальных вариантах?
В главах 2 и 3 мы рассмотрим рациональные инициативы с
дисциплинарной точки зрения, обращая внимание на характерные
для них цели и модели исторического развития. В главе 4 мы
рассмотрим их с профессиональной точки зрения, обращая вни-
мание па их социологическую организацию, модели авторитета и
смену референтных групп. В каждом случае паша задача будет
состоять в том, чтобы попять, каким образом человеческая дея-
тельность, свойственная какой-либо рациональной инициативе,
определяет «интеллектуальные ниши», в которых возникают про-
блемы как дисциплинарного, так и профессионального характера,
а также в том, чтобы продемонстрировать, как оба эти вида про-
блем могут соотноситься с «экологическими требованиями» соот-
ветствующих «ниш».
ГЛАВА 2
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
ИХ ЦЕЛИ И ПРОБЛЕМЫ
2.1. Научные дисциплины и их идеалы объяснения
Легко признать факт разделения интеллектуальной жизни и
деятельности людей на отдельные дисциплины. Но гораздо труднее
объяснить, в каких терминах следует понимать это подразделение
(решить эту проблему — паша важная задача). Как, например,
нужно классифицировать и определять такие дисциплины?
Вербальные определения здесь вряд ли помогут. Преждевре-
менные попытки схватить значение наших основных понятий де-
лают их совершенно неинформативными, как это было в неудач-
ном выражении Евклида: «Точка — это, то что не имеет частей».
Итак, здесь мы можем понять, что, хотя атомная физика, моле-
кулярная биология и юриспруденция, по общему признанию, со-
ставляют отдельные дисциплины, мы все же не можем решить,
как следует определять сам термин «дисциплина». Очевидно,
профессиональные ученые и юристы имеют эффективные практи-
ческие средства для того, чтобы решить, что именно относится к
соответствующим дисциплинам, и для того, чтобы понимать их
непрерывное существование во времени. Действительно, эти
критерии могут быть очень точными; ученые — гуманитарии и
естествоиспытатели — обладают острым чутьем на всяких само-
званцев и быстро отвергают чью-либо аргументацию: в одном
случае потому, что это «вообще не настоящая физика», в
другом — потому, что «романтическая сущность поэзии маскиру-
ется под зоологию», в третьем — потому, что «левая политика
маскируется под общее право». Первый шаг в исследовании ха-
рактера интеллектуальных дисциплин состоит в том, чтобы сде-
лать явными природу п источник этих критериев. В таком слу-
чае в чем состоит основной отличительный признак, благодаря
которому интеллектуальная деятельность приобретает характер
научной дисциплины? По каким показателям должны мы опреде-
лять, когда следует применить этот термин, а когда — воздер-
жаться от его употребления?
Мы могли бы приступить к решению этой задачи несколькими
способами. Мы могли бы начать с рассмотрения тех критериев,
которые относятся к специфическому содержанию научных дис-
циплин,— может быть, с теорий, понятий или концептуальных
систем различных естественных паук. По это снова привело бы к
ошибочной подмене целого частью. Специфические теории, поня-
152
тия и концептуальные системы — это преходящие продукты или
поперечные срезы целостных, исторически развивающихся наук;
единство и преемственность этих наук должны отражать не толь-
ко формальные отношения, существующие в каждом таком попе-
речном срезе, но и специфические отношения, охватывающие всю
совокупную последовательность развивающихся идей. Таким об-
разом, действительная проблема заключается в следующем: что
делает более поздние стадии в развитии науки «законными на-
следниками» предыщущих? Различные стадии связаны между со-
бой не их идентичностью пли логической последовательностью, а
отношениями законных предшественников п наследников, и про-
блема состоит в том, чтобы открыть, как можно объяснить эту
законность Ч
Конечно, длительная причастность к науке дает о себе знать
несколькими различными способами. Группы людей, которые ра-
ботают в качестве физиков-атомщиков, цитологов или нейроапа-
томов, связаны в генеалогии ученых как руководители и их уче-
ники; аналогичным образом связаны в институциональные ге-
неалогии научные общества или исследовательские центры в
каждой науке; в то же время другие генеалогии соединяют экспе-
риментальную технику, модели объяснения, терминологию, мате-
матические методы, предметы исследования предшествующих и
более поздних стадий данной науки. В том или ином кон-
тексте, возможно, будет полезно описать историческое развитие
науки в терминах какой-либо из этих последовательностей, то
есть как результат либо влияния поколений преподавателей, либо
усовершенствования оборудования и улучшения методик расче-
тов, либо расширения эмпирической сферы. Трудность состоит в
том, чтобы понять, какая из этих различных частей имеет наи-
большее значение, а может быть, подобно волокнам каната, они
воздействуют па науку совокупно, причем ни одним из них нельзя
пренебречь.
. В качестве примера возьмем развитие атомной физики начи-
ная с ее становления приблизительно в 90-е годы XIX века,
расцвета в 20-е годы XX столетия и вплоть до ее разделения на
несколько наследовавших ей наук в 50-е годы XX века. Предпо-
ложим, что мы описываем атомную физику в качестве интеллек-
туальной дисциплины приблизительно в 1930 году. Что подразу-
мевало бы тогда такое название? Что именно в 1930 году прида-
вало атомной физике ее единство в качестве самостоятельного
предмета? Столкнувшись с этим вопросом, кто-нибудь, возможно,
почувствовал бы искушение сослаться на какой-либо стандартный
учебник, просто ответив: «Под атомной физикой я подразумеваю
1 Ср. ответ Людвига Витгенштейна тем его критикам, которые сожа-
лели, что то, чем он занимался, «не было философией», на что он отве-
тил: «Может быть, и так, но то, чем я занимаюсь, — это законный наслед-
ник того, что раньше называлось философией».
153
предмет, изложенный в этой книге». Такой ответ, однако, совер-
шенно непреднамеренно заманил бы пас в ловушку историческо-
го релятивизма. В 1910 году интеллектуальное содержание атом-
ной физики очень отличалось от того, каким оно стало двадцать
лет спустя, но, конечно, мы не согласимся только из-за этого от-
казать Дж. Дж. Томсону и Резерфорду в звании «физик-атомщик».
Действительно, учебник, написанный в 1930 году, даст нам только
один временной срез того целостного предмета, который известен
нам в качестве атомной физики, то есть расскажет об идеях и ар-
гументах, характерных для этой науки в тот период, о котором
идет речь, а эта «репрезентативная система» имеет право на на-
звание «атомная физика» только потому, что она была законным
преемником предшествующих ей идей и аргументов Томсона и
Резерфорда. Следовательно, для того чтобы адекватно охаракте-
ризовать пауку, мы должны дать определение (то есть определить
критерии единства, последовательности и преемственности) в та-
ких терминах, которые охватывают идеи, распространенные среди
физиков-атомщиков и в 1910, и в 1930, и в 1950 годах; кроме того,
мы должны дать такое определение, которое показывает, как
предмет этой науки связан с ее предшественниками в общей фи-
зике 90-х годов XIX века, а также и с более специализированны-
ми и узкими дисциплинами, которые выступили ее преемниками
в 60—70-е годы XIX столетия.
Дадим беглый обзор некоторых возможных показателей. Та-
кой критерий может быть установлен в терминах человеческой
преемственности, обеспеченной самими физиками-атомщиками.
Тогда, для начала, мы могли бы сказать: «Атомная физика —
это предмет, изобретенный Дж. Дж. Томсоном, Эрнестом Резер-
фордом и Нильсом Бором и развитый их учениками и преемни-
ками». Однако, хотя это определение, возможно, окажется удач-
ным практическим показателем, оно все же не послужит основой
надлежащего определения. Мы признаем Томсона и Резерфорда,
Бора и Шредингера, Ферми и Лоуренса членами единой профес-
сиональной гильдии не просто потому, что они учились друг у
друга, но именно по тому, чему опи научились друг у друга. Их
общая принадлежность к одной и той же профессиональной гиль-
дии помогала поддерживать единство атомной физики, по не соз-
давала ее дисциплинарного единства и целостности. Именно об-
щая для них приверженность к свойственным для атомной физи-
ки понятиям, которая идентифицировалась некоторыми другими
показателями, объединяла всех этих ученых в их общей специ-
альности.
Как же в таком случае следует идентифицировать эти «спе-
цифические проблемы»? Этот вопрос уже гораздо шире, чем тот,
с которого мы начали. Ибо если понятия п теории, свойственные
отдельным дисциплинам, можно было бы определить в безличные
терминах, то «проблемы» всегда имеют отношение к людям
В соответствии с этим мы можем теперь задаться вопросом: «Ка-
154
кие постоянные элементы обнаруживаются в интеллектуальных
проблемах, стоявших перед физиками-атомщиками в течение
всей первой половины XX столетия?» Заметим, что здесь мы за-
даемся вопросом о постоянных, а не об инвариантных элементах.
За эти полстолетия терминология, теоретические модели и фун-
даментальные уравнения атомной физики испытали несколько
коренных изменений, так что к 1930 году сам Резерфорд еще не
мог представлять себе атомы таким образом, который ученики
его учеников считали само собой разумеющимся. И несмотря на
то, что ряд теоретических терминов оставался в употреблении на
протяжении всех этих пятидесяти лет, едва ли это было тем
единственным ключевым элементом, который пес ответственность
за непрерывность существования атомной физики. Во всяком
случае, вряд ли выжило что-либо кроме слов; понятия «элек-
трон» и «ядро», которые обсуждались Гейзенбергом и Дираком
в 30-е годы XX века, далеко ушли от того, что они собой пред-
ставляли в теориях Томсона и Резерфорда тридцать лет назад.
В таком случае нам лучше будет поискать непрерывность атом-
ной физики в тех проблемах, с которыми сталкивались следую-
щие друг за другом поколения физиков-атомщиков; а их следует
определять не столько в терминах каких-либо единичных неиз-
менных вопросов или группы вопросов, сколько в качестве не-
прерывной генеалогии проблем.
Таким образом, те идеи, которые Бор выдвигал, чтобы решать
стоявшие перед ним самим проблемы относительно структуры
атома, лучше всего отвечали на вопросы, не решенные его учи-
телем Резерфордом; тогда как трудности, которые оставил нераз-
решенными он сам, в свою очередь поставили новые проблемы,
над которыми должны были работать его собственные ученики...
Таким образом, проблемы, на которых концентрируется работа
последующих поколений ученых, образуют своего рода диалек-
тическую последовательность; несмотря на все изменения акту-
альных для них понятий и методов, стоящие перед ними пробле-
мы в своей совокупности образуют длительно существующее ге-
неалогическое дерево. В таком случае преемственность научной
дисциплины, если ее проанализировать в данных терминах, столь
же основывается на обстоятельствах, управляющих изменениями
следующих друг за другом «поколений» включенных в нее про-
блем (вместе со всеми связанными с ними теориями и идеями),
сколь и на обстоятельствах, приводящих к выживанию неизмен-
ных проблем или принятых теорий и понятий. В конце концов
если науки должны представлять собой подлинно «рациональ-
ные» и исторически развивающиеся инициативы, за которые мы
их принимаем, то именно этого и следовало ожидать.
Именно «генеалогия проблем» соответственно лежит в основе
всех иных генеалогий, с помощью которых можно охаракте-
ризовать развитие науки. В последовательности теорий более
поздние модели и понятия обязаны своей законностью тому, что
155
они решили проблемы, для которых старые модели и понятия
были неадекватными. В последовательности экспериментального
оборудования новейшие конструкции выполняли измерения, про-
ливавшие свет па проблемы, неразрешимые при употреблении
более старых конструкций. Даже развитие предмета исследова-
ния (или эмпирической сферы) научной дисциплины управляет-
ся этой осповополагающей генеалогией проблем. Если мы (при-
меняя термин Шэпера) будем различать одну науку от другой по
соответствующим каждой из них «доменам», то даже эти домены
нужно идентифицировать не по типу объектов, которые они рас-
сматривают, а скорее по тем проблемам, которые возникают отно-
сительно этих объектов \ Любой индивидуальный объект попа-
дает, например, в домен «биохимии» лишь постольку, поскольку
оп составляет предмет соответствующих «биохимических» про-
блем; а один и тот же объект попадет в домены нескольких раз-
личных паук в зависимости от характера возникающих в связи
с ним проблем. Например, поведение мышечного волокна может
попасть в области биохимии, электрофизиологии, патологии и
термодинамики, так как оно может вызвать вопросы со всех че-
тырех точек зрения; а в принципе то же самое волокно можно
перенести в сферу всех остальных наук, сделав его, например,
предметом квантовомеханических или психологических вопросов.
Конечно, генеалогия научных проблем далеко не столь без-
лична, как последовательность теоретических терминов, матема-
тических уравнений или аксиоматических систем. Чтобы лучше
это попять, мы должны теперь перейти к новой стадии нашего
исследования и задаться вопросом, что же делает проблему «про-
блематичной», если рассматривать ее с точки зрения частной на-
учной дисциплины? Только в том случае, если мы докопаемся
до этого более глубокого уровня, мы сможем выяснить, почему
адекватное определение «дисциплины» должно ссылаться не
только на предмет, на котором концентрируется вся ее дисципли-
нарная деятельность, но и па профессиональные установки, кото-
рыми эта деятельность руководствуется.
Поставим вопрос в общем виде: проблемы науки никогда не
были детерминированы только природой мира, но всегда возни-
кали из того факта, что в той области, которой мы интересуем-
ся, наши идеи противоречат либо природе, либо другим идеям.
Галилей и Декарт любили говорить, что задача ученого состоит
в том, чтобы раз и навсегда разгадать тайный шифр, кото-
рым написана книга природы, и таким образом подойти к «еди-
ной истинной структуре» природного мира. Однако здесь
1 По этому вопросу см. очерк Дадли Шэпера (Dudley Shapere) в: The
Legacy of Logical Positivism (см. наст, изд., с. 78—79, сн. 2), а также его
выступление на симпозиуме: Tlie Structure of Scientific Theories, ed. F. Suppe.
156
мы скорее имеем дело с традиционными платонистскими идеалами
пли целями, а не просто с описанием задач, стоящих перед на-
учным исследованием, как оно есть на самом деле. Выражаясь
не столь напыщенно, можно сказать, что задача науки состоит в
том, чтобы постепенно, шаг за шагом усовершенствовать наши
представления о природе, идентифицируя проблемные зоны, где
в настоящее время можно что-то предпринять для того, чтобы
сократить разрыв между возможностями находящихся в обраще-
нии понятий и нашими разумными интеллектуальными идеалами.
Долгосрочные крупномасштабные изменения в пауке, как и
везде, происходят не в результате внезапных «скачков», а бла-
годаря накоплению мелких изменений, каждое из которых сохра-
нилось в процессе отбора в какой-либо локальной и непосред-
ственной проблемной ситуации. Следовательно, в своих попыт-
ках понять концептуальные изменения в науке мы должны быть
особенно внимательными к локальным и непосредственным тре-
бованиям каждой интеллектуальной ситуации и к премуще-
ствам, связанным с различными концептуальными новообразова-
ниями. Эти требования редко бывают простыми, но всегда очень
специфичны. Таким образом, четкая преемственность проблем,
стоящих перед наукой, отражает не внешний вечный диктат ло-
гики, по преходящие исторические факты в каждой отдельной
проблемной ситуации.
В таком случае необходимо, чтобы «рациональный метод» в
пауке чутко реагировал па специфику каждой интеллектуальной
ситуации; качественно же точка зрения того или иного ученого
гораздо больше проявляется в его способности реагировать на
различные требования стоящих перед ним проблем, чем в его
приверженности общему «методу». Источником научных про-
блем, следовательно, являются топкие исторические связи между
установками ученых-профессионалов и миром природы, который
они изучают. Я утверждаю, что проблемы возникают там,
где наши представления о мире противоречат либо природе, либо
другому представлению, то есть там, где наши современные идеи
(в некоторых поддающихся исправлению отношениях) не дости-
гают наших интеллектуальных идеалов. Формулируя научную
задачу именно таким образом, мы снова выдвигаем па передний
план тот элемент научного исследования, который формальные
трактаты по индуктивной логике часто опускают. Концептуаль-
ные проблемы в науке возникают не из сравнения «предложе-
ний» с «наблюдениями», а из сравнения «идей» и «опыта».
О силе наших нынешних объяснений нужно судить в свете реле-
вантных целей и идеалов. Сущность же научных «проблем» не-
льзя определить надлежащим образом без того, чтобы не опреде-
лить также и характер этих идеалов.
Что же в таком случае означает разговор об «интеллектуаль-
ных идеалах», или «целях объяснения», в пауке? И какую роль
играют такие идеалы в развитии научного мышления? Резюми-
157
руем приведенные нами выше примеры: на всем протяжении
первой половины XX столетия физики-атомщики разделяли неко-
торую чрезвычайно общую концепцию о том, в какой общей фор-
ме следовало бы давать полное объяснение структуры материи,
если бы оно должно было полностью объяснить поведение мате-
риальных тел на атомном уровне; эта концепция основывалась
на представлении о «субатомных структурах», которое было вы-
двинуто Дж. Дж. Томсоном в 90-е годы XIX века. Они разделя-
ли также некоторый коллективный идеал, или общую цель, а
именно — отыскать способы детального объяснения релевантных
свойств действительно существующих объектов и веществ, а так-
же облечь плотью этот интеллектуальный скелет. Эта коллектив-
ная цель, возможно, отчасти варьировалась у различных индиви-
дов и цеховых подгрупп физиков-атомщиков, а с течением време-
ни, особенно после 1925 года, она изменилась в некоторых весьма
существенных отношениях L Однако, несмотря на то что эта
дисциплинарная цель не была универсальной и неизменной, она
непрерывно развивалась, и это непрерывное развитие — от Том-
сона и Резерфорда до Фейнмана и Бома — является основной
чертой фундаментальной генеалогии «атомной физики».
Правда, на каждой стадии интеллектуальный кругозор физика-
атомщика расширялся в каких-либо фундаментальных отноше-
ниях. Но это справедливо для всей науки. Идеалы «полноты» или
«совершенства», если их принять за чистую монету, недостижи-
мы в науке, как, впрочем, и везде. Однако сказанное не умаляет
их важности; оно просто означает признание той цели, которой
они призваны служить. На протяжении всего это периода общая
концепция «полного объяснения» физических свойств материи,
данного в терминах «внутренней структуры атома», налагала на
проблемы атомной физики концептуальное единство и обеспечи-
вала всю профессию физиков-атомщиков коллективной целью, то-
гда как связанные с ней модели понимания — то, что в своих
«Предвидении и понимании» я назвал «идеалами естественного
порядка»,— служили для физиков-атомщиков средством иденти-
фикации нерешенных проблем и оставшихся без ответа во-
просов2. Выразим это в общей форме: ученые локализуют и
специфицируют интеллектуальные недостатки имеющихся в нали-
чии представлений, сознавая разрыв (shortfall) между их спо-
1 См.: Conant J. В. Scientific Principles and Moral Conduct. Cambridge.
EngL, 1967, p. 8: «Чтобы бросить вызов всем попыткам связать эти способы
поисков истины, я должен заменить словосочетание «научный метод» та-
ким выражением, как, например, «способ, которым развивалась наука».
Такая замена необходима потому, что своим успехом естествоиспытатели
(о которых идет речь) обязаны главным образом не их методам, а цели
их усилий. Довольно любопытно, что каждые несколько лет цель детер-
минируется тем, что было результатом экспериментов и наблюдений в
предшествующие годы. Я обращаюсь к свидетельству экспериментальных
наук, чтобы оправдать это высказывание».
* Foresight and Understanding, Ch. 3 and 4.
158
собностью «объяснять» релевантные черты природы п целями
объяснения, которые определены их нынешними идеалами есте-
ственного порядка, или моделями полного понимания.
Короче говоря,
научные проблемы = идеальные объяснения — современ-
ные возможности.
Таким образом, когда Томсон и Резерфорд изобрели «атом-
ную физику», их главным достижением было отнюдь не выпол-
нение эмпирических наблюдении или математических расчетов;
оно было получено в области интеллектуального воображения. Их
предшественники, которым не хватало вполне релевантных дан-
ных, останавливались на том, что в теории подразделяли мате-
рию на неизменные невидимые «атомы», соединяющиеся в «мо-
лекулы». Томсон и Резерфорд заметили, что новые концепции
«внутриатомной структуры» обеспечили бы для физического объ-
яснения новую сферу даже на макроскопическом уровне; по-
ступая таким образом, они одновременно расширили и резонные
ожидания физиков, и те рациональные требования, которые на-
правляли цели даваемых ими объяснений. Конечно, мы должны
при этом заметить, что их программа была сугубо практической,
направленной на объяснение каких-то совершенно определенных
и идентифицируемых явлений. Опа отнюдь не была задумана для
того, чтобы обеспечить чисто «теоретическую» возможность за-
полнить интеллектуальный вакуум, подобно гипотезе Праута,
созданной почти за восемь-десять лет до того; тем более она не
развивалась в духе Юма, в качестве чисто «формальной» возмож-
ности'. Однако, какими бы специфическими пи были интересы
Томсона и Резерфорда, их программа тем не менее основывалась
на новом интеллектуальном идеале, и другие физики могли при-
нять их программу только при соответствующем усилии вообра-
жения. Действительно, более консервативные коллеги Дж. Дж.
Томсона, которые не сумели осуществить этот скачок воображе-
ния в области неизведанного, начали рассматривать его гипотезу
о том, что электрон является материальным объектом «субатом-
ных» размеров в качестве своего рода розыгрыша
Итак, начиная с этого времени обязательной ступенью в обу-
чении каждого физика-атомщика стало воображаемое проникно-
вение в интеллектуальные идеалы Томсона и Резерфорда. (Ко-
нечно, здесь слово «воображаемый» отнюдь пе означает, что мы
«мыслим образами» или «считаем эти идеалы воображаемыми,
фиктивными».) Только подогнав явления природы под интеллек-
1 См.: Cohen J. В. Conservation and the Concept of Electric Charge.—
Ip: Critical Problems in the History of Science, ed. M. Clagett, Madison, 1959,
особенно c. 358; Thomson J. J. Recollections and Reflections. L., 1936,
p. 341.
159
туальную форму этих идеалов, можно действительно идентифи-
цировать характерные для «атомной физики» проблемы. Так, с
1900 по 1950 год история этой дисциплины представляла со-
бой трехстороннее взаимодействие, во-первых, фундаментальных
«идеалов естественного порядка», которые определяли цели объ-
яснения; во-вторых, специфических понятий и теорий, выдвигае-
мых в надежде осуществить эти идеалы, и, в-третьих, накоплен-
ного физиками практического опыта относительно тех явлений,
которые атомная физика позволяет нам объяснить.
Таким образом, определенные аспекты той или иной пауки
можно описать безличными терминами: их историческое разви-
тие можно обсуждать как эпизод в истории идей. Другие аспек-
ты можно обсуждать только в человеческих терминах: их истори-
ческое развитие образует эпизод в истории человеческой деятель-
ности. Однако па более фундаментальном уровне интеллектуаль-
ная деятельность научных специалистов в равной мере отражает
п ту исходную установку, с которой они интерпретируют этот
опыт. На данном уровне мы больше не можем резко разделять
деятельность ученых и те понятия и теории, которые являются
результатом этой деятельности. В этом отношении центральные
проблемы интеллектуальной дисциплины в то же время являют-
ся основным занятием соответствующей специальности. Таким
образец реконструировать историческую эволюцию «атомной
физики» — значит проследить, какие связи устанавливаются
между сменяющимися проблемами на протяжении следующих
друг за другом десятилетий, и показать, как при всех этих изме-
нениях сохранялась ее рациональная непрерывность.
Суммируем: историческая трансформация, благодаря которой
эволюционизирует содержание научной дисциплины, постигается
только в терминах целей объяснения, принятых в настоящее вре-
мя в соответствующей специальности. Однако характер этих це-
лей в свою очередь можно объяснить лишь в том случае, если
использовать термины, выведенные из словарного запаса этой
дисциплины. Вообще предмет науки действительно «проблемати-
чен» лишь в том случае, если он рассматривается в свете этих
интеллектуальных целей занятых в ней ученых; однако сами эти
цели можно реалистически сформулировать только в свете опыта
соответствующей дисциплины... В этом диалектическом методе
задача определения современных идеалов пауки со всей необхо-
димой точностью имплицитно мобилизует весь ее исторический
опыт.
В таком случае природа «интеллектуальной дисциплины» все-
гда включает в себя по крайней мере как ее понятия, так и лю-
дей, которые их создали; как ее предмет, или «домен», так и те
общие интеллектуальные цели, которые объединяют работающих
в этой области людей. Если представления «интеллектуальной
160
дисциплины» и «научной специальности» коррелятпвпы, то кор-
релятпвпы также и факторы, которые сохраняют интеллектуаль-
ную последовательность дисциплины и собственно идентичность
специальности. В каждом из этих случаев тот опыт, который был
накоплен людьми в отдельной области, приводит к тому, что они
принимают определенные идеалы объяснения. Эти идеалы обус-
ловливают те коллективные цели, которые человек стремится до-
стичь, когда получает соответствующую специальность и рабо-
тает в качестве биохимика или физика-атомщика; и те же самые
идеалы сохраняют связность самой дисциплины, ставя пределы,
которые ограничивают круг гипотез и размышлений, и совершен-
ствуя критерии отбора, позволяющие судить о концептуальных
новообразованиях.
Объяснение научных дисциплин, данное в этих популяцион-
ных терминах, обеспечивает средства, позволяющие понять ра-
циональную непрерывность, лежащую за внешне «революцион-
ными» изменениями. Ибо до тех пор, пока постоянные интеллек-
туальные цели этой дисциплины сохраняют свою непреложность,
они изменяются гораздо более постепенно, чем понятия и тео-
рии, которые являются их преходящими результатами. Короче
говоря, существование и единство интеллектуальной дисципли-
ны, рассматриваемой как специфическая «историческая сущ-
ность», отражают преемственность, налагаемую на ее проблемы
развитием собственных интеллектуальных идеалов и целей.
2.2.Научные понятия и процедура объяснения
В оставшейся части этой главы я попытаюсь показать, что
интеллектуальные идеалы, характерные для научной дисципли-
ны, действуют в качестве связующего звена между ее методика-
ми объяснения, понятиями, теоретическими проблемами и их
эмпирическим применением. Здесь необходимо сделать два пред-
варительных замечания.
Во-первых, на ранних стадиях своего развития наука отлича-
ется не столько полнейшим незнанием соответствующих явлений,
сколько неопределенностью своих собственных интеллектуальных
целей или задач объяснения. Мы часто имеем в своем распоряже-
нии избыток информации — о человеческом поведении, погоде
или движении планет,— однако, не знаем, «что с пей делать».
(Обратим внимание на конструктивные импликации этой идио-
мы.) Соответственно окончательное создание, или «специализа-
ция», новой научной дисциплины ассоциируется с принятием
столь же специфической исследовательской программы. Таким
образом, в хорошо стабилизировавшейся области научного иссле-
дования мы обычно обнаруживаем согласованное разделение тру-
да между сосуществующими частными дисциплинами (sub-
disciplines), имеющими различные цели объяснения, между
6 Зак. 21
161
которыми в крайнем случае имеются пограничные территориаль-
ные споры (как, например, между мол окулярной биохимией и
клеточной биологией).
Во-вторых, наш подход вводит новый тип истории «натурфи-
лософии». Основные модели объяснения, формы теорий, научная
«тематика» — все это разрабатывалось до того, как осознавалась
пх эмпирическая сфера L Например, «открытие» Джоном Даль-
тоном химических атомов имело сложную предысторию. Строго
говоря, Дальтон открыл лишь новый способ сопоставления идей
с фактами, а именно: он открыл, как атомистическую картину
вещества, созданную Демокритом и Эпикуром, а позднее разра-
ботанную Ньютоном и его последователями, можно было приме-
нить для того, чтобы детально объяснить химические законы по-
стоянства состава и кратных отношений. Таким образом, натур-
философия незаметно превращается в научную теорию в тот
момент, когда какой-либо способ объяснения, импликации кото-
рого раньше исследовались лишь «в абстракции», па деле при-
носит пользу в качестве объяснения, так что начинает четко вы-
рисовываться сфера его эмпирического приложения. Историче-
ское развитие научных идей, рассматриваемое в этих терминах,
включает в себя две дополняющие друг друга инициативы:
а) аналитическое уточнение интеллектуальных моделей и
б) прогрессирующее осознание их эмпирической сферы. Филосо-
фы-досократики интересовались почти исключительно первой из
этих инициатив; они оставили нам богатое наследие возможных
форм или моделей объяснения, действительная эмпирическая ре-
левантность которых, однако, была еще не ясна. Начиная с Пла-
тона и Аристотеля задача — дать этим моделям объяснения эм-
пирическое применение, например в астрономии планет или био-
логии моря,— была наконец поставлена в общих терминах. И мы
можем представить развитие отношений между классической фи-
лософией и наукой не в качестве следующих друг за другом рез-
ких переходов, когда практичные, эмпирически мыслящие уче-
ные в одной области за другой научились не доверять спекуля-
циям a priori и рассматривать свой эмпирический предмет без
философских предпосылок, но как более поступательный процесс,
благодаря которому люди постепенно учились придавать предше-
ствующим теоретическим способам объяснения применение в спе-
цифических эмпирических ситуациях.
Этот симбиоз натурфилософии и эмпирической науки, то есть
абстрактного анализа возможных форм объяснения и их прпло-
1 Термин «тематика» (themata) употребляется в: Holton G. The Sour-
ces of Scientific Hypotheses. — «Eranos-Jahrbuch», 19G3, 31, 351—355. (Ha
русском языке издана книга Дж. Холтона «Тематический анализ науки».
М., «Прогресс», 1981. — Ред.)
162
женин к фактическим классам природных явлений, в данном слу-
чае имеет прямое отношение к пашей центральной теме — клю-
чевым отношениям между интеллектуальными идеалами той или
иной научной дисциплины и ее процедурами объяснения, поня-
тиями и теоретическими проблемами. Сердцевину современных
аргументов относительно концептуальных изменений в науке об-
разует понимание того, что никакой единственный идеал «объяс-
нения» или рационального оправдания (Платон и Декарт, напри-
мер, находили его в формальной геометрии) пе применим универ-
сально ко всем паукам во все времена. Каждая приносившая
пользу дисциплина имела специфические цели и идеалы, которые
определяли ее специфические методы и структуры, и самой ос-
новной чертой ее исторического развития было прогрессирующее
уточнение и выяснение этих целей и идеалов. Это уточнение и
есть та основная деятельность, которая делала возможным появ-
ление новых допущений, их проверку, принятие новых интеллек-
туальных методов, процедур и структур; п мы должны ана-
лизировать «рациональное» применение понятий в коллективных
интеллектуальных дисциплинах, принимая во внимание эту
деятельность.
Такое понимание имеет одно непосредственное следствие. До
сих пор философы принимали за доказанное, что термин «объяс-
нение» прежде всего относится к аргументам — предпочтительно
к строго формальным или демонстративным аргументам. Дей-
ствительная деятельность «в процессе объяснения» оставалась
для них чем-то вторичным: она состояла просто в том, чтобы из-
ложить аргументы, которые в данное время представляли собой
распространенные объяснения интересующих пас явлений. Соот-
ветственно теоретическое открытие, по их мнению, состояло в
том, чтобы выявить модели дедуктивных отношений, схваченных
в «объясняющих аргументах». В настоящее время мы должны
произвести переворот в философских отношениях между аргу-
ментацией объяснения и объяснительной деятельностью. Терми-
ны «объяснять», «процесс объяснения», «объяснение» в том виде,
в каком они используются здесь, относятся в первую очередь к
тому разряду человеческой деятельности, который может вклю-
чать, а может и не включать в себя изложение формальных, де-
монстративных аргументов; только во вторую очередь эти тер-
мины будут применяться к тем аргументам, которые входят в
эту объяснительную деятельность. Например, если употребить
эти понятия в нашем первичном смысле, то именно физики, а не
физика «объясняют» физические явления. В таком случае гово-
рить о том, что закон или теория «объясняют» явления, можно
лишь в производном смысле, подразумевая, что физики успешно
обращаются именно к закону пли теории, когда объясняют явле-
ния в первичном смысле. При такой интерпретации аргумент сам
по себе больше не будет «объяснением» явления; в лучшем
6*
163
случае оп может «служить» в качестве объяснения, если он выра-
ботан в соответствующем контексте и правильно применен.
Такое вербальное усовершенствование имеет весьма суще-
ственное применение. Ибо оно побуждает нас обращать более
серьезное внимание, чем это обычно делалось философами, на
объяснительную деятельность и процедуры («объяснения» в на-
шем первичном смысле), а не на то, что включает обращение к
формальным, демонстративным аргументам. Кроме того, па прак-
тике, давая какие-либо объяснения, ученые довольно часто пола-
гаются не на представление явно дедуктивных аргументов, а на
такие альтернативные действия, как вычерчивание графиков и
диаграмм, создание интеллектуальных моделей или программ для
компьютеров. И хотя у логиков может возникнуть желание на-
стаивать на том, что эти альтернативные объяснительные дей-
ствия должны имплицитно основываться па формальных аргу-
ментах, которые можно было бы изложить эксплицитно, такая
философская претензия не находит своего выражения в реаль-
ной практике работающих ученых. Напротив, процедуры объясне-
ния, при помощи которых функционирующие ученые действи-
тельно полностью выполняют эту функцию, в научной практике
действуют наравне друг с другом. В тех же случаях, где впослед-
ствии заявляют, что в подобных альтернативных процедурах
«имплицитно присутствуют» строго формальные и вербальные
аргументы, они представляют собой логические идеализации или
абстракции, выведенные из соответствующих научных объясне-
ний, а не их первичное и существенное содержание.
В таком случае для наших целей правильным исходным
пунктом будет общая категория «процедуры объяснений»; частная
процедура — представить демонстративный аргумент, включаю-
щий обращение либо к закону природы, либо к аксиоматической
системе,— есть всего лишь один специфический пример этого бо-
лее общего типа. Этот исходный пункт имеет одно особое преиму-
щество, ибо понимание «объяснения» как процедуры позволяет
легко понять исторический процесс, благодаря которому научные
понятия передаются от одного поколения ученых к другому. На-
пример, при таком понимании те понятия, па которых ученые
строят свою теорию, могут служить коллективными целями соот-
ветствующей дисциплины. Исторически развивающиеся есте-
ственные науки по своему существу представляют собой коллек-
тивные действия, которые переживают не одно поколение людей;
поэтому их нельзя характеризовать в терминах одного только ин-
дивидуального мышления и процедур. Напротив, научные поня-
тия по самой своей природе способны к тому, чтобы их наследо-
вали, передавали, изучали в тех процессах, благодаря которым
дисциплина продолжает существовать после смерти своих твор-
цов. Введем новый термин: набор понятий, представляющих
исторически развивающуюся дисциплину, образует передачу
(transmit). Какие бы личные ассоциации не могли порождать
164
эти понятия в умах отдельных ученых, они не являются тем, что
служит целям научной дисциплины самой по себе и связывает
идеи сменяющих друг друга поколений в единую концептуаль-
ную генеалогию. Специфика передач в пауке состоит (и притом
с необходимостью) в коллективном, или «публичном», аспекте ее
понятий. Умственные образы и нейрофизиологические процессы,
происходящие в головах отдельных ученых, в некоторых случаях
могут играть концептуальпые роли, по они тем самым еще не
становятся «понятиями». 'Го обстоятельство, что такие образы
или процессы могут играть эту роль, нисколько не разъясняет,
в чем именно состоит «концептуальная» роль; это позволяет
только отделить те специфические образы или нервные процессы,
которые выполняют эту роль, от тех, которые ее не выполняют.
Заострим суть обсуждаемого вопроса: если коллективные по-
нятия интеллектуальной дисциплины могут передаваться от
одного поколения работников к другому, то что в таком случае
значит (в данном смысле) «иметь понятие»? Как начинающий
ученый, который изучает специальную науку, п, таким образом,
начинает понимать, например, термодинамику, оптику или систе-
матику, продемонстрирует, что он «понял» относящпсся к ней
понятия? Поставим этот вопрос еще более определенно: как он
докажет, что уже «окультурен» коллективными процедурами
изучаемой им дисциплины, что он сделал ее интеллектуальные
ценности своими собственными и теперь может критически при-
менять ее понятия вплоть до того, чтобы, если это необходимо,
предложить заслуживающие внимания изменения таких поня-
тий? Если мы поймем, что объяснительная деятельность в нау-
ке это коллективная, или «публичная», процедура целой спе-
цйальности, то на все подобные вопросы можно легко ответить
в терминах, которые приобретают «коллективный» смысл.
Таким образом, содержание пауки передается от одного поко-
ления ученых другому благодаря процессу окультуривания. Этот
процесс включает в себя обучение, благодаря которому опреде-
ленные навыки объяснения передаются — с видоизменениями
или без них — от старшего поколения к младшему. Суть того,
что передается в этом процессе обучения — то, что в первую оче-
редь подлежит изучению, проверке, употреблению, критике и
изменению,— составляет вся совокупность интеллектуальных ме-
тодик, процедур, навыков и способов изображения, которые при-
меняются, когда «дается объяснение» событий и явлений, относя-
щихся к сфере интересующей пас науки. Чтобы публично про-
демонстрировать и доказать свое понимание объяснительного
потенциала своей науки, новичок должен, кроме того, научиться,
как и когда применять эти методики и процедуры таким обра-
зом, чтобы они объясняли явления, которые попадают в сферу
современной науки. Например, когда начинающий физик усваи-
вает понятие «энергия», он учится делать три вещи: (1) выпол-
нять расчеты сохранения энергии, (2) понимать, для каких
165
специфических проблем и ситуаций подходят такие расчеты, и
(3) идентифицировать эмпирические величины, которые соответ-
ственно входят в подобные расчеты.
Будучи описанным в этих терминах, доказательство того, что
начинающий ученый усвоил то или иное понятие своей науки,
является совершенно очевидным и имеет «публичный» характер.
Ибо оп демонстрирует свое умение применять это понятие над-
лежащим образом, решая проблемы или объясняя явления при
помощи тех процедур, «законность» которых имеет коллективную
природу. Эта демонстрация приносит не так уж много до-
полнительных сведений, позволяющих нам косвенно делать вы-
воды о «лпчпом» интеллектуальном понимании новичка, строя
спекулятивные умозаключения о гипотетической «внутренней
жизни», от которой зависят публично демонстрируемые им навы-
ки. Точнее говоря, его достижения в процессе объяснения обес-
печивают самое непосредственное и прямое из всех возможных
подтверждений того, что он усвоил значение понятия, то есть его
современную роль в соответствующей дисциплине. Таким обра-
зом, интеллектуальная передача научной дисциплины — то кол-
лективное наследие, которое все, кто практикует в науке, кол-
лективно изучают, разделяют, применяют и критикуют,— содер-
жит специфическую плеяду процедур объяснения; и, показывая,
что он понимает, как и когда следует применять эти процедуры,
человек тем самым дает все необходимые для профессиональных
целей доказательства того, что он приобрел «концептуальное по-
нимание» этой дисциплины.
Правда, при склонности к картезианству мы, возможно, испы-
тывали бы искушение заявить, что, усваивая, по существу, ин-
теллектуальное понятие — «энергию»,— новичок совершенно слу-
чайно учится при этом выражать свое понимание этого понятия,
выполняя связанные с ним публичные расчеты и наблюдения. Но
это значило бы упустить суть дела. В случае коллективных поня-
тий любая «внутренняя» или «умственная» деятельность вторич-
на п производна; необходимо научиться выполнять релевантные
коллективные действия. Внутренняя жизнь новичка может быть
очень богатой, однако, если оп не способен дать какое-либо ося-
заемое доказательство своего концептуального понимания, мы
можем отклонить его понимание термина «энергия» как (в луч-
шем случае) отрывочное и иллюзорное. Так же обстоит дело и
в других случаях: оптические понятия (например, «световой
луч») и таксономические понятия (например, «органический
вид») взаимосвязаны со своими собственными аналогичными
плеядами процедур объяснения и классификации. За термином
«световой луч» лежат экспериментальные и графические мето-
дики геометрической оптики; за термином «вид» лежат класси-
фикационные принципы таксономии и систематики, а также
процедуры идентификации животных и растений. Повторяю, за-
ключительные тесты для того, чтобы решить, «усвоил» молодой че-
166
ловек исследуемое понятие или пет, включают публичную демон-
страцию релевантных процедур или навыков. Вряд ли можно по-
лагать, что молодой человек, который не умеет ни начертить, ни
интерпретировать оптические диаграммы, усвоил понятие «свето-
вой луч». Аналогично этому тот, кто находит, что самые элемен-
тарные задачи ботанической или зоологической классифика-
ции ему недоступны, ед за ли может претендовать на то, что
он усвоил понятие «вид».
Таким образом, именно процедуры и методы научной дисци-
плины составляю!' ее кол л ектп в и ы й и образовательный аспекты;
в таком случае опи определяют тот репрезентативный набор по-
нятий, который образует коллективную «передачу» науки. Если
мы выучим только слова и уравнения науки, то можем запутать-
ся в ее лингвистической суперструктуре; мы начнем понимать
научное значение этих слов и уравнений только в том случае,
если научимся их применять. При этом имеются в виду не толь-
ко те случаи, когда мы изучаем, к каким объектам и ситуациям
относятся эти понятия; подразумеваются, кроме того, те случаи,
когда мы узнаем, какие из взаимосвязанных практических про-
цедур — вычерчивание диаграмм, создание аппаратуры, класси-
фикация образцов - входят в эмпирическое применение этих
слов или уравнений.
Теперь мы можем перейти к следующему этапу нашего ана-
лиза. Чтобы отдать должное сложности научных понятий, мы
должны выделить три аспекта (или элемента) применения этих
понятий, а именно: (1) язык, (2) методы изображения и (3) про-
цедура научного применения. Первые два аспекта, или элемен-
та, охватывают «символические» аспекты научного объяснения,
то есть научную деятельность, которую мы называем «объясне-
нием», тогда как третий охватывает осознание ситуаций, для ко-
торых эта деятельность предназначается. «Лингвистический» эле-
мент охватывает оба существительных — и технические термины
(названия), и предложения, будь то естественные законы или
просто обобщения. «Методы изображения» включают все те раз-
нообразные процедуры, посредством которых ученые демонстри-
руют — то есть показывают, а не доказывают дедуктивно — те
общие отношения, которые можно открыть в природных объек-
тах, событиях и явлениях; они охватывают пе только применение
математического формализма, по и вычерчивание графиков и
диаграмм, создание таксономического «древа» и классификаций,
составление программ для компьютера и т. д.
Однако подобные «символические» элементы по-настоящему
приносят пользу объяснению в пауке там, где в наличии имеют-
ся процедуры применения, подходящие для идентификации эм-
пирических событий и способа пх применения. Например, требу-
ются процедуры узнавания для идентификации отдельных объек*
167
тов, систем или измеряемых величии, к которым нужно приме-
нить тот или шюц технический термин, или название. Точно так
же требуются соответствующие процедуры для того, чтобы отли-
чить те ситуации, где явно применим какой-либо отдельный за-
кон или обобщение, от тех иррелевантных, аномальных или
исключительных случаев, когда он неприменим. Кроме того,
нужны критерии для того, чтобы различать, в каких ситуациях
тот пли иной способ изображения — математический, графиче-
ский или классификационный — находит подлинно научное при-
менение, а в каких он неприменим. Во всех этих случаях умение
«заставить работать понятия науки» включает в себя не только
лингвистические способности и даже не только овладение подхо-
дящим способом изображения; оно включает также п умение вы-
являть и очерчивать границы «сферы» или «области примене-
ния», в которой эти символы и способы изображения обладают
подлинной эмпирической релевантностью Ч
В контексте дискуссий, которых достаточно в данной науке,
ссылки на «область применения» наших методов объяснения ча-
сто остаются на заднем плане, а объяснения представлены пол-
ностью в терминах символических аспектов науки. Если обеспе-
чить условия, при которых релевантность этих методов активно
не подвергается сомнениям, эта практика дает большую эконо-
мию. Однако для философских целей мы постоянно должны
иметь в виду все три группы элементов и обсуждать научные
«понятия» не только в абстрактных лингвистических терминах,
по и в более конкретных процедурных идиомах. Подчеркивание
этих идиом в результате может показаться тяжеловесным; на-
пример, краткое утверждение: «Гюйгенс открыл, что исландский
шпат обладает двойным преломлением», теперь следует перефра-
зировать следующим образом:
«Гюйгенс открыл, что оптические свойства кристаллов
исландского шпата, которые нельзя было обнаружить, если ис-
пользовать только обычные методы геометрической оптики, мож-
но было успешно объяснить, если представить себе, что каждый
световой луч, проникая в подобный кристалл, дает начало не
только одному преломленному лучу, как при обычной рефракции,
а двум лучам...» и т. д.
Однако удлиненная форма этого утверждения имеет значи-
тельные философские преимущества. Она полностью выявляет
применение содержащихся в нем понятий оптики, соотнося изме-
нения в лингвистических аспектах науки (например, введение
нового технического термина «двойная рефракция») с измене-
ниями связанной с ними объяснительной деятельности заинтере-
сованных в ней потребителей понятий. А это помогает выяснить
1 Этот вопрос я первоначально рассматривал в некоторых его аспектах
в своей кн.: «Философия пауки» (The Philosophy of Science. L., 1953), осо-
бенно в гл. 2.
168
следующий важный пункт, а именно: какую функцию «концепту-
альных новообразований» можно понять в терминах «резервуара
нерешенных проблем» рассматриваемой науки? (Вскоре мы еще
вернемся к этому пункту.)
Значение «объяснения» и «научных понятий», выраженное в
этих терминах процедуры, однако, может быть понято неправиль-
но. Начнем с того, что, делая упор на публичных процедурах и дей-
ствиях, оно, как может показаться, делает все объяснение исклю-
чительно «бихевиористским». На это первое возражение можно
ответить двумя способами. Допустим, что паше объяснение соот-
ношения между научными понятиями и процедурами объяснения
совершенно намеренно выполнено па языке бихевиоризма. Однако
это было сделано не из какого-то «бихевиористского» желания
ограничить индивидуальную деятельность ученых коллективными
высказываниями и трудами, а просто потому, что нас специаль-
но интересовали коллективные аспекты употребления по-
нятий в специализированных дисциплинах. Несомненно, со вре-
менем всякий опытный ученый начинает многое мыслить «в уме»,
точно так же, как все мы приобретаем умение выполнять
«в уме» элементарные арифметические действия. Но коллективная
природа употребления понятий, будь то в арифметике или науке,
состоит в том, что наше «внутреннее мышление» подчиняется
тем же арифметическим, зоологическим или физическим процеду-
рам и критериям «правильности», как будто бы мы мыслим
открыто или вслух. Если паши молчаливые размышления претен-
дуют на то, чтобы иметь какую-либо «законную силу», то только
потому, что они отвечают тем же самым коллективным требо-
ваниям, что и публичное «объяснение». Каким бы «частным»
или «умственным» ни было бы наше внутреннее научное мышле-
ние, его содержание следует анализировать в бихевиористских
терминах, раскрывая те интеллектуальные процедуры, которым
мы имплицитно, скрытно следовали в уме L Тем более наше на-
стоящее объяснение не вынуждает нас становиться на бихеви-
ористскую точку зрения, согласно которой научные понятия —
это продукт индивидуального поведения, «ассоциаций» в дея-
тельности будущих ученых, образовавшихся благодаря простой
«тренировке». Любая попытка подогнать процедуру объяснения в
интеллектуальной дисциплине под «ассоциативную» теорию обу-
чения приводит к тем же проблемам, которые возникают в зако-
нах, «управляющих» процедурами иного рода. Ибо пас интересу-
ют не устоявшиеся эмпирические корреляции между ранее неза-
висимыми единицами поведения, но осознание общих, унифици-
рующих моделей, общую форму которых нужно понять и следо-
вать им как целому. И мы следуем этим унифицирующим моделям
1 См.: Выготский Л. С. Мышление и язык. Л., 1934 (Engl. tr. Cam-
bridge. Mass., 1964), гл. 4; Wittgenstein L. Philosophical Investigations.
Oxford, 1953, особенно § 24 и сл., с. 88—89.
169
независимо от того, осуществляется ли паше научное и матема-
тическое мышление «в уме» или же публично, шаг за шагом \
Далее, процедурное понимание научного объяснения может
поначалу показаться таким же по-своему статичным и пеистори-
ческим, как и логическое или «систематическое» понимание, ко-
торое мы ужо критиковали. Это возражение можно опровергнуть
при помощи двух дальнейших оговорок. Говоря о приобретении
понятий как о разновидности «окультуривания», нам не следует
при этом подразумевать, что объяснительные процедуры пау-
ки — это множество неизменных ритуалов, которые нужно со-
блюдать с точностью ритуалов церковной службы. Такое впечат-
ление иногда производит преподавание наук в школе благодаря
тому, что оно слишком большое внимание обращает на уже раз-
работанные формы современных процедур, умалчивая, таким об-
разом, и о том, почему они принимают свою форму, и о том, ка-
кие гибкие рассуждения требовались при их эмпирическом при-
менении. Однако устоявшиеся в настоящее время понятия науки
точно определяют лишь некоторые пределы, в рамках которых
должны находиться все попытки профессиональных ученых ре-
шить своп проблемы. Но сами по себе эти пределы открыты для
спора. Их часто отодвигают теоретические новации, и мы не мо-
жем заранее сказать, как это будет выполнено той или иной от-
дельной новацией — в высшей степени оригинально или же не-
простительно необдуманно. (Рассматривая работы Френсиса
Крика в 1950 году, следовало ли считать его теории чрезвычай-
но обещающими или совершенно безумными? Или же в то время
нельзя было с уверенностью решить, каковы они?)
Повторяю: если мы составляем список процедур, которыми
должен овладеть начинающий, прежде чем он полностью «вой-
дет» в научную дисциплину, мы должны позаботиться о том, что-
бы включить в него те решающие процедуры, которые делают
науку по-настоящему «рациональной», и таким образом избавить
ее от схоластической холодности; речь идет о тех процедурах, ко-
торые влекут за собой ее собственную трансформацию. В течение
своего научного «окультуривания» начинающий физик или био-
лог учится не только тому, как объяснять явления, находящиеся
в сфере действия его науки, при помощи существующих в ней
понятий; он учится и тому, что приводит к критике этих поня-
тий и таким образом совершенствует современное состояние нау-
ки. Действительно, если человек научится только чему-нибудь
одному — например тому, как пользоваться существующей сово-
купностью понятий,— и не научится тому, что вынудило бы пас
видоизменить или заменить их, то из пего вообще не получится
«ученого». Инженера-механика, например, обучают пользоваться
10 теоретических затруднениях, возникающих благодаря понятию
закона, см.: Mischel Т. — In: Human Action. К. Y., 1969, Introduction,
p. 20.
170
способами изображения, изобретенными физиками прошлых по-
колений. (Именно поэтому о некоторых технических науках
говорят как о «прикладной физике».) Инженера отличает от фи-
зика именно обязанность последнего критически пользоваться
методами объяснения—исследоватьпределы той области, в кото-
рой они действуют, а не принимать их на веру, совершенство-
вать их, а не практически использовать. (Человек, непоколебимо
преданный научным концепциям XX века, может оказаться столь
же «иррациональным», как какой-нибудь сторонник представле-
ний о том, что Земля плоская; просто оп тренирует свое упрямство
в иной области.) Научные дисциплины, если их рассматривать
в качестве исторически развивающихся «рациональных ини-
циатив», предназначенных для совершенствования процедур объ-
яснения, а не в качестве последовательности логически структу-
рированных пропозициональных систем, разделенных друг от
друга радикальными переходами, обязательно будут трансформи-
роваться. Пропозициональная система по существу является са-
модовлеющей и статичной; напротив, рациональная инициатива,
тоже по самой своей сущности, открыта для дальнейшего развития
в соответствии с включенными в нее процедурами самокритики.
* * *
В таком случае, оставив в стороне все проблемы логической
систематичности, мы станем размышлять о процедурах концеп-
туальных изменений в естествознании и других рациональных
инициативах в терминах тех способов поведения, которое они
включают в себя. Что касается иррациональных страхов и других
иррациональных способов поведения, запомним, что определен-
ное научное понятие становится «иррациональным» в тех слу-
чаях, когда оно продолжает существовать и после того, как утра-
чивает свою объяснительную полезность. Таким образом, ученый,
который не умеет критиковать и изменять свои понятия там, где
этого требуют коллективные цели его дисциплины, нарушает
«обязанности» своей научной «станции», подобно заснувшему
ночному сторожу пли недисциплинированному солдату. Таким
образом, процедуры концептуальных изменений в науке, как и ее
объяснительные процедуры, «институционализированы». Дей*
ствителыю, мы могли бы сжато изложить весь наш анализ кол-
лективного применения научных понятий в одном афоризме
(с самым минимальным преувеличением); «Каждое поня
тие — это интеллектуальный микроинститут».
Этот афоризм можно использовать с тем, чтобы выделить два
момента. Во-первых, он снова подчеркивает то обстоятельство,
что ни одно единичное понятие или набор понятий никогда не
исчерпывают всей научной дисциплины; в лучшем случае они
представляют собой исторический срез длительно развивающейся
инициативы. Индивидуальные понятия пли семейства понятий
171
имеют такое же отношение ко всей дисциплине, какое индиви-
дуальные роли или институты имеют к обществу в целом. Чтобы
полностью понять «историческую сущность», будь то дисциплина
или общество, мы должны рассматривать не только современную
структуру связей между составляющими ее теориями, института-
ми и другими элементами, но и распространенные в ней процедуры
модификации этих элементов. Коллективная передача, благодаря
которой набор научных понятий получает свое профессиональ-
ное выражение — набор правил, определяющих способы объ-
яснительного поведения,— сама по себе «институционализирова-
на» таким образом, что концептуальное обучение в науке стано-
вится сравнимым с инициативой в социальных институтах.
Следовательно, если представители философии пауки могли
игнорировать реальное поведение ученых, предпочитая логиче-
ские вопросы, относящиеся к их аргументации, то только потому,
что интеллектуальная когерентность и систематическое примене-
ние науки поразительно отличались от более произвольных и не-
упорядоченных действий в общественной жизни. Однако можно
хорошо показать правомерность анализа внутренней структуры и
эмпирической релевантности научных понятий в качестве эле-
ментов постоянно развивающейся человеческой деятельности;
можно также придать им более широкое значение, если рассмот-
реть, каким образом специфические интеллектуальные процеду-
ры, представляющие собой «микроинституты» научной жизни,
связаны с более широкими целями, благодаря которым развивает-
ся современная научная инициатива. Поэтому, несмотря на то,
что на первый взгляд эта институциональная точка зрения отно-
сительно научных понятий может показаться парадоксальной,
она просто развивает ту же самую программу, которую мы нача-
ли выполнять, когда отвергли анализ в терминах статичных «ло-
гических систем» в пользу анализа в терминах «рациональных
инициатив». Как только мы начинаем настаивать на исторически
развивающейся картине, мы должны сконцентрировать свое вни-
мание иа том, как изменяются способы, благодаря которым науч-
ные понятия входят в более широкую модель объяснительной
деятельности людей.
В других областях мышления, где содержание пашей интел-
лектуальной деятельности не имеет столь сложной структуры и
гораздо менее поддается формализации, эта аналогия между «по-
нятиями» и «институтами» не кажется такой дерзкой. Например,
прослеживая историю юридических понятий, мы, естественно, об-
ратили бы внимание не просто на формальные определения и
логические выводы, воплощенные в меняющих друг друга юриди-
ческих кодексах и решениях, но и на последовательность новых
ситуаций, в которых применяется это понятие, а также на то, ка-
ким образом эти изменения в его применении отразились на его
первоначальном значении. Никому и в голову бы не пришло, что
технический термин обычного права можно полностью объяснить
172
одним только простым вербальным определением; скорее его
юридическое значение развивается прогрессивно по мере того,
как аккумуляция новой судебной практики придает ему новый
смысл. В результате юридические понятия следует определять не
просто в вербальных терминах, но в терминах их институцио-
нальной последовательности. Точно так же обстоит дело с соци-
альными п политическими понятиями; история политической или
социальной мысли, написанная целиком в терминах словесных
определений и выводов, превратилась бы в пародию. Такие вы-
ражения, как «демократия», «свобода собраний», «равенство
перед законом», будучи оторванными от институционального вы-
ражения жизни и дел людей, представляли бы собой не более
чем абстрактные достоинства и пожелания. Истинная мера соци-
ально-политического мышления людей заключается не в фор-
мальных дефинициях политических терминов, но в том, какое
значение опи приобретают как институциональные элементы со-
циальной или политической практики. Действительно, единствен-
ное, что избавляет социальную доктрину или политическую кон-
цепцию от превращения в пустой лозунг или мертвую букву,—
это существование упорядоченных процедур, благодаря которым
они начинают применяться в социально-политической практике.
Такие процедуры создают институты, для которых эти концепции
служат символами и благодаря которым они получают осмыслен-
ное выражение.
Это сравнение между социальными и научными понятиями
можно продолжить. Именно благодаря существованию постоян-
ных процедур критического обсуждения значения политических
институтов и оправдания перемен в социальной или политиче-
ской практике проводимая политика становится «рациональ-
ной», а не превращается в простое применение насилия или борь-
бу за власть. В политике, как и в науке, «рациональность»
наших нынешних институтов требует существования приня-
тых процедур самотрансформации социальных и политических
институтов. Допустить, что общество (или наука) в целом обла-
дает такой же функциональной когерентностью, что и единичный
институт (или теория),— значит принять за доказанное, причем
без всякой надобности, что не может быть никаких эффек-
тивных процедур прогрессивной самотрансформации существу-
ющих институтов и моделей деятельности.
Таким образом, социальные и политические понятия в прин-
ципе ничем не отличаются от понятий естественных наук, как
можно было бы предположить на первый взгляд; напротив, отно-
шения между мышлением и практикой в науке и политике чрез-
вычайно сходны. В каждом случае появлению новых осмыслен-
ных понятий предшествует осознание новых проблем и введение
новых процедур, позволяющих решить эти проблемы. В обеих об-
ластях понятия приобретают смысл благодаря тому, что они
служат человеческим целям в реальных практических ситуациях.
173
В обеих областях последовательные изменения в применении
этих понятий связаны с постепенным уточнением или усложне-
нием их значения. И в обеих областях всеобъемлющая «рацио-
нальность» существующих в них процедур или институтов зави-
сит от того, есть ли в самой инициативе сфера их критики и
изменения.
Предположим, далее, что мы даем процедурное истолкование
научного объяснения, понятий и методов изображения. В таком
случае мы можем сделать это немедленно и выделить два следу-
ющих философских вопроса. Во-первых, предложения, фигуриру-
ющие в научных теориях, никогда (разве что косвенно) не гово-
рят нам ничего «истинного» или «ложного» о тех аспектах эмпи-
рического мира, к которым они применяются. Во вторых, такие
предложения нельзя прямо подогнать под стандарты логической
классификации в качестве «универсальных» или «частных» пред-
ложений.
Эти моменты нуждаются в разъяснении. При этом будем ис-
ходить, прежде всего пз следующих обстоятельств: традицион-
но философы допускали, что термины, употребляемые научной
теорией, имеют непосредственное отношение к различным клас-
сам объектов природы и ее общие предложения либо утверждают,
либо непосредственно выводят «универсальные эмпирические
обобщения» относительно этих природных объектов. Действитель-
но, в течение последних пятидесяти лет все программы в филосо-
фии науки (это явно относится к верификации и фальсификации,
подтверждению и опровержению) принимали законность этих до-
пущений за доказанное. Все эти различные пути постановки фи-
лософских проблем науки обращались к вопросам эмпирической
истинности, ложности или степени вероятности теоретических
принципов. Напротив, наше собственное объяснение подразуме-
вает, что это основное допущение совершенно неверно, так как
вопросы относительно эмпирической «истинности» или «лож-
ности» теоретических принципов по возникают в пауке как та-
ковой. Скорее теоретические термины п высказывания косвенно
приобретают эмпирическое содержание и значение лишь в тех
случаях, когда при помощи вспомогательных идентифицирующих
высказываний выявляется сфера их применения; когда же это
выполнено, то в результате нужно внедрять исследуемые теоре-
тические термины и принципы в собственно эмпирические «мета-
высказывания»
1 Ср. с ортодоксальным эмпирическим объяснением «законов природы»
и других «теоретических предпосылок» науки, которые эквивалентны «уни-
версальным эмпирическим обобщениям» и примером которых служит ут-
верждение: «Все яйца малиновки зеленовато-голубые». Ср.: Hempel С. G.
Aspects of Scientific Explanation. N. Y., 1965, p. 266.
174
Некоторые примеры проиллюстрируют, что здесь подразуме-
вается. Во-первых, что касается научных имен существительных:
чем более строго «теоретическим» является термин, тем более
условным, гипотетическим и косвенным оказывается его приме-
нение к индивидуальным объектам, идентифицируемым в данном
месте и в данное время. Когда мы видим дерево, то обычно мо-
жем назвать его «деревом», но при взгляде на пего мы не можем
с уверенностью утверждать, принадлежит ли это дерево к таксо-
номической категории тайнобрачных пли явнобрачных, ибо кри-
терии применения этих категорий гораздо строже и сложнее. Это
тем более справедливо, когда дело доходит до понимания «свето-
вого луча»; в этом случае собственно эмпирический вопрос состо-
ит в том, «считается ли» в контексте геометрической оптики ка-
кой-либо отдельный видимый пучок света световым лучом, то
есть применимы ли методы вычерчивания лучей, существующие
в геометрической оптике, с достаточной степенью точности к слож-
ным оптическим явлениям. Несмотря па то что внешне вопрос:
«Это световой луч?» — является строго эмпирическим, оп по
достигает конечной цели — вопроса: «Является ли этот пучок
света чем-то таким, к чему мы можем, если даны все необходи-
мые условия, надлежащим образом применять как термин «све-
товой луч», так и связанные с ним методы изображения, при-
нятые в геометрической оптике?»
Соответственно для теоретических предложений науки спра-
ведливо следующее: чем более строго теоретическим является
данное высказывание, тем в большей мере его эмпирическая реле-
вантность является вопросом его применимости, а не вопросом
истинности. В этих случаях строго эмпирическим является скорее
вопрос: «Как вообще применяется этот принцип, и при каких
условиях оп имеет силу?», а не вопрос: «Является ли это пред-
ложение истинным?» Действительно, в строго теоретических дис-
куссиях ученые вообще очень редко употребляют слова «истин-
ное» и «ложное»; оперативный вопрос состоит в том, чтобы уста-
новить, в какой эмпирической ситуации и при каких условиях
какая-либо частная теория вместе со всеми связанными с пей
понятиями и методами изображения будет содействовать дости-
жению тех целей объяснения, ради которых опа была введена.
(Например, оперативный вопрос относительно геометрической
оптики состоит в том, «пр,и каких условиях и с какой степенью
точности принцип прямолинейного распространения применяет-
ся к действительным оптическим явлениям?» Прямой вопрос:
«Правда ли, что свет распространяется по прямой?» не возника-
ет Ч)
Что касается второго вопроса, то в своих рабочих спорах о науч-
ных теориях ученые почти не пользуются различием, которое
1 См.: То ulmin. Philosophy of Science, Ch. 2; Robertson H. P.
Geometry as a Branch of Physics. — Tn: Albert Einstein, Philosopher Scientist,
ed. P. A. Schilpp. Evanston,, 1949, p. 315 if.
175
логики проводят между «частными» и «универсальными» выска-
зываниями. Ближе всего к этому различию стоит оперативный
спорный вопрос о том, применима ли отдельная теория «универ-
сально» (то есть безусловно) или же только в «ограниченном
классе ситуаций» (то есть в зависимости от условий). Повторяю,
ответ па этот вопрос не требует ни подтверждения, ни отрица-
ния рассматриваемых теоретических предложений; скорее он
требует, чтобы о них были сделаны эмпирические метавысказы-
вания, например высказывания, которые объясняют, при каких
условиях они «имеют силу». Соответственно стандартная програм-
ма философии науки смешивает «общие» и «частные» эмпири-
ческие истины с теориями, которые применяются либо «универ-
сально», либо «в зависимости от условий».
Таким образом, и существительные (термины), и предложе-
ния научных теорий имеют скорее косвенное, а нс прямое отно-
шение к эмпирически идентифицированным объектам и явлени-
ям. Устанавливая условия, при которых можно успешно приме-
нить тот или иной метод объяснения, ученый определяет (1) не
то, «являются ли опи истинными», а то, в каких эмпирических
ситуациях предложения соответствующей теории имеют силу, и
(2) какие эмпирические объекты считаются (а не «являются»)
примерами соответствующих теоретических сущностей *. Соот-
ветственно интеллектуальное содержание естествознания не осно-
вывается ни на его собственной непосредственной «эмпирической
истине», ни па «эмпирической истине» его логических следствий.
Оно основывается скорее на его объяснительном потенциале,
а этот потенциал измеряется областью, сферой его действия и
точностью способов изображения. В соответствующих случаях
эти объяснительные процедуры могут включать применение фор-
мальных аксиоматических теорий, построенных на основе общих,
абстрактных терминов, например «масса», «момент» или «сила»,
но так дело обстоит далеко не везде. В отдельных случаях они
могут включать классификацию различных предметов, используя
систематическую упорядоченность категорий или «таксу», но
и этот способ не является универсальным. Эти процедуры могут
основываться на интеллектуальных аналогиях или «моделях»,
благодаря которым события одного рода (например, электрические
явления) сравниваются с событиями иного рода (например,
гидравлическими процессами); могут, как это было с луче-
выми диаграммами геометрической оптики, обеспечить формулы
или средства для «изложения» изучаемых эксперимен-
тальных ситуаций в виде объяснения; могут потребовать
начертить графики и проанализировать их; они могут потребо-
вать применения статистических измерений и тестов... В соот-
1 См.: Платон. Тимей. — В: Платон. Соч. в трех томах, т. 3, ч. 1,
М., 1971, с. 489—491, где он настаивает на том, что эмпирически называе-
мые объекты нельзя правильно описывать, как «это» или «то», а только как
«такое».
176
ветствующих ситуациях любая из этих разнообразных процедур
объяснения (или все они вместе взятые) может получить
законное научное применение. И в каждом подобном слу-
чае эти методы будут «иметь силу» именно в той ме-
ре, в какой они обеспечивают средства для выполнения на-
учной миссии изучаемой научной дисциплины.
Если подвести итоги этого раздела нашего изложения, то ста-
новится ясно, что выработка научного понимания имеет два
аспекта. С одной стороны, начинающий ученый учится применять
общие процедуры своей пауки. С другой стороны, оп учится узна-
вать специфические ситуации, которым соответствует каждая
из этих процедур. И когда оп дает полное паучпос объяснение
какого-либо события или явления действительности, он с необ-
ходимостью применяет оба вида знания. Он может адекватно ре-
шать стоящую перед ним проблему только в том случае, если он
применяет «правильную» (то есть релевантную) процедуру объ-
яснения, а также в том случае, когда он применяет эту процеду-
ру «правильно» (то есть безошибочно) .
Один и тот же человек не всегда обладает этими двумя ас-
пектами научного понимания. Человек с теоретическим складом
ума может обладать способностью выполнять сложные расчеты
или совершенно точно проследить за остальными импликациями
своих моделей; однако в то же время ему может не хватать
способности понимать, какие именно ,из этих расчетов или интер-
претаций уместны в той или иной эмпирической ситуации. На-
против, человек с большими эмпирическими наклонностями мо-
жет обладать способностью улавливать тонкие различия отдель-
ных эмпирических ситуаций и понимать общее значение этих
различий для теории изучаемого им предмета; одпако в то же
время ему может недоставать теоретического понимания, чтобы
тщательно исследовать импликации, вытекающие из соответству-
ющих расчетов или моделей. Например, многие специалисты
в области физ,ики могут дать теоретическую расшифровку элек-
тронной схемы, несмотря на то, что им не хватает умения ка-
кого-нибудь радиолюбителя разобраться в фактическом скопле-
нии проводов, транзисторов и индукционных катушек; напротив,
многие радиолюбители чувствуют себя свободнее с паяльником,
а не с карандашом и бумагой; они не столько умеют дать ясное
рациональное объяснение в терминах теории контура, сколько
разбираются в своем аппарате *. Полное научное знание, повто-
ряю, включает как знание объяснительных процедур науки, так
и умение применять их к природе. Даже самая разработанная
аксиоматическая система сама по себе никогда не составит
«науки», так как никакая формальная схема ничего не может
рассказать нам о своей собственной эмпирической области
1 Известным историческим примером, иллюстрирующим это различие,
является противоположность между Майклом Фарадеем и Джеймсом Клер”
ком Максвеллом.
177
и о сфере своего применения, а тем более гарантировать их. Точно
так же никакая абстрактная общая теория сама по себе не
может «объяснить» или «представить» явления природы; скорее
это ученые применяют теорию — именно так, как они это дела-
ют, и именно в тех случаях, где они ее применяют, и с тем ус-
пехом, с каким они ее применяют,— с тем, чтобы представить
.и объяснить особенности поведения классов систем пли объектов,
идентифицированных независимо от нее.
Таким образом, коллективные понятия любой естественной
пауки выводят свое значение из того, как они употребляются
учеными в процессе объяснения. Фактически это заключение уже
подразумевалось в логическом афоризме Канта, когда тот зая-
вил, что «всякое наше познание начинается с опыта». Эмпири-
ческое знание, которое дает пам научная теория,— это всегда
знание того, что некоторая общая процедура объяснения, опи-
сания или представления (определенная в абстрактных теорети-
ческих терминах) может с успехом применяться (специфическим
образом, с определенной степенью точности и проницательности)
в каких-либо определенных случаях (которые определены в кон-
кретных эмпирических терминах). Как я полагаю, именно этот
момент подчеркивал Витгенштейн, философ, который разделял
первоначальный интерес Канта к физике, когда он говорил
в своем «Логико-философском трактате», что «ньютоновская ме-
ханика приводит описание мира к единой форме», но «ничего пе
говорит о мире тот факт, что он может быть описан ньютоновской
механикой» 1. Витгенштейн позаботился добавить, что «всем сво-
им логическим аппаратом физические законы все же говорят об
объектах мира», хотя и косвенно, поскольку «мы пе должны за-
бывать, что описание мира механикой всегда является совершенно
общим. В механике, например, речь никогда пе идет об опреде-
ленных материальных точках, но всегда только о каких-нибудь»,
В результате, полагал он, «ничего не говорит о мире тот факт,
что он может быть описан ньютоновской механикой, но, однако,
о мире нечто говорит то обстоятельство, что он может быть описан
ею так, как это фактически имеет место» 1 2. Альтернативно тот
же вопрос мы можем сформулировать в одном предложении свои-
ми собственными словами: «В пауке значение раскрывается бла-
годаря характеру процедуры объяснения, истина — благодаря
успешному применению этой процедуры».
2.3. Природа концептуальных проблем науки
Мы уже говорили о том, что идеалы научного объяснения
представляют не логически согласующиеся между собой надежды
ученых, работающих в данной области, а их разумные ожидания.
1 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., ИЛ, 1958,
разд. 6 34—6.36 (с. 91, 92).
2 Там же, с. 92.
175
Соответственно круг действующих в настоящее время проце-
дур объяснения указывает, насколько они продвинулись в реали-
зации этих разумных ожиданий. Разрыв между ними, то есть
разница между идеалами объяснения и их воплощением, являет-
ся мерой той дистанции объяснения, которую еще предстоит
пройти данной специальной пауке. Точнее, это мера той дистан-
ции, которую наука должна преодолеть для того, чтобы вопло-
тить в жизнь своп нынешние интеллектуальные цели. Между тем
каждый, кто работает в данной области, может легко согласить-
ся и с тем, что за целями, которые требуют немедленного вопло-
щения, открываются более отдал (‘иные горизонты — новые на-
дежды п возможности объяснения, и с тем, что будущие интел-
лектуальные надежды науки более честолюбивы и специфичны
по сравнению с теми, которые направляют ее развитие в настоя-
щее время. Однако в каждый данный момент именно современ-
ные идеалы и устремления определяют настоящие цели и недо-
статки данной дисциплины.
Современная область любой науки — объекты, свойства или
события, которые образуют проблемы науки и таким образом
обогащают ее «явления»,— определяется не столько природой,
сколько теми интеллектуальными установками, с которыми люди
в настоящее время подходят к природе; не столько природой
в качестве «вещи в себе», как, возможно, сказал бы Кант, сколько
характером нынешних «представлений» о природе. В результате
те свойства окружающего мира, которые ученые одного поколе-
ния отнюдь не находили таинственными, становятся загадочными
и «проблематичными» для людей следующего поколения — просто
потому, что круг их устремлений стал более широким. Приведем
одцн яркий пример. Классическая теория вещества, созданная
в XIX веке, принимала в качестве своего конечного уровня анали-
за девяносто с липшим химических элементов, каждый из кото-
рых обладал свойствами, данными ему при творении, и состоял,
как полагали, из атомов, которые имели вечные устойчивые очер-
тания н размеры. В этих пределах каждый был волен исследо-
вать, каким именно цветом или электропроводностью фактически
обладал тот или иной элемент; однако было еще невозможно на-
учно исследовать, па каком теоретическом основании, допустим,
пары натрия должны давать излучение именно в желтой части
спектра, а не где-нибудь еще. На этот вопрос можно было отве-
тить лишь следующим образом (буквально): «Один бог знает».
Томсон, Резерфорд и Бор раздвинули эти пределы. Новые цели
объяснения перенесли конечный уровень анализа на внутриатом-
ные уровни. Постигнув, что все химические атомы состоят из
внутриатомных частиц, они создали концептуальную возможность
обращаться с ними как с «явлениями», то есть проблемно, как
со свойствами вещества, которые до сих пор принимались за про-
извольные свойства природы. Отныне факты, как, например,
существование двойных желтых линий в спектре паров натрия.
179
перестали быть произвольными (или теологическими) и превра-
тились в активную теоретическую проблему, которую можно было
решить в терминах конфигурации внутренних компонентов атома
натрия.
Конечно, далеко не все современные проблемы науки в рав-
ной мерс активны. В каждый определенный период времени уже
познанная область науки будет включать многие явления, к кото-
рым мы еще не можем подступиться, несмотря на то, что они
представляют подлинные и серьезные затруднения. Активные
проблемы — это те, для решения которых можно выработать
многообещающее направление атаки, то есть те явления, которые
можно включить в сферу действия нынешних понятий путем
непосредственной модификации принятых процедур объяснения.
Так или иначе, разрыв в объяснении сохраняется. Если мы оста-
вим в стороне тё бывшие рапсе эмпирическими пауки, у которых
теории уже окончательно математизированы (например, евклидова
геометрия или теоретическая механика), то каждая научная дис-
циплина должна объяснить больше явлений, чем это позволяют
имеющиеся в ее распоряжении средства, а также совершенство-
вание организации ныне существующих объяснений. ' Именно
поэтому любая эмпирическая наука все же имеет нерешенные
до сих пор концептуальные проблемы. Наша следующая задача —
показать, какую форму в конце концов приобретают «концепту-
альные проблемы», чем они отличаются и от непосредственно
эмпирических, пли фактических, проблем, и от формальных, ма-
тематических и семантических, проблем.
Мы определили содержание научной дисциплины, сославшись
на три взаимосвязанных ряда элементов: (1) современные цели
научного объяснения, (2) современная совокупность научных по-
нятий и процедур объяснения, (3) аккумулированный опыт уче-
ных, работающих в данной дисциплине, то есть результат их
усилий, направленных па выполнение существующих в настоящее
время целей объяснения путем применения уже имеющегося в их
распоряжении круга понятий и объяснительных процедур. Ко-
нечно, при таком понимании «опыт» ученых — это совсем не то,
что понималось либо философами-сенсуалистами наподобие Маха,
по мнению которых конечными данными науки были «чувствен-
ные восприятия», либо философамщ-физикалистами, наподобие
логических эмпиристов, по мнению которых «научный опыт»
включал только простые фактуальные обобщения *. Скорее опыт
ученого соответствует опыту представителей других профессий,
например, юристов, инженеров или летчиков. Все они накапли-
вают опыт, понимая, что можно и чего нельзя достичь, если
1 См., например, мой очерк: From Logical Analysis to Conceptual Histo*
ry. — In: The Legacy of Logical Positivism, ed. Achinstein and Barker. Balti-
more, 1969, особенно c. 34—35.
180
применять то или иное профессиональное оборудование из имею-
щегося в ,их распоряжении его запаса. Так и здесь: для опыта
ученого типичен не вопрос о «чувственных данных» или об «эм-
пирической корреляции», а вопрос о новых открытиях в данной
области или о релевантности какого-либо «способа изображения»,
например вопрос о том, можно ли при таких-то условиях распро-
странить методику геометрического изображения лучей за преде-
лы случаев обычного преломления, для которых она была пред-
назначена первоначально, таким образом, чтобы она дала
нам возможность изучить также и «двойное преломление»,
или нет.
Если вспомнить данное нами выше определение «пула нере-
шенных научных проблем» в терминах формулы:
Научные проблемы = идеальные объяснения — современные
способности,
то теперь мы готовы дать первую классификацию различных
концептуальных проблем, с которыми обычно приходится сталки-
ваться в науке. Такие проблемы возникают несколькими различ-
ными способами, и круг нерешенных проблем в развивающейся
науке включает проблемы па многих различных уровнях, соответ-
ствующих различным классам проблемных ситуаций. Некоторые
из пих требуют (1) распространения наших современных проце-
дур на новые явления; другие — (2) совершенствования наших
методик, предназначенных для уже известных явлений, либо
(3) междисциплинарной интеграции методов внутри какой-либо
одной науки; третьи— (4) междисциплинарной интеграции смеж-
ных наук либо (5) решения конфликтов между научными и
ненаучными идеями. Обычно различные процедуры научного
объяснения позволяют нам эффективно овладеть только некото-
рыми из отраслей пауки, в то время как вся опа в целом не
поддается унифицированной трактовке. Действительно, в неко-
торых случаях процедуры объяснения, связанные с различными
сосуществующими теориями, формально могут быть даже не-
совместимыми, как, например, в случае, когда для различных
областей современной квантовой электродинамики следует выдви-
гать альтернативные предположения о радиусе электрона. Более
типична прямая конкуренция между сосуществующими понятия-
ми и процедурами. Таким образом, создается давление на границы
областей применения различных понятий, каждое из которых
стремится расширить сферу своего действия с тем, чтобы вклю-
чить в нее явления, которые ранее изучались с применением
других процедур. Так что понятия, подобно членам какой-либо
популяции, сохраняют за собой свое место в науке только тем,
что постоянно, вновь и вновь, подтверждают собственную цен-
ность, граница же между смежными понятиями имеет характер
динамического равновесия, которое легко нарушается при любом
изменении баланса их объяснительного потенциала.
181
Рассмотрим поочередно пять выделенных памп классов явле-
ний.
(1) Всегда есть некоторые явления, которые естествознание,
как можно разумно предположить, может объяснить, но которые
еще не поддаются имеющимся в нашем распоряжении процеду-
рам. Например, в период между Снеллом и Гюйгенсом описание
явления двойного преломления в терминах «световых лучей» не
представляло затруднений; проблема состояла в том, чтобы объ-
яснить его. В то время как все остальные явления геометрической
оптики можно было объяснить просто как результат изменения
пути прохождения отдельных световых лучей (в зеркалах, приз-
мах и т. д.), открытие случая, в котором один входящий луч
света расщепляется па два, потребовал изменений как в идеях
физиков относительно того, что делают и как могут вести себя
световые лучи, так и в методах прослеживания их в различных
видах прозрачных материалов. Или же возьмем другой пример —
из области генетики. Некоторые известные модели наследствен-
ности получали прямое объяснение в терминах менделизма как
результат независимого действия генов. Напротив, другие моде-
ли требовали более сложных объяснений, включающих «буфер-
ное действие» и другие взаимодействия между соседними генами,
причем эти модели объяснения были развиты только благодаря
распространению и уточнению первоначальных менделевских
процедур.
Обратимся к следующему классу.
(2) Всегда есть какие-нибудь явления, которые в какой-то
мере можно объяснить при помощи современных процедур объяс-
нения, однако ученым хотелось бы дать им более полное или бо-
лее точное объяснение. Можно привести несколько упрощенный
пример из области кинетической теории вещества. Наиболее оче-
видные закономерности физического поведения газов объясняют-
ся при помощи простых аргументов, которые допускают, что
атомы вещества, находящиеся в газообразном состоянии, имеют
размеры, которыми можно пренебречь, постоянно движутся с вы-
сокими скоростями, а при столкновении всегда упруго отталки-
ваются друг от друга без значительных потерь энергии. В первом
приближении такое объяснение довольно хорошо соответствует
поведению всех известных газов. Однако если мы сделаем более
точные измерения, появятся отклонения, которые варьируют
у различных веществ, .и мы можем ввести эти отклонения в сфе-
ру действия кинетической теории только в том случае, если уве-
личим свой запас понятий и расчетов. (Например, так называе-
мые газовые уравнения Ван-дер-Ваальса включают в себя терми-
ны, отражающие различные размеры молекул каждого вещества.)
В подобных случаях требуемая высокая точность обеспечивается
просто развитием существующих понятий и процедур, но в дру-
гих случаях настойчивое стремление увеличить точность может
182
потребовать развития совершенно новых понятий и теорий. Эле-
ментарным примером является переход от геометрической оптики
к физической, более сложным — переход от классической плане-
тарной теории к релятивистской.
Эти два первых типа концептуальных проблем возникают при
рассмотрении «явлений», еще не получивших объяснения. Однако
проблемы могут возникнуть п в альтернативных случаях — на тех
интеллектуальных рубежах, где современные понятия и процеду-
ры сближаются, частично совпадают либо вступают в конфликт
друг с другом. В этих случаях, как показал Мах, наши идеи
должны приспосабливаться к другим идеям, а не непосредствен-
но к фактам !. Они требуют не столько непосредственного разви-
тия частных теорий, сколько концептуальной реорганизации. Эта
реорганизация довольно часто вызывает рост объяснительного
потенциала и сферы действия интересующей нас науки только
в качестве своего побочного продукта. Так, концептуальные из-
менения, первоначально предназначавшиеся для того, чтобы раз-
решить впутринаучпые концептуальные проблемы, в то же вре-
мя могут помочь нам и в решении внешних концептуальных
проблем, относящихся к нашим первым двум типам. Однако
пока что стоит различать эти два аспекта изменений и рассматри-
вать их по отдельности.
Имея в виду эту оговорку, мы можем обсудить три других
типа проблем. Класс (3) включает проблемы, которые возникают,
когда мы рассматриваем взаимную релевантность различных со-
существующих понятий в одной отрасли науки; класс (4) вклю-
чает проблемы, связанные с взаимной релевантностью понятий
различных отраслей науки. Эти два типа удобно рассмотреть
совместно, так как они незаметно переходят друг в друга
и в пограничных ситуациях различие между ними становится
чисто терминологическим. Ибо паши критерии дифференциации
«наук» либо «отраслей науки» не являются ни достаточно четки-
ми, ни достаточно постоянными, чтобы мы могли всегда с опре-
деленностью сказать, исходят ди две теории или понятия из «од-
ной и той же» или из «различных» наук. Действительно, надлежа-
щее уточнение границ между смежными науками может стать од-
ной из концептуальных проблем, требующих своего решения, так
как наши успехи в интеграции понятий и объяснительных проце-
дур смежных областей часто позволяют нам разрушить барьеры
между отраслями науки и даже между науками, которые прежде
считались раздельными и независимыми друг от друга.
В случаях, явно относящихся к типу (3), проблемы являют-
ся внутренними вопросами отдельной науки, например оптики,
и здесь возможен один из двух результатов. Может получиться
так, что одна процедура объяснения действительно «занимает»
1 См.: Mach Е. Му Scientific Theory of Knowledge and its Reception
by my Contemporaries. — In: Physical Reality, ed. S. Toulmin. N. Y., 1970,
183
всю сферу действия другой, как в том случае, когда было пока-
зано, что все результаты геометрической оптики можно точно,
хотя ,и более сложным путем, эксплицировать при помощи по-
нятий и методик физической оптики. Напротив, может появиться
возможность по-новому установить границы между запутанными
понятиями и процедурами, как это произошло, когда кваптовая
механика показала, каким образом некоторые оптические явле-
ния можно объяснить в терминах «волновых» аспектов света,
а другие — в терминах «частиц». В других случаях снова обна-
руживается как то, так и другое; таким образом, электромагнит-
ная теория Максвелла не только установила точки соприкоснове-
ния между электричеством ,и магнетизмом, которые раньше были
независимыми отраслями физического исследования, но и привела
к неожиданному «захвату» оптики повой, интегральной теорией
электромагнетизма.
В случаях, явно относящихся к типу (4), проблемы возника-
ют па границах между отдельными пауками, причем снова скла-
дываются два возможных способа их решения. В некоторых слу-
чаях основания для успешного применения понятий одной науки
в процессе объяснения можно эксплицировать на более фунда-
ментальном уровне в терминах, выведенных из другой науки.
Рассмотрим отношения между химией и физикой. До тех пор
пока свойства различных химических элементов оставались не-
исследованными, это были независимые науки, но в XX столетии
их взаимные отношения изменились. Отныне каждое понятие
неорганической химии, начиная с «валентности», можно скон-
струировать на более фундаментальном уровне, что ставит уже
физические проблемы. Повсеместно концептуальная задача ско-
рее состоит в том, чтобы точнее объяснить, почему стираются
границы между двумя науками. Как указывал, например, Дж.
Б. С. Холдейн, биология охватывает процессы, протекающие в
самых различных временных шкалах — от долей секунды до ты-
сячелетий,— причем именно многообразие шкал имеет основопо-
лагающее значение, если мы, например, хотим понять соотноше-
ние экспериментальной пауки — генетики — и исторической нау-
ки— эволюционной биологии1 или выяснить соответственно
сферу и домены биохимии и биологии развития.
Последний класс проблем складывается, собственно, на пери-
ферии науки, но тем не менее играет важпую роль в ее истори-
ческом развитии. Эт,и проблемы (5) возникают при конфликтах
понятий и процедур, принятых в специальных науках, с идеями
и позициями, принятыми большинством людей. Природа этих
проблем иногда понималась неправильно, особенно в тех случаях,
когда все повседневные идеи и подходы, о которых идет речь,
рассматривались наподобие слова «малярия» — то есть когда
1 См.: Haldane J. В. S. Time in Biology. — «Science Progress», 1956,
44, p. 385-402.
184
считали, что они предлагают необоснованные ответы па постав-
ленные наукой вопросы, вместо того чтобы понять, что они выво-
дят свое значение из совсем иных видов человеческой деятель-
ности. Однако во многих случаях эт,и вненаучные идеи вполне
законны, и конфликты, которые здесь возникают, скорее сле-
дует разрешать путем усовершенствования соответствующих
научных понятий, тогда как лучшее аналитическое понимание
соотношений между внутри- и впенаучными понятиями, о кото-
рых идет речь, нуждается в том, чтобы выяснить, почему именно
у них имеются соответствующие сфера действия и значение. Та-
кие аналитические проблемы, включающие решение споров между
научными и ненаучными понятиями, в конце концов можно
полностью снять: например, недавние споры о том, преодолева-
ется ли граница между «жизнью» и «смертью» благодаря хи-
рургическим методам трансплантации органов, были на удивле-
ние свободны от метафизической путаницы и нацелены на вполне
определенные проблемы физиологии и права. Однако другие ана-
логичные споры еще продолжают причинять нам беспокойство,
как, например, дискуссии о том, каково значение понятий и тео-
рий нейрологии для таких вненаучпых идей, как «ответствен-
ность» и «свобода выбора».
Классифицируя различные виды концептуальных проблем,
мы намеренно применяли ту же самую «процедурную» идиому,
что и прежде, когда говорили о сфере действия, протяженности
и/или модификации взаимодействующих методов изображения.
Применяя эту идиому, мы можем также указать на то, что имен-
но вкЛочается в решение теоретических научных проблем путем
осуществления подходящих концептуальных изменений. Ибо
концептуальные изменения, как и концептуальные проблемы,
можно более естественно п непосредственно охарактеризовать
в. терминах «решения проблем». В качестве примеров наиболее
типичных проблем физики можно привести следующие:
(1) Допустим, что мы уже обладаем способами изображения
лучей, позволяющими представить нам прохождение света
из одной гомогенной среды (например, воздуха) в другую
(например, воду); можно ли распространить эти методы так-
же и на прохождение света в негомогепных средах?
(2) Допустим, что обычные методы геометрической оптики
нас не устраивают, когда щели и препятствия на пути про-
хождения света имеют размеры, сравнимые с длиной световых
волн; можем ли мы развить более общие методы изображения
и вычисления, охватывающие поведение света также и в этих
случаях?
(3) Допустим, что мы можем представить фундаментальные
уравнения механики в форме, которая охватывает все слу-
185
чаи «консервативного» движения (то есть такого движения,
где не происходит полной потери кинетической энергии);
можем ли мы развить или модифицировать эти уравнения та-
ким образом, чтобы применить их и к «неконсервативному»
движению?
(4) Допустим, что при смене одной пространственно-времен-
ной системы отсчета другой механика Ньютона и электромаг-
нетизм Максвелла потребуют, чтобы мы применяли раз-
личные преобразования; можно ли модифицировать каждую
из этих теорий или обе таким образом, чтобы законы механи-
ки и электромагнетизма соответствовали одному и тому же
набору преобразований?
В каждом из этих четырех случаев определенная теорети-
ческая проблема, сформулированная в процедурных терминах,
стала поводом для концептуальных изменений; при этом в каж-
дом случае решение, обеспеченное этим концептуальным измене-
нием, следовало выносить в аналогичных терминах. Кроме того,
поскольку каждое научное понятие имеет три различных ас-
пекта (языковой, репрезентативный и прикладной), то концепту-
альные новшества, предложенные для того, чтобы решать по-
добные проблемы, могут вызывать изменения в любом из этих
отношений или сразу во всех. С одной стороны, они могут не
затрагивать имеющиеся символы данной теории — ее терминоло-
гию, основополагающие уравнения, методы графического изобра-
жения п т. д.,— а просто внести в псе дополнительные усо-
вершенствования с тем, чтобы включить пе поддающиеся объяс-
нению явления в сферу действия имеющихся символов. С другой
стороны, они могут вовлечь нас в изменения (иногда весьма ра-
дикальные) языка и других до сих пор применявшихся систем
символов с тем, чтобы рассматривать простые, легко поддающиеся
объяснению явления. В реальной истории решение проблем
(1) и (3) относилось к первому роду. Проблема (1) требовала
прогресса геометрической оптики, а проблема (3) — прогресса
ньютоновской механики. Напротив, решение проблем (2) и (4)
относилось ко второму роду. Проблема (2) была решена только
благодаря развитию совершенно нового подхода, известного нам
как «физическая оптика», причем сделанное в результате откры-
тие было выражено в совершенно недостаточном высказывании:
«Свет состоит из волн». Что касается проблемы (4), то она была
решена благодаря перестройке, осуществленной специальной тео-
рией относительности Эйнштейна, которая повлекла за собой не-
большие, но фундаментальные изменения в уравнениях, почти
два столетия служивших в качестве аксиом механики.
Таким образом, несмотря на то, что различные аспекты науч-
ных понятий часто взаимосвязаны, они могут изменяться неза-
висимо друг от друга ,и по разным поводам; соответственно реше-
ние теоретических проблем науки тоже может осуществляться
186
в различных формах. В одном крайнем случае возможны изме-
нения в применении процедур без какого бы то пи было измене-
ния символических аспектов понятия. Они могут происходить
либо благодаря расширению сферы действия какого-нибудь терми-
на или методов изображения, либо, наоборот, благодаря исклю-
чению из сферы его применения какого-то нового класса анома-
лий или отклонений. Напротив, могут быть приняты новые мето-
ды изображения, которые почти пе окажут воздействия на язык
науки и применение ее процедур. Наконец, в другом противопо-
ложном крайнем случае язык пауки может иногда изменяться
в высшей степени радикально, пе вызывая при этом никаких
изменений в способах изображения или процедурах применения.
Конечно, на практике концептуальные изменения редко вклю-
чают только один из этих трех элементов, так что любой пример,
который мы можем привести, чтобы проиллюстрировать ту или
иную перемену, только приблизительно будет относиться к ка-
кому-либо «чистому» типу. Однако начиная примерно с ХТХ вока
все три типа изменений можно проиллюстрировать па примере
развития понятия энергии. В течение XIX столетия сфера дей-
ствия понятия энергии изменялась несколько раз. Сначала это был
термин в обобщенной механике Лапласа — Гамильтона, однако
впоследствии он снова был применен в теориях теплоты, электри-
чества, магнетизма, гравитации и химии. В каждом случае уста-
навливались новые критерии, меры и эквиваленты (или курсы
обмена), благодаря которым новые системы или явления вклю-
чались в компетенцию этого понятия. Этот процесс не был слу-
чайным, он поддавался проверке; так, например, попытка Либиха
ассоциировать биохимические явления со специфической формой
«жизненной энергии» позже была отвергнута И все эти изме-
нения в применении «понятия энергии» по большей части не
зависели пи от формальных уравнений, относящихся к понима-
нию и расчету энергетических процессов, ни от терминологи-
ческого аппарата теории.
Между тем в теоретическом плане Гельмгольц сформулировал
общий принцип сохранения энергии, придав этому понятию ма-
тематическую форму и тем самым сделав его пригодным для при-
ложения не только к уже известным нам случаям превращения
энергии, но и к любым повым формам «энергии», которые когда-
либо могли бы быть идентифицированы и измерены. К этой об-
щей трактовке он пришел, рассматривая широкий круг теоретиче-
ских аргументов, независимо от всех вопросов, относящихся к
эмпирическому применению этого понятия. Кроме того, оп обо-
шелся без серьезной модификации существовавшей в то время
физической терминологии. Действительно, первоначально создан-
ная им общая теория описывала сохранение энергии как сохра-
1 См., например: Goodfield G. Y. The Growth of Scientific Physio-
logy. L.j I960, Ch. 6 and 7.
187
нение «силы», и только через несколько лет он начал употреблять
термин «энергия», который предпочитал его современник Клау-
зиус и который за пятьдесят лет до этого использовал Томас Юнг.
Когда же в конце концов он принял это изменение номенклату-
ры, то не стал ретроспективно модифицировать свой принцип
сохранения. Его теория содержала те же самые методы расчетов
и имела ту же область применения, что и прежде, но теперь он
начал проводить четкое вербальное различие между двумя тер-
минами — «сила» и «энергия»
Какое же из этих трех изменений — в номенклатуре, урав-
нениях или применении— выражает истинное изобретение по-
нятия энергии или истинное открытие сохранения энергии? Этот
вопрос уже давно стал предметом бесплодной полемики среди
историков пауки. В разные времена утверждалось, что прибли-
зительно восемь ,мли двенадцать разных ученых сделали это
«открытие»; тогда как в другое время в этом эпизоде приветство-
вали первый пример одновременного открытия, как будто можно
было «открыть» только что-нибудь одно, и более десяти ученых
открыли именно это. Однако прежде всего следует признать бо-
гатство и сложность проблем, вовлеченных в каждое такое из-
менение. Именно потому, что концептуальные проблемы и кон-
цептуальные изменения с необходимостью возникают на не-
скольких взаимосвязанных уровнях, мы не можем охарактеризо-
вать их правильно, обращая внимание только на один уровень.
Вместо того чтобы многословно говорить об «открытии» понятия
энергии или принципа сохранения энергии, гораздо полезнее при-
знать, что, по существу, каждое такое открытие завершается толь-
ко тогда, когда успешно преодолены все многообразные проблемы
терминологии, методов расчета и процедур применения.
До сих пор мы рассматривали, как понятия входят в проце-
дуры объяснения, аргументацию и другие виды деятельности уче-
ных, как разрыв между целями научной дисциплины и ее реаль-
ными возможностями становится па практике источником кон-
цептуальных проблем. Теперь мы должны задаться вопросом
о том, насколько возникшие в конечном итоге спорные вопросы
соответствуют тем различиям, которые обнаруживаются в стан-
дартных теоретических трактатах по философии науки? В какой
мере, далее, те центральные различия, па которых обычно строи-
лось объяснение в «логике науки», отражают интеллектуальные
функции понятий и концептуальных проблем, как мы ,их проана-
лизировали здесь? \
Сразу же между ними обнаруживается решающее расхожде-
ние. В статичной, неизменной пропозициональной системе естест-'
1 См. подготовленную к изданию книгу Элькана (Y. Elkana) о том, как
Гельмгольц развил обобщенное понятие энергии.
188
веппо задаться вопросом, какие из составляющих высказывании
являются «эмпирическими», а какие — «формальными» пли «ло-
гическими». Напротив, в историческом развитии научной ини-
циативы значение наших понятий пельзя показать адекватно,
если ссылаться только на релевантный эмпирический предмет
исследования или только па формальную структуру науки. Это
можно сделать только в том случае, если мы будем рассматривать
все элементы науки — предмет, формальные выводы, процедуры
объяснения и т. д.— в более широких рамках и продемонстриру-
ем, каким образом — при каких условиях, в каких случаях, с ка-
кой степенью точности — можно с успехом применять те про-
цедуры объяснения и/или ту аргументацию, которая дает понятию
то или иное значение, с тем, чтобы придать смысл соответствую-
щему вопросу. Следовательно, если мы хотим уловить факти-
ческое содержание научного понятия либо теории, то мы не дол-
жны этого делать в собственно эмпирических высказываниях, ко-
торые непосредственно определяют пользу соответствующего по-
нятия или теории, а скорее в «метаэмпирпческпх» высказываниях,
относящихся к объяснительному потенциалу понятия пли теории,
особенно в высказываниях, относящихся: (1) к области их дейст-
вия, (2) условиям их применения и (3) точности их применения.
То же самое справедливо и для тех концептуальных проблем,
которые нельзя решить при помощи наших нынешних теорий
и процедур, и для тех концептуальных изменений, которые про-
исходят при переходе от одного этапа исторического развития
науки к другому. Природа нерешенных концептуальных проб-
лем науки, альтернативные способы, посредством которых можно
модифицировать понятия и процедуры объяснения, чтобы решать
эти проблемы, модели исторических изменений, характерные для
происходящего развития,— все эти вопросы следует рассматри-
вать и описывать при помощи одной и той же, в конечном итоге
эмпирической идиомы. Истинный характер этих проблем и изме-
нений только затемняется, если мы будем настаивать на том,
чтобы применять к подобным научным понятиям и теориям ка-
кую-нибудь готовую логическую дихотомию между эмпирически-
ми/условными/синтетическими/фактуальными предложениями,
относящимися к миру, с одной стороны, и формальными/логиче-
скими/математическими/семантическими предложениями, отно-
сящимися к нашим символам,— с другой. Если функции на-
учных понятий таковы, как они есть, то все серьезные высказы-
вания, относящиеся к концептуальным проблемам и концепту-
альным изменениям, неизбежно совмещают как эмпирический,
так и формальный аспекты.
Следовательно, в некоторых наиболее фундаментальных отно-
шениях концептуальные проблемы, как было здесь установлено,
уклоняются от основных разграничений традиционной философии
и стирают демаркационные линии, на которых настаивало боль-
шинство философов. Если мы по-прежнему решим, чтобы в кон-
189
цептуальных проблемах объекты нашего обсуждения классифи-
цировались либо в качестве «эмпирических», либо в качестве
«формальных», но не совместно, то в любом случае возникнут
неразрешимые трудности. Когда мы беремся за решение кон-
цептуальных проблем, сводятся ли наши обязанности к тому, что-
бы выяснить, что же в действительности относится к окружающе-
му нас миру? Или же, напротив, мы просто должны снова и сно-
ва упорядочивать и совершенствовать математические и лингви-
стические формализмы, применяемые в рассуждениях об интере-
сующих нас эмпирических явлениях? Было бы одинаково непра-
вильно описывать концептуальные проблемы лишь одним из этих
способов. Самая суть этих проблем состоит в том, что опи соче-
тают в себе свойства их обоих. Концептуальная реорганизация
нашего научного познания, конечно, требует от пас, чтобы мы
обращали достаточное внимание па эмпирические факты, но не
просто с намерением их описать и даже обобщить. Скорее наша
цель состоит в том, чтобы сконструировать лучшее представление,
лучшую номенклатуру, лучшие процедуры объяснения, чтобы
«познать» релевантные аспекты природы и глубже попять, при
каких условиях и с какой степенью точности полученное в итоге
«представление» можно применять с тем, чтобы объяснить окру-
жающий нас мир.
В этом отношении концептуальные проблемы явно не совпа-
дают ни с собственно эмпирическими, ни с формальными пробле-
мами. В собственно эмпирических проблемах статус релевант-
ных понятий не подвергается сомнению. Предположим, например,
что мы располагаем установившимся понятием (например,
«удельная теплоемкость»), а также стандартными процедурами
для измерения его частных значений; если эти процедуры сначала
были применены, например, к элементу рению, то затем мы мо-
жем задать вопрос: «Какова же удельная теплоемкость руте-
ния?», и это будет прямой эмпирический вопрос, требующий от
нас, чтобы мы снова применили к рутению те же самые процеду-
ры измерения и расчета, которые ранее применяли к рению. В этой
сугубо эмпирической ситуации ппкто пе сомневается в том, что,
скажем, понятие «удельпая теплоемкость» применяется к руте-
нию точно так же и в том же самом значении, что и к рению.
Весь вопрос состоит в том, чтобы в дальнейшем обнаружить эмпи-
рическую ценность общепринятых переменных величин. «Примем
за доказанное, что мы знаем, как применять устоявшееся поня-
тие С в случае я»; спрашивается, «что же тогда в х истинно или
ложно по отношению к С»?
На другом полюсе, в чисто формальных проблемах, предметом
спора является только внутренняя связность математических ли-
бо лингвистических символов, употребляемых при трактовке со-
временных понятий. Такие проблемы могут потребовать, чтобы
мы навели порядок в математических аспектах наших процедур,
то есть либо сделали их более компактными и элегантными, либо
190
развили более строгие сигнификациопные тесты. Опп могут так-
же потребовать от нас, чтобы мы аналитически, в деталях, иссле-
довали логические заключения, имплицитно содержащиеся в на-
ших современных понятиях, независимо от их применения
в действительных эмпирических ситуациях (именно это было вы-
полнено, например, Исааком Ньютоном в первых двух частях
его «Начал»). Однако и в этих случаях заслуги релевантных по-
нятий и процедур как таковых в процессе объяснения еще пе
оспариваются. Теперь мы задаем такой вопрос: «Примем за до-
казанное, что мы, в общем, знаем, как работать с устоявшимся
понятием С1; как вам лучин' всего представить импликации при-
менения понятия С к чему-либо еще?» В таких случаях приведе-
ние в порядок запутанного математического аппарата имеет
место лишь на чисто формальном уровне, что резко отделяет его
от более существенных уровней, необходимых, например, для
современной квантовой электродинамики, где существуют не-
совместимые теории, и эту несовместимость можно ликвидировать
только путем изменения понимания существа дела. Соответствен-
но ни посредством чисто эмпирических, пи посредством чисто
формальных вопросов нельзя выразить объяснительную адекват-
ность общепринятых понятий. Эмпирические проблемы попросту
побуждают нас расширить применение этих понятий; формаль-
ные проблемы просто побуждают пас к внутренней реорганиза-
ции наших символов, причем и те, и другие проблемы оставляют
наши общепринятые процедуры, по существу, неизменными.
Таким образом, в одном существенном отношении концептуаль-
ные проблемы противоположны как эмпирическим, так и фор-
мальным проблемам.
Значение этого различия, по-видимому, связано с истори-
ческим характером научных инициатив. Ибо в каком-либо одном
«репрезентативном наборе» научных понятий концептуальные
изменения пе заметны; такие изменения происходят в том,
и только в том случае, когда в существующую совокупность по-
нятий вносятся модификации и дополнения с тем, чтобы улуч-
шить процесс объяснения; тем самым создается новый «репрезен-
тативный набор» понятий. В подобных случаях, следовательно,
оперативный вопрос больше не начинается со слов: «Примем за
доказанное, что у нас есть устоявшееся понятие С...» Теперь он
начинается следующим образом: «Примем за доказанное, что мы
не всегда знаем, как применять понятие С в его нынешней фор-
ме». (Например: «Примем за доказанное, что мы не можем не-
посредственно применить понятие «преломление» к исландскому
шпату...») В своей общей форме вопрос относительно концепту-
альных проблем заканчивается следующим образом: «...Можно
ли развить какие-либо альтернативные процедуры, чтобы приме-
нить эти понятия — с соответствующими модификациями —
также и к не поддающимся объяснению случаям?» При таком по-
нимании концептуальные проблемы решаются только при одно-
191
временной разработке и эмпирического, ,и формального уровней.
С этой точки зрения получающиеся в результате концептуальные
изменения могут возникать чисто семантически, но те семанти-
ческие или формальные изменения, которые в них заключены,
всегда делаются в свете новых эмпирических открытий. А эмпи-
рические открытия, о которых идет речь, связаны с фактами,
относящимися к применимости релевантных процедур объясне-
ния, а не с фактами, о которых говорится в терминах вышеназван-
ных научных понятий; соответственно их следует формулировать
при помощи «метавысказываний», относящихся к адекватности
или неадекватности соответствующей общепринятой теории, а не
непосредственно в высказываниях, выведенных из этой теории.
Если мы очистим свои знания от эмпирических фактов, мы не
сумеем оперировать понятиями, значение которых сложилось исто-
рически. (Эта специфическая особенность присуща концептуаль-
ным проблемам всех пяти типов.) Например, любопытные опти-
ческие свойства исландского шпата поставили перед Гюйгенсом
пе только фактуальные или только семантические проблемы: су-
ществовавшее тогда использование терминов «преломление»
и «луч» не обеспечивало удовлетворительного способа объяснить
эти свойства, и Гюйгенс, следовательно, должен был рещить, ка-
кие дополнительные термины можно применить, чтобы они обре-
ли смысл, то есть решить, как можно модифицировать и развить
их употребление с тем, чтобы их можно было применить и к ано-
мальным случаям. То же самое относится и к другому крайне-
му случаю: концептуальные проблемы, связанные с пересадкой
органов, возникли потому, что имеющиеся в пашем распоряжении
физиологические знания, существующие ныне критерии для раз-
деления между «живым» и «мертвым» не адекватны по отноше-
нию к этому новому обороту дела. Повторяю, мы сталкиваемся
с вопросом, который не является ни строго фактуальным, ни
строго семантическим. Нам не нужно задавать ни эмпирический
вопрос: «Всегда л,и мертвы доноры органов?» — ни семанти-
ческий: «Что мы подразумеваем под словом „мертвый44?» (Оба
эти вопроса допускают, что термин «мертвый» имеет единствен-
ное, ясное и точное значение.) Скорее всего, здесь возникают
следующие вопросы: «Что должен означать для нас термин
«мертвый» при данном понимании физиологических процессов,
протекающих в теле умирающего?» или «Каковы точные крите-
рии применения термина «мертвый» по отношению к вероятным
донорам органов?»
Ту же самую мысль мы можем выразить по-другому. В науч-
ной теории, как и повсюду, концептуальные проблемы привлека-
ют наше внимание не только к фактам или определению тер-
минов. Напротив, они требуют от нас, чтобы мы вновь и вновь
определяли наши термины в свете релевантных фактов. Если пе
обращаться к эмпирическим открытиям, никогда не будет основы
для таких повторных определений, ничего нельзя будет сделать,
192
чтобы усовершенствовать наш объяснительный потенциал. Следо-
вательно, ученые-теоретики должны удовольствоваться тем, чтобы
предоставить чисто фактические вопросы натуралистам, чисто
формальные вопросы — математикам, а чисто семантические —
философам и лексикологам. Их собственная заинтересованность
в фактах всегда состоит в том, чтобы раскрыть, что из них «мож-
но сделать» в свете современных идей, а их заинтересованность
в математических формациях и значении слов заключается в том,
чтобы обнаружить, каким образом их можно совершенствовать
и применять вновь, с тем чтобы «пролить свет» на факты, зага-
дочные в настоящее время. Что может послужить лучшим спо-
собом объяснения в свете более усовершенствованных эмпири-
ческих знаний? И в каких отношениях эт,и новые объяснения
потребуют концептуальных изменений в значении наших терми-
нов? В решении концептуальных проблем семантические и эмпи-
рические элементы не столько произвольно смешиваются, сколько
неизбежно сливаются.
В заключение стоит противопоставить концептуальные пробле-
мы живой науки формальным проблемам пауки, из которой
изгнана эмпирическая жизнь. В тот момент, когда набор понятий
в какой-либо области исследования приобретает такой авторитет,
что им нельзя бросить вызов, такая наука больше пе сталкивает-
ся с «научными» проблемами, которые заслуживают этого на-
звания, и перестает быть областью «научного» исследования.
Для Теэтета и Евклида геометрия все же была наукой о про-
странственных отношениях в той же мере, в какой кинематика
и динамика были науками о движении для Галилея и Ньютона.
Однако в наши дни студенты изучают математические методы
евклидовой геометрии и теоретической механики пе в качестве
полноправных, подлинно эмпирических наук, а под заголовком
«Математические методы пауки» — иными словами, не в качест-
ве теорий, а в качестве теорем. И это вполне подходящий заго-
ловок, так как с научной точки зрения идеи и расчеты, включен-
ные в применение этих методов, больше не являются проблема-
тичными в научном смысле слова. Достигнув формы дефиниций,
понятия, о которых идет речь, как таковые уже недоступны ра-
циональному критицизму, вызовам и изменениям.
В XVII—XVIII веках ньютоновская механика, возможно, и со-
ставляла сердцевину физики, но в более близкие нам времена
она стала отраслью чистой математики, сравнимой с евклидовой
геометрией. Со временем ее понятия и предложения стали недо-
ступны критике в свете эмпирических открытий, и интеллекту-
альные задачи этого предмета стали типично математическими
задачами все нового и нового упорядочивания ее теории самым
компактным, элегантным и могущественным способом, какой
только возможен. Поскольку дела обстоят таким образом, есть
7 Зак. 21
193
некоторая пропин в названии, которое часто употребляется в на-
ши дни по отношению к теоретической ньютоновской динамике,
а именно «рациональная механика»,— ибо это название приходит
в прямое противоречие со всем нашим пониманием того, какие
свойства вообще делают научную дисциплину подлинно «рацио-
нальной». Каким же образом столь неподходящее название было
принято впервые? Если известны исторические взаимодействия
науки ,и философии, ответ на этот вопрос достаточно ясен. Этот
выбор — еще одно следствие того культа систематичности, при-
равнивания рационального к логическому, который объединял
философов от Платона до Канта. Несмотря на все свое отличие
от Платона, Кант все же полагал, что геометрия и механика
обеспечивают единственный подлинно рациональный и последо-
вательный способ описания, подходящий для интеллектуального
понимания природы; а титул «рациональная механика» просто
переносит в наши дни традиционные философские предрассудки
относительно статуса геометрии и других точных наук.
Однако последствия этой перемены еще раз подтверждают, что
исключительная ограниченность формальными соображениями
оборачивается не иммунитетом к историческим переменам, а ир-
релевантностью по отношению к ним. Безвозвратно ограничив се-
бя определенной системой понятий, чистые геометры просто усту-
пили естественнонаучное изучение пространства космологам
и другим физикам, которые не наложили на себя подобных огра-
ничений. Точно так же те математики, у которых областью ис-
следования является «рациональная механика», просто уступили
естественно научное познание силы и движения представителям
теории относительности и квантовой физики, которые в конечном
итоге не замкнулись в классическом формализме. В таком слу-
чае действительно ли поиск «рациональной» механики основыва-
ется на «рациональных» решениях? Ответ на этот вопрос, несом-
ненно, зависит от вашей дисциплинарной точки зрения. Поиск
большей систематичности — это чисто математическая дисципли-
нарная цель; напротив, для естествоиспытателя безоглядное пред-
почтение какой-либо одной частной системы понятий и теорем
представляет собой самую настоящую антитезу «рациональной»
процедуры и отрицание своих собственных подлинно интеллекту-
альных целей.
Для Канта проблема построения истинно «рациональной» фи-
зики все еще зависит от основного вопроса: «Можем ли мы в тео-
риях движения и гравитации, как и в геометрии, изложить наши
аргументы в логически систематизированной форме, которая одно-
временно и раскроет нам действительный характер окружающего
нас естественного мира, и будет невосприимчивой к интеллекту-
альному вызову со стороны опыта?» По его мнению, только кон-
цептуальная система, сочетающая обо эти характеристики, име-
ла полномочный авторитет у рациональных мыслителей всех эпох
и культур; его целью было обнаружить «трансцендентальный»
194
базис этого авторитета. Однако в настоящее время аргумент
Канта привел к прямо противоположному результату. Рассматри-
вая геометрию и динамику в качестве естественных наук, мы
больше не считаем, что они покоятся на неизменных «метафизи-
ческих основаниях», даже если эти последние являются «траве
цендептальпыми», как доказывал Кайт в своей поздней крити-
ческой философии. Скорее мы полагаем, что, будучи естествоис-
пытателями, люди доказывают свою рациональность тем, что
готовы отказаться от мечты об единственной универсальной, поль-
зующейся исключительным авторитетом системе мышления,
и тем, что они готовы пересмотреть любое свое понятие и теорию,
поскольку их опыт относительно окружающего нас мира постоян-
но расширяется и углубляется.
2.4. Отступление по поводу «изображения»
Любая попытка заново сформулировать философские пробле-
мы человеческого понимания позволят в свою очередь возник-
нуть новым представлениям о том, что такое понятия и как они
образуются. Мы уже отвергли точку зрения, согласно которой
научные понятия представляют собой либо термины формальных
исчислений, либо наименования для эмпирических классов объек-
тов, в пользу процедурного анализа, связывающего их с альтерна-
тивными «способами изображения» в практике объяснения. Здесь,
однако, следует подробнее остановиться на том, в каком специ-
фическом смысле мы употребляем термин «изображение».
Во-первых, мы не употребляем этот термин в смысле чего-то
внутреннего, мысленного или сугубо личного. Начиная с Джона
Локка и вплоть до Норберта Випера, включая Юма и Вундта,
Маха и Мейнерта, когнитивные эмпирики стремились подойти
ко всем эпистемическим вопросам с точки зрения индивидуаль-
ного «познающего субъекта», обращая внимание на те процессы,
которые, по-видимому, происходят в его голове, на нейрофизиоло-
гические процессы, в буквальном смысле происходящие «внутри»
его головы, либо на психические процессы, происходящие «в эго
уме» (смысл этого выражения ясен гораздо меньше). Каждый,
кто выбирает этот подход, естественно, вынужден принять ха-
рактерную точку зрения, согласно которой понятия отождествля-
ются либо с «личными идеями» и «бледными образами», возни-
кающими в результате действия чувственных «впечатлений»,
либо, напротив, с «энцефалограммами», электрическим потенциа-
лом «синапсов» и другими следами нервного возбуждения, остаю-
щимися после действия сенсорных стимулов. Не употребляем мы
втот термин и в каком-либо формальном, или квазигеометри-
чоском смысле. Философы-формалисты, от Декарта до Тем-
нели, стремились подойти к процессам познания скорее всего
о позиций логики и математики, обращая внимание на внутреи-
7*
195
нюю структуру аргументации и на термины, в которых опа изла-
галась. Каждый, кто выбирает этот подход, естественно, склонен
приравнивать понятия к терминам или переменным, объединен-
ным в некоторой «дедуктивной системе», или, во всяком случае,
к той формальной роди, которую эти термины или переменные
играют в дедуктивных системах, о которых идет речь.
Наше собственное объяснение имеет своей целью избежать
обеих этих позиций. Начнем с того, что мы намеренно пред-
почли отложить все вопросы, связанные с индивидуальным при-
обретением понятий, до тех пор, пока не закончим рассмотрение
их коллективного употребления; а во-вторых, мы бросили вызов
допущению, согласно которому формальные системы предложе-
ний обеспечивают единственную законную форму научного объяс-
нения. В этом отношении мы следуем примеру Канта, который в
своей попытке избежать неразрешимой в XVIII веке борьбы меж-
ду рационализмом и эмпиризмом переформулировал проблемы
эпистемологии в терминах «представлений» (Vorstellungen).
Мы должны постоянно иметь в виду, доказывал Кант, что весь
наш опыт связан с представлениями, а не с «вещами в себе».
Если мы это сделаем, то увидим внутреннюю бесполезность тради-
ционных эпистемологических споров; кроме того, в этом случае
мы сможем перейти к более конструктивным «трансценденталь-
ным» вопросам относительно того, при каких условиях «представ-
ления» становятся предметом когерентных «суждений», иными
словами, к вопросу о том, при каких условиях наши основопола-
гающие интеллектуальные категории, понятия и формы примени-
мы к опыту, который дан в этих «представлениях».
К сожалению, изложение Кантом его собственной позиции
допускает два совершенно различных прочтения. А его выбор
слова Vorstellung только усиливает эту двусмысленность. Ко-
нечно, с одной стороны, его цель отчасти состояла в том, чтобы
подчеркнуть особое значение формальной или грамматической
структуры всех «суждений» и зависимость любых «знаний»
от специфических понятий и интеллекту ал ьных форм, в терминах
которых выражены все получающиеся в результате «суждения».
С точки зрения Канта, все суждения о природе внешних объек-
тов и все наши знания об их поведении должны быть выражены
в пропозициональной форме. Что мы «знаем» или о чем мы
«судим» — это всегда означает следующее: «дело обстоит так-то
и так-то». Если мы попытаемся что-нибудь высказать (или даже
подумать) о «вещи в себе» независимо от нашего языка и формы
суждения, то сами себе создадим затруднения. В то время как
любое суждение, мысль или предложение с необходимостью имеет
концептуальную пли грамматическую структуру, в «вещах в се-
бе», по определению Канта, с другой стороны, не может содер-
жаться ничего концептуального или пропозиционального. Подоб-
196
ные «вещи в себе» — это просто абстракции, на которые мы
можем молча указать, но о которых ничего не может быть изве-
стно или высказано.
Конечно, этой специфической точке зрения нечего было де-
лать с чувственным восприятием или с тем, какую роль оно иг-
рает в процессе приобретения знания; она должна была иметь
дело только с формой и статусом «знания», которое рассматрива-
лось в качестве готового продукта. Размышляя о смысле знания,
мы, следовательно, должны интересоваться лишь тем, каким об-
разом, например, формы знания отражают структуру языка. Нич-
то в сложившейся в итоге аргументации и о вынуждает нас ни
считать «представления» внутренними ментальными сущностями,
ни рассматривать «вещи в себе» в качестве внешних объектов,
недоступных непосредственному восприятию, находящихся за
пределами чувственных «представлений», созданных внутри на-
ших церебральных механизмов. Однако многие понимали пози-
цию Канта именно в этом смысле — как физиологи и психологи
(например, Мюллер, Гельмгольц и Фехнер), так и философы
(например, Шопенгауэр) *. Например, последователи Канта ста-
ли употреблять термин Vorstellung пе только в анализе знания
как конечного продукта, ио и в дискуссиях о механизмах вос-
приятия. Таким образом, попытка Кайта избежать субъектив-
ного идеализма была сорвана. Термин Vorstellung стал относить-
ся просто к идеям, вызванным действием повторяющихся чувст-
венных «впечатлений» (Empfindungen); критическая философия
потеряла свой трансцендентальный характер, которому Кант при-
давал такое важное значение; а для Маха, повторяю, стало воз-
можным смешать теории кантовских «Критик» с теориями Беркли
и Юма, чье место сам Кант пытался занять 1 2.
Отчасти в этом повинен сам Кант. Несмотря па то что он
явственно видел необходимость избежать картезианской дилеммы
сверхчувственных восприятий, оп так никогда п не преуспел
в этом. Таким образом, несмотря на то, что в настоящее время мы
можем переформулировать значительную часть его философских
взглядов в «процедурных» терминах, рассматривая их как по-
пытку показать, что сам характер нашей интеллектуальной дея-
тельности накладывает априорные формы на наши суждения
и, следовательно, на наши знания, собственное изложение Кан-
том своей точки зрения все же сохраняет сильные следы карте-
зианства. Например, его объяснение «форм интуиции» представ-
ляло собой попытку скоррелировать термины пространства и
времени сначала с геометрическими и арифметическими отно-
шениями, а потом — со зрительными и слуховыми воспрятиями;
1 См.: Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. — В: Шо-
пенгауэр А. Поли. собр. соч., т. 1—2, М., 1900; что касается Мюллера,
Гельмгольца и Фехнера, см., например: Dem ber W. N. Visual Perception:
The Nineteenth Century. N. Y., 1964.
2 См.: M a x Э. Анализ ощущений. СПБ, 1901.
197
именно этот аргумент в значительной мере содействовал тому, что
в XIX веке Vorstellungen интерпретировались как «чувственные
представления», а это с необходимостью снова вернуло последова-
телей Канта к идеализму и сенсуализму.
Однако, ненадолго оставив в стороне все вопросы психологии
и физиологии органов чувств, мы с таким же успехом можем
сформулировать точку зрения Канта на процесс познания
в совершенно иных терминах, используя при этом альтернатив-
ное немецкое слово, которое вызывает совсем другие ассоциации.
Давайте заменим слово Vorstellung, употребляемое Шопенгау-
эром, Гельмгольцем, Больцманом и самим Кантом, словом
Darstellung, которое употребляют Герц, Бюлер и Витген-
штейн; тогда мы сумеем достаточно четко сформулировать наи-
более существенный для Кайта вопрос — о роли понятий в вы-
ражении коллективных суждений и коллективных знаний, не
сбиваясь при этом па совсем другие проблемы — чувственного
восприятия, «внутреннего опыта», «ментальных сущностей». Ибо
Darstellung — это «представление» в том смысле слова, в каком
постановка пьесы на сцене является театральным представлени-
ем, в каком выставка или концерт дают публике представления
о работах художника или музыканта. В этом случае «darstellen»
то или иное явление — значит «продемонстрировать» или «выде-
лить» его, то есть выставить его напоказ с тем, чтобы показать
всем, что оно содержит в себе или каким образом оно действует,
как это происходит в том случае, когда гидравлическая система
труб и насосов используется для того, чтобы обеспечить упрощен-
ное представление, или объяснительную модель сложной электри-
ческой цепи. (Термин Vorstellung, напротив, предполагает, что
«представление» является таким же сугубо личным, как
Darstellung — коллективным. Vorstellung «означает», или сим-
волизирует, нечто «в уме» индивида. Этот термин несет ту же
самую нагрузку, что и такие слова, как, например, «идея»
и «воображение»; в действительности он и является обычным
немецким переводом термина Локка «идея» и приводит к точно
таким же затруднениям.)
Соответственно отношение между Darstellung и той реаль-
ностью, которую оно «выявляет» и «представляет»,— это отно-
шение между двумя сущностями коллективного характера. Когда
Герц говорил о том, что динамическая теория обеспечивает
Darstellung движений, которые она объясняет; когда Витген-
штейн, в более общем плане, заявлял, что предложения языка
изображают, или представляют, darstellen «существование и не-
существование атомарных фактов» \ то эти утверждения ниче-
1 См.: Витгенштейн Л. Логико-философский трактат, разд. 4.1
(с. 50); там слова darstellen и Abbildung употребляются таким образом,
который отражает употребление термина Bild в качестве слова «артефакт»;
см. также: Hertz Н. The Principles of Mechanics. N. Y., 1900, Introduction;
тут физцческая теория рассматривается как Bild, предназначенная для
того, чтобы обеспечить Darstellung соответствующих физичеёкйХ явлений.
198
го не говорили об их специфически «ментальном» пли «внутрен-
нем» характере. Они оба непосредственно интересовались лишь
тем, каким образом и при каких условиях расчеты ученого
«экспонируют» или «демонстрируют» формы явлений, а чье-либо
высказывание — формы соответствующих фактов. И мы можем
истолковать почти весь центральный тезис Канта, согласно ко-
торому «познание» неспособно понять «вещи в себе», в том же
самом смысле: в топ мере, в какой содержание наших знаний
может быть определено только в форме суждений или в грамма-
тических формах, мы «познаем» (то есть зпаем то-то и то-то)
не объект, независимый от человеческой мысли, а лингвистически
структурированный факт, или предложение.
Во времена самого Канта этот тезис сильно дискредитировал
обе стороны традиционного эпистемологического спора, ибо
в этом споре постоянно путали восприятия с понятиями, а пред-
ложения — с образами и объектами. Но если мы здесь в ка-
честве ключевого элемента значения (или коллективного исполь-
зования) научных понятий выберем «способы изображения», то
можно подчеркнуть, что термин «представление» следует пони-
мать исключительно в смысле Darstellung. Поступая таким
образом, мы в действительности только обобщаем выполненный
Герцем анализ объяснительной функции классической механики.
Точно так же, как система аксиом динамики имела у Герца
своей задачей «экспонировать» общие отношения, включенные
в движение тел, так и функция таксономической классификации
состоит в том, чтобы «экспонировать» общие отношения между
различными видами живых существ, а лучевых диаграмм —
«продемонстрировать» зависимости, заключенные в оптическом
отражении и преломлении, и т. д.
При этом мы отнюдь не имеем в виду процессы, происходящие
в сознании ученого, когда оп применяет релевантные понятия,
чтобы понять явления, о которых идет речь. Вполне возможно,
однако, что индивидуальное понимание опирается на применение
«ментальной программы», или Vorstellung, полученный благо-
даря интериоризации соответствующего «способа представления»,
или Darstellung, но этот тезис мы пока не будем рассматривать.
В своем первом исследовании мы ограничимся исключительно
коллективными интеллектуальными функциями понятий и мето-
дов изображения в процессе научного объяснения; только объяс-
нение этих коллективных функций в терминах Darstellung мо-
жет, хотя бы ненадолго, отвлечь нас от всех картезианских и юми-
стских загадок об отношении «внутренних» понятий к «внешним»
явлениям. В то же время оно действенно реализует все то, на что
с полным правом претендует антипсихологизм Фреге; а именно:
оно признает, что «объяснение» явления требует, чтобы мы не
только сами вообразили, каким это явление может быть само
по себе, но ,и публично продемонстрировали природу тех отно-
шений, примером которых оно является. Конечно, если мы прида-
199
дим термину «демонстрировать» достаточно широкий смысл, то
эта задача больше пе будет означать необходимости строить ка-
кие бы то пи было квазиевклидовы доказательства, которые, как
считали Декарт и Юм, одни только являются «демонстративны-
ми». Но все это к лучшему, так как указывает на то, что в одном
важном отношении смысл антипсихологической позиции Фреге
может быть гораздо более широким, чем он думал. Хотя «объек-
тивное» понимание понятий следует давать в терминах их кол-
лективного употребления, которое определяет их «смысл», такое
объяснение далеко не во всех случаях нуждается именно в той
форме, которую Фреге, Пеано и Рассел придали арифметическо-
му понятию «число». Напротив, различные понятия имеют раз-
личное коллективное применение и их «объективный смысл»
соответственно нужно анализировать в различных терминах.
Короче говоря, со времени Канта термин «представление»
был подхвачен ужо знакомой нам философской диалектикой.
С одной, крайней, точки зрения оно приравнивалось к «образу»
или «чувственному содержанию», что соответствовало тем самым
локковскому понятию «идеи». С другой, полярной, точки зрения
оно ассоциировалось с формальной дедуктивной системой, соот-
ветствующей картезианской сети «самоочевидных» посылок и до-
казательств. В последующих дискуссиях просто возобновились
(в новой, посткантианской терминологии) те самые эпистемоло-
гические споры, которые Кант надеялся разрешить. Тем самым
подлинно важный вопрос — а именно вопрос о том, как мысли
и концепции индивидуальных потребителей понятий связаны
с коллективным употреблением понятий,— смешивался с неразре-
шимыми головоломками отношений между «внутренним» и «внеш-
ним», частным и коллективным аспектами духовной жизни. В ре-
зультате стало казаться, будто все практические процедуры,
посредством которых группы людей коллективно демонстрируют
свои интеллектуальные способности,— это просто «бихевиорист-
ский аккомпанемент» «внутренним мыслям», которые только
одни имеют рациональное значение. Таким образом, «идеи» или
«понятия», рассматриваемые в качестве внутренних представле-
ний (Vorstellungen), логически обособлялись от своих собствен-
ных «выражений» или «применений» в процедурах классифика-
ции, расчетах, диаграммах, моделях и графиках, то есть от своих
внешних представлений, или Darstellungen.
Многие из затруднений, возникающих при этом размежевании,
будут подробнее рассмотрены нами во втором исследовании.
В частности, мы можем отложить на будущее все вопросы о том,
какие отношения можно найти при индивидуальном употреблении
понятий между понятиями и их применением, умственной жизнью
и интеллектуальной деятельностью, мыслями и суждениями,
внутренними образами и коллективными представлениями, Vor-
stellungen и Darstellungen. На этой последней стадии мы смо-
жем задаться вопросом, в какой мере такие различия вообще
200
правомерны, даже в том случае, когда они применяются к мыш-
лению индивидуальных потребителей понятий; что же касается
настоящего, то идеи и понятия интересуют нас только в качестве
возможных механизмов преемственности в коллективных дис-
циплинах, поскольку только коллективные аспекты употребления
понятий имеют непосредственную релевантность.
Анализируя коллективные аспекты употребления понятий
в терминах процедур научного объяснения, мы действительно мо-
жем выйти за пределы существовавших прежде двух типов ана-
лиза понятий — «ментальных идей» и «примитивных терми-
нов»,— не потеряв при этом контакта пи с одним из них. Таким
образом, в настоящее время можно думать, что теоретические тер-
мины, появляющиеся в аксиоматических исчислениях и других
логических системах, идентичны не научным понятиям, а скорее
лингвистическим либо математическим символам таких понятий.
Определенный формально термин получает свое научное значе-
ние (то есть применяется в объяснении) только в связи с плея-
дой процедур объяснения, которую он символизирует. То же са-
мое относится к частным, личным образам или моделям, в терми-
нах которых отдельный ученый может размышлять над своими
проблемами. Они тоже могут приобрести научный смысл только
в качестве дальнейшего выражения или символа релевантных
научных понятий. Действительно, с нашей собственной точки
зрения, образы и математические переменные обрываются на од-
ном и том же уровне. Несмотря на то что термины формального
исчисления, возможно, связаны именно с теми понятиями, кото-
рые они символизируют, а не с теми ментальными образами ,и мо-
делями, которые мы образуем из них, их связи с этими понятия-
ми больше не являются непосредственными; столь же неверно
отождествлять «понятия» с этими «примитивными» терминами,
а не с физическими моделями и ментальными образами Ч На-
против, все подобные термины, образы и/или модели — это
альтернативные и более или менее адекватные средства выраже-
ния и символы коллективных понятий, которые создают «преемст-
венность» научной дисциплины. И хотя нет никаких сомнений
в том, что ментальные образы, следы нервного возбуждения и ма-
тематические переменные должны играть роль в мышлении
и деятельности ученых, мы можем по-прежнему анализировать
содержание и законность понятий, употребляемых в коллектив-
ных инициативах, не обращая на это особого внимания.
1 Как имеет в виду Герц (см. цит. соч.), в принципе нет никаких
оснований, по которым ментальные образы, пли innere Scheinbilder, нельзя
было бы использовать для того, чтобы дать «представление» о том или ином
явлении; но сами по себе как таковые опи составляют лишь один из мно-
гих возможных инструментов понимания.
ГЛАВА 3
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
ИХ ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Если мы рассмотрим исторический процесс концептуальных
изменений в интеллектуальных дисциплинах в терминах популя-
ционной модели, то сможем изобразить его тремя альтернативны-
ми способами. Мы можем выбрать последовательные временные
срезы интеллектуального содержания данной дисциплины, ана-
лизируя, таким образом, этот процесс через (А) последователь-
ность «репрезентативных наборов», охватывающих все понятия,
существовавшие в дисциплине, о которой идет речь, на всем про-
тяжении ее развития.
Мы можем в отличие от этого рассматривать возникновение,
последующее развитие и окончательную судьбу отдельных поня-
тий на протяжении всей их жизни, анализируя, таким об-
разом, этот процесс как (В) пакет генеалогий отдельных по-
нятий.
Или же мы можем комбинировать оба эти способа анализа,
прослеживая генеалогическое развитие всех релевантных понятий
в последовательности репрезентативных наборов; при этом мы
анализируем концептуальные изменения как (С) результат дву-
стороннего процесса концептуальной изменчивости и интеллек-
туального отбора.
Каждый способ анализа имеет свои достоинства и недостатки.
Способ «поперечных срезов» (А) помогает нам концентрировать
внимание на тех проблемах рациональности, которые проглядела
почти вся ортодоксальная, системно ориентированная философия
науки. Ибо вопросы, к которым, конечно, прибегают при обсуж-
дении в системных терминах, должны иметь дело с отношениями
одновременно существующих понятий, тогда как отношения, су-
ществующие между понятиями в сменяющих друг друга репрезен-
тативных наборах, с необходимостью ускользают от формально-
логического понимания. Там же, где обсуждаются концептуальные
изменения, центральная проблема — проблема «рационально-
сти» — возникает именно при изучении «нелогических» изме-
нений в следующих друг за другом репрезентативных наборах
понятий, то есть в таких условиях, когда мы можем хорошо обос-
новать, почему к совокупности понятий данной дисциплины до-
бавляется новое понятие и почему старое понятие заменяется
другим,
202
О
te
00
(А) Изображение в виде поперечного среза по времени
Исходные понптпя
новых понятий
Выживаютм*» понятий
(В) Продольное, или генеалогическое, изображение
Время
Исходные понятия
ZC) Эволюционное изображение
выживающие понятия
Продольный, пли генеалогический, способ (В) делает эту ра-
циональную непрерывность еще бо^тее очевидной. Здесь каждое
ответвление или перерыв жизненного пути данного понятия соот-
ветствует «единице» концептуального изменения, по поводу кото-
рого мы можем задать следующий вопрос: «Было ли это измене-
ние сделано сознательно, хорошо или оно обосновано в свете уме-
стных в данном случае убедительных соображений, произошло ли
оно стихийно, иррационально, например из-за какой-нибудь не-
удачи в процессе дисциплинарной преемственности или из-за ка-
кого-нибудь не относящегося к делу предрассудка?» Эта генеалоги-
ческая модель, оставаясь действенной, все же не может разли-
чать два дополняющих друг друга аспекта концептуальных изме-
нений: (I) введение в современные споры таких концептуальных
вариантов, о достоинствах которых мы еще не можем судить, и
(II) включение отобранных вариантов в уже установившуюся со-
вокупность понятий. Для наших целей большие преимущества
имеет комбинированный, или эволюционный, способ (С), ясно
отмечающий различия между нововведением и отбором. Он в яв-
ной форме регистрирует тот факт, что лишь некоторые из находя-
щихся в обращении понятий какой-либо дисциплины на опреде-
ленной стадии ее развития оказываются предметом активных ди-
скуссий и нововведений. Хорошо «установившиеся» понятия
образуют предпосылки для обсуждения нерешенных в настоящее
время проблем, обеспечивая, таким образом, возможность для
включения новаций в те или иные активно обсуждаемые понятия.
Он напоминает нам также и о том, что каждое ответвление или
нарушение непрерывности в концептуальной генеалогии данной
дисциплины является результатом не простого одноразового из-
менения, но более сложного процесса проб и ошибок.
В терминах этой более сложной модели анализа мы можем те-
перь приступить к решению двух групп проблем. С одной сторо-
ны, это проблема концептуальных новаций, или концептуальной
изменчивости, то есть проблема объединения концептуальных ва-
риантов, которые сосуществуют в то или иное время с установив-
шимися понятиями данной дисциплины; вариантов, которые од-
новременно являются и «понятиями-новичками», находящимися
«на испытании», и возможными способами решения спорных про-
блем, но которые еще не пользовались доверием и не теряли его.
Относительно этих вариантов мы можем задать следующие во-
просы:
(I) При каких обстоятельствах концептуальные новообразо-
вания появляются в одной определенной или во многих
дцсцпплинах?
(II) При каких условиях внедрение таких вариантов будет
происходить интенсивно или вяло, в одной дисциплине
более энергично, чем в другой?
206
(Ill) Если концептуальная изменчивость имеет место по пре-
имуществу лишь в некоторых направлениях, то какие
факторы или соображения ответственны за выбор этих
направлений?
С другой стороны, имеются вопросы относительно отбора тех
процедур, благодаря которым одни варианты пользуются довери-
ем, другие исключаются, а третьи по-прежнему находятся в неоп-
ределенном положении в ожидании адекватной проверки. Напри-
мер:
(I) Каковы те факторы или соображения, которые опре-
деляют, какие из находящихся в обращении концептуаль-
ных вариантов будут отобраны на сохранение и, та-
ким образом, войдут в совокупность установившихся по-
нятий?
(II) в какой мере этот отбор основывается на эксплицитном
обращении к тем соображениям, уместность и неопровер-
жимость которых получили коллективное признание в со-
ответствующей специальности?
(III) Можем ли мы удовлетворительно объяснить, по ка-
ким критериям ученые-практики отличают хоро-
шо обоснованные, надлежащим образом оправдан-
ные концептуальные изменения от непродуманных,
Поспешных, запоздалых или непреднамеренных изме-
нений?
В конечном итоге рассмотрим оба этих аспекта концептуаль-
ных изменений совместно.
, (I) При каких обстоятельствах равновесие между изменчиво-
стью и сохранением в процессе отбора помогает тому,
чтобы поддерживать непрерывность единой и неделимой
дисциплины?
(II) В каких условиях оно скорее всего приведет либо к от-
казу от прежней дисциплины, либо к тому, что она бу-
дет заменена двумя (или более) дисциплинами-преемни-
ками?
Таковы специфические вопросы, на которые распадается об-
щая проблема концептуальных изменений в интеллектуальных
дисциплинах, когда мы подходим к ней с популяционной точки
зрения. Именно в терминах этих вопросов мы можем теперь вос-
создать целостную картину концептуальных изменений как исто-
рического процесса, в котором действуют и «рациональные», и
«каузальные» факторы.
207
3.1. Концептуальная изменчивость
Начнем с новационного аспекта концептуальных изменений.
Почему возникновение концептуальных вариантов обязательно
вызывает какие-либо специфические проблемы? Не можем ли мы
принять за доказанное, что на каждом этапе концептуальной ис-
тории всегда существует достаточно рефлектирующих, воспри-
имчивых к новому индивидов, чтобы постоянно обеспечивать но-
вые концептуальные возможности? Конечно, человеку свойствен-
на известная любознательность, так что упрямый скептицизм
отдельных людей в конце концов приведет их к истине; почему же
в таком случае интеллектуальные новации обязательно несут в
себе что-то таинственное?
Подобная постановка нашего первого вопроса является сверх-
упрощепием в двух отношениях. Во-первых, здесь нас интересует
не столько верификация новых предложений, сколько введение
новых понятий. Если данные понятия адекватны требованиям ка-
кой-либо ситуации, то неослабная честность может в надлежа-
щее время обеспечить людям возможность открыть, что может
быть правильно высказано в терминах этих понятий. (Всегда ли
скрещиваются друг с другом различные роды Papilionaceae? Име-
ют ли л-мезоны измеримый магнитный момент? В каждом из
этих случаев ответ таков: «Давайте выясним!») Задача совершен-
ствования самих понятий — это совсем другой вопрос. Она ни в
коей мере не является столь же позитивной и простой, как провер-
ка истинности пли ложности эмпирического предложения или из-
мерение частот, необходимых в качестве меры вероятности; скорее
это тонкая, требующая работы воображения задача, которая со-
стоит в том, чтобы постичь, как можно вновь упорядочить наши
понятия с тем, чтобы в результате получить «лучшую», то есть
более точную, более подробную, вообще более понятную картину
тех объектов, систем и событий, о которых идет речь. И люди
смогут приступить к решению этой задачи только в том случае,
если они уже осознали требования более строгих интеллектуаль-
ных идеалов, при сравнении с которыми ныне существующие по-
нятия можно было бы усовершенствовать.
Во-вторых, несмотря на то, что индивидуальная инициатива
может привести к открытию новых истин, развитие новых поня-
тий — это дело коллективное. Для того чтобы мы заговорили о
подлинном «концептуальном варианте», еще недостаточно отыс-
кать какого-нибудь честного упрямца, одобряющего концептуаль-
ную новацию; для этого требуется нечто большее, чем личные
соображения восприимчивых ко всему новому индивидов о созда-
нии эффективного объединения концептуальных вариантов науки.
Прежде чем новое предположение станет реальной «возможно-
стью», оно должно быть коллективно воспринято как заслуживаю-
щее внимания, то есть достойное экспериментирования и скорей-
шей разработки. Таким образом, создание новых концептуальных
208
возможностей требует не только коллективной неудовлетворенно-
сти существующим кругом понятий или индивидуального предло-
жения какой-либо альтернативной процедуры объяснения, но и
сочетания того и другого. Иными словами, новации, предложен-
ные отдельными индивидами, нужно рассматривать в качестве
возможных способов решения тех проблем, которые являются ис-
точниками коллективной неудовлетворенности.
Имея в виду эти предварительные соображения, рассмотрим,
при каких условиях концептуальные новации оказываются эф-
фективными. Начнем с выяснения того, какие интеллектуальные
условия должны быть выполнены, прежде чем концептуальная
новация вообще станет подлинной «возможностью». Конечно, ко-
гда ученые считают, что какое-либо внесенное концептуальное
предложение раскрывает перед ними новые возможности, они не
рассматривают это изменение (подобно Дэйвиду Юму) изолиро-
ванно, абстрактно, как «возможное» tout court. Они не могут
всерьез принять концептуальное предложение просто потому,
что оно избегает противоречий с достоверными результатами
предшествующего опыта и, следовательно, «возможно» лишь на
логических основаниях. Скорее они будут рассматривать любое
новое предложение с оглядкой на какую-нибудь проблему или
группу проблем и судить о его статусе в качестве «возможно-
сти», исследуя, какой вклад может оно внести в «возможное ре-
шение» этих проблем. Класс «научных» возможностей, таким
обравом, гораздо уже, чем класс философских, или «логических»,
возможностей. Научные возможности — это всегда «возможные
способы решения таких-то и таких-то проблем»; в контексте
дискуссий ймплицитно подразумевается, на какие специфические
проблемы нацелены внесенные предложения и каким образом
предложенные новации помогут их решить. Если это минималь-
ное условие не удовлетворяется, то подобная новация, даже
если она формально непротиворечива, не способна претендовать
даже на экспериментальный статус «возможности»
На практике этот минимум условий может быть удовлетворен
многими различными способами, в зависимости от характера рас-
сматриваемых проблем. Действительно, можно было бы составить
список, включающий по крайней мере пятнадцать основных типов
концептуальных новаций, каждая из которых имеет форму под-
линно научной «возможности». В области теории, во всяком слу-
чае, любую проблему каждого из пяти основных типов, обсуждав-
шихся в предыдущей главе, можно решить тремя альтернативными
1 См., например, доклад: Shapere D. Plausibility and Justification in
the Development of Science, прочитанный для Американской философской
ассоциации (восточная секция) в декабре 1965 г. и напечатанный в: «Jour-
nal of Philosophy», 1966, 63; № 20, 611—620.
209
способами: либо уточнением нашей терминологии, либо вве-
дением новых методик изображения, либо изменением критериев
идентификации в тех случаях, к которым применимы находящие-
ся в обращении методики. Кроме того, история научной мысли со-
держит примеры, позволяющие проиллюстрировать концептуаль-
ные новации, принадлежащие к большинству, если не ко всем, из
этих пятнадцати основных типов. Во всяком случае, эти пятнад-
цать основных форм — только начало. В действительности кон-
цептуальные проблемы редко возникают только на одном уровне,
а концептуальные изменения обычно воздействуют не только на
один аспект находящихся в обращении понятий. Многие типичные
примеры, взятые из реальной жизни (например, концептуальные
новации, которые привели к созданию молекулярной биологии),
оказываются весьма сложными. Часто они дают и более точное
объяснение старых явлений, и первое объяснение новых, влекут
за собой нерест ройку концептуальных границ — как внутридис-
цтшлпиарных, так и между смежными дисциплинами; а, кроме
того, требуют модификации всех трех аспектов понятий, о кото-
рых идет речь, то есть и модификации терминологии, и способов
изображения, и эмпирических критериев применимости.
Для наших целей достаточно того, что серьезная концептуаль-
ная «возможность» с необходимостью обещает дать узнаваемую
процедуру для решения какой-либо нерешенной теоретической
проблемы. Л теперь от интеллектуальных условий мы можем об-
ратиться к профессиональным, которые также необходимы для
введения настоящих «вариантов». Притом вспомним, с какой про-
блемой в этом же самом вопросе столкнулся Чарлз Дарвин, дока-
зывая органическую эволюцию. Затруднение Дарвина относилось
к наследованию изменений; если бы каждое новое поколение жи-
вотных и растений охватывало новые группы индивидов, обладаю-
щих совершенно независимыми друг от друга свойствами, то про-
цессу естественного отбора не над чем было бы работать. Дарви-
новские механизмы становления отдельных видов в процессе
отбора могут быть эффективными только в тех случаях, когда
изменения остаются «действительными» у достаточно длительной
последовательности поколений живых организмов, тогда естест-
венный отбор может оказать свое действие. Короче говоря, одно
только случайное изменение никогда не приведет к органической
эволюции; должно быть гарантировано объединение наследуемых
изменений.
При отсутствии генетики как сложившейся науки сам Дарвин
допускал, что гипотеза о существовании такого объединения яв-
ляется вполне вероятной и ее правдоподобие отражает успех всей
его теории; в самом начале своей аргументации он откровенно
признал, что нуждается в этом допущении: «Если уклонения, по-
лезные для какого-нибудь организма, когда-нибудь проявляются,
то обладающие ими организмы, конечно, будут иметь всего более
щансов на сохранение в борьбе за жизнь, а в силу могучего нача-
21Q
ла наследственности они обнаружат стремление передать их по-
томству» L Как только это предположение было временно приня-
то, можно было приступать к аргументации своей теории; и ее
непротиворечивость помогла бы нам ретроспективно подтвердить
законность первоначального допущения. Аналогичная проблема
возникает и в концептуальной эволюции. Концептуальные изме-
нения в науке могут быть эффективными только там, где случай-
ные новации пе гибнут автоматически вместе с их творцами.
Конечно, нужно побуждать индивидов размышлять в соответст-
вующей области, по сами по себе их личные мысли будут иметь
столь же кратковременные последствия, что и случайные органи-
ческие изменения, если только они не соединятся друг с другом
и пе станут сырьем для коллективной эволюции. Только в этом
случае они становятся «действительными» в релевантном соеди-
нении концептуальных новообразований. Несмотря на то что
конечным, необходимым источником концептуальных изменений
является любопытство и способность к размышлениям отдельных
людей, они не приведут ни к каким результатам, если им не бу-
дут благоприятствовать другие условия. Следовательно, несмотря
на то, что «генетика» интеллектуальных новообразований па ин-
дивидуальном уровне пе может составлять большой тайпы, рас-
пространение полномасштабных концептуальных изменений в
коллективных дисциплинах зависит также от тех общественных
факторов, без которых оригинальные идеи индивидов никогда не
войдут в обращение у специалистов.
Таким образом, существование соответствующих профессио-
нальных форумов обсуждения является условием, обеспечиваю-
щим наличие настоящих концептуальных вариантов. Соответст-
венно серьезное и методическое развитие идей той или иной дис-
циплины требует, чтобы были созданы хорошие возможности для
критики и исправления этих идей. Если мы будем изучать возник-
новение «новой химической философии» в течение пятидесяти
лет (1760—1810) только в дисциплинарных терминах, то наше
внимание сможет сконцентрироваться либо на развитии количе-
ственных методов анализа, либо на трансформации идеи «срод-
ства», начиная с Джозефа Блэка и кончая Джоном Дальтоном.
Но с более широкой точки зрения это лишь малая часть более
масштабного сюжета, так как, согласно ей, считается само собой
разумеющимся, что в Англии и Швеции, Франции и Шотландии
существовали те самые группы натурфилософов, чьи споры и
были коллективным форумом для этой концептуальной конкурен-
ции. Если дисциплинарные новообразования были способны к
увеличению своей ценности, то только потому, что существовали
необходимые профессиональные форумы; интеллектуальные уст-
ремления, общие для соответствующих групп людей, формировали
1 Дарвин Ч. Происхождение видов. М. — Лч 1935, гл. IV, Естествен-
ный отбор, общий вывод, с. 228.
2М
те соображения, посредством которых судили об этих новациях \
Напротив, отсутствие подходящего форума само по себе может
стать роковым препятствием для надлежащего рассмотрения ин-
теллектуального варианта. Например, изоляция Менделя от дру-
гих ученых затруднила для них и осознание всего значения тех
проблем, которые он пытался решить, и более широкое теоретиче-
ское применение его идей 1 2. Таким образом, форум конкуренции,
в пределах которого возможна эффективная новация, требует,
чтобы каждая дисциплина была профессионально организована
таким образом, который разрешает оценивать новые идеи отдель-
ных индивидов по их отношению к коллективному набору идеа-
лов объяснения; а эти идеи могут внести свой вклад в коллектив-
ные споры только в том случае, если их авторы, в отличие от
Грегора Менделя в 60-е годы XIX века, находятся в эффектив-
ном контакте с теми профессиональными группами, о которых
идет речь.
Аналогичный круг факторов и соображений — отчасти дис-
циплинарных или интеллектуальных, отчасти профессиональных
или социальных — уместен и при рассмотрении второго из
наших вопросов, относящихся к концептуальным новациям, а
именно к вопросу о том, что в различных науках в разные пери-
оды времени включение концептуальных вариантов происходит с
неодинаковыми скоростями. Те или иные науки активно изменя-
ются либо, напротив, остаются неизменными отнюдь не в унисон
друг с другом; скорее наше внимание переключается от одной
исторической эпохи к другой. В одно десятилетие идеи динамики
могут стремительно развиваться, а идеи геологии — оставаться
относительно статичными, тогда как пятьдесят лет спустя это
соотношение может смениться па противоположное: астрофизика
может утратить импульсы к развитию именно тогда, когда разви-
тие химии начнет резко ускоряться; физиология может быть более
активной, чем анатомия, и наоборот. Действительно, время от вре-
мени некоторые полезные в научном отношении технические
приемы могут даже переживать период расцвета в таких ситуа-
циях, которые в целом неблагоприятны для научной мысли. Но
тогда в каких же терминах можно объяснить все эти различия в
скорости концептуальных новаций?
Сначала мы можем приступить к решению этого вопроса в
системно-структурных или внутренних терминах, задаваясь во-
просом, каким образом наше внимание начинает концентриро-
ваться на определенных областях науки в соответствии с харак-
1 В качестве образца ранней истории этих профессиональных групп
см.: Schofield R. Е. The Lunar Society of Birmingham. Oxford, 1963.
2 Об изоляции Менделя см., например: litis Н. Life of Mendel. Berlin,
1924; Engl, transl. 1932, а также последующие комментарии Э. Гаскинг,
Р. Фишера и др.
212
тором ее проблем, а затем перейти к рассмотрению относящихся
к делу социологических («внешних») факторов, то есть экономи-
ческих, политических и институциональных аспектов проблемной
ситуации, которые либо создают, либо уничтожают возможности
исследований в различных областях пауки. Начнем с «внутрен-
них» соображений: количество усилий, посвященных той или иной
области исследований в каждый промежуток времени, а 1акже
скорость, с какой в этой области выдвигаются новые идеи, явно
зависят от одной черты, присущей всем отраслям науки, которую
сами ученые описывают при помощи метафоры «зрелости» или
«незрелости». Проблема, которую ученые считают «созревшей»
для решения, часто разрабатывается только по этой причине;
тогда как к решению «пеназревших» вопросов соответственно бу-
дет приложено мало усилий, разве что эти вопросы будут пред-
ставлять интерес для самой жесткой критики. Наша первая за-
дача должна состоять в том, чтобы раскрыть эту метафору при
помощи более точных терминов.
В истории каждой науки бывают такие периоды, когда люди
пе могут удовлетворительно понять ее проблемы. Это может про-
изойти по ряду причин. Ее предмет может оказаться таким
многообразным и сложным, что пе поддается анализу, как это
было до недавнего времени в метеорологии. И напротив, может
недоставать более общих понятий, необходимых для того, чтобы
упорядочить эту область науки; так, центральные проблемы фи-
зиологии стали «зрелыми» только после того, как сложилась об-
щая система химии. Кроме того, решение спорных проблем может
потребовать таких математических методов, инструментов и экспе-
риментальной техники, которых еще не существует, и т. д.
По одной (или нескольким) из этих причин теоретические про-
блемы науки могут оказаться без всяких перспектив превратить-
ся в действительные направления исследований и, таким обра-
зом, являются «незрелыми». Напротив, может наступить такой
момент— причем совершенно неожиданно,— когда все эти пре-
пятствия можно преодолеть. Ниспровергающим фактором может
быть появление какого-нибудь нового инструмента (например,
электронного микроскопа) или нового математического метода
(например, дифференциального исчисления), перенос общих идей
из другой, более фундаментальной науки (как это было в разви-
тии биохимии), признание новых принципов классификации (по-
годы, болезней, растений), а также какая-либо комбинация этих
факторов. До этого момента усилия, вложенные в науку, прино-
сят непропорционально малые результаты; но как только он на-
ступает, последствия могут быть весьма драматическими. Напри-
мер, неведомый ранее союз рентгеноскопического анализа кри-
сталлов с генетикой микроорганизмов и химией нуклеиновых кис-
лот сделал возможным создание молекулярной биологии ’, спустя
1 См., например: Phage and the Origins of Molecular Biology, ed.
J. Cairns et al. Cold Spring Harbor. N. Y., 1956.
213
несколько лет, даже месяцев, возникла новая научная дисципли-
на, миссия которой заключалась в том, чтобы «культивировать»
новые теоретические возможности и «пожинать» выращенный при
этом «урожай». Вместо того чтобы сталкиваться с проблемами,
которые опи никак не могли понять, учепые теперь могли ста-
вить и решать точные, эксплицитно выраженные вопросы. Один
за другим возникали все новые и новые четкие вопросы, подле-
жащие исследованию, и вскоре в этой области науки утвердились
устойчивые принципы объяснения.
Отметим следующее обстоятельство: когда описываешь рас-
цвет науки, то, естественно, па ум приходят сельскохозяйствен-
ные термины, как, например, «плоды» и «урожай», «культивиро-
вание» и «жатва». Учепые, как п фермеры, озабочены тем, что-
бы пе тратить свою энергию па невыгодные операции; опи, как и
фермеры, тщательно выбирают время для того, чтобы приурочить
свои действия к безотлагательному выполнению имеющихся за-
дач. Таким образом, проблемы, которые обещают скорейшее раз-
решение, гораздо быстрее привлекут их внимание, чем те, которые
не дают надежды на успех. Питер Медавар поразительно выразил
этот момент. В то время как политика есть «искусство возможно-
го», говорит он, наука есть «искусство разрешимого» !. Известная
неясность ума вводит некоторых очень умных ученых в искуше-
ние тратить слишком много времени на бесплодные размышления
над излишне сложными проблемами, которые не поддаются не-
медленному решению. (По словам самого Медавара, теоретиче-
ская эмбриология находилась в этом расстроенном состоянии на-
чиная с 20-х годов и вплоть до 50-х годов XX века 1 2.) Напротив,
единственным безошибочным тестом здравомыслия ученого явля-
ется его способность определять, какие проблемы тотчас же воз-
наградят его усилия, и умение изобретать такие методы иссле-
дования, которые позволят элегантно и быстро «собрать» дейст-
вительный интеллектуальный «урожай».
Это не значит, что те научные задачи, которые привлекают
наибольшее внимание, являются самыми легкими. В какой-то
определенный момент дальнейшее исследование может потерять
всякий интерес, потому что станет слишком рутинным, ибо может
возникнуть такой же «избыток» наблюдении и вычислений, как и
избыток словопрений! Помимо проблем, которые совершенно не
поддаются решению, ученые менее всего интересуются также та-
кими проблемами, сама простота которых означает, что их раз-
решение почти ничего нового не внесет в концептуальном отно-
шении. Теоретических оснований, например, для измерения
удельной теплоемкости еще одного редкоземельного элемента или
выделения гликогена у еще одного грызуна обычно бывает не-
много. Проявлением умения правильно разбираться в научных
1 Med a war Р. В. The Art of the Soluble. L., 1967.
2 Там же, с. 106 и далее.
214
проблемах тем самым часто оказывается на деле понимание того,
каким образом какое-либо абсолютно точное и специфическое
(«трудное») исследование может в результате привести к новому
концептуальному пониманию.
В таком случае при прочих равных условиях ученые распре-
деляли бы свои усилия между различными областями исследова-
ния пропорционально своим оценкам перспективной интеллекту-
альной отдачи каждой из них. Однако здесь, как и везде, прочие
условия никогда пе бывают абсолютно равными; именно в этом
пункте следует принять во внимание внешние, или социологиче-
ские, факторы. В каждую историческую эпоху культурные навы-
ки и социальные институты воздействуют на интеллектуальное
развитие двумя противоположными способами: они обеспечивают
позитивные побуждения и возможности для интеллектуальных
новаций, но онп же ставят преграды и налагают запреты на ин-
теллектуальную ересь. Рассмотрим вначале положительные фак-
торы. Выражением чьего-либо любопытства по отношению к
внешнему миру является «чистая», или несущая в себе свое соб-
ственное оправдание, деятельность, которая немедленно выплачи-
вает очень небольшие дивиденды, помимо интеллектуального
удовлетворения, от более глубокого понимания; поэтому само по
себе оно редко дано живому человеку. В результате естествозна-
ние, если применять экономические термины, обычно было «пен-
сионером», который в финансовом отношении зависит от своих
взаимосвязей с другими видами деятельности и институтами.
Если вглядываться в прошлое с точки зрения нашего, XX столе-
тия, то может показаться, что развитие естествознания было од-
ним из решающих завоевании цивилизации; однако это очень со-
временный подход. Если рассуждать социологически, то научная
деятельность вплоть до XX века была немногим более чем «эпи-
феноменом» н могла оказывать лишь незначительное воздействие
на установившиеся образцы других видов социальной деятельно-
сти и, институтов. Когда мы задаемся вопросом, почему в каждой
определенной культуре, нации или эпохе различные естественные
науки развивались различными темпами, то при этом стоит рас-
смотреть, благодаря каким иным видам деятельности они включи-
лись в этот контекст. Какие другие институты — намеренно или
непредумышленно — обеспечили возможности, которые затем
были использованы одержимыми интеллектуальным любопыт-
ством людьми для того, чтобы предаться научным исследованиям?
В другие времена, в другие культурные эпохи люди могли
свободно критиковать общепринятые идеи и «изменять отношение
своего разума» к природе только в качестве побочного продукта
иных видов профессиональной деятельности, которые приносили
гораздо больше прямых полезных результатов в социальных, по-
литических и экономических терминах. Непосредственно это при-
водило к изменению стиля социальных институтов, в общем пла-
це — к изменению примерных возможностей научного мышления,
«5
а в более отдаленной перспективе — к изменению относительных
скоростей развития самих наук. Правда, в течение последних двух
тысячелетий лишь очень немногие фундаментальные проблемы
настолько завладели людьми, что ученые пе нуждались во внеш-
них поводах для размышлений над ними; однако повсеместно они
прилагали свои усилия к таким предметам, которые имели какой-
нибудь внешний интерес или поддержку. В этом отношении, сле-
довательно, скорости интеллектуальных новаций в различных ди-
сциплинах приблизительно отражали не только степень их «зре-
лости», но и примерные возможности и социальный заказ. Одним
пз крайних случаев является описанная Джорджем Гейлордом
Симпсоном «экзобиология» — наука о том, есть ли жизнь вне
Земли,— такая область исследований, которая избегает всех изве-
стных вопросов и существует исключительно благодаря покрови-
тельственному к себе отношению Г Несмотря на то что в прош-
лом можно проследить постоянные спекулятивные дискуссии о
внеземной жизни, начиная по крайней мере с Николая Кузанско-
го и включая Канта и Бюффона, Фонтенеля и Кеплера, вопрос
этот до сих пор еще пе обрел внутренней «зрелости», необходи-
мой для научного исследования, и ни один внешний институт не
усмотрел какого-нибудь особенного преимущества в том, чтобы его
субсидировать1 2. Однако в последнее десятилетие Национальное
управление по аэронавтике и космосу (НАСА) при правительстве
Соединенных Штатов обратило внимание на то, что экзобпологпя
потенциально имеет отношение к проблемам космических путе-
шествий; так благодаря щедрости НАСА возникли институты и
программы исследований по экзобиологии 3. Конечно, до тех пор,
пока кто-нибудь действительно не найдет бесспорно впеземные
организмы, новая дисциплина не может надеяться на большой
прогресс, поскольку пока что нет никакого способа проверить,
какие из ее концептуальных новообразований хорошо обоснованы,
Между тем было выдвинуто все же много новых предположений.
Щедрое покровительство по крайней мере питало интеллектуаль-
ное воображение, и в предполагаемой науке — экзобиоло-
гии — обнаружился такой бурный взрыв концептуальных но-
1 Simpson G. G. The Non-Prevalence of Humanoid. — In: This View
of Life. N. Y., 1964, p. 253 ff.
2 См., например: Buffon G.-L. Les Epoques de la Nature, 1778; Кант И.
Всеобщая естественная история и теория неба. — В: Кант И. Соч., т. 1,
М., 1963; Фонтенель Б. Рассуждения о множественности миров. —
В: Фонтенель Б. Рассуждения о религии, природе и разуме. М., 1979,
и т. д. вплоть до Николая из Кузы и его «Об ученом незнании». — В: Ку-
занский Н. Соч., т. 1. М., 1979, кн. II, гл. 12 (середина XV века).
3 Конечно, это не означает, что существование органических веществ
вне атмосферы Земли не заслуживает научного исследования; действи-
тельно, на последнем заседании Международного астрономического союза
(1970) было сделано несколько интригующих докладов о микроскопических
наблюдениях, указывающих па присутствие в межзвездных облаках не-
ожиданно сложных молекул.
216
о о I
нации, какой только допускает вся глуопна нашего невежества .
Другим крайним случаем является имеющее иногда место
возникновение фундаментальных новаций из совершенно удиви-
тельных источников. Несмотря па весь свой институциональный
консерватизм, теократическое общество древнего Вавилона обес-
печило нишу для больших достижений в области астрономии —
столь значительных, что вся последующая физика и астрономия
отчасти строились на основе вавилонских астрономических вычис-
лений. В Вавилоне, как и в его дочерних исламских обществен-
ных системах, официальный календарь поддерживался и контро-
лировался государственными и церковными астрономами, которые
в течение нескольких столетий изобретали все более точные про-
цедуры расчетов, необходимых для предсказания основных небес-
ных движений. Так как планеты считались божествами, то пре-
дусмотрительность и благочестие в равной мере превращали
сохранность записей о движении планет и развитие методик аст-
рономических предсказаний в дело общенационального значения.
В своей повседневной работе вавилонские астрономы (например,
Кидипну), по-видимому, почти не обращали внимания на пред-
полагаемый божественный характер небесных тел, и их труды
отличались тем общим для всех интеллектуалов-ремеслешшков
духом, каким, по выражению Роберта Оппенгеймера, является
дух «технической свежести». Но существование подобных профес-
сиональных подходов было лишь одним из условий, необходимых
для выживания их работ. То обстоятельство, что Кидинну и его
коллеги имели возможность решать свои технические проблемы
по своему усмотрению, вообще было косвенным результатом со-
циальной политики Вавилонского государства, которое признава-
ло социальную необходимость специалистов по календарю, или
«ежемесячных предсказателей». Другие культуры того времени
не обладали аналогичными институтами, и достижения вавилон-
ских астрономов в области вычислений не имели поэтому себе
равных 1 2.
Обращаясь к более типичным этапам развития науки, мы
снова можем иметь в виду социальный контекст научных иссле-
дований. Например, в средневековом исламе естественные науки
Древней Греции продолжали жить и развиваться; но люди, ответ-
ственные за это, зарабатывали себе на жизнь другими способами,
по преимуществу в качестве придворных врачей. В Лондоне
XVII века некоторые из ученых, основавших Королевское обще-
ство, обладали независимыми средствами, а другие получали
свои профессиональные доходы где-нибудь еще. Денежные сред-
ства для самого общества выплачивались из бюджета короля
1 Советские исследования в области космической биологии имеют
свою историю и связаны с исследованиями Г. А. Тихова, И. С. Шклов-
ского, В. А. Амбарцумяна и др. — Ред.
2 Neugebauer О. The Exact Sciences in Antiquity. Prinston, 1959.
Ch. 2, 4 and 5.
217
Карла II секретарем адмиралтейства, то есть Сэмюэлом Пепай-
сом, человеком, который вел дневник и был также первым секре-
тарем Королевского общества. (Так, научная любознательность
нашла своего казначея в военном флоте благодаря почти тому же
кругу обстоятельств, которые превратили управление военно-мор-
ских исследований Соединенных Штатов в главную опору акаде-
мической науки Америки 50-х годов XX века.) В Англии XVIII
века образованные деятели церкви — как англиканской (например
Стивен Хэйле), так и диссидентской (например, Джозеф
Пристли) — были довольно энергичными и располагали достаточ-
ными ресурсами, чтобы заниматься наукой в качестве побочной
деятельности. Во Франции XIX века физиология была побочным
продуктом медицины, в Германии ее поддерживало высшее обра-
зование ’, ит. д. В этом отношении ПАСА является только по-
следним членом в длинной последовательности институтов, обес-
печивающих людям с научным складом ума внешние поводы для
того, чтобы они могли удовлетворять свое интеллектуальное лю-
бопытство.
И все же не следует преувеличивать воздействие этих соци-
альных факторов. Обычно стиль интеллектуальных новаций лишь
приблизительно отражает характер социального контекста. Не-
смотря на то что Авиценна зарабатывал на жизнь благодаря ме-
дицинской практике, его интеллектуальные интересы были гораз-
до более широкими, тогда как преобладающий интерес Стивена
Хэйлса к химии испарения (которую он называл растительной
статикой) лишь косвенно связан с его обязанностями деятеля
англиканской церкви. Конечно, покровительство лишь в редких
случаях не приносило хотя бы случайной пользы. Королевское
общество благополучно возвратило свой долг английскому флоту,
содействовав усовершенствованию корабельных хронометров и мо-
реплавания, а ученые деятели церкви в Англии XVIII века пола-
гали — справедливо или нет,— что их научная работа с таким
же успехом вносила свой вклад и в религиозное просвещение.
В этом пункте мы можем расширить наши проблемы, включив
в них также и вопрос об абсолютной скорости распространения
научных новообразований в целом. Подобно тому как характер
существующих социальных институтов создает или сдерживает
возможности исследования в различных пауках, точно так же он
может помочь определить, существуют ли вообще возможности
для новаций в науке. Четко обозначившаяся научная дисципли-
на требует общей точки зрения, связанной с общими целями и
идеалами объяснения; однако люди едва ли поставят такую об-
щую точку зрения во главу угла, если только они уже не подго-
товлены к тому, чтобы допустить, что их нынешние понятия дей-
1 Ben-David J. Scientific Productivity and Academic Organisation
in Nineteenth-Century Medicine. — «American Sociological Review», 1960, 25,
828—843.
218
ствительно оставляют желать лучшего. Такая позиция «коллек-
тивной скромности» существовала лишь в очень немногих циви-
лизациях, на очень немногих этапах человеческой истории.
Вопрос состоит в том, какие условия делают такую позицию воз-
можной \
Начнем снова с крайнего случая. В сделанном Джозефом
Нидхэмом обзоре науки и цивилизации в Китае обращено при-
стальное внимание па вопрос о том, почему китайская цивилиза-
ция, несмотря па свое длительное превосходство в социальной
организации, технологии и прикладных искусствах, тем не менее
достигла сравнительно скромных для себя результатов в области
чистой науки1 2. В своем практическом господстве над природны-
ми процессами и веществами — будь то фарфор, лаки и шелк,
или инструменты и машины — древние китайцы превосходили ев-
ропейских ремесленников и инженеров, а впоследствии стали их
учителями. Даже в практической астрономии разработанные ими
водяные часы, предназначенные для контроля над наблюдениями
небесных явлений, не имели себе равных па Западе; в то же вре-
мя на чисто эмпирическом уровне древние китайцы обладали
энциклопедическими знаниями о звездах и планетах, например о
сверхновой звезде в созвездии Рака в 1154 году и. э.3 Однако по
западным стандартам астрономические понятия китайцев обла-
дали любопытной невосприимчивостью к воздействию их собствен-
ных наблюдений. По словам Нидхэма, китайская наука никогда
не имела своего Галилея; астрономы Древнего Китая никогда не
умели эффективно критиковать свои идеи относительно небесных
тел в свете своих собственных эмпирических знаний. Это ни в
коем случае не' значит, что им пе удалось осознать бесспорное
теоретическое значение их наблюдений из-за тупоумия или недо-
статка логики, нетерпения или сверхпрагматизма. Скорее это оз-
начает, что они вообще пн когда не формулировали эксплицитной
программы для астрофизических теорий. Если китайцы, так ска-
зать, никогда пе пришли к доктринам Галилея, то только потому,
что они никогда даже не осознавали его проблем; именно поэтому
в Древнем Китае не получила никакого развития астрономиче-
ская традиция в планетной теории, сравнимая с той традицией,
. которую Коперник и Галилей унаследовали от Евдокса, Птолемея
и Буридана.
Следовательно, наш дальнейший вопрос заключается в том,
почему в Китае астрофизика никогда не возникала в качестве
самостоятельной дисциплины? Нидхэм снова подразумевает ответ
на двух различных уровнях — отчасти на интеллектуальном,
1 Ср.: То ulmin S. Intellectual Values and the Future. — In: Knowledge
among Men, ed. P. H. Oeser. N. Y., 1966.
2 Needham J. Science and Civilisation in China, Vol. III. Cambridge,
Engl., 1959, sec. 20 and Vol. IV. 1965, sec. 27(a) (3).
3 Cp.: Needham J. et al. Heavenly Clockwork. Cambridge, Engl., 1960,
Ch. IX, об астрономическом использовании водяных часов в Древнем Китае.
219
отчасти на социальном. На интеллектуальном уровне он напоми-
нает, что основанием западной астрономии был рациональный,
абстрактный подход к геометрии, который возник в Древней Гре-
ции. От Гераклита и Платона до Кеплера доминирующей теоре-
тической проблемой астрономии была проблема изобретения фор-
мальной геометрической модели известных движений планет.
В Китае, напротив, даже наука геометрия никогда не достигла
того независимого теоретического статуса, каким она обладала в
Древней Греции; она осталась там прагматическим, эмпирическим
предметом — собранием формул, полезных для обзора, а не в ка-
честве логического каркаса абстрактных теорем. Таким образом,
на «внутренний» вопрос: «Почему Китай никогда не имел своего
Галилея?» следует ответ: «Потому что он никогда не имел своего
Евклида».
И все же вопрос вряд ли исчерпывается этим. Если мы озада-
чены тем, что китайцы никогда пе имели своего Галилея, то не
будем ли мы еще бол мне озадачены тем, что у них никогда не
было своего Евклида? Соответственно здесь следует принять во
внимание некоторые более широкие социальные соображения. Ибо
концептуальная генеалогия интеллектуальной дисциплины долж-
на включиться в человеческую генеалогию образования или науч-
ной специализации, и тогда вопрос Нидхэма можно обобщить,
выразив его следующим образом: «Почему китайцы не создали
ни самостоятельной дисциплины — абстрактной натурфилосо-
фии,— ни самостоятельной профессии — чистых натурфилосо-
фов?» При такой переформулировке внимание в его аргументации
будет сосредоточено именно на социологических элементах. Пре-
восходство китайцев в технологии было достижением не правящей
элиты, интеллектуальное влияние которой было преобладающим,
а скорее ремесленников и умельцев, которые принадлежали к
второстепенным слоям общества, исполнителям, и часто были не-
грамотными. Если императоры и считали себя философами на
троне, то цели их были скорее конфуцианскими, а не платони-
стскпми. Опп считали себя пе интеллектуальными новаторами, не
тем более космологами, а блюстителями порядка в земных делах;
для выполнения этой миссии еретические размышления о мате-
матической астрономии были совершенно бесполезны. Таким об-
разом, вместо того чтобы приветствовать новые концепции как
признак интеллектуальной силы, они относились к ним подозри-
тельно. Социальный консерватизм сочетался с идеологическим
консерватизмом, и каждый раз возникновение нешаблонных идей
о природе заставляло выдающихся и влиятельных людей сожалеть
об испорченности общественного мнения. Если люди, формиро-
вавшие общественное мнение в Древнем Китае, занимали такую
позицию, то едва ли можно было ожидать, чтобы институты, не-
обходимые для эффективного развития науки, процветали.
В противоположность этому античные греки не только поло-
жили начало концептуальным традициям логики и философии,
220
математики и естествознания, но также — что было даже гораз-
до важнее — заложили те институциональные традиции, без ко-
торых эти дисциплины никогда пе смогли бы стать тем, чем они
стали. В древности терпимость к таким независимым мыслителям,
как представители милетской школы или члены Академии Плато-
на, требовала большой интеллектуальной уверенности в себе; и
все же потребовалась еще большая смелость для того, чтобы, на-
блюдая, какое влияние эти школы оказывают на молодых людей,
принадлежащих к формирующей общественное мнение элите, тем
не менее удержаться от искушения подавить их. Конечно, эта
смелость и самоуверенность в Афинах 1Увека были пе более уни-
версальны, чем в Риме XVII века или в сверхдержавах XX столе-
тия. Судьбы Анаксагора и Сократа напоминают нам о том, что
даже в классической Греции инакомыслие легко путали с ересью,
а свободные размышления — с опасными мыслями. Однако
Академия просуществовала достаточно долго, чтобы доказать цен-
ность «академической свободы» п продемонстрировать, что интел-
лектуальное новаторство можно поощрять — даже институцио-
нально — без того, чтобы оно превратилось в постоянную опас-
ность для церкви или государства L Если бы западной цивили-
зации не удалось последовать этому примеру Афин, то, вероятнее
всего, она развивалась бы точно так же, как исламская или ки-
тайская цивилизация. Предоставленная самой себе, христианская
Европа вряд ли создала бы тот социальный и институциональный
строй/ который требовался для того, чтобы научное творчество и
концептуальное новаторство прочно переплелись с духовным и
общественным производством. Вместо этого Европа обнаружила
бы ту же самую консервативную реакцию, которая начиная с
эпохи аль-Газалп подчинила науку теологии в исламском мире.
Подведем итоги: лишь изредка существовал широкий круг
условий, в которых благодаря интеллектуальному любопытству
людей могла возникнуть паука в собственном смысле слова, то
есть непрерывная дисциплинарная и вместе с тем профессио-
нальная традиция критически регулируемых размышлений о при-
роде. Если брать человеческую историю в целом, то преследова-
ние ересей, или интеллектуальный конформизм, было правилом,
а терпимость к свободному концептуальному новаторству — иск-
лючением. Политические и церковные авторитеты редко получали
удовольствие от того, что люди исследуют интеллектуальные сы-
новы своего концептуального наследства вполне свободно и кри-
тически, исходя из идеологических опасений, что тем самым мо-
жет быть поставлена под угрозу сохранность этого наследства.
Мы находим, что аутентичные научные традиции и институты
1 Афинская Академия фактически просуществовала до 529 г. н. э.,
когда она была распущена императором Юстинианом под типично полити-
ческим предлогом, будто бы она была «последним оплотом бесплодного
язычества». См.: Vasiliev A. A. History of the Bysantine Empire. Madison,
1952, p. 150.
221
возникают — впервые или повторно — только там, где время от
времени достигается это хрупкое доверие. Только там мы видим
появление — впервые или повторно — разделяемых всеми интел-
лектуальных идеалов и институтов коллективной научной профес-
сии; и только в таком контексте мы наблюдаем становление —
впервые или повторно—главных общественных установок — кон-
цептуальной скромности и терпимости к интеллектуальному но-
ваторству.
Итак, какой бы момент процесса концептуальной изменчиво-
сти мы ни изучали, мы обнаруживаем, что внутренние (или ин-
теллектуальные) и внешние (и ги социальные) факторы воздей-
ствуют на пего совместно, подобно двум самостоятельно
действующим фильтрам. Социальные факторы ограничивают
возможности л побудительные мотивы интеллектуального нова-
торства; руководствуясь своими собственными суждениями о тре-
бованиях существующей в данный момент интеллектуальной
ситуации, ученые распознают зрелые п незрелые области деятель-
ности. Иногда внешние потребности и внутренние ожидания совпа-
дают, как например, в современной медицине. В таком случае
совокупный результат действия обоих фильтров благоприятствует
аналогичным направлениям исследования. Иногда эти две группы
факторов могут противодействовать друг другу. Там, где все вни-
мание сосредоточено на практическом, или «целевом», исследова-
ния, даже самые многообещающие в интеллектуальном отношении
направления абстрактного исследования пе будут пользоваться
почти никакими преимуществами. В иных случаях требова-
ния, скажем, программы космических исследований могут вы-
звать отток интеллектуальных и финансовых ресурсов во внут-
ренне незрелые области, например в экзобиологию. Так или ина-
че, было установлено, что типы и количество интеллектуальных
новаций в каждой культуре и эпохе отражают совместное дейст-
вие этих двух самостоятельных фильтров; было также обнару-
жено, что удельный вес интеллектуальных новаций в любой об-
ласти нельзя объяснить полностью пи в терминах одних лишь
социальных, ни в терминах одних лишь интеллектуальных сооб-
ражений.
Можно ли что-нибудь сказать об относительном значении этих
двух фильтров? Вероятно, их соотношение можно в первом при-
ближении обобщить следующим образом: «Социальные факторы
необходимы, но решающими являются только интеллектуальные
факторы». Везде, где люди получают возможность размыш-
лять свободно, критически и организованно, они обнаруживают, что
какие-то аспекты их опыта уже созрели для того, чтобы обратить
на себя внимание мыслителей. Таким образом* интеллектуальные
соображения фокусируют ту теоретическую деятельность, кото-
рую социальные стимулы делают возможной. Далее, если инсти-
222
туциопальные, социальные или идеологические условия неблаго-
приятны, то даже самые скандальные спорные проблемы еще
долго не получат своего решения; например, не было никаких
внутренних оснований для того, чтобы переход от «Alma-
gest» Птолемея до «De Revolutionibus» Коперника растянулся
более чем на целое тысячелетие. Таким образом, абсолютное ко-
личество интеллектуальных новообразований, возникающих в топ
или иной ситуации, в первую очередь отражает их общий соци-
альный и институциональный характер и только во вторую —
специфические дисциплинарные соображения эпохи. Напротив,
распределение новаций между различными областями исследова-
ния в гораздо большей степени зависит от равновесия этих фак-
торов. Возможности и надежды имеют здесь одинаковое значение.
Если дана сотня объяснимых проблем, то ученые, конечно, обра-
тят внимание на те из них, которые пользуются более широкой
поддержкой и интересом; однако в какой-то определенный момент
они устанут от бесплодных исследований, какими бы полезными,
притягательными они ни были, как бы щедро ни финансирова-
лись h Как только мы обращаемся к процедурам отбора, дейст-
вующим в научной дисциплине, то есть изучаем те способы и
критерии, благодаря которым мы отсеиваем имеющиеся в наличии
варианты и судим о них, мы тотчас же оказываемся па другом
полюсе, где равновесие прочно склоняется в сторону «внут-
реннего». Там первичными, даже первостепенными являются тех-
нически^ дисциплинарные факторы, тогда как «внешние» соци-
альные и институциональные играют если не ничтожно малую,
то, во всяком случае, вторичную роль.
3.2. Интеллектуальный отбор
Основное философское затруднение в проблеме концептуаль-
ных изменений, как напомнило нам наше исследование «Очерка
метафизики» Коллингвуда, состоит в том, чтобы объяснить соот-
ношение «оснований» и «причин» в процессе интеллектуального
отбора. Когда мы спрашиваем, например, почему какое-нибудь
определенное концептуальное новообразование преуспело и завое-
вало себе место в науке, то сразу же представляются две
взаимоисключающих интерпретации этого «почему». Можно
спросить, какие «соображения» — математические, эмпирические,
эвристические и т. д.— были (или могли быть) выдвинуты зани-
мающимися этим учеными, чтобы оправдать те концептуальные
изменения, которые они произвели? При этой интерпретации во-
прос «почему» — это требование оснований, и ответ на него
1 Более полное обсуждение этого вопроса см.: Т о u 1 m i n S. The Evo-
lutionary Development of Natural Science. — «American Scienist», 1967. 57,
456-471.
223
должен быть дан в интеллектуальных, дисциплинарных терминах,
внутренне присущих самой науке. (В этом случае мы объясняем,
почему происходит изменение какой-либо совокупности понятий,
показывая, что благодаря этим концептуальным изменениям дис-
циплина, о которой идет речь, может «лучше делать объяснитель-
ную работу».) Но эта первая интерпретация считает само собой
разумеющимся, что изменение вообще было сделано «по тем или
иным основаниям»; тогда как довольно часто понятие может быть
вычеркнуто из круга научных или, напротив, выжить только в
модифицированной форме без того, чтобы занимающиеся этим
ученые приняли продуманное решение произвести подобное изме-
нение и тем более побеспокоились о том, чтобы в явной форме
оправдать его.
Если мы в этих случаях зададим свой вопрос о том, по каким
«соображениям» или «основаниям» было произведено изменение,
то нс получим определенного ответа. «Соображения? Вопрос о со-
ображениях здесь пе возникает. Это специфическое изменение
явилось побочным результатом действия других — внутри- и вне-
паучпых факторов». Если же мы теперь продолжим свой вопрос
и спросим, «почему» какое-нибудь определенное изменение при-
няло свою настоящую форму, то должны будем дать ему иную
интерпретацию. Теперь этот вопрос будет относиться не к тем
оправдательным основаниям, имеющимся у ученых, о которых
идет речь, а к самим ученым. Как они прекращали применять
такое-то понятие, не имея никаких специфических оправданий
для того, чтобы изъять его из своего словарного запаса? Какие
причины приводили их к этому? Неужели опи просто забывали о
нем, как это случилось, например, с размышлениями Ньютона о
волновом аспекте света? Неужели в модных учебниках просто
опускали все ссылки на него, как это произошло с понятием ква-
терниона? Не были ли с ним связаны обидные или неприятные
ассоциации более широкого, вненаучного характера, как с ньюто-
новским понятием тяготения во Франции XVIII века? Подобные
вопросы побуждают нас обратить внимание на те причины, кото-
рые так или иначе могут нарушить или расстроить «нормальный»
процесс научной инициативы.
Рассматривая концептуальные изменения в высокоразвитых
естественных науках беспристрастно, в качестве исторического
феномена, мы таким образом обнаруживаем, что они осуществля-
ются двумя противоположными способами. Иногда они делаются
сознательно и являются обдуманным шагом в коллективном ре^
шении проблем; иногда, напротив, их осуществление не связано
с этой функцией решения проблем, будучи результатом моды,
предрассудка или оплошности. Если мы зададимся вопросом о
соотношении этих двух способов объяснения и соответственно о
смысле вопроса «почему», то станет ясно, что существование ор-
ганизованной рациональной инициативы и ее «нормальная раз-
работка» сами по себе создают для доказательств некоторый
224
центр тяжести. В результате мы обычно можем считать первую,
или «рациональную», интерпретацию первичной; она показывает,
что при отсутствии другой информации концептуальные измене-
ния в научных дисциплинах предположительно осуществляются
«в свете» умственных интеллектуальных соображений; напротив,
к объяснениям второго типа обращаются на худой конец лишь
как к второстепенным: ученые как таковые обычно не имеют вы-
бора — обращать им внимание на дисциплинарные соображения
или нет. (Таким образом, мы не можем сказать: «Поскольку хи-
мики 50-х годов XIX века не были пристрастны к теории атомиз-
ма, то должны были существовать научные соображения, которые
побудили бы их принять эту теорию».) Если понятие рациональ-
ной инициативы именно таково, то вполне вероятно, что концеп-
туальные изменения производятся «на тех или иных основаниях»,
то есть в свете уместных интеллектуальных соображений; и мы
обращаемся к иной, «каузальной» возможности, то есть возмож-
ности того, что изменения могут быть следствием, например, при-
страстности или оплошности, только pis-aller (на худой конец).
Однако, устанавливая это различие, мы пи в коем случае не
имеем в виду, что граница, разделяющая эти два рода изменений,
всегда бывает четкой. Правда, есть много примеров того, что и при
обычном ходе научных изменений понятия принимались, моди-
фицировались и утрачивались по основаниям, которые в свое
время были выражены в эксплицитной форме и которые относи-
лись непосредственно к целям объяснения, существующим в соот-
ветствующей науке. Точно так же в отдельных случаях мы почти
не сомневаемся в том, что некоторые концептуальные изменения
происходили без какого-либо специфического и релевантного оп-
равдания. Но есть и промежуточные, пограничные случаи, когда
мы сначала не знаем, рассматривать ли нам концептуальные из-
менения в рациональных или каузальных терминах. Если принять
достаточно широкую точку зрения и считать науку не просто
рациональной инициативой, но рациональной инициативой в
историческом развитии, то мы действительно докажем, что такие
двусмысленные пограничные случаи не только возникают, но не-
избежны и вытекают из самой природы науки. Ибо на деле сам
рост науки постоянно обязан ставить перед нами вопрос: «Что
именно следует в этой ситуации считать «рациональным» (или
«разумным») в нашей дисциплине?» Если же ответ на этот во-
прос действительно сомнителен, то тогда будет трудно сказать,
были те или иные концептуальные изменения произведены бла-
годаря адекватному рациональному оправданию, или же они по-
просту вызваны погоней за модой, каким-то иным, неуместным в
интеллектуальном отношении фактором.
Анализируя различные формы интеллектуального отбора в
науке, мы прежде всего должны присмотреться к некоторым
8 Зак. 21
225
простым и недвусмысленным случаям. Многие концептуальные из-
менения в научных дисциплинах. принимают ту форму, которую
они имеют, просто потому, что осознанные проблемы дисциплины,
о которой идет речь, налагают на них присущие им требования.
Точнее, некоторые из вариантов, имеющихся в совокупности и
находящихся в обращении концептуальных новообразований, за-
крепляются в этой дисциплине благодаря выбору, который дела-
ется — по большей части или даже полностью — с оглядкой на
эти нерешенные проблемы. В подобных случаях отбор какого-то
одного определенного интеллектуального новообразования оправ-
дывается демонстрацией того, что он успешнее других решает
спорные концептуальные проблемы науки и таким образом уве-
личивает ее объяснительный потенциал; если это выполнено, кон-
цептуальное изменение получает тем самым вполне удовлетвори-
тельное «объяснение».
Однако, для того чтобы этот вид объяснения оказался подхо-
дящим, должно существовать общее согласие относительно спор-
ных проблем этой дисциплины и относительно того, что считать
«возрастанием объяснительного потенциала» науки. Таким обра-
зом, критерии отбора, позволяющие судить о концептуальных но-
вациях, составляют неотъемлемую часть «проблематики» науки и
в качестве таковых должны быть поняты соотносительно с ее
специфическими объяснительными целями и идеалами. С этой
точки зрения достоинства и недостатки концептуального вариан-
та непосредственно связаны с общим стилем концептуальных
проблем и модификаций, что обсуждалось в предыдущей главе;
тем самым опосредованно они связаны с интеллектуальными
идеалами и целями, общепринятыми в той дисциплине, о которой
идет речь. Например, вопрос будет решен в пользу какого-ни-
будь варианта в тех случаях, когда его принятие расширяет сфе-
ру пользующейся авторитетом процедуры объяснения настолько,
чтобы она охватила и случаи аномалий; когда он сделает возмож-
ной унификацию методов объяснения в дотоле ничем не связан-
ных между собой науках; когда он разрушит несовместимость
между понятиями специальных паук и соответствующими вне-
научными понятиями. Аналогично, предложенный вариант будет
отвергнут в тех случаях, когда его преимущество в указанных
отношениях минимально или оно перевешивается другими недо-
статками, от которых свободны находящиеся в обращении поня-
тия; когда какое-нибудь соперничающее с пим новообразование
имеет гораздо большие дисциплинарные преимущества; когда по-
следствия его применения вне науки не обременят нас новыми
мучительными парадоксами.
Так или иначе, при интеллектуальной оценке концептуальных
вариантов в научной дисциплине, обладающей сложной структу-
рой, нужно выделить три момента.
(1) Подобные оценки — это всегда вопрос сравнения. Опера-
циональные проблемы никогда не имеют ни формы вопроса: «Яв-
226
ляется ли это понятие единственно „обоснованным0 либо „необос-
нованным0?», ни формы вопроса: «„Истинно0 или „ложно0 это
понятие?» В отличие от этого операциональная форма такова:
«Если имеются и совокупность находящихся в обращении поня-
тий, и их варианты, то не усовершенствует ли именно этот кон-
цептуальный вариант наш объяснительный потенциал в большей
степени, чем его соперники?» А так как функция понятий состо-
ит не в том, чтобы быть истинными или ложными, а в том, чтобы
быть релевантными и применимыми, то соответственно функция
концептуальных новообразований состоит в том, чтобы их «реле-
вантность» была выше, чтобы опи были более точными, более
подробными II «применялись» более широко, вис зависимости от
условий. Конечно, все эти общие сравнения каждый раз должны
подробно расшифровываться заново через поочередное соотнесе-
ние их со специфическими объяснительными целями каждой но-
вой дисциплины. В одной области «лучше делать объяснительную
работу» может означать создание таксономии, которая является
одновременно и более всеобъемлющей, и более изящной, и боль-
ше разъясняющей в историческом плане; в другой — это может
означать изобретение графических или математических методов,
которые можно использовать для того, чтобы соединить поддаю-
щиеся количественной обработке величины более точно и в более
широких классах явлений; в третьей — это может означать новое
упорядочение общих отношений между эмпирическими перемен-
ными в универсальной, абстрактной математической системе или
же выяснение того, каким образом различные комбинации меха-
низмов и процессов, вполне приемлемых, например, в терминах
биохимии, в результате обнаруживают ту же самую форму, что и
явления генетики.
(2) Когда мы решаем, дает ли нам тот или иной концепту-
альный вариант возможность «лучше делать объяснительную ра-
боту», то во всех подобных случаях паши стандарты являются
неформальными и выражают общепринятые в настоящее время
идеалы, например биохимии как таковой или атомной физики
как таковой. Поскольку о достоинствах (или «доказательности»)
альтернативных гипотез или предложений можно судить при по-
мощи формальных «сигнификативных тестов» и «исчисления ве-
роятности», постольку до тех пор, пока мы остаемся в сфере
действия пользующихся авторитетом семейств понятий, относи-
тельные достоинства концептуальных новообразований ставят
спорные вопросы совсем иного рода. Они пе основываются на от-
ношениях между предложениями, сформулированными в преде-
лах какой-нибудь одной научной теории или в терминах, выве-
денных из нее; вместо этого их следует характеризовать при по-
мощи высказываний, относящихся к соперничающим теориям,
точнее, при помощи высказываний о том, каковы соответствую-
щие способы, благодаря которым исключающие друг друга теоре-
8*
227
тические изменения могут помочь нам осуществить надлежащие
интеллектуальные цели той науки, о которой идет речь.
(3) О достоинствах того или иного концептуального варианта
лишь изредка можно что-либо утверждать или судить в простых
терминах. Только в редких случаях концептуальные проблемы и
концептуальные варианты хорошо сочетаются друг с другом.
Даже там, где концептуальное изменение предлагается с учетом
какого-нибудь одного недостатка текущего репертуара объяснений,
его последствия чаще всего выходят за пределы первоначальной
цели. В процессе решения той специфической проблемы, для ко-
торой оно было предназначено, возникнут побочные интеллекту-
альные результаты, которые часто гораздо лучше свидетельст-
вуют в пользу или против нововведения, чем заранее обдуман-
ные последствия. Регулируя концептуальные отношения теорий
электричества и магнетизма, Максвелл почти непреднамеренно
создал теорию излучения и радиоволн, охватывающую всю ныне
существующую физическую оптику, и этот побочный результат
его работы гораздо убедительнее свидетельствовал в его пользу,
чем произведенная им формальная интеграция теорий электриче-
ства и магнетизма.
Типично, далее, что задача оценки концептуальных изменений
в науке, как правило, требует, чтобы мы рассматривали по край-
ней мере полдюжины возможных импликаций, а для этого требу-
ется развивать нашу способность судить здраво в двух независи-
мых друг от друга отношениях. Помимо того что релевантные со-
ображения часто бывают несоизмеримыми, помимо того что нам
может не хватать какого-либо простого показателя для сравнения
относительной «ценности», скажем правильности, широты и сте-
пени интеграции,— помимо всего этого наши решения часто вле-
кут за собой поразительное равновесие между процветанием чего-
то одного и утратой другого. Признанные дисциплинарные кри-
терии выбора всегда множественны, а иногда даже направлены в
противоположные стороны; так что предложенное теоретическое
изменение может быть в высшей степени привлекательным в од-
ном отношении и ретроградным — в другом. (В какой мере можем
мы пожертвовать последовательностью или красотой ради незна-
чительного усовершенствования способности к предсказанию?
Как выигрыш в простоте в одном отношении может компенсиро-
вать нам утрату простоты в другом отношении?) Формально го-
воря, было бы, вне всякого сомнения, совсем неплохо, если бы
естественные науки можно было изложить не только эксплицит-
но, с помощью «пропозициональных систем», но и с помощью фор-
мальных систем, которые в одно и то же время обладали бы всеми
возможными объяснительными достоинствами, то есть одновре-
менно были бы универсально применимыми и абсолютно после-
довательными, точными и исчерпывающими в своих предсказа-
ниях, обладали бы удобной системой символов и были бы интуи-
тивно простыми, располагали бы изящным математическим ап-
228
паратом п простой системой счисления... Однако на деле ученые
обычно сталкиваются с такими ситуациями, когда они должны
выбирать между этими достоинствами. Они должны сделать вы-
бор либо в пользу немодифицированной дисциплины, процедуры
которой, скажем, интуитивно просты и достаточно предсказатель-
ны, хотя и не вполне логически связаны и последовательны;
либо, напротив, в пользу модифицированной дисциплины, про-
цедуры которой, скажем, лучше интегрированы и логически бо-
лее связаны, но зато интуитивно не ясны и предсказательны
лишь в очень ограниченной области.
Первоначально, например, коперниканское описание плане-
тарных орбит, для того чтобы выработать схему, которая физиче-
ски была бы более связной и последовательной, чем любое опи-
сание, основанное па птолемеевских принципах неподвижности
Земли, пользовалось различными комбинациями кругов, сконцен-
трированных вокруг неподвижного Солнца. Однако это усовер-
шенствование обошлось ему очень дорого. Помимо того обстоя-
тельства, что идея движущейся Земли не воспринималась интуи-
тивно, первоначальные коперниканские конструкции имели также
и технические недостатки; они были ио существу далеко не столь
простыми, как лучшие из находившихся тогда в обращении пто-
лемеевских конструкций, п гораздо менее точными в экстремаль-
ных случаях. В действительности вычислительные преимущества
коперниканского подхода могли быть реализованы только после
того, как Кеплер заменил традиционное изображение планетар-
ных орбит в виде кругов эллиптическими конструкциями L
В течение по крайней мере семидесяти пяти лет аргументы в
пользу обеих соперничающих астрономических систем настолько
тонко уравновешивали друг друга, что колебания таких людей,
как Тихо Браге и Бэкон, были пе столь уж неразумными. Подоб-
ным же образом обстояло дело с волновой теорией света, которая
была выдвинута Юнгом и Френелем в самом начале XIX века:
корпускулярная теория ортодоксальных физиков-ньютонианцев
обладала некоторыми реальными достоинствами, которыми нужно
было пожертвовать в тех случаях, когда кто-либо хотел принять
новую волновую теорию. (Потоки световых частиц, движущихся
с высокой скоростью и не имеющих веса, конечно же, отбрасы-
вали резкие тени; тогда как многие самые элементарные факты
относительно света и тени могли быть согласованы с волновой
теорией лишь при помощи в высшей степени усложненных аргу-
ментов.) Таким образом, поразительные достоинства волновой
теории уравновешивались подлинными потерями; прошло не-
сколько лет, прежде чем это равновесие было убедительно наруше-
но в пользу ее преимуществ.
1 В качестве полезного введения в обширную литературу, посвящен-
ную Копернику п Кеплеру, можно рекомендовать книгу: Kuhn Т. S. The
Copernican Revolution, па которую мы уже ссылались, а для более широкого
читателя: Кое stler A. The Watershed. Garden City, 1960.
229
К тому же даже в простых ситуациях задача выбора между
различными концептуальными вариантами вовлекает ученых в
сложные интеллектуальные расчеты. Любое концептуальное но-
вовведение обычно улучшает наше понимание лишь в некоторых
отношениях ,и ухудшает его в других, а заинтересованным в этом
ученым предстоит решить, когда, в каком порядке интеллекту-
альной очередности это усовершенствование будет иметь смысл.
Концептуальные проблемы возникают в научных дисциплинах
как подвижные, универсальные формы; их решение имеет множе-
ство измерений, и философы не могут позволить себе игнориро-
вать это. Именно поэтому мы тщетно будем искать какой-либо
один показатель или меру, которые во всех случаях укажут нам,
можно ли считать данное концептуальное изменение «усовершен-
ствованием» или нет. В качестве философов мы можем заострить
свое понимание различных качеств, которые иа практике вполне
уместны при оценке соперничающих вариантов, например пред-
сказателыюсти, последовательности, сферы действия, точности,
понятности и т. д., и мы всегда можем отыскать примеры, чтобы
проиллюстрировать, как определенные качественные критерии
свидетельствуют в пользу какого-либо концептуального измене-
ния. Однако какой бы критерий мы ни захотели проанализиро-
вать, всегда найдутся такие случаи, когда его нельзя применять,
и, что гораздо более типично, в каждом отдельном случае выбора
окажутся уместными некоторые несоизмеримые критерии.
Таким образом, объяснение критериев отбора в науке, данное
в исторических терминах со ссылкой на существенные интеллек-
туальные цели рассматриваемых дисциплин, приводит к совер-
шенно иным результатам по сравнению с попытками соизмерять
новые научные идеи с вечными идеалами логики. Для индуктив-
ного логика наука, обладающая сложной структурой, образует
единую систему логически связанных предложений, и, следова-
тельно, для него вполне естественно задаваться вопросом, какие
формальные признаки должна обнаруживать «правильная» систе-
ма. В нашем собственном, более историческом анализе считается,
что научные дисциплины образуют неформальные популяции ло-
гически независимых понятий; это скорее вынуждает нас поста-
вить вопрос о том, каким образом должна развиваться «плодо-
творная» научная дисциплина. С высоты своего Олимпа предста-
вители формальной логики подходят к науке любой эпохи с одной
и той же внеисторической меркой, тогда как наш более призем-
ленный анализ требует лишь того, чтобы интеллектуальный отбор,
произведенный в научной дисциплине того или иного периода
времени, был адекватен тем нерешенным проблемам, которые
тогда действительно существовали.
. Конечно, в защиту формально-логического анализа можно
сказать, что он просто представляет собой абстрактный идеал или
пожелание, утопическое представление о конечной цели, не
предлагающее никаких практических показателей, по которым
230
можно судить о достоинствах п недостатках реально существую-
щих научных понятий. Если бы только все содержание естест-
венных наук можно было представить в виде единой аксиомати-
ческой системы, которая, отличаясь всей возможной простотой и
логической последовательностью, в то же время давала бы воз-
можность делать успешные предсказания во всей области ее воз-
можного применения, включая все будущие наблюдения, то, ко-
нечно, результат был бы настолько близок к «научному совер-
шенству», насколько этого можно требовать и даже воображать!
Однако для того, чтобы подобный анализ был убедителен хотя
бы в качестве утопической мечты, конечный образ «совершенной
теории», как и «совершенного общества», в чем-то должен лучше
выполнять созидательные задачи, чем реально существующие тео-
рии и общества. Он по крайней мере должен основываться на ре-
алистическом понимании действительных целей и методов наших
понятий и институтов, а также человеческих стремлений и целей,
которым они призваны служить. Иными словами, оп должен по-
мочь нам лучше понять те цели, к которым действительно стре-
мятся люди, создавая различные образы жизни и мышления, и
те проблемы, с которыми они при этом сталкиваются. В против-
ном случае вневременная утопическая мечта — как в философии
науки,-так и в политической или социальной теории — будет об-
речена в силу своей собственной иррелевантности.
Реакцией работающих ученых, которые следят за философски-
ми дискуссиями о научной рациональности, часто бывает раздра-
жение и непонимание; они спрашивают, какое отношение все это
имеет к той естественной науке, которая, насколько известно каж-
дому из них, существует в действительности? Такую же реакцию
вызывали работы критиков-искусствоведов у французского жи-
вописца Гюстава Курбе. «Помимо всего прочего,— по слухам, го-
варивал он,— довольно трудно вообще написать картину, не гово-
ря уже о хорошей!» Курбе приводили в ярость не столько отри-
цательные оценки его картин, сколько те смешные и неуместные
основания, на которых критики строили свои суждения; по его
мнению, они обнаруживали полное неведение истинного характе-
ра стоящих перед художником задач. Честный художник стал-
кивается с таким множеством препятствий, должен примирять
между собой такое количество взаимоисключающих требований,
что вряд ли он может чувствовать что-либо, кроме неудовлетво-
ренности результатами своего труда; и ни один из тех, кто дей-
ствительно понимает, что такое живопись, не мог бы дойти до
того, чтобы предъявлять к работам художника завышенные тре-
бования критиков. Точно так же, сталкиваясь с нерешенными
научными проблемами, довольно трудно вообще придумать воз-
можный концептуальный вариант, не говоря уже о приемлемом;
и как философы, мы подвергаемся некоторым из тех же опасно-
стей, что и художественные критики. Только в том случае, если
мы постараемся полностью понять истинный характер стоящей
231
перед ученым задачи — изобрести лучшие понятия и процедуры
объяснения,— только в этом случае мы сможем с полной осве-
домленностью критиковать его достижения. Иначе наш законный
утопизм рискует выродиться в простую фантазию.
* * *
Все сказанное выше относится к простым случаям, в которых
концептуальные изменения являются прямым результатом кол-
лективной деятельности по решению проблем и которые возника-
ют в тех специальных науках, где дисциплинарные цели доста-
точно согласованы. В этих ясных случаях избирательное сохра-
нение некоторых концептуальных вариантов можно объяснить
«рационально», выявив, как удачное нововведение помогло заин-
тересованным ученым достичь своих коллективных целей. Но в
этих ясных случаях требуется, чтобы ученые, работающие в
данной дисциплине, хотя бы в достаточной мере достигли согла-
шения относительно концепций «объяснения». (Точнее, их раз-
ногласия по вопросу о том, что представляет собой «исчерпываю-
щее» решение их дисциплинарных проблем, в данный период вре-
мени должны иметь лишь второстепенное значение.) Там, где
дело обстоит именно таким образом, все люди, запятые решением
дисциплинарных проблем, могут направлять свои дисциплинар-
ные исследования в сответствии с общей интеллектуальной стра-
тегией. Эта согласованная стратегия определяет ясные критерии
отбора концептуальных вариантов; ученые будут согласны меж-
ду собой в своих суждениях о концептуальных новациях
просто потому, что это единодушие определяет для них, какие из-
менения приведут к осуществлению согласованных интеллекту-
альных целей науки в настоящий момент.
Однако далеко не все концептуальные изменения похожи на
эти, и сейчас мы должны рассмотреть исключения. Они бывают
двух различных родов. С одной стороны, есть случаи, которые
имеют отношение к отсутствию рациональности; с другой сторо-
ны, имеются случаи, в которых отражается изменение самих
критериев «рациональности». В первом ряду случаев такие фак-
торы, как консерватизм или предрассудки, недостаток профессио-
нальной сплоченности или разрыв коммуникаций, политическое
давление или явная невнимательность, могут нарушить нормаль-
ную процедуру интеллектуального отбора. В результате дисци-
плинарные достоинства какой-нибудь новой терминологии, спосо-
ба изображения или метода объяснений могут какое-то время не
учитываться, несмотря на всю свою возможную самоочевидность
(это «ясно как божий день» ’), даже в свете общепринятых
критериев и стандартов. В этих случаях научные проблемы за-
темняются соображениями, которые, согласно нынешним дисци-
1 Lawrence W. Lectures on Physiology, Zoology and the Natural Hi-
story of Man. Kaygill edition. L., 1822, p. 95.
232
плипарпым стандартам, не имеют никакого отношения к обсуж-
даемому вопросу.
В другом ряду случаев, напротив, спорные моменты по своей
внутренней сущности «туманны» (если использовать удобный
юридический термин), а поняв, каким образом историческое раз-
витие интеллектуальных дисциплин с необходимостью приводит
к возникновению этой внутренней «туманности», мы достигнем
самой сердцевины всего нашего настоящего анализа. Ибо эта
деятельность возникает непосредственно из-за стратегических
разногласий работающих в данной области ученых и, как мы
увидим, является прямым следствием того обстоятельства, что
наши научные дисциплины находятся в процессе исторических
изменений, которым подвергаются даже их самые глубокие ра-
циональные стратегии. Единство и внутренняя связность научной
дисциплины не требуют, чтобы ее интеллектуальные цели были
вечными и неизменными; они требуют только, чтобы эти цели в
достаточной мере поддерживали бы ее внутреннюю непрерыв-
ность. (Даже полувековая история атомной физики вызвала зна-
чительные изменения в ее коллективных целях, благодаря кото-
рым обозначились ее проблемы и соответственно прогрессивно
трансформировалась природа теоретических рассуждений в ней.)
Одпако, когда происходит переоценка имеющихся в настоящее
время научных стратегий, весь процесс интеллектуальных рас-
суждений, вполне естественно, приобретает новую форму. Если
имеются стратегические разногласия, то больше не будет четких
критериев отбора, по отношению к которым все те, кто профес-
сионально принимает участие в научной деятельности, в данное
время достаточно единодушны, так как теперь будут сомневаться
именно в этих критериях отбора.
Три исторических примера проиллюстрируют существенные
различия между «ясными» и «туманными» изнутри случаями
научных рассуждений.
(J) В конце XIX века программа физических исследований,
выдвинутая в заключении «Оптики» Ньютона, была в основном
выполнена, и период 1900—1914 годов был временем неопреде-
ленности. Новые концепции — теория относительности и кванто-
вая теория — упрочились лишь после 1919 года; а пока физики
искали путь вперед, находясь в нерешительности, какие новые
интеллектуальные цели они должны поставить перед собой.
Имея это в виду, стоит перечитать полемику между Максом
Планком и Эрнстом Махом, опубликованную в «Физическом жур-
нале» («Physicalische Zeitschrift») в 1910—1911 годах1.
В большом очерке, озаглавленном «Единство физической карти-
ны мира» \ Планк дал полный обзор исторического развития фи- 1 2
1 Эта полемика полностью переведена на английский в: Physical Rea-
lity, ed. S. Toulmin. N. Y., 1970, p. 1—52.
2 Pvc. перев, см.: Планк M. Единство физической картины мира.
М., 1966. — Ред.
233
вической мысли; он обнаружил в ней постоянное направление,
связанное с прогрессирующей элиминацией субъективных ощу-
щений и других «антропоцентрических» элементов и заменой их
количественными, общезначимыми величинами и теоретическими
инвариантами. Затем он подверг критике философию науки
Маха, доказывая, что сенсуализм последнего умышленно вновь
вводит в сердцевину физической теории те самые субъективные
элементы, которые основное направление физической мысли на-
стойчиво стремится элиминировать. Мах должным образом отве-
тил ему такой же добротной статьей, которая отчасти представ-
ляла собой его интеллектуальную биографию, а отчасти — новое
изложение его методологической программы. В ней он призывал
физиков избегать метафизики и основываться исключительно на
«том, что можно наблюдать», или, по его терминологии, на
«чувственных наблюдениях».
Для пас не столь важно, чьи выводы — Планка или Маха —
были лучше обоснованы. (В некоторых отношениях представители
Копенгагенской школы — хорошо это или плохо — предпочитали
стратегию, которую защищал Мах. С другой стороны, Эйнштейн,
хотя вначале его привлекала программа Маха, впоследствии пе-
решел на позиции, близкие к позициям Планка.) 1 Для наших
настоящих целей имеет значение именно стратегический харак-
тер разногласий между обоими учеными. В особенности глубоко
Планк проанализировал, как изменяются предъявляемые к объ-
яснению требования, которые исторически направляли развитие
физической теории. Согласно его представлениям, новые страте-
гии, соответствующие проблемам теоретической физики в его
время, должны сделать ее «законной наследницей» всех преды-
дущих физических исследований; следовательно, их нужно
сформулировать и о них нужно судить не в формальных и аб-
страктных терминах, а с учетом всей исторической эволюции
физики и ее идеалов «физического объяснения».
(2) Наш второй пример более современен. Его начало отно-
сится к концу 40-х годов XX века и связано с возникновением
«фаговой» группы и с тем, что теоретической биологией занялись
люди, которые первоначально занимались физикой. (Эти заня-
тия создали существенные предпосылки для развития молекуляр-
ной биологии.) 1 2 В 1944 году Эвери и его сотрудники опублико-
вали свое классическое доказательство того, что дезоксирибону-
клеиновая кислота (ДНК) является переносчиком определенного
наследственного свойства у одного из видов микроорганизмов.
1 Отношение Эйнштейна к Маху и Планку блестяще обсуждается в
очерке Джеральда Холтона, который вместе с другими очерками, посвя-
щенными Эйнштейну, скоро должен выйти в свет в приложении к: The
Graduate Journal. Austin, Texas, 1972.
2 Об этом эпизоде см. интересную статью: Fleming D. Emigre Phy-
sicists and the Biological Revolution. — In: Perspectives American History,
4968, II. 152—189. См. также очерки Г. С. Стента, Р. Олби п Л. Полппга
в; «Daeaalas», 1970, Autumn, 882—1014.
234
Но опи были скованными из-за своей чрезмерной преданности
общепринятым подходам классической гепетики. В классической
генетике — а это был один из самых результативных разделов
биологии в начале XX века — биохимические вопросы о матери-
альной природе гена считали несущественными, если не совсем
неуместными. В результате статья 1944 года была, по словам
Дональда Флеминга, «приглушенной и осторожной»: ее авторы
«с почти патологическим упорством» не желали идентифициро-
вать гены с ДНК *. Восемь лет спустя Уотсон и Крик уже не
испытывали такого смущения; по их успех не должен заслонять
от пас битву, которая тем временем происходила в биохимии.
Ибо новые представители молекулярной биологии были самоуве-
ренными наследниками нового подхода, который в период между
1944—1953 годами был разработан такими учеными, как Астбе-
ри и Дельбрюк.
Эвери и его сотрудники воплощали тот подход, который но-
вые физики-биологи полностью отвергали. Дельбрюк говорил, что
биология, какой он ее нашел, действовала «угнетающе»: обще-
принятые стили биохимической интерпретации «погрязли в
полуописательных методах без какого бы то ни было заметного
прогресса в сторону радикального физического объяснения»1 2.
И, повторяю, здесь имеет значение именно природа тех сообра-
жений, на которых основывался новый подход. Флеминг цитирует
Силарда, который подчеркивает, что новые, физически мыслящие
биологи привнесли в биологию «не какие-либо навыки, приобре-
тенные в физике, а скорее определенную установку: убеждение
(которое в те времена разделялось лишь несколькими биологами)
в том, что тайны могут быть разгаданы» 3. Этот подход, харак-
терный для Дельбрюка и для всей фаговой группы, дал им воз-
можность создать совершенно новую стратегию для решения
проблем вирусологии и гепетики, самым перспективным резуль-
татом которых была молекулярная биология Уотсона и Крика.
,(3) Третий пример взят из современной физики. Этот пред-
мет снова сталкивается с теоретическими затруднениями, которые
требуют не более изящного математического аппарата или более
изобретальных экспериментов, а скорее стратегической пере-
оценки основных целей и идеалов объяснения. Сегодня некото-
рые физики, например Джеффри Чу, полагают, что «развитие
физики в течение трех последних десятилетий наводит на мысль,
что возможности идеи элементарных частиц могут бьЛь исчер-
паны без идентификации конечной группы наипростейших сущ-
ностей»; общепризнано, . например, что ни одна частица из
известной группы адронов не может быть элементарной. Если
это действительно так, доказывает Чу, то, может быть, нами
«действительно достигнут конечный пункт на пути, ведущем к
1 Fleming. Op. cit.
2 Там же.
3 Там же.
235
элементарным частицам», а в этом случае физики «должны оты-
скать какую-либо альтернативу» \ В этой ситуации мы можем
начать работу в двух направлениях. С одной стороны, мы мо-
жем больше пе признавать, что достигнут «конец пути», и про-
должать «энергичные поиски новых сущностей, которые предпо-
ложительно можно идентифицировать в качестве фундаменталь-
ных составных частей материи» 1 2. Первым шагом в этом
направлении, как предложил недавно Джулиан Швингер, был бы
феноменологический анализ существующей теории элементарных
частиц, аналогичный менделеевской таблице химических элемен-
тов 3. К сожалению, указывает Чу, «идея элементарной частицы
никогда не получит своего завершения... Если есть элементарные
частицы, то почему именно эти элементарные частицы?.. Она
всегда ставит перед вами проблему — попять последнюю части-
цу, которую вы идентифицировали».
Предложенная самим Чу альтернатива заключается в том,
чтобы отыскать принципиально иную теорию, в которой сущест-
вующие наборы частиц объясняются не посредством обращения
к другим, еще более мелким частицам, а благодаря демонстрации
того, что «частицы суть то, что они есть, потому что это един-
ственно возможный способ их существования». К сожалению, эта
так называемая идея «ботиночного шнурка» имеет свои трудности.
«Природа ее такова,— признает Чу,— что ее нельзя сформулиро-
вать при помощи уравнений движения в духе почтенной истори-
ческой традиции, как все предыдущие физические теории, потому
что в принципе нет таких сущностей, которые могли бы возник-
нуть в уравнении движения». Таким образом, принятие этой
альтернативной стратегии вынудит нас модифицировать наши
представления о конечной форме любого удовлетворительного
«физического объяснения». Окажется ли такой альтернативный
подход более обоснованным, чем сохраняющийся уже известный
нам поиск все более мелких частиц, покажет будущее. Если
окажется, то, делает вывод Чу, «дилемма адронов станет пред-
вестником совершенно новой науки» 4.
Обратим внимание на то, что эти три примера существенно
различаются в некоторых отношениях. Например, только об од-
ном из трех случаев можно сказать, что оп вызвал «кризис» в
развитии науки. Если, например, такие люди, как Дельбрюк и
Лурия, в конце 40-х годов XX века вели дискуссию о новой
стратегии в теоретической биологии, то они делали это отнюдь
не для того, чтобы снять невыносимое «напряжение» или экс-
плуатировать «революционную ситуацию», а скорее из желания
1 Chew G. Crisis in the Elementary-Particle Concept. — In: Publication
of the University of California Radiation Laboratory. Berkeley, Calif., 1967.
no. J 7137.
2 Там же.
3 См., например, статью Дж. Швингера в: «Science», 1969, 166, 690.
4 С h е w. Loc. cit.
236
теснее связать физическое и биологическое понимание. И все же
эти примеры имеют одну общую черту. В каждом случае в на-
уке, о которой идет речь, исчезала коллективная, согласованная
концепция «объяснения» и переставали действовать нормальные
недвусмысленные критерии отбора новых идей. В результате в
каждом из этих случаев вопрос о том, «какие концептуальные
новации в самом деле лучше всего решат наши нерешенные
проблемы и, таким образом, помогут нам выработать согласован-
ные интеллектуальные цели», переставал быть фундаментальной
теоретической проблемой; ею становился другой вопрос: «Какие
общие цели мы стремимся здесь достигнуть? Какие новые объ-
яснительные задачи предстоит нам решать в этой области?»
Таким образом, дискуссия об интеллектуальных стратегиях
представляет собой такой диспут, который не имеет установлен-
ных процедур своего решения. В «ясных» случаях согласованные
цели науки определяют и согласованные процедуры рассуждений;
но в тех случаях, которые «туманны» изнутри, ученые обязаны
переоценивать цели своей теоретической игры, а вслед за ними —
также и стандарты своих рассуждений. Таким образом, «ясные»
случаи — это вместе с тем «рутинные» случаи, в которых можно
действовать по старому, знакомому набору правил; тогда как
туманные случаи в то же время являются «спорными» случая-
ми, где ученые сталкиваются с такими вопросами, которые обыч-
но они не могут считать решенными.
Столкнувшись с такими туманными, спорными вопросами, к
каким процедурам могут прибегнуть участники спора в надежде
достичь соглашения? Вновь обратимся к продолжающимся в со-
временной физике дебатам о статусе квантовомеханических объ-
яснений; эти дебаты снова вынесли на поверхность те стратеги-
ческие различия, мимо которых раньше молчаливо проходили и
которые бцли обнаружены в результате дискуссий. Фундамен-
тальная спорная проблема этих дебатов заключается в следующем:
«Можем ли мы по-прежнему считать ныне существующую
структуру квантовой механики, которая была разработана Гей-
зенбергом и Бором, физической теорией в последней инстанции?
Можем ли мы по-прежнему признавать за ней интеллектуальный
суверенитет в наших физических объяснениях?» Если поменять
эти вопросы местами, то она будет выглядеть следующим обра-
зом: «Наступило ли время выйти за установленные рамки кван-
товой механики и построить более усовершенствованную теорию
на более точном аналитическом уровне, которая отличалась бы
от собственной теории Бора так же, как сама квантовомеханиче-
ская картина мира отличалась от картины мира в физике
XIX века?» Ясно, что этот вопрос ставится в совершенно ином
плане по сравнению с теми вопросами, которые обычно решаются
в теоретической физике. Обычно физики, которые не согласны
237
друг с другом относительно того или иного явления, тем не
менее согласны, по крайней мере молчаливо, в том, какие дока-
зательства, аргументы и открытия разрешили бы эти разногла-
сия. Например, они согласятся, что их спорные вопросы были бы
улажены, если бы можно было показать, что только одна из
интерпретаций согласуется с принятыми принципами квантовой
механики; в таком случае победила бы именно эта интерпрета-
ция. В работах, о которых идет речь, пи одна из таких простых
процедур пе может решить спорных вопросов. Сформулируем
этот пункт на языке политики: вопрос, который мы теперь об-
судим,— это вопрос «суверенитета». Никакие формальные дока-
зательства, согласующиеся с образцовой аргументацией, принятой
в качестве конечного авторитета, в данном случае не могут
привести к согласованному решению, так как сомнению подвер-
гается именно авторитет этих образцов.
Однако было бы преувеличением сделать отсюда вывод, что
вообще не существует рациональных процедур для разрешения
подобных разногласий. В этих случаях следует обращаться не к
кодифицированным рубрикам установившихся теорий, а к более
широкой аргументации, включающей в себя сравнение альтерна-
тивных интеллектуальных стратегий в свете исторического опыта
и прецедентов. Именно так фактически завершаются реально су-
ществующие дискуссии. В 50-е годы между критиками и защит-
никами суверенитета квантовой механики произошел ряд столк-
новений, которые довольно часто выливались в перебранку и в
стремление действовать наперекор друг другу вследствие взаим-
ного непонимания. Критики выдвигали свои возражения; в ответ
защитники веры демонстрировали, что эти возражения представ-
ляют собой издевательство над ортодоксальной интерпретацией
квантовомеханических принципов; в ответ на это критики гово-
рили: «Так и есть, потому что мы отвергаем именно ваши при-
тязания на эти принципы»; ортодоксы в свою очередь парировали
это следующим образом: «В таком случае вы, еретики, просто
заблуждаетесь...», и диспут продолжался подобным же образом
со всевозрастающей горечью. Но через некоторое время обеим
сторонам стала ясна вся глубина спорных вопросов и стиль
аргументации сразу же изменился. Отныне каждая сторона пы-
талась объяснить — уже не в таких доктринерских выражениях,—
какие общие ошибки делались оппонентами, и в результате в
дискуссию проникли новые соображения. Освободившись от
привязанности к какой-либо кодифицированной процедуре, участ-
ники диспута обнаружили, что они, так сказать, находятся в
мире «общего права», где они вынуждены обсуждать свои
разногласия на языке «прецедентов», «последствий» и «публич-
ной политики». Критики стали доказывать, что ортодоксальные
представители квантовой теории делали ту же ошибку, что и
Пьер Дюгем в 90-е годы XIX века, когда он отверг гипотезу
Дж.Дж. Томсона о «внутриатомных» электронах как несовмести-
238
мую с действительной (то есть классической) физикой. Вовсе
нет, отвечали защитники, скорее еретики виновны в том же, в
чем был виновен Уильям Праут, который не далее как в
1815 году выступил против новехонькой атомной теории Дальто-
на со своими непродуманными спекуляциями о том, что водород
является универсальным материалом, из которого состоят другие
химические элементы...1 Итак, шел поиск наиболее точных и
показательных исторических прецедентов.
В данном случае наша собственная задача состоит в том,
чтобы сделать это подразумевающееся переключение с «кодифи-
цированной» аргументации па аргументацию «общего права»
совершенно явным. До этого переключения дискуссия о кванто-
вой механике приводила к бесплодной, основанной на взаимном
непонимании конфронтации именно потому, что обе партии все
еще допускали, что можно обнаружить какую-либо формальную
процедуру или стиль аргументации, благодаря авторитету кото-
рых они могли бы достичь соглашения. (В этом случае они
могли бы просто согласованно «сделать расчет» и принять его
результат.) После переключения они больше не обращались к
формальным аргументам, так как увидели, что никакая формаль-
ная аргументация не убедительна для обеих сторон. Отныне все
веские аргументы перестали носить формально-логический харак-
тер и предназначались не для того, чтобы обращаться к опреде-
ленным вычислительным процедурам, а скорее для того, чтобы
создавать термины, обладающие сильными и слабыми сторонами
и имеющие свою область действия и свои пределы. Это означало
обращение к историческим по своему существу соображениям,
то есть к использованию теоретического опыта своих предше-
ственников в качестве прецедента в целях установления наиболее
перспективных направлений будущего теоретического развития.
Благодаря этому переключению с формальной (или кодифициро-
ванной) аргументации па историческую (основанную на общем
праве) аргументацию раскрылся истинный характер дискуссион-
ных проблем. Теперь возник вопрос о том, в какой момент вызов
всем притязаниям на интеллектуальный суверенитет от имени
существующих в настоящее время стандартов научных рассуж-
дений обретает законную силу и начинается поиск юных пре-
тендентов на их трон. Такой вопрос, конечно, должен решаться
рационально, но этого можно добиться только в том случае, если
оставить в стороне формальные требования всех теоретических
принципов и разрабатывать вопрос в более широких дисципли-
нарных терминах.
Можно сказать, что в такие момепты теоретическая дискус-
сия в науке уже не входит в компетенцию рутинного суждения,
а скорее напоминает дела, рассматриваемые в верховном суде
1 См. обмен мнениями между Розенфельдом, Бомом, Впжье и др. па
симпозиуме: Observation and Interpretation, ed. S. Korner. N. Y., 1957,
239
или в палате лордов. Иными словами, спорная проблема пере-
стает быть вопросом правильного применения установившихся
процедур и приобретает характер «конституционных» вопросов.
Эту юридическую аналогию стоит продолжить. Мы отнюдь не
случайно вновь перешли к использованию юридической термино-
логии, чтобы изучить различия между «ясными» и «туманными»,
«рутинными» и «спорными» вопросами. Специальные проблемы,
которые возникают, когда сомнению подвергаются научные стра-
тегии, и специальные решения, необходимые в этом случае,
обнаруживают самые настоящие параллели с юридическими
проблемами и решениями, возникающими, например, в конститу-
ционном праве, когда «суд высшей инстанции» (например, Вер-
ховный суд США) дает новую интерпретацию статей суверенной
конституции и при этом вынужден пересматривать анализ
социальных функций права применительно к какой-либо новой
исторической ситуации.
В одной из предыдущих глав мы ссылались на анализ этого
вопроса, сделанный Оливером Уэнделлом Холмсом. Суд высшей
инстанции, по его словам, иногда сталкивается с такими случая-
ми, для решения которых либо еще нет однозначной процедуры,
либо существовавшая до сих пор интерпретация общепринятых
принципов приводит к появлению аномалий и исключений
Когда это происходит, то задачей юристов больше не является
применение ранее существовавших процедур к новым случаям.
Скорее судьи делают теперь шаг назад и пересматривают всю
юрисдикцию принятых юридических принципов и конституцион-
ных положений, рассматриваемых теперь на гораздо более
широкой социально-исторической основе. Таким образом, в ко-
нечном юридическом контексте логика становится слугой тех
фундаментальных человеческих целей, которые составляют само
право. При этом теоретическая юриспруденция и юридическая
практика одинаково основываются на развитии нашего понима-
ния исторической социологии права.
Социологическая юриспруденция в лице таких ее представи-
телей, как судья Холмс и проф. Роско Паунд, имеет прямое
отношение к нашей настоящей аргументации просто потому, что
Паунд и Холмс очень точно указали, в какой момент юридиче-
ское мышление перестает быть формальным или тактическим
вопросом— вопросом о применении установленных правил и
принципов к новым ситуациям — и начинает относиться к страте-
гическим проблемам, то есть тот момент, когда «настоящий» путь
вперед можно определить только благодаря переоценке фунда-
ментальных целей права в новом историческом контексте.
Судебные решения, вынесенные по таким стратегическим вопро-
сам, настаивали они, нельзя уже с полной определенностью счи-
1 О Холмсе п Паунде снова см.: Commager Н. S, The American Mind.
Kew Haven, 1950, Ch. 18.
240
тать «правильными», или «корректными», тем не менее подобные
решения по-своему рациональны. В такие моменты верховный
судья больше не может говорить от имени закона как такового;
вместо этого он должен рассуждать в свете более долгосрочных
перспектив, с точки зрения того, что закон был, есть и будет.
В результате принятое им решение неизбежно окажется «неза-
конным» в той же мере, что и лучшие индивидуальные сужде-
ния, скажем, судьи Холмса или судьи Франкфуртера о путях, по
которым закон должен развиваться сейчас, в данный исторический
период, чтобы с наибольшей полнотой воплотить свои идеалы
равенства, гуманизма и достоверности. Случаи этого рода пере-
носят нас на «передовые рубежи рациональности», где индивиды,
ошибающиеся, но действующие во имя человеческой инициативы,
которую они представляют, должны решать новые и непредви-
денные проблемы, открывая тем самым новые возможности; а на
этих рубежах мы больше не можем отделять рациональные
юридические процедуры от юридических целей, преследуемых
теми^ кто придает им новую форму, или от исторических ситу-
аций, в которых оказываются эти люди.
Аналогичные проблемы возникают также и в науке в момен-
ты стратегической неопределенности. Когда назревает переоценка
основных интеллектуальных целей науки, то ее рациональные
процедуры и критерии решений больше не могут быть опреде-
лены однозначно. Так, интеллектуальные решения Маха, Дель-
брюка или Чу больше нельзя вполне определенно считать «пра-
вильными» или «корректными», пользуясь теми стандартами,
которые имелись в их времена; тем не менее эти решения
опять-таки по-своему рациональны. Например, в таких-то отно-
шениях Дельбрюк пе может говорить только о той биологии,
которая есть; вместо этого он должен сделать все, что в его
силах, чтобы высказать свои суждения в свете более долгосроч-
ных представлений — как в свете представлений о том, чем био-
логия была и что она собой представляет в настоящее время,
так и представлений о том, какой она должна стать. Его реше-
ния ни в коей мере не будут «окончательным приговором
биологии», так же как и самые лучшие индивидуальные сужде-
ния Макса Дельбрюка о путях, но которым должно идти развитие
биологии в настоящее время, в данный исторический момент,
чтобы она с наибольшей полнотой воплотила свои общие идеалы
научного понимания. Здесь стратегическая неопределенность
снова приводит нас на «передовые рубежи рациональности», где
люди должны решать новые типы проблем, развивая совершенно
новые методы мышления; а на этих рубежах мы больше не
можем полностью отделять рациональные процедуры науки ни
от интеллектуальных целей людей, которые придают этим про-
цедурам новую форму, ни от исторической ситуации, в которой
оци находятся.
Следовательно, туманность вопросов, возникающих на подоб-
ных «передовых рубежах рациональности», неизбежна. Общее
соглашение о критериях отбора может существовать лишь до Тех
пор, пока текущие цели и стратегические направления какой-
либо дисциплины достаточно удовлетворительно согласованы; а
в дисциплине, которая также находится в процессе исторического
развития, это положение дел не может сохраняться навсегда.
Таким образом, всякое основательное изменение стратегического
направления научной дисциплины должно быть оправдано не
обращением к некогда авторитетной аргументации, а обращением
ко всему человеческому опыту на протяжении всей истории
рациональной инициативы, о которой идет речь. До тех пор пока
это направление будет прогрессивно развиваться, будут суще-
ствовать соответствующие сомнения в законности тех соображе-
нии, которые раньше пользовались авторитетом и единодушной
поддержкой, а эти сомнения часто вызывают резкую полемику,
терминология которой отражает неопределенность в вопросе о
надлежащих границах научной дисциплины. («Это не настоящая
физика!») Тем не менее подобную смену стратегических направ-
лений вполне можно осмыслить, если только совершенно ясны
те соображения, которые для этого требуются. Как обычно гова-
ривал поздний Витгенштейн, «моя аргументация, возможно, не
является „философской44 в каком-либо ранее существовавшем
смысле этого слова, но она выступает „законной наследницей44
того, что раньше было известно как философия». Точно так же
в периоды смены стратегических направлений в других дисци-
плинах и инициативах основной вопрос будет заключаться не в
том, «являются ли они правом, физикой или музыкой» и т. п.;
скорее он будет состоять в следующем: «Являются ли они за-
конным наследником всего, что до сих пор было известно как
„право44, „физика44 или „музыка44?» А в таком случае основной
вопрос интеллектуального метода сводится к одному — как мож-
но мобилизовать весь опыт человеческой истории для решения
того, что считается «законной сменой направленности» какой-
либо дисциплины или инициативы?
3.3. Объективные факторы научных изменений
Любая научная инициатива обеспечивает, следовательно, ши-
рокий спектр возможностей для рационального выбора и сужде-
ний. В одних случаях текущая стратегия научной дисциплины
устанавливает четкие критерии и однозначные процедуры выбора
между концептуальными новациями; в этих случаях сохраняет
какое-то правдоподобие традиционный эмпирический образ науки
как поиска «объективно истинных предложений». В других слу-
чаях мы должны выходить за пределы всех существующих
установленных правил и процедур и принимать такие стратеги-
ческпе решения, которые могут изменить направление всей дис-
циплины в целом. В этих последних ситуациях, как видели,
задача оценки альтернативных стратегий будущего в свете
прошлого дисциплинарного опыта оставляет значительный про-
стор для индивидуальных суждений, а этот вывод легко истол-
ковать превратно. Можно подумать, будто здесь имеется в виду,
что на этом самом глубоком уровне наши критерии концептуаль-
ного выбора становятся «субъективными». В противоположность
этому, конечно, большинство ученых и философов провозгласило
бы, что развитие естественных паук, в отличие от права, поли-
тики или искусства, управляется объективными внешними
факторами. А какие же объективные внешние факторы воз-
можны (могли бы они спросить) в дисциплине, где основные
стратегические проблемы решаются «индивидуальным выбором и
суждениями» отдельных ученых? Если это приведет к тому, что
анализ науки от вопросов об истинности теоретических предло-
жений обратится к вопросам об адекватности теоретических по-
нятий, то, возможно, мы откроем ящик Пандоры.
Но эта тревога была бы преждевременной. Доказывая, что в
моменты стратегической переоценки выбор дисциплинарных це-
лей или стратегий — это вопрос суждения авторитетных и опыт-
ных людей, мы не предполагаем, что эти решения — дело личного
вкуса; не подразумеваем мы и того, что происходящее в итоге
развития науки является произвольным результатом свойств
человеческого характера, не контролируемых внешними требова-
ниями или факторами. Напротив, так или иначе, все суждения,
от которых зависит историческое развитие интеллектуальной
дисциплины, представляет собой продукт аккумулированного
опыта всего человечества, имеющего дело с проблемами, возник-
шими в соответствующей области «внешнего» мира. Формули-
ровка истинных предложений — это одна «объективная» задача,
но формулировка хорошо обоснованных понятий, из которых
можно' затем составить подобные истинные предложения,— это
другая «объективная» задача; но вместе с тем изобретение пло-
дотворных новых стратегий, способных производить в дальней-
шем набор хорошо обоснованных понятий (а также истинных
предложений),— это тоже «объективная» задача в третьем, ноне
последнем по важности смысле этого слова, которая подвергается
«внешнему» давлению научного опыта. Ошибка эмпириков состо-
ит в том, что они полагают, будто имеется один, и только один,
способ мобилизации аккумулированного нами опыта объективных
проблем, который вызывает интеллектуальное развитие эмпири-
чески обоснованной науки, а именно сопоставление «частных
предложений» с «индивидуальными фактами». Высказывания от-
носительно адекватности наших понятий, напротив, являются
«метаэмпирическими», так что не возникает вопроса сопоставле-
ния их непосредственно с «индивидуальными фактами»; тогда
как научная стратегия, будучи генеральным политическим кур-
243
сом для наших суждении о концептуальных изменениях, отстоит
гораздо дальше от такого элементарного сопоставления с факта-
ми. Отсюда, однако, никоим образом не следует, что концепту-
альные и стратегические проблемы как-то менее объективны. Это
означает только, что по сравнению с нашими суждениями о
частных эмпирических предложениях наши концептуальные и
стратегические суждения по-иному открыты для критики со сто-
роны опыта.
До некоторой степени — но только до некоторой — научные
предложения можно тотчас верифицировать. До некоторой сте-
пени — но только до некоторой — аккумулированный человече-
ский опыт можно концентрировать в точно определенных прави-
лах и процедурах, так что мы можем развивать новые способы
изображения, чтобы по-новому подойти к некоторым типам яв-
лен ий н систем, распространенность и достоверность которых
были полностью выявлены. В какой-то — и только в какой-то —
мере полученные в результате правила, процедуры и способы
изображения сгруппировались в компактные дисциплины, кон-
цептуальное развитие которых само по себе управляется доста-
точно согласованными стратегиями. Но даже там, где ни одно из
этих условий не выполняется, так что наилучший способ успеш-
ного развития научного понимания остается в настоящее время
неясным, даже там стоящие перед учеными спорные проблемы
тем не менее являются «объективными». Таким образом, два
авторитетных ученых могут предложить различные стратегические
направления развития своей науки в будущем, основываясь на
своем индивидуальном прочтении исторического опыта и текущей
проблемной ситуации. Эти предложения, хотя они имеют дей-
ствительную силу, все же не могут ни повлечь за собой каких-
либо истинных эмпирических предложений, ни установить каких-
либо хорошо обоснованных понятий. Но та интеллектуальная
политика, которую они соответственно предлагают, может тем не
менее оказаться объективно здравой или ошибочной, плодотвор-
ной или бесполезной, в зависимости от того, дает ли она возмож-
ность в надлежащее время понять и установить новы?, более мощ-
ные наборы понятий и процедур объяснения. Первоначально эти
два предложения могут быть продуктами индивидуального сужде-
ния; но мы будем решать, какое из них было «более обоснован-
ным» ретроспективно, не по личным соображениям, но в свете их
актуальных практических последствий. Ибо хотя ни одно из пред-
ложений согласно природе данного случая, возможно, и не основы-
валось на формальных правилах и аргументах, все же ни одно из
них не было направлено просто на то, чтобы удовлетворить вкусы
или предрассудки ученого, о котором идет речь. Скорее каждый
из них стремился выполнить одну и ту же общую и объективную
задачу — предложить, как можно лучше всего усовершенствовать
наше интеллектуальное понимание природы.
244
В этом отношении старые юридические противоречия в при-
менении закона судьями имеют аналогии в философии и социо-
логии науки. В области юриспруденции чистые конструкционис-
ты нападают на тех, кто слишком легко выходит за пределы
прямого смысла законов и прецедентов, на том основании, что
подобный образ действий представляет собой узурпацию подлин-
ного авторитета законодательной власти; в ответ на это либералы
со своей стороны доказывают, что при отсутствии точно сформу-
лированных законов или прецедентов следует реконструировать
основные конституционные принципы, которые соответствовали
бы требованиям новой ситуации и учитывали бы более глубокие
социальные функции этих законов и прецедентов. Верховный суд
США, укрепляя свой авторитет интерпретатора конституции, не
может просто принимать в расчет более общие соображения по-
литического курса и общественные идеалы наряду с уже закреп-
ленными правилами и формальными прецедентами. Эти последние
аргументы могут показаться как «законосозиданием», так и
«отыскиванием законов», но вопросы, которые они поднимают,
все й&е в основном являются реальными. Предположим, что к
одному из основополагающих положений конституции, например
к положению о свободе слова и мнений, обращаются с тем,
чтобы запретит]» правительству какой-либо образ действий, свя-
занный с изобретениями XX столетия, например тайное подслу-
шивание телефонных разговоров; будет ли это расширительное
толкование содействовать в нашей нынешней ситуации тем об-
щим интересам, для защиты которых данное положение было
предназначено отцами конституции в XVIII столетии, или нет?
Этот вопрос может оказаться очень сложным, так как действи-
тельные последствия того или иного одностороннего решения
очень трудно предугадать, поэтому разные судьи будут решать
его по-разному. Но это и и в коем случае не «личный» и пе
«субъективный» вопрос, а тем более не такой вопрос, который
судьи вольны решать, как им заблагорассудится, независимо от
фактов.
В естественных науках мы рискуем столкнуться с таким же
непониманием: например, с критикой того, что на стратегическом
уровне мы представляем ученым полную свободу строить свою
науку по собственному усмотрению. (С этой точки зрения «уче-
ный, добывающий истину», становится пугалом, чем-то вроде «су-
дьи, творящего правосудие».) Повторяю, это обвинение основано
на неправильной интерпретации. Основные стратегические реше-
ния в науке, которые изменяют и направление концептуального
развития научных дисциплин, и институциональное развитие на-
учных профессий, возможно, и принимают свою настоящую форму
потому, что Дельбрюку или Гейзенбергу удается склонить своих
коллег к тому, чтобы они обратили свое коллективное внимание
на новые направления. Но хотя темперамент и личность ученых,
о которых идет речь, может сыграть надлежащую роль в выра-
245
ботке этих решений, все же конечный приговор остается объек-
тивным, даже фактуальным вопросом. Ибо способы, с помощью
которых природа действительно отвечает на вс.е наши попытки
понять ее, иногда превосходят все человеческие вкусы и все
человеческие возможности что-либо изменить.
Из-за отсутствия какой-либо формальной процедуры решения
конечный стратегический выбор, таким образом, может стать во-
просом индивидуального суждения авторитетных ученых — «су-
дей», но они тем не менее являются суждениями о совершенно
«внешних и объективных» вопросах. К ним приходят пе путем
аккумуляции голых «природных фактов» — будь то факты, отно-
сящиеся к чувственным восприятиям, или факты, относящиеся к
материальным объектам,— но скорее в свете всего опыта наших
инициатив по объяснению подобных фактов. «Объективные» фак-
торы, которые управляют плодотворным развитием научных тео-
ретических понятий, воздействуют, таким образом, не на логиче-
ски простые вопросы (является ли каждый ворон черным, а
яйцо каждой малиновки — зеленовато-голубым), а на вопросы го-
раздо более сложные и многообразные, которые тем не менее
остаются актуальными, например на вопросы о том, какое но-
вое стратегическое направление концептуальных изменений дей-
ствительно обеспечит возможность развить более мощные новые
процедуры объяснения и таким образом углубить наше научное
понимание данной определенной области.
Суждения этого рода включают в себя перспективные оценки
последствий, которых следует ожидать от альтернативных интел-
лектуальных политических курсов, и, таким образом, равнозначны
«рациональным ставкам». Конечно, в качестве таковых они от-
носятся не к оставшейся без интерпретации природе, рассма-
триваемой в качестве мира нейтральных объектов, сосуществую-
щих с человечеством, а к возможности превратить этот природный
мир во все более умопостигаемый объект человеческого понима-
ния. Итак, эти стратегические вопросы неизбежно имеют эписте-
мический аспект; и то, что такие авторы XX столетия, как Планк
и Мах, Эйнштейн и Гейзенберг, обнаружили перерастание фун-
даментальных вопросов физической теории в гносеологические
проблемы, не более удивительно, чем то, что их предшественни-
ки в XVIII столетии считали «нейтральную» философию неотде-
лимой от «метафизики». В конце концов основным вопросом
науки всегда был вопрос о том, на каком языке мы можем
сделать природный мир полностью умопостигаемым для нас. При
всем нашем уважении к Галилею и Декарту природа не имеет
языка, на котором она может разговаривать с нами от своего
собственного имени, и это нам, ученым, предстоит создать систе-
му понятий, благодаря которой мы сможем «что-то извлечь» из
своего опытного познания природы. Вопросы о том, может ли
это вообще быть осуществлено и какая интеллектуальная кон-
струкция окажется наиболее эффективной — например, зоология
246
или электромагнитная теория,— пе могут быть предметом непо-
средственной оценки и верификации. Но они пи в коем случае
не субъективны и по-своему остаются фактуальными проблемами
в собственном смысле этого слова, относящимися к нашему объ-
ективному опытному познанию природного мира.
Тем не менее сомнения в «объективности» науки, даже если
она рассматривается так, как в данном случае, имеют реальные
и вполне понятные основания. Наше объяснение, конечно, ни в
коем случае не делает содержание научных суждений сколько-
нибудь более «субъективным» или «личным»; оно только снова
и снова признает полную «относительность» понятий и стандар-
тов, считающихся авторитетными в какой-то период времени в
той или иной среде. Несмотря на то что в действительности
многие вопросы, возникавшие в науке на любом ее уровне, мог-
ли быть в полном смысле фактуальными, ученые — в разные
времена и по разным основаниям — могли кончить тем, что об-
ращались с ними по-разному. В конце концов имеется не больше
оснований для того, чтобы допустить, что интеллектуальные
требования, управляющие концептуальным развитием науки,
действительно будут везде абсолютно идентичными, чем для того,
чтобы допустить^ что требования окружающей среды, управляю-
щей развитием биологического вида, абсолютно одинаковы на всем
протяжении его существования. Вопрос заключается в том,
чтобы, во-первых, различия в их интеллектуальных требованиях
не вынудили разные группы ученых судить о концептуальных
вариантах с прямо противоположных позиций; а во-вторых, в том,
чтобы при всех различиях в своих долгосрочных ожиданиях
ученые, работающие в разных странах или центрах, по-прежне-
му находили бы понятными теоретические аргументы друг друга.
В действительной практике могут существовать весьма серь-
езные различия в целях объяснения, выдвинутых разными людь-
ми, даже если они работают в одной и той же дисциплине в
один и тот же период. Пьер Дюгем, например, написал порази-
тельный очерк о национальных стилях в научной теории Ч
Противопоставляя способ решения проблем теории электричества
французскими и английскими физиками-теоретиками в XIX веке,
он продемонстрировал, что в стратегических направлениях, полу-
чивших распространение среди физиков этих двух стран, имелись
систематические различия по некоторым основным вопросам. Во
Франции общепринятый идеал состоял в том, чтобы придавать
всем физическим теориям аксиоматическую математическую
форму. В Англии в такой же мере господствовало стремление
создавать модели, даже действующие, благодаря которым физи-
ческие явления можно было постичь наглядно и осязаемо, а не
’Дюгем П. Физическая теория: ее цель и строение. СПБ, 1910,
С. 66—124, гл. 4: «Абстрактные теории и механические модели»,
247
при помощи математики. Аналогичные различия, доказывал Дю-
гем, обнаруживались и в других областях мышления и жизни.
Тот же самый контраст между французским esprit geometrique
(духом геометрии — фр,) и английским esprit d’ampleur
(духом пространства — фр.) проявляется также и в литературе, в
частности в противоположности между индивидуализированными
характерами шекспировских героев и героинь и персонифициро-
ванными достоинствами героев и героинь Расина; в юриспру-
денции — в специфической конкретности прецедентов общего
права по сравнению с абстрактной всеобщностью кодекса Напо-
леона; в философии науки — в противоположности разработан-
ного ФренсисОхМ Бэконом метода эмпирических обобщений мате-
матическому рационализму Декарта; и, могли бы мы добавить, в
различии между обманчивым естественным беспорядком тради-
ционного английского парка и геометрической точностью
французского parterre (цветника — фр.). Контраст между двумя
национальными стилям# в теории электричества (XIX век) был,
таким образом, дальнейшим проявлением более широких разли-
чий между двумя сложившимися национальными темперамен-
тами в проблемах общей для них интеллектуальной дисциплины.
Каким должно быть наше собственное отношение к подобным
национальным различиям? У самого Дюгема пе было никаких
сомнений по этому поводу: он писал как французский физик,
без всяких извинений и оговорок. Столкнувшись с этим контрас-
том, он сделал все, что было в его силах, чтобы понять подход
своих английских коллег, но не смог заставить себя простить им
их погрешности. Постоянное стремление таких людей, как Кель-
вин, отыскивать механические интерпретации поразило его как
своего рода дополнительный интеллектуальный недостаток, не-
уместный в «профессиональной» теоретической физике. Проявле-
ния этого недостатка побуждали его к ядовитой иронии:
«Вот перед нами книга (популярная работа Оливера Лоджа
«Современные представления об электричестве», 1889), в кото-
рой излагаются современные теории электричества. На каждом
шагу вы находите здесь веревки, переброшенные через блоки,
продетые сквозь небольшие кольца и носящие тяжести, трубки,
пз которых одни насасывают воду, другие набухают, стягиваются
и растягиваются, зубчатые колеса, сцепленные между собой или
с зубчатыми стержнями. Мы надеялись попасть в мирную п
строго упорядоченную обитель дедуктивного разума, а попали
на какой-то завод» L
Столь явные попытки ограничить человеческий разум, усилен-
ные сосредоточенностью англичан на осязаемом и индивидуаль-
ном, должны послужить автору извинением в том, что он при-
бегает к подобным образам, но только при том условии, если
они будут восприниматься в качестве «пособий» для тех, кто не
4 Д ю г е м. Цит. соч., с. 84—85.
£48
может усвоить сущность физической теории в чистом виде.
Самому же Дюгему было совершенно очевидно, что она собой
представляла. Это была аксиоматическая, математизированная,
картезианская по своей форме теория; именно такую форму его
предшественники во Франции XIX века придали своей собствен-
ной науке об электричестве. Если бы кто-нибудь в ответ попы-
тался доказать, что физические модели могут обеспечить альтер-
нативные способы изображения, имеющие свои собственные
преимущества, способные уравновесить неизменную во времени
систематичность квазиевклндовой аксиоматической системы, это
поразило бы Дюгема как прямое предательство самой «рацио-
нальности»: «Мы надеялись попасть в мирную ...обитель де-
дуктивного разума, а попали на какой-то завод». Даже в физике
термин «рациональность», очевидно, не мог означать для фран-
цузского академика XIX века ничего иного, кроме картезианско-
го «рационализма».
Однако и здесь, конечно, тоже имеется настоящий выбор.
Если считать доказанным, что Дюгем осветил реальный контраст
между v теоретическими стратегиями и критериями отбора физиков
разных стран, то как же в таком случае собирался он аргумен-
тировать, что только одна стратегия является единственно пра-
вильной, а другая неизбежно вводит в заблуждение? Следует
усомниться, имела ли бы подобного рода аргументация какую-
либо законную силу за пределами полемики. Ибо она основыва-
лась бы па одном из двух оснований, которыми на самом деле
мы не располагаем: она должна была либо обратиться к универ-
сальным эпистемическим принципам, от которых мы отказались,
либо положиться на сравнительную оценку последствий, то есть
на сравнение тех интеллектуальных результатов, которых следует
ожидать от этих двух стратегических направлений. Что касается
этих последних расчетов, то не было никакой гарантии a priori,
что именно картезианская стратегия оказалась бы более пло-
дотворной. Во всех своих существенных выводах относительно
теории электричества Дюгем и Лодж в действительности лишь
слегка расходились друг с другом. Любое электрическое явление,
которое Кельвин объяснял при помощи механических моделей и
аналогий, его французский коллега точно так же мог объяснить
при помощи математических теорем, и наоборот; какие бы тео-
ретические связи ни соединяли электричество с магнетизмом и
оптикой во французской физике, они имели точный дубликат в
английской физике; так, механические модели, употребляемые
Максвеллом, Кельвином и Лоджем для объяснения явлений элек-
тричества, просто служили альтернативным изображением, про-
екцией тех же самых интеллектуальных связей, которые фигури-
ровали в качестве формальной упорядоченности во французских
трактатах по математической физике. Иными словами, разногла-
сия между Дюгемом и Лоджем возникли только после того, как
весь наличный урожай в объяснении был уже собран, и именно
249
там, где нужно было на более глубоком стратегическом уровне
разработать на будущее политический курс в области тео-
рии L
Благодаря подобным более глубоким стратегическим сужде-
ниям представители совершенно различных культурных и фило-
софских традиций могли на самых законных основаниях исходить
из противоречивых интеллектуальных предпосылок и при этом
считать, что рациональная «сущность» науки воплощается
в совершенно различных политических курсах. Конечно, сопер-
ничающие между собой французские и английские стратегии в
теории электричества обращали внимание на проблемы разного
рода и тем самым сдвигали центр тяжести последующих иссле-
дований. Теперь, спустя почти сто лет, ретроспективно мы мо-
жем увидеть, что обе стратегические липни имели и свои специфи-
ческие достоинства, и свои слабости. Например, приверженность
Дюгема картезианской модели физической теории понапрасну
вынудила его пе доверять идеям Дж. Дж. Томсона об «ато-
ме как реальной материальной частице, занимающей конечное про-
странство, имеющей размеры, поддающиеся измерению и слу-
жащей для построения всех осязаемых тел», поскольку они
чрезмерно полагались на презираемые им механические модели
и недостаточно — на тщательный математический анализ1 2.
Будучи воспитан в более грубом, механистическом образе мыс-
лей, Резерфорд сумел лучше распорядиться новыми теоретиче-
скими возможностями, создавшимися благодаря идеям Дж. Дж.
Томсона; несмотря на это, Резерфорду в свою очередь довелось
увидеть, что возможности его собственной стратегии были исчер-
паны двадцать пять лет спустя, когда квантовая механика вновь
ввела картезианские порядки в новой физике, которую он и
Томсон первоначально изложили в более механистических тер-
минах.
Историческое единство и целостность науки, таким образом,
напоминают, по существу, спектр методов и стратегий. Его мно-
гообразие не ограничено ни историческими эпохами, ни нацио-
нальными стилями; мы можем обнаружить аналогичные различия
в акцентах, характерные для рассуждений в различных исследо-
вательских центрах и школах, даже в одной и той же стране, в
одно и то же время. Есть кембриджская и эдинбургская школы
генетиков, колумбийская и гарвардская школы психологов, и,
хотя каждый волен стать под знамена той или иной школы, с
их стороны было бы слепым фанатизмом претендовать на моно-
1 О концепции соперничающих физических теорий как альтернативных
изображений см. обсуждение этого вопроса Герцем во Введении к его книге
«Принципы механики» (The Principles of Mechanics. Engl, transl. N. Y.,
1900), переизданной с новым Предисловием и биографией Р. С. Коэном
(Нью-Йорк, 1956), особенно замечания Герца по поводу «логической допус-
тимости», «корректности» п «соответствия».
2 См.: Дюгем. Цит. соч. с. 98—99.
250
польное понимание. Для сохранения связной дисциплины во все
времена требуется всего лишь «достаточная» степень коллектив-
ной согласованности интеллектуальных целей и дисциплинарных
установок. Под словом «достаточная» мы должны иметь в виду
«достаточная для актуальных требований настоящей ситуации»;
это совместимо с существенными разногласиями по таким во-
просам, которые выходят за пределы проблем, требующих своего
решения в настоящем. В 70-е — 80-е годы XIX века, ifanpnMep,
все химики-теоретики были готовы применять термины «атом» и
«молекула», когда они следили за развитием химических реакций
и превращений; тем самым сохранялось единство химической
теории XIX столетия. Однако что касается статуса, который в
конечном итоге отводился этим атомам и молекулам, то по этому
вопросу различные химики имели совершенно противоположные
идеи. Были ли они интеллектуальными фикциями, конечными
материальными единицами или условными сущностями, которые,
возможно, имели бы внутреннюю структуру? Столкнувшись с
этими вопросами, Оствальд, Максвелл и Кекуле придерживались
совершенно различных взглядовВ тот момент, однако, эти
различия не имели серьезного значения; текущие тактические и
концептуальные проблемы химии были нейтральны по отноше-
нию к этим долгосрочным стратегическим точкам зрения, и,
какой бы ответ вы ни давали, это пе внесло бы само по себе
никаких различий в ваши химические анализы.
Рассматривая различные исторические периоды, а не разные
страны или исследовательские центры, мы снова можем обнару-
жить аналогичные вариации в стандартах научных суждений.
Действительно, критерии отбора, применявшиеся в разное время
в научных дисциплинах, будучи рассмотрены с исторической
точки зрения, в той же мере подвергались историческому разви-
тию, что и частные теории, понятия и варианты, па основе ко-
торых они вырабатывались. Этот вывод мог бы оказаться смер-
тельным ударом по любой картезианской установке — ставить
аргументы в естествознании на тот же самый интеллектуальный
базис, что и в математике; однако, как это ни парадоксально,
при ближайшем рассмотрении оказывается, что дела обстоят со-
всем по-другому. Конечно, это кладет конец любым надеждам
поставить естественные науки на точно такой же фундамент, как
собственный евклидовский идеал Декарта для математики. Но
это не вносит существенных различий в интеллектуальный ста-
тус естествознания и математики; напротив, отныне даже мате-
матика должна пойти по тому же самому историческому пути.
Приверженность Декарта евклидовой геометрии в действительно-
сти включала в себя невысказанное убеждение не только в наи-
1 См., например, статью Л. Б. Коэна, на которую мы ссылались выше
(с. 159, сн. 1).
251
высшей точности математических методов в целом, но и в окон-
чательном характере специфических евклидовых понятий и
аксиом. Однако, как показал Имре Лакатос, развитие математи-
ческих дисциплин подвергает их понятия и методы столь же
фундаментальным по-своему трансформациям, что и понятия и
методы естественных наук. Такие фундаментальные математиче-
ские понятия, как «обоснованность» и «строгость», «изящество»,
«доказательство» и «математическая необходимость» подверга-
лись таким же изменениям, как и их научные эквиваленты —
«правильность», «неопровержимость», «простота», «релевант-
ность» п «физическая необходимость». Даже основые стандарты
математического доказательства неоднократно переоценивались
со времен Евклида. В результате понятия, методы и интеллекту-
альные идеалы математики не больше свободны от «разруши-
тельного воздействия истории», как надеялись и полагали
Декарт и Фреге, чем понятия, методы и интеллектуальные иде-
алы других интеллектуальных дисциплин h
Таким образом, интеллектуальные стратегии, применяемые
работающими в данной области учеными в то или иное время,
в том или ином центре, сами образуют частично накладывающи-
еся одна на другую популяции, обладающие своим собственным
внутренним многообразием. Степень распространенной в данный
момент согласованности — это мера стратегической согласован-
ности только по отношению к таким проблемам общей для них
дисциплины, которые требуют своего немедленного решения. За
этими пределами многообразие долгосрочных прогнозов не под-
вергается действию активных экологических требований, пли
процессу отбора. В соответствии с этим при переходе от одной
исторической эпохи к другой развитие наших интеллектуальных
дисциплин создает такое многообразие подходов, которое ограни-
чено только избирательным воздействием активных концептуаль-
ных проблем. Крупные ученые-новаторы оставляют свой след в
исторически складывающихся генеалогиях как благодаря их
идиосинкратическим концепциям относительно тех требований,
которые везде должны предъявляться к любой удовлетворитель-
ной теории, так и благодаря их вкладу в специфическую, деталь-
ную разработку специальных теорий. Мы гораздо лучше можем
понять вклад Галилея в физику (помимо описания ведьм) в
настоящее время, когда мы в состоянии соотнести его взгляды с
предшествующими им идеями Бепедетти и падуанских матема-
тиков и в конечном итоге с нерешенными проблемами Бурпдана,
Брэдуардина и Хорезми. Именно пример и призывы Галилея
убедили физиков XVII столетия в том, что можно собрать бога-
тый теоретический урожай, если только соединить геометрический
анализ и идею корпускулярности. Следовательно, оригинальность
1 Lac at os I. Proofs and Refutations. — «British Journal for Philosophy
of Science», 1963-1964, 14, 1-25, 120-139, 221—243, 296-342.
252
Галилея в значительной мере состояла не столько в его отдель-
ных открытиях, сколько в том, что он увидел, какие интеллек-
туальные плоды принесет физике единодушное принятие новой
«корпускулярно-геометрической» стратегии.
Действительно, на этом стратегическом уровне историю науки
можно было бы писать как историю изменения концепций уче-
ных относительно того, чем была, например, физика и чем опа
могла бы стать. На первый взгляд физика Буридана и Хорезми,
очевидно, не может иметь ничего общего с физикой Эйнштейна
и Гейзенберга; однако в действительности опи непосредственно
связаны благодаря дисциплинарной генеалогии. «Физические»
проблемы 30-х годов XIV века — схоластический анализ имев-
шихся в нашем распоряжении терминов, характеризующих раз-
нообразнее «изменения» или «движения»,— шаг за шагом, в те-
чение шести столетий трансформировались в современные
проблемы теории относительности и квантовой механики. Однако
в этом процессе ни разу не была нарушена интеллектуальная
преемственность. Физика XX столетия отличает от его предше-
ственника XIV столетия всего лишь то обстоятельство, что прин-
ципы ййтеллектуального отбора концептуальных вариантов,
доступные ему на каждом историческом этапе, сами были «по-
рождением своего времени». Опи как таковые (что совершенно
закономерно) развивались и видоизменялись вместе со всей
остальной физикой. И всякая историческая реконструкция этого
процесса, благодаря которому концептуальная изменчивость и
интеллектуальный отбор объединенными усилиями видоизменяли
наши интеллектуальные дисциплины, должна по самому своему
существу включать в себя объяснение того способа, при помощи
которого трансформировались также управляющие дисциплинар-
ные и интеллектуальные стратегии.
Здесь нам все же предстоит столкнуться еще с одним, по-
следним вопросом, относящимся к объективности пауки. Если
процесс концептуальных изменений в научной дисциплине пере-
краивает ее так глубоко, как мы это предположили, то будет
неясно, можно ли провести приемлемое различие между «вну-
тренними» соображениями, подлинно релевантными по отноше-
нию к текущим проблемам науки, и «внешними» соображениями,
например политическими пристрастиями и идеологией, которые
могут исказить или нарушить нормальные процедуры дисципли-
нарных рассуждений. Конечно, нам непонятно, как можно вы-
вести какое-либо различие в таких терминах, которые постоянно
имеют законную силу. Некоторые различия такого рода безуслов-
но необходимы и закономерны; но как только мы попытаемся
противопоставить два этих типа соображений в целом, так перед
нами сразу же возникнут (и всегда будут возникать) сложные
проблемы. Как в таком случае сможем мы выработать объектив-
253
ные и постоянные тесты с тем, чтобы решать, какие соображе-
ния являются «внутренне присущими», или «релевантными», по
отношению к интеллектуальным рассуждениям в данной научной
дисциплине, а какие — нет? И всегда ли на практике нам будет
понятно, как мы должны применять это различие? Для филосо-
фии было бы очень удобно, если бы мы умели четко разграни-
чивать различные факторы, действующие в теоретическом
мышлении, и ясно отделять строгие требования дисциплинарного
развития от внешних соображений, таких, как мода и националь-
ный стиль, метафизические пристрастия и политическая идеоло-
гия. Наш анализ оставляет невыясненным, как далеко можно
провести такое разграничение в действительности, что также
можно считать опровержением объективности науки.
В течение последних тридцати или сооока лет этот вопоос
часто рассматривался как требование «демаркационных критери-
ев», которые в конце концов отделили бы науку от метафизики,
теологии и идеологии. Высказывалась надежда, что можно найти
какие-нибудь тесты, чтобы отличить подлинно «научные» пред-
ложения от всяких иных либо на основе их содержания, либо
на основе методов их проверки. Если бы такие тесты были даны,
то мы сумели бы тогда отделить те предложения, которые явля-
ются аутентичными кандидатами на подлинно «научный» статус,
от всех остальных, которые либо недостаточно подтверждаются
доказательствами, либо просто служат выражением религиозного
или метафизического подхода, либо в буквальном смысле явля-
ются пустыми. Однако поиски критерия демаркации, понятые
таким образом, подверглись той же критике, что и поиски фор-
мальных сигнификационных тестов и процедур верификации.
Если мы ограничим свое внимание только теми предложениями,
которые изложены языком ранее согласованных понятий и тео-
рий, то, может быть, мы и сумеем выработать тесты, позволяю-
щие нам отличать подлинно «научные» предложения от всех
остальных. (В таком случае предложение: «Этот электрон имеет
энергию 3 • 106 электронвольт» доказуемо, является научным, а
предложения: «Этот электрон является материальным объектом»
и «Этот электрон печален» — нет.) Однако тест, который приме-
ним только в том случае, если мы принимаем ранее существо-
вавшие понятия и теории, возможно, перестанет быть релевант-
ным в таких ситуациях, когда наши понятия подвергаются ра-
дикальным изменениям. В наших интересах лучше поставить
этот основной вопрос соответственно по отношению к понятиям,
а не к предложениям. Когда ученые модифицируют имеющийся
у них запас необходимых для объяснения понятий и отбирают
новые концептуальные варианты, чтобы включить их в содержа-
ние своей дисциплины,— существуют ли тогда какие-либо посто-
янные, неизменнные, прочные тесты, позволяющие решить вопрос
о том, являются ли выдвинутые ими основания для этого отбора
истинно «научными»?
254
Позвольте спросить, например, какие соображения заставили
физиков на одном этапе предпочесть «корпускулярные» теории
теплоты, магнетизма и света, на другом — теории «тончайших
флюидов», а на третьем — теории «поля»; конечно, было бы
трудно установить, какие математические или экспериментальные
©снования заставили оправдать этот выбор. Действительно, рет-
роспективно рассматривая эти изменения точек зрекия, мы мо-
жем почувствовать, что выбор между этими различными теория-
ми в конечном итоге зависит от локальных и временных склон-
ностей к определенным способам и стилям паучпого мышления.
Однако такие способы редко бывают «просто» делом моды.
Решение трактовать явления магнетизма как проявление полей,
флюидов, корпускул или эманаций, возможно, не было научно
обосновано ни экспериментальными тестами, ни математической
необходимостью; в этой мере оно представляло собой произволь-
ное теоретическое решение отдельных физиков, занимавшихся
этим вопросом. Однако это решение основывалось на чем-то
большем, ^ем мимолетная фантазия. Скорее оно вновь и вновь
демонстрировало, что в основе текущих идеалов научного объ-
яснения лежат общие для всех концепции «механизма», «объяс-
нения» и «познаваемости». Вместо того чтобы позволить себе
комфортабельно расслабиться па доказанных в прошлом процеду-
рах, новый выбор каждый раз ставит вопрос о долге перед
будущим, голосуя в пользу тех образцов теории будущего, к
познаваемости и плодотворности которых их защитники испыты-
вают рациональное доверие.
Подобные предсказания могут возникать из самых разных
источников, на самых разных основаниях. Они могут основывать-
ся на аналогии с результатами других наук; они могут включать
в себя долгосрочные соображения, относящиеся к такой дисци-
плинарной стратегии, которая разработана лишь отчасти; они
могут даже находиться вне всей той области, которую мы сейчас
называем «наукой». Как бы то ни было, интеллектуальные моды
и теоретические стили одного поколения часто приобретали весь-
ма существенное значение для последующих поколений, когда
дисциплинарные цеди науки распространялись на новые сферы
опыта. Короче говоря, на уровне понятий поиск постоянного де-
маркационного критерия несовместим с тем обстоятельством, что
интеллектуальные цели наших дисциплин исторически развива-
ются наравне со всеми их специальными теориями и понятиями.
Как только мы усвоим, что ученые, принадлежащие другому
времени, другой культуре, не только по-разному видели миссию
своей дисциплины, но и имели на это право, мы должны сразу
же модифицировать свои требования. Отныне мы никогда не
сможем разобраться в том, действительно ли концептуальные
решения, принятые в другой среде, были продуктом внешних и,
таким образом, иррелевантных факторов и соображений, или же,
напротив, оци отражали различные идеи, относящиеся к теку-
255
щпм миссиям научных объяснений. Мотивы, которые побудили
таких натуралистов, как Джон Рэй, создать первые удовлетвори-
тельные классификации органических видов, были настолько же
теологическими, насколько и научными; эти таксономические
группы рассматривались как выражение «рационального поряд-
ка», внесенного в природу божественной мудростью мирового
творца. С другой стороны, в Германии XIX века ранние пред-
ставители клеточной биологии развивали свои теории фермента-
ции и роста тканей по аналогии с существующими представле-
ниями о неорганическом катализе и образовании кристаллов.
Должны ли мы всегда рассматривать подобные аргументы как
явные признаки иррелевантности или же как доказательства в
пользу интеллектуальных стратегий, которые хотя и отличались
от наших, но были тем не менее достаточно разумными для сво-
его времени? Задавая эти вопросы, мы должны тщательно поза-
ботиться о том, чтобы, с одной стороны, не впасть в анахронизм
в результате изучения последующего опыта, а с другой — не
предполагать, что подобные теоретические размышления были
ошибочны с самого начала, потому что они испытывали влияние
«ненаучных» предубеждений или «метафизических» соображений.
Если мы не побеспокоимся о том, чтобы реконструировать дей-
ствительно имевший место научный выбор, сопоставляя ученых
различных исторических периодов, мы не будем в состоянии по-
нять, какие соображения они могли бы совершенно справедливо
считать «релевантными» по отношению к своим решениям.
Это вовсе не означает, что научному решению всегда реле-
вантно нечто, если только мы решим считать его таковым;
отнюдь нет. Просто мы настаиваем на том, что вопросы дисци-
плинарной релевантности, как и вообще весь вопрос об «адапта-
ции», должны решаться в контексте какой-либо определенной
проблемной ситуации и какого-либо определенного времени. Так
как наши концептуальные проблемы многообразны и изменчивы,
то едва ли возможно раз и навсегда обобщить, какие соображе-
ния с необходимостью «релевантны» или «иррелевантны» по от-
ношению к нашему концептуальному выбору. Если пойти еще
дальше, то действительно можно сказать: ни одно соображение,
каким бы оно ни было, не является по своим внутренним осно-
ваниям целиком и полностью иррелевантным по отношению к
каким бы то ни было научным рассуждениям.
Далее, убеждения человека считаются предрассудками или
суевериями не по своему содержанию, но по тому, каким спосо-
бом он отстаивает их. В этом отношении предрассудки и суеве-
рия находятся в обратном отношении к «разумности»; они свя-
заны не столько с нашими мнениями, сколько с тем, как мы
пытаемся их отстаивать. Почти во всех научных causes celebres
(знаменитых спорах — фр.) — там, где мы испытываем силь-
ное искушение разъяснить туманные места научной дискус-
сии посредством вторжения «внешних» иррелевантных соображе-
256
нии — теологических и идеологических,— нам лучше направить
свое негодование против тирании и догматизма, при помощи
которых неугодные идеи подавляются, а консервативные взгляды
поддерживаются. В деле Галилея, в проявлениях враждебности,
спровоцированной Ламетрп и Пристли, в теологической критике
Джеймса Хаттона, в полемике Лоуренса п Дарвина — в каждом
из этих случаев предметом полемики были подлинно научные
вопросы, и позицию «консерваторов» можно было защищать 1.
Например, тот способ, при помощи которого хаттопианская гео-
логия нападала па распространенные представления о шкале
времени во Вселенной, ставил перед такими учеными, как Лай-
ель, самые подлинные концептуальные проблемы; ничего «анти-
научного» не было и в том обстоятельстве, что образованные
люди в«/ самом начале XIX века скептически относились к
допущению, согласно которому Вселенная существовала в те-
чение столь долгого времени, что это невозможно себе пред-
ставить.
Мы могли на законных основаниях говорить о «предрассуд-
ках» пли «догматизме» только там, где этот скептицизм выра-
жался в огульных угрозах, в апелляции к страху и подозритель-
ности, а не в том, чтоб сформулировать подлинные затрудне-
ния, которые предстояло оценить по достоинству, особенно там,
где новые научные соображения оспаривались пе при помощи
аргументов, а при помощи политических, религиозных или зако-
нодательных санкций. Если бы не состоялся процесс над Гали-
леем, если бы злобствующие политики не подстрекали толпу в
Бирмингеме сжечь дом Пристли, если бы Лоуренс не отказался
защищать свои лекции с помощью авторского права, считая это
богохульством, если бы Уилберфорс в своих нападках на Дарви-
на не переходил на личности.., если бы в каждом из этих слу-
чаев дисциплинарные споры происходили бы без обращения к
риторике, предрассудкам, принудительным санкциям, то проблема
«иррелевантности» пе возникла бы никогда. Так или иначе, тре-
бовалось как-то согласовать новую астрономию Коперника с
религиозной космологией средневековой церкви. Так или иначе,
новая естественная история геологов н палеонтологов XIX века
должна была повлиять на то, что подразумевалось библейскими
традициями. Но в каждом из этих случаев можно было достиг-
нуть понимания и без передачи решения этих вопросов в суд
или толпе. Внешне в каждом из этих случаев, следовательно, было
нарушение — но не логики, а «надлежащего процесса».
1 О Галилее см.: Santillan a G. de. The Theory of Galileo. Chicago,
1955; о Пристли см.: Rutt J. T. Life and Correspondence of Joseph Prie-
stley, Vol. II. L., 1832, p. 116 ff.; о Лоуренсе см.: Goodfield-Toulmin J.
Some Aspects of English Physiology: 1780—1840, Part. II. — «Jornal of the
History of Biology», 1969, 2, 307—320; популярный очерк полемики Дарвина,
Гексли и Уилберфорса см., например: Irvine W. Apes, Angeles and Victo-
rians. L., 1955.
i/29 Зак, 21 257
Напротив, если предрассудки, консерватизм и другие нерацио-
нальные формы вынуждены действовать методами интеллекту-
альных дискуссий, а не сообразно своему содержанию, то ничто
не может помешать им в той же мере проявляться внутри про-
фессионального поведения, принятого в данной дисциплине, что
и па ее передовых интеллектуальных рубежах. Каждый, кто бес-
пристрастно изучал научные институты, очень хорошо знает, что
«нормальные процедуры» дисциплинарного развития нарушаются
гораздо чаще, чем это признается публично, и не просто при
помощи санкций, внешних по отношению к науке, но благодаря
предрассудкам и догматизму, внутренне ей присущим. Противо-
речия между новыми научными идеями и укоренившимися орто-
доксальными положениями религии вызывают специфическую
форму скрытой вражды, известной нам как odium theologicum;
но теоретики-новаторы, чьи идеи вступают в конфликт с прочно
укоренившимися ортодоксальными положениями пауки, не менее
часто поглощаются odium professionale. Понятия и методы, ко-
торые уже давно установились в дисциплинарном смысле, то есть
давно заняли свое место в науке, часто становятся «упрочивши-
мися» также и в социологическом смысле, завоевав прочные по-
зиции в научных институтах. Когда это происходит, то для при-
менения санкций против перемен не нужно обращаться к таким
соображениям, которые являются «ненаучными» или «иррелевант-
ными» из-за того, что оци находятся вне науки; тем не менее
они с таким же успехом могут нарушать реальные интел-
лектуальные требования спорного вопроса, как и соответство-
вать ему.
В таком случае все это говорит о том, что поиски постоянного и
универсального критерия, отделяющего «научные» соображения
от «ненаучных», оказываются тщетными. При помощи самых
общих терминов можно сказать очень мало полезного о том, какие
направления концептуальных изменений внутренне «допустимы»
в научных дисциплинах. На таком предельно общем уровне вряд
ли найдется место для чего-нибудь, кроме квазиполитических
лозунгов. Это могут быть либеральные лозунги, как, например,
«первый принцип интеллектуальной морали» (или научно-теоре-
тического анархизма) Пола Фейерабепда, согласно которому
любое новое положение одинаково имеет право и неплохие шан-
сы на практике доказать свои достоинства 1. Или же это могут
быть авторитарные лозунги, подобные тем, которые подразумева-
ются в утверждении Куна, что «нормальный», или кумулятив-
ный, прогресс науки зависит от канализирования новаций в пре-
делах, отведенных для них некоторыми наиболее авторитетными
теоретиками. Подобные лозунги добавляют о^ень немногое к
1 Особенно см.: Feyerabend Р. К. Against Method.— «Minnesota
Studies for the Philosophy of Science», 1970, 4.
258
нашему общему пониманию научного развития, так как в каж-
дом случае его эффективность разрушается вопросами: «Какими
именно должны быть „неплохие" шансы?», «В чем именно дол-
жен состоять „нормальный" прогресс науки?» Конечно, есть
такие ситуации, когда существующие теории должны пересма-
триваться, когда неправильно было бы ограничивать концепту-
альное воображение ученых во имя общепринятой «парадигмы»,
но мы должны рассматривать все концептуальные варианты в
каком-либо порядке интеллектуального приоритета, а не абсолют-
но произвольно. Таким образом, попытка достичь всеобщего де-
маркационного критерия закапчивается ничем.
Корень всей проблемы заключается в следующем. В науке
«обоснованное» — это то, что оказалось обоснованным, «оправды-
ваемое» — то, что находит себе оправдания, «внутренне реле-
вантное»— то, что оказывается внутренне релевантным. Так как
любое изменение стратегической направленности науки может
привести к передвижению ее границ, то ни одно из этих откры-
тий не сможет стать абсолютным или конечным. Действительное
применение подобных различий и, следовательно, принятие ре-
шений по поводу того, что можно считать «релевантным» в
какой-либо ситуации, представляют собой вопросы научных
суждений, которые в каждом конкретном случае должны решать-
ся заново. Как и все остальные вопросы суждений, эти решения
основываются на экспериментальной интерпретации исторических
прецедентов, которая тем не менее в некоторых отношениях мо-
жет ввести нас в заблуждение или дезориентировать. Но здесь,
как и во всех остальных случаях, искусство научного исследова-
ния и создания теорий должно извлечь из своей собственной
истории как можно больше; а вопрос о том, можно ли при по-
мощи философских ухищрений достичь некоего непогрешимого
«метода», даже не возникает.
В, крайнем случае можно, наконец, поставить вопрос — не-
ужели мы не сможем отличить объективные интересы естествен-
ной науки от произвольных социальных интересов права, напри-
мер? Но даже в этом случае мы должны позаботиться о том,
чтобы не преувеличивать разницу между этими двумя видами
рациональной инициативы. Конечно, мы можем допустить, что
основные идеалы права носят «регулятивный» характер, тогда
как основные идеалы науки являются «репрезентациональными»,
причем вопрос о том, что именно считать «точной регуляцией»,
может оставить больше простора для разногласий, чем вопрос о
том, что считать «точной репрезентацией». Однако этот контраст
основывается не столько на абсолютном противопоставлении,
сколько на сравнении. Вплоть до XVII столетия идеи спра-
ведливости и равенства были гораздо более единообразны и во-
обще более согласованны, чем идеи физики и биологии; и даже
в настоящее время вопрос о том, как изменение юридической
7з 9*
259
стратегии реализуется на практике, является вопросом факта,
то есть требует перспективной оценки действительных послед-
ствий,— точно так же, как и соответствующий вопрос о новой
научной стратегии. В каждом случае эта перспективная оценка
должна принимать в расчет прошлую историю и постоянные
цели релевантных инициатив; и в каждом случае эту оценку
можно использовать как основу для решения вопроса о том, в
каком стратегическом направлении должно происходить даль-
нейшее развитие наших научных или законодательных понятий.
ГЛАВА 4
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ:
ИХ ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ
Историки нередко описывают изменение научных идей таким
образам, как будто научная мысль развивается совершенно само-
стоятельно, и совершенно забывают о людях, воплощающих эти
идеи, то есть имена, индивидуальность и характеры тех людей,
которые коллективно создавали и критиковали их. Правда, в не-
которых случаях мы справедливо можем рассматривать истори-
ческий рост научных идей как непрерывную рациональную дис-
куссию, не беспокоясь о том, кто именно выдвигал в ней дей-
ствительные аргументы, и полагаясь па безличный характер
пассивного залога («было известно...», «было продемонстрирова-
но...») как па своего рода грамматический занавес, скрывающий
индивидуальные свойства ученых, о которых идет речь. Если по-
добные объяснения заводят пас так далеко, то требуются допол-
нительные доказательства, демонстрирующие «дисциплинарный»
характер научной мысли. В конечном итоге, однако, мы должны
будем признать, что эти пассивные формы — всего только зана-
вес. Отныне мы, напротив, должны будем рассматривать все по-
добные завуалированные, пассивные выражения как «предназна-
ченные д.ья увековечивания» и настаивать на более беспристраст-
ных, активных вопросах: «Кто осуществляет отбор в науке?», «Как
ученые начинают применять критерии отбора в своей деятельно-
сти?»; «При помощи каких средств они добиваются того, что
сделанный ими выбор принимается их влиятельными коллегами
по специальности?»
Если бы развитие естественных наук в конце концов оказа-
лось применением неизменных и универсальных принципов че-
ловеческого понимания, то мы могли бы до бесконечности откла-
дывать эти и подобные им вопросы, относящиеся к человеку.
Ибо в этом случае стало бы возможным установить неизменные
и однозначные критерии научного отбора, которые оставались бы
одними и теми же во всех исторических и культурных ситуа-
циях; а все вопросы типа «кто?», «где?», «когда?» в принципе
оказались бы ненужными. Единственно были бы только вопро-
сы слабости человеческой: действительно ли определенная груп-
па ученых правильно применяла эти универсальные критерии, а
если нет, то что ввело их в заблуждение? Но так как больше не
существует никаких общих оснований, чтобы верить в подобные
9 Зак. 21 261
универсальные критерии, и есть много доказательств того, что
наши критерии интеллектуального отбора очень изменчивы, то
эта возможность предоставляется нам довольно редко. Скорее мы
должны приготовиться к тому, чтобы от абстрактных объяснений
изменений в науке перейти на иной уровень, где все вопросы
связаны с людьми, чьи понятия, теории и идеалы объяснения яв-
ляются предметом дискуссий, с чьей точки зрепия обсуждаемые
вопросы являются «проблематичными» и в чьпх глазах новые ва-
рианты должны получить преимущество перед темп, которые
считаются «установленными». Соответственно в этой главе мы
представим рациональную инициативу в естественных науках не
как изменчивую популяцию понятий, связанных между собой в
более или менее формализованные теории, а как изменчивую по-
пуляцию ученых, объединенных в более пли менее строго орга-
низованные институты. Ибо жизнь пауки воплощается в жизни
этих людей — в обмене информацией, дискуссиях, представлении
собственных результатов в различных публикациях и собраниях,
конкуренции за звание профессора и президента академии, в по-
пытках выделиться, продолжая в то же время соперничество за
положительные оценки окружающих. А структура этой деятель-
ности создает признание, хорошо различимые научные специаль-
ности и их подразделения, которые служат институциональным
воплощением этой дисциплины и ее разделов.
4.1. Профессиональное воплощение науки
Научные специальности, как и научные дисциплины, обла-
дают, несмотря на исторические изменения, признанным един-
ством и преемственностью, которые, однако, не достигают идеа-
ла абсолютной неизменности во времени. Так что научную спе-
циальность следует рассматривать как «историческую сущность»,
или «популяцию», чье институциональное развитие происходит
параллельно интеллектуальному развитию той дисциплины, кото-
рой она соответствует. Кроме того, один и тот же круг коллек-
тивных интересов и устремлений накладывает единство и целост-
ность на оба аспекта рациональной инициативы — и дисципли-
нарный, который образует интеллектуально организованный
продукт этой инициативы, и профессиональный, который служит
социально организованным человеческим фактором, за счет кото-
рого она прогрессирует. Центральный вопрос нашего анализа со-
стоит в том, каким образом институты и роли, публикации и мо-
тивы, характерные для организованной научной специальности,
отражают в своей структуре и историческом развитии коллектив-
ные интеллектуальные интересы и стремления людей, работаю-
щих в той дисциплине, о которой идет речь.
Тесная близость между профессиональными и дисциплинар-
ными аспектами науки создает для нас вначале некоторые за-
262
труднепия. Отсюда всегда следует неопределенность многих тер-
минов, которые мы употребляем, когда обсуждаем содержание и
историческое развитие естествознания; они используются в двух
различных смыслах — одном дисциплинарном, другом профессио-
нальном. Мы говорим, например, о присущем идеям «авторите-
те» (или законной силе), а также о профессиональном «автори-
тете» (или власти) институтов в личном «авторитете» (или
доминировании) индивидов. Аналогично новые понятия завоевы-
вают «прочное» (или узаконенное) место в научных дисципли-
нах, тогда как институты и публикации завоевывают «прочное»
(или пользующееся влиянием) положепие в соответствующих
дисциплинах; идеи же и институты достигают этого положения
благодаря тем влиятельным людям, которые образуют «автори-
тетные» профессиональные референтные группы, или «установ-
ленный порядок» («establishment»)..Как же тогда институцио-
нальный авторитет или власть распределяется между отдельны-
ми представителями научной специальности? И как при этом
профессиональном распределении власти принимаются в расчет,
защищаются и сохраняются общественные идеалы данной дис-
циплины — ее коллективные стремления и цели, процедуры и
критерии?
В этом пункте вопрос о связи между дисциплинарным и про-
фессиональным аспектами пауки вновь напоминает об одной из
центральных проблем политической теории, а именно вопрос о
том, как некоторые индивиды могут стать «авторитетными пред-
ставителями» целых специальностей, социальных групп и даже
наций. Предположим, что мы озадачены каким-либо явлением в
генетике и при этом задаем вопрос: «Что скажет нам об этом
биохимия?» Тогда мы поймем два обстоятельства. Во-первых,
биохимия, как и любая другая наука, говорит нам только то, что
говорят ее представители; во-вторых, пе каждый биохимик поль-
зуется в качестве такового одинаковым авторитетом. В результа-
те термин «биохимия» становится в таком контексте важной по-
литической абстракцией, наподобие «Франции», «американского
народа» и «международного рабочего класса». Соответственно во-
прос: «Что должна сказать нам биохимия?»—нужно понимать в
переноспом смысле, как и вопросы: «Где находится Франция?» и
«Какова позиция профсоюзов?»
В науке, как и в политике, легче всего игнорировать этот во-
прос и допустить, что все «авторитетные» или «установившиеся»
суждения выражают основанное па осведомленности единодуш-
ное решение, с которым согласны все представители профессии,
ради которой или по более тенденциозным соображениям мы испы-
тываем искушение говорить так, будто выражение «Известно,
что это то-то и то-то» просто означает: «Каждый представитель
этой специальности знает то-то и то-то». Но в пауке, как и
в политике, эта точка зрения основывается на удобной для пас
фикции. Чистый анархо-синдикализм и демократия для всех
9*
263
реализуются в деятельности научной специальности не больше,
чем где-нибудь еще. В этом отношении интеллектуальные специ-
альности на практике не отличаются от других демократических
(в теории) институтов. Все пользующиеся доверием члены науч-
ной специальности в теории могут быть равными; но, оказывает-
ся, некоторые «более равны», чем другие. С одной стороны, есть
люди, чье слово имеет вес в данной специальности, чьи суждения
пользуются авторитетом у тех, кто работает в этой области,
люди, которые говорят «во имя и от имени» соответствующей
науки. С другой стороны, есть люди, которые не имеют такого
влияния либо потому, что их мнения и позиции считаются нере-
зультативными, либо потому, что они подвергаются гонениям как
еретики, и эти люди не в состоянии действовать в качестве
представителей той науки, которой они служат.
Следовательно, когда мы говорим: «Известно то-то и то-то»
или: «Биохимия говорит нам то-то и то-то», то мы не имеем в
виду, что каждый знает то-то и то-то или что каждый биохимик
скажет нам то-то и то-то. Обычно мы скорее имеем в виду, что
речь идет об «авторитетных» взглядах, которые авторитетны как
в дисциплинарном смысле (то есть о взглядах, которые подтвер-
ждаются совокупностью наиболее достоверных опытов), так и в
профессиональном смысле (то есть о взглядах, поддерживаемых
авторитетами, пользующимися влиянием в данном предмете).
В терминах этого двойного смысла центральную проблему —
проблему связи между этими двумя аспектами науки — можно
по-новому сформулировать следующим образом.
Как получается, что в хорошо организованной интеллек-
туальной инициативе те идеи, которым коллективный опыт
придает интеллектуальный авторитет, приобретают также и
институциональный авторитет? И чем подтверждается, что
институциональный авторитет применяется по преимуществу
в пользу тех взглядов, которые имеют право также и на дис-
циплинарный авторитет?
Очевидно, именно влиятельные ученые должны использовать
свой профессиональный вес для поддержки только тех понятий
и доктрин, которые с дисциплинарной точки зрения достаточно
хорошо обоснованы. Проблема состоит в том, чтобы объяснить,
как можно проверить, что (1) интеллектуальный авторитет науч-
ных идей, (2) личный авторитет отдельных ученых и (3) про-
фессиональный авторитет научных организаций остаются так
тесно связанными друг с другом, как того требуют интересы нау-
ки. Эта проблема требует от нас, чтобы мы распространили на
институциализированную деятельность естествоиспытателей тот
же тип теоретического анализа, который Макс Вебер ввел в об-
щую социологию; в результате мы получим еще одно применение
общей теории доминирования (Herrschaft) в человеческих ин-
ститутах.
264
Предположим, далее, что мы приняли параллели между дис-
циплинарным и профессиональным развитием в науке. Если ин-
теллектуальный авторитет понятий и теорий основывается не па
универсальных, а на изменчивых критериях и стандартах суж-
дений, то это же самое, по-видимому, справедливо и по отноше-
нию к авторитетности решений отдельных ученых, и к институ-
циональному авторитету научных организаций. Новые теории и
понятия завоевывают себе место в какой-либо дисциплине, внося
свой вклад в решение ее актуальных спорных проблем, и мы мо-
жем точно определить требования этих проблем только на языке
распространенных интеллектуальных целей и объяснительного
потенциала этой дисциплины. Но аналогии с этим отдельные
ученые завоевывают себе право говорить от имени своего пред-
мета только за счет тех суждений, которые они же продемон-
стрировали ранее, приступая к решению стоящих перед их спе-
циальностью актуальных концептуальных проблем, а эти сужде-
ния также должны быть оценены в терминах нынешнего объяс-
нительного потенциала и идеалов объяснения. Короче говоря,
научные специальности подобны всем остальным социальным ор-
ганизациям. Они имеют своп «референтные группы», включаю-
щие в себя тех людей, чей индивидуальный выбор в конечном
итоге становится выбором целей профессии. II любая серьезная
социология науки должна своевременно объяснить, в результате
каких процессов референтные группы влиятельных судей, кото-
рые пользуются авторитетом в какой-либо научной специально-
сти, складываются, начинают доминировать, укрепляют свой авто-
ритет и в конце концов сменяются другими группами.
Новое понятие, теория или, например, стратегия становятся
эффективной «возможностью» научной дисциплины только тогда,
когда они серьезно воспринимаются влиятельными представите-
лями соответствующей профессии, и полностью «устанавливают-
ся» только в том случае, если получают свое позитивное под-
тверждение. Напротив, новация, которую нынешняя референтная
группа объявляет «совершенно ошибочной», на время как бы за-
мирает. Конечно, есть два альтернативных способа избежать это-
го заклятия — либо отказаться от новации, либо сменить рефе-
рентную группу. Так что идея, о которой идет речь, с успехом
может быть оживлена при поддержке последующих поколений
ученых, чьи новые теории легче могут быть согласованы с нею.
Между тем, однако, «авторитетное» решение об ее ошибочности
может быть смертным приговором для новой гипотезы, предпола-
гаемого научного института, даже для отдельной научной
карьеры.
Посредством каких воздействий на карьеру ученого со сторо-
ны дружеских связей и публикаций, редакторской деятельности,
университетских должностей, участия в комитетах отдельные
ученые достигают в таком случае влиятельного положения и ис-
пользуют свои способности, чтобы их голос был авторитетным?
265
Какие ошибочные решения, неудачи и поражения могут поста-
вить под сомнение принадлежавшую им ранее возможность гово-
рить от имени своей дисциплины? И какие ученые общества и
«невидимые колледжи», журналы и конгрессы определяют тот
форум конкуренции, в котором происходит соревнование между
интеллектуальными новациями? Если бы на эти вопросы были
получены достаточно подробные ответы, то именно это продемон-
стрировало бы нам, какие существуют сферы действия и возмож-
ности для привычных политических механизмов даже в самых
отвлеченных интеллектуальных специальностях. Научные ин-
ституты, иными словами, подобно институтам любой коллектив-
ной человеческой деятельности, развиваются благодаря деятель-
ности партий и групп давления, благодаря coups d’etat (госу-
дарственным переворотам — фр.) и односторонним декларациям
независимости, они представляют сцену для постоянного перетя-
гивания каната между старой гвардией и младотурками, ауто-
кратами и демократами, олигархиями и геронтократиями и, та-
ким образом, обнаруживают характерные формы, разновидности
и инструменты политической жизни и вообще всякой деятельно-
сти.
Поставить проблемы в этих терминах — отнюдь не значит не-
уважительно или цинично говорить об ученых специальностях.
Это просто значит признать, что власть остается властью, инсти-
туты остаются институтами, независимо от того, выполняют ли
они экономические, политические или интеллектуальные функ-
ции. Конечно, вплоть до самого последнего времени ученые куль-
тивировали перед обществом образ беспристрастности; это дела-
лось с претензией на то, что институциональная деятельность
ученых, образующая профессиональное лицо «рациональной»
инициативы, каким-то образом освобождается от общих принци-
пов политических и социальных действий. К счастью, что гораз-
до более реалистично, ныне мы больше не обязаны полагать, что
поведение учащихся и ученых, собранных в профессиональные
группы, эмансипируется от общих законов, управляющих кол-
лективной деятельностью других институтов. В действительности
индивиды и организации пользуются такой же реальной властью
и влиянием на развитие науки, как и во всех остальных сфе-
рах человеческой деятельности. Соответственно за роли, должно-
сти и влиятельное положение в науке стоит бороться (так оно и
происходило в действительности) так же единолично, методиче-
ски и даже изобретательно, как и во всякой другой сфере.
Следовательно, какой бы безупречной и сплоченной профес-
сия ученого ни выглядела перед внешним миром, ее внутренняя
организация в такой же мере является областью политических
действий, как и любой другой институт. Здесь, как и везде, спо-
койные, упорядоченные процедуры тайного голосования и выбо-
ров — это только кульминационные точки более сложных и топ-
ких процессов, включающих деятельность лобби и давление на
266
избирателей, маневрирование процедурами, случающиеся время
от времени перемены курса. Л так как в академической политике
власть и влияние образуют единственную доступную всем валю-
ту, то конкуренция за них, очевидно, даже более интенсивна,
чем где-либо еще L
Центральная проблема, с которой мы сталкиваемся в полити-
ческой теории научных процессий, соответствует центральной
проблеме традиционного экономического laisser-faire (невме-
шательства— фр-)- Развитие рациональной инициативы, как и
инициативы экономического общества, можно проанализировать
на трех различных уровнях. Мы имеем «общее благо», представ-
ленное историческим развитием коллективной дисциплины, со
всеми ее достоверными понятиями, процедурами объяснения и
стратегиями. Мы имеем профессиональные институты инициати-
вы, которые обычно существуют лишь для того, чтобы выпол-
нять функцию обслуживания этой дисциплины, но в которых
вскоре развиваются другие, независимые интересы, причем неко-
торые из них никак не связаны с ее интеллектуальными забота-
ми. И наконец, мы имеем совокупность отдельных учепых, кото-
рые должны наилучшим образом, какой только в их силах, про-
жить свою жизнь и сделать свою карьеру, учитывая одновременно
и идеальные требования избранной ими дисциплины, и прак-
тическую реальность своей профессиональной ситуации. В таком
случае проблема состоит в том, чтобы дать исторически убеди-
тельное объяснение науки, которое рассматривает и профессио-
нальную, и личностную точку зрения, которое раскрывает, как
взаимодействуют интеллектуальные, институциональные и инди-
видуальные факторы и как отдельные ученые и научные инсти-
туты, преследуя свои собственные законные интересы, в то же
время могут содействовать «общему благу» своих коллективных
дисциплин.
Анализируя научные специальности как «популяции», мы мо-
жем избежать социологической ловушки, аналогичной той, в ка-
кую заманивает философию науки культ системности. Подобно
тому как существует ошибочная трактовка интеллектуального со-
держания всей науки как единой, последовательной формальной
системы, рациональность которой присуща ее внутреннему строе-
нию,— точно так же существует и ошибочная трактовка соци-
альной организации целой специальности как единой связной
«социальной системы», функции которой заключаются в том, что-
бы поддерживать статическое равновесие между составляющими
ее ролями и институтами. Действительо, именно эту ошибку
готовы были совершить некоторые социологи науки. Усвоив
1 А. Ричардс любит указывать, что сплин и интриги являются харак-
терными чертами научного мира: вспомним кн.: Browning R. Soliloqui
in a Spanish Cloister. Как сообщают, Гарольд Уилсон также заметил, что
после склок Оксфордского ученого совета было таким облегчением вер-
нуться к джентльменской атмосфера палаты общип.
267
теоретическую привычку — анализировать «общество в целом» как
состоящее из интегрированной сети ролей и функций, институтов
и систем поощрения, они, естественно, допустили, что различные
коллективные действия людей в своей совокупности обеспечива-
ются меньшими «социальными системами», для которых харак-
терно аналогичное равновесие. С этой точки зрения «социальная
система пауки» — это просто одна из нескольких сосуществую-
щих «систем», в своей совокупности образующих интегрирован-
ную тотальность, которую мы называем «общество в целом»
Тогда для того, чтобы объяснить деятельность какой-нибудь спе-
цифической профессиональной организации, влияние какого-
нибудь специального журнала или значение какого-либо особого
вознаграждения (например, Нобелевской премии), достаточно
показать,’ во-первых, как опи включаются в «социальное равно-
весие» пауки, а во-вторых, какова их косвенная роль в поддер-
жании общего равновесия всего общества в целом 1 2.
С пашей точки зрения, этот анализ имеет два серьезных не-
достатка. Равновесная модель общества снова смешивает истори-
чески изменяющиеся взаимодействия между различными инсти-
тутами с теми систематическими связями, которые поддержива-
ются между различными ролями в одном каком-либо институте;
и, «замораживая» эти исторически изменяющиеся отношения, эта
путаница в свою очередь мешает нам понять, как могут изме-
няться межинстптуциональные отношения.
В каком-либо одном институте составляющие его должности
по уставу могут иметь фиксированные отношения статуса, так
что любая должность (например, должности вице-президента или
старшего научного сотрудника) имеет значение, которое понятно
только благодаря ее отношению к структуре всего института.
Однако то же самое будет совсем несправедливо по отношению к
сосуществующим институтам, охватывающим почти всю функ-
ционирующую специальность. Такие сосуществующие институты
возникают независимо друг от друга, развиваются параллельно и
не связаны системными отношениями статуса. Именно это и
позволяет внутренней организации научной специальности при-
способиться к исторически изменяющимся ситуациям.
И с социологической, и с философской точек зрения систем-
ные или структурные связи внутри отдельной теории или инсти-
тута — это одно, а исторически изменяющиеся и функциональ-
ные взаимодействия между различными институтами и теория-
ми — это нечто совсем иное. Формальные профессиональные
институты в большинстве случаев представляют собой гнезда «ор-
гапизационного систематизирования» в более обширных институ-
циональных популяциях всей профессии в целом. И мы сможем
1 Storer М. W. The Social System of Science. N. Y., 1966, p. 29—30.
2 О роли Нобелевских премий см. статью Г. Цукермана в: «Scientific
American», 1967, Nov., 217, № 5, 25—33.
268
дать исторически убедительное объяснение профессионального
развития науки только в том случае, если будем уважать его
фундаментальное различие между организационной структурой и
функциональными взаимодействиями. Если это будет сделано, то
мы сумеем объяснить, почему понятие авторитета является столь
основополагающим для нашего анализа и в то же время — столь
неопределенным. Так как тогда, вместо того чтобы полагать, что
научная специальность имеет статичную «организационную схе-
му» с фиксированной сетью институциональных статусных свя-
зей, мы должны будем признать, что сосуществующие в какой-
либо специальности институты постоянно конкурируют между
собой за «истэблишмент» и «авторитет». Вместо того чтобы их
совместная работа всегда шла гармонично, в рамках единой «си-
стемы», соперничающие специализированные институты легко
могут начать действовать таким образом, чтобы сорвать планы
друг друга. И возникающие в результате этого соперничества
конфликты по большей части обеспечивают стимулы для истори-
ческих изменений в профессиональной сфере, подобно тому как
теоретическая несовместимость — в дисциплинарной сфере.
Такой популяционный анализ сразу же объясняет некоторые
социологические явления, с которыми системное объяснение со-
гласуется отнюдь пе так легко. Вместо того, например, чтобы бо-
роться за влиятельное положение в уже упрочившихся институ-
тах, отдельные ученые, напротив, могут увеличить влияние на
своих коллег, как личное, так и своих новых идей, учреждая со-
перничающие центры власти или создавая раскольнические про-
фессиональные группировки, которые решают свои собственные
проблемы независимо от ранее учрежденных институтов. Анало-
гично, вместо того чтобы бороться за контроль над наиболее
респектабельными из пыпе существующих журналов, возможно,
для них будет более эффективным основать новый журнал, ссы-
лаясь на преимущества своего нового подхода с тем, чтобы за-
воевать такое влияние, которое можно будет сравнить с влиянием
более старинных периодических изданий. Функции периодиче-
ских изданий в действительности состоят в том, чтобы в сжатом
виде, и притом более широко, воспроизводить функции научных
институтов. В рамках одной инициативы «авторитетные» журна-
лы, которые так зависят от обмена результатами между различ-
ными учеными, должны играть исключительно важную роль. Так
что самый raison d’etre (смысл — фр.) многих научных об-
ществ заключается, прежде всего, в журналах, которые они из-
дают, и только во вторую очередь — в их формальных собраниях.
Действительно, на практике редактор влиятельных периодиче-
ских изданий лично действует в качестве дисциплинарного
«фильтра», пропускающего только те статьи, которые заслужи-
вают публикации в его журнале, и таким образом осуществляю-
щего дисциплинарный отбор официально признанных «возможно-
стей». И, имея в виду роль, которую эта «фильтрация» играет в
269
отборе и сохранении новых идей, можно, следовательно, рассмат-
ривать научную периодику как один из самых сильных «инсти-
тутов» науки.
Нынешняя институциональная популяция науки включает в
себя элементы нескольких различных типов: научные общества,
должности, журналы, системы вознаграждения, конференции
и т. д. В пределах каждого типа «ветераны» и «недавно приня-
тые» члены обычно сосуществуют; при этом новые, менее авто-
ритетные элементы обычно действуют менее формализованно,
чем их более старые коллеги. Но в надлежащее время история
вносит в эти отношения свои изменения. Сегодняшний «незамет-
ный коллега» или только что напечатанное сообщение содержат
зародыши общества или журнала, которые будут доминировать в
следующем поколении (если пе говорить об институтах, которые
устареют через сто лет). Независимо от того, рассматриваем ли
мы научные общества, книги или журналы, ежегодные собрания,
университетские должности или руководство научными исследо-
ваниями,— в каждом из этих случаев следует видеть не только
то, как возникают и сменяют друг друга в своем историческом
развитии функции отдельных организаций в рамках нынешней
профессиональной деятельности, но и то, как возникают и сме-
няют друг друга конкурирующие организации.
Короче говоря, и здесь центральным вопросом снова являет-
ся вопрос об исторических изменениях — не о том, в чем выра-
жается институциональный авторитет в пределах ныне существу-
ющей научной специальности, а о том, как этот авторитет пере-
распределяется на последовательно сменяющих друг друга этапах
развития данной специальности. Таким образом, наряду с
дисциплинарных! вопросом: «Как отбираются концептуальные ва-
рианты для включения их в устоявшееся содержание какой-
либо науки?» — мы можем дедуцировать его профессионального
двойника, а именно: «Как в конкурентной борьбе за авторитет в
какой-либо научной специальности новые индивиды, ассоциации,
журналы п/или научные центры сменяют друг друга?» И точно
так же, как дисциплинарная популяция в любой период времени
включает в себя не только очень авторитетные понятия, но и
другие концептуальные варианты, которые пока пользуются го-
раздо меньшим интеллектуальным авторитетом, так и профессио-
нальная популяция институтов в каждый данный момент време-
ни содержит как те организации, которые ныне обладают пре-
стижем и влиянием, так и те более новые организации, которые
пока обладают гораздо меньшим институциональным авторите-
том. Науки будущего, несомненно, получат новых представите-
лей, новые журналы, новые общества; и лишь в очень редких
случаях они будут возникать в результате резкого переворота,
или революции. Таким образом, наша проблема, во-первых, со-
стоит в том, чтобы рассмотреть, как получается, что профессио-
нальный авторитет постепенно, в течение одного пли нескольких
270
десятилетий, передается от одного института, образующего со-
ставную часть данной профессии, к другому; во-вторых, она со-
стоит в том, чтобы рассмотреть, какие существуют гарантии
того, что в процессе перехода институционального авторитета от
ранее сложившихся институтов к институтам-новичкам будут за-
щищаться законные интеллектуальные требования дисциплинар-
ного авторитета.
Теперь мы в состоянии разделаться с теми завуалированными
безличными предложениями, с которых мы начали: «Известно,
что...», «Продемонстрировано, что...» и т. д. Такие дисциплинар-
ные утверждения, будучи изложенными па специальном языке,
имплицитно включают в себя широкое разнообразие индивидов и
институтов. Предположим, что мы утверждаем, например, следу-
ющее: «К 1860 году стало известно, что теплота — это форма
движения». На дисциплинарном языке это означает: «К 1860 го-
ду было продемонстрировано, что температура материального
тела — это непосредственная мера средней кинетической энергии
составляющих его молекул; что подтверждает старую максиму,
согласно которой теплота есть форма движения». Переводя это
утверждение на профессиональный язык, мы сможем тогда более
полно выразить его имплицитный смысл и в то же время выяс-
нить, кто именно должен был произвести необходимые «демон-
страции» и к чьему удовлетворению: «В 1860 году Клаузиус и Мак-
свелл продемонстрировали, к удовлетворению Тиндаля, Гельмголь-
ца и Томсона, что температура материального тела и т. д. ...»
Однако даже этот перевод все еще оставляет ситуацию неяс-
ной в некоторых весьма существенных отношениях. Чтобы объ-
яснить, почему после столь многолетних дебатов кинетическая
теория в конце 50-х годов XIX века заняла в физике решающее
место, мы должны также выяснить: (1) как удалось Клаузиусу и
Максвеллу столь быстро привлечь внимание к своим идеям;
(2) почему такие ученые, как Гельмгольц, Тиндаль и Томсон, так
легко убедились в их правоте; (3) в каких отношениях благосло-
вение этих ученых ускорило принятие новой теории.
Конечно, то, что этот специфический аргумент был представ-
лен двумя учеными, которые уже привлекли к себе внимание в
качестве физиков, пользующихся авторитетом среди ученых од-
ного с ними ранга, не было случайным совпадением. Если бы
тот же самый аргумент исходил от менее известных ученых или
был представлен не менее влиятельный форум, то он не привлек
бы к себе внимания и не был бы принят так быстро и легко !.
Хотя в качестве теоретических аргументов статьи Клаузиуса и
1 В самом деле, кинетическая теория теплоты была уже давно совер-
шенно независимо сформулирована Уотерстоном в 1845 г. и не привлекла
к себе ничего, что напоминало бы такое же внимание; тем более она не
заслужила всеобщего одобрения. Даже тогда «влияние», которым в дей-
ствительности пользовался аргумент, зависело от того, был ли он выдвинут
«человеком своего круга» или «человеком со стороны».
271
Максвелла, согласно дисциплинарным стандартам их времени,
могли обладать всей необходимой последовательностью и силон,
лучшим аргументом в мире, который, вообще говоря, и смог так
быстро придать им «профессиональный вес», оказалось то, что
они были сформулированы и представлены вниманию влиятель-
ной «референтной группы» своевременно и надлежащим образом.
Или, точнее, даже лучший в мире аргумент может завоевать ин-
ституциональный авторитет, достойный его интеллектуального
авторитета, только в том случае, если профессиональные условия
были для него благоприятны в остальных отношениях. Следова-
тельно, давая более развернутую транскрипцию нашего утвер-
ждения, относящегося к научной дисциплине, на языке профес-
сиональной деятельности, мы можем теперь сказать:
«Около 1860 года совокупность понятий и процедур объяснения,
распространенных в европейской теоретической физике, достигла
такого пункта, где Клаузиус и Максвелл (будучи влиятельными
физиками) смогли дать новый глубокий анализ тепловых свойств
газов, согласно которому температура материального тела и т. д. ...
именно в этом пункте их новый анализ смог быстро завоевать
поддержку авторитетных физиков-теоретиков своего времени
(например, Гельмгольца и Тиндаля), вошел в учебники (напри-
мер, во влиятельный учебник Томсона и Тэйта); и т. д. ...»
Раскрывая, что именно скрывалось за неопределенностью
утверждения, сформулированного в пассивном залоге: «Около
I860 года было продемонстрировано, что...», мы, таким образом,
можем заменить его более банальным, но зато определенным
утверждением, сформулированным в активном залоге: «Около
1860 года авторитетные ученые (осуществляющие институцио-
нальные полномочия) остались удовлетворенными тем, что были
получены хорошо обоснованые аргументы (имевшие право на вну-
тренний интеллектуальный авторитет), подтверждаыпие точку
зрения, согласно которой температура материального тела и т. д...»
Теперь вопрос заключается в том, каким образом институциональ-
ный механизм научной специальности удержит действительное
распределение институциональных полномочий в том направле-
нии, которое соответствует внутренним требованиям интеллекту-
ального авторитета.
Позвольте мне дать краткий очерк применения популяционно-
го анализа к различным научным институтам. В настоящее время
Любая научная специальность включает ряд стабильных научных
сообществ, обладающих сравнительно устойчивыми традиция-
ми и структурой. Эти старые, устоявшиеся сообщества стре-
мятся воплотить в соответствующей научной дисциплине не-
сколько консервативную точку зрения, и эта тенденция усилива-
ется именно благодаря их сложной внутренней организации,
так как в данном случае начинающие молодые инакомыслящие
272
ученые должны будут соответственно завоевывать влиятельное
положение в своей иерархии в течение более длительного време-
ни. Однако наряду с этими установившимися п консервативными
институтами существуют иные, более подвижные и менее офици-
альные группировки, которым еще недостает влиятельного соци-
ального положения и основательности, но которые более эффек-
тивно обеспечивают сотрудничество ученых, работающих на пе-
редовых рубежах исследования. (Такие неформальные группы
корреспондентов и сотрудников в паши дпи рассматриваются как
«невидимые колледжи» — название, первоначально применявше-
еся в XVII столетии к неофициальным предшественникам Лон-
донского королевского общества1). В надлежащее время общие
для всех проблемы и интеллектуальный подход, которые служи-
ли поводом для первоначальной кристаллизации «невидимых
колледжей», обычно приводят к развитию более официальной ор-
ганизации, имеющей полномочия на издание журналов, созыв
конгрессов .и на все остальные аксессуары ученых профессий. Со
временем это новое ученое общество само превратится в «устано-
вившийся» научный институт, который должеп будет оберегать
свои традиционные интересы...
В каждой научной специальности имеется соответствующая
популяция должностных положений. Работающий ученый про-
кладывает себе путь столько же при помощи тех должностей, ко-
торые он занимает — начиная со стипендиата, затем переходя к
должности младшего преподавателя или ассистента и кончая
высшими университетскими должностями и руководством науч-
ными исследованиями,— сколько и при помощи статей, которые
он пишет, и периодических изданий, в которых они публикуют-
ся. Более того, в каждой отрасли пауки сосуществующие инсти-
туты и факультеты сильно отличаются по своему профессио-
нальному положению, и это «положение», в сущности, истори-
чески изменяемся. Соотношение различных исследовательских
групп и лабораторий, действующих в данной науке, в то же вре-
мя является одной из наиболее значительных переменных, лежа-
щих в основе перераспределения профессионального авторитета,
а также одной из наиболее тонких и конфиденциальных пере-
менных, о которых каждый работающий ученый знает гораздо
больше, чем когда-либо напишет об этом. В этом смысле профес-
сиональное положение оказывает свое воздействие без того, что-
бы оно было зарегистрировано в каких-нибудь официальных пра-
вах. Что касается «групповой табели о рангах», то она проявля-
ется в практических отношениях между людьми и институтами,
о которых идет речь; и те, кто считает нужным явно претендо-
вать на соответствующее положение, чаще всего реагируют тем
самым на ту ситуацию, в которой существует опасность утратить
1 См., например: Price D. J. de S. Science since Babylon. New Haven,
1961; Ziman J. Public Knowledge. Cambridge, Engl., 1968.
273
его. Таким образом, в любом исчерпывающем исследовании тех
способов, посредством которых профессиональный авторитет пе-
редается от одного научного института к другому, вопрос о «по-
ложении» в особенности заслуживает изучения.
Аналогичные исторические изменения воздействуют на соот-
ношение различных коммуникационных каналов той пли иной
науки и различных собраний, где осуществляется профессиональ-
ное руководство научными трудами, а также па систему поощре-
ния, действующего в данной специальности. Чтобы удовлетво-
рить новые профессиональные потребности, были один за другим
введены различные формы публикаций — учебники, монографии,
ежеквартальные журналы, тезисы, «сообщения»; при этом исто-
рические изменения в действиях научной специальности снова и
снова отражались в переходе влияния от одного посредника к
другому. В Европе XVII века «невидимые колледжи» первона-
чально сложились благодаря переписке таких людей, как,
например, Генри Ольденбург. С основанием национальных ака-
демий особое значение стали придавать их «трудам» и тракта-
там наподобие «Начал» Ньютона, которые были опубликованы
при их поддержке. В последующие столетия равновесие снова
сдвигалось несколько раз в сторону ежеквартальных журналов,
периодических изданий, выходящих раз в два месяца, еженедель-
ников и даже более регулярных публикаций. Резкое увеличение
количества журналов и сокращение сроков публикаций — это от-
части результат дифференциации паук, а отчасти — обострения
конкуренции в борьбе за приоритет; по они связаны также п с
большой децентрализацией научного авторитета. Там, где никто
не может иметь надежды овладеть всеми имеющимися понятия-
ми и теориями,, научные специалисты были вынуждены взять за
образец плюралистическую модель авторитета. Действительно, на
самых передовых рубежах научного исследования мы снова
имеем теперь не только «невидимые колледжи», но и множество
Ольденбургов, благодаря которым размноженные, но «еще не
опубликованные» материалы по очень узким специальностям
циркулируют в международном круге не менее узких специалис-
тов-энтузиастов. В изначально менее предприимчивых отраслях
науки — об этом догадывались — действительно в печать по-
ступают лишь устаревшие идеи!
Подобным образом научные собрания в разные эпохи принима-
ли различные формы и соответственно обеспечивали различные
возможности для представления оригинальных результатов. Так,
например, мы можем вычертить схему аналогичного перераспре-
деления значения между всемирными конгрессами и ежегодны-
ми профессиональными собраниями; между открытыми сессиями
ассоциаций содействия прогрессу науки и семинарами «только по
приглашению»; и эти исторические изменения вновь отражают
изменения в степени специализации. Действительно, за послед-
ние годы в этой тенденции произошли некоторые изменения, бла-
274
годаря которым в стило научных собраний наметился перенос
центра тяжести от все более узких дисциплин к областям
междисциплинарных интересов, например к экологическим ис-
следованиям и нейрологии.
Что касается систем поощрения в науке, то в своем высшем
выражении признаки профессионального успеха и «авторитета»
обретают зримую форму - Нобелевская премия, членство в на-
циональных академиях и руководство ими и т. п. На соответству-
ющих стадиях их карьеры перспективы этого вознаграждения
служат для работающих ученых подлинным, иногда очень силь-
ным, стимулом. Они даже могут привести, как это, по-видимому,
произошло с Нобелевской премией, к нарушению равновесия
в научной работе, отвлекая внимание от таких предметов, которые
«недостойны» премии (например, экология и систематика) или
поощряя лишь ограниченные аспекты научной работы (напри-
мер, остроумная экспериментальная техника) за счет других
аспектов (например, новых фундаментальных теоретических
оценок). На уровнях не столь возвышенных система по-
ощрения в науке менее заметна, но не менее сильна. Задолго
до того, как у него появляются шансы попасть в свою нацио-
нальную академию, молодой человек должен зарекомендовать
себя в своем профессиональном кругу как «серьезный» работник.
Ради этой цели оп должен публично продемонстрировать пе
только то, что он овладел критическими стандартами избранной
им дисциплины, но и то, что его преданность этой дисциплине
искренна и абсолютна до такой степени, какая в другое время
требовалась только для того, чтобы стать монахом.
Любое нарушение этой преданности — частые выступления
на телевидении, выгодные правительственные консультации, не-
осторожные экскурсы в область популяризации — поставит под
вопрос его профессиональную репутацию. Так что до тех пор,
пока его профессиональное положение в этой специальности не
упрочится, начинающий ученый должен считать, что подобная
посторонняя деятельность является самым настоящим злом для
работы в рамках специальности, если не смертным грехом. Толь-
ко благополучно закрепив за собой авторитетное положение, он,
может быть, сумеет немного позволить себе подобные развлечения;
до тех пор его «жизненные правила» требуют исключительной
преданности целям его научной дисциплины. (По слухам,
Дж. Д. Бернал однажды пригласил своего сына, ученого, вместе
разработать в статье некоторые ио вполне ортодоксальные
идеи — и только для того, чтобы услышать в ответ: «Все это
очень хорошо для тебя, папа, по я должен подумать о своей
карьере».) Аналогия между научной специальностью и монаше-
ским саном, на которую указал Джон Зиман, действительно по-
подает в цель 1. В особенности это относится к системе ценностей,
1 См,: Ziman. Op. cit., р. 138 ff.
27о
лежащей в основе того и другого образа жизни, которая, по
существу, всегда была «однозначной» и «пе от мира сего».
Между тем наряду с очевидными, публичными наградами в
пауке имеется гораздо более влиятельная система неофициаль-
ного поощрения, основанная на таком порядке, при котором
представители каждой специальности поддерживают работы друг
друга. Подобно «групповой табели о рангах» соперничающих ин-
ститутов, эта персональная табель о заслугах индивидуальных
ученых редко предназначается для печати; но, не получая глас-
ности, она не становится от этого менее сильной. Быть президен-
том Королевского общества так же почетно, как и быть архи-
епископом; но какой начинающий не предпочтет завоевать бле-
стящую репутацию или репутацию святости среди равных себе
даже в том случае, если впоследствии это обернется непригод-
ностью к мирской деятельности? И какой ученый средних лет
полностью свободен от опасений, что, согласившись на продви-
жение по служебной институтской лестнице, он внушит своим
более молодым коллегам мысль, что его интеллектуальный пик
уже позади? Положение в этой имплицитной иерархии пе отме-
чается официальными званиями или действиями, но в пей хоро-
шо разбираются все, кто с нею связан. В рядах молекулярных
биохимиков (или систематиков-неодарвинистов, или физиков, ра-
ботающих с элементарными частицами) каждый, начиная с но-
вичков, вскоре получает четкое, хотя и неписаное представление
о том, кто есть кто. И всякая серьезная попытка нанести на кар-
ту исторически изменяющийся характер авторитета в пределах
одной научной специальности должна столкнуться с деликатной
проблемой оценки не только внешних признаков профессиональ-
ного ранга и явным распределением публичных должностей и по-
ложений, но также с имеющей гораздо большее значение внут-
ренней моделью оценки, которая главным образом и определяет,
чьи именно новые идеи серьезно воспринимаются другими пред-
ставителями данной специальности.
Одним из решающих выражений авторитета в науке являют-
ся «стандартные тексты» по данному вопросу; и, рассматривая
их, мы можем яснее попять, как интеллектуальная дисциплинар-
ная передача становится общей принадлежностью соответствую-
щей специальности. Будучи принятой Гельмгольцем и Тиндалем,
кинетическая теория вещества, возможно, заняла прочное место на
передовых рубежах физических наук; однако венцом ее нового
авторитета стало именно включение в повое поколение стандарт-
ных учебников по физике — как элементарных (например, напи-
санный самим Максвеллом учебник «Материя и движение»), так
и более сложных (например, учебник Томсона и Тэйта «Трак-
тат по натуральной философии»). В то время как «микроэволю-
ция» научных идей проявляется в самых современных научных
дискуссиях (будь то переписка Дарвина и Уоллеса или сообще-
ния по физике), ее «макроэволюцття» воплощается в стандартных
276
текстах, считающихся авторитетными в каждом последующем
поколении. Начиная с изложения Рохолтом картезианской физи-
ки и «Оптики» Ньютона и вплоть до «Видов животных и эволю-
ции» Эрнста Майра и фейнмановских «Лекций по физике», эти
стандартные работы определяют последовательную совокупность
доктрин, которые образуют общепринятые исходные пункты для
последующих поколений. Действительно, усваивая специальную
литературу предшествующих поколений, эти исчерпывающие
описания создают «концептуальную платформу», на которую сле-
дующее поколение подающих надежды ученых может опереться
для того, чтобы определить свои собственные дисциплинарные
проблемы и приступить к их решению.
Короче говоря, должностная структура и административная
организация научной специальности, существующие в ней кана-
лы публикаций, собрания и системы поощрения — все обнаружи-
вает один и тот же плюрализм, одну и ту же тенденцию у ее
авторитета: переход от одной группы или индивида — редактора
или президента, профессора или бунтаря — к другим. Этот
плюрализм делает возможными исторические изменения в науч-
ной специальности, однако в то же время оп подвергает критике
нынешние профессиональные авторитеты. И если мы рассмот-
рим, какие аргументы приводятся для того, чтобы оправдать по-
добную передачу авторитета, то перед нами постепенно начнут
проступать контуры ответа на наш основной вопрос, а именно на
вопрос о том, каким образом организация научной специальности
начинает служить истинным интересам научной дисциплины, ко-
торую опа представляет.
Действительно, деятельность научных институтов служит
примером нс только тех же самых механизмов и процессов, кото-
рые управляют политическими отношениями во всех человече-
ских институтах; опа иллюстрирует также те более глубокие
принципы и идеалы, на которых основывается любая политиче-
ская власть, благодаря обращению к которым она получает свое
оправдание и на языке которых она подвергается законному кри-
тицизму. Конечным источником той власти, которой располагают
должностные лица в научной специальности, является молчали-
вое согласие их коллег по профессии, работающих в одной и той
же научной дисциплине. Но эта единодушная поддержка являет-
ся также той последней инстанцией, в которой контролируется
их власть и удерживается в разумных пределах их поведение.
Так происходит потому, что авторитетным представителям науч-
ной специальности всегда бросают вызов, который как раз и со-
стоит в том, что к ним постоянно предъявляется требование дей-
ствовать в качестве современных представителей своей дисципли-
ны. Каким бы радикальным изменениям ни могла подвергаться
социально-политическая ситуация в той или иной специальности,
277
как бы полно ни мог доминировать в пауке своего времени ка-
кой-либо один законодатель (Ньютон, Кювье или Гельмгольц) —
всегда сохраняет силу одно решающее обстоятельство. Подобное
влиятельное положение в науке занимают и используют «во имя»
специальных дисциплин, общих для всех, кто в них работает и
при этом, следовательно, присваивает результаты общих усилий.
В этом отношении именно множественность сосуществующих об-
ществ, публикаций и собраний является одним из многих инсти-
туциональных механизмов, гарантирующих, что власть, под-
держка и авторитет применяются с достаточным учетом коллек-
тивных целей соответствующей дисциплины.
Действовать «во имя дисциплины» — значит на время дей-
ствовать в качестве хранителей ее коллективных интеллектуаль-
ных идеалов, а применение власти в данной специальности огра-
ничивается темп пределами, которые ставятся коллективной
предай костью этим идеалам. Люди, которые применяют профес-
сиональную власть ex officio — в качестве редакторов или тре-
тейских судей, президентов или профессоров,— должны быть го-
товы к тому, чтобы принять вызов, основанный на обращении
к нынешним принципам, процедурам и целям своей дисциплины.
Действительно, если институты данной специальности должны
всегда эффективно служить этой дисциплине, во имя которой
они действуют, их структура должна обеспечивать средства для
того, чтобы ее должностным лицам мог быть брошен вызов. Ко-
нечно, такие институциональные возможности никогда не будут
совершенными. Здесь, как и в любой другой организации, младо-
турки будут часто обвинять старую гвардию в том, что опа пре-
тендует па большую власть, чем заслуживает, или в том, что она
цепляется за должности и после того, как исчерпает свой закон-
ный авторитет. И все же любой специализированный институт
должен так или иначе обеспечить выполнение тех социологиче-
ских функций, которые подразделяются в его коллективных це-
лях; поэтому в его собственной структуре должно получить свое
отражение все многообразие действий, необходимых для разви-
тия соответствующей дисциплины.
Таким образом, коллективные устремления, которые определя-
ют повседневный интеллектуальный интерес к вопросам дан-
ной научной дисциплины, должны также играть решающую —
правда, критическую — институциональную роль в деятельности
соответствующей профессии. Слово «критический» употребляется
здесь намеренно; эти коллективные устремления в одно и то же
время определяют принятые интеллектуальные критерии отбора
в данной дисциплине и служат основой для суждений об исполне-
нии своих текущих обязанностей должностными лицами и инсти-
туциональными подразделениями в той или иной специальности.
Если научные отчеты одного поколения становятся архивом для
следующего, то это изменение должно быть оправдано текущими
дисциплинарными целями той научной дисциплины, о которой
278
идет речь. Если нынешнее направление деятельности комитета
по Нобелевским премиям подвергается критике потому, что оно
нарушает баланс современных научных исследований, то это
возражение в равной мере основывается на дисциплинарных
суждениях о безотносительности и «зрелости» различных направ-
лений исследования. Если существующую ныне организацию на-
циональных академий осуждают как «геронтократию», то под
этим опять-таки подразумевается, что специальность, в которой
главенствуют пожилые люди, неизбежно отстанет от истинных по-
требностей своей дисциплины. (Действительно ли Королевско-
му обществу вплоть до 1961 года не нужно было знать,
что молекулярная биология «созрела» для се поддержки? !)
И если ретроспективно историки, например, порицают господ-
ство Кювье во французском научном «истэблишменте» послспа-
полеоновской эпохи, то их критика также подразумевает, что
Кювье оказал реакционное влияние на развитие биологии во
Франции, то есть что он использовал свой авторитет для продол-
жения своего давнего соперничества с Ламарком и таким образом
привил французской биологии враждебное отношение к эволю-
ционным идеям, которое сохранялось еще долго после его смерти
в 1832 году 1 2.
Конечно, ни одно столетие в истории науки не было свободно
от тиранических злоупотреблений профессиональной властью,
даже на высшем уровне. Так, мрачное, тягостное правление са-
мого Исаака Ньютона в те годы, когда он был постоянным пре-
зидентом Королевского общества, положило начало «ньютонов-
ской» картине мира не только в качестве творческой основы для
физических умозаключений, но и в качестве догмы, которая впо-
следствии оказывала подавляющее влияние, когда такие ученые,
как Томас Юнг, намеревались оживить вышедшие из моды идеи
самого Ньютона. Множество подобных тираний, хотя и меньшего
масштаба, создавалось «от имени пауки». Отказывали в публи-
кации статей, в академических постах, в профессиональных каче-
ствах, даже если речь шла об Оме, Майере или Гельмгольце, от-
казывали не из-за отсутствия интересных дисциплинарных аргу-
ментов, а из-за их профессиональных разногласий с редактором,
руководителем исследований или влиятельным профессором3.
1 С:ь, например: То ulmin S. The Complexity of Scientific Choice:
a Stocktaking. Перепечатано в: Criteria for Scientific Development, ed.
E. Shils. Cambridge, Mass., 1968, p. 71.
2 О политическом господстве Кювье и в качестве зоолога, и в качестве
государственного деятеля см.: Coleman W. Georges Cuvier: Zoologist.
Cambridge, Mass., 1964, p. 126—139; Adams F. D. The Birth and Develop-
ment of Geological Sciences. N. Y.. 1938, p. 263—267.
3 Даже оригинальная статья Гельмгольца о сохранении энергии была
отвергнута «Анналами» Поггендорфа. Об этом эпизоде см. в выходящей
из печати работе Элькана. (Об «Анналах» Поггендорфа (1796) см. также
юбилейный сб.: Inbelband dem Herausgeber J. C. Poggendorff zum Fcier
funfzigjariger Wirkens gewidmet. — In: Annalen der Physik und Chemie.
Leipzig, 1874. — Ped.)
279
Единственным, по весьма существенным обстоятельством, кото-
рое искупает все грехи научной специальности, является тот
факт, что все ее претензии действовать «от имени» данной науч-
ной дисциплины всегда обладают привлекательностью для кого-
либо: если не для какого-нибудь одного отдельно взятого инсти-
тута, то для всей специальности в целом; если не для трибунала
нынешпей старой гвардии, то в глазах восходящих младотурков.
Во всех этих случаях оперативный вопрос состоит в следую-
щем: «В какой мере структура, применение и распределение вла-
сти в специальных институтах, о которых идет речь, дают им
возможность удовлетворить потребности, свойственные для их
дисциплины, во имя которой они действуют?» Этот вопрос можно
расширить еще больше, так что он превратится в вопрос об
истинной сфере самих этих дисциплин. Эго возможно потому, что
научные специальности служат «воплощением» своих дисциплин
не только благодаря обеспечению всей необходимой деятельности
этих специальностей институтами и каналами коммуникаций; на
более глубоком уровне их организация показывает также, как на-
чинают складываться границы между различными дисциплина-
ми. Например, там, где два перспективных подразделения одной
дисциплины еще не создали независимых каналов своего профес-
сионального выражения, будь то независимые журналы, незави-
симые университетские должности или независимые научно-ис-
следовательские лаборатории,— они еще не вполне утвердились
в своих претензиях на раздел, даже па дисциплинарном уровне.
Интеллектуальный вопрос — требует ли от нас, например, биоло-
гическое попимание признать «молекулярную биологию» в каче-
стве отдельной дисциплины наряду с общей биохимией и ци-
тологией — влечет за собой также и такие институциональные
вопросы, как вопрос о том, имеет ли молекулярная биология пра-
во на свои собственные независимые общества, журналы и уни-
верситетские должности; более того, на эти институциональные
вопросы можно дать удовлетворительные ответы только в свете
интеллектуальных суждений о потребностях соответствующей
дисциплины.
4.2. Поколения судей
Рассматривая научную специальность как исторически разви-
вающуюся сущность, мы можем поставить вопрос и о том, как
новые элементы входят в соответствующую популяцию, и о том,
как некоторые из этих новообразований впоследствии достигают
в ней прочного положения. Эти вопросы можно отнести либо к
обществам, либо к журналам, либо к собраниям, но полезнее все-
го отнести их к самим ученым. Благодаря смене человеческих
поколений в научную специальность постоянно вовлекаются
юные новобранцы, а из нее устраняются их старшие коллеги.
280
В результате от поколения к поколению бразды институцио-
нальной власти и индивидуальное господство в своей специ-
альности постоянно захватывают люди с разными интеллек-
туальными установками. Таким образом, изменчивый характер
науки воплощается прежде всего в изменяющихся установках
ученых.
В этом контексте в первую очередь необходимо решить, что
подразумевается под термином «поколение». Если мы хотим изу-
чить, каким образом научные дисциплины или специальности во-
обще достигают больших успехов, то как глубоко во времени дол-
жен проникать наш вертикальный анализ? Насколько детальным
должен он быть, если нужно обнаружить существенные аспекты
исторических изменений в науке? Для большинства целей, по-ви-
димому, промежутки, например, и в полгода, и в десять лет да-
дут ту картину, которая нам требуется, так что в точном ее изо-
бражении, очевидно, нет ничего волшебного. И прежде всего
нужно выяснить, почему именно эта единица времени является
величиной нужного нам порядка; в случае с наукой — почему
период в среднем около пяти лет является реальным интервалом
для измерения серьезных исторических изменений, будь то про-
фессиональные или дисциплинарные.
Содержание науки, как мы уже говорили, представляет собой
«передачу». Опа включает в себя весь круг общепринятых в на-
стоящее время объяснительных процедур вместе со всей совокуп-
ностью экспериментальных вариантов; а ее развитие управляется
общим согласием относительно критериев отбора, позволяющих
судить об отдельных вариантах из этой совокупности, а также
всеобщим единодушным принятием тех идеалов объяснения, в
свете которых производится отбор. С дисциплинарной точки зре-
ния это означает, что передача действительно должна произойти.
Напротив, с профессиональной и, следовательно, человеческой
точки зрения мы должны также рассмотреть, при помощи каких
процессов происходит эта передача. Как в этом случае истори-
чески сменяющие друг друга ученые, представляющие свою спе-
циальность, воплощают историческую смену процедур объясне-
ния? И какие изменения в профессиональной сфере являются
обычно человеческими аналогами концептуальных и стратегиче-
ских изменений в развивающейся научной дисциплине?
По этим вопросам уже давно существуют дежурные мифы.
Например, часто считалось, что все истинно великие ученые об-
ладают особой способностью и смелостью перестраивать свой ин-
теллект и что своим прогрессом паука обязана главным образом
этой интеллектуальной смелости. Но эта точка зрения, как мы
увидим, придает слишком большое значение отдельным ученым
и совершенно недостаточное — их коллегам по специальности.
Здесь, пожалуй, важно напомнить, что новая «теоретическая фи-
зика» через каждые десять — двадцать лет включает в себя не
просто новый набор дисциплинарных понятий и процедур, но и
281
группу ученых, к которой переходит профессиональный автори-
тет. Через двадцать лет в теоретической физике произойдет сме-
на референтных групп, включающих ее представителей и судей;
так что если бы мы снова поставили вопрос: «Что должна ска-
зать нам теоретическая физика?» — двадцать лет спустя, то мы
должны были бы консультироваться с совсем другими физи-
ками.
Соответственно, рассматривая научные изменения с точки зре-
ния специальности, мы сразу же получаем ключ к естественной
«временной единице» этих изменений. Это происходит потому,
что основной аспект эволюции этой специальности составляет
процесс, благодаря которому происходит смена правящих групп
в различных пауках. В той мере, в какой можно идентифициро-
вать какую-либо группу людей, суждения которых пользуются
преобладающим весом у их коллег по той научной специально-
сти, о которой идет речь, именно одобрение этих людей — боль-
ше чем что-либо другое — обеспечивает успех или неудачу не
только новых обществ, журналов и собраний, но и новых идей.
Следовательно, в развитии научной специальности осмысленным
временным интервалом, или «поколением», является промежуток
времени, который требуется для того, чтобы одпа референтная
группа была сменена другой.
Чем же действительно определяется этот интервал? Сначала
мы должны несколько заострить этот вопрос. Точность исходных
вычислений нашей единицы времени отчасти будет зависеть от
целей нашего анализа и, следовательно, от того контекста, в ко-
тором она определяется. Это обусловлено тем, что различные
виды научной деятельности происходят в различных шкалах вре-
мени; те из них, которые, например, связаны с внутренними ин-
теллектуальными процессами, весьма существенно отличаются от
тех, которые охватывают также и взаимодействия более обшир-
ных культур и обществ. Соответственно, сосредоточив свое вни-
мание на официальных государственных институтах, мы можем
выделить одну естественную единицу, а рассматривая изменение
внутреннего характера самой науки — совсем другую. Например,
последовательный ряд президентов Национальной академии наук
в Соединенных Штатах может так же много (или так же мало)
поведать нам об изменениях интеллектуальных установок и ак-
центов в естественных науках, как и последовательный ряд ар-
хиепископов Кентерберийских — о смене религиозных установок
в Англии. Президенты национальных академий, как и главы
церкви,— это люди, которые в интересах всей инициативы связа-
ны с главами других основополагающих социальных институтов,
.и играют они не только узко дисциплинарную роль. В результате
династия последовательно сменяющихся президентов лишь в са-
282
мом грубом приближении дает ключ к изменчивому характеру
интеллектуальных референтных групп в самой науке Ч
Перейдем к внутренней динамике науки; каждая научная
специальность, как было замечено выше, имеет наряду с фор-
мальной должностной структурой неофициальную, нецисаную
«табель заслуг». Эта «табель заслуг» сама по себе подвержена
серьезным историческим изменениям. Это обусловлено тем, что
хотя обычно в данной специальности все единогласно признают
высший авторитет некоторых имен, по тем пе менее там всегда
бывают также систематические расхождения во мнениях, кото-
рые ,и будут отражать различие поколений. Например, Резерфорд
или Бор могут пользоваться уважением своих коллег в течение
всей своей карьеры; но чаще всего пожилые ученые легко те-
ряют авторитет у своих молодых коллег и по-прежнему серьезно
воспринимаются только своими ровесниками. Таким образом,
решение вопроса о том, кто же будет признан представителем ка-
кой-либо науки, выступающим «от ее имени», отчасти зависит от
возраста тех ученых, чье мнение вас интересует.
Рассмотрим снова процесс передачи, который отвечает за то,
чтобы интеллектуальное содержание и развитие пауки переходи-
ло от одного поколения ученых к другому. В течение своего ин-
теллектуального ученичества молодые люди стремятся усвоить
процедуры объяснения, дисциплинарные цели и общую картину
мира, принятую их непосредственными предшественниками, а за-
тем используют все это в качестве источника материалов для
развития своих собственных идей по данным вопросам. Одпако
связанное с процессом передачи воспроизведение идей никогда
не бывает абсолютно точным. В научной дисциплине, как и в лю-
бой другой подлинно «рациональной» инициативе, процесс обуче-
ния по необходимости несовершенен. Или скорее качество обуче-
ния в подобных случаях измеряется пе тем, с какой точностью
передаются специфические понятия, а критическими установка-
ми, с помощью которых студенты учатся рассуждать даже о тех
понятиях, которые были им объяснены их собственными учите-
лями. С точки зрения самих учащихся, интеллектуальное содер-
жание и программа их пауки должны как бы заново воссоздавать-
ся в каждом поколении. Конечно, взгляды наиболее уважаемых
профессоров, у которых они обучаются и работают, оказывают
на них сильное влияние; по их уважение, даже к самым извест-
ным пз их старших коллег, будет в высшей степени избиратель-
ным. В свое время они будут сами переоценивать все спорные
1 Было вполне справедливо замечено, что политические лозунги «вер-
нувшихся из Англии» деятелей, захвативших власть в англоязычных стра-
нах Африки и Азии в течение 50—60 годов XX века, были связаны пе
столько с их действительным политическим курсом, который почти пол-
ностью проводился па прагматических основаниях, сколько с теми взгля-
дами, которые циркулировали среди студентов Гарольда Ласки в те годы,
когда сами эти деятели обучались в Лондонской экономической школе,
283
вопросы, подвергая взгляды своих учителей критике в свете
всего, что они читали, в свете слухов, пришедших от своих же
коллег-студентов, в свете общего интеллектуального климата
своего времени... Так каждое поколение обучающихся составляет
из установившихся и изменчивых понятий и процедур своей дис-
циплины свои собственные модели.
Теперь мы можем вновь, в более конкретных терминах, про-
анализировать те причины, по которым «естественный временной
интервал» изменения в науке представляет собой именно данную
величину. В высших учебных заведениях и научно-исследова-
тельских лабораториях легко можно научиться распознавать те
изменения в подходе и даже в стратегии, которые отличают удач-
ливые поколения способных молодых научных работников. Ка-
кая-либо специальная методика исследования или стиль теорети-
ческого мышления могут совершенно случайно удерживаться
среди самых многообещающих и талантливых новичков прибли-
зительно в течение семи лет; в другие эпохи поразительные из-
менения в подходах или интерпретации будут происходить по
крайней мере с интервалом в два года. И в том, и в другом слу-
чае самые серьезные изменения будут учтены при том условии,
если мы будем сравнивать следующие друг за другом поколения
с интервалом в три-пять лет. Соответственно мы обнаружим серь-
езные изменения в референтных группах, считающихся у спе-
циалистов авторитетными, если мы выберем своих реагентов в
группах с возрастным интервалом приблизительно в пять лет или
немного больше. Является ли молекулярная биология бурным и
преувеличенным новым увлечением? представляет ли она даль-
нейшее плодотворное развитие классической биохимии? образу-
ет ли она начало и конец всей биологической премудрости? яв-
ляется ли опа первым шагом на пути к более широкой теории
морфогенеза и функционирования клеток или она уже совершен-
но устарела? Ответ, который вы получите на эти вопросы, почти
полностью будет зависеть от того, разговариваете ли вы с уче-
ным семидесяти, шестидесяти, пятидесяти, сорока или тридца-
ти лет.
Со стороны иногда кажется, будто переход паучпого автори-
тета от старшей группы научных работников к младшей стал не-
обходимым исключительно из-за возрастания всей совокупности
фактуальных научных знаний. Наш настоящий анализ позволяет
сделать, однако, иные выводы. Если работающие ученые то и
дело обнаруживают, что им трудно удержаться на уровне нынеш-
них успехов их предмета, то только потому, что каждое следую-
щее поколение может подходить к проблемам общей для них дис-
циплины совсем с новой точки зрения, совершенно по-новому
комбинируя старые интеллектуальные компоненты и придавая
им иной смысл в свете новых идеалов объяснения; в результате
их интерпретации могут оказаться очень далекими по своему духу
от ученых предшествующего поколения и даже вызывать нена-
284
висть к пим. В лучшем случае подобные изменения могут про-
изойти, не внушая враждебного отношения к этим ученым. Так,
Эрнст Резерфорд без всякой посторонней помощи так близко по-
дошел к созданию атомной физики, что его преемники (напри-
мер, Бор и Гейзенберг) сохранили интеллектуальное уважение к
его взглядам, несмотря па то, что он сам признавался в своей
неспособности понять математические методы квантовой механи-
ки. Со своей стороны Резерфорд добровольно отказался от своей
убежденности в материальной модели атомов и элементарных ча-
стиц, которые представляют собой «маленькие твердые бильярд-
ные шарики, по преимуществу красные пли черные» В худ-
шем случае эти интеллектуальные перемены влекут за собой та-
кую враждебность и раздражение и со стороны победителей, и
со стороны побежденных, что посторонний наблюдатель может
только посчитать это отвратительным и неприятным зрелищем.
В науке, как и в политике, участники удачного переворота могут
позволить себе быть великодушными, по слишком часто стано-
вятся жертвами злоупотреблений властью, поддаваясь искуше-
нию отделаться от своих предшественников, какими бы выдаю-
щимися они ни были, как от тупых, бестолковых и отсталых
людей.
Например, непринужденное по внешнему виду описание рас-
шифровки молекулы ДНК, данное Дж. Д. Уотсопом в «Двойной
спирали», часто похоже па выражение торжества пад старыми
биологами и кристаллографами, которые вначале не смогли раз-
глядеть именно то направление, по которому он пошел вместе с
Криком1 2. Теперь, когда Уотсон уверен в своем знании того, чем
стала молекулярная биология, этот триумфальный стиль дается
ему легко; однако полезно сравнить его с осторожным тоном го-
раздо более раннего письма к Максу Дельбрюку, напечатанного в
конце его книги и написанного в то время, когда судьба его идей
еще зависела от хорошего мнения его старших коллег. Все же
история' берет реванш. Те, кто борется друг с другом в священ-
ной роще науки, должны знать, что золотая ветвь сохранится у
них лишь на ограниченный период времени. Здесь, как и во всех
остальных случаях, каждая передача полномочий помогает под-
готовить почву для следующей. Захватив ключевые позиции
в своей специальности, радикалы одного поколения вскоре под-
вергаются нападению с флангов со стороны еще более молодых
фрондеров, для которых радикальные новации тех уже наполови-
ну утратили свою новизну. В том квазиполитическом употребле-
нии власти, которое специалисты-ученые совершенно справедли-
во предпринимают «от имени» своей уважаемой дисциплины,
1 Eve A. S. Rutherford. Cambridge. Engl., 1939, р. 384, где сообщается
о речи, произнесенной Резерфордом на банкете в 1934 г.
2 См. беглые замечания Дж. Д. Уотсона в адрес Лоуренса Брэгга и
других старших ученых в кн.: The Double Helix. N. Y., 1967, L., 1968.
285
институциональные победы всегда бывают лишь временными.
Каждое новое поколение учащихся, развивая свод собственные
интеллектуальные перспективы, в то же время оттачивает ору-
жие, чтобы в конечном итоге завоевать свою специальность. Через
пять, десять или двадцать лет именно их слово будет иметь вес
в данной специальности, их авторитет будет управлять данной
научной дисциплиной .и придавать ей новую форму, а между тем
их по пятам преследуют еще более молодые люди, которые в над-
лежащее время образуют поколение их собственных преемников...
Какие институциональные условия, с точки зрения профес-
сионального обучения и конкурентной борьбы поколений, требу-
ются для эффективного интеллектуального развития пауки? Мы
можем остановиться па двух аспектах этого общего вопроса:
(а) па роли отдельных ученых, особенно связей между личными
идеями и деятельностью отдельно взятых ученых, притом таких,
кто уже занял прочное место в коллективной передаче науки; и
(б) на роли более широкого социокультурного контекста, при ко-
тором наука может развиваться наиболее быстро и эффективно.
Что касается первого аспекта (а), то здесь нужно рассмот-
реть два самостоятельных вопроса: во-первых, при каких усло-
виях происходит трансформация коллективного содержания нау-
ки и, во-вторых, в какой мере эта трансформация вызывает изме-
нения в идеях отдельных ученых. Если мы позаботимся о том,
чтобы различать эти два вопроса, то в результате начнем серьез-
но сомневаться в привычных представлениях о Великом человеке
науки; потому что одно дело — исследовать, действительно ли ве-
ликие ученые когда-либо начинали думать по-другому, и совсем
другое — задавать вопрос, важно ли для науки, чтобы опи дума-
ли по-другому. В интеллектуальной .истории, как и в политиче-
ской, точка зрения, согласно которой все большие человеческие
достижения зависят от высшей гениальности немногих великих
людей, имеет известную романтическую привлекательность. Для
историков, которым свойствен такой взгляд, спасение наций
в конечном .итоге обусловлено честолюбием Наполеона, пламен-
ным энтузиазмом Гарибальди, стойкостью Черчилля; тогда как
в науке интеллектуальный успех подобным же образом приписы-
вается упрямой, самокритичной честности какого-нибудь одного
гениального ученого, будь то Галилей, Лавуазье или Дарвин. Нам
говорят, что такие люди были готовы смотреть на природу глаза-
ми, не затуманенными унаследованными предрассудками; что они
были достаточно честными, чтобы отказываться от собственных
взглядов, считавшихся правильными, в свете противоречащих
им, но полученных из первых рук наблюдений; что они описыва-
ли истину так, как они ее видели, с непреклонной прямотой юно-
го Джорджа Вашингтона. И эти великие ученые были способны
продвинуть коллективные идеи людей па новую, необратимую
286
стадию развития только потому, что в то время, когда остальные
все еще возились со старыми идеями, они имели смелость думать
по-новому, пересматривать общеизвестное и говорить честно.
Эта романтическая сага о великих ученых-новаторах, к сожа-
лению, умалчивает о некоторых наиболее существенных деталях,
потому что она подразумевает, что в науке существует тот же
резкий контраст, который мы находим в теории «великих людей»,
относящейся к политической истории,— контраст между актив-
ными господствующими великими людьми и их пассивными, под-
ражающими им последователями. Подобно тому как Наполеон
«перекроил» и «придал новую гордость» нации французов, так и
Ньютон «господствовал» в физике XVIII века, а Лавуазье «соз-
дал» современную химию. По причинам, оставшимся невыяснен-
ными, другие ученые, работающие в том же направлении, просто
довольствовались тем, что работали под его руководством и раз-
рабатывали то, что он наметил. Подобное объяснение, очевидно,
до крайности упрощает, если не искажает, те отношения, кото-
рые действительно связывают работу какого-либо одного ученого,
как бы «велик» он ни был, с работой его коллег и последовате-
лей. В действительности мы быди бы гораздо ближе к исти-
не, если бы абсолютизировали противоположное утверждение,
а именно что великие ученые почти никогда не меняют своего
образа мыслей и, конечно, никогда не нуждаются в этом. Это обус-
ловлено тем, что для науки как для коллективной человеческой
инициативы не имеет большого значения, изменит ли какой-либо
отдельный индивид — каким бы выдающимся он ни был — свои
взгляды в свете опытных данных или нет. Случайно подобные
перемены образа мыслей могут оказать помощь в модификации
коллективной традиции, особенно там, где колебания влиятель-
ных ученых удерживают остальных от того, чтобы достаточно
серьезно воспринимать радикальные новации. Так, дарвинисты с
нескрываемым облегчением приветствовали запоздалое призна-
ние Чарлзом Лайелем органической эволюции, потому что его
длительная оппозиция препятствовала распространению эволю-
ционных идей в Англии, подобно тому как тень Кювье делала
то же самое во Франции Ч И, однако, не перемена Лайелем
своего образа мыслей создала и упрочила интеллектуальпые тре-
бования теории Дарвина. Наиболее существенным пунктом кон-
цептуальных изменений оставались (п остаются до сих пор) не
мнения индивидов, а коллективно подтвержденная совокупность
понятий, которая образует интеллектуальную передачу науч-
ных дисциплин. Вопрос о том, кто именно, когда и почему воспри-
нял такое-то понятие, если его рассматривать на персональном
1 Лайель начал наконец поддерживать эволюцию (но как-то неохотно)
в 1864 г., когда он опубликовал книгу «Древность человека» («The Anti-
quity of Man»), чем причинил неприятности коллегам Дарвина, так кав
отдал в ней предпочтение эволюционной теории Ламарка.
287
или личном уровне, только случайно имеет отношение к кол-
лективным вопросам, относящимся к установившемуся содержа-
нию соответствующей науки.
В настоящее время стало историческим общим местом говорить
о том, что Ньютон уже в двадцать лет в общих чертах видел
возможное решение спорных проблем динамики и планетарной
теории, которые он в полном масштабе, детально разработал
лишь в сорок с лишним лет в своих «Началах» (1687) Однако
здесь следует высказаться об этом факте в свете нашего анализа.
Если мы сравним общие представления о физическом мире, кото-
рыми Ньютон оперировал в молодости, с разработанной в пол-
ном масштабе корпускулярной «философией материн», которую
он наконец опубликовал после смерти своего великого противни-
ка Лейбница в качестве послесловия к поздним изданиям своей
«Оптики» (начиная с 1717 года), то станет ясным, что даже в
самых зрелых его теориях просто разрабатываются и по-новому
подтверждаются и варьируются те же самые центральные пред-
ставления, которые уже были им восприняты около пятидесяти
лет назад1 2. Правда, мы обнаруживаем, что в середине своей
карьеры Ньютон смягчил преданность атомизму и сосредоточил-
ся в своих публикациях на чисто математических процедурах;
однако есть причины, позволяющие думать, что он поступил так
из дипломатических соображений, а не из-за утраты основных
убеждений. (Атомизм переживал трудные времена благодаря
связям с эпикуреизмом, и Ньютон не хотел добровольно вклю-
чаться в ожесточенную публичную полемику, которой в против-
ном случае можно было бы избежать 3.) Он на время отлож.ил
публикацию своей всеобъемлющей системы мира и воздерживал-
ся от нее до тех пор, пока его наиболее опасный противник окон-
чательно не ушел с его пути. Таким образом, если Ньютону и
удалось преобразовать научные идеи человечества, то это ни в
коем случае не означало, что в течение всей его деятельности
его собственные, личные идеи изменялись в каких-либо принци-
пиальных отношениях; и действительно, этого не произошло.
Скорее перемены, вызванные его работами в коллективном обра-
зе мыслей его современников и преемников, создали новый ис-
1 О мотивах, побудивших Ньютона отложить публикацию своей теории
движения и гравитации, см., например: Manuel F. F. A Portrait of Isaac
Newton. Cambridge, Mass., 1968, Ch. 7.
2 Знаменитый ньютоновский вопрос 31, в котором оп наконец открыто
изложил основополагающие принципы своей «натуральной философии»,
был добавлен только в новом издании его «Оптики» в 1717 г. (Ср. с по-
следним изданием «Оптики» в русском переводе акад. Вавилова С. И.:
Ньютон И. Оптика. М., 1954, с. 285—307. — Ред.)
3 Доказательства, свидетельствующие о том, что Ньютон опасался быть
обвиненным в поддержке эпикуреизма, который в конце XVII столетия
пользовался дурной репутацией, были проанализированы Анри Герлаком.
См., например, его лекцию: Newton et Epicure, Editions du Palais de la
Decouverte. D-91, Paris, 1963.
288
ходный пункт, с которого могли брать свое начало все последу-
ющие теоретические конструкции.
Еще более поразительным примером может служить Макс
Планк *. В общих чертах история состоит в следующем. В мо-
лодости Планк работал в области электромагнетизма и был во-
влечен в дискуссию о спектрах излучения раскаленных тел.
В ходе этой дискуссии он выдвинул в декабре 1899 года свою
новую идею «квапта» действия, которая допускала, что матери-
альное тело излучает энергию, так сказать, только «залпами», ве-
личина которых прямо пропорциональна их частоте; эта идея од-
ним ударом разрешала все основные затруднения существующей
теории. Через пять лет Эйнштейн сделал к теории Планка до-
полнение, основанное на его новой интерпретации так называе-
мого «фотоэлектрического эффекта», который состоит в том, что
световые волны достаточно высокой частоты вызывают в метал-
лическом проводнике, на который падает свет, электрический
ток. Это явление, заявил он, можно было объяснить как резуль-
тат воздействия на металл корпускулоподобных «фотонов» света,
каждый из которых несет энергию, соответствующую кванту
Планка. Для молодых физиков казалось совершенно ясным, что
сходство результатов, полученных обоими учепым.и, пе было про-
сто случайным совпадением. Те самые фотоны, которые вызыва-
ли электрический ток в металлических проводниках, по-видимо-
му, служили также переносчиками квантов энергии от тех тел,
которые первоначально их излучали; короче говоря, при пере-
даче излучения в пространстве между материальными телами
электромагнитная энергия, по-видимому, всегда существовала в
форме корпускулоподобных фотонов. Эта интерпретация стала
центральным элементом в новой, квантовотеоретической картине
физического мира, которая сформировалась в 20—30-с годы на-
шего столетия.
Ретроспективно чрезвычайно удивительно обнаружить, что
сначала Макс Плапк полностью отверг идею «фотонов» Эйнштей-
на. Для этого у него были свои причины. Сформировавшись как
горячий сторонник электромагнитной теории Максвелла, он изо-
брел «кванты» просто для того, чтобы спасти максвелловский
анализ от угрозы потерять доверие вследствие неудач в объясне-
нии известных спектров раскаленных тел; а одним из существен-
ных компонентов объяснения Максвелла был вывод о том, что
энергия передается непрерывно, в виде волн. С другой стороны,
принципиально новая фотонная гипотеза Эйнштейна отходила от
хорошо обоснованных идей Максвелла и предавала те самые
цели, ради которых прежде всего Плапк и ввел свое понятие
кванта. В течение многих лет он боролся против интерпретации
1 Некоторые аспекты этого эпизода рассматривались Джеральдом Хол-
тоном в его очерках (находящихся в печати) об Эйнштейне; см. также
переписку в: «American Scientist», 1968, 56. 123А ff.
289
Эйнштейна, надеясь найти какой-нибудь способ восстановить
картину волнового континуума Максвелла; лишь гораздо позже
он с сожалением признал, что дело слишком далеко зашло по
эйнштейновскому пути, чтобы какая-нибудь подобного рода спа-
сательная операция имела серьезные шансы на успех. В этом
смысле Макс Планк в конце концов изменил «свое представле-
ние» о фотонах. Однако тем самым он не сделал ровно ничего
для прогресса физики: к тому времени, когда он дошел до этого
признания, для него было уже слишком поздно внести какой-
либо серьезный вклад в новое направление. Это «изменение
взглядов» было чисто личным явлением, не имевшим никаких
коллективных последствий. В этом отношении он был не лиде-
ром, а последователем; и он закончил тем, что просто привел
своп собственные взгляды в соответствие с коллективной пози-
цией своих преемников.
Следовательно, в постоянном процессе обновления и самопре-
образовапия, посредством которых развивается содержание нау-
ки, существенное значение имеет отнюдь не готовность какого-
либо одного ученого изменить свои взгляды. Гораздо важнее его
способность всегда сохранять свой интеллект открытым для тех
вопросов, которые еще не получили своего адекватного решения,
и находить пути приспособить общий строй идей к новым ре-
зультатам и открытиям. Реальная картина отношений между от-
дельными учеными и их специальностью соответственно резко
отличается от романтических представлений о великих людях.
Очень часто вся деятельность ученого сводится к тому, что он
разрабатывает концептуальные основания, сложившиеся у него
еще в юности; если же он случайно бывает вынужден заменить
какой-нибудь существенный компонент этих оснований, то общей
конструкции обычно недостает последовательности и стабильно-
сти, которыми она обладала бы в ином случае. И это так же
справедливо по отношению к Галилею, как и по отношению ко
всем остальным. Может быть, Галилей и «изменил свои взгляды»
па точный анализ «ускорения». Но было бы точнее, если бы мы
сказали, что в 1605 году он все еще допускал сильную путаницу,
по-разпому определяя эту величину — то в терминах временных
интервалов (как б£), то в терминах отрезков пути (как 6s)1;
именно в этом различии ему предстояло разобраться в 1630 году,
когда он наконец подошел к своей классической формулировке
кинематической теории.
Физика всегда — будь то XVII или XX века — развивалась в
результате коллективных дискуссий. В ходе этих дискуссий
вклад, внесенный отдельными учеными, возможно, будет порази-
тельным и оригинальным, однако любой индивид сможет сыграть
1 Например, есть письмо Галилея к Сарпп, написанное в 1604 г., где
он все еще допускает, что «одинаковое ускорение» влечет за собой равное
увеличение скорости на равных отрезках пройденного пути.
290
эффективную роль в развитии паучпой дисциплины лишь в том
случае, если подчинит своп идеи суждениям существующей в его
время референтной группы. Пожалуй, коллективные профессио-
нальные интересы науки оказывают более сильное влияние па
индивидуальные профессиональные интересы ученых, чем инди-
видуальные — на коллектишгые. Интеллектуальные цели и кон-
цептуальные затруднения — вот тот фокус, в котором сосредото-
чиваются объединенные интеллектуал иные усилия научных ра-
ботников; и эти цели отфильтровывают из их индивидуальных
идей и интересов те концептуальные проблемы, которые имеют
отношение к коллективному развитию пауки. Мы установили, на-
сколько необходима эта фильтрация в том случае, если исследу-
ются все персональные основания, заставляющие ученых вы-
брать ту или иную область специализации. Эти персональные ин-
тересы часто лишь весьма косвенно связаны с действительной
дисциплинарной специализацией науки, и их высокая эффектив-
ность (которой в противном случае могло и не быть) является
результатом их слияния с коллективной инициативой.
Чтобы проиллюстрировать этот пункт, мы можем оставить в
стороне таких нетипичных индивидов, как Тейяр де Шарден, чьи
труды по палеонтологии человека столь явно были побочным
производным от основополагающего интереса к теологической
природе и предопределению человека *. Гораздо интереснее рас-
смотреть случай, аналогичный прецеденту, происшедшему с Жа-
ком Лебом, который сыграл решающую роль в развитии физио-
логии в начале XX столетия. Леб совершенно искренне объяснил,
что персональным мотивом для занятий физиологией ему послу-
жил чрезвычайно общий интерес к традиционной идее о «свобо-
де воли». Действительно, сначала он изучал философию и обра-
тился к физиологии лишь тогда, когда пришел к выводу, что
эту проблему лучше всего можно решить, если попытаться рас-
смотреть, сохраняют ли в организме за копы физики и химии
ту же универсальность, что и вне его 1 2. Леб представлял собой
исключение только в том отношении, что сделал эти внешние
первоначальные интересы столь очевидными. Действительно,
многих наиболее выдающихся ученых, вероятно, поддерживали в
их индивидуальной работе по избранной ими специальности ана-
логичные надежды и ожидания.
Однако обычно эти первоначальные личпые занятия остаются
скрытыми до тех пор, пока люди, о которых идет речь, не остав-
ляют активной научно-исследовательской деятельности и не пе-
реходят от работы над научными статьями к написанию очерков
о более широком «смысле» пауки. Наконец, впоследствии мы
1 См., например: Toulmin S. On Teilhard de Chardin. — «Commentary»,
March, 1965, 39, 50—55.
2 Непосредственное философское влияние на Леба оказал Шопенгауэр:
см. введение Дональда Флеминга в: Loeb J. The Mechanistic Conception
of Life. Cambridge. Mass., 1964, p. XII—XV (первое издание — 1912 г.).
291
обнаруживаем, что опи публично занялись теологией или этикой,
политикой или метафизикой и рассматривают специальные ре-
зультаты своих частных исследований как ключ к решению более
широких интеллектуальных или практических проблем Когда
мы читаем эти работы, то внезапно обнаруживаем, что их персо-
нальная преданность, например биохимии, все эти годы питалась
их молчаливым убеждением в том, что паука в конце концов мо-
жет доказать нам, что бог существует (пли пе существует), что
мы обладаем (или не обладаем) свободой воли, пли надеждой
отыскать некое святилище этики в самой природе, или даже лич-
ной озабоченностью сексуальными проблемами... Между тем их
профессиональная деятельность должна формироваться коллек-
тивными условностями научных публикаций (пассивный залог
и т. д.), потому что именно это, как мы теперь видим, дает воз-
можность всем — теистам и атеистам, сторонникам и противни-
кам свободы воли, пуританам и сторонникам свободных нравов —
в равной мере принимать участие в совместной научной разра-
ботке хорошо определенной группы общих для них проблем.
(Это различие между индивидуальными и коллективными
первичными интересами, между прочим, помогает объяснить пре-
зрительное отношение, которое так часто проявляется учеными
по отношению к «чистой философии» 1 2. Оно обусловлено тем,
что такие ученые рассматривают философию не в качестве еще
одной законной области интеллектуальной деятельности, способ-
ной развивать свой собственный строгий стиль и быть по-своему
самокритичной, а как область ничем пе сдерживаемого потвор-
ства своим желаниям, в которой автоматически прекращается
действие критической дисциплины и стандартов естествознания.
Конечно, внушает беспокойство, что в реальной деятельности
большинства работающих ученых, в противоположность специа-
листам-философам, именно к этому сводится интерес к «филосо-
фии»!)
Что касается второго пункта (б), то, согласно ему, эффектив-
ное развитие науки — как дисциплинарное, так и профессиональ-
ное — зависит также от некоторых иных, более широких социо-
культурных соображений.
(1) Например, интеллектуальная адаптация, так же как и
всякая иная эволюционная адаптация, может эффективно осуще-
1 Эти связи охватывают широкий круг людей, начиная с платонической
философии математики Дж. Харди, включая «эволюционную этику» Ч. Уод-
дингтона и Дж. Гексли, и вплоть до близкой к мистицизму кн.: Schro-
dinger Е. Му View of the World. Cambridge, Engl., 1964.
2 Например, учебник Макса Борна «Атомная физика» (Лондон, 1935)
(рус. изд., М., 1965. — Ред.) заканчивается огульным отрицанием «беспоч-
венных фантазий» метафизики; Борн, очевидно, считает их иллюзорной
попыткой угадать истину, которую наука еще не может открыть своими
собственными, гораздо более надежными экспериментальными методами.
292
ствляться только в определенных условиях среды. Если «более
приспособленные» варианты должны продемонстрировать свои
преимущества и не раствориться в более обширной популяции, из
которой они первоначально произошли, то требуется защищен-
ный «форум конкуренции». «Экологические барьеры», которые
приводят к изоляции этого форума, в одно и то же время должны
быть и достаточно низкими, чтобы в первую очередь позволить
колонизировать специализированную «нишу», и вместе с тем до-
статочно высокими, чтобы воспрепятствовать получившимся в
результате колонизации вариантам постепенно раствориться в
исходной популяции. Следовательно, в наиболее преуспевающих
научных культурах эффективное развитие более адекватных на-
учных понятий сопровождалось созданием довольно независимых
дисциплин, а также появлением отличающихся друг от друга в
институциональном отношении специальностей. Это не случайно.
Только в той ситуации, где специфические «интеллектуальные
требования» пауки ясно осознаются и единодушно принимаются,
можно надеяться па то, что адекватность концептуальных ново-
образований получит согласованную оценку. Таким образом, про-
фессиональные «формы» пауки играют серьезную рол ь в создании
локальных «ниш», окруженных ппстптуциональнымп барьерами,
где можно публично и критически проводить испытания концеп-
туальных вариантов в свете теоретических требований соответст-
вующей дисциплины.
В отсутствие этой профессиональной изоляции и критического
контроля, осуществляемого профессиональными референтными
группами, новым идеям будет гораздо труднее заявить о своих
правах и, таким образом, установить свое место в хорошо обос-
нованной совокупности знаний. Вместо этого они затеряются в
столпотворении умозрительных дискуссий и полемических возра-
жений, в котором их характерные свойства н смысл уже нельзя
будет идентифицировать и исследовать. И как тол ько будет нару-
шен этот существенный баланс, от которого зависит концепту-
альная эволюция, не будет никакого устойчивого равновесия,
исключая интеллектуальный конформизм или интеллектуальную
анархию. Либо, как это некогда произошло в Китайской империи,
неспециализированная группа, формирующая общественное мне-
ние, кончит тем, что установит контроль над общими идеями и
наложит вето па интеллектуальные новации просто из-за их но-
визны L Либо над интеллектуальными новациями вообще не бу-
дет никакого эффективного контроля, и спекулятивные дискуссии
распространятся настолько, что пе останется места для крити-
ческих суждений. В первом случае новые предположения просу-
ществуют слишком недолго, чтобы показать, каковы их реальные
1 Ср.: Needham J. S. Science and Civilisation in China, vol. 3. Cam-
bridge, Engl., 1959; особенно c. 192—194 о секретном характере астрономии
в китайском обществе.
293
возможности; в последнем — наша интеллектуальная жизнь утра-
тит последовательность и станет терпимой ко всевозможным
предположениям, не имея каких-либо полномочных судей, несу-
щих ответственность за решение, что именно обладает преи-
муществами по сравнению со всем остальным (я напомню анекдот
о том, как один хорошо образованный марокканец оправдывает
какое-то совершенно фантастическое умозаключение, цитируя
следующее изречение: «Когда ничего нельзя доказать, каждый
человек имеет право на свое собственное мнение»). Следовательно,
узкая научная специализация — это та цена, которую мы платим,
чтобы два взаимодополняющих процесса — размышление и кри-
тицизм (которые являются человеческим воплощением концепту-
альной изменчивости и отбора) — всегда гармонически взаимо-
действовали друг с другом. Именно потому, что установление
междисциплинарных границ и передача полномочий отдельным
референтным группам приводит к изоляции узкопрофессиональ-
ных ниш, можно выдвигать предположения, проверять их и из-
бирательно, дискриминационно судить о них с учетом четко опре-
деленных требований соответствующей специфической проблем-
ной ситуации.
(2) Напротив, экологический успех новых форм требует, что-
бы «форум конкуренции» не был слишком высоким. Если бы ко-
гда-нибудь профессиональная изоляция ученых приняла тоталь-
ный характер, то она тем самым в двух отношениях послужила
бы препятствием для интеллектуальной эволюции. Начнем с того,
что все частные научные проблемы и понятия первоначально воз-
никли из более широких человеческих интересов и сохранили
свою способность взаимодействовать с ними. Например, задача
расшифровать, при помощи каких биофизических процессов нор-
пинефрин проходит через нервную мембрану, первоначально вы-
делилась (и всегда может к ней вернуться) из более общей про-
блемы — как центральная нервная система функционирует в ка-
честве органа мышления и опыта L Таким образом, там, где на-
учные дисциплины граничат с вненаучными интересами, всегда
возникают вопросы о более широкой релевантности узкодисцип-
линарных новаций; и полностью возможности новых идей можно
ясно представить себе только в том случае, если это взаимодей-
ствие между специально-научными и внешними по отношению к
науке понятиями может продолжаться.
Однако если барьеры, окружающие научные специальности,
слишком высоки, то новые идеи, которые уже доказали свои спе-
циально-научные преимущества, не могут ни широко включиться
в общую культуру, ни добиться того, чтобы их признало «общест-
венное мнение»; то же самое справедливо и в обратном отноше-
нии — в этом случае специальные пауки не могут в достаточном
1 Об этом см. мой очерк: Neuroscience and Human Understanding. — In:
The Neurosciences, ed. G. G. Quarton et al. N. Y., 1967.
294
количестве привлечь выдающихся новобранцев из каждого нового
поколения, чтобы сохранить свою профессиональную жизнедея-
тельность. Наука, которая полностью отключается от более ши-
роких интеллектуальных дискуссий, сохраняет таким образом
лишь ограниченное значение; ее специальная терминология не
получит возможности влиять па «здравый смысл» и «обыденное
мышление», да и самой пауке из-за отсутствия хорошего нового
пополнения будет угрожать опасность — либо угаснуть, либо по-
пасть в руки второразрядных ученых. Например, в 1290—1340 го-
дах ученые Парижа и Оксфорда в своем схоластическом анализе
движения выковали важное звено в концептуальной генеалогии,
связующей идеи Аристотеля и Архимеда с идеями Галилея L
Действительно, в некоторых пунктах математики XIV века
почти вплотную подошли к исходным идеям Галилея — подошли
настолько близко, что мы можем только удивляться, почему, даже
если учесть последствия чумы, теоретическая механика не воз-
никла на 250 лет раньше. Если физика начиная со второй полови-
ны XIV века развивалась так медленно, то, возможно, это про-
изошло потому, что аналитические методы, о которых идет речь,
принадлежали только узкой группе профессиональных схола-
стов, так что все остальные были пе в состоянии оценить их
большие потенциальные возможности. Конечно, научный смысл
теории импульса, созданной в XIV веке, как и выполняемый ею
графический анализ количественных изменений, стали разрабаты-
ваться в полном объеме только начиная с середины XVI столетия,
после того как Ренессанс привел к общей секуляризации интел-
лектуальной жизни. Между тем вклад этих ученых XIV века был
совершенно позабыт и оставался неизвестным до тех пор, пока
историки науки в XX столетии не продемонстрировали значение
их трудов.
Еще более яркий пример представляет собой вавилонская
астрономия. Начиная с 750 года до п. э. «прорицатели» Вавило-
на образовали совершенно изолированную, узкую профессиональ-
ную гильдию; действительно, их профессиональные методы и идеи
были государственной тайной, которую запрещалось раскрывать
посторонним. Хотя, некоторые полученные ими результаты в
конце концов после завоевания Вавилона Александром Македон-
ским проникли в греческий мир, о всей утопчеппости их методов
не подозревали до тех пор, пока современные археологи не от-
крыли их записей, а ученые XX столетия, проведя работу детек-
тива, не расшифровали их 1 2. Без этого переоткрытия вавилонская
1 Эта стадия в развитии представлений о движении была полностью
подтверждена документально в кн.: Clagett М. The Science of Mechanics
in the Middle Ages. Madison, 1961.
2 Материалы, имеющие отношение к делу, обсуждались в классическом
многотомнике: Neugenbauer О. Babylonian Mathematical Ephemerides;
более доступно они резюмированы в его популярном докладе: The Exact
Science in Antiquity, Princeton, 1952.
295
астрономия была бы уничтожена так же полно и окончатель-
но, как и институты Вавилонского государства. В данном случае
дисциплина, приносящая локальные успехи, имела несчастную
судьбу, предназначенную для изолированных, но чрезвычайно
специализированных популяций, первоначальная ниша которых
исчезла. И, судя по всему, что мы знаем, погибшие культуры
Мексики или Кампучии, возможно, имели примерно такие же ин-
теллектуальные достижения, которые равным образом принадле-
жали изолированным профессиональным гильдиям, но позднее
были совершенно позабыты, как и способ производства витра-
жей Шартрского собора.
В случаях, подобных этим, «резонанс» между узкой дисцип-
линой и более широким общественным сознанием настолько слаб,
что новации в пределах профессионалыюго цеха, каким бы пора-
зительным нн был их локальный эффект, не получают никакого
отклика в более широких идеях этой культуры. Напротив, тот
факт, что в Западной Европе начиная с XVII века наука разви-
валась столь бурно и плодотворно, в немалой степени является
следствием резонанса между научными специалистами и широкой
публикой, а также результатом взаимодействия идей между но-
выми, еще только возникающими специальными науками и более
широкой культурой того времени. С одной стороны, этот резо-
нанс помог придать влияние новому научному образу мыслей,
включив его в общую картину мира, сложившуюся на основе
«здравого смысла»; с другой стороны, он придал энергию разви-
тию самих наук, сконцентрировав внимание на концептуальных
проблемах более широкого значения и таким образом постоянно
обеспечивая широкий приток в те пауки, о которых идет речь, и
интеллектуальных новаций, и талантливых новичков.
(3) Наконец, более широкие социальные условия, сохраняю-
щие единство и целостность научной дисциплины, имеют также
отношение к той специальности, которая ее воплощает. Такой тер-
мин, как «схоластика», можно применять не только к кругу по-
нятий и доктрин, которые некритически передаются лишь на ос-
нове авторитета, по и (причем в более буквальном смысле) к свя-
занному с традициями институту «школ», в которых происходит
это авторитарное обучение; тогда как термин «анархия» равным
образом применяется к процессу интеллектуальной изменчивости,
когда он не контролируется эффективной процедурой отбора, а
также и институциональной ситуации, которая допускает столь
быстрое увеличение числа некритически воспринимаемых идей.
В каждом из этих случаев последствия совершенно одинаковы и
для дисциплины, и для профессии: в первом — застой, в послед-
нем — утрата четкости.
Соответствующие параллели можно, например, обнаружить
там, где из одной существовавшей до тех пор науки путем рас-
щепления и специализации возникает две или несколько наук-
преемниц; или, напротив, там, где происходит ее гибридизация с
296
другой наукой. В обоих случаях дисциплинарные изменения в ха-
рактере проблем и методов опять-таки связаны с профессиональ-
ными изменениями, например со сменой институтов и научных
журналов. Однако с экологической точки зрения совершенно оче-
видно, что эта связь между дисциплинарными и профессиональны-
ми изменениями, какой бы обычной и даже желательной она ни
была, ни в коей мере по является необходимой. Так, действитель-
ное руководство научной специальностью все же создает даль-
нейшие поводы для самокритики. В одно время могут подвергать-
ся критике существующие сродства публикаций, которые оказы-
ваются далекими от актуальных дисциплинарных потребностей
науки; в другое — можно поставить институциональный вопрос
о том, насколько точно нынешняя профессиональная дифферен-
циация науки отражает реальный характер интеллектуальных
проблем в соответствующий период.
Могут существовать, например, превосходные интеллектуаль-
ные основания для того, чтобы сделать некоторую группу меж-
дисциплинарных проблем предметом новой самостоятельной част-
ной дисциплины; однако влиятельные представители существую-
щих специальностей могут увидеть в этом скрытую угрозу своим
собственным интересам и блокировать становление тех профес-
сиональных организаций, которые осуществляли бы институцио-
нализацию новой частной дисциплины. В этом случае можно до-
казать, что институциональное устройство существующих специ-
альностей «неадекватно» требованиям новой дисциплины, так что
каждый, кто откажет новым профессиональным организациям в
институциональной автономии, станет также тормозом интеллек-
туального развития пауки. Напротив, могут быть такие времена,
когда количество научной периодики резко возросло по чисто ком-
мерческим причинам, которые пе имели никакого реального от-
ношения к интеллектуальным потребностям соответствую щих
дисциплин, а просто придавали видимость самостоятельности ис-
кусственно выделенным подразделениям более крупных, но совер-
шенно ясно различаемых дисциплин. И снова именно потребно-
сти самой науки обеспечат основу для оценки и самокритики.
В этом случае вопрос: «Действительно ли необходим ваш жур-
нал?» — означает: «Удовлетворяет ли ваш журнал аутентичные
дисциплинарные потребности?» Ответ на этот вопрос нужно да-
вать в свете стратегических и концептуальных проблем, характер-
ных для актуальной научной ситуации.
В этом отношении возрастание числа периодических изданий
может обогнать подлинные научные потребности, точно так же
как консерватизм профессиональных организаций может тормо-
зить надлежащее дисциплинарное развитие. В обоих случаях па-
раллели между интеллектуальными и институциональными изме-
нениями, как бы тесно они пи были связаны, не являются неиз-
бежными. И в обоих случаях меры, которые в конечном итоге
10 Зэк. 21
297
обусловливают конвергенцию дисциплинарных и профессиональ-
ных соображений, вытекают не из логической необходимости, а
из экологических потребностей.
4.3. Интеллектуальная экология
и историческое понимание
Выражение «историческое понимание» требует тщательных
разъяснений. В этом пункте мы снова подошли к одному из цент-
ральных вопросов настоящего анализа, а именно к вопросу об
общем характере связей между дисциплинарным (или интеллек-
туальным) аспектом научной инициативы и ее профессиональным
(или человеческим) аспектом. Лучите всего можно ответить на
этот вопрос в три приема, разбив его па ряд более узких вопро-
сов и рассматривая поочередно каждый из них. Итак, прежде все-
го разрешите мне поставить две нерешенные методологические
проблемы, которые все еще продолжают доставлять беспокойство
нашему историческому пониманию научных изменений. Одна из
них — это давнее расхождение между двумя стилями историческо-
го подхода к науке — «интернализмом», который концентрирует
свое внимание на изменениях содержания научной дисциплины,
и «экстернализмом», который скорее сосредоточивает свое внима-
ние на связях науки с ее более широким социальным контекстом.
Другая проблема является более философской (в точном смысле
этого слова); это проблема выяснения соотношения «оснований»
и «причин» в историческом развитии науки. Пересмотрев эти две
проблемы в свете аргументации, которую мы развивали выше, мы
будем в состоянии объяснить основное понятие «интеллектуаль-
ной экологии», то есть сумеем показать, каким образом, сравни-
вая (1) интеллектуальные требования проблемных ситуаций, ко-
торые являются поводами для концептуальных изменений, с (2)
экологическими требованиями тех ниш, которые являются локу-
сами адаптации в органической сфере, мы можем тем самым по-
очередно пролить свет на весь процесс концептуального развития
в коллективной рациональной инициативе.
Начнем с проблемы историографии. Па протяжении последних
пятидесяти лет академические историки анализировали развитие
естественных наук в нескольких независимых направлениях —
статистическом и биографическом, интеллектуальном и социологи-
ческом. Однако вплоть до настоящего времени они не сумели
прийти к единому мнению о том, в каком пункте сливаются ре-
зультаты этих самостоятельных исследований, или о том, как их
можно согласовать, чтобы обеспечить создание единой связной
картины научных изменений L С одной стороны, историки-интер-
1 См., например: Agassi J. Towards an Historiography of Science. —
«History and Theory», Beiheft 2, 1963. Полезное собрание исторических тек-
стов, иллюстрирующих этот контраст, включено в кн.: The Rise of Modern
Science, ed. G. Bassalla. Lexington. Mass., 1968.
298
налисты изучают те исторические перемены, благодаря которым,
согласно строго генетической, или «генеалогической», точке зре-
ния, научные идеи сменяют друг друга. По их мнению, развитие
науки следует рассматривать как диалектическую последователь-
ность: проблемы приводят к своему решению, которое в свою оче-
редь приводит к новым проблемам, решение которых ставит даль-
нейшие проблемы... В пределах такого «проблемного» подхода к
развитию науки можно выделить в дальнейшем две точки зрения:
одну социально-историческую, другую — логико-философскую.
Некоторые ученые изучают непосредственно изменения научных
проблем с тем, чтобы показать, что в действительности они осу-
ществлялись последовательно, шаг за шагом !. Другие скорее
имеют в виду логический анализ (или «рациональную реконструк-
цию») той аргументации, при помощи которой научный прогресс
должным образом осуществлялся и оправдывался1 2. Так или ина-
че, этот генетический подход не лишен некоторой самоограничен-
ности. Интерналистские объяснения развития науки лишь кос-
венно ссылаются па факторы, внешние по отношению к непо-
средственным интересам той дисциплины, о которой идет речь,
если вообще касаются их. В результате они, так сказать, побуж-
дают нас изучать морфогенез той или иной пауки в отрыве от ее
экологической среды.
Между тем другие историки уже рассматривали научные из-
менения как социальный феномен и сосредоточили свое внимание
на взаимодействии естествознания и более широкого контекста,
в котором проходит деятельность ученого,— его институтом, со-
циальными структурами, политикой и экономикой. Результаты
этих исследований были интересными и несколько неожиданны-
ми. Благодаря их работам мы стали лучше понимать, как науч-
ные специальности организуются в институциональные «гильдии»
и каким образом воздействуют па характер научной работы в те-
чение последних 100 лет новые экономические, политические и со-
циальные факторы 3. Однако методы исследования, необходимые
для изучения социологии и социального управления наукой, сно-
ва ограничили круг вопросов, которые мы можем поставить с
пользой для дела. В особенности они оставили неясным вопрос о
том, существует ли какая-либо обратная связь — и если существу-
ет, то в каких отношениях,— социального контекста, в котором
работает ученый, с интеллектуальным содержанием самого науч-
ного мышления. Может показаться, что на содержание термоди-
намики XIX века оказал влияние прогресс в технологии паровозов
1 Этот подход более пли менее наглядно можно проиллюстрировать
работами М. Клагетта, Э. Р. Холла, Г. Баттерфилда и др.
2 Чтобы обсудить этот подход, см. полезную статью: И. Лакатос.
История и ее рациональная реконструкция. В сб.: Структура и развитие
науки. М., «Прогресс», 1978.
3 См., например: Price D. К. Government and Science. N. Y., 1954;
Scientific Estate. Cambridge, Mass., 1965.
10*
299
того времен,и; но в каких именно формах выразилось это влия-
ние? И в свою очередь что нам делать, например, с более
категорическим заявлением Бернала, что содержание дарвинов-
ской теории естественного отбора каким-то образом отражало
веру ее современников в экономическое laisser faire *.
Проблема состоит в том, чтобы найти приемлемую формули-
ровку, показывающую, как именно эти комплементарные подходы
к истории науки относятся друг к другу. Во имя этой цели мы
не можем спокойно оставаться в рамках одного из этих подходов;
вместо этого мы должны согласовать их результаты в рамках
более широкого объяснения, охватывающего как развитие науч-
ных понятий, так и научной деятельности. Так позвольте исполь-
зовать один классический пример, чтобы показать, что сделанное
нами разделение «дисциплинарного» и «профессионального» ас-
пектов изменений в пауке позволяет примирить оба стиля исто-
рического подхода.
Современные историки науки совершенно по-разному объясня-
ли, как «Начала» Ньютона приобрели свое окончательное интел-
лектуальное содержание.
(1) Покойный Александр Койре приступил к своим исследо-
ваниям творчества Ньютона, преследуя ограниченные, главным
образом генеалогические цели. В результате он сумел продемонст-
рировать, насколько глубже было влияние идей Декарта на мето-
ды Ньютона по сравнению с тем, как это полагали английские уче-
ные; на очень ярком примере Койре доказал, что существовали
более тесные связи Ньютона с кембриджскими платониками,
и, снова включив выражение Ньютона hypotheses non fingo
(«гипотез не измышляю» —лат.) в его первоначальный контекст,
опроверг все позитивистские интерпретации его метода...
Единственное, о чем данное Койре объяснение ньютоновских
идей почти не упоминало, была технология и промышленность
XVII столетия 1 2.
(2) Напротив, очерк покойного Бориса Гессена «Социаль-
ные и экономические корни ,,Механики“ Ньютона» почти не упо-
минает ни о чем другом. Все основные темы «Начал», доказыва-
ет Гессен, имели корни в современных технологических требова-
ниях — артиллерии и строительстве каналов, трансокеанской на-
вигации и добыче железной руды. В Англии XVII столетие было
«периодом, когда торговый капитал становился преобладающей
экономической силой и начали развиваться мануфактуры».
Проблемы статики и механики имели практическое значение, так
как «были связаны с подъемным оборудованием и механизмами
передачи, имевшими большое значение в добывающей промыш-
ленности и строительстве»; математическая теория траекторий
1 Б е р н а л Д. Дж. Наука и общество. М., ИЛ., 1956, с. 371.
2 Коугё A. From the Closed World to the Infinite Universe. Baltimore-
1957; Newtonian Studies. Cambridge, Mass., 1965,
300
и свободного падения составляла «основную физическую задачу
баллистики», тогда как принципы гидростатики имели «фунда-
ментальное значение для проблемы откачивания воды из шахт
и для их вентиляции, для выплавки металлов, строительства ка-
налов и плотин». Даже основные для Ньютона темы, то есть пла-
нетарная механика и теория приливов и отливов, имели решаю-
щее значение для практики судоходства. В то же время ин-
ституционная структура научно-исследовательской работы Нью-
тона — в Кембриджском университете, в Королевском обществе
и в Монетном дворе — служит хорошим свидетельством осво-
бождения интеллектуальной жизни от влияния церкви в резуль-
тате возникновения буржуазии. Правда, Ньютон предпочел
облечь свою новую теорию в абстрактные геометрические терми-
ны, но «земная сердцевина» его работ все же была близка основ-
ным технологическим потребностям XVII века L
Расхождения между «интерна листской генеалогией Койре
и «экстерналистским» анализом Гессена сами по себе достаточно
поразительны. По выражению последнего американского редакто-
ра Гессепа, «точное соотношение между наукой и социоэконо-
мической структурой еще не раскрыто» 1 2. Однако, чтобы соб-
люсти меру, приведем также третье объяснение деятельности
Ньютона.
(3) Совсем недавно Фрэнк Мэнуэл опубликовал психоанали-
тический портрет Исаака Ньютона как человека и тем самым пы-
тался пролить свет не только на более глубокие личные мотивы
Ньютона, но и на действительную структуру его идей. Жизнь
Ньютона является именно тем примером фантазии, сосредоточен-
ности на себе самом и сублимированной гомосексуальности, ко-
торых и следовало ожидать после психических катастроф его
ранних детских лет. (Отец Ньютона умер до его рождения,
и мать отдала его еще младенцем приемным родителям.) В ре-
зультате Ныотоп авторитарно придал своей интеллектуальной
системе структуру сдержанности, а это отразилось в том, что он
почувствовал себя человеком, имеющим божественное предназна-
чение, призванным полностью раскрыть характер всей космиче-
ской системы в целом. Подобно Койре, Мэнуэл не тратит времени
на вопросы технологии, за исключением тиранического отно-
шения Ньютона к фальшивомонетчикам в качестве главы Мо-
нетного двора; не обсуждает оп и социальную структуру капи-
талистического общества, за исключением тех случаев, когда она
давала выход вспышкам ньютоновского темперамента. Так что
его «портрет Ньютона», как бы правдоподобен он ни был сам
по себе, еще менее, чем социально-экономический анализ Гессена,
помогает выяснить «рациональное» развитие естествознания;
1 См.: Гессен Б. М. Социально-экономические корни механики Нью-
тона, 2-е изд. М. — Л., Гостехиздат, 1934.
2 В a s а 11 a (ed.) Op. cit., р. 31.
801
напротив, этот портрет, как того и хотел его автор, по-новому
освещает заявление Коллингвуда о том, что фундаментальные из-
менения наших предложений являются результатом «процесса
бессознательного мышления» L
Но в таком случае возможно ли, чтобы один раздел теорети-
ческой механики и астрономии поддавался столь разнообразным
интерпретациям? Из этих нитей, которые отнюдь не являются
несовместимыми пли противоречивыми, можно соткать единую
прочную ткань. Действительно, сугубо «интерналистская» история
научной мысли может быть изложена абсолютно непротиворечи-
во — если мы ограничим свое понимание только концептуальной
генеалогией,— но при соответствующих условиях, например при
том условии, что мы игнорируем все вопросы о различной ско-
рости концептуальных изменений в разные эпохи. Подобно эво-
люции органических видов, концептуальные изменения обнару-
живают п?разительные различия в скорости: в некоторые эпохи
крупные изменения следуют одно за другим, а в иные — целые
века могут пройти без серьезных изменений. Несмотря на то
что идеи и методы Коперника отделяют от идей и методов Пто-
лемея четырнадцать столетий, они гораздо ближе к этим послед-
ним, чем к идеям и методам Ньютона, которые сложились всего
через 150 лет. Однако «интерналистский» анализ астрономической
аргументации, которая привела к появлению работ Ньютона,
должен игнорировать эти изменения в скорости и рассматривать
только ступени развития этой аргументации как таковой.
И напротив, сугубо «экстерналистская» история изменений
в науке может быть изложена совершенно непротиворечиво —
если мы сконцентрируем свое внимание на исторических свя-
зях ученых и их социально-экономических ситуаций,— по при со-
ответствующих условиях. Очевидно, мы можем поставить вопрос,
почему физики определенной эпохи иллюстировали свои теорети-
ческие аргументы примерами, взятыми, скажем, из гидравлики
или навигации; но он будет резко отличаться от вопроса о том,
почему эти аргументы удалось доказать. Точно так же мы можем
задаться вопросом, почему на некоторой стадии столько ученых
работают над одной определенной темой; по он будет резко отли-
чаться от вопроса о том, чего в действительности достигли их
исследования. Мы можем спросить, какое внешнее покровительст-
во способствовало исследованиям в той или иной науке; но этот
вопрос будет принципиально отличаться от вопроса о том, что
заставило некоторые проблемы созреть для их решения... Дейст-
вительно, если мы снова вернемся к статье Бориса Гессена, то
обнаружим, что он очень тщательно выбирал свои выражения.
Он писал, что остались совершенно неосвещенными те результа-
ты, которых Ньютон достиг в процессе объяснения в своих «На-
1 Manuel F. Е, A Portrait of Isaac Newtpn. Cambridge, Mass., 1968,
p. ......
802
чалах», но он и но претендовал па это. С другой стороны, то, что
оп сказал, осветило причины, вследствие которых Англия
XVII века обеспечила эффективны!! «форум» как для исследова-
ний Ньютона, так и для того, чтобы, иллюстрируя свои общие,
абстрактные принципы, он отдал предпочтение специфическим
примерам. В то время (как напоминает нам аргументация Гес-
сена) земная и небесная механика, гидростатика, теория при-
ливов и отливов вызывали такой интерес, обладали такой при-
тягательной силой, которые распространялись пе только
па свойственное им математнчески-интеллектуальпое содержа-
ние, хотя причины, но которым Королевское общество заслужило
поддержку адмиралтейства Карла 11, были, совершенно очевидно,
политическими, а пе интеллектуальными !.
Итак, нам не составит особого труда разработать терминоло-
гию для того, чтобы примирить эти различные подходы к исто-
риографии науки. Всеобъемлющее объяснение научных измене-
ний должно ставить самые разнообразные вопросы. Однй
из них (в определенных пределах) будут поддаваться интерна-
листскому анализу, тогда как другие можно будет разрешить
(в определенных пределах) экстерналистскимп методами. Ни один
из этих методов сам по себе не является достаточным пли ис-
черпывающим, по все их результаты имеют совершенно подлин-
ную, хотя и ограниченную, законную силу, если считать, что они
относятся к комплементарным аспектам всей научной инициати-
вы. Не основывается этот компромисс и на произвольном реше-
нии, посредством которого различные школы историков «по спра-
ведливости» делят на части доступную нм территорию. Скорее
его более глубокое рациональное объяснение основывается
на сложных связях, соединяющих различные аспекты этой ини-
циативы — интеллектуал ьный, индивидуальный и институцио-
нальный. Действительно, одним из достоинств нашего анализа
является его способность продемонстрировать, при каких услови-
ях, в каких случаях абстракции, входящие в каждую нынешнюю
историографию, являются законными, имеют законную силу.
Здесь мы можем в общих чертах расшифровать два из этих
условий. Во-первых, хотя оба современных подхода к истории
науки включают в себя исходные абстракции, принятая дихото-
мия «интерналпстское» и «экстерпалистское» объяснения пе-
ремен в науке слишком резка и поэтому дезориентирует. На прак-
тике те вопросы, которые мы можем поставить относительно кон-
цептуальных изменений в науке, образуют непрерывный спектр,
причем те из них, которые зависят преимущественно от «внутрен-
них» (то есть рациональных или диалектических) соображений,
расположены па одном конце спектра, а те, которые отражают
по преимуществу «внешние» (то есть политические или социаль-
но-экономические) факторы,— на другом. Вопросы, относящиеся
1 Гессен. Цит. соч.
303
к критериям отбора, позволяющим судить о концептуальных ва-
риантах, находятся ближе к «внутреннему» пределу, тогда как
вопросы о возможности научных новаций расположены ближе
к «внешнему» краю. Но такого класса вопросов, который пол-
ностью поддавался бы анализу в каком-либо одном круге терми-
нов и при этом абсолютно исключал бы другой, не существует.
Даже сугубо интеллектуальный аргумент может объяснить кон-
цептуальное изменение только в том случае, если допустить, что
существовали социальные основания, благодаря которым этот
аргумент мог стать эффективным. Аналогично даже самое благо-
родное покровительство приведет к интеллектуальным результа-
там только в том случае, если данная тема научной работы со-
зрела для исследования, С нашей точки зрения, вопрос больше
не сводится к тому, можем ли мы па законном основании изу-
чать, например, концептуальные генеалогии или внешние связи
пауки, изолируя их друг от друга, или пет; скорее проблема сос-
тоит в том, до какой степени и какой цепой мы можем это сде-
лать. И именно по этому вопросу в действительности невозможно
дать никакого универсального обобщения, именно его нужно за-
ново и притом детально, рассматривать в каждой культуре,
в каждом историческом периоде, в каждой научной дисци-
плине.
Во-вторых, мы можем сделать этот компромисс явно и не-
двусмысленно эффективным только в тех случаях, когда науч-
ные дисциплины, о которых идет речь, достаточно определены,
или «компактны». В зрелой, достигшей своего полного развития
научной дисциплине, как, например, в атомной физике, совсем
нетрудно отличать «внутренние» дисциплинарные факторы и
соображения от тех, которые являются «внешними» по отноше-
нию к ее интеллектуальным интересам. В других случаях уста-
новить различие между внутренними и внешними факторами не
так легко. За пределами «компактных» дисциплин все основные
аргументы наряду с теми, которые относятся к понятиям, так-
тике и методикам, будут включать также полемическое обсужде-
ние интеллектуальной политики и приоритета; и любое измене-
ние «рациональных границ» аргумента немедленно вызовет смену
направления и основополагающих закономерностей всей инициа-
тивы в целом. В подобных случаях больше невозможно в той же
мере отделять «внутренние» аспекты научной дисциплины от ее
«внешнего» контекста. При отсутствии таких ясных, определен-
ных границ, какими обладают компактные дисциплины, наподо-
бие атомной физики, нет ничего, по отношению к чему они были
бы внутренними или внешними Ч Соответственно абстракции,
от которых зависит разделение интерналистской и экстерналист-
ской историографии, имеют законную силу только в ограничен-
ном классе случаев. За пределами «компактных» наук больше
1 Lakatos. Op. cit.
304
нельзя отделить диалектическую последовательность дисципли-
нарной аргументации от того социального контекста, в который
она вплетена в качестве специальности.
Теперь обратимся к сложной философской проблеме измене-
ний в науке, то есть к проблеме «оснований» и «причин», кото-
рая доставила такое беспокойство Коллингвуду *. Как мы уже
видели, концептуальные изменения всегда находят свое рацио-
нальное оправдание в историческом контексте, а дисциплинар-
ные стандарты оправдания сами являются продуктом истори-
ческого процесса. И напротив, тот факт, что учепые изменили
свои интеллектуальные стратегии, стандарты и требования, сам
по себе может стать очень важным историческим фактором, так
что профессиональный процесс оправдания становится необходи-
мым элементом причинно обусловленного процесса —истории.
Если дела обстоят таким образом, то должны ли мы утверждать,
что те самые основания, к которым ученые обращаются, оправ-
дывая свои концептуальные изменения, в то же время являются
«причинами», па языке которых мы сами должны объяснить эти
изменения? И соответственно должны ли мы утверждать, что
«причинные факторы», которыми объясняются исторические из-
менения науки, в то же время следует считать также и «рацио-
нальными соображениями», когда приходится оправдывать эти
изменения? Или же, если мы не хотим таким образом уравнивать
основания и причины, то как иначе стыкуются и соединяются
рациональная (или дисциплинарная) и каузальная (или профес-
сиональная) стороны исторического развития науки?
Это довольно деликатный вопрос. Как мы уже видели при об-
суждении Коллингвуда, граница, отделяющая основания от при-
чин, в некоторых пунктах становится очень топкой. Может по-
казаться довольно невинным, когда в разговорной речи мы опи-
сываем основапия, оправдывающие концептуальное изменение,
как «объяснение» того, почему заинтересованные в этом ученые
изменили свои взгляды, или, напротив, ссылаемся на деятель-
ность исследовательской группы по сбору новых доказательств
как на «оправдание» тех процедур объяснения, в поддержку ко-
торых было предпринято их исследование. Однако подобные раз-
говорные выражения потенциально дезориентируют, и в фило-
софских целях мы должны выбирать слова гораздо тщательнее.
Далее, отметим следующее обстоятельство: наука, рассматри-
ваемая в качестве целостной человеческой инициативы, не явля-
ется пп только компендиумом идей и аргументов, пи только сйсте-
мой институтов и заседании. В тот или иной момент интеллекту-
альная история научной дисциплины, институциональная история
научной специальности п индивидуальных биографий ученых,
2 См. выше разд. 1.2.
305
очевидно, соприкасаются, взаимодействуют и сливаются друг
с другом. Ученые усваивают, применяют и модифицируют свои
интеллектуальные методы «ради» интеллектуальных требований
своей науки, а их институциональная деятельность в действитель-
ности принимает такие формы, которые позволяют эффективно
действовать «во главе» пауки. Следовательно, дисциплинарные
(или интеллектуальные) и профессиональные (или человеческие)
аспекты науки должны быть тесно взаимосвязанными, по ни один
из них не может быть полностью первичным или вторичным
по отношению к другому. Например, большое значение имеет
факт, относящийся к хорошо развитым научным дисциплинам:
исторпки-интерналисты сумели так много рассказать об их теори-
ях и понятиях, о процедурах объяснения и о том, как они меня-
ются, по ссылаясь при этом пи на тех реальных людей, которые
изобретали, испытывали и/или принимали эти процедуры, ни
на то, где и когда они работали. Пе менее примечательно и дру-
гое обстоятельство, относящееся к частным наукам: историки-
экстерналисты могут многое сообщить о профессиональной де-
ятельности отдельных ученых и о научных организациях, не
нуждаясь при этом в ссылках на специфические теории, понятия
или процедуры объяснения, применяемые в этой деятельности.
Тем не менее обе абстракции считаются хорошими лишь до опре-
деленного момента. Например, если мы будем изучать профес-
сиональную организацию науки достаточно подробно, то обнару-
жим, что должны будем обратиться также и к интерналистским,
дисциплинарным соображениям. Доминирующие интересы одной
науки, возможно, потребуют полевых исследований во многих
странах, доминирующих интересы другой,— сложных расчетов
на ЭВМ; и эти специфические интересы соответственно с неиз-
бежностью повлекут за собой различные формы профессиональ-
ной деятельности.
И наконец, мы снова возвращаемся к представлению о том,
что наука прежде всего является целостной «рациональной ини-
циативой», а интеллектуальные и институциональные свойства
науки — дополняющими друг друга аспектами этой единой ини-
циативы. Эта рациональная инициатива обеспечивает каркас,
или «жизненную форму», в которой и дисциплинарное, и про-
фессиональное объяснения, каждое по-своему, становятся умест-
ными и оперативными; действительно, только на этой основе мы
можем придать однозначный смысл всей известной терминологии
«дисциплин» и «специальностей» или поставить уместные воп-
росы, относящиеся к их историческому развитию. Так что мы
можем заново сформулировать настоящую проблему в виде воп-
роса: на что делает упор дисциплинарный подход и на что —
профессиональный? То есть как мы осознаем, что одна группа
факторов или соображений имеет отношение к интеллектуально-
му содержанию науки, а другая — к человеческой деятельности
и институциональной организации?
306
Эти разлитая в акцептах и релевантности, как мы теперь
можем продемонстрировать, проистекают непосредственно из про-
тивоположности тех исходных позиций, с которых мы подходим
к каждой из этих разновидностей истории: дисциплинарный и че-
ловеческий подходы к изменениям науки имеют совершенно раз-
ные цели и назначения. Когда мы ставим вопрос об историческом
развитии дисциплинарного содержания, то нас интересует смена
одного репрезентативного круга понятий другим, который счи-
тается интеллектуальным достижением. В данном случае мы
заинтересованы в интеллектуальном результате этой перемены,
в том, какие последствия опа имела, что она сделала для пауки,
как опа помогла осуществлению дисциплинарных целей,— короче
говоря, в том, какой вклад опа внесла в объяснительный потен-
циал науки. Эти вопросы, относящиеся к последствиям интеллек-
туальных изменений, обычно совершенно не зависят от вопроса
о том, какие изменения происходят в первую очередь. Таким об-
разом, дисциплинарное объяснение развития науки прежде всего
интересуется суждением и рациональным оправданием, а не
диагнозом или причинным объяснением. Например, вопрос: «Как
коперниканская астрономия развилась из птолемеевской?» —
если его понимать в строго дисциплинарном смысле, следует
сформулировать заново с тем, чтобы прочитать следующим обра-
зом: «В каких отношениях и при помощи каких аргументов ко-
перниканская астрономия надстраивается над интеллектуальными
достижениями птолемеевской астрономии и превосходит их? Ины-
ми словами, дисциплинарные объяснения имеют своей целью
«рациональную оценку» концептуальных изменений, которые
считаются вкладом в успех рациональной инициативы. Поэто-
му пе удивительно, что подобные объяснения стремятся мак-
симально использовать словарпып запас рациональной оценки
и оправдания, как например, «основания», «соображения», «аргу-
менты».
Напротив, когда мы подходим к развитию науки с профес-
сиональных, или человеческих, позиций, наши интересы связаны
теперь со сменой одной репрезентативной группы индивидов, ин-
ститутов, познавательных действии другими, причем эта смена
рассматривается как исторический процесс. В этом случае мы
должны рассмотреть, как последующая группа начинает вытес-
нять предыдущую, кто песет ответственность за начало этой
смены, когда и где она имеет место, как различные ученые застав-
ляют почувствовать свое влияние. Все эти вопросы, должны мы
заметить, возникают независимо от того, вносит ли перемена,
о которой идет речь, какой-либо существенный вклад в содержа-
ние науки плп нет. Поскольку дисциплинарные объяснения из-
менений науки интересуются в первую очередь результатами, а не
самим процессом, то справедливым будет теперь и обратное утвер-
ждение: профессиональные объяснения озабочены процессом,
307
a no его результатами. Таким образом, анализ интеллектуаль-
ных изменений в человеческих, или профессиональных, терминах
в первую очередь имеет своей целью диагноз и причинное объяс-
нение, а не суждение или рациональнее оправдание. Вопрос:
«Как коперниканская астрономия развилась из птолемеев-
ской?» — будучи понятым в строго человеческих терминах, дол-
жен быть сформулирован заново и прочитан следующим образом:
«Чьими усилиями, в каких институтах, при каком покровительст-
ве были предприняты те интеллектуальные меры, которые в ко-
нечном итоге привели к замене птолемеевской астрономии копер-
никанской?» Вопрос о том, усовершенствовала ли эта замена
объяснительный потенциал науки, больше не является основопо-
лагающим. Теперь проблема состоит в том, как она вообще на-
чала возникать. Поэтому пе следует удивляться тому, что про-
фессиональные объяснения развития науки стремятся макси-
мально использовать словарный запас объяснительного, или
диагностического, анализа, то есть «причины», «факторы»
и «силы».
В первом случае мы подходим к каждой перемене в науке
с точки зрения перспективы, учитывая то новое, что она сделала
для будущего, характеризуя эту перемену на языке новых откры-
тий, которые были ее результатом, и тем самым демонстрируя,
насколько она была «оправдываемой». В последнем случае мы
рассматриваем ее ретроспективно, учитывая те факторы прошло-
го, которые ее вызвали, концентрируя свое внимание на при-
чинно-следственных связях, результатом которых были эти от-
крытия, и демонстрируя таким образом, насколько они «умопо-
стижимы». Дисциплинарный аспект интеллектуальной истории
является рациональным, оправдательным и перспективным,
а профессиональный — причинным, объяснительным и ретроспек-
тивным; и по самой сути данного вопроса эти два аспекта ком-
плементарны, а не эквивалентны. В ходе любой рациональной
инициативы опыт прежних достижений в объяснении постоянно
мобилизуется, оказывая влияние па нынешние интеллектуальные
решения, тогда как результаты этих решений, в свою очередь
модифицируют рациональное суждение о накопленном нами опы-
те. Однако так или иначе связь между ретроспективными диагно-
зами и их последствиями в перспективе включает в себя элемент
интерпретации. В ходе наших исторических объяснений тех про-
цессов, которые приводят к каким-либо переменам в науке, у нас,
возможно, появится хорошая возможность сослаться на «основа-
ния», оправдывающие эти перемены. Но эти основания не могут
действовать в историческом объяснении в качестве прямых
«каузальных факторов»; их каузальный эффект вообще достига-
ется лишь в той мере, в какой ученые, ответственные за осущест-
вление данной перемены, сознавали эти специфические основа-
ния и обращали па них внимание. Следовательно, с подобными
308
объяснениями причинно связаны пе сами основания, но их осоз-
нанность учеными.
Напротив, «причинные факторы» сами по себе пе служат не-
посредственными «основаниями», оправдывающими перемены
в пауке. Когда приходится защищать какую-либо теоретическую
новацию, наша задача состоит в том, чтобы па языке данной науч-
ной дисциплины продемонстрировать, что же достигается благо-
даря этой перемене; деятельность отдельных ученых имеет
к этому отношение только в тех случаях, когда опа интерпрети-
руется в качестве доказательства этого дисциплинарного дости-
жения. Следовательно, к вопросу рационального оправдания
прямое отношение имеет отнюдь не то, кто именно выполнил эти
эксперименты и расчеты, и не то, что имен по было выполнено,
и не то, как к этому пришли; он непосредственно связан с пер-
спективными усовершенствованиями объяснительного потенциала,
следующими из работы ученых. Короче говоря, научно-исследова-
тельская деятельность становится релевантной не столько благо-
даря исключительно причинной ее обусловленности, сколько
благодаря тому, что она, как считается, в результате приводит
к новым достижениям в объяснении.
Соответственно мы пе можем рассматривать коллективную
интеллектуальную инициативу пи как сеть каузальных процес-
сов, ни, напротив, как область рациональных достижений. Эти
две точки зрения являются альтернативными, а пе конкурирую-
щими, и мы можем переходить с одной из них на другую при
соответствующем переключении интерпретации. И если на прак-
тике полученные в результате этого типы исторического развития
частично перекрывают друг друга, то только потому, что обе
интерпретации основываются на самой рациональной инициативе.
Например, в качестве ученых мы можем наблюдать интеллекту-
альную деятельность наших коллег qua историческое событие
или процесс, а затем начать оценивать ее итоги qua рациональные
достижения. Следовательно, мы можем и измелить паправлепие
своей собственной деятельности, и модифицировать свои взгляды
на работу наших коллег в свете этой оценки. Поэтому практи-
ческое проведение научного исследования вынуждает пас часто
и легко переключать данные направления, и в результате может
показаться педантичным, что мы настаиваем па их различии.
Однако именно то обстоятельство, что па этом различии пе сле-
дует настаивать в ходе нормалг,пой научной работы, может пред-
ставлять опасность для наших философских целей в том случае,
если мы упустим его из виду. И действительно, это различие
между «объясняющими» рациональными соображениями на более
поздних стадиях будет иметь далеко идущие последствия для все-
го нашего анализа человеческого понимания.
Чтобы намекнуть на философскую запутанность, которая нам
будет угрожать, если мы проигнорируем это специфическое раз-
личие, сразу же отметим то обстоятельство, что такие термины,
309
как «сила», «вес», «власть», идиоматически употреоляются и при
рациональной оценке аргументации, и в причинных, или диагно-
стических, контекстах. Эта неопределенность распространяется
в глубь истории так далеко, как только мы можем это просле-
дить, и конечно, задолго до того, как в современной науке были
развиты понятия причинности, силы и механистического детер-
минизма. Однако в результате делаются неясными те самые раз-
личия, которые имеют здесь для нас столь важное значение, то
есть различия между рациональными соображениями, интел-
лектуальный «вес» которых зависит от них самих, и каузальными
факторами, которые, независимо от своих собственных достоинств,
«имеют вес» у действительных участников научных дискуссий.
Несомненно, «весомые» аргументы заслуживают того, чтобы
«иметь вес» у всех знающих их мыслителен, по это нм пе всегда
удается. Аналогично аргументы, которые «имеют вес» у предста-
вителей какой-либо среды, могут потерпеть неудачу, если бросить
им рациональный вызов. Нас может увлечь «сила» «властной»
(причинной) риторики; но рациональная «сила» «властной» ар-
гументации требует, чтобы мы санкционировали свой собствен-
ный выбор... и т. д., и т. д.
Теперь мы можем увидеть, почему па практике так трудно
отличать рациональную убедительность научной аргументации
от ее каузальной действенности, и обсудить оба этих пункта не-
зависимо друг от друга. Традиционно философы обращались с во-
просами, относящимися к рациональному суждению и оправда-
нию, таким образом, как будто они были абстрактными, отвлечен-
ными процессами, происходящими в каком-то внешнем (или
вечном) царстве, независимом от реальных исследований, резуль-
таты которого служат предметом суждения, но в итоге настоя-
щего анализа эта независимость становится невозможной. Со
своей стороны мы все сильнее оказываемся вынужденными рас-
сматривать «суждение» и «оправдание» как внутренние составные
части живой, действующей рациональной инициативы. Стандарты
суждений, критерии релевантности, рациональные идеалы и ин-
теллектуальные цели возникают, развиваются и уточняются
в свете объяснений, практической деятельности и вынесения ре-
шений — в свете всей той деятельности, которой занимаются
ученые, юристы и другие «рациональныо мастера». Сделать
открытие — возможно, это составляет одни аспект профессио-
нальной деятельности ученых; по оправдать это открытие, пред-
ставив в его поддержку «приемлемые» аргументы,— это другой,
дополняющий его аспект той же самой деятельности. И мы
сумеем адекватно понять каждый из этих аспектов только
если рассмотрим, как они связаны и друг с другом, и с целостной
«рациональной инициативой» науки. Полное объяснение концеп-
туального развития в любой рациональной инициативе на каждой
своей стадии должно освещать и формирование, и оправдание тех
выводов, которые явились проектом этой инициативы.
310
Теперь наконец мы в состоянии объяснить, что скрывается
за упоминанием «интеллектуальной экологии», «пиш», «требо-
ваний» и т. д., о которых вплоть до этого момента мы говорили
походя, без серьезной разработки и разъяснений. Начнем с
самого существа дела: дуализм, который мы здесь осознали —
дуализм дисциплинарных и человеческих аспектов интеллекту-
альных изменений,— это настоящий дубликат того дуализма, ко-
торый можно обнаружит г» в объяснениях органической эволю-
ции,— дуализма «экологических» и «генеалогических» идиом. Оба
эти объяснения изменении органических популяций тоже взаим-
но дополняют и частично перекрывают друг друга; однако ни
одно из них нельзя полностью перевести на язык другого. Гене-
алогическая история объясняет видообразование в качестве кау-
зальной последовательности взаимосвязанных процессов, тогда
как экологическая история интерпретирует ее скорее в качестве
биологических последствий функционального успеха; в результа-
те обе истории органического развития, несмотря на свою взаимо-
обусловленность, ни в коей мере не эквивалентны.
Предположим, что мы изучаем образование органических ви-
дов, учитывая па каждой его стадии те условия, при которых
последующие виды развивались из предыдущих. Этот процесс
можно охарактеризовать на языке последовательной смены имею-
щихся в наличии «ниш», которые могут быть заполнены новыми
популяциями живых существ; при таком подходе мы показыва-
ем, каким образом в данной сфере «сохранение в процессе отбора»
специфических новых свойств вносило свой вклад в биологический
«успех» нового вида. Со времен первоначальной полемики
с Лза Греем и Луи Агассизом дарвинисты всегда подчеркивали,
что их объяснение органического видообразования (далекое от то-
го, чтобы быть «жестоким, слепым и механистическим») па каж-
дой своей стадии обнаруживает адаптивный, пли «телеопоми-
ческий, аспект» 1. С экологической точки зрения органические
изменения всегда объясняются тем, что признаются новые тер-
ритории, условия и «экологические требования», ответом па кото-
рые служит выборочное сохранение «наиболее приспособленных»
вариантов 1 2.
Однако тот же самый процесс органического видообразования
можно охарактеризовать альтернативным способом, при помощи
совершенно иной терминологии, концентрируя внимание на гене-
алогических связях между предшествующими и последующими
популяциями. Такое объяснение будет попыткой реконструиро-
вать последовательность отдельных событий эволюционного раз-
вития, в результате которых эти популяции размножались,
1 См.: Lurie Е. Louis Agassiz: A Life in Science. Chicago. 1960.
p. 274—281 and 294—295.
2 См,, например: Mayr E. Animal Species and Evolution. Cambridge
Mass., 1963. ё '
3U
дифференцировались, занимали новые области, сменяли друг друга
пли вымирали. Если мы примем эту альтернативную точку зре-
ния, то, действительно, можем кончить тем, что начнем тракто-
вать естественный отбор как строго «каузальный», или механи-
ческий, процесс; но это может произойти только потому, что наши
вопросы, будучи побочным продуктом избранного нами подхода,
ограничиваются только каузальными процессами и взаимодейст-
виями.
Эти альтернативные объяснения органической эволюции, оче-
видно, тесно связаны. При отсутствии подходящих ниш генети-
ческий потенциал данной органической популяции останется
неиспользованным, тогда как в отсутствие подходящих популя-
ций на экологические требования данной ниши некому будет
отвечать. Однако одинаково бесполезно было бы и ставить воп-
рос: «Существуют ли экологические ниши только благодаря ныне
существующим органическим популяциям, или же эти популяции
существуют только благодаря находящимся в их распоряжении
нишам?» — и переносить его на научные идеи и институты.
В каждом из этих случаев сам вопрос включает в себя ложную
антитезу. Скорее нам следует сказать, что наши ниши отчасти
(хотя и не исключительно) существуют благодаря популяциям,
а популяции — отчасти (но не исключительно) благодаря нишам.
Как только начинается процесс органической эволюции, популя-
ции и ниши вступают в сложные взаимоотношения; в то время
как нынешние популяции могут развиться в новые виды только
там, где имеются в наличии подходящие новые ниши, на характер
этих ниш сильное воздействие оказывает характер остальных
сосуществующих популяций организмов. Более того, только те
экологические ниши имеют эволюционное значение, которые мо-
гут (или не могут) занять какие-либо ныне существующие попу-
ляции разнообразных организмов, и только те генеалогии и мута-
ции имеют отношение к эволюции, которые обеспечивали (или
могли обеспечить) соответствующим популяциям возможность от-
ветить на требования ныне существующих ниш.
Конечно, при этом мы пе делаем никаких специфических
эмпирических утверждений, а просто анализируем, какие общие
формы связей действуют в контексте органической эволюции.
Такие термины, как «экологическое требование» и «ниша»,
«адаптивность» и «успех»,— все они в действительности корреля-
тивны и определяются одно посредством другого. Теория Дарвипа
не дает нам способа обнаружить обязательные или универсаль-
ные критерии эволюционных «преимуществ», «успеха» или «пре-
восходства», которые не зависели бы от реальных ситуаций;
тем более его теорию нельзя использовать в качестве основы
универсального определения, охватывающего также ипые «цен-
ности». Но мы можем надлежащим образом использовать эту
теорию для того, чтобы показать, какие возможности вообще обес-
печивает органическая эволюция для рассуждения об «успехе»,
31?
«превосходстве» и «преимуществах»; таким образом, ее можпо
использовать, чтобы показать, какие экологические рассуждения
и сравнения предусматриваются экологическим контекстом. Поэ-
тому мы можем, например, увидеть, что вовсе невозможно в ка-
ких-либо абсолютных терминах говорить о «совершенном» орга-
низме или писать, что один вид «лучше» другого, не давая этому
какой-либо характеристикиДействительно, вопросы, относя-
щиеся к эволюционной «адаптивности» и «превосходству», сле-
дует понимать в связи со специфическими физическими и биоло-
гическими условиями. В действительной истории органических
видов невозможно обсуждать «преимущества» различных орга-
нических популяций в простых и общих терминах; говоря эколо-
гически, подобные чрезвычайно общие вопросы неэффективны.
То же самое справедливо и для «интеллектуальной экологии».
Именно далеко идущие параллели между экологическим объяс-
нением органических изменений и дисциплинарным объяснением
интеллектуального развития придают смысл распространению
экологической терминологии с органической эволюции на интел-
лектуальную. В интеллектуальной истории любая действитель-
ная проблемная ситуация создает некоторый спектр возможных
интеллектуальных новаций. Конечно, природа этих возмож-
ностей зависит столько же от характера других сосуществующих
идей, сколько и от абсолютно «внешних» особенностей социаль-
ной либо физической ситуации. Мы можем изучать происходящие
в результате концептуальные изменения либо qua процессы —
если попытаемся просто рассмотреть, в каком историческом на-
правлении они будут происходить,— либо альтернативно — qua
достижения,— если будем задаваться вопросом, насколько полно
эти изменения использовали интеллектуальные возможности те-
кущей ситуации. Как и в случае с органической эволюцией, связи
между понятиями и возможностями носят здесь сложный двусто-
ронний характер. Предшествующие популяции научных понятий
могут дифференцироваться таким образом, что породят, например,
новые дисциплины только там, где им представятся подходящие
интеллектуальные условия; между тем на характер этих возмож-
ностей оказывают сильное воздействие другие, уже существую-
щие популяции... и т. д. Дисциплинарное объяснение научных
изменений соответственно изучает, какие возможности следует
1 Я утверждаю это, несмотря па те аргументы, которые выдвинуты
Джулианом Хаксли в его книге «Эволюция. Современный синтез», особенно
гл. 10 «Об эволюционном прогрессе» (Huxley J. Evolution, the Modern
Synthesis. L., 1942). Конечно, Хаксли удалось показать, что человеческий
вид отличается не только тем, что он хорошо приспособлен к определен-
ным «нишам», в которых он первоначально развивался, но и тем, что впо-
следствии он приобрел способность выживать в потенциально гораздо бо-
лее разнообразных условиях; но эга характеристика не дает многого из
того, что нам необходимо, чтобы определить абсолютные или универсала
ныв критерии «эволюционного преимущества».
313
использовать в любой проблемной ситуации, анализирует требо-
вания, предъявляемые этими условиями, и оценивает полученные
благодаря концептуальным изменениям достижения, которые
действительно служат ответом ученых на эти требования.
Повторяю, данные положения отнюдь не должны предрешить
действительно существующие эмпирические связи между специ-
фическими концептуальными изменениями и требованиями опре-
деленных ниш; они просто должны помочь проанализировать, ка-
кие общие формы связей являются действенными в контексте
концептуальной эволюции. И опять же все подобные термины,
как, например, «преимущества» и «превосходство», соотноситель-
ны и определяются друг через друга. Они не предлагают нам ни-
какого способа установить обязательные или универсальные кри-
терии, позволяющие судить о рациональных преимуществах
действительных концептуальных изменений независимо от дейст-
вительных обстоятельств; том более они не позволяют предре-
шать, какие вследствие этого возникнут более общие философ-
ские вопросы, относящиеся к «рациональности». Напротив, теперь
мы можем увидеть, почему неуместно использовать какие-либо
абсолютные термины, чтобы говорить о «совершенных» поняти-
ях или теоретических системах; почему без каких-либо оговорок
нельзя считать, что один набор интеллектуальных процедур «луч-
ше» другого. Подобные вопросы эффективны только в связи с тре-
бованиями специфических ситуаций и проблем. Стоящие перед
нами в каждой особой ситуации спорные рациональные вопросы
служат отражением специфических проблем, возникающих по хо-
ду нашей сегодняшней интеллектуальной деятельности; а больше
всего действенные критерии суждений в любой рациональной
инициативе зависят от практических возможностей выбора и
внутренней самокритики, действительно присущей всем ини-
циативам.
До того как Дарвин продемонстрировал, что функциональ-
ный характер органических структур и поведения можно считать
результатом их исторического развития, и органы, и организмы
обычно считались творениями божественного мастера. Каждое
отдельное свойство органической жизни интерпретировалось как
самостоятельное и тщательно выполненное им произведение, сви-
детельствующее о его безграничной предусмотрительности и муд-
рости и «абсолютно соразмерное» задачам, предопределенным все-
вышним L Достижения Дарвина состояли в доказательстве того,
что на деле этот функциональный характер никогда не является
конечным, завершенным и абсолютным, что преимущества раз-
личных органов и организмов понятны только тогда, когда мы
рассматриваем их совместные действия в специфической ситуа-
1 О провиденциализме, лежащем в основе дискуссий, предшествовав-
ших эволюционной теорий, см.: Eiseley L. Darwin's Century. N. Y., L„
1958; Gillispie С. C. Genesis and Geology. Cambridge, Mass.. 1951.
314
ции. Настоящее исследование приводит пас к аналогичному
заключению. Любая попытка дать определение «совершенной?)
теории или «единственно достойном» концептуальной системы
ставит перед нами такие вопросы, которые одновременно являют-
ся и слишком общими, и слишком абстрактными, чтобы иметь от-
ношение к существующим в действительности самокритическим
процедурам решения проблем в какой-либо действующей научной
дисциплине,— вопросы, которые имеют пе большее отношение
к концептуальной эволюции действительных рациональных ини-
циатив, чем старые вопросы о «совершенных» органах и организ-
мах — к нашему историческому пониманию органического видо-
образования.
Однако если мы спустимся с нашего философского Олимпа
на арену действительного решения научных проблем, то мы
сумеем увидеть, что «рациональные соображения», уместные при
решении концептуальных проблем, можно постичь только тогда,
когда мы связываем их со специфическими деталями частных
проблем; что характер этих проблем в свою очередь связан с дли-
тельным развитием той дисциплины, в которой они в настоящее
время являются «спорными». Если мы позаботимся о том, чтобы
точно и детально разобраться, каких интеллектуальных целей
стремятся добиться заинтересованные в них представители той
или иной дисциплины и как этот выбор цели ставит перед ними
специфические концептуальные проблемы, то в этом, и только
в этом, случае мы будем в состоянии понять, что считается ими
интеллектуальным «достижением» или теоретическим «усовер-
шенствованием» и насколько оправдано применение принципов
сделанных ими суждений и критериев сделанного ими выбора
в этой частной проблемной ситуации.
Дополнение: исследовательская программа
Наш настоящий анализ коллективного понимания -и его ис-
торической эволюции имеет то достоинство, что по мере своего
осуществления он удовлетворяет наше исходное требование,
а именно требование такой теории человеческого понимания, ко-
торая признает, что ни мир, с которым мы имеем дело, пи совокуп-
ность понятий, меюдов и убеждений, которые мы при этом раз-
виваем, не являются исторически неизменными. По более сущест-
венные тесты появятся позже, когда придет время исследовать те
вопросы, которые вытекают из нашего анализа, а также его при-
менение в различных областях исследования, на которые ои рас-
пространяется. Истинной мерой той разрешающей способности,
которую обеспечивает каждая серьезная теория, является в ос-
новном богатство и разнообразие новых вопросов, которые она
предлагает нашему вниманию, а также ее возможности обнару
живать существенные связи между элементами или областями
315
исследования, которые ранее казались совершенно независимыми
друг от друга. Это означает не только ю, что теория способна
порождать дополнительные вопросы, подлежащие исследованию,
но и то, что она может опровергать вопросы, оставшиеся от прош-
лых объяснений, и заменить их другими, более действенными
вопросами.
Итак, наш анализ поставил новые вопросы в таких далеких
областях, как история науки и социология искусств, теорети-
ческая лингвистика и моральная философия. Он указал, что
в основе некоторых из этих областей лежат необоснованные идеи,
и в то же время предложил альтернативные подходы. Соответст-
венно в качестве постскриптума к нашей аргументации, рекомен-
дующего применение нашего объяснения в некоторых областях,
затронутых в этой работе, возможно, будет полезно в общих
чертах набросать программу будущих исследований.
(1) Мы можем начать с выяснения ее наиболее общего значе-
ния. Отвергая теоретическую модель формальных «систем», ха-
рактеризующихся статистическими взаимодействиями, в пользу
альтернативной схемы «популяций», подвергающихся историче-
ской эволюции, наш анализ вызывает методологические изменения
во многих гуманитарных науках. В философии науки, социологии
и политической теории, культурной антропологии и теоретиче-
ской лингвистике необходимо в этом случае найти объяснения
для таких элементов, которые раньше считались «самоочевидны-
ми». Дело в том, что различные естественные науки, различные
языки, различные общества и институты — все они перед лицом
исторических изменений сохраняют некоторую специфичность и
преемственность; поэтому мы должны понять, какие разновидно-
сти динамического равновесия между процессами новообразования
и отбора в каждом случае отвечают за сохранение этого специ-
фического характера перед лицом изменчивости и управляют на-
правленностью концептуальной, социальной, культурной и линг-
вистической эволюции.
Мы можем, например, задать следующий вопрос: какие усло-
вия содействуют либо сохранению длительного интеллектуального
застоя в какой-либо научной дисциплине, либо разделению ее
на две или несколько дисциплин-преемников, либо порождению
новой гибридной науки из двух или нескольких предшествующих
дисциплин, либо исчезновению научной инициативы, о которой
идет речь в результате утраты определенности, вымирания
и т. д.? (Подобные вопросы в равной мере относятся к общест-
вам, культурам и языкам.) С другой стороны, при каких усло-
виях мы можем ожидать, что обнаружим концептуальные или
социальные, культурные или лингвистические копии апомикти-
ческих, полиморфных или смешанных видов уже известных нам
в таксономии органических популяций? И существует ли в гу-
манитарных науках такая область, где изучается «адаптивный
отклик» различных человеческих действий и институтов на
316
практические и интеллектуальные требования различных ситуа-
ций? Можно ли сообщить таким выражениям, как «интеллекту-
альная экология», «культурная среда» и «социальная пиша»,
какое-нибудь реальное содержание и применять их не только
на уровне программ, но и при изучении действительных ситуа-
ций?
(2) В более практическом плане паше объяснение имеет зна-
чение для историографии науки. Мы можем, например, разру-
шить барьеры Между «пптериалистской» и «экстерналистской»
историями науки, то есть между изучением исторической после-
довательности событий, благодаря которой развивается наука,
и исследованием того влияния, которое оказывает ее социально-
экономический и культурный контекст па направление и интен-
сивность научной работы. В известных пределах в некоторых
случаях правомерно изучать оба этих аспекта изолированно друг
от друга, по полученная таким образом ограниченная картина
изменении в науке в результате является гораздо менее все-
объемлющей, чем мы можем теперь требовать. Вместо этого нам
нужно начать соотносить «жизнь идей» с жизнью и института-
ми людей, которые их постигают и передают, а таким образом
снова интегрировать «внутренние» (или дисциплинарные)
и «внешние» (или профессиональные) аспекты пауки.
В частности, нами было открыто, что изучению подлежат че-
тыре стороны дисциплинарной эволюции: (а) изменение «целей
объяснения», в разное время управляющих различными научными
дисциплинами, п причастность этих изменяющихся целей к на-
учной проблематике; (б) каналы интеллектуальных новаций, по
которым «концептуальные варианты» вступают в текущие науч-
ные дискуссии; (в) критерии отбора, процедуры и/или преду-
беждения, действию которых подвергаются эти варианты в кон-
курентной борьбе за прочное место в какой-либо частной науке,
и (г) пути и способы, при помощи которых более общие свойст-
ва социального или культурного контекста оказывают влияние
па дисциплинарное развитие пауки.
Требуется ли, папример, полное единодушие по отношению
к целям объяснения, если научная дисциплина эффективно ре-
шает свои спорные проблемы? Помогает ли известное расхожде-
ние в интеллектуальных целях у ученых разных стран, школ
или традиций сохранить действенную силу пауки? Какое равно-
весие должно установиться в последнем случае, чтобы избежать
и полного растворения в «предполагаемых дисциплинах», и схо-
ластического единообразия догматической замкнутости? С дру-
гой стороны, можем ли мы извлечь какое-пибудь обобщение из
действительных исторических описаний тех перемен, которые пе-
реживают теоретические идеалы разных наук, например из описа-
ний чередования атомистической и континуальной моделей
в физике, генетике и т. д.? Или из описаний возможных схем,
объясняющих историческое происхождение, независимо от того,
817
идет ли речь о социальной теории, зоологии или космологии?
Или пз описании, относящихся к методологическим связям меж-
ду формальными, математическими теориями (физикой а 1а
fran^aise, по терминологии Дюгема), и субстанциальными мо-
делями (физикой a 1’anglaise, по терминологии Дюгема)?
Что же касается интеллектуальных новации в науке, то ка-
кая аргументация требуется для того, чтобы концептуальный ва-
риант либо получил признаки в качестве подлинной возможности,
либо был исключен как бесполезный? Какие факторы — внутрен-
ние (например, зрелость) или внешние (например, покрови-
тельство) — обеспечивают быстрейшее появление новаций имен-
но в данной отрасли науки, а не в другой? И в каких отношени-
ях более широкие социальные установки и мотивы воздействуют
на типы и темпы концептуальных новаций в пауке?
Что касается процедур интеллектуального отбора: выполняют
ли полномочные референтные группы аналогичные функции
во всех науках или же различия в критериях отбора влекут
за собой также и различные процедуры отбора? Как при пере-
ходе от одной стадии исторического развития науки к другой
менялось в итоге распределение интеллектуальных полномочий?
Как такие изменения воздействуют на окончательные тем-
пы и направление концептуальной эволюции? И в каких отноше-
ниях на характер научного развития в различных условиях ока-
зывает влияние то обстоятельство, что процедуры отбора выпол-
няются с разной степенью строгости?
И последнее: по каким каналам происходит взаимодействие
различных дисциплин (например, науки и технологии)? Напри-
мер, насколько, скажем, эффективное развитие концепций объяс-
нения зависит от эффективного развития практических методик
и в свою очередь влияет на них? В каких отношениях спектр
концептуальных вариантов, рассматриваемых какой-нибудь науч-
ной средой, испытывает влияние более общих предположений,
например философских, этических или теологических? И как
на этом уровне можно отличить правомерные и необходимые
взаимодействия от тех, которые являются просто консервативны-
ми или метафизическими?
(3) Обратимся, далее, к социологи научной инициативы;
здесь мы можем поставить несколько новых социологических воп-
росов как относительно организации и функционирования науч-
ных институтов, так и относительно их взаимодействия с общест-
вом в целом. Социологи, как и историки, стремились резко раз-
делять вопросы, относящиеся к научным специальностям (которые
считались элементами более крепкой социальной «системы»), от
вопросов о содержании тех дисциплин, которые существуют бла-
годаря этим специальностям. Эта абстракция иногда правомерна,
но только до определенного момента, и более глубокий анализ
должен указать также на то, каким образом специальные науч-
ные институты и научная деятельность отражают интеллектуаль-
318
ный характер своих проблем. Научные институты могут разделять
некоторые общие черты со всеми социальными институтами, по
в некоторых отношениях опи понятны только при учете их спе-
циальных дисциплинарных функций.
В соответствии с этим мы можем поставить четыре следую-
щих вопроса: (а) о способах, при помощи которых профессио-
нальные научные организации действуют «от имени» своих
дисциплин; (б) о каналах, благодаря которым полномочные ре-
ферентные группы п индивиды, формулы п журналы укрепляют
свое критическое влияй не и направляют развитие какой-либо
дисциплины; (в) о процессах, благодаря которым профессиональ-
ные полномочия передаются от одной референтной группы к дру-
гой; (г) о мерах, при помощи которых дисциплинарная специали-
зация институционально выражается в возникновении соответст-
вующим образом дифференцированных организаций и референт-
ных групп.
Многие из этих резюмирующих вопросов уже затрагивались
в нашем исследовании. Мы обсуждали, например, воздействие
«разницы поколений» на характер профессиональных полномо-
чий, роль периодических изданий и учебников в становлении
и передаче концептуальной традиции. Но можно было дополнить
их многими другими вопросами, например о различии институ-
циональной структуры науки в разных странах, о воздействии
этих различий на эффективность развития науки, о том, каковы
функциональные различия, например, между научными и техно-
логическими, медицинскими и правовыми институтами.
(4) Затем мы можем также сформулировать несколько во-
просов по психологии научного исследования и открытия. Необ-
ходимо, папример, поставить теперь нашу проблему персональных
мотивов (и их «причин») у индивидуальных ученых с учетом
дисциплинарных проблем (и «оснований») той коллективной пау-
ки, к которой они принадлежат ио своей специальности. Эти свя-
зи можно рассматривать в одном из двух направлений: либо мы
можем задаться вопросом о том, (а) как коллективные дисципли-
нарные цели налагают свои требования на деятельность ученых,
связанную с решением проблем, либо в виде альтернативы
о том (б), как исходные личные интересы, которые побудили раз-
личных индивидов заняться определенной научной областью,
проявляются в их дисциплинарной и профессиональной деятель-
ности.
(5) Наш анализ коллективной рациональной инициативы, если
провести его достаточно глубоко, имеет и теоретическое значе-
ние — для исторического и философского понимания научной
инициативы, и практическое — для решения политических и ад-
министративных вопросов. Текущие меры по стимулированию
развития, скажем, науки и технологии, всегда без доказательств
принимают некоторые общие убеждения, например убеждение
в том, каковы эффективные условия, обеспечивающие плодотвор-
319
ную творческую деятельность в этих областях. Таким образом,
лучшая теория дисциплинарных изменений помогла бы нам вы-
работать лучшее практическое понимание того, (а) каким обра-
зом профессиональные институты какой-нибудь дисциплины мо-
гут приспособиться к потребностям соответствующей дисципли-
ны и (б) каким образом внешние условия содействуют либо раз-
витию какой-нибудь определенной дисциплины, либо ее скрещи-
ванию с другими инициативами.
(6) Наконец, наш анализ позволяет нам сравнивать характер
исторических изменений в различных видах коллективной ини-
циативы. Основной особенностью нашего объяснения была мо-
дель исторического развития в «компактных дисциплинах»; но мы
уже видели, что понимание того, какие условия требуются для
применения этой модели, может также пролить свет и на другие
области человеческой деятельности, которые не являются в пол-
ной мере дисциплинарными. Если мы в свою очередь подчеркнем
противоположность компактных дисциплин (например, физики)
более диффузным дисциплинам бихевиористского профиля, ква-
зидисциплинам искусства и таким недисциплинарным инициати-
вам, как этика и философия, то, по-видимому, это поможет нам
лучше понять не только те коллективные человеческие инициати-
вы, которые действительно имеют дисциплинарный характер, но
и те, которые его не имеют.
УКАЗАТЕЛЬ
Абсолютизм 68—69, 72, 79—80, 88, 93,
96—97, 101
абсолютный 68, 72, 79, 141
абстракция 74
Августин 29
Агасси Дж. 298
Агассис Ж. Л. Р. 130—132, 311
Адамс М. 143
Адамс Ф. Д. 279
аксиомы, аксиоматический 34—35,
44, 60, 72, 94, 96
Анаксагор 221
анархизм 258
антропология 13, 58, 63, 66, 74—75, 79,
99—102, 104—105, 107
Аристотель 26—27, 75, 162, 295
арифметика 71—75, 94
Архимед 295
Астбери У. Т. 235
астрономия 115—117, 219—220, 257,
293, 307—308
атеизм 36
Барбер Б. 111
Басалла Дж. 298, 301
Баттерфилд Г. 120, 299
Бен-Дэвид Дж. 111, 218
Бенедетти 252
Бернал Дж. Д. 9, 275, 300
Беркли Дж. 94, 197
берклианство 7
Берлин Дж. 43
Биглхоул Дж. 64
биология 162, 184, 234—236, 259
— молекулярная 16, 152, 234—235,
280
биохимия 16, 149, 156, 162, 184, 280,
292
Бисмарк О. 66
бихевиоризм 14, 169
Блэк Дж. 211
Боден Ж. 99
Больцман Л. 198
Бом Д. — 158
Бор Н. 7, 16, 154-155, 179, 237, 283,
285
Борн М. 292
Праге Т. 229
Браунинг Р. 267
Брунер Дж. 30, 35
Брут 103
Брэгг Л. 285
Брэдуардип Т. 116, 252
Буридан Ж. 75—76, 149, 219, 252—
253
Бэкон Ф. 229, 248
Бэнкс Дж. 57
Бюлер К. 198
Бюффоп Ж. Л. 143, 216
Вавилов С. И. 288
Ван-дер-Ваальс Я. Д. 182
Васильев А. А. 221
Вашингтон Дж. 286
Вебер М. 13, 264
Венский кружок, школа 10, 30, 74,
137
вид 167, 311
Вижье Ж. Р. 239
Вико Дж. 43
Випер Н. 30, 195
Витгенштейн Л. 6, 10, 30, 52, 81—83,
153, 169, 178—198, 242
внешний мир 24, 44, 47, 53—54
«внешняя» среда 42
Вольтер 62
восприятие 37—38, 45, 47, 54, 110,
ИЗ, 118, 135—136, 180, 197—198
Вундт В. 195
Выготский Л. С. 13, 20, 30, 169
Газали М. аль 221
Галилей Г. 39, 76, 79, 109—110, 112,
115-116, 120, 123, 149, 156, 219—
220, 246, 252, 257, 286, 290, 295
Гамильтон Т. 143
Гамильтон У. Р. 73, 187
Гарибальди Дж. 286
Гаскинг Э. 212
Гаусс К. Ф. 42
Гегель Г. В. Ф. 12, 94—95, 118
Гейзенберг В. 7, 24, 112, 115, 237,
245—246, 253, 285
321
Гексли Т. Г. 257
Гельмгольц Г. 136, 187—188, 197—198,
272, 276, 278—279
Гемпель К. 77, 174, 195
Геология 128—131
геометрия 26, 42—43, 62, 64, 66, 69,
73, 82, 163, 180, 193-195
Гераклит 58, 220
Гердер И. Г. 81
Герлак А. 288
Герц Г. Р. 73, 76, 138, 198—199, 201,
250
Гессе М. Б. 79
Гессен Б. 300—302
Гёте И. В. 135—136
Гильберт У. С. 94
гносеология 6, 21
Гоббс Т. 12
Готлиб Дж. 106
Грей А. 311
Гудфилд Дж. Дж. 34, 187, 257
Гюйгенс X. 168, 182, 192
Дальтон Дж. 38, 120, 162, 211, 239
Дарвин Ч. 8, 10, 63, 120, 130, 133,
143—146, 210—211, 257, 276, 286—
287, 312, 314
дедукция 42, 75, 127, 196
Декарт Р. И, 24, 26—27, 34—35, 37—
39, 42, 45, 48—49, 53, 60, 68—71,
156, 163, 195, 200, 246, 248, 251—
252. 300
Дельбрюк М. 235—236, 241, 245, 285
Дембер У. Н. 197
Демокрит 162
диалектика 6
дисциплины 152, 156, 160—161, 163—
165, 170—172, 180, 201—202, 206—
207, 214—218, 223—226, 230, 233,
242—243, 247, 252—253, 258, 262,
265, 275, 277, 283, 296—297, 304—305,
315—320
догматизм 121—123
дуализм 42, 311
дух 37, 40
Дьюи Дж. 8
Дюгем П. 238, 247, 248—250, 318
Евдокс 219
Евклид 43, 64, 66, 152, 193, 220, 252
естествознание 6, 9, 15, 23, 26, 65, 73,
76, 80, 85, 98, 114, 137—138, 149,
182, 195, 221, 224, 245, 261, 292, 298,
301, 316
законодательство 99, 106
законы природы 36, 41
Зимап Дж. 273, 275
знание 7—9, 11, 23, 24. 27, 31—32. 39,
40, 44, 48, 70, 73, 178, 192—193,
196—199
идеализм 6, 91
идеалисты 94
идентификация 59
188, 242, 261, 297
изменение 124—131, 147—148, 187—
199
— интеллектуальное 132, 311
— концептуальное 129, 132—133, 137,
141—142, 157, 163, 171, 192—193,
206—208, 211, 223—226, 228, 244,
302
— научное 298—300, 302—305, 317
— «нормальное» 14, 124, 127
— революционное 114, 127
— теоретическое 114—115, 125. 127
инструментализм 8
интеллект 110, 122
интернализм 298, 303, 317
интроспекция 24
Ппфельд Л. 103
Ирвин У. 257
истина 10, 59, 69, 71, 82, 178, 208
истинность 82
историзм 6, 12—14, 21, 94
историография 129, 298, 317
«историческая диалектика» 94
исторический материализм 91, 95
история 20, 65—66, 68—71, 79, 94—
95, 99, 102
— интеллектуальная 93, 95, 108, 131,
308, 313
Кант И. 43, 61, 64, 81, 85, 92, 95,
109—110, 118, 178, 194—200, 216
Карнап Р. 6, 76—77
картезианство, картезианский 38,
42—44, 49
Кельвин Т. У. 248—249
Кекуле Ф. А. 251
Кеплер И. 79, 103, 116, 216, 220, 229
Кёстлер А. 229
кибернетика 30
Кидин п у 217
Клагетт М. 299
Клаузиус Р. Ю. Э. 188, 271—272
Клейи Ф. 73
Койре А. 30, 300—301
Коллингвуд Р. Дж. 7—8, 12, 67, 69—
80, 82—97, 110—114, 120—126, 129,
131—132, 134, 223, 302, 305
Коммаджер С. 107, 240
Копенгагенская школа 7, 234
Коперник Н. 79, 109—110, 116, 120,
124, 126, 135, 219, 223, 229, 257, 302
«коперниканская революция» 117
космология 69
322
Коэн Р. С. 250
Коэн А. Б. 159, 251
Кравец Т. П. 135
Кратил 59
Крик Ф. 170, 235, 285
критика, критический метод 6, 9, 70,
131, 221
критицизм 8, 25
Крылов А. Н. 27
Куайн У. 78, 97
Кузанский Н. 216
Кук Д. 57—58, 63
культура 100, 111
культурная антропология 31
Кун Т. 7—8, 13, 110—121, 123—129,
131 — 132, 134, 136—137, 139, 229,
258
Курбе Г. 231
Кювье Ж. 130—132, 278—279, 287
Лавджой А. О. 38, 81, 144
Лавуазье А. Л. 120, 286—287
Лайель Ч. 130—131, 257, 287
Лакатос И. 8—9, 20, 82, 119, 252, 299,
304
Ламарк Ж. В. 279, 287
Ламберт И. Г. 42—43
Ламетри Ж. О. де 257
Лаплас П. 116, 187
Ласки Г. Дж. 283
Леб Ж. 291
Леви Э. 101, 107
Леви-Строс К. 62, 108—109
Лейбниц Г. В. 35, 288
Ленин В. И. 6—7, 13, 17, 21, 59
Леттвип Дж. В. 46, 136
Либих Ю. 187
лингвистика 74, 118, 167
лингвистическая философия 82
Лихтенберг Г. К. 118
Лодж О. 248—249
логика 31, 43—44, 60. 70, 72—74, 77—
79, 83—84, 94, 96—97, 141, 195, 220,
230
— индуктивная 76, 126
Локк Дж. И, 26—27, 34—35, 39, 42,
45, 49, 53, 66, 91, 94, 195, 198
Лоуренс. Э. О. 154
Лоуренс У. 232, 257
Лукес С. 104
Лурия А. Р. 236
Майер IO. Р. 279
Майр Э. 143, 277, 279, 311
Македонский А. 295
Макиавелли И. 75
Максвелл Дж. К. 115, 120, 135—136,
149, 177, 184, 186, 228, 249, 251,
271—272, 276, 289—291
Мандельбаум М. 80
марксизм 8, 12, 17, 21, 59
Маркс К. 12, 17, 75
Маркузе Г. 66
Мартин Дж. 42
математика 30, 42, 70—75, 79—80, 82,
141, 193, 195, 221, 251
материализм 6—7, 11, 21, 38
материя 34—38, 40, 44, 236, 250
Мах Э. 6, 10, 30, 53—54, 118, 143,
180, 183, 195, 197, 233-234, 241, 246
махизм 6—7, 10
Медавар II. Б. 214
медицина 222
Мейнерт Т. 195
Мендель Г. 134, 212
Мертон Р. 111
Местр Ж. М. де 66
метафизика 30, 246, 292
методы 10, 51, 66—67. 75—76, 117,
120, 132, 157—158, 193, 227, 242
механика 110, 112, 121, 178, 180, 184,
187, 193—194
микрореволюция 125, 128, 132
Минк Л. О. 9, 180
Минковский Г. 66
мисология 59
мозг 40, 47
Монтень М. Э. де 38—39, 67—68
Монтескье Ш. Л. 62
мораль 62, 65—66, 258
Мур Дж. Э. И, 44
мышление 5, 8, 12, 21, 23—25, 28, 30,
34, 36-37, 30, 45, 47, 49, 51—55,
62, 64, 66—67, 70, 72, 82—83, 89—
91, 93, 95, 108, 110, 112, 118, 157,
169, 170—173, 254, 294, 299, 302
Мэнуэл Ф. Ф. 288, 301—302
Мюллер И. 197
наблюдение 120
Нагель Э. 77
Наполеон 248, 286—287
Нарский II. С. 6
НАСА 216, 218
натурфилософия 34, 110, 162, 220
наука 9—11, 13—20. 39, 41, 45, 72—
73, 113—114, 117, 124—127. 139,
150, 153, 155, 158, 161, 167, 173,
176, 178—180, 183—184, 188, 193,
213—214, 232, 306—308
необходимость 39, 107
неогегельянство 7
неокантианство, неокантианский 7
неопозитивизм 6—7, 10—И
нейрофизиология 31, 38, 46, 92, 195
Нидхэм Дж. 219—220, 293
ниши
— интеллектуальные 115
— социальные 317
323
— экологические 19, 311—313
Нойгебауэр О. 217
Ньютон И. 26—27, 38, 43, 64, 76, 83,
85, 92, 95, 109—110, 112, 115—116,
120—124, 134—138, 162
обоснование
— теоретическое 24
объективность 60
объяснение 13—14, 71, 118—119, 132,
139, 142—143, 152, 157, 159, 161—
164, 166, 169—170, 174, 176—181,
188, 195—196, 201, 232, 310—313,
317
Оксфордская школа 7
Олби Р. 234
Ольденбург Г. 274
Ом Г. С. 279
Оппенгеймер Р. 217
определения 71, 127
Оствальд В. Ф. 251
отбор 8, 10, 31, 143—146, 148, 151,
206, 317—318, 223, 225, 252, 294
открытие научное 97
Пандора 243
Панин А. В. 7
Парсонс Ч. А. 91
парадигмы 13, 112—113, 117—123,
126, 129, 135, 137
Паунд Р. 107, 240
Пауэлл К. Ф. 111
Пеано Дж. 72, 200
Пенелопа 48
Пенфилд У. 30
Пепайс С. 218
Перикл 99
Пиаже Ж. 30, 53, 109
Пирсон К. 54
Планк М. 233, 234, 246, 289, 290
Платон 26—27, 35, 38—39, 59—61, 66,
68, 70—71, 74—76, 162—163, 176,
194, 220
платонизм 15
Поггендорф И. — 279
позитивизм 6—10
познание 5, 8, 13—15, 23—35, 39—40,
43, 46, 51, 53, 66, 71, 79, 110, ИЗ,
178, 190, 195
Полинг Л. К. 234
политическая теория 75, 128
политология 14
понимание 5, 9, И, 21, 44—52, 54—
56, 70, 120, 177, 185, 201, 215, 230,
237, 298, 315
понятия 13, 16, 26, 28—33, 39—56,
64—68, 70—88, 92, 94—100, 104,
109—111, 118, 127—128, 133, 142,
149—152, 161, 163—168, 171—173,
180—201, 206, 208, 225, 227, 231,
243, 246, 252, 254—255, 265, 310
Поп А. 58
Поппер К. Р. 7—8, 10, 14, 20, 119,
121, 148
популяции 10, 14, 19, 108, 132, 136,
138, 140-142, 146, 148, 151, 202, 230,
311—313, 316
— понятий 46, 94, 264, 270
Порус В. Н. 10
постпозитивизм 5—10
прагматизм 24, 79, 98
Прайс Д. К. 299
Праут У. 239
Пристли Дж. 40, 42, 218, 257
предположения 81, 83—98, 111—115,
131
проблемы 23, 57, 66, 152, 154—159, 166,
178, 180—193, 209, 213, 216, 315
провиденциализм 314
протестанты 36
психология 47, 70, 73, 91, 109
— экспериментальная 31
— познания 7, 70
— развития 30, 53
Птолемей 79, 109, 219, 223, 229, 302
Пуанкаре Ж. А. 18
разум 44, 46—47, 65, 69, 90—94, 109,
138, 248
Расин Ж. 248
Рассел Б. 6, И, 35, 38—39, 44, 53—
54, 72—74, 78, 299
Ратт Дж. Т. 257
рационализм И, 27
рациональность, рациональный 52,
66—69, 71, 78—79, 90, 95—98, 104—
107, 114, 138—139, 141—142, 174,
231—232, 314
революция 5, 13—14, 117, 119—120,
123—132
— научная 11, 13, НО, 112—116, 119,
124—126, 128—129, 134
— интеллектуальная 110, 114—115,
117 132 134
Резерфорд Э. 154—155, 158—159, 179,
250, 283, 285
релевантность 74—76, 78, 93, 100,
175, 191—192, 201, 256, 260, 307
религия 65
релятивизм 6—8, 18, 64, 66, 69, 78,
81—82, 86, 91, 95—97, 101—106,
116, 154, 183
Риман Б. 66
Ричардс А. 267
Рохолт Дж. 277
Руссо Ж. Ж. 51
Рэй Дж. 256
Сантильяна Дж. 257
Сарпи Р. — 230
324
свобода 51
свобода воли 292
сенсуализм И, 27
Силард Л. 235
символизм 72, 74, 76, 78
Симпсон Дж. Г. 216
скептицизм 7, 24, 66, 208
Смит Дж. 143
Снелл В. 182
сознание 5, И—12, 37, 40, 52, 89,
296
Сократ 38—39, 59, 66—67, 99, 221
Солон 99
сомнение 49
социология 264, 318
— науки 31, 116, 128, 267
стандарты 27, 32—33, 43, 48—49, 65,
68, 73, 89, 96, 99
— законодательные 101
— интеллектуальные 24, 71, 76, 81,
95, 102
— рациональные 12, 77, 80, 87—88,
101
— формальные 42
Стеббинс Дж. Л. 143
Стент Г. С. 234
Сторер М. У. 268
Стросон П. Ф. 30
структурализм 109
субстанция 37
субъект познания 23—24, 26, 43
Тейяр де Шарден 291
теология 130
теория 9, И, 26—27, 39, 54, 64, 66, 77,
79, 81 ,91, 110, ИЗ, 115, 119, 122,
123, 130—131, 135, 137, 174, 176,
178, 183, 194, 209, 225, 228—229,
236, 252, 265, 315, 318
— вероятностей 78
— относительности 102, 233
— познания 27, 33, 34, 44
— человеческого понимания 24
Теэтет 193
термины 174—176, 178, 180, 182, 184,
186, 192, 195—198, 200—202, 211,
224—225, 271—272, 276, 314
Тиндаль Дж. 271—272, 276
Томсон Дж. Дж. 154—155, 159, 179,
238, 250, 272, 276
традиция 10, 133
трансцендентальный 64, 194
Тэйт П. 272, 276
Уайтхед А. Н. 73
Уатт Дж. 90—91
Уилберфорс С. 257
Уилсон У. Г. 267
Уолдингтон Ч. 292
Уолластон Ф. 40
Уоллес А. Р. 145, 276
Уотерстон 271
Уотсон Дж. 285
Уотсон У. Г. 118, 235
Уэстермак Э. 102
Фарадой М. I77
Фейорабепд II. К. 8, 19, 258
Фейнман Р. Ф. 149, 158, 277
Ферми У. 154
Фехнер Г. Т. 197
физика 10, 13—14, 16, 30, 35, 37, 41—
42, 52, 64, 75, 77, 79, 83—86, 92,
95, 99, 102-103, 149, 152—155, 158,
160, 171, 178, 184—185, 194, 217,
227, 233—237, 239, 252—253, 259,
272, 282, 285, 290, 295
философия познания 31
Фишер Р. 212
Флеминг Д. 234—235, 291
Фома Аквинский 60
Фонтенель Б. 216
Форстер Э. М. 44
Франкфуртер 241
Фрасимах 59
Фреге Г. 12, 30, 67—79, 87, 93-94,
96, 199—200, 252
Фрейд 3. 91
Френель О. Ж. 229
Хаксли Дж. 313
Харди Дж. 292
Хаттон Дж. 257
Хербст П. 59
Хилл Т. Ч. 6
химия 184, 225, 251
Холдейн Дж. Б. С. 184
Холл Э. Р. 299
Холмс О. У. 106—107, 240—241
Холтон Дж. 30, 102, 162, 234, 289
Хомский Н. 53, 108
Хорезми аль 76, 252—253
Хэйле Дж. С. 218
Хэнсон Н. Р. 111, 118
Цукерман Г. 268
человеческое попимание 11—13, 23—
24, 27—28, 31—34, 36, 40—42, 45—
48, 51, 67, 98, 108—109, 195, 315
Черткова Е. Л. 10
Черчилль У. 286
«чистый разум» 64
«чистый и практический разум» 81
Чу Дж. 235-236, 241
Швингер Дж. 236
Швырев В. С. 6
Шеррингтон Ч. С. 135
325
Шлик М. 6
Шопенгауэр А. 197—198, 291
Шрёдингер Э. 154
Шэпер Д. 156, 209
эволюционизм 5, 10
эволюция
— видов 5, 10, 55, 133, 148—149, 287,
312—314
— концептуальная 133, 142, 211,
293, 315
— человеческого понимания 46
Эдем; миф об Э. 24
Эйвери О. Т. 234—235
Эйнштейн А. 7, 16, 24, 75—76, 85,
92, 95, 102—103, 112, 115—116, 120,
124, 134—136, 234, 246, 253, 289—
290
экзобиология 216, 222
экология
— интеллектуальная 19, 298, 311,
313, 317
— юридическая 107
экологический успех 294
экстернализм 298, 302—303, 306, 317
электрон 10
Элькана И. — 188, 279
эмпиризм, эмпирицизм 6, 23, 27, 58,
82, 94, 137, 174, 243
эмпирики 76, 94
эмпириокритицизм 7
эмпирический 33—34, 37, 39, 42, 44—
45, 70, 76, 87, 190—191
Энгельс Ф. 17
Эпикур 162
эпикуреизм, эпикурейцы 36
эпистемический 11, 27—28, 32, 36,
38, 44, 48—49
— автопортрет 25, 44—45, 52
эпистомологический 27, 34, 37, 44—46
эпистемология, эпистемологическая
теория И, 23—24, 26, 32—35, 44,
45, 47—48, 53
эстетика 80, 81
этика 80, 81, 86, 292
этнография 63
Юм Д. 43, 94, 118, 159, 195, 197, 200,
209
Юнг Т. 136, 188, 228, 279
юрисдикция 98—101, 152, 240, 245,
248
Юстиниан 221
язык 51—55, 72, 74—75, 78, 81—82,
108, 167, 316
— науки 77
Содержание
От неопозитивизма к постпозитивизму: эволюция философ-
ского эволюционизма Ст. Тулмина. (Вступительная статья)
П. Е. Сивоконъ...........................................5
Общее введение.......................................... 23
1. Теория и практика познания.....................23
2. Три аксиомы в традициях XVII столетия . . . . 34
3. Программа новой теории человеческого понимания 45
Часть I. Коллективное употребление и эволюция понятий 51
Раздел А: Рациональность и концептуальное многообразие 51
Введение . . . , ...................................51
Глава 1. Проблема концептуальных изменений ... 57
1.1. Признание концептуального многообразия ... 57
1.2. Фреге, Коллингвуд и культ систематичности . . 67
1.3. Рациональность п ее юрисдикция . . . 98
1.4. Революционная иллюзия .... . . 108
Раздел Б: Рациональные инициативы и их эволюция . . 141
Введение................................. . 141
Глава 2. Интеллектуальные дисциплины: их цели и про-
блемы ........................................... ... 152
2.1. Научные дисциплины и их идеалы объяснения 152
2.2. Научные понятия и процедура объяснения . . . 161
2.3. Природа концептуальных проблем науки .... 178
2.4. Отступление по поводу «изображения» .... 195
Глава 3. Интеллектуальные дисциплины: их историче-
ское развитие....................................202
3.1. Концептуальная изменчивость . . ...... 208
3.2. Интеллектуальный отбор......................223
3.3. Объективные факторы научных изменений . . . 242
Глава 4. Интеллектуальные профессии: их организация
и эволюция..................................... 261
4.1. Профессиональное воплощение науки...........262
4.2. Поколения судей........................ 280
4.3. Интеллектуальная экология и историческое по-
нимание ................................... ..... 298
Дополнение: исследовательская программа....................315
Указатель.............,....................................321
Ст. Тулмин
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ
ИБ № 10501
Художник В. А. Чернецов
Художественный редактор Ю. С. Лылов
Технический редактор В. П. Шиц
Корректор Г. А. Локшина
Сдано в набор 28.12.83. Подписано в печать 28.08.84. Формат 60x90’/ie.
Бумага тип. № 1. Гарнитура нов. обыкн. Печать высокая. Печ. л. 20,5.
Кр.-отт. 20,5. Уч.-изд. л. 22,57. Тираж 6 000 экз. Заказ Хе 21. Цена 1 р. 70 к.
Изд. Хе 36375
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс» Государствен-
ного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
119847, ГСП, Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 17.
Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Крас-
ного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении
Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52,
' Измайловский проспект, 29.