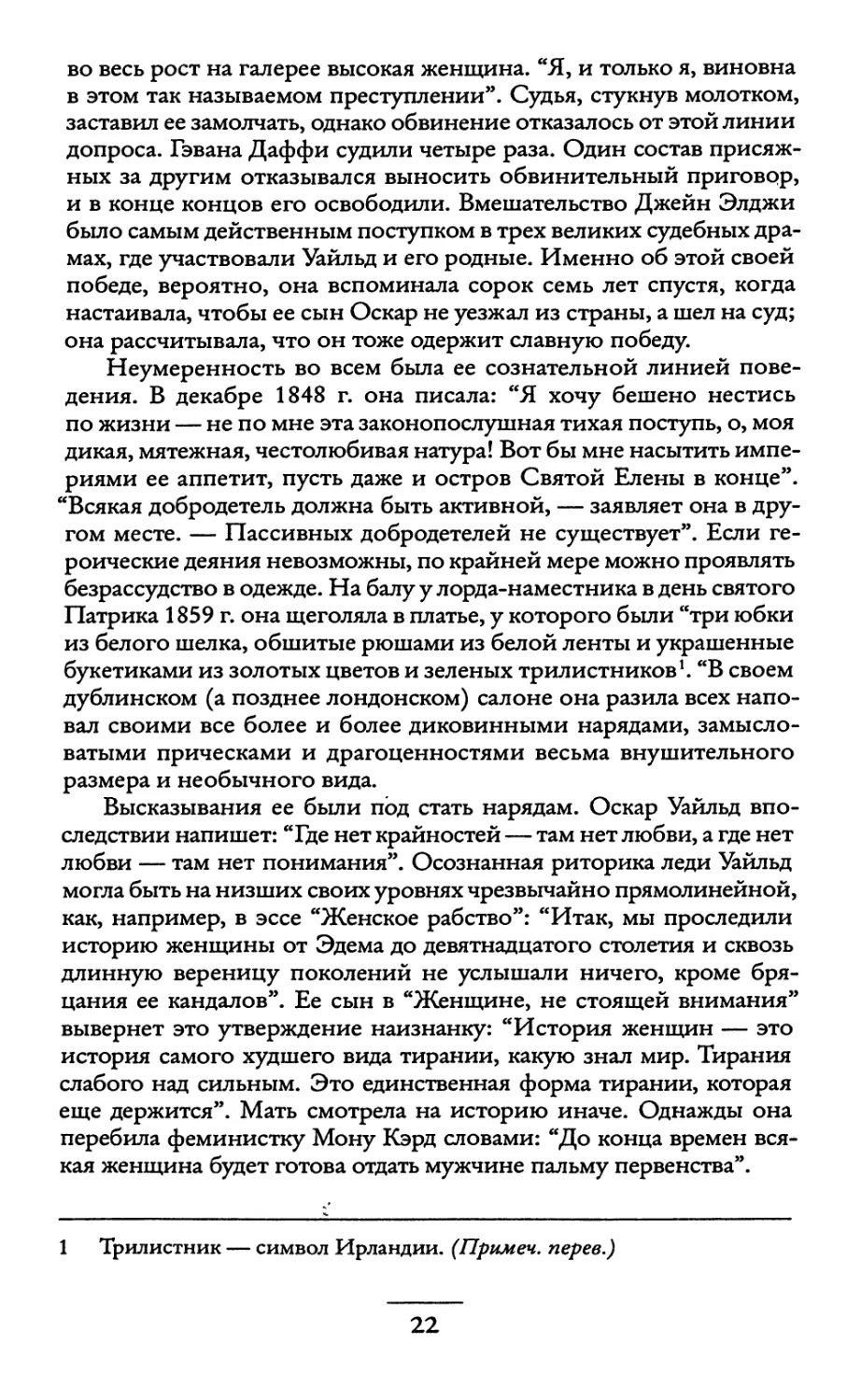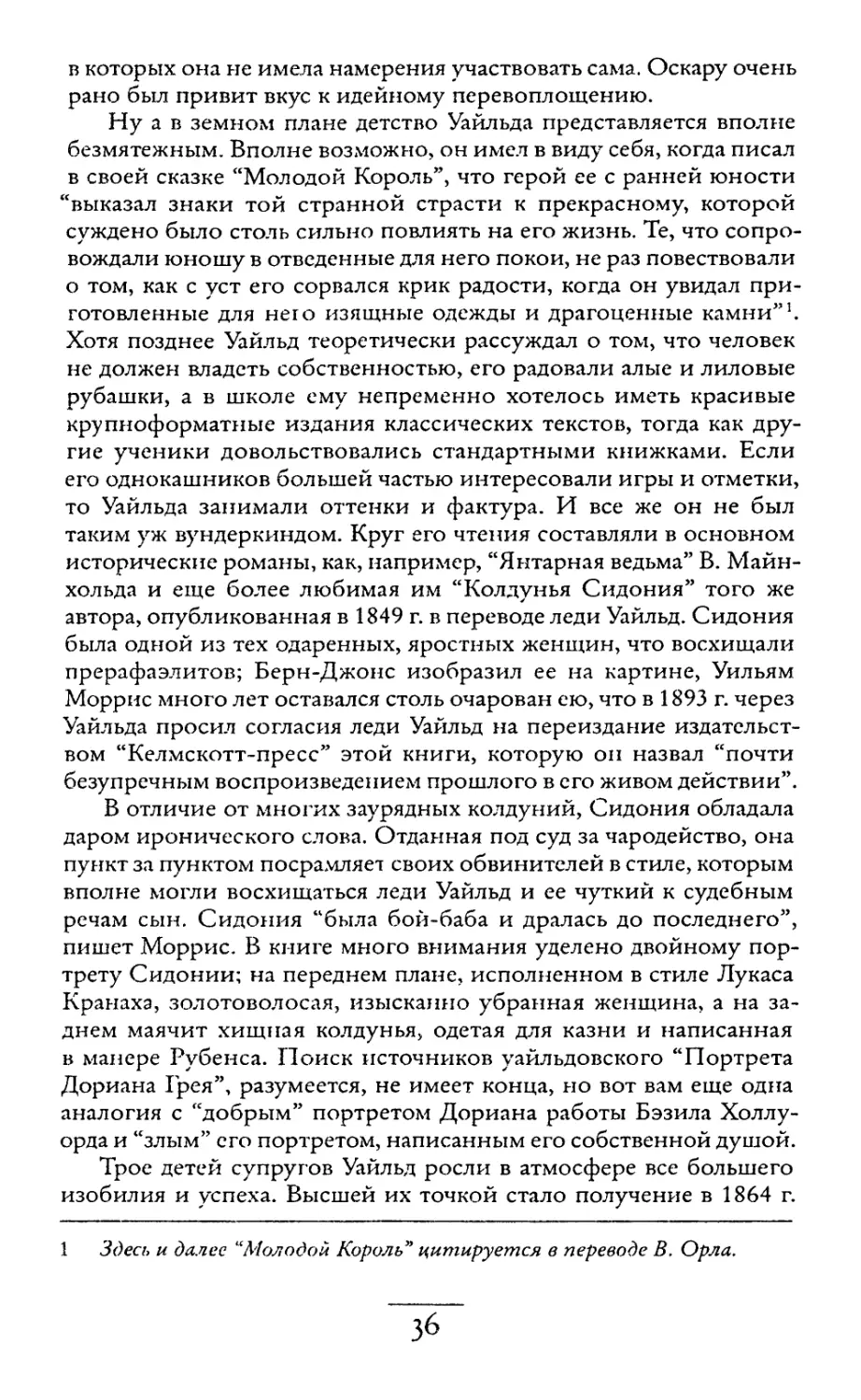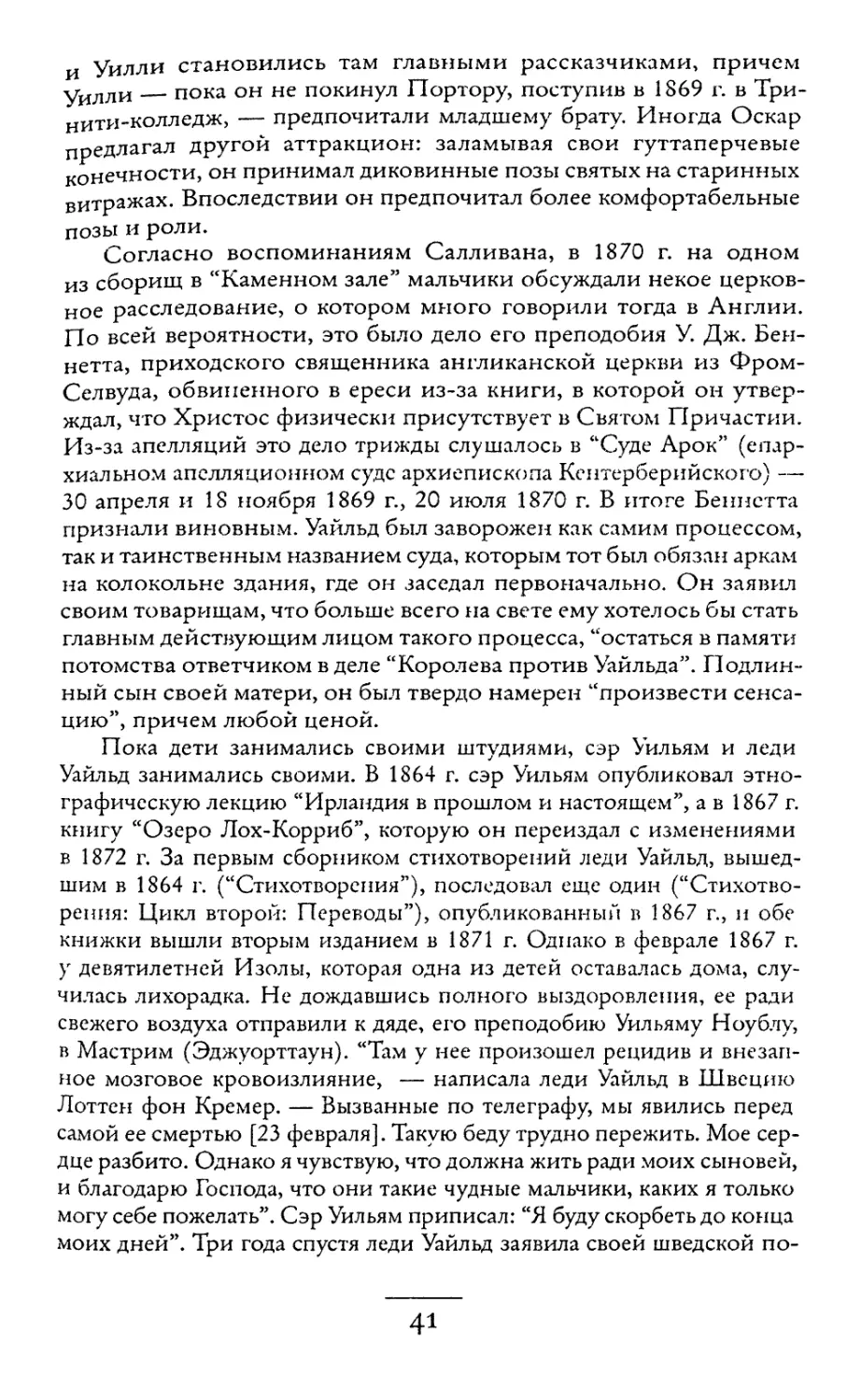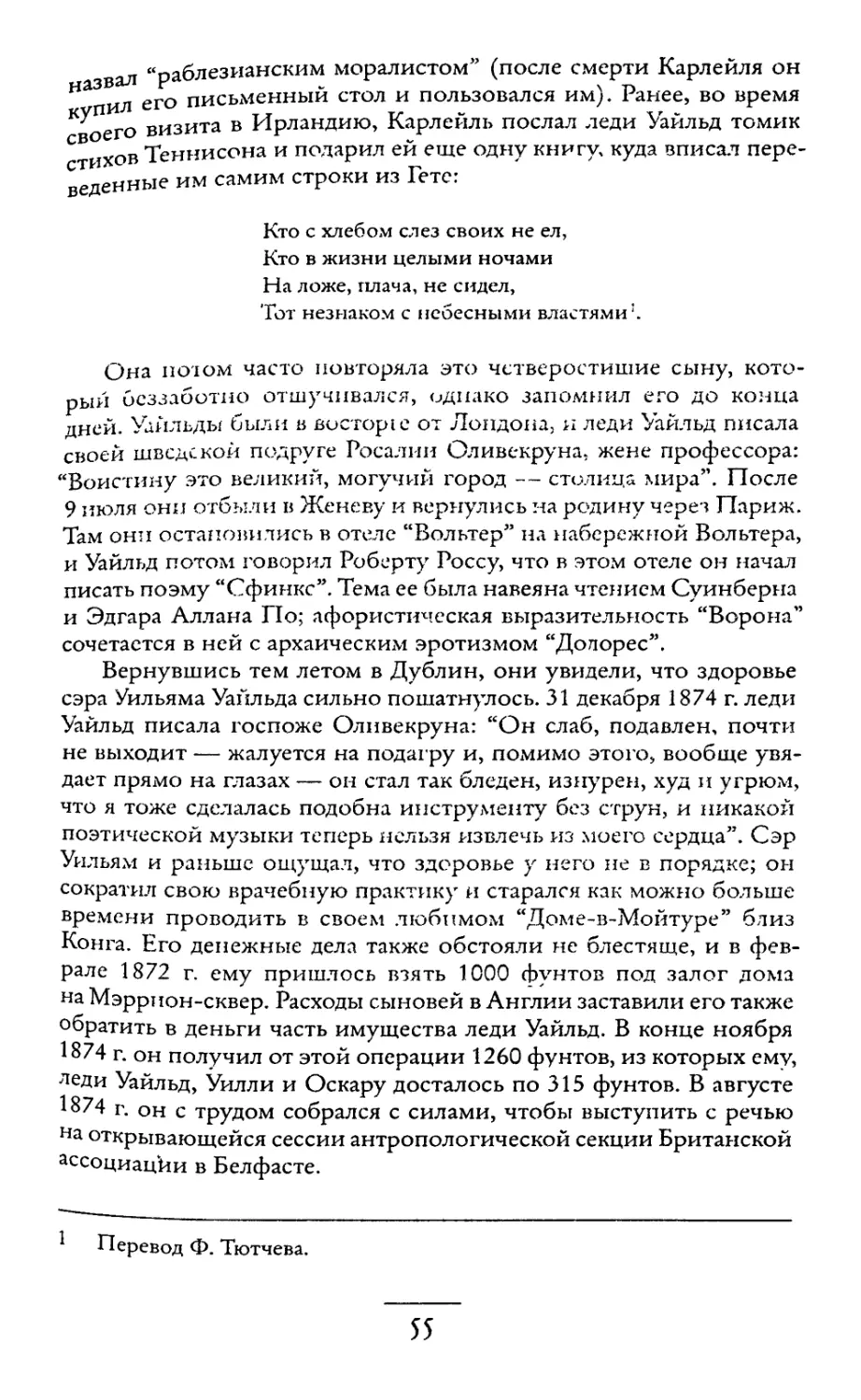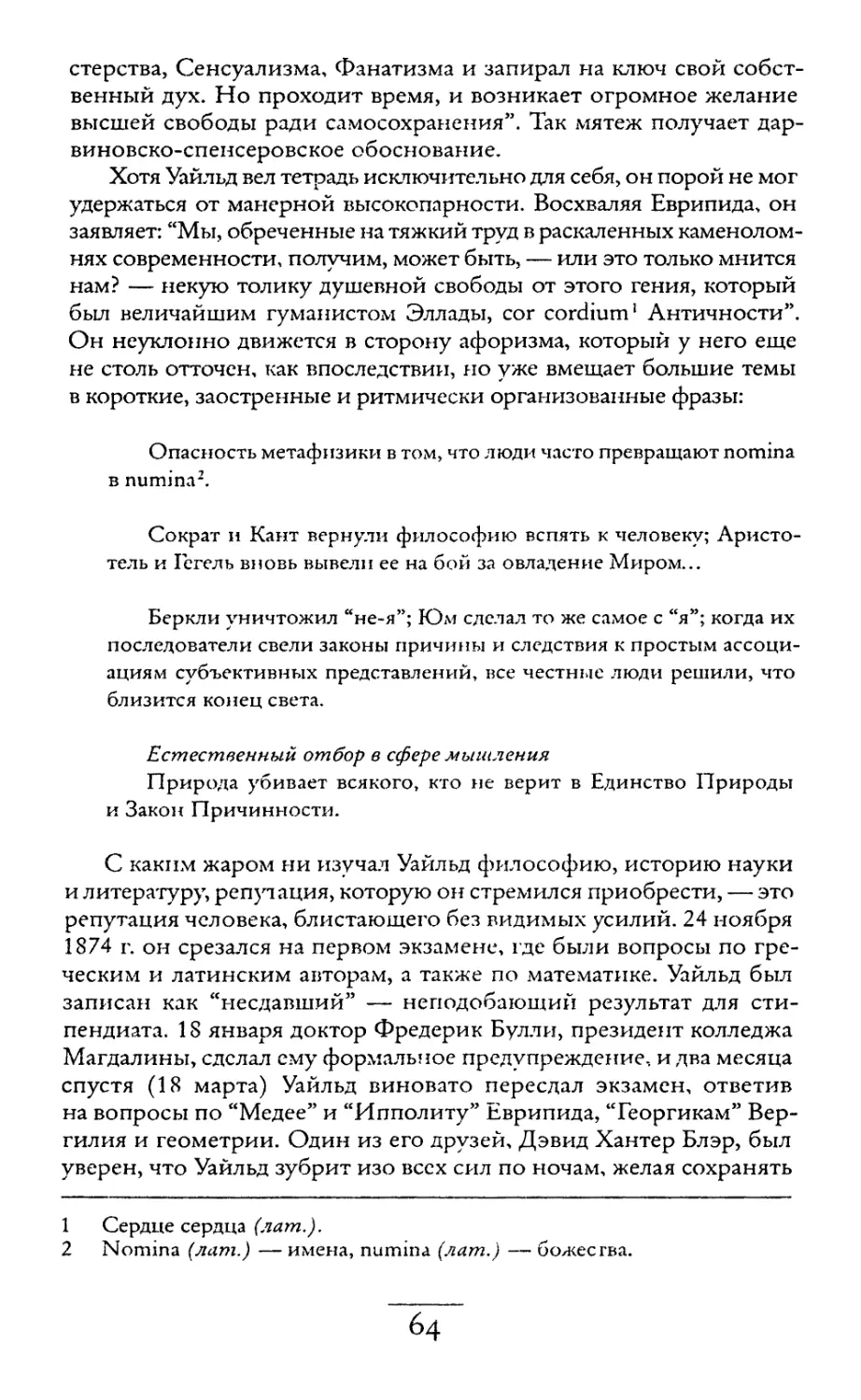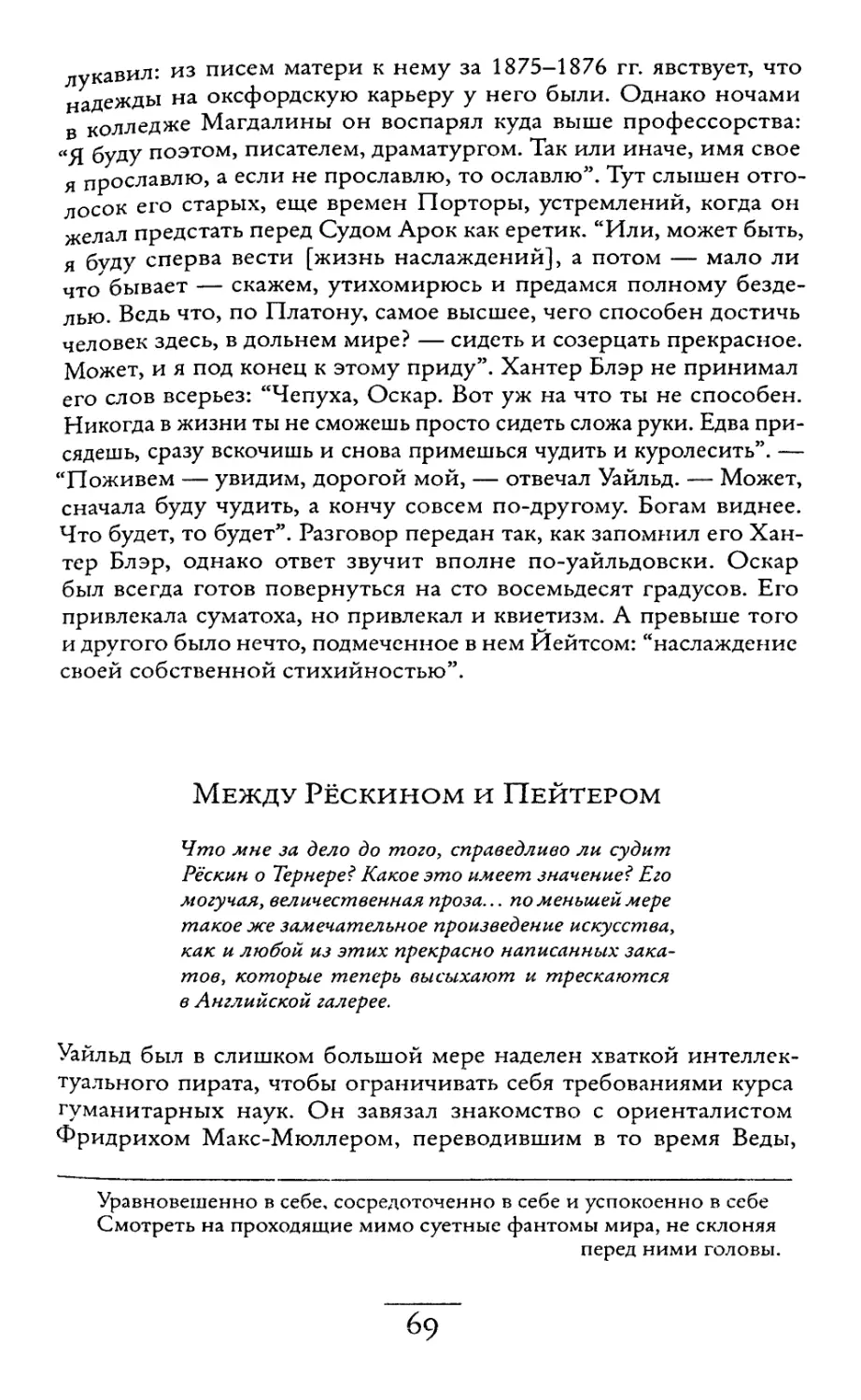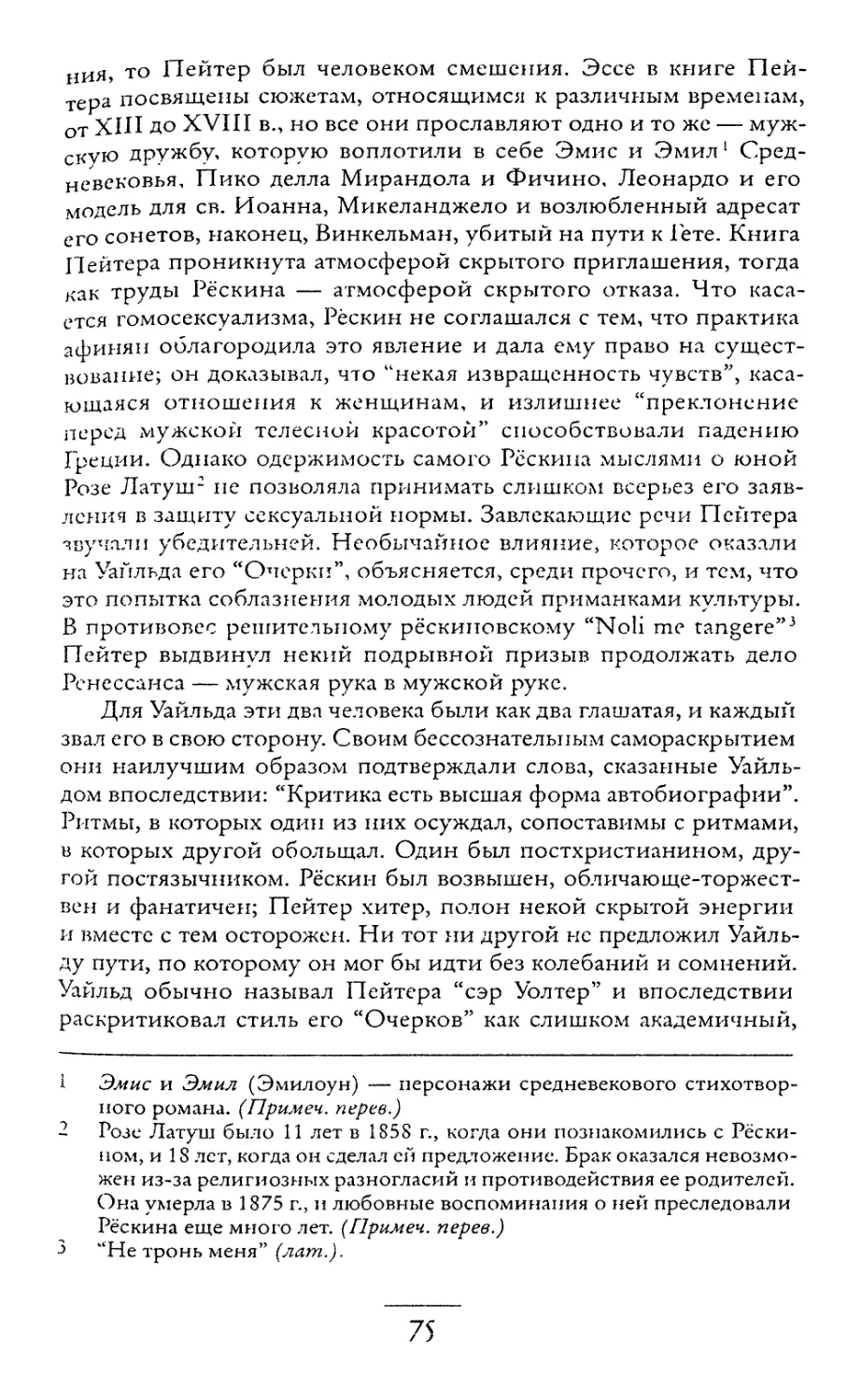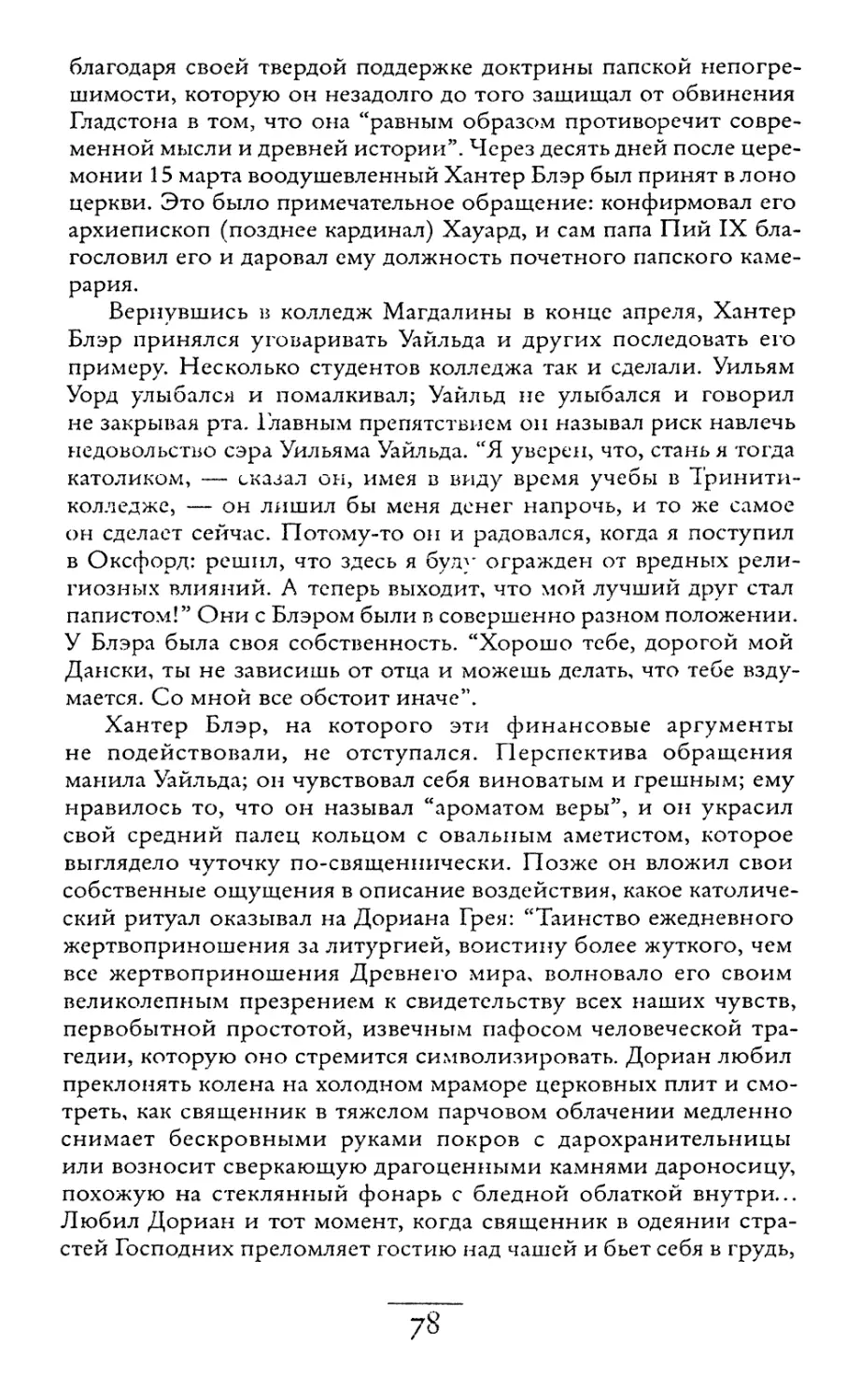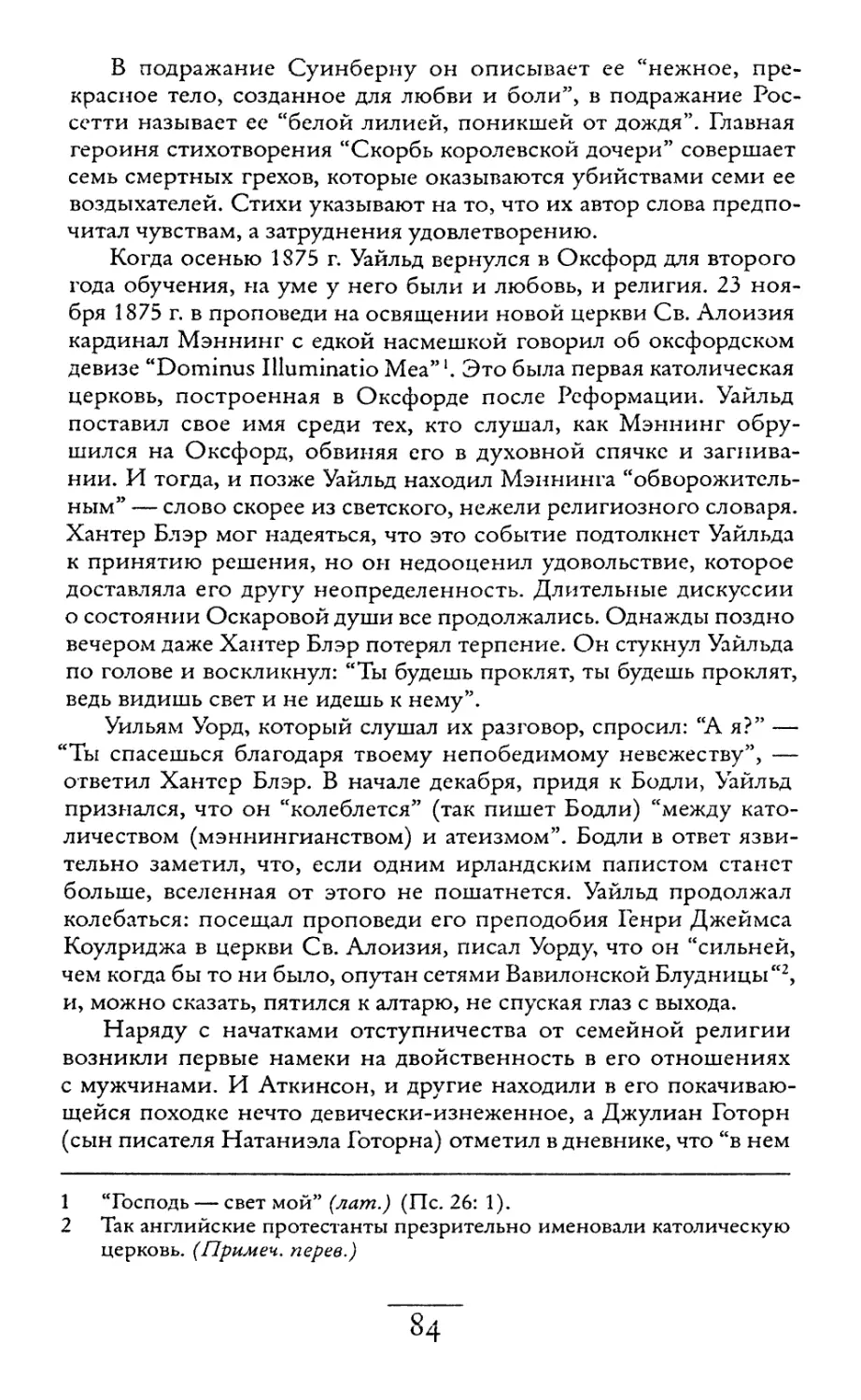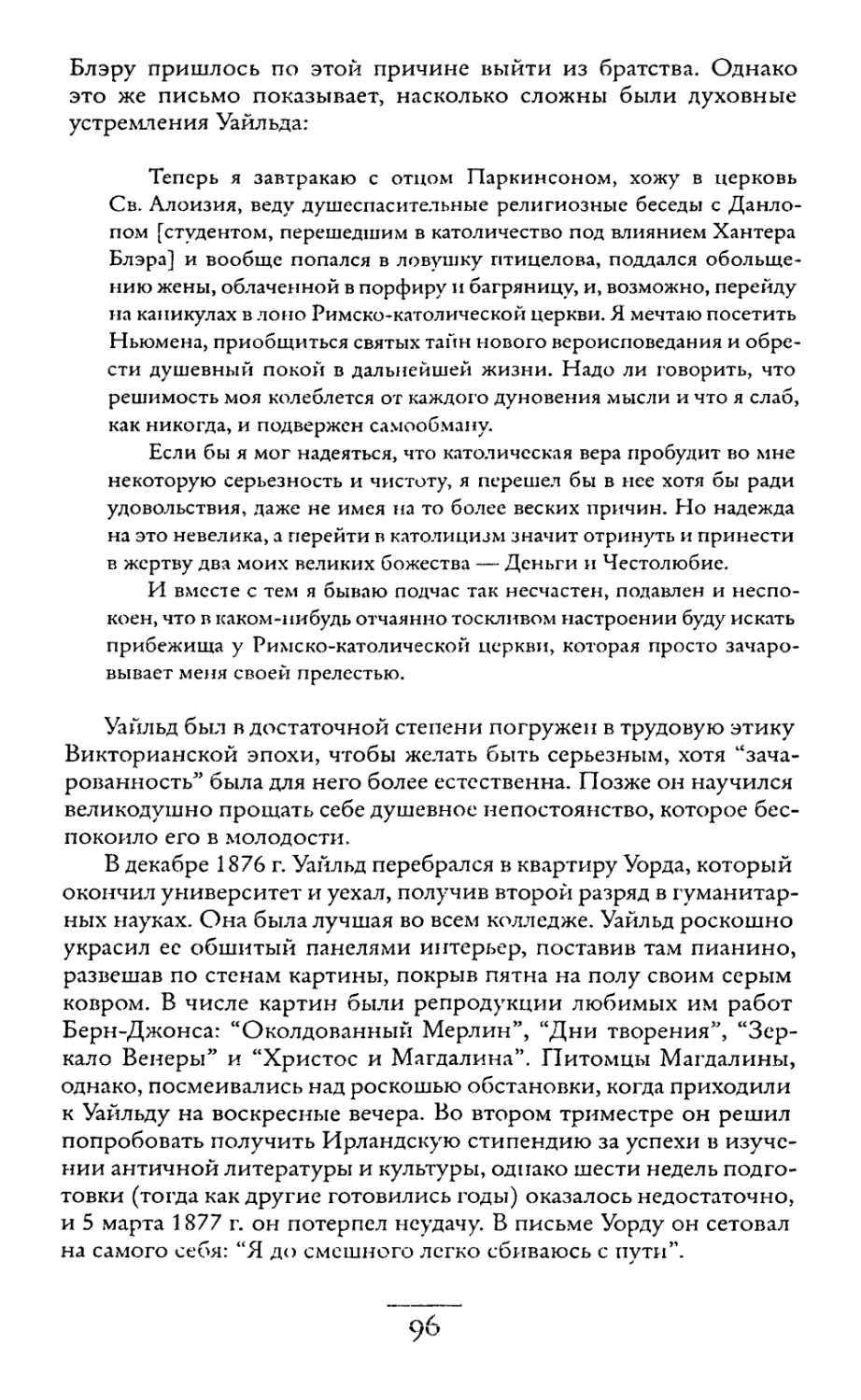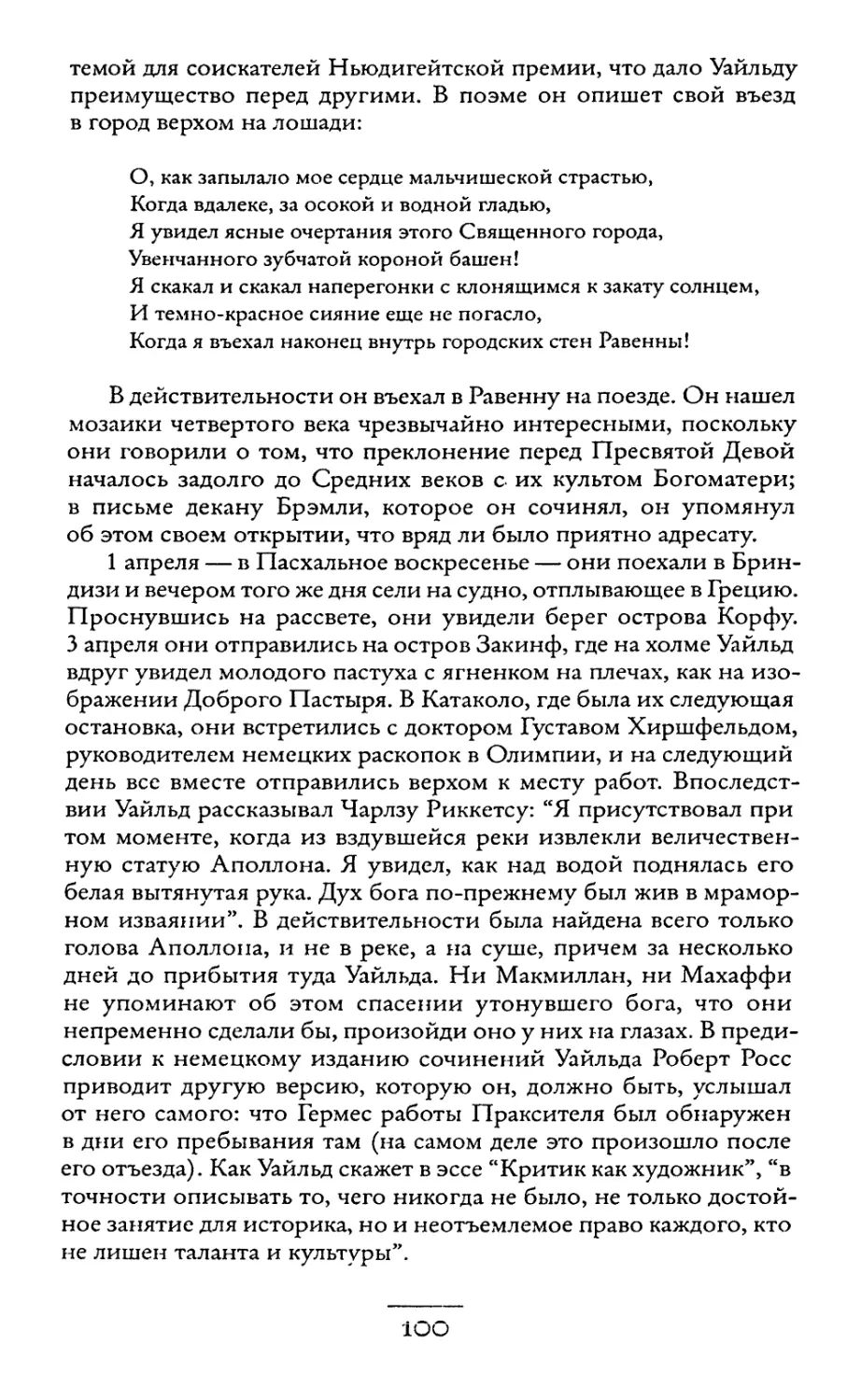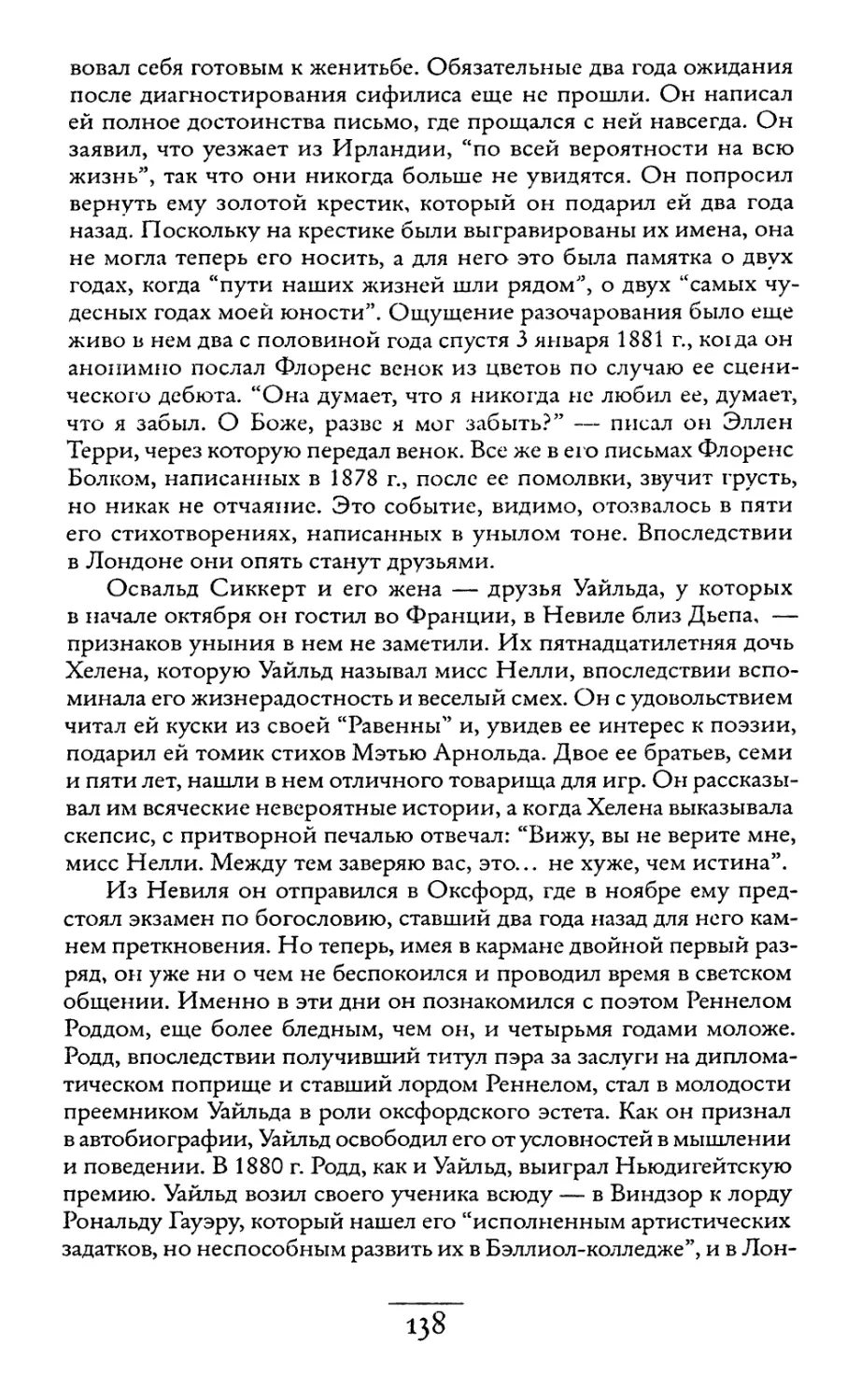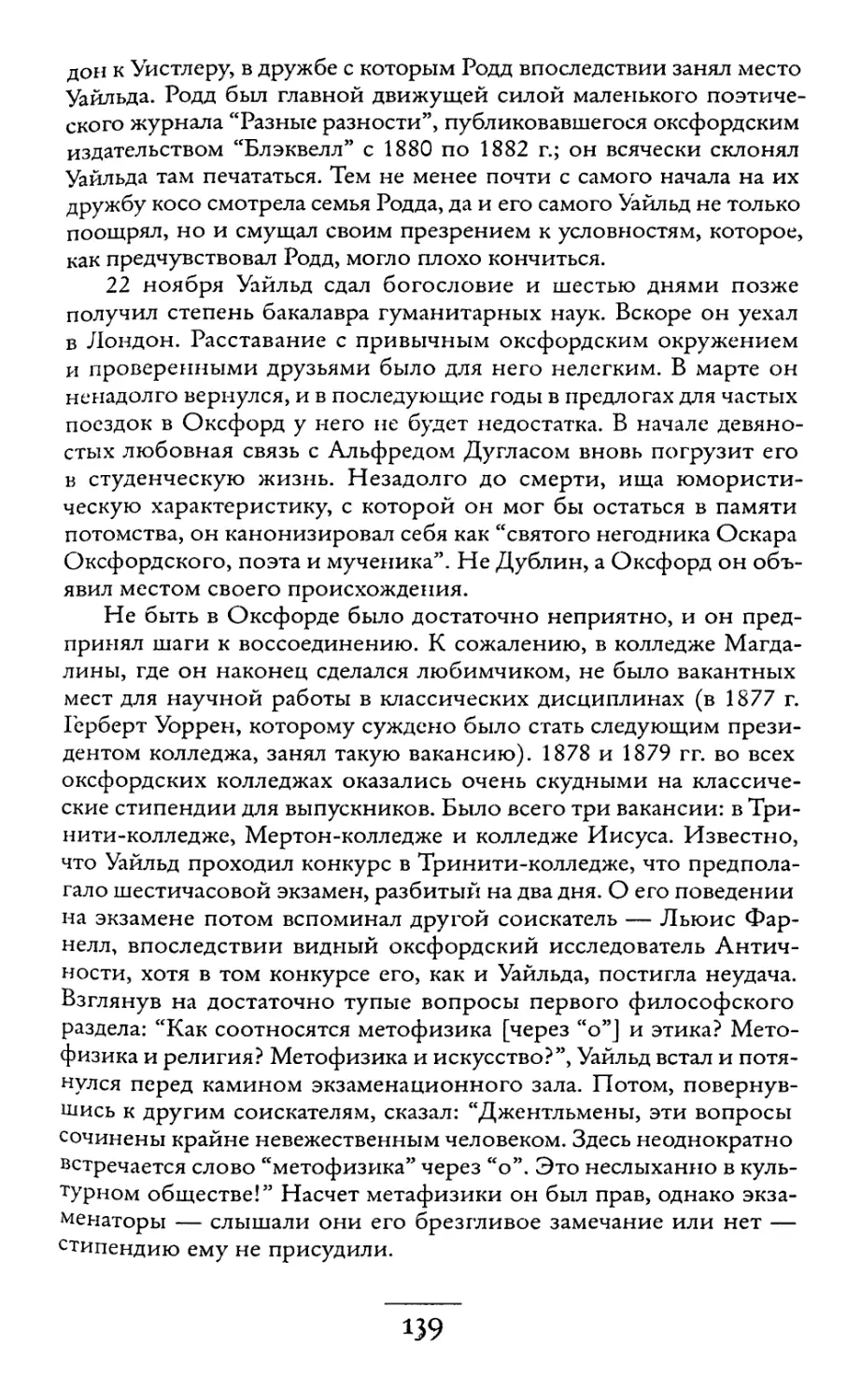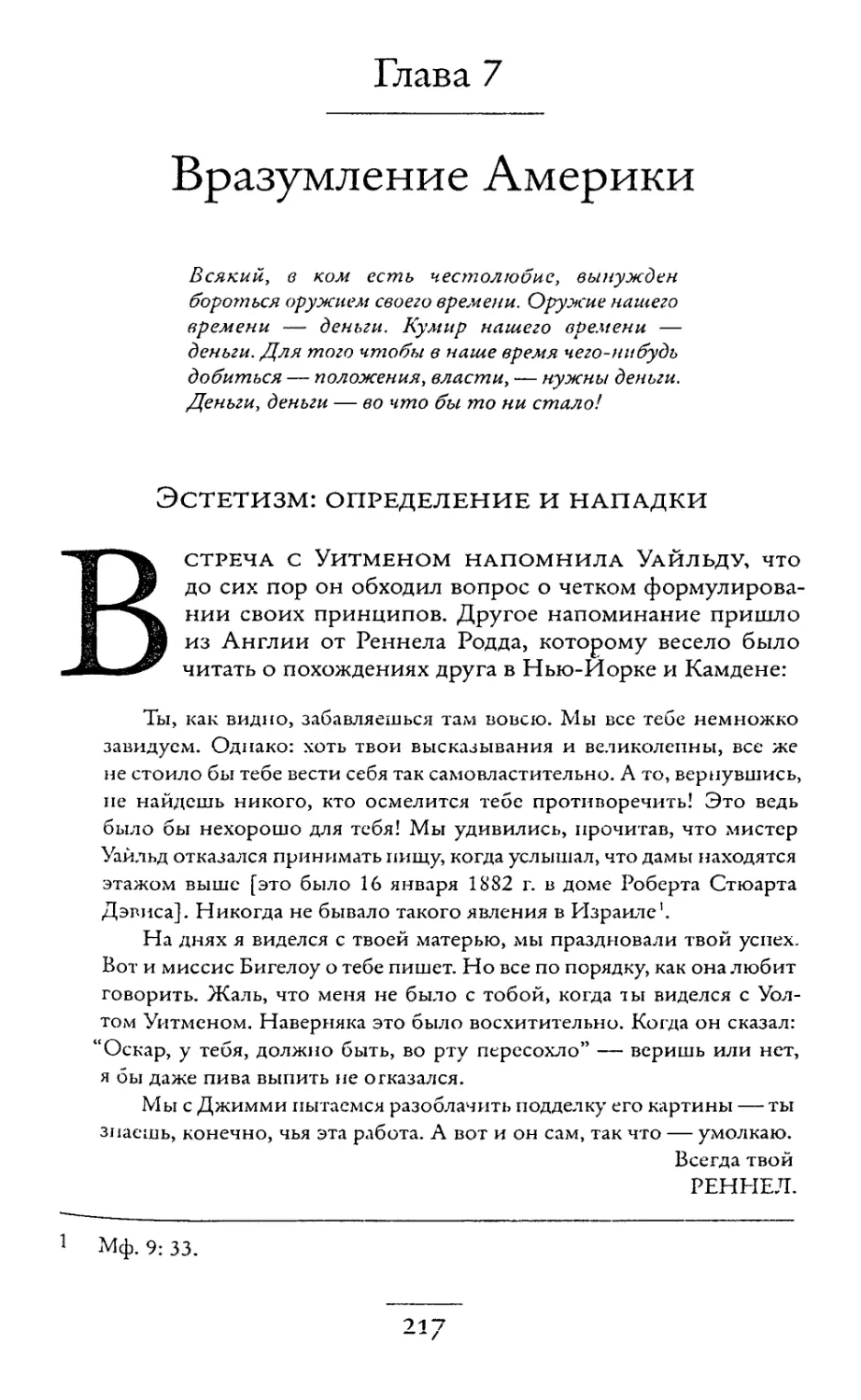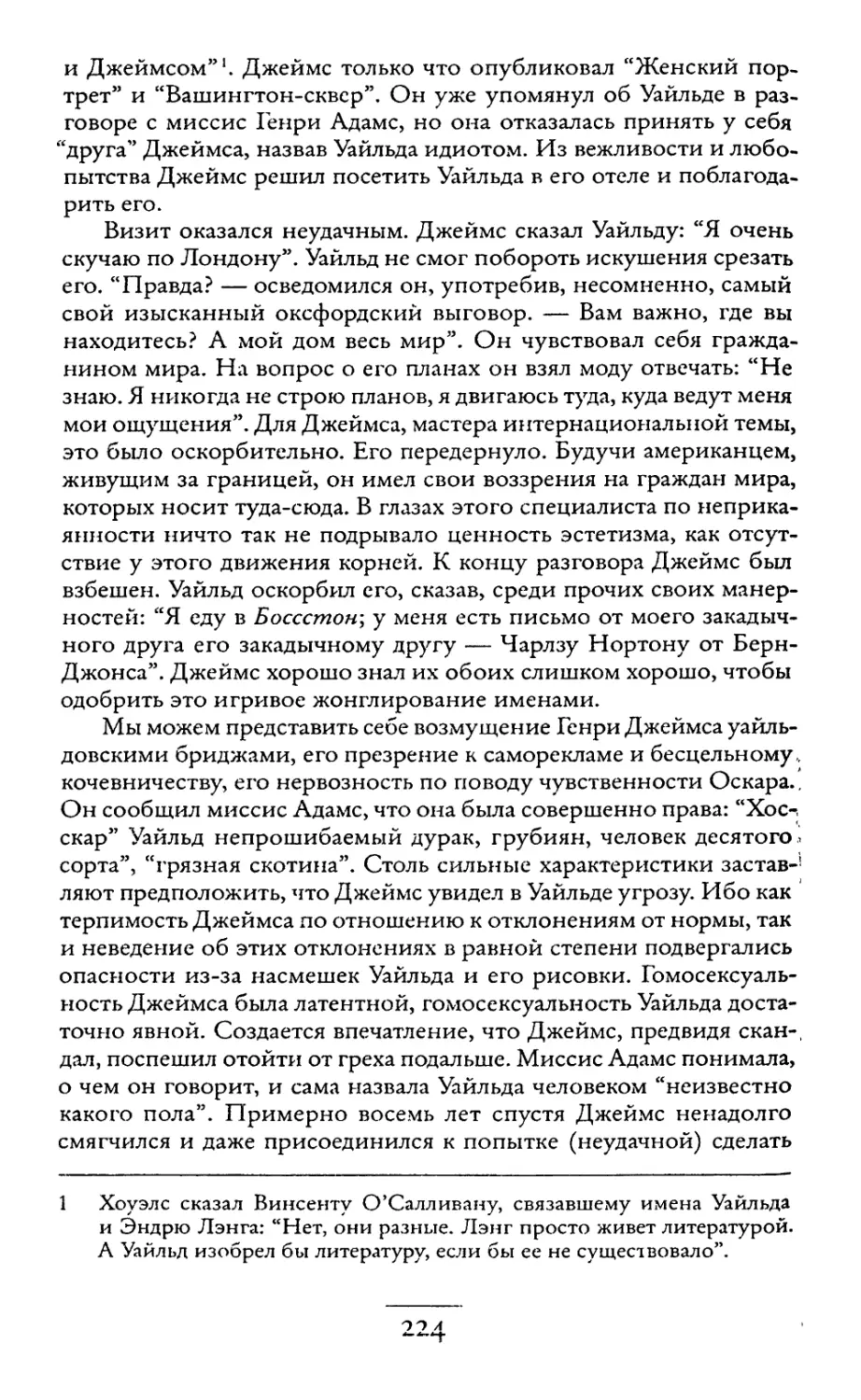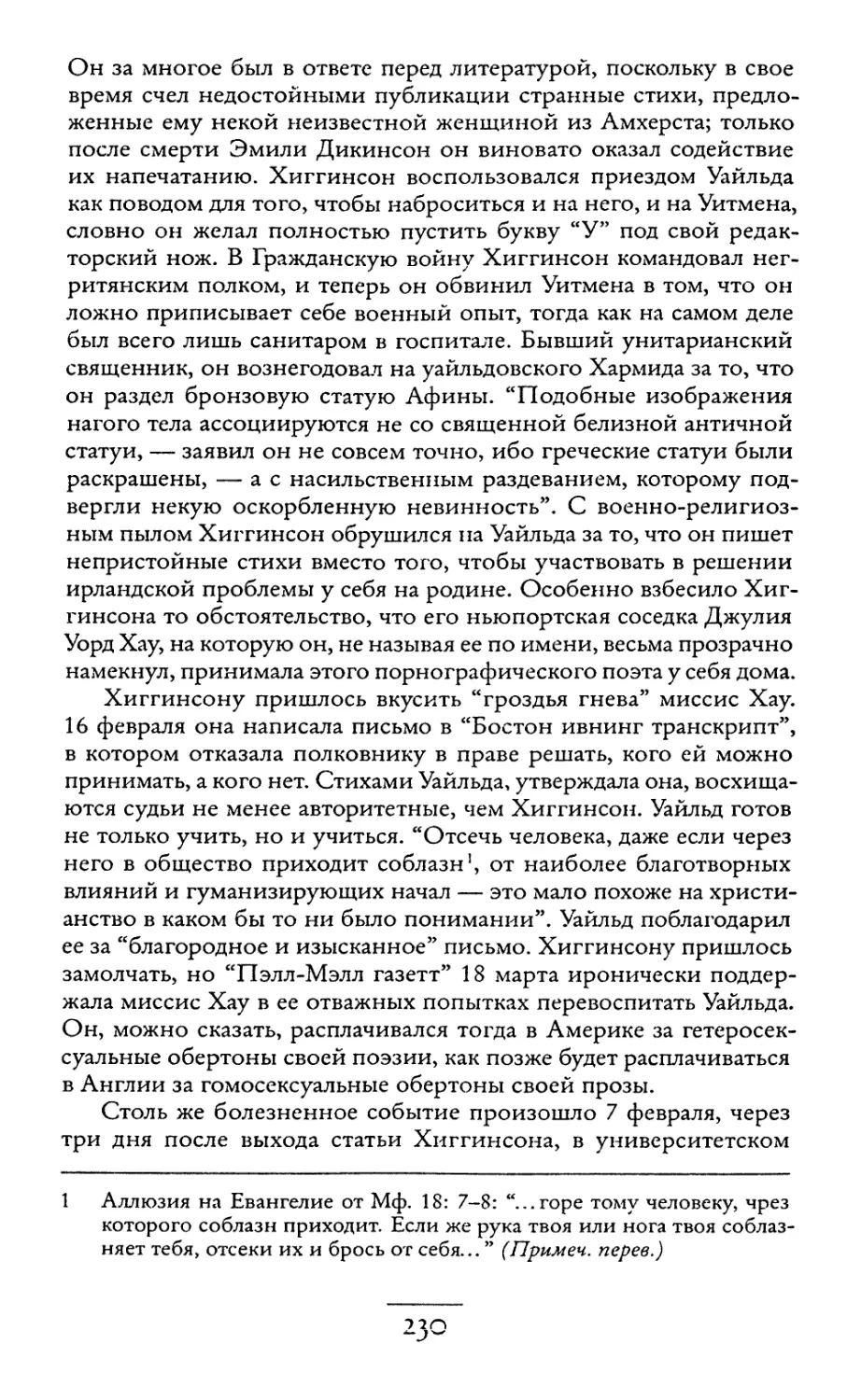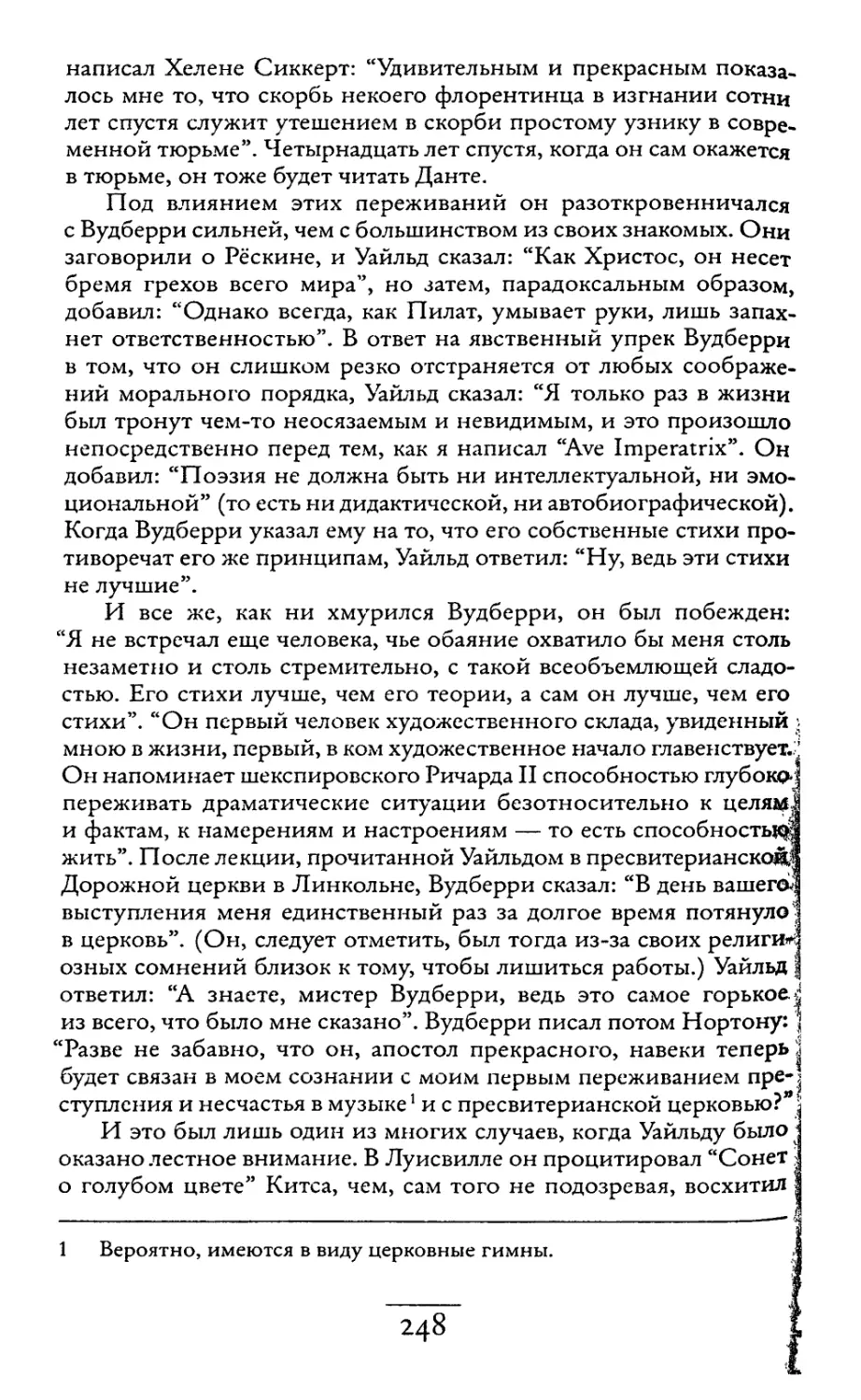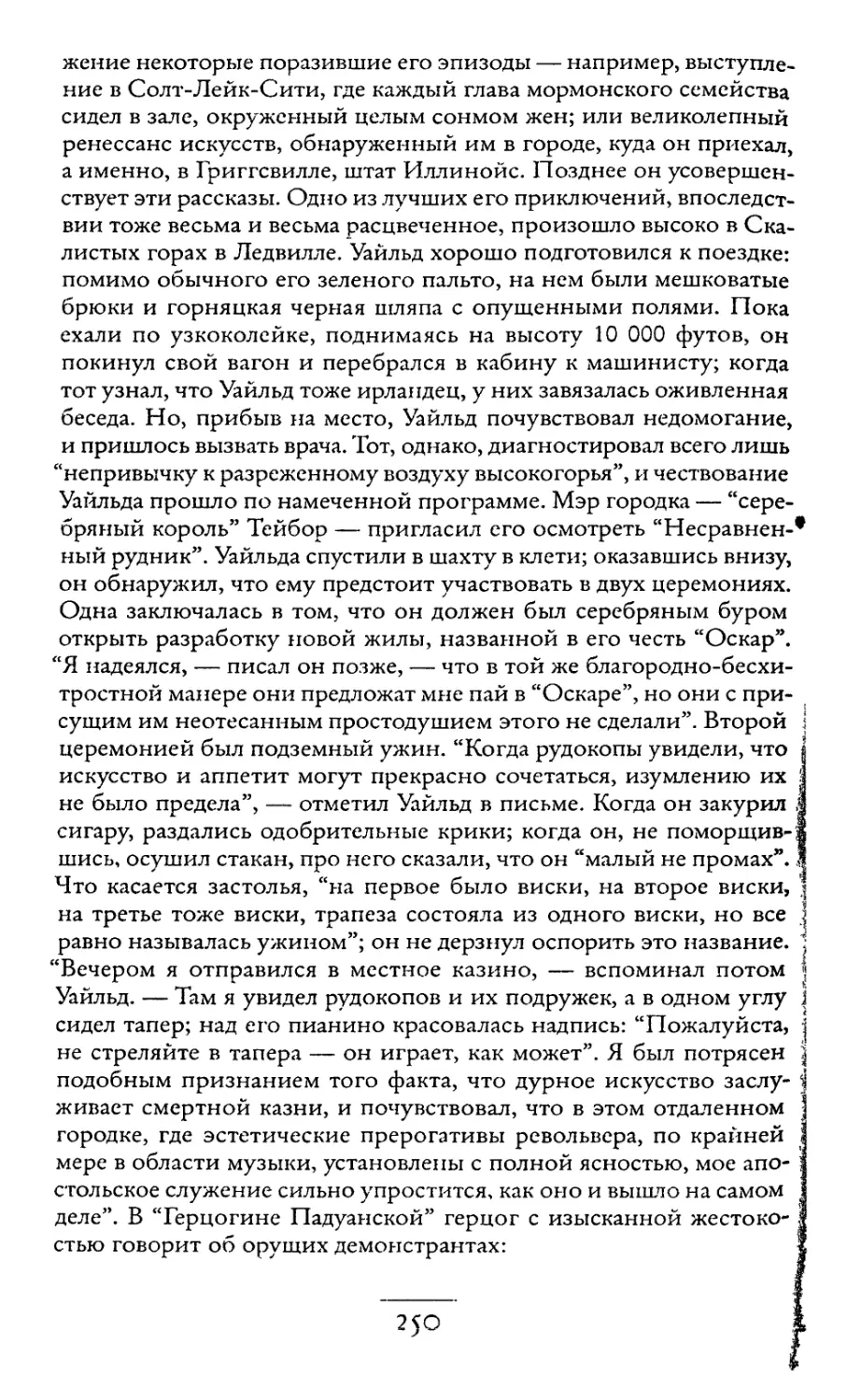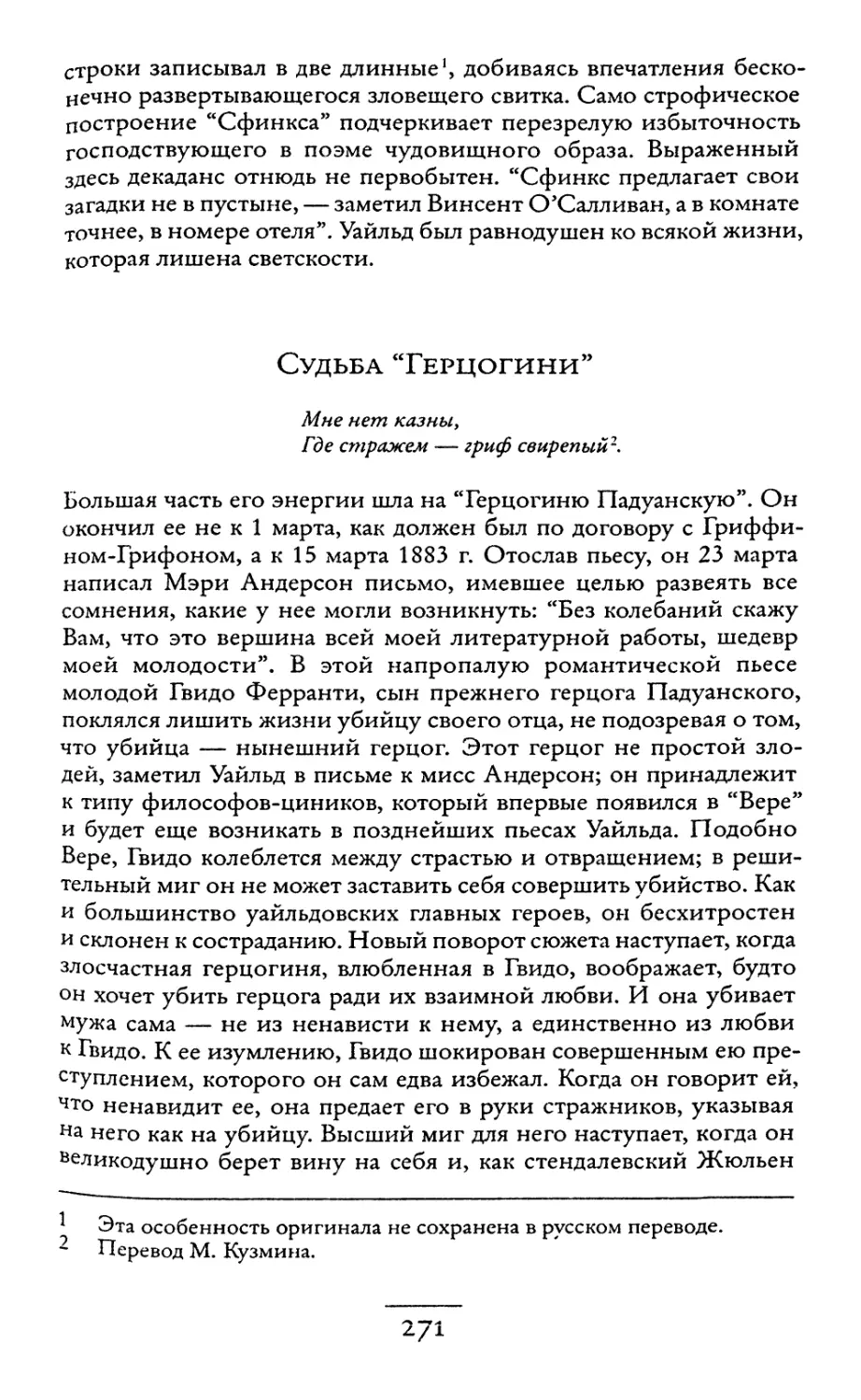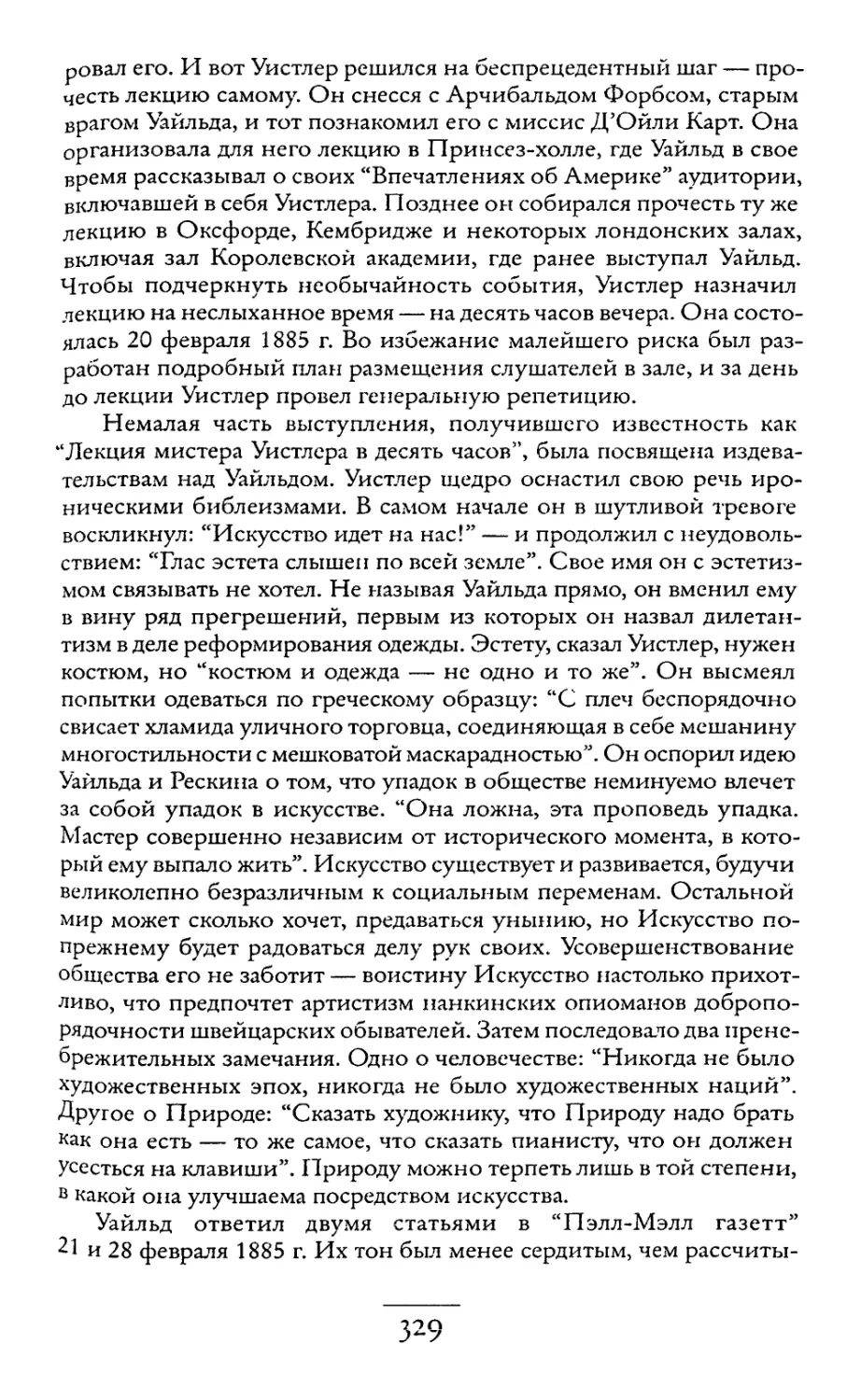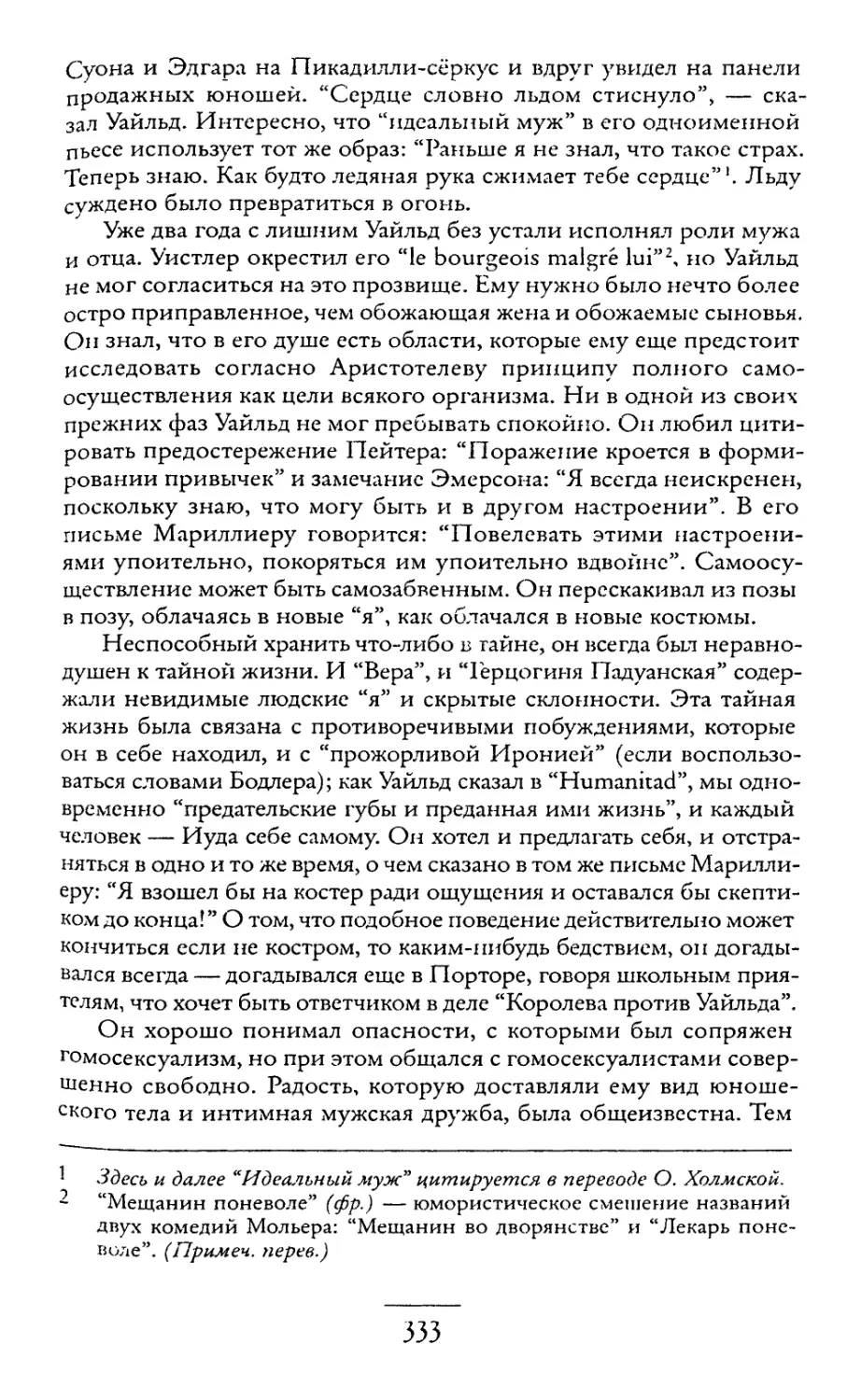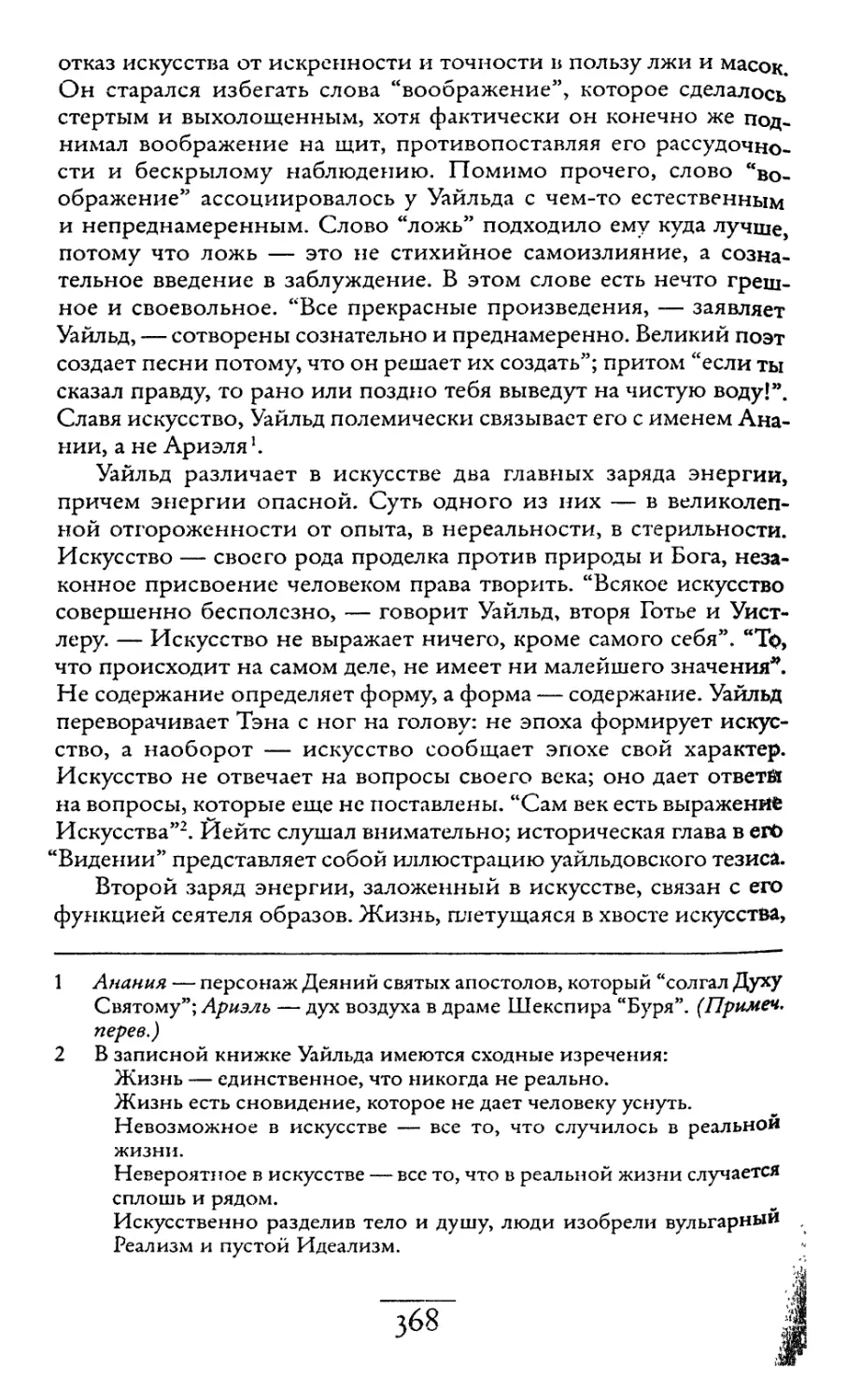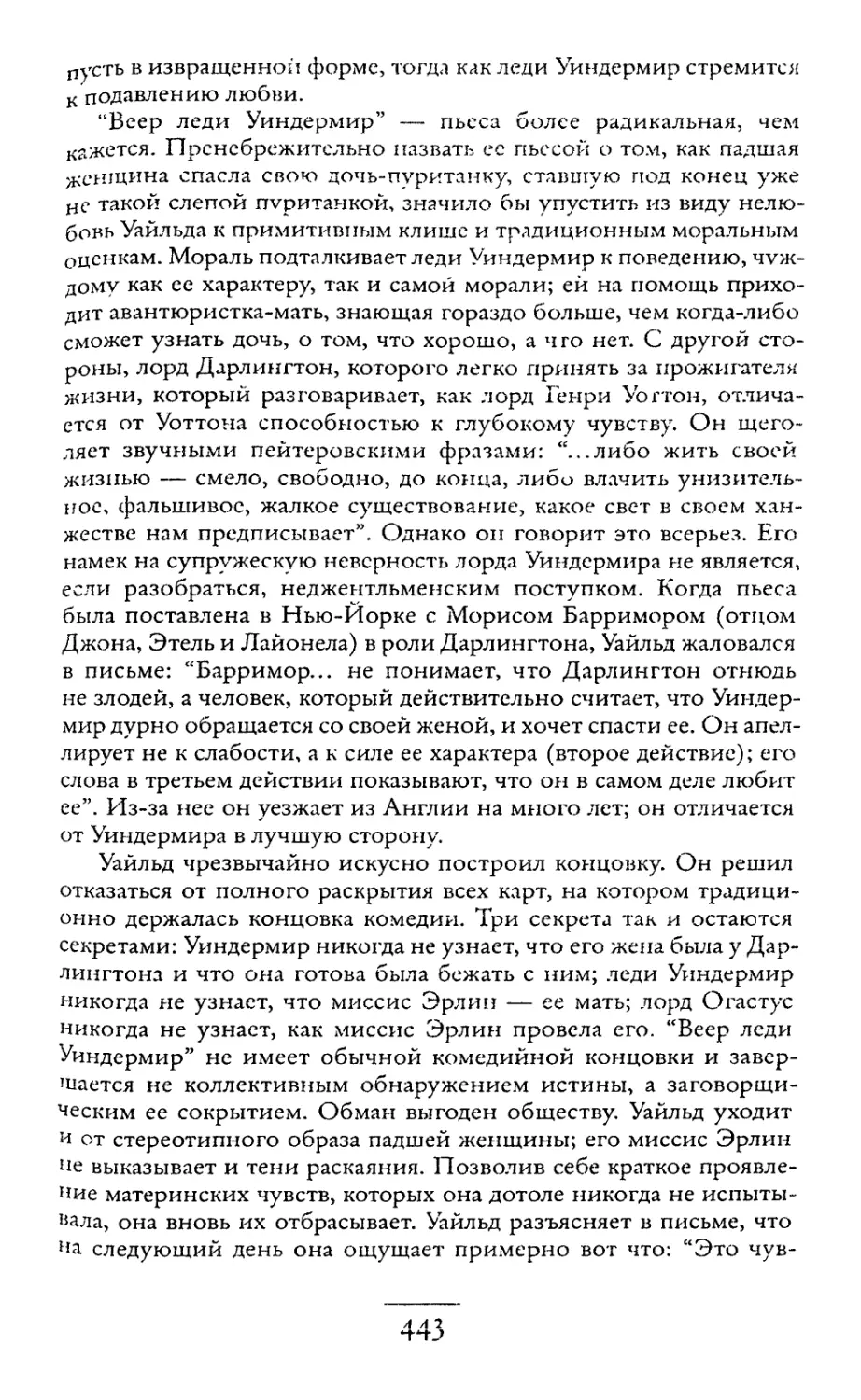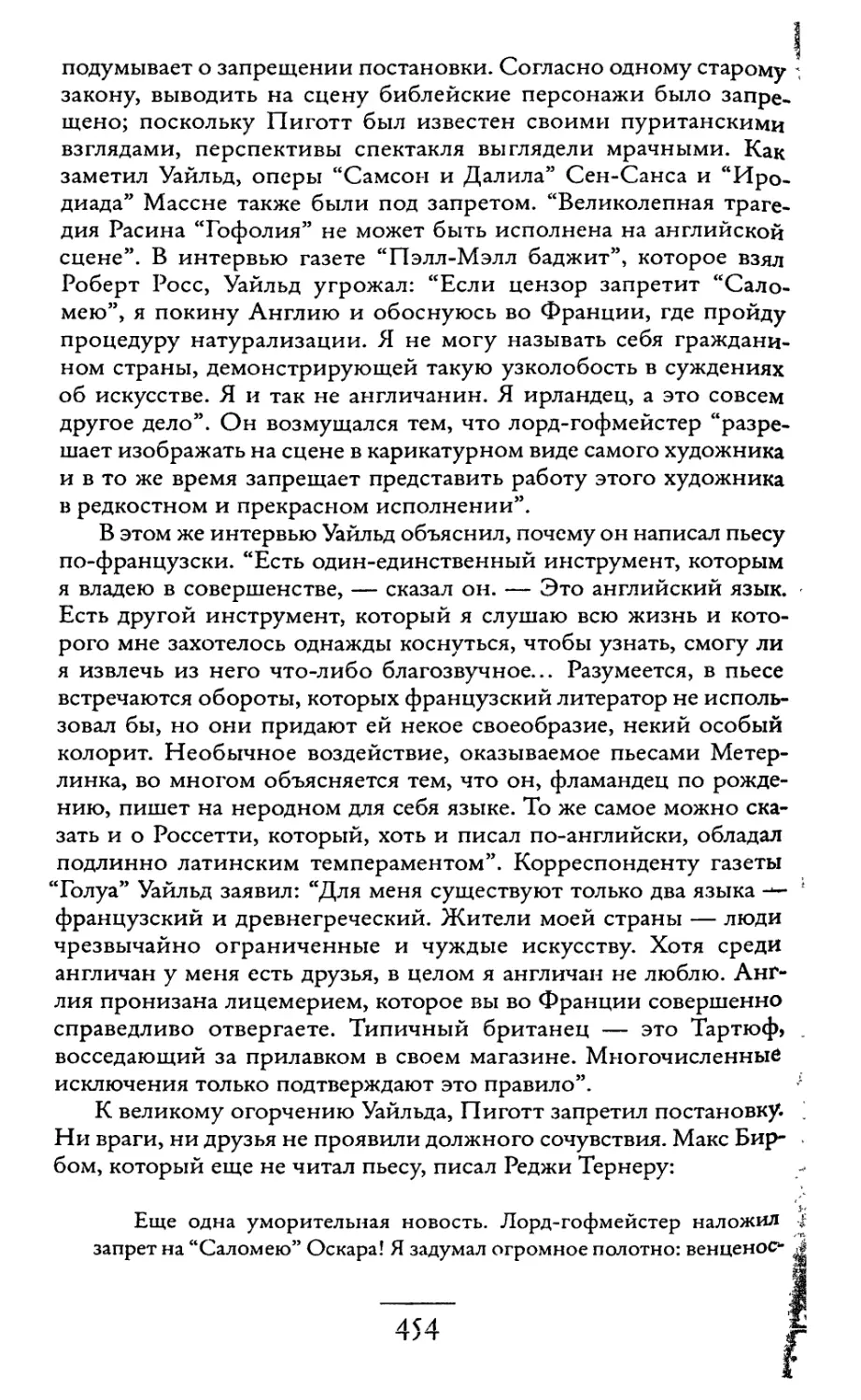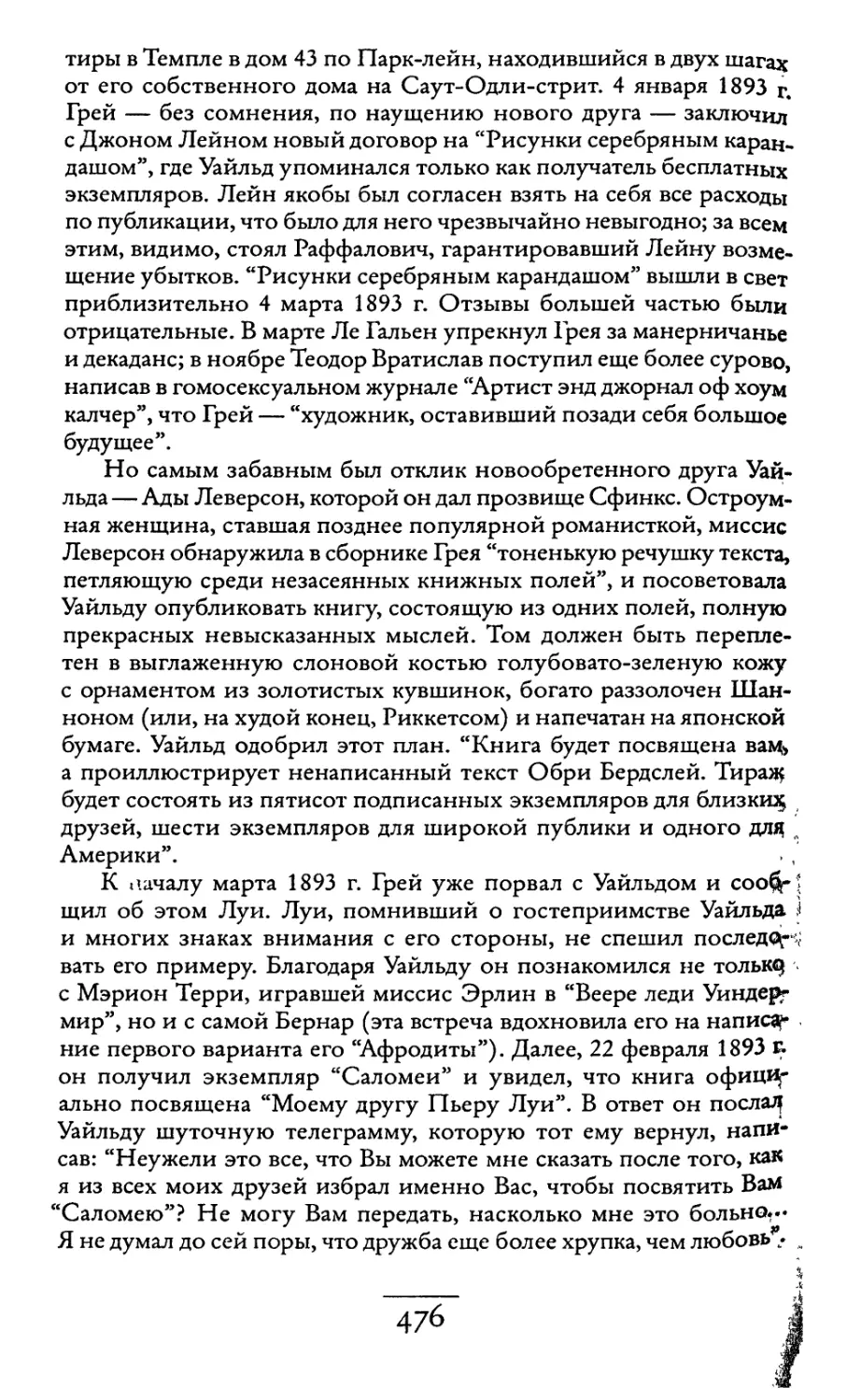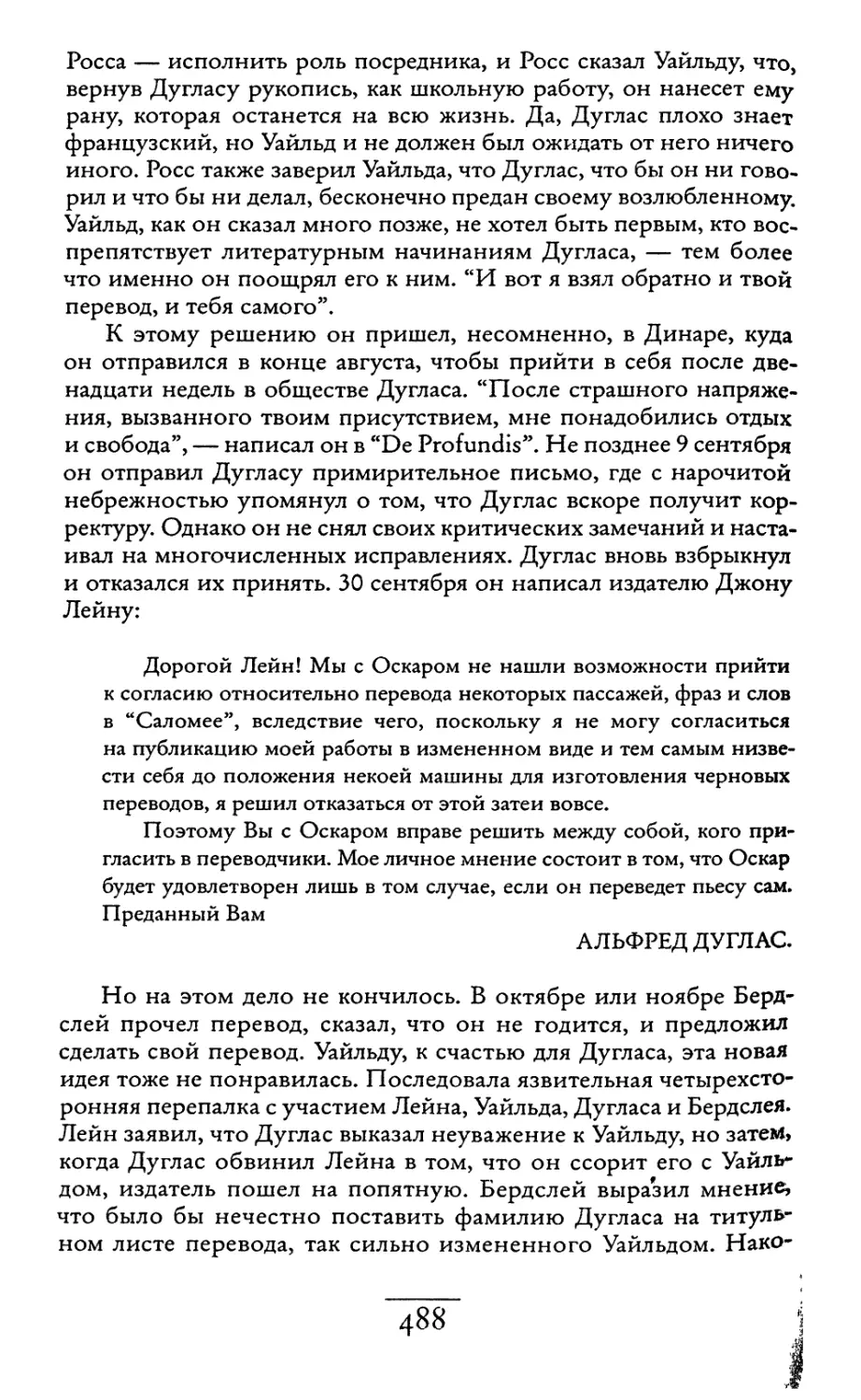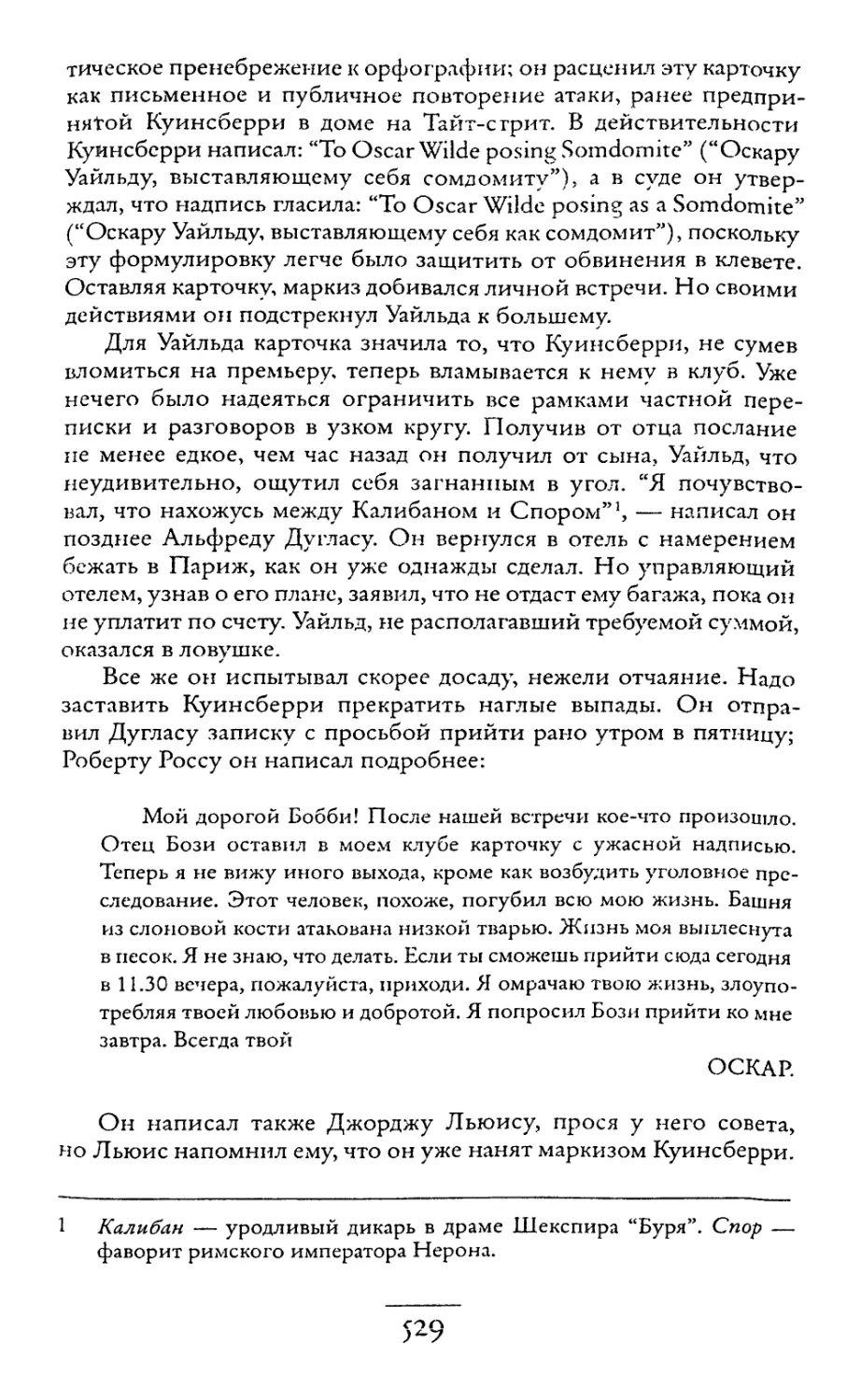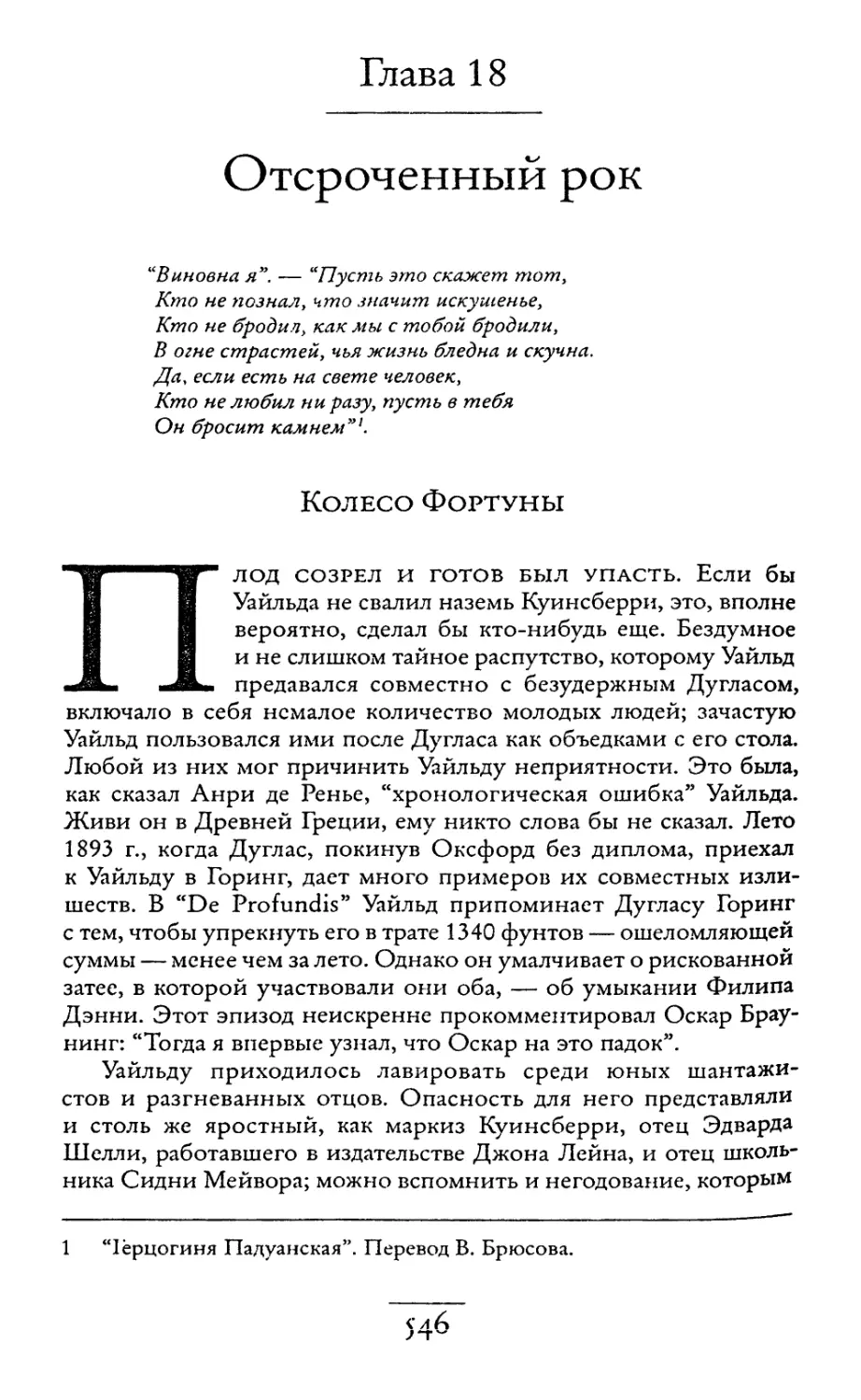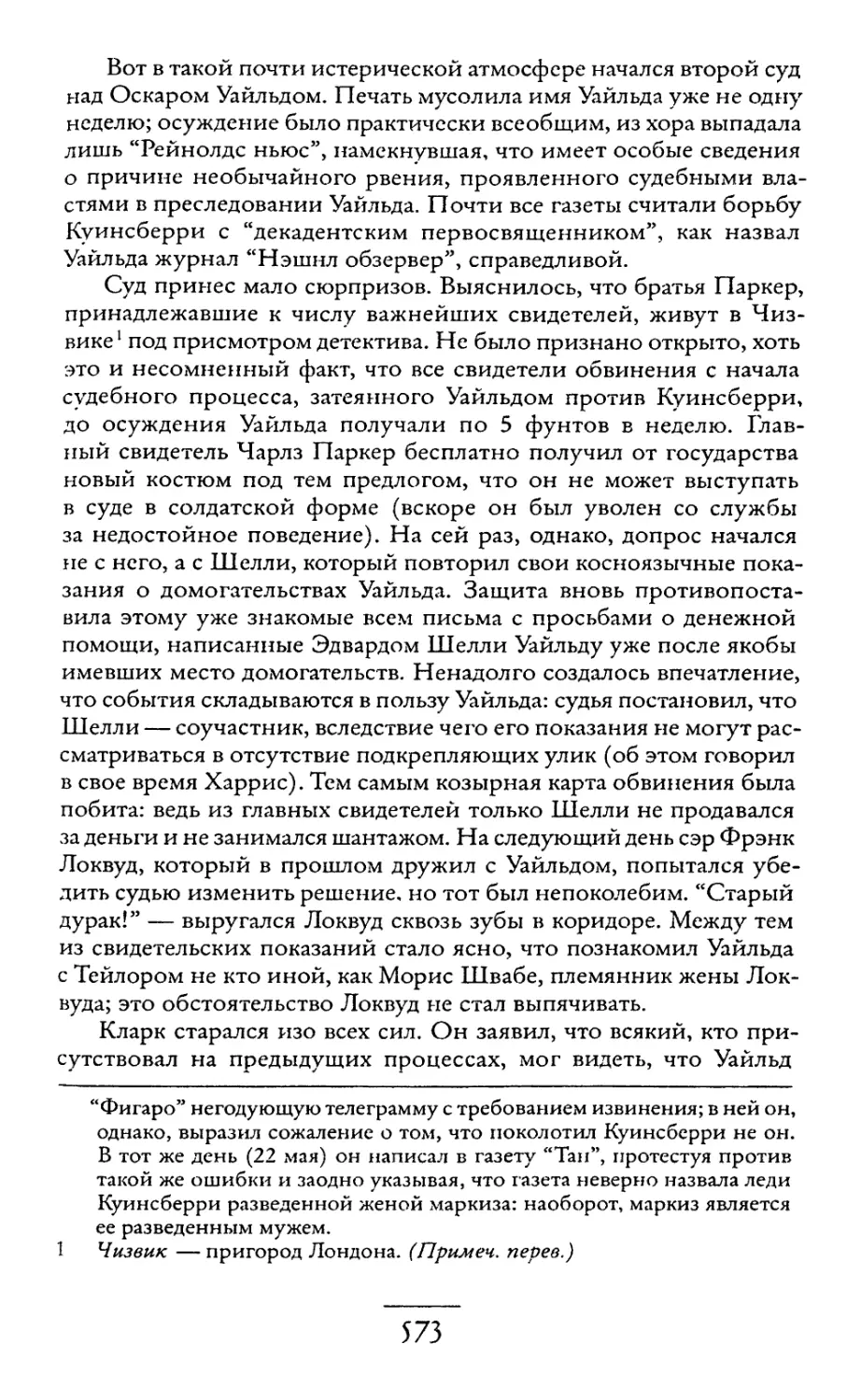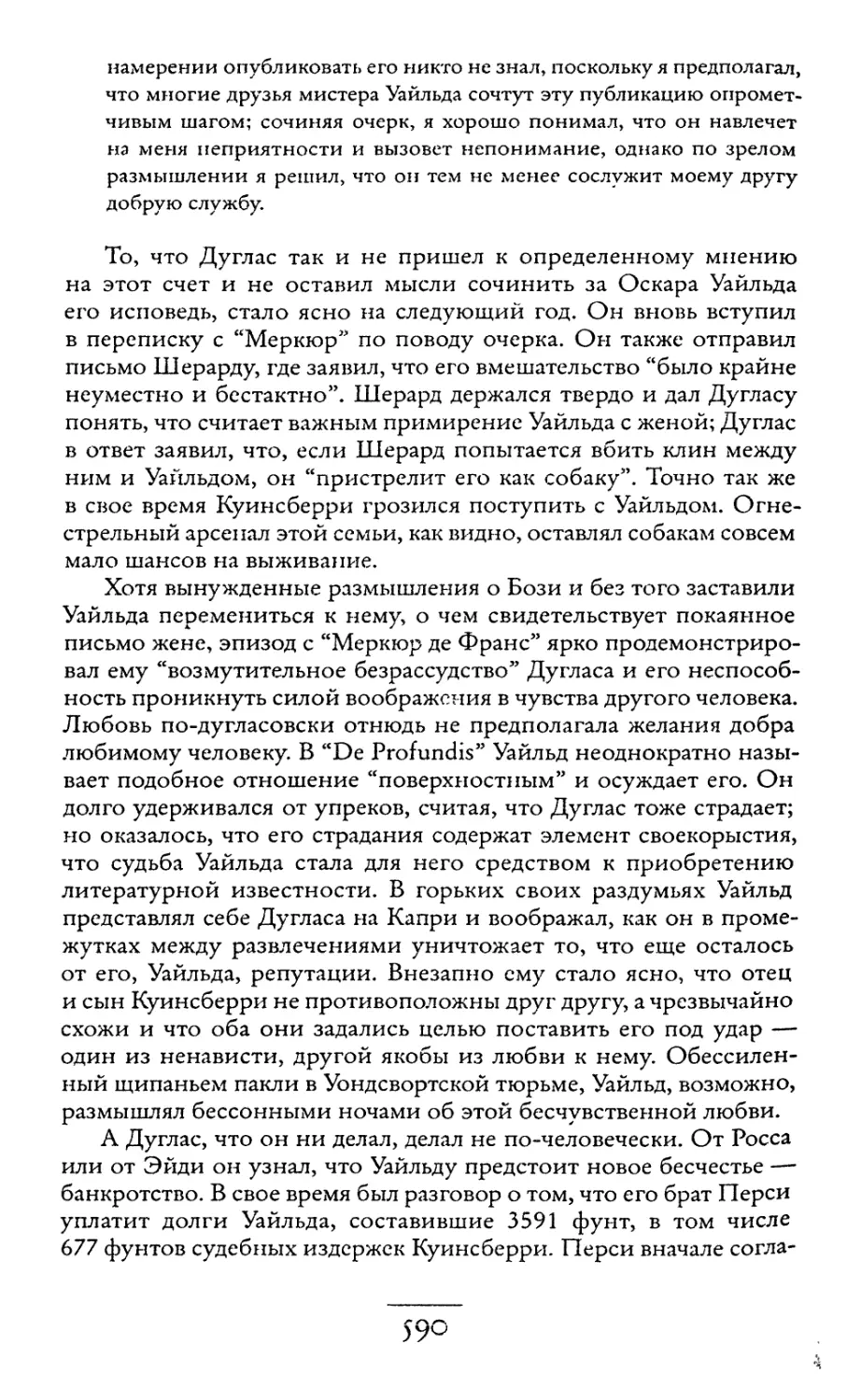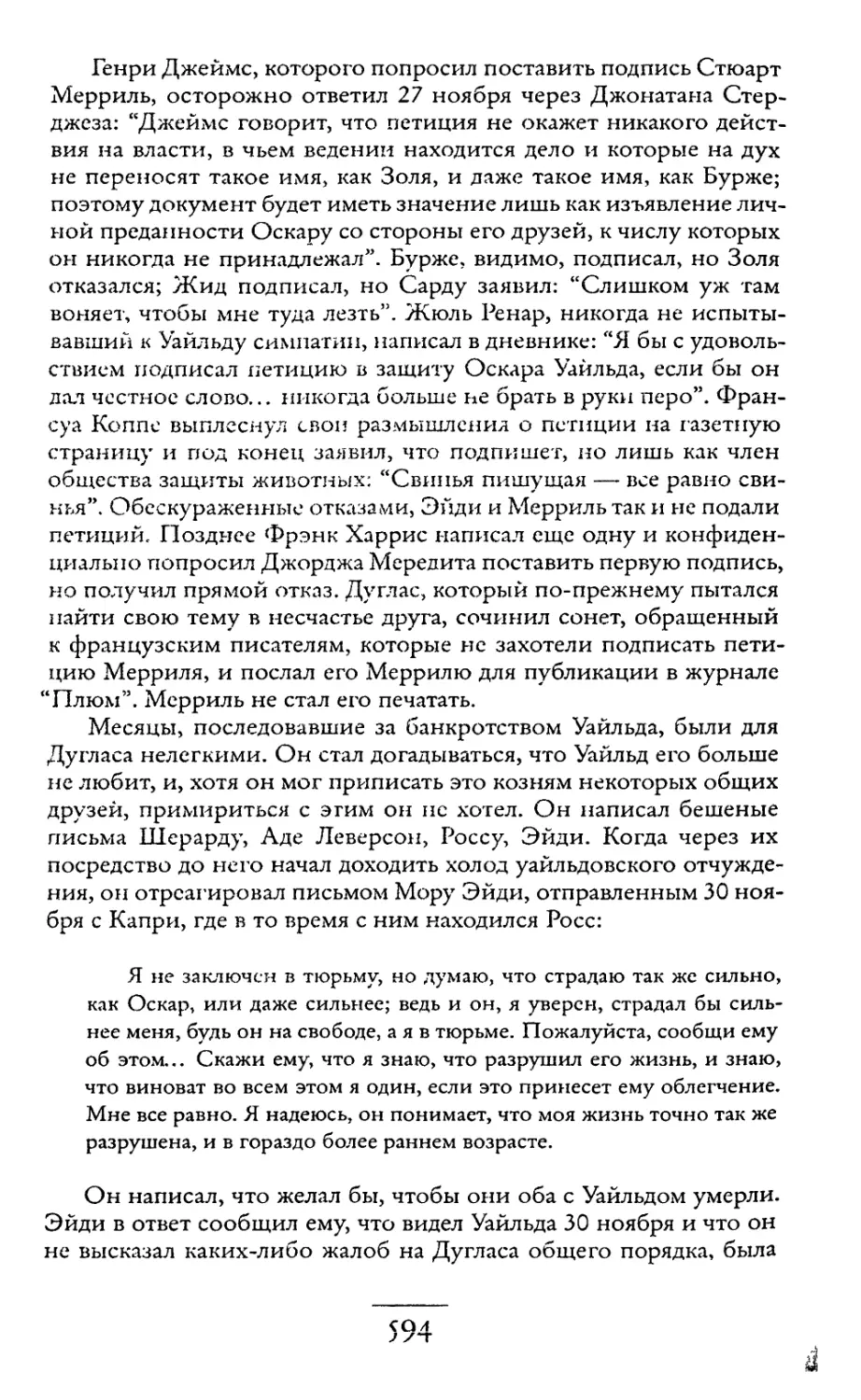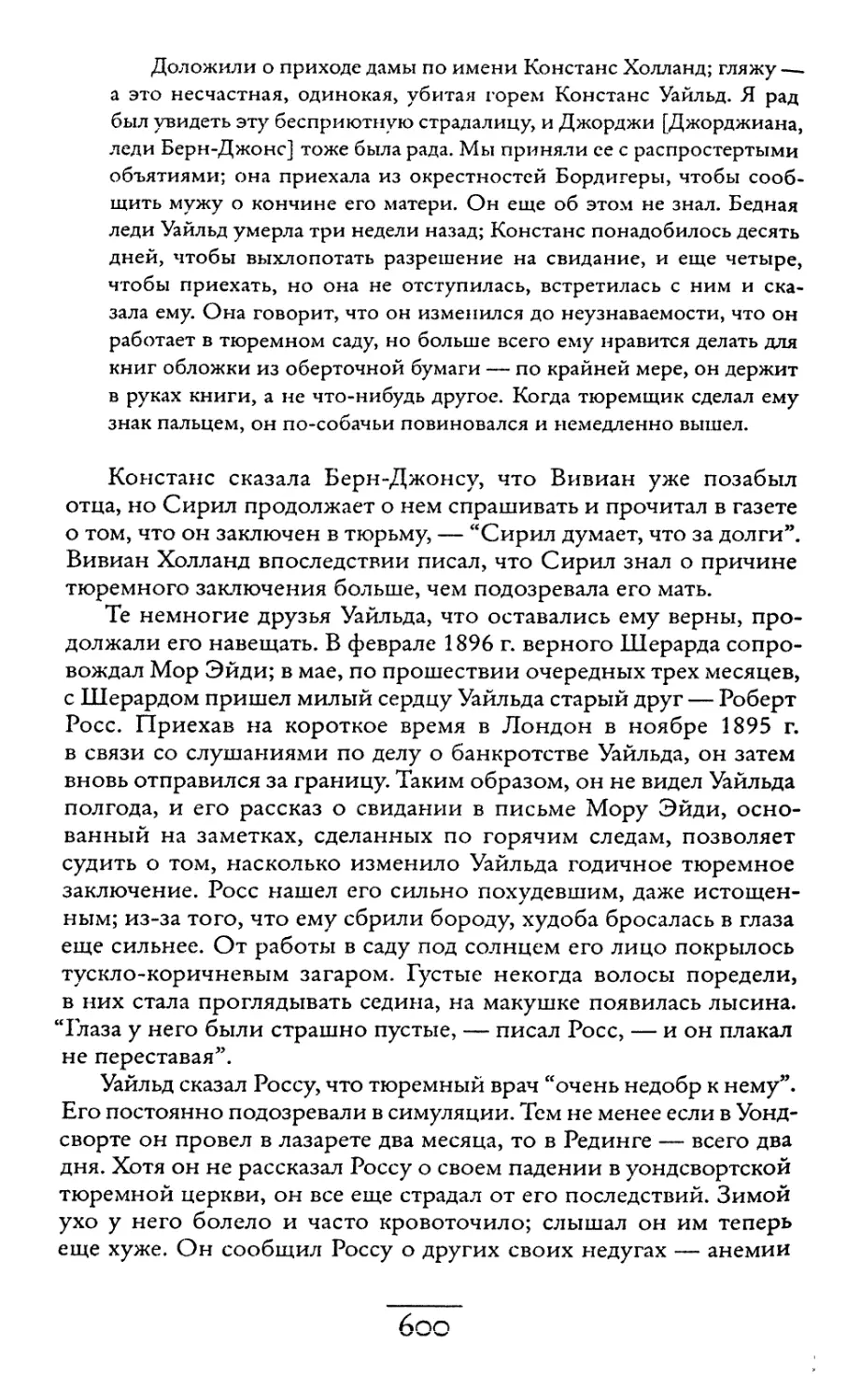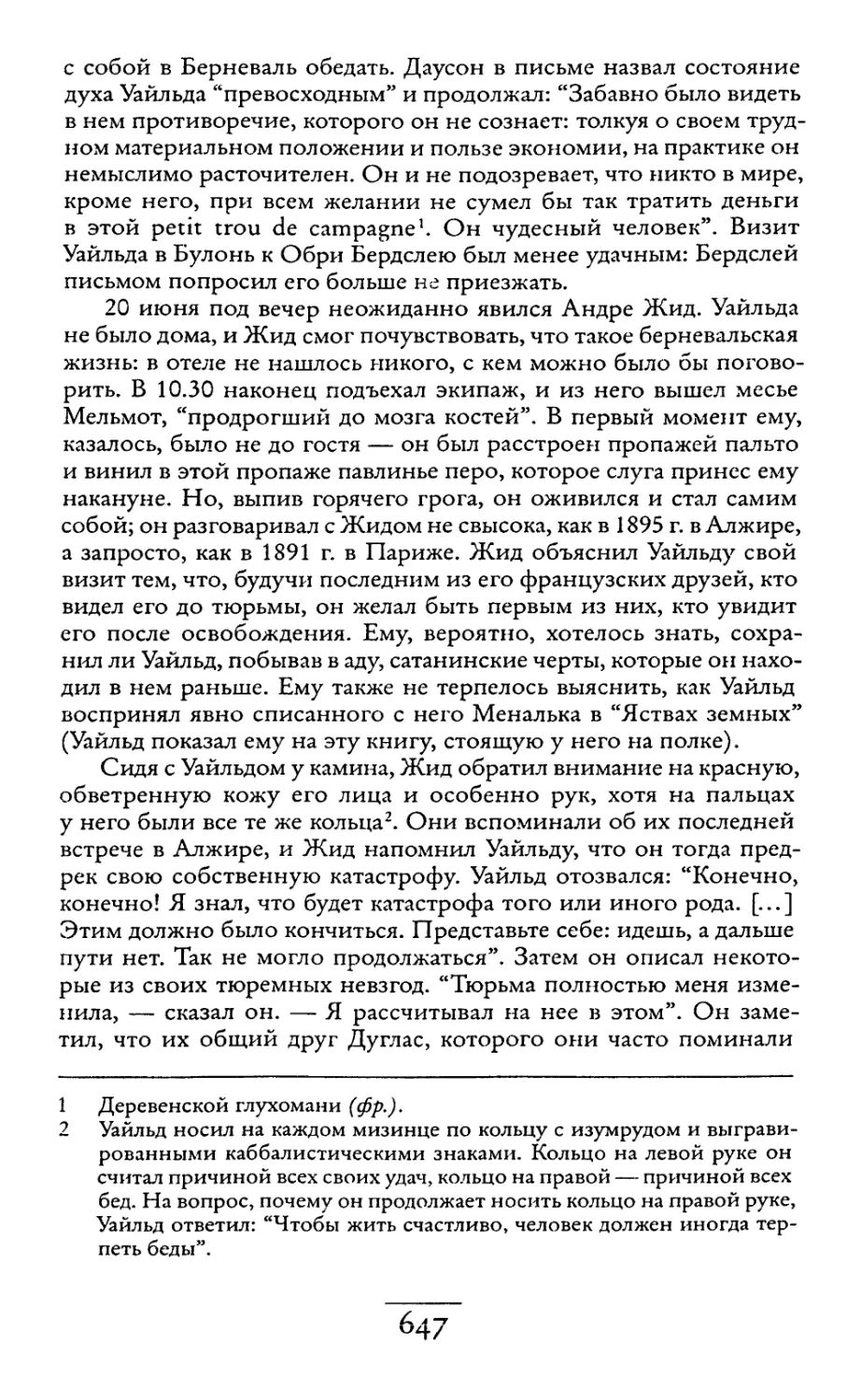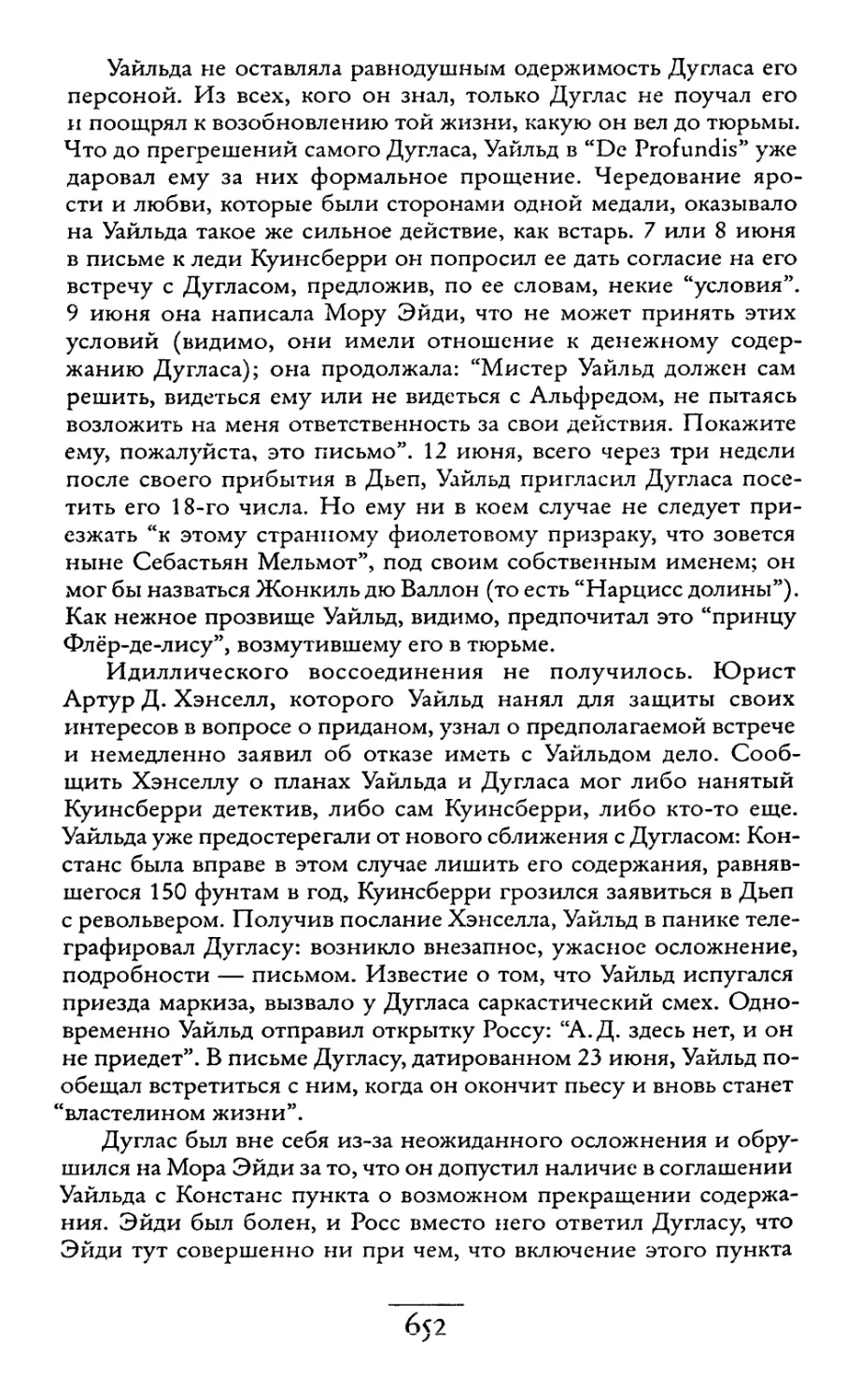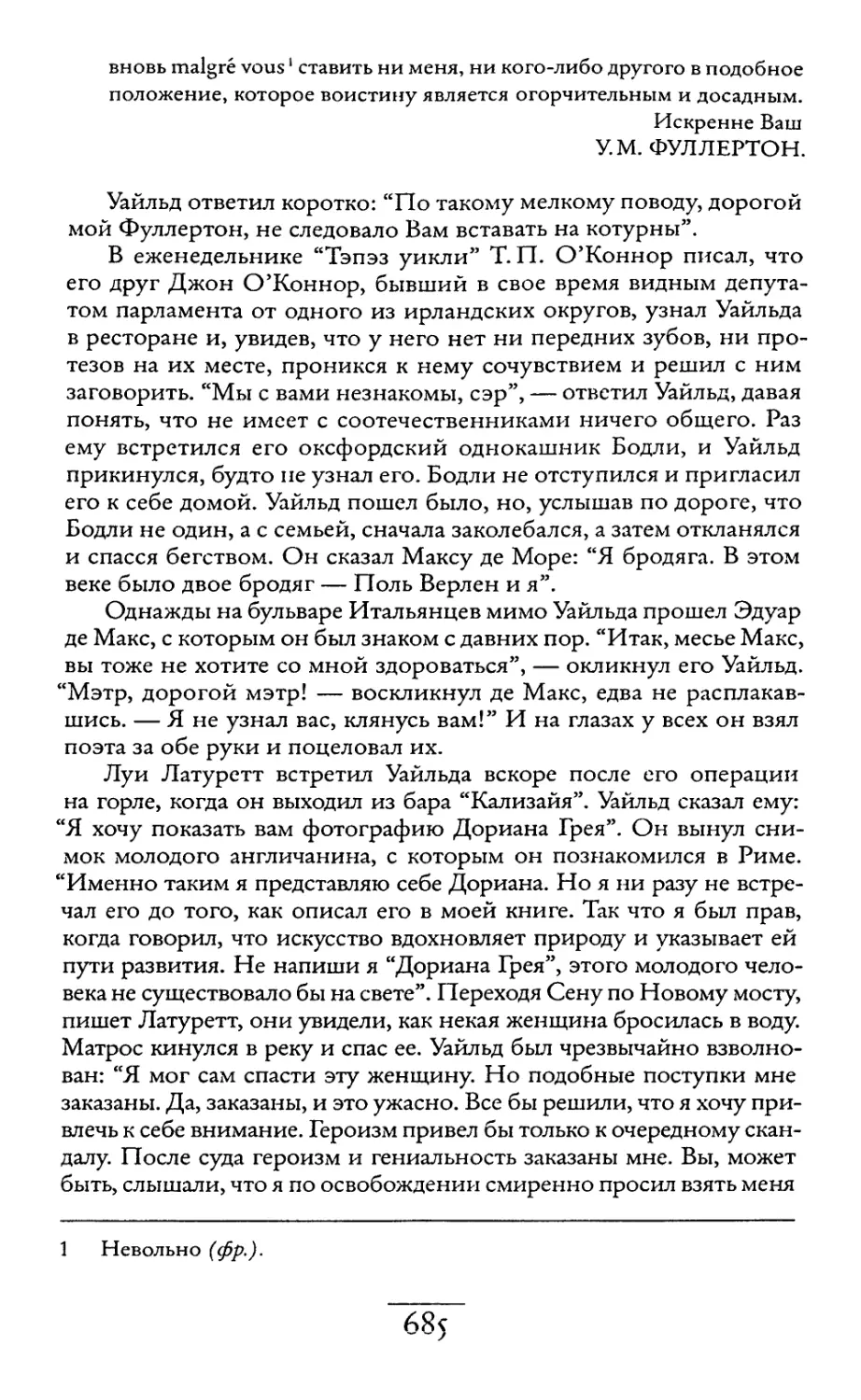Author: Ричард Эллман
Tags: художественная литература на английском языке биографические и подобные исследования литература великобритании биографии автобиография
ISBN: 978-5-389-04021-2
Year: 2012
Text
Ричард Эллман
Richard Ellmann
OSCAR WILDE
Ричард Эллман
ОСКАР УАЙЛЬД
КоЛибри
МОСКВА
УДК 821.111.0+929Уайльд
ББК 83.3(4Вел)5-8
Э47
Настоящее издание опубликовано с согласия
Alfred A. Knopf, an imprint of The Knopf Doubleday Group,
a division of Random House, Inc.
Перевод с английского
Леонида Мотылева
Художественное оформление серии
Евгения Савченко
Иллюстрация на обложку Getty Images
Эллман Р.
Э47 Оскар Уайльд : Биография / Ричард Эллман ; Пер. с англ. Л.Мотылева. —
М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2012. — 704 с.; ил. — (Серия “Персона”).
ISBN 978-5-389-04021-2
Ричард Эллман предлагает свое видение непростого жизненного пути мятежного
писателя, не пожелавшего следовать общепринятым нормам и морали своего вре-
мени, и находит достаточно прозаическое объяснение литературным триумфам и
последующей "криминальной” драме Оскара Уайльда. Поэт—не столько дитя богов,
сколько дитя Викторианской эпохи, и его трагедия как раз в том, что он воспринимал
ее устои слишком серьезно. Оскар Уайльд оставил после себя одну неразрешимую
загадку: как мог человек с таким изощренным отношением к собственному ими-
джу позволить завлечь себя в ловушку? И как бы полно ни рассматривалась в книге
Эллмана эта загадка, сам объект исследования никогда не утратит драматического и
человеческого интереса...
УДК 821.111.0+929Уайльд
ББК 83.3(4Вел)5-8
ISBN 978-5-389-04021-2
© 1987 by The Estate of Richard Ellmann
© 1984 by Richard Ellmann
© Л. Мотылев, перевод на русский язык, 2000
© ООО "Издательская Группа “Азбука-Аттикус”, 2012
КоЛибри*' .
Посвящается Люси Эллман
Содержание
Введение............................................. 9
Начальная пора
Глава 1. Труды взросления........................... 15
Глава 2. Уайльд в Оксфорде.......................... S7
Глава 3. Рим и Греция............................... 77
Глава 4. Недооформившийся эстет..................... юб
Подступы
Глава 5. Подъем паруса............................. 137
Глава 6. Декларация гениальности................... 190
Глава 7. Вразумление Америки....................... 217
Глава 8. Контрренессанс............................ 259
Глава 9. Два рода сцены............................ 281
Глава ю. Мистер и миссис Уайльд.................... 309
Восторги
Глава и. От ученика к мастеру...................... 341
Глава 12. Дориановская эпоха....................... 372
Глава 13. Эллинизация Парижа....................... 410
Глава 14. Хорошая женщина и другие................. 441
Глава 15. Любовная связь
в поздневикторианском стиле..................... 466
Глава 16. Выход в бурное море.......................494
Бесчестье
Глава 17. “Я — истец в этом процессе”...... 525
Глава 18. Отсроченный рок...................546
Глава 19. Пентон вилл, Уондсворт, Рединг....у/7
Глава 20. Освобождение из Рединга...........607
Эмиграция
Глава 21. УЬник на свободе..................631
Глава 22. Оставшиеся годы...................655
Эпилог......................................699
Введение
Оскар Уайльд... Стоит нам услышать это вели-
кое имя, как мы уже предчувствуем, что его слова,
которые вслед за этим будут процитированы, уди-
вят и восхитят нас. Из писателей, чей расцвет при-
ходится на 1890-е гг., Уайльд единственный, кого
до сих пор читают все. Разнообразные ярлыки, которые пришпи-
ливались к той эпохе (“эстетизм”, “декаданс”, “бердслеевский
период”), не должны скрывать того факта, что в первую очередь
она для нас связана с Уайльдом ослепительным, величественным,
готовым к падению.
С 1881 г., когда ему еще не было тридцати, до середины 1895 г.,
когда ему было сорок, литературный Лондон пребывал в замеша-
тельстве из-за этого возмутительного ирландца, уроженца Дуб-
лина и выпускника Оксфорда, объявлявшего себя социалистом,
намекавшего на свой гомосексуализм и открыто высмеивавшего
общепринятые мнения во всех областях. Во всеуслышание, в самых
изысканных выражениях он провозглашал отказ жить по средст-
вам, вести себя скромно, почитать старших и признавать такие,
казалось, очевидные данности, как природа и искусство в их тра-
диционных обличьях.
Им восхищались, и его яростно осуждали. Его имя было окру-
жено легендами и неаппетитными слухами. Его обвиняли во всех
смертных грехах, начиная от женоподобия и кончая плагиатор-
ством. А вот то, что он был добрейшим из людей, не было столь
хорошо известно. Напротив, именно в то время, когда он сочинял
свои лучшие вещи, включая венец всего им написанного комедию
“Как важно быть серьезным”, ему вменили в вину преступление,
которое закон красочно именует содомией. В итоге его пригово-
рили к двум годам каторжных работ по менее тяжкому обвинению
О
в непристойном поведении по отношению к мужчинам. Редко
подобному унижению предшествовала подобная слава.
Тяготы тюрьмы и последующей эмигрантской жизни во Фран-
ции и Италии надломили Уайльда. Мот без средств к существо-
ванию, презираемый многими из прежних друзей, он вел после
освобождения жизнь, подобную той, за которую был осужден.
Он написал “Балладу Редингской тюрьмы”, а после нее ничего.
В 1900 г. Уайльд умер во второразрядном парижском отеле. Он
оставил своего рода завещание, получившее латинское название
“De Profundis” (“Из глубины”) и написанное в форме письма
из тюрьмы человеку, которого он любил, лорду Альфреду Дуг-
ласу. Признавая ошибки (не те, о которых шла речь в зале суда),
но не становясь в позу кающегося грешника, Уайльд отстаивал
в этом письме права своей индивидуальности. Опубликованное
частями в течение последующих шестидесяти лет, оно всколых-
нуло старые ссоры его прежних друзей, до самой смерти оспари-
вавших между собой былое место в его жизни.
Другие современники Уайльда, презиравшие его как бывшего
заключенного, потом гостеприимно распахнули перед ним двери
своих мемуаров. Многие скучные хроники, как при жизни многие
скучные застолья, оживил посмертно этот фланёр. Что до читате-
лей, они восхищались им неизменно, как в англоязычных странах,
так и за их пределами, где его талант сияет сквозь тусклое стекло
перевода.
Покинув Оксфорд в 1878 г., Уайльд назвал себя профессо-
ром эстетики, и эстетизм обычно рассматривается как его кредо.
Однако тема его творчества не развод искусства и жизни, как
полагают многие, а закономерность, заставляющая искусство
в конечном итоге держать ответ перед опытом. Его произведения
почти всегда кончаются совлечением масок. Рука, вставляющая
в петлицу зеленую гвоздику, вдруг наставительно грозит пальцем.
В своих эссе Уайльд главной добродетелью объявляет притвор-
ство, но в его драматургии и художественной прозе развязка, как
правило, состоит в том, что маски приходится снять. Мы должны
признаться, кто мы такие на самом деле. По крайней мере, Уайльд
к этому стремился. Хотя он объявлял себя апостолом наслажде-
ния, его произведения несут в себе очень много боли. Катастрофа
выявляет его образ мыслей полнее, чем высшая точка успеха.
По существу Уайльд самым что ни на есть цивилизованным
образом подвергал общество анатомированию, а его этику ради-
кальному пересмотру. Он знал все секреты этого общества и мог
выставить напоказ все его притворство. Как Блейк и Ницше, он
утверждал, что добро и зло не таковы, какими они кажутся, что
моральные ярлыки не описывают всю сложность человеческого
1О
поведения. Своим писательским величием Уайльд во многом
обязан сочувствию к жертвам общества, которое испытывал сам
и которого требовал от других.
Язык ярчайшее из его достижений. В потоке его речи мягкая
уступка и решительный отказ плавно перетекают одно в другое.
Он берет чужое тяжеловесное высказывание и перефразирует его
под новым углом зрения, в свете новых принципов. Успокаиваю-
щие банальности и усталые очевидности старшего поколения он
внезапно пронизывает юношеской непримиримостью, некой пер-
восвященнической дерзостью, властно требующей к себе внима-
ния. Нам доставляет удовольствие возможность защищать ancien
regime1 и в то же время бунтовать против него. “Да здравствует
король!” — кричим мы, ведя его на эшафот.
Что касается уайльдовского остроумия, его равновесие было
неустойчивей и опасней, чем обычно полагают. Это остроумие
при всей своей видимой заносчивости стремится нам понра-
виться. Из всех писателей Уайльд был, вероятно, самым приятным
собеседником. Постоянно подвергаясь опасности, он смеется над
своей бедой; теряя все, он подшучивает над обществом, оказав-
шимся во много раз более грубым, во много раз менее изящным
и привлекательным, чем он сам. И как только мы понимаем, что
его обаяние находится под угрозой, что оно постоянно оглядыва-
ется на дверь, куда вот-вот войдет тупоумный закон, оно стано-
вится для нас еще обольстительнее.
Интерес к Уайльду отчасти связан с тем его качеством, кото-
рое, помимо солидной комплекции, объединяло его с Сэмюэлем
Джонсоном. Уайльд был, как он сам утверждал, “символом искус-
ства и культуры своего века”. Охватывая как видимый, так и неви-
димый мир, он покорял их оба своими необычайными сужде-
ниями. Он не из тех писателей, что теряют значимость в новом
веке. Уайльд один из нас. Его остроумие обновляющее вещество,
столь же действенное ныне, как и столетие назад. Вопросы, постав-
ленные его творчеством и его жизнью, наделяют его искусство
серьезностью — той самой серьезностью, от которой он всегда
открещивался.
1 Старый режим (фр.).
НАЧАЛЬНАЯ ПОРА
Глава 1
Труды взросления
Душа рождается старой, но становится все
моложе. В этом комедия жизни. А тело рожда-
ется молодым, но становится старым. В этом
трагедия жизни.
Леди Брэкнелл. Призм! Сюда, Призм!
Призм! Где ребенок*'
Первые слова
Благодаря письму, которое тринадцатилетний Оскар
Уайльд в 1868 г. написал матери из школы, его бытие
впервые становится доступно нам в словесной форме.
Королевская школа Портора в городе Эннискиллен,
готовившая учеников к поступлению в дублинский
Тринити-колледж, была хорошей школой, хотя назвать ее вслед
за директором и матерью Уайльда “ирландским Итоном” было бы
чересчур. Позднее Уайльд сказал Д. Дж. О’Донохью, неутомимому
составителю ирландского биографического словаря, что он про-
вел там “около года”. В действительности он учился там семь лет,
от девятилетнего до шестнадцатилетнего возраста. Факты для него
вещь растяжимая; давая интервью английскому ежегоднику “Бай-
ограф”, опубликовавшему его жизнеописание на шести страни-
цах, когда ему было всего двадцать шесть лет, Уайльд заявил, что
обучался частным образом дома. Портора — не особенно звуч-
ное название, и предпочтительней выглядело, если ты не посе-
щал школу вообще, чем если кончал такую, о которой мало кто
знает. “А я уже забыла свои школьные годы, — говорит миссис
Чивли в “Идеальном муже”. — Помню только, что они были очень
неприятные”. К тому же Уайльду с его воображением могло пока-
заться соблазнительным подвергнуть свое обучение “деконструк-
ции”, уничтожить по своей прихоти все эти грамматики и ариф-
1 Здесь и далее “Как важно быть серьезным” цитируется в переводе
И. Кашкина.
15
метики. Никакая школа на свете не воспитывает Оскаров Уайльдов.
Хотя Портора, процветающая и по сей день, выпустила не только
Уайльда, но и Сэмюэля Беккета.
От письма, которое Уайльд оттуда отправил, сохранился, увы,
только отрывок. Все же оно ценно как некий иероглиф его отро-
чества:
Сентябрь 1868 г. Школа Портора
Дорогая мама! Сегодня прибыла корзина, вот уж сюрприз так
сюрприз, большое тебе спасибо, как ты добра, что подумала об этом.
Не забудь, пожалуйста, прислать мне “Нэшнл ревью”... Обе фла-
нелевые рубашки, которые ты положила в корзину, — это рубашки
Уилли; мои одна алая, другая лиловая, но пока еще слишком жарко,
чтобы носить их. Ты так и не рассказала мне об издателе в Глазго, что
он говорит? И написала ли ты тетушке Уоррен на зеленой почтовой
бумаге?1
Как утверждает публикатор, в оставшейся части письма
речь идет о крикетном матче, выигранном у полковой команды,
и об “этой ужасной регате”. К письму был приложен рисунок,
ныне утерянный, носивший название “Ликование отроков о кор-
зине и печаль бескорзинного отрока”.
Личность Оскара Уайльда, какой мы ее себе представляем,
здесь уже проступает. У него прекрасные отношения с доро-
гой мамой, но он хочет, чтобы они были еще лучше, вероятно
по причине ясно различимого соперничества за ее внимание
со старшим братом Уилли. Позже Оскар отодвинет его на задний
план. С рано развившимся чувством юмора он изображает сцену
радости и разочарования от доставки корзины. Вкус к драмати-
ческим эффектам явно налицо. Вырисовываются и другие вкусы:
крикет интересует его умеренно, гребля не интересует вовсе.
Школа расположена на берегу реки Эрн, поэтому нелюбовь
к регатам должна была восприниматься как нечто необычное
и индивидуальное. Его интерес к крикету впоследствии оконча-
тельно угаснет, и он будет дразнить своего крепко сбитого био-
графа Роберта Шерарда, притворяясь, что находит позы игроков
“неприличными” и “не греческими”. В конце концов он и вовсе
махнул рукой на “мячики и лодочки”, предпочтя им верховую
езду, стрельбу и рыбную ловлю.
Из письма ясно, что в одежде тринадцатилетний мальчик про-
являл вкусы денди, проводя четкое различие между своими рубаш-
1 Здесь и далее письма цитируются в переводе В, Воронина, Л. Моты-
лева, Ю. Рознатовской.
16
ками алого и лилового цвета и рубашками Уилли, цвета которых
не заслуживали упоминания. Когда в 1890 г. Уайльда посетили
две женщины, писавшие под общим псевдонимом “Майкл Филд”,
на нем были лиловая рубашка и светло-лиловый галстук. Любовь
к алому цвету и близким к нему оттенкам он разделял с матерью,
которая, как писали, в шестьдесят с лишним лет носила алое пла-
тье и которую дублинский мемуарист лорд Раткридан видел щего-
ляющей в красной шали. Слово “вермильон” (киноварь) Уайльд,
любивший оттенки и полутона, всегда сладостно растягивал (с дру-
гой стороны, маджента — красная анилиновая краска — вызывала
у него ужас). В “Балладе Редингской тюрьмы” последнее бесчестье
приговоренного к смерти состоит в том, что его не могут повесить
в алом мундире. Когда Уайльду сказали, что, будучи конногвардей-
цем, этот человек носил не алую, а синюю форму, он мгновенно
предложил вариант начальных строк:
Не в синем был он в этот час,
А в голубой крови.
Не только эстетическим чувством было продиктовано его
желание прочесть новое стихотворение матери в “Нэшнл ревью”.
Стихотворение носило патриотическое название “К Ирландии”
и подхватывало призыв, брошенный леди Уайльд еще в юности,
призыв протрубить сигнал к восстанию. В Шотландии готовилось
новое издание ее стихотворений, и “К Ирландии” должно было
заменить посвящение к первому изданию 1864 г., гласившее:
Посвящается сыновьям моим Уилли и Оскару Уайльдам.
Научила я их
Говорить слово “Родина” без опасенья
И за Родину пасть, если нужно, в сраженье.
В этих ее строках пыла несколько больше, чем стиля. Но юному
Уайльду нравились как ее поэзия, так и ее политические пристра-
стия.
Он также ценил материнские шуточки. “Тетя Уоррен” в письме —
это Эмили Томазина, сестра леди Уайльд, которая была намного
старше ее и в 1829 г. вышла замуж за Сэмюэля Уоррена, тогда капи-
тана, а потом, как и его брат Натаниэль, подполковника Британ-
ской армии. Миссис Уоррен, как добропорядочная офицерская
жена, была против независимости Ирландии и не одобряла сестру,
которая, будучи националисткой, платила ей взаимностью. В поддраз-
нивании тети Уоррен бумагой зеленого цвета — цвета Ирландии
чувствуется озорное подрывное сообщничество. Эмили Уоррен
впоследствии появляется на сцене лишь как совладелица части
семейного имущества Уайльдов. Ее муж умер около 1850 г., она
сама в 1881 г. Как и ее старший брат, который стал судьей в Луи-
зиане, она держалась от сестры Джейн на расстоянии. Однако,
возможно, частица Эмили Томазины Уоррен ожила в тете Августе
Брэкнелл из “Как важно быть серьезным”; у ее мужа есть брат-
генерал по имени Эрнест, которое звучит еще солидней, чем “Сэмю-
эль” и “Натаниэль”. Леди Брэкнелл любит отдавать английские
команды, которыми усердно пренебрегают ирландские сердца.
(Джейн) Сперанца Франческа Уайльд
Все женщины становятся похожи на своих мате-
рей. В этом их трагедия. Ни с кем из мужчин
этого не происходит. В этом их трагедия.
Мать, которой тринадцатилетний мальчик адресовал письмо, была
женщиной необычной. Леди Уайльд ощущала, что рождена для
величия, и не скрывала этого. Ее сын разделял это ощущение
и всегда относился к ней с величайшим почтением, как если бы
не она была его предтечей, а он ее. За четыре года до того, как она
получила это письмо из школы, ее мужу был пожалован рыцар-
ский титул. Титул, давший ей право именоваться “леди Уайльд”,
пришелся кстати, потому что она всегда была недовольна своим
первым именем (Джейн) и переделала свое второе имя (почти
наверняка Фрэнсис) во Франческу, считая это новое имя блестя-
щим напоминанием об итальянских корнях семьи Элджи, которая
согласно семейным преданиям, уверяла она, в Италии звалась Аль-
джати. От Альджати один шаг до Алигьери, и Данте никак не мог
отвертеться от того, чтобы стать предком Джейн Элджи (а ее сын
впоследствии заявлял о своем внешнем сходстве и духовном род-
стве с Шекспиром и Нероном). И вечный вопрос — каким име-
нем подписываться. Письма торговым агентам и людям малозна-
чительным она подписывала “Джейн Уайльд”; для тех, кто был ей
небезразличен, она была Франческа или Дж. Франческа Уайльд.
Но было у нее и другое имя, тоже ее собственного сочинения:
Сперанца. Оно составляло часть девиза, украшавшего ее почтовую
бумагу: “Fidanza, Speranza, Costanza”1. В переписке с Генри Уод-
1 “Доверие, Надежда, Постоянство” (ит.).
18
суортом Лонгфелло (кстати, переводчиком Данте) она именовала
себя “Франческа Сперанца Уайльд”.
Она могла и подшутить над своим псевдонимом, о чем сви-
детельствуют строки из подбадривающего письма, которое она
послала ирландскому прозаику Уильяму Карлтону: “Сказать
по правде, я не могу позволить Вам предаваться такому унынию —
непризнанный гений вправе был бы жаловаться на глубокие
и горькие невзгоды, но не Вы. [...] Святая Сперанца, если Вы
согласны на мою канонизацию, готова совершить чудо Вашего
исцеления, ведь вся Ваша печаль мнимая.... В ответном письме
Карлтон воздал хвалу “великому Океану” ее души.
Водами каких рек был сформирован этот великий Океан,
нам, в общем, известно. Данте не Данте, но в числе ее родичей
с материнской стороны был его преподобие Чарлз Мэтью-
рин, чей роман “Мельмот-скиталец” с его таинственным сата-
нинским героем произвел глубокое впечатление на Вальтера
Скотта, на Бальзака, написавшего к нему продолжение, на Бод-
лера, увидевшего в Мельмоте своего двойника, и на Оскара Уай-
льда, в конце жизни укрывшегося под вымышленной фамилией
“Мельмот”. Прадед леди Уайльд по материнской линии, доктор
Кингсбери, был известный врач и друг Джонатана Свифта. Ее
отец, Чарлз Элджи (1783-1821), был юристом, а его отец, Джон
Элджи (1753-1823), — приходским священником и архидиаконом
Ирландской протестантской церкви. Ее мать, Сара, была дочерью
другого духовного лица — Томаса Кингсбери, который, будучи
викарием в графстве Килдэр, исполнял по совместительству
светскую должность члена комиссии по банкротствам. Углубля-
ясь дальше в старину, мы видим, что Чарлз Элджи (1709-1787),
прадед леди Уайльд со стороны отца, был зажиточным фермером
в графстве Даун; другой ее предок по материнской линии был
англичанин, каменщик по профессии (умер в 1805), перебравшийся
в 1770-е годы из графства Дарем в Ирландию вследствие начав-
шегося там строительного бума. Происходя от этих довольно
заурядных предков, леди Уайльд тем не менее настаивала на своих
сомнительных тосканских корнях.
Как впоследствии ее сын, она любила подправлять действи-
тельность. С ее слов выходило, что она родилась в 1826 г. Если
собеседник проявлял дотошность, она беззаботно отвечала, что ее
рождение не было нигде зафиксировано: ведь когда землю еще
населяли гиганты, никаких регистрационных органов не требо-
валось. Приходская книга записей, которая могла бы вывести ее
на чистую воду, не была найдена. “Женщина, — говорит леди Брэк-
нелл в “Как важно быть серьезным”, — не должна быть слишком
точной в определении своего возраста. Это отзывает педантством”.
19
Биографы тщетно пытались выяснить дату рождения леди Уайльд,
но теперь есть возможность безжалостно сообщить, основываясь
на ее заявке на вспомоществование от Королевского литератур-
ного фонда, датированной ноябрем 1888 г., когда преимущество
ей давали годы, а не молодость, что она родилась 27 декабря 1821 г. —
всего-то на пять лет раньше, чем утверждала. Ее сын Оскар был
ей под стать — он регулярно сбавлял себе два года, даже в таком
документе, как свидетельство о браке; и леди Уайльд ему подыг-
рывала: например, поздравила его с получением Ньюдигейтской
премии “в возрасте всего двадцати двух лет”, прекрасно зная, что
ему уже почти двадцать четыре.
Леди Уайльд передала сыну как свой патриотизм, так и стрем-
ление выразить его в стихах. Согласно одной из ее версий своего
дебюта в литературе, однажды она натолкнулась на книгу или бро-
шюру Ричарда Д’Элтона Уильямса, которого судили по обвинению
в измене и оправдали в 1848 г. Вероятно, это издание открывалось
стихотворением “Женщинам Ирландии — любовное послание
Отчизны”, содержавшим призыв к женщинам: “Пойте нам лишь
о РОДИНЕ песни”. Она была потрясена и воспламенена. “Тогда
я поняла, что я — поэт”. Она вполне усвоила риторический стиль
своего учителя. Однако У. Б. Йейтс услышал от нее иную версию.
“Идя по дублинской улице, она увидела такую огромную толпу,
что двигаться дальше было невозможно, — вспоминает Йейтс ее
рассказ. — Она спросила лавочника, что вывело на улицу такое
множество людей, и тот ответил: “Томаса Дэвиса несут хоронить”.
Она поинтересовалась: “Кто такой был Томас Дэвис? Я никогда
о нем не слышала”, — и лавочник сказал: “Он был поэт”. Увидев,
какая многолюдная толпа провожает поэта в последний путь, она
решила тоже сделаться поэтом.
Поэзия Томаса Дэвиса и вправду сделала многих патриотами,
включая Джона О’Лири, друга Йейтса. Но Дэвиса хоронили
в 1845 г., когда Джейн Уайльд было двадцать три года, а отнюдь
не восемнадцать, и она не могла пребывать в неведении о вожде
движения “Молодая Ирландия”. Стихи Уильямса и похороны
Дэвиса внесли вклад в поднимавшуюся среди чувствитель-
ных ирландцев — как протестантов, так и католиков — волну
патриотических настроений. Джейн Элджи начала писать стихи
о грядущей революции, о голоде и об исходе голодающих людей
из Ирландии. Под псевдонимом Сперанца она послала их Чарлзу
Гэвану Даффи, редактору основанной в 1842 г. газеты “Нэйшн”.
На конвертах со стихами стояло вымышленное имя Джон Фэн-
шоу Эллис, созвучное .имени Джейн Франческа Элджи. Гэвану
Даффи ее патриотические стихи понравились, и он опубликовал
их, после чего она послала ему любовную лирику, которая по-
20
нравилась ему меньше и в печать не пошла. Тем не менее его
любопытство было разбужено, и он попросил “Эллиса” прийти
к нему для знакомства. “Эллис” в ответ пригласил Гэвана Даффи
нанести визит в дом 34 по Лисон-стрит. Там, вспоминает Гэван
Даффи, дверь ему открыла улыбающаяся служанка, и, когда он
осведомился о мистере Эллисе, провела его в гостиную, где
он увидел только Джорджа Смита, университетского издателя.
"Что?! Друг мой, неужели вы и есть этот новый мятежный вул-
кан?” — воскликнул Гэван Даффи. Смит вышел из комнаты
и вернулся, “ведя под руку высокую девушку, чья статная фигура,
горделивая осанка, пылающие карие глаза и героические черты
лица как нельзя лучше шли к поэтическому таланту и революци-
онному духу”. Эта инсценировка была характерной; как призна-
лась позже Джейн Элджи математику сэру Уильяму Гамильтону,
ей нравилось “производить сенсации”. Гэван Даффи писал ей,
что когда-нибудь она “приобретет репутацию, не уступающую
репутации миссис Браунинг”.
Стихи Сперанцы были весьма зажигательны. Героем стихо-
творения “Вождь молодых патриотов” был Томас Фрэнсис Мигер,
осужденный за измену в 1849 г. (она присутствовала на судебном
процессе). Правительство, однако, больше интересовала публи-
куемая в “Нэйшн” проза. Гэван Даффи как редактор и главный
автор был арестован по обвинению в подстрекательстве. В его
отсутствие Джейн Элджи сочинила редакционные статьи для
двух последовательных номеров газеты, в которых высказала
прямо то, о чем Гэван Даффи писал осторожнее. В статье “Час
нашей судьбы” от 22 июля 1848 г. она заявила, что “долго назре-
вавшая война против Англии, по существу, началась”; неделей
позже в статье “Jacta Aiea Est” (“Жребий брошен”) она яростно
воскликнула: “О! Пусть же сто тысяч мушкетных стволов ярко
заблистают под лучами Небес!” Правда, она хотела, чтобы в слу-
чае быстрой капитуляции Англии “золотая цепь” монархии про-
должала соединять английский и ирландский народы. Эти статьи
возбудили не столько публику, сколько власти, и породили новые
обвинения в адрес Гэвана Даффи как якобы написанные им самим,
хотя он находился в тюрьме. Когда его адвокат Исаак Батт ска-
зал, что может защитить все, кроме “Jacta Aiea Est”, Джейн Элджи
отправилась к главному прокурору, объявила себя автором статей
и потребовала, чтобы с Гэвана Даффи были сняты дополнитель-
ные обвинения. Ей было отказано. “Я полагаю, что описание
этого героического поступка будет неплохо читаться в моей буду-
щей автобиографии”, — хвалилась она в письме кому-то из своих
шотландских знакомых. Когда в суде обвинитель начал допра-
шивать Гэвана Даффи по поводу статей, его прервала вставшая
21
во весь рост на галерее высокая женщина. “Я, и только я, виновна
в этом так называемом преступлении”. Судья, стукнув молотком,
заставил ее замолчать, однако обвинение отказалось от этой линии
допроса. Гэвана Даффи судили четыре раза. Один состав присяж-
ных за другим отказывался выносить обвинительный приговор,
и в конце концов его освободили. Вмешательство Джейн Элджи
было самым действенным поступком в трех великих судебных дра-
мах, где участвовали Уайльд и его родные. Именно об этой своей
победе, вероятно, она вспоминала сорок семь лет спустя, когда
настаивала, чтобы ее сын Оскар не уезжал из страны, а шел на суд;
она рассчитывала, что он тоже одержит славную победу.
Неумеренность во всем была ее сознательной линией пове-
дения. В декабре 1848 г. она писала: “Я хочу бешено нестись
по жизни — не по мне эта законопослушная тихая поступь, о, моя
дикая, мятежная, честолюбивая натура! Вот бы мне насытить импе-
риями ее аппетит, пусть даже и остров Святой Елены в конце”.
“Всякая добродетель должна быть активной, — заявляет она в дру-
гом месте. — Пассивных добродетелей не существует”. Если ге-
роические деяния невозможны, по крайней мере можно проявлять
безрассудство в одежде. На балу у лорда-наместника в день святого
Патрика 1859 г. она щеголяла в платье, у которого были “три юбки
из белого шелка, обшитые рюшами из белой ленты и украшенные
букетиками из золотых цветов и зеленых трилистников1. “В своем
дублинском (а позднее лондонском) салоне она разила всех напо-
вал своими все более и более диковинными нарядами, замысло-
ватыми прическами и драгоценностями весьма внушительного
размера и необычного вида.
Высказывания ее были под стать нарядам. Оскар Уайльд впо-
следствии напишет: “Где нет крайностей — там нет любви, а где нет
любви — там нет понимания”. Осознанная риторика леди Уайльд
могла быть на низших своих уровнях чрезвычайно прямолинейной,
как, например, в эссе “Женское рабство”: “Итак, мы проследили
историю женщины от Эдема до девятнадцатого столетия и сквозь
длинную вереницу поколений не услышали ничего, кроме бря-
цания ее кандалов”. Ее сын в “Женщине, не стоящей внимания”
вывернет это утверждение наизнанку: “История женщин — это
история самого худшего вида тирании, какую знал мир. Тирания
слабого над сильным. Это единственная форма тирании, которая
еще держится”. Мать смотрела на историю иначе. Однажды она
перебила феминистку Мону Кэрд словами: “До конца времен вся-
кая женщина будет готова отдать мужчине пальму первенства”.
1 Трилистник — символ Ирландии. (Примеч. перев.)
22
В разговорах она резко выступала против традиционных поня-
тий. Когда ее попросили принять некую “респектабельную” моло-
дую женщину, она ответила: “Никогда больше не употребляйте
это прилагательное в моем доме. Респектабельны только торговцы.
Мы выше респектабельности”. В комедии "Как важно быть серьез-
ным” леди Брэкнелл спрашивает: “Не является ли упомянутая
вами мисс Призм женщиной отталкивающей наружности, но при
том выдающей себя за воспитательницу?” Каноник Чезюбл отве-
чает: “Это одна из самых воспитанных леди и само воплощение
респектабельности”. — “Ну, значит, это она и есть!” — заклю-
чает леди Брэкнелл. Уайльд однажды объявил, что они с матерью
решили учредить общество по искоренению добродетели, и то,
что эта идея могла родиться у любого из них, красноречиво гово-
рит о родстве их душ.
Вклад, который леди Уайльд внесла в ирландскую слове-
сность, был связан с ее умением придать местному и ограни-
ченному вселенский размах. Поэзия для нее означала риторику.
Коулсон Кернахан сообщает об упреке, который она адресовала
его другу: “Вы, как прочие стихотворцы, довольствуетесь тем,
что выражаете в поэзии свою маленькую душу. А я выражаю
душу великой нации. Меньшее меня бы не устроило — ведь
я общепризнанный голос в поэзии всего народа Ирландии”.
Переехав после смерти мужа в Англию, она жаловалась с веле-
речивой удрученностью: “Я привыкла видеть душу, а не внеш-
ние формы. Теперь, увы, я испытываю только муку из-за утраты
всего, что делало жизнь выносимой, и моя певческая мантия
волочится по лондонской глине”. Она утверждала, что своим
орлиным обликом обязана тому, что была орлицей в преж-
нем существовании, и сказала молодому Йейтсу, с которым
дружила: “Я хотела бы жить на каком-нибудь возвышенном
месте — например, на Примроуз-хилл или в Хайгейте, потому
что в юности я была орлицей”.
Все же она не стремилась командовать войсками, подобно
Жанне д’Арк, — она желала лишь воодушевлять их как “жрица
у алтаря свободы”. Вести войну — дело мужчин. Женщины
должны быть свободны, и высшая форма свободы для них —
пострадать за общее дело. Прочие формы свободы оставляли ее
равнодушной. Она порицала Джордж Элиот за то, что герои ее
романа “Мидлмарч” говорят: “Богом клянусь!” — тогда как вполне
достаточно сказать: “Истинная правда”. После замужества, когда
“моя великая душа оказалась наконец заперта внутри женской
судьбы”, ее роль, по ее словам, свелась к тому, чтобы писать стихи,
достойные мужниной прозы.
23
Разносторонний человек
Алджернон. Доктора установили, что жить он
больше не может, вот Бенбери и умер.
Леди Брэкнелл. По-видимому, он придавал слиш-
ком большое значение диагнозу своих врачей.
Уильям Роберт Уайльд, женившийся на Джейн Элджи 14 ноября
1851 г., был достоин ее благосклонности. Она засвидетельство-
вала этот факт в 1849 г. чрезвычайно хвалебной рецензией в газете
“Нэйшн” на его книгу “Красоты Бойна и Блэкуотера”, что могло
послужить поводом для их знакомства. Его семья, как и ее, опре-
деленно принадлежала к среднему классу. Его прадед был дублин-
ским торговцем, его дед Ральф Уайльд фермерствовал в Каслрее
в Северной Ирландии; Томас, сын Ральфа и врач по профессии,
женился на Амалии Флинн (родилась около 1776). Двое из их троих
сыновей стали священниками Ирландской протестантской церкви,
и лишь третий, Уильям Роберт Уайльд (родился в марте 1815), пошел
по стопам отца.
У Уильяма Уайльда были свои недоброжелатели, но никто
в Ирландии, а может быть, и во всей Британии не знал так много,
как он, об ухе и глазе. Больница Св. Марка в Дублине, которую он
основал в 1844 г., была первой ирландской больницей, лечившей
заболевания этих органов. Его книги “Ушная хирургия” (1853)
и “Эпидемическая офтальмия” (1851) стали первыми учебниками
в соответствующих областях и широко использовались долгие годы.
Даже теперь хирурги пользуются терминами “уайльдовский надрез
сосцевидного отростка”, “световой конус Уайльда” и “уайльдовские
связки”. Он показал себя с наилучшей стороны, собирая медицин-
ские сведения для книг об Австрии и о Средиземноморском побе-
режье. В 1851 г. во время переписи населения Ирландии Уайльд
был назначен членом комитета по переписи, ответственным за сбор
медицинской информации. Впервые в Ирландии он собрал стати-
стические сведения о слепоте, глухоте и различных заболеваниях
глаза и уха. В 1863 г. он был назначен Королевским глазным хирур-
гом в Ирландии, а в следующем году удостоен рыцарского титула.
При всей его загруженности медицинской работой у него
были и иные интересы. Обладая бойким пером, он писал на мно-
гие темы. Как-то раз к нему в руки попал череп Свифта, и он напе-
чатал короткую, но значимую книгу, где доказывал, что великий
сатирик в последние годы жизни страдал не душевной, а телесной
болезнью. Занимаясь глазами и ушами больных, свои собствен-
ные глаза Уильям Уайльд обращал к археологическим богатствам
Ирландии, а уши к ее фольклору. Он первым нашел и опознал
24
озерное поселение, он великолепно и очень быстро каталогизиро-
вал огромную коллекцию древностей, хранящуюся ныне в Нацио-
нальном музее Ирландии. От пациентов-крестьян, зачастую вза-
мен платы за лечение, он узнавал поверья, легенды, заговоры
и заклинания, которые без него могли быть утрачены. Ассистент
записывал все это с голоса, и после смерти Уильяма Уайльда его
вдова отредактировала и издала два тома фольклора, оказавшие
большое влияние на Йейтса. Каталог древностей используется
до сих пор, а маленькая книжица Уильяма Уайльда "Ирландские
народные поверья” (1852), посвященная Сперанце, и теперь пред-
ставляет собой увлекательное и забавное чтение.
Как и его жена, Уильям Уайльд был националист. Обескуражен-
ные неудачей восстания 1848 г., они оба отмежевались от респу-
бликанского фенианства конца 1860-х (Сперанца решительно
отвергала идею демократии). Национализм Уильяма Уайльда
выразился в любви к сельской местности, к ее прошлому и насто-
ящему. Одна из его книг посвящена озерам Лох-Корриб и Лох-
Маск на западе (1867), другая — рекам Бойн и Блэкуотер на вос-
токе Ирландии (1849). Он не только прекрасно знал эти места,
но и мог воссоздать их историю. К примеру, легендарная битва
при Мойтуре близ Конга, в которой божественное племя Туэхе
Дей Данен победило злобных фоморцев, настолько занимала его
воображение, что он утверждал, будто нашел могилу одного из ее
героев, и в 1864 г. он построил на предполагаемом месте сражения
"Дом-в-Мойтуре”. В 1857 г., когда Британская ассоциация1 орга-
низовала поездку на острова Аран, Уильям Уайльд был официаль-
ным гидом и произвел столь сильное впечатление на губернатора
Упсалы, входившего в число высокопоставленных визитеров, что
он пригласил супругов Уайльд в Швецию. В 1862 г. он наградил
Уайльда орденом Полярной звезды1 2.
Успех дает пищу недоброжелательству. Йейтс отвергает как
выдумку, но все же не удерживается от того, чтобы передать “жут-
1 Британская ассоциация, основанная в 1831 г., — организация ученых,
имеющая целью распространение научных знаний. (Примеч. перев.)
2 Впоследствии ходили слухи, что во время своего пребывания
в Швеции Уайльд оперировал глаз будущему королю Оскару и, пока
принц был временно слеп, соблазнил его жену. Эта сплетня в духе
Боккаччо была распространена столь широко, что принц Густав
во время визита в Дублин шутливо называл себя единокровным
братом Оскара Уайльда. Уайльды действительно встречались в Упсале
с королевской семьей, но королевские архивы не подтверждают
домыслов о том, что Уайльд оперировал принца, и о том, что принц
согласился быть крестным отцом Оскара Уайльда. (Здесь и далее,
за исключением особо оговоренных случаев и относящихся к переводу
сносок, — примечания автора.)
25
кую байку” о том, как сэр Уильям однажды вынул глаза у чело-
века, пришедшего проконсультироваться по офтальмологической
части; он якобы положил их на блюдце, чтобы после осмотра вер-
нуть на место, но глаза съела кошка. “Кошки любят глазки”, — ска-
зал друг Йейтса. Что более существенно, злые языки в Дублине
утверждали, что сэр Уильям грязнуля. Йейтс вспоминает загадку:
“Почему у сэра Уильяма Уайльда такие грязные ногти?” Отгадка:
“Потому что он почесался”. Но Бернард Шоу доказывал, что это
ошибка, имевшая причиной тот факт, что у сэра Уильяма была
пористая кожа, которая лишь выглядела нечистой; отец Йейтса,
обладавший наметанным глазом художника-портретиста, писал,
что Уайльд “был опрятным человеком и хорошо одевался”, хотя
квадратная борода, росшая у него более на подбородке, нежели
под ним, имела неухоженный вид. Уильям Уайльд знал, что
в больницах существует опасность инфекции, и еще до открытий
Листера убеждал врачей мыть руки раствором хлорной извести.
Впрочем, однажды у себя дома во вре.мя званого обеда он попро-
бовал суп, окунув в супницу большой палец и облизав его. Когда
он спросил леди Спенсер, супругу лорда-наместника, почему она
не притронулась к супу, та ответила: “Из-за вашего пальца”.
Сэр Уильям был невысокий мужчина, а вот рост леди Уайльд
составлял почти шесть футов, вследствие чего их карикатурно
изображали как великаншу и карлика. В поздние годы Сперанца
сделалась столь тучной в области поясницы, что Бернард Шоу
предположил у нее патологический гигантизм, который он без
всяких медицинских оснований объявил наследственной при-
чиной гомосексуализма Оскара Уайльда. Р. Й. Тиррел, профессор
Античности в дублинском Тринити-колледже, столь же безапелля-
ционно объявил Уильяма Уайльда обезьяноподобным существом.
Дж. Б. Йейтс, однако, писал сыну Уильяму Батлеру Йейтсу: “При
худощавой фигуре он был прекрасно сложен. Он ходил, выста-
вив локти... очень быстро. У него были острые пытливые глаза...
выглядел очень эксцентричным... жилистый непоседа, полная
противоположность своей тяжеловесной жене с ее размеренной
речью”. Сэра Уильяма считали тщеславным человеком, и ему, бе-
зусловно, приятно было носить шведский орден и мундир, кото-
рый вручался с ним заодно; члены Ирландской академии обязаны
были, обращаясь к нему, называть его “кавалер”. Как и его сын,
он привык доминировать в застольном разговоре1; “Лучший собе-
1 Однажды на званом ужине у себя дома сэр Уильям долго распростра-
нялся на тему о ловле лососей. Дед Йейтса, сельский пастор, послу-
шал-послушал и пробормотал: “Он ничегошеньки в этом не смы-
слит”. Впрочем, Оскар Уайльд любил рассказывать, как однажды
26
седник во всей метрополии" — так отрекомендовала его супруга,
когда они поженились. Дублинцы любили рассказывать, как одна-
жды другой говорун перехватил у сэра Уильяма инициативу и тот
в ответ положил голову на стол и громко захрапел.
Он никогда не испытывал недостатка в друзьях; среди них
были такие разные люди, как Мария Эджуорт, с которой он позна-
комился в Лондоне, жизнерадостный Чарлз Ливер, с которым они
вместе изучали медицину, и более строгий сэр Сэмюэль Фер-
гюсон, который напишет элегию на его смерть. В своем доме № 1
по Мэррион-сквер, одном из лучших и просторнейших во всем
Дублине, Уайльды вначале устраивали званые обеды для дюжины
гостей, но затем, по субботним вечерам, стали принимать по сотне
гостей и больше. К ним толпами съезжались писатели, универси-
тетские профессора, правительственные чиновники, гастролиру-
ющие актеры и музыканты. Поощряемые леди Уайльд музыканты
музицировали, актеры и актрисы играли сцены из пьес, поэты
читали стихи.
Энергия, с которой сэр Уильям действовал во внешнем мире,
в домашнем уединении порой выдыхалась. Между вспышками
активности он часто впадал в уныние. Его жена рассказывала, что
однажды на ее вопрос “Что может сделать тебя счастливым?” он
дал короткий ответ: “Смерть”. Будучи неравнодушным к поче-
стям, он мог выказать и скромность. Свою книгу о реке Бойн
он начинает словами о том, что он, строго говоря, не археолог,
что у него много другой работы и что он склоняется перед авто-
ритетом Петри и других специалистов (сэр Уильям плохо знал
ирландский язык).
Об одной стороне жизни сэра Уильяма Уайльда знали только
близкие ему люди. До брака он стал отцом троих незаконноро-
жденных детей. В 1838 г., когда ему было двадцать три года, в Дуб-
лине родился его первый сын Генри, которому дали фамилию
Уилсон (своим написанием, возможно, хитро намекавшую на то,
что он “сын Уайльда”); поскольку до этого Уайльд более девяти
месяцев находился вне Ирландии, ребенок, несомненно, был зачат
за границей. Сэр Уайльд оказывал сыну внимание, дал ему образо-
вание и взял его практикантом к себе в операционную. Личность
матери (если это была одна женщина) двух других его детей —
Эмили, родившейся в 1847 г., и Мэри, родившейся в 1849 г., — также
неизвестна. Его преподобие Ральф Уайльд, старший брат сэра Уиль-
утром отец Йейтса, получивший юридическое образование, сошел
вниз к завтраку и заявил: “Дети мои, я устал от юриспруденции
и теперь буду художником”. “Он умел рисовать?” — спросили Уай-
льда. “Ничуть, и в этом вся красота случившегося”.
27
яма, взял девочек себе в воспитанницы, так что они смогли носить
фамилию Уайльд.
В то время в Дублине еще не сошла на нет вольность нравов
эпохи Регентства. Исаак Батт, друг сэра Уильяма и предшествен-
ник Парнелла в роли лидера ирландской фракции в парламенте,
тоже имел незаконнорожденных детей, на что все смотрели сквозь
пальцы. Возможно, интерес Оскара Уайльда к найденышам, сиротам
и тайнам рождения связан с воспоминаниями о семье отца, которая
проводила лето в расширенном составе, включая незаконнорожден-
ных детей, в Гленмакнассе к югу от Дублина. Не случайно Дориан
Грей влюбляется в незаконнорожденную девушку, брат которой
винит их мать в моральном падении. Леди Уиндермир брошена ее
заблудшей матерью, а в “Как важно быть серьезным” обстоятельства
рождения Джека Уординга окутаны туманом. В “Женщине, не сто-
ящей внимания” мать молодого Арбетнота незамужняя женщина.
Вообще желание узнать, кто они такие на самом деле, движет боль-
шинством главных уайльдовских персонажей.
Генри Уилсон пережил отца, а вот Эмили и Мэри была уго-
тована страшная судьба. Когда они примеряли перед вечеринкой
пышные платья, одна из них подошла слишком близко к камину,
кринолин вспыхнул, и она получила страшные ожоги, как и ее
сестра, которая отчаянно пыталась спасти ее. На их могильном
камне написано, что они умерли в один день 10 ноября 1871 г.1.
Сэр Уильям сильно горевал, и его стоны были слышны за пре-
делами дома. Бесхитростный камень в саду “Дома-в-Мойтуре”,
на котором выбита латинская надпись “In Memoriam” (“В память”),
возможно, является данью скорби о смерти этих двух девушек,
равно как и Изолы, законной дочери Уайльдов, которая умерла
четырьмя годами раньше.
Леди Уайльд знала о прошлом мужа и не осуждала его. Джон
Батлер Йейтс много лет спустя в частном разговоре приписал ее
снисходительность тому факту, что она сама, будучи еще незамуж-
ней, была застигнута с Исааком Баттом его женой в “недвусмы-
сленных” обстоятельствах. Она, безусловно, восхищалась Баттом,
о котором однажды так отозвалась в печати: “Мирабо движения
“Молодая Ирландия” с его пышной массой черных волос, сверка-
ющими глазами и роскошным течением ритмической ораторской
речи”. Джейн Уайльд, впрочем, не нуждалась в подобном лич-
1 Однако газета “Норзерн стандард” 25 ноября 1871 г. скупо сообщила,
что Эмили Уайльд 24 лет скончалась 8-го числа, а Мэри 22 лет 21-го.
Семья была достаточно влиятельна, чтобы предотвратить появление
в других ирландских газетах даже столь кратких упоминаний
о событии, которое в ином случае вышло бы на первые страницы.
28
ном опыте, чтобы терпимо относиться к человеческим страстям.
Когда ей было уже за шестьдесят, она сказала одному молодому
человеку: “Когда вам, юноша, будет столько же, сколько сейчас
мне, вы поймете, что единственное, ради чего стоит жить, — это
грех”. Ей, однако, выпало на долю суровое испытание в связи
с одним эпизодом во время супружества. Мэри Траверс, долгое
время бывшая пациенткой ее мужа, принялась намекать на то, что
сэр Уильям усыпил ее хлороформом и изнасиловал. Она медлила
с этим обвинением два года, но, видимо, слава, которую сни-
скали Уайльды, рыцарский титул сэра Уильяма, присвоенный ему
28 января 1864 г., и шумные похвалы в адрес вышедшего в 1863 г.
перевода леди Уайльд “Первого искушения” М. Шваба побудили
ее действовать.
Мэри Траверс стала пациенткой Уильяма Уайльда еще в 1854 г.,
в возрасте восемнадцати лет. Она датировала свое “несчастье”
октябрем 1862 г., но продолжала лечиться у Уайльда и после этого.
В том же году она приняла от него деньги на путешествие в Австра-
лию, но на корабль не села. Ей трудно было надеяться выиграть
процесс. Обвинение в изнасиловании спустя столь долгое время
имело мало шансов на подтверждение в приговоре суда; поэтому
вместо судебного преследования Мэри Траверс принялась писать
в разные газеты письма, содержащие темные намеки, и сочинила
на Уайльдов оскорбительный памфлет, в котором вывела их как
“доктора и миссис Куилп” и который нагло подписала “Сперанца”.
Леди Уайльд была уязвлена настолько, что отправила протестую-
щее письмо отцу Мэри Траверс, позже ставшему профессором
медицинской юриспруденции в Тринити-колледже, где пожалова-
лась, что его дочь выдвигает “необоснованные” обвинения. Обна-
ружив это письмо, датированное 6 мая 1864 г., среди отцовских
бумаг, Мэри Траверс подала на леди Уайльд в суд за клевету.
Процесс шел пять дней с 12 по 17 декабря 1864 г. Всех инте-
ресовало, будет ли давать показания сэр Уильям, но, не будучи
ответчиком, он не обязан был этого делать. Его отсутствие на суде
давало, конечно, некий козырь Мэри Траверс. Адвокатом Мэри
Траверс был вездесущий Исаак Батт, не проявивший по отноше-
нию к леди Уайльд никакой галантности. Он спросил у нее, почему
она не придала значения обвинению в изнасиловании, предъяв-
ленному женщиной ее мужу. Ответ леди Уайльд был величест-
венным: “Меня все это мало заинтересовало. Я сочла обвинение
сфабрикованным”. Как ее младший сын, она опередила свое время
по части эмансипации. Присяжные нашли обвинение в клевете
справедливым, решив, что сэр Уильям не безвинен: некоторые
из его писем к Мэри Траверс, которые она предъявила суду, выка-
зывали заметное смятение. Однако суд не слишком высоко оце-
29
нил поруганную невинность мисс Траверс, присудив ей в качестве
компенсации сущую безделицу Сэру Уильяму, впрочем, пришлось
уплатить 2000 фунтов судебных издержек по делу жены — солид-
ная сумма, если учесть, что в том году у него шло строительство
четырех домов в Брее и одного в Мойтуре.
Говорили, что судебный процесс сломил сэра Уильяма Уайльда.
Но факты этого не подтверждают. Он был уже не столь богат, но,
по словам его верной жены, пациентов у него было больше, чем
когда-либо.
В Англии его поддержал медицинский журнал “Ланцет”, а когда
в Дублине в 1865 г. в его поддержку высказался “Сондерс ньюс лет-
терс”, Мэри Траверс затеяла против этого журнала процесс по делу
о клевете, но на сей раз проиграла1. Леди Уайльд не сочла нужным
спускать дело на тормозах. Она написала о процессе своим друзьям
в Швецию, уверяя их в том, что Мэри Траверс “безусловно, сума-
сшедшая”, и послала им журнальные вырезки, показывающие, как
за сэра Уильяма заступаются его коллеги. “Весь Дублин побывал у нас,
изъявляя нам сочувствие, — писала его жена, — и все здешние и лон-
донские медики прислали нам письма с выражением негодования
по поводу совершенно неправдоподобного (да, это так!) обвине-
ния”. Сэр Уильям выказал свое безразличие к процессу тем, что
вскоре после суда написал самую свою жизнерадостную книгу
“Озеро Лох-Корриб”, 1867 г. В апреле 1873 г. Королевская акаде-
мия Ирландии присудила ему свою высшую награду — золотую
медаль Каннингхема. Когда двое сыновей Уайльдов поступили
в дублинский Тринити-колледж (в 1869 и 1871), они не могли
не слышать балладу, которую там часто распевали:
Живет один доктор на Мэррион-сквер,
Он всем окулистам являет пример,
И так был наш доктор заботлив и мил,
Что юной мисс Траверс глаза он открыл.
Но никто из выросших в Дублине не принимал такие вещи
всерьез. Оскар Уайльд отмахнулся от дела Мэри Траверс, когда
в “De Profundis” написал: “Я унаследовал славное имя”1 2. Ему,
однако, следовало вспомнить об этом деле в 1895 г., перед тем как
начинать процесс против маркиза Куинсберри.
1 Мэри Джозефина Траверс умерла 18 марта 1919 г. в возрасте 83 лет
в Кингстон-колледже — приюте для престарелых в Митчелстоне,
графство Корк.
2 Здесь и далее “De Profundis” цитируется в переводе Р Райт-Ковалевой
и М. Ковалевой,
3°
Формирование Оскара Уайльда
Чудесный дворец — или, как его называли,
Joyeuse1, — хозяином которого стал юноша,
представлялся ему новым миром, словно нарочно
созданным для наслаждения.
Брак Уильяма и Джейн Уайльд был благополучным. Леди Уайльд
подарила мужу трех законнорожденных потомков в добавление
к его трем незаконнорожденным. Уильям Роберт Кингсбери Уиллс
Уайльд, их первенец, родился 26 сентября 1852 г., после чего она
написала:
Судьба ударит так ударит.
Гляди: Сперанца кашеварит.
Второй их сын Оскар Фингал О’Флаэрти Уиллс Уайльд родился
16 октября 1854 г., когда семья все еще жила в доме № 21 по Уэст-
ланд-роу, хотя он впоследствии неизменно утверждал, что они
тогда уже переехали в более солидный дом № 1 по Мэррион-сквер.
Изола Франческа Эмили Уайльд, родившаяся у них третьей, по-
явилась на свет 2 апреля 1857 г. К именам детей отношение в семье
было очень серьезным, в согласии с принципом, провозглашен-
ным лордом Генри Уоттоном в “Портрете Дориана Грея”: “Имя —
это всё”. Уилли, как всегда называли старшего сына, получил имя
отца с добавлением Кингсбери в знак уважения к семье матери,
и ему, как и Оскару, добавили еще имя Уиллс в честь семьи драма-
турга У. Г. Уиллса (кстати, сэр Уильям “с благодарностью” посвя-
тил свою первую книгу “Мадейра” двоим людям, одним из кото-
рых был некий Уильям Роберт Уиллс). С дочерью родители были
более предприимчивы: ее первое имя Изола ассоциировалось
с Изольдой, а второе Франческа продолжало итальянскую линию.
Однако больше всего изощренности было проявлено при наре-
чении среднего ребенка. 22 ноября 1854 г. Джейн Уайльд писала
кому-то в Шотландию:
Жанна д’Арк не была предназначена для замужества, поэтому
вот она я, душой и сердцем привязанная к домашнему очагу силою
крохотных ручонок моего маленького Уилли, и, словно этих сладких
ладошек недостаточно, глядите: я — я, Сперанца, в эту самую минуту
качаю колыбель, в которой лежит мой второй сын — младенец, кото-
рому 16-го числа исполнился месяц и который уже такой большой,
1 Радостный, счастливый (фр.).
31
славный, красивый и здоровый, словно ему целых три месяца. Мы
его назовем Оскар Фингал Уайльд. Не правда ли, в этом есть что-то
величественное, туманное и оссианическое?
Оскар (она называла его Оскар) и Фингал пришли из ирланд-
ских легенд, а О’Флаэрти было добавлено в знак почтения
к семействам графства Голуэй, с которыми Уильям Уайльд был
связан через свою бабушку О’Флинн. О’Флаэрти произошло
от O’Flaithbherartaigh — имени кельтских властителей Западного
Коннахта и было самым голуэйским из всех голуэйских име-
нований. Знаменитая молитва голуэйских горожан звучала так:
“Спаси нас, Господи, от бешеных1 О’Флаэрти!” При поступлении
в школу Оскар Уайльд ошибся в своем ужасном имени и написал
его “О’Флиэрти”. Его однокашник по Оксфорду вспоминал, что
он подписывался "О. О’Ф. Уиллс Уайльд” и был известен как Уиллс
Уайльд (разумеется, только до поры до времени); свои публикации
в литературном журнале Тринити-колледжа “Коттабос”1 2 он под-
писывал “О.Ф. О.Ф. У. У.”. Позже, когда некто предположил,
что он всегда был Оскаром Уайльдом, он возразил: “Это просто
смехотворно — предположить, что кому-то, и уж тем более моей
дорогой мамочке, могло прийти в голову окрестить меня “всего-
навсего Оскаром” [...] Я начинал как Оскар Фингал О’Флаэрти
Уиллс Уайльд. Из пяти имен все, кроме двух, уже выброшены
за борт. Скоро я избавлюсь еще от одного, и меня будут знать
просто как Уайльда или просто как Оскара”3 (ему, однако, при-
шлось не по душе, когда Уильям Арчер мимоходом назвал его
в печати Оскаром). Под конец жизни в тюрьме он получит про-
стейшее из своих прозваний С.3.3.
26 апреля 1855 г. в церкви Св. Марка Оскара Уайльда крестил
родной дядя — его преподобие Ральф Уайльд, приходский свя-
щенник из Килсаллагана. Мать Оскара просила сэра Уильяма Гамиль-
тона стать крестным отцом “юного язычника” (так она назвала сына),
но Гамильтон отказался. В письме от 17 июня 1855 г. Джейн Уайльд
описывает своего второго сына как “крупное, дородное существо,
у которого в жизни одна забота — толстеть”. Уилли, которому тогда
было почти три, она характеризует так: “Легкий, высокий и утон-
ченный, с большими красивыми глазами, исполненными выраже-
1 Английское слово wild (дикий, бешеный) звучит так же, как фамилия
Wilde (Уайльд).
2 От названия популярной в Древней Греции игры.
3 Когда один англичанин сказал, что в XIX веке люди, чьи фамилии
начинаются с “Мак”, сделали всё, а те, у кого они начинаются с “О”,
ничего, Уайльд не согласился: “Вы кое о ком забыли. Есть О’Коннелл
и О. Уайльд”.
32
ния. Он оплел все фибры моего сердца, но что Вы думаете о сыне
миссис Браунинг, который в шесть лет сочиняет самые возвышен-
ные стихи? Бедное дитя; я умерла бы от ужасных предчувствий,
если бы таков был мой Уилли”. Роберт Росс утверждал, что леди
Уайльд, вынашивая второго сына, мечтала о девочке. Лютер Манди,
лондонский друг семьи, вспоминал слова леди Уайльд о том, что
в первые десять лет жизни Оскара она обращалась с ним скорее
как с девочкой, нежели как с сыном, в отношении одежды, образа
жизни и среды общения. Действительно, на фотографии в возра-
сте примерно четырех лет Оскар одет в платьице.
Как ни заманчиво усмотреть причину гомосексуальности
Уайльда в подавлении матерью в нем мужского начала, у нас есть
основания для скепсиса. Джейн Уайльд была склонна к сильным
преувеличениям, не выдерживающим критического взгляда. При
королеве Виктории и даже при ее сыне Эдварде было принято
одевать в платьица маленьких детей обоего пола. В письмах леди
Уайльд нет признаков отношения к Оскару как к девочке. Когда
ему пошел третий год, она родила девочку; имея ее в реальности,
она не нуждалась в том, чтобы пестовать видимость. Хотя Томас
Фланаган назвал ее “глупейшей из женщин, что когда-либо жили
на свете”, она не была лишена здравого смысла, и ее обращение
с детьми представляется более нормальным, чем она желала пока-
зать. Рождение Изолы было огромной радостью для всей семьи.
В письме от 17 февраля 1858 г. Джейн Уайльд пишет: “Мы все здесь
в добром здравии — Уилли и Оскар растут и умнеют, а Крошке —
надеюсь, Вы не забыли про нашу маленькую Изолу? — уже
10 месяцев, и она любимица всего дома. У нее прекрасные глаза,
и она обещает стать настоящей умницей. Двух этих качеств вполне
достаточно любой женщине”.
В июле 1857 г., вскоре после рождения Изолы, шведская писа-
тельница Лоттен фон Кремер, тогда очень молодая женщина,
сопровождала отца, губернатора Упсалы барона Роберта фон Кре-
мера, в поездке по Ирландии, организованной Британской ассо-
циацией, и посетила вместе с ним Уайльдов. Их приветствовал
дворецкий дома № 1 по Мэррион-сквер, а когда они спросили его,
нельзя ли видеть миссис Уайльд, вышколенный старый слуга отве-
тил намеком: “В ее комнате еще не отдернуты шторы” — хотя было
уже час пополудни. В конце концов хозяйка появилась вся в вола-
нах и оборочках, очень сердечная, очень поэтическая, а когда они
уселись за то, что для нее было завтраком, домой вернулся Уильям
Уайльд. “В его благородной фигуре видна некоторая сутулость, —
писала Лоттен фон Кремер, — вызванная не столько возрастом,
сколько неустанной работой... движениям его присуща быстрота,
указывающая на то, что он чрезвычайно дорожит своим време-
2 - S556
33
нем... На руках у него маленький мальчик, другого он держит
за руку. Он смотрит на них с удовольствием. Вскоре их отсылают
играть, и его внимание теперь целиком принадлежит нам”.
Маленького Оскара Уайльда мы видим лишь короткими
вспышками. Однажды он убежал и спрятался в пещере; в другой
раз, играя в лошадок с Эдвардом Салливаном и Уилли, сломал
руку. В 1853 г. сэр Уильям купил охотничий домик под названием
Иллонроу на "маленьком фиолетовом острове”, как потом выра-
зится его сын. Остров, расположенный посреди озера Лох-Фи
на западе Ирландии, был соединен с берегом дамбой. Там Уилли
и Оскар научились ловить рыбу. Как Уайльд много лет спустя рас-
сказывал Роберту Россу, "озеро было полно больших меланхоли-
ческих лососей, которые лежали на дне и не обращали внимания
на нашу наживку”.
Переехав в июне 1855 г. из дома № 21 по Уэстланд-роу в дом
№ 1 по Мэррион-сквер, Уайльды наняли немку-гувернантку,
француженку-бонну и еще шестерых слуг для ведения обшир-
ного хозяйства. В раннем возрасте детей учили дома, в частности
французскому и немецкому языкам. Согласно многозначитель-
ному рассказу, услышанному от Уайльда Реджи Тернером, Оскар
и Уилли однажды принимали вечернюю ванну перед камином
в детской на Мэррион-сквер; их маленькие маечки повесили,
чтобы согреть, на высокую каминную решетку. Няня ненадолго
отлучилась из комнаты, и тут мальчики заметили на одной из маек
коричневое пятнышко, которое стало расти и вдруг вспыхнуло
пламенем. Оскар захлопал в ладоши от восторга, а Уилли стал кри-
чать и звать няню, которая, подоспев, смахнула горящую майку
в камин. Оскар, которому испортили зрелище, зарыдал от обиды.
"Вот, — сказал Уайльд, — в чем разница между Уилли и мной”.
Лето семья Уайльд часто проводила в красивой местности
к югу от Дублина; они жили в Дангарване (графство Уотерфорд),
и Оскар тогда играл на морском берегу с мальчиком по имени
Эдвард Карсон, которому суждено было допрашивать Уайльда
на его процессе и, кроме того, стать архитектором раздела Ирлан-
дии. (Майкл Маклиаммойр прокомментировал это так: "Да, этим
все объясняется. Оскар, вероятно, разрушил построенный Эдвар-
дом песочный замок”.) Примерно год или два спустя Уайльды
были в долине Гленкри в горах Уиклоу. Они сняли сельский дом,
вероятно, "Лох-Брей-коттедж”, расположенный в нижней точке
долины, меньше чем в миле от недавно учрежденного местного
исправительного заведения для малолетних. Тамошний католиче-
ский капеллан, его преподобие Л. С. Придо-Фокс (1820 —1905),
нанес им визит. Уильям Уайльд высказался о подобных заведениях
крайне неодобрительно, но его жене беседа с капелланом доста-
34
вила удовольствие, и она даже попросила у него разрешения при-
вести детей в тюремную церковь. Отец Фокс сказал, что в цер-
кви есть балкончик, с которого можно видеть алтарь, находясь
отдельно от арестантов. Джейн Уайльд отправилась туда с детьми.
Она временами выказывала склонность к переходу в католичество;
сэр Уильям Гамильтон в письме к ней однажды выразил надежду,
что поэт-католик Обри Де Вир не преуспеет “в Вашем обращении
или, лучше сказать, извращении”. Теперь ей вздумалось привести
детей в лоно католической церкви, причем ее не останавливало то,
что оба мальчика уже были крещены по протестантскому обряду.
Отец Фокс, сам перекрестившийся в католики из протестан-
тов, писал: “Вскоре она попросила меня дать наставление двоим
ее сыновьям, одним из которых был Оскар Уайльд — будущий
заблудший гений. Несколько недель спустя я в присутствии самой
леди Уайльд совершил над обоими мальчиками обряд крещения”.
Оскару, видимо, было тогда четыре или пять лет. По просьбе леди
Уайльд отец Фокс отважно явился к ее мужу и сообщил о том, что
сделал. Врачу, который был убежденным протестантом и посвятил
одну из своих книг настоятелю собора Св. Патрика, это не могло
понравиться, но он проявил уступчивость: “Мне дела нет до того,
кем будут мои мальчики, лишь бы они выросли такими же хоро-
шими, как их мама”. Вскоре отца Фокса перевели в другой приход,
и он никогда больше не встречался с семьей Уайльд.
Как многие крещения, совершенные в частном порядке, этот
обряд нигде не был зарегистрирован, и раннее обращение Уайльда
в католичество, как и позднее, подвергалось сомнению; но есть
причины верить словам отца Фокса. Другие сведения, сообщае-
мые им о людях, которые жили в Гленкри поблизости от испра-
вительного заведения, вполне точны1. Да и сам Уайльд говорил
друзьям, что смутно припоминает свое крещение по католиче-
скому обряду. Отражением этого эпизода, возможно, является
повторное крещение, замышляемое Алджерноном и Джеком
в “Как важно быть серьезным” и вызывающее возмущение леди
Брэкнелл: “В их возрасте? Это смехотворная и безбожная затея.
И слышать не хочу о таких авантюрах”. Однако когда взрослый
Оскар Уайльд стал пускать пробные шары в сторону Рима, он
не счел эту давнюю церемонию достойной упоминания. Усилия
отца Фокса пропали даром, но этот случай лишний раз показы-
вает, что леди Уайльд нередко доставляли удовольствие церемонии,
1 Другая причина, с замечательной скромностью выдвинутая членом
того же религиозного ордена, состоит в том, что отец Фокс до пере-
хода в католичество был квакером, а квакеры, в отличие от многих
католиков, “никогда не лгут”.
35
в которых она не имела намерения участвовать сама. Оскару очень
рано был привит вкус к идейному перевоплощению.
Ну а в земном плане детство Уайльда представляется вполне
безмятежным. Вполне возхможно, он имел в виду себя, когда писал
в своей сказке “Молодой Король”, что герой ее с ранней юности
“выказал знаки той странной страсти к прекрасному, которой
суждено было столь сильно повлиять на его жизнь. Те, что сопро-
вождали юношу в отведенные для него покои, не раз повествовали
о том, как с уст его сорвался крик радости, когда он увидал при-
готовленные для него изящные одежды и драгоценные камни”1.
Хотя позднее Уайльд теоретически рассуждал о том, что человек
не должен владеть собственностью, его радовали алые и лиловые
рубашки, а в школе ему непременно хотелось иметь красивые
крупноформатные издания классических текстов, тогда как дру-
гие ученики довольствовались стандартными книжками. Если
его однокашников большей частью интересовали игры и отметки,
то Уайльда занимали оттенки и фактура. И все же он не был
таким уж вундеркиндом. Круг его чтения составляли в основном
исторические романы, как, например, “Янтарная ведьма” В. Майн-
хольда и еще более любимая им “Колдунья Сидония” того же
автора, опубликованная в 1849 г. в переводе леди Уайльд. Сидония
была одной из тех одаренных, яростных женщин, что восхищали
прерафаэлитов; Берн-Джонс изобразил ее на картине, Уильям
Моррис много лет оставался столь очарован ею, что в 1893 г. через
Уайльда просил согласия леди Уайльд на переиздание издательст-
вом “Келмскотт-пресс” этой книги, которую он назвал “почти
безупречным воспроизведением прошлого в его живом действии”.
В отличие от многих заурядных колдуний, Сидония обладала
даром иронического слова. Отданная под суд за чародейство, она
пункт за пунктом посрамляет своих обвинителей в стиле, которым
вполне могли восхищаться леди Уайльд и ее чуткий к судебным
речам сын. Сидония “была бой-баба и дралась до последнего”,
пишет Моррис. В книге много внимания уделено двойному пор-
трету Сидонии; на переднем плане, исполненном в стиле Лукаса
Кранаха, золотоволосая, изысканно убранная женщина, а на за-
днем маячит хищная колдунья, одетая для казни и написанная
в манере Рубенса. Поиск источников уайльдовского “Портрета
Дориана Грея”, разумеется, не имеет конца, но вот вам еще одна
аналогия с “добрым” портретом Дориана работы Бэзила Холлу-
орда и “злым” его портретом, написанным его собственной душой.
Трое детей супругов Уайльд росли в атмосфере все большего
изобилия и успеха. Высшей их точкой стало получение в 1864 г.
1 Здесь и далее “Молодой Король 9 цитируется в переводе В. Орла.
Зб
Уильямом Уайльдом рыцарского титула, вызвавшее в семье друж-
ный восторг. В письмах матери Оскар, смакуя титул, стал называть
отца сэром Уильямом. С малых лет им с братом разрешалось сидеть
за общим обеденным столом, в дальнем его конце, и, как гово-
рил Оскар Уайльд, ребенком он слышал все серьезные разговоры
на темы дня. Им с Уилли говорить не разрешалось; необходимо-
стью в детстве держать язык за зубами сам Оскар объяснял то, что
он с таким успехом принялся трепать им в зрелости.
Мальчики подрастали, и родители начали подумывать о школе,
которая могла бы прийти на смену домашнему обучению. “Моему стар-
шему почти одиннадцать — он очень умен и очень горяч, — писала
леди Уайльд 22 апреля 1863 г. своей шведской подруге, — и, хотя меня он
слушается, гувернантка ему не указ. Я чувствую, что оставить малыша
на нее было бы рискованно. Но мы хотим в скором времени отпра-
вить обоих сыновей в пансион”. Оскар явно был более послушен,
чем старший брат. В мае 1863 г. Уилли для пробы отдали в школу
близ Дублина, при колледже Св. Колумбы, но в феврале 1864 г. их
с Оскаром отправили в Королевскую школу Портора; железно-
дорожная линия, удобно связывавшая Дублин с Эннискилленом,
начала действовать еще в 1859 г. (выдвигалась гипотеза о том, что
родители отослали детей из дома в связи с делом Мэри Траверс,
однако суд по ее иску начался только в декабре 1864 г.). Уилли тогда
было двенадцать, а Оскару почти десять, и он был младше, чем
большинство поступающих в школу Портора в то время.
В Порторе Уилли с головой окунулся в школьные дела и забавы
и, не имея вкуса к систематической учебе, но отличаясь зато наход-
чивостью, живостью и непредсказуемостью, скоро стал там попу-
лярной личностью. Правда, он был большой хвастун, что вызы-
вало насмешки товарищей. Из предметов у него лучше всего шло
рисование, которому до школы учил его отец. Вначале учителя
решили, что из двоих он более одарен, и Уайльд потом со смехом
вспоминал, что его преподобие Уильям Стил, директор школы,
советовал ему равняться на Уилли. Леди Уайльд отдавала предпоч-
тение Уилли как первенцу. “Уилли мое королевство”, — писала она
22 ноября 1854 г. и затем провозглашала: “Я, может быть, воспитаю
из него Героя и президента будущей Ирландской республики. Chi
sa?1 Судьба моя еше не исполнилась”. Четыре года спустя, 20 дека-
бря 1858 г., она сообщала Лоттен фон Кремер: “Уилли милое дитя.
Он прелесть и умница, но малютка Изола стремительно теснит его,
становясь любимицей дома”. Оскар обойден многозначительным
молчанием. В 1865 г. леди Уайльд бесстрастно замечает в письме:
“Мои два мальчика отправились в частную школу”. В 1869 г. она
1 Кто знает? (ит.)
37
пишет: “Мои сыновья приезжали домой на каникулы — славные
ребята, умницы, старший выглядит совсем взрослым”. Уилли тогда
уже учился в выпускном классе, и младший брат явно обскакал его:
в классических языках Оскар, к примеру, был четвертым, а Уилли
тринадцатым. Возможно, именно тогда леди Уайльд сказала Джор-
джу Генри Муру (отцу писателя Джорджа Мура): “Уилли так-сяк,
а вот Оскар — из него непременно выйдет нечто замечательное”.
Старший брат покровительствовал младшему, а младший стар-
шему. Оскар был крупный мальчик, медлительный и мечтатель-
ный. Уилли неплохо играл на пианино, Оскар же не проявил музы-
кальных способностей. Но его остроумие уже давало себя знать:
благодаря его озорному глазу почти все ученики школы получили
от него прозвища, впрочем незлые1. Сам он получил прозвище
“Серая ворона”, которое досаждало ему; возможно, оно стало
предвестником фамилии Дориана в его романе1 2. Уилли прозвали
“Голубая кровь”, поскольку он, когда ему указали на его немытую
шею, стал говорить, что этот цвет не от грязи, а от “аристократи-
ческой голубой крови” Уайльдов.
В юные годы самым замечательным талантом Оскара был
талант быстрого чтения. “Школьником, — рассказывал он в 1889 г.
Юджину Филду, — я прослыл среди товарищей вундеркиндом,
потому что частенько на пари за полчаса пролистывал трехтомный
роман и мог затем внятно изложить его сюжет; после часа чтения
я способен был неплохо пересказать отдельные сцены и наиболее
существенные диалоги”. Он говорил романисту У. Б. Максвеллу,
что может одновременно читать обе страницы книжного разво-
рота, и продемонстрировал ему умение разобраться в хитроспле-
тениях романа за три минуты. Быстро переворачивая страницы,
Уайльд мог в то же время говорить на другие темы. В школе самые
серьезные из учеников считали его скорее верхоглядом. Он дей-
ствительно ничего не зубрил перед экзаменами и обязательную
литературу читал скорее ради удовольствия, как и многое сверх
заданного, пренебрегая тем, что находил скучным. Тем не менее
в 1866 г. он окончил начальную школу с отличием, что освобо-
ждало его от годовых экзаменов, а в 1869 г. получил том “Сопо-
ставления религий” Батлера в качестве третьей премии по Священ-
ному Писанию. Он выделялся среди прочих учеников восторгом
перед литературными качествами греческих и латинских текстов,
а также нежеланием разбираться в текстуальных тонкостях. Только
в 1869 — 1871 гг., в последние два года его пребывания в Порторе,
1 Впоследствии он окрестит Клэр де Пратц “La bonne deesse” —
“Доброй богиней”, а миссис Поттер — “Лунным лучом”.
2 По-английски grey (серый) звучит так же, как Gray (Грей).
38
когда он начал делать искусные и благозвучные устные переводы
из Фукидида, Платона и Вергилия, однокашники признали его
талант. Из классических произведений сильней всего поразил его
воображение эсхиловский “Агамемнон”, которого он, по-види-
мому, изучал с помощью педагога Дж. Ф. Дэвиса, опубликовав-
шего в 1868 г. хорошее комментированное издание этой трагедии.
Во время устного экзамена по ней Уайльд оставил далеко позади
всех прочих, включая Луиса Клода Персера, в будущем видного
профессора латыни в Тринити-колледже. “Агамемнон” так потряс
Уайльда, что он постоянно твердил строки оттуда.
Персер, с которым Уайльд учился в одном классе, записал
по просьбе Роберта Шерарда и А. Дж. А. Саймонса свои воспоми-
нания об Уайльде в Порторе. Они отличаются от отзывов других
одноклассников — возможно, потому, что к 1868 г., когда Пер-
сер поступил в школу, Уайльд переменился. Доктор Стил и двое
соучеников Уайльда утверждают, что он был грязен и неряшлив,
но Персер настаивает на том, что “в одежде он был аккуратней
всех”. Может быть, грязь таилась у него под алыми и лиловыми
рубашками. Как пишет Роберт Шерард, Уайльд единственный
из мальчиков и в будни носил цилиндр, хотя это не мог быть, как
утверждает Шерард, черный итонский цилиндр — таких в Порторе
никогда не носили. Нежелание Уайльда участвовать в общих играх
поначалу вызывало неодобрение. “Изредка его можно было видеть
в одной из школьных лодок на озере Лох-Эрн, — вспоминает еще
один его одноклассник, — но веслами он владел плохо”. Однажды,
все-таки приняв участие в игре — “рыцарском турнире”, когда млад-
шие мальчики, сидя на плечах у ребят покрупнее, пытались выбить
друг друга “из седла”, — он упал наземь и во второй раз сломал руку.
Учеником этой же школы был Эдвард (позднее сэр Эдвард)
Салливан, который впоследствии опубликовал издание “Келсской
Книги”1. Салливан вспоминает, что осенью 1868 г., когда они
познакомились, у Уайльда были прямые длинные русые волосы
и что у него при высоком росте было детское выражение лица,
сохранявшееся еще несколько лет. Вне классной комнаты Оскар
был очень оживлен и разговорчив. Он славился своим умением
юмористически переиначить школьные события. Однажды
он, Салливан и еще двое мальчиков гуляли по Эннискиллену
и набрели на уличного оратора; один из мальчиков, которому
надоело пустословие, сшиб с говоруна палкой шляпу, после чего
все они наутек пустились к школе, преследуемые разгневанными
слушателями. На бегу Уайльд столкнулся с пожилым калекой
1 “Келсская Книга” — ирландский рукописный памятник VIII—IX вв.
(Примеч. перев.)
39
и сбил его с ног. К тому времени, как он добрался до Порторы,
этот прискорбный инцидент преобразился в фальстафовском
духе: путь ему преградил злой великан, ему пришлось биться с ним
не на жизнь, а на смерть, и наконец, проявив чудеса храбрости, он
нанес чудищу сокрушительный удар. В эссе “Упадок лжи” Уайльд
назовет истинным создателем искусства светского общения того
выдумщика, “который, и не думая отправляться на охоту со всеми
ее грубыми неизбежностями, под вечер рассказывал пораженным
пещерным жителям, как он... сошелся один на один с мамонтом
и прикончил его”1. “В нем было сильно развито романтическое
воображение, говорит Салливан, но по его манере рассказывать
подобные истории видно было, что он ощущает невозможность
заставить слушателей принять его слова на веру”.
Как и его мать, Уайльд умерял высокопарность своих речей
улыбкой. Позже он описал Чарлзу Риккетсу и другим слушателям
рассказчика своего склада:
Некто был очень любим жителями своей родной деревни, ибо,
когда на закате солнца они собирались вокруг него и пускались
в расспросы, он сообщал им о многих диковинках, которые видел.
Он говорил им: “На берегу морском мне явились три русалки, они
расчесывали свои зеленые волосы золотым гребнем”. Его просили
рассказывать дальше, и он продолжал: “У скалы с расселиной я высле-
дил кентавра; когда наши глаза встретились, он медленно повернулся
и пошел восвояси, печально глядя на меня через плечо”. Слушатели
не отступались: “Что еще ты видел? Расскажи нам”. И он рассказы-
вал: “В рощице молодой фавн играл на флейте лесным жителям, а они
танцевали под эту музыку”.
Однажды он по обычаю своему пошел из деревни, и вдруг три
русалки поднялись из морских волн и принялись расчесывать свои
зеленые волосы золотым гребнем, а когда они скрылись, показался
кентавр, глядевший на него из-за скалы с расселиной, а потом, про-
ходя мимо рощицы, он увидел фавна, играющего на дудочке лесным
жителям.
Вечером, когда все люди деревни собрались вокруг него на закате
и стали спрашивать: “Что ты видел сегодня?” — он печально ответил:
“Сегодня я ничего не видел”.
Царство воображения и царство наблюдения враждуют между
собой. Как Уайльд сказал позже, “невозможное в искусстве все
то, что случилось в реальной жизни”. Зимой в Порторе маль-
чики собирались у печи в “Каменном зале” школы, и часто Оскар
1 Здесь и далее “Упадок лжи” цитируется в переводе А. Зверева.
40
и Уилли становились там главными рассказчиками, причем
Уилли — пока он не покинул Портору, поступив в 1869 г. в Три-
нити-колледж, — предпочитали младшему брату. Иногда Оскар
предлагал другой аттракцион: заламывая свои гуттаперчевые
конечности, он принимал диковинные позы святых на старинных
витражах. Впоследствии он предпочитал более комфортабельные
позы и роли.
Согласно воспоминаниям Салливана, в 1870 г. на одном
из сборищ в “Каменном зале” мальчики обсуждали некое церков-
ное расследование, о котором много говорили тогда в Англии.
По всей вероятности, это было дело его преподобия У. Дж. Бен-
нетта, приходского священника англиканской церкви из Фром-
Селвуда, обвиненного в ереси из-за книги, в которой он утвер-
ждал, что Христос физически присутствует в Святом Причастии.
Из-за апелляций это дело трижды слушалось в “Суде Арок” (епар-
хиальном апелляционном суде архиепископа Кентерберийского) —
30 апреля и 18 ноября 1869 г., 20 июля 1870 г. В итоге Беннетта
признали виновным. Уайльд был заворожен как самим процессом,
так и таинственным названием суда, которым тот был обязан аркам
на колокольне здания, где он заседал первоначально. Он заявил
своим товарищам, что больше всего на свете ему хотелось бы стать
главным действующим лицом такого процесса, “остаться в памяти
потомства ответчиком в деле “Королева против Уайльда”. Подлин-
ный сын своей матери, он был твердо намерен “произвести сенса-
цию”, причем любой ценой.
Пока дети занимались своими штудиями, сэр Уильям и леди
Уайльд занимались своими. В 1864 г. сэр Уильям опубликовал этно-
графическую лекцию “Ирландия в прошлом и настоящем”, а в 1867 г.
книгу “Озеро Лох-Корриб”, которую он переиздал с изменениями
в 1872 г. За первым сборником стихотворений леди Уайльд, вышед-
шим в 1864 г. (“Стихотворения”), последовал еще один (“Стихотво-
рения: Цикл второй: Переводы”), опубликованный в 1867 г., и обе
книжки вышли вторым изданием в 1871 г. Однако в феврале 1867 г.
у девятилетней Изолы, которая одна из детей оставалась дома, слу-
чилась лихорадка. Не дождавшись полного выздоровления, ее ради
свежего воздуха отправили к дяде, его преподобию Уильяму Ноублу,
в Мастрим (Эджуорттаун). “Там у нее произошел рецидив и внезап-
ное мозговое кровоизлияние, — написала леди Уайльд в Швецию
Лоттен фон Кремер. — Вызванные по телеграфу, мы явились перед
самой ее смертью [23 февраля]. Такую беду трудно пережить. Мое сер-
дце разбито. Однако я чувствую, что должна жить ради моих сыновей,
и благодарю Господа, что они такие чудные мальчики, каких я только
могу себе пожелать”. Сэр Уильям приписал: “Я буду скорбеть до конца
моих дней”. Три года спустя леди Уайльд заявила своей шведской по-
41
друге, что после смерти Изолы она не посетила ни одного зва-
ного ужина, вечера, спектакля или концерта, “и так будет всю мою
жизнь”. Оскар горевал столь же сильно; врач, который пытался
спасти Изолу, назвал его “любящим, нежным, застенчивым и меч-
тательным мальчиком”, более глубоким, чем его брат Уилли. Он
регулярно посещал потом могилу сестры и написал об Изоле
стихотворение “Requiescat”1; меланхолия, которая, как он часто
утверждал впоследствии, крылась под его внешне беспечным пове-
дением, была, возможно, впервые разбужена в нем этой безвре-
менной смертью.
Ступай легко: ведь обитает
Она под снегом там.
Шепчи нежней: она внимает
Лесным цветам.
Заржавела коса златая,
Потускла, ах!
Она — прекрасная, младая —
Теперь лишь прах.
Белее лилии блистала,
Росла, любя,
И женщиной едва сознала
Сама себя.
Доска тяжелая и камень
Легли на грудь.
Мне мучит сердце жгучий пламень,
Ей — отдохнуть.
Мир, мир!
Не долетит до слуха
Живой сонет.
Зарытому с ней в землю глухо
Мне жизни нет1 2.
Уже в Порторе проявились дендизм Уайльда и его эллинизм,
как и определенная независимость в суждениях, которые часто
были у него парадоксальными. Вопрос, заданный им одному
из учителей: “Что это значит — быть реалистом?”, — предвосхи-
1 “Да покоится” (лат.).
2 Перевод М. Кузмина.
42
щает новые определения, которые он позже давал этому термину
(в ‘"Упадке лжи” он скажет: “Как метод реализм потерпел полную
неудачу”). Когда в 1870 г. умер Диккенс, Уайльд неодобрительно
отозвался о романах покойного писателя, которому он, по его сло-
вам, предпочитал Дизраэли — человека, способного одной рукой
писать роман, а другой управлять империей. Уайльду должен был
понравиться его роман “Конингсби”, среди персонажей которого
есть старая еврейка Сидония (тезка колдуньи), женщина таинст-
венного чужеземного происхождения, пользующаяся необычной
властью над другими и питающая пристрастие к формированию
судеб и умов молодых людей. Роман до некоторой степени про-
должает линию “’Мсльмота-скитальца”, написанного двоюрод-
ным дедушкой Уайльда. Дизраэли был вдохновителем движения
“Молодая Англия”; Уайльд, возможно, уже подумывал о том, чтобы
самому возглавить некое движение — не политическое, а культур-
ное, со смутным неоэллинистическим оттенком.
В 1870 и 1871 гг. успехи Уайльда в Порторе были поистине три-
умфальными. Когда в 1870 г. он был удостоен Карпентеровской
премии за знание греческого оригинала Нового Завета, доктор
Стил вызвал его, провозгласив: “Оскар Фингал О’Флаэрти Уиллс
Уайльд”, чем изрядно позабавил других учеников, которые до той
поры ведать не ведали, что их товарищ так богат именами. Уайльд
отыгрался в следующем году, когда, согласно смутным сообще-
ниям, он надерзил Стилу. В 1871 г. он стал одним из троих уче-
ников, удостоенных Королевской школьной стипендии для учебы
в дублинском Тринити-колледже, и его имя, как было заведено,
написали золотыми буквами на черной доске почета Порторы.
В 1895 г., в год его позора, его имя было закрашено, и директор
школы соскреб инициалы О. У., которые Оскар вырезал у окна
классной комнаты. Ныне его имя вновь золотится, восстановлен-
ное в правах.
Эстет среди классицистов
Новый Индивидуализм — это новый Эллинизм.
Оскар Уайльд любил сюрпризы, но дублинский Тринити-колледж,
несмотря на свою высокую репутацию, не так уж много мог пред-
ложить ему по этой части. Оскар вырос совсем близко от его ворот
и знал в лицо его виднейших преподавателей, поскольку те часто
бывали на приетлах у его матери. Кроме того, его брат Уилли уже
43
был в колледже весьма заметной фигурой, лауреатом ряда премий,
включая золотую медаль по этике; в следующем, 1872 г. Уилли
уехал изучать право в лондонском Мидл-Темпле. Учась в Тринити,
он играл ведущую роль (что Оскар считал бы для себя зазорным)
в Философском обществе, к которому они оба принадлежали.
Многих студентов Тринити-колледжа Уайльд знал и раньше —
например, своего порторского соперника Луиса Клода Персера,
а также Эдварда Карсона, былого сотоварища по строительству
песочных замков. С Персером Уайльд не был близок, но, как он
с горькой иронией вспоминал впоследствии, с Карсоном они
часто разгуливали под руку или, на школьный манер, обхватив
друг друга за плечи. Карсон отрицал, что у них с Уайльдом была
такая дружба, и утверждал, что он уже тогда не одобрял уайль-
довское “легкомысленное отношение к жизни”. Представляется
вероятным, что поначалу они были дружны, но впоследствии
разошлись, может быть потому, что за годы учебы в Тринити
характер Уайльда сильно изменился. Он стал эстетом, а Карсон
политиком.
Куратором Уайльда в колледже был его преподобие
Дж. П. Махаффи, с 1869 г. профессор античной истории. Их
отношения были важны для них обоих. Уайльд и раньше встречал
Махаффи в доме на Мэррион-сквер, но, конечно, он не мог тогда
увидеть всех граней его личности. О ее многогранности Махаффи
заявлял первый. “С какой стороны ни посмотри, — говаривал
он, — я в Тринити-колледже самый лучший”. Ученик впоследст-
вии перещеголяет учителя, выйдя в похвальбе за местные рамки.
Уайльд и Махаффи были одного роста — шесть футов три дюйма,
но Махаффи отличался прирожденной властностью и уже в три-
дцать два года получил прозвище “Генерал”, тогда как Оскар Уайльд
в шестнадцать лет был деликатен, чуток и безобиден. Волосы
у Махаффи были не то рыжие, не то каштановые и переходили
во внушительного вида бакенбарды; у него был широкий лоб, твер-
дые очертания подбородка и рта. На карикатуре, сделанной в Три-
нити-колледже, у Уайльда тоже бакенбарды — вероятно, в подра-
жание куратору Если Уайльд в Тринити, как и в Порторе, избегал
спортивных игр, то Махаффи был капитаном команды крикетистов
Тринити и входил в сборную Ирландии на международных сорев-
нованиях по стрельбе в Уимблдоне. Благодаря педагогам, которых
нанимала мать, Уайльд бегло говорил по-французски и, видимо,
неплохо по-немецки; Махаффи, который провел юность в Европе,
свободно говорил по-немецки и очень хорошо знал французский,
итальянский и в придачу древнееврейский. Он также знал теоло-
гию, к которой Уайльд был равнодушен, и музыку, всегда оставав-
шуюся для его ученика закрытой книгой.
44
Помимо этого, Махаффи был тонким ценителем кларета
и сигар, старинного серебра и мебели, и то, что Уайльд начал кол-
лекционировать изысканные безделушки, вполне возможно, объ-
ясняется его желанием идти по стопам учителя. Самым, может
быть, впечатляющим из талантов Махаффи было его умение заво-
дить дружбу с великими мира сего, включая нескольких монархов.
Этим он считал себя обязанным царственному искусству беседы,
которым владел в полной мере1. Впоследствии Махаффи написал
книгу об этом искусстве, и в рецензии на нее его бывший уче-
ник откровенно выразил сожаление о том, что профессор пишет
не так хорошо, как говорит. Махаффи хвалился, что именно он
привил Уайльду умение вести разговор, которым он так гордился
сам; однако Уайльд уже в Порторе отменно показал себя с этой
стороны. Было между ними и одно важное различие. Уайльду с его
республиканскими идеалами не могли нравиться высокомерные
колкости в адрес либералов, наивных душ и невежд, которыми
славился Махаффи. По мнению Уайльда, Махаффи недоставало
обаяния и стиля.
Их политические взгляды сильно разнились: куратор был тори
и отвергал идею самоуправления Ирландии, ученик был против-
ником тори и националистом. Когда Джордж Рассел предложил
Махаффи подписать петицию в защиту русских крестьян, которых
секли кнутом, Махаффи ответил характерным для себя образом: “Да
бросьте, дружище, если царь их не будет сечь, они будут сечь себя
сами”. Впоследствии в пьесе “Вера”, выражая сочувствие тем, кого
секли кнутами, Уайльд, возможно, сознательно придал циничному
князю Павлу некоторые черты Махаффи. То, что Махаффи сноб,
признавали почти все, однако Оливер Гогарти — близкий друг
Махаффи, сам презрительно высказывавшийся о людях из низов,
“чьи спины тоскуют по плетке”, — встал на его защиту. Со сто-
роны Махаффи, как писал в его оправдание 1огарти, это была лишь
“законная надменность человека высокой культуры”. Однако сти-
шок про Махаффи, циркулировавший в колледже, демонстрировал
столь же законное неодобрение со стороны тех, кем он пренебрегал:
Махуфом именуют его сыны эфира,
Но попросту Махаффи для здешнего он мира.
Не одобряя Махаффи полностью, Уайльд все же испытывал
к нему благодарность. В письме, написанном, вероятно, в 1893 г.,
1 Однажды, отдыхая в профессорской, Махаффи сказал: “Меня только
раз в жизни побили тростью, и за что, вы думаете? За правду”. Ректор
колледжа заметил: “Это явно излечило вас, Махаффи”.
45
он назвал его “моим первым и лучшим педагогом”, “ученым, кото-
рый показал мне, как нужно любить греческую культуру”. Мать
Уайльда напомнила ему однажды, что Махаффи стал “первым бла-
городным побудителем твоего разума и отвратил тебя от занятий
заурядных людей и их удовольствий”. Отчасти это было связано
с абсолютным предпочтением, которое Махаффи отдавал Греции.
“Прикосновение Рима, писал он, заставило онеметь Грецию и Еги-
пет, Сирию и Малую Азию”. Уайльд позднее писал о религии рим-
лян: “Не обладая творческим воображением и мощью греков, они
не могли оживить сухие кости своих абстракций; у них не было
искусства, не было мифов. В течение 170 лет, пишет Варрон,
в Риме не было статуй”. Для Махаффи — греки он называл их
“гуэки”, поскольку буква “р” не входила в число его талантов, —
были современниками и близкими соседями. Уайльд следовал
ему, когда писал в эссе “Критик как художник”: “Всем, что есть
в нашей жизни подлинно современного, мы обязаны грекам. Всем,
что в ней анахронично, мы обязаны Средневековью”. Превознося
нравственное здоровье греков, Махаффи решил осторожно затро-
нуть щекотливый вопрос о древнегреческом гомосексуализме.
Раньше в публикациях на английском языке, предназначенных для
неспециалистов, никто из ученых на это не отваживался. Махаффи
охарактеризовал эти отношения как идеальную взаимную привя-
занность между мужчиной и красивым юношей и признал, что
греки считали эту форму любви более высокой, чем любовь между
мужчиной и женщиной. Если только этой любви не касалась порча
(что, соглашался Махаффи, иногда случалось), она была не более
оскорбительна “даже для нашего с вами вкуса”, чем сентименталь-
ная дружба. Уайльд писал в своей тетради для заметок и выписок:
“Римлянина воспитывали для семьи и государства — ему следо-
вало быть pater familias и civis1; утонченность греческой культуры
являет себя сквозь романтическую атмосферу пылкой дружбы;
свобода и веселье палестры1 2 были неведомы юноше, в чьих воспо-
минаниях детства главенствовали сенат и сельская усадьба”.
То, что Уайльд читал написанное Махаффи о греческой любви,
доказывается благодарностью, которую Махаффи выразил в пре-
дисловии к “Общественной жизни в Греции от Гомера до Менан-
дра” (1874) “Мистеру Оскару Уайльду из колледжа Магдалины”
и другому бывшему ученику Г. Б. Личу за “исправления и улуч-
шения во всех разделах книги”. О том, что это были за улучшения,
можно только догадываться, но одно замечание в книге относи-
1 Отец семейства, гражданин (лат.).
2 Палестра — место для спортивной борьбы и упражнений в Древней
Греции. (Примеч. перев.)
46
тельно неестественности гомосексуализма звучит скорей в духе
Уайльда, нежели в духе Махаффи: ‘‘Что касается эпитета “неесте-
ственный”, то греки, вероятно, ответили бы, что вся цивилизация
неестественна”. Махаффи быстро уразумел, что зашел слишком
далеко. Во втором издании, опубликованном через год, он опу-
стил страницы о гомосексуальной любви. Он также убрал благо-
дарность двоим ученикам, решив, вероятно, что достоинство его
пострадает от признания помощи, оказанной ему столь молодыми
людьми.
Уайльду в своем классическом образовании не пришлось все-
цело зависеть от Махаффи, поскольку Роберт Йелвертон Тир-
рел, другая крупная величина в Тринити-колледже и соперник
Махаффи, был столь же хорошим знатоком Античности и более
приятным человеком. Тиррел, которому было всего двадцать пять
лет, только что получил должность профессора латыни. Говорили,
что его интересуют латынь и греческий, тогда как Махаффи рим-
ляне и греки. Не заходя в своих трудах так далеко, как Махаффи,
он реже в них ошибался; он не ссорился так жестоко с другими
знатокагли Античности, хотя с Махаффи скрещивал шпаги охотно.
Его остроумие, как и уайльдовское, было более жизнерадостным,
чем у Махаффи, и он питал неподдельный интерес к литературе,
побудивший его основать журнал “Коттабос” и стать его редакто-
ром. Он опубликовал там некоторые из своих блестящих пародий,
и Уайльд впоследствии будет печатать там свои переводы и ориги-
нальные стихи. В последний год пребывания Уайльда в колледже
профессор женился, и спустя много лет миссис Тиррел писала, что
они с мужем часто видели Уайльда в Тринити и что он казался ей
“забавным и очаровательным”. В 1896 г. Тиррел подписал сочувст-
венную петицию с просьбой о досрочном освобождении Уайльда
из тюрьмы, а вот Махаффи, который ранее похвалялся тем, что
создал Уайльда, теперь столь же демонстративно отказался поста-
вить на прошении свое имя и назвал Уайльда “единственным пят-
ном на моей педагогической репутации”.
В Тринити блестящие успехи Уайльда в древних языках стали
очевидны. Портора дала ему хорошую подготовку; в первый год
обучения он прилежно работал и под конец был вознагражден тем,
что обошел Луиса Персера и стал первым в первом разряде1. Затем
он немного сбавил темп вследствие своего безразличия к формаль-
ным тонкостям, и Персер вырвался вперед. Тем не менее в 1873 г.
по итогам конкурсного экзамена Уайльд получил одну из десяти
стипендий, дававших значительные привилегии; он был шестым
1 В ряде британских учебных заведений студенты по результатам экза-
менов разбиваются на три разряда. (Пр имен. перев.)
47
из десяти победителей, опередив занявшего седьмое место Уиль-
яма Риджуэя, впоследствии профессора археологии в Кембридже1.
Карьера Уайльда в Тринити в области изучения Античности была
увенчана вручением ему золотой медали имени Беркли за успехи
в греческом: он лучше всех сдал трудный экзамен по “Отрывкам
из греческих комических поэтов” Майнеке. Впоследствии он неод-
нократно будет закладывать медаль в ломбард и вновь выкупать.
В Тринити Уайльд уже был эстетом. Стать таковым было
нетрудно. В колледже читался курс эстетики; его Философское
общество уделяло внимание таким современным поэтам, как Рос-
сетти и Суинберн, и Уилли Уайльд даже сделал там доклад на тему
“Мораль в эстетике”. В конце своей “Общественной жизни в Гре-
ции” Махаффи призвал равняться на греков в “эстетическом вос-
питании низших классов нашего общества” (Уайльд впоследствии
попытался взяться за эстетическое воспитание высших классов).
В нескончаемом немецком романе “Первое искушение, или Eritis
sicut dues”2 М. Шваба, перевод которого леди Уайльд опубли-
ковала в 1863 г., рассказывалась история самонадеянного эстета,
превратившего эстетику в некую религию красоты и трагически
погибшего. В этой атмосфере восемнадцатилетний Уайльд стал
думать о писательском поприще. Сообщается об одном (воз-
можно, выдуманном) инциденте в Тринити: Уайльд вслух читал
в классе стихотворение. Некий задира стал над ним глумиться.
Уайльд подошел к нему и спросил, по какому праву он насмешни-
чает. Тот опять захохотал, и Уайльд ударил его по лицу. Вскоре все
вышли из класса, оставив их выяснять отношения. Никто не со-
мневался в поражении Уайльда, однако, к общему изумлению, ока-
На экзамене 1873 г. Уайльд получил следующие оценки:
Фукидид (устный) 8
Тацит (устный) 7
Греческая проза (сочинение) 5
Перевод с греческого 7 [лучшая из выставленных оценок]
Греческая трагедия 7
Латинская комедия 7
2
Перевод латинской прозы 6
Демосфен 5
Античная история 7
Греческая поэзия 5
Греческое стихосложение 1 [у Персера было 5]
Греческий язык (устный) 6
Латынь (устный) БУг
Перевод из латинских поэтов 4
Английское сочинение 6 [высшая из оценок]
Латинская и греческая грамматика 4
И вы будете, как боги (лат.} (Быт. 3: 5).
48
залось, что у него сокрушительный боксерский удар, и противник
был^повержен.
Более достоверные и удивительные свидетельства нахо-
дятся в “Книге для предложений” Философского общества, где
его члены могли записывать отдельные соображения касательно
других членов. Две соседние страницы книги имеют отношение
к Уайльду — одна явно, другая скрыто. На первой нарисована
карикатура на него: длинноволосый, в шляпе, он недовольно смо-
трит на полицейского, который, по всей видимости, отчитывает
его за участие в некоем полуночном (эстетическом?) сборище.
Другой студент, [Джон Б.] Кроузьер, называет полицейского
“Благосклонный бобби”, а Уайльд, напротив, характеризует его
словами “Подлый полицейский”. На следующей странице одна
из записей, вероятно, высмеивает Уайльда в связи с недавним при-
суждением ему золотой медали имени Беркли:
Один из вопросов
Экзамена на Золотую Эстетическую Медаль
Филос. об-во, 1874
Персонажем какого произведения является миссис Аллен
(чей Lyiobakamum славится по всем}' миру):
“Королевы волос” Рёскина или “Миловидной королевы” Спенсера?1
Искажение (ранее никем не замеченное) последнего названия,
которое обычно читалось “Королева фей”, произошло вследствие
ошибки копииста. В некоторых манускриптах эпитет королевы чита-
ется “Faierie”, что и привело в конце концов к установлению верного
написания.
N. В. В связи с этим вопросом кандидатам рекомендуется изучить
Произведения ее Искусства (шиньоны), которые можно видеть
в большинстве парикмахерских, а также на головах отдельных мило-
видных индивидуумов.
Эта словесная игра намекает на изнеженность и женоподо-
бие. Здесь же насмешка над прическами (шиньоны), а упомина-
ние о Lylobalsamum (слегка искаженный лашнский перевод слов
1 В оригинале игра слов. Книга Дж. Рёскина называется “The Queen о£
the Air” (“Королева эфира”, 1869). Английское “air” (воздух, эфир)
созвучно “hair” (волосы). Название аллегорической поэмы Э. Спен-
сера “Fairy Queen” (“Королева фей”, 1590-1596) обыгрывается благо-
даря созвучию слов fairy (фея) и fair (миловидный; светловолосый);
к тому же airy-fairy — изящный, витающий в облаках. (Примеч. перев.)
49
“лилейный бальзам”) заставляет предположить, что Уайльд вслед
за прерафаэлитами уже начал превозносить достоинства лилии.
Две эти страницы наводят на мысль, что к началу 1874 г., за пол-
года до своего переезда в Оксфорд, Уайльд уже был завзятым эсте-
том и выставлял свое кредо напоказ с аффектацией, провоциро-
вавшей насмешки.
Воспоминания об Уайльде в Тринити-колледже показывают, что
он в то время уже далеко продвинулся в направлении своих позд-
нейших пристрастий. Сэр Эдвард Салливан, тоже выпускник Пор-
торы, упоминает о том, что любимым чтением Уайльда были стихи
Суинберна. “Долорес” и “Фаустьна” из суинберновского сборника
“Стихотворения и баллады” (1866) неизбежно должны были по-
нрвиться поклоннику колдуньи Сидонии. Влияние “Гимна Про-
зерпине” ощущается в поэме Уайльда “Эротов сад”, написанной
примерно шест ь лет спустя, где он говорит о Суинберне:
Поцеловал он губы Прозерпины
И реквием Распятому пропел,
И лоб израненный, кроваво-винный
Отер он, сняв венец...
В 1876 г. он писал, что Еврипид “подвергался такой же критике
со стороны консерваторов древних времен, как Суинберн со сто-
роны филистеров наших дней”. Возможно, именно поэтому он
в том же году использовал в переводе из Еврипида суинбернов-
скую ритмику и лексику:
Должна я, нс зная любви земной,
В ненавистный Лид сойти,
Вместо ложа утех — могильный покой,
Вместо милого — смерть обрести.
В “Предрассветных песнях” Суинберна, вышедших в пер-
вый год пребывания Уайльда в Тринити, получил выражение,
наряду с любовным, и демократический пыл. В следующем году
Уайльд приобрел “Аталанту в Калидоне” (его экземпляр датиро-
ван осенним триместром 1872 г.). В стихотворении “Эротов сад”
он воздаст хвалы обеим книгам1. Там же он превознесет Уильяма
Морриса, чью поэму “Любить, и только” он купил, чуть не вы-
1 Вскоре Уайльд добьется личного знакомства с Суинберном. На его
экземпляре “Этюдов для голоса” (1880) имеется надпись: “Оскару
Уайльду от Алджернона Ч. Суинберна. Amitie et remerciements”.
(В знак дружбы и признательности — фр.)
50
хватив из-под печатного станка, в том же триместре в Тринити.
Уайльд явно покупал книги прерафаэлитов, едва они появлялись
в продаже. Он прочел первый стихотворный сборник Россетти,
вышедший в 1870 г., и был знаком со статьей Роберта Бьюкенена
«Плотская поэтическая школа” (1871), осуждавшей стихи прера-
фаэлитов за чувственность. Чтение Суинберна привело его к Бод-
леру и Уитмену (последний был предметом лекции профессора
Эдварда Лаудена в Философском обществе в 1871 г.). Восхищение
этими авторами стало непосредственной причиной, по которой
Уайльд навсегда отверг возможность оценивать поэзию на осно-
вании ее “содержания ’.
Как утверждает Салливан, он читал также “Очерки о грече-
ских поэтах” Джона Аддингтона Саймондса, первый том кото-
рых вышел в 1873 г. Хотя Махаффи не одобрил эту книгу, Уайльд
был восхищен ее стилем, “словесной красочностью и изящест-
вом” в духе Пейгера (позднее он подвергнет эту прозу критике,
назвав ее поэтической прозой, а не прозой поэта). В завершаю-
щей главе книги Саймондс подчеркивал первостепенную важ-
ность слова “эстетический”. Не он ввел его в употребление; это
сделал Баумгартен в 1750 г. Но Саймондс, соглашаясь с Пейтером,
весьма решительно отнес этот эпитет к древним грекам: “Если
их нравственность была эстетической, а не теократической, это
не делало ее ни менее гуманной, ни менее реальной”, — писал он.
“По сути своей греки были нацией художников”, — продолжал
он, и Уайльд запомнил это замечание. “Говоря о греках как эсте-
тической нации, — пояснял Саймондс, — мы имеем в виду вот
что: не руководимые никаким откровением свыше, не имеющие
Моисеева закона, с которым они могли бы сверять поступки, они
доверяли своей эстезии1, бережно выпестованной и сохраненной
в состоянии наивысшей чистоты”. Уайльд пришел от книги Сай-
мондса в такой восторг, что написал ему, и завязалась переписка
(ныне большей частью утерянная). В 1878 г. Саймондс послал
экземпляры своей книги “Сонеты Микеланджело Буонаротти
и Томмазо Кампанеллы” по двенадцати адресам, в том числе Бра-
унингу, Суинберну и Оскару Уайльду в оксфордский колледж
Магдалины. В следующем году Уайльд купил книгу Саймондса
“Шелли” и отметил в ней среди других фрагментов пассаж о горя-
чей дружбе подростка Шелли с другим мальчиком.
Некий другой аспект греческой мысли в “Греческих поэтах”
Саймондса прямо не затрагивался. Но к 1873 г., когда вышел
первый том, Саймондс уже успел написать брошюру “Об одной
проблеме древнегреческой этики”, которую опубликовал за свой
1 От греческого слова “aioGqcHc;”, означающего “чувство, ощущение”.
счет десять лет спустя и где речь шла о гомосексуализме. В юности,
учась в пансионе Харроу, он донес на директора и разрушил этим
его жизнь; теперь он был сама терпимость. Его молчание на эту
тему в “Греческих поэтах" было многозначительным: он укло-
нился от обычного осуждения однополой любви, о которой гово-
рится в некоторых греческих стихах. Махаффи не был настолько
свободен от условностей.
Будучи эстетом, Уайльд считал, что не следует ограничиваться
одним родом искусства. Салливан пишет, что, учась в Тринити,
Уайльд одно время не жил дома, а снимал квартиру в здании, назы-
вавшемся Ботани-Бей. По сравнению с домом на Мэррион-сквер
квартира выглядела неприглядной, и Уайльд даже не пытался под-
держивать там чистоту и не принимал друзей. Изредка, впрочем,
какой-нибудь посетитель заглядывал, и в гостиной в глаза ему бро-
сался выставленный на видном месте мольберт с неоконченным
пейзажем маслом, принадлежащим кисти хозяина. “Я только что
нарисовал в углу бабочку”, — говорил Уайльд, имея в виду фирмен-
ную “подпись” Уистлера, уже ставшую знаменитой. В Оксфорде
он пользовался тем же мольбертом для тех же целей. Салливан
также утверждает, что Уайльд и в Тринити продолжал одеваться
в том экстравагантном стиле, который он изобрел в Порторе.
Однажды он пришел к Салливану в диковинных брюках. Когда
Салливан стал проезжаться на их счет, Уайльд с напускной серьез-
ностью попросил его не делать их предметом шуток. Он сказал,
что планирует поездку в Умбрию. “Я буду их носить у Тразимен-
ского озера, для того они и куплены”. К счастью, его отношение
к одежде было не настолько благоговейным, чтобы помешать ему
улыбаться (как он сказал Салливану) при воспоминании о Джоне
Таунзенде Миллсе, несколько потрепанном жизнью ученом-клас-
сицисте, который готовил его к экзамену на медаль имени Бер-
кли. Цилиндр, который Миллс носил, однажды оказался затянут
крепом; на соболезнования Уайльда в связи с его предполагаемой
утратой Миллс ответил, что он просто закрыл в цилиндре дырку.
Мы видим, что в Тринити Уайльд постепенно накапливал эле-
менты своего оксфордского поведения — симпатии к прерафаэ-
литам, дендизм в одежде, эллинистические пристрастия, двойст-
венность сексуальной ориентации, презрение к ходячим нормам
морали. К этим его особенностям, по крайней мере эпизодиче-
ски, примешивалась легкая самоирония, и его упоение суинбер-
новскими страстями смягчалось той “шутливой невинностью”,
какую нашел в нем его будущий оксфордский друг Дж. Бодли,
познакомившийся с Уайльдом еще в Дублине летом 1874 г. Еще
одной новой чертой в его поведении — также приобретенной
надолго — стало заигрывание с идеей перехода в католичество,
к большому неудовольствию отца, Уайльд свел знакомство с неко-
торыми дублинскими католическими священниками. Только что
была провозглашена доктрина папской непогрешимости, и это,
наряду с возвышением дублинского Католического университета,
основанного кардиналом Ньюменом, посеяло новые тревоги
в душах приверженцев Ирландской протестантской церкви. Без
сомнения, интерес Уайльда к католичеству не в меньшей степени,
чем папской непогрешимостью, объясняется обаянием ньюме-
новской прозы, недавно вновь продемонстрированным в “Грам-
матике согласия” (1870); упоение не столько содержанием, сколько
формами католической религии вот — причина его нынешнего
восхищения ею, как, вероятно, и католического крещения, совер-
шенного по воле его матери много лет назад. Уайльд, однако,
предпочитал формально оставаться протестантом, объясняя это
угрозой отца лишить его наследства. Но отцу незачем было беспо-
коиться. Устремления Уайльда то и дело противоречили друг другу.
В любом случае у него были и другие интересы, другие амби-
ции. Чтение показало ему провинциализм ирландской культурной
жизни; его восторг перед движением прерафаэлитов—движением
английским — в Дублине считали милым идиотизмом, и питать
там этот восторг означало обрекать себя на насмешки. Замкнутость
ирландской жизни, которую Йейтс позже охарактеризовал сло-
вами “много ненависти, мало пространства”, делала возможность
проповедовать дома некое новое эстетическое евангелие весьма
проблематичной. Уайльд уже начал покидать Ирландию духовно,
оставалось сделать это физически. Конкретную идею, возможно,
подал Махаффи: Лич, другой его блестящий ученик, получив
диплом в Тринити, отправился за вторым дипломом в Гонвилл-
энд-Киз-колледж Кембриджского университета. Махаффи не счи-
тал, что изучение классических дисциплин поставлено в Англии
лучше, чем в Тринити-колледже, но он разделял общепринятое
уважение к старинным английским университетам и, когда при-
шло время, отправил одного своего сына в Оксфорд, двух других
в Кембридж. Он знал, что Уайльд при всех своих блестящих успе-
хах в изучении классики не может быть уверен, что по оконча-
нии курса именно ему, а не Персеру предложат место в Тринити.
С другой стороны, если он хорошо покажет себя в Оксфорде, он
сможет вернуться в Ирландию и занять там кафедру, как в конце
концов сделал Лич.
Нужно было убедить не только Оскара Уайльда, но и его
отца. Роберт Росс утверждает, что Махаффи говорил на эту тему
с сэром Генри Аклендом, королевским профессором медицины
в Оксфорде и другом сэра Уильяма. Но у сэра Уильяма была своя
53
причина для согласия — ложная надежда на то, что переезд в Окс-
форд отвратит сына от заигрываний с католицизмом. Англия удер-
жит его в лоне протестантской религии. Уилли уже учился в лон-
донском Мидл-Темпле, готовый, как писала его мать, “выступить
вперед, как новый Персей, и сразиться со злом”. В том же письме
она продолжала: “Его мечта стать членом парламента, и я также
желала бы этого. У него хорошие виды на будущее, и он сможет
стать кем угодно, если не будет лениться”. Здесь впервые звучит
нотка озабоченности из-за деловых качеств Уилли (он покинул
Мидл-Темпл спустя несколько месяцев и 22 апреля 1875 г. всту-
пил в сообщество ирландских адвокатов). Отъезд в Англию вслед
за первым и второго сына не вызвал возражений сэра Уильяма.
Поэтому Уайльду ничто не помешало откликнуться на объяв-
ление в “Оксфорд юниверсити газетт” от 17 марта 1874 г. о том,
что оксфордский колледж Магдалины объявляет конкурс на две
стипендии по классическому отделению и экзамен состоится
23 июня. Каждая стипендия составляла 95 фунтов в год и могла
выплачиваться в течение пяти лет. Уайльд был настолько уверен
в успехе, что не стал сдавать экзамены за третий курс в Тринити.
Он явился в колледж Магдалины в день экзамена, имея с собой
необходимое свидетельство о хорошем поведении и документ
о том, что ему еще не исполнилось двадцати лет. Дж. Т. Аткинсон,
один из четверых других кандидатов, ставший на экзамене вторым
после Уайльда и также получивший стипендию, вспоминал пять-
десят четыре года спустя, что Уайльд, который был старше осталь-
ных и держался гораздо уверенней, то и дело подходил к дежур-
ному за чистой бумагой, потому что умещал в одну строчку
только четыре-пять слов. Аткинсон характеризует почерк Уайльда
как “крупный, размашистый, с ленцой, похожий на него самого”.
(Если точнее, почерк у него был небрежный, паутинообразный.)
Аткинсон запомнил также бледное, лунного цвета лицо с тяже-
лыми веками и толстыми губами, широкую раскачивающуюся
походку (Эдит Купер, отметившая вдобавок фарфорово-голубые
глаза Уайльда и выступающие зубы, сравнила его лицо с “большим,
но некрасивым плодом”). Уайльд сдал экзамен на ура, намного
опередив всех остальных.
Затем он приехал в Лондон, где находились его мать и брат.
Это было его первое посещение города, где ему предстояло про-
славить и опозорить свое имя. Сэр Уильям, которому нездорови-
лось, остался дома. Вскоре после приезда в Лондон Уайльд узнал
результат экзамена, и семейные торжества в ознаменование его
успеха приняли форму визитов к литераторам, с которыми леди
Уайльд была в той или иной степени знакома или переписывалась.
Они посетили Томаса Карлейля, которого Уайльд впоследствии
54
звал “раблезианским моралистом” (после смерти Карлейля он
Н л его письменный стол и пользовался им). Ранее, во время
КУ го визита в Ирландию, Карлейль послал леди Уайльд томик
стихов Теннисона и подарил ей еще одну книгу, куда вписал пере-
веденные им самим строки из Гете:
Кто с хлебом слез своих не ел,
Кто в жизни целыми ночами
На ложе, плача, не сидел,
Тот незнаком с небесными властями1.
Она ho i ом часто повторяла это четверостишие сыну, кото-
рый беззаботно отшучивался, однако запомнил его до конца
дней. Уайльды были в во сторю от Лондона, и леди Уайльд писала
своей шведской подруге Росалии Оливекруна, жене профессора:
“Воистину это великий, могучий город — столица мира”. После
9 июля они отбыли в Женеву и вернулись на родину через Париж.
Там они остановились в отеле “Вольтер” на набережной Вольтера,
и Уайльд потом говорил Роберту Россу, что в этом отеле он начал
писать поэму “Сфинкс”. Тема ее была навеяна чтением Суинберна
и Эдгара Аллана По; афористическая выразительность “Ворона”
сочетается в ней с архаическим эротизмом “Долорес”.
Вернувшись тем летом в Дублин, они увидели, что здоровье
сэра Уильяма Уайльда сильно пошатнулось. 31 декабря 1874 г. леди
Уайльд писала госпоже Оливекруна: “Он слаб, подавлен, почти
не выходит — жалуется на подагру и, помимо этого, вообще увя-
дает прямо на глазах — он стал так бледен, изнурен, худ и угрюм,
что я тоже сделалась подобна инструменту без струн, и никакой
поэтической музыки теперь нельзя извлечь из моего сердца”. Сэр
Уильям и раньше ощущал, что здоровье у него не в порядке; он
сократил свою врачебную практику и старался как можно больше
времени проводить в своем любимом “Доме-в-Мойтуре” бпиз
Конга. Его денежные дела также обстояли не блестяще, и в фев-
рале 1872 г. ему пришлось взять 1000 фунтов под залог дома
на Мэррион-сквер. Расходы сыновей в Англии заставили его также
обратить в деньги часть имущества леди Уайльд. В конце ноября
1874 г. он получил от этой операции 1260 фунтов, из которых ему,
леди Уайльд, Уилли и Оскару досталось по 315 фунтов. В августе
1874 г. он с трудом собрался с силами, чтобы выступить с речью
на открывающейся сессии антропологической секции Британской
ассоциации в Белфасте.
Перевод Ф. Тютчева.
55
Беспокойство из-за отца не отравило Оскару радости от по-
ступления в Оксфорд на таких льготных условиях. Друзья устроили
ему настоящую овацию. Махаффи, правда, не удержался и съязвил:
“Что, умишка для нас не хватило, Оскар? Ну, в Оксфорде попроще
будет”. Тиррел в шутку сказал, что Оксфорд — это такое место,
куда немецкие философские системы отправляются умирать. Так
или иначе это решение было судьбоносным. Узы детства были
порваны, и Уайльду в другой обстановке предстояло подтвердить
свою дублинскую репутацию эрудита и острослова. Эллинист
и эстет, но при этом еще и ирландец, Уайльд, которому вскоре
должно было сравняться двадцать, отплыл в октябре на пакетботе
из Кингстауна, чтобы помериться силами с древнейшим универ-
ситетом Англии.
Глава 2
Уайльд в Оксфорде
Леди Брэкнелл. Двуличен? Мой племянник
Алджернон? Немыслимо! Он учился в Оксфорде!
Первые прогулы
Согласно представлениям ирландцев, Окс-
форд для ума есть то же, что Париж для тела. Уайльд
не хуже других усвоил это прославленное тождество.
Университет, забирая себе непропорционально боль-
шую долю талантов со всей Британии, обращался
с ними нежно-строго и выпускал их в жизнь с пожизненной харак-
теристикой: блестящий, толковый или, на худой конец, посред-
ственный, но посредственный по оксфордской мерке. Студенты
испытывали почтение к alma mater и ощущали благоговейный
страх перед ее властью над их жизнями.
У Оскара не было причин чувствовать себя бальзаковским
Люсьеном де Рюбампре, приезжающим из провинции в большой
мир. Дублин — это вам не какой-нибудь заштатный Скиббе-
рин. Уайльд уже был знаком со многими англичанами — талант-
ливые люди охотно посещали субботы его матери, и фамилия
его, кстати говоря, была английская. В Англии жили многие его
родственники, а также друзья, как, например, Генри С. Бенбери,
в прошлом студент Тринити-колледжа, а ныне житель графства
Глостершир (бенбсрированием Уайльд назовет необычное поведе-
ние Алджернона в комедии “Как важно быть серьезным”). Древ-
ность Оксфорда не могла подавить человека, хорошо знакомого
с кромлехами! и могильными холмами Ирландии. И тем не менее
1 Кромлех — сооружение эпохи неолита или бронзового века в виде
круговой ограды из огромных камней. (Примеч. перев.)
ему, как и Драйдену, Оксфорд представлялся Афинами, тогда как
любой другой университет всего лишь Фивами. “Это самое пре-
красное, что есть в Англии”, — сказал Уайльд об Оксфорде. Генри
Джеймс, посетивший Оксфорд за год до приезда туда Уайльда,
писал об “особой атмосфере Оксфорда — атмосфере привилеги-
рованной возможности жить лишь умственными заботами, обес-
печенной и гарантированной благодаря удобствам, которые сами
по себе отрадны для ощущений”. Уайльд выразил это лирически:
по его словам, пребывание в Оксфорде более, чем какое-либо дру-
гое время в его жизни, было “подобно цветку”.
Он был формально зачислен в университет 17 октября 1874 г.,
на следующий день после того, как ему исполнилось двадцать,
явившись к его преподобию Дж. Сьюэллу, ректору Нью-колледжа
и вице-канцлеру (главному администратору) университета. Это
был редкий случай, когда он назвал свой возраст и даже место рож-
дения (Уэстланд-роу, Дублин) с непогрешимой точностью, хотя
и свел к двум годам те почти три года, что он проучился в Три-
нити-колледже. На первом году обучения колледж Магдалины
предоставил ему квартиру № 1 на третьем этаже правого крыла
здания “Чаплинз”, на втором и третьем году квартиру № 8 на пер-
вом этаже правого крыла “Клойстерз”, наконец, на четвертом году
самую роскошную, на втором этаже левого крыла “Китчен стэрз”.
Его однокашники здесь являли собой куда более разнообразную
и сложную картину, чем в Тринити. Больше амбиций, больше
самоуверенности, больше денег. В массе своей они были моложе
его, что само по себе рождало новые переживания у юноши, при-
выкшего быть в своем классе младшим. Их непреходящая нежность
к прославленным школам, которые они окончили, — к Итону, Хар-
роу, Уинчестеру — показалась ему странной. Ни Портора, ни Три-
нити не оставили в нем сентиментальных воспоминаний; он был
свободен для того, чтобы весь свой пыл отдать Оксфорду.
Тем не менее даже для былых итонцев и уинчестерцев носталь-
гия — это одно, а студенческая жизнь — совсем другое. В своих
сочинениях Уайльд предстает во всем блеске, который стал потом
предметом зависти многих молодых людей. Но поначалу у него
не все ладилось. Его друг Дж. Бодли, учившийся в Бэллиол-кол-
ледже и опубликовавший в 1882 г. в “Нью-Йорк тайме” едкое, но,
вероятно, точное описание Уайльда в студенческие годы, утвер-
ждал, что Уайльд выглядел наивным и смущенным, судорожно
смеялся, говорил с ирландским акцентом и к тому же шепелявил.
Когда он в первый раз пришел в обеденный зал, пишет Бодли, его
соседом по столу оказался гость из другого колледжа — третьекурс-
ник и спортсмен, требовавший по этой причине серьезного к себе
отношения. Уайльд хорошо показал себя в разговоре и, окрыленный,
58
вручил атлету свою визитную карточку, нарушив тем самым непи-
саные правила оксфордского хорошего тона, догадаться о кото-
рых было невозможно. После того как его осадили в этом и, без
сомнения, других случаях, Уайльд решил идти впереди англи-
чан. а не тянуться за ними. Шепелявость и ирландский выговор
исчезли из его речи. “Мой ирландский акцент был в числе многого,
что я позабыл в Оксфорде”, — сказал он однажды, и актер Сей-
мур Хикс, как и прочие, засвидетельствовал, что его английский
совершенно чист. Изгоняя акцент, Уайльд выработал ту величавую
и отчетливую речь, что так поражала потом слушателей. Макс Бир
бом говорил, что у Уайльда был “голос средней высоты, льющийся
вольно и неторопливо с бесконечным разнообразием интонаций”.
Великолепные фразы Уайльда казались Йейтсу “кропотливо срабо-
танными и стихийно рожденными в одно и то же время”. В стихо-
творении “Ave Imperatrix”1 он напишет о “нашей английской
земле”, словно он появился на свет не западней, а восточней
Ирландского моря. Он придавал огромное значение стилю оде-
жды; однажды он сказал другу: “Окажись я с моими пожитками
один на необитаемом острове, я все равно каждый вечер переоде-
вался бы к ужину” (кто стал бы для него готовить, он не уточнил).
В дневное время он, отвергнув свой дублинский гардероб, стал,
по словам Бодли, одеваться с еще большим шиком, чем его дру-
зья. Он щеголял в твидовых костюмах в еще более крупную клетку,
чем у них; в голубых галстуках с узором “птичий глаз”; в высоких
воротничках; в шляпах с загнутыми полями, которые он носил
набекрень. Свои густые каштановые волосы он остриг до прием-
лемой длины в парикмахерской универсального магазина “Спирс”
на Хай-стрит. Это была только первая фаза его костюмной рево-
люции; через пару лет настанет пора более причудливого дендизма.
У Оскара было достаточно любопытства, чтобы познакомиться
с разными сторонами жизни в новом университете. Он ходил
на матчи по крикету. Посмотрев на знаменитого Стивенсона, тре-
нирующегося в беге на три мили, он лирически откомментировал:
“Его левая нога — настоящая греческая поэма”. Вместе с другим
стипендиатом, Аткинсоном, он позволил уговорить себя сесть
в гребную лодку колледжа для подготовки к состязаниям восьме-
рок. Уайльда, который был высоким и сильным, посадили загреб-
ным, Аткинсона на нос. Уайльд настаивал на джентльменски-нето-
ропливом темпе гребли. Когда рулевой стал требовать, чтобы все
работали с прямыми спинами, Уайльд заметил Аткинсону: “Я уве-
рен, что греки при Саламине так не делали”. Однажды главная
университетская восьмерка, приближаясь к лодке колледжа Маг-
1 “Приветствую тебя, императрица” (лат.).
59
далины, потребовала уступить дорогу. Уайльд, не обращая вни-
мания на ругань обоих рулевых, невозмутимо продолжал грести
в своем величавом темпе. Когда его исключили из команды, он
заметил: “Какой смысл кататься каждый вечер до Иффли спиной
вперед?”1 Бывали у него, впрочем, и другие настроения: однажды
он немного побоксировал с другим ирландцем, Бартоном, кото-
рый впоследствии стал судьей; одному оксфордскому товарищу
он предложил отправиться с ним в гребной лодке из Оксфорда
в Лондон (в 1878 г. они с Фрэнком Майлзом доплыли на каноэ
до самого Пангбурна). Его любовь к древнегреческим прецедентам
не простиралась, однако, до спортивных состязаний на палестре.
“Моцион? Что за глупости! — сказал он однажды интервьюеру.
Надо больше разговаривать и меньше расхаживать, вот вам и весь
моцион”. “Когда нельзя говорить, это страшно утомляет”, — сказал
один из персонажей его пьесы “Вера”. Позже, находясь в загород-
ном доме, Уайльд так ответил на вопрос о том, какие упражне-
ния на свежем воздухе он предпочитает: “Увы, на свежем воздухе
я ничем не занимаюсь. Ах нет, играю в домино. Я, бывало, играл
в домино за столиками около французских кафе”. Уже в “Люсинде”
(1799) Шлегель объяснил эстетам, что самый совершенный вид
бытия — это растительная жизнь.
Дневник, который вел Бодли, — это лучший для нас источник
сведений о первых двух оксфордских годах Уайльда. Там расска-
зывается, как два молодых человека познакомились на Графтон-
стрит в Дублине 24 августа, во время выставки лошадей, и быстро
выяснили, что оба едут в Оксфорд (Бодли в Бэлл иол-колл ед ж)
и что у них есть общие знакомые Теннанты (Уайльд посвятит
Марго Теннант одну из своих сказок, “Мальчик-звезда”). Они
вновь встретились 25 октября в комнате отдыха Пемброк-кол-
леджа, и последующие дневниковые записи говорят о крепкой
и ровной дружбе. 7 ноября Бодли побился с Уайльдом об заклад
на 10 фунтов, что их друг Роуленд Чилдерс получит первый разряд
по итогам первого экзамена на степень бакалавра в конце второго
года обучения, а Уайльд не получит. Это было одно из многих
ошибочных суждений, высказанных Бодли.
Друг Уайльда был сыном богатого владельца керамической
фабрики. Он надеялся получить первый разряд по истории,
но получил только второй. Большего успеха этот бонвиван добился
в светской жизни; среди тех, с кем он свел дружбу в Оксфорде,
был принц Леопольд — младший сын королевы Виктории, сту-
дент-нестипендиат Крайстчёрч-колледжа. Они оба испытывали
1 Его последователь Макс Бирбом на вопрос о том, собирается ли он
идти к реке смотреть гонки, ответил вопросом: “К какой еще реке?”
6о
ячий интерес к масонству, которое отчасти из-за того, что
Леопольд был Великим магистром братства, было в 1870-е годы
в большой моде. Бодли обладал острым глазом и некоторыми жур-
налистскими качествами; Уайльд в будущем почувствует на себе
уколы его пера. Пока что они оставались добрыми друзьями.
Дневник Бодли повествует более о развлечениях, нежели об учеб-
ных занятиях; им с Уайльдом больше нравилось слыть весельчаками,
чем прилежными зубрилами. В январе, во время второго триместра,
дневник пестрит записями о трапезах в ресторане “Митра” и о про-
должительных загородных вылазках. Одним из развлечений Уайльда
(как и у Сэмюэля Джонсона) было взойти на заснеженный холм
и скатиться с него вниз. 29 января они отправились в театр послу-
шать неких тирольских йодлеров, и их компания, заняв две соседние
ложи, учинила “великий беспорядок, в котором шляпы и зонтики
играли не последнюю роль”. Уайльд перелез в ложу Бодли сказать,
что к нему в гости приехал брат Уилли, и, когда представление кон-
чилось, Уилли с Оскаром, Бодли и все остальные забрались на про-
сцениум, где Уилли заиграл на фортепиано вальс Штрауса. Выдво-
ренные рабочими сцены, они отправились в “Митру” петь дальше,
прихватив с собой йодлеров. Уайльд внес свою лепту речитативом.
О том, что их шалости имели влияние на учебу, говорит хотя бы тот
факт, что Чилдерс, которому Бодли пророчил первый разряд, был
вместо этого временно отчислен за неуспеваемость на срок с января
до конца лета. Бодли тщетно пытался замолвить за него слово перед
главой Б элли ол-колледж а Бенджамином Джауэттом.
Бодли, вступивший в масоны уже в первом триместре, во-
зымел твердое намерение завербовать Уайльда в ложу Аполлона
(ложу университета) во втором. 3 февраля он написал ему об этом,
а 16 февраля Уайльд по итогам голосования был принят. Перед
последовавшим обрядом вступления Бодли и еще один масон
по фамилии Уильямсон провели с Уайльдом длительную беседу
и показали ему масонский реквизит. Запись Бодли в дневнике
говорит о его наблюдательности: “Уайльд был настолько же пора-
жен роскошью атрибутики, насколько его увлекла таинственность
наших речей”. Масонский костюм, включавший в себя бриджи
чуть ниже колен, фрак, белый галстук, шелковые чулки и лакиро-
ванные туфли, неизбежно должен был произвести на Уайльда впе-
чатление (до сего дня ложа Аполлона, единственная из всех лож
Великобритании, требует от своих членов такого одеяния). 23 фев-
раля 1875 г. по особому разрешению (потому что ему еще не было
двадцати одного года) Уайльд был официально зачислен в ложу
Аполлона. После заседания состоялся ужин, на котором, пишет
Бодли, “Уайльд очень развеселился и по моей просьбе завербовал
в ложу Иоанна Крестителя. “Я слыхал, сказал он, что основателем
61
нашего братства был Иоанн Креститель [взрыв смеха]. Я надеюсь,
мы будем подражать только его жизни, но не его смерти — ведь
нам не с руки терять голову”. (Это было его первое упоминание
о событиях, описанных в “Саломее”.) На следующее утро, когда
Бодли собирался завтракать, явился Уайльд и повел его в “Митру”,
где в знак благодарности он уже заказал лососину и почки со спе-
циями. Отец Уайльда также был масоном; в 1841-1942 гг. он был
Достопочтенным мастером Шекспировской ложи (№ 143) в Дуб-
лине. Его сын не остался равнодушен к пышности и квазирелиги-
озной обрядности масонства, к его фешенебельной таинственно-
сти и быстро поднимался вверх в масонской иерархии: 24 апреля
он был повышен до 2-й степени, а 25 мая до 3-й (мастер-каменщик).
Дневник Бодли рассказывает о череде увеселений, длившейся
весь первый год обучения. 21 апреля они с Уайльдом вместе обедали,
а потом отправились в Вудсток. На обратном пути они попали под
сильный дождь и поэтому опоздали к ужину, что было наказуемым
проступком. “В 9.15 нас засекли, и Шадуэлл наложил инспектор-
ское взыскание”, — печально констатирует Бодли, но на следующий
день он пишет: “Объяснения Уайльда тронули сердце Шадуэлла, и он
не стал нас штрафовать”. 6 мая в Оксфорд приехала мать Бодли, и он
телеграфировал своим сестрам — вероятно, в Лондон, — чтобы они
приехали тоже. “Мы отправились смотреть гребные гонки... Пока
шли назад вдоль речки Чируэлл, Уайльд говорил с Агнес об Искус-
стве”. Агнес, как видно, такие вещи интересовали больше, чем ее при-
земленного братца. На следующий день они по приглашению Уай-
льда пришли к нему на квартиру, а затем поднялись с ним на башню
колледжа Магдалины. Одна из сестер, придя в восторг от открывше-
гося сверху вида, заявила, что проведет на башне весь день. “Лишь
благодаря героическим усилиям Уайльда нам наконец удалось спу-
стить ее вниз”. Еще одна вылазка состоялась 14 мая, когда Уайльд
и Бодли, прихватив еще одного студента, некоего Гольдшмидта, пла-
вали на шлюпке по Чируэллу, а потом ужинали в “Митре”.
Какой бы легкой и беззаботной эта жизнь ни выглядела, Уайльд
все- же не манкировал занятиями полностью, если только они
не были скучными. Курс обучения включал в себя древнюю исто-
рию, философию и литературу. Уайльд имел преимущество перед
другими студентами благодаря отличной подготовке в Порторе
и Тринити и мог с некоторым высокомерием относиться к своим
оксфордским кураторам (оценивать его успехи все равно предсто-
яло не им, а другим экзаменаторам в конце второго и четвертого
года). Много времени он посвящал чтению в других областях. Он
оставался верен Суинберну, чьи “Эссе и этюды” (1875) подсказали
ему идею сочетания “личности” и “совершенства”, которую он будет
усиленно развивать впоследствии. В Оксфорде он вел тетрадь для
62
заметок и выписок, и круг упомянутых там авторов весьма широк.
Он читал Герберта Спенсера и философа науки Уильяма Кингдона
Клиффорда; он был на “ты” не только с Платоном и Аристотелем,
которые требовались по программе, но и с Кантом, Гегелем, Якоби,
Локком, Юмом, Беркли и Миллем. Он со знанием дела ссылается
на Альфьери и цитирует Бодлера: “О Seigneur! donnez-moi la force
et le courage / De contempler mon coeur et mon corps sans degout!”1
Характерным для себя образом он соединяет современность и клас-
сику, заявляя: “В новые времена Данте и Дюрер, Китс и Блейк —
лучшие представители греческого духа”.
Записи в тетради часто трактуют о таких абстрактных понятиях,
как Культура, Прогресс, Рабство, Метафизика и Поэзия, и созда-
ется впечатление, что он уже считал необходимым занять в отно-
шении всего этого определенную позицию. Искусство и художе-
ственные принципы самая обычная тема для размышлений. Он
пишет о красоте как верующий о Боге, хотя использование фран-
цузского языка говорит о том, что его поклонение красоте, не сво-
дясь просто к жесту, все же не дотягивало до настоящей религии:
La beaute est parfaite
La beaute peut toute chose
La beaute est la seule chose au monde qui n’excite pas le desir1 2.
Большей горячностью отличается его защита Китса и Суин-
берна с их “женственностью, томностью и чувственностью, харак-
терными для той “страстной человечности”, которая служит осно-
вой подлинной поэзии”.
Темой, к которой он возвращается раз за разом, является кон-
фликт между прогрессом и властью. Он на стороне тех, кто оказы-
вает власти сопротивление: “Диссентерам3 мы в Англии должны
быть благодарны за “Робинзона Крузо”, за “Путь паломника”,
за Мильтона; Мэтью Арнольд несправедлив к ним, ибо “не подчи-
няться установленному” — это синоним прогресса”. Фактически
“прогресс мысли есть утверждение индивидуализма в противовес
власти” или даже “просто инстинкт самосохранения в челове-
честве, желание утвердить свою сущность”. Он заключает: “Род
людской постоянно ввергал себя в тюрьмы Пуританства, Фили-
1 “О Боже! дай мне сил глядеть без омерзенья / На сердца моего и плоти
наготу”. (Из стихотворения “Путешествие на Киферу”, перевод
И. Лихачева.)
2 Красота совершенна / Красота может все / Из всего, что есть на свете,
одна красота не рождает вожделения (фр.).
3 Диссентеры — различные протестантские секты, отколовшиеся
от англиканской церкви. (Примеч. перев.)
стерства, Сенсуализма, Фанатизма и запирал на ключ свой собст-
венный дух. Но проходит время, и возникает огромное желание
высшей свободы ради самосохранения”. Так мятеж получает дар-
виновско-спенсеровское обоснование.
Хотя Уайльд вел тетрадь исключительно для себя, он порой не мог
удержаться от манерной высокопарности. Восхваляя Еврипида, он
заявляет: “Мы, обреченные на тяжкий труд в раскаленных каменолом-
нях современности, получим, может быть, — или это только мнится
нам? — некую толику душевной свободы от этого гения, который
был величайшим гуманистом Эллады, cor cordium1 Античности”.
Он неуклонно движется в сторону афоризма, который у него еще
не столь отточен, как впоследствии, но уже вмещает большие темы
в короткие, заостренные и ритмически организованные фразы:
Опасность метафизики в том, что люди часто превращают nomina
в numina1 2.
Сократ и Кант вернули философию вспять к человеку; Аристо-
тель и Гегель вновь вывели ее на бой за овладение Миром...
Беркли уничтожил “не-я”; Юм сделал то же самое с “я”; когда их
последователи свели законы причины и следствия к простым ассоци-
ациям субъективных представлений, все честные люди решили, что
близится конец света.
Естественный отбор в сфере мышления
Природа убивает всякого, кто не верит в Единство Природы
и Закон Причинности.
С каким жаром ни изучал Уайльд философию, историю науки
и литературу, репутация, которую он стремился приобрести, — это
репутация человека, блистающего без видимых усилий. 24 ноября
1874 г. он срезался на первом экзамене, где были вопросы по гре-
ческим и латинским авторам, а также по математике. Уайльд был
записан как “несдавший” — неподобающий результат для сти-
пендиата. 18 января доктор Фредерик Булли, президент колледжа
Магдалины, сделал ему формальное предупреждение, и два месяца
спустя (18 марта) Уайльд виновато пересдал экзамен, ответив
на вопросы по “Медее” и “Ипполиту” Еврипида, “Георгикам” Вер-
гилия и геометрии. Один из его друзей, Дэвид Хантер Блэр, был
уверен, что Уайльд зубрит изо всех сил по ночам, желая сохранять
1 Сердце сердца (лат.).
2 Nomina (лат.) — имена, numina (лат.) — божества.
64
видимость беззаботности. Экзамен в конце первого триместра
он сдал без всякого блеска, однако во втором и третьем несколько
исправился и заслужил умеренную похвалу.
Аткинсон — такой же стипендиат, как Уайльд, — кратко опи-
сал преподавание классических дисциплин в колледже Магдалины
в то время. Их куратором был Джон Янг Сарджент, снискавший
определенную известность своей работой по латинской литера-
турной композиции. Пятеро студентов в пять часов вечера усажи-
вались около камина в квартире Сарджента. У огня всегда стояла
и грелась серебряная кружка с пивом — не для них, естественно.
“Лекция” читалась сонным голосом и слушалась вполуха. Уайльд
не любил латынь, заразившись от Махаффи презрением “ко всему
римскому”, и ему не суждено было стать большим знатоком латин-
ской прозы. Но поэзия, даже латинская, не могла оставить его
равнодушным, и его сочинения заслужили высокую оценку Сард-
жента, хотя его и не сочли достойным выдвижения на Хертфорд-
скую стипендию за успехи в латыни, получатель которой по окон-
чании обычно удостаивался привилегии стипендиата колледжа.
Пока что Уайльд достиг в учебе немногого, однако до пер-
вого важного экзамена на степень бакалавра оставался еще целый
год. Гораздо большего успеха он добился в сотворении легенды
о себе среди оксфордских студентов. За свой эстетизм он держался
крепко, проявляя его не только в обществе Агнес Бодли, и манер-
ности в его поведении было вполне достаточно, чтобы вызывать
неприязнь. Однокашники по классическому отделению считали
его чокнутым. Спортсмены презирали его, и он платил им взаим-
ностью; согласно одной из историй, они, чтобы проучить, про-
волокли его вверх по склону высокого холма и только на вершине
отпустили. Он встал на ноги, отряхнул с себя пыль и сказал: “Вид
с этого холма поистине очаровательный”. Аткинсон усомнился
в том, что такое было, но, как сказал однажды Уайльд, “истинны
в жизни человека не его дела, а легенды, которые его окружают...
Никогда не следует разрушать легенд. Сквозь них мы можем
смутно разглядеть подлинное лицо человека”1. Впрочем, боевая
защита своего стихотворения, которую Уайльд продемонстрировал
в Тринити, наводит на мысль о том, что он мог обороняться и по-
настоящему; сэр Фрэнк Бенсон в своих мемуарах утверждает, что
Уайльд порой проявлял героизм вполне непосредственным обра-
Другая история, пересказанная Дугласом Слейденом, гласит, что
однажды несколько студентов ворвались в квартиру Уайльда, пере-
били его фарфор и сунули его головой под струю воды. Хескет Пир-
сон проверил это сообщение и, к своему удовлетворению, установил,
что это произошло не с Уайльдом, а с неким его последователем, когда
Уайльд уже окончил университет.
’-5556
65
зом. По словам Бенсона, который сам был спортсменом, Уайльду
отнюдь не была свойственна “эстетская мягкотелость”, и “на весь
колледж только один человек, который греб седьмым в универ-
ситетской восьмерке [Дж. Т. Уортон]... имел хоть какой-то шанс
потягаться с Уайльдом один на один”. В подтверждение своих слов
Бенсон приводит уважительный отзыв Уортона о мускулатуре Уай-
льда и рассказывает о том, как однажды вечером студенты, собрав-
шиеся в комнате отдыха колледжа Магдалины, решили поколо-
тить Уайльда и попортить обстановку его жилища. Делегированы
были четыре человека, а остальные стояли на лестнице и смотрели.
Результат оказался неожиданным: первого Уайльд вышвырнул вон,
второго ударом кулака заставил сложиться пополам, третьего спу-
стил с лестницы, четвертого верзилу одного с ним роста схватил,
свел вниз в его квартиру и затолкал под какой-то предмет мебели.
После чего пригласил зрителей отведать горячительных напитков,
которые обнаружил у незадачливого задиры, и те не отказались.
Какую бы враждебность Уайльд ни вызвал, грудь университета
была достаточна широка, чтобы ему нашлось на ней место. В пер-
вый год ближайшими его друзьями в колледже Магдалины были
трое соседей. Одного звали Уильям Уолсфорд Уорд, он впослед-
ствии стал юристом, а в то время находился на середине курса
гуманитарных наук (два года — античная литература, еще два —
античная история и философия), который изучал и Уайльд. Оскар
называл его “единственным человеком на свете, которого я боюсь”,
возможно, из-за того, что тот не одобрял заигрываний Уайльда
с католицизмом. Был также светловолосый и красивый студент
по имени Реджинальд Ричард Хардинг (ставший потом бирже-
вым маклером), которого Уайльд называл своим “закадычнейшим
другом”. Его письма Хардингу и Уорду сохранились. Там мно-
гократно фигурируют их прозвища: Уорд “Хвастун”, как звался
персонаж одного юмористического романа; Хардинг “Котенок”,
потому что есть шуточная песенка про котенка, где обыгрывается
фамилия Хардинг. Уайльда прозвали “Хоски” (от “Хоскар”, что
является вариантом измени “Оскар”). В этот кружок затем вошел
и Дэвид Хантер Блэр, весьма серьезный молодой человек, кото-
рого вовлек в компанию Уорд, сказав, что разговоры Уайльда стоит
послушать. Хантер Блэр, шотландский баронет, прозванный “Дан-
ски” по названию места, где он обладал обширной собственно-
стью, был глубоко религиозен и, несмотря на членство в братстве
масонов, подумывал о переходе в католичество. Позднее он стал
бенедиктинцем и ректором Сент-Бенетс-холла в Оксфорде1. Уайльд
1 Сент-Бенетс-холл — колледж Оксфордского университета для членов
бенедиктинского ордена, основанный в 1897 г. (Прммеч. перев.)
66
однажды сравнил его с сэром Блезом — персонажем романа в сти-
хах миссис Браунинг “Аврора Ли”, который порой выражается так:
“Тьфу! Тьфу! Не святотатствуйте, молю вас”.
Описывая Уайльда в автобиографической книге “В викто-
рианские дни”, Хантер Блэр подчеркивает, что его разговоры
и поступки были лишены всякой неблагопристойности. Одной
Из главных его забот было обставлять и украшать свою квартиру.
Судя по трем из его ранних оксфордских стихотворений, прера-
фаэлитские лилии присутствовали там неизменно. Несколько раз
Хантер Блэр ходил с Уайльдом за покупками и однажды помог ему
принести домой две большие вазы голубого фарфора, возможно
севрского, чтобы было куда ставить лилии. Может быть, именно
эти вазы вдохновили Уайльда на замечание, громко прозвучавшее
сначала по всему университету, а впоследствии и по всей стране:
“Мне с каждым днем все трудней и трудней держаться наравне
с моим голубым фарфором”. За эти слова ухватился юмористиче-
ский еженедельник “Панч”, для начала поместив 30 октября 1880 г.
карикатуру Джорджа Дюморье. А ранее в оксфордской церкви
Св. Марии была произнесена англиканская проповедь, направлен-
ная против содержащейся в этой фразе “нездоровой тенденции”;
настоятель Бергон сказал: “Если молодой человек говорит, причем
не в порядке светской болтовни, а со всей серьезностью, что ему
трудно держаться на одном уровне со своим голубым фарфором,
значит, в сии древние стены проникла некая разновидность язы-
чества, с которой святой наш долг велит нам сразиться и которую,
ежели достанет сил, нам надлежит искоренить”. До сих пор это
одно из самых памятных изречений Уайльда, и оно первым из всех
получило распространение. Пейтер сделал его эпиграфом к нео-
публикованной части своей последней книги “Гастон де Латур”.
Его подлинность порой подвергалась сомнению, однако Оскар
Браунинг утверждает, что в 1876 г., когда они с Уайльдом познако-
мились в Оксфорде, он уже был знаменит как автор этой крылатой
фразы. Никто другой не мог бы ее произнести. Лишним подтвер-
ждениехМ его авторства служит сатирическая заметка в студенче-
ской газете “Оксфорд энд Кембридж андергредюэйтс джорнал”
27 февраля 1879 г., где Уайльд выведен под именем О’Флайти и где
говорится: “Он любит повторять: “Я часто ощущаю, как трудно
мне держаться наравне с хмоим голубым фарфором”. В этом при-
знании есть нечто от пылкости его матери с ее упоением крайно-
стями и готовностью подвергнуться осмеянию.
Другие покупки делались в универсальнохМ магазине Спирса
на Хай-стрит; сохранился спирсовский счет за три года пребыва-
ния Уайльда в Оксфорде (в то время торговцы охотно соглашались
ждать, пока студент сможет расплатиться по счету, однако тут даже
67
у Спирса лопнуло терпение, и магазин подал на Уайльда в адми-
нистративный университетский “суд вице-канцлера’’). В пер-
вом триместре Уайльд купил две голубые кружки и подсвечники,
во втором графин для кларета и игральные карты. На втором году
обучения в октябре он приобрел четыре бокала для содовой воды,
четыре простых бокала и шесть стаканов для портвейна. На весен-
ние каникулы 1876 г. он остался в колледже и 21 марта, совершив
единичный акт измены голубому фарфору, купил “богато позоло-
ченный” фарфоровый сервиз для завтрака. В январе следующего
года он добавил к этому шесть кофейных чашек и блюдец, шесть
бокалов для рейнвейна венецианского стекла, два зеленых румын-
ских графина для кларета, фильтр для воды и шесть бокалов для
шампанского рубинового цвета. Напитки явно текли рекой, ком-
пания ширилась. Хантер Блэр вспоминал, что уже на первом году
Уайльд весьма радушно принимал гостей. Вероятно, в подражание
материнским субботам он был рад видеть у себя однокашников
по вечерам каждое воскресенье, после того как в комнате отдыха
подавали кофе. На столе стояли две чаши пунша из джина и виски
(его мать считала достаточным подать кофе и вино), и гостям пред-
лагались длинные курительные трубки с первоклассным табаком.
Как и на Мэррион-сквер, вечер часто включал в себя музициро-
вание: органист колледжа Уолтер Пэрротт садился за уайльдов-
ское пианино и аккомпанировал певцу Уолтеру Смит-Дорриэну.
Аткинсон пишет, что Уайльд заставлял своего слугу (в Оксфорде
они назывались скаутами) носить тапочки на войлочной подошве,
потому что скрип башмаков вызывал у него “муки мученические”,
и вынимать пробки из бутылок в спальне, чтобы гости, не дай бог,
не услышали плебейское хлопанье.
Подобные вечера часто кончались тем, что Уайльд, Уорд
и Хантер Блэр, как двое друзей из уайльдовского эссе “Упадок
лжи”, засиживались до утренней зари. Хантер Блэр вспоминал,
что Уайльд с мечтательным упоением говорил о будущем, пока
Хвастун Уорд не делал попытку его осадить. “Ты очень много
говоришь о себе, Оскар, — говорил Уорд, — и обо всем, что ты
хотел бы получить. Но ты упорно молчишь о том, чем намерен
заниматься в жизни”. Не приветствуя таких бесцеремонных рас-
спросов, Уайльд отвечал коротко: “Кто знает. Но кем я не буду
никогда — это оксфордским ученым сухарем”1. Тут он слегка
1 Это же чувство он выразил в поэме “Humanitad”:
И все же я не могу прохаживаться под сводом портика
И жить без желаний, страха и боли
Или же лелеять ту спокойную мудрость, которой в давние времена
Научил людей уважаемый афинский мастер:
68
укавил: из писем матери к нему за 1875-1876 гг. явствует, что
надежды на оксфордскую карьеру у него были. Однако ночами
в колледже Магдалины он воспарял куда выше профессорства:
«Я буду поэтом, писателем, драматургом. Так или иначе, имя свое
я прославлю, а если не прославлю, то ославлю”. Тут слышен отго-
лосок его старых, еще времен Порторы, устремлений, когда он
желал предстать перед Судом Арок как еретик. “Или, может быть,
я буду сперва вести [жизнь наслаждений], а потом — мало ли
что бывает — скажем, утихомирюсь и предамся полному безде-
лью. Ведь что, по Платону, самое высшее, чего способен достичь
человек здесь, в дольнем мире? — сидеть и созерцать прекрасное.
Может, и я под конец к этому приду”. Хантер Блэр не принимал
его слов всерьез: “Чепуха, Оскар. Вот уж на что ты не способен.
Никогда в жизни ты не сможешь просто сидеть сложа руки. Едва при-
сядешь, сразу вскочишь и снова примешься чудить и куролесить”. —
“Поживем — увидим, дорогой мой, — отвечал Уайльд. — Может,
сначала буду чудить, а кончу совсем по-другому. Богам виднее.
Что будет, то будет”. Разговор передан так, как запомнил его Хан-
тер Блэр, однако ответ звучит вполне по-уайльдовски. Оскар
был всегда готов повернуться на сто восемьдесят градусов. Его
привлекала суматоха, но привлекал и квиетизм. А превыше того
и другого было нечто, подмеченное в нем Йейтсом: “наслаждение
своей собственной стихийностью”.
Между Рёскином и Пейтером
Что мне за дело до того, справедливо ли судит
Рёскин о Тернере? Какое это имеет значение? Его
могучая, величественная проза... по меньшей мере
такое же замечательное произведение искусства,
как и любой из этих прекрасно написанных зака-
тов, которые теперь высыхают и трескаются
в Английской галерее.
Уайльд был в слишком большой мере наделен хваткой интеллек-
туального пирата, чтобы ограничивать себя требованиями курса
гуманитарных наук. Он завязал знакомство с ориенталистом
Фридрихом Макс-Мюллером, переводившим в то время Веды,
Уравновешенно в себе, сосредоточенно в себе и успокоенью в себе
Смотреть на проходящие мимо суетные фантомы мира, не склоняя
перед ними головы.
69
и тот, как Уайльд сообщил матери, пригласил его на завтрак в Олл-
Соулз-колледж. Сперанца не преминула дать об этом знать своим
корреспондентам. Возможно, именно Макс-Мюллер пробудил
в душе Уайльда ведическое презрение к плоскому английскому
бытию — презрение, которое потом получит более явственное
выражение в приверженности Оскара созерцательной фило-
софии Чжуанцзы. Однако главную помощь в том, чтобы разо-
браться в интеллектуальной Вселенной, распахнувшейся перед
ним в Оксфорде, оказали ему Джон Рёскин и Уолтер Пейтер — два
видных человека, с которыми он, по его словам, желал познако-
миться сильней, чем с кем бы то ни было. Для студента, испы-
тывающего влечение к искусству, они неизбежно должны были
стать центрами притяжения. Рёскин, которому было пятьдесят
пять лет, занимал почетную должность Слейдовского профессора1
изящных искусств; тридцатипятилетний Пейтер, действительный
член Брейзноз-колледжа, тщетно пытался стать его преемником.
Уайльд не мог знать заранее, насколько противоположны друг
другу они были: Пейтер, в прошлом ученик Рёскина, оспаривал
мнения учителя, не называя его по имени; Рёскин высокомерно
игнорировал притязания Пейтера.
Уайльд познакомился с Пейтером лично только на третьем
году обучения, однако в первом же триместре первого года он был
очарован его книгой “Очерки по истории Ренессанса”, опубли-
кованной годом раньше. Впоследствии он неизменно называл ее
“моя драгоценная книга”, а в “De Profundis” он говорит о ней как
о “книге, оказавшей такое странное влияние на мою жизнь”. Мно-
гие ее фрагменты, и в первую очередь знаменитое “Заключение”,
он знал наизусть. Бытие, заявлял Пейтер, есть поток преходящих
актов, и мы должны сполна использовать каждое мгновение, ценя
“опыт сам по себе, а не плоды его”. Уайльдовский Дориан Грей
цитирует эти слова, не называя источника. “Успеха в жизни, —
пишет Пейтер, — достигает тот, кто горит ровным и твердым
пламенем драгоценного камня”; слово “пламенный” стало теперь
одним из любимых эпитетов Уайльда, и он признался в поэме
“Humanitad”, что желает “единым чистым пламенем гореть”. Горе-
ние может быть разным: для иных это горение страсти (безо-
говорочно одобряемое Пейтером); для иных воодушевление
политикой, или верой, или же тем, что Пейтер называл религией
гуманизма; для иных и это лучшее, что предлагает нам жизнь, —
горение искусства. Проявить с возможно большей полнотой свою
1 То есть профессора, чья работа оплачивалась из фонда Слейда.
(Примеч. иерее.)
70
vuieBHyio восприимчивость — вот идеал, который увлек Уайльда;
в стихотворении "Бремя Итиса”1 он напишет:
От жизни буду пьян,
От юности моей, что бродит в жилах.
Он, однако, покажет двойственность своей позиции, вложив
в уста лорда Генри Уоттона из “Портрета Дориана Грея” пейтеров-
ские суждения подобного рода, которые будут иметь для Дориана
явно дурные последствия.
Рёскин привлекал внимание англичан к искусству иным обра-
зом — в его воззрениях на этот предмет главенствовала мораль.
Художник исполняет свой моральный долг, если он верен природе
и избегает чувственного потворства своим прихотям. Слово “эсте-
тический” стало яблоком раздора между последователями Рёскина
и Пейтера. Иногда Рёскин придавал этому эпитету положительное
значение — например, в цикле из восьми лекций, прочитанном им
в осеннем триместре 1874 г. (с 10 ноября по 4 декабря) и озаглав-
ленном “Эстетическая и математическая школы искусства во Фло-
ренции”. Понятием “математическая” он обозначил учение о пер-
спективе, словом “эстетическая” — все остальное. Использование
здесь этого термина показывает, что он уже весьма прочно вошел
в университетский лексикон. Однако когда его применяли к амо-
ральному искусству, ищущему опоры лишь в самом себе, Рёскин
гневно протестовал. Еще в 1846 г. он отверг призыв к “эстетично-
сти”, заявив, что это попытка низвести искусство до простого раз-
влечения, до “щекотания и овеивания спящей души”. Тем не менее
к 1868 г., когда Пейтер превознес движение прерафаэлитов как
“эстетическую школу в поэзии”, популярность этого слова сильно
возросла. Торопиться с ответом Рёскин не стал, но в 1883 г. за-
явил, что распространяющаяся привычка называть “эстетическим”
то, что являет собой всего-навсего “ароматическую добавку к сви-
ному пойлу”, свидетельствует о “моральной ущербности”. В своих
искусствоведческих трудах он обращал взор к эпохе Средневековья с ее
верой и ее готикой, доказывая, что “расцвет” Ренессанса означал
гниение и упадок. Уайльд в “De Profundis” встал на ту же точку
зрения. Однако Пейтер занимал иную позицию: он ценил Средне-
вековье лишь постольку, поскольку оно предвосхищало Ренессанс,
и считал, что в лучших своих проявлениях Ренессанс еще продол-
жается. Что касается декаданса, Пейтер не боялся приветствовать
то, что он называл “рафинированным и миловидным декадансом”.
1 Итис — в греческой мифологии сын царя Терея и Прокны, убитый
собственной матерью. (Примеч. перев.)
Уайльд мог видеть, что ему предлагают не только две весьма
различные доктрины, но и два разных словаря. И Рёскин, и Пей-
тер восхваляли красоту, но Рёскин требовал, чтобы она сочеталась
с добром, Пейтер же допускал в ней некую примесь зла. Напри-
мер, Пейтеру нравилось семейство Борджа. Рёскин говорил о вере,
Пейтер о мистицизме, словно религия для него была приемлема
лишь в своих крайних, избыточных проявлениях. Рёскин взывал
к совести, Пейтер к воображению. Рёскин поощрял дисциплини-
рованную сдержанность, Пейтер разрешал приятную прихоть. То,
что Рёскин осуждал как греховность, Пейтер ласково принимал
как своенравие.
Уайльд пекся о своей душе не меньше, чем о теле, и, как ни заман-
чивы были соблазны Пейтера, обратился к Рёскину в поисках
духовного руководства. Он счел необходимым прослушать лек-
ции Рёскина о флорентийском искусстве (осенний триместр
1874 г.) в Университетском музее. “Уайльд всегда был там”, —
вспоминает Аткинсон, и Г. У. Невинсон в подтверждение этому
пишет, что всякий раз Уайльд стоял там, “прислонившись боль-
шим и дряблым телом к двери справа от нас, выделяясь чем-то
необычным в своей одежде, а еще больше великолепной головой,
густой массой черных [в действительности темно-каштановых]
волос, живыми глазами, высоким поэтическим лбом и ртом, своей
бесформенностью и жадностью напоминающим пасть акулы”.
Лекции Рёскина в том виде, в каком они были опубликованы
издательством Кука и Уэддерберна, конечно, не включают в себя
отступлений, которыми он их украшал. Он мог, пишет Аткинсон,
“дать любовный разбор картины, а затем внезапно призвать слуша-
телей влюбляться при первой же возможности”. Его красноречие
побуждало студентов аплодировать ему, как никакому другому
профессору, или — что было знаком величайшего восторга —
забывать об аплодисментах.
Во время одной из своих импровизированных проповедей
Рёскин напомнил слушателям предложение, которое он сделал им
прошлой весной (1874): вместо того чтобы упражнять тело в бес-
цельных играх, в “бесплодном взбаламучивании речной воды”,
в “прыжках, гребле и ударах битой по мячику”, им следовало бы
под его началом заняться усовершенствованием сельской округи.
Уайльда, относившегося к спорту с не меньшим пренебрежением,
чем Рёскин, не нужно было долго уговаривать. Рёскин попросил
студентов помочь завершить проект, начатый им несколько меся-
цев назад, достроить сельскую дорогу с цветниками вдоль обочин
в Ферри-Хинкси, где пока что имеется лишь слякотная тропка. Это
будет нечто вроде постройки средневекового собора — этическое
72
предприятие, а не нарциссическое игрище в греческом духе. В сту-
денческой балладе того времени Рёскин заявляет:
Мои помощники, увы, не крепки, не сильны, как львы,
Мускулатурой их природа обделила.
И все-таки у них в руках кайло, лопата и кирка,
Ступай же в Хинкси и работай что есть силы!
Хотя Уайльду вставать на рассвете было труднее, чем большин-
ству людей, — он, как и его мать, предпочитал подниматься после
полудня, — ради Рёскина он преодолел свою лень. Впоследствии
он шутливо хвастался, что удостоился особой чести наполнять
"личную тачку мистера Рёскина” и что мастер сам посвятил его
в таинственное искусство перемещения этого транспортного сред-
ства. Земляные работы были выполнены весной, и теперь дорогу
надо было замостить. Уайльду она была важна не сама по себе,
а как дорога к Рёскину, который после утренних трудов пригла-
шал потную бригаду к себе завтракать. Работы продолжались весь
ноябрь до конца триместра, после чего Рёскин уехал в Венецию;
Уайльд смог вновь вставать поздно, а что касается дороги — она
постепенно подернулась дымкой забвения.
Дорожные работы внушили Уайльду мысль о том, что искус-
ство должно играть роль в усовершенствовании общества. В своих
разговорах в колледже Магдалины он часто обращался к теме соци-
ального обновления Англии. Рёскин был не прочь англизировать
потусторонний мир своими замечаниями вроде такого: “На вок-
зале Паддингтон я чувствовал себя точно в аду”; Уайльд, став-
ший его последователем, говорил друзьям, что фабричные трубы
и вульгарные мастерские следовало бы переместить на какой-
нибудь дальний остров. “Я вернул бы Манчестер пастухам, а Лидс
фермерам-скотоводам”, — великодушно заявлял он.
После возвращения из Венеции Рёскин поощрял визиты
Уайльда, и встречи их стали частыми. Дружить с Рёскином было
и лестно, и поучительно. “Прогулки и беседы с Вами — это
самые мои дорогие воспоминания об оксфордских днях, — писал
Уайльд Рёскину уже после окончания университета, — и от Вас
я научился только доброму. Да и как же могло быть иначе? В Вас
есть что-то от пророка, от священника, от поэта; к тому же боги
наделили Вас таким красноречием, каким не наделили никого дру-
гого, и Ваши слова, исполненные пламенной страсти и чудесной
музыки, заставляли глухих среди нас услышать и слепых прозреть”.
Это признание ученика учителю говорит, возможно, и о том, что
Уайльду было известно, насколько великий Рёскин сам нуждается
в Душевной поддержке. Бодли пишет в дневнике, как 25 апреля
73
1875 г. он пришел к своему другу Уильяму Мани Хардингу из Бэл-
лиол-колледжа, который был завзятым эстетом. Когда Бодли вошел,
Хардинг играл на пианино пьесу Вебера; прервав игру, он стал
рассказывать, как пил чай у Рёскина. Атмосфера чаепития была
странно торжественной; на столе горели свечи. Рёскин вскоре
принялся изливать душу: “Истинная скорбь приносит человеку
добро; скорбь ложная приносит ему зло. За всю жизнь я любил
только одну женщину и до сих пор отношусь к ней и к тому, кто
отнял ее у меня, с великодушием”. Войти в доверие к Рёскину зна-
чило иметь доступ не только к его достижениям, но и к его разо-
чарованиям.
Уайльд, как показывает его письмо от 28 ноября 1879 г., знал
о неудачном браке Рёскина. Он пишет о том, как ходил с ним в этот
день смотреть 1ёнри Ирвинга в роли Шейл ока, после чего, уже без
Рёскина, был на балу у Милле. “Как странно”, — замечает Уайльд.
Странность заключалась и в том, что он смотрел “Венецианского
купца” в обществе автора книги “Венецианские камни”, и в том,
что после спектакля он отправился на бал в ознаменование заму-
жества дочери Милле. Миссис Милле в течение шести лет была
миссис Рёскин, и три года из этих шести Милле был близким дру-
гом и протеже Рёскина. О том, что брак Рёскина был расторгнут
ввиду отсутствия брачных отношений, было широко известно,
и большая часть сведений, наполнивших впоследствии дюжину
книг, уже тогда стала в Оксфорде достоянием молвы. В отноше-
нии Уайльда к Рёскину, наряду с уважением, был элемент сочув-
ствия, и при всем своем восхищении старшим современником
Уайльд не мог не видеть его жизненных неудач.
Уайльд соглашался по крайней мере иногда с представле-
нием Рёскина о Венеции как о средневековой Пречистой Деве,
ставшей ренессансной Венерой; превращение, считал Рёскин,
было отмечено созданием ряда специфических архитектурных
и живописных работ. В “De Profundis” Уайльд восхваляет “соб-
ственно Возрождение Христово, создавшее Шартрский собор,
цикл легенд о короле Артуре, жизнь святого Франциска Ассиз-
ского, творчество Джотто и “Божественную комедию” Данте”;
к несчастью, затем оно “было прервано и искажено тем унылым
классическим Ренессансом, который дал нам Петрарку, фрески
Рафаэля, архитектуру школы Палладио, классическую француз-
скую трагедию, и собор Св. Павла, и поэзию Попа, и все то, что
создается извне, по омертвелым канонам, а не вырывается изну-
три, вдохновленное и продиктованное неким духом”. При всем
том и в Оксфорде, и после него Уайльд вторил также и Пей-
теру, превознося многие из творений итальянского Ренессанса
и последующих эпох. Если Рёскин был человеком разграниче-
74
ния, то Пейтер был человеком смешения. Эссе в книге Пей-
ера посвящены сюжетам, относящимся к различным временам,
от ХШ до XVIII в., но все они прославляют одно и то же — муж-
скую дружбу, которую воплотили в себе Эмис и Эмил 1 Сред-
невековья, Пико делла Мирандола и Фичино, Леонардо и его
модель для св. Иоанна, Микеланджело и возлюбленный адресат
его сонетов, наконец, Винкельман, убитый на пути к Гете. Книга
Пейтера проникнута атмосферой скрытого приглашения, тогда
как труды Рёскина — атмосферой скрытого отказа. Что каса-
ется гомосексуализма, Рёскин не соглашался с тем, что практика
афинян облагородила это явление и дала ему право на сущест-
вование; он доказывал, что “некая извращенность чувств5', каса-
ющаяся отношения к женщинам, и излишнее “преклонение
перед мужской телесной красотой55 способствовали падению
Греции. Однако одержимость самого Рёскина мыслями о юной
Розе Латуш1 2 не позволяла принимать слишком всерьез его заяв-
ления в защиту сексуальной нормы. Завлекающие речи Пейтера
звучали убедительней. Необычайное влияние, которое оказали
на Уайльда его “Очерки”, объясняется, среди прочего, и тем, что
это попытка соблазнения молодых людей приманками культуры.
В противовес решительному рёскиповскому “Noli me tangere5’3
Пейтер выдвинул некий подрывной призыв продолжать дело
Ренессанса — мужская рука в мужской руке.
Для Уайльда эти два человека были как два глашатая, и каждый
звал его в свою сторону. Своим бессознательным самораскрытием
они наилучшим образом подтверждали слова, сказанные Уайль-
дом впоследствии: “Критика есть высшая форма автобиографии55.
Ритмы, в которых один из них осуждал, сопоставимы с ритмами,
в которых другой обольщал. Один был постхристианином, дру-
гой постязычником. Рёскин был возвышен, обличающе-торжест-
вен и фанатичен; Пейтер хитер, полон некой скрытой энергии
и вместе с тем осторожен. Ни тот ми другой нс предложил Уайль-
ду пути, по которому он мог бы идти без колебаний и сомнений.
Уайльд обычно называл Пейтера “сэр Уолтер55 и впоследствии
раскритиковал стиль его “Очерков55 как слишком академичный,
1 Эмис и Эмил (Эмилоун) — персонажи средневекового стихотвор-
ного романа. (Примеч. перев.)
- Розе Латуш было И лет в 1858 г., когда они познакомились с Рёски-
ном, и 18 лет, когда он сделал ей предложение. Брак оказался невозмо-
жен из-за религиозных разногласий и противодействия ее родителей.
Она умерла в 1875 г., и любовные воспоминания о ней преследовали
Рёскина еще много лет. (Примеч. перев.)
3 "Не тронь меня” (лат.).
/ 7
лишенный “подлинной ритмической жизни слов”. Когда Пейтер
умер, Уайльд, по словам Макса Бирбома, воскликнул: “А был ли
он когда-нибудь жив?” В поздние годы, как с сожалением заметил
Роберт Росс, он довольно пренебрежительно отзывался о Пей-
тере как человеке, писателе и источнике влияния. Что касается
Джона Рёскина, Уайльд вывел в “Саломее” другого пророка, его
тезку, в образе неистового, неприкасаемого Иоканаана. Он пере-
рос и того и другого.
Глава 3
Рим и Греция
Римская горячка нанесла очень сильный ущерб
моему разуму, карману и счастью.
Мэннингианство
Уайльд уже чувствовал себя в Оксфорде как дома.
Беззаботен он, однако, не был. Беспокойство достав-
ляла ему не учеба, а состояние его духа. Его влечение
к католицизму усилилось в Оксфорде по сравнению
с Тринити, и в его письмах часто чувствуется смятение
по этому поводу. Он знал, что Рёскин перед тем, как они познако-
мились, провел лето в монастырской келье в Ассизи, хотя и отка-
зался перейти в римскую веру, заявив, что он и без того более
католик, чем сами католики. Пейтер часто посещал католические
храмы, восхищаясь красотой обряда и убранства, и впоследствии
в “Мории-эпикурейце” он восхвалит их “эстетическое очарова-
ние”, сохраняя вместе с тем сдержанное отношение к католиче-
ской догматике. Другие оксфордцы были менее стойки; обраще-
ние в католичество Генри Эдварда Мэннинга из Бэллиол-колледжа
и Джона Генри Ньюмена из Тринити-колледжа (первый был
воплощением мощи, второй воплощением изощренной гибко-
сти) уже вошло в историю. Позднее их примеру последовал Дже-
рард Мэнли Хопкинс, также из Бэллиол-колледжа. Уайльду, учив-
шемуся в колледже Магдалины, самый близкий пример явил его
Друг Дэвид Хантер Блэр.
Обстоятельства перехода Хантера Блэра в католическую веру
были весьма впечатляющи. Во время зимнего триместра 1875 г.
его отпустили в Лейпциг изучать музыку, и из Лейпцига он про-
следовал в Рим на церемонию возведения Мэннинга в сан карди-
нала, состоявшуюся 15 марта 1875 г. Мэнниш был его кумиром
благодаря своей твердой поддержке доктрины папской непогре-
шимости, которую он незадолго до того защищал от обвинения
Гладстона в том, что она “равным образом противоречит совре-
менной мысли и древней истории”. Через десять дней после цере-
монии 15 марта воодушевленный Хантер Блэр был принят в лоно
церкви. Это было примечательное обращение: конфирмовал его
архиепископ (позднее кардинал) Хауард, и сам папа Пий IX бла-
гословил его и даровал ему должность почетного папского каме-
рария.
Вернувшись в колледж Магдалины в конце апреля, Хантер
Блэр принялся уговаривать Уайльда и других последовать его
примеру. Несколько студентов колледжа так и сделали. Уильям
Уорд улыбался и помалкивал; Уайльд не улыбался и говорил
не закрывая рта. Главным препятствием он называл риск навлечь
недовольство сэра Уильяма Уайльда. “Я уверен, что, стань я тогда
католиком, — сказал он, имея в виду врегля учебы в Тринити-
колледже, — он лишил бы меня денег напрочь, и то же самое
он сделает сейчас. Потому-то он и радовался, когда я поступил
в Оксфорд: решил, что здесь я буду огражден от вредных рели-
гиозных влияний. А теперь выходит, что мой лучший друг стал
папистом!” Они с Блэром были в совершенно разном положении.
У Блэра была своя собственность. “Хорошо тебе, дорогой мой
Дански, ты не зависишь от отца и можешь делать, что тебе взду-
мается. Со мной все обстоит иначе”.
Хантер Блэр, на которого эти финансовые аргументы
не подействовали, не отступался. Перспектива обращения
манила Уайльда; он чувствовал себя виноватым и грешным; ему
нравилось то, что он называл “ароматом веры”, и он украсил
свой средний палец кольцом с овальным аметистом, которое
выглядело чуточку по-священнически. Позже он вложил свои
собственные ощущения в описание воздействия, какое католиче-
ский ритуал оказывал на Дориана Грея: “Таинство ежедневного
жертвоприношения за литургией, воистину более жуткого, чем
все жертвоприношения Древнего мира, волновало его своим
великолепным презрением к свидетельству всех наших чувств,
первобытной простотой, извечным пафосом человеческой тра-
гедии, которую оно стремится символизировать. Дориан любил
преклонять колена на холодном мраморе церковных плит и смо-
треть, как священник в тяжелом парчовом облачении медленно
снимает бескровными руками покров с дарохранительницы
или возносит сверкающую драгоценными камнями дароносицу,
похожую на стеклянный фонарь с бледной облаткой внутри...
Любил Дориан и тот момент, когда священник в одеянии стра-
стей Господних преломляет гостию над чашей и бьет себя в грудь,
соКрушаясь о грехах своих. Его пленяли дымящиеся кадильницы,
которые, как большие золотые цветы, качались в руках мальчи-
ков с торжественно-серьезными лицами, одетых в пурпур и кру-
жева”. В июне 1875 г. интерес Уайльда к католицизму стал до того
аффектированным, что его гости изумлялись. Среди них был
скульптор лорд Рональд Гауэр, младший сын второго герцога
Сазерлендского, который пришел к Уайльду в компании своего
приятеля Фрэнка Майлза, молодого портретиста. 4 июня 1875 г.
Гауэр так описал Уайльда в своем дневнике: “Славный привет-
ливый малый, но его длинноволосая голова полна всякой като-
лической чепухи. Комната у него вся увешана фотоснимками
Папы Римского и кардинала Мэннинга” (у Уайльда также была
алебастровая Мадонна). Гауэр, который сам раньше был нерав-
нодушен к Ньюмену, предостерег Уайльда от уговоров Хантера
Блэра. Уайльду больше подходила роль протестантского ереси-
арха, нежели католического зилота.
Летние каникулы 1875 г. усилили его нерешительность.
Начало их он провел в Италии, где смотрел картины, страстное
желание увидеть которые родилось в нем благодаря описаниям
Рёскина. Довольно странно, если принять во внимание его близ-
кую дружбу с Хантером Блэром, что путешествовал он в обще-
стве своего старого куратора из Тринити профессора Махаффи,
который был протестантским духовным лицом и смертельно
ненавидел католицизм, и молодого человека по имени Уильям
Гулдинг, сына богатого дублинского коммерсанта и также убе-
жденного протестанта. Возможно, Уайльд для того и поехал
с ними, чтобы уберечь себя от влияния Хантера Блэра. Его письма
домой не внушали отцу никаких тревог по поводу возможного
религиозного переворота и содержали одинаково восхищенное
описание как этрусских гробниц, так и “Вознесения” Тициана
(“лучшая картина в Италии”). В этих письмах он умалчивает
о своем волнении при виде столь многих художественных свиде-
тельств католического благочестия. Стихотворение, написанное
им около 15 июня 1875 г., сразу после посещения церкви Сан-
Миньято во Флоренции, передает восторг от метафизического
переживания, с одной стороны, и от красочности мира сего —
С другой.
Непосредственный мотив, побудивший Уайльда к стихосложе-
нию, во многом связан с сознанием противоречия между одним
и другим, и главное, о чем повествует стихотворение, — это некий
торг за человеческую душу, попытка перекупить ее и внутреннее
состояние торгующихся сторон. Вот первоначальный рукописный
вариант “Сан-Миньято”, который разительно отличается от более
позднего:
79
Сан-Минъято
(15 июня)
I
Вот я взошел на горный склон
К этому святому дому Господа,
Туда, где ходил Ангельский Монах,
Который видел разверзшиеся небеса.
Олеандр на стене
Алеет в утреннем свете;
Серебряные ночные тени
Окутали Флоренцию, словно пеленой.
Листья мирта нежно шевелятся
От печального дуновения ветра,
Из пахнущей миндалем долины
Доносится пение одинокого соловья.
II
День скоро заставит тебя умолкнуть,
О соловей! Пой же о любви,
Пока еще на сумрачную рощу
Падают светлые стрелы луны.
Пока еще через безмолвную поляну
В золотом тумане крадется лунный свет
И скрывает от утомленных любовью глаз
Длинные пальцы зари,
Карабкающиеся по восточному краю неба,
Чтобы схватить и убить содрогающуюся ночь,
Безразличные к восторгу моего сердца
И к тому, что соловей может умереть.
Уайльд восхваляет Фра Анджелико, но Фра Анджелико среди
соловьев и неприрученных олеандров и миртов. Христианский
антураж существенно искажен языческими пернатыми и всем
образным арсеналом любви, заговора и убийства падающими
стрелами, крадущимся лунным светом, зарей, приканчивающей
ночь. В борьбе за душу Уайльда между мирским и священным мир-
ское потеснило противника. Однако для публикации в “Дублин
юниверсити магазин” (март 1876) была подготовлена новая редак-
ция стихотворения, и там священное берет реванш повсеместно,
8о
за исключением концовки; пассивное созерцание природы усту-
пает место мольбе о вмешательстве свыше:
QaH-Минъято
Вот я взошел на горный склон
К этому святому дому Господа,
Туда, где ходил Ангельский Монах,
Который видел разверзшиеся небеса,
Где на троне полумесяца
Восседала Царица небес и благодати
Мария, если бы только я мог видеть Твой лик,
Смерть не пришла бы так невозможно скоро.
О! Ты, которую Бог увенчал любовью и пламенем,
О! Ты, которую увенчал Христос,
О! Услышь меня, пока ищущее солнце
Не явило миру мой грех и мой стыд.
Начальные строки по-прежнему лучшие, но вот “Смерть
не пришла бы так невозможно скоро” — явный провал. Увидев
стихотворение сына напечатанным, сэр Уильям от души обрадо-
вался. Леди Уайльд обошла молчанием пиетизм этих строк, но сде-
лала одно профессиональное замечание: “Грех достоин уважения
и глубоко поэтичен, а вот о Стыде этого не скажешь”. Уайльд поза-
имствовал связь этих понятий у поэта куда более профессиональ-
ного — у Альфреда Теннисона (“In Memoriam”, 48)1. У Уайльда,
однако, все свелось к театрализованному кокетливому покаянию.
Впоследствии он научился держать подобные признания при себе.
19 июня путешественники отправились из Флоренции в Боло-
нью, а оттуда в Венецию. Уайльду запомнилось, как “жемчужные
и фиолетовые оттенки морской раковины откликаются в ин-
терьере церкви Св. Марка”. 22 июня они ненадолго останови-
лись в Падуе, чтобы посмотреть Джотто, которого Уайльд вслед
за своим учителем Рёскином оценил очень высоко; вечером 23-го
они отбыли в Верону. Уайльд написал сонет о пребывании там
в 1303-1304 гг. изгнанного из Флоренции Данте; в сонете впервые
у него поэт окружен тюремными образами, хотя Данте в Вероне
в тюрьму заключен не был:
1 “И [Скорбь] считает грешным и стыдным извлекать / Глубочайшую
гармонию из струн”.
8
... я за тюремными замками
Владею тем, чего нельзя отнять,
Любовью и ночными небесами.
Эти утешения, предлагаемые здесь с такой легкостью, окажутся
для самого Уайльда не столь доступными, как он думал.
Из Вероны Махаффи и Гулдинг поехали в Рим; Уайльду,
который истратил все деньги, пришлось 25-го числа отправиться
домой. Это дало ему тему для нового стихотворения “Рим непо-
сещенный”:
И здесь я обращаю лицо в сторону дома,
Ибо паломничество мое окончено,
Хоть мне и чудится, что багровое солнце
Указывает мне путь к священному Риму.
Стихотворение привело в восторг Хантера Блэра1, поскольку
Уайльд выразил в нем стремление увидеть римского папу “един-
ственного короля, возведенного на престол Богом” — и надежду
на то, что, если он сможет петь как религиозный поэт, сердце его
освободится от страхов. Удаляясь от Рима в пространстве, он при-
ближался к нему в воображении.
Последующая часть лета была посвящена мирским радо-
стям. Уайльд вернулся через Париж в родную Ирландию и провел
несколько недель в западной ее части. Он мог свободно выбирать
между “Домом-в-Мойтуре” близ Конга, откуда открывался величе-
ственный вид на озеро Лох-Корриб, и Иллонроу — охотничьим
домиком на острове посреди озера. Он мог вдоволь 1рести, стре-
лять, рыбачить, ездить верхом и плавать под парусом. В августе он
вернулся в Дублин, чтобы встретить своего друга Фрэнка Майлза,
который ненадолго приехал к нему в гости. Майлз сделал там пор-
третный набросок Уайльда, отпустившего небольшие усики, которые
он вскоре сбреет.
В августе 1875 г. Уайльд, кроме того, познакомился с первой
из череды молодых красавиц, обществу которых он будет уделять
немало внимания до конца своих холостяцких дней. Флоренс Бол-
ком была третьей из пяти дочерей английского подполковника,
в прошлом служившего в Индии и Крыму. Бесприданница, она,
однако, показалась Уайльду “изысканно красивой”. Они познако-
мились у нее дома по адресу Клонтарф, Мэрион-террас, дом № 1.
Ей было семнадцать лет, Уайльду двадцать. 16 августа Уайльд сопро-
1 Оно понравилось также Джону Генри Ньюмену, которому Уайльд его
послал.
82
вождал ее на вечернюю службу в протестантский собор Св. Пат-
рика. У них возникла живая взаимная симпатия. На Рождество
1875 г. Уайльд подарил ей небольшой золотой крестик, на котором
были выгравированы имена их обоих. Идея брака витала в воз-
духе, он и она явно дарили друг другу невинные ласки, но Уайльд,
будучи студентом, не мог жениться. Нам трудно сейчас измерить
силу его чувств, которую он преувеличивал, а она впоследствии
преуменьшала. Вполне возможно, в привязанности Уайльда было
немало расчета. Она не помешала ему усадить себе на колени дру-
гую дублинскую девицу по имени Фиделия1 и флиртовать с некой
Евой1 2. Тем не менее Флоренс Болком близко подошла к тому,
чтобы официально считаться его избранницей. В сентябре 1876 г.
он послал ей свою акварель, на которой был изображен “Дом-
в-Мойтуре”. Любовные стихотворения, написанные им в период
этой напускной преданности, несут в себе оттенок некой пробы.
В двух из них говорится о смерти любящих или любимых — весьма
удобный выход для не слишком пламенных сердец, как, например,
в стихотворении, впоследствии названном “Chanson”3 * 5:
Золотое кольцо и молочно-белый юлубь —
Вот дары для тебя,
А твоему возлюбленному — пеньковая веревка,
На которой его вздернут.
1 Мать девушки написала ему письмо:
Дорогой Оскар! Когда я в последний раз была в Вашем доме, мне
весьма неприятно было войти в гостиную и увидеть Фиделию у Вас
на коленях. Как ни молода она еще, ей следовало бы проявить (я не раз
ей об этом говорила) инстинктивную стыдливость и воздержаться
от этого, но — увы! Оскар, это было неправильно, немужественно,
не по-джентльменски с Вашей стороны. Вы разочаровали меня [... ]
Теперь о другом. Меня даже почти забавляет, что Вы принимаете меня
за такую дуру, я имею в виду то, что Вы целуете Фиделию при встрече
и пытаетесь делать это незаметно для меня [...] Например, когда мы
виделись в последний раз, Вы оставили меня, даму, одну, и мне самой
пришлось открывать дверь вестибюля, а Вы специально задержались
в вестибюле, чтобы поцеловать Фиделию. Неужели Вы хоть одну
секунду могли думать обо мне как о полной тупице, неспособной
понять, что Вы норовите поцеловать Ф. при первой возможности?
2 Из письма ему от 11 октября 1875 г., которое написала Эдит
Дж. Кингсфорд из Брайтона, явствует, что он флиртовал с се
двоюродной сестрой Евой, которая явно была увлечена им;
Эдит предлагает свое содействие в организации брака, если это
соответствует его намерениям, даже несмотря на то, что мать Евы
своего согласия никогда не даст.
5 Песенка (фр.).
83
В подражание Суинберну он описывает ее “нежное, пре-
красное тело, созданное для любви и боли”, в подражание Рос-
сетти называет ее “белой лилией, поникшей от дождя”. Главная
героиня стихотворения “Скорбь королевской дочери” совершает
семь смертных грехов, которые оказываются убийствами семи ее
воздыхателей. Стихи указывают на то, что их автор слова предпо-
читал чувствам, а затруднения удовлетворению.
Когда осенью 1875 г. Уайльд вернулся в Оксфорд для второго
года обучения, на уме у него были и любовь, и религия. 23 ноя-
бря 1875 г. в проповеди на освящении новой церкви Св. Алоизия
кардинал Мэннинг с едкой насмешкой говорил об оксфордском
девизе “Dominus Illuminatio Меа” I Это была первая католическая
церковь, построенная в Оксфорде после Реформации. Уайльд
поставил свое имя среди тех, кто слушал, как Мэннинг обру-
шился на Оксфорд, обвиняя его в духовной спячке и загнива-
нии. И тогда, и позже Уайльд находил Мэннинга “обворожитель-
ным” — слово скорее из светского, нежели религиозного словаря.
Хантер Блэр мог надеяться, что это событие подтолкнет Уайльда
к принятию решения, но он недооценил удовольствие, которое
доставляла его другу неопределенность. Длительные дискуссии
о состоянии Оскаровой души все продолжались. Однажды поздно
вечером даже Хантер Блэр потерял терпение. Он стукнул Уайльда
по голове и воскликнул: “Ты будешь проклят, ты будешь проклят,
ведь видишь свет и не идешь к нему”.
Уильям Уорд, который слушал их разговор, спросил: “А я?” —
“Ты спасешься благодаря твоему непобедимому невежеству”, —
ответил Хантер Блэр. В начале декабря, придя к Бодли, Уайльд
признался, что он “колеблется” (так пишет Бодли) “между като-
личеством (мэннингианством) и атеизмом”. Бодли в ответ язви-
тельно заметил, что, если одним ирландским папистохм станет
больше, вселенная от этого не пошатнется. Уайльд продолжал
колебаться: посещал проповеди его преподобия Генри Джеймса
Коулриджа в церкви Св. Алоизия, писал Уорду, что он “сильней,
чем когда бы то ни было, опутан сетями Вавилонской Блудницы"1 2,
и, можно сказать, пятился к алтарю, не спуская глаз с выхода.
Наряду с начатками отступничества от семейной религии
возникли первые намеки на двойственность в его отношениях
с мужчинами. И Аткинсон, и другие находили в его покачиваю-
щейся походке нечто девически-изнеженное, а Джулиан Готорн
(сын писателя Натаниэла Готорна) отметил в дневнике, что “в нем
1 “Господь — свет мой” (лат.) (Пс. 26: 1).
2 Так английские протестанты презрительно именовали католическую
церковь. (Прнмеч. перев.)
чувствуется что-то до ужаса женственное”. Друзья Уайльда в кол-
ледже Магдалины не были гомосексуалистами, однако художник
фрэнк Майлз, вероятно, пребывал на грани, о чем косвенно гово-
пит большой интерес, проявленный к нему лордом Рональдом
Гауэром, с которым они ездили в Париж. О том, что некоторые
другие оксфордские знакомства Уайльда были двусмысленными,
свидетельствует запись в дневнике Бодли, датированная 4 дека-
бря 1875 г. (Уайльд тогда был на втором году обучения). Бодли
пишет: “Заходил к Уайльду, который оставляет на виду, чтобы дру-
зья читали, идиотские письма от людей, “алчущих его” и назы-
вающих его “Фоско”. Фитц одолжил ему пятерку, и поживиться
у него в квартире было нечем”. Уайльд и сам порой писал мужчи-
нам весьма теплые письма, что видно из послания неизвестному
корреспонденту, отправленному из колледжа Магдалины:
Дорогой мой Гарольд! Я уж и не думал, что ты когда-нибудь дашь
о себе знать. Хорошо бы музыка не стала для тебя сиреной, заставля-
ющей забыть обо всех, кроме нее. Не придешь ли ты ко мне сегодня
вечером часов в 9 или в другое время, когда только сможешь улизнуть
от “сэра Джона”, которым, как мне кажется, ты дорожишь куда больше,
чем
искренне твоим
ОСКАРОМ УАЙЛЬДОМ.
Сегодня у меня будут ужинать еще кое-какие люди — не слишком
интеллектуальные, — но среди них ты увидишь Вона Хьюза.
Хотя Бодли ощутил неловкость из-за мужских излияний неж-
ности в адрес Уайльда, он решил не придавать им большого зна-
чения и на следующий день сыграл с Уайльдом шутку, об успехе
которой иронически пишет 6 декабря: “Уайльду не нравится, когда
ему присылают тресковые головы и “Лондон джорнал”. Головы он,
по его словам, тайком выбросил в Чируэлл, чувствуя себя прямо-
таки Уэйнрайтом (убийцей)”. (Это первое указание на интерес
Уайльда к преступникам, особенно к таким артистам из их числа,
как Уэйнрайт, о котором он потом напишет эссе “Кисть, перо
и отрава”.) Однако был и другой, куда более тревожный эпизод.
Он произошел в Бэллиол-колледже и затронул друга Бодли
(и Рёскина) Уильяма Мани Хардинга, которого Уайльд знал
по рёскинской дорожно-строительной бригаде. Хардинг был бли-
зок к окончанию курса, когда вдруг выяснилось, что Уолтер Пей-
тер присылал ему письма, подписанные: “Любящий Вас... ” Дело
усугублялось “неблагопристойностью” в разговорах и поведе-
нии Хардинга. Хотя были приложены старания избежать огласки,
обо всем этом было хорошо известно в Бэллиол-колледже, осо-
бенно в кругу учеников Рёскина. Другу Хардинга Альфреду Мил-
неру (позднее ставшему виконтом Милнером) пришлось признать,
что Хардинг известен как “бэллиолский содомит”. В те годы “культ
мальчиков” был в Оксфорде животрепещущей темой1. Сочли,
что Хардинг порочит доброе имя колледжа, и весной 1875 г.
был поставлен в известность Р. Л. Неттлшип, куратор колледжа
по классическим дисциплинам. Тот ничего не предпринял, и тогда
студент Леонард Монтефиоре, товарищ Милнера по строитель-
ству дороги, подал на имя главы Бэллиол-колледжа Бенджамина
Джауэтта формальную жалобу на непристойное и богохульствем-
ное поведение Хардинга, в качестве улик предъявив, по-видимому,
его сонеты гомосексуального содержания. Милнер и Арнольд
Тойнби (1852-1883) — еще один участник дорожных работ —
попытались помочь Хардингу: Тойнби уговорил его уничтожить
порочащую его переписку, Милнер взял под защиту его сонеты,
доказывая, что это всего лишь литературные упражнения, имею-
щие целью шокировать читателя. В начале 1876 г. Джауэтту рас-
сказали о письмах и передали копии сонетов. Он был глубоко
потрясен как поведением Пейтера, с которым он тогда порвал
отношения, так и поступками Хардинга. Сам будучи холостяком
и платонистом, Джауэтт прощал Платону его любовь к мужчинам
на том основании, что современные читатели легко могут пре-
образовать ее в любовь к женщинам. “Живи он в наши дни, он
совершил бы это преобразование сам”. Но Хардингу он не нашел
оправданий и официально обвинил его в “хранении и декламиро-
вании безнравственных стихов”. Поначалу Хардинг все отрицал.
Возмущенный Джауэтт предложил ему выбор: либо тихий отъезд,
либо инспекторское расследование. Хардинг предпочел первое.
Джауэтт написал его отцу, что молодой человек “ведет здесь образ
жизни, могущий в итоге повредить ему саглому и уже бросаю-
щий тень на репутацию колледжа. Его разговоры и писания полны
непристойностей, его знакомства дурны, его учебные успехи
равны нулю в квадрате. Есть ли смысл ему оставаться в Оксфорде?”
Отец Хардинга, известный врач, нехотя согласился. Была, правда,
одна трудность: Хардингу за стихотворение о Елене Прекрасной
была присуждена Ньюдигейтская премия, и при нормальном ходе
событий он должен был бы в июньский день поминовения (когда
1 Брошюра Чарлза Эдварда Хатчинсона под названием “Культ мальчи-
ков” была опубликована там в апреле 1880 г. без указания автора и вы-
звала живую полемику в трех номерах еженедельной газеты “Окс-
форд энд Кембридж андергредюэйтс джорнал” (22 и 29 апреля, 6 мая),
которая была прекращена вмешательством университетских властей.
86
присуждались премии и почетные степени) торжественно про-
честь его в Шелдоновском зале университета. Уступив давлению,
он сказался больным и не явился; Бодли, как и другие, прикинулся,
будто верит этому предлогу1.
Этот эпизод лишний раз подчеркнул опасность, которой
было чревато в Оксфорде поведение, подобное хардин говскому.
Будучи близким другом Милнера и Монтефиоре, Уайльд пони-
мал степень риска. И тем не менее он начал выказывать интерес
к отношениям между мужчинами. По словам Андре Раффаловича,
свидетеля не слишком дружественного, Уайльд говорил, что полу-
чает столько же удовольствия от бесед на гомосексуальные темы,
как другие от однополой любви как таковой. Что угодно могло
вызвать у него компрометирующую его реакцию. Так, молодая
художница Вайолет Трубридж показала ему свою пастель “Растра-
ченные дни”, представлявшую собой двойной портрет юноши,
праздного летом и голодного зимой. Эта работа дала Уайльду
повод к написанию сонета, начинавшегося так:
Красивый стройный юноша, созданный не для болей этого мира,
С золотыми волосами, густо струящимися вокруг ушей...
Бледные щеки, на которых ни один поцелуй еще не оставил следа,
Алая нижняя губа, поджатая из страха перед Любовью,
И белая шея — белей, чем голубиная грудка...
Он был опубликован в “Коттабосе” в 1877 г., но четыре года
спустя, готовя к печати сборник стихотворений, Уайльд переделал
юношу в девушку:
Лилейная девушка, созданная не для болей этого мира,
С мягкими темными волосами, плотно стянутыми вокруг ушей...
Бледные щеки, на которых ни один поцелуй еще не оставил следа,
Алая нижняя губа, поджатая из страха перед Любовью,
И белая шея — белей серебристого голубя.
Сонет получил название “Madonna Mia” — “Моя мадонна”.
В 1876 г. в дублинском театре Уайльд увидел другого оксфорд-
ского студента в приватной ложе в обществе мальчика-хориста.
Будучи не прочь посплетничать, но и тревожась тоже, он писал
Уильяму Уорду:
1 Одиннадцать лет спустя в рецензии на один из романов Хардинга
Уайльд добродушно напишет, что его герой — это “аркадский Анти-
ной и подлинный Ганимед в гетрах”.
87
Сам-то я думаю» что нравственность Тодда остается на высоте,
что он ласкает мальчика только в воображении, но глупо с его сто-
роны повсюду водить мальчика с собой, если он действительно это
делает.
Рассказываю об этом тебе одному, потому что ты человек фило-
софского склада, но молчи об этом, будь умницей — иначе могут быть
неприятности и у нас, и у Тодда.
Особенно осторожничать, однако, Уайльд не желал. В начале
1876 г., услышав о том, что в Оксфорде находится Оскар Брау-
нинг, только что — в декабре 1875 г. — потерявший преподава-
тельскую должность в Итоне из-за своей чрезмерной близости
с такими учениками, как, например, Джордж Керзон, Уайльд
пожелал познакомиться с ним на том основании, что “я слышал
столько клеветы в Ваш адрес, что у меня нет сомнений: Вы пре-
красный человек”. И тогда, и позже он без колебаний шел на риск.
Возможно, он видел авторитетное оправдание своему поведению
в мыслях Аристотеля, ибо в свой экземпляр “Никомаховой этики”
(на котором помечено: “Колледж Магдалины, октябрь 1877 г. ”)
вслед за предисловием Аристотеля он вписал следующее: “Человек
выводит цель своего бытия из себя самого; цель не может быть
наложена внешними соображениями, он должен осознать свою
подлинную натуру, должен быть тем, чем натура приказывает ему
быть, должен открыть, в чем она состоит”.
Его надежды на стипендию по классическому отделению
по окончании курса могли рухнуть в случае провала на публич-
ных экзаменах на степень бакалавра, которые ему предстояло сда-
вать в июне 1876 г. В порыве трудолюбия он остался на весенние
каникулы в Оксфорде, чтобы основательно позаниматься, и тут
из Дублина пришла тревожная весть об ухудшении здоровья
отца. Сэру Уильяму становилось все хуже и хуже. Частые при-
ступы астмы и подагры разрушали остатки его здоровья. Стара-
ясь исполнять хоть что-то из былых обязанностей, он в феврале
1876 г. присутствовал на официальном собрании, надев, как он
любил, свой орден Полярной звезды и соответствующую форму.
Но на следующий день он слег, страдая от удушья. С начала марта
он был прикован к постели. Приехавший в Дублин Оскар был
удручен состоянием отца. Но его восхитил поступок матери:
когда уже было ясно, что дни ее мужа сочтены, она позволила
некой незнакомке под вуалью — возможно, матери по крайней
мере одного из побочных детей сэра Уильяма — прийти и поси-
деть у его постели в скорбном молчании. Сэр Уильям умер
19 апреля на руках у родных. Его друг сэр Сэмюэль Фергюсон
в элегии на его смерть прощался с ним:
88
Сомкнулись воды, Уайльд, — уж ты от нас далече.
На здешнем берегу не будет больше встречи... —
и восхвалял его способности целителя, его доброту, его усилия,
направленные на сбор и сохранение древностей, его любовь
к сельскому ландшафту. Сэр Уильям прожил отнюдь не жалкую
жизнь.
Однако его завещание стало настоящим бедствием: он тратил
деньги в таких же больших количествах, в каких зарабатывал, и,
возможно, оставил существенные суммы матерям своих незакон-
норожденных детей. Дом № 1 по Мэррион-сквер и “Дом-в-Мой-
туре” были намертво заложены; свободными от залога оставались
лишь дома у озера Лох-Брей и охотничий домик в Иллонроу. Леди
Уайльд увидела, что ее вдовья доля изрядно уменьшилась. Хотя
каждому досталась своя часть (Оскару дома у Лох-Брей, Уилли
дом на Мэррион-сквер, леди Уайльд — Мойтура, Генри Уилсону
и Оскару совместно домик в Иллонроу), ни один из наследников
не мог рассчитывать прожить на доход от недвижимости. Уайльд
вернулся в Оксфорд опечаленный и полный жалости к себе. Он
видел впереди денежные неурядицы, вполне возможно — пожиз-
ненные, и думал о том, стоило ли ради такого небольшого наслед-
ства откладывать очистительный акт перехода в католичество.
Ему надо было теперь сосредоточиться на экзаменах за второй
год обучения. Он знал, что первым идет письменное богословие,
но подготовкой себя не утруждал. В июне он в назначенный день
подошел к проктору1 в экзаменационном зале взять чистой бумаги.
Тот спросил: “Вы сдаете богословие или альтернативный предмет?”
(Альтернативный предмет был для тех, кто не принадлежал к англи-
канской церкви.) “Сорок девять пресловутых статей”, — небрежно
ответил Уайльд. “Вы хотите сказать — тридцать девять* 2, мистер
Уайльд?” — сказал проктор. “Правда?” — протянул Уайльд фирмен-
ным своим ленивым тоном. (Впоследствии он говорил о “двадцати
заповедях”. Ошибка в счете — форма неуважения к сути.) “На экза-
менах, — сказал он позже, — глупцы задают вопросы, на которые
умные не в состоянии ответить”. Он не сдал экзамена.
Но главный экзамен по античной литературе прошел удачно.
Уайльд бойко переводил с греческого и на греческий, с латыни
и на латынь и продемонстрировал знакомство с большим числом
греческих текстов. Один из благоприятных для него вопросов
В данном случае проктор — служащий университета, следящий
за порядком на экзаменах.
2 “Тридцать девять статей” — свод догматов англиканской церкви.
(Примсч, перев.)
89
был такой: "Какое, по вашему мнению, суждение мог бы выска-
зать Аристотель о природе и предназначении поэзии? Сравните
любое из позднейших определений поэзии с тем, которое мог бы
дать он, и разъясните его точку зрения”. Уайльд был убежден,
что Аристотель, в отличие от Платона, рассматривает искусство
не с моральной, “а с чисто эстетической точки зрения”. Как он
писал в эссе "Критик как художник” гораздо позже, когда все
экзамены были у него давно позади, Аристотель видел конечное
эстетическое значение искусства "в чувстве красоты, испытывае-
мом через посредство ощущений жалости и страха. То очищение,
одухотворение природы, которое он именует катарсисом, по сути
своей является эстетическим переживанием, как это понимал
и Гете, а нс этическим, как полагал Лессинг”. Уайльд был уверен,
что написал экзаменационную работу хорошо. Но ему пришлось
также сдавать логику — предмет, который он знал гораздо хуже.
Он смиренно полагал, что в итоге получит только второй разряд,
однако многое зависело от устных экзаменов, до которых было
еще несколько недель.
Чтобы скоротать это время, он поехал к брату отца Джону
Максуэллу Уайльду, приходскохму священнику в Уэст-Ашби,
графство Линкольншир. Его дочь попросила Оскара помочь ей
по географии и истории, и он, видимо, припомнил эти уроки,
когда писал об уроках Сесили в “Как важно быть серьезным”.
Оскар понравился дяде, но он был возмущен как расточитель-
ностью племянника, славшего телеграммы (“Письмо за пенни
дошло бы не хуже”), так и его религиозным экстремизмом. Ведь,
что ни говори, два его дяди были священниками той самой англи-
канской церкви, о хулителях которой он говорил с таким одобре-
нием. По характеру человек мягкий, в спорах Джон Уайльд был
непримирим, и, когда племянник выказал упрямство, священник
произнес за одно воскресенье две проповеди: утреннюю, где осу-
дил католицизм, и вечернюю, где призвал к смирению. На Уайльда
не подействовало ни то ни другое. На следующее утро он уехал
в Лондон, где заявился к Фрэнку Майлзу с большой корзиной роз
из Уэст-Ашби. Майлз стремительно становился модным худож-
ником, изображавшим светских дам, и в тот момент, к отнюдь
не католическому восторгу Уайльда, рисовал “самую прелестную
и опасную женщину Лондона” (леди Дезарт, чей бракоразводный
процесс был тогда в самом разгаре).
Вечером в понедельник 3 июля он вернулся в Оксфорд, чтобы
повторить Катулла перед устным экзаменом, назначенным, как он
считал, на четверг. Он лег в постель с томиком отнюдь не Катулла,
но Суинберна, рассчитывая встать поздно; однако в десять утра его
разбудил настойчивый стук в дверь. Это был служащий из экзаме-
91
национного корпуса, посланный узнать, почему его нет на экза-
мене. Оказывается, Оскар по беспечности перепутал дни. В час он
неторопливой походкой вошел в экзаменационный корпус. Пер-
вым был устный экзамен по богословию. Экзаменатор — знаме-
нитый У. Г. Спунер из Нью-колледжа — отчитал его за опоздание.
Уайльд ответил: “Не судите меня строго. У меня нет опыта сдачи
экзаменов по двухбалльной системе”. Замечание о двухбалль-
ной системе (на экзамене выставлялись лишь две возможные
опенки —“сдал” и “не сдал”) было сделано таким пренебрежи-
тельным тоном, что Спунер засадил Уайльда переписывать два-
дцать седьмую главу из Деяний святых апостолов. Прошло какое-
то время, Уайльд усердно писал, и Спунер, смягчившись, велел ему
прекратить. Уайльд продолжал писать. Спунер сказал: “Вы слы-
шали меня, мистер Уайльд? Я сказал — достаточно”. — “Да, я слы-
шал вас, — ответил Уайльд, — но меня так увлек переписываемый
текст, что я не мог остановиться. Вы знаете, там рассказывается
про некоего Павла, который отправился в морское путешествие
и попал в ужасный шторм; я испугался, что он утонет, но могу
вас обрадовать, мистер Спунер: он спасся. Когда я об этом узнал,
я стал подумывать о том, чтобы подойти к вам и сказать”1. Спунер,
который был духовным лицом и племянником архиепископа Кен-
терберийского, не разочаровал Уайльда и пришел в сильнейшую
ярость. “Само собой, он меня завалил”, — сказал потом Уайльд
одному из друзей. Богословие пришлось пересдавать.
Устный экзамен по античной литературе был для него куда
приятней. Вопросы ему задавали не по Катуллу, как он опа-
сался, а о Гомере и эпической поэзии, о собаках и женщинах.
Перейдя к Эсхилу, экзаменатор попросил Уайльда перевести
из него указанный отрывок, а затем сравнить греческого драма-
турга с Шекспиром и Уолтом Уитменом, который уже тогда был
одним из любимых поэтов Уайльда. Экзаменатор остался доволен,
но сохранялась опасность того, что письменная работа по логике
снизит общий результат. Тем не менее, когда устные экзамены
окончились, Уайльд стал похваляться перед друзьями, что получил
1 В другой версии этого эпизода Спунер попросил Уайльда сделать
синтаксический разбор фрагмента греческого Евангелия от Матфея,
где говорится о продаже Христа Иудой за тридцать сребреников.
Уайльд верно разобрал несколько фраз и был остановлен: ‘‘Очень
хорошо, мистер Уайльд, достаточно”. — “Тсс, тсс, — отозвался экза-
менующийся, укоризненно подняв палец, — давайте продолжим,
надо узнать, что приключилось с этим несчастным”. Уайльд однажды
сказал епископу Уилберфорсу, что главным доводом против христи-
анства является стиль посланий апостола Павла. В оправдание себе он
заметил потом о епископе: “Увы, он меня спровоцировал”.
91
первый разряд, словно в этом не могло быть никаких сомнений.
Вечером, проходя вместе с ними мимо экзаменационного кор-
пуса, он услышал, что список отличившихся только что вывешен.
Уайльд отказался пойти посмотреть: “Я и так знаю, что у меня
первый разряд. Что там смотреть”. Позже в письме к Уорду он
посмеялся над своей притворной самоуверенностью: “Я всех их
довел до белого каления”. В итоге он пребывал в неизвестности
до следующего дня, когда, завтракая в полдень в “Митре”, про-
чел список в “Таймс”. “Моя бедная матушка пришла в великий
восторг, и в четверг все знакомые забросали меня телеграммами.
Отец был бы очень доволен. Господь обошелся с нами слишком
сурово”. Немного успокоившись, он признался Фрэнку Бенсону:
“Моя слабость в том, что я поступаю, как мне вздумается, и полу-
чаю, чего мне хочется”.
Уайльд поехал в Лондон, где в воскресенье 9 июля 1876 г.
слушал в кафедральной церкви своего любимого проповедника
кардинала Мэннинга. На следующий день он отправился в Бин-
гем (графство Ноттингемшир) в гости к Фрэнку Майлзу и его
родным. Мать Фрэнка была художница, отец — приходский свя-
щенник англиканской церкви. Между ним и Уайльдом завяза-
лись жаркие споры о католицизме. Каноника Майлза возмущал
католический догмат о непорочном зачатии Богоматери; Уайльд,
напротив, удивлялся тому, что англиканская церковь “так наста-
ивает на том, что Пречистая Дева была зачата в грехе”. Расстался
он с хозяевами вполне по-дружески, и было решено, что ближе
к концу лета Фрэнк Майлз приедет в Иллонроу и напишет там
фреску. Так он и сделал, и фреска существует до сих пор; на ней
изображены два херувима, светловолосый и темноволосый, в виде
рыболовов. Называется фреска “Клев на уду!”, и моделями для нее
послужили не слишком похожие на херувимов Майлз и Уайльд.
Католические настроения примешивались тогда ко всему, что
делал Уайльд. На каникулы в Ирландию он взял с собой книги
Ньюмена: ему явно хотелось понять, как Ньюмен пришел к като-
лицизму. На его экземпляре “Подражания Христу” Фомы Кем-
пийского стоит дата “6 июля 1876 г. ”. Однако в письме более
скептически настроенному Уорду Уайльд признался, что книги
оказались нс слишком убедительны. “Относительно Ньюмена мне
кажется, что глубочайшие чувства его противились Риму, однако
Логика побуждала его принять католицизм как единственную
рациональную форму христианства. Его жизнь — страшная тра-
гедия. Мне говорили, что он очень несчастный человек”. Таково
было в то время расхожее мнение о Ньюмене, которое, впро-
чем, сильно поколебалось, когда в 1879 г. его сделали кардина-
лом. Уайльд не изменил своего скептического отношения к нему.
92
в эссе “Критик как художник” он писал: “Не может и не должен
сохраниться воплотившийся в кардинале Ньюмене образ мыслей,
если можно так назвать это отрицание высшего значения интел-
туекта как способ разрешить проблемы, волнующие интеллект. Тем
не менее нам никогда не прискучит наблюдать, как странствует
эта беспокойная душа, переходя из одной тьмы в другую”. Уорд
решил воспользоваться сомнениями друга и принялся доказы-
вать, что протестантизм, в отличие от католицизма, разумен;
но он не убедил Уайльда, отказавшегося молиться в храме Раз-
ума. Уайльд заметил, однако, что его мать согласилась бы с Уор-
дом: “Делая исключение для простонародья, для которого догма,
по ее мнению, необходима, она отвергает предрассудки и догмы
во всех формах, и особенно идею священника и таинства, стоящих
между нею и Богом”. Уайльд восхваляет красоту воплощения Бога
в человека и соглашается с необходимостью этого акта, однако
выражает сомнения по поводу идеи искупления. “Но после явле-
ния Христа мир ожил, пробудился от спячки”. (Позже он будет
говорить, что мир должен пробудиться вновь, но уже благодаря
искусству, а не религии.) Как бы то ни было, он продолжал читать
Фому Кемпийского.
По многим из его ранних стихотворений видны стадии его
духовного развития. Его друзья-католики (Хантер Блэр и ирланд-
ский поэт Обри Де Вир) рекомендовали его священнику-иезу-
иту Мэтью Расселу, издававшему ежемесячник “Айриш мансли”,
и с 1876 по 1878 г. Рассел опубликовал семь его стихотворений,
большей частью религиозного содержания. В те же годы другой
дублинский католический журнал, “Иллюстрейтед монитор”,
напечатал два стихотворения Уайльда. “Коттабос”, издаваемый
профессором Тиррелом в Тринити-колледже, с 1876 по 1879 г.
опубликовал шесть стихотворений, а “Дублин юниверсити мэга-
зин” — еще пять. Изучение Уайльдом Античности сказалось в том,
что некоторые из них были переводами, а оригинальные стихи
подчас носили греческие названия или были снабжены грече-
скими эпиграфами. Стихи не показывают особой свежести мысли
и говорят прежде всего о его завороженности собственным моно-
спектаклем и не всегда разборчивой любви к словам, нагружен-
ным ассоциациями. Такие цвета, как золотой, белый и голубой;
такие эпитеты, как тенистый; купол небес, солнце, луна, цветы
Гв особенности лилия) — все это появляется с такой частотой, что
становится ясно: он хочет, чтобы эти слова отдавались многократ-
ным эхом. Быть поэтом было для него жизненно важно.
Воодушевленный тем, что по результатам экзаменов он попал
в первый разряд, Уайльд с октября 1876 г., когда он вернулся в Окс-
форд на третий год обучения, стал дерзить администрации. 1 ноя-
93
бря его и еще трех студентов (Фицджеральда и Хартера из Ориэл-
колледжа и Уорда из Крайстчёрч-колледжа) застали за ужином
в кофейном зале Кларендон-отеля1. Их фамилии были записаны,
и они получили указание кончить ужин и разойтись по своим
колледжам. Младший инспектор докладывал старшему Дж. Р. Тер-
сфилду: “Я сделал это потому, что они, как мне стало известно,
весь вечер шатались по улицам. Их поведение по отношению
ко мне было в высшей степени неподобающим; главная шутка
в их арсенале заключалась в том, чтобы заставлять меня повторять
название колледжа [колледж Иисуса], где им надлежит меня посе-
тить. В ответ на их многократные вопросы “Куда? Куда?” я сказал,
что мистер Фицджеральд все им объяснит (ранее он был у меня
и уплатил 1 фунт штрафа за то, что обедал в “Митре”)”. Через
пятнадцать минут он вернулся и увидел их на прежних местах.
“Я велел им незамедлительно покинуть заведение и проследовать
в колледж. Они вели себя еще развязнее, если это вообще воз-
можно. Уайльд расхаживал по комнате в шляпе, пока я не потре-
бовал, чтобы он ее снял... Один из них спокойно зажег сигару...
Я, конечно, тут же заставил его погасить ее... Передаю их в Ваши
руки; мое мнение таково, что они заслужили строгого наказания
и 5-го числа [в годовщину раскрытия “порохового заговора”] их
не следует выпускать с территории колледжа”.
Так же дерзко Уайльд вел себя и с преподавателями. Он изучал
теперь курс, называвшийся “Literae Humaniores” — “гуманитарные
науки” — и включавший в себя античную историю и философию;
в осеннем триместре его куратором был Уильям Деннис Аллен.
Стиль, в котором Аллен вел обучение, легко мог вызвать обиду.
Как пишет Аткинсон, студенты входили в гостиную Аллена и рас-
саживались там у камина под взглядом хозяйского мастифа. Аллен
к ним не выходил—лишь его призрачный и, без сомнения, сонный
голос, которым он зачитывал свои “пояснения”, звучал из спальни
через полуоткрытую дверь. В морозные дни Аллен отправлялся
кататься на коньках, оставляя на запертой двери записку с извине-
нием и малоубедительной отговоркой. Уайльд решил, что ответит
Аллену таким же неуважением. В январе 1877 г. во время триме-
стровых экзаменов, когда преподаватели и студенты собрались
для отчета об успеваемости, деликатный доктор Булли, президент
колледжа Магдалины, спросил: “Мистер Аллен, как вы оцениваете
работу мистера Уайльда?” Аллен сердито ответил: “Уайльд пропу-
1 Университетские правила того времени запрещали студентам посе-
щать заведения, где продавались спиртные напитки и табачные изде-
лия, и требовали, чтобы после девяти вечера они находились в своих
комнатах.
94
кает мои лекции без уважительных причин. Его работа крайне
удовлетворительна”. — “Разве можно так вести себя по отно-
шению к джентльмену, мистер Уайльд?” — спросил Булли, пытаясь
свести неподчинение к дурным манерам. “Но, мистер президент, —
возразил воинственно настроенный Уайльд, — мистер Аллен ника-
кой не джентльмен”. Булли приказал ему выйти из зала.
Главным, что занимало Уайльда в первом триместре третьего
года обучения, было не изучение классических дисциплин и даже
не размышление о католическом отступничестве, а новый всплеск
интереса к масонству. 27 ноября 1876 г. Уайльд решил вступить
не в капитул Королевской арки ложи Аполлона, а в Розенкрей-
церский капитул, который устраивал его больше, поскольку был,
в отличие от первого, связан с высокой церковью1. Капитул был
“освящен” всего четырьмя годами ранее. Прежние степени, которые
Уайльд получал, основывались на масонской аллегории постро-
ения Соломонова храма мастером Хирам-Авием, его последую-
щей смерти, разрушения храма и его восстановления. Теперь же,
получив восемнадцатую степень, он узнал, что розенкрейцеры
имеют дело непосредственно со смертью и воскресением Хри-
ста и предлагают новым братьям ритуализованный путь к про
светлению, завершающийся обрядом причащения. Замысловатое
одеяние и реквизит включали в себя кожаный фартук, красный
воротник, шпагу, портупею и символ розы и креста, украшенный
драгоценными камнями. Обряд посвящения происходил в трех
символически убранных комнатах — сначала в черной, затем
в траурной и, наконец, в красной, Уайльд представлял архангела
Рафаила, и его обязанность состояла в том, чтобы сопровождать
новичков на “пути к совершенству” (так называлась вступительная
церемония). Эта роль требовала звучной, хоть и банальной, рито-
рики: “Я пришел, чтобы вывести тебя из пучин тьмы и долины
смертной тени1 2 к чертогам света”. Он был активным вербовщиком
и ввел в братство четверых новых студентов из колледжа Магда-
лины. 3 марта 1877 г. он писал Уорду, который и сам был масоном:
‘В последнее время я очень заинтересовался масонством и ужасно
в него уверовал — по правде, мне будет страшно жаль отказаться
от него в случае, если я отпаду от протестантской ереси”. Хантеру
1 В 1878 г. в подобном же порыве энтузиазма Уайльд получил Мар-
кову степень в университетской Марковой ложе. Обладатели этой
степени, связанной с секретом арки в Соломоновом храме, его утра-
той и новым открытием, с 1856 г. составляли отдельное масонское
братство. Уайльд вступил в него, видимо, потому, что у него были там
друзья.
2 Пс. 22: 4.
9)
Блэру пришлось по этой причине выйти из братства. Однако
это же письмо показывает, насколько сложны были духовные
устремления Уайльда:
Теперь я завтракаю с отцом Паркинсоном, хожу в церковь
Св. Алоизия, веду душеспасительные религиозные беседы с Данло-
пом [студентом, перешедшим в католичество под влиянием Хантера
Блэра] и вообще попался в ловушку птицелова, поддался обольще-
нию жены, облаченной в порфиру и багряницу, и, возможно, перейду
на каникулах в лоно Римско-католической церкви. Я мечтаю посетить
Ньюмена, приобщиться святых тайн нового вероисповедания и обре-
сти душевный покой в дальнейшей жизни. Надо ли говорить, что
решимость моя колеблется от каждого дуновения мысли и что я слаб,
как никогда, и подвержен самообману.
Если бы я мог надеяться, что католическая вера пробудит во мне
некоторую серьезность и чистоту, я перешел бы в нее хотя бы ради
удовольствия, даже не имея на то более веских причин. Но надежда
на это невелика, а перейти в католицизм значит отринуть и принести
в жертву два моих великих божества — Деньги и Честолюбие.
И вместе с тем я бываю подчас так несчастен, подавлен и неспо-
коен, что в каком-нибудь отчаянно тоскливом настроении буду искать
прибежища у Римско-католической церкви, которая просто зачаро-
вывает меня своей прелестью.
Уайльд был в достаточной степени погружен в трудовую этику
Викторианской эпохи, чтобы желать быть серьезным, хотя “зача-
рованность” была для него более естественна. Позже он научился
великодушно прощать себе душевное непостоянство, которое бес-
покоило его в молодости.
В декабре 1876 г. Уайльд перебрался в квартиру Уорда, который
окончил университет и уехал, получив второй разряд в гуманитар-
ных науках. Она была лучшая во всем колледже. Уайльд роскошно
украсил ее обшитый панелями интерьер, поставив там пианино,
развешав по стенам картины, покрыв пятна на полу своим серым
ковром. В числе картин были репродукции любимых им работ
Берн-Джонса: “Околдованный Мерлин”, “Дни творения”, “Зер-
кало Венеры” и “Христос и Магдалина”. Питомцы Магдалины,
однако, посмеивались над роскошью обстановки, когда приходили
к Уайльду на воскресные вечера. Во втором триместре он решил
попробовать получить Ирландскую стипендию за успехи в изуче-
нии античной литературы и культуры, однако шести недель подго-
товки (тогда как другие готовились годы) оказалось недостаточно,
и 5 марта 1877 г. он потерпел неудачу. В письме Уорду он сетовал
на самого себя: “Я до смешного легко сбиваюсь с пути”.
Эллада
Быть греком — значит не иметь одежды; быть
средневековым человеком — значит не иметь
тела; быть современным человеком — значит
не иметь души.
Чего мы лишились полностью — это духа Сред-
невековья, и только его; дух Древней Греции,
напротив, глубоко современен.
Весенние каникулы 1877 г. рассеяли уныние Уайльда. Уорд
и Хантер Блэр — два не слишком подходящих друг другу чело-
века — собрались в Рим и стали уговаривать его присоединиться.
Уайльд, не сумевший в прошлом году осуществить “паломниче-
ство”, на которое его подбивали Гауэр и Майлз, очень этого хотел,
но опять было трудно с деньгами: он только что уплатил 42 фунта
членского взноса в первый свой лондонский клуб — недавно
открывшийся клуб Св. Стефана (в числе его членов-основателей
были художник Уистлер и архитектор Эдвард Годвин). Хантер
Блэр решил в последний раз попытаться привести Уайльда в лоно
Римско-католической церкви и надеялся, что вид Вечного города
пересилит увертки и сомнения друга. Для решения денежной
проблемы он предложил следующее: по дороге в Ментону, где
находились его родные, он завернет в Монте-Карло и поставит
за Уайльда 2 фунта. Если язычница-судьба благосклонно отнесется
к этому христианскому начинанию, то вот вам и деньги на поездку
Уайльда. Вскоре появились 60 фунтов — якобы выигрыш Хан-
тера Блэра. Пришлось ехать — выбора не было. Уайльд написал
одному из друзей: “Это кризис в моей жизни, начало новой эпохи.
Хотел бы я взглянуть на семена времени и увидеть, что из них про-
растает!”
Он, однако, уравновесил свое согласие тем, что договорился с про-
фессором Махаффи, собиравшимся в Грецию в компании двух моло-
дых людей, что сопроводит его до Генуи. Они встретились на лон-
донском вокзале Чаринг-кросс; с Махаффи, помимо того же Гулдинга,
был еще Джордж Макмиллан, недавний выпускник Итонской школы,
собиравшийся работать в семейной издательской фирме. По дороге
в Геную, которая лежала через Париж и Турин, ревностный протестант
Махаффи уговаривал Уайльда отказаться от поездки в Рим и вместо
этого отправиться с ними в Грецию. “Нет, Оскар, стать католиком мы
вам никак не можем позволить, мы вместо этого сделаем из вас хоро-
шего язычника”. Уайльд твердо сопротивлялся. Тогда Махаффи жестко
сказал: “Я и сам не возьму вас. Такой попутчик мне не нужен”. Защи-
щенный против доводов, Уайльд не имел защиты против презрения.
4 - 5556
97
Он согласился поехать в Грецию. 2 апреля Махаффи похвалялся
в письме жене: “Мы прихватили с собой Оскара Уайльда, кото-
рый под влиянием минуты качнулся от папизма к язычеству.
В нем масса самодовольства, которое Уильям Гулдинг обещает
вышибить из него, как только посадит его на лошадь в Арка-
дии... Иезуиты обещали ему стипендию в Риме, но, слава Богу,
я сумел-таки лишить дьявола его добычи”.
Уайльд, однако, не бросил Хантера Блэра окончательно.
Имея выбор из двух возможностей, он, по своему обыкнове-
нию, выбрал обе. На обратном пути из Афин он заедет в Рим.
Решение было не таким мудрым, как кажется, поскольку оно
влекло за собой опоздание к началу триместра. Тем не менее
он рассчитывал на снисходительность декана Брэмли,
с которым они не раз по-дружески беседовали о богосло-
вии и католицизме. Какие могут быть возражения, если сту-
дент, изучающий Античность, едет в Грецию с профессором
Махаффи? Он пообещал вернуться в Оксфорд непосредст-
венно из Афин, где они должны были оказаться не позже
17 апреля. Он умолчал о том, что собирается заехать в Рим;
это обстоятельство огорчило бы Брэмли так же сильно, как
обрадовало бы Хантера Блэра, и по той же самой причине.
Брэмли был встревожен недавними обращениями студентов
колледжа в католичество.
Спутники Махаффи оказались столь же подходящими для
Уайльда, как и в предыдущей поездке. В Генуе Махаффи при-
шлось несколько дней пробыть у сестры и больной матери, так
что остальные могли проводить время, как им вздумается. Мак-
миллан присмотрелся к Уайльду, и то, что он увидел, ему по-
нравилось. Он писал родителям, что их спутник “очень мил...
эстет до мозга костей, страстно влюбленный во вторичные
цвета, негромкие звуки, обои Морриса и способный нагово-
рить на эти темы с три короба всякой чепухи, но при всем том
очень восприимчивый, образованный и обаятельный человек”.
Это самый полный перечень специфических вкусов, которыми
должен был обладать эстет. Подробностей одежды Макмиллан
не приводит, но известно, что Уайльд щеголял в Генуе в новом
коричневато-желтом пиджаке.
Само собой, на Святой неделе в Генуе цвета были не вто-
ричными, а сугубо первичными и негромкие звуки тонули
в общем шуме и гвалте. Уайльд обдумывал новое стихотво-
рение и потому внимательно приглядывался к церквам, убран-
ным цветами и украшенным изображениями Иисуса в гроб-
нице, охраняемой воинами. Столь же сильно его восхищали
зреющие апельсины, красивые птицы и нарциссы в садах Ско-
уо
льетто. Оттуда путешественники отправились в палаццо Росси
посмотреть на “Святого Себастьяна” Гвидо Рени1. Макмиллан,
вЫражая общее мнение, назвал ее “одной из прекраснейших
картин, что я когда-либо видел”. Уайльд восхищался ею и позже.
Сопоставление языческого и христианского зрелищ опреде-
лило образную систему уайльдовского “Сонета, написанного
на Святой неделе в Генуе”, где он в литературных целях делает
вид, будто уже побывал в Греции и нуждается в том, чтобы его
языческие побуждения были обузданы христианскими помы-
слами:
Я бродил по зеленому уединению Скольетто,
И апельсины на каждой из нависающих ветвей
Горели, как яркие золотые лампы, посрамляя дневной свет;
Какая-то вспугнутая мною птица, трепеща крыльями, быстрая,
Устроила пургу из белых лепестков, а у меня под ногами,
Подобные серебряным лунам, виднелись бледные нарциссы;
И курчавые волны, расчертившие линиями сапфировый залив,
Смеялись на солнце, и жизнь казалась очень сладкой.
Но снаружи прошел мальчик-священнослужитель, выводя
чистым голосом:
“Иисус, сын Марии, убит.
О, придите и наполните Его гроб цветами”.
О Господи! О Господи! Эти милые эллинистические часы
Заставили меня забыть о Твоей горчайшей боли,
О Кресте, о Венце, о Воинах и о Копье.
Такие обороты, как “трепеща крыльями, быстрая”, “жизнь
казалась очень сладкой”, “волны... смеялись на солнце”,
не слишком удачны. Тем не менее Уайльд здесь остается верен
представлению о своей душе, колеблющейся между двумя сти-
хиями — стихиями не мысли, но чувства — ив конце концов
возвращающейся к христианству в порыве скорее жалости,
нежели страха. Мальчик-священнослужитель (в первоначаль-
ной версии просто “ребенок”) — дополнительная приманка.
Махаффи пришлось задержаться в Генуе до Страстной пят-
ницы; в этот день они выехали в Равенну. Решение посетить
этот город оказалось удачным: Равенна позднее стала заданной
1 Иконографически неизменно привлекательный Себастьян — самый
популярный святой среди гомосексуалистов. Андре Раффалович,
вступив в орден доминиканцев, взял имя “брат Себастьян”; Уайльд
жил после тюрьмы во Франции под именем Себастьян Мельмот.
99
темой для соискателей Ньюдигейтской премии, что дало Уайльду
преимущество перед другими. В поэме он опишет свой въезд
в город верхом на лошади:
О, как запылало мое сердце мальчишеской страстью,
Когда вдалеке, за осокой и водной гладью,
Я увидел ясные очертания этого Священного города,
Увенчанного зубчатой короной башен!
Я скакал и скакал наперегонки с клонящимся к закату солнцем,
И темно-красное сияние еще не погасло,
Когда я въехал наконец внутрь городских стен Равенны!
В действительности он въехал в Равенну на поезде. Он нашел
мозаики четвертого века чрезвычайно интересными, поскольку
они говорили о том, что преклонение перед Пресвятой Девой
началось задолго до Средних веков с их культом Богоматери;
в письме декану Брэмли, которое он сочинял, он упомянул
об этом своем открытии, что вряд ли было приятно адресату.
1 апреля — в Пасхальное воскресенье — они поехали в Брин-
дизи и вечером того же дня сели на судно, отплывающее в Грецию.
Проснувшись на рассвете, они увидели берег острова Корфу.
3 апреля они отправились на остров Закинф, где на холме Уайльд
вдруг увидел молодого пастуха с ягненком на плечах, как на изо-
бражении Доброго Пастыря. В Катаколо, где была их следующая
остановка, они встретились с доктором Густавом Хиршфельдом,
руководителем немецких раскопок в Олимпии, и на следующий
день все вместе отправились верхом к месту работ. Впоследст-
вии Уайльд рассказывал Чарлзу Риккетсу: “Я присутствовал при
том моменте, когда из вздувшейся реки извлекли величествен-
ную статую Аполлона. Я увидел, как над водой поднялась его
белая вытянутая рука. Дух бога по-прежнему был жив в мрамор-
ном изваянии”. В действительности была найдена всего только
голова Аполлона, и не в реке, а на суше, причем за несколько
дней до прибытия туда Уайльда. Ни Макмиллан, ни Махаффи
не упоминают об этом спасении утонувшего бога, что они
непременно сделали бы, произойди оно у них на глазах. В преди-
словии к немецкому изданию сочинений Уайльда Роберт Росс
приводит другую версию, которую он, должно быть, услышал
от него самого: что Гермес работы Праксителя был обнаружен
в дни его пребывания там (на самом деле это произошло после
его отъезда). Как Уайльд скажет в эссе “Критик как художник”, “в
точности описывать то, чего никогда не было, не только достой-
ное занятие для историка, но и неотъемлемое право каждого, кто
не лишен таланта и культуры”.
1ОО
На следующий день — 7 апреля — они среди цветущих гру-
шевых деревьев отправились верхом в Андрицену, а оттуда —
к храму Аполлона в Бассах. Они прониклись туристским духом
настолько, что сфотографировались в национальных костю-
мах, — вышло весьма эффектно. Поездку оживили два проис-
шествия. Провожатый, которому принадлежали лошади, стал
возражать против слишком быстрой езды. Его не послушались,
и тогда он обратился к одному из путешественников с угрозами.
Мы не знаем, к кому именно, — предполагать, что это был Уайльд,
нет оснований, — но, кто бы это ни был, он вспомнил, что у него
есть револьвер, выхватил его и прицелился в провожатого. Тот
живо прикусил язык. Другим происшествием, случившимся
9 апреля по дороге в Триполис, стало исчезновение “Генерала” —
профессора Махаффи. Испугавшись, что он попал в руки раз-
бойников, остальные искали его несколько часов и наконец
обратились в полицию. В конце концов Махаффи нашли. Он,
оказывается, искал свое пальто, которое, зацепившись за сук,
выпало из поклажи, когда он съехал с дороги, чтобы укоротить
путь.
Посетив Аргос и Нафплион, они отправились морем
на остров Эгина, а оттуда в Афины. Вид Афин, открывшийся
им 13 апреля, произвел на них сильнейшее впечатление и был
впоследствии описан в печати как Махаффи, так и Макмилланом.
Уайльд (если, конечно, роман, в котором он выведен, заслужи-
вает доверия) сказал, что Афины — это “город рассвета, встаю-
щий в прохладном, бледном, ровном свете раннего утра, новая
Афродита, что является нам, окруженная плещущими волнами”.
Парфенон для него “единственный храм, обладающий индиви-
дуальностью и законченностью статуи”. Уайльд, однако, сетовал
на отсутствие мраморных барельефов Элгина1; несколько лет
спустя в лекции студентам, изучающим искусство, он назовет
лорда Элгина вором. Не считая барельефов, Греция дала ему все,
чего он желал, и Рим теперь должен был разочаровать.
Последним, что Уайльд повидал в Греции, были Микены, где
имя Махаффи позволило им осмотреть сокровища, недавно най-
денные Шлиманом. Это было 21 апреля; Уайльд уже на семна-
дцать дней опаздывал к началу триместра. Он отправился морем
в Неаполь и пережил по пути сильнейший шторм (в 1882 г.
Атлантика разочарует его, не продемонстрировав ничего подоб-
ного). Он поспешил в Рим, где Хантер Блэр и Уорд ждали его
Имеются в виду детали фриза Парфенона работы Фидия, вывезенные
в Англию в 1803 г. графом Элгином (1766-1841). (Примеч. перев.)
в отеле “Англия”. Приехав, он перестал спешить. Дж. Дж. Рамзи,
профессор гуманитарных наук из Глазго, водил их по городу,
а ужинали они обычно в компании двоих англичан, почетных
камерариев при папском дворе, — Хартвелла де ла Гарда Грисселла
(он еще появится в жизни Уайльда) и Огилви Фэрли.
Но у Хантера Блэра было для Уайльда в запасе нечто посу-
щественней аудиенция у папы. Уайльд в нескольких написанных
к тому времени стихотворениях выразил сочувствие к Пию IX
в связи с вторжением короля Виктора-Эммануила в Папскую
область в 1870 г. (“Господней церкви пастырь заточенный”,
“Петра наместник узами опутан” — в “Сонете, написанном
у берегов Италии”). Пий IX дал им личную аудиенцию и выра-
зил Уайльду надежду, что он вслед за своим condiscipulus1 (так
выражаются папы) войдет в Божий град. Уайльд был так потрясен,
что на обратном пути в отель не мог вымолвить ни слова; вер-
нувшись, он заперся в своей комнате. Вышел он из нее с готовым
сонетом — возможно, это был “Urbs Sacra Aeterna”1 2, который по-
нравился Хантеру Блэру, решившему, как не раз до этого, что дол-
гая борьба за душу Уайльда наконец им выиграна. Уайльд послал
экземпляр сонета Пию IX. Хантер Блэр с более ощутимым резуль-
татом отправил другой экземпляр отцу Колриджу, издававшему
ежемесячный журнал “Мане”, где стихотворение вышло в сентя-
бре 1876 г. под названием “Graffiti d’Italia”3.
Но стихами не заменишь молитв. Как и прежде, душа Уайль-
да была неуловима. О том, чтобы она оставалась протестант-
ской, заботился Уорд. О том, чтобы она оставалась эллинисти-
ческой, заботилась Греция. И даже в отсутствие Уорда Уайльд
не желал вести себя как настоящий католик. Через несколько
часов после аудиенции у папы экипаж, в котором ехали Уайльд
и его друзья, оказался у базилики Сан Паоло фуори ле мура,
и Хантер Блэр не смог отговорить Уайльда от посещения
протестантского кладбища, расположенного неподалеку. Там,
подойдя к могиле Китса, “священнейшему месту Рима”, он
пал перед ней на траву. Таким преклонением он не удостоил
даже папу римского, и Хантер Блэр был недоволен этим сме-
шением эстетического начала с религиозным. Оказать поэту
почтение, подобающее лишь прелату, значит извратить самый
смысл почтения. В стихотворении “Могила Китса”, которое
1 Соучеником {лат.).
2 “Град священный и вечный” {лат.).
Ъ “Итальянские граффити” (нт.).
102
Уайльд после этого написал, поэту придаются черты “Святого
Себастьяна” Гвидо Рени:
Он мученик, сраженный слишком рано,
Похожий красотой на Себастьяна1.
Хантер Блэр не сложил оружия, но начал понимать, что к чему.
Он сказал, что сонетов с него хватит: “Не желаю их больше видеть.
И не говори мне о своей слабости и нехватке принципиальности —
странная причина для того, чтобы повернуться спиной к единст-
венному, что может сделать тебя сильным... а что до недостатка
в тебе веры и энтузиазма — не притворяйся, ведь ты прекрасно
понимаешь, что Бог, по милости Своей позволивший тебе уви-
деть Его истину, не оставит тебя, когда ты решишь слиться с нею”.
Языческая Греция, как и рассчитывал Махаффи, отчасти нейтра-
лизовала воздействие папского Рима. Уайльд восхищался стоя-
щими в Ватикане греческими статуями; позднее он заметит, что
в перекличке священника и служки во время католической мессы
слышны отголоски древнегреческого хора. Помимо христианства,
была и другая, более древняя система взглядов, которой двойст-
венный Уайльд тоже клялся в верности.
В течение недели или десяти дней в Риме Уайльд проводил
время не только в обществе своих оксфордских друзей. Он позна-
комился с талантливой двадцатилетней Джулией Констанс Флет-
чер, у которой, по слухам, была до этого романтическая помолвка
с графом Уэнтвортом, расстроившаяся перед самой свадьбой то ли
по ее, то ли по его вине. Она и Уайльд вместе ездили в Кампа-
нью. Мисс Флетчер хотела стать писательницей и внимательно
наблюдала за Уайльдом, как чьим-нибудь возможным прототипом.
Всего через несколько недель после их встречи у нее уже был готов
1 Перевод А. Парина.
Несколько недель спустя Уайльд снабдил стихотворение прозаиче-
ским пояснением: “Стоя подле убогой могилы этого божественного
мальчика, я думал о нем как о безвременно убитом Священнослу-
жителе Красоты; и тут перед моими глазами встал виденный мною
в Генуе святой Себастьян работы Гвидо Рени — прелестный мальчик
с темными непокорными прядями волос и алыми губами, привязан-
ный злобными врагами к дереву, терзаемый стрелами, но, несмотря
на это, глядящий божественно-пылким взором в вышину, где ему
открывается Вечная Красота Небес”.
Отец Рассел, которому Уайльд представил стихотворение и заметку
в прозе, предложил, чтобы для публицации в “Айриш мансли” хотя бы
в одном из двух случаев “мальчик” был заменен на “юношу”. Уайльд
не согласился.
103
трехтомный роман под названием “Мираж”, который она издала
в том же году под псевдонимом Джордж Флеминг; там с завидной
расторопностью она изобразила Уайльда под именем Клод Даве-
нант. Впоследствии он стал героем многих романов, но этот был
первым. Уайльд в ответ посвятит ей поэму “Равенна”. Она описы-
вает его талантливо:
Это лицо казалось чуть ли не анахронизмом. Оно напоминало
портреты Гольбейна: бледная кожа, крупные черты — странная, ин-
тересная внешность, своеобразно сочетающая в себе мягкость и пыл-
кость. Мистер Давенант был очень молод — двадцать один, двадцать
два года, не больше; но выглядел он еще моложе. Свои длинные
волосы он откидывал назад, и они падали ему на шею прядями, как
у средневековых святых. Говорил он быстро, негромким голосом,
со странно отчетливым произношением; было видно, что он работал
над своей речью. Даже слушал он как человек, привыкший говорить.
Другие черты также узнаваемы. В какой-то момент Давенант
едва не падает с лошади — настолько увлечен он тем, что говорит.
Он эффектно читает одно из своих стихотворений — балладу
в прерафаэлитском духе с варьирующимся рефреном, похожую
на “Скорбь королевской дочери”, которую Уайльд написал годом
раньше. На вопрос о том, какой в ней заложен смысл, Давенант
“самым что ни на есть томным тоном” отвечает: “Помилуйте,
я никогда ничего не объясняю”. Таинственность и томность уже
прочно вошли в состав облика эстета.
Для Констанс Флетчер Уайльд-Давенант был “ранний христи-
анин, приспособленный к нынешнему времени, обновленный как
церковь после реставрации”. Формула его религии была такова:
“Венера, перекрещенная в Деву Марию, и нимб у нее новей, чем
улыбка”. Во всем этом чувствуется влияние эстетов от Готье
до Пейтера — как и в совете, который Давенант дал героине:
отдаваться бытию, приумножать переживания, дорожить силой
и возвышенностью ощущений. Впоследствии лорд Генри Уоттон
будет петь Дориану Грею ту же песню — правда, с морализиру-
юще-ироническими интонациями.
Из романа Констанс Флетчер становится ясно, что во время
этих весенних путешествий Уайльд нашел топографические сим-
волы для своих устремлений к “серьезности и чистоте”, с одной
стороны, к самореализации и красоте — с другой. Ранее эти побу-
ждения — этическое и эстетическое — были олицетворены, соот-
ветственно, Рёскином и Пейтером; теперь они получили новое
воплощение в папском Риме и языческой Греции. Что бы ни гово-
рил Хантер Блэр, Уайльд видел, что подавить какое-либо из этих
104
влечений означало бы для него сузить свою природу, желавшую
пребывать в счастливой двойственности; он хотел быть созерца-
телем “Theoretikos” (так он назвал один из своих сонетов), хотел
быть “Ни с Богом, ни среди Его врагов”1. (Он позаимствовал эту
мысль из эссе Пейтера о Боттичелли: “Ни с Иеговой, ни с врагами
Его”.) В сонете “Vita Nuova”* 2, впервые опубликованном в 1877 г.
в “Айриш мансли” отцом Расселом, поэт в унынии идет берегом
“бесплодного моря”.
И тут внезапный свет! И я увидел
Христа, идущего по водам! Страха как не бывало;
Мне стало ясно, что я нашел Совершенного Друга.
Впоследствии Христос превратился в юношу-любовника.
Готовя сборник своих стихотворений, Уайльд изменил концовку
сонета — теперь она пришлась бы не по вкусу отцу Расселу:
И тут — о, чудо! — вдруг передо мной
В волнах возникли трепетные руки,
И я все беды прошлого забыл3.
Схема рифмовки изменена ради того, чтобы из Иисуса полу-
чился Гилас4. Лучшие свои строки Уайльд начал находить, исполь-
зуя скорее языческие, нежели христианские образы.
Перевод Н. Гумилева.
2 “Новая жизнь” (ит.).
Перевод М. Ваксмахера.
4 Гилас — в греческих мифах любимец Геракла, взявшего его с собой
в путешествие аргонавтов. (Примеч. перев.)
Глава 4
Недооформившийся эстет
Современная живопись, несомненно, способна тро-
нуть нас. По крайней мере, некоторые ее произведе-
ния. Но жить этими картинами совершенно невоз-
можно; они слишком умны, слишком настойчивы,
слишком интеллектуальны Их смысл чересчур оче-
виден, их метод чересчур ясно очерчен. То, что они
могут нам сказать, очень быстро исчерпывается,
и они надоедают нам, как докучливые родственники.
Радости временного исключения
В семидесятые годы XIX в. путешествия в Грецию
не были обычным делом. Требовать от колледжа Маг-
далины признания их необходимости для прохожде-
ния классического курса значило требовать слишком
многого. Вернувшись, Уайльд увидел, что его просьба
о продлении каникул на десять дней не встретила благосклонности
администрации. Как декан колледжа и набожный член англикан-
ской церкви, верящий в загробное воздаяние, Брэмли и без того
был обеспокоен тем, что одаренный студент и слушатель основ-
ного курса может оказаться религиозным отступником. Поездка
в Рим, пусть и уравновешенная посещением Греции, добавляла
тревог. Два года назад, точно так же заехав в Рим, принял като-
личество Хантер Блэр, а о дружбе его с Уайльдом было хорошо
известно. Но непосредственным поводом для административной
строгости было прегрешение, за которое Уайльд не счел нужным
извиниться: он просил о десятидневной отсрочке, а отсутствовал
больше десяти дней. Шестинедельный весенний триместр начался
4 апреля 1877 г., а Оскар Уайльд не явился даже к 26 апреля. В этот
день начальство колледжа Магдалины, потеряв терпение, поста-
новило, что “мистеру Уайльду за отсутствие в колледже без ува-
жительной причины с начала триместра до настоящего времени
запрещается жить в колледже в течение весеннего и летнего триме-
стров, и он лишается денежной стипендии на полугодовой период
до дня св. Михаила [29 сентября] 1877 г.; он извещается о том, что
в случае, если он не вернется точно к назначенному дню в осен-
ЮО
нем триместре 1877 г. с удовлетворительно выполненной рабо-
той в объеме, указанном куратором, администрация рассмотрит
вопрос о полном лишении его привилегий стипендиата”. Офици-
альные формулировки, за которыми чувствуется административ-
ный гнев, недвусмысленно означали, что Уайльд отдан в полную
власть Аллену — своему ненавистному куратору.
Уайльд приехал через два-три дня после вынесения этого при-
говора. Добрый, по-детски расположенный к людям и ожида-
ющий от них расположения, он, как пишет Чарлз Риккетс, был
сначала ошеломлен, а затем возмущен своим временным исключе-
нием. Много лет спустя он жаловался Риккетсу: “Меня прогнали
из Оксфорда за то, что я первым из его студентов посетил Олим-
пию”. Поправить дело было невозможно. Уайльд тщательно изучил
университетский устав сначала сам, а затем с помощью секретаря,
желая знать, не превысила ли администрация колледжа своих пол-
номочий. Нет, не превысила. В довершение всех бед во время его
отсутствия его красивая квартира была отдана другому.
Единственным способом* смягчить боль от несправедливости
было провести несколько дней в Лондоне. Отправившись туда,
Уайльд остановился у своего доброго друга Фрэнка Майлза. Лон-
донский культурный сезон был весьма насыщенным. По всей
видимости, Уайльд слушал хор моряков из “Летучего голландца”
под управлением самого Рихарда Вагнера и сонату, которую он
ошибочно назвал в печати “Импассионата” (он исправится в эссе
“Критик как художник”). В области изобразительного искусства
он чувствовал себя уверенней; главным событием сезона было
открытие сэром Куттсом Линдзи новой картинной галереи гале-
реи Гровенор. Имея таких друзей среди художников, как Майлз
и Гауэр, Уайльд конечно же заручился приглашением на церемо-
нию в узком кругу 30 апреля 1877 г. и не стал пренебрегать офи-
циальным открытием на следующий день в присутствии принца
Уэльского, Гладстона, Рёскина, Генри Джеймса и других знамени-
тостей.
Событие обещало быть памятным. Галерея Линдзи предна-
значалась для того, чтобы представлять современное искусство
живее и честнее, чем это делала ревниво-консервативная Коро-
левская академия. За год до того сэр Чарлз Дилк, выступая в парла-
менте, выразил сожаление о том, что академия не пускает на свои
выставки некоторых крупных художников, главным образом
прерафаэлитов. По замыслу Линдзи, новая галерея должна была
не только представлять работы художников этой и других школ,
но и сама быть произведением искусства. Соответственно, здания
№ 135—137 по Нью-Бонд-стрит получили новый фасад в стиле
Палладио (теперь там расположен Эолиан-холл). Уистлеру, с кото-
107
рым Уайльд уже успел познакомиться, был заказан фриз сводча-
того потолка Западной галереи; на приглушенно-голубом фоне
он изобразил луну в различных фазах и окружающие ее звезды.
Стены галереи, как с одобрением отметил Уайльд, были “затянуты
алым камчатным полотном, нижняя их часть обшита матовыми
зеленовато-золотистыми панелями”. Привередливый глаз Генри
Джеймса отметил, что эти яркие цвета, в особенности “дикар-
ский красный”, отвлекают внимание от картин, и Рёскин сделал
такой же упрек; Уайльда, однако, щедрость зрелища только радо-
вала.
Частью зрелища стал он сам. Никакая обычная одежда не годи-
лась для того, что он считал своим лондонским дебютом, поэтому
он красовался в новом пиджаке, еще более сногсшибательном, чем
коричневато-желтый, которым он поражал генуэзцев. В дневнике
одной его современницы приводится его ответ на вопрос об этом
приобретении. Ему приснилось, сказал он, что некий призрач-
ный персонаж ходил в пиджаке, формой и цветом напоминавшем
виолончель. Проснувшись, он на скорую руку зарисовал увиден-
ное и принес рисунок своему портному. Сшитый пиджак вполне
соответствовал своему прообразу из сновидения: при одном
освещении он отливал бронзовым цветом, при другом красным,
а со спины (Уайльд вообще гордился своим видом со спины) его
очертания напоминали виолончель.
То, что наряд двадцатитрехлетнего молодого человека был кем-
то замечен, доказывает: Уайльд становился достопримечательно-
стью. Это была его первая проба сил в роли художественного кри-
тика на выставках; несколько лет спустя художник Гилберт Фрит
иронически изобразит его в этом качестве, окруженного толпой1.
Внимание, которое Уайльд привлек к себе виолончельным пид-
жаком, он способен был удержать благодаря своему остроумию
и воодушевлению. Он пришел в такой восторг от открывшейся
в нем способности, что фактически тут же, на месте решил “стать
критиком”. Для начала он увековечил открытие выставки и свое
на нем присутствие первой из своих опубликованных прозаи-
ческих работ статьей “Галерея Гровенор” для журнала “Дублин
юниверсити мэгазин”. Редактор Кенингдейл Кук был не в вос-
торге от некоторых утверждений и стилистических особенностей
1 Уайльд отомстит ему в эссе-диалоге “Критик как художник”, где
Эрнест скажет, намекая на картину Фрита “В день дерби”: “Некая
дама вполне серьезно спросила этого, как вы выразились, кающегося
академика, действительно ли это все написано рукой — этот его зна-
менитый “Весенний день в Уайтли”, или “В ожидании последнего
омнибуса”, или что-то в этом роде”. В ответ Гилберт заметит: “Не
похоже, что рукой”. — (Здесь и далее “Критик как художник” цити-
руется в переводе А. Зверева.)
ю8
статьи, но Уайльд твердо стоял на своем. “Я всегда говорю: “Я”,
а не “Мы”, — непререкаемо заявил он Куку и стал настойчиво
доказывать, что Алма-Тадема не умеет рисовать и что в этом с ним
согласны все его друзья-художники. Он добавил несколько пасса-
жей в корректуру и высокомерно потребовал от Кука, чтобы тот
принял все изменения: “Пожалуйста, примите во внимание все
мои поправки. Некоторые из них касаются только лишь “стиля”,
который, однако, учащемуся Оксфорда всегда следует прини-
мать во внимание”. Фраза в статье о “тех из нас, что не вышли
еще из юношеского возраста” подчеркивала раннее развитие его
дарования; несмотря на временное исключение, он подписал ее
“Оскар Уайльд, колледж Магдалины, Оксфорд”. Хоть он и лишил
свое имя пышного “Фингал О’Флаэрти Уиллс”, его принадлеж-
ность к Оксфорду, столь существенная для леди Брэкнелл из “Как
важно быть серьезным”, была, несомненно, отмечена как редакто-
ром, так и читателями.
Статью Уайльда о выставке интересно сравнить со статьей
Генри Джеймса о ней же. Новая галерея была особенно благо-
склонна к прерафаэлитам, и Джеймс, как и Уайльд, хвалебно ото-
звался о Берн-Джонсе. Джеймс, однако, отметил у художника
недостаток “мужественности”1. Случилось так, что оба обо-
зревателя описали самую заметную картину выставки “Любовь
и Смерть” Дж. Ф. Уоттса. Джеймс точен, но сдержан:
На большом полотне фигура в белом одеянии, обращенная к зри-
телю спиной, наводящая страх размахом жеста и складками ткани,
готовится взойти на крыльцо, где подле розового куста, уронившего
цветы на ступени, мальчик, символизирующий любовь, выступил
вперед и, изогнувшись в хмольбе, тщетно пытается преградить вхо-
дящему путь.
Уайльд переполнен той же самой картиной! до краев. Он
пышно, в подробностях описывает
...мраморный вход, заросший белозвездным жасмином и сладост-
ным шиповником. Гигантская фигура Смерти, облаченная в серое
одеяние, шествует в помещение с неодолимой и таинственной власт-
Это ставилось в вину также и Пейтеру. 3 мая 1877 г. газета “Оксфорд
энд Кембридж андергредюэйтс джорнал” раскритиковала идею Пей-
тера о том, что следует радоваться мгновениям жизни “просто ради
самих этих мгновений”. Журнал писал, что “мы еще не растеряли
мужества, и... для нас найдется мужская работа не только в большом
мире за стенами Оксфорда, но и внутри его стен... ”
109
ностью, сминая по дороге цветы. Одной ногой она уже ступила
на крыльцо, одна ее рука неумолимо протянута вперед — а между тем
Любовь, прекрасный мальчик с гибкими смуглыми членами и радуж-
ными ангельскими крыльями, съежившимися подобно засыхающему
листу, бессильными руками пытается преградить ей путь.
Здравомыслящий, осторожный Джеймс находит, что картина
“не лишена изящества и выразительности”; дерзкий эстет Уайльд
сравнивает ее с “Богом, отделяющим свет от тьмы” Микелан-
джело. Когда речь заходит о прекрасном мальчике, Уайльд трепе-
щет, а Джеймс скашивает глаза.
В том, что Джеймс пишет об Уистлере, он менее убедителен.
Он еще не готов воспринять новаторский стиль художника, и ему
понадобится еще без малого двадцать лет, чтобы оценить его
величие. Пока что он презрительно отмахивается от него. Отзыв
Уайльда более благоприятен, хотя и не безоговорочно. Уистлер
стилистически связан как с поэтизированной живописью прера-
фаэлитов, так и с бессюжетностью французских импрессиони-
стов. Уайльд, пока что увлеченный только сюжетной живописью,
хвалит Уистлера за традиционный портрет Карлейля, но запи-
нается на более смелом портрете Генри Ирвинга и не удостаи-
вает даже снисходительной похвалы “симфонии в цвете”. Чем
менее традиционны эти работы, тем меньше они нравятся Уайльду.
Дойдя до картины “Ноктюрн в черном и золотом: падающая
ракета”, самой дерзкой из всех, Уайльд говорит о пей как самый
что ни на есть плоский реалист: дескать, “смотреть на нее вряд ли
стоит дольше той четверти минуты, что падаег настоящая ракета”.
В отличие от Джеймса он, однако, признает, что Уистлер спосо-
бен достичь огромной силы, когда он сочтет предмет изображе-
ния достойным. Кенингдейл Кук высказал опасение, что Уистлер
обидится, но Уайльд самоуверенно успокоил его: “Я знаю, что он
отнесется к ним [замечаниям Уайльда] благосклонно, и, помимо
всего прочего, они умны и занимательны”. (Он также снабдил ста-
тью сноской, явно основанной на разговоре с Уистлером, в кото-
рой со знанием дела утверждает, что Уистлер, расписывая свой
знаменитый павлиний потолок, не знал, что в Равенне есть древ-
ний прообраз его работы.) Уистлера не задела болтовня Уайльда,
тем более что она была сдобрена похвалой; гораздо серьезнее он
отнесся к ничем не сдобренному замечанию Рёскина о “Падаю-
щей ракете” в одном из писем цикла “Fors Clavigera”1: “Никак
не ожидал услышать, что некий прощелыга, выплеснув публике
в лицо ведро краски, потребует за это двести гиней”. Последо-
1 “Фортуна Булавоносная” (лат.).
НО
вав1пий за этим судебный иск о клевете расколол английский мир
искусства, разорвал иные многолетние дружеские узы. Уайльд же
^удрялся оставаться в дружеских отношениях с Рёскином и Берн-
Джонсом, с одной стороны, и с Уистлером — с другой, что тре-
бовало от него в сложившихся обстоятельствах поистине чудес
акробатики.
На нескольких страницах статьи Уайльд упражняется не только
в критическом искусстве, но и в искусстве саморекламы. Он
словоохотливо рассуждает о своей поездке в Грецию и Италию.
Нет недостатка и в подхалимничанье. С уважением упомянуты
и Рёскин, и Пейтер: Рёскин в связи с его давним портретом работы
Милле, не представленным на выставке; Пейтер в связи с его опре-
делением цвета в эссе о Боттичелли как “духа вещей, посредством
которого вещи изъясняют себя нашему духу”. Уайльд применяет
это определение к работам Берн-Джонса и ухитряется процити-
ровать его дважды (первоначально была еще одна цитата из Пей-
тера, но Кенингдейл Кук изъял ее). Кружа по залам выставки,
Уайльд со знанием дела замечает, что портреты герцогини Вест-
минстерской и ее детей работы Милле удивительно схожи с ори-
гиналами (он познакомился с ней, поскольку она была сестрой
лорда Рональда Гауэра). Гауэр также удостаивается его похвалы
за две скульптуры, не представленные на выставке, а находящиеся
в Королевской академии.
Позволив себе высказать отдельные упреки в адрес других
участников выставки, Уайльд тем не менее выражает в дублинском
журнале свое ирландское убеждение в том, что “скучная земля
Англии с ее коротким летом, с ее безотрадными дождями и тума-
нами, с ее шахтерскими областями, с ее фабриками, с ее мерзким
обожествлением машины все же произвела на свет величайших
мастеров искусства... ”. Он подхватывает свою же хвалу в послед-
ней фразе, где, объединяя художников с писателями, воздает дол-
жное “возрождению культуры и любви к красоте, которое началом
своим в громадной степени обязано мистеру Рёскину и которое
пестуют, которому придают сил, каждый на свой особый лад,
мистер Суинберн, мистер Пейтер, мистер Саймондс, мистер
Моррис и многие другие”. Он еще не провозгласил английский
Ренессанс, но подошел к этому близко.
Проведя стильную неделю в Лондоне, Уайльд отправился
домой в Дублин. Его мать вознегодовала на тупость администра-
ции колледжа, Махаффи разгневался на то, что он счел подрывом
своего авторитета — ведь он был участником поездки в Грецию.
Ему, правда, было к этому не привыкать: в прошлом году при сход-
ных обстоятельствах коллеги по Тринити-колледжу выразили ему
порицание за продление его первой поездки в Грецию на учеб-
111
ные дни. Только Уилли Уайльд по нечуткости своей спросил
брата Оскара, в чем состоит настоящая причина его исключения,
поскольку объявленная показалась ему фальшивой. Похоже, он
начал подозревать брата в предосудительных наклонностях. Уайльд
сделал, что было в его силах: написал в колледж упрашивающее
письмо, и 4 мая администрация смягчила первоначальное реше-
ние, но только в том, что снизила штраф с 47 фунтов 10 шиллин-
гов до 26 фунтов 15 шиллингов при условии, что задание куратора
будет удовлетворительно выполнено. Условие доставило Уайльду
мало радости.
Но унижение помогло ему, по крайней мере, прояснить свои
цели. Он будет, как он сообщил Куку, художественным критиком,
а еще он будет поэтом. Последнее требовало, во-первых, сти-
хов, а во-вторых, влиятельных друзей, и поэтому в течение лета
он и сочинял, и заискивал. Его прием, неискренний до наивно-
сти, состоял в том, чтобы послать стихотворение, сопроводив
его чарующим письмом с упоминанием о своих дооксфордских
и оксфордских знакомствах (Мэтью Арнольд в молодости посту-
пил так же, послав письмо Сент-Беву). Так, он отправил Гладстону
сонет в стиле Мильтона, где выразил протест против массовых
убийств христиан в Болгарии в мае 1876 г. (Гладстон протестовал
против этого в прозе); в сопроводительном письме Уайльд сооб-
щил, что он “едва вышел из мальчишеского возраста”1. Молодым
людям, пишет он, нравится публиковать свои работы с тем, чтобы
их могли прочесть другие; поэтому не порекомендует ли Гладс-
тон его сонет журналам “Найнтинс сенчури” и “Спектейтор”?
Гладстон ответил достаточно сердечно, что позволило Уайльду
послать ему новые сонеты, которые одновременно были отправ-
лены в “Спектейтор” со ссылкой на Гладстона, сделанной с его
разрешения. “Спектейтор” сонеты отклонил. Как бы то ни было,
письмо Уайльда Гладстону о первом сонете содержит не одну лишь
лесть; разъясняя две строки:
Не приснилось ли Твое Воскресение ей —
Той, чья любовь к Тебе искупила все ее грехи? —
он пишет, что имеется в виду Мария Магдалина, первой увидев-
шая Христа после Воскресения; затем Уайльд в достаточно мир-
ской манере добавляет: “У Ренана где-то говорится, что это самая
1 Когда некто упрекнул Уайльда за отзвуки поэзии Мильтона в сонете,
он ответил: “То, что критик называет отзвуком, представляет собой
мое достижение. Я старался написать сонеты в духе Мильтона, кото-
рые звучали бы не хуже мильтоновских”.
112
божественная ложь, что была когда-либо сказана”. Более уместным
выглядело посланное в этом же конверте стихотворение “Пасха”,
вполне по-протестантски отдающее бедности Иисуса предпочте-
ние перед роскошью папства.
Другим он послал свой сонет о Китсе. Он считал, что постав-
ленная в феврале 1876 г. на могиле поэта стела с его профилем
в медальоне искажает внешность Китса, и в письме лорду Хотону,
с которым Махаффи познакомил его в Дублине, подчеркнул это
обстоятельство. К несчастью, он не удосужился сначала прочи-
тать написанную Хотоном биографию Китса; в ответном письме
Хотон, сказав несколько вежливых слов о стихотворении, автори-
тетно заявил, что нарисованный Уайльдом образ Китса как воина
и мученика не соответствует действительности. “Китс, — писал
Хотон, — отнюдь нс был несчастен, и признание он получил
необычайно быстро”. Что касается профиля в медальоне, Хотон
утверждал, что сходство вполне удовлетворительное. Письмо
похожего содержания, отправленное Уайльдом Уильяму Майклу
Россетти, отповеди не вызвало, однако Россетти после долгого
молчания ответил в том смысле, что, соглашаясь с тем, что Китс
заслуживает статуи, он все же считает, что торопиться некуда, ибо
все выдающиеся поэты рано или поздно получают все заслужен-
ные ими статуи1. Попытки Уайльда не принесли ему немедлен-
ного успеха, однако, по крайней мере, он популяризировал свое
имя, и порой завязывалась дальнейшая переписка.
В июле вышел номер журнала “Дублин юниверсити мэгазин”
с его статьей о галерее Гровенор, и он послал экземпляр Пейтеру.
Во многих отношениях статья была декларацией солидарности
с Пейтером, с которым Уайльд еще не был знаком. Описания кар-
тин, изображавших мальчиков, содержали красноречивые фразы:
“На островах Греции встречаются мальчики, красотой подобные
платоновскому Хармиду1 2. “Святой Себастьян” Гвидо в генуэзском
палаццо Росси — один из таких мальчиков; Перуджино однажды
изобразил Ганимеда-грека для своего родного города; однако
более всех влияние этого человеческого типа испытал Корреджо,
чей ангел с лилией в Пармском соборе и чей св. Иоанн с отре-
шенным взором и приоткрытым ртом в “Коронации Мадонны”
в церкви Сан-Джованни Эванджелиста — лучшие образцы цве-
тения, живости и сияющего великолепия этой юной красоты”.
Пейтер уловил поданный сигнал и признал способности автора.
1 В рецензии от 27 сентября 1887 г. на биографию Китса, написанную
Россетти, Уайльд скажет, что эта книга “крупная неудача”.
2 Xармид — прекрасный юноша, персонаж одноименного диалога Пла-
тона. (Примеч. перев.)
113
14 июля не откладывая он написал Уайльду письмо, где благодарил
его за “чудесную статью” и приглашал прийти к нему, как только
Уайльд вернется в Оксфорд. “Мне бы очень хотелось обсудить
с Вами некоторые частности, хотя в целом я считаю Вашу критику
справедливой, и Вы, несомненно, дали ей весьма изящное сло-
весное выражение. Из статьи видно, что у Вас прекрасный и для
Вашего возраста исключительно развитый вкус и что Вы хорошо
осведомлены о множестве прекрасных творений. Надеюсь, что Вы
еще очень много всего напишете”.
Гордый этим одобрением, Уайльд переписал письмо Пейтера,
чтобы похвастаться перед своими друзьями Уордом и Хардин-
гом. Вслед за прозаической увертюрой он послал Пейтеру сонет
(возможно, и не один); в конце октября, когда после временного
исключения Уайльда они встретились, Пейтер с улыбкой спросил
его: “Почему вы пишете только стихи? Почему не пишете прозу?
Прозу писать куда труднее”. Тем не менее он похвалил стихотво-
рение Уайльда “Прогулки у колледжа Магдалины”. Вскоре Уайльд
внутренне согласился с Пейтером; он писал Эрнесту Рэдфорду:
“Что до меня, проза так меня завораживает, что я скорее готов
сидеть у ее органа, нежели играть на свирели или дудочке”. Майклу
Филду он сказал: “В этом столетии есть только один человек, кото-
рый умеет писать прозу”. По сравнению с прозой Пейтера, считал
он, “бурная риторика Карлейля, окрыленно-страстное красноре-
чие Рёскина” выглядят порождением скорее энтузиазма, нежели
искусства. В прежние века проза также хромала. Проза времен
короля Якова I была “слишком цветистой”. В эпоху королевы
Анны она была “страшно оголена и неприятно рациональна” (его
собственная проза уж точно не была оголена — порой, наоборот,
разодета сверх всякой меры). А вот эссе Пейтера были и остаются
“драгоценной книгой духа и чувств, Священным Писанием кра-
соты”.
Пейтер и Уайльд быстро стали друзьями. Однажды Бодли при-
шел к Уайльду навестить его и, увидев, что он накрывает стол для
ленча, сказал, что охотно разделит с ним трапезу. Уайльд всполо-
шился: “Ни в коем случае! Такой филистер, как ты, нет, невоз-
можно. Я в первый раз жду к ленчу Уолтера Пейтера”. Бодли,
помня об изгнании Хардинга, который поплатился за письма
от “любящего Вас” Пейтера, счел их сближение зловещим. Позже
он говорил, что именно Пейтер заразил Уайльда “крайним эсте-
тизмом”, что в контексте других его высказываний звучало чуть ли
не как эвфемистическая замена слова “гомосексуализм”.
Дружба цвела. Пейтер дал Уайльду прочесть “Три повести”
Флобера, только что опубликованные в Париже. В эту книгу “бе-
зупречного мастера, который среди смертных зовется Флобером”
(так Уайльд охарактеризовал его в письме), вошли, в частности,
повесть о св. Юлиане и повесть об Иродиаде и Иоанне Крести-
теле. Они произвели на Уайльда особенно сильное впечатление;
впоследствии он и сам сочинял скептические вариации на библей-
ские темы. У Флобера он также позаимствовал греческую форму
имени “Иоанн”: “Иоканаан” (а Пейтер еще поплатится за книги
Флобера, которые он будет давать читать студентам). В январе
1878 г. Пейтер поблагодарил Уайльда за подаренную ему фото-
графию; они множество раз вместе ходили на прогулки и пили
чай.
О том, что представляли собой чаепития у Пейтера, дает пред-
ставление запись от 5 мая 1878 г. в дневнике Марка Паттисона,
ректора Линкольн-колледжа: “Ходил к Пейтеру на чай, у него был
Оскар Браунинг, больше, чем когда-либо, похожий на Сократа.
Он беседовал в углу с 4 женоподобными юнцами, “лоботрясничая”
с ними в нашем присутствии, тогда как мисс Пейтер и я сидели
в другом углу и смотрели на них. Наконец появился Уолтер Пей-
тер, который, как мне сказали, был “наверху”; его сопровождали
еще 2 юнца такой же наружности...” [Многоточие принадлежит
Паттисону.]1
Пейтер, хотя это письмо может создать иное впечатление, был,
как правило, осторожен, и осторожность его возросла после пуб-
ликации в 1873 г. его “Очерков по истории Ренессанса”. “Да, —
сказал позднее Уайльд Риккетсу, — бедный милый Пейтер жил
противоположно всему, что он когда-либо написал”. Еще через
несколько лет Уайльд говорил о нем Роберту Россу: “Милого Пей-
тера всегда пугала моя пропаганда”. В другой раз он вспомнил
о том, как пришел к Пейтеру и застал его удрученным из-за статьи,
высмеивающей его эссе о Чарлзе Лэме. По этому поводу Уайльд
сказал Винсенту О’Салливану: “Только вообрази! Пейтер! Не
могу постичь — как это можно быть Пейтером и в то же время
так близко к сердцу принимать оскорбления журнального писаки”.
1 О поведении Пейтера с молодыми людьми говорит также письмо, кото-
рое в 1907 г. без всякой задней мысли написал Томасу Райту, биографу
Пейтера, Эд Дагдейл, парикмахер из салона “Спирс и сын”. Дагдейл
пишет, что, когда ему было двадцать два года, Пейтер выбрал его из не-
скольких парикмахеров; он начал стричь Пейтера, и тут “он внезапно
наклонился и внимательно посмотрел на мои ноги, обутые в комнат-
ные туфли; не говоря ни слова, он взялся за мою ступню и положил ее
себе на колено, потом стал гладить ее и рассматривать со всех углов зре-
ния. Его явно восхищали в ней какие-то линии или контуры. Потом
он пригласил меня к себе на квартиру в Брейзноз-колледж, но, не зная
в то время о выдающейся репутации этого человека... я не воспользо-
вался тем, что ныне счел бы для себя высокой честью”.
Про себя он думал, а позднее отважился и сказать публично, что
проза Пейтера слишком далека от живой речи. Пейтер, в свою
очередь, считал, что проза Уайльда к ней слишком близка. Роберт
Росс чувствовал, что, восхищаясь умом Уайльда, Пейтер недолю-
бливает его как личность; Винсент О’Салливан приводит ска-
занные ему Пейтером слова о “странной вульгарности, которую
мистер Уайльд ошибочно принимает за обаяние”. В Оксфорде
Уайльд никогда не посещал лекций Пейтера, в отличие от лекций
Рёскина; однако в 1890 г. он вместе с Россом слушал лекцию Пей-
тера о Мериме. Стоя на кафедре, Пейтер по своему обыкновению
говорил тихим голосом, не глядя на слушателей. После лекции он
сказал Уайльду и Россу: “Надеюсь, вы меня слышали”. — “Боюсь,
мы вас недослышали”, — отозвался Уайльд. “Вы на все отвечаете
каламбуром”, — сказал Пейтер неодобрительно. Так или иначе,
на четвертом, последнем году оксфордского курса гуманитарных
наук Уайльд был до крайности увлечен Пейтером, как на первом
году Рёскином. Как пишет биограф Пейтера Томас Райт, впослед-
ствии Уайльд часто начинал письма к Пейтеру словами: “Почте-
ние великому мастеру”.
Уайльд помнил о том, что в июне 1878 г. ему предстоит второй
цикл публичных экзаменов, от которого зависит, по какому раз-
ряду он кончит. 1877/78 учебный год начался с денежных трудно-
стей: он не смог представить куратору требуемый объем работы,
вследствие чего колледж вознамерился отменить свое решение
об уменьшении штрафа наполовину. Потребовалось все уайль-
довское красноречие, чтобы уговорить администрацию не делать
этого. В президентской книге протоколов колледжа Магдалины
читаехм:
15 октября 1877 г.: постановление. Администрация рассмотрела
приведенные мистером Уайльдом причины непредставления работы,
заданной ему его куратором в соответствии с решением от 26 апреля,
и на данный момент считает возможным не налагать на него дальней-
ших взысканий, ограничившись, как было решено ранее, лишением
его денежной стипендии на полугодовой период, завершающийся
в день св. Михаила 1877 г.
Уайльд, который никогда не умел экономить, тратил сверх
меры до смерти сэра Уильяма Уайльда и продолжал делать это
после его смерти, когда доход стал намного меньше. Еще осенью
1876 г. он писал матери, что, вероятно, должен будет оставить на-
дежду на исследовательскую стипендию от колледжа после полу-
чения диплома, поскольку не сможет жить на нее, даже если ему ее
присудят, и поэтому ему придется искать какую-то “оплачиваемую
116
работу” — отчаянная альтернатива! (По той же причине он не мог
цениться на Флоренс Болком.) Сперанца, само имя которой зна-
чило “Надежда”, не могла позволить сыну роскошь безнадежности
и писала ему в ответ:
Мне было бы жаль, если бы тебе пришлось поступить на унизи-
тельную работу и отказаться от шанса на стипендию. Однако я не счи-
таю, что твое положение на данный момент взывает к жалости или
состраданию: с мая этого года (всего за пять месяцев) ты получил
на твои персональные расходы 145 фунтов наличными, не считая
дохода за аренду домов у Лох-Брей, а продажа твоей мебели позволит
тебе продержаться до весны. Потом ты сможешь продать свои дома
за 3000 фунтов, 2000 из которых дадут тебе 200 фунтов в год в тече-
ние десяти лет. По-моему, очень хорошее содержание — хотела бы
я иметь 200 фунтов в год в течение десяти лет, — хотя, конечно, тебе,
как и всем нам, придется жить на деньги от твоей недвижимости —
но, так или иначе, 2000 фунтов — очень неплохая сумма, и, если к ней
добавится доход от колледжа, я не думаю, что тебе придется идти
в лавочники или просить милостыню, я искренне рада, что ты так
хорошо обеспечен, ведь в любом случае тебе гарантированы 300 фун-
тов в год в течение десяти лет...
Уайльд, однако, продолжал жаловаться на стесненное положе-
ние, хотя дома у озера Лох-Брей приносили ему арендную плату
и обещали принести больше после их продажи. Он постоянно
был кому-то должен. В ноябре 1877 г. он дважды (16-го и 30-го)
подвергся знаменитому оксфордскому бесчестью: ему приходи-
лось предстать перед административным “судом вице-канцлера”,
имевшим право взыскивать со студентов долги перед торговцами.
Первый вызов касался 20 фунтов, которые он был должен порт-
ному Джозефу Мьюиру (Хай-стрит, 20) за “сверхмодный костюм
из ангорской шерсти” и тохму подобное. Уайльду пришлось упла-
тить долг плюс еще почти 3 фунта судебных издержек. Второй
вызов был из-за 5 фунтов 18 шиллингов 6 пенсов, которые оста-
лись неуплаченными ювелиру М. Осмонду (Сент-Олдейтс, 118)
из прежнего долга в 16 фунтов, в основном за масонские регалии.
В этом случае Уайльда обязали заплатить долг плюс 25 шиллингов
издержек. В архиве университета сохранилось письмо от Уайльда
с протестом против суммы платежей:
Понедельник Колледж Магдалины, Оксфорд
Уважаемый сэр! Прошу пересмотреть прилагаемый счет,
поскольку я считаю его в высшей степени вымогательским и ни с чем
не сообразным. Общая сумма, на которую претендует торговец,
11/
составляет, я думаю, 5 фунтов 10 шиллингов — в любом случае
намного меньше 6 фунтов, и мне представляется, что если на 5-фун-
товый счет начисляется 3 фунта судебных издержек, то вице-канцлер-
ский суд следует рассматривать как орган, чья деятельность требует
расследования со стороны Университетской комиссии; я убежден, что
это чудовищное требование будет отменено. Ваш покорный слуга
ОСКАР УАЙЛЬД.
Ясно, что он перепутал судебные издержки по первому делу
с издержками по второму. Трудно представить себе, чтобы какой-
либо другой студент того времени сделал подобную ошибку,
не говоря уже о том, чтобы обвинить вице-канцлерский суд
в денежной нечистоплотности.
Еще один удар он испытал после ранней смерти его едино-
кровного брата Генри Уилсона 13 июня 1877 г. Обедая с Уилсоном
всего за несколько дней до его смерти, Уайльд не почувствовал,
насколько обеспокоен брат его стихотворениями, напечатанными
в католических журналах. Оскар и Уилли полагали, что они будут
единственными наследниками, но Уилсон оставил 8000 фунтов
больнице Св. Марка, 2000 фунтов Уилли и всего 100 Оскару, да
и то при условии, если он останется протестантом. Что касается
Иллонроу, которым Уилсон и Оскар владели совместно, доля Уил-
сона переходила к Оскару в том случае, если он не станет католи-
ком в течение пяти лет. В противном случае она достанется Уилли.
Оскар уговорил Уилли отказаться от ежегодных 10 фунтов, кото-
рые Оскар должен был выплачивать ему после получения Иллон-
роу; однако его представление о католицизме как о невозможной
для себя роскоши после этого укрепилось.
Реабилитация
А мозг такого высокообразованного человека —
это нечто страшное! Он подобен лавке анти-
квария, набитой всяким пыльным старьем, где
каждая вещь оценена гораздо выше своей насто-
ящей стоимости.
Ни тогда, ни позже Уайльд не допускал, чтобы неопределенность
будущего мешала радостям настоящего. Он не разделял убежден-
ность матери в том, что он сможет жить на 200 фунтов годового
дохода от унаследованного им капитала. Он тратил деньги неза-
висимо от того, получал их или нет. Часть уходила на сногсши-
и8
бательные наряды. Виолончельными пиджаками и сверхмодными
костюмами из ангорской шерсти дело не ограничивалось; 1 мая
1878 г. он блистал на длившемся всю ночь бале-маскараде, устро-
енном мистером и миссис Герберт Моррел для 300 гостей в зале
“Хедингтон-хилл”, и на нем был костюм принца Руперта, включав-
ший в себя бриджи сливового цвета и шелковые чулки. Роскошь
этого одеяния так очаровала его, что он купил костюм у фирмы,
дававшей его напрокат, и потом веселья ради надевал его у себя
дома. Свою квартиру он наполнил множеством изысканных
вещей — там были не только голубой фарфор, но и танагрские
статуэтки, привезенные из Греции, греческие ковры, купленные
с помощью Уильяма Уорда, фотографии любимых картин и, нако-
нец, его знаменитый мольберт с неоконченной картиной. Он
объяснял этот мольберт тем, что иногда ощущает необходимость
“выразить себя не прямо, а сквозь завесу цвета. Порой художник
испытывает переживания такой силы, что он чувствует невозмож-
ность довериться словам с их непосредственностью, и он находит
в оттенках золотого и алого более подходящий — ибо не столь
прозрачный — способ выражения”. Возможно, поведал Уайльд
ежегоднику "Байограф”, он когда-нибудь станет художником.
Убранство его комнат также включало в себя лилию-талис-
ман, увековеченную Рёскином в "Венецианских камнях” как одна
из самых красивых и самых бесполезных вещей на свете. В 1881 г.
Гилберт и Салливан еще спародируют "лилейную любовь” в коми-
ческой опере "Пейшенс”. Согласно некоторым утверждениям,
этот культ начался позже. Но Уайльд сам говорил, что его оксфорд-
ская квартира была полна лилий. Его друг Дуглас Слейден вспо-
минает в книге "Двадцать лет моей жизни”: “В один прекрасный
день он убрал в своей квартире все украшения, за исключением
единственной голубой вазы воистину эстетического вида, где сто-
яла лилия из "Пейшенс”. Это свидетельство согласуется с эпизо-
дом из романа "Мысли вдогонку” Роды Бротон, опубликованного
в мае 1880 г. и писавшегося в течение двух предшествующих лет.
Рода Бротон поселилась тогда в Оксфорде и затмила Уайльда
своим умением вести шутливый словесный поединок. По этой
причине он не приглашал ее на свои "вечера Красоты”, однако
ее подруга, писательница Маргарет Вудс, посещала их, и поэтому
Рода Бротон была хорошо осведомлена о том, какие эстетические
Дела там делаются. В "Мыслях вдогонку” она изобразила “высо-
кого бледного поэта” по имени Фрэнсис Чалонер, у которого
Дряблые конечности”, “ранневизантийское лицо” и очень длин-
ные волосы на "боттичеллиевской голове”. При низкой пока что
плотности эстетического населения Оксфорда этот персонаж
не мог быть списан с кого-либо, кроме Уайльда. Поэт подводит
119
героиню к “огромной белой лилии, стоящей в большой голубой
вазе” — в той самой, на какую обратил внимание Слейден. Убран-
ство комнат Чалонера пародирует уайльдовский интерьер с неко-
торым усилением; здесь тоже стоят на мольбертах неоконченные
картины — одна изображает Венеру, другая — Гиласа, любимца
Геракла, что красноречиво намекает на сексуальную двойствен-
ность молодых эстетов (в романе Генри Джеймса, с которым Рода
Бротон дружила, пресловутого Гиласа ваяет скульптор Родерик
Хадсон). Элоквенция Уайльда, выдержанная в пейтеровском духе,
и парирующие реплики Роды Бротон отражены в вопросе Чало-
нера: “Вас никогда не охватывает желание более насыщенной
жизни? более человеческой? более ритмической? более полной?”
и ответе героини: “Никогда!” Чалонер пишет стихи на “тошнот-
ворно-сладкие” темы и полагает, что их “следует читать... под при-
глушенно-тусклые звуки виолы или клавесина, ощущая в воздухе
тонкий аромат увядших роз, а в глазах между тем красно от порфи-
ровых ваз и нежно-пурпурных тканей”. Уайльд приберегал ответ-
ный выпад до 28 октября 1886 г., когда в рецензии он написал: “В
Филистии находится подлинная родина мисс Бротон, в Филистию
следует ей возвратиться”.
Как показывает этот образчик ранней сатиры, в Оксфорде
в конце семидесятых создавался образ эстета, пришедший на смену
образу прерафаэлита. 26 апреля и 3 мая 1877 г. еженедельная газета
“Оксфорд энд Кембридж андергредюэйтс джорнал” официально
зафиксировала зарождение нового движения; слегка похвалив
его вначале за цивилизующее воздействие, газета затем перешла
к порицанию эстетизма за то, что он “коварно” стремится полу-
чить не открытую, но “молчаливую санкцию” на “языческое обо-
жествление телесных форм и телесной красоты”, и за то, что отме-
тает “все религиозно-нравственные системы поведения” во имя
свободы и естества. Газета явно отнеслась к эстетизму двояко.
Уайльд понимал, что история эстетизма началась задолго
до 1750 I'., когда философ Баумгартен ввел в употребление слово
“эстетический”. В статье от 4 сентября 1880 г. он отмечает, что
в платоновском “Пире” хозяин — Агафон — был “поэтом-эстетом
эпохи Перикла”. Поклонник лилии обратил внимание читателей
на название утраченной драмы Агафона — “Цветок”. Не только
Платон, но и Аристофан изобразил Агафона “сияющими крас-
ками”, пишет Уайльд. На самом же деле Аристофан в “Женщинах
на празднике Фесмофорий” высмеял эстетскую женственность
еще резче, чем Рода Бротон, изобразив Агафона расхаживающим
среди женщин в женскохм наряде.
Если античный мир не был един в своем отношении к “поэту-
эстету”, то же самое можно сказать и о XIX в. Кант дал эстетизму
120
санкцию на существование, когда писал о независимости искус-
ства от практического интереса и о том, что посредством человече-
ской деятельности оно творит некую вторую реальность. Теофиль
Готье, которого Уайльд высоко ценил, воспринял эти идеи и в за-
остренном виде выразил их в знаменитом предисловии к роману
“Мадемуазель де Мопен”. Вопреки общепринятым представлениям
Готье заявил, что искусство совершенно бесполезно, аморально
и неестественно. В романе он проиллюстрировал свои взгляды,
без тени смущения изобразив женщину с бисексуальными наклон-
ностями, которые в конце книги она сполна удовлетворяет. Тема
изменчивой сексуальной ориентации была задана романом Готье
на весь остаток столетия. Уайльду особенно нравилась позднейшая
ее интерпретация в романе М. Рашильд “Месье Венера”.
Но едва мадемуазель де Мопен начала свое шествие по свету,
движение, которое она олицетворяла, подверглось мощному напа-
дению. Шесть лет спустя Серен Кьеркегор опубликовал книгу
“Или — или”, в которой он анатомировал личность эстета. В отли-
чие от этического человека эстетический человек настолько погло-
щен чередой своих настроений, каждому из которых он отдается
полностью, что утрачивает связь со своей же личностью, которую
хочет выразить. Боясь упустить настроение, он не может позво-
лить себе рефлексию, не может попытаться быть чем-то большим,
чем является в данный момент и в данном настроении. Он дви-
жется от переживания к переживанию в такой примерно манере,
какой позже воздал хвалу Пейтер. Кьеркегор словно бы опровер-
гал Пейтера еще до того, как тот взялся за перо.
Уайльд не читал книгу Кьеркегора, но был знаком с другой
книгой — “Новой республикой” УХ. Маллока, содержавшей све-
жие нападки на эстетизм; прочтя ее в 1877 г., вскоре после выхода
в свет, он объявил ее “определенно неглупой”. Маллок проти-
вопоставляет эстетического человека мистера Роуза (списан-
ного с Уолтера Пейтера) этическому человеку мистеру Герберту
(списанному с Рёскина) и отдает Герберту полное предпочтение.
Взгляды их поучительно противоположны; Герберту современ-
ность представляется эпохой упадка, однако для Роуза это лучшая
эпоха из всех, поскольку она владеет всеми возможностями для
чувственных переживаний, открытыми в течение прежних эпох,
наряду со своими собственными возможностями. Подразумева-
ется, что Ренессанс еще не кончился, что он длится и по сей день.
Возражая Герберту, красноречиво проповедующему самоограни-
чение и нравственное совершенствование, Роуз упоенно читает
стихотворение, сочиненное, как он говорит, неким восемна-
ДЦатилетним студентом. Оно выглядит как пародия на уайльдов-
ский “Сонет, написанный на Святой неделе в Генуе” с его равно
121
восторженным переживанием языческого и христианского начал.
Поэт рассказывает о трех “видениях”, посетивших его во сне
в течение одной ночи: сначала белокожий Нарцисс, затем под-
нимающаяся из морских вод Венера и, наконец, исхудалый Фома
Аквинский в своей келье. Когда первые два видения исчезают,
поэт с несколько приугасшим энтузиазмом обращается к святому
и ко Христу. Как и у Готье, объект сексуального влечения двоится,
хотя Маллок изображает Роуза скорее эротическим мечтателем,
нежели активным любовником. На это Уайльд отзовется позднее,
когда обвинит Пейтера в пассивной отрешенности, имея в виду,
что ему не хватало отваги для действий.
Оксфордский эстетизм в уайльдовской версии был странно
сознательным. Самопародирование шло рука об руку с самоутвер-
ждением. К моменту поступления в Оксфорд Уайльд уже видел,
что это движение одновременно с восходом переживает закат.
Хотя Уайльд перенял иные из его интересов — например, к оттен-
кам, к фактуре, — он, иронизируя над своими же крайностями, по-
стоянно привносил в него нечто от жизнерадостной насмешливо-
сти леди Уайльд. В литературе он поначалу отдавал предпочтение
вещам серьезным и лишенным всякого эстетизма, как, например,
роман в стихах “Аврора Ли” миссис Браунинг, которому он воздал
неумеренную хвалу, назвав “величайшим произведением нашей
литературы”1. (Рёскин говорил, что эта вещь выше, чем шекспи-
ровские сонеты.) В экземпляре “Авроры Ли”, подаренном Уайль-
дом своему другу Уильяму Уорду, имеются сделанные его рукой
восторженные пометки. Он понимал ограниченность эстетизма
не хуже, чем Маллок и Кьеркегор. В письме молодой женщине,
куда была вложена репродукция акварели Берн-Джонса, он писал:
“В очень многих картинах Берн-Джонса мы видим только лишь
языческое преклонение перед красотой; но этой вещи более, чем
другим, свойственны человечность и сочувствие”. Демонстрация
подобных противоположностей с идеей их конечного примире-
ния составляла содержание ранней поэзии Уайльда, и ее можно
увидеть в двух поэмах, которые он написал в последний свой пол-
ный год из проведенных в Оксфорде. Одну из них — “Сфинкс” —
он, по его словам, начал еще в 1874 г., за другую — “Равенна” — он
получил Ньюдигейтскую премию.
Это очень разные произведения, но роднит их то, что каждое
из них привязано к определенному предмету, вокруг которого вра-
щаются все переживания автора. О том, что они написаны примерно
1 Впоследствии он выразил сожаление о том, что этот роман написан
стихами, а не прозой.
122
в одно время, хотя “Сфинкс” долго оставался неоконченным, гово-
рит, в частности, упоминание в обеих поэмах о молодости автора:
... тот, кто лишь двадцать раз видел,
Как Лето сбрасывает зеленый камзол
Ради убора Осени...
(“Равенна”)
На сохранившейся странице из рукописи “Сфинкса” имеется
небрежный рисунок Уайльда, изображающий испуганных оксфорд-
ских преподавателей, и, как бы то ни было, в этой поэме автор назы-
вает себя студентом.
В обеих поэмах Уайльд переплетает состояние своей души
с историческим или легендарным прошлым. “Сфинкс”, написан-
ный по самым что ни на есть эстетическим канонам, развертывает
вокруг каменного изваяния пеструю вереницу языческих и хри-
стианских образов, изображая гомосексуальных Адриана и Анти-
ноя в тесном соседстве с гетеросексуальными Исидой и Осирисом,
Венерой и Адонисом, а тут же, невдалеке, маячат трудно совмести-
мые с ними Мария и Иисус. Но студент, которому все это приви-
делось, постепенно проникается к зрелищу отвращением и гонит
Сфинкса прочь:
Злой Сфинкс! Злой Сфинкс! Уже с веслом
Старик Харон стоит в надежде
И ждет, но ты плыви с ним прежде,
А я останусь пред крестом,
Где слезы льются незаметно
Из утомленных скорбью глаз,
Они оплакивают нас
И всех оплакивают тщетно1.
Последняя строка говорит о том, что лирический герой,
как и сам Уайльд, все еще испытывает трудности с принятием
доктрины Искупления, и это вызывает сомнение в искренности
провозглашаемой здесь веры.
В “Равенне” молодой человек вспоминает о своем посеще-
нии этого города год назад и элегически размышляет о его былом
величии. Упадок всегда был одной из любимых тем Уайльда. Как
и в “Сфинксе”, “милый эллинистический сон” (который Уайльд
вводит словно бы в оправдание своему греческому путешествию)
1 Перевод Н. Гумилева.
123
возникает лишь для того, чтобы быть отвергнутым при первых
звуках вечернего колокола. Отодвинув в сторону свои католиче-
ские устремления, Уайльд включил в поэму сцену триумфального
возвращения короля Виктора-Эммануила в Рим в 1871 г., когда
он изгнал папу Пия IX из Квиринальского дворца. Прочитав это
место, Хантер Блэр протестующе заметил, что Уайльд в свое время
сочувственно назвал лишенного власти папу “Господней церкви
пастырь заточенный”; однако Уайльд с обезоруживающей прямо-
той ответил: “Не сердись, Дански. Ты же понимаешь, что я никогда,
ни за что не получил бы Ньюдигейтскую премию, если бы взял
сторону папы, а не короля”. Поэма представляет собой искусно
составленную смесь личных воспоминаний, географических опи-
саний, фактов политической и литературной истории. Она содер-
жит риторические обращения к Данте и Байрону. Последний назван
“вторым Антонием, сделавшим весь мир своим мысом Акций”; однако,
прерывая свой риторический полет, Уайльд неуклюже замечает, что
в конечном счете Байрон, не поддавшись египетским приманкам,
отправился сражаться за свободу Греции. Что касается Равенны,
город попеременно описывается как погибший и как вечнозеле-
ный, и в конце поэмы автор не слишком убедительно клянется ему
в вечной любви. Уайльд, похоже, взял за образец “Чайльд-Гарольда”
Байрона, и, глядя на поэму с некоторого отдаления, в ней чув-
ствуешь нечто от байроновской непринужденной энергии даже
в таких клише, как:
Смерть властвует над всем. Король и шут
Равно в могилу темную сойдут...
Закончив “Равенну” к концу марта 1878 г., Уайльд анонимно,
как полагалось по условиям конкурса на Ньюдигейтскую премию,
представил ее 31-го числа, спустя ровно год после своего приезда
в этот город. После этого он слег с неизвестной нам болезнью
и несколько дней провел в постели в колледже Магдалины, радуясь
цветам, которые приносили ему друзья. Потом, чтобы окреп-
нуть, он на несколько дней поехал в Борнмут. Возможно, телес-
ная болезнь возродила никогда не утихавшее в нем полностью
беспокойство о состоянии собственной души. В 1877 г., когда
в оксфордский Тринити-колледж впервые за тридцать два года
приехал Ньюмен на присуждение ему звания почетного члена
колледжа, Уайльд мечтал о “посещении Ньюмена, о святых таин-
ствах в новой Церкви, о тишине и мире, которые потом наступят
в моей душе”. Но в 1878 г. его, возможно, беспокоило воспоми-
нание о том, что автор одного письма к нему вполне обдуманно
назвал “прямым грехом”.
124
Именно в Оксфорде случилось то, чему суждено было цели-
ком изменить его представление о самом себе. Уайльд заразился
сифилисом (есть основания полагать, что от продажной жен-
щины) L Сын врача, он всегда следил за своим здоровьем, и тем
более ощутим был для него этот удар. В 1870-е гг. медики, следуя
предписаниям сэра Джереми Хатчинсона, считали, что всякий,
кто заразился этой болезнью, должен пройти курс лечения рту-
тью и ждать по крайней мере два года, прежде чем жениться. Глав-
ным зримым воздействием ртути на Уайльда стало потемнение его
слегка выступающих зубов, вследствие чего он, говоря, обычно
прикрывал рот рукой. Ртуть, вопреки общему мнению, болезнь
не излечивала. А вот на психику Уайльда она подействовала очень
сильно. Как и его отец, он был подвержен приступам меланхолии;
теперь у них появилась еще одна причина.
Представление о своем телесном неблагополучии внесло
вклад в ощущение рока, присущее, как он писал в “De Profundis”,
всем его работам. Это ощущение отдаленно связано, в частно-
сти, с роком, преследующим эсхиловских героев, с их обречен-
ностью, которую Уайльд остро почувствовал в юности, читая
трагедию “Агамемнон”. К этому произведению он часто возвра-
щался мыслями и в 1877 г. опубликовал в “Коттабосе” свои пере-
воды некоторых монологов Кассандры и отрывки из хора. В его
сопроводительной заметке подчеркнута тема рока: “Агамемнон
уже вошел в Дом Рока, Клитемнестра последовала за ним — Кас-
сандра осталась одна на сцене... Она видит кровь на притолоке,
запах крови пугает ее [...] [“Я поскользнулся в крови. Это дур-
ной знак”, — скажет Ирод в “Саломее” Уайльда.] Ее ясновидящий
взор проникает сквозь стены дворца; она видит роковую ванну,
опутывающую сеть и заостренный топор, готовый погубить и ее,
1 Моя убежденность в том, что Уайльд болел сифилисом, основана
на утверждениях Реджинальда Тернера и Роберта Росса, близких
друзей Уайльда, присутствовавших при его смерти, на заключении
врачей в период его предсмертной болезни (см. гл. XXII) и на том
обстоятельстве, что издание 1912 г. книги Артура Рансома об Уайльде
и его биография, выпущенная в 1916 г. Харрисом (обе работы были
просмотрены Россом), называют сифилис причиной его смерти. Тем
не менее на этот счет существуют разные мнения, и некоторые специа-
листы не разделяют мой взгляд на медицинские аспекты жизни Уайльда.
Разумеется, стопроцентно надежных доказательств у меня нет — это
и неудивительно, если принять во внимание ореол бесчестья, стыда
и тайны, окружавший эту болезнь во времена Уайльда и позже, —
и суд мои доказательства вряд ли принял бы. Тем не менее я уверен,
что Уайльд болел сифилисом, и эта уверенность играет важную роль
в моем представлении о характере Уайльда и в моем понимании мно-
гих последующих событий его жизни.
125
и ее господина”. Уайльд не отождествлял свой собственный рок
с роком Агамемнона, но его не покидало ощущение тяготеющей
над ним самим странной обреченности.
О его чувствах в какой-то степени можно судить по его сти-
хам. В “Taedium Vitae”1 говорится о некоем месте, “где мой белый
дух/С грехом впервые целовался в рот”1 2. Возможно, именно это
стихотворение один книгопродавец рекламировал в 1953 г. как
адресованное женщине, от которой Уайльд заразился сифилисом.
В “Сфинксе” студент в решительный миг вопрошает:
Иль не осталось под луною
Проклятых более, чем я?
Аваны, Фарфара струя
Иссякла ль, что ты здесь, со мною?3
Здесь имеется в виду эпизод Ветхого Завета, в котором сирий-
ский военачальник Нееман, зараженный проказой, обращается
за советом к пророку Елисею. Тот велит ему омыться в Иордане,
на что Нееман гневно отвечает: “Разве Авана и Фарфар, реки Дамас-
ские, не лучше всех вод Израильских?” (4 Цар. 5). Интерес Уайльда
к Нееману на этом не иссяк; в “Саломее” он дал имя Нееман палачу4.
Не включенная в окончательный текст строка из “Сфинкса” гласит:
“Ты зеркало моей болезни”. Другим таким зеркалом стал портрет
Дориана Грея. По словам Лайонела Джонсона, Уайльд писал этот
роман “тяжело больным, страдая “нервной лихорадкой”, которая, как
подозревал Джонсон, была следствием “тиберианских излишеств”.
В унынии своем Уайльд так близко подошел к принятию като-
личества, как не подойдет больше никогда. В апреле 1878 г., едва
оправившись от недуга, который свалил его в постель, он имел
конфиденциальную беседу с известным и “модным” католическим
священником того времени — Себастьяном Боуденом из Бромп-
1 “Отвращение к жизни” (лат.).
2 Перевод Ю. Мориц.
3 Перевод Н. Гумилева.
4 Если считать внимание к образу Неемана показательным признаком,
можно предположить, что Уайльд заболел еще до встречи с Кон-
станс Флетчер: в ее романе “Мираж” Давенант (Уайльд) неожиданно
спрашивает, как Нееман: “Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские,
не лучше всех вод Израильских?” Вопрос малопонятен в контексте
“Миража”, но он становится понятней в контексте “Сфинкса”. Воз-
можно, Уайльд, погрузившись в покаянные мысли, удивил мисс Флет-
чер неожиданно вырвавшейся у него библейской цитатой. В “Герцо-
гине Падуанской” вопрос Гвидо “Ужель в Италии нет больше рек?”
кажется отзвуком слов Неемана.
126
тонской церкви в Лондоне. Боуден был известен тем, что склонил
к переходу в католичество ряд видных людей. О том, что было
сказано между ним и Уайльдом, можно судить по письму, которое
Боуден написал Уайльду после встречи:
Дорогой мистер Уайльд!
Какова бы ни была первоначальная цель Вашего вчерашнего
визита, у меня нет сомнений, что фактически Вы сполна и по доброй
воле раскрыли передо мной историю Вашей жизни и состояние
Вашей души. И сделать это помогла Вам милость Божья.
Вы не стали бы говорить о бесцельности и несчастье Вашей жизни,
о Ваших земных невзгодах священнику при первой же встрече с ним,
если бы Вы не надеялись, что я предложу Вам некое целительное сред-
ство, причем средство нерукотворное. Будьте честны с самим собой:
не мое влияние, не моя сила убеждения (об этом даже и говорить
не стоит), но голос Вашей собственной совести, побуждающей Вас
начать новую жизнь и избавиться от нынешнего Вашего несчастливого
“я”, — вот что подвигло Вас на Вашу исповедь. Позвольте же мне тогда
со всей доступной мне торжественностью повторить сказанное вчера:
человеческая природа Ваша, как природа всякого человека, изначально
содержит в себе зло, которое Вы усугубили, поддавшись дурным влия-
ниям, умственным и нравственным, и совершив прямой грех; поэтому
Вы говорите как мечтатель и скептик, не верящий ни во что и не име-
ющий цели в жизни. Однако Господь в милосердии Своем не позво-
лил Вам довольствоваться этим положением. Он заставил Вас увидеть
тщету мира сего после неожиданной потери Вами состояния и устра-
нил тем самым громадное препятствие, мешавшее Вашему обраще-
нию; Он дает Вам почувствовать уколы совести и тоску по святой,
чистой и серьезной жизни. Какую жизнь Вы будете вести — зависит
теперь от Вашей свободной воли. Помните, что, призывая Вас, Бог
дает Вам и средства к тому, чтобы повиноваться призыву.
Сделайте же это быстро и весело, и все трудности исчезнут,
и после обращения Вы наконец обретете подлинное счастье. Став
католиком, Вы естественным порядком, чистой милостью Божьей
окажетесь другим человеком. Это означает, что Вы отринете от себя
все наносное, аффектированное, недостойное Вашего лучшего “я”
и заживете жизнью Ваших глубочайших нужд, чувствуя, что у Вас
есть душа, которую нужно спасти, и лишь несколько быстролетных
часов, чтобы спасти ее. Твердо рассчитываю, что Вы придете ко мне
в четверг и мы продолжим разговор; будьте совершенно уверены, что
я не подтолкну Вас ни к чему, о чем не говорит Вам Ваша же совесть.
А пока усердней молитесь и меньше разговаривайте.
Искренне Ваш
СЕБАСТЬЯН БОУДЕН.
127
Итак, Уайльд подошел наконец к точке принятия решения. Хотя
письмо Боудена стало доступно биографам довольно давно, о том,
что Уайльд предпринял в ответ на него, известно не было. Однако
выясняется, что отец Боуден рассказал о развитии событий Андре
Раффаловичу, который сам был перекрещенным католиком. В чет-
верг, когда Уайльд должен был принять католичество, вместо него
в Бромптонской церкви появилась пришедшая по почте коробка.
В коробке был букет лилий. Так Уайльд в своем изысканном стиле
позолотил пилюлю отказа. К нему самому было применимо то,
что он позже скажет о Дориане Грее: “Одно время в Лондоне
говорили, что Дориан намерен перейти в католичество. Действи-
тельно, обрядность католической религии всегда очень нравилась
ему... Однако Дориан понимал, что принять официально те или
иные догматы или вероучение значило бы ставить какой-то пре-
дел своему умственному развитию, и никогда он не делал такой
ошибки; он не хотел считать своим постоянным жилищем гости-
ницу, пригодную лишь для того, чтобы провести в ней ночь или те
несколько ночных часов, когда не светят звезды и луна на ущербе...
все теории, все учения о жизни были для Дориана ничто по срав-
нению с самой жизнью”1. Несколько лет спустя на вопрос лорда
Бальфура, какую религию он исповедует, Уайльд ответил: “Думаю,
что никакой. Я ирландский протестант”. В качестве средства про-
тив своей ужасной болезни он выбрал не религию, а ртуть. Может
быть, уже в то время притча о тайной внутренней порче Дориана
Грея начала складываться в его сознании — а спирохета между тем
отправилась в путь вверх по его позвоночнику к мозговым обо-
лочкам.
По-видимому, вскоре после этого Уайльд получил возможность
официально продемонстрировать свое раскаяние. Подошла его оче-
редь читать отрывок из Библии в протестантской церкви колледжа
Магдалины; на службе присутствовал принц Леопольд. Уайльд
пошелестел страницами и начал томным голосом: “Песнь песней
Соломона”. Тут, как утверждает Аткинсон, декан Брэмли метнулся
вниз со своего места на клиросе и, чуть не тыча бородой Уайльду
в лицо, проговорил: “Вы не то место читаете, мистер Уайльд. Вто-
розаконие, глава 16”. Эйнсли вспоминает, что позднее некоторые
члены Краббет-клуба в шутку протестовали против членства в нем
1 Лорд Генри Уоттон более циничен: “Некоторые ищут утешения
в религии. Таинства религии имеют для них всю прелесть флирта —
так мне когда-то сказала одна женщина, и я этому охотно верю. Кроме
того, ничто так не льстит женскому тщеславию, как репутация греш-
ницы”. (Здесь и далее “Портрет Дориана Грея” цитируется в пере-
воде М. Абкиной.)
128
Уайльда на том основании, что студентом колледжа Магдалины он
читал из Библии, облачившись в стихарь. Уайльд отпираться не стал,
но сказал себе в оправдание: “Читая, я всегда придавал своему
голосу скептические интонации, и после богослужения президент
колледжа неизменно ругал меня за “легкомыслие на кафедре”.
В июне Уайльд сдавал последние, решающие экзамены. Буду-
щий стипендиат по фамилии Хортон, присутствовавший на пись-
менном экзамене, вспоминает, как Уайльд “с его дряблым лицом
и взъерошенными волосами спустя всего час после начала уже
отправился за чистой бумагой; работу он сдал за полчаса до конца.
Он же был гений, и поза была его второй натурой”. Но при всей
внешней уверенности в себе Уайльд, как он признался друзьям,
ожидал четвертого разряда, но никак не первого. Однако некото-
рые вопросы оказались ему на руку. Например, вопрос о “геогра-
фическом положении и военном значении следующих пунктов:
Потидея, Гераклея, Платеи, Навпакт, Матинея”. Словно нарочно
его спрашивали о местах, где он побывал с Махаффи, и он знал все
ответы. (В “Равенне” он написал: “О Саламин! Равнин платсйских
ширь!”) Другой удачный для него вопрос гласил: “В силу каких
причин Аристотель настаивал на превосходстве созерцатель-
ной жизни над жизнью практической?” Его тетрадь для заметок
и выписок показывает, что он размышлял над этой темой:
Если философия и желает человеку добра, она приходит слиш-
ком поздно для этого; ибо, тогда как религии освящают рождение
народов, философии зачастую, провожают их в последний путь.
Не раньше, чем наступают сумерки, сова Афины начинает свой полет.
Так же и у Аристотеля: жизнь философа — это жизнь созерца-
теля. Он решительно отказывает Софии-Премудрости в каком бы
то ни было филантропическом значении...
Она всеблага, говорит Аристотель, ради самой себя; потому что
она — ‘"вершина души”. Сам факт ее существования служит причи-
ной ее существования.
Презрительные слова Бэкона — это та же хвала ей. Как девствен-
ница, посвященная Богу, она не дает никакого плода. Ее дело воспри-
нимать мир, а не улучшать его.
Ее сфера есть Всеобщность — Всеобщий закон движения Мысли.
Она исследует не то, что должно быть, а то, что есть. Она — владение
реальной мудростью, а не только любовь к мудрости.
Уайльд ищет поддержки также и у Платона: “Цель жизни
«созерцание, а не действие; бытие, а не свершение” и добавляет:
Рассматривать жизнь так, как того требует искусство, значит рас-
сматривать ее как нечто, объединяющее в себе цель и средства.
129
Быть зрителем жизненного спектакля и переживать подобающие
эмоции... ” Он приходит в восторг, когда персонаж его любимого
Еврипида говорит: “Стань в стороне и смотри на мою скорбь
взглядом художника”.
В эссе “Критик как художник” Уайльд облечет этот философ-
ский костяк плотью. Разумеется, его отождествление искусства
и созерцания идет дальше того, что могли бы одобрить Аристо-
тель и Платон:
Преступника общество нередко прощает, мечтателя — никогда.
Прекрасные бесплодные эмоции, которые в нас пробуждает искус-
ство, ему ненавистны, и тирания его кошмарных социальных пред-
ставлений столь безгранична, что в Клубе частных суждений и про-
чих доступных широкой публике местах к вам то и дело бесстыдно
пристают с вопросами о том, чем вы занимаетесь, тогда как единствен-
ный вопрос, который цивилизованный человек должен бы скромно
задавать другому человеку, — это о чем он размышляет... Но кто-
то обязан им растолковать, что Созерцание, почитаемое в обществе
самым страшным из грехов, — для высокой культуры и есть истинное
назначение человека... Для Платона с его жаждой мудрости это было
высшее проявление энергии. Для Аристотеля с его жаждой позна-
ния это было также высшее проявление энергии... Ну а для нас Bios
Theoretikos1, во всяком случае, единственный истинный идеал.
В ответ на экзаменационный вопрос о том, что Аристотель
подумал бы об Уитмене, Уайльд, должно быть, представил уитме-
новский культ “самого себя” очищенным от каких бы то ни было
устремлений помимо саморазвития.
Пока экзаменаторы проверяли письменные работы, в кол-
ледже Магдалины состоялся бал, ежегодно устраиваемый в память
об основателях. Уайльд был на нем, щеголяя, по-видимому, в новом
великолепном пиджаке; Маргарет Вудс вспоминала потом разго-
вор с ним о его внешности. Он был неважным танцором, поэтому
они стояли и разговаривали поодаль от танцующих. Вдруг он
повернулся перед ней кругом и сказал: “Ну не обидно ли мне, так
сильно любящему красоту, иметь такую спину?” Она поняла, что
он ждет в ответ похвалы своей спине и покрывающему ее пиджаку,
но с ее уст невольно сорвалось совсем другое: “Вам надо запи-
саться в волонтеры. Там ее вам быстренько выпрямят”. Детское
тщеславие Уайльда было уязвлено1 2.
1 Жизнь в созерцании (греч.).
2 Это не помешало ему высоко оценить ее роман “Деревенская траге-
дия” в ноябрьской рецензии 1887 г.
130
Но последующие события дали его тщеславию обильную пищу*
Вначале 10 июня стал известен результат конкурса на Ньюдигейт-
скую премию. В состав жюри вошли Общественный Оратор
(Т.Ф. Даллин), Профессор Поэзии (Дж. Шарп) и три члена уни-
верситетской конгрегации, фамилии которых не зафиксированы.
11 июня президент колледжа Магдалины записал в книге прото-
колов: “Ньюдигейтская премия присуждена Оскару О’Ф. Уайльду,
студенту-стипендиату колледжа Магдалины... В последний раз
колледж получил эту премию в 1825 г. в лице Р. Сьюэлла. Став
лауреатом, мистер Уайльд получит наследство от доктора Добни,
умершего 13 декабря 1867 г., по его завещанию: “Желаю, чтобы мой
душеприказчик сохранил у себя мой мраморный бюст юного импе-
ратора Августа и вручил его первому члену колледжа Магдалины,
который после моей кончины будет удостоен Ньюдигейтской
поэтической премии”. Бюст был представлен. После публичного
объявления лауреата на Уайльда посыпались похвалы. Поздрави-
тельное письмо пришло от Обри Де Вира из Дублина. Но самая
восторженная похвала была, конечно, от леди Уайльд, адресовав-
шей письмо “олимпийскому победителю” и писавшей в нем:
1, Мэррион-сквер, Северный район
Вторник, 1.00
О, триумф, триумф! Миллион раз спасибо за телеграмму. Это
первая моя радость в нынешнем году. Как мне не терпится прочесть
твою поэму! Что ж, значит, у нас есть Гениальность — а этого юри-
сты-крючкотворы уж никак забрать не смогут.
Всей душой надеюсь, что теперь наконец твое сердце возрадуется. Ты
добился почета и признания — и это всего в 22 года [на самом деле ему
было 23]. Великолепно! Я горда тобой — я невыразимо счастлива — это
даст тебе уверенность в будущих успехах — ты сможешь теперь дове-
рять своему интеллекту, ты знаешь, на что он способен. Я так рада
была бы теперь увидеть на твоем лице улыбку. Еще и еще раз с радо-
стью и гордостью
Твоя любящая мать.
Из письма ясно, что она точно распознала его духовную болезнь,
включавшую в себя, помимо сожалений о прошлом, тревогу за свое
будущее. Как она и предсказывала, Ньюдигейтская премия вооду-
шевила его. Лауреат должен был прочесть свое произведение вслух
на торжественном собрании вДень поминовения; Профессор Поэ-
зии Дж. Шарп перед церемонией предложил внести в текст некото-
рые поправки. Уайльд выслушал предложения Шарпа и почтительно
их записал, но оставил все в поэме без изменений. Публичное чте-
ние 26 июня, на которое приехали Махаффи и Уилли Уайльд, прошло
131
хорошо. Газета “Оксфорд энд Кембридж андергредюэйтс джорнал”
на следующий день сообщала: “Лауреата слушали с неослабевающим
вниманиехМ, и ему часто аплодировали”1. Администрация колледжа
попросила Уайльда задержаться еще на несколько дней до ежегодного
торжественного обеда; там “обо мне наговорили массу приятного.
Я теперь в наилучших отношениях со всеми, включая Аллена! — он,
я думаю, сожалеет о своем прежнем обращении со мной”.
Дальше последовал второй его великий триумф. Его пригла-
сили на устный экзамен, состоявший в обсуждении его письмен-
ной работы, и вместо того, чтобы задавать вопросы, на все лады
расхваливали его. По просьбе экзаменаторов Уайльд более по-
дробно изложил свое мнение о том, что Аристотель мог бы по-
думать об Уитмене. Уайльд боялся, что рутинная часть его работы,
в противоположность эссе, потянет его вниз, но его куратор Сар-
джент сказал Хантеру Блэру, что в целом Уайльд сдал лучше всех
в этом году. Такого же результата он добился и на первых публич-
ных экзаменах на степень бакалавра, состоявшихся два года назад.
Он дважды получил первый разряд, что было большой редкостью.
Событие имело почти такой же громкий резонанс, как присужде-
ние ему премии, особенно в колледже Магдалины. “Преподава-
тели “оглоушены” — надо же, Скверный Мальчик так отличился
под конец!” — писал Уайльд Уильяму Уорду. Уайльду стоило мини-
мальных усилий склонить колледж вернуть ему 7 ноября 1878 г.
сумму, удержанную из его стипендии в прошлом году. Поскольку
ему, чтобы получить степень бакалавра, еще надо было сдать бого-
словие, стипендию ему продлили на пятый год1 2.
К чему все это приведет, было неясно. Стипендию для научной
работы в колледже ему не предложили. Карьера поэта или критика
выглядела бледно с финансовой точки зрения. Оставалось то, к чему
мать постоянно подталкивала и его, и Уилли: жениться на деньгах3.
К сожалению, брак с Флоренс Болком богатств не сулил, а ни о ком
другом ему думать не хотелось. Однако, пусть даже и лишенный пока
1 Позднее газета поменяла свое мнение и 30 января 1879 г. напечатала
ругательный отзыв на опубликованный текст “Равенны”.
2 По заведенным правилам, однако, он уже не мог жить в колледже, и,
насколько нам известно, переехал на квартиру некой миссис Брюэр
по адресу Хай-стрит, 76.
3 Его брат Уилли портил все дело излишним рвением. Этель Смит
вспоминает, как он склонил ее к помолвке после всего нескольких
часов знакомства. Ей показалась странной его просьба некоторое
время никому ничего не говорить. Вполне вероятно, он уже был свя-
зан подобными узами с кем-то еще. Вскоре она разорвала помолвку,
но кольцо оставила себе. С другими молодыми женщинами ему тоже
не везло.
132
блестящих карьерных и брачных перспектив, он соглашался со сло-
вами матери в письме и был уверен, что не может потерпеть неудачу.
Итак, Уайльд в Оксфорде создал самого себя. Поначалу Рёскин
подействовал на его совесть, а Пейтер на чувства; затем эти крупные
личности постепенно вошли в состав более сложной смеси, включавшей
в себя католицизм, масонство, эстетизм и различные стили поведения,
все это принималось с жаром, но без какого бы то ни было постоянства.
Вначале, как явствует из его писем, он пытался разрешить свои внутрен-
ние противоречия и осуждал себя за слабость и самообман. Но посте-
пенно в этот оксфордский период он начал видеть в своих противо-
речиях источник силы, а не причину слабости. Пусть современники,
“тупицы и доктринеры”, владеют на здоровье своим миром ответст-
венных решений и соглашательства — ведь, владея им, они отказыва-
ются от другого мира, мира тайных побуждений и скрытых сомнений.
Парадоксы Уайльда станут постоянным напоминанием о том, что стоит
за условностями, за общепринятым. “Истина в искусстве отличается тем,
что обратное ей тоже верно”, — провозгласит он в эссе “Истина масок”.
Таков был великий урок, извлеченный им из различных течений, в кото-
рые он погружался, — урок сначала об искусстве, а затем и о жизни. Он
не будет ни католиком, ни масоном; эстет в данную минуту, он будет
противником эстетизма минуту спустя. Это решение перекликалось
с тем, что проявлялось в нем, по-видимому непроизвольно, с его попе-
ременным влечением к женщинам и к мужчинам.
В результате произведения Уайльда становятся плодом не доктрин,
а споров между доктринами. В “Не!as!”1 — стихотворении, которым он
откроет свой первый поэтический сборник, — он говорит о том, что,
отдаваясь радости, он отказался от строгости, которая также ему свой-
ственна, что его по-прежнему влекут не только глубины, но и высоты.
В первой его пьесе “Вера” героиня собирается убить царя, но вместо
этого спасает ему жизнь, словно внезапно почувствовав в себе новое,
противоположное побуждение и решив ему поддаться. В “Сонете
к Свободе” о политических революционерах Уайльд вначале громит
их, но в последней строке вдруг говорит: “Свидетелем мне Бог, я в чем-
то с ними схож”1 2. “Портрет Дориана Грея” критикует эстетизм, кото-
рый, как показано, приводит Дориана к гибели; однако читатели побе-
ждены красотой героя, и бесплодная ее растрата рождает в них скорее
сожаление, нежели ужас, так что фаустовский блеск Дориана затмевает
его же скверну — скверну наркомана и убийцы. Видя, что роман вышел
слишком морализаторским, Уайльд в противовес этому снабжает его
предисловием, где сочувственно провозглашает ряд положений эсте-
тического кредо, которое, как показывает книга, как раз и развратило
1 “Увы!” (фр.)
2 Перевод К. Атаровой.
133
Дориана. В “Саломее” Уайльд ведет тетрарха Ирода от чувственного
наслаждения при виде Саломеи, танцующей танец семи покрывал,
к духовному отвращению, когда у него на глазах она целует мертвые
губы Иоканаана, и, наконец, к добродетельной ярости, когда он прика-
зывает стражникам убить ее. Леди Уиндермир обнаруживает, что при
всем своем пуританстве она, как и прочие люди, способна на поступки,
полностью противоречащие ее принципам. В “Идеальном муже” леди
Чилтерн приходится смириться с тем фактом, что каждый идеальный
муж хранит вполне реальную тайну. В “Как важно быть серьезным”
Уайльд пародирует свою собственную склонность к выискиванию
противоречий, заставляя серьезного Джека обернуться легкомыслен-
ным Эрнестом. “Мудрые противоречат сами себе”, — заявляет Уайльд
в “Заветах молодому поколению”, а в “De Profundis”, написанном
в тюрьме, он поначалу предстает кающимся грешником, но постепенно
под этой маской превращается в мученика, надеющегося на освобо-
ждение, перерождение и оправдание. В “Балладе Редингской тюрьмы”,
последнем его произведении, герой которого перерезал бритвой
горло собственной жене, Уайльд вдруг нападает на читателя-обывателя,
говоря ему, что мы все убиваем тех, кого любим.
Это внезапное приятие истины, противоположной некой
исходной истине, с которой мы все готовы согласиться, и столь же
правдоподобной, как она, было ответом Уайльда на то, что он назы-
вал “тиранией мнений”, проявляемой, как он видел, большинством
его современников. Свое отмежевание от этой тирании он при-
писывал благотворному воздействию университета, где он, по его
словам, проникся “оксфордским духом”, хотя в действительности
дух этот был его собственным. К моменту окончания курса он уже
понял, что жизнь с ее сложностями не укладывается ни в тридцать
девять, ни даже в сорок девять статей, ни в десять, ни в двадцать запо-
ведей, что ее не сведешь к плюсам и минусам, выставляемым тому
или иному человеку, той или иной системе взглядов. Уайльд был
моралистом той школы, к которой принадлежали Блейк, Ницше
и даже Фрейд. Цель жизни в том, чтобы противиться ее упроще-
нию. Когда сталкиваются наши противоречивые побуждения, когда
наши подавленные чувства вступают в борьбу с чувствами выяв-
ленными, когда в наших твердокаменных убеждениях обнаружива-
ются неожиданные трещины — тогда все мы становимся тайными
драматургами. В этом свете произведения Уайльда видятся опытами
самокритики и в то же время призывами к терпимости.
ПОДСТУПЫ
Глава 5
Подъем паруса
Молодость ни с чем нельзя сравнить. Люди среднего возра-
ста отданы Жизни в залог. Старики пылятся у нее в чулане.
Но молодость — это Властительница Жизни. Молодости
уготовано королевство. Каждый из нас рождается королем,
но в большинстве своем мы, как и короли, умираем в изгна-
нии. Чтобы вернуть свою молодость, я готов сделать все
на свете — только не заниматься гимнастикой, не вста-
вать рано и не вести добродетельный образ жизни.
Поиски РАБОТЫ
Летом эйфория Уайльда уменьшилась. У него
возникли осложнения с домами у Лох-Брей, которые
он и его агент по недвижимости нечаянно продали
двум разным покупателям почти в одно и то же время.
Оставшийся ни с чем подал в суд, требуя, чтобы про-
дажу признали недействительной, но Уайльд на судебных засе-
даниях 8, 11 и 17 июля сумел выиграть дело, включая судебные
издержки. Возникли, однако, некоторые дополнительные рас-
ходы; он сам их считал крупными, и, значит, они действительно
такими были. Каникулы кончились горьким для него известием.
Незадолго до возвращения в Оксфорд он косвенным путем узнал,
что Флоренс Болком, которой уже исполнилось двадцать, приняла
предложение руки от Брэма Стокера (они поженились 4 декабря
1878 г.). Стокер, позднее ставший автором романа ужасов “Дра-
кула”, в то время был предприимчивым ирландским государствен-
ным служащим и театральным критиком; он был старше Уайльда
на семь лет. Он часто бывал в доме Уайльдов на Мэррион-сквер,
а в Тринити-колледже он рекомендовал Уайльда в Философское
общество. Двумя годами раньше он организовал ирландские
гастроли Генри Ирвинга, а в октябре Уайльд об этом не знал —
он согласился стать коммерческим директором театра “Лицеум”,
который Ирвинг незадолго до того возглавил. Новая должность
Давала Стокеру преимущество над Уайльдом в глазах Флоренс,
которая хотела стать актрисой. В любом случае Уайльд, хотя
До получения диплома было рукой подать, конечно же не чувст-
137
вовал себя готовым к женитьбе. Обязательные два года ожидания
после диагностирования сифилиса еще не прошли. Он написал
ей полное достоинства письмо, где прощался с ней навсегда. Он
заявил, что уезжает из Ирландии, “по всей вероятности на всю
жизнь”, так что они никогда больше не увидятся. Он попросил
вернуть ему золотой крестик, который он подарил ей два года
назад. Поскольку на крестике были выгравированы их имена, она
не могла теперь его носить, а для него это была памятка о двух
годах, когда “пути наших жизней шли рядом”, о двух “самых чу-
десных годах моей юности”. Ощущение разочарования было еще
живо в нем два с половиной года спустя 3 января 1881 г., koi да он
анонимно послал Флоренс венок из цветов по случаю ее сцени-
ческого дебюта. “Она думает, что я никогда не любил ее, думает,
что я забыл. О Боже, разве я мог забыть?” — писал он Эллен
Терри, через которую передал венок. Все же в его письмах Флоренс
Болком, написанных в 1878 г., после ее помолвки, звучит грусть,
но никак не отчаяние. Это событие, видимо, отозвалось в пяти
его стихотворениях, написанных в унылом тоне. Впоследствии
в Лондоне они опять станут друзьями.
Освальд Сиккерт и его жена — друзья Уайльда, у которых
в начале октября он гостил во Франции, в Невиле близ Дьепа, —
признаков уныния в нем не заметили. Их пятнадцатилетняя дочь
Хелена, которую Уайльд называл мисс Нелли, впоследствии вспо-
минала его жизнерадостность и веселый смех. Он с удовольствием
читал ей куски из своей “Равенны” и, увидев ее интерес к поэзии,
подарил ей томик стихов Мэтью Арнольда. Двое ее братьев, семи
и пяти лет, нашли в нем отличного товарища для игр. Он рассказы-
вал им всяческие невероятные истории, а когда Хелена выказывала
скепсис, с притворной печалью отвечал: “Вижу, вы не верите мне,
мисс Нелли. Между тем заверяю вас, это... не хуже, чем истина”.
Из Невиля он отправился в Оксфорд, где в ноябре ему пред-
стоял экзамен по богословию, ставший два года назад для него кам-
нем преткновения. Но теперь, имея в кармане двойной первый раз-
ряд, он уже ни о чем не беспокоился и проводил время в светском
общении. Именно в эти дни он познакомился с поэтом Реннелом
Роддом, еще более бледным, чем он, и четырьмя годами моложе.
Родд, впоследствии получивший титул пэра за заслуги на диплома-
тическом поприще и ставший лордом Реннелом, стал в молодости
преемником Уайльда в роли оксфордского эстета. Как он признал
в автобиографии, Уайльд освободил его от условностей в мышлении
и поведении. В 1880 г. Родд, как и Уайльд, выиграл Ньюдигейтскую
премию. Уайльд возил своего ученика всюду — в Виндзор к лорду
Рональду Гауэру, который нашел его “исполненным артистических
задатков, но неспособным развить их в Бэллиол-колледже”, и в Лон-
138
дон к Уистлеру, в дружбе с которым Родд впоследствии занял место
Уайльда. Родд был главной движущей силой маленького поэтиче-
ского журнала "Разные разности”, публиковавшегося оксфордским
издательством "Блэквелл” с 1880 по 1882 г.; он всячески склонял
Уайльда там печататься. Тем не менее почти с самого начала на их
дружбу косо смотрела семья Родда, да и его самого Уайльд не только
поощрял, но и смущал своим презрением к условностям, которое,
как предчувствовал Родд, могло плохо кончиться.
22 ноября Уайльд сдал богословие и шестью днями позже
получил степень бакалавра гуманитарных наук. Вскоре он уехал
в Лондон. Расставание с привычным оксфордским окружением
и проверенными друзьями было для него нелегким. В марте он
ненадолго вернулся, и в последующие годы в предлогах для частых
поездок в Оксфорд у него не будет недостатка. В начале девяно-
стых любовная связь с Альфредогл Дугласом вновь погрузит его
в студенческую жизнь. Незадолго до смерти, ища юмористи-
ческую характеристику, с которой он мог бы остаться в памяти
потомства, он канонизировал себя как "святого негодника Оскара
Оксфордского, поэта и мученика”. Не Дублин, а Оксфорд он объ-
явил местом своего происхождения.
Не быть в Оксфорде было достаточно неприятно, и он пред-
принял шаги к воссоединению. К сожалению, в колледже Магда-
лины, где он наконец сделался любимчиком, не было вакантных
мест для научной работы в классических дисциплинах (в 1877 г.
Герберт Уоррен, которому суждено было стать следующим прези-
дентом колледжа, занял такую вакансию). 1878 и 1879 гг. во всех
оксфордских колледжах оказались очень скудными на классиче-
ские стипендии для выпускников. Было всего три вакансии: в Три-
нити-колледже, Мертон-колледже и колледже Иисуса. Известно,
что Уайльд проходил конкурс в Тринити-колледже, что предпола-
гало шестичасовой экзамен, разбитый на два дня. О его поведении
на экзамене потом вспоминал другой соискатель — Льюис Фар-
нелл, впоследствии видный оксфордский исследователь Антич-
ности, хотя в том конкурсе его, как и Уайльда, постигла неудача.
Взглянув на достаточно тупые вопросы первого философского
раздела: "Как соотносятся метофизика [через "о”] и этика? Мето-
физика и религия? Метофизика и искусство?”, Уайльд встал и потя-
нулся перед камином экзаменационного зала. Потом, повернув-
шись к другим соискателям, сказал: “Джентльмены, эти вопросы
сочинены крайне невежественным человеком. Здесь неоднократно
встречается слово "метофизика” через "о”. Это неслыханно в куль-
турном обществе!” Насчет метафизики он был прав, однако экза-
менаторы — слышали они его брезгливое замечание или нет —
стипендию ему не присудили.
139
Он не оставлял стараний. 28 мая 1879 г. он написал А. Сэйсу,
оксфордскому профессору сравнительной филологии, с которым
познакомился через Махаффи, и спросил о возможности получить
в Оксфорде стипендию для изучения археологии. 8 декабря он
развил тему:
Я думаю, это как раз то, что мне нужно, ведь я уже немало попуте-
шествовал, и я с детства приучен отцом к осмотру и описанию древних
местностей, к снятию копий притиранием, к разнообразным измерениям
и всем прочим методам полевой археологии — она, разумеется, представ-
ляет для меня чрезвычайный интерес, и я готов погрузиться в нее с энту-
зиазмом. Ваша поддержка конечно же была бы бесценной — я слышал,
что претендентов много.
Слишком много или не те, с кем можно было тягаться; Уайльд
не получил стипендии.
Его по-прежнему интересовала греческая словесность. Храня
приверженность “Агамемнону” Эсхила, он предложил Фрэнку
Бенсону поставить трагедию в Оксфорде на древнегреческом языке.
Уайльд утверждал впоследствии, что распределил роли, подобрал
костюмы и придумал декорации для спектакля, сыгранного в сле-
дующем году. Его друг Реннел Родд выступил как художник-поста-
новщик. Представление состоялось 3 июня 1880 г. в зале Бэллиол-
колледжа; Клитемнестру играл Бенсон, Дозорного — У. Л. Кортни.
Помимо Уайльда в числе зрителей были знаменитые поэты Бра-
унинг, Теннисон и Эндрю Лэнг. В том же году Уайльд сообщил
ежегоднику “Байограф”, что собирается опубликовать два или
три эссе на греческие темы. Вероятно, одним из них было то эссе,
которое он написал в 1879 г. для конкурса на ректорскую премию
(благодаря некой причуде оксфордских правил он еще мог в нем
участвовать, хотя уже окончил университет). Тема “Историческая
критика в античном мире” была, казалось, нарочно подобрана для
него; работа, которую он представил, была длинней, чем что-либо
написанное им раньше или позже в жанре рассуждений, и несет
на себе следы несвойственной Уайльду скучной обстоятельности.
В эссе он похвалил античных историков за секуляризацию исто-
рии, выразившуюся в отказе принимать на веру мифы и легенды;
позже он не стал бы этого делать1. Он поступил так сейчас, помимо
1 В “Упадке лжи” он заявляет: “Античный историк давал нам под видом
факта восхитительную выдумку; современный прозаик дает нам
под личиной выдумки скучные факты”. В другом месте он говорит:
“История никогда не повторяет себя. Историки постоянно повторяют
друг друга. Разница очевидна”.
1фО
прочего, ради повышения своих шансов на премию. Тема эссе
имела щекотливый аспект: как трактовать ту эпоху, когда языче-
ство было вытеснено христианством? Религиозные устремления
в душе Уайльда ослабевали, но он понимал, что в числе оценива-
ющих работу, вероятно, будут духовные лица. Поэтому он допол-
нил похвалу в адрес историка Полибия благочестивым вздохом:
“Однако поворот людских сердец к Востоку, первые лучи величе-
ственного рассвета, просиявшего над холмами Галилеи и затопив-
шего землю, как вино, — все это было скрыто от его глаз”. Цитируя
такого скептика, как Герберт Спенсер, он торопливо напоминает
читателям, что даже Спенсер неявно признал существование реаль-
ности, объединяющей в себе дух и материю.
Построение эссе отличалось рыхлостью, как ни пытался
Уайльд затушевать этот недостаток частыми ссылками на некий
свой композиционный “план”. Перечень цитируемых авторов был
впечатляющим: Фихте, Гегель, Вико, Конт, Монтескье, де Токвиль.
Однако всего лишь несколько абзацев Уайльд написал в своем
стиле. Похвала Полибию, необычная для того времени, говорит
о независимости мышления Уайльда и о сочувствии, которое он
испытывал к представлениям Полибия о всемирной истории. “Он
один из всех, — пишет Уайльд, — смог, словно с высокой башни,
увидеть тенденцию развития Античности в целом триумф рим-
ских институций и греческой мысли, ставший последним заве-
том старого мира и, в более духовном смысле, Евангелием нового
мира”. Уайльд имел в виду всеобщность христианства, но, помимо
этого, он думал также о своем месте в конце столетия, отмечен-
ного духом романтизма, и о своем стремлении к синтезу, выра-
женном в его статье о галерее Гровенор, синтезу, способному
примирить Пейтера, Рёскина, Морриса, Суинберна, Саймондса
и новых художников.
В Афинах пятого века Уайльд находит сходство с виктори-
анским временем: “Новая эпоха — это эпоха стиля. Тот же дух
исключительного внимания к форме выражения, что заставлял
Еврипида, подобно Суинберну, зачастую музыку предпочитать
смыслу, мелодию реальности, что придал позднейшим греческим
статуям эту рафинированную женственность, эту утомленную
изысканность позы, чувствовался и в сфере истории”. Упоминание
о женственности весьма характерно; Уайльд никогда не упускает
случая ступить на зыбкую почву. Сходным образом он объясняет
свержение тирании Писистрата “не свободолюбием, а, согласно
утверждению Фукидида, ревнивой любовью как тирана, так
и освободителя к Гармодию, который был тогда прекрасным юно-
шей в полном расцвете греческой прелести”. Он не в силах проти-
виться подозрительным модуляциям своего собственного голоса.
1ф1
То ли экзаменаторы не согласились с мнением Уайльда, то ли
им не понравилась композиционная рыхлость эссе. Они посту-
пили необычным образом: не присудили премию никому. Реакция
Уайльда нам неизвестна. Однако он не оставлял попыток извлечь
пользу из своего классического образования. Он написал Джор-
джу Макмиллану, былому попутчику в поездке по Греции, что
не прочь был бы перевести Геродота для его издательства и хочет
также подготовить к печати одну из трагедий Еврипида, которым
он “в последнее время много занимался”, лучше всего “Геракла”
или “Финикиянок”. Ни один из этих планов не осуществился.
Он также написал черновик эссе о древнегреческих женщинах,
в котором отдал предпочтение Навсикае, Андромахе, Пенелопе
и Елене.
Красота Навсикаи была такова, что Софокл, который сам был
очень красив, играл ее на сцене. Эссе осталось неопубликованным.
4 сентября 1879 г. Уайльд анонихмно напечатал в журнале “Ате-
неум” большую часть длинной рецензии на тома X и XI Бри-
танской энциклопедии, где были помещены статьи Р. Джебба
об истории и литературе Древней Греции. Кембриджский
профессор ирландского происхождения, известный благодаря
своей работе о Софокле, Джебб был предметом антипатии для
Махаффи, у которого в 1876 —1877 гг. произошла с Джеббом
затяжная свара; Уайльд разделял неприязнь своего бывшего кура-
тора. В своем историческом эссе, писал Уайльд, Джебб ложно
утверждал, что Фемистокл был подвергнут остракизму за со-
общничество с персами; здесь, по хмнению Уайльда, проявилось
непонимание Джеббом смысла остракизма, которым никогда
не наказывали за конкретный проступок и уж тем более за госу-
дарственную измену. Что более существенно, Джебб не имел
понятия о том, сколь огромна была ставка в битвах при Мара-
фоне и Саламине, и не выразил никакого общего взгляда на вза-
имосвязь древнегреческой и современной истории. Еще суровей
Уайльд обошелся с литературной статьей: Джебб не упохмянул
ни о Менандре, ни об Агафоне, “поэте-эстете эпохи Перикла”,
ни о “Геро и Леандре”; Полибия Джебб назвал “простым хро-
никером”, а Феокрита представил как всего-навсего пастораль-
ного поэта. При этом, пишет Уайльд, Джебб проигнорировал
стихотворение “Колдуньи”, с которым “по огненности колорита
и великолепной сосредоточенности страстей во всей античной
литературе хможет соперничать только “Аттис” Катулла”. Критика
Уайльда, захмечает Э. Р. Доддс, “была ранним образцом романти-
ческой реакции на ортодоксально-викторианское представление
о том, что лучшие образцы греко-римской литературы непре-
менно отличаются спокойствиехм и уравновешенностью. Джебб
142
всю жизнь придерживался именно такого взгляда. Опровергая
его, Уайльд с полным правом обращается к “Колдуньям” Феокрита
и “Аттису” Катулла — двум великолепным стихотворениям, кото-
рые никак нельзя назвать спокойными или уравновешенными”.
Уайльд, возможно, оказался для “Атенеума” слишком придир-
чив — больше его рецензии там не печатали.
По-прежнему ища зацепку для начала карьеры, Уайльд в этот
период смятения пытался получить место инспектора школ.
Эту должность прославил занимавший ее в прошлом Мэтью
Арнольд. В письме Оскару Браунингу, написанном, вероятно,
в начале 1880 г., Уайльд жалуется, что доход с недвижимости —
вешь в Ирландии “столь же неслыханная... как мастодонт или
какой-нибудь волшебный корень”, и просит Браунинга дать ему
рекомендацию. “Любая работа, связанная с образованием, —
пишет Уайльд, — отлично мне подошла бы”; он предполагает,
что имя Браунинга произведет на чиновников должное впечат-
ление. В этом Уайльд проявил необычную для себя наивность,
ибо вынужденный уход Браунинга из Итона при сомнительных
обстоятельствах сделал рекомендацию Браунинга, мягко говоря,
малоценной. Уайльда не взяли. Он не одобрял современных
методов обучения. “Мне говорят, что этот вот наставник отпра-
вился за границу,” — напишет он в эссе “Критик как художник”
и добавит: “Как бы хорошо, чтобы и не возвращался”. Он жалел,
что “тот, кто так озабочен просвещением других... никак не выбе-
рет времени для собственного просвещения”. “Тому, что стоит
знать, нельзя научить”, — утверждал он, настаивая на том, что
подлинной целью должно быть культурное самосовершенствова-
ние. Он с нежностью вспоминал о том, как большую часть детства
обучался дома, и своим детям предоставил такую же привилегию.
Подобные суждения вряд ли могли быть привлекательны для лиц,
ведавших назначением инспектора школ.
Неудачи этих попыток и сознание того, что деньги от про-
дажи домов у Лох-Брей сыплются, как песок, промеж его щедрых
пальцев, не причиняли ему очень уж большого беспокойства. Его
уверенность в себе возрастала. Возрастала и уверенность в нем
его матери, которая прочила его теперь в члены парламента, как
прочила некогда Уилли, который между тем вернулся в Ирландию
и бездельничал. В письме Реджинальду Хардингу Уайльд признал,
что “еще не перевернул мир вверх дном”, но утверждал, что уже
некоторым образом приступил к этому. Лондон, который не слиш-
ком-то жаловал вновь прибывших, оказал ему гостеприимство. Он
познакомился с крупными политическими деятелями —Гладсто-
ном, Асквитом, Бальфуром, Розбери и другими, и они быстро
Увидели, что Уайльд приятен в общении. При знакомстве с Диз-
143
раэли Уайльд сказал: “Надеюсь, вы отлично себя чувствуете”, чем
вызвал реплику знаменитости: “По-вашему, люди всегда чувст-
вуют себя отлично, мистер Уайльд?” Его эксцентрические выходки
порой поражали людей. Художница Луиза Джоплинг вспоминала,
как однажды, открыв ему дверь, увидела его с большой змеей
вокруг шеи. Он заверил ее, что железы с ядом у пресмыкающегося
удалены. Но даже больше, чем рептильный воротник, привлекал
к себе людское внимание его язык. Внимание не всегда благосклон-
ное. Фрэнк Бенсон, встретив его однажды в театре, услышал, как
кто-то сказал: “Вот идет этот чертов дурак Оскар Уайльд”. На что
Уайльд весело заметил: “Надо же, как быстро можно в Лондоне
стать известным”. В более серьезном тоне он сказал о том же жене
Джулиана Готорна: “Я бы никогда не поверил, не испытай я это
сам, с какой легкостью можно сделаться самой видной фигурой
в обществе”. Лондон дал ему возможность исполнить нахмерение,
возникшее в нем раньше; он писал впоследствии в “De Profundis”:
“Помню, в Оксфорде я сказал одному из друзей... что хочу вкусить
от каждого плода с каждого древа в саду мира и что именно с этой
страстью в душе я отправляюсь в мир. И воистину так я отпра-
вился, воистину так жил”. Посреди этого мирского сада древо
жизни с его “пышной и слепой листвой” стояло возле древа позна-
ния с его “зоркой яростью”.
Деньги, оставшиеся от 2800 фунтов, полученных за дома
у Лох-Брей, позволили Уайльду обосноваться в Лондоне; он раз-
делил холостяцкую квартиру с Фрэнком Майлзом. В разговоре
с актрисой Элизабет Робинс он упомянул о весьма высоком пре-
цеденте: “Пока Шекспир не приехал в Лондон, он писал только
никчемные пасквили, а после отъезда он вообще не сочинил
ни строчки”. В начале 1879 г. они с Майлзом поселились в доме
№ 13 по Солсбери-стрит около Стрэнда. Дом, как говорил
Уайльд, был “грязен и романтичен”. Согласно воспоминаниям
Лили Лэнгтри, там были старые лестницы, путаные коридоры
и темные углы. Семья, которой принадлежал дом, была по-
диккенсовски эксцентричной. Уайльд вскоре стал называть его
Дом-на-Темзе, потому что из окон там была видна река. Дом был
трехэтажный; наверху расположился Майлз, устроивший там
мастерскую. Уайльд занял второй этаж, а в комнаты на первом
этаже приходил заниматься школьник из простой семьи Гарри
Мариллиер, которому было разрешено держать там книги. Одна-
жды Уайльд столкнулся с Мариллиером на лестнице и спросил
его, кто он такой. Мальчик рассказал про свою школу и про то,
что он учит там греческий; Уайльд пригласил его к себе наверх.
Увиденное поразило Гарри: длинная гостиная была полностью
обшита белыми панелями, что резко контрастировало с запущен-
144
ным видом всего дома; повсюду виднелись лилии и голубой фар-
фор. В конце комнаты, подобно алтарю, возвышался мольберт
с портретом Лили Лэнгтри работы Эдварда Пойнтера. Уайльд
привез сюда из Оксфорда свои дамасские кафельные плитки,
рисунки Блейка и Берн-Джонса, греческие ковры и портьеры,
танагрские статуэтки; он купил дорогую мебель. Гарри Марил-
лиер сразу согласился приносить Уайльду по утрам кофе в обмен
на помощь в изучении греческого.
Фрэнк Майлз был во многих отношениях подходящим сосе-
дом. Будучи старше Уайльда на два года, он достаточно рано
выбрал для себя карьеру художника. То, как он писал облака,
побудило Рёскина сказать: “С такой любовью к матери и с такой
способностью изображать облака он далеко пойдет”. Рёскин хва-
лил Майлза и называл его “будущим Тернером”. В 1880 г. Майлз
получил Тернеровскую премию от Королевской академии. То,
что он был, как он признался по секрету Лили Лэнгтри, почти
дальтоником, ограничивало его возможности во всех жанрах,
кроме рисунка, однако он умел добиваться портретного сход-
ства, делая позировавших ему женщин красивее, чем в жизни,
но все же узнаваемыми. Редактор журнала “Лайф” Генрих Фель-
берман сделал Майлза своим главным художником и поместил
серию светских портретов его работы. Его рисунки репродуци-
ровались в сотнях и сотнях экземпляров под такими названиями,
как “Скитался я... ”, “Лепта вдовы”, “Слепая девушка”, “Жалость”,
“Дочка садовника”, и вешались на стену, как любили делать в Вик-
торианскую эпоху. Принц Уэльский купил его “Портрет цветоч-
ницы”.
Майлз был высок, светловолос, хорош собой и обходителен.
Его отец, приходский священник в Бингеме (графство Ноттин-
гемшир), был человек зажиточный и души не чаял в своем уме-
ренно даровитом и, казалось бы, весьма одухотворенном сыне.
Но с одухотворенностью дело обстояло не так просто, в чем
Уайльд имел возможность убедиться. Майлз был в загадочно близ-
ких отношениях с лордом Рональдом Гауэром, который брал его
с собой за границу и часто приглашал к себе в Виндзор. Еще более
подозрительными были его отношения с молоденькими девуш-
ками. Среди тех, кого Майлз приводил к себе домой, была, напри-
мер, продавщица фиалок по имени Салли, которую писали лорд
Лейтон, Маркус Стоун и У. Ф. Бриттен.
Но в обществе об этом не знали. Дом-на-Темзе превратился
в подобие салона. Его посещали П. К. (Профессиональные Кра-
савицы), которых Майлз рисовал, а также такие художники, как
Уистлер и Берн-Джонс, и даже принц Уэльский. Но одна из посе-
тительниц была там особенно желанной.
45
Красавицы на сцене
Поэты знактц как полезна страсть для повыше-
ния тиражей. В наши дни разбитое сердце выдер-
жит много изданий.
Лили Лэнгтри, явившаяся с острова Джерси, как Венера из мор-
ской пены (если воспользоваться пышной метафорой Уайльда), была
живой легендой. Ее первым формальным появлением в свете был
визит на званый вечер к леди Сибрайт в дом 23 по Лаундс-сквер в мае
1876 г. Там ее классические черты — “лицо с низким серьезным лбом,
с изысканным сводом чела; благородной формы рот, вылепленный,
словно мундштук музыкального инструмента; прекрасный, велико-
лепный абрис скулы; величественная колонна несущей все это шеи”1,
согласно подробно-восторженному описанию Уайльда1 2, произвели
среди гостей мгновенный фурор. Она была как неопытная актриса,
неожиданно получившая главную роль. Уистлер и Милле попро-
сили разрешения написать ее портрет, Фредерик Лейтон — изваять
ее голову в мраморе; Фрэнк Майлз тут же сделал с нее два набро-
ска и подал ей один из них как жертвоприношение. Актеры Генри
Ирвинг и Скуайр Бэнкрофт, также бывшие среди гостей, не пре-
минули воздать ей хвалу, как и хитроумный юрист Джордж Льюис.
Лили Лэнгтри появилась как нельзя более кстати — Лондон как раз
чувствовал нужду в новой Профессиональной Красавице.
Вскоре она позировала Милле, также уроженцу Джерси, для
портрета, который он назвал “Джерсейская Лилия”, хотя на нем она
держит гернсейскую лилию. Дж. Ф. Уоттс написал ее в квакерском
чепце и дал портрету более сдержанное название “Дочь настоятеля”
(ее отец был духовным лицом, правда весьма сомнительной репута-
ции). В желтом платье она позировала Эдварду Джону Пойнтеру,
чей портрет Уайльд купил и выставил на мольберте у стены своей
гостиной. У него были также ее фотографии. Когда она отказалась
скорее из-за усталости, нежели из-за художественных предпоч-
тений позировать Эдварду Берн-Джонсу, он встал под ее окном
и принялся петь серенады, жалуясь на ее жестокость к художникам,
пока она не смилостивилась. Исполнителям серенад, похоже, при-
ходилось там тесно: сообщается, что Уайльд пел на том же месте,
извиняясь за свое высказывание: “Я могу в точности предсказать
поведение человека во всем, за исключением сердечных дел. Муж-
чина постоянен в своей неверности, а женщина стыдит его потому,
1 Украшенной, как утверждала леди Рэндольф Черчилль, тремя прелест-
ными складочками.
2 “Миссис Лэнгтри в роли Хестер Грейзбрук”, “Нью-Йорк уорлд”,
7 ноября 1882 г. Перевод М. Кореневой.
146
что она по природе своей переменчива”. Он сравнил ее с Пре-
красной Еленой и сказал, предвосхищая Йейтса: “Да, из-за такой-
то женщины греки и разрушили Трою, и правильно сделали, что
разрушили”. Макс Бирбом много позже назвал ее Клеопатрой —
точнее, Cleopatre на игривый французский манер.
Уайльд познакомился с ней вскоре после вечера у леди Сибрайт.
Его друг Бодли, которого он счел недостойным ленча с Пейте-
ром, вновь остался за бортом; после того как они вдвоем побывали
на водевиле, Уайльд распрощался с Бодли, воодушевленно объяснив
ему: “Я иду знакомиться с прелестнейшей женщиной Европы”. Их
представили друг другу в мастерской у Фрэнка Майлза. В мемуа-
рах “Дни моей жизни” миссис Лэнгтри описала высокого молодого
человека с длинными густыми каштановыми волосами и “с лицом
такой белизны, что на нем странно выделялись несколько больших
бледных веснушек. У него был хорошо очерченный рот с несколько
мясистыми губами; зубы его имели зеленоватый оттенок. Невзрач-
ность лица искупалась, однако, великолепием его огромных вни-
мательных глаз”. Она отметила его “большие вялые руки” с сужа-
ющимися к концам пальцами и “безукоризненной формы ногтями
орехового цвета”, не всегда, правда, чистыми, как и у его отца. “Голос
у него был одним из самых чарующих, что я когда-либо слышала,
округлым и мягким, полным разнообразия и выразительности”. Она
охотно сделала его своим другом. Для него ее красота была “фор-
мой гениальности”. Подобно тому как она завоевала Лондон своей
внешностью, он хотел завоевать его своим остроумием. Кроме того,
оба они были утомлены: Уайльд статусом перезрелого студента,
миссис Лэнгтри — статусом жены малоинтересного ирландского
яхтсмена; оба мечтали выйти на более широкую сцену. Она снис-
ходительно позволила двум своим молодым поклонникам, Уайльду
и Майлзу, поставить себя ей на службу. Майлз сказал Рональду Тау-
эру, что они с Уайльдом, один карандашом, другой пером, сделают
Лили Лэнгтри “Джокондой и Лаурой этого столетия”. Ее каран-
дашные портреты, нарисованные Майлзом, копировались и рас-
пространялись; Уайльд написал и столь же широко растиражиро-
вал с полдюжины посвященных ей стихотворений. Однажды он
отправился на рынок Ковент-Гарден и купил ей букет лилий; пока
он ждал кеб, некий оборванный мальчишка, ошеломленный массой
цветов у него в руках, воскликнул: “Ну и богач же вы!” Уайльд рас-
сказал об этом Рёскину, и тот был в восторге.
После декабря 1878 г., когда Уайльд переехал в Лондон, его
дружба с Лили Лэнгтри расцвела. Ей нравилось иметь его под
рукой. Хотя по природе и по принципам своим он был чело-
век неосторожный, он, возможно, имел в виду ее, когда сказал
Андре Раффаловичу: “Имя женщины, как тайное название Рима,
1'47
не должно быть упоминаемо”. Впрочем, имя Лили Лэнгтри он
упоминал весьма часто. В конце жизни он так говорил о ней Вин-
сенту О’Салливану, что тот подумал: уж не был ли он одним из ее
любовников? О том, что Уайльд, во всяком случае, был к этому
близок, говорят два стихотворения. В одном —“Humanitad” — он
описывает ее греческие черты: “Бровей изгиб спокойный, олим-
пийский” и заявляет: “Услад твоих опасных / Испил я вдоволь, сил
моих нет боле... ” Другое стихотворение, которое он после своей
женитьбы опубликовал под невыразительным названием “Розы
и рута”, называлось в рукописи “К Л. Л.” и под этим заголовком
было посмертно опубликовано Робертом Россом. Из различных
версий этого стихотворения и ряда ему сопутствующих возни-
кает примерно следующая картина: любящий и любимая часто
встречались у садовой скамейки. В один из июньских дней веро-
ятно, 1879 г. их отношения стали более тесными; он “нагнулся
к ней, поцеловал”. Но ласку его прервал дождь, и она побежала
к дому, позволив ему, когда он нагнал ее, поцеловать ее еще лишь
раз прежде, чем они вошли внутрь. На ней было платье янтарно-
коричневого цвета с двумя маленькими бантами на плечах, и она
глядела на него серо-зелеными глазами (одни говорили, что глаза
у Лили Лэнгтри голубые, другие, что серые). Влюбленный, веро-
ятно, попросил прощения за то, что мало чего достиг в этом мире.
Любимая сурово ответила: “Ты загубил свою юность. Тебе некого
винить, кроме себя, за то, что ты не знаменит”. Отвергнутый воз-
дыхатель бросился прочь сквозь калитку сада и, оглянувшись, уви-
дел прощальный взмах ее руки. Тема прямо для греческой вазы.
В стихотворении Уайльд, что неожиданно для эстета, настаивает
на своей искренности, оттесняющей в сторону искусство:
Да, я юность свою загубил —
Потому что любил.
Поэтов ты много читала —
Меня тебе мало.
Версификация настолько скверная, что можно предполо-
жить: чувство истинно. В другом стихотворении на ту же тему
“Glykipikros Eros” (“Цветок любви”) — Уайльд избирает другую
линию самозащиты:
Путь уж выбрал я, стихи свои растратил, юности промчался срок.
Все же предпочту венку поэта миртовый любовника венок.
Каковы бы ни были его предпочтения, он, за возхможным
исключением некоего краткого периода, довольствовался, видимо,
148
в отношении Лили Лэнгтри лавровым венком поэта. Именно
в эти годы (1879—1880) миссис Лэнгтри удостоил внимания
самый могущественный любовник Англии — принц Уэльский.
Принц взял ее под свое покровительство и отказывался от пригла-
шений на вечера, если она также не была приглашена, так что, обе-
регая ее респектабельность, он одновременно делал Лили Лэнгтри
доступной для себя. Двух неприятностей он, однако, не смог пре-
дотвратить. В октябре 1880 г. Эдвард Лэнгтри был объявлен бан-
кротом и все его имущество пошло с молотка. Примерно тогда же
или чуть раньше Лили Лэнгтри забеременела. Чтобы не давать
повода к сплетням, она провела последние месяцы беременности
на Джерси и вернулась в Лондон только летом 1881 г., оставив дочь
Жанну (не от мужа) на острове, чтобы ее растили там без лишней
огласки. Уайльд почти наверняка был одним из тех немногих, кто
знал, по какой узенькой тропке между респектабельностью и бес-
честьем идет миссис Лэнгтри, и он радовался тому, с каким успе-
хом она дерзко исполняла роль добродетельной жены на лондон-
ском просцениуме. Он положил события из жизни Лили Лэнгтри
в основу “Веера леди Уиндермир” (1891) — первой из тех своих
пьес, что имели успех. В ней миссис Эрлин приезжает с конти-
нента и встречает свою покинутую дочь уже взрослой. Когда Уайльд
предложил эту роль миссис Лэнгтри, она только рассмеялась: разве
ей пора играть женщину, у которой есть взрослая дочь? (Ей было
тогда тридцать девять лет.) Уайльд забрал пьесу обратно и вложил
в уста миссис Эрлин следующие слова: “К тому же, посудите сами,
Уиндермир, куда это годится, я — и вдруг мать взрослой дочери!
Маргарет двадцать один год, а я даю понять, что мне не больше два-
дцати девяти, от силы тридцать. Двадцать девять — когда лампы под
розовыми абажурами, тридцать — в остальных случаях”.
Помимо красоты, Лили Лэнгтри обладала незаурядной хват-
кой. Зная о своих недостатках, она была рада помощи Уайльда в их
устранении. Он говорил с ней об Античности и в 1881 г. водил ее
в лондонский Королевский колледж слушать лекции сэра Чарлза
Ньютона, первооткрывателя Галикарнаса. Это стало неким утрен-
ним ритуалом: студенты ждали их у входа в здание и, когда они
подъезжали в кебе, приветствовали их криками. Он рассказывал
ей о Рёскине и даже познакомил их, но она выбежала из комнаты
в слезах после обличительной речи Рёскина о женщинах, подоб-
ных Иезавели. “Красивые женщины вроде вас держат в своих руках
судьбы мира, чтобы возвысить его или погубить!” — крикнул
Рёскин ей вслед. Уайльд учил ее латыни, и, хотя соблазнитель-
ным выглядит предположение, что, начав с Цезаря, они кончили
Овидием с его “Наукой любви”, письмо, написанное, вероятно,
в 1879 г., не открывает никаких тайн:
149
Воскресенье Биконсфилд, Майлхаус, близ Плимута
Разумеется, я жду не дождусь новых уроков латыни, но мы про-
будем здесь до вечера среды, так что я не смогу увидеть моего доб-
рого наставника раньше четверга. Приходите в этот день около шести
вечера, если только сможете.
Я была на Солсбери-стрит примерно за час до Вашего ухода.
Я хотела спросить Вас, как мне одеться на здешний костюмирован-
ный бал; в конце концов я выбрала мягкое черное греческое платье
с каймой из серебристых полумесяцев и звезд, и такие же полумесяцы
и звезды, но алмазные, были у меня в волосах и на шее, и я назвала
костюм “Королевой Ночи”. Я сделала его сама.
Я бы написала больше, но жуткая бумага и перо не дают мне этого
сделать, так что остальное доскажу при встрече (только не говорите
Фрэнку).
ЛИЛИ ЛЭНГТРИ.
Очевидно, что Лили Лэнгтри привыкла доверять его вкусам
в одежде, хотя способна и на самостоятельные решения. Восхищение
Уайльда ее “Королевой Ночи”, возможно, отразилось в его стихотво-
рении “Новая Елена”, где он сравнивает ее с Семелой и вопрошает:
“Иль над луною властвовала ты?” Он предложил ей еще более экс-
травагантный вариант наряда. Грэм Робертсон передает его слова:
“Наша лилия Лили зануда, не хочет меня слушаться ни в какую. Я ей
внушаю, что ее долг перед собой и перед нами состоит в том, чтобы
каждый день проезжать через Гайд-парк одетой целиком в черное,
в черном экипаже, запряженном черными лошадьми, с надписью:
“Венера Аннодомини”1, выложенной на черном капоре матовыми
сапфирами. Но она не хочет”. В конце концов он научил-таки
не слишком хорошо образованную, но восприимчивую миссис Лэн-
гтри вести светскую беседу и не просто разрекламировал, а, можно
сказать, создал ее, как создавал самого себя.
В другом из трех сохранившихся ее писем Уайльду она сетует
на то, что забыла про нанятую карету, и пишет, что должна про-
сить прощения у него, так как сама себя простить не может. Тон
письма уверенный; он ясно показывает, за кем главенство. Уайльд
явно перенес немало мелких унижений и, теряя ее расположение,
терял право бывать у нее дома. В один из таких периодов она по-
явилась в театре, где уже сидели Уайльд и Фрэнк Майлз; увидев ее,
Уайльд залился слезами, и Майлзу пришлось помочь ему выйти.
Имея обязательства перед принцем Уэльским и другими любовни-
1 Игра слов: Anno Domini (лат.) — год от Рождества Христова; Ана-
диомена (греч.) — Рожденная из пены, прозвище Афродиты и ото-
ждествляемой с ней Венеры.
1JO
ками, миссис Лэнгтри так она сама пишет в “Днях моей жизни” —
порой видела в Уайльде помеху. Тем не менее с ней можно было
вепиколепно проводить время, и был слух, что Уайльд каждый
день приходит к ней с лилией в руке, — над этим еще посмеется
у Щ. Гилберт в комической опере “Пейшенс”. Представляется
вероятным, что Уайльд действительно иногда так поступал: ведь
Фрэнк Майлз был заядлым садоводом и особенно любил разво-
дить лилии и нарциссы, словно бы имея в виду, соответственно,
миссис Лэнгтри и Уайльда. Уайльд также всячески афишировал
тот факт, что он пишет стихотворение “Новая Елена”, посвящен-
ное ей, и настаивал на том, что ему для вдохновения необходимо
нечто вроде сеансов позирования у художника. Так что однажды
Эдвард Лэнгтри, который, если Лили была Еленой, был, соответ-
ственно, Менелаем, явился домой перед рассветом и чуть не спот-
кнулся о сидящего на крыльце Уайльда, который ждал возмож-
ности лицезреть миссис Лэнгтри, когда она выйдет из экипажа
после еще более поздних гостей. Пусть даже Уайльду нужно было
для этого только свернуть за угол, ибо они теперь жили близко
друг от друга, все равно это была великолепная театральная мизан-
сцена — возможно, не лишенная подлинной сердечной боли.
“Новая Елена” приписывает Лили Лэнгтри черты мифологиче-
ской героини. Уайльд всегда испытывал великое восхищение перед
женщинами — сеятельницами бурь; таковы его Саломея и Сфинкс,
такова Афина в “Хармиде”. Он написал “Новую Елену” по рецептам
конца XIX в., продолжая линию Готье — Суинберна Пейтера. Цель —
связать реальную женщину как с языческими, так и с христианскими
прототипами. Поэтому, отождествляемая большей частью с Еленой,
Где ты была с тех пор, как на троянцев
Ахейцы шли великою войною? —
она в то же время ясно видит заповеди новой религии и, как Афро-
дита, скрывается
... от Той, у чьей святыни
Поныне в Риме молятся народы,
Той, чьей любви чужда земная сладость...
Но, подобно Моне Лизе, она еще ближе, чем к язычеству,
стоит к христианству; тут Уайльд доходит едва ли не до ереси:
И на Востоке при твоем явленье
Вдруг вспыхнула звезда и пробудила
На острове твоем пастушье племя.
15а
Он позаимствовал часть своих эпитетов из литании Пре-
святой Деве:
О лилия любви чистейшей, нежной!
Столп из слоновой кости! Чудо-роза!
Таким образом, он восхваляет ее и как Прекрасную Елену с ее
опытностью, и как воплощение невинности и “духовной любви”.
Умоляя ее быть к нему “благосклонной, / Покуда длится лето дней
моих”, он в то же время готов уступить первенство “пламенным
губам Евфориона”, что выглядит как верноподданническая уступка
принцу Уэльскому. Лили Лэнгтри стихотворение понравилось
настолько, что в автобиографии она привела его целиком; Уайльд,
живи он еще в то время, был бы ей благодарен. Более трудной задачей
для миссис Лэнгтри, чем “являться из сапфировых пучин” на радость
поклоннику-стихотворцу, было свести концы с концами. Принц
был человеком щедрым, но ветреным, и рассчитывать на него как
на источник постоянного дохода не приходилось. Рьяный садовод
Майлз предложил ей заняться разведением растений. Уайльд реши-
тельно возражал: “Ты хочешь принудить Лилию месить сапогами
грязь?” Майлз уточнил, что он имеет в виду цветоводство, но эта
идея также была отвергнута. Уистлер уговаривал ее стать худож-
ницей. Уайльд настаивал, чтобы она попробовала себя на сцене.
Красота, доказывал он, у нее есть, а техника дело наживное. Она
увидела в карьере актрисы путь к тому, чтобы быть самой себе госпо-
жой, а не чьей-то любовницей. Друзья расстарались ради нее; Генри
Ирвинг предложил ей большую роль, взять которую она, однако,
не решилась. Также отказалась она и от хорошей работы в журнале
“Лайф”, печатавшехм рисунки Фрэнка Майлза. Уайльд познакомил ее
с Генриэттой Лабушер, женой члена парламента и редактора газеты
“Трусе” Генри Лабушера. Миссис Лабушер в прошлом была актри-
сой, а теперь вела курсы актерского мастерства. Она отрепетиро-
вала с миссис Лэнгтри получасовую пьесу “Приятная встреча” для
двух актрис, которая 19 ноября 1881 г. была представлена публике.
Быстро прогрессировавшая ученица уже 15 декабря 1881 г. сыграла
Кейт Хардкасл в “Ночи ошибок” Голдсмита, а 19 января выступила
в маленькой роли в пьесе Тома Тейлора “У нас”. Ее спектакли почтил
присутствием принц Уэльский, и она глазом не успела моргнуть, как
стала признанной актрисой. Хотя ее сценический талант уступал ее
красоте, справлялась она неплохо. Уайльд, стараясь не отстать от дру-
гих, воодушевлял ее, как только мог.
Настойчивость, с какой Уайльд убеждал ее стать актрисой,
отражала его восторженную любовь к театру. Он был заядлым
театралом, и его уже начала занимать мысль о том, чтобы самому
1S2
написать пьесу. Он мечтал о том, чтобы какой-нибудь гений сцены
произносил написанные им слова, и, когда Элен Моджеска, тем-
пераментная актриса польского происхождения, в 1880 г. приехала
в Лондон, чтобы выступить в “Фиалках” (вариант “Дамы с каме-
лиями”), он познакомился с ней в числе первых. В то время ему
еще нечем было перед ней похвастаться, и феномен Уайльда пока-
зался ей удивительным. “Что он такого совершил, этот молодой
человек, — спрашивала мадам Моджеска, — что на него повсюду
натыкаешься? Да, он хорошо разговаривает, но совершил-то он
что? Ничего не написал, не поет, не играет — только разговари-
вает, и всё. Не понимаю”1. (Уайльд в свою защиту однажды сказал:
“Разговор сам по себе есть одухотворенное действие”; он же в эссе
“Кисть, перо и отрава” похвалил преступника Уэйнрайта за то, что
“наш юный денди стремился не столько свершить нечто, сколько
чем-то стать”.) Моджеска поначалу сопротивлялась его поползно-
вениям и отклонила приглашение к нему в гости, сказав: “Мистер
Борента нездоров и не может меня сопровождать. Конечно, пожи-
лая женщина вроде меня [ей было сорок лет] может не опасаться
визитов к молодым мужчинам, но лучше все-таки исключить малей-
ший риск, et je liens beaucoup a rester un ange”2. Но мало-помалу
он завоевал ее расположение, и в конце 1880 г. она была рада при-
бегнуть к помощи Уайльда, попросив его перевести написанное
ею стихотворение в сто строк “Сон художника”. Клемент Скотт
напечатал его в “Рождественском ежегоднике Рутледжа” за 1880 г.
Вероятно, вскоре после этого она пришла наконец к Уайльду на чай
с Лили Лэнгтри и художницей Луизой Джоплинг. Уайльд пытался
заручиться ее согласием сыграть в пьесе, которую он писал. Когда
они уходили, он церемонно вручил каждой из трех женщин лилию
на длинном стебле — символ Благовещения.
Двумя другими актрисами, для которых он надеялся в будущем
сочинить роли, были Эллен Терри и сама великая Сара Бернар.
Бернар приехала в Лондон в мае 1879 г. От ее поклонников ждали
всевозможных сумасбродных выходок; пока что самым эффектным
был, вероятно, номер Пьера Лоти, который год назад был внесен
к ней собственной персоной, завернутый в большой и дорогой пер-
сидский ковер. Уайльд не смог превзойти его в экстравагантности,
однако и он выступил неплохо. Со своим другом, актером Норма-
ном Форбсом-Робертсоном, он образовал нечто вроде официаль-
ной делегации и отправился в Фолкстон встречать судно, на котором
В “Трагической музе” Генри Джеймса эстет Габриэль, защищаясь
от подобного обвинения, говорит: “Плохо, если у тебя есть что
предъявить. Это как признание неудачи”.
Ведь я очень хочу всегда оставаться ангелом (фр.).
она прибывала. У Форбса-Робертсона была для нее только гардения,
и кто-то сказал: “Перед вами скоро расстелют ковер из цветов”.
Уайльд, почувствовав момент, сказал: “Voila!”1 — или нечто
близкое к этому по-английски — и кинул к ее ногам ворох лилий.
Бернар была очарована. Вскоре она расписалась на одной из белых
панелей в Доме-на-Темзе как один из почетных гостей Уайльда,
а в другой вечер продемонстрировала там, насколько высоко может
коснуться стены ногой.
Она, казалось, жила жизнью ощущений с такой полнотой,
какой ученик Пейтера вполне мог восхищаться. С беспечно-
стью банкрота она убеждала своих молодых друзей: “Деньги надо
не копить, а тратить. Тратьте их, тратьте!” (Уайльда не надо было
особенно уговаривать.) Однако он различал в ней демонические
черты. Он рассказывал, как пил с ней чай и она “лежала на красном
диване, похожая на бледное пламя”. Роберт Шерард считал, что
Уайльд перенял у Бернар ее золотой голос, но в сравнении с ори-
гиналом (несмотря на уроки дикции, которые он брал у актера
Германна Визина) сто голос был в лучшем случае позолоченным.
Мадам Бернар, в свою очередь, удостоила его комплимента. “Муж-
чины, оказывающие актрисам знаки внимания и предлагающие им
услуги, обычно имеют arriere-pensee1 2, — сказала она. — Но Оскар
Уайльд — это особый случай. Он преданно мне служил и очень
много сделал, чтобы мое пребывание в Лондоне было приятным
и легким, но он никогда со мной не заигрывал”. Похвала за отсут-
ствие заинтересованности не похвала в полном смысле слова.
Тем не менее, если ему нужен был толчок к тому, чтобы писать
для театра, она дала его ему. 2 июня 1879 г. она выступила в “Федре”,
словно желая свергнуть с пьедестала Рашель, чей безумный успех
в Лондоне в той же роли двадцать четыре года назад был окутан
легендой. Уайльд, разумеется, присутствовал на премьере. “Только
после того, как я услышал Сару Бернар в “Федре”, — писал он впо-
следствии, — я вполне почувствовал сладость расиновских стихов”.
Он посвятил ей сонет, который Эдмунд Пейте 11 июня напеча-
тал в “Уорлд”. Уайльд поместил Сару Бернар, как и Лили Лэнгтри,
в античную Грецию — это была самая большая дань восхищения
с его стороны, однако ее он окружил образами преисподней:
О да! Наверно, некогда твой прах
Таился в урне греческой, и снова
Ты в скучный мир направила свой шаг,
1 Вот! (фр.)
2 Заднюю мысль (фр.).
1J4
Возненавидев сумрака оковы,
Унылых асфоделей череду
И холод губ, целующих в Аду1.
Ранее он говорил, что изображение головы Лили Лэнгтри
можно увидеть только на серебряных монетах древних Сиракуз;
теперь он попросил миссис Лэнгтри помочь ему найти профиль
Сары Бернар среди древнегреческих монет в Британском музее.
Миссис Лэнгтри беззлобно мирилась с приезжей соперницей,
даже когда прошел слух, что принц Уэльский временно изменил
ее прелестям ради объятий Сары Бернар. Та вознаградила англи-
чанку благосклонным предсказанием ее театрального будущего:
“Avec се menton elle ira loin”1 2. Возможно, Уайльд имел в виду это
высказывание, когда вложил в уста леди Брэкнелл поучение в адрес
Сесили: “Подбородок чуть повыше, дорогая моя. Стиль в значи-
тельной степени зависит от того, как держать подбородок. Теперь
его держат очень высоко”. Уайльд всю жизнь мечтал о том, чтобы
Бернар сыграла в какой-либо его пьесе3.
Самой добросердечной из актрис, с которыми он подружился
в эти годы, была Эллен Терри. Она расположила его к себе тем,
что поощряла театральные амбиции миссис Лэнгтри и прощала
ей промахи в игре, которые миссис Лэнгтри со смущением чув-
ствовала. Сценическая карьера самой Терри прервалась на четыре
года из-за ее замужества за художником Уоттсом и последующей
любовной связи с архитектором Эдвардом Годвином, от которого
она родила двоих детей; однако в 1878 г. Ирвинг вернул ее на сцену,
сделав ее ведущей актрисой своего театра “Лицеум”. 27 июня 1879 г.
Уайльд был потрясен ее игрой в роли королевы Генриетты-Марии
1 Перевод Н. Гумилева.
2 С таким подбородком она далеко пойдет (фр.).
3 Риккетс писал, цитируя Уайльда: “Он мечтал написать для нее пьесу
о королеве Елизавете”. “У нее будет потрясающий вид в этих чудо-
вищных платьях, покрытых павлиньими перьями и усеянных жемчу-
гами!” Он хотел вывести на сцену “принцессу Елизавету и ее любов-
ника, адмирала лорда Сеймура, которых застают неистовая Екатерина
Парр и зловещий лорд-протектор [Уайльд считал, что Елизавета
родила ребенка от Сеймура]; затем королеву и Эссекса, и трагиче-
скую страсть леди Шрусбери”. Он часто возвращался к странному
эпизоду, когда шотландский посол решился привести Елизавету,
переодетую пажом, в Холирудхаус, резиденцию шотландских коро-
лей, чтобы она смогла увидеть Марию Стюарт. Меня до сей поры
поражает, что этот сюжет, как и потрясающая сцена смерти королевы,
остались незатронутыми, хотя я слышал, как он с напускной серьезно-
стью сказал: “Разумеется, смерть Елизаветы дала сильнейший толчок
к возрождению нашей литературы”.
155
в пьесе своего “родственника” У. Г. Уиллса “Карл I”. Ее появление
во втором действии вдохновило его на сонет, написанный прямо
в театре; там были такие строки:
В своем шатре победы ждет одна
Со взором отуманенным она,
Как лилия, прибитая дождями...
Это был лучший пример использования им вездесущего образа
лилии. Как бы ни был Уайльд даже здесь близок к штампу, этот образ,
во всяком случае, поразил Эллен Терри близостью к тому, что она
стремилась выразить. Вскоре он воспользовался новым знакомством
и в сентябре 1880 г. послал ей отпечатанный за собственный счет
экземпляр своей первой пьесы в темно-красном кожаном переплете
с ее именем, оттиснутым на нем золотыми буквами. “Возможно,
настанет день, когда я сподоблюсь написать что-либо, достойное
Вашей игры”, — гласила тактичная сопроводительная записка.
Эллен Терри не ответила немедленным предложением сыграть его
героиню, на что он надеялся; Генри Ирвинг, получатель другого
экземпляра, ограничился благодарностью. Другая актриса, амери-
канка Женевьева Уорд, к которой отправился еще один красивый
экземпляр, была мила, но бесполезна для дела, как и мадам Модже-
ска. Как бы то ни было, Уайльд дал ответ на обвинения Моджески
и Лили Лэнгтри в безделье. Ни общение с актрисами, ни претен-
зии на новую роль в английской культуре не исчерпывали его воз-
можностей. Он вознамерился утвердить себя в качестве драматурга.
Ирландец среди московитов
Тот русский, кто счастливо живет при нынеш-
ней системе правления в России, должен либо
отрицать существование человеческой души,
либо считать, что она не заслуживает развития.
Агитаторы — это надоедливые, вечно во все
вмешивающиеся люди, которые приходят в бла-
гополучные слои общества и сеют там семена
недовольства. Именно поэтому агитаторы
совершенно необходимы.
Пьеса, которую Уайльд так торжественно рассылал, называлась
“Вера, или Нигилисты”. Второе название вносило в сюжет о ста-
рой России злободневную проблему. Отдалившись как от като-
156
лицизма, подрывного в своей публичности, так и от масонства,
благонамеренного в своей секретности, Уайльд перешел к чему-то
столь же противоречивому в сфере политики. Принявшись искать
успеха среди иностранцев, он внес в то, что писал, представление
о себе, большей частью дремавшее в оксфордский период, о себе
как о сыне Сперанцы, мечтающем освободить свою родину от ярма
англичан, в чьих милостях он тем не менее отчаянно нуждался.
Его стихи и высказывания свидетельствовали о нарастании
в нем политических эмоций. В сонете, посвященном Эллен Терри,
Уайльд, восхваляя ее в роли королевы, писал, что ее игра ненадолго
заставила его забыть “мое республиканство”. В “Сонете к Свободе”
он выразил свою неприязнь к агитаторам:
Не то чтоб я любил сынов твоих, Свобода, —
Слепцов, живущих лишь одним грядущим днем,
Невежд, коснеющих в невежестве своем, —
однако в бурлящих Демократиях, в царствах Террора, в гранди-
озных Анархиях он видел нечто сродное той первобытной дико-
сти, которую он в себе находил. Он заключает сонет двойственно,
но откровенно:
... но все ж, но все ж
Те Мученики, что, хоть подвиг их напрасный,
На баррикадах погибают ни за грош...
Свидетелем мне Бог, — я в чем-то с ними схож1.
Уайльд, как и его мать, ненавидел власть толпы и беззаконное
буйство, но в то же время, как и она, восхищался личным героиз-
мом революционеров и ощущал сострадание к угнетенным. Рен-
нел Родд вспоминает один эпизод тех лет: когда многие жители
лондонского района Ламбет были изгнаны из своих домов навод-
нением, Уайльд отправился с ним туда оказать посильную помощь.
Одну старую ирландку в многоквартирном доме Уайльд так прио-
бодрил своими рассказами и денежным пожертвованием, что она
воскликнула: “Да воздаст вам Господь милостью своей!” Его поли-
тические взгляды вырастали из человеческого сочувствия.
Патерналистская благотворительность его не удовлетворяла.
В разговоре с юной Вайолет Хант он заявил: “Я социалист”. Под
социализмом он имел в виду не какое-либо конкретное полити-
ческое течение, а просто ненависть к тирании. Позднее он ска-
жет, что социализм “красив”, что “социализм — это наслаждение”;
Перевод К. Атаровой.
подобным образом, он знал, можно было охарактеризовать
и эстетизм, хотя объединение этих понятий виделось ему весьма
туманно. В его пьесе нигилизм, социализм и демократия обра-
зуют сложную смесь. Князь Павел из “Веры”, видимо, высказывает
авторскую мысль, когда говорит: “При настоящей демократии
каждый должен быть аристократом”. В красноречивом монологе,
который Уайльд вставил в пьесу в 1883 г., Алексей провозглашает:
“Я не знаю, быть мне царем или рабом; если рабом — мне ничего
не останется, кроме как стоять на коленях; если царем — где же
царю восседать, как не у подножья некой демократии, сложив
перед нею свою корону!”
В политическом своем аспекте “Вера” отражала этот аристо-
кратический социализм Уайльда. Расхожее представление о жесто-
кости царей пришлось ему кстати, хотя Александр II, царствовав-
ший в то время в России, дал крепостным свободу, не устранив,
однако, привычных злоупотреблений. Уайльд ощущал себя рупо-
ром более радикального освобождения. Он писал о своей “Вере”
актрисе Мари Прескотт: “Я попытался передать средствами искус-
ства титанический вопль народов об освобождении, который
в нынешней Европе колеблет троны и угрожает правительствам
повсюду от Испании до России, от северных до южных морей.
Однако пьеса моя не о политике, а о страсти”. Он жаждал соеди-
нить одно с другим. Пролог пьесы относится к 1795 г., четыре
последующих действия к 1800 г. Уайльд мог полагаться на слабую
осведомленность публики в российской истории и, возможно,
был слабо осведомлен в ней сам: убийство реакционера Павла I
произошло не в 1800-м, а в 1801 г., и сменивший его Александр I
был либералом только внешне. Чтобы избежать прямых паралле-
лей, Уайльд недолго думая переименовал царей в Ивана и Алек-
сея. Его совершенно не смущали такие анахронизмы, как поезда
и освобожденные крестьяне; разговор о нигилистах в 1800 г. также
был преждевременным, поскольку этот термин появился только
в 1861 г. в “Отцах и детях” Тургенева. Впоследствии Уайльд при-
знал источник: “Нигилист, сей странный мученик, лишенный
веры, рискующий без энтузиазма и умирающий за дело, кото-
рое ему безразлично, — чистой воды порождение литературы.
Его выдумал Тургенев, а довершил его портрет Достоевский”.
Нигилисты в пьесе едины в своем неприятии телесных наказаний
и военной муштры; они считают, что все существующее подлежит
ломке.
При всей бесцеремонности, с какой Уайльд обращался с рос-
сийской историей, в основу сюжета он положил реальные собы-
тия. Уайльд, как и Уолтер Сиккерт, Уильям Моррис и Бернард Шоу,
был знаком с Сергеем Михайловичем Кравчинским (Степняком)
158
□усским революционером дворянского происхождения, убившим
шефа жандармов генерала Мезенцова. Однако пьеса базируется
на другом эпизоде, о котором в 1878 г. сообщали газеты. 24 января
этого года двадцатидвухлетняя женщина1 совершила покушение
на жизнь петербургского градоначальника генерала Ф. Ф. Трепова.
Дворянка и дочь армейского офицера, она занималась революци-
онной деятельностью с семнадцати лет. Как сообщала “Таймс”,
Трепов вызвал ее негодование тем, что заключил в тюрьму “ее
возлюбленного-нигилиста” и приказал подвергнуть телесному
наказанию одну арестованную революционерку. Этот случай при-
влек к себе внимание в разных странах. 14 декабря 1889 г. “Пэлл-
Мэлл газетт” писала, что “звук ее пистолетного выстрела разнесся
по Европе, как сигнал горна”. Суд присяжных оправдал ее, хотя
она не отрицала содеянного, и Трепову пришлось уйти в отставку.
При выходе из зала суда полиция попыталась вновь арестовать
женщину, но ее друзья-студенты не дали этого сделать. Один
из студентов — будто бы ее свойственник — выстрелил в толпу,
а затем направил дуло пистолета на себя.
Женщину звали Вера Засулич, и Уайльд наделил ее именем и ее
страстностью в любви и деле революции свою героиню Веру Сабу-
рову (в первоначальном варианте Катинскую). Он перенес место
действия из Санкт-Петербурга в Москву и сделал жертвой поку-
шения пожилого царя. Свойственник превратился в брата Веры
Сабуровой. Возлюбленный-нигилист сохранился, но стал не кем
иным, как царевичем Алексеем. Уайльд в преображенном виде
использовал в пьесе свой собственный опыт одурачивания уни-
верситетских инспекторов: у него солдаты, преследующие ниги-
листов, колотят в дверь, и Алексей обманом убеждает их, что он
и его сообщники в масках — это актеры, репетирующие трагедию.
Позаимствовав клятву нигилистов из “Катехизиса революцио-
нера” С. Г. Нечаева, Уайльд, однако, взял ритуализованное начало
нигилистских сходок из неожиданного английского источника.
Его друзья из числа оксфордских розенкрейцеров были бы оше-
ломлены, прочитай они начало первого действия:
Председатель. Тайное слово?
Первый заговорщик. Набат.
Председатель. Отзыв?
Второй заговорщик. Калит.
Председатель. Который час?
Третий заговорщик. Час страданий.
Председатель. Который день?
На самом деле Вере Засулич было тогда 28 лет. (Примеч. перев.)
159
Четвертый заговорщик. День гнета.
Председатель. Который год?
Пятый заговорщик. Год надежды.
Председатель. Сколько нас числом?
Шестой заговорщик. Десять, девять и три.
Уайльд использовал здесь театрализованный масонский ритуал
“открытия ложи”, превратив Почтенного магистра в Председателя,
Старшего смотрителя в Первого заговорщика, Младшего — во Вто-
рого. Вопросы Председателя примерно те же, что у масонов, ответы
изменены применительно к бунтовщическим целям участников.
Большая часть этой политической по сюжету пьесы посвящена
оспариванию революционных догм. Алексей, оставаясь нигили-
стом, садится на царский трон — нигилист-самодержец, мечтаю-
щий провести реформы; Вера, влюбленная в Алексея, разрывается
между бунтарством и верноподданичеством: “Почему мне иногда
кажется, что я, республиканка до мозга костей, хотела бы иметь
его своим царем?” Почему, действительно? Самый интересный
персонаж пьесы — премьер-министр князь Павел Мараловский,
который, будучи отправлен царем в отставку, сближается с ниги-
листами, не разделяя идеи ни той ни другой стороны. Именно
Павел делает пьесу неповторимо уайльдовской. И при дворе,
и в заговоре он истый ирландец, взрывающий догмы и условности
своим остроумием. “Он зарежет лучшего друга, — говорит о нем
другой персонаж, — ради возможности сочинить для его могилы
эпитафию”. Прочитав составленный нигилистами “билль о пра-
вах”, где говорится: “Природа не храм, а мастерская; мы требуем
права на труд”, Павел замечает: “Ну, от этого права я, пожалуй,
откажусь”. Другой пункт — “Семья как ячейка, подрывающая под-
линное социально-общественное единство, подлежит ликвида-
ции” — он комментирует так: “Я совершенно согласен с пунктом
4. Семья — ужасная помеха, особенно чужая, если ты холостяк”.
Князь Павел — первый в череде аристократов-дилетантов, кото-
рыми Уайльд любуется, даже когда наказывает их за равнодушие
и бессердечность. Павел любит говорить: “Parbleu!”1 — однако его
речь, к счастью, свободна от анахронизмов, которыми изобилует
речь Веры Сабуровой, чья риторика сильно отстает от политиче-
ских взглядов.
Преобразование покушения Веры Засулич на петербургского
градоначальника в миссию Веры Сабуровой, состоящую в убий-
стве самого Государя, породило ряд оперных сцен. В финале Вере
приходится выбирать между политическими и любовными устрем-
1 Черт побери! (фр )
16о
лениями. Престарелый царь убит. Она должна ради России убить
и наследника, но неожиданно по велению сердца меняет решение
и убивает вместо него себя со словами: “Я спасла Россию”. Сохра-
нить царскую жизнь она сочла более благородным, чем оборвать
ее. Она показывает нигилистам окровавленный кинжал, заставляя
их думать, что она исполнила задание. Вера Сабурова, можно ска-
зать, умирает за два идеала — за нигилизм, в который она больше
не верит, и за любовь, в которую верит. Сложный, экзальтиро-
ванный финал делает “Веру”, как настойчиво утверждал Уайльд,
чем-то большим, чем просто политическая пьеса.
При всех слабостях “Веры”, которую, увы, не спасают усилия
князя Павла, она не находится катастрофически ниже общего
уровня драматургии в том столетии, когда, по словам Стендаля,
пьесы вообще невозможно было писать. Уайльд весьма торжест-
венно представил ее как лондонским театральным авторитетам,
таь и нью-йоркской актрисе Кларе Моррис. Миссис Бернард Бир
согласилась выступить в роли Веры. Она дебютировала четырьмя
годами раньше в “Опера-комик” на Стрэнде. Премьера “Веры”
была назначена на вечер 17 декабря 1881 г. в театре “Аделфи”.
Лондонская жизнь
Удивительное это свойство у наших английских
низших сословий — у них вечно умирают род-
ственники... Им необыкновенно везет в этом
отношении.
Из семьи Уайльд в Лондоне уже был не один Оскар. Его мать
и брат отчаялись жить в Дублине — леди Уайльд из-за того, что
жильцы не могли платить требуемые суммы за аренду ее недвижи-
мости, Уилли из-за того, что не удавалось найти ирландку с хоро-
шими деньгами, готовую взять его в мужья. В начале 1879 г. Уилли
продал дом № 1 по Мэррион-сквер, и 7 мая они с матерью при-
ехали в Лондон к Оскару. Несколько дней они жили у него в доме
№ 13 по Солсбери-стрит, потом переехали на Овингтон-сквер, 1,
затем на Парк-стрит, 116 близ Гровенор-сквер и, наконец, обосно-
иались в доме № 146 по Оукли-стрит, Челси.
В обстановке куда менее впечатляющей, чем на Мэррион-сквер,
леди Уайльд очень быстро завела у себя салон. Вначале только
по субботам, а затем еще и по средам она восседала во главе чай-
ного стола, собрав к нему гостей, самые осведомленные из кото-
рых даже не помышляли о том, чтобы пить чай. При всей своей
6- 5556
161
нелепости эти собрания были красочными, и люди, приходившие,
чтобы посмеяться, оставались, чтобы подивиться. Хотя Оскар
Уайльд был главным козырем этих чаепитий, Уилли тоже старался
как мог, и леди Уайльд рассаживала людей с умом. С возрастом
она изрядно отяжелела и проплывала среди гостей торжественно,
на раздутых парусах. Ее черный парик нередко был увенчан пыш-
ным головным украшением, и одевалась она по моде 1860-х в пла-
тья с обширными корсажами и большим количеством оборок,
украшенных нитками бусин и разнообразными висюльками. Ей
уже было под шестьдесят, и она не горела желанием демонстри-
ровать людям свои морщины и признаки отсутствия в доме эко-
номки; поэтому занавески задергивались в три часа дня, газовые
рожки прикрывались красными абажурами, в углах ставились мер-
цающие свечи, и гости таращили друг на друга глаза в полумраке.
Тем не менее она оставалась светской дамой и была вполне
еще способна на вспышки былого выспреннего красноречия. Она
исходила из того, что все ее гости люди знаменитые или, на худой
конец, вот-вот таковыми станут. При знакомстве с Хеленой, млад-
шей сестрой Уолтера Сиккерта, которая была еще школьницей,
леди Уайльд пристально на нее посмотрела и изрекла: “В высшей
степени интеллектуальное лицо! Я еще услышу о вас в литератур-
ном мире”. Стоявший рядом Оскар засмеялся: “Ну что ты, мама!
Не говори глупостей”. Столь же неумеренные похвалы она расто-
чала, представляя людей друг другу. “Мисс X, — могла она ска-
зать, — позвольте мне представить вам мистера Y, написавшего кар-
тину, о которой говорит весь Лондон и которая в следующем сезоне
будет выставлена в галерее Гровенор; а вам, мистер Y, я должна
сказать, что мисс X скоро будет лондонской примадонной. Вы бы
слышали, как она поет арию из “Лоэнгрина”!” То, что мистер X
не умел рисовать, а мисс Y — петь, нисколько не умеряло пыла ее
похвал. Может быть, научатся когда-нибудь. Уайльд спародировал
ее в “пиквикском” отрывке из “Портрета Дориана Грея”, который
он впоследствии, руководствуясь сыновними чувствами, убрал
из романа: “Сэр Шалтай-Болтай — ну, вы понимаете — афганская
граница. Русские интриги: очень удачливый человек — жену убил
слон — совершенно безутешен — собирается жениться на красивой
вдове-американке — так все теперь поступают — терпеть не может
мистера Гладстона — но его чрезвычайно интересуют жуки; спро-
сите его, что он думает о Шувалове”. При всем своем позерстве
леди Уайльд была добродушна и бесхитростна. Ее дом стал удобным
местом для встреч и знакомств, и такие гости, как Бернард Шоу
и Йейтс — тогда новички в Лондоне — были ей за это благодарны.
После смерти мужа у нее появилось время для литературных
занятий, и из троих Уайльдов в Лондоне именно она оказалась наи-
162
более плодовитой. Первым делом она окончила начатую мужем
биографию антиквара и иллюстратора Габриэля Беранджера. Ее сын
Оскар, поначалу собиравшийся взять это дело на себя, охотно пере-
ложил его на мать. Затем она обратилась к своим шведским запискам
1859 г., когда они с сэром Уильямом посетили губернатора Упсалы;
она соединила их в том, озаглавленный “Скандинавский плавник”.
После этого она собрала, как намеревался еще покойный сэр Уильям,
его обширную разрозненную коллекцию сказок и легенд, которые его
сельские пациенты рассказывали ему в уплату за лечение; она обрабо-
тала их как должно и опубликовала в двух томах, сыгравших замет-
ную роль в ирландской фольклористике (Йейтс, как и другие, черпал
из них сюжеты для своих пьес). В этой работе она проявила и юмор,
и теплоту. Еще она выпустила два тома эссе, напечатанных за дол-
гие годы в разных изданиях (многие в дублинской газете “Нейшн”)
па общественные и культурные темы; там она весьма решительно
высказывается по всем вопросам, начиная от Джордж Элиот и кончая
прическами. Писала она и стихи, нередко прибегая к сомнительной
помощи Оскара с теми или иными строками, и печатала их в журна-
лах. Книги приносили кое-какие деньги, но все равно ей трудно было
платить за жилье, и она была рада, когда благодаря усилиям Оскара,
добившегося поддержки отряда видных людей, в 1888 г. она получила
вспомоществование в 100 фунтов от Королевского литературного
фонда, а 24 мая 1890 г. ей была назначена пенсия в 70 фунтов в год
от премьер-министра Великобритании — державы, против которой
она некогда замышляла революцию. Помощь была оказана “в знак
признания заслуг ее покойного мужа сэра Уильяма Уайльда, док-
тора медицины, перед статистической наукой и литературой”1. Она
играла активную роль в лондонской литературной жизни, особенно
в ирландской ее части, и была рада стать, наряду с Уилли и Оскаром,
одним из членов-основателей Ирландского литературного общества.
Положение Уилли Уайльда было более проблематичным. Хотя
он был в Ирландии членом сообщества адвокатов, его больше знали
как завсегдатая пабов. На вопрос о роде своих занятий он обычно
отвечал: “По части занятий я человек безродный”. Его отношения
с Оскаром не были безоблачными; одна из причин была та, что они
сильно походили друг на друга внешне и меньше, но также ощу-
тимо, манерами. Уилли это не тревожило, а вот Оскара, почувст-
вовавшего угрозу своей уникальности, тревожило, и еще как. Оба
они были высокого роста (Уилли — шесть футов четыре дюйма,
1 В поддержку вспомоществования подписались лорды Литтон и Спен-
сер, сэр Теодор Мартин и леди Мартин, Суинберн, Махаффи, Оливер
Планкет, сэр Джордж Отто Тревельян, сэр Джон Лисбак, профессора
А. Сэйс и Эдвард Дауден. Отказался поставить подпись только Глад-
стон.
16з
Оскар — шесть футов три дюйма), оба были склонны к полноте, оба
лениво-томны. Макс Бирбом приводит чьи-то слова: “Поскреби
Оскара, и увидишь Уилли”. Но сам Бирбом хорошо понимал раз-
ницу между братьями. Уилли, говорил он, был “страшно вульгарен,
немыт и подл”. Более распространенно он высказался об Уилли так:
“Quel monstre!1 Темный, склизкий, подозрительный и вместе с тем
страшно похожий на Оскара; та же, что у Оскара, застенчиво-чув-
ственная улыбка, тот же беспричинный смех, но ни тени его esprit1 2.
Да, он ужасен — вот вам трагедия семейного сходства”. Отпустив
бородку, Уилли утверждал, что Оскар заплатил ему, чтобы он это
сделал. Леди Уайльд всячески старалась мирить братьев, и порой
ей это удавалось. Но Уилли не поспевал за Оскаром нигде, какую
из сторон жизни ни возьми. Чтобы быть светским человеком оска-
ровского типа, требовалось больше способностей, чем он имел.
Несмотря на это, он нс оставлял попыток. Оскар был поэтом —
и Уилли вообразил, что он тоже поэт, и привез с собой в Лондон
стихотворение, опубликованное в “Коттабосе”; он надеялся, что
оно послужит ему пропуском в литературные круги. Это был сонет
сомнительного качества, тема которого — Саломея — впоследст-
вии не будет давать покоя его брату. Выразительно читая сонет
вслух, Уилли умел на миг заставить слушателей поверить, что это
настоящие стихи, а не любительские вирши:
И все были пленены мною совершенно,
И трижды из каждой глотки громко прозвучало мое имя.
“Проси, чего хочешь”, — сказал чернобородый Ирод.
“Видит Бог, необычная у меня будет просьба;
Дай мне, прошу тебя, сейчас же голову
Иоанна Крестителя”. И вот она у меня в руках.
Ах, мама, посмотри на губы, на полузакрытые глаза.
Ты думаешь, он и сейчас, мертвый, ненавидит нас?
Но именно на миг. Оскар писал пьесы — и Уилли тоже
решил попробовать себя на драматургическом поприще. Две его
пьесы, напечатанные в Дублине, назывались “Французский лоск”
и “Вечерняя река”. Если Оскар в 1880 г. сообщил журналисту
из “Байографа”, что колеблется в выборе между карьерами худож-
ника и литератора, то Уилли намеревался стать и журналистом,
и скульптором. Оскар вынес потугам брата суровый приговор:
“То, что ваяет Уилли, несет на себе осязаемые признаки смерти без
надежд на воскресение”.
1 Какое чудовище! (фр.)
2 Остроумия, одухотворенности (фр.).
164
Все же Уилли выдолбил для себя в Лондоне некую нишу, пусть
и ненадежную. В нескольких его иллюстрациях к книгам отца
виден определенный талант к рисованию, которого он не сумел
развить. Фортепьянные упражнения привели его к мысли напи-
сать свои, "улучшенные” концовки к прелюдиям Шопена, на что
человек более одаренный вряд ли отважился бы. Самым легким
из поприщ, на которых он себя пробовал, была журналистика,
и в течение нескольких лет он довольно успешно ею занимался.
Больше всего ему нравилось делать рекламу Оскару в колонке
светской хроники. На некоторые темы — например, о заседаниях
комиссии по делу Парнелла, часть из которых посетил и Оскар, —
он даже писал хорошо (может быть, потому, что всей душой раз-
делял мнение матери: “Парнелл избранник судьбы. Он разобьет
оковы, освободит Ирландию и возведет ее на трон, сделав ее
королевой народов”). Узнав об оправдании Парнелла, Уайльды
торжествовали. В целом, однако, жизнь Уилли была слишком лег-
кой и рассеянной. В вечернем клубе “Спуфс” на Мейден-лейн он
распространялся о том, как восхитительна — в смысле “не бей
лежачего” — работа журналиста. А.М. Бинстед в своей книге
приводит образчик разговоров Уилли (близкий к оригиналу, как
утверждает Джимми Гловер); все это произносилось с огромной
быстротой, разительно отличавшейся от величаво-неторопливых
речевых ритмов Оскара:
У журналиста скучная жизнь? Бог ты мой, да нисколько. Вот для
примера мой день. Прихожу в контору, скажем, часам к двенадцати.
Говорю редактору: "Доброе утро, дорогой мой Лесаж”, а он мне:
“Доброе утро, дорогой мой Уайльд, есть сегодня идейка?” — “Как
не быть, сэр, конечно, есть, — отвечаю. — День рождения почтовой
марки достоинством в пенни”. — “Великолепная тема для передо-
вицы!” — восклицает редактор, расплываясь в улыбке...
Могу потом перехватить несколько устриц и выпить пол бутылки
шабли у Свитинга... Потом направляюсь в сторону парка. Расклани-
ваюсь со знаменитостями, фланирую по несравненной Пикадилли,
все меня видят... А тем временем... пытаюсь вспомнить все, что
слышал о марках достоинством в пенни. Ну-ка, ну-ка. Изобретатель
мистер Такой-то, первоначальное противодействие, почтовое законо-
дательство прежних лет, затем как делаются марки: дырочки в бумаге,
клей с изнанки, печать... Пока иду назад по Пэлл-Мэлл, все обдумы-
ваю. Можно было бы отправиться в библиотеку Британского музея
и нарыть гору пыльных фактов, но вы прекрасно понимаете, что это
было бы недостойно великого мастера передовиц.
И наконец я приступаю к делу. Да! Вот когда я зарабатываю
себе на жизнь. Я отправляюсь в свой клуб. Приказываю принести
165
чернил и бумаги. Иду к себе в комнату. Запираюсь на ключ... Три
больших, увесистых, солидных абзаца на треть колонки каждый —
вот желаемый результат. Мысли летят стремительно и вольно.
Вдруг — стучат в дверь. Двух часов как не бывало. Как мчится
время! Это старинный приятель. Нам предстоит обед в “Кафе-
руаяль”, а потом мы закатимся в “Альгамбру”, где дают новый
балет. Жму кнопку звонка, является курьер. Передовицу доставят
на Флит-стрит, 141, округ Сент-Брайд — а мы с приятелем выхо-
дим рука об руку.
Порой все же запас почтовых марок для передовиц у него исся-
кал, и в этих случаях, особенно когда редактор требовал расска-
зик, он обращался за помощью к брату. Оскар в течение одного
завтрака выдавал ему с полдюжины историй.
Так или иначе, леди Уайльд и Уилли могли претендовать на участие
только в некоторых сторонах лондонской жизни, тогда как Оскар
утвердился в самом ее центре. К этому времени он обзавелся широ-
ким кругом знакомств, включая особ королевской крови. Принц
Уэльский сам изъявил желание с ним познакомиться, сострив
по этому поводу: “Я не представлен мистеру Уайльду, а не быть
представленньш мистеру Уайльду — значит быть предоставлен-
ным самому себе”. 4 июня 1881 г. принц приехал в дом, где жили
Майлз и Уайльд, на сеанс чтения мыслей, который, разумеется,
почтила присутствием и Лили Лэнгтри. Принцу явно понрави-
лось общество остроумцев. Двое молодых людей к этому времени
переехали с Солсбери-стрит, 13 на недавно ставшую фешенебель-
ной Тайт-стрит в Челси. Майлз давно еще просил архитектора
Эдварда Годвина, чьи вкусы они находили наиболее близкими
к своим, разработать для них оформление дома, как он уже сделал
для Уистлера, сотворив ему его “Белый дом”. Проект был готов
в июне 1878 г., но комитет по градостроительству запретил его
реализацию, как это уже было с первоначальным проектом уист-
леровского дома. 30 сентября Годвин представил новый вариант
проекта, и в июле 1880 г. дом был готов к въезду жильцов. Офор-
мление основывалось на узоре из пересекающихся прямоуголь-
ников. Кладка стен состояла из красных и желтых кирпичей, для
крыши была использована зеленая черепица, под окнами Годвин
соорудил балкончики. Дом стал поистине эстетическим творе-
нием, и молодые люди были счастливы в нем поселиться. Уайльд,
отталкиваясь либо от того, что до них в доме жили две женщины
по фамилии Ските, либо от близости Дома Шелли (в нем, распо-
ложенном за ближайшим углом, жили потомки поэта), окрестил
их жилище Домом Китса.
166
в то время среди друзей Уайльда, помимо Лили Лэнгтри
и Майлза, заметнее всех были Уистлер и Реннел Родд. Приятель-
ские отношения с Роддом, начавшиеся в Оксфорде, продолжались.
Родд не смог получить первый разряд по курсу гуманитарных
на\гк, и Уайльд постарался его утешить:
Дом Китса
Дорогой Реннел!
Поздравляю от души. Курс гуманитарных наук — единственный
стоящий курс в Оксфорде, единственная область мысли, где можно
одновременно быть блестящим и безрассудным, мечтательным
и информированным, где можно быть и творцом, и критиком, где
можно со всем пылом юности писать об истинах, являющихся досто-
янием преклонного возраста с его величественным спокойствием.
Я был бы рад, если бы ты получил первый разряд — если бы мои
коллеги не были все до одного занудно-правильными шотландцами.
Тем не менее второй разряд, возможно, предоставит культурному
человеку атмосферу более приятную, чем холодный, как вершины
Кавказа, и атеистический первый.
Возвращайся поскорее.
Твой ОСКАР УАЙЛЬД.
Летом 1879 г. Уайльд и Родд отправились вместе в поездку.
В июле двое друзей, родители Родда и его сестра остановились
в отеле “Менье” в бельгийском городе Ла-Роше. Ими заинтере-
совались некоторые другие постояльцы отеля. Среди них был
восьмилетний мальчик Поль де Рёль, сын бельгийского геолога,
поэта и прозаика Ксавье де Рёля. Поль де Рёль отчетливо запом-
нил впечатление, которое произвел на него Уайльд. Он писал
впоследствии, что Уайльд был “высок и бледен, чисто выбрит,
с длинными прямыми черными волосами; он одевался в белое,
во все белое с головы до пят, от высокой широкополой фетровой
шляпы до трости, которая была настоящим скипетром из слоно-
вой кости с круглым набалдашником; я часто ею играл. Мы назы-
вали его Пьеро”. Пьеро любил прогуливаться в речной долине
и в месте, называемом Надгробья из-за изобилия лежащих в траве
плоских камней; он читал свои стихи протяжно и монотонно,
что казалось мальчику смешным. Другим постояльцем отеля был
нидерландский поэт Жак Перк (1858—1881), написавший стихо-
творение, в котором Уайльд изображен стоящим подле красивой
женщины:
A son cote debout, comme elle de jeunesse
Etincelant, en 1’adolescent Anglais,
167
D’intelligence plein, de gaite, d’allegresse,
Au coeur poete, qui hait tout ce qui est mauvais1.
Из Ла-Роша Уайльд и Родд отправились в Турне, где им запом-
нилась гробница рыцаря с надписью: “Настанет час расплаты за все".
Родд написал об этом стихотворение; два года спустя Уайльд в после-
словии ко второму стихотворному сборнику Родда упомянул о “ста-
ринной серой гробнице во Фландрии со странной надписью, наво-
дящей на мысль, что страсть, возможно, живет и после смерти...".
Он предпочел уйти от зловещего смысла пророчества.
В следующем году (1880) Родд опубликовал свою первую
книгу “Песни Юга” и, надписав ее: “Реннел — Оскару, июль
1880 г.”, добавил внизу четверостишие, которое не становится
менее поразительным оттого, что написано по-итальянски:
А е tuo martirio cupida е feroce
Questa turba cui parli accorera;
Ti vertammo a veder sulla tua croce
Tutti, e nessuno ti compiagnera1 2.
Жизнь Уайльда столь же полна трагических предзнаменова-
ний, как ибсеновская пьеса. Родд по-прежнему тревожился из-за
поведения Уайльда и некоторых его стихотворений. Отдельные
их строки были явно опасными. По существу, Родд сделал ему
такое же предостережение, как мертвый рыцарь. Уайльд отказы-
вался менять строки. Родд пишет в мемуарах, что, хотя ему были
небезразличны упреки друзей в том, что он находится под слиш-
ком сильным влиянием Уайльда, их критика рождала в нем некую
“дерзкую гордость”; эта реакция вполне могла быть подсказана ему
надменностью самого Уайльда.
Летом 1881 г. они вновь отправились вместе путешествовать —
на этот раз вдоль Луары. Уайльд потом послал двенадцатилетнему
сыну Джорджа Льюиса шутливый отчет: “Я был с моим замеча-
тельным оксфордским другом, и, поскольку мы не хотели давать
людям знать, кто мы такие [видимо, чтобы скрыть от друзей Родда
постоянство их приятельских отношений], он путешествовал
пол именем “сэр Смит”, а я был лордом Робинсоном. Я потом
1 Рядом с ней стоит, как и она, искрящийся/Молодостью, английский
юноша,/Исполненный ума, веселья, радости,/В душе поэт, ненави-
дящий все дурное (фр-).
2 Во время твоего мученичества соберется/Жадная и жестокая толпа,
к которой обращены твои слова;/Все придут, чтобы увидеть тебя
на кресте,/И ни один не сжалится над тобой (ит.).
168
поехал в Париж — это большой город, столица Франции, —
и очень хорошо провел там время”. Возможно, именно во время
этой поездки они посетили Шартр, и, несомненно, они побывали
в Амбуазе, о чем Уайльд писал в следующем году:
В свое время мы были с ним вдвоем в Амбуазе — маленьком
городке с крышами из серого шифера, горбатыми улочками и мрач-
ными неприветливыми городскими воротами... В послеполуденные
часы мы обычно уходили за город, к излучине реки, и там делали
наброски, сидя на одной из больших барж, что осенью везут к морю
вино, а зимой древесину; или просто лежали в высокой траве и стро-
или планы на будущее pour la gloire, et pour ennuyer les philistins1;
или бродили вдоль низких, поросших осокой берегов и “скрещивали
шпаги тростников”, как сицилийские друзья в старину.
Родд, как и Хантер Блэр, прилагает видимые старания к тому,
чтобы показать, что их отношения с Уайльдом не были сексуаль-
ными. И все же, какова бы ни была природа содружества, в отно-
шениях между высокомерным мастером и робким учеником виден
некий намек на любовь.
А вот в отношениях между Уайльдом и Джеймсом Макнилом
Уистлером никакой любви не было и в помине. Уистлер требовал
восхищения, граничащего с самобичеванием, и проявлял в ответ
властность, граничащую с враждебностью. Уайльду, смотревшему
на Уистлера с высоты своего роста, он представлялся грозным
коротышкой. Начало жизни Уайльда в Лондоне совпало с пери-
одом вынужденного отсутствия там Уистлера. Его практически
безуспешный иск к Рёскину по обвинению в клевете, который рас-
сматривался 25 ноября 1878 г. и принес Уистлеру грошовую ком-
пенсацию без возмещения судебных издержек, ймел следствием
его банкротство; Уистлер бежал от кредиторов в Венецию, где жил
с сентября 1879 г. по ноябрь 1880 г. и где создал цикл блестящих
гравюр, что дало ему возможность вернуться. Хотя он не смог
отвоевать свое прежнее обиталище — “Белый дом” — у художе-
ственного критика Гарри (Уистлер звал его Арри) Куилтера, он
нашел себе другой дом на той же Тайт-стрит и стал таким образом
соседом Майлза и Уайльда. Если в 1879 г. Уайльд был еще малоза-
метен, в 1880 г. он был уже знаменит. На тот момент они вполне
подходили друг другу. Уистлер был на двадцать лет старше. Амери-
канец с материнской стороны (но не “высокородный джентльмен
из Виргинии”, как Уайльд назвал его Роберту Шерарду, а уроже-
нец Северной Каролины), он прожил несколько лет во Фран-
Здесь: мечтая о славе и о том, как досадить филистерам (фр.).
169
ции и был знаком с крупнейшими французскими художниками
и писателями. Уайльд стремился к тому же. В жизни Уистлера
было немало крепких, казалось бы, дружб, которые, как правило,
заканчивались резкими и решительными ссорами. Быть его дру-
гом означало балансировать на грани разрыва; Уайльд с успехом
делал это полдюжины лет. Он вынес немало колкостей мастера,
но одной из самых его привлекательных черт была способность
получать удовольствие от насмешек на свой счет.
Хотя после первой выставки в галерее Гровенор Уайльд, симпа-
тией которою в то время почти безраздельно владели “прерафы”,
нс выразил безоговорочного одобрения живописи Уистлера,
затем он изменил мнение к лучшему, что видно из его заметки
о новой выставке, опубликованной 5 мая 1879 г. в дублинской
газете. На этот раз он назвал “Золотоволосую девушку” Уист-
лера “чудеснейшей картиной”. Он даже одобрил некоторые
из его “ноктюрнов”. Он больше не возражал против того, что
Уистлер — величайший из лондонских художников, хотя в пику
Уистлеру упорно продолжал восхищаться Берн-Джонсом. Уист-
лер же крайне непочтительно отзывался как о “старом дилетанте”
Тернере, кумире Рёскина, так и о Берн-Джонсе и других прера-
фаэлитах. Дж. и Э. Пеннелы приводят его слова: “Россетти? Ну,
он, конечно, не художник, но все-таки джентльмен и поэт. Что же
касается прочих, кто за ним увивается, там сплошная бездарность
и преступность”. Уайльд, ставший желанным гостем в мастерской
Уистлера, слышал, видимо, немало подобных суждений от мастера,
который любил болтать за работой. Вместе Уайльд и Уистлер
представляли собой одно из лондонских зрелищ. Через много
лет Эллен Терри вспоминала: “Самыми замечательными людьми
из всех, кого я знала, были Уистлер и Уайльд... И в том и в дру-
гом мгновенно чувствовалось нечто дерзкое и особенное — нечто,
не поддающееся описанию”.
Протягивая дружескую руку, Уистлер всегда делал это задири-
сто и с подвохом. Приглашение совершить совместную поездку
пишется властным и безапелляционным тоном, и в нем чувству-
ется обычная для Уистлера насмешка над адресатом:
Воскресенье, вечер
Давай-ка, Оскар, напяливай вновь свой маскарадный костюм
и отправляйся со мной завтра на остров Джерси.
Я завтра буду в мастерской — пошлю за тобой около 12 — мы
окончательно все утрясем и, даст Бог, уедем 5-часовым поездом —
[Подпись в виде бабочки]
[Приложен лист промокательной бумаги с нарисованной пером
женской головкой.]
I/O
‘‘Маскарадный костюм” — это, видимо, какой-то очередной
сногсшибательный пиджак Уайльда. Так или иначе, письмо пока-
зывает, что они понимали друг друга; об этом говорит и другое
письмо:
Оскарино! Я нечаянно сломал печать на прилагаемом письме —
Тысяча извинений —
Я ничего не прочел — только первое слово — “Электра"’ —
и не знаю, от кого это, поэтом)' ты должен будешь рассказать мне
при встрече —
[Подпись в виде бабочки]
В другом письме этого периода Уистлер рекомендует Уайльду
(который в этот момент был в Париже) или, лучше сказать, навя-
зывает ему своего ученика художника Уолтера Сиккерта:
Нет, Оскар! Я пока что могу без него обойтись, так что рас-
полагай им — обращайся с ним хорошо и не пытайся поить моего
посланца вином сомнительного качества!
Помни, он путешествует уже не просто как Уолтер Сиккера —
конечно же он изумителен — ведь он представляет Самого Изуми-
тельного — и это делает его вкусы самыми утонченными — даже
Лувр не имеет от него тайн...
Что к этому добавить? Он может растолковать тебе Каталог
Изумительных Персон — а что до прочего, у него есть мое благо-
словение и обратный билет.
То, что Уистлер юмористически преувеличивает свое тщесла-
вие, никоим образом не делает это тщеславие менее реальным.
Поскольку оба они были умны и любили поговорить, между
ними часто возникали перепалки, в которых более мягкосердеч-
ный Уайльд обычно оказывался побежден. Дуглас Слейден опи-
сывает прием, состоявшийся в 1883 г. в доме Луизы Джоплин г
на Бофорт-стрит. Уайльд и Уистлер явились раздельно, но оба
слишком рано и несколько смутились, увидев, что пока, кроме них,
почти никого нет. Их шутливая болтовня, как ее передает Слейден,
выглядит достоверной:
— Джимми, в прошлом году я летом был в Нью-Йорке, и там все
мужчины, включая меня, ходили с веерами. Надо и здесь ввести эту
моду.
[Уистлер не отвечает.]
— Я слыхал, Джимми, ты ездил в Салон через Дьеп. Это что, ради
экономии?
— Нс говори глупостей. Я поехал так, чтобы писать картины.
171
— И сколько же картин ты написал?
— Сколько, по-твоему, часов занимает переправа через Да-Манш?
— Ты же ездил, а не я. Джентльмены через Дьеп не ездят.
— Я часто езжу, — вмешалась миссис Джоплинг. — Это пять
часов плавания.
— Сколько в одном часе минут, Оскар?
— Точно не знаю, но кажется, около шестидесяти. — Я же не мате-
матик.
— Значит, я написал триста картин.
Слейден пишет, что на этом приеме Уайльд, услышав слова
некой дамы, воскликнул: “Как бы мне хотелось, чтобы это ска-
зал я!” — чем вызвал реплику Уистлера: “Еще скажешь, Оскар, еще
скажешь”. Однако более правдоподобной выглядит другая вер-
сия, в которой Уайльд позавидовал словам, сказанным Уистлером
Хамфри Уорду, художественному критику газеты “Таймс”. Уорд
распространялся о картинах Уистлера, называя одни из них хоро-
шими, другие плохими, пока художник не сказал ему: “Дорогой
мой, никогда не говорите, что вот эта картина хороша, а вон та
плоха. Хорошее и плохое — это категории не для вас. Вы вправе
говорить так: “Вот это мне нравится” или: “Вон то не нравится”.
А теперь пошли хлебнем виски — уж это-то вам явно понравится”.
Уайльд без колебаний заимствовал у других то, что ему было
нужно; справедливости ради скажем, что обычно он преобразо-
вывал чужое на свой лад. В рецензии от 30 мая 1885 г. на “Оливию”
Уиллса он писал: “Только человек, лишенный воображения, всегда
выдумывает. Подлинный художник виден по тому, как он исполь-
зует заимствованное, а заимствует он все”. Уистлер, напротив, был
слишком горд, чтобы признать, что его теоретические рассужде-
ния об искусстве во многом почерпнуты у Готье.
Причины, по которым эти два человека радовались обществу
друг друга, были для каждого из них свои. Уайльду было невдо-
мек, что Уистлер, будущий автор “Изящного искусства наживать
врагов”, органически склонен превращать старых друзей в новых
недругов. Тому известно много примеров. Когда, позднее, между
ними произошла размолвка, Уайльд не мог понять, в чем дело.
Ведь он не только брал, но и давал. Он пел Уистлеру дифирамбы,
веселил его застольным разговором, был во всех отношениях
щедр и верен. Но Уайльду всегда была свойственна некая наив-
ность, особенно ярко проявлявшаяся при общении с людьми
жестокими, поскольку его натура была начисто лишена жесто-
кости. В то, что ученик может предать учителя, он еще готов был
поверить — но уж никак не в то, что учитель может питаться
мясом учеников.
172
Обитатели Тайт-стрит все больше и больше становились предме-
том лондонских пересудов. Уже в конце семидесятых они сделались
законной добычей драматургов-пародистов. Первая попытка выве-
сти их на сцену относится к декабрю 1877 г.: в бурлеске “Кузнечик”,
где обыгрывалось открытие галереи Гровенор, танцевали три персо-
нажа, в которых узнавали Уистлера, Майлза и Уайльда. Потом была
пьеса “Где кошка?”, переложенная с немецкого Джеймсом Олбери,
премьера которой состоялась 20 ноября 1880 г. в театре “Крайти-
рион”. Одним из ее персонажей был писатель Скотт Рамзи, произ-
носивший реплики вроде такой: “Я чувствую себя как.. как комната
без панелей”. Герберт Бирбом Три исполнял эту роль с характерными
ужимками Уайльда, и пьеса имела успех. Уайльд упорно отказывался
на нее идти. Наконец, через три месяца после премьеры, Эллен Терри
уговорила его прийти с ней в ее ложу. В итоге он назвал спектакль
слабым. Затем Ф.К. Бернанд, редактор еженедельника “Панч”, напи-
сал переложение французской пьесы “Деревенский муж” для мистера
и миссис Бэнкрофт, включив в нее насмешки над Уайльдом и эстетиз-
мом. Он назвал пьесу “Полковник” и передал Бэнкрофтам, которые
ее отвергли. Однако другая театральная компания поставила пьесу
в театре Принца Уэльского; премьера состоялась в феврале 1881 г.,
и спектакль имел большой успех. Принц Уэльский даже уговорил
королеву Викторию посмотреть его, и в королевской резиденции
Балморал дали специальное представление. Дж. Фернандес на лон-
донской сцене и У. Хотри в провинции играли эстета по имени
Ламберт Страйк с уайльдовскими ужимками. Мода на эстетизм уже
созрела настолько, чтобы вызвать к жизни моду на антиэстетизм.
Более долговечное произведение “Пейшенс” Гилберта и Сал-
ливана было в то время еще в работе. Первоначально Гилберт
хотел перенести на сцену свою балладу “Соперничающие вика-
рии”, где два персонажа стараются перещеголять друг друга в кро-
тости и в результате вынуждены поменяться ролями. Но он быстро
сообразил, что дух времени требует соперничающих эстетов, хотя
Макс Бирбом утверждал, что и это уже устарело. К ноябрю 1880 г.
Гилберт написал половину либретто, стараясь держать свою работу
в секрете, поскольку опасался плагиата. Премьера комической
оперы “Пейшенс” состоялась 23 апреля 1881 г. Уайльду сообщили,
что он в ней выведен, и он написал Джорджу Гроссмиту, который
исполнял роль Банторна:
Дом Китса
Тайт-стрит, Челси
Дорогой Гроссмит!
Я хотел бы пойти на премьеру новой оперы в Вашем театре
на Пасху и был бы весьма Вам обязан, если бы в кассе оставили для
173
меня ложу за три гинеи, если еще не все ложи распроданы; как только
получу подтверждение из кассы, вышлю чек в уплату.
Уверен, что Гилберт и Салливан сочинили что-то получше “Пол-
ковника”, этого скучнейшего фарса. Рассчитываю вволю повеселиться.
Искренне Ваш
ОСКАР УАЙЛЬД.
Желая, чтобы его эстеты были собирательными персонажами,
Гилберт никак не мог пройти мимо того факта, что Уайльд был
самым заметным образчиком эстетизма. Тем не менее он сделал
двух своих героев контрастными: Реджинальд Банторн человек
плотский, а Арчибальд Гровенор духовный. Уайльд соединял в себе
и то и другое. Возможно, чтобы отвлечь внимание от Уайльда, Грос-
смит подчеркивал в своем Банторне черты Уистлера: седую прядь
в черных курчавых волосах, усы, маленькую бородку, монокль
и его знаменитое “ха-ха”. Хотя либо в одном, либо в другом эстете
получили воплощение и эфирность Россетти, и чувственность
Суинберна, и готические устремления Рсскина, оба они — и Бан-
торн, и Гровенор — были наделены признаками, недвусмысленно
указывающими на Уайльда, самого красноречивого знаменосца
эстетизма того времени.
Безответная любовь девиц к Банторну проистекает из уайль-
довских вечеринок в Доме Китса, где неизгленно присутствовали
Профессиональные Красавицы. Банторн, как и Уайльд, носи г
длинные волосы и пишет поэму, которая названа “вещью дикой1,
странной, чувственной'5. Хотя Уайльд не обладал монополией
на лилии, еще до него облюбованные прерафаэлитами, именно его
одержимость этим цветком, вероятно, отражена в словах Банторна:
“Это жалоба поэтического сердца при виде всеобщей пошлости.
Чтобы почувствовать это, страстно прильните друг к другу и заду-
майтесь о хрупкости лилий”. Опять же именно Уайльд “шествовал
по Пикадилли с маком или лилией в средневековой руке” — или,
скорее, в ренессансной руке; точнее говоря, такая молва он нем шла.
Позже он скажет: “Сделать нечто невелика заслуга; заставить людей
думать, что ты это сделал, — вот настоящий триумф”. Банторн
в опере назван “великолепным ценителем бело-голубой и прочей
посуды", и, хотя не один Уайльд коллекционировал голубой фар-
фор — его предшественниками в этом были Россетти и Уистлер, —
ему принадлежала самая известная фраза на эту тему.
Что касается Гровенора, он называет себя “опекуном Красоты”,
продолжая собственнические тенденции Уайльда в ее отношении.
1 Многие каламбуры основывались на созвучии фамилии Уайльд
и слова wild — дикий.
Его присказка “Франческа да Римини, niminy-pimmy“ \ возможно,
должна была вовлечь в круг ассоциаций Джейн Франческу Уайльд,
как и Россетти с его переводами из Данте. Пристрастие ко вто-
ричным цветам и к зеленым лиственным узорам, покрывавшим
теперь некогда алые стены галереи Гровенор, намекало, среди про-
чих, и на Уайльда. Опера “Нейшене” дала некий единый образ
эстетического движения, но сделать это она смогла лишь благодаря
уайльдовским преувеличениям. Макс Бирбом был, вероятно, прав,
сказав, что “Пейшенс” продлила жизнь эстетическому движению.
Но она была лишь ответом на выпады Уайльда.
11ри написании либретто Гилберт извлек пользу из безжа-
лостной серии карикатур Джорджа Дюморье в “Панче”. Дюморье
учился ремеслу художника в Париже в те годы, когда там жил Уист-
лер. Вероятно, именно вид его старого друга в компании Уайльда
вдохновил Дюморье в начале 1881 г. на создание двух эстетиче-
ских персонажей поэта Модла и художника Джеллаби Послту-
эйта. Неделя за неделей появлялись все новые и новые карикатуры,
не затрагивающие впрямую Уистлера (слишком именитого, чтобы
стать легкой мишенью), но постоянно издевающиеся над Уайль-
дом. Осмеянию были преданы его струящиеся локоны, его лилии,
его рондо и другие французские поэтические формы, галерея Гро-
венор, голубой фарфор, стихи под названием “Впечатления”. Его
имя и фамилия обыгрывались на все лады. По крайней мере один
раз лицо Модла было сделано недвусмысленно уайльдовским. Как
правило не очень умные, эти карикатуры тем не менее были добро-
душными, и Уайльд слишком хорошо понимал пользу рекламы,
чтобы ссориться с “Панчем”. Он всегда здоровался с Дюморье под-
черкнуто любезно. Однажды на выставке работ Уистлера художник
подошел к ним, когда они разговаривали, и спросил: “Кто из вас
кого открыл?” Дюморье хотел ответить: “Мы на пару изобрели
вас”, но Уистлер уже отошел. Дюморье, однако, включил этот ответ
в первоначальный текст своего романа “Трильби”. Но такой чело-
век, как Берн-Джонс, понимал, что достоинства Дюморье и Уай-
льда не равны. Когда Гамильтон Эде, друг Дюморье, стал превоз-
носить его карикатуры до небес, Берн-Джонс воскликнул: “Можете
говорить что хотите, но в мизинце Уайльда остроумия больше, чем
во всем гаденьком маленьком тельце вашего Дюморье!”
Уайльд превзошел остроумием и либреттиста “Пейшенс”: одна-
жды они встретились на ужине в театре “Хеймаркет”, и Уайльд с пол-
часа безраздельно владел всеобщим вниманием благодаря своему
блестящему искусств}' застольной беседы. Наконец Гилберт выбрал
момент, чтобы сказать: “Хотел бы я уметь разговаривать так, как вы”.
Жеманный, манерный, женоподобный (англ.).
75
Потом наставительно добавил: “Я бы тогда держал рот на замке и счи-
тал это за добродетель!” Уайльд парировал: “Что вы, это было бы эго-
истично! Я еще могу лишить себя удовольствия говорить, но как же
я лишу других удовольствия меня слушать?” Он нанес Гилберту
и Салливану завершающий укол в ремарке к комедии “Как важно
быть серьезным”, где о Джеке и Алджерноне говорится: “Они насви-
стывают мотив какой-то ужасающей арии из английской оперы”.
Итак, Уайльд искал способы действовать и говорить, вполне
сознавая, что его действия и разговоры могут быть и непременно
будут спародированы. Осмеяние составляло часть его плана.
Шутовская слава — родная сестра славы подлинной; Уайльд начал
ухаживать за первой из сестриц в надежде, что вторая тоже обра-
тит на него свой благосклонный взор.
Апофеоз потока
Мы живем в такую эпоху, когда люди рассматри-
вают искусство как форму автобиографии.
Через семь месяцев после того, как “Вера” Уайльда была напеча-
тана за его счет, он решил, что настал момент выпустить сборник
стихотворений. К этому времени в журналах было опубликовано
тридцать из шестидесяти одного стихотворения, которые он хотел
включить в книгу. Он считал весьма важным, чтобы обилие корот-
ких стихотворений было уравновешено более пространными про-
изведениями; придя к нему однажды, Реннел Родд увидел его сидя-
щим с раскрытой книгой по ботанике и выискивающим для одного
из трех пространнейших, которое называлось “Бремя Итиса”, медо-
носные цветы1. Цветочное половодье, с которого начинается эта
поэма, довольно-таки подозрительно с ботанической точки зрения:
Английская Темза намного священней Рима.
Колокольчики кажутся внезапным морским приливом,
Прорвавшимся через лесистую местность,
с белыми крапинками пены
От таволги и анемонов
На голубых волнах...
1 Вскоре Уайльд распрощался с природой. Он сказал Марго Асквит:
“Ненавижу пейзажи — они существуют лишь для скверных художни-
ков”; затем добавил: “Давайте войдем в помещение — меня тошнит
от голоса кукушки”.
Таволга цветет в июне, а анемон — в апреле; колокольчики
не растут в океанском изобилии.
Родд подал ему пример, напечатав первый сборник своих сти-
хотворений в маленьком издательстве, принадлежавшем Дэвиду
Боугу; в апреле 1881 г. Уайльд написал Боугу письмо, где выразил
сходное желание. Договор, подписанный 17 мая, возлагал на Уай-
льда все расходы по публикации; соответственно, Боугу причита-
лась только небольшая доля (десять с чем-то процентов) доходов.
Согласно желанию Уайльда переплет был из белого пергамента,
бумага — голландская, ручной выделки. Вслед за Моррисом, Рос-
сетти и Суинберном он считал необходимым сделать обложку
и типографское оформление особенными. Первоначально пред-
полагалось опубликовать 750 экземпляров, которые разбивались
на три тиража по 250 штук, печатаемые в течение первого года.
В 1881 г. бостонская фирма “Братья Робертс” выпустила три амери-
канских тиража. В Англии книга пользовалась спросом, и в 1882 г.
было две допечатки, после чего наступила пауза до 1892 г.
Первоначально Уайльд собирался поместить на титульном
листе под скупым названиегл “Стихотворения” и фамилией
автора эпиграф на французском языке: “Мои первые стихи сочи-
нены ребенком, мои последующие стихи сочинены подростком”.
Это был призыв к снисходительности, хотя двадцать шесть лет,
пожалуй, для подростка многовато. К счастью, он решил потом
отказаться от эпиграфа, как и от цитагы из Китса, которую хотел
поместить на следующей странице:
Я не ощущаю ни малейшего смирения ни перед публикой,
ни перед чем-либо иным из существующего — лишь перед Вечным
Существом, Идеей Красоты и Памятью о великих.
Выказывая пренебрежение к читателям, многого не добьешься,
и Уайльд заменил цитату сонетом “Helas!”, который он назвал
Вступлением” к сборнику. При всей цветистости этого стихо-
творения оно было серьезной попыткой объяснить самого себя.
Впоследствии Уайльд написал Йейтсу, который просил его дать
для антологии “Requiescat”, что “Helas!” — самое характерное
из его стихотворений.
Helas!
Плыть в потоке, повинуясь всякой страсти, пока душа
Не станет многострунной лютней, на которой могут играть
все ветра, —
Не пожертвовал ли я ради этого
Моей старинной мудростью и строгим самообладанием?
177
Моя жизнь кажется мне свитком, исписанным дважды,
На котором в некий мальчишеский праздник
небрежная рука нацарапала
Праздные вирши для пения под свирель и виреле
Поверх тайны целого, лишь искажая и затемняя ее.
Ведь было же время, когда я мог взойти
На солнечные высоты и из диссонанса жизни
Выбрать одну чистую струну, чтобы звук ее
достиг ушей Господа;
Неужели это время умерло? И что же тогда?
Концом маленькой палки
Я лишь притронулся к меду романтической выдумки —
И должен теперь лишиться наследия души?
Сонет отражает состояние духа, которое он испытал
в Оксфорде и на которое жаловался в письме от 3 марта 1877 г.:
“Надо ли говорить, что решимость моя колеблется от каждого
дуновения мысли и что я слаб, как никогда, и подвержен само-
обману”. Однако взросление состоит в подыскивании обосно-
ваний тому, из-за чего в юности мы чувствуем себя виноватыми.
Вздыхать по-французски — не совсем то же самое, что вздыхать
на своем родном английском; поэтизировать поток — далеко
не то же самое, что плыть в этом потоке.
Оксфорд — подлинная родина этого стихотворения. Слово
“поток” (drift) и образ меда, “отведываемого концом палки”,
Уайльд почерпнул из своей “драгоценной книги” — пейтеровских
“Очерков по истории Ренессанса”. В последней главе, названной
“Заключение”, Пейтер пишет, что подобно тому, как физическое
бытие теперь рассматривается как совокупность скорее сил, нежели
объектов, так и человеческое сознание следует понимать скорее
как текучий процесс, нежели как приверженность раз навсегда
заданным определенностям. Вскоре Уильям Джеймс будет писать
о “потоке сознания”; для Пейтера же это нечто более бурное —
водоворот. В жизни есть только “стремительный бег струи, поток
преходящих актов видения, страсти и мысли”. Плывя в потоке,
мы не совершаем ничего предосудительного — лишь подчиня-
емся неизбежности. Чтобы плыть с большим великолепием, мы
должны доверяться своим “великим страстям”, стремясь получить
“как можно больше пульсаций на данном отрезке времени”. Цель —
“опыт сам по себе, а не плоды его”.
Пейтером навеян не только вступительный, но и заключи-
тельный образ “Helas!”: в предпоследнем эссе, посвященном Вин-
кельману, он приводит жалобу Ионафана, обращенную к Саулу:
“Я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду;
178
и вот, я должен умереть”. Для Пейтера эти слова заключают в себе
‘‘жизнь художника с ее неизбежной чувственностью” и противопо-
ложны христианскому аскетизму с его боязнью соприкосновений.
Вводя эту мысль в свое стихотворение, Уайльд дополняет ее чуж-
дым Пейтеру мотивом угрызений совести. Он ощущает действие
противосилы, которая приведет его к “величественным высотам”
(позднее замененным на “солнечные высоты”), некоего обузды-
вающего начала, включающего в себя античные и христианские
компоненты и являющегося для него “наследием души”. В разо-
рванности, которую демонстрирует здесь Уайльд, разорванности
между солнечной гармонией и сумрачным декадансом, между
собранностью и распущенностью есть своя красочность. Ионафан
был в итоге спасен, и Уайльд, при всех своих “увы”, тоже рассчиты-
вал на спасение, поскольку, хоть он и позволял себе многое, этому
всегда сопутствовало раскаяние.
Открыв сборник этим стихотворением, Уайльд признал в себе
противоречие, присутствующее в книге повсюду и примиряемое
лишь изредка. Он любил возводить его к своим родителям —
к отцу, собиравшему древности, и матери с ее пламенным воль-
нодумством, к супругам, один из которых смотрел в прошлое,
а другая — в будущее. Он признавал также, что “для эстетиче-
ского сознания” католицизм привлекательней протестантизма,
хотя в его случае тяготение к католицизму умерялось интересом
к Древней Греции. Мы могли бы подумать, что его натура была
двойственна, если бы он сам не заявил, что она тройственна: “Я
уверен, — сказал он миссис Джулиан Готорн, — что обладаю
тремя раздельными и совершенно различными душами”. Ибо
вдобавок к двум противоположным склонностям у него была еще
третья — созерцать первые две. На титульном листе сборника
согласно его указаниям была изображена эмблема — папская
тиара над ^масонской розой, заключенные в овал, вокруг которого
шел девиз по-латыни: “Sub hoc signo vinces” (“Под этим знаком
победишь”). Тиара и роза символизируют два завета — католиче-
ский и языческий, как и их возможное примирение в масонстве.
Он знал, что переживаемый им тройственный конфликт более
всеобъемлющ, чем то, что он находил у своих любимых поэтов
XIX в., от Китса до Морриса. В “Эротовом саде” он испытывает
такое же тяготение к язычеству, как Суинберн в “Гимне Про-
зерпине”: “И новое Знамение становится тусклым и серым пред
пиком победителя”. Но торжество язычества умеряется в “Эро-
товом саде” вопросом:
Почему же меня не отпускает
Бледный изнуренный лик покинутого Христа?
179
Сходным образом, в “Риме непосещенном” папа назван “крот-
ким пастырем Стада” но в “Humanitad” Пий IX, который дал Уай-
льду аудиенцию в Ватикане, изображен в резком контрасте с патри-
отом Мадзини как “старик со ржавыми ключами”, “одинокий
перед Богом и воспоминаниями о грехе”; католическая церковь —
“чудотворный Храм” в “Риме непосещенном” — в “Humanitad”
превращается в “кровожадную мать багряного разврата”. В “Бре-
мени Итиса” Уайльд с вызовом заявляет: “Английская Темза
намного священней Рима” — и отдает предпочтение алому цвету
английских маков перед пурпуром итальянских кардиналов, тогда
как в стихотворении “Italia” он сочувственно пишет: “Святотат-
ственно оскверненный Рим / Простерся в скорби по Наместнику
Бога!” Он отворачивал лицо от католицизма столь же торжест-
венно, сколь поворачивал его к нему.
Словно чтобы уравновесить “Htdas!”, где Уайльд с сожалением
признаёт, что утратил свою старинную мудрость, в “Humanitad”
он утверждает, что отверг Венеру ради Афины: “Ибо я принад-
лежу Той, которая не любит ни одного из мужчин, / На чьей белой
незапятнанной груди виден знак Горгоны”. В согласии с этим
ощущением Уайльд написал свое самое дерзновенное стихотво-
рение “Хармид”, которое считал у себя лучшим. В эссе о Вин-
кельмане Пейтер утверждал, что “религия греков делала их статуи,
подобно нашим, истертыми от поцелуев”, и говорил о том, что
Винкельман “обращался с языческими изваяниями... без малей-
шего стыда”. Эти фразы соединились в сознании Уайльда с эпизо-
дом из Лукиана, где некий юноша обнял статую Афродиты. Уайльд
заменил Афродиту на Афину, решив, что, будучи девственницей,
она должна почувствовать себя особенно оскорбленной. Хармид
весьма и весьма распален:
И подступил ближе, и коснулся ее горла, и преступными руками
Разъял латы, снял покров шафранного цвета
И обнажил грудь из полированной слоновой кости,
И вот упавший с талии пеплос
Перестал скрывать тайну,
Которую Афина не желала показать никому из любящих.
Великолепные прохладные бока, округлые бедра,
выпуклые снеговые холмы.
И тогда его губы в голодном восторге
Впились в ее губы, и вокруг стройной шеи
Он обвил руки, не пытаясь сдержать страстного желания.
2,
Никогда, думается мне, не было у любящего такого свидания,
Ибо всю ночь он бормотал медвяные слова,
И любовался ее милыми нетронутыми членами, и целовал
Ее бледное серебристое безмятежное тело,
И ласкал полированную шею, и прижимал
Горячее бьющееся сердце к ее льдисто-холодной груди.
Афина мстит, завлекая Хармида в воду; юноша тонет. Его тело
выносит на берег, где нимфа загорается любовью к нему и после
безуспешных попыток разбудить его умирает от неудовлетворен-
ной страсти, дав Уайльду полную возможность описать хмужскую
красоту. Тут в игру вступает Афродита и предоставляет ему и ей,
очищенныхм от святотатства и некрофилии, возможность наслаж-
даться друг другом в долине Ахерона:
И все накопленные им сладости были даны ей для поцелуев,
И вся ее девственность была дана ему для убиения.
Любовь Хармида к статуе и любовь нимфы к трупу делают
стихотворение несколько рискованным. Подобно Китсу, Уайльд
смакует сладости, подобно Суинберну — пряности, но живым это
стихотворение становится благодаря образному воплощению пси-
хо сексуального беззакония.
Как и Готье, Уайльд допускает в свою книгу любовь и в обыч-
ных, и в необычных формах. Его сборник многолик в своей извра-
щенности. Уайльд восторгается оруженосцем Геракла Гиласом,
за которого поначалу принимают Хармида:
Теперь оп, коварный беглец,
Разделит ложе с наядой,
Позабыв Геракла.
Гилас возникает также в “Эротовом саде”. Часто появляется
и Нарцисс, чья любовь обращена на себя самого. В “Бремени
Итиса” Уайльд изображает Антиноя и Салмакиду; первый был
наложником императора Адриана, вторая — нимфа, слившаяся
с Гермафродитом в двуполое существо. Чувственность возникает
и вне сексуальной сферы — например, в “Humanitad” Уайльд гово-
рит о Вордсворте, жившехм “безупречно”, но осхмелившемся “поце-
ловать свой век в разбитые губы”. Он старается убедить читателя,
что его песни — это песни опыта:
Тем, кто не знает любовного греха,
Лучше не читать мою песню.
(“Хармид”)
181
История Хармида — это мучительный перепев “моего греха
и моего стыда” из “Сан-Миньято”, но для Хармида это “пульс пла-
менный греха, великолепный стыд”.
Венчает книгу “Humanitad” — последняя из трех поэм. Это
зимняя поэма, тогда как “Бремя Итиса” — весенняя, а “Эротов
сад” — летняя. Молодой язычник оказывается столь же несчастлив,
как все христиане; он стремится слить свои душу и тело в единое
целое, но единство оказывается недостижимым. Уайльд предвос-
хищает здесь то, о чем он еще скажет в “Душе человека при соци-
ализме”: из сострадания мы принуждены “жить чужой жизнью,
а не нашей собственной”. Мы переживаем новую Голгофу, и каж-
дый человек повторяет скорбный путь Христа, воплощая в себе
всю христианскую притчу (Уайльд еще убедится в этом на своем
опыте). Образ Христа всего лишь высвечивает то, что должно
открыться каждому человеку, что мы все одновременно жертвы
и палачи.
Ранящее копье и кровоточащая грудь,
Предательские губы и преданная ими жизнь...
Но если мы заново разыгрываем Распятие, мы можем заново
разыграть и Воскресение.
Нет, нет, мы всего лишь распяты, и хотя
Кровавый пот дождем струится с чела,
Выньте гвозди — и мы, я знаю, обретем покой,
Остановите кровь из алых ран — и мы вновь станем целы,
И нет нужды в иссопе на конце трости,
Все чисто человеческое богоподобно, оно само есть Бог.
Здесь митра соединяется с розой; католицизм сливается с язы-
чеством в едином ощущении общего страдания и греха с на-
деждой на конечное единение всего сущего, на примирение про-
тивоположностей. Если вообще можно говорить об уайльдовском
кредо, то вот оно. Это кредо обладало тем достоинством, что было
неприемлемо для многих читателей. Нос тем ощущением пробы,
с каким только и могла быть предложена подобная смесь, Уайльд
заметил несколько месяцев спустя: “Моя следующая книга может
стать полной противоположностью первой”. Противоречивость
была его правоверием.
182
Хвала и хула
Первая задача критика — видеть предмет таким,
каким он в действительности не является.
Как и в случае “Веры”, Уайльд добивался одобрения своей
книги среди писателей и друзей. Лили Лэнгтри, конечно, полу-
чила экземпляр; надпись на нем гласила: “Елене в прошлом Тро-
янской, ныне Лондонской”. По экземпляру было выслано Роберту
Браунингу, Мэтью Арнольду, Суинберну и Джону Аддингтону
Слймондсу. Письмо Уайльда Арнольду частично сохранилось;
по нему видно, как он сочетал комплименты адресату со скромной
оценкой своих собственных достижений.
[Июнь—июль 1881 г.] Тайт-стрит, Дом Китса
Уважаемый мистер Арнольд! Не соблаговолите ли Вы принять
от меня мою первую книгу стихов... тем постоянным источни-
ком радости и благоговейного изумления, какихМ было для всех нас
в Оксфорде Ваше прекрасное творчество... потому что я только
теперь, может быть слишком запоздало, понял, сколь необходимо
для всякохо искусства уединение, только теперь узнал я прекрасную
трудность того высокого искусства, в котором Вы — прославленный
и непревзойденный мастер. Так позвольте же мне предложить Вам
этот томик, каков уж он есть, и выразить Вам свою любовь и восхи-
щение.
Искренне Ваш
ОСКАР УАЙЛЬД.
Ответ Арнольда был осторожным, но не разочаровывающим:
9 июля [1881 г.] Псйнс-хилл-коттедж, Кобем, графство Суррей
Уважаемый мистер Уайльд! Ваш сборник и письмо попали
ко мне в руки вчера вечером, перед отъездом из “Атенеума”. Я бро-
сил на стихи только беглый взгляд, однако нахожу в них подлинное
чувство ритма, которое составляет основу любого успеха в поэзии
и вообще основу любого усилия, не являющегося фиктивным и тщет-
ным, в этой области самовыражения. Я внимательно прочту Вашу
работу, когда у меня выдастся мгновение того, чем мы все так обде-
лены, — досуга. Я вижу, Вы испытали на себе то, на чем так настаи-
вал Байрон: что создать свои лучшие творения можно лишь стряхнув
с себя лондонскую жизнь.
Вы в Вашем письме были очень добры — слишком добры ко мне
и к тому, что я сделал. Я мало за что могу благодарить публику;
но от коллег моих, как поэтов, так и прозаиков, я увидел столько
183
доброты и признания, что никому на моем месте не пришло бы
в голову жаловаться.
Искренне Ваш
МЭТЬЮ АРНОЛЬД.
Арнольд, сам писавший о скитаниях между двумя — мирами
“умершим и бессильным для рожденья”, — мог почувствовать сим-
патию к молодому человеку, колеблющемуся между наполовину
отвергнутым католицизмом и наполовину отвергнутым эстетиз-
мом, тоскующему по tertium quid1, что могло бы удовлетворить
его потребность как в том, так и в другом. На Суинберна, не про-
читавшего всего сборника, произвело, как он сказал, приятное
впечатление такое стихотворение, как “Les Silhouettes1 2”. Однако
рецензенты из “Атенеума”, “Сатердей ревью” и “Спектейтора”
были менее благосклонны. “Панч” написал, что стихи Уайльда
это “сильно разбавленный Суинберн”. Уайльда обвинили во всех
мыслимых грехах — плагиате, неискренности, непристойности;
для первой книги это были тяжкие обвинения.
Доводы против него были не слишком убедительны. Да, Уайль-
ду еще предстояло выработать свой неповторимый стиль, и сде-
лает он это не в поэзии, а в прозе. “Плагиат” был, как правило,
не более чем данью полуцитирования, которую всякий англий-
ский поэт должен был отдать своим предшественникам; это была,
как выразился Ле Галъен, “кража украденного”. “Неискренность”
Уайльда проистекала из того, что он изображал свои трудные вну-
тренние колебания, гнушаясь легкими и дешевыми определенно-
стями. “Непристойность” была рассчитанным риском, цель кото-
рого — выразить свою чувственность как можно более искренне.
Уайльд принадлежал к “плотской поэтической школе” и признавал
это. На умеренный характер его непристойности намекнул “Панч”
в эпиграмме: “Поэт дик3; поэзия его ручная”.
В противовес враждебности критиков Уайльд получил некото-
рую поддержку от друзей. Родд сказал, что книга полна “блестя-
щих стихов”. Уайльд попросил Оскара Браунинга написать на нее
рецензию, и тот поместил (не без последствий для себя) заметку
в “Академи”. Браунинг сочувственно отметил, что “Англия обо-
гатилась еще одним поэтом”, но по ходу дела пожурил Уайльда
за “неровную, пусть и неустанную, пульсацию симпатий. Като-
лическая обрядность, суровое пуританство, выжженные острова
Греции, прохладные английские лужайки и ручейки, язычество
1 Чему-то третьему (лат.).
2 Силуэты (фр-).
3 Опять-таки обыгрывается фамилия Уайльда.
184
0 христианство, деспотизм и республиканство, Вордсворт, Миль-
тон, Суинберн — все это удостаивается в свой черед одинаково
страстного поклонения”. Между тем в этом-то и заключена ори-
гинальность книги Уайльда — в открытости любым противопо-
ложностям. Джон Аддингтон Саймондс в письме Уайльду также
критикует сборник за некоторую культурную неопределенность,
но в целом одобряет его за искренность, которой не сумели разгля-
деть другие. Его письмо сохранилось только в черновом варианте:
Дорогой мистер Уайльд! Течение дней порождает забывчивость,
и я не удивлюсь, если окажется, что Вы забыли, кто я такой... Годы
прошли с тех пор, как мы обменялись письмами. Эти годы я провел
в болезни, в уединении гор и в занятиях. Вы провели их иначе — Вы
на более широкой сцене играли более блестящую роль... и получили
от жизни, я надеюсь, не одни лишь юношеские радости, но по меньшей
мере столько же серьезного душевного удовлетворения (душу ведь мало
заботят время, место и наличие или отсутствие возможностей), сколько
получил его я. Поводом к моему письму послужило то, что я прочел
Ваш стихотворный сборник. Я не стал бы писать Вам о нем, не пробуди
он во мне глубокого интереса и сочувствия. Я вижу поэтический дар;
замечаю также, что стихи Ваши неравноценны. Те, что, по всей видимо-
сти, были написаны позже... кажутся мне наиболее глубокими и искрен-
ними, наиболее свободными от бунта цветистой юности. В их прямых
и острых интонациях я чувствую — если мне не изменяет слух, — нечто
подлинное, некое поэтическое качество. Что касается более ранних
разделов книги — путевых впечатлений и стихотворений, написан-
ных в Оксфорде, — мне кажется, что они представляют уже изжитую
Вами стадию. Я ощущаю болезненный контраст между их легкой без-
заботностью, между их китсовской открытостью красоте всеми своими
порами — и поздними стихами с присущей им интенсивностью лич-
ного переживания, столь убийственной для простой игры воображения
и столь прочно связанной с реальностью. И еще: хотя поэт имеет право
своеобразно откликаться даже на самое общепринятое, не кажется ли
Вам противоречие между культом Ватиканского Узника и культом суин-
берновского Мадзини слишком уж разительным? Вы видите, что Ваш
томик расшевелил угли в душе человека, изрядно уже пресыщенного
книгами. Как редки ныне такие новые сборники! В добрый путь! Вот
что, собственно, только и хочу я Вам сказать, вот ради чего я Вам пишу.
Непосредственность, с которой Вы некоторое время назад обратились
ко мне, возможно, дает мне теперь право со стариковской настойчиво-
стью обратиться к Вам и спросить Вас, как вы намерены теперь при-
менить Ваш дар? Мальчик мой, если окружающий мир даст Вам время,
ответьте мне на этот вопрос; буду с нетерпением ждать Вашего ответа.
Я слышу в “Humanitad” (это стихотворение, мне кажется, лежит посе-
185
редине между ранними и поздними вещами) звуки, которые, если они
будут должным образом развиты, могут стать гласом, обращенным
к нынешнему веку.
Благосклонный Саймондс принял Уайльда всерьез, хоть
и назвал его мальчиком.
После выхода “Стихотворений” стало ясно, что Уайльд
не может рассчитывать ни на особенную терпимость критики,
ни даже на простую справедливость. Предостережения Реннела
Родда были обоснованны. Поэтический ландшафт в 1881 г. нс был
столь солнечным, чтобы стихи Уайльда заслуживали такого суро-
вого разноса, однако становилось ясно, что критики готовы опол-
читься на Уайльда и что заставит их замолчать только высочайшая
степень оригинальности. Едва ли не самой желчной была реакция
Оксфордского дискуссионного общества. Его секретарь обратился
к Уайльду с просьбой прислать экземпляр сборника для библиотеки
общества, и Уайльд сделал это, надписав книгу так: “Библиотеке
Оксфордского дискуссионного общества — мой первый сборник
стихов. Оскар Уайльд. 27 октября 1881 г. ”. Когда в Оксфорде было
объявлено о приобретении, Оливер Элтон — впоследствии исто-
рик английской литературы — выступил с резкими возражениями.
С помощью Генри Ньюболта он составил список якобы допущен-
ных Уайльдом заимствований из других поэтов. Согласно воспо-
минаниям Ньюболта, его выступление слушали поначалу с внима-
нием, а под конец — с громкими возгласами и шиканьем:
Не в том дело, что эти стихи слабы, — а они действительно слабы;
не в том дело, что они аморальны, — а они действительно аморальны;
не в том дело, что у них те или иные недостатки, — а у них все мысли-
мые недостатки; дело в том, что они большей частью принадлежат
не тому, кто объявляет себя их автором, а ряду более известных и заслу-
женно почитаемых авторов. Фактически это стихи Уильяма Шекспира,
Филипа Сидни, Джона Донна, лорда Байрона, Уильяма Морриса, Алд-
жернона Суинберна и десятков других поэтов, из чьих трудов почер-
пнуты цитаты, список которых я сейчас держу в руке. Библиотека
Дискуссионною общества уже имеет лучшие и более полные издания
всех этих авторов; предложенный нам том написан ими, а не мистером
Уайльдом, и я вношу предложение его отвергнуть.
Дискуссия развивалась по абсурдному сценарию в духе
Свифта. Прошли горячие дебаты; шесть человек высказались
против принятия книги, четверо, включая библиотекаря, — за.
Проголосовали так: 128 — за принятие, 188 — за отклонение;
но библиотекарь потребовал провести опрос всех членов обще-
ства. Через неделю председатель объявил, что 180 человек выска-
залось за принятие книги, 188 за отклонение. Тут выступил друг
186
Уайльда Джордж Керзон и “голосом полным презрения”, как вспо-
минал потом Уайльд, “сделал ряд острых замечаний... о несчастли-
вой судьбе стихотворной книги мистера Уайльда, которую Дискус-
сионное общество хочет ему вернуть после того, как само же через
посредство библиотечного комитета попросило ее у него в пода-
рок”. Секретарю ничего не оставалось, как с извинениями выслать
книгу обратно; Уайльд ответил с едким спокойствием:
Гровенор-сквер, Чарлз-стрит, 9
Милостивый государь' Покорнейше прошу Вас заверить членов
комитета Дискуссионного общества Оксфордского университета
в том, что я, сожалея о их нежелании узнать мнение Общества о моем
искусстве, не усматриваю в их решении никакого намерения посту-
пить в отношении меня невежливо и с готовностью принимаю столь
искренне принесенные извинения.
Больше же всего я сожалею о том, что в Оксфорде до сих пор так
много молодых людей, которые готовы считать свое собственное неве-
жество нормой, а свое самомнение критерием любого произведения,
порожденного творческим воображением и чувством прекрасного.
В интересах сохранения доброй репутации Дискуссионного общества
Оксфордского университета я должен выразить надежду, что никакой
другой поэт или прозаик, пишущий по-английски, не подвергнется
впредь обращению, которое — уверен, Вы понимаете это не хуже
меня — выглядит грубым и дерзким: сначала автора официально про-
сят подарить свою вещь, а затем не менее официально ее отвергают.
Будьте любезны выслать мне мою книгу стихов на мой домашний
адрес.
Искренне Ваш
ОСКАР УАЙЛЬД.
Вопрос был окончательно решен 18 октября следующего года,
когда не прошло предложение библиотекаря о том, чтобы при-
обрести “Стихотворения” Уайльда для кофейно-курительной
комнаты. Реакция на случившееся видна и в другом. Публикация
от 17 ноября 1881 г. в “Оксфорд энд Кембридж андергредюэйтс
джорнал” показывает, что неприятие книги было, по крайней мере
отчасти, неприятием самого Уайльда, — ведь, вероятно, именно
его “дурную жизнь” имеет в виду автор нижеследующего:
Было бы благом для кое-кого из студентов, если бы они не позво-
ляли бурной и волнующей университетской жизни вскружить себе
головы. Многие словно забывают, сколь сильное влияние на всю
последующую жизнь может оказать хорошая или дурная репутация,
заслуженная в стенах университета. Иному лучше было бы не посту-
пать в него вовсе, нежели поступить и быть исключенным, после
чего до конца дней стыдиться упоминаний о своем университетском
187
опыте. Если человек ведет в университете дурную жизнь, то пусть
даже он не пострадает от своего поведения сразу — все равно особен-
ности его характера не ускользнут от внимания коллег, которые затем
всегда будут в состоянии припомнить ему былые дела. Нам хотелось
бы, чтобы студенты имели все это в виду и в большей степени про-
являли esprit de corps1 как учащиеся нашего древнего университета,
не позволяя себе ронять своими действиями его честь.
Именно такой корпоративный дух порождает инквизиции.
В письме Дискуссионному обществу Уайльд указал в качестве
своего адреса Чарлз-стрит, 9; изменение местожительства было пря-
мым результатом публикации “Стихотворений”. Каноник Майлз,
отец Фрэнка Майлза, ранее упрекал Уайльда за то, что его стихи
темны; теперь же он нашел их, увы, ясными как день. Он дважды
писал сыну о порочности этих стихов; затем, поняв, что Фрэнк
Майлз не показал Уайльду его письма, он 21 августа написал самому
Уайльду, сообщая, в частности, что его жена вырезала из сборника
“это стихотворение”, сочтя его скверным и опасным. Это могло быть
одно из нескольких стихотворений, но скорее всего — “Хармид”
с его чудовищным совокуплением и искушенными обращениями
к читателю. Уайльд, писал каноник, отошел от “Истины Открове-
ния”, и направленность его стихов явно антихристианская. Сово-
купление со статуей, пусть воображаемое и не доведенное до конца,
есть нечто выходящее за все мыслимые рамки. Как и поцелуй с “гре-
хом” в “Taedium Vitae”. “Что касается нравственности, то не могу
не сказать, что Фрэнку тут все должно быть ясно, — он, насколько
я понимаю, часто с Вами спорил. В первую очередь мы, конечно,
обязаны подумать о нем, о его добром имени и о его профессио-
нальной карьере, Если с печалью в сердце я предлагаю вам на время
расстаться, то не потому, что мы не понимаем разницу между тем,
что Вы собой представляете, и тем, что Вы провозглашаете в сти-
хах, а потому, что Вы не видите в подобных публикациях риска, как
видим его мы: ведь всякий, кто прочтет Вашу книгу, скажет себе:
“Это лежит за пределами поэзии”, “Здесь видна распущенность,
которая может сильно повредить всякому, кто это читает”.
Каноник Майлз не подозревал, что над его сыном нависает
нечто более мрачное, чем поэтическое распутство соседа по дому.
Уайльд мимоходом обмолвился Роберту Шерарду о том, что недавно
произошло в Доме Китса. Майлз “развлекался с молоденькой девоч-
кой”, и тут во входную дверь дома начали колотить трое полицей-
ских, имеющих при себе ордер. Они кричали: “Откройте именехм
закона!” Уайльд выждал, дав Майлзу время выбраться на крышу
1 Корпоративный дух
188
и благополучно улизнуть. После чего отпер дверь и объяснил сер-
дитым констеблям, что Майлз находится за границей, а он, Уайльд,
решил, что ему устроили розыгрыш прикинувшиеся полицейскими
друзья. Его мягко-уверенная манера держаться обманула лондон-
ских полицейских, как, бывало, обманывала оксфордских инспек-
торов, и они убрались восвояси, сбитые с толку и пристыженные.
Вслед за письмом Уайльду каноник Майлз отправил письмо
своему сыну, где предписывал ему разъехаться с другом. Фрэнк
Майлз передал Уайльду слова отца. Присутствовавшая при этом
Салли Хиггс, дочь торговца рыбой и модель Майлза, описала
потом гнев Уайльда. Он потребовал, чтобы Майлз ответил, собира-
ется ли он послушаться отца. Майлз, зависевший от отца в финан-
совом отношении, сказал, что, как ни тяжело, у него нет выбора.
“Что ж, очень хорошо, — сказал Уайльд. — Я уеду. Я уеду немед-
ленно и больше не заговорю с тобой до конца моих дней”. (Уайльд
затем вложил в уста своего Дориана Грея такую же угрозу в адрес
Бэзила Холлуорда: “Честное слово, я больше не заговорю с вами
до конца моих дней”.) Он бросился наверх, покидал свою одежду
в большой сундук и, не желая дожидаться помощи, перевалил его
через перила лестницы. Сундук с грохотом упал на дорогой столик
старинной работы и разломал его на куски. Уайльд кинулся прочь
из дома, хлопнул дверью, остановил кеб и был таков.
Последующие события были для Майлза безрадостны. Его отец
умер, а рассудок Фрэнка начал мутиться. Письмо, отправленное
им несколько лет спустя жене художника Джорджа Ботона, было
написано едва читаемыми каракулями: “Скажите Джорджу, что
я отказался от его идеи и Оскаровой — и Джимми [Уистлера] дав-
ным-давно — что искусство ради искусства, и хорошо разве, если
кому-нибудь из-за него выйдет вред, тогда художник виноват”. Так,
по-прежнему взывая к добродетели, Майлз удалился из жизни Уай-
чьда. В 1887 г. его поместили в приют для душевнобольных в Бриз-
лиш юне близ Бристоля, где четыре года спустя он умер.
Уайльд возмутил однажды Хантера Блэра своим откатом к проте-
стантству, но протестантский каноник возмутился еще сильней. Поэ-
зия Уайльда имела более крупные цели, нежели стремление угодить
читательским вкусам, и он начал примерять к себе ту судьбу жертвы,
которой он раньше в своем воображении наделил Китса. Он очень
хорошо знал, что его идеи должны шокировать англичан, провинци-
альных в своей приверженности условностям, в своем благочестии
и консерватизме — во всем том, от чего он, ирландец, был свободен.
Сам он изменяться не собирался. Пусть изменяются они.
Глава 6
Декларация гениальности
Вся моя жизнь была только мечтанием школь-
ника. Сегодня моя жизнь начинается.
В Америке теперь все, что ни возьми, похоже
на наше — кроме, разумеется, языка.
Новые перспективы
ГНЕВ, СОПРОВОЖДАВШИЙ отъезд Уайльда из дома
Фрэнка Майлза, поутих и сменился деловитым поиском
квартиры. Он не мог позволить себе жить в отдельном
доме, как в тот счастливый год с небольшим, что они
провели с Майлзом на Тайт-стрит. Вначале он пере-
ехал к матери на Овингтон-сквер, 1; затем снял квартиру из двух
меблированных комнат на третьем этаже дома № 9 по Чарлз-стрит
(ныне Карлос-плейс) поблизости от Гровенор-сквер. Стены там
были обшиты дубовыми панелями и украшены старинными гра-
вюрами в черных рамках. Бывший дворецкий и его жена, на попе-
чении которых находился дом, готовили Уайльду, когда он в этом
нуждался. Существенное неудобство состояло в том, что ему при-
шлось расстаться с большей частью своей любимой мебели и без-
делушек. Часть имущества он, вероятно, оставил на время в доме
Майлза — об этом говорит то, что по крайней мере однажды после
своего быстрого отъезда он дал в телеграмме прежний обратный
адрес; Майлз, удрученный тем, что ему пришлось выселить старого
друга, возможно, старался в мелочах загладить вину перед ним.
В иных отношениях разрыв с Майлзом не имел последст-
вий — он только лишний раз доказал, что друзья способны пре-
давать. В том, что растлитель несовершеннолетних мог брезговать
Уайльдом как человеком сомнительной нравственности, вырази-
лось господствовавшее в Англии лицемерие. Уайльд укрепился
в убеждении, что он poete maudit1, подверженный всем опасно-
1 Проклятый поэт (фр.).
сТЯм, которые подстерегают это племя. Но он по-прежнему видел
себя и в совершенно иной роли, в роли светского человека, и для
этого ему требовалось благосклонное внимание людей, обладав-
ших деньгами и досугом, для которых, как и для него, слова были
формой действия и отнюдь не последней из его форм.
Для пребывания в этой второй ипостаси ему нужен был не Фрэнк
Майлз, а деньги, с которыми в тот период было хуже, чем когда-либо.
Полученное от отца небольшое наследство таяло. Данные о недвижи-
мом имуществе говорят о трудном положении Уайльда: в январе 1881 г.
он заложил свой любимый охотничий домик Иллонроу на озере
Лох-Фи, а 25 октября 1882 г. продал некую недвижимость в Дублине
своему родственнику по линии Мэтьюринов. Поэзия не приносила
дохода. Главная надежда на улучшение материального положения
была связана с готовящейся постановкой “Веры” с миссис Бернард
Бир в главной роли. Уилли Уайльд, теперь подвизавшийся в каче-
стве театрального критика, предостерегал брата, говоря, что миссис
Бир не в состоянии сыграть Веру как должно; однако Оскару очень
хотелось, чтобы она попыталась. Постановка должна была снять
с него обвинения, высказанные Моджеской и другими, в том, что
он не сделал ничего путного. Она должна была стать публичным
оправданием его образа жизни.
Он был достаточно воодушевлен, чтобы задуматься и о новой
пьесе. Еще в 1880 г. он заявил в интервью ежегоднику “Байо-
граф”, что собирается написать белым стихом пятиактную тра-
гедию. Первоначальное название было “Герцогиня Флорентий-
ская”; впоследствии она превратилась в “Герцогиню Падуанскую”.
Не смущаясь резкостью контраста, Уайльд был намерен сделать
новую пьесу настолько же аристократической, насколько “Вера”
была республиканской. “Герцогиня” должна была продолжить
традиции Уэбстера и других драматургов эпохи короля Якова I
в такой же мере, в какой “Вера” продолжила традиции мелодрама-
тического реализма Сарду. Сюжет новой пьесы тоже должен был
включать в себя убийство — на этот раз не какого-то там самодер-
жца всея Руси, а дяди-подлеца, как в “Ричарде III”, “Гамлете” и тра-
гедии Т. Мидлтона “Женщины, берегитесь женщин”. Хотя замы-
сел в сознании Уайльда сформировался давно, план трагедии он
написал только в конце 1882 г., а окончил ее в следующем году. Его
Друг Форбс-Робертсон убеждал его писать пьесы и дальше, говоря,
что он с легкостью и за рекордное время сочинит их с полдюжины;
но Уайльд не поддавался на уговоры и после первых двух опытов
вернулся к драматургии только в девяностые годы.
С нетерпением ожидая начала репетиций у миссис Бир, он
неожиданно получил предложение совсем иного рода. Продю-
сер Ричард Д’Ойли Карт, находившийся в то время в Нью-Йорке,
191
прислал ему телеграмму, со знанием обстоятельств адресован-
ную на квартиру его матери. Начиная с сентября опера “Пей-
шенс” в постановке, организованной Картом, шла в Нью-Йорке
с таким же успехом, как в Лондоне. Другой стороной его дея-
тельности была организация лекционных турне, и он ухватился
за идею, высказанную, возможно, Сарой Бернар (Уайльд, во вся-
ком случае, приписывал эту честь именно ей) и состоявшую в том,
чтобы дать американцам возможность увидеть и услышать знаме-
носца эстетизма. Согласно замыслу Карта, “Пейшенс” должна
была повысить популярность уайльдовских лекций, а лекции
повысить популярность “Пейшенс”.
Ему потому было важно пригласить человека, ставшего про-
тотипом Банторна, что американцы имели мало прямых сведений
об эстетах и не были знакомы с пародиями на них, подобными
карикатурам Дюморье. Конечно, в Соединенных Штатах сущест-
вовала субкультура, противопоставлявшая деньгам и власти иные
ценности, но она не имела явного и прославленного знаменосца.
Ни простоватьш Уитмен, ни бородатый Лонгфелло, ни взвол-
нованный Эмерсон не могли даже отдаленно ассоциироваться
с персонажами Гилберта. К числу немногих отголосков эстетизма
в Америке принадлежали женские платья, ниспадающие с плеч
струящимися складками, мебель в стиле королевы Анны, обои
Морриса и японские экранчики, причем все это только-только
приобретало известность. Уайльд мог собрать все эти новшества
воедино и придать им силу программы.
Первоначально предполагалось устроить серию чтений
на манер диккенсовских. Телеграмма из компании Карта гласила:
Надежный агент просил меня выяснить, готовы ли Вы рассмо-
треть предложение, которое он вышлет письмом, о серии из пяти-
десяти чтений начиная с первого ноября. Конфиденциально. Жду
ответа.
Уайльд думал недолго. Уже на следующий день, 1 октября,
ц,ал ответную телеграмму: “Готов, если предложение будет выгод*
ным. Челси, Тайт-стрит”. Предложение оказалось выгодным:
Карт пообещал покрыть расходы Уайльда и разделить с ним попо-
лам чистый доход. Окончательное согласие Уайльд дал только
в декабре. О деталях переписку с Уайльдом вел У. Ф. Морс, отстав*
ной армейский полковник, который занимался в компании Карта
лекционными турне. Стало ясно, что поездку не удастся организо*
вать быстро, что Уайльду понадобится некоторое время на подго-
товку. Он предложил ряд тем, после чего Морс, прощупывая почву,
вступил в переписку с антрепренерами в разных концах страны*
С самого начала было ясно, что Уайльд должен быть представ-
лен публике не только как писатель, но и как фигура из англий-
ского светского общества. Морс подчеркивал, что ни он, ни Карт
не разделяют доктрину Уайльда, но считал, что она заслуживает
внимания как нечто весьма модное. Обо всем этом Морс писал
антрепренерам — например, в следующем письме, адресованном
в Филадельфию:
Оперная компания Р. Д’Ойли Карта,
Центральный офис, Бродвей, 1267
Нью-Йорк, 8 ноября 1881 г.
Уважаемый сэр! Недавно я вступил в переписку с мистером Оска-
ром Уайльдом, новым английским поэтом, в связи с его будущим турне
по Соединенным Штатам в течение этой зимы. Я обратил на него
внимание по той причине, что, когда мы готовились к постановке
оперы “Пейшенс” в Нью-Йорке, его имя часто приходилось слы-
шать как имя основоположника эстетической идеи и автора недавно
опубликованного сборника стихов, который произвел в англий-
ском обществе небывалую сенсацию. Была высказана мысль о том,
что, если мистер Уайльд будет приглашен в нашу страну и проиллю-
стрирует здесь публично свое понимание эстетических ценностей,
то не только избранное общество будет радо увидеть его и принять
в свой круг, но и широкой публике будет весьма интересно услышать
от него подлинное и точное определение и объяснение этой новей-
шей разновидности модного безумия... Он сообщил мне, что под-
готовил три лекции, или этюда, из которых один посвящен рассмо-
трению Прекрасного в повседневной жизни, другой иллюстрирует
поэтический метод Шекспира, а темой третьего является Лирическое
Стихотворение... В случае его приезда я хотел бы организовать его
публичное чтение или лекцию в Вашем городе. Вначале он будет пред-
ставлен публике в Нью-Йорке, где ему будет сделана реклама и где он,
вероятно, выступит три или четыре раза; вслед за этим он рассчиты-
вает посетить другие части страны. Не могли бы Вы за умеренную
плату или за определенный процент от дохода подыскать место для
одного или нескольких его выступлений в расписании мероприятий
для широкой публики, за которые Вы ответственны?
Искренне Ваш
Р. Д’ОЙЛИ КАРТ
через посредство У. Ф. Морса.
Полученные Морсом ответы тут же сузили репертуар Уайльда.
Лирическое Стихотворение мало кому было нужно. Даже люби-
Мая поэма “Хармид”, которую он, возможно, намеревался читать,
7
не шла ни в какое сравнение со смертью маленькой Нелл из “Лавки
древностей” в чтении Диккенса во время его американского турне
пятнадцать лет назад. Перспектива услышать еще одну лекцию
о Шекспире также не вызвала восторга в провинциальных городах.
Стало ясно, что Америка хочет “Прекрасного”, и только “Пре-
красного”. В декабре Уайльд принял предложение. Очевидно, он
попросил отложить турне до начала 1882 г., чтобы ему удалось
побывать на лондонской премьере “Веры”.
Но премьера не состоялась. В 1881 г. мир потрясли два
убийства — царя Александра II 13 марта и американского пре-
зидента Гарфилда, который скончался 19 сентября. Если Уайльд
питал надежду, что эти события повысят привлекательность его
пьесы, сделав ее еще более злободневной, то он ошибся. Налицо
был внезапный подъем роялистских настроений, проявившийся,
в частности, на специальном представлении “Полковника” с его
сатирой на эстетизм, когда зрители устроили овацию королеве
Виктории (затем она пригласила к себе на аудиенцию актера
Брюса, исполнившего главную роль). Актеры начали отказываться
от ролей в республиканской пьесе Уайльда. Готовящаяся премьера
“Веры”, возможно, привлекла к себе внимание российских властей:
26 декабря 1881 г. газета “Нью-Йорк тайме” сообщила, что тог-
дашний министр иностранных дел Великобритании лорд Грэн-
вилл получил от них послание на эту тему. Одна из газет написала,
что, поскольку Уайльд стал теперь одной из “европейских держав”,
он не должен нападать на коронованных особ. Возможно, вме-
шался либо сам принц Уэльский, либо кто-то другой, уловивший
его настроение: принц был женат на сестре новой российской
царицы и вряд ли мог одобрить попытку цареубийства, пусть даже
на сцене. Так или иначе, некое давление сверху, похоже, было ока-
зано, и в последние дни ноября, когда репетиции “Веры” в поста-
новке друга Уайльда Дайона Бусико с миссис Бир в главной роли
как раз должны были начаться, их отменили. Это было предвестье
позднейших трудностей Уайльда в связи с “Саломеей”, и то, что
цензура была неофициальной, нисколько не утешало.
Этот удар стал для Уайльда еще одним аргументом в пользу
американского турне: сценическая расправа с коронованной осо-
бой вряд ли могла вызвать замешательство у жителей республики.
С другой стороны, убийство Гарфилда и последующий суд над
Гито, совершившим это преступление, должны были на много
месяцев оттеснить в американской печати все остальное на за-
дний план. Уайльд не был обескуражен; перед отъездом он заявил,
что добьется постановки “Веры” в Америке и учредит там новый
эстетизм. Сохранилось письмо, адресованное неизвестнохму кор-
респонденту:
194
Дом Китса, Тайт-стрит, Челси, Лондон
Уважаемый сэр! По предложению мистера Дайона Бусико, моего
друга, посылаю Вам экземпляр новой и оригинальной драмы на рос-
сийскую тему. Отличительной чертой, выражающей пафос пьесы,
является демократизм, и по этой причине ее постановка в Лондоне
совершенно немыслима. При всем том это именно трагедия; суть
пьесы человеческие чувства. В ней имеются две прекрасные мужские
характерные роли: старого вельможи вроде принца Меттерниха —
сплошь едкие остроты и бессовестность — и царя.
Герой — молодой энтузиаст, а героиня, чьим именем названа
пьеса, соткана из тех многообразных видов страсти, какие являет нам
игра Сары Бернар.
Если Вы одобрите пьесу, я буду счастлив обсудить с Вами ее воз-
можную постановку. Ваш покорный слуга
ОСКАР УАЙЛЬД.
К своему турне он готовился основательно. Первый вопрос —
как одеваться. Уайльд заказал портному новый костюм. Льюис
Хинд увидел его выходящим от меховщика в “лягушачьем и вос-
хитительно подбитом мехом зеленом пальто"’ и польской конфе-
дератке. На следующей неделе “Уорлд” напечатал письмо от Уист-
лера:
ОСКАР! Как ты смеешь! Что это за неподобающий карнавал
в моем Челси? Верни все это Натану, и чтобы я больше не видел, как
ты устраиваешь на улице маскарад, соединяя в себе ухудшенный вари-
ант Кошута с мистером Манталини!1
[Подпись в виде бабочки]
Меховое пальто в американском климате, в отличие от англий-
ского, было, пожалуй, нелишне. Что касается лекций, Уайльд еще
в Тринити-колледже и Оксфорде понял, что не обладает оратор-
ским даром. В Америке он неоднократно в этом признавался.
Поэтому ему следовало не столько убеждать слушателей, сколько
очаровывать их. Чувствуя себя неспособным к пышным жестам
и мощному пафосу, он сказал своему другу Германну Визину,
который давал ему уроки ораторского искусства: “Мне нужен
естественный стиль с небольшой примесью аффектации”. На что
Визин ответил: “А разве ты не обладаешь этим, Оскар?” Можно
Венгерский революционер Лайош Кошут, живший в Англии
с 1851 по 1859 г., ходил в польской конфедератке; мистер Манталини,
муж модистки в романе Диккенса “Николас Никльби”, носил не-
обыкновенный утренний халат.
195
было рассчитывать, что американцам, пресыщенным ходульным
шоуменством, понравятся его длительные и благозвучные рито-
рические периоды.
Но Уайльду еще нужно было подготовить лекцию, что, веро-
ятно, требовало измерения некой культурной температуры.
Во всем остальном он мог чувствовать себя вполне уверенно: он
превосходно знал современное английское искусство и литера-
туру, и к тому же он был знаком с большинством выдающихся
политиков, писателей и художников — с Дизраэли и Гладсто-
ном, с Браунингом, Теннисоном, Суинберном, Россетти, Милле,
Алма-Тадемой, Берн-Джонсом, Уистлером. Из американских
авторов он читал По, Уитмена, Готорна, Холмса, Лоуэлла, Хоу-
элса, Лонгфелло и Джеймса; впоследствии он познакомился
и с книгами литераторов второго ряда — таких, как Кейбл, Фосетт
и отец Райан. Он был твердо намерен свести личное знакомство
с влиятельными людьми и обратился ко многим своим друзьям
за рекомендательными письмами. Приведем в качестве примера
его письмо Джеймсу Расселу Лоуэллу, американскому послан-
нику в Лондоне:
Чарлз-стрит, 9, Гровенор-сквер
Уважаемый мистер Лоуэлл! В субботу я отплываю в Америку
пароходом “Аризона”, чтобы прочесть курс лекций о современных
художественных тенденциях в Англии. Могу ли я, пользуясь нашим
с Вами непродолжительным знакомством, попросить у Вас несколько
рекомендательных писем? Я знаю, каким бесценным пропуском
ко всему блестящему и интеллектуальному послужит в Америке Ваше
имя. Верьте мне — искренне Ваш
ОСКАР УАЙЛЬД.
21 декабря 1881 г. Лоуэлл написал Оливеру Уэнделлу Холмсу:
Дорогой доктор Холмс! Умный и талантливый человек не дол-
жен нуждаться в рекомендациях больше, чем нуждается в них ясное
солнце, но поскольку чужеземец не может в наши дни требовать раду-
шия, просто придя к нам и просительно усевшись у нашего очага, —
позвольте мне попросить Вас быть полезным подателю сего, мистеру
Оскару Уайльду, молва о котором, несомненно, достигла Ваших ушей
и который лучше, чем любая молва. Преданный Вам
ДЖ. Р. ЛОУЭЛЛ.
Он достаточно тепло отозвался о стихах Уайльда в статье без
подписи, опубликованной в январе 1882 г. журналом “Атлантик
мансли”.
19b
Немалое число людей по обе стороны Атлантики следило
за приготовлениями Уайльда к отъезду. Уистлер, которому,
видимо, сказали, что Уайльд собирается расхваливать в Америке
прерафаэлитов, сказал ему: “Если тебя затошнит от морской
болезни, выблюй Берн-Джонса”1. Пресса стала изображать его
будущее турне как важное событие, которое, правда, большая ее
часть не приветствовала, а, напротив, встречала насмешкой или
неодобрением. В Англии газеты разделились; в декабре “Пэлл-
Мэлл газетт” напечатала серию все более и более резких читатель-
ских писем, осуждающих эстетизм. Автор одного из них, муже-
ственно подписавшийся “Тит Манлий” и, вероятно, состоявший
в редакционном штате, озаглавил свое письмо “Банальный Бан-
торн”. Среди издевок, которыми оно изобиловало, было, напри-
мер, такое высказывание: “Никто, вероятно, сильней не смеется
(в кулак) над этими фальшиво-истерическими эстетами, никто
не презирает их больше, чем сам их Великий Пророк, который,
кстати, не Бог весть какой пророк в своем отечестве Ирландии
и не Бог весть какой поэт в нашем отечестве”. Передовая статья
в номере от 28 декабря говорила об Уайльде и его сторонниках
с явным пренебрежением.
Тем не менее Уайльд имел в мире английской прессы и друзей,
главными из которых были Генри Лабушер из “Трусе” и Эдмунд
Йейтс из “Уорлд”. На их доброе слово можно было рассчитывать;
в частности, Лабушер 22 декабря объявил на одной из первых
страниц своей газеты:
В конце этой недели мистер Оскар Уайльд отправляется в Соеди-
ненные Штаты на пароходе “Аризона”, договорившись о постановке
в этой стране своей республиканской пьесы “Вера”; за время своего
пребывания там он прочтет серию лекций о романтических аспектах
современной жизни. Американцы намного более любопытны, чем
мы, и хотят воочию видеть людей, чьи имена по тем или иным при-
чинам становятся нарицательными; в этом, я полагаю, они умнее нас,
ибо как понять человека, если ты знаешь о нем только понаслышке?
Мистер Уайльд, что о нем ни говори, обладает ярко выраженной
индивидуальностью, и поэтому я могу предположить, что его лекции
привлекут многих, кто способен смотреть и слушать.
Он продолжал поддерживать Уайльда по ходу его турне. Так,
во взвешенной трехстраничной статье от 2 февраля 1882 г. под
После тяжбы против Рёскина по делу о клевете, в которой Берн-Джонс
давал свидетельские показания в пользу Рёскина, Уистлер неизменно
утверждал, что Берн-Джонс ничего не смыслит в живописи.
названием “Эстет путешествует” Лабушер процитировал бла-
госклонные отзывы о нем, появившиеся в американской печати,
и заметил, что преувеличенный эстетизм может послужить полез-
ным противоядием по отношению к преувеличенному материа-
лизму, которым больна Америка. Назвав в Сент-Луисе Лабушера
“лучшим журналистом Европы и превосходным джентльменом”,
Уайльд имел на то личные причины.
Морс продолжал вести переговоры о выступлениях Уайль-
да в разных городах, напирая на титулы и таланты его роди-
телей, на его оксфордское образование и премии, на его поэ-
тическое творчество, на его связь с эстетическим движением.
Лекция Уайльда уже называлась не “Прекрасное”, а “Художест-
венный облик английского Ренессанса”, что звучало не столь
беззащитно; в окончательном варианте она была озаглавлена
“Английский Ренессанс”. Название это Уайльд почерпнул
из своей любимой книги Пейтера. Хотя формально темой пей-
теровских “Очерков по истории Ренессанса” был итальянский
Ренессанс, в них также шла речь об исследованиях Винкельмана
в XVIII веке и подразумевалось, что всякий, кто пристально
вглядывается в художественные пульсации современного мира,
может рассчитывать на свой личный ренессанс. Уайльд гово-
рил о ренессансе с красноречивой неопределенностью, причи-
сляя к нему Рёскина, Пейтера, прерафаэлитов, Уистлера и себя
самого.
Связать все это воедино было весьма непросто. Представля-
ясь глашатаем эстетизма, Уайльд брал на себя большую ответст-
венность, чем обычно. До сих пор у него были не столько тео-
рии, сколько позы, и он пестовал не столько движение, сколько
культ. Как Полибию, ему предстояло теперь привести в систему
нечто несистематизированное. От прерафаэлитов проку было
мало; они никогда не были сильны в формулировании общих
принципов, и уж тем более не были они в этом сильны в 1882 г.,
когда локоны их поседели и юность миновала. Тем не менее
Уайльд сохранял к ним почтение, и он принялся обдумывать
лекцию, где он выразил бы им поддержку, обходя молчанием
свои расхождения с ними. Он собирался написать текст лекции
на пароходе “Аризона”, на который он сел 24 декабря 1881 г.
Но ко 2 января, когда пароход прибыл по назначению, работа
еще не была окончена. Задача, стоявшая перед Уайльдом, вы-
росла: он должен был не только дать определение движению,
чьим ведущим представителем его считали, но и, подобно
Дориану Грею, “собрать воедино алые нити жизни и... соткать
из них узор”.
ПОЭТ И ПРЕССА
Эстер (улыбаясь). У нас есть просторы, наша
страна самая обширная на всем свете. В школе
нас учили, что некоторые из наших штатов
по величине равняются Англии и Франции, вме-
сте взятым.
Леди Кэролайн. Воображаю, какие у вас там
сквозняки!
Пароход “Аризона” бросил якорь в Нью-Йоркской гавани вече-
ром 2 января 1882 г. Чтобы пройти карантин, надо было дождаться
следующего утра. Но репортеры, жаждавшие увидеть Уайльда,
не могли терпеть. Предприимчивые газетчики, по живописному
замечанию Уайльда, “явились из морской пучины”, и с перьев их
капала соленая вода. На самом деле они наняли катер, который
доставил их на борт парохода. Уайльд, находившийся в капитан-
ской каюте, вышел к ним в сногсшибательном зеленом пальто
чуть ли не до самых пят. Пальто подверглось пристальному осмо-
тру; его воротник и отвороты рукавов были отделаны мехом то ли
котика, то ли выдры, и такой же мех пошел на круглую шапку,
которую одни репортеры сравнили с курительным колпаком, дру-
гие с тюрбаном. Из-под пальто выглядывала рубашка с широким
отложным воротником в стиле лорда Байрона и небесно-голубой
шейный платок, что отдаленно напоминало матросский костюм
того времени. Его маленькие ступни были обуты в лакированные
ботинки.
Уайльд предполагал, что в поездке ему будет предшествовать
“облако кривотолков”, но репортеры все же изумили его: их было
так много, и о чем только они не спрашивали... Он их тоже изумил.
Они ожидали увидеть Банторна, а перед ними появился человек
более высокого роста, чем они сами, с широкими плечами, длин-
ными руками и большими ладонями, способными сжаться в уве-
систые кулаки. Его можно было носить на руках, но попробуй
обведи его вокруг пальца! Сдержанная “Нью-Йорк ивнинг пост”,
говоря о его внешности, ограничилась замечанием, что лицо Уайль-
да “большое, бледное и плоское”. На пальце у него виднелось
массивное кольцо с печаткой, где был изображен классический
греческий профиль. Рука, украшенная кольцом, держала зажжен-
ную сигарету, которой он, как показалось репортеру, не затяги-
вался. Его голос поразил сотрудника “Нью-Йорк трибюн”, оказав-
шись отнюдь не женственным — скорее даже грубоватым. Другой
репортер решил, что Уайльд говорит гекзаметрами: по словам
“Нью-Йорк уорлд”, он делал ударение на каждом четвертом слоге,
что придавало его речи напевность: “Я сюда прйбыл потому, что
199
для меня Америка заманчивейшее из мест”. Какой бы ни была его
речь — напевной или синкопированной — она уж точно была
особенной.
Как он перенес плавание? Уайльд не предполагал, что каждое
произнесенное им слово будет растиражировано, причем, как пра-
вило, в искаженном виде, и ограничился замечанием, что плавание
было малоинтересным. Но репортерам непременно нужно было
что-то броское для публикаций, и они принялись осаждать дру-
гих пассажиров, пока кто-то не вспомнил слова Уайльда, сказан-
ные во время путешествия: “Я что-то недоволен Атлантикой. Она
не столь величественна, как я ожидал. Она ведет себя слишком уж
мирно. “Ревущий” океан не ревет”. Шутливое брюзжание поэта,
написавшего ранее о “бесплодном море”1, отразилось в заголовках,
набранных крупным шрифтом, — “Мистер Уайльд разочарован
Атлантикой” — и было немедленно передано по телеграфу в Анг-
лию. “Пэлл-Мэлл газетт” откликнулась стихотворением “Разочаро-
ванная глубь”, а письмо, напечатанное в газете Лабушера “Трусе”,
начиналось словами: “Я разочарован мистером Уайльдом” и было
подписано: “АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН”. Видимо, издатели
сочли это более эффектным, чем то, что Уайльд сказал в действи-
тельности, а именно: что в 1877 г., плывя из Афин в Неаполь, он
попал в шторм, который был “самым величественным зрелищем
в моей жизни” и заставил его мечтать о новой буре, которая бы
“снесла с парохода капитанский мостик”. Игривость в пассажире,
пересекающем Атлантику, была журналистам в новинку, и смяте-
ние их выразилось в попытках перещеголять “Панч” и “Пейшенс”.
Катер стоял уже дольше оплаченного времени, но репортеры
не унимались; они перешли к вопросам о культурной миссии
Уайльда. Что это за штука такая — эстетизм, для проповедования
которого он пересек океан? Уайльд рассмеялся, чем вновь их сму-
тил, ибо Банторн чувством юмора не обладал. Затем они услышали
решительный ответ: “Эстетизм это поиски проявлений прекрас-
ного. Это наука о прекрасном, позволяющая нам видеть взаимо-
связь искусств. Если говорить более точно — это поиски секрета
бытия” (а в чем состоит этот секрет — будет объяснено в лекции).
Один из репортеров — видимо, более образованный, чем осталь-
ные, — бросил Уайльду вызов: не считает ли он, что движение
(репортер соглашался, что оно существует) приветствует лишь
причудливо-личные формы реакции на окружающее в ущерб вер-
ному и последовательному пониманию красоты? Уайльд вежливо
1 В “De Profundis” Уайльд скажет, что его “со странной силой тянут
к себе великие первобытные стихии, такие, как Море, которое было
мне матерью не меньше, чем Земля”.
ответил: “Возможно, что и так. Однако любое движение отражает
особенности личностей, принимающих в нем участие. В про-
тивном случае ценность этого движения невелика”. Пока что он
неплохо справлялся с испытанием.
На следующий день репортеры явились на пристань и перехва-
тили его при высадке. Уайльд вновь не дал определения эстетизма,
но от вызова уклоняться не стал: “Я приехал, чтобы распростра-
нять прекрасное, и готов заявить об этом прямо”. Затем, прервав
свои собственные туманные речи, он крикнул: “Эй, носильщик,
поосторожней с этим сундуком!” Там находились его американ-
ский гардероб и экземпляры “Стихотворений”, предназначенные
для подарков. Прекрасное, продолжал он, вполне может являть
себя и в быту. Попыхивая сигаретой и держа обе руки глубоко
в карманах своего зеленого пальто, он сказал: “Прекрасное нахо-
дится ближе к каждому из нас, чем мы думаем. Материал окружает
нас, но мы должны найти систематический способ его выявления”.
Репортер показал на большое зернохранилище, расположенное
на другом берегу Гудзона, и спросил: “Может ли это сооружение
быть эстетически значимым?” Уайльд посмотрел в ту сторону
и с новообретенной осторожностью ответил, что близорукость
мешает ему разглядеть объект, о котором идет речь. “Можно ли
сказать, что прекрасное обитает и в лилии, и в Хобокене?”1 не уни-
мался репортер. “Пожалуй, да, — согласился Уайльд. — Область
прекрасного безгранична, и все его определения неудовлетвори-
тельны. Можно отправиться на его поиски и остаться ни с чем.
Но сами эти поиски, если они ведутся согласно верным законам,
составляют содержание эстетизма. Ведущие их люди обретут сча-
стье в борьбе, даже в отчаянии от невозможности найти то, что
они ищут. Ренессанс прекрасного не мыслится без борьбы, как
внутренней, так и внешней”. — “На чем же должно закончиться
это движение?” — “Ему не будет конца; оно будет длиться вечно,
ведь и начала у пего тоже не было. Я употребил слово “ренес-
санс”, желая подчеркнуть, что для меня тут ничего нового нет.
Движение существовало всегда. С течением времени меняются
люди, меняются формы выражения, но принцип остается неиз-
менным. Человек испытывает голод по красоте... Налицо пустота;
природа должна ее заполнить. Насмешка, которой подвергались
эстеты, — это единственное, на что способны несчастные слепые
Души, которые не могут найти путь к прекрасному”.
Красота, которую он явился распространять, была отнюдь
не контрабандным товаром. Проходя таможенные процедуры,
Уайльд на вопрос о том, есть ли у него что-либо, подлежащее
1 Хобокен — пригород Нью-Йорка. (Примеч. перев )
декларированию, якобы ответил (современных ему источников,
подтверждающих это, нет): “Мне нечего декларировать, кроме
моей гениальности”. Вполне возможно, он и вправду так сказал,
ведь общение с репортерами на борту парохода должно было пока-
зать ему, как важно иметь наготове яркое изречение. Английская
пресса вновь не оставила его без внимания. Раздраженная “Пэлл-
Мэлл газетт” не ограничилась двумя пародийными “Идиллиями”,
напечатанными 4 и 9 января; позже в ней появилась передовая
статья, озаглавленная: “Послесловие к Банторну”, где говорилось,
что эстеты — изобретение Дюморье и что “один остроумный
молодой человек из Ирландии” решил позабавиться, представля-
ясь воплощением эстетизма, поэтому теперь он “герой дня”, его
высказывания “рассылаются телеграфом по всему свету” и публи-
куются “серьезнейшими газетами”. “Газетт” серьезнейшим обра-
зом негодовала.
Дальше пошла череда увеселений. Уайльд с полным основа-
нием хвастался в письмах домой, что его принимают как petit
roi1. Поскольку в отеле “Бревоорт” мест не было, Морс поме-
стил его в “Гранд-отеле” на углу 31-й улицы и Бродвея. Место-
нахождение Уайльда предполагалось держать в секрете, чтобы он
мог окончить работу над лекцией. Но он с легкостью принимал
приглашения на ланчи, послеполуденные приемы, обеды и вечер-
ние приемы, которые на него посыпались. Нью-йоркские газеты
на время несколько умерили силу своих насмешек: слишком уж
очевидно было удовольствие, которое получали от его присутст-
вия именитые хозяева и хозяйки салонов. Первый прием прошел
5 января с трех до шести в доме мистера А. А. Хейза-младшего
и его жены по адресу: Восточная 29-я улица, 112. Хейз, который
писал книги о путешествиях, и его супруга были уже неплохо под-
кованы эстетически; их комнаты были изящно убраны в японским
стиле. Уайльд явился в наглухо застегнутом длиннополом сюртуке,
держа в руке светлые лайковые перчатки. Как и на пароходе, на нем
была рубашка с отложным воротником и голубой шейный платок.
Волосы у него были длинные, но не чрезмерно. Вскоре он рас-
положился в проеме, разделявшем две больших гостиные; за спи-
ной у него виднелся огромный японский зонт. Длинная рукоятка
зонта преграждала подступы к нему слева, а перегородка между
гостиными справа. Дневной свет не проникал сквозь тяжелые
темные шторы, и под газовыми рожками, создававшими свето-
тень на манер Караваджо, разглагольствовавший Уайльд выглядел,
по словам репортера, “как языческий идол”. Убранство помеще-
ний, видимо, заставило его вспомнить о Уистлере с его японскими
1 Маленького короля (фр.).
202
эффектами, и он заверил честную компанию, что Уистлер “пер-
вый художник Англии, однако Англии понадобится еще 300 лет,
чтобы это понять”.
По окончании приема Уайльд с мистером Хейзом, миссис
Хейз и девятью другими гостями отправился в театр “Стандард”,
где в тот вечер давали “Пейшенс”. Они появились через несколько
минут после подъема занавеса, когда леди Джейн собиралась рас-
сказать Пейшенс о том, что такое любовь. Поначалу Уайльд дер-
жался в глубине ложи, но, будучи человеком, отнюдь не склон-
ным тушеваться, он спустя некоторое время выдвинулся вперед.
Когда на сцену вышел Дж. Райли, игравший Банторна, все зрители
стали оборачиваться и глядеть на Уайльда. Если в Англии Банторна
делали похожим на Уистлера, то в Америке он был копией Уайльда.
Уайльд улыбнулся одной из дам, сидевших с ним в ложе, и снис-
ходительно проронил: “Такова дань, которую посредственность
платит тем, кто выше посредственности”. (В “Герцогине Падуан-
ской” он скажет об этом более прямо: “Быть умным верх чудаче-
ства у нас. / Будь умным — и посмешищем ты станешь... ”) После
первого действия Уайльда и тех, кто прибыл с ним, пригласили
за кулисы, а по окончании спектакля у парадных дверей театра,
чтобы поглазеть на Уайльда, собралась толпа человек в пятьдесят.
Но его провели через служебный выход, и он уехал незамеченным.
Некоторые писатели, и среди них Кларенс Стедман, наро-
чито отказывались посещать приемы, на которых мог появиться
Уайльд. Стедмана предостерег относительно Уайльда Эдмунд Госс,
написавший ему незадолго до приезда Уайльда, что стихотворный
сборник, который Уайльд с помощью своих друзей-аристократов
издает уже в третий раз, — это “диковинная поганка, зловонный
паразитический нарост”. Сам Госс, услышав от Уайльда при своем
недавнем знакомстве с ним, что он рад встрече, заметил в ответ: “А
я боялся, что разочарую вас”. — “Ну, что вы, — отозвался Уайльд.
Литераторы никогда меня не разочаровывают. Они милейшие
люди. Меня разочаровывают только их книги”. Косвенным резуль-
татом этого унижения было то, что Стедман написал Томасу Бейли
Олдричу, редактору журнала “Атлантик мансли”: “Жители этого
филистерского города, носясь с Оскаром Уайльдом, выставляют
себя дураками... Он привез сотни рекомендательных писем”. Два
из этих писем, от Джеймса Рассела Лоуэлла и Джорджа Льюиса,
оыли адресованы самому Стедману. Сходным образом Олдрич
избегал Уайльда в Бостоне. Натуралист Джон Барроуз принял
Уайльда, но отозвался о нем двойственным образом, сказав, что он
великолепный собеседник и красивый мужчина, но вместе с тем
сластолюбец. Когда видишь сзади, как он идет, в движениях его
Оедер и спины ощущаешь нечто омерзительное”.
2ОЧ
Светская сторона уайльдовского турне была поначалу три-
умфальной. Он заручился рекомендательным письмом от лорда
Хотона “дяде Сэму” Уорду, который был братом поэтессы Джулии
Уорд Хау и дядей романистки Ф. Мэрион Кроуфорд. Шестиде-
сятивосьмилетний Уорд был человек тертый, лоббист и великий
смазчик колес общественной машины.
Он встретил Уайльда с энтузиазмом, обращался к нему в пись-
мах “Мой дорогой Хармид” и возил его в Лонг-Бранч к генералу
Гранту. Уайльд, в свою очередь, процитировал несколько стихо-
творений Уорда, чем убедил его, что по части эстетики моло-
дой человек “свое дело знает”. Изменив своей привычке обедать
в ресторанах, Уорд пригласил Уайльда на шикарный обед к себе
домой на Клинтон-плейс, 84. Посреди стола стояла ваза с ланды-
шами, а перед тарелкой Уайльда красовались две каллы, перевя-
занные красной ленточкой. У гостей в петлицах были ландыши.
В довершение всех бед Уорд написал песню под названием “Лан-
дыш”, которую Стивен Массет, бывший в числе приглашенных,
положил на музыку и теперь спел. Уайльд вежливо крикнул: “Бис!”
Пресса, которую не преминули поставить в известность, писала:
“Все единодушно пришли к заключению, что мистер Уайльд луч-
ший рассказчик после лорда Хотона. Он свободно и со знанием
дела говорил о сэре Уильяме Харкорте, о Гладстоне, о лидерах про-
тивоборствующих политических направлений в Англии и на кон-
тиненте”. Большинство гостей, заслушавшись, не расходилось
допоздна. Уорд был в восторге и, неутомимый рифмоплет, сочи-
нил в честь Уайльда стихотворение, начинавшееся так:
— Пап, что значит: “эстетический”? —
Девочка отца спросила.
— Уайльд ответит феерический,
Это лишь ему под силу.
— Что же значит: “эстетический”? —
Уайльда девочка спросила.
— Это локон твой девический, —
Вывернулся Уайльд красиво.
Лабушер услужливо напечатал это стихотворение в “Трусе”.
Уорд послал его также Лонгфелло. Рекомендуя Уайльда своей
сестре Джулии Уорд Хау, Уорд писал ей: “Я нахожу его искрен-
ним малым, характеру и манерам которого присущи приятность
и достоинство, и я готов извинить ему его фантастические завих-
рения, которые он, несомненно, перерастет”. Он посвятил Уайль-
ду еще одно стихотворение:
2ОД
I
Смелее, Оскар! Молод ты,
Поклонник верный Красоты,
И сердцем знаешь ты к тому же:
Она не вымысел досужий.
Уайльд подарил ему свой стихотворный сборник, сделав
на нем надпись: “Eart pour Fart, et mes poemes pour mon oncle1.
Сэму Уорду от Оскара Уайльда, с любовью”. Уайльд понимал,
что несколько злоупотребляет расположением Уорда; однажды
он вошел к Уорду в комнату и со вздохом сказал ему и Мэрион
Кроуфорд: “Чем же все кончится? Одна половина человечества
не верит в Бога, другая в меня”. Только после года частых встреч
Уорд стал проявлять признаки некоторого пресыщения: “Что-то
мне надоело быть вожатым этого слона. Сколько можно фигури-
ровать в газетной хронике на правах его няньки?” Тем не менее
дружба продолжалась.
Уделяя развлечениям куда больше внимания, чем подготовке
лекции, Уайльд не терял из виду еще одну свою цель — найти
в Нью-Йорке актрису, которая сыграет его Веру. Из услышанного
он сделал вывод, что наилучшие кандидатуры — это Мэри Андер-
сон и Клара Моррис. Через два дня после прибытия он пошел
посмотреть на Мэри Андерсон в “Ромео и Джульетте”. Его отзыв
об увиденном был не более чем вежливым; 6 января “Нью-Йорк
тайме” привела его слова: “Она очень красивая женщина, но тра-
диционные представления постановщиков о том, как должны оде-
ваться актеры в шекспировских пьесах, сильно уменьшают для меня
удовольствие от присутствия на спектаклях по ним. Мисс Андер-
сон играла очень хорошо, и тем не менее я предпочел бы видеть ее
в пьесах иных авторов. Это неудивительно; Моджеска приводила
лондонскую публику в восторг, пока не решила выступить в роли
Джульетты. После этого она потеряла власть над залом и не могла
уже угодить зрителям, что бы она ни делала”. Он решил пока что
сосредоточить внимание на Кларе Моррис, но, словно бы не желая
обижать Мэри Андерсон, 14 января пошел с Кларой Моррис и ее
мужем в театр Бута на спектакль “Пигмалион и Галатея” с Мэри
Андерсон в главной роли.
Мисс Моррис славилась страстностью своей игры. 8 января
и она, и Уайльд были приглашены на прием в честь Луизы Мэй
Олкотт в дом Д. Дж. Кроли по адресу: 38-я восточная улица, 172.
Увидев ее в прихожей, Уайльд в тот же миг бросился к ней и взял ее
ладонь в обе руки. “Я много слышал о вас от Сары Бернар, — ска-
Искусство для искусства, а мои стихи для моего дяди (фр-).
зал он ей. — Сара мне так говорила: “Elie a du temperament; c’est
assez dire”1. Мисс Моррис не привел в восторг этот половинчатый
комплимент со стороны ее главной соперницы, но последующие
встречи с Уайльдом расположили ее в его пользу. 11 января они
с Уайльдом были в числе немногих гостей на ланче в "Кооператив-
ной ассоциации платья” Кейт Филд, и на этот раз он стал просить
ее принять у него экземпляр пьесы и прочесть. Несколько недель
она колебалась; однако уже на следующий день, 12 января, он
в театре “Юнион-сквер” впервые увидел ее на сцене в роли Мерси
Меррик в пьесе "Новая Магдалина” и не поскупился на похвалы
ни за кулисами, ни после спектакля в разговоре с репортером.
Газета привела его слова: "Мисс Моррис — величайшая актриса
из всех, кого я когда-либо видел, если только допустимо судить
об исполнительнице по одной роли. Ни одна из английских актрис
не обладает подобной мощью и страстностью. Она великая худож-
ница в том смысле, какой я вкладываю в это слово, ибо все, что она
делает и говорит, она делает и говорит так, что постоянно будит
этим наше воображение, дополняющее ее игру. Это и есть искус-
ство в моем понимании. В Лондоне она имела бы необычайный
успех. Я не думаю, однако, что столь устарелая пьеса, как “Новая
Магдалина”, подойдет для того, чтобы представить эту актрису
лондонским зрителям. Она, несомненно, гениально одарена”.
После этих похвал Клара Моррис внимательно прочла "Веру”.
В начале февраля она, однако, пришла к выводу, что эта пьеса не для
нее. Уайльд все же не стал полностью сбрасывать ее со счета. Он
решил поручить Д’Ойли Карту организовать постановку и просил
его попытаться уговорить Клару Моррис. “Я, конечно, прекрасно
понимаю, какая она difficile”1 2, — писал он Карту 16 марта. В каче-
стве запасного варианта Уайльд назвал Розу Коулан, английскую
актрису, выступавшую большей частью в Соединенных Штатах.
Карт пожаловался, что "Вера” будет непонятна американским зри-
телям, ничего не знающим о России, и Уайльд, чтобы устранить
это препятствие, быстро сочинил пролог. Несколькими последу-
ющими письмами он побуждал Карта к активным действиям —
но безуспешно. Клара Моррис была ангажирована для высту-
плений в другой пьесе. Пока что дела складывались неудачно,
но Уайльд решил формально заручиться авторским правом
на пьесу в Соединенных Штатах и продолжить поиски актрисы.
Однако главным, что его занимало, была лекция. Он наконец-то
окончил ее и отдал перепечатать. “Если в понедельник не добьюсь
успеха — я погиб”, — писал он в Лондон миссис Джордж Льюис.
1 У нее есть темперамент — этим все сказано (фр.).
2 Привередливая (фр.).
206
Однако, выходя на сцену Чикеринг-холла 9 января, через неделю
после приезда, он мог не сомневаться в успехе. Все билеты, даже
на стоячие места, были распроданы, и общая выручка составила
1211 долларов. Полковник Морс кратко представил Уайльда зри-
телям, и лектор открыл подготовленный текст, переплетенный
в дорогой сафьян. Зрители могли вволю полюбоваться на его
наряд, который совершенно не походил на то, в чем он появлялся
на приемах, и был куда более смелым, чем содержание самой лек-
ции. (“Костюм девятнадцатого века внушает отвращение, — ска-
зал лорд Генри Уоттон в “Портрете Дориана Грея”. — Он такой
мрачный, такой угнетающий”.) Самой необычной деталью этого
наряда были бриджи до колен, оставлявшие открытыми его точе-
ные икры и щиколотки. Кое-кому показалось, что это придворное
платье, и никто, вероятно, не догадывался, что это костюм, приня-
тый в оксфордской ложе Аполлона, в которую Уайльд вступил сту-
дентом. Чулки также не были обойдены вниманием. “Странно, —
сказал Уайльд позже, — что пара шелковых чулок так всколыхнула
целую страну”. Элен Поттер, которая впоследствии изображала
Уайльда в публичных представлениях, смотрела на пего с профес-
сиональной зоркостью:
Костюм. Темно-фиолетовый просторный пиджак и бриджи; чер-
ные чулки, низкие туфли с блестящими пряжками; пиджак подбит
бледно-лиловым атласом, пышные кружева на запястьях, а также вме-
сто галстука поверх отложного воротника; волосы длинные, с пря-
мым пробором или зачесанные назад. Появляется в накидке, покры-
вающей одно плечо. Голос чистый, свободный, не форсированный.
Время от времени меняет позу, голова наклонена в сторону опорной
ноги, сохраняется общее впечатление непринужденности.
Этот поборник подлинного искусства говорит очень неторо-
пливо. .. в конце фразы или периода голос всегда идет вверх.
Прочитанная им лекция контрастировала с костюмом. При-
ковав к себе внимание зала броскостью облика, он удерживал его
неожиданной серьезностью содержания. Он предложил слушате-
лям пересмотренный эстетизм, далекий от изысканно-разрежен-
ной атмосферы раннего Пейтера. Там была томность, здесь энер-
гия. Облагораживая внешние стороны жизни, доказывал Уайльд,
мы тем самым облагораживаем и внутренние ее стороны. Чтобы
обезоружить тех, кто ожидал от него определения красоты, он
процитировал Гете, считавшего, что ее суть лучше видна из при-
меров, а не из философских умозрений. Английский Ренессанс,
Утверждал Уайльд, подобно более раннему итальянскому, есть
некое новое рождение человеческого духа”. Под эту категорию
он мог подвести и стремление к большему изяществу и элегантно-
сти в быту, и страстное влечение к физической красоте, и примат
формы над содержанием, и поиск новых тем для поэтического
творчества, новых форм в искусстве, новых интеллектуальных
переживаний и образных впечатлений. Новый Эвфорион1, как
и предвидел Гете, рождается от брака между эллинизмом и роман-
тизмом, между Прекрасной Еленой и Фаустом.
Уайльд обходился с крупными темами весьма решительно.
Французская революция принудила искусство относиться к фак-
там физической жизни с уважением, однако факты эти оказались
удушающими. Бунт против владычества фактов подняли прерафа-
элиты. То, что британская публика пребывает в неведении об этих
выдающихся художниках, дела не меняет. “Один из неотъемлемых
элементов английского образования состоит в том, чтобы ничего
не знать о великих людях своей страны”. Ни в коей мере не ума-
ляет их славу и то, что они часто становились мишенью сатиры.
Уайльд развил то, что сказал на спектакле “Пейшенс”: “Сатира,
которая всегда столь же бесплодна, сколь постыдна, и столь же
бессильна, сколь нахальна, наградила их обычной данью, какую
посредственность платит гению... Расходиться с тремя четвертями
британской публики по всем вопросам — это одно из первейших
условий душевного здоровья”.
Иные из характеристик английского Ренессанса с трудом
подходили к большинству названных Уайльдом художников.
Не слишком утруждая себя доказательствами, он заявил, что
они ставили во главу угла не содержание, а форму и проявляли
равнодушие к нравственным урокам и весомым идеям (Пейтер
в книге “Платон и платонизм” писал, что для Платона форма зна-
чила всё, содержание ничего). Они были правы, сказал Уайльд,
потому что не новые идеи и не старые нравственные заповеди,
а открытие паросского мрамора дало жизнь греческой скульптуре;
точно так же открытие новых красителей дало жизнь венециан-
ской школе живописи и создание новых инструментов сделало
возможным развитие современной музыки. Движение прерафаэ-
литов было реакцией на пустое традиционное ремесленничество.
Не способностью почувствовать, а способностью выразить поро-
ждается подлинное искусство. И, вызванное к жизни, искусство
наделяет жизнь ценностями, которых она дотоле не имела. Его
творения более реальны, чем живые существа. Как сказал одна-
жды Суинберн в присутствии Уайльда (за обедом у лорда Хотона),
гомеровский Ахилл более реален, чем английский Веллингтон.
1 Эвфорион — в греческой мифологии сын Ахилла и Елены. (Примеч.
перев.)
Так Уайльд мало-помалу подбирался к своему позднейшему откры-
тию, суть которого в том, что жизнь подражает искусству.
Хотя некоторые его высказывания, подобно утверждениям
рейтера, подразумевали, что ренессанс в его понимании — это
повторяющееся историческое явление, в других частях лекции он
заявлял, что нынешнее пробуждение духа более радикально, чем
предыдущие. Пусть современному ренессансу и недостает “боже-
ственно-естественного провидения красоты”, какое было в Гре-
ции и Риме, зато ему свойственно “напряженное самосознание”,
которого не следует недооценивать. Ренессанс наших дней —
явление по сути своей западное, пусть даже некоторые его декора-
тивные мотивы пришли с Востока. Уайльд выразил надежду на то,
что западный дух, столь тревожный и беспокойный, возможно,
обретет некий покой в элегантной обстановке, которая поможет
нашему существованию стать более полным. Отсюда следует важ-
ность декоративного искусства. “Я выступаю перед вами впер-
вые, тогда как “Пейшенс” была сыграна на здешней сцене сотню
раз, — сказал Уайльд. — Вы слышали — по крайней мере часть
из вас слышала — о двух цветках, которые считаются связанными
с эстетическим движением в Англии и о которых даже идет молва
(уверяю вас, ошибочная), что некоторые эстетически настроенные
молодые люди употребляют их в пищу. Что ж, позвольте мне сооб-
щить вам, что причина, по которой мы любим лилию и подсолнеч-
ник, что бы ни говорил вам на эту тему мистер Гилберт, не имеет
отношения ни к какой салатно-гастрономической моде. Причина
в том, что эти два прелестных цветка считаются в Англии самыми
совершенными образцами орнамента, предназначенными приро-
дой для декоративного искусства”. На этой ноте оратор подошел
к звучному заключению. Финальную фразу он начал с фирмен-
ного пейтеровского “Что ж”: “Мы тратим дни в поисках секрета
бытия. Что ж, открою его вам: этот секрет — в искусстве”. Нако-
нец-то он исполнил обещание, данное репортерам.
Поманокид
Пожалуй, я сказал бы, что Америка вовсе
не открыта. Она еще только обнаружена.
Слушатели горячо зааплодировали. Не все были довольны — кое-
кому стало скучно, — но каждый понимал, что ему довелось при-
сутствовать при необычайном событии. Сэм Уорд похвалил Уайльда
за отсутствие в его лекции обычных риторических трюков — бла-
209
гожелательный отзыв на то, что иным показалось монотонностью.
Уайльд говорил с аудиторией не только словами, но и манерой, рит-
мом; он завораживал ее модуляциями голоса, заставляя вообразить
то прекрасное, чему он не мог дать определения. Его лекция сама
была актом распространения красоты, пусть и несколько много-
словным. За ней последовал прием, и, когда Уайльд вступил в гости-
ную, оркестр заиграл “Боже, храни королеву”; на долю ирландцев
подобная честь выпадала редко. Возможно, именно в этот вечер
некая дама спросила его, как ей расположить в комнатах декоратив-
ные экраны, на что он ответил: “Как расположить? Да никак. Пусть
располагаются самопроизвольно”. После приема Уайльда отвезли
в клуб. Там, согласно воспоминаниям Шерарда, некие молодые
люди стали подбивать его на то, чтобы вкусить от земных образ-
чиков красоты, которую он только что распространял на более воз-
вышенном уровне. Уайльд, видимо, отправился с ними по ночным
заведениям и, возможно, отведал то, что ему там предлагалось.
Он чувствовал, что начало оказалось удачным, и писал миссис
Джордж Льюис: “Я уверен, что Вы радуетесь моему успеху! Даже
у Диккенса не было такой многочисленной и такой замечательной
аудитории... У меня несколько... придворных секретарей. Один
день-деньской раздает поклонникам мои автографы [позже Уайльд
скажет, что этот молодой человек отправился в больницу лечить
писчий спазм], другой принимает цветы, которые и впрямь при-
носят через каждые десять минут. А третий, у которого волосы
похожи на мои, обязан посылать свои собственные локоны мири-
адам городских дев, в результате чего он скоро лишится шеве-
люры... Зная, как я люблю добродетельно оставаться в тени, Вы
можете сами судить, сколь неприятна мне устроенная вокруг меня
шумиха; говорят, со мною носятся больше, чем с Сарой Бернар”.
Он с успехом представил публике не столько заповеди, сколько
собственную личность. Эта личность в ходе его головокружи-
тельных передвижений по Америке не раз становилась предметом
оживленных препирательств.
Следующая лекция Уайльда должна была состояться 17 января
в филадельфийском “Хортикалчерал-холле”. Но было у него и еще
одно дело. Приехав в Филадельфию 16-го числа и остановившись
в отеле “Олдайн”, он снова был атакован ватагой репортеров,
которые стали спрашивать, кем из американских поэтов он силь-
ней всего восхищается. Уайльд ответил без колебаний: “Я полагаю,
что Уолт Уитмен и Эмерсон дали миру больше, чем кто-либо еще”.
Лонгфелло, сколь бы ни был он достоин восхищения, слишком
близок к европейским источникам, чтобы иметь большое влияние
в Европе. Фактически выше всех в американской поэзии Уайльд
ставил Эдгара По, “этого изумительного властелина ритмической
210
выразительности”, по его Уже не было в живых. “Мне бы очень
хотелось повидаться с мистером Уитменом, — признался Уайльд. —
Возможно, он не так широко известен в Англии, но Англия
вообще умеет ценить поэта только после его смерти. В его поэ-
зии есть нечто подлинно греческое и здоровое, она на удивление
универсальна и всеобъемлюща. Она впитала в себя весь пантеизм
Гете и Шиллера”. Двое новых друзей Уайльда, Дж. М. Стоддарт
и Джордж У. Чайлдс, оба издатели, готовили в Филадельфии при-
емы в честь Уайльда, и каждый из них пригласил на свой прием Уит-
мена, жившего совсем рядом в Камдене, штат Нью-Джерси. Уитмен
отклонил оба приглашения, но попросил миссис Чайлдс передать
Уайльду “мои горячие приветствия и американское “добро пожало-
вать”. Однако 18 января — возможно, прочитав хвалебные отзывы
прессы на лекцию Уайльда, — он послал Стоддарту открытку: “Уолт
Уитмен будет у себя сегодня с 2 до З1/^, и он будет счастлив видеть
мистера Уайльда и мистера Стоддарта”.
Стоддарт, издававший оперы Гилберта и Салливана, познако-
мился с Уайльдом в Нью-Йорке и был с ним один раз в театре.
Теперь они вместе отправились в Камден (Уайльд позже переиме-
новал этот городок на лондонский манер в Камден-Таун1). Уитмен
жил в то время с братом и его женой. В комнате, куда вошли гости,
было столько солнца и такой свежий воздух, что Уайльд отозвался
о ней как о чудеснейшей из комнат, в каких он побывал после
приезда в Америку. На столе стоял аскетический кувшин (Уайльд
сказал “жбан”) с водой. Встреча двух знаменитостей быстро стала
предметом комических домыслов. Пародия Элен Грей Коун, опу-
бликованная в ноябрьском номере журнала “Сенчури” за 1882 г.,
довольно метко попадает в цель:
Поманокид2
Кто этот юный,
Странно одетый, власы распустивший, томно идущий
ко мне походкой скользящей,
Круглые очи свои к потолку чертогов моих
картинно возведший?
Нарцисс:
О медный громогласный горн! Не зря
Ты звуки шлешь через моря,
Где Англия, водой окружена,
Как лев морской, сидит одна!
1 Камден-Таун — район Лондона. (Примеч. перев.)
От “Поманок” — индейского названия острова Лонг-Айленд,
на котором родился Уитмен. (Примеч. перев.)
Если перейти к скромной прозе, то начало разговора выгля-
дит так. “Я пришел к вахм, как поэт к поэту’1, — заявил Уайльд.
“Продолжайте”, — отозвался Уитмен. Уайльд сказал: “Я пришел
к человеку, с которым знаком чуть ли не с колыбели”. Он по-
яснил, что его мать купила экземпляр “Листьев травы”, едва эта
книга вышла; видимо, это было в 1868 г. (Уайльд, правда, отнес это
событие к 1866 г.), когда Уильям Майкл Россетти издал избран-
ные стихотворения Уитмена. Леди Уайльд читала сыну Уитмена
вслух, а позже, когда Уайльд поступил в Оксфорд, они с друзьями
брали “Листья травы” с собой на прогулки. Уитхмен, который был
польщен, подошел к буфету и вынул из него бутылку с домашним
вином из самбука, изготовленным невесткой. Уайльд не моргнув
глазом осушил стакан, который палил ему Уитхмен, и они уселись,
чтобы разделаться с тем, что осталось. “Я буду звать вас Оскаром”,
сказал Уитмен, и Уайльд, положив ладонь на колено хмаститого
поэта, ответил: “Мне это очень приятно”. Для Уитмена Уайльд
был “пригожим юнцом”. Гость был, конечно, слишкохм массивен,
чтобы Уитмен мог посадить его к себе на колени, как он поступал
с другими юнцами, посещавшими старца; но, если не телесно, его
можно было обласкать хотя бы словесно.
Бутылка опустела. Уитмен предложил отправиться в его “бер-
логу”, где они могли бы разговаривать уже на “ты”. “Берлога” была
завалена пыльными газетами, сохраненными потому, что в них
упоминалось об Уитмене, и Уайльд позднее сетовал в разговоре
с Шерардом на запустение, среди которого поэту приходилось
писать. Найти там место, чтобы сесть, было нелегко, но Уайльд
все же сумел это сделать, убрав со стула стопу газет. Им много
о чем надо было поговорить. Уитмена интересовал Суинберн,
который в давнюю пору был самым ревностным из его английских
поклонников и адресовал ему послание: “Уолту Уитмену через
океан”. Уайльд был знаком со Суинберном и пообещал передать
ему добрые пожелания Уитмена. Уитмен дал Уайльду две свои фо-
тографии, одну для него самого, другую для Суинберна, и Уайльд
пообещал прислать ехму в ответ один из снимков, которые только
что сделал с него нью-йоркский фотограф Наполеон Сарони (он
снял Уайльда примерно в двадцати позах). Оскар говорил о моло-
дых писателях и художниках, формирующих новый ренессанс.
Уитмен с некоторой опаской спросил о Теннисоне, чьи “словесные
мелодии, почти всегда доходящие, как туберозы, до предела души-
стой сладости”, бесконечно его восхищали. “Уж не собираетесь ли
вы, молодежь, свергнуть с пьедестала общепризнанных кумиров,
Теннисона и прочих?” Уайльд впоследствии осмеет Теннисона,
назвав его “Гомером с острова Уайт”; но тогда он постарался успо-
коить Уитмена. “У нас и в мыслях этого нет. Для этого позиции
212
Теннисона слишком прочны и мы слишком его любим. Но он
отгородился от живого мира и сделался чужд великим течениям
человеческих интересов и дел. Эта бесценная личность существует
вне своего времени. Она живет мечтаниями о нереальном. Мы же,
напротив, действуем в самой гуще современности”. Последней
звучной фразой Уитмен мог быть вполне доволен.
Уайльд воспользовался случаем и спросил Уитмена, что он
думает о новой эстетической школе. Уитмен ответил со снисхо-
дительной улыбкой, естественной для шестидесятитрехлетнего
патриарха: “Я желаю тебе успеха, Оскар, а что касается эстетов,
скажу одно: вы молоды и горячи, путь впереди открыт, и мой вам
совет — шагайте по нему смело”. Проявляя ответную вежливость,
Уайльд спросил Уитмена о его взглядах на ритмику и композицию
стиха. Просодия не принадлежала к числу тем, на которые Уит-
мен когда-либо мог внятно высказаться, если не считать настой-
чиво проводимой им пропаганды свободного стиха. Он ответил
с великолепной бесхитростностью: “Знаешь, я ведь был в молодо-
сти наборщиком1, а когда наборщик добирает верстатку до конца,
он останавливается и переходит к новой строке”. Не смуща-
ясь, он продолжал: “Я добиваюсь того, чтобы стихи выглядели
на странице опрятно и аккуратно, как эпитафия на прямоуголь-
ном надгробном камне”. Для вящей убедительности он очертил
в воздухе руками контур надгробия. По достоинству оценив и его
слова, и жест, Уайльд несколько лет спустя повторил и то и другое
в беседе с Дугласом Эйнсли. Со впечатляющей простотой Уитмен
заключил: “Вот какие задачи я себе задаю”.
Пока что беседа проходила в добром согласии. Отважившись
ступить на более зыбкую почву, Уайльд заявил: “Я не в состоянии
слушать человека, если его речь не привлекает меня очарованием
стиля или красотой содержания”. На что пожилой поэт возразил:
“А мне, Оскар, всегда казалось, что если будешь гнаться за красо-
той как таковой, то забредешь черт-те куда. Я считаю: красота —
это результат, а никакая не абстракция”. Уайльд почувствовал,
что теперь его очередь проявить покладистость. Он сказал: “Да,
я помню твои слова: “Источник всего прекрасного — прекрасная
кровь и прекрасный мозг”; и в конечном счете я с этим согласен”.
Он перешел к другой теме, где единомыслие было, пожалуй,
обеспечено, к отваге Уитмена, насмехавшегося над условностями
и твердо противостоявшего яростным нападкам. Напрашивалась
параллель с враждебным отношением к стихам Уайльда. В тот
•момент пример Уитмена, казалось, говорил о том, что Америка
более свободная страна, чем Англия; однако всего пять меся-
Игра слов: compositor — наборщик, composition — композиция.
213
цев спустя шестое издание уитменовских “Листьев травы” будет
неожиданно изъято из продажи из-за угрозы судебного пресле-
дования по поводу двух напечатанных там стихотворений. Уайльд
сказал: “Ты представить себе не можешь, какими двойными, трой-
ными узами опутаны в Англии литература и искусство. Поэт или
художник, выходящий за рамки общепринятого, может быть уве-
рен, что ему не поздоровится. И все же в Англии есть слой очень
решительных людей — лучших людей страны, — ине только моло-
дых, людей всех возрастов, мужчин и женщин, желающих всего
и готовых ко всему в искусстве, науке и политике, что положит
конец застою”. Он польстил Уитмену, отдав народным массам
Америки предпочтение по сравнению с народными массами Анг-
лии и остальной Европы. Мысль неновая, заметил позже Уитмен,
но показывает, что Уайльд не дурак.
После двух часов разговора Уитмен сказал: “Оскар, у тебя,
должно быть, во рту пересохло. Я тебя угощу пуншем”. — “Да,
я хочу пить”. Уитмен приготовил ему “большой стакан молочного
пунша”. Уайльд “опрокинул его одним махом и был таков”, —
вспоминал Уитмен впоследствии. Старый поэт крикнул ему вдо-
гонку: “До свидания, Оскар! Благослови тебя Бог”. Возвращаясь
в Филадельфию в обществе Стоддарта, который на протяжении
этой оживленной беседы двух поэтов играл роль “пассивного
партнера”, Уайльд, полный впечатлений от встречи с “великим
старцем”, всю дорогу был необычно молчалив. Чтобы его растор-
мошить, Стоддарт заметил, что вино из самбука — это, вероятно,
на любителя. Уайльд не потерпел даже такой критики: “Будь это
уксус, я все равно выпил бы, потому что я испытываю невыразимое
преклонение перед этим человеком”. Давая очередное интервью,
он сказал об Уитмене так: “Он величайший человек из всех, кого
я когда-либо видел, самый простой, самьш естественный и самый
сильный из людей, встреченных мною в жизни. Я вижу в нем одну
из тех чудесных, крупных, цельных натур, что могли бы сущест-
вовать в любую эпоху и не чужды никакому народу. Сила, пря-
модушие и абсолютное здоровье; он ближе, чем кто-либо другой
из наших современников, стоит к древнегреческому образцу”.
Это напоминало похвалу городского поэта XVIII в. бесхи-
тростному пастуху. Для Уайльда, разделявшего заботу По о “фак-
туре ткани и покрое одежды”, стихи Уитмена были сплошным
содержанием, напрочь лишенным формы. Позже он отозвался
об Уитмене так: “Если он и не поэт, его вещи во всяком случае
отличаются силой звучания; это, пожалуй, и не проза, и не стихи,
а нечто третье — величественное, своеобразное и уникальное”.
В глазах Уитмена Уайльд обладал высшим достоинством — молодо-
стью — и был “очень искренним, откровенным и мужественным”.
214
g его присутствии Уайльд отбросил манерничанье; “Я заглянул
за кулисы”, — сказал Уитмен. Он защищал Уайльда от крити-
ков- “Не понимаю, почему над ним так потешается пресса. Да,
в том, как он говорит, есть эта светская английская протяжность,
и все же произношение у него лучше, чем у всех молодых англичан
и ирландцев, с которыми я встречался”. В разговоре с Генри Стаф-
фордом, одним из своих молодых друзей, Уитмен — возможно,
чтобы заставить Стаффорда немножко возревновать, — похва-
лялся: “Уайльд имел благоразумие проникнуться ко мне великим
почтением”. Он особенно высоко ценил и часто цитировал слова,
которые Уайльд произнес позже в одной из бостонских гостиных:
“Если я вправе говорить от имени всех поэтов — если я вправе при-
числять себя к ним, — то я скажу, что не ваших похвал и не ваших
восторгов мы, поэты, ищем, а вашего понимания — вашего при-
знания того, за что мы стоим и что мы проводим в жизнь”.
Верный своему обещанию, Уайльд тут же написал Суинберну
и передал ему дружеский привет от Уитмена. Ответ Суинберна,
датированный 2 февраля, был явно сочинен и отослан немедленно:
Дорогой мистер Уайльд! Я испытал искренний интерес и боль-
шое удовольствие, читая Ваш рассказ о встрече с Уолтом Уитменом
и о выраженных им добрых и дружеских чувствах ко мне; столь же
искренне благодарю Вас за доброту, проявленную Вами в письме,
которое я получил.
С всей искренностью заверяю Вас, что буду весьма Вам обязан,
если Вы, когда представится возможность, заверите его от моего
имени, что я никоим образом не забыл о нем и не умерил моего вос-
хищения его благороднейшими произведениями, и в первую очередь
теми из них, где говорится о самых возвышенных предметах матери-
ального и духовного порядка из всех, о каких может говорить поэзия.
Я всегда считал наивысшим и, безусловно, наиболее завидным из его
отличий думаю, это мнение когда-нибудь станет всеобщим — то,
что он говорит лучше всего, когда говорит о самом грандиозном —
например, о свободе или о смерти. Это, разумеется, не означает, что
я соглашаюсь, — скорее означает, что не соглашаюсь, — со всеми
его теориями, и это не означает, что все его произведения восхи-
щают меня в равной мере; подобного восхищения я ни в коей мере
не желал бы для себя, и я столь же мало расположен выражать его
в отношении кого-либо другого, считая его одной из форм лишь
слегка завуалированного оскорбления.
Уайльд переписал письмо Суинберна, опустив то немногое, что
Несколько уменьшало его эффект, и 1 марта переслал его “моему
Дорогому, дорогому Уолту”. Он пообещал Уитмену посетить его
91C
еще раз и выполнил обещание в начале мая. На сей раз он приехал
без Стоддарта, и они могли говорить свободнее. Содержание их
разговора не дошло до нас, но о расставании кое-что известно.
Уайльд позже рассказал Джорджу Айвзу, который в девяностые
годы стал активно проповедовать необычные формы сексуального
поведения, что Уитмен не пытался скрыть от него свою гомосексуаль-
ность, как он впоследствии пытался ее скрыть от Джона Аддингтона
Саймондса. “Я до сих пор ощущаю на губах, — сказал Уайльд, —.
поцелуй Уолта Уитмена”. Некоторое время спустя, делая запись
в альбоме для автографов бостонца Джона Бойла О’Райли, Уайльд
развил эту тему. Под автографом Уитмена Уайльд написал о нем:
“Дух, живший безупречно, но осмелившийся поцеловать свой век
в разбитые губы”. (Это цитата из поэмы Уайльда “Humannad”,
в которой имеется в виду Вордсворт.)
После того как Суинберн, Уайльд и Уитмен засвидетельст-
вовали друг другу почтение, они сочли своим долгом пойти
на попятную. В частности, Суинберн вскоре принялся критико-
вать Уитмена, которого он ранее так восхвалял, за бесформенное
пустословие. Вдобавок он высмеял “культ благовонного корня1,
который Джон Аддингтон Саймондс возвещает таким же, как
он сам, ископаемым корневищам”. Суинберн явно предпочитал
зевоте хлыст1 2. Уитмен, в свою очередь, отмежевался от уайльдов-
ского эстетизма в книге “Ноябрьские ветви” (1888): “Кто захо-
чет видеть в моих стихах литературное явление, будет отыскивать
в них художественность или проявление эстетизма, тот никогда
не поймет их”. В рецензии на эту книгу Уайльд, чувствуя, что
приведенная выше фраза нацелена против него, написал, что цен-
ность стихов Уитмена — “в пророчестве, а не в художественном
совершенстве... Как человек он — предтеча нового типа личности.
Он — движущая сила в героической духовной эволюции челове-
чества. Если Поэзия и обошла его стороной, Философия не оста-
вит его незамеченным”. Пыл Уайльда несколько поостыл. Уитмен
почувствовал в отношении Оскара к нему некую двойственность;
в разговоре с учениками он высказался об уайльдовской верности
так: “Очень уж ярко он не вспыхивал, но горел ровно”.
1 Намек на стихотворный цикл Уитмена “Аир благовонный”. Имеется
в виду корень растения Air calamus, который символизирует в поэзии
Уитмена постоянство и жизненную силу. (Примеч. перев.)
2 Намек на мазохистские мотивы в поэзии Суинберна. (Примеч. перев.)
Глава 7
Вразумление Америки
Всякий, в ком есть честолюбие, вынужден
бороться оружием своего времени. Оружие нашего
времени — деньги. Кумир нашего времени —
деньги. Для того чтобы в наше время чего-нибудь
добиться — положения, власти, — нужны деньги.
Деньги, деньги — во что бы то ни стало!
Эстетизм: определение и нападки
Встреча с Уитменом напомнила Уайльду, что
до сих пор он обходил вопрос о четком формулирова-
нии своих принципов. Другое напоминание пришло
из Англии от Реннела Родда, которому весело было
читать о похождениях друга в Нью-Йорке и Камдене:
Ты, как видно, забавляешься там вовсю. Мы все тебе немножко
завидуем. Однако: хоть твои высказывания и великолепны, все же
не стоило бы тебе вести себя так самовластительно. А то, вернувшись,
не найдешь никого, кто осмелится тебе противоречить! Это ведь
было бы нехорошо для тебя! Мы удивились, прочитав, что мистер
Уайльд отказался принимать пищу, когда услышал, что дамы находятся
этажом выше [это было 16 января 1882 г. в доме Роберта Стюарта
Дэвиса]. Никогда не бывало такого явления в Израиле1.
На днях я виделся с твоей матерью, мы праздновали твой успех.
Вот и миссис Бигелоу о тебе пишет. Но все по порядку, как она любит
говорить. Жаль, что меня не было с тобой, когда ты виделся с Уол-
том Уитменом. Наверняка это было восхитительно. Когда он сказал:
“Оскар, у тебя, должно быть, во рту пересохло” — веришь или нет,
я бы даже пива выпить не отказался.
Мы с Джимми пытаемся разоблачить подделку его картины — ты
знаешь, конечно, чья эта работа. А вот и он сам, так что — умолкаю.
Всегда твой
РЕННЕЛ.
1 Мф. 9: 33.
Почему бы тебе не рассказать им побольше о Джимми и —.
дерзну предложить — упомянуть обо Мне! (Жалобно прошу.) Упо-
мяни о нас обо всех. Ирвинг отправил тебе записку, которой он бес-
конечно доволен.
Упоминать о Реннеле Родде Уайльд не забывал и без того. Он
привез в Америку книгу Родда “Песни Юга”, пообещав ему по-
искать там для нее издателя. В Филадельфии, где он проводил
много времени со Стоддартом, он предложил ему опубликовать
стихи Родда, пообещав, что сам напишет к сборнику предисловие.
Стоддарт придал большее значение предисловию, нежели стихам,
как и сам Уайльд, который увидел здесь хорошую возможность
изложить принципы эстетической школы. Еще во время трансат-
лантического плавания он сделал кое-какие наброски; в феврале
он привел их в окончательный вид и отослал Стоддарту. Было объ-
явлено, что книга, которой Уайльд дал новое название “Лепесток
розы, лист яблони”, выйдет в октябре 1882 г. Благодарный Родд
пообещал посвятить ее Уайльду.
Сердечность Стоддарта вполне соответствовала общей ат-
мосфере, в какой Уайльда принимали в Филадельфии, она была
не менее теплой, чем в Нью-Йорке. Но незаметно для него над
ним начали сгущаться тучи. В отеле “Олдайн”, где он жил, оста-
новился и другой лектор, также приглашенный Д'Ойли Картом.
Этот самоуверенный шотландец по имени Арчибальд Форбс —
ранее освещавший в качестве журналиста разнообразные военные
действия, любил повсюду выказывать отвагу, которую он якобы
проявил на всех фронтах. Он вел себя как завзятый вояка, носил
щетинистые усы и был женат на дочери начальника интендант-
ской службы американской армии. Оксфорд его не смущал — он
был там и читал там лекцию 13 марта 1878 г. Имея обыкновение
выходить на лекторскую трибуну со всеми медалями, Форбс нашел
бриджи, в которых Уайльд выступал в Чикеринг-холле, чрезвы-
чайно отталкивающими и был раздражен вниманием, какое уде-
ляла его конкуренту пресса. Он язвительно писал знакомой жен-
щине: “Сюда прибыл Оскар Уайльд... Он появляется в коротких
штанах, но, увы, без лилии. Сегодня он выступает с лекцией. Его
выступления гроша ломаного не стоят, но он собирает огромные
толпы и дурачит народ напропалую, что, конечно, весьма умно
с его стороны”. Согласно одной из фантазий Форбса, Уайльд
будто бы получил следующее предложение от Ф.Т. Барнума, хозя-
ина известного цирка, который только что купил у лондонского
зоопарка африканского слона Джумбо: за двести фунтов в неделю
водить Джумбо перед зрителями, держа в одной руке лилию,
а в другой подсолнечник. (Интерес к Уайльду Барнум и вправду
218
проявил: на второй нью-йоркской лекции Уайльда, состоявшейся
Б мае, он сидел в первом ряду.) Более правдоподобно выглядит
рассказ Форбса о негодовании Уайльда, когда парикмахер пришел
его стричь, не захватив с собой щипцов для завивки.
Копя в себе отвращение, Форбс поехал из Филадельфии в Бал-
тимор на том же поезде, что и Уайльд. Полковник Морс хотел,
чтобы Уайльд посетил лекцию Форбса “Внутренний мир военного
корреспондента”, после чего они бы вместе отправились на прием
в дом Чарлза Кэррола, которого считали потомком Кэррола
из Кэрролтона1. Но по пути Форбс задел Уайльда глупыми шут-
ками о коммерциализации эстетического дела, возможно спро-
воцированными похвальбой Уайльда о доходах от своих лекций.
Уайльд обиделся и, не выйдя в Балтиморе из поезда, проследовал
в Вашингтон. “Кэррол из Кэрролтона” был, в свою очередь, задет,
и Морс телеграммой потребовал, чтобы Уайльд вернулся в Бал-
тимор. Тот отказался и поселился в вашингтонском отеле. Форбс
выплеснул свое раздражение в лекции, вставив туда новый пассаж,
в котором он сравнивал свою одежду, когда после стопятидесяти-
мильного конного марша его вызвали на аудиенцию к русскому
царю, с одеждой Уайльда: “Я хочу теперь заявить следующее:
в моем лице вы видите последователя — весьма смиренного после-
дователя — экстатического эстетизма, однако тогда я не слишком
походил на произведение искусства. При мне не было ни моих
лайковых бриджей, ни моего бархатного пиджака, а мои черные
шелковые чулки были изорваны. К тому же дикая и голая русская
равнина не рождала ни подсолнечников, ни лилий”. Эта вульгар-
ная насмешка была по требованию Форбса слово в слово пере-
печатана газетой. Уайльд понял, что подарил своему сопернику
газетные заголовки и без всякой нужды оскорбил балтиморское
общество. В довершение всех бед в публикации утверждалось, что
то ли сам Уайльд, то ли его деловой представитель в ответ на при-
глашение балтиморского “Уэнсди-клуба” потребовал 300 долларов
на том основании, что прием будет проходить не в частном доме
(Уайльд говорил потом, что это сделал некомпетентный сотруд-
ник, назначенный полковником Морсом). Алчность была плохой
рекламой для эстетического дела.
Уайльд принялся маневрировать, стараясь выпутаться из затруд-
нительного положения. Его первая попытка страдала неискрен-
ностью и только ухудшила дело. 21 января он сказал репортеру
“Вашингтон пост”, что никогда не имел намерения присутствовать
на лекции Форбса: “Наши взгляды не имеют ничего общего. Если
Имеется в виду Чарлз Кэррол (1737—1832), один из деятелей Амери-
канской революции. (Примеч. перев.)
219
ему нравится изображать меня в карикатурном виде, как на вче-
рашней лекции, что ж, пускай. Это, вероятно, служит некой цели,
и, судя по сообщениям о том, что публика пришла на его лекцию,
чтобы посмотреть на меня, цели немаловажной. А именно — сде-
лать себе рекламу за мой счет”. Настала очередь Форбса разгне-
ваться. Он написал Уайльду письмо, где утверждал, что слышал
из его собственных уст признание в чисто меркантильном харак-
тере его турне. (Такое же неосторожное признание сделает в раз-
говоре с репортером и Мэтью Арнольд, когда в следующем году
Д’Ойли Карт пригласит его для чтения лекций.) Уайльд слиш-
ком уж часто принижал мотивы своих действий. Можно подумать,
мотивы Форбса были куда бескорыстней.
Уайльд почувствовал, что ему надо попытаться уладить ссору,
и написал примирительное письмо. Увы, он лишь бегло просмо-
трел то, что написал ему Форбс, и тот, заподозрив Уайльда в неу-
важении к себе, пригрозил опубликовать их переписку в газетах,
если Уайльд не извинится перед ним как следует. Эта перепалка
поставила под угрозу все турне Уайльда. “Настроение публики
кардинально переменилось”, — в панике написал он Карту 24 или
25 января. В этой беде ему пришла в голову здравая мысль обра-
титься к своему лондонскому адвокату Джорджу Льюису: он знал,
что Льюис был также адвокатом и другом Форбса. Льюис пошел
Уайльду навстречу и телеграфировал Форбсу: “Будь умницей
не трогай Уайльда. Прошу тебя об этом как о личном одолжении”.
Форбс прекратил публичные поношения, однако лондонская газета
“Дейли ньюс” получила несколько анонимных телеграмм, столь,
оскорбительных для Уайльда, что он был убежден в причастности^
к ним Форбса. Одна из них, от 2 февраля 1882 г., так описывала лек-^
цию Уайльда в Бостоне: “Послушав его минут пятнадцать, многие !
стали уходить. Всякий раз, когда он умолкал, чтобы выпить воды,’
публика принималась издевательски аплодировать и не унималась
по нескольку минут. Это происходило так часто, что мистер Уайльд
остановился и принялся смотреть на слушателей, пока наконец
не восстановилась тишина. Передают, что Бостон оставил у него
самые неприятные впечатления”. В телеграмме от 2 марта гово-
рится о визите Уайльда в нью-йоркскую ассоциацию “Сенчури”:
“Многие члены клуба вообще отказались быть ему представлен-
ными. .. Один давний его член... ходил и спрашивал: “Где она? Вы
ее, случайно, не видели? Вас интересует, почему я говорю — она?
А как же, ведь эту даму зовут Шарлотт-Анн!” Соединение двух
обвинений — в женоподобии и шарлатанстве — действительно
наводит на мысль, что за этими насмешками, вероятно, стоит
Форбс; в автобиографии, опубликованной несколько лет спустя,
он все еще полон враждебности. Однако по крайней мере внешне
220
форбс теперь хранил молчание, и Уайльд смог приехать в Балтимор
с тем, чтобы загладить неловкость; он был рад видеть в числе слу-
шателей жену мистера Кэррола из Кэрролтона (муж не присутст-
вовал) и бесплатно посетить прием в “Уэнсди-клубе”. Тем не менее
он написал Карту: “Еще одно фиаско, подобное балтиморскому, —
и на лекциях придется поставить крест”.
Нападками Форбса отчасти объясняются некоторые перемены
в отношении прессы к Уайльду. Поначалу репортеры, казалось,
проявляли к нему дружелюбный интерес; он платил им искрен-
ностью, но впоследствии видел свои слова язвительно исковер-
кднными на полосах газет. Его вежливые попытки отвечать на их
зачастую глупые вопросы оставляли для этого много возможно-
стей. Уайльд получил хороший повод вспомнить предостережение
Рёскина насчет журналистов: “О вас будет сказано все. Их ничто
не остановит”. В течение какого-то времени, жаловался Уайльд,
он из всей Америки видел одни лишь газеты. Одной из самых
жестоких к нему была “Нью-Йорк трибюн”, чей главный редактор
Уайтлоу Рид, не приняв во внимание рекомендательные письма
в пользу Уайльда от Джорджа Льюиса и Эдмунда Йейтса, позволил
своим журналистам целый год поносить Уайльда как “Рёскина для
бедных” и претенциозного обманщика. Другим его врагом была
“Вашингтон пост”, поместившая на первой полосе изображение
Уайльда с подсолнечником в руке, а рядом “жителя Борнео” с коко-
совым орехом. Полковник Морс, нс посоветовавшись с Уайльдом,
опрометчиво направил в газету протест против “беспричинной
враждебности”, на который она ответила издевательской редакци-
онной статьей, утверждавшей, что параллель между двумя персо-
нажами вполне точна. Затем некоторые чикагские газеты заявили,
что вся эта история — рекламный трюк, что Уайльд правил коррек-
туры язвительных публикаций и сам послал в “Вашингтон пост”
карикатуру. Зловредность прессы была почти предельной. Лишь
немногие газеты взяли его сторону; в массе своей они сообразили,
что можно добиться большего читательского интереса, выставляя
Уайльда глупцом. “Нью-Йорк тайме” благородно предоставила
ему слово для отповеди: “Тому, кто пережил нападки желтой
прессы, не страшна и желтая лихорадка”. Позже он отыграется
блестящим замечанием: “В былые времена колесовали на колесе;
теперь прессуют прессой”. Однако даже теперь, делая запись в аль-
бом, он ограничился цитатой из 1бтье: “Avis aux critiques: C’est un
grand avantage de n’avoir rien fait, mais il ne faut pas en abuser1. Оскар
Уайльд, 20 марта 82 г. ”.
Предостережение критикам: Не сделать ничего — великое преиму-
щество, но не следует им злоупотреблять (фр.)-
В Англии реакция на его поездку была не менее жестокой.
Письмо от 4 февраля, подписанное Уистлером, Роддом и другими,
было смешным, но обидным: ведь Уайльд в Америке пропаганди-
ровал величие живописи Уистлера и совершенство стихов Родда:
Оскар! Мы, обитатели Тайт-стрит и Бофорт-гарденз, восторга-
емся твоими триумфами и радуемся твоему успеху, но сдается нам,
что говоришь ты, если не брать в расчет твоих шуточек, как некий
канадский Сидни Колвин1, а одеваешься, если не брать в расчет твоих
бриджей, как Арри Куилтер.
Подписано: Дж. Макнил Уистлер, Джейни Кэмпбелл, Мэт Элден,
Реннел Родд.
Копия — в Нью-Йоркские газеты.
В том, что леди Уайльд увидит все в благоприятном свете,
можно было, конечно, не сомневаться. 23 января она написала
сыну: “Твое письмо и газеты восхитительны. Мне потом присы-
лали вырезки, и я вижу, что прием, который тебе оказали, насто-
ящий триумф. Особенно тот момент, когда ради тебя заиграли
“Боже, храни королеву” [12 января]!” Но даже она сочла нужным
добавить: “Махаффи мне пишет: “Зря Оскар со мной не посовето-
вался — громадная ошибка”. Суинберн написал в Нью-Йорк Кла-
ренсу Стедману, который относился к Уайльду с недвусмысленной
враждебностью: “Я виделся с мистером Оскаром Уайльдом всего
однажды — у лорда Хотона, при большом стечении народа. Он
показался мне безобидным молодым ничтожеством, и мне тогда
и в голову не могло прийти, что он ударится в шарлатанство, —
а произошло, насколько я понимаю, именно это. Хотя письмо,
которое он недавно мне написал об Уолте Уитмене, было вполне
скромным, джентльменским и разумным, без следа аффектации
какого-либо рода”.
Свою лепту внес и Бодли. Куда болезненней, чем пренебреже-
ние Суинберна, была длинная анонимная статья — в “Нью-Йорк
тайме” от 21 января 1882 г., которую мог написать только он, ста-
рый оксфордский однокашник Уайльда1 2. Ее тон был на удивле-
1 Отношение к Уайльду критика Сидни Колвина в описываемый
период нам неизвестно, но в письме Д. С. Макколлу от 27 июля 1914 г.
он говорит об “оскар-уайльдизме” как о “зловреднейшей и ненавист-
нейшей болезни нашего времени”.
2 Авторство Бодли подтверждается не только содержанием статьи,
где упоминались масонский костюм, Уилли Уайльд и другое, о чем
мог знать один Бодли, но и письмом от 20 февраля 1882 г., кото-
рое написала Бодли его мать и где говорится: “Вряд ли мистеру
О. О. Ф. Уайльду сильно понравится твоя критика его оксфордской
007
неприятным. В ней Бодли без всякого снисхождения описал
неловкости, допущенные Уайльдом по приезде в Оксфорд, его
стычки с инспекторами, его масонские восторги и его заигрывание
с Римом. Он заявил, что Уайльд не участвовал в земляных работах
с рескином для этого, мол, у него был слишком изысканный гар-
дероб. Эстетизм Уайльда Бодли счел устарелым явлением, от при-
суждения ему Ньюдигейтской премии отмахнулся как от мало-
важного обстоятельства. Уайльд потому якобы не смог получить
стипендию для научной работы, что он приобрел “облик, который
строгие умы и поныне расценивают как женственный”; весьма
компрометирующая характеристика в устах старого друга. Стихи
Уайльда Бодли назвал вторичными. Критику свою, которую трудно
счесть дружеской, он завершил словами: “Наделенный недюжин-
ными способностями, он предпочел применить их для завоева-
ния дешевой известности; у него доброе сердце, он был в свое
время забавен, и, вероятно, у него еще сохранилось некое чувство
юмора. Поощрит ли американское общество взятую им линию,
которая приведет его известно куда, или оно, желая ему добра,
преподаст ему необходимый урок и отошлет его домой поразмы-
слить и поумнеть?” Нет сомнения в том, что друзья Уайльда были
раздражены сообщениями о его поведении в Америке, но нападки
Бодли, видимо, все же стали для него неожиданностью и дали ему
повод впоследствии сказать: “Всякий биограф Иуда”.
Это растущее неодобрение проявилось также и во время вто-
рой важной встречи Уайльда, которая произошла в Вашингтоне.
Она стала полной противоположностью его знакомству с Уитме-
ном, первым поэтом Америки. До той поры он лишь слегка был
знаком с прозаиком Генри Джеймсом, который приехал в Вашинг-
тон на месяц. Они оба были приглашены на прием к судье
Эдварду Г. Лорингу; Уайльд явился к нему в бриджах и с боль-
шим желтым шелковым платком. Присутствовали генерал Мак-
клеллан, сенатор Хейл и другие знаменитости. Джеймс написал,
что никто не обратил на Уайльда внимания; однако дочь Лоринга
сообщила подруге, что Генри Джеймс был “чрезвычайно скучен”,
а Уайльд “чрезвычайно забавен”. Джеймс был тем не менее неожи-
данно польщен, когда Уайльд сказал репортеру, что “никто из ныне
живущих англичан не может сравниться как романист с Хоуэлсом
жизни, но, насколько могу судить, ты высказываешься о нем совер-
шенно правильно; он запомнился мне как чрезвычайно наивный
молодой человек, который разговаривал со мной в ботаническом
саду, а потом водил меня и девочек на башню колледжа Магдалины;
помнишь, как бедная Бета отказалась спускаться? Наверняка у него
и в мыслях тогда этого не было — этих бриджей, фрака, лилии и под-
солнечника. Что за океан глупой изнеженности!”
22}
и Джеймсом”1. Джеймс только что опубликовал “Женский пор-
трет” и “Вашингтон-сквср”. Он уже упомянул об Уайльде в раз-
говоре с миссис Генри Адамс, но она отказалась принять у себя
“друга” Джеймса, назвав Уайльда идиотом. Из вежливости и любо-
пытства Джеймс решил посетить Уайльда в его отеле и поблагода-
рить его.
Визит оказался неудачным. Джеймс сказал Уайльду: “Я очень
скучаю по Лондону”. Уайльд не смог побороть искушения срезать
его. “Правда? — осведомился он, употребив, несомненно, самый
свой изысканный оксфордский выговор. — Вам важно, где вы
находитесь? А мой дом весь мир”. Он чувствовал себя гражда-
нином мира. На вопрос о его планах он взял моду отвечать: “Не
знаю. Я никогда не строю планов, я двигаюсь туда, куда ведут меня
мои ощущения”. Для Джеймса, мастера интернациональной темы,
это было оскорбительно. Его передернуло. Будучи американцем,
живущим за границей, он имел свои воззрения на граждан мира,
которых носит туда-сюда. В глазах этого специалиста по неприка-
янности ничто так не подрывало ценность эстетизма, как отсут-
ствие у этого движения корней. К концу разговора Джеймс был
взбешен. Уайльд оскорбил его, сказав, среди прочих своих манер-
ностей: “Я еду в Боссстощ у меня есть письмо от моего закадыч-
ного друга его закадычному другу — Чарлзу Нортону от Берн-
Джонса”. Джеймс хорошо знал их обоих слишком хорошо, чтобы
одобрить это игривое жонглирование именами.
Мы можем представить себе возмущение Генри Джеймса уайль-
довскими бриджами, его презрение к саморекламе и бесцельному,
кочевничеству, его нервозность по поводу чувственности Оскара.,
Он сообщил миссис Адамс, что она была совершенно права: “Хос-
скар” Уайльд непрошибаемый дурак, грубиян, человек десятого л
сорта”, “грязная скотина”. Столь сильные характеристики застав-’
ляют предположить, что Джеймс увидел в Уайльде угрозу. Ибо как
терпимость Джеймса по отношению к отклонениям от нормы, так
и неведение об этих отклонениях в равной степени подвергались
опасности из-за насмешек Уайльда и его рисовки. Гомосексуаль-
ность Джеймса была латентной, гомосексуальность Уайльда доста-
точно явной. Создается впечатление, что Джеймс, предвидя скан-,
дал, поспешил отойти от греха подальше. Миссис Адамс понимала,
о чем он говорит, и сама назвала Уайльда человеком “неизвестно
какого пола”. Примерно восемь лет спустя Джеймс ненадолго
смягчился и даже присоединился к попытке (неудачной) сделать
1 Хоуэле сказал Винсенту О’Салливану, связавшему имена Уайльда
и Эндрю Лэнга: “Нет, они разные. Лэнг просто живет литературой.
А Уайльд изобрел бы литературу, если бы ее не сущесавовало”.
Уайльда членом Сэвил-клуба; однако он всегда подчеркивал, что
не принадлежит к числу друзей Уайльда (к Роберту Россу он был
более милостив). Более доброжелательный отзвук вашингтон-
ского разговора с Уайльдом можно уловить в его книге “Траги-
ческая муза”, где эстет Габриэль Нэш всегда находится на пути
“куда-то еще” и признается: “Я кочую, дрейфую, плыву”. Что каса-
ется Уайльда, он не имел ни малейшего понятия о враждебности,
которую он возбудил в Джеймсе. 21 февраля в Луисвилле он заме-
тил, что познакомился с девушкой, похожей на Дейзи Миллер1,
и “эта встреча тысячекратно увеличила мое преклонение перед
Генри Джеймсом”.
Колкие отзывы и баталии с прессой, как бы ни были они болез-
ненны, дарили Уайльду некую новую уверенность в себе. На него
нападали, но от него не могли отвести глаз. Осмеяние — раз-
новидность почтения, и, если оно продлится достаточно долго,
непременно будет истолковано именно так. Кроме того, он мог
через головы журналистов обращаться прямо к людям. Так он
и поступал.
Новая Англия: паломник наших дней
Пуританин, педант и проповедник достаточно
плохи, взятые по отдельности. А все трое
в одном лице — это страшней, чем худшие звер-
ства Французской революции.
Что бы ни думал Генри Джеймс и что бы ни говорила миссис Генри
Адамс, они не могли испортить прием, которого Уайльд был удо-
стоен в Вашингтоне. Он очаровал писательницу Фрэнсис Ходж-
сон Бернетт, будущего автора “Маленького лорда Фаунтлероя”,
сказав ей, что Рёскин считает ее подлинной художницей и читает
все ее сочинения. Она, в свою очередь, представила его другим
писателям. У. Херлберт, редактор “Нью-Йорк уорлд”, ставший
к тому времени другом Уайльда и Сэма Уорда, ввел его и в обще-
ство политиков. Сенаторы Джеймс Г. Блейн, Томас Ф. Бейард
и Джордж X. Пендлтон проявили радушие. Высказывания Уай-
льда передавались из уст в уста. Перед отъездом он посовето-
вал вашингтонцам украсить город новыми скульптурами: “Мне
кажется, военных мотивов у вас уже достаточно, — сказал он. —
1 Дейзи Миллер — героиня одноименного романа Генри Джеймса.
(Примеч. перев.)
* '5556 -------
225
Осмелюсь заявить, что вам не нужны новые бронзовые генералы
на конях. Теперь, я думаю, вы предпочтете мотивы, которые пред-
лагает мирная жизнь”. (Генри Джеймсу понравилось выражение
“бронзовые генералы”, и он перенял его у Уайльда.) Из Вашинг-
тона Уайльд через Олбани отправился в Бостон, чтобы увидеть
сливки американской культуры.
Рекомендательные письма, адресованные Чарлзу Элиоту Нор-
тону, Оливеру Уэнделлу Холмсу и Джулии Уорд Хау (сестре Сэма
Уорда), позволили Уайльду получить приглашения на званые
ужины и другие приемы. У миссис Хау он был по крайней мере
дважды, и ответ на одно из ее приглашений, который мы приво-
дим ниже, полон чарующих комплиментов:
Дорогая миссис Хау! Я буду у Вас к семи часам, однако о том,
чтобы поужинать у Вас “en famille”1, говорить не приходится: Вас
окружает атмосфера всемирности, и комната в Вашем присутствии
кажется полной блестящих людей; Вы одна из тех редких личностей,
в обществе которых ощущаешь живое дыхание истории.
Нет, “en famille” не получится; но поужинать с Вами — это
огромная честь для меня. Искренне Ваш
ОСКАР УАЙЛЬД.
Он позабавил ее на одном из приемов, сказав, что слова “вер-
мильон” и “балкон” обычно произносятся слишком прозаично;
в первом случае следует сильнее выделять звук “р”, а во втором
звук “к”.
Уайльд очень хотел повидаться с Лонгфелло, с которым его
мать в свое время была в переписке и высказывание которого
привела 30 января газета “Бостон ивнинг травеллер”: “У мистерам
Уайльда есть хорошие стихи, которые не мог бы написать невежда”/
Зная, что Сэм Уорд приводил к Лонгфелло лорда Рональда Гауэра,
Уайльд заручился рекомендательным письмом от Уорда. Поначалу
Лонгфелло из-за плохого самочувствия отказывался от встречи,
но Уайльд настаивал и наконец получил приглашение к завтраку.
Он приехал в метель, а уехал в снежную бурю — “самая подходя-
щая погода для встречи с поэтом”, как выразился Уайльд позднее.
Вид старого поэта растрогал его. Лонгфелло со смехом рассказал
ему о своей поездке в Англию и посещении Виндзора. Королева
сказала ему добрые слова, и Лонгфелло ответил в том смысле, что
с удивлением узнал, как хорошо он известен в Англии. “О, могу
заверить вас, мистер Лонгфелло, — промолвила королева, — что
вы действительно хорошо известны. Все мои слуги вас читают”.
1 По-семейному (фр.).
“Иногда, — сказал Лонгфелло Уайльду, — я просыпаюсь среди
ночи и принимаюсь думать, хотела она меня этим унизить или
нет”. Уайльд, пересказывая эту историю Винсенту О’Салливану,
заметил: “Это был отпор Королевского Величия поэтическому
тщеславию”. Другой сохранившийся отрывок разговора двух поэ-
тов — это вопрос Уайльда: “Как вы относитесь к Браунингу?” —
и ответ Лонгфелло: “Отношусь хорошо, когда понимаю, о чем он
пишет”. Уайльд, изо всех сил старавшийся угодить собеседнику,
воскликнул: “Великолепно!” — и пообещал сделать этот отзыв
широко известным. Его энтузиазм имел, однако, свои пределы.
“Замечательный старец, — сказал он потом. — Лонгфелло сам был
прекрасным стихотворением, прекрасней любого из тех, что он
написал”. В разговоре с Крисом Хили он отозвался о Лонгфелло
так: “Это великий поэт только для тех, кто никогда не читал поэ-
зии”. Лонгфелло умер в марте того же года, всего два месяца спу-
стя, а Эмерсон в апреле. Вернувшись в Бостон для новой лекции,
которая состоялась 2 июня, Уайльд отдал дань их памяти в заклю-
чительной ее части:
И напоследок давайте вспомним, что искусство — это единст-
венное, чего не может разрушить Смерть. Опустел маленький домик
в Конкорде, но мудрость Платона из Новой Англии не помер-
кла, и блеск этого аттического гения не потускнел; из уст Лонг-
фелло льется для нас все та же музыка, хотя его прах превращается
в цветы, которые он любил.
Приемы в Бостоне и близлежащем Кембридже шли один за дру-
гим. Уайльд обедал в обществе еще одного видного бостонца —
оратора Уэнделла Филлипса, который, говоря о лекционных турне,
заметил, что ничего не стоит зажечь многочисленную аудито-
рию, а вот выступать перед полупустым залом — дело другое;
эту истину Уайльд еще познает на собственном опыте, когда его
лекции станут собирать меньше слушателей. Помимо знамени-
тостей, с которыми его знакомили, в Бостоне были два ирландца,
в чьем обществе он чувствовал себя более по-домашнему; один
из них — его старый друг Дайон Бусико — тепло принял его
и ограждал от агрессивных репортеров. Возмущение, с которым
Бусико воспринял выходки американской прессы по отношению
к Уайльду, укрепило дух последнего, как и предложение Бусико,
которым Уайльд, впрочем, не воспользовался: одолжить ему две
тысячи фунтов, чтобы он перестал зависеть от Карта и Морса.
Другой ирландец — это поэт, остроумец и бунтарь Джон Бойл
О'Райли, который стал к тому времени совладельцем бостонской
Газеты “Пайлот” и всегда страстно интересовался приезжавшими
227
в город соотечественниками. С помощью О’Райли Уайльд хотел
добиться еще одной цели — организовать американское издание
стихотворений своей матери. “Труды моей матери, думаю, будут
иметь здесь большой успех, — писал он О’Райли, — в отличие
от трудов ее недостойного артистического сына. Я знаю, Вы счита-
ете, что меня волнуют только стенные панели. Вы сильно ошибае-
тесь, но я не стану спорить”. 28 января он был с О’Райли в театре
“Глоб” на трагедии “Царь Эдип”.
Вечером 31 января, когда Уайльд выступал с лекцией в бостон-
ском “Мюзик-холле”, опять было вьюжно. Тем не менее зал был
полон (присутствовала и Джулия Уорд Хау). Полон — за исключе-
нием двух первых рядов, которые таинственно пустовали до неко-
торого момента перед самым выходом оратора на сцену. Внезапно
в центральном проходе появились шестьдесят студентов Гарвард-
ского университета, одетых по последней эстетической моде
в бриджи и смокинги; у каждого была уистлеровская седая прядь
и банторновская шляпа, каждый держал в руке подсолнечник
на манер фигуры с готического витража. Их вожак подчеркнуто
вяло и безучастно, с отрешенными глазами опустился на сиде-
нье. Когда открылась дверь, ведущая на сцену, и показался лектор,
в зале царило великое оживление.
Но Уайльд умел высмеять насмешников. Уведомленный зара-
нее, он надел на сей раз обычный смокинг и брюки, сохранив
в своем наряде единственный намек на вызов традициям — неве-
роятно широкий галстук, концы которого доходили ему почти
до плеч. Он намеренно заставил собравшихся подождать и, выходя
на сцену из-за кулис, должен был подняться по ступенькам, так
что публике вначале виден был только его торс; когда он пред-
стал перед ней во весь рост, сидящие в зале, к смятению своему,
поняли, что на нем обыкновенные брюки. Уайльд к тому же напи-
сал новое вступление. Начал он без особых затей: “Приветствую
вас как выпускник университета. Я чрезвычайно рад выступить
перед жителями Бостона — единственного города в Америке, ока-
завшего влияние на европейскую мысль и давшего Европе новую
великую философскую школу”. Затем он словно невзначай бро-
сил взгляд на фантастические фигуры, заполнившие полукруг
передних сидений, и с улыбкой произнес: “Я вижу перед собой
некие проявления эстетического движения. Я вижу неких моло-
дых людей, несомненно искренних, однако мне приходится заве-
рить их, что они не более чем карикатуры. Оглядываясь вокруг,
я впервые в жизни должен произнести горячую молитву: “Господи,
огради меня от моих последователей”. Но скажу лучше словами
Вордсворта: “Избавь меня от них, дурных и дерзких”. К этому
моменту зал был, можно считать, на его стороне. Студенты, пыта-
228
ясь перехватить инициативу, громко аплодировали всякий раз,
когда он умолкал и пил воду из стакана, но эта месть выглядела
жалкой.
А Уайльд спокойно перешел к своей обычной лекции. Только
ближе к концу, говоря о том, как он с оксфордскими однокашни-
ками работал в Норт-Хинкси под началом у Рёскина, он вновь
обратил внимание на студентов: “Эти очаровательные молодые
люди, возможно, захотели бы последовать нашему примеру; труд
пошел бы им на пользу, хотя я сомневаюсь, что они сумели бы
построить такую же хорошую дорогу, как мы”. Он сказал, что
ранее в тот день посетил Гарвард, “и я со всей искренностью хочу
заверить сидящих передо мной студентов, что эстетическое дви-
жение — это не только бриджи и подсолнечники”. Ему особенно
понравился гимнастический зал, и он призвал их соединить атле-
тику с эстетикой и установить в этом здании статую греческого
атлета. (Он даже подарил университету алебастровую копию
Праксителева Гермеса — “в порядке разбрасывания раскаленных
углей среди гарвардских студентов”, как выразился Роберт Росс.
Когда Росс в 1892 г. приехал в Кембридж, где находится Гар-
вардский университет, копия была еще там. Потом она исчезла.)
После этого, заметил позднее Уайльд, “молодые люди наконец-
то неохотно смирились. Я склонен был им симпатизировать, ибо
мне пришло в голову, что в мой первый год в Оксфорде я вполне
мог бы вытворить что-нибудь в подобном роде. Но, раз уж они
сунули голову в пасть ко льву, я решил, что надо их немножко
куснуть”. Это была одна из вершин его турне, это был триумф,
засвидетельствованный 2 февраля таким авторитетным органом,
как “Бостон ивнинг транскрипт”.
Не столько доктрина Уайльда, сколько его гурманское отноше-
ние к жизни и “ароматическая” манера речи затрудняли его вхо-
ждение в американские сердца. “Сеансы”, на которых он вызывал
дух Красоты, казались слегка провокационными, слегка нездо-
ровыми. Его турне было серией более или менее успешных для
него конфронтаций, в которых его возмутительный и нетради-
ционный шарм сталкивался с традицией мужского превосходства
и проистекающей из нее недоброжелательностью. Его костюм
усиливал это противостояние. Порой Уайльд подумывал о том,
чтобы от него отказаться, но ошеломляющее действие, которое
костюм явно производил на аудиторию, побуждало Уайльда наде-
вать его вновь и вновь. Нападки на Уайльда были порой ничем
не спровоцированными, как, например, публикация Амброза
Бирса от 31 марта. Но первая из атак, достигших цели, произошла
раньше; это была статья Т. У. Хиггинсона в “Уименз джорнал”,
напечатанная 4 февраля. Хиггинсон был весьма уважас мый зануда.
229
Он за многое был в ответе перед литературой, поскольку в свое
время счел недостойными публикации странные стихи, предло-
женные ему некой неизвестной женщиной из Амхерста; только
после смерти Эмили Дикинсон он виновато оказал содействие
их напечатанию. Хиггинсон воспользовался приездом Уайльда
как поводом для того, чтобы наброситься и на него, и на Уитмена,
словно он желал полностью пустить букву “У” под свой редак-
торский нож. В Гражданскую войну Хиггинсон командовал нег-
ритянским полком, и теперь он обвинил Уитмена в том, что он
ложно приписывает себе военный опыт, тогда как на самом деле
был всего лишь санитаром в госпитале. Бывший унитарианский
священник, он вознегодовал на уайльдовского Хармида за то, что
он раздел бронзовую статую Афины. “Подобные изображения
нагого тела ассоциируются не со священной белизной античной
статуи, — заявил он не совсем точно, ибо греческие статуи были
раскрашены, — ас насильственным раздеванием, которому под-
вергли некую оскорбленную невинность”. С военно-религиоз-
ным пылом Хиггинсон обрушился на Уайльда за то, что он пишет
непристойные стихи вместо того, чтобы участвовать в решении
ирландской проблемы у себя на родине. Особенно взбесило Хиг-
гинсона то обстоятельство, что его ньюпортская соседка Джулия
Уорд Хау, на которую он, не называя ее по имени, весьма прозрачно
намекнул, принимала этого порнографического поэта у себя дома.
Хиггинсону пришлось вкусить “гроздья гнева” миссис Хау.
16 февраля она написала письмо в “Бостон ивнинг транскрипт”,
в котором отказала полковнику в праве решать, кого ей можно
принимать, а кого нет. Стихами Уайльда, утверждала она, восхища-
ются судьи не менее авторитетные, чем Хиггинсон. Уайльд готов
не только учить, но и учиться. “Отсечь человека, даже если через
него в общество приходит соблазн1, от наиболее благотворных
влияний и гуманизирующих начал — это мало похоже на христи-
анство в каком бы то ни было понимании”. Уайльд поблагодарил
ее за “благородное и изысканное” письмо. Хиггинсону пришлось
замолчать, но “Пэлл-Мэлл газетт” 18 марта иронически поддер-
жала миссис Хау в ее отважных попытках перевоспитать Уайльда.
Он, можно сказать, расплачивался тогда в Америке за гетеросек-
суальные обертоны своей поэзии, как позже будет расплачиваться
в Англии за гомосексуальные обертоны своей прозы.
Столь же болезненное событие произошло 7 февраля, через
три дня после выхода статьи Хиггинсона, в университетском
1 Аллюзия на Евангелие от Мф. 18: 7-8: “ ..горе тому человеку, чрез
которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблаз-
няет тебя, отсеки их и брось от себя... ” (Примеч. перев.)
городе Рочестере. На лекции Уайльда местные студенты, ста-
раясь перещеголять гарвардцев, принялись заглушать его слова
криками и шиканьем. Уайльд, скрестив руки на груди, спокойно
стоял и смотрел на своих мучителей, пока шум не улегся; потом
продолжил. Посреди лекции, как было задумано загодя, по цен-
тральному проходу от задних рядов к сцене двинулся танцующей
походкой старый негр с огромным букетом цветов; его одежда —
парадный костюм и одна белая лайковая перчатка — пародиро-
вала наряд Уайльда, и он уселся на одно из кресел в переднем ряду.
Вмешалась полиция, пытаясь утихомирить хохочущую публику,
но только ухудшила дело, и многие покинули зал еще до того, как
Уайльд скрепя сердце довел лекцию до конца.
Нашелся, однако, человек, проливший бальзам на его раны.
Поэт Хоакин Миллер, с которым 5 февраля Уайльд обедал в Нью-
Йорке, 9-го числа написал ему письмо, где сказал, что ему стыдно
за поведение “этих хулиганов из Рочестера”. На следующий день
письмо напечатал Херлберт в “Нью-Йорк уорлд”; Уайльд ответил
Миллеру письмом от 28 февраля, которое “Уорлд” опубликовала
3 марта. Это была яростная отповедь всем его недругам, в осо-
бенности Хиггинсону: “Да и кто такой этот ничтожный писака,
этот безвестный в достославном старом Массачусетсе бумагомара-
тель, что развязно строчит и вопит о том, чего не может понять?
С какой стати мне писать о нем?! [...] И кто такие эти щелкоперы,
что, с бездумной легкостью перескакивая от полицейской хроники
к Парфенону и от уголовщины к литературной критике, столь
бездарно расшатывают устои здания, в котором сами же только
что навели чистоту и порядок?” Беззаботный с виду и невинный
по самоощущению, Уайльд все острее чувствовал вздымающуюся
против него злобу. “В какой буре, в каком торнадо ты живешь!” —
писала ему мать 19 февраля. Он оставался непоколебим. “Мне
не на что жаловаться, — пожаловался он одному журналисту. —
Они конечно же вели себя со мной возмутительно, но ущерб
потерпел не я, а публика. Подобные смехотворные нападения при-
учают людей насмехаться над тем, что они должны почитать”. Быть
мишенью для нападок прессы весьма неуютно, но это намного
предпочтительней, чем ее одобрение. “Если бы газеты в этой
стране отнеслись ко мне иначе, чем в Англии, если бы они хва-
лили меня и поддерживали, то я впервые в жизни усомнился бы
в себе и своей миссии”. Затем, более серьезно: “Какая мне раз-
ница, что пишет “Нью-Йорк геральд”? Вы смотрите на Венеру
Милосскую и знаете, что это великолепное, прекрасное творение.
Изменится ли ваше мнение о ней хоть на самую малость, если
ьсе газеты страны объявят ее пошлой карикатурой? Разумеется,
нет. Я убежден в своей правоте и должен исполнять свою мис-
сию. Меня им не уничтожить!” (Как замечает герцог в “Герцогине
Падуанской”: “Уж чем-чем, / А популярностью я не был оскор-
блен”.) Уайльд припомнил знаменитый прецедент: “Шелли был
изгнан из Англии, но в Италии он писал не хуже”. Если к тебе
относятся, как к Шелли или Китсу — это не так плохо, но его удив-
ляло, что к британскому гостю в Америке относятся гораздо хуже,
чем к американцам в Англии.
Отношения с прессой состояли не из одних тягот. Приехав
в свой бостонский отель, Уайльд обнаружил там визитную кар-
точку, оставленную репортером, который представлял несколько
западных газет и просил о срочном интервью. Уайльд встретил
репортера в халате. В комнату вошел очень молодой человек, “ско-
рее даже мальчик, и по виду его я понял, что ему шестнадцать лет
или около того. Я спросил его, учился ли он в школе. Он отве-
тил, что оставил школу некоторое время назад. Он спросил моего
совета о том, как ему усовершенствоваться в профессии журна-
листа. Я поинтересовался, знает ли он французский. Он сказал,
что нет. Я посоветовал ему выучить этот язык и порекомендовал
ряд книг, которые ему следовало бы прочесть. Фактически я взял
у него интервью. Напоследок я дал ему апельсин и отослал вос-
вояси. Как он поступил с апельсином — не знаю; кажется, он был
ему рад”.
Облагораживание Америки
Что касается нынешних газет с их безотрад-
ной смесью политики, персон и полицейских
судов, меня давным-давно перестало интересо-
вать, что они обо мне пишут; мое время всецело
отдано богам и грекам.
Из Бостона Уайльд проследовал в Ньюхейвен, а оттуда, с несколь-
кими остановками, в Чикаго. Его сопровождали менеджер
Дж. С. Вейл, который заботился о деловой стороне поездки,
и чернокожий слуга У.М. Тракуэр, который пекся о его гардеробе.
Терпеливо прокладывая себе путь от штата к штату, он мино-
вал Средний Запад, переехал в Небраску, а оттуда в конце марта
в Калифорнию для двухнедельных выступлений, гонорар за кото-
рые, насколько известно, составил 5000 долларов. Оттуда он пет-
ляющим маршрутом двинулся через Канзас, Айову и Колорадо
в Нью-Джерси, и его первое турне окончилось 12 мая в Вирги-
нии. Первоначально он собирался читать лекции только до апреля,
но слава принесла новые ангажементы. Он говорил, что хочет вер-
нуться в Лондон, а оттуда в июле отправиться в Японию. Он пред-
ложил Уистлеру подумать о том, чтобы поехать в эту страну вместе
и написать о ней книгу, но ответом ему было молчание. Вместо
Уистлера Уайльд импульсивно пригласил составить себе компа-
нию молодого художника по имени Спенсер Блейк, с которым он
познакомился в Де-Мойне, и тот столь же импульсивно согласился
сопровождать его в качестве личного секретаря; затем они соби-
рались поехать в Австралию, затем в Лондон, затем осенью 1883 г.
обратно в Америку. Этот план не удался. Уайльд мог бы заработать
на поездку статьями о японском искусстве, а в Австралии лекци-
ями, но никто не предложил ему такой серии ангажементов, какую
устроил в Соединенных Штатах Карт. Полковник Морс предло-
жил ему после лекции в Шарлотсвилле отправиться в новое турне
по Америке, и Уайльд отложил дальневосточную поездку, не отка-
зываясь пока от этой идеи окончательно.
Он принял предложение Морса1 и с 13 мая разъезжал по Цен-
тральной и Восточной Канаде; месяц спустя он отправился на аме-
риканский Юг, где начал с Мемфиса и проехал по большинству
штатов. Затем двинулся на север и в середине июля, хотя обычный
лекционный сезон давно уже кончился, все еще читал лекции
на минеральных водах в штатах Род-Айленд, Нью-Йорк и Нью-
Джерси. Турне продолжалось, хотя и более вяло, до конца августа.
В конце сентября Уайльд отправился в третью поездку, длившуюся
три недели, по некоторым городам Новой Англии и Восточной
Канады; последняя лекция состоялась 13 октября в Сент-Джоне,
1 Нью-йоркский портной по фамилии Вирц сшил ему на заказ новую
одежду. Уайльд придумал для себя два новых костюма: один из чер-
ного бархата, другой цвета озера, мерцающего под луной, “couleur
du lac au clair de la lune”, оказавшегося на поверку мышиным цветом.
В состав черного костюма входил “гладкий черный облегающий бар-
хатный камзол без наружных пуговиц в стиле эпохи Франциска I”.
В нижней своей части “рукава из рельефного бархата с вышитым цве-
точным узором тесно облегают руку. Вверху они расширяются боль-
шими буфами из того же материала, только с более крупным рисун-
ком; полы из гладкого бархата. Рукава из шитого бархата с двумя
типами орнамента заканчиваются изысканными гофрированными
манжетами из шелкового муслина. Вокруг шеи узкие брыжи в три
ряда из того же материала, что и манжеты. Облегающие бриджи
застегиваются чуть ниже колен на две маленькие пуговки. Чулки
из черного шелка; туфли низкие, с серебряными пряжками. Читате-
лей могут заинтересовать размеры деталей костюма в дюймах: брюки
30 дюймов; нижняя часть камзола 45%; талия 38%; грудь 36%. Буфы
в верхней части рукавов 32 дюйма, нижняя часть рукавов 11 дюймов,
воротник 17 дюймов”. (“Нью-Йорк уорлд”, 4 мая 1882 г.)
233
провинция Нью-Брансуик. Затем он вернулся в Нью-Йорк
и больше не выступал.
Уайльд совершил необычайное путешествие. Если Америка
и не преклонила колен перед ее завоевателем, то все же половина
Соединенных Штатов и половина Канады услышали его лекции,
а не охваченные лекциями половины волей-неволей о них знали.
Вести о его выступлениях продолжали занимать и британскую
прессу; мать писала ему 18 сентября: “В Лондоне о тебе по-преж-
нему судачат; кебмены спрашивают меня, не родня ли я Оскару
Уайльду; молочник купил твой портрет! По существу, ты единст-
венное, что здесь превозносят. Когда вернешься, тебя будут ата-
ковать возбужденные толпы, и тебе придется прятаться в кебах”.
В Америке его стихи удостоились чести быть пиратски изданными
и продаваться по десять центов за экземпляр. Публиковались
популярные песенки с такими названиями, как “Вальсы-незабудки
Оскара Уайльда”, “Молодой томный ветреник” и “Милый Оскар!”.
Молодые женщины украшали головы “шляпками” из цветков
подсолнечника и пели при его приближении хоровой отрывок
из “Пейшснс”: “Мы двадцать девушек влюбленных...” Юморист
Юджин Филд однажды нарядился Уайльдом. С лилией в руке,
томно глядя в раскрытую книгу, он проехал 15 апреля по ули-
цам Денвера в открытом экипаже. Уайльд, узнав об этом, заме-
тил только: “Какая великолепная реклама для моей лекции!” Его
мнением постоянно интересовались в связи с планами создания
новых художественных школ и картинных галерей, и он не удер-
жался от того, чтобы похвастаться перед миссис Льюис, что моло-
дые художники смотрят на него как на бога1. Отношение самого
Уайльда к своей миссии становилось все более серьезным и под-
черкнуто вызывающим. 23 марта в Омахе, когда его спросили
о планах на будущее, он рассмеялся, зажег сигарету, откинулся
на спинку кресла и ответил буквально следующее: “Вы знаете,
я ведь очень амбициозный молодой человек. Я хочу заниматься
всем на свете. Не могу назвать вам предмета, которым я бы не хотел
заниматься. Хочу написать множество новых стихов. Хочу изучить
живопись доскональней, чем имел возможность до сей поры. Хочу
написать множество новых пьес, хочу сделать художественное дви-
жение, которое я представляю, основой новой цивилизации”.
Словно бы он сам решил руководствоваться советом, который,
как говорили, он дал в Бостоне: “Жить — вот высшая цель жизни.
Лишь немногие действительно живут. Подлинная жизнь только
1 Один пожилой художник, правда, был не столь почтителен: Джордж
Иннесе, давая в мае урок в нью-йоркской Студенческой лиге искусств,,
не позволил Уайльду войти.
234
5
в том, чтобы достичь совершенства, воплотить все свои мечты.
И это возможно”. Уайльд в смягченном варианте играл сразу
две роли — лорда Генри Уоттона и Дориана Грея, соблазнителя
и соблазняемого.
Вначале полковник Морс разводил даты лекций довольно
далеко, но после первых нескольких выступлений Уайльда он орга-
низовал серию однодневных гастролей наряду с некоторым коли-
чеством более длительных остановок в крупных городах. Узнав
от Уайльда, что он не возражает и против утренних лекций, он
добавил их в расписание. Уайльд поначалу мягко протестовал про-
тив шести выступлений в неделю, но потом приспособился. Хоть
он порой и опаздывал, он был добросовестен в исполнении своих
обязательств и в Саратоге даже нанял специальный локомотив,
чтобы вовремя попасть в Ричфилд-Сприпгс. Знаменитый пропо-
ведник Генри Уорд Бичер, чья репутация, правда, была подмочена
делом о разводе, к которому его привлекли в качестве соответчика,
проводил лето близ Нью-Йорка, и Уайльд нанес ему визит1.
К 15 июня суммарный доход от турне составил 18 215 долла-
ров 69 центов. За вычетом расходов, составивших 7005 долларов
6 центов, осталось 11210 долларов 63 цента, половину из которых
получил Уайльд. Это была круглая сумма. Были в ходе этого выгод-
ного путешествия такие моменты, когда Америка проносилась
мимо окон его поезда с ошеломляющей скоростью, так что одно
из его писем Стоддарту начинается словами: “Где-то и когда-то —
не знаю где, не знаю когда”. Но он не показывал своего смятения
настырным репортерам и в каждом городе, как правило, не только
читал лекцию, но и посещал картинную галерею и художественную
школу, встречался с местными знаменитостями на приемах и зва-
ных обедах. О том, что Уайльд был одним из самых очаровательных
и отзывчивых гостей Америки, так и не стало широко известно;
и тем не менее тысячи людей подпали под его обаяние. Вот, к при-
меру, отрывок из письма, в котором молодой человек по фамилии
Бабб рассказывает своей матери о посещении Уайльдом колледжа
штата Иллинойс в Джэксонвилле (письмо сохранилось благодаря
тому, что Джеймс, сын Бабба, впоследствии стал директорохм биб-
лиотеки Йельского университета): “У него великолепная дикция,
и его способности к изъяснению своих мыслей достойны высших
похвал. Фразы, которые он произносит, благозвучны и то и дело
Бичер не произвел на него сильного впечатления. Позднее на обеде
в лондонском Королевском литературном фонде кто-то сказал: “Мы
только что говорили о том, мистер Уайльд, что такого проповедника,
как мистер Толмедж, и сравнить невозможно с Генри Уордом Биче-
ром”. — “Вы совершенно правы, — отозвался Уайльд. — Это все
равно что сравнить второго клоуна с главным”.
235
вспыхивают самоцветами красоты. Мы с Манро Браунингом имели
удовольствие нанести ему визит в отеле Данлоп-хаус. Он был чрез-
вычайно сердечен; при нашем появлении и на прощание пожал
нам руки. Его разговор очень приятен — легок, красив, занимате-
лен. Он сказал, что, будь он молодым американцем, Запад имел бы
для него великую притягательную силу”. Воздействие этой лич-
ности на молодых людей было, вероятно, значительным, хоть оно
и не поддается измерению. К Уайльду до конца его жизни подхо-
дили люди, желая сказать, что слышали его лекции.
Довольно скоро после начала поездки Уайльд понял, что,
помимо “Английского Ренессанса”, ему понадобится еще по край-
ней мере одна тема для выступлений. Газеты Восточного побережья,
не стесняясь, заполняли колонки его высказываниями, приводи-
мыми почти дословно, и, поскольку их сообщения перепечатывали
потом другие газеты, многие слушатели Уайльда были неплохо
осведомлены о его взглядах еще до того, как он выходил на сцену.
Роберт С. Дэвис, с которым он подружился в Филадельфии, был,
вероятно, первым, кто посоветовал Уайльду подготовить новую
лекцию; 20 января он весьма настоятельно предложил назвать ее
“Современный эстетизм в повседневной жизни” и очертил круг ее
тем: жилище, костюм, сравнительная оценка произведений искус-
ства. Уайльд слушал внимательно, но дал себя уговорить не сразу.
Он упорно продолжал рассказывать про “Английский Ренессанс”,
пока не приехал в феврале в Чикаго. Там он должен был выступить
дважды и, узнав, что чикагские газеты уже располагают печатной
версией “Английского Ренессанса”, взятой из “Буффало курир”^
он спешно подготовил две новые лекции, которые читал затем '
повсюду. Одна, впервые прочитанная в марте, получила в итоге
название “Прекрасное жилище” (ужасное словосочетание, уве-j
ковеченное Пейтером)1. Другая, премьера которой состоялась^
13 февраля, называлась “Декоративное искусство”. Обе эти лекции \
отличались от первой: их темой была уже не история искусства, I
а практические пути применения эстетической доктрины.
“Декоративное искусство” ближе стояло к “Английскому Ренес-
сансу”, чем “Прекрасное жилище”; за примерами в этой лекции
Уайльд неоднократно обращался к Рёскину и Моррису. Он опи-
сывал недавний взлет ручных ремесел в Англии и преимущества, ,
которые имеет вещь, любовно сработанная ремесленником, перед
продукцией, изготовленной бесчувственными машинами. Он j
бойко переходил от пункта к пункту, мало заботясь о композиции
1 Первоисточник этого названия — аллегорический роман “Путь!
паломника” Джона Беньяна; посещение “Прекрасного жилища” —*!
один из эпизодов этого романа. (Примеч. перев.)
236
и все больше доверяясь “репризам”, которые вскоре стали необ-
ходимым элементом лекции. Современная одежда, утверждал он,
неблагородна, и это хорошо видно по монументам: “Мраморные
сюртуки и бронзовые двубортные жилеты статуй, воздвигнутых
в честь наших недавно умерших государственных деятелей, добав-
ляют к смерти новые ужасы”. Следует открывать школы искус-
ства, и оно должно быть теснее, чем сейчас, связано с ремеслами
и производством. Искусство должно изображать людей, которые
покрывают сушу сетью железных дорог и бороздят океан мощ-
ными судами. При каждой школе искусств должен быть музей,
подобный Южно-Кенсингтонскому музею в Лондоне, чтобы
художники и ремесленники могли приходить туда для изучения
образцовых работ в своей области. Лучше уж никакого искусства,
чем скверное искусство: “Я видел [в Филадельфийской школе при-
кладного искусства], как молодые барышни рисуют лунные ночи
на тарелках для жаркого и закаты солнца на тарелках для супа”.
За натурой для произведений искусства далеко ходить не надо:
“Самым изящным из всего, что я видел в жизни, был рудокоп
на колорадских серебряных приисках, прокладывавший новый
штрек ударами молота; будь он запечатлен в мраморе или бронзе
в любой миг работы, эта скульптура прославилась бы в искусстве
навеки”. Современные ювелирные изделия вульгарны, потому
что не уделяется должного внимания личному почерку мастера;
нынешние обои настолько плохи, что юноша, выросший в окле-
енном ими жилище и вставший на стезю преступлений, вправе
требовать от суда оправдания. Массивные фаянсовые чашки сле-
дует отвергнуть в пользу маленьких фарфоровых, из каких — он
видел это сам — пьют землекопы-китайцы. Наконец, надо изме-
нить систему образования: вместо того чтобы изучать “летопись
подлостей, какой является европейская история”, дети должны
в мастерской узнавать о том, как искусство может лечь в основу
новой всемирной истории, даря людям братство и всеобщий мир,
восхваляя Господа как искуснейшего творца и ремесленника, воз-
вещая приход новой красоты и нового воображения.
Лекция “Прекрасное жилище” была еще более предписывающей.
Уайльд совершал воображаемый обход дома и указывал на подме-
ченные им недостатки. Прихожую не следовало оклеивать обоями,
потому что в наружную дверь то и дело проникает уличный воздух;
лучше было обшить стены панелями. Пол в ней надо было покрыть
не ковром, а кафелем. В комнатах цвета стен и потолков должны
быть вторичными. Массивным газовым люстрам следует предпо-
честь настенные бра. Окна должны быть небольшими, чтобы свет
не слепил глаза. Нынешние уродливые отопительные печи должны
Уступить место кафельным голландкам. Никаких искусственных
237
цветов. Лучше дутое стекло, чем хрусталь. Мебель в стиле королевы
Анны. От убранства дома он переходил к одежде его обитателей.
Женщинам следует избегать оборок и корсетов — лучше взять
за образец одеяния греческих статуй. Что касается мужчин, в Аме-
рике из них хорошо одеваются только колорадские рудокопы с их
длинными плащами и шляпами с опущенными полями. Бриджи,
какие носит сам Уайльд, более разумный выбор, нежели обычные
брюки. Дав все эти указания, он переходил к связи между искусст-
вом и нравственностью. Он отнюдь не отрицал ее существование —
напротив, утверждал, что искусство имеет духовную миссию; оно
способно возвысить и освятить все, чего ни коснется; неодобрение
толпы не должно препятствовать его прогрессу.
Чудачеством это в общем-то почти не отдавало; в основном
то, что он говорил, укладывалось в рамки общепринятого. Уайльд
все больше уповал на воздействие не столько своих принципов,
сколько своей личности. Он научился оживлять лекции остро-
умными вставками по поводу местных достопримечательностей.
В Чикаго он посетовал на недавно построенную водонапорную
башню, сказав, что это “чудовищная пародия на замок с надстрой-
ками в виде перечниц и нелепыми подъемными решетками”; затем,
правда, он подсластил чикагцам пилюлю, добавив, что “мощное,
симметричное, гармоническое колесо” внутри башни удовлетво-
ряет наивысшим эстетическим требованиям. Не одобряя продук-
цию, изготовленную машинным способом, он соглашался с тем,
что благодаря машинам люди могут порой иметь больше свобод-
ного времени для возвышенных занятий. Вот что он, однако, ска-
зал в Омахе: “Зло, причиняемое машинами, заключено не только
в их продукции, но также в том, что они и людей превращают
в машины. Тогда как мы хотим, чтобы люди были людьми, иначе
говоря — художниками”. “Если Америка когда-либо произведет
на свет великого музыканта, — заявил он, — пусть он напишет
машинную симфонию”. Потом добавил уже не столь загадочно:
“Но сначала пусть упразднят паровой гудок”. На вопрос о том,
как ему понравился Сан-Франциско, он ответил: “Это Италия,
но без ее искусства”. Он одобрил “Дом о семи фронтонах” в Сей-
леме 1 и еще кое-какие здания; он воздал хвалу балтиморцу Чарлзу
Пратту за то, что он пожертвовал миллион долларов публичной
библиотеке. В Новом Орлеане он говорил о своем дяде — докторе
Дж. К. Элджи, в свое время активном стороннике отделения
южных штатов, который жил в близлежащем округе Рапиде. Вид
1 Город Сейлем — родина американского писателя Натаниэля Готорна,
один из романов которого называется “Дом о семи фронтонах”.
(Примеч. перев.)
238
реки Гудзон по дороге в Олбани получил его одобрение. Ниагар-
скому водопаду повезло меньше. "Ниагара переживет любую мою
критику, — оговорился он и продолжал: —Должен сказать, однако,
что это первое разочарование в супружеской жизни для тех много-
численных американцев, что приезжают сюда на медовый месяц”.
Главным, что ему не понравилось, было однообразие "бесконечной
водной массы, падающей не туда, куда следует”. Но, спустившись
в туннель, проложенный под водопадом, и увидев его снизу, он
проникся большим почтением: "Никогда, пожалуй, я столь сильно
не ощущал великолепие и красоту простых физических форм при-
роды, как в те минуты, когда я стоял у Столовой скалы. Удиви-
телен этот покой непосредственно под водопадом; на длительном
участке пути под рекой быстрота течения совершенно не чувству-
ется”. Водопад наводил его на мысли о бесстрастном созерцании,
о котором он иногда говорил в связи с искусством. "Другим, на что
я обратил внимание, — сказал он, — было диковинное повторе-
ние в очертаниях падающей воды одних и тех же форм, почти как
в рукотворном орнаменте. Я ощутил, насколько жестко то, что
кажется нам необузданной свободой, ограничивается неумолимым
законом”. Когда его попросили сделать запись в частном альбоме
в Проспект-хаусе близ Ниагарского водопада, он ударился в рито-
рику: “Рокот этих вод подобен рокоту, с которым мощная волна
демократии ударяется о берега, где в неге и блаженстве восседают
монархи”. Иронический отзвук этих слов слышится в “Вере”, где
в ответ на признание царевича: “Я слышу, как вдали отсюда мощ-
ная волна Демократии ударяется об эти проклятые берега” — князь
Павел замечает: “Тогда нам с тобой надо учиться плавать”.
Неожиданным результатом турне было то, что Уайльд вновь
открыл в себе ирландца. Избавившись в Оксфорде от ирландского
акцента, он до поездки в Америку и в остальном стремился свести
к минимуму различия между английским и ирландским. Соответ- 1
ственно, американские ирландцы поначалу встретили его в штыки.
14 января 1882 г., в начале его турне, нью-йоркская газета “Айриш
нейшн” опубликовала статью под неодобрительными заголовками:
Сын Сперанцы
Оскар Уайльд читает лекции о том, что он
называет английским Ренессансом
Крайний эстетизм
Разглагольствования о Красоте в то время, как
отвратительная тирания тучей нависает над
его родной землей
Прискорбная растрата таланта
239
Разъезжая по континенту, сын Сперанцы неожиданно увидел
в американских ирландцах своих потенциальных союзников, кото-
рым не было дела до его эстетики, но нравилась его националь-
ность. В день святого Патрика — покровителя Ирландии — он
находился в Сент-Поле (штат Миннесота), и католический свя-
щенник отец Шанли, представляя его, назвал его сыном “одной
из благороднейших дочерей Ирландии — той, кто в бурном
1848 году силой своего пера и возвышенного примера многое сде-
лала для того, чтобы пламя патриотизма разгоралось ярче”. Рас-
троганный Уайльд в ответ назвал ирландскую нацию в прошлом
“самой аристократической нацией Европы”, а Ирландию прежних
дней — всеевропейским университетом. “Рифма, основа совре-
менной поэзии, — это всецело ирландское изобретение, — гордо
заявил он. — Но с приходом англичан, — сообщил он собрав-
шимся, — искусство в Ирландии умерло и затем не подавало
признаков жизни более семи столетий. И я рад этому, потому
что искусство не может жить и процветать в условиях тирании”.
Все же искусство как импульс, как побуждение в Ирландии живо;
оно “в каждом струящемся ручье” и во всеобщем преклонении
перед великими ирландцами прошлого. Когда Ирландия, которую
Уайльд любил называть “Ниобой народов”, как Байрон называл
Рим, вновь обретет независимость, ее школы искусства также воз-
родятся.
Он живо откликнулся на убийство лорда Фредерика Кавен-;
диша “непобедимыми”1 в Феникс-парке 6 мая. Кавендиш однажды
обедал в доме Уайльдов на Мэррион-сквер. Репортеру, попросив*!
шему его прокомментировать убийство, Уайльд сказал: “Труднд '
пожать свободе руку, если эта рука запятнана кровью”. Потом он 1
добавил: “Мы забываем о том, какой груз вины лежит на Анг- .
лии. Она пожинает плоды семисотлетней несправедливости”. ,
За подобные замечания Уайльд удостоился непривычных для себя ;
похвал от авторов редакционных статей. Как правило, он подчерк
кивал свои республиканские взгляды, как, например, 21 февраля <
в Луисвилле: “Да, я последовательный республиканец. Никакая j
иная форма правления не дает столь благоприятных условий для j
развития искусств”. Британия тоже должна сделаться республи- [
кой, как он писал в стихотворении “Ave Imperatrix”. “Но, разуме- :
ется, я не мог развивать мои демократические принципы в беседах ’
с моим другом принцем Уэльским. Это, как вы понимаете, вопрос*'
светского такта”. (Насколько тактично похваляться связями с коро- }
левской семьей — вопрос особый.) Однако в апреле в Сан-ФраН- :
1 “Непобедимые” — члены ирландского тайного общества. (Примеч»
перев.) ?
2фО
циско он сказал репортеру, что его подлинные политические убеж-
дения изложены в сонете “Libertatis Sacra Fames”1, где он выражает
столь сильное отвращение к демагогам, что готов предпочесть им
диктаторов. Он отстаивал ирландскую культуру и в четвертой лек-
ции, называвшейся “Ирландские поэты 1848 года”, которую он
прочел сначала в Сан-Франциско, а затем еще в нескольких горо-
дах. Он помнил, как старшие из этих поэтов бывали у них дома —
например, Смит О’Брайен, Джон Митчел и Чарлз Гэван Даффи.
Уайльд высоко отозвался о них, как и о Томасе Дэвисе — поэте,
которого он назвал величайшим из этой плеяды, и о Джеймсе Кла-
ренсе Мангане, которого впоследствии ценили Йейтс и Джойс.
Он упомянул и о поэтах нынешнего дня — Фергюсоне, Уоллере,
Де Вире, “Еве” — и наконец перешел к своей матери, чью фо-
тографию он возил с собой. “О достоинствах поэзии Сперанцы
я, видимо, не должен говорить — ибо критика безоружна перед
лицом любви, но я готов принять вердикт, вынесенный наро-
дом”. Когда он отправился на юг Америки и переночевал в доме
Джефферсона Дэвиса2, он провел аналогию между сторонниками
Южной Конфедерации и ирландцами: и те и другие пошли в бой
и были разбиты, и заветная мечта у них одна — независимость.
Газеты процитировали его слова: “Принципы, ради которых вое-
вали Джефферсон Дэвис и весь Юг, не могут потерпеть пораже-
ние”. Сам он в письме миссис Хау высказался еще откровенней:
“Как они очаровательны, все неудачники!” Но он и на Севере
нашел чем восхищаться, когда разговаривал с генералом Грантом,
имевшим несчастье одержать победу.
Порой Уайльду представлялась возможность помогать искус-
ству непосредственно. Когда он был в Чикаго, молодой скульптор
Джон Донохью прислал ему небольшой барельеф, изображавший
сидящую девочку и задуманный как иллюстрация к стихотворе-
нию Уайльда “Requiescat”. Уайльд отправился к Донохью с визитом
и нашел его “в крохотной голой каморке под крышей большого
здания; посреди комнаты стояла статуэтка юного Софокла, руко-
водящего танцем и... пением на праздновании победы при Сала-
ми не, высочайший образец красоты и мастерства, ожидающий
в ишне того часа, когда он будет повторен в бронзе. Эта скуль-
п I \ ра намного превосходит все, что я до сих пор видел в Америке”.
Донохью, сказал он, напомнил ему “старинные итальянские исто-
Священная жажда свободы (лат.).
Позже он говорил, что южане на все дают один ответ: “Вам надо было
видеть это до Гражданской войны”. Он сполна почувствовал, какую
горечь может принести проигранная война, когда однажды вечером
в Чарлстоне сказал кому-то: “Какая красивая сегодня луна!” — и услы-
шал в ответ: “Вам надо было видеть ее, сэр, до Гражданской войны”.
241
рии о великих мастерах и об их борениях. Родившийся в бедной
семье, он ощутил стремление создавать красоту. Увидев однажды,
как рабочие делают лепной карниз, он попросил у них немного
глины, отправился с ней домой и принялся лепить. Один человек,
увидев, какой в нем талант, дал ему деньги на год учебы в Париже”.
Но теперь Донохью опять прозябает “на хлебе и редисе — пище
стоика”. В таком стиле Уайльд продолжал говорить о Донохью,
пока на скульптора не посыпались заказы; в итоге Донохью смог
перебраться в Париж и открыть там мастерскую. Однако впослед-
ствии, когда его благодетелю самому понадобилась помощь, Доно-
хью ее не оказал.
Уайльд содействовал и другим художникам. В Нью-Йорке он
заказал гравюру Джеймсу Эдварду Келли; тот изобразил его дер-
жащим за руку мальчика — возможно, сына Келли. В рекламных
оттисках Уайльд благоразумно использовал только ту часть, где
была его голова. В апреле в Сан-Франциско он позировал пор-
третисту Теодору Уорзу. 2 мая он назвал первым живописцем Аме-
рики Фрэнка Дювенека. В канадском городе Сент-Джоне (про-
винция Нью-Брансуик) он купил у художника Джона Майлза
акварель, изображающую морской берег. 2 июня он похвалил пей-
заж работы Хомера Уотсона и назвал его “канадским Констеблом”;
прозвание, хоть и не вполне подходило к Уотсону, закрепилось
за ним не без выгоды для художника. Позднее Уайльд устраивал,
Уотсону заказы и сам заказал ему работу. В Торонто Уайльд пози-
ровал Ф. А.Т. Данбару для бюста (ныне утерянного). Луи Фре-
шетта он назвал лучшим из канадских поэтов. В Новом Орлеане
он восхищенно отозвался о романах Джорджа Вашингтона Кейбла
и стихах отца Райана. Он написал для канадской художницы Фрэн-
сис Ричардс рекомендательное письмо Уистлеру и через некоторое
время позировал ей для портрета. Он нанес несколько визитов
нью-йоркскому художнику Роберту Блуму, чьими портретами он 4
восхищался. Одной из позировавших ему женщин он посоветовал*•
носить его любимые цвета — “кофе с молоком” и серовато-зел$4
ный плюс чайную розу; другой он сказал, что изысканные оттенка!
блумовской живописи вызывают у него такое же ощущение, как 5
если бы он ел ложкой желтое атласное платье. Уайльд не пытался
афишировать свои благодеяния. Об иных из самых важных своих
воздействий на людей он сам так никогда и не узнал. Например,
миссис Джозеф Пеннел, позже ставшая самой верной ученицей
и подругой Уистлера, впервые услышала о художнике именно
от Уайльда во время его турне. Натали Клиффорд Барни, которой
было тогда шесть лет, посидела у Уайльда на коленях и приписала
впоследствии свое решение стать писательницей именно этому
решающему эпизоду.
2ф2
В отличие от Уистлера Уайльд не искал ссор и был добр даже
к бездарностям. Когда ему присылали рукописи, он всегда читал
их и давал отзыв. Получив от Анны Моррисон Рид сборник сти-
хов под названием “Гефсиманский сад”, он 31 марта писал в ответ:
Мадам! Я с большим удовольствием прочел Ваш очаровательный
томик со всей его сладкой и простой радостью полей и лугов, с его
сочувственными прикосновениями к тем струнам жизни, которые
Смерть и Любовь сделали для нас вечными. Примите мою благодар-
ность за Вашу доброту и мои уверения в преданности Вам.
ОСКАР УАЙЛЬД.
В Цинциннати, услышав от дамы, у которой был в гостях, что
она иногда пишет стихи, он стал уговаривать ее их опубликовать.
“Возможно, на небесах, — ответила она, — вместо того, чтобы
задавать приемы, я издам книжицу”. — “Не надейтесь, — возра-
зил Уайльд. — Издатели туда не попадают”. Доброте его, однако,
порой мешали проявиться его представления об этикете; именно
в Америке он восстановил против себя английского актера Чарлза
Брукфилда, заметив ему, что не следует сидеть за чайным столом
в перчатках. Брукфилд так его и не простил.
Главным протеже Уайльда был его друг Реннел Родд. В конце
июля Уайльд уже держал в руках отпечатанный томик стихов Родда
“Лепесток розы, лист яблони” и договорился о том, чтобы автору
уплатили небольшой аванс. Уайльд был доволен тем, как Стод-
дарт исполнил его указания, и заявил, что книга “полиграфиче-
ский шедевр”. Изданная тиражом в 175 экземпляров, она была
переплетена в пергамент, как и “Стихотворения” самого Уайльда;
название было напечатано красным и черным цветом. Стихи рас-
полагались только на одной стороне белого листа и перемежались
пустыми бумажными вклейками яблочно-зеленого цвета (бумага,
которую обнаружили на одном филадельфийском складе, перво-
начально предназначалась для печатания денег). Для титульного
листа художник Келли, с которым Уайльд подружился, изобра-
зил печатку кольца, подаренного Уайльду матерью. Предисловие,
озаглавленное “Envoi” (“Посылка”), было написано в цветистом
Уайльдовском стиле и заключало в себе не только похвалы Родду,
но и программу движения, которое Уайльд назвал “современной
романтической школой”. Эту школу он отграничил как от Рёскина
с его поиском благородных нравственных идеалов, так и от пре-
рафаэлитов (которых он, правда, не назвал впрямую) с их реми-
нисценциями и сюжетностью. Школа Уайльда ориентировалась
скорее на Уистлера и Альберта Мура, чьи работы не имели смы-
сла вне композиции и цвета. Целями были объявлены формаль-
243
ное совершенство и полнота самовыражения. Пребывая за гранью
веры и скепсиса, новые поэты пробовали на себе различные формы
религии и окрашивали свою внутреннюю жизнь “чувствованиями,
которые и поныне витают вокруг некоторых прекрасных вероиспо-
веданий”. Они не ставили перед собой никаких интеллектуальных,
метафизических или дидактических задач; все было подчинено
“животворящему поэтическому принципу”. Идеям они предпочи-
тали впечатления, устойчивым состояниям — мимолетные порывы,
типам — исключения, темам — ситуации. Искренность не стояла
во главе угла; она понималась “лишь как пластическое совершен-
ство исполнения, без которого стихотворение или картина... пред-
ставляет собой зряшный, неосуществленный труд”1.
Родд получил экземпляр своей книги в начале октября. Бегло
взглянув на нее, он остался доволен великолепной полиграфией
и написал Стоддарту благодарственное письмо. Потом он по-
смотрел пристальнее. Хотя он и собирался посвятить книгу Уай-
льду, он не предполагал, что его друг использует надпись, сделан-
ную Роддом на экземпляре английского издания, подаренном им
Уайльду:
ОСКАРУ УАЙЛЬДУ -
“СЕРДЕЧНОМУ БРАТУ” —
ЭТИ НЕСКОЛЬКО ПЕСЕН И ЕЩЕ МНОГИЕ,
КОТОРЫЕ БУДУТ СПЕТЫ.
Здесь было гораздо больше пылкости, чем ему бы хотелось.
Не понравилась ему и программа, изложенная в предисловии, ибо
она, по его словам, изображала его “неким учеником” и объединяла ,
его “со многим из того, к чему я не испытываю симпатии”. Уайльд,,
кроме того, написал об их тайных совместных поездках на конти- !
нент. Позволяя себе пренебрегать привычными формами в одежде ;
и мышлении, Уайльд не понимал, что Родд, чья многообещающая *
1 Все это в меньшей степени подходило к стихам Родда, нежели к двум
“Impressions” (“Впечатлениям”) самого Уайльда, которые опубликовал ’
15 февраля в своем филадельфийском журнале “Аур континент” его
друг Роберт Стюарт Дэвис. Первое из них под французским назва-
нием “Le Jardin” (“Сад”) было написано в ответ на обещание упла-ч
тить по гинее за строчку стихотворения, в котором упоминались бы i
лилия и подсолнечник. Второе, названное “La Мег” (“Море”), было,]
вероятно, написано во время путешествия через Атлантику: “На ван-
тах ледяной покров, / Морозный прах окутал нас, / Луна как злоб-,
ный львиный глаз / Под рыжей гривой облаков” (перевод И. КопО--
стинской). Оба этих стихотворения представляют собой чистый
зарисовки, сознательно лишенные всякого содержания вне описаний i
как таковых. '
244
карьера в Министерстве иностранных дел тогда только начиналась,
не может позволить себе огласку подобного рода. Родд написал
письмо с просьбой снять посвящение, но было уже поздно. Тираж
поступил в продажу, и насмешливая заметка в “Сатердей ревью”
от 4 ноября 1882 г. оправдала опасения Родда. Анонимный автор
с неослабевающим сарказмом описал вид книги, затем высмеял
великое отступничество от дидактики Рёскина и издевательски
процитировал ‘'Посылку” Уайльда: “Среди “многих молодых
людей”, которые идут за мистером Уайльдом, “мне всех дороже”
возлюбленный мистера Уайльда и муз мистер Родд”. По поводу
этой заметки Суинберн в тот же день написал другу: “Ты читал
в “Сатердей” про молодого человека, который состоит при Оскаре
Уайльде, как Гефестион при всепобеждающем Александре? Вои-
стину из-за этих идиотов хочется стать уэслианцем1 и впредь
писать только для журнала “Методист мэгазин”. Уайльд хотел сде-
лать Родду приятное, но в результате только перепугал его.
Иные из ситуаций, в которые Уайльд попадал в Америке, были
довольно рискованными. 19 сентября брокер Г. К. Баррис повел
его на Уолл-стрит, где угроза нападения со стороны служащих
совершенно неэстетического вида заставила их спешно ретиро-
ваться через заднюю дверь биржи. В середине октября в канад-
ском городе Монктоне, провинция Нью-Брансуик, Уайльда едва
не арестовали, а в декабре в Нью-Йорке его едва не обчистили.
Монктонский эпизод случился в связи с приглашением от Хри-
стианского союза молодых людей прочесть в определенный день
лекцию. Агент Уайльда попросил изменить дату и, не получив
ответа, согласился на другое предложение. Было подготовлено
предписание шерифа о задержании Уайльда. К счастью, канадские
друзья поручились за него и оказали на ХСМЛ необходимое дав-
ление, после чего претензии были сняты.
Нью-йоркское приключение произошло с Уайльдом 14 дека-
бря 1882 г., когда на улице к нему подошел молодой человек
и назвался сыном Энтони Дж. Дрекселя, сотрудника банка Мор-
гана, с которым, по его словам, Уайльд познакомился в Америке.
Уайльд не припомнил ни отца, ни сына, однако пригласил моло-
дого человека на ланч. “Дрексель” сказал, что только что выиграл
в лотерею и направляется за деньгами; он пригласил Уайльда соста-
вить ему компанию. Место, куда они пришли, оказалось игор-
ным притоном, и выигрыш “Дрекселя”, как выяснилось, состоял
в праве сыграть кон за счет заведения. Он великодушно заявил,
Уэслианцы — последователи методистской церкви, одним из основа-
телей которой был Джон Уэсли (1703-1791). (Примеч. перев.)
245
что сыграет в пользу Уайльда, и, выиграв, отдал ему деньги. Уайльд
поставил их на кон и после первого успеха стал крупно проиг-
рывать. Выписав чеки на сумму более 1000 долларов, он нако-
нец прекратил игру. “Дрексель” вышел вместе с ним, сказал, что
с Уайльдом, он чувствует, обошлись не по-честному, и пообещал
“принять меры”. Уайльд одумался, кинулся в банк и заблокировал
платежи по чекам. Затем отправился на 30-ю улицу в полицейский
участок и сказал капитану, отнесшемуся к нему сочувственно, что
вел себя как “последний дурак”. Ему показали фотографии неко-
торых известных аферистов, и он увидел, что “Дрексель” — это
“Голодный Джо” Селлик, один из хитрейших во всей этой ком-
пании. Капитан убеждал Уайльда подать официальное заявление,
но тот отказался. Через несколько дней — возможно, в порядке
благодарности от Селлика — чеки, по которым все равно ничего
нельзя было получить, были присланы по почте в полицию, откуда
их переслали Уайльду. Но наличные деньги, которые он тогда про-
играл, так и пропали. “Я угодил в воровской притон”, — мрачно
написал он Джону Бойлу О’Райли. “Нью-Йорк трибюн”, радуясь
его беде, обратилась к поэзии:
И тут он, глядя весело и просто,
С улыбкой детской, простодушной, славной
Сказал ему: “Теперь, мой милый Оскар,
Я вас порадую игрой забавной”.
Другим его неудачным шагом была покупка акций компании j
“Перпечуал моушн”, принадлежавшей Келли; Уайльд тщетно ожи- I
ддл от них огромного барыша. Ощущение рока уравновешивалось j
верой в свою счастливую звезду. I
Еще дважды Уайльд входил в близкое соприкосновение с бедой. |
4 июля в Атланте он впервые испытал ужас расовых предрассуд- |
ков. Его агент Вейл заранее купил три билета в спальный вагон J
до Саванны для Уайльда, для себя и для чернокожего слуги Траку- I
эра. Служащий компании “Пульман” сказал им, что, согласно пра- |
вилам компании, неграм не разрешается лежать на койках спаль- |
ных вагонов. Уайльд ответил, что Тракуэр проехал с ним по всему j
Югу, и потребовал, чтобы ему разрешили остаться. Служащий ’
заметил, что следующая остановка будет в Джонсборо, и, если там ;
увидят в вагоне негра, может дойти до рукоприкладства. Уайльду 3
пришлось уступить.
Другой случай был из числа тех предвестий будущего, что f
нередко являлись Уайльду на протяжении его жизни. 23 апреля он ,
приехал в Линкольн, штат Небраска, где вечером следующего дня j
ему предстояло выступить с лекцией. Утром 24-го Уайльда позна-1
246
комили с молодым преподавателем университета штата Небраска.
Это был Джордж Вудберри, впоследствии ставший известным
специалистом по сравнительному литературоведению. Уайльд
уже слышал о том, что Вудберри дружен с Чарлзом Элиотом Нор-
тоном, и был рад его обществу. Вместе они отправились “сквозь
сырость и заросли тутовых деревьев” к Линкольнской тюрьме, где
Вудберри, как и Уайльд, впервые ступил за порог исправительного
заведения. Вудберри написал впоследствии Нортону о том, “как
я был удручен тем ужасным, что мне пришлось там увидеть”, и,
хотя ему показалось, что Уайльд перенес зрелище лучше, Уайльд
в письмах в Англию признавал, что и его потрясла безотрадность
тюрьмы. Он проявил детскую веру в физиогномику. Когда ему
показали фотографии некоторых заключенных, он сказал об одном
из них: “О, какое жуткое лицо. Что же он сделал?” Надзиратель
Ноубс не преминул в красках живописать деяния преступников.
“Боже мой, это же сущее животное! — воскликнул Уайльд, глядя
на один из снимков. — Ничего человеческого в нем не осталось”.
Позднее он написал Хелене Сиккерт: “У всех прегнусные физио-
номии, что меня утешило: мне бы так не хотелось увидеть пре-
ступника с благородным лицом”. Затем его провели в выбелен-
ную камеру, где содержался некто Эрз из Гранд-Айленда, которого
20 июня должны были повесить. “Читаете, друг мой?” — спросил
у него Уайльд. “Да, сэр”. — “А что?” — “Иногда вот^оманы. Сей-
час читаю “Наследника Редклиффа” [Шарлотты М. Ионг]”. Когда
Уайльд со своими спутниками покинул камеру, он не удержался
от замечания в духе Уэйнрайта “Когда я увидел глаза обреченного
человека, сердце мое перевернулось, но, раз он читает “Наслед-
ника Редклиффа”, пусть правосудие свершится”. Хелене Сиккерт
он в более серьезном ключе писал, что чтение романов “скверная
подготовка к тому, чтобы предстать перед Богом или Ничем”.
Затем они приблизились к темному карцеру, куда помещались
нарушители тюремного распорядка. По предложению Ноубса
Уайльд и Вудберри вошли туда; услышав, как за ними с лязгом
захлопнулась массивная дверь, они оказались в “исправительном”
мраке. Эти неприятные впечатления были несколько сглажены
посещением камеры другого заключенного, где Уайльд увидел
две полки с аккуратно стоящими книгами. Он быстро пробежал
глазами по корешкам и увидел сначала Шелли, а затем, к своему
удивлению, Данте в переводе Кэри. “Боже мой, — воскликнул
он, — я и подумать не мог, что обнаружу здесь Данте”. Потом он
Уэйнрайт Томас Гриффитс (1794-1847) — английский критик
и художник, осужденный за убийства и подлоги. Уайльд сделал его
героем своего эссе “Кисть, перо и отрава”. (Примеч. перев.)
247
написал Хелене Сиккерт: “Удивительным и прекрасным показа-
лось мне то, что скорбь некоего флорентинца в изгнании сотни
лет спустя служит утешением в скорби простому узнику в совре-
менной тюрьме”. Четырнадцать лет спустя, когда он сам окажется
в тюрьме, он тоже будет читать Данте.
Под влиянием этих переживаний он разоткровенничался
с Вудберри сильней, чем с большинством из своих знакомых. Они
заговорили о Рёскине, и Уайльд сказал: “Как Христос, он несет
бремя грехов всего мира”, но затем, парадоксальным образом,
добавил: “Однако всегда, как Пилат, умывает руки, лишь запах-
нет ответственностью”. В ответ на явственный упрек Вудберри
в том, что он слишком резко отстраняется от любых соображе-
ний морального порядка, Уайльд сказал: “Я только раз в жизни
был тронут чем-то неосязаемым и невидимым, и это произошло
непосредственно перед тем, как я написал “Ave Imperatrix”. Он
добавил: “Поэзия не должна быть ни интеллектуальной, ни эмо-
циональной” (то есть ни дидактической, ни автобиографической).
Когда Вудберри указал ему на то, что его собственные стихи про-
тиворечат его же принципам, Уайльд ответил: “Ну, ведь эти стихи
не лучшие”.
И все же, как ни хмурился Вудберри, он был побежден:
“Я не встречал еще человека, чье обаяние охватило бы меня столь
незаметно и столь стремительно, с такой всеобъемлющей сладо-
стью. Его стихи лучше, чем его теории, а сам он лучше, чем его
стихи”. “Он первый человек художественного склада, увиденный
мною в жизни, первый, в ком художественное начало главенствует.^
Он напоминает шекспировского Ричарда II способностью глубоко]
переживать драматические ситуации безотносительно к целям!
и фактам, к намерениям и настроениям — то есть способность^
жить”. После лекции, прочитанной Уайльд ом в пресвитерианском
Дорожной церкви в Линкольне, Вудберри сказал: “В день вашего!
выступления меня единственный раз за долгое время потянуло!
в церковь”. (Он, следует отметить, был тогда из-за своих религий
озных сомнений близок к тому, чтобы лишиться работы.) Уайльд |
ответил: “А знаете, мистер Вудберри, ведь это самое горькое|
из всего, что было мне сказано”. Вудберри писал потом Нортону: j
“Разве не забавно, что он, апостол прекрасного, навеки теперь^
будет связан в моем сознании с моим первым переживанием пре-;
ступлсния и несчастья в музыке1 и с пресвитерианской церковью?*’
И это был лишь один из многих случаев, когда Уайльду было
оказано лестное внимание. В Луисвилле он процитировал “Сонет;
о голубом цвете” Китса, чем, сам того не подозревая, восхитил j
1 Вероятно, имеются в виду церковные гимны.
248
одну из слушательниц, которая оказалась племянницей Китса,
дочерью его брата Джорджа. Миссис Эмма (Китс) Спид пригла-
сила Уайльда к себе взглянуть на принадлежавшие ей рукописи
дяди, и Уайльд произвел на нее такое впечатление, что она позднее
прислала ему рукопись этого сонета в подарок. В июле в Нью-
порте у Джулии Уорд Хау Уайльд поразил компанию тем, что смог
переговорить двух великих бостонских мастеров беседы Томаса
Апплтона и Оливера Уэнделла Холмса. Он отнюдь не был огор-
чен сплетней, появившейся затем в газетной светской колонке —
и совершенно беспочвенной, — о том, что он собирается жениться
на дочери миссис Хау по имени Мод, так что самой миссис Хау
пришлось опровергать слух: “Если когда-либо в мире существо-
вали два человека, не испытывающие друг к другу совершенно
никакой симпатии, то они и есть эти двое”. Уайльд не возражал,
когда утверждали, что в течение его турне он влюблялся пять раз
и в каждом из пяти случаев оказался бы в тенетах, если бы мене-
джер не настаивал на продолжении поездки. Познакомившись
‘ с мисс Эльзацией Аллен из Монтгомери, штат Алабама, он объ-
явил ее “самой красивой молодой леди Америки”, и еженедель-
ник “Саратога уикли джорнал” привел это высказывание в номере
за июль—август 1882 г. Но Сэму Уорду он признался, что сердце
его осталось в Сан-Франциско.
Это произошло на одной из встреч “запросто”, в которых он
порой участвовал, на чаепитии в сан-францисской мастерской, куда
его пригласили некие молодые художники. Они украсили помеще-
ние с превеликим тщанием, вплоть до того, что расписали застек-
ленную крышу розами и розовыми лепестками и поставили около
двери манекен, изображавший женщину в шляпке и вуали, кото-
рую они окрестили “мисс Таратор”. Специально пришел их при-
ятель-китаец приготовить и подать чай. Уайльд вошел, посмотрел
на гостей, на склонившегося китайца, на расписанную розами
застекленную крышу и сказал: “Вот где я чувствую себя как дома.
Здешняя атмосфера как раз по мне. Мне и в голову не могло прийти,
что в Соединенных Штатах существует такое место”. Он похвалил
чай и чайные чашки; затем, бродя по мастерской и восхищаясь ее
убранством, едва не сшиб с ног мисс Таратор. Он с извинением
отпрянул, и только тут до него дошло, что это манекен. Уайльд,
который сам себя выдумал и вырядил, проникся к ней братскими
чувствами. Не меняя тона, он повел с ней беседу о Сан-Франциско.
Он отвечал на ее воображаемые реплики так остроумно и весело,
что казалось, будто она и вправду участвует в разговоре.
Уайльд описывал свои американские похождения со смешан-
ным чувством тщеславия, удивления и иронии. В репортаже
с места событий, который он вел в письмах на родину, нашли отра-
249
жение некоторые поразившие его эпизоды — например, выступле-
ние в Солт-Лейк-Сити, где каждый глава мормонского семейства
сидел в зале, окруженный целым сонмом жен; или великолепный
ренессанс искусств, обнаруженный им в городе, куда он приехал,
а именно, в Григгсвилле, штат Иллинойс. Позднее он усовершен-
ствует эти рассказы. Одно из лучших его приключений, впоследст-
вии тоже весьма и весьма расцвеченное, произошло высоко в Ска-
листых горах в Ледвилле. Уайльд хорошо подготовился к поездке:
помимо обычного его зеленого пальто, на нем были мешковатые
брюки и горняцкая черная шляпа с опущенньши полями. Пока
ехали по узкоколейке, поднимаясь на высоту 10 000 футов, он
покинул свой вагон и перебрался в кабину к машинисту; когда
тот узнал, что Уайльд тоже ирландец, у них завязалась оживленная
беседа. Но, прибыв на место, Уайльд почувствовал недомогание,
и пришлось вызвать врача. Тот, однако, диагностировал всего лишь
“непривычку к разреженному воздуху высокогорья”, и чествование
Уайльда прошло по намеченной программе. Мэр городка — “сере-
бряный король” Тейбор — пригласил его осмотреть “Несравнен-*
ный рудник”. Уайльда спустили в шахту в клети; оказавшись внизу,
он обнаружил, что ему предстоит участвовать в двух церемониях.
Одна заключалась в том, что он должен был серебряным буром
открыть разработку новой жилы, названной в его честь “Оскар”.
“Я надеялся, — писал он позже, — что в той же благородно-бесхи-
тростной манере они предложат мне пай в “Оскаре”, но они с при-
сущим им неотесанным простодушием этого не сделали”. Второй i
церемонией был подзехмный ужин. “Когда рудокопы увидели, что |
искусство и аппетит могут прекрасно сочетаться, изумлению их
не было предела”, — отметил Уайльд в письме. Когда он закурил
сигару, раздались одобрительные крики; когда он, не поморщив-
шись, осушил стакан, про него сказали, что он “малый не промах”.
Что касается застолья, “на первое было виски, на второе виски,
на третье тоже виски, трапеза состояла из одного виски, но все
равно называлась ужином”; он не дерзнул оспорить это название.
“Вечером я отправился в местное казино, — вспоминал потом
Уайльд. — Там я увидел рудокопов и их подружек, а в одном углу
сидел тапер; над его пианино красовалась надпись: “Пожалуйста,
не стреляйте в тапера — он играет, как может”. Я был потрясен
подобным признанием того факта, что дурное искусство заслу-
живает смертной казни, и почувствовал, что в этом отдаленном
городке, где эстетические прерогативы револьвера, по крайней
мере в области музыки, установлены с полной ясностью, мое апо-
стольское служение сильно упростится, как оно и вышло на самом
деле”. В “Герцогине Падуанской” герцог с изысканной жестоко-
стью говорит об орущих демонстрантах:
250
Увы,
Они немного выбились из тона,
И я отдам приказ по ним стрелять —
Я скверной музыки не выношу!
Позднее, когда его спросили, верно ли, что горняки — люди
прямые и грубые, Уайльд встал на их защиту, как он потом
часто вставал на защиту людей из низших слоев: “Прямые — да,
но не грубые. По сравнению с людьми, которых я встречал в боль-
ших городах на востоке страны, они как раз отличаются утончен-
ностью и воспитанностью... Они при всем желании не могут быть
грубыми. Револьвер заменяет им учебник этикета. Уроки, которые
он дает, не забываются”. На лекции слушатели позабавили высту-
пающего сильнее, чем он — их: “Я говорил им о ранних фло-
рентинцах, а они спали так невинно, как если бы ни одно пре-
ступление не осквернило ущелий их гористого края”. Но затем он
“имел неосторожность” описать им один из уистлеровских “нок-
тюрнов в синем и золотом”. “Тут они дружно повскакали на ноги
и со своим дивным простодушием поклялись, что такого быть
не должно. Те, кто помоложе, выхватили револьверы и поспешно
вышли посмотреть, “не шатается ли Джимми по салунам”. Он по-
смотрел представление “Макбета”, в котором леди Макбет играла
женщина, осужденная за отравление (можно провести параллель
с влюбленной Сибилой Вэйн в “Дориане Грее”, играющей Джу-
льетту). Поскольку рудокопы добывали серебро, Уайльд прочел им
выдержки из автобиографии Бенвенуто Челлини — знаменитого
серебряных дел мастера. “Слушатели упрекнули меня в том, что
я не привез его с собой. Я объяснил им, что он умер некоторое
время назад, и они принялись допытываться: “Кто его укокошил?”
Уайльд настолько забавно описывал свой визит в Ледвилл, что его
заслуга — он как-никак доставил в этот город искусство — ото-
шла на второй план. Не было такого вызова, которого он не отва-
жился бы принять. Он шутливо хвастался Уистлеру: “Америку
я уже цивилизовал — il reste seulement le ciel! ”1
Все это турне было образцом смелости и изящества, равно как
неуместности и саморекламы. Уайльд сумел привить в Америке
спово “эстетический”, пусть даже американцы писали и произ-
носили его неправильно. Сколь бы женственной ни считали его
доктрину, она дала начало самой решительной и упорной атаке,
какой подвергся вульгарный материализм за всю историю Аме-
рики. То, что сама эта атака была немного вульгарной, не умень-
1 Осталось только небо! (фр.)
2J1
шало ее силу. Уайльд учил не только теории искусства, но и пра-
ктике построения выдающейся личности, которая являет собой
антитезу простому существованию, не заботящемуся о качестве
жизни. Газеты могли быть к нему несправедливы, но они сполна
отдали ему дань внимания. Отныне облику художника стали при-
сущи героические черты; те, кто хотел сделать из него жертву,
могли дорого поплатиться за это. А Уайльд между тем не спешил
возвращаться домой.
Театр мечты
Зритель должен быть восприимчив. Он —
скрипка, на которой мастеру надлежит сыграть.
К удивлению родных и друзей Уайльда, после того как в середине1
октября 1882 г. его лекционное турне окончилось, он задержался
в Америке еще почти на два с половиной месяца. Он переехал ,
из отеля на Пятой авеню Нью-Йорка сначала в Брансуик-отель,-
затем в Виндзор-отель, затем в деловой центр города на Ирвинг-1
плейс, 61 (угол 17-й улицы) и, наконец, в Гринвич-Виллидж!
(Западная 11-я улица, 48). Его мать, благодаря за деньги, которые^
он ей послал, писала ему: "Ты так засиделся в Нью-Йорке, что я уж |
подумала, не уехал ли ты в Японию”. И добавила: “Ты великолепно |
бился на протяжении всего пути”. Видимой причиной отсрочки |
его отъезда был приступ малярии, о которой он так отозвался |
в интервью газете “Эндрюс американ куин”, опубликованном!
23 декабря: “Болезнь, конечно, эстетическая, но чертовски непрИг!
ятная”. (В 1895 г. в его домашней аптечке все еще был хинин, та^|
что, возможно, он испытывал рецидивы.) Но были еще два обстсй!
ятельства, которые его задерживали. Во-первых — предстоящий!
приезд Лили Лэнгтри, которая после недолгого периода учениче*!
ства в Лондоне создала свою собственную театральную компанию |
и собиралась на гастроли в Америку. На протяжении всего турне;
Уайльд называл ее участницей своего движения, живущей у себ^<
дома в окружении эстетических объектов, и восхвалял не только ed Г
красоту, но и ее “восхитительно музыкальный и великолепно гиб*,
кий голос”. “Даже мои скромные сонеты в ее чтении заставляю? :
меня трепетать от восторга. Я буду посвящать их ей, даже когд^
ей исполнится девяносто”, — заявил он той же газете 18 ноября :
1882 г. В Монктоне репортер спросил его, не он ли ее открыл, и оН;
изящно ушел от ответа: “Я бы предпочел честь открытия миссис <
252
Лэнгтри чести открытия Америки”. Это замечание было подхва-
чено и другими изданиями.
Она прибыла на пароходе “Аризона” 23 октября. Уайльд встал
ни свет ни заря, чтобы успеть на катер, отправлявшийся от при-
стани в 4.30 утра. На следующий день газета “Нью-Йорк тайме”
так описывала его внешность:
Он был одет так, как, вероятно, не одевался до него ни один
взрослый человек на свете. На нем была коричневая шляпа высотой
не менее шести дюймов; пиджак из черного бархата; пальто зеленого
цвета, отороченное густым мехом; брюки в тон шляпе; были кри-
чаще-яркий галстук и сильно открытая спереди рубашка, оставлявшая
видимой немалую часть его мужественной груди. Туалет дополняли
коричневые матерчатые перчатки и несколько прыщиков на подбо-
родке. Его волнистая шевелюра и меховая опушка пальто были в точ-
ности одного оттенка, так что казалось, будто его волосы, зачесанные
набок, спускаются до пят и затем поднимаются к голове уже с другой
стороны.
Уайльд нес охапку лилий, которые вручил с соответствующей
торжественностью.
Неделю спустя (в воскресенье 29 октября) миссис Лэнгтри
должна была выступить на сцене театра “Парк-тиэтр” в роли
Хестер Грейзбрук в пьесе Тома Тейлора “Неравный брак”. В тече-
ние этой недели Уайльд оказывал ей разнообразные услуги. Он
возил ее к Сарони делать живописные фотографии1. Узнав, что
она собирается также сыграть Розалинду в “Как вам это понра-
вится”, он стал уговаривать ее не надевать в этой роли длинные
сапоги, как делала Роза Коулан. В ответ она затеяла с ним спор
о том, как ему зачесывать его волнистые локоны. Она познако-
милась с богатым американцем Фредди Гебхардтом и однажды,
когда Уайльд был у нее, неожиданно кинула в Оскара дорогим
ожерельем. Потом объяснила: “У меня только что был Фредди, он
вдруг вынул это из кармана и швырнул мне через стол с такими
словами: “Хотите — можете оставить себе”. Вот ведь неотесанный
медведь! И я почувствовала, что непременно должна швырнуть
это кому-то еще”. Уайльд вряд ли был этому рад. Известен и дру-
гой фрагмент их разговора. Она спросила Уайльда, почему он
хочет ехать в Австралию, и он ответил: “Вы знаете, когда я гляжу
на карту и вижу, как уродливы очертания Австралии, я чувствую,
Он рассказывал впоследствии, что она снялась там “на непритязатель-
ном фоне Ниагарского водопада”.
253
что должен поехать туда и постараться придать ей более красивую
форму”1.
Утром в день премьеры миссис Лэнгтри в сопровождении
Дэвида Беласко ездила осматривать передвижную двойную сцену,
которую недавно изобрел Стил Маккей. Вскоре после этого она
услышала ужасную весть: “Парк-тиэтр” горит. Спектакль отме-
нили, но, к счастью, неделю спустя в театре Уоллека выдался
свободный вечер. 6 ноября Уайльд посмотрел премьеру вместе
со Стилом Маккеем, а затем по предложению его друга Херлберта
из “Нью-Йорк уорлд”, как был, в бриджах отправился в наборный
цех этой газеты и там написал рецензию на спектакль. Озаглав-
ленная просто “Миссис Лэнгтри”, она начиналась как панегирик
ее красоте, подобная которой, утверждал Уайльд, существовала
только в Древней Греции; что касается ее игры, Уайльд определил
ее как художественный сплав “классической грации” и “абсолют-
ной естественности”. Уайльд связал новое движение в английском
искусстве, пришедшее на смену прерафаэлитам, с воздействием
внешности миссис Лэнгтри. Ее сценические костюмы восхитили
его, в отличие от декораций, хотя ее красота сделала их маловаж-
ными. О самой пьесе, которая явно была посредственной, он
мало что мог сказать; однако он расценил спектакль как попытку
соединить в одном лице Красоту с Искусством, и Лили Лэнгтри
его отзыв не мог не понравиться. Через несколько дней она отпра-
вилась на гастроли, в ходе которых вокруг нее в прессе разразился
скандал, поскольку она распространяла красоту среди американ-
ских мужчин в несколько иной манере, нежели Уайльд. 1 * * * * * * В
1 Уайльд не Шотландию, а именно Австралию сделал обычной мише-
нью своих географических шуток. В феврале 1889 г. он опубликовал
в австралийском журнале “Сентенниал магазин” свое стихотворение
“Симфония в желтом”, и другой австралийский журнал привел его
слова: “Итак, на берегах залива Ботани-Бей люди взалкали моей
красоты. Я справился насчет Ботани-Бей. Это обиталище людоедов»
обиталище потерянных душ, куда свозят арестантов и где их застав*
ляют носить ужасающие желтые костюмы. Их там даже называют кана-
рейками. Поэтому я написал для них “Симфонию в желтом”, чтобы
они вспомнили о родине. Я там рифмую “elms” (“вязы”) и “Thames”
(“Темза”). По сравнению с их правонарушениями это грех прости-
тельный. Симфония с симпатией — экая сладость! Можно было бы
добавить еще одну строфу:
В краях далеких и чужих,
Как солнце канет в океан,
Один из желтых каторжан
Прижмет к груди мой желтый стих.
В “Веере леди Уиндермир” уроженец Австралии носит фамилию Хоп-
пер (тоесть “кенгуру”).
2S4
Но у Уайльда был и другой интерес. В рецензии на спектакль
Дили Лэнгтри он упомянул о новом занавесе в театре “Мэдисон-
сквер”, что было скрытым комплиментом заказавшему этот занавес
Стилу Маккею. Маккей был, возможно, крупнейшим новаторОхМ
того времени в области театральной техники; он полностью пере-
оборудовал старый “Театр на Пятой авеню” в новый театр “Мэди-
сон-сквер”. Асбестовый противопожарный занавес был одним
из его изобретений, другим были складные кресла, третьим —
передвижная двойная сцена, которую осматривала Лили Лэнгтри.
Подобно Уайльду, Маккей был поборником ренессанса, в особен-
ности театрального. Хотя ему уже было сорок лет, он выглядел
почти таким же молодым, как Уайльд. Он учился у самого Дель-
сарта1, и старый мастер объявил его своим преемником по части
новых методов преподавания, связывавших воедино жест и слово.
В Нью-Йорке Маккей открыл “Дельсартовскую школу”, а затем
первую “Американскую школу театральной игры”. Он давал
Уайльду уроки по системе Дельсарта на материале шекспировского
“Гамлета”. Он написал множество пьес, но, по-видимому, понимал,
что его главный талант лежит в области режиссуры и сценической
техники. К чему у него не было никакого таланта — это к делам
денежным. Он столь же щедро, как и Уайльд, расточал деньги
на удовольствия, и после того, как с 1879 по 1881 г. он возглавлял
театр “Мэдисон-сквер”, ему пришлось отдать его в другие руки
из-за финансовых трудностей.
Теперь же у Маккея зародился еще более грандиозный план
строительства “театра мечты”. 16 июня у него уже был готов про-
ект, и он решил, что театр должен располагаться на углу Бродвея
и 33-й улицы и примыкать, как лондонский театр “Савой”, к отелю.
Оставалось одно — найти миллион долларов. Среди тех, на чью
поддержку он рассчитывал, был Джордж Чайлдс — богатый друг
Уайльда, живший в Филадельфии. В августе и сентябре Маккей
несколько раз встречался с потенциальными спонсорами, но они
не спешили раскошеливаться.
Уайльд был глубоко озабочен исходом этих переговоров,
потому что у них с Маккеем были общие надежды. Маккей соби-
рался открыть новый театр постановками уайльдовских пьес
“Герцогиня Падуанская” и (после некоторых изменений, какие
он считал необходимыми) “Вера”. За ними могла последовать
и постановка “Кардинала Авиньонского” — пьесы в духе Шелли,
1 Делъсарт Франсуа (1811-1871) — французский музыкант и педагог.
Разработал “систему Дельсарта”, предназначенную для обучения теа-
тральному искусству посредством овладения различными позами
и жестами. (Примеч. перев.)
*55
план которой был уже написан Уайльдом. Для игры в “Герцогине”
они рассчитывали заручиться согласием Мэри Андерсон. Куль-
минацией деликатных уговоров, длившихся месяцы, была беседа
Уайльда с нею о будущей пьесе, состоявшаяся в Лонг-Бранче. Она
вспоминала потом его слова: “Сцена — это ключ, который открыл
для Вас дверь в мир искуства”; “До встречи и разговора с Вами
я не смогу написать даже плана пьесы. Любая хорошая пьеса —
это соединение поэтического вымысла и того практического
актерского знания, которое придает насыщенность сценическому
действию... Я хочу, чтобы Вы встали наравне с величайшими
актрисами мира... При столь полной и столь пылкой вере, какую
внушаете мне Вы, у меня нет никаких сомнений в том, что я спо-
собен написать и напишу для Вас такую пьесу, которая, создан-
ная ради Вас и вдохновленная Вами, непременно прославит Вас
как новую Рашель и, возможно, прославит меня как нового Гюго”.
8 сентября, по-прежнему излучая абсолютную уверенность, он
предложил встретиться и обсудить план пьесы: “Мне кажется, мой
замысел таков, что мы с Вами одновременно и в один вечер станем
бессмертными”. Необходимо было только договориться об усло-
виях. Уайльд требовал аванс в 5000 долларов и долю с каждого
спектакля. Но Гамильтон Гриффин, отчим и деловой менеджер
мисс Андерсон, которого Уайльд окрестил “Стерегущим грифо-
ном”, бдительно стоял на страже ее интересов. Уайльд рассчитывал \
получить ее согласие к середине сентября, но 20-го он жаловался
Маккею: “Никаких новостей от Андерсон и от Гриффина тоже.
О искусство и Кентукки, сколь вы несовместны! Она мила и добра
(зато он грузное воплощение ужаса); если бы только я мог увиК
деться с ней, я бы все уладил”. Так или иначе, он был уверен, что t
рожденная в Кентукки актриса в конце концов согласится. “Не
отчаивайтесь раньше времени, — писал Уайльд Маккею, — мы
с Вами еще покорим весь мир. Почему нет? Возьмемся и сделаем!”
Все еще разъезжая с лекциями, он договорился с Мэри Андер*
сон и Гриффином о встрече в бостонском отеле “Вандом” в вос-
кресенье 23 сентября. Они пообещали ему, что мисс Андерсон
выступит в пьесе, и предложили назначить премьеру на 22 января.
Уайльд предупредил их, что, по рассчетам Маккея, декорации 'л
и костюмы обойдутся в 10 000 долларов, но мисс Андерсон ска-j
зала, что готова истратить на это “любые деньги”. (В “Герцогине <
Падуанской” Уайльд упомянет о “награде / Богаче злата, что хра-
нит Грифон / В Армении суровой”.) Уайльд использовал момент
и сказал, что, возможно, уговорит Стила Маккея стать режиссером,*
если пообещает ему полный контроль над постановкой. “Они со-»
гласны!” — радостно сообщил он другу. Они с Маккеем поста-;
вят “Герцогиню”, за ней “Веру”, и тогда “весь мир будет у наших |
ног!” 4 октября Маккей дал Уайльду знать, что Мэри Андерсон
и Гриффин решили отложить постановку “Герцогини” до сен-
тября 1883 г. с тем, чтобы тогда попытаться организовать серию
из многих представлений. 12 октября Мэри Андерсон написала
Уайльду сама; она формально согласилась с тем, что режиссером
будет Маккей, и с тем, что премьера состоится в театре Бута. После
ультиматума, объявленного Гриффином Уайльду 1 декабря, окон-
чательный договор был подписан в первых числах месяца; Уайльд
получил 1000 фунтов непосредственно по подписании, а осталь-
ные 4000 должен был получить лишь по одобрении Мэри Андер-
сон окончательного варианта пьесы, который Уайльд обязался
представить к 1 марта 1883 г. Премьера должна была состояться
не позднее чем через год. “Нищенская плата”, — пожаловался
Уайльд в тот вечер писателю Эдгару Солтусу в ресторане Дельмо-
нико.
Тем временем Маккей, хотя ему пришлось отложить из-за
нехватки средств постройку “театра мечты”, продолжал трудиться
ради Уайльда. В начале ноября он обратился к актрисе Мари Пре-
скотт и предложил ей сыграть Веру. 9 ноября мисс Прескотт
написала Уайльду очень почтительное письмо, где пригласила его
на послезавтра позавтракать с ней и с ее мужем Уильямом Перцс-
лем. Она чувствовала, что роль Веры ей подходит, но попросила
Уайльда переписать длинную сцену во втором действии и неко-
торые монологи Алексея в первом действии. Оставалось разре-
шить только финансовые вопросы. На этот раз Уайльд, в отличие
от переговоров с Мэри Андерсон, требовал для себя, помимо
крупного аванса, бессрочных прав на постановку. Уайльд сказал
Солтусу, что его попросили сделать в пьесе некоторые измене-
ния. “Но я не из тех, кто будет уродовать шедевр”. На самом же
деле он согласился. В декабре, когда Перцель и Уайльд не смогли
договориться об условиях, Уайльд властно потребовал пьесу назад.
Но 9 января 1883 г. мисс Прескотт предложила новые условия,
которые смягчили его: 1000 долларов сразу и 50 долларов с каждого
спектакля. Пьеса должна быть поставлена к осени 1883 г. На это
Уайльд согласился. 11 февраля 1883 г. о предстоящей постановке
“Веры” было объявлено в газетах, и чуть позже Уайльд получил
от мисс Прескотт 1000 долларов. Теперь у него в обоих карманах
лежало по договору на пьесу — так, по крайней мере, он считал.
На радостях он одолжил Маккею 200 долларов.
Организовывая постановки своих пьес, Уайльд никоим обра-
зом не изменял своему главному намерению — “цивилизовать
Америку”. Ведь лекционный метод, что ни говори, имеет ограни-
ченные возможности. 28 октября в клубе “Лотос” Уайльда попро-
сили выступить, и он в своем слове назвал драму школой, служа-
щей развитию художественного вкуса. Он также воспользовался
случаем для того, чтобы в официальном тоне отозваться о недру.
желюбии, проявленном к нему американскими газетами; из его
противников, которых он не назвал, одним из самых ярых был
Уайтлоу Рид из “Нью-Йорк трибюн”, председательствовавший
в тот день за столом в клубе “Лотос”. Позднее Уайльд сказал Вин-
сенту О’Салливану: “Похвала делает меня смиренным. Но когда
меня ругают, я знаю, что достиг небес”. После того как 27 декабря
Уайльд, провожаемый Моджеской и Норманом Форбсом-Робер-
тсоном, отбыл из страны, “Трибюн” безжалостно процитировала
правда, неизвестно, насколько точно, его слова о том, что он счи-
тает свое американское турне “неудачным”.
Но в каком смысле оно было неудачным? Действительно, Уайльд
сам потом это скажет — контуры страны на карте остались в точ-
ности такими же, какими были до его приезда. С другой стороны,
в признаках успеха недостатка не было. Имя Оскар Уайльд сделалось
в Соединенных Штатах и Канаде незабываемым, и в Великобрита-
нии его слава была не меньше; он договорился о постановке двух
своих пьес; он заработал и потратил уйму денег; он распростра-
нил свои теории и раздосадовал ими, утомил ими, позабавил ими
и обратил ими в свою веру немалое число людей. Он до тошноты
перекормил публику словами “красота” и “прекрасное”. Возможно,
бриджи, хоть они и оставляли открытыми его впечатляющие икры,
были ошибкой; но если так, эта ошибка была из тех, какие Уайльд
будет совершать всегда, возмущая людей, которым он хочет понра-
виться, и ухитряясь все же понравиться им в конечном счете.
Турне Уайльда не только оказало воздействие на американце®,
но и сказалось на нем самом. “Ты станешь другим человеком”, 4g
писала ему мать с некоторой тревогой. Стычки с недоброжела^
телями помогли ему лучше понять свое значение. Он неплох^
научился подыгрывать аудитории и осознал, какой спектр воз*
можностей заложен в эстетическом движении. Эстет — существо*
отнюдь не бестелесное. Чтобы доказать это, Уайльд изрядно при-
бавил в весе. Скорее уж эстет, в отличие от прочих смертных, это
человек во всей его полноте, ибо быть художником значит посто-
янно изменять свой облик и свое представление о себе, а не быть*
художником — значит существовать одною лишь привычкой*
Пока что только устно и мимолетно Уайльд высказал то, что позд-
нее он изложит более основательно: что в искусстве заключена
не только тайна жизни, но и ее будущность, открывающая и удов-
летворяющая новые потребности, рождающая новые наслаждения,
дающая начало новой цивилизации.
Глава 8
Контрренессанс
А когда воссияет этот день, когда разгорится
его заря, какую все мы испытаем радость!.. Сама
внешность мира изменится в наших изумленных
глазах. Бегемот и Левиафан явятся из морских
глубин... По пустошам будут бродить драконы,
и Феникс воспарит из своего огненного гнезда.
Мы возложим ладони на василиска и увидим, как
бриллиант увенчает голову жабы.
Ирландец в Париже
Уайльд вернулся в Лондон в прекрасном расположе-
нии духа. Столько историй он мог рассказать, столько
людей готово было его слушать! Джорджа Льюиса надо
было поблагодарить за вмешательство, погасившее
конфликт с Арчибальдом Форбсом, Эдмунда Йейтса
из “Уорлд” и Лабушера из “Трусе” — за благожелательное осве-
щение его турне, которое у столь многих вызвало непреодолимое
искушение понасмешничать. Его мать и брат могли насладиться
его рассказами и порадоваться его ошеломительной междуна-
родной славе. Эстетизм был к тому времени уже сочтен несколько
устаревшим; отныне Уайльд будет употреблять это слово и его
производные с большей осторожностью. Однако жизнерадостный
лидер умирающего движения — бесспорно, самый подходящий
человек для того, чтобы консультироваться с ним по всем относя-
щимся к этому движению вопросам.
Само собой, Уайльд, облачившись ради важного слу-
чая в красный костюм, нанес визит Уистлеру и был встречен
радушно, хотя и не без обычных шпилек, вынудивших его в оче-
редной раз сказать: “Джимми, ты сущий дьявол”. Он пришел
в восхищение от второго цикла венецианских гравюр Уистлера;
"Таких изображений воды боги еще не видели”, — писал он Уолдо
Стори. Правда, встреча была несколько подпорчена вскинутыми
бровями Реннела Родда, которому не понравились ни костюм
Уайльда, ни стиль его поведения. Уайльд показался ему неким
Гелиогабалом или Сарданапалом, и, как Родд давно еще в шутку
259
предсказывал, он был склонен скорее говорить сам, нежели
слушать. Родд попытался протестовать против высокомерно*
небрежного использования Уайльдом его сборника “Лепесток
розы, лист яблони”, но удовлетворения не получил; Уайльд счел
обиженным не Родда, а себя. В январе или феврале Родд напи-
сал ему письмо, которое он долго обдумывал и которое поло-
жило конец их дружбе. Комментарий Уайльда был следующим:
“Стоит основывать лишь такие школы, где нет ни единого уче-
ника”. О полном упреков письме Родда он высказался так: “То,
что он пишет, похоже на жалкий писк несчастной коноплянки
у дороги, по которой несется громада моего честолюбия”. Он
не всегда будет относиться с таким презрением к писку конопля-
нок. Родд же, чье честолюбие было куда скромней, с тех пор сто-
ронился Уайльда. Отныне Уайльд считал его “подлинным поэтом,
но фальшивым другом”. Разрыв с Роддом, который успел к тому
времени получить немалую долю симпатий Уистлера, принад-
лежавших дотоле Уайльду, стал дурным предзнаменованием для
последующих отношений Уайльда с этим художником.
В Лондоне Уайльд снова поселился на Чарлз-стрит. Но он
отнюдь нс собирался с головой погружаться в лондонскую жизнь.
После роскошного турне по Америке в сопровождении черного
слуги и белого менеджера, после шикарных гостиничных номеров
и пышных приемов в лучших домах это был бы слишком крутой
спад. Чтобы сделать свое возвращение более театральным, он дол-
жен был сначала поехать в какое-нибудь другое место и окончить
там “Герцогиню Падуанскую”. Годом раньше он написал Арчи-
бальду Форбсу, что благодаря своим американским заработкам
он рассчитывает провести несколько месяцев в Венеции, Риме
и Афинах. Однако, по-прежнему настроенный на покорение дру-
гого народа, он нуждался в таком, чей язык он бы хорошо знал; по-
этому он отправился в Париж. Он был там уже несколько раз; его
мать перевела две книги Ламартина и удостоилась благодарности
от него лично. Во французской литературе Уайльд чувствовал себя
как дома, восхищаясь в особенности Бальзаком, Готье, Флобером
и Бодлером.
Он пересек Ла-Манш в конце января 1883 г. Прожив несколько
дней в отеле “Континенталь”, он перебрался в отель “Вольтер”
на левом берегу Сены. Как обычно, он заручился рекоменда-
тельными письмами от друзей и взял с собой экземпляры своих
“Стихотворений”. Одним из первых, кто пригласил его на обед,
был американский журналист Теодор Чайлд, писавший для “Нью-
Йорк уорлд”; его примеру последовали другие. Художник Жак-
Эмиль Бланш написал картину, изображавшую молодую женщину
за чтением “Стихотворений” Уайльда.
Одним из тех, кто помогал ему обосноваться в Париже, был
Роберт Харборо Шерард — молодой англичанин, которому едва
исполнился двадцать один год. Впоследствии он написал несколько
биографий Уайльда — “История несчастливой дружбы”, “Жиз-
неописание Оскара Уайльда”, “Подлинный Оскар Уайльд”, —
не считая множества менее пространных отзывов о нем. Све-
дения, конечно, нужны, и еще как, однако мало кому, пожалуй,
биограф оказывал столь же странную услугу. Шерард был человек
самоуверенный, упорствующий в заблуждениях и туповатый. То,
что Уайльд вообще обратил на него внимание, объясняется тремя
его достоинствами, компенсировавшими эти недостатки: он был
молод, светловолос и склонен к слепому поклонению. Не то чтобы
красавец, он был, что называется, beau laid1. Не прошло и четырех
месяцев, как он попросил разрешения посвятить Уайльду свой сти-
хотворный сборник, называвшийся “Шепоты”, и Уайльд, похвалив
стихи, согласился, но на этот раз не стал писать посвящение сам,
как это было при издании книги Реннела Родда. Шерард напи-
сал следующее: “Оскару Уайльду, Поэту и Другу, с горячей при-
знательностью и восхищением посвящаю”. Снисходительность
Оскара не повлияла на его брата Уилли, который в рецензии,
напечатанной в журнале “Вэнити фэйр”, заявил, что стихи эти
воистину не более чем шепоты, и лучше бы таковыми остались.
Оскар Уайльд в рецензии на более позднюю книгу Шерарда был
не столь суров; он написал, что Шерард “благополучно переболел
“ранними стихотворениями”, трехтомным романом и другими
болезнями, обычными для его возраста”.
Шерард был правнуком Вордсворта. Уайльд подтрунивал над
его славным происхождением. Отец Шерарда, англиканский
священник по фамилии Кеннеди, жил с семьей сначала на кон-
тиненте, а затем на острове Гернси в одном доме с Виктором
По го, который с ним сдружился. В 1880 г. Шерард поехал учиться
в оксфордский Нью-колледж, но на первом же году был исключен
за неуплату долгов. Он отправился в Париж с намерением сде-
латься писателем, поменял фамилию Кеннеди на Шерард и еще
до знакомства с Уайльдом успел опубликовать роман. Агрессивный
по натуре, он составил об Уайльде на основании того, что о нем
слышал, нелестное мнение. Когда его приятельница Мария Касса-
ьетти-Замбако (красавица гречанка, с которой Берн-Джонс писал
Вивиану в “Околдованном Мерлине” и Галатею в цикле о Пигма-
лионе и Галатее) пригласила его на обед, где ожидался и Уайльд,
Шерард едва не отказался. Когда он вошел в комнату и увидел
Уайльда, опасения его подтвердились; бриджей, правда, не было,
Красиво-некрасивым (фр.).
261
но наряд Уайльда был выдержан в стиле графа д’Орсе: заверну-
тые поверх рукавов пиджака манжеты рубашки, выглядывающий
из кармана яркий платок, брюки в обтяжку, бутоньерка, массив-
ные кольца и замысловатая прическа. Мать Шерарда писала, что
брюки и рукава были у Уайльда такие обтягивающие, что на Боль-
ших бульварах на него оглядывались. Шерарду стоило больших
усилий удержаться от смеха; чтобы сохранить серьезную мину, он
подошел к сумрачному Полю Бурже и суровому Джону Сингеру
Сардженту. Уайльд поначалу также не расположился к Шерарду.
“Ваши длинные светлые волосы навели меня на мысль, что вы герр
Шульц, виолончелист”. Позже он нашел более лестное сравнение:
“Это голова римского императора в период упадка — императора,
который правил только один день, голова, оттиснутая на мелкой
монете, найденной много веков спустя”.
Лишь после того, как сели за стол, Шерард усомнился в своей
первоначальной оценке Уайльда как обманщика и жулика. Совер-
шенно ясно было, кто главный за этим столом. Возможно, Уайльд
использовал некоторые из разговорных “гамбитов”, которые он
к тому времени уже начал записывать по-французски в своем
блокноте:
Художник в поэзии и поэт—личности весьма различные: ср. Готье и Гюго.
Чтобы писать, мне нужен желтый атлас.
Поэзия — это идеализированная грамматика.
Мне нужны львы в золотых клетках: ведь страшно — после человеческого
мяса львы любят кости, а костей им никогда не дают.
Он помечал эти фразы инициалами “О.У.”, чтобы отличить
их от высказываний, которые слышал от других — например,
от официанта в отеле “Вольтер”: “Искусство — это беспорядок”,
что противоречило всему сказанному им на эту тему в Америке.
Швейцар в Лувре сказал ему: “Старые мастера — это просто
мумии, разве не так?” Уайльд не согласился с этим приговором
и принялся рассказывать за обеденным столом в доме Кассаветти-
Замбако, как он много раз целые часы просиживал в Лувре перед
Венерой Милосской. Мой друг Годвин, сказал Уайльд, поставил
посреди своей гостиной слепок с этой статуи, а перед ним куриль-
ницу для благовоний. В этот волнующий миг Шерард увидел
свой шанс и грубо вмешался: “А я никогда не был в Лувре. Когда f
произносят это название, мне всегда приходят на ум “Большие
луврские магазины”, где продают самые дешевые в Париже гал-
стуки”. К его удивлению, Уайльд не рассердился на это замечание. *
“Очень хорошо, мне нравится то, что вы сказали”, — отозвался он 1
2б2 ’ I
1
и после обеда, подойдя к Шерарду, пригласил его пообедать с ним
на следующий день. ‘‘Когда вы так резко отмежевались от всех
художественных устремлений, — объяснил он Шерарду позже, —
я подумал, что вы с математической точностью нашли жест и позу,
которые заинтересовали меня”. Пошлость вполне терпима, если ее
изрекает светловолосый молодой человек. К тому же Уайльд при-
ступил к исследованию культурного ландшафта, который, он знал,
сильно отличался от того, что он видел в Америке.
Придя в отель “Вольтер” вечером следующего дня (это было
в конце февраля 1883 г.), Шерард нашел Уайльда в апартамен-
тах на втором этаже с видом на Сену. Шерард начал хвалить
вид из окна, но Уайльд прервал его замечанием едва ли не более
обескураживающим, чем вчерашняя реплика Шерарда насчет
Лувра: “О, это совершенно несущественно для всех, кроме хозя-
ина отеля, который, несомненно, повышает под этим предлогом
цену. Джентльмен никогда не смотрит в окно”. (Чтобы избежать
первого лица, Уайльд изобрел мифического джентльмена, который
никогда не делает того, чего от него ждут.) Что касается Шерарда,
он, поскольку нельзя было смотреть наружу, осматривался в ком-
нате. На Уайльде был белый шерстяной халат — его писательский
“рабочий” костюм, каковым для Бальзака был монашеский бала-
хон. Бальзаковской была также трость Уайльда с набалдашником
из слоновой кости, отделанным бирюзой1. Его подражательство
на этом не кончилось: позднее он будет позировать художнику
Уиллу Ротенстайну в красном жилете, ассоциирующемся уже
не с Бальзаком, а с Готье.
Были здесь и другие достопримечательности. На столе лежали
листы изысканной бумаги, на которых Уайльд писал свою “Гер-
цогиню Падуанскую”. Каминная полка была украшена репродук-
цией картины Пюви де Шаванна, изображавшей нагую строй-
ную девушку, сидящую на саване посреди деревенского кладбища
в изумлении от своего чудесного воскресения. Шерард восхитился
репродукцией и тут же получил ее от Уайльда в подарок с эстети-
ческой надписью на паспарту: “Rien n’est vrai que le beauI 2”. Он
велел Шерарду заказать для нее серую рамку с узенькой полоской,
I В рецензии на английское издание Бальзака Уайльд писал: “Хорошая
доза Бальзака превращает наших живых друзей в тени, а наших зна-
комых в тени теней; ибо кому захочется идти в гости, чтобы пови-
даться с Томкинсом, другом детства, когда можно скоротать вечер
дома в обществе Люсьена де Рюбампре? Куда приятней иметь доступ
в бальзаковское общество, нежели получать визитные карточки
от всех герцогинь, населяющих Мейфер”.
2 Истинно лишь то, что прекрасно (фр-).
263
проведенной вермильоном (киноварью); как заметил не только
Шерард, но и Джулия Уорд Хау, он произносил это слово на фран-
цузский манер (“вермийон”) и намеренно протяжно, чтобы слу-
шатель успел уловить отличие.
Уайльд был при деньгах и с обычным своим щедрым госте-
приимством повел Шерарда в дорогой ресторан — “Фойо”
на улице де Турнон. Он так объяснил Шерарду свое богатство:
“Мы обедаем за счет герцогини”, имея в виду, что тратит аванс,
полученный от Мэри Андерсон за “Герцогиню Падуанскую”.
Во время последующих встреч он расходовал деньги столь же
свободно, обосновывая крылатой фразой Прудона “Собствен-
ность — это кража" то, что он тратил их не только на своего
гостя и себя, но и на разнообразных личностей, околачивав-
шихся на левом берегу Сены. (Одного из них звали Малыш Луи,
он хотел вернуться в свою родную Бретань и поступить во флот.
Уайльд купил ему костюм и дал ему деньги на проезд.) Обсуждая
с Уайльдом вопрос о том, какое вино — красное или белое — сле-
дует предпочесть, Шерард заметил, что белое вино правильнее
было бы называть желтым; замечание Уайльду понравилось, и он
взял его на вооружение. В свою очередь, он стал называть локоны
Шерарда уже не светлыми, а медовыми. Поначалу Шерард чинно
обращался к Уайльду по фамилии, но тот воспротивился: “Не
называйте меня Уайльдом. Если мы друзья, то я для вас Оскар.
Если же мы чужие друг другу — тогда, конечно, мистер Уайльд”.
Шерард уступил и признался ему, что при первой встрече ощущал
враждебность. “Это была очень большая твоя ошибка, Роберт”, —
сказал Уайльд и заговорил о братстве писателей, которые должны
радоваться успехам друг друга.
Все же Шерард слегка бунтовал. Когда Уайльд стал рассказы-
вать про свои американские лекции о прекрасном и заявил, что
прекрасное может быть обнаружено в самых обыденных вещах,
Шерард повел себя так же, как нью-йоркский репортер, которого
интересовало, обитает ли прекрасное в Хобокене. Он положил
окурок сигары в блюдце с кофе и спросил: “Ты видишь в этом что-
нибудь прекрасное?” Уайльд не растерялся: “Да, весьма насыщен-
ный коричневый цвет”; но что-то в его облике заставило Шерарда
воздержаться от дальнейших шуток. После обеда они прошли
мимо того места, где раньше стоял дворец Тюильри, сожжен-
ный двенадцать лет назад, во время Парижской коммуны. Уайльд
заметил: “Для меня каждый из этих маленьких почерневших кам-
ней — глава из Священного Писания демократии”. Эта фраза
чрезвычайно понравилась его другу. Шерард был неравнодушен ‘
к Великой французской революции и датировал все свои письма
по революционному календарю. Узнав об этом, Уайльд на конвер-
тах своих писем к нему стал писать: “Citoyen1 Роберт Шерард”.
Отвечая на вопрос о своих собственных политических взглядах,
он назвался “элегантным республиканцем”.
Они встретились и на следующий день, и встречались почти
ежедневно, пока Уайльд был в Париже. Их беседы порой стано-
вились достаточно пылкими: Шерард часто называл его “милый
мой Оскар”, и они, видимо, дружески целовали друг друга в губы.
Шерард подумывал о женитьбе, но Уайльд его не поддержал. (“Я
странное порой слыхал о женах”, — скажет Симоне в “Флорен-
тийской трагедии” Уайльда.) Неверность жен, просвещал Уайльд
друга, — правило, почти не знающее исключений. Если Шерард
все-таки надумает жениться, совет Уайльда был таков: “Веди себя
бесчестно, Роберт. Все равно рано или поздно она поведет себя
так по отношению к тебе”. (В случае Шерарда этот прогноз под-
твердился.) Когда они проходили мимо памятника Генриху IV,
Уайльд принялся размышлять вслух на техму, которую он позднее
будет обсуждать с Луи Латуреттом: “Вот еще один великий муж
Франции, который был рогоносцем! Все великие мужи Франции
были рогоносцами. Ты не замечал? Все! Во все времена. Кому жена
наставила рога, кому любовница. Вийон, Мольер, Людовик XIV,
Наполеон, Виктор Гюго, Мюссе, Бальзак; короли, генералы,
поэты! Все, кого я назвал, и тысяча других, кого я мог бы назвать,
сплошь были рогоносцы. А знаешь, о чем это говорит? Я тебе объ-
ясню. Великие мужи Франции слишком сильно любили женщин.
Женщинам это не нравится. Они пользуются этим как слабостью.
А вот в Англии великие мужи ничего не любят — ни искусство,
ни богатство, ни славу... ни женщин. И можешь быть уверен:
в этом их преимущество”2.
Восторженный ученик Шерард спросил Уайльда, как супругу
вести себя, если он узнал о неверности жены, и Уайльд нарисовал
такую картину: “Притворяться, что ничего не замечаешь, и весе-
литься, наблюдая за ними. Самое интересное — его уход после того,
как вы втроем провели вечер у вас дома. К концу ты должен прояв-
лять все больше и больше супружеской нежности и, прощаясь, ска-
зать ему что-нибудь в таком роде: “Что ж — пора прощаться. Ведь
мы молодые супруги, ну, вы понимаете...” — потом обратиться
Гражданин (фр.).
Позднее Уайльд рассказывал Огастесу Джону о своем друге Эрнесте
Лаженессе, который говорил фальцетом. Его издатель грубо выска-
зался в том смысле, что это признак импотенции. Узнав об этом,
Лаженесс затеял долгий, но в конце концов успешный флирт с женой
издателя. Это была, по словам Уайльда, “великолепнейшая отповедь
в истории”.
265
к неверной жене: “Au lit1, дорогая, au lit". Несколько минут спу-
стя подойти в пижаме к окну ваших супружеских покоев — и вот
он, конечно, наш Дон Жуан, стоит как миленький на той стороне
улицы и, вздыхая, скорбно глядит на то окошко, за которым будет
лежать в эту ночь его Крессида. Привлечь к себе его внимание,
помахать ему, показывая, чтобы шел своей дорогой, в то время
как ты готовишься вкусить сладость супружеской постели". Здесь
проглядывает идея, которую Уайльд разовьет во “Флорентийской
трагедии", где муж неожиданно берет верх над любовником.
Цинически отвергая брак, Уайльд, однако, не чурался плотских
радостей; однажды вечером, отправившись в мюзик-холл “Эден",
он сговорился там на ночь с известной проституткой Мари Аге-
тан, впоследствии убитой. На следующий день он прокохммен-
тировал это довольно-таки банальным образом: “Какие же мы
все животные, Роберт". “Ты пробуждаешь... все мысли скотские
во мне"* 2, — написал он в поэме “Сфинкс". Стихотворение “Дом
блудницы", в котором танец продажной любви — это также танец
смерти и положить ему конец способна лишь являющаяся, “как
дева робкая”3, незапятнанная заря, было, помимо прочего, лите-
ратурным “срыгиванием” его отвращения. Это был, как он ото-
звался о стихах Андре Раффаловича, “Геррик после Французской
революции”. Шерард с тревогой сказал Уайльду, что его могли там
ограбить, но тот с раздражением ответил: “Так или иначе, им отда-
ешь все, что у тебя в карманах" — словно худшее в этом экспери-
менте принадлежало не к финансовой области.
Восхищение молодого Шерарда новым другом все возрастало.
Они много говорили о литературе, в особенности об англий-
ских писателях — о Суинберне, о Карлейле. Уайльд мог наизусть
цитировать длинные куски из “Французской революции" Кар-
лейля. Но большей частью их разговоры касались четверки, кото-
рая лучше всего подходила к парижской атмосфере того времени,
Жерара де Нерваля, По, Чаттертона и Бодлера. Их всепроникаю-
щая мрачность вполне соответствовала духу начала 1880-х годов.
Уайльд и Шерард ходили по парижским маршрутам де Нерваля,
и Уайльд декламировал его строки о любви и смерти — как, напри-
мер, из стихотворения “Возлюбленные":
Возлюбленные, где вы?
Во мгле сырой земли4.
1
2
3
4
В постельку (фр.).
Перевод Н. Гумилева.
Перевод Ф. Сологуба.
Перевод А. Маркевича.
Та же тема завораживала его и у Бодлера. Он восхищался его
стихотворением “Падаль”, жестоко соединявшим образ любимой
с образом трупа:
Но вспомните, и вы, заразу источая,
Вы трупом ляжете гнилым,
Вы, солнце глаз моих, звезда моя живая,
Вы, лучезарный серафим1.
К числу его любимых принадлежало и бодлеровское “Вино
убийцы”, где человек похваляется тем, что убил собственную жену.
С точки зрения формы Уайльду нравилась “Музыка” с ее контра-
стом между океанским штормом музыки, швыряющим человека,
как утлый корабль, и покоем отчаяния.
Уайльд хотел познакомиться с французскими писателями
и художниками, и его пригласили на вечерний прием в дом Виктора
Гюго. Там некая польская аристократка пыталась привлечь к себе
его внимание, но он предпочел разговор о Суинберне с Огюс-
том Вакери, издателем радикального журнала “Раппель” (“При-
зыв”). Судя по поведению Суинберна в бытность его в Париже,
когда он, по словам Вакери, прыгал и дергался, “как рыба карп
на суше”, французский журналист решил, что он пьяница. Уайльд
немедленно разъяснил ему, что Суинберн человек столь утон-
ченного темперамента, что одного лишь взгляда на рюмку вина
ему достаточно, чтобы прийти в состояние вакхического буйства,
а вообще-то он почти не пьет. Некоторые из уайльдовских анек-
дотов о Суинберне так позабавили Вакери, что он повел Уайльда
в покои, где находился Виктор Гюго, но тот предавался своему
обычному послеобеденному сну, и даже Уайльду оказалось не под
силу его добудиться. Выйдя от него, Уайльд с энтузиазмом проци-
тировал строки из “Песен сумерек” Гюго (“Наполеон II”):
Он радостно, с гордым видом воскликнул:
— Будущее! Будущее! Будущее принадлежит мне!
Он не привел, правда, ответ поэта злосчастному императору:
Нет, будущее не принадлежит никому!
Сир, будущее принадлежит Богу!
Уайльд, конечно, должен был ощущать ограниченность своего
молодого друга Шерарда, однако был к Шерарду неизменно пре-
Перевод В. Левика.
267
дупредителен. Однажды они несколько часов ходили по Парижу
в поисках биографии де Нерваля, написанной Дельво, с тем,
чтобы, вооружившись ею, Шерард смог со знанием дела написать
статью для английской печати и немножко заработать. Шерард так
и не сумел справиться с этой задачей, хотя книга Дельво, весьма
дорогая, была наконец найдена и куплена для него Уайльдом. Худо-
жественный кругозор Шерарда был ограничен; в частности, живо-
пись импрессионистов вызывала у него сомнения. Уайльд изо всех
сил старался приохотить его к картинам Дега, в чью мастерскую,
расположенную в мансарде дома на улице Фонтен-Сен-Жорж,
они с Уистлером в свое время залезали по приставной лестнице.
“Заслуживает изображения только то, — наставлял он Шерарда, —
что не заслуживает взгляда”1. Ни тогда, ни позже Шерард не про-
явил ни малейшего признака понимания. А вот Уайльда в то время
уже восхищали работы импрессионистов — в особенности Дега,
Моне, Камиля и Люсьена Писсарро1 2.
Шерард, однако, пристально наблюдал за Уайльдом, и мы
должны быть благодарны ему за те страницы, на которых он его
описывает. Уайльд теперь одевался, как одевались французы того
времени, но с определенными отличиями. Он носил обычные
цилиндр и редингот. Но завернутые манжеты выглядели необычно,
как и пальто с меховой опушкой, проехавшее с ним по всей Аме-
рике. Когда Шерард отважился похвалить Уайльда за отказ от аме-
риканского костюма, тот нашел его замечание “скучным”, что в его
устах всегда было признаком раздражения. Но по существу он
согласился с Шерардом: “Все то имело отношение к Оскару пер-
вого периода. Теперь же мы имеем Оскара Уайльда второго пери-
ода, у которого нет ничего общего с джентльменом, носившим
длинные волосы и ходившим по Пикадилли с подсолнечником
в руке”. Перемену подметил и “Панч”, поместивший 31 марта’
1883 г. шуточное объявление: “Продается: весь Арсенал При-
емов и Уловок Преуспевающего Эстета, который решил отойти
от дел. В том числе: большой Запас увядших Лилий, поникших
Подсолнухов и потрепанных Павлиньих Перьев, несколько длин-
новолосых Париков, собрание малопонятных Стихов и коллекция
1 Уайльд записал заинтересовавшее его замечание Дега: “Есть нечто еще
более ужасное, чем буржуа, — это человек, который нам подражает”.
2 Дега, человек весьма язвительный, так отозвался об Уайльде в разго-
воре с Сиккертом: “Он выглядит как актер, играющий лорда Байрона
в пригородном театре”. Уистлеру Дега однажды сказал: “Уистлер, вы
ведете себя так, будто вы бездарны”. Увидев, как гордо красуется Уист-
лер в своей новой широкополой шляпе, Дега заметил: “Да, да; она вам
идет; но возвращать Эльзас и Лотарингию мы будем иными средст-
вами”.
невообразимых Картин. Также ценная Рукопись, озаглавленная:
“Руководство по Эстетизму”, содержащая перечень эстетских
крылатых выраженьиц; рисунки, изображающие эстетские позы,
и множество других секретов ремесла. Кроме того, ряд бывших
в употреблении Стенных Панелей, Штор унылого цвета, пред-
метов из бело-голубого Фарфора и латунных Каминных Решеток.
Любое разумное предложение будет принято”.
Позднее Уайльд одобрит преступника Уэйнрайта за маскарад,
“усиливавший его индивидуальность”. Самому Уайльду костюм
тоже позволял доводить каждую свою фазу до апогея, и ему
не важно было, в какой степени этот костюм раздражал людей
и сбивал их с толку. Кроме того, ему нравилось романтическое
представление о том, что душа может постоянно перерождаться.
Он не соглашался с тем, что его нынешняя манера одеваться более
обычна, просто она необычна в более тонком смысле. Переезд
в другую страну требовал обновления гардероба.
Уайльд изменил также и прическу. Он остриг длинные волосы,
предпочтя им древнеримский образец; он специально возил сво-
его парикмахера с улицы Скриба в Лувр, чтобы показать ему рим-
ский мраморный бюст (позднее он утверждал, что это был бюст
Нерона, но Луиза Джоплинг слышала от него, что Антиноя).
Парикмахер понял, что от него требуется, и Уайльд несколько
месяцев проходил, подстриженный по-имперски1. (Кто-то пошу-
тил: ‘‘Курчавые волосы и кривые зубы — одно к одному”.) “На-
деюсь, волосы у вас вьются сами?” — спрашивает Сесили Алджер-
нона в “Как важно быть серьезным”, и он отвечает: “Да, дорогая,
с небольшой помощью парикмахера”. Уайльд не делал, однако,
попыток приукрасить свое лицо и, казалось бы, вопреки своим
теориям пришел на маскарад к Алма-Тадеме без маски. Он был
вполне доволен своей внешностью и позднее не раз расхваливал
ее близким ему людям.
Впоследствии Уайльд неизменно говорил о своем пребывании
в Париже как о времени, когда ему хорошо работалось. Развлека-
ясь, он порой одергивал себя: “Не следовало бы мне здесь быть.
1 Парикмахер Уайльда восхищал его своими высказываниями, неко-
торые из которых Уайльд записал: “Мне нравятся аплодисменты,
но вообще-то я прихожу к выводу, что публика неспособна заме-
чать погрешности; в искусстве, месье, вы всегда можете скрыть то,
что хотите; я и сам допускал погрешности, но всегда их прятал...
Когда я приезжаю в другую страну, я всегда смотрю на прически;
я прекрасно понимаю, что есть люди, которые интересуются обще-
ственными зданиями, но мне на архитектуру наплевать — для меня
существуют только прически... Однако парикмахер должен быть еще
и физиономистом”.
269
Я должен царапать черным по белому, черным по белому”. Когда
он и впрямь сидел за столом, он прикидывался таким вниматель-
ным к мелочам, что куда там Пейтеру. “Я все утро просидел над
версткой одного из моих стихотворений, — сказал он Шерарду, —
и убрал одну запятую”. — “А после полудня?”— “После полудня?
Вставил ее обратно”. Оказавшись среди литераторов, для которых
природа в поэзии не имела никакого смысла, он с новым энтузиаз-
мом обратился к старой рукописи своей поэмы “Сфинкс”, начатой
еще в 1874 г. Он вознамерился стать Робинзоном Крузо декаданса.
Вместо того чтобы рыться в книгах по ботанике в поисках назва-
ний цветов, он принялся искать по словарям необычные слова,
чтобы с их помощью зарифмовать свои экзотические строфы.
Шерард, которому было велено придумать рифму на “аг”, пона-
чалу встал в тупик, и Уайльд укоризненно спросил его: “Почему
ты не привез мне рифм из Пасси1?” “Lupanar” (“публичный дом”)
Уайльд уже использовал, но Шерард предложил “nenuphar” (“кув-
шинка”), и это слово немедленно пошло в дело:
Иль Апис нес к твоим ногам,
Свернув с назначенных тропинок,
Медово-золотых кувшинок
Медово-сладкий фимиам?
Трехсложное слово, рифмующееся с “катафалк”, найти было
потруднее, но Уайльду пришел на ум “Аменалк”:
И как оплакан Афродитой
Был Адониса катафалк?
Вел не тебя ли Аменалк,
Бог, в Гелиополисе скрытый?1 2
Не могло быть сомнений в том, что Париж, одержимый бла-
годаря Бодлеру и Малларме духом Эдгара По, — самое подходя-
щее место для того, чтобы вызвать и изгнать такое исчадие зла,
каким был уайльдовский Сфинкс. “Он [“Сфинкс”] уничтожит
весь домашний уют Англии”, — заметил Уайльд. Рифмы он искал
именно с той трезвой сознательностью, какую в “Философии
творчества” советовал проявлять По. Словарь рифм, говорил
Уайльд, — великое подспорье для лиры. Хотя строфика поэмы
позаимствована из “In Memoriam” Теннисона, Уайльд четыре
1 Пасси — район Парижа. (Примеч. перев.)
2 Перевод Н. Гумилева.
270
строки записывал в две длинные1, добиваясь впечатления беско-
нечно развертывающегося зловещего свитка. Само строфическое
построение “Сфинкса” подчеркивает перезрелую избыточность
господствующего в поэме чудовищного образа. Выраженный
здесь декаданс отнюдь не первобытен. “Сфинкс предлагает свои
загадки не в пустыне, — заметил Винсент О’Салливан, а в комнате
точнее, в номере отеля”. Уайльд был равнодушен ко всякой жизни,
которая лишена светскости.
Судьба “Герцогини”
Мне нет казны >
Где стражем — гриф свирепый2.
Большая часть его энергии шла на “Герцогиню Падуанскую”. Он
окончил ее не к 1 марта, как должен был по договору с Гриффи-
ном-Грифоном, а к 15 марта 1883 г. Отослав пьесу, он 23 марта
написал Мэри Андерсон письмо, имевшее целью развеять все
сомнения, какие у нее могли возникнуть: “Без колебаний скажу
Вам, что это вершина всей моей литературной работы, шедевр
моей молодости”. В этой напропалую романтической пьесе
молодой Гвидо Ферранти, сын прежнего герцога Падуанского,
поклялся лишить жизни убийцу своего отца, не подозревая о том,
что убийца — нынешний герцог. Этот герцог не простой зло-
дей, заметил Уайльд в письме к мисс Андерсон; он принадлежит
к типу философов-циников, который впервые появился в “Вере”
и будет еще возникать в позднейших пьесах Уайльда. Подобно
Вере, Гвидо колеблется между страстью и отвращением; в реши-
тельный миг он не может заставить себя совершить убийство. Как
И большинство уайльдовских главных героев, он бесхитростен
и склонен к состраданию. Новый поворот сюжета наступает, когда
злосчастная герцогиня, влюбленная в Гвидо, воображает, будто
он хочет убить герцога ради их взаимной любви. И она убивает
мужа сама — не из ненависти к нему, а единственно из любви
к Гвидо. К ее изумлению, Гвидо шокирован совершенным ею пре-
ступлением, которого он сам едва избежал. Когда он говорит ей,
нто ненавидит ее, она предает его в руки стражников, указывая
на него как на убийцу. Высший миг для него наступает, когда он
великодушно берет вину на себя и, как стендалевский Жюльен
1 Эта особенность оригинала не сохранена в русском переводе.
Перевод М. Кузмина.
Сорель, ждет казни. Исполнившись раскаяния, герцогиня прихо-
дит, чтобы помочь ему бежать, но он решил умереть ради нее. Она
протестует: “Виновна я”, но он красноречиво защищает ее от нее
же самой:
Пусть это скажет тот,
Кто не познал, что значит искушенье,
Кто не бродил, как мы с тобой бродили,
В огне страстей, чья жизнь бледна и скучна.
Да, если есть на свете человек,
Кто не любил ни разу, пусть в тебя
Он бросит камнем.
Это тема, к которой Уайльд в своих пьесах обращался посто-
янно, — тема всевластия греховной страсти и ее простительности.
Гвидо, кроме того, в достаточной мере эстет, чтобы чувствовать,
что его жизнь нс прошла впустую:
Беатриче! Я
Лицом к лицу стоял пред красотой.
Довольно этого для нашей жизни1.
В письме к Мэри Андерсон Уайльд указал на главные эмоцио*
нальные моменты роли, которую ей предстояло сыграть. Появ-
ление герцогини — кульминация первого действия. В душе этой,
женщины вначале главенствуют жалость и сострадание, затем —
после того, как страсть берет над ними верх, — в ней царит раска-
яние, и наконец страсть и раскаяние сливаются воедино. В пьесе,
указывает Уайльд, имеются комические фрагменты, которые
должны оттенить ее пафос. Однако, как это будет и с поздними
пьесами, Уайльд настаивал, что главное драматическое достоинг
ство “Герцогини” состоит в том, что она имеет твердую интел^
лектуальную основу. Он утверждал, что, в отличие от “Дамы
с камелиями” Дюма-сына — пьесы, лишенной интеллекта и проста
играющей на зрительском сострадании к женщине, “которая уми-*
рает молодой (и жутко кашляет при этом!)”, его трагедия изобра*
жает страсть как некую демоническую одержимость, за которую
одержимый может получить прощение.
Переписка Уайльда с Мэри Андерсон носила несколько одно*
сторонний характер. Актриса посылала ему газеты с отзывами
на свои последние выступления. Но о том, что его интересо-
вало, хранила молчание, и в конце апреля Уайльд, у которого уже
1 Перевод В. Брюсова.
272
почти все деньги вышли, телеграфировал ей. Ответная телеграмма
из канадского города Виктория (провинция Британская Колум-
бия) пришла, когда у него сидел Шерард. Уайльд распечатал ее,
прочел с бесстрастным видом, потом оторвал от голубого бланка
узенькую полоску, скатал ее в шарик и положил в рот. После чего
дал Шерарду телеграмму и сказал: “Роберт, это скучно донельзя”.
Мэри Андерсон ответила недвусмысленным отказом. “Выходит,
за счет герцогини нам сегодня пообедать не суждено, — заме-
тил Уайльд. — Скорее уж придется обедать с герцогом Хам-
фри. Но что ты скажешь насчет choucroute garnie1 у Циммера?”1 2
Шерард не одну неделю ел за счет Уайльда, потому что тот наста-
ивал, говоря: “Друзья всегда делятся”; теперь Шерард восполь-
зовался случаем и предложил: “Давай сегодня пообедаем за мой
счет в каком-нибудь скромном заведеньице на другом берегу реки,
где не так беззастенчиво дерут”. Уайльд согласился, и Шерард,
хорошо знавший Париж, кружным путем подвел его к боковой
двери роскошного “Кафе де Пари”. Когда они вошли в зал, Уайльд
наконец понял, в чем дело, и воскликнул: “Ничего себе скромное
заведеньице!” В разговоре они обходили “Герцогиню” стороной;
потом отправились в кафешантан “Фоли-Бержер”, и Уайльд, уви-
дев, что на него смотрят, настоял на том, чтобы уйти до конца
представления. Ничем другим он не выдал, что огорчен.
Письмо Мэри Андерсон пришло несколько дней спустя.
Ничего утешительного оно не содержало:
Уважаемый мистер Уайльд! [...] Боюсь, что пьеса в нынешнем ее
виде понравится современной публике не больше, чем “Венеция спа-
сенная” или “Лукреция Борджа”3.
Ни Вы, ни я не можем позволить себе сейчас провала; Ваша “Гер-
цогиня” в моем исполнении не будет иметь успеха, поскольку роль
мне не подходит. Мое восхищение Вашими способностями так же
велико, как всегда. Надеюсь, Вы поймете мои чувства, касающиеся
обсуждаемого вопроса...
1 Шукрут (фр.) — блюдо из кислой капусты с копченостями, сосис-
ками, мясом, картофелем.
2 (Обедать с герцогом Хамфри значит не обедать вовсе.) Уайльд одна-
жды неожиданно заявился к Сиккертам и, сказав, что идет в один
дом, находящийся неподалеку, спросил, нельзя ли у них перекусить.
Миссис Сиккерт ответила, что у них сегодня был ранний обед, но она
может дать ему, как говорят шотландцы, “яйцо к чаю”. Когда принесли
яйцо, Уайльд уставился на него с несчастным и удивленным видом,
словно видел такое впервые в жизни. Освальд Сиккерт расхохотался.
3 “Венеция спасенная” — трагедия Томаса Отуэя (1652-1685). “Лукре-
ция Борджа” — пьеса Виктора Гюго. (Примеч. перев.)
Это была крупная неудача, но не следует недооценивать само-
любие Уайльда. В главном своем таланте у него не было сомнений,
что бы там ни писала мисс Андерсон. Он мог доказать его силу
в любой вечер по своему выбору, подряд очаровывая людей, счи-
тавших до той поры, что Уайльд им не нравится. К счастью, у него
был еще договор с Мари Прескотт по поводу “Веры". По ее тре-
бованию он переписал второе действие и любовную сцену в конце
четвертого действия. Она попросила его вставить в пьесу детскую
роль, и он согласился. Актриса осталась довольна изменениями.
Она была благодарна Уайльду за присланный им самовар, который
подарила ему Сара Бернар как предмет русского обихода. Репети-
ции должны были начаться в Лонг-Бранче, и она попросила его
приехать не позже 18 августа, чтобы присутствовать на последних
прогонах.
Декаденты
— Я верю в величие нации. [...] В нем — залог
развития.
— Упадок мне милее.
— А как же искусство? — спросила Глэдис.
— Оно — болезнь.
Театральные хлопоты Уайльда не мешали его светской жизни
в Париже. В этот свой приезд он встречался в основном с писа-
телями и художниками старшего возраста; восемь лет спустя он
будет встречаться с теми, кто моложе. Он произнес удачную речь
о своем американском турне на обеде, который дали в его честь аме-
риканские художники и журналисты. В доме художника Джузеппе
де Ниттиса он говорил с Дега, Казеном, Камилем и Люсьеном
Писсарро; уходя, он по-уистлеровски тщеславно заметил: “Я был
великолепен”. Сила обаяния и жизненная энергия, которую он
источал, казалась необычайной даже ему самому. Он повел Шера-
рда в театр “Водевиль” на пьесу Сарду “Федора” с Сарой Бернар
в главной роли. Пьеса была очень близка к его “Вере”, хотя и сочи-
нена совершенно независимо; Сарду тоже почуял в нигилистах
Тургенева и Достоевского, слегка сдобренных аристократизмом
и приправленных любовью, заманчивый материал. В роли княжны
Федоры, которая участвовала в заговоре нигилистов и пала жер-
твой ряда недоразумений, Бернар могла охватить несколько октав
человеческих эмоций: ее героиня любила, страдала, ненавидела,
таилась, строила козни, в невыносимых муках созналась и нако-
274
ней покончила с собой. Пьеса была такая же глупая, как и “Вера”,
но в ней было больше чувства сиены. Уайльду стало совершенно
ясно, что у него нет никаких надежд на постановку “Веры”
в Париже, ни с Бернар, ни без нее; “Герцогиня Падуанская”, напи-
санная белым стихом, была труднопереводима и тем более не под-
ходила для постановки. Сколь бы ни был Уайльд огорчен, виду
он не подал. В одном из антрактов “Федоры” Уайльда и Шерарда
провели в маленькое фойе рядом с уборной Сары Бернар, где она
переодевалась за шторами. Просунув сквозь них голову, она ода-
рила Уайльда самой теплой из своих улыбок. Жан Ришпен, кото-
рый был в то время ее любовником, ее удовольствия не разделил.
Несколько дней спустя она пригласила Уайльда и Шерарда к себе
домой на угол авеню де Вилье и улицы Фортюн. По дороге Уайльд
купил у цветочницы большой букет желтофиолей. Шерард счел их
вульгарными, однако Сара, покоившаяся у камина на разноцвет-
ных подушках, была им рада. На правах старого лондонского друга
Уайльд пользовался здесь большим почтением, чем в артистиче-
ском фойе. Александр Пароди, автор пьесы “Покоренный Рим”,
в которой Сара добилась первого своего триумфа, уважительно
называл его “мэтр”.
Возможно, именно во время этого визита у него случился раз-
говор с Кокленом, который Уайльд потом записал. Коклен спросил
о содержании его пьесы “Герцогиня Падуанская”. Уайльд ответил:
“Содержание моей пьесы? Стиль, ничего больше. Гюго и Шекс-
пир поделили между собой все сюжеты; совершенно невозможно
быть ни в чем оригинальным, даже в грехе; поэтому у меня нет
никаких эмоций, только необычные эпитеты. Концовка весьма
трагична — мой герой в миг триумфа изрекает фразу, которая
не оказывает никакого действия, вследствие чего он обречен про-
износить натужные речи в академическом духе”. Коклен перешел
к более широким темам:
Коклен. Что такое цивилизация, месье Уайльд ?
Я. Любовь к прекрасному.
Ко КЛЕН. А что такое прекрасное?
Я. 7Ь, что обыватели называют безобразным.
Коклен. А что обыватели называют прекрасным?
Я. Такого не существует.
Актеру, кажется, пришлись по душе эти загадочные ответы.
Сара Бернар рассказала им о своем последнем протеже Морисе
Роллина, которого она представила свету в ноябре прошлого года
как талантливого поэта и декламатора, вдохновенного музыканта,
Удивительного художника — словом, “одно из чудес Парижа”. Рол-
лина только что опубликовал свой второй стихотворный сборник
“Неврозы”, и о нем говорили как о новом Бодлере. Рассчитывая
встретиться с ним, Уайльд отправился к гостеприимному худож-
нику Джузеппе де Ниттису. Де Ниттис писал красочные париж-
ские уличные сценки. Его дом был полон japonaiseries1, отражав-
ших пристрастие, которое он делил со своим другом Эдмоном
де Гонкуром (последний роман Гонкура “Актриса Фостен” [1882]
был посвящен де Ниттису). Уайльд, прислонившись спиной
к обитой декоративной тканью стене, беседовал с Дега, Казеном,
отцом и сыном Писсарро и присматривался к самому Роллина —
человеку лет тридцати пяти или около того, с горящими глазами
и нервно-страстными жестами. Альберт Вольф 9 ноября 1882 г.
в “Фигаро” назвал его воплощением артистизма. После обеда Рол-
лина попросили прочесть стихотворение, и он произнес “Моно-
лог Троппмана” из “Неврозов”. Для этого потребовались богатая
жестикуляция и мимика: Троппман был чудищем в человеческом
облике, убившим вначале своего внука, а затем его жену и пяте-
рых их детей. Монолог в подробностях раскрывал мысли, обуре-
вавшие его, пока он заманивал мать и детей к себе в дом и при-
водил в исполнение свой план. Впечатляющей особенностью
стихотворения было полное отсутствие в нем мотива раскаяния,
как если бы зло имело в мироздании свое законное место (тот же
прием будет использован Уайльдом в эссе “Кисть, перо и отрава”),
Уайльд оценил силу стихотворения и пригласил Роллина на обед1 2/
Роллина, в свою очередь, пригласил Уайльда, и тот в письме,
написанном в три часа ночи, сообщил о своем согласии и о том, что
только что перечитал стихотворение “Корова и бык” из сборника ,
Роллина. В стихотворении деревенские парень и девушка смотрят >
на совокупление коровы с быком и чувствуют, что ночью после*|
дуют их примеру. Описание совокупления было сильным и застаг'^
вило Уайльда в порыве неподдельного энтузиазма написать: “... это ;•
шедевр. Здесь чувствуется подлинное дыхание Природы. Поздрав-;
1 Японских вещиц (фр.).
2 Его высказывания произвели на Уайльда столь сильное впечатление,
что он их записал. j
На странице, озаглавленной “Роллина”, читаем следующее:
Существует только одна форма прекрасного, однако для каждого з
объекта каждый человек имеет свою формулу; потому-то поэтов |
и не понимают. Я не верю в прогресс; я верю в постоянство людском |
порочности. J
Мне необходимы мечты и фантазии; японские стулья восхищают |
меня, потому что они не предназначены для сидения, —
его понимание музыки, продолжающей красоту поэзии, но лишенном 1
ее идеи. f
276
дяю Вас с этой вещью. Со времен “De Natura” Лукреция мир
не читал ничего подобного; это самый величественный — потому
что самый простой — гимн, когда-либо пропетый Венере Полей”.
В особенности подкупила Уайльда близость Роллина к Бодлеру.
О ней свидетельствовала вся книга “Неврозы”, вступительное сти-
хотворение которой — “Призрак преступления” (посвященное
Эдмону Арокуру, чей собственный недавно вышедший сборник
имел подзаголовок “Истерические стихи”) — объявляло темами
творчества Роллина “убийство, изнасилование, воровство, отце-
убийство”, тогда как бодлеровское “Вступление” к “Цветам зла”
предлагало читателю “Безумье, скаредность и алчность и разврат” *.
В стихах Роллина говорилось также о самоубийстве, болезни, ипо-
хондрии, мертвецах, бальзамировании, погребении живых людей,
призраках, сумасшествии, сатанизме и разложении плоти; надо
всем этим, как темный ангел, владычествовал Эдгар По. Шерард
был убежден, что Роллина наркоман и нуждается в помощи. “Если
ты увидишь, как человек бросился в реку, разве ты не постараешься
его вытащить?” — обеспокоенно спросил он Уайльда, не выказы-
вавшего тревоги по поводу пристрастия Роллина. “Я бы счел это
актом грубейшего неприличия”, — ответил Уайльд.
Глашатай английского ренессанса окунулся в Париже в пол-
нейший декаданс. Духом декаданса были проникнуты два новых
журнала, чья короткая жизнь началась в 1882 г., — “Ша нуар”
и “Нувель рив гош”. В 1882 г. Жан Лоррен, который посвятит
впоследствии один из своих рассказов Уайльду, начал касаться
в стихах темы однополой любви — сначала женской (“Современ-
ность”, 2 сентября 1882 г., в “Ша нуар”), затем мужской (“Батилл”,
1 июля 1883 г., в том же журнале). Независимо от того, видел ли
Уайльд эти стихи, он наверняка обсуждал затронутые в них темы
со своим новым другом Полем Бурже, который писал тогда книгу
о декадансе в современной литературе. Кроме того, был еще
Верлен, с которым Уайльд однажды встретился в кафе. То время
было для Верлена тяжким: год назад умер от малярии его возлюб-
ленный Люсьен Летинуа. Вид опустившегося Верлена оттолкнул
Уайльда, который, однако, высоко ценил его дар. Подобно Лор-
рену, Верлен начал публиковать стихи, отмеченные печатью гомо-
сексуализма, и, возможно, прочел Уайльду недавно написанное
ИМ “Томление”, которое начинается словами: “Я — римский мир
периода упадка”2. Помимо вещей, где говорится о сексуальных
отклонениях и декадансе, Верлен в ноябре 1882 г. опубликовал
свое “Искусство поэзии” — стихотворение, где он отверг любую
1 Перевод Эллиса.
Перевод Б. Пастернака.
поэзию, лишенную музыки и полутонов, презрительно назвав ее
“литературой”. Подлинное стихосложение и моральное разложе-
ние, казалось, неразрывно связаны между собой. Уайльд, который
только что торжествовал на “солнечных высотах”, испытал голово-
кружительное наслаждение, оказавшись в декадентских глубинах.
Неудивительно, что из гнилостных испарений материализовался
“Сфинкс”.
Уайльд очень хотел познакомиться со столпом французской
словесности Эдмоном Гонкуром, чей брат Жюль к тому времени
уже умер. Он послал Гонкуру книгу и письмо:
Месье! Прошу Вас принять мои стихотворения как свидетель-
ство моего безграничного восхищения автором “Актрисы Фостен”.
Я буду счастлив думать, что для моих первых поэтических цветов,
возможно, найдется место в Вашем доме подле картин Ватто и Буше,
подле сокровищ лакировки, слоновой кости и бронзы, которые Вы
обессмертили в Вашем “Доме художника”1.
Этот шаг был успешным: из письма Уайльда Теодору Дюре
явствует, что на следующую среду они с Дюре были приглашены
к Гонкуру; в письме, кроме того, содержится похвала другому
роману Гонкура: “Для меня он — один из величайших мастеров
современной прозы, а его роман “Манетт Саломон” — настоящий
шедевр”.
Как и “Актриса Фостен”, “Манетт Саломон” своим появ-
лением была обязана эстетическому движению: темой обоих
романов было искусство и его соотношение с жизнью. Манетт,
натурщица-еврейка, властвует над своим любовником и разрушает
его талант (в чем выразилось женоненавистничество Гонкура).
“Актриса Фостен” была еще ближе к тому, чего искал Уайльд; дело
в том, что художник здесь — актриса, прототипами которой были
Бернар и Рашель. Конфликт между жизнью и искусством выражен
в романе весьма откровенно: Фостен гораздо лучше играет любовь,
чем любит. Ее любовнику-англичанину лорду Аннандейлу это ста-
новится вполне ясно на смертном одре. Фостен бессознательно
воспроизводит гримасу боли, появившуюся на лице Аннандейла,
и вдруг понимает, что он это видел. Из последних сил он “со всей
безжалостностью англосакса” кричит по-английски своим слугам:
“Выведите эту женщину!” Она исступленно целует ему руки, но он
отталкивает ее: “Актриса... ничего больше... женщина, неспособ-
ная любить”. И, не смягченный ее умоляющим взглядом, повто-
ряет еще более повелительно: “Выведите эту женщину!” (Услуж-
1 Перевод с французского.
278
ливая сноска дает перевод этой фразы на французский.) Эта
концовка — самая запоминающаяся часть романа, — похоже, дала
Уайльду образец заключительной фразы. В “Сфинксе” он гонит
явившееся ему женственное видение: “Зачем ты медлишь? Прочь
отсюда!” В “Саломее” Ирод, обернувшись и поглядев на Саломею,
которая только что с некрофильской страстью поцеловала отруб-
ленную голову, кричит стражникам: “Убейте эту женщину!”
Уайльд не мог не обратить внимания на то, что эстетическое
движение, которое он превозносил в Соединенных Штатах за его
благородный идеализм, имеет и гораздо более сомнительную сто-
рону, с немалым энтузиазмом развиваемую во Франции. В своих
американских лекциях он наивно доказывал, что мы должны эсте-
тизировать нашу жизнь, окружая себя прекрасными предметами.
Но роман Гонкура говорил, что подобная эстетизация может быть
нездоровой. “Актриса Фостсн” повлияла на историю Сибилы
Вэйи, рассказанную в “Портрете Дориана Грея”: Сибила, влю-
бившись, утрачивает дар актрисы, становясь, так сказать, Фостен
с обратным знаком. Точнее, Фостен объединяет в себе обе возмож-
ности: она чувствует необходимость любить, чтобы сыграть Федру,
но предостерегает любовника, побуждающего ее оставить сцену,
что в этом случае он через полгода ее разлюбит. Противополож-
ное побуждение заставляет ее отказаться ради него от театральной
карьеры, но выясняется, что без театра жизнь бесцветна. Муж —
это хорошо, но сцена — куда лучше. В подобном противостоя-
нии между жизнью и искусством Уайльд видел источник драма-
тического напряжения и на разные лады обыгрывал его в течение
последующих пятнадцати лет.
Было в “Актрисе Фостен” и нечто другое, что завораживало
его. У лорда Аннандейла был друг — “достопочтенный” Джордж
Селвин, оказывавший на него в молодости пагубное влияние
и толкавший его к “грязному распутству” (какого рода — не уточ-
нялось), от которого его спасла любовь к Фостен. Селвин приез-
жает к любовникам в гости, и Аннандейл объясняет Фостен, что
его друг — “садист... человек, чьи любовные связи и вожделения
беспорядочны и болезненны”. Словно в подтверждение этих слов
Селвин, стоя с Фостен у птичьих садков, показывает ей на гомо-
сексуальную пару петухов, которая держится в стороне от прочей
живности обоего пола. Фостен шокирована и ждет не дождется,
когда он уедет; он уезжает довольно неожиданно, получив письмо
за подписью “Дольмансе”. Это имя ничего ей не говорит, но двум
мужчинам оно сказало все: Дольмансе — философ в “Филосо-
фии будуара”, одной из самых ужасных фантазий де Сада. При-
зрак садизма появляется у Гонкура ни с того ни с сего и тут же
°ссследно пропадает; для сюжета он не имеет никакого значения;
279
и Аннандейл, и Селвин лишены всякого жизнеподобия. Но ощу-
щение потворства “разнузданности всех чувств”, как называл это
Рембо, должно быть, побудило Уайльда сделать злого гения сво-
его Дориана также титулованным англичанином, хотя его лорд
Генри — лишь приглушенное эхо гонкуровского персонажа с его
непристойными вожделениями. Рискованные любовные при-
ключения Дориана имеют источником и гонкуровскую “Актрису
Фостен”, а не только “Наоборот” Гюисманса — роман, написан-
ный под влиянием “Актрисы Фостен” и воздающий дань книге
Гонкура как прямо, так и косвенно.
Визит Уайльда на “Отейльский чердак” Эдмона де Гонкура
состоялся 21 апреля 1883 г. Гонкур, который вел дневник и запе-
чатлел в нем немало всякого злословия, записал некоторые выска-
зывания Уайльда. Они позабавили его, особенно те, что касались
Суинберна. 5 мая Уайльд и Гонкур встретились еще раз. Вернув-
шись со званого обеда у де Ниттиса, Гонкур написал в дневнике,
что опять видел Уайльда; он пренебрежительно назвал его “челове-
ком неопределенного пола”, но вместе с тем процитировал неко-
торые его рассказы об Америке.
Побыв глашатаем ренессанса, Уайльд услышал теперь глаша-
таев декаданса, и это подхлестнуло его. То, что он проповедо-
вал в Америке, было слишком здоровой пищей для парижских
желудков — это показывал хотя бы беспардонный выпад Шерарда
насчет Венеры Милосской. С другой стороны, парижский дека-
данс, притворявшийся откровенностью, был приправлен абсур-
дом, как и вклад в него Уайльда — поэма “Сфинкс”. Три парижских
месяца отучили его от гладких речей о ренессансе; но, возможно,
эта идея проникала в него исподволь — ренессанс будет лучше
усваиваться с примесью декаданса. Подобное сочетание предве-
щал, но не осмелился осуществить Пейтер. Уайльд был храбрее. ,
Тем временем, испытывая в финансовом отношении скорее
упадок, нежели возрождение, Уайльд дотрачивал свои американ-
ские деньги, часть из которых он к тому же одолжил Шерарду,
решившему вернуться в Лондон. В середине мая Уайльд последо-
вал за ним.
Глава 9
Два рода сцены
Лорд Кавершем. Да вы просто обязаны жениться.
Это ваш долгу сэр! Нельзя жить только для удо-
вольствия! В наше время все порядочные люди
женятся. Холостяки больше не в моде. Дискре-
дитированная публика. О них слишком много
известно. Вам нужна жена.
Уайльд жениховствующий
НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ УАЙЛЬД ЖИЛ У МАТЕРИ
на Парк-стрит, 116 близ Гровенор-сквер, добы-
вая деньги, чтобы, как и прежде, не только ходить
в гости, но и принимать гостей. Услужливый
ростовщик — скорее всего Э. Леви, с которым он
уже имел дело в Соединенных Штатах, — одолжил ему 1200 фун-
тов. Уайльд также заставил себя (неясно, с каким результатом)
напомнить Стилу Маккею о денежном долге. 17 мая 1883 г. он
написал ему:
Парк-стрит, 116, Гровенор-сквер
Дорогой мой Стил! Не вернете ли Вы мне 200 долларов, кото-
рые я Вам одолжил? У меня тут было великое множество расходов,
и счета, оставшиеся еще от оксфордских дней (черно-белые при-
зраки былых разгульных трат) налетели на меня стаей, подобно
перепелкам в степи, хотя они далеко не такие милые. Норман
[Форбс-Робертсон] сказал мне, что видел Вас в Нью-Йорке и что
выглядели Вы великолепно; а я был в Париже и писал мою пьесу
для Мэри Андерсон. Я чрезвычайно ею доволен, это сильнейшая
вещь из всех, какие я сделал, в ней много превосходного комизма
и чудесной красочности. Я надеюсь, Ваша семья в добром здравии
и не забыла меня. Рассчитываю в скором времени получить от Вас
весточку.
Искренне Ваш
ОСКАР УАЙЛЬД.
281
Письмо примечательно умалчивает о том, что Мэри Андер-
сон испытала от “Герцогини Падуанской” меньший восторг, чем
ее автор. Не упомянул Уайльд и о прохладном отношении к этой
пьесе в Лондоне. Сестра Джулии Франкау, миссис Ария, дала
ее прочесть Генри Ирвингу. “Оскар, несомненно, читал “Вене-
цианского купца”, — заметила она. “Читал, читал, — отозвался
Ирвинг. — И явно остался о нем низкого мнения”.
Рассказывая в письме Шерарду о приеме, который был ока-
зан ему в Англии, Уайльд, несомненно, пребывал в приподнятом
настроении. “Великолепное коловращение лондонской жизни все
дальше уносит меня от моего Сфинкса, — писал он, — словно
Сфинкс — не только поэма, но еще и муза. — Общество надо
поражать, и моя нероновская прическа поразила его. Никто меня
не узнаёт, и все говорят мне, что я помолодел; это, конечно, вос-
хитительно”. Газета “Уорлд” отозвалась на его новый облик дру-
желюбными стишками:
Увы, увы! Иным наш Оскар стал,
На нем сказались жизненные бури.
Неужто в сердце у него металл?
Нет, он прошелся лишь по шевелюре.
Уайльд мог чувствовать, что своим парижским прилежанием
заслужил отдых от работы. Из двух его пьес только “Вера” с опре-
деленностью должна была увидеть сцену, да и то не раньше авгу-
ста. Он получил несколько свободных месяцев, чтобы задуматься 3
об обращенных к ним с Уилли мудрых увещаниях матери, пред-,
лагавшей им улучшить свое финансовое положение посредством 1
брака. Уилли бы и рад был, но женщины либо поднимали его на смеад
либо быстро теряли к нему интерес, усомнившись в подлинности!
его пыла. Его брат Оскар тоже пока далеко не продвинулся, хотя!
и по иным причинам. Разнонаправленные влечения, поцелуи Уолта"]
Уитмена и Шерарда — вот что заставляло его медлить. 5
Однако брак, несомненно, заткнул бы рты сплетникам. Хотя i
Уайльд видел в судьбе жертвы доблесть и достоинство, он предпочи- *
тал все же не оказываться жертвой; это обстоятельство порой упу-|
скали из виду те, кто изучал его характер. “Панч” недавно назвал его |
“Марианной”, Бодли в “Нью-Йорк тайме” —“женственным”, и, даже 1
не зная о записи в “Дневнике” Гонкура за 1883 г., где о нем говорится |
как о “человеке неопределенного пола”, Уайльд мог догадываться, |
что подобный взгляд на него имеет хождение. Жена спасла бы его I
от моралистов, а жена богатая — еще и от ростовщиков. Ему больше |
не пришлось бы вести длительную осаду тех, кто давно был бы у его ,|
ног, если бы не слухи. Женившись, он мог бы тягаться с обществом, |
282
не возмущая его. Стабильность, семейственность и рутина, воз-
можно, вещи скучные — еще Пейтер предупреждал, что поражение
кроется в формировании привычек, однако Уайльд, по крайней мере
в воображении, мог играть роль супруга с такой же приятностью
и таким же изяществом, с какими играл роль холостяка.
Идея брака была не нова. Первой кандидаткой, припасенной
на туманное будущее, была Флоренс Болком, пока Брэм Стокер
не умыкнул ее в пошлом настоящем. Затем в душе Уайльда посели-
лась Лили Лэнгтри, хотя вряд ли на правах потенциальной жены:
она была замужем, и с финансами у нее было так же туго, как у него.
Второй женщиной, о браке с которой он всерьез думал, в начале
1880-х годов была Вайолет Хант, дочь художника-пейзажиста Аль-
фреда Уильяма Ханта и романистки Маргарет Хант; сама Вайолет
впоследствии тоже стала писательницей. Уайльд назвал ее “прекра-
снейшей фиалкой1 Англии”. Они познакомились в Лондоне, когда
ей еще не было семнадцати. “Я чувствую себя молодым завоевате-
лем, — сказал он ей посреди увлекательной беседы. — Мы с вами
будем властвовать над миром: вы — благодаря вашей внешности,
я — благодаря моему уму. Но вы тоже, конечно, будете писать,
ведь вы унаследовали литературный дар от вашей милой матери
и способствовали двум трагедиям и одному триумфу”. (Трагеди-
ями были Россетти и Суинберн, триумфом — Роберт Браунинг.)
В июле 1881 г. она поздравила его письмом с выходом “Стихотво-
рений”, которые доказали, что “Вы вполне заслуживаете четырех
рисунков Берн-Джонса, которыми обладаете!” — Он в ответ напи-
сал, что она вознаградила его за “Злословие, Насмешки и Зависть”,
которыми был встречен сборник. В автобиографии “Беспокойные
годы” (1926) Вайолет Хант вспоминает, как однажды, ведя речь
о картах Африки, Уайльд сказал: “Представьте себе, мисс Вайолет,
карту всего континента, на которой рядом с названиями одного-
двух незначительных городов оставлены пробелы и дальше напи-
сано: “Hie sunt leones!”1 2 Мисс Вайолет, вы поедете туда со мной?”
На это она ответила: “Чтобы меня там съели?” Более серьезное
предложение было, возможно, сделано им в 1880 г. В автобио-
графии она об этом не упоминает, однако Дуглас Гоулдринг пишет,
что она неоднократно с гордостью об этом рассказывала. Тот же
здравый смысл, что заставлял ее бояться львов, уберег ее от замуже-
ства за представителем этой породы. Позднее она была подругой —
незамужней и несъеденной — Форда Мэдокса Форда3.
1 Имя Вайолет (Violet) означает “Фиалка”.
Здесь львы! (лат.)
3 Форд Мэдокс Форд (1873-1939) — английский писатель. (Примеч.
перев.)
28 Я
Были и две другие потенциальные невесты. Одна — очарова-
тельная Шарлотта Монтефиоре, чей брат Леонард учился в Бэл-
л иол-колледже, когда Уайльд был студентом колледжа Магдалины
(он умер в сентябре 1879 г. в возрасте всего 26 лет). Уайльд, видимо,
сделал ей предложение в 1880 или 1881 г., но получил отказ. В тот
вечер он послал ей записку: “Шарлотта, Ваше решение чрезвы-
чайно огорчило меня. С Вашими деньгами и моей головой мы
достигли бы очень многого”. Она разорвала ее, но запомнила эти
слова. Другое направление сулило лучшие перспективы. Знаком-
ство произошло в мае 1881 г., возможно вскоре после того, как
ему отказали Вайолет Хант и Шарлотта Монтефиоре. Уайльд и его
мать были в гостях у женщины из семьи Аткинсон, с которыми
Уайльды были знакомы в Дублине. Хозяйка представила им свою
внучку Констанс Ллойд, которая была на три года моложе Уайльда
(она родилась 2 января 1858 г.). Согласно воспоминаниям ее
брата, Констанс была девушка довольно высокого роста (5 футов
8 дюймов), с длинными волнистыми каштановыми волосами,
выпуклыми глазами и хорошей фигурой. Она интересовалась
музыкой, живописью, вышиванием, могла читать Данте в под-
линнике (и читала), была знакома с логикой и математикой и,
будучи застенчивой, в то же время любила поучаствовать в беседеД
Уайльд был к ней подчеркнуто внимателен. По дороге домой он 1
сказал леди Уайльд: “Кстати, мама, я думаю — не жениться ли '
мне на этой девушке?” Отец Констанс умер в 1874 г.; с матеД
рью, вышедшей замуж вторично, она не жила — их отношения $
с детства были натянутыми, а жила с двадцатилетнего возраста|
у деда, адвоката Джона Горацио Ллойда1. У Ллойда был большой^
особняк по адресу Ланкастер-гейт, 100, за которым присматрИ^!
вала его племянница Эмили Ллойд, приходившаяся КонстанО
теткой. Сближение между Уайльдом и Констанс происходил^!
постепенно. Леди Уайльд пригласила ее на одну из своих суббота
на которой был и Оскар. 6 июня 1881 г. Эмили Ллойд пригласил^!
Уайльда на Ланкастер-гейт. Констанс написала о его визите свО-|
ему брату Отто, который был поверхностно знаком с Уайльдом?]
когда они оба учились в Оксфорде: "Вчера примерно в 5.30 приЧ|
шел О.У. (я перед его появлением тряслась от страха!) и пробыл ।
полчаса; он упрашивал меня в ближайшее время опять навестить
его мать, и я, как ты понимаешь, об этой маленькой просьбе j
никому не заикалась. [Эмили Ллойд противилась тому, чтобы ее
племянница выходила из дома без сопровождения.] Я невольно i
---------------------------------------------------------ч
1 По словам брата Констанс, Уайльд сочувственно слушал ее, когда она J
пыталась описать ему свое несчастливое детство. Его трогали люди, |
чьи трагедии уходили корнями в ранние годы.--------------i
284
чувствую к нему симпатию, потому что, когда мы с ним наедине,
вся его аффектация пропадает и он разговаривает совершенно
естественно, разве что слова подбирает лучше, чем большинство
людей”. Отто, похоже, позабавил ее до этого оксфордской бай-
кой о каком-то злоключении Уайльда, потому что она добавила:
«Я лично рада, что они тогда его не окунули, хотя ты, конечно,
был бы этим доволен!”
Уайльд зачастил в их дом; он понравился и Ллойду, и Кон-
станс, и ее брату Отто. Тетя Эмили, однако, вела себя сдержанно.
В 1882 г., когда Уайльд был в Соединенных Штатах, и в первые
месяцы 1883 г., когда он жил в Париже, Констанс посещала худо-
жественную школу, и в одежде она склонялась к эстетическому
стилю. Их знакомство начали поощрять родственники; в декабре
1882 г. Чарлз Хемпхилл (адвокат высшего ранга, позднее член
Суда Казначейства), которого Уайльды знали как бывшего соседа
по Мэррион-сквер, придя в гости к леди Уайльд, "превознес
Констанс до небес”. Она с умыслом написала сыну в Америку:
“Я чуть было не сказала ему, что хотела бы видеть ее своей невест-
кой, но промолчала. Именно Констанс сообщила ему наш адрес.
Визит показался мне многообещающим”. 28 февраля 1883 г. она,
в свою очередь, пригласила к себе Констанс и Отто и всячески
расхваливала им "Оскара”.
16 мая, едва вернувшись из Парижа, Уайльд пригласил Кон-
станс в дом своей матери. Придя в сопровождении Отто, она
слушала, как он ругает Швейцарию — "этот жуткий край, такой
вульгарный, с этими огромными уродливыми горами, сплошь
черно-белыми, как гигантская фотография”. Он сказал, что пред-
почитает все небольшое, но пропорциональное и благодаря этому
производящее, если нужно, впечатление высоты. На следующий
день Констанс и Отто были у леди Уайльд на приеме, но Оскар
не явился; зато 19-го числа он пришел к Ллойдам, коротко остри-
женный. С обеих сторон и дальше не было недостатка в пригла-
шениях. Констанс согласилась было прийти к леди Уайльд 24-го,
но ее неожиданно сманили на остров Уайт. Она прислала изви-
нение и одновременно пригласила Уайльдов на 28-е. Леди Уайльд
приглашение приняла, добавив, что ждет ее у себя на приеме 26-го;
о несостоявшейся встрече она написала: "Оскар говорил, как Пла-
тон, божественно, но время от времени от него можно было услы-
шать, что женщинам доверять невозможно и что Вы нарушили
обещание”.
Отто Ллойд был несколько озадачен интересом Уайльда
к своей сестре, но счел причиной этого интереса ее ум. Констанс,
к°торая уже была однажды помолвлена (жених помолвку разо-
Рвал), с братом не откровенничала. В начале июня Уайльд с мате-
285
рью были у Ллойдов, и Констанс потом в разговоре с Отто ска-
зала лишь, что они с Уайльдом долго беседовали, но разошлись
во мнениях по всем пунктам. 3 июня, когда Констанс и Отто были
у леди Уайльд, Оскар пригласил их обоих поити с ним завтра
на выставку рыболовных снастей. По просьбе Констанс поход
обложили до 7-го. На выставке рыбам досталось мало внимания,
потому что Уайльд говорил не закрывая рта; на прощание он ска-
зал: “Надеюсь, вам здесь так же понравилось, как и мне”. Вернув-
шись домой, Констанс с облегчением увидела, что там нет никого,
кроме тетки, и воскликнула: “Как приятно увидеть вас, тетя Кэрри,
после трех с половиной часов разговора с умным человеком!”
К этому времени Отто пришел к выводу, что, будь на месте
Уайльда любой другой человек, можно было бы заключить, что он
влюблен. 30 июня они с Констанс, как и Уайльд, присутствовали
на приеме, устроенном в честь одного из членов общества в защиту
прав женщин. Констанс, сомневаясь в намерениях Уайльда, отва-
жилась на такое замечание: “Знаете, что о вас говорят, мистер
Уайльд? Что вы не думаете и половины того, что говорите”. Уайльд
запрокинул голову и расмеялся. Несколько дней спустя 6 июля
у леди Уайльд Оскар, как обычно, разговаривал только с Констанс,
и мать сделала ему замечание за то, что он не уделяет внимания
другим гостям. Он отошел от Констанс, но Отто заметил, что
он не спускает с нее глаз. Мать Констанс уже почувствовала, что
из этих отношений что-нибудь да воспоследует. Неделю спустя
Уайльд особо попросил Констанс зайти к леди Уайльд, потому что
это для него последняя возможность увидеться с ней перед отъ-
ездом в Америку. Это звучало торжественней, чем все сказанное
им до сих пор, и она, разумеется, пришла. Но у него на уме была
одна более настоятельная забота, нежели брак.
Искусство устной речи
Нигилист, сей странный страдалец, лишенный
веры, рискующий без энтузиазма и умирающий
за дело, которое ему безразлично, — чистой воды
порождение литературы. Его выдумал Тургенев,
а довершил его портрет Достоевский.
Если Констанс Ллойд обосновывалась в его душе исподволь,
то нигилистка Вера Засулич давно занимала там прочное место.
От успеха спектакля с Мари Прескотт зависело многое. Уайльд <
был невысокого мнения о ней как об актрисе, но она обладала ।
oRA I
!
одним достоинством, весьма редким среди читателей “Веры”, —
ей безумно нравилась эта пьеса. В начале 1883 г. у них с Уайльдом
завязалась о пьесе оживленная переписка. Оставались нерешен-
ными некоторые финансовые вопросы, однако Мари Прескотт
вовсю занималась приготовлениями. К его смятению, она арендо-
вала театр “Юнион сквер” на четыре недели начиная с 20 августа,
когда в Нью-Йорке обычно стоит неимоверная жара. Уайльд стал
возражать; она бодро объяснила, что другого свободного театра
нет, что она не может позволить себе устроить премьеру в раз-
гар сезона, что премьера должна состояться именно в Нью-Йорке
с тем, чтобы директора театров в других городах потом включили
спектакль в свой репертуар, и что она опять покажет его в Нью-
Йорке на Рождество. Поскольку весь финансовый риск был ее,
право решать принадлежало тоже ей.
Он постарался внушить ей свое понимание пьесы. Когда она
предложила убрать некоторые комические реплики, он в ответ
выдвинул один из своих существенных принципов, который
впоследствии в перефразированном виде появится в “Истине
масок”: “Один из законов психологии состоит в том, что любая
крайне напряженная эмоция стремится к разрядке при помощи
какой-нибудь эмоции противоположного свойства. Истериче-
ский смех и слезы радости — примеры драматического эффекта,
которые дает сама природа. Вот почему я не могу убрать из пьесы
комические реплики. Кроме того, соль хорошего диалога — пере-
бивки”1. Ответные письма хмисс Прескотт были нудными, хотя
и не глупыми; она, в частности, указала на то, что Вера хочет
убить того, кого любит. Эта тема возникает у Уайльда многократно
от “Humanitad” и “Герцогини Падуанской” до “Баллады Рединг-
ской тюрьмы”. Нарциссист с виду, он в глубине души ощущал
саморазрушительные толчки.
Уайльд выдвинул немало практических предложений. Самовар,
подаренный Сарой Бернар, пошел в дело. Мисс Прескотт восхи-
тило предложенное им для последнего действия пунцовое (“вер-
мильонное”) платье: “Ни одно платье мне так не шло”. (В “Герцо-
гине Падуанской” даже пакет приносят завернутым в пунцовый
шелк.) Никаких нижних юбок, наставлял он ее, и она призналась
ему, что никогда их не носила. Но не позволит ли он ей отка-
заться от тяжелой шубы, в которой должна появиться Вера в пер-
Колридж в “Застольном разговоре” пишет: “Платон... показывает
нам, что утверждения, которые включают в себя... противоречащие
друг другу положения, могут тем не менее быть истинными; здесь
мы, следовательно, имеем дело с высшей логикой — с логикой идей.
Они противоречат друг другу лишь в Аристотелевой логике, которая
представляет собой инстинктивные начатки понимания”.
вом действии? Принимая во внимание августовскую жару, Уайльд,
по-видимому, согласился. Свои письма к ней он аккуратно пере-
беливал; для них он приберег некоторые из своих ярких форму-
лировок. Например: “Успех — это наука; если есть предпосылки,
будет и результат. Искусство представляет собой математиче-
ски выверенный результат эмоциональной тяги к прекрасному”.
Не забывая о нуждах рекламы, он объяснил своей адресатке, что
“Вера”, являя собой “титанический вопль народов об освобожде-
нии”, — это тем не менее пьеса не о политике, а о страсти. Позже
он сказал Констанс Ллойд, что это пьеса не о страсти, а о поли-
тике. Ее можно было воспринимать и так, и этак; легкомыслен-
ному Нью-Йорку должна была прийтись по душе страсть любов-
ная, серьезной Констанс — страсть политическая. В рекламных
целях Мари Прескотт опубликовала одно из его писем в газете
“Нью-Йорк геральд”.
Времени до 20 августа оставалось еще немало, и Уайльду в ожи-
дании своего триумфа на драматургическом поприще нужно было
как-то прокормиться. С реализацией брачных планов приходилось
повременить. К счастью, весной в Лондон приехал полковник
Морс — бывший сотрудник компании Д'Ойли Карта, занимав-
шийся там лекционными турне. На сей раз он представлял фила-
дельфийского издателя Дж. М. Стоддарта в качестве агента-рас-
пространителя “Американской энциклопедии” и других изданий.
В середине июня Уайльд явился к нему с вопросом: не может ли он
организовать для старого клиента лекционное турне по Британ-
ским островам? Морс согласился. Гонорары предлагались не ахти
какие — от десяти до двадцати пяти гиней за лекцию, в лучшем
случае — половина выручки; но Уайльд больше не мог только тра-
тить деньги, ничего не зарабатывая. Он предложил две лекции —’
одну шутливо-болтливую (“Личные впечатления об Америке”)
и одну проповедническую (“Прекрасное жилище”).
Первое выступление должно было состояться в лондонском
“Принсез-холле” на Пикадилли и стать своего рода рекламным
сигналом для других городов. Пока шли приготовления, Уайльд
получил от Эрика Форбса-Робертсона приглашение прочесть
лекцию студентам Королевской академии искусств; он согласился.
Уистлер, завидуя приглашению, которое он предпочел бы получить
сам, чтобы ответить на него отказом, не замедлил высказать свои
идеи о том, что Уайльд мог бы преподнести слушателям на правах
его, Уистлера, Иоанна Предтечи. Некоторые из этих идей Уайльд
использовал, понимая (чего, видимо, нельзя сказать о более забыв-
чивом Уистлере), что многие из уистлеровских воззрений сфор-
мировались на основе предисловия Готье к роману “Мадемуазель
де Мопен”, а также произведений Бодлера и Малларме. Ориги-
288
цальность высказываний Уистлера заключалась не в содержании,
а в резкости, с какой оно выражалось. Лекция Уайльда, опублико-
ванная после его смерти в несколько искаженном виде, показывает,
что он все еще черпал некоторые свои теоретические положения
из Рёскина, одновременно провозглашая верховенство Уистлера
на практике. Так, заявив, подобно Уистлеру, что искусство развива-
ется независимо от истории — этот взгляд он впоследствии опро-
вергнет, — Уайльд принялся убеждать студентов овладевать своим
веком, чтобы легче было его игнорировать. Он также использовал
рёскиновские выражения, подчеркивая связь между порчей среды,
в которой живут люди, и упадком искусств. Принципы Уистлера
и Готье носили главным образом характер отрицания. Искусство
вненационально; никакой век не был веком искусств, и никакой
народ не был артистическим народом (это суждение Уайльд позд-
нее пересмотрит); история искусств никому не нужна; искусство
не несет в себе никакой идеи. Прекрасным, говорил Уайльд сту-
дентам, может быть все, что угодно: “даже Гауэр-стрит... когда
занимается заря... Полицейский... при обычных обстоятельствах
ни в коем случае не мог бы сойти за нечто прекрасное или внуша-
ющее радость; но однажды в тумане на набережной Темзы, в закат-
ных сумерках... в нем виделось что-то микеланджеловское”. Когда
была подана реплика, что, дескать, картины Уистлера в перевер-
нутом виде выглядят нисколько не хуже, он сказал: “А почему бы
и нет? Чем плохо, если они могут радовать нас на разные лады?”
Студенты остались довольны, пресса была благожелательна, Уист-
лер проникся завистью. Если можно верить Герберту Вивиану,
который относился к Уайльду враждебно, Уистлер несколько уме-
рил удовлетворение Уайльда от прочитанной лекции: он спросил
его, что же он поведал слушателям, тот бодро двинулся по тезисам,
и после каждого из них Уистлер вставал и отвешивал поклон, под-
черкивая свое авторство. Позже, когда они уже не были друзьями,
он сказал, что Уайльд “мало того что мусолил мой башмак, он еще
и унес в зубах застежку”. Однако сказанное Уайльдом наполовину
проистекало из трудов Рёскина, и Вивиан в этой истории с покло-
нами вряд ли до конца точен.
Уистлер явно не был слишком уж обижен предполагаемыми
заимствованиями: ведь 11 июля 1883 г. он был на второй лекции
Уайльда в Принсез-холле. Как 18 июля написала газета “Уорлд”,
Кистлер “скакал там, как сверчок”. Уайльд рассказывал о своих
впечатлениях об Америке”. Это была пестрая смесь чрезвычайно
остроумных высказываний о ландшафте, людях, искусстве и теа-
тре. Уайльд появился с двадцатиминутным опозданием, ни капли
Не смущенный, в вечернем костюме, с бельш цветком в петлице,
с завернутыми поверх рукавов пиджака манжетами рубашки,
5556
2о9
с массивным брелоком на цепочке часов, с большим бриллиан-
том на крахмальной манишке. Он следующим образом разукра-
сил прозаическое обстоятельство чтения им лекции в Григгсвилле,
штат Иллинойс: “Меня попросили прочесть лекцию об искусстве
в городе, названном в честь его основателя — некоего Григгса,
и я послал им телеграмму: “Сначала измените название города”.
Этого они делать не стали. Только подумайте, как было бы ужасно,
если бы я основал там новую школу искусств; вообразите назва-
ние: “ранний Григгсвилл”. Представьте себе школу искусств, пре-
подающую “григгсвиллский ренессанс”. Он описал свою поездку
на Ниагару — в это “скучное место, полное скучных людей, сло-
няющихся вокруг и тщетно пытающихся обрести то возвышенное
ощущение, которое, как обещали им путеводители, они должны
были бы получить без дополнительной оплаты”. Описал пустын-
ные прерии, “солончаковые равнины, создающие впечатление,
что Природа, придя в полнейшее отчаяние, напрочь отказалась
от мысли хоть как-то украсить столь обширную страну”. С восхи-
щением отозвался о красоте мормонских детей в Солт-Лейк-Сити
и рассказал о том, как осведомился, вместит ли городской театр
всех желающих, и получил ответ: “Конечно, он ведь очень боль-
шой, там помещаются целых девять семей”.
Он одобрил роскошь пульмановского вагона, но пожалел ,,
о том, что он не дает достаточного уединения. В поездах “малм
чишки шныряют туда-сюда, продают разнообразную литературой
хорошую и дурную, и все, что съедобно и несъедобно; но
чувства были возмущены до предела всякий раз, когда я виде/г
пиратское издание моих стихотворений, которое шло всегрЦ
за 10 центов. Отзывая этих мальчишек в сторонку, я говорил им*
что, хотя поэты любят популярность, они рассчитывают на гоне*»
рар, и, торгуя моими стихами без какой-либо выгоды для меня,
они наносят литературе удар, который произведет удручающее
действие на юные таланты. Ответы их неизменно сводились
к тому, что они получают от этой торговли выгоду, а до всего
прочего им нет никакого дела”. Его рассказ вольно- перемещался
из одного уголка страны в другой, от журналистики к политике*
от механики к искусству. Незнакомые люди, обращаясь к нему*
никогда не называли его “приятель”, вопреки расхожему мнению
об обычаях американцев; “в Техасе меня называли “капитаном***
в центральных штатах повысили до “полковника”, а поблизосТЙ
от мексиканской границы я уже стал “генералом”. Против этогд
он ничего не имел, но вот когда его назвали “профессором”, это
страшно его огорчило. Он пожаловался на шум и суету: “Я видеЯ.
только одного отдыхающего американца, и это была деревянная;
фигура у дверей табачной лавки”. ' i
Слушатели, похоже, были довольны, и газеты большей частью
отозвались о лекции положительно. Однако Лабушер 18 июля
в “Трусе” был на удивление скуп на похвалы и брюзгливо кон-
статировал, что Уайльд произнес слово “прелестный” сорок три
раза, слово “красивый” двадцать шесть раз и слово “очарователь-
ный” семнадцать раз. Если статистика права, это означает, что
ради своих излюбленных эпитетов Уайльд отклонился от заготов-
ленного текста. На следующий день в “Трусе” появилась редак-
ционная статья на три колонки, озаглавленная: “Оскар сходит
со сцены”. В ней был дан весьма ядовитый обзор жизни Уайльда:
в Оксфорде он был “женственным юношей”, и “никто не смеялся
над ним больше, чем он смеялся над собой сам”. Во время амери-
канского турне он был “женоподобным фразером”, “вещающим
перед пустыми креслами”. Лондонский зал, утверждала газета,
был полон только наполовину. Уайльд прокомментировал это
так: “Если для доказательства того, что меня позабыли, Лабушеру
понадобились три колонки, то я не вижу разницы между забве-
нием и славой”. Невосприимчивый к наскокам Уистлера и Лабу-
шера, он продолжал читать лекции: 26 июля выступал в Маргейте
и Рамсгейте, 27 июля в Саутгемптоне, 28 июля в Брайтоне, 31 июля
в Саутпорте. Оттуда 1 августа он отправился в Ливерпуль поздра-
вить Лили Лэнгтри с возвращением из Соединенных Штатов.
Женщина весьма скромная по сценическому таланту, но все более
нескромная по своему поведению вне сцены, она добилась в Аме-
рике успеха довольно-таки определенного свойства и вскоре по-
ехала туда на повторные гастроли.
Трагедия “Веры”
— Я знала, что произведу сенсацию, — прошипела
Ракета и погасла
2 августа 1883 г. Уайльд отплыл на пароходе “Британии” в Нью-
Йорк на премьеру своей первой пьесы. Он был преисполнен
радужных надежд, и морское путешествие доставило ему удо-
вольствие. Одним из пунктов культурной программы на борту
было чтение им (ко всеобщему одобрению) своего стихотворения
Ave Imperatrix”, где он восславил мощь Империи, преклонил
голову перед памятью павших за Англию и предсказал республи-
1 Здесь и далее “Замечательная Ракета3' цитируется в переводе
Р Озерской,
2у1
канское правление в будущем. Некоторые пассажиры-англичане,
в том числе друг Джорджа Керзона по фамилии Бродерик, искали
его общества. “Уайльд воистину был душой всего плавания, —
писал он Керзону. — Он не переставая сыпал занятными исто-
риями, остротами, парадоксами и изречениями; к тому же он,
безусловно, обладает добродушием, которое никогда ему не изме-
няет и заставляет его первым покатываться со смеху от своих соб-
ственных нелепых теорий и диковинных построений... По-моему,
я никогда так много не смеялся, как с ним и над ним во время этого
путешествия”. Уайльд прибыл в Нью-Йорк 11 августа, и, разуме-
ется, не обошлось без интервью. Придя к нему в отель “Брансуик”,
репортер “Нью-Йорк тайме” нашел его одежду более традици-
онной, чем раньше; на нем были обычные брюки, однако налет
дендизма чувствовался в бархатном пиджаке со скругленным фал-
дами, лакированных туфлях, байроническом отложном воротнике
и шейном платке, сколотом булавкой с брильянтом. Волосы у него
были острижены — еще одна перемена! — и выглядели вполне
по-нероновски. Он стал рассказывать репортеру о своих попут-
чиках-англичанах: “Они едут на Запад стрелять бизонов”; затем
задумчиво добавил: “Если там и вправду есть бизоны и если они 1
в состоянии их убивать”. Он говорил о “Герцогине Падуанской”,-
написанной после его отъезда из Америки: “Я, разумеется, позабо-'
чусь о хорошей постановке. Великолепной картине нужна рама ей^
под стать”. Он сказал, что собирается съездить в Ньюпорт к миссис|
Хау и в Пикскилл к Генри Уорду Бичеру. Верен ли слух, пойнтере*!
совался репортер, что Уайльд привез с собой декорации к “Вере”М
“Ничего не привез, даже ржаного поля”, — развел руками Уайльда
Он привез только пунцовую ткань для Мари Прескотт. 4
Репетиции “Веры” начались 13 августа, и душным вечеромЕ®
20 августа перед переполненным залом была сыграна премьераЯ
После второго действия раздались крики: “Автора!”, а после тр<Ц
тьего Уайльд вышел на сцену и перед опущенным занавесом проЦ
изнес короткую речь, то ли доказывая, что его пьеса не о политик^
а о страсти, то ли убеждая публику в противном. Хорошо, что oiW
не стал откладывать выступление: четвертое действие все нашлЯЙ
слишкохМ затянутым, а пунцовое платье, в котором появилась МарЯ®
Прескотт, повергло зал в потный ужас. Среди зрителей быЛ<Я|
много друзей Уайльда и Мари Прескотт, в том числе актер УилсонЯ
Баррет, и они хвалили пьесу. Однако отзывы прессы были в иелОЧ
не слишком доброжелательны. За исключением “Нью-Йорк са1М|
объявившей “Веру” шедевром, и “Нью-Йорк миррор”, назвавшей®
пьесу “поистине чудесной”, все прочие газеты поместили отринМ|
тельные рецензии. “Нью-Йорк трибюн” 21 августа раскритиКС®
вала спектакль, хотя и более мягко, нежели она обычно отзывалась
292
об Уайльде; 26 августа в редакционной статье газета согласилась
с тем, что Уайльд стал или может стать другим человеком. Миссис
Фрэнк Лесли возложила вину за неуспех спектакля на пунцовое
платье. Рецензент “Нью-Йорк тайме” посвятил целую колонку,
выдержанную в напыщенном стиле, анализу и критике нигилизма,
после чего перешел к разбору спектакля в манере, свидетельству-
ющей о том, что остроты Уайльда не прошли мимо его ушей: “Мы
не сомневаемся в искренности мистера Оскара Уайльда, хотя он
предоставил нам убедительный повод для сомнений в его искрен-
ности”. “Он добился столь немногого, сколь было возможно,
однако нам хочется верить, что он способен добиться большего”.
Вспоминая интервью, данное Уайльдом неделю назад, рецензент
согласился с тем, что упомянутое в нем “Ave Imperatrix” — чудес-
ное стихотворение и что эстетические теории Уайльда не лишены
достоинств. Но речи нигилистов в пьесе скучны; есть у нее и дру-
гие недочеты. Осуждение не было полным: “Все же очень мно-
гое в “Вере” написано хорошо, и в речах такого персонажа, как
князь Павел, мистер Уайльд демонстрирует блеск и остроумие”.
В целом же “пьеса неудачна настолько, насколько ее может сделать
таковой умный и талантливый автор”. В довершение всего, хотя
сам Уайльд отмалчивался, спектакль не понравился*и ему тоже.
Мари Прескотт была удручена печатными отзывами на пред-
ставление, которое, казалось бы, хорошо встретила публика. Она
отважно отправила редактору “Нью-Йорк тайме” письмо, в кото-
ром перечислила дюжину именитых театральных деятелей, положи-
тельно отозвавшихся о ее “благородном” спектакле. Письмо только
спровоцировало “Таймс” на еще более едкую критику ее игры
и уайльдовской пьесы. Было сказано, что Мари Прескотт на сцене
умеет только “читать проповеди”. (“Бостон пайлот”, обычно симпа-
тизировавший Уайльду, также возложил вину за неудачу на “бездар-
ную актрису, способную как на сцене, так и вне ее только на брань”.)
Напоследок “Таймс” в разделе редакционных статей выстрелила
из самого тяжелого орудия: Уайльд — “шарлатан во многом и диле-
тант целиком и полностью”, пьеса лишена каких-либо достоинств.
Сколь бы несправедлив ни был в 1883 г. этот разнос, выручка
за спектакли резко пошла вниз, а аренда театра обходилась доста-
точно дорого. Мари Прескотт и ее муж прибегли к последнему
Хитрому средству: одна из газет сообщила, что Уайльду по его воз-
вращении с Кони-Айленда, куда он беспечно уехал, будет предло-
жено сыграть в спектакле роль предположительно князя Павла или,
Иа худой конец, всякий раз завершать его своим выступлением
Псред зрителями. Уайльд отказался. 28 августа спектакли были пре-
кращены. Некий репортер подошел к Уайльду, курившему сигару.
-5то был чуть ли не первый случай, когда он отмахнулся от прессы:
“Не видите, что ли, я завтракаю”. Мари Прескотт сказала, что пове-
зет пьесу на гастроли, которые должны начаться 15 октября, наряду
с другой пьесой под названием “Зика”. В декабре она собиралась
выступить в Детройте.
Уайльд отправился в Ньюпорт и Саратогу; всего он провел
в Соединенных Штатах месяц. Вернувшись в Лондон, он обнару-
жил, что стал мишенью карикатур в журналах “Панч” и “Антракт”.
В последнем был изображен Уилли, утешающий огорченного
братца. Уайльд по-прежнему верил в достоинства “Веры”. Если
он и не был в восторге от игры мисс Прескотт, он не мог говорить
об этом вслух. В сезон, когда игралось много слабых пьес, “Вера”
не была намного ниже среднего уровня. Газеты поставили перед
собой цель высмеять его и принизить его талант; Уайльд был удру-
чен провалом “Веры”, но держал язык за зубами.
Ничего не оставалось, как вновь взяться за чтение лекций.
Полковник Морс сумел обеспечить огромное количество зая-
вок, в особенности из технических обществ; к 18 августа их было
шестнадцать или семнадцать, а в течение сезона 1883/84 г. Морс<
заручился, по его собственному подсчету, более чем ста пятью-
десятью заявками на лекции Уайльда. Первая лекция состоялась
24 сентября в Уондсворте, где двенадцать лет спустя Уайльд будет
томиться в тюрьме. На эти лекции он не надевал ни бархатных
бриджей, ни шелковых чулок. Но его вечерний костюм вклю-
чал в себя черный галстук необычной формы, и из-под жилетки
выглядывал шелковый платок цвета лососины. Он говорил теперь>|
без заранее написанных текстов, в обычной своей свободной-:
манере. 11 октября он прервал лекции, чтобы отправиться вместе:
с Лили Лэнгтри в Ливерпуль на проводы Генри Ирвинга и Эллен
Терри, отбывавших в Соединенные Штаты на гастроли, которые
оказались более спокойными, чем его турне. 25 октября он прочел
лекцию в Дерби. Но было кое-что поважней этих выступлений —
аудитория, состоявшая из одного человека.
Предбрачные маневры
Незачем делать предложение чаще чем раз
в неделю, и если уж делать, так по крайней мере
во всеуслышание.
В середине октября, когда между лекциями выдалась пауза, Уайльд
приехал в Лондон, и леди Уайльд пригласила Констанс к себе,
чтобы они смогли встретиться. На следующий день Уайльд был
294
у Ллойдов и рассказывал там о своем турне. “Он все еще читает
лекции, констатировал Отто, ездит из города в город по диковин-
нейшему маршруту: сегодня он в Брайтоне, завтра — в Эдинбурге,
послезавтра — в Пензансе, графство Корнуолл, затем — в Дуб-
лине; он сам над этим очень смеялся и сказал, что в этих вопро-
сах дал менеджеру полную свободу действий”. Разговор зашел
о “Вере”, и Уайльд произвел впечатление человека, сильно огор-
ченного неудачей. Он дал Констанс один из экземпляров пьесы,
напечатанных за его счет, и попросил ее высказать свое мнение.
Она пообещала написать ему из Дублина, куда собиралась поехать
в гости. Приятное совпадение заключалось в том, что две дублин-
ские лекции Уайльда приходились как раз на время ее пребывания
в этом городе.
11 ноября Констанс написала Уайльду из дома бабушки
на Или-плейс:
Вы просили меня сообщить Вам, что я думаю о пьесе, и, хотя
я не могу претендовать на роль судьи и не знаю даже, что именно
требуется от хорошей пьесы, я должна, полагаю, дать Вам некий
ответ. “Вера” очень заинтересовала меня, и мне кажется, что она
дает богатый материал для актерской игры, в ней много хороших
драматических ситуаций. Мне также нравятся места, где говорится
о свободе, и эпизоды, выражающие страсть, однако некоторые второ-
степенные диалоги кажутся мне несколько принужденными и не со-
всем естественными. Впрочем, я основываюсь только лишь на моих
эстетических впечатлениях, а отнюдь не на знании, поэтому прошу
Вас — не придавайте моим замечаниям слишком большого значе-
ния. Я не могу понять, почему пьесу приняли столь холодно — разве
что игра актеров была очень плоха или же публика была враждебно
настроена по отношению к выраженным в пьесе политическим взгля-
дам. Мир явно несправедлив и слишком суров к большинству из нас;
мне кажется, мы должны либо отречься от своих взглядов и плыть
по течению, либо идти своим путем, не обращая внимания ни на что
вокруг, — нет ни малейшего* смысла бороться с существующими
предрассудками, потому что мы неизбежно потерпим в этой борьбе
поражение. Боюсь, что мы с Вами расходимся в наших взглядах
на искусство, поскольку я считаю, что не может быть совершенства
в искусстве без совершенства нравственного, тогда как Вы утвержда-
ете, что это вещи разные и независимые друг от друга, и, разумеется,
на Вашей стороне знания, с помощью которых Вы легко можете побе-
дить мое невежество. Я действительно не судья, о мнении которого
Вам следовало бы спрашивать, и даже если бы я была таким судьей,
я судила бы Вас исходя не столько из самой работы, сколько из Ваших
намерений, и Вы сказали бы, что это неправильно. Я сказала Аткинсо-
29)
нам, что Вы вскоре приедете сюда, и они будут очень рады Вас видеть;
я буду здесь [далее не сохранилось].
Хотя их эстетические взгляды и не вполне совпадали, ее вос-
хищение им было непоколебимо; письмо выказывает не только
скромность, но и жар. С трудновыполнимой задачей, которая была
перед ней поставлена, она справилась очень хорошо. Из письма
также видна терпимость к тем его взглядам, с которыми она
не могла согласиться. Она была умна, способна и независима.
21 ноября, приехав в Дублин и остановившись в отеле “Шел-
берн”, Уайльд нашел там записку, приглашавшую его посетить
Или-плейс. Ему уже было ясно, что его принимают как жениха
Констанс Ллойд, и непривычность ситуации подействовала
на него. Констанс писала брату Отто, что Уайльд, “хоть и явно
вел себя еще более манерно, чем всегда, отчасти, полагаю, из-за
нервозности... был чрезвычайно любезен”. Его внимание было
по преимуществу отдано ей. 22 ноября, когда он читал первую
лекцию о “Прекрасном жилище”, Констанс Ллойд, разумеется,
принадлежала к числу самых благожелательных слушателей (как ,
и У.Б. Йейтс, которому тогда было восемнадцать лет). После лек-
ции Уайльд пил чай у Аткинсонов на Или-плейс и опять обра-
щался главным образом к ней. На следующий вечер он взял ложу
в театре “Гейети”, где шла некая неизвестная нам пьеса, и отдала
ложу Аткинсонам, а сам отправился куда-то еще. Это можно рас?;,
сматривать как предвестье его последующих отлучек из супруже-.
ского дома; Констанс, однако, не обиделась. 24 ноября она при*-?
шла и на его “Впечатления об Америке”, хотя шутливо-болтливой^
ипостаси Уайльда предпочитала ипостась возвышенную. Впослед^
ствии она так и не смогла полностью освоиться с его болтовней^
на грани чепухи. Они опять говорили о “Вере”, после чего она^
перечитала пьесу и на сей раз заявила Отто (и, вероятно, Уайльду),^
что считает ее “превосходной”. Уайльд ранее сказал ей, что “напи-^
сал ее, желая показать, что абстрактная идея — например, идея ’
свободы — может обрести на сцене не меньшую силу и тонкость
выражения, чем любовная страсть”. Такой степени республика-
низма “Вера”, однако, не достигает. И, как ни верти, сам Уайльд
стоял тогда на пороге ограничения своей свободы во имя любви. ;
Пятый день его пребывания в Дублине — воскресенье 25 ноя-,
бря — стал решающим. Уайльд находился наедине с Констанс,
в той самой гостиной, где, она знала, ее отец тридцать лет назад <
сделал предложение ее матери. Ее родственники оставили их
вдвоем, дав понять своими шуточками, что догадываются о назре^
вающем объяснении. Оно произошло, и Констанс была в ynoe?j
нии. Она написала брату: “Приготовься услышать ошеломляю?!
296 I
I
тую новость! Я помолвлена с Оскаром Уайльдом и бесконечно,
безумно счастлива”. Ее немножко беспокоила только возможная
реакция одного из членов семьи. Насчет дедушки Ллойда беспо-
коиться не приходилось — он всегда был душевно рад обществу
Уайльда. Ее бабушка Аткинсон также симпатизировала Уайльду
и считала, что Констанс необычайно повезло. Не внушала опасе-
ний и мать Констанс — Уайльд нравился ей бесконечно. Единст-
венным источником противодействия могла стать ее тетка Эмили
Ллойд, чьи взгляды на брак не уступали в строгости взглядам леди
Брэкнелл из “Как важно быть серьезным” и которая все еще обра-
щалась с Констанс как с гостьей, живущей у нее на Ланкастер-гейт
из милости, хотя Констанс поселилась там не один год назад.
Жених тем временем строчил письма бабушке и матери Кон-
станс и ее брату Отто, который 27 ноября ответил ему: “Я искренне
рад; не сомневайтесь, что со своей стороны я приму Вас, как своего
нового брата... Если Констанс будет Вам такой же хорошей женой,
какой хорошей сестрой она была мне, то счастье Вам обеспечено;
ей свойственны верность и постоянство”. Впоследствии она это
подтвердила.
Слова, которые Уайльд сказал Констанс Ллойд, были страст-
ными — в этом можно не сомневаться. Он всегда считал, что
если уж плыть, то непременно на всех парусах. Не самым, может
быть, главным, но все же подлинным наслаждением в этот миг
коренной жизненной перемены была для него новая словесная
ситуация. Из-за последовавшей катастрофы его любовные письма
не сохранились. Но, так или иначе, напевные ритмы и возвышен-
ные фразы легко слетали с его языка. В его душе были и другие
закоулки, откуда возник “Сфинкс”, а позднее “Портрет Дориана
Грея” и “Саломея”, но они оставались затемненными, пока он
высвечивал свое более простое “я”.
Некоторые из писем Констанс ее возлюбленному жениху дошли
До нас. Из одного письма явствует, что он раскрыл перед ней часть
своего сексуального прошлого. Вот ее ответ: “Не думаю, что когда-
либо буду ревновать. И уж во всяком случае сейчас я не ревную
тебя ни к кому; я верю тебе в настоящем; прошлое я хочу оставить
в покое, потому что оно не принадлежит мне; в будущем доверие
и вера непременно придут, и, когда ты станешь моим мужем, я буду
прочно держать тебя узами любви”. Исповедь, судя по тону отпу-
щения грехов, не была исчерпывающей — в ней не нашлось места
легкомысленным увлечениям и платной любви. Сифилис упомянут
Не был, потому что Уайльд считал себя излеченным. Представляется
вероятным, что он рассказал о Флоренс Болком и о миссис Лэнгтри,
которой он тут же написал о своей помолвке. Констанс понимала,
Что ни та ни другая ей сейчас не соперница.
297
Письмо миссис Лэнгтри Уайльд тактично начал с поздрав-
ления по случаю ее успеха в спектакле по пьесе “Угроза”. “Вам
удалось то, что не удавалось никому из современных артистов, —
писал он. Вы вторично отправились завоевывать Америку и одер-
жали новые победы. Но Вы ведь и созданы, чтобы побеждать; это
всегда угадывалось в блеске Ваших глаз и звуке Вашего голоса”.
Далее он сообщил ей о том,
...что я женюсь на юной красавице по имени Констанс Ллойд,
этакой серьезной, изящной, маленькой Артемиде с глазами-фиал-
ками, копною вьющихся каштановых волос, под тяжестью которой
ее головка клонится, как цветок, и чудесными, словно выточенными
из слоновой кости пальчиками, которые извлекают из рояля музыку
столь нежную, что, заслушавшись, смолкают птицы. Мы поженимся
в апреле. Очень надеюсь, что к тому времени Вы освободитесь. Я так
хочу, чтобы Вы узнали и полюбили ее. Я много работаю, разъезжаю
с лекциями и обогащаюсь, хотя ужасно, что приходится постоянно
разлучаться с ней. Впрочем, мы дважды в день обмениваемся теле-
граммами, а бывает, что я вдруг примчусь из самого глухого угла,
чтобы часочек побыть с нею и предаться всем тем глупостям, которым
предаются мудрые влюбленные.
Брат Констанс, правда, описывал ее “глаза-фиалки” более
прозаически — как голубовато-зеленые. Сравнение с Артеми-
дой также, по-видимому, не совсем точно, ибо Констанс Ллойд
пыталась объяснить Уайльду: “Я очень холодна и невыразительна
внешне; чтобы понять, как страстно я боготворю и люблю тебя,
ты должен читать в моем сердце, а не судить по наружности”. Воз-
можно, Уайльд предпочел бы нечто меньшее, нежели быть богот-
воримым, но, так или иначе, ее письма к нему были недвусмыс-
ленны; она обращалась к нему: “Мой герой и мой бог”. Как Сибила
Вэйн, влюбленная в Дориана Грея, она беспрестанно повторяла:
“Я недостойна его”. Ею долго помыкали вначале жестокая мать,
затем суровая тетка, и Уайльд стал для нее Персеем-избавителем,
снискавшим ее благодарность и любовь.
Какое-то время Уайльд пытался любить с ней на равных,
и сердца их бились в унисон. У миссис Беллок Лаундс и некоторых
других людей создалось впечатление, что он влюблен в нее по уши.
В письме скульптору Уолдо Стори он переключился в игривый
регистр; он признался, что она “само совершенство, если не счи-
тать того, что она не признает Джимми [Уистлера] единственным
настоящим художником всех времен (ей хотелось бы протащить
через черный ход Тициана или еще кого-нибудь), зато она твердо
знает, что я — величайший поэт, так что с литературой у нее
298
все в порядке; кроме того, я объяснил ей, что ты — величайший
скульптор, завершив тем самым ее художественное образование”.
Влюбленные провели вместе несколько дней на Рождество,
когда Уайльд на некоторое время перестал, по его выражению,
‘‘цивилизовать провинции” своими лекциями. Это были упоитель-
ные дни. Неделя кончилась слезами Констанс при его отъезде и ее
последующими извинениями за “глупость”. В январе, однако, сча-
стье не было таким безоблачным. Уайльд прислал Констанс обезь-
янку, прозванную Джимми за посвистывание1. Джимми умер.
Констанс была подавлена; она вспомнила о печальной судьбе
какого-то другого его подарка: “Не по моей ли вине все, что ты
мне даришь, находит безвременный конец?” В довершение всего
Уайльд телеграфировал ей не по тому адресу: “Много же ты обо
мне думаешь, если даже забыл о том, что я не дома! Мне пере-
слали твою телеграмму, и я получила ее сегодня утром... Я слиш-
ком удручена, чтобы писать”. Уайльд загладил свое прегрешение,
но Констанс начала догадываться, что он занимает ее мысли силь-
нее, чем она его. Так будет продолжаться и впредь.
Брак имел не только эмоциональную, но и финансовую
сторону. Как и предполагала Констанс, возникло препятствие,
но не со стороны Эмили Ллойд, а со стороны деда Констанс,
объявившего себя сторонником этого брака, но попросившего
Уайльда ответить на два вопроса: каковы его средства и каковы
его долги. (“Теперь, мистер Уординг, я хочу задать вам несколько
вопросов”, — говорит леди Брэкнелл в “Как важно быть серьез-
ным”.) Как у Алджернона, у Уайльда не было “ничего, кроме дол-
гов”. Он признал, что задолжал Леви 1200 фунтов, но сказал, что
уже отдал 300 фунтов из гонораров за лекции. Разговор шел в кон-
торе адвоката. Уайльд заявил, что готов написать адвокату сонет
в доказательство своих литературных способностей, но потом
передумал, увидев, что пользы от этого не будет. Они с Констанс
не могли пожениться раньше марта, поскольку до этого Уайльд все
время должен был читать лекции; а там надо было ждать оконча-
ния Великого поста. Джон Горацио Ллойд предложил отложить
брак еще на некоторое время, пока Уайльд не выплатит следую-
щие 300 фунтов своего долга. Поэтому церемония, первоначально
запланированная на апрель, была назначена на 29 мая. Констанс
получала 250 фунтов в год, а после смерти деда эта сумма должна
была вырасти до 900 фунтов в год. Жених и невеста заявили, что
нуждаются в деньгах для аренды и меблировки дома, и Констанс
Намек на Джимми Уистлера: “Уистлер” буквально означает “Сви-
стун”. (Примеч перев.)
299
получила 5000 фунтов вперед из своей будущей доли в наследстве
от деда.
Друзья и родственники Уайльда и его нареченной с удивле-
нием и радостью откликнулись на сообщение о помолвке. В сере-
дине декабря Уистлер пригласил их на ленч; поначалу Эмили
Ллойд, примирившаяся все же с перспективой брака, запретила
Констанс идти к нему, поскольку считала, что незамужняя девушка
не должна появляться в обществе без сопровождения. В конце
концов ее уломали, и она сдалась. Леди Уайльд и Уилли были
взволнованы до чрезвычайности. 27 ноября Уилли писал брату:
“Дорогой мой Старина! Вот уж воистину добрая новость, славная
новость, мудрая новость и к тому же очаровательная и порази-
тельная в самом что ни на есть высшем художественном смысле”.
Он слал “Алкивиаду и леди Констанс” свою любовь. Они с Оска-
ром были нежны друг к другу, как два маленьких мальчика. Леди
Уайльд также ответила Оскару без промедления, в тот же самый
день, и по ее письму можно понять, что молодая чета двигалась
к принятому только что решению несколько месяцев:
Дорогой мой Оскар! Я чрезвычайна рада твоему письму, которое
получила сегодня утром. Вы оба проявили верность и постоянство,
и чувство ваше да будет благословенно, как всякое подлинное чувство. $
Но на душе неспокойно: так много всего еще церковные обряды 4
и [слово неразборчиво]. Всегда кажется, что так трудно любящим 5
соединиться. Но я надеюсь, что в конце концов все будет хорошо... ;
Сколь прелестны просторы, открывающиеся теперь для размышле-'»
ний! Чем ты будешь заниматься? Где будешь жить? Пока что ты дол*J
жен продолжать работать. Прилагаю еще одно предложение о чтении g
лекций. Я бы хотела, чтобы у тебя был маленький домик в Лондона
чтобы ты жил в нем литературной жизнью, учил Констанс правитьЗ
корректуры и в конце концов прошел в парламент. 1
Пусть же Божественный Разум, который правит миром, дарует'1
тебе в твоей возлюбленной счастье, покой и радость. 1 !
La MadreVj
Идея членства в парламенте приходила в голову и самому
Уайльду, и она была еще жива 28 февраля, когда леди Уайльд написала j
кому-то, что этот замысел принадлежит ее сыну. С более ощути* §
мыми результатами он начал переговоры об аренде дома по адресу
Тайт-стрит, 16, что совсем недалеко от того места, где несколько
лет назад он жил с Майлзом. Аренда начиналась с 24 июня. Уайльд |
попросил Уистлера руководить работами по обновлению дома. Л
1 Мать (ит.).
1OQ
“Ист уж, Оскар, — ответил тот. — Ты поучал нас, рассказывая
о Прекрасном жилище; теперь имеешь возможность показать его
нам”- Тогда Уайльд обратился к Годвину, которого Бирбом назвал
‘‘самым большим эстетом из всей этой компании”, и Годвин согла-
сился взяться за переделку дома. Дохода Констанс и полученных
ею 5000 фунтов оказалось недостаточно, чтобы покрыть связанные
с этим солидные издержки. Письмо от 15 мая 1884 г., написанное
Джорджем Льюисом, адвокатом и другом Уайльда, говорит о том,
что Уайльд решил взять взаймы 1000 фунтов под залог того, что
еще оставалось от отцовского имущества. Тревоги Джона Горацио
Ллойда о благопристойном домашнем обиходе .молодых супру-
гов оказались не напрасны: их брачная жизнь началась под знаком
долгов, и ей суждено было и дальше протекать под этим знаком.
В преддверии свадьбы здоровье Ллойда вроде бы окрепло, однако
он вскоре выручил нуждающуюся пару, скончавшись 18 июля
и тем самым позволив Констанс получить наследство.
Бракосочетание
Лорд Иллингворт. Книга Жизни начинается
с мужчины и женщины в райском саду.
Миссис Оллонби. А кончается Апокалипсисом.
29 мая 1884 г. в церкви Св. Якова невеста выглядела прелестно,
а жених, как было подмечено, больше, чем когда-либо, походил
на короля Георга IV Пришла телеграмма: “От Уистлера, Челси,
Оскару Уайльду, церковь Св. Якова, Суссекс-гарденз. Боюсь,
не успею к началу церемонии. Не откладывайте ради меня”. Из-за
того что дед Констанс был болен, бракосочетание прошло при
малом числе гостей и до некоторой степени держалось в секрете.
Подружки невесты — ими были двоюродные сестры Констанс —
за неделю до венчания еще не знали, где и когда оно произойдет.
Предполагалось, что в церковь будут иметь доступ только лица
с пригласительными билетами, однако священник открыл церков-
ные двери для всех желающих. После церемонии в дом на Лан-
кастер-гейт были приглашены только близкие родственники.
Леди Уайльд обняла Констанс с немалой горячностью; Уайльд же,
по словам газеты “Кентербери тайме”, поцеловал ее “спокойным
н прохладным поцелуем”. “Счастливая маленькая группа intimes1
провожала молодых на вокзале Чаринг-кросс”, — писала “Уорлд”
Близких (фр.).
JO1
4 июня, и даже сварливая “Нью-Йорк тайме”, вновь, вероятно,
опираясь на мнение Бодли как своего лондонского корреспон-
дента, отметила 22 июня в порыве великодушия, что “немногие
молодожены увозили с собой больше добрых пожеланий”. Газеты
описывали платье невесты, сшитое согласно указаниям Уайльда;
оно было из “роскошного кремового атласа” с “изысканным золо-
тистым оттенком примулы; прямоугольный лиф с довольно низ-
ким вырезом и с высоким воротником в стиле Медичи; на рука-
вах — пышные буфы; гладкая юбка стянута серебристым поясом
великолепной работы — подарком мистера Оскара Уайльда; фата
в стиле Марии Стюарт из индийского газа шафранного цвета была
расшита жемчугом; на завитых волосах невесты красовался боль-
шой венок из миртовых листьев, среди которых белели несколько
цветков; пучки миртовых листьев украшали также и платье; в боль-
шом букете было поровну зелени и белизны”. Столь же разодеты
были и подружки невесты; в роли их модельера опять-таки высту-
пил Уайльд. Свадьба отвечала наивысшим эстетическим требова-
ниям.
Уайльды пересекли Ла-Манш и прибыли в Париж; в отеле
“Ваграм” они сняли номер из трех комнат на четвертом этаже
с видом на сад Тюильри. На второй день Уайльд повстречался
с Робертом Шерардом, которому лучащаяся счастьем молодая пара
была несколько неприятна. Уайльд пригласил Шерарда немного
пройтись вдвоем и этим только ухудшил дело. Начав с эпитетов
превосходной степени в отношении своей молодой жены, он
перешел к признаниям типа: “Это такое чудо, когда юная девст-
венница. .. ” — но тут Шерард перевел разговор на другую тему.
Уайльд был готов пожертвовать сокровенностью брачных отноше-
ний ради удовольствия, которое он получал, описывая их. Легкость,,,
с какой он превращал частное в публичное, возбуждала в Шерарде.
ревность и была нехорошим предзнаменованием. Уайльд читал
в то время “Красное и черное” Стендаля — книгу, герой которой
пытается все время действовать сознательно, никоим образом не
a 1’improviste1.
9 июня 1884 г., когда Уайльд, обложившись книгами, лежал
в отеле на диване, в дверь постучал репортер “Морнинг ньюс”.
Уайльд воспротивился было — “Я слишком счастлив, чтобы давать
интервью!” — но все же впустил его. “Вы читаете?” — спросил
репортер. “С пятого на десятое, — сказал Уайльд. — Я никогда
не читаю книгу с начала, особенно если это роман. Только так
я могу возбудить в себе любопытство, чего сами книги с их тра-
фаретными началами сделать не в состоянии. Вам ведь наверняка
1 Спонтанно (фр.").
ЧО2
приходилось подслушать разговор на улице, поймать его обры-
вок и пожалеть, что вы не знаете всего. Когда таким же образом
подслушаешь книгу, потом возникает желание вернуться к первой
гЛаве и естественным порядком дойти до последней, если только
персонажи “берут наживку”.
Увидев среди его книг “Красное и черное”, репортер спросил:
“Вы вновь и вновь возвращаетесь к Стендалю?” — “Да. Таких, как
он, у меня немного. А вообще я лично считаю, что самое тонкое
удовольствие, какое дают книги, — это удовольствие забвения.
Очень приятно думать, что некоторые произведения, так много
значившие для тебя в ту или иную пору твоей жизни, теперь
ничего для тебя не значат. Я определенно радуюсь, когда разре-
заю книгу какого-нибудь автора и чувствую, что перерос его”. —
“А на людей это распространяется?” — “Несомненно, — ответил
Уайльд. —Так бывает у всех, просто я испытываю от этого не сожа-
ление, а несомненное удовлетворение. Что мешает нам радостно
признавать, что тех или иных людей мы не хотим больше видеть?
Здесь нет неблагодарности, здесь нет безразличия. Просто мы
получили от них все, что они могли дать”.
Зная, что Уайльд в прошлом году провел в Париже несколько
месяцев, репортер спросил: “Но в отношении Парижа у вас такого
ощущения нет?” — “Нет, — ответил Уайльд. — Истощить то, что
способен дать Париж, не так-то легко, особенно когда играет Сара
Бернар. Я вновь и вновь хожу на “Макбета”. Ничего подобного
на нашей сцене нет, и это прекраснейшее ее творение. Я созна-
тельно говорю: “Ее творение”, потому что мне представляется
полнейшей нелепостью рассуждать о шекспировском “Макбете”
или шекспировском “Отелло”. Шекспир — только один из участ-
ников. Второй — это актер, пропускающий роль сквозь свое созна-
ние. Если они, соединившись, дают мне героя, на которого стоит
посмотреть, — это все, о чем я прошу. Замыслы Шекспира были
и остаются его тайной; мы можем судить только о том, что видим
перед собой”.
Его восхищение актрисой не имело границ: “Рядом с Сарой
Бернар поставить абсолютно некого. Она вкладывает в роль весь
свой великолепный ум, все свое врожденное и приобретенное
знание сцены. Влияние ее героини на душу мужа — это в рав-
ной степени влияние ее женских чар и ее воли; для нас это только
подтверждает вышесказанное. Она околдовала его; он совершает
преступления из любви к ней; его властные амбиции — второ-
степенный мотив. Как он может ее не любить? Она опутывает
его всеми возможными узами, даже узами кокетства. Посмотрите
На ее костюм: облегающая туника и величественные складки пла-
тья внизу. Весь спектакль — чудо”. Уайльд похвалил прозаиче-
ский перевод Ришпена и продолжал: “Даже дух Банко выдержан^
в елизаветинском стиле. Не забывайте, что в шекспировские дни$
призраки не были бестелесными субъективными понятиями,
нет, это были существа из плоти и крови, просто они обиталм.
по другую сторону границы жизни, и время от времени им раз-
решалось пересекать эту границу. Призраки театра “Порт Сен-
Мартен” — мужчины; их можно ущипнуть, их можно проткнуть'
оружием. Они не те дымчатые фигуры, каких мы видим на нашей
английской сцене, явно позаимствованные из неких эксперимен-
тов Общества исследований психики”.
Репортер перевел разговор на пьесу “Сталелитейщик”, осно-
ванную на романе Жоржа Оне; в ней аристократка, выйдя замуж
за богатого, но вышедшего из низов хозяина литейного завода^
ведет себя с ним высокомерно, пока наконец его холодная вежлив
вость не заставляет ее влюбленно покориться ему. Уайльд не бы#£
на парижском спектакле, но видел пьесу в Лондоне. “И Лондон»
не был шокирован?” — спросил репортер. “О, Лондон улучшая/
ется, — отозвался Уайльд, — и, кроме того, от французов он прич
мет все, что угодно. Разумеется, если бы что-нибудь в таком рода
написал английский писатель, стоял бы сплошной оглушительный^
вопль”. — “В таком случае вы, возможно, жалеете, что не родилисьй
французом, — если, конечно, вы и дальше хотите писать пьесы?”
“Вы правы, по крайней мере, в одном отношении, — ответим
Уайльд, — в отношении интерпретации. Какая бездна разверзаетсте
между персонажем, как вы его задумали, и сценическим образомЦ
После всего только что сказанного я готов признать, что автора
не имеет права жаловаться, если результат все же имеет художеств
венную ценность, но у нас это очень часто не так. Я основываюсь!
на собственном опыте. Мне никогда не забыть двух с половиной
часов, проведенных в нью-йоркском театре на премьере моей!
пьесы”. I
Несколько дней спустя Уайльд написал из Парижа одному^,
из своих друзей письмо, которое “Нью-Йорк тайме” (возможно#/
снова не без участия Бодли) назвала “глупым и весьма для него’;
характерным”. В нем Уайльд заявил, что “не разочаровался^
в супружеской жизни”. Отрицательный грамматический оборота
создает, однако, впечатление, что мысли о немыслимом приход
дили-таки ему в голову. Пересказывая письмо дальше, “ТаймС^
пишет: “Он уверен в своей способности справиться с ее труд*
ностями и тревогами, и в своих новых отношениях он видит
возможность осуществить поэтическую концепцию, которую он
долго вынашивал. Он пишет, что, как лорд Биконсфилд научйЛ
пэров Англии новому стилю в ораторском искусстве, так и оН
намерен дать образец для подражания в искусстве брака”. Такое
3°4
гяжкое теоретическое бремя было Констанс Уайльд не под силу.
Пока что эстетизация брака означала для нее только необходи-
мость послушно одеваться в изысканные наряды и безропотно
взирать на работы Годвина по переоборудованию дома на Тайт-
стрит в необычайном стиле. (Уайльд изменился только в одном —
стал стричь волосы коротко и придавать им волнистость вместо
курчавости.) Однако вдали маячила более мрачная перспектива;
в этом браке могло найтись место не только для высокой эсте-
тики, но и для низкой, не только для возвышенных разговоров
и восторженных ортодоксальных совокуплений, но и для сфин-
ксов и тайных радостей с душком.
Внешне свадебная поездка выглядела достаточно заниматель-
ной. Молодая чета посетила Салон, где были выставлены картины
Уистлера; была на выставке Месонье; сходила на оперетту "Лили”;
и, самое главное, — посмотрела, как Сара Бернар исполняет, или,
по выражению Констанс Уайльд, "штурмует” роль леди Макбет.
Помимо мадам Бернар, из французских друзей Уайльда упомина-
ются только двое. Завтракая с Катюлем Мендесом, Уайльд заметил:
“За пределами Франции современной литературы нет”. Познако-
миться с Констанс пришел Поль Бурже, и Вайолет Паджет, писав-
шая под псевдонимом Вернон Ли, вспоминала его слова: “J’aime
cette femme — j’aime ia femme annullee et tendre”1. Уайльд виделся
также с Джоном Донохью, чикагским скульптором, которому
он в свое время помог. Джон Сингер Сарджент пригласил чету
к себе обедать; их принимала и Генриетта Рубелл, богатая амери-
канка, у которой был салон и которая дружила с Генри Джейм-
сом. Она позволила себе грубейшую бестактность, когда спросила
у Констанс Уайльд, кто шил ей платье, имея в виду заказать себе
такое же, — к ужасу Уайльда-модельера. После Парижа молодо-
жены отправились на неделю в Дьеп.
В интервью, данном Уайльдом газете "Морнинг ныос”, упоми-
нается об одной важной составной части его медового месяца. Это
не было какое-либо событие. Это была книга — книга, ставшая для
Уайльда в восьмидесятые годы тем же, чем “Очерки по истории
Ренессанса” Пейтера были для него в семидесятые. Роман Жориса
Карла Гюисманса “Наоборот”, опубликованный всего две недели
назад — в середине мая, — потряс литературный мир. Уистлер
уже день спустя поздравил Гюисманса с его “чудесной книгой”.
Бурже, который в то время был близким другом как Гюисманса,
так и Уайльда, пришел от романа в неописуемый восторг; Поль
Валери назвал его своей "Библией и настольной книгой”. Именно
Мне нравится эта женщина — мне нравится женщина, сведенная
к нулю и нежная (фр.) -
3°5
этим он и стал для Уайльда. Он сказал репортеру “Морнинг ньюс”:
“Последняя книга Гюисманса — одна из лучших, какие я читал,
в жизни’’. Повсюду о ней говорили как о путеводителе по дека^
дансу. В тот самый миг, когда Уайльд попытался вписаться в рамки
общественной нормы, он столкнулся с книгой, которая самим
своим названием бросала этим нормам вызов. Дез Эссент, главный
герой книги, был денди, ученый и развратник; его вожделения
и удовольствия были в высшей степени рафинированными. Книгу,
подобную роману Гюисманса, читает уайльдовский Дориан Грей:
“Герой книги, молодой парижанин... казался Дориану прототипом
его самого, а вся книга — историей его жизни, написанной раньше,
чем он ее пережил”. Уайльд мог рассматривать ее как иллюстрацию
к пейтеровской теории саморазвития, ибо Дез Эссент “всю жизнь
был занят только тем, что в XIX веке пытался воскресить страсти
и умонастроения всех прошедших веков, чтобы самому пережить
все то, через что прошла мировая душа. Его интересовали своей
искусственностью те формы отречения, которые люди безрассудно
именуют добродетелями, и в такой же мере — те естественные
порывы возмущения против них, которые мудрецы все еще назы-
вают пороками”. Если коротко — “Это была отравляющая книга”.
Уайльд запивал ею сладкий любовный напиток своего супружества. ;
Очарование книги заключалось, среди прочего, в отстранен- 4
ной позиции автора. Нельзя было утверждать, что Гюисманс одо- |
бряет своего героя, поскольку каждая глава романа представляла ;
собой маленькую притчу об иссякшей страсти к чему-либо, будь j
то книги, духи, драгоценные камни или объекты сексуального ।
вожделения. Хотя каждый взрыв энергии, исчерпав свое топливо, 1
сменяется безразличием и Гюисманс воздерживается от изъяв-!
ления симпатии, само ощущение свойственной герою jusqu’au- 1
boutisme1 почти устраняет абсурд и спасает Дез Эссента от пол- |
ной дискредитации. Некоторые эпизоды книги поразили Уайльда.
Один из них — описание картин Гюстава Моро, изображающих |
Саломею; другой — пассаж о живописных работах английских'Ч
прерафаэлитов, ассоциирующихся у Гюисманса не с апрелем, как ;
в свое время у Уайльда (он говорил об этом в Америке), а с октя- .
брем. Искусство, которое Уайльд считал частью своего ренессанса,
оказалось частью Гюисмансова декаданса. Должно быть, Уайльду,
вновь теперь пришла в голову мысль о соединении двух началу?
Ведь он всегда сочетал в себе comme il faut (“как полагается”)
и a rebours (“наоборот”), был джентльменом аполломического )
толка и в то же время ниспровергателсм-дионисийцем. В книге
й
1 Готовности идти до конца (фр.). т
306
Гюисманса есть примечательное место: Дез Эссент вспоминает
□дин свой сексуальный опыт, который, будучи гомоэротическим,
отличается от всего остального, что он испытал, и занимает в его
памяти главенствующее положение. Несколько месяцев длилась
еГо связь с неким молодым человеком. Согласно недоброжелатель-
ному свидетельству Андре Раффаловича, эта часть романа “На-
оборот” подействовала на Уайльда особенно сильно. Взятая как
единое целое, книга перекликалась с теми месяцами, что Уайльд
провел среди декадентов в прошлом году, месяцами, когда он
написал “Дом блудницы” и большую часть “Сфинкса”.
Она влекла Уайльда к подпольной жизни, полностью противо-
речащей его внешнему статусу супруга Констанс.
Двойственная натура Парижа, который был подлинным руле-
вым уайльдовского “пьяного корабля” в их с Констанс свадебном
путешествии, нашла отражение в набросках стихов, сделанных
Уайльдом в этом городе. Одно стихотворение, озаглавленное
“Impression de Paris: Le Jardin des Tuileries”1, представляет собой
здоровое и жизнерадостное описание детей, которые бегают
вокруг него, сидящего в саду на стуле:
То они с пронзительными криками пускаются наутек,
То шумной толпой несутся обратно
И, одна маленькая ладошка в другой,
Лезут на черное безлиственное дерево.
Бессердечное ты дерево!
Если бы я был тобой
И если бы дети забавы ради на меня забрались,
Я, хоть и стоит зима, расцвел бы
Весенними бело-голубыми цветами.
По возвращении в Лондон он слегка переработал стихотво-
рение и отдал его в благотворительное издание для больницы, оза-
главленное “Ради доброго дела”. Лора Трубридж, с которой он был
Дружен, сделала к стихотворению иллюстрацию, сказав, однако,
что оно не в ее вкусе. Так или иначе, в нем ощущаются зачатки той
эстетики преображения, которую Уайльд вскоре разовьет в своих
сказках.
На той же странице, что и этот набросок, был черновик дру-
гого стихотворения, выдержанного в совсем ином настроении:
Луна — как желтая печать
На темно-синем конверте,
1 Парижское впечатление: сад Тюильри (фр.).
5°7
А внизу, под сумрачным откосом,
Подобная черному мечу из полированной стали
С мерцающей золотой насечкой,
Течет темная Сена...
Сравнивая свой lune de miel1 с печатью на темно-синем кон-
верте, Уайльд пробует, как он иногда делал, приблизиться к совре^
менному поэтическому языку. С другой стороны, стальной меч
с золотой насечкой возвращает нас к уже знакомому героическому
стихосложению. Однако сравнение Сены с черным клинком ассо-
циируется и с бодлеровским Парижем, в котором Уайльд чувство-
вал себя тогда скорее искушенным наблюдателем среди проходим-
цев, нежели невинным добряком среди детей. Он одновременно
испытывал два влечения, стремясь и к единению с общепринятым,
и к уклонению от него.
Он был органически неспособен долго придерживаться чего--
то одного. Пока он был влюблен в Констанс, он невольно смотрел'
на себя, влюбленного, со стороны. Он мог бы повторить вслед,
за Нарциссом у Руссо: “Я люблю себя любящего”. В “Портрете?
господина УХ.” он выскажет догадку: “Быть может, дав страсти
исчерпывающее выражение, я истощил и саму страсть. Душевные
силы, как и силы физические, имеют свои пределы”. Эти пределы
он мало-помалу ощутит на собственном опыте.
Из двойственного Парижа двойственный Уайльд вернулся *
вместе с Констанс 24 июня 1884 г. Темза была не такой хтониче*?
ской рекой, как Сена, и на время Уайльд с головой ушел в супру-*
жескую домашность, которая ждала его на ее берегах. Порой|
однако, его посещали сомнения. Вскоре после возвращения он|
повстречался с другом; тот сказал ему: “Здорово, Уайльд. Я слыхал^
ты женился”. — “Ага, — ответил Уайльд удрученно. — Провели
дурака на мякине!” Что касается Констанс, то для нее начало брач-
ной жизни, когда она пыталась поспеть за головокружительным^
аллюром мужа, было трудным.
5
л
Г
1 Медовый месяц (фр.). Буквально — “медовую лупу”.
Глава 10
Мистер и миссис Уайльд
Лэйн. Я часто отмечал, что в семейных домах
шампанское редко бывает хороших марок.
Издержки супружества
Констанс Уайльд довольно скоро убеди-
лась, что ее скромный доход недолго сможет дер-
жать на плаву такое гордое судно, как фрегат "Оскар
Уайльд”. "Умеренность — хорошо, избыточность —
лучше”, — говаривал ее муж. “Те, кто платит по сче-
там, мигом оказываются забыты”, — добавлял он; или, чуть более
развернуто: "Только не платя по счетами, ты можешь лелеять мечту,
что память о тебе не умрет в нашем торгашеском обществе”1. Вер-
нувшись после свадебного путешествия, Констанс заявила брату,
что хочет найти работу. Этот план не осуществился, поскольку
в сентябре выяснилось, что она беременна. Большую часть вре-
мени она проводила, способствуя мужу в его обыкновении сыпать
гинеями вместо того, чтобы экономить пенсы. 50 фунтов, пода-
ренных им его теткой в связи с началом брачной жизни, ушли
на покупку двух серебряных крестильных ложек, к великому неу-
довольствию тетки. Из супругов именно Уайльд решал, как им
жить — на какой уистлеровской улице и в каком годвиновском
стиле. Констанс, которая и прежде не слыла говоруньей, рядом
с мужем казалась почти что немой. На вопрос о том, почему он
влюбился в нее, Уайльд ответил: "Она так мало говорит. Я посто-
янно задаюсь вопросом, каковы ее мысли”. В его сказке "Счаст-
ливый Принц” Ласточка охладевает к Тростнику по нескольким
причинам, в том числе потому, что "он как немой, ни слова от него
Из ‘‘Заветов молодому поколению”, перевод К. Чуковского.
3°9
не добьешься”1. Однажды в гостях Констанс прошла мимо него*
миловидная, как никогда; он восхищенно посмотрел на нее и про-
бормотал — наполовину самому себе, наполовину Луизе Джо-
плинт: “Если бы только я мог ее ревновать!” Чувство ревности
без всякого труда возбуждали в нем миссис Лэнгтри и Флоренс
Болком, но ведь они и не думали боготворить его.
Тем не менее Констанс в узком кругу могла быть живой
и веселой; она была умна и образованна. Она бегло говорила
по-французски и по-итальянски и была начитанна в литературе
на этих языках. По настоянию Уайльда Констанс выучила немец-
кий, так что теперь они могли вместе читать немецкие книжки.
Когда им приходилось делить трудности, они проявляли взаим-
ную теплоту. Вернувшись в Лондон, молодая чета прожила два дня
в отеле “Брансуик” на Джермин-стрит. Две гинеи в сутки при их
скудных финансах показались им непомерной ценой. Они при-
шли с визитом на Ланкастер-гейт, 100 к Эмили Ллойд и умира-
ющему деду Констанс, надеясь, что Эмили пригласит их пожить
у нее. Она, однако, не спешила с приглашением, и в конце кон-
цов Констанс пришлось спросить ее прямо. Эмили согласилась
принять их на несколько дней, пока они не найдут другое жилье.
Вскоре они переехали в Вестминстер, на Грейт-колледж-стрит, 7,
а еще через несколько дней — в старую квартиру Уайльда на Чарлз-
стрит, 9 близ Гровенор-сквер. Возможно, они рассчитывали,
что дом на Тайт-стрит будет готов к их вселению совсем скоро,*
Но вышло иначе.
Работы в доме по адресу Тайт-стрит, 16 продолжались еще...
целых семь месяцев, так что они смогли въехать только в январе'
1885 г. Планы Годвина были обширны, а рабочие претворяли их:
в жизнь медленно и неумело. Уайльд отказался от услуг первой
фирмы, принадлежавшей некоему Грину, не уплатив ему ничего,
и с помощью Годвина нашел другого подрядчика, по фамилии
Шарп. Шарп заломил еще более высокую цену, чем Грин. Тем*,
временем Грин подал иск об уплате по счету и, поскольку Уайльд^
и не думал платить, добился наложения ареста на его мебель?
Уайльд подал встречный иск, и дело двигалось к суду, пока за день*
до разбирательства адвокаты сторон не пришли к соглашению/
Расплатившись с Грином, Шарпом, Годвином и адвокатом, Уайльд,
веривший в свою звезду, по-прежнему был полон энтузиазма.
Если не со строительными фирмами, то с Годвином отно-
шения у него складывались наилучшим образом. Годвин к тому
времени добился признания своих теорий не только в области
1 Здесь и далее “Счастливый Принц” цитируется в переводе К. Чуков-
ского.
Ч1О
архитектуры, но и в оформлении спектаклей и разработке новых
моделей одежды; Уайльд нашел повод одобрительно отозваться
0 нем в нескольких критических работах, которые он тогда начал
цубликовать. Оба они хотели, чтобы дом на Тайт-стрит стал образ-
цом новых веяний в искусстве оформления интерьера. Долой
^оррисовские обои и прочие элементы прерафаэлитского стиля!
Наступает эпоха белой блестящей эмали, расцвеченной золотыми,
синими, зелеными тонами. Проекты Годвина дают нам некоторое
представление о том, как выглядел дом, хотя из переписки Уайльда
и свидетельств посетителей становится ясно, что за десять лет,
прожитых Уайльдами на Тайт-стрит, интерьер претерпел сущест-
венные изменения.
В доме было четыре этажа и полуподвал, где располагалась
кухня. Входная дверь была белая, с латунным дверным молотком,
латунной откидной дверцей почтового ящика и окошком из мато-
вого стекла. Согласно проекту Годвина, вестибюль предполага-
лось выкрасить в серый цвет на высоту стенных панелей (5 футов
6 дюймов), выше — в белый; потолок вестибюля он собирался
сделать желтым. С потолка свисал небольшой чеканный светиль-
ник из железа, на стенах висели две большие гравюры в белых
рамках, словно бы отдававшие дань мужу и жене: на одной были
изображены “Аполлон и музы”, на другой — “Купающиеся Диана
и нимфы”. Цвета стен вестибюля были, по-видимому, изменены:
Александр Тешейра де Маттуш (второй муж второй жены Уилли
Уайльда) вспоминал, что внизу они были оранжевые, а выше шел
голубой бордюр. Но еще до этого серый цвет уступил место
белому, о чем свидетельствует Адриан Хоуп, жених Лоры Тру-
бридж и родственник Констанс. Хоуп, вероятно, не ошибается,
потому что столовая, которую тоже первоначально хотели сде-
лать серой, на деле была выкрашена в различные оттенки белого,
серовато-белого и желтовато-белого; на окнах там висели белые
занавески с желтым шелковым шитьем. Бросающимся в глаза эле-
ментом убранства столовой был посудный шкаф, выступавший
от стены примерно на девять дюймов; он опоясывал немалую часть
комнаты, и из него доставали столовые приборы. Обеденный стол
Хоуп непочтительно назвал грязно-коричневым, припоминая
также темно-бордовые салфетки с густой бахромой и изысканный
фарфор — в особенности желтые чашки. На полулежал сине-зеле-
ной моррисовский ковер с белым узором. На первом этаже была
также библиотека, оформленная в стиле, который одни называли
тУрецким, другие — мавританским, третьи — североафриканским.
Над дверным проемом и вдоль стен комнаты шел архитрав из мас-
сивных балок, на которых золотым, красным и синим цветом были
Начертаны слова Шелли:
311
Дух Красоты! Побудь еще, не уходи,
Они еще не умерли, твои старинные жрецы,
Те немногие, для кого твоя лучезарная улыбка
Дороже, чем тысяча побед
Стены библиотеки были обшиты высокими панелями, выкра-
шенными в темно-синий цвет; стены над панелями и потолок
были бледно-золотистые. Вдоль двух стен шла низкая тахта; в ком-
нате также были пуфы, светильники, портьеры, восточный инкру,
стированный стол — и ни одного стула. На окнах, насколько нам
известно, поначалу были деревянные решетки, а впоследствии —.
занавески из стеклянных бусин, отгораживавшие людей, которые
находились в библиотеке, от неприятного вида на зады дома, да
и от дневного света вообще. Здесь Уайльд курил, вел разговоры
по душам и проделал большую часть своей писательской работы.
Перед белой лестницей висела портьера; ступени были,
покрыты золотистым ковром и вели на второй этаж, где распола*
гались гостиные. Их разделяли раздвижные двери. Самая большая^
гостиная выходила окнами во двор, стены в ней были темно-зеле^
ные, потолок — светло-зеленый, камин и элементы деревянной^
отделки были выкрашены в коричневато-розовый цвет. По обс^
стороны от камина стояли две угловые тахты, очень низенькие^
с подушками. На каминной полке стояла маленькая зеленоватая^
бронзовая статуэтка Нарцисса. В гостиной имелись также чиппенЙ
дейлский стол, курульное кресло1 и три белых лакированных стулад
с прямыми спинками. На одной из стен висел портрет Уайльдад
работы Харпера Пеннингтона; в углу стоял бюст Цезаря Августа^
который вручили Уайльду как лауреату Ньюдигейтской премиэд|
На потолке, в противоположных его углах, вначале красовалисй|
два золотых дракона работы Уистлера; впоследствии по предложен
нию того же Уистлера их заменили большими японскими перьями^
вделанными в штукатурку. На зеленых стенах висели небольший
литографии Уистлера и Мортимера Менпеса в белых рамках, рисуй
нок Бердслея (позднее) и взятая в рамку рукопись сонета Китсад
подаренная Уайльду в Америке. Там же были повешены красным
пастельные наброски, изображавшие некоторых подруг миссий
Уайльд. В передней гостиной стены были розового “мясного?
цвета, а карниз тускло-золотисто-лимонный; потолок был обтяну^
японской кожей, которую Уайльд ухитрился где-то достать. НаД$
камином висела бронзовая пластинка с изображением девочки^
-----------------------------------------------------------
1 В древнем Риме курульным креслом называлось богато украшенное j
сиденье без спинки с изогнутыми ножками, предназначенное для лн11*
высокого ранга. (Примеч. перев.)
312
работы Джона Донохью — иллюстрация к стихотворению Уайльда
“Requiescat”.
Этажом выше располагались две спальни. Окнами на улицу —
спальня миссис Уайльд с розовыми стенами и яблочно-зеленым
потолком. В ней стояла ванна изысканной формы. Уайльд счи-
тал, что он не имеет права входить в спальню жены без стука. Как
он написал в одной из рецензий, “мужчины должны отказаться
от тирании в супружеской жизни — тирании, которая была в про-
шлом им так дорога и которая, боюсь, кое-где все еще существует”.
В задней спальне, которую поначалу занимал Уайльд, стены были
темно-синие, потолок — голубой. В ней стояла большая гипсовая
копия статуи Гермеса из Олимпии. Позднее эта комната стала дет-
ской спальней. На третьем этаже первоначально находился также
кабинет Уайльда, выдержанный в оттенках красного; элементы
деревянной отделки были окрашены любимой им киноварью (вер-
мильоном). Передняя третьего этажа была полностью белая, если
не считать желтого потолка. Впоследствии эти помещения были
превращены в детскую спальню и комнату для игр. На верхнем
этаже жила прислуга.
Работы в “Прекрасном жилище” шли своим чередом, а тем вре-
менем Уайльда и Констанс постоянно приглашали в гости, причем
зачастую даже люди, прежде смотревшие на Оскара искоса. Респек-
табельность, как он и предполагал, была добыта мгновенно, хотя
он идеализировал ее не больше, чем это делала его мать. Одна-
жды, повстречавшись с Олив Шрайнер, он спросил ее, почему она
живет в Ист-Энде. “Потому что там не носят масок”. — “А я живу
в Вест-энде, потому что там их носят”. Он заявил также: “Джентль-
мен не должен появляться восточнее Темпл-бара”1. Еженедельник
“Бэт” (“Летучая мышь”) оплакал судьбу эстета:
В конце концов он волосы остриг —
Суха земля, и поле бедно злаком,
И вечно неизменен жизни лик —
Он духом пал и сочетался браком.
(9 февраля 1886)
Репортер того же журнала, увидев его 23 марта 1886 г. на утрен-
нем спектакле по пьесе Булвера-Литтона “Дама из Лиона”, где
миссис Лэнгтри играла Полину, сообщил: “Был там и Оскар
Уайльд, побежденный, задумчивый, женатый”. Однако Уайльд
отнюдь не пал духом и отнюдь не был побежден. Он по-преж-
Темпл-бар — лондонские ворота перед зданием Темпла. (Примеч.
черев.)
З1}
нему возмущал людей своими разговорами, даже если и забавлял!,
их теми же разговорами. Он играл женатого человека в таком*!
стиле, что было ясно: брак для него — не мирная гавань, а новое 1
приключение. Я
Дендизм, который он продолжал практиковать, он навязывал 1
и Констанс, испытывавшей от этого немалые неудобства. Как ‘
могла она отказаться следовать советам человека, дававшего их
Лили Лэнгтри? Ее природная застенчивость не соответствовала
смелости, которая от нее требовалась. Ради него ей приходилось
наряжаться, превращаясь в не слишком-то верующую мученицу
его Нового портновского завета. Случалось так, что платья ей
шли: когда с ней познакомилась Анна де Бремон — американка,
вышедшая замуж за мнимого графа, — на Констанс было греческое
одеяние, сочетавшее в себе нежно-желтый цвет примулы и темно-
зеленый цвет яблоневого листа. Ее волосы, “густая красновато- *
коричневая масса, были великолепно оттенены желтой лентой,
удерживавшей пучок волос на затылке и пересекавшей волнистые i
пряди надо лбом”. Ее мальчишеское лицо и глубокие темные глаза
выглядели весьма эффектно. Однако в июле 1884 г., когда моло-
дая чета пришла на чай к Лоре Трубридж, хозяйка потом запи-.
сала в дневнике: “На ней было платье из вислого белого муслина 3
без турнюра; плечи закутаны в шелк шафранного цвета; на голове
большая широкополая шляпа в стиле Гейнсборо; на ногах ярко-J-
желтые с белым чулки и туфли — безнадежная безвкусица, и мы
к тому же нашли ее робкой и скучной — а он, разумеется, был $
забавен”. Констанс, однако, продолжала стараться и пробовала раз*^
личные стили. В марте 1886 г. она участвовала в собрании, посвя-j
щенном теме “Рациональный костюм”, в Вестминстер-таун-холлеЛ
и, когда она встала, чтобы высказать предложение, все увидели, чтб!
на ней кашемировые шаровары коричного цвета и накидка, края'1
которой были подвернуты и скреплены, образуя рукава. Ежене*|
дельник “Бэт” (“Летучая мышь”) 30 марта со свойственной емуЦ
бескрылостью назвал этот костюм совершенно нерациональным*!
6 ноября 1888 г. она выступила в Сомервилл-клубе перед женской>|
аудиторией с лекцией, озаглавленной “Мы одеты, и мы в своем J
уме”. О лекции было сообщено в номере “Рэшнл дресс сосайетИ |
газетт” (“Газеты Общества за рациональный костюм”) за январь
1889 г. ‘ '
Другая свидетельница — Луиза Джоплинг, — будучи худоЖ-
ницей, гораздо легче, чем Лора Трубридж, переносила отступя^
ния от тогдашних стереотипов французской моды. Однажды
воскресным утром, явившись по ее приглашению к ней в гост#»;
Уайльды ослепили ее своими нарядами. Он был одет в коричне*1
вый костюм с бесчисленными маленькими пуговицами, выглядев*|
34
щий как сильно улучшенная униформа посыльного. На Констанс
были большая живописная шляпа с белыми страусовыми перьями
столь же яркое платье. “Когда мы шли по Кингс-роуд, — при-
нялся рассказывать Уайльд, — несколько нахальных мальчишек
оКружили нас и двинулись вместе с нами. Один из них, при-
стально поглядев на нас, изрек: “Что это еще за Гамлет и Офелия
на прогулке?” Я отозвался: “Как ты угадал, малыш? Они самые!”
Как всегда, он радовался и своему великолепию, и реакции окру-
жающих.
Уайльд и Констанс были в прекрасных отношениях как с леди
Уайльд, так и с Уилли. В августе 1884 г., когда Уилли, ставший теа-
тральным критиком журнала “Вэнити фэйр”, взял отпуск, Оскар
заменил его. Что касается леди Уайльд, у нее был свой салон и свои
вкусы в одежде. Молодой немецкий художник Герберт Шмальц
(впоследствии он изменил свою неудачную фамилию1 на Кар-
майкл) посетил ее в мае 1886 г. и затем описал свои впечатления.
В сдвоенной гостиной, куда провели Шмальца и его жену, им при-
шлось пробираться чуть ли не ощупью, потому что, хотя стоял
светлый день, окна были задернуты плотньши шторами; скудный
свет давали одни лишь свечи. Таинственность атмосферы усугуб-
ляли курящиеся над камином ароматические палочки и большие —
от пола до потолка — зеркала, по бокам закрытые драпировкой, так
что, когда в комнате было много народу, казалось, что она прости-
рается в бесконечность.
Леди Уайльд принимала гостей в шелковом платье лавандового
цвета с кринолином; юбку окаймляла полоса малинового бархата
шириной около фута. Вокруг талии был свободно повязан ярко-
зеленый пояс с алыми, синими и желтыми полосами, похожий
на католическую столу. У платья был большой вырез; на груди
у леди Уайльд красовалась большая — примерно шесть дюймов
на четыре — “миниатюра”. Ее волосы были мелко завиты и укра-
шены высоким кружевным головным убором. Сколь ни был этот
костюм нелеп, Шмальц отметил, что “опа ухитрялась выглядеть
не столько смешной, сколько диковинной и импозантной”.
Когда они пришли, девочка-американка с ангельским личиком
читала стихотворение, в котором она подражала голосам птиц:
затем она прочла другое — с затихающими отзвуками выкриков
Удаляющегося углежога. Когда она кончила, Оскар Уайльд, подойдя
к Шмальцу и его жене, сказал: “Правда ведь, она очаровательна?
Прелестный маленький розовый бутон, покрытый каплями росы”.
Помимо основного значения (“топленое сало”), немецкое слово
Schmalz имеет и переносное (“слащавая безвкусица”), вошедшее
также и в английский язык.
3^5
Побыв некоторое время, Шмальцы собрались уходить. “Когмк
я подошел к леди Уайльд попрощаться, — вспоминает Шмальц,
она бросила на меня загадочный взгляд сфинкса и сказала: .
— Я слышала, что ваша большая картина висит в Королевской 1
академии. Как это вы, такой молодой, сумели очаровать этот жут-
кий академический совет?
— Надеюсь, она вам понравится, леди Уайльд, — ответил я.
— Я ее еще не видела, — ответила она, — но Оскар непременно
меня к ней сводит. Оскар меня к ней сводит:
У дверей их остановил Уайльд.
— А, Шмальц! Так скоро уходите?
— Да, мне надо работать над картиной.
— Можно поинтересоваться, что она изображает?
— Это историческая картина о временах викингов.
— Помилуйте, дорогой мой Шмальц, — не спеша сказал- '
Уайльд, готовясь произнести очередное изречение, — зачем вам,
такие далекие времена? Где начинается археология, там кончается >
искусство”1. \
Молодым супругам, когда они вышли на залитую ярким све--1
том Бромптон-роуд, почудилось, что они "только что пробудились +
от какого-то странного сновидения”. *
От УСТНОГО СЛОВА К ПЕЧАТНОМУ j
Только пустые, ограниченные люди не судят Д
по внешности. 1
Осенью Уайльд вновь принялся читать лекции. Они назывались^]
"Значение искусства в современной жизни” (переработка того, что
он уже говорил в Америке и Англии) и "Одежда” (это была новая |
лекция). Во второй из них он, хваля английские представления $
о красоте, сожалел о том, что до сей поры они не распространились
на платье. Ради коренных изменений в этой области он предложил |
учить детей рисованию прежде, чем письму, чтобы наделить их *
1 В лекции студентам, изучающим искусство, Уайльд развил это поло-
жение: “Все археологические картины, заставляющие нас сказать:
“Как любопытно”; все сентиментальные картины, заставляющие нас
сказать: “Как печально”; все исторические картины, заставляющие нас \
сказать: “Как интересно”; короче, все картины, не рождающие в нас >
той художественной радости, которая заставляет нас сказать: “Как j
прекрасно”, — это плохие картины”.
316
□тушением контуров человеческого тела. Ребенок должен почув-
ствовать, что изгиб талии изыскан и прекрасен, что его не нужно
превращать, как это делают нынешние модистки, в грубый прямой
угол, внезапно возникающий посреди женской фигуры. Мода —
злейший враг хорошего костюма. “Мода — это разновидность
уродства, столь невыносимая для нас, что мы вынуждены менять ее
раз в полгода”. Французское влияние крайне пагубно, и оно было
таковым с тех самых пор, когда Вильгельм Завоеватель, высадив-
шись на английской земле, увидел, что англичане одеваются кра-
сиво и просто, и немедленно это изменил. Во второй четверти
семнадцатого столетия английская одежда вновь стала восхити-
тельна, однако Карл II выбрал именно это время, чтобы опять вве-
сти французскую моду.
Главное предложение Уайльда заключалось в том, чтобы оде-
жда свободно свисала не с талии, а с плеч. Это и здоровее, и, что
еще более важно, ближе к греческому образцу. “В Афинах не было
ни модисток, ни выписанных ими счетов. Цивилизация достигла
такой высоты, что и то и другое было людям совершенно неве-
домо”. Никаких турнюров, корсетов, шнуровок, никаких высо-
ких каблуков, которые заставляют наклонять туловище вперед.
Он считал, что в искусстве одеваться можно почерпнуть немало
полезного не только от греков, но и от ассирийцев и египтян.
Он одобрил шаровары, носимые турчанками. Мужчинам тоже
следовало изменить свои костюмы. Иллюстрацией излагаемых
им теорий он сделал самого себя. Он заявлял теперь, что охладел
к бриджам, потому что “усовершенствованная одежда” не должна
быть такой тесной. Он заменил их легкими облегающими брю-
ками; носил рубашку с широким отложным воротником, глухой
темный жилет и широкий черный шарф с брелоками. Он был
противником цилиндра и предпочитал ему (возможно, под вли-
янием рудокопов Ледвилла) широкополую шляпу, способную
защитить глаза от дождя. Он выступал за плащи и елизаветин-
ские камзолы. Подобные взгляды, сколь элегантно они ни были
высказаны и проиллюстрированы, далеко не всех делали его при-
верженцами. Хуже того, люди часто упрощали его предложения,
доводя их до абсурда.
Его новая лекция “Значение искусства в современной жизни”
базировалась на трех основных идеях. Первая из этих идей состо-
яла в том, что декоративная красота заключена не в излишествах,
а в очищении от них. “Я пришел к выводу, что все безобразное
создано теми, кто стремился создать нечто красивое, и что все кра-
сивое создано теми, кто стремился создать нечто полезное”. Он
далеко отошел от принципа Готье, гласившего: всякое искусство
бесполезно. Согласно второй из его основных идей, источником
3*7
дурного искусства является представление о природе как об иде-
але. Подлинный художник — это не специалист по изображению
шотландских коров в английском тумане или английских коров
в шотландском тумане. Для него подлинными художниками были
Коро и импрессионисты, к числу которых он относил Моне
и Камиля Писсарро, чьи картины на выставках, организованных
Дюран-Рюэлем в марте и мае, явно привели его в восхищение.
От похвал прерафаэлитам, занимавшим центральное место в его
американских лекциях, он многозначительно воздержался. Тре-
тья его идея заключалась в том, что дидактическая составляющая
не может быть мерилом художественного значения вещи. Отдавая
должное Рескину как одному из величайших людей, рожденных
в Англии, он оспаривал положение своего старого учителя о том,
что картине можно дать оценку “согласно количеству благородных
и нравственных идей, которые он в ней находит”. Самые горячие
похвалы Уайльда были отданы Уистлеру как первому художнику
не только Англии, но и, возможно, всей Европы. Уистлер “отка-
зался давать своим картинам какие бы то ни было литературные
названия; в названиях его работ нет ничего, кроме обозначений
тона, цвета и техники. Такой конечно же и должна быть живо-
пись; никому не следует выступать в роли простого иллюстратора
истории”. Взгляды, которые Уайльд высказывал, были весьма воз-
вышенны; в них пока не чувствуется попыток соединить ренессанс
с декадансом в такой манере, какую он уже начал нащупывать. Эти
высказывания были чуть солнечнее, чем следовало. Чтобы охва-
тить все свое сознание, Уайльд нуждался в тенях.
Лекции, которые он читал с 1 октября 1884 г. по конец марта
1885 г., заставили Уайльда побывать во многих местах Англии»
Ирландии и Шотландии. Приехав в Эдинбург на последнюю лек-
цию, он явился к своему старому другу Хантеру Блэру, который .
был теперь монахом, и, внезапно встав на колени, сказал: “Молись
за меня, Дански, молись за меня”.
Первую же лекцию Уайльда об одежде пресса не обошла
вниманием, и в “Пэлл-Мэлл газетт” завязалась полемика на эту
тему. В октябре и ноябре 1884 г. он направил в редакцию газеты
пространные письма, защищающие и уточняющие его позицию.
Интерес публики к фасонам одежды и к украшению жилищ был,
увы, ограничен, и вследствие уменьшающихся сборов он волей-
неволей должен был дополнять лекционные гонорары доходами
от “неблагородного” журналистского труда. В конце концов лек-
ции сошли на нет. В начале 1885 г. — возможно, благодаря его кра-.
сноречию в полемике об одежде — “Пэлл-Мэлл газетт”, которая *
в 1882 г. относилась к нему враждебно, сделала его своим постоян-^
ным автором. Его статьи по тогдашнему обычаю, который он всей <
душой ненавидел, были анонимны. Он публиковал также подпи-
санные статьи в “Драматик ревью”, а позднее и в других изданиях.
Рецензия была одним из любимых жанров Уайльда. Он при-
дал ей черты легкой болтовни. Произведения, которые он раз-
бирал, представляли большей частью лишь мимолетный интерес;
он не громил их за это, а затевал приятное и занимательное об-
суждение и обычно представлял их в более выгодном свете, чем
они заслуживали. Лучше всего ему удавались краткие замечания
по ходу дела. К примеру, книга “Обеды и блюда” дала ему повод
сказать, что “две главные достопримечательности американского
ландшафта — это ресторан Дельмонико и Йосемитская долина”.
Последний роман Джордж Элиот “Даниэль Деронда” он назвал
“скучнейшим из шедевров”. Незаслуженно расхвалив до небес
стихи молодого Марка Андре Раффаловича, он заметил, что стихи
эти нездоровые и что они источают вязкие ароматы теплицы.
Но это, продолжал он, “не является ни недостатком, ни достоин-
ством — это их свойство, и только”. Он, однако, возразил против
использования в стихах слова “tuberose” (“тубероза”) как трех-
сложного, тогда как в английском языке оно двусложное. Чувст-
вительный, как многие иностранцы, к обвинениям в неправиль-
ном произношении, Раффалович написал в редакцию письмо, где
утверждал, что такое же прегрешение совершил и Шелли; Уайльд
приветливо отозвался примером обратного порядка из того же
поэта. Желчного Раффаловича это ничуть не позабавило.
Было несколько писателей, которые перестали интересовать
Уайльда; в их число вошли миссис Браунинг и Саймондс. Его
критический антагонизм возбудили только трос. Среди них была
Рода Бротон. Она приходилась родственницей Ле Фаню, кото-
рого Уайльд видел еще на Мэррион-сквер, но, возможно, именно
ее ирландская кровь сделала Уайльда нетерпимым к ее эстетизму.
Рецензируя ее роман “Видения Бетти”, Уайльд заметил, что “сколь
суровой критики ни заслуживает построение ее фраз, она, во вся-
ком случае, обладает той долей вульгарности, которая позволяет
ей чувствовать себя запанибрата со всем миром”. Джордж Сейнтс-
бери, в отличие от мисс Бротон, возможно, не раздражал Уайльда
в человеческом плане, но Уайльд не мог пройти мимо того факта,
что Сейнтсбери написал книгу о стиле в прозе, в то время как
его собственная проза изобиловала стилистическими погрешно-
стями. Сейнтсбери мог ничтоже сумняшеся написать: “он в целом
неизменно прав” или “он видел возвышение и, в некоторых слу-
чаях, смерть Теннисона, Теккерея, Маколея, Карлейля, Диккенса”.
Третьей мишенью Уайльда стал Гарри Куилтер, известный своими
критическими статьями об искусстве. В газетных передовицах
Куилтер метал громы и молнии на эстетическое движение и про-
319
поведовал рёскиновские взгляды, противопоставляя их уисъ.
леровским. Он осмелился не только купить, но и перестроить
Белый Дом Уистлера на Тайт-стрит, спроектированный Годвином
и украшенный самим Уистлером. Уайльд игриво называет Куил-
тера “наиприятнейшим” критиком-искусствоведом: “К существу-
ющим в английском декоративного искусстве тенденциям мистер
Куилтер... испытывает очень мало симпатии, и он доблестно взы-
вает к английскому домовладельцу, убеждая его сбросить иго бес-
смыслицы. Он говорит: пусть честный малый, вернувшись домой
из конторы, сорвет персидские драпировки”. (Уайльд как раз в это
время украшал ими свой дом на той же Тайт-стрит.) “Мистер
Куилтер весьма серьезен в своем стремлении возвысить искусство
до уровня ремесленного труда”.
Задаваясь более крупными вопросами, Уайльд не спеша про-
двигался к более сложным ответам. Он проявлял удивительную
готовность к пересмотру того, что, казалось, было для эстетизма
делом решенным. Возможно, потому, что он разделял восхище-
ние матери романами Жорж Санд, он неожиданно поддержал ее
доводы в знахменитом споре с Флобером о форме и содержании.
Он согласился с ней в том, что форма — не цель, а всего лишь
следствие. Он признал верной высказанную ею мысль, что истина
и добро (которые он вообще-то не часто поминал в своих крити-
ческих работах) должны сопутствовать красоте; он сделал лишь
одну оговорку, сказав, что Жорж Санд придает слишком большое
значение благим намерениям. Поскольку Уайльда часто считают
сторонником концепции “искусства для искусства”, проявлен*
ная им в данном случае сдержанность представляется важной;
он пишет, что эта концепция “дает не конечную цель искусства*/
а всего лишь формулу творчества”. Работая, художник должен?
держать в уме только художественные критерии, однако побуди*'
тельные мотивы писательского труда и цели искусства как тако*
вого не подлежат ограничению. Уайльд далеко опередил Уистлера
и Готье в осознании недостаточности старого эстетизма, который
они проповедовали.
В эссе “Декорации шекспировских пьес” и ряде других кри-
тических работ возникает тема, которая смущала его. Уайльд
встал на защиту недавних попыток, осуществленных Годвином
и другими режиссерами, поставить шекспировские пьесы, а также
пьесы на античные мотивы (например, “Елену в Троаде” Тодхан-
тера) с полной исторической (“археологической”) точностью.
Он доказывал, что сам Шекспир обладал очень острым историче-
ским чутьем и всегда возмещал словесными описаниями то, чего
не хватало в декорациях и костюмах его пьес. С другой стороны,
о реализме Уайльд размышлял еще со времен Порторы, когда он
спросил преподавателя, что это такое: он знал слабости этого
метода. Поэтому он чувствует себя не в своей тарелке, пропове-
дуя точность в деталях и одновременно утверждая, что подлинно
желаемой является цельность художественного впечатления. Он
пишет, что эта цельность лучше всего обеспечивается именно
точностью деталей, так что, соблюдая высочайшую точность, если
только она подчинена общей линии пьесы, мы можем добиться
высочайшей степени иллюзии. Уайльд проводит различие между
навязчиво-вычурной “археологией” и “археологией”, служащей
единству художественного впечатления; однако его манит и про-
тивоположная мысль — что “подлинная поэзия — самая поддель-
ная”. Позднее, перерабатывая это эссе для сборника “Замыслы”,
он назвал его “Истина масок. Заметки об иллюзии”, хотя ему
лучше подошло бы название “Истина подобий. Заметки о реа-
лизме”. В версии, опубликованной в “Замыслах”, он неожиданно
напал на самого себя; осознав, что эссе противоречит другим его
вещам, печатаемым под той же обложкой, он добавил важную
‘‘палинодию”:
Не могу сказать, что я согласен со всем, о чем говорится в этом
эссе. Со многим я решительно не согласен. Эссе отражает только
лишь позицию художника, а в эстетической критике угол зрения —
это все. Ибо в искусстве не существует универсальной истины.
Истина в искусстве отличается тем, что обратное ей тоже верно.
И подобно тому, как лишь в художественной критике, лишь через
ее посредство мы можем постичь платоновскую теорию идей, точно
так же лишь в художественной критике, лишь через ее посредство
мы можем понять гегелевскую теорию противоположностей. Истина
метафизики — это истина масок.
Но даже смягченное подобным образом — можно сказать,
обращенное в свою противоположность, — эссе не удовлетворяло
Уайльда, и он чувствовал, что впоследствии лучше будет изъять его
из сборника вовсе.
Писать о чужих книгах, пьесах и лекциях, рассуждать об искус-
стве — всего этого было недостаточно, чтобы сколько-нибудь на-
долго насытить его честолюбие, о котором он гордо заявил Шера-
РДУ после разрыва с Реннелом Роддом. Однако пока что других
возможностей не представлялось, а им с Констанс нужно было
жить, и жить изысканно. Его переполняли энергия и надежда. Он
возобновил попытки добиться места инспектора школ, пользуясь
рекомендациями Керзона, Махаффи и Сэйса; из этого ничего
вышло. А после нью-йоркского фиаско нечего было рассчи-
тЫва7ь, что удастся убедить кого-нибудь из актрис предпринять
1!
постановку какой-то из его пьес. Тем не менее он продолжал вра*|
щаться в театральных кругах и даже уговорил Констанс сыграть *
небольшую роль в пьесе “Елена в Троаде”.
Тем временем его домашняя жизнь приобрела более опреде-
ленную форму. Он часто покидал Тайт-стрит, отправляясь читать
лекции. Он утешал Констанс письмами, сочиненными в его луч-
шем олимпийском стиле:
Дорогая и любимая, вот я тут, а ты — на другом краю земли.
О, гнусные факты, не дающие нашим губам целовать, хотя души
наши — одно.
Что я могу сказать тебе письмом? Увы! Ничего из того, что
я хотел бы сказать тебе. Боги передают послания друг другу не при
помощи пера и чернил, и, право же, твое физическое присутствие
здесь не сделало бы тебя более реальной: я чувствую, как твои пальцы
перебирают мои волосы, как твоя щека касается моей щеки. Воздух
наполнен музыкальными звуками твоего голоса, мои душа и тело*
кажется, больше не принадлежат мне, а слиты в каком-то утонченном"
экстазе с твоей душой и телом. Без тебя я чувствую себя неполным. ,
Навеки твой
ОСКАР, j
Здесь я останусь до воскресенья.
J
Иную супругу могла бы обеспокоить легкость, с которой муж4
употребляет словосочетания типа: “утонченный экстаз”; но Койн|
станс не жаловалась. Беременность занимала ее, Оскар восхищал^
ее. Кажется, она не догадывалась, что ее раздавшаяся фигура
сильней отвращает его. Об этом пишет такой ненадежный св«4:
детель, как Фрэнк Харрис, в чьей передаче высказывания Уайльда
обычно звучат не слишком правдоподобно. Однако последую-’,
щие события показывают, что Уайльд, возможно, и вправду сказал 3
нечто, по сути своей близкое к нижеследующему:
Когда я женился, моя невеста была прекрасной девушкой, белой
и стройной, как лилия, с танцующими глазами и веселым, журча-
щим, музыкальным смехом. Прошел всего год — и эта краса нежного^
цветка поблекла; моя жена стала тяжелой, вялой, бесформенной. Она
бродила по дому, неуклюже-несчастная, с искаженным, покрытыЦ
пятнами лицом и отвратительным телом, испытывающая душевны®
муки из-за нашей любви. Это было ужасно. Я старался быть к не#
добрым; принуждал себя трогать ее и целовать; но ее все время тон#
нило и... нет! Даже вспоминать не хочется, до того это все гадкой
Я бежал мыть губы и потом открывал окно, чтобы их овеяло чисты#
воздухом. ,'1:
К
------ d
Можно считать несчастливым стечением обстоятельств то, что
от мужа, у которого так легко было вызвать отвращение, Констанс
очень быстро, одного за другим, родила двоих сыновей. Сирил
появился на свет 5 июня 1885 г. Его крестным отцом стал путеше-
ственник Уолтер Харрис. Восемь мес‘кгсв спустя Констанс вновь
забеременела, и второй ребенок родился 5 ноября 1886 г., в день
“порохового заговора”. Официальной датой его рождения было
поэтому сделано 3 ноября. Уайльд надеялся, что будет девочка, как
надеялась его мать перед его собственным рождением; может быть,
он мечтал о новой Изоле. Но родился мальчик, и ему дали жен-
ско-мужское имя Вивиан. Рёскин, которого попросили стать ему
крестным отцом, как сыну Берн-Джонса и дочери Альфреда Ханта,
отказался, сославшись на возраст; поэтому обратились к ученику
Уистлера Мортимеру Менпесу, чьи отношения с учителем тогда
еще нс разладились, и тот согласился.
Две беременности подряд вызвали немалое отчуждение между
супругами. Уайльд, желавший проводить в жизнь реформу костюма,
на два года остался без модели. Любя званые обеды, как другой
мог бы любить охотничьи вылазки, и демонстрируя на них себя
с роскошной щедростью, он вынужден был посещать один мно-
гие дома, куда их приглашали вдвоем. А когда гости были у них,
Констанс тихими маленькими прозаизмами частенько прерывала
грандиозный мужнин словесный полет, который он при ней не раз
репетировал. Жан-Жозеф Рено, французский писатель, который
перевел ряд произведений Уайльда, был на одном из таких обе-
дов и потом вспоминал, как Констанс время от времени говорила:
“Но как же так, Оскар, вчера ты рассказывал об этом по-другому”
или, досадуя на его приукрашивающие выдумки, перебивала его
и заканчивала за него сама. Миссис Клод Беддингтон вспоминает
один обед, на котором Уайльда спросили, где он был на этой неделе.
Он ответил, что был “в чудесном сельском доме Елизаветинской
эпохи с изумрудными лужайками, величавыми живыми изгородями
из тиса, ароматными розариями, прохладными прудами, полными
лилий, веселыми цветочными бордюрами, древними дубами и гордо
выступающими павлинами”. — “Ну и как она играла, Оскар?” —
спросила Констанс тихим голоском. На самом деле он был в театре.
Мало-помалу Уайльд, хоть он и продолжал нежно относиться
к Констанс, стал терять энтузиазм в отношении своей супруже-
ской роли. С отцовством дело обстояло иначе — сыновья восхи-
щали его. Предпочтение, которое он отдавал Сирилу, было уже
заметным, хотя он любил обоих и проявлял о них заботу. О его
°хлаждении к жене можно судить по тому, с какой охотой он
посвящал свое время общению с молодыми мужчинами — осо-
бенно в Оксфорде и Кембридже.
3^3
Опасные связи
Взаимное непонимание — самая подходящая
основа для брака.
Одним из них был Гарри Мариллиср, который мальчиком при-
носил Уайльду кофе в доме на Солсбери-стрит в обмен на уроки
греческого. В начале ноября 1885 г. Мариллиср, который теперь
учился в кембриджском Питерхаус-колледже, написал Уайльду
письмо, прих'лашая его на спектакль по “Эвменидам” Эсхила,
назначенный на начало декабря. Уайльд был очарован приглаше-
нием и, принимая его, приблизил дату их встречи. Он пригласил
Мариллиера посетить его в Лондоне и затем сетовал на то, что ему
пришлось слишком быстро покинуть друга (возможно — из-за
лекционной поездки):
Гарри, почему Вы позволили мне сесть на поезд? Я бы с таким
удовольствием сходил с Вами в Национальную галерею, поглядел там
на Веласкесова бледного злобного короля, на Тицианова Бахуса с бар-
хатными пантерами и на странные небеса Фра Анджелико, на кото-
рых все персонажи словно бы созданы из злата, пурпура и огня
и которые притом кажутся мне аскетическими — на них все так мер-
тво и декоративно! Интересно, будет ли на небесах все именно так,
когда я на них попаду? Интересуюсь без озабоченности. Je trouve
la terre aussi belle que le ciel — et le corps aussi beau que Гате1. Если
мне суждено родиться вновь, я хотел бы родиться цветком — ника-
кой души, зато совершенная красота. Возможно, за грехи мои я буду
превращен в алую герань!
Как Ваша работа о Браунинге? Вы должны мне об этом написать.
В нашей встрече вновь было нечто браунинговское — острое любо-
пытство, удивление, восторг.
Этот час был насыщен драматизмом и столь же насыщен пси-
хологией; а ведь в искусстве один Браунинг умеет слить действие
и психологию в единое целое. Когда я вновь Вас увижу? Напишите
мне на Тайт-стрит длинное письмо, и оно придет как раз к моему
возвращению. Жаль, что Вас здесь нет, Гарри. Но во время каникул
Вы должны часто приезжать и видеться со мной, тогда уж мы всласть
наговоримся о поэтах и позабудем про Пикадилли! Всему стоящему,
чему я научился в жизни, я научился от людей более молодых, чем я,
а Вы, Гарри, бесконечно молоды.
ОСКАР УАЙЛЬД.
1 Я нахожу землю столь же прекрасной, как небеса, — а тело столь же
прекрасным, как душа (фр-)>
Французская цитата взята из “Мадемуазель де Мопен” Готье —
романа, который Уайльд в одной из рецензий того времени назвал
“драгоценной книгой, сокровищницей духа и чувства. Священ-
ным Писанием красоты”. Поскольку Пейтер подарил эту книгу
Уайльду в начале их близкой дружбы, представляется знаменатель-
ным, что Уайльд процитировал ее Мариллиеру в сходный момент
возрастающего взаимного интереса.
27 ноября 1885 г. они встретились вновь — на этот раз в Кем-
бридже. Мариллиер принадлежал к студенческому обществу, члены
которого называли себя “цикадами”, и его стараниями Уайльд
был приглашен на “Эвмениды” как гость всего общества. Другой
“цикадой” был Дж. Бэдли, будущий основатель школы Бедалеса;
Бэдли выпало угощать Уайльда завтраком в своей квартире. Когда
подали oeufs a lAurore1, довольный Уайльд назвал человека, поста-
вившего перед ним это кушанье, знаменосцем японского импе-
ратора; Бэдли почувствовал жизнерадостность Уайльда, но смы-
сла шутки не уловил. Они говорили о поэзии; любимым поэтом
Бэдли был Шелли, чего Уайльд не одобрил, назвав Шелли “поэ-
том для подростков”. “Китс был величайшим из них”, — настави-
тельно заявил он молодому человеку. Увидев, что Бэдли не курит,
Уайльд спросил его почему. “Наследственное нерасположение, —
объяснил Бэдли, — хотя я не сомневаюсь, что в меру это было бы
хорошо для меня”. — “Нет, Бэдли, — возразил Уайльд. — Что
в меру, то не может быть хорошо. Нет другого способа познать
хорошее в чем бы то ни было, кроме как замучить это хорошее
излишеством”. Позже он даст такой же совет Андре Жиду.
Находясь в Кембридже по случаю спектакля “Эвмениды”, Уайльд
по просьбе своих молодых друзей развлек их историей. Придать
этой истории форму сказки заставило его, возможно, то, что у него
уже был сын, хотя Сирил был тогда слишком мал, чтобы ее слу-
шать. Впоследствии Уайльд дал этой сказке название “Счастливый
Принц”; кембриджским студентам она так понравилась, что, придя
к себе в комнату, он ее записал. “Счастливый Принц”, как и некото-
рые его более поздние вещи, построен на контрасте между старшим
и более рослым любящим существом и юным, миниатюрным люби-
мым. В данном случае эти роли играют представители даже не раз-
ных биологических видов, а разных миров — неодушевленного
и одушевленного: Принц — это статуя, а влюблен он в Ласточку.
В сказке Ласточка (особь мужского пола) поначалу влюбля-
ется в Тростник (существо женского пола)2, но затем отвергает
Яйца “восходящее солнце” (фр.).
В русском переводе К. Чуковского это сделано иначе: пол Ласточки —
женский, Тростника — мужской.
З2)
Тростник в пользу Принца. Принц всю свою жизнь до того, как он
стал статуей, провел в Sans-Souci — Дворце Беззаботности, однако '
теперь он испытывает острое сочувствие к угнетенным и обездо-
ленным. Со своего высокого пьедестала он видит все горести и всю
нищету столичного города и скорбит о них, изливая слезы из сап-
фировых глаз. Он упрашивает Ласточку выклевать сначала рубин
из его шпаги, а затем сапфиры из его глазниц, чтобы облегчить
участь самых несчастных — больного мальчика, голодного дра-
матурга и бедной девочки, торгующей спичками. Ласточка, кото-
рой надо спешить в теплый Египет, тем не менее выполняет его
просьбы и затем, умирая от холода, просит у Принца разрешения
поцеловать его руку. “Ты должна поцеловать меня в губы, потому
что я люблю тебя”, — возражает Принц. После поцелуя сердце
Принца раскалывается, и Ласточка падает к его ногам бездыхан-
ная — в смерти их любовь достигает совершенства и стерильной
чистоты. Преображенные, они возносятся в Господни чертоги.
Идея любви-самоуничтожения, чья полнота равносильна гибели,
смыкается с представлениями Пейтера и самого Уайльда об огра-
ниченности всякой энергии. В “De Profundis” Уайльд пишет, что
сад имеет, помимо светлой, и другую половину, что он всегда это
знал и написал об этом в “Счастливом Принце”.
На следующий день после того, как Уайльд рассказал эту сказку,
он отправился на вокзал в сопровождении полудюжины “цикад”.
Столпившись у окна вагона, они слушали его — а он продолжал 1
потоком изливать на них остроты и изречения, кульминация кото- /
рых была приурочена к отходу поезда. Но что-то вышло не так,'
и поезд, тронувшись было, вновь был подан назад. Студенты все ‘
еще стояли на перроне, но Уайльд, чтобы не смазать впечатление,
закрыл окно и сидел, уткнувшись в газету, пока поезд наконец ?
не отправился. Из Лондона он писал Мариллиеру:
Не сон ли это был, Гарри? Ах! Да разве есть что-нибудь на свете, J
помимо снов? Для меня это, в некотором роде, воспоминание,
о музыке. Я помню озаренные юные лица и серые туманные четы- 2
рехугольники декораций, греческие фигуры, идущие готическими
аркадами, жизнь, играющую среди руин, и, что я люблю больше всего
на свете, Поэзию и Парадокс, танцующие вместе!
Самое откровенное и приглашающее письмо, написанное
Уайльдом Мариллиеру, было получено им в начале 1886 г. Уайльд
уже не припоминает былое настроение, а делится с адресатом г
определенной доктриной — доктриной, способной пробудить ।
мысли о несовершенном пока грехе словно бы для того, чтобы
оправдать эти мысли, пока они еще не стали предосудительными: |
326
В Вас тоже живет любовь к невозможному — 1’amour de I’impossible
(или как там люди называют это?). Когда-нибудь Вы, как и я, обнару-
жите, что такой вещи, как романтический опыт, не существует; есть
романтические воспоминания и есть желание романтического — и это
все. Наши самые пламенные мгновения экстаза — только тени того,
что мы ощущали где-то еще, или того, что мы жаждем когда-нибудь
ощутить. По крайней мере, мне так кажется. И вот что удивительно:
из всего этого возникает странная смесь страсти с безразличием. Сам
я пожертвовал бы всем, чтобы приобрести новый опыт, и притом знаю,
что такой вещи, как новый опыт, вовсе нет. Думаю, я скорее уж умер бы
за то, во что я не верю, чем за то, что считаю истиной. Я взошел бы
на костер ради ощущения и оставался бы скептиком до конца! Лишь
одно сохраняет для меня бесконечное очарование — тайна настрое-
ний. Повелевать этими настроениями упоительно, покоряться им упо-
ительно вдвойне. Иной раз я думаю, что жизнь в искусстве — долгое
и восхитительное самоубийство, и не жалею об этом.
Многое из этого Вы, наверное, пережили сами; многое же Вам
еще предстоит пережить. Есть неведомая страна, полная диковин-
ных цветов и тонких ароматов; страна, мечтать о которой — высшая
из радостей; страна, где все сущее и совершенно, и ядовито.
Если обладаешь таким знанием, то какая может быть доброде-
тель? Уайльд слил наконец воедино совершенство и ядовитость —
качества, которые он находил также у Бодлера, — слил воедино дека-
данс и ренессанс. Помимо “Наоборот” Воисманса, на уме у него был
и другой роман — “Дочь Раппачини” Готорна. Он хотел изобразить
Мариллиеру жизнь не как здоровый рост, а как восхитительный упа-
док. Новоявленный Фауст, он наперед знал, что всякая радость в конце
концов разочарует его, и видел себя добычей тех самых настроений,
которые он желал испытать. Довести свой опыт до последней край-
ности — значило пасть жертвой самого себя; к несчастью, это похоже
на самоубийство, в чем предстояло убедиться Дориану Грею.
Поэт И ХУДОЖНИК
Невозможно добиться расположения, угрожая
человеку ножом. Пробуждать благодарность
в неблагодарных — занятие столь же безнадеж-
ное, как пытаться будить мертвецов криками.
Стремление Уайльда к некой новой жизни, которое смутно уга-
дывается по переписке с Мариллиером, укрепилось из-за трений
327
с Уистлером. В 1886 г. эти трения усилились. Их отношениям всегда 1
была свойственна нервозность. Уистлер, который был на двадцать
лет старше, никогда не мог полностью примириться с тем, что
Уайльд, при всем несовершенстве его ранних работ, тоже гени-
ально одарен; при всем том он почти десять лет снисходительно
мирился с похвалами Уайльда в свой адрес. Уайльд любил делать
предметом шуток самого себя, Уистлер был рад делать предметом
шуток Уайльда. Преимущество Уистлера заключалось в том, что он
раскрывал рот ради сведения счетов, тогда как Уайльд раскрывал
рот ради того, чтобы очаровать. Уистлеровские завтраки включали
в себя, помимо кофе, немалые порции желчи. За годы дружбы он
подверг Уайльда немалому числу шутливых унижений. Однажды
в “Клубе ягнят” Уайльд показал Уистлеру написанное им стихо-
творение — вероятно, что-нибудь импрессионистическое типа
“Le Panneau” или “Les Ballons”. Уистлер прочитал и молча вер-
нул ему листок. Уайльду ничего не оставалось, как спросить: “Ну
и как тебе?” Художник ответил: “Я оцениваю твою работу на вес
золота”. Стихотворение было написано на невесомой шелковой
бумаге. Потом было собрание в Хогарт-клубе в ноябре 1883 г.,
на котором присутствовали они оба; “Панч” сообщил, что Уайльд
сопоставил Мэри Андерсон, которую он еще раз увидел в “Ромео
и Джульетте”, с Сарой Бернар. Если верить “Панчу”, Уайльд ска- ,
зал: “Сара Бернар — это лунный и солнечный свет в одно и то же ,
время, несказанный ужас и победное величие. Мисс Андерсон _
чиста и бесстрашна, как горная маргаритка. Переменчива, как река. .
Нежна, свежа, лучиста, ослепительна, великолепна, безмятежна”* »
Прочитав это, Уайльд телеграфировал Уистлеру: “Панч” просто >
смешон. Когда мы с тобой встречаемся, мы говорим только о себе>,
самих”. Уистлер ответил — тоже телеграммой: “Нет, нет, Оскаод
ты немножко ошибся. Когда мы с тобой встречаемся, мы говорим
только обо мне”. 14 ноября по их взаимному согласию телеграммы
были опубликованы в “Уорлд”. Была якобы и третья телеграмма ;
с ответом Уайльда: “Верно, Джимми, мы говорили о тебе, правда,
думал я о себе”. Нарциссисты вовсю старались перещеголять друг *
друга.
Уистлер обычно выходил победителем в этих перепалках, *
но только потому, что он был готов не только ранить, но и уби-
вать. После выступления Уайльда перед студентами Королевской
академии искусств он начал всерьез проникаться к Уайльду недо-
брожелательством. Хотя он сам в то время высказывался достаточно
много и достаточно свободно, ему не понравилось, что Уайльду
стали приписывать идеи, которые он считал своими. Что еще хуже,"*
Уайльд имел обыкновение не придерживаться уистлеровской шпар*5
галки. Он с такой же легкостью поправлял учителя, с какой копи*
328 j
J
ровал его. И вот Уистлер решился на беспрецедентный шаг — про-
честь лекцию самому. Он снесся с Арчибальдом Форбсом, старым
врагом Уайльда, и тот познакомил его с миссис Д’Ойли Карт. Она
организовала для него лекцию в Принсез-холле, где Уайльд в свое
время рассказывал о своих “Впечатлениях об Америке” аудитории,
включавшей в себя Уистлера. Позднее он собирался прочесть ту же
лекцию в Оксфорде, Кембридже и некоторых лондонских залах,
включая зал Королевской академии, где ранее выступал Уайльд.
Чтобы подчеркнуть необычайность события, Уистлер назначил
лекцию на неслыханное время — на десять часов вечера. Она состо-
ялась 20 февраля 1885 г. Во избежание малейшего риска был раз-
работан подробный план размещения слушателей в зале, и за день
до лекции Уистлер провел генеральную репетицию.
Немалая часть выступления, получившего известность как
“Лекция мистера Уистлера в десять часов”, была посвящена издева-
тельствам над Уайльдом. Уистлер щедро оснастил свою речь иро-
ническими библеизмами. В самом начале он в шутливой тревоге
воскликнул: “Искусство идет на нас!” — и продолжил с неудоволь-
ствием: “Глас эстета слышен по всей земле”. Свое имя он с эстетиз-
мом связывать не хотел. Не называя Уайльда прямо, он вменил ему
в вину ряд прегрешений, первым из которых он назвал дилетан-
тизм в деле реформирования одежды. Эстету, сказал Уистлер, нужен
костюм, но “костюм и одежда — не одно и то же”. Он высмеял
попытки одеваться по греческому образцу: “С плеч беспорядочно
свисает хламида уличного торговца, соединяющая в себе мешанину
многостильности с мешковатой маскарадностью”. Он оспорил идею
Уайльда и Рескина о том, что упадок в обществе неминуемо влечет
за собой упадок в искусстве. “Она ложна, эта проповедь упадка.
Мастер совершенно независим от исторического момента, в кото-
рый ему выпало жить”. Искусство существует и развивается, будучи
великолепно безразличным к социальным переменам. Остальной
мир может сколько хочет, предаваться унынию, но Искусство по-
прежнему будет радоваться делу рук своих. Усовершенствование
общества его не заботит — воистину Искусство настолько прихот-
ливо, что предпочтет артистизм нанкинских опиоманов добропо-
рядочности швейцарских обывателей. Затем последовало два прене-
брежительных замечания. Одно о человечестве: “Никогда не было
художественных эпох, никогда не было художественных наций”.
Другое о Природе: “Сказать художнику, что Природу надо брать
как она есть — то же самое, что сказать пианисту, что он должен
Усесться на клавиши”. Природу можно терпеть лишь в той степени,
в какой она улучшаема посредством искусства.
Уайльд ответил двумя статьями в “Пэлл-Мэлл газетт”
21 и 28 февраля 1885 г. Их тон был менее сердитым, чем рассчиты-
329
вал Уистлер, — это была смесь шутливой болтовни и похвал в адрес
“высокородного джентльмена из Виргинии”, которого Уайльд все
еще считал своим другом. Его лекция, заявил Уайльд, — насто-
ящий шедевр. Сказав это. он почувствовал себя свободным для
менее лестных высказываний. Он вряд ли рассчитывал доставить
Уистлеру удовольствие, передразнивая его аллитеративный упрек
в “мешанине многостильности” и “мешковатой маскарадности”:
высокорослый Уайльд назвал коротышку Уистлера “миниатюр-
ным Мефистофелем, мечущим молнии”. Он не поддержал уист-
леровских нападок на человечество: “Искусство существует ради
жизни, а не жизнь ради искусства”. Призывать людей игнориро-
вать окружающее — пошлые вещи у них дома, безвкусную одежду,
которую они считают себя обязанными носить, — значит поощ-
рять безобразие. Уайльд согласился с тем, что “всякий костюм — это
карикатура. Костюмированный бал — плохая основа для Искусства.
Тот, кто разодет, не может быть хорошо одет”. Но свои новшества
он отказался признать аффектированно-театральными. Он мог бы
ответить Уистлеру словами Чарлза Риккетса, написавшего, что уист-
леровские “желтый галстук, осиная талия, бежевое пальто, трость,
похожая на дирижерскую палочку, и цилиндр с плоскими полями”
делают его похожим на “венгерского опереточного дирижера”.
Уайльд постарался сделать свои коренные расхождения с Уистле-
ром достаточно ясными. Искусство, утверждал он, связано с обще-
ством и представляет собой продукт определенной среды. Оно
испытывает возвышение или упадок, отзываясь на общественный
прогресс или загнивание, и может обновиться лишь при обновлении
самого общества. Уистлер в своей лекции заявил, что только живо-
писец может судить о живописи. Уайльд, возражая ему, написал, что
только художник может судить об искусстве, но высший художник—
не живописец (в творчестве которого Уистлер находил “поэзию”),
а поэт, в творчестве которого содержатся и живописные образы,
и музыкальные звуки, и абстрактные идеи. “Тайны эти ведомы
поэту лучше, чем кому-либо другому; они ведомы Эдгару Аллану
По и Бодлеру, но никак не Бенджамину Уэсту или Полю Деларошу”.
Первая из статей Уайльда окончилась реверансом: “Ибо, по моему
мнению, он один из величайших мастеров живописи. Добавлю, что
сам мистер Уистлер с этим мнением совершенно согласен”.
Уистлера не заставили подобреть ни похвала, ни вышучивание.
‘Я прочел твою утонченную статейку в “Пэлл-Мэлл”, — написал
он Уайльду, придавая на сей раз слову “утонченную” несколько
иронический оттенок, хотя в прошлом он, бывало, употреблял это
слово в одобрительном смысле. То, что Уайльд осмелился вообра-
зить себя настолько же Поэтом, насколько Уистлер был Художни-
ком, явилось лишь одной из причин его раздражения: “Самое же
330
изысканное в этой лести “Поэта” “Художнику” — наивность
“Поэта” в выборе своих Художников — Бенджамина Уэста и Поля
Делароша!” Уайльд отступил на безопасное расстояние:
Дорогая Бабочка! С помощью биографического справочника
я обнаружил, что в свое время существовали два художника, Бенджа-
мин Уэст и Поль Деларош, которые опрометчиво взялись за чтение
лекций об Искусстве.
Из того, что вся их живопись осталась в прошлом, я делаю вывод,
что они словесно объяснили себя до конца. Не повторяй их ошибку,
Джеймс; старайся, как я, чтобы тебя не могли постичь: быть вели-
ким — значит быть непонятым. Tout a vous1
ОСКАР.
Конфиденциально
Джимми! Ты должен штемпелевать свои письма — они обходятся
мне в два пенса — и также, пожалуйста, посылай их в удобное время.
Понедельник, 2.30 утра. Ciel!* 2
Противники готовили оружие к решительному бою, который
произошел через год с лишним. Поводом послужило то, что коми-
тет, призванный способствовать обновлению искусства и стояв-
ший в оппозиции к Королевской академии, собрался включить
в число своих членов Гарри Куилтера и Оскара Уайльда. Узнав
об этом, Уистлер тут же сочинил письмо:
Господа! Я, вполне естественно, рад любым попыткам Художников
доказать, что они еще живы, но, когда я нахожу в фургоне ваших вождей
брошенное туда тело моего усопшего Арри, я знаю, что единственным
результатом может стать трупное разложение. А когда вслед за Арри
туда летит и некий Оскар, я вижу, что вы докатились до фарса и готовы
навлечь на себя презрение и насмешки ваших европейских confreres3.
Что общего имеет Оскар с Искусством? Единственно то, что
он обедает за нашими столами и таскает с наших тарелок сливы для
пудинга, которым потом торгует в провинции. Оскар — симпатич-
ный, безответственный, прожорливый Оскар, — чувствующий живо-
пись не лучше, чем то, как сидит пиджак, имеет смелость высказывать
мнения — чужие мнения!
Посредством Арри и Оскара вы отомстили сами себе за Академию.
Ваш покорный слуга
[Подпись в виде бабочки].
* Всецело к вашим услугам (фр.).
*- Боже правый! (фр.)
3 Собратьев (фр.).
33 i
Уистлер опять отдал письмо в “Уорлд”, и 17 нояоря 1886 г
Эдмунд Йейтс услужливо опубликовал его. Оно было пре
дельно зверским. Издевка над дендизмом в одежде сама по себе
была болезненной; соединение Оскара с Куилтером, о котором
Уайльд совсем недавно презрительно отозвался в “Пэлл-Мэлл
газетт”, было болезненно вдвойне. И Уистлер причинял эту боль
сознательно. Кроме того он, похоже, попрекнул Уайльда своими
воскресными завтраками; в общем, если Уистлер — коротышка
то Уайльд — толстяк. При этом Уистлеру было хорошо известно
что в гостеприимстве Уайльд не уступал никому.
Копию письма Уистлер послал Уайльду, приписав строчку:
“Оскар, ей-богу, ты бы лучше держался вне моего “радиуса”!” Эти
слова показывают, что Уайльд, по его мнению, должен был сми-
риться с оскорблениями. Так, в общем, и вышло. Уайльд лишь
слегка отыгрался 24 ноября в той же “Уорлд”: “Увы — печально!
Наш Джеймс лишний раз доказывает, что “вульгарность начи-
нается дома”, и лучше бы она там оставалась. A vous1 ОСКАР
УАЙЛЬД”. Уистлер утверждал, что ответил ему в частном порядке:
“Жалкая острота, Оскар, — но в кои-то веки, наверное, и вправду
твоя собственная!” Уайльд проглотил и эту обиду. Мы можем быть
в этом уверены, поскольку через год — 29 ноября 1887 г. — он
помогал Уистлеру принимать посетителей галереи “Суффолк”,
где тот выставил часть своих картин; они вновь были в хороших
отношениях — правда, Уайльд отвлекал на себя часть почитателей
Уистлера, что художнику трудно было перенести. Это была плата
за приятное общество Уайльда — общество, от которого Уистлер
так долго не хотел избавляться.
Убиение Уистлера
Дебют не должен быть сопряжен со скандалом.
Лучше приберечь скандал на преклонные годы,
чтобы придать им интерес.
Столкнувшись с враждебностью Уистлера, Уайльд мог уте-
шаться обществом благоговеющих перед ним молодых людей.
Оставшееся неудовлетворенным влечение к Мариллиеру разо-
жгло его аппетит в отношении любви более совершенной или
хотя бы более ядовитой. Незадолго до смерти Уайльд рассказал
Реджи Тернеру, как он отправился однажды с женой в магазин^
1 Ваш (фр.).
Суона и Эдгара на Пикадилли-сёркус и вдруг увидел на панели
продажных юношей. “Сердце словно льдом стиснуло”, — ска-
зал Уайльд. Интересно, что “идеальный муж” в его одноименной
пьесе использует тот же образ: ‘‘Раньше я не знал, что такое страх.
Теперь знаю. Как будто ледяная рука сжимает тебе сердце”1. Льду
суждено было превратиться в огонь.
Уже два года с лишним Уайльд без устали исполнял роли мужа
и отца. Уистлер окрестил его “le bourgeois malgre lui”1 2, но Уайльд
не мог согласиться на это прозвище. Ему нужно было нечто более
остро приправленное, чем обожающая жена и обожаемые сыновья.
Он знал, что в его душе есть области, которые ему еще предстоит
исследовать согласно Аристотелеву принципу полного само-
осуществления как цели всякого организма. Ни в одной из своих
прежних фаз Уайльд не мог пребывать спокойно. Он любил цити-
ровать предостережение Пейтера: “Поражение кроется в форми-
ровании привычек” и замечание Эмерсона: “Я всегда неискренен,
поскольку знаю, что могу быть и в другом настроении”. В его
письме Мариллиеру говорится: “Повелевать этими настроени-
ями упоительно, покоряться им упоительно вдвойне”. Самоосу-
ществление может быть самозабвенным. Он перескакивал из позы
в позу, облачаясь в новые “я”, как облачался в новые костюмы.
Неспособный хранить что-либо в гайне, он всегда был неравно-
душен к тайной жизни. И “Вера”, и “Герцогиня Падуанская” содер-
жали невидимые людские “я” и скрытые склонности. Эта тайная
жизнь была связана с противоречивыми побуждениями, которые
он в себе находил, и с “прожорливой Иронией” (если воспользо-
ваться словами Бодлера); как Уайльд сказал в “Humanitad”, мы одно-
временно “предательские губы и преданная ими жизнь”, и каждый
человек — Иуда себе самому. Он хотел и предлагать себя, и отстра-
няться в одно и то же время, о чем сказано в том же письме Марилли-
еру: “Я взошел бы на костер ради ощущения и оставался бы скепти-
ком до конца!” О том, что подобное поведение действительно может
кончиться если не костром, то каким-нибудь бедствием, он догады-
вался всегда — догадывался еще в Порторе, говоря школьным прия-
телям, что хочет быть ответчиком в деле “Королева против Уайльда”.
Он хорошо понимал опасности, с которыми был сопряжен
гомосексуализм, но при этом общался с гомосексуалистами совер-
шенно свободно. Радость, которую доставляли ему вид юноше-
ского тела и интимная мужская дружба, была общеизвестна. Тем
1 Здесь и далее “Идеальный муж” цитируется в переводе О. Холмской.
2 “Мещанин поневоле” (фр.) — юмористическое смешение названий
двух комедий Мольера: “Мещанин во дворянстве” и “Лекарь поне-
воле”. (Примеч. перев.)
333
не менее до сих пор он избегал телесной близости, ограничиваясь
близостью душевной. Таково было положение дел, когда в 1886 г.
в Оксфорде он познакомился с Робертом Россом. Низкорослый,
“с лицом проказливого эльфа” (по словам Уайльда), Росс выглядел
мальчиком. Его однажды высекли за чтение стихов Уайльда. Росс
поразил Уайльда тем, что, в столь юном возрасте уже столь опыт-
ный, он вознамерился соблазнить его. Для “противозаконника”,
каковым именовал себя Уайльд, моральных причин противиться
не было. Уайльд согласился — возможно, повинуясь любопыт-
ству или капризу. Его не привлекали анальные сношения, так что
Росс, по-видимому, предложил ему для ласк губы и промежность.
Уайльд придерживался этого стереотипа и в дальнейшем. Вначале
на правах возлюбленного, затем на правах друга Росс до конца
жизни Уайльда занимал в ней прочное место.
Молодой человек был внуком генерал-губернатора Канады
и сыном канадского генеральною прокурора. После ранней
смерти отца семья переехала в Лондон, и Роберт был отдан под
опеку старшему брату Александру. Когда Росс познакомился
с Уайльдом, он под руководством известного лондонского репе-
титора У. Б. Скунза готовился к поступлению в кембриджский
Кингс-колледж. Их связь спорадически возобновлялась и после
того, как осенью 1888 г. Росс поступил в колледж.
Там он рьяно окунулся в студенческую жизнь; несмотря
на малый рост, был баковым гребцом в лодке колледжа и уже
в первом триместре принял участие в создании бунтарской
газеты “Гэдфлай” (“Овод”). Его куратором был (как нельзя более
кстати) Оскар Браунинг, старый знакомый Уайльда. Росс, на кото-
рого Уайльд произвел глубокое впечатление, бесил товарищей
по Кингс-колледжу своим вариантом уайльдовского эстетического
стиля, включая длинные волосы. К тому же 1 марта 1889 г. он опуб-
ликовал в университетской газете “Гранта” статью, где протестовал
против назначения Э. Даути деканом колледжа. За публикацией
последовало неприятное событие: младший куратор по имени
А. А. Тилли, который был одним из сторонников декана, подгово-
рил нескольких студентов перехватить Росса при выходе из учеб-
ного здания и окунуть его в фонтан колледжа (дело было 8 марта
1889 г.). Шутка перестала быть смешной, когда Росс заболел воспа-
лением легких, осложнившимся мозговыми явлениями. 15 марта
‘Гранта” посвятила происшествию стишок:
Подвиг отчаянный был совершен
Во времена отцов:
Лихо напали на одного
Шестеро храбрецов.
334
Браунинг безуспешно попытался добиться увольнения
"Тилли; Росс и его брат пригрозили судебным преследованием.
Но Другие студенты отказались свидетельствовать против Тилли,
и Росс вынужден был удовлетвориться публичным извинением
Тилли, произнесенным в зале колледжа. Росс проучился в Кем-
бридже только до зимы 1889 г. Объявив матери и сестре о своей
гомосексуальности, он поссорился с ними и дома находиться
не мог. По предложению брата осенью 1889 г. он поехал в Эдин-
бург, где стал работать в журнале “Скоте обзервер”, издаваемом
Хенли. Впоследствии он был директором картинной галереи
п художественным критиком. Его автоэпитафия гласила: “Здесь
покоится тот, чье имя было начертано на горячей воде”1. Вердикт
Уайльда был таким: Росс “зря растрачивает молодость, которая
всегда была и всегда будет многообещающей”.
Уайльд полюбил его за остроумие, непринужденность, вер-
ность и жизнерадостность. Их тянуло друг к другу, и какое-
то время дружба их была страстной. Она стала вехой в жизни
Уайльда. Об этом можно косвенно судить, сравнивая два варианта
фразы из “Портрета Дориана Грея”. Дориан, уже запятнавший
свою репутацию дурными поступками (не вполне ясно какими),
окончательно отдается греху, когда закалывает художника, напи-
савшего его портрет. В первом варианте романа, опубликован-
ном в журнале “Липпинкотс хмэгазин”, Уайльд написал: “Это
было седьмого октября и (как часто вспоминал потом Дориан)
накануне его дня рождения, когда ему исполнилось тридцать два
года”. Готовя роман к печати в книжном издании, он изменил
дату и возраст Дориана: “Это было девятого ноября и (как часто
вспоминал потом Дориан) накануне его дня рождения, когда ему
исполнилось тридцать восемь лет”. Возраст Дориана не имел бы
значения, не почувствуй Уайльд, что первый вариант слишком
близок к действительности: ведь самому Уайльду тридцать два года
исполнилось в октябре 1886 г., и тридцать третий год его жизни
был отмечен началом романа с Россом.
И Росс, и Уайльд говорили потом друзьям, что этот гомосексу-
альный опыт был у Уайльда первым. Росс признался своему близ-
кому другу Кристоферу Милларду (библиографу произведений
Уайльда), что, вовлекая Уайльда в гомосексуальные отношения, он
чувствовал вину перед его сыновьями. Основываясь на данных,
Аллюзия на автоэпитафию Джона Китса: “Здесь покоится тот, чье имя
было начертано на воде”. Росс намекает на неприятности, постоянно
случавшиеся с ним из-за его гомосексуальных связей: “попасть в горя-
чую воду” — английская идиома, означающая “попасть в затрудни-
тельное положение”. (Примеч. перев.)
335
полученных от Росса, Артур Рансом в своей работе об Уайльде ’
утверждает, что сближение произошло в 1886 г. “Кто, по-твоему,
соблазнил меня?” — спросил впоследствии Уайльд Реджи Тернера;
тот не мог угадать. “Малыш Робби”, — сказал ему Уайльд. 25 мая
1886 г. Россу исполнилось семнадцать лет, и об этом возрасте
Уайльд не раз потом говорил в своих произведениях, словно он
имел для него какое-то особенное значение. Это возраст Сибилы
Вэйн, первой возлюбленной Дориана; это возраст Уилли Хьюза,
которого любил Шекспир согласно версии, рассказанной Уайль-
дом в “Портрете господина У.Х.”. Похоже, Уайльд, иронически
“канонизируя” Росса в писыме как “святого Роберта Филлимор-
ского” (от Филлимор-гарденз — названия улицы, где жила семья
Росса), намекал на свое соблазнение им: “Любовник и Мученик —
святой, прославленный в Житиях за свою необычайную духовную
мощь, проявляющуюся не в борьбе с соблазнами, но в соблазне-
нии других Божьих чад. Подвижничеству этому он предавался
в уединении больших городов, куда он удалился в сравнительно
раннем восьмилетием возрасте”.
Росс заработал эту “канонизацию” отчасти благодаря своей
католической набожности, которая была среди его друзей пред*
метом шуток. Уайльд вывел Росса в шутливом псевдорелигиозн
ном устном рассказе, который потом вспоминала Ада Леверсон;
“Жил на свете святой, которого прозвали святым Робертом Фили
лиморским. Каждую ночь под утро, когда небо еще было совсем,
темное, он вставал с постели и, пав на колени, молил Бога о то^
чтобы Он, в великой милости Своей, приказал солнцу взойти^
и осветить землю. И всякий раз, когда солнце всходило, святой;
Роберт вновь преклонял колени и благодарил Бога за это чуден
Но в одну из ночей святой Роберт, утомленный великим мнОЙ
жеством добрых деяний, которые он совершил днем, заснул так'
крепко, что пробудился уже после восхода солнца, когда на всей,
земле уже было светло. В первую минуту святой Роберт выглядел 5
сумрачным и встревоженным, но затем он пал на колени и возбла-
годарил Господа за то, что, несмотря на небрежение Своего слуги,
Он все же заставил солнце взойти и осветить землю”.
То обстоятельство, что Дориан Грей в романе убивает худож-
ника, которому, как Уайльд сообщил переводчику Жану Жозефу
Рено, в первоначальном варианте были недвусмысленно приданы
черты Уистлера, делает книгу более личной, чем может показаться
на первый взгляд. Кровожадные импульсы в отношении Уистлера
сосуществовали в душе Уайльда с гомосексуальными импульсами,
в отношении Росса, намек на которые в “Портрете Дориана Грея
имеется. Первая из этих фантазий так и осталась фантазией, и,
боясь судебного иска по обвинению в клевете, Уайльд убрал Уист-
ззб
пера из книги. Другую фантазию он воплотил в жизнь. Гомосек-
суальная любовь, уведя Уайльда прочь от фальшивой добропоря-
дочности, позволила ему реализовать свои подспудные желания.
После 1886 г. он мог представлять себя преступником, живущим
среди невинных людей. Самой невинной из всех была его жена.
(“Для гомосексуалиста, — пишет Пруст в “Содоме и Гоморре”, —
грех начинается... когда он получает удовольствие с женщи-
нами”.) До той поры Уайльд мог считать себя непонятым; теперь
он должен был провоцировать непонимание. Теперь он не мог, как
прежде, ограничиваться словесными вызовами викторианскому
обществу; он должен был вступить с ним в бой на деле.
Констанс была матерью их детей, с которыми он не имел наме-
рения расставаться. Она любила его не меньше прежнего, хотя ему
эта любовь не приносила больше радости. Ему нужен был предлог,
чтобы прекратить с ней половую жизнь. Ее брат Отто говорил,
что фактически они жили в состоянии развода, имея в виду, что
сексуальных отношений уже не было. По словам Отто, Констанс
только однажды заподозрила мужа в перемене ориентации, и это
случилось не ранее чем в 1895 г., когда она неожиданно вернулась
откуда-то домой. Но она жила с ним все эти годы — следовательно,
ей было сказано что-то, чему она поверила. Представляется веро-
ятным, что он признался в оксфордском заражении сифилисом;
возможно, он сказал ей, что долго считал себя здоровым, а теперь
болезнь вернулась. Единственный выход — полное воздержание.
Однажды Луиза Джоплинг показала Констанс фотографию,
сделанную на некоем званом вечере, где Констанс не присутст-
вовала. На ней миссис Джоплинг стояла, обняв Оскара Уайльда
за шею. Реакция Констанс была странной. Нс выказав ни тени рев-
ности, она несколько секунд смотрела на фотографию, после чего
произнесла с неожиданной печалью в голосе: “Бедный Оскар!”
Серьезные женские объятья были теперь ему заказаны.
ВОСТОРГИ
Глава 11
От ученика к мастеру
Личность — воистину загадочное явление. О человеке
нельзя судить только по его поступкам. Он может
строго держаться закона и быть дрянью. Он может
преступить закон и быть достойным восхищения.
Он может быть дурным, не сделав ничего дурного.
Он может согрешить против общества и через этот
грех достичь совершенства.
Новые фигуры
В Оксфорде Уайльд сделал темой немалого числа
своих стихов вопрос о принятии или непринятии като-
личества. Теперь он вплотную подошел к тому, чтобы
сделать центром своей прозы опыт супружества и анти-
супружества. Гомосексуальность воспламенила его
сознание. Обнаружив ее в себе, он взошел на новую, высшую сту-
пень внутренних изысканий. Многое из того, что он проповедо-
вал до той поры, — например, красота, как ее понимали прерафаэ-
литы, или красота, воплощенная в Лили Лэнгтри, — перестало его
интересовать. Нешуточность, с какой он в лекциях наставлял аме-
риканцев и англичан, плохо сочеталась с его изменившимся миро-
ощущением. Хотя он не отбросил полностью своего восхищения
Рёскином и Пейтером, кумирами прошлых лет, он мог теперь
видеть, что Рёскин слишком невинен, а Пейтер слишком нере-
шителен, чтобы служить ему образцами. Кроме того, они были
слишком серьезны. Ироническая игривость и темный намек — вот
состав, с помощью которого он пытался отныне выразить себя.
В глазах остального мира он был в то время залежной землей;
или же, если воспользоваться выражением “Пэлл-Мэлл газетт”
в публикации от 16 сентября 1887 г., “после того, как Оскар
°стриг волосы и впрягся в хомут супружества, его звезда заметно
опустилась на небосклоне”. Но именно в те годы он начал приду-
мывать и проговаривать рассказы и диалоги, которые он в после-
дующее десятилетие написал почти мимоходом. “Беседа как тако-
вая есть род одухотворенного действия”, — заявил он 4 мая 1887 г.
44.1
।
Сначала возникли новые сказки, затем рассказы, затем диалоги;
и то, и другое, и третье было тесно связано с его личным опы-
том, хотя фантастическая или драматизированная форма создавала
необходимое отдаление.
Его аудиторию составляли дети, главным образом Сирил; жен-
щины, которые всегда охотно его слушали; и новый кружок моло-
дых людей, с которыми он флиртовал и которых завлекал. Росс
занимал среди них постоянное, но не исключительное место. Гарри
Мариллиер и его кембриджские друзья ушли в тень, но найти им
замену в лице иных юношей, интересующихся искусством и друг
другом, было нетрудно. Какое-то время Уайльд дружил с Андре
Раффаловичем, молодым поэтом и прозаиком из Парижа, кото-
рый в 1882 г. слушал его лекцию в Соединенных Штатах, а два года
спустя переехал в Лондон. Раффалович был человеком денежным
и устраивал шикарные приемы. Уайльд приходил к нему на ленч
с Пейтером и романистом У. Б. Максвеллом и бывал на вечерних
приемах, где компанию ему составляли миссис Джоплинг, Комине
Карр, Генри Джеймс, Джордж Мур и многие другие. Раффалович
был настолько уродлив, что о нем говорили, будто мать потому
отправила его в Лондон, что не в силах была больше на него смо-
треть. Тем не менее Уайльд до поры до времени на его внешность
не жаловался. Согласно воспоминаниям Раффаловича, в начале
знакомства Уайльд сказал ему: “Вы, может быть, станете для меня
источником новых эмоций. Вы в правильном соотношении соче;
таете в себе романтизм и цинизм”. Они встречались достаточно
часто, чтобы Уайльд счел возможным предостеречь молодого чело-
века: “Знаете, Сэнди, мы должны с вами быть очень осторожными,
в выборе людей, с которыми нас видят. Я человек известный, и вы
тоже не premier venu”1. После сентября 1889 г. появилась конкрет-
ная причина для того, чтобы вести себя осмотрительно, — про;
изошел скандал на Кливленд-стрит, из-за которого лорд Артур,
Сомерсет, обвиненный в непристойном поведении с юношами
в гомосексуальном борделе, вынужден был покинуть Англию.
Уайльд и Раффалович открыто разговаривали на сексуальные,
темы, и на Раффаловича произвела впечатление очевидная эмо-
циональная реакция Уайльда на книгу М. Рашильд “Месье Венера^
в которой лесбиянка переодевает свою возлюбленную в мужской
костюм, что в конце концов приводит к гибели возлюбленной
на дуэли. Уайльд с восторгом пересказывал друзьям этот сюжет.
Подобные разговоры в конце концов привели к разрыву с Рафт
фаловичехм; этому разрыву невольно своим затиечанием способст-
вовала Констанс: “Оскар говорит, что вы ему очень нравитесь, —*
1 Первый встречный (фр.). 1
------ )
342
чТо у вас с ним бывают очень милые предосудительные беседы”,
раффалович обиделся на Уайльда — во всяком случае, так он писал.
Роль некоего злого демона в жизни Уайльда он начал играть
в 1890 г., выпустив роман “Добровольное изгнание”. В нем он
изобразил “эстетическую” среду столь же отталкивающей, сколь
завораживающей изобразил ее Уайльд в “Дориане Грее”. Раффа-
дович вывел Уайльдов как Сиприана и Дейзи Бром:
Миссис Бром, конечно, была знакома со многими мужчинами.
Сиприан был — так, по крайней мере, казалось — в доверительных
отношениях с бессчетным числом молодых или моложавых муж-
чин; все они были странно похожи друг на друга. Тембром голосов,
покроем платья, завитками волос, полями шляп, домами, где они
бывали; Дейзи не видела между ними заметных отличий... Всем им
была свойственна аффектация, причем аффектация одного и того же
сорта. Все они были пустомели, профессиональные пустомели...
Женатые (да, некоторые из них были женаты) или холостые, они
мополи языком одинаково, разве что кое-кто был погрубей, а кое-
кто — понудней...
Практикуемый Сиприаном культ собственной внешности...
набирал силу. Его окружали люди, которые только и говорили, что
о красоте... Он взял моду сравнивать себя со всеми, с кем он зна-
комился, и вслух решать, кто красивее, он или другой... Он распо-
рядился, чтобы ему каждый день приносили два цветка (вернее, два
букета цветов): один перед ленчем, другой перед обедом. Его костюм
занимал его бесконечно; он не уставал обсуждать фасоны мужского
платья, и порой Дейзи, покинув мужа и какого-нибудь его дружка
на час, возвращалась и заставала их все за тем же разговором об оде-
жде того или иного лица.
Привычный к враждебному реву, Уайльд остался равнодушен
к жалкому подсвистыванию Раффаловича.
Легче складывались его отношения с Ричардом Ле Гальеном,
который, услышав в 1883 г. семнадцатилетним юношей лекцию
Уайльда в Беркенхеде, сразу почувствовал, что его литературное
призвание сродни уайльдовскому К концу восьмидесятых кра-
сивый поэт, которого Уайльд сравнивал с архангелом Гавриилом
в ‘Благовещении” Россетти, а Суинберн называл “Шелли с подбо-
родком”, стал другом Уайльда и частым гостем в его доме. Как-то
Раз он прожил у Уайльдов три дня и получил в подарок от хозяина
экзехмпляр его “Стихотворений” с надписью: “Ричарду Ле Галь-
енУ> поэту и любовнику, от Оскара Уайльда. Летним днем в июне
1888 г.”. В ответ он подарил Уайльду стихотворение: “С Оскаром
айльдом. Летний день в июне 1888 г.”, напечатанное на листе
бумаги ручной выделки в расшитой шелком мягкой обложке^!
с надписью: "Этот экземпляр стихотворения я дарю моему другу
Оскару Уайльду в знак любви, как тайную память о летнем дне
в июне 1888 г. Р. Ле Г. ” Ле Гальен принимал похвалы Уайльда
с удовольствием, но в 1888 г. из благоразумия заметил одному
из друзей, что два письма, которые написал ему мэтр, "просто
смехотворны”. В более позднем письме — от 1 декабря 1890 г.
Уайльд, преувеличенно расхвалив последнюю книгу Ле Гальена,
продолжал: "Мне так хочется тебя увидеть; когда это может про-
изойти? Дружба и любовь, подобная нашей, может обойтись и без
встреч, но как эти встречи восхитительны! Надеюсь, лавровый
венок на твоем челе не настолько пышен, чтобы помешать мне
поцеловать тебя в очи”.
Другого чрезвычайно красивого молодого человека звали Бер-
нард Беренсон; он явился к Уайльду с рекомендательным пись-
мом и был тотчас же приглашен погостить в доме на Тайт-стрит.
Он увидел, что Уайльд утомлен светским обществом: с ленчей,
на которые его приглашали, он возвращался уже ближе к вечеру,
"Ну, как там было?” — спросил однажды Беренсон. "Просто*
ужасно”. — “Так почему же вы не ушли?” Уайльд ответил, что,
люди из высшего света его восхищают. "В них есть что-то неотра-
зимо привлекательное. Они живее. Они дышат лучшим воздухом..
Они свободнее, чем мы”. В Беренсоне Уайльд тоже нашел нечто*
неотразимое, но все его авансы тот отразил. "Вы совершенно бес-*
чувственны, вы просто каменный”, — заявил ему Уайльд.
Не довольствуясь обществом потенциальных или фактических |
любовников, Уайльд гордился тем, что ведет даже не двойную*^
а множественную жизнь. Сегодня он проводит вечер с политиками^
Парнеллом и Гладстоном, завтра — с актерами Уилсоном Барретом^
и Эллен Терри, послезавтра — со своими молодыми людьми. 4TO.|j
касается Констанс и детей, они всегда были под рукой: хочешь —
обращай на них внимание, хочешь — пренебрегай ими. У Констан^
были собственные интересы, на которые он взирал с благосклоН<
ностью. Эти интересы вели ее на политические собрания. Pocq|
чувствовавший неприязнь Констанс, был склонен низко ценить еЙ?
ум и индивидуальность. Но газеты того времени позволяют сд^|
лать иной вывод. Ей было что сказать — если не восхитительно^
то, по крайней мере, достойное, — и она могла превозмочь свощ|
застенчивость, чтобы сказать это. 16 апреля 1888 г. она выступил^
на собрании, организованном Женским комитетом за междунй^
родный арбитраж и Ассоциацией борцов за мир. "Малышей наДЯ|
начиная с детской учить быть противниками войны, — заявиЛЙ
она. — Здесь было высказано предложение, что детям не
позволять играть в солдатики и пушечки. Не думаю, что это прИ|
344
песет много пользы. Лондонские дети не могут не видеть военных,
и, когда они их видят, им нравятся их яркие мундиры и выправка.
Тем не менее умная мать сумеет поселить в душе ребенка отвра-
щение к войне”. В 1889 и 1892 гг. она выпустила две книжки
детских рассказов; в 1888—1889 гг. редактировала газету “Обще-
ства за рациональный костюм”. В речи, произнесенной 6 ноября
1888 г., Констанс пропагандировала сравнительно легкую одежду
и отдала предпочтение юбке-панталонам перед обычной нижней
юбкой (однако в 1897 г., когда она была представлена королеве,
на ней было платье в точности такого фасона, какой носили в год
восшествия Виктории на престол)1. 1 сентября 1889 г. она при-
вела мужа в Гайд-парк на демонстрацию в поддержку забастовки
докеров. Констанс принимала активное участие в избирательной
кампании леди Сандхерст, стоявшей на феминистской платформе
и претендовавшей на место в совете графства Лондон. Ее кан-
дидатка набрала большинство голосов, но мандата не получила,
поскольку, будучи женщиной, не имела на него права.
24 мая 1889 г. У. Т. Стед писал в “Пэлл-Мэлл газетт”: “Услышав
речь миссис Оскар Уайльд на вчерашней конференции женского
Либерального фонда, я был изумлен и восхищен тем, насколько
она улучшила стиль своих публичных выступлений, и я не удив-
люсь, если еще через несколько лет миссис Уайльд станет одной
из самых популярных “политических дам”. Он также одобрил
ее “изящный, со вкусом сделанный костюм из некой золотисто-
коричневой материи”.
С 1885 г. Констанс и Оскар Уайльд, вместе и поодиночке,
начали вращаться во все более широких кругах. Уайльд перестал
читать лекции: в той мере, в какой британцы были восприим-
чивы к понятию о красоте, он уже внедрил это понятие в их души,
и в той мере, в какой американцы могли быть высмеяны, он их вы-
смеял. От повторения идея начала блекнуть. Его последняя лекция
из тех, о которых нам известно, была прочитана в марте 1888 г.
и посвящена новой теме — судьбе и поэзии Чаттертона. Чаттер-
тон, которого Уайльд много читал и перечитывал, был для него
лучшим образцом для подражания, чем Китс (благодаря своим
криминальным наклонностям) и чем преступник Уэйнрайт (бла-
годаря своему мощному художническому дару). Уайльд жаждал
найти аналогию своему новому образу жизни и нашел ее в судьбе
гениального юноши, сочинявшего поддельные пьесы “эпохи
8 января 1887 г. женский иллюстрированный журнал “Лейдиз пикто-
риал” сообщил о некоем светском мероприятии, на котором мистер
и миссис Уайльд появились в костюмах одного и того же ярко-зеле-
ного цвета.
2 Л С
1
короля Якова’. По запискам к лекции видно, как Уайльд, переска-
зывая события краткой жизни Чаттертона, находил его поступкам
оправдание:
Кто он был — литературно одаренный аферист или великий
художник? Несомненно, второе. Возможно, Чаттертон был лишен
моральной ответственности, заставляющей человека быть верным
фактам, — но он был щедро наделен ответственностью художника,
заставляющей его быть верным Красоте. Он испытывал непреодоли-
мую тягу творца к созиданию, и если совершенство созидания требо-
вало, как он счшал, подделки, — что ж, подделка оправданна. Так или
иначе, подделка эта проистекает из присущего подлинному мастеру
желания оставаться в тени.
Он был чистым художником — а значит, в нем было нечто
от “великого Вишну с его страстным желанием сотворить мир”.
Завершая лекцию, он прочитал неопубликованное стихотво-
рение, которое иллюстрировало восхищавшую его сложность его
нового героя:
С шекспировской зрелостью в буйном юношеском сердце,
Близкий Шекспиру благодаря гамлетовским сомнениям
И родственный Мильтону благодаря сатанинской гордыне,
У одиноких врат смерти остановился он, и потребовал клинок,
И к драгоценному новому хранилищу английского искусства,
К той святыне, которую обожествило само Время,
К не высказавшему себя сердцу, что жгло ему грудь, ?
Приблизил смертоносное острие и разбил печать жизни. |
Твои родные у домашнего очага, благородный Чаттертон,
Лестница, по которой ступали ноги ангелов и вслед восходила твоя душа $
К высокому шпилю Редклифской церкви1, и в вооруженном мире
Твоя доблестная игра мечей — все это многим и многим г
Стало дорого навсегда, как и твоя безвестная могила
И любовная мечта о твоем незапечатленном лице. '
(“Родные” — это мать и сестра Чаттертона; “игра мечей” — *
намек на стихи юного поэта, выдержанные в духе политиче-
ской сатиры. Его лицо “не запечатлено”, поскольку не осталось
ни одного его портрета.) Уайльд сочинял новые вариации на тему j
1 Имеется в виду церковь Св. Марии Редклифской в Бристоле, родном J
городе Чаттертона. Публикуя стилизованные “старинные” тексты %,
собственного сочинения, Чаттертон утверждал, что рукописи най-
дены им в этой церкви в сундуке. (Примеч. перев.)
346
своей поэмы “Humanitad”. Юноша, уничтожающий себя в бес-
смертной песне, подобен Соловью из его новой сказки “Соло-
вей и Роза”1, который поет, припав грудью к острому шипу, пока,
одновременно с его предсмертной агонией, на кусте не распу-
скается прекрасная роза. Малларме в “Осенней жалобе” писал,
что “литературой, у которой мой дух испрашивает наслаждения,
могла бы стать умирающая поэзия последних мгновений Рима”;
нечто от этой мыслимой радости ощущается в надгробном плаче
Уайльда по “чудному юноше”. Уайльд мог разделить с Чаттерто-
ном гамлетовские сомнения и сатанинскую гордыню; его роднили
с ним ощущение фабрикации собственной жизни и предчувствие
того, что когда-нибудь он станет жертвой себя самого, отдастся
себе на заклание.
Доходное дело
Несчастные рецензенты явно низведены
до уровня судебных репортеров от словесно-
стиу пишущих хронику деяний закоренелых
литераторов-рецидивистов.
Лекции уступили место журналистике, которая была, помимо них,
единственным легкодоступным способом дополнить доходы Кон-
станс. Уайльда, который уже тогда чувствовал себя стоящим вне
закона, донимал пока что не полицейский, а его младший братец —
сборщик платежей по долгам. Работая главным образом для изда-
ваемой У.Т. Стедом “Пэлл-Мэлл газетт”, он превратил необходи-
мость в доблесть и писал намного лучше, чем от него требовалось.
Критические статьи помогли ему привести в систему его взгляды
на литературу, искусство, природу и жизнь; в них чувствуется све-
жесть, которая нечасто гостила в его ранних произведениях, и они
подталкивают к выводу о том, что беззаконие в сексуальной жизни
стало стимулом для его мысли во всех областях. Наконец-то он
понял, кто он и что он. Новая сексуальная ориентация освободила
от пут его писательский дар. Она также раскрепостила его крити-
ческие способности.
Начиная с 1886 г., но главным образом в 1887-1888 гг. Уайльд
написал около сотни критических статей и рецензий; во мно-
гих из них речь шла не об одной книге, а о двух или нескольких.
Изобилие статей сменилось затем почти полным их отсутствием;
1 Далее "Соловей и Роза” цитируется в переводе М. Благовещенской.
347
он покончил с ними так же резко, как в свое время с лекциями. *
Журналистика — это для Уилли. Оскар оставил ее, взяв от нее все,:
что мог.
Зачастую в его рецензиях шла речь о работах столь незначи-
тельных, что пристального внимания они не требовали, и в этих
случаях Уайльд проявляет мягкость и снисходительность. Порой
он просто забавляется, как, например, в заметке о “Хронике Малю-
ток” Джеймса Эйтчисона:
“Хроника Малюток” — это иронически-героическая поэма
об обитателях куска заплесневелого сыра, размышляющих о проис-
хождении своего вида и ведущих ученые дискуссии о смысле эволю-
ции и Святом благовествовании от Дарвина. Эта сырная эпопея —
вещь достаточно сомнительного вкуса, и стиль ее временами столь
чудовищен и столь реалистичен, что ее автора стоило бы назвать Гор-
гон-Золя 1 от литературы.
А порой его тон становится наставительным, пусть даже лишь .
на мгновение: “Ведь, строго говоря, такого понятия, как Стиль,
не существует; есть разные стили, и только”. Он чаще стал употреб-
лять свое издавна любимое “и только”, чтобы придавать больше
веса высказываниям, которые могли иначе выглядеть брошенными
мимоходом. Он еще не готов был сформулировать свои прин-
ципы всерьез, но отдельные фразы показывают, что он двигался
в этом направлении: “От древности до наших дней всякое столе-
тие, в котором писались стихи, было столетием искусственности, >
и произведения, представляющиеся нам самыми что ни на есть,
простыми и естественными, явились, возможно, результатом чрез-
вычайно осознанных и целенаправленных усилий. Ибо Природа
всегда плетется в хвосте эпохи. Надо быть великим художником,.,
чтобы идти вровень со своим веком”1 2 3.
Ощущение своей роли арбитра в английской словесности
заставило его пересмотреть былые восторженные оценки. Обра-
щаясь теперь к творчеству Уистлера, он пишет о нем в совершенно
ином тоне, нежели во времена ученичества. Тогда — 28 февраля
1885 г. — он воздал хвалу художнику и оратору, соединившему
в себе “веселую зловредность Пэка5 со стилем малых пророков4*,’
А вот 26 января 1889 г. он нашел это соединение неудачным:
1 Игра слов: горгонзола — сорт сыра.
2 “О некоторых современных поэтах”, “Вуманс уорлд”, декабрь 1888 г.
3 Пэк — проказливый эльф из комедии Шекспира “Сон в летнюю
ночь”. (Примеч. перев.)
4 Имеются в виду ветхозаветные пророки от Осип до Малахии. (Прна
меч. перев.)
Мистер Уистлер по тем или иным причинам постоянно исполь-
зует фразеологию малых пророков... Поначалу прием был достаточно
действенным, но со временем эта манера стала грешить однообразием.
Дух древних евреев великолепен, но подражать их словесности нам
не следует, и, сколько ни пересыпай ее американскими шуточками,
ей не придашь аромата современности, необходимого для хорошего
литературного стиля. Как ни восхитительны фейерверки, изобража-
емые мистером Уистлером на холсте, его прозаические фейерверки
отрывисты, несдержанны и лишены чувства меры.
В прежние дни Уайльд терпел уистлеровские нападки с крото-
стью святого; теперь пришла очередь Уистлера попробовать хлы-
ста. Художник затаился, готовя ответный удар.
С той же непредвзятостью суждений Уайльд дал отзыв на книгу
Реннела Родда, который в прошлом был их с Уистлером общим
последователем, а теперь остался приверженцем одного Уистлера.
В 1883 г. в “Посылке” к “Лепестку розы, листу яблони” Уайльд
нс скупился на восторги; ныне же он смотрел на новую книгу
Родда более прохладным взором:
Мистер Родд воспринимает жизнь со всем чарующим оптимиз-
мом молодости, прекрасно сознавая при этом, что изредка звучащая
нота меланхолии имеет немалое художественное и житейское значе-
ние; он наделен тонким чувством цвета, и стихи его отличаются опре-
деленной изысканностью и чистотой линии; не будучи страстным,
он очень мило играет словами страсти, и эмоции его совершенно
здоровы и совершенно безобидны.
Былая пристрастность уступила место беспристрастности
рецензента. Лепесток розы увял, как и лист яблони.
Другим автором, которого Уайльд не пощадил, был его ста-
рый учитель Дж. П. Махаффи, на две книги которого Уайльд дал
отзывы 9 ноября и 16 декабря 1887 г. Уайльд мог бы отнестись
к Махаффи с ностальгическим почтением, но отточенному перу
нет дела до сантиментов. Махаффи, со своей стороны, не одобрил
большого турне Уайльда по Соединенным Штатам, совершенного
После их совместного большого турне по Греции и Италии; что
еШе хуже, он, дойдя до абсурда в своих консервативных взглядах,
презрительно высказался о возможности самоуправления в Ирлан-
дии как раз в тот момент, когда благодаря красноречию Парнелла
Гладстона эта возможность стала вполне реальной,
ученик, еще готовый примириться с нелепым руко-
водством Махаффи “Искусство беседы и его принципы” и сожале-
ющий только о “сухом, малопитательном стиле” книги, с другим
н поддержке
£го 6kTRHIUU
его произведением, озаглавленным “Греческая жизнь и греческая
мысль: от эпохи Александра до римского завоевания”, обошелся
куда более сурово, хотя оно продолжало его труд “Общественная
жизнь в 1'реции”, при написании которого Махаффи пользовался
помощью Уайльда. Книгу опубликовало издательство “Макмил-
лан”, и, следовательно, она прошла через руки Джорджа Макмил-
лана, их попутчика в путешествии по Греции. Однако радостного
единения старых друзей не получилось: Уайльд раскритиковал
Махаффи за неприятную провинциальность и неистовый юнио-
низм1. “В неистовстве литератора всегда чувствуется бессилие”, —
заметил он. К концу статьи горячность уайльдовского неприятия
нарастала, и кончил он в манере Мэтью Арнольда: “Если начи-
стоту, то мистер Махаффи не просто лишен духа, необходимого
настоящему историку; часто кажется, что у него полностью отсут-
ствует подлинно литературная жилка. Да, он умен и временами
даже блестящ, но ему недостает рассудительности, меры, стиля
и обаяния”. Прошло то время, когда ученик заботливо отделывал
рукопись учителя; теперь он наставлял его.
Что касается Суинберна, чьи стихи воспламеняли Уайльда
в юности, теперь Уайльд относился к нему с долей насмешки. Одна
из его последних и лучших рецензий, опубликованная в “Пэлл-
Мэлл газетт” 27 июня 1889 г., касалась третьего выпуска “Стихо-
творений и баллад” Суинберна. Уайльд кратко обрисовал творче-
ский путь поэта и выразил нарастающее неодобрение, в котором
чувствуется осознание им своей собственной поэтической инди-
видуальности:
Мистер Суинберн в прошлом воспламенил свое поколение :
томиком весьма совершенных и весьма отравляющих стихотворений.
Потом он стал революционером-пантеистом и возвысил голос протщ '
тех, кто восседает на высоких престолах как на небесах, так и на землеЦ
Потом он вернулся в давно покинутую детскую и принялся писать» ;
переутонченные стихи о детях. Ныне он патриот из патриотов, и ему
удается совмещать патриотизм с горячей поддержкой партии тори»
Он был и остается великим поэтом. Но его величие имеет свою меру
главным образом, как ни странно, обусловленную полным отсутст-
вием чувства меры. Его песнь почти всегда слишком громка для своей
темы. Его величественная риторика, которая более всего величест?
венна в лежащем перед нами томе, открывает менее, нежели утаивает»
О нем говорилось, и справедливо, что он властелин языка, но еще
более справедливо будет сказать, что язык властвует над ним...
1 Юнионисты — противники самоуправления Ирландии. (Приме*
перев.)
______ 1
кп____1
Разумеется, мы не должны искать в этих стихах никаких откро-
вений о жизни их создателя. Слиться со стихиями воедино — вот,
кажется, в чем состоит цель мистера Суинберна. Он стремится гово-
рить с волною и ветром, дышать их дыханием... Он первый из лири-
ческих поэтов попытался решительно отказаться от своей личности —
и преуспел в этом. Мы слышим песню, но ничего не знаем о певце...
Громозвучное великолепие слов полностью умалчивает о нем самом.
Мы часто слышали человеческие истолкования Природы; теперь
перед нами истолкование человека Природой, и сказать о нем она
может на удивление мало. Сила и Свобода — вот к чему сводится ее
неопределенное послание нам. Она оглушает нас своими бряцаю-
щими звуками.
Досталось даже Пейтеру. Уайльд похвалил его “Воображаемые
портреты”, но умерил свои похвалы, когда речь зашла о знамени-
том пейтеровском стиле. Мы ясно видим: теперь Уайльд чувствует,
что нежелание Пейтера говорить начистоту, обусловленное робо-
стью и осторожностью, убивает творческую непосредственность:
Основной тон прозе мистера Пейтера задает аскетизм; иногда,
подверженная чрезмерно суровому авторскому контролю, она стано-
вится излишне жесткой, заставляя желать несколько большей свободы.
Опасность подобного стиля всегда состоит в том, что он тяготеет
к скованности... Постоянная сосредоточенность на отделке фразы
имеет как свои достоинства, так и недостатки. И тем не менее — когда
все, что следовало сказать, сказано — как эта проза хороша!
Уитмен и Лонгфелло были “взвешены на весах и найдены очень
легкими”, и если Бальзака и Флобера Уайльд возвел в ранг кумиров,
то к английским писателям, даже самым знаменитым, он отнесся
без должного почтения: “Стиль Джордж Элиот излишне громо-
здок, стиль Шарлотты Бронте страдает преувеличениями” (январь
1889); “Диккенс оказал влияние только на журналистику; Теккерей...
не нашел отклика; не нашел его и Троллоп... Что касается Джор-
джа Мередита — кто может надеяться воспроизвести его голос? Его
стиль — это хаос, освещаемый ослепительными вспышками молнии.
Как писатель он владеет всем, не владеет лишь языком; как романист
он может все, не может лишь рассказать историю” (январь 1888).
(Последние фразы впоследствии вошли в его эссе “Упадок лжи”.)
Более благосклонен он был к стихам своего нового друга Уильяма
Эрнеста Хенли, хотя подверг резкой критике те из них, что напи-
саны вне рамок традиционной стихотворной метрики. Из числа
прочих писателей он с большей симпатией говорил об У. С. Бланте
и Майкле Филде и с некоторой резкостью об У. Б. Йейтсе. Уайльд
вольно колесил по литературе своего времени, улыбаясь мимоходом
одному и отвешивая затрещину другому.
Сильно занимали Уайльда и две другие темы. Одной из них
было дело Чарлза Стюарта Парнелла, подвергшегося яростным
нападкам “Таймс”, которая опубликовала серию статей под заго-
ловком “Парнеллизм и преступление”. Он был обвинен в под-
стрекательстве к политическому убийству и сообщничестве в нем;
в подтверждение приводились некие письма. Уайльд и его брат
встали на сторону соотечественника и посещали заседания комис-
сии, образованной для расследования обвинений. Уилли публи-
ковал в “Дейли кроникл” статьи на эту тему, которые получили
высокую оценку. В феврале 1889 г. был разоблачен автор писем,
оказавшихся фальшивкой, — их написал от имени Парнелла некто
Ричард Пиготт. Как Чаттертон (но обделенный, в отличие от него,
талантом), Пиготт вскоре покончил с собой. Парнелл был оправ-
дан, и его сторонники торжествовали победу. Но в конце декабря
некий капитан О’Ши подал иск о разводе, где Парнелл фигури*
ровал как соответчик. Парнелл не отрицал свою причастность
к адюльтеру. Это было крушение его карьеры, и в 1891 г. он умер.
Даже гетеросексуальная связь могла стать причиной публичного
бесчестья. Парнелл явил собой пример мирского героизма и муче-
ничества, который Уайльд должен был оценить по достоинству.
Другой волновавшей его темой был социализм. В 1888 г. Уайльд
посещал собрания Фабианского общества, а несколькими годами
раньше свел знакомство с Бернардом Шоу. Приехавший в Англию
из Ирландии в 1875 г. — через год после Уайльда, — Шоу регу-
лярно бывал на приемах у леди Уайльд. После взрыва на Хеймар-
кет-сквер в Чикаго, произошедшего 4 мая 1886 г., Шоу собирал
подписи в защиту обвиненных в нем анархистов, и Уайльд был
единственным из лондонских литераторов, кто подписал пети-
цию немедленно1. “Это был очень красивый поступок, — отме*
тил Шоу в письме, — если учесть, что Уайльд — сноб до мозга
костей, выросший на Мэррион-сквер в Дублине”. 14 сентябре
1886 г. в доме Фицджеральда Моллоя Уайльд сочувственно слушал
Шоу, говорившего о затеваемом им журнале, который будет наса-
ждать в стране социалистические идеи. Когда он кончил, Уайльд
сказал: “Все это очень интересно, мистер Шоу, но вы не упомянули
об одном пункте, представляющем всеобщий интерес, — как будет
называться ваш журнал?” — “Что касается названия, — ответил
1 Весной 1894 г. Уайльд сказал в интервью: “Мы все теперь в той или
иной степени социалисты... А что касается меня, я больше чем соци-
алист. Я считаю себя скорее анархистом, хотя политика динамита,
разумеется, представляется мне полнейшей нелепостью”.
Щоу, — цель моя состоит в том, чтобы моя личность врезалась
Б сознание публики. Я назову журнал “Шоуз магазин”. Шоу! Шоу!
Щоу!” Он трижды ударил по столу кулаком. “Понятно, — сказал
Уайльд, — но разрешите спросить: “Шоу” как фамилия или “шоу”
спектакль?” В другой раз Уайльд высказался о Шоу так: “У него
нет врагов, но он не нравится никому из его друзей”; тем не менее
он проявлял к его произведениям благосклонный интерес.
Еще 15 февраля 1889 г. Уайльд выказал симпатию к социали-
стам в рецензии на книгу “Гимны труда: народный песенник”,
вышедшую под редакцией Эдварда Карпентера. В самом начале
статьи он назвал социализм новым мотивом в искусстве:
Мистер Стопфорд Брук сказал некоторое время назад, что социа-
лизм и социалистический дух дадут нашим поэтам более благородные
и возвышенные темы для песнопений, расширят круг их симпатий
и горизонт их видения, воспламенят пылом новой веры уста, которые
иначе остались бы немы, сердца, холодные ко всем прежним догмам.
Что за искусство вырастает из событий современности — вопрос
всегда увлекательный, и дать на него ответ нелегко. Ясно, однако, что
социализм пускается в путь хорошо оснащенным... не позволяет ско-
вать себя никакой жесткой догмой... И все это обнадеживает. Ибо
сделать человека социалистом — невелика хитрость, а вот сделать
социализм человеческим — поистине великая задача.
Он похвалил социалистов за их убежденность в том, что
искусство может помочь им в построении “вечного града”. А кон-
чить решил на более легкой ноте: “Однако им не следует черес-
чур обольщаться. Стены Фив были возведены под звуки музыки,
но воистину Фивы были очень скучным городом”. Статья показы-
вает, что социализм привлекал его — два года спустя Уайльд ока-
жет ему полную поддержку— и что он хотел видеть это движение
демократическим и гуманным, а не авторитарным.
От ЛЕДИ — К ЖЕНЩИНЕ
Мисс Призм. Мизантроп — это я еще понимаю,
но женотропа понять не могу.
Легкость и мастерство, отличавшие уайльдовские рецензии, при-
текли к себе внимание. О журналистике Уайльда высоко ото-
звался Бернард Шоу. Что более важно, Томас Уимз Рид, в про-
5'06
353
шлом редактор газеты “Лидс меркьюри”, приехав в феврале 1887 г.
в Лондон, чтобы занять пост главного управляющего в издатель-
стве “Кассел и компания”, понял, что талант Уайльда можно упо-
требить в дело. В октябре предыдущего года фирма начала издавать
журнал под названием “Лейдиз уорлд: э мэгазин оф фэшн энд
сосайети” (“Дамский мир: журнал мод и светской жизни”). Рид
попросил Уайльда бросить взгляд на вышедшие номера и дать свои
предложения об изменениях; с ростом популярности феминизма
интерес к подобным изданиям в то время увеличивался.
Уайльд почувствовал, что наконец-то ему подворачивается воз-
можность приличного заработка, и в апреле ответил Риду длин-
ным и продуманным письмом, которое произвело бы впечатление
на любого издателя. Он начал так:
Дорогой мистер Уимз Рид! Я самым внимательным образом
прочел номера "Лейдиз уорлд”, которые Вы любезно прислали мне,
и был бы чрезвычайно рад объединить с Вами усилия в деле изда-
ния и до известной степени реконструирования этого журнала. Мне
кажется, что в настоящее время он слишком дамский и недостаточно
женский. Я, как никто другой, понимаю все значение и важность
Одежды в ее взаимосвязи с хорошим вкусом и хорошим здоровьем,
тем более что я и сам постоянно читал лекции на эту тему перед
разнообразными ассоциациями и обществами, но, как мне представ-
ляется, область mundus muliebris1, область дамских шляпок и обо-
рок, в известной мере уже захвачена такими изданиями, как "Куин”
и "Лейдиз пикториал”, и нам следовало бы взять более широкий круг,
тем и освещать их с более высокой точки зрения: писать не только
о том, что женщины носят, но и о том, что они думают, что они чув-
ствуют.
Уайльд предложил уменьшить удельный вес публикаций
о модах и отвести им место ближе к концу каждого номера. Он
пришел к выводу, что журнал должен печатать статьи о жен-
ском образовании и времяпрепровождении. Необходимы также
романы с продолжением. Он назвал ряд женщин из своего обшир-
ного круга знакомств — Олив Шрайнер, Вайолет Фейн, королеву
Румынии (Кармен Сильву) и других, знаменитых благодаря своим
титулам или личным качествам, в том числе принцессу Кристиан.
Уимзу Риду эти идеи понравились; единственным их недо-
статком было то, что они опережали свое время. Он предложил
Уайльду жалованье с 1 июня 1887 г., но Уайльд попросил начать
с 1 мая, поскольку он уже начал обращаться к знакомым с прось* <
1 Дамских туалетов {лат ).
354
бами давать в журнал материалы. Договор был подписан 18 мая.
Жалованье, как пишет Росс, составляло 6 фунтов в неделю. Уайльд
завел обширную переписку, предлагая присылать материалы.
Он даже попросил стихотворение у королевы Виктории, на что
последовал возмущенный монарший ответ: она никогда в жизни
не писала стихов. Человек эклектических вкусов, он обращался
к женщинам, чьи интересы были весьма различны; вследствие этого
журнал приобрел пестрый вид, которого не терял потом никогда.
Уайльд скоро обнаружил, что многие женщины воспринимают
название “Лейдиз уорлд” как претенциозное и унижающее. Одна
из них — миссис Крейк, автор книги “Джон Галифакс, джентль-
мен” и других романов — предложила заменить его на “Вуманз
уорлд” (“Женский мир”). Поначалу хозяева издательства воспро-
тивились; в сентябре Уайльд принялся убеждать их настойчивее:
Нынешнее название журнала содержит в себе явственный эле-
мент вульгарности, который неизменно будет мешать успеху нового
издания; к тому же оно будет представлять его в совершенно лож-
ном свете. Оно вполне применимо к журналу в его теперешнем виде,
однако оно неприменимо к журналу, который стремится отвечать чая-
ниям женщин, обладающих интеллектом, культурой и положением.
Когда вышел номер за ноябрь 1887 г. — первый номер под
редакцией Уайльда, — он был победно озаглавлен “Вуманз уорлд”,
и на розовой обложке бросалась в глаза надпись: “Редактор — Оскар
Уайльд”. Новый подход к изданию журнала получил всеобщее
одобрение, и в следующем номере была страничка, содержавшая
хвалебные отзывы многих газет. Уайльд пользовался благосклон-
ностью руководства фирмы, но он был бы не он, если бы позво-
лил такому положению длиться бесконечно, поэтому его редак-
торству суждена была не слишком долгая жизнь. Его помощник
Артур Фиш оставил сведения о поведении Уайльда-редактора.
Поначалу Уайльд относился к работе серьезно и являлся в свои
присутственные дни к 11 часам утра; однако мало-помалу он стал
приходить позже и уходить раньше, так что его рабочий день “стал
напоминать светский визит”. У. Э. Хенли, редактировавший для
издательства “Кассел” другой журнал, спросил Уайльда: “Как часто
вы приходите на работу?” — “Раньше приходил три раза в неделю
на час, — был ответ, — но потом мне один день скостили”. — “Надо
>ке! — удивился Хенли. — Я ходил пять раз в неделю на пять часов,
а когда попросил скостить один день, это решалось на специаль-
ном заседании комитета”. — “К тому же, — продолжал Уайльд, —
я никогда не отвечаю на письма. Я знал людей, которые приезжали
в Лондон, исполненные радужных ожиданий, и несколько меся-
355
цев спустя терпели полный крах из-за своей привычки отвечать
на письма”. Статьи, которые Уайльд сочинял для “Вуманз уорлд”
сам, печатая их под рубрикой “Заметки о литературе и прочем”,
были изящны, информативны и забавны, и его авторство было
важно для популярности журнала — беда лишь в том, что вскоре
он счел писание их чрезмерной тяготой, и его помощник начал
получать от него такие письма: “Дорогой мистер Фиш! Я был
нездоров и поэтому не смогу представить заметку. Не изыщете ли
Вы на ее место какой-нибудь другой материал? Я приду завтра.
Искренне Ваш О. У.” Уимз Рид, как мог, подстегивал Уайльда,
но заметки появились только в двенадцати из двадцати с лишним
номеров (до октября 1889), которые Уайльд редактировал.
В то время он еще не начал ездить повсюду в кебе. Он доез-
жал подземкой от Слоун-сквер до Чаринг-кросса, потом шел
по Стрэнду и Флит-стрит в редакцию, помещавшуюся на Ладгейт-
хилле. В издательстве Кассела никто не одевался так хорошо, как он.
Артур Фиш вспоминал, что в плохую погоду Уайльд часто бывал
удручен, и это чувствовалось даже по его шагам, когда он входил
в редакцию. Но в хорошем расположении духа, особенно весной,
он энергично отвечал на письма, разбирал по косточкам оформле-
ние журнала и, сидя в кресле, подолгу болтал. Ему не нравилось
запрещение руководства курить на рабочих местах, и продолжи-
тельность его трудового дня определялась временем, которое он
был способен провести без сигареты. В целом работать под его
началом было легко, и Фиш припомнил только один случай, когда
Уайльд рассердился: Джон Уильямс, главный редактор издательства
“Кассел и компания” и впоследствии преемник Уайльда на посту
редактора “Вуманз уорлд”, предложил для журнала рукопись
книги, написанной комиком-лилипутом Маршаллом П. Уайлде-
ром и озаглавленной: “Люди, с которыми я улыбался”. Уайлдер
осмелился написать: “Когда я увидел Оскара в первый раз, волосы
у него были длинные, а брюки короткие; теперь, насколько я знаю,
волосы у него укоротились, а брюки удлинились”. Уайльд не мог
вынести подобной насмешки, особенно со стороны человека,
которого он и его мать принимали у себя дома. “Чудовищно!
Совершенно чудовищно!” — воскликнул он, и обидный пассаж
был изъят.
“Вуманз уорлд” и впрямь обрел интеллектуальные черты, кото*
рых был лишен “Лейдиз уорлд”. Первый номер, вышедший под
редакцией Уайльда, начинался со статьи леди Арчибальд Кэмпбелл
о спектаклях, поставленных ею с помощью Годвина за последние
несколько лет. В других статьях речь шла о феминизме и движении
за избирательные права женщин, причем авторами их были жен-
щины, придерживавшиеся разных точек зрения по этим вопро-
356
сам. В числе авторов порой оказывались неожиданные лица. Тре-
тий номер — за январь 1888 г. — открывался поэмой “Женщины
в истории”, сочиненной матерью Уайльда; поскольку там содержа-
лась хвала королеве, номер был учтиво послан королеве Виктории,
чья придворная дама леди Черчилль написала в ответ, что поэма
очень понравилась ее величеству. В ноябре 1888 г. леди Уайльд
опубликовала в журнале ирландские народные сказки из сбор-
ника, который она готовила к изданию на основе заметок, остав-
ленных сэром Уильямом Уайльдом в старой коробке из-под обуви
(два других фрагмента этой книги она напечатала в “Пэлл-Мэлл
газетт” 1 и 21 мая 1888 г.). Воистину ее нелегко было сдержать,
и, когда в ноябре 1887 г. Уайльд написал рецензию на поэтическую
антологию, озаглавленную “Женские голоса”, и в этой рецензии
умолчал о голосе своей матери, она немедленно выразила ему свое
неудовольствие:
Уважаемый редактор! Миссис Ленард написала мне о том,
что может, если ты хочешь, прислать статью о французских делах,
поскольку ее отец сообщает ей все тамошние новости.
Почему ты в своей рецензии на книгу миссис Шарп не упомянул
обо мне? Обо мне, занимающей такое видное историческое место
в ирландской литературе? При этом ты упоминаешь о мисс Тайнан
и мисс Малхолланд!
“Гэмпшир ревью” пишет обо мне в хвалебном тоне — а ты! —
очень странно — я дала “В. у.” под редакцией О. У. почитать миссис
Фишер. Леди Арчи — лучшая из эссеисток. Джордж Флеминг начи-
нает интересно — и вообще хорошо пишет, — но женщины в целом
никуда не годятся.
Ты читал заметку Уилли о содовой воде? Просто блестяще!
Арнольд был в восторге.
Приходи в воскресенье вечером побеседовать. У меня так мало
осталось времени — ибо через неделю-другую я непременно уто-
плюсь. Жить — это так хлопотно.
La tua
Madre dolorosa1.
При всех своих сыновних чувствах Уайльд не хотел расхва-
ливать мать слишком уж откровенно; однако он загладил вину
перед ней, приведя в рецензии на сборник волшебных сказок
под редакцией У. Б. Йейтса длинный и лестный пассаж Йейтса
°б изданном ею томе фольклора. Он, видимо, побуждал печа-
таться в “Вуманз уорлд” и жену: Констанс опубликовала там две
Твоя Матерь Скорбящая (ит.).
357
бесхитростные статьи — “Детское платье в нынешнем столетии”
и “Муфты” (февраль 1889). Констанс Флетчер — старая знакомая
Уайльда, которой он посвятил в свое время поэму “Равенна”, —.
дала в журнал бесконечно длинный роман, публиковавшийся
из номера в номер и полный шотландских диалектизмов1. Муж-
чинам печататься в журнале не возбранялось, но лишь немногие
из них воспользовались этой возможностью, в том числе Оскар
Браунинг, поместивший в нем стихотворение о городе Борнмуте,
и Артур Саймонс, опубликовавший вначале сентиментальное сти-
хотворение, а затем более интересное эссе о Вилье де Лиль-Адане.
Со временем “Вуманз уорлд” начал страдать от потери интереса
к нему со стороны редактора. Поток публикаций стал иссякать,
тираж упал. В 1889 г. Уайльд уступил место Уильямсу, сотруднику
издательства Кассела, получившему задание сделать журнал более
“практичным”.
Хитроумные фантазии
Искусство воспринимает жизнь как часть своего
сырого материала, пересоздает ее и перестра-
ивает, придавая необычные формы; оно совер-
шенно безразлично к фактам, оно изобретает,
оно сотворяет посредством воображения и грезы,
а от реального отгораживается непроницаемым
барьером прекрасного стиля, декоративности
или идеальных устремлений.
Очередной аспект его личного опыта созрел для претворения
в словесность. Тема предательства, совершаемого другом или воз-
любленным, постоянно присутствует в его сочинениях от “Веры”
до “Баллады Редингской тюрьмы” и “De Profundis”. К насто-
ящему моменту он уже испытал предательство Майлза, Родда,
Бодли и Уистлера и теперь в иронической сказке “Преданный
друг” косвенно выразил обиду на несправедливость. Неблагодар-
ный Мельник, в самых возвышенных выражениях поучая своего
друга Маленького Ганса касательно природы дружбы и ее свято-
сти, тем временем всячески его третирует. “У настоящих друзей
1 Уайльд выразил свое отношение к диалекту в одной из статей: “Удо-
вольствие, которое доставляет человеку диалект, всецело зависит
от склада его личности. Многим кажется вершиной литературного
мастерства написать “mither” вместо “mother”. Но не все готовы
с такой легкостью отдаться пафосу провинциализмов”.
358
все должно быть общее, — говорит ему Мельник. — До сих пор
ты знал только практику дружбы, когда-нибудь овладеешь и тео-
рией”1. Маленький Ганс безропотно терпит тяготы этой фальши-
вой дружбы, являя собой миниатюрный автопортрет написавшего
сказку “великана-альтруиста”1 2. Ясно видна связь “Преданного
друга” со сказкой “Соловей и Роза”, написанной примерно в то же
время, где имеется сходный мотив неоцененного самопожертвова-
ния; та же тема, но вывернутая наизнанку, звучит в стихотворении
в прозе “Учитель”, где юноша жалуется, что, хотя он творил чудеса,
подобные Иисусовым, его не распяли. Жертва не как тяжкая необ-
ходимость, а как вожделенная цель — характерный уайльдовский
мотив.
“Замечательная Ракета”, сочиненная в тот же период, представ-
ляет собой этюд о тщеславии. Уайльд тщеславия не одобрял, хотя
его самого часто в нем обвиняли. Из всех, кого он знал, наибо-
лее тщеславным был Уистлер, называвший себя вроде бы в шутку
“самым изумительным”. В дни теплой дружбы Уайльд закрывал
глаза на уистлеровское тщеславие. Статья более позднего времени
говорит о некотором охлаждении: “Мистер Уистлер всегда писал
слово “искусство” (и, полагаю, пишет его сейчас) с заглавного “Я”.
Ракета в сказке Уайльда требует: “Вам следовало бы подумать обо
мне. Я всегда думаю о себе и от других жду того же. Это называ-
ется отзывчивостью”. И далее: “Вы забываете, что я совсем не про-
стая, а весьма замечательная... Единственное, что меня поддержи-
вает в течение всей жизни, — это сознание моего неоспоримого
превосходства над всеми, а это качество я всегда развивала в себе
по мере сил”. Связь между Уистлером и ракетами восходит еще
к вернисажу по случаю открытия галереи Гровенор в 1877 г., где
Уайльд, как он писал в своей статье об этом событии, увидел изо-
браженную Уистлером “ракету с золотым ободком, с зелеными
и красными огнями, вспыхивающими в совершенно пустом небе”
и другую ракету, “взрывающуюся в бледно-голубом небе”. Восемь
лет спустя он писал о “фейерверках” уистлеровской прозы и жи-
вописи. Ныне же “замечательная” ракета, сколько она ни пыжится,
не способна ни на что, кроме напыщенного шипения3.
1 Здесь и далее “Преданный друг” цитируется в переводе Ю. Кагарлиц-
кого,
2 Аллюзия на название другой сказки Уайльда — “Великан-эгоист”.
(Примеч. перев.)
У Уайльд сказал однажды Э. Ф. Бенсону, что пишет томик эссе на эти-
ческие темы — можно сказать, маленьких трактатов о нравственно-
сти, — предназначенный для того, чтобы дарить его на Рождество.
Епископ Лондонский будто бы уже дал милостивое согласие написать
к нему предисловие. Первое из эссе, имеющее форму притчи, называ-
359
Этими миниатюрами Уайльд прочно утвердил себя в качестве
рассказчика. Не отличаясь обилием характеров, они, тем не менее,
увлекательны. Сюжеты выпрыгивали из Уайльда с легкостью, хотя
темы, являющие себя через эти сюжеты, отнюдь не случайны.
Прославляя личность, Уайльд вместе с тем сетовал на избыток
эгоизма. Присущая ему щедрость заставляла его высмеивать лице-
мерие, которое в других часто со щедростью уживалось. Дружба
и любовь высвечиваются через их отсутствие, вера — через без-
верие, жизнь — через бессмыслицу смерти. В этих сказках нечто
внезапно превращается в ничто, а ничто — в величайшую драго-
ценность.
Лучшим и самым дорогим для него произведением из всех
написанных им в то время рассказов и сказок был “Портрет госпо-
дина УХ.” Эта проза, можно сказать, идет по высоко натянутой
проволоке между бытием и небытием. Опубликованный в июле
1889 г., этот рассказ, как становится ясно из письма Уимзу Риду,
был написан не позднее октября 1887 г. Речь в нем идет о Шекс-
пире, и Уайльд пишет о влечении Шекспира к юношам как о чем-то
само собой разумеющемся. Фрэнк Харрис, мужчина гетеросексу-
альный до мозга костей, старался отговорить Уайльда от написания
этой вещи, поскольку он был способен видеть Шекспира только
таким же бабником, каким был сам. Если Уайльд и прислушался
к его словам, выразилось это лишь в том, что он написал не эссе,
а рассказ.
В “Портрете господина У.Х.” — художественной фанта-
зии, предвосхищающей Борхеса, — он с ослепительным блеском
выдвигает некую версию, потом опровергает ее, потом наполовину
реабилитирует. Анонимный рассказчик слышит от своего друга
Эрскина о трактовке Сирилом Грэхемом шекспировских сонетов.
Грэхем, женственный молодой человек, в бытность свою школь-
ником неизменно исполнявший в ученических постановках Шек*
спира женские роли, убежден, что таинственный “господин У. X.”,
лось якобы “Как важно не терять присутствия духа”. В некоем театре,
при неизменно переполненном зале, шла пьеса. В один из вечеров,
во время захватывающей сцены, когда цветочница с Пикадилли-сёр-
кус с презрением отвергает грязные домогательства развратного мар-
киза, из-за кулис вдруг начинает валить дым и показываются языки
пламени. Зрители в панике вскакивают с мест и бросаются к выходам.
И тогда на сцене появляется благородная фигура молодого человека,
которого цветочница любит. Он громко призывает всех к спокойст-
вию: огонь уже практически побежден, главную опасность представ-
ляет паника. Всем необходимо вернуться на свои места. Его слова зву-
чат так властно и убедительно, что публика подчиняется. После чего
молодой актер легко перепрыгивает через рампу и выбегает из театра.
Все остальные гибнут в огне.
360
которому Шекспир посвятил свои сонеты, — это юный актер. Его
имя Уилл якобы зашифровано в каламбурных сто тридцать пятом
и сто сорок третьем сонетах, а фамилия Хьюз — в двадцатом:
Красавец в цвете лет и весь он — цвет творенья...1
Скептик Эрскин указывает на отсутствие каких-либо дока-
зательств существования этого Уилла Хьюза. Грэхем в смятении
уходит, но затем возвращается с искомым доказательством. Это
шкатулка Елизаветинской эпохи, к одной из стенок которой при-
креплен портрет молодого человека с масками Трагедии и Коме-
дии и надписью: “Молодой Уилл Хьюз”. Сомнения Эрскина рас-
сеиваются, но затем он обнаруживает, что портрет — подделка,
и обвиняет Грэхема; тот кончает с собой. Но в предсмертном
письме, которое он оставил Эрскину, он настаивает на том, что
его теория истинна, и поручает адресату поведать о ней миру. Под
впечатлением услышанного рассказчик проникается убеждением,
что Грэхем был прав, и делает неожиданно здравый вывод о том,
что “Сонеты” написаны с целью убедить Хьюза играть в шекспи-
ровских пьесах. Рассказчик пишет Эрскину письмо, где излагает
свои новые соображения, но вдруг ощущает типично уайльдов-
ское безразличие: “Ведь духовные силы, как и силы физические,
не беспредельны”. Разубедившись сам, он своим письмом убе-
ждает Эрскина. Два года спустя рассказчик получает от Эрскина
послание, где говорится, что к моменту, когда он его прочтет, Эрс-
кина уже не будет на свете, — он решил покончить с собой, чтобы
доказать истинность теории Грэхема. Рассказчик спешит к нему,
но он уже мертв. Однако выясняется, что Эрскин не покончил
с собой, а умер от чахотки. Он завещал портрет Уилли Хьюза рас-
сказчику. Под конец тот глядит на портрет и думает: “В теории
об Уилли Хьюзе и сонетах Шекспира определенно что-то есть”.
Расстояние между подделкой и подлинностью, между вымыслом
и фактом порой не превышает толщины волоса.
Теория, которой воспользовался Уайльд, была не нова, но исто-
рия — его собственная. Она возникла из ощущения тайной жизни,
которое влекло его к Чаттертону, упоминаемому в рассказе наряду
С другим фальсификатором — Макферсоном. Соединение фабри-
кации картины с фальсификацией самоубийства — ход весьма
гонкий; это изящное переосмысление темы из письма Марилли-
еРУ — темы гибели за то, во что не веришь. Эрскин, напротив,
хитроумно притворяется гибнущим за то, во что он верит. Уайльд
Перевод С. Силищева. Английское слово hues (цвета, оттенки)
созвучно фамилии Hughes (Хьюз).
361
мог видеть здесь аналогию со своими собственными фабрикаци-
ями и масками, когда он притворялся то масоном, то прерафаэли-
том, то католиком, то debauche1, то денди. Подобно Уилли Хьюзу,
он выступал во многих ролях и при этом, подобно рассказчику,
Эрскину и Грэхему, проходил разные стадии убежденности.
Нигде больше, кроме комедии “Как важно быть серьезным”,
Уайльд не добивался такого соединения реальности и вымысла,
не создавал целого мира, покоящегося на слове. “Вы должны пове-
рить в Уилли Хьюза, — сказал он Хелене Сикксрт. — Я почти верю
в него сам”. Примерно так он в свое время почти верил в католи-
цизм — в столь же привлекательную фикцию.
Близость рассказа и автора этим не ограничивается. Уайльд
вообразил, что Шекспир — женатый человек и отец двоих детей,
подобно ему самому, — пленился юношей, как Уайльд пленился
Россом1 2. Уайльд написал Россу: “Воистину этот рассказ наполо-
вину твой, без тебя он никогда не был бы сочинен”. Воодушев-
ленный игрой своей фантазии, Уайльд в мае 1889 г, отправился
к художникам Чарлзу Риккетсу и Чарлзу Шаннону, с которыми он
ранее знаком не был. Он прочел им рассказ и попросил Риккетса
проиллюстрировать его изображением Уилли Хьюза в манере
Клюэ. На раме следовало начертать девиз: ARS AMORIS, AMOR
ARTIS3, в котором, сказал Уайльд, заключена целая философия.
Уверенный в сочувственной реакции гомосексуально ориентиро-
ванных хозяев, он стал развивать свои мысли о любви Шекспира
к юному актеру: “Ренессанс принес с собой великое возрождение
платонизма. Платон, как и все греки, различал два вида любви;
чувственную любовь, которая ищет наслаждений с женщинами, он
считал интеллектуально бесплодной, потому что женщины вое*
приимчивы, и не более того. Они только берут и ничего не дакгц
если не считать примитивных проявлений естества. Интеллекту-
альная любовь и романтическая дружба эллинов, что поражают
нас ныне, рассматривались ими как единственно плодотворные
в духовном смысле, как стимул для мысли и добродетели; доброде-
тель я понимаю так же, как понимали ее древние и люди Ренессанса,
а не так, как ее понимают англичане. Для них это всего-навсего
1 Развратником (фр>). .
2 Как-то раз у леди Арчибальд Кэмпбелл Уайльд принялся объяснять,
в чем состоит его внешнее сходство с Шекспиром. В конце блестя-
щего монолога он заявил, что хочет заказать бронзовый медальон
со своим и шекспировским профилями. “Могу предположить, мистер
Уайльд, — сказала леди Арчибальд, — что ваш профиль будет выда-
ваться несколько дальше, чем профиль Шекспира”. А леди Колин
Кэмпбелл назвала Уайльда “огромной белой гусеницей”.
3 Искусство любви, любовь к искусству (лат.).
362
благоразумие и лицемерие”. Уайльд утверждал, что посвящение
шекспировских “Сонетов” их “единственному зачинателю” —
чистой воды платонизм. И все же сонеты грустны: “Шекспир
чувствовал, что его искусство вызвано к жизни красотой друга,
который изменил ему”. Отсюда латинский девиз. Уайльд проти-
вопоставил греческое искусство, “выражавшее радость”, искусству
Нового времени — “цветку страдания”. Даже Китс, который был
“почти греком”, “умер от печали”.
Риккетс исполнил заказ на портрет Уилли Хьюза. Получив
ею, Уайльд написал художнику: “Это никакая не подделка — это
подлинный Клюэ, имеющий высочайшую художественную цен-
ность. Напрасно Вы с Шанноном пытаетесь меня провести — как
будто мне нс знаком почерк мастера, как будто я ничего не смы-
слю в рамах!” Ему нравилось размывать границы между жизнью
и искусством. К несчастью, “Клюэ” бесследно исчез в период судеб-
ных процессов Уайльда, когда его имущество пошло с молотка.
Бальфур и Асквит, которым Уайльд рассказал историю о Уилли
Хьюзе, посоветовали ему воздержаться от ее публикации, дабы
не осквернять ею английских домов. Тем не менее он послал рас-
сказ в “Фортнайтли ревью”, предполагая, что в беллетристической
форме эта вещь понравится Фрэнку Харрису. Но Харрис был
за границей, а его помощник грубо отверг рассказ; тогда Уайльд
отправил его в “Блэквуде”, где он и был напечатан. Эффект полу-
чился изрядный. По словам Харриса, подтверждаемым Россом,
рассказ “породил множество разговоров и споров... Он впервые
дал в руки его вратам то оружие, в котором они нуждались”. Рас-
сказ, однако, был написан осмотрительно — во всяком случае,
осмотрительней, чем его более поздняя и более пространная вер-
сия, — и, затеяв разговор о страсти Шекспира к актеру, Уайльд
затем увел этот разговор в сторону профессиональной дружбы.
Он только играл с огнем, не более того; он не был Прометеем. Он
сказал Россу: “Моя следующая книга о Шекспире будет посвящена
вопросу о том, безумны ли комментаторы “Гамлета” или только
таковыми прикидываются”.
Его репутация как литератора берет начало с выхода в Лон-
доне в мае 1888 г. сборника “Счастливый Принц” и другие сказки”.
Журнал “Атенеум” сравнил Уайльда с Хансом Кристианом Андер-
сеном; Пейтер написал ему письмо, где назвал сказку “Великан-
эгоист” вещью “совершенной в своем роде”, а книгу в целом
охарактеризовал как написанную “чистым английским языком” —
высочайшая похвала! Сказкам, пожалуй, вредят излишняя красоч-
ность образов (“длинные серые пальцы рассвета хватали и утаски-
вали тускнеющие звезды”) и архаические формы местоимений.
Эпизоды часто начинаются с обезображенности и кончаются, как
363
в “Счастливом Принце”, преображением. Уайльд преподносит нам
эти сказки как некие святые дары утраченной им веры. Многие их
персонажи приходят к познанию самих себя, а также к познанию
уродства и несчастья. Уайльд прославляет любовь, чья сила превы-
шает и силу зла, и силу добра. Путь из дворца в хижину — это путь
к обретению способности страдать и любить. Почти везде Уайльд
обуздывает свое стремление поражать читателя нетрадиционными
чувствованиями, хотя и упоминает о том, как молодой король
целует статую Антиноя, и намекает на красоту юношей. Возни-
кающая порой в сказках Уайльда общественная сатира лишь отте-
няет необычную для этого жанра печаль — изнанку той веселой
энергии, которую Уайльд вложил в “Преступление лорда Артура
Сэвила” и другие рассказы, написанные примерно в то же время.
В сказках действие развивается медленно. Натура Уайльда была,
однако, весьма динамична, и он с успехом вложил этот динамизм
в два произведения дискурсивной прозы, в которых, как представ-
ляется, его дар выразил себя с большей естественностью. Одним
из них было эссе “Кисть, перо и отрава”, опубликованное Фрэн-
ком Харрисом в “Фортнайтли ревью” в январе 1889 г.; другим —
“Упадок лжи”, напечатанный в том же месяце журналом “Найнтинс
сенчури” и впоследствии сильно переработанный. Эти два эссе,
особенно второе из них, сполна раскрыли гений Уайльда. Многое
из того, о чем он думал и писал в связи с Чаттертоном, Сирилом
Грэхемом и Эрскином, вошло в первое эссе, где речь идет о Томасе
Уэйнрайте, занимавшемся фабрикацией документов. Уайльда
интересовало все незаконное, однако, если уж выбирать из пре-
ступлений, подлог, вероятно, стоит ближе всего к публичному
облику, который он сам для себя выстраивал. Роберт Росс говорил
о неистребимой уайльдовской искусственности. Теперь Уайльд
вошел в подпольный мир людей, притворяющихся тем, чем они
на деле не являются, в мир, стоящий вне закона, подобно тайной
масонской ложе. Он написал о герое своего эссе: “Преступления 1
Уэйнрайта, как представляется, имели важные последствия для его '
искусства. Они придали весьма ярко выраженную индивидуаль-
ность его стилю, чего не было в ранних его произведениях”.
Бесстрастное обсуждение этапов, которые Уэйнрайт прошел
в своей художественной и преступной деятельности, было орга-
ничней для Уайльда, нежели горячая апология Чаттертона. Уэйн-
райт не обладал прекрасной душой, которой можно было бы
любоваться, и в нем не было ничего трогательного. Он “подделы-
вал бумаги, отличаясь всеми нужными для этого талантами, а у#
на поприще отравителя, умеющего действовать изощренно и заме-
тать за собой следы, его вряд ли кто превзошел что в его эпоху,
что в любую прочую”. Подобно лирическому герою “Монолога
364
рроппмана” Роллина, писатель в такой же мере, как изображае-
мый им убийца, свободен от соображений морали. Уайльд связал
Уэйнрайта с Бодлером, которого он неизменно называл поэтом
отравляющим и прекрасным. К числу своеобразных пристрастий
Уэйнрайта принадлежала “странная приверженность к зеленому
цвету, которая всегда свидетельствует о развитых художественных
наклонностях, когда она свойственна индивиду, и считается зна-
ком духовной анемии, а то и просто упадка морали, когда ее выка-
зывает целый народ”. (Это замечание предвосхищает зеленую гво-
здику, которую Уайльд впоследствии носил в петлице.) Когда друг
стал укорять Уэйнрайта за убийство, он пожал плечами и дал ответ,
наверняка восхитивший Уайльда: “Да, ужасная история, но у этой
девицы были такие толстые икры”. В заключение Уайльд пишет:
“Тот факт, что человек был отравителем, никак не меняет качества
написанной им прозы”; “Между культурой и преступлением нет
несовместимости по существу”. Давать Уэйнрайту оценку как
писателю, говорит Уайльд, еще рано, но он склонен считать, что
преступные таланты Уэйнрайта выдают в нем подлинного худож-
ника.
Декаданс осмеянный
Прошлое есть то, чем человеку не следовало быть.
Настоящее есть то, чем человеку лучше было бы
не становиться.
Будущее есть то, что являют собой художники.
После “Кисти, пера и отравы” Уайльд принялся за “Упадок
лжи” — первый из его диалогов, имевший из них наибольший
успех; работа была окончена к декабрю 1888 г. Толчком к напи-
санию этой вещи, как и в случае с “Портретом господина У.Х.”,
были беседы с Робертом Россом, “учеником, которого он любил”,
как Христос Иоанна. Немаловажным следствием появления
на свет этого сочинения стала творческая связь Уайльда с Йейт-
сом, который услышал эссе в чтении Уайльда одним из первых;
именно Йейтс позднее переложил Уайльда на язык, адекватный
Двадцатому столетию.
Познакомились они, вероятно, у леди Уайльд, однако в “Авто-
биографии” Йейтс относит момент знакомства к сентябрю 1888 г.,
когда они встретились в доме Уильяма Эрнеста Хенли и Уайльд
с Хенли стали друзьями. (Подтверждая замечание, сделанное тогда
Уайльдом: “В основе литературной дружбы лежит приготовление
365
чаши с ядом”, Хенли впоследствии внес лепту в травлю Уайльда.)
Двадцатитрехлетнего Йейтса позабавил контраст между полно-
кровно-трудолюбивым Хенли и соблазнительно-праздным Уайль-
дом. Его также поразили “великолепные фразы” Уайльда — сло-
весное воплощение воображения, побеждающего косную массу
обстоятельств. “Твердый алмазный блеск” Уайльда, его “властное
самообладание” выглядели эффектней, чем умная жизнерадост-
ность Хенли. “Я завидую людям, которые при жизни обретают
мифологические черты”, — признался Йейтс Уайльду, наполовину
в порядке комплимента; тот ответил: “Я считаю, что человек дол-
жен сам выдумать миф о себе”. Это предписание Йейтс запомнит
на всю жизнь. Он был также восхищен похвалами, которые Уайльд
в собравшейся у Хенли антипейтеровской компании высказал
в адрес пейтеровских “Очерков по истории Ренессанса”: “Я никуда
не езжу без этой книги; воистину она — драгоценнейший цветок
декаданса; в миг ее завершения должны были прозвучать трубы
Страшного суда”. — “Но позвольте, — поинтересовался некий
зануда, — неужели вы не хотите дать нам время ее прочесть?” —
“На том свете, — ответил Уайльд, — у вас будет сколько угодно вре-
мени”. Уайльд отдавал Пейтеру дань восхищения и в то же время
подтрунивал над ним, выражая готовность идти к нему в вассалы
на небесах и сохраняя ла собой свободу на земле. После его ухода
Хенли сказал: “Да нет, никакой он не эстет. Довольно быстро ста-
новится ясно, что он высокообразованный человек и джентльмен”.
Йейтс взял на заметку Уайльда, а Уайльд — Йейтса. В конце
1888 г. Уайльд пригласил молодого друга на рождественский обед,
словно у Йейтса не было в Лондоне семьи; Йейтс предпочел при-
твориться, что так оно и есть. Наслушавшись сплетен о неопрят-
ном дублинском доме родителей Уайльда и о грязных ногтях сэра
Уильяма, Йейтс с удивлением увидел обстановку дома на Тайт-
стрит. Гостиная и столовая были сплошь белые, включая стены,
мебель и ковры. Исключение составляли лишь красный абажур
свисавшей с потолка лампы и красный ромбовидный кусок ткани
посреди расположенного под лампой белого стола; на этой ткани
стояла терракотовая статуэтка. Йейтс был смущен элегантностью
увиденного; смущение его усилилось, когда Уайльд подчерк-
нуто вздрогнул при виде его желтых ботинок, являвших собой
неудачный опыт Йейтса по части следования моде на некрашеную
кожу. Начав рассказывать Сирилу Уайльду сказку про великана,
Йейтс перепугал ею мальчика до слез и заслужил укоризненный
взгляд отца, в чьих сказках тоже действовали великаны, но добрые
и совсем не страшные. Раздосадованный своими промахами,
Йейтс все же не был полностью обескуражен. Он чувствовал,
что превосходит Уайльда как поэт. В какой-то мере это чувство,
366
видимо, передалось Уайльду за рождественским обедом, ибо мол-
чаливое неодобрение он преобразил в полнозвучное торжество,
сказав: “Мы, ирландцы, слишком поэтичны, чтобы быть поэтами;
— нация великолепных неудачников, и при этом мы самые
лучшие собеседники после древних греков”1.
После обеда Уайльд принес гранки эссе “Упадок лжи”, кото-
рое Джеймс Ноулз собирался опубликовать в следующем месяце
в журнале “Найнтинс сенчури”. Более внимательного слушателя,
чем Йейтс, Уайльду трудно было бы найти. Йейтс не разделял мод-
ного тогда пренебрежения к теории искусства, но его литератур-
ные взгляды до того момента формировались под влиянием одних
лишь оккультизма и национализма. Ему недоставало эстетики,
берущей в расчет напряженные размышления о природе и назна-
чении искусства, которым предавались европейские умы начиная
с ранних романтиков. В своем эссе-диалоге Уайльд свел воедино
презрение ряда писателей от Готье до Малларме к обыденной
жизни и природе, презрение По и Бодлера к пошлой добропоря-
дочности, презрение Верлена и Уистлера к “содержанию” в произ-
ведениях искусства. Эти новые взгляды Уайльд противопоставил
привычным теориям, делавшим упор на искренность и достовер-
ность. Используя форму диалога, которую Йейтс впоследствии
у него перенял, и пустив в ход все заложенные в ней диалектиче-
ские возможности, Уайльд заострил центральный парадокс своего
эссе — “жизнь творится искусством”.
11 Упадок лжи” начинается с пародии на разговоры того времени
о нероновском декадансе. Уайльд пишет о некоем клубе, называ-
емом “Усталые гедонисты”, и объясняет: “Собираясь на наши
встречи, мы не забываем украсить петлицу увядшей розой, и все
мы в некотором роде почитатели Домициана”. Предположение
о том, что членам клуба скучно друг с другом, подтверждается:
“Это так. И это одна из целей нашего клуба”. Так Уайльд с улыбкой
отмахнулся от декаданса. Другой его мишенью стал опубликован-
ный девятью годами ранее (в 1880 г.) “Экспериментальный роман”
Золя, где воображение сводилось к минимуму и художественный
лабиринт превращался в лабораторию. В подобном вторжении
жизни в сферу искусства как раз и состоит, по мысли Уайльда, суть
декаданса, то есть упадка.
Мировоззрение, которое он выразил, было не столь воинст-
вующе-проповедническим, как у Мэтью Арнольда, чья недавняя
смерть словно бы дала простор новой эстетике. Уайльд восславил
1 В одной из рецензий он написал, что женщины слишком поэтичны,
чтобы становиться поэтами; сходную мысль высказывает Уилл Лади-
слав в романе Джордж Элиот “Мидлмарч”.
367
отказ искусства от искренности и точности в пользу лжи и масок.
Он старался избегать слова “воображение”, которое сделалось
стертым и выхолощенным, хотя фактически он конечно же под-
нимал воображение на щит, противопоставляя его рассудочно-
сти и бескрылому наблюдению. Помимо прочего, слово “во-
ображение” ассоциировалось у Уайльда с чем-то естественным
и непреднамеренным. Слово “ложь” подходило ему куда лучше,
потому что ложь — это не стихийное самоизлияние, а созна-
тельное введение в заблуждение. В этом слове есть нечто греш-
ное и своевольное. “Все прекрасные произведения, — заявляет
Уайльд, — сотворены сознательно и преднамеренно. Великий поэт
создает песни потому, что он решает их создать”; притом “если ты
сказал правду, то рано или поздно тебя выведут на чистую воду!”.
Славя искусство, Уайльд полемически связывает его с именем Ана-
нии, а не Ариэля1.
Уайльд различает в искусстве два главных заряда энергии,
причем энергии опасной. Суть одного из них — в великолеп-
ной отгороженности от опыта, в нереальности, в стерильности.
Искусство — своего рода проделка против природы и Бога, неза-
конное присвоение человеком права творить. “Всякое искусство
совершенно бесполезно, — говорит Уайльд, вторя Готье и Уист-
леру. — Искусство не выражает ничего, кроме самого себя”. "То,
что происходит на самом деле, не имеет ни малейшего значения*.
Не содержание определяет форму, а форма — содержание. Уайльд
переворачивает Тэна с ног на голову: не эпоха формирует искус-
ство, а наоборот — искусство сообщает эпохе свой характер.
Искусство не отвечает на вопросы своего века; оно дает ответа
на вопросы, которые еще не поставлены. “Сам век есть выражение
Искусства”1 2. Йейтс слушал внимательно; историческая глава в его
‘Видении” представляет собой иллюстрацию уайльдовского тезиса.
Второй заряд энергии, заложенный в искусстве, связан с его
функцией сеятеля образов. Жизнь, плетущаяся в хвосте искусства,
1 Анания — персонаж Деяний святых апостолов, который “солгал Духу
Святому”; Ариэль — дух воздуха в драме Шекспира “Буря”. (Примеч,
перев.)
2 В записной книжке Уайльда имеются сходные изречения:
Жизнь — единственное, что никогда не реально.
Жизнь есть сновидение, которое не дает человеку уснуть.
Невозможное в искусстве — все то, что случилось в реальной
жизни.
Невероятное в искусстве — все то, что в реальной жизни случается
сплошь и рядом.
Искусственно разделив тело и душу, люди изобрели вульгарный
Реализм и пустой Идеализм.
368
хватается за его формы в поисках самовыражения. Жизнь подра-
жает искусству. Аристотель, как и Тэн, поставлен вверх ногами.
“Подумайте обо всем, что мы получили от подражания Христу, обо
всем, что мы получили от подражания Цезарю”. Никто до сей поры
не обнажал перед Йейтсом антиномий с такой ясностью, с какой
это сделал Уайльд. В “Автобиографии” Йейтс последует за мыслью
Уайльда, хотя возьмет на вооружение другие примеры — святого
Франциска и Чезаре Борджа. В одном из самых великолепных пас-
сажей Уайльд пишет: “Неудачный афоризм, в котором утвержда-
ется, будто Искусство держит перед Природой зеркало, нарочно
произнесен Гамлетом, чтобы убедить окружающих в полной своей
невменяемости в вопросах искусства”. Если искусство — зеркало,
то, смотрясь в него, мы видим только маску (с этим согласился бы
Ирод из “Саломеи”). Фактически “жизнь есть зеркало, искус-
ство есть реальность”. Туманы, которые якобы воспроизведены
на картинах Коро, на деле сотворены самими этими картинами;
с этими словами Уайльда перекликаются слова Пруста, заметив-
шего однажды, что женщины вдруг начали походить на ренуаров-
ские портреты. Уайльд сказал, что Япония целиком изобретена
японскими художниками. “Нет такой страны, нет такого народа”.
“Тот девятнадцатый век, который стал для пас реальностью, изо-
бретен Бальзаком... Одна из величайших трагедий моей жизни —
смерть Люсьена де Рюбампрс”. Шекспировский “Гамлет” оказал
сильнейшее воздействие на два столетия. “Весь мир сделался
печален из-за того, что некая марионетка впала в меланхолию”.
(Пейте придрался к тому, что Уайльд написал “впала в меланхо-
лию”, а не “была печальна”, и его не удовлетворило объяснение
Уайльда, сказавшего, что ему нужно было полнозвучие в конце
фразы; так или иначе, использование слова “меланхолия” оправ-
данно — в Елизаветинскую эпоху оно было медицинским тер-
мином.) Что касается скульптуры, “греки... не забывали украсить
опочивальню молодоженов статуями Гермеса или Аполлона, чтобы
невеста родила детей столь же прекрасных, как творения искусства,
стоявшие у нее перед глазами в минуту восторга и боли1. Они
знали, что Жизнь заимствует у Искусства не только духовное...
она перенимает для своих форм те самые линии и краски, кото-
рые найдены Искусством, и способна воссоздать величие Фидия,
равно как и изящество Праксителя”.
1 С этим перекликаются слова Йейтса в “Королевском пороге”:
Но почему вы родились горбатыми?
Какого скверного поэта слушали ваши матери.
Что вы родились горбатыми?
Мысль о равнодушном насаждении искусством своих форм
в жизни ведет к идее о том, что искусство не столько обособляется
от жизни, сколько заражает ее. Уайльд склонен был думать, что
происходит и то и другое. В "Упадке лжи” он пишет о том, как,
"начитавшись о приключениях Джека Шеппарда ичи Дика Терпина,
глупые мальчишки громят лотки каких-нибудь несчастных торго-
вок яблоками, вламываются по ночам в кондитерские и до полу-
смерти пугают возвращающихся из города к себе в предместье ста-
ричков, устраивая в переулках засады — с непременными масками
на лицах и незаряженными револьверами в карманах’”. Искусство
может рождать в публике преступные побуждения. Уайльд мог бы
повторить за Уитменом: "Моим сшхам суждено творить не одно
добро, они сотворят столько же зла, если не больше”. И Уитмен,
и Уайльд, и И ей тс видели себя но ту сторону добра и зла — во вся-
ком случае, добра и зла в их привычном обличье. Этот образ
художника как святого злодея, противоположный выдвинутому
тем же Уайльдом образу художника как изолированной личности,
замыкает круг уайльдовских теоретических представлений. Пред-
назначение искусства — совершать набеги на предсказуемость.
Подрывной характер взглядов Уайльда оттеняется изяществом,
с которым он их выразил. Участники диалога стараются и убе-
дить, и развлечь друг друга; автор держится несколько в стороне
от обоих, даже от того из них, чьи идеи он явно разделяет. Наслаж-
дение самой беседой сильней, чем желание доказать свою правоту.
Уайльд пошел дальше Пейтера, который лишь намекал на воз-
можность разрушения старого мира новым искусством. Пейтер
не говорил о безразличии искусства к жизни, поскольку для него
жизнь состояла из ощущений и самые сильные из них доставляло
ему искусство. Уайльд очень ловко подмешал к эстетике иронию;
говоря о том, что искусство должно и радовать, и наставлять, он
делал это так, что не наделял его ни угодничеством, ни дидактич-
ностью. Исйтс говорил о "нашем углубленном прерафаэлитизме”,
но толчок его мысли дал уайльдовский углубленный постэстетизм.
Иейтс все же не был совершенно ослеплен Уайльдом. Он считал
Уайльда по природе своей "человеком действия” и удивился, когда
узнал, что тот отказался от места в парламенте, которое было ему,
по существу, обеспечено. Как писатель Уайльд представлялся Йей-
тсу "недооформившимся '; представлялся человеком, который “в
силу одной лишь несдержанности своей натуры так и не увидел свя-
того Грааля, к которому подошел совсехм близко”. Величие Уайльда
было иного рода, нежели величие Йейтса. Но, как бы то ни было,
написав "Упадок лжи”, он дал своим теориям адекватное словесное
выражение. Его парадоксы пустились в пляс, его остроумие пред- ,
стало во всем блеске. В сю языке слышны и насмешка над собой, i
л веселье, и экстравагантность. “Упадок лжи” стал locus classicus1
для авторов из многих стран, исповедующих близкие к уайльдов-
ским эстетические идеи. Искусство не должно быть оттеснено
на обочину ни политикой, ни экономикой, ни этикой, ни рели-
гией. Его гордость и его сила больше не должны бояться упреков
в легкомыслии и бесплодности. Вырождение оборачивается воз-
рождением. Своим умом и красноречием Уайльд вернул искусству
высокое положение, которого добивались для него поэты-роман-
тики, и вновь сделал его способным влиять на мир.
Здесь: часто цитируемым произведением (лат.).
Глава 12
Дориановская эпоха
Эстетика выше этики. Она принадлежит
к более одухотворенной сфере. Видеть красоту
вещи — это высшее, до чего мы можем подняться.
Даже чувство цвета важнее для развития лично-
сти, чем понятие о добре и зле.
Новый ЭСТЕТИЗМ
ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ НАЧАЛИСЬ В 1889 Г. И КОНЧИЛИСЬ
в 1895 г. Это верно по крайней мере в отношении
уайльдовских девяностых; без Уайльда это десятиле-
тие не обрело бы своего лица. То было время, когда
эстетизм подвергся переработке и усовершенствова-
нию. В восьмидесятые годы экстремистская пропа-
ганда Уайльда лишь дискредитировала это движение
и навлекала на него непохмерное презрение. Ныне же он наделил
эстетизм новым, более сложным содержанием. Не отказываясь
от пренебрежения к морали и к природе, так тревожившего и раз-
дражавшего его недоброжелателей, Уайльд теперь допускал суще-
ствование “высшей этики”, в которой, помимо артистической
свободы и полноты личного самовыражения, находилось место
и для своего рода индивидуалистического сострадания и нарцис-
систского социализма. Он также выразил мысль о способности
природы, отзываясь на искусство, отображать то, что Шелли назы-
вал “гигантскими тенями, которые будущее отбрасывает на насто-
ящее”. К этим новинкам он добавил еще одну черту эстетизма —
тенденцию к освоению тех областей мысли и поведения, что
находились под запретом. Благопристойность перестала быть во-
просом морали — она сделалась теперь всего лишь формальным
признаком тех или иных произведений искусства.
Эстетизм в его новом обличье изменил отношения между чита-
телем и писателем. Если ныне книга могла содержать то, что ранее
было исключительной прерогативой порнографии, следовательно,
172
читательский покой и ощущение безопасной дистанции оказывались
под угрозой. Многие юноши и девушки узнали о существовании
особых, предосудительных форм любви из намеков, рассыпанных
по тексту “Портрета Дориана Грея”. (Неофициально Уайльд призна-
вал то, что официально он отрицал; он сказал молодому художнику
Грэму Робертсону: “Грэм, эта книга не для вас; надеюсь, вы не ста-
нете ее читать”.) Люди учились у Уайльда многому — и построе-
нию фразы, и стилю жизни. В восьмидесятые годы эстетизм стра-
дал от отсутствия примера; “Дориан Грей” восполнил этот пробел.
Своими непочтительными афоризмами, своими броскими фразами,
своими разговорными ходами, своей беззаботностью и духом про-
тиворечия эта книга провозгласила дориановскую эпоху.
В восьмидесятые годы эстетизм был не столько движением,
сколько упреком в его отсутствии. Тем не менее его влияние — как
п влияние более широкого направлении!, частью которого он был
и которое поднимало на щит художника и искусство в противовес
“фактографии” и “бытописательству”, — усиливалось. Притязаниям
действия ня верховенство над искусством противопоставлялась
мысль о том, что художественное творчество, неразрывно связанное
с созерцательной жизнью, которую восславил Платон, есть высшая
форма действия. Уайльд свел воедино идеи, которые в Англии до той
поры лишь смутно брезжили, но уже явили себя в стихах Малларме
и Верлена, в романах Флобера и Д’Аннунцио. Эти авторы выражали
себя осмотрительней, чем Уайльд, но в одном отношении он им
не уступал: он неизменно производил сильный эффект.
Этот эффект был тем сильнее, что идеи свои, которые Уайльд
подстрекательски распространял среди самых основ литературы
и жизни, он распространял с беспечностью. Сама форма диалога
делала подачу материала антидогматической и непринужденной.
Он говорил: “Я могу выдумать воображаемого оппонента и обра-
тить его в свою веру, когда захочу, каким-нибудь нелепым софиз-
мом”. Даже когда он не прибегал к диалогу — как в эссе “Душа
человека при социализме”, — он словно бы допускал возможность
спора с собой. Возмущать спокойствие было для него столь же
важно, сколь убеждать, — а может быть, и важнее. В дневнико-
вой записи от 21 июля 1890 г. Кэтрин Брэдли (публиковавшая
под псевдонимом Майкл Филд драмы в стихах, которые сочиняла
совместно с племянницей) говорит о том, как Уайльд утверждал
свою репутацию беззаботного ленивца:
Мы согласились в том, что центром, вокруг которого вращается
жизнь, является удовольствие; Пейтер показывает, что гедонист —
совершенный, законченный гедонист — это святой. “Кто добр, тот
373
не всегда счастлив; но кто счастлив, тот всегда добр”. Уайльд пишет
сейчас две статьи для журнала “Найнтмнс сенчури” об “Искусстве
ничегонеделания”. Самое лучшее его состояние — думать лежа
на диване. Ему не хочется ничего делать; одолеваемый “maladie du
style”’ — навязчивым поиском изящных ритмов и точных средств
выражения для всего, что он хочет сказать, — он, работая быстро
лишается сил. Но думать, размышлять...
Здесь имеются в вид\ стахьи Уайльда иод заголовком “Подлин-
ная функция и значение критики, с добавлением некоторых
замечаний о важности ничегонеделания. Диалог”, напечатан-
ные г “Пайнтинс сенчури” в и юте и сентябре 1890 г. В “Дориане
Ipee”, впервые опубликованном журнал ом “Лилшшкотс мансли
мэгэзин” 20 июня 1890 г.. лорд 1снри Уоттон трижды произно-
сит свои изречения “languidly” и один раз “languorously”1 2 3. Уайльд,
можно сказать, ввел эти слова в язык заново, как это сделал Вер-
лен с французским словом langueur5 семь лет назад. Бездельником-
Уайльд, конечно, нс был. Он жадно читал; изобретая и испытывая
разговорные ходы, затем дорабатывал и отделывал их в зависи-
мости от реакции, которую они вызывали, — шока, приятного
удивления, неохотного согласия или восторга. Такой же интерес
к устной речи, считал он, был присущ и грекам: “Критерием для
них всегда было звучащее слово в его музыкальных и метриче-
ских соотношениях. Голос был средством выражения, а ухо —
критиком”. По словам Кэтрин Брэдли, его “бархатистый голос*
излучал “bien-etre”4. В большей части того, что он написал, как
с оттенком неодобрения заметил Пейтер, чувствовалось авторство j
“великолепного говоруна”. Тем не менее в 1891 г., который был eiw
annus mirabilis5, он опубликовал четыре книги (два тома расска-|
зов, сборник критических эссе и роман) и длинное политической
эссе (“Душа человека при социализме”); в том же году он написал^
“Веер леди Уиндермир”6 — первую свою пьесу, имевшую успех,
и большую часть “Саломеи”. Томность была маской трудолюбия..
Чем громче был успех Уайльда, тем обширнее становилась
его свита молодых людей. Стоило ему только услышать о какой-
либо юном поэте, как он принимался расточать ему комплиментьТ
и оказывать гостеприимство; к молодым соискателям лавров
1 Стилистической болезнью (фр-).
2 Оба эти слова означают “вяло, томно”.
3 Томление (фр-)- Так называется известное стихотворение Верлен&
(Примеч. перев.)
4 Благополучие, довольство (фр-)-
5 Буквально: великолепным годом (лат.).
6 Далее 4Веер леди Уиндермир” цитируется и переводе М. Лорие.
374
он относился так же благосклонно, как Малларме — сравни-
мый с Уайльдом chef de cenacle1. Вокруг него постоянно возни-
кали новые лица. 12 июля 1891 г., когда Уайльд и Констанс были
у Эдварда Берн-Джонса, там неожиданно появился восемнадца-
тилетний Обри Бердслей с каштановыми волосами и продолгова-
тым лицом, похожим, по словам У. Ротенстайна, “на серебряную
секиру”. Берн-Джонс, который обычно, когда молодые художники
показывали ему свои работы, бывал уклончив, оказал Бердслею
горячую поддержку. Уайльды отвезли Бердслея и его сестру Мейбл
домой в своем экипаже и подружились с ним. Возможно, именно
благодаря влиянию Уайльда стиль Бердслея стал более ирониче-
ским и ядовитым. Позднее Уайльд сказал, что он создал Бердслея,
и не исключено, что так оно и было.
Главным из его молодых людей до весны 1892 г. был Джон Грей,
ворвавшийся в уайльдовский кружок, как новая звезда. Родив-
шийся 2 марта 1866 г. в семье плотника, Грей всеми силами стре-
мился попасть в общество образованных людей. В тринадцать лет
вынужденный бросить школу и заняться ради заработка токарным
ремеслом, он частным образом изучал языки, музыку и живопись.
В шестнадцать он сдал экзамен на государственного служащего
и устроился клерком сначала в почтовое ведомство, а шесть лет
спустя — в библиотеку Министерства иностранных дел. Когда
они с Уайльдом познакомились — неизвестно; впоследствии каж-
дый из них относил первую встречу к тому времени, когда они
явно уже знали друг друга. Так или иначе, их отношения начались
нс позднее 1889 1.
В августе этого года Рикке гс и Шаннон, близко знавшие Грея,
включили две написанные им вещи в первый номер журнала
“Дайел”, который они начали издавать. Это были статья о Гонкурах
и сказка на манер уайльдовских, озаглавленная “Великий Червь”.
Получив номер в подарок, Уайльд немедленно явился к Риккетсу
и Шаннону поблагодарить их. “Это просто восхитительно, — ска-
зал он им, — и не вздумайте выпускать второй номер, все пре-
красное должно быть в единственном числе”. Разговор наверняка
должен был коснуться молодого подражателя, имеющего вкус
к французской литературе; Риккетс и Шаннон не преминули
описать юного, светловолосого и красивого автора. Впоследствии,
еще до конца 1889 г., Уайльд и Грей встретились на обеде, на кото-
ром также присутствовал писатель Фрэнк Либих.
Дать герою своего романа фамилию Грей было со стороны
Уайльда формой ухаживания. Скорее всего, он поступил так не для
того, чтобы указать на прототип, а для того, чтобы отождествле-
Глава кружка (фр.).
375
нием с Дорианом польстить Грею. Грей подхватил намек и начал
подписывать письма к Уайльду именем Дориан. Их близость была
предметом пересудов; во всяком случае, после вечера в “Клубе риф-
мачей”1, состоявшегося около 1 февраля 1891 г., на котором Грей
читал стихи, а Уайльд появился, чтобы их послушать, на эту бли-
зость намекнули и Лайонел Джонсон, и Эрнест Даусон. В письме
от 5 февраля 1891 г. Джонсон писал: “Я крепко подружился с про-
тотипом Дориана — неким Джоном Греем, молодым клерком
из Темпла, который в свои тридцать лет [на самом деле ему было
двадцать пять] выглядит на пятнадцать”. Даусон 2 февраля сооб-
щил своему корреспонденту: “Дориан” Грей [прочел] несколько
очень красивых и малопонятных стихотвореньиц в самой распо-
следней манере французских символистов”. В следующем месяце
Уайльд заявил, что намерен опубликовать в “Форт-найтли ревью”
статью, озаглавленную “Новый поэт”, и ждет только одного —
чтобы Грей написал достаточно стихов для такого представления.
Считалось, что Уайльд и Грей были любовниками, и при-
чин сомневаться в этом нет. Две фразы из уайльдовского романа,
которые кто-то написал Дориану, — “Мир стал иным, потому что
в него пришли вы, созданный из слоновой кости и золота. Изгиб
ваших губ переделает заново историю мира”, — возможно, обра-
щены Уайльдом к Джону Грею. Какое-то время Грей был захвачен
и ошеломлен; как заметил Бернард Шоу, он был “одним из самых
подобострастных последователей Уайльда”. Но внимание Уайльда
не было сосредоточено на нем одном.
Он питал особое пристрастие к студентам университета, кото-
рый сам окончил. В середине февраля 1890 г. он ездил в Оксфорд—►
главным образом, потому, что Театральное общество Оксфор-
дского университета попросило его совета по поводу постановки
пьесы Браунинга “Страффорд”. Находясь там, он посетил Пей-
тера и, возможно, именно от него услышал о Лайонеле Джон-
соне — новом поэте из Нью-колледжа. Желая повидать Джонсона,
Уайльд в полдень отправился в Нью-колледж, но ему было сказано,
что Джонсон еще не вставал. Он послал ему записку, где “сми-
ренно” просил его встать и принять его. Джонсону, который читал
в постели Т. X. Грина, больше в тот день читать не довелось. Он
написал приятелю: “Я нашел его настолько же восхитительным,
насколько Грин скучен. Он с неимоверной легкостью рассуждает
обо всех и каждом: превозносит “Дайел” [издаваемый РиккетсоМ
и Шанноном]; смеется над Пейтером; выкурил все мои сигареты.
1 «Клубрифмачей” — поэтический кружок, регулярно собиравшийся
в начале 1890-х гг. в ресторане “Чешир чиз” на Флит-стрит. (Примеч.
перев.)
я в него просто влюбился”. Уайльд пообещал прийти еще раз,
но театральные дела ему помешали; потом, уже из Лондона, он
послал “дорогому мистеру Джонсону” письмо, в котором хвалил
его стихи и выражал надежду на более короткое знакомство.
В том же Нью-колледже Уайльд подружился и с полубезумным
поэтом Джоном Барласом, который грозился взорвать здание пар-
ламента. Когда в 1891 г. Барласа взяли под стражу, Уайльд с еще
одним другом Барласа отправился в Уэстминстерский полицей-
ский суд, чтобы лично поручиться за арестованного. По дороге
спутник рассказал ему, что Барлас считает себя неким заново
родившимся библейским персонажем и ему кажется, что люди при
встрече с ним выказывают ему почтение, складывая руки крестом.
Услышав об этом, Уайльд сказал с великой серьезностью: “Друг
мой, когда я думаю о том, сколько вреда принесла людям Библия,
меня охватывает стыд”. Им удалось убедить судью выпустить Бар-
ласа под их поручительство.
Более радикальным последователем Уайльда, нежели Джонсон
и Барлас, был Макс Бирбом, который познакомился с Уайльдом
в 1888 г., еще будучи учеником школы Чартерхаус, и стал его дру-
гом в начале 1890-х гг., когда его брат Герберт Бирбом Три поставил
пьесу Уайльда. Бирбом был быстр и смышлен; Уайльд научил его
быть медлительно-томным и абсурдным. Бирбом называл Уайльда
“Божеством”; Уайльд говорил, что Бирбом наделен “даром вечной
старости”. Если Уайльд восславлял маску, то Бирбом в своих пер-
вых эссе восславил maquillage1; если Уайльд написал “Дориана Грея”
о человеке и его портрете, то Бирбом написал книгу “Счастливый
лицемер” о человеке и его маске. В некоторых отношениях ученик
превзошел учителя; Уайльд жаловался Аде Леверсон: “Он играет
словами так, как люди играют чем-то самым любимым. Когда вы
остаетесь с ним наедине, Сфинкс, не снимает ли он с себя лицо,
обнажая маску?” “Зюлейка Добсон” Бирбома с ее изысканным
легкомыслием — это попытка соперничества с “Как важно быть
серьезным” Уайльда. Разговор о павлинах и прочих дарах в этом
романе взят непосредственно из уайльдовской “Саломеи”. Бирбом
восхищался, учился и сопротивлялся; зная о гомосексуальности
Уайльда и не желая идти за ним в этом направлении, он отдалился
от него. Он создал ряд жестоких карикатур на своего учителя, про-
явив неблагодарность к нему; но такое же сочетание неблагодарно-
сти с близостью отличало и других последователей Уайльда.
Идеи и сюжеты, которые Уайльд разбрасывал, его юные поклон-
ники порой употребляли в дело. РоманистУ. Б. Максвелл, кото-
рый еще мальчиком услышал от Уайльда немало историй, записал
1 Грим (фр.).
377
одну из них и опубликовал от своего имени. Он признался в этом
Уайльду, который вначале нахмурился, но затем с улыбкой ска-
зал: "Украв мой рассказ, вы поступили как джентльмен, но, утаив
от меня эту кражу, вы нарушили кодекс дружбы”. Внезапно он
заговорил совершенно серьезно: "Историю о человеке и его пор-
трете, которую вы от меня слышали, я настоятельно прошу вас
не трогать. Никоим образом! Она мне нужна самому. Я всерьез
намерен написать об этом и был бы страшно удручен, если бы
меня опередили”. Это было первое упоминание о “Портрете
Дориана Грея”, прозвучавшее, по словам Максвелла, за несколько
лет до начала работы над книгой.
Писание Дорианова портрета
— Пойми* Гарри. — Холлуорд посмотрел в глаза
лорду Генри. — Всякий портрет* написанный
с любовью* — это* в сущности* портрет самого
художника* а не того* кто ему позировал.
Эстетизм был для Уайльда не религией, а проблемой. Анализ
его следствий дал ему тему для романа, и уайльдовский вердикт
был смесью серьезной поддержки и иронической критики эсте-
тизма; Бирбом счел эту позицию плодотворной и позднее взял ее
на вооружение. Готье проповедовал ледяной эстетизм — Уайльд
не пошел за ним, хотя порой ему нравилось делать вид, что он
следует подобным рецептам. Лозунг "искусство для искусства”
давно уже не был его лозунгом. Однако в “истории о человеке
и его портрете” он увидел большую часть ингредиентов, кото-?
рые хотел пустить в ход в романе. "Цель человеческого бытия —>
стать произведением искусства”, — писал он. “Дориан Грей” был
одним из двух созданных им изображений человека в состоянии
упадка; вторым стал "De Profundis”, который он сам назвал авто-
портретом. Роман Уайльда перекликается с произведениями дру-
гих авторов. В романе Генри Джеймса “Трагическая муза”, опу-
бликованном в 1890 г., эстет Габриэль Нэш наделен некоторыми
чертами Уайльда, включая эстетический космополитизм, который
вызвал неодобрение Джеймса еще в 1882 г. На вопрос Ника Дор-
мера: “И все же, разве мы не живем оба в Лондоне, в девятнадца-
том веке?” Нэш отвечает: “Нет уж, увольте, дорогой мой Дормер.
Я не живу в девятнадцатом веке. Jamais de la vie! — “И в Лон-
1 Никогда в жизни! (фр.)
доне не живете?” — “Отчего же, живу — когда мне надоедает
Самарканд”. Нэш позирует для портрета, но вдруг исчезает; никто
не знает, куда он скрылся, и его неоконченное изображение тает
на холсте, улетучиваясь так же бесследно, как оригинал. Джеймс
хотел этим сказать, что эстетизм, безразличный к живым кон-
кретным деталям, способен дать своим адептам лишь иллюзорное
существование. Джеймс был весьма суров к эстетизму; Уайльд
тоже был к нему суров — по крайней мере, в своем романе.
Уайльд любил рассказывать истории о портретах. Чарлз Рик-
кетс вспоминает о том, как некто в присутствии Уайльда стал
с восхищением говорить о портрете Анны Клевской работы Голь-
бейна. Как известно, Генрих VIII был поражен ее безобразием.
“Вы думаете, она действительно была безобразна? — спросил
Уайльд. — Нет, дорогой мой, на луврском портрете она пре-
красна. Но в составе свиты, посланной за ней, чтобы привезти ее
в Англию, был один красивый молодой придворный, в которого
она без памяти влюбилась; на корабле они стали любовниками.
Что было делать? Разоблачение равнялось смерти. И тогда она
загримировала лицо, покрыв его пятнами, и облачилась в нео-
прятную одежду; она стала выглядеть дурнушкой, за которую ее
и принял Генрих VIII. А знаете, что было дальше? Прошли годы,
и однажды, когда король охотился с соколами, он услышал, как
в саду за оградой поет женщина, и, привстав на стременах, чтобы
узнать, чей же сладостный голос так восхитил его, увидел Анну
Клевскую, молодую и прекрасную, поющую в объятиях своего
любовника”.
Среди многих книг, повлиявших на “Портрет Дориана Грея”,
назывались “Шагреневая кожа” Бальзака, “Странная история
доктора Джекила и мистера Хайда” Стивенсона, “Фауст” Гете,
“Сидония” Майнхольда. Этот список можно продолжать до бес-
конечности. Как сказал Йейтс, “Произведения искусства рождают
произведения искусства”. Но все эти вещи сравнимы с романом
Уайльда лишь отчасти. Уайльд нащупал центральный миф эсте-
тизма— миф о мстительном изображении, о произведении искус-
ства, обратившемся против своего оригинала, как сын против отца
или человек против Бога. Тему он взял классическую: “Моя пер-
воначальная идея была написать о молодом человеке, продающем
душу за вечную молодость; эта идея имеет давнюю литературную
историю, но я придал ей новую форму”, — писал он о своем
романе редактору. Новая форма возникла из локализации старой
темы в сфере современного противостояния искусства и жизни.
То, что рассказанная им история столь же стара, как история Сало-
меи, ничуть не беспокоило Уайльда. Он хотел сделать Дориана
фигурой под стать пейтеровскому Марию и гюисмансовскому Дез
379
Эссенту, не говоря уже о бальзаковском Люсьене де Рюбампре —
и это ему удалось.
Появлению “Дориана Грея” на свет предшествовали долгие
размышления. Уайльда всегда сильно занимала проблема зритель-
ного образа. Он создавал один “автопортрет” за другим: в Три-
нити-колледже затеял эксперимент с бородой, затем сбрил ее;
в Оксфорде отрастил длинные волосы и придал им волнистость;
в Париже остригся коротко и завил волосы кудрями по-древне-
римски; потом опять отрастил длинные волосы. Его одежда также
претерпела ряд трансформаций: в Лондоне это была одежда денди,
в Америке она стала outre1, впоследствии он придал ей изыскан-
ную декоративность. Неудивительно, что он часто заговаривал
о позах и масках. “Первый наш долг в жизни — выработать позу, —
заявлял он. — Ав чем состоит второй — никто еще не дознался”.
Как впоследствии утверждал и Йейтс, творческое самосозидание
начинается почти с момента рождения. Сильное впечатление
произвела на Уайльда попытка Дез Эссснта из романа Гюисманса
“Наоборот” построить художественный мир, чтобы жить в нем.
жизнью художника, и в эссе “Кисть, перо и отрава” он с одобре-
нием говорил о взгляде на жизнь как на искусство. Он, однако,
не соглашался с теми, кто видел в нем только искусственность.
считал, что в человеческой личности заложены многообразны^
возможности и что своей жизнью он являет все эти возможности,
одну за другой. ,
Неудивительно, что в его диалектике важное место занимал^ ’
портреты и зеркала. Зеркала могли быть вполне реальными, ка^|
в сказке “День рождения Инфанты”, где карлик умирает при; *1
виде своего отражения, и в любимой книге Дориана, герой кото*
рой испытывает “болезненный страх перед зеркалами, блестд^
щей поверхностью металлических предметов и водной гладью^
потому что там может отразиться увядание его красоты. Но могли-.
они быть и символическими. В притче Уайльда Нарцисс смотри^
на свое отражение в ручье, но не знает, что ручей видит в его гла*
зах только образ своей текучей красоты. В “Упадке лжи” говорится^
что не искусство отражает природу, а наоборот — природа служит
зеркалом для искусства. В предисловии к “Дориану Грею” Уайльд,
заявляет: “В сущности, Искусство — зеркало, отражающее того,
кто в него смотрится, а вовсе не жизнь”; тем не менее в романе
портрет вместо внешней красоты Дориана начинает отражать его
внутреннее уродство.
Уайльд не забывал также и о своих спорах с Уистлером; в ста-
тье “На лекции мистера Уистлера в десять часов”, опублико-
1 Утрированной, экстравагантной (фр.).
ванной в 1885 г., он заявил, что высший тип художника — это
поэт (а не живописец, как утверждал Уистлер), потому что поэт
может вложить в творение весь свой опыт, а не отдельную его
часты Уайльд был знаком с теорией Лессинга о том, что живо-
пись развивается в пространстве, а литература — во времени,
и в эссе “Критик как художник”, написанном примерно в одно
время с “Дорианом Греем”, говорил, что временной мир выше
пространственного, потому что включает в себя психическую
реакцию на свою собственную историю:
Скульптура сосредоточена в застывшем мгновении совершенства.
Образ, запечатленный на холсте, лишен духовного элемента роста или
изменения. И если тому и другому неведома смерть, то лишь оттого,
что им слишком мало ведома жизнь, ибо тайны жизни подвластны
тем, и только тем, кто подвержен воздействию времени, кто владеет
не только настоящим, но и будущим, кто способен низринуться
со славных высот или возвыситься из постыдных глубин прошлого.
Движение — эта проблема проблем изобразительных искусств —
может быть подлинно осуществлено одной лишь Литературой.
Но, замышляя свой роман, Уайльд возмечтал о преодолении
этих жанровых барьеров. Книга состоит из слов, однако словами
можно описать картину, наделенную свойствами, в которых Лес-
синг отказывал изобразительному искусству; осуществив над
моделью акт преображения, сосредоточив ее “в застывшем мгно-
вении совершенства”, портрет затем обезображивает себя, как
если бы сферой его существования являлось скорее время, нежели
пространство. “Дориан Грей” показал, как литература и живопись
могут поменяться ролями; к концу каждое из искусств возвраща-
ется в свои границы, но литература, так или иначе, одерживает над
живописью верх: существуя во времени, а не в вечности, она тем
не менее, заключает в себе портрет своего прекрасного и чудовищ-
ного героя. Хотя Уайльд и убрал из книги все намеки на Уистлера,
она словно бы продолжает их старый спор о возможностях двух
искусств. Уайльд побеждает, сведя воедино — чего не мог сделать
Уистлер — миг величия и его распад.
Эта озабоченность проблемой времени отражала уайльдовское
ощущение перемены в себе самом. Теперь, когда он утвердился
в своей гомосексуальной ориентации, он задавал себе вопрос:
был ли он таким всегда? Дориан движется от невинности к вине.
Уайльд не чувствовал себя особенно виноватым, но был ли он
когда-нибудь невинен? Не были ли его юношеские любовные
Увлечения всего-навсего притворством? Подобные вопросы тол-
кали его к созданию двух Дорианов.
- о .
JO1
О прототипах действующих лиц Уайльда спрашивали так
часто, что он потешался, давая противоречившие друг другу
ответы. Хескет Пирсон приводит один из таких ответов: Бэзил
Холлуорд, дескать, был назван так потому, что в 1884 г. Уайльд
позировал художнику Бэзилу Уорду. Окончив картину, Уорд ска-
зал: “Как было бы восхитительно, если бы вы могли оставаться
таким, какой вы есть, а портрет старился бы и увядал вместо
вас”. Этот рассказ звучал бы убедительно, если бы то, что Бэзил
Уорд написал портрет Уайльда, было хоть чем-нибудь доказано
и если бы Уайльд не распространил и другую версию. Он явно
был источником истории, опубликованной 24 сентября 1891 г.
в “Сент-Джеймс газетт”: канадская художница Фрэнсис Ричардс,
с которой Уайльд познакомился в Канаде в 1882 г., якобы написала
его портрет в 1887 г. Глядя на него, Уайльд сказал: “Как это тра-
гично! Я буду стареть, а портрет навсегда останется таким, каков
он есть. Если бы могло быть наоборот!” Еще об одной версии
сообщает Эрнест Даусон, который слышал слова Уайльда, ска-
занные 9 октября 1890 г. в доме Герберта Хорна, о том, что про-
образом Бэзила Холлуорда был Чарлз Риккетс. Это представляется
более правдоподобным хотя бы из-за гомосексуальных устремле-
ний Бэзила Холлуорда, которые в журнальном варианте выявлены
более отчетливо, нежели в книжном. Однако звучащая в романе
тема связи между искусством и страстью восходит к поэме Уайль-
да “Хармид”, герой которой проводит безумную ночь с нагой
бронзовой статуей Афины. Осквернив искусство жизнью, Хар-
мид совершил святотатство — как и Дориан, попытавшийся поме*
нять их местами. ?
Одной из причин, побудивших Уайльда сделать из этой исто-
рии книгу вместо того, чтобы вновь и вновь рассказывать ее
молодым людям вроде Максвелла, был приезд Дж. М. Стоддарта —%
филадельфийского издателя, с которым семь лет назад Уайльд был:
у Уолта Уитмена и которого он уговорил опубликовать стихотвор**
ный сборник Реннела Родда “Лепесток розы, лист яблони”. Одним
из начинаний Стоддарта был журнал “Липпинкотс мансли мэга-
зин”, и по делам журнала он прибыл в Лондон примерно в сентя-
бре 1889 г. Ему нужны были для опубликования небольшие романы,
и он пригласил на обед двух самых многообещающих потенциаль-
ных авторов — Артура Конан Дойла и Оскара Уайльда, — присо-
вокупив к ним Т. П. Гилла, члена парламента от одного из округов
Ирландии. Дойл оставил записи о состоявшемся разговоре. Было
сделано замечание об отступничестве Родда или кого-то другого»
и Уайльд в ответ сказал, предвосхищая свое эссе “Душа человека
при социализме”: “Сочувствовать страданиям друга — дело нехит-
рое, но вот радоваться успеху друга — это требует очень тонкой
натуры, для этого, по существу, надо быть подлинным индивиду-
алистом”. Он проиллюстрировал афоризм анекдотом:
Как-то раз дьявол, пересекая Ливийскую пустыню, набрел
на место, где несколько бесенят донимали святого отшельника. Пра-
ведник с легкостью пресекал их гнусные поползновения. Дьявол
наблюдал их тщетные усилия; в конце конпов он решил дать им
маленький урок. “Вы действуете слишком топорно... Дайте-ка я”.
И он шепнул святому человеку на ушко: “Твоего брата назначили
епископом Александрийским”. Мигом гримаса злобной зависти
исказила безмятежное лицо отшельника. “Вот подход, — сказал дья-
вол своим подручным, — который я бы вам рекомендовал”.
Разговор перешел на будущие войны, и Дойл впоследствии
припомнил, как Уайльд, “подняв вверх руку и придав лицу соот-
ветствующее выражение”, нарисовал гротескную сцену: “Два
химика — по одному с каждой стороны — приближаются к линии
фронта с бутылками”. Стоддарт вернул беседу в область литера-
туры. Уайльд, как оказалось, читал роман Дойла “Майка Кларк”, и,
к удовольствию автора, он похвалил его. Дойл предложил Стод-
дарту свой второй рассказ о Шерлоке Холмсе “Знак четырех”;
первому он дал эстетическое название “Этюд в багровых тонах”.
Уайльд, возможно, в ответ на данное Дойлом описание серии
ужасных убийств, рассказал свою историю, в которой заурядным
сыщикам также было делать нечего, — историю о Дориане, уби-
вающем сначала Холлуорда, а затем себя. Стоддарт тут же ударил
с обоими писателями по рукам и попросил Уайльда доставить ему
готовое произведение не позже октября. Уайльд вначале оттянул
до ноября, а в итоге прислал работу только весной следующего
года. Стоддарт требовал сто тысяч слов, но Уайльд ответил телег-
раммой: “Ста тысяч красивых слов не найдется во всем англий-
ском языке”.
“Портрет Дориана Грея” был самым пространным из его проза-
ических произведений, и с романом было много хлопот. “Боюсь, он
выйдет похожим на мою жизнь — одни разговоры и никакого дейст-
вия, — писал он в начале 1890 г. коллеге по перу Беатрис Олхазен. —
Не умею описывать действие; мои герои сидят в креслах и болтают”.
Рассказывая в книге о событиях — например, об уничтожении трупа
Холлуорда, — он старался проявлять максимум аккуратности. Знако-
мый хирург объяснил ему, как это могло быть сделано химическим
путем. Прочие трудности были также в конце концов преодолены,
и 20 июня 1890 г. роман вышел в свет, заняв страницы с третьей
по сотую июльского номера “Липпинкотс мансли мэгазин”. С этого
Дня облик викторианской литературы стал иным.
383
Дориан отвергнутый t
Душа и тело, тело и душа — какая это загадка!
В душе таятся животные инстинкты, а телу
дано испытать минуты одухотворяющие. Чув-
ственные порывы способны стать утонченными,
а интеллект — отупеть.
И в журнальном, и в книжном варианте “Дориан Грей” — роман
небезупречный. Местами эта проза выглядит деревянно-безжиз-
ненной, местами — ватно-раздутой, местами — попуститель-
ски-легкомы елейной. За шедевр эту вещь никто и не принял: по-
думаешь, мы сами могли бы не хуже. Но колдовство, непрерывно
исходящее от книги, заставляет нас судить ее по иным законам.
Уайльд придал своему роману элегантную небрежность, словно
его написание было для него развлечением, а не “тяжким долгом”
(этими словами он характеризовал манеру Генри Джеймса). Лежа-
щая в основе “Дориана Грея” легенда о попытке урвать от жизни
больше, чем она может дать, взывает к подспудным, преступ-
ным устремлениям. Они приходят в противоречие с английской
цивилизацией, предстающей во всем своем словесном блеске, что
рождает напряжение, выходящее за рамки собственно сюжету.
Уайльд вложил в книгу отрицательный вариант того, о чем он раз-
мышлял четырнадцать лет, и (в завуалированном виде) того, что
он практиковал сексуально в последние четыре года. Он мог бы
изобразить пересмотренный эстетизм в выгодном свете, как он.
сделает позднее в эссе “Критик как художник” и “Душа человека
при социализме” и как он уже сделал в “Упадке лжи”. Но нет;>
его “Дориан Грей” — это эстетический роман в высшем смысле,
не пропагандирующий эстетическую доктрину, а выявляющий ее
опасности. Пейтеровский обновленный эстетизм конца шести-
десятых — начала семидесятых подвергся насмешкам и напад-
кам Джеймса в “Родерике Хадсоне” (1876 г.), Маллока в “Новой
республике” (1877 г.), Гилберта и Салливана в опере “Нейшене”
(1881 г.), журнала “Панч” и так далее. В 1890 г. недвусмысленно
встать на его защиту было бы со стороны Уайльда запоздалым
жестом. Вместо этого он написал трагедию эстетизма, заключа-
ющую в себе предвестье его собственной трагедии. Дориан, как
и Уайльд, экспериментировал с двумя формами половой любви —
любви к женщинам и любви к мужчинам; через посредство сво-
его героя Уайльд мог распахнуть окно в свой собственный опыт
последних лет. Своим романом он заявляет, что жизнь, управ-
ляемая одной лишь чувственностью, анархична и сахморазруши-
тельна. Дориан 1рей — это лабораторный опыт. Результат отри-
384
дательный. По таким правилам жизнь прожить невозможно.
Платой за попустительство самому себе становится расправа
героя со своим портретом; этим действием, в некотором смысле
обратным тому, чего он желал, Дориан раскрывает свое лучшее
“я”, хотя бы и только в смерти. Уайльдовский персонаж приходит
к той точке, где сходятся противоположности. Непреднамерен-
ное самоубийство делает Дориана первым мучеником эстетизма.
Текст романа говорит нам: красиво плыви по поверхности —
и некрасиво сгинешь в глубинах. В ответ на нападки критиков
Уайльд написал предисловие, восславлявшее эстетизм, которому
сам роман предъявляет обвинение. “Портрет Дориана Грея”
замкнут, обращен на себя в самом что ни на есть хитроумном
смысле, как и его центральный образ.
Дориан восходит — или опускается — от жизни к искус-
ству и от него обратно к жизни. Всякое событие, как и всякий
персонаж книги, имеет скрытую эстетическую составляющую,
которой это событие, этот персонаж и мерится в конечном
итоге. Бэзил Холлуорд завершает портрет Дориана именно в тот
момент, когда лорд Генри начинает охотиться за душой молодого
человека. Хотя Уайльд в предисловии к роману утверждает: “Рас-
крыть людям себя и скрыть художника — вот к чему стремится
искусство”, Холлуорд боится, что портрет слишком откровенно
обнаруживает его любовь к Дориану, а Дориан позднее, в свою
очередь, боится, что он слишком откровенно обнаруживает его
сущность. Уайльд как автор предисловия и Уайльд как романист
подвергают друг друга деконструкции. Дориан заключает фаус-
товскую сделку (хотя никакого дьявола поблизости не видно)
о том, что он поменяется с портретом ролями и сохранится как
произведение искусства.
Но сделаться неподвластным времени не так-то легко. Его
положению неуязвимого и бесстрастного распутника угрожает
любовь. Привязанность Дориана к Сибиле Бэйн — это экспе-
римент в эстетической лаборатории. Их роман кончается так же
плохо, как роман Фауста с Гретхен; однако Сибила отличается
от Гретхен тем, что она — актриса. Поскольку она играет шекс-
пировских героинь, Дориан может эстетизировать ее в своем во-
ображении. “Разве не прекрасно, — радуется он, — что любить
меня научила поэзия, что жену я нашел в драмах Шекспира?”
На поверку, однако, выходит, что Сибила — не просто исполни-
тельница ролей; ее роковая слабость в его глазах состоит в том,
что она ценит жизнь выше искусства. Сибила теряет дар актрисы,
потому что, перестав, как прежде, предпочитать реальной жизни
бесплотные тени, она благодаря любви тянется к действительности.
Сна произносит еретические слова о том, что искусство — только
бледное отражение подлинной любви, и Дориан жестоко отлучаем |
ее от церкви: “Без вашего искусства вы — ничто!” В отчаянии она^ '
как Гретхен, отравляет себя. И даже ее смерть трактуется в эсте*
тическом ключе — вначале лордом Генри, а затем и самим Дориа-
ном. Лорд Генри находит, что она сыграла свою последнюю роль,5
которая представляется ему “необычайным и мрачным отрывком
из какой-нибудь трагедии семнадцатого века”. Он говорит: “Эта
девушка, в сущности, не жила — и, значит, не умерла”. Дориан
соглашается и с такой же легкостью заявляет: “Она снова перешла
из жизни в сферы искусства”. Только ее брат — и, помимо него,
читатель — скорбят о ней и вершат нравственный суд. Сибила
и Дориан противоположны друг другу. Она освобождается
от театрального притворства, чтобы безыскусно жить в реальном
мире, — и кончает самоубийством. Дориан пытается освободиться
от господствующей в жизни причинности, чтобы бессмертно (и,
следовательно, безжизненно) существовать в мире искусства,
и тоже кончает самоубийством. , 4
Дориан совершает первородный грех против любви, и это
приводит его ко второму преступлению. Бэзил Холлуорд узнаёт,
тайну портрета и требует, чтобы Дориан взял на себя ответствен^
ность за свои дела. За эту попытку навязать Дориану жизнь с
законами нравственной причинности Бэзил, в свой черед, дол-
жен умереть. Дориан отлично справляется как с убийством, так,
и с ликвидацией тела, словно бы в подтверждение слов Де Куинсу
об убийстве как одном из изящных искусств1. Совершив престуф^
ление, он засыпает беззаботным сном; наутро с особым тщание^
выбирает галстук и кольца и читает стихотворный сборник Готь&
“Эмали и камеи”, находя в его точеных четверостишиях ту спокойч
ную безличность, за которую во время Первой мировой войнь^
эту книгу ценили Паунд и Элиот. Друг Дориана, который помог
ему избавиться от трупа, кончает с собой, как Сибила. Немногие
уколы совести, которые Дориан чувствует, он излечивает в при>
тоне для курильщиков опиума. > .
В первых главах романа говорится о заражении Дориана идет
ями лорда Генри, в последних — о его отравлении книгой. Книга
не названа; однако на судебном процессе Уайльд согласился с тем,
что это — по крайней мере, во многом — “Наоборот” Гюисманса
Конечно, была у него на уме и другая книга, которая предшестг
вовала роману Гюисманса, — “Очерки по истории Ренессанса
Пейтера. В черновом варианте Уайльд дал этой таинственно^
книге название “Секрет Рауля”. Вымышленное имя автора —-
1 “Об убийстве как одном из изящных искусств” — эссе Томаса Д^
Куинси (1785-1859). (Примеч. перев.)
386
Катюль Сарразен — было смесью двух имен. С Катюлем Менде-
сом он познакомился несколько лет назад, а с Габриэлем Сарра-
зеном — в сентябре 1888 г.; имя Рауль пришло из книги Рашильд
“Месье Венера”. В одном из писем Уайльд говорит, что он сыграл
‘'фантастическую вариацию” на тему “Наоборот” и когда-нибудь
должен будет ее записать. Ссылки в “Дориане Грее” на конкрет-
ные главы неназванной книги намеренно неточны. Особенное
наслаждение доставляли Дориану седьмая глава, в которой герой
воображает себя то Тиберием, то Калигулой, то Домицианом,
го Гелиогабалом, и две следующих главы, где описаны преступ-
ления эпохи Возрождения. В романе Гюисманса ничего подоб-
ного нет; его герой Дез Эссент не проявляет интереса к импер-
ской мощи, а что касается ренессансных эпизодов, то они взяты
не у Гюисманса, а из книги “Итальянский Ренессанс” Джона
Аддингтона Саймондса, с которым Уайльд был знаком. Это
псевдо-“Наоборот”, это мифическое произведение, которое
оказывает на Дориана такое сильное воздействие, кажется неким
плагиатом из самого Уайльда. Герой этого романа испытал болез-
ненный страх, “когда внезапно утратил свою поразительную кра-
соту”. Гюисманс ни разу не говорит ни о красоте Дез Эссента,
ни о его удрученности из-за ее утраты. Персонаж заветной
книги Дориана боится зеркал; Дез Эссенту это не свойственно,
хотя он читает отрывок из “Иродиады” Малларме, где говорится
о подобном страхе, ощущаемом героиней. Более содержатель-
ные элементы сходства между Дорианом и Дез Эссентом — это
культ искусственно вызванных удовольствий и чередование
возвышенного с низменным. Хотя идею искусственного по-
иска чувственно-эстетических ощущений Уайльд действительно
позаимствовал у Гюисманса, он наделил своего Дориана особым
интересом к драгоценностям, для чего ему, похоже, не пришлось
прибегать к французским источникам. Он взял все подробности
из каталогов Южно-Кенсингтонского музея, где описаны музы-
кальные инструментаы, драгоценные камни, вышивка, кружева
и ткани.
Когда Дориан жалуется лорду Генри на то, что он отравил его
книгой, его друг протестует: “А “отравить” вас книгой я никак
не мог. Этого не бывает. Искусство не влияет на деятельность
человека, — напротив, оно парализует желание действовать.
Оно совершенно нейтрально1. Так называемые “безнравствен-
ные” книги — это те, которые показывают миру его пороки, вот
и все”. Однако именно книга довела в жизни Дориана до конца
что начал лорд Генри. Уайльд не позволяет нам согласиться
Уайльд употребляет слово sterile — “стерильно”.
о —
>О/
с мнением Уоттона: нам уже известно, что сам лорд Генри в шест4 1
надцать лет был потрясен прочитанной им книгой. Она также. '
не названа, однако из разговоров лорда Генри становится ясно^
что это за книга. Он постоянно цитирует или перефразирует
без указания источника “Очерки по истории Ренессанса” Пей*
тера. Плагиат — худший из его грехов. Он без зазрения совести
использует самые известные пейтеровские пассажи. Пейтер побу-
ждает читателей “всегда находиться в том фокусе, где жизненные
силы сосредоточиваются в наибольшем числе и с наичистейшей
энергией”; лорд Генри вторит ему (хотя и опускает эпитет “наи-
чистейший”): “Проявить во всей полноте свою сущность — вот
для чего мы живем”. Пейтер говорит, что мы не должны позволять
никаким “теориям, идеям или системам” принуждать нас “при-
нести в жертву какую бы то ни было часть нашего опыта”. Лорд
Генри идет дальше: “И мы расплачиваемся за это самоограничение.*
Всякое желание, которое мы стараемся подавить, бродит в нашей
душе и отравляет нас. А согрешив, человек избавляется от влече-
ния к греху, ибо осуществление — это путь к очищению... Един-
ственный способ отделаться от искушения — уступить ему. А если1
вздумаешь бороться с ним, душу будет томить влечение к запрет^
ному... ” Уайльд и сам был способен развивать подобные взгляды^
что он и делал в разговорах с Андре Жидом; но в устах лорда Генриг
это не более чем песня соблазнителя о вреде воздержания. Сход^
ним образом, пейтеровская проповедь нового гедонизма, обре^
таемого благодаря искусству, которое “воистину не обещает НЙМ
ничего, обещает лишь придать высшее качество нашим преходай|
щим мгновениям — только ради самих этих мгновений”, подобйЙ^
новообретенному представлению Дориана о жизни по ту стбЙ
рону аскетизма и распутства — представлению, которое “научив
людей во всей полноте переживать каждое мгновение жизни, иб^
и сама жизнь — лишь преходящее мгновение”. Пейтер по просьбе^,
Уайльда написал на его роман рецензию, где отметил, что гедонизМ'
Дориана и лорда Генри чужд высшим наслаждениям, которые мьГ
испытываем, проявляя благородство и самоотречение.
Оправдывая себя, Дориан словно бы обращает это сообра-
жение в его противоположность:
Бессмысленное, упрямое отречение, уродливые формы самоистя-
зания и самоограничения, в основе которых лежал страх, а результа-
том было вырождение, безмерно более страшное, чем так называемой
“падение”, от которого люди в своем неведении стремились спастись.
Недаром же Природа с великолепной иронией всегда гнала анахорё*
тов в пустыню к диким зверям, давала святым отшельникам в сггу^
ники жизни четвероногих обитателей лесов и полей. i
388
%
В эссе “Критик как художник” Уайльд по существу повторяет
эти мысли с полным одобрением:
Самообуздание — не более чем средство задержать собственное
развитие, а самопожертвование — это остаток дикарского ритуала
членовредительства, напоминание о том преклонении перед болью,
которое в истории принесло столько зла, да и сейчас каждый день
требует новых жертв, воздвигнув свои алтари.
По беспечности, нетерпению или просто из прихоти Уайльд
порой словно забывал, что его персонажи должны доводить эсте-
тические воззрения до крайности, и вкладывал им в уста свои
собственные суждения. Но, если не считать этих отступлений,
он держался первоначального плана: лорд Генри — человек, отго-
родивший себя от жизни нежеланием исполнять накладываемые
ею обязательства. Уоттон отвергает душу, отвергает страдание,
считает искусство болезнью, а любовь иллюзией. Он ошибается,
считая, что книги не могут влиять на поведение, — ведь на его
поведение они повлияли; он ошибается, восхваляя жизнь Дориана
как произведение искусства, — ведь эта жизнь кончается крахом.
Дориан с одобрением цитирует одно из ошибочных высказыва-
ний Уоттона: “Стать, как говорит Гарри, зрителем собственной
жизни — это значит уберечь себя от земных страданий”. Защи-
щая свою книгу от нападок, Уайльд объяснял: “Лорд Генри Уот-
тон хочет быть в жизни всего лишь зрителем. Но выясняется, что
те, кто уклоняется от битвы, получают более тяжелые раны, чем
те, кто в ней участвует”. Культивировать искусство, не связанное
с жизнью, — значит пытаться разжечь костер без дров. Художник
не может быть ледяным существом, ваяющим в мраморе, каким
ему предписывал быть Готье. Тем не менее, согласно словам Дез
Эссента, на которые не всегда обращают должное внимание, эсте-
тизм в основе своей есть влечение к идеалу, к неведомой вселен-
ной, к вечному блаженству, столь же желанному, как блаженство,
обещанное нам Писанием.
“Дориан Грей” — это не только роман об эстетизме; это еще
и одна из первых попыток внести в английскую прозу тему
однополой любви. Должным образом завуалированная трак-
товка этой запретной темы дала книге скандальную известность
и оригинальность. Как Уайльд написал в эссе “Душа человека
при социализме”, “любая попытка расширить тематику искусства
воспринимается публикой крайне болезненно; и тем не менее
жизнеспособность и развитие искусства в немалой степени
°пределяются постоянным расширением его тематики”. Нельзя,
конечно, утверждать, что все главные герои романа — гомосексу-
389
алисты; но что они собой представляют? Лорд Генри женат лишь,
номинально; жена оставляет его вовсе, и он скорее доволен этим>
нежели опечален. Он снимает домик в Алжире для себя и Дори-
ана (эти края облюбовали для отдыха английские гомосексуа-
листы), и его старания осеменить друга духовно, мягко говоря,
двусмысленны. Дориан губит как мужчин, так и женщин, словно
его любовь в обоих вариантах может быть истинной, лишь оста-
ваясь безнравственной. Как и в “Наоборот”, обе формы любви
здесь тронуты порчей. Холлуорда убивает человек, которого он
безумно любит. Для живописи Холлуорда лицо Дориана было
тем же, чем фигура Антиноя — для греческой скульптуры.
Неудивительно, что Холлуорд на одном из портретов изобразил
Дориана “в венке из тяжелых цветов лотоса... на носу корабля
императора Адриана”. Дориан прекрасно понимает, какого рода
любовь он возбудил в Бэзиле: “Нет, это любовь такая, какуф
знали Микеланджело, и Монтень, и Винкельман, и Шекспир”.
Как Пруст, Уайльд разыгрывает тему однополой любви в одной
лишь несчастливой тональности. Склонности самого Дориана,
читателю вполне ясны; как и Уайльд, его герой неравнодушен
к переодеванию, причем однажды он наряжается французским
адмиралом Анн де Жойезом, который был таким же милым
дружком Генриха III Французского, каким Гэйвстон был для
Эдуарда II Английского; Дориан любит разглядывать портре^
своего предка Филипа Герберта, который “был любимцем двора*
[а в журнальной версии — короля Якова I] за свою красоту”,
На вполне определенные мысли наводит и самоотождествлениа
Дориана с Гелиогабалом, который, “раскрасив себе лицо, сиде^
за прялкой вместе с женщинами и приказал доставить богиця^
Луны из Карфагена, чтобы сочетать ее мистическим бракоц
с Солнцем”. Духовное наследие оказывает на Дориана сильнее
воздействие. Неудивительно, что романистка Уида1, с которой
Уайльд был знаком и которой он послал экземпляр романа, ска*
зала, что вполне понимает, о чем в нем идет речь. u
В трех главных персонажах Уайльд видел разные грани себя,
самого. В одном из писем он объяснил: “Бэзил Холлуорд — это
я, каким я себя представляю; лорд Генри — это я, каким меня
представляет свет; Дориан — это я, каким бы я хотел быть, возг
можно, в иные времена”. В некоторых частностях история ДорИг
ана смыкается с жизнью Уайльда: о Дориане тоже говорили, что
он “намерен перейти в католичество”; он приобщился к мистИ*
цизму, как Уайльд — к масонству. Дориана едва не забаллотиро-
1 Под этим псевдонимом писала Мария Луиза де ла Раме (1839-1908)^
(Примеч. перев.)
вали в Вест-Эндском клубе; Уайльда задело, когда его вычеркнули
из списка потенциальных членов Сэвил-клуба. Уайльд сообщает
нечто о себе и своих литературных занятиях, говоря, что Дориан
‘'часто увлекался идеями, заведомо чуждыми его натуре, подда-
ваясь их коварному влиянию, а затем, постигнув их сущность,
насытив свою любознательность, отрекался от них с тем равно-
душием, которое не только совместимо с пылким темпераментом,
но, как утверждают некоторые современные психологи, часто
является необходимым его условием”. Четырьмя годами раньше
он писал Гарри Мариллиеру о “странной смеси страсти с без-
различием” в нем самом. В лорде Генри отразилось юношеское
увлечение Уайльда Пейтером, хотя некоторые изречения лорда
Генри об искусстве, женщинах и Америке — типично уайльдов-
ские. Как бы то ни было, он — глашатай эстетизма, дошедшего
до крайности и потому ставшего бесчувственным. Уайльду, несо-
мненно, близки также добросердечие Холлуорда и его восторг
перед красотой молодых мужчин, как и сила его художнического
воображения. Но Уайльд крупнее, чем все три его персонажа, вме-
сте взятые; каждый из них являет собой результат искажения или
сужения его личности, и ни в одном нет ни его душевной щедро-
сти, ни его чувства юмора, ни его творческой мощи.
Публикация “Дориана Грея”, пусть даже пока лишь в журналь-
ном варианте, принесла Уайльду все внимание, какого он только
мог пожелать. А вот для его жены поднявшаяся шумиха была чрез-
мерной. “Теперь, когда Оскар написал “Дориана Грея”, все пере-
станут с нами разговаривать”, — посетовала она. Что касается
матери Уайльда, то она была в восторге: “Это великолепнейшее
произведение, лучшее из всей нынешней беллетристики... Читая
концовку, я едва не лишилась чувств”. Об одном из аспектов воз-
действия романа можно судить по словесной дуэли, развернув-
шейся 4 июля 1891 г., когда Уайльд по приглашению явился в Краб-
бст-клуб. Джордж Керзон согласился выступить в роли оппонента
и привести резоны против членства Уайльда в клубе. Уилфрид
Скоуэн Блант пишет:
Он учился в Оксфорде в одно время с Уайльдом и, зная все его
маленькие слабости, не пощадил его, сыграв с поразительной дерзо-
стью и остроумием на его репутации содомита и на трактовке этой
темы в “Дориане Грее”. Бедный Оскар, грузный и обмякший, сидел
в кресле и беспомощно улыбался... (Он сидел слева от меня, и, когда
он поднялся, чтобы ответить, я пожалел его — критика была не слиш-
ком честной.) Но, начав говорить, он мало-помалу приободрился
и воодушевился, и у него получилось великолепное, увлекательное
выступление. Этот эпизод памятен мне потому, что два года спустя,
391
когда Оскара привлекли к настоящему суду, его линия защиты была
в точности такой же, как в этой импровизированной речи в Краббеть.
клубе. ।
Уайльд не удовлетворился самозащитой. Он рассказывал потом
Фрэнку Харрису, что осмеял в этой речи посредственные спо-
собности Керзона, с превеликим трудом окончившего Оксфорд
по второму разряду и с превеликим же трудом строившего свою
второразрядную карьеру. Но, так или иначе, в Краббет-клуб он
больше не приходил.
У ряда рецензентов книга вызвала резкое неприятие, и Уайльд
отважно писал развернутые, убедительные ответы на критику.
Его письма в редакции периодических изданий хороши в своем
жанре. Главные обвинения против романа были таковы: он затя-
нут и скучен; действующие лица — "никчемные повесы”; цель
книги — самореклама; книга безнравственна. Что касается скуки,
Уайльд возражал: напротив, "роман чересчур насыщен неверо-
ятными событиями и чересчур парадоксален стилистически...
Я чувствую, что эти его особенности с точки зрения искусства
являются недостатками. Но затянут и скучен — нет уж, извините”.
Насчет повес он соглашался: “Да, конечно, они повесы. О повесах
и повесничанье писал и Теккерей, и литература после этого, слава
богу, выжила и не повесилась — или рецензент думает иначе??
По поводу саморекламы Уайльд писал:
Без тени тщеславия могу заявить — хотя я вовсе не хочу при*
нижать тщеславие, — что из всех жителей Англии я в наименьшей
степени нуждаюсь в рекламе. Я до смерти устал от рекламы; при виде
своего имени в газете я не ощущаю ни радости, ни волнения... Эту
книгу я написал исключительно ради собственного удовольствий
Мне совершенно безразлично, будет она пользоваться успехом или:
нет.
На обвинение в безнравственности он отвечал, как Колридж
на критику его “Сказания о Старом Мореходе”, что “Дориан Грей”
даже чересчур нравственен. Он так выразил основную идею книги:
“всякое излишество, как и всякое самоограничение, несет в себе
наказание”. Закавыка, правда, в том, что самоограничения как
такового в книге нет и, хотя Дориан Грей говорит, что анахореты
и отшельники так же родственны диким зверям, как сибариты, это
положение не проиллюстрировано художественно. Более оправ*
данно высказывание Уайльда о том, что “в попытке убить совесть
Дориан Грей убивает себя”; это звучит как некая итоговая мораль?
в которой Уайльд находил “этическую красоту”. Что касается >
морали эстетической — она в том, что люди, которые хотят быть
всего лишь зрителями, обнаруживают, что следят не столько они,
сколько за ними; и еще в том, что стремление стать эстетическим
объектом, находящимся вне времени, равносильно стремлению
к смерти. В письме редактору “газеты, именующей себя “Дейли
кроникл”, Уайльд писал: “Моя книга — этюд об изобразительном
искусстве. Она чужда тупому, грубому, унылому реализму. Да, это,
если хотите, отравляющая книга — но вы не можете отрицать, что
она совершенна, а совершенство есть то, к чему мы, художники,
стремимся”. Свою переписку с “Сент-Джеймс газетт” он закончил
словами: “Вы напали на меня первыми — следовательно, я имею
право на последнее слово. Пусть же последним словом будет
настоящее письмо, и оставьте, прошу Вас, мою книгу бессмертию,
которого она заслуживает”.
За неприятным обменом мнениями с этой газетой последо-
вал визит Уайльда к ее редактору Сидни Лоу, которого он знал
по Оксфорду. Лоу вызвал своего сотрудника, некоего Сэмюэля
Генри Джейза, который написал рецензию под названием “Этюд
о повесничанье”. Уайльд настаивал на том, что никакие теорети-
ческие рассуждения об искусстве не могут служить основанием
для нападок личного характера. Джейз перешел в наступление:
“Зачем тогда, скажите на милость, писать прямо и намеками то,
за что вы потом отказываетесь отвечать?” Уайльд ответил: “Я готов
отвечать за каждое слово, что я написал, и за все, на что я намек-
нул в “Дориане Грее”. — “Тогда, — заявил Джейз, — могу сказать
только одно: отвечать вам придется на Боу-стрит1”1 2. Три дня спу-
стя Уайльд разыскал Лоу в Уайтфрайерз-клубе и имел с ним долгий
разговор о “Дориане Грее”, после чего тон “Сент-Джеймс газетт”
стал более умеренным.
Первая реакция на роман побудила Уайльда сочинить серию
афоризмов, которую он вначале озаглавил “Догмы для престаре-
лых”. Два его изречения привлекли внимание Джеймса Джойса
и в измененной форме вошли в его роман “Улисс”: “Ненависть
девятнадцатого века к Реализму — это ярость Калибана, увидев-
шего себя в зеркале. Ненависть девятнадцатого века к Роман-
тизму — это ярость Калибана, не находящего в зеркале своего
отражения”. Иные из уайльдовских фраз читаются как отповедь
1 На этой лондонской улице находится здание главного уголовного
полицейского суда. (Примеч. перев.)
2 В 1895 г., когда Уайльд был приговорен к тюремному заключению,
Джейз написал редакционную статью (опубликованную 27 мая), где
утверждал, что “Сент-Джеймс газетт” в свое время была права, заявив,
что “Дорианом Греем” должна заниматься не критика, а полиция.
гаг
критикам: “Те, кто в прекрасном находят дурное, — люди испори "
ченные, и притом испорченность не делает их привлекательными.
Это большой грех”. “Нет книг нравственных и безнравственных.
Есть книги хорошо написанные и написанные плохо. Вот и все*
(Однако именно книга довершает совращение Дориана.) “Порок
и добродетель — материал для творчества”. “Если произведение
искусства вызывает споры, — значит, в нем есть нечто новое, слож-
ное и значительное”. Чтобы пресечь разговоры об аморальности
романа, Уайльд заявил, что он лежит вне сферы морали (несмотря
на то, что роман показывает заблуждения, связанные с ложным
и избыточным эстетизмом).
Уайльд отдал свое “Предисловие” (так он назвал это краткое
собрание афоризмов) Фрэнку Харрису в “Фортнайтли ревью*.
Харрис попытался убедить его изъять несколько афоризмов, кото-
рые он счел слабыми. Уайльд внимательно его выслушал, но на сле-
дующий день сказал, что Харрис назвал слабейшими как раз силь-
нейшие из них и что печатать нужно всё без исключения. Харрис
согласился, и в марте 1891 г. “Предисловие” вышло в свет. Почва
для публикации романа отдельной книгой (это произошло месяц
спустя) была подготовлена. Уайльд писал Аде Леверсон: “Я с тра-
гическим ощущением думаю о том, насколько хорошо “Дориан
Грей” был понят всеми сторонами”. Он добавил несколько глав
и по настоянию Пейтера исключил отчетливо гомосексуальную ,
фразу о влечении Холлуорда к Дориану. Его друг Коулсон Керна*- 1
хан убеждал его убрать слова: “Единственный способ отделаться
от искушения — уступить ему”. Уайльд отказался, написав Керна-
хану: “Это всего лишь лютеровское “Ресса Fortiter”1, театрально-
сти ради вложенное в уста персонажа”. Сделав еще ряд поправок,
он обратился в издательство “Макмиллан” и получил отказ на том
основании, что роман якобы содержит неприемлемые элементы.
В итоге напечатать книгу согласилась маленькая фирма “Уорд,
Локк и К°”. Уайльд готовился ненадолго уехать в Париж, но перед
тем попросил Кернахана просмотреть корректуру и проверить
правильность употребления вспомогательных глаголов will и shaft
в отношении которых он “как истый ирландец” всегда чувство-
вал себя неуверенно. Потом, уже из Парижа, пришла телеграмма:
‘Задержите корректуру. Уайльд”. Вернувшись в Лондон, он при-
ехал в кебе, чтобы внести последнее исправление. В журнала
ном варианте багетчик носит фамилию Эштон. Это не годите^
‘Эштон — фамилия для джентльмена. А я дал ее торговцу. Надо
1 Часть изречения Мартина Лютера "Esto peccator et ресса fortiter” J
"Будь грешником и греши смело” (лат.), (Примеч. перев.) ' д-
394
заменить на Хаббард. От фамилии Хаббард так и веет торговлей”.
Так и сделали — Хаббард1.
“Дориан Грей” вышел отдельной книгой в апреле 1891 г. Почти
сразу же крупнейшая книготорговая фирма “У. Г. Смит” отказа-
лась распространять этот “грязный” роман. Но журналы “Атенеум”
и “Тиэтр” поместили уважительные рецензии. Пейтер, который —
если верить Фрэнку Харрису — отказался написать для “Форт-
найтли ревыо” положительный отзыв на журнальный вариант,
назвав роман “опасным”, на сей раз дал заметку в журнал “Бук-
мен”. Будучи теперь, по выражению Д. С. Макколла, признанным
“святым угодником чувственности”, он утверждал, что лорд Генри
Уш гон (изрекающий немало пейтеровских сентенций) не явля-
ется подлинным киренаиком1 2 или эпикурейцем. Нов остальном
он был восхищен книгой.
Воздействие “Дориана Грея” было очень сильным. Никакой
другой роман так много лет не привлекал к себе такого внимания
и не возбуждал в читателях таких противоречивых чувств. Макс
Бирбом написал об этой книге свою “Ballade de la Vie Joyeuse”3,
а Лайонел Джонсон, который, в числе прочих, получил от автора
1 В Париже 11 марта 1891 г. Уайльд, Шерард и Карлос Блэккер были
у Золя. “Ваш визит для меня — большая честь”, — сказал Золя. Когда
речь зашла о его романе “Война”, он сказал, что должен поехать
в Седан и осмотреть поле боя. А перед тем — изучить горы доку-
ментов о Франко-прусской войне. “Следовательно, вы абсолютно
убеждены в незаменимости документов для романиста?” — спросил
Уайльд. “Абсолютно. Не может быть хорошего романа без докумен-
тальной основы”. — “Вчера я то же самое сказал у Доде, — согла-
сился Уайльд. — Когда я писал моего “Дориана Грея”, я изучал длин-
ные списки ювелирных изделий. И немало часов провел над ката-
логом, опубликованном одной садоводческой фирмой, потому что
мне нужны были названия некоторых цветов и их точные описания.
Невозможно соткать роман, вытягивая нить у себя из мозга, как паук
плетет паутину, извлекая волокно из брюшка”.
Но с Максом Бирбомом Уайльд был более откровенен: “Когда
он берется за книгу, он непременно заимствует материал прямо
из жизни. Хочет написать о несчастных людях, живущих в лачугах, —
идет и сам живет в лачуге месяц за месяцем, иначе, мол, невозможно
соблюсти точность. Странно это. Вот возьмите меня. Я замыслил
великолепнейшую повесть из всех, что когда-либо были сочинены.
Время действия — восемнадцатый век. Мне нужно потратить одно
утро на изучение литературы в Британском музее. Поэтому, —
вздохнул он, — повесть никогда не будет написана”.
2 Киренаики — последователи Аристиппа из Кирены (2-я пол. V —
нач. IV в. до н.э.), который считается основоположником гедонизма.
(Примеч. перев.)
3 “Балладу о веселой жизни” (фр.).
экземпляр, сочинил пылкое и остроумное латинское стихотвс
рение: <
i
In Honorem Donam Creatorisque Ems |
I
Benedictus sis, Oscare! I
Qui me libro hoc dignare *
Propter amicitias: Modo modulans
Romano Laudes dignas Doriano,
Ago tibi gratias.
Juventutis hie formosa
Floret inter rosas rosa,
Subito dum venit mors:
Ecce Homo! Ecce Deus!
Si sic modo esset meus
Genius misericors!
Amat avidus amores
Miros, miros carpit flores
Saevus pulchritudine:
Quanto anima nigrescit,
Tanto facies splendiescit,
Mendax, sed quam splendide!
Hie sunt poma Sodomorum;
Hie sunt corda vitiorum;
Et peccata dulcia.
In excelsis et infernis,
Tibi sit, qui tanta cernis,
Gloriamum gloria.
Lionellus Poeta1.
1 В честь Дориана и его творца ч
Благословен будь, Оскар, почтивший меня этой книгой во имя
дружбы. Сочиняя на латыни похвалы в честь Дориана, благодарю тебя»
Эта прелестная роза юности цветет среди роз, пока внезапно не явится
смерть. Се, Человек! Се, Бог! Если бы только мой гений-покровител1>
был так же милостив!
Он алчно любит диковинными Любовями и, яростный в своей красоте,
срывает диковинные цветы. Чем темней его душа, тем великолепней^
лицо, он лжет — но как! •*
Здесь яблоки Содома, здесь сердцевины пороков и сладостные грехи»
На небесах и в преисподней слава тебе, понимающему столь многое^ -
Поэт Лионель (лат.)^
А в переводе с латыни все это означает: тысячекратное спасибо.
В оксфордском колледже Mai далины учился молодой родствен-
ник Джонсона, окончивший Уинчестерскую школу. Джонсон дал
ему почитать свой экземпляр "Дориана Грея”, и вскоре родственник
был "страстно поглощен” этим романом. Он прочел его не то девять
раз, не то, как он сказал Артуру Саймонсу, "четырнадцать раз под-
ряд”. При первой же возможности, которая, кажется, представилась
в конце июня, он отправился с Джонсоном к Уайльду на Тайт-стрит.
Это была первая встреча Оскара Уайльда и лорда Альфреда Дуг-
ласа. У младшего сына маркиза Куинсберри были светлые волосы
и бледное алебастровое лицо; он был еще красивее, чем Джон Грей,
и еще менее талантлив. Телосложение хрупкое, рост, по его сло-
вам, — пять футов девять дюймов (хотя Уайльд считал его мало-
рослым). Друзья, в которых он никогда не испытывал недостатка,
находили его очаровательным. На деле же он был крайне избалован,
безответствен, высокомерен и, если ему вставали поперек дороги, —
яростно мстителен. Уайльд увидел только его красоту; польщенный
его похвалами в адрес "Дориана Грея”, он подарил ему роскошно
изданный экземпляр романа. Узнав, что Дуглас изучает в Оксфорде
классиков, Уайльд вызвался консультировать его.
Шесть лет спустя Анри Даврэ (один из переводчиков Уайльда)
помог подвыпившему Лайонелу Джонсону добраться до дому.
На уме у обоих были Уайльд и Дуглас. Джонсон пьяно уставился
на их портреты, висевшие у него на стене, и простонал: "Моп
Dieu! Mon Dieu!”1
Уайльд в роли криминолога
Если бы мы доживали до возможности увидеть
результаты наших поступков, не исключено, что
тех, кто называет себя добропорядочными, одо-
левало бы унылое раскаяние, а те, кого принято
называть порочными, преисполнялись бы благо-
родной гордости.
В то время, однако, главным для Уайльда было другое. Если
в “Портрете Дориана Грея” эстетизм был представлен чуть ли
не с отрицательной стороны, то своими эссе "Критик как худож-
ник” и "Душа человека при социализме” Уайльд поднял его на щит.
Первое из них было опубликовано двумя частями в июле и сентя-
Боже мой! Боже мой! (фр.)
397
бре 1890 г. в журнале “Найнтинс сенчури” и слегка переработайся
для сборника “Замыслы” (1891 г.); второе вышло в свет в “Форт!
найтли ревью” в феврале 1891 г. Первое эссе во многом представ,
ляло собой окончательный расчет с Уистлером. Этот нелегки»
человек в начале 1890 г. поднял скандал, выдвинув против УаА.
льда давно набившее всем оскомину обвинение в заимствования^
из него, Уистлера. Непосредственным поводом послужило то, ч*^Ь
молодой человек по имени Герберт Вивиан, которого они оба
знали, начал печатать в “Сан” из номера в номер свои “Воспоми-
нания”. В первой публикации от 17 ноября 1889 г. он рассказал
о том, как в 1883 г. после лекции, которую Уайльд прочел студен-
там Королевской академии искусств, Уистлер спросил его, что же
он им поведал, и после каждой фразы, произнесенной Уайльдом,
вставал и кланялся, давая понять, что автор ее — он. Вивиан также
обратил внимание на то, что в эссе “Упадок лжи” Уайльд безот-
ветственно использовал шутку Уистлера из его письма, опубли-
кованного 17 ноября 1888 г. в “Уорлд”: “Оскар... имеет смелость
высказывать мнения — чужие мнения!” Свою шевелюру и ту он
позаимствовал, насмехался теперь Уистлер. Уайльд сильно раз-
гневался и на Вивиана, и на Уистлера. Он сухо отказал Вивиану
в уже обещанном предисловии к его “Воспоминаниям”, кото-
рые тот готовился издать и книгой, и запретил ему пользоваться
какими-либо своими частными письмами или высказываниями.
На обвинения Уистлера он дал язвительный ответ, хотя и взял
паузу до 9 января 1890 г., когда написал в газету “Трусе”: “Обра-
щать внимание на писания невоспитанного и невежественного
человека, каким является мистер Уистлер, — дело малоприятное
для джентльмена, однако Ваша публикация его оскорбительного
письма вынуждает меня к этому”. Шутку, которая, по словам Уист-
лера, была у него украдена, Уайльд назвал слишком старой для того,
чтобы кто-либо, включая Уистлера, мог предъявлять на нее права.
Звучало не слишком убедительно. Более обоснованным было заяв-
ление Уайльда о том, что Уистлер мало знаком с историей кри-
тики. Неделю спустя — 16 января — Уистлер дал ответ, заявив,
что Уайльд теперь “джентльмен только в своем собственном пред-
ставлении”. “И потому я со всем смирением готов признать, что
детищем моих “глупого тщеславия и бездарной посредственности
является воплощение этих качеств — Оскар Уайльд”. Искуснее, чей
в письме, Уайльд ответил Уистлеру в эссе “Критик как художник •
Подобные обвинения звучат либо из тонких малокровных гу4
бессилия, либо из абсурдных уст тех личностей, которые, не имей
ничего за душой, воображают, что сумеют прослыть богачами, громко
крича: “Грабеж!”
Итак, это эссе было декларацией Уайльда, возвещавшей его
освобождение от теорий Уистлера. Готье в предисловии к роману
“Мадемуазель де Мопен” написал: “При папе Юлии II1 никакой
литературной критики не было”, и Уистлер повторил это сужде-
ние, не сославшись на источник. Эрнест, простоватый участник
уайльдовского эссе-диалога, говорит: “В лучшие дни искусства
не было никаких художественных критиков”, на что устами Гил-
берта Уайльд отвечает: “Мне кажется, Эрнест, я уже слышал нечто
в подобном роде. Этому утверждению свойственны вся жизнеспо-
собность ошибки и вся скучная назойливость старого знакомого.
Напротив, — продолжает Гилберт, вторя Саймондсу и Пейтеру, —
греки были нацией художественных критиков”. Уайльд отвер-
гает романтическое представление об искусстве как спонтанном
извержении мощных чувств; оно, по его мнению, представляет
собой в высшей степени осознанную деятельность. “Вся дурная
поэзия имеет своим источником подлинное чувство”, — заяв-
ляет он; вслед за ним это скажет Оден. Уайльд пишет: “Великий
поэт создает песни, потому что решает их создать”, и поет он их
не от своего лица, а от лица, которое он для себя избрал: “Чело-
век в наименьшей степени является самим собой, когда он гово-
рит от первого лица. Дайте ему маску — и он скажет вам правду”.
Большая часть рассуждений Йейтса о маске берет начало от этого
эссе. Уайльд находит, что именно наша способность к критиче-
скому суждению спасает творчество от повторяемости и способ-
ствует созданию новых форм.
Излагая свой взгляд на сущность критики, Уайльд использовал
прямые и косвенные ссылки на своих оксфордских предшественни-
ков. Мэтыо Арнольд, который был в Оксфорде профессором поэ-
зии, в 1864 г. прочел лекцию “Роль критики в нынешнюю эпоху”;
эссе Уайльда “Критик как художник” первоначально называлось
‘Истинная роль и значение критики”, что представляется отзвуком
названия арнольдовской лекции. Арнольд сделал памятное заявле-
ние о том, что “задача критики — увидеть предмет таким, каков
он на самом деле”. В согласии с этим определением он потребовал
от критика “незаинтересованного любопытства”. Цель его была —
поставить критика на колени перед произведением, о котором
он пишет. Согласились с этим не все. Девять лет спустя Пейтер
написал предисловие к своему “Ренессансу”. Притворившись, что
согласен с арнольдовским определением задачи критики, он про-
цитировал его и добавил, что “первый шаг к тому, чтобы увидеть
предмет таким, каков он на самом деле, — это понять свое впечат-
Юлий II, римский папа с 1503 по 1513 г., был покровителем искусств.
(Примеч. перев.)
1ОО
ление о нем, каково оно на самом деле; выявить это впечатление/!
осознать его со всей отчетливостью”. Пейтер тонко подменил пет|
воначальный тезис, сместив центр внимания со скалы исходной^
предмета на ручейки восприятия. Тем самым он придал работа
критика большую важность и большую субъективность. Критик
должен смотреть внутрь себя с таким же вниманием, с каким с &
смотрит на объект.
Уайльд превзошел Пейтера. В эссе “Критик как художник" < и
заявил, что задача критики — увидеть предмет таким, каким <н
не является. Может показаться, что это определение согласует &
с чрезвычайно субъективными критическими работами Арнолд ха
и Пейтера о конкретных произведениях, тем более что Уайльд
использует эти работы в качестве подкрепляющих примеров.
Однако его позиция выходит за рамки их практики. Он хочет
освободить критиков от субординации, увеличить их долю в лите-
ратурном процессе. Он не запрещает им разъяснять ту или иную
книгу, но говорит, что они могут предпочесть разъяснению углу-
бление ее тайны (совет забавный, но несколько устарелый: кому
под силу углубить тайну “Поминок по Финнегану" Джойса?). Так
или иначе, критик работает в ином контексте, нежели художник,
о котором он пишет. Ибо, как художник заявляет о своей неза-
висимости от опыта (Пикассо говорит нам, что искусство есть
то, “чего нет в природе”), так и критик заявляет о своей независи-
мости от книг, о которых он пишет. “Высшая форма критики, —
утверждает Уайльд, — это разговор о своей собственной душе”.
Критик не должен разбирать отдельные, изолированные произ-
ведения — ему надлежит держать в уме всю литературу. И тогда
он и мы вместе с ним “сможем понять не только наши жизни,
но и весь совокупный дух человечества и тем самым стать абсо-
лютно современными в подлинном смысле этого слова. Чтобы
понять девятнадцатый век, мы должны понять все века, которые
предшествовали ему и внесли вклад в его формирование”.
Внимание Уайльда плавно переходит от древних примеров —
от Гомера, Платона и Аристотеля — к Данте. Он демонстрирует
возможности современного критика в овладении как греческим,
так и средневековым материалом. Он также расширяет роль кри-
тика в создании нового, сравнивая ее с обновляющей ролью пре-
ступника. Переоценивая ценности, как поступали Ницше и Жене,
Уайльд находит, что критики со временем “испытывают все мень-
ший и меньший интерес к реальной жизни, и источником впечат-
лений для них почти исключительно становится то, чего косну-
лось искусство”. Жизнь — это сплошная неудача; она неспособна
к повторению раз испытанного чувства, она подталкивает нас
к действию, тогда как красота лежит в сфере созерцания. Как ска-
40О
зал вслед за ним Джойс, эротическое и дидактическое искусство
побуждают к действию; тем сахмым порнография и пуританство
искажают эстетическое впечатление. “Эстетика выше этики. Она
принадлежит к более одухотворенной сфере”. Вместе с тем искус-
ство и критика — вещи небезопасные, поскольку они открывают
людям глаза на новые возхможности.
Эти мысли произвели особенное впечатление на одного
из читателей, а именно на Фрэнка Харриса, влиятельного редак-
тора “Фортнайтли ревью”. Он написал Уайльду: “Под страни-
цами 128-129 с радостью подписался бы сам Платон” (там речь
шла о грехе и добродетели). “В течение многих лет я был неспра-
ведлив к Вам мысленно — по невежеству свосхму, конечно; теперь
наконец я постараюсь исправиться. Несомненно, Вы — chef-de-
file1 (надеюсь, Вы не обидитесь на это бальзаковское выражение)
поколения, которое ныне в Англии вступило в пору зрелости”.
С той поры Харрис стал надежным другом и защитником Уайльда.
Позднее он написал его биографию, пострадавшую от неумения
Харриса внимательно слушать и основанную скорее на импрови-
зации, нежели на памяти. Однако именно он опубликовал в своего
журнале “Кисть, перо и отраву” Уайльда, как и еще более дерзкое
его эссе “Душа человека при социализме”.
Второе из этих произведений расширяет и заостряет аргумен-
тацию, выдвинутую в эссе “Критик как художник”, где речь идет
о прошлом и настоящехм; в “Душе человека при социализме” гово-
рится о будущем. Уайльд почувствовал, что пересмотр эстетизхма
требует от него более цельного и согласованного со всем прочим
анализа социальных и политических вопросов, нежели раньше,
когда он провозглашал облагораживание жизни посредствохм вне-
дрения в нее красоты. Стимулом для него, возможно, послужила
лекция Бернарда Шоу о социализме, хотя для Шоу социализм
значил нечто совсем иное, нежели для Уайльда. Уайльд однажды
вызвал раздражение у своего приятеля Уолтера Зихеля, приняв-
шись агитировать за социализм на тОлМ основании, что, дескать,
поступать, как тебе заблагорассудится, — это “красиво”. (Энгельс,
что удивительно, согласился со Штирнером в вопросе о важности
эгоизма — на это указывает Дьёрдь Лукач.) Эссе Уайльда было
переведено на многие языки. В основе его лежит парадоксальная
мысль: мы не должны расходовать энергию на похмощь тем, кто
незаслуженно страдает, ибо все равно только социализм может
дать людям свободу, необходимую для развития личности. Благо-
творительность бесполезна; бедные правы, презирая ее и предпо-
читая воровство хмилостыне. Требовать от бедных бережливости
Вожак, коновод (фр-).
401
столь же оскорбительно, как предписывать диету умирающему/
от голода. Говорить о благородстве ручного труда нелепо: всем!,
известно, что ручной труд ведет к деградации личности. Т
Различая типы социализма, Уайльд отвергает его авторитарный
вариант, означающий переход от нынешнего порабощения части
общества к порабощению всего общества. Он с одобрением пишф
о грядущем упразднении частной собственности, семьи и брака;
о том, что при социализме не будет супружеской ревности. Прр»
образом художника для него служит Христос, трактуемый в духе
Блейка и Д. Е Лоуренса, — Христос, который учит, как важно бы1ь
самим собой. Искусство — возмутитель спокойствия. Подобно
критике, оно спасает от унылою повторения; люди заслуживает
лучшего, нежели поколение за поколением проживать навязанного
им жизнь. Для художника лучшая форма правления — отсутст-
вие всякого правления, и тут взгляды Уайльда ближе к анархизму,
чем к социализму. “Во мне есть что-то от анархиста”, — сказал он
в интервью в 1894 г.
“Есть три вида деспотов, — говорится в пассаже, который про-
извел впечатление на Джеймса Джойса — Первый властвует над
телом. Второй — над душой. Третий — и над телом, и над душой.
I (ервый зовется Государем. Второй — Папой. Третий — Наро-
дом”. В “Улиссе” Стивен Дедал заявляет: “Я служу двум госпо-
дам — английскому и итальянскому... И есть еще третий... кото-
рый использует меня от случая к случаю”. Эти господа, объясняет
он, — “Британская империя... святая римско-католическая апо-
стольская церковь” и ирландцы, его соотечественники. Дедал тоже
не прочь был избавиться от тройного деспотизма. Христос годится
Уайльду в качестве образца, потому что он противостоит владыче-
ству деспотов. Однако у Христа есть один недостаток: он слишком
сосредоточен на страдании. А между тем искусство и жизнь стре-
мятся к одной общей цели, и цель эта — радость. Радость, которая
может быть обретена в новом эллинизме, представляющем собой
синтез всего лучшего, что есть в греческой и христианской куль-
турах.
Уайльд твердо убежден в необходимости найти оправдание
греху. Наряду с критикой, наряду с искусством “то, что назы-
вают Грехом, есть существенный элемент прогресса”. Если бы
мир лишился греха, он состарился бы и обесцветился. “Благодаря
своей пытливости [излюбленное слово Арнольда, которое Уайльд
наделил иным значением] Грех увеличивает опыт рода. Его обо-
стренный индивидуализм спасает нас от монотонной однотип*
ности. Отвергая расхожие понятия о нравственности, он принаД”
лежит к области высшей этики”. Грех полезней для общества, чем ’
мученичество, ибо он способствует самовыражению, а не самопо* j
402
давлению. Цель — освобождение личности. Когда придет время
подлинной культуры, грех станет невозможен, ибо душа научится
претворять “в элементы обогащенного опыта, утонченной вос-
приимчивости и обновленного способа мыслить — те поступки
и страсти, которые пошлые люди могли бы счесть пошлыми,
необразованные люди — низкими, грязные люди — порочными.
Опасно ли это? Да — как опасна всякая идея”.
Своими эссе Уайльд прояснил смысл “Дориана Грея”. Дориан
был прав, ища выхода из замкнутого круга повседневности, но он
был неправ, проявляя только часть — и неблагородную часть —
своей натуры. Уайльд уравновешивает две идеи, высказанные в его
диалогах и на первый взгляд взаимоисключающие: с одной сто-
роны, искусство отделено от жизни, с другой — оно тесно с ней
связано. Стерильность искусства и его заразительность — каче-
ства не столь уж непримиримые. Уайльд нигде не дает формулу
их единства, но подразумевает он примерно следующее: творя
красоту, искусство бросает миру упрек, привлекая внимание к его
несовершенствам самим своим безразличием к ним. так что сте-
рильность искусства становится прямым вызовом или иноска-
занием. Искусство способно оскорбить мир, насмехаясь над его
законами или снисходительно потворствуя их нарушению. Оно
также способно соблазнить мир, заставляя его следовать примеру,
который кажется дурным, но на деле является спасительным. Так,
двигаясь к самопознанию, в той или иной степени окрашенному
самоспасением, художник побуждает к тому же мир.
Выявив в “Дориане Грее” изъяны ортодоксального эстетизма
и показав в эссе “Критик как художник” и “Душа человека при
социализме” достоинства обновленного эстетизма, Уайльд пред-
ставил дело с максимально возможной полнотой. При всем изяще-
стве его стиля совершенно ясно, что это атака на викторианские
представления о жизни общества. То, что это общество начи-
нало распадаться, не делало его более восприимчивым к идеям
Уайльда — скорее наоборот. Он призывал общество терпимее
относиться к таким отклонениям от нормы, как гомосексуализм;
он призывал его отказаться от лицемерия, перестав закрывать
глаза на факты социальной жизни и согласившись с тем, что его
принципы до сих пор были принципами ненависти, а не любви,
наносившими ущерб личности и искусству. Искусство — самая
подлинная из всех форм индивидуализма, какие знает мир. Упо-
минание о Боу-стрит, прозвучавшее из уст Джейза в редакции
‘Сент-Джеймс газетт”, было отнюдь не пустой угрозой, но Уайльд
Действительно готов был отвечать за каждое свое слово и считал,
что не рисковать — значит не жить. Как впоследствии Жан Жене,
он провел аналогию между художником и преступником, хотя
4°3
в его представлении художник занимает более высокую ступень^
поскольку не испытывает необходимости в действии1. Бунтам^
ство и экстравагантность необходимы, если шаблоны, по которым’
общество воспроизводит себя, должны быть сломаны, — а они
должны быть сломаны. Искусство по природе своей оппозиции
онно.
Леди озера I1
Персонажи этих пьес говорят на сцене в точ- '
ности так же, как говорили бы на улице; в их
речах нет ни дыхания страсти, ни придыхании
на согласных звуках1; они взяты прямо из жизни
и воспроизводят ее вульгарность вплоть до мель-
чайших деталей; они представляют нам походку,
поведение, одежду и выговор обычных людей; сядь
они в железнодорожный вагон третьего класса, их
приняли бы за рядовых пассажиров. И при всем
том — как эти пьесы скучны!
Провал “Веры” в 1883 г. понизил Уайльда в ранге, превратив егр
из драматурга в театрала. Он неизменно появлялся на премье-
рах и театральных приемах и легко достиг положения человеку
с которым советуются по поводу готовящихся постановок и чьим '
мнением интересуются после спектакля. Примером его заинтер^*
сованности и его влияния служит помощь, оказанная им в 1888 ф?
Элизабет Робинс. Это была молодая американская актриса, стрф^
мившаяся к успеху на лондонской сцене. Уайльд впервые встр^Ц
тился с ней на приеме у леди Ситон и уделил ей внимание кац >
американке. Она напомнила ему о том, что во время его америкаН-
ского турне он познакомился с ее двоюродным братом — членом ?
филантропического общества из Сент-Луиса. Уайльд, перезнако-
мившийся с несметным множеством людей, ограничился в ответ
замечанием о “диких просторах” Америки, контрастирующих с ер
городами — например, Бостоном, который он назвал “сознательно
сотворенным” в противоположность “дикорастущему” Лондон?-
'Человек, рожденный и живущий в городе, — это цивилизован* 1 2
1 Реакция Уайльда на кражу его фамильного серебра, случившуюся
в том году, нам неизвестна. ' ;
2 Отсутствие придыхания — одна из особенностей простонародного^
произношения. (Примеч. перев.)
404
^ое существо”, — заверил он ее. Перейдя к практическим мате-
риям, он посоветовал ей дать утреннее представление и пообещал
замолвить за нее словечко Бирбому Три. Затем он познакомил ее
со своей матерью, чьи слова: “У вас сценическое лицо” также про-
звучали одобряюще.
Хлопоты Уайльда привели к тому, что Три предложил ей роль
в пьесе “Адриенна”. Но она заявила, что предпочла бы инсцени-
ровку романа Уилки Коллинза “Женщина в белом”, называвшу-
юся “Муж и жена”. Три на это встречное предложение не отве-
тил. Уайльд написал ей: “Вы непременно должны сыграть у Три
в “Адриенне”. “Муж и жена” не годится, английской публике это
будет скучно. Я поговорю с Три насчет “Адриенны”. Три медлил,
и к Элизабет Робинс обратился другой режиссер, сэр Марвин
Оуэн, которому нужно было кем-то заменить другую амери-
канскую актрису — Элеонору Калхоун — в пьесе Ю. Берфорда
‘‘Честный двоеженец”. Элизабет была окрылена и, встретившись
с Уайльдом на улице, поделилась с ним хорошей новостью. Уайльд,
напротив, отнюдь не обрадовался. Он назвал Оуэна “авантюри-
стом без гроша за душой”, а предложенную ей роль — пошлой
и неподходящей для дебюта. Ей не следует ничего подписывать
и непременно нужно проконсультироваться с адвокатом Джор-
джем Льюисом прежде, чем заключать какое-либо соглашение:
“Он знает о нас все — и всех нас прощает”. Он устроил ей встречу
с Три в антракте спектакля “Капитан Свифт”, в котором Три играл
главную роль; мисс Робинс была просто “сражена” им и даже
отложила свое возвращение в Америку, куда собиралась отплыть
на следующий день. Благодаря заступничеству Уайльда Три смяг-
чился и дал ей небольшую роль, хотя Уайльд предостерегал ее:
“Глупо было с его стороны предложить Вам роль, совершенно Вам
не подходящую. Что удивительно — и опасно — это как хорошо
вы ее играете”. К счастью, она предприняла поездку в Норвегию,
была пленена Ибсеном и стала инициатором ряда постановок его
пьес на английской сцене, в которых исполняла главные роли. Она
всегда отзывалась об Уайльде как о добром лоцмане, проведшем ее
меж опасных отмелей театральной жизни.
Эссе-диалоги, написанные Уайльдом в 1889 и 1891 г., можно
рассматривать как начальные шаги в его возвращении к драма-
тургии. В 1889 г. ему неожиданно повезло. Известный аме-
риканский актер Лоуренс Баррет написал ему по поводу “Гер-
цогини Падуанской”. Баррет прочел пьесу в Нью-Йорке еще
иесколько лет назад, и она ему понравилась; теперь он решил,
что сумеет осуществить успешную постановку, и предложил
Уайльду встретиться в июле в Кройцнахе на Рейне. Уайльд отве-
тил тотчас же:
405
Июль 1889 rj
Уважаемый мистер Баррет! Я был чрезвычайно рад и польщен!
узнав, что Вы не забыли про мою "Герцогиню Падуанскую’’. Я с рад<£
стью сделаю любые изменения в ней, какие Вы предложите, и у меня
нет сомнений в том, что пьеса может быть сильно улучшена.
Я мог бы поехать в Кройцнах в конце месяца дней на пять-шесть,
но нельзя ли будет договориться о поправках посредством перепи-
ски? Я не знаю, какова стоимость этой поездки, а свободных денег
у меня сейчас не так много. Ваше радушное предложение быть Вашим
гостем я, так или иначе, принимаю с огромным удовольствием.
Считаю необходимым сообщить Вам, что до того, как я получил
Ваше письмо, ко мне но поводу этой пьесы обратилась мисс Кал-
хоун. Но ничего еще не решено, поскольку пока что она не сделала
мне никакого предложения. Я лично предпочел бы, чтобы моя работа
была представлена публике художником, обладающим Вашим опы-
том и Вашими познаниями. Я знаю, насколько совершенны все Ваши
постановки и какой цельности впечатления Вы способны добиться
благодаря верно найденному соотношения» элементов и артистиче-
скому такту. "Франческа да Римини”, которую я видел в Нью-Йорке,
навсегда останется в моей памяти как одна из лучших современных
постановок на нашей сцене.
1
ОСКАР УАЙЛЬД.
Баррет явно оплатил поездку; Уайльд написал о ней Роберту 1
Россу: “Я решил, что это будет отличная возможность забыть
английский”. Они с Барретом договорились о некоторых изме^%
нениях, и либо тогда, либо позже Баррет сказал ему, что пьеса t
будет иметь больший успех, если дать ей новое название "Гвидо 'Д
Ферранти” и поставить ее анонимно, не сообщая фамилии автора^ &
Иначе над ней будет витать тень “Веры”. Уайльд согласился. Это:
был первый из двух случаев, когда на афишах его пьес не значилась
его фамилия.
Премьера спектакля “Гвидо Ферранти” в постановке Баррета
состоялась только в январе триумфального для Уайльда 1891 года.
Газеты, чью язвительность умерили время и репутация Баррета,
на сей раз отпустили Уайльда с миром. Рецензенты “Нью-Йорк
геральд” и “Нью-Йорк тайме” дали о спектакле уважительны^
отзывы. 27 января 1891 г. обозреватель “Нью-Йорк трибюн
Уильям Уинтер писал:
&
j
f
Вчера вечером в Бродвейском театре в присутствии многочис-
ленных, весьма внимательных и в немалой своей части благосклонно**
отзывчивых зрителей Лоуренс Баррет, человек неугомонной энергии»
чье благородие е честолюбие не знает усталости, показал нам новый
406
спектакль, который идет под названием ‘‘Гвидо Ферранти”... Новая
пьеса искусно составлена из пяти коротких актов и написана разно-
видностью белого стиха, который всюду мелодичен, нередко вырази-
телен и местами насыщен причудливыми образами редкой красоты.
Это, однако, не столько трагедия, сколько мелодрама... Коренной
недостаток этой вещи — неискренность. Ни один из персонажей
не выглядит естественно. В центре пьесы стоит женщина — Беат-
риче, герцогиня Падуанская, и фактически она сумасшедшая... она
закалывает своего скверного мужа, чтобы убрать все препятствия
к удовлетворению своей страсти...
Имя автора “Гвидо Ферранти” не названо. Однако на этот счет
не может быть двух мнении — ведь пьеса принадлежит перу хоро-
шего, опьпного литератора. Мы узнали в этой вещи пьесу, которую
имели удовольствие читать в рукописи несколько лет назад. Тогда
она носила название “Герцогиня Падуанская”. Ье автора зовут Оскар
Уайльд.
После премьеры в рекламных объявлениях значилось: “Любов-
ная трагедия Оскара Уайльда”. Баррет прекратил исполнение спек-
такля три недели спустя — возможно, из-за нездоровья (в марте он
умер); однако Уайльд был доволен реакцией на “Гвидо Ферранти”,
и у него возникла надежда на исполнение пьесы в Лондоне. Он
напомнил Генри Ирвингу, что ее экземпляр ему подарен, и пред-
ложил ему предпринять постановку. Ирвинг отказался. Однако
в конце 1890 г. театр “Сент-Джеймс” был арендован Джорджем
Александером, имевшим намерение ставить пьесы преимущест-
венно английских авторов, а не континентальных и не скандинав-
ских. Ранее он обратился к Уайльду с просьбой о пьесе, и тот дал
ему “Герцогиню Падуанскую”. Пьеса Александеру понравилась,
но он решил, что сценическое оформление обойдется ему слиш-
ком дорого, и попросил Уайльда написать что-нибудь о совре-
менной жизни. В феврале 1890 г. Александер предложил Уайльду
аванс в размере пятидесяти фунтов (а не ста, как Александер гово-
рил впоследствии) за пьесу, которая должна быть представлена
к 1 января 1891 г., и Уайльд деньги взял. Шли месяцы; напоми-
нания Александера пропадали втуне; наконец Уайльд предложил
вернуть деньги. Александер отказался, и не прогадал.
Летом 1891 г. Уайльд вдруг понял, как ему подойти к напи-
санию пьесы. Он сказал Фрэнку Харрису: “Интересно, сколько
времени это займет — одну неделю или три? Чтобы заткнуть
за пояс Пинеро, Джонса и иже с ними, больше вряд ли понадо-
бится”. (Было хорошо известно, что Пинеро, как Ибсен, выдает
По пьесе в год, предоставляя режиссерам весьма желанную пере-
Дышку.) Уайльд отправился в Озерный край на северо-западе Анг-
/1П7
лии и на обратном пути остановился в отеле, где к нему присоедцЛ
нился Росс. Уайльд сказал, что фамилию главной героини подарила^J
ему самое длинное из озер — озеро Уиндермир (на самом делё
леди Уиндермир уже фигурировала у него несколько лет назад
в “Преступлении лорда Артура Сэвила”). Кстати, во время своего
путешествия он проехал через Селби, куда в конце пьесы собира-
ются отправиться Уиндермиры. В октябре Уайльд окончил пьесу
и спросил Александера, когда он мог бы прочесть ее ему. Была
назначена встреча, на которую Уайльд опоздал, поскольку в послед-
нюю минуту выяснилось, что он должен выручать арестованного
Джона Барласа. В суете поспешного отъезда свернутая рулоном
рукопись упала на пол. Уайльд был рад, что она не развернулась,
и отметил это как доброе предзнаменование.
В пьесе, которую Уайльд прочел Александеру, он старался избе-
жать ибсеновского метода, который позднее в том же году был
подробно описан Бернардом Шоу в “Квинтэссенции ибсенизма”.
Уайльд был далек от недооценки своего норвежского соперника;
он говорил, что “Гедда Габлер” по способности рождать у зрите- 1
лей страх и жалость сравнима с древнегреческими трагедиями.
Но свою цель он видел в том, чтобы сделать диалог настолько |
блестящим, насколько это возможно, тогда как Ибсен вклады-1
вал в уста персонажей, живущих обычной жизнью, обычны^ 1
слова. Ибсен, говорил Уайльд, — автор аналитический; свой же й|
метод он называл драматическим. Ибсен зондировал ситуацшац|
чтобы вскрыть инфекцию; Уайльд полагался на словесную игру W
в мяч, с помощью которой он хотел выявить “конфликт между'1!
нашими художественными симпатиями и нашим нравственным
суждением”. Герои уайльдовских пьес, в отличие от ибсеновский ж
непременно должны были принадлежать к нетрудовому сословии^®
это люди состоятельные, образованные, имеющие вдоволь свобсй^К
ного времени, поднаторевшие в светском общении. Напряжений®
начальная сцена “Веера леди Уиндермир” предвосхищает дальней*®
шие события, но более оригинальная ее функция состоит в пр<М||
тивопоставлении двух языковых систем, одна из которых оснож
вана на банальности, другая — на остром изречении. “Поверьте ®
мне, — говорит леди Уиндермир, — вы лучше, чем большинству^
мужчин, а вам, по-моему, иногда хочется, чтобы вас считали
хуже”, — на что лорд Дарлингтон вместо того, чтобы откреститься ?
от подобного желания, отвечает: “У каждого из нас свои слабости»:
леди Уиндермир”. Его замечание предполагает восхищение испор* . г
ченностью; чуть позже другой собеседнице он говорит о том ЖС у
по-иному: “Испорченного человека из меня не вышло. Многие J
даже утверждают, что я за всю жизнь не совершил ни одного
настоящему дурного поступка. Разумеется, они говорят это только А
фО8
за моей спиной”. Добропорядочность он представляет здесь как
нечто постыдное. Подобные реплики расшатывают традицион-
ную мораль, которая по мере того, как разворачивается сюжет
пьесы, выявляет свою абсурдность.
Прочтя пьесу Александеру от начала до конца, Уайльд спросил:
«Ну как, понравилось вам?” — “Понравилось — слишком слабое
слово, это просто чудо”. — “Сколько вы мне дадите за пьесу?” —
“Тысячу фунтов”, — ответил Александер. “Тысячу фунтов!
Я настолько доверяю вашему хвалебному отзыву, дорогой мой
Алек, что не могу принять вашего щедрого предложения; я возьму
долю от сборов”. В итоге только за первый год Уайльд получил
семь тысяч фунтов.
Вскоре после того, как был подписан договор на постановку
пьесы, намеченную на начало 1892 г., Уильям Хайнеман попросил
Уайльда написать предисловие к двум пьесам Метерлинка, кото-
рые он собирался издать в английском переводе. Чтобы обсудить
это дело, Уайльд 16 октября 1891 г. явился к Хайнеману на ланч.
К изумлению хозяина, гость был в глубоком трауре и выглядел
подавленным. На расспросы Хайнемана о причине его уныния
Уайльд ответил: “Сегодня день моего рождения, и я оплакиваю,
как буду делать теперь в каждую годовщину, уход еще одного года
жизни в небытие, омрачение моего лета” (ему исполнилось три-
дцать семь). В подобный костюм с той же напускной сумрачностью
облачится у него Джон Уординг в “Как важно быть серьезным”.
Что же касается предисловия к Метерлинку — надо, сказал Уайльд,
подождать вдохновения. Оно так и не явилось. Став модным дра-
матургом, Уайльд больше не нуждался в заказах подобного рода.
Глава 13
Эллинизация Парижа
Только великим мастерам стиля удае?пся быть
непонятными.
Малларме
ЛОНДОН, ХОТЬ И ВОПРЕКИ СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ,
был у его ног, и Уайльд теперь мог обратить взор
на Францию. Он ощущал себя триумфатором. Как
сказал Андре Жид, успех бежал впереди него, и ему*
оставалось только пожинать плоды. В течение преде*
шествовавших лет Уайльд постепенно расширял круг парижских?
знакомств, однако ныне он мог отпраздновать свой переход из раз<
ряда мастеров светской беседы в разряд полноценных автором.
Большинство писателей, с которыми он познакомился в восьмидей
сятые годы, составляли декаденты; в “Упадке лжи” Уайльд, однако*
намекнул на уход этого движения в прошлое — намекнул, во-перИ
вых, названием эссе, во-вторых, шутливым упоминанием о “почи*
тании Домициана”. В Англии декаданс всегда был окрашен само-
иронией. В 1890 г. последним криком моды был уже не декаданс^
а символизм, что отразилось в предисловии Уайльда к “Портрету
Дориана Грея”: “Во всяком искусстве есть то, что лежит на поверх^
ности, и символ. Кто пытается проникнуть глубже поверхности*
тот идет на риск. И кто раскрывает символ, идет на риск”. Эти
афоризмы были его данью Стефану Малларме, которого он впер*
вые посетил в феврале 1891 г., когда писал свое предисловие.
Малларме был для Уайльда новым явлением. Красноречие
особого рода, основу которого составляли непривычный ело*
варь и синтаксис, и нежелание играть на публику коренным
образом отличали его от признанных мастеров устной речи. ЕгО
mardis (вторники), на которые ученики приходили не говорить* ;
4 ю J
а слушать учителя, были знамениты. Уайльд приготовился при-
нести такую же жертву как и они, но, при всем своем почтении
к “мэтру”, отличился в беседе и сам. На первый свой mardi он
отправился 24 февраля, и разговор, видимо, зашел о По, которым
и Уайльд, и Малларме в равной мере восхищались. Малларме пода-
рил Уайльду “Le Corbeau” — свой перевод “Ворона” По, пере-
изданный годом раньше. На следующий день Уайльд поблагодарил
его за подарок:
Среда О гель “Атсней ”
Дорогой мэтр! Не знаю, как благодарнаь Вас за Ваш любезный
подарок — великолепную симфонию в прозе, навеянную Вам гени-
альными мелодиями великого поэта-кельта Эдгара Аллана По. У нас
в Англии есть проза и есть поэзия, но французская проза и поэзия
в руках такого мастера, как Вы, сливаются воедино.
Быть знакомым с автором “Послеполуденного отдыха фавна”
в высшей степени лестно, но встретить с его стороны прием, какой
вы оказали мне, — это поистине незабываемо.
Итак, дорогой мэтр, примите уверения в моем глубоком и совер-
шеннейшем уважении.
ОСКАР УАЙЛЬД1.
Он пришел и на следующий mardi, и ученики Малларме при -
няли во внимание молчаливую благосклонность к нему их учителя.
Ситуация была несколько щекотливой, потому что Малларме
был дружен с Уистлером, с которым познакомился несколькими
годами раньше в мастерской Мане. Он испытывал к Уистлеру
огромное уважение, и к нему как к эталону художника было обра-
щено одно из его стихотворений в прозе. Уайльд, однако, рассчи-
тывал, что ум и такт Малларме, как и его собственные ум и такт,
позволят им преодолеть трудность; он не ошибся. Малларме дал
Уайльду понять, что он рад будет видеть его у себя в любой его при-
езд в Париж, и, снова приехав из Лондона в конце октября 1891 г.,
Уайльд предупредил Малларме, что придет 3 ноября. К письму он
приложил экземпляр “Портрета Дориана Грея” с дарственной
надписью, восхвалявшей “благородное и суровое искусство” Мал-
ларме. Случилось, однако, так, что в это время в Париже находился
и Уистлер, надзиравший за изготовлением неких цветных лито-
графий и в то же время пытавшийся ускорить приобретение Лув-
ром портрета его матери. Он был твердо настроен не встречаться
с Уайльдом. Они уже годы как не разговаривали. Но если он и дол-
жен был уступить противнику поле боя, он постарался сделать
Перевод с французского В. Воронина.
411
это настолько нелюбезно, насколько это было возможно. 2 ноябр
в понедельник, Уистлер написал Малларме со своим обычным пр^|
небрежением к французской орфографии и синтаксису:
Мой дорогой друг — мои труды окончены — так что я уезжаю —.
Вы сделали мое пребывание здесь очень приятным — как дела-
ете всегда. Поэтому некоторой неблагодарностью с моей стороны
должно выглядеть то, что я не задерживаюсь до завтрашнего вечера,
чтобы на глазах у Ваших учеников разоблачить Оскара Уайльда!
Не оказав Вам эту услугу, я останусь перед Вами в долгу —
я хорошо это знаю — и ведь это, возможно, даже увеличило бы оча-
рование Вашего вечера!
Вторники Малларме уже стали историческими — исключитель-
ными — предназначенными только для честных художников—доступ
на них есть привилегия — знак достоинства — отличие, которым мы
гордимся — И во Врата Мэтра не должны вламываться балагуры всех
мастей, пересекающие Ла-Манш, чтобы впоследствии к своей выгоде
распродавать по дешевке прекрасные цветы беседы и весомые истины,
которые Наш Поэт дарит от всей души! — До свидания1.
И это еще не все. Вечером следующего дня за несколько минут ‘
до появления Уайльда пришла телеграмма от Уистлера. В ней —..
с намеком на предисловие Уайльда к “Дориану Грею", кое-какие ;
фразы которого Уистлер позднее объявил украденными у него, —
говорилось:
ФРАЗЫ ПРЕДИСЛОВИЯ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТЕРЕЧЬ УЧ>|
НИКОВ ОТ РОКОВОЙ ФАМИЛЬЯРНОСТИ СПРЯЧЬТЕ ЖЕЬО
ЧУГА ДОБРОГО ВАМ ВЕЧЕРА
УИСТЛЕР*
Малларме понимал, что Уистлер вне себя из-за визита Уайльду /
и письмом постарался успокоить художника, заверив его в том, чтЬ
вечер без него, Уистлера — “le personnage meme de J’artiste”1 2 3, -**
прошел скучно. Телеграмма, писал Малларме, позабавила собрав*
шихся. Ученики уже видели в картинной галерее портрет работ#
Уистлера, и участница вечера вспоминает, что, когда Малларме
“восхвалил Уистлера, они пали ниц в приливе благоговения,
которому подыграл и Уайльд; это были самые запоминающиеся
1 Перевод с французского.
2 Перевод с французского.
3 Подлинного воплощения художника (фр.).
м о менты mardi. Телеграмма, лежавшая на краю стола, весь вечер
забавляла сама себя”.
Уистлер пошел в новую атаку. Он написал Малларме, что Уайльд
вполне способен нарассказать газетчикам всякой всячины о восхи-
щении, которое якобы испытывает перед ним Мэтр, и о посеще-
ниях кафе с его учениками. Малларме ответил, что вокруг Уайльда
действительно много шума, но что сам он его больше не видел,
сочтя необходимым отклонить два приглашения от своих уче-
ников на обеды, где, он знал, должен был присутствовать Уайльд.
Уистлер истолковал это письмо так, что Малларме унизили:
Никаких О. У. — ! вечно одно и то же! Итак, его неблагодар-
ность доходит до неприличия? — И все эти его старые песни — он
смеет предлагать их в Париже под видом новых! побасенки про Под-
солнух — прогулки с лилией — коротенькие брючки — розовые
манишки — и бог знает еще что! — и это его “Искусство” здесь —
“Искусство” там — Это воистину неприлично — добром это не кон-
чится — Вот увидите — и сами мне про все расскажете — 1
Злость, которую Уистлер испытывал к Уайльду, стала поистине
маниакальной. Однажды, встретившись в Лувре с Гюисмансом
и Жюлем Буа, он заговорил о зависти, которую якобы питает к нему
Уайльд: “После того как одну из моих картин взяли в Люксембург-
ский дворец, он отдал туда одну из своих книжек”. Буа с Гюисман-
сом пришли к заключению, что завистник — не Уайльд, а Уистлер.
Малларме не разделял враждебности Уистлера. “Портрет
Дориана Грея”, экземпляр которого Уайльд ему подарил, произ-
вел на него сильное впечатление. Он не мог не увидеть, что эта
книга — своего рода манифест символизма. В ней, как и в стихах
Малларме, говорилось о том, как границы между жизнью и искус-
ством, между реальным и нереальным сдвигаются под напором
воображения. Переход от простого цветка к “цветку, которого нет
ни в одном букете”1 2, от человека к его изображению был созвучен
идеям .мэтра. Малларме выразил это в поэтически-расплывчатых,
но исполненных восхищения строках письма:
Я завершаю чтение книги, которая принадлежит к числу
немногих, способных тронуть, ибо из грез, составляющих самую суть
души, и диковиннейших ее ароматов она извлекает подлинную бурю.
Вновь придать всему этому остроту посредством беспримерной
изощренности ума, сделать творение человечным в столь извращен-
1 Перевод с французского.
2 Цитата из эссе Малларме “Кризис стиха”. (Примеч. перев.)
4*3
ной атмосфере красоты — вот чудо, совершаемое Вами и требующее
от писателя всей полноты дарования!
“It was the portrait that has done everything”1. Этот тревожащий
душу портрет Дориана Грея, написанный в полный рост, пусть только
словами, а не красками, будет преследовать меня, сам сделавшись кни-
гой.
СТЕФАН МАЛЛАРМЕ1 2.
И Малларме, и Уайльд считали литературу высшей формой
искусства, способной картину преобразовать в слова, а человече-
скую жизнь — в изображение.
Уайльд тем временем замыслил более дерзкий вызов Мэтру,
нежели “Портрет Дориана Грея”. Одно из центральных произве-
дений Малларме — Иродиада — уже много лет оставалось неза-
вершенным, став самой знаменитой неоконченной поэмой после
“Кубла Хана” Колриджа. Уайльд решил воспользоваться тем же
сюжетом — казнью Иоанна Крестителя по наущению Иродиады.
Намеренно или нет, он вступил с Малларме в прямое соперни-
чество, и тому в тщетных попытках закончить “Иродиаду” при-
шлось принять это во внимание; он сказал, что сохранит за своей
героиней имя Иродиада, а использованное Уайльдом имя Сало-
мея назвал “современным”3. Годы спустя, уже после освобождения
Уайльда из тюрьмы, репортер спросил его в Дьепе, что он думает
о Малларме. Уайльд ответил: “Малларме — поэт, поэт истинный.
Но мне больше по душе, когда он пишет по-французски, ибо
на этом языке он непонятен; а вот когда он переходит на англий-
ский, этого, увы, уже не скажешь. Быть непонятным — редкост-
ный дар, не всякому это дано”. Уайльд явно чувствовал себя с вели-
ким мастером на равных.
О каких-либо дальнейших посещениях Уайльдом “вторников?
нам неизвестно; возможно, он испытывал определенную нелов-
кость, словно использование им сюжета о Саломее было в каком-
то смысле вторжением на чужую территорию. Реакция Уистлера
на посягательство Уайльда нам неизвестна, но ее можно себе
представить. Роберт Росс в предисловии к уайльдовской “Сало-
мее” пишет, что однажды, когда Уайльд пожаловался ему, что один
хорошо известный роман основан на его идее, он, Росс, в ответ
назвал самого Уайльда “бесстрашным литературным вором”.
1 Ведь всему виной портрет (англ.).
2 Перевод с французского.
3 Считается, что в своей героине Малларме сплавил воедино два
библейских персонажа: собственно Иродиаду (жену Ирода Антипы)
и ее дочь Саломею, которая в Библии по имени не названа. (Примеч»
перев.)
414
“Дорогой мой Робби, — протяжно отозвался Уайльд, — когда
я вижу в чужом саду гигантский тюльпан с четырьмя лепестками,
^не хочется вырастить свой гигантский тюльпан с пятью чуде-
сными лепестками; но из этого не следует, что кому-либо другому
дозволено выращивать тюльпан всего лишь с тремя лепестками”.
Интерес к легенде о Саломее возник у него еще до встреч
с Малларме, хотя, возможно, усилился благодаря этим встречам.
Саломея, которая уже тысячу лет танцевала перед мысленными
взорами европейских художников и скульпторов, в девятнадцатотл
веке обратила свои чары на литературу. В числе тех, кто заигрывал
с ней словесно, были Гейне, Флобер, Гюисманс и Лафорг. Устав
от пропаганды, возвеличивавшей природу и гуманистические
ценности, они с облегчением восприняли библейский образ,
воплощавший в себе неестественность. Они дерзко переиначи-
вали евангельскую Саломею каждый на свой лад. Подобно тому,
как существовала не одна Изольда и не одна Мария, возникли
и многочисленные Саломеи, не походившие одна на другую.
Из дневника У. С. Бланта явствует, что идея произведения заро-
дилась у Уайльда еще до поездки во Францию. Через некоторое
время после приезда в Париж он, завтракая с Керзоном и Блан-
том, сказал им, что пишет по-французски пьесу, за которую его
сделают членом Академии. Они пообещали явиться на премьеру,
причем Керзон обязался сделать это в ранге премьер-министра.
Несомненно, “Саломея” была созвучна представлению Уайльда
о трагедии, изложенному им в 1894 г. в письме:
Уважаемый сэр! Должна ли комедия изображать современную
жизнь, должны ли ее персонажи принадлежать к высшему обществу
или среднему классу — право решать эти вопросы принадлежит
художнику, и только ему. Я лично предпочитаю, чтобы моя коме-
дия была насыщенно-современной, а трагедия облекалась в пурпур
и находилась в отдалении; но это не более чем мои прихоти.
Что же касается “успеха” на сцене — публика являет собой про-
жорливое чудище с диковинными пристрастиями; она, как мне
кажется, жадно заглатывает медовый пирог с ядовитой чемерицей.
Но существует не одна публика, а много, и художник не принадле-
жит ни к одной из них; если им восхищаются, то это в некотором роде
случайность. Искренне Ваш
ОСКАР УАЙЛЬД.
Главными впечатлениями, подтолкнувшими Уайльда к созда-
нию пьесы, были описание в пятой главе романа Гюисманса “На-
оборот” двух изображений Саломеи, выполненных Гюставом
Моро, и цитата из “Иродиады” Малларме в четырнадцатой главе
4*5
того же романа. На одной из картин престарелый Ирод испыть^ц
вает волнение, глядя на прельстительно-холодный танец Сало* I
меи; на другой Саломее преподносят на блюде голову Крести-
теля, от которой исходят лучи. Гюисманс приписывает Саломее
такую же мифопоэтическую силу, какую Пейтер приписывал
Моне Лизе, и замечает, что писателям до сей поры не удавалось
создать ее адекватного словесного образа. Только Моро сумел
сделать ее не просто танцующей девушкой, а “символическим
воплощением неумирающего вожделения, богиней бессмертной
Истерии, проклятой красавицей, возвысившейся над другими кра-
савицами благодаря каталептическому оцепенению, сделавшему ее
плоть твердой, мышцы железными; чудовищным Зверем, безраз-
личным, безответственным, бесчувственным и отравляющим все,
чего ни коснется, подобно Елене из древнего мифа”. Эта харак-
теристика, однако, не исчерпывает всего, что есть в Саломее, ибо
во второй картине, написанной акварелью, Моро показывает ее
ужас при виде отрубленной головы.
В иных побудительных сигналах Уайльд, возможно,
и не нуждался, но один все-таки получил — от американца Дж. Хей-
вуда, чью “Саломею” он отрецензировал в “Пэлл-Мэлл газетт”
15 февраля 1888 г. Хейвуд написал свою драматическую поэму еще
в 1860-е гг., и в 1888 г. она была перепечатана лондонским изда-
телем Киганом Полом. Источником для Хейвуда послужил “Атта
Тролль” Гейне, где описывается процессия, в которой призрак
Иродиады, сидя на лошади, целует отрубленную голову Предтечи.
Новшество Хейвуда состояло в том, что у него она делает это еще
при жизни, до своего превращения в призрак. В других перело-
жениях легенды эта подробность отсутствует. Уайльд, в отличие
от Хейвуда, увидел, что целование отсеченной головы может стать
кульминацией произведения. В 1890 г. он заявил, что собирается
писать о Саломее. Он обедал на Пикадилли с Эдгаром Солтусом,
после чего они вдвоехм посетили лорда Фрэнсиса Хоупа, жившего
напротив. Убранство его жилища было в целом скупым; исключе-
ние составляла гравюра, на которой был изображен танец Саломеи
на руках, описанный Флобером в “Иродиаде”. Подойдя к гравюре,
Уайльд сказал: “La bella donna della mia mente”1. Согласно воспо-
минаниям миссис Солтус, Уайльд сказал, что хочет написать свою
“Саломею”, и Солтус, собиравшийся писать о Марии Магдалине,
отозвался: “Непременно напишите. Будем вдвоем добиваться
благосклонности этих распутниц”. Книга Солтуса вышла первой,
и Уайльд похвалил ее, назвав “пессимистической, отравляющей
1 Прекрасная госпожа моей души (ит.). Так называется одно из стихо-
творений Уайльда. (Примеч. перев.)
416
и прекрасной"’ (хотя о другой вещи Солтуса, героем которой был
Тристан, он заметил: “Все это написано в стиле газетной заметки:
“Прискорбный инцидент в штате Нью-Джерси”). Прочитав
“Саломею”, Солтус похвалил Уайльда в ответ; последняя реплика,
сказал он, заставила его содрогнуться. “Только содрогание мне
и важно”, — ответил Уайльд. Пьеса виделась ему в свете извра-
щенной страсти — влечения греха к добродетели, язычества к хри-
стианству, живого к мертвому (как в “Кентервильском привиде-
нии”), — которой противостоит омерзение добродетели перед
грехом, умерщвление плоти в его крайней форме.
Жестокость девственницы
Иоканаан. Прочь, дщерь вавилонская! Не прибли-
жайся к избраннику Господа I
Насыщенная атмосфера идей и проектов, окутывавшая Уайльда
в период поисков своей Саломеи, стимулировала его, хотя он
пока что толком не знал, как подступиться к теме. В Париже он
начал формулировать свои мысли словесно, обсуждая будущее
произведение со всеми и каждым, исключая, вероятно, Малларме.
Окружение Малларме было, однако, вовлечено Уайльдом в работу;
перед публикацией пьесы он просил и Марселя Швоба, и Адольфа
Ретте, и Пьера Луи просмотреть ту или иную корректуру и выска-
зать свои замечания. То, что сюжет вызывал столь широкий инте-
рес, вполне отвечало целям Уайльда.
Состояние духа, в котором Уайльд находился в то время —
а именно в ноябре 1891 г., — обрисовал писатель Айвенго Рамбос-
сон. Рамбоссон и Уайльд были приглашены на ленч к переводчику
Анри Даврэ. После этого они отправились в кафе “ДАркур”, где
к ним присоединился Энрике Гомес Каррильо, молодой дипломат
и писатель из Гватемалы, пришедший в кафе с Полем Верленом. Вся
беседа держалась на Уайльде, тогда как Верлен пил свое перно и,
казалось, не замечал ничего вокруг. Время от времени он, однако,
в ответ на какое-нибудь тщательно выстроенное высказывание
Уайльда цедил сквозь зубы короткую фразу на уличном жаргоне.
Как и в 1883 г., наружность Верлена была Уайльду неприятна, и по-
этому он сосредоточил внимание на Гомесе Каррильо, жизнера-
достном молодом человеке с живым умом и красочной манерой
выражаться. Уайльд говорил ему о своей жизни, о своих поездках,
Здесь и далее “Саломея” цитируется в переводе М. Кореневой.
М- 5556
4V
о своей любви к бытию и чувственным переживаниям; он сказал 1
Гомесу, как впоследствии Жиду: “В труды мои я вложил только
талант. Гений я вложил в мою жизнь”. Услышав эти слова, Верлен
вдруг сделался серьезен и, наклонившись к Рамбоссону, сказал ему:
“Этот человек — подлинный язычник. У него есть беззаботность,
которая составляет половину счастья; ведь он не знает, что такое
раскаяние”.
Это, возможно, была первая встреча Уайльда с Гомесом Каррильо,
в беседах с которым Уайльд откровенно высказывался на различные
темы. Когда они остались одни, Уайльд посетовал на неряшливый
вид Верлена: “Главнейший долг мужчины — быть красивым; вы со-
гласны?” Гомес на это ответил: “Красивыми я нахожу только жен-
щин”. Уайльд не мог этого вынести: “Ну вы и скажете. Да никакой
красоты в них нет. В них есть нечто другое, это я готов признать:
великолепие, когда они одеты со вкусом и увешаны драгоценностями;
но красота — полноте. Красота отражает душу”. Он попенял Гомесу
на то, что он часто появляется в обществе некой женщины, и не при-
нял объяснения Гомеса, сказавшего, что он любит ее. Его дама сердца,
со своей стороны, назвала Уайльда педерастом, но Гомес испытывал
к нему симпатию и с удовольствиегл проводил с ним время.
Познания Уайльда об иконографии Саломеи были безмерны.
Он ругал рубенсовскую Саломею, представлявшуюся ему “апо-
плексической распустехой”. Саломея Леонардо, напротив, была
слишком бесплотна. Работы других художников — Дюрера,
Гирландайо, ван Тюльдена — не удовлетворяли его, поскольку
не были окончены. Знаменитую Саломею работы Реньо он назвал
простой цыганкой. Саломея нравилась ему только в версии Моро,
и он любил цитировать пассаж из Гюисманса, где описывались
картины этого художника. Уайльд очень хотел побывать в музее
Прадо, чтобы увидеть, как изобразили Саломею Станциони
и Тициан; о Тициане он процитировал высказывание Тинторетто:
“Он пишет картины живой, мягкой плотью [carne mollida]”.
Уайльд говорил о Саломее каждый день — казалось, он хочет
как можно сильнее увлечь себя этой идеей. Иные из женщин, слу-
чайно встреченных на улице, казались ему принцессами Иудей*
скими. Проходя улицей де ла Пе, он заглядывал в ювелирные мага-
зины и мысленно подбирал там украшения для Саломеи. Однажды
он спросил: “Как по-вашему — может быть, сделать ее нагой?
совсем нагой, украшенной лишь тяжелыми звенящими ожерельями
из камней всевозможных цветов, согретых огнем ее янтарного тела.
Я не могу считать ее безгласным и бессознательным инструментом
чужой воли. Нет, губы на картине Леонардо выдают жестокость ее
души. Ее вожделение непременно должно быть безграничным, ее
извращенности нет предела. От ее телесного жара жемчуга должны
418
превращаться в пар”. Его воображению рисовалась Сара Бернар,
танцующая обнаженной перед тетрархом, в котором для него сли-
лись три Ирода — Ирод Антипа (Мф. 14: 1), Ирод Великий (Мф.
2: 1) и Ирод Агриппа I (Деян. 12: 19).
Тем не менее иногда его мысли круто меняли направление,
и он воображал Саломею целомудренной. Она танцевала перед
Иродом, вдохновленная Богом, чтобы добиться смерти самозванца
Иоанна, врага Иеговы. “Ее стройное и бледное тело колеблется,
подобно лилии, — говорил Уайльд. — Ее красота лишена всякой
нравственности. Ее гибкая фигура облечена в изысканнейшие
кружева... В ее зрачках вспыхивает пламя веры”. Этот образ был
навеян ему картиной Бернардо Луини. Однажды Уайльда попыта-
лись осадить: на обеде у Стюарта Мерриля, американца, писавшего
стихи по-французски, неприятно-самоуверенный Реми де Гурмон
прервал фантазии Уайльда о Саломее репликой: “Вы смешиваете
двух Саломей. Одна из них была дочерью Ирода, но, как явст-
вует из Иосифа Флавия, не имела ничего общего с библейской
танцовщицей”. Уайльд выслушал возражение Гурмона, но позднее
сказал Гомесу, который также был на обеде: “Несчастный Гурмон
считает, что знает больше других. Его правда — это правда про-
фессора из Академии. Я же предпочитаю иную правду, мою соб-
ственную, — это правда мечты. Из этих правд более истинна та,
которая более ложна”.
Однажды вечером Уайльд был у Жана Лоррена; присутство-
вали также Марсель Швоб, Анатоль Франс, Анри Бауэр и Гомес
Каррильо. Он попросил показать ему бюст обезглавленной жен-
щины, о котором ему ранее говорили. Оглядев кровавые пятна,
нарисованные на шее у того места, где ее рассекло лезвие, он
воскликнул: “Это же голова Саломеи — Саломеи, которая в отча-
янии потребовала, чтобы ее тоже обезглавили! Вот она, месть
Иоанна Крестителя”. Воодушевившись, он принялся развивать
тему: “Нубийский источник, обнаруженный Буасьером, пове-
ствует о молодом философе, которому иудейская танцовщица
приносит как дар любви голову апостола. Молодой человек
кивает и говорит с улыбкой: “Что я действительно хотел бы полу-
чить — это твою голову, дорогая моя”. Она в ужасе уходит прочь.
Вечером того же дня раб приносит философу голову его возлюб-
ленной на золотом блюде. Но философ спрашивает: “Для чего
мне эта кровавая мерзость?” — и возвращается к чтению Платона.
Не кажется ли вам, что эта принцесса и есть Саломея? А это изва-
яние, — Уайльд показывает на бюст, — изображает ее голову. Так
Иоанн Креститель отомстил за свою смерть”. Лоррен высказался
осторожно: “Диковинную поэму вы пишете”. Поскольку Лоррен
и сам писал весьма диковинно, это можно считать похвалой.
419
Другое плодотворное впечатление Уайльд получил, когда в тан-
цевальном зале “Мулен-Руж”, где он был со Стюартом Меррилем,
некая румынская акробатка танцевала на руках. Уайльд черкнул
что-то на визитной карточке и попросил передать ей, но, к его
разочарованию, она нс дала никакого ответа. Он хотел, сказал
он, предложить ей исполнить танец Саломеи в пьесе, которую он
пишет. “Она бы у меня танцевала на руках, как в повести Флобера”.
Однако, согласно воспоминаниям Гомеса Каррильо, идея
создать именно пьесу возникла у Уайльда не сразу. Вначале он напи-
сал несколько страниц прозой, но затем прервал работу, решив, что
будет сочинять поэму. Лишь постепенно мысль о пьесе вытеснила
в его сознании все остальное. Однажды вечером он рассказал исто-
рию Саломеи группе молодых французских писателей, после чего
вернулся к себе в отель на бульвар Капуцинок. Увидев на столе
чистую тетрадь, Уайльд подумал, что мог бы с легкостью написать то,
о чем только что говорил. “Если бы тетрадь там не лежала, мне бы
это и в голову не пришло”, — сказал он О’Салливану. Писал он
довольно долго; потом посмотрел на часы и решил: “Довольно”.
Затем отправился в “Гран-кафе”, тогда расположенное на углу буль-
вара Капуцинок и улицы Скриба. “Этот самый Риго, с которым сбе-
жала Клара Уорд, принцесса де Шимей, возглавлял тогда цыганский
оркестр. Я подозвал его к моему столику и сказал: “Я пишу пьесу
о женщине, танцующей босиком в крови мужчины, к которому
она вожделела и которого убила. Сыграйте что-нибудь подходящее
к моим мыслям”. И Риго заиграл такую бешеную, такую жуткую
мелодию, что все, кто там был, умолкли и, побледнев, стали пере-
глядываться. Тогда я вернулся к себе и дописал “Саломею”.
Как утверждает Роберт Росс, Уайльд поначалу и не помыш$
лял о постановке пьесы. Постепенно, однако, в его сознаний^
стали возникать идеи сценического воплощения. Написать пьесу.
по-французски его побудила, возможно, мечта о том, чтобы в ней
сыграла Сара Бернар; однако, помимо этого, он, вероятно, желая
превзойти Малларме в драматическом произведении, которое
было бы “мистерией”, откровением о “страстях человеческих”.
Он сетовал на покорность библейской Саломеи, которая просто
исполняет волю Иродиады и, получив отрубленную голову Иоанна,
отдает ее матери. Неадекватность этого рассказа, заявил Уайльд,
“заставляла людей век за веком бросать к ее ногам свои мечты и виде-
ния, чтобы превратить ее в роскошный цветок порочного сада .
Во всех его разговорах о пьесе, при всем разнообразии вариантов
одно было неизменно: Саломея после своего танца требует голову
Иоанна не из дочернего послушания, а вследствие неразделенной
любви. Тетрарх, выдержав битву со своей совестью, исполняет жела-
ние Саломеи, и ей подают на серебряном блюде голову с черными
420
глазами и алыми губами. Она берет ее обеими руками и восклицает:
“А, ты не захотел, чтобы я поцеловала твои уста! Теперь ты не смо-
жешь мне помешать”. И она целует его в уста, словно кусает сочный
плод. Как пишет Гомес Каррильо, уайльдовская героиня — это жен-
щина, которая любит, страдает, ненавидит. Религия не занимает ее
совершенно. Ей безразлично, исповедует Иоанн запрещенную веру
или исполняет установленные обряды. Ее волнует, мучит, тревожит
только одно — черные глаза и алые губы. “Твое тело, — говорит она,
придя к нему в темницу, — бело, как снега, что лежат на горах”. Эти
слова, как и все ее обращенные к нему пламенные речи, исполнены
бесстыдной откровенности Песни песней (хотя там восхваляется
не мужская красота, а женская). “Я бегу от всего, что нравственно,
как от чего-то убогого, худосочного, — признался Уайльд Гомесу. —
Я болен той же болезнью, что и Дез Эссент”.
На ранней стадии работы Уайльд хотел назвать пьесу “Обез-
главленная Саломея”. Это название соотносится с рассказом,
который услышали от него Метерлинк и Жоржетт Леблан. Речь
шла о том, как Саломея в конце концов стала святой. После того
как она поцеловала отсеченную голову, разгневанный Ирод при-
казал было сокрушить ее щитами, но, вняв мольбам Иродиады,
ограничился ее изгнанием. Она удалилась в пустыню, где жила
долгие годы, всеми отверженная, одинокая, одетая в звериные
шкуры, питающаяся акридами и диким медом, как сам Предтеча.
Увидев проходящего мимо Иисуса, она признала в нем того, о ком
возвещал глас обезглавленного, и поверила в него. Но, чувствуя
себя недостойной находиться с ним рядом, она ушла с намерением
нести слово Божие в иные страны. Она пересекла реки и моря;
пройдя через знойные пустыни, она достигла пустынь, покрытых
снегом. Однажды она переходила замерзшее озеро близ реки Роны,
и вдруг лед под ее ногами треснул. Она провалилась в полынью,
и острая ледяная кромка врезалась в ее плоть и обезглавила ее;
перед смертью она успела произнести имена Иисуса и Иоанна.
Люди, которые подошли позже, увидели на серебряном блюде
вновь сомкнувшегося льда ее отсеченную голову, подобную укра-
шенной рубинами тычинке цветка и увенчанную сияющим золо-
тым нимбом. Мозг Уайльда был переполнен образами такого рода.
Мысль о том, чтобы обезглавить обоих, хорошо согласовыва-
лась с высказыванием Уайльда о “Портрете Дориана Грея”: “Всякое
излишество, как и всякое самоограничение, несет в себе наказа-
ние”. Христианин Иоканаан, пылающий огнем веры, и язычница
Саломея, пылающая огнем чувственности, в равной мере дос-
тойны казни. Дилемма Дориана, которому были ведомы и упое-
ние, и ужас перед содеянным, могла бы найти новое воплощение,
на сей раз без примеси сверхъестественного. Но Уайльд в конце
концов отказался от обезглавливания Саломеи как повторного
и напрашивающегося хода.
Образ Саломеи развивался и обогащался параллельно с обра-
зом Ирода. Вожделение Ирода к телу Саломеи не выдерживает
сравнения с вожделением Саломеи к отсеченной от тела голове
Иоканаана. Ее страсть тонет в своей собственной избыточности.
Чувственность, доведенная до такой крайней степени, становится
почти мистической. При всей своей примитивной жестокости
Саломея девственно невинна. Как Дез Эссент у Гюисманса, она —
jusqu’au-boutiste, она готова идти до конца, ее страсть выходит
за пределы, полагаемые человеческой природой, и за грань самой
могилы. Подобные фигуры приобретают символические черты,
и это умеряет их чудовищность. Настигающая Саломею смерть
столь же величественна, как ее безмерное желание. Умирая, она
становится олицетворением самоубийственной страсти.
Центральным персонажем пьесы Уайльд, однако, сделал не Сало-
мею и не Иоканаана, а Ирода. Колеблемый противоречивыми
устремлениями, он в конце концов отрешается от каждого из этих
устремлений. Они взаимно нейтрализуются. Ирод живуч в своих
извивах; он трепещет на ветру, как лист, но удерживается под раз-
нонаправленными порывами физического влечения и духовного
отвращения. Поддаваясь в свой черед и тому и другому, Ирод оста-
ется Иродом, возвысившимся и над тем и над другим.
За сумрачными перипетиями “Саломеи” чудятся очертания
Атреева дома. Пьеса наполнена ощущением рока. Иоканаан
подобен Кассандре, а Саломее присущи некоторые черты Кли-
темнестры. Сочиняя пьесу, Уайльд помнил не только о Библии,
но и об “Агамемноне” Эсхила.
Соблазнение Парижа
Я люблю слушать себя. Для меня это одно
из самых больших удовольствий. Порой я веду
очень продолжительные беседы сама с собой, и,
признаться, я настолько образованна и умна, что
иной раз не понимаю ни единого слова из того,
что говорю.
19 декабря 1891 г. газета “Эко де Пари” заявила, что Уайльд —
“great event1 парижских литературных салонов” текущего сезона.
1 Здесь: главная достопримечательность (англ.).
/122
Два месяца, что он провел в Париже, были непрекращающимся
праздником. Главным его гидом был Марсель Швоб, молодой
писатель и журналист, модная фигура того времени; совсем
ненамного отстал от него Пьер Луи —другой модный персонаж.
Швоб попросил у Уайльда разрешения перевести на французский
его сказку “Великан-эгоист”, и 27 декабря сказка была напечатана
в “Эко де Пари”. В 1892 г. он посвятил Уайльду свою сказку “Голу-
бая страна”, а Уайльд в том же году посвятил ему поэму “Сфинкс”.
Швоб был в то время секретарем у редактора “Эко де Пари”
Катюля Мендеса и утешителем Маргерит Морено, жены Мендеса,
работавшей у Сары Бернар. Мать Швоба была в свое время учи-
тельницей мисс Липман, которая стала женой актера Армана де
Келлаве и официальной Эгерией1 Анатоля Франса. Благодаря
этим связям Швоб мог быть — и был — чрезвычайно полезен.
Жан Лоррен, которому Швоб представил Уайльда, назвал Швоба
корнаком (слоновьим вожатым) Уайльда. Жюль Ренар отметил
в дневнике, что Швоб, придя с Уайльдом к Леону Доде, вел себя
по отношению к Уайльду так, словно спутал его с Шекспиром.
Однако после отъезда Уайльда из Парижа Швоб написал
о нем в дневнике без особого пиетета. Он изобразил его так:
“Крупный мужчина с большим одутловатым лицом, румяными
щеками, ироническим взглядом, выступающими испорченными
зубами и капризными губами избалованного ребенка, влажными
от молока и готовыми сосать еще. За едой — а ест он мало — он
непрерывно курит египетские сигареты с примесью опиума. Он —
страшный приверженец абсента, который служит источником его
видений и желаний”. Уайльд носил в Париже длинный коричне-
вый сюртук и весьма необычный жилет; идя по улице, он опирался
па палку с золотым набалдашником. Однажды Швоб зашел за ним,
и Уайльд, не найдя своей палки, стал жаловаться: “Моя золотого-
товая трость пропала. Вчера вечером я проводил время с жутким
отребьем — с бандитами, убийцами, ворами — с людьми вроде тех,
с которыми водился Вийон. [Он знал, что Швоб недавно написал
о Вийоне.] Они-то и украли мою золотоголовую трость. Среди
них был юноша с прекрасными печальными глазами, который
утром того дня убил свою любовницу, потому что она ему изме-
нила. Я уверен, что это он украл мою золотоголовую трость”. Он
удовлетворенно закончил: “Моя золотоголовая трость теперь пре-
бывает в руках, лишивших жизни хрупкую девушку, которая гра-
цией своей напоминала поникший розовый куст под дождем”. —
Эгерия — возлюбленная (или жена) и мудрая советчица римского
царя Нумы Пом пил ия. (Примеч. перев.)
423
“Но погодите, месье Уайльд, — возразил Швоб, — вот она, ваша
трость, стоит в углу”. — “Ах да, — сказал Уайльд разочарованным
тоном. — Вы правы. Моя трость здесь. Какой вы молодец, что ее
нашли”.
Швоб, живший в доме № 2 по улице де л’Юниверсите, не раз
принимал Уайльда в своей квартире. Леона Доде, который иногда
встречался с ним у Швоба, одно в нем привлекало, а другое оттал-
кивало. Истории, которые Уайльд рассказывал, он находил превос-
ходными, а вот его манеру вести беседу — утомительной. Слова
непрерывным потоком катились с его расслабленных губ, и он
часто разражался громким смехом, напоминая толстую сплетницу.
Во время их третьей встречи Уайльд, чувствуя сдержанность Доде,
спросил его: “А что вы, месье Леон Доде, обо мне думаете?” Доде
назвал его человеком непростым и, возможно, коварным. На сле-
дующий день он получил от Уайльда письмо, в котором тот объ-
явил себя “самым простым и открытым” из смертных, “похожим
на маленького ребенка”.
Художник Жак Эмиль Бланш, давний почитатель Уайльда,
познакомил его в доме мадам Беньер с Прустом. На Уайльда произ-
вела впечатление увлеченность, с какой Пруст говорил об англий-
ской литературе, особенно о Рескине (которого он переводил)
и о Джордж Элиот; Пруст пригласил его к себе на бульвар Османа
пообедать, и Уайльд принял приглашение. Произошло, согласно
воспоминаниям двоих внуков мадам Беньер, следующее: “В назна-
ченный день Пруст, который задержался у мадам Лемэр, вернулся
домой, совершенно запыхавшись и опоздав к обеду на две минуты.
Он спросил слугу: “Английский джентльмен уже здесь?” — “Да,
месье, он явился пять минут назад; только вошел в гостиную, как
сразу спросил, где ванная комната, и до сих пор оттуда не показы-
вался”. Пруст побежал в дальний конец коридора: “Месье Уайльд^ ’
вам нездоровится?” — “А, вот и вы, месье Пруст. — Уайльд величе-
ственно вышел из ванной. — Нет, я совершенно здоров. Я думал,
что буду иметь удовольствие обедать с вами наедине, но, когда
меня провели в гостиную, я осмотрелся и в дальнем ее конце уви-
дел ваших родителей. Тут храбрость оставила меня. Всего хоро-
шего, дорогой месье Пруст, всего хорошего...” Потом родители
сказали Прусту, что Уайльд оглядел гостиную и изрек: “Какое
уродливое жилище”.
К числу полезных людей принадлежал и Стюарт Мерриль.
Исполняя желание Уайльда, он свел его с Жаном Мореасом (под
таким псевдонимом писал Янис Пападиамантопулос). Мореас,
родившийся в Афинах, но с 1870 г. живший в Париже, пригласил
Уайльда в ресторан “Кот д’ор” обедать с ним и его последователями.
Это был редкий случай, когда Уайльд не смог стать центром вни-
424
мания, поскольку Мореас принялся разъяснять принципы “роман-
ской школы”, к которой, помимо него, принадлежали Шарль Мор-
рас, Эрнест Рейно, Морис дю Плесси, Раймон де ла Тайед и другие.
Противопоставляя себя символистам, они предлагали вернуться
к классическим традициям старой французской поэзии. Мореас
резко критиковал поэтов XIX в.: Гюго, по его словам, был вульгарен,
Бодлер — чересчур парадоксален, и так далее. На десерт, сообщает
Мерриль, Уайльд попросил Мореаса прочесть стихи. “Я никогда
этого не делаю, — ответил Мореас, — но, если вам угодно, нам
кое-что прочтет дружище Рейно”. Рейно поднялся и, уперев в стол
устрашающие кулаки, объявил: “Сонет Жану Мореасу”. Его чте-
ние было вознаграждено аплодисментами, и вновь Уайльд попро-
сил Мореаса что-нибудь прочесть. “Нет — пусть лучше дружище
ла Тайед”. Ла Тайед, в свой черед, поднялся и, поправив монокль,
звонко произнес: “Ода Жану Мореасу”. В атмосфере такого обо-
жествления Мореаса Уайльд ощутимо занервничал, однако из веж-
ливости повторил свою просьбу в третий раз. “Дю Плесси, про-
чтите-ка ваше последнее”, — приказал мэтр. Дю Плесси вскочил
и провозгласил вибрирующим тоном: “Гробница Жана Мореаса”.
При этих словах, пишет Мерриль, “поперхнувшийся, побежден-
ный и растерянный Оскар Уайльд, которого в лондонских салонах
всегда окружало почтительное молчание, схватил пальто и шляпу
и ринулся в ночь”. Позднее он пришел в себя и пригласил Мореаса,
Мерриля, ла Тайеда, Гомеса Каррильо и других обедать. На сей раз
он со своими историями владычествовал за столом. Когда он ушел,
Мореас сказал: “Этот англичанин — дерьмо”. Впоследствии, когда
упоминали о Мореасе, Уайльд спрашивал: “Мореас? А он действи-
тельно существует?” Получив утвердительный ответ, он говорил:
“Странно! А я всегда думал, что Мореас — это миф”.
Эрнест Рейно утверждает, что Мерриль утрировал события
первой встречи, и в этом ему можно поверить; однако и он пишет,
что Уайльд вдруг сослался на некие дела и ушел. Несколько дней
спустя, выходя из своего отеля на бульваре Капуцинок, он слу-
чайно встретился с Рейно и торжественно сказал ему: “Я одобряю
Мореаса и его школу за стремление вновь утвердить греческую
гармонию и вернуть нас в дионисийское состояние духа. Мир
истосковался по радости. Мы еще не высвободились из объятий
сирийских отшельников с их трупными вероучениями. Нас все
время пытаются ввергнуть в царство теней. Пока мы не дожда-
лись новой религии, религии света, пусть Олимп станет нашим
убежищем. Выпустим наши инстинкты на солнышко посмеяться
и порезвиться, как стайку веселых детей. Я люблю жизнь. Она так
красива... — Тут Уайльд показал на залитую солнцем улицу. —
Насколько же это превосходит меланхолическую красоту сель-
425
ской местности! Загородное уединение угнетает и душит меня.
Я могу быть самим собой только в окружении элегантной толпы,
в сердце столичного города, в богатых кварталах, среди великоле-
пия роскошных отелей, наполненных всем, чего душа пожелает,
кишащих предупредительными слугами, мягко ласкающих ноги
теплыми плюшевыми коврами... Природа, в которую еще не втор-
гся человек с его искусственностью, внушает мне отвращение”.
Далее он на ницшеанский лад сравнил поэта с алмазом, а обыкно-
венного человека — с куском угля; алмаз возникает из угля благо-
даря чуду кристаллизации. И как алмаз сохраняет свои свойства
при нагревании или охлаждении, так поэт остается в своем праве
перед лицом обычного законодательства и общественных нужд.
“Когда Бенвенуто Челлини распял живого человека, чтобы изучить
игру мышц во время предсмертной агонии, папа был прав, отпу-
стив ему этот грех. Что значит смерть заурядной личности, если
эта смерть позволяет процвести бессмертному слову и создать,
говоря словами Китса, вечный источник восторга?’5
Барахтаясь в этом речевом потоке, Рейно отважился загово-
рить о произведениях Уайльда, но был остановлен движением
руки: “Оставим это! Я не придаю своим сочинениям особой важ-
ности. Я пишу ради отдыха и ради того, чтобы доказать себе, как
делал ваш Бодлер с большей мерой таланта, что я действительно
выше моих современников, которых я ставлю весьма низко. Мои
притязания не ограничиваются стихосложением. Я саму жизнь
хочу сделать произведением искусства. Я знаю цену хорошей
строфе, но я знаю также цену розе, тонкому вину, яркому галстуку,
изысканному кушанью”.
Когда они проходили мимо ресторана “Наполитен”, их оклик- ;
нул Эрнест Лаженесс. Там был и Катюль Мендес; он пригласил
их за свой столик. Разговор зашел о парадоксах Уайльда, и Уайльд
сказал Мендесу, что парадокс, будучи полуправдой, представляет
собой лучшее, чего мы можем достичь, потому что абсолютных
правд не существует. Он заметил, что Новый Завет полон парадок-
сов, которые не удивляют нас лишь благодаря своей привычности.
“Что может быть диковинней, чем слова: “Блаженны нищие”?*’
Когда Уайльд спросил Мендеса, каково его мнение о совре-
менной французской поэзии, тот разразился речью. Принявшись
хвалить парнасцев, он лучшим из всех назвал Армана Сильвес-
тра. Его шестьдесят тысяч строк — это долгий и тернистый путь
к чистейшему идеалу; проза его тоже хороша, не груба и не лег-
комысленна. Уайльд слушал, нс произнося ни слова и еле заметно
улыбаясь; Мендес говорил с ораторской убежденностью, откинув
назад голову, то встряхивая шевелюрой, то поправляя галстук. Он
ринулся в атаку на символистов, и защита Лаженесса лишь подлил^
4Z.V
масла в огонь: “Символисты просто смехотворны. Они не изо-
брели ничего нового. Символ существует от Сотворения мира...
Малларме... это расколотый Бодлер, которого так и не удалось
склеить”. Потом настал черед молодых поэтов, с которыми Уайльд
уже был знаком: Анри де Ренье — это порождение Банвиля и Гюго;
Поль Фор грешит фальшивым примитивизмом и “бельгийской
эстетикой”; в отношении поэзии Вьеле-Гриффена Мендес выра-
зил надежду, что он упустил в ней нечто существенное, ибо если
она сводится к тому, что он видит, то говорить просто не о чем.
Выходя с Уайльдом из ресторана, Рейно сказал ему, что Мендес,
скорее всего, обозлен критикой со стороны Вьеле-Гриффена
в адрес его, Мендеса, произведений. Уайльд ответил: “Не важно —
все равно он страшно забавен, он сущий дьявол во плоти”.
Уайльд, однако, не столько слушал других, сколько говорил
сам. На книге, врученной ему 8 декабря 1891 г. Аристидом Брю-
аном, имеется дарственная надпись: “Оскару Уайльду, развеселому
англичанину-оригиналу”. Из Лондона порой наезжали друзья —
например, Дж. Бодли, который устроил прием для Уайльда и неко-
торых французских писателей, а потом повез Уайльда на прогулку
в Булонский лес с тем, чтобы предостеречь его от нового скан-
дала, подобного скандалу из-за “Дориана Грея”. Уайльд возражал,
настаивая на том, что его книге присуще нравственное начало,
что ее неверно поняли; он сказал, что получил одобрительные
письма от епископа Лондонского и архиепископа Кентерберий-
ского. Не убедив Бодли, он, по крайней мере, заставил его замол-
чать. В другой раз он в компании Уилла Ротенстайна, Шерарда
и Стюарта Мерриля отправился любопытства ради в ночлежный
дом Шато-Руж. Неуют, который все они там испытали, усилил
Шерард, громко заявивший, что каждый, кто посмеет обидеть его
друга Оскара Уайльда, горько в этом раскается. “Роберт, — упрек-
нул его Уайльд, — ты защищаешь нас с риском для наших жизней”.
У Отто Ллойда, приходившегося Уайльду шурином, и его
жены был дом в Париже на улице Вивьен. Приглашенный ими
на ланч как почетный гость, Уайльд явился с опозданием на час.
Разделявший убеждение своей матери в том, что светская жизнь
и свет солнца несовместимы, он попросил закрыть ставни и зажечь
свечи. Кроме того, хозяевам пришлось сменить скатерть, потому
что изображенные на ней цветы были розовато-лиловые, а Уайльд
испытывал перед этим цветом суеверный страх. Он бесцеремонно
пропускал мимо ушей имена людей, с которыми его знакомили.
Когда подали закуски, он монополизировал застольный разго-
вор. Слушатели были разочарованы. Он важничал, задавал людям
вопросы и не слушал ответов или же бестактно принуждал их
говорить. “Вы ни разу не видели призрака? Нет, не вы. Я спраши-
427
ваю вас, мадам, — да, вас, мадам. Ваши глаза выглядят так, словно
им доводилось смотреть в глаза привидению”. Он клятвенно заяв-
лял, что однажды вечером в баре вытирали столики и подметали
полы не люди, но ангелы темной половины суток. Понижая голос,
он, словно по секрету, рассказывал парадоксальные истории; затем
прочел лекцию о моргах в различных столицах. Вилье де Лиль-
Адан и Бодлер уже пытались шокировать французов подобным
образом, и мода с тех пор успела измениться. Уайльд почувствовал
неуместность своего поведения и дальше ел молча.
За кофе, когда зашел разговор о французской водевильной
труппе, гастролировавшей в Германии и Англии, он с некоторой
даже робостью высказал мысль, что необычайно развитая во фран-
цузах театральная жилка многое объясняет в истории их страны.
Французская международная политика сценична, сказал он; ей
важен не столько практический результат, сколько изящная поза,
выразительные слова, подчеркнутый жест. Затем он изложил исто-
рию Франции — от Карла X до нынешнего дня — в парадоксах.
Жан Жозеф Рено был поражен легкостью, с какой Уайльд развер-
тывал свиток лиц, поступков, договоров, войн. Яркостью своих
слов он заставлял все это сверкать, как драгоценные камни. Чей-
то вопрос заставил его заговорить о Дизраэли, который в салоне
леди Блессингтон, несмотря на свое еврейское происхождение,
блистал не меньше, чем элегантный граф д’Орсе. Уайльд расска-
зывал и шутил, делая обобщения, как замечательный историк,
и демонстрируя понимание человеческих чувств, свойственное
выдающемуся драматургу и поэту. Когда он завел разговор о сер-1
дечных делах леди Блессингтон, его тон стал лирическим, в голосе
появилась певучесть виолы. Если вначале он вел себя претенцит
озно, то теперь он пленил всех простотой. Некоторые из гостей!,
утверждает Рено, прослезились, взволнованные тем, что человече-
ское слово способно достичь такого великолепия. И притом все
звучало совершенно естественно, как обыкновенная беседа.
Так Уайльд наводнил собой Париж. Вот как описывает его
Стюарт Мерриль: “Гигантский, гладко выбритый и розовый, похо-
жий на великого жреца Луны во времена Гелиогабала. Завсегдатаи
“Мулен-Руж” принимали его за принца из какого-то сказочного
северного королевства”. Какая-то неряшливая толстуха, познако*
мившись с ним, спросила: “Ну разве я не самая уродливая жен-
щина в Париже, месье Уайльд?” — “В мире, мадам”, — галантно
ответил он1. Мерриль пишет: “Он мог вызвать симпатию как
1 Похожее замечание Уайльд сделал в адрес жены Т. П. О’Коннора, жур'
налиста и политического деятеля. Он спросил ее, не ревнует ли она
своего мужа (тот флиртовал с некой молодой блондинкой). “Нет, —
428
в Анри де Ренье, так и в Биби-ла-пюре”. Симпатизировали ему,
конечно, не все, но на критиков он не обращал внимания. Един-
ственным исключением стал Эдмон де Гонкур, опубликовавший
17 декабря 1891 г. в “Эко де Пари” свои дневниковые записи
о встречах с Уайльдом от 21 апреля и 5 мая 1883 г. Во второй из них
Уайльд охарактеризован как “человек неопределенного пола, изъ-
ясняющийся дешевым актерским языком и плетущий небылицы”.
В первой записи говорится, что Уайльд представил Суинберна
фанфароном, рисующимся своей порочностью. Проигнорировав
выпад против себя самого, Уайльд написал письмо, имевшее целью
прояснить то, что он сказал о Суинберне. Из всех его писем оно
принадлежит к числу наиболее искусно составленных:
[17 декабря 1891 г.] Бульвар Капуцинок, 29
Дорогой месье де Гонкур! Хотя интеллектуальной основой моей
эстетики является философия нереального, а может быть, именно по-
этому прошу Вас позволить мне внести одно маленькое исправление
в Ваши заметки о беседе, в ходе которой я рассказывал Вам о нашем
любимом и благородном английском поэте Алджерноне Суин-
берне. Случилось это, несомненно, по моей вине. Можно обожать
язык, не умея хорошо говорить на нем, как можно любить женщину,
не зная ее. Француз по сердечному влечению, я по крови ирландец,
обреченный англичанами говорить на языке Шекспира.
Вы утверждали, что я обрисовал Суинберна как фанфарона, рису-
ющегося своей порочностью. Это весьма удивило бы поэта, который
ведет в своем деревенском доме аскетическую жизнь, полностью
посвященную искусству и литературе.
Вот что я хотел бы сказать... У Шекспира и его современников —
Уэбстера и Форда — звучат в творчестве голоса человеческого есте-
ства. В творчестве же Суинберна впервые прозвучал голос плоти, тер-
заемой желанием и памятью, наслаждением и угрызениями совести,
плодовитостью и бесплодием. Английская читающая публика с ее
обычным лицемерием, ханжеством и филистерством не увидела
в произведении искусства самого искусства — она искала там чело-
века. Так как она всегда путает человека с его созданиями, ей кажется,
что для того, чтобы создать Гамлета, надо быть немного меланхоли-
ком, а для того, чтобы вообразить короля Лира, — полным безумцем.
Вот так и сложили вокруг Суинберна легенду как о чудовище, пожи-
ответила она. — Т. П. не способен отличить хорошенькую от дур-
нушки”. Гарольд Фредерик, который был рядом, сказал: “Позволю
себе не согласиться — а как же вы сами?” — “Тут вмешался случай”. —
“Несчастливый случай”, — уточнил Уайльд.
429
рающем детей. Суинберн, аристократ по крови и художник по духу,
только смеялся над этими нелепыми выдумками...
Надеюсь, что, когда я буду иметь счастье снова встретиться
с Вами, Вы найдете мою манеру изъясняться по-французски менее
туманной, чем 21 апреля 1883 года1.
Гонкур показал письмо Катюлю Мендесу, и оно было опу-
бликовано. Впоследствии, печатая книгой отрывки из дневника,
Гонкур опустил и строки о Суинберне как фанфароне, рисую-
щемся своей порочностью, и упоминание о неопределенном поле
Уайльда. Это была его дань уважения человеку, доказавшему своим
письмом, что он, как бы то ни было, подлинный писатель, до-
стойный вежливого отношения со стороны собрата по перу. Когда
в 1896 г. — после смерти Гонкура — была учреждена Гонкуровская
академия, один французский акадехмик, движимый сходными чув-
ствами, предложил сделать ее членом, наряду со Львом Толстым,
и Оскара Уайльда.
Новые ученики
В близкие друзья я выбираю себе людей красивых,
в приятели — людей с хорошей репутацией, вра-
гов завожу только умных.
Из новых друзей, появившихся у Уайльда в Париже, главными
были Швоб, Пьер Луи и Андре Жид. Жид и Луи, молодые люди
примерно одного возраста (двадцати лет с небольшим), сильно
разнились характерами: Жид отличался скрытностью и тягой
к саглоанализу, Луи был откровенен и развязен, склонен к жес-
токим розыгрышам, главной мишенью которых до поры до вре-
мени — пока они с Луи не поссорились — был Жид. Оба они —
и Жид, которого тянуло к мужчинам, и Луи, которого влекло
к женщинам, — восхищались Уайльдом, а тот, в свою очередь,
восхищался ими. На экземпляре сборника сказок “Гранатовый
домик”, который Уайльд подарил Пьеру Луи, он сделал выспрен-
нюю надпись:
Молодому человеку, который поклоняется Красоте.
Молодому человеку, которому поклоняется Красота.
Молодому человеку, которому поклоняюсь я.
1 Перевод В. Воронина.
В оставленном ими совместном автографе часть, написанная
рукой Уайльда, представляет собой цитату из ‘‘Саломеи”: “Не
Надо смотреть ни на людей, ни на вещи. Надо смотреть только
п зеркала, потому что зеркала показывают нам только маски”. Луи
был более серьезен: “Надо показывать людям Красоту”. В январе
1892 г. Луи, готовя к печати свой поэтический сборник “Астарта”,
каждое из стихотворений посвятил одному из друзей, как это сде-
лал со сказками в “Гранатовом домике” Уайльд, сам удостоившийся
одного из посвящений Луи; в эпиграфе Луи процитировал сказку
Уайльда “Молодой Король”. В письмах он обращался к Уайльду:
“Дорогой Мэтр”. Словом, он был покорён.
С Андре Жидом Уайльд познакомился около 26 ноября 1891 г.;
Уайльду тогда было тридцать семь лет, а Жиду только-только испол-
нилось двадцать два. Мы едва ли не слишком хорошо знаем график
их встреч, которые происходили почти ежедневно в течение трех
недель и часто длились по нескольку часов кряду. Вторая их встреча
сое гоялась день или два спустя у поэта Эредиа (Луи позднее женился
на его младшей дочери). Затем, 28 ноября, Луи по просьбе Жида при-
гласил Уайльда на обед в узком кругу в кафе “д’Аркур” на площади
Сорбонны: Стюарт Мерриль, вероятно, был на обеде четвертым.
На следующий день в пять часов — возможно, уже по ответному при-
глашению Уайльда, — Жид встретился с ним вновь; 2 декабря они
обедали со Стюартом Меррилем, 3 декабря — с Марселем Швобом
и Аристидом Брюаном. Скорее всего, это были те самые обеды, длив-
шиеся по три часа, во время которых, согласно написанному в декабре
1891 г. письму Жида Полю Валери, Уайльд говорил так хорошо, что
казался Бодлером или Вилье де Лиль-Аданом (Жид считал сравне-
ние с ними более лестным, чем в свое время Рено). 6 декабря они
были в доме княгини Урусовой, которая посреди одного из голово-
кружительных словесных полетов Уайльда явственно увидела нимб
вокруг его головы. Жид, кстати, тоже написал: “Он лучился”. Идем
дальше по списку светских мероприятий: 7 декабря Жид и Уайльд
обедают у Швоба, 8 декабря — опять у Брюана. Как утверждает Жан
Де лэ, в дневнике Жида записи от 11 и 12 декабря сводятся к одному
слову УАЙЛЬД; 13-го числа княгиня Урусова вновь угощает их обе-
дом, пригласив вдобавок Анри де Ренье; 15 декабря опять Жид, Швоб
и Уайльд, после чего Жид уехал за город повидать родственников,
а Уайльд через несколько дней вернулся в Лондон. Для Уайльда эта
светская круговерть была, по существу, обычным образом жизни,
но для Жида это было нечто совершенно новое; он не имел обыкно-
вения посещать ни кафе “д’Аркур”, ни Аристида Брюана, и с таким
количеством людей, как за эти дни, он раньше не встречался и за год.
В этот начальный период их дружбы Жид был буквально зато-
плен Уайльдом. Стюарт Мерриль вспоминает, что, когда Уайльд
431
рассказывал свои истории, Жид сидел, потерянно уставившись
к себе в тарелку. Бородач Жюль Ренар, которому были неприятны
бритые лица Жида и Уайльда (описывая их по отдельности, он
в обоих случаях делает упор на слово imberbe — безбородый), встре-
тился с Жидом у Швоба 23 декабря — сразу после отъезда Уайльда
из Парижа. Он тоже пришел к выводу, что Жид влюблен в Уайльда.
Что касается Уайльда, Жид ему нравился, но он явно предпочи-
тал общество Луи и Швоба; к ним, наряду с Ретте, он обращался
за помощью в связи с работой над “Саломеей” (которую он посвятил
Луи). Хотя чувства Жида, вероятно, остались без взаимности, между
ним и Уайльдом произошло нечто жизненно важное для Жида, хотя
он нигде не определяет точно, что же именно. Тем не менее он оста-
вил немало отрывочных указаний, по которым можно попытаться
понять природу типичной уайльдовской дружбы.
Их отношения были, вероятно, очень похожи на отношения
между Дорианом и лордом Генри Уоттоном: “Перелить свою душу
в другого, дать ей побыть в нем; слышать отзвуки собственных
мыслей, усиленные музыкой юности и страсти; передавать другому
свой темперамент, как тончайший флюид или своеобразный аро-
мат, — это истинное наслаждение, самая большая радость... ” Жид
проникся ощущением своей духовной соблазненности Уайльдом.
До той поры он шел по жизни как во сне — как лунатик; вдруг он
очнулся и увидел, что стоит на скате крыши. К его облегчению, ему
было кого винить в этом (или благодарить за это). Не нужно было
даже изучать Гете (а он его изучал), чтобы порадоваться наличию
под рукой Мефистофеля (если отождествлять себя с Фаустом) или
Фауста (если отождествлять себя с Гретхен).
Стадии соблазнения прослеживаются по переписке и днев-
нику Жида. Поначалу он был ослеплен: в письме Полю Валери
от 28 ноября 1891 г. он, наряду с другими знакомствами, описы-
вает знакомство с “эстетом Оскаром Уайльдом”, после чего заме-
чает: “Он восхитителен, просто восхитителен”. Но очень скоро
возникает ощущение опасности, и Жид меняет тон. Неделей
позже он уже утверждает, что Уайльд осаждает его; 4 декабря он
пишет Валери: “Уайльд добросовестно старается убить все, что еще
осталось от моей души, поскольку он говорит, что для познания
любой сущности нужно уничтожить ее; он хочет, чтобы я, лишив-
шись души, пожалел о ней. Мерой всякой вещи служит усилие,
необходимое для ее разрушения. Всякая вещь утверждает себя
оставляемым ею вакуумом... и т.д.”1
1 Как сказал лорд Иллингворт в “Женщине, не стоящей внимания”,
“Всякая мысль безнравственна. Ее суть в разрушении. Когда вы дума-
432
Эта идея оказалась важной для Жида; пять лет спустя он напи-
сал в романе “Яства земные”: “В иные вечера безумие овладевало
мною настолько, что я почти готов был поверить в существова-
ние души, ибо чувствовал, что она вот-вот покинет мое тело”. Он
добросовестно добавляет: “Менальк [Уайльд] тоже так говорил”.
24 августа 1924 г. в набросках к роману “Фальшивомонетчики”
он пишет: “Мы даем вещи название только в момент расставания
с нею” и добавляет, что эта “формула... вполне может предвещать
новый разрыв”. Осуществленная в этой книге идея о том, что дья-
вол может действовать на страницах романа инкогнито, становясь
тем реальнее, чем меньше другие персонажи в него верят, является
следствием теоремы Уайльда. Однако замечания Жида не только
косвенно указывают на этот сценический образ дьявола; они отра-
жают желание писателя отказаться от идеи личности как чего-то
связного и предсказуемого и объявить своим естественным спо-
собом существования рывки и резкие сдвиги.
Когда Уайльд в 1891 г. уехал из Парижа, Жид практически
перестал писать письма, что в этом неутомимом корреспонденте
является верным знаком смятения. По прошествии некоторого
времени он написал Валери: “Прости мне мое молчание; после
Уайльда я едва существую”. Он сознавал, что его существование,
его невинность понесли некий ущерб. Это ощущение “потери
девственности”, произошедшей что-то уж слишком легко, оказа-
лось стойким и вызвало у Жида неприятные переживания (Уайльд
тоже не был в восторге от быстроты, с какой Жид подчинился ему
духовно). Жид начинает свою дневниковую запись от 1 января
1892 г. — через две недели после последней встречи с Уайльдом —
с серьезного заявления: “Уайльд, полагаю, не принес мне ничего,
кроме вреда. В его обществе я утратил привычку к мышлению.
Мои эмоции стали богаче и разнообразней, но я разучился вно-
сить в них порядок”. Он с облегчением погрузился в прерванные
занятия философией. Вред был поправим. Поль Валери, предвидя
подобный откат, вышучивал Уайльда даже в то время, когда Жид
был очарован им; по его словам, Уайльд — это “некий символиче-
ский рот наподобие редоновского, который глотает кусок и тут же
автоматически преобразует его в сатанинский афоризм”.
Жид нигде не объяснил точно, какого рода евангелие про-
поведал ему Уайльд; однако в образе Меналька, появляющегося
и в “Яствах земных”, и в “Имморалисте”, чувствуется пусть иро-
нический, но все же реверанс в сторону Уайльда — особенно
во второй из этих книг. Чувство, которое испытывает к Менальку
ете о чем-нибудь, вы это губите. Ничто не может перенести воздей-
ствия мысли”.
433
повествователь, — это больше чем дружба, но меньше чем любовь.
Менальк — человек, отказавшийся жить по традиционным кано-
нам. Он не распущен, но несдержан. Он намного старше самого
Жида (при всякой последующей встрече с Уайльдом Жид отме-
чал, как сильно Уайльд постарел с прошлого раза). В отрывке
о Менальке, опубликованном в журнале “Эрмитаж” до выхода
всего романа “Яства земные”, Менальку примерно столько же
лет, сколько Уайльду; в более поздней версии Жид накинул ему
десяток лет — возможно, для того, чтобы завуалировать сходство.
В этом варианте Менальк — уже дедушка, но в то же время человек
новой эпохи, пожилой апостол юношеской чувственности. Если
Уайльд и узнал себя в портрете, написанном без всякой иронии,
то он не подал виду. Влияние Уайльда на эту книгу определяется
главным образом его ощущением самого себя как распространи-
теля нового вероучения, предназначенного прежде всего моло-
дым. В романе Жид сам выступает подобным распространителем;
именно он наставляет Натаниеля, отведя Менальку менее важную
роль предтечи.
Помимо этой трансформации Уайльда в героя романа, Жид
много раз писал о нем впрямую. Однако главный долг ему он
отдал, возможно, не опубликованными страницами, сколь бы
ни были они хороши, а тем фактом, что он уничтожил фрагменты
своего дневника, относящиеся к первым трем неделям их знаком-
ства. Главный документ, свидетельствующий о том, как Уайльд
овладел Жидом духовно, — это документ отсутствующий, то есть
улика в чисто символистском духе, подобная “цветку, которого нет
ни в одном букете” у Малларме. Мы способны познать эту улику
так же, как, по словам Уайльда, способны познать душу, — по той
пустоте, что остается после ее изъятия.
Можно с разной степенью риска строить догадки о том, чему
именно Уайльд учил Жида и насколько сильно всколыхнула уче-
ника эта наука. Многое из того, что было у них общего, связано
с одинаково свойственной им обоим погруженностью в литера-
турное движение, которое стремилось, открывая за всяким сим-
волом новый символ, за всякой перспективой новую перспективу,
достичь того, что Малларме называл “родной землей сознания”.
Однако догадки о содержании отсутствующих страниц возможны
и вряд ли будут слишком рискованны, потому что в нашем распо-
ряжении имеются весьма информативные, при всех их умолчаниях,
эссе Жида об Уайльде. У нас имеется также одно замечание из их
разговора, приведенное впоследствии Уайльдом. И конечно же,
у нас имеются их произведения. Без сомнения, многое, чем они
обменивались, содержалось не в словах, а в улыбках, в притворстве,
в рассчитанных проявлениях пренебрежения или безразличия,
Л 2 Л
в умолчаниях. О гомосексуализме, к примеру, прямого разговора
ие было — так, во всяком случае, пишет Жид, — однако эта тема
наверняка присутствовала, пусть неявно, как дьявол в “Фальши-
вомонетчиках”.
Уайльд порой говорил с Жидом иносказательно. В одной
03 его притч речь шла о Нарциссе, о котором Жид только что
опубликовал книгу. По словам Уайльда,
Когда умер Нарцисс, полевые цветы были безутешны и попро-
сили у реки немного воды, чтобы поплакать о нем. “О, горе! — ото-
звалась река. — Если бы даже каждая моя капля была слезинкой, все
равно мне не хватило бы слез, чтобы его оплакать. Я любила его”. —
“О, горе! — воскликнули полевые цветы. — Еще бы ты не любила
Нарцисса! Ведь он был прекрасен”. — “Прекрасен?” — переспросила
река. “Кто мог знать об этом лучше, чем ты? — сказали цветы. — Каж-
дый день он, склоненный на твоем берегу, созерцал в твоих водах свою
красоту”. — “Если я любила его, — ответствовала река, — то любила
потому, что, когда он стоял надо мною склоненный, я видела в его
глазах отражение моих вод”.
Этой истории Уайльд дал название “Ученичество”. Мораль ее
в том, что ученичества не существует; таков был урок, преподан-
ный одному из учеников Малларме мастером не меньшего кали-
бра. Люди — это солнца, а не луны.
11ритчи были лишь одним из средств, использованных Уайль-
дом для покорения Жида. Иной раз он давал и прямые указания.
Довольно скоро он узнал, что Жид происходит из семьи гугено-
тов, и позднее жаловался Альфреду Дугласу, что Жид — француз-
ский протестант, то есть “протестант худшего толка, если, конечно,
не брать в расчет протестантов ирландских”. Впрочем, ирландский
протестантизм, по крайней мере в Дублине, был уже далеко не так
силен. Уайльд пришел к выводу, что на Жида давят запреты, коре-
нящиеся в его религиозном воспитании. Он пенял Жиду на то, что
его губы слишком прямы: “Это губы человека, который никогда
нс лгал. Я должен научить вас лгать, тогда ваши губы станут кра-
сивыми и изогнутыми, как на античных масках”. Похоже, Уайльд
в 1891 г. начал разговор с Жидом о религии так же, как он поднял
эту тему годом раньше в беседе с Бернардом Беренсоном: “Ска-
жите мне прямо, вы соблюдаете двадцать заповедей?” В “Яствах
земных” Жид начинает одну из частей с вопроса: “Сколько вас,
заповеди Божьи, — десять или двадцать?” Подобным образолм
Уайльд пошутил еще в Оксфорде, заговорив о “сорока девяти ста-
тьях”. Возможно, он сказал Жиду, как другому молодому человеку:
Сотворение началось, когда вы родились. Оно кончится, когда вы
43)
умрете”. Ничто не могло так захватить Жида, как осознание того
обстоятельства, что библейская территория, по которой он и его
предки расхаживали столь уверенно, заминирована.
Если Уайльд знал о власти, которую имела над Жидом его
набожная мать (скорее всего, знал — Луи вряд ли умолчал
об этом), то он, возможно, привел в разговоре с ним, как он сделал
в “Душе человека при социализме”, вопрос Христа: “Кто матерь
Моя?” Жид, чей сыновний бунт стал впоследствии набирать силу,
использовал сходную цитату: “Что Мне в Тебе, Жено?” Еще ближе
к сути дела Уайльд подошел, обратившись к Жиду на приеме у Эре-
диа: “Открыть вам секрет? [...] Но обещайте, что никому не ска-
жете. Знаете, почему Христос не любил свою мать? — Он сделал
паузу. — Потому что она была девственницей!”' Жида, который
сам был девственником и оставался таковым еще целый год, мысль
о том, что чистота может быть отталкивающей, явно взволновала.
Пребывавший до той поры в подчинении у матери, он начал про-
являть по отношению к ней рассчитанную жестокость, все более
и более открыто намекая на свой гомосексуализм. Это, он знал,
должно было привести ее в ужас.
В первом из эссе, которые Жид написал после смерти Уайльда,
он заявляет, что Уайльд отверх1 христианство, противопоставив
его чудесам языческий натурализм. Уайльд действительно порой
так поступал — например, когда он сказал Йейтсу: “Я тут приду-
мал новую христианскую ересь. Оказывается, Христос оправился
после распятия и, восстав из гроба, жил до глубокой старости —
единственный человек на свете, знавший о ложности христи-
анского учения. Однажды в город, где он жил, пришел апостол
Павел, и он один из обитателей плотницкого квартала не пошел
слушать его проповедь. После этого другие плотники приметили,
что неизвестно почему он всегда прячет ладони”. 5
В других случаях, о которых упоминает Жид, Уайльд не столько
отвергает христианство, сколько показывает его безрадостность;
1 Уайльд сочинил притчу об Андрокле, который был одним из луч-
ших дантистов своего времени. Однажды, бредя по пустыне, он уви*
дел льва, обломавшего зубы об очередную жертву. Андрокл тут же
сделал льву новые золотые зубы, которые подошли ему превосходно.
Спустя несколько лет Андрокл, исповедовавший христианскую веру»
был схвачен и выведен на арену римского цирка на растерзание диким
зверям. Из золотой клетки вышел лев и двинулся на него, широко
разинув пасть. И тут Андрокл узнал в нем своего пациента; лев,
в свою очередь, узнал своего дантиста и принялся лизать ему ногИ.
Потом лев подумал: “Как мне отблагодарить человека, спасшего мне
жизнь? Сделаю-ка я ему грандиозную рекламу”. Сказав себе это, оН
собрался с духом и, демонстрируя всю мощь и великолепие золотых
протезов, мигом разорвал Андрокла на части и съел.
л
наделяя первоисточник дополнительным смыслом. “Жизнь
0исуса” Ренана Уайльд назвал пятым евангелием — ‘‘Евангелием
Фомы”; такого же наименования заслуживают и притчи самого
Уайльда. В его варианте истории о воскрешении Лазаря Христос
видит плачущего молодого человека и спрашивает, о чем он плачет.
Тот отвечает: “Господи, я был мертв, и Ты воскресил меня. Что же
хмне делать, как не плакать?” В другой версии, рассказанной Уайль-
дом Жану Лоррену, воскрешенный Лазарь горько упрекает Христа
за ложь: “В смерти ровно ничего нет, кто мертв — тот мертв, вот
и все”. В ответ Иисус прикладывает к губам палец: “Я знаю, только
больше никому не говори”. Это не языческий натурализм, а лите-
ратурное переосмысление “того, что было сказано коряво/Еванге-
листом из крестьян” (Йейтс). Когда Жид пишет в автобиографии
об “омерзении и муке, которые, должно быть, испытывал Лазарь,
восставший из гроба”, он забывает упомянуть о том, что исполь-
зует мотив, почерпнутый из Уайльда1. Пьеса о царе Сауле, которая
первой из его работ заинтересовала Уайльда, была переосмысля-
ющим расширением библейского сказания, сходным с уайльдов-
скими; в пьесе изображен Саул, влюбленный в Давида. Жид
по вполне понятным причинам предпочитал не замечать близость
своего метода к методу Уайльда. Получив импульс единожды, он
больше не нуждался в попечительстве и мог теперь вволю состя-
заться с Уайльдом, переписывая и Ветхий, и Новый Завет.
Но Уайльд научил Жида и кое-чему другому, еще более полез-
ному, — а именно способу наведения мостов между искусством
и жизнью. Эта тема возникает в “Трактате о Нарциссе” Жида.
По мысли Уайльда, художник создает образцы, которым люди затем
стремятся подражать. Высшим примером художника Уайльд остро-
умно назвал Христа, который жил творческой жизнью и побуждал
к этому других. “Вся его жизнь — чудеснейшая из поэм, — сказал
Уайльд. — Он сам — произведение искусства”. В дневнике Жида
имеется запись, сделанная через месяц после знакомства с Уайль-
дом: “Сама жизнь человека — вот образ, который он создает”. Для
Уайльда это старая тема, для Жида — новая.
1 Жид запомнил еще одну притчу Уайльда, которая ему, Жиду, правда,
не очень нравилась; он пересказал ее только ради концовки. Души
двух умерших святых — мужчины и женщины — переговариваются
с противоположных берегов Нила. Под конец их диалога мужчина,
описавший свою жизнь, полную жертвенного самоотречения, гово-
рит: “И с этим вот телом, которому я отказывал во всех естественных
радостях, которое я умерщвлял, которое было исхлестано бичами,
которое мои мучители жгли и ломали, — как, по-твоему, с ним посту-
пили после моей смерти? Его набальзамировали!”
437
То, что Уайльд говорил с Жидом в подобном ключе, под^
тверждается фрагментом из “De Proiundis”, где Уайльд замечает:
“Помню, я как-то сказал Андре Жиду, сидя с ним вместе в каком-
то парижском кафе, что хотя Метафизика меня мало интересует,
а Мораль — не интересует вовсе, но тем не менее все, когда-либо
сказанное Платоном или Христом, может быть перенесено непо-
средственно в сферу искусства и найдет в ней свое наиболее пол-
ное воплощение. Это обобщение было столь же глубоко, как
и ново'*. Для Жида, который был поглощен поисками оправданий
для своих инстинктивных порывов и в то же время имел привычку
на каждом шагу цитировать Библию, эта идея была подобна дина-
миту. В 1893 г. он написал в дневнике: “Слова Христа применимы
и к искусству: кто хочет душу свою (личность) сберечь, тот поте-
ряет ее"'. Он и в последующие годы продолжал это переложение
христианства в нечто более утонченное и даже собирался написать
книгу под названием “Христианство против Христа”. Проживи
Уайльд дольше, он тоже, возможно, взялся бы за христианство, как
он взялся за социализм; он говорил одному из друзей, что хотел бы
написать книгу, цель которой — спасти религию от верующих;
это, сказал он, был бы “эпос креста — христианская Илиада”.
До некоторой степени он реализовал этот проект — сна-
чала в “Душе человека при социализме”, затем в “De Proiundis”.
В первом из этих произведений Уайльд утверждал, что Христос
проповедовал ценность отдельной личности и, как некий пред-
теча Пейтера, призывал к возможно более полному самовыраже-
нию. “Познай самого себя!” — начертано на портале античного
мира. А Христос говорил человеку: “Будь самим собой”. Сходным
образом, в “Яствах земных” Жид заявляет, что “Познай самого
себя” — “максима равно пагубная и уродливая”; в самих этих
словах Жида есть нечто уайльдовское, некое смешение эстетики
с этикой. “Кто начинает наблюдать за собой, тот останавливается
в развитии”. Семья и личная собственность, мешающие самовы-
ражению, должны исчезнуть (так говорили они оба). Жид, в отли-
чие от Уайльда, стремился избавиться от гнета властной матери; он
также хотел растратить свое богатое наследство, что Уайльд, будь
он богатым наследником, непременно сделал бы. Уайльд утвер-
ждал, что искусство — “самая насыщенная форма индивидуализма
из всех, какие знал мир”, поэтому чем даровитее художник, тем
совершеннее его подражание Христу. Жизнь художника — это
учебник поведения. Позднее в “Фальшивомонетчиках” Жид кри-
тиковал символизм за то, что он предлагает эстетику без этики.
Уайльд продемонстрировал Жиду их соединение.
Взаимодействие искусства и жизни было темой, над кото-
рой Уайльд много размышлял. В “Замыслах” он сказал, что жизнь
4Я8 I
i
уныло повторяла бы самое себя, если бы не демонические пере-
мены, которые вносит в нее искусство. В свою очередь, искусство
повторяло бы само себя, если бы не критический импульс, тол-
кающий художника к новым, "подрывным” формам мышления
н чувствования. Уайльд стремится додумать эту мысль до конца;
помимо воли к созиданию, он видит в искусстве волю к разруше-
нию. В отличие от Йейтса, говорившего, что произведения искус-
ства рождают произведения искусства, Уайльд мог бы сказать, что
произведения искусства убивают произведения искусства. Он
развернул перед Жидом эту идею в одной из лучших своих притч,
которая, как утверждает Риккетс, была сочинена в 1889 г.:
ХУДОЖНИК
Был вечер, и вот в душу его желание вошло создать изображение
Радости, пребывающей одно мгновение. И он в мир пошел присмо-
греть бронзу. Только о бронзе мог он думать.
Но вся бронза во всем мире исчезла, и вот во всем мире не было
литейной бронзы, кроме только бронзы в изваянии Печали, для-
щейся вовеки.
Это же изваяние он сам, своими руками создал и оставил его
на могиле той, кого он любил. На могиле усопшей, которую любил
он больше всех, поставил он это изваяние своей работы, чтобы оно
служило знаком любви, которая не умирает, и символом печали, кото-
рая длится вовеки. И вот во всем мире не было иной бронзы, кроме
бронзы этого изваяния.
И взял он изваяние, которое он создал, и ввер! нул его в большую
печь, и пламени предал его.
Pi вот из бронзы в изваянии Печали, длящейся вовеки, он создал
изваяние Радости, пребывающей одно мгновение1.
Каждая новая работа отвергает предыдущую и будет отвер-
гнута последующей. Жид разделял эту мысль, что видно из его
письма Франсису Жамму от 6 августа 1902 г.: "Каждая моя
книга — это непосредственная реакция на ее предшественницу.
Ни одна из них не удовлетворяет меня полностью, и во всякий
миг моего танца я стою только на одной ноге. 1лавное при этом,
так или иначе, — танцевать хорошо; но каждая новая книга — это
смена ноги, словно одна нога устала от танца, а другой надоело
висеть в воздухе”. Он был большой любитель убиения предыду-
щей книги последующей книгой и, словно бы предполагая, что
Уайльд подчинялся тому же закону, утверждал, что "De Profundis”
Уайльда — вещь, противоположная его "Замыслам”. Жид, веро-
17 еревод Ф. Сологуба.
ятно, понимал также, что “Душа человека при социализме” оыл^
убита “Саломеей”, как, несомненно, его “Имморалист” — эта бес*
плодная победа плоти — был убит “Тесными вратами” — этой,
бесплодной победой духа.
Этот колебательный принцип лежит в основе всего творче-
ства Уайльда; его действие можно увидеть, сопоставляя разные
книги, а также внутри каждой книги. В “Дориане Грее” Уайльд
пишет: “Душу лучше всего лечить ощущениями, а от ощущений
лечит только душа”. (В “Яствах земных” Жид заявляет: “Телесным
здоровьем своим я был обязан только непоправимому отравлению
души”.) Интерпретируя в “Саломее” библейскую легенду, преда-
вая смерти обоих — Саломею и Иоканаана, — Уайльд превращает
добродетель в разновидность греха, отказывает излишествам духа
в каких-либо преимуществах перед иными формами излишеств.
В критический момент молодости Жида Уайльд показал ему,
как освободиться от эстетизма, еще не вступившего во взаимодей-
ствие с любовью, религией и жизнью, и как освободиться от рели-
гии, предлагающей безопасность лишь при условии, что ты посто-
янно будешь настороже. Показывая ему это, Уайльд не отвергал
ни эстетику, ни этику; он выворачивал наизнанку священное,
делая его мирским, и выворачивал наизнанку мирское, делая его
священным. Он показал, как душа становится плотской, а плотское
желание — духовным. Он показал, что эстетический мир не изо-
лирован от опыта, что опыт пронизан эстетикой. Это и был новый
эллинизм, о котором он так любил говорить. Жид развил эти идеи,
Уайльд понимал, что его влияние на французов было чрезвы*
чайным и беспрецедентным. Уистлер пытался преуменьшить это
влияние. Он писал из Парижа, что Уайльд “покинул Париж вне-
запно — потерпев полный крах — унылый и удрученный — пони-
мая, что Трюк провалился и что бесполезно будет пытаться еще раз.
К тому же мое “Оскар, le bourgeois malgre lui”, считай, прикончило
его”. На самом же деле Уайльд, возвращаясь домой в конце декабря,
был вполне доволен собой и почти уже законченной “Саломеей*.
В Париже он предпринял попытки договориться о ее постановке,
пусть пока и безрезультатные. Зато “Веер леди Уиндермир” вскоре
показали публике, и успехом этого спектакля литературный курс
Уайльда был задан на следующие четыре славных года.
женщина и другие
А какую жизнь эти люди, выставляющие себя
высоконравственными, ведут сами? Дорогой
мой, вы забываете, что мы находимся на родине
лицемерия.
Успех на Пикадилли
айльд вернулся в Лондон приблизительно 22 дека-
Ж. / бря 1891 г. — как раз вовремя, чтобы отпраздновать
ЧЙк / Рождество с женой и детьми. Он побывал у матери,
у чье финансовое положение теперь несколько улучши-
ви лось благодаря государственному вспомоществованию,
которое он выхлопотал для нее в 1890 г. Была одна новость насчет
Уилли, чьим последним памятным поступком было объявление
о своем банкротстве 31 августа 1888 г. Ныне, однако, его перспек-
тивы внушали оптимизм. Летом 1891 г. он познакомился с миссис
Фрэнк Лесли, богатой вдовой-американкой, занимавшейся газет-
ным бизнесом. Ей было пятьдесят пять лет, ему тридцать девять.
После нескольких дней знакомства Уилли сделал ей предложение,
но в начале августа она покинула Лондон, ничем себя не связав.
Оскар побуждал Уилли заключить предбрачное соглашение. Уилли
этого не сделал. Однако в сентябре 1891 г. он последовал за ней
в Нью-Йорк, и 4 октября они сочетались браком в “Церкви ино-
странцев” (Мерсер-стрит, 229).
Новоиспеченная миссис Уайльд не одобряла ни праздности
мужа, ни его пьянства. Вскоре стало ясно, что Уилли не соби-
рается трудиться даже столько, сколько он трудился в Лондоне.
В чем нуждается Нью-Йорк, — говорил он, — это в праздном
сословии, и первым его представителем стану я”. Он тратил свое
время и женины деньги главным образом в фешенебельном клубе
Лотос”. Их половые отношения были неудовлетворительны.
Проку от него не было ни днем ни ночью”, — гласил вердикт
441
его жены. В начале 1892 г. она отправилась с ним в Лондон, сказав!
перед отъездом: “Я беру Уилли с собой, но назад его не повезу”/
Она заявила леди Уайльд, что не намерена поощрять его безде-
лье. “Я слыхал, твой брак расстроился”, — сказал Оскар брату
при встрече. “Это у нее он расстроился, — возразил Уилли, --
а у меня развалился”. — “А в чем разница?” — “Она из-за меня
расстроена, а я из-за нее развалина”. Уилли вновь предложил свои
услуги газете “Дейли телеграф”, но его взяли только для отдель-
ных поручений.
Уилли был из тех, кому трудно помочь и кто не воспринимает
увещаний. Что же касается его трудолюбивого брата, он в послед-
ние дни декабря 1891 г. отправился в Торки, где пробыл до января,
оканчивая “Саломею”. “Веер леди Уиндермир” также нуждался
в последней шлифовке перед февральской премьерой. Вначале
Уайльд назвал пьесу “Хорошая женщина”, чем обеспокоил мать,
которая принялась доказывать, что на спектакль с таким названием.
никто не пойдет. Вероятно, Уайльд уже придумал окончательное
название, однако он помнил о своем печальном американском
опыте, когда и о “Вере”, и о “Герцогине Падуанской” написали
всё, что только можно, до того, как они были поставлены. Так илИ₽
иначе, ему нравилась разнонаправленность, которую он сумей
придать слову “хорошая”, и позднее, готовя пьесу к публикации,
он дал ей составное название: “Веер леди Уиндермир. Пьеса
о хорошей женщине”. л ,
Почти одновременная работа над пьесой о хорошей женщину
и пьесой о дурной женщине хорошо иллюстрирует его тезис
о том, что в искусстве обратные друг другу утверждения могут
быть одинаково верными. Однако ни леди Уиндермир, ни Сало-
мея не оправдывают своих эпитетов до конца. Саломея губи£
не только молодого сирийца и Иоканаана, но и себя. Путь добра,
которым идет леди Уиндермир, достаточно извилист; она скорей
готова сбежать с поклонником, нежели пустить к себе на бал аван-
тюристку. Уайльд не уставал доказывать, что пуританство чревато
своего рода порочностью и распущенностью. Бездумная добро-
детель столь же саморазрушительна, как зло, и в конечном счете
становится именно тем, что она осуждает. В этой пьесе Уайльд
подхватывает диалектику “Дориана Грея”, согласно которой само-
ограничение анахорета имеет своим результатом “вырождение,
безмерно более страшное, чем так называемое “падение”, от кото-
рого люди в своем неведении стремились спастись”. Та же диалек-
тика содержится и в “Душе человека при социализме”, где Уайльд
пишет, что мученики принесут человечеству больше страданий,
чем грешники. Из двух героинь Саломея в большей степени заслу*
живает оправдания, ибо она служит любви и выражает любовь,
442 А
.1
пусть в извращенной форме, тогда как леди Уиндермир стремится
к подавлению любви.
“Веер леди Уиндермир” — пьеса более радикальная, чем
кажется. Пренебрежительно назвать ее пьесой о том, как падшая
дентина спасла свою дочь-пуританку, ставшую под конец уже
не такой слепой пуританкой, значило бы упустить из виду нелю-
бовь Уайльда к примитивным клише и традиционным моральным
оценкам. Мораль подталкивает леди Уиндермир к поведению, чуж-
дому как ее характеру, так и самой морали; ей на помощь прихо-
дит авантюристка-мать, знающая гораздо больше, чем когда-либо
сможет узнать дочь, о том, что хорошо, а чго нет. С другой сто-
роны, лорд Дарлингтон, которого легко принять за прожигателя
жизни, который разговаривает, как лорд Генри Уогтон, отлича-
ется от Уоттоыа способностью к глубокому чувству. Он щего-
ляет звучными пейтеровскими фразами: “...либо жить своей
жизнью — смело, свободно, до конца, либо влачить унизитель-
ное, фальшивое, жалкое существование, какое свет в своем хан-
жестве нам предписывает”. Однако он говорит это всерьез. Его
намек на супружескую неверность лорда Уиндермира не является,
если разобраться, неджентльменским поступком. Когда пьеса
была поставлена в Нью-Йорке с Морисом Барримором (отцом
Джона, Этель и Лайонела) в роли Дарлингтона, Уайльд жаловался
в письме: “Барримор... не понимает, что Дарлингтон отнюдь
не злодей, а человек, который действительно считает, что Уиндер-
мир дурно обращается со своей женой, и хочет спасти ее. Он апел-
лирует не к слабости, а к силе ее характера (второе действие); его
слова в третьем действии показывают, что он в самом деле любит
ее”. Из-за нее он уезжает из Англии на много лет; он отличается
от Уиндермира в лучшую сторону.
Уайльд чрезвычайно искусно построил концовку. Он решил
отказаться от полного раскрытия всех карт, на котором традици-
онно держалась концовка комедии. Три секрета так и остаются
секретами: Уиндермир никогда не узнает, что его жена была у Дар-
лингтона и что она готова была бежать с ним; леди Уиндермир
никогда не узнает, что миссис Эрлин — ее мать; лорд Огастус
никогда не узнает, как миссис Эрлин провела его. “Веер леди
Уиндермир” не имеет обычной комедийной концовки и завер-
шается не коллективным обнаружением истины, а заговорщи-
ческим ее сокрытием. Обман выгоден обществу. Уайльд уходит
и от стереотипного образа падшей женщины; его миссис Эрлин
не выказывает и тени раскаяния. Позволив себе краткое проявле-
ние материнских чувств, которых она дотоле никогда не испыты-
вала, она вновь их отбрасывает. Уайльд разъясняет в письме, что
на следующий день она ощущает примерно вот что: “Это чув-
443
ство просто ужасно. Оно губит мою жизнь. Я не хочу ему поддав
ваться. Оно заставляет меня слишком сильно страдать. Я должна
уехать. Я больше не хочу быть матерью”. “Для меня четвертое
действие — это действие психологическое, в нем больше всего
новизны, больше всего правды”, — пишет Уайльд. Именно это
действие дает ему возможность сказать о характере миссис Эрлин
что он “еще не разработан литературой”. Она следует той модели
поведения, которую Уайльд обнаружил в самом себе: дать волю
страсти, чтобы истощить ее. Леди Уиндермир, ослепленная своим
пуританством, также принуждена заглянуть в другой мир. Обе эти
женщины иллюстрируют мысль Уайльда о том, что наши чувства
конечны и что их пределы становятся известны, только когда их
пытаются превысить. В этом смысле мы убиваем внутри себя то,
что любим. “Хорошесть” оказывается не таким простым качеством,
как нам представлялось.
В феврале 1892 г. начались репетиции “Веера леди Уиндермир”.
Как и при постановке других своих пьес, Уайльд, являясь в театр
ежедневно, сделал массу замечаний и внес в реплики немалб
поправок, учитывая их восприятие на слух. Он без стеснения
высказывал свое мнение Александеру, и они часто не соглаша-
лись между собой. Два из его сохранившихся писем Александеру,
относящихся к репетиционному периоду, достаточно неприятий
и указывают на трения. Уайльд входил в мельчайшие подробности,
диктовал положение актеров на сцене и интонации реплик. Он
хотел, чтобы каждое слово диалога дошло до публики. Вначале он
отверг предложение Александера о том, чтобы уже в конце второго ’
действия зрителям стало известно, что миссис Эрлин — мать леди
Уиндермир (после первого спектакля он уступил и внес в текЙГ«
изменения). Напряжение из-за репетиций и ссор с Александеров г
сделало Уайльда настолько больным, что он собирался после прё*'
мьеры сразу же уехать домой. Однако его болезнь растворилась
в эйфории.
Премьера состоялась 20 февраля 1892 г. при заполненной
до отказа зрительном зале. Присутствовали Флоренс Болком'
(уже ставшая Флоренс Стокер) и Лили Лэнгтри, к которым ;
Уайльд был неравнодушен в прошлом; присутствовала и его жена*
Он обеспечил билетами многих своих друзей, хоть и далекд'
не столь многих, как ему хотелось. Один из билетов достался
приехавшему из Франции Пьеру Луи, другой — ЭдварДУ
Шелли, сотруднику издательства “Бодли Хед”, которого Уайльд
тогда обхаживал и которого ночью после спектакля он повез
в отель “Албемарл”. Еще один билет Уайльд послал молодому
художнику Грэму Робертсону, попросив его принять участие
в маленьком заговоре. Робертсону следовало купить в магазине ^
л л л
Гудьера, находившемся в "Королевском пассаже”, гвоздику зеле-
лого цвета ("Они их там выращивают”, — сказал ему Уайльд)
л прийти на прехмьеру с этим цветком в петлице. Такими же
гвоздиками предстояло украсить себя и прочим друзьям Уай-
льда, в частности Роберту Россу; с зеленой гвоздикой должен
был выйти на сцену Бен Уэбстер, исполнявший роль Сесила
Грэхема (фамилию этого персонажа Уайльд взял из своего же
"Портрета господина У. X.”). "И что все это значит?” — спросил
Робертсон. Уайльд ответил: "Ничего не значит, по пускай все
ломают головы”. Намекая на некое таинственное братство, зага-
дочным образом соединяющее одного из актеров с частью пуб-
лики, Уайльд испытывал такое же удовольствие, какое достав-
ляла ему масонская символика. Зеленая гвоздика должна была
стать таким же значащим растением, какими были лилия и под-
солнечник. В окрашенном с помощью питательного раствора
цветке, несущем на себе печать декаданса, природа соединилась
с искусством.
Но зрительный зал состоял не из одних сообщников
Уайльда. Газета "Нью-Йорк тайме” признала, что в тот вечер
собралась “такая блестящая публика, какая не собиралась уже
годы”. Фрэнк Харрис привел с собой журналиста "Таймс”
Артура Уолтера в надежде, что эта газета даст о пьесе одобри-
тельный отзыв. Увы, Уолтеру она не понравилась. Не понрави-
лась она и Генри Джеймсу, назвавшему ее "инфантильной... как
по содержанию, так и по форме”. Выйдя в антракте в фойе, Хар-
рис почувствовал, что в большинстве своем критики настроены
враждебно1. Влиятельный Джозеф Найт, автор биографии Рос-
сетти, о которой Уайльд пренебрежительно отозвался в “Пэлл-
Мэлл газетт”, получил возможность отыграться. "Юмор меха-
нический, в нем нет жизненности”, — сказал он Харрису; тот
ничего не ответил. “А вы что думаете?” — не отступал Найт.
“Вам, критикам, виднее”, — сказал Харрис. “Я могу выразиться
по-оскаровски. Вещь не оправдала даже того немногого, что
обещала”, — заявил Найт с громким хохотом. “Это совершенно
не по-оскаровски, — возразил Харрис. — Над его шутками сме-
ются слушатели, а не он сам”. — “Ну а если серьезно, — сказал
Найт, — неужели вам нравится эта пьеса?” Харрис не выдержал:
Я не видел пьесу целиком. Я не был ни на одной репетиции.
Но, судя по тому, что я видел, это, безусловно, лучшая комедия
Уайльд заметил в письме редактору "Сент-Джеймс газетт”, что кри-
тические статьи являют собой "образчики поистине беотийской
глупости в стране, рождавшей афинян и дававшей приют приезжим
афинянам”.
445
на английском языке, самая блестящая. — И, не обращая внад
мания на насмешливые возгласы, он добавил: — Я могу срав*
нить ее только с лучшими вещами Конгрива, да и то они ей
уступают”. Бернард Шоу также был восхищен пьесой Уайльда
и, посылая ему свою первую пьесу “Дома вдовца”, которая была
поставлена позднее в том же году, выразил надежду на то, что
он найдет ее “не слишком скучной, принимая во внимание ее
фарсовый характер. К сожалению, — добавил Шоу в почтитель-
ном тоне, — я не наделен способностью создавать красоту; мой
талант — чисто интеллектуальный”.
Большая часть зрительного зала была солидарна с Харрисом
и Шоу. Во время второго антракта Уайльд уже ликовал. Угощая
друзей напитками в буфете, он вдруг увидел Ле Гальена и его
“поэму” (проще говоря — возлюбленную); перед спектаклем
Уайльд послал ему билеты с запиской: “Будь на спектакле сам
и посади рядом свою поэму”. “Мой дорогой Ричард, где ты про-
падал? — воскликнул Уайльд. — У меня такое чувство, словно
мы не встречались долгие годы. Скажи мне, чем ты был занят?
А, припоминаю... Да... Ты обидел меня, Ричард”. — “Я тебя оби-
дел? Чем же?” — “С тех пор как мы виделись в последний раз,
ты выпустил новую книгу”. — “И что же?” — “Ты очень нехо-
рошо со мной в ней обошелся, Ричард”. — “Я нехорошо с тобой
обошелся? Боюсь, ты спутал мою книгу с какой-то другой. Моя
последняя книга называется “Религия литератора”. Опомнись,
друг мой. Я ни разу там о тебе не упомянул”. — “Вот именно,
Ричард! Вот именно!” В более серьезном тоне он стал спрашивать
Ле Гальена, что еще он писал в последнее время. “Я писал о любви
к врагам”, — ответил Ле Гальен. “О, это великая тема, — сказал
Уайльд. — Я и сам бы хотел об этом написать. Ведь я всю жизнь
ищу двенадцать человек, не верящих в меня... но пока что нашел
только одиннадцать”.
Когда окончилось последнее действие, зазвучали аплодис-
менты, оказавшиеся долгими и восторженными; в ответ на воз-
гласы “Автора!” из-за кулис на сцену вышел Уайльд. Он знал, как
ему надо выглядеть и что он хочет сказать. В руке, на которую
была надета розовато-лиловая перчатка, он держал сигарету (“дань
нервозности”, как утверждает миссис Джоплинг); в его петлице
красовалась зеленая гвоздика. В его “восхитительной и бессмерт-
ной речи”, как он сам аттестовал ее в письме в “Сент-Джеймс
газетт”, ударения, если верить Александеру, были расставлены так:
‘Дамы и господа! Сегодняшний вечер доставил мне огромное удо-
вольствие. Актеры восхитительно исполнили эту чудесную пьесу,
и вы восприняли ее чрезвычайно тонко. [Актерам:] Поздравляю
вас с огромным успехом, который имела ваша игра; он убеждает
меня в том, что вы оцениваете пьесу почти так же высоко, как
оцениваю ее я”1.
Консервативные критики — например, его старый знакомый
Клемент Скотт, — нашли сигарету даже более возмутительной,
чем самовосхваление. Генри Джеймс писал Генриетте Рубелл,
с которой и он, и Уайльд были в приятельских отношениях, что
“тот, чьего имени не хочется произносить, будучи вызванным
после спектакля на сцену, вышел на нее с гвоздикой голубовато-
стального цвета в петлице и сигаретой в руке”. (На самом деле цве-
ток был голубовато-зеленый, цвета патины.) Речь Уайльда он счел
неуместной. “Се monsieur2 в конце концов начинает действовать
на нервы”, — признался Джеймс. В интервью с Уайльдом, напе-
чатанном 18 января 1895 г. в “Сент-Джеймс газетт”, Роберт Росс
спросил его, сознает ли он, что его речи после спектаклей не всем
нравятся. Уайльд ответил: “Да, ведь до сих пор принято было счи-
тать, что драматург должен выйти и всего-навсего поблагодарить
1 Жан Жозеф Рено утверждает, что Уайльд, выйдя на сцену, затянулся
сигаретой, после чего начал так: “Дамы и господа! Вероятно, не очень
вежливо с моей стороны курить, стоя перед вами, но... в такой же
степени невежливо беспокоить меня, когда я курю”.
В газете "Бостон ивнинг транскрипт” от 10 марта 1892 г. была опуб-
ликована статья Мари де Мензьо, где она приводит речь Уайльда
в более правдоподобной, пусть и не столь яркой, версии, чем версия
Александера. Она утверждает, что Уайльд сказал следующее: “Я вижу
привилегию автора в том, чтобы хранить молчание, пока другие пред-
ставляют публике его работу. Но, поскольку вы выразили желание
услышать мои собственные слова, я принимаю честь, которую вы
по доброте своей решили мне оказать. Мне тем более приятно ее при-
нять, что благожелательность ваша дает мне возможность поблагода-
рить всех, кто сыграл неоценимую роль в успехе, увенчавшем сегод-
няшний спектакль. И также выразить признательность вам за столь
высокую оценку достоинств пьесы. В первую очередь я благодарен
мистеру Александеру, который поставил мою пьесу на этой сцене
с восхитительным совершенством, характеризующим все постановки
театра “Сент-Джеймс” с того времени, как он взял на себя руковод-
ство театром. Чтобы воздать должное исполнению пьесы в той мерс,
в какой я хочу, я должен был бы прочесть вам весь список действую-
щих лиц и исполнителей от начала до конца. Мне хочется поблагода-
рить труппу в целом не просто за передачу слов, как они были мною
написаны, но и за то, что актеры сумели погрузиться в атмосферу
мира, который я осмелился вам представить. Я должен поблагодарить
всех до одного за бесконечное тщание, с каким была выписана каждая
деталь, за тщание, благодаря которому мой набросок превратился
в законченную картину. Я вижу, что спектакль понравился вам так же
сильно, как мне, и мне приятно верить, что пьеса нравится вам почти
так же сильно, как мне”.
Этот господин (фр.).
447
добрых друзей за покровительство и присутствие. Я рад coogS
щить вам, что порвал с этой традицией. Художник не может бьнЛ
низведен до положения слуги у почтенной публики. Неизменно
ощущая тонкость осмысления моей работы актерами и зрителями
я столь же остро ощущаю то, что смирение и скромность я должен
оставить лицемерам и бездарностям. Высота притязаний — это
и долг художника, и его привилегия”.
Люди валили на спектакли толпами. Принц Уэльский по-
смотрел и остался доволен. Александер обратил внимание на то
что галерка и дешевые места в партере так же полны, как ложи
и кресла. “Дорогой мой Александер, — отозвался на это Уайльд, —
разгадка проста. Слуги прислушиваются к разговорам, которые
идут в столовых и гостиных. Там обсуждают мою пьесу; слугам
становится любопытно, и они идут в театр. Я вижу, что это именно
слуги, по их безукоризненным манерам”. Леди Уайльд написала
сыну 24 февраля: “Ты добился блестящего успеха! Я так счастлива!*
Спектакль шел с февраля по 29 июля, затем труппа отправилась
с ним на гастроли; с 31 октября его опять показывали в Лондоне*
С той поры пьеса Уайльда не сходит со сцены — точно так же, как
“Портрет Дориана Грея” находит все новых и новых читателей, —
потому что она лучше, чем кажется на первый взгляд. Как заме-
тил еще Шоу, она полна некоего поэтического очарования. Она
овладевает вниманием зрителей помимо их воли. Да, характеры
и сюжет не слишком правдоподобны; однако напряжение, созда-
ваемое противоборствующими силами, искусно поддерживается,,
пьеса полна язвительного остроумия, и лежащая в ее основе пере*
оценка ценностей, благодаря которой дурная женщина является
нам в хорошем свете, хорошая — в дурном, а общество — в самом
что ни на есть отвратительном, осуществлена очень ловко.
После спектаклей Уайльд иногда ходил в паб под названием
“Краун”, расположенный близ Чаринг-кросс-роуд; облюбовавшие
его Саймонс, Даусон, Бердслей, Бирбом, Джонсон и другие соби-
рались обычно в маленькой комнатке поодаль от бара и пили там
горячий портвейн до половины первого ночи, после чего пере-
мещались в другое заведение. В “Краун” много говорили о пьесе
Уайльда. 26 мая Уайльд выступил на собрании Королевского глав-
ного театрального фонда, на котором председательствовал его
друг Джордж Александер. Старший советник муниципалитета
Раутледж похвалил Уайльда за то, что он в своей пьесе “назвал
лопату лопатой”1 и подверг порок бичеванию. Уайльд открестился
и от того и от другого: “Я хотел бы возразить против утвержде-
1 Эта расхожая английская идиома означает “назвал вещи своими име-
нами”.
448 >
иия о том, что я когда-либо назвал лопату лопатой. Тот, кто так
поступает, должен быть приговорен к использованию этого ору-
дия. Меня также обвинили в том, что я бичую порок, но заверяю
вас, что мои намерения были от этого крайне далеки. Тем, кто
видел “Веер леди Уиндермир”, должно быть ясно, что если там
и есть какая-то конкретная доктрина, то это доктрина чистейшего
индивидуализма. Никто не вправе судить другого человека за его
поступки, и всякий волен идти своим путем, находиться там, где
ему вздумается, и делать то, что ему вздумается. Бытует мнение,
что литературу следует рассматривать как придаток к драматургии,
однако я решительно расхожусь в этом вопросе со всеми образо-
ванными людьми, с которыми я его обсуждал. В каком бы жанре
ни было создано литературное произведение, сцена способна
воплотить его, придать ему зримое цветовое великолепие и живую
непосредственность. Однако если мы хотим иметь в Англии под-
линный театр, это, я уверен, возможно лишь в том случае, если мы
избавимся от сковывающих условностей, которые всегда угрожали
сценическому искусству. Я не думаю, что характер пьесы имеет
хоть малейшее значение, если актер наделен талантом и вырази-
тельной мощью. И я также не придаю ни малейшего значения
британской публике”.
Внимательные рецензенты нашли у Уайльда заимствования.
Один из них вывел пьесу из “Школы злословия”; в лучшем слу-
чае здесь дальнее родство, не более. Лучшую из рецензий опубли-
ковал А. Б. Уокли в “Спикере” (этот печатный орган, издаваемый
Касселом, проявил благожелательность в отношении бывшего
касселовского редактора). Критик связал “Веер леди Уиндермир”
с “Франсийоном” Дюма-сына, где героиня также верит в единый
закон супружеской верности для мужа и жены; сцена, в которой
миссис Эрлин смело входит во враждебно настроенную гостиную,
перекликается, по мнению рецензента, с первым действием “Ино-
странки” Дюма-сына; страх миссис Эрлин перед тем, что ее дочь
может повторить ее ошибку, напоминает “Бунтовщицу” Жюля
Леметра; веер подобен браслету в “Адриенне Лекуврер” Скриба.
Другие критики утверждали, что веер позаимствован у Сарду.
Уайльд ответил на это в интервью, взятом у него Джелеттом Бер-
джессом и опубликованном 9 января 1895 г. в журнале “Скетч”:
"Это го нет ни в одной из пьес Сарду, и этого не было в моей пьесе
еШе за десять дней до премьеры. Чужие произведения никогда мне
ничего не подсказывают”. Уокли, впрочем, оговорился, что Уайльд
подверг заимствованное переработке и улучшению. Одна неожи-
данно придирчивая рецензия, опубликованная 22 февраля 1892 г.
в "Дейли телеграф”, приписывалась Уилли Уайльду. Там, в частно-
сти, говорилось: “Мистер Оскар Уайльд высказался. Он публично
15 - 5556
449
выразил полнейшее удовлетворение своей новой и оригинала^
ной пьесой... Автор населил пьесу своими двойниками мужског^Ц
и женского пола... Пьеса плоха, но ее ждет успех”. Уилли Уайльда
если действительно автор — он, завидовал успеху брата. Вскоре
после написания рецензии он уговорил жену забрать его обратна
в Нью-Йорк.
Восстание марионеток
Марионетки имеют массу преимуществ. Они
никогда не спорят. Они лишены пошлых воззре-
ний на искусство. У них нет личной жизни.
Пренебрежение к публике, прозвучавшее в речи Уайльда после
премьеры, обидело многих; статья в “Дейли телеграф”, опубли-
кованная десятью днями раньше, задела актеров. Там были приве-
дены слова, якобы сказанные Уайльдом: “Давняя расхожая “истина”
о том, что критерием качества пьесы является ее сценичность, есть
не что иное, как смехотворное заблуждение. Сцена — это не более
чем рамка, внутри которой движутся марионетки. Для пьесы она
значит не больше, чем для картины — рама, в которую она встав*
лена и которая не имеет никакого отношения к внутренним дос-
тоинствам живописной работы”. Уайльд написал заметку-возра*
жение, которую газета озаглавила “Поэт и марионетки”, и заявил'
в ней, что его процитировали неверно; хоть он и любит кукольные
театры (даже несмотря на то, что ведущая актриса-кукла может
не обратить внимания на его букет), они не отвечают стремлению
современного театра к злободневности. Верно, что марионетки/
не привносят в спектакль своих личных особенностей, как порой/
поступают актеры. “Ибо играть способен всякий. Большая частью
англичан только этим и занимается. Следовать условностям — зна-
чит быть комедиантом. Но играть заданную роль — дело совсем
другое и чрезвычайно трудное”. Во время его медового месяца^
он заявил, что актер столь же важен, как драматург. Теперь, став?
полноправным драматургом, он больше так не считал.
Название уайльдовской заметки привлекло внимание Чарлза
Брукфилда, актера и автора шуточных пьес, который впоследствии *
сыграл в жизни Уайльда неблаговидную роль (то обстоятельство,
что Брукфилд, возможно, был незаконным сыном Теккерея, делало*
его особенно чувствительным к нарушению моральных норм). Он*
предложил Чарлзу Хотри поставить пародию на пьесу Уайльда^
и тот помог ему написать текст, а земляк Уайльда Джимми Гловер,
родившийся в Дублине, сочинил музыку. Из какого-то биогра-
фического справочника они узнали, что одно из имен Уайльда —
О’Флаэрти, и начали свой мюзикл, озаглавленный “Поэт и мари-
онетки”, с песни на мотив “Дня св. Патрика”. Там, в частности,
были такие слова:
Пусть кричат себе невежды про покрой моей одежды,
Пусть судачат о длине моих волос,
Пусть твердят, что я тщеславен, тупоумен, своенравен,
Пусть ругают мой цветок и мой зачес.
Пусть хохочут до упаду — с фактом все равно нет сладу,
О котором я напомню вам опять:
Род людской затратил, дети, больше двух тысячелетий,
Чтобы Уайльда из О’Флаэрти создать.
Кто-то рассказал о песне Уайльду. Уже побывав мишенью нема-
лого числа пародий — вспомним хотя бы “Пейшенс” Гилберта, —
Уайльд пришел в ярость от перспективы новой вульгаризации. Он
обратился к театральному цензору Э. Ф. С. Пиготту, и тот поста-
новил, что авторы должны предварительно прочесть Уайльду текст
пьесы. Уайльд запретил им употребление слов “Оскар” и “Уайльд”,
но не возражал против “О’Флаэрти”; в результате последняя
строчка стала такой:
Чтобы славного О’Флаэрти создать.
Настояв на своем в этом пункте, он добродушно выслушал
остальное, после каждой страницы восклицая: “Прелестно, дру-
зья мои!”, “Великолепно!”, “Превосходно!” — Лишь когда они
уже собрались уходить и стояли в дверях, он добавил ложку дегтя
в бочку меда: “Однако вы меня здорово... Как это у вас говорится,
Брукфилд?., как вы это называете на вашем изысканно афори-
стическом театральном жаргоне? Ах да! Продернули”. “Певец
лилии”, появляющийся в начале мюзикла, готовит очередной три-
умф и зовет на помощь фею. Ранее он уже изобрел цветы, музыку
и фей; теперь он собирается сотворить пьесу и актеров. Фея услуж-
ливо вызывает Шекспира, Ибсена, Шеридана и прочих, чтобы
они обеспечили его всем необходимым для спектакля. Они ставят
пьесу, и поэт учит своих марионеток копировать манеру опре-
деленных исполнителей. Хотри, загримированный под Уайльда,
подражал еще и актеру Ратленду Баррингтону, Брукфилд взял
на вооружение приемы Бирбома Три в спектакле “Гамлет”, Лотти
Венн пародировала миссис Три в роли Офелии. Место остроум-
ных изречений Уайльда заняли плоские шутки. В “сцене обнару-
4S1
жения” возникает не одна, а полдюжины леди Тизл1. Пародийный^
мюзикл, обязанный своим появлением “Вееру леди Уиндермир^
и его автору, шел с 19 мая по конец июля. Хотри потерял неболь^
шую сумму на его постановке, но не жалел об этом, восторгаясь
“блеском” Брукфилда.
Вокруг “Саломеи”
Для художника лучшая форма правления —
отсутствие всякого правления. Любая власть
над ним и его искусством смехотворна и нелепа.
Успех “Веера леди Уиндермир” сделал Уайльда самым популяр-
ным человеком Лондона. Его окружение включало в себя Росса,
Робертсона, Грея, романиста Реджи Тернера, а также людей менее
заметных вроде Эдварда Шелли. По словам Уайльда, все они были
“изысканными эоловыми арфами, отзывающимися на каждое
дуновение моих неповторимых речей”. Среди тех, кто смотрел
теперь на него другими глазами, была Сара Бернар, “эта змей'
древнего Нила” (так называл ее Уайльд), которая в 1892 г. арендо-
вала один из лондонских театров на сезон, оказавшийся не слиш-
ком успешным. Однажды на приеме у Генри Ирвинга она ска-
зала Уайльду, что он должен когда-нибудь написать пьесу для нее.
“Пьеса уже написана”, — ответил Уайльд. Прочтя “Саломею”, она
сразу решила, что будет играть главную роль, хотя, как она сказала
в интервью, Уайльд говорил ей, что главная роль в пьесе принад-
лежит луне. Соответственно, полученный ею в подарок экземпляр
пятого издания “Стихотворений” Уайльда, которое вышло в мае,
был надписан так:
Саре Бернар. “Как прекрасна сегодня вечером принцесса Сало-
мея!” Лондон, 1892 г.
Ее отзывы были настолько лестными, насколько он мог этого
желать. Как утверждает Чарлз Риккетс, она сказала: “Это настоя-
щая геральдика; можно подумать, смотришь на фреску... Слово
здесь должно падать, как жемчужина на хрустальный диск, никаких
1 Леди Тизл — персонаж комедии Р. Шеридана “Школа злословия**
В одном из эпизодов она прячется за ширмой до тех пор, пока её
не обнаруживает муж. (Примеч. перев.)
быстрых движений, все жесты стилизованы’1. Пьеса казалась пере-
ложением строк из сборника “Стихотворения” (1881):
Этот восторг страсти, эта грозная тайна,
Не знающие которой не живут вовсе,
А знающие пребывают у смерти в самом смертельном рабстве.
Единственным, с точки зрения Сары, недостатком было то, что
в центре ее стоял Ирод, а не Саломея.
Уайльд уговорил Риккетса заняться декорациями и костюмами.
Риккетс предложил “черный пол, с которым будет контрастиро-
вать белизна ног Саломеи”. Он явно рассчитывал пленить этим
Уайльда. “Небо я предполагал сделать насыщенного голубовато-
зеленого цвета; его должны были пересекать поперечные полосы
из японской циновки, образующие над террасой воздушный
полог”. Евреев Уайльд хотел облачить в желтые одежды, римлян —
в пурпурные, Иоанна — в белые. Что касается костюма Саломеи,
его обсуждению не было конца. “Будет ли она черная, как ночь?
Или серебряная, как луна?” Уайльд предложил сделать ее “зеле-
ной, как диковинная ядовитая ящерица”. Риккетс считал, что лун-
ный свет должен падать на подмостки из невидимого источника;
Уайльд настаивал на том, что в небе должно быть “странное смут-
ное световое пятно”. Грэм Робертсон, который тоже был призван
на помощь, высказался за фиолетовое небо. “Фиолетовое? — ото-
звался Уайльд. — Да; мне это не приходило в голову. Разумеется,
фиолетовое небо, а в оркестровой яме кадильницы с курениями.
Вообразите: время от времени поднимаются пахучие облака
и заволакивают часть сцены. Новое переживание — новый аро-
мат”. Робертсон возразил, что между переживаниями зал не про-
ветришь. Сара Бернар, собиравшаяся дать деньги на постановку,
пообещала позаимствовать кадильницы у Ирвинга.
Она также раздобыла восточные костюмы. Робертсон предложил
“золотистое платье с длинной золотой бахромой и бретелями из золо-
ченой кожи, на которых держится также золоченый, украшенный
драгоценными камнями нагрудник. На голове — тройная корона
из золота и драгоценных камней; реющее из-под короны облако
волос должно быть дымчато-голубым”. Уайльд возражал, говоря,
что дымчато-голубыми должны быть волосы Иродиады, но актриса
настаивала на своем: “Я непременно буду с голубыми волосами”.
Робертсон спросил ее, нужна ли ей дублерша для танца. “Нет, я буду
танцевать сама”, — ответила она. “Как же вы исполните танец семи
покрывал?” — “Увидите”, — ответила Сара, загадочно улыбаясь.
Репетиции начались на второй неделе июня и шли около двух
недель, после чего выяснилось, что театральный цензор Пиготт
453
подумывает о запрещении постановки. Согласно одному старому :
закону, выводить на сцену библейские персонажи было запре-
щено; поскольку Пиготт был известен своими пуританскими
взглядами, перспективы спектакля выглядели мрачными. Как
заметил Уайльд, оперы “Самсон и Далила” Сен-Санса и “Иро-
диада” Массне также были под запретом. “Великолепная траге-
дия Расина “Гофолия” не может быть исполнена на английской
сцене”. В интервью газете “Пэлл-Мэлл баджит”, которое взял
Роберт Росс, Уайльд угрожал: “Если цензор запретит “Сало-
мею”, я покину Англию и обоснуюсь во Франции, где пройду
процедуру натурализации. Я не могу называть себя граждани-
ном страны, демонстрирующей такую узколобость в суждениях
об искусстве. Я и так не англичанин. Я ирландец, а это совсем
другое дело”. Он возмущался тем, что лорд-гофмейстер “разре-
шает изображать на сцене в карикатурном виде самого художника
и в то же время запрещает представить работу этого художника
в редкостном и прекрасном исполнении”.
В этом же интервью Уайльд объяснил, почему он написал пьесу
по-французски. “Есть один-единственный инструмент, которым
я владею в совершенстве, — сказал он. — Это английский язык.
Есть другой инструмент, который я слушаю всю жизнь и кото-
рого мне захотелось однажды коснуться, чтобы узнать, смогу ли
я извлечь из него что-либо благозвучное... Разумеется, в пьесе
встречаются обороты, которых французский литератор не исполь-
зовал бы, но они придают ей некое своеобразие, некий особый
колорит. Необычное воздействие, оказываемое пьесами Метер-
линка, во многом объясняется тем, что он, фламандец по рожде-
нию, пишет на неродном для себя языке. То же самое можно ска-
зать и о Россетти, который, хоть и писал по-английски, обладал
подлинно латинским темпераментом”. Корреспонденту газеты
“Голуа” Уайльд заявил: "Для меня существуют только два языка ‘
французский и древнегреческий. Жители моей страны — люди
чрезвычайно ограниченные и чуждые искусству. Хотя среди
англичан у меня есть друзья, в целом я англичан не люблю. Анг-
лия пронизана лицемерием, которое вы во Франции совершенно
справедливо отвергаете. Типичный британец — это Тартюф, .
восседающий за прилавком в своем магазине. Многочисленные
исключения только подтверждают это правило”. '
К великому огорчению Уайльда, Пиготт запретил постановку. ‘
Ни враги, ни друзья не проявили должного сочувствия. Макс Бир-
бом, который еще не читал пьесу, писал Реджи Тернеру:
Еще одна уморительная новость. Лорд-гофмейстер наложил
запрет на “Саломею” Оскара! Я задумал огромное полотно: венценос- J
454
ный Джон Буль дает великий пир, а после пира дочка миссис Гранди1
танцует перед гостями и угождает королю настолько, что он обещает
ей все, чего она ни пожелает. Посоветовавшись с матерью, она гово-
рит: “Хочу, чтобы ты дал мне теперь на блюде голову Оскара Риф-
моплета”. Картина, которую я назову “Саломея наших дней”, будет
изображать лорда Лейтема [лорда-гофмейстера] с блюдом в руках.
То обстоятельство, что Уайльд, если он станет гражданином
Франции, будет военнообязанным, вызывало всеобщее веселье;
карикатурист Партридж из “Панча” превзошел себя, изобразив
Уайльда в форме французского “пуалю”. 3 июля газета “Нью-Йорк
тайме”, всегда относившаяся к Уайльду враждебно, заключила:
“Над угрозой Оскара Уайльда сделаться французом смеется весь
Лондон”. Уистлер, который был не из тех, кто отказывается уда-
рить лежачего, кратко заметил: “Оскар в очередной раз блестяще
оскандалился”.
Но недовольство Уайльда было обоснованным, а его аргу-
ментация — убедительной. Действительно нелепо было то, что
художник и скульптор имели право изображать что им вздумается,
а произведения поэта цензурировались. Композитор тоже не был
свободен: “Как можно охарактеризовать орган, запрещающий
“Иродиаду” Массне, “Царицу Савскую” Гуно и “Иуду Маккавея”
Рубинштейна, но разрешающий представлять на любой сцене
“Давай разведемся” Сарду?” Из видных критиков того времени
на сторону Уайльда встали только Уильям Арчер и Бернард Шоу;
прочие же, включая таких актеров, как Генри Ирвинг, на заседании
специальной комиссии высказались за сохранение цензуры.
Независимо от возможности поставить пьесу на сцене Уайльд
был твердо намерен опубликовать ее. На титульном листе должны
были значиться названия двух издательств — парижского “Изда-
тельства независимого искусства” и лондонского “Элкин Мэтьюз
и Джон Лейн”, однако фактически книгу напечатали в Париже,
а Мэтьюз и Лейн просто купили у Уайльда экземпляры. Переписка
с издателями показывает, что в первых корректурах Уайльд сделал
много исправлений (в основном изъятий). Как пишет Стюарт
Мерриль, Уайльд хотел быть уверен, что французский язык “Сало-
меи” свободен от синтаксических погрешностей, и при этом не мог
до конца положиться на разнообразных молодых людей, чьими
советами он пользовался. Мерриль указал ему на то, что не все
реплики должны начинаться с “enfin1 2”, как было первоначально,
и Уайльд выкинул эти “enfin”. Но другие предложения Мерриля
1 Миссис Гранди — олицетворение обывательских приличий и общест-
венного мнения. (Примеч. перев.)
2 Наконец (фр.).
455
игривые намеки на внешность Уайльда — то в лике луны, то в лице
Ирода — со зловещими, чувственными обертонами. Его виде-
ние пьесы было проникнуто иератическим абсурдизмом. Один
из рисунков, изображавший Иродиаду, пришлось изъять, так как
его сочли непристойным. Художник отреагировал четверости-
шием:
Поскольку женщина раздета,
Запрещена картинка эта.
Беда? Ну что вы! Никогда!
Благопристойность — долг эстета.
К чести Уайльда надо сказать, что он назвал рисунки вели-
колепными, сполна оценив убийственную мощь бердслеевского
искусства. Однако он жаловался Риккетсу: “Мой Ирод подо-
бен Ироду Гюстава Моро, погруженному в свои драгоценности
и печали. Моя Саломея проникнута мистикой, она родная сестра
Саламбо, святая Тереза, поклоняющаяся Луне”. Ее танец скорее
метафизический, нежели чувственный. Уайльд принялся ругать
Бердслея за необузданность, а, когда Риккетс попытался взять
рисунки под защиту, он остановил его: “Нет, нет, дорогой мой
Риккетс, я не могу поверить в то, что они вам нравятся. Вы гово-
рите так, желая быть беспристрастным. Но подлинный художник
не может быть беспристрастным; мастера эпохи Возрождения
уничтожали готические здания, а готические строители рушили
кладку норманнов”. Уайльд прошелся по поводу Бердслея с его
утонченностью: “Наш дорогой Обри всем парижанам парижанин.
Он все никак не может забыть, что раз в жизни побывал в Дьепе” Ч
Внимание: миссис Арбетнот
Святость создается любовью. Святые — это те,
кого очень сильно любили.
После премьеры “Веера леди Уиндермир” недомогание
Уайльда как рукой сняло, но беда с “Саломеей” вновь его подко-
сила. Во время репетиций он наслаждался голосом Сары Бернар,
произносившим его слова, и предвкушал публичное соединение
ее имени со своим; решение цензуры было для него таким тяже**
1 Французский город Дьеп расположен на берегу Ла-Манша.
перев.)
(Примеч.
Л гЙ
ЧТ)''
дым ударом, что он решил отправиться на отдых. 3 июля 1892 г. он
Б компании Альфреда Дугласа поехал в Бад-Хомбург. Там врачи
посадили его на диету, запретили курить, словом, во всех отноше-
ниях сделали его несчастным. На этом курорте он познакомился
с супругами Монтгомери, дедом и бабкой Дугласа, но Альфред
Монтгомери обошелся с ним довольно высокомерно. По воз-
вращении Уайльд, однако, воспрял духом и взялся за новую пьесу,
ранее он обещал ее своему старому другу — Герберту Бирбому
Три, который был директором и ведущим актером театра “Хей-
маркет”. Временно Уайльд назвал пьесу “Миссис Арбетнот”, желая
скрыть ее настоящее название — “Женщина, не стоящая внима-
ния”. Чтобы окончить ее в течение августа и сентября, он снял
фермерский дом в деревушке Фелбригг близ Кромера в графстве
Норфолк (до него там в начале августа отдыхал Александер);
Констанс с детьми тем временем жили в Баббакумб-Клиффе близ
Торки в графстве Девон, в доме, принадлежавшем ее родствен-
нице леди Маунт-Темпл. Уайльд звал с собой в Фелбригг Эдварда
Шелли, но тот отказался. Тогда он пригласил Альфреда Дугласа,
который приехал и заболел; возможно, Уайльд использовал его
болезнь как повод для того, чтобы не ехать к жене в Баббакумб. Ее
письмо, датированное 18 сентября, начинается так:
Милый мой Оскар! Я сильно опечалена из-за лорда Альфреда
Дугласа и жалею, что я не в Кромере, где я могла бы за ним ухаживать.
Если ты считаешь, что мое присутствие было бы полезно, телеграфи-
руй мне, ведь мне не составит труда приехать.
Уайльд счел за лучшее не вызывать ее.
Присутствие Дугласа не помешало Уайльду завершить работу
над пьесой, которую Три принял к постановке 14 октября 1892 г.
Уайльд прочел одно действие из нее в доме леди Палмер. Слу-
шатели были растроганы до слез. Упреждая обычные обвинения
в заимствованиях, после чтения он “в самой своей впечатляющей
манере” заявил: “Сюжет я взял из газеты “Фэмили геральд”. Так или
иначе, пьеса кое в чем повторяет “Веер леди Уиндермир”. Вновь
появляется ужасный секрет, но, как Уайльд написал Александеру,
здесь его можно было раскрыть намного раньше, чем в первона-
чальной версии “Веера”. О том, что Джеральд Арбетнот — неза-
конный сын лорда Иллингворта, зрителям становится известно
уже во втором действии. В “Веере леди Уиндермир” миссис Эрлин
приходит с визитом к своей давно утраченной дочери; здесь отец
встречает давно утраченного сына. Мотив незаконнорожденности
в пьесах Уайльда лежит в основе большинства секретов. У него —
неверного мужа, брата троих внебрачных детей — он прочно засел
4S9
в подсознании. Мы не те, кем себя считаем, или не те, кем нас счи-
тают другие, и наши связи с этими другими могут быть сильнее
или слабее, чем мы воображаем.
Лорд Иллингворт — один из уайльдовских денди-остросло-
вов, причем не самый привлекательный. В отличие от лорда Дар-
лингтона в "Веере леди Уиндермир” он лишен глубоких чувств
к кому-либо1.
"Женщина, не стоящая внимания” — слабейшая из пьес, напи-
санных Уайльдом в девяностые годы; тем не менее она не сводится
к вариации на избитую викторианскую тему падшей женщины
с дополнительным мотивом вызова, который она бросает своему
соблазнителю. Лорд Иллингворт — ловелас, денди и эстет, чей
скепсис порой был оправдан. Он произносит некоторые из самых
резких уайльдовских изречений, например: “Английский джентль-
мен, во весь опор скачущий за лисицей, — недостойный в погоне
1 В 1907 г. Литтон Стрэчи видел пьесу в возобновленной постановке
Три и в письме Данкану Гранту интерпретировал ее на свой лад:
Это было довольно-таки забавно: сплошной поток комических изре-
чений, время от времени перебиваемый струями гротескной мело-
драмы и нелепой “чувствительности”. Воистину диковинная смесь!
Мистер Три играет развратного лорда, гостящего в загородном доме
и возымевшего намерение е... другого гостя — красивого молодого
человека двадцати лет от роду. Красивый молодой человек в восторге;
вдруг появляется его мать, видит высокородного лорда и узнает в нем
человека, который совокуплялся с ней двадцать лет назад, результатом
чего явился наш красивый молодой человек. Она обращается к лорду
Три с просьбой не е... своего родного сына. Он отвечает, что теперь
ему тем более этого хочется (о да! воистину он очень развратный
лорд!). Тогда она обращается к красивому молодому человеку, и тот
говорит: "Боже ты мой! Как это отвратительно — совокупляться без
бракосочетания! Ну нет, всякий, кто способен на такое, не заслужит
вает моего уважения”; вдруг из сада вбегает молодая американская
миллионерша, в которую красивый молодой человек вполне благо-
пристойно влюблен. Потом входит лорд. Красивый м.ч.: "Вы сво-
лочь! Вы оскорбили самое чистое создание на земле! Я убью вас!
Но конечно же он его не убивает — он удовлетворяется тем, что
женится на миллионерше, а его мать хватает перчатки и лупит ими
лорда по мордасам. Необычный сюжет, не правда ли? Вообрази тем*
не менее, что мне пришлось употребить всю мою проницательность#
чтобы в этом сюжете разобраться. Он тонет в океане шуток. Боль?
шей частью эти шутки прескверные, и почти все они вполне цинично*
обращены к галерке. Несчастный старик Три садится спиной к зри-
тельному залу, чтобы поговорить с блестящей дамой, и всякий ряЗ
перед тем, как изречь что-нибудь эдакое, поворачивается на сто
восемьдесят градусов. Публика конечно же была в полном восторге. *
460
за несъедобной”1. В этой по преимуществу женской пьесе (Литтон
Стрэчи по понятным причинам обходит данное обстоятельство)
мужские предубеждения подвергаются острой критике со стороны
женщин, среди которых есть всякие — от пуританок до распутниц.
Некоторые говорят смешные вещи невзначай, как леди Ханстен-
тон, вечно путающаяся в альтернативах: “Леди Белтон убежала
с лордом Фезерсделем... Бедный лорд Белтон скончался через три
дня не то от радости, не то от подагры. Забыла отчего”. Миссис
Оллонби, напротив, шутит совершенно сознательно и ни в чем
не уступает лорду Иллингворту; на его замечание: “Книга Жизни
начинается с мужчины и женщины в райском саду” она отвечает:
“А кончается Апокалипсисом”. Она остроумно объясняет, почему
женщинам живется веселее, чем мужчинам: “Для нас существует го-
раздо больше запретного, чем для них”. Эти женские голоса, к кото-
рым присоединяется голос американки Эстер Уэрсли, создают кар-
тину общества, изображаемого Уайльдом весьма едко, общества, где
невинность сосуществует с виной, благопристойность — с шало-
пайством, постоянство — с прихотью. Хотя миссис Арбетнот (как
и Сибила Вэйн) слишком прямодушна, чтобы быть остроумной,
она — тот персонаж, в котором (как непременно должно быть
у Уайльда) мораль отступает перед “высшей этикой”.
Идея Уайльда о том, что мир носит маску, но время от вре-
мени ее снимает, находила много подтверждений. Любящий
братец Уилли, к примеру, ухитрился предать его в далеком Нью-
Йорке. Вернувшись туда с женой после половинчатого примире-
ния, Уилли вскоре вновь зачастил в клуб “Лотос”. Жена отказалась
снабжать его деньгами, и тогда он начал “зарабатывать” выпивку
фиглярством. Его излюбленным номером было пародирование
стихов Оскара; родственное чутье, без сомнения, помогало ему
бить в самую точку. Принимая “эстетические” позы и произнося
фразы “полузадушенным” голосом, он копировал Оскара доста-
точно верно, чтобы забавлять своих дружков. Иногда он говорил:
“Вот куплю у букиниста потрепанный том “Максим” Ларошфуко
и открою фабрику по производству пьес. Братца Оскара быстро
заткну за пояс”. 10 июня 1893 г. жена развелась с ним, после чего он
продолжал проводить время в клубе “Лотос”, все больше и больше
надоедая его членам. 17 сентября 1893 г. его исключили из клуба
(номинально — за неуплату долга, составлявшего 14 долларов).
О кривлянье Уилли был поставлен в известность репортер “Нью-
Йорк тайме”, и статья в этой газете, опубликованная на следую-
щий день после его исключения, подробно рассказывала о том, как
1 Здесь и далее “Женщина, не стоящая внимания3' цитируется в пере-
воде Н. Дарузес.
461
он пародировал брата. В октябре весть достигла Лондона. Уилли,
вернувшийся в Англию и обосновавшийся у матери, уверял, что
это все поклеп, но Оскар ему не поверил. Он мог теперь припом-
нить брату отрицательную рецензию на “Веер леди Уиндермир”,
которую, вероятно, именно Уилли написал для “Дейли телеграф”.
Уилли явил собой очередной пример неверного друга; в жиз-
ненно-литературном мире Уайльда это был один из основопола-
гающих характеров. Они перестали разговаривать друг с другом.
Успех и еще раз успех
Оригинальность, которой мы требуем от худож-
ника, — это оригинальность трактовки,
а не темы. Только люди, лишенные воображения,
вечно изобретают. Подлинный художник позна-
ется по способности использовать заимствован-
ное, а заимствует он все.
В конце марта 1893 г. Три приступил к репетициям “Женщины,
не стоящей внимания”. Достоинства “Веера леди Уиндермир”
и успех этой пьесы произвели на него такое впечатление, что он
сразу же попросил Уайльда написать новую пьесу, на этот раз для
театра “Хеймаркет”. Вначале Уайльд отказался. Как утверждает
Хескет Пирсон, хорошо знавший Три, Уайльд сказал: “В роли
Ирода в моей “Саломее” вы были бы великолепны. Но в каче-
стве пэра в королевстве моих последних театральных новшеств я,
увы, вас не вижу”. Три указал ему на то, что его исполнение роли
герцога в “Танцовщице” Генри Артура Джонса было удостоенд <
множества похвал. “Вот именно! — отозвался Уайльд. — Для того <
чтобы с успехом сыграть человека, которого я хочу изобразить, вам ;
следует забыть, что вы играли Гамлета; вам следует забыть, что вы, J
играли Фальстафа; и, прежде всего, вам следует забыть, что вы
играли герцога в мелодраме Генри Артура Джонса”. — “Я буду |
стараться изо всех сил”. — “Я думаю, вам вообще следует забыт»,
что вы играли на сцене”. — “Почему же?” — “Потому что остро-
слов-аристократ, которого вы намерены исполнить в моей пьесе, *
не имеет ничего общего с персонажами, которых мы до сих пОр :
видели. Он не имеет ничего общего с людьми, которые до сих пор х
жили”. — “Боже мой! Тогда это сверхъестественное существо!” —
воскликнул потрясенный Три. На что Уайльд ответил: “Разуме*-1
ется, это существо не природное. Он — порождение искусств#* ।
Если уж говорить совсем начистоту, это Я САМ”. Я
Однако мало-помалу он смягчился и принял предложение Три.
Когда он прочел Три готовую пьесу, тот похвалил его за развитие
сюжета. Похвала была неприемлема: ‘‘Сюжеты скучны. Их может
придумывать кто угодно. Жизнь полна сюжетов. Куда ни пойдешь,
приходится расталкивать их локтями”. Он повторил сказанное
раньше: “Я взял сюжет из газеты “Фэмили геральд”, а она взяла его —
что было очень разумно с ее стороны — из моего романа “Портрет
Дориана Грея”. Людям нравится смотреть на развратных аристо-
кратов, соблазняющих невинных девушек, и на невинных девушек,
соблазняемых развратными аристократами. Я даю зрителям то, чего
они хотят, чтобы они попутно восприняли то, что я хочу им дать”.
На репетициях Уайльд убеждал Три быть менее театраль-
ным — вероятно, потому, что лорд Иллингворт достаточно теа-
трален и без того. Три эта роль так нравилась, что он начал играть
ее и вне театра. “Ах, — сказал Уайльд, — Герберт с каждым днем
все сильней и сильней оскаризуется. Вот вам великолепный при-
мер того, как природа подражает искусству”. Другая трудность
была связана с Фредом Терри, который играл неиспорченного
Джеральда Арбетнота и непременно хотел сделать его светским
человеком. На возражение Уайльда Терри ответил пословицей:
“Мистер Уайльд! Можно подвести коня к воде, но нельзя заста-
вить его пить”. — “Вы ошибаетесь, Терри. Представьте себе цирк.
В цирке есть арена. Лошадь выходит на арену и приближается
к кадке с водой. Дрессировщик щелкает бичом и говорит: “Пей!”
Лошадь пьет. Актер — такая вот лошадь”. — “Выходит, вы, мистер
Уайльд, приравниваете театр к цирку”. — “Вы первый начали упо-
треблять сравнения”, — ответил Уайльд. Поскольку Терри не сда-
вался, Уайльд напросился к нему на ланч. Случайно Терри упомя-
нул о своей любви к Диккенсу, и Уайльд с восторгом заговорил
о диккенсовских персонажах (хотя не сказал того, что думал, —
что Диккенсу удались только те персонажи, которые были карика-
турами). Враждебность Терри как рукой сняло, и он сказал: “Мне
чрезвычайно приятно, мистер Уайльд, найти в вас человека, кото-
рый любит Диккенса так же, как я”. — “Мальчик мой, я ни строчки
из него не прочел”, — отозвался Уайльд, сводя на нет едва возник-
шее взаимопонимание.
Позднее на вопрос Хескета Пирсона, помог ли ему Уайльд
в постановке пьесы, Три кисло ответил: “Он только мешал”.
В 1886 г. Уайльд писал, что Три — подлинный Протей театра,
однако теперь он жаловался на то, что Три — неизменно Три
и никто больше. Во время репетиций Уайльд увидел, что в неко-
торых сценах есть изъяны. Он убрал (правда, неохотно) про-
странное и неуместное обличение пуританства в разговоре лорда
Иллингворта с сыном во втором действии.
463
Премьера состоялась 19 апреля 1893 г. Присутствовали Баль-
фур, Чемберлен и другие знаменитости. Актеры были удостоены
горячих аплодисментов, но, когда вызвали автора, раздались нео-
добрительные возгласы — возможно, из-за фразы в тексте (впо-
следствии изъятой): “Англия возлежит как прокаженный в пур-
пуре”. Уайльд, выйдя на сцену, сказал: “Дамы и господа, я должен
с сожалением известить вас о том, что мистера Оскара Уайльда
в театре нет”. Его неожиданный лаконизм вызвал в публике неко-
торое замешательство. Чтобы поправить дело, Бирбом Три заявил:
“Я горжусь тем, что оказался связан с этим произведением искус-
ства”. (Уайльд позднее сделал ему комплимент: “Я всегда считал
вас лучшим критиком моих пьес”. — “Но я никогда не критиковал
ваших пьес”, — возразил Три. “Именно поэтому”, — объяснил
Уайльд.) Макс Бирбом написал в письме следующее: “Когда малыш
Оскар вышел кланяться, некоторые в зале встретили его шика-
ньем и гиканьем, хотя он в своем новом белом жилете, с большим
букетом маленьких лилий в петлице выглядел чрезвычайно мило.
Отзывы в печати лучше, чем я ожидал; пьеса, несомненно, продер-
жится на сцене очень и очень долго, несмотря на все то, что кри-
тики напишут [тут Бирбом употребил оскаризм] в ее одобрение”.
На второй спектакль пришел принц Уэльский с герцогиней фон
Тек, славившейся громким смехом. Оба пришли от пьесы в вос-
торг, и принц велел Уайльду не менять в ней ни единой строчки.
Уайльд ответил: “Сир, ваша воля для меня закон”. Свое удовольст-
вие от этого краткого диалога он подтвердил последующим заме-
чанием: “Великолепная страна! В ней принцы понимают поэтов”.
В тот день Уайльд обедал у Бланш Рузвельт. Перед обедом
каждый из гостей просовывал ладони сквозь занавеску, за кото-
рой сидел хиромант по прозвищу Кайеро; он видел руки, не зная,
кому они принадлежат. Когда настала очередь Уайльда, Кайеро
нашел линии на двух его ладонях настолько различными, что счел
нужным объяснить: в хиромантии левая рука показывает наслед- ,,
ственные тенденции, правая — индивидуальные особенности. <
У человека, чьи руки он видит, левая обещает блестящий успех, }
правая — надвигающуюся катастрофу. “Левая рука — рука вл а- :
дыки, правая — тоже рука владыки, но такого, который сам себя
отправит в изгнание”. Суеверный Уайльд (ранее он отказался
примкнуть к скептикам и вступить в клуб “Тринадцать”) спросил:
“Когда?” — “Через несколько лет, — ответил хиромант, — когда
вам будет примерно сорок”. (Уайльду было тогда тридцать восемь.)
Не проронив больше ни слова, Уайльд покинул званый обед.
Словом, вызвавшим такую реакцию, было, возможно, слово
“владыка”. Со времен Порторы оно ассоциировалось у него с тра-
гедией Эсхила “Агамемнон”. Уайльд мог ощущал себя родившимся
464
и под счастливой, и несчастливой звездой. В “De Profundis” он
неоднократно употребляет слово “рок”, противопоставляя его
простой “судьбе”; он пишет о “теме Рока, которая красной нитью
вплетается в золотую парчу “Дориана Грея”. Уайльд достаточно
хорошо знал античную литературу, чтобы связать воедино раз-
личные стадии агамемноновского рока в Илиаде Гомера и траге-
диях Эсхила и Еврипида. Добившись всего, чего только можно
добиться, он пресытился; позднее Уайльд вспомнит другого вла-
стителя и скажет о “моих нероновых днях с их богатством, рас-
путством и циническим материализмом”. Обласканный успехом,
“я сделался равнодушен к жизням других людей”. Отказываясь
прислушиваться к благоразумным советам, Уайльд сам отдал
себя в руки Немезиды. “Через муки, через боль Зевс ведет людей
к уму”1, — провозглашает хор в “Агамемноне”.
И все же, может быть, Кайеро ошибся? Успех “Женщины,
не стоящей внимания” вполне мог развеять мрачные мысли. Спек-
такль приносил автору пьесы по сотне фунтов в неделю. Уайльд
превознесся до самых звезд. Случайно встретив Конан Дойла, он
спросил его, видел ли он спектакль. Оказалось, нет. Уайльд серь-
езно сказал ему: “Непременно посмотрите. Это просто чудо. Это
гениально”. Не привыкший к такому самовосхвалению со сто-
роны коллеги по перу, Дойл счел Уайльда сумасшедшим. Хотя
рецензенты оценили пьесу по-разному, а Генри Джеймс резко ее
раскритиковал, возобладало мнение, что Уайльд ныне обзавелся
законным местом в литературном мире. “Таймс”, которая весьма
сурово отнеслась к “Вееру леди Уиндермир”, теперь встала на точку
зрения Фрэнка Харриса: “Пьеса свежа по своим идеям и сред-
ствам их выражения; помимо того, она написана с редким для
английской сцены литературным блеском”. Уильям Арчер вновь
не подвел; успех пьесы, заявил он, предопределили не остроумие
и не парадоксы, а присущая автору острота ума, своеобразие его
видения, великолепие его стиля и подлинный драматизм его вдох-
новения. Особенных похвал он удостоил сцену с участием лорда
Иллингворта и миссис Арбетнот в конце второго действия, назвав
ее “самым умным и по-мужски сильным из всего, что в послед-
нее время написано английскими драматургами”. Неожиданное
использование мужского начала в качестве критерия указывает
на то, что более распространенным было мнение об Уайльде как
о женственном эстете.
1 Перевод С. Апта.
Глава 15
Любовная связь
в поздневикторианском стиле
Какая глупость — эта Любовь! В ней и на поло-
вину нет той пользы, какая есть в Логике. Она
ничего не доказывает, всегда обещает несбыточ-
ное и заставляет верить в невозможное.
Высокая романтика
Уайльд мечтал о сжигающей страсти; он ее полу-
чил и был ею сожжен. Они с лордом Альфредом Дуг-
ласом по-разному рассказывали о первых месяцах зна-
комства. Дуглас утверждал, что Уайльд сразу принялся
добиваться его и через шесть месяцев добился. Уайльд,
однако, имел обыкновение флиртовать едва ли не со всеми,
и Дуглас легко мог принять простую благосклонность за ухажи-
вание с далеко идущими намерениями. Уайльд вообще отрицал,
что инициативу проявил он. Он говорил, что до весны 1892 г.,
когда Дуглас вдруг обратился к нему не то лично, не то письмом,
с просьбой о помощи, их знакомство было лишь поверхностным-
Причиной просьбы был шантаж, связанный с неким неосторож-
ным письмом. Уайльд отправился в Оксфорд и провел уик-энд
у Дугласа на Хай-стрит. Он достаточно легко решил проблему,
прибегнув к помощи своего поверенного и друга Джорджа Лью-
иса. Льюис, которому не привыкать было выручать клиентов
в щекотливых ситуациях, выкупил у шантажиста письмо за сто
фунтов.
Любовная связь, таким образом, началась под знаком шан-
тажа и под этим же знаком цвела дальше. До той поры Уайльд был
весьма сильно привязан к Джону Грею, но теперь этот молодой
человек начал утрачивать место в его сердце. О развитии отно-
шений Уайльда и Дугласа можно судить по двум книжным подар-
кам. Первый из них, “Портрет Дориана Грея”, Дуглас получил
от Уайльда вскоре после их знакомства, и дарственная надпись
466 1
на томе выглядит достаточно нейтрально: “Альфреду Дугласу
от его друга, написавшего эту книгу. Июль 91. Оскар”. А вот
надпись на сборнике “Стихотворения” производит иное впечат-
ление:
От Оскара
Злато кольчужному
Мальчику
в Оксфорде
в разгар
июня
Оскар Уайльд
Шел июнь 1892 г., и к этому времени Уайльд был покорен. Боль-
шую часть лета они с Дугласом провели вместе. Перед Робертом
Россом, который не предъявлял на Уайльда никаких прав, можно
было не таиться. Письмо Россу говорит о страсти, к которой адре-
сат относился с сочувственным пониманием:
Дорогой мой Бобби! По настоянию Бози1 мы остановились
тут из-за сэндвичей. Он очень похож на нарцисс — такой же белый
и золотой. Приду к тебе вечером в среду или четверг. Черкни мне
пару строк. Бози так утомлен: он лежит на диване, как гиацинт,
и я поклоняюсь ему.
Пока, милый.
Всегда твой ОСКАР.
Дуглас рассказал о новом знакомстве матери. Леди Куинсберри,
страшно встревоженная из-за трудностей с учебой, которые Бози
испытывал в Оксфорде, решила пригласить Уайльда с женой к себе
в Брэкнелл и проконсультироваться с ними насчет сына. Во время
визита, который состоялся в октябре 1892 г., неловкость, часто
сопровождающая знакомство с матерью любимого человека, про-
явила себя в полной мере. Как пишет Десмонд Маккарти, леди
Куинсберри всегда выглядела так, “словно ее стукнули и она все
еще содрогается от удара”, и Уайльд ощутил это сполна. Обра-
тившись к нему за советом и помощью, она с предостерегающей
откровенностью рассказала о тщеславии Бози и о его расточитель-
ности. Уайльд, который сам был и тщеславен, и расточителен, был
к тому же слишком влюблен, чтобы ответить на обвинения в этих
1 Бози — прозвище Дугласа. (Примеч, перев.)
“грехах” чем-либо, кроме улыбки. При всей непоследовательно-
сти леди Куинсберри Уайльд достаточно сильно ощутил прису-
щую ей чопорность, чтобы назвать леди Брэкнелл, властную мать
Гвендолен из комедии “Как важно быть серьезным”, по местности,
где жила мать Бози. Ее разговор с Уайльдом не возымел прямых
последствий, однако не прошло и месяца, как Уайльд понял, что
такое настоящее мотовство. Его письма Дугласу стали деклараци-
ями растущих денежных затруднений и усиливающейся любви.
Эта двойная утрата контроля над своей жизнью имела для Уайльда
некую прелесть.
Даже позднее, горько упрекая Дугласа, Уайльд признавал, что
его друга отчасти оправдывает чувство, которое Дуглас действи-
тельно к нему питал. В этот период “юный Домициан”, как Уайльд
его называл, начал писать стихи. Бози посылал ему свои поэти-
ческие опыты, первый из которых датирован ноябрем 1892 г. —
месяцем, когда Уайльд впервые ощутил последствия мотовства
Бози. Скорее всего, именно в ноябре их связь стала прочной.
В том, что первое из присланных стихотворений называется “De
Profundis”, ныне чувствуется некая предвосхищающая ирония;
суть его сводится к тому, что автор любит, но природа его любви
такова, что он не может сказать, кого он любит. Подобное полура-
скрытие-полусокрытие гомосексуализма популяризировал Уайльд
своим “Дорианом Греем”. Оно же лежит в основе стихотворения
Дугласа “Две любви”, написанном несколько позже и содержащем
знаменитую строку: “Я — любовь, что таит свое имя”. В разгово*
рах, однако, Дуглас ничего не таил. Если Уайльд был смел, Дуглас
был еще смелее. По понятным причинам ему хотелось хвастаться
любовью к нему Уайльда, выставляя ее напоказ перед Джоном
Греем и другими молодыми людьми, которым Уайльд в прошлом
оказывал внимание.
С ноября 1892 г. по декабрь 1893 г., когда в их отношениях воз-
никла трехмесячная пауза, жизни Уайльда и Дугласа были нераз-
делимы. До июня 1893 г. Дуглас находился в колледже Магдалины,
оканчивая четвертый и последний год курса классических языков
и философии. Став редактором оксфордского литературного жур-
нала “Спирит лэмп”, он изменил его направленность с тайной
целью пропаганды гомосексуализма. Ради этого он опубликовал
материалы, написанные Россом, Саймондсом и Уайльдом, и стихи
о Гиласе и Коридоне. В письмах своему другу Кейнсу Джексону он
доверительно сообщал ему, что Уайльд внес существенный вклад
в “новую культуру” и в “наше дело”. “Если Бози действительно
гомосексуализировал Оксфорд, — писал 15 ноября 1894 г. в дневг
468
нике Джордж Айвз, молодой сторонник нового движения, —
то он совершил великое и славное дело”1.
Этой скрытой пропагандой дело не ограничивалось. Дуглас
чем дальше, тем выше ставил себя как поэта. Уайльд осыпал похва-
лами не только его самого, но и его “прелестные” сонеты. Греться
в лучах уайльдовского солнца было, конечно, приятно, но Дуглас
хотел быть чем-то большим, нежели, пользуясь выражением Макса
Бирбома, “весьма миловидное отражение Оскара”. Мня себя все
более и более достойным звания поэта, он все менее и менее ощу-
щал себя студентом.
В этот период Уайльд начал понимать, что Дуглас не только
красив, но вдобавок еще безответствен и неуправляем. Нрав
у него был бешеный. Бирбом, которому он нравился, писал Тер-
неру, что он “явно сумасшедший (как, видимо, вся его семья)”.
Между приступами гнева Дуглас мог быть “чрезвычайно обая-
телен” и “почти блестящ”. Он хотел, чтобы его любили и чтобы
с ним обращались как с равным по интеллекту. Одним из способов
проявления власти над новым другом было выкачивание из него
денег. Уайльда, который был столь же щедр в денежном смысле,
как и во всех прочих, не надо было просить о субсидиях дважды,
и, чтобы не пользоваться его кошельком столь же свободно, как
своим, Дугласу пришлось бы проявить непосильную для него
сдержанность. 15 июля 1896 г., когда Уайльд был в тюрьме, Дуглас
писал Россу: “Очень хорошо помню сладость, которую я ощущал,
выпрашивая у Оскара деньги. Для нас обоих это было сладкое
унижение и острейшее удовольствие”. Наслаждение любви усили-
валось от сознания, что тебя содержат. Что касается Уайльда, испы-
тываемое им удовольствие было, возможно, чуть менее острым.
Хотя ему и нравилось, когда им слегка злоупотребляли, тут им
злоупотребляли не на шутку. Однако Дуглас требовал от друга
восхождения на все новые высоты любовного попечительства.
В 1894 г., когда отец пригрозил лишить его содержания, Дуглас
своим поведением нарочно подстрекнул его к этому и всецело
положился на щедрость Уайльда. Поскольку ни Уайльд, ни Дуглас
1 30 июня 1892 г. в “Клубе авторов” Уайльд встретил Айвза, чей “Орден
Херонеи” был задуман как тайная “группа поддержки” гомосексуа-
лизма. Первым, что Уайльд сказал Айвзу, было: “Почему вы здесь,
среди плешивых и бородатых?” Он с симпатией относился к ордену
Айвза, хотя указаний на то, что он вступил в него, нет. Хорошо бы,
сказал он Айвзу, основать на каком-нибудь средиземноморском
острове языческий монастырь, где, как мечтал Айвз, все формы любви
были бы свободны. По ассоциации он вспомнил о дружбе Байрона
и Шелли, которой, по его словам, Шелли положил конец, когда Бай-
рон попытался вступить с ним в половую близость.
469
не придерживались принципа сексуальной верности и не требо-
вали этого друг от друга, деньги были единственным, что фор-
мально скрепляло их союз.
Семейство Куинсберри
...из безумного, порочного семейства, породившего тебя.
Альфреда Дугласа, возможно, легче всего понять по его отноше-
ниям с отцом — Джоном Шолто Дугласом, девятым маркизом
Куинсберри. Маркиза пытались представить примитивным груби-
яном, но на самом деле он был грубияном сложным. Грубиянствуя,
он хотел делать это по правилам. Вот почему в двадцать четыре года
он кардинально изменил мир бокса, убедив Англию и Америку
принять так называемые “правила Куинсберри” и деление бок-
серов на весовые категории, обеспечивающее равенство шансов.
Воинственность соединялась в нем с сутяжничеством. Он про-
славился как громогласный хулитель христианства; он то и дело
публично и бестактно обрушивался на чьи-нибудь убеждения.
Он воображал себя этаким аристократом-бунтарем, изгнанным
из светского общества за свой мятежный дух.
Будучи хорошим боксером и отличным охотником,
Куинсберри еще и пописывал стихи. Дуглас опубликовал
в “Спирит лэмп” одно из отцовских стихотворений, “Строки,
навеянные смертью Фреда Лесли. 3 февраля 1893 г. ”. Строки
эти были, возможно, навеяны еще и стихотворением Крис-
тины Россетти “Когда умру”. В первой из них Куинсберри
звучно потребовал: “Когда умру — кремируйте меня”. В 1880 г.
Куинсберри опубликовал в виде книжечки самое амбициоз-
ное из своих поэтических произведений — “Дух Маттерхорна?
(при восхождении на эту гору погиб его брат, лорд Фрэнсис
Дуглас). Идеи, выраженные в этой поэме, должны были, как
он надеялся, улучшить отношение к нему шотландской аристо-
кратии. Чуть раньше шотландские лорды голосованием лишили
его места в британской палате лордов — места, которое он, как
и его предки, считал своим законным достоянием ввиду знат-
ности рода; основанием для такого решения лордов послужило
публичное отрицание им существования Бога. Этот афронт
глубоко ранил Куинсберри. В предисловии к поэме он объ-
яснил, что вовсе не отрицает существование Бога — просто
предпочитает именовать его “Непостижимый”. Поэма по боль-
470
шей части представляет собой стихотворное изложение тео-
рии, согласно которой душа — это продукт тела, а не что-то
обособленное от него. Следовательно, все мы должны крайне
тщательно выбирать себе супруга или супругу, чтобы потомство
было, насколько возможно, евгенически доброкачественным,
ибо мы воспроизводим в детях не только свои тела, но и души.
В общем: “Блюдите, люди, крови чистоту”. Богобоязненных
шотландских лордов это не смягчило.
О его нраве можно судить по случившейся в декабре 1885 г.
истории, связанной с его попыткой сорвать спектакль по бал-
ладе Теннисона “Королева мая”, в котором был с дурной сто-
роны показан атеист. Еженедельник “Бэт” в редакционной
статье заявил: “Чем больше маркиз Куинсберри ораторствует
перед своим сословием, тем гленыиее действие производят его
слова. Своей славной речью на спектакле по пьесе его аристо-
кратического собрата он добился только того, что его вывели
из театра”. Следующий номер того же еженедельника содержал
ответ Куинсберри:
Сэр! Благодарю Вас за объявление, напечатанное в Вашей похаб-
ной газетенке — надо полагать, консервативной по направлению. Вы
пишете, что меня вывели из некоего театра. Так оно и было. Теперь
еще одно объявление. Три недели спустя, насколько мне известно,
пьеса была снята с репертуара... Заранее благодарю Вас за все будущие
объявления. Преданный Вам
КУИНСБЕРРИ.
Было совершенно ясно, что такой человек может стать страш-
ным противником, охочим до публичных жестов, столь же высо-
комерно безразличным к общественному мнению, как Уайльд,
но гораздо менее уязвимым. 22 января 1887 г. жена выиграла
у него процесс о разводе, обвинив его в супружеской измене
с Мейбл Гилрой, проживавшей по адресу: Камден-таун, Хэмпстед-
роуд, 217. Хотя для своей первой жены, которая не подходила ему
вовсе, он был не слишком хорошим мужем, он оплачивал нужды
и развлечения детей и проявлял значительный, хоть и бесцеремон-
ный, интерес к их благосостоянию. Он был чрезвычайно обра-
дован, когда его третий сын Альфред поступил в Оксфордский
университет, и сильно опечален, когда появились признаки того,
нто из академической карьеры сына ничего не выйдет. Его гнев,
однако, был еще впереди.
471
Грубые игры
Я ничуть не жалею, что жил ради наслажде-
ния. Я делал это в полную меру — потому что
все, что делаешь, надо делать в полную меру...
Я питался сотовым медом.
Отношения между Уайльдом и Дугласом были насыщенно-
романтическими, но оба они не брезговали и другими, менее
романтическими связями. Дуглас был падок на молодых людей,
которые отдавались за несколько фунтов и хороший обед. Он
ввел Уайльда в их мир, и между ними началось своего рода состя-
зание. Подстрекаемый азартом, Уайльд осенью 1892 г. взвинтил
темп своих похождений. Через введенного Дугласом в его кру-
жок Мориса Швабе, племянника заместителя генерального про-
курора, он познакомился с Альфредом Тейлором, непутевым
сыном фабриканта какао и выпускником престижной частной
школы в Марлборо. Тейлор, в свою очередь, свел его с нескольз-
кими юношами, среди которых выделялся Сидни Мейвор, позд-
нее ставший англиканским священником. В октябре 1892 г.
Уайльд пригласил Тейлора, Мейвора, Дугласа и Швабе в ресторан
Кеттнера обедать. Он продолжал встречаться с Мейвором в тече-
ние последующих полутора лет. В том же октябре 1892 г. Швабе
познакомил Уайльда с Фредди Аткинсом. Аткинс, которому еще
не исполнилось восемнадцати, уже был законченным шантажи-
стом. Уайльд хорошо платил этим юношам, дарил им портси-
гары и прочие вещицы; он прославился среди них щедростью
и добродушием, которыми они беззастенчиво злоупотребляли.
Для него это были те самые “пиры с пантерами”, о которых он
говорил позднее.
В 1893 г. он завел обыкновение переселяться на время в отели —
якобы для работы, но на самом деле еще и для развлечений. Так,
с 1 по 17 января он жил в отеле “Албемарл”; поведение его там
было настолько предосудительным, что хозяин обрадовался его
отъезду. Туда к нему приходило несколько молодых людей. Про-
должалась его связь с Эдвардом Шелли. Она тянулась с начала
1892 г., когда, познакомившись с Шелли в издательстве Джона
Лейна, Уайльд пригласил его на обед. Шелли сильно нервничал
из-за их отношений и в марте 1893 г. письмом сообщил Уайльду,
что хочет их прекратить. Уайльд не стал его удерживать и пред*
л ожил ему 100 фунтов на тот случай, если он пожелает возобно-
вить учебу. Шелли денег не взял, однако в течение последующих
двух лет по-прежнему полагался на помощь Уайльда в трудную
минуту. Тем временем в феврале 1893 г. Дуглас поделился с Уайль*
472
дом одним из своих юношей — семнадцатилетним Альфредом
Вудом. Уайльд, как было заранее условлено, встретился с ним
в ресторане “Кафе-руаяль”, угостил его выпивкой, потом пообедал
с ним в отдельном кабинете ресторана “Флоренс” на Руперт-стрит
и наконец повез его к себе на Тайт-стрит в постель (его домашние
в то время были в отлучке). Они встречались и позднее. Дуглас
также продолжал видеться с Вудом и отдал ему кое-какую одежду
со своего плеча, по беспечности не заметив, что в некоторых кар-
манах лежат письма от Уайльда. Вуд решил воспользоваться наход-
кой, чтобы добыть деньги на поездку в Америку, и в апреле послал
копию одного из писем1 Бирбому Три, тогда репетировавшему
“Женщину, не стоящую внимания”, после чего дождался Уайльда
у служебного входа в театр. Уайльд, которого Три предупредил,
отказался платить Вуду, сказав, что, если ему действительно, как он
утверждал, предложили за одно из писем 60 фунтов, то пусть он
пойдет и продаст его за эту цену, необычную для столь краткого
прозаического отрывка. Вуд и двое его сообщников в конце кон-
цов решили вернуть Уайльду все письма, кроме “письма с Гиацин-
том”, и покладистый Уайльд дал Вуду сначала 25 фунтов, а на сле-
дующий день еще 5. После этого Вуд на год уехал в Америку.
Примерно в это время Уайльд и Дуглас через Тейлора свели
знакомство с молодым человеком по имени Чарлз Паркер и неко-
торыми другими продажными юнцами. Встречи были не столь
частыми, и детальные их описания, всплывшие впоследствии,
затушевывают тот факт, что все это происходило на протяже-
нии не одного года. С Сидни Мейвором Уайльд ездил в Париж
в феврале 1893 г., желая быть там во время публикации “Сало-
меи”, и поселил его в роскошных апартаментах одного из луч-
ших отелей. Всем подобным связям Уайльда было свойственно
то, что он старался узнать молодого человека как личность, обра-
щался с ним хорошо, в случае отказа не проявлял мстительности
и никого не развращал. Все они уже привыкли продавать свое тело.
1 Скорее всего, это было письмо, отправленное Уайльдом в январе
1893 г. из Баббакумб-Клиффа:
“Любимый мой мальчик! Твой сонет прелестен, и просто чудо, что
эти твои алые, как лепестки розы, губы созданы для музыки пения
в не меньшей степени, чем для безумия поцелуев. Твоя стройная золо-
тистая душа живет между страстью и поэзией. Я знаю: в эпоху греков
ты был Гиацинтом, которого так безумно любил Аполлон.
Почему ты один в Лондоне и когда собираешься в Солсбери? Съезди
туда, чтобы охладить ладони в серохм сумраке готики, и приезжай,
когда захочешь, сюда. Это дивное местечко — здесь недостает только
тебя; но сначала поезжай в Солсбери. С неумирающей любовью,
вечно твой
ОСКАР».
473
Возбуждение оттого, что он ведет себя предосудительным обра- 7
зом, и постоянный риск из-за общения с вероломными юнцами, •
не гнушающимися вымогательством, были для Уайльда не менее
важны, чем сексуальное наслаждение.
С конца 1892 г. жизнь Уайльда зримым для него образом стала
расслаиваться, отчетливо делясь на две половины — одну тайную
и противозаконную, другую открытую и легальную. Чем больше
он в нарочитом самозабвении искал общества молодых людей,
лишенных сантиментов, тем тщательнее поддерживал на публике
видимость бескорыстной дружеской преданности и спокойной
уверенности (для Дугласа находилось место в обеих его жизнях).
Если он хотел подвергнуть себя риску, то лучшего способа было
не найти. Английское общество терпело гомосексуализм до тех
пор, пока кто-нибудь не оказывался на нем пойман. То, что Уайльд
сочетал краткие связи с более идеализированными отношениями,
вторым участником которых был сначала Росс, затем Грей, затем
Дуглас, многократно увеличивало его шансы быть пойманным.
Уайльд верил в свою звезду; звезда была нарисована на потолке его
спальни в доме на Тайт-стрит. Но он имел обыкновение во всем
доходить до края.
Джон Грей и Раффалович
Малыш Андре был вчера вечером сильно возбужден.
Постоянное присутствие Дугласа в жизни Уайльда изрядно раз-
дражало его друзей. Меньше всех роптал Робби Росс, которому
нечего было беспокоиться за свое место в свите. С Джоном Греем
дело обстояло сложней. Уайльду нравились стихи Грея; Грей,
по его словам, достиг в них “безупречной выразительности’**.
Соответственно, 17 июня 1892 г. Уайльд договорился с издателем
Джоном Лейном о том, что покроет все издательские расходы
на публикацию первой книги Грея “Рисунки серебряным каран-
дашом”. В первые месяцы 1892 г. Грей был постоянным спутником
Уайльда — очередь Альфреда Дугласа еще не настала. Уайльд помог
Грею стать членом “Клуба театралов” и предложил его кандида-
туру для выступления. 8 февраля 1892 г. на собрании, прошедшем
под председательством Уайльда, Грей заявил, что искусству при-
сущи манипуляторство и дендизм, а художник — пария. Позднее
Уайльд похвалил его за то, что он не был понят. “Я тоже, — сказал
он, — был удостоен подобного отличия”. Уайльд отрицал пред*
474
положение о том, что фамилия друга подсказала ему фамилию
Дориана. Около 13 июня в Лондон приехал Пьер Луи с дамой
сердца; Уайльд немедленно пригласил обоих обедать и позвал
также Джона Грея, уже знакомого с Луи. Трое мужчин реулярно
встречались до 3 июля 1892 г., когда Уайльд в сопровождении Дуг-
ласа отправился поправлять здоровье в Бад-Хомбург; позднее Луи
посетил его там. Из Бад-Хомбурга Уайльд выслал Лейну договор
на “Рисунки серебряным карандашом”.
Хотя Луи был человеком гетеросексуального склада, он наивно
радовался вхождению в этот гомосексуальный кружок. Он расска-
зывал Андре Жиду о стильном поведении Уайльда и его друзей:
тебе не просто предлагали сигарету, а вначале ее зажигали, потом
делали затяжку и лишь после этого протягивали. Он с одобрением
отнесся к известию о том, что двое членов этого кружка (Аль-
фред Тейлор и Чарлз Мейсон) отпраздновали “настоящую свадьбу”
с обменом кольцами и брачной церемонией. “Они умеют облечь
все в поэтические одежды”, — сказал он Жиду. Поэзия, конечно,
вещь хорошая, но вскоре Грей сообщил ему кое о чем менее прият-
ном. В конце 1892 г. Грей сказал Луи, что думает о самоубийстве;
Дуглас прочно занял место рядом с Уайльдом, и Грей чувствовал
себя обманутым.
Именно в это время в игру вступил Андре Раффалович, кото-
рый восхищался Греем, не будучи с ним знакомым. Вначале, дви-
жимый завистью, он опубликовал статью, где раскритиковал лите-
ратурные стили и Грея, и Уайльда. Но в ноябре 1892 г., когда Артур
Саймонс познакомил его с Греем, он раскаялся и влюбился. Доби-
ваясь благосклонности Грея, он осудил близость Уайльда с Дугла-
сом, назвав ее суетной и беспутной. На роскошных обедах у Раф-
фаловича, которыми он прославился в Лондоне, Грей был теперь
постоянным гостем. Поведение Раффаловича забавляло Уайльда
и вызывало у него презрение. “Раффалович посадил Новую Елену
[Лили Лэнгтри] за один стол с кардиналом Воном, — сказал он. —
Андре приехал в Лондон, чтобы учредить салон, а получился у него
салун”. Развивая шутку, он, придя к Раффаловичу в последний раз,
сказал дворецкому: “Столик на шестерых”. Уайльд был раздражен
настолько, что язвил по поводу внешности своего соперника; он
говорил: “уродлив, как Раффалович”. Он даже не захотел садиться
рядом с Раффаловичем в парикмахерской на Бонд-стрит, в кото-
рой они оба были постоянными клиентами.
Мало-помалу Грей был завоеван. Его последней данью Уайльду
была дарственная надпись, сделанная им в октябре 1892 г. на своем
переводе книги Поля Бурже “Святой и другие”: “Моему люби-
мому учителю, моему дорогому другу в знак признательности”.
Вскоре после этого Раффалович перевез Грея из скромной квар-
475
тиры в Темпле в дом 43 по Парк-лейн, находившийся в двух шагах
от его собственного дома на Саут-Одли-стрит. 4 января 1893 г.
Грей — без сомнения, по наущению нового друга — заключил
с Джоном Лейном новый договор на “Рисунки серебряным каран-
дашом”, где Уайльд упоминался только как получатель бесплатных
экземпляров. Лейн якобы был согласен взять на себя все расходы
по публикации, что было для него чрезвычайно невыгодно; за всем
этим, видимо, стоял Раффалович, гарантировавший Лейну возме-
щение убытков. “Рисунки серебряным карандашом” вышли в свет
приблизительно 4 марта 1893 г. Отзывы большей частью были
отрицательные. В марте Ле Гальен упрекнул Грея за манерничанье
и декаданс; в ноябре Теодор Вратислав поступил еще более сурово,
написав в гомосексуальном журнале “Артист энд джорнал оф хоум
калчер”, что Грей — “художник, оставивший позади себя большое
будущее”.
Но самым забавным был отклик новообретенного друга Уай-
льда — Ады Леверсон, которой он дал прозвище Сфинкс. Остроум-
ная женщина, ставшая позднее популярной романисткой, миссис
Леверсон обнаружила в сборнике Грея “тоненькую речушку текста,
петляющую среди незасеянных книжных полей”, и посоветовала
Уайльду опубликовать книгу, состоящую из одних полей, полную
прекрасных невысказанных мыслей. Том должен быть перепле-
тен в выглаженную слоновой костью голубовато-зеленую кожу
с орнаментом из золотистых кувшинок, богато раззолочен Шан-
ноном (или, на худой конец, Риккетсом) и напечатан на японской
бумаге. Уайльд одобрил этот план. “Книга будет посвящена вам»
а проиллюстрирует ненаписанный текст Обри Бердслей. Тирану
будет состоять из пятисот подписанных экземпляров для близки^
друзей, шести экземпляров для широкой публики и одного ДЛЯ
Америки”.
К началу марта 1893 г. Грей уже порвал с Уайльдом и соо^г
щил об этом Луи. Луи, помнивший о гостеприимстве Уайльда
и многих знаках внимания с его стороны, не спешил последу
вать его примеру. Благодаря Уайльду он познакомился не толькр
с Мэрион Терри, игравшей миссис Эрлин в “Веере леди Уиндер-
мир”, но и с самой Бернар (эта встреча вдохновила его на напис^
ние первого варианта его “Афродиты”). Далее, 22 февраля 1893 R
он получил экземпляр “Саломеи” и увидел, что книга офици-
ально посвящена “Моему другу Пьеру Луи”. В ответ он посла^
Уайльду шуточную телеграмму, которую тот ему вернул, напи-
сав: “Неужели это все, что Вы можете мне сказать после того, как
я из всех моих друзей избрал именно Вас, чтобы посвятить ВаМ
‘Саломею”? Не могу Вам передать, насколько мне это больно*.•
Я не думал до сей поры, что дружба еще более хрупка, чем любовь •
476
Луи умилостивил его, послав ему сонет, озаглавленный “Саломея”
и начинающийся так:
Сквозь светящийся туман семи покрывал
Линия ее тела выгибается в сторону луны,
Она касается себя своими темными волосами
И ласкающими пальцами, на которые падает свет звезд.
После этого Уайльд пригласил его в Лондон на премьеру “Жен-
щины, не стоящей внимания”, состоявшуюся 19 апреля. Во время
этой поездки Луи понял, почему Грей расстался с Уайльдом. Он
написал своему брату Жоржу, что компания, которой окружил
себя Уайльд, начинает его раздражать, и 22 апреля добавил: “Оскар
Уайльд был ко мне очень мил, мы почти каждый день встречались
за ланчем. Но я был бы рад, если бы его друзьями были несколько
иные люди”. Постоянное присутствие Дугласа действовало
на него угнетающе.
Уайльд и Дуглас рассказали Луи, что опасаются шантажа
с использованием “письма с Гиацинтом”, написанного Уайльдом
Дугласу и по-прежнему находящегося в руках Альфреда Вуда.
Чтобы письму можно было придать статус произведения искусства,
Луи послушно сочинил по-французски его поэтическое перело-
жение, которое 4 мая 1893 г. было опубликовано в редактируемом
Дугласом оксфордском журнале “Спирит лэмп” под названием,
намекавшим на пьесу Уайльда: “Сонет. Письмо, которое господин
Оскар Уайльд написал другу поэтической прозой, а поэт, не стоя-
щий внимания, перевел, снабдив рифмами”.
Теперь Луи мог с близкого расстояния рассмотреть Уайльда
и его окружение. Он пришел однажды утром в номер отеля
“Савой”, который Уайльд делил с Дугласом; там была одна двуспаль-
ная кровать с двумя подушками1. Пока они разговаривали, явилась
Констанс Уайльд и принесла мужу, которого она теперь не часто
видела, почту. Когда она стала просить его вернуться домой, он
в шутку прикинулся, будто не был дома так долго, что забыл адрес,
и Констанс улыбнулась сквозь слезы. Тогда-то Уайльд и сказал Луи,
отведя его в сторонку: “В моей жизни было три брака, один с жен-
щиной и два с мужчинами!” Из двоих мужчин одним, конечно,
был Дуглас, другим — либо Росс, либо Грей. Луи был удручен:
о жене Уайльда ему до сей поры как-то не думалось. Что касается
В 1893 г. Макс Бирбом писал Россу: “Бедный Оскар! Я видел на днях
из кеба, как он идет с Бози и некоторыми другими “крайне левыми”.
Он выглядел так, словно его душа почила в грехе и ожила в пошлости.
Ужасная участь для поэта — лечь в постель и очнуться опозоренным”.
477
Уайльда, он был достаточно откровенен. Он сообщил однажды
мадам Мельба, что накануне рассказывал сыновьям на сон гряду-
щий истории о непослушных мальчиках, которые заставляли своих
матерей плакать и попадали из-за непослушания во всякие пере-
делки, пока наконец не исправились. “И знаете, что один из них
сказал мне? Он спросил, какому наказанию подвергаются непо-
слушные папы, которые приходят домой на рассвете и заставляют
маму плакать куда сильней”. Оказалось, что довольно суровому.
Луи вернулся в Париж, недовольный увиденным. Он сказал
Анри де Ренье, что Уайльд теперь не скрывает своего гомосексуа-
лизма, что он бросил жену с детьми ради Дугласа. Ренье передал по-
дробности разговора Эдмону де Гонкуру, и тот 30 апреля злорадно
записал их себе в дневник. Но Луи заставило говорить об этом
не желание затеять скандал, а подлинное смятение. Он решил
убедить Уайльда одуматься. Возможность для этого представилась
в конце мая 1893 г., когда Уайльд на несколько дней остановился
в парижском “Отеле де дё монд” на авеню Оперы. Луи пришел
к нему туда, вероятно, 23 мая и принялся пенять ему за отноше-
ния с Дугласом и пренебрежение женой и детьми. Уайльд не стал
ни оправдываться, ни каяться. Он сказал, что Луи не имеет права
выступать в роли судьи. В этом случае, ответил Луи, у него нет
иного выбора, как разорвать отношения. Уайльд печально взглянул
на него и сказал: “Ну что ж, прощайте, Пьер Луи. Я рассчитывал,
иметь друга; отныне у меня будут только любовники”.
Однако потом он с негодованием рассказал об этом разго-
воре Леону Доде, и Луи, которого не слишком симпатизировав*
ший Уайльду Доде тут же поставил в известность, 25 мая 1893 г>
отправил Уайльду колкое письмо: “Что касается Вас, мне нечего
добавить к тому, что я сказал; могу разве что выразить изумление
Вашим упорством и шумом, поднятым Вами в связи с эпизодом,*
превратного истолкования которого я от Вас никак не ожидал”.
По просьбе Уайльда Марсель Швоб попытался уладить конфликт,
сказав, что Доде неверно передал слова Уайльда. Но безрезуль-
татно. Через несколько дней Луи написал Джону Грею: “Вы зна-?
ете, что я порвал с Уайльдом и не желаю встречаться с ним где бы
то ни было”. Разрыв Уайльда с Греем и Луи — с возлюбленным
и другом, с англичанином и французом — был дурным предзна-
менованием. В последние годы жизни он часто с сожалением
возвращался к мысли о том, что лишился их дружбы по милости
Дугласа. Однако в то время он ласкался с опасностью, как Зевс
с Ганимедом.
Как персонаж греческой трагедии, Уайльд позволил успеху
вскружить себе голову. Его сотоварищи своим поведением наро-
чито поощряли детское самолюбование, которому он был под-
478
вержен. Письмо Бирбома Тернеру, написанное через три дня
после завершающего представления “Женщины, не стоящей вни-
мания”, которое состоялось 16 августа 1893 г., отчетливо указы-
вает на новую стадию. Уайльд явился в театр с Дугласом, Россом
и Бердслеем. “Последний из перечисленных позабыл водрузить
на голову венок из листьев винограда, зато остальные трое укра-
сились ими весьма пышно, особенно бедняга Робби [Росс уже
начал лысеть]. Не припомню, чтобы Оскар вел себя так глупо; он
назвал миссис Бир “юноноподобной”, а Генри Кембла “ну прямо-
таки олимпийцем”; держа в руке сигарету, он все водил и водил ею
кругами у себя перед лицом. Разумеется, я предпочитаю вольного
Оскара Оскару здравомыслящему, но все же, встретив его неожи-
данно [... ] я испытал к нему неприязнь”. То, что бесцеремонность
Уайльда была скорее напускной, не смягчало отталкивающего дей-
ствия, которое она порой производила.
Тем временем Дуглас в последний раз пытался наверстать
упущенное в учебных занятиях. В марте 1893 г. его курировал
в Оксфорде молодой педагог Кэмпбелл Доджсон. Возможно, Дуг-
лас уже понимал, что игра проиграна; он послал Уайльду длинную
телеграмму и отправился к нему в Баббакумб-Клифф, прихва-
тив с собой куратора. Доджсон по мере сил старался продолжать
обучение, покрывая безделье Дугласа, хотя он мог сполна оценить
замечание Уайльда о том, что Баббакумб-Клифф “соединяет пре-
имущества частного пансиона и приюта для умалишенных”.
Уайльд выработал распорядок школьного дня:
Школа “Баббакумб”
Директор — мистер Оскар Уайльд.
Педагог — мистер Кэмпбелл Доджсон.
Воспитанники — лорд Альфред Дуглас.
Распорядок дня:
Чай для директора, педагога и воспитанников в 9.30 утра.
Завтрак в 10.30.
Занятия с 11.30 до 12.30.
В 12.30 херес и печенье для директора и воспитанников (педагог про-
тив этого возражает).
12.40-1.30. Занятия.
1.30. Ланч.
2.30-4.30. Обязательная игра в прятки для директора.
5. Чай для директора и педагога, коньяк с содовой (не более семи
порций) для воспитанников.
6-7. Занятия.
7.30. Обед с обязательным шампанским.
479
8.30—12. Игра в экарте (ставки не более пяти гиней за очко).
12-1.30. Обязательное чтение в постели. Любой воспитанник, ули-
ченный в нарушении этого правила, будет немедленно разбужен.
По окончании триместра директор получает в подарок от пре-
исполненных уважения воспитанников серебряную чернильницу,
а педагог — пенал для карандашей.
Не в натуре Дугласа было подолгу оставаться спокойным,
и через несколько дней он взорвался. Потоки брани, которые
он в таких случаях извергал, были столь яростны, что терпе-
нию Уайльда приходил конец; на следующее утро, когда Дуглас
в припадке гнева собрался в Бристоль, Уайльд согласился с тем,
что они больше не друзья. Доджсон, возбужденный не в мень-
шей степени, заметил, что Дуглас был известен в колледже Маг-
далины как человек невменяемый, не отвечающий за свои слова
и поступки. Однако, добравшись до Бристоля, Дуглас уже рас-
каивался в своей вспышке. Попросив у Уайльда прощения, он
получил его, и в Лондон они вернулись вместе. По пути Дуглас
выразил желание, чтобы Уайльд взял для них двоих номер в отеле
“Савой”, что Уайльд и сделал. Именно тогда Луи увидел плачущую
Констанс. Дуглас ни за что не соглашался входить в отель через
боковую дверь; все непременно должны были видеть, как Оскар
Уайльд идет через парадный вход рука об руку со своим молодым
человеком. “Пребывание там оказалось для меня роковым”, —
напишет впоследствии Уайльд в “De Profundis”.
Снова в Оксфорде
— Лорд Генри, меня ничуть не удивляет, что свет
считает вас в высшей степени безнравственным
человеком.
— Неужели? — спросил лорд Генри, поднимая
брови. — Вероятно, вы имеете в виду тот свет?
С этим светом я в прекрасных отношениях.
В мае 1893 г. Уайльд, увенчанный славой, приехал в Оксфорд
и долго гостил там у Дугласа. Во время “гребной недели” на него
внезапно совершило нападение недолговечное издание “Эфе-
мерал”, которое редактировали молодой оксфордский любитель
регби Альфред Гамильтон Грант (позднее крупный государст-
венный чиновник в Индии) и его столь же атлетически разви- J
1
480
тый Друг Артур Канлифф. Хотя они водили дружбу с Дугласом,
который был неплохим бегуном, в первом выпуске своего издания
от 18 мая они в редакционной статье раскритиковали его ‘‘Спи-
рит лэмп”, в краткой заметке прошлись насчет внешности Уайльда
(“Его лицо — это его беда”) и, наконец, в длинном памфлете
вывели драматурга по имени Оссиан Сэвидж1. Начало памфлета
было броским и развязным: “Оссиан Сэвидж, человек вульгарный
в своих плотских привычках и еще более вульгарный в привычках
интеллектуальных, наслаждался, по своему обыкновению, утрен-
ней прохладой на Пикадилли”. Дуглас не стерпел и возмутился
фразой насчет плотских и интеллектуальных привычек Уайльда;
Грант и Канлифф уклонились от полемики, помирились с Дуг-
ласом и юлили достаточно долго, чтобы успеть продать изрядное
число экземпляров. После “гребной недели” Дуглас предложил
Гранту встретиться с объектом его нападок, и Грант согласился.
Совместный обед состоялся на квартире у Дугласа. Большин-
ство гостей были не спортсменами, подобными Гранту, а людьми
женственными и разряженными. Уайльд вел себя тактично
и об “Эфемерал” не упоминал. “Я слыхал, вас прозвали “Граг-
гер”, — сказал он. — Но ведь это ужасно. Так не может продол-
жаться. Мы должны придумать вам новое прозвище — красивое,
величественное и шотландское”. Грант с неудовольствием смотрел
на то, как Уайльд и молодые люди перед каждым новым блюдом
пускают по кругу сигарету с золотистым ободком; под конец
обеда он с вызовом вынул сигару. Дуглас предостерегающе накло-
нился к нему и сказал, что это может задеть Уайльда. Тот, впрочем,
заметил только: “Как это ужасно с вашей стороны! Ну, хорошо.
Назовем ее сигаретой каштанового цвета — и курите на здоро-
вье”. Грант счел все это слишком наигранным и пожалел было,
что пришел, но тут раздался чей-то голос: “Оскар, расскажите нам
что-нибудь”. — “Что же, милый мальчик, мне рассказать вам?” Все
хором потребовали: “Из церковной истории”. Уайльд выставил
вперед свои огромные манжеты и рассказал, насколько запомни-
лось Гранту, следующую притчу о христианской добродетели:
В старые времена, когда в великом Риме христианство едва воз-
никло, иные из праздных богачей заинтересовались этим странным
новым учением с его диковинными запретами, которое шло вразрез
со всеми естественными человеческими побуждениями. Среди тех,
кто видел подлинную красоту новой религии, была молодая девушка
по имени Лидия, родовитая патрицианка. Каждый день она посещала
1 В очередной раз обыгрывается созвучие фамилии Уайльд и слова
wilde (“дикий”). “Сэвидж” (savage) означает “дикарь”.
16 - 5556
481
бедный квартал, где обитала и собиралась на свои сходки эта строгая
маленькая община, и с каждым днем она все сильней и сильней про-
никалась христианской верой, пока наконец не приняла крещение
Христово. Все это время, однако, у нее был поклонник — тоже, разу-
меется, патриций, именем Метелл, который пылал к ней страстной
любовью. Ежедневно она рассказывала ему о своих духовных устрем-
лениях и о своем сближении с христианами, и ежедневно Метелл всеми
силами старался отговорить ее от того, что казалось ему социальным
и религиозным самоубийством. Он умолял ее оставить свое безумное
увлечение и выйти за него замуж — но она говорила, что не может
стать его женой, пока он не сделался, как и она, христианином.
Сам не свой от великой любви, Метелл наконец согласился пойти
с ней на сходку христиан и послушать, что они говорят. Их рассужде-
ния, правду сказать, не пришлись ему по сердцу, и все это показалось
ему глупым и совершенно ненужным. Но любовное пламя сжигало
его, и, не видя другого способа получить Лидию в жены, он притво-
рился, что обращен, и тоже стал христианином. Недолгое время они
были счастливы, очень счастливы; но вскоре на христиан и их про-
поведи обратил грозное внимание безжалостный император. Про-
тив них были выдвинуты ложные и жестокие обвинения, и начались
преследования. Многие были схвачены и брошены в тюрьмы, и среди
них Лидия и Метелл, чья принадлежность к сословию патрициев была
сочтена отягчающим обстоятельством. В одиночестве тюремной
камеры Лидия начала сожалеть о своих поступках.
— Может быть, все-таки, — говорила она себе, — история о Хри-
сте — людская выдумка, и Его учение ошибочно? Прежние боги
были так уютны, им так легко было поклоняться. Почему, о, почему?
Почему я была так глупа?
А Метелл в своей камере размышлял так: “Ведь я же чувство-
вал, что добром это не кончится. Я с самого начала знал, что это
одни пустые разговоры без всякого практического смысла, которые
ни к чему, кроме беды, привести не могут”.
И пришел день, когда каждому из них было сказано, что, если
они публично не отрекутся от христианской веры и не подвергнут ее
поношениям, то их бросят на растерзание диким зверям в Большом
цирке на потеху римлянам. Ужас и отчаяние наполнили их сердца —•
но Лидия сказала себе: “О, что я сделала! Я и на себя, и на моего люби-
мого навлекла эту беду. Если я теперь отрекусь от Христа, он, который
так горячо верит, умрет, презирая меня. Этого мне не вынести”.
А Метелл сказал себе вот что: “Горестные дела! Мне нет и не было
никакого дела до Христа и его вероучения. Но если я теперь от Него
отрекусь, Лидия, чья вера тверда как утес, которая думает, что я так же
незыблем в вере, как она, сочтет меня низким трусом и умрет, прези-
рая меня. Этого мне не вынести”.
И, когда пришел назначенный день, Лидия и Метелл были по оче-
реди брошены в цирке на растерзание диким зверям. Так погибли оба
они за веру, которой не разделяли.
Почти каждый вечер члены кружка давали обеды в честь
Уайльда. Это походило на старые оксфордские дни, но теперь все
было поставлено на более широкую ногу. Один из обедов проис-
ходил воскресным вечером в доме, где на первом этаже была дверь
на балкон. Вечер был душный, и после обеда несколько человек,
включая Уайльда, сидели на балконе. Какие-то местные жители,
проходя мимо, узнали Уайльда, и один из них закричал: “Эгей,
здесь же Хоскар — пусть выступит! Хавтора! Хавтора! Хоскара!
Хоскара!” Недовольный Уайльд вернулся в помещение. Но Грант,
который вновь был в числе приглашенных, решил принять к обид-
чикам меры и обратился к другому гостю атлетического сложения:
“Мы должны сделать им строгое предупреждение, затем превра-
титься в воинскую часть и лобовой атакой рассеять это незаконное
сборище”. Горожане не захотели связываться и ушли. Уайльд про-
стер к своим защитникам руки: “Слава вам! Вы великолепны. Вы
не просто великаны — вы великаны с душами!” Грант попросил
Уайльда вознаградить их за подвиг еще одной притчей из церков-
ной истории. После недолгих отнекиваний он начал:
Некоторое время назад я просматривал книги в библиотеке
одного сельского дома. Случайно я наткнулся на пожелтевший, пере-
плетенный в телячью кожу старинный том, посвященный европей-
ской истории. Листая его, я вдруг увидел фразу: “В тот год скончался
папа Иоанн XXII постыдною смертью”. Это меня заинтриговало.
Что за постыдная смерть? Я попытался найти ответ в книгах той,же
библиотеки, но безрезультатно. И тогда я решил извлечь истину
из единственного источника, из какого она может быть получена
с достоверностью, — из глубин собственного сознания. Внезапно
в ночной тиши обнаженная истина явилась мне. Передаю ее вам.
Престарелый папа, который давно уже был живым трупом,
отошел в мир иной. В течение его долгой болезни интриги цвели
пышным цветом, и теперь конклав, избирая нового папу, разделился
на противоборствующие группировки. Проведя не один день в оже-
сточенных спорах, конклав наконец пришел к компромиссу — возве-
сти на папский престол человека совершенно незначительного, кото-
рый будет нейтральной фигурой. Выбор пал на молодого священника,
служившего в маленькой церкви неподалеку от Рима, в Кампанье...
Молодой человек был вызван в Ватикан и по всем правилам, со всеми
полагающимися замысловатыми церемониями объявлен папой Иоан-
ном XXII.
483
В те дни папа не обязан был вести уединенную жизнь в стенах
Ватикана; он мог свободно участвовать в жизни римского обще-
ства. Неудивительно, что папа Иоанн, ежедневно встречавшийся
с красивейшими женщинами столицы, вскоре воспылал любовью.
Его избранницей была молодая жена пожилого знатного вельможи.
Поначалу они любили друг друга духовной любовью — любовью,
которая умирает; затем они возлюбили друг друга любовью телесной,
которая не умирает никогда. Но в Риме, у всех на виду, возможности
встречаться у них не было.
Они решили поэтому свидеться в уединенном месте за пределами
столицы. Муж дамы владел маленькой виллой с великолепным садом
неподалеку от города, в Кампанье... Они условились о дне и часе.
Утром в назначенный день папа Иоанн надел красивый праздничный
наряд знатного римлянина и, сев на коня, с радостно бьющимся сер-
дцем поехал полями Кампаньи. Вдруг он увидел стоявшую поодаль
от дороги маленькую церковь, в которой он совсем еще недавно был
скромным, смиренным священником.
Влекомый неодолимым чувством... он приблизился к маленькой
церкви, спешился и привязал коня; вдруг странное желание овла-
дело им — облачиться в одеяние священника, войти в исповедальню
и сесть там, как он множество раз делал в прежние времена. Церковь
была открыта и пуста; облачившись, он сел на священническое место
за решеткой. Внезапно дверь исповедальни распахнулась, и в нее вбе-
жал человек с лицом закрытым маской. Его жесты выдавали сильное
душевное смятение.
— Отец, — сказал он нетвердым голосом, — я хочу задать тебе
вопрос. Есть ли среди грехов такой, которого сам Христос не в силах
будет мне отпустить?
— Нет, сын мой, такого греха нет. Но какой страшный проступок
ты совершил, что спрашиваешь у меня такое?
— Пока что я ничего не совершил, — ответил незнакомец, —
но я намереваюсь совершить такой тяжкий грех, что, думаю, даже сам
Христос не сможет мне его отпустить. Я намереваюсь убить намест-
ника Христова на земле — папу Иоанна XXII.
— Даже этот грех Христос может тебе отпустить, — сказал папа
Иоанн.
Незнакомец встал и бросился вон из церкви, а папа Иоанн снял
священническое облачение, сел на коня и поехал к саду, где ждала
возлюбленная. Там стояла она на освещенной солнцем лужайке среди
деревьев. С коротким криком радости кинулась она к нему и упала
ему на грудь. Долго длилось первое их подлинное объятие; вдруг
из-за деревьев к ним метнулся человек, выхватил кинжал и по руко-
ятку всадил папе Иоанну в спину. Застонав, рухнул папа Иоанн
наземь в предсмертных корчах. Потом, собрав последние силы, под-
484
нял руку и, глядя убийце в глаза, произнес последние слова формулы
отпущения:
— Quod ego possum et tu eges, absolve te1.
Так скончался папа Иоанн XXII постыдною смертью.
Притчи о честолюбии и любви, зародившихся под несчаст-
ливой звездой, выражали тревогу Уайльда по поводу своего
удовлетворенного честолюбия и своей разделенной любви. Так
мало-помалу складывалась история пап и святых в изложении
скептика.
Экзамены по курсу классических языков и философии прошли
в июне 1893 г.; Дуглас на них не явился. Колледж Магдалины
выразил ему неодобрение. Дуглас недолго думая изъял свое имя
из списка студентов колледжа и написал его президенту гневное
письмо, где заявил, что когда-нибудь его уход сочтут величай-
шим позором в истории учебного заведения. Уайльд поздравил
его с тем, что он последовал примеру Суинберна и решил навеки
остаться студентом.
Конец весны и лето 1893 г. были посвящены удовольствиям.
Дугласу приглянулся один дом в Горинге-на-Темзе, который
Уайльд назвал “самым нездоровым и самым восхитительным
местом на свете”. По настоянию молодого друга Уайльд снял его
и пригласил в Горинг оксфордского слугу Дугласа по фамилии
Грейнджер. Уайльда там навещали члены его семьи, главным обра-
зом Сирил. Приезжали и другие гости — в частности, молодой
поэт Теодор Вратислав, написавший отрицательную рецензию
на “Рисунки серебряным карандашом” Грея. Он приехал в конце
августа по приглашению Уайльда, хотя они были мало знакомы.
Вратислав уже спрятал свою летнюю одежду и, к явному раз-
дражению одетого в белое Уайльда, прибыл во фраке и новой
соломенной шляпе. После чая они отправились на прогулку
в лес. В одном месте деревья вокруг тропы немного расступи-
лись, и впереди показался крутой поворот направо. Уайльд вне-
запно остановился. “Стоп! — скомандовал он. — Я решил в своей
жизни дальше не заглядывать. Лучше уж буду довольствоваться
тем, что вижу. Не хочу знать, что там впереди за поворотом”.
Это, конечно, не эстетическая удовлетворенность, а явная тре-
вога о будущем.
Обедали вдвоем. Вратислав имел смелость высказать мысль,
что диалоги Уайльда слишком замысловаты и что у Пинеро
и Джонса они более пригодны для сцены. Вместо ответа Уайльд
протянул Братиславу несколько пьес своих соперников и ска-
1 Что я могу и что ты желаешь — отпускаю тебе (лат.).
485
зал: “Прочтите”. Прочтя, Вратислав с удивлением увидел, на-
сколько банальны их диалоги, и наутро сказал об этом Уайльду.
Уайльд в ответ заметил только, что иного и не ожидал. К завтраку
явился Сирил Уайльд — красивый мальчик с золотистыми локо-
нами. После завтрака Уайльд повел их на реку кататься на лодке.
На Уайльде были голубая рубашка и светло-розовый шелковый
галстук; на следующий день цвета поменялись местами. Он
пользовался духами с ароматом белой сирени. В лодке Вратислав
по неосторожности не слишком лестно отозвался о сторонниках
самоуправления Ирландии, и маленький Сирил, гневно вспых-
нув, спросил: "Вы что, против самоуправления?” Уайльд разрядил
обстановку: "Я считаю, теперь Ирландия должна управлять Анг-
лией”. Другой темой разговора был последний сборник Ричарда
Ле Гальена и в особенности стихотворение "Поэт-декадент —
своей душе”. Уайльд недоумевал: кого же Ле Гальен имел здесь
в виду? Он был поражен, когда Вратислав сказал, что не кого
иного, как самого Уайльда. Придя в себя, Уайльд заметил: "Что ж,
мне всегда казалось, что тончайшее качество тонкой натуры — это
склонность к предательству”. Для чувствительной натуры, объ-
яснил он, бремя благодарности непосильно, поэтому должник,
предавая своего благодетеля, выказывает этим тонкость душев-
ного устройства.
Когда Вратислав готовился к отъезду, появился новый гость,
которого Уайльд называл Гарри (скорее всего это был Гарри
Мариллиер). В промежутках между приемами гостей Уайльд
в начале июня написал в Горинге первое действие своей новой
пьесы "Идеальный муж”. В отличие от “Женщины, не стоящей
внимания”, первое действие которой состояло из одних разго-
воров, здесь сюжет развивался намного стремительней. Потом
в один прекрасный день возник Дуглас с какими-то оксфордскими
приятелями. Едва приятели уехали, как Дуглас в припадке ярости
обрушился на Уайльда. Дело было солнечным утром, и они стояли,
как вспоминал потом Уайльд, на площадке для крокета, окружен-
ной газоном. Когда Дуглас на миг умолк, Уайльд, как мог, спо-
койно сказал ему, что они должны расстаться. "Мы калечим жизни
друг друга. Ты меня просто губишь, и совершенно очевидно, что
и ты со мной несчастлив. Полный, бесповоротный разрыв будет
единственно верным философским решением”. Дуглас задержался
на ленч, после чего уехал, оставив у дворецкого одно из ядовитых
писем, которые уже стали постоянным атрибутом этих отноше-
ний. Затем — вновь поворот на сто восемьдесят градусов: через
три дня Дуглас принялся слать Уайльду из Лондона телеграммы
с просьбами разрешить ему вернуться. Перед раскаянием Уайльд
никогда не мог устоять.
486 j
Кризис и бегство
Всегда!.. Какое ужасное слово! Я содрогаюсь,
когда слышу его. Его особенно любят женщины.
Они портят всякий роман, стремясь, чтобы он
длился вечно. Притом “всегда” — это пустое
слово. Между капризом и “вечной любовью” раз-
ница только та, что каприз длится несколько
дольше.
Но наихудшая ссора в этом году ссор была еще впереди. Для
Уайльда большая часть лета прошла впустую; впрочем, у него,
по крайней мере, были планы. У Дугласа, по всей видимости, —
никаких. Путь в Оксфорд был ему заказан. Уайльд, которому, веро-
ятно, хотелось как-нибудь занять Дугласа и которому понравилась
положительная рецензия Дугласа на “Саломею” в “Спирит лэмп”
за май 1893 г., предложил ему перевести пьесу на английский для
последующего издания. Поскольку еще не было книги, на кото-
рой значилось бы имя Дугласа, перспектива разделить титульный
лист с Уайльдом была заманчива, и он охотно согласился.
Уайльд ошибся в выборе переводчика. Он явно переоценил
степень знакомства своего возлюбленного с французским языком.
Когда в конце августа Дуглас гордо представил Уайльду готовый
перевод, тот нашел его неприемлемым. К примеру, фраза “On пе
doit regarder que dans les miroirs” была переведена “He надо смо-
треть в зеркала” вместо правильного “Надо смотреть только в зер-
кала”. Разъярившись из-за того, что ему указали на его невежество,
Дуглас немедленно ответил, что если уж говорить о недочетах,
то они присущи скорее оригиналу, нежели переводу. По сво-
ему обыкновению он принялся писать Уайльду злобные письма.
К тому времени он уже успел возгордиться собой как литератором,
и переход Уайльда от похвал к неодобрению был для него невыно-
сим. В одном из писем Дуглас написал, что у него нет перед Уайль-
дом никаких интеллектуальных обязательств; Уайльд подобных
обязательств на него не накладывал, но они тем не менее сущест-
вовали, ибо Дуглас, при всем выказанном им непонимании уайль-
довской пьесы, строил свою литературную жизнь с постоянной
оглядкой на Уайльда, перенимая его взгляды, позы, стиль светской
болтовни. В письме Дугласа Уайльд увидел повод к тому, чтобы
положить конец “вспыхнувшей между нами роковой дружбе”,
причем сделать это “без горечи”. По-видимому, он собирался
выслать Дугласу обратно его рукопись и заверить его в том, что
он действительно не несет никаких обязательств.
Но как только опасность потерять Уайльда стала реальной,
Дуглас сник. Он попросил кого-то — почти наверняка Робби
487
Росса — исполнить роль посредника, и Росс сказал Уайльду, что,
вернув Дугласу рукопись, как школьную работу, он нанесет ему
рану, которая останется на всю жизнь. Да, Дуглас плохо знает
французский, но Уайльд и не должен был ожидать от него ничего
иного. Росс также заверил Уайльда, что Дуглас, что бы он ни гово-
рил и что бы ни делал, бесконечно предан своему возлюбленному.
Уайльд, как он сказал много позже, не хотел быть первым, кто вос-
препятствует литературным начинаниям Дугласа, — тем более
что именно он поощрял его к ним. “И вот я взял обратно и твой
перевод, и тебя самого”.
К этому решению он пришел, несомненно, в Динаре, куда
он отправился в конце августа, чтобы прийти в себя после две-
надцати недель в обществе Дугласа. “После страшного напряже-
ния, вызванного твоим присутствием, мне понадобились отдых
и свобода”, — написал он в “De Profundis”. Не позднее 9 сентября
он отправил Дугласу примирительное письмо, где с нарочитой
небрежностью упомянул о том, что Дуглас вскоре получит кор-
ректуру. Однако он не снял своих критических замечаний и наста-
ивал на многочисленных исправлениях. Дуглас вновь взбрыкнул
и отказался их принять. 30 сентября он написал издателю Джону
Лейну:
Дорогой Лейн! Мы с Оскаром не нашли возможности прийти
к согласию относительно перевода некоторых пассажей, фраз и слов
в “Саломее”, вследствие чего, поскольку я не могу согласиться
на публикацию моей работы в измененном виде и тем самым низве-
сти себя до положения некоей машины для изготовления черновых
переводов, я решил отказаться от этой затеи вовсе.
Поэтому Вы с Оскаром вправе решить между собой, кого при-
гласить в переводчики. Мое личное мнение состоит в том, что Оскар
будет удовлетворен лишь в том случае, если он переведет пьесу сам.
Преданный Вам
АЛЬФРЕД ДУГЛАС.
Но на этом дело не кончилось. В октябре или ноябре Берд-
слей прочел перевод, сказал, что он не годится, и предложил
сделать свой перевод. Уайльду, к счастью для Дугласа, эта новая
идея тоже не понравилась. Последовала язвительная четырехсто-
ронняя перепалка с участием Лейна, Уайльда, Дугласа и Бердслея.
Лейн заявил, что Дуглас выказал неуважение к Уайльду, но затем,
когда Дуглас обвинил Лейна в том, что он ссорит его с Уайль-
дом, издатель пошел на попятную. Бердслей выразил мнение,
что было бы нечестно поставить фамилию Дугласа на титуль-
ном листе перевода, так сильно измененного Уайльдом. Нако-
нец Уайльд предложил соломоново решение: на титульном листе
будет стоять только фамилия автора, но при этом будет добав-
лено посвящение Дугласу как переводчику. Бердслей, следивший
за этими спорами как сторонний наблюдатель, в ноябре написал
Россу:
Ты, наверное, слыхал о сваре по поводу “Саломеи”. У меня были
из-за нее горячие денечки: с одного боку наседает Лейн, с другого
Оскар и иже с ним. В течение целой недели количество посещавших
меня посыльных и разносчиков телеграмм было поистине скан-
дальным. Как обстоит дело с изданием сейчас, я, по правде сказать,
не знаю. Так или иначе, на титульном листе имени Бози не будет.
Книга выйдет вскоре после Рождества. Я изъял из нее три иллюстра-
ции и заменил тремя новыми (просто красивыми, не имеющими
никакого отношения к сюжету).
Дуглас отправил Лейну письмо, где дал понять, что новые
условия для него более почетны, чем старые:
Между тем позвольте мне заверить Вас в том, что я ни в коем
случае не допустил бы публикации “Саломеи” без моего имени
на титульном листе (решение этого вопроса было всецело возложено
на меня мистером Уайльдом), не будь я убежден, что посвящение,
в котором я буду упомянут, имеет намного большую художественную
и литературную ценность, чем появление моего имени на титульном
листе. Я всего несколько дней назад сполна осознал тот факт, что раз-
ница между авторским посвящением мне “Саломеи” и моим именем
на титульном листе — это разница между данью восхищения со сто-
роны художника и чеком, полученным от торговца.
Для него, в отличие от других участников этой истории,
именно ссоры были питательной средой. Он обладал поистине
неистощимым запасом воинственной энергии; но, когда кон-
фликт был исчерпан, к нему вернулась та же инертность, что отли-
чала его до неудачной попытки перевести “Саломею”. Его отец
пришел в ярость, узнав, что он не получит диплома, и, поскольку
обвинить было больше некого, обвинил в этом Уайльда. Были
у Куинсберри и другие поводы для недовольства. Его старший
сын Драмланриг был личным секретарем лорда Розбери, который
уже в следующем (1894) году стал премьер-министром, а в опи-
сываемый период занимал должность министра иностранных дел
в кабинете Гладстона. Куинсберри, которому уже начали повсюду
мерещиться гомосексуалисты, заподозрил Розбери в том, что
он склоняет Драмланрига к однополой любви. Маркизу ничего
489
не стоило войти в раж, и, узнав, что Розбери находится в Бад-
Хомбурге, он в августе 1893 г. последовал за ним туда с арапни-
ком. Вмешался принц Уэльский, и полиция потребовала от мар-
киза, чтобы он уехал. В следующем месяце, 11 сентября, второй
сын Куинсберри по имени Перси женился на дочери священника
из Корнуолла; атеист Куинсберри, который считал семью будущей
невестки недостаточно знатной и слишком набожной, не одобрил
этого брака. От потомства, которое его сын мог произвести
на свет с такой женой, автор “Духа Маттерхорна” не ждал ничего
хорошего. Личная жизнь самого Куинсберри также не была без-
облачной. 1 ноября 1893 г. он женился во второй раз. Его молодая
невеста Этель Уидон происходила из респектабельной семьи, жив-
шей в Истборне; на свадьбу никто из ее родных не явился. Она
уехала от него практически сразу и возбудила иск о признании
брака недействительным по причине “неправильного строения
детородных органов” мужа, а также его “холодности и импотен-
ции”. Безропотно снести обвинение в импотенции этот активный
пятидесятилетний мужчина, отец четверых детей, семь лет назад
в судебном порядке объявленный неверным мужем, конечно же
не смог. Он опротестовал иск жены, заявил, что брачные отноше-
ния были осуществлены, и нанял Джорджа Льюиса защищать себя.
Куинсберри неоднократно требовал от Дугласа, чтобы он
перестал видеться с Уайльдом. 8 ноября 1893 г. Уайльд написал
леди Куинсберри длинное тревожное письмо, касающееся состо-
яния Дугласа; из письма видно, что “содрогается” теперь не только
адресат, но и отправитель:
Тайт-стрит, 16
Дорогая леди Куинсберри! Вы неоднократно советовались
со мной относительно Бози. Позвольте мне кое-что сказать Вам о нем
теперь. Здоровье Бози, по моему мнению, очень сильно расстроено.
Он страдает бессонницей и нервозностью, с ним случаются приступы
истерии. На мой взгляд, он совершенно не тот, что прежде.
В Лондоне он не делает ровно ничего. В августе он перевел мою
французскую пьесу. С тех пор у него не было никаких умственных
занятий. Он даже утратил — верю, что временно, — интерес к лите*
ратуре. Он ведет абсолютно праздное существование, идя по жизни*
как лунатик, и с ним могут, если только Вы или Драмланриг не пред-
примете что-нибудь, случиться неприятности того или иного рода*
Его жизнь представляется мне бесцельной, несчастливой и абсурдной*
Все это служит для меня источником великого огорчения
и досады; но он еще очень молод, он страшно молод характером*
Может быть, стоило бы устроить ему поездку за границу на четыре-
пять месяцев — например, если это возможно, в Египет, к лорду Кр°*
490
меру, где его будет окружать новая обстановка, где у него появятся
подходящие друзья, где вся атмосфера будет иной? Если он останется
в Лондоне, это, боюсь, добром не кончится, он может погубить свою
юную жизнь безвозвратно, совершенно безвозвратно. Разумеется,
поездка будет стоить денег, но иначе жизнь одного из Ваших сыно-
вей — жизнь, которая должна быть блестящей, славной и чарую-
щей, — пойдет насмарку, будет непоправимо разрушена.
Мне хочется думать, что я его лучший друг — во всяком слу-
чае, он дает мне повод так думать, — и поэтому я обращаюсь к Вам
с полной откровенностью и предлагаю Вам отправить его за границу,
где у него будет лучшее окружение, нежели здесь. Я уверен, что это
его спасет. В настоящее время его жизнь кажется мне и трагической,
и трогательной в ее глупой бесцельности.
У меня нет сомнений в том, что Вы ничего не скажете ему о моем
письме. Я конечно же могу на вас полагаться.
Искренне Ваш ОСКАР УАЙЛЬД.
Высказанная здесь просьба о молчании противоречит тому
обстоятельству, что, как явствует из “De Profundis”, поездку Дуг-
ласа в Каир к лорду Кромеру Уайльд и Дуглас задумали вместе.
У Дугласа была причина для отъезда из страны, поскольку он ока-
зался замешан в очередном скандале. Письмо Бирбома Тернеру
содержит интригующие строки:
В Англию на несколько дней вернулся Робби Росс, ставший
участником грандиозных и весьма интимных скандалов, которые
едва не привели (а может быть, еще приведут) к арестам; он поне-
многу приходит в себя, но до полного выздоровления должен будет
пожить в Давосе из страха перед социальным рецидивом. Я не должен
пробалтываться (и ты тоже), но могу сказать, что некоторыми эле-
ментами этого ужасного происшествия были школьник с чудесными
глазами, Бози, Бобби, разъяренный папаша, Джордж Льюис, дирек-
тор школы (который теперь шантажирует Бобби), Сент-Джон Уонт-
нер [полицейский юрист], Кале, Дувр, Оскар Браунинг, Оскар, Дувр,
Кале и возвращенные портсигары... Garmon entretenu1, эта школьная
Елена Прекрасная, ради которой “те корабли пустились в путь, те
воины легли в бою”, — тот самый, кого, как я тебе уже рассказывал,
Бози в свое время выкрал у Бобби и держал в отеле “Албемарл”. Пре-
красно помню, как однажды вечером мы с Бобби проходили мимо
этого отеля и Бобби, возведя печальный взор к его окнам, вслух гадал,
за какой из красных занавесей лежит магнит его души.
1 Мальчик на содержании (фр.).
491
Эту пылкую мешанину следует дополнить содержанием
письма Оскара Браунинга Фрэнку Харрису. Его преподобие
Бискейл Хейл Уэрдем, свойственник Браунинга, директорство-
вал в Брюгге в школе Св. Лаврентия для мальчиков. Роберт Росс
отправился на праздники к Уэрдемам погостить в их семье. Там
он встретил шестнадцатилетнего Филипа Дэнни, сына армейского
полковника, и, знакомый с ним еще с той поры, когда мальчику
было четырнадцать, Росс пригласил его к себе в Лондон.
Пока Дэнни был у него, Росс мимоходом обмолвился об этом
в письме Дугласу, тогда находившемуся в Горинге у Уайльда.
Прочитав письмо, Дуглас ринулся в Лондон и привез мальчика
в Горинг. “В субботу, — пишет Браунинг, — мальчик спал с Дугла-
сом, в воскресенье он спал с Оскаром. В понедельник он вернулся
в Лондон и спал с женщиной, купленной ему Дугласом. Во втор-
ник он приехал в Брюгге, опоздав на три дня. Его преподаватель
начал выяснять подробности и передал их мне в точности так, как
я передал их выше". Полковник Дэнни, гвардейский офицер, про-
слышал об этих событиях и обратился к полицейским юристам.
15 октября 1893 г. Россу и Дугласу пришлось спешно отправиться
в Брюгге, чтобы объясниться с Уэрдемом. Росс отдал ему письма
Дэнни. Имя Уайльда не упоминалось. “Это явная фальшивка”, —
заявил Росс. Браунинг пишет, что полковник Дэнни “хотел при-
влечь развратителей к суду, но адвокат сказал ему: “Они, несо-
мненно, получат по два года, но ваш сын получит шесть месяцев".
И отец не стал давать делу ход, поступив иначе, нежели посту-
пил впоследствии Куинсберри. Узнав о скандале, родственники
назвали Росса (в чем позднее он открыто признался на судебном
заседании) “позором семьи, социальным отщепенцем, дурным
сыном и братом, недостойным находиться в каком бы то ни было
обществе”. Было решено, что он должен покинуть страну, и он
отправился в Давос — отчасти для поправки здоррвья, но главным
образом для того, чтобы избежать, как выразился Бирбом, “соци-
ального рецидива”1. В один из первых дней следующего года он
рискнул вернуться в Лондон, но жизнь никогда уже не была для
него такой свободной и легкой, как прежде. Тигр показал когти;
Уайльд, однако, не внял предостережению.
Леди Куинсберри держали обо всем этом в неведении. Решив
последовать совету Уайльда и послать сына в Каир, она усло-
вилась об этом с Кромером. Дуглас начал готовиться к отъезду*
1 В Давосе он выступил в местном отделении Английского литератур-
ного общества с докладом на тему “Дидактическое в искусстве и лите-
ратуре”. Он, в частности, сказал: “Я сильно сомневаюсь в том, что
нравственность Платона и любого другого древнегреческого автора
смогла бы выдержать британские экзамены”.
492
У него были свои собственные “содрогания”, пусть даже главный
удар принял на себя Росс. Между тем Уайльд так от него устал,
что с нетерпением ждал его отъезда. Дуглас, возможно, почувст-
вовал это, и с ним случился очередной приступ ярости, от кото-
рого Уайльд бежал в Париж, оставив в Лондоне фальшивый адрес.
К нему вновь полетели телеграммы и письма, на которые он твердо
решил не обращать внимания. Но у Дугласа был на руках козырь:
он пригрозил, что, если Уайльд не согласится на встречу, он не по-
едет в Египет вовсе. Уайльд знал, как сильно леди Куинсберри
рассчитывает на смену обстановки, и чувствовал, что, поскольку
предложил поездку именно он, ему не следует позволять Дугласу
от нее отказываться. Он помирился с Дугласом. Тот уехал в Каир,
вновь уверившись в любви к нему Уайльда, хотя ее возобновление
было отнюдь не безусловным.
Тревоги эти пожирали не все время, каким Уайльд распола-
гал. Оперная певица Эмма Кальве вспоминала о том, как в конце
1893 г. Уайльд, подойдя к хозяйке на большом приеме, сказал ей,
что привел с собой французского поэта, отсидевшего в тюрьме,
и попросил ее разрешить поэту присутствовать. Она разрешила.
Оказалось, что это Поль Верлен, как всегда неопрятный, но на этот
раз пользующийся расположением Уайльда. По настоятельной
просьбе Уайльда Верлен прочел стихотворение о своих тюремных
переживаниях; его слова, пробив броню лицемерия и умолчаний,
тронули сердца респектабельных гостей. Уайльд, которому пред-
стояло пополнить собой число жертв общества, с энтузиазмом
присоединился к аплодисментам.
Глава 16
Выход в бурное море
Ирод. ... и я слышал, я уверен, что слышал в воз-
духе шум крыльев, шум громадных крыльев.
“Падающие башни. .. ”
В письме, которое Уайльд написал Дугласу летом
1894 г., говорится о том, как ему пришлось заботиться
о стареющей леди Уайльд. “На моем жизненном пути
я чувствую по одну руку от себя Смерть, по другую —
Любовь; они — единственное, о чем я думаю, их крылья
осеняют меня”. Леди Уайльд, которой было уже семьдесят четыре
года, испытывала глубокое огорчение из-за разрыва отношений
между сыновьями. В январе Уилли женился вторым браком на сим-
патичной женщине по имени Лили Лиз. Оскар многозначительно
отсутствовал на бракосочетании. 29 марта леди Уайльд написала
ему: “Мне искренне жаль, что вы с Уилли относитесь друг к другу
как враги. Неужели так будет продолжаться до самой моей смерти?
Не слишком радужная перспектива для меня — быть матерью двух
враждующих сыновей, неспособных встретиться у моего смерт-
ного одра. Мне кажется, ради меня ты мог бы написать 5 слов,
о которых я просила: “Оставим вражду. Будем друзьями. Оскар”.
5 слов! Неужели ты не сделаешь мне такого одолжения? Пусть
не будет близости между вами — довольно хотя бы светской веж-
ливости”. Ее призывы остались тщетными — разве что заставили
Уайльда взглянуть на себя и увидеть (уже не в первый раз), какая
сумрачная картина кроется под внешней беззаботностью, которую
он на себя напускал.
Возможно, не что иное, как подобные темные мысли, побу-
дило его в апреле вернуться к своему старому плану пьесы “Кар-
динал Авиньонский” в надежде на то, что в ней сыграет американ-
494
ский трагик Ричард Мэнсфилд. Одним из персонажей наброска,
который Уайльд сделал в 1882 г., на волне своей первоначальной
американской славы, была Маска Смерти. Сюжет выглядит заим-
ствованным из барочной драмы времен короля Якова I. Карди-
нал, которого вот-вот изберут папой, загорается любовью к своей
воспитаннице, приходящейся ему, как знает он один, родной
дочерью. Но она влюблена в молодого человека, приходящегося
ей, как опять-таки знает один кардинал, родным братом. Отнюдь
не по соображениям нравственности, а из ревности кардинал
сообщает сыну о его родстве с девушкой, умолчав о его родстве
с собой, и заставляет сказать ей, что он ее больше не любит. Когда
кардинала избирают папой, настроение его меняется, и он гово-
рит молодому человеку, что даст разрешение на брак. Но девушку
приносят на носилках — она покончила с собой. Молодой человек
готов взять на душу грех убийства папы римского, хоть тот и сооб-
щает ему: “Я твой отец”. Но когда папа говорит ему: “Я тоже любил
ее”, сын распахивает двери дворца и оповещает стражников: "Его
святейшество сегодня вечером отправляется в Рим”. После этого
он бросается на носилки, где лежит сестра, и тоже убивает себя.
В сюжете1 прослеживаются черты драмы Шелли “Ченчи”, также
испытавшей влияние драматургии XVII века, однако, в отличие
от Шелли, Уайльд не выдвигает на первый план тему инцеста. Его
трагедия — это трагедия любви, которая не может осуществиться;
родственные отношения между влюбленными и ревнивым сопер-
ником представляются не столь существенными. Мэнсфилд заин-
тересовался, но пьеса так и не была написана.
В эти месяцы Маска Смерти витала над жизнью Уайльда,
то приближаясь, то отдаляясь. Внешне у него все шло гладко,
и на публике он выглядел уверенным в себе. Иногда его пригла-
шал на ланч Герберт Генри Асквит; У С. Блант пишет о том, как
17 июля 1894 г. на одном из таких ланчей Уайльд затмил блестя-
щую компанию, своенравно скрестив шпаги с каждым по очереди
и остроумней всего посмеявшись над самим Асквитом, от кото-
рого как от министра внутренних дел вскоре будет исходить обви-
нение в его адрес. Возможно, именно в тот раз Асквит подверг
критике одну стилистическую особенность уайльдовских текстов:
“Автор, использующий курсив, подобен человеку, повышающему
голос во время беседы, чтобы все его непременно услышали”.
Уайльд ответил: “Великолепное замечание, мистер Асквит! Да,
совершенная фраза, как хороший товар, не нуждается в рекламе.
1 Возможно, Уайльд вспоминал об этом наброске, рассказывая в 1893 г.
в Оксфорде Гранту и другим притчу о папе Иоанне XXII из “цер-
ковно-исторического” цикла.
495
Но как оратор подчеркивает наиболее выразительные места дра-
матическими паузами, жестами, повышением или понижением
голоса, так и писатель выделяет лучшие свои высказывания кур-
сивом, вставляя их, наподобие драгоценных камней, в оправу. Мне
видится в этом простительная любовь автора к своему творению,
а не примитивное тщеславие”. С другой стороны, скандальные
слухи, касающиеся Уайльда и Дугласа, имели в Лондоне — этом
столичном городе с чертами маленького городка, где всё на виду, —.
столь широкое хождение, что маркизу Куинсберри не было нужды
нанимать частных детективов.
Уайльду приходилось тем труднее, что, как всем было известно,
принятие в 1885 г. поправки к уголовному законодательству, впер-
вые запретившей непристойные отношения между взрослыми
мужчинами, пусть даже по обоюдному согласию1, знаменовало
наступление эры шантажа. Из-за небрежности Дугласа в отно-
шении получаемых писем и небрежности самого Уайльда при их
написании Уайльд никогда не мог быть застрахован от вымога-
тельства и угроз. Но куда более тяжким, чем давление со стороны
алчных юнцов и разгневанного отца, было давление, оказываемое
на него Альфредом Дугласом. Дугласу нравилось ходить по лез-
вию бритвы, и он предпочитал ходить по нему не один. В полу-
осознанном желании вовлечь друга в трясину чувств, окрашенных
задолженностями, и задолженностей, окрашенных чувствами, он
провоцировал Уайльда на неслыханные дотоле расходы. Если ему
нужны были доказательства своей власти над Уайльдом (хотя дока-
зательств всегда оказывалось недостаточно), он находил их каж-
дый день в роскошных угощениях и подарках.
О серьезности Уайльда как художника весьма красноречиво
говорит тот факт, что, испытывая подобное давление, он работал
поистине блестяще. Искусство было для него обезболивающим
средством против вражеских козней и беспутной жизни, к кото-
рой Дуглас его принуждал. Уайльд объяснил это в письме собо-
лезнования своему былому другу Хенли, где он назвал работу
1 Текст поправки таков: “Всякий человек мужского пола, кто, публично
или скрытно, совершил какой-либо акт грубой непристойности
с другим человеком мужского пола, или явился соучастником совер-
шения подобного акта, или сводничеством способствовал его совер-
шению, или предпринял попытку подобного сводничества, виновен
в правонарушении и по признании судом виновным приговарива-
ется, по усмотрению суда, к любому сроку тюремного заключения,
не превышающему двух лет, с каторжными работами или без них”.
Когда королеве Виктории указали на то, что здесь не упомянуты
женщины, она, как передают, ответила: “Ни одна женщина на такое
не способна”.
496
единственным утешением от предлагаемого нам жизнью соеди-
нения любви и смерти. “Это все, что остается таким натурам, как
мы с Вами, — заявил Уайльд. — Для меня работа — это не реаль-
ная действительность, а способ спастись от действительности”.
Пятнадцать месяцев, прошедшие с декабря 1893 г. до начала его
судебного процесса против Куинсберри, в течение которых вокруг
него сгущалось облако грозных предзнаменований, были столь же
продуктивны в творческом отношении, как начало 1890-х, когда
казалось, что его возможности раскрылись полностью.
Без Дугласа
Кентавры попрятались в реках, а сирены вышли
из рек и укрылись под древесной листвой.
За это время Уайльд почти полностью написал четыре пьесы
и задумал пятую. В продолжение тех трех месяцев, что Дуглас был
в Египте, Уайльд смог без помех окончить последние три действия
“Идеального мужа”. Он сказал Риккетсу: “Поскольку роли будут
исполнять нелепые марионетки, критики скажут о моей пьесе:
“Боже мой, Оскар тут совсем на себя не похож!” — хотя в действи-
тельности я писал ее с увлечением и в ней содержится очень мно-
гое от подлинного Оскара”. Он был прав. Как и две предыдущие
комедии, новая пьеса демонстрирует универсальный принцип
недостижимости идеала. Прегрешение сэра Роберта Чилтерна —
самое серьезное на протяжении этих трех пьес: восемнадцать лет
назад, в двадцатидвухлетнем возрасте, он продал государствен-
ную тайну, после чего основал на полученных деньгах свое бла-
госостояние и общественное положение. По сравнению с этим
былые проступки миссис Эрлин и миссис Арбетнот выглядят
простительными оплошностями. Параллель скорее можно про-
вести с убийством Холлуорда Дорианом Греем, которое тракто-
валось в серьезном ключе, и легкомысленно обыгранным убий-
ством хироманта Артуром Сэвилом. Когда Уайльд писал пьесу,
он, должно быть, вспоминал, как примерно в том же возрасте, что
и Чилтерн, и тоже восемнадцать лет назад заразился в Оксфорде
сифилисом. Подобно убийству, болезнь еще аукнется.
Построив пьесу на постоянно звучащей в его творчестве
теме прегрешений молодости, Уайльд создал характеры, которые,
напоминая персонажи других его пьес, ведут себя не так, как они.
Миссис Чивли — авантюристка, как и миссис Эрлин из “Веера
леди Уиндермир”, но, в отличие от миссис Эрлин, готовой пожер-
497
твовать собой ради дочери, она готова пожертвовать Чилтерном
ради своих интересов. Самый умный из персонажей “Женщины,
не стоящей внимания” — лорд Иллингворт, светский денди; лорд
Горинг из “Идеального мужа” столь же умен и столь же склонен
к дендизму, но ведет себя достойно, тогда как Иллингворт ведет
себя подло. Остроумие — остроумием, а благородство — благо-
родством. Леди Чилтерн, подобно леди Уиндермир, — пуританка,
чье пуританство рассеивается как дьш в сцене прощения и любви.
Даже идеальные мужья, как и все прочие люди, — немножко пре-
ступники. Как Уайльд однажды сказал комическому актеру Артуру
Робертсу, комизм необходим в жизни как противоядие от люд-
ского тщеславия и гордыни.
Прелестью своей пьеса обязана не разоблачению лицемерия,
а постепенному нарастанию нежности. Горинг и сестра Чилтерна
Мейбл остроумны и любят друг друга; теплота, с которой отно-
сятся друг к другу Горинг и его отец, представляет собой нагляд-
ный урок семейству Куинсберри. Чилтерны под конец по-новому
ощущают супружескую близость между собой. Добросердечие
драматурга проявляется тут с большей силой, чем в любой другой
его пьесе.
За эти месяцы Уайльд написал также “Флорентинскую тра-
гедию” и большую часть “Святой блудницы”. Как обычно, он
противопоставил в этих пьесах две любви, одна из которых ведет
любящих к воссоединению, другая — к взаимной враждебности.
“Святая блудница” — это попытка перевести на язык драматург
гии и, возможно, превзойти “Таис” Анатоля Франса: отшельник
обращает блудницу в христианство, но при этом сам претерпе-
вает обращение в язычество, и новообращенная отвергает его
(вот вам еще одна уайльдовская притча из “церковной истории”).
Более своеобразен сюжет “Флорентинской трагедии”, написан-
ной белым стихом, который выглядит более зрелым и утончен-
ным, чем белый стих “Герцогини Падуанской”. Пьеса производит
впечатление практически оконченной. Еврейский торговец тка-
нями, вернувшись к себе в лавку, застает у своей жены дворянина
и притворяется, что думает, будто гость явился по делу. После про-
должительной словесной перепалки он провоцирует дворянина
на поединок и убивает его. Концовка неожиданна: жена не выка-
зывает ни горя по любовнику, ни отвращения к мужу. Она спра-
шивает: “Почему ты не сказал мне раньше, что ты такой сильный?”
Он отвечает вопросом: “Почему ты не сказала мне раньше, что ты
так красива?” Уайльд, по-видимому, задумал цикл из трех коротких
пьес, варьирующих тему противоречивых любовных устремлений,
но так и не окончил его. Причиной невозможности завершить
работу он считал возвращение Дугласа.
498
Однако это возвращение лишь вызвало паузу в творческом
периоде, а не пресекло его окончательно. Утром 1 августа 1894 г.
Уайльду пришел в голову замысел, которым он в письме немед-
ленно поделился с Джорджем Александером. Здесь также чувст-
вуется противопоставление своей же пьесе — “Вееру леди Уин-
дермир”. Уайльд словно бы пытается проиллюстрировать свой
афоризм: “Истина в искусстве отличается тем, что обратное ей
тоже верно”. В отличие от “Веера”, где жена сохраняет верность
мужу, тут она убегает с любовником. Противоположность двух
сюжетов этим не ограничивается: муж теперь просит любовника
жены упросить ее вернуться. Любовник, проявляя самопожертво-
вание, обещает ему это, но она отказывается. “Все это самопожер-
твование ни к чему, — заявляет она, — мы должны не жертвовать
собой, а жить. В этом смысл жизни”. Они с любовником уезжают,
но в конце концов муж вызывает его на дуэль. Во время послед-
него объяснения муж, к своему смятению, узнаёт, что жена желает
ему смерти и что она беременна от любовника. Он выходит, зву-
чит выстрел; затем является любовник и говорит, что муж не при-
шел на дуэль. Он покончил с собой. Уайльд объяснил Александеру,
что пьеса должна выражать “настоящую страстную любовь”, что
в ней не должно быть “никакого болезненного самопожертвова-
ния! Никакого самоотречения!” Уайльд все острей чувствовал, что
это — его тема. Однако муж в его наброске проявляет и самопо-
жертвование, и самоотречение, как впоследствии, неожиданным
для себя образом, проявил их и сам Уайльд. Подобно тому как
в замысле “Кардинала Авиньонского” не содержится осуждения
инцеста, так в новом замысле не содержится осуждения супруже-
ской неверности. Отзыв Александера на этот сюжет нам неизве-
стен; так или иначе, в августе—сентябре 1894 г. Уайльд принялся
за работу над последней и лучшей из своих пьес — “Как важно
быть серьезным”.
При всех своих литературных и любовных заботах он оста-
вался таким же отзывчивым человеком, каким был всегда. Нелли
Сиккерт вспоминала, как после смерти ее отца Освальда Сиккерта
Уайльд пришел к ее матери. Миссис Сиккерт в глухом отчаянии
сидела, запершись, у себя в комнате. Нелли сказала Уайльду, что
мать его не примет, но он настаивал. Вдова не желала уступить его
настояниям. Когда Нелли сообщила об этом Уайльду, он сказал ей:
‘Она должна меня повидать. Непременно должна. Скажите ей, что
я не уйду, пока она этого не сделает”. Дочь опять пошла к матери,
которая встретила ее новым отказом. “Не могу. Пусть он уйдет”, —
произнесла она, ломая руки; но все же встала и с плачем направи-
лась в комнату, где ее ждал Уайльд. Нелли видела, как он взял обе
ее руки в свои и усадил ее в кресло; после этого Нелли вышла.
499
“Он долго не уходил, и, когда они были вдвоем, я вдруг услышала,
как мама смеется... Она преобразилась. Он разговорил ее, стал
задавать ей вопросы о предсмертной болезни отца и этим помог
ей облегчить ношу... скорбных воспоминаний. Мало-помалу он
сам принялся говорить о моем отце, о его музыке, о возможности
устроить посмертную выставку его картин. Потом — она сама
не помнила как — он перешел к другим темам, принялся говорить
обо всем на свете чрезвычайно занимательным и забавным обра-
зом. “И вдруг я рассмеялась, — сказала мне мама. — А я думала,
что никогда больше не буду смеяться”.
В письме от неизвестного лица, датированном 28 апреля
1891 г., выражена благодарность Уайльду за спасение семьи. Эд-
гар Солтус вспоминает, как однажды в Челси холодным вечером
к ним привязался нищий; раасстегнув пиджак, он показал, что под
ним у него ничего нет. Солтус дал ему золотую монету, а Уайльд,
сняв пальто, укутал им нищего. Еще одно свидетельство доброты
Уайльда исходит от Гертруды Пирс, которая около полутора лет
была домашней учительницей Вивиана Уайльда. Летом 1893 г. она
ездила с Уайльдами в Горинг, затем вернулась с ними в Лондон
и работала у них еще год. Уайльд предлагал ей всяческую помощь.
В 1906 г. она записала свои воспоминания о тех временах:
Мы очень славно провели время в “Коттедже” в Горинге-на-Темзе,
где он написал пьесу “Идеальный муж”; прототипом упоминаемой
в ней Гертруды [Чизхолм], кажется, была я. Это был идеальный сель-
ский уголок: прелестные сады, луга, которыми можно было выйти
к тропе, идущей берегом реки; разумеется, к нашим услугам там
были разнообразные лодки — ялики, плоскодонки, каноэ, — и Оскар
Уайльд был до того щедр, что говорил мне, что, если я пойду на лодоч-
ную станцию и увижу, что лодки, какую я хочу, нет, я могу пойти
на лодочную станцию в Сондерс, взять там любую лодку и записать
на его счет.
Мы жили в самой что ни на есть роскошной обстановке, в доме
было 8 слуг, и все было на широкую ногу. Слуги, насколько я помню,
пили на кухне хозяйское шампанское, и он говорил мне, что это его .
очень забавляет, ведь он этих слуг нанял за очень высокое жалованье*
Однажды я была у них на Рождество, и мистер Уайльд веселился как
ребенок, раздавал всем рождественский пудинг, взрывал хлопушки,
и у меня по сей день сохранилась маленькая фарфоровая куколка
из того пудинга. Мне так жаль, что я уничтожила все его фотографии,
и я могла, если бы захотела, получить рукопись пьесы, в которой
я была упомянута, или любой другой пьесы.
Я также помню времена, когда дела в денежном отношении шли
не очень хорошо (после нашего возвращения из Горинга) [в октя- |
JOO
бре 1893 г.], и мясник даже отказался прислать мясо, пока не будет
уплачено по счету, так что Оскару пришлось нанять кеб и самому
объехать магазины, чтобы все уладить, после чего мы, разумеется,
все же смогли пообедать. Вам может показаться странным, что одна-
жды, когда я пошла в магазин, где меня хорошо знали, взять напрокат
несколько ножей, мне опять-таки отказали, потому что я не захватила
с собой денег, и мне, к моему унижению, пришлось возвращаться
домой за деньгами...
Рассказывала ли я о том, что, когда они решили отдать моего
подопечного [Вивиана] в школу, они, зная, что мои родители
умерли, предложили мне остаться у них жить...? Они даже ска-
зали, что могут послать меня в колледж изучать любой предмет
по моему выбору, и, когда я по глупости отказалась от этого более
чем щедрого предложения, они, зная мой независимый характер,
предложили мне жить у них на правах дневной прислуги. От этого
я, увы, тоже отказалась.
Веселость Уайльда в рождественские дни 1893 г. объясня-
лась временной разлукой с Дугласом. Она дала ему чудесное
ощущение свободы. Он мог писать, разговаривать с друзьями,
мог развлекаться без того соревновательного напряжения, кото-
рое Дуглас вносил в охоту за юношами. Неделя шла за неделей,
и Уайльд укреплялся в своем решении порвать с любовником
всякую связь. Так-то оно так, но Дуглас обладал известной чут-
костью и понимал, что примирение с Уайльдом, которого он
добился перед отъездом — добился, пригрозив остаться, — при-
мирение весьма зыбкое. Уайльд по-прежнему доминировал в его
жизни. Накануне отъезда Дуглас имел долгий разговор с мате-
рью, которая недвусмысленно заявила ему, что он должен пре-
кратить отношения с Уайльдом. Она сказала, что готова чуть ли
не убить Уайльда за то, что он сделал с ее сыном. Даже ты сам,
сказала она ему, никогда не пытался изобразить Уайльда хоро-
шим человеком.
Дуглас отозвался на слово “хороший” со всем многословием
эстета. В письме, которое он отправил матери из Каира 10 декабря
1893 г, он написал, что никого не может назвать хорошим чело-
веком, потому что считает это слово неприменимым к отдельным
людям. Он опрометчиво процитировал отрывок из предисловия
Уайльда к “Дориану Грею”: “Нет книг нравственных и безнравст-
венных. Есть книги хорошо написанные или написанные плохо.
Вот и все”. В заслугу Уайльду он поставил не то, что он хороший
человек, а характер и оригинальность. Затем, словно бы почув-
ствовав неубедительность приведенных доводов, добавил, что
Уайльд научил его тому, как одновременно быть хорошим челове-
JO1
ком и яркой личностью; Уайльд, по его словам, даже привил ему
некую религиозность. Дуглас, который прежде, подобно своему
отцу, издевался над верой, теперь увидел, что религия имеет цен-
ность и что библейские тексты осмысленны. Он написал матери:
“Говорю тебе — до знакомства с ним у меня, считай, не было души”.
Уайльд убедил его бросить азартные игры и не ходить больше
на скачки, потому что такое времяпрепровождение недостойно
его (этот отказ был, как выяснилось позже, временным). У них
возникли отношения философа и его ученика, подобные отно-
шениям Шекспира и господина УХ. или отношениям Сократа
и Платона и уж во всяком случае более благородные, чем отноше-
ния Сократа и Алкивиада.
На леди Куинсберри эти доводы не подействовали. Она отве-
тила сыну: “Если мистер Уайльд, в чем я убеждена, сыграл по отно-
шению к тебе роль лорда Генри Уоттона, я никогда не смогу отно-
ситься к нему иначе, чем отношусь сейчас, — как к убийце твоей
души”. Она, как и многие, не преминула в свое время прочесть
“Дориана Грея” и, должно быть, прочла также неявно адресован-
ное Уайльду стихотворение Лайонела Джонсона, приходившегося
Бози двоюродным братом, под названием “Разрушителю души”1.
Именно Уайльд, написала Дугласу мать, научил его “эксцентри-
ческому поведению и диковинным понятиям о нравственности”.
Нет, возразил Дуглас, он пришел к этим понятиям за два года
до знакомства с Уайльдом. Он воспользовался случаем, чтобы про-
честь ей лекцию о “Дориане Грее”: Уайльд не имеет ничего общего
с лордом Генри Уоттоном, начисто лишенным оскаровской “сол-
нечности, его бодрой joie de vivre1 2, его молниеносного остроумия
и великолепного чувства юмора, его верной, доброй и прощающей
натуры, что делает его похожим на взрослого ребенка, а отнюдь
не на то цинически-проницательное и ядовитое создание, каким
ты пытаешься его представить”. Ни мать, ни сын не хотели усту-
пать; леди Куинсберри не жалела усилий для того, чтобы ее сын
как можно дольше пробыл за границей.
Дуглас также получил в Каире ряд посланий от отца, имевших
примерно тот же эффект, что и письма от матери. Куинсберри
перемежал жалобы на образ жизни Бози сетованиями на свое соб-
ственное одиночество и неустройство. Ни то ни другое Дугласа
не трогало, и он отвечал отцу все более грубо. Единственным,
1 Как утверждает Джордж Сантаяна, единственным, что Уайльд счел
нужным сказать о тщедушном Джонсоне, было следующее: “Каждое
утро в И часов можно видеть, как он совершенно пьяный выходит
из ресторана “Кафе-руаяль” и братски приветствует первого встреч-
ного”.
2 Жизнерадостности (фр.).
SO2
от кого он хотел получить письмо, был Уайльд, но от него письма
не было. Послания, которые он отправлял Уайльду, тот прочиты-
вал и рвал. Но Дуглас знал Уайльда и знал о своей власти над ним;
к тохму же в Египте ему было чем развлечься. Хотя лорд Кромер
не предложил ему никакой должности, они с леди Кромер были
весьма гостеприимными людьми. По удачному стечению обсто-
ятельств — не вполне, может быть, случайному. — в Египте од-
новременно с Дугласом оказалось несколько его друзей, и они
задумали водное путешествие вверх по Нилу. Он к ним присо-
единился. Надо же — в такой дали от Лондона такая великолеп-
ная компания: романисты Роберт Хиченз и Э.Ф. Бенсон, Реджи
Тернер и его единокровный брат Фрэнк Лоусон. Обладая боль-
шими правами на семейное состояние, чем незаконнорожденный
Тернер, Лоусон щедро делился с братом. Он взял напрокат раз-
золоченное речное судно, стоявшее на якоре у нильского берега,
и Дуглас часто бывал на его борту.
Учась в Оксфорде, Тернер познакомился с Максом Бирбомом,
и у них возникла близкая дружба, длившаяся много лет. Отец Тер-
нера принадлежал к еврейской семье Лоусон, владевшей газетой
“Дейли кроникл”, и самого Тернера тоже считали евреем, хотя его
мать, вероятно, была иной национальности. Со своим длинным
носом и маленькой головкой, с часто моргающими — то нарочно,
то нечаянно — глазами он был легкой и постоянной мишенью для
карикатур Макса. Он также был великолепным и забавным собе-
седником, любившим пародировать церковные проповеди; Уайльд
ценил остроту его языка’. Усматривая в Тернере подспудную вну-
треннюю склонность к гетеросексуальной любви, Бирбом всеми
силами пытался эту склонность развить и предостерегал Росса
от пропаганды гомосексуализма в его присутствии. Но эти уси-
лия не имели успеха. Уайльд окрестил Тернера “ловцом юношей
с улицы Клементс-инн”.
Хиченз, Бенсон, Лоусон и Тернер знали “Дориана Грея” почти
наизусть и, плывя вверх по Нилу до Луксора, соревновались
в цитировании этого романа. Хоть от Уайльда и не было писем,
он все равно стал незримым участником этого путешествия, по-
стоянно возникающим как автор цитируемых изречений и шуток.
1 В конце столетия Тернер принялся писать весыма слабые романы,
в которых люди неясного происхождения заключали на удивление
блестящие браки. Хотя Бирбом по дружбе хвалил все его книги, они
были безнадежно любительскими и давали крайне отдаленное пред-
ставление о едком остроумии Тернера. В конце концов он, оправ-
дав предсказание Уайльда, стал самым занятным из англичан, жив-
ших во Флоренции, и Бирбом восхвалил его в одном из эссе, назвав,
по имени мильтоновского героя, некрасивым и одаренным Комусохм.
5°3
Хиченз внимательно слушал и делал заметки к своей будущей
книге “Зеленая гвоздика”, где Уайльд под именем “мистер Ама-
ринт” занял среди персонажей то почетное место, какое он зани-
мал в разговорах путешественников.
Поскольку Уайльд упорно оставлял письма Дугласа без ответа,
молодой человек в конце концов прибег к отчаянным мерам.
Ухищрениями он склонил мать, при всем ее нежелании это делать,
к тому, чтобы самой попросить Уайльда написать ему. Уайльд
был изумлен, получив от нее письмо с афинским адресом Бози
(он отправился в Грецию по приглашению Бенсона, участвовав-
шего в неких археологических работах). Писать Дугласу Уайльд
все же не стал; в ответном письме он убеждал леди Куинсберри,
что ей необходимо любой ценой удерживать сына от возвраще-
ния в Англию. Между тем Кромеры добились для Дугласа пригла-
шения в Константинополь на должность почетного атташе при
британском после лорде Карри. Однако планы эти пошли прахом:
Дуглас отнесся к будущему назначению весьма легкомысленно
и не просто посетил Афины, но еще и вознамерился прежде, чем
отправляться к туркам, повидаться с Уайльдом в Париже. То ли
из-за этой задержки, то ли из-за его связи с Уайльдом лорд Карри,
которому вполне мог нашептать что-то его помощник Реннел
Родд, отказал Дугласу в должности. Знал ли об этом Дуглас, когда
выезжал в Париж в надежде на встречу с Уайльдом, — неизвестно
(на его “Автобиографию” нельзя полагаться ни в коей мере).
Так или иначе, Дуглас выложил свой последний неожиданный
козырь: он написал Констанс Уайльд и попросил ее заступиться
за него перед мужем. Прием был тот же, что Дуглас использо-
вал в свое время, обращаясь к Роберту Россу с просьбой уладить
ссору между ним и Уайльдом из-за перевода “Саломеи”. Констанс,
подобно Россу, была соперницей Дугласа в борьбе за внимание
Уайльда, и как раз поэтому не могла отказать Бози. Она не хотела,
чтобы ее муж проявил черствость. Испытывая диковинное давле-
ние жены, пытавшейся помирить его с любовником, Уайльд, однако,
продолжал упорствовать. В марте 1894 г. он послал Дугласу теле-
грамму: “Время лечит все раны, но еще много месяцев я не буду
писать тебе и не буду видеться с тобой”. Этот вызов воспламенил
кровь Дугласа. Он мигом бросился в Париж и добрался до него
за шесть суток, останавливаясь в пути только для того, чтобы слать
Уайльду телеграммы. Когда он явился в парижский отель, его ждало
там письмо, сообщавшее, что Уайльд не приедет. В ответ Дуглас
послал ему в Лондон телеграмму на десяти или одиннадцати стра-
ницах (позднее Дуглас это отрицал), где говорилось, что он про-
мчался через всю Европу единственно ради встречи с Уайльдом
и что в случае нового отказа он не отвечает за себя. Уайльд знал,
504
что в роду Куинсберри были случаи самоубийства: дядя Дугласа
покончил с собой в 1891 г., а несколькими годами раньше так же,
возможно, поступил и его дед. Против подобного шантажа Уайльд
был бессилен. Он поехал в Париж и во время обеда у Вуазена
и за ужином у Пайяра не устоял против красоты, слез, раскаяния
и нежности. Уайльд не знал тогда, что теряет последний шанс
обрести свободу. Упустив этот шанс, он увидел, как жизнь почти
помимо его воли движется к своей кульминации.
Дуглас вернулся
Дети начинают с того, что любят родителей.
Потом они судят их. И почти никогда не про-
щают им.
1 апреля 1894 г., на второй день после возвращения Уайльда и Дуг-
ласа в Лондон, маркиз Куинсберри увидел их за ланчем в “Кафе-
руаяль”. Этот совместный ланч он счел открытым вызовом и зна-
ком того, что сын вернулся к прежним своим дурным привычкам.
Уайльд и Дуглас, однако, пригласили маркиза за свой столик, и он
мигом подпал под очарование Уайльда. "Неудивительно, что ты
от него в таком восторге, — сказал он Дугласу. — Он чудесный
человек”. Но, придя домой, Куинсберри одумался. Проникшись
сознанием родительского долга, он в тот же день написал сыну
длинное письмо:
1 апреля 1894 г.
Альфред! Мне доставляет сильную боль необходимость писать
тебе в подобном тоне, но, пожалуйста, учти: я отказываюсь прини-
мать от тебя какие-либо письменные ответы. После твоих недавних
грубых и истерических посланий это было бы мне тяжело и досадно,
и я не желаю больше читать твоих писем. Если хочешь что-то ска-
зать — приходи и говори лично. Во-первых, правильно ли я понимаю,
что, оставив Оксфорд с позором, как оставил его ты по причинам,
исчерпывающе изложенным мне твоим куратором, ты теперь наме-
рен бить баклуши и лоботрясничать? Пока ты без толку транжирил
время в Оксфорде, ты все время отделывался от меня заверениями, что
в конце концов поступишь на гражданскую службу или в министер-
ство иностранных дел; потом ты отделывался от меня заверениями,
что станешь юристом. Теперь мне ясно, что ты намерен просто без-
дельничать. Видя это, я решительно отказываюсь снабжать тебя необ-
ходимыми для этого средствами. Ты готовишь себе скверное будущее,
и было бы жестоко и совершенно неправильно с моей стороны пота-
кать тебе в этом. Во-вторых, — и тут я подхожу к самой болезненной
части письма — я хочу поговорить с тобой о твоей близости с этим
Уайльдом. Либо она прекратится, либо я отрекусь от тебя и лишу тебя
всякой денежной поддержки. Я не собираюсь исследовать характер
вашей близости и не выдвигаю никаких обвинений; но, по моему
мнению, выставлять себя кем-то ничуть не лучше, чем этим “кем-
то” быть. Я воочию убедился в том, что ваши отношения скверны
и отвратительны, насколько о них можно судить по вашему поведе-
нию и манере выражаться. Никогда раньше я не видел такого мерзкого
зрелища, какое являл собой ты. Нечего удивляться, что люди говорят
о вас то, что они говорят. Мне также стало известно из достойного
доверия источника (хотя, возможно, это и не соответствует дейст-
вительности), что его жена подает прошение о разводе, обвиняя его
в содомии и прочих преступлениях. Правда ли это? Или ты ничего
об этом не знаешь? Будь я до конца уверен в том, что все эти дела
имели место, и стань они достоянием гласности, я имел бы полное
право пристрелить его как собаку. Этим трусливым английским хри-
стианам, этим так называемым мужчинам нужна хорошая встряска.
С омерзением — твой, с позволения сказать, отец
КУИНСБЕРРИ.
Даже на сдержанную критику Дуглас обычно реагировал
вспышками ярости. В одном из писем матери он упомянул о том»
как однажды, написав в ответ на очередные ее упреки бешеное
письмо, он показал его Уайльду; тот порвал письмо со словами:
“Что бы там ни было, никому не позволено грубить родной матери”*
На сей раз, однако, Дуглас не показал Уайльду телеграмму, которую ;
он послал отцу 2 апреля: “КАКОЙ ТЫ НЕЛЕПЫЙ МАЛЕНЬ-1
КИЙ ЧЕЛОВЕЧЕК”. Рост Куинсберри между тем составлял пять
футов и восемь дюймов — всего на дюйм меньше, чем рост Дугласа, и
А в самолюбии и бешеной вспыльчивости они были равны. Узнав 1
о телеграмме, Уайльд пришел в смятение. Как он написал позд<|
нее — хотя тогда, скорее всего, говорить этого не стал, — “даже Ц
самый отпетый уличный мальчишка постыдился бы послать такую *
телеграмму”. Но Бози не мог удержаться от поступков, которые
Уайльд считал недостойными его. Ответ Куинсберри от 3 апреля
был гневным, хотя маркиз несколько смягчил угрозу оставить
Бози без средств к существованию. Так или иначе, письмо было
не из тех, что предвещают улучшение отношений:
Нахальный, дерзкий мальчишка. Я не потерплю больше от тебя
таких телеграмм. Если еще раз пришлешь мне что-нибудь подобное
или вздумаешь дерзить мне лично, я взгрею тебя так, как ты вполне ?
заслуживаешь. Теоя изиняет лишь то, что ты, по-видимому, не в своем
уме. Я знаю от одного человека из Оксфорда, что тебя там считали
сумасшедшим, и это объясняет многое из того, что произошло. Если
я еще раз увижу тебя с этим человеком, я устрою такой публичный
скандал, какой тебе и не снился; в скрытой форме скандал уже назрел.
Я же предпочитаю скандал открытый, и в любом случае никто не осу-
дит меня за то, что я не потерпел такого положения вещей. Если ваша
связь не прекратится, я приведу в исполнение мою угрозу и лишу тебя
средств к существованию. Попробуй только оставить все как есть —
и я урежу твое содержание до самого скудного минимума, так что ты
знаешь теперь, чего ждать.
Именно в этот момент, вероятно, Уайльд сказал Дугласу, что
не хочет быть игрушкой для отца с сыном в их застарелой ненави-
сти друг к другу. Дуглас твердил, что его ссора с отцом не имеет
отношения к Уайльду; тем не менее он счел благоразумным отпра-
виться на месяц во Флоренцию и предложил Уайльду поехать с ним,
но тайно. 27 апреля Уайльд выехал в Париж, где оставался до 6 мая;
затем перебрался во Флоренцию. Попытки хранить свое пребы-
вание там в тайне были обречены: рост, одежда и театральные
манеры обращали на него всеобщее внимание, где бы он ни появ-
лялся1. В числе тех, кто его приметил, был Андре Жид, который
случайно встретил Уайльда и Дугласа в кафе и почувствовал, что
ему не рады. Жиду тоже не очень-то хотелось, чтобы его видели
в их обществе. Отношения Уайльда и Дугласа имели скандальный
оттенок, и в письмах Полю Валери Жид поначалу не упомянул
о встрече вовсе; лишь несколько недель спустя он, словно бы
опасаясь назвать Дугласа по имени, написал, что повстречался
с Уайльдом, которого сопровождал “поэт более молодого поколе-
ния”. Если Уайльд и был смущен, то быстро оправился; он угостил
Жида двумя порциями выпивки и четырьмя историями, после чего
предложил ему переехать в квартиру, которую они сняли на месяц,
но использовали только две недели. Жид согласился, но потом
решил перебраться в пансион.
Уайльд, по всей вероятности, стал испытывать финансовые
затруднения и в начале июня вернулся в Лондон — видимо, чтобы
занять денег. Он решил также проконсультироваться с юристом
и сделал это в конце мая. К несчастью, Джордж Льюис был уже
нанят маркизом Куинсберри, о чем Уайльд, вероятно, знал; по-
1 19 мая Уайльд без Дугласа по приглашению Мэри Смит Костелло
посетил брата романистки Вернон Ли: “Он имел огромный успех.
Оскар говорил как небожитель, и все поголовно в него влюбились,
даже Вернон Ли, которая раньше ненавидела его почти так же сильно,
как он — ее. Он, со своей стороны, был очарован ею”.
5°7
этому он воспользовался советом Роберта Росса и обратился к дру~
тому юристу, Хамфризу Выбор оказался неудачным, поскольку
о гомосексуализме Хамфриз имел весьма смутное представление.
Какой совет получил Уайльд от Хамфриза — неизвестно; во вся-
ком случае, тогда он не предпринял никаких действий, чтобы при-
звать маркиза к порядку. Что касается самого маркиза, виденного
и слышанного ему хватило сполна, и 30 июня он неожиданно
явился к Уайльду на Тайт-стрит. Встреча дважды описана Уайльдом
и один раз маркизом Куинсберри, который утверждал в письме,
что Уайльд струсил. На суде Уайльд сообщил совсем иную версию.
Он заявил, что отверг все обвинения и заставил Куинсберри поки-
нуть его дом. Этот рассказ был излишне сдержан. В “De Profundis”
Уайльд описывает произошедшее с большим драматизмом: “В мою
библиотеку на Тайт-стрит в припадке бешенства ворвался твой
отец со своим вышибалой или приятелем и, размахивая коротень-
кими ручками, брызжа слюной, выкрикивал все грязные слова,
какие рождались в его грязной душе, все гнусные угрозы, которые
он потом так хитро привел в исполнение”.
В этом эпизоде Уайльд явно в той или иной степени одержал
над маркизом верх, хотя трудно поверить в то, что он “выставил
его”, как он написал позже; мысль о том, что подобная сцена может
разыграться на публике, приводила Уайльда в ужас. От этого его,
кажется, уберег только случай; Уайльд писал в “De Profundis”:
“Тогда он [Куинсберри] стал разыскивать меня по всем рестора-
нам, чтобы публично перед всем светом поносить меня в таких
словах, что, ответь я ему тем же, я погубил бы себя, а не ответь
совсем, погубил бы вдвойне”. Дуглас продолжал дразнить отца,
утверждая, что те самые угрозы, которые явно потрясли Уайльд^,
на него совершенно не действуют. В начале июня 1894 г. он напи-
сал маркизу:
Поскольку ты возвращаешь мои письма нераспечатанными, я при-
нужден писать на открытке. Пишу, чтобы сообщить тебе, что отно-
шусь к твоим нелепым угрозам с полным безразличием. После твоей
выходки в доме О. У. я нарочно появлялся с ним во многих откры-
тых для публики ресторанах, как, например, “Беркли”, “Уиллис румз”,
“Кафе-руаяль”, и я буду продолжать ходить во все эти места, когда мне
заблагорассудится и с кем мне заблагорассудится. Я совершеннолетний
и сам себе хозяин. Ты отрекся от меня по меньшей мере дюжину раз
и подло лишил меня денег. Следовательно, ты не имеешь надо мной
никакой власти — ни юридической, ни нравственной. Если бы О. У-
решил возбудить против тебя дело о клевете в Центральном уголовном
суде, ты получил бы за свои возмутительные наветы семь лет тюрьмы.
При всем моем отвращении к тебе я предпочел бы избежать этого ради
ю8
семьи; но, если ты попытаешься напасть на меня, я пущу в ход заряжен-
ный револьвер, который у меня всегда с собой; и, если я тебя застрелю
или он тебя застрелит, суд оправдает нас полностью, потому что это
будет акт самообороны от жестокого и опасного мерзавца, и я думаю,
что твоя смерть мало кого опечалила бы. А. Д.
“Смехотворный пистолет”, который Дуглас носил с собой,
выстрелил позднее в ресторане отеля “Беркли”, что вызвало новую
вспышку скандала. Фрэнк Харрис, несомненно, был прав, преду-
предив Уайльда примерно в то время, что ему не следует вмеши-
ваться в семейную распрю. Уайльд стал полем битвы, на котором
выплеснулась наружу застарелая вражда между отцом и сыном.
Рискованная ссора веселила Дугласа, разжигала ему кровь. Под-
водя в “De Profundis” жестокий итог, Уайльд писал: “Ты был
в восторге, предвкушая бой и оставаясь при этом в безопасности.
Никогда я не видел тебя в лучшем настроении, чем в то время.
Единственным разочарованием было для тебя как будто то, что
никаких встреч между нами, никаких ссор не происходило”. Хотя
часто высказывалась мысль, что Уайльд стремился к несчастью, оно
не было для него сознательно выбранной целью. Что касается Дуг-
ласа, он требовал от Уайльда несчастья как последнего дара любви.
Растущая тревога Уайльда видна невооруженным глазом.
В начале июля — вскоре после визита Куинсберри на Тайт-стрит —
он обратился к Джорджу Льюису, ставшему к тому времени сэром
Джорджем. Льюис ответил вежливо, но отстраненно, если учесть,
как долго и как близко Уайльд был знаком с ним и с его семьей:
7 июля 1894 г.
Уважаемый мистер Уайльд! Я прочел Ваше письмо. Полученные
Вами сведения о том, что я защищаю интересы лорда Куинсберри,
совершенно верны, и при этих обстоятельствах Вам, несомненно,
должно быть ясно, что я не могу высказывать каких-либо суждений
относительно любых мер, которые Вы намерены против него пред-
принять.
Хотя я не могу действовать против него, я не намерен действовать
и против Вас.
Верьте мне. Преданный Вам
ДЖОРДЖ М. ЛЬЮИС.
Уайльд вновь отправился к Хамфризу, и тот написал
Куинсберри письмо, предлагая ему отказаться от клеветнических
заявлений и грозя судебным преследованием. Маркиз ответил,
что ему не от чего отказываться, поскольку он не выдвигал про-
тив Уайльда прямых обвинений — он хочет только, чтобы Уайльд
$09
перестал видеться с его сыном. Этим обменом письмами на тот
момент дело и ограничилось.
К счастью, была почти середина лета, и всем участникам скан-
дала пришла пора покинуть Лондон. Уайльд не забросил литературу
полностью. В течение лета он опубликовал поэму “Сфинкс” в изда-
тельстве “Лейн и Мэтьюз” с обложкой, изысканно оформленной
Риккетсом. Тираж составил всего 250 экземпляров. “Первоначально
я хотел, — сказал Уайльд, — напечатать только три экземпляра:
один для себя, один для Британского музея и один для Господа
Бога. Насчет Британского музея у меня, правда, были сомнения”.
Он, однако, позаботился о том, чтобы пресса получила свои экзем-
пляры, и рецензии были большей частью положительные. С августа
по октябрь Уайльд жил со своей семьей в Уэртинге, где писал коме-
дию “Как важно быть серьезным”, за которую уже получил аванс.
Многое отвлекало его от работы. Дом в Уэртинге был небольшой;
помимо Оскара, Констанс и детей, там жила еще гувернантка-швей-
царка. Некоторое время у них гостил брат Дугласа Перси; приезжал
и сам Дуглас. Потом он написал Роберту Россу: “Я очень весело
провел время, хотя в последние несколько дней напряжение оттого,
что я был яблоком раздора между Оскаром и миссис Оскар, давало
о себе знать”. Уайльд писал Дугласу в “De Profundis”: “Наша дружба
всегда огорчала ее, не только потому, что ты никогда ей не нравился,
но и потому, что она видела, как наши постоянные встречи вызы-
вали во мне перемену — и не к лучшему”.
Мучительные антраша
Никогда и ни в чем не надо становиться на чью-
либо сторону, мистер Келвиль. С этого начина-
ется искренность, за ней по пятам следует серьез-
ность — и человек делается непроходимо скучен.
Ни одна из пьес не стоила Уайльду меньших усилий, чем лучшая
из них. Комедия “Как важно быть серьезным” легко и неприну-
жденно слетела с его пера. Как утверждает Риккетс, первоначально
Уайльд замыслил более хитроумную историю с раздвоением лич-
ности, помещенную во времена Шеридана. Потом, однако, пере-
думал; позднее он сказал: “Нет нужды обогащать сюжет “местом
и “временем” — к чему мне эти драматургические единства?
В искусстве я приверженец Платона, а не Аристотеля, хоть и ношу
Платона на свой особый фасон”. В пьесе собраны воедино различ-
ные темы, которые Уайльд развивал с 1889 г. Название восходит
<1О
1
к подзаголовку первой части его диалога “Критик как художник”:
“Часть первая, с некоторыми замечаниями о том, как важно ничего
не делать”. Леность, сознательно культивируемая в себе Алджерно-
ном и Джеком, была традиционной эстетической позой со времен
“Люсинды” Шлегеля, где с оттенком уайльдовской насмешки над
собой говорится следующее: “Леность — единственный элемент
богоподобия, оставшийся человеку со времен Эдема”.
В “Душе человека при социализме” Уайльд отвергает брак, семью
и частную собственность; в пьесе он тоже их отвергает, но иначе —
делая вид, что считает их вечными, и насаждая их с нарочитым
идиотизмом, демонстрирующим их нелепость. В своих известных
эссе Уайльд наделил искусство функциями обновленной этики,
отвергающей устарелые условности и взамен выдвигающей вели-
кодушие, свободу и индивидуализм в новом понимании. Этот
взгляд на искусство как на орудие социальных перемен сосущест-
вовал у него с противоположным взглядом. В “Саломее” Уайльд,
сосредоточив внимание на инцесте и некрофилии, изобразил их
самоуничтожение, наказал их раскаянием и смертью. Но его кри-
тический интеллект был способен растворить, сделать несущест-
вующими понятия греха и вины. Именно так поступает Уайльд
в пьесе “Как важно быть серьезным”, которая пронизана безза-
ботностью в такой же мере, в какой “Саломея” пронизана обвине-
нием. Философия его последней пьесы, как Уайльд сказал Роберту
Россу, заключается в том, что “ко всем пустякам следует относиться
чрезвычайно серьезно, а ко всему серьезному, что есть в жизни, —
с искренним и сознательным легкомыслием”. В “Как важно быть
серьезным” грехи, проклятые в “Саломее” и не названные прямо
в “Дориане Грее”, переведены в иной регистр и явлены как несдер-
жанная и эгоистичная тяга Алджернона к., сэндвичам с огурцом.
Подмена ужасающего распутства невинным обжорством обезвре-
живает всякий грех, делает его несущественным. У Джека действи-
тельно есть беспутный братец, но он — не кто иной, как наш старый
знакомый Алджернон. Двойная жизнь, нешуточная для Дориана
Грея или для Чилтерна из “Идеального мужа”, здесь превращается
в “бенберирование”, благодаря которому Эрнест в городе стано-
вится Джеком в деревне с единственной целью — избежать скучных
визитов. В первом, четырехактном варианте пьесы Уайльд пароди-
рует и наказание: к Алджернону приходит агент, чтобы забрать его
в тюрьму Холлоуэй — не за гомосексуализм, боже упаси, а за неу-
плату по счету в ресторане “Савой”. “Сидеть в тюрьме на окраине
города за то, что пообедал в Вест-энде? Что за нелепость!” — возму-
щается Алджернон. В другом месте пьесы вышучивается идея иску-
пления. “Они едят лепешки. Это похоже на раскаяние”, — говорит
Сесили. Попытка Джека и Алджернона креститься заново паро-
ли
дирует, помимо религиозного усердия, еще и стремление к пере-'
рождению (в первом варианте, в котором мисс Призм тоже хочет
креститься, кто-то замечает: “Родиться заново — лучшее, что она
может сделать”). Церемониальное снятие масок в конце пьесы озна-
чает для ее героев не смерть, как для Дориана Грея, а подготовку*
к новому кукольному спектаклю под названием “Брак”. И все же,
сколь бы забавна ни была видимая нам поверхность, источником
комической энергии служит та подспудная реальность, что подвер-
гается насмешливому переосмыслению1.
“Как важно быть серьезным” — великолепный парапет над
бездной уайльдовских тревог и дурных предчувствий. Прибег-
нув к отчаянной уловке, Уайльд нашел кратковременную защиту
от угрюмых сил окружающего мира. Все на свете — обман, но печаль
снята юмором и бьющей через край непосредственностью. Любов-
ные чувства соперничают с фамильным честолюбием, невинность
стремится к опыту, опыт желает обрести невинность. На слезы
наложен запрет. Уайльд скрыл свои заботы под маской беззаботног
сти, развеял их чудом авторского владения материалом. Ему сказали
однажды, что пьеса должна быть подобна мозаике. “Нет, — возразил
Уайльд, — она должна быть подобна пистолетному выстрелу”.
Добрые друзья
Сочувствовать страданиям друга — дело нехи-
трое, но вот радоваться успеху друга — это тре-
бует очень тонкой натуры.
В то время с жизнью Уайльда часто пересекалась жизнь Макса
Бирбома. Он превозносил “Дориана Грея” как своего рода “свя-
1 Многие элементы пьесы имеют реальный источник. В первом варианте
агент, являющийся, чтобы забрать Алджернона в тюрьму Холлоуэй,
работает в фирме “Паркер и Григсби”. Паркер — фамилия двух бра*
тьев, чью любовь Уайльд покупал, а Григсби — персонаж из карикатур
Дюморье в “Панче”, изображающих эстетов. Похожую роль играют
фамилии лакея и дворецкого — Лейн и Мэтьюз, данные им с целью
увековечить неприязнь автора к издателям с такими же фамилиями.
(Уайльд выразил эту неприязнь и в другой раз, когда его спросили, как
выглядит обложка альманаха “Желтая книга”, оформленная Бердслеем.
“Ну, вам легко будет это себе представить, — отозвался он. — Жуткая
голая шлюха улыбается с маской на лице — и на одной груди у нее
написано “ЭЛКИН МЭТЬЮЗ”, а на другой — “ДЖОН ЛЕИН”)
Но в конце концов он великодушно заменил Мэтьюза на Мерримена.
<12
щенную” книгу, которую следует ввести в университетские
курсы; во время “гедонистического триместра 1894 г. ” он соста-
вил примерные экзаменационные вопросы: “Следует ли из текста
романа, что привычка к курению сигарет приобретена Дорианом
в описываемый период?” — и тому подобное. Другое развлече-
ние Бирбома было не столь безобидным. Ранее он подружился
с Робертом Хичензом, и в начале лета 1894 г. тот показал ему ру-
копись своей книги “Зеленая гвоздика”. Ни Бирбом, ни Хиченз
не отдавали себе полного отчета в том, насколько опасной может
стать эта книга для Уайльда; однако Бирбом все же до некоторой
степени представлял себе возможный риск, поскольку 12 авгу-
ста 1894 г. он шутливо описывал Тернеру воображаемый арест:
“Оскара наконец-то посадили в кутузку за преступления извест-
ного рода. Его взяли в нижней комнате “Кафе-руаяль”. Бози
спасся благодаря быстроте своих ног, но Оскар был менее про-
ворен”. Эти фантазии были неприятно близки к действитель-
ности; возможно, Бирбом подсознательно рассчитывал на удале-
ние с лондонской сцены ее короля. Так или иначе, в апреле—мае
1895 г. он писал миссис Леверсон с еще большей жестокостью:
“Я с нетерпением жду первого акта новой Трагедии нашего
Оскара. Увы, название “Дугласова трагедия” уже встречалось
в литературе1”.
“Зеленая гвоздика” вышла в свет в сентябре 1894 г. Претендуя
на пародийность, книга фактически носит документальный харак-
тер. Флер выдумки в ней весьма тонок, и в том, кто такие на самом
деле лорд Реджи и мистер Амаринт, не возникает ни малейших
сомнений. Мораль книги — а она, подобно “Дориану Грею”,
не обделена моралью, — состоит в том, что лорду Реджи не следо-
вало бы с таким рабским усердием копировать разговорные при-
емы Амаринта. В итоге Реджи перестает быть не только самим
собой, но и кем-либо вообще. Отношения Уайльда и Дугласа
изображены здесь так, как их представлял и маркиз Куинсберри
(делом жизни Дугласа станет впоследствии многократный пере-
сказ истории их связи с Уайльдом в своей версии). Хиченз пришел
к выводу — и это соответствовало мнению Куинсберри, — что
Уайльд подмял Бози под себя, проглотил его живьем, как на неко-
торых карикатурах Бирбома.
Главным объектом пародирования в “Зеленой гвоздике”
стало отношение к жизни. Серьезность — это не для нас; про-
тивоядием от нее служит легкомыслие. Уайльд позднее сказал,
что он создал из блистательного легкомыслия целую литера-
Так называется народная баллада, включенная Вальтером Скоттом
в сборник “Баллады шотландского пограничья”. (Примеч. перев.)
5556
туру; но это было легкомыслие особого рода, взрывающее
общепринятые понятия. Замечания наподобие такого: “Я могу
противостоять всему, кроме соблазна” (“Веер леди Уиндер-
мир”) — столь же разрушительны для лицемерия, как воспоми-
нание св. Августина о своей юношеской молитве: “Сделай меня
хорошим человеком, но не сейчас”. Правда, острота подобных
высказываний скрадывается невосприимчивостью светских
соучастников словесной игры. Хиченз приводит замечание
лорда Реджи о том, как он засмеялся на похоронах родственника,
которое, видимо, основано на реальном рассказе Дугласа. Лорд
Реджи говорит: “Я форсировал свое горе так, что оказался по ту
сторону слез, а родня назвала меня бессердечным!” В другом
месте он заявляет: “С нами навсегда остается наша первая нена-
висть”. Томная патина слов прикрывает весьма бурные вожде-
ления; Хиченз демонстрирует это, показывая, как лорд Реджи
преследует юношу.
Уайльда и Дугласа книга поначалу только позабавила
(Куинсберри, напротив, ничего забавного в ней не нашел).
“Что-то до сих пор Хиченз не казался мне таким остроумцем, —
написал Уайльд Аде Леверсон, возможно подозревая Бирбома
в соавторстве. — Этот сомневающийся апостол [Хиченз], напи-
савший фальшивое евангелие, наделен весьма скромным талан-
том, не оживляемым даже малейшим проблеском физической
красоты”. Уайльд послал Хичензу телеграмму, где заявил, что
секрет раскрыт; Дуглас же отправил ему шутливое предосте-
режение, советуя бежать от надвигающейся мести. Слух о том,
что автор книги — сам Уайльд, усиливал раздражение, которое
Уайльд мало-помалу начал из-за нее испытывать. Он счел необ-
ходимым написать редактору “Пэлл-Мэлл газетт”, и сделал это
1 октября:
Сэр! Позвольте мне со всей решительностью опровергнуть пред-
положение, высказанное в Вашей газете в последний четверг и затем
повторенное многими другими газетами, что я являюсь автором
“Зеленой гвоздики”.
Да, этот великолепный цветок изобретен мною. Но с пошлой
и посредственной книжонкой, присвоившей его странно-прекрасное
название, я, само собой разумеется, не имею ничего общего. Цве-
ток — произведение искусства. Книга — никоим образом.
Книга внесла пусть небольшой, но заметный вклад в растущее
неодобрение, с которым сталкивался Уайльд. То, что ее автор сам
был гомосексуалистом, добавляло ей пикантности и создавало
ощущение достоверности. Хиченз оказал Уайльду столь же мало
54
почтения, как Раффалович, хотя оба они разделяли его склон-
ности. Хиченз высмеял зеленую гвоздику, Раффалович написал
о ней язвительный сонет.
Другая важная перемена произошла летом 1894 г. Кон-
станс Уайльд, как и ее муж, долгое время была в дружбе с Арту-
ром Л. Хамфризом, который заведовал книжным магазином
Хатчарда. Они договорились об издании небольшого сборника
уайльдовских афоризмов, отобрать которые должна была Кон-
станс, а Уайльд затем — внимательно просмотреть*. Также пред-
полагалось издать отдельной брошюрой “Душу человека при
социализме”. Но два письма, которые в 1894 г. Констанс Уайльд
написала Хамфризу, наводят на мысль, что он стал для нее чем-
то большим, нежели деловой партнер. Первое из писем, дати-
рованное 1 июня, свидетельствует о том, что Хамфриз вызывал
у нее восхищение, подобное ее былому восхищению собствен-
ным мужем. “Я, возможно, перешла границы приличий в желании
быть Вам другом и завоевать Вашу дружбу”, — писала она. Она
извинялась перед ним за то, что во время их беседы принялась
рассказывать о своем несчастливом детстве. Хамфриз, в свою оче-
редь, заговорил тогда с ней о своем супружестве. В письме она
назвала его “идеальным мужем”; это выражение в пьесе Уайльда
приобрело особый смысл. Второе письмо было отослано двумя
с лишним месяцами позже, 11 августа 1894 г., и написано в ином
тоне. Первое начиналось словами “Дорогой мистер Хамфриз!”,
второе — словами “Мой милый Артур!”. Она благодарит его за то,
что он сделал ее в тот день такой счастливой и подарил ей свою
любовь. Она рада тому, что он так добр к ее детям и к Оскару.
Совершенно ясно, что Констанс влюблена. Возможно, у нее был
с Хамфризом короткий роман, но в конце лета и осенью ее боль-
шей частью не было в городе, а в начале следующего года ей сде-
лали операцию на позвоночнике, ставшую необходимой после
падения с лестницы в доме на Тайт-стрит. Радость от возникшей
близости могла быть у нее лишь очень краткой.
1 Договор был подписан 14 августа Хамфризом и Уайльдом; в роли
свидетеля выступил Дуглас. Сборник, получивший название “Оска-
риана”, был напечатан за счет автора в январе 1895 г., но поступил
в продажу только в 1910 г.
5*5
Куинсберри furens’
Погасите факелы. Сокройте луну! Уберите
звезды!
В продолжение лета Куинсберри находился за кулисами, но был
готов выйти на сцену и затмить Уайльда эффектными жестами
отцовской любви. В сентябре его сильно раздражила “Зеленая
гвоздика”, а два октябрьских события привели его в подлинное
бешенство. Одно из них, правда, было вполне предсказуемо. Окон-
чательное решение о признании недействительным его второго
брака вступило в силу 20 октября 1894 г. Но второе событие, слу-
чившееся двумя днями раньше, было совершенно неожиданным.
Погиб его старший сын Драмланриг, наследник титула и единст-
венный из четырех его сыновей, к которому, несмотря на ссоры,
он испытывал определенное уважение. Газеты назвали причиной
смерти несчастный случай с огнестрельным оружием, но многие
подозревали самоубийство. Драмланриг, возможно, опасался шан-
тажа по поводу своих отношений с лордом Розбери, которые его
отец давно считал подозрительными, и, в отличие от брата, боялся
не только за свою репутацию, но и за репутацию министра ино-
странных дел. В письме Альфреду Монтгомери, отцу своей первой
жены, Куинсберри дал своим подозрениям полную волю:
1 ноября 1894 г.
Поместье Куинсберри Замок Комлонкон,
Рутвелл, Сев. Англия
Сэр! Сегодня, когда схлынула первая волна катастрофы и горя,
пишу Вам, чтобы сказать, что это кара всем вам. Всем Монтгомери,
извращенным снобам, вкупе с Розбери и, само собой, с христианским
ханжой Гладстоном — всей вашей бражке. Вы восстановили против
меня сына, вы поссорили нас, пусть вас черти раздерут за то, что он
упокоился, а размолвка между нами не заглажена. Это страшный знак.
Если бы Вы и его мать не связались с Розбери, которого я всегда счи-
тал трусливым псом и лживым евреем...
Так или иначе, она [леди Куинсберри] мирилась с этим, а значит,
несет всю ответственность. Какие же вы слепые глупцы — пытались
вывести меня из игры, хитрили и лавировали, и вот бедный Мальчик
находит безвременный конец. Я чую за всем этим Трагедию и уже улав-
ливаю признаки кое-чего еще более ошеломляющего. Если подоплека
именно та, на какую указывают обстоятельства, я один из всех мог бы
1 Безумный (лат.). аллюзия на латинский перевод названия
пьесы Еврипида ‘‘Безумный Геракл” (в русской традиции — “Геракл”)*
(Примеч. перев.)
516
помочь ему и помог бы, приди он ко мне, откройся во всем, — но вы
не дали ему этого сделать, мы с ним из-за вас полтора с лишним года
не встречались, не говорили по душам. Я на верном пути к тому, чтобы
выяснить всю подноготную. Cherchez ia femme’, когда такое случается.
Я прослышал уже кое о чем таком, что объясняет все сполна.
КУИНСБЕРРИ.
Убежденность в том, что причиной смерти сына стал гомосек-
суализм, побудила Куинсбери к действию — он не желал, чтобы
другой его сын кончил так же. Он стал раздумывать, как подсту-
питься к Уайльду, и решил учинить публичный скандал на пре-
мьере “Как важно быть серьезным”, провокационно назначенной
на День св. Валентина — 14 февраля 1895 г.
А Бози тем временем вновь дал Уайльду почувствовать тяготы
любви к себе. Помимо сатирических стрел, Уайльда терзали Дуг-
ласовы капризы. Дом в Уэртинге пришелся Дугласу не по вкусу,
и в октябре он настоял, чтобы Уайльд отвез его в Брайтон,
в “Гранд-отель”. В Брайтоне Дуглас слег в постель с приступохм
инфлюэнцы. Нежная заботливость Уайльда проявилась во время
этой болезни сполна — он читал Дугласу вслух, был для него
и другом, и терпеливой сиделкой. Через четыре-пять дней Дуглас
поправился, и они переехали в квартиру, которую Уайльд снял для
работы над пьесой. Но теперь настала очередь Уайльда заболеть.
Бози не проявил ни малейшего желания за ним ухаживать. Он
оставил Уайльда, которому трудно было даже принести себе воды,
без всякой помощи и однажды посреди ночи накинулся на него
с отвратительной бранью. Утром сцена повторилась, и Уайльд,
физически почувствовав себя в опасности, с трудом спустился
по лестнице в гостиную, чтобы, если понадобится, иметь воз-
можность позвать на помощь. Дуглас собрал вещи и перебрался
в “Гранд-отель”. 16 октября 1894 г., в день рождения Уайльда, при-
шло письмо от Дугласа. Он злорадно хвастался тем, что записал
на счет Уайльда свой последний завтрак в “Гранд-отеле”, и похва-
лил его за то, что он имел благоразумие во врехмя ссоры спуститься
в гостиную. “Для тебя это могло плохо кончиться, — писал он, —
хуже, чем ты думаешь”. Письмо завершалось словами: “Когда ты
не на пьедестале, ты никому не интересен. В следующий раз, как
только ты заболеешь, я нехмедленно уеду”. Уайльд припомнил ему
это в “De Profundis”.
Почувствовав себя лучше, Уайльд в пятницу 19 октября вер-
нулся в Лондон; он намеревался попросить сэра Джорджа Льюиса
известить Куинсберри о том, что он больше никогда и ни при каких
1 Ищите женщину (фр-).
5*7
обстоятельствах не увидится с Дугласом. Но в Брайтоне, взяв в руки
утреннюю газету, перед тем как отправляться на вокзал, он увидел
в ней сообщение о смерти Драмланрига. Испытав одну из тех вне-
запных внутренних перемен, что играли столь важную роль в его
сюжетах и были столь губительны для него самого, он вдруг почув-
ствовал к Дугласу “бесконечную жалость” и ничего больше; он
тут же выразил эту жалость в телеграмме. Танец возобновился.
В самом конце 1894 г. — новое проявление неблагоразумия.
Усилия Дугласа, пытавшегося увеличить популярность гомосексу-
ализма в Оксфорде с помощью журнала “Спирит лэмп”, продол-
жил студент Джек Блоксхэм, решивший издавать новый журнал
(кстати, его фамилия была использована Уайльдом в “Как важно
быть серьезным”). Будучи знакомым с Джорджем Айвзом, Блокс-
хэм отправился в Лондон обсудить с ним эту идею. Айвз предло-
жил назвать журнал “Хамелеон” с намеком на защитную окраску.
Айвз у себя дома в Олбени1 познакомил Блоксхэма с Уайльдом
(Олбени тоже упоминается в “Как важно быть серьезным”). Уайльд
нашел в студенте “странную красоту” и пообещал подарить ему
свои “Заветы молодому поколению” — сборник афоризмов, кото-
рый начинался вот с чего: “Поменьше естественности — в этом
первый наш долг. В чем же второй — еще никто не дознался”1 2.
Блоксхэм показал Уайльду и Айвзу свой рассказ “Священник
и аколит”3, в котором священник, застигнутый с мальчиком, нали-
вает в чашу отравленное вино и, причастившись им сам, прича-
щает юного наперсника. Уайльд позабавил своим отзывом Аду
Леверсон: “На мой вкус, тема здесь решена слишком впрямую,
без необходимого нюанса; в подобной откровенности есть некая
профанация; между тем Бог и другие художники всегда немного
темны. И все же в рассказе есть кое-что интересное и местами даже
пагубное, а это немаловажно”.
Айвз, напротив, встревожился. Он все еще приходил в себя
после единственного смелого поступка в своей жизни — пуб-
ликации в журнале “Хьюманитариан” в октябре 1894 г. отпо-
веди Гранту Аллену, осудившему гомосексуализм в мартовском
номере “Фортнайтли”. Тогда Уайльд советовал Айвзу воздержаться
от подобного шага “на заре вашей карьеры”. Теперь, однако, он же
побуждал Блоксхэма напечатать свой рассказ, который, по мнению
Айвза, не возвеличивал однополую любовь, как следовало бы, а, на-
оборот, принижал. На его возражения Уайльд ответил: “Иной раз
1 Олбени — фешенебельный лондонский многоквартирный жилой
дом. (Примеч. перев.)
2 Перевод К. Чуковского.
3 Аколит — мальчик-прислужник в алтаре. (Примеч. перев.)
518
хочешь взорвать хлопушку, а взрываешь бомбу”. Но лучше бы они
с Блоксхэмом послушались Айвза. “Хамелеон”, который вышел
только раз, в декабре 1894 г., был 29 декабря резко раскритикован
в “Тудей” Джеромом К. Джеромом, чей роман “Трое в лодке, не счи-
тая собаки” Уайльд в свое время назвал “смешным без вульгарности”.
“Тудей” рекомендовал полиции принять меры. Что более сущест-
венно, “Хамелеон” попал в руки Куинсберри, который еще сильней
разъярился, решив, что анонимный рассказ написан Уайльдом.
В конце декабря начались репетиции “Идеального мужа”,
и Уайльд настоял на том, чтобы актеры приехали в театр даже в день
Рождества. Чарлз Брукфилд, который, не желая перегружать свою
память уайльдовскими строками, взял крохотную роль дворец-
кого лорда Горинга, был особенно возмущен из-за испорченного
праздника. “Вы что, не празднуете Рождество, Оскар?” — спросил
он. “Нет, Брукфилд, — ответил Уайльд, — из всех церковных дат
я праздную только третье воскресенье до Великого поста. Вы
празднуете этот день, Брукфилд?” — “С детства не праздную”. —
“Ах, вернитесь же в детство”, — посоветовал ему Уайльд.
Премьера состоялась 3 января 1895 г.; среди зрителей были
принц Уэльский, Бальфур, Чемберлен и многие члены правитель-
ства. После финального занавеса вызывали автора, но Три ска-
зал публике, что Уайльд покинул театр. По окончании спектакля
Уайльд, Бирбом, Три и Дуглас ужинали в клубе “Албемарл”.
Из рецензий самую проницательную написал Бернард Шоу
для “Сатердей ревью”. Он заметил в ней: “Я единственный человек
в Лондоне, который не в состоянии сесть и одним махом написать
оскар-уайльдовскую пьесу”. Он особенно приветствовал то, что
назвал “современной тенденцией”, выразившейся “в утверждении
сэром Робертом Чилтерном своей личности, в его отваге человека,
совершившего проступок, противопоставленной механическому
идеализму его тупо-добропорядочной жены, и в резкой критике,
которой он подверг любовь, понимаемую как награда за достоин-
ства”. Позднее он сам поднял эту тему в “Майоре Барбаре”.
Обрадованный этим успехом, Уайльд хотел присутствовать
на репетициях “Как важно быть серьезным” у Александера и умо-
лял Дугласа позволить ему остаться в Лондоне, “но, — как он сухо
заметил в письме Аде Леверсон, — Альфред, по благородству
своей натуры, отказал мне наотрез”1. Вместо этого Уайльд отпра-
1 В январе 1895 г. Александер испытывал трудности с “Ги Донвилем”
Джеймса, и Уайльд попросил Чарлза Уиндема, с которым он заключил
договор на “Как важно быть серьезным”, уступить пьесу Александеру,
чтобы он смог быстро на ней заработать. У Уиндема дела шли хорошо,
и он согласился, но, едва он это сделал, одна из его постановок
провалилась.
>19
вился в поездку, которую он давно замышлял и которую в свое
время напророчила ему одна лондонская ясновидящая. По сооб-
щению журнала “Тиэтр” (1 марта), они с Дугласом 17 января
1895 г. отправились в Алжир; Уайльд пробыл в городах Алжир
и Блида до 3 февраля. Он писал Россу: “У нищих здесь красивые
профили, поэтому проблема бедности решается легко”. Помимо
покупной любви, они вкусили также радостей гашиша.
Некоторые сведения об этой поездке содержатся в автобио-
графии Андре Жида “Если зерно не умрет...”. Жид приехал
в Блиду — город в тридцати милях от Алжира, часто посещаемый
англичанами, охочими до мальчиков. Придя в отель, он уже готов
был расписаться в книге постояльцев, когда, к своему смятению,
увидел в ней фамилии Уайльда и Дугласа. Память о не слишком
приятной встрече во Флоренции семь месяцев назад была в нем еще
свежа, и он решил не компрометировать себя пребыванием в одном
отеле с ними. Его собственная гомосексуальная жизнь уже началась,
но скрытно. Он взял свои чемоданы и зашагал обратно к станции,
но по пути решил, что ведет себя глупо. Он вернулся, остановился
в этом отеле и вскоре встретился с Уайльдом и Дугласом.
Когда Жид выразил Уайльду свое изумление тем, что увидел
его в Алжире, Уайльд ответил: “Я нахожусь в бегах от искусства.
Я хочу боготворить только солнце. Вы заметили, что оно пре-
зирает всякую мысль, заставляет ее отступать, прятаться в тени?
Когда-то мысль жила в Египте; солнце покорило Египет. Потом
она долго жила в Греции; солнце покорило Грецию. Потом настала
очередь Италии, потом — Франции. Ныне мысль изгнана в Нор-
вегию и Россию, куда солнце вообще не заглядывает. Солнце
испытывает ревность к искусству”. Вечер они провели втроем,
после чего Уайльд и Жид вернулись в Алжир, а Дуглас, в очеред-
ной раз жестоко поссорившись с Уайльдом, на несколько недель
отправился с неким мальчиком в Бискру. В Алжире Уайльд ска-
зал Жиду: “Мой долг перед самим собой — бешено развлекаться”.
Потом он добавил: “Не счастье, нет. Не оно превыше всего. На-
слаждение! Надо всегда стремиться к самому трагическому”. Он
повел Жида в кафе, где молодого человека пленил юный араб,
игравший на флейте. Когда они вышли, Уайльд спросил Жида:
“Хотите маленького музыканта, мой милый?” Жид “сдавленным
голосом” дал согласие. Уайльд разразился смехом, который Жид
назвал “сатанинским”, и тут же все устроил. Жид почувствовал,
что его натура теперь Уайльду ясна.
В Алжире они провели вместе несколько дней. Когда Уайльд
куда-нибудь шел, за ним непременно увязывалась компания вори-
шек. Он каждому находил что сказать, смотрел на них с удоволь-
ствием и одаривал их деньгами. “Надеюсь, мне удалось основа-
тельно развратить этот город”, — сказал он. Он признался, что
Куинсберри не дает ему житья. Жид встревожился: “Что будет,
если вы вернетесь? Вам ясна степень опасности?” — “Она никогда
никому не может быть ясна. Друзья советуют мне быть благоразум-
ным. Благоразумным! Разве это для меня мыслимо? Это было бы
отступление. А я должен идти вперед до конца. Дальше пути нет.
Что-то должно случиться... Что-то...” Уайльду было присуще то,
что Генри Джеймс называл “гибельным воображением”. Ничто
меньшее, чем полный крах, его не устраивало. Он уехал на следую-
щий день и по пути остановился в Париже. Придя с визитом к Дега,
он дружелюбно сказал ему: “Знаете, какой известностью вы пользу-
етесь в Англии?” Дега ответил: “Надеюсь, меньшей, чем ваша”. Он
повторил Уайльду замечание, которое сделал на открытии в Париже
магазина тканей фирмы “Либерти”: “Такой избыток вкуса может
довести до тюрьмы”. Оба высказывания прозвучали зловеще.
До премьеры “Как важно быть серьезным” (“легкомысленной
комедии для серьезных людей”) оставалось еще несколько репе-
тиций. К тому времени Александер уговорил Уайльда снять одно
из четырех действий, в котором Алджернона едва не арестовывают
за долг. Явившись на одну из репетиций, Уайльд сказал: “Да, пьеса
хороша. Хотя, помнится, я и сам написал нечто очень похожее,
и у меня было даже лучше”. Когда день премьеры был уже бли-
зок, Уайльд случайно узнал, что Куинсберри собирается устроить
в театре скандал, и предупредил Александера, который аннулиро-
вал билет Куинсберри и позаботился о присутствии в зале поли-
цейских. Вечер Дня св. Валентина был очень морозным. Уайльд
явился в театр, одетый, по замечанию Ады Леверсон, с “вычурной
сдержанностью” — зеленая гвоздика и все прочее. Присутствовал
весь Лондон, исключая маркиза Куинсберри и Дугласа, который
еще не приехал из Алжира. Пьеса понравилась всехм, кроме Шоу,
сравнившего ее с кружкой, полной пены. Что ж, спасибо за такую
пену1. Газета “Нью-Йорк тайме”, отнюдь не склонная хвалить
1 Перечень фамилий из армейского списка, зачитываемый в конце
пьесы, включает некоего Максбома (шуточный намек на Макса Бир-
бома). Макс назвал пьесу шедевром. В экземпляре, который Уайльд
ему надписал, Бирбом сделал пометку на полях у начала первого дей-
ствия: “Восхитительное начало! Ты мгновенно вовлечен — и подго-
товлен. Ср. “Гамлет”! — и другие пьесы прирожденных людей театра”.
Сцену с мисс Призм в последнем действии он назвал “одной из умо-
рительнейших, что были когда-либо написаны”. В его экземпляре
имеются две поправки, сделанные на основе воспоминаний о пре-
мьере (Уайльд об этих вариантах забыл). В конце первого действия
Джек говорит: “Какая чушь, Алджи. От тебя слышишь одни глупо-
сти”. Алджернон отвечает: “А от кого их не услышишь?” Бирбом
приводит продолжение: “И кроме того, я просто обожаю глупости”.
$21
Уайльда, написала на следующий день после премьеры: “Оскар
Уайльд наконец одним ударом свалил своих недоброжелателей
наземь”.
Свалил всех, кроме одного. Полный скрытого отчаяния
и паники, Уайльд готовил сцену для очередного акта, в котором
зло выступит под маской отцовской заботы и защиты обществен-
ного порядка, а добру придется довольствоваться позорной личи-
ной преступника. Уайльд всегда считал, что подлинные негодяи —.
не те, кто выражает свои желания, а те, кто стремится подавить
желания других. Общество, чье ханжество он подверг анатомиро-
ванию, всей громадой этого ханжества нависло над ним. Виктори-
анство готовилось нанести удар.
Бирбом также поправил слова, которые мисс Призм говорит Сесили
во втором действии: “Главу о падении рупии можете опустить. Это
чересчур злободневно. Даже финансовые проблемы имеют драма-
тический резонанс”. Бирбом предпочитал, чтобы последняя фраза
выглядела так, как была произнесена: “Это чересчур экстравагантно
для девушки”.
БЕСЧЕСТЬЕ
Глава 17
“Я — истец в этом процессе”
Частенько подлинные трагедии в жизни при-
нимают такую незстетическую форму, что
оскорбляют нас своим грубым неистовством,
крайней нелогичностью и бессмысленностью,
полным отсутствием изящества.
Растущее давление
ВСЯКИЙ, КТО ПРЕДАН СУДУ, ОТВЕЧАЕТ СВОЕЙ
жизнью”, — скажет Уайльд в “De Profundis”, когда все
суды будут для него позади и его жизнь будет разру-
шена ими до основания. Чисто уайльдовский парадокс
заключается, однако, в том, что в первом судебном про-
цессе истцом как раз был Уайльд, а ответчиком — Куинсберри,
чьей жизни это ни в коей мере не угрожало. Джон Шолто Дуглас,
девятый маркиз Куинсберри, был очень богатым человеком. Он
мог проиграть хоть дюжину процессов и даже не поморщиться; нет
сомнения, что, каково бы ни было решение суда, он не оставил бы
Уайльда в покое. Это было настолько очевидно, что иск Уайльда
выдает не столько его негодование, сколько смятение. Процесс
увенчал собой двухлетний период провокаций. Куинсберри,
конечно, выставлял себя не обидчиком, а потерпевшим. Уайльд
и Дуглас по-прежнему вызывающе появлялись на людях вместе,
несмотря на неоднократные угрозы маркиза обратиться в Скот-
ленд-Ярд. Уайльд, со своей стороны, считал, что этот неотесан-
ный хам не имеет никакого права вмешиваться в его личную
жизнь. Более того, его отношения с Дугласом, включая такой
их аспект, как публичность проявлений романтической страсти,
отвечали его стремлению заставить ханжеское общество при-
нимать его, Уайльда, таким, каков он есть. К поношениям Уайль-
ду было не привыкать, и до сорокового года жизни лишь малая
часть из них была для него по-настоящему болезненна. Он бла-
гополучно пережил насмешки американских и британских газет
над его “эстетическим ренессансом”. Потом Уистлер обвинил его
в чисто литературном грехе плагиаторства, но он устоял перед
его нападками и доказал всем оригинальность своего дара. Толки
о его гомосексуальности большей частью прекратились после
его женитьбы, но, имея обыкновение напрашиваться на непри-
ятности, он вновь возбудил эти толки публикацией “Портрета
Дориана Грея” и “Портрета господина У. X.” Даже Лили Лэнгтри
высказалась тогда о нем неодобрительно. Он был пародийно изо-
бражен в 1881 г. в “Пейшенс”, в 1892 г. в “Поэте и марионетках” и,
наконец, в 1894 г. в “Зеленой гвоздике”. Подвергаясь обвинениям
в манерности, самодовольстве и женственности, он парировал их,
проявляя ум, благожелательность и такт. Даже Куинсберри под-
дался его чарам на час-другой.
Уайльд, похоже, недооценил шаткость своего положения. Он
был уверен в преданности mhoi их своих друзей из мира политики
и литературы. В обществе некоторых из них он считал осмотри-
тельность излишней. Так, он сказал однажды актрисе Эме Лаудер:
“Эме, будь вы юношей, я боготворил бы вас”. Присутствовавшая
при разговоре Эллен Терри наивно спросила: “Надеюсь, Оскар, вы
это не всерьез?” Воцарилась неловкая тишина, и Генри Ирвингу
пришлось попозднее объяснить ей, как обстоит дело. Что каса-
ется платной любви, отношение Уайльда к ней было обычным для
его круга. Он никак не предполагал, что его забавы с юношами
будут иметь последствия. За исключением Шелли, все они были
товаром, покупаемым за деньги. Они видели, что Уайльд с ними
щедр, и, вполне естественно, хотели заставить его расщедриться
еще больше. В своих отношениях с Дугласом Уайльд имел осно-
вания чувствовать себя добродетельным. Сексуальная близость
между ними давно уже сошла на нет, и он мог теперь считать, что
их связь — это попытка следовать греческому идеалу. Уайльд при-
нял некоторые меры к тому, чтобы обуздать Дугласовы излишества,
и уберег его от ряда неприятностей. Если кто и сыграл в жизни
Бози роковую роль, то, по ^мнению Уайльда, это были родители
Дугласа. Куинсберри с детства презирал Бози из-за его физиче-
ской слабости, а леди Куинсберри, желая уравновесить грубость
маркиза, баловала сына. Куинсберри, при всей своей любви к пра-
вилам, был человеком крайне своевольным.
Уайльд вряд ли предвидел результат своих действий, хотя ощу-
щение рока было свойственно ему с детства. Он верил не только
в свою счастливую звезду, но и в несчастливую. Его постепенно
проявлявшаяся натура поощряла в нем самом беспечность и пло-
дила дурные предчувствия. В поэме “Равенна”, ставшей его пер-
вым громким успехом, описан город, утративший былое величие.
В “Helas!” — вступительном стихотворении к своему сборнику—•
<26
он пророчески заявляет, что может лишиться наследия души .
Трагические темы пришли к нему раньше, чем комические. Для
автора, отвергающего самопожертвование, в пьесах Уайльда его
слишком много. Вера гибнет, спасая царя; Гвидо хочет у^мереть,
чтобы спасти герцогиню, но они умирают оба. Миссис Эрлин
приносит жертву ради дочери, а миссис Арбетнот — ради сына.
Счастливый Принц жертвует собой, чтобы облегчить участь бед-
ных. Самопожертвование смыкается с самоубийством. В “Дориане
Грее” убивают себя и главный герой, и Сибила Вэйн, хотя Дориан
делает это, так сказать, опосредованно. Уайльд достаточно хорошо
знал древнегреческую мифологию, чтобы понимать, что превыше-
ние меры влечет за собой кару Немезиды.
Его иск против Куинсберри с обвинением в клевете завершил
собой длинную цепь юридических маневров. Уайльд консультиро-
вался с Хамфризом о возможности подать на маркиза в суд в мае
и в июле 1894 г. Куинсберри тоже советовался с юристами. Летом
1894 г. в его руках оказалось несколько любовных писем Уайльда
к Дугласу, самыми важными из которых были “Письмо с Гиацин-
том” (неясно, оригинал или копия) и письмо за март 1893 г., где
говорилось: “Ты — божественное создание, о котором я мечтаю,
воплощение изящества и красоты”. Уайльд выкупил у шантажи-
стов ряд писем, но не все. Поверенный Куинсберри сказал мар-
кизу, что письма как таковые не могут служить основанием для
выдвижения против Уайльда обвинения в содомии; поэтому была
взята на вооружение формулировка “выставляет себя как содомит”,
которая не влекла за собой необходимости доказывать реальное
совершение Уайльдом этого греха. Куинсберри мог использовать
в качестве козыря свои отцовские права. Совершенно не испы-
тывая к Дугласу отцовских чувств, он был его биологическим
отцом и постарался извлечь из этого факта максимум выгоды. Его
кровь кипела; он был твердо намерен заставить Уайльда попла-
титься. Вместе с тем он рассчитывал своим влиянием в высоких
кругах оградить сына от столкновения с правосудием. В памяти
Куинсберри были еще свежи такие удручающие события, как
смерть старшего сына, бывшего наследником его титула, и при-
знание недействительным его собственного брака. Он жаждал
сокрушить репутацию Уайльда, человека весьма известного, чтобы
восстановить во всем блеске свою репутацию, как сделал шекспи-
ровский принц Хел в “Генрихе IV”, победив Готспера.
Уайльд и Дуглас обсудили положение в течение первых недель
после их раздельного возвращения из Алжира. До сей поры они
уверяли других членов семьи Дугласа, в том числе Перси, теперь
старшего его брата, что Куинсберри заблуждается. Теперь Уайльд
убеждал Дугласа сказать брату правду, но Дуглас не хотел этого
S?-7
делать, ибо при всей своей беспечности смелостью не отличался.
Он предложил держаться прежней версии. Тем временем Уайльд
уже совсем перестал появляться дома. 28 января Констанс пришлось
обратиться к Россу, чтобы тот помог ей разыскать мужа, поскольку
она собиралась на месяц в Торки и ей нужны были деньги. 12 Марта
она все еще не знала адреса Уайльда. Три дня спустя она побла-
годарила Росса за то, что он его сообщил. Причина ее неведения
о местонахождении Оскара была проста — он ее избегал. i
Уайльд жил тогда в отеле “Эйвондейл” на Пикадилли. Дуглас
перебрался к нему и тут же накрутил неимоверный счет. Уайльд
явно нервничал. Куинсберри, правда, не пустили на премьеру
“Как важно быть серьезным”, и ему пришлось вместо публич-
ного скандала в переполненном зале довольствоваться тем, что
он оставил свой букет из овощей у служебного входа. Хамфриз,
у которого Уайльд вновь попросил совета, ответил 28 февраля,
что предпринять в связи с этим инцидентом ничего не может,
поскольку ни Александер, ни члены его труппы не расположены
давать показания. Дуглас между тем предложил Уайльду поселить
за свой счет в отеле некоего юношу, на что Уайльд ответил отказом.
Взбешенный Дуглас покинул “Эйвондейл” и обосновался с моло-
дым человеком в другом отеле. За этим последовала серия писем,
обвинявших Уайльда в малодушии.
Ловушка
... в ненавистнической войне между тобой и твоим
отцом я был одновременно и оружием и щитом
для каждого из вас.
Первое из этих писем пришло утром в четверг 28 февраля 1895 г.,
когда Уайльд собирался в клуб “Албемарл”, расположенный неда-
леко от отеля. Клуб оказался не более надежным убежищем от отца,
чем отель — от сына. Клубный швейцар Сидни Райт немедленно
передал Уайльду карточку, оставленную маркизом Куинсберри
десять дней назад. Слов, написанных на ней, Райт не разобрал —*
да их и мудрено было разобрать в точности, — но он понял, что
надпись оскорбительная, и на всякий случай проставил на обороте
время получения — 18 февраля, 4.30. Уайльд, по-видимому, про-
чел надпись так: “То Oscar Wilde, ponce and Somdomite” (“Оскару
Уайльду, сутенеру и сомдомиту1”). Его не позабавило аристокра-
1 Именно так — с буквой “м”.
528
тическое пренебрежение к орфографии; он расценил эту карточку
как письменное и публичное повторение атаки, ранее предпри-
нятой Куинсберри в доме на Тайт-стрит. В действительности
Куинсберри написал: “То Oscar Wilde posing Somdomite” (“Оскару
Уайльду, выставляющему себя сомдомиту”), а в суде он утвер-
ждал, что надпись гласила: “То Oscar Wilde posing as a Somdomite”
(“Оскару Уайльду, выставляющему себя как сомдомит”), поскольку
эту формулировку легче было защитить от обвинения в клевете.
Оставляя карточку, маркиз добивался личной встречи. Но своими
действиями он подстрекнул Уайльда к большему.
Для Уайльда карточка значила то, что Куинсберри, не сумев
вломиться на премьеру, теперь вламывается к нему в клуб. Уже
нечего было надеяться ограничить все рамками частной пере-
писки и разговоров в узком кругу. Получив от отца послание
не менее едкое, чем час назад он получил от сына, Уайльд, что
неудивительно, ощутил себя загнанным в угол. “Я почувство-
вал, что нахожусь между Калибаном и Спором”1, — написал он
позднее Альфреду Дугласу. Он вернулся в отель с намерением
бежать в Париж, как он уже однажды сделал. Но управляющий
отелем, узнав о его плане, заявил, что не отдаст ему багажа, пока он
не уплатит по счету. Уайльд, не располагавший требуемой суммой,
оказался в ловушке.
Все же он испытывал скорее досаду, нежели отчаяние. Надо
заставить Куинсберри прекратить наглые выпады. Он отпра-
вил Дугласу записку с просьбой прийти рано утром в пятницу;
Роберту Россу он написал подробнее:
Мой дорогой Бобби! После нашей встречи кое-что произошло.
Отец Бози оставил в моем клубе карточку с ужасной надписью.
Теперь я не вижу иного выхода, кроме как возбудить уголовное пре-
следование. Этот человек, похоже, погубил всю мою жизнь. Башня
из слоновой кости атакована низкой тварью. Жизнь моя выплеснута
в песок. Я не знаю, что делать. Если ты сможешь прийти сюда сегодня
в 11.30 вечера, пожалуйста, приходи. Я омрачаю твою жизнь, злоупо-
требляя твоей любовью и добротой. Я попросил Бози прийти ко мне
завтра. Всегда твой
ОСКАР.
Он написал также Джорджу Льюису, прося у него совета,
но Льюис напомнил ему, что он уже нанят маркизом Куинсберри.
1 Калибан — уродливый дикарь в драме Шекспира “Буря”. Спор —
фаворит римского императора Нерона.
529
Позднее Льюис говорил, что, будь он адвокатом Уайльда, он посо-
ветовал бы ему порвать полученную карточку и позабыть о не^.
Придя к Уайльду вечером того же дня, Росс стал уговаривать
его ничего не предпринимать; Уайльд упорствовал, и Росс пред-
ложил ему еще раз посоветоваться с Хамфризом. Уайльд согла-
сился, и наутро они с Дугласом отправились к адвокату. Дуглас
торжествовал: наконец-то его отец нанес письменное оскорбле-
ние, за которое его можно привлечь к ответственности. Энтузиазм
друга вызвал у Уайльда прилив сомнений, но напор Дугласа сметал
все преграды. “Чего мы боимся, то с нами и происходит”, — за-
явил он. Хамфриз со своей стороны проявил авантюризм, [сме-
шанный с наивностью. Он почуял эффектный процесс со своим
участием — столкновение в суде двух знаменитостей — и выска-
зался за подачу иска. На нем, несомненно, лежит доля вины за слу-
чившееся потом: ведь он не мог не знать, что Росс, направивший
к нему Уайльда, — гомосексуалист, и он видел, в каких близких
отношениях находятся Дуглас и Уайльд. Но он сделал вид, что
ничего не подозревает; он задал им рутинные вопросы и полу-
чил благопристойные ответы. Уайльд заметил впоследствии: “Мне
отвратительны воспоминания о наших нескончаемых визитах
к адвокату Хамфризу, когда в мертвенном свете унылой комнаты
ты и я со вдумчивыми минами вдумчиво лгали этому лысому юри-
сту, пока наконец меня от тоски не одолевала зевота”. Позднее
он назвал Хамфриза человеком, который “шумел, грозил и лгал”,
хотя лгал нс один Хамфриз. Росс предлагал Уайльду и Дугласу
открыться во всем Хамфризу и Перси, который им симпатизиро-
вал, но они отказались наотрез. Исходя из предпосылки о неви-
новности клиента, Хамфриз заявил, что иск против Куинсберри
непременно будет удовлетворен. Он был большим оптимистом.
Уайльд же, утратив к тому времени первоначальный запал, прибег
к последнему аргументу: нет денег. Но Бози был твердо настроен
не дать ему увильнуть. Он заявил, что его брат Перси и леди
Куинсберри охотно покроют судебные издержки. Перед лицом
всего клана Куинсберри Уайльд не нашел возможности для отсту-
пления. 1 марта в сопровождении Хамфриза и Дугласа, с белым
цветком в петлице он вышел из отеля и сел в пролетку, которая
отвезла их на Марлборо-стрит, в полицейский участок. Там он под
присягой заявил об оскорблении, нанесенном ему Куинсберри,
и на основании выписанного тут же ордера маркиз вскоре был
арестован и препровожден в полицейский суд участка Марлборо,
где ему предъявили обвинение в распространении клеветы, поро-
чащей честь Уайльда.
Уайльд пал жертвой не только отца и сына Куинсберри,
но и своего характера. Его отличала склонность к предательству
53°
самого себя, подобная той, какую он в “Humanitad” приписывал
человечеству в целом. Эта склонность, однако, имела свои гра-
ницы. Предательство самого себя в его представлении — процесс
волнообразный, с приливами и отливами. Роль жертвы — Себас-
тьяна, Марсия — была лишь одной из нескольких, в которых он
себя видел и к числу которых относились также, к примеру, роль
денди и роль апостола радости. В период заигрываний с католи-
цизмом он говорил, что хочет встретиться с кардиналом Ньюме-
ном, "чтобы погорячей обжечь себе пальцы”. Теперь он сам навлек
на себя позор и сам же устрашился происходящего, намереваясь
или полунамереваясь пойти в последний момент на попятную
Но век, в который он жил, оказался неожиданно цепким (как боль-
шинство веков), и Уайльд глазом не успел моргнуть, как лишился
возможности выбора. Бесчестье, которому он подвергся, было
сродни бесчестью его отца, также связанному с иском о защите
от клеветы, но превзошло его по своим масштабам; исполнилось
полуиспытываемое Уайльдом желание — убить успех, который
он любил. Не следует думать, что стремление разрушить предмет
любви — себя ли, другого ли человека — пришло к нему лишь после
его падения. В “Балладе Редингской тюрьмы”, как и в “Саломее”,
убийство любимого существа — акт преднамеренный, но в других
своих произведениях Уайльд, как и его герой лорд Артур Сэвил,
возлагает вину не на самого человека, а на судьбу. Мы по при-
роде своей враги самим себе, “предательские губы и преданная
ими жизнь”. Нас подсознательно манит то, чего сознание наше
страшится. Рисуясь и робея в одно и то же время, Уайльд нс мог
выбрать единую линию поведения.
Дело о клевете
Я подчинился^ я шел слепо, как вол идет на убой.
Начались юридические процедуры. Интересы Уайльда защищал
Хамфриз, а в роли поверенного Куинсберри в первый и послед-
ний раз выступил сэр Джордж Льюис, заявивший, что маркиз
докажет справедливость своих обвинений в адрес Уайльда. Поли-
цейский судья спросил Уайльда: “Верно ли, что вы драматург
и писатель?” Он дал претенциозный ответ: “Мне казалось, что
я в этом качестве хорошо известен”. — “Отвечайте на поставлен-
ные вам вопросы”, — осадил его блюститель закона. Не слишкохМ
многообещающее начало. Что касается Куинсберри, то на вопрос
полицейского судьи, не хочет ли он высказаться по существу
531
дела, маркиз ответил: “Я, ваша милость, скажу вот что. Я написал
это на карточке для того, чтобы вскрыть нарыв, поскольку иначе
другой возможности переведаться с мистером Уайльдом у м^ня
не было. Я хочу спасти сына и подтверждаю то, что написал”. Дело
было передано в суд.
Слушание отложили на восемь дней. 7 марта Уайльд в со-
провождении жены и Дугласа был на спектакле “Как важно быть
серьезным”. В глазах у миссис Уайльд стояли слезы1. Льюис сдер-
жал слово и, будучи другом Уайльда, не стал участвовать в про-
цессе; на судебном заседании 9 марта интересы Куинсберри уже
защищал барристер (адвокат высшего ранга) Эдвард Карсон, соу-
ченик Уайльда по дублинскому Тринити-колледжу, человек весьма
красноречивый и напористый1 2. Лишь год назад ставший барри-
стером, Карсон уже начал приобретать известность. Как пишет
биограф Карсона, Уайльд, узнав, что вести дело против него будет
именно он, сказал: “Надо же, меня будет допрашивать старина
Нед Карсон” — в том смысле, что теперь бояться нечего. Но Тра-
верс Хамфриз, приходившийся сыном поверенному Уайльда
Ч. О. Хамфризу, вспоминал такие слова Уайльда: “Можно не сом-
неваться, что он внесет в свою роль добавочную зловредность
старого друга”. Можно провести параллель с жесткостью Исаака
Батта в отношении Джейн Уайльд в давнем деле Мэри Траверс.
Ничто не сравнится с залом суда по эффективности, с какой он
уничтожает товарищеские чувства.
Карсон, отдадим ему должное, не сразу согласился принять
участие в процессе. Когда Чарлз Рассел, новый поверенный
Куинсберри, пригласил его вести дело, Карсон вначале отказался:
дескать, Уайльд — земляк (Карсон тоже был ирландцем) и бывший
однокашник. Он привел, впрочем, и другой довод, хотя первого
было достаточно: позиции Куинсберри выглядели не слишком
сильными. Рассел понял намек и принялся работать над усиле-
нием позиций, не обращаясь пока ни к какому другому барри-
стеру. Помощь явилась с неожиданной стороны. Чарлз Брукфилд
и Чарлз Хотри, извлекшие в свое время выгоду из деятельности
1 Вот выдержка из письма Констанс Уайльд к Мари Беллок Лаундс,
написанного в эти дни: “Мы оба были бы рады прийти и повидать
Вас и Вашу подругу; Оскар шлет Вам свою любовь; но, как Вы, воз-
можно, знаете из газет, у нас сейчас очень трудное время, и в настоя-
щий момент мы никуда не выходим”.
2 Реджи Тернер, который сам был молодым барристером, советовал
Уайльду сделать своими ведущими адвокатами Кларка и Карсона,
помощниками — Гилла и Мэтьюза. Но, поскольку Карсона и Гилла
уже нанял Куинсберри, Уайльду пришлось довольствоваться Мэтью-
зом, Кларком и Траверсом Хамфризом.
532
Уайльда (они играли в его пьесах и написали на него пародию
“Поэт и марионетки”), представили сведения о его юных налож-
никах. Тем временем по Лондону рыскали нанятые Куинсберри
частные детективы, и один из них (Литлджон) зашел в некое заве-
дение в Вест-Энде, которое полиция держала под наблюдением.
Он разговорился с проституткой, и та на вопрос, как идут дела,
ответила, что плохо, поскольку клиентов перебивают юноши,
с которыми водится Оскар Уайльд. Детектив стал выспрашивать
подробнее и получил ответ: “Поднимитесь на верхний этаж
в доме № 13 по Литл-колледж-стрит, и там вы узнаете все, что вам
нужно”. Он отправился по указанному адресу; войдя в дом, оттол-
кнул старуху консьержку, пытавшуюся его не пустить. Он попал
в квартиру Альфреда Тейлора. Там было некое подобие почто-
вого ящика, где содержались фамилии и адреса молодых людей,
знавшихся с Уайльдом. Так Литлджон вышел на Уильяма Аллена
и Роберта Клибборна, скрывавшихся в приморском городке Брод-
стерзе, а чуть позже — на Вуда, Уолтера Грейнджера, Альфонсо
Гарольда Конуэя и других. Согласно дневнику Джорджа Айвза,
молодых людей принудительно держали в частном доме и запуги-
вали, добиваясь от них показаний против Уайльда.
Вооружившись полученными от них сведениями и кое-
какими другими зацепками, Рассел вновь принялся уговаривать
Карсона взять дело. Карсон заколебался: улик было много, и улик
красноречивых; он предвидел победу. Протестантская мораль
стала теснить товарищескую щепетильность. Он спросил совета
у лорда Хейлсбери, бывшего лорда-канцлера, и тот стал убеждать
его не отказываться. В итоге Карсон дал согласие. Что касается
Уайльда и Дугласа, они пока чувствовали себя сравнительно спо-
койно, не подозревая о новых уликах, которыми располагала про-
тивная сторона. Дуглас даже сумел уговорить Уайльда свозить его
в Монте-Карло, где вопреки своим же словам о том, что Уайльд
излечил его от азартных игр, он не отходил от игорных столов,
пока Уайльд сидел в тревожном одиночестве. Они провели там
неделю или больше начиная с 13 марта. Газета “Обзервер” писала,
что их изгнали из отеля, в котором они жили в Монте-Карло,
по требованию других постояльцев. По возвращении в Лондон
они обсудили положение с Хамфризом, который порекомендо-
вал им найти солидного свидетеля, готового подтвердить, что
‘Дориан Грей” не является безнравственной книгой. Следуя его
совету, Уайльд отправился к Фрэнку Харрису (вероятно, в субботу
23 марта). Тот оказался настоящим другом и согласился дать тре-
буемые показания. Однако затем он стал расспрашивать Уайльда
о ходе дела, и Уайльд рассказал ему, что противная сторона наме-
рена использовать в качестве улик не только его литературные
533
труды, но и некоторые его письма к Дугласу, попавшие в руки
Куинсберри, несмотря на все старания Уайльда выкупить их у шан-
тажистов. Услышанного Харрису было вполне достаточно. Он ска-
зал Уайльду, что суд в любом случае решит не в его пользу. Ника-
кой состав присяжных не осудит отца, вставшего на защиту сына,
а письма покажут, что Дуглас нуждался в защите. “Вы непременно
проиграете, — предупредил его Харрис, — у вас нет ни малейшего
шанса, а проигравших англичане презирают — vae victis!1 Только
рук на себя не накладывайте’’. Его слова встревожили Уайльда,
и он сохласился еще раз встретиться с ХаррисохМ вечером в вос-
кресенье. За день Харрис собрал мнения разных людей, включая
сотрудников генеральной прокуратуры. Подавляющее большин-
ство было настроено против Уайльда; обвинение, брошенное ему
Куинсберри, почти все считали справедливым. Письма к Дугласу
и тот факт, что Уайльд платил шантажистам, должны были выйти
ему боком. Харрис сказал Уайльду, что, будучи передовым литера-
тором, он не должен отводить стрелки часов на полстолетия назад
и требовать, как встарь, законного удовлетворения.
Они уговорились вновь увидеться на следующий день в “Кафе-
руаяль”, где у Харриса уже была назначена встреча с авторами
“Сатердей ревью”, в том числе Бернардом Шоу. Уайльд спросил,
нельзя ли привести Дугласа, и Харрис не возражал. Пришел он,
однако, один. Шоу и Харрис еще сидели за ланчем. Шоу сказал,
что готов уйти, но Уайльд удержал его. Уайльд попросил Хар-
риса сказать, считает ли он “Портрет Дориана Грея” произведе-
нием высокой литературы. Харрис отмахнулся от этого вопроса
как не имеющего отношения к делу. Вместо ответа он дал точное
предсказание исхода процесса. Если Уайльд не откажется от иска,
он непременно проиграет. Если откажется, он должен немедленно
уехать в Париж и взять с собой жену. В Лондоне ему оставаться
нельзя, поскольку Куинсберри не успокоится. Из Парижа он
мог бы отправить письмо в “Таймс”, написанное в его наилучшем
стиле, где будет сказано, что он потерял надежду на справедли-
вое судебное решение, поскольку Куинсберри удалось прослыть
хорошим отцом. Когда Харрис кончил, Шоу выразил согласие
с ним, и Уайльд, казалось, начал склоняться к отъезду. В этот
момент к их столу подошел Дуглас. Харрис повторил ему свои
доводы; тот слушал с нарастающим раздражением и наконец, как
вспоминает Харрис, “его бледное злобное личико исказилось,
и он крикнул: “Ваш совет показывает, что вы не друг Оскару!” —
“Как вас понимать?” — спросил Харрис, но Дуглас уже рванулся
к выходу из ресторана. К изумлению Харриса, настроение Уайльда
1 Горе побежденным! (лат.)
534
разительно переменилось. Он тоже встал: “Да, это не по-дружески,
Фрэнк, действительно не по-дружески”. — “Ну что за дичь!” —
воскликнул Харрис, но Уайльд повторил с подчеркнутым неудо-
вольствием: “Не по-дружески”. И этот светский лев двинулся, как
овечка, вслед за Дугласом к выходу.
Уайльд готовился к защите своих сочинений, включая письма
к Дугласу. Надо было, однако, миновать еще одну юридическую
стадию. Английский закон требует от ответчика по делу о клевете,
чтобы он до начала суда представил конкретное обоснование
своих обвинений в адрес истца. Куинсберри сделал это 30 марта.
1 или 2 апреля Хамфриз ознакомил с этим документом Уайльда
и Дугласа, и они нашли его устрашающим. Обоснование состо-
яло из пятнадцати пунктов, обвинявших Уайльда в актах содо-
мии, совершенных более чем с дюжиной молодых людей, десять
из которых были названы гю имени и фамилии:
1. Эдвард Шелли, между февралем и маем 1892 г.
2. Сидни Мейвор, в октябре 1892 г. (на суде показал, что Уайльд
не делал ничего противозаконного).
3. Фредди Аткинс, 20 ноября 1892 г. в Париже (его показания
были отклонены).
4. Морис Швабе, 22 ноября 1892 г. (показаний не давал).
5. Неназванные молодые люди, между 25 января и 5 февраля
1892 г. в Париже.
6. Альфред Вуд, в январе 1893 г.
7. Некий молодой человек, около 7 марта 1893 г. в отеле “Савой”.
8. Еще один молодой человек, 20 марта 1893 г. или около этой
даты в отеле “Савой”.
9. Чарлз Паркер, в марте и апреле 1893 г.
10. Эрнест Скарф, между октябрем 1893 г. и апрелем 1894 г.
(показаний не давал).
И. Герберт Танкард, в марте 1893 г. в отеле “Савой” (показаний
не давал).
12. Уолтер Грейнджер, в июне 1893 г. в Оксфорде, в июне, июле
и августе в Горинге.
13. Альфонсо Гарольд Конуэй, в августе—сентябре 1894 г. в Уэр-
тинге и около 27 сентября в Брайтоне.
В двух последующих пунктах речь шла об аморальности
“Дориана Грея” и афоризмов, напечатанных Уайльдом в журнале
“Хамелеон” в декабре 1894 г. Именно с этих пунктов Карсон решил
начать.
Хотя и Фрэнк Харрис, и прочие друзья Уайльда уговаривали
его отказаться от иска, Дуглас постоянно подзадоривал его и убе-
535
ждал не трусить. “Не могу — и все, — сказал Уайльд Харрису. —
А вы вашими мрачными предсказаниями только меня расстраива-
ете”. Художник Тулуз-Лотрек, который был в то время в Лондоне,
нашел Уайльда внешне уверенным в себе и услышал его презри-
тельные суждения о британском обществе. Его тирады и жалобы,
однако, выдавали внутреннее напряжение; позировать для пор-
трета он отказался. Идею мученичества он, возможно, принимал,
но мучеником явно предпочел бы не становиться. Поверенный,
возлюбленный и барристер поставили его в положение, из кото-
рого не было иного выхода, кроме добровольной эмиграции,
внушавшей ему отвращение. Что ж, если выбор именно таков —
лучше пострадать в Афинах, чем преуспеть в Фивах. Проигрывать,
так с музыкой.
Судебный процесс открылся 3 апреля 1895 г. в здании цен-
трального уголовного суда Олд-Бейли; вел его судья Р. Хенн Кол-
линз. В воздухе витало предвкушение грандиозной юридической
баталии, и посмотреть на приезд главных ее участников собра-
лась порядочная толпа. Уайльд подкатил в парной карете с лив-
рейными лакеями. Никому не улыбнувшись, он вошел в здание.
Маркиз Куинсберри, на котором вместо воротничка и галстука
был светло-голубой охотничий шарф, уже находился на месте.
Через десять минут после Уайльда явился Коллинз, и заседание
началось. Первым выступил сэр Эдвард Кларк, излагая позицию
обвинения. По словам Харриса, его безрадостное лицо, обрам-
ленное грозными бакенбардами, ассоциировалось с лицом дис-
сидентского пастора былых времен, хотя говорил он “негромко,
в непринужденной манере”. Выступление было не слишком удач-
ным. Кларк готовился к нему, еще не зная о содержании обосно-
вания, представленного защитой; ознакомившись с этим докумен-
том, он всего-навсего вставил в начало своей речи новый пассаж.
Вопрос теперь стоял не только об ущербе для репутации Уайльда:
В обосновании, которое ответчик представил суду, речь идет
о вещах гораздо более серьезных. Ответчик заявляет, что его утвер-
ждение касательно мистера Оскара Уайльда соответствует действи-
тельности и что оно было сделано в интересах общественного блага;
в обосновании приведены конкретные пункты, которые якобы дока-
зывают справедливость данного утверждения. Обоснование еще
не прочитано вам, господа. Оно не обвиняет мистера Оскара Уайльда
в проступках, о которых я говорил, но содержит ряд новых обвине-
ний с упоминанием имен и фамилий некоторых лиц и утверждает
по поводу этих лиц, что мистер Уайльд подстрекал их к совершению
с ним противозаконных актов и что в отношении каждого из них он
виновен в непристойном поведении. Те, кто включил в обоснование
столь серьезные обвинения, берут на себя большую ответственность
и должны будут представить вам, господа, если это возможно, досто-
верные свидетельские показания или весомые улики, доказывающие,
что эти обвинения справедливы. Я могу понять, каким образом эти
утверждения приняли ту форму, в какой мы их читаем: ведь лица,
которые могут быть вызваны для дачи показаний, подкрепляющих
обвинения в адрес мистера Уайльда, неизбежно должны будут при-
знать в ходе допроса, что сами совершали тяжкие правонарушения.
Затем Кларк перешел к защите писем Уайльда к Дугласу (он
считал необходимым процитировать их до того, как это сделает
Карсон), романа “Портрет Дориана Грея” и афоризмов из “Хаме-
леона”. Кларк проявлял наивность, не понимая, что речь пойдет
не только о следах, оставляемых чернилами на бумаге, но и о пят-
нах иного рода. Его выступление было попыткой показать, что
Уайльд велеречив, но не порочен, что его словесная поросль не ядо-
вита. Однако все с нетерпением ждали, что скажет сам Уайльд.
Встав для дачи показаний, он заявил: “Я — истец в этом про-
цессе”, хотя уже было ясно, что фактически он превратился в обви-
няемого. “Мне тридцать девять лет”, — сказал он. Карсон, его
однокашник по Тринити-колледжу, которому был сорок один год,
взял эти слова на заметку. Рассказ Уайльда о том, как Вуд, Аллен
и Клибборн шантажировали его, был построен весьма искусно:
Уайльд. ...С 3 ноября 1892 г. по март 1894 г. я не видел ответ-
чика, но в 1893 г. я узнал, что некоторые из писем, адресованных
мною лорду Альфреду Дугласу, попали в руки лиц определенного
сорта.
Кларк. Говорил ли вам кто-либо, что нашел ваши письма?
Уайльд. Да. Некто Вуд подошел ко мне на квартире у мистера
Альфреда Тейлора и сказал, что нашел письма в карманах костюма,
который лорд Альфред Дуглас ему отдал...
Кларк. Расскажите поподробнее.
Уа Й л Ь д. Он вошел в комнату и сказал: “Вы, наверное, обо мне
плохо думаете”. Я ответил: “Я слышал, что у вас находятся мои письма
к лорду Альфреду Дугласу. Разумеется, вам следовало их возвратить”.
Он протянул мне три или четыре письма и сказал, что позавчера их
украл у него некто Аллен и, чтобы вернуть их, ему пришлось обра-
титься к частному детективу. Я взглянул на письма и сказал, что в них
нет ничего существенного. Он сказал: “Я боюсь оставаться в Лон-
доне, потому что этот человек и его дружки мне угрожают. Мне
нужны деньги, чтобы уехать в Америку”. Я спросил, уверен ли он,
что в Америке легче будет устроиться клерком, чем в Англии, и он
ответил, что ему нужно уехать из Лондона, чтобы избавиться от чело-
537
века, укравшего у него письма. Он очень настойчиво меня упрашивал.
Он сказал, что не может в Лондоне найти работу. Я дал ему 15 фунтов.
Пока мы разговаривали, письма были у меня в руках.
Кларк. Приходил ли к вам кто-либо вскоре после этого с дру-
гим письмом?
Уайльд. Ко мне пришел человек по фамилии Аллен и сказал,
что того письма, копия которого была послана мистеру Бирбому Три,
у него нет.
Кларк. Как протекал ваш разговор?
У А Й л Ь д. Я почувствовал, что он хочет получить от меня деньги,
и сказал ему: “Полагаю, вы пришли по поводу моего изысканного
письма лорду Альфреду Дугласу. Не будь вы так глупы, что послали
копию мистеру Бирбому Три, я с радостью заплатил бы вам за письмо
крупную сумму, потому что я считаю его произведением искусства”.
Он сказал мне: “Это письмо можно истолковать очень занятным
образом”. Я ответил: “Уголовным элементам искусство, как правило,
недоступно”. Он сказал: “Мне предлагали за письмо 60 фунтов”.
Я ответил на это: “Мой вам совет: пойдите к тому, кто вам предлагал
такие деньги, и продайте ему письмо за 60 фунтов. Лично я никогда
не получал такую большую сумму за столь краткое прозаическое про-
изведение, но я рад узнать, что в Англии есть человек, готовый отдать
60 фунтов за мое письмо”. Возможно, он был несколько обескуражен
моей манерой вести разговор; он сказал: “Его нет сейчас в городе”.
Я сказал в ответ: “Рано или поздно он вернется” — и еще раз посове-
товал ему получить свои 60 фунтов. Тогда он изменил тон и сказал,
что у него нет ни гроша за душой и что он много раз пытался со мной
встретиться. Я сказал, что проезд в кебе оплатить ему не могу, но пол-
соверена дам. Он взял у меня деньги и ушел.
Кларк. Было ли что-нибудь сказано о сонете?
Уа Й л ь д. Да. Я сказал ему: “Это письмо, представляющее собой
стихотворение в прозе, будет вскоре напечатано в форме сонета
в изысканном журнале. Я непременно пришлю вам экземпляр”.
Кларк. Действительно ли письмо легло в основу французского
стихотворения, опубликованного в журнале “Спирит лэмп”?
Уайльд. Да.
Кларк. Оно подписано “Пьер Луи”. Это что, псевдоним
вашего друга?
Уайльд. Да, его написал молодой, чрезвычайно даровитый
французский поэт и мой друг, который одно время жил в Англии.
Кларк. После этого Аллен ушел?
Уайльд. Да, но минут через пять явился Клибборн. Я вышел
к нему и сказал: “Я не могу больше тратить на это время”. Он вынул
из кармана письмо со словами: “Аллен просил меня вам вернуть”.
Я не взял письмо сразу, но вначале спросил: “Почему Аллен воз-
53§
вращает мне письмо?” Он ответил: “Он говорит, что вы обошлись
с ним по-доброму и что подоить вас все равно не удастся — вы сме-
етесь над нами, и только”. Я взял письмо и сказал: “Беру его у вас,
и поблагодарите от моего имени Аллена за проявленную им щепе-
тильность”. Взглянув на письмо, я увидел, что оно сильно испачкано.
Я сказал ему: “Это совершенно непростительно с вашей стороны. Вы
отнеслись к моему автографу без всякого почтения”. (Смех в зале.)
Он извинился и сказал, что письмо прошло через много рук. Я дал
ему за беспокойство полсоверена и сказал: “Боюсь, вы ведете никуда
не годную жизнь”. Он ответил: “В каждом из нас есть и хорошее,
и дурное”. Я назвал его прирожденным философом, и он ушел.
Хотя из показаний Уайльда явствует, что он уплатил шантажи-
стам более 15 фунтов, эпизод выглядел слишком смешным, чтобы
можно было принять его всерьез. Затем Уайльд перешел к описа-
нию визита лорда Куинсберри, которое он дал в более героиче-
ском ключе:
Уа Й л Ь д.... В конце июня 1894 г. в моем доме произошла встреча
между мною и лордом Куинсберри. Он явился ко мне без пригла-
шения примерно в четыре часа пополудни в сопровождении незна-
комого мне джентльмена. Разговор между нами произошел в моей
библиотеке. Лорд Куинсберри стоял у окна. Я подошел к камину,
и он сказал мне: “Сядьте”. Я сказал ему: “Я никому не разрешаю так
со мной разговаривать ни у меня дома, ни где-либо еще. Полагаю, вы
пришли извиниться за утверждения, которые вы сделали по поводу
меня и моей жены в письмах к вашему сыну. За подобное письмо
я имею полное право привлечь вас к суду”. Он сказал: “Письмо кон-
фиденциальное, я написал его собственному сыну”. Я сказал ему:
“Как вы смеете говорить мне такие вещи о вашем сыне и обо мне?” Он
заявил: “Вам обоим за ваше омерзительное поведение было велено
немедленно покинуть отель “Савой”. Я назвал это ложью. Он сказал:
“Вы сняли для него меблированную квартиру на Пикадилли”. Я воз-
разил: “Кто-то нарассказал вам нелепых небылиц о вашем сыне и обо
мне. Ничего подобного я не делал”. Он сказал: “Мне известно, что вас
хорошенько обработали шантажисты из-за мерзкого письма, которое
вы написали моему сыну”. Я сказал: “Письмо, написанное ему мною,
я считаю прекрасным, и я никогда не пишу ничего, что не было бы
пригодно для печати”. После этого я спросил: “Лорд Куинсберри, вы
всерьез обвиняете вашего сына и меня в неподобающем поведении?”
Он ответил: “Я не утверждаю, что это так, но выглядит это именно
так”. (Смех в зале.)
Судья Коллинз. Если я еще раз услышу хоть малейший шум,
я прикажу очистить зал.
539
Уайльд (продолжает передавать слова лорда Куинсберри).
“Выглядит это именно так, и вы выставляете себя в этом качестве, что
ничуть не лучше. Попадитесь только мне в ресторане в обществе
моего сына! Я тогда вас высеку”. Я сказал на это: “Не знаю, в чем
состоят правила Куинсберри, но правило Оскара Уайльда — стрелять
без предупреждения”. После этого я потребовал от лорда Куинсберри,
чтобы он покинул мой дом. Он отказался. Я пригрозил выставить
его с помощью полиции. Он сказал: “Это отвратительный скандал”.
Я сказал ему: “Зачинщик скандала — вы, и никто другой”. Затем
я вышел в холл и показал на него моему слуге со словами: “Это мар-
киз Куинсберри, самый отвратительный негодяй Лондона. Никогда
больше не пускайте его в мой дом”.
Допрашивает защита
Чужие грехи были отнесены на мой счет.
Пришла очередь Карсона задавать Уайльду вопросы. Ведение им
этого дела заслужило много похвал, и это неудивительно — ведь
профессионалов восхищает в коллеге мастерство и не смущает
вероломство. Правда, Карсон располагал таким количеством
красноречивых улик, что для победы ему не нужно было много
ума — хватило простой настойчивости. Если ему и трудно было
тягаться с Уайльдом в литературных вопросах, он имел полную
возможность поставить под сомнение значимость уайльдовских
суждений и перейти к внелитературным обвинениям. Он удачно
начал, заставив Уайльда признать, что ему не тридцать восемь лет,
как сказал сэр Эдвард Кларк, и не тридцать девять, как заявил он
сам, а сорок. Тем самым Карсон не только уличил Уайльда во лжи,
но и подчеркнул разницу в возрасте между ним и Альфредом
Дугласом, которому было двадцать четыре. Затем Карсон при-
нялся задавать Уайльду вопросы, имеющие целью продемонстри-
ровать гомосексуальную ориентацию журнала “Хамелеон”. Там
было опубликовано стихотворение Дугласа “Две любви”, одна
из которых была гетеросексуальной, другая — гомосексуальной.
“Не кажется ли вам, что здесь налицо непристойный намек?” —’
спросил Карсон. “Совершенно не кажется”, — ответил Уайльд
и назвал стихотворение прекрасным. Перейдя к рассказу “Свя-
щенник и аколит”, Карсон выразил подозрение в том, что Уайльд
одобрил эту вещь и санкционировал ее публикацию. Уайльд отри-
цал и то и другое.
В ходе допроса стало ясно, что Уайльд решил отвечать на вопросы
Карсона с надменной небрежностью. Вместо того чтобы отста-
ивать свою теорию искусства как благородного начала, расширя-
ющего и улучшающего жизнь, он представил себя аморальным
художником, презирающим пошлую нравственность толпы. Со-
гласно воспоминаниям Ральфа Ходжсона, в начале допроса Карсон
прочел кусок из “Дориана Грея” и резко спросил: “Это вы напи-
сали?” Уайльд ответил, что да, он имеет честь быть автором. Кар-
сон с презрительной усмешкой положил книгу и принялся листать
свои бумаги. Уайльд, казалось, был погружен в раздумья. Найдя
нужную страницу, Карсон прочел стихотворный отрывок, вклю-
ченный Уайльдом в одну из его статей. “Это, я полагаю, тоже напи-
сали вы?” Уайльд дождался гробового молчания в зале и тишайшим
голосом ответил: “Нет-нет, мистер Карсон. Эти строки принад-
лежат Шекспиру”. Карсон побагровел. Он извлек из своих бумаг
еще один стихотворный фрагмент. “Это, вероятно, тоже Шекспир,
мистер Уайльд?” — “В вашем чтении от него мало что осталось,
мистер Карсон”, — сказал Оскар. Зрители захохотали, и судья
пригрозил, что прикажет очистить зал. Уайльд демонстративно
повернулся к Карсону спиной, сложил руки на груди и устремил
задумчивый взгляд в потолок. Это было эффектно проделано. Кар-
сон громовым голосом потребовал, чтобы он вел себя пристойно,
и воззвал к судье: “Милорд, милорд!” Уайльд вглядывался в пустоту
еще целую минуту; внезапно он повернулся, словно только что
услышал Карсона, и произнес извиняющимся тоном: “Прошу
прощения, мистер Карсон; нижайше прошу прощения”. Когда
Карсон заявил, что “Дориан Грей” — извращенная книга, Уайльд
ответил: “Так воспринимать ее могут только неотесанные невежды.
Обыватели непроходимо глупы в своих суждениях об искусстве”.
Подобное высокомерие не повышало его шансов, и Карсон заста-
вил Уайльда проявить его еще раз:
Карсон. Не может ли привязанность и любовь художника
к Дориану Грею натолкнуть обыкновенного человека на мысль, что
художник испытывает к нему влечение определенного сорта?
Уайльд. Мысли обыкновенных людей мне неизвестны.
Карсон. Бывало ли так, что вы сами безумно восхищались
молодым человеком?
Уайльд. Безумно — никогда. Я предпочитаю любовь — это
более высокое чувство.
КАРСОН. Не будем забираться так высоко. Прошу вас не откло-
няться от темы.
Уайльд. Я никогда не восхищался никем, кроме себя самого.
(Громкий смех в зале.)
541
Карсон. Но ведь вы, вероятно, считаете, что восхищаться
молодым человеком — это прекрасно?
Уайльд. Вовсе нет.
Карсон. Значит, вы никогда не испытывали подобного чув-
ства?
Уайльд. Никогда. Должен вам признаться, что я позаимство-
вал эту идею из шекспировских сонетов.
Карсон. Насколько я знаю, в одном из ваших произведений
вы доказываете, что в сонетах Шекспира имеются намеки на противо-
естественный грех.
Уайльд. Напротив, в одном из моих произведений я дока-
зываю, что это не так. Я возразил против приписывания Шекспиру
извращенных чувств.
Литературоведение было не той областью, где Карсон мог
припереть оппонента к стенке, и барристер перешел к связям
Уайльда. Отвечая ранее на вопросы Кларка, Уайльд отверг все
обвинения в свой адрес, связанные с содомией. Но теперь Кар-
сон привел обширный список молодых людей с многообразными
подробностями встреч, создававший представление о постоянных
контактах Уайльда с бездомными бездельниками (так Карсон назы-
вал этих юношей), и это произвело нужное Карсону впечатление.
Защита потрудилась на славу, и Карсон мог теперь нанизывать
эпизод за эпизодом. Для начала — те же Вуд, Аллен и Клибборн,
чьи отношения с Уайльдом не ограничивались шантажом. Уайльд
любил говорить о том, какое удовольствие доставляют ему “пиры
с пантерами”, но этих трех пантер люди Куинсберри приручили,
и ради того, чтобы остаться на свободе, они готовы были сказать
что угодно. И если они приписывали Уайльду то, чем занимался
с ними Дуглас, — что ж, тем лучше.
Карсон все глубже всаживал в Уайльда клыки, и Кларк понял,
что ему надо что-то предпринимать. До сей поры он не пускал
в ход писем Куинсберри сыну и бывшей жене, но теперь он прочел
их вслух. Они показывали, что Куинсберри был вне себя от гнева,
хотя гнев этот можно было при желании истолковать как правед-
ный гнев отца. 1 апреля 1894 г. Куинсберри отчитал сына за без-
делье и за отношения с Уайльдом. В следующем письме, написан-
ном в ответ на телеграмму Дугласа (“Какой ты нелепый маленький
человечек”), Куинсберри пригрозил “взгреть” Дугласа и учинить
публичный скандал, если он еще раз увидит его с Уайльдом. 6 июля
он писал своему бывшему тестю Альфреду Монтгомери, жалуясь
на поддержку, оказываемую Дугласу матерью: “Ваша дочь ведет
себя как сумасшедшая... Я теперь вполне уверен, что оскорбление,
которое нанесли мне через другого моего сына Розбери, Гладстон
54
и королева, — дело ее рук”. 21 августа, отвечая на язвительную
открытку сына, он написал среди прочего: “Ты просто гаденыш.
Ты не мой сын, я никогда не считал тебя своим сыном”. 28 авгу-
ста: “Жалкая ты тварь... Если ты все-таки мой сын, это лишний
раз доказывает, как прав я был, когда предпочел честно взглянуть
в лицо ужасу и несчастью, которые сам сотворил, тому, чтобы
и дальше производить на свет существа, подобные тебе, и это была
единственная причина моего разрыва с твоей матерью — настолько
недоволен я был ею как матерью моих детей, из которых ты хуже
всех, ведь я, когда ты был еще маленьким ребенком, плакал так,
как не плакал ни один мужчина, из-за того, что я невольно совер-
шил преступление, произведя на свет подобное существо. Если же
ты не мой сын — а в нашей ханжеской христианской стране вся-
кий отец должен смотреть в оба, чтобы знать, какой ребенок его,
а какой нет, и это неудивительно, если взглянуть на принципы,
которыми люди руководствуются, вступая в брак... Ты явно сума-
сшедший; ты унаследовал это по материнской линии”.
Эффект этих писем оказался иным, нежели рассчитывал Кларк.
Как пишет в биографии Карсона Э. Марджорибенкс, который,
должно быть, слышал это от самого Карсона, упоминание о Роз-
бери и Гладстоне, вызвавшее мгновенный отклик в иностранной
печати, сделало неизбежным привлечение Уайльда к суду после
окончания процесса Куинсберри, поскольку иначе могло создаться
впечатление, что эти политические деятели решили замять дело
во избежание неприятностей для себя лично.
В любом случае чтение этих писем не могло остановить без-
жалостного марша Карсона по списку предосудительных связей
Уайльда. Настала очередь братьев Паркер, из которых один был
слугой, другой — конюхом (Уайльд познакомился с ними через
Тейлора). На вопрос, знал ли он о роде их занятий, Уайльд ответил:
“Не знал, но для меня это не составляет ровно никакой разницы.
Мне совершенно не важно, как они зарабавтывают на жизнь. Они
мне понравились. Я имею слабость к тому, чтобы цивилизовать
общество”. Это прямо противоречило только что выраженному
Уайльдом презрению к читающей публике, и Карсон мгновенно
отреагировал, назвав “слугу и конюха” странной компанией для
писателя. Далее шел Фред Аткинс, которого Уайльд брал с собой
в Париж. Далее — Эрнест Скарф, с которым Уайльд сошелся
благодаря тому же Тейлору. Далее — Сидни Мейвор, с которым
Уайльд провел ночь в отеле “Албемарл”. На закуску Карсон прибе-
рег Уолтера Грейнджера, слугу в одном из домов на оксфордской
Хай-стрит, где у Дугласа была квартира. “Целовали ли вы его?” —
“Боже мой, нет, конечно. Он на удивление невзрачен. Можно даже
сказать — уродлив. Он возбуждал во мне жалость”.
543
Карсон. Вы не целовали его из-за его уродства?
Уайльд. Мистер Карсон, ваши вопросы грубы и оскорби-
тельны.
Карсон. Почему тогда вы упомянули о его уродстве?
Уа й л ь д . Вот по какой причине. Если бы меня спросили, почему
я не целую коврик для вытирания ног, я бы ответил: потому что мне
не нравится целовать коврики для вытирания ног. Я не знаю, почему
я упомянул о его уродстве, — возможно, я был выведен из себя наглым
вопросом, который вы мне задали, и тем, как вы оскорбляете меня
на протяжении всею разбирательства. Если мне не нравится целовать
кого-то или что-то, это не причина для того, чтобы подвергнуться
допросу.
Но Карсон не отступался, и в конце концов Уайльд сказал: "Вы
дерзите мне, оскорбляете меня и выводите меня из равновесия;
действительно, порой я отвечаю в легкомысленном тоне, хотя сле-
довало бы отвечать более серьезно Я готов это признать”. Кар-
сон спросил, совершал ли Уайльд акты содомии в отеле “Савой”.
Уайльд решительно это отрицал. Затем Карсон вернулся к Аткинсу
и Чарли Паркеру; он упомянул о разнообразных подарках, сделан-
ных Уайльдом этим и другим юношам. После этого он перешел
к Эдварду Шелли. Уайльд сказал, что не делал с ним ничего предо-
судительного, и Кларк, парируя обвинения, прочел письма Шелли
к Уайльду, где молодой человек просил его о помощи и выражал
восхищение его сочинениями. Напоследок Карсон задал ряд
вопросов, касающихся Конуэя и Вуда. Он прочел письма, кото-
рыми в 1894 г. обменивались Хамфриз и Куинсберри, и подчер-
кнул, что “высокопоставленные лица” — то есть Розбери, Тладстон
и королева Виктория — были упомянуты вне всякой связи с пра-
ктикуемой Уайльдом содомией. После этого Карсон выступил
с изложением позиции зашиты. В своей речи он сказал, что мар-
кизом Куинсберри неизменно владела “одна мысль — мысль о спа-
сении собственного сына”. Что касается Уайльда, он имел дело “с
самыми безнравственными личностями Лондона” — такими, как
Тейлор, “субъект с чрезвычайно дурной репутацией — об этом суду
расскажут представители полиции”. Карсон выразительно сопо-
ставил элитарное артистическое высокомерие Уайльда и его демо-
кратическое пристрастие к юношам из простонародья. Он заявил,
что литературных произведений Уайльда было бы вполне доста-
точно, чтобы обосновать обвинение, выдвинутое Куинсберри.
Но налицо также факт уплаты Уайльдом денег шантажисту Вуду>
который, оказывается, вернулся в Англию и готов дать показания.
Карсон не вменял Уайльду в вину никаких непристойных деяний
с Дугласом: “Боже упаси! Но все говорит о том, что, находясь под
)44
влиянием Уайльда — человека чрезвычайно даровитого, достиг-
шего больших успехов, — молодой человек подвергался немалой
опасности”. Выходило, что Куинсберри успешно защитил сына
от Уайльда. Карсон далее заявил, что готов представить суду моло-
дых людей, которые сообщат о совершенных Уайльдом “шокиру-
ющих поступках”. Конуэй, к примеру, расскажет о том, как Уайльд
появлялся с ним в приличном обществе, предварительно одев его
в дорогой костюм, чтобы несоответствие между ними не броса-
лось в глаза.
В этот момент сэр Эдвард Кларк потянул Карсона за край ман-
тии, и с разрешения судьи они вышли посовещаться. В то утро
уже состоялся разговор Уайльда, который в суде не присутство-
вал, с его поверенным Мэтьюзом. Мэтьюз сказал ему, что они
с Кларком готовы, если Уайльд хочет, затянуть слушание дела,
чтобы дать ему время уехать во Францию. Защита тогда получит
возможность допросить свидетелей. В противном случае Кларку
придется немедленно снять обвинение в клевете. “Я остаюсь”, —
сказал Уайльд. Кларк надеялся, что Карсон согласится на вердикт
“Невиновен” в отношении слова “выставляющему себя”, романа
“Портрет Дориана Грея” и афоризмов из “Хамелеона” (то есть
на вердикт, подтверждающий, что в этих произведениях Уайльд
выставляет себя как содомит). Тем самым будет обойден вопрос
о реальных актах содомии, о которых говорилось в официальном
обосновании, представленном ответчиком. На это Уайльд был
согласен, однако Карсон настаивал на подтверждении судом всего,
что содержалось в обосновании, то есть на признании правомер-
ности поступка Куинсберри, назвавшего Уайльда содомитом “ради
общественного блага”. Кларку пришлось уступить.
Судья рекомендовал присяжным вынести именно такое реше-
ние. Раздались аплодисменты, и судья Коллинз, как заметил Фрэнк
Харрис, не сделал попытки восстановить тишину — он просто
собрал свои бумаги и вышел. Он послал Карсону записку:
Дорогой Карсон! Никогда раньше мне не доводилось слышать
столь мощного выступления и столь дотошного допроса. Спасибо
Вам за то, что избавили нас от разгребания всей грязи.
Неизменно Ваш
Р. ХЕНН КОЛЛИНЗ.
Восход Карсона стал закатом Уайльда.
! 8 - 5556
Глава 18
Отсроченный рок
''Виновна я”. — "Пусть это скажет тот,
Кто не познал, что значит искушенье,
Кто не бродип, как мы с тобой бродили,
В огне страстей, чья жизнь бледна и скучна.
Да, если есть на свете человек,
Кто не любил ни разу, пусть в тебя
Он бросит камнем”1.
Колесо Фортуны
Плод созрел и готов был упасть. Если бы
Уайльда не свалил наземь Куинсберри, это, вполне
вероятно, сделал бы кто-нибудь еще. Бездумное
и не слишком тайное распутство, которому Уайльд
предавался совместно с безудержным Дугласом,
включало в себя немалое количество молодых людей; зачастую
Уайльд пользовался ими после Дугласа как объедками с его стола.
Любой из них мог причинить Уайльду неприятности. Это была,
как сказал Анри де Ренье, “хронологическая ошибка” Уайльда.
Живи он в Древней Греции, ему никто слова бы не сказал. Лето
1893 г., когда Дуглас, покинув Оксфорд без диплома, приехал
к Уайльду в Горинг, дает много примеров их совместных изли-
шеств. В “De Profundis” Уайльд припоминает Дугласу Горинг
с тем, чтобы упрекнуть его в трате 1340 фунтов — ошеломляющей
суммы — менее чем за лето. Однако он умалчивает о рискованной
затее, в которой участвовали они оба, — об умыкании Филипа
Дэнни. Этот эпизод неискренне прокомментировал Оскар Брау-
нинг: “Тогда я впервые узнал, что Оскар на это падок”.
Уайльду приходилось лавировать среди юных шантажи-
стов и разгневанных отцов. Опасность для него представляли
и столь же яростный, как маркиз Куинсберри, отец Эдварда
Шелли, работавшего в издательстве Джона Лейна, и отец школь-
ника Сидни Мейвора; можно вспомнить и негодование, которым
1 “1ёрцогиня Падуанская”. Перевод В. Брюсова.
546
воспылал в свое время отец Фрэнка Майлза. Уайльд летел по сужа-
ющейся орбите, и полет этот должен был закончиться столкно-
вением с законом. Только по самонадеянности, только благодаря
бездумности, с какой он погружался в круговорот событий, он
еще мог верить в то, что все образуется.
Разгневанные отцы, как правило, находились поодаль, а вот
юные шантажисты всегда были тут как тут, готовые продать кого
угодно — хоть себя, хоть Уайльда. Тридцати пяти фунтов (а не пят-
надцати, как он заявил), уплаченных им Вуду в 1893 г. в надежде
на то, что молодой человек уедет в Америку и там останется,
было конечно же недостаточно. Вуд зловеще писал из Америки
друзьям: “Скажите Оскару, пусть вышлет мне чек на пасхальное
яичко”. Банда, в которую входили Вуд, Аллен, Клибборн и дру-
гие, явно избрала Уайльда для продолжительного доения. Для них
это тоже было небезопасно; за шантаж наказывали строже, чем
за непристойное поведение. Люди, которые шли по такой тонкой
проволоке, притягивали к себе Уайльда. В особенности его восхи-
щали Клибборн и Аллен — восхищали тем, что вели “пресквер-
ную войну с жизнью”. Клибборн с удовольствием рассказывал
Уайльду о своих похождениях; в одном эпизоде, связанном с лор-
дом Юстоном, который был в числе главных участников скандала
в гомосексуальном борделе на Кливленд-стрит, Клибборн выказал
такую алчную цепкость, что ему, по словам Уайльда, надо было дать
за это орден “Крест Виктории”.
Клибборн продолжал откровенничать с Уайльдом даже в пред-
дверии судебного процесса. Однажды, согласно воспоминаниям
Джорджа Айвза, он рассказал ему о “кознях против него [Уайльда],
о том, что ему во вред пущены в ход угрозы, деньги и прочие сред-
ства”. Уайльд не выказал никакого беспокойства, но вдруг поднял
на Клибборна взгляд и задал ему вопрос, который, как видно, хотел
задать давно: “Боб, я вот о чем хочу тебя спросить: любил ли ты
хоть раз кого-нибудь просто так?” Клибборн ответил: “Нет, Оскар,
не могу такого припомнить”. Для Айвза это был пример мистиче-
ского поиска сути вещей — поиска, которого Уайльд не прекращал
даже на пороге краха. Его любопытство было менее мистическим,
когда он надумал познакомить “пантеру” (так он часто называл
Клибборна) с Айвзом, гордо величавшим себя “холодным дисци-
плинированным эллинистом”, и посмотреть, что из этого выйдет.
Встреча так и не состоялась.
Правда, риск, которому подвергался Уайльд, с трудом подда-
вался оценке. Общество мирилось со многим, что было незаконно,
и нередко делало это сознательно. Однако мириться с нарушением
закона — не значит одобрять это нарушение, и атмосфера в обще-
стве была подвержена изменениям. Уайльд с самого начала дога-
дывался о том, что дар обеспечивает ему лишь частичную защиту.
Но жизнь, в которую втягивал его Альфред Дуглас, включала
в себя беспечность как необходимый элемент. Воистину увлека-
тельно одновременно быть соперниками, сообщниками и любов-
никами! Совместное неблагоразумие романтически укрепляло их
союз. Умеренность и благопристойность была бы расценена как
предательство.
Ход событий вынес Уайльда за пределы эротических мечтаний
и поэтических излишеств. После оправдания Куинсберри Уайльд
пребывал в нерешительности — а другие между тем времени зря
не теряли. Согласившись с тем, что, назвав Уайльда содомитом,
Куинсберри поступил так ради общественного блага, Кларк сделал
процесс против Уайльда практически неизбежным. Чтобы исклю-
чить всякую случайность, поверенный Куинсберри Чарлз Рассел
спустя минуты после оправдания маркиза написал генеральному
прокурору Гамильтону Каффу:
Сэр! В интересах правосудия считаю своим долгом немедленно
выслать Вам копию всех показаний наших свидетелей, а также копию
стенограмм процесса.
Куинсберри, со своей стороны, предостерег Уайльда: "Я не буду
препятствовать Вашему бегству, но, если Вы осмелитесь взять
с собой моего сына, я застрелю Вас как собаку”. Давая интервью
французской газете, он добавил: "Но я не думаю, что его отпустят.
Этот процесс обошелся мне в 30 тысяч франков, но я ни о чем
не жалею, поскольку все, что я сделал, я сделал на благо моих сыно-
вей, ради чести моей семьи и общественной пользы”. Позднее он
заявил, что его слова исказили: на самом деле он якобы сказал, что
застрелил бы Уайльда как собаку, если бы имел такое намерение
и считал это целесообразным. Скорее всего, именно детективы
Куинсберри, а не сотрудники Скотленд-Ярда следили за переме-
щениями Уайльда.
А перемещения его были таковы: вначале он отправился к сво-
ему поверенному Хамфризу, затем — к сэру Джорджу Льюису. Тот
вскинул руки: "Что пользы приходить ко мне сейчас?” От Льюиса
Уайльд поехал в отель “Холборн вайедакт”. Его сопровождали Дуг-
лас с братом Перси и Роберт Росс; из отеля он отправил письмо
в редакцию "Ивнинг ньюс”:
Для того чтобы доказать свою правоту, мне необходимо было
привлечь лорда Альфреда Дугласа в качестве свидетеля против своего
отца. Лорд Альфред Дуглас дал бы свидетельские показания с преве-
ликой охотой, но я ему этого не позволил. Чтобы не подвергать его
548
столь болезненному испытанию, я решил прекратить судебный про-
цесс и возложить на свои плечи весь груз бесчестья и стыда, которые
могут быть порождены разбирательством моего иска против лорда
Куинсберри.
ОСКАР УАЙЛЬД.
Письмо звучит так, словно Уайльд полагал, что на этом все
может закончиться. После ланча он дал Россу чек на 200 фунтов,
чтобы тот получил по нему в банке наличные, а сам поехал в отель
“Кадоган”, где к нему присоединился Реджи Тернер. Дуглас жил
в этом отеле уже пять недель. Росс и Тернер принялись уговаривать
Уайльда отправиться поездом в Дувр, а оттуда морем во Францию;
но он, казалось, не был способен ни к какому решению. “Поздно.
Поезд уже ушел”, — сказал он. На самом деле у него еще была
возможность уехать, но желания ею воспользоваться он не выка-
зал. Дугласа в отеле не было — он пытался встретиться со своим
двоюродным братом Джорджем Уиндемом, членом парламента,
и заручиться поддержкой влиятельных друзей. Уайльд попросил
Росса повидаться с Констанс и сообщить ей о случившемся. Она
заплакала и сказала: “Надеюсь, Оскар уедет за границу”. В четыре
часа Джордж Уиндем приехал в отель, желая встретиться с Уайль-
дом, но тот, опасаясь, что завяжется перепалка, предоставил Россу
переговорить с ним. Уиндем принялся бранить Росса за то, что он
позволил Уайльду и Дугласу быть вместе, однако Росс обезоружил
его, сказав, что и он, и все прочие друзья Уайльда уже не один год
пытаются их разлучить. Уиндем изменил тон и предложил Россу
уговорить Уайльда немедленно покинуть страну. Пока они раз-
говаривали, ворвался Дуглас и увел Уиндема встречаться с кем-то,
кто мог оказать помощь.
В пять часов явился сочувственно настроенный репор-
тер из “Стар”; он сказал Россу, что ордер на арест Уайльда уже
выписан. Ради этого ранее (вскоре после полудня) Чарлз Рассел
деловито прибыл на Боу-стрит и убедил полицейского судью
сэра Джона Бриджа в необходимости взять Уайльда под стражу.
Росс сказал об этом Уайльду; тот сильно побледнел. До этого
момента он отказывался брать у Росса полученные им в банке
деньги, но теперь он попросил дать их ему, и Росс решил было,
что Уайльд все-таки надумал бежать. Однако Уайльд откинулся
на спинку кресла и сказал: “Я остаюсь, и пусть свершится приго-
вор, каков бы он ни был”.
На кровати лежал наполовину собранный чемодан — сим-
вол противоречивости его побуждений. Он устал от поступков.
Подобно Гамлету, как он его понимал, он хотел отстраниться
от своего бедствия, стать зрителем своей собственной траге-
Я9
дии. Отъезду препятствовали также его упрямство, мужество
и доблесть. Он никогда не уклонялся от боя ни с кем — ни с вра-
ждебно настроенными журналистами, ни с морализирующими
рецензентами, ни с лицемерно-гневно-праведными отцами.
Человеку, который придавал такое значение своему образу в гла-
зах других людей, претила роль беглеца, хоронящегося по темным
углам вместо того, чтобы блистать у всех на виду. Он предпо-
чел роль величественной жертвы, обреченной на муки судьбой
и жестокими законами неродной ему страны. Страдание, решил
он, более ему к лицу, чем смятение. В конце концов, писатели
и до него попадали в тюрьму — например, Каннингем Грэм
и Блант. Его ум, его дух сохранится там в целости, оставаясь выше
любых унижений, которым могут подвергнуть его тело недо-
стойные люди. И если он будет осужден, то, наряду с ним, будет
осужден и его век. Разоблачая его как педераста, обвинители тем
самым разоблачают и лицемерие его среды. Он ждал, вызывающе
инертный. В десять минут седьмого раздался ожидаемый стук
в дверь. Вошел коридорный с двумя детективами. “Мистер Уайльд,
у нас на руках ордер на ваш арест по обвинению в непристойном
поведении”. Уайльд спросил, отпустят ли его под залог; детективы
ответили, что им это неведомо. Когда он встал и нетвердой рукой
потянулся к своему пальто и книге в желтой обложке, стало ясно,
что он много выпил. Он попросил Росса раздобыть и привезти
ему комплект чистой одежды. “Куда вы меня везете?” — спросил
он. “На Боу-стрит”, — был ответ. Кеб тронулся. Эпоха Уайльда
кончилась.
Отчаяние и обезболивающие
У каждой великой любви есть своя трагедия;
у нашей теперь она тоже есть.
Росс, как велел ему Уайльд, поехал на Тайт-стрит. Но миссис
Уайльд дома не было; перед уходом она заперла двери спальни
и библиотеки. К счастью, Артур, слуга Уайльда, был на месте. Он
помог Россу сломать замок спальни и собрать необходимые вещи.
Однако на Боу-стрит Россу не разрешили ни встретиться с Уайль-
дом, ни передать ему одежду. Тут ему пришло в голову, что люди
Куинсберри или полицейские могут завладеть бумагами Уайльда,
и он поспешил обратно на Тайт-стрит. Вновь прибегнув к помощи
Артура, он вошел в библиотеку и взял некоторые письма и ру~
550
копией Уайльда. Двух последних его работ — “Флорентийской
трагедии” и расширенной версии “Портрета господина У.Х.”, воз-
вращенной ему несколькими днями раньше, — Росс найти не смог,
и это усугубило его уныние (обе рукописи, впрочем, сохрани-
лись). После всего этого Росс отправился к своей матери и, при-
ехав, в изнеможении слег.
Газеты не прошли мимо того факта, что Росс был с Уайльдом
в момент его ареста, вследствие чего Россу пришлось прекратить
свое членство в ряде клубов. Миссис Росс, естественно, сильно
встревожилась из-за сына и стала требовать, чтобы он уехал за гра-
ницу. Он воспротивился — ведь это значило бы бросить друга
в беде, — и тогда она предложила, если он немедленно уедет,
пожертвовать на судебную защиту Уайльда 500 фунтов. На этом
условии он согласился и, уехав во Францию, обосновался вначале
в привокзальном отеле Кале, а неделю спустя — в Руане. Реджи
Тернер и Морис Швабе также отправились за границу. Генри Хар-
ленд писал Эдмунду Госсу, что в одну ночь из Дувра в Кале пере-
правилось шестьсот человек, тогда как обычно переправлялось
около шестидесяти. Дуглас предпочел остаться, хотя, казалось бы,
он подвергался большей опасности, чем другие. Дело в том, что
его отец явно принял меры к тому, чтобы он не пострадал; ско-
рее всего, Куинсберри договорился об этом через Рассела с гене-
ральным прокурором. Из друзей Уайльда подчеркнуто верны ему
и готовы оказать помощь были Ада и Эрнест Леверсон и Роберт
Шерард. Но десятки других стушевались.
Уайльд оставил Дугласу записку, где сообщил, что будет
ночевать в полицейском участке на Боу-стрит, и попросил сне-
стись с его братом Перси и актерами Джорджем Александером
и Льюисом Уоллером, выступавшими в то время в пьесах Уай-
льда, с тем, чтобы они на следующее утро дали за него поручи-
тельство. Из троих согласился это сделать один Перси. Уайльд
также попросил Дугласа договориться с Хамфризом о юриди-
ческой защите. Вечером Дуглас приехал на Боу-стрит в надежде
повидаться с Уайльдом, но ему, как и Россу, было в этом отказано.
Впоследствии он, однако, приезжал на свидания с Уайльдом каж-
дый день. Что касается самого Уайльда, он поужинал куском холод-
ной курицы, выпил кофе, попросил разрешения курить, получил
в этом отказ и провел мучительную ночь.
“С каким грохотом это обрушилось!” — написал Уайльд Левер-
сонам 9 апреля. Это был крах, подобный падению Тимона Афин-
ского у Шекспира и Агамемнона в трагедии Эсхила, которой
Уайльд с давних лет восхищался, — но в более вульгарном вари-
анте. Его имя было удалено с афиш театров, где в то время при
большом наплыве публики шли “Идеальный муж” и “Как важно
551
быть серьезным”; вскоре, когда страсти по поводу дела Уайльда раз-
горелись вовсю, спектакли были сняты с репертуара. То же самое
произошло и в Нью-Йорке; актриса Роза Коул ан, собиравшаяся
показать “Женщину, не стоящую внимания” в ряде американских
городов, отменила гастроли. Не только английские друзья Уайльда
отвернулись от него; так поступило и большинство его друзей
во Франции. 13 апреля 1895 г. Жюль Юре в своей “Малой литера-
турной хронике” в “Фигаро литерер” назвал троих французских
писателей — Катюля Мендеса, Марселя Швоба и Жана Лоррена —
близкими друзьями Уайльда. Разразился страшный скандал. Швоб
хотел драться с Юре на дуэли и был чрезвычайно зол, когда узнал,
что его секунданты приняли извинение Юре. Лоррен написал
письмо, где отрицал близость с Уайльдом, и заставил Юре его опу-
бликовать; он забыл в нем упомянуть о том, что посвятил Уайльду
свой рассказ “Волшебный фонарь”, напечатанный в “Эко де Пари”
14 декабря 1891 г. А вот Катюля Мендеса не так легко было успоко-
ить. 17 апреля в три часа дня в Сен-Жерменском лесу у них с Юре
состоялась дуэль на шпагах. Пролилась кровь, но, как отметил ком-
ментатор газеты “Фигаро”, в количестве всего нескольких капель.
В “Эко де Пари” за 17 апреля Готье-Виллар (Уилли), муж писа-
тельницы Колетт, иронически прошелся насчет поведения Уай-
льда и вызванного им замешательства среди англичан; 20 апреля
Анри Бауэр высмеял Уилли за попытку представить гомосексуа-
лизм чисто английским пороком. “Я не намерен скрывать того,
что знал его и бывал у него”, — заявил Бауэр. Необычные при-
страстия Уайльда — не его, Бауэра, дело. Уайльд, по его мнению,
не причинил никому вреда. Дуглас “уже все-таки достиг того воз-
раста, когда люди выходят из дому без гувернантки и не спраши-
ваясь у отца”. Сочувственно написал об Уайльде и Октав Мирбо
в статье, озаглавленной “Кстати о hard labour1”. Что касается Сары
Бернар, то, когда Шерард попросил ее купить права на “Саломею”
за сумму от 1500 до 2000 долларов, которая пошла бы на покрытие
судебных издержек, она выразила сочувствие, пришла в сильное
возбуждение — и ничего не сделала.
Если Уайльд рассчитывал, что предварительные слушания,
начавшиеся 6 апреля, скоро закончатся, то он ошибался. Они
тянулись долго; между заседаниями проходило по нескольку дней.
Тем временем он находился под стражей на Боу-стрит, испытывая
физические страдания, не вступая в разговоры с другими заклю-
ченными, издавая сдавленный стон всякий раз, когда он пере-
ступал с ноги на ногу. Позднее его перевели в тюрьму Холлоуэй,
откуда возили на Боу-стрит на слушания. Он надеялся, что его
1 Каторжных работах (англ ).
отпустят под залог, и полицейский судья сэр Джон Бридж был
вправе так поступить. Однако он испытывал к содомии крайнее
отвращение. Как удивленно отмечали французские газеты, в Анг-
лия содомия считалась преступлением лишь чуть менее тяжким,
чем убийство. Хотя Хамфриз указывал на то, что Уайльд давно уже
мог бы покинуть страну, если бы хотел, Бридж упорно утверждал,
что серьезность обвинения делает освобождение под залог немы-
слимым1.
Второе слушание по делу Уайльда состоялось 11 апреля, тре-
тье — 18 апреля. 23 апреля большое жюри утвердило обвини-
тельные акты в отношении Уайльда и Альфреда Тейлора, чье
дело было объединено с делом Уайльда к огромной невыгоде
для него. Их обвиняли в непристойном поведении и содомии.
Между тем происходили различные события, увеличивавшие
напряжение вокруг процесса. 11 апреля некий владелец магазина
канцелярских товаров выставил на продажу фотографии Уайльда,
вследствие чего возникли беспорядки; вмешавшаяся полиция
запретила торговать снимками. 24 апреля произошла распро-
дажа имущества Уайльда в связи с его банкротством, вызванным
тем, что Куинсберри потребовал уплаты 600 фунтов судебных
издержек и другие кредиторы последовали его примеру. Дуглас
в свое время обещал, что его родственники покроют расходы
на процесс, но они этого не сделали. Уайльд переживал распро-
дажу очень тяжело: с молотка пошли не только его рукописи
и написанные им книги, но и дарственные экземпляры произве-
дений Гюго, Уитмена, Суинберна, Малларме, Морриса и Верлена,
рисунки Берн-Джонса и Уистлера, живописные работы Монти-
челли и Симеона Соломона, дорогой фарфор, письменный стол
Томаса Карлейля и масса других вещей. Лишь немногие из них
были куплены друзьями Уайльда. Распродажа не позволила рас-
платиться со всеми долгами, вследствие чего оставшееся имуще-
ство Уайльда пребывало в ведении официального управляющего
до той поры, пока Росс смог выкупить его (Уайльд к тому вре-
мени давно уже умер).
Во время тягостных слушаний интересы Уайльда представлял
сначала молодой Траверс Хамфриз, а затем сэр Эдвард Кларк,
вызвавшийся защищать его бесплатно. Обвинителем был Чарлз
Гилл (подобно Карсону, дублинец и выпускник Тринити-кол-
1 По случайному стечению обстоятельств именно в это время графиня
Рассел возбудила дело о разводе, мотивируя иск гомосексуальными
связями мужа; предположительно она пользовалась при этом сове-
тами сэра Эдварда Кларка. Одновременность усиливала интерес
к обоим процессам (графиня, впрочем, дело проиграла).
леджа, столь же предубежденный против Уайльда). Предприни-
мались попытки уговорить Тейлора стать свидетелем обвинения
и такой ценой избежать наказания, однако — возможно, в резуль-
тате какого-то разговора с Уайльдом перед его арестом — Тей-
лор не предал друга ни в чем. Суду была представлена длинная
вереница свидетелей, возглавляемая омерзительными братьями
Паркер, утверждавшими, что Тейлор нанял их для удовлетво-
рения желаний Уайльда1. Чарлз Паркер вначале заявил, что ему
девятнадцать лет, но в ходе допроса выяснилось, что на самом
деле ему двадцать один. Фактически ни одному из этих юнцов
не было меньше семнадцати лет, и все они были юридически
ответственны за свои деяния. Обитатели и хозяева дома, где жил
Тейлор, в своих показаниях отметили диковинные драпировки,
украшавшие его квартиру, и струившиеся оттуда ароматы; они
описали молодых людей, приходивших к нему на чай. Шанта-
жист Альфред Вуд рассказал, как он получил от Уайльда 35 фун-
тов в обмен на его письма к Дугласу, которые тот, отдавая Вуду
свою старую одежду, забыл вынуть из карманов. Сидни Мейвора
(которого чаще называли Дженни) угрозами заставили было
дать показания против Уайльда, однако Дуглас перехватил его
перед допросом и напомнил ему, что он ученик привилегиро-
ванной частной школы и не должен поступать бесчестно. Дуглас
потребовал, чтобы он отрицательно ответил на вопрос, была ли
у него связь с Уайльдом; когда юношу спросили, что произошло
за ночь, которую он провел в постели Уайльда, тот сказал, что
ничего.
Из отеля “Савой” на допрос вызвали “профессора массажа”
Антонио Мигге, который показал, что видел молодого человека,
спавшего в постели Уайльда, пока тот одевался. Горничная Джейн
Коттер также утверждала, что видела у него юношу. Миссис Пер-
кинс, бывшая экономка отеля, показала, что на постельном белье
Уайльда были фекальные пятна. По поводу Тейлора один из сви-
детелей заявил, что однажды он, одетый в женское платье, участво-
вал на правах невесты в “брачной церемонии”. Сэр Джон Бридж
чем больше слушал, тем сильнее свирепел и, когда его вновь спро-
сили о возможности выпустить Уайльда под залог, ответил, что
об этом не может быть и речи, поскольку худших преступлений,
чем совершенные Уайльдом, не существует на свете. После утвер-
ждения большим жюри обвинительного акта адвокаты Уайльда
подали ходатайство об отсрочке суда до майской сессии, чтобы
1 Из этих молодых людей двое впоследствии были осуждены. Роберт
Клибборн 11 марта 1898 г. получил семь лет за шантаж, а Уильям
Аллен в сентябре 1897 г. восемнадцать месяцев за скупку краденого.
554
защита получила достаточно времени для подготовки и возбужде-
ние в обществе спало. Однако обвинитель Гилл возражал, и судья
Чарлз, который должен был вести заседания, согласился начать суд
немедленно — 26 апреля, — пообещав, что разбирательство будет
беспристрастным.
19 апреля Дуглас послал письмо в “Стар”, где пожаловался,
что Уайльда осудили до начала суда. Из этого и последующих его
писем в органы печати ясно одно: он думал не столько о своем
друге, сколько о себе, и в “De Profundis” Уайльд горько пенял ему
за это: “В письмах ты попросту заявлял, что ненавидишь своего
отца. Но до этого никому не было дела”.
Однако за время процесса Уайльд не упрекнул Дугласа ни в чем.
Главным образом мысли его были заняты любовью Дугласа к нему
и его любовью к Дугласу. Почти ежедневные свидания значили
для него чрезвычайно много. Они длились всего-навсего по пят-
надцати минут, и вокруг стоял такой шум, что Уайльд, глуховатый
на одно ухо, с трудом разбирал слова Дугласа. 9 апреля он писал
Леверсонам: “Пишу Вам из тюрьмы, куда дошли до меня Ваши
добрые слова; они утешили меня, хотя и вызвали у меня, в моем
одиночестве, слезы. По-настоящему-то я здесь не одинок. Рядом
со мной всегда стоит некто стройный и золотоволосый, как ангел.
Его присутствие погружает меня в тень. Он движется в угрюмом
сумраке, словно белый цветок... Я думал только о том, чтобы
защитить его от отца; ни о чем другом я не помышлял, а теперь... ”
В тот же день он писал Россу и его близкому другу Мору Эйди
(искусствоведу и переводчику ибсеновского “Бранда”), которые
находились в Кале: “Бози — такое чудо. Он занимает все мои
мысли. Я виделся с ним вчера”. Аде Леверсон 17 апреля: “Что
до меня, я осенен крыльями великой любви; здесь земля святая”1.
Когда начало суда было уже близко, он признавался ей: “Мне
легче, когда я думаю, что он думает обо мне. В мыслях у меня —
только это”. Он написал Дугласу из тюрьмы несколько страстных
писем.
Но сэр Эдвард Кларк чувствовал, что появление Дугласа
на суде повредило бы интересам Уайльда, поскольку дало бы новую
почву подозрениям в развращении Уайльдом молодого человека.
Дуглас, со своей стороны, не хотел выступать в роли свидетеля
без четко выраженной письменной просьбы Уайльда об этом.
На последнем свидании, вспоминает Дуглас, “Уайльд поцеловал
кончик моего пальца сквозь железную решетку Ньюгейтской
тюрьмы и попросил меня не позволять ничему в мире изменить
мои чувства к нему и мое поведение по отношению к нему”.
1 Библейская аллюзия: Исх. 3: 5. (Примеч. перев.)
После чего Дуглас отправился в Кале, где в привокзальном отеле
его поджидали Росс и Тернер, оттуда — в Руан и Париж. Он ска-
зал газетчикам, что его поездка объясняется болезнью его матери,
находящейся в Италии, но несостоятельность этого предлога выя-
вилась достаточно быстро. 25 мая 1895 г. он признался репортеру
“Журналь”, что была опасность вызова его в суд как свидетеля
(скорее всего по требованию обвинения), а он давать показания
не хотел. Однако в “Автобиографии” Дуглас пишет, что на третий
день после начала процесса он послал сэру Эдварду Кларку теле-
грамму, которая содержала определенную информацию, наносив-
шую ему, Дугласу, ущерб, и вновь предложил выступить в качестве
свидетеля. Видимо, он взял на себя ответственность за все случаи
анальных половых сношений, которых у Уайльда действительно
не было. Поверенные ответили ему, что телеграмма неуместна
и непристойна, что ему не следует усложнять и без того сложную
задачу Кларка. 29 апреля, в последний день процесса, Уайльд писал
Дугласу:
Дорогой мой мальчик! Письмом этим заверяю тебя в моей бес-
смертной, вечной любви к тебе. Завтра все будет кончено. Если мне
суждены тюрьма и бесчестье, подумай о том, что моя любовь к тебе
и еще более блаженное, божественное ощущение твоей ответной
любви поддержат меня в моем несчастье и, надеюсь, сделают меня
способным терпеливо снести все невзгоды. Поскольку надежда — нет,
скорее даже уверенность во встрече с тобой в некоем ином мире —
дает мне цель и служит источником мужества в теперешнем моем
существовании, ах! я должен поэтому продолжать жить в здешнем
мире... Если когда-нибудь на Корфу или на каком-нибудь другом
зачарованном острове найдется маленький домик, где мы смогли бы
жить вместе, — о! жизнь там будет слаще, чем была когда-либо в про-
шлом. Твоя любовь сильна и ширококрыла, твоя любовь приходит
ко мне сквозь тюремные решетки и утешает меня, твоя любовь све-
тит мне во всякий час. Те, кто не знает, что такое любовь, напишут,
конечно, если судьба обернется против нас, что я дурно на тебя
влиял. Если они это сделают, ты должен будешь возвысить голос, ты
должен будешь написать, что это не так. Наша любовь всегда была
и прекрасна, и благородна, и если я оказался средоточием ужасной
трагедии, это произошло потому, что природа нашей любви не была
понята. В твоем письме, которое я получил сегодня утром, есть слова,
вселяющие в меня мужество. Я не должен их забывать. Ты пишешь,
что мой долг перед тобой и самим собой — жить, несмотря ни на что.
Я думаю, что ты прав. Я постараюсь, и я выдержу... Протягиваю тебе
обе руки. О! Дожить бы до того дня, когда я смогу коснуться твоих
волос и твоих ладоней.
Первый процесс Уайльда
Для художника лучшая форма правления —
отсутствие всякого правления.
Суд, начавшийся 26 апреля 1895 г., имел дело с теми же матери-
ями, что и процесс по делу Куинсберри и три предварительных
слушания на Боу-стрит; вероятно, никогда больше в девяностые
годы такое количество неаппетитных улик не предавалось такой
широкой гласности. Обвинитель настаивал на быстром разбира-
тельстве, в котором дела Тейлора и Уайльда были бы объединены
па том основании, что Тейлор, занимаясь сводничеством, постав-
лял Уайльду молодых людей. Поэтому среди прочих обвинений
фигурировали обвинения в преступном сговоре. Вопреки проте-
сту Кларка судья Артур Чарлз с этим согласился, но впоследст-
вии обвинение по собственной инициативе сняло пункты о пре-
ступном сговоре, после чего судья признался, что с самого начала
не видел должной связи между этими пунктами и всем прочим.
Тейлор, чьи показания, по словам Бирбома, звучали неубедительно
и которого столь же неубедительно защищал Дж. Т. Грин, был
важен противникам^ Уайльда не сам по себе, а как еще один камень
у него на шее. Рассматривая этот процесс в широком плане, можно
сказать, что судебная машина вела его с изрядной долей лицеме-
рия. Гомосексуализм был распространенным явлением в частных
привилегированных английских школах, где училось большин-
ство участвовавших в суде юристов и присяжных. Что еще важ-
нее, между Гиллом и поверенным Куинсберри Чарлзом Расселом
было явно заключено соглашение о том, чтобы как можно меньше
упоминать в связи с этим делом имя Альфреда Дугласа; в обмен
на это Куинсберри предоставил добытые им улики против Уайльда.
Кто свел Уайльда с Аткинсом и Мейвором — осталось тайной,
хотя раскрыть эту тайну было довольно легко. То, что ни один
из влиятельных деятелей, с которыми разговаривал Джордж Уин-
дем, не приложил усилий к предотвращению суда, объясняется
не только их нежеланием вмешиваться в отправление правосудия,
но и боязнью столкновения с Куинсберри. Оставалась и прежняя
трудность, связанная с тем, что в одном из писем Куинсберри
упоминалось имя Розбери. Джордж Айвз утверждает, однако, что
сам Розбери все-таки подумывал о том, чтобы помочь Уайльду,
но Бальфур его отговорил: “Если вы это сделаете — проиграете
выборы” (выборы он все равно проиграл). В общем, у каждого
нашлась причина, чтобы остаться в стороне. Что касается Фрэнка
Локвуда, заместителя генерального прокурора, есть данные о том,
что Карсон предлагал ему оставить Уайльда в покое, поскольку
557
он уже достаточно наказан. Локвуд якобы ответил, что не имеет
иного выбора, как продолжать то, что начал Карсон.
Уайльд похудел; волосы его были острижены короче обыч-
ного. Он был, по словам “Нью-Йорк тайме”, “измучен трево-
гой”. Его допрос не принес никаких неожиданностей. Он при-
знал, что знаком с молодыми людьми, давшими свидетельские
показания, но отрицал, что имел с ними непристойные отно-
шения. Как серьезное подтверждение выдвинутых против него
обвинений прозвучал допрос Эдварда Шелли — единственного
из этих юношей, кто не продавался за деньги. Показания, кото-
рые он выдавливал из себя с превеликим стеснением, были, правда,
несколько ослаблены его признанием в том, что временами он
бывал не вполне в своем уме, и тем обстоятельством, что он искал
дружбы Уайльда и просил его о помощи много позже его предпо-
лагаемоего совращения Уайльдом.
Допрашивая Уайльда, Гилл пошел по стопам Карсона и попы-
тался вменить ему в вину связь с “Хамелеоном”, напирая, однако,
уже не на рассказ “Священник и аколит”, а на два стихотворения
Дугласа, гомосексуальные по содержанию. “Что это за “любовь,
что таит свое имя”?” — поинтересовался он. После всех неправд,
отрицаний и уверток Уайльд внезапно обрел голос:
“Любовь, что таит свое имя” — это в нашем столетии такая же
величественная привязанность старшего мужчины к младшему, какую
Ионафан испытывал к Давиду, какую Платон положил в основу своей
философии, какую мы находим в сонетах Микеланджело и Шекспира.
Это все та же глубокая духовная страсть, отличающаяся чистотой
и совершенством. Ею продиктованы, ею наполнены как великие про-
изведения, подобные сонетам Шекспира и Микеланджело, так и мои
два письма, которые были вам прочитаны. В нашем столетии эту
любовь понимают превратно, настолько превратно, что воистину она
теперь вынуждена таить свое имя. Именно она, эта любовь, привела
меня туда, где я нахожусь сейчас. Она светла, она прекрасна, благород-
ством своим она превосходит все иные формы человеческой привязан-
ности. В ней нет ничего противоестественного. Она интеллектуальна,
и раз за разом она вспыхивает между старшим и младшим мужчинами,
из которых старший обладает развитым умом, а младший переполнен
радостью, ожиданием и волшебством лежащей впереди жизни. Так
и должно быть, но мир этого не понимает. Мир издевается над этой
привязанностью и порой ставит за нее человека к позорному столбу.
Этот крик души возымел определенное действие, хоть и не мог,
как заметил обвинитель, оправдать платную любовь, тем более что
сам Уайльд сказал, что подобное высокое чувство бывает у чело-
558
века раз в жизни. Это был единственный раз за весь процесс, когда
Уайльд говорил не остроумно, а просто хорошо. Макс Бирбом, при-
сутствовавший на суде, писал потом Реджи Тернеру: “Оскар был
великолепен. Его речь о любви, что таит свое имя, была прекрасна
и захватила весь зал; после нее раздался буквально шквал аплодис-
ментов. Вдруг этот человек, месяц проведший в тюрьме, несущий
тяжкий груз оскорблений, раздавленный и разбитый, предстал
во всеоружии самообладания и покорил Олд-Бейли своим благо-
родным видом и звучным голосом. Я уверен, он не знал еще такого
триумфа, как в тот миг, когда галерка разразилась неистовыми апло-
дисментами. Безусловно, эта речь подействовала и на присяжных”.
Оставшаяся часть допроса прошла для Уайльда менее удачно.
Ему вновь пришлось защищать свои письма к Дугласу. О показа-
ниях служащих отеля он сказал: “Это неправда от начала до конца.
Мало ли что они могут наговорить спустя годы после того, как
я покинул этот отель”. Он отрицал все утверждения о своем непо-
добающем поведении, содержавшиеся в показаниях Шелли, бра-
тьев Паркер, Аткинса и Вуда.
“Почему вы имели дело с этими юношами?” — “Я поклонник
юности”. (Смех в зале.)
“Вы поклоняетесь юности как некоему божеству?” — “Мне нра-
вится изучать юность во всем. В ней есть нечто чарующее”.
“Стало быть, вы щенков предпочитаете собакам, а котят — кош-
кам?” — “Думаю, да. Скажу больше: общество безбородого и безра-
ботного молодого барристера было бы мне не менее приятно, чем
общество самого заслуженного из юристов”. (Смех в зале.)
Сэр Эдвард Кларк на сей раз был подготовлен лучше. Он реши-
тельно отрицал обвинения в том, что “Портрет Дориана Грея”
и “Заветы молодому поколению” несут в себе разврат. Он указал
на то, что Уайльд не стал виновато прятаться от людских глаз, а сам
искал гласности, подав иск против лорда Куинсберри. Что касается
показаний служащих отеля — удивительно, что обвинение наскре-
бло их так мало, ведь Уайльд жил в отелях год за годом. В показаниях
братьев Паркер, Вуда и Аткинса большое количество лжи переме-
шано с некоторым количеством правды; именно так творится вся-
кая удачная фальсификация. Уайльд действительно ими увлекся, что
говорит о неблагоразумии — но не о преступлении. Они шантажи-
сты, и уже поэтому их показаниям нельзя доверять. Аткинс во время
допроса был недвусмысленно уличен во лжесвидетельстве. “Я прошу
присяжных, — сказал Кларк, — снять ужасающее пятно с репутации
559
одного из самых видных и заслуженных литераторов нынешнего дня
и, оправдав его, снять тем самым пятно вины перед ним со всего
общества”. Затем Грин предпринял вялую попытку защитить Тей-
лора. Гилл, в свою очередь, утверждал, что письма Уайльда к Дугласу
“дышат нездоровой страстью” и что многочисленные подарки Уай-
льда, передачу которых юношам он подтвердил на допросе, представ-
ляли собой плату за услуги. (Как отметил в дневнике Айвз, Уайльд
пострадал из-за своей щедрости, объектом которой были отнюдь
не только молодые люди.) Многие из этих юношей действительно
не были образцами честности, однако, заметил Гилл, есть еще пока-
зания Шелли, не замешанного ни в проституции, ни в шантаже.
В конце своего выступления Гилл отказался от обвинений в пре-
ступном сговоре. Теперь слово было за судьей. Судья Чарлз согла-
сился снять обвинения в преступном сговоре и вынести в этой
части оправдательный вердикт. Перейдя к литературным вопросам,
он показал себя человеком просвещенным. Он был склонен согла-
ситься с Кларком в том, что Уайльда нельзя привлечь к ответствен-
ности ни за “Портрет Дориана Грея”, ни, тем более, за напечатанные
в “Хамелеоне” произведения, принадлежащие не ему. Что до писем
к Дугласу, он, в отличие от Гилла, не считал, что они что-либо доказы-
вают. Он признал, что Шелли — человек с неустойчивой психикой.
Он нашел показания горничных и других служащих отеля “Савой”
не заслуживающими большого доверия. В отношении фекальных
пятен он указал на то, что они могут иметь и вполне невинное объ-
яснение. Судья, однако, не отверг полностью свидетельских показа-
ний, касающихся поведения Уайльда и Тейлора. Он поставил перед
присяжными четыре вопроса:
1) Считаете ли вы, что Уайльд совершил непристойные действия
в отношении Эдварда Шелли, Альфреда Вуда, а также неизвестного
лица или лиц в отеле “Савой” или же Чарлза Паркера?
2) Виновен ли Тейлор в сводничестве или попытке сводничества
в отношении этих действий или какой-либо их части?
3) Пытались ли Уайльд и Тейлор или кто-либо из них склонить
Аткинса к совершению непристойных действий?
4) Совершал ли Тейлор непристойные действия с Чарлзом Пар-
кером или Уильямом Паркером?
Присяжные совещались с 1.35 до 5.15 пополудни, после чего
сообщили, что смогли достичь согласия только в пункте, касаю-
щемся Аткинса; здесь их вердикт— “невиновны”. В “Эко де Пари”
за 4 мая говорится со ссылкой на одного из присяжных, не в меру
разоткровенничавшегося в “Пэлл-Мэлл-клубе”, что десять человек
голосовали за осуждение Уайльда и лишь двое — за оправдание;
)6о
по сведениям Макса Бирбома, голоса разделились в отношении
одиннадцать к одному, с чем соглашается и Альфред Дуглас. Бир-
бом писал Мору Эйди: “Хоскар, встав при объявлении вердикта,
стоял очень прямо и выглядел как величественный лев или сфинкс.
Мне было жаль бедного маленького Альфреда Тейлора — о его
существовании все забыли... Хоскар похудел, и поэтому на него
теперь приятней смотреть. Уилли [Уайльд] стрелял у Хамфриза
пятерки. Меня просто жуть брала, когда день за днем, выйдя из зда-
ния суда, приходилось проталкиваться сквозь скопление продаж-
ных субчиков (особенно хорош был младший Паркер в военной
форме, которая на нем выглядела как еще одна разновидность жен-
ского костюма). После дачи показаний они безнаказанно толпи-
лись у дверей и подмигивали потенциальным клиентам”.
Поскольку присяжные не смогли вынести вердикт, был назна-
чен новый суд. Судья вновь отказался выпустить Уайльда под залог,
но Кларк заявил, что будет добиваться разрешения у другого судьи.
Кларк также предложил, чтобы суд был отсрочен, но Гилл возразил,
сказав, что обычно в подобных случаях он проводится в течение
следующей сессии, и судья с этим согласился. Многие считали, что
в случае возобновления процесса “общественной морали будет
нанесен ущерб”. Т.М. Хили просил Локвуда не отдавать больше
Уайльда под суд, и тот сказал: “Я не стал бы, если бы не отврати-
тельные слухи насчет Розбери”. Готовился третий и последний акт
немыслимо затянувшегося фарса.
Между процессами
7е, кого сейчас называют преступниками, вовсе
таковыми не являются.
Лишенный общества своего возлюбленного Дугласа и своих бли-
жайших друзей Росса и Тернера (все трое уехали от греха подальше
и жили в руанском “Отеле де ла Пост”), покинутый большинством
прочих друзей1, Уайльд ощущал вокруг себя тени тюрьмы и в бук-
1 Джон Грей еще до вынесения приговора покинул Англию и отпра-
вился в Берлин, куда к нему вскоре приехал Раффалович. Грей, в про-
шлом друживший с Уайльдом, осенью 1895 г. выпустил 47-странич-
ную брошюру, озаглавленную “Дело Оскара Уайльда”, пытаясь тем
самым загладить свою вину перед осужденным. На время суда Грей
нанял барристера Фрэнсиса Мэтьюза, чтобы тот следил в его интере-
сах за ходом процесса, однако имя Грея ни разу упомянуто не было.
вальном, и в переносном смысле. До окончания второго процесса
оставалось двадцать пять дней. Первые пять из них он провел
в тюрьме Холлоуэй. Теперь не было никаких причин отказывать
ему в освобождении под залог, но судья Чарлз, видимо, хотел под-
черкнуть, что не испытывает сочувствия к педерастам, даже таким,
чья вина еще не доказана. Однако пока речь игла только о мелких
правонарушениях, а не об уголовно наказуемых деяниях, и подоб-
ная строгость была необоснованна. Два дня спустя — 3 мая —
Чарлз Мэтьюз вновь подал прошение об освобождении Уайльда
под залог до повторного суда, на этот раз вопрос рассматривал
у себя в кабинете другой судья — мистер Барон Поллок. Мэтьюз
предложил два отдельных поручительства на 1000 фунтов каждое.
4 мая Поллок установил залог в размере 5000 фунтов; сумма
уменьшалась вдвое в случае дачи Уайльдом подписки о невыезде.
На то, чтобы найти 2500 фунтов, ушло два дня. Фрэнк Харрис впо-
следствии утверждал, что он хотел стать поручителем, но не имел,
как выяснилось, на это права, поскольку не являлся домовладельцем.
Перси, брат Бози, не имел свободных денег, но из братских чувств
собрал половину требуемой суммы, рискуя навлечь на себя гнев
отца. С другой половиной дело обстояло труднее. Помог, по всей
видимости, Эрнест Леверсон; сам будучи лишен возможности
давать денежные поручительства за кого бы то ни было услови-
ями своего делового партнерства, он обратился сначала к Селвину
Имиджу, у которого денег не оказалось, а затем к его преподо-
бию Стюарту Хедламу, у которого они нашлись. Хедлам, которого
Уайльд в свое время окрестил “ересиархом”, был с ним мало зна-
ком (они виделись всего дважды), но он был человеком убежде-
ния и решительно отстаивал право Уайльда не быть осужденным
до суда. Будучи социалистохм и христианином неортодоксального
толка, он знал, что, давая поручительство, наносит дальнейший
ущерб своей репутации и, хуже того, его поступок истолкуют
как нарочитый вызов обществу. И действительно, от него ушла
служанка, с ним поссорились некоторые друзья, а один недруг
сказал, что по пути в Иерусалим он увяз в Готлорре. Но денеж-
ных потерь Хедлам мог не опасаться; в этом его заверил Леверсон,
и Уайльд подтвердил это, дав слово не скрываться от правосудия.
Итак, 1225 фунтов от Хедлама и столько же от Перси Дугласа
были налицо, что снимало все препятствия к освобождению под
залог. Слушание об этом состоялось 7 мая в полицейском участке
на Боу-стрит и завершилось выходом Уайльда на свободу.
Найти, куда податься, оказалось не так просто. Для него были
забронированы две комнаты в отеле “Мидленд” у вокзала Сент-
Панкрас, в стороне от его обычных пристанищ; однако в тот
момент, когда он садился там за поздний ужин, вошел управляю-
562
щий. “Вы — Оскар Уайльд, нс так ли?” — осведомился он. Уайльд
не стал этого отрицать. “Вы должны немедленно покинуть отель”.
Оказывается, некие молодчики, нанятые Куинсберри и проин-
структированные маркизом лично, угрожали управляющему боль-
шими неприятностями, если он примет Уайльда; когда бывший
арестант направился в другой отель, они последовали за ним. Там
повторилась та же история: он пробыл в отеле всего несколько
минут, после чего управляющий с извинениями сообщил гостю,
что некие личности грозятся устроить в отеле погром и подбить
уличную толпу на беспорядки, если Уайльд тотчас же не уедет.
Между тем время близилось к полуночи. Выбирать не приходи-
лось: надо было ехать на Оукли-стрит, 146, где жил его брат Уилли
со второй женой Лили Лиз. Не слишком приятно было проситься
к брату, с которым они уже полгода как не разговаривали, — мол,
Уилли, пусти меня, не то я сдохну на улице. Уилли позднее опи-
сывал эту сцену так: “Он стукнул клювом в мое оконное стекло
и рухнул ко мне на крыльцо, как подбитая птица”. Хороший повод
проявить великодушие,
Уилли предоставил брату комнату, где в маленьком закутке
между камином и стеной стояла складная кровать; там больной
Оскар несколько дней отлеживался. Узнав о его нездоровье, фран-
цузские друзья попросили Роберта Шерарда его навестить. Шерард
не преминул это сделать. Он увидел, что лицо Уайльда покрас-
нело и опухло. “Ну почему ты не привез мне яду из Парижа?” —
спросил Уайльд измученным голосом. Шерард предложил вывезти
его на поправку за город, но он не хотел никуда перемещаться.
Шерарду все же удалось несколько оживить его предложением
почитать ему из Вордсворта. В одном из сонетов Вордсворт зариф-
мовал “love” (“любовь”) с “shove” (“толчок”); Уайльд притворился
разгневанным и сурово призвал Шерарда к ответу за его знамени-
того предка: “Роберт, как это понимать?”
Вскоре стало ясно, что семейная обстановка на Оукли-стрит
отнюдь не уютна. Уилли принялся читать Оскару мораль. “Мои
пороки хотя бы пристойные”, — бормотал он в подпитии. Он
заявил брату, что отстаивал его честь по всему Лондону; Оскар
так прокомментировал эти слова одному из друзей: “Мой бед-
ный братец способен скомпрометировать даже паровую машину”.
“Уилли ставит себе в невесть какую заслугу то, что он меня при-
нял”, — сказал он Харрису и добавил, что, по словам Бирбома, его
брат продал Хамфризу его старые письма, то есть, по существу,
прибег к шантажу. Уилли, со своей стороны, объяснял падение
брата поэтически: “Он тщеславием своим навлек на себя бесче-
стье; ему курили фимиам, ему сердце одурманили фимиамом”.
И Уилли, и леди Уайльд считали, что Оскар непременно должен
03
остаться и пойти на суд. Уилли заверял гостей: “Оскар — ирланд-
ский джентльмен, он не из тех, кто показывает врагам спину”;
леди Уайльд в своей величественной манере заявила сыну: “Если
ты останешься, пусть даже тебя посадят в тюрьму, я всегда буду
тебе матерью. Но если уедешь — между нами все кончено”. Уайльд
пообещал остаться.
Мученичество было все ближе, но друзья упорно не хотели
позволить Уайльду стать мучеником. Перси, хоть он и был одним
из поручителей Уайльда, заявил: “Если я сейчас потеряю залог,
это, по существу, приведет меня к банкротству, и тем не менее,
если есть хоть малейшая вероятность тюрьмы, — бога ради, пусть
едет”. Шерард уговаривал Уайльда покинуть страну; но конкрет-
нее всех поставил этот вопрос Фрэнк Харрис. К неудовольствию
Уилли, он пригласил Уайльда на ланч; он предложил отправиться
в “Кафе-руаяль”, где так много было съедено и выпито в прошлом.
Однако Оскар счел это неудобным, и Харрис отвез его в ресто-
ран на Грейт-Портленд-стрит, где они заняли отдельный кабинет.
Харрис хотел укрепить позиции Уайльда перед новым процессом.
Он посоветовал Уайльду сказать, что ему нравится общество моло-
дых людей, потому что ему нравится писать о них. Уайльд ничего
не ответил и на суде не взял этот довод на вооружение. Харрис
назвал показания свидетелей нагромождением лжи; Уайльд объ-
яснил утверждения горничных из отеля “Савой” тем, что они
перепутали его номер с номером Дугласа. Харрис предложил
нарисовать план расположения номеров и заставить горничных
признать свою ошибку, однако Уайльд не хотел вовлекать Дугласа
в разбирательство. В любом случае, сказал он, имеются показания
Шелли, а они, по мнению судьи, неоспоримы. Харрис не согла-
сился: Шелли — соучастник, и потому его показания не могут
быть приняты во внимание без подкрепляющих улик, а таковых
не имеется. Неожиданно Уайльд проговорил: “Вы защищаете меня
так страстно, так убежденно, как если бы я был невиновен”. — “Но
ведь так оно и есть, — удивился Харрис, — разве нет?” — “Я вино-
вен, — сказал Уайльд. — Я думал, вы знали об этом с самого
начала”. — “Я не верил этому ни одной минуты”, — заявил Хар-
рис. “Теперь вы взглянете на все по-другому?” — спросил Уайльд,
но Харрис заверил его в обратном.
Он принялся развивать запасной план: Уайльд должен поки-
нуть страну. Недавно некий еврейский бизнесмен, с которым Хар-
рис был знаком, мимоходом упомянул о том, что у него есть яхта,
и Харрис спросил, нельзя ли взять ее напрокат на месяц. Владелец
ответил, что очень даже можно, и поинтересовался, зачем Харрису
яхта. Повинуясь импульсу, Харрис объяснил ему все без обиня-
ков, и яхтсмен сказал: “Тогда берите ее бесплатно”. Он тоже хотел,
564
чтобы Уайльд уехал. Теперь Харрис изложил свой план Уайльду.
Яхта, сказал он, находится в Эрите1, и отправиться можно хоть
сейчас. По поводу этой яхты многие высказывались скептически,
однако и Йейтс, и Ада Леверсон знали о плане Харриса, и яхта,
видимо, действительно существовала, пусть даже и не ждала
в Эрите под парами, как живописно сказал о ней Харрис. Так или
иначе, Уайльд плыть отказался.
Пока он жил на Оукли-стрит, его однажды пригласили на обед
Леверсоны; из разговора они поняли, что Уайльду у брата неуютно.
Они отважно пригласили его переехать к ним, и он согласился.
До того как он прибыл со своими пожитками, Леверсоны собрали
слуг и предложили месячное жалованье тем из них, кто не желает
находиться под одной крышей с человеком, о котором идет такая
дурная слава. Но все слуги сказали, что останутся с “бедным мисте-
ром Уайльдом” (так назвал его один из них), и примерно 18 мая
миссис Леверсон сама отправилась на Оукли-стрит, чтобы при-
везти его. Его новое местопребывание хранилось в секрете, чтобы
не узнал Куинсберри. Сын Леверсонов был в то время за городом,
и Уайльда поместили в детскую, состоявшую из двух больших ком-
нат и ванной. “Я уберу игрушки?” — предложила хозяйка, но он
ответил: “Нет, не убирайте”. В последующие дни он принимал
там поверенных и друзей среди лошадок-качалок и кукольных
домиков, сполна сознавая свое безденежье и бесчестье. Чтобы как
можно меньше обременять хозяев своим присутствием, он при-
нимал пищу наверху и спускался вниз только в шесть часов вечера.
Тогда он появлялся, одетый к обеду, с цветком в петлице, и гово-
рил с миссис Леверсон о чем угодно, только не о своих бедах.
Его старый парикмахер приходил к нему каждый день побрить его
и завить ему волосы.
Позднее миссис Леверсон припомнила некоторые из их бесед.
У Уайльда были весьма романтические идеи насчет абсента, и он так
описывал ей действие этого напитка: “После первой рюмки вещи
видятся такими, какими вы желаете их видеть. После второй —
такими, какими они отнюдь не являются. Напоследок вы видите
их такими, какие они есть, и это ужаснейшее зрелище на свете”. —
“Как вас понимать?” — “Вы видите их обособленными. Возымите,
к примеру, шляпу. Вам кажется, что вы видите ее такой, какая она
есть. Но это не так, потому что вы невольно связываете се с дру-
гими предметами и представлениями. Вот если бы вы увидели
шляпу впервые в жизни, причем саму по себе, вы либо испуга-
лись бы, либо расхохотались. Таково действие абсента, и неуди-
1 Эрит — пригород Лондона, расположенный на берегу Темзы. (При-
меч. перев.)
5^5
вительно, что он сводит людей с ума. Как-то раз, — продолжал
он, -— я просидел за абсентом три ночи кряду, и мне казалось, что
я в здравом уме и голова моя совершенно ясна. Рядом официант
принялся сбрызгивать водой опилки, которыми был посыпан пол.
Из них мигом выросли чудеснейшие цветы — тюльпаны, лилии,
розы, — и кафе стало благоуханным садом. “Смотрите, какие
цветы! ' — сказал я официанту. “Mais non, monsieur, il n’y a rien1”.
Теперь, увы, никакое зелье не помогло бы Уайльду превратить
окружающий мир в цветник. Он перешел к другим темам, главным
образом литературным. С давних пор испытывая нелюбовь к Дик-
кенсу, он именно в той беседе произнес свою знаменитую фразу:
“Воистину надо имезь каменное сердце, чтобы читать о смерти
маленькой Нелл без смеха’’. Потом стал вслух сочинять неблагоче-
стивые притчи, построенные как Жития святых» Одна из них так
понравилась ему самому, что он захотел ее записать, но у миссис
Леверсон не оказалось под рукой письменных принадлежностей.
“Вы. дорогой мой Сфинкс, наделены всем, что необходимо писа-
телю, — сказал он ей, — кроме перьев, чернил и бумаги”.
19 мая, когда Оскар Уайльд уже был у Леверсонов, на Оукли-
стрит явился Йейтс, желая его разыскать. Отец сказал ему, что он
непременно должен помочь Уайльду либо показаниями на суде
в его пользу, либо как-нибудь иначе, и Йейтс привез с собой
пачку ободряющих писем от ирландских литераторов, в том числе
от Джорджа Рассела (отказался написать такое письмо только про-
фессор Эдвард Дауден). Однако Уилли, встретивший гостя, заявил
ему: “Прежде чем я ему это передам, вы должны сказать мне, что
здесь содержится. Вы что, тоже советуете ему сбежать? Все его
друзья предлагают ему это, но мы считаем, что он должен будет
пойти в тюрьму, если так решит суд”. Йейтс на это ответил: “Нет,
я, безусловно, не посоветовал бы ему уехать”. И это была правда:
Йейтс считал, что для Уайльда настал великий час, когда он может
показать силу своего характера1 2. Йейтс написал Даудену о своем
визите:
Сегодня я пытался встретиться с Уайльдом, желая выразить ему
сочувствие в его беде. Однако он уже уехал из дома на Оукли-стрит,
а его новый адрес мне там сообщить отказались. В его распоряжении
были яхта и крупная сумма денег, все было подготовлено для его бег-
1 Нет, месье, там ничего нет (фр.).
2 В экземпляре книги Йейтса “Желанная страна”, который он в 1904 г.
подарил Джону Куинну, имеется его запись об Уайльде: “Он был
неоконченным наброском великого человека и, переживая крушение,
проявил великую отвагу и мужество”.
566
ства — но он решил остаться. Он говорит, что выдержит все, что готов
к самому худшему и что не намерен сдаваться, как бы ни повернулись
обстоятельства. Меня заверили, что он нс опустится, не начнет пить,
не примет яд. Я в ответ рассказал о сочувствии, которое проявили
к нему наши дублинские литераторы, встретившие мои слова про-
явлениями трогательной доброты и взявшие с меня обещание сооб-
щить им о его планах. Пишу Вам с тем. чтобы предложить Вам либо
обратиться с несколькими сочувственными словами к нему непосред-
ственно (Моррис уже ему написал), либо прислать мне ответ на это
письмо, который я затем попросил бы показать ему.
Другие, в отличие от Йейтса и Уилли, хотели спасти Уайльда
от тюрьмы, пусть это и испортило бы спектакль. Коне Ганс Уайльд,
придя однажды к Леверсоиам повидать мужа, провела с ним два
часа. Она принесла ему письмо от своего адвоката, где гот настоя-
тельно советовал ему уехать за границу до начала второго процесса,
который, несомненно, приведет к катастрофически.^ результатам.
Ушла она в слезах, а на его лице Ада Леверсон увидела "выраже-
ние непоколебимого упрямства”. Миссис Леверсон отважилась
послать ему наверх записку с просьбой прислушаться к совету
жены. Ответ последовал, лишь когда Уайльд спустился к обеду;
вернув ей ее записку, он сказал: "Это не похоже на вас, Сфинкс”,
после чего заговорил на другую тему.
Уайльд уже принял решение и не желал от него отступаться.
По мнению миссис Леверсон, виной его упрямству был успех,
до того вскруживший ему голову, что он возомнил себя неуязви-
мым; однако жизнь Уайльда вовсе не была сплошным триумфаль-
ным шествием. Можно вспомнить любовную неудачу с Флоренс
Болком, болезненный разрыв с Фрэнком Майлзом, провал ранних
пьес, нападки во время турне по Америке, длительные денежные
затруднения, выматывающую связь с Дугласом. Как Уайльд отме-
тил позже, во всех его произведениях сквозит скрытая печаль. И он
хорошо понимал, чем чреват был побег — хоть с громогласным
Харрисом, хоть без него. Сохранить достоинство было бы невоз-
можно. Его вполне могли бы задержать, а если бы даже не задер-
жали, ему пришлось бы воровски красться по Европе с клеймом
беглеца от британского правосудия. Но, как показала поездка
во Флоренцию, красться — это был не его стиль. Нет, остракизм
(о котором он в давнюю пору поспорил с Джеббом) — не для него.
Слова, написанные им Дугласу перед самым окончанием процесса,
отражали то, что он чувствовал все это время: "Я решил остаться:
так будет благороднее и красивее... Мне не хотелось, чтобы меня
называли трусом или дезертиром. Жить под чужим именем, изме-
нять свою внешность, таиться — все это не для меня”. Он выбрал
приговор, зная, что этот выбор одни ошибочно припишут его сла-
бости, другие — мании величия. Но он не был обусловлен ни тем
ни другим. Мог ли Уайльд предпочесть щипанье пакли царство-
ванию за обеденным столом? Конечно нет; но он понимал, что
из предложенных ему постыдных альтернатив эта наименее неге-
роична (в ней, помимо того, было больше скромности). Йейтс
был в восторге, когда, случайно встретив его на улице, некий
давний недоброжелатель Уайльда (возможно, Хенли) восхищенно
сказал ему об Уайльде: “Он превратил свой позор в новые Фер-
мопилы”. Сам Йейтс впоследствии писал: “Я ни одной минуты
не сомневался в том, что он принял правильное решение и что
этому решению он обязан половиной своей славы”. Уайльд под-
чинился обществу, которое он критиковал, и тем самым получил
право критиковать его дальше.
Героизм не был в доме Леверсонов каждодневной пищей.
Уайльд не становился в позу героя; он ограничивался тем, что
не позволял склонить себя к бегству, не приводя при этом каких-
либо конкретных доводов, и уж тем более доводов высокопарных.
По мере приближения суда в нем нарастала некая отрешенность.
Он сказал Шерарду, что год заключения он, пожалуй, смог бы
выдержать, но тот предостерегающе заметил, что ему грозит макси-
мальный срок — два года тюрьмы. Уайльд искал утешения в своей
любви к Дугласу и писал ему пламенные письма: “Ныне, в моей
тоске и боли, в горе и унижении я чувствую, что моя любовь к тебе
и твоя любовь ко мне — это два символа моей жизни, два божест-
венных знамения, которые делают всю горечь выносимой”. Дуглас
признал свою вину в случившемся (впоследствии он откажется ее
признавать), но Уайльд в ответ написал ему: “Нет, пусть судьба,
Немезида или несправедливые боги несут весь груз вины за то,
что произошло”. И вновь: “Моя прелестная роза, мой нежный
цветок, моя лилейная лилия, наверное, тюрьмой предстоит мне
проверить могущество любви. Мне предстоит узнать, смогу ли
я силой своей любви к тебе превратить горькую воду в сладкую”.
Эти письма отличались от тех формально-литературных посла-
ний, что были представлены Уайльдом суду с тем, чтобы доказать
безобидность своего отношения к Дугласу. Он не утратил былой
словесной щедрости: “Ни одно из Господних творений, Звезда
моя утренняя, не удостаивалось такого пылкого поклонения,
такого безумного обожания”. Сквозь звучные рулады пробивается
подлинное чувство. Много лет спустя Дуглас охлажденно заметил
в автобиографии: “Переживания, вызванные великим кризисом,
раздули гаснущие огни нашей взаимной привязанности”. Его
ответы уступали письмам Уайльда в красноречии, но были почти
такими же взволнованными. Он писал также своему брату, умоляя
<68
его заставить Уайльда уехать из Англии, пока это еще возможно.
Перси отвечал, что надеется на такое его решение. Из Парижа
Бози написал Уайльду: “Так ужасно быть здесь без тебя, но я на-
деюсь, что ты приедешь ко мне на следующей неделе. Не падай
духом, родной мой. Я по-прежнему думаю о тебе день и ночь, шлю
тебе всю мою любовь. Навсегда остаюсь твоим мальчиком, твоим
любящим и преданным БОЗИ”.
Дуглас испытывал в то время чрезвычайное душевное смяте-
ние. Он отправил в органы печати ряд писем, отличающихся раз-
личной степенью неосторожности. 19 апреля он написал в газету
“Стар”, жалуясь на предвзятое отношение к Уайльду и на явную
несправедливость к нему со стороны сэра Джона Бриджа. Но глав-
ная часть письма гласила:
Я чувствую поэтому, что сильно рискую, осмеливаясь возвы-
сить голос против своры, вознамерившейся ныне затравить мистера
Оскара Уайльда и погубить его; тем более что общество, как мне
совершенно ясно, готово взглянуть на происходящее, как оно до сих
пор смотрело на все и на всех в связи с этим делом, глазами мистера
Карсона. Я конечно же выгляжу неблагодарным сыном, который
в глупом своем высокомерии посмел огрызнуться на своего доброго
и любящего отца и который впоследствии усугубил свою вину тем,
что после беды, постигшей друга, не сбежал и не спрятался в кусты.
Уайльд, что вполне закономерно, уже тогда чувствовал, хотя
сказал об этом Дугласу только позже, что эти писания отличаются
пошлостью; можно было бы выразиться и сильнее, поскольку
из них явствует, что Дугласа главным образом интересовала соб-
ственная персона. Пять дней спустя за этим посланием последо-
вало другое, где говорилось, что Дуглас уже получил тысячи писем
в поддержку позиции, занятой им в отношении Уайльда. К 25 мая
до Дугласа добралась французская пресса; в этот день Жорж Докуа
опубликовал интервью с ним. Дуглас ранее заявлял, что уехал
из Англии (это произошло, как утверждает Раффалович, на вто-
рой день суда над Уайльдом) из-за болезни матери, находящейся
в Италии; однако газетчики выяснили, что здоровье ее в порядке.
Теперь он признал, что покинул страну потому, что адвокаты
Уайльда предупредили его о возможности быть вызванным в каче-
стве свидетеля, чего он, Дуглас, не хотел. Он приехал в Париж еще
15 мая и восемь дней избегал прессы. Отвечая на вопрос о своем
письме в газету “Тан”, он сказал: “Вы не знаете, какой маркиз
Куинсберри отвратительный человек... До двенадцатилетнего воз-
раста я видел его раз двадцать, не больше, и он обращался со мной
так, что я совершенно не был уверен, что он действительно мой
отец”. Репортер осторожно затронул тему его отношений с Уай-
льдом, и Дуглас в ответ заявил, что в этих отношениях нет ничего
земного, что это символический союз, а не что-то нечистое
(louche). Самым большим удовольствием в жизни было для него
сидеть с Уайльдом за обеденным столом, когда тот был “в хоро-
шей форме”. Ранее их объединяла дилетантская радость общения,
теперь их объединясь судебное преследование. 30 мая он напи-
сал другому французском} журналисту, что может назвать сотню
явных гомосексуалистов, принадлежащих к высшему английскому
обществу1.
1 Он высказывался чем далыле, тс.л откровенней. 12 июня он отправил
письмо в “Трусе” Генри Ла буш еру, пытаясь в нем оправдать свой отъ-
езд перед началом первого процесса:
Оставаясь в стране в течение трех недель после ареста мистера
Уайльда, я посещал его ежедневно и делал все, что было в моих силах,
ради облегчения его участи; я уехал накануне начала суда лишь
по его настоятельному требованию, подкрепленному столь же
настоятельным требованием его адвокатов, которые заявили мне,
что мое присутствие в стране причинит ему только вред и что если
я буду вызван в суд в качестве свидетеля, это неизбежно погубит
те небольшие шансы на оправдание, что он имеет. Поверенный
мистера Уайльда был категорически против того, чтобы приглашать
меня для дачи свидетельских показаний, предвидя вред, который
я мог принести в ходе допроса противной стороной, поэтому мое
выступление в суде могло состояться лишь в случае вызова меня
по повестке, если бы обвинение сочло это нужным. Зная это, сэр,
Вы должны отдать мне должное. Пусть Вы считаете меня негодяем
каких мало — не буду сейчас этого оспаривать; но Вы не имеете
права называть меня трусом.
Газета заметила в ответ, что Дугласу хватает смелости отстаивать свои
мнения, “но мнения эти таковы, что ему, как нам представляется,
пошла бы на пользу возможность поразмыслить над ними
в уединении Пентонвиллской тюрьмы”. Ничуть не обескураженный,
Дуглас, как он сказал потом французскому журналисту, ответил
частным письмом, заявив в нем, что ему известно о сорока-
пятидесяти представителях высшего общества, а также о сотнях
студентов и некоторых преподавателях Оксфорда, практикующих
гомосексуализм; поблизости от Пикадилли во множестве толкутся
юноши и мальчики, зарабатывающие на жизнь проституцией.
К письму он приложил брошюру Крафта-Эбинга, перевод которой он
заказал, призывавшую к отмене в Австрии запрета на гомосексуализм.
Наконец, 28 июня Дуглас написал из руанского “Отеля де ла Пост’
У.Т. Стеду, редактору журнала “Ревью оф ревьюз”. На сей раз он повел
речь непосредственно о гомосексуализме, заметив, что французские
законы намного либеральнее английских, что в Англии лесбийская
любовь не подлежит наказанию, что с юношами, торгующими
собой, обращаются не строже, чем с проститутками. Его отец, заявил
он, повинен в разврате и адюльтере, он проповедовал свободную
570
Леди Куинсберри подозревала, что Бози ведет себя опромет-
чиво, и попросила Перси, другого своего сына, отправиться в конце
мая к нему в Руан. Она также снеслась со старым другом — его пре-
подобием Себастьяном Боуденом — и попросила его найти какого-
нибудь надежного человека, чтобы он побыл с Бози и уберег его
от глупых поступков, которые он мог бы совершить из солидарно-
сти с поверженным Уайльдом. Боуден обратился к Мору Эйди; тот
ответил, что его главная забота — Роберт Росс, но, как только он
его успокоит, он займется Дугласом. Тем временем родные Росса
запретили ему оставаться с Дугласом, а Дуглас, как Эйди сообщил
Боудену, собрался во Флоренцию к лорду 1ёнри Сомерсету, чья
репутация была почти такой же скандальной, как у Уайльда.
Новые Фермопилы
Как круты лестницы в королевских дворцах!
Тем временем Уайльд готовился в последний раз предстать перед
судом. 21 мая, накануне начала процесса, он спокойно попрощался
с друзьями и назвал каждому из них то из числа немногих сохра-
нившихся у него вещей, что он хотел бы оставить ему на память
в случае его осуждения. Прежде чем уйти в свою спальню, он
попросил Аду Леверсон приготовить и поставить на каминную
полку снотворное; он не собирался его принимать, но рассчиты-
вал, что само присутствие медикамента окажет на него благотвор-
ное действие. Наутро, выходя из дома с Мором Эйди к поджидав-
шему их Стюарту Хедламу, он спросил Аду Леверсон: “Сфинкс,
если случится худшее — вы будете мне писать?” Пока шел процесс,
Хедлам неизменно отвозил его утром в суд и привозил вечером
назад; иногда к ним присоединялся Перси Дуглас. В Олд-Бейли
все сидячие места были заняты, поэтому Куинсберри, в широком
белом галстуке и с цветком в петлице, маленький и яростный,
слушал стоя, стараясь не пропустить ни слова. Сэр Эдвард Кларк,
стремясь хоть ненамного повысить шансы Уайльда, предложил
судить его и Тейлора раздельно. Заместитель генерального проку-
рора сэр Фрэнк Локвуд, выступавший на суде обвинителем, вос-
любовь и дурно обращался как с первой, так и со второй женой.
Стед отказался печатать это письмо; так же поступил и Лабушер.
Оно было предъявлено ответчиком на судебном процессе по делу
о клевете, который Дуглас затеял против Рансома и который состоялся
18-23 апреля 1913 г.
571
противился: дела, доказывал он, взаимосвязаны. Однако судья сэр
Альфред Уиллс1 удовлетворил просьбу Кларка. Тогда Локвуд внес
предложение рассмотреть дело Тейлора первым, и это вызвало
протест Кларка: у Тейлора, по существу, не было защиты, он был
хорошо известен полиции, и обвинительный приговор ему был
предрешен. Но на сей раз судья согласился с Локвудом. Он сказал,
что Тейлор, за которого не был внесен залог, находится в тюрьме
уже семь недель и потому суд над ним не стоит откладывать. Это,
казалось бы, не столь важное решение сильно ухудшило положе-
ние Уайльда. В свидетельских показаниях по делу Тейлора неиз-
бежно должен был фигурировать и Уайльд, и, если бы присяжные,
осудив Тейлора, в том же составе оправдали Уайльда, это выгля-
дело бы как явная несправедливость. Дело Тейлора было рассмот-
рено и решено быстро. Прокурор, желая действовать наверняка,
заменил обвинение в содомии менее тяжким обвинением в непри-
стойном поведении. Тейлор был признан виновным в непристой-
ном поведении по двум эпизодам (с братьями Паркер), но оправ-
дан в отношении сводничества, поскольку, как отметил судья, он
не знакомил Уайльда с Вудом непосредственно. Ранее полицей-
ский инспектор Литлфилд пообещал одному из братьев Паркер
избавление от судебного преследования в случае, если он под-
твердит обвинения в адрес Уайльда, но тот благородно отказался.
Судья Уиллс отложил вынесение приговора. Куинсберри послал
телеграмму жене своего сына Перси: “К леди Дуглас. Поздравляю
с вердиктом. Не могу поздравить с видом Перси. Похож на выко-
панный труп. Боясь заразиться безумием, целовать не стал. Тей-
лор признан виновным. Завтра очередь Уайльда. Куинсберри”.
Не довольствуясь этим и ошибочно полагая, что Уайльд живет
у Перси, он в тот же вечер отправился к его дому, принялся стучать
в дверь и устроил шум. Затем он, что выглядело совсем уж по-дет-
ски, послал жене Перси вырезку из популярного еженедельника
с изображением игуанодонта, сопроводив ее запиской: “Вероят-
ный предок Оскара Уайльда”. На следующее утро перед шляпным
магазином Скотта на Бонд-стрит Перси увидел отца и спросил
у него, доколе он будет беспокоить его жену своими послани-
ями. Завязалась потасовка, в которой лорд Перси Дуглас получил
фонарь под глазом. Оба ее участника были препровождены в отде-
ление и на следующий день, внеся залог по 500 фунтов каждый,
дали обязательство под страхом потери залога не нарушать обще-
ственного спокойствия в течение шести месяцев1 2.
1 Не из тех Уиллсов, которым Уайльд обязан одним из своих имен.
2 Французская пресса, что неудивительно, перепутала Перси Дугласа
с Альфредом, и последний немедленно отправил из Руана в газету
572
Вот в такой почти истерической атмосфере начался второй суд
над Оскаром Уайльдом. Печать мусолила имя Уайльда уже не одну
неделю; осуждение было практически всеобщим, из хора выпадала
лишь “Рейнолдс ньюс”, намекнувшая, что имеет особые сведения
о причине необычайного рвения, проявленного судебными вла-
стями в преследовании Уайльда. Почти все газеты считали борьбу
Куинсберри с “декадентским первосвященником”, как назвал
Уайльда журнал “Нэшнл обзервер”, справедливой.
Суд принес мало сюрпризов. Выяснилось, что братья Паркер,
принадлежавшие к числу важнейших свидетелей, живут в Чиз-
вике* 1 под присмотром детектива. Не было признано открыто, хоть
это и несомненный факт, что все свидетели обвинения с начала
судебного процесса, затеянного Уайльдом против Куинсберри,
до осуждения Уайльда получали по 5 фунтов в неделю. Глав-
ный свидетель Чарлз Паркер бесплатно получил от государства
новый костюм под тем предлогом, что он не может выступать
в суде в солдатской форме (вскоре он был уволен со службы
за недостойное поведение). На сей раз, однако, допрос начался
не с него, а с Шелли, который повторил свои косноязычные пока-
зания о домогательствах Уайльда. Защита вновь противопоста-
вила этому уже знакомые всем письма с просьбами о денежной
помощи, написанные Эдвардом Шелли Уайльду уже после якобы
имевших место домогательств. Ненадолго создалось впечатление,
что события складываются в пользу Уайльда: судья постановил, что
Шелли — соучастник, вследствие чего его показания не могут рас-
сматриваться в отсутствие подкрепляющих улик (об этом говорил
в свое время Харрис). Тем самым козырная карта обвинения была
побита: ведь из главных свидетелей только Шелли не продавался
за деньги и не занимался шантажом. На следующий день сэр Фрэнк
Локвуд, который в прошлом дружил с Уайльдом, попытался убе-
дить судью изменить решение, но тот был непоколебим. “Старый
дурак!” — выругался Локвуд сквозь зубы в коридоре. Между тем
из свидетельских показаний стало ясно, что познакомил Уайльда
с Тейлором не кто иной, как Морис Швабе, племянник жены Лок-
вуда; это обстоятельство Локвуд не стал выпячивать.
Кларк старался изо всех сил. Он заявил, что всякий, кто при-
сутствовал на предыдущих процессах, мог видеть, что Уайльд
“Фигаро” негодующую телеграмму с требованием извинения; в ней он,
однако, выразил сожаление о том, что поколотил Куинсберри не он.
В тот же день (22 хмая) он написал в газету “Тан”, протестуя против
такой же ошибки и заодно указывая, что газета неверно назвала леди
Куинсберри разведенной женой хмаркиза: наоборот, маркиз является
ее разведенным мужем.
1 Чизвик — пригород Лондона. (Примеч. перев.)
573
надломлен пребыванием в тюрьме. Если бы Уайльд считал свое
положение уязвимым, рассуждал он далее, он не обвинил бы
Куинсберри в клевете, подвергая тем самым себя риску судебного
преследования. “Этот процесс дает индульгенцию всем шан-
тажистам Лондона”, — сказал Кларк и добавил, что свидетелям
обвинения больше подходит роль обвиняемых. На Уайльда у них
явно ничего нет, иначе они подвергли бы его тотальному шан-
тажу. Показания Чарлза Паркера ничем не подкреплены, и, кроме
того, он в них подозрительно нетверд. Слова горничных не дока-
зывают, что Уайльд вел себя предосудительным образом. “Если
по изучении всех материалов вы сочтете своим долгом заявить,
что обвинения в адрес подсудимого не доказаны, то вы, я уверен,
будете рады тому, что блестящие перспективы, омраченные этими
обвинениями, и яркая репутация, которую едва не потушил ураган
предвзятых суждений, прокатившийся в печати несколько недель
назад, спасены вашим вердиктом от полного крушения; вы будете
рады тому, что ваш вердикт позволит этому выдающемуся литера-
тору, этому блестящему ирландцу жить среди нас жизнью чест-
ного и респектабельного человека и подарить нашей словесности,
которой он обещал в молодости столь многое, плоды своего зре-
лого таланта”.
25 мая, последний день процесса, был днем рождения коро-
левы. Пылая патриотическими чувствами, Локвуд произнес
заключительную речь от имени обвинения. Он не обошел внима-
нием ничего — ни “подозрительных” писем к Дугласу, ни уплаты
денег шантажисту Вуду, ни отношений с Тейлором, Вудом, Пар-
кером и Конуэем, чьи показания, настаивал он, подкрепляют
друг друга. Если показания горничных ложны, спрашивал он,
то почему же защита не пригласила на суд лорда Альфреда Дуг-
ласа, чтобы он их опроверг? Впоследствии Уайльд вспоминал:
“ [Я] слушал ужасные обвинения, которые бросал мне Локвуд, —
в этом было нечто тацитовское, это было похоже на строки
из Данте, на обличительную речь Савонаролы против папства
в Риме, — и услышанное повергло меня в болезненный ужас.
Но вдруг мне пришло в голову: “Как это было бы прекрасно,
если бы я сам говорил это о себе!” Я внезапно понял: совершенно
несущественно, что говорят о человеке. Важно одно — кто это
говорит”. Как он написал потом Россу^ “идея “Баллады Рединг-
ской тюрьмы” пришла мне в голову, когда я сидел на скамье под-
судимых”. Он не был устрашен, и его воображение втайне тор-
жествовало над правосудием.
Затем с заключительной речью выступил судья. В пылких
письмах Уайльда к Дугласу прозаически настроенный сэр Аль-
фред Уиллс увидел одну лишь непристойность, и он, в отличие
574
от судьи Чарлза, резко осудил их. Чем дальше, тем тон его ста-
новился более негодующим, словно тяжесть преступлений ста-
новилась ему ясна в ходе самой речи. “Это самое мерзкое дело
из всех, какие я разбирал”, — заявил он. Он согласился с тем, что
фекальные пятна на простынях в отеле “Савой” могли быть выз-
ваны диареей, но отнесся к этому предположению скептически.
Обращаясь к присяжным, он подчеркнул важность поддержания
высочайших нравственных стандартов. В половине четвертого
присяжные удалились на совещание; в пять тридцать пять они
вернулись с вопросом относительно одного малозначительного
показания. Понимая, что после отклонения судьей показаний
Шелли остались только показания соучастников, Локвуд ска-
зал Кларку: “Завтра вы будете обедать с вашим подзащитным
в Париже”. Но Кларк возразил: “Нет-нет-нет”. Присяжные вновь
вышли, но через несколько минут вернулись и объявили подсуди-
мого виновным по всем пунктам за исключением того из них, что
касался Эдварда Шелли. Кларк попросил судью отложить вынесе-
ние приговора до следующей сессии, чтобы не спеша рассмотреть
все юридические тонкости. Но Локвуд воспротивился, и судья
отверг предложение Кларка. После этого он обратился к подсу-
димым:
Оскар Уайльд и Альфред Тейлор! Преступления, в которых вы
признаны виновными, столь тяжки, что приходится сдерживаться изо
всех сил, чтобы не описать языком, которого я не хотел бы употреб-
лять, чувство омерзения, вздымающееся в груди всякого честного
человека, знакомого с подробностями этих двух ужасающих процес-
сов. В том, что присяжные вынесли по этому делу верное решение,
я не ощущаю ни тени сомнения; и в любом случае я надеюсь, что
те, кто склонен считать, что судьи в интересах приличия и нравст-
венности проявляют порой чрезмерное равнодушние, дабы избежать
предвзятости, увидят, что это решение по крайней мере согласуется
с естественным негодованием по поводу ужасных преступлений,
в которых вы оба уличены.
В том, чтобы обращаться к вам с увещаниями, я не вижу смысла.
Люди, способные совершать такое, несомненно, мертвы для всякого
чувства стыда, и невозможно надеяться оказать на них даже малей-
шее нравственное воздействие. Это самое мерзкое дело из всех, какие
я разбирал. То, что вы, Тейлор, содержали гомосексуальный бордель,
доказано с несомненностью. То, что вы, Уайльд, были центром кружка
молодых людей, в котором царил отвратительный разврат, доказано
с такой же несомненностью.
В подобных обстоятельствах я обязан наложить самое строгое
наказание, какое предусматривает закон. Более того, я считаю, что
575
в данном случае оно совершенно недостаточно. Суд приговаривает
каждого из вас к двум годам тюремного заключения и каторжных
работ.
В зале послышались возгласы: “Позор!” Уайльд побледнел, его
лицо страдальчески исказилось. “Боже мой, Боже мой!” — пробор-
мотал он. Он попытался что-то сказать во всеуслышание и, хотя
очевидцы в описании этого момента расходятся, возможно, про-
изнес: “А я? Могу я сказать слово, милорд?” Но судья лишь сде-
лал знак полицейским, и те, вовремя подоспев к покачнувшемуся
Уайльду, подхватили его под руки. Тейлор проследовал за ним,
безучастный, словно чувствуя себя лишним в разыгранной только
что драме. Но следует отдать ему должное: он не стал топить Уай-
льда, как Уайльд не стал топить Дугласа. Отбыв срок, Тейлор эмиг-
рировал в Америку и надолго пропал из виду1. Согласно воспоми-
наниям Йейтса, на тротуаре у здания суда проститутки пустились
в пляс. Они были рады устранению такого конкурента, как Тейлор.
Лорд Куинсберри торжествовал нс меньше; в тот же вечер они
с Чарлзом Брукфилдом и Чарлзом Хотри отметили победу весе-
лым ужином1 2 * * * * * В.
1 В двадцатые годы Дуглас, остановившись в одном из чикагских отелей,
вызвал звонком коридорного. На зов явился Альфред Тейлор.
2 Газета “Стар” написала, что Куинсберри выразил сочувствие к Уайльду.
Но маркиз в письме редактору опроверг это утверждение:
Сэр! Я должен отмежеваться от вложенного мне в уста слова
“сочувствие”. Я его не произносил. В свое время я помогал бить
и уничтожать акул. Сочувствия я к ним не испытывал, но порой мне
было их жаль и хотелось по возможности избавить их от мучений.
В действительности я сказал следующее. Поскольку мистер Уайльд
теперь окончательно повалился и уже не встанет, мне жаль этого
человека в его ужасном положении, и если он будет признан виновным
в мерзких преступлениях, которые ему вменены, то, будь я органом,
уполномоченным определить ему наказание, я бы отнесся к нему
со всем возможным вниманием как к умалишенному, страдающему
половым извращением в тяжелой форме, а не как к психически
здоровому преступнику. Лишь в этой мере я испытываю к мистеру
Уайльду “сочувствие”.
Ваш и проч.
24 апреля [1895 г.] КУИНСБЕРРИ.
Глава 19
Пентонвилл, Убндсворт,
Рединг
Общество проявляет чудеса терпимости.
Оно готово простить все, кроме гениальности.
Тюремная весна
Оправдывая предсказания Уайльда, печать
почти единодушно одобрила вердикт. Его старый
знакомый Клемент Скотт писал в “Дейли теле-
граф”: “Окна настежь! Глотнем свежего воздуха!”
26 мая газета “Ньюс оф зс уорлд” торжествовала:
“Наконец-то покончено с отвратительной разновидностью эсте-
тического культа”. “Сент-Джеймс газетт” в редакционной статье
от 27 мая заявила, что предпочитает “элемент здоровой нетерпи-
мости” всепрощенчеству. Лишь “Дейли кроникл” и “Рейнолдс
ньюс” выразили некое сочувствие к величайшему драматургу
того времени. В передовице от 20 мая “Рейнолдс ньюс” написала,
что не хочет “радоваться беде несчастного человека”, и отметила,
что он не развратил никого из юношей, с которыми имел дело.
Газета высказала недовольство жестокостью Локвуда и присутст-
вием на суде маркиза Куинсберри; она выразила надежду на то,
что продажные юнцы, давшие показания против Уайльда, и сами
не уйдут от ответственности. Из прежних друзей Уайльда жалость
к нему проявили лишь немногие. Берн-Джонс заявил, что Уайльду
лучше всего застрелиться, и выразил разочарование, когда он этого
не сделал; правда, несколько месяцев спустя он смягчился и выска-
зался более сочувственно. А вот Холл Кейн сказал Коулсону Кер-
нахану: “Это ужаснейшая трагедия во всей истории литературы”.
А что же Уайльд? 9 июня “Рейнолдс ньюс” описала то, что случи-
лось с ним после вынесения приговора. Из здания суда их с Тейло-
ром отвезли в Ньюгейтскую тюрьму, где были подготовлены ДОКу-
19-5556
S77
менты об их двухгодичном содержании под стражей. После этого
их в тюремной карете отправили в тюрьму Холлоуэй. Там у Уайльда
забрали личные вещи, и ему было велено раздеться до рубашки.
Полицейский чин составил краткое описание его внешности,
включая особые приметы, шрамы, цвет глаз и волос, состояние
кожи лица. Несколько минут спустя его заставили принять ванну,
после которой он получил полный комплект арестантской одежды,
от нижнего белья до болтающихся на ногах башмаков и шотланд-
ской шапочки “отвратительного вида”. Одежда была обычного
тускло-коричневого цвета с рисунком в виде широких стрел. Из-за
его нестандартного роста и принадлежности в прошлом к высшему
обществу платье ему досталось новое, но выглядело оно от этого
не менее пугающе. Прочитав ему правила тюремного распорядка,
его отвели в камеру. Немного погодя он получил тюремную пищу —
баланду из овсянки и небольшой ломоть серого хлеба.
Вскоре Уайльда перевели в Пентонвилл, где содержались осу-
жденные, тогда как тюрьма Холлоуэй предназначалась для тех, кто
ждал приговора. На новом месте Уайльд прошел медицинское
освидетельствование. В случае признания годным он должен был
месяц “отработать” на ступальном колесе1 по шесть часов в день,
совершая “подъем” на 6000 футов. Двадцать минут “работы” —
пять минут отдыха. В течение этого месяца заключенный должен
был спать без матраса на дощатых нарах, возвышающихся над
полом всего на несколько дюймов; ему выдавали только простыни,
два пледа и покрывало. Питание было следующее: в 7.30 утра
на завтрак какао с хлебом; в полдень на обед либо бекон с фасолью,
либо суп, либо холодное мясо по-австралийски, либо запеканка
с салом из непросеянной муки (последние три блюда повторя-
лись по два раза в неделю) плюс каждый раз картофель; в 5.30 чай.
Через месяц заключенного переводили на какую-либо производи-
тельную работу — изготовление мешков для почты, шитье одежды
или щипанье пакли. Ежедневно ему полагалась часовая прогулка,
во время которой заключенные должны были идти по кругу гусь-
ком, не имея права переговариваться. В течение первых трех меся-
цев арестанту воспрещались любые сношения с внешним миром;
по прошествии этого срока он мог написать и получить одно
письмо и получал право на двадцатиминутное свидание с тремя
посетителями в присутствии надзирателя, причем посетителей
отделяла от заключенного решетка. Следующее свидание могло
1 Ступалъное колесо (treadmill) — одна из форм наказания для приго-
воренных к каторжным работам: колесо со ступенями, которое заклю-
ченный должен, переступая, вращать, не совершая никакой полезной
работы. (Примеч. перев.)
5/8
произойти не ранее чем через три месяца. Заключенный перехо-
дил с дощатых нар на кровать, лишь получив определенное число
отметок за выполненную работу. Каждое утро в 9 часов, а в воскре-
сенье два раза он должен был посещать тюремную церковь. Он мог
как угодно часто приглашать к себе капеллана, и раз в день к нему
в случае его просьбы приходил начальник тюрьмы или его заме-
ститель. Раз в месяц его посещал правительственный инспектор
и выслушивал жалобы.
“Рейнолдс ньюс” отметила, что здоровье Уайльда ухудшилось
и что его, возможно, переведут в лазарет. “Он сильно похудел и,
как нам стало известно, с самого начала пребывает в угнетенном
и подавленном состоянии. Его мучает бессонница, и время от вре-
мени он громко жалуется на жестокость судьбы”. В отсутствие спа-
сительного забытья ему оставалась только боль.
Дуглас ярится
...я за тюремными замками
Владею тем, чего нельзя отнять...
Вымышленным героям Уайльда, как правило, удавалось нарушать
закон без серьезных столкновений с властями. Лорд Артур Сэвил
не понес наказания вообще; Дориану Грею пришлось наложить
его на себя самому. Единственным из главных его персонажей, кто
отправился в тюрьму, был Гвидо Ферранти в “Герцогине Падуан-
ской”. Зная, что убийство герцога — дело рук герцогини, Гвидо
благородно взял вину на себя. Уайльд ощущал, что в какой-то
степени он, несмотря на неприятие им самопожертвования, взял
на себя вину Альфреда Дугласа; и уж во всяком случае ему были
приписаны некоторые из Дугласовых эротических похождений.
Сходство с Гвидо Ферранти проявилось также в поведении Уайльда
после первого ареста. Как и его герой, он впал в пассивную отре-
шенность. Когда влюбленная герцогиня, переодевшись, проникла
в камеру Гвидо и стала упрашивать его бежать, он ответил: “Нет,
я не шевельнусь”. Уайльд выказал такую же инертность. И конечно,
он не мог не вспомнить одного из своих любимых литератур-
ных героев — Жюльена Сореля, который также отказался бежать,
несмотря на мольбы его прежней любовницы мадам де Реналь.
Отличие историй Гвидо и Жюльена от уайльдовской заклю-
чается в том, что возлюбленные литературных героев, как и они
сами, гибнут ради любви; а вот Дуглас, презрев литературные пра-
вила хорошего тона, прожил еще пятьдесят лет. На протяжении
579
двух лет заключения Уайльда Дуглас был театральньш персонажем,
ищущим себе трагическую роль и не находящим ее. В том, что
он был страшно удручен, сомнений быть не может. Его состоя-
ние беспокоило мать и друзей. Он ощущал потребность сделать
ради Уайльда какой-либо публичный жест; сделать его можно было
только за пределами Англии, поскольку поверенный матери пре-
достерег его, что возвращаться на родину в течение последующих
двух лет будет крайне неблагоразумно. Срок своей эмиграции
Дуглас соотносил со сроком уайльдовского заключения. Отец
предложил в случае, если он пообещает никогда больше не встре-
чаться с Уайльдом, оплатить ему поездку на южные острова, “где
у тебя будет вдоволь красивых девушек”. Дуглас ответил лишь тем,
что 25 июня 1895 г. направил королеве ходатайство о помиловании
Уайльда; однако министр внутренних дел написал ему, что не мог
посоветовать ее величеству удовлетворить это прошение.
Была у Дугласа, однако, и частная жизнь. Ради того, чтобы он
не оставался сам по себе, его мать провела сложные переговоры.
Лайонел Джонсон не согласился присматривать за Бози, хоть
она и предложила оплатить ему все расходы. Росс не мог нахо-
диться при Дугласе, поскольку ему запретили это родные. Нако-
нец по просьбе леди Куинсберри эту миссию взял на себя Мор
Эйди. Впоследствии были и другие оплаченные компаньоны.
Однако Дуглас быстро вернулся к прежнему безрассудному образу
жизни. В конце июня в Гавре он нанял небольшую яхту с юнгой.
Юнга привел с собой еще одного подростка; к ним присоедини-
лось и несколько взрослых. Поползли слухи о купаниях нагишом
и иных развлечениях; в конце месяца местная газета “Журналь дю
Гавр” поместила гневную редакционную статью об английском
лорде, развращающем молодежь города. Дуглас — сама оскорб-
ленная невинность — ответил письмом в редакцию:
Я, уже немало перестрадавший, не обратил бы никакого вни-
мания на нападки мелкой провинциальной газетенки, обвиняющей
меня во всех мыслимых преступлениях; но я должен заступиться
за моего юнгу, невинного мальчика, и за его добропорядочных друзей,
о которых Вы пишете с таким пренебрежением.
Довожу до Вашего сведения, месье, что я взял напрокат маленькую
яхту и нанял юнгу для ее обслуживания; с этим юнгой, его другом
и гаврскими рыбаками, которые привыкли иметь дело с иностран-
цами, мы совершили несколько выходов в море. Дает ли это повод
оскорблять и унижать не одного меня, но также и других достойных
людей, Ваших соотечественников?
Мне ясно как Божий день, что многие в обществе считают себя
вправе оскорблять меня из-за моей дружбы с Оскаром Уайльдом.
580
Да, в этом я повинен — и не только в том, что был его другом,
но и в том, что останусь им до самой смерти (и даже после смерти,
если такова будет воля Господа). Нет, месье, не в моих правилах ста-
новиться в ханжескую позу, оставлять друга в беде, отказываться
от него — пусть даже он находится в тюрьме или в самом аду.
Я могу ошибаться, но все равно лучше уж буду слушаться велений
моей совести, чем предписаний Вашей газеты.
Это был его прощальный салют городу Гавру; день или два
спустя он отправился в Сорренто, а оттуда на Капри. Уайльд
вроде бы прокомментировал это так: “Le prince du caprice est parti
pour Capri”1.
Дуглас вынашивал тайный план написать о деле Уайльда более
развернуто. В Гавр к нему приезжал англичанин по имени Далха-
узи Янг; он привез написанное им эссе в защиту Уайльда. Дугласа
также воодушевили некоторые статьи, появившиеся во француз-
ской печати. 3 июня Анри Бауэр опубликовал передовицу в “Эко
де Пари”, где осудил варварскую жестокость приговора, лице-
мерие лондонского общества, скотскую грубость Куинсберри
и бесчеловечность английского законодательства и судопроизвод-
ства. 18 июня 1895 г. Октав Мирбо выразил Уайльду сочувствие
в парижской “Журналь”. 15 мая 1895 г. в “Ревю бланш” Поль Адан
высказал мнение, что греческая любовь приносит меньше вреда,
чем адюльтер. Но самую яркую и красноречивую статью напеча-
тал в августовском нохмере “Меркюр де Франс” Юг Ребель, моло-
дой поэт и прозаик. Она называлась “В защиту Оскара Уайльда”
и пылко осуждала весь ход процесса и ханжеское лицемерие суда,
бесстыдно втоптавшего в грязь писателя, который уже прочно
занял место в английской литературе. Ребель выразил желание,
чтобы Пентонвиллская тюрьма разделила судьбу Бастилии: “Как
рад бы я был увидеть Пентонвилл в огне! И не только из-за
Уайльда, но и из-за всех нас — художников-язычников и писа-
телей-язычников, которые вправе назвать себя почетными узни-
ками этой тюрьмы”. Прочтя эту статью в начале августа, Дуглас
попросил Мора Эйди купить ему несколько номеров журнала для
рассылки разным людям. 30 июля 1895 г. он обратился к мини-
стру внутренних дел Великобритании с письмом, где спрашивал,
действительно ли журналистам было разрешено наблюдать за Уай-
льдом в тюрьме. В Сорренто он решил, что сам напишет статью
и отправит ее в тот же “Меркюр де Франс”. В письмах он об этом
молчал, боясь, что друзья начнут его отговаривать.
1 Капризный принц отбыл на Капри (фр.).
581
За тюремными замками
...тюремный режим — режим столь ужасный,
что он превращает в камень сердца, которые ему
не удается разбить, и низводит до положения ско-
тины не только заключенных, но и тюремщиков...
В то время как Дуглас рыбачил и развратничал, Уайльд прозябал
в Пентонвиллской тюрьме. Протест сэра Эдварда Кларка на дейст-
вия прокурора, настаивавшего на объединении дел Уайльда и Тей-
лора, 19 июня был отклонен. В разное время о тюрьме было написано
много нелепостей, и некоторые из них принадлежали перу самого
Уайльда, еще не испытавшего ее на своей шкуре. О хладнокровии,
с которым он, рецензируя стихи Уилфрида Бланта, заметил, что
тюрьма улучшила его стиль, теперь лучше было не вспоминать, как
и о замечательном в своем роде, но близоруком пассаже из “Души
человека при социализме”: “В конце концов, даже в тюрьме человек
может быть совершенно свободным. Его душа может быть свобод-
ной. Его личность может оставаться в целости. Он может сохранять
покой”. Кто-кто, а тюремщики прекрасно понимали тщетность
подобных надежд. В отличие от Уайльда они знали, что человек,
испытывающий острую боль в животе, не может сохранять покой.
Сами того не ведая, они оправдывали более дальновидное замеча-
ние из того же уайльдовского эссе: “Читая описания исторических
событий не в препарированных изданиях для школьников и посред-
ственных студентов, а в авторитетных первоисточниках, испыты-
ваешь глубочайшую тоску, но не из-за преступлений, совершаемых
людьми испорченными, а из-за наказаний, налагаемых людьми
добродетельными”. Тюремный капеллан, войдя семенящей поход-
кой к Уайльду в камеру, спросил его: “Мистер Уайльд, у вас дома
заведено было молиться по утрам?” — “Увы, нет”. — “И вот где вы
оказались в результате”.
Из испытанных Уайльдом мук первой к нему пришла мука
утраты всего, чем он обладал. Однажды, когда обитатели тюрьмы
в вынужденном безмолвии кружили по тюремному двору, другой
заключенный шепнул ему: “Жалко мне тебя; вашему брату здесь
потрудней, чем нам”. Но подобные проявления сочувствия были
редки. Подобно тому как слава сменилась бесславием, на смену
былому подшучиванию, которым он приучил себя не смущаться,
явилось прямое презрение. Словно не он, а кто-то другой написал
все эти пьесы, диалоги, рассказы и стихи. Все его прошлые деяния
были словно бы стерты; исключение составляло то, что увекове-
чили судебные стенограммы, — свидания с продажными юношами,
к которым Уайльд, что было большой редкостью среди их клиентов,
неизменно проявлял доброту и щедрость. Из прежнего живы были
582
ныне лишь его любовь к Дугласу и сознание ответной любви Дуг-
ласа к нему, но вскоре и это было поставлено под вопрос.
Помимо горечи бесчестья была еще физическая боль. В Пен-
тонвиллской тюрьме в первый месяц заключения с Уайльдом,
как он писал впоследствии, обращались хуже, чем с животными.
“В английских тюрьмах узаконены три вида пыток, — объяснял
он, — 1. Голод. 2. Бессонница. 3. Болезнь”. Причиной бессонницы
были дощатые нары, на которых Уайльд лежал по ночам до тех пор,
пока по его поведению не сочли, что ему можно выдать жесткий
матрас. “Я дрожал ночи напролет”, — сказал он Фрэнку Харрису.
Бессонница осталась с ним до конца жизни. Что касается голода
и болезни, они были связаны между собой. Из тюремной пищи
Уайльд мог есть только суп, который бывал довольно редко. Про-
чими элементами рациона были жидкая кашица, сало и вода; все
это отмерялось “с точностью до унции”. Пища была отвратительна,
и ее было недостаточно. “Каждый заключенный день и ночь испы-
тывает муки голода”, — писал Уайльд, выйдя на свободу. При его
росте и полноте он страдал больше остальных. Голоду и тош-
ноте, словно их было мало, обычно сопутствовал понос. Сред-
ства от расстройства пищеварения, раздаваемые надзирателями,
не оказывали должного действия.
Даже понос можно было бы еще вынести, если бы не тюрем-
ные санитарные условия. Опасаясь, что заключенные будут
перестукиваться, используя для этого канализационные трубы,
тюремные власти в свое время ликвидировали в камерах всю
канализацию. Заключенный мог пользоваться лишь небольшим
жестяным сосудом, который он сам опорожнял три раза в день.
В тюремные уборные он имел доступ только в течение часа, отве-
денного для прогулки, а после пяти вечера ему не разрешалось
покидать камеру ни по какой причине. Если он, измученный
болью в животе, пользовался жестяным сосудом, воздух в камере
становился ужасающим, нечистоты растекались по полу. Уайльд
позднее писал, что три раза он сам видел, как надзирателей, вхо-
дивших утром в камеру к беспомощному заключенному, от смрад-
ного воздуха рвало. Как пишет Ребель, некто, видевший Уайльда
в Пентонвиллской тюрьме, охарактеризовал его как униженного
и подавленного человека, измученного усталостью, дурным пита-
нием и диареей. Его брат направил властям письмо с выражением
беспокойства и получил ответ от начальника Пентонвиллской
тюрьмы, утверждавшего, что “заключенный совершенно здоров,
и ему оказывается необходимое внимание”. Вес Уайльда снизился
со 190 до 168 фунтов.
12 июня 1895 г. к Уайльду приехал первый посети-
тель — Р. Б. Холдейн. Он был знаком с Уайльдом и состоял
583
в комитете Министерства внутренних дел по надзору за тюрь-
мами, вследствие чего имел доступ в любую тюрьму в любое время.
К посещению его побудила Маргарет Брук, рани Саравака, давно
знавшая Уайльда1. Первым делом Холдейн переговорил с капелла-
ном, и тот признал, что Уайльд удручен и не воспринимает ника-
ких духовных утешений. “Я могу терпеть, — сказал Уайльд кому-
то в то время, — ибо терпение — добродетель. Но вам нужно
не терпение, а уныние, которое есть грех”. После беседы с капел-
ланом Холдейн вошел к Уайльду в камеру для разговора с глазу
на глаз. Поначалу Уайльд не хотел вымолвить ни слова. Но затем,
вспоминает Холдейн, “я положил руку ему на плечо, покрытое
арестантской одеждой, и сказал, что знал его раньше и пришел,
чтобы сказать ему кое-что о нем самом. Я сказал, что он потому
не реализовал до конца свой громадный литературный дар, что
жил жизнью наслаждений, которая не позволила ему найти свою
великую тему. Ныне постигшее его несчастье может оказаться бла-
гом для его творчества, ибо вот она, великая тема. Я пообещал, что
постараюсь снабдить его книгами и письменными принадлежно-
стями, а через восемнадцать месяцев [в действительности через
двадцать три] он получит полную свободу для литературного
труда”. Уайльд заплакал. Взгляд Холдейна на его писательский путь
вызвал в его душе отклик; позднее в “De Profundis” он сам выска-
зался в подобном ключе. Он не пытался отрицать свою вину и ска-
зал только, что жизнь наслаждений была для него искушением,
которому он не мог противостоять. Он пообещал Холдейну, что
послушается его совета, и настоятельно попросил книг. Помимо
Библии, сказал он, ему пока что разрешили только “Путь палом-
ника” Беньяна. Среди авторов, чьи книги он хотел бы получить,
он назвал Флобера, чье “Искушение святого Антония” он брал
с собой во все поездки. Но Холдейн полушутливо напомнил ему,
что Флобер посвятил свои сочинения адвокату, защищавшему его
от обвинений в распространении непристойностей, и поэтому
запрос на его книгу, скорее всего, будет отвергнут. Тут Уайльд
в первый раз засмеялся и немного приободрился. Вместе они
составили благопристойный список, в который вошли:
Св. Августин. “О Граде Божием”, “Исповедь”.
Паскаль. “Письма к провинциалу”, “Мысли”.
Пейтер. “Ренессанс”.
Теодор Моммзен. “История Рима” (в 5 томах).
Кардинал Ньюмен. “Эссе о чудесах”, “Грамматика согласия”,
“Оправдание своей жизни”. “Идея университета”.
1 Он посвятил ей сказку “Молодой Король”.
584
Всего пятнадцать томов. Начальник Пентонвиллской тюрьмы
возражал, ссылаясь на закон о тюрьмах 1865 г., запрещавший книги;
однако министр внутренних дел согласился, и книги были достав-
лены. Но письменных принадлежностей заключенный по-преж-
нему был лишен. Холдейн обещал ему также, что его жене и детям
будет оказано внимание, и попросил леди Каупер, с которой был
знаком, позаботиться о них, что, как он сказал позднее, она и сде-
лала. Кроме того, он добился перевода Уайльда из Пентонвилла
в Уондсвортскую тюрьму, который произошел 4 июля. Вместе
с заключенным переслали и его одежду; по приезде выяснилось,
что одного жилета недостает. Уайльд страшно разгневался и буше-
вал до тех пор, пока жилет не был найден. Успокоившись, он сказал
надзирателю: “Простите меня за этот всплеск чувств ”. Тем вре-
менем Тейлор, согласно данным из архива Министерства внут-
ренних дел, был переведен в тюрьму Уормвуд-скрабз. 17 августа
1895 г. книги Уайльда были получены из Пентонвилла и помещены
в библиотеку Уондсвортской тюрьмы, откуда они выдавались ему
согласно обычным правилам. Они сопровождали его и при после-
дующих переездах из тюрьмы в тюрьму. Три года спустя Холдейн
получил по почте от анонимного отправителя “Балладу Рединг-
ской тюрьмы” и воспринял подарок как знак исполнения данного
Уайльдом обещания.
Другим человеком, которому в виде исключения было разре-
шено свидание с Уайльдом, был Отто Холланд, брат миссис Уайльд.
Он сказал Уайльду, что Дж. С. Харгроув, поверенный Констанс,
убеждает ее начать бракоразводный процесс и что она, несомненно,
так и поступит, если только Уайльд не напишет ей при первой же
возможности, которая представится в сентябре, когда истекут пер-
вые три месяца его заключения. Уайльд ответил, что любой ценой
хотел бы предотвратить окончательный разрыв с женой и детьми.
Холланд письмом сообщил об этом разговоре сестре, которая тогда
находилась с сыновьями в швейцарском городе Глионе. Примерно
в то же время она получила письмо от Роберта Шерарда, горячо
убеждавшего ее не порывать с Уайльдом. Миссис Уайльд не нужно
было долго уговаривать; 8 сентября она написала мужу из Гли-
она, извещая его о том, что отказалась от мысли о разводе. Желая
подбодрить его, она добавила, что Сирил помнит о нем. На сле-
дующий день к ней приехал суровый Харгроув, и она испугалась
было, что он не одобрит ее решение. Но он привез с собой письмо
к ней от Уайльда, где тот раскаивался в своих ошибках и обещал
исправиться; действуя в ее интересах, Харгроув уже прочел письмо
и теперь назвал его одним из самых трогательных и прочувство-
ванных посланий, какие ему доводилось читать. Но он предосте-
рег ее, что, если она не расторгнет этот брак, ей придется жить
585
“на другой стороне земного шара”. Констанс была к этому готова
и отправила Оскару второе письмо, где сказала, что прощение
возможно. 13 сентября она послала начальнику Уондсвортской
тюрьмы прошение о свидании с Уайльдом.
Любовь и гласность
...из каких же писем? Из писем, что я тебе писал
из тюрьмы, Холлоуэй, из тех писем, которые
должны быть для тебя священнее и сокровеннее
всего на свете!
Обратившись мыслями к своей семье, Уайльд удивил и обеспокоил
этим Бози Дугласа. В августе 1895 г. Дуглас обратился к начальнику
тюрьмы с просьбой разрешить ему написать Уайльду, но получил
отказ, поскольку лимит был исчерпан перепиской с Констанс. Дуг-
лас тяжело пережил эту неудачу, о чем он дал понять Аде Леверсон.
Но она, как и остальные друзья Уайльда, прекрасно понимала, что
именно любовные отношения с Дугласом были причиной слу-
чившейся с Уайльдом катастрофы, и поэтому особого сочувствия
не проявила.
Тем временем Роберт Шерард, который жил на юго-западе
Лондона поблизости от Уондсвортской тюрьмы, получил право
на свидание с Уайльдом. После суда он восхитил всех, кто сочув-
ствовал Уайльду, тем, что вызвал Куинсберри на дуэль, которую
предложил устроить во Франции; однако маркиз в кои-то веки
предпочел скромно отмолчаться. “Не дерись на дуэлях чаще шести
раз в неделю!” — предостерег Уайльд друга 16 апреля. Свидание
было назначено на 26 августа, и Шерард мог взять с собой кого-то
еще. Он предлагал пойти Джорджу Айвзу и еще некоторым лицам,
но все, вспоминал он впоследствии, ограничились выражениями
сочувствия и сослались на занятость. Шерард отправился в тюрьму
один.
Он оставил подробное описание посещения. Пройдя через
многочисленные железные двери, отпиравшиеся и вновь запи-
равшиеся, он наконец попал в помещение со сводчатым потол-
ком, разделенное на три части двумя рядами металлических пру-
тьев. Между рядами стоял надзиратель, посматривавший на часы
и следивший за тем, чтобы заключенный не жаловался посетителю
на условия содержания в тюрьме. После свидания Шерард сказал
поджидавшему его репортеру, что нашел Уайльда преисполнен-
ным мужества и терпения; однако позднее он изменил оценку
586
и написал, что Уайльд был “чрезвычайно удручен” и едва удержи-
вался от слез. Вполне возможно, и то и другое было справедливо:
Уайльд умел ухватиться за соломинку, если таковая возникала. Тем
не менее признаки того, что он перенес, были очевидны. Шерард
заметил, что его пальцы, сжимавшие прутья решетки, были обе-
зображены, что обломанные ногти кровоточили. Волосы Уайльда
были в беспорядке, щеки покрывала короткая щетина. Он так осу-
нулся, что Шерард с трудом его узнал. Разговор вскоре перешел
на книги; Уайльд несколько воспрял духом, получив тома из спи-
ска, который они составили с Холдейном, и даже кое-что сверх
того, в том числе “Греческие очерки”, “Впечатления ценителя”
и “Воображаемые портреты” Пейтера.
Но одна “литературная” новость была малоприятной. От зна-
комого сотрудника “Меркюр де Франс” Шерард узнал, что этот
журнал собирается опубликовать очерк об Уайльде, написанный
Альфредом Дугласом, где тот цитирует три любовных письма,
полученные им от Уайльда во время судебных процессов. Шерард
встревожился: не повредит ли этот очерк зыбким надеждам
на примирение с Констанс? Он спросил Уайльда, дал ли он согла-
сие на публикацию отрывков из своих писем. Вопрос пробудил
горькие воспоминания. Ведь, можно сказать, именно письма
к Дугласу, ставшие по милости адресата достоянием гласности,
привели Уайльда в тюремную камеру. Если бы юные шантажи-
сты не продали Куинсберри два письма, обвинению на процессах
Уайльда недоставало бы вещественных доказательств. И вот теперь
его возлюбленный Бози хочет предложить его последние письма,
неприкрыто и пламенно гомосексуальные, вниманию не слиш-
ком доброжелательной заграничной публики, даже не спросив
его согласия. Те самые письма, которые, считал Уайльд, должны
были стать для Дугласа “священными” и “сокровенными”. Дуг-
лас не имел юридического права самовольно публиковать чужие
письма, но Уайльда возмутило не столько это, сколько вопиющее
пренебрежение к судьбе его детей, которым публикация, показы-
вающая, что их отец лгал па суде, грозила добавочным бесчестьем.
Констанс была бы оскорблена до глубины души. Кроме того,
выход в свет очерка сделал бы невозможным смягчение наказания,
на которое Уайльд все еще надеялся. Без колебаний Уайльд попро-
сил Шерарда любыми средствами предотвратить публикацию.
Отсюда можно заключить, что он, скорее всего, и до этого
разговора начал менять отношение к Дугласу. На нарах он имел
полную возможность обдумать события последних месяцев и лет,
увидеть мысленным взором красивое и яростное лицо человека,
подстрекавшего его к войне с Куинсберри, называвшего трусли-
выми его сомнения в разумности иска к маркизу, жившего в празд-
S&7
ности на его ненадежные доходы, лишавшего его покоя беспре-
рывными ссорами и примирениями, презиравшего его болезни
и недомогания.
Исполняя просьбу Уайльда, Шерард немедленно написал
и Дугласу, и в "Меркюр де Франс”. Пришла очередь Дугласа испы-
тать смятение и шок. Очерк, которым он очень гордился, начи-
нался цитатой из письма Уайльда, отосланного из тюрьмы Хол-
лоуэй: "Письмом этим заверяю тебя в моей бессмертной, вечной
любви к тебе”, и так далее; если, писал Уайльд, кто-то опорочит
их взаимную любовь, он, Бози, должен будет публично взять ее
под защиту. Дуглас счел эти слова Уайльда поручением, развязы-
вающим ему руки: "Не имея намерения добиваться сочувствия
с помощью лжи, я не буду делать вид, что отношения между мисте-
ром Уайльдом и мною были обыкновенной дружбой; они не сво-
дились ни к интеллектуальной дружбе, ни даже к тяготению, какое
испытывают друг к другу старший и младший брат. Нет, я готов
открыто признать (и пусть недруги истолковывают мои слова как
им угодно!), что это была любовь, любовь подлинная, любовь абсо-
лютно чистая и в то же время необычайно страстная. Источником
ее в мистере Уайльде было чисто телесное восхищение красотой
и изяществом (да, моей красотой, моим изяществом); реальны ли
эти качества, или же они существуют только в воображении моего
друга — не имеет, в сущности, большого значения; важно то, что
это была совершенная любовь, более духовная, нежели чувствен-
ная, любовь подлинно платоническая, любовь художника к пре-
красной душе и прекрасному телу”. Противоречие между "чисто
телесным” и "более духовным, нежели чувственным” не оставляло
от платонизма камня на камне. Дуглас упомянул об отцовской
заботе, которую Уайльд проявил, пытаясь отвадить его от скачек,
азартных игр, охоты и плотских пороков (к сожалению, эти усилия
Уайльда пропали втуне).
Но главным образом, писал Дуглас, Уайльд обращал его взор
к искусству, "будь то искусство жить или иные его виды”. Дуглас
объяснял, как все это разъярило его отца и как Уайльд ради него,
Бози, подал на маркиза в суд. После этого Куинсберри с помощью
юриста Бернарда Эйбрахамса, истратив две или три тысячи фун-
тов, сумел найти свидетелей, согласных дать угодные ему показа-
ния. Перейдя к судебным процессам, Дуглас обвинил судей и про-
куроров в злоупотреблении своим положением. Они, утверждал
он, испугались Куинсберри, угрожавшего в случае оправдания
Уайльда опорочить некоторых членов правительства. Уайльд же,
по словам Дугласа, упорно отказывался упоминать о родстве
между Швабе и заместителем генерального прокурора, хоть это
и могло принести ему выгоду. Судью Уиллса Дуглас назвал "ста-
588
рой бабой”. Затем он процитировал два других письма Уайльда
к нему, не менее страстных, чем первое. Дуглас писал: “Зачем,
спросите вы, я открываю всему миру тайну моей жизни? Мне сове-
товали этого не делать; добропорядочные друзья говорили мне,
что я поступаю глупо!” Призывая в свидетели Платона и Шек-
спира, он риторически вопрошал, почему Уайльд, даже если он
и совершал поступки, в которых его обвиняли, должен быть “нака-
зан за то, что мужскую телесную красоту предпочитает женской”.
И так далее. Убедительной защиты Уайльда тут не было; Юг Ребель
выступил как его адвокат куда лучше, чем мог это сделать Дуглас.
Фактически Дуглас лишь похвастался, что именно любовь к нему
погубила Уайльда, и откровенно признался в том, что их любовь
была гомосексуальной для них обоих. Когда Шерард попросил его
воздержаться от публикации, он поначалу согласился. Но затем
передумал: в ноябре 1895 г. он написал начальнику Уондсворт-
ской тюрьмы, прося через него разрешения Уайльда напечатать
его письма во французском периодическом издании, “соответ-
ствующем английскому “Фортнайтли ревью”. Уайльд ответил
решительным отказом. Однако, по-видимому, Дуглас не спешил
официально отозвать очерк: редактор “Меркюр” направил ему
письмо, где говорилось, что ввиду заявления Шерарда редакции
хотелось бы знать, какова позиция самого Дугласа. Он ответил
28 сентября 1895 г. с острова Капри, куда он переехал из Сорренто:
Месье! Ваше письмо пришло как раз в то время, когда я сам соби-
рался написать Вам. Я — ближайший друг мистера Оскара Уайльда,
и о вынесенных мною из-за него обидах и оскорблениях, как и о фак-
тическом социальном крахе, единственной причиной которого
была моя нерушимая преданность этому человеку, слишком хорошо
известно, чтобы сейчас об этом распространяться. Я считаю, что
лучше, чем мистер Шерард, могу судить о том, что выгодно и что
невыгодно для мистера Уайльда, как и о том, чего желал бы он сам.
Я убежден, что публикация моего очерка не возбудила бы в обществе
иных чувств к мистеру Уайльду, кроме жалости и сочувствия, и что
он сам одобрил бы этот шаг. Фактически написанием очерка я лишь
исполнил его волю. Однако после всего, что было сказано мистером
Шерардом, я не возьму на себя ответственности и не совершу того,
что он, будучи подлинным другом мистера Уайльда, считает столь
губительным для него. Мистер Шерард, по моему мнению, сильно
заблуждается, и мне не по душе ни сам факт, ни стиль его вмеша-
тельства, однако, поскольку ему заранее стало известно о моем наме-
рении опубликовать очерк и поскольку он протестует в подобных
выражениях, я предпочту воздержаться от публикации... Я считал
совершенно необходимым, чтобы до выхода очерка в свет о моем
589
намерении опубликовать его никто не знал, поскольку я предполагал,
что многие друзья мистера Уайльда сочтут эту публикацию опромет-
чивым шагом; сочиняя очерк, я хорошо понимал, что он навлечет
на меня неприятности и вызовет непонимание, однако по зрелом
размышлении я решил, что он тем не менее сослужит моему другу
добрую службу.
То, что Дуглас так и не пришел к определенному мнению
на этот счет и не оставил мысли сочинить за Оскара Уайльда
его исповедь, стало ясно на следующий год. Он вновь вступил
в переписку с “Меркюр” по поводу очерка. Он также отправил
письмо Шерарду, где заявил, что его вмешательство “было крайне
неуместно и бестактно”. Шерард держался твердо и дал Дугласу
понять, что считает важным примирение Уайльда с женой; Дуглас
в ответ заявил, что, если Шерард попытается вбить клин между
ним и Уайльдом, он “пристрелит его как собаку”. Точно так же
в свое время Куинсберри грозился поступить с Уайльдом. Огне-
стрельный арсенал этой семьи, как видно, оставлял собакам совсем
мало шансов на выживание.
Хотя вынужденные размышления о Бози и без того заставили
Уайльда перемениться к нему, о чем свидетельствует покаянное
письмо жене, эпизод с “Меркюр де Франс” ярко продемонстриро-
вал ему “возмутительное безрассудство” Дугласа и его неспособ-
ность проникнуть силой воображения в чувства другого человека.
Любовь по-дугласовски отнюдь не предполагала желания добра
любимому человеку. В “De Profundis” Уайльд неоднократно назы-
вает подобное отношение “поверхностным” и осуждает его. Он
долго удерживался от упреков, считая, что Дуглас тоже страдает;
но оказалось, что его страдания содержат элемент своекорыстия,
что судьба Уайльда стала для него средством к приобретению
литературной известности. В горьких своих раздумьях Уайльд
представлял себе Дугласа на Капри и воображал, как он в проме-
жутках между развлечениями уничтожает то, что еще осталось
от его, Уайльда, репутации. Внезапно ему стало ясно, что отец
и сын Куинсберри не противоположны друг другу, а чрезвычайно
схожи и что оба они задались целью поставить его под удар —
один из ненависти, другой якобы из любви к нему. Обессилен-
ный щипаньем пакли в Уондсвортской тюрьме, Уайльд, возможно,
размышлял бессонными ночами об этой бесчувственной любви.
А Дуглас, что он ни делал, делал не по-человечески. От Росса
или от Эйди он узнал, что Уайльду предстоит новое бесчестье —-
банкротство. В свое время был разговор о том, что его брат Перси
уплатит долги Уайльда, составившие 3591 фунт, в том числе
677 фунтов судебных издержек Куинсберри. Перси вначале согла-
590
сился, но затем решил еще раз подумать. Дуглас вообразил, что
прочие друзья Уайльда не желают внести лепту в уплату его долгов,
и, рассердившись на них, он счел, что и его семья теперь свободна
от своего давнего обещания Уайльду. Дуглас написал матери, что
ничего предпринимать не нужно, и она ответила: “Я передала
Блэку [ее поверенному] то, что ты мне сообщил о банкротстве,
и он совершенно согласен с тем, что нас это не должно касаться,
и сказал, что позаботится об этом5’. Между тем Бози узнал имя
клерка, который должен был прийти к Уайльду в тюрьму получить
его показания в связи с предстоящим банкротством, и через дру-
зей попросил его сказать Уайльду при встрече: “Принц Флёр-де-
лис передает вам привет”. Услышав эти слова, Уайльд посмотрел
на клерка в недоумении; он повторил ту же фразу и добавил: “Этот
джентльмен сейчас за границей”. В прежние времена Уайльд не раз
называл Дугласа именем Флёр-де-лис1, взятым и.» глупой баллады
Дугласа о принце и крестьянском мальчике, которых путают из-за
того, что они поменялись одеждой. Услышав это имя в столь непод-
ходящей обстановке, Уайльд, как он написал потом, впервые за всю
его тюремную жизнь рассмеялся. “Все презрение мира прозвучало
в этом смехе”. Он получил возможность сравнить нелепое привет-
ствие Дугласа с поведением Роберта Росса, который 25 сентября
ждал Уайльда в коридоре суда по делам несостоятельных должни-
ков. Когда Уайльд в наручниках, понурив голову, проходил мимо,
Росс молча снял перед ним шляпу1 2.
1 Флёр-де-лис (fleur de lis) — геральдическая лилия (фр-)-
2 21 октября 1895 г. Росс обратился к Оскару Браунингу с просьбой
принять участие в сборе денег, необходимых для предотвращения
банкротства; если собранной суммы окажется недостаточно, деньги,
заверял он, будут возвращены жертвователям. 12 ноября Росс сообщил
Браунингу, что воспрепятствовать банкротству не удалось, поскольку
объявились новые кредиторы и собранных денег не хватило. Дальше
он писал:
После судебного заседания опекун [Артур Клифтон] и я по спе-
циальному разрешению смогли повидаться с ним в отдельной ком-
нате; каждый получил по полчаса. Вы легко можете себе предста-
вить, насколько болезненно это было для нас обоих. Я не видел его
со дня его ареста; как Вы знаете, я тогда был с ним. Внутреннее его
состояние намного лучше, чем я осмеливался надеяться, хотя нане-
сенный ему душевный ущерб весьма значителен. Но в телесном
плане дело обстоит куда хуже, чем я мог предположить, основы-
ваясь на имевшихся у меня сведениях. Воистину его нельзя было
узнать. Это расхожее выражение в данном случае надо понимать
совершенно буквально. Одежда на нем висела складками, руки
стали костлявыми, как у скелета. Цвет лица совершенно изме-
нился, причем отнюдь не из-за выросшей у него короткой бороды.
Она лишь скрадывает жуткую впалость щек. Один мой друг, кото-
591
О своем отчуждении от Дугласа Уайльд со всей горячностью
сказал Констанс, получившей специальное разрешение на свида-
ние с мужем, о котором она просила из Швейцарии. Свидание
состоялось 21 сентября 1895 г. в том же помещении со сводчатым
потолком, где встречался с Уайльдом Шерард. Обстановка и сам
разговор произвели на Констанс сильнейшее впечатление. На сле-
дующий день она писала Шерарду:
Дорогой мистер Шерард! Это было поистине ужасно — ужасней
всего, что я в состоянии была себе представить. Я не могла толком его
разглядеть и не могла до него дотронуться, я с трудом выговаривала
слова [...] Последние три года он был безумен, и теперь он говорит,
что, если бы он увидел лорда А., он убил бы его на месте. Так что
этому человеку следовало бы держаться в стороне — довольно того,
что он испортил прекрасную жизнь. Мало кто может похвастаться
подобным достижением.
В этой удручающей обстановке она пообещала Уайльду, что
позволит ему по выходе из тюрьмы воссоединиться с ней и сыно-
вьями. Это сильно воодушевило его, как он сам сказал Шерарду
во время длительного свидания, которое состоялось у них двумя
или тремя днями позже, на этот раз в отдельной комнате. Кон-
станс Уайльд была тверда в своем решении; 15 октября она писала
из Невшателя Ханне Уиталл Смит, что, меняя фамилию на Хол-
ланд, она тем не менее отказывается от мысли о разводе. “Мой
бедный, сбившийся с пути супруг, человек скорее слабый, нежели
испорченный, горько раскаивается во всех своих прошлых безум-
ствах, и я не могу отказать ему в прощении, о котором он меня
просил”.
Увы, здоровье Уайльда не реагировало на ее великодушие.
15 октября “Дейли кроникл” сообщила, что он находится в лаза-
рете; Лили, жена его брата, посетила его там 22 октября и позд-
нее писала: “Он в лечебнице, поскольку страдает дизентерией,
вызванной, по моему мнению, чрезвычайной телесной слабостью.
Он испытывает голод, но не может принимать пищу, и сейчас ему
дают только мясной бульон в небольших количествах. Он тяжко
рый был на суде, не поверил, что перед ним Оскар. Я не могу взять
в толк, как это в цивилизованной стране (я не говорю — хри-
стианской, потому что англичане протестанты, то есть никакие
не христиане) человека держат в подобных условиях. Он все еще
находится в лазарете, где, как он мне сказал, ему осталось быть
недолго, поскольку он рассчитывает на скорую кончину. Спо-
койно он мог говорить только о смерти, разговор на любую дру-
гую тему приводил его в полное расстройство.
592
страдает душевно... Он сильно изменился во всех отношениях”.
Уайльд сказал Шерарду, которому вновь удалось получить свида-
ние, что скоро умрет. 12 ноября он, однако, был в состоянии при-
сутствовать на втором м последнем судебном заседании по делу
о банкротстве. Поскольку его друзья не смогли собрать достаточно
денег, чтобы удовлетворить всех кредиторов, он был официально
объявлен банкротом и его имущество было передано в руки управ-
ляющего. 16 ноября газета “Лейбор лидер” сочувственно писала
о его внешнем виде: “Его остригли ужасающим образом и заче-
сали ему волосы на косой пробор; у него выросла короткая, щети-
нистая, неопрятная борода”.
Перемена отношения
Все это произошло в начале ноября позапрошлого
года [ 1895]. Великая река жизни далеко унесла нас
от времени столь давнего.
Почти всеобщее отвращение к “преступлениям” Уайльда мало-
помалу начало умеряться сочувствием. Его лондонские и париж-
ские друзья, уловив изменение атмосферы, попытались добиться
помилования посредством петиций. В одной из них, которую
написал в начале декабря 1895 г. в Лондоне Мор Эйди, говори-
лось, что Уайльд, будучи человеком интеллектуального склада,
уже понес достаточное наказание. В парижской петиции, состав-
ленной Стюартом Меррилем, приводились сходные аргументы.
Но в обоих случаях возникли трудности. Эйди заручился подпи-
сями Фредерика Йорка Пауэлла, королевского профессора исто-
рии из Оксфорда, а также, вероятно, Селвина Имиджа и Уолтера
Крейна. Но художник-прерафаэлит У. Холман Хант ответил отка-
зом, не проявив ни малейшей признательности былому пропаган-
дисту своего движения:
Я вынужден еще раз заявить, что, по моему мнению, закон про-
явил к нему исключительную мягкость, и сказать о том, что рассмо-
трение всех обстоятельств приводит меня к мысли, что, подписав эту
петицию, я, чтобы не быть несправедливым к преступникам из иных
общественных слоев, должен был бы присоединиться к призыву
покончить со всякой личной ответственностью за совершённое зло.
Подобная позиция при всем ее мягкосердечии к нарушителям закона
совершенно не мягкосердечна в отношении законопослушных чле-
нов общества.
593
Генри Джеймс, которого попросил поставить подпись Стюарт
Мерриль, осторожно ответил 27 ноября через Джонатана Стер-
джеза: “Джеймс говорит, что петиция не окажет никакого дейст-
вия на власти, в чьем ведении находится дело и которые на дух
не переносят такое имя, как Золя, и даже такое имя, как Бурже;
поэтому документ будет иметь значение лишь как изъявление лич-
ной преданности Оскару со стороны его друзей, к числу которых
он никогда не принадлежал”. Бурже, видимо, подписал, но Золя
отказался; Жид подписал, но Сарду заявил: “Слишком уж там
воняет, чтобы мне туда лезть”. Жюль Ренар, никогда не испыты-
вавший к Уайльду симпатии, написал в дневнике: “Я бы с удоволь-
ствием подписал петицию в защиту Оскара Уайльда, если бы он
дал честное слово... никогда больше не брать в руки перо”. Фран-
суа Коппе выплеснул свои размышления о петиции на газетную
страницу и под конец заявил, что подпишет, но лишь как член
общества защиты животных: “Свинья пишущая — все равно сви-
нья”. Обескураженные отказами, Эйди и Мерриль так и не подали
петиций. Позднее Фрэнк Харрис написал еще одну и конфиден-
циально попросил Джорджа Мередита поставить первую подпись,
но получил прямой отказ. Дуглас, который по-прежнему пытался
найти свою тему в несчастье друга, сочинил сонет, обращенный
к французским писателям, которые нс захотели подписать пети-
цию Мерриля, и послал его Меррилю для публикации в журнале
“Плюм”. Мерриль не стал его печатать.
Месяцы, последовавшие за банкротством Уайльда, были для
Дугласа нелегкими. Он стал догадываться, что Уайльд его больше
не любит, и, хотя он мог приписать это козням некоторых общих
друзей, примириться с этим он нс хотел. Он написал бешеные
письма Шерарду, Аде Леверсон, Россу, Эйди. Когда через их
посредство до него начал доходить холод уайльдовского отчужде-
ния, он отреагировал письмом Мору Эйди, отправленным 30 ноя-
бря с Капри, где в то время с ним находился Росс:
Я не заключен в тюрьму, но думаю, что страдаю так же сильно,
как Оскар, или даже сильнее; ведь и он, я уверен, страдал бы силь-
нее меня, будь он на свободе, а я в тюрьме. Пожалуйста, сообщи ему
об этом... Скажи ему, что я знаю, что разрушил его жизнь, и знаю,
что виноват во всем этом я один, если это принесет ему облегчение.
Мне все равно. Я надеюсь, он понимает, что моя жизнь точно так же
разрушена, и в гораздо более раннем возрасте.
Он написал, что желал бы, чтобы они оба с Уайльдом умерли.
Эйди в ответ сообщил ему, что видел Уайльда 30 ноября и что он
не высказал каких-либо жалоб на Дугласа общего порядка, была
594
лишь частная жалоба по поводу письма — вероятно, с прось-
бой о разрешении опубликовать любовные послания Уайльда, —
направленного Дугласом начальнику Уондсвортской тюрьмы.
Уайльду об этом письме сообщили, но прочесть его нс разрешили.
Эйди написал, что охлаждение Уайльда к Дугласу — это “преходя-
щее помешательство, обусловленное некой тюремной нравствен-
ной лихорадкой”, которое Дуглас сумеет победить, если проявит
терпение. Совет был бы хорош, если бы адресат был другим.
Перевод в Рединг
Наказания, применяемые систематически, при-
носят в общество гораздо больше зверства,
нежели преступления, совершаемые эпизодически.
Холдейн, посетивший Уайльда в Пентонвилле, был у него
и в Уондсворте. Ясно было, что дела обстоят не слишком хорошо.
Капеллану почудился у него в кахмере запах спермы, и 11 сентября
1895 г. он написал в рапорте начальству, что Уайльд мастурбирует1.
Тюремное начальство с возмущением отвергло это обвинение,
приписав запах дезинфецирующему составу Джейза, и капеллан
был переведен в другую тюрьму. Уайльд, страшно ослабевший
от дизентерии и недоедания, но подозреваемый тюремньш вра-
чом в симуляции, был обязан посещать тюремную церковь. Там
он однажды упал в обморок и при падении повредил себе правое
1 Когда его только перевели сюда из Пентонвилла, он был в возбужден-
нохМ состоянии, и создавалось впечатление, что он преисполнен реши-
мости стойко перенести наказание. Но впоследствии решимость эта
угасла. Возбуждение, вызванное судом, прошло, повседневная рутина
тюрехмной жизни начала одолевать его, он стал терять мужество
и в скорохм времени полностью сдался. Ныне он раздавлен и слом-
лен, и это весьма прискорбно, потому что заключенный, который
сдал позиции в чем-то одном, обычно сдает их и во многом другом,
и то, что я слышу и вижу, заставляет опасаться, что половые извраще-
ния вновь берут над ним верх. Это часто случается с заключенными
из его общественной среды, и, разумеется, постоянное одиночество
Каймеры этому способствует. В его камере стоит такой скверный запах,
что надзиратель вынужден ежедневно использовать тахМ карболовую
кислоту... Мне нс г нужды говорить, что этот человек отличается
весьхма нездоровыми наклонностями... Некоторые из более опытных
надзирателей открыто выражали мнение, что он едва ли протянет два
года... Я считаю, что для предотвращения беды Уайльда необходимо
обследовать с привлечением первоклассного эксперта-хмедика.
595
ухо, которым он и раньше слышал хуже, чем левым. Вследствие
этой травмы и дизентерии он два месяца пролежал в лазарете.
Образцового заключенного из него не вышло — какое там; он
не в силах был толком щипать паклю, то и дело нарушал предпи-
санную тишину в камере. Фрэнку Харрису он сказал, что неко-
торые из уондсвортских надзирателей — настоящие мерзавцы.
Увиденного и услышанного Холдейну было достаточно, чтобы
решить: в Редингской тюрьме Уайльду будет лучше. Переезд про-
изошел 21 ноября и сопровождался самым большим унижением
за всю тюремную жизнь Уайльда. В наручниках и тюремной оде-
жде он с двух часов до половины третьего в дождливый день ждал
пересадки на железнодорожной платформе в Клапаме. Собралась
толпа; сначала над ним просто смеялись, затем раздались издева-
тельские выкрики. Кто-то узнал в нем Оскара Уайльда и плюнул
в него. “Целый год после того, как меня подвергли этому позору, —
писал Уайльд в “De Profundis”, — я плакал каждый день в то же
время, те же полчаса”.
Его приезд вызвал в Рединге некоторое волнение. В тюрьме
тогда содержалось 170 заключенных, в том числе 13 женщин. Ее
начальник подполковник Дж. Айзексон был польщен предпоч-
тением, которое Холдейн отдал Редингу перед Уондсвортом. Он
обратился к подчиненным с речью: “К нам переводят некоего
заключенного, и вам надлежит гордиться тем, что начальство сочло
Редингскую тюрьму наиболее подходящим местом для отбытия
этим человеком оставшегося ему срока”. Фамилии заключенного
он не назвал, но при виде Уайльда все сомнения надзирателей
по поводу личности новичка вмиг рассеялись; его поместили
в камеру С.3.3. Поскольку в Уондсворте его волосы отросли чуть
больше положенного, одному из надзирателей было поручено его
постричь. “Это непременно нужно? — спросил Уайльд со слезами
на глазах. — Вы не представляете себе, как много это для меня зна-
чит”. Да, непременно; его постригли. “Ужас тюремной жизни, —
писал Уайльд позднее Леонарду Смизерсу, — в несоответствии
между твоей душевной трагедией и нелепостью твоего облика”.
С самого начала стало ясно, что вновь прибывший не при-
годен ни к какой тяжелой физической работе. Уайльду велели
работать в саду, а также быть “помощником наставника”, то есть
заведовать библиотекой и разносить заключенным книги. Однако
даже эти несложные обязанности он не исполнял как положено.
В виде исключения ему позволяли читать больше, чем остальным
заключенным, но писать по-прежне^му воспрещалось. Он вспом-
нил о книгах, которые полюбились ему в Оксфорде, и в январе
1896 г. заказал и получил “Греческий лексикон” Лиддела и Скотта,
‘Свод латинской поэзии”, латинский словарь Шорта, “Божест-
596
венную комедию” Данте, “Греческих драматургов-стихотворцев”
и итальянский словарь с грамматикой. Но ему трудно было со-
средоточиться на античных поэтах, и только дантовский “Ад” спо-
собен был удержать его внимание.
Его писательская репутация оказалась более живучей, чем
он воображал, сидя в Пентонвиллской тюрьме. Некоторые его
произведения были переизданы после вынесения ему приговора,
в том числе 30 мая 1895 г. — “Душа человека” (без слов “при
социализме”) Артуром Л. Хамфризохм (книжный магазин Хат-
чарда, Пикадилли, 187). В октябре того же года Уорд и Локк выпу-
стили шестишиллинговое издание “Дориана Грея”. Тем временем
в Париже на постановку “Саломеи” претендовали два театра —
“Либр” и “Де л’Эвр”. Запрос от первого из них был отослан обратно
подполковником Айзексоном с кратким уведомлением о том, что
заключенному не разрешено получать подобные послания. Между
тем Люнье-По поставил “Саломею” в театре “Де л’Эвр” и сам
сыграл в пьесе роль Ирода; на премьере, состоявшейся И февраля
1896 г., присутствовали Эрнест Даусон и Обри Бердслей, и Даусон
затем послал Констанс длинное письмо, где описал восторженную
реакцию зрителей на “блестящий спектакль”. О постановке сооб-
щили британские газеты, и Уайльд потом говорил, что после этого
отношение к нему тюремного начальства изменилось к лучшему.
И все же Айзексон находил знаменитого заключенного труд-
новоспитуемым. Уайльд испытывал к нему ответную неприязнь
и впоследствии так описал его Крису Хили: “Глаза хорька, тело
обезьяны, душа крысы”. В другом разговоре он высказался чуть
мягче, назвав Айзексона “багроволицым диктатором Суллой”.
Уайльд по-прежнему нарушал правила тюремного распорядка.
Позднее, беседуя с Андре Жидом, он привел пример такого нару-
шения. После перевода в Рединг прошло месяца полтора; в час,
отведенный для прогулок, молча шагая по двору в кольце заклю-
ченных, он вдруг услышал позади себя тихий голос: “Жаль мне
тебя, Оскар Уайльд, — тебе небось потяжелей, чем нам”. От этих
слов Уайльд едва не лишился чувств. Не поворачивая головы, он
ответил: “Нет, друг мой, нам всем тут одинаково тяжко”. В тот
день, как он сказал Жиду, он перестал думать о самоубийстве. Хотя
заключенным были категорически запрещены любые разговоры,
Уайльд в последующие дни сумел узнать у того человека его фами-
лию и за что он сидит. Он, однако, еще не научился разговари-
вать, не шевеля губами, и их засекли. Однажды вечером надзира-
тель скомандовал: “С.3.3 и С.4.8, выйти из строя! К начальнику
тюрьмы”.
Айзексон хотел знать, кто заговорил первым, поскольку зачин-
щику полагалось более суровое наказание. Вначале он вызвал
597
С.4.8, и тот признался, что первым обратился к Уайльду. Но Уайльд,
войдя в кабинет начальника, взял главную вину на себя. Багровый
Айзексон побагровел еще больше: “А он утверждает, что начал он!
Ничего не понимаю.. Ладно, раз так — обоим по две недели”.
В разговоре с Жидом Уайльд, однако, пожаловался не на жесто-
кость Айзексона, а на отсутствие у него воображения; до тюрьмы
он, вероятно, сказал бы, что Айзексон нелеп. В другой беседе он
назвал Айзексона человеком, которому завтрак не лезет в глотку,
пока он кого-нибудь не наказал.
Начальнику тюрьмы сообщали о малейших нарушениях.
Во время одного из визитов М. Г. Френда, тюремного капел-
лана, Уайльд пожаловался на то, что мутное стекло в окне камеры
не позволяет ему видеть небо. Капеллан принялся его утешать:
“Друг мой, отвлекитесь, молю вас, ст этих мыслей! Не об обла-
ках вам следует думать, но о Том, кто над облаками, кто...” —
“Пошел вон, безмозглый идиот!” — закричал Уайльд и толкнул его
к двери. Об этом тоже было доложено Айзексону. Тем не менее
иные из надзирателей относились к заключенным более мягко.
Поскольку Уайльд, как Уэйнрайт (тот вообще отказывался под-
метать свою камеру), не мог должным образом поддерживать
у себя чистоту, надзиратели иногда ему помогали. Как-то раз
один из них, подметая, увидел паука и раздавил. Уайльд посмотрел
па него с ужасом. “Это дурная примета, — сказал он. — Скоро
я получу известие, которое будет ужасней всего, что я слышал”.
Позднее он говорил, что ему послышался крик Банши1 и приви-
делась мать. Она была одета по-уличнохму, и он предложил ей снять
шляпу и манто и сесть. Она печально покачала головой и исчезла.
На следующий день, 19 февраля 1896 г., его вызвали в отдельную
комнату на свидание с женой. Констанс была нездорова, но, уве-
домленная Уилли о смерти леди Уайльд, специально приехала
из Италии, чтобы самой сообщить мужу мучительную для него
новость. “Я уже знаю об этом”, — сказал он ей в ответ и поведал
о своем видении.
Уайльд испытал новую вспышку тоски и раскаяния. В “De
Profundis” он написал, что по интеллекту его мать была равна Эли-
забет Баррет Браунинг, а по историческому значению — мадам
Ролан. Последний год ее жизни был омрачен болезнью и сокру-
шениями из-за “дорогого Оскара”. Она не выходила из комнаты
и почти никого не принимала. В блокноте она записала горькие
слова: “Жизнь — это смесь страдания и надежды, иллюзии и отча-
1 В ирландском фольклоре Банши — привидение в образе женщины.
Явление или крик Банши предвещает чью-либо смерть. (Примеч.
перев.)
598
яния; но под конец остается одно отчаяние”. Уилли Уайльд гово-
рил, что Оскар сумел помочь ей даже из тюрьмы (видимо, день-
гами). Он, вероятно, знал об этом лучше, чем кто бы то ни было:
есть основания полагать, что он вынудил ее отдать деньги ему.
То, что Оскар знал об этом, косвенно подтверждается фразой
из письма, написанного Уилли Уайльдом Mopv Эйди 4 февраля
1896 г., в день похорон леди Уайльд: “По многим причинам он
не пожелал бы меня видеть”. Незадолго до смерти она спросила,
нельзя ли привести Оскара попрощаться с ней; ей объяснили,
что это невозможно, и со словами “Да поможет ему тюрьма!”
она отвернулась к стене. Она скончалась 3 февраля 1896 г. Перед
смертью она распорядилась, чтобы на ее похороны никто не при-
ходил; ее тело предали земле на кладбище Кенсалгрин. (Она часто
выражала желание, чтобы ее бросили в морску ю пучину или зако-
пали на каком-нибудь диком скалистом берегу. Лучше так, чем
лежать бок о бок с каким-нибудь заурядным торгашом!) Лили
Уайльд, жена Уилли, с грустью отослала все вещи Оскара, какие
у них оставались, Мору Эйди, признавшись ему в письме: “Я уве-
рена, что теперь, после смерти матери, он нс захочет поддержи*
вать с нами никаких отношений”.
Свидание с женой 19 февраля принесло Уайльду не только
горестную весть, но и некоторое утешение. Она поцеловала его
и произнесла успокаивающие слова. Уайльд был тронут самоот-
верженностью, какую она проявила этим приездом; “Моя жена
в то время была еще добра и нежна со мной”, — написал он в “De
Profundis”. Они заговорили о детях, и он стал просить ее не бало-
вать Сирила, как леди Куинсберри баловала Альфреда Дугласа.
“Я сказал ей, — писал он позднее, — что воспитывать его надо
так, что, если вдруг он прольет невинную кровь, он придел к ней
и признается ей, чтобы она могла вначале омыть ему руки, а затем
показать ему, как сокрушением и раскаянием омыть себе душу”.
Они решили между собой, что после освобождения он будет полу-
чать 200 фунтов в год в течение ее жизни, а если он ее переживет —
треть пожизненного дохода от ее приданого. Он также предложил
ей, если она почувствует, что забота о детях становится ей не под
силу, назначить им опекуна. Позднее он, к своему удовлетворе-
нию, узнал, что опекуном стал ее двоюродный брат Адриан Хоуп.
Под впечатлением от встречи с мужем Констанс писала своему
брату: “Они утверждают, что с ним все хорошо, но по сравнению
с тем, что было, он полная развалина”. Во время своего краткого
пребывания в Лондоне она нанесла визит Эдварду Берн-Джонсу
и его жене. Поначалу Берн-Джонс весьма сурово оценивал
поступки Уайльда, но встреча с Констанс смягчила его. 22 февраля
1896 г. он писал в дневнике:
S99
Доложили о приходе дамы по имени Констанс Холланд; гляжу —.
а это несчастная, одинокая, убитая горем Констанс Уайльд. Я рад
был увидеть эту бесприютную страдалицу, и Джорджи [Джорджиана,
леди Берн-Джонс] тоже была рада. Мы приняли ее с распростертыми
объятиями; она приехала из окрестностей Бордигеры, чтобы сооб-
щить мужу о кончине его матери. Он еще об этом не знал. Бедная
леди Уайльд умерла три недели назад; Констанс понадобилось десять
дней, чтобы выхлопотать разрешение на свидание, и еще четыре,
чтобы приехать, но она не отступилась, встретилась с ним и ска-
зала ему. Она говорит, что он изменился до неузнаваемости, что он
работает в тюремном саду, но больше всего ему нравится делать для
книг обложки из оберточной бумаги — по крайней мере, он держит
в руках книги, а не что-нибудь другое. Когда тюремщик сделал ему
знак пальцем, он по-собачьи повиновался и немедленно вышел.
Констанс сказала Берн-Джонсу, что Вивиан уже позабыл
отца, но Сирил продолжает о нем спрашивать и прочитал в газете
о том, что он заключен в тюрьму, — “Сирил думает, что за долги”.
Вивиан Холланд впоследствии писал, что Сирил знал о причине
тюремного заключения больше, чем подозревала его мать.
Те немногие друзья Уайльда, что оставались ему верны, про-
должали его навещать. В феврале 1896 г. верного Шерарда сопро-
вождал Мор Эйди; в мае, по прошествии очередных трех месяцев,
с Шерардом пришел милый сердцу Уайльда старый друг — Роберт
Росс. Приехав на короткое время в Лондон в ноябре 1895 г.
в связи со слушаниями по делу о банкротстве Уайльда, он затем
вновь отправился за границу. Таким образом, он не видел Уайльда
полгода, и его рассказ о свидании в письме Мору Эйди, осно-
ванный на заметках, сделанных по горячим следам, позволяет
судить о том, насколько изменило Уайльда годичное тюремное
заключение. Росс нашел его сильно похудевшим, даже истощен-
ным; из-за того, что ему сбрили бороду, худоба бросалась в глаза
еще сильнее. От работы в саду под солнцем его лицо покрылось
тускло-коричневым загаром. Густые некогда волосы поредели,
в них стала проглядывать седина, на макушке появилась лысина.
“Глаза у него были страшно пустые, — писал Росс, — и он плакал
не переставая”.
Уайльд сказал Россу, что тюремный врач “очень недобр к нему”.
Его постоянно подозревали в симуляции. Тем не менее если в Уонд-
сворте он провел в лазарете два месяца, то в Рединге — всего два
дня. Хотя он не рассказал Россу о своем падении в уондсвортской
тюремной церкви, он все еще страдал от его последствий. Зимой
ухо у него болело и часто кровоточило; слышал он им теперь
еще хуже. Он сообщил Россу о других своих недугах — анемии
боо
и подагре. Зимой, когда он читал при свете газового рожка, у него
быстро утомлялись глаза, но теперь они болели меньше. Спал он
в Рединге лучше, чем в Уондсворте и Пентонвилле. Но его мучил
страх перед сумасшествием, и он спросил Росса, не кажется ли он
ему психически больным.
Уайльд не мог заставить себя подробно рассказывать о тюрем-
ной жизни, и его немногословие показалось Россу не просто
нехарактерным для него, но даже зловещим. Уайльд сказал, что
писать ему разрешено только письма в пределах установленной
квоты, но читать позволено; каждую из книг тюремной библио-
теки он уже прочел несколько раз. Росс спросил его, какие книги
он хотел бы еще получить, если бы удалось выхлопотать на это
разрешение, и Уайльд назвал Чосера, прозаический перевод Данте,
новую книгу Пейтера, о которой сказал ему Росс (“Гастон де
Латур”), и большой том драматургии Елизаветинской эпохи. Он
был рад получить приветы от английских и французских друзей;
кратко отозвавшись о каждом, он попросил Росса поблагодарить
их от его имени. Уходя, Росс и Шерард столкнулись с непривет-
ливым подполковником Айзексоном, и Росс набрался смелости
заговорить с ним об Уайльде. Вначале Айзексон держался высо-
комерно и недружелюбно, но, услышав от Росса, что в Рединге,
на его взгляд, здоровье Уайльда улучшилось, несколько смягчился.
К немалой тревоге Росса, Айзексон сказал, что Уайльд перено-
сит тюрьму тяжелее, чем большинство заключенных, но добавил,
что, по его мнению, он держится лучше, чем можно было ожи-
дать. Если он почувствует себя плохо, он в любой момент может
позвать врача. Министерство внутренних дел прислало ему книги.
О любом серьезном изменении его состояния его друзьям будет
сообщено. Росс почувствовал, что к Уайльду, по крайней мере,
относятся не хуже, чем к другим заключенным.
Из того, о чем Росс сообщил Уайльду, самое важное не имело
отношения к тюремным делам. Альфред Дуглас собирался выпу-
стить сборник стихотворений на английском языке под эгидой
“Меркюр де Франс” с прозаическими переводами на французский,
выполненными Эженом Тардье, редактором “Эко де Пари”. Он
намерен был посвятить книгу Уайльду. Услышав новость, Уайльд
отхмахнулся: “Не хочу об этом сейчас”. Но на следующий день
(23 или 30 мая 1896 г.) он написал Россу жесткое письмо, где
отчужденно называл Бози по фамилии:
Ты сказал, что Дуглас собирается посвятить мне сборник стихо-
творений. Напиши ему сразу же и скажи, чтобы он ни в коем случае
этого не делал. Я не могу ни принять, ни разрешить подобного посвя-
щения. Возмутительная и нелепая затея. Кроме того, в его распоряже-
6о1
нии, к сожалению, находится ряд моих писем к нему. Я хочу, чтобы он
немедленно передал их тебе все без исключения; тебя же я попрошу
их опечатать. Если я умру здесь, уничтожь их. Если я выйду отсюда
живой, я уничтожу их сам. Они не должны существовать. Сама мысль
о том, чго пни в его руках, ужасает меня, и, хотя мои несчастные
дети, разумеется, никогда не будут носить моего имени, все равно
они знают, кто их отец, и я должен, как могу, ограждать их от любых
дальнейших разоблачений и скандалов.
У Дугласа также находится то, что я ему дарил, — книги и дра-
гоценности. Я хочу, чтобы и это было передано тебе — для меня.
С частью драгоценностей он расстался при обстоятельствах, о кото-
рых я не буду распространяться, но часть он сохранил — например,
золотой портсигар, жемчужное ожерелье и эмалевый медальон, кото-
рый я подарил ему на прошлое Рождество [в декабре 1894 г.]. Я хочу
быть уверен, что у него не осталось ни единого из моих подарков. Все
это должно быть опечатано и храниться у тебя. Меня ужасает сама
мысль о том, что он носит что-либо или просто владеет чем-либо
из подаренного мной. Невозможно, конечно, избавиться от мерзких
воспоминаний о двух годах, в течение которых я, к моему несчастью,
держал его подле себя, и о том, как он вверг меня в пучину страда-
ний и позора, утоляя свою ненависть к отцу и прочие низменные
страсти. Но мои письма и мои подарки не должны у него оставаться.
Даже если я выберусь из этой отвратительной ямы, меня ждет жизнь
парии — жизнь в бесчестье, нужде и всеобщем презрении, — но я,
во всяком случае, не буду иметь ничего общего с этим человеком
и не позволю ему видеться со мной. [...]
Когда будешь писать Дугласу, сошлись на это письмо и со всей
откровенностью приведи мои слова, чтобы у него не осталось
ни малейшей лазейки. Он не может ответить отказом. Он разрушил
мою жизнь — с него достаточно.
Дуглас, которому Росс переслал письмо Уайльда, был потрясен;
4 июня он писал Россу:
Мой дорогой Бобби! Только что я получил жуткое письмо
от Оскара. Оно лишило меня всякой возможности думать и изъ-
ясняться. Нет нужды говорить тебе, как оно меня ужасает, — ты сам
конечно же это понимаешь. Передай ему, что книга, которая практи-
чески готова к печати и должна была появиться через три-четыре дня,
в свет не выйдет. Без посвящения ему я не могу ее публиковать. То, что
он не хочет этого посвящения, убивает книгу наповал. [...] Что каса-
ется писем, я никому не могу их отдать. Обладание этими письмами
и воспоминания, которые они мне дарят, пусть даже они не дарят мне
никакой надежды, возможно, удержат меня от того, чтобы положить
602
конец жизни, лишившейся теперь всякого raison d’etre1. Если Оскар
предложит мне покончить с собой — я это сделаю, и тогда он получит
обратно свои письма после моей смерти. [... ] Всякий час я покрываю
их поцелуями и произношу над ними молитвы.
Росс, видимо, написал ему в ответ, что Уайльд теперь смо-
трит на Дугласа как на человека, который паразитировал на нем
годами. 15 июля Дуглас в очередном письме оправдывался: “Мне
нечего было вложить — все вложил Оскар. Но что это меняет? Все,
чем я обладал и чем намеревался обладать впредь, принадлежало
и будет принадлежать ему”.
Холодность Уайльда путала карты Дугласа и по другой при-
чине. Отказавшись в свое время от публикации очерка в “Меркюр
де Франс”, он затем написал еще один, причем, как и в первый
раз, ни с кем не посоветовался. Очерк под названием “Вступле-
ние к моему стихотворному сборнику с некоторыми замечани-
ями о деле Оскара Уайльда” вышел в “Ревю бланш” 1 июня 1896 г.
На этот раз Дуглас не стал цитировать уайльдовские письма,
но общее направление очерка осталось прежним: “Ныне я горжусь
тем, что меня любил великий поэт, который, возможно, ценил
во мне не только тело, но и душу”. “Оскар Уайльд страдает из-за
своего уранизмаI 2, своего греческого духа, своей сексуальности.
Я уже писал, что подобные люди — соль земли”. Двадцать пять
процентов великих людей — содомиты, заявил он. Что касается
Куинсберри, он интересен в такой же мере, в какой интересны
Тиберий3, Джек-потрошитель и Жиль де Рэ4. Дуглас более прямо,
чем раньше, обвинил Розбери, чье имя фигурировало в несколько
двусмысленном контексте в одном из писем Куинсберри, в том,
что он пугал Асквита поражением на очередных выборах в слу-
чае, если Уайльду позволят избежать тюрьмы. Статья малоубеди-
тельно завершалась выпадом против Андре Раффаловича, который
вслед за Максом Нордау, написавшим книгу “Вырождение” (1895),
взялся исследовать случай Уайльда и спешно выпустил сначала
брошюру, а затем и книгу “Уранизм и однополая любовь”. Осу-
див Уайльда за безудержный и разрушительный эгоизм, Раффа-
лович не забыл и про Дугласа, которого назвал “бледным, неесте-
ственным молодым человеком”. Заявив в ответ, что Раффалович
I Здесь: смысла (фр-).
2 Уранистами иногда называли себя гомосексуалисты (“Урания”,
т.е. “Небесная”, — эпитет Афродиты). (Примеч. персе.)
3 Тиберий (42 до н.э. — 37 н.э.) — римский император, прославив-
шийся своей жестокостью. (Примеч. перев.)
4 Рэ Жиль де (1404-1440) — маршал Франции, казненный за жестокие
убийства. (Примеч. перев.)
сам содомит и что пыл его нападок объясняется неприкрытым
презрением к нему Уайльда, Дуглас, видимо, считал, что дает ему
блестящую отповедь. Бессвязность очерка Дугласа свидетельствует
о его крайнем смятении из-за утраты благосклонности Уайльда.
Вскоре ему пришлось обороняться: некоторые французские жур-
налисты потребовали от него, чтобы он сказал прямо, какого рода
любовь питали друг к другу они с Уайльдом, и обвинили его в том,
что он раздувает скандал единственно ради рекламы своего стихо-
творного сборника. Анри Бауэр написал, что, лишив Уайльда воз-
можности жить в Англии, Дуглас теперь лишает его возможности
по освобождении жить во Франции. “Любовь моего друга ко мне
была платонической — иначе говоря, чистой”, — заявил в ответ
Дуглас. Что касается рекламы сборника, он к тому времени уже
узнал об отказе Уайльда от посвящения и, не упоминая об этом
отказе, сухо заметил: “Мои стихотворения не выйдут в свет”. Это
решение, как и многие другие решения Дугласа, было затем пере-
смотрено; жесткое письмо Уайльда лишь несколько отсрочило
публикацию. Сборник вышел в 1896 г. без посвящения1.
Смятение испытывал не только Дуглас, но и Уайльд. Второго
июля он отослал самое отчаянное из своих прошений об освобо-
ждении, начинавшееся так: “Настоящая петиция от вышеозначен-
ного заключенного смиренно указывает, что он никоим образом
не стремится оправдать те ужасные проступки, в которых он совер-
шенно справедливо признан виновным”. Он признал, что стра-
дал сексуальным помешательством, и выразил надежду на то, что
оно будет сочтено болезнью, подлежащей ведению скорее врачей,
нежели судей. В подкрепление сказанному он упомянул о “Выро-
ждении” Нордау, где его поступки трактовались именно в таком
ключе. Больше всего, писал он, его страшит безумие; практически
лишенный книг, отгороженный от мира идей “в склепе, где замуро-
ваны живые”, он с неизбежностью станет добычей самых болезнен-
ных и извращенных фантазий и представлений. Бороться с ними
дальше у него нет сил; тюремное заключение не может иметь целью
уничтожение человеческого рассудка. “Тюрьма ничего не делает
для исправления человека, но не может же она стремиться свести
его с ума”. Что касается его физического состояния, ухо, в котором
развился абсцесс, остается без всякого лечения; зрение его также
ухудшилось из-за света газового рожка. Неизбежное помешатель-
ство вполне может усугубиться слепотой и глухотой.
1 Малларме, возможно тронутый создавшимся положением, поблаго-
дарил Дугласа за присланный экземпляр: “В тот день, когда я получил
Ваши стихотворения, я, что редко со мной бывает, порадовался сво-
ему знанию английского”.
604
Податель петиции испытывает и другие опасения, о которых он
не будет распространяться ввиду недостатка места; безумие представ-
ляет главную для него опасность и причиняет ему самый мучитель-
ный страх, и он молит о том, чтобы уже долго длящееся заключение
и сопутствующие ему беды были сочтены достаточным наказанием,
чтобы оно не длилось долее и не превращалось в бессмысленную
месть, доводящую до полного распада и унижения как тело, так
и душу.
ОСКАР УАЙЛЬД.
Подполковник Айзексон не преминул передать эту петицию —
логически выверенное предсказание грядущего безу^мия, свиде-
тельствующее о полной ясности ума, — по инстанциям; однако
он приложил к ней заключение тюремного врача О. Мориса о том,
что состояние здоровья Уайльда хорошее.
Казнь
Памяти Ч. Т В.
Через пять дней после подачи этой петиции произошло собы-
тие, сосредоточившее мысли Уайльда не на своих, а на чужих
страданиях. В Редингской тюрьме был повешен тридцатилетний
Чарлз Томас Вулдридж. В прошлом он служил в Королевской кон-
ной гвардии. 29 марта он убил свою двадцатитрехлетнюю жену
Лору Эллен Вулдридж, за что и был без проволочек приговорен
к смертной казни. Жена возбудила в нем ревность; он подстерег
ее на дороге поблизости от дома, где они жили, между Виндзором
и деревушкой Клюэр и трижды рассек ей горло бритвой, которую
взял с этой целью у друга-конногвардейца. Прошения об отсрочке
исполнения смертного приговора были отвергнуты министром
внутренних дел ввиду явной предумышленности преступления.
Помещение для казни в Редингской тюрьме было использовано
до этого лишь однажды — восемнадцать лет назад, когда повесили
сразу двоих. Уайльд видел, как по тюремному двору прошел палач
с садовыми рукавицами и небольшой сумкой. 7 июля в восемь
часов утра палач Биллингтон связал Вулдриджу ноги, окутал ему
голову мешковиной, накинул петлю и потянул за рычаг. Вулдридж
принял смерть стойко — без борьбы, без крика.
Казнь собрата по заключению всколыхнула в Уайльде многое,
о чем он думал прежде. Он мог припомнить совет, данный им
6oj
Констанс: воспитывать детей так, что, если они прольют невинную
кровь, они обратятся к ней за помощью, ища раскаяния и искупле-
ния. Но, помимо этого, он давно еще написал в “Humanitad”, что,
убивая Христа, люди убивали самих себя:
И мы по неразумию не знали.
Что, метя в грудь Твою, свои сердца мы убивали.
Вулдридж совершил страшное преступление, но казнь его
была не менее страшна и, как наказание самого Уайльда, пред-
ставляла собой бесчеловечное возмездие за человеческое деяние.
Однако Уайльд думал и о другом: в августе 1895 г. он воспроти-
вился публикации Дугласом очерка, прославляющего их любовь,
а в мае 1896 г. отказался принять посвящение его стихотворного
сборника, понимая, что тем самым наносит ему тяжелую рану.
Поступки эти проистекали из ощущения, что Дуглас разрушил
его жизнь, — ощущения, которое, по его словам, впервые воз-
никло у него в суде, когда он стоя выслушивал приговор. Вывод
брезжил в его сознании, хотя записал он его позже: и Вулдрилж,
и Дуглас (первый буквально, второй в иносказательном смысле)
исполнили неписаный закон:
Ведь каждый, кто на свете жил,
Любимых убивал1.
Придет время, и Дуглас спросит у Уайльда, что он хотел сказать
этими словами; Уайльд ответит: “Тебе ли этого не знать”.
1 “Баллада Редингской тюрьмы”. Перевод Н. Воронель.
Глава 20
Освобождение из Рединга
...хотел бы, встретиться с Вами и поговорить
о том, что все мы по-своему узники в этой
жизни — узники тюрем, узники страстей,
узники рассудка, узники морали и многого дру-
гого. Все ограничения, внутренние и внешние, —
это темницы, да и что такое сама жизнь, как
не ограничение*
От Айзексона — к Нельсону
Ту горькую истину, что любовь способна убивать,
узник лишенного любви общества не мог смягчить для
себя ничем. Уайльд вновь сравнивал себя с Люсьеном де
Рюбампре и Жюльеном Сорелем. “Люсьен повесился,
Жюльену отрубили голову, я умер в тюрьме”, — ска-
зал он. Пока начальником Редингской тюрьмы был подполковник
Айзексон, Уайльду постоянно грозили строгие наказания за несу-
щественные проступки — достаточно было не вымести как следует
камеру или перемолвиться словом с другим заключенным. В лице
Айзексона устарелая пенитенциарная система имела весьма рев-
ностного исполнителя своих инструкций. Он поднялся по слу-
жебной лестнице, действуя по правилам, установленным законом
о тюрьмах 1865 г., и не имел ни малейшего желания ослаблять дис-
циплину.
Те, кто не был знаком с тюрьмами непосредственно, мало что
знали о тамошних порядках. Только это, пожалуй, извиняет Генри
Джеймса, написавшего Полю Бурже, что с Уайльдом обошлись
слишком сурово, приговорив его к каторжным работам, и что
справедливее было бы подвергнуть его изоляции. Состраданием
тут и не пахло. Изящно завуалированная жестокость Джеймса
представляется тем более неприятной, что каторжные работы
Уайльда сочетались с изоляцией. К счастью, не собратья по перу
с их исправительными теориями решали судьбу Уайльда. Рединг
был для него четвертой тюрьмой (считая Ньюгейтскую), и он
приобрел некоторый опыт; кроме того, обилие видных людей,
607
проявлявших о нем беспокойство, внушило иным из надзирате-
лей уважение к нему. Даже в тюрьме его личность производила
на людей впечатление. К тому же на администрацию подействовал
и определенный сдвиг во взглядах общества на тюрьмы.
В девяностые годы, после выхода в свет работ Чезаре Ломброзо
и других авторов, рассматривавших вопросы преступности,
реформа тюрем стала предметом широкого обсуждения. Лежав-
шая в основе закона 1865 г. примитивная теория, согласно кото-
рой “тяжкий труд, скудная пища и жесткая постель” способны
устрашить преступные элементы и удержать их от правонаруше-
ний, стала казаться уже не столь бесспорной. Уайльду не повезло:
он отбывал срок незадолго до изменения условий содержания
заключенных, произошедшего после принятия в 1898 г. нового
закона о тюрьмах. Уже в 1895 г., когда Уайльда приговорили к двум
годам каторжных работ, комитет Министерства внутренних дел
под председательством Г. Дж. Гладстона пришел к выводу, что
такое наказание в принципе является слишком суровым, и законом
1898 г. оно было отменено вообще. В докладе Гладстона говори-
лось, что к заключенным не следует относиться “как к безнадеж-
ной и бесполезной части общества”. Эти новые веяния дали себя
знать и в Рединге.
В суете реформаторства случай Уайльда нет-нет да и напоминал
о себе. Его давний покровитель Холдейн продолжал добиваться,
чтобы Министерство внутренних дел сняло для него ограничения
на книги и письменные принадлежности; однако министерство
не хотело навлекать на себя обвинений в предпочтении тех или
иных заключенных остальным. С другой стороны, в 1895 г. пред-
седателем комиссии по тюрьмам был назначен Ивлин Рагглз-Бриз,
горячий сторонник предложений Гладстона. Он не мог своей
властью отменить ступальное колесо и бессмысленное враще-
ние рукоятки, не мог он и положить конец запрету на разговоры
между заключенными, но его мнение имело вес в парламентских
дебатах, предшествовавших принятию закона 1898 г. Что можно
сделать для Уайльда в данный момент, было не совсем ясно. Летом
1896 г. друзья Уайльда, тревожась о его здоровье, решили обра-
титься с ходатайством о смягчении ему наказания по медицин-
ским мотивам. Фрэнка Харриса, приехавшего в Англию после
нескольких месяцев пребывания за границей, сочли наиболее
подходящей кандидатурой, чтобы довести просьбу до сведения
властей. В июне Харрис попросил Рагглз-Бриза о встрече и ска-
зал ему, что Уайльд, по всей вероятности, не выдержит двух лет
заключения. Рагглз-Бриз предложил Харрису посетить Уайльда
и поподробнее узнать о его физическом состоянии; 13 июня он
отправил подполковнику Айзексону распоряжение о том, чтобы
6о8
Харрису позволили переговорить с Уайльдом с глазу на глаз, без
надзирателя. Одновременно он затребовал конфиденциальный
отчет о психическом состоянии Уайльда.
Айзексон принял вызов и недолго думая послал Рагглз-Бризу
заключение тюремного врача о хорошем состоянии здоровья
Уайльда. 13 или 14 июня 1896 г. начальник тюрьмы и врач встре-
тили Харриса не слишком дружелюбно; Айзексон сказал ему, что
намерен вышибить из Уайльда дурь. Свидание с Уайльдом про-
изошло в комнате с голыми стенами, где стояли стол и два стула.
Харрису бросилось в глаза, что Уайльд постарел; худобу его под-
жарый Харрис счел, однако, изменением к лучшему. После теплых
приветствий Харрис попросил Уайльда назвать те стороны тюрем-
ной жизни, на которые можно было бы пожаловаться в ходатай-
стве о сокращении срока. Как писал впоследствии Харрис, Уайльд
ответил: "Жалобы свои я мог бы перечислять бесконечно. Хуже
всего то, что меня постоянно наказывают без всякой вины; началь-
ник тюрьмы любит наказывать людей, а меня он наказывает лише-
нием книг”. Главным, чего он боялся, было сумасшествие. "Если
ты сопротивляешься, они сводят тебя с ума”, — сказал он, имея
в виду темный карцер, куда его, видимо, не раз сажали на хлеб
и воду. Из телесных недомоганий он назвал постоянную боль в ухе
после уондсвортского падения. Харрис спросил его, почему он
не обратился за врачебной помощью. Уайльд ответил, что ни врач,
ни надзиратель не побеспокоятся из-за какого-то там уха — он
достаточно хорошо изучил тюремные порядки, чтобы это понять.
Под конец свидания он настойчиво попросил Харриса никому
не говорить о его жалобах; иначе, боялся он, его накажут.
Харрис все же сообщил часть полученных сведений Рагглз-
Бризу, а Уайльд тем временем написал и отправил в Министерство
внутренних дел петицию от своего имени; Айзексон, разумеется,
сопроводил ее заключением тюремного врача о необоснованно-
сти страхов Уайльда перед душевным заболеванием и его жалоб
на телесные недуги. Тем не менее общими усилиями Харрис
и Уайльд сумели подвигнуть власти на некоторые действия. Мини-
стерство направило в Рединг комиссию из пяти человек (в нее
вошли Кобем, Тереби, Палмер, Хантер и Хей). Возможно, именно
тогда за Уайльдом, находившимся в лазарете, незаметно подгляды-
вали; как обычно, получив возможность говорить, он использовал
ее сполна, очаровывая других пациентов и не выказывая особых
признаков недомогания. В отчете, датированном 10 июля, комис-
сия сообщила, что потеря рассудка Уайльду не грозит и что он
несколько прибавил в весе. Но Рагглз-Бриз на этом не успокоился;
он поручил доктору Николсону, обследовавшему Уайльда в Уондс-
ворте, провести независимое обследование, и Николсон в своем
20 - 5556
заключении выказал достаточное беспокойство, чтобы министер-
ство 25 июля согласилось предоставить Уайльду дополнительные
книги и — наконец-то — письменные принадлежности. Что еще
более важно, подполковника Айзексона перевели в Льюисскую
тюрьму, а его преемник майор Дж. О. Нельсон оказался челове-
ком совсем иного склада. Одним из первых его поступков в новой
должности был приход к Уайльду со словами: “Министерство уве-
личило вам квоту на книги. Может быть, вам понравится вот эта —
я только что прочел ее сам”. Уайльд расплакался. Позднее он сказал,
что Нельсон “из всех, кого я знал, ближе всех стоит к Христу”.
При Нельсоне Уайльд научился отличать Рединг от дантов-
ского Ада. Наконец-то его воображение смогло выйти за пределы
тюремных стен. Он не мог питать больших надежд на сокраще-
ние срока — этому препятствовали как характер правонарушений,
так и известность правонарушителя, — но он был в состоянии,
по крайней мере, мечтать о том дне, когда вместо номера камеры
он вновь обретет человеческое имя. Сохранились три списка
заказанных им книг, и по этим спискам видно, как его внимание
постепенно переходило от жизнеописаний святых к земным мате-
риям. Намерение систематически изучать итальянский, причем
не только ради чтения Данте (он заказал французско-итальянский
разговорник), говорит о том, что его стали посещать мысли о буду-
щем; он захотел также освежить в памяти немецкий, который учил
в детстве, но изрядно подзабыл. По его выходе из Рединга началь-
ство получило возможность написать в отчете, что он освоил
в тюрыме два языка. Уайльд, видимо, чувствовал, что в последую-
щей эмигрантской жизни эти языки ему пригодятся.
Первый список был подготовлен очень быстро и представлен
майору Нельсону, который 28 июля препроводил его в Министер-
ство внутренних дел, отметив в нем наименования, которые он
счел неподходящими для тюремной библиотеки. Список пока-
зывает, что Уайльд в тот момент тяготел к весьма возвышенному
чтению. Исправленный список был одобрен министерством
с тем условием, что суммарная стоимость книг не будет превы-
шать 10 фунтов (годичная тюремная квота на эти цели). Второй
список (написанный не рукой Уайльда) был представлен Нельсо-
ном 3 декабря 1896 г. и одобрен министерством 10 декабря после
того, как Мор Эйди обязался взять покупку книг на себя. Пере-
численные в нем произведения носят исключительно светский
характер. Третий список, написанный Эйди, датирован мартом
1897 г., когда Уайльд уже предпочитал классике новинки, желая
наверстать упущенное за время заключения. Он жалел, что книги,
купленные его друзьями, приговорены к “вечному заточению”, —-
таково было условие, поставленное министерством. Впоследствии,
610
правда, книги пропали из тюремной библиотеки. Одна из них —
сборник эссе Пейтера — находится в частном собрании.
Сколь бы ни были важны книги, письменные принадлежности
были еще важнее. При подполковнике Айзексоне Уайльду давали
перо и чернила только для того, чтобы писать адвокатам и в мини-
стерство, а также, в рамках мизерной квоты, — друзьям. Написан-
ное забиралось у него и прочитывалось; оставлять у себя письмен-
ные принадлежности ему не позволяли. Но благодаря заключению
доктора Николсона майор Нельсон разрешил Уайльду держать
у себя перо и чернила постоянно. Поначалу, однако, то, что он
писал, по-прежнему забирали у него вечером и на следующий
день не возвращали. Вначале ему давали отдельные листы бумаги,
но позднее он получил тетрадь. Холдейн надеялся, что он напи-
шет о своем заключении, но Министерство внутренних дел явно
не хотело, чтобы тюремные впечатления становились достоянием
гласности. Для того чтобы написать что-либо чисто художествен-
ное, ситуация также была неподходящей; даже если бы Уайльд был
в тюрьме на это способен, он не смог бы держать в памяти подроб-
ности целой пьесы.
Письма
Это самое важное письмо в моей жизни.
Поэтому Уайльд разработал план, требовавший содействия май-
ора Нельсона. Он решил написать письмо Альфреду Дугласу, что
было разрешено правилами, но сделать это письмо, по существу,
автобиографией за последние пять лет. Это будет притча, опи-
сывающая путь человека от удовольствий сначала к страданию,
а затем, в последние месяцы, к душевному возрождению и внут-
ренней победе над болью. В письме найдется место и раскаянию,
и искуплению, и надежде; найдется место и прежней жизни, и vita
nuova1. Майор Нельсон решил, что заключенный может написать
нечто сравнимое с “Путем паломника” Беньяна; по-видимому, он
одобрил намерение Уайльда. Он позволил Уайльду при необходи-
мости брать и исправлять написанное в предыдущие дни, благо-
даря чему письмо было просмотрено и отредактировано Уайльдом
почти целиком; некоторые страницы он переписал полностью,
после чего заменил старые варианты новыми.
1 Новая жизнь (нт.).
611
Уайльд работал над письмом почти три месяца, с января по март
1897 г. Он предлагал озаглавить его “In Carcere et Vinculis”1, но Росс,
отдавая его в печать, внял другому предложению и назвал его “De
Profundis”. При первой частичной посмертной публикации Росс,
щадя чувства Дугласа, скрыл от читателей тот факт, что им пред-
лагается письмо Уайльда к Дугласу, и это привело к непониманию
замысла Уайльда. Поводом к написанию “De Profundis” стало мол-
чание Дугласа, из-за которого Уайльд чувствовал, что им прене-
брегают. После отказа Уайльда принять посвящение стихотвор-
ного сборника Дуглас так и не сделал попытки обратиться к нему
впрямую. Вместо этого он попросил о посредничестве Мора Эйди
и Роберта Росса, с которыми постоянно переписывался. В сере-
дине сентября 1896 г. Эйди ответил ему, что Уайльд непреклонен
в своем желании получить обратно письма и подарки. В письме
от 20 сентября Дуглас, в свой черед, взял жесткий и даже угрожа-
ющий тон:
Дорогой Мор! Благодарю тебя за письмо. Печально было услы-
шать, что Оскар по-прежнему так неразумен и так неблагодарен.
Но я решил не принимать во внимание того, что он заявляет сейчас.
Если он и по выходе из тюрьмы будет продолжать в том же духе —
тогда дело другое, тогда мне, возможно, придется возвысить голос,
чтобы изложить свои доводы и выразить свое возмущение — ведь
от друзей ждать заступничества не приходится. Пока что я про-
молчу; скажу только, что даже на миг не допускаю мысли о передаче
ему чего-либо из моего достояния и хотел бы, чтобы ты, если его
увидишь, сообщил ему об этом с полной прямотой. В моей неуми-
рающей (я употребляю это слово в его прямом значении, а не в том,
в каком так часто употреблял его он, обращаясь ко мне) любви
к нему он может по-прежнему быть уверен — не важно, заслужи-
вает он ее или нет, — но, возможно, стоило бы напомнить ему, что,
если он хочет от меня особого одолжения, то оскорблять и незаслу-
женно обижать человека, который столько ради него сделал и пере-
страдал, — не лучший способ его заслужить. Передай мой горячий
привет Бобби. Неизменно твой
БОЗИ.
О содержании письма Дугласа было немедленно сообщено
Уайльду, который уже 25 сентября писал Эйди в ответ: “Из твоего
молчания я заключаю, что он по-прежнему отказывается возвра-
щать мои подарки и письма. [... ] Ужасно, что он все еще способен
1 В тюрьме и оковах (лат,).
причинять мне боль и испытывает от этого некую извращенную
радость. [...] Он дурной человек”. С прежней быстротой Эйди
написал Дугласу, и тот 27 сентября отвечал ему: “Если он, выйдя
из тюрьмы, захочет сообщить мне, что не нуждается в моей дружбе
и желает получить свои письма обратно, пусть скажет об этом сам,
без посредников”.
Хотя Дуглас впоследствии обвинял Роберта Росса в ковар-
ном предательстве его интересов во время заключения Уайльда,
из переписки видно, что упрекнуть Росса не в чем. В ноябре
1896 г. он заступился за Дугласа, предостерегающе написав
Уайльду, что “горькие чувства”, проявляемые им к Дугласу, могут
уменьшить сочувствие к нему, Уайльду, других людей. В том же
месяце Уайльд посвятил целое письмо ответу на это замечание.
“Не думай, что я виню его в моих собственных пороках, — напи-
сал он Россу. — Он отвечает за них так же мало, как я — за его
пороки. В этом отношении природа была мачехой нам обоим.
Я виню его в пренебрежении к человеку, которого он погубил”.
Он попросил Росса “не давать Альфреду Дугласу повода думать,
что я приписываю ему недостойные намерения. Он вообще
лишен каких-либо намерений. [...] У него одни лишь страсти”.
И все же Уайльд не мог поверить, что Дуглас не почувствует
и не выразит никакого раскаяния; письмо, предвосхищающее
“De Profundis”, кончается достаточно вяло: “Напиши мне, как он
живет, чем занимается, каков его образ жизни”. Росс сообщил
Дугласу о неэффективности своего заступничества и получил
резкий ответ:
Ты, похоже, утвердился в мысли, что Оскар не желает меня видеть.
Ты просто-напросто поверил в то, во что тебе хотелось поверить. Ты
предпочитаешь не замечать моей горячей преданности ему, моей
страстной тоски по нему, которая день и ночь гложет мне сердце. [... ]
Наверняка тебе среди твоих многочисленных похождений случалось
из-за вмешательства добрых друзей и родственников терпеть выну-
жденную разлуку с любимым человеком; это, надо полагать, достав-
ляло тебе страдания. Увеличь эти страдания вдесятеро — и получишь
то, что чувствую я, ввиду всех трагических обстоятельств. Прими
к тому же во внимание ревность, причиняющую самые тяжкие муки.
Ты виделся с Оскаром и можешь увидеться с ним еще, когда захо-
чешь, — остальное тебя не заботит.
Характер Дугласа диктовал ему действия, которые были всего
лишь реакцией на чужие поступки. Эмоционально он был чрез-
вычайно навязчив, а если ему не потворствовали — дико обидчив.
Уайльд написал в “De Profundis”: “Пустив в ход всю чудовищную
617
алхимию себялюбия, ты превратил угрызения совести в бешеную
злость”. В его письмах этого периода нет ничего, кроме само-
оправданий1.
Три с лишним года испытывавший на себе действие капри-
зов Бози, Уайльд должен был понимать, что Дуглас останется
глух к любым нравственным увещаниям; однако он чувствовал
необходимость обратиться к нему ради собственного душев-
ного равновесия и уважения к себе. Как Гамлет Гертруде, он
должен был сказать Дугласу: “Взгляните, вот портрет, и вот
другой”1 2. Он был оскорблен поведением Дугласа как до, так
и после вынесения приговора; Бози не написал ему ни единой
строчки, хотя теперь Уайльд мог достаточно свободно получать
и отправлять письма. Уайльд видел себя благородным оленем,
преследуемым как маркизом Куинсберри, так и его сыном; Дуг-
ласу нужны были его время и деньги, Куинсберри — его репу-
тация и свобода.
Признание в чужих грехах
Тюремная жизнь позволяет увидеть людей
и обстоятельства в истинном свете. И это
может обратить человека в камень.
“De Profundis” — своего рода драматический монолог, в котором
Уайльд постоянно вопрошает молчаливого адресата и принимает
во внимание его предполагаемые ответы. Место, где Уайльд писал
это письмо, располагало к покаянию. Но покаяния в письме
очень мало; Уайльд отказывается признать преступными свои
былые развлечения с юношами и заявляет, что законы, по кото-
1 Примером может послужить письмо Дугласа французской писатель-
нице М. Рашильд, проявившей к нему некоторый интерес:
Всякая попытка встать между человеком и предметом его любви
заслуживает осуждения как беззаконное вмешательство. [...]
Я не чудовище. [... ] Я совершенно здоров и проникнут греческим
духом; те, другие, что называют себя нормальными, — вот они-то
и есть настоящие чудовища и дегенераты. [... ] Я не Дориан Грей,
скрывающий от людских глаз портрет своей испорченной души.
[... ] Если в 27 лет мое лицо кажется лицом 18-летнего юноши, при-
чина в том, что у меня здоровая, прекрасная и безмятежная душа,
хоть и немного усталая и измученная.
2 Гамлет, акт III, сцена 4. Перевод М. Лозинского.
61ф
рым его отправили в тюрьму, несправедливы1. Ближе всего он
подходит к теме гомосексуализма, когда говорит, что в сфере
страсти отклонение от нормы было для него тем же, чем в сфере
мысли — парадокс. Более половины “De Profundis” занимает
признание в грехах, но не столько своих, сколько Дугласовых.
Для характеристики этого молодого человека Уайльд использует
два ярких образа. Первый он взял из своего любимого “Ага-
мемнона” Эсхила: некто вырастил в своем доме львенка, и тот,
повзрослев, уничтожает и хозяина, и его семью. Эсхил сравнил
с этим львенком Елену, Уайльд — Дугласа. Второй образ — это
Розенкранц и Гильденстерн, неспособные постичь трагедию Гам-
лета, поскольку “они всего лишь маленькие рюмочки, вмещающие
свою меру, и ни капли больше”.
Себя Уайльд винил главным образом в том, что он не порвал
с Бози. Тем не менее “De Profundis” — это попытка восстановить
с ним отношения. Признаваясь в былой “слабости”, он приписы-
вает эту свою слабость любви, великодушию, отвращению к сце-
нам, неспособности обижаться и готовности мириться с тем, что
он считал несущественным. Таким образом, слабость его была
силой. Он обнаружил, что боги, карая нас, избирают орудием
не только наши пороки, но и наши добродетели.
Уайльд признает, что и в нем было не только хорошее, но и дур-
ное, что он был “растратчиком собственного гения”. Но его вни-
мание лишь ненадолго задерживается на этом грехе и других,
сопутствовавших ему. По большей части “De Profundis” — это
элегия, оплакивающая утраченное величие. Хлеща свое изваяние,
Уайльд не может сдержать восхищения перед ним. Элегия перехо-
дит в панегирик. Вершина, с которой он пал, представляется ему
высочайшей:
Я был символом искусства и культуры своего века. Я понял это
на заре своей юности, а потом заставил и свой век понять это. [...]
Байрон был символической фигурой, но он отразил лишь страсти
своего века и пресыщение этими страстями. Во мне же нашло свое
отражение нечто более благородное, не столь преходящее, нечто
более насущное и всеобъемлющее. Боги щедро одарили меня.
У меня был высокий дар, славное имя, достойное положение в обще-
1 В 1894 г. он сказал интервьюеру (Олми): “Никогда не следует пытаться
исправить человека. Наказывая кого-либо за проступок с исправи-
тельной целью, мы совершаем самую прискорбную из возможных
ошибок. Если только у него есть душа, мы тем самым делаем его вде-
сятеро хуже, чем он был. Отказ подчиняться силе — не что иное, как
признак благородной натуры”.
(ж
стве, блистательный, дерзкий ум; я сделал искусство философией,
а философию — искусством; я изменял мировоззрение людей и все
краски мира; что бы я ни говорил, что бы ни делал — все повер-
гало людей в изумление; я взял драму — самую безличную из форм,
известных в искусстве, и превратил ее в такой же глубоко личный
способ выражения, как лирическое стихотворение или сонет; одно-
временно я расширил сферу действия драмы и обогатил ее новым
содержанием; все, к чему бы я ни прикасался, — будь то драма, роман,
стихи или стихотворение в прозе, остроумный или фантастический
диалог, — все озарялось неведомой дотоле красотой; я сделал закон-
ным достоянием самой истины в равной мере истинное и ложное
и показал, что ложное и истинное — не более чем обличья, поро-
жденные нашим разумом. Я относился к Искусству как к высшей
реальности, а к жизни — как к разновидности вымысла; я пробудил
воображение моего века так, что он и меня окружил мифами и леген-
дами; все философские системы я умел воплотить в одной фразе
и все сущее — в эпиграмме.
Тюрьма, пишет он, научила его смирению. Это слово упо-
требляется в “De Profundis” в довольно неопределенном значе-
нии. Смирение художника Уайльд видит только лишь в том, что
он “принимает с открытой душой все, что бы ни выпало на его
долю”. Предаваясь наслаждениям, человек должен сознавать, что
придет и час скорби. В определенном смысле Уайльд, можно ска-
зать, знал это всегда. И все же многие побрякушки утратили для
него былую прелесть; в молодости восхвалявший позы и маски,
теперь он отрекается от них, заявляя: “Тем, кто хотел иметь маску,
приходится носить ее”. В Америке он говорил, что секрет бытия —
в искусстве. Ныне ему стало ясно, что “тайна жизни — в страда-
нии”.
Открыв для себя мир страдания, Уайльд затем открывает
и мир утешения. Кульминацией “De Profundis” — как и было,
без сомнения, задумано Уайльдом с самого начала — стала та
часть письма, где он рассказывает, как пришел в тюрьме к Хри-
сту. Здесь он тоже выказывает меньше смирения, чем можно было
ожидать: мало того что Уайльд говорит о Христе без признания
его божественности, — он еще и соединяет христианство с эсте-
тизмом (о своем намерении сделать это он давно еще говорил
Андре Жиду). Христос предстает в “De Profundis” величайшим
из индивидуалистов, явившим собой полное слияние личности
с идеалом, облекшим свои слова в прекрасную форму, превра-
тившим свою жизнь в чудеснейшую из поэм, сотворившим себя
самого силой собственного воображения. Его сочувствие греш-
никам подобно сочувствию Уайльда преступникам, выраженному
616
им в “Душе человека при социализме”; этот Христос не признаёт
иной нравственности, кроме нравственности сострадания. Хри-
стос в “De Profundis” — это предтеча романтического движения,
величайший художник, мастер парадокса; это, можно сказать,
Уайльд, перенесенный в древность. В этой части письма Дуглас
почти позабыт; однако затем Уайльд вновь обращает на него взгляд,
пытаясь претворить то, что открылось ему о Христе, в конкрет-
ный урок другу. Уайльд не удерживается от нового перечисления
грехов отца и сына Куинсберри, однако в духе Христа заявляет:
“И в конце концов мне придется простить тебя. Я должен тебя
простить. Я пишу это письмо не для того, чтобы посеять обиду
в твоем сердце, но чтобы вырвать ее из своего сердца. Я должен
простить тебя ради себя самого”.
Самое важное в “De Profundis” то, что это — любовное
письмо. Уайльд корит любимого за пренебрежение и предлагает
ему воссоединиться. Даже теперь он находит уместным напом-
нить Дугласу, что его родственники обещали возместить ему
судебные издержки; однако денежные дела отходят на второй
план, когда он обращается мыслью к возможной встрече “в каком-
нибудь тихом чужом городке, вроде Брюгге”, где Бози, пришед-
ший к нему некогда, чтобы узнать “Наслаждения Жизни и Насла-
ждения Искусства”, теперь научится у него “тому, что намного
прекраснее, — смыслу Страдания и красоте его”. Ибо, сколь бы
скверно ни вел себя Дуглас, по-своему он всегда любил Уайльда.
Как апология “De Profundis” страдает от всего, что лишает эту
вещь простоты: от наплывов красноречия, от таящегося в сми-
рении высокомерия, от рыхлости построения. Но как любовное
письмо это произведение, где есть и любовь, и ненависть, и забота,
и тщеславие, и философские размышления, обладает всей необхо-
димой связностью, и его следует считать одним из величайших —
и пространнейших — любовных писем за все времена. 3 апреля
1897 г. Уайльд попросил разрешения отослать написанное. Он
понимал, однако, что сразу отправить письмо Дугласу — значит
обречь свой труд на уничтожение; в этом случае описание собы-
тий, приведших Уайльда в тюрьму, не сохранилось бы. Поэтому
он попросил Росса снять с письма копию и лишь затем отправить
оригинал Дугласу. Но Министерство внутренних дел запретило
Уайльду отсылку рукописи; ему было сказано, что он сможет
забрать ее в день освобождения.
Сочинение “De Profundis” было актом восстановления отно-
шений. Отстраняя от себя Дугласа, Уайльд дошел в этом до того
предела, что вновь почувствовал влечение к нему (весьма харак-
терный для него поворот). Столь же резкая перемена произошла
в отношении Констанс к Уайльду. Ранее она вновь обрела на какое-
617
то время любовь к мужу, но после их скорбного и волнующего
свидания в феврале 1896 г., когда она сообщила ему о смерти леди
Уайльд, больше она к нему не приезжала. В ее письмах сочувст-
венный тон сменился негодующим. Болезненной темой стал
не развод (от него она отказалась), а пожизненная доля дохода
от приданого. Согласно брачному договору, Уайльду причиталась
половина этого дохода, и управляющий его имуществом, назна-
ченный после его банкротства, выставил эту долю на аукцион.
Прошел слух, что Куинсберри хочет купить ее, чтобы поставить
Уайльда в полную зависимость от себя, но он не стал этого делать.
Поверенный Констанс предложил за эту долю 25 фунтов, но Росс
и Эйди, перебив его заявку, приобрели се за 75 фунтов. Целью
их было обеспечить Уайльду доход на случай, если жена умрет
раньше него. Юристам Констанс они не доверяли. Дело обросло
большим количеством осложнений, но важно то, что Констанс
пришла к убеждению: друзья мужа действуют против ее интересов.
Ранее она предлагала Уайльду ежегодное содержание в 200 фунтов
после освобождения, а в случае ее смерти — треть дохода от при-
даного пожизненно; остальные две трети отходили их сыновьям.
Теперь, однако, она снизила содержание до 150 фунтов, которые
Уайльд должен был получать до конца дней. Уайльд обвинил Росса
и Эйди в том, что они вмешиваются в его отношения с женой,
провоцируя ее на резкие письма, но впоследствии он признал, что
они, как могли, защищали его интересы и что Констанс неверно
истолковала их действия. В начале 1897 г. он согласился на ее
условия, и в феврале этого года ее поверенный Харгроув приехал
к нему в тюрьму, чтобы получить его подпись на документах, пере-
дающих право опеки над его сыновьяхми Адриану Хоупу. Втайне
от Уайльда Констанс приехала вместе с Харгроувом, но в комнату,
где Уайльд и Харгроув сели за стол, входить не стала. “Дайте мне
взглянуть на мужа в последний раз”, — попросила она надзира-
теля, и он разрешил ей посмотреть в дверной глазок на человека,
которого она некогда любила. В сильном волнении она затем
уехала, сопровождаемая Харгроувом. В подписанных Уайльдом
документах был пункт, согласно которому если он попытается
встретиться с Констанс или детьми без ее разрешения или начнет
вести за границей беспутную жизнь, она вправе лишить его содер-
жания. Возвращение к Бози Дугласу, таким образом, означало бы
для него финансовую катастрофу. Кроме того, по словам пове-
ренного Эйди, Куинсберри грозился в случае их воссоединения
убить одного из них или даже обоих.
618
Редингские разговоры
Все, что он [Риккетс] говорил, и особенно заме-
чание о том, что время в тюрьме идет очень
быстро... раздражало меня до чрезвычайности.
О последних месяцах тюремной жизни Уайльда сохранились вое-
поминания надзирателя, проникшегося к нему дружескими чув-
ствами. Его звали Томас Мартин, и месяцы их общения перед
выходом Уайльда из тюрьмы стали также последними месяцами
Мартина на этой работе. Ввиду близящегося освобождения
Уайльд получил важную привилегию: ему пять месяцев не стригли
волосы. И в других отношениях он постепенно возвращался
к своему прежнему “я”. Мартин подпал под его обаяние. Однажды
Уайльд сказал ему, что остро нуждается в чтении газет. “Я выйду
отсюда настоящим Рипом Ван Винклем”1, — сказал он. Мартин
понял намек и стал каждое утро приносить ему “Дейли кроникл”.
С этим обстоятельством связана записка Уайльда, которую надзи-
ратель ценил и хранил:
Мой дорогой друг! Я хочу сказать тебе только одно — если бы
ты появился в Редингской тюрьме год назад, жизнь моя была бы куда
веселее. Все говорят, что я стал лучше выглядеть — словно помолодел.
И все потому, что у меня появился добрый друг, который носит
мне “Кроникл” и обещает имбирное печенье!
Под этими строками Мартин нацарапал карандашом ответ:
“Неблагодарный какой. Я и обещал, и принес”. Уайльд сказал ему
однажды: “Я ничего не смыслю в арифметике. Знаю только, что
два и два будет пять”. — “Нет, — возразил Мартин. — Только
четыре”. — “Вот видишь, я и этого не знаю”, — улыбнулся Уайльд.
Как-то раз в марте 1897 г. Мартин вошел к Уайльду в камеру
и увидел его лежащим на кровати. “Я провел ужасную ночь, — ска-
зал он. — Внутри все болит, голова раскалывается”. Мартин пред-
ложил позвать врача, но он отказался, заявив, что ему полегчает,
если он выпьет чего-нибудь горячего. До завтрака еще оставался
целый час, и Мартин решил помочь Уайльду. Он согрел немного
мясного бульона, перелил его в бутылку и спрятал ее себе под
форменную куртку, чтобы никто не увидел. Но по пути к Уайльду
его остановил главный надзиратель и принялся обсуждать с ним
какие-то административные дела. Горячая бутылка стала жечь
1 Рип Ван Винкль — герой одноименного рассказа Вашингтона
Ирвинга, проспавший двадцать лет кряду. (Примеч. перев.)
610
Мартину грудь. Когда он явился наконец к Уайльду и расска-
зал о случившемся, Уайльд расхохотался. Мартин рассвирепел
и вышел из камеры, хлопнув дверью. Но к тому времени, как он
принес завтрак, Уайльд уже раскаялся и сказал, что не притронется
к пище, пока Мартин его не простит. “Даже какао не будешь?” —
спросил Мартин. “Даже какао”, — ответил Уайльд, страдальчески
глядя на стакан с напитком. “Ладно уж, чем тебе голодать, лучше
прощу”. — “А если я опять засмеюсь?” — “Тогда уж не прощу”, —
заявил Мартин. На следующее утро Уайльд вручил ему формальное
“Извинение”, написанное в его лучшем кьмористическом стиле.
Мартину оно понравилось, и в ответ на его похвалу Уайльд сказал,
что в тюрьме дал себе зарок никогда больше не смеяться и никогда
больше не писать ничего веселого. “А теперь вот, нарушив одно,
я решил, что надо нарушить и другое”. Потом он переменил тон:
“Я был ярчайшей звездой Комедии, но все это в прошлом. Я дал
себе торжественную клятву посвятить жизнь Трагедии. Если я еще
что-нибудь напишу, эти книги составят библиотеку плача. [...]
Для мира Наслаждений я стану загадкой, для мира Страданий —
глашатаем”.
Слава Уайльда распространилась среди надзирателей, и они
начали приходить к нему с литературными вопросами. Уайльд
потом рассказывал Уиллу Ротенстайну, что один из них спросил
его: “Прошу прощения, сэр, а Чарлз Диккенс, сэр, он счита-
ется великим писателем?” — “Конечно, считается, — ответил
Уайльд. — Ведь он умер”. — “Да, я понимаю вас, сэр, раз он умер,
он стал великим писателем, сэр”. В другой раз тот же надзира-
тель спросил его: “Прошу прощения, сэр, а Мари Корелли, она
считается великой писательницей, сэр?” Этого Уайльд уже не мог
вынести. Положив руку ему на плечо, он произнес: “Не думайте,
что я хочу сказать о ней что-либо плохое в нравственном смысле,
но пишет она так, что ей самое место здесь”. — “Ваша правда, сэр,
ваша правда”, — сказал надзиратель с почтительным удивлением1.
Порой Уайльд вел себя необычно. Однажды, идя по двору
во время прогулки, которую он в “Балладе Редингской тюрьмы”
окрестил “дурацким парадом”, он увидел, как некий заключен-
ный многозначительно на него смотрит, а потом особым обра-
зом складывает руки на лбу. Уайльд мгновенно узнал “знак сына
вдовы”, обязывавший всякого масона прийти показавшему этот
знак на помощь в его беде. Это настолько обеспокоило Уайльда,
что он добился встречи с майором Нельсоном и рассказал о своем
1 Позднее (в декабре 1897 г.) Уайльд писал Леонарду Смизерсу: “Поло-
виной своего успеха Мари Корелли обязана ложному слуху о том, что
она женщина”.
620
затруднении. Тот не стал отмахиваться и снабдил Уайльда очками
с темно-синими стеклами, чтобы он мог носить их на прогулке
и не видеть “знака сына вдовы”.
В другой раз Уайльд услышал во дворе чей-то шепот: “Что вы
здесь делаете, Дориан Грей?” — “Не Дориан Грей, а лорд Генри
Уоттон”, — ответил Уайльд. Заключенный прошептал ему: “Я был
на всех ваших премьерах и на всех ваших процессах”, — словно
эти события имели одну и ту же сценическую природу. Уайльд
выяснил фамилию и адрес этого человека, как и нескольких других
заключенных; после освобождения он послал каждохму небольшой
денежный подарок. Одна из записок Томасу Мартину показывает,
как он получал нужные ему сведения:
Узнай для меня при случае его адрес — он чудесный парень. Но,
разумеется, я ни за что на свете не хочу подвергать такого друга, как
ты, никакому риску. Я хорошо понимаю твои опасения.
“Кроникл” сегодня хоть куда. Если в субботу утром ты выведешь
AS/2 на уборку, я передам ему записку из рук в руки.
Однажды перед посещением службы в тюре?лной церкви он
в разговоре с Мартином высказался весьма откровенно: “Мне
хочется встать там во весь рост и возвысить голос, хочется ска-
зать сидящим вокруг несчастным обездоленным созданиям, что
все это ложь, что они — жертвы общества, которое предлагает им
на выбор либо голод и лишения на улице, либо голод, лишения
и издевательства в тюрьме”.
Между тем его неукротимое воображение стало возвращаться
к библейским сюжетам. В последние месяцы тюрьмы он придумал
несколько новых вариаций на темы священных текстов, которые
он читал и перечитывал в начальный период заключения, когда
из чтения у него была практически одна лишь Библия. Он видо-
изменил историю о Моисее и фараоне в свете своего недавнего
опыта:
После смерти фараона его дочь, увидевшая в свое время младенца
Моисея в корзинке на берегу реки и спасшая его, стала согласно еги-
петскому закону женой своего собственного брата, нового владыки.
И пришла пора, когда Моисей с братом своим Аароном, неся слово
Господне, явился к новому фараону. Великий еврейский чудотворец
превратил жезл в змея и заставил свою руку, посылавшую на Египет
казни, побелеть от проказы. Тут вошла фараонова жена, скорбя из-за
смерти своего первенца и престолонаследника, которого Господь
погубил вместе со всеми первенцами Египта — от человека до скота.
И Моисей заплакал вместе с нею, ибо была она ему как мать; но она
-1
сказала ему: “Когда ты был младенцем, я спасла тебя из вод реки,
кишевшей крокодилами, — и вот, мой младенец взят у меня по тво-
ему слову. Значит, спасая тебя, я убила моего первенца. Я дала ему
жизнь, и я же лишила его жизни, ибо всякий человек убивает того,
кого он любит. Будь я проклята во веки веков! Пошли на меня про-
казу, что появляется и исчезает по воле твоей! Пусть ужалит меня
змей, которого ты рождаешь из мертвой древесины!” И отвечал ей
Моисей: “О ты, что была мне матерью, что спасла меня из вод, кишев-
ших крокодилами! Ни одно из созданий, что страдают и терпят муки,
не нарушает высшей гармонии жизни, ибо тайна жизни — в страда-
нии. Да, оно кроется во всем сущем. Из-за смерти сына твоего фараон
признал силу народа Израильского и отпустит его туда, куда ему над-
лежит идти. Из-за смерти сына твоего рожден будет Сын Божий, как
предуказано в пророчествах. Лишь Господу ведомо, сколько весят
души на весах жизни и смерти. Помни истину истин: миры возве-
дены на страдании; в муках рождается младенец, в муках рождается
новая звезда”.
Другую, нс столь мрачную версию этой истории Уайльд рас-
сказал Риккетсу (возможно, в апреле 1897 г., когда художник при-
ехал к Уайльду в Рединг). Риккетс запомнил восклицание нового
фараона, обращенное к Моисею: “Хвала господу твоему, о пророк,
ибо он убил сына моего, моего единственного врага!” Семейство
Куинсберри явило Уайльду яркий пример того, как стремление
сына к отцеубийству может сочетаться со стремлением отца
к сыноубийству.
Примерно тогда же были сочинены две другие истории;
темой их было предательство. Фигура Иуды интересовала Уайльда
давно — по крайней мере с тех пор, как он назвал Иудой биографа.
В одной из историй Иуда поначалу был любимым учеником Иисуса.
Но затем Иисус призвал Иоанна и Иакова, и нежный Иоанн стал
его любимцем. Иуда страшно взревновал. “Но он любил Иисуса
и веровал в него, и поэтому, давая волю своей ревности, он сделал
это так, чтобы исполнились пророчества и Иисус явил свою Боже-
ственную сущность. Иуда предал, потому что верил и потому что
любил, ведь мы всегда в конечном счете убиваем тех, кого любим”.
Другая история, которую Уайльд вскоре после освобождения рас-
сказал Андре Жиду, звучала примерно так:
После своего предательства Иуда шел, чтобы удавиться,
и по дороге встретил неких апостолов. Увидев в его лице тоску и уны-
ние, они спросили, что его мучит. Иуда ответил:
— Жуткие люди эти священники! Предложили мне за Христа
всего десять сребреников.
— И что ты им сказал?
— Разумеется, я отказался. Но они жуткие люди. Предложили мне
двадцать сребреников.
— А ты что ?
— Ну разумеется, отказался. Но они жуткие, жуткие люди. Пред-
ложили мне тридцать талантов, и я конечно же согласился.
— Понятно теперь, почему ты хочешь удавиться. За такое деяние
любой казни будет мало.
— Да нет, не в этом дело! Сребреники-то фальшивые!
Здесь чувствуется отзвук уайльдовских упреков в адрес Эйди,
Росса, Эрнеста Леверсона и прочих его друзей, которые, как он
считал, предали его денежные интересы, хотя все они, как пред-
ставляется, вели себя безупречно. Продолжая критическую пере-
работку Библии, он взялся и за историю об Ахаве и Иезавели,
имея в виду в будущего сделать из нее пьесу наподобие “Саломеи”.
В его версии Иезавель губит Навуфея, отказавшегося продать
Ахаву свой виноградник, не с помощью лжесвидетелей, как в Вет-
хом Завете, а обвинив его в покушении на ее честь. После его
казни она от души радуется обладанию его виноградником. Уайльд
был не понаслышке знаком с людской безжалостностью.
Словно в подтверждение своему старому высказыванию —
“истина в искусстве отличается тем, что обратное ей тоже верно”, —
он вернулся затем к написанному в 1894 г. плану пьесы, где жен-
щина изображена с гораздо большим сочувствием. Видимо, он
думал о возвращении в мир театра посредством двух пьес — одной
на библейскую тему, другой современной. Действие второй из них
происходит в большом доме, принадлежащем мистеру и миссис
Дэвентри. В обновленной версии плана миссис Дэвентри бого-
творит мужа, но во время званого вечера всем, кроме нее, стано-
вится ясно, что мистер Дэвентри находится в связи с ничтожной
особой, женой другого человека. После ухода гостей миссис Дэвен-
три засыпает в полутемной гостиной на диване; в слабом свете
камина видны лишь ее светлые волосы. Входят Дэвентри и его
любовница; не заметив лежащую, они обнимаются. Миссис Дэвен-
три просыпается и делает невольное движение; любовница испу-
гана, но Дэвентри успокаивает ее: это всего-навсего собачка. Вдруг
раздается стук в дверь; любовницу выследил ее ревнивый муж. Влю-
бленные мечутся, не зная, где спрятаться, но тут миссис Дэвентри
встает с дивана, подходит к двери и впускает ревнивца со словами:
“А мы здесь втроем беседуем у камелька”. Сраженный изысканной
жертвенностью жены, Дэвентри порывает с любовницей.
Уайльд любил рассказывать о женщинах подобные истории.
Он вспоминал, как вела себя его мать, когда его отца обвинили
в надругательстве над пациенткой; вспоминал, как она допустила
к смертному одру мужа женщину под вуалью. Но более всего здесь
отразилось понимание Уайльдом доброты Констанс, мирившейся
с его рабской привязанностью к Дугласу. Вот почему он хотел
назвать новую пьесу “Констанс”.
ВИДЫ НА БУДУЩЕЕ
Надеюсь, за границей найдутся восхитительные
темы для разговоров.
Хотя возникновение новых литературных замыслов убеждало
Уайльда в том, что его разум не пострадал, его планы относи-
тельно будущей жизни не отличались определенностью. Мору
Эйди, приехавшему к нему на свидание 28 января 1897 г., Уайльд
сказал, что сразу по освобождении уедет за границу. По его сло-
вам, ему “хотелось бы на следующее утро проснуться в малень-
кой appartement1 в каком-нибудь французском или бельгийском
городе”, где с ним будут его любимые книги, “в том числе, конечно,
“Искушение святого Антония” Флобера”, и письменные принад-
лежности, чтобы можно было сразу же приступить к литератур-
ной работе. Эйди предложил первые несколько недель провести
в каком-нибудь тихом месте на побережье Бретани. Уайльду эта
идея не понравилась: “Рано или поздно все равно придется выхо-
дить в широкий мир, и лучше сделать это не откладывая”. Эйди
отметил, что Уайльд был в отличном настроении. 27 февраля у него
побывали Эйди, Росс и Леверсон; они тоже увидели, что он стал
бодрее. Причинами улучшения его здоровья было, в частности,
то, что ему теперь раз в день давали мясо, и то, что он стал лучше
спать. Возможно, именно в тот приезд Росс услышал от началь-
ника тюрьмы такие слова: “Выглядит он неплохо. Но как все люди,
не привыкшие к ручному труду и получившие такой приговор, он
не проживет после освобождения и двух лет”.
В апреле и мае он принимал и отвергал один план дальней-
ших передвижений за другим. Была идея поселиться в Брюсселе.
Фрэнк Харрис, посетивший его 7 апреля, предложил махнуть через
Пиренеи в Испанию. Заработав в Южной Африке не одну тысячу
фунтов, Харрис чувствовал себя богачом и посулил Уайльду после
выхода из тюрьмы пятьсот фунтов. Но затем это обещание сошло
1 Квартире (фр.).
624
на нет: у Харриса возникли крупные непредвиденные расходы,
а Уайльд, со своей стороны, почувствовал, что в его теперешнем
состоянии поездка с Харрисом будет чересчур утомительной.
К немалому разочарованию Харриса, он не дал на нее согласия.
Еще один план был поехать куда-нибудь на французское побере-
жье; сначала рассматривалась Булонь, но там как раз находился
Дуглас, поэтому Булонь была заменена на Гавр, впоследствии тоже
отвергнутый. Росс и Эйди, которые оба были католиками, предло-
жили свой план: сначала пожить в монастыре, а потом отправиться
в Венецию.
Но, куда бы ни лежал его путь, надо было запастись всем необ-
ходимым. В апреле он, среди прочего, просил друзей о книгах,
которые написали они сами, и о совершенно необходимых ему
сочинениях Флобера и других его любимых авторов. Все еще рас-
сматривая предложение Харриса, он попросил купить ему учеб-
ную литературу по испанскому языку и испанские пьесы. Другой
проблемой была одежда. Как, например, обстоит дело с его мехо-
вым пальто, проехавшим с ним через всю Америку? К несчастью,
оно осталось у Уилли, и тот заложил его в ломбард вместе с двумя
коврами, двумя дорожными сумками и шляпной коробкой. Оскар
позаботился о том, чтобы с него сняли мерку для новой одежды,
и попросил Росса заказать ему длинное пальто и синий костюм
из сержа у портного по фамилии Доре. Фрэнк Харрис обеспе-
чил его и кое-какой другой одеждой. Мора Эйди Уайльд попро-
сил купить в магазине Хита у Альберт-гейт коричневую шляпу,
восемнадцать воротничков, три дюжины белых носовых платков
(из них дюжину с цветной каймой), несколько темно-синих гал-
стуков в белый горошек и с другим рисунком, восемь пар носков
(“цветных, летних”) восьмого размера, несколько пар перчаток
(тоже восьмого размера! — “у меня очень широкая ладонь”).
В магазине Причарда (Сент-Джеймс) нужно было купить хоро-
шее французское мыло (например, “убиган”, которое в прошлом
там постоянно для него приберегали). Необходимы духи, лучше
всего “кентерберийская лесная фиалка”, и краска для волос “коко-
марикопас”, чтобы избавиться от седины. “По психологическим
причинам я хочу полностью физически очиститься от тюремной
жизни с ее грязью и скверной”.
22 апреля Уайльд направил в Министерство внутренних дел
прошение о том, чтобы его выпустили не 20 мая, когда офици-
ально истекал его срок, а на пять дней раньше. Он надеялся таким
образом избежать встречи с прессой, включая представителей аме-
риканской газеты, предложившей ему за тюремные воспоминания
тысячу фунтов. 7 мая это прошение, как и все предыдущие, было
отклонено. Макс Бирбом предложил отвлечь внимание репорте-
62$
ров специально нанятым экипажем, который должен будет выехать
пустым из тюремных ворот с наглухо задернутыми шторами.
Были и другие заботы. Уайльд все больше сердился на Росса
и Эйди из-за пожизненной доли в приданом и начал подумывать
о том, не лучше ли будет, если по выходе из тюрьмы его встре-
тит Тернер. Но тот написал ему, что все уже обговорено с Эйди
и Стюартом Хедламом, выказавшим в конце тюремной жизни
Уайльда такую же готовность помочь, как в ее начале. Где достать
деньги на первое время? Уайльд попросил напомнить Перси Дуг-
ласу о его прежних обещаниях, но это не привело ни к каким
результатам. Тысячу фунтов, которую два года назад пожертво-
вала Уайльду Адела Шустер, взял на хранение Эрнест Леверсон,
но почти все эти деньги были уже истрачены в интересах Уайльда,
хоть и не всегда с его согласия. То и дело впадая в отчаяние из-за
грядущей нужды, Уайльд, однако, получил помощь от ряда лиц.
Эйди и Росс постоянно ради него хлопотали. Тернер подарил
ему чемоданы с инициалами С.М., означавшими “Себастьян
Мельмот”. Дело в том, что Уайльд по предложению Росса решил
жить за границей под именем этого одинокого скитальца — героя
романа, написанного его двоюродным дедом. Констанс прислала
ему деньги на еду и дорогу. Риккетс дал ему 100 фунтов. Было
решено, что лучше всего ему будет отправиться в Дьеп, хоть там
и много англичан, которые наверняка его узнают.
Его последние дни в тюрьме были омрачены двумя эпизо-
дами. Еще три месяца назад он приметил одного слабоумного
арестанта — А.2.11, бывшего солдата. Всем заключенным было
ясно, что он теряет рассудок, но врачи подозревали его в симу-
ляции, и некий судья-инспектор приговорил его к двадцати
четырем ударам розгой. 15 мая, в субботу, Уайльд услышал доно-
сившиеся из тюремного подвала “отвратительные крики — или,
скорее, мычание”. Уайльд понял, что “там секут какого-то бедо-
лагу”. Оказалось — того самого бывшего солдата; Уайльд узнал
от Мартина, что фамилия его Принс. На следующий день Принс
вышел на прогулку в еще более жалком состоянии, чем обычно;
еще через день он не появился вовсе, а 18 мая, в последний день,
проведенный Уайльдом в Рединге, Принса вновь вывели во двор,
и выглядел он человеком, близким к полному безумию.
Другой эпизод — появление в тюрьме троих мальчиков,
отправленных туда за поимку кроликов, поскольку им нечем
было уплатить штраф. Уайльд увидел их, когда они стояли в ожи-
дании развода по камерам. Он очень хорошо понимал, какой ужас
они переживают и какой голод их ждет. 17 мая он писал Мар-
тину чуть ли не с отчаянием: “Будь добр, узнай фамилию А.2.11.
И еще фамилии детей, которых посадили за кроликов, и вели-
616
чину штрафа. Если я заплачу, их выпустят? Как было бы хорошо
устроить это завтра. Друг мой, пожалуйста, сделай это для меня.
Мне непременно нужно их вызволить”. Мартин и сам испытывал
к ним сочувствие и угостил младшего из них печеньем. За это, как
Уайльд узнал несколько дней спустя, его уволили со службы.
Уайльд был тем более опечален всем этим, что добросерде-
чие майора Нельсона не вызывало у него сомнений. Он был бы
рад поговорить с ним о солдате и мальчиках, предполагая, что он
не знает об обращении с ними, но в последний вечер пребыва-
ния Уайльда в Рединге для этого не представилось возможности.
Несколько дней спустя, однако, ничто не помешало ему написать
в газету “Дейли кроникл” гневное письмо, в котором он, хваля
Нельсона, обрушился на несправедливость тюремных порядков.
Его отъезд был обставлен таким образом, чтобы не привле-
кать к нему внимания зевак, как на платформе в Клапаме во время
перевода в Редиш. Ему не стали сковывать руки наручниками
и позволили одеться в обычное платье. 18 мая начальник тюрьмы
вручил ему его замечательное письмо к Альфреду Дугласу. У ворот
тюрьмы поджидали двое репортеров, и, как писала потом “Нью-
Йорк тайме”, он сказал им, что “не хочет быть в центре внима-
ния, но не хочет и быть забытым”. В сопровождении двух над-
зирателей он отправился в кебе на железнодорожную станцию
Туайфорд. Taivi Уайльд чуть не выдал себя, протянув руки в сто-
рону куста с распускающимися бутонами. “О прекрасный мир!
О прекрасный мир!” — воскликнул он. Надзиратель упрекнул
его: “Нельзя, мистер Уайльд, так все поймут, что это вы. Кроме
вас, никто в Англии не будет так разговаривать на вокзале”.
ЭМИГРАЦИЯ
Глава 21
Узник на свободе
О том, что происходит в жизни, всегда
неинтересно читать.
Видимый МИР
Из Туайфорда Уайльд и двое надзирателей отпра-
вились поездом в Лондон. На станции Уэст-
борн-парк они вышли и поехали в кебе в Пен-
тонвиллскую тюрьму, откуда Уайльда выпустили
на следующее утро. 19 мая 1897 г. в 6.15 утра его
двухлетнее заключение окончилось. Освобождению предшество-
вали переговоры о том, кто будет его встречать. От кандидатуры
Эрнеста Леверсона Уайльд отказался, а Фрэнк Харрис отказался
сам. В итоге встречали Уайльда Мор Эйди и Стюарт Хедлам. Им
удалось избежать встречи с газетчиками, и они отвезли Уайльда
в кебе домой к Хедламу, где бывший заключенный переоделся
и впервые после двух лет тюрьмы выпил кофе. Он говорил о Данте.
Было высказано предложение, чтобы он поехал с Фрэнком Хар-
рисом в Испанию. “Нет, с ним это будет непрекращающийся
футбольный матч”, — возразил Уайльд. Приехали Леверсоны; их
попросили подождать в гостиной. Уайльд, как вспоминала потом
Ада Леверсон, сделал все, чтобы они не испытывали неловкости:
“Он вошел с достоинством короля, вернувшегося из изгнания.
Он много говорил, смеялся, курил сигарету, волосы его были
тщательно уложены, в петлице красовался цветок, и выглядел он
намного бодрее, стройнее и моложе, чем два года назад”. Первое,
что она от него услышала, было: “Сфинкс, это просто чудо, как вы
верно выбрали шляпку, чтобы в семь часов утра встретить друга
после долгой разлуки! Должно быть, вы и не ложились вовсе”.
Потом он обратился к Хедламу: “Я рассматриваю все разно-
образные религии как колледжи в одном грандиозном универси-
631
тете. Католицизм — величайшая и самая романтическая из них”.
И тут же написал письмо иезуитам на Фарм-стрит1, где попросил
дать ему приют на полгода. Посыльному, который отправился
с письмом, было велено дождаться ответа. Тем временем Уайльд
продолжал вести беседу. Он говорил о Рединге так, словно это был
курорт: “Начальник тюрьмы — очень милый человек, а его жена
просто очаровательна. Я прекрасно проводил время в их саду, и они
пригласили меня остаться у них на лето. Они решили, что я садов-
ник. — Он засмеялся. — Неожиданно, правда? Но я, конечно,
не согласился. Я чувствовал необходимость сменить обстановку”.
Он продолжал: “А знаете, какому наказанию подвергаются люди
по дороге “оттуда”? Им не дают читать “Дейли кроникл”! Я умолял их
разрешить мне почитать эту газету в поезде. “Нет! ” — “А вверх ногами
можно?” На это они дали согласие, и всю дорогу я читал “Дейли кро-
никл” вверх ногами — должен сказать, никогда она не доставляла мне
столько удовольствия. Так только и надо читать газеты”.
Вернулся посыльный. Уайльд распечатал и прочел ответ, кото-
рый был отрицательными: они не могут пойти навстречу его минут-
ной прихоти, надо подождать по крайней мере год. “Тут выдержка
ему изменила, и он горько расплакался”, — пишет Ада Леверсон.
Но затем он оправился, словно решив, что на худой конец его
устроит и мирская жизнь. Он поговорил с женой Артура Клиф-
тона (в свое время он подарил Клифтону и его невесте 120 фунтов,
чтобы они могли пожениться) и другими посетителями, которых
он непременно хотел увидеть. В итоге он опоздал на утренний
пароход, отходивший в Дьеп; во второй половине дня он отпра-
вился с Эйди в Ньюхейвен и сел на ночной пароход.
В четыре утра на пристани в Дьепе его встречали Реджи Тернер
и Роберт Росс. Они увидели его еще на палубе среди других пасса-
жиров, и он сошел к ним своей особенной раскачивающейся поход-
кой. Они тоже нашли, что он хорошо выглядит. Подойдя к ним, он
протянул Россу пухлый конверт со словами: “Здесь, мой дорогой
Бобби, находится грандиозная рукопись, о которой я тебе писал”.
Он попросил Росса после перепечатки послать один экземпляр
ему в Дьеп, а другой отправить Дугласу, оставив у себя оригинал.
Он громко смеялся и болтал без умолку. Главной темой его раз-
говоров была Редингская тюрьма, которая, как писал впоследствии
Росс, “уже превратилась для него в некий волшебный замок, эль-
фом-хранителем которого был майор Нельсон. Уродливые башни
с бойницами превратились в минареты, надзиратели — в почти-
тельных мамелюков, а мы сами — в верных паладинов, встречаю-
1 На Фарм-стрит в Лондоне находится католический храм Непороч-
ного зачатия. (Примеч. перев.)
щих Ричарда Львиное Сердце после его заточения”. Друзья доста-
вили его в Сандвич-отель, где его ждал номер, убранный цветами;
на каминной полке лежали все книги, о которых он просил. Росс
собрал для него по подписке 800 фунтов — было чему порадоваться.
Друзья не могли наговориться; наконец, утомленные, они разо-
шлись по номерам спать. Уайльд написал письмо Аде Леверсон, где
поблагодарил ее за радушную встречу и заговорщически сообщил,
что отныне он Себастьян Мельмот. “И еще я решил, что лучше будет,
если Робби назовется Реджинальдом Тернером, а Реджи — Р. Б. Рос-
сом. Пусть уж все живут под чужими именами”.
Так окончилось его тюремное заключение. В последние восемь
месяцев срока, в отличие от первых шестнадцати, Уайльду удава-
лось выйти душой за пределы тюремных стен. Ему, однако, еще
предстояло выяснить, действительно ли он обрел свободу. Он чув-
ствовал себя, как он и предсказывал, Рипом Ван Винклем; но он
был также и Натаниелем из “Яств земных” Жида, переживающим
встречу с жизнью и природой словно впервые, радующимся всему,
что он может видеть, обонять, слышать, ощущать на вкус и осязать.
Возвращение Бози
Как можно больше пиши мне о своем и чужом
творчестве. Куда лучше встречаться на двойной
вершине Парнаса, чем где-нибудь еще.
С написанием “De Profundis” воинственность, которую Уайльд
ощущал в отношении Дугласа, во многом исчерпала себя. Между
мартом 1897 г., когда он передал рукопись начальнику тюрьмы,
и 20 мая, когда он вручил ее Россу на пристани в Дьепе, то, что
еще осталось от этой воинственности, понемногу рассасывалось.
Образ Бози, сколь сильным раздражителем он ни был, не мог вечно
служить Уайльду мишенью для стрел. 13 мая, негодуя на Эйди
и Росса из-за покупки ими пожизненной доли дохода от прида-
ного, чем, по мнению Уайльда, они вбили клин между ним и Кон-
станс, он мстительно заявил в письме злополучному Россу, что был,
возможно, несправедлив к Дугласу. Он словно позабыл о том, что
не кто иной, как Росс, несколько месяцев назад заступился перед
ним за Дугласа. Прежний соблазн не потерял для Уайльда привле-
кательности; невозможно было выкорчевать из души ни любовь
к Дугласу, ни связанную с нею боль. Он одновременно жаждал
и страшился той минуты, когда Дуглас явится к нему, чтобы вер-
нуть подарки и письма. Первое время после освобождения он чув-
^33
ствовал, что не вынесет подобной встречи, и поэтому он сразу же
попросил Росса передать Дугласу, что видеть его пока не хочет,
но готов обменяться письмами.
Послание от Дугласа не заставило себя долго ждать. Ему
известно, писал Бози, что Уайльд переменился к нему, что теперь
он его ненавидит. Но его, Дугласа, отношение к Уайльду осталось
прежним; он просил о встрече. Ответ Уайльда был, по крайней мере
по замыслу, христианским, но Дуглас счел его ханжеским. Уайльд
писал, что не испытывает к Дугласу ненависти, — напротив, он
его очень любит; тем не менее им лучше пока не встречаться. Для
Дугласа это была своего рода провокация, причем из тех, на какие
он всегда бурно реагировал; несколько лет спустя он добьется руки
Олив Кастане, узнав о ее помолвке с его другом. Ранее Дуглас
мирился с тем, что Уайльд, будучи в тюрьме, охотно встречается
и переписывается с Россом, а с ним отказывается; однако он уже
тогда заявлял, что после освобождения Уайльда снова завоюет его
сердце. Своим неприятием Уайльд возбуждал в нем ревность, ярость
соперничества, сознание собственной красоты и неотразимости.
Еще хорошо, что Дуглас не читал тогда “De Profundis” с детальным
перечнем обвинений в его адрес; из-за большого объема письма
Росс смог устроить его перепечатку только в августе и до того
времени должен был держать оригинал у себя. Во время судеб-
ного процесса 1913 г. против Рансома по делу о клевете, когда “De
Profundis” было прочитано вслух от начала до конца, Дуглас заявил
в своих показаниях, что получил от Росса экземпляр уайльдовского
письма и, прочитав сопроводительную записку Росса, бросил само
письмо в камин, не читая. Позднее он, согласно его воспомина-
ниям, спросил Уайльда, как он пришел к мысли написать ему такое
письмо, и Уайльд якобы ответил: “Пожалуйста, не вини меня. Я был
сам не свой от голода и прочих напастей”. Однако впоследствии
Дуглас заявлял, что Росс вообще не присылал ему “De Profundis”.
Дуглас умел подольститься и умел укусить. Он отказывался при-
знать, что ему есть в чем каяться или оправдываться. Он, мол, один
из близких друзей Уайльда оставался в Лондоне в течение всего про-
цесса Куинсберри и до самого начала процесса Уайльда. Он принялся
корить Уайльда за “нечестность и неблагодарность”, за “недостой-
ное его” поведение; он заявил, что тюрьма расстроила его психику.
Его письма Уайльд расценил как “возмутительные”, даже “мерзкие”.
Но Дуглас мог и сменить тон. Через Мора Эйди он прислал Уайльду
“любовное стихотворение”. Уайльд изумился: “Какая нелепость!” —
но нельзя сказать, что был недоволен; страстность Бози, несмотря
на все его безумства, производила впечатление. Переписка шла доста-
точно интенсивно, но запрет на личную встречу оставался в силе,
что уязвляло Дугласа, помнившего об их совместном пребывании
634
в Дьепе в былые дни. Уайльд писал ему в ровном, успокаивающем
тоне, и в какой-то момент Дуглас взял другую линию: он стал про-
сить Уайльда жи гь с ним до конца дней, обещая неизменной предан-
ностью искупить свою и отцовскую вину перед ним.
Последние сочинения
Два долгих безмолвных года душа моя томилась
в оковах. Прежнее еще вернется ко мне, я уверен,
и тогда все будет хорошо.
Уайльд с немалой долей серьезности попытался возродить свою
жизнь из руин. Само собой, он сильно нуждался во всех тех при-
вычных ему благах, которых два года был лишен; но, помимо этого,
он хотел вернуться к творчеству, создать нечто крупное. Все жиз-
ненные возможности, которыми он располагал, были сопряжены
с трудностями, проистекавшими частью из его характера, частью
из его весьма зыбкого общественного статуса. Попытка устроиться
на полгода в католический приют не удалась. Но он мог попробо-
вать вновь утвердить себя в качестве художника. Вняв высказан-
ному в начале его двухлетнего срока предложению Холдейна, он
решил сделать тюрьму своей великой темой. Отказавшись эксплу-
атировать тюремные воспоминания в рамках платной журнали-
стики, он всего через несколько дней после освобождения написал
в “Дейли кроникл” длинное письмо о судьбе попавших в тюрьму
детей. Его не смущало противоречие с его же “Упадком лжи”, где
он критиковал Чарлза Рида за “глупое стремление быть современ-
ным, привлечь внимание общества к состоянию наших тюрем”,
и с его упреком Диккенсу за попытку “возбудить в нас сочувст-
вие к жертвам законодательства о неимущих”. Теперь эти темы
стали занимать и его тоже. За доброту к детям-заключенным его
друг Мартин лишился должности, и в письме он взял Мартина под
защиту и обрисовал тяготы, испытываемые в тюрьме детьми. Он
тщательно обошел в нем свои собственные тяготы и переживания;
с давних пор испытывая нелюбовь к автобиографии, он чувствовал,
что если уж описывать тюрьму, то не следует ставить себя в центр
повествования. Он предполагал написать три эссе — два о тюрьме,
а третье, как было заявлено еще в “De Profundis”, о Христе как пред-
тече романтического движения в искусстве. Как в “Душе человека
при социализме”, Уайльд собирался соединить тюремную тему
с темой религиозной. Дурное обращение с виновными, как и дур-
ное обращение с невинными, противоречило, по его мысли, кано-
635
нам искусства, которые явили миру Христос — высший образец
художника — и Уайльд, его новый апостол. Эти три эссе напи-
саны не были, но Уайльд исполнил-таки свое обязательство поднять
голос в защиту заключенных Пентонвилла, Уондсворта и Рединга:
в следующем году “Дейли кроникл” напечатала второе его письмо,
ставшее его последней литературной работой.
В письмах от 31 мая и 2 июня 1897 г. он упоминает о другом своем
намерении — взяться за пьесу. Это мог быть либо “Фараон”, либо
давно начатая им стихотворная “Флорентинская трагедия”. Письмо
Дугласу от 2 июня, где он побуждает молодого поэта взяться за бал-
ладу, наводит на мысль, что он и сам подумывал о балладе. Между
тем он высказывал и другие идеи. 22 июня на вопрос одного из зна-
комых, чем он занимается, он ответил, что пишет эссе “В защиту
пьянства”, которым намерен шокировать англичан; идея эссе, по его
словам, состояла в том, что “душу нельзя освободить иначе, как через
пьянство того или иного рода”. Он продолжал: “В таком маленьком
городке, как Дьеп, душа может прислушиваться к словам и созвучиям,
впитывать в себя оттенки Великой Тишины. Но нельзя же всю жизнь
прожить в Дьепе. И Великую Тишину не всегда легко отыскать. А вот
официант с подносом неизменно к вашим услугам. Стучите, и отво-
рят вам — отворят дверь в искусственный рай”.
Это, конечно, была всего-навсего пьяная болтовня в духе Бод-
лера; возможно, она потому была необходима Уайльду, что как раз
в то время он взялся за произведение, выдержанное в патетиче-
ском ключе. Мысли его занимала “Баллада Редингской тюрьмы”
(название предложил Росс). “Своим вдохновением он был обязан
прокуратуре ее величества”, — сказал о ней судья во время одного
из процессов по искам Дугласа о защите от клеветы. В центр бал-
лады Уайльд решил поставить конногвардейца Вулдриджа, про-
водя в то же время параллель между Вулдриджем и самим собой:
Мы встретились, как в бурю, в море,
Погибшие суда.
Без слов, без знака — что могли бы
Мы говорить тогда?
Мы встретились не в ночь святую,
А в яркий день стыда.
Тот и другой в глуши тюремной
Людской отбросок был,
Нас мир, сорвавши с сердца, бросил,
И Бог о нас забыл,
И за железную решетку
Грех в тьму нас заманил1.
1 Перевод К. Бальмонта.
6)6
Параллель отнюдь не ограничивается этими двумя заклю-
ченными. Подобно Бодлеру, Уайльд настаивал на том, что лице-
мерно-добропорядочный читатель — из того же теста, что и пре-
ступники. Как и в его пьесах, в балладе грех представлен как
нечто, равномерно распределенное по земному шару, тогда как
справедливость распределена отнюдь не равномерно. Конногвар-
деец перерезал жене горло на дороге (в балладе это происходит
в постели); Уайльд дерзко заявляет, что все люди, подобно ему,
убивают любимых: смелые и жестокие — мечом, трусливые —
поцелуем. “Предательство неотделимо от веры, — писал он Аде
Леверсон в 1894 г. — Я то и дело сам себя предаю целованием”1.
В его комедиях грешники неизменно оказываются прощены;
в балладе они, хоть и получают в конечном итоге божественное
прощение, терпят муки от ближних, столь же виновных, как они.
Баллада двойственна по своей теме: с одной стороны, в ней гово-
рится о жестокости преступления, совершенного Вулдриджем,
и о всеобщем характере подобной жестокости; с другой — о еще
более страшном преступлении, совершаемом обществом, когда
оно наказывает убийцу за содеянное.
Уайльд начал работу над балладой 8 июля, и к 20 июля она была,
как он заявил, почти окончена. В августе он с участием Росса внес
в нее поправки; позднее он расширил ее. Дополнения, говорил он,
нужны для того, чтобы показать бесчеловечность пенитенциарной
системы; он понимал, что поэзия в его балладе соединена с публици-
стикой, но готов был ради изменения того, что считал нетерпимым,
смириться с некоторым художественным несовершенством. “Ката-
строфы в жизни влекут за собой катастрофы в искусстве”, — сказал
он О’Салливану. Росс неизменно предпочитал первый, более ком-
пактный вариант баллады, а Йейтс, составляя свою “Оксфордскую
антологию современной поэзии”, убрал почти все декларативные
фрагменты, чувствуя, что сила этой вещи заключена главным обра-
зом в самом повествовании. Но Уайльд претендовал на большее. Он
сказал Крису Хили: “Это не песнь Аполлона, а стенание Марсия.
Я исследовал до самых глубин почти все, что может испытать чело-
век, и пришел к выводу, что наш удел — страдание. Иной раз оно,
как тигр, хватает тебя за горло, и балладу мою я сочинил [точнее
говоря, задумал], находясь в самом средоточии боли. Лицо этого
человека будет преследовать меня до конца моих дней”.
Сильнейшие места баллады — те, где речь идет о смертнике
и о тюрьме, слабейшие — те, где возникают такие начинающиеся
с заглавных букв абстракции, как Грех и Смерть, где видны образ-
ные заимствования из “Сказания о Старом Мореходе” Колриджа.
1 Ср. евангельское: “Целованием ли предаешь Сына Человеческого?”
(Лк. 22: 48).
В лучших строфах яркие конкретные детали и разговорный язык
весьма убедительны:
Я шел с другими страдающими душами, В другом кольце, И раздумывал, что же он совершил — Большое или малое, Но вдруг у меня за спиной раздался шепот: “Вон того скоро вздернут”. Со всегдашней полуночью в сердцах, Со всегдашними сумерками в камерах Мы крутим рукоятку, мы рвем на паклю канат, Каждый — в своем отдельном аду, И тишина намного ужасней, Чем звук медного колокола.
Уайльд сознательно подражает Колриджу как в строфике1, так
и в образности, хотя делает упор не на всеобщей любви, а на все-
общей вине: О боже! Стены, задрожав, Обрушились вокруг, И небо стиснуло мне лоб, Как раскаленный круг, Моя погибшая душа Себя забыла вдруг. Свет звезд потух, пропел петух, Но полночь не ушла; Над головой во тьме ночной Сходились духи зла, Да ужас, разевая пасть, Смеялся из угла1 2.
Он называл это: “перекиплинговать Хенли”.
“Желтый лик Рока” и то, что никто не может знать, “в каком
красном аду может очутиться его незрячая душа”, — образчики
1 Поэма Колриджа содержит ряд шестистрочных строф. (Примеч.
перев.)
2 Перевод Н. Воронель.
638
вычурных мест, каких в балладе немало (второй пример взят
из расширенного варианта). И все-таки, пусть даже прав майор
Нельсон, который написал Россу, пославшему ему, возможно,
из страха перед иском со стороны тюремных властей экземпляр
баллады до публикации, что это “немыслимая смесь хорошего,
дурного и никакого”, — тем не менее Уайльду вновь удалось
коснуться великой темы и оставить на ней отпечаток своей инди-
видуальности:
Не в красном был Он в этот час,
Он кровью залит был,
Да, красной кровью и вином
Он руки обагрил,
Когда любимую свою
В постели Он убил1.
И пусть даже, как часто в жизни, ему недостало сдержанности
и он слишком разукрасил свою балладу, краткая версия, как пока-
зал Йейтс в предисловии к своей “Оксфордской антологии”, —
это почти великое творение. Раз прочитанная, баллада врезается
в память накрепко.
Это было единственное художественное произведение, кото-
рое он смог создать после тюрьмы. Он испытывал определен-
ные сомнения из-за того, что источником баллады послужил его
личный опыт, “ибо это во многом противоречит моей фило-
софии искусства. Надеюсь все же, что вещь хороша, хотя крик
петуха я сам слышу каждую ночь... так что, боюсь, это измена
самому себе, и я плакал бы из-за этого горькими слезами, если бы
не выплакал уже всех слез”. Но в идейном плане баллада не шла
вразрез с тем, что он писал до той поры. Тема “Баллады Рединг-
ской тюрьмы” очень близка к теме поэмы “Humanitad” из его
первого сборника 1881 г. Написав “Балладу”, он вновь утвердил
себя в литературе и доказал, что, несмотря на длительный пере-
рыв, сохранил творческую мощь. Тем же летом он написал еще
и краткий очерк о своем бывшем друге Хенли для анонимной
публикации в книге рисунков Уилла Ротенстайна рядом с портре-
том писателя. Уайльд свел здесь воедино несколько своих старых
и новых парадоксов:
Он основал школу и пережил всех своих учеников. Он всегда
слишком много думал о себе, что мудро, и слишком много писал
о других, что глупо. Его проза — прекрасная проза поэта, его стихи —
1 Перевод Н. Воронель.
639
прекрасные стихи прозаика. У него властная натура. Беседа с ним
есть испытание не только интеллектуальное, но и физическое. Его
никогда не забывают враги и часто прощают друзья. Он обогатил
нашу речь несколькими новыми словами, но стиль его тривиален. Он
хорошо боролся и изведал все трудности, кроме славы.
Хотя Максу Бирбому понравилась и характеристика стиля
Хенли как “тривиального”, и все прочее, он согласился с Ротен-
стайном в том, что Хенли сочтет характеристику оскорбительной
и мигом поймет, кто ее автор (в печать пошла подпись к портрету,
сочиненная Бирбомом).
Сельские радости
Цивилизации поддерживаются ненавистью,
которую испытывают к ним люди. Современный
город — полная противоположность тому, чего
все желают.
Помимо баллады и очерка о Хенли, Уайльд отдал должное и радо-
стям жизни. Он с легкостью отхватывал кусок за куском от вось-
мисот фунтов, собранных для него друзьями. Будучи стеснен
в средствах, он всегда тратил деньги с особенной расточитель-
ностью. Конечно, бывали у него и скучные промежутки между
посещениями друзей, а в их присутствии ему порой приходилось
мириться с молчаливыми упреками в праздности и покровитель-
ственным сочувствием к его былым страданиям. Слишком мало он
ценил в прошлом преимущества совместной жизни с неизменно
заботливой и любящей Констанс.
Даже в те периоды их брака, когда он не видел ее неделями, она
обеспечивала некую стабильность, на фоне которой он мог воль-
ничать. Преданность друзей, особенно Росса, трогала его, но Росс
мог видеться с ним лишь изредка, поскольку в Лондоне у него была
работа, которой его финансовое положение не позволяло ему пре-
небрегать. Неудивительно, что мысли Уайльда часто возвращались
к Констанс и детям. Формально она по-прежнему была его женой.
В первый или второй день пребывания в Дьепе он написал ей
письмо, похожее на те послания, что он отправил ей два года назад,
после трех месяцев тюрьмы. Хотя письмо не сохранилось, Констанс
вряд ли лукавила, назвав его “покаянным”. Уайльда мучила мысль
о тяготах, которые он ей причинил, и еще сильнее мучила мысль
о разлуке с детьми. Не попав в католический приют, он возмеч-
бфО
тал о возвращении к роли мужа и отца. В письме он настоятельно
просил Констанс о встрече с нею и детьми, и просьба не оставила
се равнодушной. Но история с доходом от приданого возымела
свои последствия, и Констанс нс была глуха к предостережениям
поверенных о том, что с Оскаром ей теперь будет ничуть не легче,
чем до его крушения. Поэтому она дала ему осторожный ответ,
который не был ни согласием, ни отказом; она пообещала в любом
случае навещать его два раза в год и не исключила возможности его
встречи с сыновьями в будущем. Она хотела дать ему некий испы-
тательный срок. Для Уайльда, нашедшего в себе силы простить
Альфреда Дугласа, отсрочка отпущения грехов с ее стороны была
невыносима. Между тем именно Дуглас был для Констанс, как
и для клана Куинсберри, источником наибольших опасений: кон-
тинент, на котором одновременно находятся он и Оскар Уайльд,
может оказаться слишком мал для vita nuova. Тем не менее она раз
в неделю писала мужу добрые письма, не содержавшие прямого
отказа в будущем свидании, о котором он продолжал просить.
Из письма их общего друга Карлоса Блэккера Уайльд узнал то,
о чем Констанс в своих письмах умалчивала: она больна. Заболева-
ние спинного мозга, начавшееся после падения на лестнице в доме
на Тайт-стрит, стало распространяться, и врачи считали необхо-
димой повторную операцию, исход которой, однако, был неясен.
В конце июля Уайльд, который, видимо, еще не представлял себе,
насколько серьезно она больна, предложил ей приехать с Сирилом
и Вивианом к нему в Дьеп, после чего он вернулся бы в семью.
Констанс через Блэккера попросила его подождать до тех пор, пока
она устроится в Нерви после переезда. Как Уайльд впоследствии
сказал Дугласу, она к тому же поставила ему некоторые условия,
а Шерард утверждал, что одно из писем Уайльду от ее поверенных
было выдержано “в пренебрежительном тоне”. Стараясь добиться
от Констанс примирения, а от Дугласа — отсрочки, Уайльд остро
чувствовал контраст между ее сдержанностью и рвением Дугласа.
Всегда склонный, очутившись перед альтернативой, искать
tertium quid1, Уайльд начал обдумывать еще один план, в кото-
ром не фигурировали ни жена, ни возлюбленный. Почему бы
не остаться на французском побережье? Правда, Дьеп, как он
и опасался ранее, был для него не лучшим местом. Сколь пылко
ни приветствовали его друзья, многие английские туристы смо-
трели на него косо. Вскоре он обнаружил, что не может поло-
житься на пресловутое “братство” коллег-художников, которые
порой были столь же лицемерны, как обыватели, в своем ничем
не обоснованном предпочтении Мессалины Спору (по выраже-
1 Нечто третье (лат.).
21 -5556
нию Уайльда), то есть гетеросексуального разврата гомосексуаль-
ному. Именно в то время в Дьепе было немало людей искусства,
в том числе трое англичан и один француз, с которыми он был
хорошо знаком: Уолтер Сиккерт, Чарлз Кондер, Обри Бердслей
и Жак Эмиль Бланш. Все они с таким рвением строили из себя
богему, что превратились в своего рода педантов. Сиккерт, имев-
ший причины быть благодарным Уайльду за многие услуги ему
самому и его родным, теперь не пожелал с ним знаться. Берд-
слей и Кондер, идя по улице вместе с Бланшем и зная, что Бланш
не прочь выразить Уайльду сочувствие, увели Бланша в переулок,
чтобы предотвратить встречу. Уайльд, возможно, не заметил тогда,
как им пренебрегли, хотя обычно он такое замечал, и вскоре, сидя
за столиком перед кафе “Сюисс”, помахал Бланшу, который шел
мимо по улице (на этот раз с Сиккертом). Бланш познакомился
с Уайльдом еще в 1883 г., когда написал молодую женщину, чита-
ющую стихотворный сборник Уайльда, и все эти годы они были
друзьями. Но теперь он предпочел не заметить поданный Уайль-
дом знак и прошел мимо. Уайльд страшно оскорбился и больше
не пытался возобновить знакомство.
Что касается Бердслея, который был обязан Уайльду мно-
гим, он заявил, что не станет иллюстрировать альманах “Желтая
книга”, если Уайльд будет включен в число его авторов. В то время
он получал денежную помощь от Андре Раффаловича, которого
называл Ментором, и этот заклятый враг Уайльда не потерпел бы
возобновления дружбы между писателем и художником. Все же
случай их свел, и 19 июля 1897 г. на званом обеде Бердслей под-
дался чарам Уайльда и у них произошла задушевная беседа. 3 авгу-
ста Уайльд вновь видел Бердслея и уговаривал его “купить шляпу,
более серебристую, чем само серебро”. Позднее Уайльд пригласил
его на обед к себе в Берневаль, но Бердслей пренебрег приглаше-
нием и вскоре перебрался из Дьепа в Булонь, заявив, что не все
обитатели Дьепа ему приятны. “Воистину это было lache1 с его
стороны”, — сказал тогда Уайльд; на пренебрежение Бердслея он
ответил снобизмом: “Будь он человеком моего круга, я, возможно,
его бы понял. Я не знаю, кого я уважаю больше — тех, кто хочет
меня видеть, или тех, кто не хочет. Но этот юноша — ведь я его
создал! Нет, это было lache со стороны Обри”. “Как чудесно, когда
о тебе говорят все, но с тобой не говорит никто!” — иронически
написал он Аде Леверсон. Он попросил передать рани Саравака
такие слова: “Как ни ужасны мертвецы, восставшие из могил,
живые, вышедшие из могил, еще ужаснее”.
1 Подло (фр.).
64Z
Из четырех художников лишь Кондер затем все-таки выказал
дружелюбие, преодолев свое первоначальное малодушие; они
с Уайльдом стали часто видеться. Уайльд сравнил манеру речи
Кондера с “изысканной морской дымкой”1. Однако, возможно,
именно приглашение Кондера имело следствием очередное уни-
жение Уайльда. Владелец ресторана, увидев Уайльда в числе чет-
верых посетителей, собиравшихся занять столик, подошел к ним
и заявил, что еды хватит только на троих; им пришлось уйти.
В другой раз в Дьеп для встречи с Уайльдом приехало несколько
молодых французских поэтов с Монмартра; обильный обед, кото-
рым он их угостил в “Кафе де Трибюно”, оказался столь шумным,
что Уайльд потом получил от субпрефекта официальное преду-
преждение о том, что впредь любое нарушение им общественного
порядка повлечет за собой высылку из страны.
Однако находились люди, пытавшиеся возместить Уайльду
душевный ущерб. Фриц фон Таулов, норвежский художник-пей-
зажист, “великан с темпераментом Коро” (так описал его Уайльд),
увидел, как Уайльда оскорбили некие англичане, и нарочито
громко сказал: “Мистер Уайльд, мы с женой были бы чрезвычайно
польщены, если бы вы сегодня согласились отобедать у нас по-
семейному”. С той поры дом Таулова — “Вилла орхидей” — был
открыт для него всегда. Тауловы устроили в его честь званый вечер,
на который, в числе прочих, пригласили мэра Дьепа и председа-
телей городского совета и торговой палаты. Правда, гостей яви-
лось немного. Другим человеком, постаравшимся утешить Уайльда
после испытанного им оскорбления, была миссис Артур Стэн-
нард, писавшая под псевдонимом Джон Стрейндж Уинтер. Хотя ее
чрезвычайно популярная книга “Ребенок Бутла” Уайльду не нра-
вилась (в разговоре с Россом он иронически назвал ее “une oeuvre
symboliste”1 2), он сполна оценил ее учтивость. Она уговорила мужа
вскоре после приезда Уайльда нанести ему визит и пригласить его
пообедать в “особняк де Берри”, где они жили. Чуть позже, увидев,
как с ним пренебрежительно обошлись некие англичане, она пере-
шла улицу, взяла его под руку и во всеуслышание сказала: “Оскар,
пригласите меня выпить с вами чаю”.
В людях, находившихся тогда в Дьепе, отношение к Уайльду
выявляло как худшие, так и лучшие черты; но знаки внимания
1 Ротенстайн писал, что Уайльд восхищался расписанными Кондером
веерами и удивлялся тому, что его не осаждают желающие их купить.
Между тем Кондер, который вечно нуждался, готов был продавать
свои работы по любым ценам. Уайльд заметил: “Кондер — просто
чудо! С каким изысканным хитроумием он уговаривает покупателя,
готового заплатить ему за веер двести франков, согласиться на сто!”
2 Символистское произведение (фр.).
643
не компенсировали ему полностью проявлений людской нетерпи-
мости. К тому же он знал, что за ним следят. Желая предотвратить
встречу с ним своего сына, Куинсберри послал в Дьеп частного
детектива. Уайльд подумал, что мог бы избавиться и от слежки,
и от пренебрежительного высокомерия, уехав из Дьепа. Не зная
толком, куда податься, он нанял экипаж и поехал вдоль побережья,
взяв с собой Росса, который еще оставался с ним после отъезда
Эйди. Запряженная в экипаж белая лошадь была родом из Берне-
валя, и она привезла Уайльда именно в эту деревушку, до которой
от Дьепа было пять миль. Уайльд помнил это место по прежним
посещениям и решил уважить приглашение благородного живот-
ного. Он переехал в Берневаль 26 мая. В захолустной деревушке
у него еще был шанс укрыться под именем Себастьян Мельмот.
В других отношениях он не стеснялся привлекать к себе внима-
ние. Он взял в местном “Отеле де ла Плаж” две лучшие комнаты,
и обрадованный владелец, некто Бонне, тут же поднял цены.
Отель был уютен, кухня — после того, как Уайльд уговорил повара
не подавать ему на обед змеиное мясо, — вполне прилична.
Берневальский эксперимент как будто удался, и месье Мельмот
начал подумывать о том, чтобы обосноваться здесь всерьез. Бонне,
приторговывавший недвижимостью, предложил найти участок
земли и за 500 фунтов построить Уайльду шале с учетом его поже-
ланий. В течение нескольких дней Уайльд носился с мыслью стать
скромным пикардийским домовладельцем. Он написал об этой
идее Роберту Россу, который был тогда его казначеем (хотя вскоре
лишился этого поста); Уайльд доказывал ему разумность соверше-
ния такого шага после окончания первой из задуманных пьес. Росс
расхолаживающе ответил, что Уайльду трудно будет выдерживать
сроки платежей и что в любом случае ему предстоит больше вре-
мени проводить в Париже, чем в Берневале. Уайльд возражал:
Париж ему не подходит, а вот тихий и скучный Берневаль — иде-
альное место для литературной работы. В тот момент Берневаль
и вправду мог показаться идеальным местом: ярко светило солнце,
и Уайльд ежедневно купался в море (в августе погода переменилась,
а с ней и его настроение). Однако, не имея ни пятисот фунтов,
ни оконченной пьесы, он отказался от строительства дома и удо-
вольствовался тем, что с 15 июня 1897 г. снял домик под назва-
нием “шале Буржа”. Он перевез туда книги, подаренные друзьями,
попросил Росса прислать его картины и вообще постарался устро-
иться как можно уютнее. Он позволил себе нанять слугу; под-
бор кандидатуры стал, помимо прочего, развлечением. “Он был
очень сообразительный малый, — сказал Уайльд о первом, кого
он испробовал. — Но потом сделался невозможен. Я сам виноват,
как ни тяжело в этом признаваться. Я купил ему синюю униформу,
644
чего ни в коем случае не следовало делать. И он конечно же мигом
возгордился. Однажды он отправился на бал и там в своей синей
униформе имел грандиозный успех. Само собой, он пожелал
ходить на танцы каждый вечер. По утрам, разумеется, ему хоте-
лось понежиться в постели. Мне приходилось бесконечно долго
дожидаться горячей воды. Однажды утром я встал и сам принес
ему горячей воды. Это помогло, но всего на один день. Так что
пришлось его рассчитать и нанять другого. Следующая моя книга
будет о воздействии на людей синего цвета”.
В течение первой недели уехали сначала Эйди и Тернер, а затем
и Росс; но к раненому берневальскому льву стали наведываться
другие. Люнье-По, чья постановка “Саломеи” в Париже в фев-
рале 1896 г. стала великолепным подтверждением того, что Уайльд
по-прежнему живой автор, попросил у него письмом разрешения
приехать. Ответ, датированный 24 мая, был выдержан в изыскан-
ном стиле: “Автор “Саломеи” просит тетрарха Иудеи удостоить его
чести перекусить с ним завтра в полдень”1. Они говорили о буду-
щей пьесе Уайльда “Фараон”, которую Люнье-По хотел поставить.
Уайльд не расставался с надеждой достойно вернуться на парижскую
сцену пьесой на библейскую тему. Его пыл, однако, поугас, когда
стало ясно, что Люнье-По не имеет возможности ему заплатить.
3 июня прибыли три человека, которых Уайльд окрестил Поэ-
том, Художником и Философом. Это были Эрнест Даусон, Чарлз
Кондер и Далхаузи Янг. Янг был скорее композитором, нежели
философом, но, поскольку он написал эссе “В защиту Оскара
Уайльда”, Уайльд произвел его в философы. Янг и его жена про-
никлись к Уайльду таким сочувствием, что предложили заплатить
за шале назначенную Бонне цену, которая к этому времени вы-
росла до 700 фунтов. Уайльду явно было неловко принимать такой
подарок от человека, в сущности, малознакомого, и он отклонил
предложение. Из троих ближе всех ему был Даусон; Уайльду
нравились его стихи, и он ценил его общество, которым он на-
слаждался не только в Берневале, но и в Арке, где Даусон жил,
и в Дьепе, где они иногда встречались. Дружба быстро станови-
лась все более интимной и, по крайней мере со стороны Уайльда,
приобрела некий эротический оттенок:
Мой дорогой Эрнест! Я добрался благополучно — под холод-
ной белой луной, в час пополуночи... В нашем сближении чувст-
вуется ошеломляющее — нет, скорее закономерное — веяние рока.
Задержись я в Арке еще, я должен был бы оставить всякую надежду
1 Перевод с французского.
645
на освобождение из твоего плена. Почему ты так настоятельно, так
извращенно чудесен?
Увидимся ли мы завтра? [...] Приезжай в венке из виноградных
листьев.
Рассчитываю увидеть тебя не позже чем через десять минут. Я уже
высматриваю зеленый костюм, который так идет к твоим темным гиа-
цинтовым локонам.
Даусон был первым его гиацинтом после Дугласа. Но этот цве-
ток был из числа быстро вянущих, и времени ему было отпущено
немного. В другом письме Даусону Уайльд пишет: “Всю прошлую
ночь ты был чудесен и очарователен”. Возможно, именно в ту ночь
Даусон уговорил его вступить в половую близость с женщиной.
Переспав с дьепской проституткой, Уайльд с неудовольствием ска-
зал Даусону: “Это у меня впервые за десять лет, и, надеюсь, следу-
ющего раза не будет. Ощущение такое, словно жуешь холодную
баранину”. Помолчав, он добавил: “Но расскажи об этом в Анг-
лии, это полностью восстановит мою репутацию”.
Неделю спустя — 10 июня 1897 г. — приехали Уилл Ротенстайн
и Эдвард Стрэнгман. Стрэнгман работал в издательстве, возглавля-
емом Леонардом Смизерсом. Уайльд спросил Ротенстайна о Рик-
кетсе и Шанноне, и тот ответил, что дела у них идут лучше, по-
явились кое-какие доходы. На секунду задумавшись, Уайльд изрек:
“Наверно, теперь, приглашая гостей к ужину, они угощают их све-
жими яйцами”. Он сразу же расположился к Стрэнгману; 11 июня
письмом поблагодарил его за визит, а четыре дня спустя в новом
письме предложил ему встретиться в Париже с Альфредом Дуг-
ласом. Теперь Уайльд писал о Дугласе совершенно иначе, нежели
в “De Profundis”: “Он в высшей степени изысканный и утончен-
ный поэт, обладающий необычайным личным обаянием. Я еще
не видел его после тюрьмы, но намерен позволить ему навестить
меня в скором времени. Наши жизни разделены, но мы горячо
любим друг друга, и наши души соприкасаются на тысячи ладов,
преодолевая отчуждающее пространство”. Стрэнгман действи-
тельно стал другом Дугласа, и не только другом, но еще и креди-
тором, одолжив ему денег на азартную игру (22 июня Дуглас еще
не вернул долг, о чем свидетельствует его письмо с извинением).
Ротенстайн задержался у Уайльда еще на день или два и встретился
с новым гостем — Артуром Краттенденом, только что выпущен-
ным из Редингской тюрьмы. Прожив у Уайльда неделю, Краттен-
ден вернулся в Англию, получив от Уайльда письма к его друзьям
с просьбами помочь бывшему заключенному устроиться на работу.
В июне в Дьеп еще раз приезжал Даусон — теперь на три дня.
16-го числа он пригласил Уайльда на ленч, после чего тот взял его
646
с собой в Берневаль обедать. Даусон в письме назвал состояние
духа Уайльда “превосходным” и продолжал: “Забавно было видеть
в нем противоречие, которого он не сознает: толкуя о своем труд-
ном материальном положении и пользе экономии, на практике он
немыслимо расточителен. Он и не подозревает, что никто в мире,
кроме него, при всем желании не сумел бы так тратить деньги
в этой petit trou de campagne1. Он чудесный человек”. Визит
Уайльда в Булонь к Обри Бердслею был менее удачным: Бердслей
письмом попросил его больше не приезжать.
20 июня под вечер неожиданно явился Андре Жид. Уайльда
не было дома, и Жид смог почувствовать, что такое берневальская
жизнь: в отеле не нашлось никого, с кем можно было бы погово-
рить. В 10.30 наконец подъехал экипаж, и из него вышел месье
Мельмот, “продрогший до мозга костей”. В первый момент ему,
казалось, было не до гостя — он был расстроен пропажей пальто
и винил в этой пропаже павлинье перо, которое слуга принес ему
накануне. Но, выпив горячего грога, он оживился и стал самим
собой; он разговаривал с Жидом не свысока, как в 1895 г. в Алжире,
а запросто, как в 1891 г. в Париже. Жид объяснил Уайльду свой
визит тем, что, будучи последним из его французских друзей, кто
видел его до тюрьмы, он желал быть первым из них, кто увидит
его после освобождения. Ему, вероятно, хотелось знать, сохра-
нил ли Уайльд, побывав в аду, сатанинские черты, которые он нахо-
дил в нем раньше. Ему также не терпелось выяснить, как Уайльд
воспринял явно списанного с него Меналька в “Яствах земных”
(Уайльд показал ему на эту книгу, стоящую у него на полке).
Сидя с Уайльдом у камина, Жид обратил внимание на красную,
обветренную кожу его лица и особенно рук, хотя на пальцах
у него были все те же кольца1 2. Они вспоминали об их последней
встрече в Алжире, и Жид напомнил Уайльду, что он тогда пред-
рек свою собственную катастрофу. Уайльд отозвался: “Конечно,
конечно! Я знал, что будет катастрофа того или иного рода. [...]
Этим должно было кончиться. Представьте себе: идешь, а дальше
пути нет. Так не могло продолжаться”. Затем он описал некото-
рые из своих тюремных невзгод. “Тюрьма полностью меня изме-
нила, — сказал он. — Я рассчитывал на нее в этом”. Он заме-
тил, что их общий друг Дуглас, которого они часто поминали
1 Деревенской глухомани (фр-).
2 Уайльд носил на каждом мизинце по кольцу с изумрудом и выграви-
рованными каббалистическими знаками. Кольцо на левой руке он
считал причиной всех своих удач, кольцо на правой — причиной всех
бед. На вопрос, почему он продолжает носить кольцо на правой руке,
Уайльд ответил: “Чтобы жить счастливо, человек должен иногда тер-
петь беды”.
647
в тот вечер, ошибается, полагая, что Уайльда настроили против
него английские друзья, в особенности католики Росс и Эйди.
Нет, переменой в себе он обязан тюрьме. Он не может вести
такую же жизнь, как раньше. В прежней своей манере он заявил:
“Моя жизнь подобна произведению искусства. Художник никогда
не начинает дважды одно и то же”. Он сказал, что поедет в Париж,
но не раньше чем напишет пьесу и сможет предстать не бывшим
заключенным, а действующим драматургом.
Жид заговорил о Достоевском, отбывшем четыре года каторги
и написавшем “Записки из мертвого дома”. Уайльд сказал, что его
теперь восхищают русские писатели, восхищают своей жалостью
к несчастным людям, которой напрочь лишен, к примеру, Флобер.
Для Уайльда это был совершенно новый взгляд. Именно жалость,
сказал он, удержала его от самоубийства; сострадая собратьям
по заключению, он отвлекался от мыслей о себе. Дуглас, сказал он,
не понимает его душевного состояния и хочет видеть его злым
и желчным — но он очистился от злости и от желчи. При этом
он способен понять состояние Дугласа. “Я в каждом письме ему
повторяю: мы не можем идти одной дорогой. У него свой путь,
путь прекрасный. У меня — свой. Его путь — путь Алкивиада, мой
теперь — путь Франциска Ассизского”. Жид выказал осведомлен-
ность об этом святом, и Уайльд попросил его прислать лучшую
книгу о нем, какую он знает.
Для францисканцев они легли спать довольно поздно, и утром
Уайльд повел Жида осматривать “шале Буржа”, которое он начал
обставлять. Именно там он хотел написать вначале “Фараона”,
а затем “Ахава и Иезавель”; сюжеты этих пьес он “восхитительно”,
по словам Жида, рассказал ему. Провожая гостя на поезд, Уайльд
вдруг заговорил о “Яствах земных”; ранее он отозвался об этой
книге лишь в общих выражениях. “Милый мой, — сказал он
Жиду, — вы должны мне кое-что пообещать. “Яства земные” —
прелестная вещь... прелестная... Но обещайте мне, дорогой мой,
с нынешнего дня отказаться от местоимения “я”. В искусстве
не может быть первого лица”.
В подобных встречах прошли июнь и июль 1897 г. В большин-
стве своем друзья сами платили за постой в “Отеле де ла Плаж”,
однако Даусон занял для этого деньги у Уайльда. Прошли месяцы,
прежде чем один неимущий писатель вернул долг другому. Тем
не менее Уайльд неизменно защищал Даусона. Когда кто-то посе-
товал, что он пьет слишком много абсента, Уайльд пожал плечами:
'Если бы он не пил, он не был бы собой. Человека надо принимать
таким, каков он есть. Не то беда, что поэт пьет, а то беда, что не все
пьяницы поэты”. Некий молодой французский прозаик несколько
недель жил в берневальской гостинице за счет Уайльда, а некий
648
французский поэт занял у него денег на возвращение в Париж
и в уплату долга прислал потом не чек, а сонет. Из-за таких трат,
как и из-за увеселений, подобных празднованию 22 июня шести-
десятилетия правления королевы Виктории, 800 фунтов довольно
быстро таяли. В день юбилея Уайльд, который, несомненно, тоско-
вал по сыновьям, устроил пир для пятнадцати берневальских маль-
чиков, пригласив на него еще и кюре, почтальона, учителя и про-
чих видных людей деревни. Он велел Бонне украсить банкетный
зал “Отеля де ла Плаж” цветными фонариками и английскими
флагами. Дети получили клубнику со сливками, абрикосы, шоко-
лад, пирожные и гранатовый сироп. На огромном глазированном
торте красовалась розовая надпись: “Юбилей королевы Викто-
рии”, окруженная венком из зеленых и красных розочек. Каждого
из детей заранее спросили, что он хочет получить в подарок, и все
выбрали музыкальные инструменты: шестеро — аккордеоны,
пятеро — трубы, четверо — рожки. Почтальону тоже был подарен
аккордеон. Гости пели “Марсельезу”, водили хоровод; потом они
сыграли Уайльду “Боже, храни королеву”. Уайльд произнес тост
в честь королевы, затем предложил выпить за Францию, “мать всех
художников”, и наконец за президента Французской республики,
после чего дети закричали: “Да здравствуют президент республики
и месье Мельмот!”
Королева Виктория внушала Уайльду почтение и раньше.
Он называл ее одной из трех великих личностей XIX в., наряду
с Наполеоном и Виктором Гюго. У Фрица фон Таулова на сле-
дующий день после юбилейного празднества он сказал, что она
восхищает его не как олицетворение империи, а как человек. Его
спросили, видел ли он ее, и он ответил утвердительно и с вос-
торгом описал ее лицо (“рубин, оправленный в черный янтарь”),
походку и величественную хманеру держаться1. После тюрьмы
1 Разговоры Уайльда в передаче слушателей часто теряют в остро-
умии; представление о том, как он говорил, скорее могут дать его
письма. Вот, например, как он пишет Россу о своем “паломниче-
стве”:
Завтра я отправляюсь в паломничество. Я всегда хотел стать
пилигримом и решил завтра рано утром двинуться к свя-
тому месту — храму Notre Dame de Liesse. Знаешь, что такое
Liesse? Это старинное французское слово означает “радость”.
Видимо, происходит оно от Letizia, laetitia. Я случайно услы-
шал об этом храме — или, скорее, часовне — сегодня вечером
из уст нашей милой трактирщицы, которая желала бы, чтобы
я остался в Берневале навсегда! Она говорит, что Notre Dame
de Liesse — Богоматерь Радости — творит чудеса, что она
открывает каждому тайну счастья. Не знаю, много ли времени
займет путь к этой святыне, — ведь идти придется пешком.
По ее словам, ходу туда по меньшей мере шесть-семь минут,
649
политические взгляды Уайльда, как и Достоевского, стали гораздо
менее радикальными; он продемонстрирует это во время Англо-
бурской войны своей горячей поддержкой англичан.
В конце июля и августе были новые визиты. Приехал Чарлз
Уиндем, горя желанием заключить с Уайльдом договор на новую
пьесу. Если же он не расположен сейчас к оригинальному твор-
честву — можно перевести пьесу Скриба из времен королевы
Анны. Уайльд потребовал дать ему полную свободу в переработке
пьесы, против чего Уиндем конечно же не возражал, но Уайльд
капризничал и в сентябре вышел из игры совсем, заявив, что у него
не то состояние духа, чтобы писать комедию. Он подумывал о том,
чтобы окончить “Святую блудницу”, но и этого не смог. Были
и другие деловые предложения — например, от Фернана Кео
писать еженедельные заметки для “Журналь”. Но, желая скло-
нить его к этому, Кео возьми и скажи: “После ваших процессов
и вызванной ими шумихи эти заметки будут иметь огромный
успех”. Уайльд сухо ответил: “Мне достаточно моих прежних
успехов”. Винсенту О’Салливану он заявил: “Уж лучше я снова
начну шить мешки”. Винсент О’Салливан был молодой писатель,
которого Уайльд до тюрьмы знал лишь поверхностно. Поначалу
они не слишком хорошо поладили: Уайльд нашел, что О’Салливан
видит все в замогильном свете, а О’Салливан, в свою очередь,
осмелился заметить Уайльду, что в его пьесах слишком много титу-
лованных лиц. “На жителя колоний с титулом рыцаря вы согласны
хотя бы?” — раздраженно спросил его Уайльд. Но О’Салливан
несколько исправился, передав Уайльду суждение о нем Йейтса,
сказавшего, что он прирожденный человек действия. Уайльд заду-
мался, после чего заметил: “Мнение Йейтса о тебе всегда инте-
ресно услышать”. Затем он сказал, что в свое время подумывал
о вхождении в английскую политическую жизнь, но, к сожалению,
она сводится в основном к лозунгам. Он пригласил О’Салливана
приехать еще, и тот приехал.
Леонарду Смизерсу, который стал следующим гостем, суждено
было сыграть важную роль в жизни Уайльда в последний ее
период. Смизерс сменил Джона Лейна в роли главного издателя
уайльдовских произведений, написанных в девяностые годы; они
с Уайльдом обсудили будущую публикацию “Баллады Редингской
и столько же обратно. Правду сказать, часовня Notre Dame de
Liesse находится всего в пятидесяти шагах от отеля! Необык-
новенно, правда? Я пойду завтра сразу после кофе, а потом
искупаюсь. Ты согласен, что это настоящее чудо? Я хотел
отправиться в паломничество — и вдруг маленькая, выстроен-
ная из серого камня часовня Богоматери радости сама явилась
ко мне.
650
тюрьмы”. Уайльда забавлял неуемный интерес Смизерса к эротике
как в жизни (он был любителем “первых изданий” юных девиц),
так и в литературе (он подпольно печатал порнографию).
В августе явились старые друзья — Роберт Росс и Роберт
Шерард. Последний остался не слишком доволен визитом: Уайльд
и Росс забыли задернуть занавески, и он стал свидетелем их эро-
тических объятий (так, во всяком случае, он говорил); кроме того,
Уайльд все время получал от Дугласа телеграммы, из-за которых
пребывал в постоянном напряжении. Его примирение с Кон-
станс, на которое Шерард по-прежнему надеялся, казалось мало-
вероятным. Уайльд явно уловил некое неодобрение со стороны
Шерарда и был с ним ответно прохладен. Вернувшись в Лондон,
Шерард намекнул Смизерсу, которого встретил в “Клубе авто-
ров”, на гомосексуальную атмосферу в Берневале; Смизерс сооб-
щил о разговоре Уайльду, и тот написал Шерарду крайне резкое
письмо. Хотя потом он послал ему свою “Балладу” с запиской,
выдержанной в примирительном тоне, былая близкая дружба так
и не восстановилась.
В этом коловращении отношений связь с Дугласом ока-
залась самой прочной из всех. Очень быстро — еще до конца
мая — в письмах к нему Уайльда холодность и скрытый упрек
уступили место нежности. “Дорогой Бози” превратился в “моего
милого мальчика”. Поначалу, правда, Уайльд встревожился, узнав
из письма Мора Эйди, что 28 мая в газете “Жур” было напеча-
тано очередное интервью Дугласа. Уайльду показалось, что Дуг-
лас губит его во второй раз, и он написал ему предостерегающее
письмо. Скорее всего, именно это послание (оно не сохрани-
лось) Дуглас вернул ему, приложив два стихотворения и желчное
письмо, где он обвинил интервьюера в искажении его слов (как
позднее он обвинит издателей “Ревю бланш” в искажении его
очерка) и сообщил, что, прочтя интервью, он письменно выразил
редактору “Жур” протест и вызвал журналиста на дуэль. Тот отве-
тил, что привел слова Дугласа точно, и извиняться не стал; однако
дуэль так и не состоялась. Уайльд пришел в сильное волнение из-за
интервью (которое было безобидным, в чем он убедился, получив
газету) и из-за дуэли, опасаясь, таким образом, и за себя, и за Дуг-
ласа. Он попросил Дугласа сообщить телеграммой об исходе дела.
В письме, где перемешаны страх, нежный упрек и литературные
рассуждения писателя, знающего себе цену, Уайльд критически
отозвался о двух стихотворениях, которые Дуглас ему прислал,
и посоветовал ему вновь обратиться к жанру баллады. Это было
последнее высказанное им трезвое суждение о Дугласе как о лите-
раторе; впоследствии он неизменно называл его лучшим из моло-
дых поэтов и не терпел возражений.
651
Уайльда не оставляла равнодушным одержимость Дугласа его
персоной. Из всех, кого он знал, только Дуглас не поучал его
и поощрял к возобновлению той жизни, какую он вел до тюрьмы.
Что до прегрешений самого Дугласа, Уайльд в “De Profundis” уже
даровал ему за них формальное прощение. Чередование яро-
сти и любви, которые были сторонами одной медали, оказывало
на Уайльда такое же сильное действие, как встарь. 7 или 8 июня
в письме к леди Куинсберри он попросил ее дать согласие на его
встречу с Дугласом, предложив, по ее словам, некие “условия”.
9 июня она написала Мору Эйди, что не может принять этих
условий (видимо, они имели отношение к денежному содер-
жанию Дугласа); она продолжала: “Мистер Уайльд должен сам
решить, видеться ему или не видеться с Альфредом, не пытаясь
возложить на меня ответственность за свои действия. Покажите
ему, пожалуйста, это письмо”. 12 июня, всего через три недели
после своего прибытия в Дьеп, Уайльд пригласил Дугласа посе-
тить его 18-го числа. Но ему ни в коем случае не следует при-
езжать “к этому странному фиолетовому призраку, что зовется
ныне Себастьян Мельмот”, под своим собственным именем; он
мог бы назваться Жонкиль дю Валлон (то есть “Нарцисс долины”).
Как нежное прозвище Уайльд, видимо, предпочитал это “принцу
Флёр-де-лису”, возмутившему его в тюрьме.
Идиллического воссоединения не получилось. Юрист
Артур Д. Хэнселл, которого Уайльд нанял для защиты своих
интересов в вопросе о приданом, узнал о предполагаемой встрече
и немедленно заявил об отказе иметь с Уайльдом дело. Сооб-
щить Хэнселлу о планах Уайльда и Дугласа мог либо нанятый
Куинсберри детектив, либо сам Куинсберри, либо кто-то еще.
Уайльда уже предостерегали от нового сближения с Дугласом: Кон-
станс была вправе в этом случае лишить его содержания, равняв-
шегося 150 фунтам в год, Куинсберри грозился заявиться в Дьеп
с револьвером. Получив послание Хэнселла, Уайльд в панике теле-
графировал Дугласу: возникло внезапное, ужасное осложнение,
подробности — письмом. Известие о том, что Уайльд испугался
приезда маркиза, вызвало у Дугласа саркастический смех. Одно-
временно Уайльд отправил открытку Россу: “А.Д. здесь нет, и он
не приедет”. В письме Дугласу, датированном 23 июня, Уайльд по-
обещал встретиться с ним, когда он окончит пьесу и вновь станет
“властелином жизни”.
Дуглас был вне себя из-за неожиданного осложнения и обру-
шился на Мора Эйди за то, что он допустил наличие в соглашении
Уайльда с Констанс пункта о возможном прекращении содержа-
ния. Эйди был болен, и Росс вместо него ответил Дугласу, что
Эйди тут совершенно ни при чем, что включение этого пункта
6<2
было продиктовано ходом событий и общим для всех нежеланием
возобновления Уайльдом прежнего образа жизни. Росс настоя-
тельно попросил Дугласа всячески побуждать Уайльда к работе над
пьесой. 20 июня в гневном письме Дуглас заявил, что Росс ревнует
к нему Уайльда. Росс отозвался еще более гневным посланием: хотя
Дуглас располагает куда большими средствами, чем он или Эйди,
именно Эйди, а не Дуглас подарил Уайльду 100 фунтов, и, если
Дуглас с легкостью предлагает Уайльду отказаться от 150 фунтов
в год, он мог бы сам обеспечить его таким содержанием. В этом
случае Уайльд “имел бы двойное удовольствие беспрерывного
общения с тобой и радужных видов на будущее”. Росс приложил
к письму подробный отчет о том, что предпринимали они с Эйди,
показывавший, что не они виновны в возникновении злополуч-
ного пункта.
Взбешенный непривычной прямотой старого друга, Дуглас
в письмах Россу, Эйди и Уайльду ответил очередными выпадами.
Он заявил, что аристократу присуще другое отношение к день-
гам, нежели такому человеку, как Росс. Азартные игры для него,
Дугласа, столь же естественны, как для Росса — умеренность
и бережливость. В письме от 6 июля Уайльд встал на защиту Росса,
красноречиво отвергнув аристократические замашки Дугласа.
В этот момент леди Куинсберри, опасавшаяся воссоединения Бози
с Уайльдом, предложила сыну встретиться в Гавре, Булони или
другом месте — только не там, где находится Уайльд. Она также
выслала Уайльду через Мора Эйди 10 фунтов, частично исполняя
обязательство ее сына Перси возместить Уайльду судебные издер-
жки — обязательство, которое Дуглас назвал “долгом чести”.
В августе переписка между Берневалем и Парижем стала еще
интенсивней. Дуглас говорил Жиду, что Уайльд пишет ему каж-
дый день. Письма Констанс, приходившие раз в неделю, на этом
фоне выглядели тускло. Ей не хватало духу разрешить Уайльду
свидание с ней и сыновьями, о которого он настойчиво просил.
Согласно письму Мора Эйди Адель Шустер от 12 марта 1898 г.,
она “слишком поздно согласилась с ним встретиться, поскольку
ждала возможности устроить эту встречу в отсутствие детей”.
Ей казалось, что свидание с ним причинит им “новый ущерб”.
Уайльд был настолько огорчен ее жесткостью, которую он вос-
принял как бесчувственность, что, вопреки советам друзей,
отказался к ней ехать и, по всей видимости, написал ей, что он
совершенно одинок, что с ним обращаются как с парией, что он
устал от постоянных отсрочек с ее стороны и поэтому намерен
воссоединиться с единственным человеком, готовым протянуть
ему руку дружбы, — Альфредом Дугласом. Он — это стало ей
ясно — считал, что именно она толкнула его в объятья Дугласа.
О ее реакции вспоминал впоследствии их сын Вивиан, писавший
Фрэнку Харрису: “Помню радость моей матери, когда предпо-
лагалось, что он вернется, и помню ее печаль, когда выяснилось,
что у него другие планы”. Как бы то ни было, Уайльд нашел
оправдание своему судьбоносному решению. 24 августа он
написал Дугласу, предложив встретиться в Руане в “Отеле де ла
Пост”.
Дуглас, наконец-то почувствовавший, что роли переменились
и что теперь Уайльд просит о встрече, дал неожиданный ответ:
он не может приехать, потому что у него нет денег. Восстано-
вив свою власть над Уайльдом, он уже не так жаждал свидания.
Уайльд пожаловался Россу на мелочность Дугласа и на отсутствие
у него воображения. Чуть позже Дуглас передумал и телеграфи-
ровал о своем согласии. Они встретились в Руане, скорее всего —
28 августа. На вокзале Уайльд расплакался, они долго держали друг
друга за руки и ушли со станции, тесно прижавшись друг к другу.
Бози сказал, что обещал матери поехать с ней и сестрой на лече-
ние в Экс, и предложил свидеться вновь через полтора месяца
в Неаполе. Переночевав в Руане, они расстались чрезвычайно
тепло. Дуглас затем послал Уайльду любовную телеграмму, и тот
ответил письмом, противоречившим большей части того, что он
написал в “De Profundis”: “ ..быть с тобой — мой единственный
шанс создать еще что-то прекрасное в литературе. Раньше все
было иначе, но теперь это так, и я верю, что ты вдохнешь в меня
ту энергию и ту радостную мощь, которыми питается искусство.
Мое возвращение к тебе вызывает всеобщее бешенство, но что они
понимают? Только с тобой я буду хоть на что-то способен. Воз-
роди же мою разрушенную жизнь, и весь смысл нашей дружбы
и любви станет для мира совершенно иным”.
Это было второе падение Уайльда. Как писал Овидий, “доброе
вижу и сочувствую ему, но влекусь к дурному”. Берневаль
не оправдал его надежд, Констанс не оправдала его надежд, дру-
зья не оправдали его надежд; остался один Бози. На миг Уайльду
могло показаться, что радость жизни, которую не сумел даровать
ему пасмурный ныне Берневаль, возродится в нем под солнцем
Неаполя.
Глава 22
Оставшиеся годы
Герцогиня.
Нам говорят, что полевой цветок
Сильнее пахнет, если он раздавлен,
Чем в поле на стебле, что травы есть
Без запаха, — но дивным ароматом
Дышащие, когда их разотрешь
Меж пальцами h
Жизнь с Дугласом
Жизнь Уайльда складывалась по образцу гре-
ческих трагедий, которые он так хорошо знал.
В “De Profundis” он изобразил Дугласа своей
роковой Еленой, но Уайльду вообще с молодых
лет и до смерти было свойственно ощущение
рока. Его жизнь была аллегорией двух качеств — честолюбия
и лености; в ее перипетиях судьба переплелась с особенностяхми
характера. Уайльд не был, как герои многих трагедий, олицетво-
рением гордыни в чистом виде, хотя порой мог сказать о себе: “Я
вознесся слишком высоко и с высоты упал в грязь”. Без гордыни,
конечно, не обошлось ни в смиренном “De Profundis”, ни в его
американском турне. Он неизменно заявлял, что гордится своим
происхождением и своим даром. Тщеславие — внешнее проявле-
ние гордыни — он никогда не считал большим пороком, о чем сви-
детельствует его исключительное внимание к наружности и одежде,
к повороту фразы и покрою костюма. Слабость свою он видел лишь
в неспособности предпочесть большее наслаждение меньшему,
в неумении бороться с мелкими искушениями. Гордыня приняла
в нем в общем-то безобидную форму. Он знал за собой такие каче-
ства, как щедрость, великодушие, сочувствие к бедным, угнетен-
ным и отверженным; высокая самооценка уменьшала в его глазах
степень его вины. Он мог быть недоволен собой разве что как
1
Герцогиня Падуанская”. Перевод В. Брюсова.
драматург: нехорошо, когда трагедия человеческой жизни состоит
не из пяти, а из пятидесяти пяти актов. В Соединенных Штатах, как
пишет Томас Бир, в 1895—1900 гг, против него было произнесено
священниками по меньшей мере девятьсот проповедей.
Уступая просьбам Бози о воссоединении, которые отвечали
и его собственным чаяниям, Уайльд, возможно, чувствовал, что
этот театральный ход не приведет в восторг незримых режиссе-
ров, распределяющих трагические роли. Падение 1895 г. было
впечатляющим; второе падение произвело куда меньший эффект,
хотя и продолжало естественную линию его судьбы. По письмам
Уайльда друзьям можно почувствовать степень их неодобрения;
но альтернативы он не видел. “Могу сказать, что я совершил роко-
вой поступок, — писал он Россу, который один из всех прочел
к этому времени “De Profundis” целиком, — но я должен был его
совершить”. “Я люблю его так, как любил всегда, — с ощущением
трагедии и катастрофы”. “Жизнь изорвана так, что ее не залатать.
На ней лежит проклятие”. “Причиной тому — неизбежная месть
собственного характера и жестокость жизни. Я был задачей, не име-
ющей решения”. “Мое возвращение к Бози психологически было
неизбежно; но, если даже оставить в стороне тайную жизнь души
с ее стремлением любой ценой осуществить свои чаяния, меня
принудили к этому люди”. Вина, таким образом, в равной мере
ложится на богов, собственную душу и окружающий мир, которые
общими усилиями привели Уайльда к предопределенному финалу.
Есть основания считать, что решение о воссоединении, при-
нятое Уайльдом и Дугласом в конце августа, было принято обоими
не без скрытых колебаний. Дуглас, внезапно умерив свой прежний
пыл, выговорил себе полуторамесячную отсрочку. Он собирался
провести три сентябрьские недели с матерью в Эксе, леча свой ревма-
тизм минеральными водами, а потом поехать в Венецию. Подобная
неторопливость наводит на мысль о некоторой расхоложенности.
Судя по всему, в Эксе Дуглас провел время неплохо; в “Автобио-
графии” он пишет, что именно там написал лучшую из своих бал-
лад — “Балладу о святом Витте”. Темой ее является отнюдь не при-
мирение с Уайльдом, а, можно сказать, примирение с Куинсберри:
Витт, совершив чудо, завоевывает тем самым любовь отца. В следу-
ющем году Дуглас сделает и сознательные шаги навстречу маркизу.
О его колебаниях говорит и то, что, выехав из своего отеля в Эксе,
он оставил там для пересылки писем не неаполитанский, а венеци-
анский адрес. Он явно сообщил Уайльду о своем намерении поехать
в Венецию; Уайльд писал ему в ответ:
Мой самый дорогой мальчик! Я надеюсь отправиться в Неаполь
через три дня, но мне нужно еще раздобыть денег. Дорога до Неаполя
656
стоит 10 фунтов — это просто ужасно. Но ты, конечно, не спеши
и пройди весь курс лечения. Надеюсь, ужасы ревматизма останутся
у тебя позади. Я по себе знаю, что это такое.
Что касается Венеции — поступай, как считаешь нужным; но чем
скорее ты приедешь в Неаполь, тем более счастливым ты меня сдела-
ешь. Ныне я несчастен и подавлен. Приезжай, как только сможешь.
Совокупный счет в отеле поверг меня в ужас, а хозяйка конечно же
оказалась сущим Шейлоком. Всегда твой, с любовью,
ОСКАР.
Это письмо, возможно, заставило Дугласа окончательно
решиться; он написал Уайльду о своем согласии на более раннюю
встречу.
Уайльд, со своей стороны, понимал, что его возвращение
к Бози возмутит всех и каждого. Его друзья хотели, чтобы он
прежде всего повидался с женой. Но он ощущал себя загнанным
в угол. Вернувшись из Руана в Берневаль, он сполна почувствовал,
что такое деревенская жизнь во всей красе: невыносимое общество,
невыносимая погода. А он устал терпеть невыносимое. Он вновь
отправился в Руан и, согласно воспоминаниям Гертруды Атер-
тон, которые, при всей ее враждебности к Уайльду, вряд ли могут
быть полной выдумкой, стал настойчиво просить Реджи Тернера,
который жил с ней в одном отеле, перебраться к нему в Берне-
валь. Тернер получал надежный доход и мог позволить себе жить
где угодно; к тому же он был писателем и разделял литературные
интересы Уайльда. Но он не хотел себя связывать; миссис Атер-
тон, которой он рассказал о своем затруднении, посоветовала ему
сбежать от Уайльда в Лондон. Судя по всему, Тернер через три
дня так и поступил. Много позже он заявил, что ее воспоминания
недостоверны; но конечно же видеться с Уайльдом изредка — это
одно, а жить с ним — совсем другое. Тернер хотел быть его другом,
а не copain1.
После неудачи с Тернером Уайльд понял, что выбора у него
не остается. Он вернулся в Берневаль, упаковал все самое необходи-
мое, расплатился с Бонне, распорядился, чтобы книги и оставшиеся
вещи прислали ему позже (они прибыли 5 ноября) и 15 сентября
отправился в Париж. От его плана написать в Берневале пьесу уже
ничего не осталось. Возможно, именно в те дни он, повстречав жур-
налиста Криса Хили, признался: “Что я намерен делать в жизни —
не могу вам сказать; меня больше интересует, что жизнь намерена
делать со мной. Я бы хотел, пожалуй, поселиться в каком-нибудь
монастыре, в келье со стенами из серого камня, где я читал бы книги,
1 Здесь: милым дружком (фр-)-
(>57
писал стихи и благоговейно курил с’игареты”. Хили в разговоре
упомянул о том, что Нордау в книге “Вырождение”, где Уайльд был
одним из главных персонажей, назвал всех гениев сумасшедшими.
Уайльд ответил: “Я совершенно согласен с утверждением доктора
Нордау, что все гении безумны, но ему следовало добавить, что все
“нормальные” люди — идиоты”. Из Парижа он написал Дугласу,
и тот предложил приехать к нему в Экс, как только Уайльд раздобудет
денег на дорогу. С деньгами помог Винсент О’Салливан, с которым
Уайльд встретился в 11ариже. За ланчем он рассказал О’Салливану
о своих невзгодах, и тот отправился в банк, снял со счета требуемую
сумму и вручил Уайльду.
Двое друзей соединились в Эксе; ни тот ни другой не был рад
встрече настолько, насколько хотел показать. Обоим не терпелось
добраться до Неаполя; Дуглас хорошо знал этот город, в частности,
всех живших там англичан, У него не было денег, но он не придавал
этому обстоятельству большого значения. Они с Уайльдом оста-
новились в отеле “Руаяль дез этранже”, где задолжали 100 фунтов
(Дуглас пользовался кредитом на правах лорда), Потом настали
скудные дни. Дуглас, как он не раз делал, попытался заставить рас-
кошелиться мать и, возможно, брата; но если он что и выцарапал,
то лишь ничтожные подачки. Уайльд оказался удачливее. Ранее
он обсуждал с Далхаузи Янгом план написания оперы о Даф-
нисе и Хлое, для которой Уайльд сочинил бы либретто, а Янг —
музыку. Теперь Уайльд сообщил ему, что готов приступить к делу
немедленно, если Янг заплатит ему вперед 100 фунтов. Впервые
после освобождения Уайльд просил аванс за работу, за которую
он вряд ли собирался всерьез браться, и это не способствовало
восстановлению его доброго имени. Однако он не мог позволить
себе былой щепетильности. К счастью, Далхаузи Янг согласился.
На 100 фунтов аванса плюс, возможно, то немногое, что перепало
им от родных Дугласа, они сняли виллу Джудиче (ныне улица
Позилиппо, 37) в фешенебельном районе Позилиппо на севере
Неаполя, куда и переехали в конце сентября.
Если Уайльд не лукавил, когда писал Дугласу, что сможет
творить только в его обществе, он не мог быть доволен тем, что
вышло в итоге. Дуглас разродился несколькими сонетами, кото-
рые Уайльд незаслуженно расхвалил Смизерсу и Россу, назвав
их “сотворенными из золота и слоновой кости”, “совершенно
чудесными”. (Как заметил Гордон Крейг, “он льстил из доброты,
но горе тому глупцу, что принимал его лесть всерьез”.) Три сонета,
которые Уайльд предложил назвать “Лунной триадой”, Дуглас
послал не кому иному, как Хенли, который, естественно, их отверг,
как ранее отверг “Балладу о Перкине Уорбеке”. Сонет о Моцарте
был послан редактору музыкального журнала, который нелестно
6<8
отозвался о его достоинствах и был за свои труды отчитан Уайль-
дом, написавшим ему, что сонет — это подарок, а не представ-
ленная к рассмотрению рукопись. Все это были вялые попытки
заработать несколько фунтов и чуточку признания, и успехом
они не увенчались. Общими усилиями Уайльд и Дуглас произ-
вели на свет несколько строф для “Дафниса и Хлои”, но Далха-
узи Янг, что неудивительно, отказался от этого проекта. Более
существенно то, что Уайльд написал ряд новых строф для “Баллады
Редингской тюрьмы”, усиливавших ее “кумулятивный эффект”,
но не улучшавших ее в иных отношениях. Некоторые поправки
удивляют, например, замена строк “И я никогда больше не увижу
его лица / В чудесном Господнем мире” на “И я никогда больше
не увижу его лица / Ни в счастии, ни в горести”. Правда, Смизерс
заставил Уайльда вернуться к первому варианту, звучащему проще
и менее архаично. Чго касается задуманных пьес — они нс были
даже начаты.
Большую часть времени друзья проводили в кафе и на пля-
жах, добродушно переманивая друг у друга юных неаполитанцев.
Когда в Неаполь приехала Дузе, они стали ходить на каждый ее
спектакль. Уайльд послал ей “Саломею” и выразил надежду, что
когда-нибудь она в ней сыграет. Дузе пришла от пьесы в вос-
торг. На вилле Джудиче, как оказалось, водились крысы, и Уайльду
с Дугласом пришлось временно переселиться на другую сторону
улицы, пока одна местная знахарка не вывела грызунов. Именно
на эту женщину Уайльд позднее показал Винсенту О’Салливану
со словами: “Не предлагайте этой старухе денег, пока она не попро-
сит. Но если попросит — не вздумайте отказать”. Он все еще
боялся недобрых сил, хотя они уже изрядно поживились на его
счет. Однажды, когда Уайльд получил от Смизерса чек на 10 фун-
тов, они с Дугласом отправились на три дня на Капри. Шведский
врач Аксель Мунте пригласил там Бози на обед; Бози сказал, что
не может прийти без Уайльда, и Мунте позвал их обоих, сказав,
что всегда считал вынесенный Уайльду приговор несправедливым.
Они пригласили Мора Эйди пожить у них в Позилиппо, но тот
отказался. “По некоторым причинам”, как выразился Уайльд, их
не слишком жаловали жившие в Неаполе англичане; однажды
Дуглас повстречал некоего Кнаппа, которого знал по Оксфорду,
и сказал ему: “Тут со мной Оскар — присоединяйся к нам, если
ты не против”. Кнапп был не против, но сама форма приглашения
говорит о многом. Приехавший в Неаполь атташе британского
посольства в Риме, где Бози и его мать провели прошлую зиму,
как бы невзначай сказал ему посреди светской беседы, что жить
в одном доме с Уайльдом — значит напрашиваться на скандал.
“Мое существование — само по себе скандал”, — прокомменти-
659
ровал потом Уайльд его слова. Все же, пусть англичане и воротили
нос, итальянцы вели себя вполне дружелюбно. Пока деньги хоть
понемногу, да поступали, жизнь на вилле была солнечной и при-
ятной. Тяжкую участь Уайльда и Дугласа облегчали четверо слуг.
Однако упреки сыпались во множестве. Констанс узнала, где
и с кем находится ее муж. 29 сентября 1897 г. она писала ему с нео-
бычайной жесткостью: “Я запрещаю тебе видеться с лордом Аль-
фредом Дугласом. Я запрещаю тебе возобновлять твою грязную
и безумную жизнь. Я запрещаю тебе жить в Неаполе. Я не пущу
тебя к нам в Геную”. Уайльд ответил в том смысле, что он и помы-
слить не мог бы о том, чтобы приехать к ней против ее воли,
не будучи уверенным в ее сочувствии и жалости. Ее многочи-
сленные отказы в просьбах о встрече, написал он ей укоризненно,
не оставили ему выбора. Что касается дальнейшего — он хочет
только покоя и возможности жить своей жизнью в меру отпущен-
ных ему сил. Проводить в Неаполе зиму он не намерен. Констанс
затем писала своему брату: “Оскар приехал в Неаполь, иными сло-
вами к лорду А., и написал мне ужасное письмо. Если он предпо-
читает такое существование жизни со мной — что ж, мне очень
жаль, но что я могу сделать?” В письме Карлосу Блэккеру Уайльд
прямо заявил, что больше ему некуда было податься и не с кем
было жить, поскольку Констанс три месяца медлила с приглаше-
нием. Он сказал Клэр де Пратц, корреспондентке “Пти паризьен”
и “Дейли ньюс”, чью статью о Лоти он опубликовал в свое время
в “Вуманз уорлд”: “Есть ли на свете преступление столь ужасное,
что в наказание отца можно лишить права видеть своих детей?”
Констанс ответила на его письмо тем, что через посредство
своего юриста привела в действие пункт их соглашения, позволяв-
ший ей лишить Уайльда содержания, если он станет жить с чело-
веком, пользующимся дурной репутацией. За этим последовала
переписка между Неаполем и Лондоном, не лишенная комизма.
Уайльд и Дуглас заявили Россу и Эйди, что Дугласа нельзя назвать
человеком дурной репутации, и обвинили их в том, что они без-
ропотно согласились с этой характеристикой, не попытавшись ее
оспорить. У самих Росса и Эйди, мол, репутация точно такая же,
как у Дугласа; в прошлом году Росс провел с Бози два месяца
на Капри. (Кстати, именно из-за “репутации” Эйди Констанс
в 1895 г. возражала против его свиданий с Уайльдом в тюрьме.)
В другом расположении духа Уайльд назвал Дугласа “раззолочен-
ным позорным столбом”, но вступиться за его репутацию это ему
не помешало. Эйди пришлось терпеливо растолковать друзьям,
что ни он, ни Росс не называли Дугласа человеком дурной репу-
тации; они лишь признали — другого выхода у них не было, —•
что Уайльд и Дуглас живут вместе. Дурно характеризовала репу-
66о
тацию Дугласа сама Констанс, и в предотвращении соединения
Уайльда с ним заключался весь смысл того пункта в соглашении.
Росс и Эйди не в силах были сохранить для Уайльда его три фунта
в неделю, которые перестали поступать в ноябре.
Леди Куинсберри также была непреклонна. Она понимала, что
Любовь и черствый хлеб средь нищих стен —
Прости, Амур! — есть пепел, прах и тлен1,
и, как и Констанс, задалась целью разлучить Уайльда с Дугласом,
используя финансовые рычаги. Она испытывала такое же отвра-
щение к Уайльду как совратителю ее сына, какое Констанс испыты-
вала к Дугласу как совратителю се мужа. Две женщины соединили
усилия. Леди Куинсберри знала, что является для Бози единст-
венным реальным источником денег; она посылала ему 25 фун-
тов в неделю, не считая того, что ему время от времени удавалось
выпросить сверх этих сумм. Лишая его денег на “спиртное, скачки
и совокупления”, она рассчитывала поставить его на колени. Опа
со всей решительностью написала сыну, что пока и он, и Уайльд
не дадут ей письменного обязательства не жить больше под одной
крышей, денег он от нее не получит. Но, если такое обязательство
будет дано, она заплатит долги, которые Дуглас сделал в Неаполе,
и присовокупит 200 фунтов для Уайльда.
Транжиры без гроша за душой обсудили положение. 200 фун-
тов, что ни говори, на дороге не валяются. Они согласились в том,
что никогда не откажутся от своего права видеться друг с другом,
но в нынешней нужде должны рассмотреть возможность расстава-
ния. 23 ноября Уайльд в письме Россу спрашивал его, не думает ли
он, что Констанс будет удовлетворена, если они с Бози разъедутся.
Шесть дней спустя Дуглас написал Эдварду Стрэнгману письмо,
показывающее, что они все еще колебались, но постепенно скло-
нялись к решению:
Я здесь с Оскаром, мы пробыли тут два месяца. Все это время мы
боролись с обстоятельствами, едва сводя концы с концами, посылая отча-
янные телеграммы прижимистым родственникам и закладывая в лом-
бард булавки и запонки. Ныне борьба кончена — опекуны Оскара пре-
кратили выплачивать ему содержание на том основании, что, съехавшись
со мной, он нарушил договор, а теперь и моя мать прекратила денежную
помощь мне по той же причине. Так что нам грозит голод в полном смы-
сле этого слова. К счастью, за аренду виллы уплачено по конец января.
Что мы будем делать — не знаю, и это меня не слишком занимает в моем
1 Цитата из поэмы Дж. Китса “Ламия”. Перевод С. Сухарева.
661
от чаянии, сила которого умеряется лишь необходимостью вести себя как
подобает джентльмену. [...] Видимо, нам с О. придется в конце концов
пойти ш компромисс и расстаться, по крайней мере на время.
Ход событий ускорился. В тот же или на следующий день
Дуглас написал матери, что они с Уайльдом готовы дать пись-
менные обязательства, которых она требует. 2 декабря 1897 г. он
сообщил ей телеграммой, что едет в Рим и пришлет обязательство
уже оттуда. Но 3 декабря он написал ей из Рима, что чувствует
себя несчастным и хочет вернуться к Уайльду; он привел и более
существенные аргументы. Неужели, спрашивал он мать, она хочет,
чтобы он написал Уайльду следующее:
“Я не могу сейчас вернуться к тебе. Я жил с тобой раньше,
и нс просто с тобой, но и за твой счет, однако в то время ты был
богат, знаменит и всеми уважаем, был па вершине признания твоего
художнического дара — а теперь извини, но ты потерпел крах, остался
без денег и почти без друзей, побывал в тюрьме (главным образом,
должен признать, из-за меня и по моей вине), на тебе клеймо быв-
шего заключенного, и мне очень невыгодно, что меня видят с тобой,
и к тому же моя мать, само собой, против этого категорически возра-
жает, поэтому, увы, мне придется оставить тебя на произвол судьбы”.
Это, писал он, было бы отвратительно с его стороны. Он упо-
мянул далее о Мунте на Капри и о некой великолепной миссис
Сноу, которые принимали их обоих. Но мать была непоколебима.
Четыре дня спустя настроение Дугласа резко изменилось;
7 декабря он писал ей из римского отеля "Италия”:
О, как я рад, как я рад, что уехал от него! Я очень боюсь, что
ты сочтешь это притворством с моей стороны, но нет, поверь мне,
я не лицемерю. Я желал с ним соединиться, я тосковал по нему
и жаждал встречи, потому что я люблю его, восхищаюсь им и считаю
его великим и почти хорошим, но, когда это произошло, когда мы
съехались, это было ужасно, я сделался несчастен. Я хотел от него
уехать, но не мог. Я был связан узами чести.
Обещание оставаться с Уайльдом всю жизнь удерживало его,
писал он, пока сам Уайльд не признал, что Дугласу лучше уехать.
Можно попытаться представить себе последние недели их сов-
местной жизни. Дуглас в "Автобиографии” объясняет расставание
тем, что в двадцать семь лет он начал терять внешнюю привлека-
тельность и уже не был вечно юным Дорианом Греем. Но Уайльд
был не из тех, кто охладевает столь быстро, и у нас нет причин
662
думать, что, воссоединяясь с Бози, он не помнил про иную, тем-
ную связь между ними — связь старой овцы с молодым мясником.
Дуглас, вероятно, ближе подошел к истине, когда писал матери,
что “утратил то непреодолимое стремление к его [Уайльда] обще-
ству”, какое он испытывал раньше, и что он “устал от борьбы
и от дурного отношения окружающих”. Ведь, что ни говори, он,
в отличие от Уайльда, не переступил черту и не подвергся тому, что
Росс назвал “великой вульгарностью поимки с поличным”. Место
Уайльда в мироздании было теперь жестко задано, уделом его стала
периферия, а отнюдь уже не центр. Угождать отверженнохму — нет,
увольте, такая судьба не для Дугласа. Он чувствовал, что с него
довольно, и хотел для себя “общественного признания”.
К началу ноября, когда с финансами стало совсем туго, Уайльду,
должно быть, вспомнилось то, что он писал в “De Profundis”
об отношении Дугласа к деньгам. Ныне история повторялась:
Дуглас транжирил деньги Уайльда так свободно, словно он сам
был Уайльдом, а не его вечным иждивенцем. Уайльд не упрекал
его. Как Дуглас признался матери, “он был добр и великодушен
и навсегда останется для меня образцом джентльмена и друга”.
Но в “Автобиографии” он упоминает о нескольких ссорах. О том,
что представлял собой Бози в гневе, писал Жид: его бледное лицо
искажалось яростью, рот изрыгал оскорбления, бившие по самым
больным местам. Несомненно, он припомнил Уайльду тот риск,
которому он, Дуглас, подвергся, оставшись рядом с ним во время
процесса против Куинсберри, когда все прочие его друзья пода-
лись за границу; вряд ли Дуглас мог удержаться и не козырнуть
нынешним своим самопожертвованиеАм, хотя пария, которому он
протянул было руку, стал таковым по его вине. Уайльд, со своей
стороны, упорно продолжал считать, что семья Куинсберри
должна уплатить ему “долг чести” — 500 фунтов. Дуглас оправды-
вался: джентльмены сплошь и рядом не платят долгов чести и тем
не менее продолжают оставаться джентльменами в глазах всего
мира. Однако он побуждал леди Куинсберри послать Уайльду если
не 500, то хотя бы 200 фунтов и пообещать ему доплатить осталь-
ное позднее. Уайльд вряд ли пытался удержать Дугласа, когда тот
вознамерился уехать, но, согласившись на расставание, он перенес
его отнюдь не легко. Предложив ему вначале пристанище, Дуглас
затем вышел из игры, оставив его ни с чем, и дело не сводилось
к одной лишь неспособности Дугласа раздобыть денег. 2 марта
1898 г. Уайльд сообщил Россу свою версию событий:
Неаполитанские события, во всей их наготе, таковы.
Четыре месяца Бози бомбардировал меня письмами, предлагая
мне “кров”. Он обещал мне любовь, признательность, заботу, обещал,
66 3
что я не буду нуждаться ми в чем. Наконец я сдался; но, встретившись
с ним в Эксе по дороге в Неаполь, я увидел, что у него нет ни денег,
ни планов и что он начисто забыл все свои обещания. Он вообразил,
будто я в состоянии добывать деньги для нас обоих. Я действительно
добыл 120 фунтов. На них Бози жил, не зная забот. Но когда я потре-
бовал с него его долю, он тут же сделался ужасен, зол, низок и скуп
во всем, что не касалось его собственных удовольствий, и, когда мои
деньги кончились, он уехал.
Это, разумеется, горчайший урок за всю мою горькую жизнь...
мне не следует больше с ним видеться. Я не желаю его знать. Это
ужасный человек.
Уайльд неизменно рассматривал 200 фунтов, полученные
им от леди Куинсберри, как частичное погашение "долга чести”
и не считал эти деньги компенсацией за финансовую поддержку,
которую он три месяца оказывал Дугласу, или за его дезертирство
по окончании этого срока (деньги были пересланы Уайльду через
Эйди — 100 фунтов в декабре 1897 г. и столько же в конце января
1898 г.). Называя Дугласа "ужасным человеком”, Уайльд, возможно,
хотел побудить Росса воздействовать на Констанс с тем, чтобы
она возобновила выплату содержания. О том, что окончательного
разрыва между Уайльдом и Дугласом не произошло, свидетельст-
вует письмо последнего от 8 января Уайльду в Неаполь с жалобой
на парижские цены и на "исступленное целомудрие” — за исклю-
чением трех эпизодов, — которому он предавался после приезда
во французскую столицу.
Неаполитанской интерлюдии суждено было случиться
и суждено было оказаться краткой. Она не могла затянуться. Воз-
можно, Бози был чудовищем только наполовину, но чудовищ-
ная его половина вновь растерзала Уайльда. Его трехмесячное
пребывание с Дугласом, в сущности, положило конец его пере-
писке с Констанс, хотя ее добросердечие не позволило ей отри-
нуть его полностью и, формально прекратив выплачивать ему
содержание, она все же посылала ему деньги через Росса. После
3 декабря, когда Дуглас уехал, Уайльд не счел нужным особенно
перед ней оправдываться — написал только, что слишком много
любил и что в любом случае любовь лучше ненависти. Она с этим
не согласилась и написала брату, что противоестественная любовь
хуже ненависти. 27 февраля 1898 г. в письме Артуру Хамфризу
она заявила: “Наказание не пошло ему на пользу, раз оно не заста-
вило его понять самого для него необходимого — того, что он
не единственный человек на свете”. Тем не менее она была спо-
собна смягчиться и, когда Росс в марте написал ей осторожное
письмо, где спрашивал, не возобновит ли она выплату мужу содер-
66ф
жания, и указывал на его расставание с Дугласом, она согласилась
и добавила соответствующий пункт в свое завещание. Ее чувство
к нему не умерло, и она не лукавила, когда писала, что если бы она
увидела его, то “простила бы ему все”.
Последние дни в Неаполе
Жизнь изорвана так, что ее не залатать. На ней
лежит проклятие.
С этого момента Уайльд начинает переезжать с места на место,
но эти переезды теперь не имеют большого значения. Время
от времени он пытается что-то сочинить — упоминается, к при-
меру, последнее действие новой комедии, — но ничего не выхо-
дит. Он оставался великолепным собеседникохм, но по большей
части повторял то, что уже говорил раньше. Он так и не написал
задуманного эссе, посредством которого хотел включить жалость
в свою эстетическую систему, громко заявить о том, чего он
никогда раньше не выдвигал на первый план, — о способности
искусства побеждать жестокость и вершить неизменно милосер-
дный Высший Суд. Он писал Россу: “Я не в силах возвыситься
до интеллектуальной архитектуры, которой требует мысль; у меня
остались лишь минутные настроения; единственное мое утеше-
ние — Любовь или, скорее, Страсть, надевшая Маску Любви”.
Ему трудно было сосредоточиться, внимание быстро отвлекалось,
и некое ощущение того, что его писательская жизнь окончена,
приходило к нему, в частности, когда он сочинял иные из строф
“Баллады Редингской тюрьмы”, которые сам же признавал неудач-
ными. Бози хотел респектабельности (“общественного призна-
ния”), но Уайльду рассчитывать на нее не приходилось. Унижения
случались почти ежедневно, но от частого повторения не стано-
вились менее болезненными. Он никогда не мог быть уверен,
обратят на него внимание или отведут взгляд в сторону. Персо-
нажи из былых времен появлялись в его нынешней жизни, как
призраки; некоторые делали вид, что не замечают его, заставляя
его самого чувствовать себя призраком. Если раньше его жизнь
звучала в тональности славы, то теперь он проигрывал ее заново
в тональности бесславия. В тюрьме, говорил он, его дух поддер-
живало чувство вины. После освобождения его дух угнетало чув-
ство отверженности. Винсент О'Салливан, посетивший Уайльда
в Неаполе через несколько дней после отъезда Дугласа, стал сви-
детелем отношения к Уайльду, которое было уже почти обычным.
66<
Они сидели в ресторане; вдруг вошла большая группа посетителей
поужинать после театра. Некоторые стали с громкими возгласами
показывать другим на Уайльда. Ei;o реакция превзошла все ожи-
дания О’Салливана. “Казалось, ему не хватает воздуху, — вспо-
минает О’Салливан. — Потом он произнес сдавленным голосом:
“Пойдемте отсюда”. Некоторое время они молча шли по улице;
им встретился нищий. Уайльд дал ему денег и пробормотал по-
английски: “О чем просишь, бедолага? Ведь жалость умерла”. Он
сказал О’Салливану, что в Неаполе есть сад, куда приходят, чтобы
покончить с собой. “Я никогда всерьез не рассматривал это как
выход. Я чувствовал, что должен испить чашу своих страстей
до дна. Но однажды беззвездной ночью я отправился в этот сад.
Сидя там совершенно один в кромешной тьме, я вдруг услышал
какой-то шелест, какие-то вздохи и увидел вокруг себя некие смут-
ные туманные образы. И я понял, что это бедные души самоубийц,
обреченные вечно кружиться в том саду. Эти люди покончили
с собой зря. И когда я представил себе, что моя душа может раз-
делить их судьбу, всякое искушение лишить себя жизни прошло
у меня навсегда”. — “Как вам такое хоть на миг могло прийти
в голову — сделать Неаполь местом своей загробной жизни?” —
спросил О’Салливан. “Да, Неаполь не годится, — рассмеялся
Уайльд. — Здесь слишком плохо стряпают”.
Его положение не осталось без внимания британских офици-
альных лиц. 30 декабря 1897 г. консул Невилл-Ролф писал лорду
Розбери, владевшему в Неаполе виллой и в прошлом связанному
через Драхмланрига с семьей Куинсберри:
Оскар Уайльд, называющий себя ныне Себастьяном Носуэллом1,
живет на маленькой вилле в Позилиппо в паре миль от Вас. Он окон-
чательно расстался с Альфредом Дугласом и ведет совершенно уеди-
ненную жизнь. Он приехал по какому-то делу под именем Носуэлл,
и, встретив его, я сделал вид, что мы незнакомы.
Выглядит он как побитая собака.
Он написал книгу стихов, но в Лондоне никто печатать ее
не хочет, и я слыхал, что он собирается опубликовать ее за свой счет.
Я не думаю, что он причинит Вам какое-либо беспокойство,
и должен же, в конце концов, бедняга где-нибудь жить.
Само собой, Уайльд и Розбери не встречались.
После отъезда О’Салливана российский представитель в Неа-
поле пригласил Уайльда поехать с ним в Таормину. Там Уайльд
1 На самом деле Уайльд называл себя Себастьяном Мельмотом. (При-
меч. перев.)
666
познакомился с бароном фон Гледеном, который фотографиро-
вал обнаженных юношей и продавал снимки гомосексуалистам.
О поездке практически ничего не известно, чего нельзя сказать
о возвращении: явившись к себе на виллу, Уайльд обнаружил, что
слуга, которого он оставил за ней присматривать, сбежал, прихва-
тив весь его гардероб. Остались только книги, тщательно собран-
ные друзьями к его освобождению. Съезжая с виллы, Уайльд их
не взял, и снявшая ее двадцать пять лет спустя некая англичанка
видела их там. Позже Уайльд скажет, что утрата книг не имела для
него значения; получается, что он отрекся от своего места подле
любимых авторов.
Он жил в Неаполе весь январь. В феврале 1898 г., возможно,
из-за дороговизны виллы Джудиче, он переехал в палаццо Бам-
бино (Санта-Лючия, 31). Нужда сделала его изобретательным;
Грэм Грин вспоминает, как его отец с коллегой-учителем сидели
в неаполитанском кафе, и вдруг некий незнакомец, услышав
английскую речь, попросил разрешения подсесть к ним и выпить
кофе. Его внешность показалась им смутно знакомой, но, пока он
час с лишним очаровывал их своим искусством беседы, они так
и не сообразили, кто он такой. Он позволил им заплатить за то.
что он выпил (“разумеется, отнюдь не кофе”). Грин-старший
любил про это рассказывать и кончал обычно так: “Можно себе
представить, как одиноко ему было, если он готов был потратить
столько времени и остроумия на пару заурядных школьных учите-
лей в отпуску”. Но дело было скорее в другом: как замечает Грэм
Грин, Уайльд “платил за выпивку единственной валютой, какой
он располагал”. Нужда была столь серьезна, что парижский “Жур-
нал ь” в начале декабря устроил для него сбор средств, но поступ-
ления были скудными, если вообще были.
Последний триумф
Это моя лебединая песня; мне жаль кончать
криком боли, стенанием Марсия, а не песнью
Аполлона.
Уайльда, должно быть, поддерживала мысль о том, что, с каким
бы презрением на него ни смотрели в Неаполе, его “Баллада” бли-
зится к завершению и публикации. Кто знает — может быть, за ней
последуют новые шедевры; надежда на это никогда не покидала
его совсем. Смизерс послушно исполнял его указания по поводу
оформления книги, и оба они были согласны в том, что вместо
имени автора на обложке должно значиться только “С.3.3”. Уайльд
постарался рассеять страхи Смизерса относительно возможных
обвинений в клевете со стороны тюремных властей. Он написал
посвящение:
Когда я вышел из тюрьмы, одни встретили меня
с одеждами и яствами, другие — с мудрыми советами.
Ты встретил меня с любовью.
Такая форма посвящения была достаточно удобна: при слу-
чае можно было сказать Дугласу, или Россу, или Эйди, или, воз-
можно, еще кому-нибудь, что оно обращено именно к нему. Росс
доказывал, что посвящение повредит как его адресату, так и самой
поэме; Смизерс был с ним согласен, и в конце концов они убе-
дили Уайльда. Книга вышла без посвящения. Она должна была
поступить в продажу 9 февраля 1898 г., и, вероятно, именно это
обстоятельство побудило Уайльда переехать из Неаполя в Париж,
где он мог, по крайней мере, быстро получать новости о реакции
на поэму. Он приехал 13 февраля и снял номер в одном из тех
дешевых отелей, в каких ему предстояло провести большую часть
оставшейся жизни. Этот отель назывался “Ницца” и располагался
на той самой улице де Боз-Ар, где ему суждено было окончить
свои дни в отеле “Эльзас”.
Его ждала хорошая новость: “Баллада Редингской тюрьмы” про-
давалась так, как давно уже не продавалась никакая другая поэма.
Один из магазинов за первое же утро продал пятьдесят экземпля-
ров. Смизерс в январе рискнул напечатать только 400 из планиро-
вавшихся 800 экземпляров, но уже в начале февраля заказал еще
400, а позднее в том же месяце — еще тысячу.
В марте вышло роскошное издание в девяноста девяти
экземплярах, каждый из которых был подписан автором (его
настоящей фамилией); затем напечатали два новых тиража —
1200 и 1000 экземпляров. В мае был выпущен шестой тираж —
1000 экземпляров. И только в июне 1899 г., когда книгу пере-
издавали в седьмой раз, Уайльд разрешил Смизерсу указать
на титульном листе в скобках после С.3.3 настоящую фамилию
автора.
Уайльд разослал экземпляры с дарственными надписями
многим друзьям. Аде Леверсон он написал: “Сфинксу Радости
от Оскара Уайльда, Певца Боли”. Майору Нельсону: “Майору
Нельсону в знак признательности за многие проявления доброты
и великодушия. Февр. 98”. Был и экземпляр, подписанный так:
Альфреду Брюсу Дугласу от автора”. Констанс узнала о выходе
книги из “Дейли кроникл” и, получив от Уайльда неподписанный
668
экземпляр, писала брату: “Я вся в расстроенных чувствах из-за
чудесной поэмы Оскара. [...] Она страшно трагична, и ее невоз-
можно читать без слез”. Роберт Шерард получил экземпляр с при-
ложенным к нему письмом: “Посылаю тебе экземпляр моей Бал-
лады — первое издание; прими в память о нашей давней дружбе.
Я бы предпочел вручить тебе книгу лично, но я знаю, что ты очень
занят, хоть и сожалею, что занятость мешает тебе приехать пови-
даться со мной или по крайней мере сообщить мне, где я мог бы
тебя увидеть”.
Каннингем Грэм, который сам побывал в тюрьме, напи-
сал Уайльду хвалебное письмо, и тот, благодаря его, отвечал:
“... хотел бы встретиться с Вами и поговорить о том, что все мы по-
своему узники в этой жизни — узники тюрем, узники страстей,
узники рассудка, узники морали и многого другого. Все ограни-
чения, внутренние и внешние, — это темницы, да и что такое сама
жизнь, как не ограничение?” Он двигался к обобщенной и надлич-
ной позиции, увеличивая дистанцию между собой и своей поэмой.
На “Балладу” было много отзывов. В большинстве своем
рецензенты, отмечая те или иные недостатки, признавали, что
произошло важное литературное событие. Ни один из них
не назвал фамилии Уайльда, хотя его авторство было для всех оче-
видно. Внимание, которого была удостоена эта поэма, раздосадо-
вало Хенли, чей собственный стихотворный сборник расходился
хуже. В журнале “Аутлук” за 9 марта он назвал “Балладу” “меша-
ниной из драгоценностей и мусора”, выразил мнение, что подроб-
ности тюремного быта не вполне достоверны (он гордился досто-
верностью своих “Больничных стихов”), и заключил: “Повсюду
чувствуется рука Второстепенного Поэта”. Уайльд написал ему
ответ на рецензию, но письмо не сохранилось. В противополож-
ность отзыву Хенли журнал “Академи” 26 февраля назвал поэму
если не великим, то уж точно хорошим литературным произве-
дением; газета “Дейли телеграф” 27 февраля охарактеризовала
ее как “волнующую”, и 12 марта в “Сатердей ревью” о ней очень
хорошо отозвался Артур Саймонс. До той поры Саймонс не при-
надлежал к числу друзей Уайльда; подшучивая над его плодовито-
стью, Уайльд называл его “акционерным обществом” и говорил,
что собирается войти к нему в долю. Однако Саймонс, в отли-
чие от Хенли, не испытывал в отношении Уайльда ни зависти,
ни предубеждения. Он написал, что поэма “имеет значительность
документа” и что это, “по существу, никакая не баллада, а мрачное,
злое, прерывистое сновидение; не сюжет как таковой, а отступле-
ния, подводный ток авторской мысли — вот что задает здесь тон”.
К восторгу Уайльда, Саймонс выделил его слова о неизбежно-
сти, с какой мы все убиваем то, что любим: “Именно этот сим-
669
вол тайной гибели сердец, незримого насилия над душами [этот
оборот особенно понравился Уайльду], мученичества надежды,
веры и иных добродетелей из числа самых беззащитных придает
своего рода философское единство поэме, в других отношениях
не вполне цельной”. Здесь, по словам Саймонса, заключена “совер-
шенно новая” идея, естественно рождающаяся, однако, из описа-
ния событий. 19 марта “Пэлл-Мэлл газетт” выразила мнение, что
“Баллада” — “самая замечательная поэма нынешнего года”, что это
“великолепная работа”.
Публикация поэмы в Англии и последовавшая за ней в том же
году парижская публикация в “Меркюр де Франс” в переводе Анри
Даврэ должны были, казалось, воодушевить Уайльда на новые
труды. Роберт Росс многозначительно посылал ему красивые
тетради, но Уайльд со зловещей настойчивостью повторял, что
больше не чувствует склонности к творчеству. У него, заявил он
в одном письме, “cacoethes tacendi” (неизлечимая страсть к тому,
чтобы не писать). Правда, он сообщил миссис Уэлдон, что соби-
рается перевести роман покойного денди Барбе д’Оревильи
“То, что не умирает”. Согласно утверждению Роберта Росса, он
этого не сделал, хотя некий перевод вышел и кое-кто приписы-
вал его Уайльду. Смизерс уговорил его дать ему для публикации
две пьесы, которые вследствие его бесчестья до той поры не были
напечатаны, — “Как важно быть серьезным” и “Идеальный муж”.
Корректура первой из них показывает, что Уайльд не утратил
былого стилистического чутья. Правя ее, он сказал одному из дру-
зей: “Я могу писать, но больше не испытываю от этого радости”.
На похвалу этой пьесе, высказанную Робертом Россом, он ответил
так: “Есть два способа не любить мои пьесы. Можно просто их
не любить, а можно любить “Как важно”. Чтобы потомство видело,
каким дурным критиком ты был, я посвящу пьесу тебе”. Пьеса
вышла в феврале 1899 г. со следующим посвящением:
Роберту Болдуину Россу
в знак уважения
и любви.
“Идеальный муж”, напечатанный в июле 1899 г., был посвящен
другому старому приятелю:
Фрэнку Харрису —
ничтожная дань его творческой мощи и исключительности,
его дружескому благородству и великодушию.
Эти публикации принесли Уайльду кое-какие деньги.
670
Общительность и одиночество
Почему человек так стремится к саморазруше-
нию? Почему его так завораживает гибель?
Уайльду хватало сил лишь на то, чтобы кое-как дотянуть до конца
дня — или, скорее, ночи, ибо, как и его мать, он ложился перед
рассветом и вставал после полудня» Он все больше пил, пытаясь
взбадривать себя алкоголем; одно время его любимым напитком
был голландский ликер “Адвокат”, затем он перешел на коньяк
и абсент1. Пьянеть он от них не пьянел, но утешение они давали,
как и продажные молодые люди. Он писал другу: “Как это
скверно — покупать любовь, и как это скверно — се продавать!
И все же какие яркие часы можно выхватить из серого, вяло дви-
жущегося потока, что зовется Временем!” Одним из его любим-
цев был Морис Гилберт — молодой солдат, служивший в морской
пехоте. Они с Уайльдом сыграли немало партий в безик. Жак
Дорель из “Эко де Пари”, увидев, как Уайльд нежно обнимает
Гилберта, с укоризной сказал ему, что он “вернулся на блево-
тину свою”. Уайльд стал оправдываться: “Он такой красавчик!
Посмотрите на него. У него профиль Бонапарта”. Но периоды
одиночества, порой отягощаемые безденежьем, становились все
чаще. Один из старых друзей — Карлос Блэккер — перестал с ним
знаться после довольно неприятных событий. Блэккер, о кото-
ром в свое время Уайльд говорил, что он лучше всех в Лондоне
одевается, и с которым они нередко засиживались далеко за пол-
ночь, остался его другом и после тюрьмы. В первое лето после
освобождения Уайльда Констанс гостила у Блэкксров во Фрай-
бурге. Как и Констанс, Блэккер был недоволен неаполитанским
воссоединением Уайльда с Дугласом, но после того, как в феврале
1898 г. Уайльд переехал в Париж, Блэккер несколько раз навещал
его и они переписывались. В начале мая Уайльд попросил Блэк-
кера одолжить ему денег, и тот не отказал; однако к концу месяца
отношения их испортились. Росс от кого-то услышал — Уайльд
заподозрил, что от Блэккера, — о том, что городские власти якобы
1 Его отношение к абсенту менялось. “Он ничего мне не говорит”, —
пожаловался он однажды Бернарду Беренсону. Но Артуру Мейчену
он сказал уже другое: “Я до сих пор не могу до конца привыкнуть
к абсенту, но он идеально подходит к моему стилю”. Он проникался
к абсенту все более теплыми чувствами; в Дьепе он сказал: “Чудесен
зеленый цвет этого напитка. Рюмка абсента не уступает в поэтич-
ности ничему в мире. В чем разница между нею и закатом солнца?”
И дальше: “Я обнаружил, что алкоголь, выпитый в достаточном коли-
честве, производит полный эффект опьянения”.
671
намерены выдворить Уайльда из Парижа. То, что Уайльд счел
Блэккера источником этой “утки”, показывает, что Блэккер уже
выказал к тому времени некие признаки недовольства поведением
Уайльда в Париже.
Но непосредственный повод к ссоре, скорее всего, дало слу-
чившееся у Уайльда вскоре после приезда в Париж знакомство
с майором Фердинаном Вальзеном Эстерхази — человеком,
совершившим акт шпионажа, за который был несправедливо
осужден Альфред Дрейфус. Суд над Дрейфусом произошел всего
за несколько месяцев до суда над Уайльдом, и Дрейфуса отправили
на остров Дьявола примерно тогда же, когда Уайльда отправили
в Пентонвилл. Поэтому Уайльд испытывал свой, особый интерес
к тому, о чем говорила вся Франция. 11 января 1898 г. Эстерхази
был оправдан военным трибуналом. Два дня спустя Золя, некогда
водивший с Уайльдом дружбу, опубликовал в газете “Орор”
письмо под названием “Я обвиняю”. В феврале, когда выходила
в свет “Баллада Редингской тюрьмы”, Золя был признан винов-
ным в клевете и приговорен к годичному тюремному заключению,
от которого он позднее бежал в Англию.
Эстерхази принадлежал к числу тех сомнительных личностей
с уголовным душком, что всегда интересовали Уайльда. Во время
одной из встреч у них произошел диалог с дантовским оттенком.
“Мы два величайших мученика в истории человечества, но я стра-
дал больше”, — заявил майор. “Нет, — возразил Уайльд, — не вы,
а я”. — “В тринадцать лет, — продолжал Эстерхази, — я был
глубоко убежден, что никогда больше не буду счастлив”. “И он
не ошибся”, -— заметил Уайльд, пересказывая эту беседу.
Уайльд написал об этом знакомстве Блэккеру, возможно,
не понимая, насколько близко к сердцу принял его друг неспра-
ведливость, которой подвергся Дрейфус. С 1897 г., когда до Блэк-
кера стали доходить сообщения о невиновности Дрейфуса, он дея-
тельно участвовал в попытках добиться его освобождения. Читая
письмо Уайльда, он уже знал от итальянского военного атташе
в Париже, что предательство, приписываемое Дрейфусу, совершил
Эстерхази. В свете этих сведений письмо выглядело как нельзя
более неуместным. “Эстерхази намного интересней, чем невинов-
ный Дрейфус, — заявил Уайльд в одной из бесед. — Быть невинов-
ным — всегда ошибочная позиция. А вот стать преступником спо-
собен не каждый, тут нужны отвага и воображение”. Прекрасно,
но как все-таки быть с узником, томящимся на острове Дьявола?
Уайльд и Эстерхази виделись несколько раз. Фрэнк Харрис
утверждал, что присутствовал на самой захватывающей из этих
встреч, но, скорее всего, там был не он, а корреспондент “Нью-
Йорк тайме” и лондонского “Обзервера” Роуленд Стронг. Эстер-
6
хази, по своему обыкновению, начал поносить Дрейфуса. Уайльд
подался вперед над столом и сказал: “Невиновные всегда страдают,
господин майор; это их профессия. К тому же мы все невиновны
лишь до тех пор, пока нас не разоблачили. Это жалкая, пошлая
роль, доступная любой бездарности. Гораздо интереснее быть
виновным и носить наподобие нимба приманку греха”. Эстерхази,
видно, так устал от своей собственной лжи, что угодил в расстав-
ленную Уайльдом сеть: “Знаете что? Почему бы мне вам сейчас
не открыться? Вот возьму и откроюсь. Это я, Эстерхази, виновен
в измене, и никто другой. Я засадил Дрейфуса в тюрьму, и теперь
вся Франция не может его оттуда вытащить”. К его удивлению,
сидящие за столом расхохотались — и только.
Но на следующий день Стронг послал в “Нью-Йорк тайме”
заметку, датированную 29 марта, где раскрывались некие тайные
планы дрейфусаров по разоблачению Эстерхази. Ее напечата-
нию предшествовала публикация 4 апреля во французской газете
“Сьекль” письма того же содержания, подписанного “Дипломат”;
Блэккер увидел здесь руку антидрейфусаров. Они принялись чер-
нить его в своих печатных изданиях. Блэккер заподозрил Уайльда
в том, что тот сообщил им о его закулисной деятельности; воз-
можно, Уайльд и вправду допустил какие-то неосторожные выска-
зывания о деловых начинаниях Блэккера в Англии. После этого
Блэккер написал Уайльду два письма. В первом выражалось неудо-
вольствие по поводу возобновления связи Уайльда с Дугласом.
Уайльд не ответил. Второе письмо обвиняло его в сочинении ано-
нимных статей против Блэккера. Уайльд мигом написал “жесткий
ответ” с требованием извинения. Его не последовало. Так окончи-
лась эта длительная дружба.
Осталось не так много людей, на чье общество Уайльд мог
рассчитывать. С Жидом, который ввиду давнего знакомства был,
казалось, подходящим кандидатом, они встретились лишь дважды.
В первый раз это произошло случайно: идя по улице, Жид вдруг
услышал, как его окликнули, и увидел Уайльда, сидящего за сто-
ликом у кафе. Жид подошел и хотел было расположиться лицом
к Уайльду и спиной к прохожим, но Уайльд настоял, чтобы он сел
поближе: “Я так одинок сейчас”. Некоторое время они вели при-
ятную беседу, но вдруг Уайльд сказал: “Не буду скрывать — я сижу
без гроша”. Жид дал ему денег, и они условились о новой встрече.
На сей раз Жид упрекнул его в том, что он покинул Берневаль,
так и не написав обещанной пьесы. Уайльд возразил: “Разве можно
упрекать человека, которого так ударило?” Больше они не виделись.
Другие эпизоды укладываются в ту же печальную схему. Одна-
жды в мае 1898 г., сидя у кафе “Флор”, он увидел идущего мимо
Анри Даврэ, своего переводчика. Уайльд поманил его к себе
22- 5556
673
и попросил присесть на минутку. Он выглядел таким сломлен-
ным и несчастным, что Даврэ согласился, хотя спешил на какую-то
встречу. Уайльд сказал, что бежал от скуки своего гостиничного
номера. Когда Даврэ сел с ним рядом и они начали беседовать
на разнообразные темы, Уайльд оживился, но все время повторял,
что Даврэ не должен уходить и оставлять его одного. Переводчику
пришлось позвонить по телефону и отменить назначенную встречу.
Уайльд так боялся остаться один, что, когда в конце концов Даврэ
встал, чтобы уйти, он пошел с ним вместе через Люксембургский
сад и затем упросил его сесть за столик у другого кафе на буль-
варе Сен-Мишель. Наконец он признался в своем затруднении.
“У меня нет ни единого су, — сказал он и рассмеялся: — Если вы
готовы ссудить мне ту или иную сумму, вот вам залог”. Он вынул
из кармана и тут же снабдил дарственной надписью издание траге-
дии Уэбстера “Герцогиня Мальфи”. Другой писатель — Фредерик
Буте — вспоминал, как в июле 1899 г. они с другом шли по бульвару
Сен-Жермен и увидели Уайльда, сидящего за столиком у одного
из кафе под проливным дождем, уже придавшим его соломенной
шляпе колоколообразную форму и напитавшим его пиджак влагой
как губку; дело в том, что официант, желая поскорей избавиться
от последнего посетителя, не только водрузил стулья на столы,
но и скатал тент. Уйти Уайльд не мог, потому что ему нечем было
заплатить за три или четыре порции выпивки, с помощью которой
он оттягивал момент возвращения в свое унылое обиталище. Он
писал Фрэнсис Форбс-Робертсон: “Как любезный моему сердцу
Франциск Ассизский, я повенчан с бедностью, но в моем случае
брак оказался неудачным. Я ненавижу навязанную мне супругу”.
Фрэнку Харрису: “Прореха в штанах может наполнить человека
гамлетовской меланхолией, стоптанные башмаки могут превра-
тить его в Тимона Афинского”.
Он все еще был способен высмеять свою собственную беду.
Своему приятелю Жану Жозефу Рено он рассказал о том, как
однажды поздно вечером, совершив свой обычный обход кафе,
начинавшийся с “Кализайя”, он шел домой по парижским ули-
цам. Проходя по мосту Искусств, он остановился поглядеть
на зеленоватую воду, заманчиво струившуюся внизу. Вдруг он
заметил бедно одетого человека, тоже склонившегося над пери-
лами моста. “Hein, mon pauvre, etes-vous desespere?” — спросил
он. “Non, monsieur, — был ответ. —Je suis coiffeur”1. Однако
Морису Метерлинку и Жоржетт Леблан, пригласившим его в мае
1898 г. на обед, он признался, что оплакивает свою жизнь. “Я жил.
Да, я жил. Я пил сладкое питье, я пил горькое питье, и я нашел
1 “Бедный вы мой, вы отчаялись?” — “Нет, месье, я парикмахер” (фр-)'
Ь74
горечь в сладости и сладость в горечи”. Затем он добавил: “При-
говор обрушивается на тебя со всей жестокостью, когда ты выхо-
дишь из тюрьмы”. Метерлинк заметил, что Гюисманс поселился
в монастыре, и Уайльд выразил одобрение: “Это, наверно, вос-
хитительно — видеть Бога сквозь стекла витражей. Может быть,
я и сам отправлюсь в монастырь”. Когда Метерлинк предложил ему
попробовать вино, какого нельзя купить в Англии, Уайльд с горь-
кой иронией сказал: “Англичане наделены чудесной способно-
стью превращать вино в воду”1. В тюрьме, сказал Уайльд, он был
счастлив, “потому что там я обрел мою душу”. То, что он напи-
сал в Рединге, заявил он, когда-нибудь прочтет весь мир; это —
“послание моей души душам других людей”.
Хью Чессон услышал от него довольно-таки печальную исто-
рию: “Некто увидел существо, прятавшее от него свое лицо, и ска-
зал: “Я заставлю его показать мне лицо”. Он погнался за существом,
но потерял его из виду, и его жизнь пошла своим чередом. Спустя
много лет, повинуясь какому-то влечению, он вошел в длинный зал,
где были накрыты столы на много персон, и в зеркале увидел суще-
ство, за которым он гнался в молодости. “На этот раз ты от меня
не уйдешь”, — сказал он, но существо не пыталось ни бежать,
ни прятать лицо. “Смотри! — воскликнуло оно. — Взглянешь —
и больше не осмелишься, ибо это лицо твоей души, и оно ужасно”.
Вдовец
Мне трудно теперь смеяться над жизнью,
как я смеялся раньше.
В начале апреля 1898 г. Констанс Уайльд перенесла вторую опе-
рацию на позвоночнике, и 7 апреля она умерла в возрасте сорока
лет. Дуглас приехал к Уайльду утешить его, и тот сказал ему: “Мне
1 Чудесам нашлось место и в объяснении, которое он дал преследо-
ванию первых христиан в Риме: “Ну как мог Нерон их терпеть?
Ведь они же делали из него посмешище! Он думал примерно вот
как: “Все шло как нельзя лучше, жили — не тужили, и надо же было
из какой-то глухомани заявиться этим двоим субчикам! Одни имена
чего стоят — Петр и Павел, язык сломаешь. В Риме просто невмо-
готу стало жить. Они собирают громадные толпы, мешают своими
бесконечными чудесами уличному движению. Невыносимо. Даже я,
император, лишен элементарного покоя. Встанешь утром, выглянешь
в окно — и на тебе, на заднем дворе непременно какое-нибудь чудо
происходит”.
6/5
приснилось, что она приехала сюда повидаться со мной, а я все
твердил: “Уходи, уходи, оставь меня в покое”. На следующий день
он узнал, что она скончалась. Его реакция была смешанной. Он
послал Роберту Россу телеграмму с просьбой приехать, потому что
он “в великом горе”, но, приехав, Росс особенного горя не уви-
дел. С другой стороны, Уайльд с элегической фатальностью сказал
Фрэнку Харрису: “Мой обратный путь к надежде и новой жизни
кончается у ее могилы. Все, что со мной происходит, символично
и непоправимо”. Видеться с сыновьями ему, как и раньше, было
нельзя. После смерти Констанс он стал получать по завещанию
150 фунтов в год без всяких условий. Этого хватало бы на жизнь,
если бы не его привычка к роскоши. Письмо Росса, написанное
им Смизерсу во время его парижского визита, дает представление
о тогдашнем состоянии Уайльда: он по-прежнему был способен
воспрянуть духом и по-прежнему не был способен ни к каким
начинаниям.
Дорогой Смизерс! Я давным-давно должен был Вам написать, но,
когда я с Оскаром, у меня ни до чего не доходят руки... Вы, навер-
ное, слышали о кончине миссис Уайльд. Оскар, конечно, нисколько
не огорчился. Ее смерть обеспокоила его лишь тем, что выплата
содержания может прекратиться, потому что вряд ли душеприказчики
его покойной жены ее продолжат. Вообще же он в очень хорошем
расположении духа и тратит не слишком много. Он огорчен тем, что
Вы ему не пишете...
С Дугласом он виделся только однажды. Я тоже имел честь
посетить его светлость. Все, кроме него самого, интересуют его еще
меньше прежнего, и особенно Оскар. Так что я искренне думаю, что
эта связь умрет естественной смертью.
Оскар, как обычно, очень забавен, но временами крайне отре-
шен. Он говорит, что “Баллада Редингской тюрьмы” описывает не его
тюремную жизнь, а его жизнь в Неаполе с Бози и что лучшие ее
строфы — это непосредственный итог его пребывания там.
Росс с облегчением узнал, что Уайльд и Дуглас теперь живут
врозь; впрочем, Уайльд несколько отдалился и от прочих своих
друзей, включая самого Росса. После смерти Уайльда Росс сказал
Фрэнку Харрису, что никогда не чувствовал со стороны Уайльда
подлинной привязанности к себе. Отношение Росса к нему также
было непростым. На протяжении трех лет были периоды, когда
Росс избегал его, — например, сентябрь и октябрь 1898 г., когда
они с Реджи Тернером посетили Флоренцию, Рим и Неаполь,
но в Париж к Уайльду не заехали. Утешило Уайльда то, что в конце
сентября Чарлз Кондер пригласил его к себе в Шантемерль —
676
городок близ Ла-Рош-Гюйона (департамент Сена-и-Уаза). Кондер
писал миссис Далхаузи Янг:
После того как мы с Вами виделись, у меня не было никакой воз-
можности заниматься делами, потому что наехало множество гостей,
и в частности, здесь побывал Оскар. Я думаю, его присутствие не всем
пришлось по душе, но он превратил Шантемерль в очаровательное
маленькое государство, королем которого был он; завладев лодкой
Бланта, он сделал ее своей королевской баркой и каждый день застав-
лял местных мальчиков возить его на ней из Шантемерля в Ла-Рош,
где он выпивал аперитив и нагружался утиными ножками в вине,
дополняя тем самым наши скудные обеды.
Он теперь гораздо серьезнее, чем когда мы видели его в Дьепе; он
очень угнетен, и порой его ужасно жаль.
Он с великой грустью говорит о том, что никогда больше не смо-
жет вернуться в приличное общество, и, видимо, считает себя слиш-
ком старым для того, чтобы примкнуть к ветреным поэтам Латин-
ского квартала.
Единственным из его друзей, кто постоянно жил в Париже,
был Альфред Дуглас, и Уайльд был рад тому общению, какое
у них еще оставалось. В мае 1898 г. он перенес операцию на горле,
причина которой нам неизвестна, и в этом месяце они с Дугла-
сом часто виделись. Чтобы помочь Дугласу обставить его новую
квартиру на авеню Клебер, Уайльд отправился в магазин “Мейплз”
и за 40 фунтов купил подходящую мебель, в том числе зеленую кро-
вать. Дуглас возместил ему расходы, хотя из-за постоянной игры
на скачках деньги, присылаемые матерью, у него не задерживались.
“Он умеет безошибочно угадать лошадь, которая не выиграет, —
сообщал Уайльд в письме, — и это представляется неким чудом,
ведь в лошадях он не смыслит ровно ничего”. Уайльд рассказывал
Клэр де Пратц, как однажды сел на трамвай, идущий от Монпар-
наса до площади Звезды, и поехал к Дугласу на авеню Клебер. Вдруг
он сообразил, что забыл дома бумажник (или что просто остался
без единого су). В салоне трамвая он вслух признался в этом
и спросил пассажиров: “Не одолжит ли мне кто-нибудь тридцать
сантимов?” Ответом было гробовое молчание. Тогда он попросил
водителя остановиться, вышел из трамвая, остановил экипаж, сел
в него и торжествующе помахал пассажирам трамвая, зная, что
швейцар в доме Дугласа расплатится с возницей. “Мораль этой
истории такова, — объяснил Уайльд: — люди больше доверяют
тому, кто ездит в экипаже, чем тому, кто пользуется общественным
транспортом”. В воспоминаниях Гюйо де Сэ, где приведена эта
история, есть и другая, рассказанная Уайльдом, возможно, в тот же
/С —у—т
°//
период: “Некий молодой лондонец, ведя беспутную жизнь, наде-
лал кучу долгов. Друзья решили ему помочь. Они собрали деньги,
расплатились с его кредиторами и дали ему сверх того сто фун-
тов, на которые он пообещал отправиться в Австралию, чтобы там
начать новую жизнь. Через два месяца один из друзей столкнулся
с нашим молодым мотом на Пикадилли и негодующе воскликнул:
“Так ты еще здесь! Взял сто фунтов, чтобы поехать в Австралию,
а сам еще здесь! Ты нарушил свое слово”. — “Скажи мне честно,
старина, если бы у тебя было сто фунтов, ты бы поехал в Австра-
лию?” — был ответ”. Уайльд, возможно, вспоминал, рассказывая
эту байку, о безуспешной попытке его отца спровадить в Австра-
лию Мэри Траверс.
Весной 1898 г. Дуглас примерно половину времени провел
в пригородном местечке Ножан-сюр-Марн, где хозяин отеля готов
был терпеть задержки платежей. В письме Уайльду от 22 июля Дуг-
лас просит у него в долг луидор. В июне и июле Уайльд навещал его.
При Дугласе тогда находился наполеоноподобный Морис Гилберт,
который был в то время его возлюбленным, но в разные периоды
пользовался вниманием ряда его знакомых, включая Росса и Тер-
нера в Лондоне и Уайльда в Париже. В августе и сентябре Дуглас
был с матерью в Трувиле, а затем в Эксе, где он вновь потерял все
деньги на скачках. В том же году он опубликовал сборник стихов,
выдержанных в духе “поэзии нонсенса”, и, видимо, решил, что
настал благоприятный момент для возвращения в Англию и реа-
билитации там. Он прозондировал почву и, поскольку власти
не возражали, в ноябре прибыл на родину.
После этого он предпринял решительную попытку прими-
риться с отцом. В письме своему двоюродному брату Алджернону
Берку он сообщил ему, что готов повиниться. Он, однако, цеплялся
за обрывки былой дружбы: “Я не могу обещать, что не буду изредка
видеться с Уайльдом. При этом готов дать тебе и отцу слово, что
мои отношения с ним совершенно невинны и определяются лишь
ощущением невозможности бросить его сейчас, когда он беден
и сломлен, после того, как я был его другом в пору его богатства
и процветания”. Он писал, что дает, когда может, Уайльду деньги,
но исполняет данное матери обещание не жить с ним под одной
крышей. Он просил передать отцу его просьбу “принять во вни-
мание собачью жизнь, которой я жил последние годы, и сделать
шаг мне навстречу”. Берк показал письмо Куинсберри и в тот же
день написал Бози, что его отец будет счастлив с ним увидеться.
Процессы Уайльда сильно повлияли на жизнь самого
Куинсберри. Гордость из-за славной победы, одержанной над
нарушителями нравственных норм в лице собственного сына
и его бесстыжего любовника, улетучивалась по мере того, как ста-
рые друзья начали избегать его общества. Краткий период респек-
табельности, когда маркиз предстал неким столпом общественной
морали, не повлиял на его репутацию задиры, азартного игрока,
неверного мужа и атеиста. Возникли и финансовые трудности; он
не стал, конечно, банкротом, как Уайльд, но вынужден был про-
дать свой огромный дом в Кинмаунте, где вырос Бози, картины
Неллера, Лили, Стаббса, Рейнолдса, Гилберта Стюарта и других
художников, а также иное имущество. Он был в ссоре со всеми
своими детьми, кроме дочери Эдит, которая в апреле 1898 г. вышла
замуж за Сент-Джона Фокс-Питта. С первой женой он не разго-
варивал уже долгие годы. Письмо Бози показалось ему искренним,
и Куинсберри согласился встретиться с ним в курительной отеля
“Бейли”, где он тогда жил. Это была весьма чувствительная сцена:
Бози выразил раскаяние, маркиз прослезился, обнял его, назвал
“моим бедным дорогим мальчиком” и пообещал вновь начать
выплачивать ему содержание. Он тут же написал распоряжение
об этом своему финансовому поверенному. Но потом Куинсберри
одумался: горечь былой ссоры не так-то легко было позабыть,
и неделю спустя он написал Бози, что не даст ему ни пенса, пока
он не объяснит совершенно точно, каковы его отношения “с этой
скотиной Уайльдом”.
Бози, который и в здоровом состоянии был чрезвычайно
вспыльчив, болел инфлюэнцей и был поэтому вспыльчив вдвойне;
он написал в ответ, что никакого мира между ним и маркизом быть
не может, и, как четыре года назад, отказался от денежного содер-
жания.
Несколько месяцев спустя он увидел отца в кебе; маркиз выгля-
дел до того плохо, что Дуглас испытал угрызения совести. От дру-
зей он узнал, что Куинсберри кажется, будто приверженцы Оскара
Уайльда преследуют его повсюду, кричат ему вслед оскорбления,
выживают его из отелей. Бози написал мужу своей сестры Эдит,
что питает к отцу лишь симпатию и любовь, что сожалеет о том
лихорадочно-импульсивном письме. Послание Бози показали
маркизу, но тот промолчал, чувствуя, видимо, что вражда пустила
слишком глубокие корни.
В календаре Уайльда появлялись все новые траурные даты.
16 марта 1898 г. в возрасте двадцати пяти лет умер Бердслей.
Потрясенный Уайльд писал Смизерсу: “Есть что-то трагически-
жуткое в том, что человек, населявший наш мир новыми ужасами,
должен был умереть в возрасте цветка”. Следующим скончался его
брат Уилли (13 марта 1899 г.); новость застала Уайльда в Швей-
царии. Он выразил вдове соболезнование, но особенного горя
не ощутил. Большее впечатление произвела на него смерть Дау-
сона 23 февраля 1900 г. “Это было бедное чудесное раненое сер-
6/9
дце — трагический сгусток всей трагической поэзии, подобный
символу или живой картине, — писал он Смизерсу. — Пусть
на его могилу положат листья лавра, и руты, и мирта, ибо он знал,
что такое любовь”. Эти смерти обострили его ощущение рокового
конца девяностых годов.
Бездомность
Но все справедливо: боги решают, кого казнить,
кого миловать. Я был создан для того, чтобы
погибнуть. Богини судьбы качали мою колыбель.
Пока Дуглас был в Лондоне, Фрэнк Харрис обратился к Уайльду
с новым предложением о совместной поездке. В свое время Уайльд
отказался отправиться с ним в Пиренеи и, когда Харрис обиделся,
написал ему: “Вы чрезвычайно властная натура... тех, кто Вам
не подчиняется, Вы уничтожаете. Удовольствие, доставляемое
Вашим обществом, — это удовольствие столкновения личностей,
интеллектуального поединка, битвы идей. Чтобы не погибнуть
в сражении с Вами, нужно обладать мощным умом, напором, энер-
гией. На Ваших ленчах, бывало, останки гостей выносили вместе
с остатками пиршества. Часто, приходя на ленч к вам на Парк-
лейн, я оказывался единственным уцелевшим”. Он сказал миссис
Уэлдон: “Его [Харриса] суждения о женских персонажах Шекс-
пира заставили бы Фальстафа плакать горькими слезами”. Теперь
Харрис напомнил Уайльду его слова о том, что в Париже зимой он
писать просто не может, но в более теплом климате это было бы
для него делом столь же естественным, как для птицы — щебет.
Харрис, который вот-вот должен был продать “Сатердей ревью”
за 40000 фунтов, пригласил Уайльда на три месяца на Лазурный
Берег. В середине декабря он приехал в Париж и предложил отпра-
виться через три дня, но Уайльд тянул еще три дня сверх того
и неоднократно просил у Харриса денег, “чтобы расплатиться
с долгами”. Вечером в воскресенье он все же прибыл на Лионский
вокзал, как было условлено, но все время романтически сокру-
шался из-за предстоящей разлуки с Морисом Гилбертом, которому
ранее он на деньги Харриса купил велосипед с никелированной
рамой. Вздохи эти задали тон многим разговорам на протяжении
последующих недель: Уайльд, взяв себе в союзники Шопенгауэра,
назвавшего женскую фигуру неуклюжей, утверждал, что мужская
красота выше женской; Харрис, напротив, доказывал преимуще-
ства Венеры Милосской перед Антиноем. Уайльд теперь посто-
68о
янно рассуждал об “уранической” любви; она то и дело возни-
кает в его письмах Россу и в разговорах с Харрисом, дошедших
до нас в передаче последнего. Лучший из его оборонительных
афоризмов звучал так: “Патриот, брошенный в тюрьму за любовь
к родине, продолжает любить родину; поэт, наказанный за любовь
к юношам, продолжает любить юношей”.
На эти темы друзья подолгу беседовали в декабре 1898 г.
в “Отеле де Бэн” в приморском городке Напуле близ Канн.
Идея Харриса состояла в том, что Напуль обеспечит Уайльду
тишину и покой, необходимые для творчества, а если захочется
поразвлечься — пожалуйста, до Канн всего десять миль. Ближе
к концу их пребывания там Харрис много времени стал проводить
в Монако, где он приобрел отель и ресторан, и Уайльд подолгу
был предоставлен самому себе. Он сдружился с англичанином
Гарольдом Меллором, которого восхищало его искусство беседы.
Во время одного из своих нечастых приездов в Напуль Харрис
случайно услышал, как Уайльд говорит Меллору, что его, Уайльда,
общественное положение было до тюрьмы гораздо выше, чем
положение Харриса: Харрис, мол, был горд знакомством с Баль-
фуром, а тот, в свою очередь, гордился знакомством с Уайльдом.
Подобной светской похвальбе Уайльд отдавал дань и в былые дни;
привычка пускать пыль в глаза была неискоренима.
Уайльд даже не пытался чем-либо заняться. Еще в Париже он
сказал Лоуренсу Хаусману: “Я говорил вам, что собираюсь что-то
написать; я всем так говорю... Такое можно повторять каждый день
с намерением взяться за дело завтра. Но в сердце моем — в этой
гулкой свинцовой камере — я знаю, что этого никогда не будет.
Довольно того, что истории мною придуманы, что они сущест-
вуют, что я смог придать им мысленно ту форму, какой они тре-
буют”. На Лазурном Берегу произошли две памятные встречи.
Одна — с Сарой Бернар в Каннах; она играла в “Тоске”, и Уайльд
с Меллором отправились к ней за кулисы. Она бросилась Уайльду
на шею, и они оба заплакали; “это был чудесный вечер”, — писал
он. Вторая встреча была менее приятной: Уайльд шел берегом
моря, и вдруг показался Джордж Александер на велосипеде. “Он
улыбнулся мне жалкой, кривой улыбкой и проехал мимо, не оста-
новившись. Как это дико, как пошло с его стороны!”
Уайльд не оставлял вниманием местных юношей. Он писал
Смизерсу: “Да, и в Напуле есть своя романтика. Она приплывает
на лодках, принимая вид молодых рыбаков, голоногих и голо-
руких, которые тянут огромные сети; эти юноши диковинны
и совершенны. Недавно я побывал в Ницце; там романтика — это
ремесло, которым промышляют при свете луны”. Когда Харрис
в очередной раз стал побуждать Уайльда взяться за перо, тот ска-
681
зал ему, что задумал “Балладу о юном рыбаке” — некую антитезу
“Балладе Редингской тюрьмы”. В новой поэме тюрьма должна была
уступить место свободе, сокрушение — радости, казнь — поце-
луям. Три строфы из ненаписанной поэмы, которые он прочел,
показались Харрису многообещающими, и он потребовал, чтобы
Уайльд их записал. Тот отказался: нет, писать он больше не может.
Ранее в письме Ротенстайну он заявил: “Творческая энергия
из меня выбита”. Харрис резко сказал ему, что нельзя же вечно
стоять с протянутой рукой. Уайльд испугался, не означает ли это
немедленного прекращения материальной поддержки, но Харрис
заверил его, что его обещание насчет трех месяцев остается в силе.
Когда этот срок подошел к концу, Меллор пригласил Уайльда
в швейцарский городок Глан. По дороге он ненадолго остано-
вился в Ницце, а затем отклонился от маршрута, чтобы провести
день в Генуе. Он хотел положить цветы на могилу Констанс; клад-
бище располагалось у подножия холмов, что постепенно перехо-
дят в горы, опоясывающие город. Надпись на камне он назвал
“трагической”: “Констанс Мэри, дочь Хораса Ллойда, адвоката”.
Фамилия Уайльд упомянута не была — словно он никогда не жил
на свете1. “Я был потрясен до глубины души, — писал он Россу, —
но меня не оставляло сознание бесполезности всех сожалений.
Ничто не могло произойти иначе, и Жизнь — страшная вещь”.
С этим впечатлением в душе он отправился к Меллору, кото-
рый в роли хозяина был начисто лишен харрисовской щедрости.
Опасаясь, что Уайльд примется злоупотреблять его гостеприим-
ством, он все больше экономил. Недорогие швейцарские вина,
которые подавались к столу поначалу, Меллор затем — вероятно,
из-за усердия, с каким Уайльд на них налегал, — заменил пивом.
Никаких денежных ссуд добиться от него не удавалось. “Стоит мне
попросить у него в долг пять франков, как он весь желтеет и рети-
руется к себе в спальню”. Наконец Уайльд решил, что хватит с него
унижений, и заявил, что уезжает. Меллор почувствовал, что гость
остался недоволен, и извинился перед ним, но Уайльд тем не менее
отправился на побережье Лигурии, где 1 апреля 1899 г. обосно-
вался в Санта-Маргарите; оттуда он написал Россу: “В Париже мне
плохо; здесь мне скучно; последнее хуже”. Скука длилась до тех пор,
пока в мае Росс к нему не приехал, не уплатил его долги и не привез
его обратно в Париж. 7 мая 1899 г. он поселился в отеле “Нева”,
затем переехал в отель “Марсолье”. Россу удалось напугать его
последствиями пьянства, и он сдерживался потом пол год а.
Между тем Дуглас, вернувшийся в Париж, пребывал в при-
поднятом настроении. В конце мая 1899 г. он официально заявил
1 Позднее к надписи было добавлено: “Супруга Оскара Уайльда”.
682
о себе как о поэте, хотя и не мог поставить свое имя на титульном
листе сборника “Град души”, выпущенного в Лондоне Грантом
Ричардсом. В книгу вошли двадцать пять стихотворений из париж-
ского сборника 1896 г. (тринадцать не было включено) и восемна-
дцать новых стихотворений. Рецензия в журнале “Аутлук” (тоже
анонимная), приветствовала сборник как труд поэта, возвышающе-
гося над толпой рифмоплетов. Ее написал двоюродный брат Дуг-
ласа Лайонел Джонсон, хотя Бози тогда этого не знал. Еще одну
анонимную хвалебную рецензию опубликовал в “Стар” Джеймс
Дуглас. В ознаменование успеха Бози угостил Уайльда роскошным
обедом. Однако не все отклики были положительными; Герберт
Уоррен, президент оксфордского колледжа Магдалины, написал
ему: “К сожалению, не могу принять от Вас эту книгу”. Второе
издание, в котором Дуглас уже был обозначен как автор, продава-
лось из рук вон плохо.
А жизнь Уайльда продолжалась примерно так же, как и раньше.
Время от времени он позволял себе маленькие путешествия, и одно
из них привело его в Фонтенбло. Там его, сидящего за столиком
у кафе недалеко от дворцовых ворот, заметил Питер Чалмерс
Митчелл — ученый, с которым Уайльд в свое время познакомился
в Лондоне. Митчелл сказал своим друзьям-англичанам, с кото-
рыми он пил кофе, что здесь находится Уайльд, и они тут же ушли.
Но сам Митчелл подошел к Уайльду и сказал: “Мистер Уайльд,
вряд ли вы меня помните, но давным-давно Иан Тинн познакомил
нас в “Кафе-руаяль”. — “Иан Тинн? Помню. Он еще не умер?” —
“Похоже что умер. Прошли годы с тех пор, как я в последний раз
получил от него вести. Мы в дружеских отношениях с Робби Рос-
сом”. — “А! Робби с лицом проказливого эльфа и сердцем ангела.
Не сядете ли вы за мой столик?” Митчелл сел, и Уайльд сказал
ему: “Разумеется, я вас помню. Мы долго с вами говорили, и я рас-
спрашивал вас, какие есть способы избавиться от трупа. Я вос-
пользовался тем, что узнал от вас, в “Дориане Грее”, но не думаю,
что вас легко будет шантажировать.Старина Иан! В те дни, когда
я еще придумывал фразы, я назвал его “изысканно-испорченным”.
Они говорили о поэзии и о тюрьмах, и Уайльд, как и прежде, произ-
вел на Митчелла сильное впечатление. Наконец он встал и пригла-
сил Уайльда к себе пообедать, но тот отказался: “Ваши друзья этого
не вынесут. Пойду-ка в мою маленькую гостиницу, где не знают, кто
я такой. До свидания. Благодарю вас”.
Но были периоды, когда он не мог позволить себе даже таких
поездок. Оперная певица Нелли Мельба, с которой он был знаком
в Лондоне, шла однажды утром по парижской улице. Вдруг из-за
угла нетвердой походкой вышел высокий, неважно одетый чело-
век с поднятым воротником. “Мадам Мельба, — сказал он, — вы
683
меня не узнаёте? Я — Оскар Уайльд, и я сейчас намерен совершить
ужасный поступок. Я на?лерен попросить у вас денег”. Она отдала
ему все, что было у нее в кошельке; он пробормотал слова благодар-
ности и ушел. А она вспомнила их первую встречу, когда он ска-
зал ей: “Ах, мадам Мельба! Я — Властелин Языка, вы — Королева
Пения, и поэтому мне, я полагаю, надлежит посвятить вам сонет”.
Эллен Терри и Эме Лаудер тоже повстречали его в Париже; он
стоял у витрины кондитерской и кусал пальцы. Они пригласили
его пообедать. Он говорил великолепно, как встарь; больше они
его не видели.
Письмо журналиста Мортона Фуллертона, друга Генри
Джеймса, дает представление о том, какого рода унижения Уайльд
навлекал на себя своими назойливыми просьбами о вспомощест-
вовании:
Бульвар Капуцинок, 35
23 июня 1899 г.
Мой дорогой Мельмот! Я крайне опечален тем, что Ваша тро-
гательная просьба так долго оставалась без ответа. Увы, я проводил
мой conge1 на родине Стендаля и до вчерашнего дня не был осве-
домлен о Вашем gene1 2. Вы оказываете мне слишком большую честь
тем, что просите меня прийти на выручку такому художнику, как Вы.
И если бы я знал о Вашем положении 3 недели назад, когда я распо-
лагал средствами, я не колебался бы ни секунды, тем более что я как
раз получил тогда Вашу пьесу [“Как важно быть серьезным”] и мое
расположение духа было таково, что я готов был сказать не задумыва-
ясь: “Эту книгу я ценю на вес золота”. Однако в настоящий момент,
после дорогостоящей поездки, я при всем желании не могу восполь-
зоваться случаем и ухватиться за предложенную мне role3 в разыг-
рывающейся комедии (я употребляю это слово в греческом и галль-
ском смысле, bien entendu4, — в том единственном смысле, в каком
его может употреблять почитатель “Веера леди Уиндермир” и “Как
важно быть серьезным”). Творцу этих шедевров наверняка достанет
деликатности и esprit5, чтобы понять огорчение человека, вынужден-
ного дать такой ответ на просьбу, которой он никак не мог ожидать
и к которой он совершенно не был готов, что, однако, не уменьшает
для него значительности этой просьбы. Я льщу себя надеждой, что
за прошедшие дни Ваша невзгода миновала и что Вам не придется
1 Отпуск (фр.).
2 Затруднениях (фр.).
3 Роль (фр.).
4 Разумеется (фр.).
5 Здесь: ума (фр.).
684
вновь malgre vous1 ставить ни меня, ни кого-либо другого в подобное
положение, которое воистину является огорчительным и досадным.
Искренне Ваш
У.М. ФУЛЛЕРТОН.
Уайльд ответил коротко: “По такому мелкому поводу, дорогой
мой Фуллертон, не следовало Вам вставать на котурны”.
В еженедельнике “Тэпэз уикли” Т.П. О’Коннор писал, что
его друг Джон О’Коннор, бывший в свое время видным депута-
том парламента от одного из ирландских округов, узнал Уайльда
в ресторане и, увидев, что у него нет ни передних зубов, ни про-
тезов на их месте, проникся к нему сочувствием и решил с ним
заговорить. “Мы с вами незнакомы, сэр”, — ответил Уайльд, давая
понять, что не имеет с соотечественниками ничего общего. Раз
ему встретился его оксфордский однокашник Бодли, и Уайльд
прикинулся, будто не узнал его. Бодли не отступился и пригласил
его к себе домой. Уайльд пошел было, но, услышав по дороге, что
Бодли не один, а с семьей, сначала заколебался, а затем откланялся
и спасся бегством. Он сказал Максу де Море: “Я бродяга. В этом
веке было двое бродяг — Поль Верлен и я”.
Однажды на бульваре Итальянцев мимо Уайльда прошел Эдуар
де Макс, с которым он был знаком с давних пор. “Итак, месье Макс,
вы тоже не хотите со мной здороваться”, — окликнул его Уайльд.
“Мэтр, дорогой мэтр! — воскликнул де Макс, едва не расплакав-
шись. — Я не узнал вас, клянусь вам!” И на глазах у всех он взял
поэта за обе руки и поцеловал их.
Луи Латуретт встретил Уайльда вскоре после его операции
на горле, когда он выходил из бара “Кализайя”. Уайльд сказал ему:
“Я хочу показать вам фотографию Дориана Грея”. Он вынул сни-
мок молодого англичанина, с которым он познакомился в Риме.
“Именно таким я представляю себе Дориана. Но я ни разу не встре-
чал его до того, как описал его в моей книге. Так что я был прав,
когда говорил, что искусство вдохновляет природу и указывает ей
пути развития. Не напиши я “Дориана Грея”, этого молодого чело-
века не существовало бы на свете”. Переходя Сену по Новому мосту,
пишет Латуретт, они увидели, как некая женщина бросилась в воду.
Матрос кинулся в реку и спас ее. Уайльд был чрезвычайно взволно-
ван: “Я мог сам спасти эту женщину. Но подобные поступки мне
заказаны. Да, заказаны, и это ужасно. Все бы решили, что я хочу при-
влечь к себе внимание. Героизм привел бы только к очередному скан-
далу. После суда героизм и гениальность заказаны мне. Вы, может
быть, слышали, что я по освобождении смиренно просил взять меня
1 Невольно (фр.)-
68s
в монастырь. Это было бы лучше всего, но и это вызвало бы скандал.
Пожалейте меня. И помните: я мог спасти эту женщину”.
Несколько более радостной была встреча в театре. Сидевшая
в зале певица Эмма Кальве вдруг узнала со спины человека, который
занимал кресло прямо перед ней. Дождавшись антракта, она сказала:
“Мистер Уайльд!” Тот обернулся. Он вспомнил многолюдный званый
вечер в Лондоне, на котором они познакомились. Он тогда попросил
хозяйку разрешить присутствовать на вечере французскому поэту,
побывавшему в тюрьме. Она согласилась, и Уайльд представил гостям
Поля Верлена, который прочел одно из своих тюремных стихотво-
рений. Теперь Уайльд взял обе руки певицы в свои и произнес тоном,
который показался ей душераздирающим: “О, Кальве! Кальве!”
Призраки
Как чудесно, когда о тебе говорят все, но с тобой
не говорит никто!
Было много других встреч и много других невстреч. Все это было
“дежавю”, уже видено-перевидено, как в дрянной пьесе. Сэр Эдвард
Карсон по неосторожности чуть не столкнул в канаву какого-то
крупного мужчину; набрав воздуху, чтобы извиниться, он узнал
в нем Уайльда. Оскар Браунинг увидел его, проезжая в экипаже,
но слишком поздно сообразил, кто это. “Незабываема была эта
внезапная боль в глазах Уайльда”. Стюарт Мерриль, Мендес и Бар-
рес, “эти парижане, которые всего десять лет назад слизывали пыль
с моих сапог, сдавшись на милость победителя”, теперь прикиды-
вались, что не замечают его. С Уистлером Уайльд увиделся, входя
одновременно с ним в ресторан, и в чуткой тишине довольно
громко сказал сам себе, что художник сильно постарел и что вид
у него диковатый. “После вынесенного мне приговора Джимми
лучше стал думать об Англии и англичанах. Ничто другое не скло-
нило бы его к этому”, — заметил он позднее. Уистлер же сказал
(скорее зло, нежели остроумно): “Уайльд сочиняет “Оперу содо-
мита”1. Хиромант Кайеро, увидев Уайльда однажды в ресторане,
подошел к нему. “Как вы добры, мой дорогой друг, — сказал
Уайльд, — ведь все теперь меня избегают”. Он часто вспоминал
предсказание Кайеро, сделанное пять лет назад. Уилл Ротенстайн
1 Игра слов. Bugger — содомит, beggar — нищий; “Оперу нищего”
сочинил английский поэт и либреттист Джон Гей (1685-1732). (При-
меч. перев.)
686
с женой пригласили Уайльда пообедать; выбрав из ресторанов тот,
где он имел виды на одного из музыкантов, Уайльд неприкрыто
с ним заигрывал. Приехав в Париж в следующий раз, супруги
решили, что будут избегать встречи с ним, но на Больших бульва-
рах избежать ее было невозможно; поняв, что встреча не достав-
ляет им радости, Уайльд был уязвлен.
Бесславие Уайльда не уступало той славе, что он испытал
в начале девяностых. В американских колледжах распространя-
лась брошюра с оттисками фотографий в алой, словно от стыда,
обложке; называлась она “Прегрешения Оскара Уайльда”. Юно-
шей предостерегали от опасностей, которые он олицетворял. Пер-
вокурсник Армстронг, приехав в Париж из Америки, сидел одна-
жды в “Кафе де ла Режанс” за бутылкой белого вина; вдруг чей-то
голос спросил: “Не найдется ли у вас спички?” Армстронг поднял
голову и увидел крупного мужчину со следами то ли пудры, то ли
мази на лице (у Уайльда были высыпания на коже). Уайльд попро-
сил подать рюмку, Армстронг заказал еще одну бутылку. Но затем
некий доброжелатель бросил Армстронгу на колени карточку, где
было написано: “Это Оскар Уайльд”. Армстронг залился краской.
Уайльд посмотрел на свои серебряные часы, поднялся и сказал: “Я
избавлю вас от неловкости”. Случилось, однако, так, что они уви-
делись еще раз. Армстронг стоял на мосту Турнель и рисовал воду;
к нему подошел Уайльд. Он принялся защищать формализм в искус-
стве. Воду, заявил он, изобразить невозможно; греческие и средне-
вековые художники правильно делали, когда всего лишь обозначали
ее плавными или же завихренными линиями. Потом он заговорил
об исторических местах Парижа, о Варфоломеевской ночи, о Ека-
терине Медичи, о короле Генрихе III. Узнав, что Армстронг родом
из Арканзаса, он спросил, есть ли там целебные источники. “Да, это
место называется Хот-Спрингс”, — подтвердил Армстронг. “Я бы
хотел унестись отсюда в Арканзас, как раненый олень”, — при-
знался ему Уайльд. Потом он замолчал, внезапно чуть покачнулся
и сказал: “Спасибо за то, что слушали меня. Я очень одинок”. Когда
Армстронг написал матери, что видел Оскара Уайльда, ему было
велено отправляться домой ближайшим пароходом.
Угрюмый сумрак изредка освещали проявления людской
доброты. Уайльд задолжал хозяину отеля “Марсолье”, и тот отка-
зался отдавать ему его пожитки, пока он не расплатится. Но Жан
Дюпуарье, владевший отелем “Эльзас”, проникся к Уайльду симпа-
тией и дал ему денег взаймы. Он жил у Дюпуарье с августа 1899 г.
до 2 апреля 1900 г. В апреле Гарольд Меллор уговорил Уайльда по-
ехать с ним в Палермо и Рим, пообещав выделить на его нужды
50 фунтов. Это было не ахти как много, но Уайльд согласился. Вна-
чале они отправились в Палермо, где пробыли восемь дней, затем
687
на три дня заехали в Неаполь. В Рим они прибыли в Страстной
четверг; Уайльд наверняка вспоминал свой приезд в этот город два-
дцать три года назад, когда ему дал аудиенцию папа Пий IX. Ему
забавно было увидеть во время пасхальных торжеств X. Грисселла,
друга Хантера Блэра (Грисселл по-прежнему был камерарием при
папском дворе); в день Пасхи Уайльд, к ужасу Грисселла, стоял
в первых рядах паломников в Ватикане и получил папское благо-
словение. “Моя трость начала было расцветать”1, — шутливо писал
он Роберту Россу; билет на торжественное богослужение, объяснил
он, достался ему благодаря чуду, за которое он уплатил ни много
ни мало тридцать сребреников. Он утверждал, что благословение
папы излечило его от кожной сыпи, которая мучила его несколько
месяцев. Находясь в Риме, он ухитрился получить подобное бла-
гословение еще шесть раз, но сыпь, увы, вскоре вернулась. Забавно
было также повстречаться с бывшим последователем — Джоном
Греем, который теперь на деньги Андре Раффаловича учился в Риме
в католической семинарии. Согласно воспоминаниям Эдит Купер,
Грей шел с другими семинаристами, и вдруг, “словно из засады,
выступила крупная фигура Уайльда. Никто не проронил ни слова —
но насмешка витала в воздухе”. Больше они не виделись.
Проведя затем десять дней в Глане с Меллором, Уайльд вернутся
в Париж — все в тот же отель “Эльзас”. Формально отель принадле-
жал к десятой категории, но его владелец Дюпуарье считал, что он
заслуживает пятой категории. Дюпуарье постарался устроить Уайльда
с удобствами: в одиннадцать часов ему подавали завтрак (кофе и хлеб
с маслом), в два часа — котлету и два крутых яйца. Уайльд также полу-
чал в неделю четыре-пять бутылок превосходного “курвуазье” (вна-
чале за 25, затем за 28 франков). В пять часов Уайльд шел в “Кафе де ла
Режанс”, позднее ужинал в “Кафе де Пари”, где засиживался до двух-
трех часов ночи. Часто бывал он и в кафе “Кализайя”, где компанию
ему составляли Эрнест Лаженесс, Жан Мореас и другие.
Он по-прежнему был осознанно расточителен. Рено вспоми-
нал, как однажды он потребовал сигарет. Официант принес ему
пачку “Мэриленд”, но Уайльд ее отверг: “Нет, светлых”. Принесли
“Назир”. “Нет, с золотыми кончиками”. Слуге пришлось сбегать
в “Гранд-отель”. Уайльд дал ему луидор, и слуга пошел его разме-
нивать. Тем временем Уайльд зажег сигарету и, вдохнув дым, ска-
зал: “Фу!” Когда слуга вернулся со сдачей, Уайльд сказал ему: “Нет,
не надо. Так мне, может быть, удастся внушить себе, что сигареты
хорошие”.
1 Аллюзия на легенду о посохе, расцветшем в руке у римского папы,
использованную, в частности, Р. Вагнером в опере “Тангейзер”.
(Примеч. перев.)
688
А в семействе Куинсберри происходили свои события. Здоро-
вье маркиза ухудшилось, и в январе 1900 г. он был уже при смерти;
он пожелал увидеть только первую жену, которой заявил, что всегда
любил ее. Когда к нему пришел Перси, его сын и наследник титула,
маркиз собрал последние силы и плюнул в него. Бози, боясь подоб-
ного обхождения, навестить отца не рискнул. Перед смертью, кото-
рая наступила 31 января, Куинсберри якобы отказался от былого
агностицизма, заявил о своей любви к Христу, “которому я испо-
ведался во всех моих прегрешениях” и получил условное отпуще-
ние грехов от католического священника. Вскоре Дуглас и его брат
Перси, ставший десятым маркизом, приехали в Париж в глубоком
трауре и прекрасном расположении духа. Завещание Куинсберри
позволяло его наследникам распоряжаться оставшимся после него
состоянием без ограничений, словно он решил наконец позволить
своим расточительным сыновьям разориться самостоятельно1. Так
они и поступили. Но пока что Дуглас был обладателем круглой
суммы почти в 20 тысяч фунтов. Росс в письме предложил Уайльду
обратиться к Дугласу с тем, чтобы он начал выплачивать старому
другу содержание в дополнение к тем 150 фунтам в год, что Уайльд
получал по завещанию жены. Последовав совету Росса, он загово-
рил об этом с Дугласом в “Кафе де ла Пе”, но Бози пришел в ярость.
“У меня нет возможности тратить деньги на других”, — заявил он;
Уайльд мягко настаивал, и тогда Дуглас сказал, что он обхаживает
его, “как старая шлюха”. “Раз ты не считаешь себя в долгу, говорить
нам больше не о чем”, — сказал наконец Уайльд. “Я ушел, обли-
ваясь кровью”, — признался он потом Харрису. Дуглас так щедро
тратил деньги на своих беговых лошадей в Шантийи и на роскош-
ную жизнь, что наследство таяло на глазах. Но он был уверен, что
в любой момент сможет жениться на одной из богатых американок,
1 В завещании маркиз Куинсберри остался верен своим принципам.
Оно завершалось так: “По смерти я желаю быть кремирован, и прах
мой пусть погребут в Землю без всякой урны — земля к земле, прах
ко праху — в любом наиболее подходящем месте из тех, что я любил.
Места назову моему сыну. Можно в Харлифорде. Заявляю особо:
никакого христианского фиглярства и шутовства над моею могилой,
хочу быть погребен как атеист и агностик. Если это кому-нибудь при-
несет успокоение — пожалуйста, есть много людей, разделяющих мои
убеждения, которые охотно придут и скажут несколько разумных слов
над местом, куда ляжет мой прах. Подписано: Куинсберри, 23 января
1895 г. Возможные места для захоронения: вершина Краффед, или
Куинсберри, Дамфрисшир, оконечность террасы над Нью-Локом,
или Харлифорд, Бакингемшир. Нет нужды ни в каменном памятнике,
ни в процессии, ибо прах может нести в руке один человек. Если эти
места неудобны — сгодится любое место, над которым в ночи светят
звезды, которое золотят на рассвете лучи восходящего солнца”.
689
ожидающих от него предложения. Дуглас считал, что ничем Уайльду
не обязан, и, хоть и не прочь был иногда кинуть ему кость, отвергал
мысль о своей вине и ответственности перед ним.
Это был всего лишь один из череды испытанных Уайльдом уда-
ров. Он был человеком, который ждал чего-то — возможно, чуда —
и, дождавшись, увидел, что это его смерть. Правда, летом 1900 г.
у него было утешение — Международная выставка. Кроме того,
он с Морисом Гилбертом побывал в мастерской Родена, и великий
скульптор сам показал ему свои “мраморные сновидения” — “Врата
ада”. В обществе Поля Фора, с которым в 1891 г. познакомил его
Луи, Уайльд ходил на поединки борцов, болея в основном за неко-
его “Мясника” Рауля. Он также посещал всевозможные националь-
ные кафе и по-детски всему там радовался. “Мое будущее — это
либо Монастырь, либо Кафе. Я попробовал было Домашний Очаг,
но ничего не вышло”. Однажды августовским вечером в “Кализайя”
он прошелся по всем своим устным историям; как заметил его друг
Эрнест Лаженесс, это было похоже на прощальный фейерверк.
В другой вечер знакомая его покойной матери Анна де Бремон,
проводя время с друзьями в испанском кафе, вдруг увидела иду-
щего в ее сторону Уайльда. Испугавшись реакции друзей, она при-
крыла лицо веером. Но после того, как Уайльд прошел мимо, одна
из подруг призналась ей: “А мне было бы интересно познакомиться
с ним и выяснить, что это за чудовище такое”. Графиню эти слова
пристыдили, и она провела бессонную ночь. Утром она поднялась
рано и пошла прогуляться по Елисейским Полям в направлении
моста Согласия; там, повинуясь внезапному побуждению, она села
на один из курсировавших по Сене катеров и отправилась в Сен-
Клу. Вдруг она услышала голос: “Доброе утро! Удивлены встре-
чей? Не надо удивляться. Вы не единственная бессонная душа
в этом великом городе”. Он сказал, что видел се накануне вечером,
но не решился заговорить с ней, поскольку она была в незнакомой
ему компании. “Жизнь поднесла к моим губам благоуханный кубок,
и я испил до дна вначале всю сладость, затем всю горечь, — повторил
он ей слова, сказанные ранее Метерлинку. — Сладкое на поверку
оказалось горьким, а горькое — сладким”. — “Почему вы больше
не пишете?” — спросила она. “Потому что я уже написал все, что
следовало. Я писал, когда не понимал жизни, но теперь, когда мне
ясен ее смысл, писать больше не о чем”. Затем, уже не столь сокру-
шенно: “Я обрел душу. Я был счастлив в тюрьме, потому что обрел
там душу”. Анна де Бремон почувствовала, что сейчас расплачется,
но они уже причалили к берегу, и со словами “Не печальтесь обо
мне, графиня” он покинул ее.
В то лето Джордж Александер, который не пожелал заговорить
с ним в Каннах, вдруг пришел к нему и предложил помощь. Во время
бчо
распродажи, последовавшей за банкротством Уайльда, Александер
купил права на постановку “Как важно быть серьезным” и “Веера
леди Уиндермир”, и теперь, имея в виду скорое возвращение этих
спектаклей на сцену, он сказал, что намерен по доброй воле отчи-
слять Уайльду некую долю от сборов и завещать права его сыновьям.
Уайльд был тронут. Благотворительную помощь в своеобразной
форме готов был оказать ему и Фрэнк Харрис. “Если вы не можете
написать пьесу — давайте это сделаю я, а авторские отчисления
поделим”, — предложил он. Уайльд подписал с ним соответствую-
щий договор, но утаил от него, что уже заключил договоры на ту же
пьесу с Чарлзом Фроманом 4 октября 1899 г., с Адой Реган около
7 февраля 1900 г. и со Смизерсом. Харрис, как умел, соорудил пьесу,
и уже осенью 1900 г. спектакль “Мистер и миссис Дэвентри” шел
в Лондоне с некоторым успехом. Уайльд сказал: “Мало того что вы
украли мою пьесу, вы к тому же ее испортили”. Когда он потребовал
свою долю отчислений, Харрис объяснил ему, что ему приходится
удовлетворять финансовые претензии тех, кто заплатил Уайльду
аванс за ненаписанную пьесу. Уайльд вознегодовал на Харриса,
который, как он считал, проявил вероломство, хотя на самом деле
Харрис всегда вел себя по отношению к нему благородно. Осенние
раздумья о вероломстве Харриса пришли, таким образом, на смену
летним раздумьям о вероломстве Дугласа.
Нисхождение
Не знала я, как страшно умирать.
Я думала, что жизнь взяла себе
Все муки1.
Каждый рождается королем, но большинство
умирает в изгнании — как большинство королей.
Другим предметом его беспокойства стало в те месяцы ухудша-
ющееся здоровье. Еще летом 1899 г. на его руках, груди и спине
возникли большие красные пятна, что он приписал отравлению
мидиями. Удержаться от того, чтобы расчесывать их, было невоз-
можно; он сказал однажды Россу: “Я еще больше обычного похож
на большую обезьяну, но надеюсь все же, что ты угостишь меня
ланчем, а не орехом”. Один из врачей сказал, что это не отравление
мидиями, а неврастения. Так или иначе, времени для постановки
1 “Герцогиня Падуанская”. Перевод В. Брюсова.
диагноза оставалось уже мало. Это явно был не сифилис, поскольку
сифилитическая сыпь не вызывает зуда. Но болезнь, ставшая причи-
ной смерти Уайльда, почти наверняка имела сифилитическое про-
исхождение. Из писем Уайльда явствует, что к концу сентября 1900 г.
он уже был прикован к постели. Росс утверждает, что лечивший
его Морис а’Корт Таккер, тридцатидвухлетний врач из посольства,
совершенно не понимал природу заболевания и только в последние
дни приблизился к верному диагнозу. Однако он, по крайней мере,
уделил пациенту много внимания и начиная с 27 сентября посе-
тил Уайльда 68 раз, о чем говорит его счет, датированный 5 декабря
1900 г. 26 сентября Уайльд писал Харрису: “Возмутительно было
с Вашей стороны оставить меня в таком положении — прикован-
ного к постели, оперируемого дважды в день, мучимого ^прекра-
щающимися болями и без гроша в кармане”. Доктор Таккер реко-
мендовал операцию на ухе. Уайльд колебался, потому что платить
за операцию было нечем, но, поскольку ему было сказано, что
медлить опасно, он занял деньги у друзей и был прооперирован
10 октября в своем гостиничном номере хирургом по фамилии
Клейс. По мнению одного современного хирурга, это мог быть
прокол барабанной перепонки или удаление полипа. Хотя Росс
говорит о “небольшой операции”, Уайльд — возможно, преувели-
чивая свои страдания, — назвал ее Харрису “ужаснейшей”, потре-
бовавшей круглосуточного дежурства брата милосердия, присут-
ствия в отеле врача и покупки большого количества медикаментов.
В книге “Ушная хирургия” (1853) сэр Уильям Уайльд писал: “Пока
продолжаются выделения из уха, невозможно предсказать, как, когда
и чем это кончится и к чему поведет”. Ухо каждый день перевязывал
брат милосердия по фамилии Аньон. Уайльд сообщил телеграммой
об операции Россу, который всегда был готов помочь в трудную
минуту, и попросил приехать: “Совсем ослаб — приезжай, прошу
тебя”. Еще в феврале 1898 г. он писал Харрису: “Морг ждет меня
не дождется. Я уже присматриваю себе там цинковое ложе”. Он
действительно посещал парижский морг. Мысли о смерти всегда
были недалеко, и друзьям зачастую трудно было отделить его обо-
снованные страхи от простых призывов к сочувствию. “Жить надо
так, словно смерти не существует, — писал Уайльд. — Умирать надо
так, словно ты и не жил вовсе”. Но подобные рекомендации легче
было давать, пребывая в добром здравии.
Росс собирался навестить Уайльда ближе к концу месяца, но,
узнав о его состоянии, выехал из Лондона 16 октября — в день его
рождения. Он нашел друга в веселом расположении духа; назы-
вая свои страдания ужасными, Уайльд в то же время смеялся над
ними. “Ах, Робби, — сказал он, — когда-нибудь мы с тобой умрем
и будем лежать в наших порфировых гробницах, и вострубят трубы
692
Страшного суда. Я тогда повернусь к тебе и шепну: “Робби, Робби,
давай притворимся, что не слышим”. К счастью, в это время Уайльд
не испытывал недостатка в людском обществе: в Париже были
и Реджи Тернер, и брат Росса Алекс. Лили, вдове Уилли Уайльда,
и ее новому мужу Александру Тешейра де Маттушу он сказал: “Я
жил не по средствам и умираю не по средствам. Я не переживу
девятнадцатого столетия. Англичане не вынесут моего дальней-
шего присутствия. Ведь и выставка1 провалилась из-за меня: англи-
чане, увидев меня там хорошо одетым и довольным, перестали ее
посещать. Французы, глядя на англичан, тоже перестанут мириться
с моим существованием”. Лили довольно-таки бестактно заметила,
что ее первый муж Уилли делал подобные предсказания, когда
лежал на смертном одре. “Я даже умереть не могу себе позво-
лить — дорого”, — пожаловался Уайльд Элис Ротенстайн. Он ска-
зал, что всегда считал величайшей темой из всех жизнь Наполеона
на острове Святой Елены и что теперь он сам оказался на острове
Святой Елены. Россу он заявил, что его драма чересчур затянулась.
В полдень 29 октября Уайльд впервые за несколько недель встал
с постели; врач говорил ему, что он мог бы сделать это и раньше.
Вечером, поужинав у себя в номере, он потребовал, чтобы Росс
вывел его на прогулку. С трудом дойдя до кафе, он выпил там
абсента и с помощью Росса вернулся в отель. Клэр де Пратц запом-
нила такие его слова: “Я сражаюсь не на жизнь, а на смерть с обоями
в моем номере. Либо мне, либо им суждено погибнуть”. Росс сказал
ему: “Ты губишь себя, Оскар. Ведь врач сказал, что абсент — это для
тебя яд”. — “А для чего мне жить?” — спросил Уайльд. На следую-
щий день, как Росс и опасался, он был уже простужен и жаловался
на сильнейшую боль в ухе. Доктор Таккер, однако, сказал, что в мяг-
кую погоду поездка в Булонский лес ему не повредит, и они с Рос-
сом отправились, но Уайльд пожаловался на головокружение, и им
пришлось вернуться. В ухе образовался гнойник, развилось воспа-
ление среднего уха. Теперь уже, как утверждал потом Тернер, врач
диагностировал “третью стадию инфекции, занесенной в организм
в двадцатилетием возрасте”. Прямым следствием третьей стадии
сифилиса должен был стать менингит. Брат милосердия, делавший
Уайльду перевязки, сказал Россу, что больному становится хуже.
6 ноября Росс встретился с приветливым доктором Таккером, и тот
его несколько успокоил. Но позднее в тот же день Уайльд заявил, что
не желает знать, что там наговорил Россу врач, и был сильно возбу-
жден. Он сказал, что его нисколько не тревожит перспектива скорой
кончины, и попросил Росса уплатить после его смерти хотя бы часть
1 Имеется в виду Парижская выставка 1900 г., проходившая с 14 апреля
по 5 ноября. (Примеч. перев.)
693
его долгов, которые перевалили уже за 400 фунтов. Он попросил его
также позаботиться о том, чтобы “De Profundis” было когда-нибудь
опубликовано, поскольку это письмо, он чувствовал, должно было
в какой-то мере оправдать его в глазах людей. Уайльд ощущал при-
ближение конца. Прописанный врачом морфий, который впрыски-
вал ему Дюпуарье, перестал помогать; действовали только опиум
и хлорал. Кроме того, Уайльд каждый день пил шампанское. Боль
в ухе еще усилилась, и брат милосердия вопреки указаниям Таккера
делал Уайльду припарки.
Уайльд сказал Тернеру и Россу, которые были с ним почти
неотлучно: “Мне приснилось, что я ужинаю с мертвецами”.
Тернер в ответ пошутил: “Милый мой Оскар, ты наверняка был
душой общества”. Это развеселило Уайльда, и он вновь пришел
в приподнятое, почти истерическое настроение; но у Росса было
тяжело на сердце. 2 ноября, в День поминовения усопших, он
ездил на кладбище Пер-Лашез; когда он вернулся, Уайльд спросил
его, не выбрал ли он там место для его могилы. 6 ноября Росс
написал Дугласу о том, что Уайльд очень болен и что его чрезвы-
чайно угнетают долги. В следующий понедельник, 12 ноября, Росс
попрощался с Уайльдом и уехал из Парижа, поскольку он обещал
матери встретиться с ней на юге Франции. Уайльд умолял его
остаться; он сказал, что в последние дни чувствует в себе великую
перемену и что, если он уедет, они никогда больше не увидятся.
Но Росс повторил, что должен ехать; Уайльд сказал ему на проща-
ние: “Присмотри какую-нибудь уютную ложбинку среди холмов
около Ниццы, чтобы мне отправиться туда, когда я поправлюсь,
и чтобы ты ко мне приезжал”. Он говорил также о своих детях;
вспомнил, как Вивиан однажды сказал учителю: “Я католик”.
В отсутствие Росса Реджи Тернер старался и за себя, и за него,
но дней через десять стало ясно, что улучшения не происходит. Кон-
силиум 25 ноября принес мало надежды; врачи опасались, что воспа-
ление перейдет на мозг. Морфий впрыскивать перестали, поддержи-
вая для успокоения больного лишь видимость инъекций. 27 ноября
у врачей создалось впечатление, что Уайльд утратил ясность ума,
но чуть позже он несколько пришел в себя и вновь стал связно гово-
рить; казалось, ему стало лучше1. “Бедный Оскар перестал беспоко-
1 Сохранилось медицинское заключение:
Нижеподписавшиеся врачи, обследовав господина Оскара
Уайльда, проживающего в отеле под фамилией Мельмот,
25 ноября, в воскресенье, установили наличие значительных
мозговых нарушений вследствие застарелого нагноения в правом
ухе, лечение которого начато несколько лет назад.
27 ноября симптомы стали намного серьезнее. Наличие
энцефалического менингита не вызывает сомнений. В отсутствие
694
иться о чем-либо, кроме Таккера”, — писал Тернер. С 26 по 28 ноября
он периодически начинал бредить, нес бессмыслицу на английском
и французском языках. Он позволил Тернеру приложить к его голове
лед, но спустя сорок пять минут спросил: “Милый мой маленький
еврей, не хватит ли?” Вдруг он сказал: “Евреи не создали красивой
философии жизни, но они symphatiques1”. А вот горчичники к ступ-
ням он прикладывать не разрешал. “Тебе следовало стать врачом, —
сказал он Тернеру, — ты постоянно добиваешься от людей, чтобы
они делали то, чего им не хочется”. О новой операции не могло быть
и речи, и больной уже не в состоянии был принимать пищу. В полу-
бреду он спросил Тернера, не пригласит ли он Мюнстера ему гото-
вить, и добавил, что все пароходы похожи один на другой. Пароход,
курсировавший между Холихедом и Кингстауном, назывался “Мюн-
стер”, и Тернер понял, что Уайльду грезится возвращение в Ирлан-
дию. 27 ноября Тернер писал Россу:
Сегодня он стал просить “парафин”, но в конце концов мы
поняли, что он имеет в виду газету “Патри”. Когда ее принесли и он
увидел в ней портрет Крюгера в меховом пальто, он сильно разве-
селился. Некоторые сочетания звуков он теперь произносит непра-
вильно. Ухаживать за ним стало очень трудно, потому что он отказы-
вается выполнять распоряжения врача.
28 ноября ему как будто стало чуть лучше, и он заявил, что его
ненаписанная пьеса стоит пятьдесят сантимов. После его смерти
Тернер вспоминал, что последний его разговор касался романа Гер-
труды Атертон “Сенатор Норт”, который Тернер дал ему неделю
назад. “Это великолепный портрет американского политика, — ска-
зал Уайльд, — здесь чувствуется правда характера. Что еще она напи-
сала?” Температура у него была очень высокая, и Тернер послал Россу
телеграмму: “Надежды почти нет”. Росс, который был на юге Фран-
ции, сел на экспресс и прибыл в Париж утром 29 ноября. Уайльд
каких-либо данных о локализации вопрос о трепанации
рассматриваться не может.
Предложено чисто медикаментозное лечение. Хирургическое
вмешательство не представляется возможным.
Париж, 27 ноября 1900 г.
ДОКТОР ПОЛЬ КЛЕЙС.
ДОКТОР А’КОРТ ТАККЕР.
В отсутствие родственников больного, которые должны быть
уведомлены по нашему требованию, на консилиуме присутствовали
господа Тернер и Дюпуарье.
РЕДЖИНАЛЬД ТЕРНЕР Ж. ДЮПУАРЬЕ, владелец отеля.
1 Симпатичные (фр.).
страшно исхудал, тяжело дышал, был мертвенно-бледен. Щеки его
покрывала двухнедельная растительность. Он силился что-то сказать
Россу и Тернеру, но мог только ответить на их рукопожатия. Порой
он подносил руку ко рту и прикусывал ее, чтобы не кричать от боли.
Роберт Росс некоторое время колебался, не зная, стоит ли ему
привести к умирающему другу священника. Он не был уверен,
хочет ли этого Уайльд. С одной стороны, он давно еще говорил,
что католицизм — та религия, в лоне которой он хотел бы уме-
реть. А за три недели до смерти он сказал корреспонденту “Дейли
кроникл”: “Мои отклонения в сфере морали во многом объясня-
ются тем, что отец не позволял мне принять католичество. Кра-
сота церковного обряда и аромат вероучения излечили бы мои
уродства. Я намерен в скором времени стать католиком”. (То же
самое он сказал и Латуретту.) Росс знал, что Уайльд “преклонял
колени, как настоящий католик”, перед священником в соборе
Парижской Богоматери, перед другим священником в Неаполе
и перед римским папой. Но, с другой стороны, его взгляды трудно
было назвать ортодоксальными. Он сказал Персивалю Олми, что
Христос не был Сыном Божьим: “Это означало бы, что он слиш-
ком далеко отстоит от души человеческой”. Он говорил Джорджу
Айвзу, что уповает на то, что в мире ином людей ожидают вели-
кие бури страстей. Когда кто-то из его друзей заговорил о жизни
в духе, Уайльд заметил: “Тело без души, душа без тела — это самый
настоящий ад”. Вскоре после освобождения из тюрьмы он сказал
Тернеру: “Католическая церковь предназначена для святых и греш-
ников. Респектабельным людям вполне достаточно англиканской”.
Однажды, когда Росс принялся с жаром доказывать, что в католи-
цизме заключена истина, Уайльд по-отечески заметил: “Нет в нем
истины, Робби”. Уайльд знал о желании Росса обратить его в свою
веру и однажды попросил его привести священника. Но Росс отка-
зался, решив, что просьба эта несерьезна, и Уайльд за это назвал
его “херувимом, преградившим мне путь в рай огненным мечом”.
Ужасное состояние Уайльда подтолкнуло Росса к решению. Впо-
следствии он рассказывал Максу Мейерфельду, что, когда Уайльд
лежал в забытьи, он отправился за священником, чтобы тот совер-
шил над ним обряды, необходимые для последующего церковного
погребения. Иначе тело могли забрать в морг и совершить вскры-
тие. Росс поспешил к пассионистам1 и привел в отель отца Кат-
берта Данна1 2. Подойдя к Уайльду, Росс спросил его, желает ли он
1 Пассионист — представитель одной из конгрегаций католической
церкви. (Примеч, перев.)
2 Сохранилась визитная карточка Росса с надписью: “Не могу ли
я поговорить с кем-либо из отцов по крайне неотложному делу
6°6
видеть священника, и Уайльд, который уже не мог говорить, в знак
согласия поднял руку. Данн спросил его, хочет ли он стать католи-
ком, и Уайльд опять поднял руку. Данн совершил над ним условное
крещение, отпустил ему грехи и исполнил обряд помазания. “Он
лишился уже дара речи, и мы не могли понять, в сознании он или
нет, — вспоминал потом Росс. — Я поступил так исходя из веле-
ний моей совести и обещания, которое я ему дал”. Трудно сказать,
чем было для Уайльда миро, которым Катберт Данн умастил его
кисти рук и ступни, — то ли символом Божественного прощения
его ошибок и прегрешений, то ли подобием зеленой гвоздики
в петлице в день премьеры.
В 5.30 утра, к ужасу Росса и Тернера, послышался громкий
предсмертный хрип, напоминавший скрип ржавого ворота. Изо
рта умирающего все утро текла кровавая пена, и в 1.50 пополудни
Уайльд скончался (в свидетельстве о смерти проставлено время
2.00 и дата 30 ноября). Едва он испустил последний вздох, как
у него из уха, носа, рта и других отверстий истекли жидкости.
Вид его тела и постели был ужасен1. Дюпуарье позаботился о том,
чтобы тело Уайльда обмыли, переодели в чистую ночную рубашку
и накрыли белой простыней. Данн вложил умершему в руку четки
и убрал его тело пальмовыми ветвями. По просьбе Росса Морис
Гилберт сделал фотоснимок со вспышкой.
Дуглас, которому Росс дал телеграмму, приехал 2 декабря.
На похоронах, проходивших “по шестому разряду”, он убивался
больше всех* 1 2. Гроб был дешевым, катафалк — обшарпанным. Были
венки от Дугласа, Эйди, Тернера, Росса, Аделы Шустер, Клифтона,
Мориса Гилберта, Луиса Уилкинсона, Меллора, Тешейра де Маттуша
и его жены, доктора Таккера и даже от Дюпуарье с надписью: “Моему
постояльцу”. Журнал “Меркюр де Франс” также прислал венок.
На похоронах присутствовали, в частности, Стюарт Мерриль, Поль
Фор, Арман Пуэн, Жан де Митти (издатель Стендаля), Шарль Люка,
Марсель Батайян, Чарлз Гибли [?], Мариус Буассон, Эрнест Лаже-
несс, Мишель Тавера, Анри Даврэ, Фредерик Буте, Леонард Сар-
или же быть направлен к священнику другой конгрегации, говоря-
щему по-английски, с тем чтобы попросить его исполнить последние
обряды над умирающим человеком?”
1 Позднее Тернер — видимо, в порядке некой самоцензуры — отрицал,
что это случилось, но Огастес Джон утверждал, что слышал об этом
и от Росса, и от Тернера.
2 В комедии “Как важно быть серьезным” Джек говорит о своем несу-
ществующем “умершем брате”: “Он, кажется, завещал, чтобы его
похоронили в Париже”. Каноник Чезюбл на это замечает: “В Париже!
(Покачивает головой.) Да! Значит, он до самого конца не проявил
достаточной серьезности”.
му/
люи и Анри Давенэ. Раймон де ла Тайед и Жан Риктюс посещали
Уайльда каждый день во время его последней болезни, и ла Тайед
был на похоронах. Буте вспоминал, что видел там американского
художника по фамилии Питерс. Также пришли доктор Таккер, Росс,
Тернер, Пьер Луи (который не виделся с Уайльдом несколько лет),
Анна де Бремон со служанкой, старая служанка Констанс, госпожа
Стюарт Мерриль под густой вуалью, некая американка, Мириам
Олдрич и несколько репортеров. Отец Катберт Данн отслужил
заупокойную мессу в церкви Сен-Жермен-де-Пре; для тех, кто при-
шел проститься с Уайльдом, открыли только боковую дверь. За ката-
фалком (на котором стоял номер 13) ехало четыре экипажа. В пер-
вый сели Росс, Дуглас, Тернер и Дюпуарье, во второй — священник
и хорист, в третий — госпожа Стюарт Мерриль, Поль Фор, Даврэ
и Сарлюи, в четвертый — некие незнакомые Россу люди. Гуннар
Хейберг, по его словам, также был на кладбище. Жид вспоминал,
что за гробом шли семь человек, но Мириам Олдрич утверждала, что
четырнадцать, в том числе она сама. У могилы произошла неприят-
ная сцена, которую ни один из присутствовавших не пожелал опи-
сать, — возможно, некая борьба за роль главного плакальщика. Когда
опускали гроб, Дуглас чуть не упал в могилу. Джон Грей, которого
на похоронах не было, в 1931 г. написал стихотворение “Господь
взирает на Петра”, которое звучит как некая элегия памяти Уайльда:
Мечи и колья. Страх напал —
Бежали мы, себя спасая,
И, руки грея, я сказал:
Я знать его не знаю.
Его похоронили 3 декабря в одиннадцатой могиле седьмого
ряда семнадцатого участка на кладбище Баньо. Над могилой,
обнесенной железной оградой, установили простое каменное
надгробие с цитатой из Книги Иова:
ОСКАР УАЙЛЬД
RIP1 16 октября 1854 — 30 ноября 1900
Job xxix Verbis meis addere nihil audebant
et super illos stillebat eloquium meum1 2.
Росс писал одному из друзей Уайльда: “Он был очень несчаст-
лив, и чем дальше, тем ему было бы хуже”. Теперь унижения
Уайльда кончились.
1 Requiescat in расе (лат.) — Да почиет с миром.
2 После слов моих уже не рассуждали; речь моя капала на них (лат.).
Иов. XXIX.
Эпилог
...люди, осуществившие себя, — те, в чьем
лице все человечество достигает частичного
осуществления.
Уайльд, можно сказать, прожил жизнь дважды — вначале
в обычном темпе, затем в ускоренном. На первой стадии
он был светским львом, на второй — козлом отпущения.
В течение тех трех с половиной лет, что отделяют день
его освобождения от дня смерти, он видел, как перед ним
проходит — главным образом молча, словно в пантомиме, — мно-
жество людей, в прошлом ему знакомых, но теперь не желающих
его замечать. Его жена держала его на расстоянии, пока не умерла.
Он не знал, где находятся его сыновья. У него произошли ужасные
встречи со старыми недругами — Уистлером, Карсоном, — когда,
посмотрев другому в глаза и не сказав ни слова, каждый продол-
жал идти своей дорогой. Люди, которым он помог стать знаме-
нитыми, теперь не хотели с ним знаться; Лили Лэнгтри лгала,
когда утверждала, что в последние годы его жизни посылала ему
деньги. Обри Бердслей после некоторых колебаний высокомерно
отверг его общество. Макс Бирбом сочувствовал ему, но держался
поодаль. Общение с Шерардом прекратилось полностью. Это был,
пусть и неполный, но все же остракизм, осуществляемый двумя
группами людей, из которых одна не терпела его гомосексуализма,
другая — его просьб о денежной помощи. Дуглас кидал ему крохи
со своего стола, а когда он заикнулся о большем, грубо осадил
его. Росс и Тернер не обходили его стороной, но однажды, чтобы
не встречаться с ним, объехали стороной Париж. Фрэнк Харрис
написал за Уайльда пьесу и только расстроил его этим. В беде
Уайльд был столь же заметен, как в славе; в Париже, по его собст-
венным словам, он не уступал в известности Эйфелевой башне.
Случались и возвышенные моменты, но они были редки и коротки.
Неудивительно, что он так быстро сдал; он постоянно испы-
тывал ощущение неблагополучия, которое лишь на время при-
глушал абсентом и коньяком. Неудивительно, что он все дольше
и дольше залеживался в постели, пока наконец не обнаружил, что
прикован к ней. И тело его, и душа выдвигали свои резоны. Росс
приукрашивал действительность, когда, противореча сказанному
им раньше, утверждал, что последние годы жизни Уайльда были
не так уж плохи; хотя Уайльд по-прежнему мог забавляться с юно-
шами, разговаривать, есть и пить, все эти привычные ему действия
происходили в неприглядном окружении, среди воспоминаний
о славном прошлом и впечатлений бесславного настоящего, среди
мелких долгов, которые раньше вызывали смех, а теперь могли
вызывать только слезы, среди ежедневных унижений и оскорбле-
ний. Английский закон попрал его приговором, английское обще-
ство добило его остракизмом.
Когда Уайльд умер, отношения между ним и Дугласом при-
шли к некоему промежуточному завершению. Но посмертная
связь между ними оказалась не менее бурной, чем прижизненная.
Все началось с публикации “De Profundis”. Росс счел возможным
напечатать письмо лишь в сокращенном виде и в издании 1905 г.
опустил все упоминания о Дугласе. Но всем было ясно, что роко-
вой любовью Уайльда был не кто иной, как Дуглас. Невнятное ука-
зание на этот факт в книге Артура Рансома об Уайльде, изданной
в 1912 г., дало Дугласу повод подать на Рансома в суд, обвинив его
в клевете (у Бози уже был кое-какой небезуспешный опыт по части
принуждения людей к извинениям или денежным компенса-
циям). Росс почувствовал, что должен теперь придать огласке “De
Profundis” целиком, и по требованию защиты письмо было без
купюр прочитано в зале суда. Дуглас, находившийся на свиде-
тельском месте, вышел из зала, не дождавшись конца чтения. Ему
невыносимо было слышать слова Уайльда о том, что его стихи
ученические, что он не вышел ростом, что его натуре присущи
паразитизм и поверхностность. Прошло несколько месяцев, и он
дал ответ книгой “Оскар Уайльд и я”.
Позднее Дуглас отрекся от того, что высказал в этой книге,
однако в 1919 г. он переиздал ее с новым предисловием, где заявил,
что “рожден главным образом для того, чтобы, хочу я или нет,
стать орудием разоблачения и разрушения сложившегося вокруг
Уайльда культа и мифа”; он назвал себя поэтом и честным чело-
веком. Примерно в таком же духе выдержана его “Автобиогра-
фия” (1928). В обеих книгах он утверждает, что никогда не совер-
шал гомосексуальных половых актов. Можно вспомнить эпизод
из Гомера: Елена, возвращенная из Трои, винит в своем бегстве
с Парисом Афродиту и клянется, что все время только и думала
что о возвращении к мужу.
Дуглас принялся в манере своего отца писать о Россе его дру-
зьям злобные письма; давление возросло до такой степени, что
Росс, как в свое время Уайльд, подал иск о клевете. Но свидетель-
ские показания Дугласа так подействовали на суд, что Росс, хоть
и избежал судебного преследования, жил в страхе до самой своей
смерти в 1918 г. Многие называли Дугласа виновником его кон-
чины. Дуглас находил и другие мишени; за клевету на Уинстона
Черчилля он шесть месяцев отсидел в тюрьме Уормвуд-Скрабз
и за это время сочинил цикл сонетов “In Excelsis1”, что можно счи-
тать неким ответом на “De Profundis”. Он заявил, что Уайльд был
подлинным царем мерзостей и что он вел Англию в кромешную
тьму. Куинсберри, будь он жив, мог бы теперь гордиться сыном.
В конце двадцатых годов взгляд Бози на Уайльда начал меняться.
Ко времени написания “Автобиографии” он стал пламенным като-
ликом, и, хотя его брак завершился вполне предсказуемым разво-
дом, гомосексуализм — во всяком случае, по его словам — был тут
ни при чем. Он попытался обрести отрешенный покой и способ-
ность к прощению, хотя упоминание о Россе по-прежнему могло
вызвать у него вспышку гнева. В последние годы жизни он еже-
дневно играл на скачках. В день своей смерти он сделал две ставки
вместо одной — ив обоих случаях проиграл.
Любви Дугласа было присуще своеобразное неистовство,
не позволявшее Уайльду ни отделаться от Бози, ни жить с ним
в покое и довольстве. Несмотря на это, в самом совершенном
своем произведении — комедии “Как важно быть серьезным” —
Уайльд делает вид, что верит, будто путь любви может быть ров-
ным и гладким. Пьеса, которая, на первый взгляд, игнорирует вну-
тренние побуждения Уайльда, несет в себе свидетельство об этих
побуждениях. В “Автобиографии” Дугласа есть подобное же
свидетельство. Эта книга, крайне серьезная по замыслу, местами,
вопреки воле автора, вызывает смех. Заявляя в ней о своем непри-
ятии гомосексуализма, Дуглас рассказывает, как Бог послал ему
“прекраснейшего мальчика с ангельским личиком и ангельской
улыбкой”, который объяснил ему, где найти свидетеля для дачи
показаний, изобличающих Росса. А сам Дуглас хотел бы в раю, где
каждый волен выбирать возраст себе по вкусу, вновь стать маль-
чиком.
Любовь Уайльда — это еще более яркий, чем безнадежная
любовь Йейтса, или Даусона, или А. Э. Хаусмана, образец самозаб-
1 В небесах (лат.).
701
венной страсти, в которой видна “вся ярость впившейся в добычу
Афродиты”1. Она могла расцвести только в скрытном и сумрач-
ном мире полупризнаний, шантажа и судебных исков с обвине-
ниями в клевете. В суде Уайльд заявил о своей любви во всеуслы-
шание, но он и помыслить не мог о том, чтобы признаться во всем
до конца; он упорно отрицал свою вину и не позволил ни Дуг-
ласу, ни самому себе раскрыть подлинный характер их отноше-
ний. Его поведение, можно сказать, убило Констанс. Что каса-
ется Дугласа, то, сочинив и опубликовав (по-французски) некое
подобие исповеди, он затем по примеру Уайльда окутал себя умол-
чаниями и таился долгие годы, прежде чем сказал наконец если
не все, то многое, надев при этом маску раскаявшегося распутника.
Но он, конечно, нисколько не изменился. Все двадцать семь лет,
что прошли до выхода “Автобиографии”, он оставался прежним
неотразимым Бози, которого любил великий писатель. История
бережно сохранила, как мушку в янтаре, его красоту, его жадность,
его бешенство и его жестокость.
После смерти Констанс Холланд в 1898 г. и Оскара Уайльда
в 1900 г. их сыновей Сирила и Вивиана Холландов не оставил
вниманием Роберт Росс, который, будучи литературным душепри-
казчиком Уайльда, уплатил его долги и обеспечил его сыновьям
права на переиздание его произведений. Во время Первой миро-
вой войны Сирил отправился добровольцем на фронт и погиб.
Вивиан писал книги, женился; Мерлин, его единственный сын,
живет в Лондоне, женат, и у него тоже единственный сын, кото-
рого зовут Люсиан. У Уилли Уайльда и его жены Лили родился
один ребенок — дочь Долли, хорошо известная в Париже в кружке
Натали Клиффорд Барни, знаменитой Амазонки.
Останки Уайльда перенесли с кладбища Баньо на кладбище
Пер-Лашез, где в 1909 г. был установлен широко известный
надгробный памятник работы Эпстайна. Деньги на памятник
пожертвовала миссис Керью, мать сэра Колриджа Кеннарда.
Росс, умерший в 1918 г., в своем завещании распорядился, чтобы
его похоронили рядом с Уайльдом. Его воля была исполнена.
На памятнике высечена цитата из “Баллады Редингской тюрьмы”:
Чужие слезы отдадутся
Тому, чья жизнь — беда,
О нем отверженные плачут,
А скорбь их — навсегда1 2.
1 Цитата из “Федры” Расина. Перевод М. Донского.
2 Перевод К. Бальмонта.
702
“Во всяком успехе есть нечто вульгарное, — сказал Уайльд
О’Салливану. — Величайшие из великих терпят неудачу — так,
во всяком случае, кажется”. Речь шла о Парнелле, но эти слова
по-иному, нежели к Парнеллу, приложимы и к самому Уайльду.
Его произведения, как он и предсказывал, не умерли. Мы унасле-
довали его стремление к высшей степени вымысла в искусстве,
к соединению искусства с социальным реформаторством, к сли-
янию личных и общественных побуждений, к сбережению всего
особенного и эксцентрического от стерилизации и стандарти-
зации, к переходу от морали запретов к морали сочувствия. Он
принадлежит нашей эпохе в большей степени, чем эпохе Викто-
рианской. Ныне, когда его лучшие произведения оценены по дос-
тоинству, он возвышается перед нами, недосягаемый для скандала,
смеющийся и плачущий, изрекающий притчи и парадоксы, воз-
вышается во всей своей щедрости, во всей своей завлекательности,
во всей своей правоте.
Ричард Эллман
ОСКАР УАЙЛЬД
Ответственный за выпуск А. Райс КАЯ
Техническийредактор Л.СИНИЦЫНА
Корректоры О Левина, Т.Чернышева
Компьютерная верстка Т.Коровенкова
ООО “Издательская Группа “Азбука-Аттикус” —
обладатель товарного знака “Издательство КоЛибри”
119334, Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4
Тел. (495) 933-76-00, факс (495) 933-76-19
E-mail, sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru
Филиал ООО “Издательская Группа “Азбука-Аттикус” в г. Санкт-Петербурге
196105, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 15
Тел. (812) 324-61-49, 388-94-38, 327-04-56, 321-66-58, факс (812) 321-66-60
E-mail: trade@azbooka.spb.ru; atticus@azbooka.spb.ru
ЧП “Издательство “Махаон-Украина”
04073, Киев, Московский проспект, д. 6, 2-й этаж
Тел./факс (044) 490-99-01
e-mail: sale@machaon.kiev ua
ЧП “Издательство “Махаон”
61070, Харьков, ул. Ак. Проскуры, д 1
Тел. (057) 315-15-64, 351-25-81
e-mail: machaon@machaon.kharkov.ua
www.azbooka.ru; www'.atticu s-group.ru
Подписано в печать 20.08.2012. Формат 60x90 !/16.
Бумага писчая. Гарнитура “Original Garamond”.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 44,0.
Тираж 3000 экз. N-PRS-10356-01-R. Заказ № 5556.
Отпечатано в ОАО “Тульская типография”
300600, Тула, проспект Ленина, 109
Richard Ellmann
Oscar Wilde
Непредсказуемый, таинственный, скандальный,
чувствительный... Чтобы нарисовать портрет Оскара
Уайльда, не хватит тысячи и одного эпитета - возможно,
потому что он сам этого не желал. Насмешник,
циник, эпатировавший публику и поклонявшийся
Красоте и Искусству, Уайльд безжалостно высмеивал
ханжество и предрассудки современников, но
болезненно воспринимал любую критику в свой
адрес. Им восхищались, ему подражали, его клеймили
и проклинали. Благодаря своему таланту и обаянию
Оскар Уайльд познал головокружительный успех. В годы
славы желанный гость во всех салонах, в конце жизни
он стал изгоем и умер на чужбине, всеми отвергнутый.
Американский литературовед Ричард Эллман двадцать
лет работал над биографией Оскара Уайльда, отмеченной
National Book Critics Circle Award и Пулитцеровской
премией. По книге Эллмана снят знаменитый фильм
«Уайльд» (1997) со Стивеном Фраем, Ванессой Редгрейв
и Джудом Лоу в главных ролях.
5 7flS3a4 040212 01