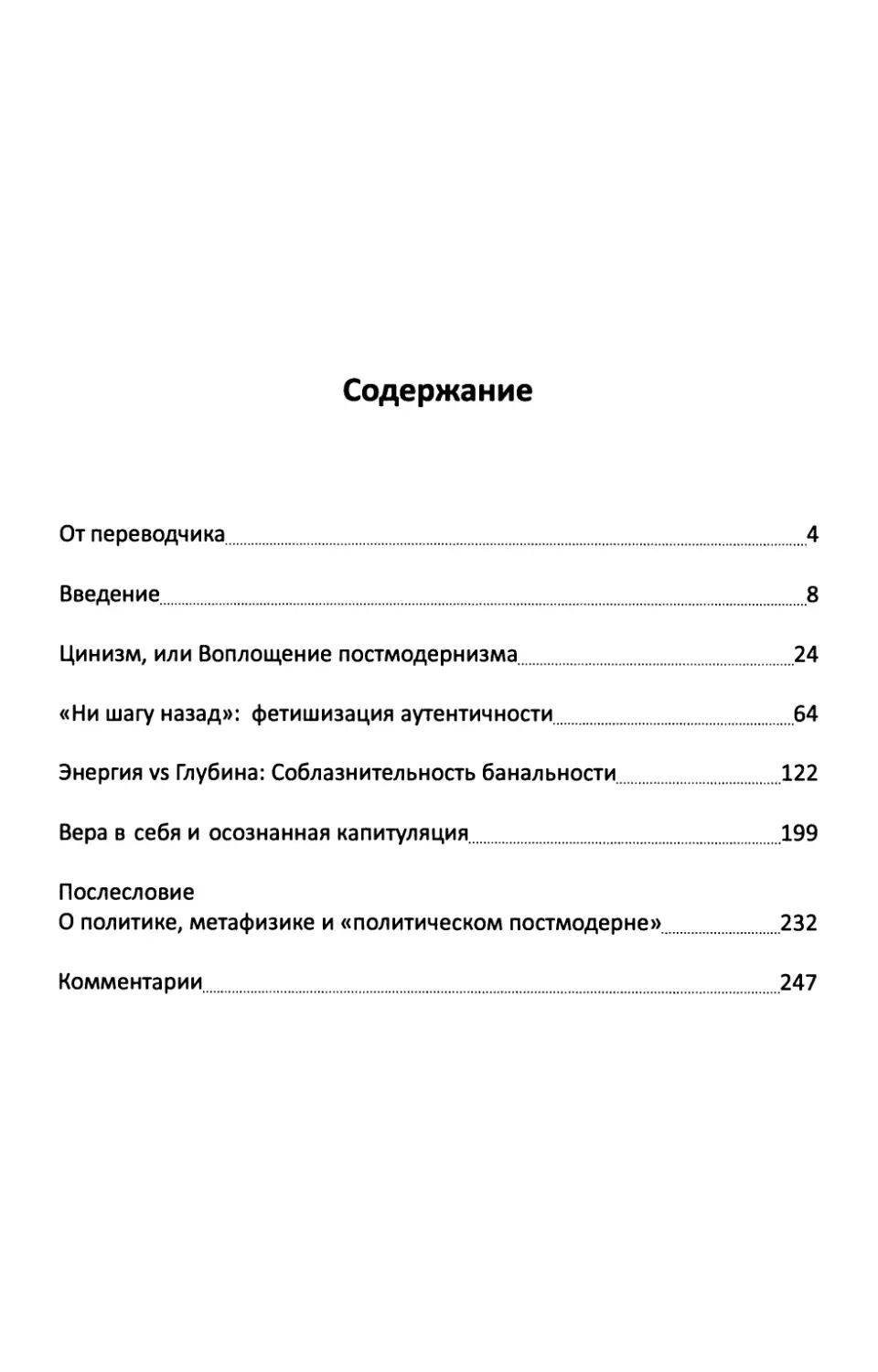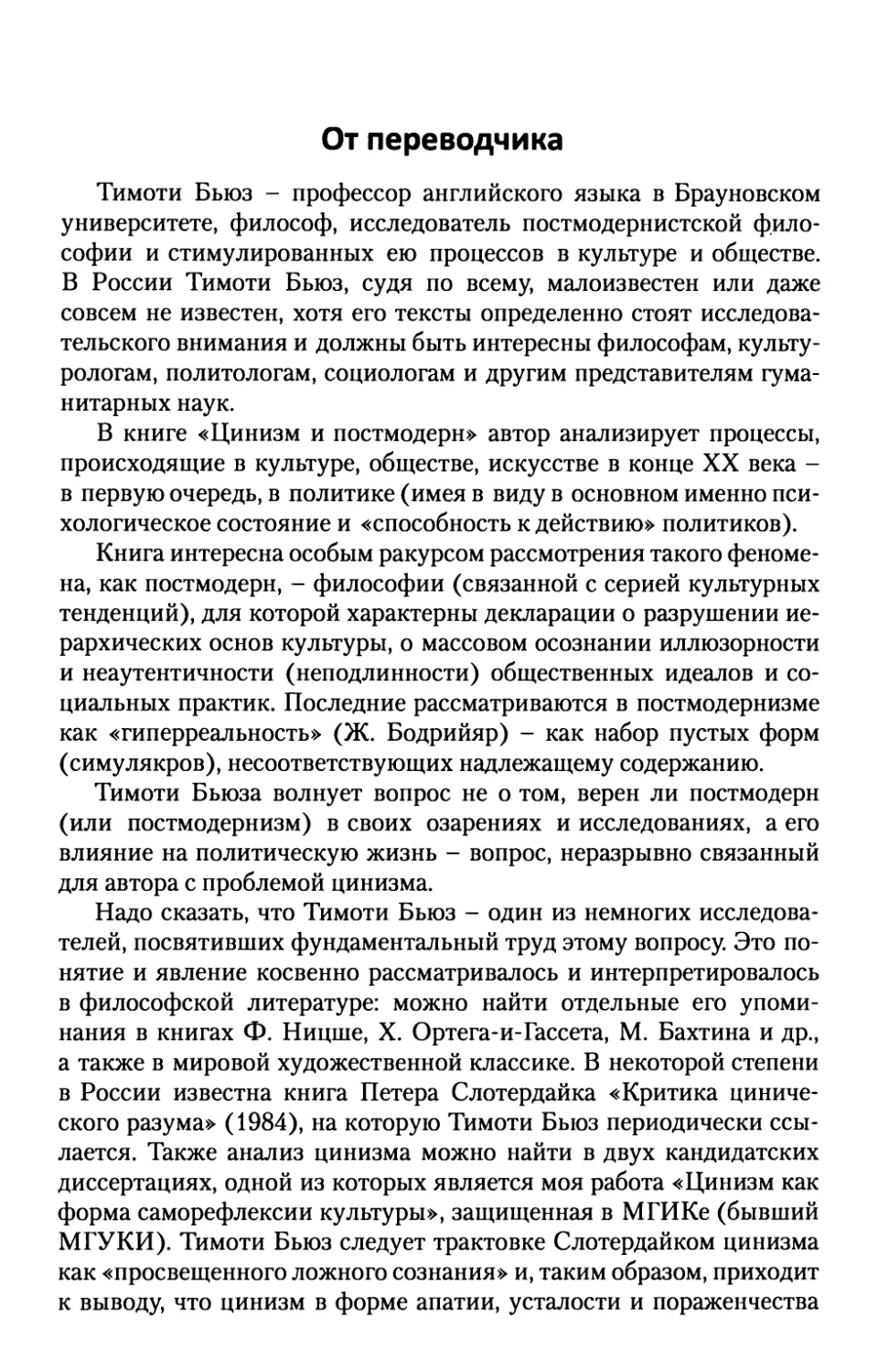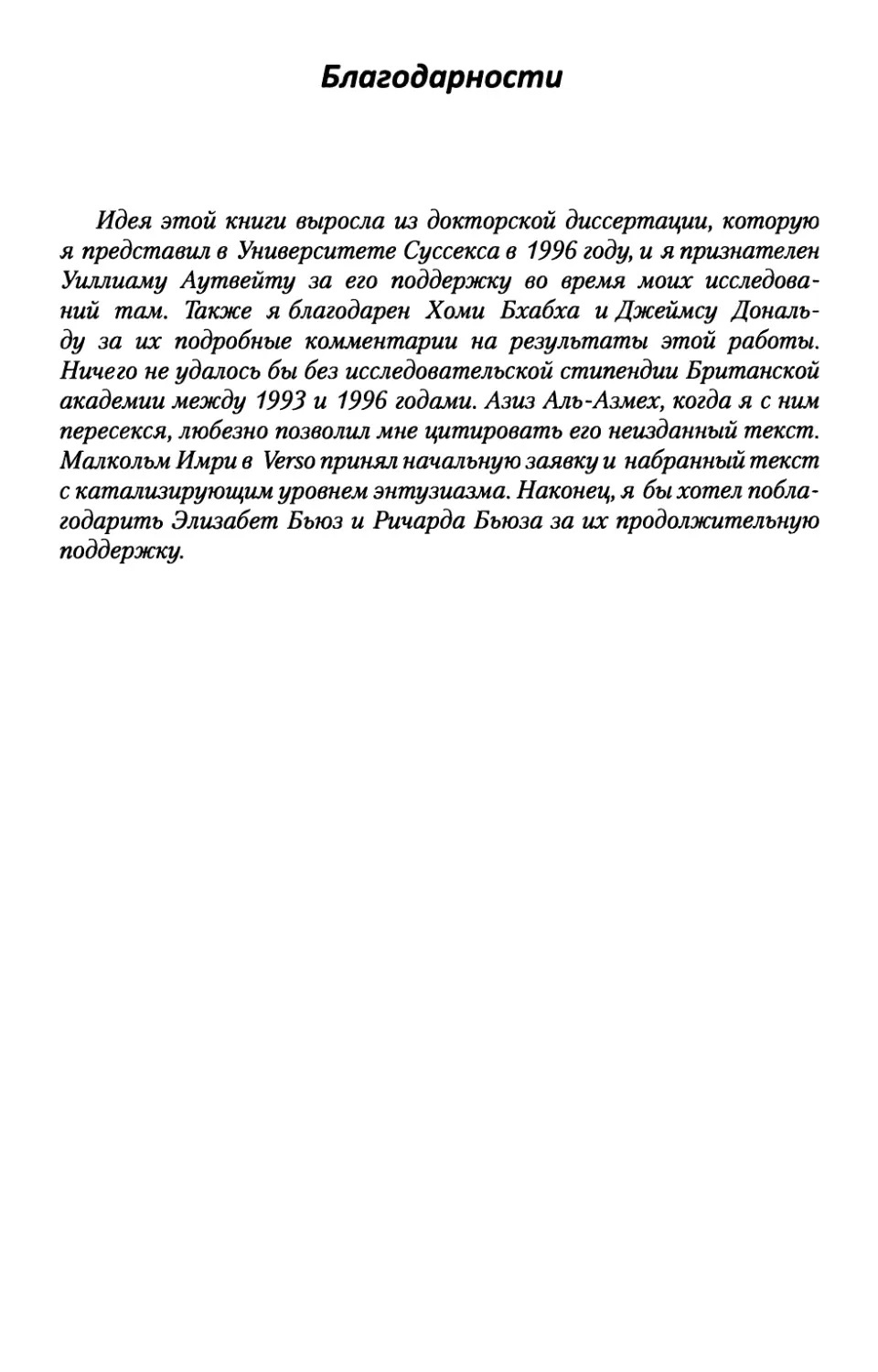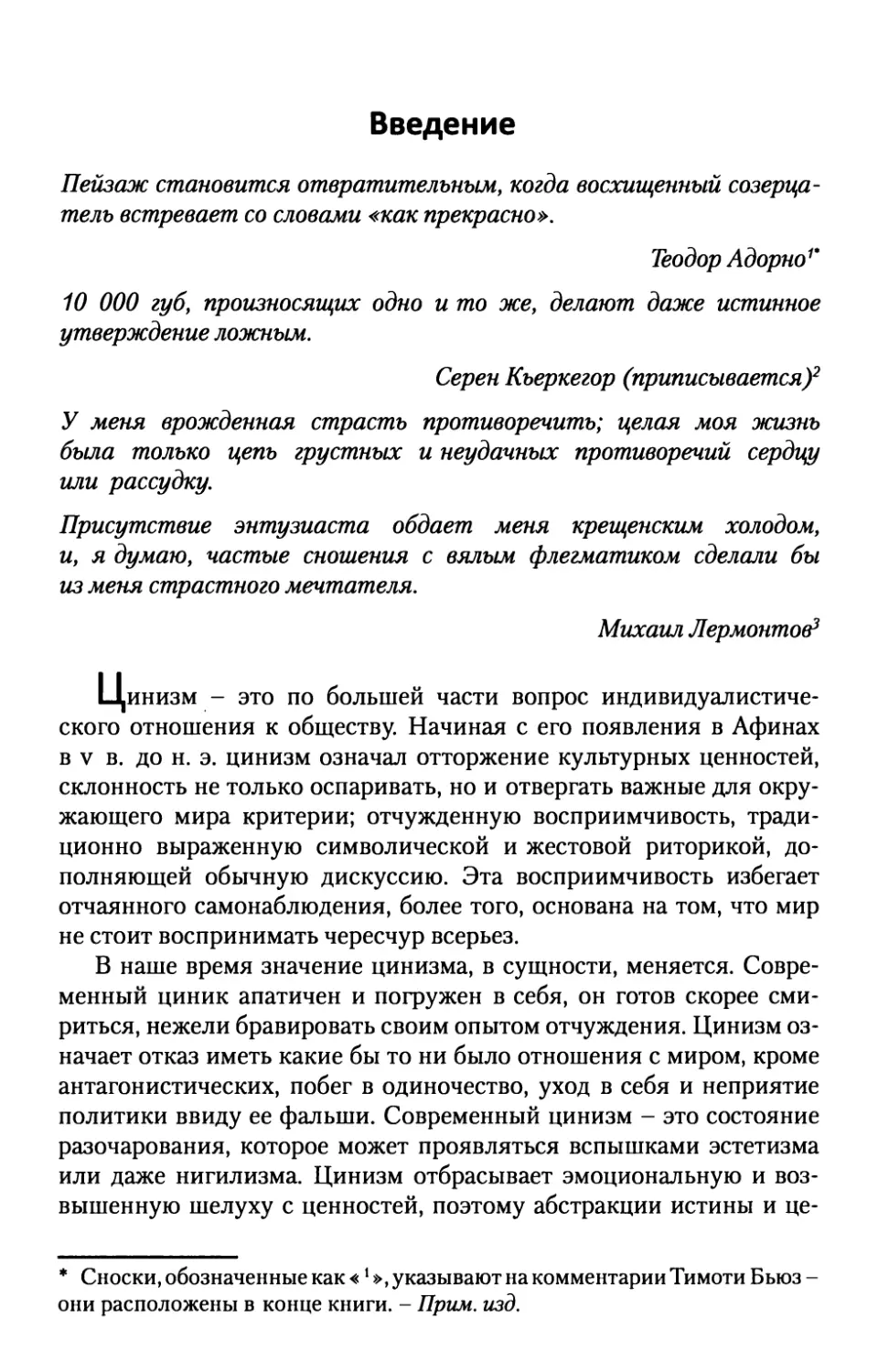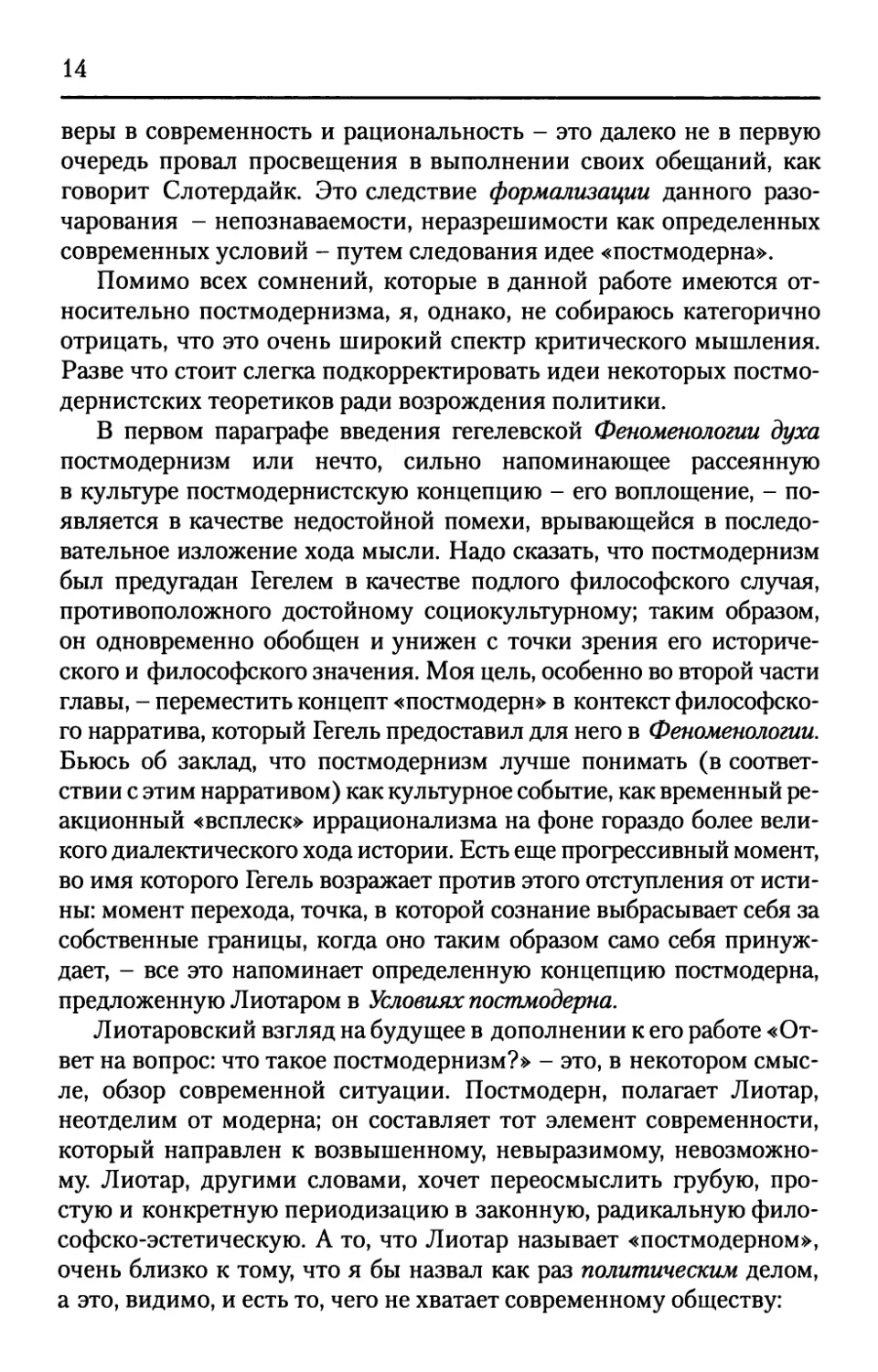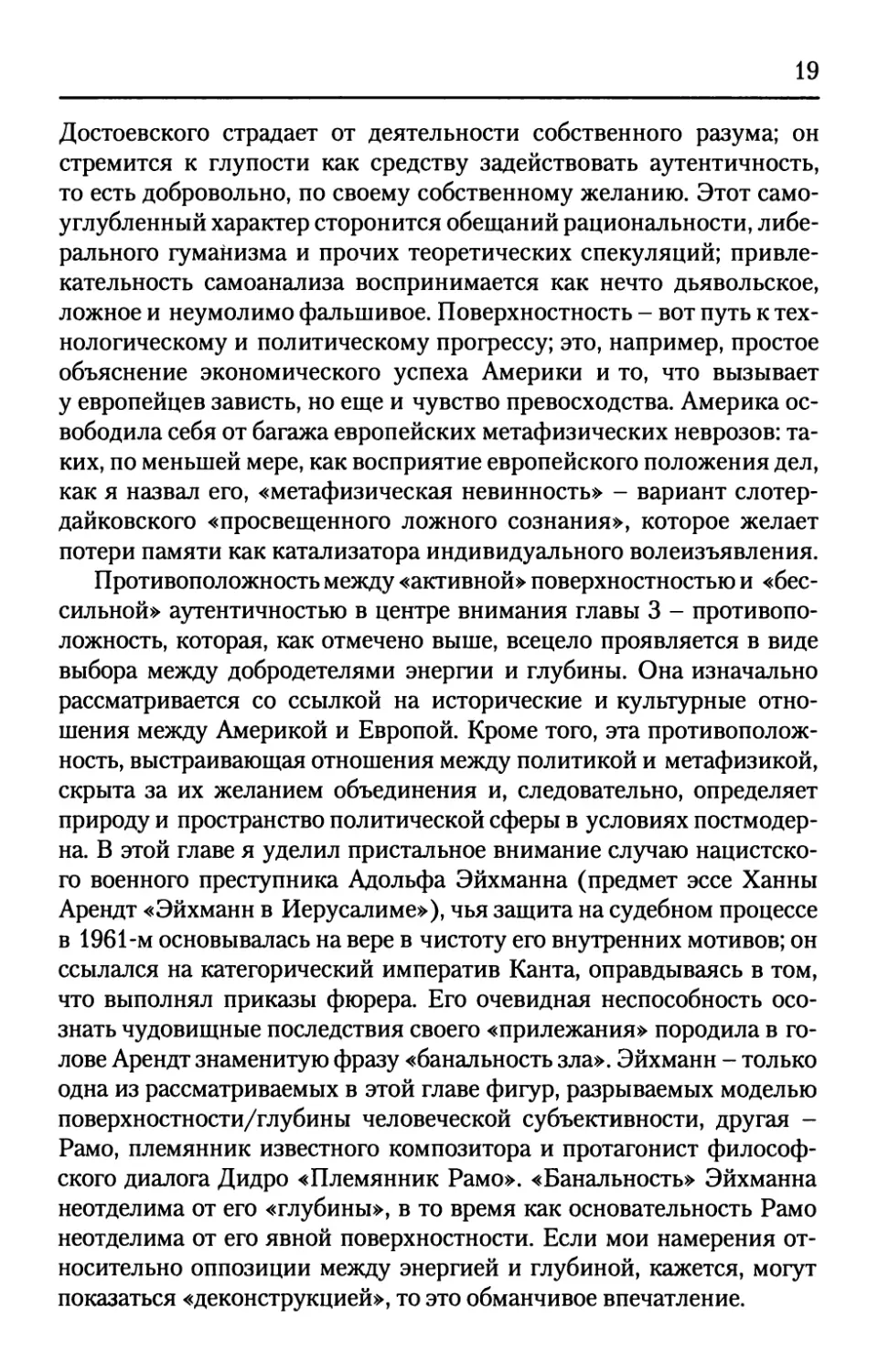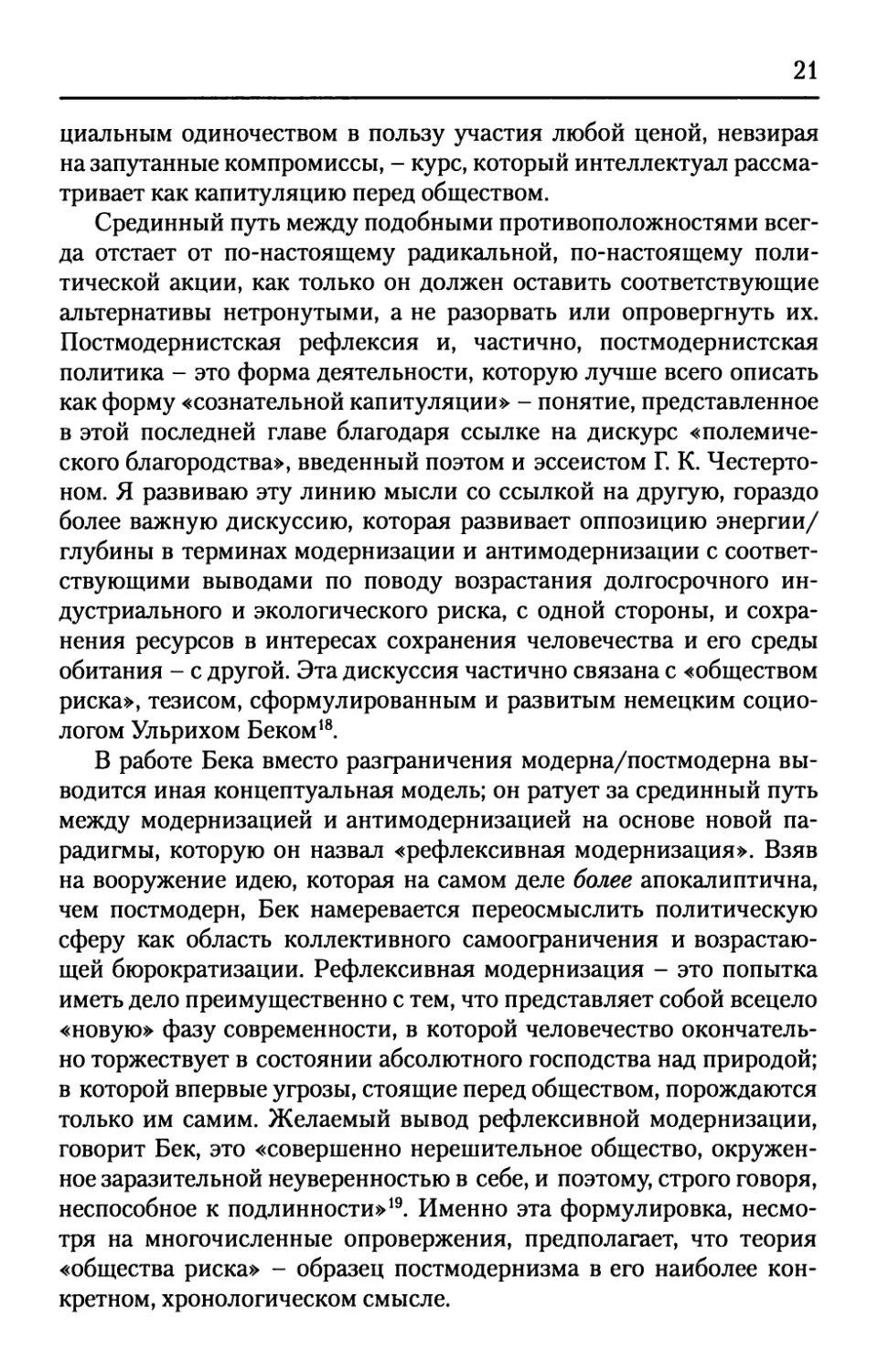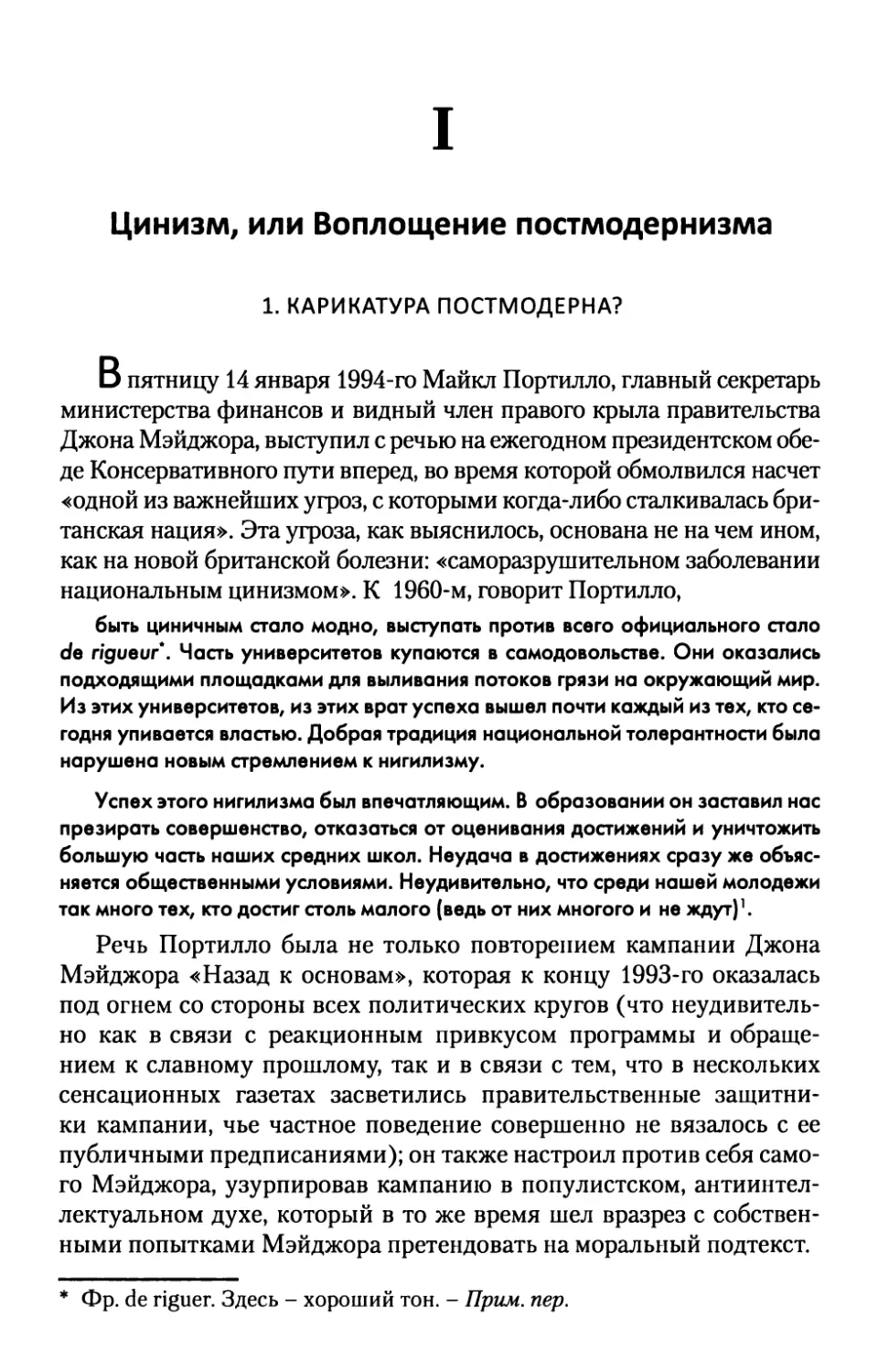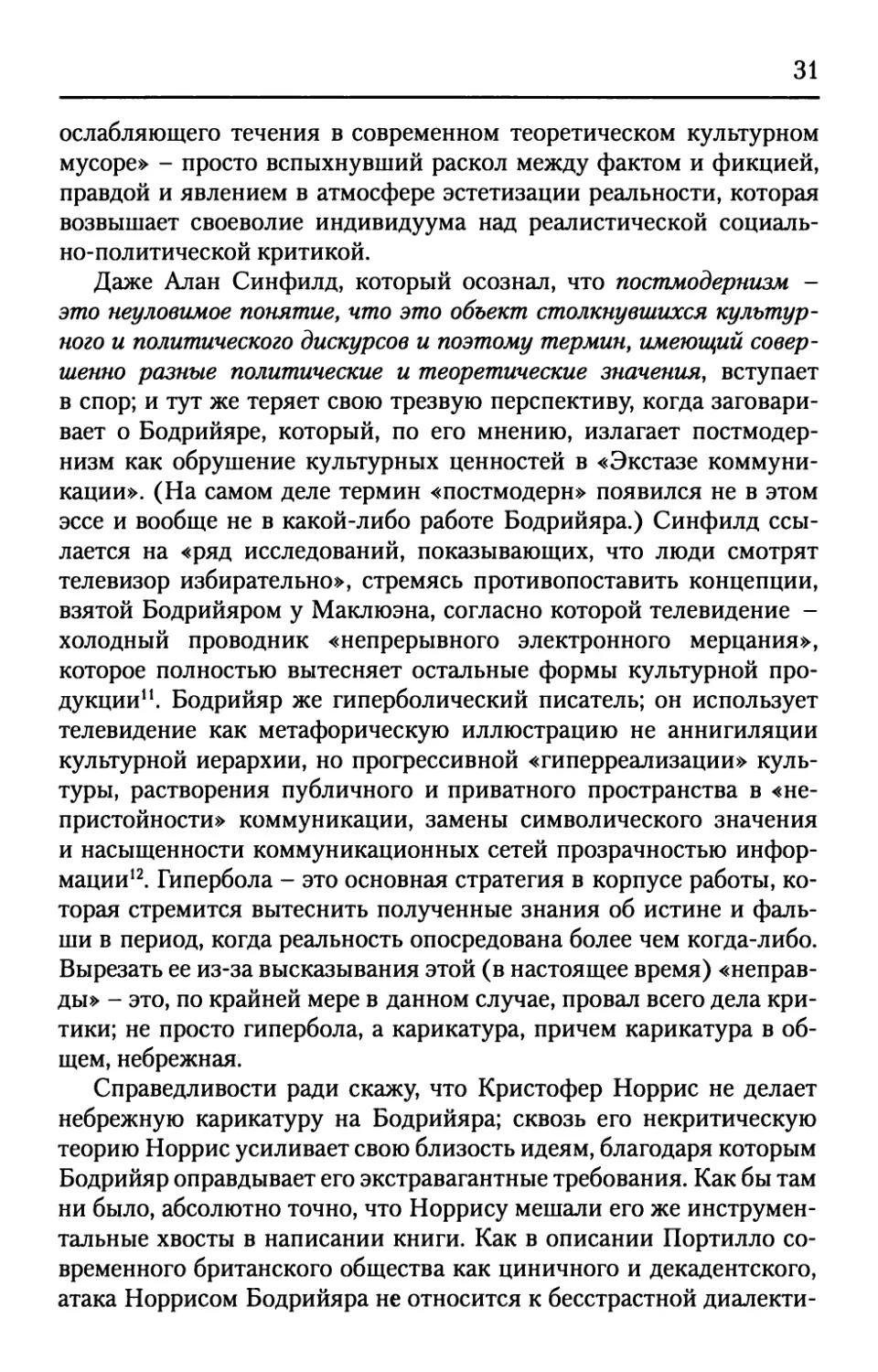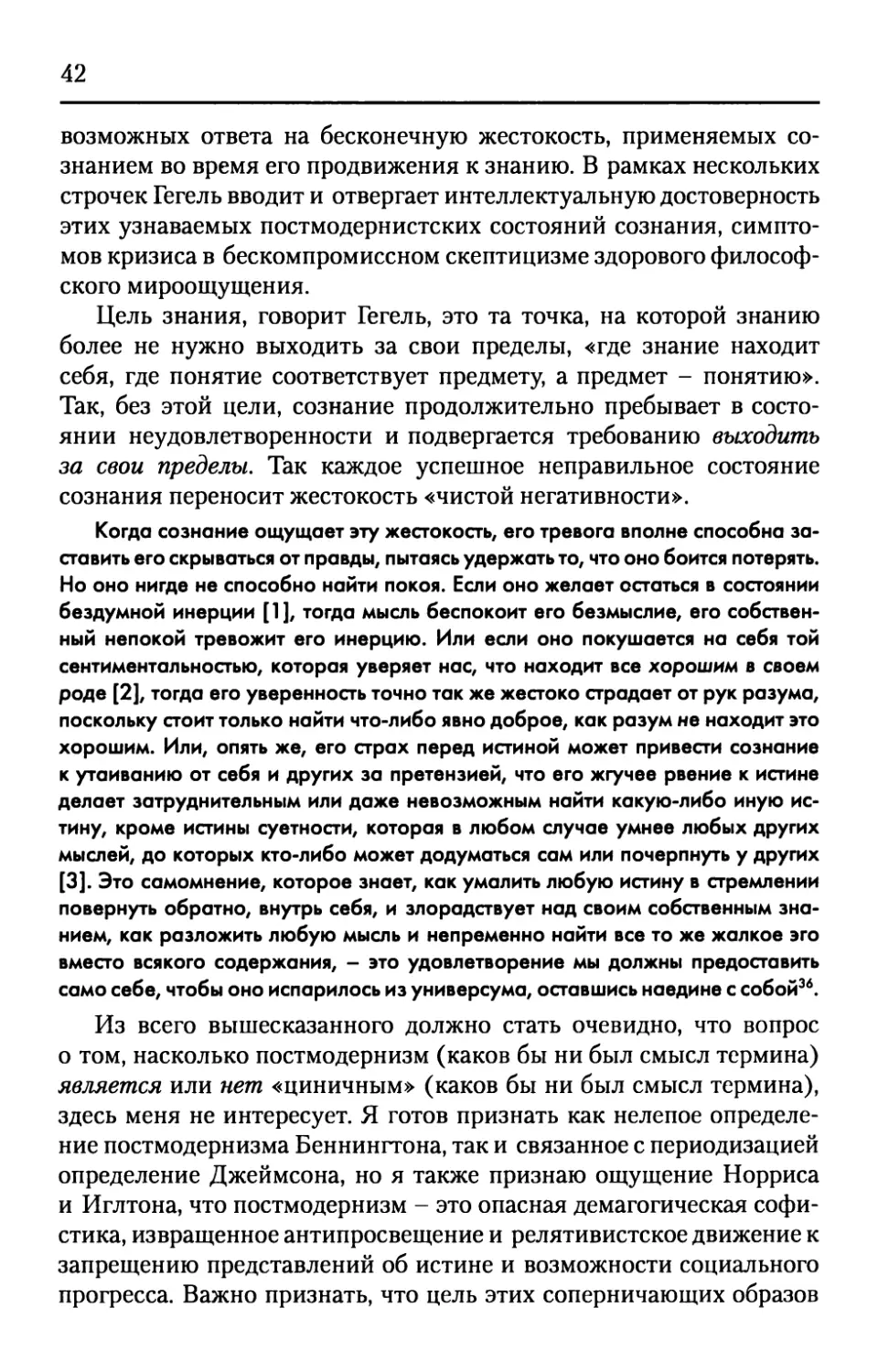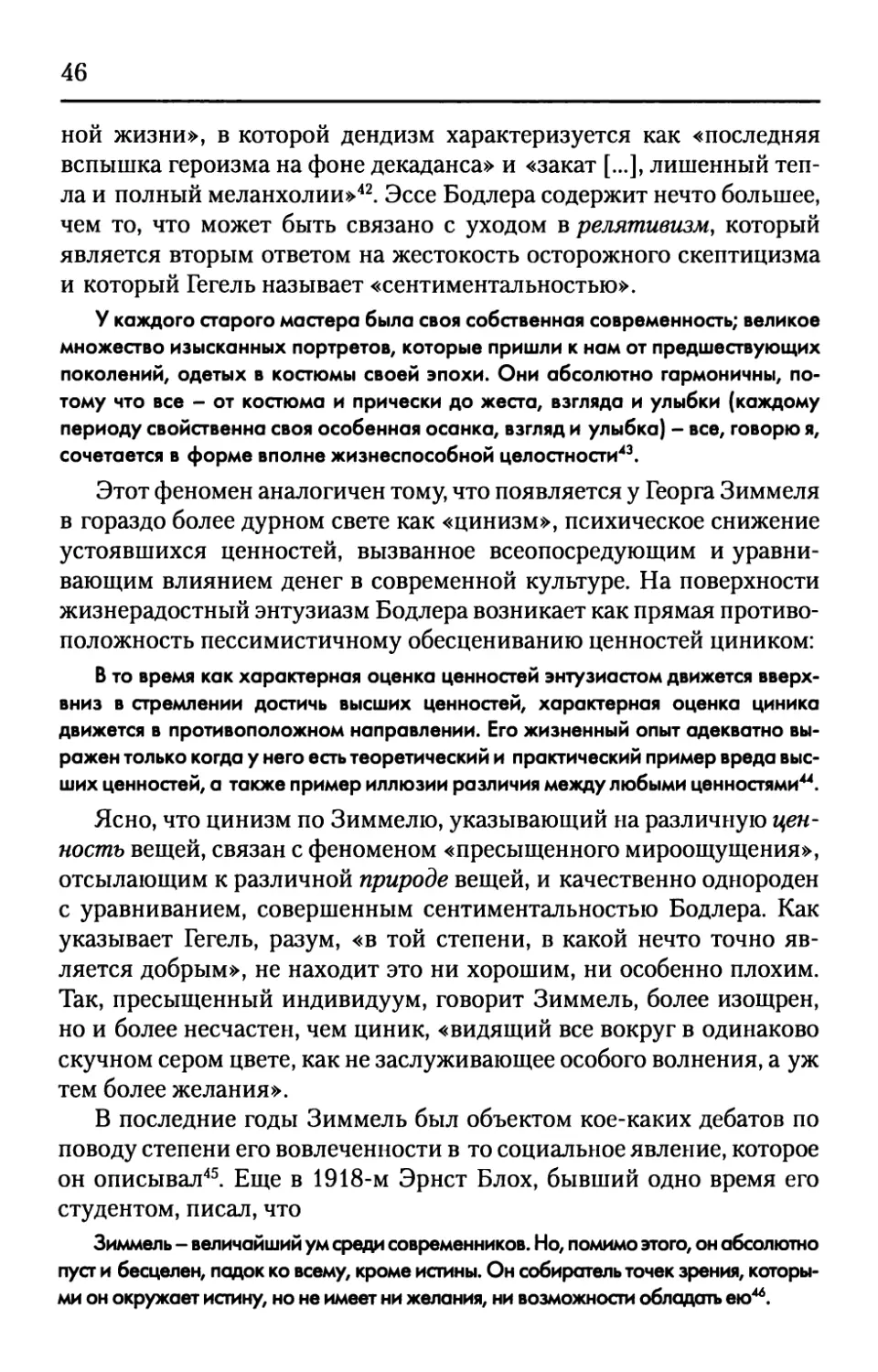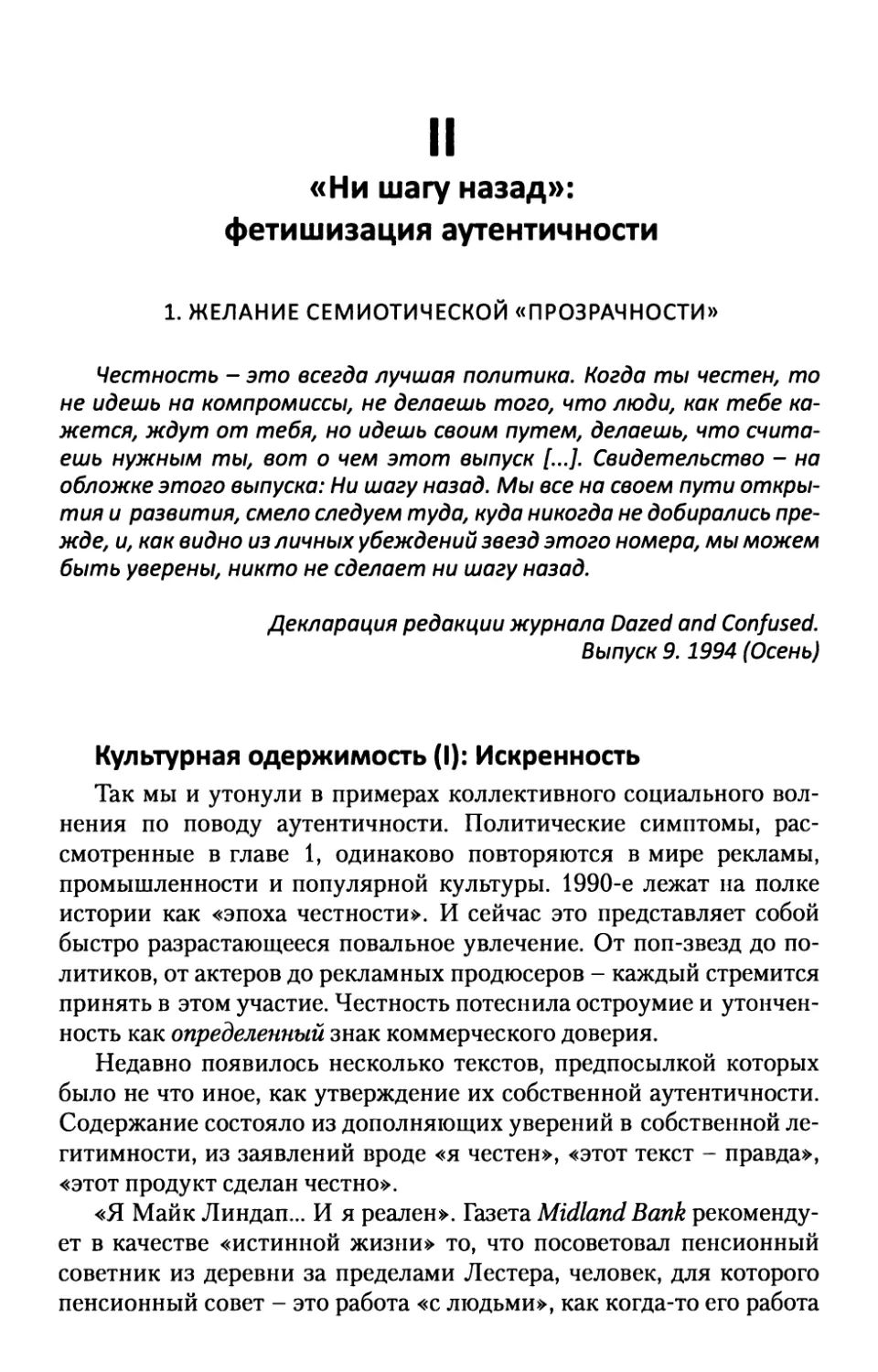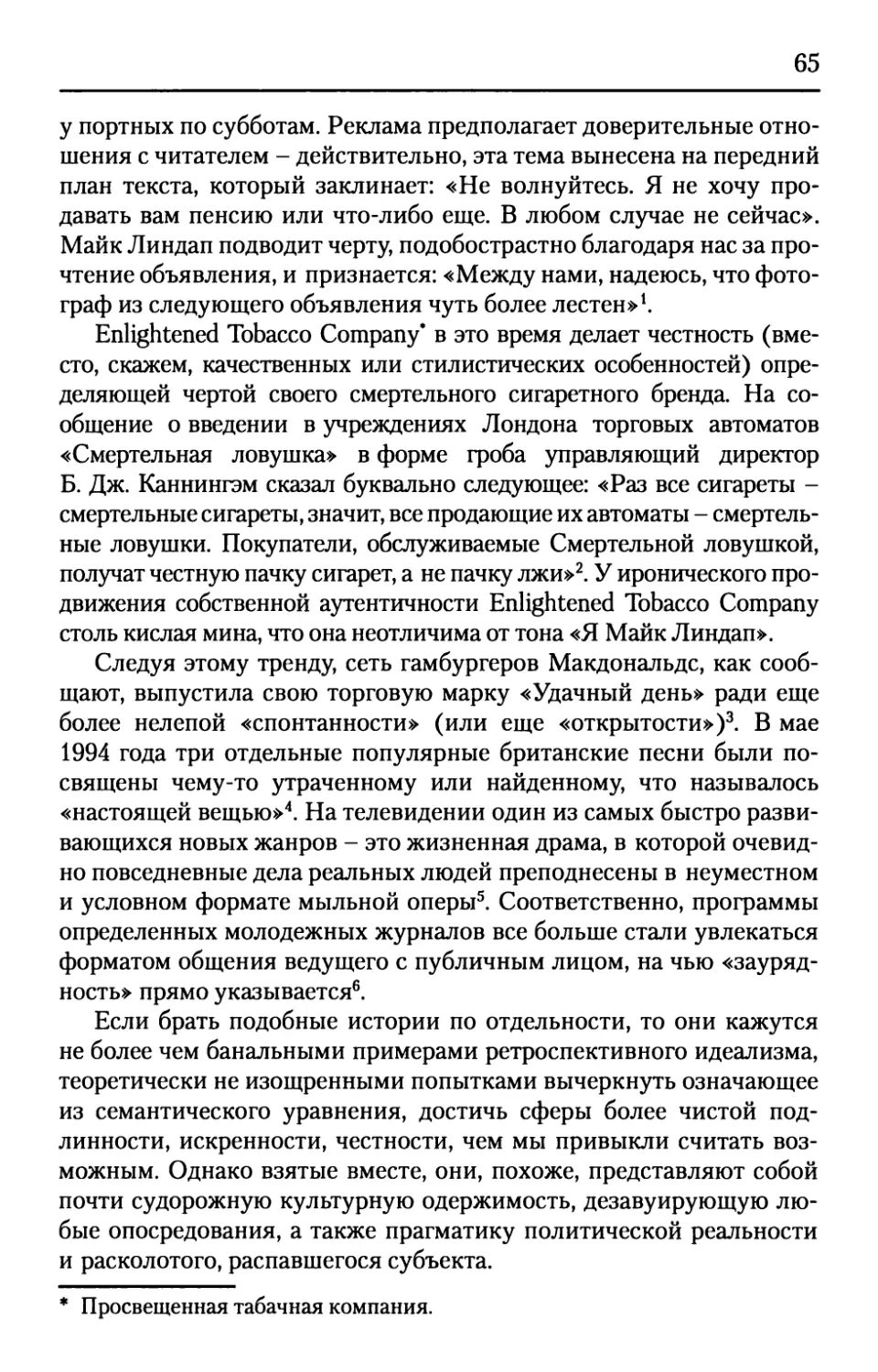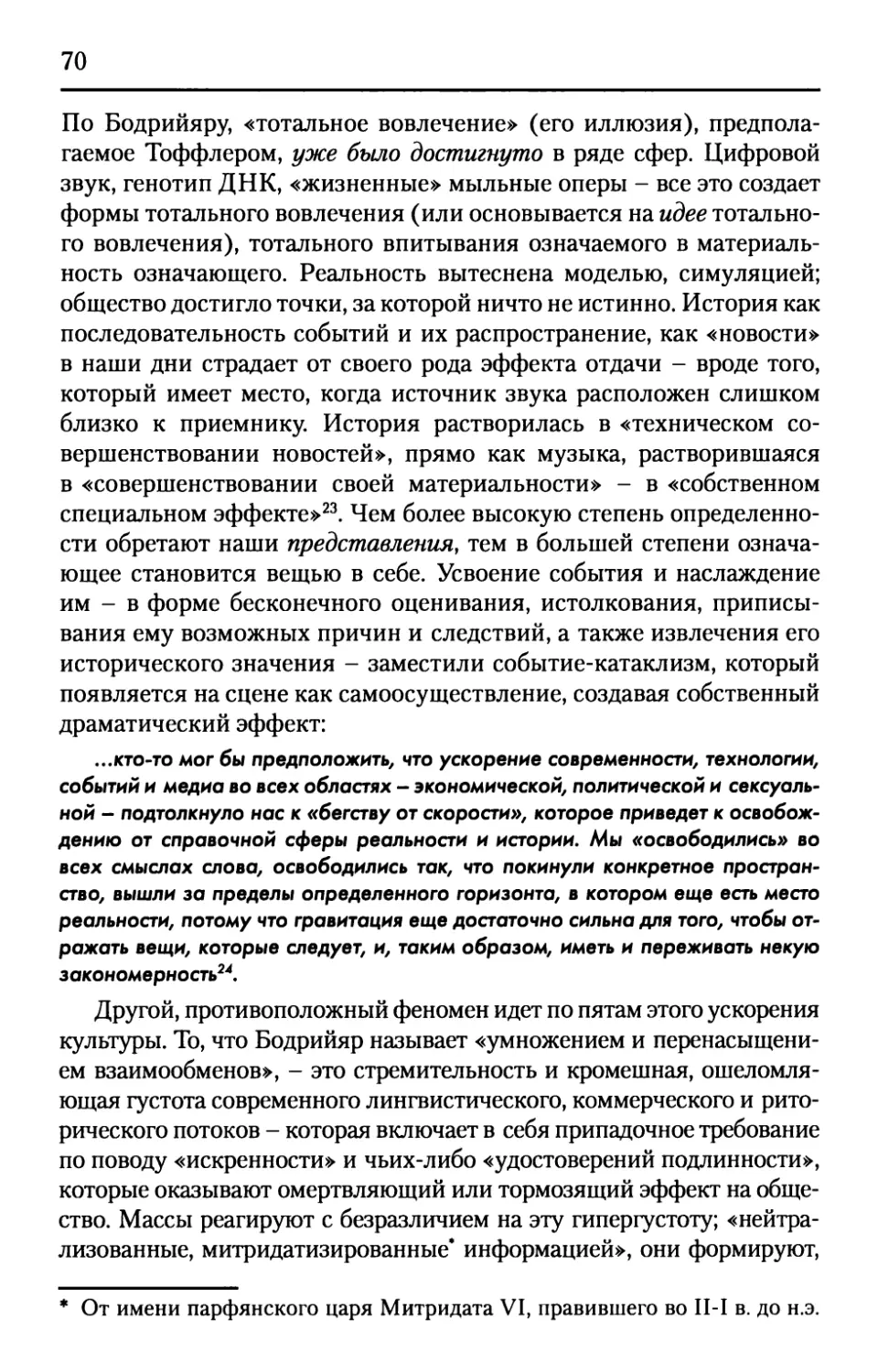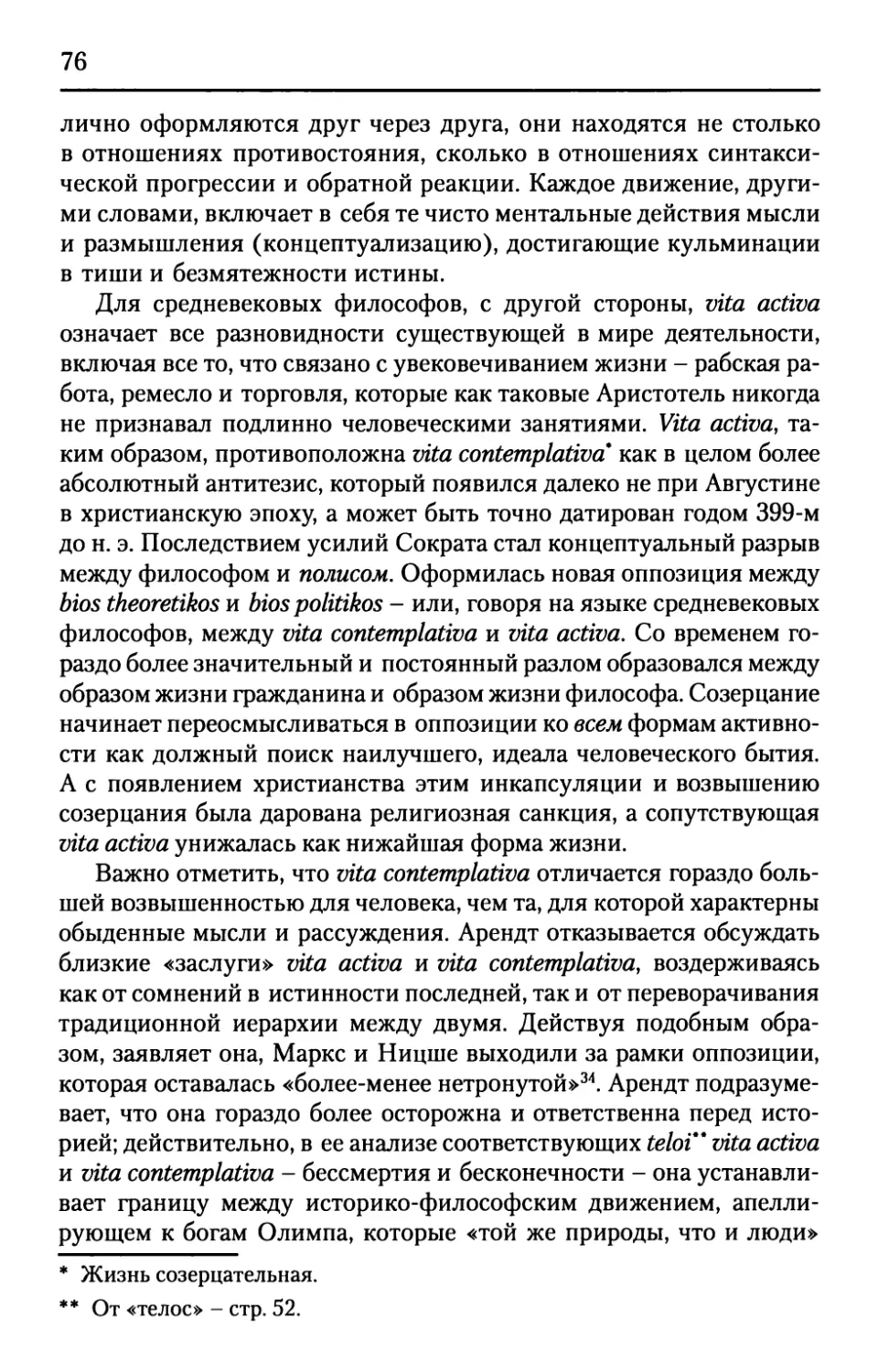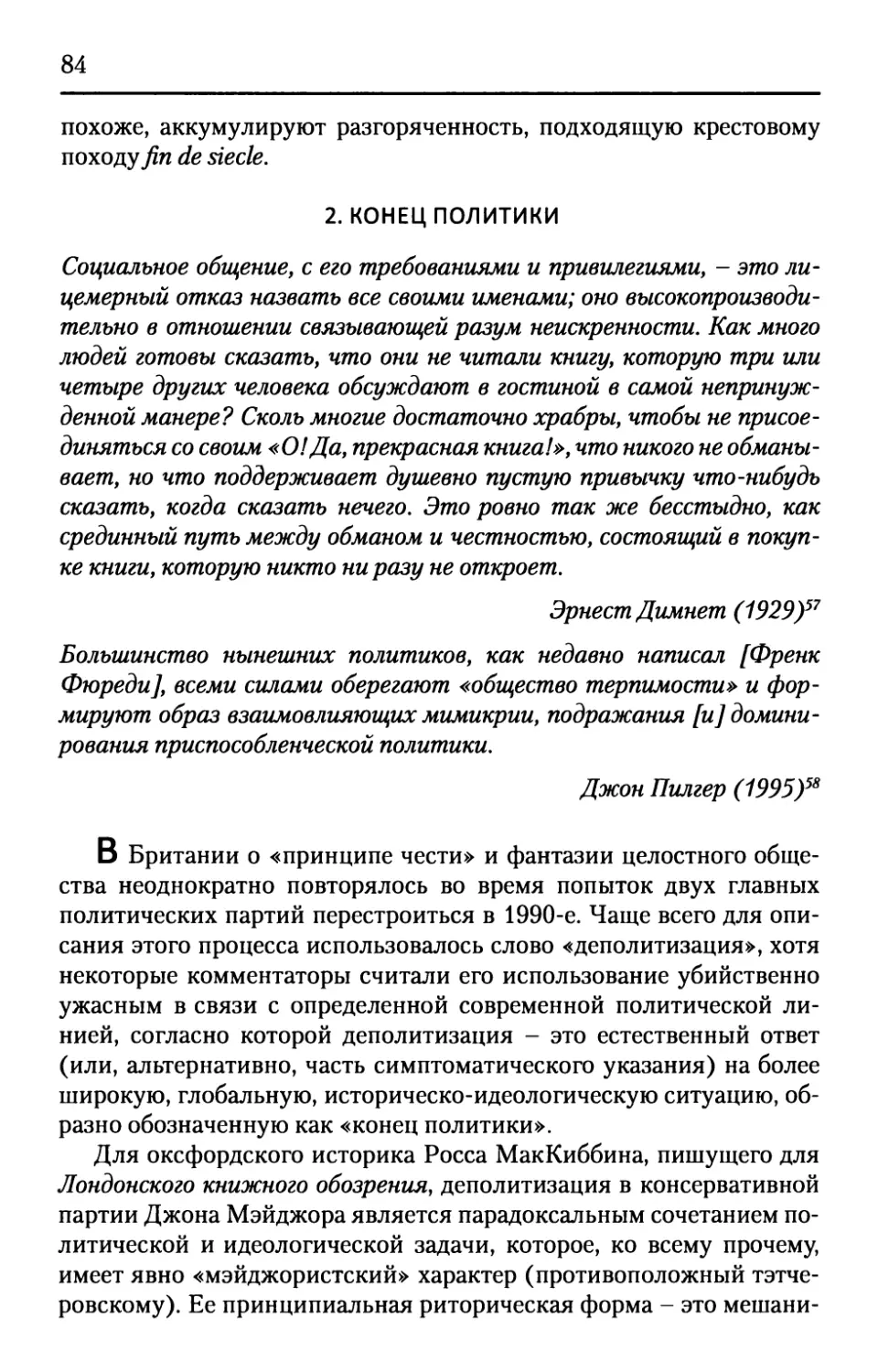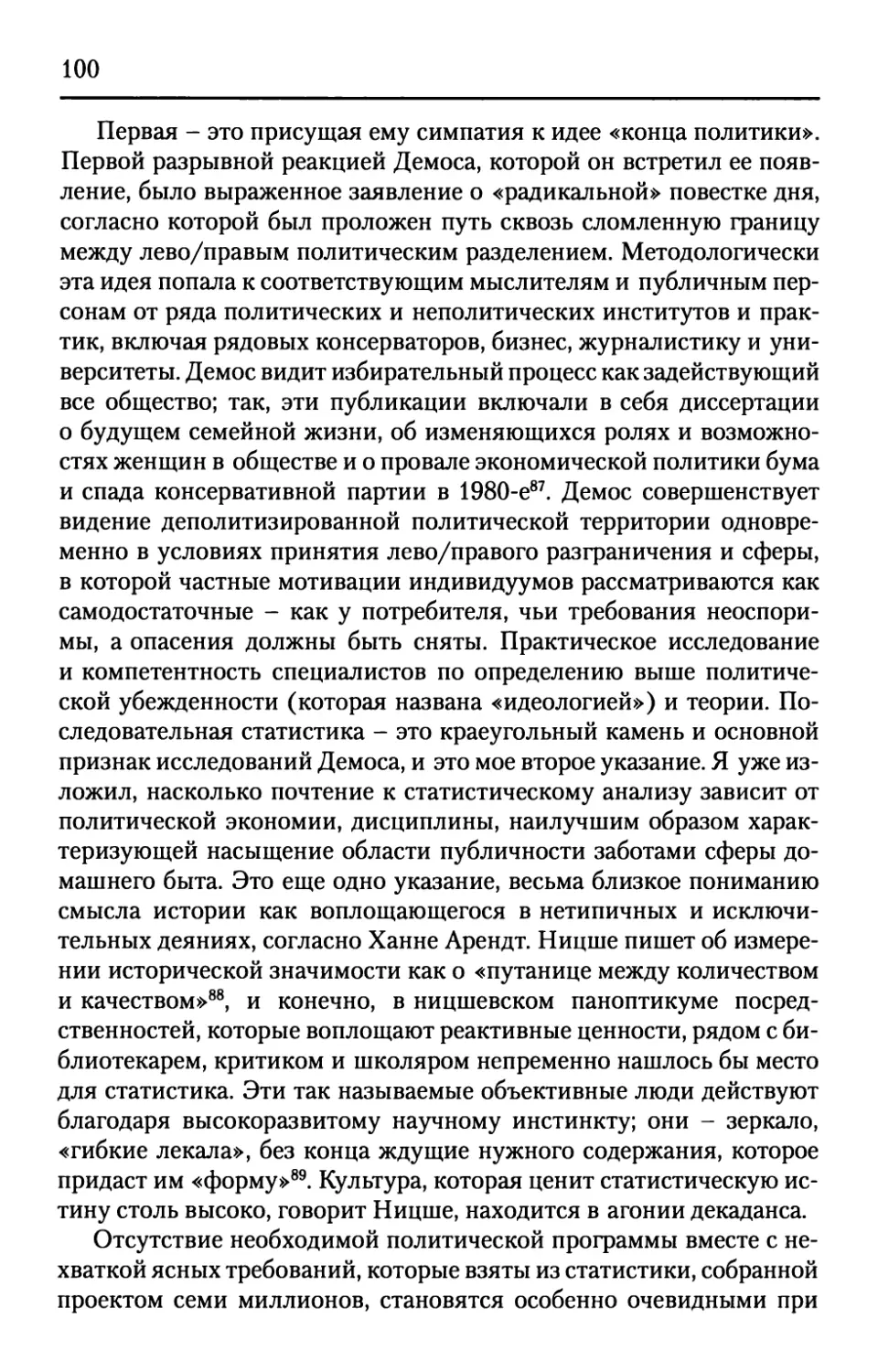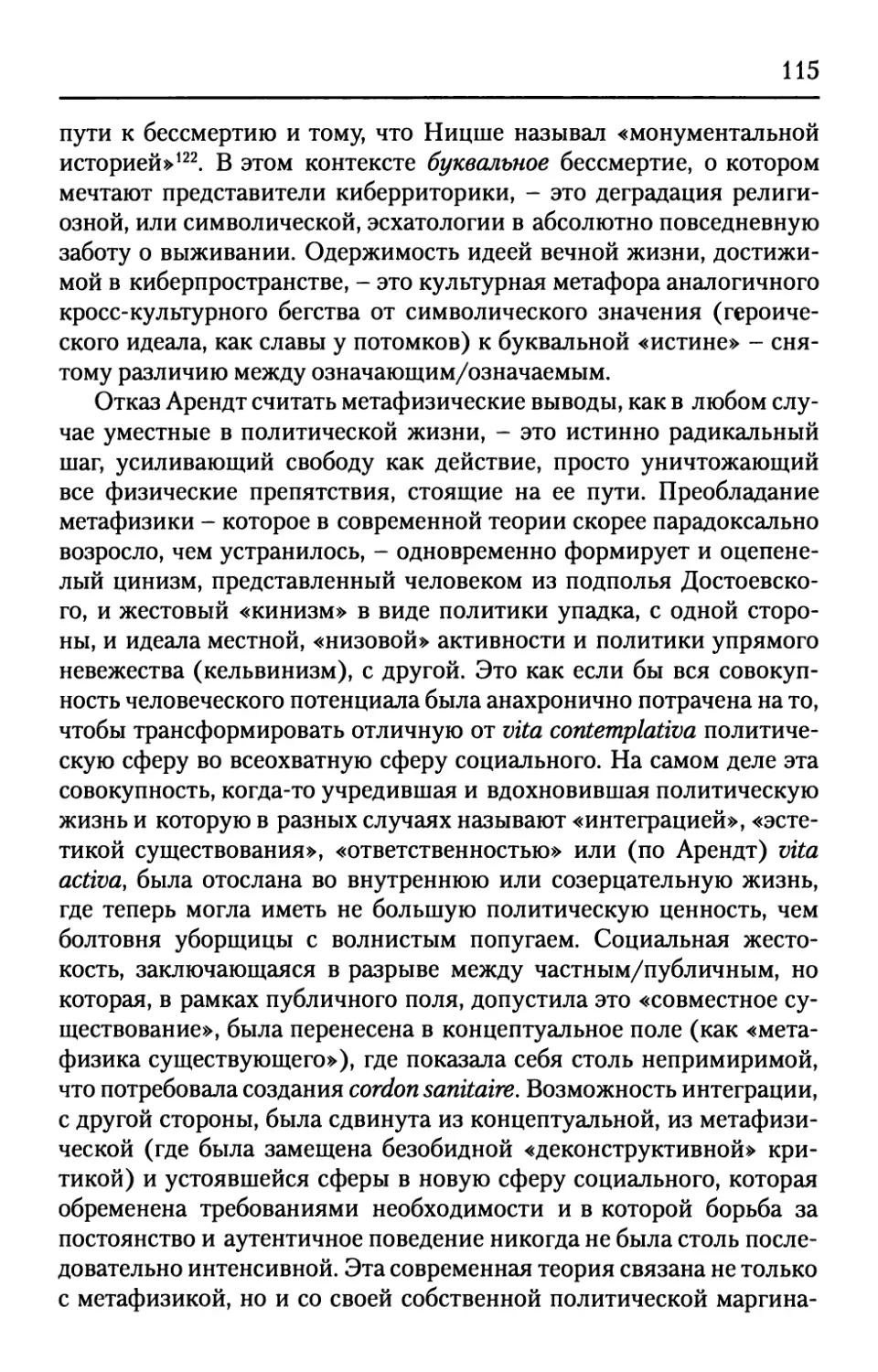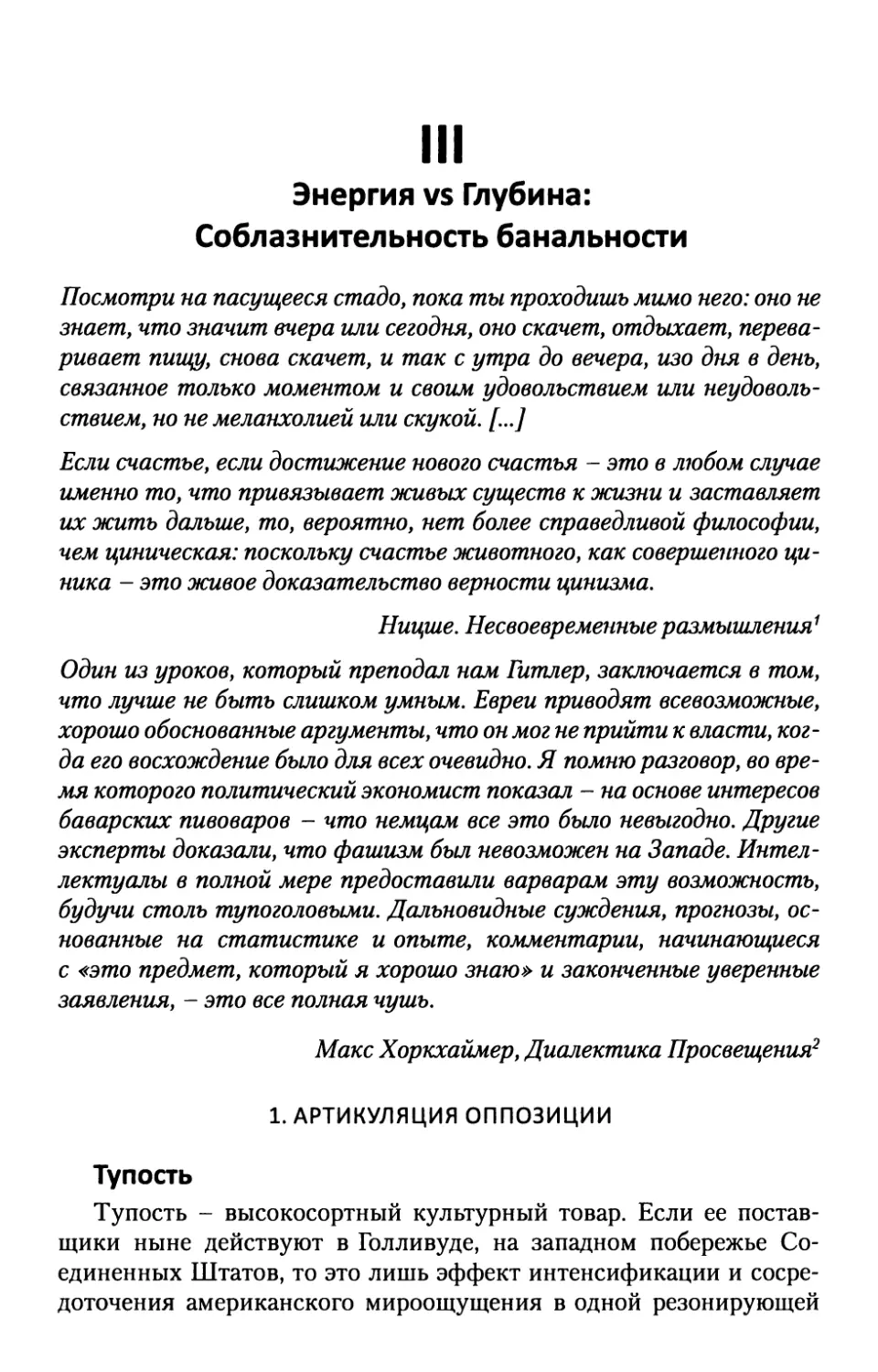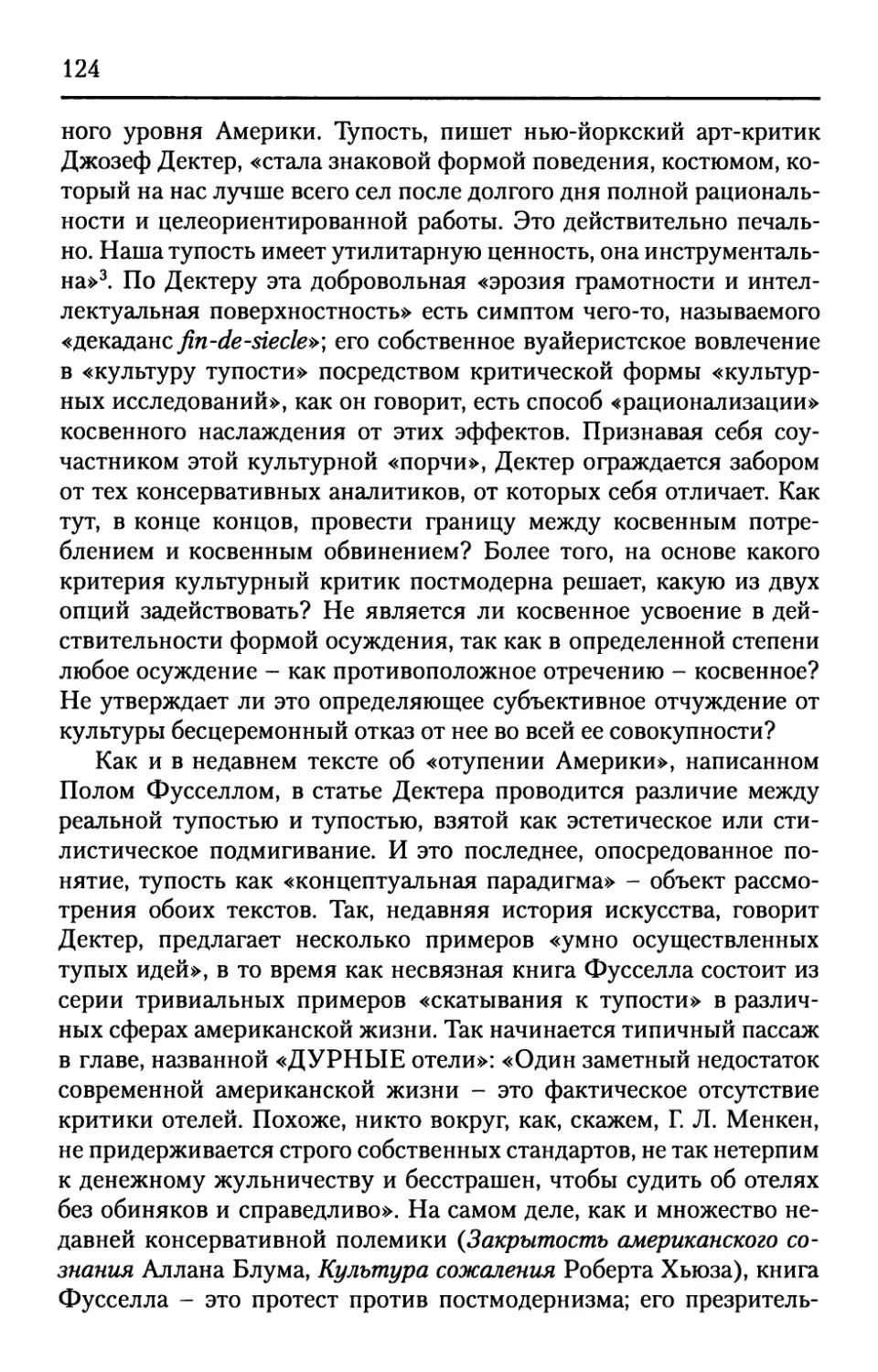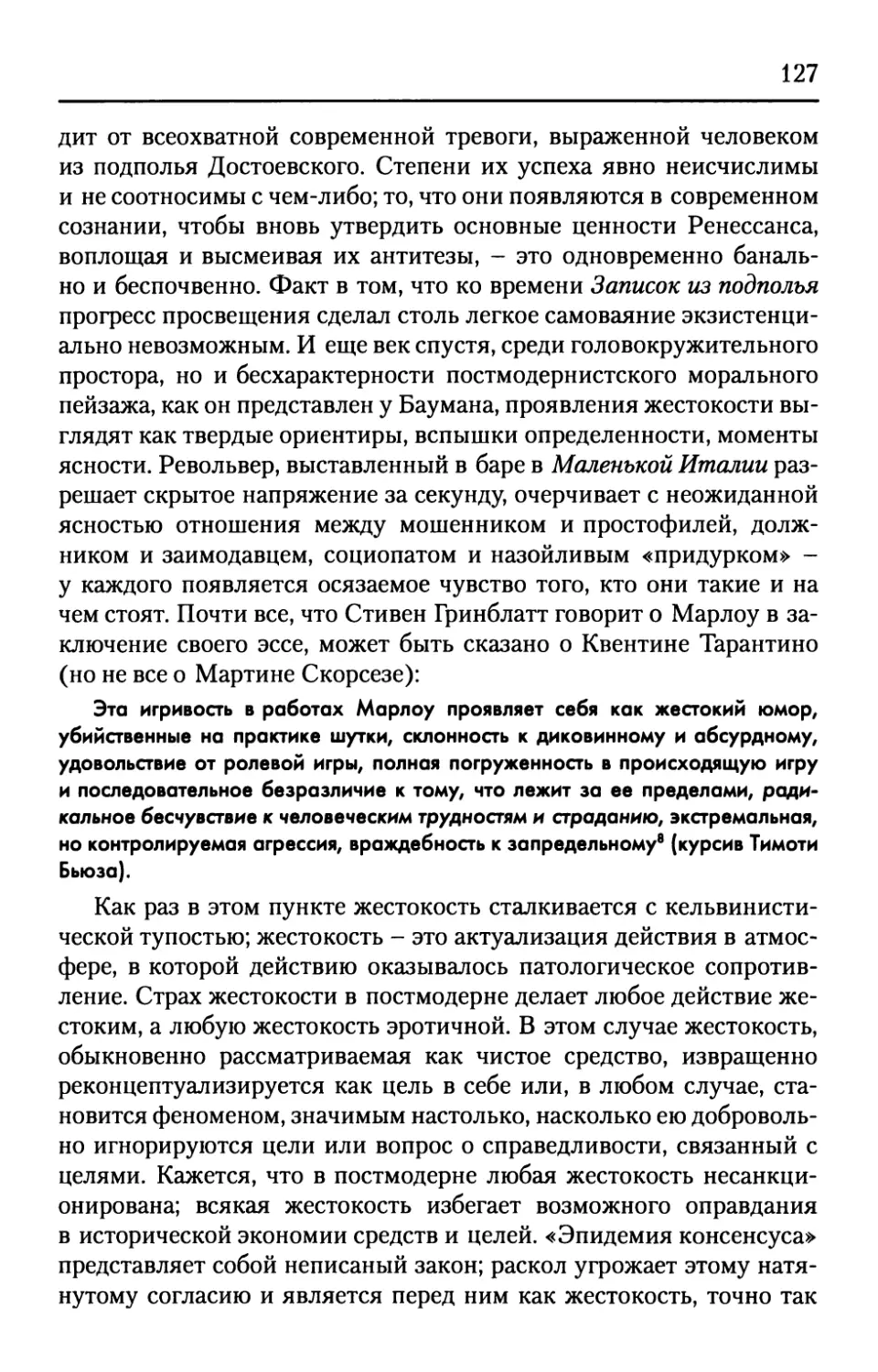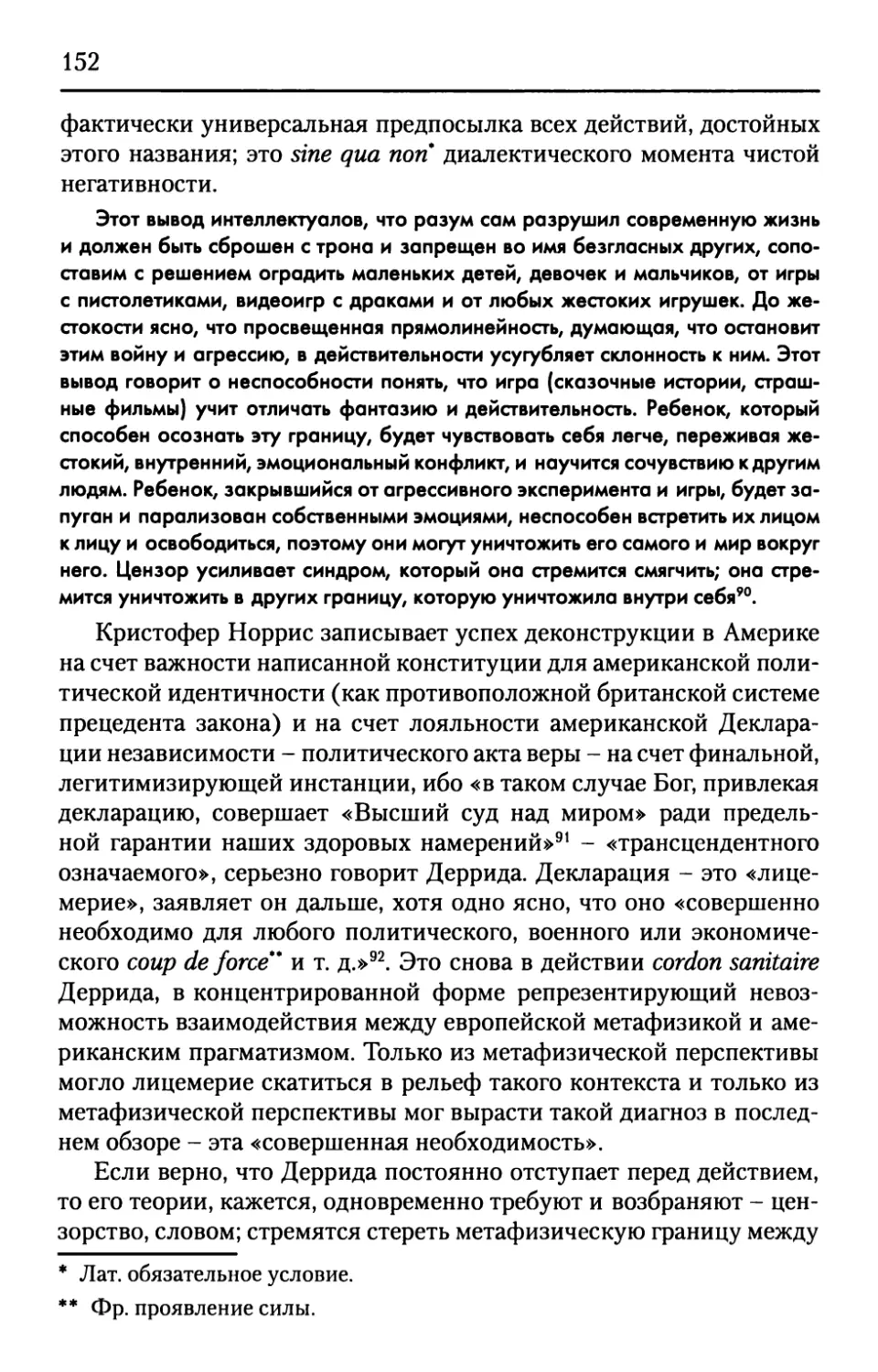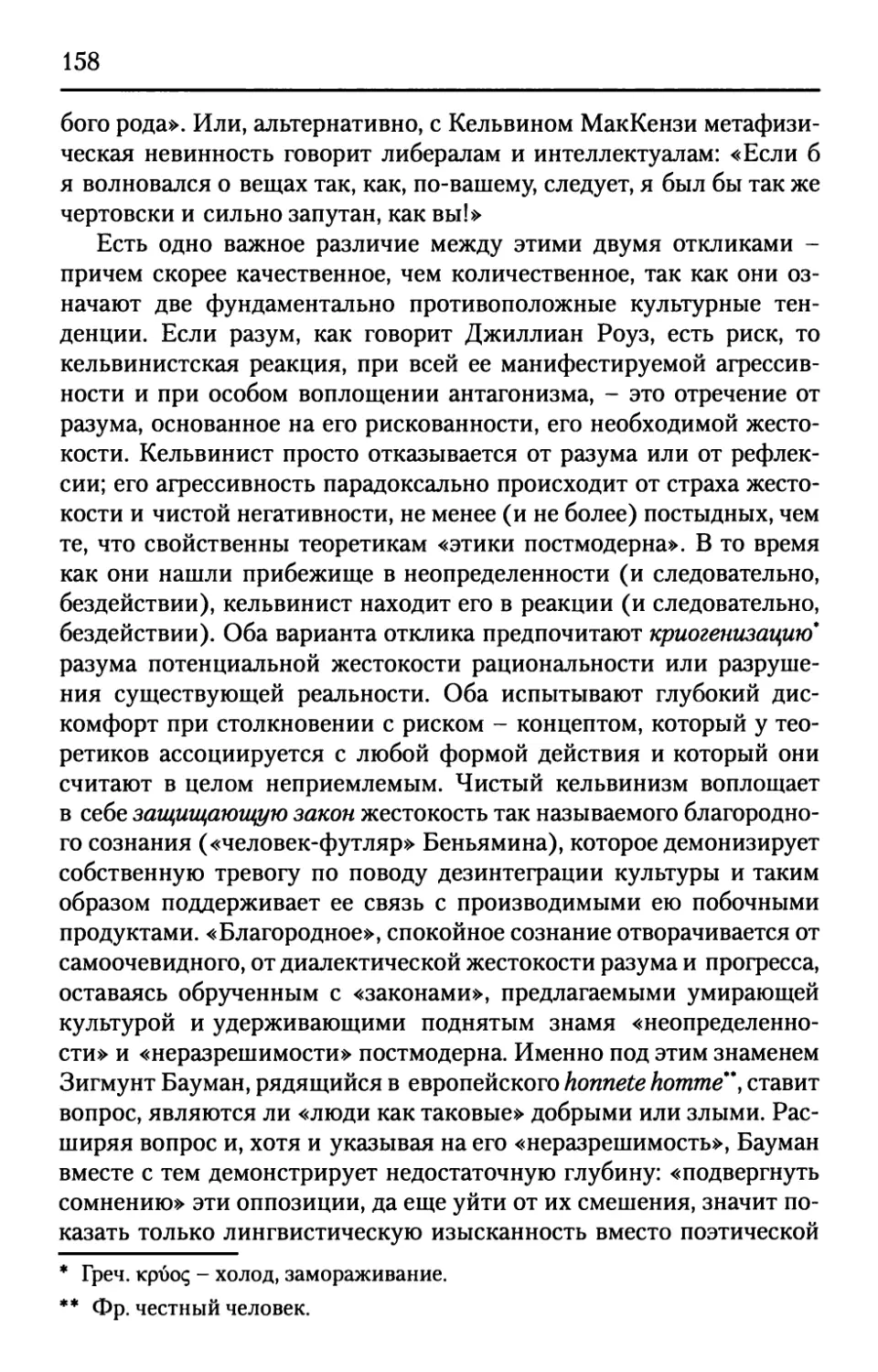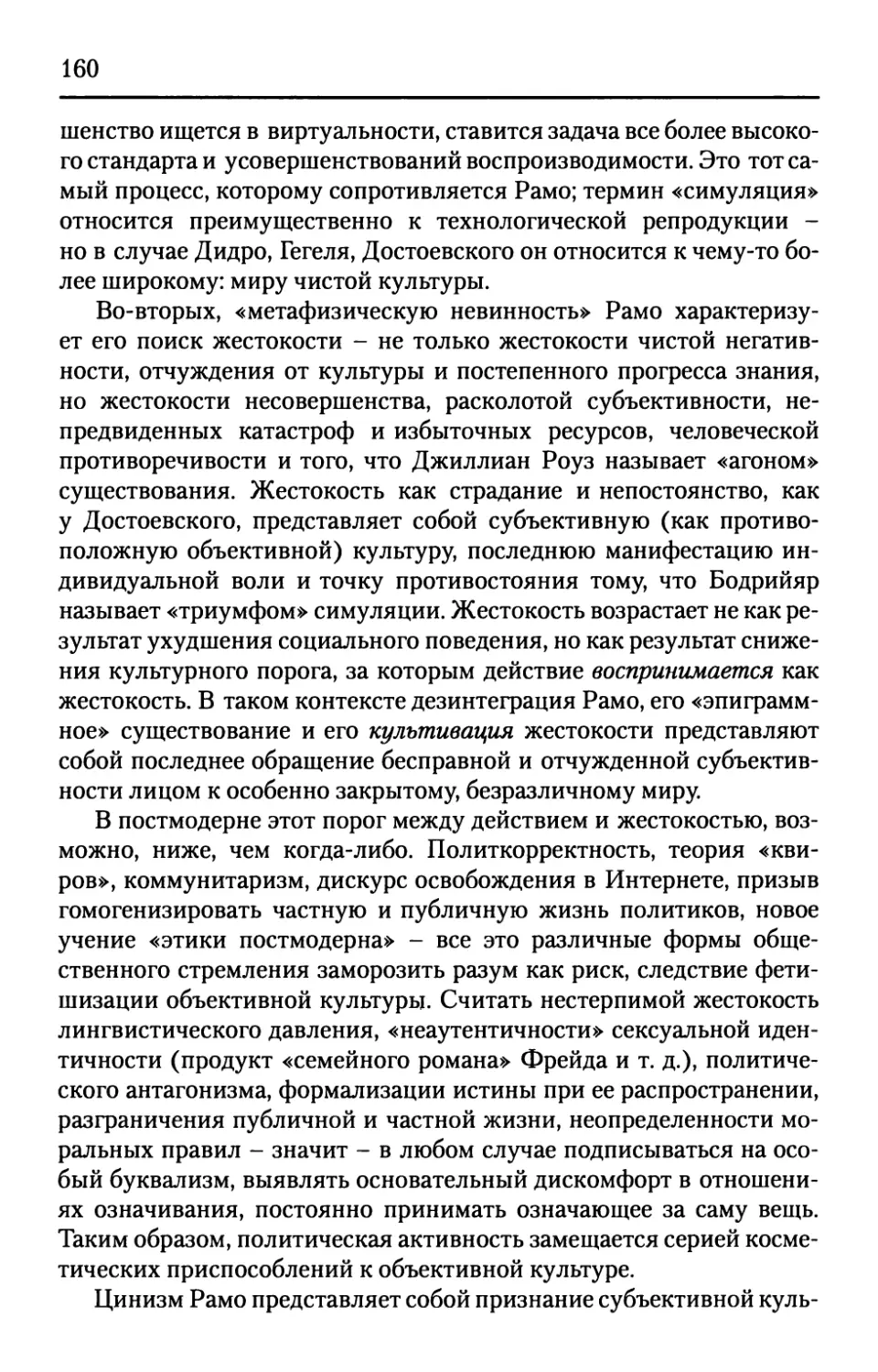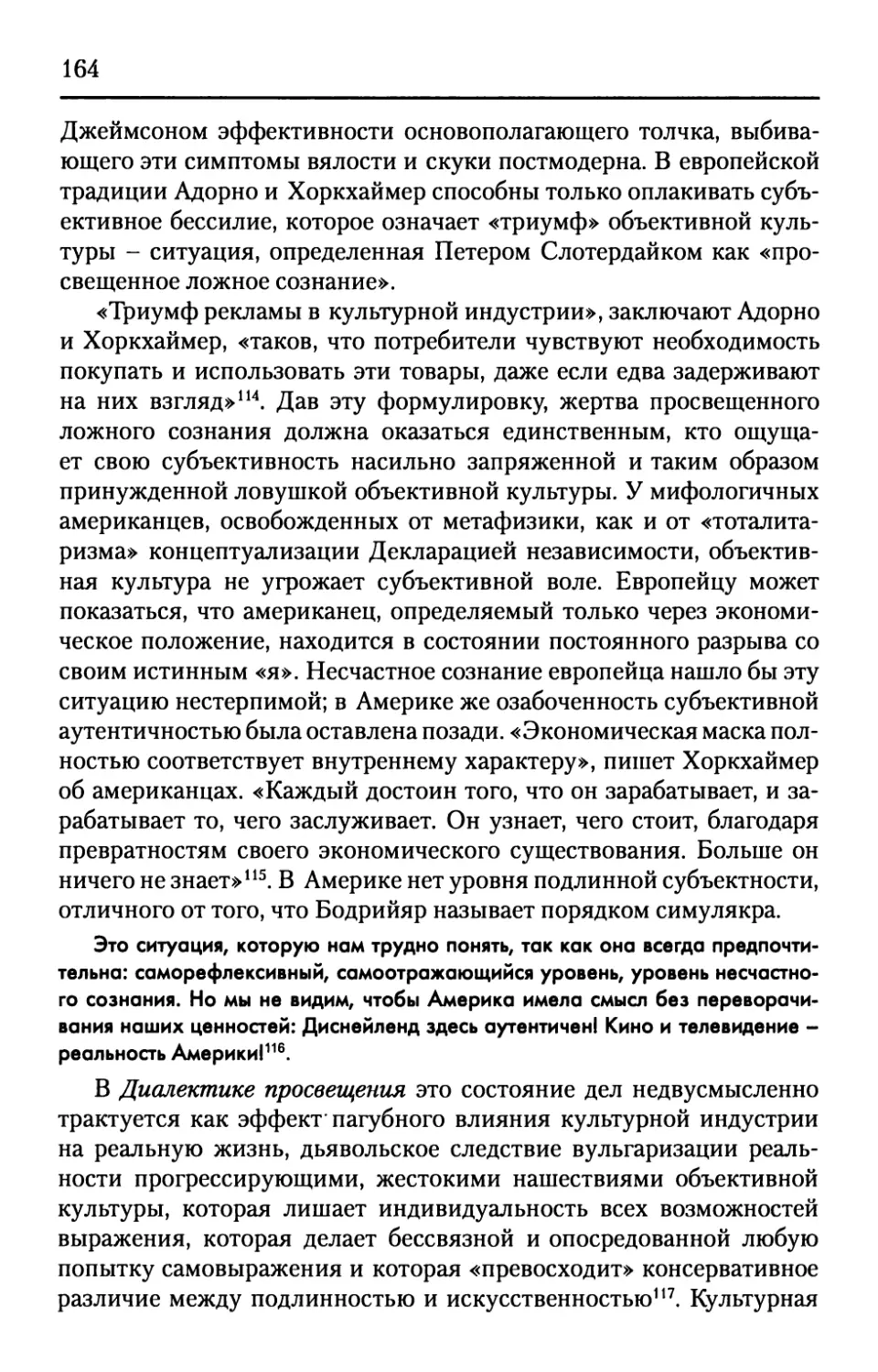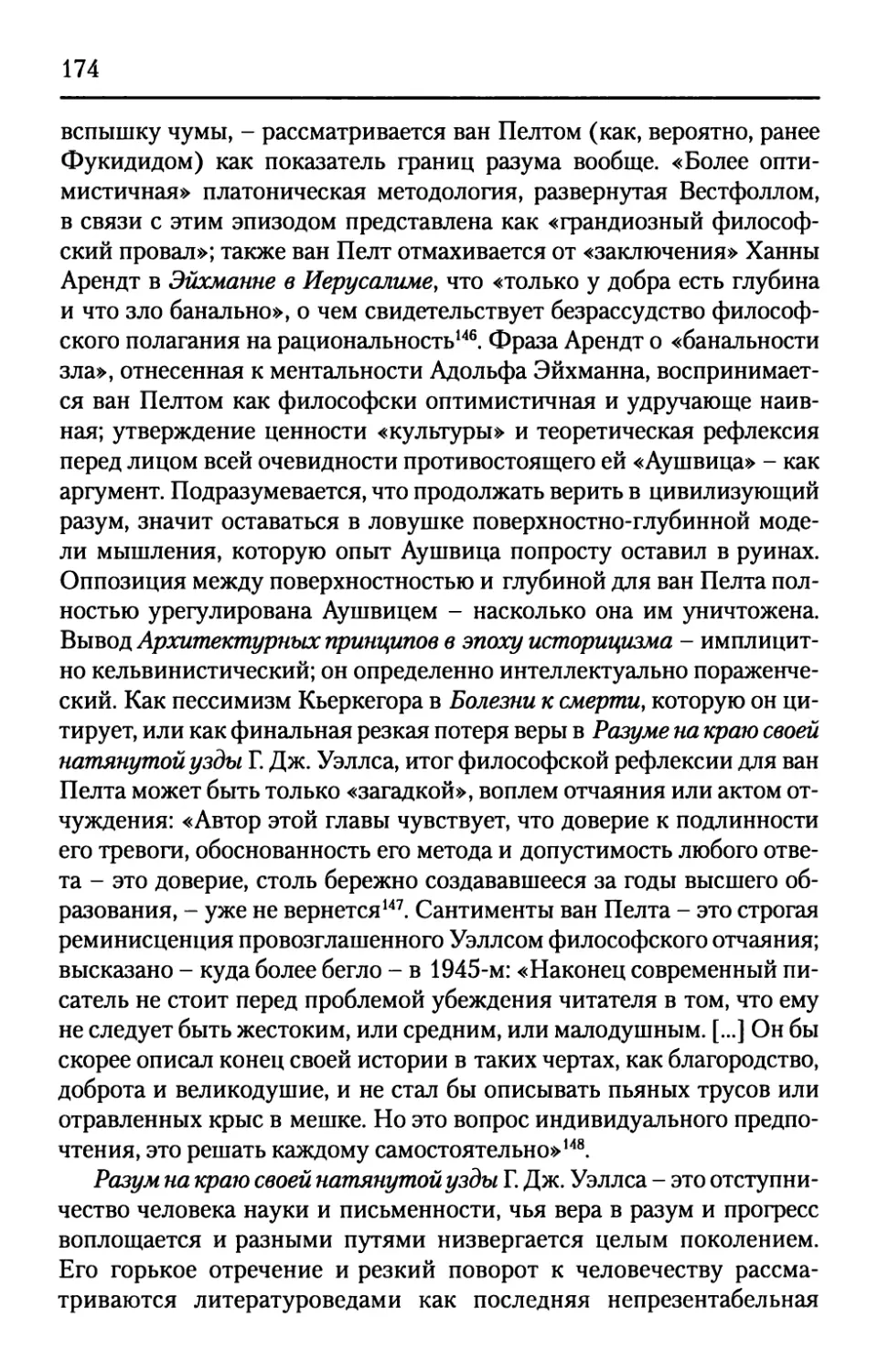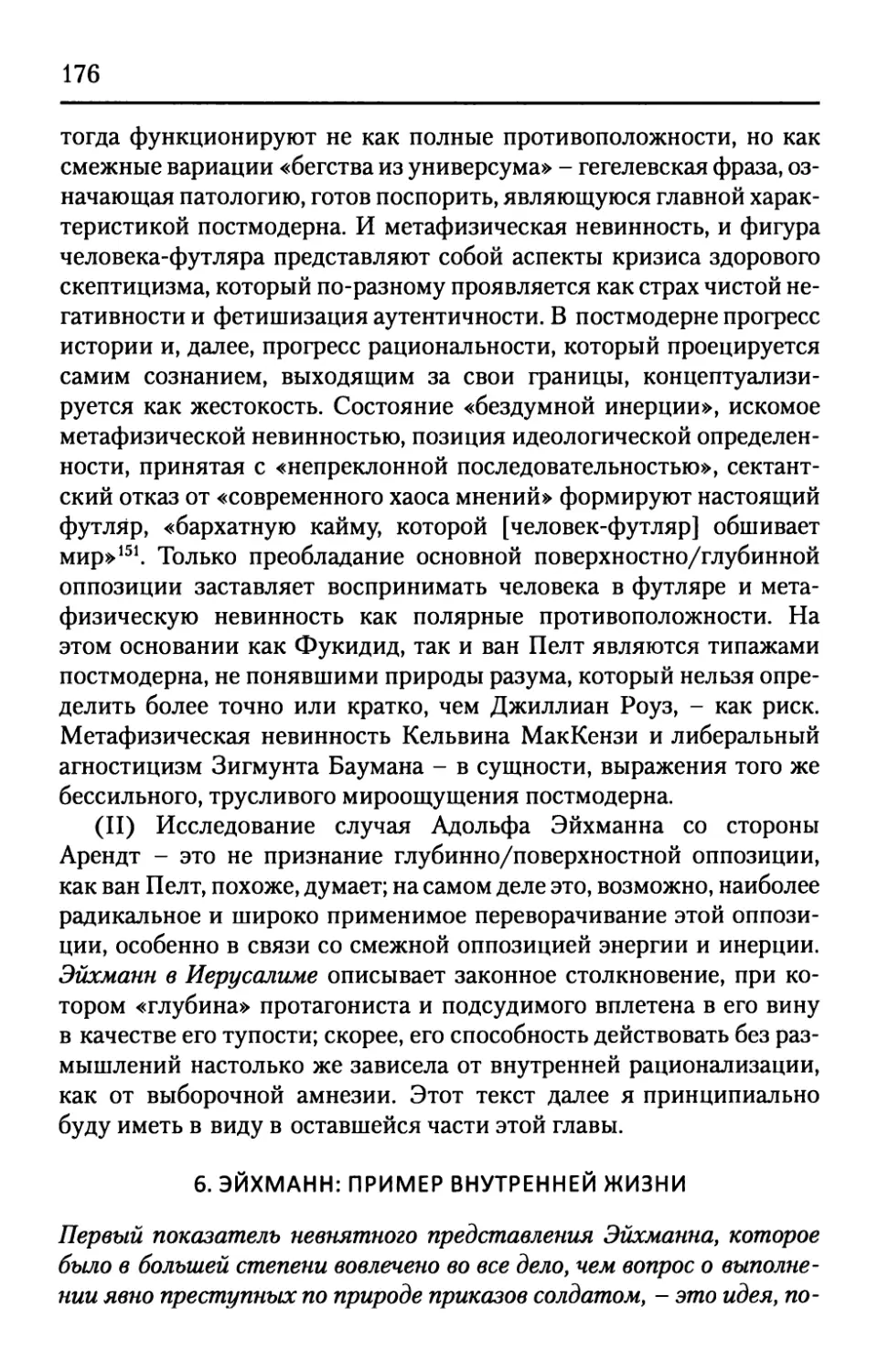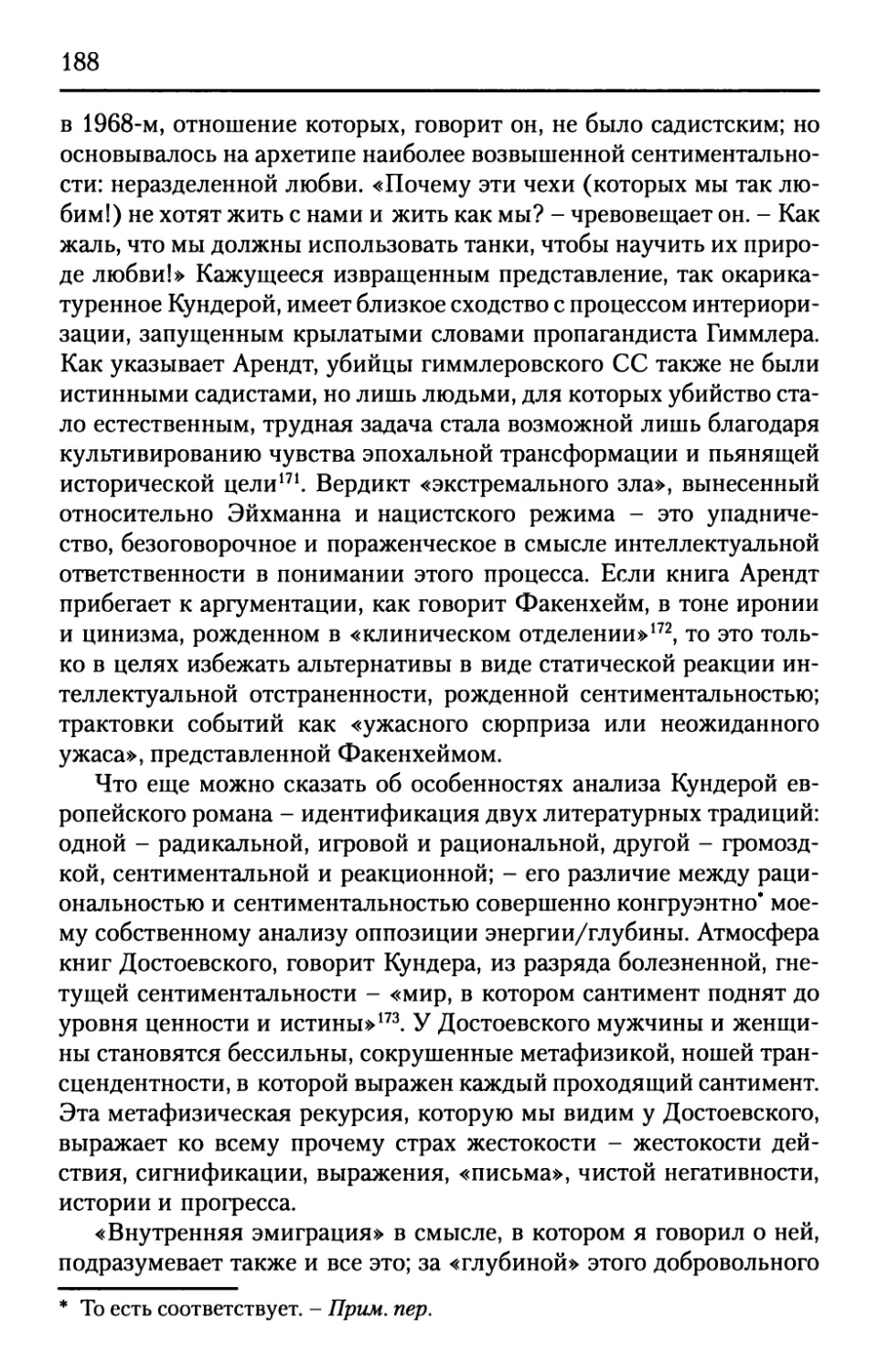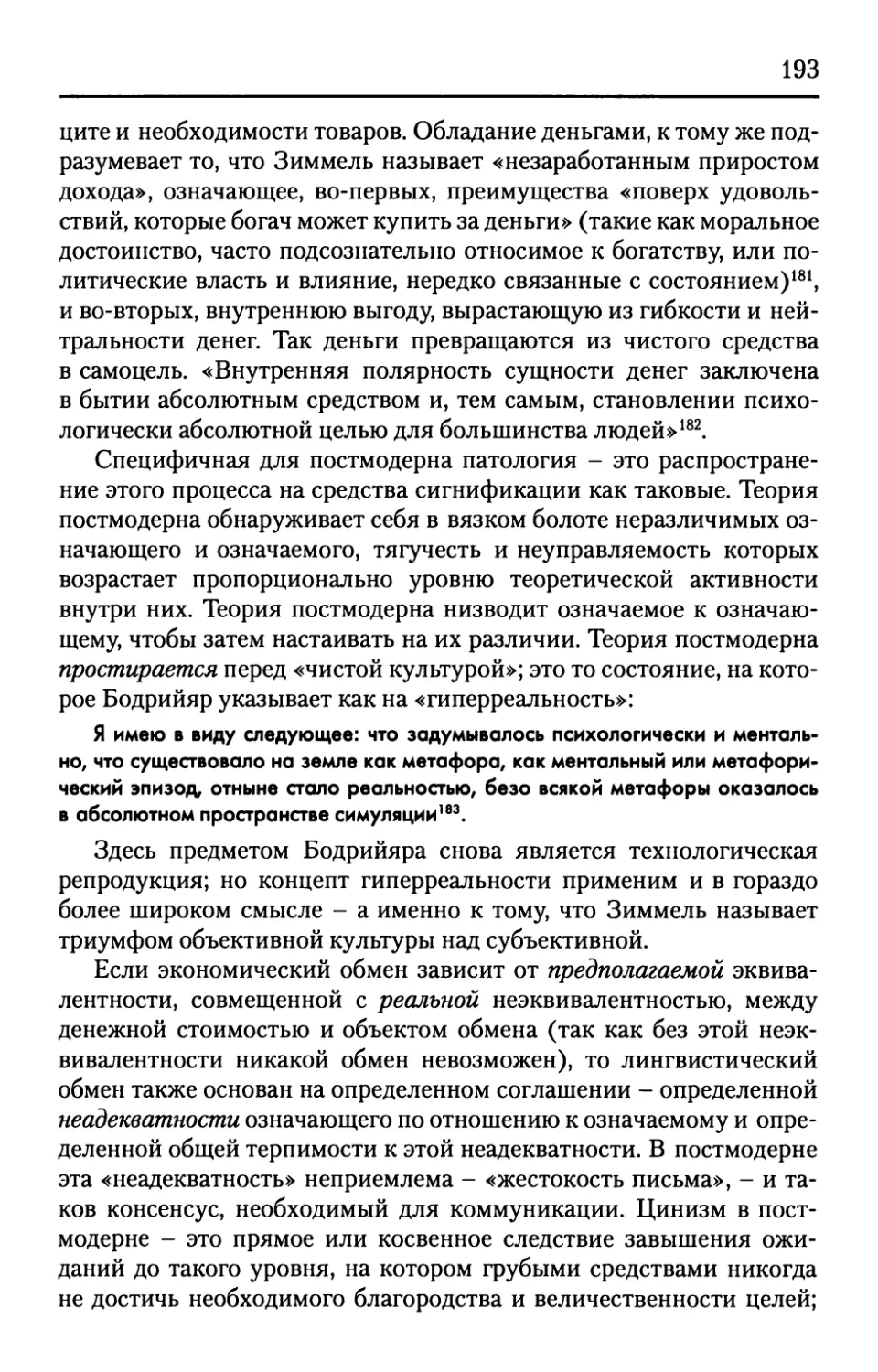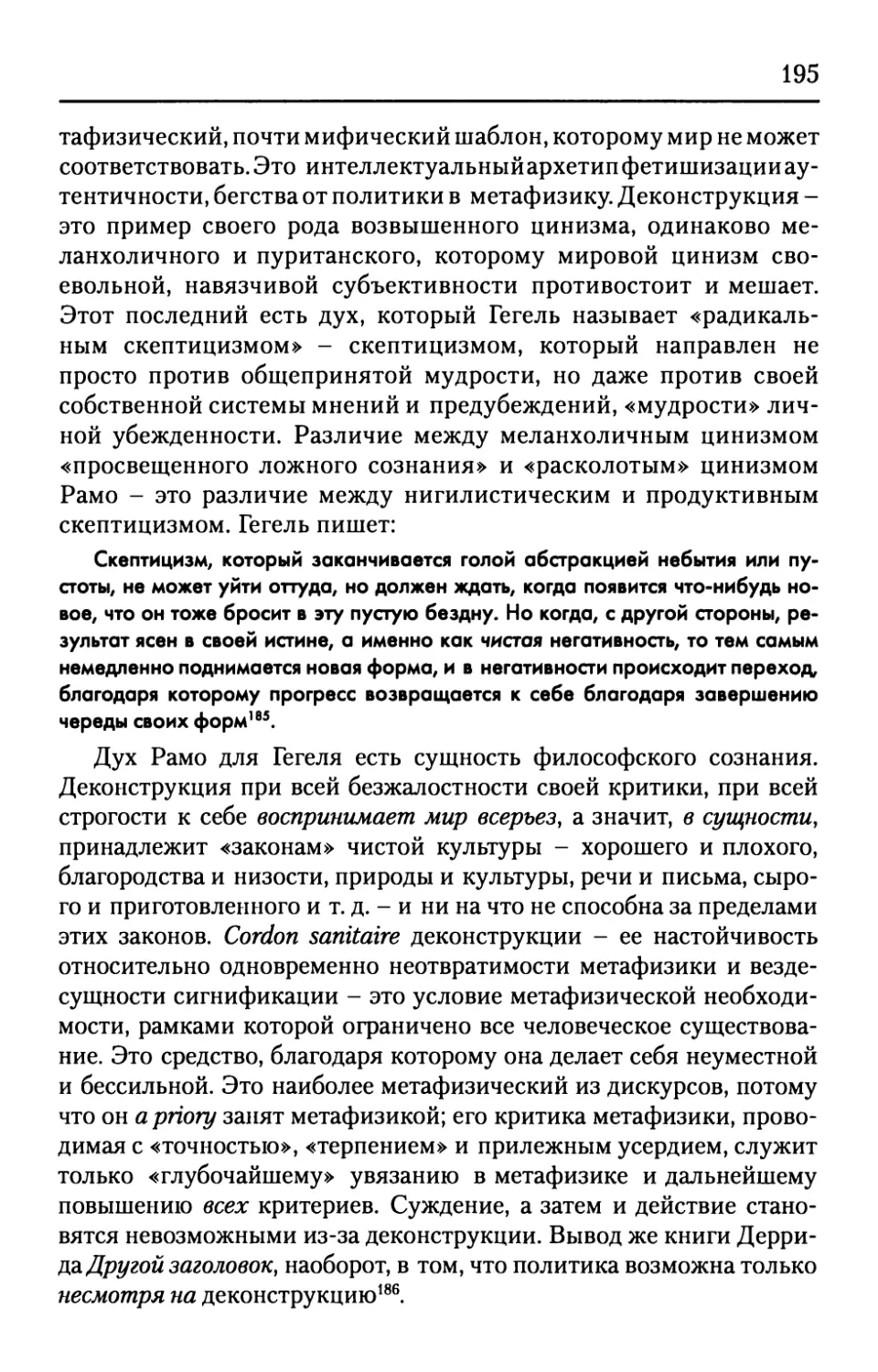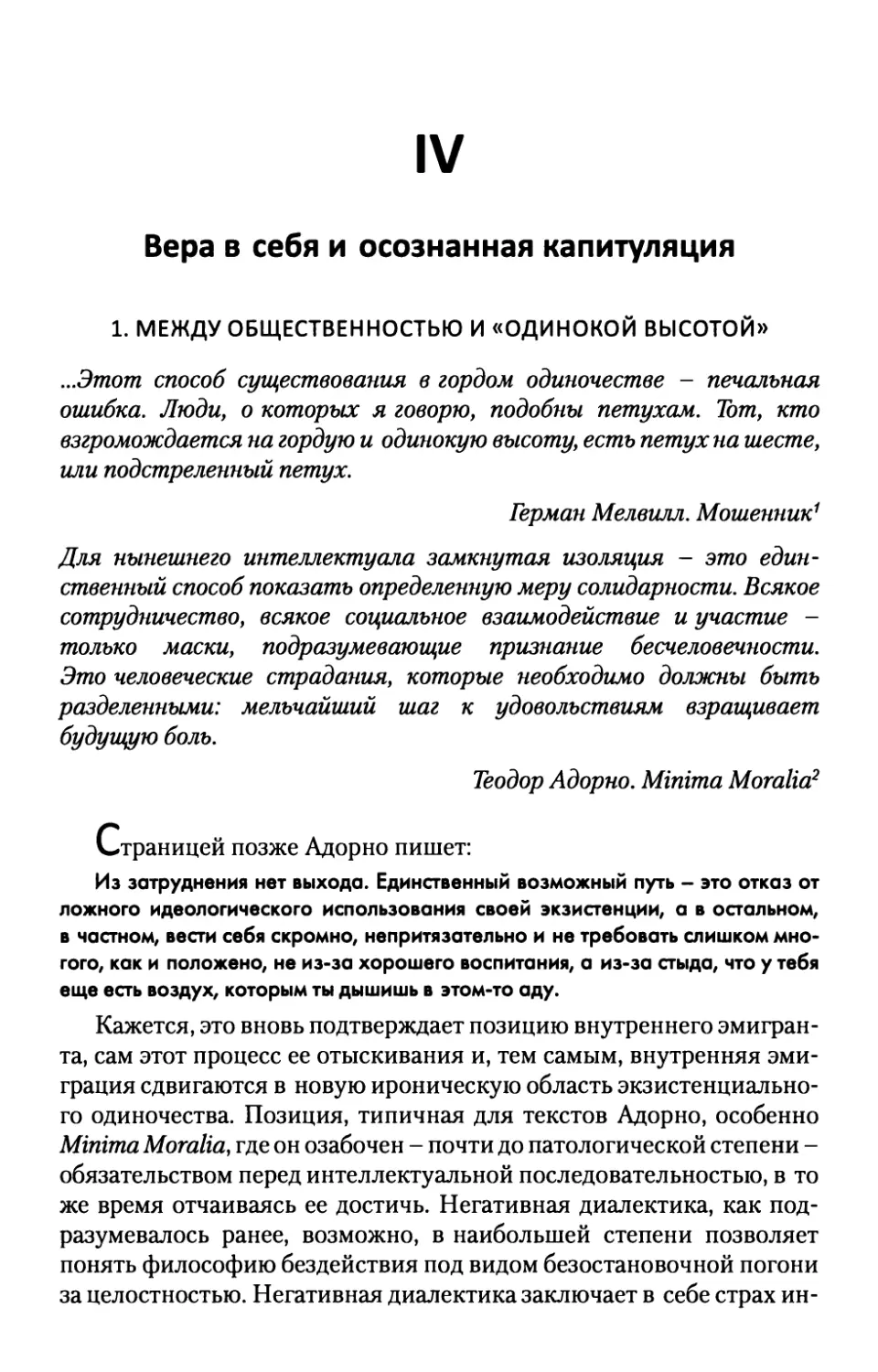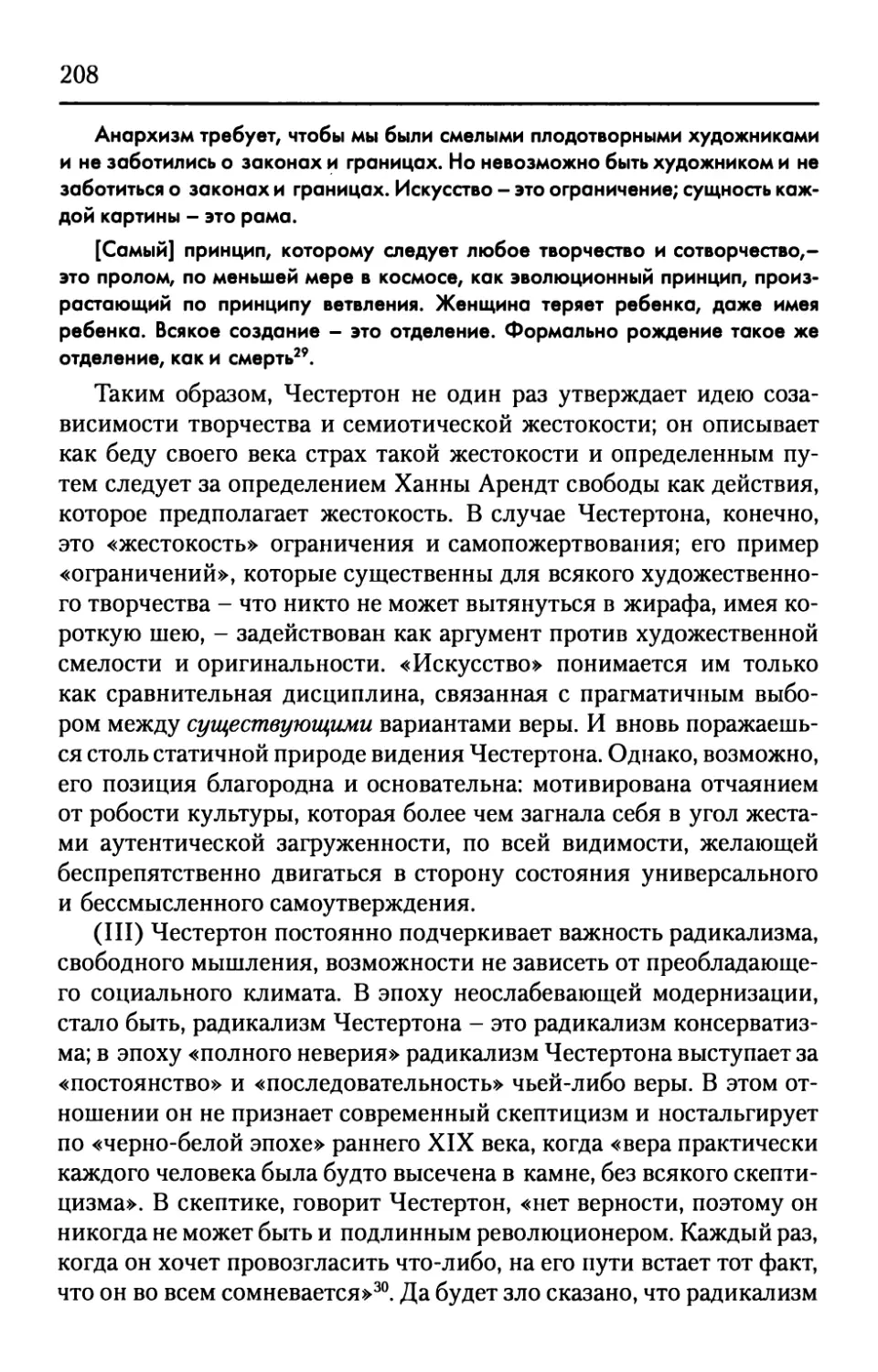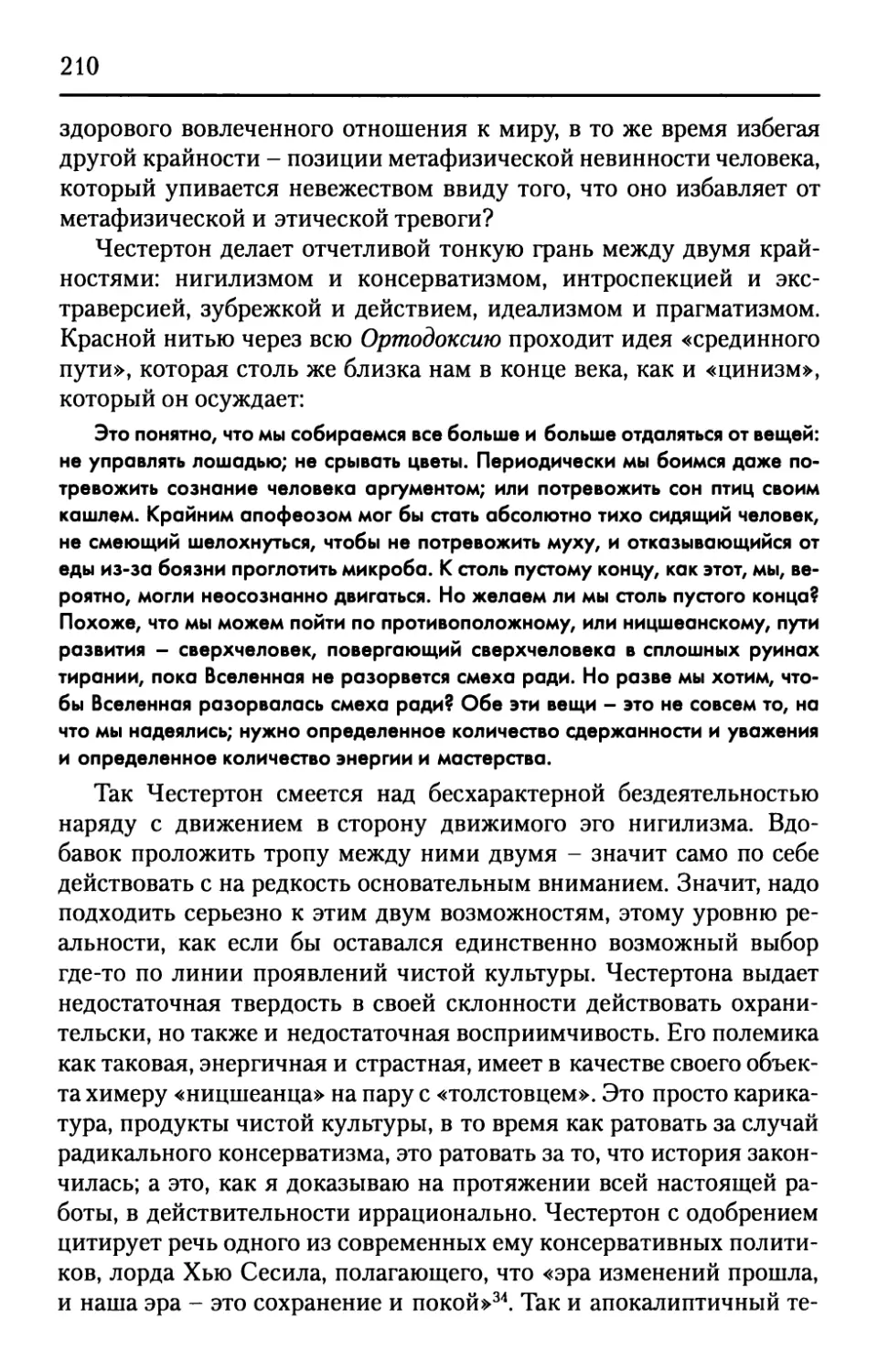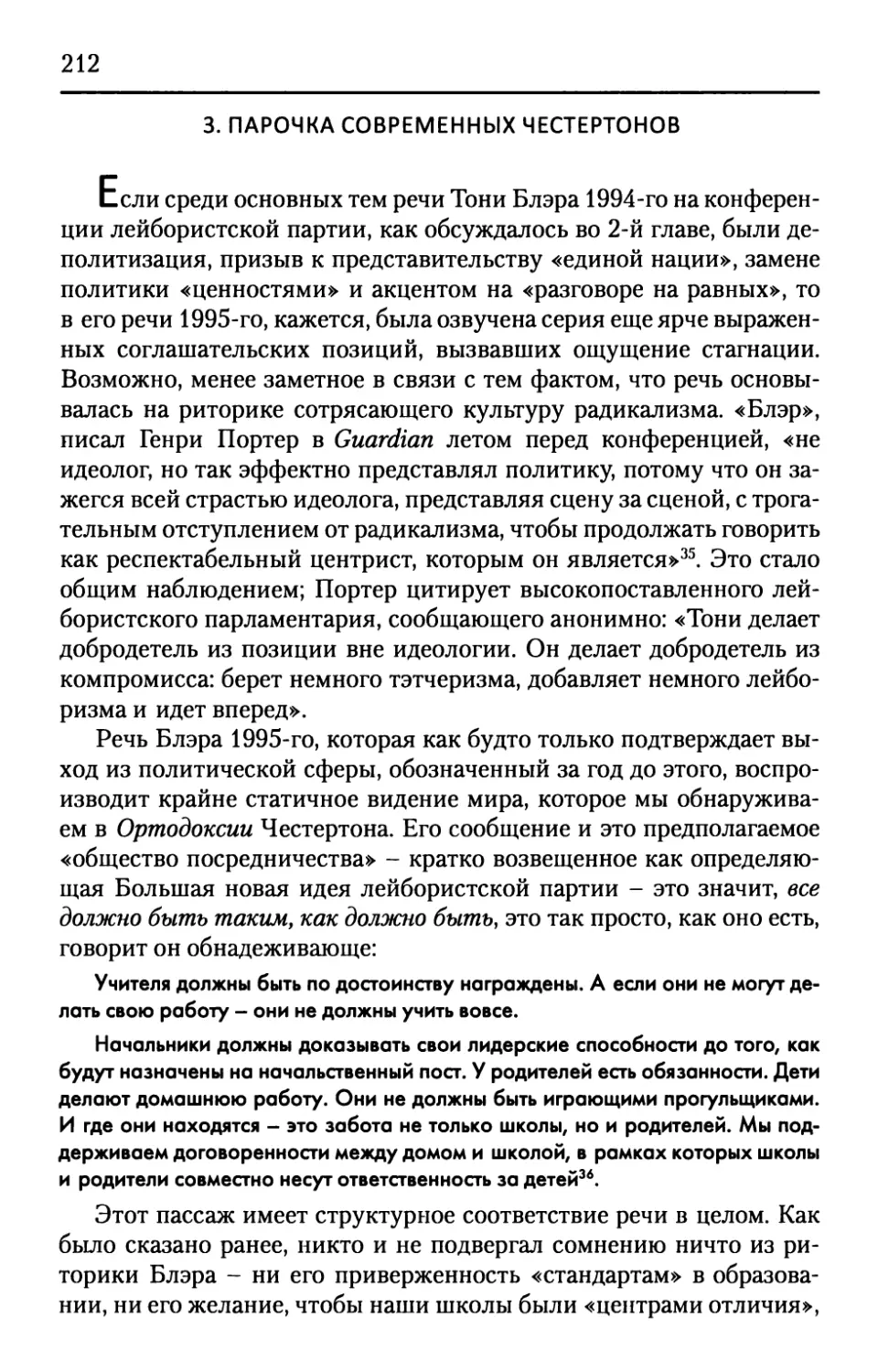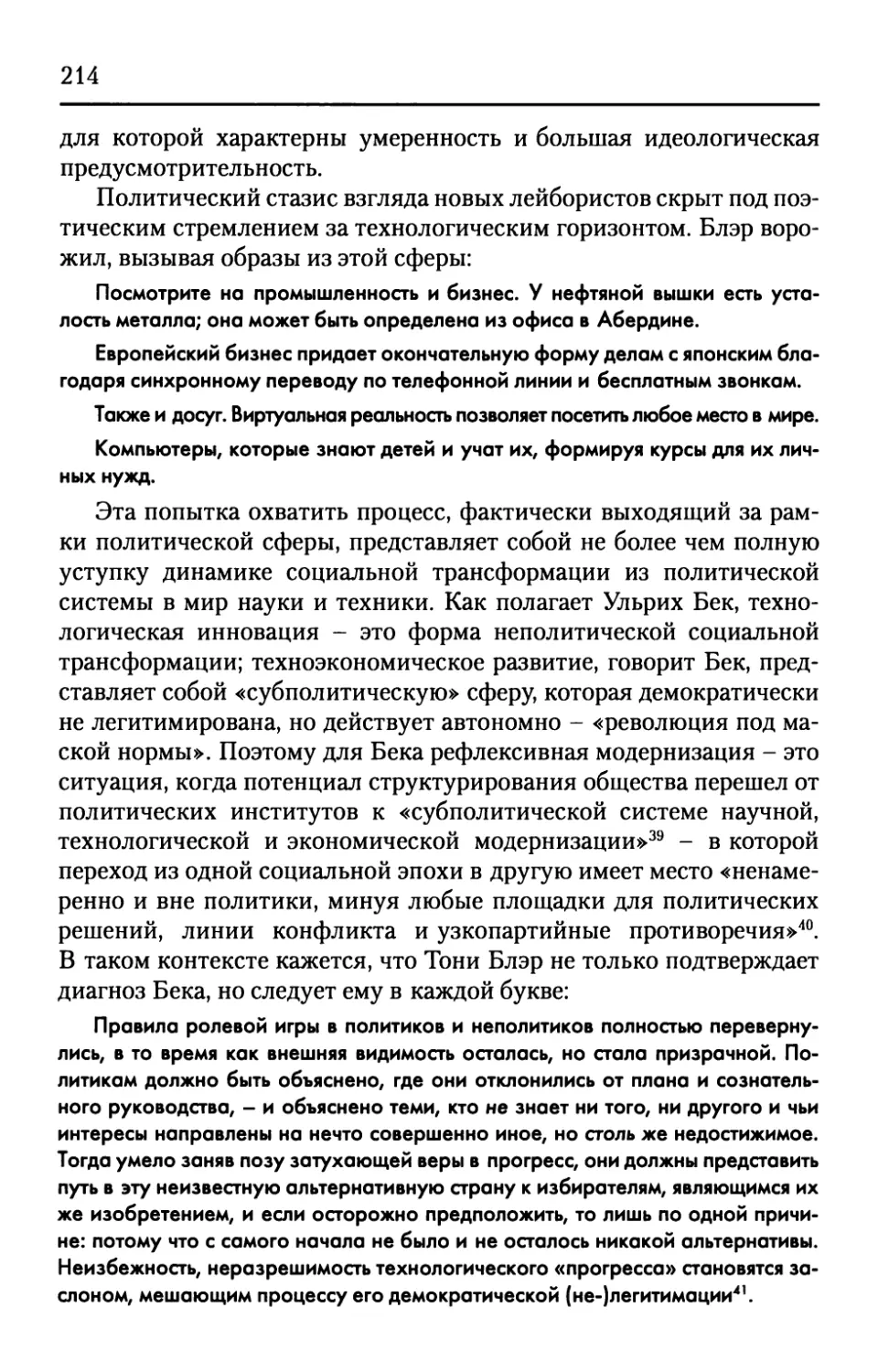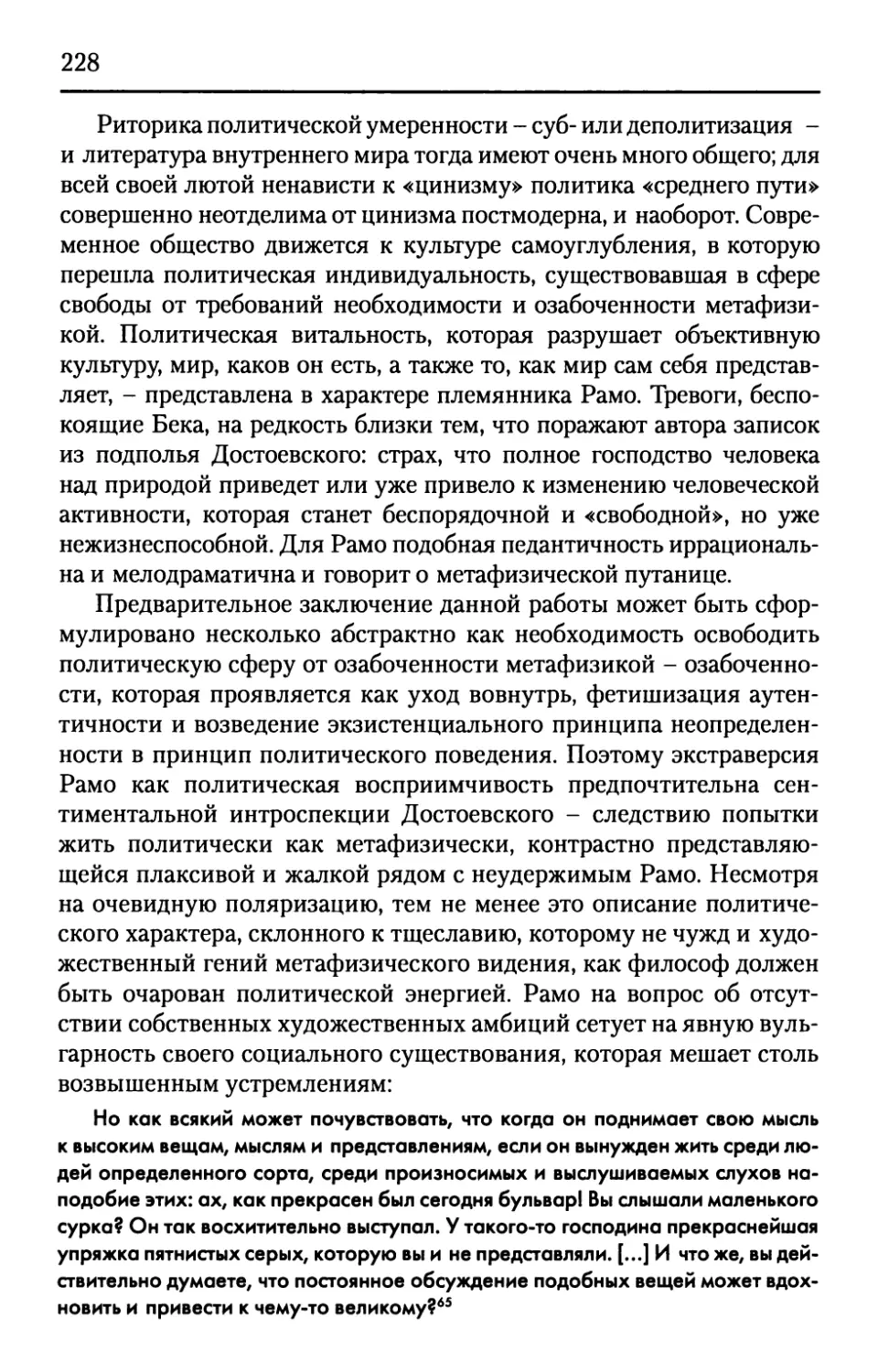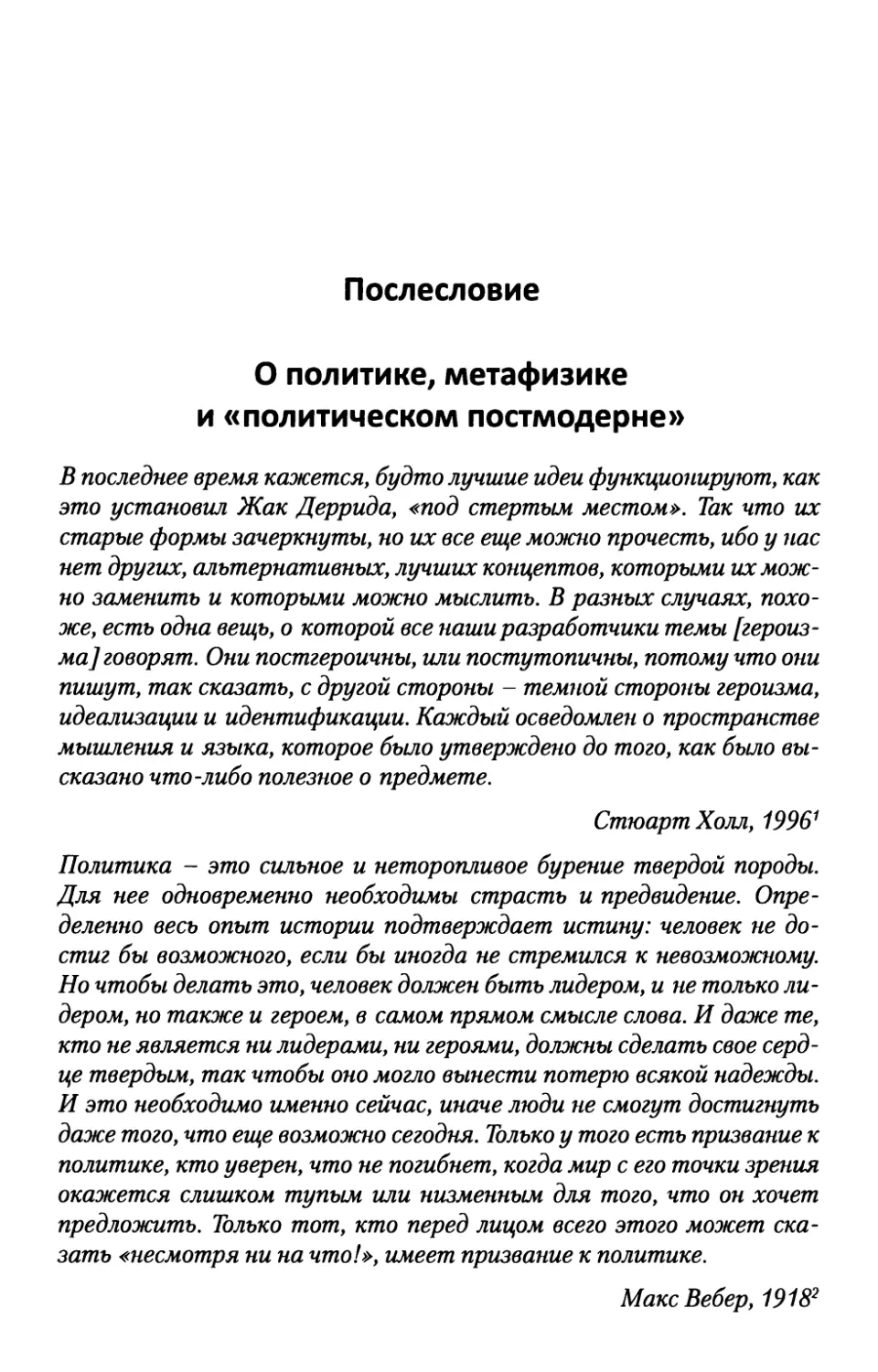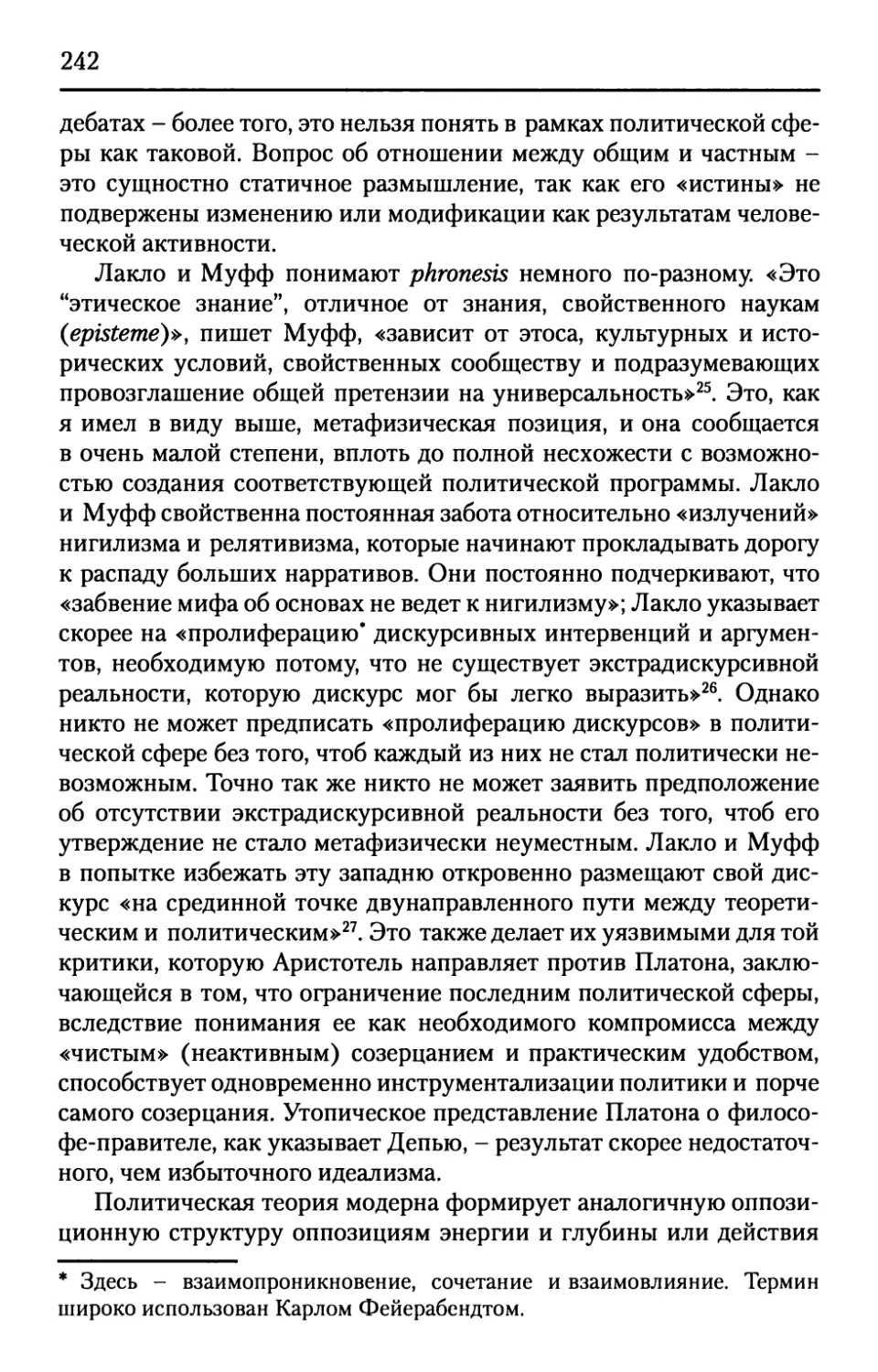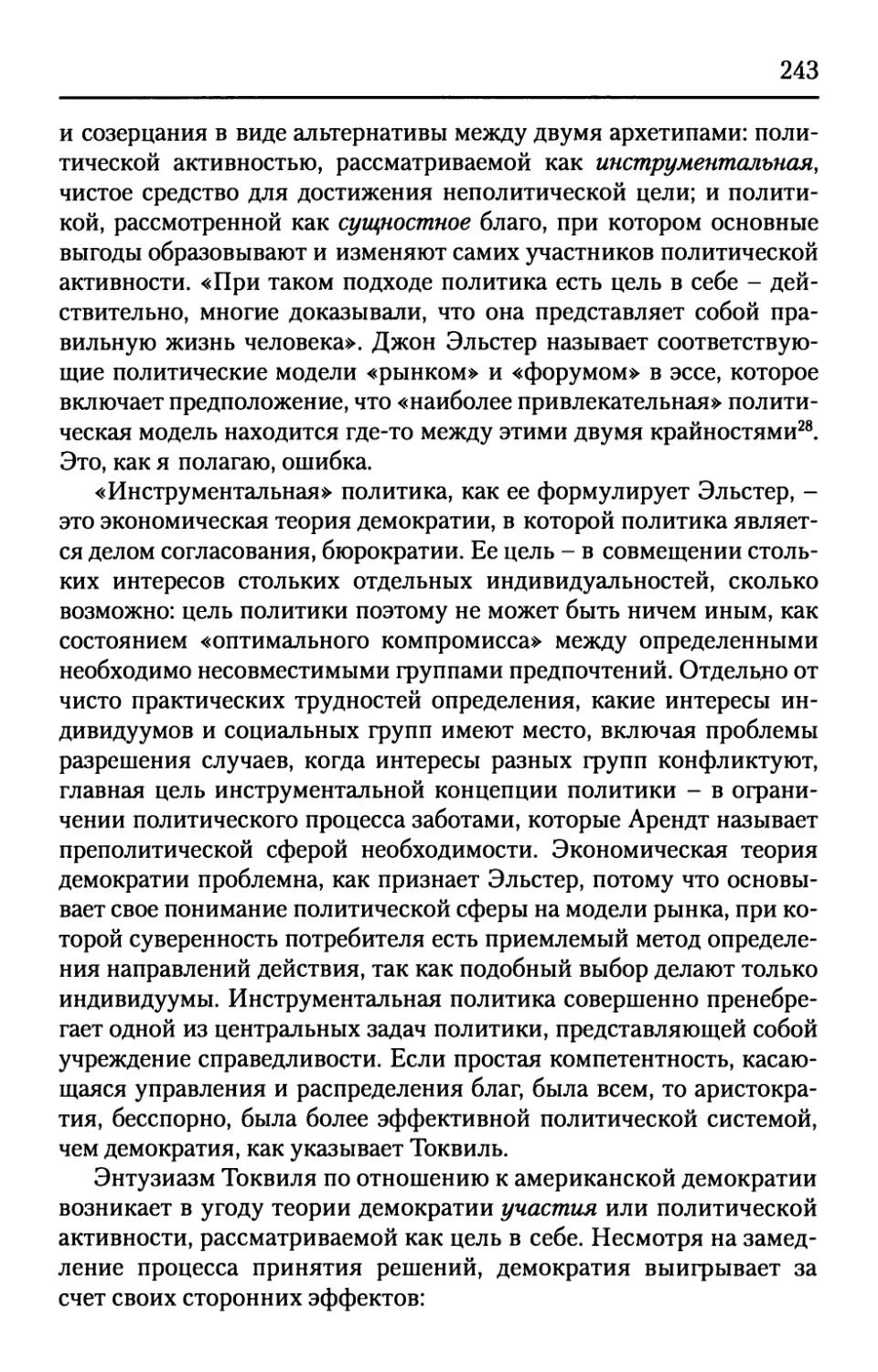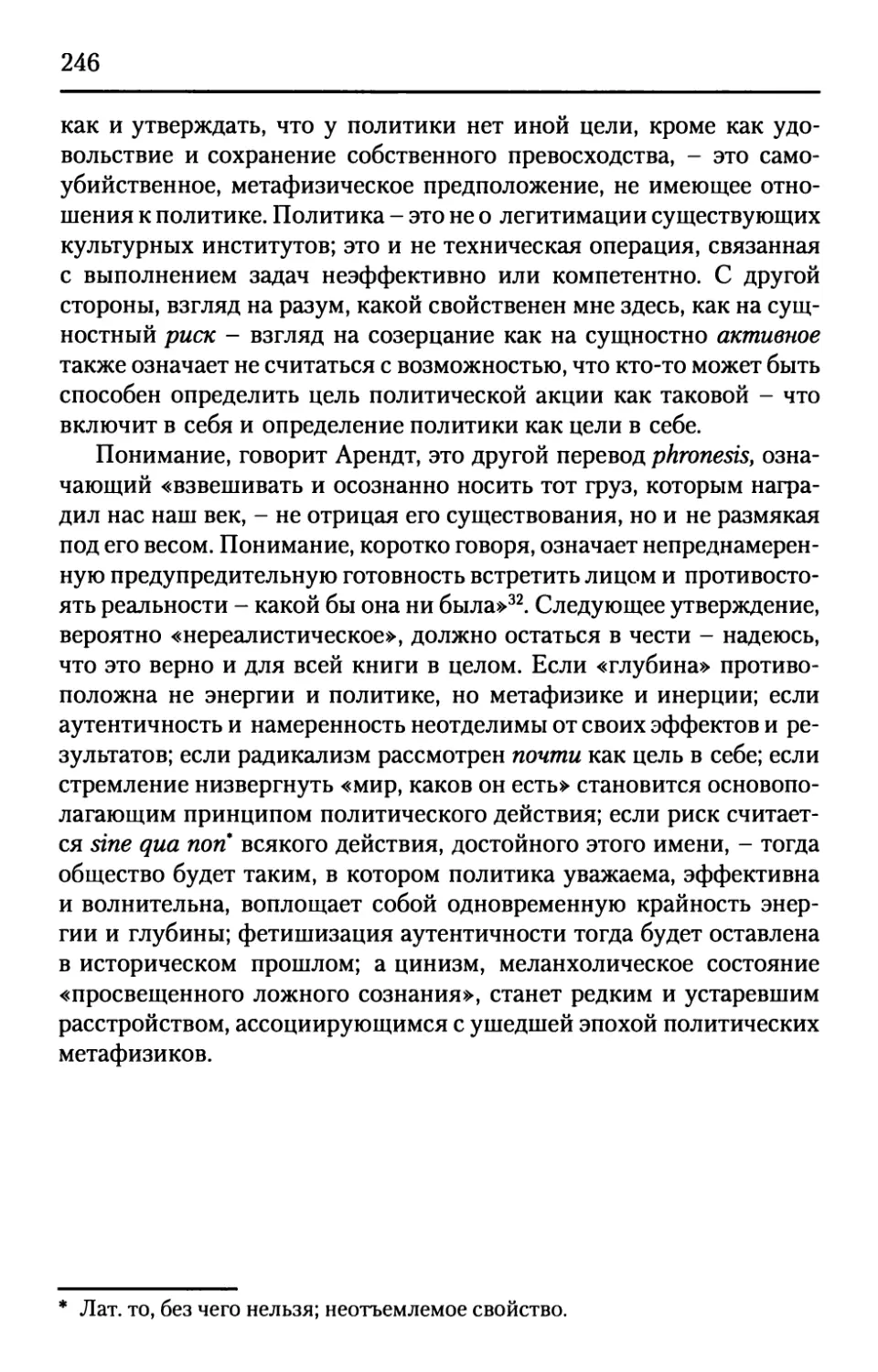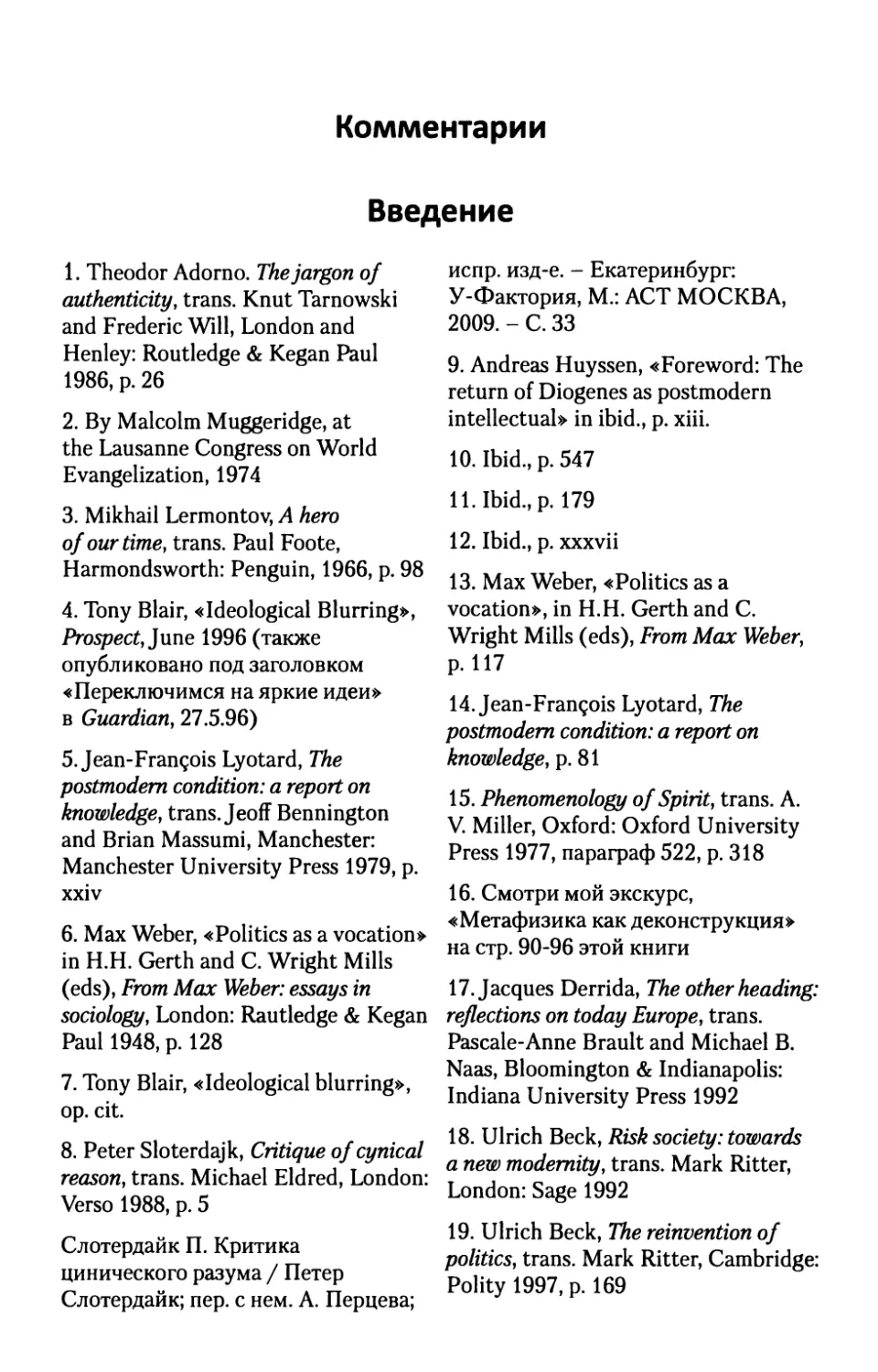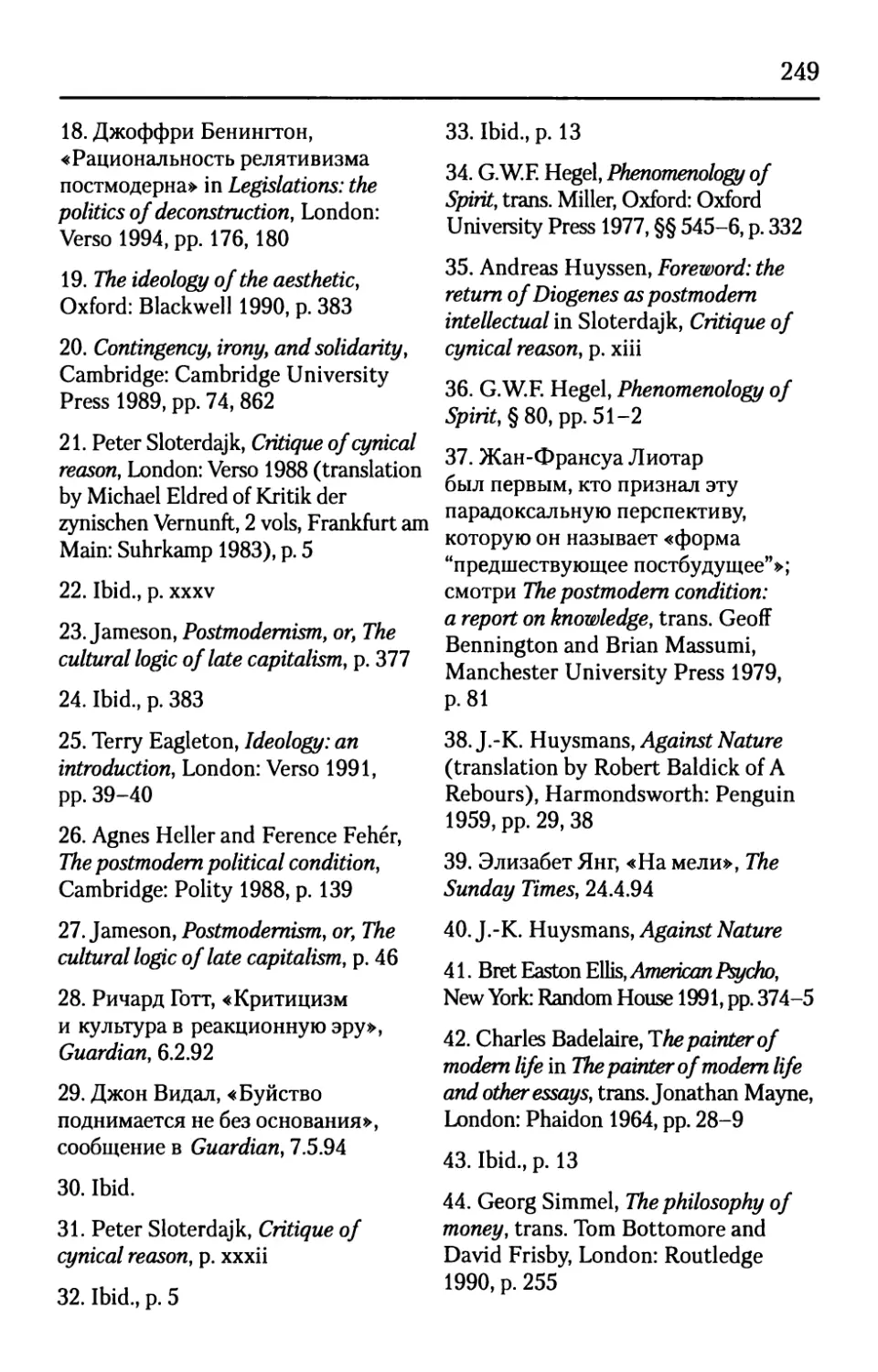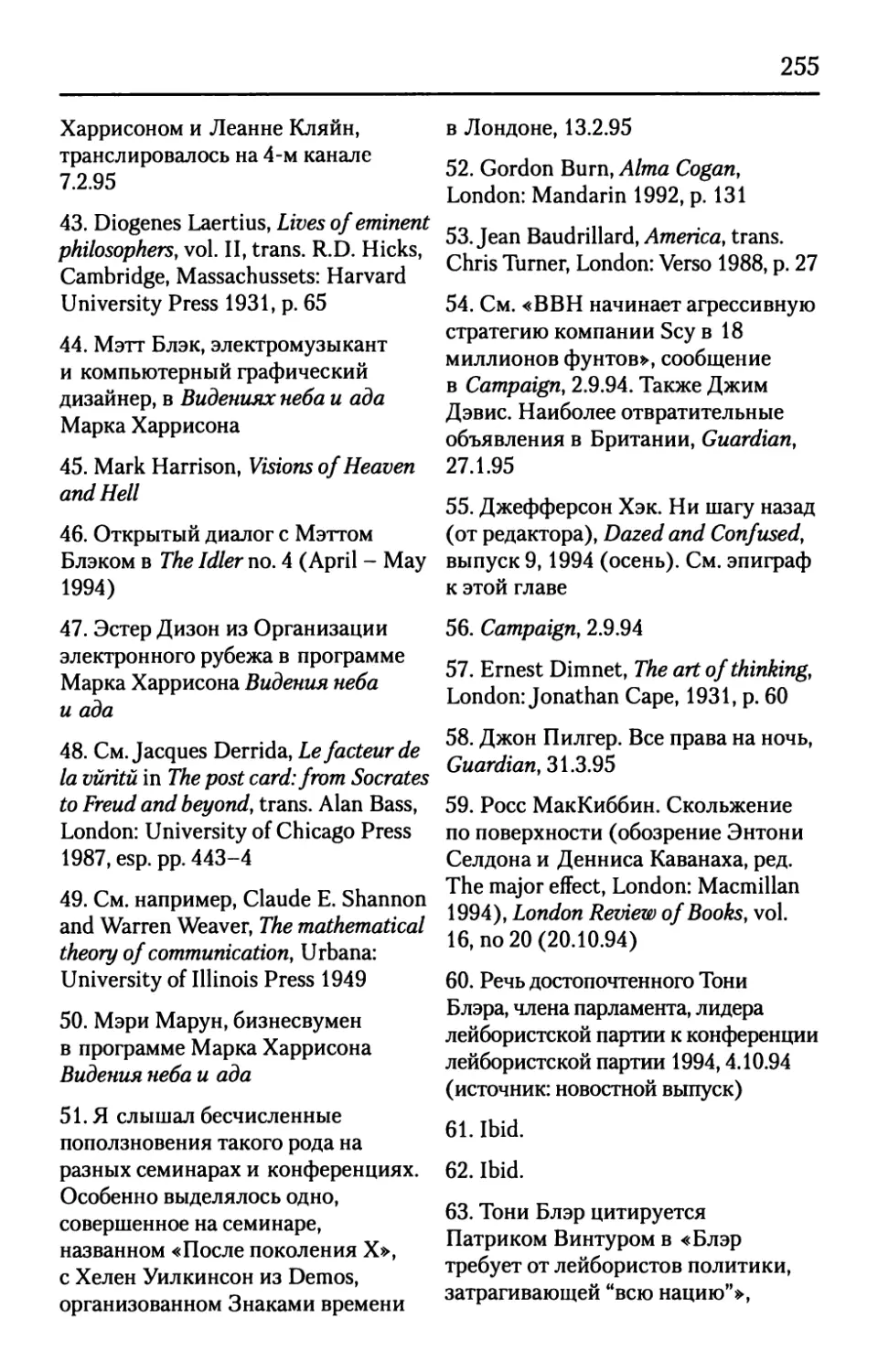Author: Бьюз Т.
Tags: метафизика философия онтология гносеология искусство культура постмодерн
ISBN: 978-5-906226-81-5
Year: 2016
Text
Тимоти Бьюз
Цинизм и постмодерн
перевод с английского
С. А. Зеленского
УДК 114
ББК 87.2
Б 96
Переводчик:
Зеленский Святослав Андреевич
ТИМОТИ БЬЮЗ
Б 96 Цинизм и постмодерн / Тимоти Бьюз ; пер. с англ. С. А. Зеленского —
М. : ИД «КДУ», 2016. - 270 с.
ISBN: 978-5-906226-81-5
В книге «Цинизм и постмодерн» Тимоти Бьюз анализирует процессы,
происходящие в культуре, обществе и искусстве в конце XX века.
Автор предлагает особый ракурс рассмотрения такого феномена, как
постмодерн, - философии, которая заявляет о распаде всех иерархий
в современной культуре, о массовом осознании иллюзорности
и «неподлинности» общественных идеалов и социальных практик.
Вторая поднятая автором проблема -тесно связанное с постмодерном
понятие современного цинизма. Тимоти Бьюз - один из немногих
исследователей, посвятивших ему фундаментальный труд. Тимоти Бьюз
следует трактовке цинизма как «просвещенного ложного сознания»
(Петер Слотердайк, 1983) и применяет этот анализ к Англии 1990-х
(в основном). Конечный вывод автора заключается в том, что цинизм
в форме апатии, усталости и пораженчества (которые Т. Бьюз относит
к основным чертам постмодернизма) парализует всякую политическую
волю, наоборот требующую «веры в невозможное» (по М. Веберу).
Оригинал-макет подготовлен в «Издательстве «КДУ»
Формат 60x90 1/16. Бумага офсетная. Заказ № Т-1614
Печать цифровая. Заявленный тираж 1000 (печать по требованию)
Издательский дом «КДУ»: тел. +7 (495) 638-57-34, www.kdu.ru
УДК 114
ББК 87.2
© Timothy Bewes, Verso, 2016
© Зеленский С. Α., 2016
ISBN: 978-5-906226-81-5 © Издательство КДУ, 2016
Содержание
От переводчика 4
Введение 8
Цинизм, или Воплощение постмодернизма 24
«Ни шагу назад»: фетишизация аутентичности 64
Энергия vs Глубина: Соблазнительность банальности 122
Вера в себя и осознанная капитуляция 199
Послесловие
О политике, метафизике и «политическом постмодерне» 232
Комментарии 247
От переводчика
Тимоти Бьюз - профессор английского языка в Брауновском
университете, философ, исследователь постмодернистской
философии и стимулированных ею процессов в культуре и обществе.
В России Тимоти Бьюз, судя по всему, малоизвестен или даже
совсем не известен, хотя его тексты определенно стоят
исследовательского внимания и должны быть интересны философам,
культурологам, политологам, социологам и другим представителям
гуманитарных наук.
В книге «Цинизм и постмодерн» автор анализирует процессы,
происходящие в культуре, обществе, искусстве в конце XX века -
в первую очередь, в политике (имея в виду в основном именно
психологическое состояние и «способность к действию» политиков).
Книга интересна особым ракурсом рассмотрения такого
феномена, как постмодерн, - философии (связанной с серией культурных
тенденций), для которой характерны декларации о разрушении
иерархических основ культуры, о массовом осознании иллюзорности
и неаутентичности (неподлинности) общественных идеалов и
социальных практик. Последние рассматриваются в постмодернизме
как «гиперреальность» (Ж. Бодрийяр) - как набор пустых форм
(симулякров), несоответствующих надлежащему содержанию.
Тимоти Бьюза волнует вопрос не о том, верен ли постмодерн
(или постмодернизм) в своих озарениях и исследованиях, а его
влияние на политическую жизнь - вопрос, неразрывно связанный
для автора с проблемой цинизма.
Надо сказать, что Тимоти Бьюз - один из немногих
исследователей, посвятивших фундаментальный труд этому вопросу. Это
понятие и явление косвенно рассматривалось и интерпретировалось
в философской литературе: можно найти отдельные его
упоминания в книгах Ф. Ницше, X. Ортега-и-Гассета, М. Бахтина и др.,
а также в мировой художественной классике. В некоторой степени
в России известна книга Петера Слотердайка «Критика
цинического разума» (1984), на которую Тимоти Быоз периодически
ссылается. Также анализ цинизма можно найти в двух кандидатских
диссертациях, одной из которых является моя работа «Цинизм как
форма саморефлексии культуры», защищенная в МГИКе (бывший
МГУКИ). Тимоти Бьюз следует трактовке Слотердайком цинизма
как «просвещенного ложного сознания» и, таким образом, приходит
к выводу, что цинизм в форме апатии, усталости и пораженчества
5
(которые автор относит к основным чертам постмодернизма)
парализует всякую политическую волю, наоборот требующую «веры
в невозможное» (по М. Веберу).
В то же время интересно, что в качестве постмодернизма и его
негативных продуктов автор видит то, что вроде бы призвано ему
противостоять, - заботу о подлинности («фетишизация
аутентичности»), стремление к соответствию между словом и делом
(стремление к последовательности (integrity)).
Как полагает Т. Бьюз, все это представляет собой ненужный
перенос чисто метафизических проблем («что есть истина?»,
«насколько наши представления о мире соответствуют реальности?», «на
чем основана легитимность наших социальных институтов?») в
политическую сферу.
Таким образом, самому автору свойственен своеобразный
политический цинизм, который, по его мысли, может быть полезен,
чтобы оживить политическую волю и сделать политику интересной.
Согласно Бьюзу, постмодерн может быть уместен как философское
течение, но он тормозит политическое действие тем, что вносит
элемент сомнения в основания политической практики. Последняя
изначально представляет собой пространство неподлинности,
размежевания средств и целей, несоответствия изначальных планов
реализованным стратегиям. Такова сама сущность политики
согласно мысли автора, который в данном случае следует Максу Веберу.
Тимоти Бьюз в то же время не отказывает постмодерну в
философском и культурном значении, но стремится к ограничению его
влияния на политическую сферу. В этом его идеи близки
современным «постнеклассическим» подходам в философии, которые
стремятся признать верность постмодернистских деклараций лишь
в ограниченных масштабах и уходят от представлений о полном
распаде всех иерархий, снятии бинарных оппозиций и «смерти»
субъекта.
Автор перевода
кандидат философских наук
Зеленский С. А.
Благодарности
Идея этой книги выросла из докторской диссертации, которую
я представил в Университете Суссекса в 1996 году, и я признателен
Уиллиаму Аутвейту за его поддержку во время моих
исследований там. Также я благодарен Хоми Бхабха и Джеймсу
Дональду за их подробные комментарии на результаты этой работы.
Ничего не удалось бы без исследовательской стипендии Британской
академии между 1993 и 1996 годами. Азиз Аль-Азмех, когда я с ним
пересекся, любезно позволил мне цитировать его неизданный текст.
Малкольм Имри в Verso принял начальную заявку и набранный текст
с катализирующим уровнем энтузиазма. Наконец, я бы хотел
поблагодарить Элизабет Бьюз и Ричарда Бьюза за их продолжительную
поддержку.
ЦИНИЗМ И ПОСТМОДЕРН
* В современных гуманитарных науках существует определенное различие
между терминами «постмодернизм» и «постмодерн». Обыкновенно под
первым подразумевается философское направление, отказавшееся от
строгой приверженности рациональности, тогда как под вторым подразумевают
общее состояние западной культуры примерно с конца 1960-х или даже еще
раньше. В книге Тимоти Бьюза оба термина (postmodernism, postmodernity)
используются в обоих значениях. - Зеленский С. А.
Введение
Пейзаж становится отвратительным, когда восхищенный
созерцатель встревает со словами «как прекрасно».
Теодор Адорно1*
10 000 губ, произносящих одно и то же, делают даже истинное
утверждение ложным.
Серен Кьеркегор (приписывается)2
У меня врожденная страсть противоречить; целая моя жизнь
была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу
или рассудку.
Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом,
и, я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы
из меня страстного мечтателя.
Михаил Лермонтов?
Цинизм - это по большей части вопрос
индивидуалистического отношения к обществу. Начиная с его появления в Афинах
в ν в. до н. э. цинизм означал отторжение культурных ценностей,
склонность не только оспаривать, но и отвергать важные для
окружающего мира критерии; отчужденную восприимчивость,
традиционно выраженную символической и жестовой риторикой,
дополняющей обычную дискуссию. Эта восприимчивость избегает
отчаянного самонаблюдения, более того, основана на том, что мир
не стоит воспринимать чересчур всерьез.
В наше время значение цинизма, в сущности, меняется.
Современный циник апатичен и погружен в себя, он готов скорее
смириться, нежели бравировать своим опытом отчуждения. Цинизм
означает отказ иметь какие бы то ни было отношения с миром, кроме
антагонистических, побег в одиночество, уход в себя и неприятие
политики ввиду ее фальши. Современный цинизм - это состояние
разочарования, которое может проявляться вспышками эстетизма
или даже нигилизма. Цинизм отбрасывает эмоциональную и
возвышенную шелуху с ценностей, поэтому абстракции истины и це-
* Сноски, обозначенные как « * », указывают на комментарии Тимоти Бьюз -
они расположены в конце книги. - Прим. изд.
9
лостности* гораздо более важны для него, чем такие политические
добродетели, как активность и изобретательность.
Эта книга о взаимосвязи цинизма, постмодернизма и
современной политики. Циник - типичный персонаж постмодерна,
одинаково отчужденный как от общества, так и от собственной
субъективности. Цинизм - понятие, взятое на вооружение политиками,
критиками и комментаторами как синоним постмодернизма; это
культурная взаимосвязь, при которой оба термина действуют, в
основном, как инструменты политической риторики. Еще не вышло
работы, в которой была бы удовлетворительно описана
генеалогия цинизма или было проанализировано его новое, актуальное в
нынешних условиях значение. В этой книге будет сделана
попытка совершить обе вещи. Держу пари, что преувеличенное значение
цинизма в современной жизни есть симптом сдвига в проблемах
политической сферы, где осталось так много неучтенного и
непроверенного. Надо сказать, что нынешний чрезмерный интерес к
понятию «цинизм» - признак кризиса в самих политических
учреждениях и их практике.
Появление цинизма и постмодернизма в качестве основных
опорных точек в политическом сознании - это относительно
недавнее явление. Статья, опубликованная Тони Блэром в июне
1996-го, планировавшаяся как серенада для британской
интеллигенции и призывавшая поддержать новую «коалицию идей»,
развиваемую лейбористами, была также верным обещанием вывести
политику из «апатии и разочарования», несомненно вредящих
современной политической культуре. Возможно, даже более
показательно его обращение к терминологии, по-видимому, происходящей
из постмодернистской теории, чтобы объяснить это разочарование.
«Дух времени изменился до неузнаваемости с 1964-го, - пишет он. -
Тоталитарные идеологии левого и правого толка перестали отныне
быть в большой цене»4. Настоящая работа во многом обязана
очарованию от использования подобного языка в политическом
контексте и стремлению оценить его культурное и политическое значение.
Я более чем уверен, что постмодернизм нецелесообразно исполь-
* Значение слова integrity\ особенно в контексте работы Тимоти Бьюза,
имеет очень близкое отношение к также широко используемому в книге
термину «аутентичность». Integrity - это соответствие буквы духу,
внешнего внутреннему, публичной и частной жизни. В зависимости от контекста
переводил как «честность», «целостность», «последовательность»,
«постоянство». - Прим. пер.
10
зовать в политической сфере, так как он может функционировать
только как обоснование для выхода из политики как таковой.
Постмодернизм в таком случае должен быть онтологическим
заявлением о состоянии объективной реальности («распадом метанаррати-
вов»), а не стратегией концептуального вопрошания объективной
реальности («недоверием к метанарративам*»)5. Надо сказать, что
постмодернизм возник из серии критических предложений,
оформившись, в конце концов, как позднейшее проявление духа (или
призрака) исторического прогресса. Заявление Тони Блэра
отражает широкие проблемы внутри самой политики - скорее тенденцию
к капитуляции перед реальностью, чем чью-то отвагу определять
реальность в политическом проекте и управлять ею; скорее желание
убежать от политических обязательств per se**, чем риск втянуться
в то, что Макс Вебер называл «стремлением к невозможному»6.
В каком-то смысле, конечно, было бы неразумно заявить, что,
например, проект Тони Блэра по «модернизации» лейбористской
партии - это отказ от действий или что Блэр вялая и бездеятельная
персона. Несомненно, что процесс, названный «трансформацией
лейбористской партии в избираемую», помимо своего обоснования
потребовал большой решимости и личной убежденности. То, что
политик начинает доверять «постмодернистской» идее о
невозможности политической или идеологической убежденности, и, как бы
там ни было, то, что он поддается на это, «вырывая гнилую ветвь
устаревшей идеологии, политики и организации», а потом
пытается построить политику на базе «идей», заимствованных у
дружественного сообщества «смешанной интеллигенции»7, - все это
говорит о спаде политических амбиций, желании подогнать «мир, каким
он должен быть» к реалиям «мира, каков он есть». Короче говоря,
о затухании стремлений у самих политиков. Презрение, с которым
относятся к современной политике, проистекает вовсе не из
малодушия или «низости» отдельных политиков, а от общей склонности
держаться от нее подальше, подогреваемой постмодернистской
политической риторикой об общем дурном положении.
* Нарратив, метанарратив, метанаррация - понятия, используемые в
философии, культурологии и других гуманитарных науках. Нарратив
представляет собой своего рода основополагающие миф, идею и правила игры,
на которых основана признанность (легитимность) определенных
социальных институтов, идейных течений, художественных стилей и т. д. Близкие
(но не идентичные) понятия - парадигма, дискурс. - Прим. пер.
** Лат. по преимуществу - Прим. пер.
11
Непомерная саморефлексия, сосредоточенная на вопросах
о том, чем является или чем должна быть политика, - это перенос
постмодернистских забот в политическую сферу. Как таковая, она
может привести лишь к ослаблению политической решимости.
Политика, действующая в большей степени по закону спроса и
предложения, стала полем независимости потребителя, в котором
лидерство и влияние являются важными полемическими товарами, но
так и осталась только на этом срединном пути. Цинизм возникает
в пустом пространстве, где массовая культура отвергает политику
как таковую. Заниматься политикой, вероятно, не вариант,
поэтому остается лишь быть циничным в этом обществе. Жестокость,
присущая политическим действиям, - то их свойство, которое
осуждается постмодернистской политикой более строго, чем любое
другое, - сейчас сконцентрирована вне политической сферы как
таковой. А именно в области, которая, надо сказать, отвергает
противоположный политический дискурс, чтобы расчистить дорогу
стратегии политического антагонизма к «миру, каков он есть». Хотя
данная стратегия также носит название «цинизм», она полемически
прямо противоположна самоанализу модернистского и
постмодернистского цинизма - заболеванию, которое Петер Слотердайк
окрестил «просвещенным ложным сознанием», как и мироощущению,
которое заставляет самих политиков относиться с тревогой к
политическим учреждениям8.
Мой анализ современного цинизма частично базируется на
формуле, предложенной Петером Слотердайком в Критике
цинического разума - большой и объемной работе о циническом
мироощущении, впервые опубликованной в 1983-м. Просвещение, говорит
Слотердайк, это дискурс, который не смог выполнить собственных
обещаний. «Просвещенное ложное сознание» определяет то
мироощущение, которое было, с одной стороны, сформировано этим
дискурсом, а с другой - им же резко подавлялось. Оно защищает себя
от экзистенциального коллапса посредством внутреннего
«рефлексивного буфера»; современный циник резко отчужден как от
собственных языковых продуктов, так и от возможности
идеологически обусловленной политической активности.
Ощущаемые слабости нашего времени, среди которых широко
распространены недоверие к политикам и массовая потеря веры
в сами политические институты; возрождение интереса к
мистическим интерпретациям мироздания; стойкая подозрительность
к просвещенческим дискурсам модернизма и рациональности
12
на основании их «дегуманистичности» и «тоталитарности»;
ностальгическое, временами игривое облачение в одежды обретения или
открытия заново «утраченной» невинности - все это можно отнести
к тому, что Слотердайк называет «просвещенным ложным
сознанием». Исследованию Слотердайка, однако, не хватает глубины
проникновения в эти ощущаемые провалы просвещения и
модернизма. Его критика, как это было заявлено, находится на пересечении
«ложных оппозиций, обвинений и контробвинений, которые уже
испортили модернистско-постмодернистскую дискуссию и завели
ее в безвыходный тупик»9. По сути дела, он, вероятно, как и многие
рассудительные теоретики, осуществляет идею постмодернистского
милленаризма в своем желании упразднить «тоталитаризм»
рациональности просвещения. Основная цель книги Слотердайка -
извлечь традицию сатиры, полемики, софистики из мусорного ящика
философии, в который ее поместило западное «диалектическое»
течение. Его герой - Диоген Синопский, так называемый святой
философии, который вел «подлинную» жизнь в своей бочке, с
презрением отвергнув жизнь в богатстве во имя жизни суровой и
аскетичной, ограничиваясь лишь требованиями жизненной
необходимости. Набор жестов Диогена, совершаемых в пику платоновской
Академии, снабжает Слотердайка моделью для поиска «беззаботной
жизни» или «богатого опыта правильно прожитой жизни» над
абстракциями теоретического или «субъективного» существования10.
В сущности, Слотердайк хочет полностью отказаться от
сомнительного сооружения «теории» или «знания», предпочитая буддийское
сопереживающее взаимодействие с объектом. Опыт, утверждает он,
«никогда не может быть полностью понят теорией», под чем он
проницательно подразумевает не что иное, как то, что настоящая жизнь
всегда превосходит формы собственной репрезентации - в
терминах Соссюра: означающее существует независимо от внимания к
означаемому, равно как и собственно предмету (референту)11. Вывод
из этого, заявленный более ясно, чем что-либо еще, - это
возвышение «жестовой» жизни Диогена над «диалектической» жизнью
Платона или Сократа, естественности и непосредственности над
школой и кропотливым зубрением, «хаоса» природы над «порядком»
культуры.
В этих установках Слотердайк обнаруживает себя в первую
очередь как метафизик - и более того, метафизик, для которого
политические реалии недостоверны и отвратительны. Для
Слотердайка «склонность критиков все улучшать» - это нечто, что следует
13
запретить во всем его утилитаристском «инструментализме» во имя
более практичной и сущностно пассивной открытости опыту
«жизни самой по себе»12. Я, напротив, хочу доказать, что необходимость
«все улучшать» есть истинно современное и истинно политическое
мироощущение; это благоразумно само по себе и должно быть не
в большей степени под запретом, чем поглощение пищи или
кислорода. Это мироощущение прогнулось под условия «кромешного
сомнения»; это перспектива пораженчества, внесенного в
современность волной метафизической неуверенности под названием
«постмодернизм». Занятие политикой - это тип рассуждения, которому
абсолютно не интересен вопрос о недостижимости (или о чем-то
в этом роде) «целей» разума. Подобные вопросы находятся в
ведении метафизики, а к политике отношения не имеют. Политика
стремится к невозможному как к делу принципа, акту веры в сфере
возможности, которая скрыта в непознаваемом. В своем
знаменитом эссе «Политика как призвание» Макс Вебер пишет следующее:
Конечный результат политического действия часто, вернее даже
регулярно, не имеет абсолютно никакого отношения к тому, чем он изначально
мыслился. Это основное правило всей истории, пункт, который ни к чему здесь
разбирать в деталях. Но не стоит ввиду этого терять из виду причину, когда
действие подчинено внутренней логике. Точнее говоря, чем является эта
причина, во имя которой политик борется за власть и использует ее, - это, похоже,
только вопрос веры. Политик может преследовать национальные,
гуманистические, социальные, этические, культурные, всемирные или религиозные цели.
Политик может опираться на твердую веру в «прогресс» - неважно, что под
этим понимать, - или может хладнокровно отвергать эту разновидность веры.
Он может притязать на то, что стоит на службе «идеи», или, принципиально
отвергая это, он может желать служить несущественным целям повседневной
жизни. Как бы там ни было, определенный вид веры всегда должен
присутствовать. В остальных случаях абсолютно верно, что проклятие человеческого
убожества отбрасывает тень даже на внешне сильнейший политический успех13.
Постмодерн, в свою очередь, стирает разрыв между
желательным и действительным; он упраздняет разницу между возможным
и «стремлением к невозможному» - ту самую область, которая,
надо сказать, принадлежит собственно политике.
Постмодернистская теория занимает место, оставшееся пустым из-за отсутствия
смысла, который мог бы утвердиться более основательно.
Постмодернизм привнес условия метафизического несоответствия
(к примеру, отношения означающего с означаемым) в политику,
таким образом подорвав веру, о необходимости которой для занятия
политикой говорил Вебер. Разочарование в просвещении, потеря
14
веры в современность и рациональность - это далеко не в первую
очередь провал просвещения в выполнении своих обещаний, как
говорит Слотердайк. Это следствие формализации данного
разочарования - непознаваемости, неразрешимости как определенных
современных условий - путем следования идее «постмодерна».
Помимо всех сомнений, которые в данной работе имеются
относительно постмодернизма, я, однако, не собираюсь категорично
отрицать, что это очень широкий спектр критического мышления.
Разве что стоит слегка подкорректировать идеи некоторых
постмодернистских теоретиков ради возрождения политики.
В первом параграфе введения гегелевской Феноменологии духа
постмодернизм или нечто, сильно напоминающее рассеянную
в культуре постмодернистскую концепцию - его воплощение, -
появляется в качестве недостойной помехи, врывающейся в
последовательное изложение хода мысли. Надо сказать, что постмодернизм
был предугадан Гегелем в качестве подлого философского случая,
противоположного достойному социокультурному; таким образом,
он одновременно обобщен и унижен с точки зрения его
исторического и философского значения. Моя цель, особенно во второй части
главы, - переместить концепт «постмодерн» в контекст
философского нарратива, который Гегель предоставил для него в Феноменологии.
Бьюсь об заклад, что постмодернизм лучше понимать (в
соответствии с этим нарративом) как культурное событие, как временный
реакционный «всплеск» иррационализма на фоне гораздо более
великого диалектического хода истории. Есть еще прогрессивный момент,
во имя которого Гегель возражает против этого отступления от
истины: момент перехода, точка, в которой сознание выбрасывает себя за
собственные границы, когда оно таким образом само себя
принуждает, - все это напоминает определенную концепцию постмодерна,
предложенную Лиотаром в Условиях постмодерна.
Лиотаровский взгляд на будущее в дополнении к его работе
«Ответ на вопрос: что такое постмодернизм?» - это, в некотором
смысле, обзор современной ситуации. Постмодерн, полагает Лиотар,
неотделим от модерна; он составляет тот элемент современности,
который направлен к возвышенному, невыразимому,
невозможному. Лиотар, другими словами, хочет переосмыслить грубую,
простую и конкретную периодизацию в законную, радикальную фило-
софско-эстетическую. А то, что Лиотар называет «постмодерном»,
очень близко к тому, что я бы назвал как раз политическим делом,
а это, видимо, и есть то, чего не хватает современному обществу:
15
Постмодерн, по идее, есть то, что в модерне невыразимо; то, что
отказывает себе в наслаждении правильными формами, в договоренности о вкусах,
которая давала бы возможность делиться общим стремлением к
недостижимому; то, что ищет новые формы представления, но не для того, чтобы
наслаждаться ими, а чтобы вызвать сильное чувство невыразимости. Художник или
писатель постмодерна занимает позицию философа: текст, который он пишет,
или работа, которую он создает, не должны оцениваться с точки зрения
изначально заданных правил, о них нельзя судить на основании конкретных
критериев, применяя к подобному тексту или работе какие-то общие категории.
Сама работа является поиском подобных правил и категорий. Художник или
писатель, таким образом, работает вне правил, чтобы сформулировать
правила того, что уже было сделано14.
Настоящая работа наполнена стремлением к этому
прогрессивному понятию постмодерна, а следовательно, отвращением к тому,
что его заменило: имеется в виду болезненный и боязливый отказ
от антагонизма или конфронтации в убогой попытке сохранить
сущее. Распространенное недомогание, характеризующееся набором
неврозов (без сомнения, «постмодернистского» происхождения),
отражает все большую устойчивость постмодернистских забот,
среди которых застенчивый милленаризм, стремление увидеть нашу
историческую ситуацию как уникальную, как совокупность
всего раннего опыта человечества, как конец истории, короче говоря.
Хотя, возможно, это не стоит видеть иначе как краткосрочное
ослабление рационалистического и политического нерва.
Таким образом, цинизм, под которым я подразумеваю
меланхоличную реакцию самосожаления на явное разрушение
политических реалий (в форме «больших нарративов» и «тоталитарных
идеологий»), есть результат процесса «воплощения» постмодерна, когда
серия сущностных метафизических озарений используется как
заявленная правда о природе нынешней политической реальности.
Политика постмодерна со своей стороны составляет патологический акт
этой ненормальной, в сущности, негодной реакции. Политика
постмодерна - это особый процесс, который фетишизирует
аутентичность*, при котором метафизические истины безнадежно осуждены,
а не просто отброшены; при котором политика переосмыслена как
метафизическая гармония и личная целостность, а не сфера
напряжения, порожденного попыткой вынести себя за существующие
пределы, в общем, как необходимо жестокая процедура.
* Аутентичность - подлинность, истинное, глубинное «я», соответствие
внутреннего внешнему, означающего означаемому. Термин, в определенной
степени противоположный понятию «симулякр» (Ж. Бодрийяр). - Прим. пер.
16
Политика - это, надо сказать, испытание героизма, феномен
публичной сферы, являющейся сферой действия, маневров,
проводимых с гонором и виртуозностью. Политика воплощает в себе путь
первоначального антагонизма к «миру, каков он есть», ей внутренне
присущи неудовлетворенность реальной культурой и подозрение
к области значений - тому, что Гегель называл «законами»
культуры. Распад метанарративов поэтому не оказывает ни малейшего
эффекта на все присущее политической сфере, с тех пор как политика
уже обнаружила в своей основе недоверие к великим нарративам,
теоретический распад которых имеет место лишь как чисто
метафизическая операция. После того как великие нарративы были
созданы, они были целиком вытеснены в политическую сферу;
великие нарративы - ее идеологический запас.
Политика постмодерна, таким образом, основана на изначальной
сумятице между политическими и метафизическими делами. Ее
цели слишком ясны: упорствовать в попытках применения
политической рациональности в поисках метафизической стабильности.
В конце концов все это приведет к тому, что политический
темперамент, являющийся одной из нестабильных, рискованных и вечных
вещей, от которых стремятся избавиться, полностью потеряет
доверие к себе. Необходимость понятия «цинизм» для этой цели вполне
доказана.
В главе 1 я попытаюсь генеалогически проследить отношения
между цинизмом и постмодернизмом в современной политической
и интеллектуальной жизни. Я рассмотрю, что поставлено на карту
в политическом плане при тревожном отношении к постмодерну,
а также конкретные формы его проявления. Постмодернизм на пару
с цинизмом частенько вовлечены в политический дискурс, хотя
всегда косвенно (выражаясь в таких фразах, как «модные идеи»,
«интеллектуальный элитизм» и т. д.) и почти всегда в качестве
bête noir. Академическая дискуссия вокруг предмета, между тем,
кажется небрежной. Она даже совершенно игнорирует этот процесс
культурного распространения. Настаивать на том, что постмодерн
не циничен, - в сущности, упадочное настроение, поддержанное
конкретными теоретиками, сделавшими большой вклад в
постмодернистскую теорию; ощущение, что это так, приписывается ими
«журналистскому» отовариванию комплекса теоретических идей
или идеологическим целям политиков, и поэтому воспринимается
с презрением.
* Фр. пугало (букв, «черный зверь»). - Прим. пер.
17
Цель моей работы - положить конец этой тенденции, направив
ее к выходу из постмодернистского «рассеивания» как к важному
культурному и политическому процессу. Цинизм - это первый,
наиболее важный полемический разносчик этого рассеивания (в таких
формах, как релятивизм, ирония и даже декаданс, которые, похоже,
все больше распространяются и, как и постмодернизм,
становятся все более защищенными в культурном смысле) и его основной
продукт (в качестве «просвещенного ложного сознания»). Важно,
следовательно, понять разницу между постмодернистской теорией
(сериями сущностно метафизических озарений) и понятием
постмодерна, которое принято относить к историческому периоду,
начавшемуся где-то между концом Второй мировой войны и началом
1970-х и длившемуся по меньшей мере до начала 1990-х. Эти
традиции относятся к совершенно разным «обоймам»; их часто путают,
хотя они существуют в условиях антагонизма, с тех пор как они
задействованы в контексте под названием «постмодерн».
Я не намерен разбираться в терминах или настаивать на том, что
ни один из них не является абсолютно удачным. Несмотря на
большую часть заявлений теоретиков, постмодерном принято называть
исторический период. Несмотря на откровенное упрямство «перио-
дизаторов» (в число которых входит несколько теоретиков),
постмодернистская теория, в ее наиболее полезном и политически
значимом воплощении, включает в себя ряд теоретических наблюдений,
применимость которых не ограничена недавними историческими
событиями. Теория постмодерна, надо сказать, преимущественно
озабочена универсальными структурами означивания, движением
истории в его метафизическом, всеохватном ключе. Этот спор по
поводу термина «постмодерн» соответствует различению проблем
политики и проблем метафизики*, которое было решающим для
выводов данной работы.
Главы 2 и 3 посвящены анализу фундаментальной оппозиции,
лежащей в основе этого различения и забот современного
общества - оппозиции, которая выстраивает отношения между
политикой и метафизикой; которая обрамляет все нарративы прогресса
* Метафизика - направление философской мысли, занятое проблемами
первоначал и основополагающих принципов бытия. В основном
представляет собой все то, что выходит за рамки естественно-научного
познания и чувственного опыта. Поиск ответа на вопрос: «откуда все пошло?».
Формально «Метафизикой» («после физики») назвали 14 книг Аристотеля
о первоначалах, не вошедших в его «Физику». - Прим. пер.
18
и реакции как окончательно отыгравшиеся в мифологиях Нового
или, например, Старого мира; которая делает возможным
правильное различение между цинизмом античным и цинизмом
современным. Это оппозиция энергии и глубины, которая фактически
соединяет в себе две оппозиции - между поверхностностью и
глубиной, с одной стороны, и между энергией и инерцией - с другой.
В главе 2 я собираюсь проанализировать то, что, как я полагаю,
является навязчивой идеей аутентичности, или «глубину», ссылаясь
на однодневные публикации (газеты, объявления, рекламу и т.д.),
а также патологические особенности современной политики,
проявляющиеся в документах и речах, связанных с определенными
политическими «инициативами», сформулированными двумя
главными британскими партиями. Что злополучная кампания Джона
Мэйджора 1993-1994 годов «Назад к основам», что чуть более
удачная программа «модернизации» лейбористской партии,
инициированная Тони Блэром, программа, соответственно, продвигаемая
при помощи риторики, стремящейся к сублимации и разрежению
политики как таковой. Обе кампании, похоже, частично
продиктованы отвратительным дискурсом аутентичности. Обе по существу
окутаны крайне абстрактной ценностью - аутентичностью, которой
в силу самой ее природы не место в публичной сфере, учитывая ее
специфику. Аутентичность и все, что из нее выводится -
целостность, искренность, моральная щепетильность, «добрые
намерения», - могут оставаться чистыми лишь в абсолютно частной сфере
или при личном общении с богом. В качестве политических целей
они неуместны. Это, конечно, не значит, что проявления
искренности неуместны в политической жизни или что абсолютная
целостность - это помеха для результативности политической акции.
Однако не стоит перебарщивать. Целостность необходима в политике,
но когда ее становится слишком много - политика уничтожает сама
себя. Значение этих разговоров об аутентичности весьма пагубно
и имеет далеко идущие последствия; короче говоря, это означает
приватизацию или деполитизацию политики.
То, что я назвал «фетишизацией» аутентичности, может также
проявляться в виде ее мнимой противоположности, в форме
отрицания глубины или определенного скольжения по поверхности -
это, конечно, общее место «популярного» постмодернизма.
«Глубина», которую можно назвать рефлективностью, либерализм, разум
воспринимаются как способы ухода от ответа, повод к бездействию,
как вялое месиво. Точно так же рассказчик «Записок из подполья»
19
Достоевского страдает от деятельности собственного разума; он
стремится к глупости как средству задействовать аутентичность,
то есть добровольно, по своему собственному желанию. Этот
самоуглубленный характер сторонится обещаний рациональности,
либерального гуманизма и прочих теоретических спекуляций;
привлекательность самоанализа воспринимается как нечто дьявольское,
ложное и неумолимо фальшивое. Поверхностность - вот путь к
технологическому и политическому прогрессу; это, например, простое
объяснение экономического успеха Америки и то, что вызывает
у европейцев зависть, но еще и чувство превосходства. Америка
освободила себя от багажа европейских метафизических неврозов:
таких, по меньшей мере, как восприятие европейского положения дел,
как я назвал его, «метафизическая невинность» - вариант слотер-
дайковского «просвещенного ложного сознания», которое желает
потери памяти как катализатора индивидуального волеизъявления.
Противоположность между «активной» поверхностностью и
«бессильной» аутентичностью в центре внимания главы 3 -
противоположность, которая, как отмечено выше, всецело проявляется в виде
выбора между добродетелями энергии и глубины. Она изначально
рассматривается со ссылкой на исторические и культурные
отношения между Америкой и Европой. Кроме того, эта
противоположность, выстраивающая отношения между политикой и метафизикой,
скрыта за их желанием объединения и, следовательно, определяет
природу и пространство политической сферы в условиях
постмодерна. В этой главе я уделил пристальное внимание случаю
нацистского военного преступника Адольфа Эйхманна (предмет эссе Ханны
Арендт «Эйхманн в Иерусалиме»), чья защита на судебном процессе
в 1961-м основывалась на вере в чистоту его внутренних мотивов; он
ссылался на категорический императив Канта, оправдываясь в том,
что выполнял приказы фюрера. Его очевидная неспособность
осознать чудовищные последствия своего «прилежания» породила в
голове Арендт знаменитую фразу «банальность зла». Эйхманн - только
одна из рассматриваемых в этой главе фигур, разрываемых моделью
поверхностности/глубины человеческой субъективности, другая -
Рамо, племянник известного композитора и протагонист
философского диалога Дидро «Племянник Рамо». «Банальность» Эйхманна
неотделима от его «глубины», в то время как основательность Рамо
неотделима от его явной поверхностности. Если мои намерения
относительно оппозиции между энергией и глубиной, кажется, могут
показаться «деконструкцией», то это обманчивое впечатление.
20
У Эйхманна разрыв оппозиции имел место, несмотря на его
намерения и его интеллектуально ограниченную способность понимания
путаных представлений. Пытаясь в поисках оправдания ухватить
свою сущность, Эйхманн похож на посредственного буквалиста,
который следует идее субъективной глубины, свято веря в нее. Разрыв
оппозиции у Рамо, с другой стороны, - стратегия самосознания; Рамо
отдает себе отчет в «абсолютной отчужденности» слов и
представлений реального мира. Его слова представляют собой, как говорит
Гегель, «смесь полного расстройства чувств, абсолютного
бесстыдства и превосходной откровенности»15. Как бы там ни было, Рамо -
не «деконструктивная» фигура, потому что он отвергает мир и его
законы более основательным путем, чем тот, на который способна
деконструкция. Рамо реализует полное противодействие миру, даже
когда он продолжает жить и разглагольствовать в нем.
Эта глава предваряет критическое рассмотрение деконструкции
с точки зрения политики в противовес точке зрения метафизики16.
Если деконструкция - это критический процесс, применимый
только к концепциям, имеющим чисто культурное происхождение -
противоположности высокого/низкого, поверхностного/глубокого,
речи/письма и т. д., то по меньшей мере в политическом смысле для
нее нет ничего более полезного и уместного, чем состояние
усиленного культурного невроза, связанного с использованием языка.
Деконструкция не дает ни возможности, ни места для развития
политической программы. Она представляет собой вид онтологической
серьезности - условия метафизической необходимости, которая
мешает политической активности. Племянник Рамо олицетворяет
собой более комплексную стратегию: он пластичный, загадочный,
дерзкий; сверх того, он политическая фигура, поскольку он успешно
поднялся до освобождения себя от принуждения метафизики.
В главе 4 я рассматриваю идею «срединного пути» как
стратегию для разрешения явного конфликта интересов, такого как
оппозиция энергии и глубины, описанная выше, которая, надо
сказать, является также оппозицией политики и метафизики.
Оппозиции, аналогичные этой, проявляются в различных формах,
одна из них - «неразрешимое противоречие», которое пролегает
между областями возможности и аутентичности. Его Деррида
описал как «тупик», особенно применительно к политической сфере17.
Другая оппозиция - романтический выбор, с которым сталкивается
самозваный интеллектуал: между «одиноким и возвышенным»
курсом на теоретическую абстракцию или отрешенным экзистен-
21
циальным одиночеством в пользу участия любой ценой, невзирая
на запутанные компромиссы, - курс, который интеллектуал
рассматривает как капитуляцию перед обществом.
Срединный путь между подобными противоположностями
всегда отстает от по-настоящему радикальной, по-настоящему
политической акции, как только он должен оставить соответствующие
альтернативы нетронутыми, а не разорвать или опровергнуть их.
Постмодернистская рефлексия и, частично, постмодернистская
политика - это форма деятельности, которую лучше всего описать
как форму «сознательной капитуляции» - понятие, представленное
в этой последней главе благодаря ссылке на дискурс
«полемического благородства», введенный поэтом и эссеистом Г. К.
Честертоном. Я развиваю эту линию мысли со ссылкой на другую, гораздо
более важную дискуссию, которая развивает оппозицию энергии/
глубины в терминах модернизации и антимодернизации с
соответствующими выводами по поводу возрастания долгосрочного
индустриального и экологического риска, с одной стороны, и
сохранения ресурсов в интересах сохранения человечества и его среды
обитания - с другой. Эта дискуссия частично связана с «обществом
риска», тезисом, сформулированным и развитым немецким
социологом Ульрихом Беком18.
В работе Бека вместо разграничения модерна/постмодерна
выводится иная концептуальная модель; он ратует за срединный путь
между модернизацией и антимодернизацией на основе новой
парадигмы, которую он назвал «рефлексивная модернизация». Взяв
на вооружение идею, которая на самом деле более апокалиптична,
чем постмодерн, Бек намеревается переосмыслить политическую
сферу как область коллективного самоограничения и
возрастающей бюрократизации. Рефлексивная модернизация - это попытка
иметь дело преимущественно с тем, что представляет собой всецело
«новую» фазу современности, в которой человечество
окончательно торжествует в состоянии абсолютного господства над природой;
в которой впервые угрозы, стоящие перед обществом, порождаются
только им самим. Желаемый вывод рефлексивной модернизации,
говорит Бек, это «совершенно нерешительное общество,
окруженное заразительной неуверенностью в себе, и поэтому, строго говоря,
неспособное к подлинности»19. Именно эта формулировка,
несмотря на многочисленные опровержения, предполагает, что теория
«общества риска» - образец постмодернизма в его наиболее
конкретном, хронологическом смысле.
22
К философской риторике Бека могут быть применимы те же
характеристики, что и к современным политическим явлениям -
частично к дискурсу «модернизации», связанному с «новыми
лейбористами» Тони Блэра. Я уверен, что и Бек, и Блэр следуют той
политической и философской тропой, которая определяется как
раз такой особенной чертой, как радикальное самосомнение,
которое было описано Беком; вывод из попытки сделать политическую
сферу метафизически безукоризненной, закончившийся
неизбежным провалом. Целями политики, сосредоточенными на
крайностях глубины и энергии, должны быть, напротив, удержание в поле
внимания как целостности, так и политической реальности;
позиция критической отчужденности от мира, сочетающаяся с полным
погружением в политические проблемы; практика «искусства
возможного» пока еще только «стремишься к невозможному». Как бы
там ни было, а единственный смысл сочетания максимальной
энергии с максимальной глубиной - установить явный водораздел
между метафизическими вопросами и политической сферой. Случай
Эйхманна - это наглядный пример того пути, при котором
излишняя поглощенность вопросами метафизики дает возможность даже
пустому в политическом смысле месту шагнуть в глубину - если
только к этому готов разум поглощенного.
В заключение я, таким образом, предполагаю не срединный путь
между энергией и бездеятельностью, глубиной и
поверхностностью, политикой и метафизикой, радикализмом и консерватизмом,
прогрессом и стабильностью. В период антирациональности, когда
политика была проникнута метафизикой, что было явным
отступлением от самого по себе политического действия, которое
может быть понято лишь как невыносимая жестокость, единственно
разумная политическая позиция может быть только одна:
непримиримое презрение к современной политической культуре.
Политика - это не поле для компромисса между метафизической глубиной
и практическими свершениями; политика требует более глубокого
уровня вовлеченности, чем тот, который осуществляется
кропотливой метафизикой; более предельного радикализма, чем тот, которым
бахвалится «прямой активист»; более рискованного применения
рациональности, чем тот, что представлен в постмодернистской
критике рациональности и даже более резкого презрения к миру, чем
то, которое демонстрируется при его интеллектуальном третирова-
нии. Метафизические заботы несоизмеримы с политической
сферой и могут в конечном счете быть исключены из нее. Подобный
23
сдвиг необходим для того, чтобы опровергнуть навязчивую идею,
связанную с аутентичностью, которая так ослабляет сегодняшнюю
политическую культуру.
I
Цинизм, или Воплощение постмодернизма
1. КАРИКАТУРА ПОСТМОДЕРНА?
D пятницу 14 января 1994-го Майкл Портилло, главный секретарь
министерства финансов и видный член правого крыла правительства
Джона Мэйджора, выступил с речью на ежегодном президентском
обеде Консервативного пути вперед, во время которой обмолвился насчет
«одной из важнейших угроз, с которыми когда-либо сталкивалась
британская нация». Эта угроза, как выяснилось, основана не на чем ином,
как на новой британской болезни: «саморазрушительном заболевании
национальным цинизмом». К 1960-м, говорит Портилло,
быть циничным стало модно, выступать против всего официального стало
de rigueur*. Часть университетов купаются в самодовольстве. Они оказались
подходящими площадками для выливания потоков грязи на окружающий мир.
Из этих университетов, из этих врат успеха вышел почти каждый из тех, кто
сегодня упивается властью. Добрая традиция национальной толерантности была
нарушена новым стремлением к нигилизму.
Успех этого нигилизма был впечатляющим. В образовании он заставил нас
презирать совершенство, отказаться от оценивания достижений и уничтожить
большую часть наших средних школ. Неудача в достижениях сразу же
объясняется общественными условиями. Неудивительно, что среди нашей молодежи
так много тех, кто достиг столь малого (ведь от них многого и не ждут)1.
Речь Портилло была не только повторением кампании Джона
Мэйджора «Назад к основам», которая к концу 1993-го оказалась
под огнем со стороны всех политических кругов (что
неудивительно как в связи с реакционным привкусом программы и
обращением к славному прошлому, так и в связи с тем, что в нескольких
сенсационных газетах засветились правительственные
защитники кампании, чье частное поведение совершенно не вязалось с ее
публичными предписаниями); он также настроил против себя
самого Мэйджора, узурпировав кампанию в популистском,
антиинтеллектуальном духе, который в то же время шел вразрез с
собственными попытками Мэйджора претендовать на моральный подтекст.
* Фр. de riguer. Здесь - хороший тон. - Прим. пер.
25
Степень интеллектуальности речи Портилло столь низка, что
просто ниже всякой критики. Британские люди, говорит он,
окружены политической апатией, мораль их на весьма низком уровне,
в котором виноват «цинизм» самопровозглашенной
интеллектуальной элиты, берущий начало в «декадансе» 1960-х. Кто-то может
подумать, что этиологическая цепочка Портилло натянулась немного
туговато; может быть заявлено, что программа приватизации
коммунальных услуг консерваторами, или идеологическая поддержка
своекорыстия в тэтчеровские 1980-е, или еще явный провал
экономической теории «просачивания благ сверху вниз» играют гораздо
большую роль в распространении новой британской болезни, чем
ему хотелось бы. Возможно, анализ ситуации со стороны
Портилло оказался слишком предвзятым из-за его собственных
политических убеждений. Не может ли оказаться так, что его собственная
полемическая речь грешит инструментализмом? Не может ли быть
так, что сам Портилло фактически является продуктом того
самого цинизма, который он так ненавидит в современном британском
мироощущении?
Этот критический запал речи Майкла Партилло не так банален,
как кажется на первый взгляд. Прежде всего, он со всей
очевидностью оправдан, однако эта очевидность совершенно неуместна
в устах серьезных политических экспертов. Внутренние
противоречия, посеянные текстом (в обоих смыслах слова) Портилло,
заключаются в том, что он действительно талантливо написан. Портилло
нападает на академический и интеллектуальный элитизм только
для того, чтобы заявить о примате государственного элитизма. «Эти
люди думают о себе как о противниках истеблишмента, - говорит
он, - но они демонстрируют такое же равнодушие и презрение
к обычным людям, которые свойственны любой существовавшей
когда-либо монархии; они догматичны, как любая церковь, и они
столь же высокомерны, как и любое правительство». Взгляд в
сторону этих явно опасных национальных сообществ - центральная
тема речи Портилло.
Критицизм программы «Назад к основам» не может принять
форму чего-либо более похожего на софистику, чем демонстрация ее
собственной фальши или (что можно считать тем же самым)
структурной неустойчивости. Полемическая атака Портилло на цинизм
современного британского общества включает в себя
фантастический проект подлинной гражданской ответственности, искренней
политической дискуссии и метафизического соответствия частного
26
поведения гражданских представителей с их высказываниями на
публике. Его явная апелляция к универсальным ценностям
выражается не только в конфронтации к интеллектуальным и
теоретическим течениям, существующим уже более трех десятков лет (хотя
сам он считает ее полемически направленной против университетов
и политкорректности); Портилло также идет против
господствующей традиции просвещения, которая, еще начиная с Канта,
признала разрыв между частным и публичным использованием чьего-либо
разума как прагматическое требование для осуществления
просвещения. Явление, которое Портилло стремится уничтожить, - это
публичное использование чьего-либо разума, свободное
использование, сила, необходимая для изменения, прогресса и освобождения
от ярма «свободного самопринуждения»2.
Речь ограждена от обеих этих традиций. Естественно,
прагматики от просвещения могут извинить Портилло как
правительственного оратора, продвигающего рекомендации для создания
счастливого общества, которое открыто для дискуссии и перед которым он
отчитывается в большей степени, чем перед кем-либо еще. «Назад
к основам», включая ее реакционные моральные выводы,
никоим образом не касается поведения или представлений министров,
с того времени как политика стала функцией их личной жизни
как официальных лиц; процесс просвещения приводит к тому, что
возможность различия между этими двумя жизненными сферами
должна быть сохранена.
Однако деконструкция в ее дерридеанской форме, наиболее
влиятельная теоретическая разработка поздних годов XX века, окружает
себя cordon sanitaire критики ангажемента. Жак Деррида - философ,
а не литературный критик. Он заинтересован в метафизическом
a priory** текстовых операций per se***, а не в противопоставлении
операций с одними текстами операциям с другими. Соответственно,
наиболее продуктивны для деконструктивного анализа те тексты,
собственные претензии которых на неметафизический статус могут
быть опровергнуты. Как можно подвергнуть деконструкции текст
(вроде текста Портилло), который сознательно продвигает
легитимацию и ценность универсальных истин? Портилло получил от
этого трансцендентального заклинания действенное преимущество
в интеллектуальных дебатах, поэтому неудивительно, что наиболее
* Фр. санитарный кордон. - Прим. пер.
** Лат. до опыта, заранее. - Прим. пер.
*** Лат. по преимуществу. - Прим. пер.
27
серьезной и сильной критикой программы «Назад к основам» была
чудовищная кампания, смонтированная желтой прессой. Хотя
кампания была деконструктивной постольку, поскольку она поставила
обширный текст «Назад к основам» перед его собственным
основанием, редакторы таблоидов в гораздо большей степени инструмен-
тальны в своем желании таким образом унизить и текст, и
отступников от него. Без санитарных кордонов Деррида деконструкция
становится циничной конфронтацией с текстом с невозможностью
его собственной аутентичности - вне текста. В данном случае она
произошла в таком виде благодаря самому Портилло.
Если речь Майкла Портилло о британском национальном
цинизме изображает картину, весьма напоминающую карикатуру
общества постмодерна, то статья Джона Мэйджора, опубликованная
через месяц в Daily Express и призванная разъяснить суть кампании
«Назад к основам», указывает на связь между цинизмом и
академической теорией еще более явно - этот ход необычным образом
повторился в речи, произнесенной принцем Уэльским для
журналистского сообщества несколькими месяцами позже.
Мэйджор нападает на «разносчиков модных теорий»,
«самозваных экспертов», которые болтают друг с другом «поверх голов
публики» и, как он предполагает, «в этой сессии парламента
наиболее необходима реформа педагогики, которая отнимет влияние
у модных теоретиков и даст его школам»3. Несмотря на отговорки
Мэйджора от того, что он стремился «назад к прошлому», «назад
к основам» была представлена в ностальгическом ключе,
который обращен к желанию аутентичности fin de siècle*. Британская
публика, как кажется, еще не была настолько непримирима к
непоследовательности и лицемерию со стороны своих государственных
лиц. К тому же заявления этих государственных лиц
сформировали внимание к аутентичному, угрожающее случайно уничтожить
условие, бывшее предпосылкой политической теории еще начиная
с Республики Платона. Как Деррида указывает в Другом заголовке,
политический идеализм не может развиваться, находясь в глубоком
тупике: находиться в пределах возможного - значит всегда идти на
компромисс с аутентичностью4.
Принц Чарльз, который осудил уклон среднего
образования и влияние «модных теоретиков» на воспитание детей из-за
британского заболевания цинизмом5, был немедленно атакован
выдержками из его собственной речи на страницах газеты
* Фр. конец века. - Прим. пер.
28
Guardian - ответ, структурно идентичный ответу таблоидов на
«Назад к основам»:
«Все те предметы, которые принц Чарльз выбрал для того, чтобы читать
о них лекцию по детскому воспитанию британской нации, наименее
подходят для этого дела! Возможно, ему стоит оставить это людям, которые достигли
больших успехов».
«Да, давайте изучать грамматику как азы общения, вместо того чтобы идти
тем ужасным путем, которым я шел в средней школе 50 лет назад, путем,
который, возможно, самим Виндзором считается невероятно высокопарной
манерой речи»6.
Карикатура Стива Белла для Guardian, сделанная 6 мая 1994-го,
подражала этой циничной реакции. Она изображала чрезвычайно
длинный и занудный фрагмент речи, написанной на доске, и
королеву, хлещущую принца по лицу и кричащую: «Это, по-твоему,
ПРЕДЛОЖЕНИЕ?»7.
Подобные отклики, выражающие определенный способ
самооправдания, можно рассматривать как примеры стремления к
целостности и аутентичности, которые явно набирают силу в
британской культуре. В своем крайнем проявлении эта тенденция
приобретает форму неприятия парламентской (то есть типичной)
демократии и организованной (то есть типичной) религии. Так,
беспартийный политический «местный радикализм», возможно,
является fin de siècle двадцатого века, соответствующий
заинтересованности fin de siècle девятнадцатого в анархизме, а увлечение
нью-эйдж fin de siècle двадцатого соответствует интересу fin de siècle
девятнадцатого к теософии - все это теоретические регрессивные
кампании во имя освобождения мира от проклятого означающего
раз и навсегда. Очень соблазнительно рассматривать эти движения
как воплощения в большей степени духа революционного террора,
нежели духа просвещения.
«Правовость*», соответственно, - уничижительный термин,
которым назвали политику консервативные аналитики. В выпуске
программы Без стен 4-го канала, названном «Дурные идеи двадцатого
века - правовость», Фредерик Рафаэль прицельно атакует так
называемую правовость как «идеологию без программы и благочестие
без бога». Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, Рафаэль
задает провокационный вопрос Питеру Тэтчеллу, представителю
влиятельной группы по защите прав геев «OutRage!», какие случаи
* В оригинале Rightsism. - Прим. пер.
29
рассматриваются им как «выходящие за рамки». Тэтчелл отвечает:
«Когда публичное лицо отстаивает дискриминационные законы, но
практикует гомосексуализм в частной жизни, я думаю, это следует
рассматривать как случай, выходящий за рамки [...] - когда налицо
противоречие между публичными заявлениями и частной жизнью
официальных лиц»8. На самом деле апофтегма* Рафаэля здесь
непригодна; у «правовости» в этом смысле очень специфическая,
догматичная программа, малозаметная идеология, а именно
террористическое требование абсолютной рациональности мира, в котором
неопределенность и, следовательно, выбор - дела минувшего
прошлого. Для «OutRage!» сексуальная идентичность - стабильный,
ясно очерченный компонент субъективной целостности, который
непременно действует в соответствии со вполне логичной
последовательностью и политической рациональностью. Между тем для
Общества защиты нерожденных детей - лоббистской группы
противников абортов, которой было также отведено заметное место
в программе Рафаэля, личность сверхъестественным образом
формируется еще в момент зачатия; более того, это настолько
священно, что рассматривать жизнь плода как «равнозначность» или
«выбор» между ним и жизнью его матери - это нечестивое осквернение
его собственной уникальности. Бог «правовости», если такая вещь,
как правовость, существует, - это субъективная целостность, а его
добродетель основана на фантазии неиспорченного мира,
свободного от противоречий и трудностей.
«Назад к основам», местный активизм, религия нью-эйдж и
радикальная политика сжимаются вокруг идентичности,
представляющей схожие отклики на недостаток аутентичности, ощущаемый
в современном обществе. Цинизм, несомненно, снова весьма в моде,
но, похоже, в наши дни он немного вырос для того, чтобы увидеть
его с заоблачной высоты высокопарного романтизма.
2. ПОСТМОДЕРНИЗМ И АУТЕНТИЧНОСТЬ
I рудно не рассматривать эти культурные движения в качестве
доказательства распространяющейся превращенной тревоги из-за
постмодерна. Речь Портилло, судя по всему, основательно заострена
против определенных политических, психоаналитических и
лингвистических оснований теории постмодерна, например, культур-
* Лат. меткое изречение. - Прим. пер.
30
ного конструирования национальной идентичности, понимания
субъективности как «маскарада», призванного только представлять
более ценным изначально бессмысленное бытие, и дискурсивного
высказывания как имеющего значение только в рамках системы
семиотического и семантического различения. Современный цинизм
тем временем декларирует разрыв между означающим и
означаемым в поиске аутентичной социальной взаимосвязи, идет ли речь об
интуитивной религии, свободной от опосредования, знаковой
фигуре приходского священника или об отвержении конвенциональных
означающих буржуазной семейственности и выборе в пользу
жизни на дороге путешествующего ньюэйджевца.
Критический дискурс вокруг постмодернизма в последние годы
разделился на две противоположные позиции. С одной стороны
такие комментаторы, как Кристофер Норрис и Алан Синфилд,
стремящиеся защитить «легитимную» и «скрупулезную» работу
постструктуралистских мыслителей вроде Деррида и Фуко, как
минимум отчаявшихся отделить себя от группы риторических
практик, ассоциирующихся с постмодернизмом. В суматохе
интеллектуальной активности за пару лет Норрис опубликовал три
книги, выраженно заостренные против постмодернизма. Его полемика
представляется основанной на здравых прочтениях определенных
постмодернистских теоретических текстов, в особенности двух
знаковых эссе Бодрийяра на тему войны в Персидском заливе.
Озабоченность Бодрийяра «гиперреальностью» вкупе с мутным
различием между реальностью и нереальностью, вызванным разрастанием
образов вследствие усиливающейся власти средств техники,
заставляет его дать своему второму эссе провокативное название «Война
в Персидском заливе не имела места»9.
Для Кристофера Норриса это утверждение есть ложь, часть
исторического ревизионизма, который олицетворяет собой
«современное постмодернистское движение против просвещения и всех
его завоеваний»10. Теория Бодрийяра о процессе «соблазнения»,
посредством которого власть символически репрезентирует свое
отсутствие, обойдена в пламенном разборе текста Норрисом. Как
и радикальное означивание, которое может потребоваться для бо-
дрийяровского критического дознания реальности войны как
таковой, стратегия, которую он откровенно описывает как отказ от
«глупости» занятия позиции за или против войны. Бодрийяр и
циничная когорта, среди которой Жан-Франсуа Лиотар и Ричард
Рорти, говорит Норрис, - «поставщики поверхностного, наиболее
31
ослабляющего течения в современном теоретическом культурном
мусоре» - просто вспыхнувший раскол между фактом и фикцией,
правдой и явлением в атмосфере эстетизации реальности, которая
возвышает своеволие индивидуума над реалистической
социально-политической критикой.
Даже Алан Синфилд, который осознал, что постмодернизм -
это неуловимое понятие, что это объект столкнувшихся
культурного и политического дискурсов и поэтому термин, имеющий
совершенно разные политические и теоретические значения, вступает
в спор; и тут же теряет свою трезвую перспективу, когда
заговаривает о Бодрийяре, который, по его мнению, излагает
постмодернизм как обрушение культурных ценностей в «Экстазе
коммуникации». (На самом деле термин «постмодерн» появился не в этом
эссе и вообще не в какой-либо работе Бодрийяра.) Синфилд
ссылается на «ряд исследований, показывающих, что люди смотрят
телевизор избирательно», стремясь противопоставить концепции,
взятой Бодрийяром у Маклюэна, согласно которой телевидение -
холодный проводник «непрерывного электронного мерцания»,
которое полностью вытесняет остальные формы культурной
продукции11. Бодрийяр же гиперболический писатель; он использует
телевидение как метафорическую иллюстрацию не аннигиляции
культурной иерархии, но прогрессивной «гиперреализации»
культуры, растворения публичного и приватного пространства в
«непристойности» коммуникации, замены символического значения
и насыщенности коммуникационных сетей прозрачностью
информации12. Гипербола - это основная стратегия в корпусе работы,
которая стремится вытеснить полученные знания об истине и
фальши в период, когда реальность опосредована более чем когда-либо.
Вырезать ее из-за высказывания этой (в настоящее время)
«неправды» - это, по крайней мере в данном случае, провал всего дела
критики; не просто гипербола, а карикатура, причем карикатура в
общем, небрежная.
Справедливости ради скажу, что Кристофер Норрис не делает
небрежную карикатуру на Бодрийяра; сквозь его некритическую
теорию Норрис усиливает свою близость идеям, благодаря которым
Бодрийяр оправдывает его экстравагантные требования. Как бы там
ни было, абсолютно точно, что Норрису мешали его же
инструментальные хвосты в написании книги. Как в описании Портилло
современного британского общества как циничного и декадентского,
атака Норрисом Бодрийяра не относится к бесстрастной диалекти-
32
ческой аргументации, цель которой - найти некую теоретическую
или материальную истину. Несмотря на его тоскливую
настойчивость в удержании правды и компетентности, он вовлекается с Бо-
дрийяром в войну сознаний; его аргумент не в том, что теории Бо-
дрийяра актуально неверны, а в том, что они опасны, если говорить
о них преувеличенно серьезно, а не литературно13.
Бодрийяр и другие постмодернистские скептики, согласно Нор-
рису, упускают добычу «из-за тенденции смешивать
эпистемологические и онтологические вопросы»; так, большая часть
посткантианских философов демонстрируют идеализм в избытке, с тех пор как
их постмодернистский натиск на знание, субъективность, истину,
легитимацию и т. д., основывается на тотализирующем,
онтологическом понятии концептов, которые прагматически и эпистемологиче-
ски неудобны. Нет надобности говорить, что рациональный натиск
Норриса против постмодернизма основывается на абсолютно
простом представлении о том, что означает термин «постмодерн». Норрис
появляется, чтобы тут же в отчаянии опустить руки из-за
необходимости расчищать свой собственный дискурс для путей
«метафизической» беззаботности. Как и Портилло, в большинстве случаев его
легко критиковать, ссылаясь на его же рассуждения.
Более того, сохраняется подозрение, что непризнанное значение
в полемическом «Крестовом походе» Норриса имеет несварение от
культурных продуктов постмодернизма, одно это угрожает свести
его аргументацию на уровень ее у принца Уэльского. Тот
признавался, что находит музыку «невыносимо пресной и тривиальной»,
поэзию - непримечательной, а архитектуру более интересной
концептуально, чем как реализованный проект. Постмодернизм, который
Норрис находит столь отчуждающим, - это воплощенный монстр,
несущий в себе мало сходства с гетерогенностью, развлекающей его
защитников soi-disant*.
Терпеливый, чрезвычайно рассудительный защитник занимает
другую интеллектуальную позицию в дебатах вокруг
постмодернизма. Апология постмодерна курьезна в том смысле, что ее
совершенно невозможно локализировать. В интервью 1980 Мишель Фуко
заявляет, что он никогда не встречал интеллектуалов, только
множество людей, которые говорили об «интеллектуальном».
«Постмодернист - это просто мифическая фигура; я не только никогда
не встречал постмодерниста, я никогда не читал книгу, таковым
написанную». Также даже среди его собственных определений и само-
* Фр. мнимый, так называемый.
33
отрицаний существует защита постмодернизма как потенциально
освобождающего концепта - в утверждении Джоффри Беннингто-
на, что постмодерн означает не что иное, как «консенсус, который
есть диссенсус» по поводу значения постмодерна, как и в
неуверенном использовании термина Фредериком Джеймсоном как перио-
дизирующей дефиниции (которую Беннингтон, следуя Лиотару,
строго отвергает). «Я временами устаю от слоганов постмодерна
более, чем кто бы то ни было, - сообщает Джеймсон, -
но когда я вынужден сожалеть, что с ним связался, порицать его
злоупотребления и дурную славу, с неохотой заключать, что он создает больше
проблем, чем решает, я замираю в догадках, может ли хоть один другой концепт
драматизировать вопросы в столь эффективной и экономичной манере16.
Эта позиция - прежде всего манифест противостояния «попу-
ляризациям» постмодернизма, попытка окружить термин
изобилием в основном эзотерических дополнений и оговорок, который, по
меньшей мере в Европе, предполагает враждебность к «этим
вульгарным американцам».
Эта враждебность - очевидное замещение: по-настоящему
вульгарны демократы популярной культуры, продающие
упадочный постмодерн массам, которые перестали быть, скажем так,
многослойными потенциями освобождающих дискурсивных практик
и, наоборот, стали применять психологическую стратегию
выживания, «технологию», посредством которой явно бессмысленный
мир может быть увиден с совершенно ироничной отрешенностью.
Опекуны постмодернизма испытывают инстинктивный страх
перед товаром. Так, например, Джеймсон противостоит характерной
постмодернистской архитектуре как популярной, мучительно
пытаясь отделить «появляющиеся формы коммерческой культуры
(например рекламу, всеобщее «упаковывание», начиная с
продуктов и заканчивая зданиями и телешоу), от народной и родовой
«популярной культуры, которая... с середины XIX века
становилась все более заглушена и подавлена коммодификацией и
рыночной системой»17. Для Беннингтона же самая вульгарная и низкая
форма культуры - журналистика; «не журналистское» для него
синоним «интересного», он говорит, что «журнализм» есть там,
где есть укрепления возрожденного социологизирования и исто-
рицизма, которые означают, что постмодерн «почти неизбежно»
будет иметь место18.
Беннингтон правильно указывает на неизбежность этого
процесса. Также я уверен, что он правильно находит в «гру-
34
бом бинаризме» Ричарда Рорти архетип для коммодифици-
рованной деконструкции, которая осуществляет на
практике неустанную едкую «иронию» как свой логический вывод.
Насмешливая мобилизация, видимо, в целом является
ответом британских теоретиков на американскую «элитарную»
сердечность Рорти и была общей у Норриса, Беннингтона
и Терри Иглтона, постоянно лелеявших ее в своих текстах
несколько прошедших лет. Например, Иглтон к концу своей
Идеологии эстетики в радостном духе находит в Полном Оксфордском
словаре определение «рорти» как «любящего веселье и азарт»19.
У Рорти самопоздравление Случайности, иронии и
солидарности отпраздновало неизбежность «идеального либерального
общества» - такого, в котором разница между «ироничными»
интеллектуалами и «здравомыслящими» неинтеллектуалами,
видимо, будет неиронично прописана в конституции. Составители,
говорит Рорти, не могут воспринимать себя вполне всерьез с тех
пор, как они «всегда осведомлены о случайности, слабости их
лексики и, таким образом, их самих тоже». Последние, утверждает он,
те члены общества, «которые способны рассказать самим себе о том,
как все можно было бы улучшить», найдут «ряд идей, развитых
в I части» его «безвкусной» книги20. Для всего своего высокомерия
Случайность, ирония и солидарность содержит не одно ироничное
высказывание.
Что более чем ясно из вышесказанного, так это то, что
современное понимание нашей культуры идет весьма кривым путем. Дело не
только в том, что смыслы постмодернистского предмета
подвергаются широким вариациям различных толкований; постмодернизм
сам по себе в центре серьезных дебатов о том, является ли он
практикой, которую можно осуществлять и приостанавливать по
желанию, движением, подразумевающим всеприятие или сопротивление
всему, методом культурного производства/потребления, который
установлен как руководство для честолюбивых художников,
критиков и писателей-беллетристов, или просто прокрустовым ложем,
означающим особенный культурный климат, к которому надо
относиться со всем подозрением Беннингтона. В рамках дебатов
участники обвиняли друг друга в «цинизме» метания из стороны в
сторону, причем у каждого было свое представление о значении этого
термина.
К сожалению, «цинизм» в принципиальном значении
мироощущения, более того, философской традиции, - это не менее расплыв-
35
чатый термин, чем «постмодернизм». Наиболее систематичным
изложением циничного мышления за последние годы была, очевидно,
исчерпывающая Критика цинического разума Петера Слотердайка,
впервые опубликованная в Англии в 1987-м, и, ввиду множества
противоречий и несообразностей, отмеченных выше, может быть
полезно завершить предшествующую дискуссию, кратко
сославшись на терминологию Слотердайка.
Диагностика Слотердайком болезней современного общества
вертится вокруг его определения цинизма как «просвещенного
ложного сознания»:
Это модернизированное несчастное сознание, над которым просвещение
уже поработало небезрезультатно, но напрасно. Оно усвоило наставления
просветителей, но не осуществило их на практике и, вероятно, не могло
осуществить. Богатое и убогое одновременно, это сознание уже не чувствует себя
уязвимым для любой критики со стороны идеологии, его фальшь уже
защищена буфером рефлексии21.
В обобщенном описании послевоенного или даже послешести-
десятнического сознания эта формулировка резко отличается от
тех, которые предлагались другими аналитиками. Для Слотердайка
циничный субъект - это жалкое, интеллектуальное существо,
страдающее от стойких сомнений относительно собственных действий.
Бесконечное «постмодернистское» иронизирование над собой
создает стратегию, с помощью которой можно понять провалы
просвещения в выполнении своих обещаний - свободный рациональный
мир, последовательный цельный субъект, конец социального
неравенства. Состояние, которое он формулирует как «просвещенное
ложное сознание», поэтому включает в себя много от пессимизма
и от падения нравов последнего fin de siede. Счастье, говорит он,
«может быть помыслено лишь как нечто утраченное, как
прекрасное другое. Оно не может быть ничем большим, чем предвкушением
того, что мы приближаемся к чему-то со слезами на глазах, хотя и не
продвинулись ни на шаг22.
По Джеймсону, как бы там ни было, декаданс постмодерна возник
из свободного самоэкспериментирования и ясности самого
концепта «декаданс». У римлян Серебряного века, на которых он
указывает, не было такого концепта, они были «очень далеки от
бесконечного самоуничижения по поводу того, что они живут в декадансе»23.
Джеймсон продолжает подробно противостоять ощущению, что
субъект постмодерна страдает от чего-либо, кроме отсутствия
рутинного, но более строгого применения. Субъекты позднего капита-
36
лизма отличаются, говорит он, от тех, которые появились в период
fin de siede или упадка римлян, с тех пор как они стали апатичными,
чересчур изнеженными, заболели «слишком многими редкими
оккультными и научными увлечениями», стали закалены осознанием
того, что подобные вещи стали клише. «У нас, в свою очередь, тоже
все это есть, но мы плетемся за ними, надеясь, что состояние
изменится», - декларирует он, откровенно довольный, что у него-то нет
никакого невроза24.
В это время в поле зрения Иглтона попадает диагностика
Слотердайка, которую он ложно применяет ко всему обществу, хотя
речь идет о специфическом модусе сознания: «Какой-нибудь
богатый биржевой маклер может обладать циничным знанием о том,
что его образ жизни ничем не защищен, но сомнительно, чтобы
Ульстерские юнионисты проводили много своего времени,
игриво иронизируя по поводу их обещания сохранить Британский
Ульстер»25. Это характерная часть полемики Террилена, и она
попадает пальцем в небо два раза: во-первых, своей предпосылкой
о том, что любой культурный анализ должен быть применяем
просто-напросто ко всем и каждому представителю данной культуры
(предполагая, что культурные границы могут быть
идентифицированы так же легко, как национальные или религиозные), а
во-вторых - близкий пункт: в игнорировании культурного и
политического плюрализма, который в анализе Слотердайка присутствует.
Просвещенное ложное сознание по определению может описывать
социальное меньшинство, с тех пор как одно из восприятий
ассоциируется с эффективной взаимозаменяемостью и
равнозначностью более идеологически «заземленных» культурной и
политической психологии; таким образом, цинизм Слотердайка зависит
от длительности периода деятельности Ульстерских юнионистов;
наряду с Кампанией против порнографии и Объединением
матерей пока можно верить в их чистосердечные, искренние порывы.
Постмодернизм, пишет Агнес Хеллер,
несет достаточно простое послание: все сгодится. Оно не является призывом
к бунту, чем фактически не является и постмодернизм. Пока повседневная жизнь
неизменна, есть многообразие вещей и сторон жизни, против которых
современные мужчины и женщины могут или должны восставать, а постмодернизм, в свою
очередь, разрешает любые формы восстания. Как бы там ни было, нет одной
великой цели для коллективного и единого восстания. «Все сгодится» может означать
следующее: ты можешь восстать против чего хочешь, но дай мне восстать против
конкретной вещи, против которой я хочу восстать. Или, иначе говоря, позволь не
восставать против чего бы то ни было, потому что мне слишком лень20.
37
В этом смысле Джеймсону удается удерживаться от
декларирования абсолютных «за» и «против» постмодернизма. Критик
культуры, говорит он, «наряду со всеми остальными из нас сейчас столь
глубоко погружен в постмодернистский космос, столь глубоко
залит и заражен его культурными категориями, что роскошь
старомодной идеологической критики, возмущенное моральное
осуждение другого становится невозможным»27. Как бы там ни было,
постмодернизм остается объектом диссертации Джеймсона,
а также, чтобы напомнить о главной теме этой главы, - фокусом
генеральной трехсторонней культурной атаки.
Как таковой постмодернизм - низкая культурная форма,
чудовищный гибрид эстетики, декаденствующий, самопотворствующий
аполитизм и элитарный, ироничный нигилизм. Постмодернизм -
это вершина всего циничного, и не как у меланхоличной жертвы
просвещения по Слотердайку, а деструктивно циничного,
преступно и жестоко атакующего познавательные, эстетические и
моральные определенности. Для политического истеблишмента первая
из трех напастей - постмодернистский цинизм воплощен в
академии, «модных теориях» 1960-х, поэтому Джон Мэйджор, Майкл
Портилло и принц Чарльз выдвигают вариации на тему «Назад
к основам» - возвращения к утраченному, полному ценностей миру
прошлого. Эта аналогия к тем сдвигам в политике была позже
отмечена на страницах журнала Guardian. В 1992-м Ричард Готт, новый
литературный редактор, стал оплакивать в своей статье состояние
литературной редактуры в постмодернистских, «обладающих
стилем» 1990-х и провозгласил намерение «возродить старомодный
критицизм» на страницах своей книги, которая поведает нам о том,
«какие книги хорошие, а какие - плохие, и почему»28. Для Готта
постмодернизм, похоже, исключает любую возможность
культурной иерархии и декларирует, что любой литературный текст,
имеющий дискурсивные свойства, столь же «легитимен», как и любой
другой, и может оцениваться лишь по его собственным законам.
Эта очевидно «релятивистская» тенденция и направляла ход
мыслей Готта в его книге.
«Теория» Академии отделяет себя от постмодернистского
цинизма двумя путями, и оба они представляют собой одно и то же.
С одной стороны, теоретики вроде Беннингтона и Джеймсона
стараются держать в поле зрения и не допускать того, что можно назвать
«карикатурой» на постмодернизм, - то силясь разделить термин по
наиболее строгим и по временным критериям, то бросая замечание,
38
что термин не означает ровно ничего и нужен только для
периодизации. Один путь в итоге кончается двумя формами бессмыслицы:
абсурдным определением постмодерна Беннингтона как
«консенсуса, который есть диссенсус», призванным разъяснить смысл
термина, так и использованием Джеймсоном термина «постмодернизм»
в значении «в наши дни» или «недавно».
Норрис и Иглтон со своей стороны берут термин в его
нижайшей, наиболее распространенной и вульгарной интерпретации -
что он запретил рациональность, делает требования истины
излишними и поставил поверхностность выше глубины, риторику выше
диалектики, означающее выше означаемого; и далее они заявляют,
что столь циничное движение политически опасно и
«безответственно». Объектом атаки как Беннинггона/Джеймсона, так и Нор-
риса/Иглтона является более-менее одно и то же: плохо сложенная
химера постмодернистского иррационализма, который включает
в себя неопрагматизм Рорти, как и рассуждения Бодрийяра об
Америке - настоящем Диснейленде и Диснейленде - настоящей
Америке, но которая проглядывает в определенных, более
популярных культурных феноменах, таких как коммодификация иронии,
осуществленная посредством таких публикаций, как те, что
можно найти в Современном обозрении, или как более
экстравагантная часть современной авангардной музыки, которую Норрис, как
и принц Чарльз, находят ужасающей.
Все более распространяющийся феномен, который
противостоит «цинизму» постмодернизма в жестовом или
активистском ключе, сам полагает себя как локус новой аутентичности
в британской культурной жизни. Эту тенденцию можно
проследить на примере появления часто освещаемого
«некоординированного», «спонтанного», низового протестного движения,
сфокусированного на специфических проблемах и
организованного группами прямых активистов с названиями вроде
«Земля Норфолка - первое!» и «Серферы против канализации».
«Протестующие молоды, нетерпеливы, забавны, аполитичны,
сердиты и подкованы в медиа - и способны отобрать очки у
истеблишмента несколькими репликами. И большинство
говорит скорее от себя, чем от лица какой-либо организации»29.
Как упоминалось ранее, этот тренд формирует культ честности,
который отвергает представительные политические структуры
и пытается обходиться без бюрократии и инструментов
демократических институтов. Для низового радикализма, как и религи-
39
озных движений нью-эйдж, условные институты окостенели до
степени, когда «жизнь как таковая» затерялась среди возросшего
числа процедурных технологий, которые в рамках жестокости
систематического истеблишмента допускают этические и
гуманитарные злоупотребления.
Если далее говорить о низовом активизме, то он выражен как
агрессивное неприятие современных правящих институтов и чаще
обычного предстает в форме подходящей к делу изобретательной
критики, нежели в форме диспута. Казалось бы, цинизм тут не
такой уж неподходящий термин для его мотивационной психологии.
Нет необходимости говорить, что эта форма цинизма отличается
от - с тех пор как она по существу ему антагонистична - цинизма
постмодерна, и как раз поэтому терминологию Слотердайка можно
найти полезной.
Так же, как и телесная критика Диогена Синопского, этого
античного архетипа циника, цинизм прямых активистов -
радикальный, бескомпромиссный и даже сатирический по тону. Фантазия
о том, что возможна абсолютная автономия индивидуальности от
политики, иллюстрируется ответом Диогена молодому Александру
Македонскому, пытающемуся доказать свою щедрость, исполнив
желание философа: «Не загораживай мне солнце!»
Полицейский: Что заставит вас спуститься?
Протестующие: Чистый воздух внизу.
Полицейский: Что-нибудь еще?
Протестующие: О, отлично! Вертолет и 40 миллионов фунтов в золотых
слитках.
Полицейский: Хорошо, я пока мог бы пойти повыращивать зелень.
Что-нибудь еще, парни?
Протестующие: И митинг с совещанием30.
Эта автономия - только фантазия, как показывает последний
ответ; пока этот обмен репликами демонстрирует дух
неповиновения, который имеет больше общего с цинизмом античным, чем
с тем, постмодернистским. Слотердайк отделяет этот ранний
цинизм от меланхолии «просвещенного ложного сознания»,
используя греческое «киник», чтобы обозначить прежнюю,
антитеоретическую, жестовую критику. Современный цинизм, напротив,
отягощен теорией, парализован противоречием между
необходимостью активного самосохранения и кантовским требованием
незаинтересованной деятельности общественного разума. По Слотердай-
40
ку, творческое мышление не может более угнаться за рациональной
критикой; цинизм постмодерна начинается с ощущения, что
«поскольку все стало проблематичным, постольку все стало также
каким-то безразличным»31.
Цинизм как противоположность кинизма - это стратегический
стиль мышления, «универсально широко распространенный путь,
благодаря которому просвещенные люди не дают ставить себя в
положение сосунков»32. Циник расстался с иллюзиями о просвещении
и обещанном им всеобщем разуме; его психический аппарат
достаточно эластичен для того, чтобы позволить ему действовать,
несмотря на постоянные сомнения относительно собственной
активности, - нет, его устойчивые сомнения сами являются его стратегией
выживания. Современный просвещенный циник замещает кантов-
ское ярмо «взваленной на себя ответственности» не общественным
разумом, а серией частных рационализации, которые
необязательно совместимы друг с другом.
Книга Слотердайка - это продолжительная попытка
реабилитировать кинизм, забытый сатирический элемент критики, с целью
противодействовать фальшивым абстракциям и долгосрочным
целям диалектики просвещения. С того момента, когда просвещение
перестает быть только диалогом и берет на вооружение риторику,
сатиру, полемику, а также диалектику, Слотердайк предпочитает
говорить не о диалектике, но об иронии просвещения:
В конфронтации просвещения с предшествующими формами сознания все,
кроме истины, оказалось в опасности: основные позиции, классовые
интересы, признанные догмы, желания, страсти, а также защита «идентичностей».
Эти препятствия вели столь ожесточенный диалог с просвещением, что
уместнее было бы говорить скорее о войне сознаний, чем о мирном диалоге33.
Если концепт «просвещенного ложного сознания» по Сло-
тердайку частично строится на гегелевском определении
несчастного сознания, его мнение о процессе просвещения,
вероятно, почерпнуто из раздела о просвещении гегелевской
Феноменологии духа, особенно это касается его акцента на
«чистой негативности» - гегелевском термине, означающем
антагонизмы, необходимые для распространения просвещенческой
рациональности. Просвещение, говорит Гегель, «новый
премудрый змий, поднявшийся на ступень всеобщего обожания»,
может считать себя «только безболезненно сбросившим иссохшую
кожу»; с другой стороны, однако, это «безмолвное непрерывное
прядение духа», «духа, утаивающего собственные деяния от са-
41
мого себя» (например, «правдивое» утаивает «волю к правде»),
дополнено действием негативной сущности (посредством нее
сознание напоминает себе о своем предыдущем состоянии),
которая должна предстать как абсолютный хаос и вести
жестокую борьбу со своим антитезисом»34. Для Слотердайка ее
воплощает риторика, сконфузившая рассудок; софистика,
вторгшаяся в чистую диалектику, которая одновременно является
критическим озарением, сообщаемым современным цинизмом.
Так, его концепт «кинизм» основан прежде всего на
обращении к сатирическим корням критики и полемически заострен
против разновидности идеалистической «объективной»
критики, которая выдает себя за нечто более респектабельное, чем на
самом деле. Критика цинического разума берет под свою опеку
возрождение сатирической традиции «биофилии»,
антифилософской и антиполитической, которая придерживается
принципа «радости бытия» или «опыта насыщенной, правильно
проведенной жизни» в противовес путаным абстракциям
теоретического существования. Нет сомнений в том, что Слотердайк,
как сказал Андреас Хюйссен, идет вразрез с «ложными
оппозициями, обвинениями и контробвинениями, которые испортили
модернистско-постмодернистские дебаты»35. Тем не менее его
«киническая» позиция тесно связана с проблемой «чрезмерного
наслаждения» и ироническими психостратегиями,
характеризующими постмодернистского фланера. Как бы там ни было, с тех
пор как появилась книга, нечто очень похожее на «кинизм» стало
возрастающе модным в Британии, и кажется, нет ничего более
радикального и привлекательного, что хотя бы близко стояло
к этой всепроникающей тыловой акции против
постмодернистской «неподлинности».
3. ЦИНИЗМ ПОСТМОДЕРНА:
ВОПЛОЩЕННЫЙ И ОТВЕРГНУТЫЙ
Как бы там ни было, моя цель - не просто проиллюстрировать
происхождение Слотердайка ссылкой на Гегеля, но показать, как
постмодернизм является одновременно воплощенным и, в
определенном смысле, культурно отвергнутым в Феноменологии путем,
который проливает свет на нынешнюю дискуссию о цинизме. В
одном не очень ясном параграфе своего введения Гегель описывает три
42
возможных ответа на бесконечную жестокость, применяемых
сознанием во время его продвижения к знанию. В рамках нескольких
строчек Гегель вводит и отвергает интеллектуальную достоверность
этих узнаваемых постмодернистских состояний сознания,
симптомов кризиса в бескомпромиссном скептицизме здорового
философского мироощущения.
Цель знания, говорит Гегель, это та точка, на которой знанию
более не нужно выходить за свои пределы, «где знание находит
себя, где понятие соответствует предмету, а предмет - понятию».
Так, без этой цели, сознание продолжительно пребывает в
состоянии неудовлетворенности и подвергается требованию выходить
за свои пределы. Так каждое успешное неправильное состояние
сознания переносит жестокость «чистой негативности».
Когда сознание ощущает эту жестокость, его тревога вполне способна
заставить его скрываться от правды, пытаясь удержать то, что оно боится потерять.
Но оно нигде не способно найти покоя. Если оно желает остаться в состоянии
бездумной инерции [1], тогда мысль беспокоит его безмыслие, его
собственный непокой тревожит его инерцию. Или если оно покушается на себя той
сентиментальностью, которая уверяет нас, что находит все хорошим в своем
роде [2], тогда его уверенность точно так же жестоко страдает от рук разума,
поскольку стоит только найти что-либо явно доброе, как разум не находит это
хорошим. Или, опять же, его страх перед истиной может привести сознание
к утаиванию от себя и других за претензией, что его жгучее рвение к истине
делает затруднительным или даже невозможным найти какую-либо иную
истину, кроме истины суетности, которая в любом случае умнее любых других
мыслей, до которых кто-либо может додуматься сам или почерпнуть у других
[3]. Это самомнение, которое знает, как умалить любую истину в стремлении
повернуть обратно, внутрь себя, и злорадствует над своим собственным
знанием, как разложить любую мысль и непременно найти все то же жалкое эго
вместо всякого содержания, - это удовлетворение мы должны предоставить
само себе, чтобы оно испарилось из универсума, оставшись наедине с собой36.
Из всего вышесказанного должно стать очевидно, что вопрос
о том, насколько постмодернизм (каков бы ни был смысл термина)
является или нет «циничным» (каков бы ни был смысл термина),
здесь меня не интересует. Я готов признать как нелепое
определение постмодернизма Беннингтона, так и связанное с периодизацией
определение Джеймсона, но я также признаю ощущение Норриса
и Иглтона, что постмодернизм - это опасная демагогическая
софистика, извращенное антипросвещение и релятивистское движение к
запрещению представлений об истине и возможности социального
прогресса. Важно признать, что цель этих соперничающих образов
43
постмодернизма, как, соответственно, и их успеха в качестве
культурного капитала, - определить, есть ли на самом деле
постмодернизм или нет, или, что более важно, чем постмодернизм станет21.
Реальная же суть постмодернизма не в этом. Поскольку он
считался чем-то зловещим, чтобы ему противостоять или же неизбежным,
по поводу чего можно лишь безуспешно сетовать или что можно
компенсировать лишь посредством выполнения определенных
психических стратегий, постмодернизм охватывается в трех ответах,
идентифицированных Гегелем.
Эти ответы - декаданс, релятивизм и ирония соответственно,
и они характеризуются Гегелем как интеллектуальная стагнация,
нетерпеливость по отношению к длительному процессу умножения
знания и страх перед успешным процессом просвещения и потерей
иллюзий. Если абсолютное знание - это совершенная коллекция
записей, декадент [1] просто бросил задачу, перестал покупать или
даже слушать музыку с кем-либо еще и проводит свое время,
пытаясь заглушить эти бесконечные песни в своей голове
приниженными немузыкальными занятиями. Сентиментальный релятивист
[2], с другой стороны, провозглашает невозможность такой вещи,
как совершенная коллекция записей, найдя идею отвратительно
канонической и империалистической. Он не делает ценностных
различий между записями, на которые наталкивается, оценивая их
все одинаково достойными в терминах их собственной специфики.
Это довольно ограниченная позиция в конечном счете, с того
момента, когда она означает отказ от возможности сказать что-то
осмысленное в области культурного предпочтения; о любой записи
всегда можно судить согласно специфике ее собственных законов.
Иронист [3], наконец, культивирует такое чувство превосходства по
поводу себя и своего вкуса, что точные реалии записанной
продукции не дают надежды удовлетворить сложный комплекс его
эстетических критериев. Любое «легитимное» потребление невозможно,
и он должен прибегнуть к стратегии бесконечной иронии,
благодаря которой он может наслаждаться своей безмерной утонченностью.
При покупке своих записей он будет пихаться локтем и
подмигивать, спустит их из того культурного контекста, в котором они были
произведены, и переделает в палаточные артефакты для
«умудренных» знатоков десять или двадцать лет спустя.
Чтобы проиллюстрировать это, я транслировал логику пассажа,
касающегося эпистемологии, в сферу культуры и эстетики, но
аналогия не должна ограничиваться этими областями. Если я сейчас наста-
44
иваю на расширении того, что Гегель называл кризисными
моментами в истории философии со ссылкой на скорее литературные тексты,
чем философские, то это потому, что ужас бытия моего собственного
«паноптикума циников» - перенимая фразу Слотердайка -
произрастает из разрушения веры в сущностную эпистемологию.
Декаданс
Дес Ессентес Дж. К. Хюйсмана мог быть архетипичным
декадентом последнего fin de siede, он воплощает гегелевское «состояние
бездумной инерции» как в своем отступлении от мысли в пользу
расточительности, так и в своих соблазнительских хитростях, а
также во фрустрации этой попытки пересилить скуку и постоянство
памяти. Дес Ессентес зачарован поверхностной и расчетливой
природой, как «старой кроной», чья вдохновляющая художников и
поэтов красота была исчерпана. Он культивирует поверхностность за
счет «глубинной» работы с фундаментальными идеалистическими
предпосылками. Дес Ессентес «мечтает об идеале, предпочитает
иллюзию реальности и ищет, чем бы завуалировать голую правду».
Его дом, храм восторгов болезненного эстетизма, находится на
такой высоте, которая позволяет изолироваться «от шумихи
отвратительных толп, неизбежно привлекаемых по воскресеньям к
окрестностям железнодорожной станции»38. Как указывала Элизабет
Янг, Дес Ессентес не столько декадент, сколько эстет и книголюб,
«первый выдуманный денди»39. Его отношения с реальностью
нигилистичны (в ницшеанском смысле); эстетизм Дес Ессентеса
не заключает в себе ни одной особенной черты (такой как
сверхчувственный мир, предложенный христианством), но только
фиктивность сама по себе как способ обесценить жизнь. Как новейшие
технологии освещения и виртуальной реальности, обожествление
воображения Дес Ессентесом имеет эскапистскую направленность:
Не может быть сомнения в том, что, перенося этот гениальный обман, эту
умную пародию на интеллектуальный план, кто-то может наслаждаться так же
легко, как в материальном плане; воображаемые удовольствия во всех
отношениях похожи на удовольствия реальные. [...]40
Текст, который наиболее полно выражает дух хюйсмановского
Обратного отсчета в последние годы, как в терминах его
«нигилизма», так и его же меланхоличного отношения к себе, был
опубликован Бретом Истоном Эллисом в 1991-м. Американский психопат
это прозвище нью-йоркского администратора Патрика Бейтмана,
который пытался убежать от реальности посредством слепого ув-
45
лечения одеждой мировых брендов и своей рабской
приверженности описаниям к, по-видимому, неприкосновенным текстам, таким
как гид по ресторану Загат или элегантность. Гид по качественной
мужской одежде Брюса Бойера. Как и Дес Ессентес, Патрик фру-
стрирован в своей задаче жить поверхностно. Любые истинные
обещания поверхностности наверняка не будут подразумевать самого
желания и означать возможности как-то выразить эту страсть.
Патрик, однако, жалуется:
Там, где была природа и земля, жизнь и вода, я видел бесконечный
пустынный пейзаж, напоминающий нечто вроде кратера, настолько лишенный
смысла, света и духа, что разум не мог ухватить его ни одним уровнем
сознания, и если бы даже близко подошел к тому, чтобы вернуться назад, не мог бы
охватить этого. [...] Поверхность, поверхность, поверхность была
единственным смыслом, который кто-либо мог найти... это была цивилизация, какой я ее
видел - колоссальной и зазубренной...4'
И через все его повествование проглядывает подавленный эпизод
из детства, вернувшийся, чтобы испортить его столичное
существование. Американский психопат - это история представления о декадансе
Патрика Бейтмана, который, соответственно, ускользает тем сильнее,
чем в большей степени тот пытается достичь его; а Патрик пытается
довольно усердно. Патрик, как и Дес Ессентес, - культурный вуай-
ерист настолько же, насколько и участник, зритель даже своих
собственных дебошей. Как указывал Джеймсон (выше), стиль жизни
настоящего декадента в результативном и практическом отношении
застенчивый, это теоретическая аномалия. Декаданс постмодерна
может быть только развлекательным, соблазнительным,
имитирующим. Стремление к декадансу у Патрика и Дес Ессентеса выдает
не примирение с субъективным распадом, но отчаянное желание
субъективной целостности. Современный интерес к декадансу - это
на самом деле интерес к пребыванию, желанию быть чем-то подлинно.
Он проблематичен даже как форма цинизма постмодерна, с тех пор
как он никогда не может быть абсолютно циничным, декадентским,
постмодернистским достаточно. Культивирование декадентского
«легкомыслия» в ответ на психическую жестокость философского
скептицизма всегда будет разрушаться рефлексией самосознания.
Релятивизм
Дес Ессентес - внимательный читатель Бодлера. Он хранит на
пергаменте три поэмы Бодлера под стеклом с подсветкой, и как
персонаж он многим обязан Бодлеру. «Живописатель современ-
46
ной жизни», в которой дендизм характеризуется как «последняя
вспышка героизма на фоне декаданса» и «закат [...], лишенный
тепла и полный меланхолии»42. Эссе Бодлера содержит нечто большее,
чем то, что может быть связано с уходом в релятивизм, который
является вторым ответом на жестокость осторожного скептицизма
и который Гегель называет «сентиментальностью».
У каждого старого мастера была своя собственная современность; великое
множество изысканных портретов, которые пришли к нам от предшествующих
поколений, одетых в костюмы своей эпохи. Они абсолютно гармоничны,
потому что все - от костюма и прически до жеста, взгляда и улыбки (каждому
периоду свойственна своя особенная осанка, взгляд и улыбка) - все, говорю я,
сочетается в форме вполне жизнеспособной целостности43.
Этот феномен аналогичен тому, что появляется у Георга Зиммеля
в гораздо более дурном свете как «цинизм», психическое снижение
устоявшихся ценностей, вызванное всеопосредующим и
уравнивающим влиянием денег в современной культуре. На поверхности
жизнерадостный энтузиазм Бодлера возникает как прямая
противоположность пессимистичному обесцениванию ценностей циником:
В то время как характерная оценка ценностей энтузиастом движется вверх-
вниз в стремлении достичь высших ценностей, характерная оценка циника
движется в противоположном направлении. Его жизненный опыт адекватно
выражен только когда у него есть теоретический и практический пример вреда
высших ценностей, а также пример иллюзии различия между любыми ценностями44.
Ясно, что цинизм по Зиммелю, указывающий на различную
ценность вещей, связан с феноменом «пресыщенного мироощущения»,
отсылающим к различной природе вещей, и качественно однороден
с уравниванием, совершенным сентиментальностью Бодлера. Как
указывает Гегель, разум, «в той степени, в какой нечто точно
является добрым», не находит это ни хорошим, ни особенно плохим.
Так, пресыщенный индивидуум, говорит Зиммель, более изощрен,
но и более несчастен, чем циник, «видящий все вокруг в одинаково
скучном сером цвете, как не заслуживающее особого волнения, а уж
тем более желания».
В последние годы Зиммель был объектом кое-каких дебатов по
поводу степени его вовлеченности в то социальное явление, которое
он описывал45. Еще в 1918-м Эрнст Блох, бывший одно время его
студентом, писал, что
Зиммель - величайший ум среди современников. Но, помимо этого, он абсолютно
пуст и бесцелен, падок ко всему, кроме истины. Он собиратель точек зрения,
которыми он окружает истину, но не имеет ни желания, ни возможности обладать ею40.
47
Чего Блох не говорит (как и другие заинтересованные
современники)47, так это что эстетическое дистанцирование от мира есть
симптом неврастении, которая по Зиммелю представляет собой
принципиальный недуг современного городского существования.
Как говорится в его очерке «Мегаполис и жизнь сознания» (1903),
это состояние проистекает из необходимости психологической
самозащиты перед лицом того, что Зиммель называет
«овеществлением культуры», под которым он подразумевает все возрастающее
влияние «суверенной власти социума», «исторического наследия
в виде внешней культурности и способа существования» - этот
последний наиболее часто предстает в форме «внезапности сильных
раздражителей». Это значит, что интеллектуальная сфера,
«наиболее адаптируемая из трех наших сил», стремится достичь большего
в метрополисной жизни сознания, нежели в эмоциональном
развитии, которое преобладает в более сельской среде: «Вместо
эмоциональной реакции, замечает Зиммель,
метрополисный тип реагирует преимущественно в рациональной
манере, посредством интенсификации сознания формируя
преобладание ментального; в итоге одно и другое - взаимообусловлено.
Эта реакция метрополисного индивидуума на происходящее
смещена в сферу ментальной активности, которая наименее чувствительна
и наиболее далека от глубинной индивидуальности48.
Интеллект Георга Зиммеля - это образцовая характеристика его
периода. Наравне с Дес Ессентесом и Патриком Бейтманом
Зиммель - наблюдатель за своими собственными психическими
процессами, которые становятся важным объектом его штудий.
«Пресыщенное мироощущение», далекое от того, чтобы быть личной
причудой, затрагивающей небольшую часть населения, - это
воплощение психической сущности горожанина; так, в «Метрополи-
се и жизни сознания» город ославлен как место интеллектуального
и концептуального отчуждения, где конфликт между субъективной
и объективной культурой показан как «одна из тех великих
структур истории», которая «выходит за рамки области, где мы можем
рассуждать с позиции судьи»49.
Как и «просвещенное ложное сознание» Слотердайка,
«пресыщенное мироощущение» - это точная характеристика современного
мышления. Более того, увязание Зиммеля в вопросе о ментальной
стратегии проницаемости денежной культуры нисколько не мар-
гинализует его как «экономиста» или «исторического
материалиста», поскольку для Зиммеля преобладание денежной экономики
48
в современной жизни неразрывно связано с ростом метрополиса*,
разделением труда и чувством отчуждения, столь общим у
жителей города50. Что «цинизм», что «пресыщенное мироощущение»
по Зиммелю явно можно подвести под трактовку Слотердайком
цинизма как «просвещенного ложного сознания».
Бодлер также использует понятие «пресыщенность». Если
конечные устремления декаданса, правда, никогда не могут быть
достаточно декадентскими, дендистская культивация отстраненного
релятивизма у Бодлера также не достигает цели выразить собой
истинную пресыщенность - действительно, это уловка,
принятая «из соображений политики и положения»51. «Живописатель
современной жизни» - это восхваление пути денди. Пока в этой
прихорашивающейся фигуре, близкой к декадансу, наиболее
очевиден сентиментальный релятивист. На своих открытых страницах
Бодлер вводит теоретическую предпосылку, лежащую в основе ден-
дистского цинизма: просвещение неумолимо ведет к вульгарности,
даже когда оно развеивает мифы. Абсолютное знание - это
состояние абсолютного разочарования.
Если бы беспристрастный студент проследил всю историю французского
костюма от возникновения нашей страны до сегодняшнего дня, он бы не нашел
ничего, что бы шокировало или даже удивило его. Переходы совершались бы
столь искусно, как будто это царство зверей. Не было бы ни одного разрыва,
а значит, и ни одного сюрприза52.
Так, прокламации денди, при торопливом уходе из этого
затруднительного положения, выражают стремление субъективно
дистанцироваться от объективной культуры. Очарование для денди - это
бесконечно более великая добродетель, чем честь или благоразумие:
«Если [...] афоризм «Все моды очаровательны» удручает вас своей
чрезмерностью, скажите, если предпочитаете, «Все были когда-то
признаны очаровательными». Вы можете быть уверены в своей
правоте»53. Архетипичный денди Оскара Уайльда, лорд Генри Уоттон
озвучивает этот пресыщенный релятивизм в той же отчужденной
манере: «Я сейчас ничего не утверждаю и не отрицаю. Это
нелепейший подход к жизни. Мы не для того пришли в мир, чтобы
сотрясать воздух своими моральными предрассудками»54. Дориан Грей
позже пересказывает мнение Генри: «Чтобы стать созерцателем
собственной жизни, нужно избегать ее страданий» - заявление,
опровергнутое не только опытом Дес Ессентеса и Патрика Бейтма-
на, но и собственной злосчастной судьбой Дориана Грея. С одной
* Сосредоточение деловой и культурной жизни. - Прим. пер.
49
стороны, лорд Генри провозглашает циничный ответ на неуверенное
признание герцогини в любви к Дориану:
«Знание было бы фатальным. Именно неопределенность очаровывает.
Туман делает вещи чудесными».
«Каждый может сбиться с пути».
«Все пути сходятся в одной точке, моя дорогая Глэдис».
«Какой же?»
«Разочаровании».
Тем временем Дориан лежит наверху, потрясенный вторжением
реальности в мир самодовольного благодушия, созданный
чарующими речами Генри:
Жизнь внезапно стала отвратительно тяжелой ношей для него. Ужасная
смерть несчастного доходяги, застреленного в зарослях как дикий зверь,
казалась ему предвосхищавшей и его смерть также, он почти провалился, как
сказал бы лорд Генри, в настроение циничной шутливости56.
Эта оппозиция между реальностью (смерть/вульгарность)
и фантазией (декаданс / пресыщенное мироощущение)
структурирует Портрет Дориана Грея, как и Обратный отсчет Хюйсмана.
Как концептуальная противоположность, она внутренне слабо
реализуется; декаданс и пресыщенное мироощущение ни в коей мере
не бросают вызов земной реальности, но возникают скорее как
пораженческое приспособление к ней, отречение от ответственности,
которое Гегель описывает как «бегство от универсума»; форма
самоудовлетворения, которая заключается в сознательной слепоте как
психической стратегии, провозглашающей, что «все - суета» и, тем
не менее, прибегающей к легкомысленным личным удовольствиям
или «попытке воздействовать»:
Отлить чью-то душу в форму милосердия и оставить ее дожидаться
момента; слышать чьи-то интеллектуальные взгляды, возвращающиеся эхом вместе
с музыкой страсти и юности; перегонять один темперамент в другой, как
будто это тонкий флюид или странный парфюм; в этом заключалась настоящая
радость - возможно, наиболее удовлетворяющая радость, доставшаяся нам
в столь ограниченный и вульгарный век, как наш, век грубых удовольствий
плоти, век, в принципе, грубый в своих целях...57.
Лорд Генри Уоттон олицетворяет собой пресыщенное
мироощущение денди, который находит все «хорошим в своем роде». Для
его эстетического вкуса смерть актрисы Сибил Вейн - это нечто
совершенно прекрасное, как «чудесная сцена» из трагедии о Якове I.
Ее судьба была только результатом ее ухода со сцены в «реальную
50
жизнь», ее неспособностью понять маскарад, который и является
для денди реальной жизнью. Для лорда Генри счастье
банальности и есть счастье; что действительно банально, так это проявление
сильных эмоций или упражнение в узколобых «рассуждениях».
Мысль, высказанная Генри о том, что «мужчина может быть
счастлив с любой женщиной, пока он ее не полюбит» - одновременно
буквально и метафорично, - с заметной настойчивостью проходит
красной нитью через весь роман Уайльда, и это урок, который
Дориан Грей, в конце концов, так и не способен усвоить.
Ирония
В культурном климате 1990-х эта циничная позиция
возникает под знаком постмодернистской иронии. Как и декаданс 1890-х,
ирония стала почти что выбитым заглавными буквами девизом
журналистики духа времени. В 1991-м Современное обозрение под
редакторством Тони Янга с энтузиазмом ударило по иронии, в
течение нескольких лет неустанно прокладывая ее как путь к ловко
обставленной «помолвке» с популярной культурой. Даже в то
время Современное обозрение оказалось слишком запоздалым; такие
сознательно пародийные телевизионные шоу, как Лунный свет и Шоу
Гарри Шендлинга, как и фильмы вроде Синего бархата Дэвида
Линча, уже были предназначены для молодой аудитории с генетической
предрасположенностью к ироническому. Впоследствии в Британии
Современное обозрение стало явным защитником «иронического
вкуса», пока не было закрыто в 1995-м, чему могло в большой
степени послужить его увлечение американской культурой. Похоже,
ирония, как и большинство других идей (тот же постмодернизм),
была принята гораздо менее двусмысленно в Америке, чем в вечно
недоверчивой Британии. Кстати, схваченный Новым Светом
энтузиазм по отношению к новым концепциям и новой терминологии
- это один из симптомов выражения постоянной и всеобъемлющей
противоположности между американской «поверхностностью»
и британской «глубиной»: я скажу об этом больше в главе 3.
Коммодификация - это только наиболее очевидная
ловушка, скрывающаяся за тем, что Гегель называет «уникальная
истина суетности». В статье, усыпанной ссылками на исключительно
американские фильмы и публикации, редактор Современного
обозрения Тони Янг утверждает, что «единственная альтернатива
иронии - это наивный идеализм. [...] Мы не можем идти ни вперед,
ни назад», - тяжело продолжает он. «Но я бы предпочел остаться
51
там, где нахожусь, а не прыгать в пропасть»58. Так же, как декаданс
и пресыщенное мироощущение, концентрированная «ироническая»
эстетика - это форма ignoratio elenchi', статья Янга, как и тихие
откровения Ричарда Рорти, демонстрирует фанатичное следование
за изначально ущербной концепцией.
Вторая характеристика иронии - это ее статус софистики. Он
имеет два аспекта, первый из которых мог бы быть назван
синдромом «садового гнома». В известной ныне статье 1990 года в Новом
левом обозрении Петер Бюргер писал:
Садовый гном - это не более чем садовый гном [...]. [Он] не больше
предмета необходимого, чтобы удовлетворить чей-то мелкобуржуазный вкус. Его
качество не более чем самоочевидно сейчас для того, чтобы ироническое
усвоение кича было открыто как разумное и действенное средство
дистанцирования кого-либо от более развитых форм эстетического сознания. В эти дни
никто не может ожидать, что садовый гном станет иронической цитатой,
которая особенно озадачивает тем, что садовый гном в кавычках ни в коей мере
неотделим от того, что можно назвать реальной вещью59.
Фразеология Бюргера - это тот последний пункт, который
весьма показателен. Реальная вещь для Бюргера непроизносима,
неприкосновенна, материя, столь возвышенная, что даже когда говорится
о «реальной вещи» в качестве реальной вещи, он заставляет себя
использовать заменяющую фразу «что кто-либо может назвать...»
вместо пугливых кавычек. Его различение иронического садового
гнома и реального совсем не то; последний реально остается в
области эфемерного. Мода на использование термина «пугливые
кавычки» далее подтверждает утверждение Гегеля о том, что культивация
иронии способствует бегству из универсума и также что это бегство
мотивировано страхом перед познанием всей тяжести пути к
истине. Если потенциально все может быть увидено иронически, то для
«иронистов» может объясняться лишь невнимательностью и
незаинтересованностью то, что с этой банальной торжественной
отстраненностью упущен определенный культурный феномен. Поэтому
ироническая чувствительность по определению также делает свой
вклад в пресыщенное мироощущение, когда разум не находит
никакого особенного основания для различия между одной культурной
формой и другой - кроме эстетического. У иронии свое отдельное
историческое сознание; ее телос* - состояние абсолютной иронии.
* Лат. подмена тезиса.
** Лат. греч. завершение, цель. В древнегреческой философии
(Аристотель, стоики) своего рода внутренне присущая цель существования
отдельных явлений и предметов. - Прим. пер.
52
«Возможно, - предполагает Тоби Янг, - тем, кто устал от иронии,
придется ждать ведущих утренней телепрограммы, чтобы
обнаружить воздушные кавычки перед тем, как они смогут исследовать
постиронический пейзаж»60. С этого момента, по-видимому, мир
станет мрачным местом неустанного веселья, когда каждое слово
воспринимается с лукаво поднятой бровью, отнюдь не кажущейся
такой умной, как задумывалось общей эволюцией.
В Попытках ухода, занимающихся культурологическим и
социологическим изучением психических стратегий, используемых
в повседневной жизни, Стэнли Коэн и Лаури Тэйлор описывают
пригородную среду, для которой кажутся характерными
однородность и рутина, когда бережно поддерживаемые сады перед домом
отражают традиционный костюм-тройка, репродукции на стенах
и широко распродаваемые романы на полках внутри.
Но когда дверь закрыта на ночь, а оба ребенка спокойно лежат в своих
кроватках, муж с женой поворачиваются друг к другу и смеются. Они
подписались на новое самосознание, поборники осведомленности. Они цинично
высмеивают тех, кто делится с ними буржуазным расположением, но не
понимает шутку. Окидывая взглядом комнату, они заявляют, что в курсе своей
видимой принадлежности к пригороду, и тогда с прекрасным пониманием своей
особенной идентичности объявляют о том, что далеки от всего этого. «Мы, как
и соседи за дверью, можем выглядеть как жители пригорода, но мы оба знаем,
что относимся к этому с отрешенностью, с иронией, даже с цинизмом».
Этот цинизм, однако, безоснователен, поскольку проистекает из
ложного ожидания «настоящей жизни», семиотически
неопосредованной никакой знаковостью:
На территории изначальной разочарованности индивидуальности
деятельно убеждают других, что они представляют собой нечто большее, чем есть
на самом деле; «в действительности я не социальный работник, - признаются
они, - не такой, как другие... Я вижу все не иначе как игру». Дантисты,
доктора, помощники продавцов насвистывают те же самодистанцирующие
замечания, чтобы убедить в этом коллег, не понимая, что их сослуживцы в конце
коридора используют на работе ту же самую эскапистскую стратегию61.
Ирония как софистика - это ловкий идеологический трюк,
который может поддерживаться только благодаря разделению
воображаемой «реальной вещи», которое столь презренно. «Банальность»
повседневной жизни - это ее собственное творение, ложная опора, с
которой она захватывает чувствования «лучших» и отдает на откуп
этим «здравомыслящим» ордам. Садовый гном никогда не был
просто садовым гномом, точкой, упущенной совершенно неспособным
к историзации иронистом. Благодаря универсализации собствен-
53
ного опыта ироническая чувствительность достигает абсолютизма,
выходящего далеко за пределы гегелевской «телеологической»
диалектики истории.
Можно было бы открыто и без сюрпризов проследить за
интеллектуальными операциями этого гипотетического ирониста, но
этому мешает догматичное прочтение сравнительно недавней
литературной теории. Для всей интеллектуальной пустоты
консервативной кампании «Назад к основам» в этом отношении ее заряд
против «модных теорий» 1960-х, ответственных за «национальный
цинизм», заразивший Британию, был в некотором отношении
верен. Так, «интертекстуальность» постмодерна - идея о том, что
тексты созданы посредством постоянной циркуляции и благодаря
цитированию уже существующих текстов, - может дать оправдание
не только отказу от потребления культуры, но и объявить упадок
иной формой культурной продукции. Значит, теперь внутренняя
аутентичность интеллектуального ирониста никогда не может быть
адекватно выражена языком, на котором он или она вынуждены
общаться или даже думать. Следовательно, стратегия непрерывного
ироничного использования языка, в рамках которой каждый может
потешить собственное тщеславие, - «это в любом случае умнее, чем
мысли, полученные от другого или других». Заблуждение о
субъективной целостности, следовательно, может казаться находящимся
на высоте фигуры циничного ирониста, который не смог
самостоятельно прийти к выводу, что «интертекстуальность» превосходит
даже его же высшее «я». «Желал ли он выразить себя, - пишет
Барт, - он должен по меньшей мере знать, что внутренняя «вещь»,
которую он думает «перевести», сама по себе уже
сформированный словарь; слова объяснимы только через другие слова, и так до
бесконечности»62.
С тех пор как, например, «деконструкция субъекта» ясна как
операция, выполненная авангардом постмодернистов или
постмодернистских теоретиков, остается возможность думать так, чтобы
способствовать уходу рационального от «истины»; именно после
этого катастрофического «события» стали возможны только
цинизм и ирония. Если садовый гном никогда не был просто садовым
гномом, значит, и субъект никогда не был полностью
интегрированной и согласованной целостностью. Таким образом, возражение
Деррида на распространенную характеристику деконструкции как
«проекта» или даже «критики» вполне понятно. Аналогично
Деррида отрицает идею о том, что его эссе «Конец книги и начало пись-
54
ма» в любом случае провозглашает зарю новой эры текстуальности,
или грамматологии, как вроде бы должно предполагать название63.
Требовать, чтобы его предприятие предполагало революционный
разрыв с классическими оппозициями, говорит он в другом
контексте, было бы «забвением того, что эти оппозиции никогда не
формировали определенной системы, это разновидность внеисторической,
совершенно однородной схемы»64. Это, наоборот, основа похожего
аргумента, которым Джоффри Беннингтон оправдывает свой
отказ использовать термин «постмодерн» как периодизирующий.
Фактически постмодерн, говорит Беннингтон (после Лиотара),
в определенном смысле можно было бы назвать «частным случаем
модерна»65.
Есть второй, очевидно более «опасный» путь, на котором ирония
выполняет роль своеобразной идеологической софистики.
«Величайшее достижение иронии заключается в том, что она дает тем,
кто ей обладает [sic]», пишет Тоби Янг, «способность противостоять
опасным политическим движениям». Степень, с которой ирония
или насмешник могли быть принуждены силой политической
реакции, - очевидна. Словенский критик Славой Жижек делает,
возможно, наиболее ясный обзор этого в открывающей главе своего
Возвышенного объекта идеологии. Со ссылкой на различение Петером
Слотердайком «цинизма» и «кинизма», цинизм как ирония,
говорит Жижек, заместил собой марксистское понятие «ложного
сознания» как основного способа функционирования идеологии.
Главенство идеологии более не подразумевает серьезное к ней
отношение, согласно Жижеку. Ирония представляет свой
собственный конец как быструю коммерциализацию стратегии, которая
однажды обеспечила возможность испытать на прочность
доминирующую идеологию. Кинизм, относясь к себе слишком серьезно, стал
уязвим именно для критических процессов внутри себя - момент,
когда, как говорит Слотердайк, «критика изменила сторону» и
цинизм перестроился именно как «отрицание отрицания»
официальной идеологии66. Версия иронии Тоби Янга - это материализация
психического, критика, потерявшая объект, который существует
отдельно и абсурдно, как утверждение превосходства над всеми
условностями и представлениями. С того времени, как ничто не
избегает этой инвективы, просвещенный цинизм фактически упразднил
критику, которая ошибочно принимает свое отсутствие за
жестокость универсума.
55
4. ЦИНИЗМ КАК ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ
«Дебаты» между рационалистической и прагматической
концепциями веры стары как мир. Для Фауста Гете этот вопрос
представляет собой конфликт между Богом Нового Завета («в
начале было Слово» - Иоанн 1:1) и Богом Старого Завета; действия,
творения - Богом «Дела». Маршалл Берман пишет в том же
контексте, как конфликт был выражен в XIX веке в дебатах о
модернизации Германии: «Следует ли немецкому обществу взяться за
«еврейскую» материальную и практическую деятельность, то есть
за экономическое развитие и строительство [...]? Или, наоборот,
лучше держаться в стороне от таких «мировых» интересов и
культивировать обращенный на себя «немецко-христианский» способ
существования?»67. Для Жижека циничная ирония есть конечный
результат чрезмерно рациональной концепции веры, в котором та
является не просто руководством к действию, но в «немецком»
духе, как «исключительно «частное» состояние сознания», смысл
которого может привести интеллектуальную активность прямо к
инерции68.
Эта оппозиция между «еврейским» прагматизмом и
«немецкой» рациональностью приобретает гротескный резонанс в
пресловутой фразе «внутренняя эмиграция», которая, как сказала Ханна
Арендт, становится «разновидностью шутки» в послевоенной
риторике холокоста. Внутренняя эмиграция, говорит она, отсылает
к тем людям, которые зачастую даже имели положение в Третьем
рейхе и которые после войны говорили себе и миру, что они всегда
«внутренне противостояли режиму». Как указывает Арендт, вопрос
о том, «говорили они правду или нет», совершенно неуместен.
Фактом остается, что «нет тайны в том, что в охваченной секретностью
атмосфере режима Гитлера лучше было быть схваченным, чем такая
внутренняя оппозиция»69. Я более основательно изложу значение
фразы в главе 3.
Славой Жижек не использует термин «прагматизм». Также не
ссылается он ни на одного из представителей этой
преимущественно американской философской традиции. Тем не менее его теория
о том, что идеология, или иллюзия, должна находиться не «на
стороне знания», а «в реальности самоосуществления», которая, как
он верит, «всегда материализована в нашей удающейся социальной
56
активности», - это, в сущности, прагматистское утверждение, для
которого бесконечные рационализации постмодернистского
цинизма не имеют актуальной значимости. Уиллиам Джемс,
одобрительно отзываясь о «прагматистской» философии Ч. С. Пирса, заявляет:
«Если бы существовала какая-нибудь часть мышления, которая не
видела бы никакой разницы между следствиями мыслей, тогда эта
часть не была бы правильным элементом обозначения мышления»70.
Для всей их «прекрасной осведомленности» стиль жизни
пригородной пары, которую показали Коэн и Тэйлор, ничем не отличается от
того, каким живет их «менее умудренная» социальная ровня
(которая поэтому реально не существует как таковая). До тех пор, пока
вера не вдохновляет действие, она остается в области эфемерного,
цинизм остается формой самообмана, а ирония остается
основанием для ухода от политической ответственности.
Это правда, что чрезмерное интеллектуализирование, как
и чрезмерный, грубый прагматизм, могут закончиться схожими
отчаянными рывками к действию субъективного. Когда цинизм
рассматривает себя как объект критики и становится «отрицанием
отрицания» статуса - кво, результат может быть столь же опасным
и столь же деструктивным, как антиинтеллектуальный отказ брать
на себя груз рациональной «ответственности».
Записки из подполья Достоевского, возможно, первое
циничное высказывание в смысле «просвещенного ложного сознания»
Слотердайка. Рассказчик Достоевского - по-настоящему
меланхоличная фигура, для которой просвещение стало гнетущим,
растущим опустошением человеческой воли, все большим осознанием
того факта, что «он более не фортепьянная клавиша или штифтик
в органном вале». Когда однажды законы природы были
нарушены, «человек более не отвечает за свои действия» и не останется
больше в мире никаких личных деяний и риска71. Следовательно,
для интеллектуала единственная возможная легитимная позиция -
это какая-то бесхарактерная бездеятельность. Слишком много
думать - это «болезнь», которая разрушает каждую субъективную
идентичность, так что подлая осведомленность, которая делает его
по-настоящему подлым, приходит к созданию некоего «утешения»;
это то же положение, которое фиксируется Джеймсоном в связи с
декадансом постмодерна72.
Даже собственные эмоции рассказчика ниже представлены как
литературные клише: «Я был готов заплакать, но в то же время
определенно знал, что все это происходит от Сильвио и Маскарада
57
Лермонтова». Застенчивость - это калечащее наследие процесса
просвещения, великое препятствие для самого смысла
существования человечества - «что человек должен постоянно доказывать
самому себе, что он человек, а не штифтик в органном вале». Так,
величайшее благо на земле, полагает рассказчик Достоевского, - это
упорное и настойчивое желание человека «вредного, глупого, даже
глупейшего», возможно даже особенно, «если приносит нам явный
вред и противоречит самым здравым заключениям нашего рассудка
о выгодах [...]»73.
Как раз эта отчаянная преданность личности и
индивидуальности и ведет к подтверждению цинизма под знаком
постмодернистской извращенности, подавляющей доминирующей идеологии.
В романе Ханифа Курейши 1990 года Будда пригорода, этот сдвиг
находит выражение в фигуре Джамилы, дочери бывшего
мусульманина, который пришел к нехарактерному выводу, что она должна
выйти замуж за индийца из Бомбея, и доводит самого себя до
голодной смерти, полагая, что она должна закончить начатое. Когда она
окончательно решается на это, рассказчик Карим рефлектирует по
этому поводу:
Я продолжал думать про себя, что бы сделала типичная Джамила, если бы
это было что-то случающееся каждый день. Но я был уверен, что она выходила
замуж за Чангеза из извращенности. Мы жили в мятежные и
бескомпромиссные времена, в конце концов. И вот, Джамила интересовалась и
анархистами, и ситуационистами, и метеорологами, и вырезала всю эту чушь из бумаг
и показывала ее мне. Замужество за Чангезом должно было быть, по ее
мнению, бунтом против бунта, креативной новинкой-в-себе. Все в ее жизни было
бы разрушено, подвергнуто эксперименту. Она заявляла, что делает это
только ради [своей матери] Джиты, но я полагал, что это было просто своевольное
упрямство74.
Так могло образоваться небольшое различие между
«софистикой» и тем же решением, основанном на позиции «ложного
сознания»; в обоих случаях одобряется действие, хотя один, возможно,
связан с непросвещенной идеологической наивностью. К тому же
появившаяся курьезная альтернатива рационалистической
«извращенности» Джамилы использует хитрую форму прагматизма
особенно грубым путем, при котором просто отказывается
вступать в конфронтацию с логическими или моральными тонкостями
особенных ситуаций, стремясь сохранить действие субъективного,
но вместо этого сохраняется субъективная позиция
максимального применения риторики. В этом свете наивность проецируется на
интеллектуальную сложность, неосмотрительно угодившую в эти-
58
ческий и эпистемологический клубок рационалистических дебатов.
Это новое состояние полно осознания несчастья человека из
подполья Достоевского и заставляет прибегать к форме темпераментной
амнезии как преимущественной стратегии.
В истории Питера Чипендейла и Криса Хорри в газете Sun
это состояние возникает как постоянное проявление презрения
в части Sun (особенно во время редакторства Кельвина МакКензи)
к «нудно-розовому» Guardian:
Роджер Вуд, который управлял всеми значительными подчиненными как
заместитель шефа, хорошо знал, что случай, делающий тебя нерешительным, -
это момент, когда ты растерялся. Это именно то, что происходило в World Worst
[в Guardian], где либералы с кровоточащим сердцем всегда агонизировали
в связи с принципами и заламывали руки из-за разных вопросов, а также
тряслись, стараясь быть справедливыми, и тосковали, сталкиваясь с другой
точкой зрения, волновались, что люди недовольны, говорили, что, с одной
стороны, дело обстоит так, а с другой - эдак, и приходя в итоге к этому месиву,
они не могли отличить свою ср...ю задницу от локтя и не могли ничего сказать
наверняка. Каждый и так знал то невыразительное дерьмо, которое они
подавали к концу дня.
Стоило только начать думать подобным образом, как оказывалось, что
тебе не стоит ничего предпринимать. В Sun, и вообще в таблоидах, такое
состояние возникало, только если кто-то подкатывал к твоей жене. Тебе не
следовало прекращать думать об этом. Ты просто делал то, что считал правильным,
обходил вокруг и давал им по физиономии75.
Лучше всего сказать, что кельвинизм - это изощренная форма
просвещенного ложного сознания, которая успешно избегает
меланхолии, присутствующей в каждом примере современного
цинизма из анализа Слотердайка. Как бунтарское упрямство Джамилы,
так и реакция Кельвина способны к действию с особенным пылом
и рисовкой, но все же считаясь с тонким складом других.
Социальная опасность этого - обсуждаема; без сомнения, кельвинизм часто
и очевидно переходит грань полемической энергии общей
оскорбительности, хотя, возможно, это правда, что он возникает только
вместе с сопутствующим ему развитием «иронической»
восприимчивости, которая оценивает его лингвистические продукты с
определенным объективным восторгом.
59
5. УПОМИНАНИЕ: ПОСТМОДЕРН -
ЭТО ВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СХЕМА
Что демонстрируют все эти тексты и Записки us подпо-
лъя, вероятно, наиболее выразительно, так это что концепт
индивидуального волеизъявления не может быть подведен ни под
какие теоретические доказательства его упадка. Так называемая
деконструкция субъекта, которая становится чем-то вроде
философской красной сельди, приводит к основам идеалистической, даже
романтической концепции человеческой субъективности, которая
спорно находит ее самое сильное и продолжительное выражение
в идеологическом обрамлении литературного модернизма.
Эстетическая рациональность модернизма обычно исторически
контекстуализируется как реакция на беспокойство по поводу
развития индустриального общества и «коммодификации» культуры;
артистическое бегство в целостность феноменологического
восприятия приводит к созданию формы идеационной компенсации,
ощущаемой социальной фрагментации и хаотичности
распространяющейся капиталистической экономики. Так, сторона
эстетической подлинности в модернистской культуре - под возрастающей
угрозой бесцеремонного вульгаризма коммерции - становится
одновременно и меньше, и в то же время возвышенней, до того
практического познания, о котором стоит сказать как о редчайшем
и полностью мистическом моменте «эпифании*», опыте, доступном
только тем, чья восприимчивость достаточно тонка для того, чтобы
принять ее истину и магическое значение76.
В этом и подобных ему утверждениях можно увидеть
модернистскую культуру как «зараженную» повседневной жизнью - фраза
Юргена Хабермаса, что вызывает в сознании разговоры Портилло
о «болезни» или «яде» британского национального цинизма.
Постмодернизм в пику этому идеализму осознает себя как радикальная
порча модернистской художественной работы, конфронтация
«наивного» садового гнома с остроумно заключенным в кавычки,
безжалостное кромсание дискурсов под эгидой «интертекстуальности»
и натиск на господство тоталитарной субъективности.
Постмодернистская критика «целостного субъекта» (или коммерческого
характера дискурсов, как и свободы искусства) - это следствие прида-
* Греч, epiphaneia - проявление. В широком смысле явление божества и
божественного, например, пророчество Дельфийского Оракула. - Прим. пер.
60
ния этим концептам универсального статуса, провала в историзацию,
или стремление увидеть их более широко как моменты внутри
особенного культурного или философского климата. Это не означает,
что данная критика безосновательна или неуместна, просто она
неосторожно придает себе неоправданно завышенное значение.
Постмодернизм слишком легко выставляет себя как всецело
радикальную программу, вынесенную против субъекта; так и Джеймсон с его
друзьями - культурными теоретиками говорят, что «полностью
уяснили для себя идею о том, что [...] индивидуализм и личная
идентичность - это дела прошлого» и что «старые индивидуальность
и индивидуалистический субъект - мертвы»77.
Экзальтированное чувство «жизни», согласно которому
субъект Джеймсона «мертв, - это продукт того, что Хабермас называет
силами модернизма - «принцип неограниченной самореализации,
требование опыта подлинной жизни и субъективность гиперстиму-
лированной восприимчивости»78. В этом смысле
индивидуалистический субъект вымер как дронт - но он мертв только в этом смысле,
что означает позднее угасание. «Более радикальная
постструктуралистская позиция», от которой Джеймсон дистанцируется, - это как
раз менее радикальная теория «мертвого как дверной гвоздь», но ее
отличие от теории дронта Джеймсона - в одном аспекте, имеющем
большее значение, чем вся суть дела: конечно, субъект мертв и всегда
был таковым, если (а) субъект и (б) «жизнь» поняты в
идеализированном, навеянном модернизмом духе. «Постструктуралистская»
критика по определению гораздо менее амбициозна и менее
радикальна в той мере, в какой она следует за особенным, всегда
специфическим текстовым окружением, будучи в этом случае
особенным, высоко модернистским индивидуализмом.
Хабермас использует похожий аргумент, взятый на
вооружение у американского неоконсервативного социолога Дэниела
Белла, чтобы атаковать постмодернизм как реакционную,
контрпросвещенческую тенденцию, в которую он ненароком
записывает и «антимодернизм» французских постструктуралистов.
«Они держатся так, будто никто, кроме них, не имеет значения»,
пишет он,
совершают выпады децентрированной субъективности, эмансипированные
от императивов работы и полезности, и с этим багажом они ступают за
пределы нынешнего мира. На основе достижений модернизма они оправдывают
непримиримый антимодернизм. Они движутся к далекой сфере архаики, где
действовали спонтанные силы воображения, самоиспытания и эмоции79.
61
Есть большие основания подозревать, что заряд
«антимодернизма» относится к Деррида и Фуко, упоминаемым Хабермасом
«постструктуралистам» и с трудом вырисовывающимся на протяжении
его эссе. Однако как критика постмодернизма это имеет много
общего с аргументом, который я развивал на протяжении всей этой
главы: что наших концепций истинности, скажем, или подлинной
субъективности, из любой предшествующей эпохи до сих пор в
избытке - результат проникновения модернистской культуры в
повседневную жизнь. Как говорит Хабермас, любая манифестация
этих идей, в политической ли жизни или в формах художественной
репрезентации, похоже, всегда не удовлетворяет нашим
требованиям. Модернистский темперамент, говорит Дэниел Белл, «спускает
с привязи гедонистические мотивы, несовместимые с правилами
профессиональной жизни в социуме», и более того, «несовместимые
с моральными основами осмысленного, рационального образа
жизни»80. Если Белл излишне суров, что особенно заметно по выбору
используемых им слов («гедонистические», «моральные основы»),
его наблюдения имеют близкое отношение к следующему моему
тезису: что распространение и всегда широкое использование слова
«постмодернизм», включая развитие так называемых
постмодернистских «критических практик», парадоксально поднимает все выше
и выше нашу концепцию подлинности, вплоть до легитимации той
«постмодернистской» критики, которая окончательно
проваливается в общий цинизм, обрушивает веру в демократические процессы
и распространяет ощущение разложения и упадка. Концепт
«постмодерн» воплотился столь широко, что затрагивание полезных тем
вроде идентичности или субъективного действия отбрасывается
как «эссенциалистское» банальной чувствительностью, для
которой «ирония» и «пародия» приятны своим статусом неправильных
убеждений. Если это цинизм, то цинизм не Диогена, а Перегрина81,
скорее неподвижный и скованный, чем постоянно пребывающий
в полемике, скорее бессмысленно самопорабощающий, чем
неутомимо требовательный к себе. Постмодернизм забыл этот
исторический «схематизм»; процесс структурного превращения средств,
используемых постмодернизмом (постструктуралистская
«критика» субъекта и т. д.) в его цели (психическая чувствительность
«постмодерна»).
Имеющаяся цель тогда требует решения как минимум трех
задач: (I) сказать, на какой именно минуте исчерпывается
критическая точность концепта «постмодерн»; (II) отказаться от практики
62
ставить вне закона определенные концепты на основании их
«наивности» или способствования «социальному угнетению» (ирония
и политкорректность - те полярные экстремальные формы, на
которые этот запрет может быть распространен); и (III) избегать
любой реакции на этот «кризис», которая пытается вернуться к некой
форме возвращения к «определенностям» старины - за их ясность,
хотя, в пику теории дронтов Джеймсона, такие определенности
никогда не были определенными. (Нет, конечно, они подвергались
сомнению; вряд ли кто может говорить о едином или целостном
субъекте самой ранней эры, в которую вопрос о
«центрированности» или «децентрированности» субъекта никогда не поднимался.
Момент, когда вопрос позиционируется, - это критическая точка,
на которой и определенности, и сомнения кристаллизируются;
определенность - это идеологическая позиция, которая осмысленна
только тогда, когда введена возможность сомнения.)
В этом свете новое использование терминов и концептов,
которые, кажется, запрещены (автор, субъект, реальность, половая
и культурная идентичность, универсум), нет нужды связывать
с присутствием реакционности или ностальгией по прошлому;
напротив, критические инсайты постструктурализма (наиболее
особенным образом - деконструкция) обнаруживают не возможности,
а императивы, которые нуждаются в продолжении использования
определенной терминологии. Других просто нет, и даже если б
они были - они по определению были бы не просто ложными, но
заключали бы в себе не менее катахретические* злоупотребления.
Если бы я был вынужден здесь поставить любое высказывание
«напоследок», им было бы следующее. Стратегия под бурением Дер-
рида, где «метафизически включенное» слово используется с
графической отметкой зачеркивания, говорит о глубоком
дискомфорте по отношению к означающему и означаемому, коему этой книгой
будет объявлен ультиматум. Под бурением - это драматическая
постановка семиотического фетишизма. Эта стратегия способствует
дурному отношению к аутентичности, церемонно окружая
лингвистические знаки недостающими радикальными значениями. Если
политкорректность выглядит (как здесь, например) как наивное
применение постструктуралистских языковых теорий, неуместная
политизация мысли Деррида, тогда постмодернистская ирония,
наоборот, демонстрирует близорукую преданность концептам Дер-
* Катехретический. От др. греч. Κατάχρησις - злоупотребление,
противоречие.
63
рида, ратификацию* которых я охарактеризовал как санитарные
кордоны политической невовлеченности, дающие о себе знать на
протяжении всей его работы. Оба концепта могут быть прослежены
как метафизические предчувствия, касающиеся обозначения, что
характерно и для постструктурализма, и для постмодернистской
теории; то и другое характерно для процесса, который я назвал
«воплощением» (reification) постмодерна.
Постмодернистский цинизм - это наследие старого
метафизического недоверия к сфере политики, а также уклонения от политики -
«критической мании все улучшать», пренебрежительно говорит
Слотердайк в пользу преимущественного ухода в эфемерную
сферу метафизики. Идеалы политики тем самым поднимаются на
уровень, где они не только недосягаемы, но и категорически
неуместны, и единственным спасением оказывается то, к чему
пришел человек из подполья Достоевского - переход в состояние
болезненного бездействия. Сдержанность, осторожный историцизм
и политическое самоограничение постструктуралистской (не)кри-
тики - соучастники этого процесса, как «вульгарность»
воплощения постмодернизма. И напоследок: насколько постмодерн загубил
себя своими перегибами, настолько же постструктурализм остается
историческим и политическим событием.
* Процесс придания юридической силы.
Il
«Ни шагу назад»:
фетишизация аутентичности
1. ЖЕЛАНИЕ СЕМИОТИЧЕСКОЙ «ПРОЗРАЧНОСТИ»
Честность - это всегда лучшая политика. Когда ты честен, то
не идешь на компромиссы, не делаешь того, что люди, как тебе
кажется, ждут от тебя, но идешь своим путем, делаешь, что
считаешь нужным ты, вот о чем этот выпуск [...]. Свидетельство - на
обложке этого выпуска: Ни шагу назад. Мы все на своем пути
открытия и развития, смело следуем туда, куда никогда не добирались
прежде, и, как видно из личных убеждений звезд этого номера, мы можем
быть уверены, никто не сделает ни шагу назад.
Декларация редакции журнала Dazed and Confused.
Выпуск 9.1994 (Осень)
Культурная одержимость (I): Искренность
Так мы и утонули в примерах коллективного социального
волнения по поводу аутентичности. Политические симптомы,
рассмотренные в главе 1, одинаково повторяются в мире рекламы,
промышленности и популярной культуры. 1990-е лежат на полке
истории как «эпоха честности». И сейчас это представляет собой
быстро разрастающееся повальное увлечение. От поп-звезд до
политиков, от актеров до рекламных продюсеров - каждый стремится
принять в этом участие. Честность потеснила остроумие и
утонченность как определенный знак коммерческого доверия.
Недавно появилось несколько текстов, предпосылкой которых
было не что иное, как утверждение их собственной аутентичности.
Содержание состояло из дополняющих уверений в собственной
легитимности, из заявлений вроде «я честен», «этот текст - правда»,
«этот продукт сделан честно».
«Я Майк Линдап... И я реален». Газета Midland Bank
рекомендует в качестве «истинной жизни» то, что посоветовал пенсионный
советник из деревни за пределами Лестера, человек, для которого
пенсионный совет - это работа «с людьми», как когда-то его работа
65
у портных по субботам. Реклама предполагает доверительные
отношения с читателем - действительно, эта тема вынесена на передний
план текста, который заклинает: «Не волнуйтесь. Я не хочу
продавать вам пенсию или что-либо еще. В любом случае не сейчас».
Майк Линдап подводит черту, подобострастно благодаря нас за
прочтение объявления, и признается: «Между нами, надеюсь, что
фотограф из следующего объявления чуть более лестен»1.
Enlightened Tobacco Company* в это время делает честность
(вместо, скажем, качественных или стилистических особенностей)
определяющей чертой своего смертельного сигаретного бренда. На
сообщение о введении в учреждениях Лондона торговых автоматов
«Смертельная ловушка» в форме гроба управляющий директор
Б. Дж. Каннингэм сказал буквально следующее: «Раз все сигареты -
смертельные сигареты, значит, все продающие их автоматы -
смертельные ловушки. Покупатели, обслуживаемые Смертельной ловушкой,
получат честную пачку сигарет, а не пачку лжи»2. У иронического
продвижения собственной аутентичности Enlightened Tobacco Company
столь кислая мина, что она неотличима от тона «Я Майк Линдап».
Следуя этому тренду, сеть гамбургеров Макдональдс, как
сообщают, выпустила свою торговую марку «Удачный день» ради еще
более нелепой «спонтанности» (или еще «открытости»)3. В мае
1994 года три отдельные популярные британские песни были
посвящены чему-то утраченному или найденному, что называлось
«настоящей вещью»4. На телевидении один из самых быстро
развивающихся новых жанров - это жизненная драма, в которой
очевидно повседневные дела реальных людей преподнесены в неуместном
и условном формате мыльной оперы5. Соответственно, программы
определенных молодежных журналов все больше стали увлекаться
форматом общения ведущего с публичным лицом, на чью
«заурядность» прямо указывается6.
Если брать подобные истории по отдельности, то они кажутся
не более чем банальными примерами ретроспективного идеализма,
теоретически не изощренными попытками вычеркнуть означающее
из семантического уравнения, достичь сферы более чистой
подлинности, искренности, честности, чем мы привыкли считать
возможным. Однако взятые вместе, они, похоже, представляют собой
почти судорожную культурную одержимость, дезавуирующую
любые опосредования, а также прагматику политической реальности
и расколотого, распавшегося субъекта.
* Просвещенная табачная компания.
66
Этот ощутимый импульс голой ясности, скорее к чистой вещи
как она есть, чем к ее символической репрезентации или ее
искаженной имитации, формирует прогрессирующее и систематическое,
свойственное массовой культуре уничтожение знаковой оболочки
объекта. Намерение Midland Bank или McDonald's, действительно,
в том, чтобы продукт приобрел новую «ауру» искренности и
подлинности, в то время как Enlightened Tobacco Company иронически
пародирует этот призыв, превращая чуть ли не в боевой клич. Пока
эта аура не имеет тех богатых ассоциаций, которые использует
Вальтер Беньямин, у которого «аура» художественного
произведения неотделима от ее пребывания внутри традиции с ее
ритуальным контекстом, закономерной тайной и уникальностью7.
Определенная дешевая однозначность придает этим продуктам позднего
XX века ореол прозрачности, нейтральности, непосредственности.
Нынешняя аутентичность предстает в индустрии развлечений
как все более краткосрочная, эфемерная. Энди Уорхолл каждый
раз пропихивал на программу Planet 24 очередного ничем не
примечательного человека из реального мира, чтобы из него
сделали 15-минутную медийную персону. Бессмысленно говорить об
аутентичности этих персонажей, они инкорпорированы в контекст
и выращены силой воображения. Однако, что парадоксально, это
наблюдение больше не удается: наняв «тихого» студента-социолога
Алана Хамильтона как представителя молодежной программы
Слово в 1994-м, Planet 24 сделала возможной новую форму
медийного империализма - колонизацию культурной критики публичной
машиной телепрограмм. «Я нравлюсь им, потому что не являюсь
ТВ-персоной, - говорит Хамильтон в преддебютном интервью, - но
это и станет моей телевизионной личностью»8.
Критика аутентичности, таким образом, включена в разряд
культурной индустрии. «Фильм есть реакция на встряску ауры
художественным вырастанием "личности из студии"», - пишет
Вальтер Беньямин об индустрии кино9. В случае Алана Хамильтона
«личность» расширяет символический капитал интеллигентности
(скорее ее, чем гламура), искренности и подлинности. Алан -
ординарная фигура, взволнованная, недовольная вирусной силой ком-
модификации: «Ты должен перестать рисовать себе имидж, я понял
это во время сухого прогона. В студии я чувствовал себя просто как
обычный человек, потому что у меня не было сапог до бедра или
розовых волос. Но на видео я выглядел очень странно - как будто
меня позвали на программу только что, прямо с улицы. А осталь-
67
ные, будучи в своей нелепой одежде, выглядели совершенно
нормально»10. Так говорит Алан во время интервью, так отличающийся
от Алана на телевидении или обычного Алана: каждый новый слой
самоперевода отодвигает все выше отметку предела аутентичности.
Культурная одержимость (II): Атомизация
В форме того, что Жан Бодрийяр называл «нашествием
биологии»11, гуманизм и субъективность в данное время подвержены
процессу демистификации посредством преимущественного
возрождения теоретической респектабельности генетических исследований.
Эта тенденция не ограничивается научной областью: например,
недавнее открытие так называемых гомосексуальных генов имеет
серьезное значение для любого гуманистического направления,
которое возьмет за основу допущение либерального принципа, согласно
которому человеческая половая идентичность скорее продукт
окружающей среды, чем нечто врожденное12. Это те направления,
которые готовы принять любые подобные открытия; тот факт, что теория
гомосексуальных генов была взята на вооружение гей-активистами
в Штатах - за то, что она дала им то, чего им преимущественно не
хватало, генетическую «легитимацию» гомосексуальности, - это
показатель возрастающей переоценки ценности научной истины в
последнем десятилетииХХ века. «Истина» в данном случае -
«человеческая программа», генетический «святой Грааль», определенная
последовательная конфигурация ДНК, и она близка сопутствующей
тревоге по поводу аутентичности: страх, что «ученые могут дурно
использовать свои знания - разрушить нашу генетическую
наследственность генной инженерией, примененной к человеку»13. Похоже,
в этом месте оппозиция между аутентичностью и искусственностью
окончательно снимается. Какая из сторон конфликта имеет право
заявлять о своей подлинности: сторона науки, идущая по пути
исторического просвещения вместе с международным проектом
человеческий геном, намеревающимся полностью расшифровать код ДНК?
Или сторона гуманитарных наук, снедаемая либеральной тревогой
по поводу политических последствий для тех, чьи генетические
показания окажутся не соответствующими этому принятому архетипу
и для кого суть бытия человеком заключается именно в нашей
загадочности и неопределенности?
В октябре 1994 года американский социальный теоретик Чарльз
Мюррей и профессор психологии Ричард Дж. Херрштейн
выдвинули в своей книге Звонкая кривая: интеллигентность и классовая
68
структура в американской жизни дискуссионный тезис о том, что
некоторые социальные группы - названы белые и азиаты - имеют
большую генетическую склонность к интеллигентности, чем другие
- названы черные и испанцы, - который стал на некоторое время
модным предметом журналистских дебатов в Британии. Как
показывает основная реакция на книгу Херрштейна и Мюррея («если
это и правда, следовало ли им высказывать это?»14), критическо-тео-
ретическая привычка дискурсивного анализа в XX веке оказала
небольшое влияние на понимание личностью науки как нейтрального
(не политического и не идеологического) локомотива объективной
истины.
Другая форма «демистификации» человеческой субъективности
почти всецело лежит в сфере гуманитарных наук (хотя в то же
время она неизбежно помогает разграничению естественных и
гуманитарных наук). Она возникла вследствие решения части философов
и теоретиков отбросить символическое, метафорическое;
концептуализировать субъективность как механическую, бездушную,
материализованную; увидеть желание (вместе с Жилем Делезом
и Феликсом Гваттари) как «систему означающих знаков», которая
действует до представления, перемещая называемый предмет
сериями «прерывистых колебаний»15; или вынести человеческое
сознание в терминах компьютерных технологий как своего рода аналог
программного обеспечения. Как и модель «желающей машины» по
Делезу и Гваттари, «мультипроект» Дэниела С. Деннета как модель
человеческого сознания, основанная на машине Тьюринга*, - ни
в малой степени не метафора, а концептуальная атака на
картезианскую «установку сознания», на которой настаивается, говорит
Деннет, несмотря на признанную неправдоподобность
декартовского дуализма сознания/тела16. Деннет, соотносясь как минимум
с Ричардом Рорти, «думает, что размышления о разнице между
сознательным и несознательным имеют столь малое отношение
к нашему представлению о возможном и важном для человеческого
бытия, как и размышления о разнице между живой и неживой
материей»17. Похоже, что человек - продукт просвещенческого
гуманизма, определяемый как таковой, со всеми своими неотъемлемыми
качествами и правами, в соответствии с идеей свободы -
приближается к своему концу посредством «неразличения человеческого
и нечеловеческого», которое также и для Бодрийяра представляет
* Машина Тьюринга - устройство, созданное в 1936 году Аланом
Тьюрингом для вычисления алгоритмов.
69
собой «прогрессирующую редукцию к нижайшему общему
знаменателю»18. Однако как реально, или релевантно, это «неразличение»
за пределами чисто механических или лингвистических
инноваций, указанных Деннетом? Действительно, если «атака» Деннета
на метафизику Декарта не более чем «концептуальна», то в чем ее
ценность? Зачем замещать одну метафору (органическую) другой
(генетической или электронной)?
Пока Мишель Фуко находит причины одобрять человеческую
«конечность» в Порядке вещей как «удобство» и «источник
глубокого утешения»19, Бодрийяр сетует на то, что видит, как на
вырождение человека в «чистую материальность» ядерной частицы или
генетического кода - несмотря на его былое отпирательство от роли
«тщетно мрачного предсказателя»20. «Границы между человеческим
и нечеловеческим действительно размыты, - пишет он, - пока они
движутся в направлении не к сверхчеловеку, но к недочеловеку,
к исчезновению самих отличительных символических
характеристик»21. Замещение органической метафоры этой атомной - это не
ницшеанская и не апокалиптическая переоценка, а рекапитуляция
суеверий в таких современных формах, как вера в психологию или
технологию. Теперь мы фетишизируем не великие нарративы,
говорит Бодрийяр, но геном, молекулярную или электронную
частицу, формулу. И биологическая манипуляция, говорит он, «едва ли
только карикатура на переоценку ценностей».
Культурная одержимость (III): Ускорение
Жизнь в целом ускоряется. Действительно, прогрессирующие
попытки обходить молчанием соссюровский разрыв между
означающим и означаемым, как видно по глубокой обеспокоенности,
касающейся аутентичности или по пересчету субъективности
посредством «фетишизации» даже мельчайших частиц, - это
симптомы ускоряющейся культуры. Фрагментированное, модульное
социальное существование было широко задокументировано как
эффект возрастания темпа городской жизни. «Говорят, что мы
недостаточно "вовлечены" в дела своих собратьев», пишет Элвин Тоф-
флер в Шоке будущего', «Миллионы молодых людей
[соответственно] теряются в поисках "тотального вовлечения"»22. Еще большее
теоретическое внимание уделил тому же процессу Бодрийяр, для
которого «стереофонический» эффект - одержимость «высокой
точностью», погоня за безупречным звуком при прослушивании
музыки - указывают на маниакальное увлечение совершенствованием.
70
По Бодрийяру, «тотальное вовлечение» (его иллюзия),
предполагаемое Тоффлером, уже было достигнуто в ряде сфер. Цифровой
звук, генотип ДНК, «жизненные» мыльные оперы - все это создает
формы тотального вовлечения (или основывается на идее
тотального вовлечения), тотального впитывания означаемого в
материальность означающего. Реальность вытеснена моделью, симуляцией;
общество достигло точки, за которой ничто не истинно. История как
последовательность событий и их распространение, как «новости»
в наши дни страдает от своего рода эффекта отдачи - вроде того,
который имеет место, когда источник звука расположен слишком
близко к приемнику. История растворилась в «техническом
совершенствовании новостей», прямо как музыка, растворившаяся
в «совершенствовании своей материальности» - в «собственном
специальном эффекте»23. Чем более высокую степень
определенности обретают наши представления, тем в большей степени
означающее становится вещью в себе. Усвоение события и наслаждение
им - в форме бесконечного оценивания, истолкования,
приписывания ему возможных причин и следствий, а также извлечения его
исторического значения - заместили событие-катаклизм, который
появляется на сцене как самоосуществление, создавая собственный
драматический эффект:
...кто-то мог бы предположить, что ускорение современности, технологии,
событий и медиа во всех областях - экономической, политической и
сексуальной - подтолкнуло нас к «бегству от скорости», которое приведет к
освобождению от справочной сферы реальности и истории. Мы «освободились» во
всех смыслах слова, освободились так, что покинули конкретное
пространство, вышли за пределы определенного горизонта, в котором еще есть место
реальности, потому что гравитация еще достаточно сильна для того, чтобы
отражать вещи, которые следует, и, таким образом, иметь и переживать некую
закономерность24.
Другой, противоположный феномен идет по пятам этого ускорения
культуры. То, что Бодрийяр называет «умножением и
перенасыщением взаимообменов», - это стремительность и кромешная,
ошеломляющая густота современного лингвистического, коммерческого и
риторического потоков - которая включает в себя припадочное требование
по поводу «искренности» и чьих-либо «удостоверений подлинности»,
которые оказывают омертвляющий или тормозящий эффект на
общество. Массы реагируют с безразличием на эту гипергустоту;
«нейтрализованные, митридатизированные* информацией», они формируют,
* От имени парфянского царя Митридата VI, правившего во II-I в. до н.э.
71
соответственно, силу, нейтрализующую историю. Пока действие
истории, насилия, событий подобным образом ускоряется, все значение
утопает в силе инерции, стасиса, паралича. Бодрийяр рассматривает
конфликт между субъективной и объективной культурой - эту сим-
птомалогию современных обществ первым идентифицировал Георг
Зиммель - в переходе к новой фазе: как радикальный и полный
разрыв между ними. «Колоссальная экспансия объективного,
доступного материала знания, - пишет Зиммель в Философии денег, позволяет
или даже усиливает использование выражений, которые ходят из рук
в руки, как звон из той самой пустой бочки, и которые невозможно
применить для индивидуального использования»25. Для Бодрий-
яра в 1990-х эта экспансия достигла критической точки. Отношения
между индивидуальной и объективной культурой стали абсолютно
отчужденными, так что критическая способность пошла по пути
помрачения, провала вовлеченности, и в конечном итоге - защитной
стратегии циничного безразличия. Пограничная сцепка между
субъектом и объектом пошла по пути разграничения означаемого и
означающего - последнее, что было необходимо для триумфа объективной
культуры с ее симулякрами. «Симуляция кладет абсолютный конец
значению в его нейтрализованной неразделенной форме. Но она
делает это без шика, без шарма, без удовольствия [...]»26. Отказ или
неспособность взаимодействовать с объектом для человеческого субъекта
может иметь своим результатом только условия глубокой
беззащитности. Современная субъективность характеризуется разновидностью
будоражащего, почти полного оцепенения, уходом из внешнего мира
во внутренний; отчаянной попыткой инкапсулировать то, что кажется
чересчур мимолетным, во что-то более плотное, менее изменчивое, но,
конечно, это более хрупкие, более уязвимые структуры. Циник считает
действие и выражение невозможными; он живет в условиях инерции
и потребительского беспокойства, поддерживаемых постоянным
расстройством. «Оцепенение», отвечает Сильвер Лотрингер Бодрийяру,
«это панический призыв идентичности. Это невроз: попытка влиться
в определенность, которая ускользает по всем направлениям»27.
Тогда культура приближается к основному условию полярности.
Если я описывал здесь это, ссылаясь на бодрийяровскую
парадоксальную теоретизацию одновременного ускорения и торможения
современной жизни и на зиммелевскую аналогичную модель
прогрессирующего отчуждения субъективной культуры от объектив-
Вероятно, это ссылка на смешение культур, мифологий и искусства в эпоху
эллинизма. - Прим. пер.
72
ной, то я также косвенно повторяю анализ, вынесенный в
предыдущей главе. Выворачивание истины, проделанное смертельными
сигаретами и жизненной мыльной оперой - структурно устроенное
так же, как цифровая революция и новейшие исследования
человеческой генетики, - было импульсом к кампании Джона Мэйджора
«Назад к основам», атаке Майкла Портилло на британский
«национальный цинизм» и к кажущейся внезапно возросшей так
называемой низовой политической активности. Эта модульная, или
плюралистическая, фетишизация специфики - в форме кампании ad hoc * -
и целостная фантазия «Назад к основам» представляют
альтернативное политическое решение той же тревоги по поводу
аутентичности - реакция, которую можно наблюдать отраженной почти
в любой сфере современного британского общества.
Мода на переусвоение произведений изящных искусств
прошлого в наши дни описана Жаном Бодрийяром следующим образом:
Это то, что Рассел Коннор называет «похищением современного
искусства». Сейчас можно признать, что это переусвоение предположительно
является ироничным. Но юмор здесь едва ли вызывает явный смех. Как изношенные
волокна кусочка ткани, так ирония производится только посредством
разочарования в вещах, ископаемая ирония. [...] Это ирония сожаления и рессенти-
мента по отношению к чьей-то собственной культуре. [...] Это пародия
культуры на саму себя как акт мести, говорящий о радикальном разочаровании28.
Ирония постмодерна способствует умалению правды и бегству
от универсума, продвигаясь на своем поприще «единственной
истины суетности». Это самомнение, которое «злорадствует за
пределами собственного понимания», замещая содержание бесплодными
заявлениями пустой субъективности, - Бодрийяр, вероятно,
перефразирует Гегеля29. В области критики современного искусства
такое нетерпение по отношению к тому, что воспринимается как
опасности постмодернизма, становится все более распространенным.
Писатель и критик Космо Ландесман делает обзор художников,
представленных на выставке лондонского ICA, шутливо названного
Институтом культурных забот. О работах из коллекции можно
сказать, что
в них совершенно нет чувства юмора, только тяжеловесное чувство иронии
[...]. Эти художники не могут предложить ничего кроме унылого сухого
разочарования; их работы источают вялый, безвкусный скептицизм fin de siècle. У них
нет собственной точки зрения, нет полемической страсти, только тяга к
пародии и пастишу30.
* Лат. в данном случае, этот пример.
73
Это современное искусство соответствует таким, как Брайан
Сьюэлл и «содержащий сам себя писатель и художник» Жиль Оти,
в то время как наиболее распространенная реакция на него
соответствует кампании «Назад к основам» Мэйджора, порицающей
«эксцессы» этого искусства, его нигилизм и бессмысленность и в свою
очередь провозглашающей ценности здравомыслящей средней
Англии во имя возвращения к «образцовой» живописи. Более
экстремальный стиль - идеализм, подстегивающий
пародийно-террористические действия самозваных медиамусорщиков из К Foundation,
чье презрение к представительному искусству приобретает форму
дорогостоящих, «кинических» (используя термин Слотердайка)
жестов, направленных на то, чтобы шокировать институты за
пределами действия их авторитета. Их беспощадный вызов на
сегодняшний день - сожжение миллиона денег в 1994-м - имел ясное
намерение предъявить миру искусства моральную претензию за то,
что он заразился ценностями рынка. Подобно Искусству
самообмана Жиля Оти, его 150-страничному посвящению «благородному
делу художника», деятельность К Foundation произрастает из
природы, которая в итоге возвышается над культурой, из «целостности»
жизни над ее «мошеннической» художественной репрезентацией,
из универсальных истин над их культурными и историческими
разновидностями. Там, где Оти видит сексуальные инсинуации
похотливости - что распространено среди всех его современников, -
К Foundation видит неуместный материальный интерес и жадность.
Если Оти связывает свое неприятие полотен Пикассо с неумеренно
«роскошным» образом жизни художника31, ίο К Foundation подходит
к такой же моральной коррупции - художественному декадансу
наоборот. Их награда в 40 000 фунтов ноября 1993-го была удвоена
присуждением художнице Рэйчел Уайтред денег в виде приза Тернера за
производство «худшего каркаса работы за предшествовавшие
двенадцать месяцев» - это попытка продемонстрировать продажность и ее
ниспровержение. Для Жиля Оти «неприемлемое» поведение Пикассо
и определенного круга других художников вне реализма
отражается в присущей их работам упадочности. Это состояние, которое
может быть исправлено, как он подразумевает, благодаря радикальной
«корректировке» критерия, на основании которого оценивается
современное искусство. К Foundation более экстремальны и даже более
фанатичны, чем Оти, когда настаивают на том, что искусство само по
себе, как институт и практика, морально испорчено и когда они
пытаются заявить, а затем инициировать его падение.
74
23 апреля 1994-го члены К Foundation Билл Драммонд и
Джимми Коути сожгли свои деньги в заброшенном сарае для лодок на
острове Юра, на Внутренних Гебридах, - «без церемоний»,
отметил составлявший им компанию журналист Джим Рейд. Сам выбор
этого места стоит на грани мистической ритуальности. Сообщение
Рейда в Observer сделано заговорщическим осторожным тоном
нечистого осквернителя тайного религиозного действа. Ремарки его
протагониста (комментарии Рейда по ходу статьи)
подтверждают только, что самосознание - это их путь к непосредственности
и подлинности. «Вы помните Рождество, когда Вы были ребенком
и только ждали-дожидались утра?», говорит Драммонд, будя Рейда
после полуночи. «А сейчас просто время, когда Вы инстинктивно
понимаете, что это было правильно», добавляет Коути. Подобная
попытка наделить предположительно чистое событие
метафизическим значением примешивает к их собственному стремлению к
чистой эстетике неисчислимые скрытые мотивы32.
Если К Foundation стремились подобным образом
продемонстрировать свою свободу от зараженного коммерцией искусства, а
значит, и их аутентичности, то их попытка с неизбежностью
провалилась. Что, возможно, они вполне осознают: «Не думаю, что люди
уяснят это», рассказывает Коути Рейду. «Никто бы не понял. Из-за
эффекта шока это будет неверно понято. Потому что это не должно
быть шокирующей вещью, это должно быть просто огнем».
Подобное отсутствие семиозиса немыслимо и недостижимо: как может
быть отказано в значении сожжению миллиона фунтов? Как
замечает Рейд в своей статье, «этот текст - начало художественной
работы. Без статьи ничего из этого не существует в принципе».
Драммонд и Коути сразу идут на компромисс не только перед
деньгами, но перед самим по себе искусством, перед
представлением, перед «путем» от идеи к колесу, от означаемого к
означающему - именно потому, что такой путь не линеен и не свободен от
отклонений, на самом деле обратим и систематически устроен. Все
начинается с означающего так же часто, как и с означаемого, в
любом месте системы или вне его. Стремление демонстрировать
аутентичность заключено в самой демонстрации. Заставлять себя в
волнении уничтожать все деньги, даже совершенно частным путем,
уже означает признать свое раболепство перед ними, признать их
власть. Сделать высказывание, «художественное» или какое-то
другое, значит немедленно признать неумолимость требований сигни-
фикации. Абсолютная аутентичность требует от человека полного
75
исчезновения; только в смерти кто-то может быть признан
абсолютно чистым. Дело человечества, а значит, и искусства, - это всегда
один из компромиссов, «неаутентичность», фабрикация. Находя
институт искусства фальшивым и испорченным, К Foundation
смешивает этику с эстетикой. Провал стремления Драммонда и Коути
объявить конец искусства должен логически привести к
саморазрушению; следующий костер им явно следует развести для самих себя.
Это тревожащее желание аутентичности,
проиллюстрированное борьбой К Foundation за эстетическую чистоту, имеет близкое
отношение к философскому поиску опыта «вечности» как
противоположному, гораздо более обыденному поиску «бессмертия»,
описанному Ханной Арендт в Человеческом состоянии. В
конечном счете, говорит Арендт, вечность была изобретением Платона,
которое пришло в мир вместе с bios theoretikos\ жизнью
созерцательной, привлекшей внимание Сократа, а позднее -
средневековых философов как единственный верный образ жизни, как
противоположный лишенному основ, суетно связанному с тем, что
средневековые философы называли vita activa**. Позднее -
стандартный средневековый перевод того, что Аристотель называл
bios politikos***] к тому же аристотелевское определение активной
жизни решительно отличалось от более позднего средневекового
понимания термина. Для Аристотеля bios politikos означает
специфическую область чисто человеческих дел, которая
расположена рядом с эстетикой и философией, - теми жизненными путями,
которые люди могли выбирать свободно, вне принуждения или
необходимости, вне животной жизни. Общим у этих трех «высших
путей» было то, что все они были связаны с прекрасным; с вещами,
которые не были ни необходимы, ни даже немного полезны
практически, но которые имели своей целью произведение, усвоение
или созерцание совершенства. Важное для Аристотеля различение,
гораздо более решающее, чем между bios politikos и bios theoretikos,
может быть найдено как оказывающее влияние внутри каждой из
этих bios. Skhole в значении «безмятежного», «почти
бездыханного воздержания от внешних физических движений и активности
любого рода», противоположное askholia, «беспокойству», которое
означает все формы активности, осуществимые при свободе от
необходимости33. Ввиду того что skhole и askholia объясняются и раз-
* Греч, жизнь теоретическая.
** Лат. жизнь активная.
*** Греч, жизнь политическая.
76
лично оформляются друг через друга, они находятся не столько
в отношениях противостояния, сколько в отношениях
синтаксической прогрессии и обратной реакции. Каждое движение,
другими словами, включает в себя те чисто ментальные действия мысли
и размышления (концептуализацию), достигающие кульминации
в тиши и безмятежности истины.
Для средневековых философов, с другой стороны, vita activa
означает все разновидности существующей в мире деятельности,
включая все то, что связано с увековечиванием жизни - рабская
работа, ремесло и торговля, которые как таковые Аристотель никогда
не признавал подлинно человеческими занятиями. Vita activa,
таким образом, противоположна vita contemplativa* как в целом более
абсолютный антитезис, который появился далеко не при Августине
в христианскую эпоху, а может быть точно датирован годом 399-м
до н. э. Последствием усилий Сократа стал концептуальный разрыв
между философом и полисом. Оформилась новая оппозиция между
bios theoretikos и bios politikos - или, говоря на языке средневековых
философов, между vita contemplativa и vita activa. Со временем
гораздо более значительный и постоянный разлом образовался между
образом жизни гражданина и образом жизни философа. Созерцание
начинает переосмысливаться в оппозиции ко всем формам
активности как должный поиск наилучшего, идеала человеческого бытия.
А с появлением христианства этим инкапсуляции и возвышению
созерцания была дарована религиозная санкция, а сопутствующая
vita activa унижалась как нижайшая форма жизни.
Важно отметить, что vita contemplativa отличается гораздо
большей возвышенностью для человека, чем та, для которой характерны
обыденные мысли и рассуждения. Арендт отказывается обсуждать
близкие «заслуги» vita activa и vita contemplativa, воздерживаясь
как от сомнений в истинности последней, так и от переворачивания
традиционной иерархии между двумя. Действуя подобным
образом, заявляет она, Маркс и Ницше выходили за рамки оппозиции,
которая оставалась «более-менее нетронутой»34. Арендт
подразумевает, что она гораздо более осторожна и ответственна перед
историей; действительно, в ее анализе соответствующих teloi* vita activa
и vita contemplativa - бессмертия и бесконечности - она
устанавливает границу между историко-философским движением,
апеллирующем к богам Олимпа, которые «той же природы, что и люди»
* Жизнь созерцательная.
** От «телос» - стр. 52.
77
(anthropophyeis), и к трансцендентному, невидимому Богу,
представленному христианской проповедью вечной жизни.
Для досократиков бессмертие достижимо благодаря человеческой
возможности продолжить себя в своих свершениях, которые их
переживут и таким образом увековечат. Как аристотелевское
разграничение skhole и askholia, оппозиция между бессмертием олимпийских
богов и смертностью людей может в определенной степени быть
снята человеческими устремлениями. Лучшие люди, по-настоящему
человечные, - это те, кто живет скорее для бессмертной славы, чем для
удовольствий плоти, что значит жить и умереть как животное36.
Открытие бесконечности связано с введением Сократом
созерцания, bios theoretikos, как истинного образа жизни или свободного бытия
человека. Бесконечность связана не с верностью образов или
достижением бессмертия посредством произведения артефактов на века, но
с опытом истины за пределами человеческих забот, одинаково
независимым как от условных знаковых систем, так и от распространенного
требования, согласно которому каждый должен оставить после себя
что-то материальное. Логично, что Сократ ничего не написал:
...не суть важно, как мыслитель может быть связан с бесконечностью, но
в момент, когда он садится, чтобы записать свои мысли, он перестает быть
связан преимущественно с бесконечностью и переключает свое внимание на
то, чтобы уйти с проторенных ими путей. Он входит на территорию vita activa
и выбирает свой путь постоянства и потенциальной бессмертности37.
То есть, другими словами, vita contemplativa (или, как говорит
Ницше, нигилистическая). Она вглядывается с тоской в
воображаемые hors-texte у в бесконечность: сферу чистой безмятежности,
человеческого бездействия, скорее даже человеческого отсутствия.
Если деньги - это и «чистейшее орудие», как говорит Зиммель
в своей Философии денег38, и знак представительности, и
представление самих себя, тогда уничтожение миллиона этих денег, имеющее
весьма символическое значение (достоинство значения не имеет),
есть жест аннигиляции, апокалипсиса; движение к концу
представительства и инструментальности, концу искусства и политики,
концу неправды и неаутентичности. «Это должно быть просто огнем»,
говорит Джимми Коути. Но это может быть только жестом; акт
К Foundation представляется жестом, предваряющим апокалипсис,
но в реальности существует только как синекдоха** (стоим ради де-
* Фр. напечатанное на отдельном листе, в отрыве от текста.
** Стилистический прием, заключающийся в назывании частного вместо
общего и наоборот.
78
нег, всюду) и как метафора (стоим за все искусство, всю сигнифика-
цию, все потребительство).
Культурная одержимость (IV): Бессмертие
Стремиться с таким пылом к концу - это значит стремиться
к смерти, достичь завершенности - значит задействовать все свои
ресурсы, приблизиться к своим границам, которые, как говорит Бо-
дрийяр, «не имеют больше конца в твоей команде»39. Опыт
бесконечности, говорит Арендт,
в отличие от опыта бессмертия не может быть связан с или превращен в
какую бы то ни было активность, поскольку даже активность мышления
продолжается внутри кого-либо посредством слов и, ясное дело, не только
неадекватно передаст этот опыт, но даже прерывает и разрушает его как таковой40.
Бесконечность в действительности - разновидность смерти; это
ясно и в случае погони за аутентичностью, и иссякания
стоимости знака, и замены языка цифровой коммуникацией. Идеальная
коммуникация, как заметил Жан Бодрийяр в разговоре в Лондоне
в 1994-м, могла бы иметь место между двумя окончаниями - ни
путей, ни следов, ни эксцессов41. Сфера бесконечности, как радостно
провозглашается, это «киберпространство»: область за пределами
пространства и времени - за пределами протяженности, а значит,
и представимости. Киберпространство также зона за границами
привычных атрибутов идентичности - этничности, тендера или
сексуальности, например; зона анонимности и, следовательно,
аутентичности, когда люди могут показать свою свободную чистую
«самость», не обремененную их физическим, мирским багажом.
Киберпространство напоминает неизведанную территорию, влекущую
первопроходцев. Место, где мы можем высекать себя в различных новых
формах. Там никто не может знать наши расу, лицо, класс. Оно воспринимается
как освобождение путем бегства от материального мира. Мы можем резвиться
в Интернете, в котором полностью анонимны и все еще на виду42.
Технология Интернета делает осуществимыми притязания той
формы гражданства, которую продвигал Диоген-циник, сказавший:
«я гражданин мира»43, когда его спросили, откуда он родом.
Высмеивание циником национальной идентичности, распространяющееся
на госаппарат, вплетено в риторику киберречи:
Люди вроде нас в этой стране не заинтересованы в том, чтобы быть
гражданами Великобритании или подданными правительства Ее Величества. Мы
заинтересованы в том, чтобы быть людьми, причем людьми Сети,
представляющей собой как бы новую форму страны. Многое из того, чем мы пользу-
79
емся, приводится в движение техникой, α техника - это сила, и мы хотим
использовать ее для того, что мы рассматриваем в качестве эволюции нашего
общества44.
Появившееся видение - это версия холистического
«всемирного» этоса; бегство не от универсума, а от постмодернистской
фрагментации - от декаданса и цинизма, которые породили гегелевское
несчастное сознание в философии. Для техноутопистов гегелевская
«чистая негативность» - это не условный момент продуктивной
жестокости, но акт невыносимого угнетения, который к тому же
никогда не должен повториться, с тех пор как последний слом позволил
достичь существующего порядка вещей по всему миру. Истина
воспринимается и постигается не посредством структуры отношений
между означающим и означаемым, а в пику этой структуре, в
идеале благодаря уходу от всей этой структуры. В киберпространстве,
драчливо провозглашают его адвокаты, правда выйдет наружу:
«Сейчас у нас есть возможность для миллионов, биллионов
очевидцев, чтобы доносить истину, несмотря на барьеры, установленные
для контроля центральным правительством», - говорит Говард
Рейнгольд, редактор Whole Earth Review, пересказывая историю своей
«подруги», из окна которой был «лучший вид» на Белый дом под
осадой в Москве 1993-го, чем у CNN или ВВС; «и она
отправила e-mail, я и миллионы других людей видели это», - признается
Рейнгольд. «Сообщение несет в себе только тревогу», поет с ней
в унисон напыщенный, бестелесный закадровый голос той же
телепрограммы: «тревога выпущена. Она будет буйствовать среди нас,
бесконечно возобновляясь. Она не знает никаких пределов, она за
гранью морали. Она будет служить всякому, кто ее выпустит»45.
Культурной акселерации в таком случае, наиболее очевидно
представленной технологическими усовершенствованиями
скорости и надежности коммуникации и технической точности
воспроизведения, сопутствует желание запретить временность vita activa
во имя универсальной истины, бесконечности - во имя, что почти
парадоксально, жизни чисто созерцательной, bios theoretikos.
Истина, аутентичность - бесконечность - это призраки, за которыми
гоняются, и по-видимому, каждый из них может быть
концептуализирован только как (буквальное) бессмертие. Бесконечная
необходимость метафорического или символического отношения к языку,
особенно разрыв между означающим и означаемым, - след,
избыток, который всегда неявно остается в символическом обмене.
Электронная коммуникация, наоборот, стремится уничтожить саму
80
возможность избытка, этого промежуточного пространства. Кибер-
пространство, как лавирование между бесконечностью и
бессмертием, представляет собой триумф самой грубой формы буквализма:
Я верю, что все мы автомат из клеток в искусственном жизненном
эксперименте Бога, но у нас есть самосознание, разум. Мы, вероятно, попытаемся
предотвратить превращение комьютера в новое сознание, но он в любом случае
им станет. Бессмертие возможно: я мог бы достичь его благодаря идее
жизни, связанной со своего рода поддерживающей системой-биокомпьютером
и кружащейся следующие десять тысяч лет среди разных планет и т. д. Но
совершенно точно, что мы последнее поколение, которое не хочет становиться
бессмертным46.
Как бы там ни было, риторика киберпространства осуществляет ре-
концептуализацию этого банального буквализма: что для Бодрийяра
формировало смерть символического значения во всеохватной
системе Интернета, становится в киберречи подрывным просачиванием
информации, которая будет доходить до цели, несмотря на структурную
цензуру: «Интернет рассматривает цензуру как порчу и обходит ее [...].
Где бы информация ни утекала или ни просачивалась, он стремится ей
в этом помочь»47. Возможно, самое прискорбное действие
информационной технологической революции - регрессия к рудиментарной,
внепространственной паранойе, тенденция к переформулированию
теоретического разрыва означающее/означаемое как
всепроникающего или, хуже, как культурной репрессии. Таким образом, в фантазии
Говарда Рейнгольда электронная коммуникация через сеть, соединенная
с «лучшим видением», как-то выстраивает прямую линию к истине,
которая будто минует последующую редакцию и поэтому
оказывается более аутентичной, чем та, что могут предложить CNN или ВВС.
Посреднические силы психологии, системы языка, человеческой
интерпретации, идеологические факторы (они только один из примеров)
реально не отмечаются Рейнгольдом как существенные, так как они не
подтверждают идею мира, управляемого эшелоном упрямых
обскурантистов, открывающих миру лишь часть правды, согласно какому-то
своему хитрому долгосрочному плану.
Избыток символического обмена - который, согласно Деррида,
характеризуется, например, тем, что письмо всегда может не дойти по
назначению48, - теряется в Интернете именно потому, что здесь есть
осознанная свобода от государственного проникновения, оно даже
не берется в расчет. Параноидальная фантазия - это аналог того, что
в элементарных моделях коммуникации появляется как «шум»49,
остающийся от чистого смысла. К тому же «шум» - очевидная воз-
81
можность понять значение восприятия, которое киберпространство
выстраивает как чистое значение, действительно угрожающее
значение. Киберриторика - это банальнейший из дискурсов. То, что
уровень сигнификации дискурса снижается соответственно энтузиазму,
с которым расширяется Интернет, - отнюдь не совпадение:
Когда я думаю о будущем, я очень этим захвачен, полон энергии и
взволнован, так как думаю о своего рода диспутах, во время которых я слышал, что
это будет чем-то невероятным. Я имею в виду, все, что угодно [sic], возможно,
и, по-моему, это чудесно. Я хочу выйти туда, чтобы сформулировать это, и
делать все, чтобы это происходило50.
Точно так же непреодолимое желание бесконечности,
совершенства и завершенности исключает возможность чего-либо, кроме
опошленного бессмертия, буквального бессмертия, которое
замещает классическую продуктивную задачу известности и славы после
смерти вечной немертвостью.
Интернет-паранойя, направленная на структуры означивания,
в том числе на системы коммуникации, - это то же, что и
политическая паранойя, также называемая «цинизмом», которая направлена
против структур политического представительства и особенно
против самих политиков (как типа) - как взгляд, согласно которому
«все политики - лжецы». Это та же паранойя, что питает иллюзию
конца политики: мечты, которую «нынешние поколения»
политиков «никогда не поймут» - что у нас есть пути прохождения «над,
или под, или вокруг, или через» старые политические структуры -
благодаря все тому же шабашу в Сети51.
Акселерация и измельчание тогда не противоположности, но
аспекты одного феномена: одновременной акселерации
объективной культуры и окарикатуривания субъекта. Если одержимость
аутентичностью лежит в основе этого ускорения, достигающего
чистого значения в «киберпространстве», тогда окостенение
означивания кажется ее естественным культурным следствием.
Отношением здесь является инверсия между «скоростью» и «глубиной»;
оно возникает как оппозиция, которую образно представляют
отношения между Европой (или Англией) и Америкой:
«Энергия без глубины». «Сенсация без ответственности». Такой была
стандартная европейская критика [sic] американского опыта - «янки-стайл» -
в пятидесятые.
Но вместе с тем она показывала американскую формулу успеха и всегда
(как по мне) была предпочтительнее, чем глубина без энергии и
ответственность, смешанная с громоздкой помпезностью (британский путь)52.
82
Язык, с которым Бодрийяр явно отдает честь американскому
динамизму в книге с соответствующим названием, также отсылает
к риторике Интернета: «Звездная Америка. Лирическая природа
чистой циркуляции», говорит он. «Как противовес европейскому
меланхоличному анализированию. Направленный звездный взрыв
из векторов и знаков, из линий и пространства. Как противовес
лихорадочному распространению культурного газа»53. Отношения
инверсии между аутентичностью и сигнификацией, между vita
contemplativa и vita activa, между бесконечностью и бессмертием -
вот почему Майкл Линдап из Midland Bank нечем похвастаться,
кроме своей реальности; почему Enlightened Tobacco Company
больше волнует удовлетворение требований честности, а не качества их
смертельных сигарет; почему человек из подполья Достоевского
отчаивается, несмотря на свою интеллектуальную целостность,
достичь чего бы то ни было, даже просто поднять свою голову над
землей; и вот почему возвышенное чувство подлинности К Foundation
может быть выражено только как деструктивная, подростковая
ярость. Бесконечность - это сфера, которая превосходит нас,
которая превосходит любое представление; сфера бесконечной
метафизической истины как противопоставленная сфере, причастной
бессмертию посредством представления.
Это другой аспект идеи технологии как локуса свободы. Если
умозрительный уровень свободы, пусть он и фантастический, от
промежуточных случайных сигнификаций (или, альтернативно,
от государственной манипуляции) лелеется воинствующими ки-
берадвокатами Интернета (которые так близки по темпераменту
к подпольным политическим активистам Norfolk Earth First!,
протесту No Mil Link Road и первому Мировому радужному центру),
идея технологии, обеспечивающей свободу выбора, в наименьшей
степени ассоциируется с самоосознающим бунтарским миром
спутникового вещания. Возможно, наиболее вульгарная агрессивная
рекламная кампания в Британии за последние годы в качестве
«брендинговой инициативы» была выпущена Sky Television в
октябре 1994-го под слоганом «Ни шагу назад», фраза, катализирующий
толчок которой заключается в сопоставлении наиболее спорных
билбордов: «Согласно ВВС, конец света наступит сразу после
полуночи» - гласит один из них, в то время как постер к телевизин-
ной премьере художественного фильма Непристойное предложение
(в котором богатый Роберт Редфорд представляет одного из
обнищавших супругов, мучающихся моральной дилеммой, отдаться
83
ли его жене тому, кто предложит миллион долларов) изображает
нижнюю часть дамского тела в одних панталонах и подзаголовок:
«Цена подходящая, так что они спускаются»54.
Sky не только беззастенчиво играет на апокалиптических
настроениях и страхе перед концом света; Sky продвигает фантазию
«единого мира», который скорее оруэлловский, чем целостный или
экологичный. Проект «тотального вовлечения» как искомый
«молодыми людьми» Элвина Тоффлера - ответ на фрагментацию
современной городской жизни - в данном случае был воспринят
миром объективной культуры. Sky проектирует галлюцинацию, образ
мира, тотально пронизанного спутниковым телевидением, мира ме-
диадоминирования и доминанты медиации - мир, в котором
кошмар киберпаранойи стал правдой.
В те же месяцы, когда вышла компания Sky, базирующийся
в Лондоне журнал стиля Dazed and Confused опубликовал выпуск,
на первой полосе которого значилось «Ни шагу назад», которое тоже
было написано прямо на постере компании, продвигающей номер.
При этом не было ни одного упоминания компании Sky;
редакторское объявление связывало фразу с особой темой номера -
честностью и личной убежденностью55. Однако логотип Sky, включающий
в себя слоган «Ни шагу назад», можно было видеть украшающим
каждую страницу четырехстраничного модного разворота. Натиск
Sky из-за самовольной публикации на обложке был буквально
неудержим. Ультиматизм был еще больше усилен в первом
коммерческом телевизионном выпуске компании Sky, в котором
использовалась мерка Сталина, отправляющего юмористическое сообщение
о «свободе выбора», вероятно, ироническое изображение старого
«тоталитарного» порядка наземного телевидения - к тому же образ
сам по себе вполне соответствующий тону самой кампании в стиле
песни Хорста Весселя. «Ни шагу назад» имеет коннотации не только
с движением к совершенству и завершенности во время fin de siede,
но и с движением Гитлера на восток в 1941-м. «Sky растет», говорит
Крис Локк из медиа центра, цитируемого по ходу кампании
журнала. «Он как пэкмен*, движущийся вниз по экрану. Однажды он тебя
достанет»56. «Принцип честности», удачно упомянутый в редакции
Dazed and Confused, провозглашение субъективной целостности
и аутентичности, которым сопутствует «отказ от компромиссов»,
* Рас-man - японская компьютерная игра, герои которой представляют
собой забавных, поглощающих друг друга существ вроде рыбок
и привидений.
84
похоже, аккумулируют разгоряченность, подходящую крестовому
походу fin de siècle.
2. КОНЕЦ ПОЛИТИКИ
Социальное общение, с его требованиями и привилегиями, - это
лицемерный отказ назвать все своими именами; оно
высокопроизводительно в отношении связывающей разум неискренности. Как много
людей готовы сказать, что они не читали книгу, которую три или
четыре других человека обсуждают в гостиной в самой
непринужденной манере? Сколь многие достаточно храбры, чтобы не
присоединяться со своим «О! Да, прекрасная книга!», что никого не
обманывает, но что поддерживает душевно пустую привычку что-нибудь
сказать, когда сказать нечего. Это ровно так же бесстыдно, как
срединный путь между обманом и честностью, состоящий в
покупке книги, которую никто ни разу не откроет.
Эрнест Димнет (1929)57
Большинство нынешних политиков, как недавно написал [Френк
Фюреди], всеми силами оберегают «общество терпимости» и
формируют образ взаимовлияющихмимикрии, подражания
[^доминирования приспособленческой политики.
Джон Пилгер (1995)58
В Британии о «принципе чести» и фантазии целостного
общества неоднократно повторялось во время попыток двух главных
политических партий перестроиться в 1990-е. Чаще всего для
описания этого процесса использовалось слово «деполитизация», хотя
некоторые комментаторы считали его использование убийственно
ужасным в связи с определенной современной политической
линией, согласно которой деполитизация - это естественный ответ
(или, альтернативно, часть симптоматического указания) на более
широкую, глобальную, историческо-идеологическую ситуацию,
образно обозначенную как «конец политики».
Для оксфордского историка Росса МакКиббина, пишущего для
Лондонского книжного обозрения, деполитизация в консервативной
партии Джона Мэйджора является парадоксальным сочетанием
политической и идеологической задачи, которое, ко всему прочему,
имеет явно «мэйджористский» характер (противоположный тэтче-
ровскому). Ее принципиальная риторическая форма - это мешани-
85
на из новой деполитизированной лексики, благодаря которой
«силовая» природа всех социальных отношений может быть отменена.
Так, язык межличностных отношений, «вежливости» и
«человеческой порядочности», например, заменяет очевидно более жестокий,
радикально бесчувственный язык реальной политики. Таким же
образом особенно перехваленная «хартия демократии» Мэйджо-
ра переосмысливает граждан как потребителей, а государство как
свободный рынок, на котором общественные институты стремятся
обеспечить услугами, основываясь не на базисе права, а на базисе
совершенно невероятных понятий «цивилизованного» и
«эффективного» поведения. «Цивильность», пишет МакКиббин,
стала своим собственным концом, когда отвернулась от социальных
структур и привычек, которые наполняли ее смыслом: техникой отмены социальной
реальности, и правителей, и подданных, благодаря трансформации их лишь
в проявления. Реальность стала проявлением вещи59.
Трансформация правителей и подданных в «проявления» - это
попытка пройти мимо означающего как самой по себе вещи,
очередная нетерпимость к различитильной означивающей структуре. Как
и растворение истории в «техническом совершенствовании
новостей» или музыки - в «совершенствовании ее материальности»,
политическая реальность очевидно растворяется в полностью
социальном поле, созданном благодаря и посредством совершенствования
хороших манер. «Ясно, что многие консерваторы, - говорит
МакКиббин, - рангом не меньше премьер-министра - верят, что если
принудить людей хорошо себя вести, проблема исчезнет». Ребячество
в таком случае - это означающее определенной проблемы или
группы проблем, означаемое которого может, в зависимости от точки
зрения, включать хроническое разбазаривание богатства, накопленного
в 1980-е, утекающего адекватно или альтернативно упадку
морального уровня, который через несколько поколений привел к утрате
национальной ответственности. Однако, как и в своей кампании «Назад
к основам», Мэйджор предлагает косметическое решение проблемы
- рассматривать ее не как признак чего-то более глубокого, а как саму
по себе, как проблему эстетики или еще как «соринку» в глазу. Ясно,
что понимание проблемы Мэйджором затруднено не нетерпимостью
к формуле означивания, а скорее определенной фетишизацией
самого означающего, из-за отказа видеть что-либо за пределами своего
идеологического или политического зрения, или видеть в ребячестве,
в любом случае - только проявление определенной социальной
неспособности пользоваться избирательными правами.
86
«Гражданские хартии» Джона Мэйджора представляют похожую
задачу окклюзии*; МакКиббин использует ту же метафору, взятую из
теории товарного фетишизма Маркса, чтобы провозгласить, что хартии есть
«выражение тех социальных отношений, которые они воплощают или
скрывают. Они есть попытка деполитизировать то, что является
сущностными вопросами политики силы». Исключить силу из
социального уравнения - значит исключить политическую и, неявно, социальную
и семиотическую иерархизацию. «Бесклассовое общество» Мэйджора
проталкивает фантазию сплоченного социума, не разделенного ни
внутренними, ни внешними разногласиями, не связанного теми сущностно
антагонистическими условиями, которые называют «политикой».
Как мотив лейбористской партии Тони Блэра деполитизация в то же
время разыгрывается тремя риторическими мелодиями, первая и
наиболее очевидная из которых - это повторяющееся требование Блэра
использовать политику «одной нации». Как и в идее бесклассового общества
Мэйджора, Блэр акцентирует внимание на том, что нация есть
сообщество, которое идеально представлено семьей, что есть решительный отказ
партии как политическому представителю - представителю, к слову,
защищающему интересы одних слоев общества более, чем других.
Лейбористы, говорит Блэр, представляют всех британцев, независимо от нации,
класса и политических связей»60; вместо «корпоративных» и
«закрепленных» интересов, которые в дискурсе «новых лейбористов» считаются
пережитками старомодной политики тори (но неявно и лейбористской).
У этого непредставительства (представлять всех - это то же, что не
представлять никого) есть, как можно было предсказать, выравнивающий
и нейтрализующий риторический эффект лидерства, особенно в смысле
ясности полемики. Современный политический дискурс характеризуется
постоянным метанием между двумя идеологическими позициями, ни одна
из которых не может похвастаться отчетливым чувством убежденности.
В версии Тони Блэра эти две идеологические позиции дополнены двумя
соответствующими философскими обоснованиями природы политической
веры - предсказуемыми попытками сбросить как бремя беспринципного
соглашательства, так и закоснелого догматизма (скажем, коммунизма).
Так, в своей речи на конференции 1994 года Блэр использовал такие
ключевые слова как «партнерство», «ответственность» и «солидарность»,
с целью заявить о наборе проблем (и их предполагаемых решений) в
одновременно индивидуалистических и инклюзивистских" выражениях,
* Лат. occlusio - сокрытие.
** Инклюзивизм - вбирание в себя элементов чужого опыта и вписывание
их в собственную систему. Свойственно, например, некоторым религиям.
87
заботясь об особом акценте на долге и обязанностях и высшей, и низшей
социальной страты:
[Мой социализм] это не социализм Маркса или государственного
контроля. Он коренится в открытом взгляде на общество. В понимании, что
индивидуальность лучше всего развивается в сильном и честном сообществе с
принципами и нормами, с общими целями и ценностями.
В нас есть индивидуальное лишь потому, что в нас есть общественное.
[...]
Помимо прочего, мы должны бороться со слабостью нашей экономики,
которая удерживает нашу страну позади.
Этого нельзя достичь за счет государственного контроля. Но нельзя и за
счет рыночного догматизма. А можно лишь за счет динамичной рыночной
экономики, основанной на партнерстве между правительством и индустрией,
между работодателями и рабочими, а также между общественным и частным
сектором.
[...]
Я знаю, как для меня важно образование моих детей. Я категорически
не хочу, чтобы дети ходили в захудалые школы с плохой дисциплиной,
низкими стандартами, средними ожиданиями и бедными учителями, как, надеюсь,
и любой другой человек.
Если школы плохи, их следует сделать лучше.
Если учителя не могут учить как положено, они не должны учить вообще.
И если правительство не может разобраться в причинах образовательных
проблем - тогда отзовите его и поставьте то, которое может.
[...]
Ответственность означает понимание, что от окружающего мира не уйти.
Социальная ответственность для всех.
Безработный юнец не имеет права красть ваше радио. Но давайте будем
столь же серьезно воспринимать тех людей в городе, которые кладут глаз на
ваше пособие. Вот где терпят крах тори.
Ответственность предназначена для всех. Если кто-то один будет
обходиться без нее, то ее не будет ни у кого.
Это относится к тем, кто приобретает выгоды обманом.
Это относится к тем, кто уклоняется от налогов.
И это также относится к тем главам компаний, занимающихся водой,
газом, электричеством, которые монополизируют услуги за наш счет, награждая
самих себя солидным окладом, частью особых возможностей, поощрений
и бесплатных услуг. Их это касается тоже61.
88
Этот политический эклектизм, это метание между
индивидуальной и коллективной ответственностью, между силами рынка
и государственным вмешательством, куда ближе, чем две главные
партии, подошло к чествованию часто предвещавшегося
затуманивания четкого различия между политикой левых и правых.
Ключевые слова в речи Блэра вызывают очевидное ощущение
принудительного консенсуса - особенно понятие «сообщество». Согласно
Ханне Арендт, социализация политической сферы в современности
подразумевает строгое отнесение подобных концептов в дискурс
скорее социальности, чем политики; и вот они - представлены в
социализированном политическом театре Блэра не как полноправные
звезды, но как дублеры на формальные роли, взятые на вооружение,
например языком свободного рынка или эмансипации, социализма
и прав рабочих, капитализма и прав индивидуума, концепта
государства благосостояния, республиканства, милитаризма, языком
самой политики. Результат, согласно модели Ханны Арендт в
Состоянии человека, - деградация драматического благородного спектакля
политической жизни в студенческую буфетную пьеску.
Если это бегство от идеологической убежденности, от
представительности, от полемической ясности, а значит, и от сути
политических дебатов как таковых принимает форму замещения лево/
правого политического антагонизма более целостным социальным
дискурсом, речь Тони Блэра также включает в себя аналогичное
философское расширение, соответствующее критериям
политического действия. Такое расширение есть связующее звено,
согласованное с воззванием Блэра к избирателям «средней Англии», которое
включает в себя переформулирование оппозиции между
прагматическим личным интересом и принципиальным идеализмом как
отношений взаимодополняющих элементов, призванных создать
«новое» обоснование политической легитимности:
[Тори] думают, что мы выбираем между личным интересом и интересами
общества или страны как целого. На самом деле личный интерес зависит от
того, как мы работаем вместе, чтобы достичь того, чего не могли бы каждый по
отдельности.
Некоторые из вас поддерживают меня, потому что думают, что я могу
выиграть. Но этого мало. Мы не собираемся выигрывать, забыв о своих
убеждениях. Мы выиграем только благодаря им. [...] Мы должны победить, и мы на
это способны. Нет вопроса о выборе между тем, чтобы быть принципиальным
и не избираемым; и избираемым и беспринципным. Мы слишком долго терза-
89
ли себя этой глупостью. Мы должны выиграть благодаря тому, во что верим62
(курсив Тимоти Бьюза).
[Неравенство и несправедливость как главные вопросы] можно взять как
растущую проблему британской бедноты, не только как проблему
сострадания, но и экономической неэффективности. [...] Это настолько же проблема
просвещенного личного интереса, насколько и социальной справедливости63
(курсив Тимоти Бьюза)
«По меньшей мере, до сих пор», написал колумнист Guardian
Хьюго Янг через несколько недель после речи Блэра на
конференции, «он цепляется за концепт политической акции, о котором он
говорил в своих предшествующих работах и суть которого в
слиянии между идеалом и прагматикой»64. И кто бы мог винить его?
В конце концов альтернативой может быть только погружение
обратно в апоретическую* пропасть, из которой, согласно легенде,
можно было узнать, что лейбористская партия все 80-е оставалась
маргинальной: зашедший в тупик нехваток честности окупался
беспринципной силой. Еще одним принципом, провозглашенным на
этой речи, был принцип принципов, принцип, который должен
«истинно» соответствовать всем остальным принципам, в тандеме со
стремлением к стремлению и в конце концов стремлением к победе.
Достаточно сказать, что идеал и прагматика, правда и победа были
поставлены в один ряд не логически, как любого рода пример, но
как аксиома; как едва связанные простые сопоставления.
Второй деполитизированный мотив лейбористской партии
Блэра - это часто отмечавшаяся замена политики ценностями и
открыто выраженное дистанцирование от «беспочвенной» сферы
политики как таковой. Противоречивая борьба лейбористской партии
с IV статьей своей конституции в 1995-м была выражена
настойчивостью Блэра, считавшего, что необходимо охватить множество
ценностей в противовес единому доминирующему стремлению -
«общая собственность на продукцию, средства распределения и
обмена». Оригинальная IV статья, однако, рассматривалась
многими как важное символическое указание на идентичность партии
- политическое указание, в той мере, в какой оно недвусмысленно
представляло интересы рабочих людей. Его замена в пять раз более
длинным определением отмечает попытку как более точно и честно
* Апоретическое - теоретически и логически обоснованное, но не
существующее в качестве опыта. От греч. απορία - безысходность, безвыходное
положение. В Древней Греции апориями назывались задачки, основанные
на парадоксах, наиболее известные были придуманы Зеноном из Элей.
90
определить цели и ценности современной партии, так и сделать
более однородными конституцию партии и ее применение, а это
вполне осуществимые задачи после победы на выборах. «Когда мы даем
обещание», говорил Блэр в октябре 1994-го, «мы должны быть
уверены, что сможем его выполнить. Это первая страница и первая строка
нового договора между правительством и гражданами». Сделать
идеалы достижимыми, запретить себе номинальные цели и возможные
политические достижения - значит уничтожить политическую
сферу как таковую. «Очевидно, трудность», - написал Энтони Гидденс
о вполне безобидных ключевых словах из речи Блэра,
заключается в том, что эти ценности не связаны с особым политическим
видением - среди них нет ни одной, включая социальную справедливость,
которая не была бы указана в программе любого христианского демократа или
либеральной партии. Не ценности должны заменять насущную политику, а
политика более высокого уровня»65.
Или, как высказался The Economist о новом проекте IV статьи:
Здесь нет ничего, что бы могло обидеть избирателей в центре британской
политики и вокруг нее. Это практически поэзия. Здесь не из-за чего
горячиться. И это ключ к первому вопросу, ответ на который интересен избирателям:
что именно лейбористская партия собирается делать?66
С другой стороны, провозглашение политики вместо
размытого понятия социальных ценностей - это, ясное дело, акт
определенного уровня жестокости и в социальном плане, и как конечное
их исключение, сопровождающее это провозглашение, и
(потенциально) как напряжение, вызываемое проецированием
недостигаемого идеала. Если деполитизация - это выражение
обеспокоенности аутентичностью - предмет этой главы - как и формы
постмодернистского цинизма, проанализированные в главе 1, это
зарождающийся в душе устойчивый, подспудный страх перед
жестокостью - в данном случае жестокостью отношений
означивания, как и момент исторической жестокости, о котором Гегель
говорил как о «чистой негативности». Политика в этом смысле, как
и семиотика, сущностно и концептуально жестока; эта жестокость
одинакова что у «письма», о котором Деррида говорит в эссе о Ле-
ви-Строссе и Руссо67, что у мифически жестокого
законодательства, которое анализировал Вальтер Беньямин, как и (пре-)поли-
тическая жестокость, рассматриваемая Ханной Арендт как способ
достижения свободы - raison d'etre политики68. Эти тройные отно-
* Фр. смысл существования.
91
шения между жестокостью, политикой и семиозисом я рассмотрю
более полно в главе 3.
Недвусмысленно оброненная идея, что понятие «политика» само
по себе гнусное, независимо используется в речи Блэра два раза:
первый - как циничный modus operandi государственного
управления, как его аутентичный (или, с точки зрения vita contemplativa,
неаутентичный) праксис, нечто вроде того, чем заняты тори
(«играющие политики»); и второй - как территория свободной
активности, которая была когда-то аутентичной - bios politikos Арендт и у
которой «предательски выбили почву из-под ног» тори. Широко
распространившееся разочарование в политике - это «великое
наследие многих лет правления тори»; новые же политики Тони
Блэра, политики «мужества, честности и доверия», что приводит
к третьему риторическому мотиву лейбористской партии - акценту
на «разговоре на равных».
Это означает разговаривать друг с другом на том же языке, на котором нам
следует обращаться к стране.
[...]
Я абсолютно предан цели обеспечения работой всех. Мы будем
разрабатывать планы для ее достижения. Но давайте и не будем обещать, что будем
корпеть над ними всю ночь. Давайте не будем пытаться одурачить
безработного, что если мы пойдем в гору в четверг, то в пятницу он пойдет на работу.
Давайте будем честными. Прямыми. Реалистичными.
[...]
Давайте говорить то, что мы имеем в виду и иметь в виду, то, что говорим.
[...] Не надо говорить того, что не на уме. Начнем говорить, что мы думаем, что
поддерживаем и за что боремся.
Моя задача здесь определенно не в том, чтобы показать и тем
более провозгласить некую истину о «едва политической
риторике» или о чем-то подобном; или, например, указать предложения,
где речь Блэра оказывается не такой уж «демократичной». И не
для того, чтобы продемонстрировать, как Блэр поднимает самые
банальные вещи вроде «честности» до статуса политических целей,
что само по себе есть благоразумная, макиавеллистская
политическая стратегия. «В действиях всех людей», пишет Макиавелли, «и
особенно князей, которых некому судить, все решает результат»69.
Риторика, которая используется Блэром во время его акций,
нужна до тех пор, пока она позволяет ему достичь желаемого. Более
значимы степень и причины уверенности в том, почему честность
* Лат. форма существования, способ функционирования.
92
стала такой превалирующей темой в современном политическом
дискурсе, и особенно отношения этого процесса с более широкой
культурной одержимостью проблемой аутентичности и все еще с
преимущественно широко осознаваемым политическим цинизмом
электората.
«Задача обновления нашей нации не для слабохарактерных или
пресыщенных, циничных», говорит Блэр. Как и в речи Майкла Портилло
в январе 1994-го, «цинизм» призван сюда для важного дела. Несмотря на
указанную Блэром прямую связь между политическим разочарованием
и консервативным правительством, «атаку» на инфраструктуру
государства благосостояния и систему коммунальных услуг, цинизм также
использовался как орудие, позволяющее переопределить лейбористов как
партию для стремящихся (в противоположность циничным)
индивидуальностей. Цинизм, похоже, стал демоном основной устаревшей
диспозиции без партии для игры в новом политическом порядке «открытости» -
но также и шифром упрямого индивидуализма, нетерпимости
к согласованной, полностью интегрированной сфере, задуманной
инклюзивистскими или деполитизированными политиками -
правыми или левыми, пусть сами себя определяют. Для Портилло,
пестующего тоталитарное видение мира «честных» дебатов и
однородности политического и частного существования, цинизм - это
«яд», распространяемый британской «элитой», высокомерным
насмешливым «учреждением» авторов общественного мнения, цель
которого в подрыве национального достоинства и даже
субъективной целостности. Если постмодернизм, как и цинизм, можно
ретроспективно отбросить как временное историческое «мерцание» -
не как определяющий момент исторического сознания, финальную
сумму интеллектуального прогресса, и таким образом, конец прогресса
вместе с идеологией, истиной, убеждением, историей, субъективностью,
но особенно в терминах, взятых из параграфа Гегеля, цитировавшегося
в главе 1, как воплощение определенной паники перед лицом
физической жестокости движения знания, - тогда его наиболее стремительный
и особенно масштабный отзвук есть эта одинаково страшная и
прицельная культурная одержимость конечностью и аутентичностью.
Что-то подсказывает нам, что перед нами не историческая эволюция, но
эпидемия консенсуса, эпидемия демократических ценностей - другими
словами, это вирусный эффект, триумфальный эффект моды70.
Вся человеческая жизнь, индивидуалистическая и инклюзиви-
стская, правого крыла и левого крыла, даже гея и
сочувствующего (в смысле переутвержденного и растянутого понятия «квир»)
93
протекает среди «избытка позитивности» современной культуры,
как говорит Бодрийяр71. Скорость жизни возрастает; императив
истины достиг высоты настойчивости, так что у клеветника больше
не найдется ни времени, ни места для его махинаций. Не осталось
возможности для притязаний индивидуальной воли, помимо отказа
от участия, позиции человека из подполья Достоевского - так
называемой возможности, определяемой (буржуазной)
необходимостью доказывать, что ты «человек, а не штифтик в органном вале».
Стремление к консенсусу, свойственное этим упряжкам единства
и аутентичности, согласованности и гомогенности, запредельно:
риторика активистов в Интернете; возрастающий звук
многоголосого протеста против лицемерия в публичной жизни; кампания
OutRage! Питера Тэтчелла, угрожавшая публичным персонам, геям
раскрыть их гомосексуализм из-за любых несоответствий между
их политической и сексуальной ориентацией; особенно
кросс-партийное бегство от политического порядка к «вялому, децентриро-
ванному, широко разведенному, трансполитическому, где
идеологические возможности нематериальны, а историческая жестокость
минимальна»72, - бегство, возможно, инициированное крестовым
походом Джона Мэйджора «Назад к основам» и продолженное
ново-лейбористским дискурсом Тони Блэра. Повторяющееся в этих
дискурсивных ситуациях понятие цинизма, однако, демонстрирует
несущественность инклюзивистской фантазии и особенно ее
неизбежное происхождение и зависимость от циничного
индивидуализма, который она порицает. В культуре, столь судорожно
определяемой консенсусом, невозможна никакая аутентичная активность,
а только инерция, немыслима никакая восприимчивость, а только
культивирующая саму себя циничная асоциальность и никакого
обжитого дома, а только пространство, огороженное границами
самости, представленной индивидуумом и проявлениями его воли.
3. ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ И ПУБЛИЧНЫЙ ДОЛГ
Мы ждали, что наша страна выберет совершенно иной путь, чем
«английский образ жизни»; действительно, мысль, что государство
должно активно продвигать его, вызывала у большинства из нас
тревогу. Греки думают о государстве как об активной, созидательной
вещи, закаляющей умы и характеры граждан; мы думаем о нем как
о части механизма, обеспечивающего безопасность и удобство.
Пестование добродетели, которое в Средние века было заботой церкви,
94
а в полисе - его собственной заботой, в современных государствах
является заботой бог знает чего.
Х.Д. Ф. Китто, Греки (1951 )73
D мае 1994 года Виктория Скотт, парламентский служащий
в Королевской ассоциации по вопросам инвалидности и
реабилитации (RADAR), заявила об отставке своего отца Николаса
Скотта, государственного министра по делам инвалидов, после того как
он предложил восемьдесят поправок к законопроекту гражданских
прав, которые фактически сорвали его принятие палатой общин.
Волнение медиа, вызванное ее заявлением, было обязано не
столько самому политическому действию, сколько сфере «человеческих
интересов»: главное, и это широко освещалось, что не было
никакого напряжения или противостояния в частных отношениях отца
и дочери; они смогли создать совершенный и весьма изощренный
барьер между публичным и частным, так что оба могли жить
последовательной профессиональной жизнью так, чтобы политический
антагонизм не вторгался в частную жизнь: «Мы смеялись над
карикатурами в Evening Standard, и это было очень мило, между нами
не было никакого напряжения, в личностном плане»74. Рядом с
современной культурной одержимостью последовательностью и
постоянством преднамеренная и осознанная шизофрения Скоттов, хоть и на
обыденном уровне, кажется чем-то свежим. В данном сценарии
представлена оппозиция между публичной, политической сферой долга
(к стране, какой-либо партии, к людям, которых некто представляет)
и частным, внутренним миром свободы от долга, миром семьи и
интимности, правды и реальности - за пределами отчужденного,
представительского, опосредованного мира публичности.
Есть еще кое-что, вызывающее серьезное беспокойство в
разрыве между частной свободой и публичным долгом, рассматриваемым
таким образом. Заявление Виктории Скотт, что ее отец «понимает,
что я просто делаю свою работу», что «я заплатила за продвижение
этой компании и вот почему я это сделала», звучит как предвестие
конца духа просвещения, означающее финальную, определяющую
инструментализацию всей политики как сферы свободы от
необходимости в смысле аристотелевской bios politikos.
Кантовская формулировка между публичным и частным
разумом в эссе 1784 года «Что такое просвещение?» кажется прямым
переворачиванием представленной здесь. Для Канта, погруженного
95
в экзальтацию самосознания, то чувство своевременности, которое
Фуко описывал как сущность современности, абсолютная свобода
абсолютно необходимы в публичной сфере, если имеет место
диффузия «просвещения»:
Публичное применение разума всегда должно быть свободным, и
только в таком качестве оно может донести просвещение до людей. Частное же
применение разума часто может быть очень узко ограниченно без
особенного ущерба для прогресса просвещения. Под публичным применением разума
я понимаю такое его использование, которое совершает школяр перед
чтением на публике. Частным я называю такое его применение, которое человек
может совершить на доверенном ему посту или службе. [...] Аргументы здесь
определенно не нужны - надо просто подчиняться75.
Форма разума, используемая, особенно в публичной сфере,
Викторией и Николасом Скотт, бесспорно, именно та, которую
Кант более строго поместил в сферу приватного, в то время как
для них область свободной, незаинтересованной рациональности
находится во внутренней сфере. Оба Скотта - люди, занятые на
частной службе в кантовском смысле; это именно тот случай,
когда территория политики стала определяться основополагающим
структурным багажом «необходимости». Виктория Скотт заводит
откровенный разговор о деньгах, чтобы обосновать свои действия;
так, вполне человеческая кампания против дискриминации
инвалидов, однако, не противостоит, а вполне соответствует животной
природе как отличной от трансцендентной сферы bios theoretikos,
желающей постоянного разграничения между страной (например,
электоратом) и национальными институтами, - разграничения,
понимаемого как дань уважения основателям со стороны потомков, не
как полученного в обмен на обязательства, данные государством,
а просто благодаря различию статусов: структура абсолютно
тавтологична. Современная политическая сфера настолько
опосредована и несвободна, что эта апелляция к духу полиса возможна только
с разрешением, выданным несущим частную службу, согласно
современной кантовской модели. Портилло обезоруживает серьезную
критику посредством этого противоречия: он уходит от указанного
пренебрежения главным кантовским предписанием относительно
просвещения - освободиться от взваленных на себя предрассудков
и следовать девизу Sapere Aude! («Парламент, я полагаю,
последовал дурному совету смотреть в ТВ-камеры») - но в то же время
грубо пренебрегает общественным существованием, необходимым
для bios politikos; он произносит свою речь в мантии провокатора
96
и имплицитно провозглашает влекомые ею привилегии. Таким
образом, Портилло заранее выставляет суверенность и грандиозность
афинского полиса против заряда просвещенческого деспотизма,
а кантовскую область частного разума - модус, соответствующий
службе государственного представителя, - против
эллинистических непоследовательности и неподлинности. Его полемика против
университетов столь яростна и непреклонна, что, несмотря на
ключевые слова «цинизм» и «элита», трудно увидеть в ней что-либо
иное, кроме открытой атаки на возможность свободной публичной
сферы незашоренной, политической, просвещенной, дискурсивной
рациональности.
Тони Блэр, с другой стороны, низводит свою политическую
риторику до громоздких, непозволительно идеологических (в «старом»
смысле) понятий из сферы необходимости (долг, честность,
ответственность, благоразумие), и так появляются воображаемая им
область речи на равных и идея страны, объединенной общей
программой «построения сообщества», электората, единого с государством
и «говорящего с ним на одном языке», которые того и гляди утонут
в чисто внутренней, частной области необходимости, в которой
«аргументы уже не нужны - надо просто подчиняться». Как и
Портилло, Блэр использует термин «цинизм» как механизм исключения
и разграничения; но в отличие от Портилло демоны Блэра -
принципиально непримиримые и самодовольные индивидуальности.
В то время как Портилло осознал и утверждает с относительной
откровенностью, что свободные политические дебаты по большей
части необходимо лишены этих привилегий, Блэр обладает скорее
холистичным или инклюзивистским взглядом, не считающимся ни
с разделенным предметом, указанным Кантом, ни с разделенным на
граждан и рабов античным государством греков. «Модернизация»
лейбористской партии разыграла миф о Прокрусте как безобидную
детскую сказку, заменив величественную беспощадность
легендарного антигероя гостеприимством лесника, который всего-то хочет
чуть больше общественного согласия. В политическом климате,
в котором жестокость представительства столь резко ощущается,
столь травматична для сознания и ощущений, безжалостность
отсечения от идеологических ветвей предстает в виде регулируемой
как угодно кровати, ныне бесконечно растянутой в ширину и с
лежащими на ней удобнейшими простынями.
Деполитизация высочайшей bios politikos, свободной сферы
политической жизни - это черта современности, которая в виде «по-
97
следствий» чего-то, что называется «постмодернизмом», внушена
новым оцепенением. Постмодернистская теория, как говорят,
ставит под сомнение понятие литературного канона, доказывая, что
западные «большие работы» подавляют и выталкивают тексты,
рождаемые иными культурами и субкультурами за пределами
белой, патриархальной, христианской Европы. Сейчас мы
последовательно находим это «оклеветанное» понятие канона
восстановленным и, более того, одновременно имеющим куда больший авторитет
и облеченным в более тонкую форму. Так, Западный канон
Гарольда Блума, опубликованный в 1994-м, включает в себя в качестве
дополнения 30-страничный список книг, которые, по его мнению,
составляют великие работы западной литературы80. Аналогично
ощущавшийся в 1980-е кризис социума, воплотившийся в
известном заявлении Маргарет Тэтчер о том, что сейчас нет такой вещи,
как общество, которое необходимо in extenso*. Если выделение
категории социального из классических сфер публичного и частного -
это двойной процесс: во-первых, связывания политического,
к примеру гражданскими хартиями, понятиями публичной
подотчетности и ответственности, гражданскими обязанностями и
коллективным требованием постоянства и «честности» в публичной
жизни, и во-вторых, освобождения внутреннего, дарования
гражданских прав рабам и рабочим, женщинам и группам этнических
меньшинств, животным и даже самой природе, наконец, источнику
всех наших человеческих нужд, и тогда конечным следствием этого
будет появление «независимых», то есть межпартийных, голов,
посвятивших себя «задаче» статистического анализа всех «этих»
образований, и перенапряжение внеполитически настроенных
интеллектуальных гуру в попытке сформулировать новую философию
социального.
4. ЛОЖНОСТЬ «СООБЩЕСТВА»
L/божествление статистик - это выражение деполитизации;
в связи с концом политического представительства (в смысле
классов и групп интересов внутри общества - пролетариат, мир бизнеса
и т. д.), социальное означаемое, референт** политики, дающий до-
* Лат. дословно, целиком, совершенно.
** В семиотике - то, к чему отсылает знак. В данном случае политика как
знак. - Прим. пер.
98
рогу тому, что Бодрийяр называл «молчаливым большинством»,
единственная деятельность которого заключается в пути по
поверхностям и в референдумах81. Арендт указывает, как развитие
«политической экономии» - представляющей par excellence перенос
частной, домашней модели земледелия в сферу публичного -
основывается на допустимости статистического подхода к социальному
анализу, который в свою очередь может быть признан уместным
только по отношению к очень большим группам людей или
продолжительным временным периодам. Статистика, «математическое
познание реальности», низводит события или действия до статуса
флуктуации и девиаций. «Экономика [...] может достичь характера
научности только тогда, когда люди стали существовать социально
и единодушно следовать определенным образцам поведения так,
чтобы тех, кто нарушает правила, можно было считать
асоциальными или ненормальными»82. С превалирующим убеждением, что
статистический анализ - особенно точный, с тех пор как
появились особенные, «научные» методы публичного представительства
и выросло влияние подобных методологий в политических кругах,
чувство культурной акселерации и извращенного коллективизма -
тирании консенсуса - усилилось; в то же время особенный
индивидуум со своим непостоянством - асоциален, своенравен на манер
героев Достоевского, имеет на себе печать «циника» и принадлежит
чисто частной сфере, области солипсистской интимности,
определяющей его выпадение из политики и вынужденное бездействие.
Статистический анализ воплощает в себе жестокость Прокруста
по большей части потому, что проводится для обеспечения большей
точности под эгидой науки. Как форма семантической
«буквализации» фетишизация статистики сопоставима с реконцептуализаци-
ей в риторике Интернета, символического бессмертия греков как
буквально достижимого; с появлением географически и
концептуально размещенных специфических форм политического действия;
с акцентом на подлинности продукта в рекламной индустрии; и с
фиксацией на возможности генетической картографии
человеческого поведения, как заявлено проектом «человеческого генома».
С одной стороны, конечно, жестокость статистики просто аналогична
«жестокости письма». Это фраза Деррида, означающая катахрезис*,
присущий всем формам представительства (и которую он разъясняет
одновременно в терминах лингвистической и политической демо-
* Греч, κατάχρησις - противоречие, злоупотребление. Троп, основанный на
парадоксальной игре с буквальными и переносными значениями слов.
99
кратии в своем эссе с соответствующим названием)83. Общественное
мнение, говорит Деррида в Другом заголовке, всегда преувеличивает
этот момент своего волеизъявления на выборах или референдуме;
поскольку на него ссылаются в политической риторике (или как на
«общественное мнение», или как на «людей»), общественное мнение
всегда «чревовещало» - «по поводу своих воздыханий, намерений
и решений лишь согласно с остальными ритмами»84. Статистический
анализ работает на основе и поддерживает строго фактический
уровень истины (тот, который изменчив, малозначим и абсолютно
хрупок), противоположный аксиоматической и теоретической истинам,
которые по природе своей более солидны, так как они в принципе
могут быть открыты разными путями, но которые так же подвижны,
потому что они подвержены историческому процессу приращения и
замены. Возможность движения, социального прогресса, философской
активности реализуемы только на основе исключений, жестокости,
направленной против нормы (как по Гегелю), на существовании
мечтателей и провидцев, сорвиголов, достаточно мужественных, чтобы
действовать без почтения к настоящему, к вещам каковы они есть. По
Арендт, это тот срез исторической реальности, который вытесняется
чрезмерным вниманием к статистическому анализу:
...Значимость повседневных отношений раскрывается не в повседневной
жизни, но в редких делах, лишь в значении исторического периода,
раскрывающего себя лишь в нескольких освещающих его событиях. Применение
закона больших чисел и временных периодов к политике или истории означает не
менее, как умышленное вычеркивание их весьма субъективной сущности, так
что поиск смысла в политике и значимости в истории становится безнадежным
предприятием, когда все, что не вписывается в повседневную жизнь и
условные реакции, отбрасывается как негодный материал65.
Независимый исследовательский центр Демос, несмотря на свой
беспартийный (и благотворительный) статус, в 1994-м был
услышан Тони Блэром, что подтверждает как тон его речей, так и
прослеживание этой связи журналистами86. Политическое обращение,
особенно благоприятное для Демоса во время его основания в 1992-м,
важно настолько, насколько оно почти является примером
сообщения о «полной победе общества», предвещаемой в Состоянии
человека Арендт. Есть три ясные темы, в перспективе поднятые
Демосом, и хотя я не хочу давать их исчерпывающую
характеристику, они заслуживают перечисления своих связей с представлением
Арендт о частной и публичной сфере и моей собственной
интерпретацией забот вокруг аутентичности.
100
Первая - это присущая ему симпатия к идее «конца политики».
Первой разрывной реакцией Демоса, которой он встретил ее
появление, было выраженное заявление о «радикальной» повестке дня,
согласно которой был проложен путь сквозь сломленную границу
между лево/правым политическим разделением. Методологически
эта идея попала к соответствующим мыслителям и публичным
персонам от ряда политических и неполитических институтов и
практик, включая рядовых консерваторов, бизнес, журналистику и
университеты. Демос видит избирательный процесс как задействующий
все общество; так, эти публикации включали в себя диссертации
о будущем семейной жизни, об изменяющихся ролях и
возможностях женщин в обществе и о провале экономической политики бума
и спада консервативной партии в 1980-е87. Демос совершенствует
видение деполитизированной политической территории
одновременно в условиях принятия лево/правого разграничения и сферы,
в которой частные мотивации индивидуумов рассматриваются как
самодостаточные - как у потребителя, чьи требования
неоспоримы, а опасения должны быть сняты. Практическое исследование
и компетентность специалистов по определению выше
политической убежденности (которая названа «идеологией») и теории.
Последовательная статистика - это краеугольный камень и основной
признак исследований Демоса, и это мое второе указание. Я уже
изложил, насколько почтение к статистическому анализу зависит от
политической экономии, дисциплины, наилучшим образом
характеризующей насыщение области публичности заботами сферы
домашнего быта. Это еще одно указание, весьма близкое пониманию
смысла истории как воплощающегося в нетипичных и
исключительных деяниях, согласно Ханне Арендт. Ницше пишет об
измерении исторической значимости как о «путанице между количеством
и качеством»88, и конечно, в ницшевском паноптикуме
посредственностей, которые воплощают реактивные ценности, рядом с
библиотекарем, критиком и школяром непременно нашлось бы место
для статистика. Эти так называемые объективные люди действуют
благодаря высокоразвитому научному инстинкту; они - зеркало,
«гибкие лекала», без конца ждущие нужного содержания, которое
придаст им «форму»89. Культура, которая ценит статистическую
истину столь высоко, говорит Ницше, находится в агонии декаданса.
Отсутствие необходимой политической программы вместе с
нехваткой ясных требований, которые взяты из статистики, собранной
проектом семи миллионов, становятся особенно очевидными при
101
чтении возможно наиболее характерного документа: Ни шагу назад
Хелен Уилкинсон - пересчет «обособленности» и «отчуждения»,
пережитых «семимиллионным поколением» (мужчины и женщины
Объединенного королевства в возрасте от 18 до 34, по семь
миллионов тех и других).
Эти недоверие и дистанция от условной партийной политики глубоко
укоренены. Один слой людей в свои ранние тридцатые осознал, что 39%
думающих политиков находятся в политической среде ради собственной выгоды
и 29%, что нет никакой разницы между тем, какая партия у власти. Среди
более молодых людей, особенно до 25, еще меньше веры в условную
политику со множественными акцентами на проблемах, которые редко бывают
основными повестками большинства партий: вопросы окружающей среды,
интернациональных программ, защиты прав животных и такие связанные со
здоровьем вопросы, как СПИД, похоже, волнуют людей гораздо больше, чем
традиционная политика90.
Ко всему прочему книга Уилкинсон оставляет устойчивое
чувство ухода от интерпретации. Не сделано ни одной попытки
опросить этих людей; нет даже тончайшего намека на то, что в
статистике есть вещи, которые требуют особого уточнения. Ни шагу назад
отбрасывает неотъемлемую веру в статистическую истину; вопрос
об основании, на котором подобраны опрашиваемые (форма
вопросов в анкетах и т. д.), совершенно непостижимы, как и любая
попытка интерпретировать все это на теоретическом или симптома-
тологическом уровне. Оппозиция предполагается, например, между
честностью и лживостью, альтруизмом и амбицией, усиливается
формой подачи «результатов» для проверки; предлагаемые
памфлетом решения относительно разочарования избирателей и
осознанного сдвига в британском мироощущении - уход от направленных
вовне, определяемых нуждой ценностей к направленным вовнутрь
ценностям, таким как «интернационализм» и «сбалансированный»
образ жизни - избегающий заведомого инструментализма
политического дискурса, который стремился бы спроектировать видение
социума в угоду реакции: «Партия, которая сможет понять и
поддержать семимиллионное поколение, - пишет Демос директору
Джеффу Мулгану во введении, - в долгосрочной перспективе
невероятно преуспеет, как и те бизнесы, бренды и компании, которые
могут резонировать с мироощущением этого поколения, получат
бесценное и динамичное конкурентное преимущество»91. Мудрость
Демоса не подлежит сомнению; изменения, которые
рассматриваются им, - «кумулятивные» и «исторические», в соответствии
с положением, куда загнала общество история. Идеология, представ-
102
ленная и воплощенная Демосом, - это одна из форм коллективного
притеснения: мы более не контролируем наши убежденности,
которые заранее разгаданы. Так, высокая преданность ценностям тех,
кому за 55, «серого поколения», авторитету и семье, хорошему
здоровью и безопасности, например, и их слабая преданность новым
технологиям и сексуальности (в отличие от «семимиллионного
поколения») объясняется не диахронно, как результат разницы в
возрасте, а синхронно, как свидетельство климатического сдвига в
ценностях между двумя поколениями за последние тридцать лет. Наши
исторические обстоятельства не похожи ни на какие,
существовавшие ранее; так, суть «новой повестки» - в необходимости
удовлетворять ценностям и заботам совершенно нового поколения, -
и не должно удивлять, что обычные политики понятия не имеют,
какой может быть эта повестка. Невозможность найти «путь
вперед» - это следствие головокружительной тенденции видеть нашу
историческую ситуацию как уникальную скорее, чем симптомы ее
истинной уникальности. Ситуациями de siede и сопутствующая ей
парализация (иллюзия конца истории и политики) аналогична -
или представляет собой пример удушливого преувеличения
постмодернизмом собственной значимости и, как и последний, может
быть представлена как проблема воплощения.
Третья черта Демоса, неотделимая от дурмана статистического
анализа, - это его интерес к идее сообщества. Политически концепт
сообщества кажется относительно нейтральным, возможно, из-за
того, что в нем есть что-то от шифра - концепт может быть частично
задействованным как фашистской идеологией этнической
исключительности, так и либеральной идеологией благосостояния. Идея
сообщества, отстаиваемая Демосом, представляет собой отличный
пример того, что Арендт называет (вслед за Гюннаром Мирдалом)
«коммунистической фикцией», и востребована статистической
экономической моделью социума. Гипотеза естественной
«гармонии интересов», общих для социума как целого, неразрывно связана
с единообразием поведения, необходимого для идеологии
статистического вычисления, и, говорит Арендт, она настолько же следствие
этой необходимости, как и ее принятия. «Полная победа общества»,
пишет она, «всегда будет создавать некую разновидность
«коммунистической фикции», выдающаяся политическая характеристика
которой заключается в том, что она управляется «невидимой
рукой», то есть никем92. Если рассматривать диагноз Арендт как
предписание, Демос последовательно продвигал коммунитаризм, соот-
103
ветствующую неполитизированную философию общества, которая
в работах американских социологов, особенно Амитея Этциони,
постулирует в качестве конечной цели достижение равновесия, в
теории, благодаря дружественному диалогу между конфликтующими
сторонами. На следующей неделе после его появления в Лондоне,
в Times (в спонсированном Демосом сообщении) и в The Economist
с подзаголовком «Пусть удовольствие каждого считается
прекрасным», вышел этот вердикт:
Ключ к школе коммунитаризма мистера Этциони заключается в
отвращении к конфликту. Он не ищет согласия, избегая неудобных компромиссов
и стараясь балансировать между разными ценностями. Люди проваливаются
на этом пути. Скорее, как я полагаю, согласие относительно любого вопроса
фактически уже существует, но этот факт остается неявным, так как мы
проводим слишком мало времени за дружеским диалогом93.
По общему признанию спонсорство Демосом Этциони носит
характер легкого смущения по поводу себя, по меньшей мере
вызывает двойственные чувства. Если слышать, как Джефф Мулган
воспринимает отказ признать его или его организацию, возникает
подозрение, что он еще не решил, заслуживает ли Этциони его
поддержку. Действительно, момент решения, задача открытого
выражения покровительства - не часть raison d'etre Демоса. Демос
видит себя просто как трибуну для фигур вроде Этциони; отсутствие
собственной повестки дня - это то, что делает Демос уникальным
и уникально «постмодернистским» среди британских
«интеллектуальных центров». Демос воплощает собой страх жестокости,
проанализированный в главе 1 настоящей работы как наследие
постмодерна. Если множество социальных наблюдений Демоса бесспорны,
его методология и курьезная пограничная идентичность,
восполняющая недостаток визионерского куража, симптоматичны для его
современности.
Говоря практично, тем не менее в Демосе можно увидеть
явного агента влияния коммунитаризма в Британии; действительно, его
кажущаяся двойственность, связанная с фигурой основателя -
этого высшего защитника принципа объективности и золотой
середины, - должна бы указывать на все большее возрастание его
фанатичного энтузиазма.
Коммунитаризм Этциони играет на заботах и тревогах, которые
живописует следующая глава: (I) Аутентичные мотивы.
Человечество, в сущности, не дурно. В Духе сообщества Этциони
рассматривает вопрос о человеческой мотивации как вопрос об оппозиции
104
между истинным сопереживанием и ожиданиями благодарности -
с целью не отбросить их, а «разделить» (с «моральными,
социальными и политическими основами общества»)94 и все-таки
оптимистично сходит на сторону сопереживания. «Правда», признает
Этциони, «совершенно верно, что в любых отношениях или
сообществе есть некоторое смутное чувство желания благодарности,
необходимое для создания климата взаимности. Но изначально
люди помогают друг другу и поддерживают дух сообщества, так как
чувствуют, что это правильно»95. Перемещенная в политическую
сферу, эта абсолютизация «чистых» мотивов становится демониза-
цией «частных», или «корпоративных», интересов в угоду «общим»
интересам сообщества. Этциони, таким образом, выступает против
«неограниченного плюрализма правовости» и так называемой
низовой политической активности; к тому же - поскольку
американская политическая система «связана узами» с группами с особыми
интересами (Национальная стрелковая ассоциация, Объединенный
пошив одежды и Объединение текстильных работников, а также
среди них в Духе сообщества указана группа против абортов
Свободное предприятие РАС) - он также предпочитает политику «для
сообщества», в основном привлекая публику девизом «назад к
действию»96. Коммунитаризм нужно рассматривать как (неполитизи-
рованное) низовое политическое движение для масс буржуазных
обывателей, которые сами находятся под угрозой недолжного
обращения со стороны основной политической сферы. « Комму нитари-
сты говорят о сроках изменений от сердца», говорит Мулган,
так как они медленны и неровны. Политики, наоборот, склонны искать
быстрые, резкие решения насущных проблем преступления и распада семьи.
Неверные резоны заставляют их обещать пьянящую смесь из спекуляций на
морали, открытой информации об использовании бюджетных средств и
большего социального порядка97(курсив Тимоти Бьюза).
Дезавуирование политического представительства,
совмещенное с соблазном «политической» идеологии абсолютной
открытости, - вот одно объяснение коммунитаристской повестки дня.
Другое - это (II) Фетишизация частного. Этциони предпочитает
местное законодательство централизованному и неформальные
структуры со слабыми обязательствами формальным. Так, развод,
принципиальная «угроза» семейной жизни (то же, что и у Мэйджо-
ра, предлагавшего косметическое решение проблемы «ребячества»),
должен быть не запрещен или осужден, а рассмотрен как задача.
Также и «ненависти» (в форме расизма или сексизма, например)
105
нужно противодействовать не при помощи законодательства, а при
помощи «диалога» и «образования». Понимание Этциони
«дискуссий», инициированных следующими инцидентами
университетского расизма, - вуайеристское, почти порнографическое в своем
внимании к эпизодическим деталям. Оно имеет характер
слюноотделения, более кровожадного, чем публичное потрошение
где-нибудь в XVII веке и триумфальное™ ритуального наказания
виновных групп: наказания работой.
Следующим вечером [обиженные] женщины организовали собрание с
некоторыми студентами в том же общежитии и обсудили проблему. К ним
присоединился поддерживающий их профессор. Несколько белых человек ясно
дали понять, что они в глубоком смятении. Сессия намечалась после форумов,
пресс-конференций и семинаров в низшей школе. Эти же дискуссии
запустили дебаты по всему университету, сделав вопрос повесткой дня. Появилась
запись и в местных газетах. Статья в университетской газете включала в себя
извинения от того, кто ставил форму на первое место. Четыре женщины под
конец сказали, что больше не чувствуют себя жертвами, скорее, на редкость
«наделенными властью»99.
Коммунитаристский гражданин, таким образом, заполняя
пространство, оставленное законодательным содержанием, формирует
новую легальную структуру, которая должна воздерживаться от
открытого суждения относительно собственного понимания.
Поддерживая политику «невмешательства» при помощи неявного
управления, коммунитаризм предлагает этос неписаных правил поведения
под знаком «наделения властью». Эти правила не менее сильны
и эффективны, поскольку имплицитны. Общество неписанного -
которое необязательно де-юре - принимает законы, стремясь стать
свободнее; де-факто, как мы можем видеть, скрытое
законодательство коммунитаризма приводит к куда более мелочной и
действительно репрессивной политизации личности. Фигура, которой
может быть наиболее симпатична история Этциони, это довольно
обычный циничный студент, который, пока общежитие его
колледжа подвержено вирусному эффекту позитивистского
«антирасистского» консенсуса, расписывает свои тетради и стены своей комнаты
свастиками. «Работа образования никогда не бывает закончена», -
говорит Этциони с некоторой честностью. Ясное дело, что не
образование, а скорее проблематика человека из подполья Достоевского
имеет здесь место: необходимость доказать, что ты «человек, а не
штифтик в органном вале». Восходящее влияние
коммунитаризма в британской политической жизни - это симптом «эпидемии
консенсуса», определяемой Бодрийяром как милленаристский фе-
106
номен страха перед жестокостью - политической, семиотической,
исторической, - определяемый Гегелем как кризис здорового
«философского» скептицизма.
5. РАЗМЫШЛЕНИЕ О ХАННЕ АРЕНДТ
I рудно быть точно уверенным в том, куда бы отнесла Ханна
Арендт Этциони. Хоть и кажется, что он воплощает то, что Арендт
предположительно порицала - социализацию политической
сферы в современности, большая часть его риторики
формулируется с апелляцией к духу греческих полиса и понятия гражданства,
по меньшей мере до той степени, в какой полис понимается как
пространство в некотором смысле свободное от необходимости,
в том числе примеров представительства. Стивен Холмс пишет,
что Арендт предвещала то, что он видит как антилиберализм ком-
мунитаризма - в подтверждение он прослеживает этот
«антилиберализм» через франкфуртскую школу и Хайдеггера к фигурам
Жозефа де Местра и Ницше100. Холмс пишет о «высоком» комму-
нитаризме консервативных интеллектуалов вроде Аласдера Ма-
кинтайра и Кристофера Лэша, о котором прежде говорили как
о возвращении к своеобразной форме неоаристотелизма101; к тому
же рациональность и политические мотивации этих мыслителей
и Этциони не так уж не похожи. Ожидать популяризации Этциони
как разновидности теоретической критики, которую Стивен Холмс
приравнивает к Макинтайру и Лэшу, однако, все равно что
снабдить семейный хэтчбек приборной панелью из красного дерева и
серебряным ведром шампанского. Арендт в любом случае радикально
отлична от коммунитаристской повестки по причинам, на которые
прольет свет настоящая дискуссия.
(I) Наиболее ясна, пожалуй, ее концепция свободы, неотделимой
от действия. Свобода как квинтэссенция политического
пространства - это не свобода действовать, но само действие. «Люди
являются свободными - как заслуживающие благодаря обладанию даром
свободы - лишь пока они действуют, ни до, ни после этого; потому
что быть свободными и действовать - это одно и то же»102.
Свобода, таким образом, не политическое или экономическое
состояние и даже не состояние ума, но «выражение принципов», которое
доносится при помощи действия. Со всем его вкладом в
индивидуальное волеизъявление и даже иллюзией автономии человек из
подполья Достоевского не свободен в смысле Арендт, потому что он
107
не способен (или не желает - разница невелика) действовать.
Свободе нечего делать с волением, даже инструментально; вопрос
человеческих мотивов не имеет места в политическом пространстве,
каким его видит Арендт.
Принципы, с другой стороны, вдохновлены ничем иным, как
внутренней работой с собой. Они очевидны в мире, говорит Арендт,
и существуют, пока длится действие, но не больше; посредством
этой формулировки она оказывает услугу безумному стону по
поводу чистоты мотивов, так характерному для современной
политики, но также и стону по поводу отсутствия самих принципов.
Концептуализировать нужду в принципах таким образом - значит
обращаться с ними как с элементом внутри сферы необходимости,
инструментализировать их, вписывать в сценарий «средство -
результат», странным образом связанный с классическим
пониманием оперирования публичной сферой. Арендт заходит даже слишком
далеко, записывая некоторые основные принципы в пригодные для
этой публичной сферы: «честь или слава, любовь к равенству,
которую Монтескье называл добродетелью, или отличие, или
превосходство [...], но также страх, или недоверие, или отвращение».
Понятия, ассоциирующиеся с аутентичностью - открытость, честность,
скрупулезность, правдивость, - отсутствуют, так как по самой своей
природе не могут появляться в публичном пространстве, сохраняя
собственную специфику. Эти концепты, другими словами,
достигаются и поддерживаются как веские только в условиях, близких к
бесконечности, к потусторонней жизни. Они относятся к
религиозной или созерцательной жизни скорее, чем к bios politikos, и сущ-
ностно связаны с трансцендентной справедливостью в другом мире
скорее, чем с судом потомков в этом. Это не значит, однако, что их
противопоставление можно узаконить на политической
территории, но скорее - что добродетель в политическом смысле не имеет
ничего общего с хорошими и дурными мотивами; что
последовательнее отнести этот вопрос о мотивах к отношению частной
сферы. Джефф Мулган прав, когда предполагает, что коммунитаризм
может в конце концов найти себя имеющим квазирелигиозную, а не
политическую идентичность103.
Экскурс: Метафизика как деконструкция
Постулирование Ханной Арендт политической сферы,
свободной от необходимости - от инструментальности или
интеллектуального вычисления в терминах средств и результатов, возникает
108
и вынуждает прочитать себя «деконструктивно», так как (I)
публичная сфера как сфера свободы в философии Арендт чрезмерно
«привилегирована» по сравнению с частной сферой необходимости;
(II) она романтизирует полис, что может быть спорно,
отталкиваясь от досократовской Греции; (III) для самой Арендт не
существует мифологизированной территории философского «высказывания
истины», которое она считает объективной, внеполитической
точкой зрения, которая счастливо уходит от политического выбора
в поисках метафизической легитимации. Эта «объективность»,
однако, как и свобода от необходимости bios politikos, только иллюзия.
Бинаризм Арендт служит прежде всего тому, чтобы усилить две
взаимообусловленные, да еще ложно идеологические перспективы.
В главе 1 я доказывал, что cordon sanitaire Деррида - его
сопротивление радикальному проекту деконструкции как радикальному
проекту, демонстрирующему104 уловку (или даже невозможность
уловить) метафизики, «жестокость письма», - необходима для
и основывается на его дискурсе, в обоих случаях, чтобы защитить
законность собственной критики от заряда инструментальности
(точка, как говорил Ницше, на которой на сцене появляется
философская «убежденность»)105 и предотвратить превращение
собственной мысли в набор жизненных предписаний. Ибо тогда,
говорит Деррида в Другом заголовке, один делает из этики и политики
«технологию», другой следует данному направлению, третий
просто осуществляет «программу»: «Если в чьем-либо распоряжении
уже заранее имеется всеохватность правила [regle] как решение
антиномии, это было бы вернейшим, наиболее удовлетворяющим
определением ответственности как безответственности, этики,
запутанной юридическими сложностями, политики,
организованной в рамках научно-технического подхода»106. Так, концепция
политической сферы Деррида, в этой книге разработанная более
выраженно, чем в любой другой, нисходит именно к тем
проблемам, которые по Арендт не имеют отношения к политической
сфере. Попытка сформулировать этику или политику ответственности
с точки зрения невозможного, говорит Деррида (к слову, на базе
бесконечности, постулируемой bios theoretikos по Арендт), бесполезно
залегает на отмелях логического тупика - жалкое состояние, мало
отличающееся от бессилия, испытанного человеком из подполья
Достоевского, и наконец, заслуживает такого философского
определения, как апория. Невозможность аутентичного, с одной стороны,
согласуется с неаутентичностью возможного, с другой - неаутен-
109
тичностью, надо сказать, политики как таковой, если мы серьезно
принимаем известное бисмарковское определение политики как
«искусства возможного». «Неразрешимое» противоречие требует
«иного мышления», говорит Деррида107; его критика определенно
направлена против этого чисто метафизического формулирования
проблематики; это не только форма выражения самого Деррида, но
и действует так, чтобы концепция этих терминов могла
кристаллизоваться на уровне, на котором означающее и означаемое должны
сойтись. Настаивая на радикальном разрыве между означающим
и означаемым, Деррида уверяет, что знак ныне не может
использоваться без признания этого разрыва - идет ли речь о дерридеан-
ской стратегии описания слов sous rature благодаря кавычкам или
о наиболее непреодолимом из всего благодаря установлению ли-
тературно-критическо-теоретического дискурса, raison d'etre
которого - процесс пограничного включения и колонизации. В одном
из своих ранних и наиболее известных эссе Деррида простодушно
и даже немного по-хозяйски осваивается в пограничной пропасти,
которую нашел для себя:
Взять один пример из многих: метафизика настоящего потрясена понятием
знака. Но как я только что предположил, если кто-то стремится показать таким
образом невозможность трансцендентного и привилегированного
означаемого и беспредельность пространства или игры сигнификации, то он должен
отринуть даже сами понятие и слово «знак» - а это именно то, что
невозможно сделать. В процессе означивания «знак» всегда понимался и определялся,
в своем значении, как знак чего-то, как означающее, отсылающее к
означаемому, означающее, отличное от означаемого. Если кто-то хочет снять
различие означающего и означаемого, тогда само слово «означающее» должно
быть запрещено как метафизический концепт108.
В анализе, к примеру, демократии, Европы, дара, природы,
мимесиса, «другого», письма109 проблематизация знака со стороны
Деррида проходит через предварительный процесс, в котором его
символический избыток не только уменьшается, но и (предварительно)
упраздняется. «Деконструкция» выдвигается на основе
метафизического равенства означающего и означаемого, которого никогда
не было - конечно нет; потому что знаковое разобщение вписано
в саму структуру знака. Согласно пониманию, признаваемому
Деррида, деконструкция действительно не «процесс» или «критика»
метафизики, но, возможно, в некотором смысле (как отношение
постмодерна к модерну) можно сказать предшествует метафизике.
* Фр. под стертым местом, где зачеркнуто.
no
По заслуживающим доверия словам Джоффри Беннингтона,
«только метафизика и существует с самого начала до самой своей
деконструкции»110. Выходит, что деконструкция - соучастница
метафизики - ситуация необходимости, говорит Беннингтон, скорее, чем
этического или политического выбора в смысле Деррида, да еще
последовательно ситуация, при которой принципиальная работа
Деррида не более чем пояснение. Нет политического измерения (в
смысле слова Ханны Арендт) в проекте Деррида, который начинается
и заканчивается как философское стремление к бесконечности111.
Концепт, который Деррида (иногда) называет «неразрешимым»,
означает, что он мечтает о сфере политического решения вне
«апории» политической ответственности, описанной выше. Далекий,
однако, от того, чтобы усиливать территорию политики, концепт
неразрешимости Деррида исключает искусство возможного,
комментируя и перестраивая каждую сферу культуры взамен
внутреннего условия метафизической необходимости. «Неразрешимое, -
пишет Деррида в Limited Ine,
раскрывает область решения или разрешимости. Оно взывает к решению
в порядке этико-политической ответственности. Это даже его необходимое
условие. Решение может прийти только в пространство, которое
превосходит исчисляемую программу, которая уничтожила бы всю ответственность,
превратив ее в программируемый результат определенных причин. Не может
быть моральной или политической ответственности без этого испытания и
следования путем неразрешимого112.
Как и «пограничный провал» между означающим и
означаемым, политический порядок - сфера свободы от необходимости
по Арендт - колонизован деконструкцией; лишен своей
концептуальной идентичности, демистифицирован; незащищен настолько,
насколько его банальная реальность согласуется с его идеальным;
уменьшен до площади, которая как минимум, в чем мы уверены,
более не позволяет совершенно бесцеремонного обращения. Чему
Деррида, похоже, намеревается однозначно положить конец, так
это беззаботность и безответственность - жестокость в
отношении использования языка; а значит, и стратегия sous rature; значит,
и дискурсивная необходимость «окружать критические концепты
осторожным и основательным дискурсом - отмечать условия,
среду и границы их эффективности и строго определять их ближайшее
отношение к машине, над которой они позволяют совершить
деконструкцию»113; значит, и повторение им в Другом заголовке
«безрассудства» использования названий вещей, которые «могут только
Ill
превосходить (и должны превосходить) правила теоретического
определения», в то время как этот символический избыток не
получает должного признания114; значит также убежденность, которой
была удостоена его заметка в Envois: «Вы знаете, что я никогда не
говорил, что я прав и никогда ничего не демонстрировал»115.
Структура деконструктивной (не)критики - тавтологична; это
тавтология, рождающаяся из страха перед чрезмерной жестокостью сигни-
фикации (являющейся также жестокостью метафизики), которая
кажется столь вездесущей. Так, знак «демократии» представляет
собой только знак системы правления, которая никогда не может
быть по-настоящему демократической в метафизическом смысле
(«Если бы был народ богов, - пишет Руссо, - то их правление было
бы демократическим. Так что совершенное правительство не для
людей»)116; знак «дарения» схожим образом предстает только как
знак события, которое фактически не является истинным дарением,
но всегда вовлечено в систему внутреннего обмена; коротко говоря,
знак во всех отношениях показывает себя «только» как знак
благодаря деконструкции.
Деконструкция стремится провозгласить метафизику
«неправдой» - это не метафизично в метафизическом смысле, но она
попадает в двойную петлю невозможности сделать это, не говоря
«метафизично»: это достаточно общее наблюдение. Это не только делает
произведенную деконструкцию самым метафизическим из
дискурсов (я более не говорю «парадоксально), в том смысле, какой
придает используемым словам Деррида, сам концепт сигнификации стал
куда более абсолютным благодаря проекту Деррида. Требование ко-
геренции, эквивалентности означающего и означаемого начинается
с прежней чрезмерной настойчивости Деррида на их радикальном
разрыве. Метафизика наряду с началом аутентичности настолько
возведена на пьедестал проектом Деррида, что термин
«метафизика» становится уже ругательным! «[Я] никогда не любил ничего,
кроме невозможного», - признавался Деррида в 1991-м]117. Если,
как замечает Арендт, любовь к мудрости и любовь к доброте
вырастает из озарения о том, что эти вещи недостижимы (как
провозглашал основатель современной философии Сократ и основатель
христианства Иисус ретроспективно)118, тогда любовь к невозможному,
к метафизическому, оформляется в демонстрацию невозможности
этого. Невозможное фактически становится невозможным только
благодаря признанию - которое есть воплощение - его
невозможности. Известно провозглашение Хайдегтером Ницше «последним
112
метафизиком»,но он был не прав (как указывает Деррида). На
самом деле это Деррида - первый последовательный метафизик.
В одном из параграфов своей Minima Moralia Теодор Адорно
рисует брак как прогнивший институт, анахронизм века, ибо его
экономическое оправдание - традиционный домашний уклад - не имеет
больше отношения к современности. Идея брака как совокупности
интересов сохраняется, говорит Адорно, лишь как обертка того, что
в действительности является «темным болотом», в котором
барахтается обоюдно паразитическая пара. В идеале, говорит он, каждый
партнер в браке мог бы вести независимую жизнь, скорее свободно
принимая взаимные обязательства, чем участвуя в этой
«коммунистической фикции» (если применить сюда фразу Гюннара Мирдала)
по экономической необходимости. Здесь можно провести аналогию
с критикой «гармонии интересов», предложенной коммунитарной
моделью, учитывая, что социальный микрокосм, неоднократно
приведенный в пример Этциони, - как раз семейный, как и с очень
близкой преходящей, деконструктивной критикой политической
сферы, предвосхищенной Арендт:
Брак как совокупность интересов означает неизбежную деградацию
заинтересованных партий; и это жестокость мироздания, из-за которой никто,
даже осведомленный о ней, не может избежать этой деградации. Можно,
конечно, лелеять надежду, что брак без пошлости - это возможность,
сохраняющаяся для тех, кто не имеет материальных интересов, для богатых. Но эта
возможность чисто формальная, так как привилегированные - это именно те,
для кого материальный интерес стал второй натурой - иначе они не
поддерживали бы привилегии119.
«Свобода от необходимости» в политической сфере, другими
словами, это не истинная свобода от необходимости вообще, так
как она скрывается за социальной привилегией - за полномочиями,
то есть за мастерской жестокостью, чинимой в околополитической
сфере. Оппозиция публичное/частное и соответствующая ей
оппозиция свобода/необходимость существуют лишь благодаря тому,
что каждый термин подразумевает свою противоположность.
Однако с точки зрения bios politikos анализ брака со стороны
Адорно не силен критикой. В этом пассаже на первое место
ставится такая принципиальная ценность, как антиинструментализм; брак
хоть и является явной частью домашней сферы по Ханне Арендт,
а значит, законно управляется необходимостью, согласно Адорно
понимается идеалистически, как будто различия между частной
и общественной сферами не имеют значения. Как и озабоченность
113
Этциони человеческими мотивами, отношение Адорно к
универсальной «деградации» людей вследствие их вовлечения в мир
материальной калькуляции и инструментальности одновременно бьет
мимо и как критика частной сферы, ибо частная сфера
определяется и выстраивается согласно с необходимостью, и как перенос
обвинения на bios politikos. Если публичная и частная сфера
рассматриваются отдельно и определяются всемирными отношениями
с бессмертием как противоположными метафизическим
отношениям с бесконечностью; если свобода рассматривается в терминах
Арендт скорее как действие, чем теоретическое, экзистенциальное
или физиологическое состояние - тогда любое чисто теоретическое
стремление показать метафизическую нечистоту этих сфер или
излучения их атрибутов обречено повторять эти (неопровержимые)
озарения бесконечно, но с небольшим или вообще неощутимым
влиянием. Возможность свободы от «своекорыстных интересов»
для Адорно «чисто формальна» только как отличная от
метафизической концепции свободы. Ее критика, таким образом, ведется
на базисе неудавшейся попытки поддержать уровень
метафизической последовательности. А еще эта возможность - именно то, что
Арендт подразумевает под свободой от необходимости,
обнаруживаемой в bios politikos. Социальная дифференциация неустранима
по Арендт; поскольку это подразумевает действие, вытеснение
своекорыстных интересов в домашнюю сферу любыми средствами, -
это условие для появления соответствующей политической
сферы, и это необходимый, законный процесс. Как апелляция к
трансцендентной истине в речи Портилло, атакующей «национальный
цинизм», настойчивое указание Ханной Арендт на разрыв между
публичной и частной сферами полностью защищено от сплошь
метафизической деконструктивной критики.
(II) Стремление Ханны Арендт к радикализму per se,
радикализму почти как концу самого себя, неотделимо от этого акцента на
действии и ее намеренного безразличия к вопросам
метафизичности. Оно опять же совсем иное, нежели сущностные консервативные
инстинкты коммунитаризма, и, как и ее неприятие статистического
анализа и сопутствующего ему мифа об «объективном человеке»,
показательно для стратегии ее мысли, периодически
одалживающейся у Ницше. Если, как я уже говорил, письменная культура
настоящего, установленная поверх аутентичности, подчинена
страху перед концептуальной жестокостью и отмечена
консервативностью, противоположной радикальным тенденциям, тогда вывод
114
Арендт о приоритете всемирной ценности бессмертия (как
потомства) над другой всемирной ценностью бесконечности (как вечной
жизни) можно увидеть как зов мужества, «одну из кардинальных
политических ценностей», как она говорит120, как попытку оживить
героический идеал, который растерял свою убедительность за
последнее время. «Настоящий герой», пишет Умберто Эко,
всегда герой по ошибке; он хочет просто быть открытым трусом, как
кто-нибудь еще. Если бы было возможно, он бы решил дело иначе, без
кровопролития. Он не восхищается собственной смертью или смертью других. Но и не
кается. Он страдает и молчит; если что случается, другие эксплуатируют его,
создавая миф, хотя он, человек доброй воли, был только бедным существом,
отвечавшим с достоинством и мужеством на событие, оказавшееся больше
него121.
Героизм по Эко, как бы там ни было, только современная
модификация, взятая как парадигма внутренних ценностей искренности
и честности - ценностей, которые более подходят приватной сфере
vita contemplative ценностей, которые по самой своей природе не
могут уцелеть при переносе в публичную сферу. «Демистификация»
со стороны Эко фигуры героя - являющаяся также типичным «де-
конструктивным» маневром - возможна только при таком
изменении концепта, когда он появляется на территории публичности как
частный (а значит, метафизический) объект. Фактически идея героя
воплощается (насколько любая идея воплощается) лишь как
последовательность публичных признаний; публичное признание и есть
ее реализация, и поэтому говорить об «истинном» герое отдельно от
его признания («эксплуатации» героя) - абсурд. Если есть
концепты, связанные с аутентичностью, которые не могут появиться в
публичном пространстве и остаться нетронутыми, мужество как архе-
типический политический атрибут, наоборот, феномен публичной
сферы, который, имея отношение к славе и известности, становится
бессмысленным (или, по меньшей мере, основательно изменяется),
когда попадает во внутреннее, или бытовое, пространство.
Мужество, как его видит Арендт, находится за гранью страха
смерти, который для Ницше является воплощением раболепия.
Радикализм Арендт есть именно это отсутствие почтения к
существованию, к прошлому и настоящему. Мужество противостоит
всему старому и считает это оправданным; мужество манит новое,
и оно предрасположено к нему потому, что оно новое. Каждый, кто
хочет войти в публичную сферу, должен отринуть заботу об
индивидуальном выживании - жизни согласно необходимости - во имя
115
пути к бессмертию и тому, что Ницше называл «монументальной
историей»122. В этом контексте буквальное бессмертие, о котором
мечтают представители киберриторики, - это деградация
религиозной, или символической, эсхатологии в абсолютно повседневную
заботу о выживании. Одержимость идеей вечной жизни,
достижимой в киберпространстве, - это культурная метафора аналогичного
кросс-культурного бегства от символического значения
(героического идеала, как славы у потомков) к буквальной «истине» -
снятому различию между означающим/означаемым.
Отказ Арендт считать метафизические выводы, как в любом
случае уместные в политической жизни, - это истинно радикальный
шаг, усиливающий свободу как действие, просто уничтожающий
все физические препятствия, стоящие на ее пути. Преобладание
метафизики - которое в современной теории скорее парадоксально
возросло, чем устранилось, - одновременно формирует и
оцепенелый цинизм, представленный человеком из подполья
Достоевского, и жестовый «кинизм» в виде политики упадка, с одной
стороны, и идеала местной, «низовой» активности и политики упрямого
невежества (кельвинизм), с другой. Это как если бы вся
совокупность человеческого потенциала была анахронично потрачена на то,
чтобы трансформировать отличную от vita contemplativa
политическую сферу во всеохватную сферу социального. На самом деле эта
совокупность, когда-то учредившая и вдохновившая политическую
жизнь и которую в разных случаях называют «интеграцией»,
«эстетикой существования», «ответственностью» или (по Арендт) vita
activa, была отослана во внутреннюю или созерцательную жизнь,
где теперь могла иметь не большую политическую ценность, чем
болтовня уборщицы с волнистым попугаем. Социальная
жестокость, заключающаяся в разрыве между частным/публичным, но
которая, в рамках публичного поля, допустила это «совместное
существование», была перенесена в концептуальное поле (как
«метафизика существующего»), где показала себя столь непримиримой,
что потребовала создания cordon sanitaire. Возможность интеграции,
с другой стороны, была сдвинута из концептуальной, из
метафизической (где была замещена безобидной «деконструктивной»
критикой) и устоявшейся сферы в новую сферу социального, которая
обременена требованиями необходимости и в которой борьба за
постоянство и аутентичное поведение никогда не была столь
последовательно интенсивной. Эта современная теория связана не только
с метафизикой, но и со своей собственной политической маргина-
116
лизацией и ясно, что ее реабилитация без фундаментального
изменения предпосылок невозможна, равно как и тех, кто ныне
действует в политической сфере от ее имени.
Если формула ревитализации политического радикализма
неуловима, возможно это потому, что ее решение как таковое и не может
быть сформулировано, а только внезапно найдено. Концепт
свободы как действия по Ханне Арендт аналогичен критической
трансформации слова «работа» в концепт Текста, определенный Роланом
Бартом. Если работа - это чисто книжный продукт с устоявшимся
смыслом, артефакт, «близкий к означаемому», который
дешифруется через мир и определяется согласно автору, то Текст открывается
«бесконечной отсрочкой означаемого», вмещает в себя такой
уровень жестокости, который «всегда вовлекает определенное
переживание границ», может быть прочитан «без влияния создателя» и, что
самое важное, ощущаемый «только как активность
произведенного» - существуя только, надо сказать, как «движение дискурса»123.
В bios politikos, похоже, повестка дня как таковая не обозначена
конституционально, но может постоянно варьироваться. Отказ
ограничивать или очерчивать политическое означаемое тогда должен быть
поддержан; не только из-за того, что в краткосрочной перспективе
политические цели находятся в процессе постоянного изменения
и новообразования, но и потому, что в долгосрочной перспективе,
надо сказать, одновременно реалистично и идеалистично, цели
политической жизни занимают сторону, которая всегда должна быть
отдаленной: «Гибните в стремлении к этому и только к этому»,
советует Ницше, «я не знаю лучшей жизненной цели, чем эта гибель,
апгтае magnae prodigus, в стремлении к великому и
невозможному»124. Вопрос о достижимости политического означаемого - это
метафизическая задача, наиболее последовательно проводимая vita
contemplativa; в vita activa свобода просто достигается бесконечным
переутверждением. Свобода, raison d'etre политики, перформативна,
и ее проявление в мире длится лишь пока она выражается;
свобода, а значит, и политика (в смысле полиса} от природы радикальна,
смертельна для существующих связей, и в этом смысле
переплетена с гегелевским моментом «чистой негативности». Свобода не
уважает существующее просто потому, что оно существующее и не
имеет отношения к жизни; значит, она должна появиться на
политической арене за пределами необходимости, где условия выживания
утверждены и несомненны.
* Лат. великое расточительство духа.
117
В Тексте, пишет Барт, «ясность формулировки - настоящий
«крест», несомый книжной моралью, - становится ложной
проблемой: я, пишущее текст, - это теперь не более чем я-бумага»125.
Концепт свободы, выраженной по Ханне Арендт, выстраивает текс-
туализацию политики, при которой задача ясности уже всегда
затуманена политическим мироощущением; мироощущением, надо
сказать, толерантным не к политической инструментальности, но
в целом к вопросу о «честности» как противоположному
«изощренным» мотивам, что тоже неверно. Примерно как автор-субъект
книжной «работы» становится явно (а значит, инструментально)
неопределенным в бартовском Тексте, метафорическое сравнение
Арендт политики с перформативными искусствами - не
определение, повторяет она, но метафора, очерчивающая идею виртуозности
(макиавеллиевской virtu) как сущностно политический атрибут126.
В главе, названной «Самоубийство мысли» в своей книге
Ортодоксия (1909), Г. К. Честертон атакует абстрактный нигилизм
Толстого и утвердительный плюрализм Ницше с подобным
самомнением: «Они стоят на перекрестке, и один ненавидит все дороги,
а другому нравятся все дороги. В результате, что ж, некоторые вещи
нелегко просчитаь. Они стоят на перекрестке»127. Он продолжает
свои нападки, делая их более конкретными и сравнивая инерцию
этих двоих с по-настоящему решительной, активной жизнью
Жанны д'Арк:
Я думал о призыве [Ницше] к экстатическому балансу опасности, его тоске
по топоту больших лошадей, его призыве к оружию. Что ж, у Жанны д'Арк
было все это, а еще с той разницей, что она не восхваляла битву, а сражалась.
Мы знаем, что она не боялась армии, так же, как мы все знаем, что Ницше
боялся коровы. Толстой только восхваляет крестьянина, а она была крестьянкой.
Ницше только превозносит воина, а она была воином. Она уделала их обоих
с их противоположными идеалами; она была более мягкой, чем один, и более
суровой, чем другой. А еще она была весьма практичной персоной, которая
совершила нечто, в то время как они - диковатые мыслители, не совершившие
ничего. В моем разуме не могла не проскочить мысль о том, что она и ее вера,
возможно, имели какой-то секрет морального единства в своем применении,
ныне утраченный...128
Этот критицизм той же природы, что обрушился на Арендт.
В своем эссе Политика без Баннистера Джордж МакКенна
заявляет, что «очарование» Арендт политическим «театром» ставит
ее теорию под угрозу тривиализации - «поскольку она так
захвачена ясной активностью политики, что цели и задачи
политического действия не представляют для нее интереса [...]. Как если бы
118
у нее была эстетизированная этика, ставшая особенностью «вкуса»,
продолжает он, «так у нее есть эстетизированная политика, ставшая
разновидностью "живого театра"»129. Он цитирует биографическое
эссе Элизабет Янг-Брюель, отсылающее к поддержке Арендт
университетских демонстраций 1960-х:
Шенан Кленборт встретил ее в бродвейском ресторане, расположенном
между ее апартаментами в Riverside Drive и главными воротами Колумбии
в первый день, когда студенты заняли здания. «Студенты на демонстрации», -
провозгласила она радостно, - «и мы все с ними». Кленборт, куда более
осторожный, чем Арендт... напомнил той, что она сейчас обедает в ресторане,
а вовсе не на демонстрации130.
Ханна Арендт сама, надо сказать, никогда не выходила из сферы
vita contemplativa; декламировать с академических подмостков
необходимость действия так же политически отчужденно, как
«принципы принципов» Тони Блэра.
Этот в действительности легкий анекдот Шенана Кленборта
интересен не тем, что упрекает Арендт за неспособность совершить
предписанный отрыв vita activa от vita contemplativa, но тем, что
скрыто обвиняет в непоследовательности: в пику своему
частному теоретизированию о необходимости действия, подразумевает
Кленборт, в публичной жизни Арендт явно не способна
реализоваться. Структурно в его отклике содержится заметное сходство
с «Назад к основам»; если министры Мэйджора были уличены
в частном поведении, не соответствующем их публичным
заявлениям как представителей правительства, то Арендт, как говорит
Кленборт, не выполнила публично ту политическую роль, которую
рассматривала частно в своей работе.
Однако, заявив это, не так легко смутить ее обвинением в
скрытом лицемерии. Арендт сама вполне однозначно заявила свою
позицию: «Смотреть на политику со стороны истины, как я сделала
здесь, значит занять точку вне политического поля. Эта точка есть
точка говорящего истину, который лишен позиции - а с ней и
обоснованности того, что он может сказать, - если он пытается прямо
вмешиваться в дела людей, говоря языком убеждения или
жестокости». Не приглашает ли, с другой стороны, подобное требование
«объективности, истины» «деконструктивную» критику, на
основе которой открыто ставит себя в положение эпистемологической
трансцендентности? Тем более что это самое требование уже
появилось под стертым местом благодаря самой природе границы между
публичным/частным: «истина», как она подразумевает, так же огра-
119
ничена в своих возможностях, как и политическая сфера, которая,
«несмотря на все величие», так же не может охватить все бытие
человека. Так, за пределами biospolitikos - то есть из bios theoretikos или
«с точки зрения истины» - это как если бы сфера политики «была
не более чем полем битвы частных, конфликтующих интересов, где
не в счет ничто, кроме удовольствия и выгоды, приверженности
и жажды власти...»131; это как если бы, другими словами, она с
вдохновением расписывала арену столкновения конфликтных
(идеологических) интересов, где было бы необходимо занимать позиции
«ложного сознания», и считающуюся гражданами полиса
необходимой для функционирования политической машины. Но политика,
полагает она, это кое-что еще, нечто, достижимое лишь тогда, когда
идея истины взята на вооружение политическим мироощущением
- мироощущением, для которого не имеет значения истина о том,
что есть политика. Гораздо важнее для этой сферы «радость и
удовлетворение, возрастающие от нахождения в компании с нашими
сподвижниками, от совместных действий и появления на публике;
от нашего вклада в мир словом и делом, формирующие и
поддерживающие таким образом нашу идентичность и дающие начало
чему-то совершенно новому». По той же причине, по какой Деррида
не может продемонстрировать несуществование трансцендентного
означаемого, Арендт не может точно определить содержание
политической сферы.
Независимость политической и теоретической сфер, vita activa
и vita contemplativa, - это достойная для Арендт причина настаивать
на сохранении их соответствующих связей, как и для ораторов
современной политики отстаивать их взаимное растворение. Должно
бы показаться, что возрастающий и совершенствующий себя культ
аутентичности, повальное культурное увлечение нашего времени, -
это продукт путаницы между публичной и частной жизнью,
путаницы, которая является центральной заботой настоящей работы.
Процесс заражения одной сферы со стороны другой - это явно
современный феномен; Бодрийяр, например, определяет как начало
неотделимости политического и социального Французскую
революцию132. Удовлетворение объяснением особых культурных забот
их соответствием fin de siècle кажется признаком лени и ухода от
интеллектуальной ответственности. Кажется неоспоримым в то же
время, что настроение экстраординарного размышления и
исторической осведомленности проявляется во время таких периодов,
и это то, что может иметь определенный социальный и культурный
120
резонанс. «Приближение последнего века», писал Йейтс в 1903-м,
«было насыщено странными желаниями уйти от формы, добраться
до своего рода бестелесной красоты, а сейчас, как мне кажется,
пришел противоположный импульс. Я чувствую вокруг себя и в себе
импульс, требующий создания формы, стремление реализовать
красоту насколько это возможно»133. Возможно, аналогичным
образом первые годы нового века увидят возрождение политического
климата, желающего в стремлении к ясности усилить антагонизм
культуры, в которой метафизическая жестокость «чистой
негативности» переживается с меньшим оцепенением, без субъективной
травмы, преследующей постмодерн; и преобладающее
расположение случайности и инструментальное™ в отношении лингвистики
и других знаковых систем, которое положит конец этому стенанию
о «жестокости письма» в угоду действию, - иначе говоря,
коммуникации и семиотическому обмену.
Работа Ханны Арендт возникла как предложение решить
проблему цинизма, понимаемого в духе Слотердайка как
«просвещенное ложное сознание». Как противоположный грубым рыночным
жестам Диогена, этот меланхоличный цинизм - преимущественно
«постмодернистский» недуг, наследие современности и ужасная
ноша, ставшая ощутимой благодаря «силам модернизма»,
определенным Хабермасом как «принцип безграничной самореализации,
требование истинного самопознания и субъективизм
сверхвозбужденной восприимчивости». Цинизм как одновременная зациклен-
ность на и разочарованность в аутентичности может привести
прямо к модернистскому импульсу, направленному на то, чтобы сделать
однородной человеческую активность, сделать последовательными
частную и общественную жизнь, искоренить границы, которые
кажутся делающими неизбежными привилегии и социальную
дифференциацию, и смешать, заместив разные сферы жизни одной
всеохватной и демократической материей: обществом. Если провести
сопоставление с текстовым критицизмом постструктуралистской
теории, мысль Арендт очень сильно напоминает «текстовый»
подход к институту политики, как и радикальную реконцептуализа-
цию литературы Текстом Ролана Барта. Благодаря перемещению
кантовских категорий частного и публичного разума в
аристотелевский контекст (противоположный сократовскому), понимание
Арендт vita activa может быть распространено на политическую
сферу, которая сущностно радикальна, которая относится к и
зависит от виртуозности (virtu) участников перформанса (действия)
121
и которая материально (скорее чем теоретически или
конституционально) проницаема сферой необходимости. Забота об
аутентичности, которую Арендт отводит разделенному в себе пространству
- vita contemplativa - сфере, которую она сама занимает как еще
один человек, далекий от мира действия. По этим же причинам
критика «метафизики настоящего» со стороны Деррида уместна
только в отношении vita contemplativa, сократовской bios theoretikos.
Однако отрыв политической сферы от bios theoretikos не означает,
конечно, «освобождение» первой от метафизики в дерридеанском
смысле. Что оно реально делает, так это возвещает и перестраивает
bios politikos как откровенную область свободы человеческого
действия. Проблема человека из подполья Достоевского в том, что он
оказался парализован собственной (и мировой) насыщенностью
метафизикой, а для bios theoretikos метафизика и неаутентичность -
одно и то же. Ханна Арендт отсекает метафизические
предпосылки, предоставляя их самим себе, и таким образом освобождает
политическую область от вопросов аутентичности/неаутентичности,
правды/бесчестности, искренности/цинизма, просто заявляя, что
они не представляют для нее интереса. В смысле усиливающегося
действия метафизические заботы - которые были до такой степени
разрежены и сублимированы в работе Деррида, что о нем можно
говорить как о первом последовательном метафизике, -
положительно отменены. Возобновление ясного различия между делами
политической сферы и этим чисто теоретическим существованием
окончательно стало насущной политической задачей.
Ill
Энергия vs Глубина:
Соблазнительность банальности
Посмотри на пасущееся стадо, пока ты проходишь мимо него: оно не
знает, что значит вчера или сегодня, оно скачет, отдыхает,
переваривает пищу, снова скачет, и так с утра до вечера, изо дня в день,
связанное только моментом и своим удовольствием или
неудовольствием, но не меланхолией или скукой. [...]
Если счастье, если достижение нового счастья - это в любом случае
именно то, что привязывает живых существ к жизни и заставляет
их жить дальше, то, вероятно, нет более справедливой философии,
чем циническая: поскольку счастье животного, как совершенного
циника - это живое доказательство верности цинизма.
Ницше. Несвоевременные размышления1
Один из уроков, который преподал нам Гитлер, заключается в том,
что лучше не быть слишком умным. Евреи приводят всевозможные,
хорошо обоснованные аргументы, что он мог не прийти к власти,
когда его восхождение было для всех очевидно. Я помню разговор, во
время которого политический экономист показал - на основе интересов
баварских пивоваров - что немцам все это было невыгодно. Другие
эксперты доказали, что фашизм был невозможен на Западе.
Интеллектуалы в полной мере предоставили варварам эту возможность,
будучи столь тупоголовыми. Дальновидные суждения, прогнозы,
основанные на статистике и опыте, комментарии, начинающиеся
с «это предмет, который я хорошо знаю» и законченные уверенные
заявления, - это все полная чушь.
Макс Хоркхаймер, Диалектика Просвещения2
1. АРТИКУЛЯЦИЯ ОППОЗИЦИИ
Тупость
Тупость - высокосортный культурный товар. Если ее
поставщики ныне действуют в Голливуде, на западном побережье
Соединенных Штатов, то это лишь эффект интенсификации и
сосредоточения американского мироощущения в одной резонирующей
123
безумием местности. Как знает каждый европеец, Америка
действительно всегда воплощала собой и создавала себя из
определенного рода банальности. К ней успех приходит только благодаря
совершенствованию; европейское чувство стиля и утонченности,
подлинность, найденная в истории и памяти, как знает каждый
американец, могут быть достигнуты лишь благодаря путешествию
по Старому Свету, благодаря общению с какой-нибудь душой в
степях Востока, благодаря «растворению» во Французской Ривьере
или, что еще более подходяще, благодаря пребыванию некоторое
время в парижских салонах. Европейский тур - это веха en route*
к американской зрелости, прикосновение к традиции, к миру,
наполненному смыслом и метафизикой, миру глубины и субстанции, но
миру, для которого характерны меланхолия, бессонница и инерция.
Америка не знает самоистязающего бессилия Достоевского, Лейри-
са и Чорана; однажды позавидовав столь серьезной родословной,
настаивая, что ее писатели и художники ритуально прошли через
все это, она, как кажется, довела свою поверхностность до
культового, мифологического статуса. Радикальная тупость стала
легитимным, выгодным состоянием ума. В Форресте Гампе освобождение
от европейской интроспекции стало именно тем ключом, благодаря
которому Форрест преуспел как спортсмен, солдат и национальная
знаменитость. В Шоу Бивиса и Баттхеда биполярная ось
критической оценки («это круто»/«это сосет») протагониста выстраивает
неопровержимую и авторитетную перспективу, рождающую отказ
от вовлечения: все, считающееся неприемлемым в силу его общей
эстетической конституции на данный момент (обыкновенно все
воспринимающееся как высокопарное или придающее себе
чрезмерное значение), просто и безапелляционно отвергается. Если
тупость под маской ученого дурака предлагает освобождение от
социальных и интеллектуальных тонкостей этической ответственности,
редукционизм Бивиса и Баттхеда под маской тупости - это случай
кельвинизма (обсуждавшегося в главе 1): манифестация
умышленно одобренного невежества из прагматических соображений, чтобы
максимизировать риторическое воздействие субъективности и силу
индивидуального волеизъявления.
Только консервативные аналитики Великобритании
обнаружили доказательство возрастания цинизма в национальной жизни как
одного из ядерных осадков постмодерна, как в Соединенных
Штатах тупость стала употребляться для реального понижения менталь-
* Фр. на пути.
124
ного уровня Америки. Тупость, пишет нью-йоркский арт-критик
Джозеф Дектер, «стала знаковой формой поведения, костюмом,
который на нас лучше всего сел после долгого дня полной
рациональности и целеориентированной работы. Это действительно
печально. Наша тупость имеет утилитарную ценность, она инструменталь-
на»3. По Дектеру эта добровольная «эрозия грамотности и
интеллектуальная поверхностность» есть симптом чего-то, называемого
«декаданс fin-de-siede»; его собственное вуайеристское вовлечение
в «культуру тупости» посредством критической формы
«культурных исследований», как он говорит, есть способ «рационализации»
косвенного наслаждения от этих эффектов. Признавая себя
соучастником этой культурной «порчи», Дектер ограждается забором
от тех консервативных аналитиков, от которых себя отличает. Как
тут, в конце концов, провести границу между косвенным
потреблением и косвенным обвинением? Более того, на основе какого
критерия культурный критик постмодерна решает, какую из двух
опций задействовать? Не является ли косвенное усвоение в
действительности формой осуждения, так как в определенной степени
любое осуждение - как противоположное отречению - косвенное?
Не утверждает ли это определяющее субъективное отчуждение от
культуры бесцеремонный отказ от нее во всей ее совокупности?
Как и в недавнем тексте об «отупении Америки», написанном
Полом Фусселлом, в статье Дектера проводится различие между
реальной тупостью и тупостью, взятой как эстетическое или
стилистическое подмигивание. И это последнее, опосредованное
понятие, тупость как «концептуальная парадигма» - объект
рассмотрения обоих текстов. Так, недавняя история искусства, говорит
Дектер, предлагает несколько примеров «умно осуществленных
тупых идей», в то время как несвязная книга Фусселла состоит из
серии тривиальных примеров «скатывания к тупости» в
различных сферах американской жизни. Так начинается типичный пассаж
в главе, названной «ДУРНЫЕ отели»: «Один заметный недостаток
современной американской жизни - это фактическое отсутствие
критики отелей. Похоже, никто вокруг, как, скажем, Г. Л. Менкен,
не придерживается строго собственных стандартов, не так нетерпим
к денежному жульничеству и бесстрашен, чтобы судить об отелях
без обиняков и справедливо». На самом деле, как и множество
недавней консервативной полемики (Закрытость американского
сознания Аллана Блума, Культура сожаления Роберта Хьюза), книга
Фусселла - это протест против постмодернизма; его презритель-
125
ная категория «ДУРНОГО» вкуса не что иное, как то, что может
в других случаях быть понято как ирония или «лагерный туризм» -
способ усвоения, который реконтекстуализует свои эстетические
объекты, менее резкая, менее «взятая на вооружение» альтернатива
оцениванию и заявлениям, которых требуют универсальные
постулаты модерна4.
Если все эти манифесты что и продвигают, то это извращенный
антиинтеллектуализм, который сам находит кельвинистическую
реакцию непонятной - но конечно реагирует именно так! Подобные
тексты угождают интеллектуально провинциальному
мироощущению среднего ума, для которого универсальная медиация
культуры - «постмодернистская» проблематизация репрезентации (от
которой «культура тупости» предлагает лекарство) - только часть
«постмодернистской» софистики. В мире культурной,
идеологической и психологической запутанности стратегия добровольного
невежества и самоуверенно догматичной субъективности возникает
как нечто «безответственное» и «возмутительное»; к тому же,
бесспорно, «бессмысленность» его существования придает ему особый
шарм. «Это фиктивное обещание освобождения от всех социальных
обязанностей, которые нас терзают, удерживает нас в неведении
относительно следующего эпохального кризиса», пишет Дектер.
Фиктивное или нет, а соблазн прыгнуть в пропасть сна и беспамятства -
как соблазн смерти - это, наконец, мечта романтизма, фантазия
художника во время муки творчества, панацея, которая может быть
понята как таковая только с точки зрения меланхоличного,
экзистенциально бездеятельного, радикально циничного метафизика.
Жестокость
Жестокость в кино в эти дни вызывает то же особенное
волнение, что и тупость. Есть что-то внутреннее, почти эротическое в ее
привлекательности; и это, конечно, кажется анахроничным - если
не брать бесконечно опосредованное, «постмодернистское»
состояние равнодушия современной жизни. Не предполагалось ли, что
этический субъект 1990-х будет иметь смягченную, более
«женственную» природу. Акт жестокости - это отказ от политического
решения и от косвенно вовлеченного этического дискурса.
Перспектива постмодерна предлагает больше мудрости;
постмодернистские установки делают действие мудрости более трудным. Вот, грубо говоря,
почему время постмодерна воспринимается как жизнь в кризисе. О чем
постмодернистский ум осведомлен, так это о том, что в жизни человека и общества
126
есть проблемы с нелучшими решениями, кривые невыпрямляемые траектории;
противоречия, представляющие собой нечто большее, чем поддающиеся
исправлению лингвистические ошибки; сомнения, которые не могут быть
устранены из существования; моральные муки, которые не могут смягчить никакие
продиктованные разумом рецепты, а приходится лечить самостоятельно.
Так пишет Зигмунт Бауман, завершая свои размышления о
«постмодернистской этике»5. В этом контексте, который, надо сказать,
обращен к моральной и интеллектуальной пассивности, описанным
выше, не такой уж нетипичный «постмодернист» предлагает
перспективу жестокости, которая скорее ломает границы, чем
сохраняет, скорее предрешает, чем выпячивается, обладает прирожденным
лоском собственного витализма и собственной несомненности.
«Жестокость в реальности и в кино не равнозначна: это разделяет
вас, останавливает на ваших путях; вы знаете, что это значит»6.
Почти такой же взгляд у Стивена Гринблатта в убедительном и
блестящем эссе о Кристофере Марлоу. Ренессансный разум, говорит
Гринблатт, в одиночку противостоит беспредельности одновременно
пространства как мира, открытого для исследования и заселения,
и времени как концепта, ставшего для пуританского чувства
постоянным после неравномерности церковной средневековой доктрины
и потому превратившегося в абстракцию.
Для познания этой безграничности, этой трансформации пространства
и времени в абстракции, люди прибегают к жестокости как средству
проведения границ, осуществления трансформации, оглашения замыкания. Сжечь
город или убить всех его обитателей - значит обозначить конец и, делая это,
дать жизнь форме и определенности, которых в другом случае бы не было7.
Марлоу писал в период большой интеллектуальной
любознательности и увлеченности, рассвета просвещения, во времена,
когда эпистемологические и онтологические модели проходили через
плодотворные кризисы и обновления. Отступники, герои его пьес,
определяли себя через оппозицию к авторитету и общественным
нравам. Почитаемые ими «идентичности» - беспощадность
Тамерлана, макиавеллизм Вараввы, гомосексуализм Эдварда II,
философский скептицизм Фауста - выражение неумолимого желания
и стремления к идентичности (как и стремление к «декадансу» во
время fin de siede и в постмодерне), хотя, конечно, просто
переворачивая парадигмы, как указывает Гринблатт, они вписывают себя
в структуру ценностей их общества. Настойчивое стремление
героев Марлоу к утверждению собственной индивидуальности
посредством их радикального размежевания с обществом происхо-
127
дит от всеохватной современной тревоги, выраженной человеком
из подполья Достоевского. Степени их успеха явно неисчислимы
и не соотносимы с чем-либо; то, что они появляются в современном
сознании, чтобы вновь утвердить основные ценности Ренессанса,
воплощая и высмеивая их антитезы, - это одновременно
банально и беспочвенно. Факт в том, что ко времени Записок из подполья
прогресс просвещения сделал столь легкое самоваяние
экзистенциально невозможным. И еще век спустя, среди головокружительного
простора, но и бесхарактерности постмодернистского морального
пейзажа, как он представлен у Баумана, проявления жестокости
выглядят как твердые ориентиры, вспышки определенности, моменты
ясности. Револьвер, выставленный в баре в Маленькой Италии
разрешает скрытое напряжение за секунду, очерчивает с неожиданной
ясностью отношения между мошенником и простофилей,
должником и заимодавцем, социопатом и назойливым «придурком» -
у каждого появляется осязаемое чувство того, кто они такие и на
чем стоят. Почти все, что Стивен Гринблатт говорит о Марлоу в
заключение своего эссе, может быть сказано о Квентине Тарантино
(но не все о Мартине Скорсезе):
Эта игривость в работах Марлоу проявляет себя как жестокий юмор,
убийственные на практике шутки, склонность к диковинному и абсурдному,
удовольствие от ролевой игры, полная погруженность в происходящую игру
и последовательное безразличие к тому, что лежит за ее пределами,
радикальное бесчувствие к человеческим трудностям и страданию, экстремальная,
но контролируемая агрессия, враждебность к запредельному8 (курсив Тимоти
Бьюза).
Как раз в этом пункте жестокость сталкивается с кельвинисти-
ческой тупостью; жестокость - это актуализация действия в
атмосфере, в которой действию оказывалось патологическое
сопротивление. Страх жестокости в постмодерне делает любое действие
жестоким, а любую жестокость эротичной. В этом случае жестокость,
обыкновенно рассматриваемая как чистое средство, извращенно
реконцептуализируется как цель в себе или, в любом случае,
становится феноменом, значимым настолько, насколько ею
добровольно игнорируются цели или вопрос о справедливости, связанный с
целями. Кажется, что в постмодерне любая жестокость несанкци-
онирована; всякая жестокость избегает возможного оправдания
в исторической экономии средств и целей. «Эпидемия консенсуса»
представляет собой неписаный закон; раскол угрожает этому
натянутому согласию и является перед ним как жестокость, точно так
128
же, как проявления индивидуального волеизъявления должны
восприниматься как акты цинизма.
Различие между санкционированной и несанкционированной
жестокостью проводится в Критике жестокости Вальтера Бенья-
мина, где каждая определяется «наличием или отсутствием общего
исторического признания ее цели». Так, защищающая закон
жестокость - это использование жестокости для законной цели, которая,
надо сказать, подчиняет граждан исторически признанному закону.
Несанкционированная жестокость, с другой стороны, преследует
природные цели, которые не имеют подобного признания, которые
беспрецедентны. То, что истинные цели легальной жестокости - это
не те вышеупомянутые «законные цели», но скорее защита закона
как такового, доказывается Беньямином на основе того, что закон
порицает любую жестокость, но только не ту, которая направлена на
легальные цели. «Жестокость, когда она не в руках закона, страшна
не целями, которые может преследовать, а только своим
существованием вне закона»9. Внутреннее обращение к жестокости,
сексуальности должно быть определено по степени, в какой она
представляет свободу и потенциальную дестабилизацию и аннигиляцию
существующего закона скорее, чем по степени самой жестокости,
которая может быть лишь отвлекающим средством.
Несанкционированная жестокость есть законотворческая жестокость; Беньямин
иллюстрирует это ссылкой на военную жестокость, которая, при
достижении победы, достигает успеха в навязывании признания
новых условий и, следовательно, нового закона.
Несанкционированная законотворческая жестокость может последовательно
исходить только от не заинтересованной в задаче своего исторического
оправдания группы - другими словами, группы, которая пользуется
чрезмерным почтением от существования, слишком слабого
существованием; группы, чье стремление к «природным» целям
обеспечивает ей презрение к настоящим условиям, которое выносит ее за
существующие границы.
Жестокость и «чистая негативность»
Это «законотворческое» сознание близко тому здоровому
философскому скептицизму, описанному в Феноменологии Гегеля;
действительно, термины, в которых Беньямин это формулирует,
точно те же, которыми Гегель описывает жестокость чистой
негативности. Знание, говорит Гегель, развивается посредством
успеха таких моментов жестокости - жестокости, при которой созна-
129
ние страдает в собственных руках, так как ему необходимо выйти
за собственные границы в стремлении к абсолютному знанию.
В разделе Феноменологии, связанном с «миром самоотчужденного
духа», в момент, когда Дух противостоит и в то же время
находится в условиях абсолютного отчуждения от области чистой
культуры, разыгрывается диалектический сценарий между благородным
сознанием (которое определяется авторитетом, чье достоинство
им приукрашивается) и низменным сознанием (которое презирает
авторитет и подчиняется только «дурным умыслам»)10. Истинный
дух, говорит Гегель, достигает определенного существования
посредством объединения двух форм сознания - в инверсии, то есть
при превращении каждой в свою противоположность. По Гегелю,
однако, это жестокость языка начального, «дезинтегрированного»
сознания скорее, чем честность благородного, спокойного
сознания, которое адекватно выражает условия своего существования.
Здесь задействованы и поставлены лицом к лицу законоохранная
жестокость и законотворческая жестокость, проанализированные
Беньямином, - в терминах настоящей аргументации следует
помнить, что законоохранная жестокость - это не жестокость вообще.
Благородное сознание воплощает собой преобладающую мораль,
честность, «необразованное безмыслие», в то время как
низменное, или «расколотое», сознание - это двигатель диалектического
осуществления истинного духа, описанный языком
экстремальных жестокости и разрушения:
Оно существует как универсальная речь и разрушительное суждение,
отбрасывающее значение всех тех моментов, которые принято наделять
истинным существованием как актуальные части целого, и это равнозначно
той нигилистической игре, которую оно играет само с собой. Его суждение
и речь поэтому истинны и непобедимы, пока оно все преодолевает; только
с этим одним кто-то и способен сделать нечто в этом мире11.
Bios politikos, как теоретизирует Ханна Арендт, конечно, имеет
что-то от жестокости чистой негативности - особенно если мы
держим в уме важность «радикализма» для своего же блага в
концепции политики Арендт. Степень, необходимая для системы Арендт,
не только в смысле желания достигать современных состояний дел
по праву, но также важности преодоления сферы необходимости,
трепета перед существованием, хозяйственной сферы - процесс,
достижимый лишь благодаря действию самораспаляющей
жестокости, «преполитическому акту самоосвобождения от необходимости
жизни для свободы от мира»12. Свобода, неоднократно подчеркива-
130
ет Арендт, возможна только тогда, когда заботы об условиях
выживания эффективно решены. Свобода разыгрывается и бесконечно
переигрывается; последовательно свобода полиса уходит в
концептуализацию сущностно экономических очертаний модели средств
и целей. Поскольку несанкционированная жестокость по
определению выходит на политическую сцену, чтобы переопредедить закон -
ввиду того, что ее цели беспрецедентны в том смысле, что
достигаются цели жестокостью законотворчества как политической
креативностью. Третировать подобную политическую витальность как
«цинизм» означает поверхностную и бездумную мобилизацию всех
средств в угоду особой цели, и потому неточно и неисторично. Демо-
низация Макиавелли, любимого политического философа Арендт,
есть результат концептуализации его идей современным сценарием
средств и целей, результат восприятия риторики, доблести -
концепта Макиавелли в форме virtu - как полярной
противоположности истине. Бодрийяр пишет:
Цинизм и аморальность макиавеллистской политики заключены вот в чем:
вовсе не согласно вульгарному пониманию в неразборчивости в средствах,
но в бесцеремонном равнодушии к целям. Сейчас, как хорошо знал
Ницше, это равнодушие к социальной, психологической, исторической истине,
в этих упражнениях с симулякрами как таковыми, так что максимум
политической энергии можно найти там, где политика является игрой и еще не нашла
обоснования13.
Эта ощущаемая оппозиция между риторическим jouissance*
и диалектической подлинностью, между искусством убеждения
и философским призванием, между американским прагматизмом
и европейской метафизикой, между (на грубом уровне) жестким
идеологом и безобидным либералом или (еще грубее) между
ученым дураком и бесплодным исследователем - эта оппозиция есть
предмет данной главы и может быть сформулирована более четко
как выбор между энергией, катализатором нового мира и глубиной,
как наследием старого.
2. ПЛЕМЯННИК РАМО: СНЯТИЕ ОППОЗИЦИИ
Le neveu de Rameau Дидро представляет конфликт в форме
пространного диалога между просвещенным философом Дидро
и циничным племянником известного композитора Рамо. В
соответствии с Гегелем,цинизм постмодерна - декаданс, релятивизм,
ирония - создает слабые, низовые ответы на жестокость чистой
* Фр. наслаждение.
131
негативности; однако в Феноменологии он цитирует фрагменты из
диалога Дидро без ссылок, так что невозможно точно
предположить, что племянник Рамо, со всем его «низменным» цинизмом,
является персонификацией этой жестокости, двигателем
самоосуществления духа.
Племянник Рамо - это драматизация «мира
самоотчужденного духа», в котором «ни сила и богатство, ни их особые законы, ни
«хорошее» и «плохое», равно как и сознание «хорошего» и
«плохого» (благородное и низменное сознание), не обладают истиной»14.
Цинизм Рамо заключен именно в его отказе принимать законы
государственной власти и богатства; рассказчик диалога, собеседник
Рамо (которого я буду называть, следуя Лайонелу Триллингу и Ф.
Н. Фербанку, протагонистом Дидро)15, размышляет, что понятия
добра и зла, должно быть, «странно спутались в его голове». С
последовательной и выразительной убедительностью Рамо отвергает
патриотизм, дружбу, социальную ответственность и даже уход за
чьими-либо детьми как «суету». Скорее так: «Умасливайте людей», -
советует он, - «умасливайте их, внимательно наблюдайте за ними,
изучайте их вкусы, разделяйте их капризы, потакайте их слабостям,
утверждайте в их заблуждениях. Вот и весь секрет». Рамо, как он
признается философу, скорее живет согласно «мудрости
Соломона», чем по приспособленческой морали или в соответствии с
«просвещенными» ценностями философов - которые, к слову, «пьют
хорошее вино, закатывают пиры, кувыркаются с красивыми
женщинами, спят на мягких постелях»16.
Этот отказ Рамо от метафизического и культурного багажа, его
стремление, как дело принципа, существовать в сфере видимости
и неподлинности - образ жизни, который философу кажется
«дурной пантомимой», карикатурой на человеческое существование, -
что особенно важно для размышления в этой главе. Рамо, как
рассказал нам протагонист Дидро, «расшевеливает людей и дает им
встряску, заставляет выбрать сторону, сказать правду,
показывает, кто действительно хорош, и разоблачает плутов»17. Рамо живет
«бесчестно» настолько, насколько признает себя лентяем и
паразитом. Он непредсказуем, в меру распущен и воплощает
одновременно продуктивную, низвергающую жестокость сыгранного Де Ниро
хулигана Джонни Боя18 из Нижнего Ист-Сайда и в то же время
добровольное игнорирование метафизических и этических вопросов,
которое выставляет на свет. «Чаемая вами форма [счастья]»,
говорит он Дидро,
132
предполагает определенный романтический склад ума, которым далеко
не все обладают, необычный тип души, особенный вкус. Вы удостаиваете эту
странность названием добродетели и вы называете ее философией. Но разве
добродетель и философия созданы для каждого? Представьте вселенную
прекрасной и философской и согласитесь, что это было бы дьявольски уныло19.
Его решение проблемы индивидуального волеизъявления,
прозвучавшей в Записках из подполья прагматично и определенно-
торжественное утверждение идентичности как свойства характера,
избегающего посредственности, стенания и инерции буржуазного
субъекта и облаков меланхолии, угрожающих его обнаружить,
посредством выдвижения на передний план концепции
субъективности как представления, - не для того, чтобы показать, что
субъективность необходимо условна и изменяема. Рамо не будет
способствовать припадкам обиды или задетого самолюбия в связи с тем,
что его действия могут кого-то задеть:
Брун вне себя из-за того, что Палиссо, его друг и хороший компаньон,
написал высмеивающие его стишки. Но Палиссо был вынужден написать их, и не
прав именно Брун. Пойнсине вне себя из-за того, что Палиссо приписал ему
стишки, которые он сам написал против Бруна. Палиссо был вынужден
приписать Пойнсине эти стишки, написанные против Бруна, и не прав Пойнсине.
Бедный аббат Рей вне себя, потому что его друг Палиссо похитил его
любовницу после того, как он сам их и познакомил. Что ж, ему не следовало
представлять мужчине вроде Палиссо свою любовницу, если он не готовился оставить
ее. Палиссо только выполнил свой долг, а не прав аббат Рей20.
Принцип существования Рамо - это, во всех проявлениях,
предпочтение энергичного «безрассудства» философской «глубине».
Рамо с нахальством отбрасывает интеллектуальную и моральную
ответственность, которой в 1784-м Кант обладал как доктриной
просвещения сознания21. Излагая Дидро трюки и ужимки, при
помощи которых он учит музыкальному аккомпанированию и
композиции девушек из богатых семей, несмотря на свое полное незнание
предмета, Рамо утверждает, что мораль как грамматика: имеет
стандартную форму и набор вариаций, которые работают как
лингвистические идиомы. Эти «постыдные маленькие жульничества», как
их видит философ, должны соответствовать какому-то
определенному делу, чтобы человек не прослыл «чудным и некомпетентным».
Похоже, в разговоре о предполагаемом образовании дочери
философа намерение прототипа Дидро обучить ее, помимо прочего,
правильно мыслить - «мало распространенная способность среди
мужчин и даже более редкая у женщин» - контрастирует с заявлением
Рамо, что для него в приоритете более внешние аспекты ее разви-
133
тия: «О, позвольте ей быть настолько неразумной, насколько она
пожелает до тех пор, пока она мила, занятна и привлекательна»22.
Что случится в целом, если Рамо, по предписанию Канта, поставит
действующую на публику, незаинтересованную рациональность на
службу просвещению? Позиция Рамо - одно из решительных
(можно сказать, политических, скорее даже природных, инстинктивных,
«аутентичных») размежеваний со всеми «высшими вещами», будь
то свобода, независимость, добродетель, гений, мудрость, потомство,
истина или достоинство. К тому же не найдется никакой мотивации
для всего того, что он низвел до простого собственного интереса;
как и человек из подполья Достоевского, он живет ради и
поглощен императивом следования своим склонностям, даже (возможно,
особенно), когда делать это - значит действовать против своих
собственных интересов. Кажется, что для Рамо самоутверждение - это
принципиальный мотив его хождения по лучшим парижским
домам. «Его упрямая страсть к тому, что предлагается обществом», -
замечает Лайонел Триллинг, - «идет рука об руку с насмешливым
нигилизмом, который уничтожает любое благоразумное
соображение; он жертва непреодолимого импульса задевать тех, чье
расположение пытается снискать»23.
Рамо - это пример «деструктивного характера» по Беньямину,
архетип человека, который слабо представляет, ради чего
существует, и очарован своим открытием о том, что мир сильно упрощается,
«когда проверяешь, так ли он хорош и так ли прочен»24.
Деструктивный характер всегда получает прилив сил благодаря радости от
очищения. Он не заинтересован в том, чтобы быть понятым -
фактически он пробуждает непонимание. Как таковой деструктивный
характер - агент несанкционированной, законотворческой
жестокости, катализатор истории, враг того, кого Беньямин называет
«человек-футляр», чей обшитый бархатом чемодан представляет собой
подходящую метафору для всеобъемлющего страха жестокости
в «позднем» постмодерне.
Появление племянника Рамо в Феноменологии духа имеет
решающее значение для данного анализа. До сих пор я описывал
позицию Рамо в оппозиции энергия/глубина как однозначно
находящуюся на стороне энергии, чтобы обозначить такие его качества, как
безрассудство, аморализм, поверхностность, неверность, но также
витальность, индивидуальность, радикализм и, ко всему прочему,
самолюбие. Философ-протагонист Дидро, с другой стороны,
представляет глубину и сопутствующие ей образованность, честность,
134
целостность, но также бесцветность, консерватизм, бессилие.
Протагонист Дидро - это человек-футляр, карикатура на
постмодернистскую меланхолию, фигура, отягощенная чувством истории,
которая восторгается характером Рамо настолько, насколько находит
его освежающей и бодрящей диковинкой, но чье очарование в
конечном счете вуайеристское и кокетливое, как отношение
«интеллектуала»-постмодерниста к популярной культуре.
Однако в мире самоотчужденного духа, как и в мире чистой
культуры, «все эти моменты переворачиваются, один переходит
в другой и каждый становится в оппозицию себе»25. Для Гегеля это
«расколотое» сознание. Рамо, который воплощает «самосознающее
красноречие образованного ума», ума, который «совершенно
осведомлен о своем трудном положении», тогда как философ, честная
индивидуальность, есть фигура, которая «воспринимает каждый
момент как постоянную величину, что есть невежественная
беспечность - не знать, что этот момент тоже совершил переворот»26.
Остроумие Рамо, контрастирующее с серьезностью философа, - это
именно то, что означает великое постижение культурных
условностей; Рамо для Гегеля не ученый дурак, а намеренно и искусно
противоречивый дух, чей цинизм - кто-то мог бы сказать, «кинизм» -
это радикальное «отчуждение от наличного мира и мышления», чей
жестокий язык - это выражение его пренебрежения к миру
необходимости, «вещам, каковы они есть» и чья незаинтересованность
философскими проблемами есть естественное следствие его
убеждения, что они не имеют отношения к жизни. Племянник Рамо -
это циник Диоген, перенесенный в современность; его презрение
к жизни по необходимости замещает презрение Диогена ко всему
излишнему; так, он «абсолютно готов быть несчастным, но не
вынужденно. Я готов потерять лицо [...], но лишь по доброй воле, а не
из-за кого-то еще»27. Самопродажа Рамо за богатейшими столами
Парижа вырастает не из требований выживания, а из буржуазного
аппетита к «несущностному»; в то время как Диоген отказывался
превращаться в дурака из так называемой нужды и абсолютно
адекватно этому жил в бочке или кувшине, Рамо признает тот факт, что
каждый «занимает свое место в пантомиме нищих»28 - процессе,
который Гегель формулирует как необходимость признания,
посредством которой учреждается диалектика господина и раба29.
Философ Дидро искренне стремится найти доказательство философской
свободы от «пантомимы», и он придерживает Диогена как пример.
Однако в мире самоотчужденного духа это спокойное сознание
135
самого Дидро, который наиболее погружен в настоящее и больше
всех потеряет, если оно рухнет. Как только некто не может
критиковать существующий порядок вещей, поскольку это повлечет
отказ и от собственного существования, тогда ему следует «принять
вещи, каковы они есть». Он советует Рамо: «Позвольте нам решать,
чего они нам стоят и как много принесут, и забудьте обо всех
вещах, насчет которых мы не знаем, поклоняться им или порицать,
и которые, вероятно, не хороши и не плохи, а необходимы, как
полагает множество добрых людей»30. Культурная и историческая
значимость Рамо как представителя расколотого сознания
заключена в том, что ему свойствен характер эпистемологической
жестокости и пренебрежение одновременно историей и потомством, что
абсолютно противоположно тому спокойному сознанию, которое
«смеется над существованием и нелепостью мироздания, равно как
и над собой»31. «Уму, осведомленному о своем спутанном
состоянии», говорит Гегель, спокойное сознание сообщает только то, что
остальные и так знают, но воображение - это то, что сообщает нечто
новое и отличное:
Эти самые слова «постыдный», «низкий» уже глупы сами по себе, они
говорят сами за себя. Это последнее сознание извращает в своей речи все, что
вполне ясно, так как то, что полагает себя как абстракцию, всегда
извращается в своем актуальном существовании. Обыкновенный ум со своей стороны
берет под свою защиту хорошее и благородное, к примеру то, что
позволяет ему себя выразить единственно возможным путем; надо отметить,
«хорошее» не теряет своей ценности оттого, что может быть спутано или смешано
с «дурным», так как таково его условие и необходимость, и в этом мудрость
природы. К тому же этот обыкновенный ум, насколько можно представить его
противоречие тому, что было сказано, совершая это, облек в тривиальную
форму содержание выражения духа; в превращении оппозиции
благородного и хорошего в условие и необходимость благородного и хорошего,
безрассудно предположил сказать нечто еще помимо того, что названо благородным
и хорошим, что, в сущности, есть самопереворачивание и что, наоборот,
«дурное» есть «отличное»32.
Глубина понимания этого «расколотого», «низменного»
сознания, следовательно, куда более основательна, чем того,
философского, которое, по словам комментатора Дж. Н. Финдлея,
практически скрывает «унылую банальность за блеском остроумия»33.
Только расколотое сознание действительно в курсе полного
отчуждения от мира и духа - того, что мы в другом месте рассматривали
как полный отрыв субъективной от объективной культуры, и того,
что Бодрийяр представляет как триумф симуляции, который «кла-
136
дет абсолютный конец значению благодаря своей нейтрализующей,
безразличной форме»34. Простое, непосредственное сознание
философа, тем временем, есть условие беспокойства относительно
«распадающейся» культуры и цепляется за особые законы культуры как
за гарантию сохранения собственного существования.
3. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПОСТМОДЕРНА:
ЭТИКА УНИЖЕНИЯ
« IVI ы никогда не будем знать наверняка, хороши или дурны
«люди как таковые», пишет Зигмунт Бауман, представляя свой
недавний текст по этике; - «хотя, возможно», интригует он вводным
оборотом, «мы будем продолжать и продолжать спорить об этом»35.
Это условие неопределенности предусмотрительной осторожности
перед тупиком нерешительности, есть во всех отношениях то, что
Бауман приписывает этическому субъекту постмодерна: признай
свою ограниченность и живи соответственно! Легкое движение за
пределы данной открытой позиции, особенно в контексте
короткой работы Баумана, последовательно вызывает на редкость
мучительное ужесточение критерия моральной честности до уровня
недосягаемости; моральный субъект в то же время остается правым
там, где начинает в ситуации полного бессилия. «Моральная
ответственность», заключает он, «безусловна и принципиально
бесконечна, и так можно узнать нравственных персон по их [sic] никогда не-
угасающей неудовлетворенности своим нравственным обликом;
гнетущему подозрению, что они [sic] недостаточно нравственны»36.
Степень, с которой Бауман путается в своих приоритетах,
выходит далеко за пределы этой маленькой жертвы грамматической
корректности в пользу политической. Эта установка ума, которая,
фиксируясь на мелочах, отвергает «расколотое» восприятие - не
меньше чем за его недостаточно радикальное отношение к
нерешенной проблеме противоположности добра и зла. Наше «нынешнее
человеческое состояние» - одно из «разрядившихся
амбивалентностью», говорит Бауман наконец; трудно не заключить, что для
Баумана существование «моральной ответственности» мало
отличается от постоянного состояния недовольства и самогрызущего
унижения.
Общество риска - значимый для Баумана тезис, развитый
Ульрихом Беком в его книге с одноименным названием и
последовательно принятый другими аналитиками по ясным причинам,
137
связанным с аргументацией данной работы. Предпосылка
Общества риска Бека в том, что направление прогресса человечества
в последнее время подверглось фундаментальному изменению;
классическая модернизация, которая стимулировала переход от
феодального к индустриальному обществу в XIX столетии, сменилась
модернизацией, которая, «получив и утратив свое иное»,
обратилась к себе - или как минимум к «своим собственным
предпосылкам как индустриального общества со своими фундаментальными
принципами» - и стала рефлексивной?1. Более чем что-либо
модернизация стала жертвой собственного успеха: «Рефлексивная
модернизация означает не меньше чем больше модерна, причем модерна,
радикально настроенного против путей и категорий классического
индустриального порядка»38. Так, постмодернизм в смысле
критики науки, техники и прогресса и даже соответствующее появление
«новых социальных движений» - это не противостояние модерну,
а «выражение рефлексивной модернизации за пределами
очертаний индустриального общества», при которой сама архитектура
индустриального общества - социальные институты, нуклеарная
семья, структуры профессиональной жизни и представления о таких
концептах, как наука, прогресс и демократия, - начинает
«обваливаться и крошиться»39. Совершенно ясно, что анализ Ульриха Бека
описывает ситуацию, сформулированную Гегелем в Феноменологии
как самоотчуждение духа.
Бытие-для-себя [этого сознания] обладает своим бытием-для-себя для
объекта как абсолютного «иного»; и еще, в то же время, прямо как своей
собственной самостью - собой как «иным»; не в смысле различного содержания,
содержание одно и то же у абсолютного антитезиса и у совершенно
отличного собственного существования. Тогда здесь перед нами дух реального мира
культуры, дух, являющийся сознанием собственной истины и собственного
закона40.
Как в подвижной инверсии (благородного и низменного)
сознаний «хорошего» и «дурного» в сфере чистой культуры,
условие рефлексивной модернизации заключается не в безразличии,
а в знании, озарении о сущностном отсутствии истинно
объективного критерия, лежащего на поверхности объяснения вещей - через
осведомленность, помимо прочего, об ее онтологической
бессодержательности. Не только в философском или эпистемологическом,
но и в очень реалистическом смысле, природа которого близка
темным аллюзиям Бека к «экологическим» последствиям научной
работы, модерн создает и угрозу для общества, и обещает освобо-
138
дить от этой угрозы. Риски, заключенные в процессе модернизации,
могут быть определены не иначе как сам модерн. Ставки принятия
решений выше чем когда-либо; для Бека наиболее резонансный
вывод из рефлексивной модернизации - это то, что «времена
извинений прошли»41. Так, логику производства богатства,
доминировавшую в классическом индустриальном обществе, заменила логика
производства риска, или риска, связанного с тем, что модерн теряет
свою «невинность» и становится рефлексивным. Общество риска -
это последовательность ускоряющейся близорукости,
свойственной модернизации, и ее панического послевкусия: разочарование
(«рефлексивность»), настигшее слишком быстро. Оно
характеризуется определенного рода испуганным самосознанием; тезис
общества риска обладает всей неуклюжестью преждевременно созревшей
прыщавой юности. Конечно, представление Бека о том, чем больно
нынешнее индустриальное общество, убедительно, и большая часть
того, что он говорит, не вызывает сомнений. Вдобавок термины,
которые он использует для вынесения своего диагноза, а также его
предписания - элемент работы, который сильно волнует Баумана; -
это то, что заставляет его симптоматизировать те же проблемы, что
волнуют меня.
Ульрих Бек избегает термина «постмодерн»; несчастная
приставка «пост-», говорит он, не только «искусственно продлевает»
«старый» способ мышления, но также - и Бек, похоже, не
замечает противоречия - подразумевает принятие мифа об историческом
разломе в таких формах, как тезис «конца истории» или
фетишизация современности как вершины модерна. Тем не менее его теория
рефлексивной модернизации появляется, чтобы очароваться
воплощенным постмодернизмом в форме теоретического милленаризма.
Идея, что модернизация возвращается сама к себе, разросшееся
чувство неопределенности, которое заряжает «общество риска», -
это переход постмодернистских тревог в наиболее меланхоличное
и интроспективное состояние. Тезис общества риска - это пример
паники постмодерна перед лицом социальной, технологической или
духовной, - иными словами - диалектической жестокости.
Формулируя то, что Лиотар и другие называли «недоверием
к метанарративам»42, как новый порядок «риска», Бек противостоит
тому, что последовательно отвергается как «нигилистическое»
направление постмодернистской теории, принимая при этом робкую
и застенчивую позу. Как «теория хаоса» (ошибочно), теория
общества риска продвигает охваченную трепетом, сущностно параной-
139
дальную концепцию бесконечного отзвука человеческого прогресса
под знаком человеческого бессилия; для этого (простого) сознания
все действия чреваты опасностью, которая лучше всего сводится
к минимуму посредством системы институционального контроля
и взаимных противовесов. Бек стремится сконцентрировать
политическую сферу не в аристотелевской bios, свободной от
необходимости, но, напротив, как сферу администрирования - действующую
специфически «охранительским» образом. «Пока столкновения из-
за частных интересов и точек зрения разражались и должны были
разражаться в бизнесе (а также науках), политика могла установить
общие (юридические) условия, проверить применяемость правил
и обеспечить консенсус»43.
Если Бек не слишком ярко описывает точный уровень низости,
который он приписывает этому политическому зверю, то Зигмунт
Бауман с энтузиазмом фанатика предлагает апологию, которая
оставляет мало возможностей для размышления. Для Баумана
ставки общества риска - «запредельны». «Почти всемогущество»
человечества и особая автономия технологического прогресса
требуют «этики» подобия, которое есть величина неисчерпаемая. Как
и неопределенное распространение области методологических
интересов на «теорию хаоса», в этике постмодерна Баумана область
моральной ответственности индустриального общества - разом
выходит за границы времени и пространства. Чувство истории
Баумана, фиксированное на сохранении жизни любой ценой, очень остро
воспринимает ее деформацию; он с одобрением цитирует перифраз
категорического императива Канта философом Гансом Йонасом:
«действуй так, чтобы результат твоих действий не противоречил
постоянству подлинности человеческой жизни». Если засомневаться,
замечает Бауман, и не делать этого, «согрешишь против
осторожности»44. Этика, говорит он в Этике постмодерна, «отличается от
обычной практики кризис-менеджмента тем, что должна иметь дело
с тем, что еще не случилось, с будущим, которое принадлежит
области неопределенности и полю игры конфликтующих сценариев»45.
Далее Бауман придает особое значение нескольким фразам,
оброненным Йонасом, которые в контексте предложенной «будущей
этики», кажется, указывают на куда менее жизнеспособное
решение постмодернистской «фрагментации» и «эстетизма», чем
однозначные уход от истины и бегство от универсума - ссылаюсь на
использование этих терминов в параграфе гегелевского введения
к Феноменологии, цитировавшегося в главе!. Так, этика будуще-
140
го, как рассказывает нам Бауман, должна быть ведома эвристикой
страха, который сам подчинен принципу неопределенности. «К чему
бы ни стремилась мораль», продолжает он (с упорным
подобострастием), «в первую очередь и превыше всего это должна быть этика
самоограничения»*1. Его откровенность похвальна; поднять
неопределенность и страх до статуса принципов таким образом - значит
придать экзистенциальному, хоть и универсальному состоянию
онтологическую и историческую значимость.
Как и обрисованное Гегелем спокойное сознание, которое
«честным образом заключает мелодии добра и истины в согласованную
композицию, т. е. в унисон», цель «этики постмодерна» Баумана
в том, чтобы любой ценой устранить жестокость в форме
социального или диалектического разногласия; или в любом случае
минимизировать подрывной (но возрождающий и монументальный) эффект
этой жестокости, пестуя неопределенность, радикально усиливая
восприимчивость барометра социоисторического отклика до уровня,
на котором любые действия отмечены как взрывоопасные, и таким
образом вызвать всеобщее оцепенение, при этом совершенно
реактивное, то есть обратное предвосхищающей и предписывающей
политике. Так, Бауман отвергает предусмотрительность из
основательности и действие из безответственности; его текст, источник «новой»
постмодернистской этики, - это, ко всему прочему, проявление ухода
в безопасность бездействия. «Современное общество», пишет он,
«говорит множеством голосов, и мы знаем, что приближающиеся
времена в этом смысле приходят надолго. Центральная проблема нашего
времени - перелить их в гармонию и полифонию и предотвратить их
превращение в какофонию»48. Дух Рамо - это именно то, что Гегель,
цитируя Племянника Рамо, называл безумием музыканта, «который
собрал и смешал вместе три десятка арий, итальянские, французские,
трагические, комические, любого рода; сейчас с глубоким басом он
спускается в ад, далее он сжимает глотку и разрывает фальцетом
небесные своды, неистовый и спокойный, надменный или смешной - с
полоборота»49. Надо сказать, что Рамо не склонен ни к
нерешительности в выборе между затруднительными спорными действиями,
ни к простому наслаждению среди определенностей поверхностного
существования, но действительно радуется и совершенно понимает
мир в его состоянии отчуждения от культуры, не позволяя
ограничить свое движение метафизическими попытками философа
рационализировать это состояние. Это кинический интеллект, как
называет его Петер Слотердайк, посредством которого можно «скорее найти
141
готовые ответы, вместо того чтобы размышлять над неразрешимыми
глубокими вопросами»50. Ставить в особую связь разрушительный
цинизм Рамо, и «поверхностность», и прогрессивную
модернизацию в Америке или «социальную безответственность» таблоидной
журналистики, разумеется, не является моей целью. Отличия
между Рамо и Дидро, Диогеном и Платоном, «деструктивным
характером» и «человеком-футляром», между Америкой и Европой или
Sun и Guardian - это, скорее, отличия наклонностей, чем интеллекта,
скорее акцента, чем уровня признания, и скорее стилей жизни, чем
степеней ответственности. Комплексность Рамо демонстрирует
неуместность оппозиции энергии и глубины; даже кельвинизм, к
примеру, мог возникнуть, лишь когда подлинная бесхребетность и
инерция метафизического существования была обнаружена и отвергнута.
«Только там, где социальный номос (закон) завершил свою работу»,
пишет Слотердайк, «глубоко погруженные в цивилизацию люди
могут апеллировать к физис (природе) и размышлять об отдыхе от
забот»51. Дано (I) структурное соответствие между «господством»
хозяйственной сферы, необходимым перед вхождением в bios politikos,
и «господством» метафизики в основе цинизма Рамо; дана также (II)
гегелевская идентификация Рамо как воплотившегося духа,
осознающего свое собственное отчуждение, и как (жестокость) духа чистой
негативности и (III) общая локализация обеих форм «господства»
в новом мире, представленная энтузиазмом Арендт по отношению к
американской политической системе - возможно ли, что
возрождение живой политической культуры, bios politikos, необремененной
как заботами повседневного существования, так и метафизическими
предпосылками своей аутентичности, культуры, в которой свобода
скорее постоянно реализуется, чем бездеятельно описывается, могло
быть также процессом американизации, духовного отбрасывания
европейских тревог и неврозов в угоду трансатлантической
«комбинации смелости и невинности»52, политического безрассудства и
невосприимчивости, которые кладут конец безжизненной одержимости
истиной во имя энергии и виртуозности игры?
4. ЭНЕРГИЯ БЕЗ ГЛУБИНЫ: СИМПТОМАТОЛОГИЯ США
Американцы в Европе: Дэйзи Миллер
Уинтерборн в короткой новелле Генри Джеймса Дэйзи Миллер
- истинный европеец, точнее американец, слишком долго живший
за пределами родной страны53. Его непонимание Дэйзи Миллер -
142
это характеристика европейского непонимания американской
культуры:
Истинная правда [...], что Дэйзи и ее мама еще не достигли той ступени -
как бы это назвать? - культуры, на которой возникает мысль ухватиться за
графа или маркиза. Уверен, что они интеллектуально неспособны к подобной
идее54.
Дэйзи Миллер во многих отношениях сталкивает «расколотое»
сознание и «простое» сознание, сформированные в терминах двух
сущностно современных мифологий: Нового Света и Старого.
Центральная дилемма Уинтерборна, которая проходит красной нитью
через всю новеллу и окончательно «решается» только на основе
его неспособности уяснить степень или значение ее расколотости,-
это вопрос о невинности Дэйзи Миллер. Оппозиция между
невинностью и осведомленностью о себе аннигилируется благодаря
ее особой сложности; попытка Уинтерборна решить нерешаемое -
это причина трагедии Дэйзи в большей степени, чем ее неуместные
движения в сторону Рима. В сущности, однако, его вторжение мало
отличается от желания Зигмунта Баумана оставить в нерешенном
состоянии сходную дилемму - вопрос о том, являются ли люди
в основе своей хорошими или дурными. Оба ответа одинаково
неадекватны дезинтеграции, воплощенной их соответствующими
объектами, что в случае Баумана - не более и не менее чем условие
этической жизни в постмодерне. Рыцарская уверенность Уинтерборна
в невинности Дэйзи иссякает, когда его «утонченная галантность»
доходит до своих пределов55. Вечная нерешительность Баумана,
возможно, просто еще более забавный случай утонченной галантности.
«Что неспособны понять европейские мужчины», пишет Лесли
Фидлер о Дэйзи Миллер, «так это то, что американские девушки
невинны по определению, мифически невинны; и что ее чистота,
таким образом, совершенно не зависит от того, что она делает или
говорит»56. Фидлер также характеризует Дэйзи Миллер как прототип
«хорошей плохой девочки», ставшей в XX веке избитым типом
героини, в виде ли добродетельной проститутки из дешевого романа или
бандитской мули из голливудского кино категории В. Невинность
Дэйзи, другими словами, обнаруживает себя в самой сути ее
дурноты; далекая от пренебрежения к существующим обычаям и даже
от их отвержения, Дэйзи Миллер в любом случае разрушает их.
Нет ответа на недоумение Уинтерборна по поводу того, является ли
Дэйзи Миллер только «милой американской кокеткой» или «умной
маленькой распутницей», и его попытки решить это заставляют его
143
«ломать голову»57. Ее попытки перенять манеры своей ровни
остаются небрежными и пародийными; как и Рамо, она лишена стыда
в смысле условностей, также и небольшая осведомленность о или
обеспокоенность по поводу социальных последствий ее действий -
повод для остракизма со стороны тети Уинтерборна и ее круга. Для
Уинтерборна, оказавшегося между двух огней (как Бауман
между «нигилистами» постмодернизма и «моралистами» традиции)
и подверженного цензуре последнего, первоначально было
«неприятно слышать так много о том, что нечто милое и беззащитное
искренне отдавалось области вульгарного беспорядка»58. Но
«беспорядок», чтобы не сказать «вульгарность» (или низменность), -
это как раз категория, наиболее подходящая мисс Дэйзи Миллер.
Противоречивость - это позиция, которую она занимает по
собственному подрывному желанию: «Ты в это не поверишь!», -
говорит она Уинтерборну о своем «увлечении» итальянским
поклонником Джованелли.
Он замолчал на мгновение; а затем: «Да, я верю в это!», - сказал он.
«О нет, не веришь», - ответила она. - «Что ж, тогда и я - не верю!»59
Ее настойчивое стремление занять эту позицию наконец
приводит его к заключению, что она «молодая особа, которая не будет
уважать джентльмена в несчастье». Она - деструктивный характер
Беньямина, он - «человек-футляр»; она порождает непонимание, он
усерден в своих попытках придать правильный смысл своему
поведению - для того, чтобы, например, не появиться «до неприличия
веселым» при окончательном отказе от Дэйзи60. Она не
сокрушается по поводу скрытых нюансов значения или осознанных нападок
на этикет; с Дэйзи Миллер Уинтерборн быстро открывает, что «не
было большой нужды ходить на цыпочках»61.
Всем этим Дэйзи воплощает собой «банальность» Америки,
равно как дезинтеграция Рамо, но все же с одним важным
отличием: она не чувствует цинично. Действительно, она совершенно
невинна среди европейской рефлексивности и
самоосведомленности. Это «историческая атмосфера» Европы - метафорически, эта
тревожная, тяжеловесная изощренность, которая убивает ее своей
perniciosa - удушливый «мерзкий миазм», разъедающий Колизей62.
Трагедия Дэйзи Миллер могла разыгрываться только в охваченной
тревогой и наполненной метафизикой Европе и обременена
трудным вопросом о свободе. В Америке, где происходит действие, во-
* Исп. пагубность.
144
прос о свободе не стоит просто в силу того, что американская
революция, в отличие от европейской, была удачной.
Европейцы в Америке: Бодрийяр, Токвиль, Арендт
В Америке, пишет Бодрийяр, «имеет значение только то, что
произведено или выражено; для нас в Европе имеет значение только
то, что может быть помыслено и сокрыто»63. Прочитанная как
ироничная, пренебрежительная монография, Америка Бодрийяра была
отвергнута, особенно Робертом Хьюсом, австралийцем, за
«игнорирование» американской истории, за фальшивое (считай,
теоретическое) самомнение и за то, что автор мало что способен сказать о
«реальных» американцах64. Все же Америка - не ироническая книга и не
замышлялась ни как репортаж, ни как путевые заметки сами по себе.
Это можно найти скорее в поздней европейской текстовой традиции
у писателей, очарованных мифом об Америке. Предмет 4-й главы
книги, «Достигнутая утопия» (обратите внимание на
отсутствующий знак вопроса), - это выбор, стоящий перед всеми будущими
европейскими emigres', которые подвержены мифологии: энергия или
глубина? банальность или инерция? Утопия, говорит Бодрийяр, была
достигнута в Америке не метафизически, как потусторонняя
значительность, а политически, как основополагающий принцип:
Принцип достигнутой утопии объясняет отсутствие и, более того,
ненужность метафизики и воображения в американской жизни. Он предоставляет
американцам восприятие реальности, которого мы лишены. Реальность не
связана с невозможным, и никакой провал не может поставить ее под вопрос.
Что в Европе считается ставшим реальностью в Америке? - Все, что исчезает
в Европе, снова появляется в Сан-Франциско65.
И все, что Бодрийяр говорит об Америке, верно в той степени,
в какой это может быть сказано. В Америке, однако, этого
достаточно; американская истина качественно отличается от
европейской. Бодрийяр обобщает, но в Америке жестокость обобщения
приемлема, как отличие от боязливого педантизма Европы. Правда
Америки - это правда явлений; Дэйзи Миллер не может
«флиртовать» с Уинтерборном по той же причине (он «слишком
педантичный»)66, так что и американской банальности как образу жизни
нечего делать с европейским путем, неотделимым от
посредственности и мелкобуржуазной неестественности. Американский флирт -
это также образ жизни и проявление экстраверсии, совершенно
лишенный двусмысленности и скрытого значения европейского
* Исп. эмигранты.
145
флирта. Смысл американского флирта - это только флирт и
ничего больше, «объект, не имеющий собственного понятия»67; в Европе
никакого случайного флирта невозможно без неловкости,
непонимания, обострения неврозов.
Если это американская поверхностность, она может выглядеть
таковой только с точки зрения европейской «основательности»,
равно как «цинизм» макиавеллистскои политики есть продукт ее
концептуализации в неуместной модели средств и целей. Америка
схожим образом возникает перед европейским сознанием как
морально двуличная; к тому же это лицемерие совершенно
неуместно в публичной сфере - а именно в ней Америка существует
преимущественно, как первым указал Токвиль. Американцы свободны
настолько, насколько они являются гражданами. «В Соединенных
Штатах», пишет Токвиль в своем эпохальном исследовании, «все
образование направлено на политическую жизнь; в Европе
основной его объект - это подготовка к частной жизни горожанина»,
участие в общественных событиях слишком редкое дело, чтобы
готовиться к этому заранее»68. В публичной жизни важна только
видимость, как учил Макиавелли: «Никогда не думай, каков ты на
самом деле», чревовещает Ханна Арендт, «это не имеет отношения
к миру и политике, в которых лишь видимость, а не "истинное"
бытие имеет значение; если ты способен появиться перед другими
таким, каким хочешь, этого более чем достаточно для судей этого
мира»69.
Поскольку метафизике нет места в публичном пространстве
видимости, то лишь действия фиксируются на политической
шкале свободы. Арендт приписывает «успех» американской
революции неназванной близости Декларации Независимости греческому
принципу свободы как действия. (Это, конечно, тот самый
принцип, который заключен в исходном обзоре Бодрийяра.) В отличие
от французской Декларации прав человека, которая утверждает, что
«Все люди рождаются равными», американская декларация - это
документ, политический до такой степени, что он первым делом
сформулирован как акт отделения от «нации, у которой свобода
течет в жилах» (определение Англии Эдмунда Берка). Текст Джеф-
ферсона продиктован необходимостью включить всех людей,
независимо от происхождения, в одно формальное конституционное
правительство:
Американский вариант требует не большего, чем необходимость
цивилизованного правления для всего человечества; французский вариант, однако,
146
провозглашает существование прав, не зависящих от и находящихся за
пределами политического тела, а затем продолжает приравнивать эти так
называемые права, то есть права людей как просто людей к правам граждан [...].
Вечная проблема с этими правами заключалась в том, что они не могли быть,
но были меньшим, чем права представителей нации, и в том, что они
провозглашались только как последнее спасение для тех, кто лишился своих
нормальных прав как гражданин70.
В данном случае речь идет об отличии между естественным и
позитивным законом; в то время как предшественники, пытаясь
сделать декларацию более абсолютной, фактически сводили политику
к природе71; американская традиция утверждает, если не на письме,
то по духу, что «мы не рождаемся ни свободными, ни
несвободными, но создаем и утверждаем нашу свободу в рамках и благодаря
учреждению республики»72. Это скорее разница акцентов, чем сути,
поскольку американская декларация включает в себя
метафизические сантименты, мало отличающиеся от тона французского текста.
Как бы там ни было, только американская декларация
действительно включает в себя и поддерживает определенный элемент bios
politikos - идею политической сферы, достижимой благодаря акту
дополитической жестокости, акту поднимающей себя воли.
Именно это действие проявляет себя в словах, которые
формируют второй специфически политический аспект Декларации
независимости. Арендт указывает на то, что вопреки этой
философии естественного закона положение «Все люди созданы
равными» следует за ключевой фразой: «Мы придерживаемся этих истин
как самоочевидных» - прелюдия, которая означает, что эти
истины не самоочевидны в целом, но скорее нуждаются в необходимом
соглашении и подтверждении. Джефферсон не был готов охотно
признать этот вывод; к тому же эти слова были необходимы для
политической уверенности американского текста. «То, что все люди
созданы равными, не самоочевидно и не может быть доказано»,
говорит Арендт, снова чревовещая:
Мы придерживаемся этого мнения только потому, что свобода может
существовать только среди равных, и мы верим, что радости и удовольствия
свободной компании предпочтительнее сомнительных наслаждений от удержания
власти. Эти предпочтения имеют огромнейшее политическое значение, и
существует мало вещей, в которых люди так основательно отличаются друг от
друга, как этим73.
При анализе работ всех тех европейских метафизиков,
одновременно борющихся за «выход» из метафизики, пока (и благодаря
чему) поддерживая метафизику как нечто неустранимое и непре-
147
одолимое, а также в связи с американской Декларацией
независимости, может показаться, что метафизика могла бы быть очень
легко отвергнута, если б кто-то захотел этого и имел возможность
чем-то ее заменить. «Нет сомнений в величии Декларации
независимости», смиряется Арендт в О революции, «но оно состоит не в ее
содержании и даже не столько в самом ее существовании как
«аргумента в поддержку действия», равно как и в ее сущности как
превосходного пути к действию, оформившегося в словах»74. Политика
не только противоположна метафизике; она является политикой
в той мере, в которой она ей противоположна, в какой
демонстрирует свободу от метафизики. Если взять за критерий политической
свободы актуализацию действия, свободу полиса можно считать
достижимой, когда метафизические ограничения более не
мешают действию. Этот критерий имеет небольшое отношение к
метафизическому понятию свободы, который в любом случае никак не
касается жизни полиса. По меньшей мере в теории провозглашение
размежевания с метафизикой - как это представлено в Декларации
независимости - одновременно достаточно и необходимо для того,
чтоб положить ей конец, поскольку таким образом воплощается ее
собственная свобода от метафизической необходимости «мыслить
через» метафизику.
У Токвиля есть свои идеи об американской
незаинтересованности в метафизических вопросах:
Их чисто пуританское происхождение; их исключительно коммерческие
привычки; даже страна, которую они населяют, кажется, отводит их умы от
занятия наукой, литературой и искусствами; доступность Европы, которая
позволяет им пренебрегать этими вещами, не скатываясь в варварство, - тысяча
особых причин, из которых я отметил лишь наиболее важные, единообразно
затачивают ум американца на чисто практические цели. Желания,
образование и обстоятельства, кажется, объединены общей целью держать ум
американца приземленным75.
Большая часть второй части Демократии в Америке Токвиля
посвящена разъяснению более или менее категоричного различия
между характеристиками европейского и американского обществ.
Токвиль одинаково сомневается как в возможности Европы
однажды достигнуть того уровня равенства, который присущ
американской политической системе, и в том, так ли желательно это
достижение. Некое неуловимое, благородное качество человечества,
имеет в виду Токвиль, особенно в интеллектуальной жизни,
исчезает с приходом демократии. Аристократии, при всех их несправед-
148
ливостях, редко развлекались «низкими» мыслями и смотрели на
«маленькие наслаждения» с «надменностью» и «презрением», что
«значительно улучшало общий тон». Только аристократии
производят стоящую литературу и философию; то, что Токвиль
называет «постоянным неравенством участи», необходимо, если люди
посвящают себя «гордому и чистому» поиску абстрактных истин,
пока демократическое общество поддерживает вложения в более
практические дела. Так, «те самые американцы, которые никогда не
открывали основной закон механики, изменили лицо мира, введя
новые машины для навигации». Тем временем литература
демократии в общем и целом будет чествовать смелость и действовать
поверх глубины и образованности. Это будет грубое и неискушенное
движение мысли со множеством разновидностей и однообразной
плодовитостью. Авторы будут стараться поразить в большей
степени, чем доставить удовольствие, и всколыхнуть страсти в большей
степени, чем очаровать вкус»76. «Вульгарные, но непринужденные»,
говорит Бодрийяр об американцах; здесь, в Америке, «больше
толерантности, но больше и безразличия»77. Кажется также, что без
европейских лицемерия и предубежденности здесь в одинаковой
степени меньше очарованности и напряженности между людьми.
Почти структуралистская методология Токвиля заставляет его
применить свой способ анализа науки и литературы к религиозной
жизни, законотворчеству и соотношению богатства, амбиций и
гениальности: «Почти все крайности смягчены и притуплены. Почти
все выделяющиеся черты сглажены до состояния чего-то
среднего, менее высокого и менее низкого, менее блистательного и менее
тусклого, чем то, что было в мире раньше»78. Американская
темпераментная позитивность, ее мифическая невинность, ее
конформизм и ее предрасположенность к обобщениям неотделимы друг от
друга и от того, каким уважением здесь пользуются действие и
эффективность. Своевременность идеи гораздо важнее ее
правильности. «Человек действия часто должен быть не слишком щепетилен
в делах», пишет Токвиль, «ибо он никогда не выполнит свою цель,
если будет стремиться к совершенству в каждой мелочи»79.
Это именно английская аристократическая привычка,
отвечающая английскому вниманию к деталям и особенному нежеланию
обобщать в целом - но именно она также обеспечила идеальный
климат для ростков английского скептицизма, «этого
философского течения, одновременно смелого и застенчивого, широкого
и узкого, которое [...] все еще тормозит и притупляет столь много
149
умов»80. Европа, погруженная в метафизику, - это место, где вещи
имеют значение) Америка - это место, где вещи происходят. И
прямо как Дэйзи Миллер, во всей своей «мифической невинности»,
явно более свободна, чем Рамо, чья дезинтеграция есть выражение
не мифической, но «метафизической» невинности - короче говоря,
знания о необходимости невинности для действия, так что даже
банальности Америки и Европы несравнимы. Только американская
банальность аутентична, говорит Бодрийяр. «Образ жизни»,
фундаментальные принципы, «родной цветок», как он говорит в минуту
слабости, американская банальность «в тысячу раз более интересна,
чем европейское разнообразие, мертворожденный плод
агонизирующей аристократии: буржуазная повседневность»81. «Забывание»,
говорит Ницше в своем эссе на тему, «неотъемлемо от любого
действия, поскольку не только свет, но и темнота в особенности
необходима для всего органического»82. В Америке, однако, не найдется
что забыть; Америка
пестует не первоначало или мифическую подлинность; у нее нет прошлого
и нет отлитой истины. Имея знание о том, как дорого время, она живет в
бесконечном настоящем. Пройдя мимо медленного, длящегося веками
формирования принципа правды, она живет в постоянной симуляции, в постоянном
окружении знаками83.
Этот посыл Бодрийяра приводит в бешенство Роберта Хью-
са больше, чем любой другой. Это «полная чушь на французский
манер», заявляет он, de haut en bas. Американская литература,
наоборот, «показала себя неустанно ищущей первоначала,
трансцендентное, прошлое и стремящейся к "отлитию истин"»84. На самом
деле этот поиск только подтверждает верность прочтения Америки
Бодрийяром. Американская литература ищет первоначала не как
проект по археологическим раскопкам, а как программу онто- и
филогенетической фальсификации, начиная с Таможни Хоторна и
далее. Называйте меня Измаил несет в себе весь подтекст заявления
Джефферсона: «Мы придерживаемся этих истин как
самоочевидных...» Американская идентичность в сущности своей есть нечто
приобретаемое, усваиваемое; не найденное, но находимое. Момент
жестокости, культурного разрыва вписаны в коллективную
психику, в американский миф в таких формах, как «убегающий
мужчина» и «американский Адам»85, но показательна также американская
готическая традиция XIX века - в основном как жест отчуждения
от рушащейся Европы с ее постколониальным приступом и перео-
* Фр. сверху донизу.
150
пределением европейской литературной формы. В позднем 1840-м
Токвиль не мог определить истинно американскую литературу, хотя
журналисты, замечает он, «говорят языком своей страны» и
«заставляют себя услышать»86. Американская литературная традиция
оформилась в XIX веке помимо желания достичь этого, и консенсус
о том, что Америка нуждалась в «собственной» литературе, привел
к непрерывным попыткам авторов создать «великий американский
роман». Никакого подобного побуждения никогда не существовало
в Европе; но разве это делает европейскую культуру менее или
более «аутентичной»?
Ясный ответ заключается в том, что в то время как
американская аутентичность самоуверенна, не рефлективна, прагматична
и в высшей степени адаптивна, европейская аутентичность
поэтична, метафизична, интроспективна и увязла в собственной истории.
Для Токвиля определенно одно не может существовать без другого -
но европейские ответы могут соответствовать лишь европейским
вопросам. Точно как Бодрийяру кажется неразумным ожидать от
американцев, чтобы они были чем-то кроме американцев, так,
возможно, в Европе даже не может стоять вопрос об отвержении своих
метафизических предпосылок. Кто-то рожден современным,
говорит Бодрийяр, а кто-то так и не становится, и Европа никогда не
станет. Позитивность американской жизни беззаботна согласно
вопрошающему европейскому взгляду; так она заставляет европейцев
увидеть «правду» об Америке - и заставляет европейцев увидеть
«правду» о Европе. Баланс откровенности и скрытности, - который
европейцы почитают как утонченность, - соперничает с
«демократическим», сущностно американским этосом совершенной
открытости, прозрачности. Похожим этосом обладает риторика
Интернета, «духовность» нью-эйдж, равно как и возрастающее стремление
к буквализму в критике и практике изобразительного искусства,
культ искренности и подлинности в современной политике и, как
замечала Джиллиан Роуз, состояние сознания, культивируемое
защитниками «альтернативных» лечебных практик.
Предписание нетрадиционной медицины лечиться
самостоятельно, говорит Роуз, приводит к «безжалостному протестантизму»
через квазидуховный черный ход: «Он обременяет отдельную душу
внутренней судьбой: ты имеешь вечную жизнь, только если решил
проблемы жизни, любви, себя и другого, другого в себе, если ты
сверхосознан, не скован внутренними и внешними границами»87.
Эта программа решения всех противоречий и антитез, несомненно
151
импортированная из Америки, убеждающая своих неофитов в
важности «бескрайности», беспроблемного существования, не
предлагает освобождения от европейской метафизики, но, по меньшей
мере в Европе кажется только неуместной и фривольной,
несущественной, банальной глупостью. Страх американской
«банальности», подпитываемый европейскими «сложностями», может быть
суммирован как ответ Джиллиан Роуз на эту позитивную риторику
нетрадиционной медицины: «Существование лишается своего веса,
своей значимости, когда исчезает борьба»88. «Энергия» и «свобода»
Америки, кажется, вряд ли будут переправлены в Европу
нетронутыми, так же как и европейская метафизика подвергается
радикальной трансформации при переносе в Америку.
Деконструкция в Америке: метафизические подтексты
Деконструкция, которая нашла столь восприимчивую аудиторию
в Соединенных Штатах, ультимативно направлена против
жестокости означивания, начало которой предпосылается несоответствием
означающего и означаемого, мышления и бытия и которая
учреждает себя, перемещаясь хотя бы на одну ступень (cordon sanitaire
Деррида) в сторону идеала семиотической прозрачности.
Концептуализация Деррида сигнификации как жестокости, как и
концептуализация Ульрихом Беком онтологической неопределенности
как «риска», открывает основательную неудачу в метафизических
вопросах: отношение общего к особенному, означаемого к
означающему или, в случае Бека, простую неопределенность
нереализованного. Неспособность «этики постмодерна» Баумана предложить
что-либо «за пределами» апории метафизики представляет собой
коллапс веры в сам этический проект, проистекающий из слишком
готового катексиса* постмодернистской тревоги: страха рисковать
чем бы то ни было. «Если метафизика есть апория», говорит
Джиллиан Роуз, «восприятие сложности закона, трудного пути, тогда
этика есть ее развитие, диапория, потерявшаяся среди множества
дорог...»89 Разум, далекий от построения тоталитаризма, неуместная
объективность, антитеза суеверия, двигатель прогрессивного
развертывания и сайентификации мира - которое, надо сказать, было
методологической основой фашизма, согласно постмодернистской
мудрости, - и этот разум, говорит Роуз, есть риск. И этот риск
далек от создания случайного стечения обстоятельств, когда действие
следует рассматривать с особенным вниманием, если в целом это
* В психоанализе - направленность психической энергии. - Прим. пер.
152
фактически универсальная предпосылка всех действий, достойных
этого названия; это sine qua поп диалектического момента чистой
негативности.
Этот вывод интеллектуалов, что разум сам разрушил современную жизнь
и должен быть сброшен с трона и запрещен во имя безгласных других,
сопоставим с решением оградить маленьких детей, девочек и мальчиков, от игры
с пистолетиками, видеоигр с драками и от любых жестоких игрушек. До
жестокости ясно, что просвещенная прямолинейность, думающая, что остановит
этим войну и агрессию, в действительности усугубляет склонность к ним. Этот
вывод говорит о неспособности понять, что игра (сказочные истории,
страшные фильмы) учит отличать фантазию и действительность. Ребенок, который
способен осознать эту границу, будет чувствовать себя легче, переживая
жестокий, внутренний, эмоциональный конфликт, и научится сочувствию к другим
людям. Ребенок, закрывшийся от агрессивного эксперимента и игры, будет
запуган и парализован собственными эмоциями, неспособен встретить их лицом
к лицу и освободиться, поэтому они могут уничтожить его самого и мир вокруг
него. Цензор усиливает синдром, который она стремится смягчить; она
стремится уничтожить в других границу, которую уничтожила внутри себя90.
Кристофер Норрис записывает успех деконструкции в Америке
на счет важности написанной конституции для американской
политической идентичности (как противоположной британской системе
прецедента закона) и на счет лояльности американской
Декларации независимости - политического акта веры - на счет финальной,
легитимизирующей инстанции, ибо «в таком случае Бог, привлекая
декларацию, совершает «Высший суд над миром» ради
предельной гарантии наших здоровых намерений»91 - «трансцендентного
означаемого», серьезно говорит Деррида. Декларация - это
«лицемерие», заявляет он дальше, хотя одно ясно, что оно «совершенно
необходимо для любого политического, военного или
экономического coup de force** и т. д.»92. Это снова в действии cordon sanitaire
Деррида, в концентрированной форме репрезентирующий
невозможность взаимодействия между европейской метафизикой и
американским прагматизмом. Только из метафизической перспективы
могло лицемерие скатиться в рельеф такого контекста и только из
метафизической перспективы мог вырасти такой диагноз в
последнем обзоре - эта «совершенная необходимость».
Если верно, что Деррида постоянно отступает перед действием,
то его теории, кажется, одновременно требуют и возбраняют -
цензорство, словом; стремятся стереть метафизическую границу между
* Лат. обязательное условие.
** Фр. проявление силы.
153
репрезентативными формами и самими вещами - определенные
проявления бездействия как действия возникли как прямые и
косвенные следствия его работы и требуют обоснования на ее основе;
названная «политкорректное^», «ироническая» чувствительность
и собственная минимизация семиотической «жестокости» Дерри-
да, которая представлена только стратегией sous rature. Ситуация,
описанная выше Джиллиан Роуз, такова, что заражает современное
(постмодернистское) мышление, как обсуждалось ранее, страхом
жестокости, понятым Гегелем как кризис (здорового)
философского скептицизма, следствием воплощения постмодернизма. В
постмодерне разум сам третирует себя как механистический и
тоталитарный, одновременно как выхолощенность субъективного воления
и прогрессирующую объективацию мира, по мере того как человек
приближается к полному господству над законами природы.
Аутентичность познается как кризис с началом самопознания, когда люди
становятся просвещенными настолько, чтобы чувствовать, что они
«больше не разновидность штифтика в органном вале». В Европе
только несчастные метафизические мечты о возможности
избавиться от метафизики, завоевании избыточной любви к жизни,
сделаться хотя бы «насекомым», как говорит о себе человек
Достоевского93, чтобы просто жить. В Америке нет метафизиков, поэтому
также нет и циников, в «мифическом» смысле по крайней мере.
Скорее, у Америки есть то, что Джордж МакКенна называет
«оберегаемой метафизической традицией», под которой он подразумевает
ее невинность, ее религиозное рвение и ее теологический
консерватизм94. Постмодернизм в Америке становился куда более легко, чем
в Европе, но в форме, которая совершенно соответствует
американскому прагматическому пуританскому наследию. Американский
постмодернизм остается более или менее неотделим от того, что
Ричард Рорти называет «иронией»95. Великодушное и благородное
принятие состязающихся идеологических «языков», которое не
видит необходимости во враждебности между альтернативными «ме-
танарративами» и которое таким образом позволяет существовать
основополагающему американскому благочестию. Постмодернизм
в этом смысле мало чему способен бросить вызов, а скорее даже
консолидирует американскую либеральную традицию. В Америке,
помимо прочего, постмодернизм значит трезвую, сущностно
теоретическую критику «гегемонии» «западной» рациональности.
Кристофер Норрис может быть сильно прав в своих
размышлениях как о влиянии деконструкции в Америке, хотя Деклара-
154
ция независимости для европейского ума «трансцендентна», так
и о призыве к возрождению универсальных истин, содержащемся
в речи Майкла Портилло, в том, что совершить деконструктивное
прочтение этих текстов, скорее всего, было бы чрезмерностью.
Уступив в начале, а затем не выказав и тени смущения, обратившись к
«трансцендентному означаемому», авторы Декларации
независимости подтвердили показательную природу этого обращения,
одновременно проявив политическое безразличие к европейскому
требованию метафизической легитимации. Религия вписана в декларацию
как формирующий центр американской публичной жизни и после
этого отставлена в сторону; религия в Соединенных Штатах, как
указывал Эрнест Геллнер, это скорее дело сообщества, чем личной
веры96; религия требует существенно меньше индивидуального, чем
в Европе, где последовательная религия приходит в упадок при
столкновении с метафизикой. «В Америке религия возможно менее
сильна, чем это было в определенные времена и среди
определенных людей», пишет Токвиль, «но ее влияние более продолжительно.
Она замыкает себя в свои собственные ресурсы, ни один из которых
не может вытеснить ее; ее функции только в одной сфере, но она
пронизывает ее и доминирует в ней без усилий»97. Желание
задействовать всю полноту европейской метафизики против скромной
американской традиции благочестия кажется хорошо переданным
на медном мушкетоне у головы Кролика Роджера: неуклюжесть не
справится с беззаботностью. Деконструкция в Америке вызывает
очередное утверждение ценностей либеральной демократии и
воплощение ее собственного наиболее прочного мифа: возможности
и обязанности создать себя заново в Новом Свете. Этот «успех»
значил бы только взаимодополняемость между разными
метафизическими капризами: основательной религиозностью и прочной,
активной политической культурой. Очевидность европейской
истории в XX веке ко всему прочему предполагает, что ни историческая,
ни интеллектуальная или субъективная «глубина» (интроспекция)
в любом случае не гарантируют цивилизованного поведения и еще
в меньшей степени защищают от грубых преступлений против
человечности.
Интерлюдия: разъяснение терминов
В предшествующей дискуссии было задействовано несколько
терминов, ввиду их особого сходства следует провести различие.
«Мифическая» невинность, «метафизическая» невинность, «рас-
155
колотое» сознание - каждый воплощает особые аспекты цинизма.
Каждый также занимает особую позицию в отношениях
противоположности энергии/глубины, а также страха жестокости и
озабоченности аутентичностью, обсуждавшихся в главах 1 и 2. Каждый
отвечает определенному современному обращению, которое может
быть определено по степени жизненности, которую оно
представляет, и субъективной уверенности, которую может внушить. Каждый
связан со сводящим на нет эффектом, который знание,
самосознание, метафизика оказывают на действие, на субъективное
волеизъявление; каждый рационализирует определенное предложенное
решение проблемы утраты индивидуальности вследствие процесса
просвещения.
(I) «Мифическая» невинность - это фраза, которая содержит
в себе выражение невозможности любой полезной
кросс-культурной дискуссии между Европой и Америкой, которые кажутся
слишком культурно разными, чтобы поддержать диалог. Эта точка
зрения представляет вероятный вывод из настоящего исследования;
возможно, в таком случае, когда Америка успешно договорилась
о своем освобождении от Европы, она сделала это как раз
посредством отказа от договоров, выраженного акта жестокости. Европа,
все еще погрязшая в метафизических предположениях, никогда
не поймет энергию Америки, которая воспринимается только как
«поверхностность», так же как Америка никогда не сможет понять
метафизические и дискурсивные продукты Европы в какой-либо
иной форме, кроме карикатуры. «Сложность» Дэйзи Миллер, таким
образом, условно объясняется: она просто американка.
Безответственность и социальная пагубность не играют никакой роли в ее
сознании; нечто, называемое находчивостью, что французы
называют savoir-faire*у загадочная интуитивность, рожденная от большой
самоуверенности, - преобладает в Америке при отсутствии
исторического соглашения и общественных нравов. Savoir-faire, однако,
слишком пластичная модальность, чтобы пережить столкновение
с метафизикой; урок Дэйзи Миллер - это вариант принципа меум
и туум: Европа это Европа, а Америка это Америка, и никогда этим
двоим не встретиться.
Аналогичный взгляд представлен в недавней работе Азиса
Аль-Азмеха, для которого межкультурный диалог между «миром
ислама» и «западом» нелеп и обманчив по схожим причинам. По
Аль-Азмеху такие термины, как «ислам», «запад», «постмодерн», -
* Фр. секрет производства, ноу-хау.
156
неприемлемо жестокие означающие для тех культурных групп,
которым они предназначены, и так же головной платок или
шафрановая полоска не могут функционировать как «адекватные»
символы истинного разнообразия ислама. Использование этих терминов
и символов не создает чего-либо иного, кроме очередной формы
(гетерофобской/гетерофильской) «мультикультурализма» -
термин, который для Аль-Азмеха несет в себе всю одиозность (сейчас
почти причудливую) слова «расизм»98. Так, этнография, например,
«во всяком подлинном смысле», настаивает Аль-Азмех,
невозможна, так как подразумевает «коллапс знания в бытие монотонного
солипсизма, явный самоотсыл, закрытую для коммуникации
бесконечную нирвану аристотелевского бога»99. Аль-Азмех
сопротивляется формулированию этой «несоизмеримости» использования
лингвистических моделей, как он может; «антикультуралистская»
позиция, которую он набрасывает, выглядит очень похожей на
случай непереводимости языков. Как Аль-Азмех хорошо знает языки,
которые не переводимы, - это всецело частное дело, а
следовательно, не языки вовсе.
Проблема этого взгляда заключается в том, что он
фетишизирует лингвистический феномен, означающее, до степени, на которой
он вызывает сильный дискомфорт от разрыва
означающего/означаемого. Сигнификация, переживаемая как жестокость,
встряхивающая, разрушительная, посягающая на аутентичность самой вещи.
В дискуссию вносится чувство безотзывного несчитывания и
вульгарного понимания, рассматриваемое как нежелательное и
окончательно осуществившееся невозможное. Мифы, идеологические
и дискурсивные образования выстраивают то, что комментаторы
вроде Фидлера относят к загадочной «американской душе» и т. д.
представляют собой скорее номинальную ценность, чем
являются элементами текстовой или исторической цепи сигнификации.
В связи с общим недоверием, с которым настоящая работа
относится к постструктурализму, особенно в его преобладающем состоянии
критическо-теоретического воплощения, вполне можно
задействовать то, что мы называем «классическим» постструктурализмом,
против его поздних эксцессов, один из которых, похоже,
представляет собой «антикультуралистская» позиция Азиза Аль-Ахмеза.
Понятие различанпя, артикулированное в эссе Деррида с
соответствующим названием, согласно которому сигнификация имеет
место благодаря систематической игре лингвистических и
концептуальных различий - формулировка Соссюра в действительности,
157
насколько его можно отнести к постструктуралистам - должно
как минимум смягчить жестко «антикультуралистскую» позицию
Аль-Азмеха100. Если современные забота об аутентичности и страх
семиотической «жестокости» в частичном долгу перед работой
Деррида (или ее усвоением), то также истинно, что в
деконструкции можно найти все, что нужно, чтобы облегчить симптомы тех же
самых тревог. Согласно сделанному мной выводу в конце главы 1,
критическая работа деконструкции не содержит программы
отбрасывания терминов или концептов, являющихся предположительно
чрезмерно жестокими или даже политически гнетущими (хотя
постструктурализм мог представимо усилить политическую рекламу
определенных социально вредных терминов).
С другой стороны, сама деконструкция подвержена
трансформации, стоит ей только пересечь Атлантику; как принцип чего-либо,
тем более неизбежности семиотической «жестокости» или
императив поддерживать открытыми коммуникативные каналы,
деконструкция показала себя как явно неприложимую. Деконструкция -
это настолько же симптом страха жестокости, насколько его
критика, что коротко выражено cordon sanitaire Деррида.
(II) «Метафизическая» невинность - это (конечно) неверно;
или как «просвещенное ложное сознание» Слотердайка это
парадоксальный термин. Метафизическая невинность означает
состояние ума, по-разному воплощенное и по-разному разветвляющееся
у племянника Рамо, человека из подполья Достоевского, Фридриха
Ницше, Адольфа Гитлера, Поля де Мана, Кельвина МакКензи (но
не у молодого Вертера Гете, Йозефа К., Серена Кьеркегора, Адольфа
Эйхмана, Жака Деррида или, насколько я знаю, у Руперта Мердоха).
Метафизическая невинность означает обязательность требований
одновременно знания и невежества; невинность, понятая
метафизически, которой, как говорится, внушено эпистемологическое
значение - больше уже не просто невинность, но термин, философски
двусмысленный. Метафизическая невинность, в отличие от
невинности Дэйзи Миллер, осознанна, но не желает быть или претендует
на то, что ее нет; метафизическая невинность пытается успешно или
безуспешно спутать собственное сознание. Метафизическая
невинность утверждает вместе с Рамо, что вещи, значительность которых
сомнительна, все-таки нечто большее, чем незначительные:
«Важное дело опорожнять кишечник легко, свободно, приятно и обильно
каждый вечер. О stercus pretiosurn! Вот конечный итог жизни лю-
* Лат. О, драгоценное дерьмо!
158
бого рода». Или, альтернативно, с Кельвином МакКензи
метафизическая невинность говорит либералам и интеллектуалам: «Если б
я волновался о вещах так, как, по-вашему, следует, я был бы так же
чертовски и сильно запутан, как вы!»
Есть одно важное различие между этими двумя откликами -
причем скорее качественное, чем количественное, так как они
означают две фундаментально противоположные культурные
тенденции. Если разум, как говорит Джиллиан Роуз, есть риск, то
кельвинистская реакция, при всей ее манифестируемой
агрессивности и при особом воплощении антагонизма, - это отречение от
разума, основанное на его рискованности, его необходимой
жестокости. Кельвинист просто отказывается от разума или от
рефлексии; его агрессивность парадоксально происходит от страха
жестокости и чистой негативности, не менее (и не более) постыдных, чем
те, что свойственны теоретикам «этики постмодерна». В то время
как они нашли прибежище в неопределенности (и следовательно,
бездействии), кельвинист находит его в реакции (и следовательно,
бездействии). Оба варианта отклика предпочитают криогенизацию*
разума потенциальной жестокости рациональности или
разрушения существующей реальности. Оба испытывают глубокий
дискомфорт при столкновении с риском - концептом, который у
теоретиков ассоциируется с любой формой действия и который они
считают в целом неприемлемым. Чистый кельвинизм воплощает
в себе защищающую закон жестокость так называемого
благородного сознания («человек-футляр» Беньямина), которое демонизирует
собственную тревогу по поводу дезинтеграции культуры и таким
образом поддерживает ее связь с производимыми ею побочными
продуктами. «Благородное», спокойное сознание отворачивается от
самоочевидного, от диалектической жестокости разума и прогресса,
оставаясь обрученным с «законами», предлагаемыми умирающей
культурой и удерживающими поднятым знамя
«неопределенности» и «неразрешимости» постмодерна. Именно под этим знаменем
Зигмунт Бауман, рядящийся в европейского honnête homme*, ставит
вопрос, являются ли «люди как таковые» добрыми или злыми.
Расширяя вопрос и, хотя и указывая на его «неразрешимость», Бауман
вместе с тем демонстрирует недостаточную глубину: «подвергнуть
сомнению» эти оппозиции, да еще уйти от их смешения, значит
показать только лингвистическую изысканность вместо поэтической
* Греч, κρύος - холод, замораживание.
** Фр. честный человек.
159
чувствительности - фетишизировать означающее, позволить
пустой метафизической перспективе сигнификации превалировать за
счет эмоциональной инструментальности, искать «разоблачения» -
делая явными структуры сигнификации, скорее чем выказывая
истинный смысл семиотических возможностей.
(III) Что отличает метафизическую невинность племянника
Рамо, это, во-первых, его неспособность «отключиться», чего он
страстно желает. Для Дидро он очень красноречиво представляет
собой случай отказа от интеллектуальной «ответственности» и таким
образом демонстрирует свою метаболическую неспособность
признать это. Метафизическая невинность Рамо - это выражение его
распада и дезинтеграции культуры. Пока кельвинистское
мироощущение остается в рабстве у грубой модели сознания «поверхность/
глубина» и решает остаться на стороне «поверхности», расколотый
или деструктивный характер полностью осознает дезинтеграцию
культуры, а также таких поверхностно/глубинных моделей,
которые происходят из и оправданы только в сфере чистой культуры.
Сложность и противоречивость Рамо формируют заявку на
субъективную идентичность перед лицом «триумфа» объективной
культуры. Рамо живет ради чего-то, о чем не догадывается «спокойное»
гегелевское сознание, а именно - полного отчуждения мира от
культуры, которое одновременно сохраняет намек на сигнификацию
и вписывает необратимый разрыв между репрезентацией и
«вещами как они есть». Важность мира за пределами или
предшествующего сфере культуры - термины взаимозаменяемые и ненужные -
акцентируется неподчинением Рамо культурным правилам хорошего,
злого, честности, стыда, благородства, низости, справедливости,
непристойности и т. д. Его «блистательное остроумие» - это
выражение отказа исчезнуть, прерывание мрачного, болезненного
монолога героя из подполья Достоевского жестом грубой
индивидуальности. Его жизненная и риторическая форма, это эпиграмма, по
словам Джонатана Рабана, «это сжатая, бессвязная, транзисторная
языковая цепь, которая превосходит историю и время благодаря
точности, с которой она освещает мгновение»101. Рамо утверждает
мир и себя в нем, когда низвергает культурный примат языка,
условностей и моральных ценностей, осуществляя их дезинтеграцию.
Пока бытие человека, говорит Бодрийяр, «ферментировано» его
исчезновением благодаря видеокамере102, симуляция, это
современное «постмодернистское» состояние, означает потерю веры не
в Бога и даже не в «субъект», но в реальность как таковую. Совер-
160
шенство ищется в виртуальности, ставится задача все более
высокого стандарта и усовершенствований воспроизводимости. Это тот
самый процесс, которому сопротивляется Рамо; термин «симуляция»
относится преимущественно к технологической репродукции -
но в случае Дидро, Гегеля, Достоевского он относится к чему-то
более широкому: миру чистой культуры.
Во-вторых, «метафизическую невинность» Рамо
характеризует его поиск жестокости - не только жестокости чистой
негативности, отчуждения от культуры и постепенного прогресса знания,
но жестокости несовершенства, расколотой субъективности,
непредвиденных катастроф и избыточных ресурсов, человеческой
противоречивости и того, что Джиллиан Роуз называет «агоном»
существования. Жестокость как страдание и непостоянство, как
у Достоевского, представляет собой субъективную (как
противоположную объективной) культуру, последнюю манифестацию
индивидуальной воли и точку противостояния тому, что Бодрийяр
называет «триумфом» симуляции. Жестокость возрастает не как
результат ухудшения социального поведения, но как результат
снижения культурного порога, за которым действие воспринимается как
жестокость. В таком контексте дезинтеграция Рамо, его
«эпиграммное» существование и его культивация жестокости представляют
собой последнее обращение бесправной и отчужденной
субъективности лицом к особенно закрытому, безразличному миру.
В постмодерне этот порог между действием и жестокостью,
возможно, ниже, чем когда-либо. Политкорректность, теория «кви-
ров», коммунитаризм, дискурс освобождения в Интернете, призыв
гомогенизировать частную и публичную жизнь политиков, новое
учение «этики постмодерна» - все это различные формы
общественного стремления заморозить разум как риск, следствие
фетишизации объективной культуры. Считать нестерпимой жестокость
лингвистического давления, «неаутентичности» сексуальной
идентичности (продукт «семейного романа» Фрейда и т. д.),
политического антагонизма, формализации истины при ее распространении,
разграничения публичной и частной жизни, неопределенности
моральных правил - значит - в любом случае подписываться на
особый буквализм, выявлять основательный дискомфорт в
отношениях означивания, постоянно принимать означающее за саму вещь.
Таким образом, политическая активность замещается серией
косметических приспособлений к объективной культуре.
Цинизм Рамо представляет собой признание субъективной куль-
161
туры, реальности, референта и означаемого, истины мира и
индивидуальности. Цинизм создает определенное необходимое
безразличие к объективной культуре, определенный субъективный риск,
проект выхода из объективной культуры и собственных границ.
В условиях, где на первом месте «аутентичность», где все действия
запрещены как нестерпимая жестокость и где самосознание только
неисправный механизм, предназначенный на выброс, цинизм
возникает как дух дезинтеграции, единственный способный оценить
утрату вложений в настоящее, единственный локус разума и веры
во что-либо, лишь бы это было здесь и сейчас, диспозиция, которая
одновременно воплощает собой энергию и глубину.
5. «ГЛУБИНА БЕЗ ЭНЕРГИИ»:
СИМПТОМАТОЛОГИЯ ЕВРОПЫ
Реваншизм постмодерна: уход в целостность
Определение Джиллиан Роуз разума как риска противоречит
полученной от постмодерна идее о его тоталитарности, видению
Аушвица как закономерного итога просветительского проекта
и возведению своей критики модерна до степени критики «логоцен-
тризма», при постоянно сохраняющейся осведомленности о том,
что преувеличить этот момент - значит свалиться в те же
«фашистские» чрезмерности рациональности, которым под конец поддается
диалектика просвещения.
...Если крайне опасно сказать, что разум есть враг, которого следует
устранить, то это опасно настолько же, как если сказать, что любое критическое
вопрошание этой рациональности рискованно уходом в иррациональность.
Никто не должен забывать - и я говорю это не в целях критики
рациональности, но в целях показать, как все неоднозначно, - что на основе яркой
рациональности социал-дарвинизма был сформулирован расизм, ставший одним
из самых непримиримых и характерных компонентов нацизма. Это была,
конечно, иррациональность, но иррациональность, которая в то же время была,
наконец, определенной формой рациональности...103
Рефлексии Мишеля Фуко кое-чем обязаны полемическому
воззрению Адорно и Хоркхаймера в Диалектике просвещения, для
которых «просвещение есть тоталитаризм»104; абстракции,
порожденные буржуазным принципом эквивалентных значений, например,
включают в себя уровень жестокости, характеризующий
инструментальную рациональность модерна: «Просвещение, которое не
собирается сбавлять оборотов и прийти наконец к финалу, стано-
162
вится иллюзией; современный позитивизм третирует его как
литературу»105. Для Адорно и Хоркхаймера наиболее интересны фигуры
просвещения, которые были не его апологетами, а скорее «темными
хронистами», те - такие как Ницше, Сад, Мандевиль, Дидро - кто
не отступил в моральную пустоту формалистского разума, кто
скорее «раструбил во все концы о невозможности привести со
стороны разума хоть один основательный аргумент против убийства»
и расплатились за это претерпеванием всей злобы, направленной на
них со стороны «прогрессивного» общества106. Подобные инсайты
Адорно объясняют дальнейшее развитие его мысли как
«негативную диалектику», которую он пессимистично объяснял как
«науку меланхолии»107, форму диалектического размышления, которая
направляет свою рефлексию на изнурительную, циничную борьбу
против позитивистской рациональности - механизма
овеществления. Негативная диалектика - это рефлексивный мыслительный
процесс «нездоровой» личности, каковой сам себя считает Адорно;
действительно, его работа в целом выстраивает стратегию
неотступного противостояния этой вот-вот грозящей начать свой натиск
идеологической химере: доброму здравию ума. Я больше скажу об
особенностях мысли Адорно в главе 4, а пока мне следует
ограничиться несколькими легкими обзорами.
Реакция Адорно на те тревоги, которых я сейчас коснулся,
например на тоталитарную жестокость, «сеемую» во имя
рациональности просвещения, заключается в том, чтобы минимизировать
и, наконец, выжать всю инструментальность посредством процесса
диалектической дистилляции. По ходу своего анализа просвещения,
Адорно и Хоркхаймер видят действие «инструментального разума»
за каждым углом; неправда просвещения, соответственно,
заключается в том факте, что «для просвещения итог любого процесса
всегда уже решен заранее»108. Негативная диалектика в этом контексте
предлагает и реализует крайне рафинированную методологию;
поддерживая этос подпольной борьбы против орд «культурной
индустрии» и аналогично против уступок, требуемых необходимостью
репрезентации, негативная диалектика стремится защитить свою
высоко разреженную форму размышления, которая одна способна
избавить от жестокости инструментальное™. Так, во-первых,
негативная диалектика мотивирована протопостмодернистским
страхом жестокости, для всех своих заигрываний с пунктом чистой
негативности, ее будоражит даже малозначительный концептуальный
вклад. По Адорно, тоталитаризм просвещенческого мышления со-
163
стоит, как говорит Сьюзан Бак-Морсе, «в доминировании понятий
над содержанием мысли»109 - как будто содержание мысли
способно каким-то образом формироваться без понятий. Жестокость
рациональности просвещения, которой лишена система Адорно (как
и Деррида, он отвергает любые характеристики своей работы как
«системы» или «критики» и даже негативной диалектики как
«теории»), доказывает жестокость самой концептуализации. Только как
«негативное, предполагаемое движение, которое не выстраивается
в прямую линию», рефлексия может иметь место, не поддаваясь
«грубости, свойственной позитивному движению»110. Хотя
Адорно и Хоркхаймер бичуют Гегеля за предательство его собственного
концепта чистой негативности в угоду «позитивизму», который он
в конечном итоге относит к просвещению111, их попытка сохранить
чистую негативность как бесконечную негативность - это именно
попытка выкинуть из концепта тот элемент жестокости, который
составляет самую его суть и действие.
Этот отказ от чистой негативности под знаком ее бережного
сохранения; отказ от работы означивания и от самой работы
поступательного прогресса сознания. Теперь второе: негативная диалектика
поручает себя фетишизации аутентичности, основанной на
множестве тревог касательно сигнификации и овеществления. В
Диалектике просвещения эти тревоги становятся выраженными по
мере того, как авторы приближаются к выводу своего знаменитого
эссе о культурной индустрии: «Наиболее личные реакции
человеческого существования были так основательно осуществлены, что
идея чего-либо особенного сейчас сохраняется только как крайне
абстрактное представление: личность едва означает что-либо иное,
кроме блеска белых зубов, хорошо пахнущего тела и отсутствия
эмоций»112. Таким образом, Адорно и Хоркхаймер предвосхищают
пеан Жана Бодрийяра «пустоте» и «основательному безразличию»
Америки: «У американцев может не быть идентичности», говорит
Бодрийяр, «но у них чудесные зубы»113. Тон Адорно и Хоркхаймера
недвусмысленно обличителен и интроспективен; полемика их эссе
о культурной индустрии скорее напоминает болезненные
рефлексии человека из подполья Достоевского, обнаружившего, что даже
его слезы - просто цитата из Маскарада Лермонтова. Бодрийяр
впечатлен особой способностью американцев отбрасывать
европейскую обеспокоенность об идентичности, способностью,
выраженной настолько, насколько заметно отсутствие в американской
литературе экзистенциализма, будто в подтверждение Фредериком
164
Джеймсоном эффективности основополагающего толчка,
выбивающего эти симптомы вялости и скуки постмодерна. В европейской
традиции Адорно и Хоркхаймер способны только оплакивать
субъективное бессилие, которое означает «триумф» объективной
культуры - ситуация, определенная Петером Слотердайком как
«просвещенное ложное сознание».
«Триумф рекламы в культурной индустрии», заключают Адорно
и Хоркхаймер, «таков, что потребители чувствуют необходимость
покупать и использовать эти товары, даже если едва задерживают
на них взгляд»114. Дав эту формулировку, жертва просвещенного
ложного сознания должна оказаться единственным, кто
ощущает свою субъективность насильно запряженной и таким образом
принужденной ловушкой объективной культуры. У мифологичных
американцев, освобожденных от метафизики, как и от
«тоталитаризма» концептуализации Декларацией независимости,
объективная культура не угрожает субъективной воле. Европейцу может
показаться, что американец, определяемый только через
экономическое положение, находится в состоянии постоянного разрыва со
своим истинным «я». Несчастное сознание европейца нашло бы эту
ситуацию нестерпимой; в Америке же озабоченность субъективной
аутентичностью была оставлена позади. «Экономическая маска
полностью соответствует внутреннему характеру», пишет Хоркхаймер
об американцах. «Каждый достоин того, что он зарабатывает, и
зарабатывает то, чего заслуживает. Он узнает, чего стоит, благодаря
превратностям своего экономического существования. Больше он
ничего не знает»115. В Америке нет уровня подлинной субъектности,
отличного от того, что Бодрийяр называет порядком симулякра.
Это ситуация, которую нам трудно понять, так как она всегда
предпочтительна: саморефлексивный, самоотражающийся уровень, уровень
несчастного сознания. Но мы не видим, чтобы Америка имела смысл без
переворачивания наших ценностей: Диснейленд здесь аутентичен! Кино и телевидение -
реальность Америки!116.
В Диалектике просвещения это состояние дел недвусмысленно
трактуется как эффект пагубного влияния культурной индустрии
на реальную жизнь, дьявольское следствие вульгаризации
реальности прогрессирующими, жестокими нашествиями объективной
культуры, которая лишает индивидуальность всех возможностей
выражения, которая делает бессвязной и опосредованной любую
попытку самовыражения и которая «превосходит» консервативное
различие между подлинностью и искусственностью117. Культурная
165
индустрия - фильмы, радио, журналы - представляет собой
технологическую инкапсуляцию рациональной подоплеки
доминирования, самого принципа просвещения. Адорно и Хоркхаймер
инициируют и поддерживают программу субъективного реваншизма
перед лицом культурного вырождения, политику рекурсии* в сферу
целостности и инструментальное™, доверия чужим мыслям и
противодействия адвокатам коммуникабельности - сферу, которая
кажется неотделимой от ухода в циничную интроспекцию, этос
бесконечной разреженности, поднятия и сублимации истины до
состояния герметичной недосягаемости.
Аушвиц: границы рациональности?
Попытка понять Аушвиц сломила разум множества мужчин
и женщин. Если Диалектика просвещения - это отчасти
болезненный ответ на восхождение Гитлера в Германии, на исключительную
тупость масс, на их неспособность к независимому мышлению и их
отказ осуществлять ответственность просвещения,
сформулированную Кантом в его призыве Sapere Aude! - «Имей смелость мыслить
самостоятельно!», тогда Негативная диалектика есть в широком
смысле ответ на триумф разума и «культуры», представленной
Аушвицем. «Рациональность» Аушвица - это рациональность
безразличия к разуму, как его понимал Кант. Жан Амери, выживший
интернированный** из Аушвица, передает одну из множества
мыслей, которые возникали во время безжалостно унизительной цены
познания и рефлексии в лагерях:
Абсолютная интеллектуальная толерантность и методическое сомнение
интеллектуала становятся факторами его самоуничтожения. Да, СС могло
выносить это, что оно и делало: нет естественных прав, моральные категории
приходят и уходят как мода. Германия существовала, доводя евреев и
политических оппонентов до смерти, потому что верила, что только таким путем
полностью оправдает свою реальность. И что из этого? Греческая цивилизация
была построена на рабстве, а афинская армия набросилась на остров Мелос
точно как СС на Украину... Аппиева дорога была обрамлена распятыми
рабами, а по Биркенау распространялся смрад кремированных тел... Таким путем
история шла и таким путем идет118.
Аушвиц демонстрирует пластичность и потенциальную
обратимость всех терминов и концептов: рациональность, цинизм,
безразличие - все это может казаться относящимся к культуре террора,
* Повторение объекта в качестве элемента самого этого объекта.
«Рекурсия» близка понятию «фрактал». - Прим. пер.
** Пленник концлагеря.
166
действовавшей в Аушвице, так же как к отказу от метафизики,
воплощенному в расколотом сознании Рамо.
Если, с одной стороны, свобода и модернизация,
представленные Америкой, строятся на основе прагматического воплощения
определенной амнезии, относящейся к метафизическому «багажу»
Европы, то восхождение Третьего рейха также имело место на
основе и возникло, чтобы подтвердить веру Гитлера в
«запредельную» силу забывчивости масс. Размышления Гитлера о природе
пропаганды в Майн Кампф ничем не отличаются от враждебности
газеты Sun к «либералам с кровоточащим сердцем», работающим
на Guardian, как они описаны в Придерживайся высокой ставки!]
в фигуре Адольфа Гитлера персонифицирована та степень
«метафизической невинности», сравнимая по природе и тону со
стремлением Кельвина МакКензи уйти от теоретической и образной
рефлексии. Функция пропаганды, прямо говорит Гитлер, «это не
взвешивание и оценивание прав разных людей, но акцент только на
одном праве, которого следует добиваться. Задача состоит не в том,
чтобы объективно познавать истину, тем более что это может
помочь врагу, а в том, чтобы с академической ясностью представить
идею массам; эта задача служит нашему собственному праву всегда
и неуклонно»119.
Если, с одной стороны, природа самой политики, как трактуется
в работах Арендт и других, в сущности есть область антагонизма,
место представления и конфронтации сталкивающихся
идеологических интересов, то это очень похоже на представление о
«политическом», сформулированное Карлом Шмиттом, который в нужный
момент политически выводил мероприятия нацистского режима на
уровень интеллектуальной респектабельности. Попытка оживить
современную политическую жизнь, взывая к мужеству, и
стремление отметить позиции полемической определенности риторически
подобны попытке Шмитта ремоделировать особое политическое
отношение как форму наивысшей «интенсивности», основанную на
резком отличии друзей и врагов. «Политическому врагу не нужно
быть морально злым или эстетически уродливым», пишет Шмитт;
«ему не нужно появляться в качестве экономического соперника,
и возможно, даже выгодно вовлечь его в свои деловые операции. Но
он тем не менее иной, незнакомый; и это достаточно для того, чтобы
понимать, кто он есть; с особой интенсивностью он представляет
собой нечто экзистенциально другое и чужое, так что в крайнем
случае, конфликт с ним возможен»120. Концепция политической жизни
167
Арендт могла бы с большой вероятностью позволить политический
праксис, угрожающий человеческой безопасности или моральным
границам.
Метафизическая «глубина» Европы, груз ее истории и
болезненного отношения к аутентичности могут быть увенчаны не
процессом дискурсивных переговоров или философского трансценди-
рования, но только радикальным уклонением, грубым, но честным
отказом от вовлеченности, автономным и политическим актом
разрыва, так что ненормальность Аушвица представляет для нас нечто
близкое к непостижимому уникальному событию, выражению
величественно немыслимого, чувству метафизического
«опустошения» или tremendurn, который не поддается объяснению - который
скорее требует, по словам Эмиля Факенхейма, чтобы мы «говорили
этому "нет" или противостояли ему».
Факенхейм приходит к выводу, что Аушвиц парализовал любую
метафизическую возможность. Так как часть мира стала непостижимой, мы больше не
можем говорить о «мире как таковом». Аушвиц был, по словам Факенхейма,
«той самой точкой, которая очерчивает границы предпоследней
рациональной постижимости»121.
Точно как метафизику нельзя подтвердить или перешагнуть,
а только совершенно отвергнуть, попытки постичь Аушвиц
обречены на провал, безуспешное ментальное и духовное истощение.
Эти аналогии показательны и ложны. Каждая предлагает
рациональное объяснение для широко понятого обвала разума; каждая
сигнализирует переход из чего-то, называемого «просветительский
проект», в цинизм или нигилизм; но каждая принимает
интеллектуальные операции, стимулы для познания за сам разум -
рискованную попытку выйти «за свои пределы» в целях познания.
(I) «Гитлер», говорит Арендт, «который знал о современном
хаосе мнений из первых рук, открыл беспомощность метания между
разными мнениями и «убедился... что всей этой галиматьи»
можно было избежать, придерживаясь одного из многих современных
мнений с «непреклонным постоянством»122. Метафизическая
невинность - это уход от дезинтеграции и идеологического хаоса
в метафизические - априорные «истины»; более точно,
метафизическая невинность стремится придать вероятно гибельным и
иррациональным мнениям статус метафизической истины. В то время
как цитирование «универсальных истин» в риторике американской
публичной жизни настолько институционализировано и делается
* Лат. ужас.
168
экспромтом, чтобы быть едва заметным, в риторике нацистской
Германии чудовищное возвещение становится задним числом
проникнуто метафизикой, несомненным побочным продуктом ее
массового распространения. «Гетто и лагеря создали ситуацию, при которой
становится неизбежным, что преступления караются возмездием»,
пишет Роберт Жан ван Пелт относительно унижения,
сопровождавшего экранные образы евреев, собранных в Варшаве как
крысы в коллекторе; это этиологическая инверсия отношений между
виной и наказанием, что, как пишет ван Пелт, представляет собой
классическую и ужасную кафкианскую конструкцию123. Подобно
явной вульгарности обращения Гитлера к широчайшей и нижайшей
части своего электората, масштаб и грандиозность, усиливавшие
каждое официальное заявление, даже эффективную
инфраструктуру Третьего рейха, придавали нацистской идеологии силу высшего
авторитета. Если метафизика может быть отвергнута без
обязательного болезненного процесса философского обсуждения, она может
так же легко быть катектирована* благодаря простой прививке ей
наиболее феноменальных, если не смешных, эстетических
коннотаций (громоздкость, четкость, синхронность, помпезность) как
видимых проявлений режима. Восхождение Третьего рейха
одновременно подтверждает и заставляет усомниться в мыслях Беккета
в Безымянном: «Легче воздвигнуть храм, чем убедить божество
посетить его»124. В нацистской Германии божество и храм эффективно
сплавились; зверства Аушвица открыли мелочность и банальность
метафизической истины в глубочайшем и темнейшем для Европы
моменте - Европа проникнута и искажена судорогой в связи с
вопросом о своей мифической и культурной подлинности.
(II) Представление Карла Шмитта очень хорошо соответствует
патологии, характеризующей гитлеровский режим, - патологии,
кстати, происходящей из фетишизации глубины. Для Шмитта,
похоже, категории «друга» и «врага» являются естественными,
политическое же утверждение, как комментирует Лео Штраус, есть
утверждение природного состояния125. Таким образом, как пишет
Шмитт, понятия «друга» и «врага» следует понимать «в их
конкретном и существенном смысле, не как метафоры или символы, не
смешанные и ослабленные экономикой, моралью и другими
понятиями, и в наименьшей степени в частно-индивидуалистическом
смысле как психологическое выражение частных эмоций и
стремлений»126. Здесь политическое еще не является публичной сферой,
* Направлена и усилена.
169
как ее видит Арендт; понятие гражданства, к примеру, не играет
особой роли в понимании политической жизни Шмиттом, так же как
и понятие свободы, определяемой как действие. Политическое, по
мысли Шмитта, не есть сфера свободы от необходимости, но гобб-
совская сфера, определяемая лишь связями с необходимостью, -
в которой подданные, в экстремальнейшем из возможных смыслов
противостоят правящим. Далекое от существования в состоянии
отделения и независимости от vita contemplativa, шмиттовское
политическое сообщество «превосходит все остальные объединения
и общества», обладая правом устанавливать для себя «благодаря
добродетели собственного суверенитета» условия идентификации
внутренних врагов, будь это «отдельные личности, народы, классы,
религии и т. д., которые, став вне закона, объявляются врагами»127.
Актеры в политической драме Шмитта отделены от их статуса
исполнителей, действующих в публичном пространстве, и
принуждены к метафизической идентификации своих ролей. Политические
отношения пронизаны абсолютизмом и ощущением
детерминистской неизбежности. И Арендт, и ван Пелт уже писали о
деградации и унижении, постигшем евреев при их вынужденном сговоре с
собственной судьбой, как в самих лагерях, так и в аппарате отбора
и депортаций:
Для евреев роль еврейских лидеров в уничтожении своего собственного
народа, несомненно, темнейшая глава во всей темной истории [...]. В
Амстердаме, как и в Варшаве, в Берлине, как и в Будапеште, еврейским
должностным лицам доверялось составлять списки людей и их имущества, давать деньги
на депортации и уничтожение, занимать освобожденное жилье, поддерживать
полицейские формирования, помогая им хватать других евреев и сажать их на
поезда, пока наконец, в качестве последнего жеста, они не передавали активы
еврейского сообщества в должном порядке финальной конфискации128.
Отвратительные селекции, унизительные обряды инициации,
выматывающие переклички, жестокие избиения, тягостная переполненность и
невыносимый голод были элементами продуманной и изощренной системы,
действовавшей так, что заключенные винили себя за ужасы, которые они претерпевали129.
Если неразумно предполагать, что Окончательное решение стало
возможным или даже неизбежно реализуемым благодаря теориям
Шмитта, это определенно тот случай структурного доминирования
метафизики в Третьем рейхе, посредством которого статус
граждан зависел от уровня, всецело определяемого «естественной» или
биологической сферой необходимости, что предвещало его эссе
1927 года. Коварным и отвлеченным путем Шмитт вводит идею
о том, что «трансцендентное» политическое поле, само собой разу-
170
меется, не будет терпеть людей с недостатком силы, нужной для
уверенности в собственном участии, и что данный факт есть ipso
facto, обосновывающий их исключение. «Если люди более не
обладают энергией или волей, чтобы удержаться в политическом
пространстве, последнее тем самым никуда не денется. Это слабые
люди исчезнут»130. Понятие «политического» Шмитта, проще
говоря, не имеет к политике никакого отношения - оно действительно
нагружено необходимостью, в форме того, что Маршалл Берман
называет немецко-христианской внутренней жизнью - из-за своей
озабоченности аутентичностью, пожалуй, и истинной
политической «идентичностью». Аушвиц - это следствие не разума, понятого
как риск, но боязни разума, парадоксально являющейся страхом
жестокости. Смрад от сожженных тел всегда тянется за болезненным
ароматом дешевой метафизики.
(III) Филипп Лаку-Лабарт и Роберт Жан ван Пелт предлагают
немного иное видение экстерминации или холокоста, как его
называет ван Пелт. Лаку-Лабарт отказывается от последнего традиционного
термина из-за неуместного и неверного смысла «жертвы», которым
он наделяет судьбу евреев в Аушвице, - что он воплощает собой
излишний «филосемитизм», более того, неявно и извращенно делая
евреев «привилегированными» среди других преследуемых и
уничтожавшихся нацистами групп (цыгане, гомосексуалисты, коммунисты,
умственно отсталые и т. д.)131. Лаку-Лабарт предпочитает термин,
взятый из комментариев Гёльдерлина к трагедии Софокла, - цезура
- указывающий момент, в который «истина конфликта
представлений появляется как таковая», момент, когда представление возникает
«само по себе». Цезура - это точка «безграничного разрыва» между
богом и человеком, «категоричный разворот» от бога и
ретроспективный, императивный поворот назад, к земле, территории
человека132. В греческой трагедии цезура - это точка, где проявляются
«закон конечности», срединное состояние человека, на котором
основана и которым движется трагедия; парадоксальный момент, когда
«бог внезапно представляет себя как бездну, хаос собственного
отдаления». Аушвиц, говорит Лаку-Лабарт, представляет собой
одновременную иллюстрацию этого божественного отдаления и разрыва
«завета» бога с человеком (хюбрис*), что есть стремление человека
к непосредственности. Следовательно, «единственный раз в совре-
* Лат. В силу самого факта, тем самым.
** Др. греч. ύβρις - дерзость, высокомерие, которым сопутстствует
самообожествление.
171
менной истории» необходимые для цезуры условия выполнены:
Аушвиц «открывает или приближает совсем другую историю, чем та,
что мы знали до теперешнего момента»133.
Ван Пелт цитирует и поддерживает взгляд Лаку-Лабарта на
Аушвиц, но особо подчеркивает свои цели в Архитектурных
принципах в век историцизма. Эта книга, написанная в соавторстве с Кэ-
роллом Уильямом Вестфоллом, имеет форму диалога между
сериями противоположных утверждений, соответственно происходящих
(или предположительно происходящих) из Афин и Иерусалима.
В качестве показательных моделей Вестфолла и ван Пелта
Архитектурные принципы выражают особое напряжение между
философией и теологией, что, согласно Лео Штрауссу, обеспечивает
«жизнеспособность» западной традиции в христианскую эру134. Так,
классические принципы рационализма и общие типологические
модели, поддерживаемые Вестфоллом, сочетаются с
иудео-христианской логикой кризиса и искупления, очерченной в главах ван
Пелта. Для Вестфолла смысл «беспределен», в то время как для
ван Пелта смысл «скрыт» - различие, наличествующее в трактовке
текста со стороны Джиллиан Роуз, когда она продолжает описывать
диалог (несмотря на отговорки авторов) как «великолепную и
расширенную драматизацию» дебатов между модерном и
постмодерном135. Ван Пелт и Вестфолл не просто принимают штрауссовское
определение двухвековой эпохи историцизма, которая следует
прямо за эпохой гуманизма, одновременно имея отношение к модерну
и постмодерну, но также его критику «релятивизма», который исто-
рицизм подразумевает - его, если можно так выразиться,
«открытие чрезмерно провинциальной и узколобой сути за либеральным
фасадом»136. Также сверхрационализму Вестфолла, основанному
на том, что Джиллиан Роуз называет «логикой источника и
доказательства», в конце противопоставлены только «нигилизм» и
моральное пораженчество Пелта. Диалог эффектно прерывается, когда
ван Пелт исключает запланированную седьмую главу и вставляет
вместо нее текст поэмы Гёльдерлина «Половина жизни». Как ван
Пелт, не переводя дыхания, объясняет в ссылке, он не мог
продолжать свой диспут с Вестфоллом после «осознания» того, что
предложения Гёльдерлина по созданию «истинно немецкой»
архитектуры, которая включала бы в себя элементы Афин Перикла, модели
города с пятью площадями, - предложения, которые ван Пелт для
себя одобрил в предыдущих главах, имея в виду современный исто-
рицистский «тупик», - ведут более или менее прямо к созданию
172
нацистских лагерей смерти. Аушвиц-Биркенау не только немного
напоминает по расположению шахматную доску, что делает Аушвиц
«единственным лагерем смерти, где процесс истребления получил
последовательное и [...] полностью адекватное архитектурное
решение»137; для ван Пелта экстерминация сама по себе представляет
инфернальную кульминацию возвращения к Афинам, «немецкую
репетицию эллинистического начала», искомого и защищаемого
после Гёльдерлина философом Хайдеггером - фигурой, чьи
программные работы выказывали озабоченность проблемой
подлинности, вероятно, несопоставимой с занятием этим вопросом со
стороны любого другого значительного философа столетия138. Печально
известна Ректорская речь, отправленная в 1933 году в университет
Фрейбурга, приветствовавшая предложенную
национал-социалистским государством возможность возродить «силу начала
нашего духовно-исторического бытия». Ван Пелт пишет:
Успешное вычеркивание христианства как метафизического барьера
зависело от аннигиляции иудаизма как физической реальности. Если, как утверждал
Хайдеггер, история Запада была историей первого раскрытия бытия в
греческом полисе и его последующего изъятия и если эта история вызвана для нового
начала, тогда иудеоцид был ужасным следствием этой истории. Тогда Аушвиц
был проломом, через который выступила ужасная сущность Запада139.
«Неизбежный вывод», предложенный последней главой ван
Пелта, - «дерзкий экскурс», необходимый для объяснения отказа от
дебатов с Вестфоллом: что эта попытка переоткрыть архитектурные
принципы в век историцизма дает мало надежды на
усовершенствование программы обновления, реализованной гитлеровским
режимом. Что любое здание, построенное на основе таких
историографических принципов, сможет быть похожим лишь на «убийственную
и извращенную мерзость»140. Этим заключением Пелт прямо обязан
Лаку-Лабарту, потому что это он в Хайдеггере, искусстве и
политике говорит так много слов о том, что Запад раскрывает свою
«сущность» в апокалипсисе Аушвица141; но Лаку-Лабарт осторожен с
категоричными заявлениями, самое важное из которых заключается
в повторении того, что его монография принципиально
затрагивается и направляется терминами «Хайдеггеровского размышления
об истории»142. Только в этом ограниченном контексте
экстерминация, говорит он, имеет духовную или «историческую» логику,
которая требует дальнейшего, долго переформулируемого кодицилла*:
что логика экстерминации не является политической, экономиче-
* Здесь - дополнение, разъяснение.
173
ской, социальной или военной. Далекое от того, чтобы наделять
еврейский холокост теологическими смыслом или отмеченностью;
это отличие не только удерживает от возможной необходимости
провозглашения логики Аушвица (скорее, чем логики per se)
«деградированной», но также усиливающей процесс размежевания с
метафизикой, относится к попыткам понять Окончательное решение.
Экстерминация - это, если хотите, продукт чисто метафизического
решения, более чем что-либо вписанный в самое сердце национал-социалистской
доктрины. [...] «Наука», от которой национал-социализм требовал
вдохновения и, помимо нее, идея о том, что ей принадлежали Европа и Запад [...], вели
прямо к Аушвицуиз.
Яркая риторика и внутренняя последовательность нацистской
догмы дали Третьему рейху возможность приобрести
метафизический авторитет того же масштаба, что «мученичество» Хорста Весселя
обеспечило ему святость144 - в смысле, на нижайшем уровне
эмоциональной ассоциации. Приравнять подобную логику к разуму, как его
понимала Джиллиан Роуз или даже по-разному понимали Гегель, или
Кант, или Арендт, - это постмодернистское заблуждение. Не только
приостановка рассуждения у ван Пелта в форме «паратактической*
главы отречения» представляет собой риторический момент
постмодерна, но, как указывает Роуз, капитуляция перед Вестфоллом -
только кажущаяся; его экзистенциальный кризис веры в
действительность - тщательно срежиссированный сценарий, который
«подрывает и дискредитирует стройную логику Вестфолла намного более
безжалостно, чем нас могла бы убедить собственная исповедь ван Пелта
о своих «разрушительной интуиции» и «отречении»»145. Последняя
глава ван Пелта действительно продолжает изложение точно
оттуда, где он его остановил в конце главы 5, и так же частично касается
разума, что было примерно очерчено в конце 3-й главы книги. Там
он обрисовывает различие между «платоническим» видением Афин
Вестфоллом, когда действительность постигается с точки зрения
идеала, и своим собственным видением, более близким историку Фуки-
диду, при котором высокие устремления афинского полиса
беспрестанно проверяются светом политической «реальности» - с намеком,
например, на «высокомерие» афинского лидерства, говорит он
многозначительно. Так, уход от сельского населения Афин в обнесенное
стеной пространство города в первые годы Пелопонесской войны -
«рациональная политика», говорит ван Пелт, которая завершилась
бедствием, поскольку ухудшение гигиенических условий принесло
* Греч, parataxis - выстраивание рядом.
174
вспышку чумы, - рассматривается ван Пелтом (как, вероятно, ранее
Фукидидом) как показатель границ разума вообще. «Более
оптимистичная» платоническая методология, развернутая Вестфоллом,
в связи с этим эпизодом представлена как «грандиозный
философский провал»; также ван Пелт отмахивается от «заключения» Ханны
Арендт в Эйхманне в Иерусалиме, что «только у добра есть глубина
и что зло банально», о чем свидетельствует безрассудство
философского полагания на рациональность146. Фраза Арендт о «банальности
зла», отнесенная к ментальности Адольфа Эйхманна,
воспринимается ван Пелтом как философски оптимистичная и удручающе
наивная; утверждение ценности «культуры» и теоретическая рефлексия
перед лицом всей очевидности противостоящего ей « Аушвица» - как
аргумент. Подразумевается, что продолжать верить в цивилизующий
разум, значит оставаться в ловушке поверхностно-глубинной
модели мышления, которую опыт Аушвица попросту оставил в руинах.
Оппозиция между поверхностностью и глубиной для ван Пелта
полностью урегулирована Аушвицем - насколько она им уничтожена.
Вывод Архитектурных принципов в эпоху историцизма -
имплицитно кельвинистический; он определенно интеллектуально
пораженческий. Как пессимизм Кьеркегора в Болезни к смерти, которую он
цитирует, или как финальная резкая потеря веры в Разуме на краю своей
натянутой узды Г. Дж. Уэллса, итог философской рефлексии для ван
Пелта может быть только «загадкой», воплем отчаяния или актом
отчуждения: «Автор этой главы чувствует, что доверие к подлинности
его тревоги, обоснованность его метода и допустимость любого
ответа - это доверие, столь бережно создававшееся за годы высшего
образования, - уже не вернется147. Сантименты ван Пелта - это строгая
реминисценция провозглашенного Уэллсом философского отчаяния;
высказано - куда более бегло - в 1945-м: «Наконец современный
писатель не стоит перед проблемой убеждения читателя в том, что ему
не следует быть жестоким, или средним, или малодушным. [...] Он бы
скорее описал конец своей истории в таких чертах, как благородство,
доброта и великодушие, и не стал бы описывать пьяных трусов или
отравленных крыс в мешке. Но это вопрос индивидуального
предпочтения, это решать каждому самостоятельно»148.
Разум на краю своей натянутой узды Г. Дж. Уэллса - это
отступничество человека науки и письменности, чья вера в разум и прогресс
воплощается и разными путями низвергается целым поколением.
Его горькое отречение и резкий поворот к человечеству
рассматриваются литературоведами как последняя непрезентабельная
175
эксцентричность, нетипичный продукт какого-то
непоследовательного, предсмертного безумия. Как Адорно, Уэллс в своей работе
делает различие между «здоровым, подвижным» сознанием и
«философским» сознанием, «горькая мудрость» которого определяется
«осознанием ограниченности и разочарования». Здравый смысл
толпы «благодаря врожденному дару непоследовательности,
частично увертки или легковерия», никогда не знает чувства
ограниченности, хоть немного близкого тому, что испытывает, например,
рассказчик Записок из подполья Достоевского. «В этом непобедимом
невежестве тупых масс заключается их самозащита от всего
упорного вопрошания ума недовольного»149. К тому же именно этот момент
разочарования, этого просвещенного цинизма, рожденного из
разочарования, - это так характерно для того, что называют состоянием
постмодерна, и которое запоздало формирует вялый ответ Роберта
жана ван Пелта на варварские события в Европе, предшествующие
маю 1945-го. Страх перед разумом для этого мироощущения есть
сам разум, который по определению всегда дело опасное.
Политические и поведенческие недостатки в рациональности берутся как
неприемлемые «эксцессы» самой рациональности.
В этом пункте необходимы два рассмотрения: первое отмечает
каждую позицию, принятую автором в данной главе; второе
предписывает принцип, которому нужно следовать в дальнейшем.
(I) Сельский исход в Афины, описанный Фукидидом, -
«рациональная политика», принятая в первые годы Пелопонесской войны,
согласно ван Пелту, - фактически не более рационален, чем
немецкий «исход в Афины» в годы, предшествующие началу войны. Обе
политики мотивированы не разумом, но страхом жестокости,
тоталитарным желанием подавить необозримое, которое по Арендт
является квинтэссенцией политической жизни: радикализм как конец
в себе. Гражданину bios politikos необходимо свойственно
определенное презрение к существованию, к истории и настоящему, а
значит, определенная деструктивная креативность. Подмятый
тоталитарным режимом «деструктивный характер» в смысле Беньямина
запрещается и уничтожается государственной идеологией, которая
представляет собственную эйфорическую и эстетическую версию
«деструктивности», занимая позицию «метафизической
невинности» - кельвинистскую стратегию темпераментной амнезии
относительно границ человека (человеческой «конечности», как говорит
Фуко)150 и современной множественности идеологических
возможностей. Метафизическая невинность и фигура человека-футляра
176
тогда функционируют не как полные противоположности, но как
смежные вариации «бегства из универсума» - гегелевская фраза,
означающая патологию, готов поспорить, являющуюся главной
характеристикой постмодерна. И метафизическая невинность, и фигура
человека-футляра представляют собой аспекты кризиса здорового
скептицизма, который по-разному проявляется как страх чистой
негативности и фетишизация аутентичности. В постмодерне прогресс
истории и, далее, прогресс рациональности, который проецируется
самим сознанием, выходящим за свои границы,
концептуализируется как жестокость. Состояние «бездумной инерции», искомое
метафизической невинностью, позиция идеологической
определенности, принятая с «непреклонной последовательностью»,
сектантский отказ от «современного хаоса мнений» формируют настоящий
футляр, «бархатную кайму, которой [человек-футляр] обшивает
мир»151. Только преобладание основной поверхностно/глубинной
оппозиции заставляет воспринимать человека в футляре и
метафизическую невинность как полярные противоположности. На
этом основании как Фукидид, так и ван Пелт являются типажами
постмодерна, не понявшими природы разума, который нельзя
определить более точно или кратко, чем Джиллиан Роуз, - как риск.
Метафизическая невинность Кельвина МакКензи и либеральный
агностицизм Зигмунта Баумана - в сущности, выражения того же
бессильного, трусливого мироощущения постмодерна.
(II) Исследование случая Адольфа Эйхманна со стороны
Арендт - это не признание глубинно/поверхностной оппозиции,
как ван Пелт, похоже, думает; на самом деле это, возможно, наиболее
радикальное и широко применимое переворачивание этой
оппозиции, особенно в связи со смежной оппозицией энергии и инерции.
Эйхманн в Иерусалиме описывает законное столкновение, при
котором «глубина» протагониста и подсудимого вплетена в его вину
в качестве его тупости; скорее, его способность действовать без
размышлений настолько же зависела от внутренней рационализации,
как от выборочной амнезии. Этот текст далее я принципиально
буду иметь в виду в оставшейся части этой главы.
6. ЭЙХМАНН: ПРИМЕР ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ
Первый показатель невнятного представления Эйхманна, которое
было в большей степени вовлечено во все дело, чем вопрос о
выполнении явно преступных по природе приказов солдатом, - это идея, по-
177
явившаяся в ходе полицейской проверки, когда он внезапно с большим
энтузиазмом заявил, что прожил всю жизнь в согласии с кантовски-
ми моральными предписаниями и, в особенности, с кантовским
определением долга [...]. И ко всеобщему удивлению, Эйхманн
достаточно корректно подошел к определению категорического императива:
«Своей ремаркой о Канте я имел в виду, что принцип моей воли
всегда должен быть таковым, чтобы он мог стать принципом всеобщих
законов». [...]На следующие вопросы он отвечал, что читал кантов-
скую Критику практического разума.
Ханна Арендт. Эйхманн в Иерусалиме
Сообщение о банальности зла
История послевоенных представлений интеллектуалов об
Окончательном решении Гитлера - одна из тех, которые связаны «с
чудовищными открытиями» и «навязчивыми озарениями». Эти
метафизические инсайты всегда угрожают скорее затемнить, чем
пролить свет на ужас, бывший, вероятно, величайшим преступлением
столетия. Поддаться им - значит остаться в плену и, таким образом,
быть соучастником дешевого харизматизма, на котором режим
держался - под которым я подразумеваю культ личности, созданный
и столь успешно эксплуатируемый Гитлером. Харизма - это товар,
пользующийся спросом, продукт эстетизированной политической
структуры. В метафизическом смысле харизма - это сущностно
феноменальное свойство; она обладает в первую очередь
ассоциативным эффектом. Как кого-то соблазняет твердая личная внутренняя
убежденность другого, так образ жизни бросающегося в глаза и
последовательного морального аскетизма указывает на неоспоримую
и подлинную целостность. Харизма - это небрежно наброшенная
накидка, но такова и целостность и такова, как мы видели,
метафизическая легитимация.
Есть еще вердикт «экстремального зла», вынесенный
Эмилем Факенхеймом, но стоит ли обращаться к мистическому
объяснению его восхождения и успеха, жеста отчаяния и отказа от
обязанности интеллектуального участия в связи с феноменом
Третьего рейха? «Экстремальное зло» - это не столько
объяснение, сколько апология Гитлера. «Экстремальное зло» придает
гитлеровской харизме семиотическую трансцендентность, замещая
толкование буффером сентиментальности. «Экстремальное зло»
означает «абсолютно рациональное», а значит, «аутентичное»
178
и «последовательное»; откровения о «преступлениях против
человечности», совершенных нацистской Германией, вызывают
кризис самой рациональности, интеллектуально принеся дурную
славу понятию и желанию аутентичности и требуя отныне
отказа от любой претензии на глубину или обоснования действия на
основе исторических принципов или доказанной
последовательности его агентов.
Нет нужды в моем утверждении, что это пораженчество,
воплощенное ван Пелтом, и проявляется в сущности того, что называют
постмодернизмом; его основа - это смешение ценностей публичной
и частной сферы, неправильное представление о природе
целостности и - как я говорил ранее - неспособность правильно понять
смысл рациональности.
Тогда, во-первых, идея Факенхейма об «экстремальном зле»
эффективно переносит в публичную сферу ценности, принадлежащие
частной; тем самым она соответствует тоталитарной программе
подведения частного под общественное (или наоборот). В Третьем рейхе
понятие приватности было уничтожено; тоталитаризм - это
наигрубейшее и наиэкстремальнейшее представление процесса,
рассматривавшегося Арендт как унижение biospolitikos модернистским,
экономическим понятием общества. В нацистской Германии наиболее личный
и неизменный элемент из сферы необходимости, который поэтому не
имеет отношения к политическому существованию как таковому -
этническое происхождение - стало определяющим фактором для
статуса гражданства. (Это только один пример.) В области дискурса и
идеологии Третий рейх основан на массовой узурпации государственным
аппаратом концептов, связанных с аутентичностью, которые, однако,
могут адекватно существовать только как приватные. Моральная
прямота, внутренняя убежденность и добропорядочная
последовательность - обесцениваются, когда их публично провозглашают. Истина,
искренность, сама аутентичность (гитлеровская мечта о расово чистом
volkischer Staat* это только грубейший ее пример)153 и целостность -
архетипично внутренние ценности - были подхвачены и постоянно
провозглашались в 1930-е как надстроечная часть здания
гитлеровской Германии. «Экстремальное зло» подспудно признает эти
требования и капитулирует перед ними. Факенхейм и вслед за ним ван Пелт
одновременно наделяют нацизм рациональной последовательностью
и даже определенной мистической истиной и тем с необходимостью
вынуждают к уходу от понятий рациональности и истины per se.
* Нем. народное государство.
179
Так, во-вторых, столкновение Факенхейма с ужасом и «мерзкой
рациональностью» Аушвица отражает тревогу относительно
осознанной последовательности Третьего рейха, но которую
фактически можно объяснить инстинктивным жестом крайнего отвращения.
Это отвращение, внутренне совершенно защитное, есть
предпосылка, причем важная, раз не стала частью постмодернистской
«критики» рациональности. Этот вопрос о «последовательности» Гитлера,
возможно, более чем что-либо, приводит к интеллектуальному
оцепенению, характерному для постмодерна, самый типичный симптом
которого - это цинизм в различных формах. Конечно, на
определенном уровне программа Гитлера была совершенно
«последовательной», если под этим подразумевать «внутреннюю согласованность».
Определенно постоянство, с которым и «хорошие» и «плохие»
евреи преследовались - что подтверждает пример усердия Эйхман-
на, - удостоверяет, что Третий рейх действительно мог
похвастаться своего рода бессознательным постоянством. Это то постоянство
вместе с тем, что Факенхейм называет «космическим масштабом»,
по его мнению, возвышающим нацистскую идеологию до статуса
Weltanschauung, заслуживающего «уважения, даже благоговения»154.
В этом, однако, концепция Факенхейма о том, что соответствует или
нет структуре политического режима, покороблена; его взгляд
заражен ценностями того самого общества, которое он пытается (или
отказывается) анализировать. Начнем с того, что постоянство - это
не политическая добродетель, поскольку это одна из тех
характеристик (наряду с честностью или моральной скрупулезностью),
которые по самой своей природе не могут возникнуть в публичной
сфере в чистом виде. К тому же последовательность, особенно в этом
узком смысле «внутренней согласованности» (и это третий пункт),
не имеет положительной корреляции с рациональностью и, на самом
деле, основательно противопоставлена процессам зарождения
разума, как его определила Джиллиан Роуз, в терминах риска - как
опасная попытка выхода за существующие границы, дух, направленный
к прогрессу и будущему, в котором гегелевский момент чистой
негативности активно и рекурсивно конструктивен. «Жестокость»,
представленная определенной негативностью, в сущности, направлена
против интеграции, точно как это было у «дезинтегрированных»
фигур Рамо, Дэйзи Миллер или у «деструктивного характера» Вальтера
Беньямина, в отличие от протагониста Дидро, тупицы Уинтерборна
и «человека-футляра» из эссе Беньямина.
* Нем. мировоззрение.
180
Нацистская Германия фетишизировала глубину и была в плену
у идеи аутентичности. Сообщение Ханны Арендт о суде над
Адольфом Эйхманном выражает высшую степень того, как предмет ее
рассмотрения оказался пойман в ментальную ловушку между
поверхностью и глубиной, между явлением и истиной - более
точно, между очевидным доказательством его вины (факт, который
он признавал, хотя и неохотно) и аутентичным, скрытым зерном
человечности, зарытым глубоко внутри. На протяжении его
допроса полицией и последующего суда Эйхманн отступил от своей
непреодолимой озабоченности внутренним миром и стал привлекать
внимание к своему основательному чувству долга. Он неоднократно
пытался выяснить, возможно лишь ради собственного
удовлетворения, мотивы собственных действий, соблазняясь на оценки вроде
«вероломства» и «предательства», даже «вульгарности» -
особенно в отношении бывших коллег по режиму, - что казалось
непропорционально диким и высокомерным, потому что смешивало его
личные преступления и преступления режима. (Это, в частности,
так в той мере, в какой ценности «достоинства» и «благородства»
играли огромную роль в метафизической подоплеке
Окончательного решения.) Тогда «банальность» Адольфа Эйхманна, согласно
тезису Арендт, не противоположна его «глубине» и ни в коей мере не
снимает с него вины. Цель дальнейшего рассмотрения в том, чтобы
показать, как «глубина» Эйхманна, одновременно архетипически
«европейская», и протопостмодернистская фетишизация
аутентичности симптоматичны для бегства от истины, хоть и маскируются
как ее стяжательство. Глубина лежит в основе банальности
Эйхманна и банальности нацистского режима - что нисколько не отнимает
их дурной сути. Утяжелить политическую сферу ценностями, более
подходящими для религиозной или созерцательной жизни, -
ценностями, в сущности, относящимися к загробной жизни, как
противоположными тем, что исходят из последствий жизни здешней,
оправдываются последующим поколением - это значит ослабить
и воспрепятствовать эффективной работе bios politikos, имеющей
рабочее определение свободы (лучшее в политическом смысле
определение, чем любое другое) действия мужчин и женщин.
Интроспекция лучше сочетается с высшим смыслом метафизической
цели. Именно подобным образом дух немецкого народа был с
осознанной безжалостностью обращен вовнутрь.
181
Фатальная притягательность:
соблазнительность метафизики
Арендт написала о том, как, в частности, Гиммлер выдал
несколько броских фраз, к которым Эйхманн отсылает как к
«крылатым выражениям», призванным рационализировать экстерми-
нацию как трудную, хоть и необходимую и благородную задачу,
стоящую перед рейхом:
Примечательно [...], что Гиммлер даже едва пытался искать оправдания
в идеологических терминах, и если и делал это, то тут же про это забывал.
В умах этих людей, ставших убийцами, просто застряло представление о том,
что они вовлечены в нечто историческое, грандиозное, уникальное («великий
шанс, который выпадает раз в две тысячи лет»), что поэтому нелегко вынести.
Естественный инстинкт ужаса от причинения страданий был
направлен вовнутрь, в себя. «Так что вместо того, чтобы сказать: какой
ужасный вред я нанес людям! - убийцы могли сказать: какие
ужасные вещи я был вынужден наблюдать, выполняя свой долг, какая
тяжелая задача лежит на моих плечах!»155. В случае Эйхманна эта
рационализация приобрела особенно скандальную и, для
некоторых комментаторов, философски «раздробленную» форму, когда
Эйхманн заявил сначала во время допроса полицией и затем, под
давлением судьи Ятзака Равеха - на самом суде, что он всегда жил,
следуя кантовскому категорическому императиву. Что именно он
имел в виду как в отношении самого себя, так и
категорического императива, стало повесткой болезненных и в основном ничего
не проясняющих дебатов. У Эйхманна не было особой склонности
и интереса к метафизическим тонкостям; действительно ли он
читал Канта или нет, наблюдение Арендт о том, что в его версии
категорического императива - по меньшей мере в годы нацистского
режима - практический разум был замещен волей Фюрера, бесспорно.
Сам Эйхманн называл это чтение Канта нужным «для домашнего
использования маленьким человеком», фраза, которая прекрасно
отражает путаницу, имеющую место между проблемами
публичной и частной сфер в тоталитарных режимах; и в Третьем рейхе эта
путаница, как я уже говорил, достигла беспрецедентной степени.
С внешней стороны перед нами процесс эстетизации политики; при
тоталитаризме дела частной сферы - домашнее пространство
необходимости, но также пространство истины и созерцания -
политизированы. А дела политики, соответственно, трансцендированы.
Именно эта дешевая метафизическая осведомленность, в большей
степени, чем просто бюрократическое прилежание «немецкого ха-
182
рактера», ответственна за сотрудничество и капитуляцию перед
режимом немцев en masse*. Для Эйхманна это было метафизической
легитимацией, будто дарованной за щепетильное несение своего
долга, что в его глазах делало ее не просто смягчающим
обстоятельством, но самим оправданием его действий - это снова кафкианская
конструкция в той мере, в какой она переворачивает логический
порядок причины и следствия и становится тавтологической. Если
он был виновен - и Эйхманн постоянно подчеркивал свою
«внутреннюю готовность» все разгласить и принять полагающееся
наказание, - то вина заключалось не в продажности
коррумпированного чиновника и не в нарушении закона из корыстного интереса,
но в чем-то куда более великом: в эпохальной неудаче, соучастии
в преступлении целого общества, в том, что он был человеком своего
времени. Как указывает Арендт, у Эйхманна было множество
личных резонов не иметь претензий к евреям156; действительно, он не
был большим антисемитом и всерьез испытал некоторый
дискомфорт, когда ему напомнили о двух случаях, когда он заступился
один раз за полуеврейку кузину и другой, от имени своего дяди, за
еврейскую пару в Вене. Его преступления были совершены не
отдельно от его совести, а в связи с ней. «Всю свою жизнь я был
склонен к подчинению», говорил он следователю, «с раннего детства до
8 мая 1945-го - подчинение, которое в годы членства в СС стало
слепым и безусловным. Чего бы я достиг неповиновением? И кому
бы оно служило?»157 «Домашнее» использование Эйхманном Канта
наложило на его посредственную концепцию добродетели
отпечаток величественности.
Это бескомпромиссное отношение к исполнению своих обязанностей
убийцы сделало его проклятым в глазах судей более, чем что-либо еще, что
можно было понять, но в его собственных глазах это его оправдывало, как
будто однажды он заглушил голос совести, какая только у него могла быть.
Без сомнений, это доказывало, что он всегда действовал вразрез со своими
склонностями, как сентиментальными, так и продиктованными интересом, что
он всегда только выполнял свой «долг»158.
Эйхманн защищал себя, руководствуясь самой возвышенной,
метафизической и юридически неуместной основой: чистотой
своих глубинных мотивов - то есть своей абстрактной невинностью
как человеческого существа. Если тезис Ханны Арендт о
«банальности зла» в некоторой степени основывается на признании этого
заявления, помимо его проблематизации на судебном разбиратель-
* Фр. массово.
183
стве, то впечатление об Эйхманне как об «экстремальном зле» Фа-
кенхейма требует, чтобы он отбросил как ложь эту самозащиту
Эйхманна и взгляд Арендт на суд и саму экстерминацию. Факенхейм
сравнивает ее взгляд на Эйхманна с сартровским «классическим
пониманием антисемита как ничтожества, которое делает из себя
кого-то, возвышая свою мелкую злобу до статуса принципа: его
антисемитизм «безжалостный и чистый», а факт его «арийского»
происхождения считается добродетелью и заслугой»159. И Факенхейм
упоминает два инцидента, каждый из которых по отдельности был
бы достаточен, чтобы «опровергнуть» этот взгляд. Во время визита
в Аушвиц общеизвестно щепетильный Гиммлер остановился перед
горящей ямой и потребовал пару перчаток, чтобы бросить мертвое
тело в огонь. «Слава богу», - воскликнул он, - наконец и я сжег
еврея собственными руками». Другой эпизод произошел в зале суда
Иерусалима, где Эйхманн, думая, что его не видят, «ухмылялся»,
когда показывали фотографии его жертв. Это, говорит Факенхейм,
«леденит мозг и заставляет разум оцепенеть». Бессмысленная
фраза, которую он повторяет слово в слово через несколько страниц160.
Факенхейм здесь избегает аргументации или анализа, вместо этого
пытаясь усилить свою критику Арендт посредством риторики
отвращения. Его «инциденты», конечно, никак не подрывают тезис
Арендт о «банальности зла»; на самом деле они его в большей
степени укрепляют.
Эйхманн обладал устойчивой верой в собственную глубину; его
ответ на каждый из 15 пунктов, в которых он обвинялся, был «Не
виновен в предъявленном преступлении», чем он хотел оспорить
вывод, что он действовал на основе «базовых мотивов» и с ясным
пониманием преступности своих действий. «Что до базовых
мотивов», пишет Арендт,
он был совершенно уверен, что в глубине своего сердца не был тем, кого
сам называл innerer Schweinehund, грязным ублюдком; а что касается его
совести, он абсолютно хорошо помнил, что испытывал ее угрызения только тогда,
когда не выполнял приказы - с энтузиазмом и тщательным старанием
отправлять миллионы мужчин, женщин и детей на смерть161.
Это и есть тенденция к фетишизации глубины, вместе со злом
Адольфа Эйхманна, которое показано как банальное в
исследовании Арендт. В то время как Факенхейм верил, что Эйхманн был
абсолютным злом, тем самым повторяя путаницу, имевшую место
при показаниях Эйхманна, Арендт показывает, что концепт
«внутренней чистоты» совершенно не связан и с судебным процессом
184
(который даже более выраженно, чем политическая сфера, основан
на действии как противоположности намерения), и еще меньше со
сферой bios politikos. Политика, как она заключает в эпилоге книги,
это не ясли; какие бы ни были тайные мотивы у Эйхманна, он делал
то, что делал, так что неразумно ожидать от кого-либо желания
ходить с ним по одной земле. На этих основаниях он и был осужден
и наказан, и это те представления, которые судьям следовало
адресовать ответчику. «Вот разум», чревовещает она, «и это
единственный разум, за который стоит цепляться»162.
Внутренняя эмиграция: работа последовательности
В главе 1 я уже упоминал фразу «внутренняя эмиграция» в
связи с трениями XIX века между «немецким» рационализмом и
«еврейским» прагматизмом - контекст которой предлагает немного
другое, гораздо более заслуживающее доверия значение экстерми-
нации, чем предложенное Лаку-Лабартом - что «Бог фактически
умер в Аушвице - Бог иудео-христианского запада по меньшей
мере».163
Термин внутренняя эмиграция был впервые применен немецким
писателем экспрессионистом Фрэнком Тиессом в отношении
писателей, которые оставались в Германии с 1933 года, но не
связывали себя с нацистским режимом. В основном термин
использовался именно так; обсуждение в Христианских писателях внутренней
эмиграции X. Р. Клиенебергера, оценка, данная младшей группой
христианских писателей в 1930-х, не заметили иронии в ремарках
Арендт. Роберт Уистрич использует термин схожим образом и
пишет о Карле Шмитте: «В итоге он присоединился к «внутренней
эмиграции», но был прохладно принят за свою предшествующую
готовность придать интеллектуальную респектабельность
нацистскому режиму»164.
Взгляд Арендт на «внутреннюю эмиграцию», возможно, отчасти
происходит из собственного презрения Эйхманна к тем часто
высокоранговым чиновникам Третьего рейха, которые позже заявляли,
что всегда были против режима. Среди них был доктор Отто Брад-
фиш, член-основатель Einsatzgruppen (мобильных убойных
подразделений СС на востоке), под руководством которого было убито как
минимум пятнадцать тысяч евреев и который позже говорил
немецкому суду, что он всегда был «внутренне против» того, что он делал -
защита, успешная в той мере, в какой Брадфиш избежал
сравнительно мягкого приговора к десяти годам исправительных работ.
185
Как едко комментирует Арендт, «Вероятно, смерть пятнадцати
тысяч людей была ему необходима, чтобы обеспечить алиби в глазах
"истинных нацистов"»165.
Внутренняя эмиграция в устах Арендт всегда звучит в тонах
отстраненного неверия, выражает чувство отрешенности и черную
иронию. Сам термин, как она указывает, двусмыслен, и в Эйхманне
в Иерусалиме он имеет смысл долгое время спустя после того, как
она перестала говорить о самом феномене как о метафоре
массового ухода немецкого народа во «внутренние уголки отдельной души»
в годы правления Гитлера. Внутренняя эмиграция представляет
собой триумф самонаблюдения, возвышение
«немецко-христианского» образа жизни над «еврейским» прагматизмом - бога
Нового Завета и слова, согласно анализу Маршалла Бермана над богом
Старого Завета и дела. Внутренняя эмиграция и как логическое
следствие, и как коварная предпосылка экстерминации означает
господство vita contemplativa над vita activa - метафизический
триумф, иными словами, со скрытыми осязаемыми последствиями для
человечества, как мы видим ретроспективно. Внутренняя
эмиграция - это архетип фетишизации аутентичности, провала в глубину,
утраты свободы (как действия) и разума (как риска) среди
тревожной обеспокоенности поиском истины в себе и для себя.
Внутренняя эмиграция - это состояние политического и
интеллектуального паралича; ее буквальный предшественник - это не кто иной, как
составитель записок из подполья Достоевского, фигура, чье
возвышенное сознание и выраженное чувство целостности препятствует
всему, кроме «инерции, то есть сознательного отказа делать
что-либо»166. Бездействие - это проявление ненависти внутреннего
эмигранта к тем, кого он считает глупее себя. Внутренняя эмиграция -
это меланхолическая форма того, что я назвал «метафизической
невинностью»: снедающая зависть к тем, чья исключительная тупость
позволяет им действовать спонтанно.
Адольф Эйхманн не был внутренним эмигрантом;
действительно, он воплощает собой все, что презирает человек из подполья; его
деятельность произрастает прямо из тупости; он не что иное, как
«штифтик в органном вале» - «лист в вихре времени», как Арендт
его описывает; а его возвышенные идеи достоинства и благородства
основаны на самых бессмысленных сантиментах - он раб чистой
культуры и ее «законов». Кажется, Эйхманн подтверждает все
подозрения в отношении человечества, питаемые человеком из
подполья. Более значимо, однако, что Эйхманн подтверждает полную
186
дезинтеграцию оппозиции между поверхностью и глубиной как
модели человеческой субъективности - оппозиции, от которой
полностью зависит оправдание внутреннего эмигранта. В то же время он
не замечает коллапса, хотя является его радикальным воплощением.
Рассказчик Записок из подполья отличается от племянника Рамо
в той мере, в какой он сохраняет свою привязанность к оппозиции
поверхности/глубины - сохраняет фактически собственную
глубину. Пораженчество самоистязающего протагониста Достоевского
следует тому же слабому обоснованию, что и «непостижимость»
Факенхейма. Уяснение им бесполезности природы своей русской
последовательности не дотягивает до снятия самой оппозиции, ее
поддерживающей. «Да-с, только между нами самый отъявленный
подлец может быть совершенно и даже возвышенно честен в душе,
в то же время нисколько не переставая быть подлецом», - говорит
он об умных русских (в противоположность французским или
немецким) романтиках, к которым он причисляет и себя. «Оттого-то
у нас так и много "широких натур", которые даже при самом
последнем паденье никогда не теряют своего идеала; и хоть и пальцем не
пошевелят для идеала-то, хоть разбойники и воры отъявленные,
а все-таки до слез свой первоначальный идеал уважают и
необыкновенно в душе честны»168. Этот пассаж почти равнозначен
манифесту внутренней эмиграции, которая по определению представляет
собой отказ от любой политической активности; человек из
подполья, как кажется, держится за свое предполагаемое постоянство
как за подтверждение своего внутреннего превосходства над более
высоким по положению социальным окружением и миром в целом.
Как бы там ни было, Эйхманн демонстрирует, что тот же самый
феномен - «чистое сердце» - может одинаково относиться и к
посредственности, и к утонченному культурному человеку. Острое
чувство собственной последовательности Эйхманна действительно
мало отличается от того, что испытывает самоуглубленный
рассказчик Достоевского; его политическая неуместность просто более
очевидна вследствие бесславной истории обладателя - где же,
наоборот, политическое отражение деятельности внутреннего эмигранта?
Частное политическое мнение - это противоречие в терминах, что
разъясняется представленной Арендт vita activa. Урок, преподанный
Эйхманном в Иерусалиме, заключается не в том, что мир более не
имеет смысла, что сама рациональность повержена ужасом Аушви-
ца, а в том, что обремененность «культурой» и «постоянством»
совершенно не дают и никогда не подразумевали гуманное поведе-
187
ние - как и в том, что «культура» и «постоянство» могут
действовать лишь как идеологические маски, мешающие рациональности.
Ни Факенхейм, ни автор записок из подполья Достоевского из-за
сентиментальной привязанности к концепту постоянства не имеют
иного выбора, кроме как уйти в себя, сохранив себя «в хлопочках,
как ювелирную вещицу какую-нибудь, хотя бы, например, для
пользы того же "прекрасного и высокого"»169. Более политически
резонансный отклик свойственен племяннику Рамо - поместить себя
в публичное пространство, ассимилировать коллапс таких
оппозиций, как поверхность/глубина, и отложить заботу о подлинности во
имя политики, искусства возможного. Хотя о Рамо как герое Дидро
с трудом можно сказать как о «политически активном» в
буквальном смысле, метафорически он представляет сущность biospolitikos
своим полемическом отрицанием «объективной культуры» и своим
отказом ограничивать себя вопросами метафизических
размышлений или простой необходимости.
Сентиментальность: литература внутреннего мира
В отзыве о происхождении пьесы Дидро Жак-фаталист и его
хозяин Милан Кундера пишет, что предпочитает его Достоевскому,
как предпочитает рациональность сентиментальности. Для Кунде-
ры работы Дидро и Лоренса Стерна представляют упущенную
возможность новой формы в Европе, и «Тристрам Шенди» - одно из
«главных утраченных направлений». Достоевский, наоборот, - часть
основного течения, открытого Ричардсоном и последовательно
исследовавшегося Гете, Стендалем и Прустом; течения,
характеризующегося погружением в психологические мотивы и субъективные
тонкости; течения, ответственного, согласно некоторым
комментаторам, за «рождение» самого буржуазного субъекта в XVIII веке;
течения, имеющего отличительную черту среди повествовательной
реалистической традиции и, вероятно, заслуживающего
собственного названия: литературы внутреннего мира. «Сентиментальность
необходима для человека», пишет Кундера,
но ее характер сомнителен, когда она начинает восприниматься как
ценность в себе, как критерий истины или как оправдание определенной формы
поведения. Наиболее благородными национальными сантиментами всегда можно
оправдать отвратительные ужасы; человек с раздутой от лирического чувства
грудью может пойти на нижайшие поступки ради священного имени любви170.
Чтобы это проиллюстрировать, Кундера передает отношение
русских пехотинцев во время оккупации его родины Чехословакии
188
в 1968-м, отношение которых, говорит он, не было садистским; но
основывалось на архетипе наиболее возвышенной
сентиментальности: неразделенной любви. «Почему эти чехи (которых мы так
любим!) не хотят жить с нами и жить как мы? - чревовещает он. - Как
жаль, что мы должны использовать танки, чтобы научить их
природе любви!» Кажущееся извращенным представление, так
окарикатуренное Кундерой, имеет близкое сходство с процессом интериори-
зации, запущенным крылатыми словами пропагандиста Гиммлера.
Как указывает Арендт, убийцы гиммлеровского СС также не были
истинными садистами, но лишь людьми, для которых убийство
стало естественным, трудная задача стала возможной лишь благодаря
культивированию чувства эпохальной трансформации и пьянящей
исторической цели171. Вердикт «экстремального зла», вынесенный
относительно Эйхманна и нацистского режима - это
упадничество, безоговорочное и пораженческое в смысле интеллектуальной
ответственности в понимании этого процесса. Если книга Арендт
прибегает к аргументации, как говорит Факенхейм, в тоне иронии
и цинизма, рожденном в «клиническом отделении»172, то это
только в целях избежать альтернативы в виде статической реакции
интеллектуальной отстраненности, рожденной сентиментальностью;
трактовки событий как «ужасного сюрприза или неожиданного
ужаса», представленной Факенхеймом.
Что еще можно сказать об особенностях анализа Кундерой
европейского романа - идентификация двух литературных традиций:
одной - радикальной, игровой и рациональной, другой -
громоздкой, сентиментальной и реакционной; - его различие между
рациональностью и сентиментальностью совершенно конгруэнтно*
моему собственному анализу оппозиции энергии/глубины. Атмосфера
книг Достоевского, говорит Кундера, из разряда болезненной,
гнетущей сентиментальности - «мир, в котором сантимент поднят до
уровня ценности и истины»173. У Достоевского мужчины и
женщины становятся бессильны, сокрушенные метафизикой, ношей
трансцендентности, в которой выражен каждый проходящий сантимент.
Эта метафизическая рекурсия, которую мы видим у Достоевского,
выражает ко всему прочему страх жестокости - жестокости
действия, сигнификации, выражения, «письма», чистой негативности,
истории и прогресса.
«Внутренняя эмиграция» в смысле, в котором я говорил о ней,
подразумевает также и все это; за «глубиной» этого добровольного
* То есть соответствует. - Прим. пер.
189
сложного психического состояния скрывается просто склонность
к метафизике как увиливанию. Внутренняя эмиграция - это сделка -
с тоталитаризмом, с настоящим, «вещами, каковы они есть».
Кундера настаивает, что самоуглубление, которое культивирует
тоталитаризм и от которого он зависит, не имеет отношения к
«рациональности Декарта и Дидро, личное cogito которых сомневается
и вопрошает». Рассуждать о «тоталитарной рациональности»,
говорит он, значит говорить ни о чем ином, как «системе безличных
силлогизмов, созданных, чтобы скрыть голую иррациональность,
которая стремится к власти»174. Фразы Гиммлера создают такой
эффект - Арендт предлагает список некоторых его лозунгов, - но
одновременные фетишизация и отвращение к «реальной жизни»
антигероя Достоевского той же природы; таково его высокомерное
и неукротимое побуждение стать «некой беспрецедентной формой
человеческого существования»; и таков риторический вопрос,
который красной нитью проходит через Записки из подполья и до
последней страницы остается без ответа: «что лучше - дешевое счастье
или возвышенное страдание?»175
Благодаря своему отвращению к этой атмосфере внутреннего
мира, Кундера, кажется, сделал возможным роман как
политически радикальную форму - не ради того, чтобы сузить тематические
границы; не ради переосмысления его как драматической площадки
для выражения специфически политических целей; но только ради
того, чтобы постичь, что хорошее искусство необходимо и
неизбежно политично в той мере, в какой оно выносит себя за
существующие границы (например свои же), создает точку чистой
негативности и определенной аннигиляции настоящего и относится скорее
к поверхностной, расколотой натуре «деструктивного характера»,
чем к внутреннему миру «человека-футляра».
Позвольте мне заявить это в абсолютном смысле: ни один роман,
достойный этого названия, не может воспринимать мир всерьез. Более того: что
значит воспринимать мир всерьез? Это в точности означает следующее: верить,
что у мира есть наша вера. От Дон Кихота до Улисса роман посвящен вопросу
о том, что мир хочет оставить в нашей собственности176.
Кундера решил просто сбросить со счетов литературу
внутреннего мира как реактивную эстетическую форму; точно как Арендт
в целом относится с насмешкой ко всем послевоенным заявлениям
немецких граждан о том, что у них было, несмотря на видимость,
«внутреннее» или субъективное сопротивление. Оба феномена -
внутренняя эмиграция и литература внутреннего мира прямо ис-
190
пользуют свою двусмысленность; оба усиливаются за счет
замещения определенности неясностью. Заявление, что некто всегда был
«внутренне против» преступных действий, в которых он принимал
участие, правда или нет - даже если это участие было лишь
пассивным, на расстоянии - не должно иметь места в политическом или
судебном процессе, к которому имеют отношение только действия,
а не рационализации. Действительно, из «больших проблем» на
кону в суде над Эйхманном, говорит Арендт, уяснение общего
вопроса о криминальном намерении, подразумеваемом при решении
суда и приговоре Эйхманна, было одним из самых значимых, хотя
это едва признавалось как судьями, так и мировыми медиа,
обозревавшими процесс. «Нас интересует только то, что вы делали, а не
ваша, возможно, непреступная внутренняя природа и ваши мотивы
или располагающие к преступлениям обстоятельства»177. Таким,
говорит Арендт, были невысказанный посыл и единственно
возможное решение - наказание смертью, к которому был приговорен
Эйхманн, несмотря на ничтожный уровень интеллектуальной
вовлеченности в его действиях.
Если современная юриспруденция гордится тем, что берет в рас-
счет «субъективный фактор», то есть допущением, «что намерение
совершить дурное необходимо для признания преступления»178, это
сущностно относится к христианству и это метафизически
отделяет его от иудейской традиции. Для Кундеры момент, когда
христианство отделяется от иудаизма, - это первый раз, когда сантимент
становится возведен в ранг ценности, точка, на которой «критерий
истины [...] сдвинут из внешнего во внутреннее - в произвольное
пространство субъективности. Смутный сантимент любви («бог
любви» - христианские заповеди) замещает ясность закона
(иудейские заповеди) и становится неопределенным моральным
критерием»179. Современный цинизм, цинизм «просвещенного
ложного сознания» и внутренней эмиграции, цинизм, который выражен
интроспективной инерцией Достоевского и фетишистской
привязанностью человека-футляра к собственной глубине, настолько же,
насколько цинизм метафизической невинности - ревностное и
уверенное стремление к нерефлексивному существованию которой
я назвал «кельвинизмом», - в огромной степени зависит от этого
экзистенциального сдвига вовнутрь.
191
7. КРАТКИЙ ОБЗОР:
ПОЛИТИКА, ИНТРОСПЕКЦИЯ, ПОСТМОДЕРН
Адольфа Эйхманна вряд ли можно назвать циником, в любом
смысле слова; в его интеллекте отсутствует способность к
саморефлексии, необходимая для развития цинизма, в то время как его
сильное чувство долга совершенно исключает заботу об
интеллектуальной свободе, центральную для состояния ума современного
циника. Эйхманн воплощает, тем не менее, поиск субъективного
оправдания в глубоко скрытых глубинах и веру, которую для
модерна делает возможным такое оправдание. Если в Эйхманне эта
привязанность к глубине делает возможной рационализацию
чудовищной программы массовой депортации и массового
уничтожения, то в рассказчике из подполья Достоевского эта
фетишизация глубины производит чувство субъективного бессилия, паралич
воли, который политически (скорее, чем метафизически или
онтологически) мало отличается от извращенного применения
категорического императива Эйхманном. Инерция героя Достоевского,
другими словами, политически идентична неспособности Эйхманна
политически мыслить. Предлагая такую формулировку, я намерен
утвердить различие между политическим и философским
дискурсом, очерченное ранее, - между публичной и частной сферами, если
представить это иначе, и соответствующими действиями. В таких
политических обстоятельствах, как в Германии 1930-х, абуличе-
ское* состояние сознания человека из Подполья - это
патологическое проявление отказа от политики, который принимает форму
бегства от общественного в подлинность самости и может
поддерживать себя лишь посредством бездействия. Сущностно
ретроспективный концепт «внутренней эмиграции» - ретроспективный по
природе, потому что не может возникнуть в настоящем, - это
метафора политической инерции, следующей за фетишизацией
глубины, спутывающей проблемы частной и публичной жизни. В одной
и той же степени охваченность Эйхманна законами «чистой
культуры» - бегство от себя в мир - и страдающее, циничное бегство
внутреннего эмигранта от мира во внутренний мир души, где глубина
является большей ценностью, чем энергия, а подлинность большей,
чем действие. В политическом плане оба случая одинаково
бесполезны, и так как Эйхманн однозначно на стороне деспотизма, то это
* Греч, βουλή - воля, абсолютно безвольное.
192
значит, что этот модернистский цинизм принесет мало
политического успеха. Внутренней эмиграцией не достигается ничего, кроме
поддержания заветного внутреннего пламени, - и это еще в самом
лучшем случае. Современный цинизм, который Слотердайк
называет «просвещенным ложным сознанием», - это пример
логического следствия современной фетишизации глубины - бегство от
«жестокости» политической жизни и от «неаутентичности» мира, с
одной стороны, в пресыщенный релятивизм, который в циничном
или сентиментальном виде принимает форму «метафизической
невинности» и соответствующего плоского плюрализма, и с другой
стороны - в иронический солипсизм, который признает
исключительно суждения высоко разреженного концепта самости.
В рамках этих трех откликов целостность культуры
«постмодерна» может быть понята как атмосфера, при которой
ограничены физические стратегии, необходимые для выживания. В главе 1
я использовал термины «декаданс», «релятивизм» и «ирония»,
чтобы показать те примеры критической и эпистемологической утраты
веры в разум и истину, которую Гегель непреклонно называл
«универсальной». Краткость, с которой Гегель избавляется от этих
узнаваемых постмодернистских состояний в своем введении к
Феноменологии духа свидетельствует о его нефетишистском, утилитарном
отношении к лингвистическим структурам; его свободе от того,
что можно назвать только уникальным постмодернистским
беспорядком коммуникации - от невозможности успешно договориться
о расстоянии между означающим и означаемым.
Для Георга Зиммеля, пишущего в конце XIX века, деньги - это
отличное метафорическое средство для иллюстрации процесса,
называемого им «объектификацией культуры». Деньги, «чистейшая
форма орудия», - это пример средства par excellence, так как им
свойственна неопределенная множественная применимость и,
соответственно, нейтральность и бесцветность их самих - они
объективны по отношению к любым частным интересам и удалены от любой
особенной цели180. Однако как любое средство и в большей степени,
чем любое другое, деньги являются механизмом овеществления -
денежная ценность представляет отношения конкурирующих нужд
между двумя участниками в конкретной форме. Точно так же, как
государство или религиозные ритуалы легко начинают воплощать
в себе предельные моральные ценности скорее, чем быть
средствами, которыми ценности представлены, так денежным ценностям
часто свойственно значение, выходящее за пределы забот о дефи-
193
ците и необходимости товаров. Обладание деньгами, к тому же
подразумевает то, что Зиммель называет «незаработанным приростом
дохода», означающее, во-первых, преимущества «поверх
удовольствий, которые богач может купить за деньги» (такие как моральное
достоинство, часто подсознательно относимое к богатству, или
политические власть и влияние, нередко связанные с состоянием)181,
и во-вторых, внутреннюю выгоду, вырастающую из гибкости и
нейтральности денег. Так деньги превращаются из чистого средства
в самоцель. «Внутренняя полярность сущности денег заключена
в бытии абсолютным средством и, тем самым, становлении
психологически абсолютной целью для большинства людей»182.
Специфичная для постмодерна патология - это
распространение этого процесса на средства сигнификации как таковые. Теория
постмодерна обнаруживает себя в вязком болоте неразличимых
означающего и означаемого, тягучесть и неуправляемость которых
возрастает пропорционально уровню теоретической активности
внутри них. Теория постмодерна низводит означаемое к
означающему, чтобы затем настаивать на их различии. Теория постмодерна
простирается перед «чистой культурой»; это то состояние, на
которое Бодрийяр указывает как на «гиперреальность»:
Я имею в виду следующее: что задумывалось психологически и
ментально, что существовало на земле как метафора, как ментальный или
метафорический эпизод, отныне стало реальностью, безо всякой метафоры оказалось
в абсолютном пространстве симуляции183.
Здесь предметом Бодрийяра снова является технологическая
репродукция; но концепт гиперреальности применим и в гораздо
более широком смысле - а именно к тому, что Зиммель называет
триумфом объективной культуры над субъективной.
Если экономический обмен зависит от предполагаемой
эквивалентности, совмещенной с реальной неэквивалентностью, между
денежной стоимостью и объектом обмена (так как без этой
неэквивалентности никакой обмен невозможен), то лингвистический
обмен также основан на определенном соглашении - определенной
неадекватности означающего по отношению к означаемому и
определенной общей терпимости к этой неадекватности. В постмодерне
эта «неадекватность» неприемлема - «жестокость письма», - и
таков консенсус, необходимый для коммуникации. Цинизм в
постмодерне - это прямое или косвенное следствие завышения
ожиданий до такого уровня, на котором грубыми средствами никогда
не достичь необходимого благородства и величественности целей;
194
или, если объяснить это иначе, целостность и возвышенность
означаемого только искажается и портится означающим, которое его
представляет. Разрыв отношений между означающим и
означаемым нестерпим настолько, что беспочвенное и инструментальное
политическое пространство не равноценно обязательству
абсолютной честности и аутентичности, взятых на себя современными
политиками. Возвышенно обращаясь к «проблеме» британского
«национального цинизма», современные политики в действительности
выражают и поощряют цинизм внутренний, базирующийся на
разочарованности и «глубине». Тони Блэр - это первый политик
постмодерна именно из-за своего самосознающего ухода от реальной
политики. Его многократные реверансы аутентичности, его
риторическая демонизация самого политического дискурса,
персонификация им субъективной и предписанной нерешительности
представляют собой временные границы культурных и интеллектуальных
тревог последних сорока лет.
Фетишизация глубины парадоксально возникает как результат
чересчур рьяного подхалимства перед ценностями мира - тем, что
Гегель называет «законами» чистой культуры. Цинизм Рамо как
противоположный тому, что мы видим у Достоевского,
представляет марловианскую диспозицию «радикального бесчувствия»,
определенного необходимого безразличия к миру, посредством
которого можно до последнего противостоять триумфу объективной
культуры, ослаблению политической жизни и провалу в
меланхоличный цинизм «просвещенного ложного сознания». «Мы должны
смотреть за границы мирового процесса, если хотим мыслить»,
говорит Бодрийяр. «И тогда мы должны быть более индифферентны к
миру. Гипериндифферентны»ш. Цинизм в этом смысле совершенно
не современен: это не циничная эпоха. Скорее, цинизм - это
риторический шифр, проявление индивидуального волеизъявления,
прогрессивного исторического сознания в эпоху неустанного
позитивизма - в эпоху, в которую поношение «вещей как они есть» стало
культурно невыносимо.
Индивидуальное волеизъявление - это неотъемлемый закон
истории, как субъективно, как универсально, так и в качестве
самой истории. Он не был «деконструирован»; а если и был, это
имеет мало значения - определенно не имеет политического значения.
Деконструкция таких концептов - это антиполитический шаг, вы-
раженно намеренный жест вывода их из сферы возможного,
которой и является политика. Деконструкция косвенно формирует ме-
195
тафизический, почти мифический шаблон, которому мир не может
соответствовать. Это интеллектуальный архетип фетишизации
аутентичности, бегства от политики в метафизику. Деконструкция -
это пример своего рода возвышенного цинизма, одинаково
меланхоличного и пуританского, которому мировой цинизм
своевольной, навязчивой субъективности противостоит и мешает.
Этот последний есть дух, который Гегель называет
«радикальным скептицизмом» - скептицизмом, который направлен не
просто против общепринятой мудрости, но даже против своей
собственной системы мнений и предубеждений, «мудрости»
личной убежденности. Различие между меланхоличным цинизмом
«просвещенного ложного сознания» и «расколотым» цинизмом
Рамо - это различие между нигилистическим и продуктивным
скептицизмом. Гегель пишет:
Скептицизм, который заканчивается голой абстракцией небытия или
пустоты, не может уйти оттуда, но должен ждать, когда появится что-нибудь
новое, что он тоже бросит в эту пустую бездну. Но когда, с другой стороны,
результат ясен в своей истине, а именно как чистая негативность, то тем самым
немедленно поднимается новая форма, и в негативности происходит переход,
благодаря которому прогресс возвращается к себе благодаря завершению
череды своих форм185.
Дух Рамо для Гегеля есть сущность философского сознания.
Деконструкция при всей безжалостности своей критики, при всей
строгости к себе воспринимает мир всерьез, а значит, в сущности,
принадлежит «законам» чистой культуры - хорошего и плохого,
благородства и низости, природы и культуры, речи и письма,
сырого и приготовленного и т. д. - и ни на что не способна за пределами
этих законов. Cordon sanitaire деконструкции - ее настойчивость
относительно одновременно неотвратимости метафизики и
вездесущности сигнификации - это условие метафизической
необходимости, рамками которой ограничено все человеческое
существование. Это средство, благодаря которому она делает себя неуместной
и бессильной. Это наиболее метафизический из дискурсов, потому
что он a priory занят метафизикой; его критика метафизики,
проводимая с «точностью», «терпением» и прилежным усердием, служит
только «глубочайшему» увязанию в метафизике и дальнейшему
повышению всех критериев. Суждение, а затем и действие
становятся невозможными из-за деконструкции. Вывод же книги Дерри-
№ Другой заголовок, наоборот, в том, что политика возможна только
несмотря на деконструкцию186.
196
Если, как я утверждал, достижение знания и выражение истины
в постмодерне задавлены тревожной заботой об аутентичности, то
потому, что постмодернизм следовал логике, аналогичной
вышеприведенной. Политика всегда использовала метафизический
дискурс; метафизика, тем не менее, впоследствии проникла в
политическую сферу и сейчас стала центральным пунктом ее риторики.
Метафизические заботы воспроизводятся в современной политике
соглашательства, вдохновляемой лихорадочным и совершенно
неуместным чувством безотлагательности.
Это определение через истину настолько фундаментально
неверно понято, насколько ему предшествуют условности относительно
истины. Мучительная словесная мясорубка, которая
характеризует классические тексты теории постмодерна, находит себе
соответствие в установлении истины как чудовищной и невероятной
химеры в самом сердце политического предприятия. Концептуально
поместить истину в кавычки, к примеру, - это такая же
фетишизация и абсурд, как попытка изолировать ее от условий
собственной артикуляции. В этих двух реакциях постмодерн обнаруживает
себя как состояние беспрецедентной нелепости. Цинизм в данном
контексте, «просвещенный» цинизм в смысле Слотердайка, есть
изощренная альтернатива этой нелепости и стратегия ее
избегания, но для которой симптоматичны те же тревоги. Это фактически
стратегия изощренности, но она тянется ею вниз, жалкая и
политически бессильная. «Цинизм» племянника Рамо - это скорее отказ
ограничиваться какими-то пределами, идет ли речь о сигнифика-
ции, социальном статусе или экономической необходимости. Даже
унижение Рамо добровольно определяется, его достоинство зависит
исключительно от желания придавать ему значение или в момент
забыть о нем. Рамо победил сферу материальной и духовной
необходимости и тем самым представляет действие разума за пределами
этой сферы. Рамо воплощает разум как риск, дух, дерзающий выйти
за свои границы, храбрость и веру в будущее, основанные на одной
своей будущности, темпераментную готовность наплевать на мир
и за счет этого подтвердить собственную динамическую сущность.
Идея, что «лучше всех живет тот, у кого нет почтения перед
существованием», высказанная Ницше, лаконично выражает
отношение к «опасному настроению цинизма», которое возникает, когда
эпоха чрезмерно озабочена своей собственной историей и так же
не своевременна, как это было в 1874-м187. Бодрийяр пишет о
современности: «Только заплатив упадком жизни, неспособностью
197
получать удовольствие, неспособностью умереть, человек может
быть уверен в выживании»188. В той степени, в какой она склонна
к новому вследствие его новизны, динамика восприятия Рамо имеет
больше общего с модерном, чем постмодерном, который в
сущности формирует, как я доказывал на протяжении всей работы, провал
веры в само понятие и дух модерна. Постмодерн находит человека
неспособным жить из-за того, что жизнь - это притворство. В
высокоразреженной форме, превалирующее состояние ума в
постмодернизме - то свойственное внутреннему эмигранту, который
перемещает область своей политической активности из мира qua мир
к себе, точно как циничный субъект постмодерна размещает свой
локус аутентичности в закодированных и всецело подспудных
сериях рационализации, основанных на отказе от объективной
культуры qua объективной культуры.
Тогда в качестве противопоставления явному цинизму и
скуке постмодерна мои собственные инстинкты ведут меня в сторону
группы поверхностных сознаний, определяемых и представленных
следующими типами: «деструктивным характером» Вальтера Бень-
ямина, радикальной интенсивностью Кристофера Марлоу,
безрассудством Дэйзи Миллер, «литературой рациональности» Милана
Кундеры, разумом, определяемым через риск Джиллиан Роуз,
защитой Ханной Арендт радикализма как цели в себе и
«расколотым» цинизмом племянника Рамо. Это может выглядеть как набор
предписаний для изъятия сантимента из публичной и культурной
жизни и замены его бескомпромиссным рационализмом, или
циничным рационализмом. Но фактически фетишизация
аутентичности - вызывающая реакции, против которых направлена
настоящая работа, - является в сущности патологией сентиментальности.
Этот анализ требует определенного «взращивания» себя ради
сильнейшего погружения в мир, эмоционально и политически.
Сентиментальность как особая характеристика внутреннего эмигранта -
это механизм бегства от мира, средство самозащиты от
жестокости, связанной с процессом познания - под покровом признанных
культурных законов, размещенных в четко определенных складках
карикатуры. «Душевная истина» внутреннего эмигранта - это
иллюзия, являющаяся продуктом культуры, от которой он пытается
отделиться, так как воспринимает всерьез - даже более всерьез, чем
сама культура - ценности, законы объективной культуры. Цинизм
как восхождение на «гордую и одинокую высоту» ненавидящей мир
* Лат. как, где, для.
198
интроспекции - это позиция избыточной сентиментальности,
которая на самом деле не такая уж пренебрежительная и не такая уж
«глубокая». Зависть, которую она испытывает к «метафизической
невинности» - к тем, кто благоденствует благодаря своей «свободе»
от метафизических забот интеллектуалов, - это опять же признак ее
связи с ценностями мира. И метафизическая невинность, и
меланхоличный циник нуждаются в посредственности. Оба в
определенном смысле признают представление о мире, предлагаемое миром
в самом ходе отказа от него. Если альтернативный политический
отклик, представленный Рамо, патологизирован в постмодерне
как «цинизм», то цель моей книги в том, чтоб оспорить это мнение
и закрепить «цинизм» как негативный термин за меланхоличным,
углубленным в себя характером, который Слотердайк называет
«просвещенным ложным сознанием», и так подвергнуть сомнению
термины, под которыми постмодернистская «критика
рациональности» ослабляет политическое действие.
IV
Вера в себя и осознанная капитуляция
1. МЕЖДУ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И «ОДИНОКОЙ ВЫСОТОЙ»
...Этот способ существования в гордом одиночестве - печальная
ошибка. Люди, о которых я говорю, подобны петухам. Тот, кто
взгромождается на гордую и одинокую высоту, есть петух на шесте,
или подстреленный петух.
Герман Мелвилл. Мошенник1
Для нынешнего интеллектуала замкнутая изоляция - это
единственный способ показать определенную меру солидарности. Всякое
сотрудничество, всякое социальное взаимодействие и участие -
только маски, подразумевающие признание бесчеловечности.
Это человеческие страдания, которые необходимо должны быть
разделенными: мельчайший шаг к удовольствиям взращивает
будущую боль.
Теодор Адорно. Minima Moralia2
Страницей позже Адорно пишет:
Из затруднения нет выхода. Единственный возможный путь - это отказ от
ложного идеологического использования своей экзистенции, а в остальном,
в частном, вести себя скромно, непритязательно и не требовать слишком
многого, как и положено, не из-за хорошего воспитания, а из-за стыда, что у тебя
еще есть воздух, которым ты дышишь в этом-то аду.
Кажется, это вновь подтверждает позицию внутреннего
эмигранта, сам этот процесс ее отыскивания и, тем самым, внутренняя
эмиграция сдвигаются в новую ироническую область
экзистенциального одиночества. Позиция, типичная для текстов Адорно, особенно
Minima Moralia, где он озабочен - почти до патологической степени -
обязательством перед интеллектуальной последовательностью, в то
же время отчаиваясь ее достичь. Негативная диалектика, как
подразумевалось ранее, возможно, в наибольшей степени позволяет
понять философию бездействия под видом безостановочной погони
за целостностью. Негативная диалектика заключает в себе страх ин-
200
струментальной жестокости - именно этот страх заставляет Адорно
пойти против «позитивности» гегелевской диалектики.
Эстетическая теория Адорно, пишет Слотердайк,
находилась на пороге отвращения ко всему, к чему только можно. В
«практичном» мире едва находилось что-либо, что не причиняло бы боль или не
несло бы в себе подозрения в жестокости3.
Здесь я утверждаю, что столь беспощадное стремление к
целостности следует считать фетишизацией аутентичности;
причем Адорно в курсе опасности фетишизации и видит ее в провале
в неаутентичность через овеществление. Адорно также осведомлен
о необходимости какого-то дела и способа существования в мире
для «интеллектуала», имеющего политический вес. Хоркхаймер на
соседних страницах Диалектики просвещения ясно очерчивает
контуры интеллектуального напряжения, которое тревожит
политического мыслителя последовательности:
Интеллектуал, мышление которого не связано с какой-либо влиятельной
исторической силой, который не примыкает ни к одному из полюсов, к которым
тяготеет индустриальное общество, в особенной степени будет загнан в тень,
а у его мыслей не будет твердой почвы. Только мир твердых фактов
воспринимается как разумный. Далее все устроено так, что если кого-то вынесло на
обочину жизни, никто и пальцем не пошевелит, чтобы ему помочь. Выходит,
что все зависит от общества, и даже наиболее чистое мышление должно
считаться с основными социальными тенденциями, если не хочет скатиться к явной
фантазии4.
В Minima moralia, которую Адорно посвящает Хоркхаймеру, им
описывается циничный субъект модерна, фигура, которая не только
фетишизирует глубину, но которая оказалась в ловушке между
фетишизацией и презрением к уходу в интеллектуальную
самостийность. Это беспощадный текст, включающий в себя непрерывный
ряд расширенных афоризмов, относящихся к анализу
экзистенциального затруднения, стоящего перед искателем истины, желающим
прийти к «правильной жизни». Как разъясняется в книге Сьюзен
Бак-Морс о негативной диалектике, вера Адорно в возможность
занятия интеллектуальной практикой в отрыве от «культурной
индустрии» периодически испытывала кризис и была в любом случае
теоретически уязвима со стороны того, кто окончательно и
бесповоротно признает мир в той самой форме, от которой она
отказывалась. «В процессе следования своей внутренней логике»,
аналогично пишет Адорно, «музыка все больше и больше превращалась
из чего-то значимого во что-то неясное, даже для себя»5. Спасение,
201
однако, не находится в опьяняющих и усыпляющих
удовольствиях, предоставляемых «культурной индустрией»; в этом
отношении знаменитость ничем не лучше интеллектуала: «Знаменитости
в большинстве своем несчастны. Они становятся товарными
марками, чужими и непостижимыми для самих себя и, что доказывают
их жизни, будто мертвыми. В своем притязательном отношении к
собственной славе они расточают океан равнодушия, единственный
обладающий неисчерпаемостью»6. В Minima moralia дуальные
императивы философской и практической жизни представлены как
нерешаемая дилемма, фрустрирующая и делающая аномальной
возможность жизни в целостности:
Только тот, кто держит себя в некоторой мере чистым, обладает
достаточными отвращением, нервами, свободой и мобильностью, чтобы противостоять
миру, но только лишь благодаря иллюзии чистоты - потому что он живет как
«наблюдатель» - он позволяет миру победить не только внешне, но и в своих
внутренних мыслях. [...] Что бы интеллектуал ни делал - все неправильно. Он
стоит перед радикально и витально унизительным выбором, который
предоставляется капитализмом всем, кто от него зависит: стать более взрослым или
остаться ребенком7.
Так, как он пишет в другом месте, «само движение отдаления
несет в себе черты того, что отрицает. Оно вынуждено развивать
холодность, неотличимую от буржуазной»8. Неотличимую,
возможно, от той, что свойственна внутреннему эмигранту, холодность
которого, говорит Слотердайк со ссылкой на Эрнста Юнгера, «это
цена за пробуждение посреди ужаса»9. Как и возвышенный
интеллектуал, так и внутренний эмигрант стремится сохранить себя или
свою внутреннюю чистоту в первую очередь. Просто пробудиться
в подобном контексте - это акт пассивного соучастия в том, что
здесь представлено как неумолимость политической реальности
(«ужас»); непрошибаемый барьер, отделяющий мир во всей его
вульгарности от одинокого интеллектуала.
Слотердайк посвящает главу своей книги о цинизме
вопросу о внутренней эмиграции, которую он характеризует скорее
как «политическую альгодицею» - то есть как «метафизическую
интерпретацию боли, которая придает ей смысл»10. Слотердайк
описывает Юнгера вместе с Готтфридом Бенном как наиболее
известного среди писателей, которые продолжали работать и
публиковаться на протяжении войны, в высоко возвышенных, пылких
тонах - что резко контрастировало с большинством хронистов
периода.
202
Нейтральная позиция, занятая Юнгером в Париже [между 1940 и 1942],
похоже, в одинаковой мере происходит из достойной восхищения
объективности или отвратительной нехватки сочувствия и понимания мира
человеческого страдания. [...] Несомненное отсутствие гуманности характерно для
письма Юнгера: его корректность и хорошие манеры означают недостаток
воображения в большей степени, чем обычная невозмутимость11.
В мужестве Юнгера никогда не было сомнений, но он, кажется, также
демонстрирует свое стремление к отличию, стремление к элитарной, снобистской
изоляции, стремление сохранять иерархическую дистанцию [...]. [Вольфганг]
Эммерих описал мир [романа Юнгера На мраморных утесах] как не что иное,
как каллиграфическую, мистическую спасительную сферу «внутреннего», в то
время, как [Эбенхарт] Ламмерт говорит о dégagement* Юнгера - то есть
нежелании занимать стороны12.
Между тем в Литературе и обществе в Германии Рональда Тэйло-
ра описаниям Юнгера и особенно Бенна свойственна горькая,
интроспективная и вдобавок циничная характеристика, приписаны
усталость от людей и жизни в целом, неспособность и нежелание заявить
о себе политически в пагубное время 1920-х и 1930-х. Это люди, чья
политическая активность была, пожалуй, задушена интеллектуальным
эгоцентризмом. Энергия эссе Бенна 1920-х была энергией нигилизма,
говорит Тэйлор, «направлявшаяся одновременно силами его
внутренней индивидуальности и его ницшеанским взглядом на историю и
состояние общества». Он цитирует Альфреда Дёблина, описывающего
Бенна как «нигилиста, присягнувшего идти по стопам Ницше,
патологически слабого и закоренелого поклонника силы». «Дезинтеграция
разъедает его личную жизнь и жизнь его окружения», пишет Тэйлор,
«и, как и многие другие интеллектуалы, он искал средство для
восстановления утраченного единства»13. В то же время для Юнгера
«вульгарность» нацистской идеологии заключалась в том, что она в большей
степени, чем любое политическое стремление к тоталитаризму,
препятствовала его выраженной поддержке режима; действительно, призыв
к «тотальной мобилизации» индивидуальностей в интересах
государства был темой романа Юнгера Die totale mobilmachung 1931 года.
Неведение о руководстве со стороны партии проявляется как
недостаточное понимание «метафизики власти», вынуждающей его пестовать
свое очарование «витализмом» фашизма, а взамен оставаться
нетронутым, идя по «пути независимой, отрешенной и аристократической
дисциплины»14. В Юнгере, отмечает Тэйлор, слепая страсть и машине-
рия деспотизма сосуществуют с гордым стремлением к
самодостаточной индивидуальности.
* Нем. непринужденность, свобода, невовлеченность.
203
Слотердайк, с другой стороны, переосмысляет внутреннего
эмигранта как первопроходца, прокладывающего путь на передовой
линии истории, наемника, готового рискнуть своей самостью ради
эмпирического наблюдения. «Ужасы войны пожрали его душу»,
лирически размышляет он о Юнгере: «это панцирь, который
сохраняет его на холодной звезде, с которой его мертвое эго
наблюдает собственное выживание»15. Юнгер «мастерски владел
современным циническим мышлением, при котором поза хладнокровия
и чувствительная восприимчивость не исключают друг друга»16.
Поза хладнокровия и чувствительная восприимчивость, однако,
никогда не исключают друг друга и не бывают глубоко
несовместимыми. Бегство внутреннего эмигранта в «чувствительность»
и гиммлеровское внутреннее движение к ощущению высшей
метафизической цели в политическом смысле очень податливы.
Какой бы ни была «истина» Юнгера или любого так называемого
внутреннего эмигранта - а это несомненная истина, что мотивы их
поведения были сложными и разнообразными, так что многие из
них даже создавали очаровательные и ценные произведения
искусства, - факт в том, что ретроспективная защита «внутреннего
эмигранта» - это претензия на невинность на основе бездействия;
что внутренний эмигрант на собственных условиях выстраивает
выраженный отказ от политической вовлеченности ради более
привлекательных (и куда более безопасных) занятий уединенной
рефлексиейи поэтическимсамооправданием.Уходв одиночество-
это результат жалких импульсов: страха конфронтации,
громадного эгоизма, порожденного чувством ненадежности, неприятия
мирового несовершенства - и преобладания метафизического
чувства над политическим. «Взгляд, устремленный к звездам»,
как описывает Слотердайк форму «альгодицеи», проявившуюся
во время веймарских годов (1918-1933) - и такой действительно
была принципиальная активность немецких интеллектуалов во
время 1920-х и ранних 1930-х. Это, возможно, то самое, что имел
в виду Хоркхаймер, когда писал в Диалектике просвещения о духе
«умного превосходства», который был противоположен
человеческим интересам17. Презирая общепризнанно бурный мир
смешанных политических альянсов и противостояний в Германии 1920-х,
веймарские интеллектуалы уступали политическое пространство
предпочтительным фашистским и националистским
группировкам «политики как уличной жестокости»18 весь период,
предшествовавший электоральному триумфу Гитлера в 1933-м.
204
Внутренняя эмиграция, обращение к интроспекции перед
лицом особенно неизбежных политических вызовов - это вариация
на тему бегства в эстетическое или интеллектуальное одиночество.
Внутренняя эмиграция и одинокая высота свойственны
«последовательным людям», разделяющим две иллюзии: (I) что их презрение
к миру, в котором они вынуждены жить, более величественно и
точно, чем у кого бы то ни было вокруг них; что их стандарты выше,
чем те, что предлагает мир; и (II) что их глубина как субъектов
основательна и, несомненно, аутентична - слишком аутентична, чтобы
адекватно действовать в мире поверхностности. Внутренняя
эмиграция в строгом смысле необязательно является циничной
реакцией в качестве надменной позиции презрительной,
самооправдывающейся определенности. В этой последней главе это грандиозное
бегство, это величественное здание целостности сопоставляется со
своей противоположностью, разумной уживчивостью с социумом,
представленной здесь трезво мыслящим воспевателем
английского здравого смысла Г. К. Честертоном, «срединный путь» которого
разъясняется дискурсом полемического аристократизма. Полагаю,
что это легкое отступление приведет нас к соответствующему
выводу: к тому, что принципиальная цель Честертона, - это бегство от
мира, которое мы обнаружили в качестве сути реакции
«постмодерна», тщеславие, которое, по словам Гегеля, «бежит из универсума!»,
желая быть для себя и только для себя.
2. ЭКСКУРС ПО «СРЕДИННОМУ ПУТИ» Г. К. ЧЕСТЕРТОНА
Честертон пишет:
Издатель, который думает, что люди преуспели бы, если б верили в себя;
искатели сверхчеловека, которые всегда ищут его с увеличительным стеклом;
писатели, которые больше говорят о себе, чем живут для мира, - всех этих
людей лишь дюйм отделяет от ужасной пустоты. И вот когда замечательный мир
вокруг человека очерняется как ложь; когда друзья улетучиваются как
призраки и основы мира рушатся; когда человек не верит ни в кого и ни во что, один
в собственном кошмаре, тогда вокруг него с жестокой иронией должен быть
обрисован девиз великого индивидуализма. Только звезды будут мерцать во
тьме его разума; лицо его матери будет единственным образом,
нарисованным его безумием на стене своей тюрьмы. Но над его камерой должна быть
высечена ужасная истина: «Он верит в себя»19.
В дантовском Аду эти люди помещены в коридор ада, это те
одиночки, что «не бунтари, но и не принадлежат Богу», служат сами
205
себе, кого даже ад не примет из-за страха, что из-за них наказанные
станут высокомерными. Они осуждены маршировать под знаменем
бесцельности и бессмыслицы, их наказание - это состояние
отчаянного воззвания к всецело отрешенному, произвольному кредо20. Для
Честертона относящаяся к издателю непреднамеренная ремарка
о том, что «он человек, который в ладах с теми, [кто] верит в себя»,
стала поводом для написания книги Ортодоксия,
антифилософского случая «радикальности» христианской веры, также являющегося
прагматичным аргументом против рационализма - в угоду
мистицизму, наилучший вариант которого можно найти в христианстве,
особенно в Римской церкви. Ортодоксия выказывает высшую
враждебность своего автора к тем, кого он считает наиболее
невыносимыми человеческими типами, представленными Марком
Аврелием: бескорыстный эгоист, которым почитается соответствующий
бог - внутренний свет.
Христианство пришло в мир, в первую очередь для того, чтобы строго
заявить, что человек должен обращаться не только вовнутрь, но и вовне,
созерцать с изумлением и восторгом небесную команду и небесного капитана.
Радость от бытия христианином заключается в том, что человек не остается
наедине с Внутренним Светом, а познает Внешний, яркий как солнце, чистый как
луна, грозный как армия со знаменами21.
Ясно, что взгляд Честертона на христианство неортодоксален.
Он противопоставляет христианство не «еврейскому» прагматизму,
как делают Маршалл Берман и Милан Кундера, но «немецкой»
внутренней философии Ницше и Шопенгауэра, акцент которой на
индивидуальном «преодолении» приводит к бегству в солипсистскую
метафору, стратегию избегания «императива решения». Честертон
представляет христианство как локус здравого смысла, правды,
материальности, свободы, определяемой как действие, даже политики -
в противоположность сентиментальности, интроспекции,
спиритуализму, обожествлению vita contemplativa «эгоистами». «Никто не
спорит с тем, что он был возвышенным и убедительным
мыслителем», говорит Честертон о Ницше;
но он совсем не был так силен. Он, в целом, не был смелым. Он никогда не
думал заранее, до того как делал абстрактные заявления, в отличие от
Аристотеля или Кальвина, даже Карла Маркса, тяжеловесного, бесстрашного
человека мысли. [...] Ницше в действительности очень робкий мыслитель. Он даже
точно не знал, появление какого рода человека он хотел спровоцировать22.
Метафизическая перспектива Честертона, конечно, упускает из
виду взгляд в прошлое, на исторические события Третьего рейха,
206
когда часть богословов (особенно протестантских) определенно
поддержали нацистскую партию, так как «видели в нацизме
духовное возрождение после веймарского материализма»; на ощутимую
поддержку, которую получили после войны подозревавшиеся в
военных преступлениях от влиятельных лиц внутри католической
церкви - люди, вдохновленные, говорит Эрик Хобсбаум, «общей
ненавистью к просвещению XVIII века, Французской революции
и всему тому, что по мнению церкви оттуда происходит [...]»24. Так,
взгляд Честертона на христианство как действительно радикальный
и прогрессивный кажется эксцентричным, особенно в том смысле,
что христианская метафизика - основа субъективного концепта
внутреннего мира - была вплетена в тот громадный сдвиг вовнутрь
у немцев во время правления Гитлера. Сам Честертон, надо
сказать, недостаточно радикален в нашем смысле, поскольку далекий
от того, чтобы проявить хоть какое-то стремление разрушить мир
или его «законы», он скорее желает сохранить их в соответствии с
«установленным взглядом» - указанным им выше. Ортодоксия - на
самом деле невероятно статичный текст, который адресован миру
как неустанное стремление переутвердить его таким, каков он есть,
или таким, каким он должен быть. Он открыто отрицает понятие
прогресса - «метафору простой прогулки вдоль дороги», а с ним
и возможность недвусмысленной, чистой негативности; Честертон,
как он сам говорит, предпочитает слово «реформа», означающее, что
«мы видим определенную вещь неоформленной и придаем ей
форму»25. Ортодоксия - это, помимо прочего, расширенное искусство
«восприятия мира всерьез» в кундеровском смысле - искусство,
как мы могли бы сказать, скорее ответить на вопрос, чем поставить
под сомнение или разрушить сами термины, в которых вопрос
поставлен, - великое достижение Ницше, конечно, как и Дидро в Le
neveu de Rameau. Далее: понимание Честертоном Ницше предвзято
и определенно неадекватно всякой познавательной цели;
свойственное Ницше пренебрежение существованием - это не уход в
одиночество, как его видит Честертон, или проявление безразличия к
миру, но субъективная аннигиляция истории в целях
радикального погружения в нее. Таким образом, даже в Заратустре, тексте,
наиболее воспевающем «одиночество» и плодовитость художника,
молчание Ницше - это молчание «сверкания», а основательность,
как он говорит, скрывается за «прозрачностью»26.
Фактически у Честертона можно придраться к каждой детали.
Однако Ортодоксия - значимый текст по трем основным причинам:
207
(I) Честертон постоянно подчеркивает внешний, как
противоположный интроспективному, критерий действия. Он третирует
стоиков, представленных Марком Аврелием, чей «внутренний свет»
слишком сильно возвышает аскетический образ жизни над политическим
действием, столь же не уверен он в жизни ума - vita contemplativa -
как в механизме социальной или политической революции:
Рабочий на фабрике мистера Грандринда [...] совершенно успокаивается
революционной литературой. Он тих и знает свое место благодаря
непрерывному ряду исступленных философий. В один день он марксист, в другой -
ницшеанец, сверхчеловек - быть может, в третий; и каждый день - раб.
Единственная вещь, которая постоянна и независима от любой философии, - это
фабрика27.
Рефлексия, имеет в виду Честертон, ведет к релятивизации
наших идеалов, которая, наоборот, приводит к невозможности
политического участия; кто-то может важно заявить, что определенное
состояние дел реально невыносимо, но полагать, что в другой
культуре, на другой стадии «эволюционного процесса» например, такое
состояние дел может быть неизбежным и полностью
оправдываемым. «Как я могу осуждать человека за то, что он сдирает шкуру с
кошек», спрашивает Честертон, «если он только то, чем я могу стать
[живодером], выпив стакан молока? [...] Как я могу найти мужество
забрать лошадь из двуколки, когда точно не знаю, мое ли
эволюционное видение слишком скоро или у кучера слишком медленное?»28
Нет ни восстаний, ни даже правления; нет ни инноваций, ни
сохранения - вот что будет без «устоявшихся и разделяемых идеалов»,
говорит Честертон. Если он ошибочно утверждает веру во внешнюю
действенность христианства, то кто сказал, что это по меньшей мере
не без основания: а именно нетерпимости к потворствующему себе
«релятивизму» и «декадансу» fin de siede и политического
недоверия к эгоистическому созерцанию с одинокой высоты?
(II) Честертон постоянно подчеркивает свое соглашательство
с законами и формами представительства, в противоположность
тем, кто хотел бы от них освободиться; это те, кто вынуждает его к
отречению от и критике «анархизма» (который предстает в тексте
Честертона в курьезном образе поэта и драматурга Джона
Дэвидсона, дополненного, конечно, образом Ницше). Есть некоторое
пересечение между возражениями Честертона на анархизм и моим
анализом фетишизации аутентичности во главе 2. Что, похоже, заботит
Честертона, так это чувство культурного дискомфорта, вызванное
разделением структуры отношений означивания.
208
Анархизм требует, чтобы мы были смелыми плодотворными художниками
и не заботились о законах и границах. Но невозможно быть художником и не
заботиться о законах и границах. Искусство - это ограничение; сущность
каждой картины - это рама.
[Самый] принцип, которому следует любое творчество и сотворчество, -
это пролом, по меньшей мере в космосе, как эволюционный принцип,
произрастающий по принципу ветвления. Женщина теряет ребенка, даже имея
ребенка. Всякое создание - это отделение. Формально рождение такое же
отделение, как и смерть29.
Таким образом, Честертон не один раз утверждает идею соза-
висимости творчества и семиотической жестокости; он описывает
как беду своего века страх такой жестокости и определенным
путем следует за определением Ханны Арендт свободы как действия,
которое предполагает жестокость. В случае Честертона, конечно,
это «жестокость» ограничения и самопожертвования; его пример
«ограничений», которые существенны для всякого
художественного творчества - что никто не может вытянуться в жирафа, имея
короткую шею, - задействован как аргумент против художественной
смелости и оригинальности. «Искусство» понимается им только
как сравнительная дисциплина, связанная с прагматичным
выбором между существующими вариантами веры. И вновь
поражаешься столь статичной природе видения Честертона. Однако, возможно,
его позиция благородна и основательна: мотивирована отчаянием
от робости культуры, которая более чем загнала себя в угол
жестами аутентической загруженности, по всей видимости, желающей
беспрепятственно двигаться в сторону состояния универсального
и бессмысленного самоутверждения.
(III) Честертон постоянно подчеркивает важность радикализма,
свободного мышления, возможности не зависеть от
преобладающего социального климата. В эпоху неослабевающей модернизации,
стало быть, радикализм Честертона - это радикализм
консерватизма; в эпоху «полного неверия» радикализм Честертона выступает за
«постоянство» и «последовательность» чьей-либо веры. В этом
отношении он не признает современный скептицизм и ностальгирует
по «черно-белой эпохе» раннего XIX века, когда «вера практически
каждого человека была будто высечена в камне, без всякого
скептицизма». В скептике, говорит Честертон, «нет верности, поэтому он
никогда не может быть и подлинным революционером. Каждый раз,
когда он хочет провозгласить что-либо, на его пути встает тот факт,
что он во всем сомневается»30. Да будет зло сказано, что радикализм
209
как цель в себе неотделим от прогресса и модернизации; то, что
называет радикализмом Честертон, фактически является тем, что
принято считать методологическим «сомнением», направленным на
конкретное, которое наука допускает как не до конца
установленное; что радикализм Честертона совершенно банален - это процесс,
описанный Гегелем как «нерешительность относительно той или
этой предполагаемой истины, следующая к возвращению к этой
истине, после того как сомнение полностью рассеяно - так что в конце
процесса дело становится тем, чем оно было в начале»31. Вероятно,
Ортодоксия представляет собой упражнение в этой «научной»
форме скептицизма - рациональное сомнение в условной христианской
вере в порядок и, наконец, переутверждение этой веры. Где, мог бы
спросить кто-то, «радикальный» скептицизм истинного
философского мышления, разновидность которого «направлена против всей
области сознания в феноменах», которое приводит к «состоянию
отчаяния относительно всех так называемых естественных идеалов,
мыслей и мнений, независимо от того, высказаны ли они кем-то
непосредственно или кем-нибудь другим»?32 Действительно, в нем
нет и примеси духа Рамо, фигуры, чья «расколотость» проистекает
из осведомленности об абсолютной отчужденности и проявляется
в отказе принимать всерьез представления о мире, предлагаемые
объективной культурой. Честертон, кажется, действует на уровне,
который «циник» считает ничтожным, - на уровне гегелевского
«спокойного сознания», которое с честной открытостью адресует
себя трудностям мира, другими словами, не стремится проникнуть
за пределы простого знания в феноменах. Детали «радикализма»
Честертона столь же специфичны; к тому же приведет ли нас тот
факт, что он придает такое значение радикальному видению, к
ответу на вопрос о политической инерции недавнего времени? Если
нынешняя общественная подозрительность относительно истины,
«универсалий» - это симптом скорее тревоги, чем
интеллектуальной смелости, скорее охранительских, чем радикальных
инстинктов, не является ли самоуверенное здравомыслие Честертона
ключом к возрождению политической мужественности, сценой разрыва
с метафизическими заботами, нетерпимости по отношению к
интроспективному томлению? Если одинокая высота
интеллектуального «человека постоянства», постмодернистский уход в «иронию»
и меланхоличная культивация интроспективной
самодостаточности основаны на фетишистском придании идее «глубины» формы
аутентичной самости, не предлагает ли Честертон открыто модель
210
здорового вовлеченного отношения к миру, в то же время избегая
другой крайности - позиции метафизической невинности человека,
который упивается невежеством ввиду того, что оно избавляет от
метафизической и этической тревоги?
Честертон делает отчетливой тонкую грань между двумя
крайностями: нигилизмом и консерватизмом, интроспекцией и
экстраверсией, зубрежкой и действием, идеализмом и прагматизмом.
Красной нитью через всю Ортодоксию проходит идея «срединного
пути», которая столь же близка нам в конце века, как и «цинизм»,
который он осуждает:
Это понятно, что мы собираемся все больше и больше отдаляться от вещей:
не управлять лошадью; не срывать цветы. Периодически мы боимся даже
потревожить сознание человека аргументом; или потревожить сон птиц своим
кашлем. Крайним апофеозом мог бы стать абсолютно тихо сидящий человек,
не смеющий шелохнуться, чтобы не потревожить муху, и отказывающийся от
еды из-за боязни проглотить микроба. К столь пустому концу, как этот, мы,
вероятно, могли неосознанно двигаться. Но желаем ли мы столь пустого конца?
Похоже, что мы можем пойти по противоположному, или ницшеанскому, пути
развития - сверхчеловек, повергающий сверхчеловека в сплошных руинах
тирании, пока Вселенная не разорвется смеха ради. Но разве мы хотим,
чтобы Вселенная разорвалась смеха ради? Обе эти вещи - это не совсем то, на
что мы надеялись; нужно определенное количество сдержанности и уважения
и определенное количество энергии и мастерства.
Так Честертон смеется над бесхарактерной бездеятельностью
наряду с движением в сторону движимого эго нигилизма.
Вдобавок проложить тропу между ними двумя - значит само по себе
действовать с на редкость основательным вниманием. Значит, надо
подходить серьезно к этим двум возможностям, этому уровню
реальности, как если бы оставался единственно возможный выбор
где-то по линии проявлений чистой культуры. Честертона выдает
недостаточная твердость в своей склонности действовать
охранительски, но также и недостаточная восприимчивость. Его полемика
как таковая, энергичная и страстная, имеет в качестве своего
объекта химеру «ницшеанца» на пару с «толстовцем». Это просто
карикатура, продукты чистой культуры, в то время как ратовать за случай
радикального консерватизма, это ратовать за то, что история
закончилась; а это, как я доказываю на протяжении всей настоящей
работы, в действительности иррационально. Честертон с одобрением
цитирует речь одного из современных ему консервативных
политиков, лорда Хью Сесила, полагающего, что «эра изменений прошла,
и наша эра - это сохранение и покой»34. Так и апокалиптичный те-
211
зис «общества риска» Ульриха Бека лежит в основе
постмодернистской этики унижения, сформулированной Зигмунтом Бауманом.
Честертон видит источники опасности скорее в знании, чем в
невежестве, скорее в просвещении, чем в мистификации.
Модернизация имеет свои границы] Бек же пытается политически
справиться с этим «рефлексивным» поворотом современности посредством
системы институциональных проверок и ограничений,
направленных против действия любого рода - за исключением, надо сказать,
специфически политического поведения внутри политической
сферы как таковой. Решением Честертона является отказ от всякой
политики в угоду мистицизму; добровольное, прагматичное
возвращение к состоянию веры, заблуждения. Это затухание «веры»,
которым Честертон характеризует консерватизм эпохи; для всей
своей воинственности, риторики конфронтации и позы
самоназначенного инквизитора Честертон совершает вылазки вперед лишь к
внешним атрибутам радикализма, он сговорчивая овца в грозной
волчьей шкуре. В самом деле примечательно, что каждое замечание
о Честертоне, высказанное на предшествующих страницах, остается
в силе; далее: что его описание качеств, которыми должен обладать
революционер, предписывает консенсус - в форме компромисса
между энергией и сдержанностью, мастерством и уважением,
невежеством и интеллектом, поверхностностью и глубиной - это
преобладающая и близкая черта современной политической риторики.
1990-е были свидетелями эпидемии Честертонов, не желающих
действовать решительно или с каким-либо постоянным
убеждением и вместо этого прибегающих к бессмысленной и неинтересной
позитивности. Ко всему прочему современная политическая сфера
оперирует понятиями, перенесенными из самого поверхностного
представления о социальной реальности. Как мир Честертона
определяется крайностями «ницшеанца» и «толстовца», так для
Майкла Портилло, как и для Тони Блэра, фигура «циника» и ее внешнее
проявление как «релятивиста» нужны, чтобы вынести
непропорциональное количество полемического задора для поддержания
«национального уважения», необходимого нашим институтам
(Портилло) или «моральной жизненной цели» и «веры в общество»,
центральных для «социализма» Блэра. Это средний путь, ныне
предлагаемый модерном - или «модернизированными» -
лейбористской партией, однако остановимся на беглой и в то же время
прямой иллюстрации причуд, присущих позиции в духе Честертона.
212
3. ПАРОЧКА СОВРЕМЕННЫХ ЧЕСТЕРТОНОВ
Сели среди основных тем речи Тони Блэра 1994-го на
конференции лейбористской партии, как обсуждалось во 2-й главе, были де-
политизация, призыв к представительству «единой нации», замене
политики «ценностями» и акцентом на «разговоре на равных», то
в его речи 1995-го, кажется, была озвучена серия еще ярче
выраженных соглашательских позиций, вызвавших ощущение стагнации.
Возможно, менее заметное в связи с тем фактом, что речь
основывалась на риторике сотрясающего культуру радикализма. «Блэр»,
писал Генри Портер в Guardian летом перед конференцией, «не
идеолог, но так эффектно представлял политику, потому что он
зажегся всей страстью идеолога, представляя сцену за сценой, с
трогательным отступлением от радикализма, чтобы продолжать говорить
как респектабельный центрист, которым он является»35. Это стало
общим наблюдением; Портер цитирует высокопоставленного
лейбористского парламентария, сообщающего анонимно: «Тони делает
добродетель из позиции вне идеологии. Он делает добродетель из
компромисса: берет немного тэтчеризма, добавляет немного
лейборизма и идет вперед».
Речь Блэра 1995-го, которая как будто только подтверждает
выход из политической сферы, обозначенный за год до этого,
воспроизводит крайне статичное видение мира, которое мы
обнаруживаем в Ортодоксии Честертона. Его сообщение и это предполагаемое
«общество посредничества» - кратко возвещенное как
определяющая Большая новая идея лейбористской партии - это значит, все
должно быть таким, как должно быть, это так просто, как оно есть,
говорит он обнадеживающе:
Учителя должны быть по достоинству награждены. А если они не могут
делать свою работу - они не должны учить вовсе.
Начальники должны доказывать свои лидерские способности до того, как
будут назначены на начальственный пост. У родителей есть обязанности. Дети
делают домашнюю работу. Они не должны быть играющими прогульщиками.
И где они находятся - это забота не только школы, но и родителей. Мы
поддерживаем договоренности между домом и школой, в рамках которых школы
и родители совместно несут ответственность за детей30.
Этот пассаж имеет структурное соответствие речи в целом. Как
было сказано ранее, никто и не подвергал сомнению ничто из
риторики Блэра - ни его приверженность «стандартам» в
образовании, ни его желание, чтобы наши школы были «центрами отличия»,
213
ни его признание «потенциала» британцев или необходимость
скорее «развивать» потенциал, чем «пренебрегать» им, ни повторное
уверение в том, что лейбористская партия обещает лишь то, что
может выполнить, ни его пророчество о будущем Британии, в котором
«каждый имеет свою долю - и каждый играет роль». Как было
замечено во 2-й главе, видение Блэра бессодержательно и потому
аполитично, в той мере, в какой заменяет специфически политическое
универсальными ценностями. Что, однако, стало особенно ясно из
его речи 1995 года, это как статичен его взгляд, как «зафиксирован»
в терминах его признания «вещей, каковы они есть» и степень, в
которой риторика новых лейбористов поэтому закрыта, окончательна
и склонна к отказу от «прогресса», скрываясь под острым соусом
эпохальности. «Модель», к которой отсылает Блэр, не
определяется, по крайней мере открыто, ссылкой на Бога; здесь нет аллюзии к
христианству, хотя в нескольких случаях он применяет библейские
фразы («Будь тверд и мужествен», приказывает он своей партии
словами Бога, обращенными к Иисусу Навину; а также «Я сторож
брату моему. Я не пойду по другой стороне»)37. «Фиксированность»
его модели не вызывает сомнений; как и Честертон, Блэр видит
определенные бесформенные вещи, которым хочет придать форму -
процесс, который по определению подразумевает сопротивление
новым формам. «Мы организуем нашу образовательную систему
правильно», открыто заявляет Блэр. «Больше никаких догм.
Больше никаких споров об устройстве»38. Что в действительности
значит никакой больше политики. Да, «новые дела в наших классах»,
говорит Блэр. «Мы станем чемпионами стандартов XXI века».
Однако то, что дети должны делать домашнее задание, - столь же
политическое заявление, как то, что трава должна быть зеленой, а
собаки - лаять. Подобным образом жалованье, которым должен быть
«по достоинству» оплачен труд учителей или что только
подходящие люди должны предлагаться на руководящие посты, говорит
не более чем о том, что «вещи как таковые» должны быть такими,
какими им следует быть. Блэровская политика
«домашне-школьного договора», которая лелеет совместную ответственность за
детей со стороны родителей и школ - как и его «публично-частные
инициативы», а также новолейбористская политика закона и
порядка, как выражено рефреном «Жесткая реакция на преступление,
жесткая реакция на причины преступления», - подтверждает, далее,
что лейбористы есть партия среднего пути, пересоздавшая
политику как честертоновскую область христианского здравого смысла,
214
для которой характерны умеренность и большая идеологическая
предусмотрительность.
Политический стазис взгляда новых лейбористов скрыт под
поэтическим стремлением за технологическим горизонтом. Блэр
ворожил, вызывая образы из этой сферы:
Посмотрите на промышленность и бизнес. У нефтяной вышки есть
усталость металла; она может быть определена из офиса в Абердине.
Европейский бизнес придает окончательную форму делам с японским
благодаря синхронному переводу по телефонной линии и бесплатным звонкам.
Также и досуг. Виртуальная реальность позволяет посетить любое место в мире.
Компьютеры, которые знают детей и учат их, формируя курсы для их
личных нужд.
Эта попытка охватить процесс, фактически выходящий за
рамки политической сферы, представляет собой не более чем полную
уступку динамике социальной трансформации из политической
системы в мир науки и техники. Как полагает Ульрих Бек,
технологическая инновация - это форма неполитической социальной
трансформации; техноэкономическое развитие, говорит Бек,
представляет собой «субполитическую» сферу, которая демократически
не легитимирована, но действует автономно - «революция под
маской нормы». Поэтому для Бека рефлексивная модернизация - это
ситуация, когда потенциал структурирования общества перешел от
политических институтов к «субполитической системе научной,
технологической и экономической модернизации»39 - в которой
переход из одной социальной эпохи в другую имеет место
«ненамеренно и вне политики, минуя любые площадки для политических
решений, линии конфликта и узкопартийные противоречия»40.
В таком контексте кажется, что Тони Блэр не только подтверждает
диагноз Бека, но следует ему в каждой букве:
Правила ролевой игры в политиков и неполитиков полностью
перевернулись, в то время как внешняя видимость осталась, но стала призрачной.
Политикам должно быть объяснено, где они отклонились от плана и
сознательного руководства, - и объяснено теми, кто не знает ни того, ни другого и чьи
интересы направлены на нечто совершенно иное, но столь же недостижимое.
Тогда умело заняв позу затухающей веры в прогресс, они должны представить
путь в эту неизвестную альтернативную страну к избирателям, являющимся их
же изобретением, и если осторожно предположить, то лишь по одной
причине: потому что с самого начала не было и не осталось никакой альтернативы.
Неизбежность, неразрешимость технологического «прогресса» становятся
заслоном, мешающим процессу его демократической (не-)легитимации41.
215
Бек видит этот «переворот» - посредством которого «политики
становятся аполитичными, а неполитики - политичными» - как
неизбежный и бесспорный процесс, fait accompli, необходимое
следствие дезинтеграции индустриального общества и его
замещение современностью, «направленной против путей и
представлений классического индустриального порядка». Человечество,
говорит он, сейчас почти достигло «богоподобного» состояния в смысле
«господства над природой»42 и находится в условиях
беспрецедентной ответственности, так что впервые в истории риски всецело
зависят от человеческих решений. Риски, по словам Бека, становятся
«мотором самополитизации современности в индустриальном
обществе», в то время как решения, принимаемые политической
системой, все меньше соответствуют монументальным изменениям,
имеющим место в обществе. Бек жалуется, однако, не на «утрату»
политического, но на близорукую склонность ограничивать
понятие политики делами политической системы, какова она есть сейчас.
В более широком понимании Бека понятие политического может
быть расширено до всего «водоворота изменений, которые вполне
заслуживают названия "революционных"», - это тот же водоворот,
очевидно, которому отдает должное Тони Блэр в своей речи на
конференции. Пожалуй, дань Блэра, как и благожелательность Бека по
отношению к «сомнительному перевороту» политики и
неполитики, основательно реактивны - просто искренняя «дань уважения»,
не переходящая в настоящее политическое видение.
Технологический прогресс для Блэра находится в неразрывной связке с
прогрессом на политическом уровне. Всецело пустое одобрение Блэром
технологических изменений - пустое, поскольку, как указывает
Бек, прогресс это «структура внепарламентского действия»,
всецело нейтральная, не зависимая от легитимации или критики44, -
означает не просто отсутствие видения, но симптом реального
отказа от совершения политических изменений. Придавать столь
большое значение технологическим инновациям - значит
фетишизировать самое банальное проявление исторического прогресса, его
наипонятнейшее означающее, как если бы оно было вещью в себе, -
и таким образом, претендовать на его радикализм. Выбрав себя на
роль передовика технологической революции, Блэр только показал
себя как силу исторического застоя. Если, как замечает Бодрийяр,
акселерация объективной культуры производит ослабляющее или
замедляющее действие на субъективную культуру, на значение исто-
* Фр. свершившийся факт.
216
рии, тогда фетишизация означающего в форме технологии имеет
похожий аннулирующий эффект на уровне означаемого; история
как политический прогресс оказывается «завалена своим
непосредственным действием»45.
Бек сокрушается из-за ограничения понятия «политика» делами
парламентских институтов; сам же он, наоборот, повинен в
ограничении понятия «прогресс» сущностно частной сферой науки и
техники. Хотя он различает «технологический» и «социальный»
прогресс (часто им подразумевается, что технологическая инновация
сигнализирует о регрессе в смысле социальных «последствий»)46,
политический прогресс не является частью этого уравнения. Где
же арена для «свободы от необходимости», bios politikos в
аристотелевском смысле? Определенно не в сфере неизбежности, коей
является технологический прогресс, - но и не в предлагаемой Беком
«официальной» политике охранительства и самоограничения. Где
можно найти темперамент, готовый сокрушить мир и его «законы»,
дух племянника Рамо, который воплощает собой разум как риск, то,
что Арендт называет осуществлением радикализма как цели в себе?
И мы вновь не находим этого - ни в сфере технологической
инновации, являющейся формой политического «^вовлечения, так как
ее развитие поддерживается независимо от легитимации и
злословия, ни в бековской сфере «официальной» политики, которая как
таковая скована своим собственным «обессиливанием» в интересах
долгосрочного сохранения общества и человечества.
Бек находит обоснование для своего неполитического - или
«субполитического» - будущего: все выглядит так, будто человек
на индустриальном Западе существует в мире свободы от
необходимости; политический проект как таковой завершен, демократия
окончательно учреждена47. «Больше нет никакого доминантного
объективного принуждения», - заявляет он безрассудно;
следовательно, «мантия объективных принуждений должна быть
отброшена, и тогда интересы, точки зрения и возможности
должны быть сбалансированы»48. В таком случае эти представления
о предполагаемой аннигиляции или «снятии» различий между
политикой и неполитикой, публичным и частным существованием,
миром бизнеса, науки и политической системой представляют
собой новую конфигурацию, названную Беком «субполитической».
И Блэр, и большая часть современной политической системы, как
кажется, целиком вовлечены в это дело, в самом прямом смысле.
«Довольно странная, но вполне представимая опасность для пар-
217
тии», пишет Шарлотта Рэйвен, рассказывая о конференции
лейбористской партии для Observer,
что она может буквально вырасти из ее модернизации. Избавившись от
всех очевидных внутренних врагов, но оставив при себе импульс к
дальнейшей чистке, лейбористы оказались в курьезном тупике самообвинения. Из
свидетельства на конференции в этом году мы могли предусмотреть
будущее, когда количество партийных билетов будет единственным необходимым
свидетельством49.
Подтекст новолейбористской риторики в связи с принципом
«учрежденной демократии», провозглашенным Беком,
заключается в том, что идеологические дебаты были выиграны;
политическая сфера сейчас томится в состоянии общего консенсуса. Все, что
остается - это «микрополитические» заботы, которые
воодушевляют группировки прямого действия и «респектабельное» поведение
профессионалов и профессионалок, в частной же сфере - то, что
Бек называет новой сферой «субполитического». Этот характерный
сдвиг описывается Беком в терминах ухода от институциональной
политики, процесса индивидуализации, в котором, ибо
«определенности» индустриального общества распадаются, индивидуальности
должны взять на себя ответственность за свои жизни и
субъективные идентичности. Принятие решений вдохновляется огромной
экзистенциальной значимостью: «Чем бы мужчины и женщины ни
были, что бы ни думали и ни делали, формирует индивидуальность
индивидуума»50. Это то высокочувствительное состояние, в
котором действие постоянно отражается, а субъективность каждого
индивидуума полностью вплетена в его или ее решения, которое Бек
относит к «обществу риска»; кто-то может заметить, что
политическое действие в таком климате становится почти невозможным.
К тому же использовать слово «риск» в отношении всего лишь
экзистенциальных последствий такого действия кажется
мелодраматичным, даже невротичным, особенно учитывая смертельные
риски, которые вплетены в занятия политикой в других обществах
и эпохах. В постмодерне поэтому позиция «внутреннего эмигранта»
должна быть недвусмысленно увидена как нечто низкое и позорное,
проявление нехватки куража перед лицом политического
предписания разрушить мир или отвергнуть счета мира, предъявляемые
миром, враждовать с настоящим. Если «внутренняя эмиграция»
в контексте послевоенных немецких дебатов о вине и соучастии
имеет, как представляет это Арендт, «определенный сомнительный
привкус» и означает то, что ее смысл сущностно обскурантистский,
218
в постмодерне «внутренняя эмиграция» в таком сомнительном
смысле - преобладающая форма политического отречения.
Мое метафорическое использование термина здесь может
показаться театральным, определенным драматическим эксцессом.
Прибегать к сравнению между политической скукой постмодерна
и уходом от политической вовлеченности при тоталитаризме - это
риторически грубо, вероятно, и исторически наивно. Не могло бы
быть так, что разработку понятия «внутренняя эмиграция» в
настоящей работе пришлось прекратить как инструментальный
полемический маневр, а заодно попытку дискредитировать появление
новой политической конфигурации, неверную характеристику новой
политической деятельности как «невовлеченности», как бегство во
внутреннюю метафизику самости, нежели жизнеспособное
перемещение духа радикализма за пределы институциональное™, -
единственно приемлемый ответ на распад нормальной политической
системы?
Но и сам Бек использует метафору «внутренней эмиграции» со
ссылкой на субполитизацию; внутренняя эмиграция, кажется,
подразумевает он, это необходимость рефлексивной модернизации,
необходимая физическая стратегия, хотя она в данное время
находится в состоянии незавершенности. Индивидуальностям остается
только полностью реализовать момент политической
суверенности, выйти из-под контроля институтов, а затем войти в область
субполитического:
Индивидуальности [на Западе] все еще по-старому коммуницируют
и подвержены старым формам и институтам, но они также выходят из-под
их влияния и занимают новые ниши активности и идентичностей. Последнее
кажется таким неясным и непостоянным не в малой степени потому, что эта
внутренняя эмиграция часто имеет место наполовину от сердца, одной ногой,
что называется, в то время как вторая все еще твердо укоренена в старом
порядке51.
Бек сопротивляется предположению, что «индивидуализация»
означает невовлеченность или даже мотивирована «одряхлением
политики». Но делая так, он прямо противостоит дискурсу
«национального цинизма», при помощи которого институты демонизи-
руют то, что называется «электоратом хронических дезертиров»52;
политическая невовлеченность - это, как мы видели, повестка дня
современной политической системы. Попытаться придать новых
сил институту диалектической витальностью bios politikos,
подразумевает Бек, означает остаться в тавтологической зависимости
219
от идеи авторитета этого института - увязнуть в историческом
прецеденте, а следовательно, пренебречь радикальным требованием
готовности устранить существующие обстоятельства до конца, ради
нового блага.
Возможно, Бек правильно диагностировал как симптом
рефлексивной модернизации это историческое «усечение» принципов
парламентской демократии. Как объяснение современных социальных
и политических тревог в теории рефлексивной модернизации есть
по крайней мере четыре вещи, которые делают ее достойной
рекомендации: (I) Проведенное Беком различие между
индустриализацией и модернизацией позволяет сохранить последнюю наряду
с принципами рациональности, несмотря на саморастрату в
период индустриализации. Поэтому понятие постмодерна становится
совершенно ненужным. (II) Бек избегает фетишизации
аутентичности, настаивая на том, что это не разочарование в политической
системе толкает к переходу политической активности в область
«субполитического», но индивидуализация - результат
несомненного преобладания техно-экономического над политическими
влияниями на реалии человеческой жизни. (III) Тезис общества
риска Бека можно смело отделить от пессимистичной этики
унижения Зигмунта Баумана (совмещенной с политикой реакции) хотя
бы в силу его акцента на неотделимости политики от «действия».
Фактически Бек делает некоторую попытку дистанцироваться от
«мрачной как ночь» интерпретации Бауманом Общества риска:
«Тот, кто изображает мир как риск», пишет он, намекая на Баумана,
«в конце концов станет не способен к действию»53. Подтекст таков,
что Бауман недостаточно понимает «освободительный» потенциал
общества риска. Конечная логика индустриальной модернизации,
поверженной собственным «динамизмом ad absurdurn»,
приписывает беспрецедентную метафизическую свободу для
индивидуума, не вопреки, но как прямой результат его или ее отчуждения.
(IV) Рефлексивная модернизация поэтому основана на признании
важности индивидуального волеизъявления: действительно, в
отсутствие метафизических определенностей, или «внешних
признаков опасности», индивидуальное волеизъявление - это все.
Разновидность меланхоличной самоодержимости человека из подполья
Достоевского не охватывается тезисом общества риска Бека,
просто потому, что Бек понимает индивидуальное волеизъявление как
ношу, которая «присуждена» современным мужчинам и женщинам.
* Лат. до абсурда.
220
Не свободная сфера, как это было у Достоевского, подверглась
вторжению, демистификации и обессиливанию со стороны
индустриализации, но сфера действия была окончательно усилена
рефлексивной модернизацией.
Более того, modus operandi нового субполитического гражданина
Бека, для которого характерна «множественность противоречивых
занятий», кажется совершенно в одной тональности с радикальным,
«расколотым» восприятием, характерным для Рамо. Субполитика,
говорит Бек, означает мыслить и действовать «как правый и левый,
радикал и консерватор, демократ и недемократ, эколог и антиэколог,
политик и неполитик в одно и то же время. Быть немного
пессимистом, пассивистом, идеалистом и активистом»54. Все это
действительно кажется радикальным, пока не понимаешь, что цель такой
исключительной дезинтеграции не разделение, то есть динамизм во имя
политического развития, но самоограничение и избегание
конфликта во имя охранительства. Когда «медицина противостоит медицине,
ядерная физика - ядерной физике, генетика человека - генетике
человека, а информационные технологии - информационным
технологиям», тогда, говорит Бек, сможем ли мы по-настоящему понять
и предсказать будущее посредством институционального принципа
постоянной самокритики?55
Возможно, это правда, что политическая система, какой мы ее
знаем, прекратила существование, что индивидуальности en masse
перемещаются на обочину и что, следовательно, любая критика
деполитизирующей повестки дня есть только показатель
желчного пристрастия плевать против преобладающего культурного
ветра. Невозможно или по меньшей мере нелогично признавать этот
сдвиг, но только если не принимать скрытый тезис Бека о конце
модерна (который он протаскивает под обложкой «рефлексивной
модернизации»), «успеха», а потому завершения проекта
просвещения (к которому относится его нынешнее ослабление) и что
опасности, стоящие перед обществом, сейчас происходят только из самого
общества. Природа, говорит в итоге Бек, окончательно подчинена
и более не представляет значимой угрозы для человечества; так же
как и политика пришла к своей цели, достигнув конца, так и сам
модерн, в сущности, завершился, принужденный к забвению
собственных высокопарных экспансионистских принципов в попытке
предотвратить свое буквальное саморазрушение.
Для всех своих заявлений о сохранении модернизации внутри
концепта рефлексивности Бек фактически переосмысляет модер-
221
низацию как процесс самоограничения и консервации.
Рефлексивная модернизация - это убедительная риторическая уловка,
проходящая как теория прогрессивной эпохальной трансформации,
но в сущности - суеверная апокалиптическая паранойя,
невротическое желание затормозить разум как риск. Наконец, чем-то
совершенно близким теории рефлексивной модернизации является
избыток того, что Ницше называл историческим чувством, как если
бы Бек был парализован восприятием своим веком всех веков
предшествующих. Бек капитулирует перед очевидной истиной - которая
всегда очевидная - что мы живем в пятом акте пятиактовой
трагедии; рефлексивная модернизация - это теоретическое воплощение
этого убеждения, благосклонное к современному соглашательскому
политическому климату на основе одной его современности. Ход
истории становится для Бека неумолимым; политика - это сфера,
благосклонная к «автономным модернизационным процессам,
которые слепы и глухи к своим собственным действиям и угрозам»56;
это состояние и называется «обществом риска».
Приписать модернизации это чувство автономности, в то
время когда ее сущность основательно исследована, политически
реактивно и, более того, откровенно абсурдно. (1) Природные беды
происходят сейчас, как они всегда и происходили. Предположить
иное, значит расписаться в параноидальном психозе, извращенной
вариации того, что Ницше называл «предрассудком эпигонов»57.
Подтекст тезиса Бека о том, что впервые риски, которые угрожают
обществу, происходят из самого общества, сопоставимы с
предположением, распространенным в ранние годы эпидемии СПИДа,
что в основе болезни должна лежать тайная причина - в виде
индустриального или военного химического инцидента. Обманчивость
подобной идеи самоочевидна, за одним исключением; ее значимость
проистекает из указания на сдвиг в культурном понимании
реальности: далекий от того, чтобы быть сдвинутым со своей позиции
в центре мироздания постмодерном (как уверяет Фуко), человек,
как кажется, восстановился в той же самой позиции и получил
абсолютную власть благодаря теории рефлексивной модернизации.
(2) Устроенные человеком беды, результат человеческой халатности
или упущения, происходят сейчас, как и всегда они происходили.
Черная чума 1665-го или Великий пожар в Лондоне 1666-го
определенно попадают в категорию человеческих, так как
противоположны природным бедам - хотя все они в то же время истолковывались
как божий суд. (Анализ «общества риска» Беком, конечно, просто
222
переворачивает каждое «божественное» толкование как очередное
доказательство безответственности человечества и безрассудной
опрометчивости его «всемогущества».) (3) Риск всегда был
побочным продуктом технологических инноваций. Ядерная угроза сейчас
понятна - но лишь в той мере, в какой область методологических
интересов шире, чем когда бы то ни было. Если когда-то
уничтожение поселения вызвало бы истинный «апокалипсис» - риск стать
топливом в хозяйственных или индустриальных целях, то, чтобы
термин стал уместен в наши дни, понадобилось бы массовое
уничтожение целой нации или страны. (4) Природа, великая загадка, не
исследованная до сих пор, каковой она всегда и была, хотя
масштабы исследования сейчас изменились; галактики сменили
континенты в качестве нового предела исследования, субакватика сменила
географию, микробиология сменила биологию.
Здесь это не для указания на возрастание космологических
исследований или для рекомендации сделать доминирующим по
сравнению с «условными» энергетическими источниками
ядерный сектор, например; и, определенно не для того, чтобы доказать
отсутствие индустриальных рисков. Все, что я хочу сказать, это
банально: что предпосылки тезиса о рефлексивной модернизации
эмпирически неверны. В Обществе риска Бек хочет учредить
«новую» эру антирациональности, метафорическое бегство за стены,
которые скрывают непознаваемое, за пределы знания, знакомого,
настоящего. Это иррациональная стратегия, иррациональная
настолько же, насколько таковым был уход в Афины
малочисленного населения во время Пелопонесской войны, поскольку она
мотивирована страхом жестокости, которую испытывает сознание
на пути к истине, страхом перед самим разумом - разумом, надо
сказать, определяемым как риск. Борясь с и окончательно отменяя
термин «постмодернизм», Ульрих Бек делает именно то, чего не
следовало бы делать, то есть принимать всерьез либеральный
подтекст фигурального термина «постмодерн». Теория рефлексивной
модернизации - это логический вывод «осуществления»
постмодернизма, трансформации критической стратегии в
интерпретацию политической и социальной реальности. В рефлексивной
модернизации - вопреки уверениям Бека в противоположном -
модерн принужден закончиться, его проект завершен, по крайней
мере подошел к границам возможного. Бек дезавуирует термин
«постмодерн»; еще теория рефлексивной модернизации рисует
карикатуру теории постмодерна в милленаристском и апокалиптич-
223
ном духе, когда стремление понять разум становится
провозглашением его «коллапса».
Увидеть разум как разрушаемый или даже «ограниченный»,
значит неверно понять его скорее как нечто статичное и монолитное,
чем подвижное и динамичное. Разум не имеет пределов, уж точно
не тех, которые предположительно обнаружил Аушвиц (например),
а потому и не тех, что «открыл» Роберт Ян ван Пелт по ходу
своего «диалога» с Кэроллом Уиллиамом Вестфоллом. Разум, наоборот,
проекция самого мышления за пределами. Это отличие - ключевое
для настоящей работы.
Современная политика ослаблена наследием постмодернизма,
который «осуществился» в том смысле, что природа (и шире -
неравенство, несправедливость) были «побеждены» посредством
разреживания и очевидного пестования аутентичности, посредством
настоятельной необходимости бегства от жестокости или риска
жестокости в стремлении удержать настоящее. Рефлексивная
модернизация поэтому есть нормализация «иронического»
существования как политической конфигурации, предписанный уход
от «вымученных» предпосылок модерна, отмена прогресса и его
замена тем, что Ницше называл «хромой походкой»
самокопирующих эпигонов58. В рефлексивной модернизации, говорит Бек,
прогресс перестраивается как своя полная противоположность;
по-настоящему прогрессивен тот, кто хочет отбросить принципы
«классической» модернизации, модернизировать их в форму, более
подходящую для нашей пресыщенной эпохи: то есть уединенную
и самоограниченную. Сознание в обществе риска более не
подвергает себя опасности как на пути к знанию, вынося себя за
собственные пределы; скорее, сознание противостоит только самому себе, по
сценарию, который Гегель описывал как бегство от истины, бегство
из универсума. Требование радикализма Беком остается честерто-
новским предположением, что самая радикальная позиция может
в определенных обстоятельствах заключаться в запрете самого
радикализма. Современный писатель ни за что не согласиться с такой
возможностью.
Я утверждаю, что уход индивидуальностей на обочину является
не реакцией на вымученную логику индустриальной модернизации,
но результатом общего культурного недопонимания природы
политического вовлечения, чувства разочарования, проистекающего из
фетишизации аутентичности, отказа признать то, что
воспринимается как ложное и ненужное размышление политического предста-
224
вительства и ошибочная вера в то, что подобного
представительства можно избежать.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ЦИНИЗМ И ПОСТМОДЕРН
Несмотря на прилежание и искренние попытки лучших
теоретиков постмодернизма, похоже, вот чем он стал. Его
принципиальная характеристика - это бегство от и дезавуирование жестокости
репрезентации - одновременно политической и семиотической.
Далее: у этого в сущности позорного культурного явления есть три
аспекта: (I) культивация тупости (того, что я назвал кельвинизмом
или «метафизической невинностью») как средства обойти
«грубость» формирования идей в политической жизни; (II) обращение
к идее внутренней или субъективной «истине души», которая
выходит за пределы политической реальности наряду с формами
репрезентации. То и другое говорит о приверженности поверхностно/
глубинной модели субъективности, которая в каждом случае
понимается как фетишизация аутентичности, идет ли речь о том, чтоб
«остаться» на поверхности или уйти «вовнутрь»; (III) утрата веры
индивидуальностей и даже самих политиков не только в
политическую инфраструктуру, но и в само понятие политической
деятельности - здесь становится очевидно, что Тони Блэр, например,
больший «постмодернист», чем любой теоретик.
Должно быть совершенно ясно, что три этих реакции находятся
в приблизительно аналогичном отношении к архетипичным
формам, в которых сознание в состоянии тревоги избегает жестокости
чистой негативности и «старается удержать то, что опасается
потерять»59. В разных местах данной работы я использовал термины
«декаданс», «ирония» и «релятивизм», отсылая к ним как к
примерам эпистемологической растраты энергии, как к капитуляции
перед «вещами как они есть»; здесь было бы уместно напомнить
себе термины, в которых Гегель описывает проявления этого
бегства от истины. Сознание, говорит он, в решающий момент, когда
необходимо выйти за собственные границы, (I) «желает остаться
в состоянии инертного безмыслия»; (II) упивается собственным
пониманием, «которое знает, как разложить на части любую мысль
и всегда найти то же бесплодное эго вместо всякого содержания»;
(III) «укореняется в сентиментальности, которая уверяет нас в том,
что находит все прекрасным в своем роде»60. Постмодернизм,
переживаемый как социальное состояние, под которым я понимаю, что
225
серии критическо-теоретических стратегий достигли определенной
конкретной формы, которая легитимирует эти симптомы
культурной тревоги; постмодернизм поэтому становится синонимом
торможения, чувством культурной и политической законченности;
постмодернизм - это принципиальный двигатель того, что Бодрийяр
называет «иллюзией конца».
Ульрих Бек заявляет, что его социальная модель более
прогрессивна, так как избегает милленаристского «безумного посмешища»
постмодерна61. Фактически рефлексивная модернизация
представляет собой пассивное принятие постмодернизма, понимаемого
в этом «конкретном» смысле как конец модерна и распад
рациональности. Теория Бека целиком пронизана идеей «конца
политики» и перехода политической активности к социализированной
частной сфере; в Обществе риска он дает этому движению название
«субполитизация». В той мере, в какой политическая повестка дня
может быть различима среди риторического потока новых
лейбористов, она предстает в качестве отталкивания политики,
трансформации «политической» ответственности в этический императив
и, следовательно, включения ее в «инклюзивную» сферу социума
и сообщества. Политическая ответственность становится
индивидуальной и лишается своего сущностно политического характера.
«Революция Блэра» - это программа изменения не структурно,
но таким путем, когда индивидуальности проживают свои жизни
и осознают свои отношения с другими. Социализм для Тони Блэра
не имеет исключительно экономического или даже политического
значения, но формирует скорее «нравственную жизненную цель» -
совокупность ценностей, говорит он, веру в общество62.
Внутренняя эмиграция - это удачная метафора процесса депо-
литизации, во-первых, потому, что индивидуальная мораль
производит его или ее самооправдание не из действия, но из
внутренней рационализации, из прекрасно упорядоченной, но совершенно
неопределенной сферы человеческой мотивации. Моральное (как
противоположное политическому) действие законно не когда
эффективно, но когда честно и последовательно. Его политические
последствия полностью оправданы в той мере, в какой оно
инициировано добрыми намерениями. Как и «внутренняя эмиграция»,
следовательно, предложенная субполитическая сфера
оперирует в соответствии с двусмысленным критическим принципом,
характер которого основательно неполитичен: с субъективной
аутентичностью.
226
Во-вторых, суб- или деполитизация совмещена с
интроспективным движением, которым индивидуальности вдохновлены
«обращением к себе», одновременно, чтобы прямо выдвинуть на первый план
задачу морального возрождения и взять ответственность заново
установить стандарты истины и постоянства. Точно так же как выбор
индивидуальностями фетишизирующего отношения к аутентичности,
эта интериоризация напоминает массовое углубление во «внутренние
закоулки души» во время нацистского режима в Германии -
углубление, которое представляет беспрецедентное погружение в домашнюю
сферу и даже среду субъективности. «В политике нет ничего более
мучительного, чем рождение новой идеи», говорит своим делегатам
Блэр в духе Гиммлера. «Подобное рождение пронзает болью новое
общество действия», говорит Бек в то же время о «вражде», которая,
кажется, характеризует получающиеся субполитические
группировки на практике; он метафорично описывает эти группировки как
«собирательного слепого персонажа без трости или собаку без обоняния,
не способных определить, что правильно и важно в личном плане»63.
Подобные сантименты и сам по себе «упаднический» сдвиг
фундаментально неполитичны; истина формируется субъективно как дело
личной интуиции и честности, которым подчинены политические
заботы, в то время как момент жестокости, лежащий в основе всякого
истинного политического события, обращается против самого себя.
Вальтер Беньямин писал, что стоит знанию о латентной жестокости
в каждом легальном институте исчезнуть, как сразу последует
разложение этого института. При углублении во внутреннее, однако,
именно индивидуальности страдают от последствий отказа от жестокости.
Становятся необходимыми стратегии психической рационализации;
присущая гражданину воля противостоять политической
реальности замещается жалким посвящением себя тому, что Честертон в
насмешку называл «внутренним светом» представленному упрямой
верой Эйхманна в собственную честность.
В этой атмосфере консенсуса и интроспекции политический
темперамент может быть представлен только грубым,
антисоциальным цинизмом. Фигура, демонизированная современной
политической риторикой благодаря слову «циник», - это индивидуальность,
отказывающаяся быть «индивидуализированной», деструктивный
характер, лишенный внутреннего почтения к вещам, каковы они
есть, чье политическое постоянство заключается, помимо прочего,
в отсутствии почтения к постоянству и чей разум немыслим без
предрасположенности к риску.
227
Данная работа ратует не за «средний путь» между, например,
консерватизмом и радикализмом, поверхностностью и глубиной,
метафизикой и политикой, разумом и интуицией, позорным
отступлением и страстной увлеченностью или между аутентичностью
и сферой возможного. Также я не пытался подвергнуть эти
противоположности деконструкции - к примеру, найти каждый термин
скрытым в противоположном, так как метафизика подобной
критической процедуры, как я доказывал на протяжении всей работы,
с необходимостью, как cordon sanitaire, предохранит эту структуру
от политической вовлеченности. Деконструкция на этом основании
провоцирует собственную политическую маргинализацию;
политические соображения могут иметь небольшой или вовсе не иметь
эффекта на метафизическое значение деконструкции, которое
остается, должен сказать, очень весомым. Политика - это по
определению сфера радикализма, разума и риска, антагонизма и желания
разрушить настоящее положение вещей просто на основе его
существования, сфера, которой нет дела до последовательности и
аутентичности. Помимо прочего политическая осведомленность
заявляет чисто культурное происхождение концептуальных оппозиций,
перечисленных выше; в то время как метафизика озабочена этой
осведомленностью - не способна ни освободиться от самосознания,
которое сообщает ее, ни действовать на его основе.
Цинизм модерна или постмодерна это меланхоличное
состояние бегства от мира, от разума и от политики; оно проистекает из
преобладающей тенденции придавать чрезмерное значение
объективной культуре - то есть скорее фетишизирует современность,
чем рушит ее. Цинизм, сформулированный Слотердайком как
«просвещенное ложное сознание», принимает всерьез счета мира,
предъявляемые миром; вот почему нездоровая восприимчивость,
патологичность которой заключается в пораженчестве,
проявляется у тех защитников «среднего пути» (Зигмунта Баумана, Ульриха
Бека, Тони Блэра, Г. К. Честертона), политическая умеренность
которых основана в сущности на серьезном отношении к миру и его
«законам». Меланхоличная интроспекция - в одинаковой мере
черта героя Генри Джеймса Уинтерборна, как и архетипа
«человека-футляра» Вальтера Беньямина; действительно, самогложущее
чувство унижения - это ясная характеристика того, что Милан
Кундера относит к европейской литературной традиции
внутреннего мира, представленной, вероятно, par excellence, Записками из
подполья Достоевского.
228
Риторика политической умеренности - суб- или деполитизация -
и литература внутреннего мира тогда имеют очень много общего; для
всей своей лютой ненависти к «цинизму» политика «среднего пути»
совершенно неотделима от цинизма постмодерна, и наоборот.
Современное общество движется к культуре самоуглубления, в которую
перешла политическая индивидуальность, существовавшая в сфере
свободы от требований необходимости и озабоченности
метафизикой. Политическая витальность, которая разрушает объективную
культуру, мир, каков он есть, а также то, как мир сам себя
представляет, - представлена в характере племянника Рамо. Тревоги,
беспокоящие Бека, на редкость близки тем, что поражают автора записок
из подполья Достоевского: страх, что полное господство человека
над природой приведет или уже привело к изменению человеческой
активности, которая станет беспорядочной и «свободной», но уже
нежизнеспособной. Для Рамо подобная педантичность
иррациональна и мелодраматична и говорит о метафизической путанице.
Предварительное заключение данной работы может быть
сформулировано несколько абстрактно как необходимость освободить
политическую сферу от озабоченности метафизикой -
озабоченности, которая проявляется как уход вовнутрь, фетишизация
аутентичности и возведение экзистенциального принципа
неопределенности в принцип политического поведения. Поэтому экстраверсия
Рамо как политическая восприимчивость предпочтительна
сентиментальной интроспекции Достоевского - следствию попытки
жить политически как метафизически, контрастно
представляющейся плаксивой и жалкой рядом с неудержимым Рамо. Несмотря
на очевидную поляризацию, тем не менее это описание
политического характера, склонного к тщеславию, которому не чужд и
художественный гений метафизического видения, как философ должен
быть очарован политической энергией. Рамо на вопрос об
отсутствии собственных художественных амбиций сетует на явную
вульгарность своего социального существования, которая мешает столь
возвышенным устремлениям:
Но как всякий может почувствовать, что когда он поднимает свою мысль
к высоким вещам, мыслям и представлениям, если он вынужден жить среди
людей определенного сорта, среди произносимых и выслушиваемых слухов
наподобие этих: ах, как прекрасен был сегодня бульвар! Вы слышали маленького
сурка? Он так восхитительно выступал. У такого-то господина прекраснейшая
упряжка пятнистых серых, которую вы и не представляли. [...] И что же, вы
действительно думаете, что постоянное обсуждение подобных вещей может
вдохновить и привести к чему-то великому?65
229
Рамо действует на уровне глубины, одновременно несмотря на
и в той мере, в какой сам пребывает в вульгарной реальности.
Процесс активного погружения в объективную культуру - отказ от
позиции одинокой высоты, которая позволила бы миру
господствовать просто из-за «последовательности» человека, - то, что придает
Рамо эстетическую, равно как и политическую значимость.
«Цинизм» Рамо воплощает и подтверждает предположение, что самое
радикальное и экстремальное выражение отчуждения от мира - это
всегда движение к тотальному политическому вовлечению.
Адорно же так описывает дилемму интеллектуала, оказавшегося
между чисто рефлексивной бессмысленностью, замкнутым
существованием и рисками вовлечения:
Интеллектуал, особенно склонный к философии, отрезан от практической
жизни: отвращение к ней приводит его к так называемым умственным вещам.
[...] Он противостоит выбору информировать себя или отвернуться от объекта
своей ненависти. Если он выбирает первое, он причиняет себе боль, мыслит
отдельно от своих импульсов и вдобавок избегает погружения на уровень того,
с чем имеет дело, ибо экономика - это не шутка, и чтобы понять ее, надо
«мыслить экономически»00.
Однако быть способным действовать вразрез со своими
импульсами, подвергать себя жестокости, которую сознание причиняет себе
собственными руками на пути к знанию, - это и есть
характеристика политического мироощущения: это принципиальный показатель
того, что человек избавлен от чрезмерного почтения к
существованию (в форме абсолютной ценности субъективной аутентичности),
которое так ослабляет это самое существование. Наконец, озарение
Адорно о том, что метафизический поединок - «борьба с ангелом»,
как он его характеризует, сущностно и основательно не имеет
отношения к политике и лишний раз подтверждает верность
экстраверсии Рамо, подчеркивает заключение данной работы. О каких бы
«результатах» такого внутреннего столкновения ни шла речь, будь
это «категорический императив», одерживающий верх, или, к
примеру, «личностные права», участники сражения
как хорошие сыновья доказывают авторитет того, с чем считаются и во имя
чего реально разразилось сражение [...]. Но поединка не может быть без
судьи: поэтому им является все общество, интернализованное в
индивидуальности, которая одновременно наблюдает за битвой и принимает в ней участие67.
Общество, собственно говоря, создает условия и определяет
ставки столкновения, которое состоит не в чем ином, как в законах,
происходящих из мира чистой культуры. Дезинтегрированная ин-
230
дивидуальность Рамо, наоборот, стремится расколоть мир
объективной культуры; она представляет собой «абсолютное извращение
каждого закона и реалии»68 и, в атмосфере царящих
предосторожности и интроспекциими, должна проявить себя как воплощение
цинизма, духа жестокости и упадка.
Мое заключение поэтому зависит не просто от признания
сущностного различия между метафизическими заботами и
политическим существованием, но от признания момента жестокости,
с которой человек переходит от одного к другому, и от
необходимости этого момента для политической культуры. Для современного
общества характерен отказ от этой жестокости - как в политике,
в которой закрепилось убеждение о жестокости представительства
и антагонизма (а присущая политике готовность к
противостоянию и разрушению настоящего сменяется невротическим бегством
от политической вовлеченности per se), так и в большей степени
в культурном производстве, где модальности постмодернизма часто
служат оправданием для малодушной и реактивной работы.
Постмодернизм в итоге способствовал скорее бегству от истины,
чем ее аннигиляции. Его недруги виновны в этом не меньше
защитников - а может, и больше. Постмодерн будет тогда временным
забвением политических императивов рациональности, бегством
в застой и инерцию под видом стремления к истине и постоянству,
провалом политической вовлеченности под знаком «новой
честности» и отменой модерна - небрежным и безжизненным результатом
стремления сохранить его (никто не может, наконец, рассматривать
модерн как нечто, нуждающееся в сохранении). На мгновенье, во
время разговора с философом, Рамо смеется над своими
периодическими попытками «жить» метафизически, случаями, когда его
неутомимо политическая конституция явно оказывается
заброшенной в неизвестность:
Оставшись наедине, я беру перо и начинаю писать. Я кусаю ногти и тру
свой лоб. Ничего не делаю. Спокойная ночь. Бога нет. Я убеждаю себя, что
я гений, и в конце первой строчки понимаю, что я глупец, глупец, глупец09.
Отличное от попытки рассказчика Достоевского (жить
политически как метафизически) «осознание» Рамо, что он глупец, также
полностью противоположно тщетному заключению Достоевского,
что это интеллект человека из подполья ставит его в положение вне
мира, а значит, неспособности к действию - заключению, которое
просто оставляет его в тупике. Поражение Рамо, с другой стороны,
амбивалентно, и он с ним совершенно смиряется. Другим следстви-
231
ем отказа от политики ради метафизики была бы жертва «душевно
пустой привычке что-нибудь сказать, когда сказать нечего». И это,
как замечает Эрнест Димнет в своем вспомогательном
руководстве Искусство мышления, проявление наиболее возмутительного
из дискурсов: социальной коммуникации70. Современное общество
втянуто в бегство от политики и разума в «аутентичность» и ста-
зис, аналогичный минутному стремлению Рамо к возвышенному.
Однако оно скорее характеризуется «социальной коммуникацией»,
определенной Димнетом, чем политической реализацией ухода от
метафизики Рамо. Социальная коммуникация, как знала Ханна
Арендт, создает область заурядности, средний путь между
политикой и метафизикой, где признанные истины субстанциально
неопровержимы, консенсус занимает место прогрессивных изменений,
«объективная культура» доминирует, исключая всякий радикализм
и разрушение сущего.
Когда политика стремится перестроить себя в соответствии с
метафизическими предрассудками - чрезмерной культурной
одержимостью аутентичностью и постепенной капитуляцией
политики перед этой одержимостью - она совершает одну из двух вещей:
(I) осознает глупость и банальность предприятия и (как Рамо)
быстро прекращает попытку; или (II) продолжает глупость, занимаясь
разрежением и ослаблением своих собственных процессов до такой
степени, что действие, риск и даже высказывание, сама
политическая деятельность воспринимаются как жестокие действия -
слишком жестокие для эфемерной сферы, которой она хочет быть.
Современное общество идет последним путем, ожидая момента осознания,
который ускорит наступление первого пути. В то же время
концептуально расколотый, антагонистичный и пренебрежительный дух,
представленный «цинизмом» Рамо, кажется единственно разумной
политической позицией; именно она, следовательно, является тем
достойным примером, который я искал по ходу данной работы.
Послесловие
О политике, метафизике
и «политическом постмодерне»
В последнее время кажется, будто лучшие идеи функционируют, как
это установил Жак Деррида, «под стертым местом». Так что их
старые формы зачеркнуты, но их все еще можно прочесть, ибо у нас
нет других, альтернативных, лучших концептов, которыми их
можно заменить и которыми можно мыслить. В разных случаях,
похоже, есть одна вещь, о которой все наши разработчики темы
[героизма] говорят. Они постгероичны, или постутопичны, потому что они
пишут, так сказать, с другой стороны - темной стороны героизма,
идеализации и идентификации. Каждый осведомлен о пространстве
мышления и языка, которое было утверждено до того, как было
высказано что-либо полезное о предмете.
Стюарт Холл, 19961
Политика - это сильное и неторопливое бурение твердой породы.
Для нее одновременно необходимы страсть и предвидение.
Определенно весь опыт истории подтверждает истину: человек не
достиг бы возможного, если бы иногда не стремился к невозможному.
Но чтобы делать это, человек должен быть лидером, и не только
лидером, но также и героем, в самом прямом смысле слова. И даже те,
кто не является ни лидерами, ни героями, должны сделать свое
сердце твердым, так чтобы оно могло вынести потерю всякой надежды.
И это необходимо именно сейчас, иначе люди не смогут достигнуть
даже того, что еще возможно сегодня. Только у того есть призвание к
политике, кто уверен, что не погибнет, когда мир с его точки зрения
окажется слишком тупым или низменным для того, что он хочет
предложить. Только тот, кто перед лицом всего этого может
сказать «несмотря ни на что!», имеет призвание к политике.
МаксВебер, 19182
233
1. ТЕЗИС
отличие между метафизическими заботами и политической
деятельностью, выраженное как оппозиция между энергией и
глубиной, между невежеством и инерцией, является предпосылкой
периода, рассматриваемого в данной работе. Еще со времен
размышлений Платона об устройстве политической сферы в Государстве
политическая теория стремилась навести мосты над осознаваемой
пропастью, отделяющей практические политические проблемы от
созерцательных философских. По Платону, философ - это
идеальный правитель; философ имеет дело с «божественным порядком»,
и поэтому именно он будет обладать «характером покоя и
божественности», если кому-то это и суждено. Философ, говорит
Платон, «вынужден стараться утвердить нормы, которые он узрел там,
причем установить их не только для себя, но и привить людям в их
частной и публичной жизни». Истинный философ существует
в сфере, «не затронутой превратностями перемен и разложения».
«Его взгляд направлен на созерцание установленной и неизменной
реальности, в сферу, где нет несправедливости и страдания, но все -
разум и порядок» [...]3. Эфемерная природа призвания философа,
как его определяет Платон, наилучшим образом может быть понята
из разговора в 7-й книге о природе «истинной астрономии»,
отличной от простого наблюдения за небом:
Так как это беспокойное небо все еще остается частью видимого мира, нам
приходится почитать его как самую прекрасную и совершенную из видимых
вещей, но все же худшую, чем те истинные перевороты, что истинно быстры
и истинно медленны, существующие в истинном числе и в совершенно
истинных формах, соответствующих друг другу и всему, что они содержат: тому, что
поистине постижимо разумом и мыслью, но не зрением4.
В Государстве Платона философов, держащихся в стороне от
человеческих дел, следует убедить подражать наблюдаемому в
созерцании божественному образцу «во время работы по устроению
государства, своих сограждан и самих себя». Подходящая им забота -
это «область вечного», но ради общественного блага они
принуждены спуститься со своих одиноких высот испытать свою мудрость
(софию) в сфере практики. Идеальное политическое устройство,
следовательно, понимается Платоном как сфера, направляемая
созерцанием или подразумевающая его:
Ибо остаток своей жизни они по большей части посвятят философии,
когда придет это время, нужно будет обратить их к тяжкому делу политики в ка-
234
честве правителей в интересах общества, не ради их славы, а как вопрос
необходимости5.
Карл Поппер замечает, что Платон здесь придает новый смысл
термину «философ», означающему «любитель или провидец
божественного мира форм или идей»6. Появление Сократа на
философской сцене означает, как выражается Ханна Арендт, «разрыв между
знанием и деятельностью», момент, когда «люди мысли» и «люди
действия» разошлись; открытие bios theoretikos - бездеятельного
образа жизни, посвященного чисто созерцательному опыту вечных
истин, - как отличной от bios politikos, сферы дел человеческих7.
Область философии, надо сказать, была доведена Платоном и
Сократом до невиданной степени абстракции и возвышенности. Философ
был переосмыслен Платоном как метафизик, а политика
переформулирована как область вульгарной инструментальное™,
жестокости, сфера, испорченная «враждой и злобой».
Таким образом, Платон, говорит Арендт, «первый, кто провел
границу между теми, кто знает, но не действует, и теми, кто
действует, но не знает»; с этого момента и можно отсчитывать появление
отвратительной, взаимоисключающей оппозиции между энергией,
качеством, необходимым политику для деятельности в сфере
публичных забот, и глубиной, добродетелью философа, чьи цели вне
политики, кто совершенно самодостаточен в той степени, в какой
имеет дело с «истинным миром», постигаемым не зрением, но
действием разума и мышления (logos kai dianoia). Эта оппозиция, как
я повторял в предшествующих главах, центральная для понимания
тупика, в который зашла современная политика. «Энергия»,
катализатор технологического прогресса и модернизации, неотъемлемый
атрибут всего Нового Света и агент социальной трансформации,
но также и разновидность добровольного невежества относительно
этических вопросов и сомнений, связанных с моральной
«ответственностью». «Глубина», характеристика истории и историчности
традиции и памяти, - это ноша философов и метафизиков, и
воплощает принцип безразличия к мирским делам людей, благодарности
потомков и историческому признанию. Как метафизичная, глубина
является силой политического и исторического застоя. Перевод
метафизических забот в политическую сферу представляет собой не
применение философской «мудрости» на практике, но неуместную
попытку распространить на политическую сферу ценности, к
которым можно стремиться только в одиночестве, в «чистом
созерцании», в безмолвном диалоге человека с «собеседником, от которого
235
никуда не деться» - то есть с самим собой8. Это попытка
трансформировать политический путь в стезю «спасения души», как
называет ее Макс Вебер9; однако подобные попытки только хоронят
политическую активность под невротической культурной одержимостью
аутентичностью.
2. АНТИТЕЗИС
I 1олитический тупик постмодерна, принесенный «кризисом»
легитимации, состояние, к которому Эндрю Росс отсылает как к
«универсальной заброшенности»10, само по себе являющееся
универсальным диагнозом в той мере, в какой оно относится к
определенным высказываниям метафизической - космологической
или онтологической - природы. Бог мертв, повторяет он вслед за
Ницше. Центральное мирское утверждение просвещения -
достижимость равенства и универсального освобождения - само
является проблемой и как таковое зависит от тоталитарной,
неискоренимо инструментальной диалектики рациональности и прогресса.
Разум сам по себе, как уже отмечалось, не способен достичь истины
и даже просто результатов. «Истина как таковая означает здесь
нечто большее, чем результаты, достижимые посредством
неукоснительного следования основополагающим правилам неких данных
научных и политических игр. Они означают скорее результаты,
соответствующие истине и справедливости, каковы они есть на
самом деле, независимо от случайных историко-социальных
практик»11. Постмодерн в конечном итоге - это своеобразная
метафизика позднего XX века, и в этом весь его парадокс. Много
исследованный и много оплакиваемый, но ясный и неискоренимый факт, что
постмодерн сам является метанарративом; еще одно его свойство
заключается в том, что он предлагает идеологическую основу не для
политической активности, но скорее для противоположного, для ее
сдерживания.
Смею утверждать, что это потому, что «метафизика» постмодерна
имеет мало субстанции, иначе говоря, стремится к чему-то,
понимаемому как утраченное: возможности метафизической определенности.
Политическое воображение, определяющее природу современного
политического дискурса - это коллективное желание утверждения
истины, локуса недвусмысленного значения. Этому придается
значение только при рассеивании определенной постмодернистской
премудрости, согласно которой положен конец высказыванию уни-
236
версальных суждений. «Дать различие между логикой и риторикой,
к которой ведет критика постмодерна», пишет Шанталь Муфф,
суммируя и защищая эту постмодернистскую премудрость,
не означает «право силы» или впадение в нигилизм. Принять вместе
с Фуко, что не может быть абсолютного разрыва между законом и властью
(так как законность всегда относится к особому режиму истины, связанному
с властью), не означает, что мы не различаем в данном режиме истины
между теми, кто предпочитает стратегию аргументации и ее правила, и теми, кто
просто хочет навязать свою власть12 (курсив Тимоти Бьюза).
Утверждения, что больше нет возможности различать между
логикой и риторикой или между законом и властью, однако, лишь
вызывают ощущение метафизических заявлений. Размышление об
этих различиях - это вопрос метафизики. В политике всегда есть
различие между убедительной логикой и «дешевой» риторикой или
между общественно признанной легитимацией и вероломным
проявлением силы, и в каждом случае это определяется на основе
представительства. Добавив дополнение в виде специфического
(политического) контекста, в рамках которого эти различия не могут
быть отброшены, контекста, который она называет «данным
режимом истины», Муфф скрыто признает политическую бесполезность
метафизических операций, которые она описывала. Это
императивное риторическое движение представляет собой то, что я описывал
в настоящей работе как метафизический cordon sanitaire, действие
которого происходит преимущественно, возможно исключительно,
внутри теоретического дискурса, известного как «деконструкция».
Деконструкция, как я говорил, это наиболее метафизический из
дискурсов, так как он заключается во включении политики в
метафизику (и наоборот), то есть стремится сделать политику
метафизически безупречной, а метафизику политически безупречной -
вероятно, это тот деконструктивный маневр, который имплицитно
присутствует во всех работах Деррида. Так, деконструкция отрицает
свое понятие и как политической системы, и как критической
методологии или аналитической процедуры или даже просто «теории» -
отрицает также и каждую попытку отнести ее к сфере практических
забот. Деконструкция поддерживает свою метафизическую
целостность даже тогда и именно тогда, когда направляющие ее
культурные и политические означающие - «законы», используя термин
Гегеля, - представлены на ее метафизической арене. Однако
деконструкция в собственном смысле не делает ничего; ее политические
эффекты можно представить как предмет, который Спивак называ-
237
ет «невидимым стертым местом». Действовать, как будто нет
никакой разницы, говорит она, цитируя Деррида13. Только настаивая на
этом «невидимом стертом месте», Деррида подтверждает свою
метафизическую непогрешимость.
Это подверженность Деррида метафизике предполагает, что он
вписывает определенные слова буквально «в стертое место», как бы
отмечая их одновременные неточность и ненужность. На практике
эта стратегия принципиально применяется при спряжении глагола
«быть» в контексте предложения, которое может в другом случае
проявить неприемлемую онтологическую «жестокость». В то время
как стратегия sous rature случайно появляется лишь в ранних
текстах Деррида, она представляет графическое воплощение логики
следа - важного концепта во всех текстах Деррида, который он
объясняет в О грамматологии следующим образом:
Если слова и понятия получают значение только как следствия различий,
кто-либо может обосновать свой язык или свой выбор терминов лишь в рамках
топика [ориентации в пространстве] и исторической стратегии. Поэтому
обоснование никогда не может быть абсолютным и определяющим. Оно
соответствует расстановке сил и объясняет историческое приращение. Так [...]
определенное количество относимого к дискурсу нашего времени прогрессивно
навязывает мне этот выбор. Слово «след» само по себе должно отсылать [sic]
к определенному количеству современных дискурсов, чье воздействие я
должен принять во внимание. Это не значит, что я принимаю их всецело14.
Так Деррида, как и Муфф, признает категорическое отличие,
которое разграничивает дискурсивное и философское пространство,
занятое деконструкцией от «стратегической» (или политической)
сферы, в рамках которой язык используется «оправданно».
Подразумевается, что Деррида ищет «абсолютное и определяющее»
обоснование для своего выбора слов; и это не более значительно, чем
когда он говорит о своей работе. Стратегия sous rature, в форме ли
графической отметки вычеркивания или части вербально
рефлексивного синтаксиса, наиболее часто используется в утверждениях,
определяющих и разъясняющих задачи самой деконструкции.
Введя понятиеразличания (привожу почти случайный пример),
Деррида описывает, что понимает под вербальным sous rature:
Я хотел бы попробовать в определенной степени и даже думал в
принципе в последнем анализе, что это невозможно, и невозможно по существенным
причинам, собрать [...] различные направления, в которых я был способен
использовать то, что назвал словом или понятием различания, или скорее
позволить ему навязать себя мне, хотя, как мы увидим, различание - это не слово
и не понятие15 (курсив Тимоти Бьюза).
238
Помимо явной фальши последнего пункта, это утверждение
снова подтверждает существование cordon sanitaire Деррида,
высоко разреженного чувства, что его работа включает неотъемлемую
отстраненность от политики. Деконструкция - это наиболее
эфемерное из метафизических стремлений, потому что представляет,
в терминах Платона, логику сущностно бездеятельного созерцания.
Деконструкция мешает действию дезавуированием возможности
действия на ее основе. Политика и действие, как я уже говорил,
возможны только вне деконструкции.
Тем не менее политическая теория постмодерна представляет
собой попытку сформулировать политику на основе метафизических
предпосылок деконструкции. Политика постмодерна - это форма
прикладного созерцания. Хотя программа «радикальной
демократии» Эрнесто Лакло и Шанталь Муфф приветствует развитие
философии постмодерна как «незаменимого инструмента достижения
собственных целей»16. Если знание Муфф о cordon sanitaire кажется
противоречивым, то такова же и настойчивость Лакло на том, что
«изменения в онтологическом статусе освободительных
дискурсов и в общем метанарративов» выражены в «переходе из модерна
в постмодерн». Лакло разъясняет далее «специфический метанар-
ратив нашего века»: состояние «радикальной свободы»,
произрастающей из «безосновности» общества постмодерна, говорит он,
не признавая аномалии, заложенной в понятии метанарратива
«безосновности» или в этом онтологическом «распаде мифа об
основах»17. Политическая теория постмодерна, таким образом,
представляет собой «воплощение» постмодерна в форме
пробного применения его метафизических озарений, которые Деррида, к
его чести, никогда не применяет. Цена этого неприменения,
однако, ограничивание его работы профессиональной сферой чистой
метафизики. «Нарочитый смысл "бытия интеллектуалом", пишет
Зигмунт Бауман об этом классическом модернистском понятии, «в
том, чтобы выйти за пределы частных забот собственных
профессии или вида искусства и заняться глобальными вопросами истины,
справедливости и духа времени»18. Это то, что Деррида в своем
собственном понимании не пытается делать, и то, к чему политическая
теория постмодерна показала себя неспособной.
Моя цель при этой оценке Деррида, как я стремился подчеркнуть,
вовсе не в отрицании философского значения деконструкции.
Я, например, не использовал термины «метафизика» и
«метафизическое» в этой книге (особенно усиливая в теоретическом письме -
239
по большей части как результат влияния Деррида) как только
пейоративные*. Скорее, мои собственные выводы могут представлять
собой синтез дерридеанской метафизики и аристотелевской
политики, в котором метафизические предпосылки и политические
проблемы отнесены к совершенно разным сферам. Метафизики - надо
сказать, это термин, отнюдь не синонимичный «интеллектуалам»
или «философам» - по определению не способны внести полезный
вклад в дискуссию о политических проблемах. Деконструкция, по
словам Роберта Янга, стремится показать, что «нет ни одного
текста, политически определяемого таким образом, чтобы его умное
прочтение не могло показать, как он одновременно раскрывает
собственную стратегию»19.
Понятие политического, которое здесь отстаивалось, - это
сочетание определения политики Бисмарком как «искусства
возможного» и веберовского описания политического призвания как
«движения к невозможному». Политика занимает место между возможным
и невозможным. Кто-то мог бы сказать, что политика одновременно
неточна и непреложна, - но она к тому же, как я разъясню на
оставшихся страницах, не неточна и не непреложна, так как эти термины
усиливают оппозицию между энергией и глубиной, которая
политически только запутывает. Как вычеркивание, как бы там ни было,
семиотического различия между соответствующим и
непредставимым, пространства между практическим и метафизическим,
стратегия sous rature Деррида буквально вычеркивает политическое как
таковое.
3. СИНТЕЗ
Концептуализация политического «тупика» в форме
«неразрешимого противоречия» между невозможностью аутентичного,
с одной стороны, и неаутентичностью возможного - с другой,
просто повторяет, как я говорил, фальшивую, чисто культурную
оппозицию между энергией и глубиной. «Политический постмодерн»
представляет собой не только провал развития за пределы
концептуальной инфраструктуры, обозначенной Платоном в Государстве,
но не готовность даже понять, как это сделать. В книге, почти
современной Государству, однако, Аристотель осуществляет критику
платоновской оппозиции, которая будет полезной для понимания
* Лат. pejöräre — «ухудшать». Пейоративная оценка - негативно,
уничижительно характеризующая.
240
политической активности, которую настоящая работа стремится
поддерживать.
В своем обозрении Политики Аристотеля Дэвид Дж. Депью
описывает последствия этого бинарного отношения, которое
переутверждается в прямой оппозиции созерцания и действия в
Государстве Платона как «бесплодная диалектика условно
политического человека и аполитичного интеллектуала»20. Это происходит,
говорит Депью, из неспособности Платона понять, что созерцание
по существу активно, из аристотелевского обозрения, которое
имеет определенные аналогии с перспективой дестабилизации
оппозиции энергии/глубины в данной работе. Понятие «аполитичного
интеллектуала» возникает только при изобретении Сократом bios
theoretikos и его концептуализации как вершины человеческого
стремления. Для Платона поэтому идеальная политическая сфера,
управляемая как «неизбежная уступка» необходимостям
публичной жизни со стороны философов, это по определению один из
компромиссов, средний путь между аполитичным созерцанием и
требованиями политической реальности, порча философской «глубины»
с целью противодействия переизбытку политической «энергии»
и таким образом заодно ограничение действия. «Правильная
политическая жизнь», пишет Депью, «появляется [в Государстве]
как жизнь, которая сковывает действие: активность ремесленников
сковывается солдатами, активность солдат - философами, а сама
философская жизнь представляется бездеятельной, но по
существу предпочтительной, альтернативой покоренной и скованной,
инструментально правильной активности правления»21. Общество,
обрисованное здесь, недалеко ушло от модели «рефлексивной
модернизации», развитой Ульрихом Беком, где граждане должны
действовать «субполитически», умножая роли, в которых они
задействованы, равно как и способствуя состоянию постоянной
самокритики, направленной на сохранение общества от неизвестной
области будущего, перекрывая действие в настоящем и таким
образом минимизируя риск. И Платон, и Бек предлагают решение
усмотренной оппозиции энергии/глубины в форме среднего пути
между двух вариантов. Понятие Аристотеля о созерцании как
необходимо активном - отвергающем, следовательно, оппозицию между
энергией и глубиной, - подразумевает как классическое отношение
философии и политики, так и возможность и необходимость
формирования радикального политического мышления в современном
обществе.
241
В Никомаховой этике Аристотеля появляется подтверждение
дифференциации между Софией, или мудростью в широком смысле,
и phronesis, по-разному переводимым как «благоразумие» (Дж. А. К.
Томпсон), «практическая мудрость» (Депью), «этическое знание»
(Муфф) и «озарение» или «ценностное знание» (Арендт)22.
«Поэтому люди и называют Анаксагора и Фалеса и им подобных
мудрыми, но не благоразумными, когда видят, что те не ищут собственной
выгоды; и говорят, что их знание исключительно, восхитительно,
основательно и сверхъестественно, но бесполезно, так как задачи
их поисков не в человеческих благах»23. Phronesis как политическая
наука, похоже, учреждает политику как «мелкую» сферу чисто
инструментального разума, совершенно отдельную от сферы
незаинтересованного, интуитивного или «чистого» разума, который
Платон называет нус, но phronesis был принят, по большей части Лакло
и Муфф, как «деконструктивный концепт», символический термин
для формулирования «политического постмодерна», который они
стремились развивать в Гегемонии и социалистической стратегии.
Phronesis - это модус рациональности, соответствующий
политической сфере, так как он относится к человеку, в отличие от
божественного блага; к вещам, которые можно обсуждать, в отличие от
вещей, о которых можно лишь размышлять; к делам человеческого
руководства и контроля, в отличие от вещей вечного, то есть
неизбежного, значения. Phronesis также переносит платоновскую
оппозицию (разработанную в 5-й книге Государства) между episteme
и doxa, теоретическим «знанием» как противоположным просто
«мнению» или «верованию». Phronesis одновременно связано с
общим и частным, но с последним в особенности, ибо управляет
«своей сферой в особенных обстоятельствах. Поэтому некоторые люди,
которые не обладают [теоретическим] знанием, более эффективны
в действии (особенно если у них есть опыт), чем другие, которые им
обладают»24. Хотя phronesis не стремится учредить истины
вечного - метафизического или очевидного - характера, но скорее более
легкие, преходящие истины, связанные с разнообразными и даже
изменчивыми делами людей, это не значит заявить, что phronesis
принадлежит условию, при котором универсальные концепты
смысла «стали излишними» или что политические истины стали хоть на
йоту менее (или более) ценными, чем постоянные, аксиоматичные
истины метафизического или теоретического знания. Отношение
между общим и частным - это не дело благоразумного
рассмотрения; это не что-то обсуждаемое и этому не место на политических
242
дебатах - более того, это нельзя понять в рамках политической
сферы как таковой. Вопрос об отношении между общим и частным -
это сущностно статичное размышление, так как его «истины» не
подвержены изменению или модификации как результатам
человеческой активности.
Лакло и Муфф понимают phronesis немного по-разному. «Это
"этическое знание", отличное от знания, свойственного наукам
(episteme)», пишет Муфф, «зависит от этоса, культурных и
исторических условий, свойственных сообществу и подразумевающих
провозглашение общей претензии на универсальность»25. Это, как
я имел в виду выше, метафизическая позиция, и она сообщается
в очень малой степени, вплоть до полной несхожести с
возможностью создания соответствующей политической программы. Лакло
и Муфф свойственна постоянная забота относительно «излучений»
нигилизма и релятивизма, которые начинают прокладывать дорогу
к распаду больших нарративов. Они постоянно подчеркивают, что
«забвение мифа об основах не ведет к нигилизму»; Лакло указывает
скорее на «пролиферацию* дискурсивных интервенций и
аргументов, необходимую потому, что не существует экстрадискурсивной
реальности, которую дискурс мог бы легко выразить»26. Однако
никто не может предписать «пролиферацию дискурсов» в
политической сфере без того, чтоб каждый из них не стал политически
невозможным. Точно так же никто не может заявить предположение
об отсутствии экстрадискурсивной реальности без того, чтоб его
утверждение не стало метафизически неуместным. Лакло и Муфф
в попытке избежать эту западню откровенно размещают свой
дискурс «на срединной точке двунаправленного пути между
теоретическим и политическим»27. Это также делает их уязвимыми для той
критики, которую Аристотель направляет против Платона,
заключающейся в том, что ограничение последним политической сферы,
вследствие понимания ее как необходимого компромисса между
«чистым» (неактивным) созерцанием и практическим удобством,
способствует одновременно инструментализации политики и порче
самого созерцания. Утопическое представление Платона о
философе-правителе, как указывает Депью, - результат скорее
недостаточного, чем избыточного идеализма.
Политическая теория модерна формирует аналогичную
оппозиционную структуру оппозициям энергии и глубины или действия
* Здесь - взаимопроникновение, сочетание и взаимовлияние. Термин
широко использован Карлом Фейерабендтом.
243
и созерцания в виде альтернативы между двумя архетипами:
политической активностью, рассматриваемой как инструментальная,
чистое средство для достижения неполитической цели; и
политикой, рассмотренной как сущностное благо, при котором основные
выгоды образовывают и изменяют самих участников политической
активности. «При таком подходе политика есть цель в себе -
действительно, многие доказывали, что она представляет собой
правильную жизнь человека». Джон Эльстер называет
соответствующие политические модели «рынком» и «форумом» в эссе, которое
включает предположение, что «наиболее привлекательная»
политическая модель находится где-то между этими двумя крайностями28.
Это, как я полагаю, ошибка.
«Инструментальная» политика, как ее формулирует Эльстер, -
это экономическая теория демократии, в которой политика
является делом согласования, бюрократии. Ее цель - в совмещении
стольких интересов стольких отдельных индивидуальностей, сколько
возможно: цель политики поэтому не может быть ничем иным, как
состоянием «оптимального компромисса» между определенными
необходимо несовместимыми группами предпочтений. Отдельно от
чисто практических трудностей определения, какие интересы
индивидуумов и социальных групп имеют место, включая проблемы
разрешения случаев, когда интересы разных групп конфликтуют,
главная цель инструментальной концепции политики - в
ограничении политического процесса заботами, которые Арендт называет
преполитической сферой необходимости. Экономическая теория
демократии проблемна, как признает Эльстер, потому что
основывает свое понимание политической сферы на модели рынка, при
которой суверенность потребителя есть приемлемый метод
определения направлений действия, так как подобный выбор делают только
индивидуумы. Инструментальная политика совершенно
пренебрегает одной из центральных задач политики, представляющей собой
учреждение справедливости. Если простая компетентность,
касающаяся управления и распределения благ, была всем, то
аристократия, бесспорно, была более эффективной политической системой,
чем демократия, как указывает Токвиль.
Энтузиазм Токвиля по отношению к американской демократии
возникает в угоду теории демократии участия или политической
активности, рассматриваемой как цель в себе. Несмотря на
замедление процесса принятия решений, демократия выигрывает за
счет своих сторонних эффектов:
244
Постоянно обновляемая агитация, введенная демократическим
правительством в политическую жизнь, тогда приходит в цивилизованное общество. Все
хорошенько взвесив, можно сказать, что это величайшее достижение
демократического правительства, и я одобряю его гораздо больше на основании
того, какое действие оно вызывает, чем того, что оно непосредственно делает.
Это неоспоримо, что люди часто с трудом справляются с публичными
делами, но заботы о них связаны с расширением горизонта их сознания и
вытряхивают их из привычной рутинной колеи [...]. Демократия не обеспечивает людей
самым умелым правительством, но она делает то, что самое умелое
правительство часто не способно делать: она распространяет по всему социальному телу
неустанную активность, сверхизобильную силу и энергию, которые не найти
где-либо еще, которые, однако, мало зависят от обстоятельств и могут творить
чудеса. Вот ее истинные достижения29.
Для Эльстера подобная концепция политики грозит
самоуничтожением, так как она сущностно нарциссистская: любая попытка
переделать то, что является только побочным продуктом
политической активности, в ее основную цель должна, заставить испариться
даже эти побочные продукты. Анализ Токвилля уместен лишь из-за
далекой исторической перспективы. Никто не может осознать
«теорию демократии участия» ex ante, так как результатом будет лишь
утрата веры в политику на основе отсутствия ее «содержания».
Политика - это само по себе благо, говорит Эльстер, толкая телегу
впереди лошади, или, «по меньшей мере, размещая их рядом друг с
другом», и он упоминает Арендт в этом контексте. «Обратно тому, что
предполагает Арендт», пишет он об ее представлении о свободе как
действии, «обладание возможностью применить политическое
право может быть важнее, чем само применение. Более того, оно даже
получает свою ценность от решения быть примененным»30.
Это абсурдное, почти тавтологическое утверждение. Это
попытка адресовать вопрос, который на любом уровне наиболее тривиален
и при этом совершенно неразрешим: Что более важно: средство или
цель? Прямо как дилемма курицы и яйца, он принадлежит
исключительно дискурсу метафизической спекуляции - если не детского
сада. Подобные вопросы представляют собой наполнение
политической теории заботами сущностно статической природы. Предлагая
собственное решение «затруднения» в форме компромисса между
крайностями рынка и форума, Эльстер одновременно делает их обе
чрезмерно реальными. Невозможно ни указать
«неинструментальную» природу политики, ни в большей степени предписать ее «ин-
струментальность»; совершить что-либо из этого - значит покинуть
* Лат. заранее, изначально.
245
всю политическую сферу, сделать метафизическое предположение.
«Публичная по природе и инструментальная по цели», говорит
в конце концов Эльстер о «надлежащем месте» политики в
обществе. В стремлении одновременно занять крайние позиции
практицизма и аутентичности, «энергии» и «глубины» политика должна
отказаться, во-первых, от возможности совершать метафизические
действия, не имеющие отношения к политической активности,
а во-вторых, от отнесения созерцания к бездействию - в той же
мере постструктуралистского представления, как и платоновского.
Попытаться перечислить результаты политики с самого ее
начала, значит устранить саму политику, которая всегда выходит за
рамки своего определения в терминах программ и задач. Итог
политической акции, говорит Вебер, «совершенно не соответствует
ее первоначальному смыслу», и с этим согласился бы Аристотель.
Phronesis, говорит он, это «доблесть, а не искусство», имея в виду,
что оно вмещает в себя не научную способность открывать
неизменные истины или «узнавать о вещах, что они необходимо таковы»,
но подразумевает принцип ненамеренной активной
вовлеченности в мир, принцип, который требует, чтобы созерцание как модус
интеллектуального контакта с миром было понято как сущностно
активное.
Созерцание активно только как сущностно радикальное, - по
словам Гегеля, только если оно поднимает себя в попытке выйти
за пределы своего непосредственного существования; это значит,
только если оно противостоит миру, если оно готово разрушить мир,
если оно способно возвыситься над своим интересом в «вещах,
каковы они есть» во имя благ, которые еще не сформулированы и не
осознаны. Политическая теория постмодерна, уступая разрушению
«онтологического статуса метанарративов», отказывается от этой
политической ответственности. Шанталь Муфф пишет:
«Признание, что никто не может найти конечное рациональное основание
для любой системы ценностей, не значит, что следует считать все
взгляды равнозначными». И в доказательство она цитирует
Ричарда Рорти: «настоящее разногласие не между людьми, которые
думают, что один взгляд так же хорош, как любой другой, и людьми,
думающими иначе. Оно между людьми, которые думают, что наша
культура, наши цели и институты не могут поддерживаться иначе
как благодаря дискуссии, и теми, кто все еще полагается на другие
способы их поддержания»31. Постановить, что культурные
«институты» могут быть поддерживаемы лишь благодаря «дискуссиям»,
246
как и утверждать, что у политики нет иной цели, кроме как
удовольствие и сохранение собственного превосходства, - это
самоубийственное, метафизическое предположение, не имеющее
отношения к политике. Политика - это не о легитимации существующих
культурных институтов; это и не техническая операция, связанная
с выполнением задач неэффективно или компетентно. С другой
стороны, взгляд на разум, какой свойственен мне здесь, как на
сущностный риск - взгляд на созерцание как на сущностно активное
также означает не считаться с возможностью, что кто-то может быть
способен определить цель политической акции как таковой - что
включит в себя и определение политики как цели в себе.
Понимание, говорит Арендт, это другой перевод phronesis,
означающий «взвешивать и осознанно носить тот груз, которым
наградил нас наш век, - не отрицая его существования, но и не размякая
под его весом. Понимание, коротко говоря, означает
непреднамеренную предупредительную готовность встретить лицом и
противостоять реальности - какой бы она ни была»32. Следующее утверждение,
вероятно «нереалистическое», должно остаться в чести - надеюсь,
что это верно и для всей книги в целом. Если «глубина»
противоположна не энергии и политике, но метафизике и инерции; если
аутентичность и намеренность неотделимы от своих эффектов и
результатов; если радикализм рассмотрен почти как цель в себе; если
стремление низвергнуть «мир, каков он есть» становится
основополагающим принципом политического действия; если риск
считается sine qua поп всякого действия, достойного этого имени, - тогда
общество будет таким, в котором политика уважаема, эффективна
и волнительна, воплощает собой одновременную крайность
энергии и глубины; фетишизация аутентичности тогда будет оставлена
в историческом прошлом; а цинизм, меланхолическое состояние
«просвещенного ложного сознания», станет редким и устаревшим
расстройством, ассоциирующимся с ушедшей эпохой политических
метафизиков.
* Лат. то, без чего нельзя; неотъемлемое свойство.
Комментарии
1. Theodor Adorno. The jargon of
authenticity, trans. Knut Tarnowski
and Frederic Will, London and
Henley: Routledge & Kegan Paul
1986, p. 26
2. By Malcolm Muggeridge, at
the Lausanne Congress on World
Evangelization, 1974
3. Mikhail Lermontov, Л hero
of our time, trans. Paul Foote,
Harmondsworth: Penguin, 1966, p. 98
4. Tony Blair, «Ideological Blurring»,
Prospect, June 1996 (также
опубликовано под заголовком
«Переключимся на яркие идеи»
в Guardian, 27.5.96)
5. Jean-François Lyotard, The
postmodern condition: a report on
knowledge, trans. Jeoff Bennington
and Brian Massumi, Manchester:
Manchester University Press 1979, p.
xxiv
6. Max Weber, «Politics as a vocation»
in H.H. Gerth and С Wright Mills
(eds), From Max Weber: essays in
sociology, London: Rautledge & Kegan
Paul 1948, p. 128
7. Tony Blair, «Ideological blurring»,
op. cit.
8. Peter Sloterdajk, Critique of cynical
reason, trans. Michael Eldred, London:
Verso 1988, p. 5
Слотердайк П. Критика
цинического разума / Петер
Слотердайк; пер. с нем. А. Перцева;
ение
испр. изд-е. - Екатеринбург:
У-Фактория, М.: ACT МОСКВА,
2009. - С. 33
9. Andreas Huyssen, «Foreword: The
return of Diogenes as postmodern
intellectual» in ibid., p. xiii.
10. Ibid., p. 547
11. Ibid., p. 179
12. Ibid., p. xxxvii
13. Max Weber, «Politics as a
vocation», in H.H. Gerth and C.
Wright Mills (eds), From Max Weber,
p. 117
14. Jean-François Lyotard, The
postmodern condition: a report on
knowledge, p. 81
15. Phenomenology of Spirit, trans. A.
V. Miller, Oxford: Oxford University
Press 1977, параграф 522, p. 318
16. Смотри мой экскурс,
«Метафизика как деконструкция»
на стр. 90-96 этой книги
17. Jacques Derrida, The other heading:
reflections on today Europe, trans.
Pascale-Anne Brault and Michael B.
Naas, Bloomington & Indianapolis:
Indiana University Press 1992
18. Ulrich Beck, Risk society: towards
a new modernity, trans. Mark Ritter,
London: Sage 1992
19. Ulrich Beck, The reinvention of
politics, trans. Mark Ritter, Cambridge:
Polity 1997, p. 169
248
Глава 1
1. «Яд новой британской болезни»,
сообщение в Independent
в воскресенье. 16.1.94
2. Immanuel Kant, What is
Enlightenment? in On history (ed.
Lewes White Beck), Indianapolis:
Bobbs-Merrill 1963, p. 3
3. John Major, What I mean by back
to basics, Daily Express, 17.2.94
4. Jacques Derrida, The other heading:
reflections on todays Europe, trans.
Pascale-Anne Brault and Michael B. Naas,
Bloomington & Indianapolis: Indiana
University Press, 1992, esp. pp. 45-6
5. См.Сара Бослей «Принц называет
негодяев, угрожающих героической
традиции великобританского
характера», новое сообщение
в Guardian, 5.5.94
6. Письма к редактору, Guardian,
7.5.94
7. Предложение гласит: «Любое
сомнение, даже в наиболее
вежливой форме, при современных
веяниях обычно вызывает резкий
ответ, идет ли речь о желании
научить людей основным
принципам английской грамматики
или об идее, что есть огромная
разница между хорошим и плохим
английским; или о предположении,
что в определенных обстоятельствах
может быть необходимо шлепнуть
своего ребенка; или даже
о предположении, что может
быть установлен взгляд о музыке,
согласно которому одержимость
атональностью и беспорядком
вызывает у большинства
истосковавшихся душ плач по
гармонии, по мелодии, по здравому
смыслу», Guardian, 6.5.94
8. Frederic Raphael, Bad ideas of the
twentieth century - rightsism, Without
walls, Channel 4,17.5.94
9. Оба эссе плюс еще одно написанное
во время конфликта см. в Jean
Baudrillard, The Gulf War did not take
place, trans. Paul letton. Sydney: Power
Publications, 1995
10. Christopher Norris, The truth about
postmodernism, Oxford: Blackwell
1993, p. 63. См. также: What's wrong
with postmodernism: critical theory
and the ends of philosophy, Hemel
Hemstead: Harvester-Wheatshelf
1990; Uncritical theory: postmodernism,
intellectuals and the Gulf War, London:
Lawrence and Wishart 1992
11. Alan Sinfield, Literature, politics,
and culture in postwar Britain, Oxford:
Blackwell 1989, p. 293
12. Jean Baudrillsrd, The Ecstasy of
communication, trans. John Johnston,
in Hal Foster (ed.), Postmodern Culture,
London: Pluto 1985
13. Cm. Norris, Uncritical theory:
postmodernism, intellectuals and the
Gulf War, esp. p. 17
14. Ibid., p. 177
15. Ibid., p. 159
16. Frederic Jameson, Postmodernism,
or, the cultural logic of late capitalism,
London: Verso 1991, p. 418
17. Ibid., p. 63
18. Джоффри Бенингтон,
«Рациональность релятивизма
постмодерна» in Legislations: the
politics of deconstruction, London:
Verso 1994, pp. 176,180
19. The ideology of the aesthetic,
Oxford: Blackwell 1990, p. 383
20. Contingency, irony, and solidarity,
Cambridge: Cambridge University
Press 1989, pp. 74, 862
21. Peter Sloterdajk, Critique of cynical
reason, London: Verso 1988 (translation
by Michael Eldred of Kritik der
zynischen Vernunft, 2 vols, Frankfurt am
Main: Suhrkamp 1983), p. 5
22. Ibid., p. xxxv
23. Jameson, Postmodernism, or, The
cultural logic of late capitalism, p. 377
24. Ibid., p. 383
25. Terry Eagleton, Ideology: an
introduction, London: Verso 1991,
pp. 39-40
26. Agnes Heller and Ference Fehér,
The postmodern political condition,
Cambridge: Polity 1988, p. 139
27. Jameson, Postmodernism, or, The
cultural logic of late capitalism, p. 46
28. Ричард Готт, «Критицизм
и культура в реакционную эру»,
Guardian, 6.2.92
29. Джон Видал, «Буйство
поднимается не без основания»,
сообщение в Guardian, 7.5.94
30. Ibid.
31. Peter Sloterdajk, Critique of
cynical reason, p. xxxii
32. Ibid., p. 5
33. Ibid., p. 13
34. G.W.F. Hegel, Phenomenology of
Spirit, trans. Miller, Oxford: Oxford
University Press 1977, §§ 545-6, p. 332
35. Andreas Huyssen, Foreword: the
return of Diogenes as postmodern
intellectual in Sloterdajk, Critique of
cynical reason, p. xiii
36. G.W.F. Hegel, Phenomenology of
Spirit 80, pp. 51-2
37. Жан-Франсуа Лиотар
был первым, кто признал эту
парадоксальную перспективу,
которую он называет «форма
"предшествующее постбудущее"»;
смотри The postmodern condition:
a report on knowledge, trans. Geoff
Bennington and Brian Massumi,
Manchester University Press 1979,
p. 81
38. J.-K. Huysmans, Against Nature
(translation by Robert Baldick of A
Rebours), Harmondsworth: Penguin
1959, pp. 29,38
39. Элизабет Янг, «На мели», The
Sunday Times, 24.4.94
40. J.-K. Huysmans, Against Nature
41. Bret Easton Ellis, American Psycho,
New York: Random House 1991, pp. 374-5
42. Charles Badelaire, The painter of
modern life in The painter of modern life
and other essays, trans. Jonathan Mayne,
London: Phaidon 1964, pp. 28-9
43. Ibid., p. 13
44. Georg Simmel, The philosophy of
money, trans. Tom Bottomore and
David Frisby, London: Routledge
1990, p. 255
250
45. Смотри David Frisby, Sociological
impressionism: a reassessment
of Georg SimmeVs social theory,
London: Heinemann 1981 и Deena
Weinstein and Michael A. Weinstein,
«Sociological Flâneur Bricoleur»
in Theory, Culture and Society\ vol. 8,
no. 3 (August 1991)
46. Цитируется Фрисби в его
«Введении к переводу» в Simmel,
The philosophy of money, p. 21
47. Cm. Frisby, Fragments of
modernity, Cambridge: Polity 1985,
pp. 75-6
48. Georg Simmel, The metropolis
and mental life, trans. Edward A.
Shils in David Levine (ed.),
On Individuality and social forms,
London: University of Chikago
Press 1971, pp. 324-6
49. Ibid., p. 339
50. Уэйнстейн и Уэйнстейн
замечают, что отношения, которые /
вводит Зиммель, «аналогичны
и многозначительны -
как бриколаж - неоднородны
и каузальны»; другими словами,
отношения между материальными
и ментальными (или
идеологическими) структурами
скорее взаимно формирующие, чем
представляющие собой линейно
этиологию. См. Deena Weinstein and
Michael Α. Weinstein, Sociological
Flâneur Bncoleur, p. 165
51. Charles Badelaire, The painter of
modem life, p. 9
52. Ibid., p. 2
53. Ibid., p. 33
54. Oscar Wilde, The picture of Dorian
Gray in The complete works of Oscar
Wilde, London: Collins 1966, p. 66
55. Ibid., p. 155
56. Ibid., p. 155-6
57. Ibid., p. 41
58. Тоби Янг. Конец иронии?
в The Modern Review, vol. 1, issue 14
(April - May 1994)
59. Петер Бюргер. Апории
современной эстетики в New Left
Review 184 (November-December
1990), pp. 47-8
60. Тоби Янг. Конец иронии?
в The Modern Review, vol. 1, issue 14
61. Stanley Cohen and Laurie Taylor,
Escape attempts: the theory and
practice of resistance to everyday life
(second edn), London: Routledge
1992, pp. 53-4
62. Roland Barthes, The death of the
author in Image - Music - Text, trans.
Stephen Heath, New York: Farrar,
Straus and Giroux 1977, p. 146
63. Cm. Jacques Derrida, Positions,
trans. Alan Bass, London: Athlone
1987, pp. 13-14
64. Jacques Derrida, Dissemination,
trans. Barbara Johnson, London:
Athlone 1981, p. 5
65. Geoffrey Bennington, The
rationality of postmodern relativism,
in Legislation, pp. 174 ff.
66. Slavoj Tiihek, The sublime object of
ideology, London: Verso 1989, p. 30
67. Marshall Berman, All that is solid
melts into air, London: Verso 1983,
p. 47n
68. Tiihek, The sublime object of
ideology, p. 36
69. Hannah Arendt, Eichmann in
Jerusalem: a report on the banality of
evil, Harmondsworth: Penguin 1977,
pp. 126-7
70. William James, The varieties of
religious experience, Harmondsworth:
Penguin 1982, p. 444
71. Fyodor Dostoevsky, Notes from the
underground/ The double, trans. Jessie
Coulson, Harmondsworth: Penguin
1972, pp. 32-3
Достоевский Φ. M. Записки из
подполья / Достоевский Φ. М.
Т. 4. - М.: Государственное
издательство художественной
литературы, 1956. - с. 158-159
72. Ibid., р. 19. Предположение
Джеймсона, что пустотами de
siucle была более «подлинной»,
чем скука позднего капитализма,
может быть в данном случае
оспорено, ибо в Записках из
подполья Достоевский поглощен
интеллектуальной невозможностью
самого этого опыта. Действительно,
даже позднеримский цинизм
подвергается злобным нападкам
своих современников за более-
менее сознательное следование
своим идеям. Лукиан из Самосаты,
социальный и политический
сатирик II века, ярко описывает
жертвоприношение лидера
цинической секты Перегрина на
Олимпийских играх в 165 г. н.э.
- событие, которое было заранее
широко освещено учениками
Перегрина и свидетелем которого,
как он сам настаивает, был Лукиан:
«Полагаю, вы можете представить,
как я смеялся», говорит он, «потому
что невозможно жалеть человека,
так отчаянно и превыше всего
любящего пафос и которого несет
сама фурия. Во всяком случае его
сопровождали толпы и наполняло
величие, когда он видел число своих
почитателей, не зная, бедный, что
у ног людей, идущих к кресту, или
в тисках палача их еще больше».
См. Lucian, The passing of Peregrinus
in The works of Lucian, vol. V, trans.
A.M. Harmon, London: William
Heinemann 1936, p. 39; см. также
Sloterdajk, Critique of cynical reason,
pp. 169ff
73. Dostoevsky, Notes fют the
underground/ The double, pp. 83,38,
36
Достоевский Φ. M. Там же. С. 156
74. Hanif Kureishi, The Buddha of
Suburbia, London: Faber and Faber
1990, p. 82
75. Peter Chippendale and Chris
Horrie, Stick it up your panter! The
rise and fall of the Sun, London:
Mandarin 1992, p. 284
76. Предсказуемо эта идея «момента
эпифании» в 1950-х и 1960-х
опошлилась из-за краткосрочного
фокуса извращенного
демократического духа, хотевшего
сделать этот «высший опыт»
доступным каждому. Колин Уилсон
описывает простую технику,
посредством которой, благодаря
карандашу, каждый может вызвать
это сильное чувство. См. Peak
Experience - The Schumacher lecture
in The essential Colin Wilson, London:
Harrap 1985, pp. 226-7
252
77. Fredric Jameson, Postmodernism
and consumer society in Hal 222
Foster, ed., Postmodern culture,
London: Pluto 1985, p. 115. В этом
эссе Джеймсону откровенно неясно,
правильно ли это или действительно
ли буржуазный субъект «никогда
не существует на первом
месте». Только в позднейшем
эссе «Постмодернизм, или
Культурная логика позднего
капитализма» он высказывает
недвусмысленное предпочтение
к предшествовавшему мнению
- что когда-то центрированный
субъект растворился в «мире
организационной бюрократии».
См. Postmodernism, or The cultural
logic of late capitalism in New Left
Review 146 Quly/August 1984),
p. 63 (также включено в Jameson,
Postmodernism, or The cultural logic of
late capitalism, London: Verso 1991,
p. 13)
78. Юрген Хабермас. Модерн -
незавершенный проект в Hal Foster,
ed., Postmodern culture, p. 6
79. Ibid., p. 14
80. Данная формулировка - это
перифраз Хабермаса (Ibid., p. 6).
Однако The cultural contradictions
of capitalism Белла (London:
Heinemann 1979) бесспорно
моралистические по тону;
Белл делает выраженной связь
между современной культурой,
ростом психотерапии в Америке
и «гедонизмом» самосознания.
См. esp. pp. 72 ff
81. См. комментарий 72 выше
Глава 2
1. «Я Майк Линдап», реклама
Мидлэнд Банка в Guardian, 23.7.94
2. «Сигареты, чтобы умереть»,
сообщение в Evening Standard ES
magazine, 28.10.94
3. «Сорнячок», колонка в Guardian.
22.10.94
4. В апреле 1994-го «Реальная вещь»
Тони ди Барта была номером один
в Топе популярных чартов; «(это
не что иное как) Реальная вещь»
Марцеллы Детройт и Элтона Джона
появилась в чарте 14 мая и заняла
24-е место, пока вторая «Реальная
вещь» Unlimited появилась в чарте
неделей позже, в конечном счете
заняв 6-е место. Источник: Paul
Gambaccini, Tim Rice, Jonathan
Rice, eds, Bntish Hit Singles (10th
edn), Enfield, Middlesex: Guiness
Publishing 1995
5. К примеру, Жизненное мыло на
ВВС2, запущенное в Манчестере;
Реальный мир MTV в Соединенных
Штатах и Воды Сильвании из
Сиднея, совместный продукт ВВС
и ABC в Австралии
6. См. Виктория Корен. Игра славы,
Guardian, 25.11.94
7. Walter Benjamin, The work of art in
the age of mechanical reproduction in
Illuminations, trans. Harry Zohn, New
York: Schocken 1968, pp. 223-4
8. Victoria Coren, The fame game,
Guardian, 25.11.94
9. Walter Benjamin, The work of art in
the age of mechanical reproduction in
Illuminations, p. 231
10. Victoria Coren, The fame game,
Guardian, 25.11.94
11. Jean Baudrillard, The Illusion of the
End, trans. Chris Turner, Cambridge:
Polity 1994, p. 96
12. Это «открытие» в разных
случаях приписывается Дину
Хэмеру из американского
Национального института
исследования рака и Саймону
Ле Вэю, неврологу и директору
Института образования геев
и лесбиянок в Калифорнии.
См. Мэтт Ридли. Мужчины,
которые были рождены геями
в The Times, 13.3.95 и Ричард Хортон
(редактор, The Lancet), Наследуется
ли гомосексуальность? в New York
Review of Books vol. XLI I, no 12
(13.7.95)
13. Роберт Уинстон.
Проектирование нашего
собственного падения, The Times
Magazine, 12.11.94
14. См. например: Найалл
Фергюссон. Одно табу, которое
никогда не должно быть нарушено
в The Sunday Times (News Review),
23.10.94: «Мюррэй», пишет
Фергюссон, «и те, кто читает
и публикует его, могут поздравить
себя с дерзновенным поиском
правды, однако неприятным.
Впрочем, сомнений нет, что
ранние теоретики рас делали то
же» (курсив добавлен). См. также
Джером Берн. Гены восстают не без
основания, Independent, 20.10.92;
или, в качестве более серьезного
и критичного исследования,
254
Льюис Уолперт. Проблемы черных
и белых, The Sundays Times,
11.12.94
15. См. Steven Best and Douglas
Kellnet, Postmodern theory: cntical
interrogations, New York: Guilford
1991, p. 86
16. Daniel С Dennet, Consciousness
explained, London: Allen Lane/
Penguin 1992
17. Ричард Рорти. Временное
неопределенное блуждание
(обозрение Исследуемого сознания
Деннета), London Review of Books,
21.11.91
18. Jean Baudrillard, The Illusion of the
End, trans. Chris Turner, Cambridge:
Polity 1994, p. 95
19. Michael Foucault, The order of
things, London, Tavistock 1970, p. xxiii
20. Cm. Baudrillard, Forget
Baudrillard: an interview with Sylvure
Lotnnger, trans. Phil Beitchman, Lee
Hildreth and Mark Polizzoni, in Forget
Foucault / Forget Baudnllard, New
York: Semiotext(e) 1987, p. 69
21. Baudrillard, The Illusion of the End,
p. 95
22. Alvin Toffler, Future Shock, New
York: Bantam 1971, p. 97
23. Baudrillard, The Illusion of the End,
pp. 5-6
24. Ibid. p. 1
25. Georg Simmel, The philosophy
of money (2nd edn), trans. Tom
Bottomore and David Frisby, London:
Routledge 1990, p. 449
26. Baudrillar, Forget Baudnllard: an
interview with Sylvere Lotnnger, in
Forget Foucault / Forget Baudrillard,
pp. 82-3
27. Ibid., p. 77
28. The Illusion of the End, p. 25-6
29. G.W.F. Hegel, Phenomenology of
5/?mi,§80,pp.51-2
30. Космо Ландесман. Погоня за
пустотой, The Sundays Times, 15.1.95
31. Giles Auty, The art of self-
destruction: an intelligible guide,
Wharley End, Bedford: Libertarian
Books Ltd 1977, p. 96
32. Джим Рейд. Деньги для
сжигания? в Observer Life magazine,
25.9.94
33. Hannah Arendt, The human
condition, London: University of
Chicago Press 1958, p. 15
34. Ibid., p. 17
35. Ibid., p. 18-19
36. Этот взгляд Гераклита высказан
во фрагменте В29, процитирован
Арендт; Ibid., р. 19
37. Ibid., р. 20
38. Simmel, The philosophy of money,
pp. 210-11
39. Baudrillard, The Illusion of the End,
pp. 101-2
40. Arendt, The human condition, p. 20
41. Речь Жана Бодрийяра
в Институте современного
искусства, Лондон, 8.12.94
42. Марк Харрисон. Видения неба
и ада: добро пожаловать в джунгли,
продюсировано и снято Марком
Харрисоном и Леанне Кляйн, в Лондоне, 13.2.95
транслировалось на 4-м канале го ~ , π л, ~
„У g- v 52. Gordon Burn, Alma Cogan,
London: Mandarin 1992, p. 131
43. Diogenes Laertius, Lives of eminent
philosophers, vol. II, trans. R.D. Hicks,
Cambridge, Massachussets: Harvard
University Press 1931, p. 65
44. Мэтт Блэк, электромузыкант
и компьютерный графический
дизайнер, в Видениях неба и ада
Марка Харрисона
45. Mark Harrison, Visions of Heaven
and Hell
46. Открытый диалог с Мэттом
Блэком в The Idler no. 4 (April - May
1994)
47. Эстер Дизон из Организации
электронного рубежа в программе
Марка Харрисона Видения неба
и ада
48. См. Jacques Derrida, Le facteur de
la vuntu in The post card: from Socrates
to Freud and beyond, trans. Alan Bass,
London: University of Chicago Press
1987, esp. pp. 443-4
49. См. например, Claude E. Shannon
and Warren Weaver, The mathematical
theory of communication, Urbana:
University of Illinois Press 1949
50. Мэри Марун, бизнесвумен
в программе Марка Харрисона
Видения неба и ада
51. Я слышал бесчисленные
поползновения такого рода на
разных семинарах и конференциях.
Особенно выделялось одно,
совершенное на семинаре,
названном «После поколения X»,
с Хелен Уилкинсон из Demos,
организованном Знаками времени
53. Jean Baudrillard, Атепса, trans.
Chris Turner, London: Verso 1988, p. 27
54. См. «ВВН начинает агрессивную
стратегию компании Scy в 18
миллионов фунтов», сообщение
в Campaign, 2.9.94. Также Джим
Дэвис. Наиболее отвратительные
объявления в Британии, Guardian,
27.1.95
55. Джефферсон Хэк. Ни шагу назад
(от редактора), Dazed and Confused,
выпуск 9,1994 (осень). См. эпиграф
к этой главе
56. Campaign, 2.9.94
57. Ernest Dimnet, The art of thinking,
London: Jonathan Cape, 1931, p. 60
58. Джон Пилгер. Все права на ночь,
Guardian, 31.3.95
59. Росс МакКиббин. Скольжение
по поверхности (обозрение Энтони
Селдона и Денниса Каванаха, ред.
The major effect, London: Macmillan
1994), London Review of Books, vol.
16, no 20 (20.10.94)
60. Речь достопочтенного Тони
Блэра, члена парламента, лидера
лейбористской партии к конференции
лейбористской партии 1994,4.10.94
(источник: новостной выпуск)
61. Ibid.
62. Ibid.
63. Тони Блэр цитируется
Патриком Винтуром в «Блэр
требует от лейбористов политики,
затрагивающей "всю нацию"»,
256
сообщение в Guardian, 16.2.95
64. Хьюго Янг. Мы насмотрелись
на видение Блэра, теперь нам бы
хотелось политики, Guardian, 8.11.94
65. Энтони Гидденс. К чему он
стремится?, New Statesman &
Society, 24.2.95
66. Передовой марш для
лейбористов, The Economist, vol. 334,
no. 7906,18.3.95
67. Jacques Derrida, The violence of the
letter: from Luvt Strauss to Rousseau
in Of Grammatology, trans. Gayatri
Chakravorty Spivak, Baltimore: Johns
Hopkins University Press 1976
68. Walter Benjamin, Critique
of violence in Reflections: essays,
aphorisms, autobiographical writings,
trans. Edmund Jephcott, New York:
Schocken 1978; Hannah Arendt, The
human condition, London: University
of Chicago Press 1958, pp. 27-8
69. Niccolo, The Prince, trans. George
Bull, Harmondsworth: Penguin 1981,
p. 101
70. Baudrillard, The Illusion of the End, p. 44
71. Беседа в Институте
современного искусства, Лондон,
8.12.94
72. Baudrillard, The Illusion of the End, p. 51
73. H.D.F. Kitto, The Greeks,
Harmondsworth: Penguin, 1957. p. 75
74. Виктория Скотт, цитируемая
Катриной Беннетт. Прости, папочка,
ничего личного, Guardian, 14.5.94
75. Immanuel Kant, What is
Enlightenment? in On History (ed.
Lewis White Beck), Indianapolis:
Bobbs-Merrill 1963, p. 5
76. Hannah Arendt, The human
condition, London: University of
Chicago Press 1958, pp. 27-8
77. Ibid., p. 37
78. Яд новой британской болезни,
сообщение в Independent on Sunday,
16.1.94
79. Kant, What is Enlightenment?, p. 6
80. Harold Bloom, The western canon:
the books and school of the ages, New
York: Harcourt Brace & Company 1994
81. Jean Baudrillard, In the shadow of
the silent majorities or, The end of the
social and other essays, trans. Paul Foss,
John Johnston and Paul Patton, New
York: Semiotext(e) 1983, pp. 19-20
82. Hannah Arendt, The human
condition, pp. 43, 42
83. Деррида. Жестокость письма:
от Леви-Стросса до Руссо в О
Граммотологии
84. Derrida, The Other Heading:
reflections on todays Europe, trans.
Pascale-Anne Brault and Michael B.
Naas, Bloomington & Indianapolis:
Indiana University Press 1992, pp. 87,86
85. Arendt, The human condition,
pp. 42-3
86. См. например, Christopher
Hitchens, The Devil and Tony Blair,
Vanity Fair, March 1995
87. Родительский дефицит Амитаи
Этциони; Ни шагу назад: поколения
и гендерные потрясения Хелен
Уилкинсон; Конец иллюзиям Алана
Дункана
88. On the uses and disadvantages of
history for life in Friedrich Nietzsche,
Untimely Meditations, trans. RJ.
Hollingdale, Cambridge: Cambridge
University Press 1983, p. 113
89. Friedrich Nietzsche, Beyond
good and evil, trans. RJ. Hollingdale,
Harmondsworth: Penguin 1990,
pp. 134,135
90. Helen Wilkinson, No turning back:
generations and the genderquake,
London: Demos 1994, p. 43. Ни шагу
назад было опубликовано Демосом
в октябре 1994-го, в том же месяце,
когда Scy Television запустило свою
рекламную кампанию под тем же
названием и когда журнал стиля
Dazed & Confused опубликовал
свой выпуск «Ни шагу назад».
Совпадение, вызывающее
паранойю? Или вызывающий
паранойю дизайн? См. с. 66-
76 выше
91. Wilkinson, No turning back, p. 3
92. Arendt, The human condition, pp.
44-5. Фраза Гюннара Мирдала
«коммунистическая фикция»
происходит из его Политического
элемента в развитии экономической
теории (1953)
93. Тщеславие коммунитаризма,
The Economist, vol. 334, no. 7906,
18.3.95. p. 21
94. Путь, начертанный
коммунитарной сетью,
председателем которой является
Этциони, проходит под знаменем
со слоганом «Преданы укреплению
моральной,социальной
и политической организации
общества»
95. Amitai Etzioni, The spirit of
community, New York: Crown, 1993,
p. 145
96. Ibid., pp. 217-18,225
97. Geoff Mulgan on Analysis: The
C-World, BBC Radio 4,3.11.94
98. Etzioni, The spirit of community
99. Ibid., p. 204
100. Stephen Holmes, The anatomy
of antiliberalism, Cambridge,
Massachusetts: Harvard University
Press 1993
101. См. там же, стр. 113-14
102. Hannah Arendt, What is freedom?
in Between past and future, New York:
Penguin 1977, p. 153
103. Мулган в Анализе: С-слово:
«Возможно, что коммунитарианцы
будут, рано или поздно, вынуждены
сделать фундаментальный выбор:
либо быть почти религиозным
движением, убеждать и вдохновлять
людей быть более моральными или
массово броситься в более грязный,
политический мир манифестов
и программ, силы и групповых
интересов, взаимных уступок
и компромиссов, мир, в котором
моральность никогда не чувствует
себя как дома»
104. Эти три слова были бы увидены
как крайне «проблематичные»
из дерридеанской перспективы,
по причинам центральным для
и объясняемых в настоящих
экскурсах
105. Nietzsche, Beyond good and evil,
p. 38
106. Derrida, The Other Heading,
258
pp. 71-2
107. Ibid., p. 46
108. Структуры, знаки и игра
в дискурсе наук о человеке в Jacques
Derrida, Writing and Difference, trans.
Alan Bass, London: Routledge &
Kegan Paul 1978, p. 281
109. См. соответственно, From/
Of the supplement to the source:
The Theory of Wnting, in Of
Grammatology; The Other Heading:
The reflections on today's Europe;
Given Time: I. Counterfeit money,
trans. Peggy Kamuf, Chicago and
London: University of Chicago Press
1992; The Violence of the Letter:
from Luvi-Strauss to Rousseau, in Of
Grammatology', The double session in
Dissemination, trans. Barbara Johnson,
London: Athlone 1981; The Ear of The
Other, trans. Peggy Kamuf, Lincoln
and London: University of Nebraska
Press 1988; and Le facteur de la vuritä
in The post card: from Socrates to
Freud and beyond - хотя в каждом
случае, как сказал бы Джоффри
Беннингтон, то же происходило бы с
любым другим текстом
НО. Geoffrey Bennington, Derridabase
in Geoffrey Bennington and Jacques
Oerndajacques Derrida, Chicago and
London: University of Chicago Press
1993, p. 38
111. Это посвящение бесконечности,
будь оно ранним предложением
Деррида, необходимо имело бы
по меньшей мере слова «проект»,
«начинается» и «заканчивается»,
появляющиеся «под стертым
местом», как здесь
112. Jacques Derrida, Limited Inc., trans.
Samuel Weber, Evanston, IL Northwestern
University Press 1988, p. 116
113. Derrida, Of Grammatology, p. 14
114. Derrida, The Other Heading: The
reflections on todays Europe, p. 81
115. Derrida, The post card: from
Socrates to Freud and beyond, p. 123
116. Jean-Jacques Rousseau, The social
contract and discourses, trans. G.D.H.
Cole, London: J.M. Dent & Sons 1973,
p. 240
117. Jacques Derrida, Circumfession,
in Geoffrey Bennington and Jacques
Όενήάζ, Jacques Derrida, Chicago and
London: University of Chicago Press
1993, p. 3
118. Arendt, The human condition, p.
75
119. Theodor Adorno, Minima
Moralia: reflections from damaged life,
trans. E.F.N. Jephcott, London: NLB
1974, p. 31
120. Arendt, What is freedom?'in
Between past and future, p. 156
121. Umberto Ecom Travels in
Hyperrealitym trans. William Weaver,
London: Pan 1987, pp. 122-3
122. Friedrich Nietzsche On the uses
and disadvantages of history for life:
Untimely Meditations, p. 69
123. Roland Barthes, From work to text,
Image - Music - Text, trans. Stephen
Heath, New York: Farrar, Straus and
Giroux 1977, pp. 157-61
124. Nietzsche, On the uses and
disadvantages of history for life:
Untimely Meditations, p. 112 (Animaes
magnae prodigus: беспечность жизни)
259
125. Roland Barthes, From work to text,
Image - Music - Text, p. 161
126. Arendt, What is freedom?
in Between past and future, p. 153
127. G.K. Chesterton, Orthodoxy,
London: John Lane, The Bodley Head
1909, p. 74
128. Ibid., pp. 76-77
129. George McKenna, Bannister's
politics: Hannah Arendt and her
children, History of political thought,
vol. V, no. II (Summer 1984), p. 352
130. Ibid., p. 359; see Elizabeth Young-
Bruehl, Hannah Arendt For love of the
world, New Haven and London: Yale
University Press 1982, p. 416
131. Arendt, Truth and politics in
Between past and future, pp. 259, 263
132. Jean Baudrillard, In the shadow of
the silent majonties, p. 15
133. Цитируется Дэниелом
Олбрайтом в его введении к W.B.
Yeats, The Poems, London: J.M. Dent
1994, p. xl
260
Глава 3
1. Friedrich Nietzsche, On the
uses and disadvantages of history
for life: Untimely Meditations,
trans. RJ. Hollingdale, New York:
Cambridge University Press 1983,
pp. 60, 61
2. Theodor Adorno and Max
Horkheimer, Dialectic of
Enlightenment, trans. John Cumming,
London: Verso 1979, p. 209
3. Joseph Decter, Stupidity as destiny:
American idiot culture, Flash Art
International, vol. XXVII, no. 178
(October 1994), p. 76
4. Paul Fussel, BAD or, The Dumbling
of America, New York: Summit 1991;
Allan Bloom, The Closing of American
Mind, Harmondsworth: Penguin 1988;
Robert Hughes, Culture of Complaint:
The Fraying of America, London
HarperCollins 1994
5. Zygmunt Bauman, Postmodern
Ethics, Oxford: Blackwell 1993, p. 245
6. Джонатан Ромни. Виртуальная
жестокость, New Statesman &
Society, 24.2.95
7. Stephen Greenblatt, Marlowe and the
Will to Absolute Plat, Renaissance Self-
Fashioning: From More to Shakespeare,
Chicago: University of Chicago Press
1980, p. 197
8. Ibid., p. 220
9. Walter Benjamin, Critique of
Violence in Reflections: Essays,
Aphorisms, Autobiographical Writing,
trans. Edmund Jephcott, New York:
Schokenl986,pp.280,281
10. G.W.F. Hegel, Phenomenology
of Spirit, trans. A.V. Miller, Oxford:
Oxford University Press 1977, § 501,
p. 305
11. Ibid, §521, p. 317
12. Hannah Arendt, The human
condition, London: University of
Chicago Press 1958, p. 31
13. Jean Baudrillard, In the shadow
of the silent majorities or, The end of
the social and other essays, trans. Paul
Foss, John Johnston and Paul Patton,
New York: Semiotext(e) 1983, p. 16
14. Hegel, Phenomenology of Spiri,
§521, p. 316
15. Cm. Lionel Trilling, Sincerity
and Authenticity, London: Oxford
University Press 1974; P.N. Furbank,
Diderot: A Critical Biography, London:
Seeker & Warburg 1992
16. Deni Diderot, Rameau's Nephew
/D'Alambert's Dream, trans. Leonard
Tancock, Harmondsworth: Penguin
1966, p. 65
17. Ibid., p. 35
18. Фильм Мартина Скорсезе Злые
улицы, Warner Brothers, 1973
19. Diderot, Rameau's Nephew/
D'Alambert's Dream, p. 65
20. Ibid., pp. 89-90
21. Immanuel Kant, What is
Enlightenment? in On History (ed.
Lewis White Beck), Indianapolis:
Bobbs-Merrill 1963
22. Diderot, Rameau's Nephew/
D'Alambert's Dream, p. 61, 56
261
23. Trilling, Sincerity and Authenticity,
p. 29
24. Walter Benjamin, The Destructive
Character in Reflections: Essays,
Aphorisms, Autobiographical Writing,
pp. 301-3
25. Hegel, Phenomenology of Spirit,
§521, p. 316
26. Ibid., §§521-3 pp. 317-18
27. Diderot, Rameau's Nephew/
D'Alambert's Dream, pp. 70-71
28. Ibid., pp. 121-2
29. Смотри Hegel, Phenomenology of
Spirit, §§ 178-96, pp. 111-19
30. Diderot, Rameau's Nephew/
D'Alambert's Dream, p. 43
31. Hegel, Phenomenology of Spirit,
§ 525, p. 319
32. Ibid., §523, p. 318-19
33. См. Анализ текста Финдлея там
же, с. 560
34. Jean Baudrillard, Forget
Baudrillard: an interview with Sylvure
Lotringer, trans. Phil Beitchman, Lee
Hildreth and Mark Polizzoni, in Forget
Foucault /Forget Baudrillard, New
York: Semiotext(e) 1987, p. 82
35. Zygmunt Bauman, Alone Again:
Ethics After Certainty, London: Demos
1994, p. 2
36. Ibid., pp. 44-5
37. Ulrich Beck, Risk Society: Towards
a New Modernity, trans. Mark Ritter,
London: Sage 1992, p. 10
38. Ibid., p. 14
39. Ibid., pp. 11,14
40. Hegel, Phenomenology of Spirit,
§ 520, p. 316
41. Ulrich Beck, Risk Society, p. 235
42. Jean-François Lyotard, The
postmodern condition: a report on
knowledge, trans. Jeoff Bennington
and Brian Massumi, Manchester:
Manchester University Press 1979,
p. xxiv
43. Beck, Risk Society, p. 235
44. Bauman, Alone Again: Ethics After
Certainty, pp. 37-8
45. Bauman, Postmodern Ethics, p. 221
46. Hegel, Phenomenology of Spirit,
§80, pp. 51-2
47. Bauman, Postmodern Ethics, p. 218
48. Bauman, Alone Again: Ethics After
Certainty, pp. 40-41
49. Hegel, Phenomenology of Spirit,
§ 522, pp. 317-18; смотри Diderot,
Rameau 's Nephew / D 'Alambert's
Dream, p. 102
50. Peter Sloterdajk, Critique of
cynical reason, trans. Michael Eldred,
London: Verso 1988, p. 287
51. Ibid., p. 289
52. Henry James, Daisy Miller,
Harmondsworth: Penguin 1986, p. 90
53. Ibid., p. 64
54. Ibid., p. 104
55. Ibid., pp. 106-7
56. Leslie Fiedler, Love and Death
in the American Novel (3rd edn),
Harmondsworth: Penguin 1984, p. 312
57. Henry James, Daisy Miller, p. 107
262
58. Ibid., p. 105
59. Ibid., p. 109
60. Ibid., p. Ill
61. Ibid., p. 65
62. Ibid., pp. 110-11
63. Jean Baudrillard: America, trans.
Chris Tutner, London: Verso 1988, p. 84
64. Robert Hughes,/eaw Baudrillard:
America (review) in Nothing If Not
Critical Selected Essays on Art and
Artists, London: Collins Harvill 1990,
pp. 375-87
65. Baudrillard: America, p. 84
66. Henry James, Daisy Miller, p. 99
67. Baudrillard: America, p. 99
68. Alexis de Tocquille, Democracy
in America, trans. George Lawrence,
London: HarperCollins 1994,
pp. 305-6
69. Hannah Arendt, On Revolution,
Harmondsworth: Penguin 1993, p. 101
70. Ibid., p. 149
71. Ibid., p. 108
72. Ferenc Fehftr, The Pariah and the
Citizen (On Arendt's Political Theory),
Agnes Heller and Ferenc Fehiir,
The Postmodern Political Condition,
Cambridge: Polity 1988, p. 93
73. Hannah Arendt, Truth and Politics,
Between Past and Future: Eight
Exercises in Political Thought, New
York: Penguin 1993, p. 247
74. Arendt, On Revolution, p. 130
75. de Tocquille, Democracy in
America, pp. 455-6
76. Ibid., pp. 462,463,474
77. Baudrillard: America, pp. 94-5
78. de Tocquille, Democracy in
America, pp. 703-4
79. Ibid., p. 461
80. Ibid., p. 440
81. Baudrillard: America, pp. 86-7
82. Friedrich Nietzsche, On the uses
and disadvantages of history for 231
life: Untimely Meditations, trans. R.J.
Hollingdale, New York: Cambridge
University Press 1983, p. 62
83. Baudrillard: America, p. 76
84. Robert Hughes, «Jean Baudrillard:
America» in Nothing If Not Critical
Selected Essays on Art and Artists, p. 384
85. Cm. Leslie Fiedler, Love and
Death in the American Novel и R.W.S.
Lewis, The American Adam: Innocence,
Tragedy and Tradition in the Nineteenth
Century, Chicago: University of
Chicago Press 1955, соответственно
86. de Tocquille, Democracy in
America, p. 471
87. Gillian Rose, Love's Work, London:
Chatto & Windus 1995, pp. 97-8
88. Ibid., p. 98
89. Ibid., p. 116
90. Ibid., pp. 117-18
91. Christopher Norris, Derrida,
London: Fontana 1987, p. 197
92. Перевод Норриса; см.
английский перевод всего текста
Тома Кинана и Тома Пеппера
в «Декларации независимости»,
New Political Science, 15 (1986),
p. 12. Наиболее яркое размышление
Деррида на тему «деконструкции
в Америке» можно найти
в «Mnemosyne», trans. Cécile Lindsay,
Memories for Paul de Man, New York:
Columbia University Press 1986
93. Fyodor Dostoevsky, Notes From
Underground/The Double, trans. Jessie
Coulson, Harmondsworth: Penguin
1972, p. 17
Ф. M. Достоевский. Записки из
подполья // Достоевский Φ. M.
T. 4. С. 136
94. George McKenna, Bannisterless
Politics: Hannah Arendt and her
Children, History of Political Thought,
vol. V, no. II (Summer 1984), p. 353
95. Richard Rorty, Contingency, Irony,
and Solidarity, Cambridge: Cambridge
University Press 1989
96. Ernest Gellner, Postmodernism,
Reason and Religion, London:
Routledge 1992
97. de Tocquille, Democracy in
America, p. 229
98. Aziz AL-Azmeh, Islams and
Modernities (2nd edn), London:
Verso 1996; особого внимания стоит
глава 4, «Дискурсы культурной
аутентичности: исламское
возрождение и просвещенческий
универсализм»
99. Ibid., р. 34
100. Фактически антикультурализм
Аль-Азмеха можно рассмотреть
как прямое выражение разницы
между использованием Соссюром
«различия» и приукрашенного
концепта Деррида - различания.
Понимание смысла у Деррида как
вечно ускользающего, представленное
заменой буквой «а» буквы «е», дает
обоснование для пессимистического
запрета кросс-культурного диалога,
так шкразличание, в сущности,
понятие бесконечного несоответствия
относительно отношения
означающего к означаемому. См.
Jacques Derrida, «Diffiirance»,
Margins of Philosophy, trans. Alan Bass,
Brighton: Harvester 1982
101. Jonathan Raban, Soft City,
London: HarperCollins 1988, p. 105
102. Беседа в Институте
современного искусства, Лондон,
8.12.94
103. Michel Foucalt, Space,
Knowledge, and Power, The
Foucalt Reader, ed. Paul Rabinow,
Harmondsworth: Penguin 1986, p. 249
104. Theodor Adorno and
Max Horkheimer, Dialectic of
Enlightenment, trans. John Cumming,
London: Verso 1979, p. 6
105. Ibid., p. 7
106. Ibid., pp. 117-18
107. Theodor Adorno, Minima
Moralia: Reflections from Damaged
Life, trans. E.F.N. Jephcott, London:
NLB 1974, p. 15
108. Adorno and Horkheimer,
Dialectic of Enlightenment, p. 24
109. Susan Buck-Morss, The Origin of
Negative Dialectics, Hassocks, Sussex:
Harvester 1977, p. 61
110. Adorno and Horkheimer,
Dialectic of Enlightenment, p. 195
111. Ibid., p. 24
264
112. Ibid., p. 167
113. Baudrillard: Amenca, p. 34
114. Adorno and Horkheimer,
Dialectic of Enlightenment, p. 167
115. Ibid., p. 211
116. Baudrillard: Amenca, p. 104
117. Adorno and Horkheimer,
Dialectic of Enlightenment, p. 129
118. Цитируется в Robert Jan van
Pelt and Carrol William Westfall,
Architectural Principles in the Age of
Histoncism, New Haven and London:
Yale University Press 1991, p. 378
119. Adolf Hitler, Mein Kampf, trans.
Ralph Manheim, London: Pimlico
1992, p. 166
120. Carl Schmitt, The Concept of the
Political, trans. George Schwab, New Jersey.
Rutgers University Press 1976, p. 27
121. van Pelt and Westfall,
Architectural Principles in the Age of
Histoncism, p. 120; см. Emil
L. Fackenheim, To Mend the World:
Foundation of Post-Holocaust Jewish
Thought, Bloomington & Indianapolis:
Indiana University Press 1994, p. 234
122. Hannah Arendt, The Ongins of
Totalitananism, New York and London:
Harcourt Brace Jovanovich 1973,
p. 305, note 1
123. van Pelt and Westfall,
Architectural Principles in the Age of
Historicism, p. 373
124. Samuel Becket, The Becket
Trilogy: Molloy, Mahne Dies, The
Unnamable, London: Pan 1979, p. 316
125. Schmitt, The Concept of the
Political, p. 101
126. Ibid., pp. 27-8
127. Ibid., pp. 47,51
128. Hannah Arendt, Eichman in
Jerusalem: A Report on the Banality of
Evil, Harmondsworth: Penguin 1977,
pp. 117-18
129. van Pelt and Westfall,
Architectural Principles in the Age of
Historicism, p. 374
130. Schmitt, The Concept of the
Political, p. 101
131. Philippe Lacoe-Labarte,
Heidegger, Art and Politics: The Fiction
of The Political, trans. Chris Turner,
Oxford: Basil Blackwell 1990, pp. 37,
49,52
132. Ibid., pp. 42-3
133. Ibid., pp. 44-5
134. Цитируется no van Pelt and
Westfall, Architectural Principles in the
Age of Historicism, p. 6
135. Gillian Rose, «Architecture after
Auschwitz» in Judaism and Modernity:
Philosophical Essays, Oxford:
Blackwell 1993, p. 243
136. van Pelt and Westfall,
Architectural Principles in the Age of
Historicism, p. 27
137. Ibid., p. 364
138. См. поддержку Адорно атаки на
Хайдеггера и экзистенциализм в The
Jargon of Authenticity, trans. Knut
Tarnowski and Frederic Will, London
and Henley: Routledge & Kegan Paul
1986
139. van Pelt and Westfall,
Architectural Principles in the Age of
Historicism, p. 344
265
140. Ibid., p. 278
141. Philippe Lacoe-Labarte,
Heidegger, Art and Politics, pp. 35, 37
142. Ibid., p. 48
143. Ibid., pp. 46,48
144. Хорст Вессель, головорез
и сводник из СА, который был убит
в квартире проститутки в 1930-м,
как уверялось, умер, отказываясь от
помощи еврейского врача, что было
немедленно взято на вооружение
пропагандистской машиной
Геббельса. См. J. М. Ritchie, German
Literature under National Socialism,
London and Canberra: Croom Helm
1983, pp. 79 if.; Ronald Taylor,
Literature and Society in Germany
1918-1945, Brighton: Harvester 1980,
p. 189
145. Gillian Rose, «Architecture after
Auschwitz» in Judaism and Modernity,
p. 246
146. van Pelt and Westfall,
Architectural Pnnciples in the Age of
Historicism, pp. 126-30. Ван Пелт
здесь, однако, не цитирует Арендт,
но перефразирует ее интерпретацию
Факенхеймом. См. Emil L.
Fackenheim, То Mend the World:
Foundation of Post-Holocaust Jewish
Thought, Bloomington & Indianapolis:
Indiana University Press 1994, p. 262
147. van Pelt and Westfall,
Architectural Pnnciples in the Age of
Histoncism, p. 381
148. H. G. Wells, The Last Books of
H. G. Wells: The Happy Turning and
Mind at the End of its Tether, London:
The H. G. Wells Society 1968, p. 77.
Замечание о «вторичности» ван
Пелта в любом случае принадлежит
Джиллиан Роуз; см. Architecture
after Auschwitz in Judaism and
Modernity
149. Wells, The Last Books ofH. G.
Wells, pp. 70-71
150. Michel Foucault, The Order
of Things, London: Tavistock 1970,
chapter 9
151. Walter Benjamin, The Destructive
Character in Reflections, p. 302
152. Arendt, Eichman in Jerusalem,
pp. 135-6
153. Смотри Ronald Taylorm,
Literature and Society in Germany
1918-1945, ρ 195
154. Цитируется ван Пелтом
в Architectural Pnnciples in the Age of
Histoncism, p. 345
155. Arendt, Eichman in Jerusalem, pp.
105-6
156. Ibid., p. 26
157. Расшифровка допроса Эйхманна,
Granta, no. 6 (1983), ρ, 203
158. Arendt, Eichman in Jerusalem, p. 137
159. Fackenheim, To Mend the World,
p. 236; см. Jean-Ibul Sartre, «The
Childhood of a Leader» in Intimacy, trans.
Lloyd Alexander, London: Hamilton 1960
160. Ibid., pp. 186,235, 237-8
161. Arendt, Eichman in Jerusalem, p. 25
162. Ibid., p. 279
163. Philippe Lacoe-Labarte,
Heidegger, Art and Politics: The Fiction
of The Political, trans. Chris Turner,
Oxford: Basil Blackwell 1990, p. 37
266
164. H.R. Klieneberger, The Christian
Writers of the Inner Emigration,
The Hague: Mouton 1968; Robert
Wistrich, Who's Who in Nazi Germany,
London: Weidendeld and Nicolson
1982, p. 277
165. Arendt, Eichman in Jerusalem,
p. 1271
166. Fyodor Dostoevsky, Notes From
Underground/The Double, trans. Jessie
Coulson, Harmondsworth: Penguin
1972, p. 26
167. Arendt, Eichman inJerusalem, p. 32
168. Dostoevsky, Notes From
Underground/The Double, pp. 50-51
Достоевский Φ. M. Записки из
подполья // Достоевский Φ. М.
Т. 4. С. 171
169. Ibid., р. 232
Там же. С. 171
170. Milan Kundera, The Story of a
Variation, trans. Francis Spufford,
Granta, no. 6 (1983), p. 231
171. Arendt, Eichman in Jerusalem,
p. 105
172. Fackenheim, To Mend the World,
p. 26
173. Kundera, The Story of a Variation,
in Granta, no. 6 (1983), pp. 230-31
174. Ibid., p. 232
175. Dostoevsky, Notes From
Underground/The Double, pp. 123,122
176. Kundera, The Story of a Variation, in
Grfl/2ta,no.6(1983),p.234
177. Arendt, Eichman in Jerusalem, p. 278
178. Ibid., p. 277
179. Kundera, The Story of a Variation, in
Granta, no. 6 (1983), p. 231
180. Georg Simmel, The Philosophy
of Money, trans. Tom Bottomore and
David Frisby, London: Routledge
1990, p. 212
181. Ibid., p. 217
182. Ibid., p. 232
183. Jean Baudrillard, The Ecstasy of
Communication, trans. John Johnston,
in Hal Foster, ed. Postmodern Culture,
London: Pluto 1985, p. 128
184. Бодрийяр, беседа в Институте
современного искусства, Лондон,
8.12.94
185. Hegel, Phenomenology ofSpiri,
§79, p. 51
186. См. в первую очередь Деррида
«Назовем это Днем демократии»
в The Other Heading: Reflections
on Today's Europe, trans. Pascale-
Anne Beault and Michael B. Naas,
Bloomington & Indianapolis: Indiana
University Press 1992
187. Friedrich Nietzsche, On the uses
and disadvantages of history for life
in Untimely Meditations, p. 69
188. Jean Baudrillard, The Illusion
of the End, trans. Chris Turner,
Cambridge: Polity 1994, p. 87
267
Глава 4
1. Herman Melvillem, The Confidence
Mam His Masquerade, Oxford: Oxford
University Press 1989, p. 180
2. Theodor Adorno, Minima Moralia:
Reflections from Damaged Life, trans.
E.F.N. Jephcott, London: NLB 1974,
p. 26
3. Peter Sloterdajk, Cntique of cynical
reason, trans. Michael Eldred, London:
Verso 1988, p. xxxiv
4. Theodor Adorno and Max
Horkheimer, Dialectic of
Enlightenment, trans. John Cumming,
London: Verso 1979, p. 254
5. Цитируется no Susan Buck-Morss,
The Ongin of Negative Dialectics,
Hassocks, Sussex: Harvester 1977,
p. 188
6. Adorno, Minima Moralia,
pp. 100-101
7. Ibid., p. 133
8. Ibid., p. 26
9. Sloterdajk, Cntique of cynical
reason, p. 462
10. Ibid., p. 460
11. Raymond Furness, The Twentieth
Century 1890-1945, London: Croom
Helm 1978, p. 261
12. J. M. Ritchie, German Literature
under National Socialism, London and
Canberra: Croom Helm 1983, p. 128
13. Ronald Taylor, Literature and
Society in Germany 1918-1945,
Brighton: Harvester 1980, pp. 269-70
14. Ibid., p. 273
reason, p. 464
16. Ibid., p. 462
17. Adorno and Horkheimer, Dialectic
of Enlightenment, p. 209 (см. эпиграф
к 3-й главе выше)
18. Eric Hobsbawm, Age of Extremes:
The Short Twentieth Century 1914-
1991, London: Michael Joseph 1994,
p. 117
19. G.K. Chesterton, Orthodoxy,
London: John Lane, The Bodley Head
1909, pp. 43-4
20. Смотри Dante Aligheri, The Divine
Comedy Volume 1: Inferno, trans. Mark
Musa, Harmondsworth: Penguin 1984,
pp. 90-91 (Canto III)
21. G.K. Chesterton, Orthodoxy,
pp. 136-7
22. G.K. Chesterton, Orthodoxy,
pp. 190-91
23.J.A.S. Grenville, A World History
of the Twentieth Century Volume 1:
Western Dominance, 1900-1945,
London: Fontana 1980, pp. 356—7
24. Eric Hobsbawm, Age of Extremes:
The Short Twentieth Century 1914-
Wf, pp. 114-15
25. G.K. Chesterton, Orthodoxy,
pp. 192-3
26. Смотри Friedrich Nietzsche,
Thus Spoke Zarathustra, trans. R.J.
Hollingdale, Harmondsworth:
Penguin 1969, p. 194
27. G.K. Chesterton, Orthodoxy, p. 196
28. Ibid., p. 199
15. Sloterdajk, Critique of cynical 29. Ibid., pp. 69,140
268
30. Ibid., pp. 192,71
31. G.W.F. Hegel, Phenomenology
ofSpint, trans. A.V. Miller, Oxford:
Oxford University Press 1977, § 78,
p.49
32. Ibid., p. 50
33. G.K. Chesterton, Orthodoxy,
pp. 206-7
34. G.K. Chesterton, Orthodoxy, p. 195
35. Генри Портер. Ревностная
сдержанность, Guardian, 18.7.95
36. Тони Блэр. Речь к конференции
лейбористской партии 1995, 3.10.95
(источник: новостной выпуск)
37. См. Книга Иисуса Навина 1:6;
Книга Бытия 4:9; Евангелие от
Луки 10:31-2. В 1996-м Блэр сделал
выраженной свою приверженность
христианским ценностям
в честертоновской проповеди,
названной «Почему я христианин»,
опубликованной в Sunday Telegraph
на Пасху в воскресенье. «Ключевой
пункт», сказал он, «в том, что
христианство предполагает нечто
большее, чем отношения человека
с Богом один на один, конечно,
значимые как таковые. Отношения
должны также включать в себя
и окружающий мир». См. Тони
Блэр, «Почему я христианин»,
Sunday Telegraph, 7.4.96
38. Тони Блэр. Речь на конференции
лейбористской партии 1995 года
39. Ulrich Beck, Risk Society: Towards
a New Modernity, trans. Mark Ritter,
London: Sage 1992, p. 186
40. Ulrich Beck, The Reinvention of
Politics: Towards a Theory of Reflexive
Modernization in Ulrich Beck,
Anthony Giddens and Scott Lash,
Reflexive Modernization: Politics,
Tradition and Aesthetics in the Modern
Social Order, Cambridge: Polity 1994,
p.3
41. Beck, Risk Society: Towards a New
Modernity, p. 187
42. Ibid., pp. 200,183
43. Ibid., p. 185
44. Ibid., p. 200
45. Jean Baudrillard, The Illusion of the
End, trans. Chris Turner, Cambridge:
Polity 1994, p. 4
46. Beck, Risk Society: Towards a New
Modernity, pp. 201-2
47. Ibid., p. 185
48. Ibid., p. 234
49. Шарлотта Рэйвен, «Новый
отважный социалистический
вихрь», Observer Life, 12.11.95
50. Beck, The Reinvention of Politics
in Beck, Giddens and Lash, Reflexive
Modernization, p. 15
51. Ibid., pp. 20-21
52. Хьюго Янг. Крестовый
поход закончен для электората
дезертиров, Guardian. 26.1.95
53. Beck, The Reinvention of Politics
in Beck, Giddens and Lash, Reflexive
Modernization, p. 9
54. Ibid., p. 27
55. Beck, Risk Society: Towards a New
Modernity, p. 234
56. Beck, The Reinvention of Politics
in Beck, Giddens and Lash, Reflexive
Modernization, pp. 5-6
57. Friedrich Nietzsche, On the uses
and disadvantages of history for life:
Untimely Meditations, trans. RJ.
Hollingdale, New York: Cambridge
University Press 1983, p. 94
58. Friedrich Nietzsche, On the uses
and disadvantages of history for life:
Untimely Meditations, p. 104
59. Hegel, Phenomenology of Spirit,
§80, p. 51
60. Ibid., pp. 51-2
61. Beck, Rhk Society, p. 11
62. Речь Тони Блэра на конференции
лейбористской партии в 1995
63. Beck, The Reinvention of Politics
in Beck, Giddens and Lash, Reflexive
Modernization, pp. 21-2
64. Walter Benjamin, Critique of
Violence in Reflections: Essays,
Aphorisms, Autobiographical Writings,
trans. Edmund Jephcott, New York:
Schocken 1986, p. 288
65. Deni Diderot, Rameau's Nephew/
D'Alambert's Dream, trans. Leonard
Tancock, Harmondsworth: Penguin
1966, pp. 115-16
66. Adorno, Minima Moralia, p. 132
67. Ibid., p. 134
68. Hegel, Phenomenology of Spirit,
§522, p. 317
69. Diderot, Rameau's Nephew/
D'Alambert's Dream, p. 115
70. Dimnet, The Art of Thinking,
London: Jonathan Cape 1931, p.
60 (см. мой эпиграф ко 2-й главе,
отделу 2: «Конец политики?»)
Послесловие
1. Стюарт Холл. Кто рискует, 6. K.R. Popper, The Open Society and
проигрывает (редакторское), its Enemies, Volume 1: The Spell of
Soundings, выпуск 3: Герои и героини Plato (5th end), London: Routledge &
(Лето 1996), стр. 17 Kegan Paul 1966, p. 145
2. Max Weber, Politics as a vocation
in H.H. Gerth and С Wright Mills
(eds), From Max Weber: Essays in
Sociology, London: Rautledge & Kegan
Paul 1948, p. 128
3. Plato, The Republic, trans. Desmond
Lee, Harmondsworth: Penguin 1987,
p.217(485b);p.236(500b-d)
4. Перевод Джона Лыоэлина Дэвиса
и Дэвида Джеймса Вогана в The
Republic of Plato, London: Macmillan
1881,p.255(529c-d)
5. Plato, The Republic, p. 293 (540b)
7. Hannah Arendt, The human
condition, London: University of
Chicago Press 1958, pp. 225,17-18
8. Hannah Arendt, Truth and Politics,
Between Past and Future, New York:
Penguin 1993, p. 245
9. Weber, Politics as a vocation
in H.H. Gerth and С Wright Mills
(eds), From Max Weber: Essays in
Sociology, p. 125
10. Andrew Ross, ed., Universal
Abandon? The Politics of
Postmodernism, Edinburgh: Edinburgh
University Press 1989
270
11. Нэнси Фрэзер и Линда
Николсон. Социальная критика без
философии: столкновение между
феминизмом и постмодернизмом.
там же, стр. 87
12. Chantal Mouffe, Radical
Democracy: Modern or Postmodern,
trans. Paul Holdengrznber, in ibid.,
pp. 37-8
13. «Предисловие переводчика» к
Jacques Derrida, Of Grammatology,
trans. Gayatry Chakravorty Spivak,
Baltimore: Johns Hopkins University
Press 1976, p. xviii
14. Derrida, Of Grammatology, p. 70
15. «Diffärance», Margins of
Philosophy, trans. Alan Bass, Brighton:
Harvester 1982, p. 3
16. Муфф. Радикальная демократия:
модерн или постмодерн в Ross
Universal Abandon?, p. 44
17. Эрнесто Лакло. Политика
и границы модерна в Ross Universal
Abandon?, p. 81
18. Zygmunt Bauman, Legislators
and Interpreters: On modernity, posr-
modernity and intellectuals, Cambridge:
Polity 1987, p. 2
19. Robert J.C. Young, The politics of «the
politics of literary theory», in Torn Halves:
Political Conflict in Literary and Cultural
Theory, Manchester: Manchester
University Press 1996, p. 86
20. Дэвид Дж. Депью. Политика,
музыка и созерцание в идеальном
государстве Аристотеля в David
Keyt and Fred D. Miller, Jr. Eds,
A Companion to AristoteVs Politics,
Oxford: Blackwell 1991, p. 376
22. См. Кризис в культуре в Arendt,
Between Past and Future; Human
Condition, p. 226n
23. Aristotle, Ethics, trans. J.A.K.
Thompson, Harmondsworth: Penguin,
1976, pp. 212-13
24. Ibid., p. 213
25. Муфф. Радикальная демократия:
модерн или постмодерн в Ross
Universal Abandon?, p. 36
26. Эрнесто Лакло. Политика
и границы модерна в Ross Universal
Abandon?, p. 79
27. Ernesto Laclau and Chantai
MoufFe, Hegemony and Socialist
Strategy: Towards a Radical Democratic
Politics, trans. Winston Moore and Paul
Gammack, London: Verso 1985, p. 2
28. Джон Эльстер. Рынок и Форум:
три разновидности политической
теории в Philip Pettit, ed.,
Contemporary Political Theory, New
York: Macmillan 1991, p. 193
29. Alexis de Tocquille, Democracy
in America, trans. George Lawrence,
London: HarperCollins 1994, pp. 243-
4 (процитировано там же, стр. 211)
30. Эльстер. Рынок и Форум: три
разновидности политической
теории, Contemporary Political
Theory, p. 213
31. Муфф. Радикальная демократия
в Ross Universal Abandon?, p. 37
32. Hannah Arendt, The Origins of
Totalitarianism, New York and London:
Harcourt Brace Jovanovich 1973,
p. viii
21. Ibid., p. 377